Антология исторического детектива-43. Компиляция. Книги 1-16 [Кристиан Жак] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Андреа Жапп След зверя
Предисловие
Одного имени автора на обложке книги достаточно, чтобы понять: перед вами настоящий шедевр, который вы будете читать не отрываясь, пока не перевернете последнюю страницу. Андреа Жапп заслуженно называют королевой исторического детектива Франции. Ее перу принадлежат более двадцати романов, а также множество рассказов и сценариев, которые пользуются неизменной популярностью в мире. Успех Андреа Жапп – настоящий феномен, поскольку она и не помышляла о карьере писательницы, долгие годы ее ничто не связывало с литературой, кроме любви к чтению. Профессии токсиколога и судмедэксперта, казалось бы, не располагают к сочинительству, но ее воображение рождало удивительные образы, слова будто сами просились на бумагу. В 1990 году вышел дебютный роман Жапп, который вызвал живой интерес у поклонников детективного жанра. С тех пор ее книги с восторгом читают в Старом и Новом Свете. Произведения Андреа удивительно реалистичны, она, как никто, умеет создавать в них эффект присутствия и подлинности происходящего. Франция, начало XIV века. По всей Европе пылают костры инквизиции, могущественный орден тамплиеров соперничает властью и богатством с королями, его сокровища, вывезенные из Святой земли, уже стали легендой. Король Филипп IV Красивый не собирается мириться с этим. Начинается тайная жестокая война между королем, Ватиканом и тамплиерами. Какое отношение к ней имеет молодая вдова Аньес де Суарси? Почему именно в ее владениях обнаружены изуродованные тела посланцев Ватикана? Что везли эти люди и кто отнял их жизни? Как на месте преступления появился платок Аньес? В довершение всех бед в доме мадам де Суарси появляется известный своей жестокостью инквизитор Никола Флорен… Но на защиту невинной женщины встают могущественные силы. Рыцарь-госпитальер Франческо де Леоне должен спасти ее даже ценой собственной жизни! Писательница мастерски переплетает сюжетные линии, создавая завораживающее, увлекательное произведение, в котором есть и преступная страсть, и древние рукописи, и интриги отцов Церкви, и таинственные убийства, и сметающая все преграды любовь. Смелая фантазия автора создает удивительную картину, напоминающую средневековые витражи. Как яркие, насыщенные светом фрагменты сменяются зловещими темными цветами, так и в романе Жапп моменты проявления бескорыстной любви, преданности, благородства, чистой веры, мудрости чередуются с леденящими кровь жестокими убийствами, описаниями подземелий инквизиции, случаями предательства, проявлениями жажды власти, корыстолюбия, продажности вельмож и священников. Читайте, и овеянная легендами эпоха рыцарства откроет вам свое истинное лицо…Mr Feng, Tender and serious little soul, Friendly wind, This tale from far ago is for you. [1]
Мануарий Суарси-ан-Перш, зима 1294 года
Сидя неподвижно перед камином в своей спальне, Аньес, дама де Суарси, безмятежно смотрела на медленно догоравшие угли. Смертоносный холод безжалостно терзал людей и зверей, словно хотел искоренить все живое. Уже умерло столько людей, что на гробы не хватало досок. Доски экономили, чтобы согреть живых, еще способных сопротивляться. У всех зуб на зуб не попадал, в животе бурлило от водки, которую гнали из соломы. На какое-то время удавалось обмануть голод, проглотив тефтелю из опилок, склеенных жиром, или последний ломоть хлеба голода, испеченного из соломы, глины, древесной коры и желудевой муки. По вечерам все ютились в одной комнате и спали, свернувшись калачиком, бок о бок с животными, согреваемые их дыханием, похожим на густой пар. Аньес разрешила своим людям охотиться на принадлежавших ей землях – до самого новолуния, которое должно было наступить через семнадцать дней, – при условии, что половина добытой дичи пойдет общине, в первую очередь вдовам, беременным женщинам, детям и старикам, четверть – ей самой и ее челядинцам,[2] а оставшаяся четверть – охотнику и его семье. Два серва нарушили приказ. По просьбе Аньес де Суарси люди бальи нещадно выпороли их на деревенской площади. Большинство одобрило снисходительность дамы, но находились и такие, кто тайком порицал ее. В конце концов виновные в подобном злодеянии заслуживали смерти, или же их следовало наказать так, как всегда наказывали воров и браконьеров: отрубить руку или нос. Дичь давала последнюю возможность выжить. Суарси-ан-Перш похоронил треть своих крестьян в общей могиле, наспех вырытой на окраине мызы, поскольку еще кое-как передвигавшиеся тени прежних людей боялись распространения эпидемии гнойных колик. Покойников обсыпали негашеной известью, как скот или умерших от чумы. Живые днем и ночью молились в ледяной часовне, примыкавшей к мануарию,[3] надеясь на чудо. Свои несчастья они связывали с недавней гибелью их повелителя, Гуго, сеньора де Суарси, которому прошлой осенью раненый олень вспорол живот своими острыми рогами. Он оставил Аньес вдовой, без потомка мужского рода, который мог бы унаследовать титул и земли. Крестьяне молили небеса вплоть до того вечера, когда одна женщина упала, опрокинув алтарь, за который держалась, и сорвав с церковного столика пелену. Она упала замертво, убитая голодом, лихорадкой и холодом. С тех пор в часовню никто не приходил. Аньес пристально смотрела на золу в очаге. Местами обуглившиеся поленья покрывал серебристый пушок. Больше там ничего не было, ни одной рубиновой искорки, которая позволила бы ей отсрочить обет, данный утром. Последнее полено, последняя ночь. Она раздраженно вздохнула, силясь подавить жалость, которую питала к самой себе. Три дня назад, в Рождество, Аньес де Суарси исполнилось шестнадцать лет. Странно, но она так боялась идти к этой сумасшедшей старухе, что чуть не дала пощечину Сивилле, своей горничной, пытаясь заставить девушку пойти вместе с ней. Хижина, служившая логовом этой злой фее, пропахла затхлым жировым выпотом. Запах грязи и пота, выделяемого овцами, ударил Аньес в нос, когда гадалка подошла к ней, чтобы выхватить из рук корзину с жалкими дарами, которые принесла с собой девушка. Хлеб, бутылка плохого сидра, кусок сала и курица. – И что, по-твоему, я буду с этим делать? – прошипела старуха. – Вилланка[4] и та способна одарить меня лучше. Я хочу денег или драгоценностей… У тебя они должны быть. Или, постой-ка… это прекрасное манто, – произнесла она, протягивая руку к длинной накидке, подбитой мехом выдры и спасавшей Аньес от холода. Девушке пришлось взять себя в руки, чтобы не броситься назад и выдержать взгляд старухи, которую все считали опасной ведьмой. Она испугалась, когда женщина дотронулась до нее и стала пристально разглядывать. Через несколько мгновений в глазах гадалки вспыхнули искорки злобной радости, и она выплюнула свой приговор, словно яд. – У Гуго де Суарси не будет посмертных прямых наследников. Никакой надежды. Аньес стояла неподвижно, не веря своим ушам. Она не верила, потому что ужас, терзавший ее несколько месяцев, куда-то вдруг исчез. Все было сказано, все было кончено. Непонятное событие произошло в тот момент, когда девушка, прежде чем выйти из хижины, надела на голову капор. Рот гадалки скривился в ухмылке. Она отвернулась и вдруг словно залаяла: – Уходи отсюда, уходи немедленно! Забирай свою корзину, мне от тебя ничего не надо. Уходи, говорю же тебе! Торжествующая злоба вдруг сменилась сбивающей с толку паникой, причины которой были совершенно не понятны Аньес. Она попробовала возразить: – Я так долго шла, ведьма, и… Старуха завизжала, словно фурия, и натянула засаленный фартук на голову, чтобы закрыть глаза: – Уходи… Тебе здесь нечего делать. Вон с моих глаз! Вон из моей хижины! И больше не приходи, больше никогда не приходи, слышишь? Если бы отчаяние не вытеснило страх, терзавший Аньес в течение несколько месяцев, она, несомненно, потребовала бы, чтобы старая женщина успокоилась и все ей объяснила. Этот удивительный нервный припадок изумил Аньес и даже вызвал у нее беспокойство. Ведь ничего не произошло. Аньес вышла. Внезапно на нее навалилась такая огромная усталость, что она с трудом передвигала ноги. Она боролась с желанием упасть прямо здесь, свалиться в грязь, перемешанную с экскрементами свиней, заснуть или даже умереть. Ее охватил ледяной холод, требовавший возмездия за то, что огонь огромного очага прогнал его к каменным стенам. Аньес закуталась в меховое манто и сбросила шерстяные вязаные башмачки. Матильда, ее дочь, которой было полтора года, сможет их носить через несколько лет, если Господь оставит ее в живых. Босая Аньес спустилась по винтовой лестнице, ведущей в прихожую, расположенную перед ее ночными покоями и просторным общим залом. Она шла по черным каменным плитам. Казалось, что существует только эхо ее шагов, а вся вселенная куда-то исчезла, предоставив ее самой себе. Она улыбалась, глядя на бледную кожу своих рук, уже начинавших синеть, и ног, которые щипал ледяной холод, едва они прикасались к гранитному полу. Вскоре она перестанет чувствовать эти укусы. Вскоре это ожидание, для которого больше не будет причин, сменит нечто другое. Вскоре. Часовня. Ледяная волна, казалось, остановила время в этих темных стенах. От одной из стен отделилась прозрачная тень. Сивилла. Она подошла к Аньес. Лицо Сивиллы было бледным от холода и лишений, но и от страха тоже. Тонкая и длинная, до пола, рубашка вздувалась на животе, округлившемся благодаря бьющейся там жизни, которая вскоре потребует света. Сивилла, улыбаясь в экстазе, протянула исхудавшие руки к даме де Суарси. – Смерть будет легкой, мадам. Мы проникнем в свет. Это тело такое тяжелое, такое грязное. Оно воняло еще до того, как я перестала его мыть. – Замолчи, – приказала Аньес. Сивилла, понурив голову, повиновалась. Ее охватило безмятежное спокойствие, похожее на изнеможение. Для нее не существовало ничего другого, кроме бесконечной признательности к Аньес, ее ангелу-хранителю. Она вскоре покинет эту отвратительную плоть вместе со своим ангелом и спасет от худшего не только себя, но и эту такую красивую, такую молодую и добрую женщину, которая сочла справедливым и правильным приютить ее, спасти от нечестивых орд. Эти орды будут умирать тысячами смертей и лить кровавые слезы, когда поймут свою чудовищную ошибку. Но она спасет кроткую душу Аньес, спасет себя и спасет этого ребенка, который бойко шевелится у нее под сердцем. Благодаря Сивилле ее дама приобщится к бесконечной, вечной радости Христа. Благодаря ей этот ребенок, которого она не хотела, не родится. Ему не придется нести невыносимое бремя плоти до того, как он увидит вспыхнувший свет. – Пойдем, – выдохнула Аньес. – Вы боитесь, мадам? – Замолчи, Сивилла. Они подошли к наспех поднятому алтарю. Аньес сняла манто, которое мягко соскользнуло, словно шлейф, с ее тела и упало на пол. Она расстегнула тонкий кожаный поясок, поддерживавший платье, и скинула его с себя. Вдруг она перестала что-либо чувствовать. Но через несколько мгновений обнаженная кожа стала похожей на гусиную и вспыхнула, как от огня. Из-за ледяного холода на ее глаза навернулись слезы. Она крепко сжала зубы, устремила свой взгляд на расписанное деревянное распятие, затем упала на колени. Мысли ее путались. Будто во сне, она смотрела, как вздрагивало маленькое, худое и бледное тело Сивиллы. Молоденькая женщина свернулась в клубочек и, лежа под алтарем, повторяла бесконечную молитву: «Adoramus te, Christe [5]. Adoramus te, Christe». Тело Сивиллы содрогалось от жестоких спазмов. Она заикалась, читая молитву. Аньес показалось, что Сивилла задохнулась, но она произнесла в последний раз: – Ado.… ramus te.… Christe. Икота, всхлипывание, нескончаемый вздох, и тощие ноги девушки расслабились. Умерла ли она? Неужели это так просто? Аньес показалось, что прошла целая вечность прежде, чем ее тело устремилось вперед. Ледяные камни приняли ее без малейшего сострадания. Сначала ее плоть возмутилась, но Аньес заставила ее замолчать. Она сложила руки крест-накрест и замерла. Больше ей некуда было идти. Сколько времени она молилась за Матильду? Сколько времени она считала, что грешила телом и духом и что не заслуживает ни малейшего снисхождения? И все же ей оказали милость: она чувствовала, как ее постепенно покидает сознание. Безжалостный холод камней больше не кусал ее. Она его едва ощущала. Кровь, бурлившая в венах на шее, понемногу успокаивалась. Вскоре она заснет. Теперь она уже не боялась, что никогда не проснется. – Вставай! Вставай немедленно! Аньес улыбнулась этому голосу, произносившему слова, которые она была не в состоянии понять. Чья-то рука грубо схватила ее за волосы, шелковой волной лежавшие на темных камнях. – Вставай! Это преступление! Ты будешь навеки проклята, и это проклятие падет на твою дочь. Аньес повернула голову в другую сторону, чтобы скрыться от этого голоса. На ее спину обрушилось тяжелое теплое покрывало. Горячее дыхание обожгло затылок, две руки пролезли под ее живот, пытаясь перевернуть Аньес. Тяжесть… Это было тело, накрывшее ее собой, чтобы согреть. Кормилица Жизель боролась с оцепенением молодой женщины. Она закутала Аньес в манто, попыталась взять ее на руки. Аньес была изящной, но все ее члены сопротивлялись этому спасению. Слезы ярости и неуступчивости падали на ее щеки, покрывая губы инеем. Аньес прошептала: – Сивилла? – Она скоро умрет. И это лучшее, что она может сделать. Даже если мне придется тебя побить, ты все же встанешь. Это грех, это недостойно твоей крови. – Ребенок? – Позже.Мануарий Суарси-ан-Перш, май 1304 года
Одиннадцатилетняя Матильда так и кружилась вокруг медового пирога с пряностями, который Мабиль только что вынула из каменной печи. Она сгорала от нетерпения в ожидании приезда дядюшки, вызывавшего у нее неподдельный интерес. Клеман – а ему вскоре должно было исполниться десять лет – этот проклятый ребенок Сивиллы, которого она исторгла из своего чрева перед тем, как навсегда уйти в мир иной, по обыкновению молчал, пристально глядя на Аньес. Тогда Жизель, перерезав новорожденному пуповину, взяла его на руки и закутала в свою накидку, чтобы младенец не умер от холода. Аньес и кормилица боялись, что ребенок не перенесет столь ужасного появления на свет, но он крепко цеплялся за жизнь. А вот Жизель покинула этот мир прошлой зимой, несмотря на все хлопоты Аньес, упросившей своего сводного брата Эда де Ларне прислать ей знахаря,[6] чтобы тот осмотрел кормилицу. Но отвары из сельдерея и пиявки не смогли победить воспаление легких, измучившее старую женщину. Она умерла на рассвете, положив голову на грудь госпожи, которая лежала рядом, согревая своим телом кормилицу. Исчезновение авторитарной опоры, которая так долго определяла и направляла жизнь Аньес, сначала до того потрясло ее, что она лишилась аппетита. Но вскоре своего рода облегчение вытеснило печаль, причем это произошло так быстро, что молодая женщина начала испытывать смутное чувство стыда. Она осталась одна, жила в опасности, но впервые ее больше ничего не связывало с прошлым, кроме дочери, еще совсем юной. Жизель унесла с собой в могилу последнее свидетельство той жуткой ночи, которую Аньес пришлось пережить много лет назад в ледяной часовне. Сидя прямо перед длинным кухонным столом, Аньес пыталась побороть страх, терзавший ее с тех пор, как она узнала о приезде Эда. Мабиль, которую прислал ей сводный брат после смерти Жизель, порой исподтишка бросала беглый взгляд на свою госпожу. Дама де Суарси не любила эту девицу. Конечно, Мабиль была послушной и работящей, но ее присутствие с прискорбным постоянством напоминало Аньес об Эде. Ей казалось, что нежный Клеман, несмотря на свои ранние годы, разделял ее недоверие. Разве однажды он не сказал ей небрежным тоном, совершенно не соответствующим его серьезному взгляду: – Мабиль сейчас в вашей спальне, мадам. Она приводит в порядок ваши вещи… опять, но перед тем как положить на место, внимательно рассматривает их. Однако… как она может раскладывать ваши дневники… Она же не умеет читать… Впрочем, так она говорит. Аньес прекрасно поняла, что имел в виду Клеман. Прежний хозяин прислал Мабиль сюда, чтобы та шпионила за Аньес. Но подобное открытие не удивило даму де Суарси, поскольку она знала, что причиной неожиданной щедрости брата было вовсе не сострадание к ней. Аньес удивляло, что Клеман был развит не по годам. Его острый ум, умение подмечать все детали, удивительные способности к учебе, хорошая память часто заставляли забывать, что он был еще ребенком. Едва Аньес познакомила Клемана с буквами алфавита, как он уже научился читать и писать. А вот Матильда была столь равнодушной к знаниям, что с трудом запоминала слова молитвы. Природа наделила Матильду изяществом и грациозностью бабочки, и жизненные трудности вызывали у нее недовольство. Может быть, причиной этому являлось странное рождение Клемана? Матильда была маленькой девочкой, а вот Клеман, как казалось Аньес, с каждым днем становился похожим на настоящего спутника жизни, на которого она могла опереться. Что понял ребенок о гнусном поступке Эда? Как он относился к этому человеку, который был угрозой для всех них? Понимал ли он, сколь ужасно сложится его судьба, если станет известно о его подлинном происхождении? Незаконнорожденный ребенок изнасилованной служанки, отпрыск самоубийцы, которая прельстилась россказнями о ереси и спаслась от пыток и костра только благодаря невольному сообщничеству Аньес… А если кто-то догадается о том, что ребенок считал своим долгом скрывать? Аньес вздрогнула от ужаса. Как она могла не замечать аскетизма Сивиллы, как могла объяснять экзальтированное поведение молоденькой девушки беременностью, которой ее наградил какой-то солдафон? Она была слепой. Но что бы она сделала, если бы догадалась? Разумеется, ничего. Она ни за что бы не выгнала на улицу эту несчастную, которой пришлось пережить столько страданий. Что касается доноса, то Аньес никогда бы не опустилась до такого бесстыдства и бесчестия. – Мадам, барон де Ларне, мой добрый хозяин, останется ли он у вас ночевать? Если да, я велю Аделине приготовить для него покои, – спросила Мабиль, потупив глаза. – Я не знаю, окажет ли он нам честь остаться на ночь. – Путь не близкий, семь или восемь лье*.[7] И он, и его лошадь устанут. Он приедет не раньше девятого часа*, а то и вечерни*, – причитала Мабиль. «Если бы он только мог навсегда заблудиться в лесу Клэре, это стало бы огромным облегчением», – подумала Аньес, но вслух сказала: – Право, он предпринял изнурительное путешествие, но как любезно с его стороны посетить нас… Мабиль одобрила слова своей новой хозяйки, кивнув головой, и заявила: – Он порядочный человек. Какой у вас достойный брат, мадам! Взгляды Аньес и Клемана встретились. Клеман тут же отвернулся и погрузился в созерцание углей, красневших в очаге огромного камина. Когда Гуго был жив, там зажаривали оленей целиком. Аньес никогда не любила своего мужа. Она так и не прониклась привязанностью к человеку, с которым связали ее судьбу. Едва ей исполнилось тринадцать лет, как ее стали считать совершеннолетней.[8] Она должна была выйти замуж за этого набожного и галантного мужчину. Он обращался с ней так же учтиво, как если бы ее мать была баронессой де Ларне, а не дамой из ее окружения. Так или иначе, он был человеком чести и ни разу не дал Аньес почувствовать, что она – всего лишь последний незаконнорожденный ребенок, зачатый покойным бароном Робером, отцом Эда. Барон Робер, почувствовав угрызения совести в тот момент, когда проникся запоздалым благочестием, потребовал, чтобы Аньес признали его дочерью. И даже Эд, которого совершенно не устраивало это официальное родство, смирился. Старый барон Робер де Ларне поспешно выдал девочку за Гуго де Суарси, своего старого товарища по веселым пирушкам, попойкам и военным походам, бездетного вдовца, но главное – верного вассала. Он дал за Аньес ничтожное приданое, но удивительная красота девушки и ее молодость покорили будущего супруга. Аньес охотно согласилась на этот брак, который сулил ей признание в обществе и, что было для нее очень важно, избавлял от присутствия сводного брата. Но Гуго умер, не оставив после себя сыновей. В двадцать пять лет Аньес оказалась в положении не более завидном, чем то, в котором она пребывала под крышей дома своего отца. Разумеется, вдовье наследство[9] позволяло Аньес и ее людям жить, правда, с трудом. Оно составляло лишь треть недвижимости, которую еще не успел промотать Гуго, то есть мануарий Суарси и прилегающие к нему земли, не говоря уже об От-Гравьер, засушливом участке земли, на котором росли лишь чертополох и крапива. К тому же речь шла о сомнительном наследстве. Если Эду удастся, как этого опасалась Аньес, заставить поверить в дурное поведение вдовы, она лишится всего в соответствии с кутюмами Нормандии, гласившими: «При установлении факта измены жена теряет наследство, оставленное ей мужем». Нормандия, хотя и вошедшая в состав Французского королевства сто лет назад ценой бесконечных войн, сохраняла свои нравы и обычаи и настойчиво добивалась «нормандской хартии», которая подтвердила бы традиционные привилегии провинции. Но эти привилегии были не в пользу женщин. Если сводный брат Аньес добьется своего, у нее будут лишь три возможности избежать нужды: уйти в монастырь – но тогда ее дочь окажется в хищных руках Эда – или вновь выйти замуж. Оставалась также смерть. Не исключено, что она воспользуется этой возможностью. Мабиль вернула свою госпожу к реальности, вздохнув: – Как жаль, что сегодня среда, постный день.[10] Но, если мой господин останется на ночь, завтра мы приготовим прекрасных фазанов, которые доставят ему удовольствие. А сегодня вечером придется довольствоваться луком-пореем с листовой свеклой, но без свинины, шампиньонами, тушенными в пряностях, и лесными ягодами. – Такие сожаления в моем доме неуместны, Мабиль. Что касается моего брата, то я уверена, что в смирении он находит огромное утешение, как и все мы, – возразила Аньес, думая совершенно о другом. – Да, как и все мы, – поспешно согласилась Мабиль, обеспокоенная тем, как бы ее слова не были истолкованы как святотатство. Суматоха, поднявшаяся в большом квадратном дворе, положила конец тревогам Мабиль. Приехал Эд. Мабиль схватила висевшую за дверью плеть, чтобы угомонить собак, и бросилась во двор, сияя от счастья. Мгновение спустя Аньес спросила себя, была ли горничная лишь простой исполнительницей приказов ее сводного брата. В конце концов, эта бедняжка могла лелеять мечту, что однажды забеременеет от Эда. Возможно, она даже тешила себя надеждой, что ее незаконнорожденный ребенок будет признан и получит такое же состояние, как Аньес. Мабиль ошибалась. Эд не был похож на Робера, своего отца. Эду было далеко до него, хотя барон Робер не был ни святым, ни даже человеком чести. Но сын выбросит служанку на улицу без единого су в кармане, чтобы избежать малейшего намека на скандал. И она пополнит бесчисленный легион обесчещенных девушек, которые попадали в дома утех или нанимались в поденщицы на фермы за тарелку похлебки и комнатушку, соглашаясь выполнять самую тяжелую работу. Матильда вскочила на ноги и бросилась вслед за Мабиль, чтобы поприветствовать дядюшку, который чаще всего приезжал не с пустыми руками. Он привозил редкие и очень дорогие подарки. Весь Перш завидовал богатству семейства Ларне. Им посчастливилось найти на своих землях железный рудник, который можно было эксплуатировать открытым способом. Добываемое железо высоко ценилось в королевстве и к тому же разжигало аппетиты англичан. Эта манна небесная помогла ординарному барону[11] удостоиться внимания короля Филиппа IV Красивого*, который, разумеется, не желал, чтобы семейство Ларне заключило союз с извечным врагом Франции. Французское королевство было связано тесными узами с Англией, но эта дружба была слишком непрочной как с одной стороны, так и с другой, несмотря на намерения выдать Изабеллу, дочь Филиппа, за Эдуарда II Плантагенета.[12] Эд, человек хотя и ограниченный, не был столь глуп, чтобы позволить себя одурачить. Филипп Красивый постоянно нуждался в деньгах, что превратило его в сурового, даже непредсказуемого монарха. Тактика барона, приносившая плоды, была простой: низко кланяться, заверять короля в своей верности, туманно намекая на давление и предложения со стороны англичан, – одним словом, изображать покорность, успокаивать Филиппа Красивого, призывая того проявлять щедрость. Тем не менее злоупотреблять не стоило. Филипп Красивый и его советники без малейших колебаний бросили в тюрьму Ги де Дампьера, чтобы отобрать у него Фландрию, конфисковали имущество ломбардцев и евреев и даже в сентябре прошлого года приказали похитить папу Бонифация VIII*, когда тот находился в Ананьи*. Эд прекрасно знал, что если он воспротивится королю, если в чем-то пойдет ему наперекор, то вскоре закончит свои дни в каменном мешке или падет под ударами кинжала от руки бродяги, посланного провидением. Аньес, вздохнув, встала, поправила пояс и головную накидку. Раздавшийся тоненький голосок заставил ее вздрогнуть: – Мужайтесь, мадам. Вы умная женщина. Клеман. Аньес почти забыла о его присутствии, настолько ребенок умел быть незаметным, практически невидимым. – Ты думаешь? – Я это знаю. В конце концов… он всего лишь опасный простак. – Правда, опасный. Опасный и могущественный. – Более могущественный, чем вы, но менее могущественный, чем другие. Сказав это, Клеман исчез за низкой дверью, ведущей в отхожее место для слуг. «Странный ребенок», – подумала Аньес, направляясь во двор, откуда слышался шум. Неужели он читал ее мысли? Звучал громкий голос Эда. Он приказывал, помыкая одними и ругая других. Когда Аньес вышла во двор, на недовольном, раздраженном лице Эда появилась улыбка. Он, широко раскинув руки, направился к ней: – Вы, мадам, хорошеете с каждым днем! Ваши собаки – настоящие хищники. Оставьте мне из следующего помета двух кобелей. – Как я рада вас видеть, брат мой! Да, эти сторожевые собаки очень свирепы по отношению к незнакомцам, но со своими хозяевами и их стадами ведут себя покорно и предупредительно. Вы по-прежнему довольны своими челядинцами? Как поживает мадам Аполлина, ваша супруга и моя сестра? – Она, как обычно, беременна. Если бы только ей удалось родить мне сына! И от нее воняет чесноком, прости меня Господи. Она портит воздух с утра до вечера. Ее знахарь утверждает, что настои и ванны из этих отвратительных зубчиков способствуют рождению мальчиков. Она пыхтит, она пукает, она харкает, – одним словом, она отравляет мои дни, а что касается ночей… – Будем молиться, чтобы она подарила вам храброго сына, а мне красивого племянника, – покривила душой Аньес. Аньес тоже подняла руки, чтобы взять сводного брата за клешни, готовые обхватить ее тело. Затем она резко отпрянула, чтобы отдать распоряжение слуге, пытавшемуся обуздать норовистую, нервную лошадь Эда. – Чего ты ждешь? Почему не спешиваешься? – накинулся брат на пажа, заснувшего на своем широкогрудом мерине. Мальчик, которому было не больше двенадцати лет, выпрыгнул из седла, словно его ужалили. – Да проснись же ты! Чума на твою голову! – неистовствовал Эд. Обезумевший от страха мальчик засуетился вокруг поклажи, привязанной к крупу мерина. Как сюзерен Эд прошел первым в просторную столовую, еще не прогревшуюся после холодной зимы. Мабиль накрыла на стол и ждала дальнейших распоряжений. Она стояла у самой стены, скрестив руки на фартуке и опустив голову. Аньес заметила, что она успела переменить чепец. – Принеси мне иголку, которой я чищу ногти, – приказал Эд, даже не взглянув на Мабиль. Как только девушка вышла, он обратился к Аньес: – Вы довольны ею, моя козочка? – О, она послушная и очень мужественная, брат мой. И все же я считаю, что она скучает по службе в вашем доме. – Ба… Ее желания никого не интересуют. Боже, я умираю с голоду! Ну, моя радость, расскажите, что творится в ваших краях. – На самом деле ничего особенного, брат мой. Этой весной у нас родились четыре поросенка, рожь и полба дружно взошли. Можно надеяться на хороший урожай, если только нас обойдут стороной эти бесконечные дожди, которые лили все последние годы. Как подумаю, что еще пятнадцать лет назад в Эльзасе землянику собирали в январе! Но я докучаю вам своими хозяйственными жалобами. Ваша племянница, – Аньес жестом показала на Матильду, – сгорала от нетерпения, ожидая встречи с вами. Эд обернулся к девочке, которая без особого успеха пыталась привлечь его внимание улыбкой и чуть слышными вздохами. – До чего она прелестна! Какая славная у нее мордочка, а эти красивые волосы цвета меди! И огромные глаза мечтательницы. Моя крошка, скоро вы будете заставлять сердца биться чаще. Польщенная девочка сделала глубокий реверанс. Ее дядюшка продолжал: – Она вылитая вы, Аньес. – Напротив, я нахожу, что она напоминает вас в детстве… к моему великому удовольствию. Правда, нас могли бы принять за близнецов, если бы вы были не такой крепкий. Аньес лгала. У них никогда не было ничего общего, если не считать золотисто-медного цвета волос. Эд был коренастым мужчиной с грубыми чертами лица, квадратным подбородком, слишком длинным носом и большим тонким ртом, который казался рубцом, оставшимся после удара садовым ножом, если только он не изрыгал оскорбления или непристойности. Внезапно Эд посерьезнел, и Аньес испугалась, не сказала ли она чего лишнего. По-прежнему сверля взглядом свою сводную сестру, он нежно обратился к девочке: – Не окажете ли мне огромную любезность, крошка? – С превеликим удовольствием, дядюшка. – Сбегайте во двор и посмотрите, что делает этот лентяй паж. Он слишком долго расседлывает лошадь и никак не удосужится принести мне то, что я жду. Матильда резко повернулась и бросилась бегом во двор. Эд продолжил жалобным тоном: – Если бы не ваше очарование, Аньес, я возненавидел бы вас за то горе, которое причинило ваше рождение моей матери. Каким это было ударом, каким оскорблением для столь набожной и безупречной женщины! Выходка сводного брата успокоила Аньес, боявшуюся, что он догадался о ее плутнях. Когда Эд навещал ее, он никогда не упускал случая напомнить в свойственной ему грубой манере о своем мальчишеском великодушии, забыв, как он третировал ее, издевался над ней, хотя барон Робер приказал, чтобы с Аньес обращались как с барышней благородных кровей. Как это ни странно, но, после того как мать Аньес умерла, – девочке тогда было три года, – баронесса Клеманс прониклась нежностью к незаконнорожденной дочери своего мужа. Она забавы ради учила ее читать и писать, латыни, основам арифметики и философии, не говоря уже о двух своих увлечениях: шитье и астрономии. – Ваша мать – мой ангел-хранитель, Эд. Я никогда не смогу в своих молитвах отблагодарить ее за все то добро, что она для меня сделала. Я всегда помню о ней, и ее образ придает мне силы. На глаза Аньес навернулись слезы. На этот раз Аньес не притворялась. Это действительно были слезы нежности и глубокой печали. – Какой же я тупица, моя козочка! Простите меня. Я знаю, что вы были искренне привязаны к моей матери. Ну будет, красавица, простите грубияна, каким я иногда бываю. Аньес заставила себя улыбнуться. – Ну что вы, брат мой. Вы так добры. Эд, удостоверившись в ее благодарности и покорности, сменил тему разговора. – А этот маленький негодяй, который вечно путается в ваших юбках… Как его зовут? Я что-то не видел его. Аньес сразу же поняла, что Эд говорил о Клемане, но предпочла потянуть время, чтобы понять, какую позицию ей следует занять. – Маленький негодяй, говорите? – Ну да, этот сирота, которого вы великодушно оставили при себе. – Клеман? – Да… Жаль, что родилась не девочка. Здесь недалеко находится женское аббатство Клэре*. Мы могли бы посвятить девочку Богу,[13] избавив вас тем самым от лишнего рта. Как сюзерен Эд мог бы так поступить, если бы захотел. И тогда Аньес не оставалось бы ничего другого, как подчиниться воле сводного брата. – О… Клеман вовсе мне не в тягость, брат мой. Его почти не видно, а иногда он меня развлекает. Уверенная, что Эд хотел доставить ей удовольствие, ничего ему не стоившее, Аньес добавила: – Признаюсь, мне будет его не хватать. Он сопровождает меня, когда я объезжаю свои земли и сельские общины. – Разумеется, он слишком хилый и тщедушный, чтобы сделать из него солдата. Возможно, монаха через несколько лет… Аньес не следовало открыто противоречить Эду. Он был одним из тех недалеких людей, которые упирались при малейшем возражении и тут же начинали спорить, пытаясь заставить других признать свою неправоту. Это был весьма распространенный способ показать свою власть. Тем же ровным тоном с едва заметной ноткой ложной неуверенности Аньес сказала: – Если он обладает достаточными способностями, я сделаю из него своего аптекаря или знахаря. Мне понадобится такой человек. Он уже знает секреты настоев и лекарственных трав. Впрочем, он еще слишком юн… Мы поговорим об этом, когда придет время, брат мой, поскольку я знаю, что вы хорошо разбираетесь в людях. Утверждают, что дети обладают безошибочным чутьем. Но Матильда служила вызывающим беспокойство примером прямо противоположного. После первой перемены фруктов и пирогов она уселась возле ног дядюшки, что-то лепетала и была в восторге, когда он нежно целовал ее волосы или просовывал пальцы под воротник шенса,[14] чтобы пощекотать ей шею. Ее очаровывали рассказы дядюшки об охоте или путешествиях. Она буквально пожирала его глазами, растянув свой маленький ротик в пленительной улыбке. Аньес подумала, что вскоре ей придется рассказать дочери о непристойном поведении ее дядюшки. Но как это сделать? Матильда обожала Эда. Он казался ей могущественным, блистательным, – одним словом, чудесным человеком. В мануарий Суарси, с его толстыми печальными и холодными стенами, он приносил образ счастливого и веселого мира, который настолько одурманил девочку, что она потеряла способность трезво мыслить. Но Аньес не могла бранить ее за это. Что она знала о мире, эта маленькая девочка, которая менее чем через год станет женщиной? Она знали лишь тяготы сельской жизни, грязные стойла и свинарники, тревогу за урожай, грубую одежду, страх перед голодом и болезнями. И вдруг невыносимая мысль обожгла Аньес. Если представится случай, Эд попытается сделать со своей племянницей то, что он пытался сделать восемь лет назад со своей сводной сестрой. Аньес, разгадавшей желание Эда вступить в кровосмесительную связь, стало жутко. Он не пропускал ни одной крестьянки или служанки. Некоторым из них льстило внимание, оказанное сеньором, другие просто смирялись с неизбежным. В конце концов, до него они все прошли через руки собственных отцов и дедов. Сославшись на поздний час, Аньес приказала уложить дочь. Но куда девался Клеман? После приезда Эда де Ларне она его не видела.Лес Клэре, май 1304 года
Широкая грудь неумолимо надвигалась на него. Стена страха. Молодому монаху казалось, что он уже целую вечность созерцает хорошо развитые мышцы под черной шкурой, пропитанной потом. А ведь лошадь сделала всего несколько шагов. Вновь раздался голос: – Письмо, где письмо? Дай его мне, и я сохраню тебе жизнь. Пальцы, сжимавшие поводья, заканчивались длинными металлическими блестящими когтями. Молодой монах различил два поперечных стержня, крепивших эту смертоносную перчатку к запястью. Ему показалось, что он видит на острых кончиках пятна крови. Эхо его учащенного дыхания звенело в ушах, оглушая монаха. Когтистая рука поднялась вверх, возможно, в знак примирения. Молодой монах следил за каждым из мельчайших движений, которые словно преломлялись в какой-то причудливой призме. Это был стремительный жест, но рука повторяла его вновь и вновь. На какую-то долю секунды монах закрыл глаза, надеясь избавиться от этого видения. У него кружилась голова, язык прилип к гортани. – Дай мне письмо, и ты останешься в живых. Откуда исходил этот потусторонний голос? Явно не от человеческого существа. Молодой монах огляделся, оценивая свои шансы на спасение. Там, чуть дальше, под лучами заходящего солнца стояла плотная стена из деревьев и кустарников. Раскачивавшиеся стволы росли так близко друг к другу, что лошадь не смогла бы пробраться между ними. Молодой монах стремительно сорвался с места. Он бежал как сумасшедший, два раза едва не потерял равновесие, цеплялся за низкие ветви, чтобы удержаться на ногах. Он боролся с желанием упасть на землю, залиться слезами и дождаться своего преследователя. Чуть правее затрещала потревоженная сорока. Ее неприятная трескотня, словно грохочущий водопад, яростно обрушивалась на барабанные перепонки молодого человека. Он опять побежал. Еще несколько метров. Там высокие кусты ежевики захватили лужайку, заняли каждый клочок свободного пространства. Если он сумеет спрятаться в этих кустах, возможно, преследователь потеряет его. Одним прыжком он ворвался в самую середину этого растительного ада и закрыл рот рукой, чтобы сдержать рыдания, готовые вырваться из его груди. Кровь бешено пульсировала в шее, ушах, висках. Только не двигаться, не шуметь, дышать тихо. Шипы ежевики впивались в руки и ноги, цеплялись за лицо. Он видел, как изогнутые колючки тянулись к нему. Они дрожали, вытягивались, сжимались, чтобы безжалостно наброситься на его плоть. Они пронзали его кожу, ворочались в ней, чтобы убедиться в своей победе. Напрасно он повторял себе, что ежевика – неживое существо. Но ведь она двигалась! Наступила ночь, пурпурная ночь. Даже деревья стали пурпурными. Трава, мох, ежевика, спускающийся туман – все окрасилось в пурпурный цвет. Нечеловеческая боль жгла его члены. Его словно пожирал костер, горевший без пламени. Едва уловимый шум. Словно где-то шумел водоворот. Если бы он только мог зажать уши руками, чтобы стих гул, врывавшийся в его мозг. Но нет, ежевика цеплялась за него с удвоенной злобой. Раздался нарастающий цокот копыт. Письмо. Нельзя допустить, чтобы его обнаружили. Он поклялся сохранить письмо ценой собственной жизни. Молодой монах хотел помолиться, но споткнулся на первых же словах. Ему приходили в голову одни и те же фразы, похожие на непонятную литанию. Он сжал челюсти и резко поднял правую руку, высвободив ее из колючек. Он отчетливо понимал, что его кожа начинает сдаваться под упорным натиском растительных когтей. Рука почернела до самого запястья. Пальцы не слушались его. Они настолько одеревенели, что он с трудом приказал им залезть под накидку и вытащить листок бумаги. Послание было коротким. Цокот копыт приближался. Через несколько минут конь прыгнет на него. Он разорвал листок бумаги на мелкие клочки, положил их в рот и стал с отчаянной энергией жевать, чтобы успеть проглотить до появления всадника. Когда молодому монаху наконец удалось проглотить бумажный шарик, пропитанный слюной, когда этот шарик исчез в его чреве, ему показалось, что несколько этих великолепных строк обожгли ему пищевод. Прижавшись к земле, растерзанный дикой ежевикой молодой монах увидел сначала передние ноги вороной лошади. Ему показалось, что они стали двоиться. Вдруг он увидел четыре, шесть, восемь ног животного. Он попытался сдержать дыхание, столь шумное, что его, вероятно, слышали по всему лесу. – Письмо. Дай мне письмо. Голос был глухим, деформированным, словно исходил из земных недр. Возможно, голос дьявола? Боль, причиненная безжалостной ежевикой, внезапно исчезла, словно по мановению волшебной палочки. Наконец-то Господь пришел ему на помощь. Молодой человек поднялся и выбрался из этого капкана злобных колючек. Он больше не обращал внимания ни на порезы, ни на раны. Лицо и руки у него были в крови. Он вытянул перед собой пальцы, красные пальцы на пурпурном фоне ночи. Вдоль вен тянулись цепочки волдырей, доходившие до локтей. А затем они так же внезапно, как и появились, исчезли. – Письмо! – приказал гром, гремевший в мозгу молодого монаха. Его взгляд упал на ноги, обутые в сандалии. Они так налились, что кожаных ремешков, впившихся в опухшую плоть, не было видно. Он поклялся спасти письмо ценой своей жизни. Не совершил ли он преступления, съев его? Он поклялся. Следовательно, он должен отдать свою жизнь. Он повернул голову, пытаясь определить высоту ежевичного океана, среди которого он надеялся найти убежище. Что за глупость! Казалось, этот океан дышал, волновался. Ветви ежевики поднимались, падали, затем вновь делали вдох. Он воспользовался долгим выдохом враждебного окружения, чтобы выпрыгнуть наружу и пуститься в бегство. Когда до него донеслось эхо галопа, он уже не знал, бежал ли он несколько часов или несколько секунд. Он широко открыл рот, чтобы набрать побольше воздуха. Кровь подступила к самому горлу, и он рассмеялся. Он так смеялся, что был вынужден остановиться, чтобы восстановить дыхание. Монах нагнулся вперед. И в этот момент он увидел длинную колючку, торчавшую из его груди. Как эта толстая колючка оказалась тут? Кто вонзил этот шип в его грудную клетку? Молодой человек упал на колени. Красный поток лился ему на живот, стекал по бедрам вниз, где его впитывала пурпурная трава. Лошадь стояла неподвижно в метре от молодого монаха. С нее спешился всадник, призрак, закутанный в широкий плащ с капюшоном. Призрак резко вытащил рогатину и вытер о траву окровавленное древко. Он встал на колени и обыскал монаха. Ничего не найдя, он выругался. Куда делось послание? Охваченный яростью, призрак поднялся и грубо пнул ногой агонизирующего монаха. Он почувствовал острое желание убить его, когда иссохшие, застывшие губы молодого человека открылись в последний раз, чтобы выдохнуть: – Аминь. Голова монаха безжизненно поникла. Пять длинных металлических блестящих когтей приблизились к лицу молодого человека. Призрак жалел только об одном: что его жертва больше не моглачувствовать, как когти с безжалостной яростью впились ей в плоть.Мануарий Суарси-ан-Перш, май 1304 года
Ужин длился бесконечно долго. Манеры сводного брата вызывали у Аньес отвращение. Неужели он никогда не слышал о знаменитом парижском теологе, Гуго де Сен-Викторе, который еще сто лет назад описывал, как надо вести себя за трапезой? А ведь теолог в своем произведении указывал, что надо «есть не пальцами, а ложкой, нельзя вытирать руки об одежду и снова класть на общие блюда недоеденные куски или остатки пищи, застрявшие между зубов». Эд шумно чавкал, жевал с широко раскрытым ртом, рукавом вытирал капли супа, попавшие ему даже на брови. Он рыгнул от удовольствия, проглотив последний кусок фруктового пирога. Отяжелев после сытного ужина, который Мабиль сумела сделать аппетитным, несмотря на строгие требования постного дня, Эд вдруг сказал: – А теперь… Подарки для моей козочки и ее крошки. Пусть приведут Матильду. – Но она уже, несомненно, спит, брат мой. – Ну что же, пусть ее разбудят. Я хочу посмотреть, как она обрадуется. Аньес подчинилась, поборов свое плохое настроение. Через несколько минут наспех одетая девочка вошла в просторный зал. Спросонья ее глаза блестели радостным ожиданием. Эд направился к большому деревянному сундуку, покрытому джутовой тканью, который еще до ужина принес в зал паж. С большими предосторожностями Эд стал медленно развязывать веревки, разжигая нетерпение своей племянницы. Наконец он вытащил терракотовую бутылку, объявив слащавым тоном: – Я привез вам… разумеется, моденского уксуса для вашего туалета, милые дамы. Говорят, что, несмотря на темноватый цвет, он придает коже молочную белизну, делает ее нежной как розовый лепесток, покрытый росой. Итальянские прелестницы с удовольствием пользуются им. – Вы чересчур балуете нас, брат мой. – Ба, безделушка, только и всего. Перейдем к серьезным вещам. Ай-ай-ай… Что я вижу на дне сундука… пять локтей* генуэзского шелка… Это был подарок, достойный принцессы. Аньес, вероятно, вспомнила, что скрывалось за излишней щедростью сводного брата, и только поэтому не бросилась к желто-шафрановой ткани, чтобы пощупать ее. И все же она не смогла сдержаться и воскликнула: – Какое великолепие! Но, Бог мой, на что его пустить? Я боюсь испортить его своей неловкостью. – Тогда, мадам, подумайте о том, что все шелковые ткани мечтают коснуться вашей кожи. Пристальный взгляд Эда заставил Аньес опустить глаза. Тем не менее он продолжал тем же игривым тоном: – А что это за толстый кошелек из малинового бархата? Что это такое? От него исходят опьяняющие флюиды. Знаете ли вы, мадемуазель, о чем идет речь? – наклонился он к племяннице, стоявшей с раскрытым ртом. – Конечно, нет, дядюшка. – Тогда давайте откроем его. Эд направился к столу и высыпал на тарелку смесь аниса, кориандра, фенхеля, имбиря, гвоздики, миндаля, грецких и лесных орехов, которой богачи любили лакомиться перед тем как лечь спать, чтобы освежить дыхание и облегчить пищеварение. – Восточные пряности, – прошептала окончательно покоренная девочка восхищенным тоном. – Совершенно справедливо. А нет ли в волшебном мешке подарка для моей крошки? Я полагаю, что совершеннолетие грядет семимильными шагами, не так ли, милая барышня? Матильда прыгала от нетерпения вокруг Эда. Она выдохнула сдавленным от волнения голосом: – Через несколько месяцев, дядюшка. – Замечательно! Значит, я буду первым, кто пожелал вам его. Вы не сердитесь на меня за мою поспешность, не правда ли? – О! Конечно, нет, дядюшка! – Так какой же у нас есть подарок на совершеннолетие юной принцессы? А, а… Брошь из серебряной проволоки и бирюзы, изготовленная фламандскими ювелирами, и перламутровый гребень из Константинополя, которые сделают ее еще более прекрасной и заставят побледнеть завистницу луну… Потрясенная девочка едва осмелилась дотронуться до броши, изготовленной в форме длинной булавки. Ее длинная нижняя губа дрожала, словно Матильда была готова расплакаться при виде такой красоты. Аньес вновь подумала, что дочери в тягость их скучная жизнь. Но как объяснить той, кто была еще ребенком, что через несколько лет этот дядюшка-чаровник будет видеть в своей полукровной племяннице лишь новый объект для утех? Аньес знала, что готова на все, только бы избежать этого. Он никогда не дотронется своими грязными лапами до нежной кожи ее дочери. К счастью, Клемана оберегало от подобных желаний и многих других вещей то, что он был мальчиком. Хотя слухи об извращенных склонностях некоторых сеньоров и доходили до Суарси, все же Эд любил девочек, едва достигших половой зрелости. – И наконец, вот это! – театрально провозгласил Эд, вынимая из сумочки нечто, напоминающее толстый кожаный футляр, похожий на палец. Развязав шнурок, он извлек сероватую трубочку. С губ Матильды сорвался радостный крик. – Мадам! О, мадам моя мать… индийская соль. Какое чудо, я ее никогда не видела. Можно попробовать? – Чуть позже. Ну, Матильда, побольше сдержанности! Мабиль! Отведи мою дочь в ее спальню. Уже поздно, она и так засиделась! Девочка с нежностью попрощалась с дядюшкой, поцеловавшим ее волосы, потом с матерью и нехотя последовала за служанкой. – Ах, брат мой, признаюсь, что я поражена так же сильно, как и моя дочь. Говорят, что графиня Бургундская, Маго д'Артуа, так любит поесть, что недавно велела купить пятнадцать хлебов на ярмарке Ланьи. – Это правда. – Я считала ее бедной, а эта индийская соль, как утверждают, стоит дороже золота. – Эта плутовка только и делает, что жалуется, а на самом деле она очень богата. Если учесть, что фунт стоит два золотых су и пять денье, пятнадцать хлебов по двадцать фунтов – это целое состояние. Аньес, вы пробовали когда-нибудь индийскую соль? Арабы называют ее сахароном.[15] – Нет. Я только знаю, что речь идет о соке бамбукового тростника. – Так давайте немедленно исправим это упущение. Лизните, моя дорогая. Эта пряность удивит вас. Она такая сладкая, что превосходно сочетается с выпечкой и напитками. Эд протянул свой сероватый палец к губам Аньес. Молодая женщина не смога сохранить над собой контроль и закрыла глаза от охватившего ее чувства отвращения. Вечер длился бесконечно долго. Чопорная манера держаться, которой Аньес придерживалась с момента приезда сводного брата, нисколько не способствовала установлению сердечности и тяготила молодую женщину. Она пресытилась бесконечными историями, которые Эд рассказывал, чтобы еще больше набить себе цену. Вдруг он пропыхтел: – Что я слышал, мадам? Вы будто построили приют для медовых мух[16] на краю ваших земель, на опушке леса Суарси? Аньес слушала его вполуха, но этот вопрос, заданный нарочито небрежным тоном, чуть не поставил ее в тупик. – Вы хорошо осведомлены, брат мой. Каленым железом мы выжгли дупла в старых деревьях, а потом установили В них соты и посадили рои диких медовых мух, как это делается повсеместно. – Послушайте, но ведь разведение медовых мух и сбор меда – это мужское дело! – У меня были помощники. В глазах Эда вспыхнула искорка любопытства. – Вы видели короля роя?[17] – Признаюсь, нет. Другие медовые мухи охраняют его c присущим им неистовством. Впрочем, мысль собирать мед мне пришла… после дерзкой выходки одного из моих слуг, который хотел задаром поживиться в лесу. – Этот вор считается браконьером и заслуживает смерти. У вас нежная душа, я знаю, и вам, как и всем дамам, свойственна очаровательная снисходительность. Но вы могли бы, по крайней мере, отрубить ему кисти рук. – Зачем мне нужен безрукий батрак? После этих слов Эд разразился фальшивым смехом. Аньес почувствовала, что он пытался заманить ее в ловушку. Все вассалы были обязаны отдавать своему сюзерену две трети медового сбора и одну треть полученного воска. Но два года подряд, после того как были изготовлены ее улья, Аньес не платила эту подать. – Ну что же, попотчуйте меня этим нектаром, моя красавица. – К сожалению, брат мой, у нас есть только первинки. Наш первый урожай, собранный в прошлом году, принес нам одни разочарования. Бесконечные дожди перемешали мед с воском, сделав его непригодным. Я не послала вам мед из боязни, что вы можете от него заболеть, вы и ваши челядинцы. Мы скормили его свиньям, которым он пришелся по вкусу. К тому же я из-за своей неловкости сама испортила одну из двух бадей… Этой весной первый сбор принес нам всего два фунта, причем столь низкого качества, что этот мед годен разве что для ароматизации вина из жмыха. Будем надеяться, что летний сбор окажется более обильным и мне посчастливится разделить мед с вашим домом. – Аньес горестно вздохнула. – Ах, Эд, мой милый брат… Я не знаю, как бы мы жили, если бы не ваша бесконечная милость. Земли Суарси такие бедные. Подумать только, я смогла лишь заменить половину нашей рабочей скотины лошадьми першеронской породы, ведь быки так медленно и неаккуратно тащат за собой соху… Приюты для медовых мух позволят немного скрасить наше печальное существование. Гуго, мой покойный супруг… – Был всего лишь слабоумным стариком. – Вы преувеличиваете, – прошептала Аньес, сделав вид, будто смутилась, и опустив голову. – Решению моего отца недоставало мудрости. Как! Выдать вас замуж за пятидесятилетнего старика, славными титулами которого были лишь многочисленные шрамы, напоминавшие о сражениях! Война выявляет мужчину, но она не создает его, – без обиняков заявил трус, которому всегда удавалось ловко схитрить, чтобы избежать даже незначительного ранения. – Наш отец считал, что поступает мне во благо, Эд. С самого начала разговора Аньес упорно поправляла каждую из фраз, произнесенных Эдом, стремясь подчеркнуть их кровную связь, которую тот с маниакальной настойчивостью словно бы не замечал, называя ее «моей красавицей», «моей Аньес», «моей козочкой», а порой и «мадам». Было заметно, что Эд колебался. Аньес изо всех сил поддерживала его колебания, понимая, что едва Эд перестанет сдерживаться, как она станет беззащитной. Эду не давала покоя прозорливость сводной сестры. Он сгорал от нетерпения, но все же не осмеливался сделать последний роковой шаг. Но как только он перестанет сомневаться, что она догадалась о его непростительных похотливых намерениях, она… Нет, она не знала, что ей предпринять, чтобы ответить ударом на удар. – Помолимся вместе Пресвятой Деве, брат мой. Ничто не доставляет мне большего удовольствия, не считая вашего присутствия здесь, разумеется. Брат Бернар, мой новый каноник, будет счастлив видеть нас коленопреклоненными рядом друг с другом. Затем вам надо немного отдохнуть. Вы проделали долгий путь. Я так себя корю, что стала невольной причиной этого. Эд не смог найти повода для отказа и был вынужден согласиться, не испытывая особого энтузиазма. Когда на следующий день после третьего часа* Эд и его паж наконец исчезли за поворотом в поле, Аньес буквально падала от изнеможения. У нее кружилась голова, но она все же решила обойти свои владения – не потому что хотела проверить, как идут дела, а чтобы избавиться от неприятных ощущений. Раздосадованная Мабиль, пристально смотревшая на пустую дорогу, неправильно истолковала поведение своей госпожи и грустно вымолвила: – До чего короткий визит. Лицо Мабиль было бледным, измученным. Аньес подумала, что Эду и его служанке ночь показалась еще короче. – В самом деле, Мабиль. Но какое счастье, что он был, – солгала Аньес с такой уверенностью в голосе, что ее охватил какой-то суеверный страх. Разве дозволено лгать и лукавить, забыв обо всем, чему учили Евангелия? Разумеется, если только не существовало другой возможности. – Ваша правда, мадам. И только тогда Аньес заметила, что плечи служанки покрывает пурпурно-фиолетовый ажурный платок. Раньше она его никогда не видела. Плата за оказанные услуги или за доставленное удовольствие? – Пусть Матильда еще немного поспит. Она очень поздно легла. Меня проводит Клеман… если он, конечно, появится. Она не видела мальчика со вчерашнего дня. Было ли это случайностью или предосторожностью? Так или иначе, но он правильно сделал, что не попадался на глаза любопытному Эду. – Я позади вас, мадам. Аньес, обрадованная и одновременно заинтригованная, обернулась на тоненький голосок. Она не слышала, как он подошел. Клеман приходил, уходил, порой пропадал по нескольку дней, и никто не знал, где он был. А потом вновь каким-то чудом появлялся. Конечно, Аньес должна была потребовать, чтобы он постоянно находился подле нее, ведь окрестные леса таили в себе столько опасностей, особенно для маленького мальчика. К тому же Аньес постоянно боялась, как бы на Клемана не напали, когда он купался в пруду или в реке. Впрочем, Клеман был очень осторожным, и Аньес упивалась его свободой, возможно, потому что чувствовала себя загнанной, опутанной сетями. Клеман бесшумно шел сзади, рядом с ним бежали два молосса. Он приблизился к ней только тогда, когда Аньес, зная, что ее слова не долетят до нескромных ушей Мабиль, нежно спросила: – Где ты все это время бродил? – Я не брожу, мадам. Я наблюдаю. Я узнаю. – За чем ты наблюдаешь? Что ты узнаешь? – За вами. Много чего… Благодаря сестрам, обучающим богословию в аббатстве Клэре, благодаря вам, – отозвался Клеман. Аньес посмотрела сверху вниз на мальчика. Странный взгляд серьезных миндалевидных серо-зеленых глаз изучал ее. Он уловила в этом взгляде некую недоверчивость и пробормотала: – Но аббатство Клэре так далеко… О, я не знаю, имею ли право требовать, чтобы ты обучался там. Почти лье… Очень далеко для ребенка. – Если идти через лес, то вдвое меньше. – Мне не нравится, что ты ходишь по лесу. – Лес благоволит ко мне. Я так много в нем узнаю. – Лес Клэре… Говорят, что порой его посещают существа… творящие зло. – Феи и оборотни? Чепуха все это, мадам. – Ты не веришь в существование оборотней? – Нет. И в существование фей тоже. – Но как можно? – Потому что, мадам, если бы они существовали и обладали такой могущественной властью, в худшем случае они уже истребили бы нас, а в лучшем случае наша жизнь превратилась бы в нескончаемый крестный путь. Клеман улыбнулся. У Аньес промелькнула странная мысль, что мальчик не скрывает своего счастья или любопытства только в ее присутствии. Отношения Клемана с Матильдой сводились к покорной услужливости со стороны мальчика и дерзкому высокомерию со стороны девочки. Правда, дочь Аньес считала Клемана слугой, наделенным определенными преимуществами перед другими, но ни за что на свете не согласилась бы относиться к нему как к равному. Аньес рассмеялась: – Честное слово, ты говоришь убедительно. Ты снял с моей души тяжелый груз. Мне стало бы не по себе, если бы я встретилась с оборотнем. Вновь став серьезной, Аньес с беспокойством спросила: – Осознал ли ты полностью то, о чем мы сейчас говорили? Никто не должен знать о нашем разговоре, Клеман. Речь идет о твоей безопасности… да и о моей тоже. – Я знаю, мадам, причем уже давно. Вы напрасно беспокоитесь. Они молча продолжили свой путь. Деревня Суарси примостилась на пригорке. Улочки, по обеим сторонам которых стояли домишки, поднимались к мануарию, извиваясь столь причудливым образом, что телегам, везущим сено, приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы не задеть крыши строений на очередном повороте. Это скопище жилищ никто не планировал, но тем не менее создавалось впечатление что домики прижались друг к другу на обочине, чтобы хоть немного приободриться. Как и во многих других мануариях и замках, в Суарси не имели права держать оружие. Во времена строительства мануария, когда над краем нависла серьезная опасность английского вторжения, единственным спасением была оборона, потому-то выбор и пал на место, расположенное на возвышенности и окруженное лесом. Действительно, толстые крепостные стены, за которыми прятались крестьяне, сервы и мелкие ремесленники, спокойно и дерзко отразили не один натиск противника. Аньес машинальной улыбкой отвечала на приветствия и поклоны встречных, поднимаясь к мануарию по желтым глинистым тропинкам, размытым недавними дождями. Она Посетила голубятню, но не получила от этого обычного удовольствия. Аньес не могла не думать об Эде, о его возможных кознях. Прелестные птицы встретили Аньес нежными, веселыми, воркующими руладами. Ее взгляд упал на нахального самца, агрессивное поведение которого всегда вызывало у нее смех. Но не сегодня. Она назвала его Вижилем, Сигнальщиком, потому что он любил на рассвете усаживаться на черепичном кровельном коньке мануария и ворковать там, наблюдая, как занимается день. Он был единственным, кому она дала имя. Тоже подарок ее сводного брата, который привез птицу из Нормандии в прошлом году, когда решил завести голубятню. Голубь тянул к ней свою мускулистую шею, окрашенную в темно-розовые и лиловые тона. Аньес быстро погладила его, а потом ушла. И только вернувшись в большой зал мануария, Аньес осознала, что Клеман ловко переменил тему разговора. Но было слишком поздно. Ребенок вновь исчез. Ей придется опять ждать, чтобы понять, какие занятия все чаще заставляли его уходить из мануария. Эд тоже чувствовал себя измученным. Ему удалось поспать лишь часок между ног Мабиль. Эта бесстыдница не всякому доставляла удовольствие. К ее счастью, поскольку те незначительные сведения, которые Мабиль удалось собрать, находясь на службе у Аньес, не представляли для ее подлинного хозяина особого интереса. Эд не сумел завладеть госпожой и поэтому совратил служанку. Жалкое вознаграждение за прекрасный шелковый отрез и палочку индийской соли, которые сами по себе стоили целое состояние! Но сейчас ему пришлось довольствоваться служанкой. Боже, до чего он был отвратителен своей сводной сестре! Аньес принимала его за невыносимого хлыща, к тому же грубияна и развратника. Она ненавидела его. Он это понял несколько лет назад, когда она решила, что наконец избавилась от него благодаря своему замужеству. Нечто вроде страсти, извращенного желания, которое он питал к ней, когда ей было восемь, а ему десять лет, превратилось во всепоглощающую ненависть. Он сломает ее, и она падет к его ногам. Она будет вынуждена пойти на инцест, который внушал ей такое отвращение, что порой у нее даже белели губы. Да, когда-то он надеялся завоевать ее любовь, когда-то он был достаточно сильным, чтобы заставить ее совершить непростительный грех, но это время прошло. Теперь он хотел, чтобы она сама уступила и стала молить его о пощаде. Он выместил свое дурное настроение на паже, который заснул в седле и мог в любую минуту рухнуть на шею своего мерина. – Шевелись! Ты настоящая вошь! А если ты вошь, то я знаю, как тебя раздавить. Угроза возымела действие. Мальчик выпрямился, словно от удара хлыста. Да, он ее сломает. Причем скоро. В свои двадцать пять лет она была еще красивой, но, конечно, не такой красивой, как в ранней юности. К тому же она была матерью: как известно, беременность уродует женщин, особенно их груди. А ему нравились груди, которые в ту пору считались модными: маленькие, круглые, как яблоки, с бледной прозрачной кожей и, главное, высокие. А кто сказал, что на грудях Аньес нет фиолетовых прожилок? Может быть, у нее и живот обвис? Матильда же, напротив, казалась такой же прелестной, такой же тоненькой и изящной, какой в ее возрасте была Аньес. К тому же Матильда обожала своего дядюшку и его щедрость. Через год она созреет и станет совершеннолетней. Эта мысль настолько захватила Эда, что он содрогнулся от хохота. Одним ударом он убьет двух зайцев. Самая лучшая месть Аньес, которую только можно было придумать, звалась Матильдой. Он приласкает дочь и уничтожит мать. Конечно, мать не даст ему свободы действий. Эд был вынужден признать, что его сводная сестра умна, хотя не питал никакого уважения к простому народцу. Она будет изо всех сил противодействовать ему. Чертовы бабы! Впрочем, борьба обещала быть пикантной. Но если подумать, он одним ударом убьет не двух, а трех зайцев, поскольку рудник Ларне, гарантия его состояния и относительного политического спокойствия, вскоре совсем истощится. Несомненно, в недрах рудника еще таились несметные богатства, но, чтобы извлечь их, придется копать. А этого не позволяли ни имеющиеся в его распоряжении средства, ни, главное, геологическое строение почвы. Глинистая земля обрушится при первой же попытке сделать раскоп. – Аньес, моя козочка, – прошептал он, сжав челюсти. – Твой конец близок. Кровавыми слезами, моя красавица, твое нежное лицо истечет кровавыми слезами. Да, Эда давно уже одолевали тяжелые раздумья о руднике. Он решил сделать крюк, чтобы посмотреть, как идет добыча железа.Горные разработки баронов де Ларне, Перш, май 1304 года
– Пусть его приведут ко мне! Пусть притащат этого подонка ко мне, спустив с него шкуру, если на то пошло! Все равно она ему вскоре не понадобится, – рычал Эд де Ларне, пожирая убийственным взглядом жалкую кучку минерала, лежавшую у его ног, самую маленькую партию, добытую за неделю. Два серва, опустив головы, отошли от него на добрых пару метров. Вспыльчивость барона была известна, и дело чаще всего заканчивалось побоями, если не хуже. Сервы не заставили себя просить дважды, сочтя приказ прекрасным предлогом, чтобы увеличить расстояние, отделявшее их от разгневанного хозяина. В конце концов, этот Жюль, который был ничуть не лучше их, добывал мало железа с тех пор, как случайно стал бригадиром. Разве то право, которое он получил, право приказывать своим бывшим товарищам по нужде, делало его равным барону? Простак! Он попытался прыгнуть выше своей головы, но упал лицом в дерьмо. Двое мужчин, изнуренных непосильным трудом, страдавших от недостатка сна и пищи, бросились через небольшую засушливую долину в направлении русла пересохшей реки, которая некогда текла в этих краях и заканчивалась недалеко от Отон-дю-Перш. Добежав до высоких деревьев и оказавшись в относительной безопасности, они замедлили шаг, потом остановились, чтобы немного отдохнуть и восстановить дыхание. – Почему мы побежали к лесу, Ангий? Разве здесь укрылся Жюль до приезда хозяина? – спросил старший. – Не знаю. Надо было же куда-то бежать. Какая разница, в какую сторону… Иначе взбучку получили бы мы. – Ты знаешь, где Жюль? – Нет, и мне плевать на него, – откликнулся Ангий. – Пусть идет куда подальше. Барон взбесился, как бык от красной тряпки, и брызжет слюной, как гадюка. – Да что происходит с этим проклятым рудником? Ведь не наша вина, что добыли так мало… Я больше не чувствую ни рук, ни ног. Ангий пожал плечами, а потом сказал: – Он истощается, его чертов рудник. Жюль объяснил ему, но ничего нельзя сделать, он не хочет это признавать. Рудник не стоит и дохлой крысы, а уж тем более трудов, которые мы в него вкладываем. Барон может весь изойти потом и кровью, но добудет из него только пыль. – А ведь этот рудник поставлял им превосходное железо, причем трем поколениям подряд. Подумать только, какой это тяжелый удар для хозяина! Как же это должно быть ему неприятно! – Что? Ну и пусть, меня это не волнует. Понимаешь, этот проклятый рудник… Он приносил ему звонкую монету, а нам всем – болезни, удары кнутом и пустые желудки. Пойдем дальше, углубимся еще немного в лес, а потом немного вздремнем. Мы скажем, что не нашли Жюля. – Но это ложь. Ангий посмотрел на своего товарища, удивляясь его простодушию, а потом сказал успокаивающим тоном: – Это ты так говоришь, а он не может этого знать.Кипр, май 1304 года
Этот смутный кошмар… Франческо де Леоне резко вскочил с соломенной циновки. Его рубашка была мокрой от пота. Он попытался унять бешеное биение сердца, несколько раз медленно и глубоко вздохнув. Главное, не заснуть опять, иначе сон может повториться. Впрочем, госпитальер*, рыцарь по справедливости и по заслугам,[18] уже давно жил в плену постоянного страха и порой даже боялся, что тот вдруг исчезнет. Кошмар, вернее, тяжелый сон, никогда не имевший конца, всегда начинался одинаково. Эхо шагов по каменным плитам, эхо его шагов. Он шел по церковной галерее, касаясь амвона, закрывавшего хоры. Свет лился из купола и разгонял тени, притаившиеся за пилястрами. В какой церкви это происходило? Ротонда напоминала ему иерусалимскую церковь Гроба Господня, а архитектурная дерзость купола базилики – Святую Софию Константинополя. Возможно, это была римская Святая Констанция, церковь, которая, по его мнению, устремлялась к Свету. Какая разница? Во сне он точно знал, что ищет среди этих массивных стен из розоватого камня. Он пытался догнать силуэт, который молча перемещался, выдаваемый легким шелестом тканей, женский силуэт, прятавшуюся от его взора женщину. В какой-то момент он понимал, что выслеживает женщину. Об этом говорил и сам план церкви, окруженной хорами. Силуэт, двигавшийся всегда на несколько шагов впереди, обернулся. Казалось, силуэт предвосхищал его движения, перемещаясь по внешней стороне галереи, в то время как он шел по внутренней стороне. Рука Франческо де Леоне медленно тянулась к головке эфеса шпаги. Однако опустошающая нежность уже заставляла его плакать. Почему он преследовал эту женщину? Кто она? Существовала ли она в действительности? Он, напряженный и раздосадованный, вздохнул, широко раскрыв рот. Надо быть полоумной старухой, чтобы думать, будто сны всегда сбываются. Тем не менее во сне он видел, как умерли его мать и сестра, и только потом нашел их трупы. Он бросил взгляд на узкую бойницу, через которую виднелся клочок неба. Душная кипрская ночь не принесла ему покоя. Он видел столько мест, встречался со столькими людьми, что почти забыл город, в котором родился. Сейчас он находился в пустоте и чувствовал себя чужим в этой огромной крепости, отвоеванной после падения Сен-Жан-д'Акра к 1291 году в ходе упорной битвы, которую вели рыцари Христа и Храма Соломона* и Гостеприимного ордена. Гийом де Боже, Великий магистр храмовников, или тамплиеров, погиб. Что касается Жана де Вилье, Великого магистра госпитальеров, членов Гостеприимного ордена, он был настолько тяжело ранен, что мог умереть при каждом вздохе. Лишь семь госпитальеров и десять тамплиеров вышли живыми из осады и битвы, ознаменовавшей конец христианского Востока. Большинство тамплиеров вернулись на Запад. Что касается госпитальеров, они поспешно бежали на Кипр, вопреки откровенному нежеланию предусмотрительного Генриха II де Лузиньяна, короля острова, который скрепя сердце разрешил им обосноваться в городе Лимасол, на южном побережье. Короля беспокоило это братство, которое могло быстро превратиться в государство в государстве, поскольку и тамплиеры и госпитальеры зависели лишь от папской власти. Лузиньян ввел для них множество ограничений. Так, численность госпитальеров никогда не должна была превышать семьдесят рыцарей, сопровождаемых оруженосцами. Семьдесят, и ни одним больше. Великолепное средство сдержать их экспансию и, главное, власть. Рыцарям Христа пришлось смириться в ожидании лучших времен. Впрочем, это не имело особого значения. Кипр был всего лишь этапом большого пути, своего рода передышкой, которая позволяла им восстановить свои силы и произвести перегруппировку, чтобы затем отвоевать Святую землю. Ведь колыбель нашего Спасителя не должна была оставаться в руках неверных. Гийом де Вилларе, сменивший своего брата в 1296 году на посту Великого магистра, предчувствовал это и все чаще обращал свой взор на Родос, новую гавань ордера. Франческо де Леоне задрожал от восторга и наслаждения, едва представив себе, как будет идти навстречу Гробу Господнему, в церкви, построенной на месте садов Иосифа Арифамейского. Именно там, под церковью, в крипте, Елена, мать Константина, обрела Животворящий Крест. Он как подкошенный упал на камни, согретые пустыней, которая бесчинствовала снаружи. Он увидел, как протягивает руку, решившись едва коснуться ремешка сандалии. Жизнь ради этого жеста – то, что рыцарь предлагал со всей страстью и бесконечной покорностью. Но до этого часа было еще очень далеко. Пройдут часы, дни, возможно, годы. До этого дня должно было столько всего свершиться… Заблуждался ли он? Утратила ли его вера чистоту? По сути, не включится ли он в конце концов в игру теней и не согласится ли с расчетами сильных мира сего, планы которых он был призван расстроить? Он встал. И хотя он был еще относительно молод, все же чувствовал себя тысячелетним старцем. У человеческой души от него почти не было никаких секретов. Он пережил несколько редких, но чудесных озарений, но и не раз впадал в уныние, если не испытывал отвращение. Любить людей во имя любви к Христу порой казалось ему утопичным. Тем не менее этот душевный надлом следовало как можно тщательнее скрывать. Тем более что его целью были не люди. Его целью, его целями был Он. Необъяснимое желание пожертвовать собой охватывало Франческо де Леоне в самые тяжелые для него моменты. Он бесшумно прошел в крыло, где находились кельи и дортуары. Оказавшись на улице, он надел сандалии и пересек огромный квадратный двор, направляясь в сторону расположенного в центре здания, где совершались омовения. Он спускался по ступеням, которые вели в мертвецкую, расположенную под госпиталем. В этот небольшой подвал сносили тела, ожидающие погребения, ведь под действием горячего воздуха они разлагались очень быстро. В то раннее утро подвал был пуст. Однако, увидев покойника, рыцарь вряд ли заволновался бы. Он уже видел столько окровавленных с ног до головы покойников, продвигался вперед среди них, перешагивал через них, порой переворачивал, ища знакомое лицо! В глубине подвала низенькая дверь вела в живорыбный садок, вырубленный в гранитной скале. Плававшие в садке карпы обеспечивали пропитание обитателям цитадели. Кроме того, разводить их было очень выгодно, поскольку рыцари, заимствовавшие китайский метод тысячелетней давности, кормили рыб птичьим пометом. Погружение в ледяную» оду глубокого водоема, прикосновение к его лодыжкам рыб, которые ослепли, из поколения в поколение размножаясь и темноте, не избавили Франческо де Леоне от неприятного чувства, овладевшего им после пробуждения от сна. Когда в часовне он подошел к приору, исполнявшему также обязанности великого командора, день едва занимался. Арно де Вианкур, маленький щуплый человек с пепельными волосами, казалось, не имевший возраста, обернулся к нему. Он сложил руки на черной рясе из грубой ткани и улыбнулся. – Пойдемте, брат мой. Надо воспользоваться этими редкими часами относительной прохлады, – предложил он. Франческо де Леоне кивнул головой в знак согласия, ничуть не сомневаясь, что предложение щуплого человека не было связано с милосердным рассветом. Арно де Вианкур опасался шпионов Лузиньяна, сновавших повсюду и, может быть, даже проникших в орден. Они, опустив головы и подняв капюшоны, молча шагали несколько минут. Леоне следовал за Арно де Вианкуром до толстых стен. Его тесные связи с Гийомом де Вилларе, их нынешним Великим магистром, объяснялись не только верностью, но и тем, что мужчины, оба высоко образованные, прекрасно дополняли друг друга. Впрочем, приор не догадывался, что у этого взаимного доверия существовали пределы. Гийом де Вилларе – равно как его племянник и вероятный преемник Фульк де Вилларе – знал все о страхах, надеждах и порывах души своего великого командора, а вот тот ни о чем подобном даже не догадывался. Арно де Вианкур остановился и оглянулся по сторонам, желая убедиться, что никто не нарушит их одиночества. – Вы слышите, как поют цикады? Они просыпаются вместе с нами. Какое прекрасное упорство, не правда ли? Знаете ли вы, почему они поют? Разумеется, нет. Цикады не спорят со своей судьбой. – Значит, я цикада. – Как и все мы здесь. Франческо терпеливо ждал. Приор любил подобные метафоры, длинные преамбулы. Франческо сравнивал ум Арно де Вианкура с гигантской мировой шахматной доской, на которой фигуры, постоянно находившиеся в движении, никогда не подчинялись одним и тем же правилам. Он плел такие запутанные сети, что никто не мог найти концов составлявших их нитей. И все же они могли внезапно распутаться, чтобы образовать идеальную петлю. Приор начал говорить равнодушным тоном, словно размышлял вслух: – Бонифаций VIII*, наш покойный святой отец, принадлежал к той же породе, что и императоры. Он мечтал установить папскую теократию, создать христианскую империю, объединенную только его властью… В словах приора Леоне почувствовал легкий упрек. Бонифаций VIII был железным человеком, не склонным к диалогу. Своей непримиримостью он снискал себе множество врагов, даже в лоне Церкви. – …Его преемник Никола Бокказини, наш Папа Бенедикт XI*, мало похож на него. Несомненно, он больше всех был удивлен, что его избрали Папой. Могу ли я признаться вам, брат мой, что мы опасаемся за его жизнь? Ведь он простил Филиппа Красивого за его попытку совершить покушение на своего предшественника. При одной мысли, что жизни Бенедикта грозит опасность, рыцарем овладела подспудная тревога. Новый Папа, чистота его воззрений, сама его духовность были главной ставкой в тысячелетней борьбе, в которую втянулся Леоне. Тем не менее он терпеливо ждал продолжения. Как обычно, приор шел размеренным шагом. Он продолжил: – Нам… нам стало известно, что Бенедикт намеревался отлучить от церкви Гийома де Ногаре*, вечную тень своего монарха. Он случайно оказался замешан в гнусном деле, но ходят слухи, будто Ногаре оскорбил Бонифация. Как бы то ни было, Бенедикту придется сделать жест, наказать кого-нибудь. Полное отпущение грехов повредит папской власти, и так уже пошатнувшейся. Приор вздохнул и продолжил: – Король Филипп вовсе не глуп, и он на этом не остановится. Он нуждается в Папе, который подчинялся бы ему, и при необходимости заставит выбрать именно такого Папу. Он больше не в состоянии терпеть эту «теневую власть», которая мешает ему проводить свою политику. Если наши опасения обоснованы, если жизнь понтифика под угрозой, то его преемник представляет для нас мучительную неопределенность, если не большую опасность. Мы находимся на передовой, равно как и орден тамплиеров. Но я повторяюсь. Вы об этом знаете так же хорошо, как и я. Франческо де Леоне посмотрел на небо. Последние звезды погасли. Неужели жизнь нового Папы оказалась под угрозой? Приор вновь переменил тему разговора: – Разве это не чудо? Иногда боишься, что однажды звезды погаснут навсегда. Но каждую ночь они возвращаются к нам, пронзая своим светом самую густую тьму. В течение нескольких минут Арно де Вианкур внимательно смотрел на молчавшего рыцаря. Он не переставал вызывать у него удивление. Леоне мог бы стать столпом ордена, то есть великим адмиралом флота госпитальеров или даже Великим магистром. Благородная кровь, которая текла в его жилах, достоинство, ум – все позволяло предполагать это. Но рыцарь отказался от этих почестей и столь обременительных обязанностей. Почему? Разумеется, не из страха оказаться не на высоте нового положения и уж вовсе не из-за незрелости. Но, возможно, из-за гордости. Из-за сладостной и безупречной гордости, которая внушала ему, что он должен отдать жизнь за веру. Из-за безжалостной и грозной гордости, которая убеждала его, что только он способен выполнить возложенную на него миссию. Старый человек вновь принялся рассматривать своего духовного брата. Тот был довольно высоким. Тонкие, даже точеные черты лица, светлые волосы и темно-синие глаза выдавали в нем уроженца Северной Италии. Его красивые пухлые губы могли бы навести на мысль о распутстве, но то, что рыцарь выполняет одно из требований их ордена – умерщвление плоти, не вызывало у приора ни малейших сомнений. Однако приора больше всего удивляло невероятное непостоянство этого блистательного ума, мощь, которая порой его даже пугала. За этим бледным высоким челом скрывалась целая вселенная, подобрать к которой ключи не мог ни один человек. Леоне охватил страх. Что станет с его поисками без доверительной, если не тайной поддержки понтифика? Он почувствовал, что долгое молчание вышестоящего лица означало, что тот ждал ответа. – Что касается ваших подозрений относительно… этой угрозы, нависшей над нашим святым отцом, то как она зовется: Ногаре или Филипп? – Было бы опрометчиво отделять одного от другого. Недовольство постоянно растет. Теперь уж не знаешь, кто правит Францией, Филипп или его советники – Ногаре, Понс д'Омела, Ангерран де Мариньи или другие. Но мои слова не должны вводить вас в заблуждение. Филипп – это несгибаемый, хладнокровный человек, жестокость которого хорошо всем известна. Учитывая все эти обстоятельства, я отвечу вам «нет». Король Филипп слишком твердо уверен в своем законном праве на престол, чтобы опуститься до преступления против наместника Бога на земле. По нашему мнению, он будет действовать так же, как действовал против Бонифация, то есть требовать низложения Папы. Ногаре? Сомневаюсь. Это человек веры и закона. Если Ногаре замыслит нечто подобное без согласия на то своего монарха, он должен будет решиться на тайное преступление, вернее, совершить его чужими руками. Но я не считаю его способным на отравление, самое гнусное преступление. А вот… Арно де Вианкур нервно взмахнул рукой, словно подчеркивая свои колебания: – …а вот слишком усердный приспешник вполне может опередить Ногаре и исполнить его желание. – Такое часто случается, – согласился Леоне, которого ужаснула подобная перспектива. – Хм… – Значит, надо стать Папе близким человеком, чтобы защитить его жизнь? Я без колебаний пожертвую собой ради него. Когда рыцарь произносил эти слова, он был уверен, что своим монологом приор хотел добиться именно этого. Приор посмотрел на него с такой откровенной печалью во взгляде, что Леоне понял: он угадал. – Мой друг, мой брат, вы же знаете, как трудно, почти невозможно помешать этой угрозе. Да и каким временем мы располагаем? Разумеется, сейчас защита жизни Бенедикта является нашей первоочередной целью… Двое из наших доблестных братьев проникли в его ближайшее окружение, неусыпно следят за ним и уничтожают отравителей. Но если… если он отойдет в мир иной… скорбь не должна помешать нам забыть о будущем… Леоне закончил фразу, произнеся те мучительные слова, справедливость которых он, впрочем, хорошо осознавал: – …к которому нам надо отныне готовиться, чтобы оно не принесло погибели христианскому миру. Это замечание относилось также и к священной миссии, которой он себя полностью подчинил. Арно де Вианкур не знал об этом. Об этом, скорее всего, никто не знал. – Да, будущее. Преемник Бенедикта… если мы не сумеем отсрочить печальный конец, как отчаянно пытаемся это сделать вот уже несколько недель. – Можем ли мы надеяться, что наше вмешательство переломит ход событий? – Надеяться? Но нас никогда не оставляет надежда, брат мой. В надежде наша сила. Однако сегодня мы нуждаемся не только в надежде, но и в уверенности, что планы Филиппа IV не осуществятся. Если его советникам удастся, чего я опасаюсь, заставить избрать в Ватикане свою марионетку, у них будут развязаны руки и они постараются избавиться от всех, кого не смогут контролировать. То есть от тамплиеров и от нас, поскольку мы считаемся сторожевыми псами папства. Очень богатой сворой, а ведь вам, как и мне, хорошо известно, что король остро нуждается в деньгах. – В таком случае тамплиеры падут первыми, – заметил рыцарь де Леоне. – Могущество этого ордена сделало его очень уязвимым. Они скопили слишком много богатств, чем вызывали к себе зависть. Их система финансовых депозитов и переводов, которые можно получать в любом уголке света, во многом облегчила положение дел. Крестоносцы и паломники больше не боятся, что их ограбят во время долгого путешествия. Прибавьте к этому дары и пожертвования, которые стекаются к ним со всего Запада. – Мы тоже получаем от этого пользу. Напомню вам, что мы не менее богаты, чем они, – возразил Арно де Вианкур. – Разумеется, но тамплиерам ставят в упрек их высокомерие, привилегии, состояние, а также леность и нежелание заботиться о ближних. Нас же критика обходит стороной… Из одной-единственной искры может разгореться пламя зависти и ревности. – Люди полагают, а точнее, их заставляют поверить, что деньги приносят доход лишь самим тамплиерам и что сейчас они владеют несметными богатствами… Вы задумывались, Франческо, над причинами, побудившими в 1295 году Филиппа Красивого лишить парижских тамплиеров права управлять королевской казной и передать его итальянским банкирам? – Так ему было легче расплатиться с долгами, приказав арестовать и конфисковав имущество этих самых банкиров, у которых он брал взаймы. Король может применить туже стратегию и в отношении тамплиеров. – Совершенно верно. Однако, как ни странно, два года назад король позволил тамплиерам взимать налоги. С чем связана такая непоследовательность? – Эта мера, вкупе со слухами, которые ходят о тамплиерах, вызвала народное недовольство. – Разрозненные крупицы, брошенные приором, сложились в уме Леоне в единое целое. – Следовательно, речь идет о долгосрочном плане, разработанном королем, чтобы окончательно дискредитировать орден. – Вот искра, о которой вы только что говорили. Эти слова растаяли в дыхании приора. Он слишком давно думал об их будущем. Франческо де Леоне закончил вместо приора: – Головешка уже тлеет… Костер вполне устроил бы короля Франции, тем более что другие правители Европы не прочь воспользоваться такой возможностью, чтобы укрепить свою власть, став более независимыми от Церкви. Падение Акры лишь раздуло пожар. Аргументы будут простыми: для чего служат огромные деньги и могущество, если единственным результатом существования рыцарских орденов стала утрата Святой земли? Другими словами, нам не следует рассчитывать на помощь извне. Ее мы получим только в том случае, если другие монархи почуют грядущее падение Филиппа Красивого. И тогда они всем скопом перейдут на сторону Папы. – Наш разговор похож на странный двухголосый монолог, брат мой, – заметил приор. – Возможно, мы предчувствуем будущее, поскольку описываем его одинаковыми словами. Печаль омрачила его землистоелицо. – Я уже стар, Франческо. С каждым днем меня прельщают все меньше и меньше вещей. Столько лет… Столько лет длились войны, крестовые походы, столько лет смертей и крови. Столько лет послушания и лишений. Зачем? – Вы сомневаетесь в вашем предназначении, в искренности нашего ордена, в нашей миссии… или, что гораздо хуже, в своей вере? – Нет, брат мой, и уж никак не в нашем ордене или своей вере. Просто я сомневаюсь в себе, в своих силах, последних силах, в своей полезности. Порой я чувствую себя старой испуганной женщиной, единственным средством защиты которой остались слезы. – Сомнение в себе, если оно управляемо, служит нам союзником. Лишь дураки и глупцы от рождения никогда не испытывают сомнений. Сомнение в себе служит прекрасным доказательством, что мы лишь ничтожная и трудолюбивая часть божественного разума. Мы осознаем бездонность наших недостатков, но все же продвигаемся вперед. – Вы еще слишком молоды. – Не так уж и молод. В марте мне исполнилось двадцать шесть лет. – А мне скоро пятьдесят семь. Конец близок. Полагаю, он станет мне хорошей наградой. Я наконец войду в царство Света. Но до тех пор я должен бороться… Мы, мой великолепный ратник Франческо… Наши враги применят любые методы, даже самые недостойные. Речь идет о тайной, но безжалостной войне… И началась она не вчера. Леоне почувствовал, что приор колеблется. О чем он умалчивал? Зная, что прямой вопрос будет бестактным, Леоне сдержал свое нетерпение. – Нам следует помешать убийству Бенедикта и избранию Папы – сообщника Филиппа? Арно де Вианкур опустил голову, словно искал слова, затем ответил: – Есть одно обстоятельство, неведомое вам, брат мой. старый план объединения всех военных орденов, главным образом орденов тамплиеров и госпитальеров – этот план, о котором двенадцать лет назад говорил наш Папа Николай IV в своей энциклике Lura nimis, по-прежнему существует. – Но наши отношения с тамплиерами… немного натянутые, – возразил Леоне. Вианкур заколебался, но потом решил, что не расскажет Леоне о переговорах, которые вел их Великий магистр с Папой и королем Франции. Объединение произойдет в пользу ордена госпитальеров, который получит власть над другими орденами. Из этого неизбежно вытекало столкновение с тамплиерами, которые ни за что не отдадут свою власть по доброй воле, тем более что Жак де Моле, Великий магистр ордена, придерживался консервативных взглядов. Слабостью этого доблестного солдата и человека веры была политическая наивность и надменность, ослеплявшие его. – Немного натянутые… Да это эвфемизм… Филипп Красивый – горячий сторонник этого союза. Леоне удивленно поднял брови. – Он занимает очень странную позицию. Орден, объединившийся под папской властью, будет представлять для него более серьезную опасность. – Да, это правда. Однако положение изменится, если объединенный орден попадет под его власть. Филипп собирается назначить одного из своих сыновей Великим магистром нового ордена. – Папа никогда с этим не смирится. – Весь вопрос в том, сможет ли Папа этому противостоять, – возразил приор. – Значит, мы вернулись к тому, с чего начали: необходимо не допустить избрания понтифика, благоволящего Филиппу, – прошептал Леоне. – Действительно… Переписать историю христианства. Имеем ли мы на это право? Этот вопрос мучит меня. – А разве у нас есть выбор? – тихим голосом возразил рыцарь. – Боюсь, что ближайшие годы не дадут нам широкого поля для маневра… Да, у нас нет выбора. И приор погрузился в созерцание буйной травы, которой удалось пустить свои корни между двумя крупными каменными блоками. Затем он прошептал срывающимся голосом: – Настойчивость жизни. Какое чистое чудо! – Продолжил он более твердым тоном: – Как бы это сказать… Случайный и невольный посредник… поможет нам вопреки собственной воле. Приор кашлянул. Леоне смотрел на него в уверенности, что последующие слова застряли у Арно де Вианкура в горле. И он не ошибся: – Боже мой, его имя… так трудно произнести. – Он вздохнул прежде, чем признаться: – Этот посредник не кто иной, как Джотто Капелла, один из самых крупных банкиров на парижской бирже. У Леоне закружилась голова, потемнело в глазах. Он хотел возразить, но Вианкур не дал ему возможности что-либо сказать: – Нет. Я знаю все, что вы можете мне ответить. Я также таю, что время не способно вылечить некоторые раны. Целые дни напролет я искал другое решение, но напрасно. Прошлое навсегда опорочило Капеллу. Но это козырь для нас. Леоне прислонился к стене, сложенной из крупных камней неправильной формы. Его захлестнули эмоции, и он боролся с ненавистью. По правде говоря, он боролся с ней так долго, что она превратилась в его неприятную спутницу. Со временем он научился ее обуздывать, заставлять ее смиряться. И все же он знал: избавиться от чувства омерзения, которое он испытывал к Капелле, освободить от него свою душу – означало сделать еще один шаг навстречу Свету. Срывающимся голосом Леоне спросил: – Шантаж? А если Капелла исправился, если на это его толкнула только трусость… Надо познать животный страх, чтобы научиться прощать трусов. Тогда я был очень молодым, но с тех пор… Арно де Вианкур возразил равнодушным тоном: – Брат мой, какая у вас прекрасная душа! Многие другие… – Он прервался, сочтя недопустимым усугублять боль Леоне. – Капелла добровольно поможет нам, когда мы так далеки от него, а король так близок? Сомневаюсь и сожалею. Люди меняются, когда их к этому принуждают. Вы в этом убедитесь сами, брат мой. Я знаю вас как грозного знатока человеческих душ. Всего за несколько секунд вы сможете оценить его метаморфозу или, говоря менее возвышенно, его услужливость. К счастью для нас – да и для него тоже, – я надеюсь, что письмо, которое мы приготовили для него, будет излишним. От всего сердца желаю вам испытать облегчение, если простите его. Забвение свойственно человеку, прощение же носит божественный характер. Если это так, вы можете не справиться с данным нами поручением. В противном случае… Мне очень жаль, что я вынужден подвергать вас такому испытанию, но вы должны отправиться во Францию. Я подписал несколько наставлений, а также ваш отпускной билет,[19] впрочем, не уточнив даты. В зависимости от обстоятельств вы можете останавливаться в наших командорствах. Вы там найдете помощь и душевную поддержку, если почувствуете в ней необходимость. Джотто Капелла позволит вам приблизиться к нашему самому грозному врагу – Гийому де Ногаре. Если мы не ошиблись в своих расчетах, если Ногаре уже ищет послушного Папу, значит, ему потребуются деньги, очень большие деньги. Мы подозреваем, что советник короля ищет кандидатуру среди французских кардиналов. Они жируют и живут на широкую ногу. И не упустят удобного случая, чтобы набить свою и без того тугую мошну. Первое, что вы должны сделать, – это установить имя самого вероятного кандидата, поскольку в нашем списке их довольно много. Одно имя, Франческо, в крайнем случае два. Это единственный наш шанс вмешаться, пока еще не поздно. Значит, все было решено уже давно. Колебание, сожаление приора были, вне всякого сомнения, искренними, однако Великий магистр и сам приор уже сплели свою хитроумную паутину. Франческо де Леоне обуревали противоречивые страсти. Неправдоподобная надежда наслаивалась на жгучую ненависть, которую он питал к Капелле. Франция, Арвиль-ан-Перш, одно из самых крупных командорств тамплиеров. Он давно уже потерял надежду оказаться там. Именно там другая, несомненно, более важная дверь, должна была приоткрыться перед ним. У Леоне в горле пересохло, и он ограничился лишь одним замечанием: – Говорят, что Гийом де Ногаре очень опасен. – Да. Тем более потому, что он наделен самым блестящим умом из всех, которые я знаю. Не забывайте, что он достойный преемник Пьера Флота. Как и Флот, он легист, как и Флот, он настаивает на превосходстве королевской власти над французским духовенством. Мы не можем допустить, чтобы Церковь раскололась и ускользнула, где бы это ни случилось, из-под власти Папы. Если данный теологический и политический спор приобретет размах, это станет катастрофой. – Поскольку тогда королевская власть будет носить сакральный характер, Филипп примется утверждать, что получил ее непосредственно от Бога и что в его стране нет никого, кто стоял бы над ним. Приор кивнул головой в знак согласия. Многие ночи напролет он пытался предвидеть эту лавину последствий, разрабатывал оборонительные стратегии, а затем ранним утром отмел их, поскольку они все без исключения оказывались бессмысленными. Единственная защита заключалась в том, чтобы помешать Филиппу Красивому ниспровергнуть высшую власть Церкви над всеми христианскими государями. Рыцарь де Леоне постепенно успокаивался. Он чувствовал, что находится далеко от этого спасительного острова и мысленно уже был там, в том единственном месте, откуда он мог возобновить свои поиски. – Какие указания, которые помогли бы мне… – начал он, но Арно де Вианкур прервал его: – Мы продвигаемся на ощупь в густом тумане, брат мой. Любые прогнозы были бы ослиной глупостью. – Тогда мой герб, мои полномочия? Казалось, приор заколебался, но потом заявил сухим тоном, впрочем, не удивившим рыцаря: – Мы оставляем это на ваше усмотрение, лишь бы они служили Христу, Папе и… нашему ордену. Даже если бы Леоне до сих пор этого не понял, последние слова приора не оставили у него ни малейших сомнений. Как и в других орденах, в ордене госпитальеров существовала строгая иерархия и личные инициативы не поощрялись. Предоставленную ему полную свободу действий было легко объяснить: надвигался самый серьезный кризис из всех, которые ордену приходилось преодолевать с момента своего признания около двух столетий назад. – Я получу инструкции? – Неужели вы боитесь, Франческо? Я не могу в это поверить. Нет, вы же знаете, что мы не доверяем письменным свидетельствам. И доказательством этому служит тот факт, что мы только недавно сочли необходимым, чтобы один из наших рыцарей, Гийом де Сент-Эстен, собрал воедино наши основные тексты. Что касается нашего устава, то существуют лишь несколько рукописных экземпляров. Как вы знаете, они не должны попадать в чужие руки и с них нельзя делать копии. Неужели вы боитесь? – повторил приор. – Нет, – прошептал Франческо де Леоне, и впервые в это утро его лицо озарила улыбка. Он знал, что настоящий страх придет потом, а сейчас он чувствовал себя разбитым от непонятного напряжения. Еще немного, и он упал бы на колени на пыльную землю, чтобы прочитать молитву или, возможно, чтобы закричать. Последние отблески дня задержались на западе. Весь этот день Франческо де Леоне изнурял себя работой. Он пропустил две трапезы, соблюдая свой тайный пост, а также помогал ухаживать за «нашими господами больными», что было одним из обязательств ордена госпитальеров, отличавшим его от прочих рыцарских орденов, и обучать недавно принятых в орден новичков. Жара и физическое изнеможение принесли ему мимолетное облегчение. Неужели Бенедикт умрет? Неужели теперь все начиналось снова? Неужели после четырех лет исканий, столь же тайных И упорных, сколь и бесплодных, политическая угроза позволит ему наконец открыть дверь, до сих пор остававшуюся тайной? Разумеется, это путешествие будет оправдано возложенной на него трудной миссией. И все же ему казалось, что совпадение было слишком большим, чтобы оказаться случайным. Знак. Он так ждал Знака. Он, наделенный чрезвычайными полномочиями приором, а значит, и Великим магистром, приедет во Францию, в страну, где ему откроется Тайный След. Возможно, он там постигнет смысл Света, который заливал его всего лишь одно, но божественное мгновение в самом центре церкви Святой Констанции в Риме. Лихорадочная тревога заставила его вздрогнуть. А если, напротив, речь шла о другой западне, о другом убийственном разочаровании? Хватит ли у него сил продолжать? Но это тем более был не его выбор. Hoc quicumque stolam sanguine proluit, absergit maculas; et roseum decus, quo fiat similis protinus Angelis [20].Шартр, май 1304 года
Неспешно опускалась ночь. Улицы постепенно пустели. Оживление на них стихало. Приближался час ужина. Человек перешагнул через груду мусора, валявшегося в центральной канаве, и свернул вправо, чтобы попасть на Лебяжью улицу. Едкий неприятный запах, пропитавший воздух, гораздо красноречивее говорил о местонахождении таверны, чем ее вывеска. Это было одно из тех заведений, где по вечерам собирались работники и ремесленники различных цехов, в данном случае цеха дубильщиков и кожевников. И хотя некоторые желчные проповедники называли таверны «монастырями дьявола», вводившими в грех, действительность была более благостной. В тавернах по-семейному пили, решали большинство дел, улаживали споры, отдыхали среди приятной суматохи. Перед дверью человек остановился. Внутри раздавались громкие восклицания и смех. Человек нарочно припозднился, чтобы, сидя в одиночестве за столом, не вызывать любопытства посетителей. Тот, с кем он должен был встретиться, уже ждал его. Человек натянул капюшон на самый лоб, запахнул полы тяжелого плаща, слишком жаркого для такого теплого вечера, и толкнул дверь. Две ступеньки. Достаточно было спуститься по двум ступенькам. Океан, вселенная. Пропасть, отделявшая невинность от возможного проклятия. Но порой невинность тяготит, а главное, не приносит должного вознаграждения. Невинность – это тайное удовлетворение, деньги и власть. Человек сделал шаг вперед, поставил ногу на первую, потом на вторую ступеньку. Его появление не вызвало реакции у завсегдатаев таверны. Лишь женщина, сидевшая за столом, приветливо ему улыбнулась. Человек пересек зал, спокойно шагая по земляному полу, устланному соломой, и приблизился к тонувшему в полутьме столу, стоявшему в глубине. Тот, кто ждал его, прикрутил фитиль масляного светильника. Человек сел. Вокруг не стихали разговоры. В их благотворном шуме должны были утонуть подробности сделки, которую предстояло заключить. Ожидавший его мужчина был тучным, жизнерадостным. Он налил ему вина, а затем тихо сказал: – Я заказал лучшее. После смерти мужа у хозяйки таверны появилась скверная привычка разбавлять пикет. Как правило, она покупает бочку хорошего пикета у одной из своих племянниц, монахини из Эпернона. Говорят, аббатство владеет прекрасными давильными прессами. О чем он думал? Что этот безобидный разговор смягчит суровость их планов? Тем не менее человек не показывал своего раздражения. Он сидел прямо, молча ожидая продолжения. Наконец, мужчина – бывший цирюльник-хирург, если верить его словам, то есть резальщик[21] бород и человеческой плоти, – огорченный, что его собеседник не проявляет должного внимания, положил свою толстую руку на стол. Волосатый большой палец прижимал к ладони пузырек, завернутый в небольшую полоску бумаги. Из-под складок плаща появилась другая рука, на этот раз в грубой коричневой перчатке, и забрала пузырек, ловко положив на стол туго набитый кошелек, который цирюльник мгновенно спрятал. Немного раздосадованным тоном, в котором едва заметно сквозила угроза, он уточнил: – Мне поручили передать указания. Операция требует осторожности. Аконит проникает через кожу. Это дольше, но так же смертельно, как и укол. Человек встал. Он не произнес ни одного слова, не выпил ни одного глотка вина. В противном случае ему пришлось бы приподнять капюшон. Две ступеньки. Две ступеньки, по которым надо подняться. Позади, в этом темном зале, наполненном гулом добродушных разговоров, останется прошлое. Его больше ничто не связывает с будущим. Прошлое было навязано, оно въедалось в него со всей своей безжалостной несправедливостью. Будущее он выбрал. Теперь оставалось придать ему форму.Женское аббатство Клэре, Перш, май 1304 года
Щедро одариваемое и освобожденное от налогов, аббатство бернардинок – конгрегации, входившей в орден цистерцианцев, – имело право судить уголовные и гражданские дела, опекунские дела и дела об обидах и выносить смертные приговоры, о чем свидетельствовали виселицы,[22] установленные в местечке под названием Жибе. Аббатство могло добывать дрова и строительную древесину в лесах, принадлежавших графу Шартрскому. Помимо столь выгодного для аббатства вклада оно получало доход с земель в Мале и Тейле, а также более чем щедрую ежегодную ренту, не говоря уже о том, что в течение многих лет в аббатство стекались многочисленные пожертвования горожан, сеньоров и даже зажиточных крестьян. Освящение храма[23]происходило в присутствии некого Гийома, командора тамплиеров Арвиля. Элевсия де Бофор, ставшая аббатисой Клэре пять лет назад после смерти мужа, отложила письмо, написанное на итальянской бумаге,[24] которое ей доставили в строжайшей тайне несколько минут назад. Если бы печати, защищавшие содержание письма, не послужили для аббатисы убедительным доводом, она без колебаний сожгла или выбросила бы его, сочтя это послание кощунственной шуткой. Аббатиса посмотрел на едва державшегося на ногах от усталости гонца, который молча ждал ее ответа. По его тоскливому взгляду она поняла, что гонец знал, о чем сообщалось в письме. Но она колебалась: – Мой брат в Иисусе Христе, вам надо отдохнуть. Вы проделали длинный путь. – Время не ждет, матушка. Я совершенно не хочу отдыхать. Конечно, в случае необходимости он подождет. Аббатиса печально улыбнулась и сказала, исправляя допущенную оплошность: – Скажем так, я покорнейше прошу вас дать мне несколько минут, чтобы собраться с мыслями. – Я даю их вам… Но не забывайте, у нас каждая минута на счету. Элевсия де Бофор направилась к двери, спрятанной за занавеской. Она шла впереди мужчины вдоль длинной лестницы, вырубленной в камне, которая вела к тяжелой двери, запертой на висячий замок. За этой дверью от глаз мирян и монахинь была спрятана ее личная библиотека, одна из самых богатых, но и одна из самых опасных для христианства. Графы и епископы Шартрские, ученые, не говоря уже о королях и принцах, а также о простых рыцарях, на протяжении нескольких десятилетий пополняли ее произведениями, привезенными со всех уголков света. Некоторые из этих книг были написаны на языках, непонятных аббатисе, несмотря на ее огромную эрудицию. Она была тайной хранительницей этой науки, этих книг, о которых часто забывали наследники или потомки дарителей. Порой, дотрагиваясь до обложек, она вздрагивала от внезапного испуга. Ведь аббатиса знала – она читала об этом на латыни, по-французски и даже по-английски, которым более или менее хорошо владела, – что в некоторых из этих книг скрывались тайны, не предназначенные для посторонних. В трех-четырех книгах (а, возможно, и во многих других, поскольку она не понимала ни греческого – языка, который мало употребляли, вернее, немного презирали в то время, – ни арабского, ни египетского, не говоря уже об арамейском языке) приводились рецепты таинственного эликсира вселенной. Эти тайны следовало скрывать от людей, и никакая власть, кроме власти святого отца, не могла поколебать ее уверенности. Тогда почему бы их не уничтожить, просто-напросто не обратить в пепел? Многие ночи напролет она задавала себе этот вопрос, вставала, намереваясь броситься к огромному камину библиотеки и разжечь там огонь, но потом вновь ложилась, не в силах довести до конца свой план. Почему? Потому что книги были знанием, а знание священно, даже если оно дурманит голову. Аббатиса устроила гонца как можно удобнее и отперла другую дверь, ведущую в коридор. Она осторожно выглянула в проем, желая убедиться, что никого не встретит на своем пути, затем вышла и быстро запрела за собой дверь. Она быстро двигалась по направлению к кухне, чтобы взять там кувшин с водой, буханку хлеба, немного сыра и несколько ломтиков копченого сала, ведь гонец должен был немного подкрепиться и восстановить свои силы после долгого пути. Она кралась словно воровка, прижимаясь к стенам, прислушиваясь к каждому звуку. Она боялась, что ее застигнут врасплох. Позади раздался радостный голос. Аббатиса обернулась, невероятным усилием воли заставив себя улыбнуться в ответ на слова Иоланды де Флери, сестры-лабазницы. Молодую женщину сопровождала Адель де Винье, хранительница зерна. Иоланда де Флери была маленькой, кругленькой, все время пребывала в хорошем настроении, которое, казалось, ничто не могло испортить. Она спросила: – Матушка, куда вы так спешите? Можем ли мы избавить вас от хлопот? – Нет, дорогие дочери. Меня охватила неожиданная, но сильная жажда. Это из-за хозяйственных книг, несомненно. К тому же, дойдя до кухни, я разомну ноги. Элевсия проводила взглядом женщин, исчезнувших за поворотом коридора. Конечно, она была уверена в своих сестрах, даже в послушницах, и в большинстве прислужниц-мирянок, посвятивших свою жизнь служению Господу. Несомненно, она могла бы разделить бремя тайны с некоторыми из них. Например, с Жанной д'Амблен, верной среди верных, образованной, не питающей иллюзий относительно мира, но все же сохранявшей оптимизм. Все эти достоинства, а также твердость характера побудили Элевсию доверить ей опасную миссию казначеи.[25] Аделаида Кондо тоже была союзницей. Ее окрестили под этой фамилией после того, как девочку нашел бондарь на опушке леса Кондо. Ей было всего несколько недель, две или три, никак не больше. Мужчина, которого такая находка вовсе не обрадовала, принес младенца в Клэре. Он мог бы пройти мимо, но жалобный писк голодного младенца растрогал бондаря. Аделаида, хотя совсем юная и очень впечатлительная, не раз доказывала свое достойное похвалы упорство, подкрепленное непоколебимой верой. Бланш де Блино, благочинная, которая помогала аббатисе и исполняла обязанности приора, уже давно была ее наперсницей. Бланш была очень пожилой женщиной, что служило весомым козырем: она забывала многое из того, что ей рассказывали. Даже Аннелета Бопре, сестра-больничная, несмотря на свою сварливость, входила в число тех, на кого Элевсия могла рассчитывать. И напротив, аббатиса немного опасалась Берты де Маршьен, экономки,[26] которая занимала эту должность, внушавшую всем страх, еще до прихода Элевсии в аббатство. Даже внешнее благочестие не могло скрыть язвительный характер Берты. У нее, некрасивой бесприданницы, не было иного выхода, кроме как уйти в монастырь. Конечно, будь ее воля, она отдала бы предпочтение миру.[27] Нет, решительно нет… Тайна всегда защищена надежнее, если о ней никому не известно. А потом, по какому праву она будет докучать этим женщинам, по-дружески относящимся к ней, опасными откровениями, взваливать на них столь тяжелое бремя? Это было бы верхом эгоизма. Ни одна из сестер не должна видеть этого человека. Он покинет монастырь так же, как пришел, как тайна, вызывающая беспокойство. Элевсия срезала свой путь на кухню, пройдя через гостеприимный дом,[28] расположенный между банями и хранилищем вина. За исключением Тибоды де Гартамп, сестры-гостиничной,[29] и, возможно, Жанны д'Амблен, не давших монашеского обета, аббатиса вряд ли могла здесь кого-либо встретить в этот час. Она не заметила маленькой тени, притаившейся за одной из колонн, обрамлявших вход в учебный зал. Клеман колебался. Ему было стыдно за то, что он инстинктивно спрятался. Поведение матери аббатисы вызывало у него изумление. Зачем так осторожничать, скрытничать в собственном монастыре? Вернувшись в свой кабинет, Элевсия де Бофор села за массивный дубовый стол. Кончиком указательного пальца она отодвинула от себя письмо. Листок хранил следы двух сгибов и казался безобидным, затерявшись среди хозяйственных тетрадей, в которые мать аббатиса скрупулезно записывала все события, происходившие в их жизни: пожертвования, урожай, количество бочек и качество вина, хранившегося в подвале, кубометры срубленного, полученного, преподнесенного в дар леса, рождения или убыль в голубятне, объем навоза, предназначенного для удобрения земли, имена посещенных больных или умерших, собранные налоги, меню сестер и выдача им нового белья. Еще полчаса назад эта работа раздражала ее. Она отлынивала от нее, спрашивая себя, какую пользу могут когда-нибудь принести эти бесконечные перечисления, которые она так старательно записывала. Полчаса назад она еще не знала, что вскоре будет тосковать по этой неблагодарной работе. В течение этого крошечного получаса ее мир рухнул, а она даже не заметила предвестников катастрофы, нарушившей покой ее кабинета. На аббатису навалилась жуткая печаль. Она, бессильная, присутствовала при разграблении этой тихой гавани, укрывавшей ее вот уже пять лет. Все эти образы, которые ей удалось обуздать, вернее изгнать… Все эти чудовищные ночные кошмары, неужели они вновь станут ее преследовать? Непонятные сцены, такие жестокие, такие кроваво-красные, такие ужасающие, вновь возникли в ее воображении, а она не могла их прогнать. Когда-то она думала, что обезумела, что демон насылал ей адские видения, чтобы мучить ее. Ничто не спасало ее от этих леденящих душу галлюцинаций. Она ночи напролет молила Пресвятую Деву избавить ее от этих кошмаров. Когда она ушла в монастырь, Пресвятая Дева исполнила ее просьбу. Ей почти удалось напрочь забыть о них. Неужели они снова повторятся? Лучше умереть, чем вновь пережить это. На пыточном ложе на животе лежала женщина. На пол медленно стекала кровь из ее иссеченной спины. Женщина стонала. Ее длинные светлые волосы слиплись от пота и крови. Чья-то рука скользила по изможденной плоти и сыпала в раны грязно-серый порошок. Женщина забилась в конвульсиях, потом стихла, потеряв сознание. Вдруг Элевсия увидела ее мертвенно-бледный профиль. Она. Это была она сама. Именно это видение прежде преследовало ее ночь за ночью в течение многих месяцев. И тогда Элевсия решила постричься в монахини. Это было всего лишь ужасным воспоминанием. Необходимо себя в этом убедить, неоднократно повторяя. Сердце было готово вырваться у нее из груди. Она взяла послание кончиками пальцев и заставила себя успокоиться. В десятый раз она прочитала:Hoc quicumque stolam sanguine proluit, absergit maculas; et roseum decus, quo fiat similis protinus Angelis.Сегодня ее настигло то, чего она опасалась на протяжении многих лет. Что ответить на этот ультиматум? Могла ли она притвориться, будто ничего не знает, ничего не понимает? Что за глупость! Что значила ее кровь по сравнению с другой, божественной кровью, которая смывает все прегрешения? Так мало, ничего. Она принялась выводить высокие буквы ответа, который выучила наизусть. Она часы напролет повторяла его как заклинание, думая, надеясь, что никогда ей не придется писать:
Amen. Miserere nostri. Dies ilia, solvet saeclum infavilla [30].Ледяной пот пропитал кайму ее накидки. Элевсия задрожала, перо выпало у нее из рук. Она вновь взяла его и продолжила:
Statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum et stellae cadent de caelo et virtutes caelorum commovebuntur [31].От усталости закрывались глаза. Грязное рубище вызывало у него тошноту. Впрочем, гонец привык к этим бесконечным путешествиям, к выполнению этих изматывающих миссий в разных обличьях. Порой он много лье спал, склонившись к шее коня, вручив свою судьбу, свой путь ногам несшего его животного. Однако на этот раз он был вынужден путешествовать инкогнито, а в этих бедных краях лошадь сразу же привлекла бы к себе внимание. Шквал радости захлестнул его. Он служил связующим звеном между сильными мира сего, между теми, кто определял будущее грядущих поколений. Он был посредником, необходимым инструментом. Без него воля осталась бы простым желанием, несбыточной надеждой. А он материализовывал волю, придавал ей форму, делал ее реальной. Он был скромным творцом будущего. Он не прошел и пятидесяти туазов* за оградой Клэре, как звук легких, быстрых шагов заставил его обернуться. Женщина в белом платье догоняла его. Ивовая корзина, висевшая у нее на руке, слегка раскачивалась. – Боже мой! – задыхаясь, сказала она. – Я не должна находиться здесь, но вы брат. Наша матушка… Ну, я действую по собственной инициативе. Вы так измучились. Почему бы вам не провести ночь в нашем гостеприимном доме? Мы часто принимаем путников. Я трещу как сорока… Это потому что я очень смущаюсь. Держите… Она протянула ему собранную провизию и, покраснев, объяснила: – Я сказала себе, что если вас приняла наша чудесная матушка… значит, она уверена, что вы друг. Я хорошо ее знаю… У нее столько работы, на ней лежит такая ответственность. Я уверена, что она накормила вас, но ничего не дала с собой в дорогу. Он улыбнулся. Женщина верно угадала. Она была довольно хрупкой, но в каждом ее жесте чувствовалась неординарная сила. Любезная сестра, открывшая лицо и ради него нарушавшая запрет покидать монастырь, служила лучшим доказательством, что его усталость была не напрасной, что Христос жил в них. – Спасибо, сестра моя. – Аделаида… Я сестра Аделаида, келарша. Тише… Не стоит этого говорить… Понимаете, я не должна была выходить, я не получала приказаний… Это обыкновенная забывчивость. Я ее исправляю, только и всего. Ничего другого, в этом нет моей заслуги… И все же я рада, что могу предложить вам эту скромную провизию, ржаной хлеб, бескорковый, но зато очень сытный, бутылку нашего сидра – вот увидите, он превосходный, – козий сыр, несколько фруктов и большой кусок пряного пирога, я сама его испекла… Говорят, он вкусный… Она засмеялась, а потом смущенно призналась: – Я очень люблю кормить людей. Это, конечно, слабость, но я не знаю ее причины. А потом, она доставляет мне удовольствие… – Внезапно раскаявшись, она укорила себя: – Да, я не должна была этого говорить… – Но вы сказали. Это прекрасно – кормить людей, особенно бедных. Благодарю вас за ваши дары, сестра Аделаида, они просто бесценны… Внезапно обрадовавшись этому интимному разговору, отвлекшему его от тяжелых мыслей перед изнурительным путешествием, он добавил: – Даю вам слово, что все это останется между нами, как милая тайна, которая будет связывать нас на расстоянии. Она, несмотря на свой страх, от удовольствия прикусила нижнюю губу и быстро сказала: – Я должна возвращаться. Ваш путь долог, брат мой, я это чувствую. Пусть он будет легким. Мои молитвы будут следовать за вами… Нет, они будут сопровождать вас. Отведите мне небольшое местечко в ваших молитвах. Он наклонился и, запечатлев братский поцелуй на ее лбу, прошептал: – Аминь.
Женское аббатство Клэре, Перш, с наступлением темноты, май 1304 года
Клеман не боялся. Все дышало покоем. После ужина и повечерия* сестры ушли в дортуары. Лягушки дружно квакали, сойки, перелетавшие от гнезда к гнезду, оглашали воздух своими хриплыми криками. Чуть дальше справа озабоченные садовые сони рыли когтями галереи между камнями, поднимая при этом большой шум. Это были такие недоверчивые животные, что лишь в исключительных случаях можно было увидеть их черные мордочки. Они замолкали, едва почуяв присутствие незнакомца. Клеман упивался этим следованием по маршруту, игрой, в которую природа играет с теми, кто умеет ее слышать и видеть. Мальчик знал все ее секреты, все ее ловушки. Он осторожно вытащил затекшую ногу из своего укрытия, из большой расселины, сделанной в камне, где лежали листья, корешки и ягоды, собранные сестрой-больничной. Отвратительный запах гниющих растений отравлял воздух. Через час наступит кромешная тьма. У него было время восстановить силы и поразмышлять. Что с ними станет? С ними двумя, поскольку судьба Матильды мало его беспокоила. Матильда была легкомысленной и слишком глупой. Она интересовалась лишь своими маленькими грудями, которые, по ее мнению, росли недостаточно быстро, лентами и гребнями для волос. Что станет с Аньес и с ним? Клеман расчувствовался, у него на глазах выступили слезы: ведь их двое, он не одинок. Дама де Суарси никогда не бросит Клемана, даже если из-за него ее жизнь окажется в опасности. От этой твердой уверенности у него еще сильнее забилось сердце. Стоя на коленях, спрятавшись за дверью, ведущей в большой зал, он присутствовал при нескончаемом ужине, который два дня назад Аньес была вынуждена устроить в честь своего сводного брата. Как обычно, она вела тонкую игру. Тем не менее на следующий день, когда они прогуливались после отъезда этого негодяя, Клеман почувствовал ее неуверенность и понял, почему она боится. До какого предела способен дойти Эд? Когда он остановится? Ответ на второй вопрос был ясен. Аньес знала его так же хорошо, как и Клеман. Эд остановится лишь тогда, когда его обуяет страх, когда он лицом к лицу столкнется с еще более грозным хищником. Они были такими одинокими, такими обездоленными. Ни один хищник-избавитель не придет к ним на помощь. Вот уже несколько месяцев мальчик боролся с отчаянием. Надо что-то придумать, какой-нибудь трюк, неважно что. Он проклинал свою юность, свое бессилие. Он проклинал то, кем он был на самом деле, то, о чем должен был молчать ради их общего спасения. Как только Аньес смогла, она объяснила ему это, и он понял, что ее беспокойство было обоснованным. Знание… В какой-то мере его давали сестры, учительствовавшие в школе при аббатстве Клэре. Кроме того, два года назад Клеман получил от своей дамы разрешение присутствовать на уроках, которые она устраивала для молодых и не слишком молодых людей, выходцев из местных семей зажиточных горожан и мелкого дворянства. Скудная пища для ума, поскольку благодаря Аньес Клеман уже давно умел читать и писать по-французски и на латыни. Он надеялся познать науки, жизнь далекого мира, но напрасно. Большая часть времени отводилась изучению Евангелий, а также чтению и заучиванию наизусть трудов уважаемых римлян: Цицерона, Светония и Сенеки. К этому следует добавить страх, который всем внушала Эмма де Патю, учившая детей.[32] Ее вечно угрюмый вид и весьма проворная рука производили сильное впечатление на маленький мирок, над которым она властвовала. Но, по сути, все это не имело значения. Славные бернардинки старались изо всех сил, ухаживая за одними, обучая других, улаживая конфликты, усмиряя ненависть, утешая умирающих. В отличие от представителей других орденов, их нельзя было обвинить в равнодушии к миру, окружавшему аббатство, или в том, что они обогащались на несчастьях простых людей. Неважно, ведь Клеман обнаружил столько всего интересного. Одно зернышко познания вело к другому. Каждый новый ключ к пониманию, который он ковал, открывал дверь, превосходившую своими размерами предыдущую. Он также научился не задавать вопросов, на которые сестры не могли ответить, осознав, что его любопытство, которое они сначала рассматривали как вознаграждение за свои труды, в конце концов вызовет у них беспокойство. На самом деле, все это не имело значения, поскольку теперь он не сомневался, что аббатство скрывало в своих стенах пленительную тайну. Почему он прижался к колонне? Он объяснял себе это тем, что ждал прихода сестры, преподававшей латынь. Инстинкт? Или странное поведение силуэта, одетого во все белое? Мать аббатиса украдкой посмотрела вокруг и быстро заперла низкую дверь, из которой только что вышла. Затем она стремительно, словно воровка, пошла по коридору. Результаты быстрого и осторожного расследования не удовлетворили Клемана. Казалось, никто не знал, куда вела эта дверь. Что скрывала комната, расположенная за ней? Шла ли речь о темнице для знатного пленника или о камере пыток? Живое воображение мальчика разыгралось не на шутку, и он решил раскрыть тайну собственными методами. Наспех набросанный план центральной части аббатства помог ему понять, что эта тайная комната, если она действительно существовала, была средних размеров, если только не выходила окнами во внутренний двор, шедший вдоль скриптория и дортуара. Если верить его топографической схеме, эта комната находилась между покоями и кабинетом матери аббатисы. Мальчика снедали нетерпение и любопытство. В его голове вертелся вопрос: как остаться в стенах аббатства, чтобы тайно продолжить поиски и проверить гипотезы? Наконец он нашел решение: гербарий, примыкавший к ограде аптечного огорода, предоставит ему надежное укрытие, в котором он сможет дождаться темноты. В ту ночь луна, невольная сообщница Клемана, была полной. Он вышел из гербария, прижался к стене дортуаров и стал пробираться вперед, словно тень. Он прокрался под окнами скриптория, более высокими и широкими, чем остальные окна, поскольку сестрам-переписчицам требовалось как можно больше света. Затем он прошел мимо более скромных окон обогревальни, единственного помещения аббатства, отапливаемого зимой, где размещали больных. Туда же убирали на ночь чернила, чтобы не замерзли. Еще несколько туазов. Задыхаясь от тревоги, ребенок спрашивал себя, как он сможет объяснить свое присутствие, да еще глухой ночью, в аббатстве, если он чем-нибудь выдаст себя, и даже не решался представить, какое наказание его ждет. Он проскользнул мимо двух узких окон кабинета матери аббатисы, затем мимо двух щелей, вырубленных в камне, которые позволяли проветривать гардероб ее покоев, крошечный круглый зал, в котором было оборудовано отхожее место. Таинственное помещение должно было находиться между этими двумя комнатами. Клеман повернул обратно и стал широкими шагами мерить расстояние, отделявшее покои Элевсии де Бофор от ее кабинета. Келья монахини, даже если та была аббатисой, не могла быть такой широкой и просторной. Значит, вопреки его первоначальным выводам, в тайной комнате не было окон. Эта догадка заставила Клемана вздрогнуть всем телом от восторга, но также и от страха. А если это была комната, предназначенная для инквизиторского дознания? Вдруг он обнаружит следы пыток? Но нет, ни одна женщина не могла быть инквизитором. Клеман опустился на колени и проделал тот же путь ползком, пристально рассматривая землю. Там, где росли куртины цветов, украшавшие подножие стены, он заметил отдушину длиной в два метра и высотой сантиметров в тридцать. Толстые железные прутья надежно защищали ее от возможных вторжений посторонних. Взрослых посторонних, потому что прутья были расположены достаточно редко, чтобы между ними мог проскользнуть ребенок. Он верно угадал. Но облегчение моментально сменилось паникой – что теперь делать? Любопытство пересилило все разумные доводы, которые он приводил, уговаривая себя повернуть назад и покинуть пределы аббатства как можно скорее и, главное, незаметно. На каком расстоянии от пола комнаты находилась отдушина? На аллее, окружавшей куртины цветов, он подобрал маленький камешек, послуживший ему зондом. Почти сразу же услышав звук падения камешка, Клеман решил, что его от цели отделяют четыре или пять футов*. Он ошибался. Клеман лег на бок и начал протискиваться между металлическими прутьями, сдиравшими с него кожу. Он втянул живот, затаил дыхание, чтобы стать еще меньше. Наконец грудная клетка прошла через прутья, и Клеман полетел вниз. Ошеломляющее мгновение падения в пустоту, поразившую его. Он упал, как мешок с отрубями, и чуть не закричал от резкой боли. Однако паника быстро притупила боль. А вдруг он сломал кость? Как он выберется отсюда? Он пощупал уже начавшую опухать щиколотку, покрутил ступней вправо и влево, борясь со слезами, застилавшими ему глаза. Вывих, только болезненный вывих. Ему будет больно, но все же он сможет ходить. Клемана окружала густая темнота. Влажная темнота, в которой витал легкий запах плесени вперемешку со сладковатой затхлостью, щекотавшей нервы. Прохладная темнота подвала. Он задрожал от ярости, рассердившись на самого себя. Каким же он был глупцом, он, так гордившийся своим умением моментально делать выводы!.. Как он теперь выйдет отсюда? Он ничего не предусмотрел. Надо же так опростоволоситься! Клеман терпеливо подождал несколько минут, пока его глаза не привыкли к этой внутренней ночи, еще более темной, чем та, что окутывала его в саду. Сначала его взору предстал длинный стол, скорее, верстак, заставленный какими-то предметами разных размеров. Вытянув перед собой руку, Клеман, немного прихрамывая, подошел ближе. Книги. Книги, стопками лежавшие на столе. Затем во мраке он различил контуры короткой лестницы. Нет, это была деревянная стремянка, прислоненная к полкам, на которых в ряд стояли другие книги. Библиотека. Он находился в библиотеке. В углу до самого потолка возвышалась какая-то нечеткая массивная форма. Клеман приблизился, морщась от боли, причиняемой вывихнутой щиколоткой. Винтовая лестница, ведущая в другой зал. Под ее ступеньками на гвоздях висели тонкие кожи, несомненно, предназначавшиеся для реставрации обложек. Он стал осторожно подниматься по лестнице. По мере продвижения ему казалось, что мрак постепенно рассеивается. Он вполз на четвереньках в другой зал и медленно выпрямился. От удивления он буквально прирос к полу. Просторная библиотека с высоким потолком, все стены которой были уставлены книгами. Лунный свет проникал через своеобразные узкие бойницы, искусно проделанные в стенах метрах в четырех от пола. Теперь понятно, почему он не заметил их раньше. Эти бойницы позволяли не только проникать свету в помещение, но также и тайно проветривать его. Как во сне, Клеман подошел к одному из шкафов, чтобы с глубочайшим благоговением достать тяжелые тома. По состоянию книг он понял, что о них хорошо заботились. Клеману удалось разобрать несколько названий. От избытка эмоций у него пересохло во рту. Он чувствовал, что прямо перед ним открывается мир. Все, что он хотел узнать и понять, находилось здесь, на расстоянии вытянутой руки. Потрясенный, он прошептал: – Боже мой, неужели здесь собраны все произведения господина Галена?* De sanitate tuenda… И De anatomicis administrationibus… A также De usupartium corporis… Голос ребенка затих. Он обнаружил латинский перевод, выполненный неким Фарагом ибн Салемом, трактата Абу Бакра Мухаммеда ибн Закария ар-Рази*, имени которого он никогда не слышал. Этот Al-Hawi – Continens по латыни – являлся, похоже, трактатом по фармакологии, но лунный свет был слишком слабым, чтобы Клеман мог прочитать его. Ему также оказалисьнедоступными многие произведения, тайны которых охраняли названия на неизвестных языках. Шла ли речь об арабском, греческом или древнееврейском языках? Клеман не мог сказать. Значит, помещение, через которое ему удалось проникнуть сюда, было служебным, возможно, реставрационной мастерской, что объясняло царивший там запах клея и висевшие кожи. Несколько часов он рассматривал книги, до того увлекшись, что время перестало для него существовать. Ночь, проникавшая сквозь высокие бойницы, начала приобретать молочно-голубой оттенок. И тут он словно очнулся. Наступал день. Воспользовавшись стремянкой, Клеман сумел выбраться через отдушину, правда не без труда и не без боли. Щиколотка причиняла ему неимоверные страдания. Ему казалось, что внутри нее бился бешеный пульс.Ворота Бюси, Париж, июнь 1304 года
Франческо де Леоне не обращал внимания на знойную духоту, равно как на зловоние, исходившее от нечистот, сваленных в концах узких улочек. А вот суетливая деятельность этого человеческого муравейника ошеломила его. Столица Франции насчитывала более 60 тысяч домов, то есть ее населяли примерно 200 тысяч душ. Эта шумная толпа распределилась по обоим берегам Сены, которые соединяли лишь два деревянных моста: Большой мост и Малый мост, неразумно возведенный, поскольку 140 жилищ и более ста лавок разместились на первом мосту, загроможденном еще и мельницами. Нередко вода в реке поднималась так высоко, что смывала мосты, словно соломинки. Рыцарь медленно поднимался по улице Бюси, провожая беззлобным взглядом молодую девицу с опухшими глазами, рыщущую в поисках еды. Он подумал, что она, вероятно, вышла из соседней парильни. Все знали, что смешанные публичные бани служили местом галантных встреч, которые назначались тайно и за плату. Сексуальные утехи продавались в Париже на каждом углу, причем торговля шла бойко. Продажная любовь считалась наименьшим злом, если только она была регламентирована. Она позволяла беднякам, которые не могли создать семью из-за отсутствия средств, удовлетворить свои плотские желания. Она также позволяла изголодавшимся девицам, выброшенным на мостовую из-за нежелательной беременности или нищими родителями, выжить, избавляя замужних женщин от похотливых намерений сильных мира сего. Это были избитые доводы, дававшие объяснения очень многим, соглашавшимся с ними и тем самым не признававшим свою вину. Однако они не могли удовлетворить Франческо де Леоне. Его охватило странное тягостное чувство. Древнейшая из профессий, профессия женщин, которым отказывали в праве заниматься множеством других профессий, в столице процветала. По мере того как складывались обстоятельства, женщинам вскоре оставили право выбирать меньше судеб, чем пальцев на одной руке: богатство по рождению, замужество, монастырь или проституция. В последнем случае они умирали, снедаемые чахоткой или болезнями плоти. Был еще один выбор: они могли истечь кровью от ударов кинжала заезжего клиента. Да и кто заботился об этих тенях? Не власть, не Церковь и уж тем более не их семья. Уличная девка не сверлила Франческо горящим взглядом, смущенная его поведением. Но ею двигали голод и страх. Она боялась, что ей придется провести без гроша в кармане несколько дней. Он остановился и пристально посмотрел на девицу. Леоне преследовал эту женщину, ту же самую, по галерее церкви, все той же. Хотел ли он на нее напасть, стремился ли уберечь от невидимых врагов? Он молил Бога, чтобы верным оказалось второе предположение. Тем не менее ему так и не удавалось себя в этом убедить. Беспросветная беспомощность женщин, их ослепляющая слабость… Его мать и сестру, совсем ребенка, оставили разлагаться под жаркими лучами солнца, перерезав им горло, словно ярочкам. И мухи слетались на их зияющие раны. Он на несколько минут закрыл глаза. Когда он открыл их, ему улыбалась девица. Жалкой улыбкой отвергнутого человека, ищущего денег, чтобы заплатить за еду и ночлег. В этих растянутых губах, лихорадочно дрожавших, не было ничего соблазнительного или многообещающего. И все же она пыталась его убедить, поскольку не могла прельстить. Леоне вытащил из кошелька пять серебряных турских денье*, манну небесную для нищенки, и подошел к ней: – Сестра моя, поешь немного и отдохни. Она жадно смотрела на монеты, которые он положил ей на ладонь, отрицательно покачав головой. Когда она подняла к нему лицо, он увидел, что ее пепельно-серые щеки прочертили влажные полоски. – Я не… Иди ко мне, я нежная и послушная. Я не больна, уверяю тебя… Я не… – Замолчи. Иди отдохни. – Но… Что я могу… – Молись за меня. Он резко отвернулся и стремительно удалился, оставив ее всю в слезах, испытывавшую такое облегчение и такую опустошенную. За нее. За его мать. За его сестру. За всех тех, кого не смог защитить ни один мужчина. За Христа и его огромную любовь к женщинам. Любовь, которую жалкие марионетки так долго отрицали. Нечестивцы, безбожники, прикинувшиеся докторами богословия. Джотто Капелла… Когда-то давно на земле, иссушенной солнцем, рыцарь отдал бы свою жизнь за то, чтобы убить его. Зная лишь немногое о детстве Франческо де Леоне, Арно де Вианкур, приор, колебался, прежде чем произнес имя их «случайного и невольного посредника». Наконец, он его прошептал, пристально наблюдая за реакцией своего духовного брата. Подвергая его такому испытанию, он оправдывал себя напоминанием о нависших над ними всеми угрозах. Здание, строительство которого завершилось несколькими месяцами ранее, собственность Джотто Капеллы, уроженца Кремоны, небольшого ломбардского городка, расположенного к югу-востоку от Милана, возвышалось, устремляя ввысь свои прекрасные белые стены, над улицей Бюси. Из окон четвертого этажа открывался вид на Сену и Лувр. Впрочем, это и послужило причиной тому, что здание возвели именно здесь. Находиться рядом с властью, следовательно, рядом с крупными заемщиками, и в то же время не слишком далеко от границы Парижа, поскольку отношение могущественных особ к поставщикам денье было переменчивым. Ломбардцы – уроженцы или не уроженцы Ломбардии, поскольку так называли всех итальянских ростовщиков, а также банкиров-евреев, – уже имели печальный повод убедиться в этом. Но противоречивое отношение этого столетия к ростовщичеству могло бы позабавить Джотто, человека высокой культуры, для которого деньги были средством, а главное, целью и страстью. Разве можно было полагать, что торговцы ссужают деньгами незнакомцев без всякой выгоды для себя? Что за чушь! Всегда можно прикрыться законом, запрещавшим ростовщичество. Королям и дворянам было достаточно взять в долг, а затем выгнать банкиров и конфисковать их имущество, прикрывшись религией как алиби. Им все уши прожужжали весьма уместными строками из Евангелия, которые советовали давать в долг бескорыстно. Таким образом должники могли избавиться от своих кредиторов, процентов и основной суммы долга. Какое ребячество с их стороны! Тот, кто умеет торговать, никогда не забудет о долговых обязательствах. По ним всегда можно получить долг либо в звонкой монете, либо обменяв его на тайные преимущества. Джотто Капелла поставил бокал с подогретым с пряностями вином, одним из редких лакомств, которые он позволял себе, несмотря на подагру. У него все чаще в ногах появлялась такая резкая боль, что он не мог ходить. Вот уже несколько минут в его прихожей рыцарь-госпитальер дожидался приема. Чего он хотел? Едва банкир согласился принять рыцаря, как его обуяла тревога. Леоне были одной из знатных итальянских семей, из поколения в поколения служивших папству. Очень богатой семьей, несмотря на обеты бедности, которые давали ее отдельные отпрыски мужского пола, в том числе Франческо. Ордена тамплиеров и госпитальеров были сложными и могущественными сообществами, с которыми было лучше избегать общения. Их никто не мог заставить покориться, ни князья, ни короли, ни епископы. Что уже говорить о банкире! Тем более что Леоне пришел не за тем, чтобы просить денег. В этом Джотто Капелла был настолько уверен, что мог бы отдать руку на отсечение. Жаль, ведь с деньгами было бы так просто: он берет, возвращает и смиряется. Но что тогда? Милость, сделка, шантаж? Если бы Джотто отважился, он выпроводил бы рыцаря Христа. Но это было роскошью, нет, еще хуже – кокетством, которое он не мог себе позволить. Конфликт с военным орденом не входил в планы того, кто в течение многих лет лелеял честолюбивую мечту – стать генерал-капитаном французских ломбардцев, ловко выпроводив Джорджио Цуккари, нынешнего обладателя этой должности, за дверь, а еще лучше, если это в его силах, свести того в могилу. Уже давно Цуккари действовал ему на нервы. Учитель нравственности, которого невозможно было втянуть в свою игру, поскольку он отличался отвратительной честностью по отношению к себе подобным и даже – в довершении всего – к своим должникам. И он в буквальном смысле следовал советам Людовика Святого: брал не больше 33 процентов. А ведь с самых отчаявшихся или обезумевших можно было потребовать и 45 процентов. В конце концов, Капелла никого к себе насильно не затаскивал! Эта прекрасная логика, обдуманная сотни раз, обладала действенной магией. Она умела поднимать ему настроение. И все же эта радость была наигранной. Почему этот чертов Леоне пришел к нему? Почему он не обратился к самому Цуккари? Имя и принадлежность к ордену госпитальеров позволяли Леоне это сделать. Старый банкир принял бы рыцаря с распростертыми объятиями. Чума побери тех, кто остается загадкой. Беспокойство, снедавшее Капеллу, уступило место досаде, едва Франческо де Леоне вошел в его кабинет, заставленный произведениями искусства, резными ларями, мехами и дорогой посудой – настоящую пещеру Али-Бабы, хранившую последние приобретения. Боже, до чего же красив был этот мужчина! Сам же Капелла походил на презренное земноводное, иссушенное и пожелтевшее от бесконечных лишений, к которым его принуждал знахарь, говоривший тоном, не допускавшим возражений. Даже его жена закрывала глаза, когда он дотрагивался до ее бедер. Но это случалось все реже и реже. Он встал и широко развел руки, вынужденный изображать радушного хозяина: – Рыцарь, какая честь для моего скромного жилища! Леоне сразу же почувствовал, что Капелла злится. Он решительно сделал несколько шагов вперед, лишь слегка приподняв брови в ответ на эту формулу приветствия. Джотто подумал, что Леоне принадлежал к тем избранным особам, перед которым склоняется весь мир, хотя они сами этого не осознают. При этой мысли Капелла еще сильнее озлобился. Тем не менее он сумел сдержаться и спросил: – Не отведаете ли вы моего лучшего вина? – Охотно. Не сомневаюсь, что оно превосходное. Банкир несколько секунд рассматривал рыцаря, спрашивая себя, не скрывался ли за этой безобидной репликой упрек. В глубине души он надеялся, что рыцарь де Леоне окажется похожим на всех остальных, что имя, орден и обязательства просто скрывают его алчность. Тогда он мог бы от всей души осыпать его презрением, притвориться возмущенным. Он уже слышал, как говорит: – Как, мсье… Вы? Рыцарь-госпитальер? Какой позор! У него побывало столько представителей благородных семейств, столько прелатов, столько мнимых дворян! Он льстил им, успокаивал их, поощрял их грехи, предоставляя им средства из своих неисчерпаемых запасов. В большинстве случаев они поддавались, ведь яд жадности или зависти отравлял им душу, сердце и даже слова. Но тот, кто сейчас стоял перед ним, был преисполнен спокойной уверенности непорочных. А нет ничего хуже непорочных, особенно если они умны и забыли, что такое страх. Между мужчинами установилось молчание, похожее на заговорщическое, когда служанка отправилась за вином. Леоне изучал своего визави. Ему хватило нескольких секунд, чтобы понять, что Капелла остался тем, кем был прежде: жадным мошенником, которого только трусость порой удерживала от худшего. На ум ему пришло сравнение: притаившийся подлый хищник, немного испуганный, но готовый вцепиться в глотку своему противнику, если тот хоть на мгновение выкажет свою слабость. Не все живые существа способны искупить свои грехи, поскольку некоторые этого вовсе не желают. Франческо сделал глоток и поставил на столик серебряный кубок, обезображенный чрезмерной чеканкой и избытком драгоценных камней. Из своего сюрко[33] из грубого льна он вытащил письмо, написанное Великим магистром, и протянул его ломбардцу. Когда Капелла взломал печать и пробежал глазами несколько строчек, он почувствовал, как у него закружилась голова. Он прошептал: – Боже мой… Ломбардец испуганно посмотрел на Леоне. Тот кивнул, призывая банкира продолжить чтение. Никогда прежде Капелла не думал, что когда-нибудь в его памяти всплывет то убийственное воспоминание, воспоминание пятнадцатилетней давности. Он дорого заплатил за это, в полном смысле слова. На его руку упала теплая капля, потом вторая. Он уронил веленевый листок на пол из каррарского мрамора, который был привезен из его родного города за баснословную цену. Понимал ли он, что плачет? Леоне не был в этом уверен. Франческо де Леоне ждал. Он знал содержание этого послания, суть шантажа. «Годится любой вид оружия», – уточнил приор, прибегший к этой крайней стратегии. В конце концов, какое ему дело до горя ростовщика, какое ему дело до его воспоминаний? По его вине умерло столько людей… Джотто Капелла выдохнул: – Это чудовищно. – Почему? Потому что это правда? – Почему? Потому что много лет назад… Потому что я выдержал пытку виновных, самую жестокую, которую применяют к самому себе. Потому что я столько сделал, чтобы заслужить прощение… – Вернее, чтобы заслужить забвение. Мы никогда не забываем и никогда не прощаем. Что касается пытки виновных, я бы улыбнулся, если бы не был воином. Кто позволил мамлюкам захватить Акру после месячной осады? Султан аль-Ашраф Халиль топтался перед ее стенами со своими 70 тысячами всадников и 150 тысячами пехотинцев, прибывшими из Египта и Сирии. Оборона цитадели Сен-Жак была героической… По другую сторону стен находилось всего 15 тысяч защитников-христиан… Они сражались как львы, один против пятнадцати. Минеры султана атаковали уязвимые места крепости группами в тысячу человек. Они прокрались через сточные канавы и рвы для забоя… в нужных местах, что удивительно. Леоне замолчал, внимательно смотря на дрожавшего человека, обеими руками ухватившегося за край своего рабочего стола. Капелла попытался оправдаться едва слышным голосом: – Переговоры удались… Аль-Ашраф согласился выпустить защитников цитадели Акры с условием, что они оставят там свое имущество. – Предположим… Король Генрих не мог согласиться на столь безоговорочную и унизительную сдачу. Кроме того, впоследствии защитники цитадели смогли убедиться, как султан выполняет свои обещания, – возразил Леоне спокойным тоном, пристально глядя своими глазами цвета морской волны на банкира. – Пятнадцатого мая Новая Башня, сданная графиней де Блуа, рухнула, поскольку минеры султана провели под нее подкоп. Тогда аль-Ашраф дал слово, что позволит побежденным уйти, главным образом женщинам и детям. Но его мамлюки, едва проникнув в цитадель, принялись грабить и насиловать. Затем была резня. Доминиканцы, францисканцы, клариссы… Множество женщин и детей было захвачено в плен… Потом их продали на невольничьих рынках… Резня только началась… Почти все они погибли, мои братья госпитальеры, рыцари-тамплиеры, рыцари орденов Святого Лазаря и Святого Фомы. Осталась лишь горстка калек. – Но это было неизбежно… – простонал Капелла. – Двумя годами раньше, кажется, в августе, несколько итальянских крестоносцев Гуго де Сюлли на одном из базаров набросились на мусульманских крестьян и торговцев, так что тем пришлось искать убежища на своих складах и… – И кто им помог? – прервал Капеллу Леоне, голос которого внезапно стал пронзительным. – Госпитальеры и тамплиеры! – Это была война… Войны… – Нет… Это была западня. Это была ловко устроенная западня, к тому же имевшая торговое значение, не так ли, банкир? Что касается стычки на базаре, то это плохой предлог. Всегда возникает необходимость оправдать войну, кто бы ее ни вел и где бы она ни велась. Но не в этом вопрос. Если бы мамлюкам не были известны планы Новой Башни и сточных канав, минеры не смогли бы сделать подкоп. Или, по крайней мере, работы продвигались бы медленнее. Мы могли бы надеяться, что к нам подоспеет подкрепление, или же, в худшем случаем, мы сумели бы вывести из крепости как можно больше людей. Сколько стоит резня 15 тысяч мужчин и почти стольких же женщин и детей, Джотто Капелла? – Они… они меня били. Они… они хотели меня кастрировать… Они сделали бы это… Они смеялись, – бормотал он. Глаза ростовщика бегали из стороны в сторону, словно он ждал помощи от провидения. Леоне не сводил с него взгляда. Хитрая лиса прибегла к последнему средству: к жалости. Начало июня 1291 года. Битва шла в другом месте. Крепость Сидона находилась в осаде. Она не могла оказать длительного сопротивления. Двенадцатилетний мальчик сумел скинуть с плеча руку своего дяди Анри, сумел освободиться от этого мощного захвата, чтобы бегом броситься к руинам Акры. Его шатало из стороны в сторону, он падал, затем поднимался. Его руки были в крови. Белые широкие ступени, залитые светом. Ступени часовни. Широкие ступени, обезображенные полосами засохшей крови, месивом из человеческой плоти. Широкие ступени, гудящие от мух, которые отяжелели после такого роскошного пира. Несколько женщин пытались укрыться в часовне, спрятать там своих детей. Под одной из женщин, голова которой, почти оторванная от шеи, смотрела в небо, подросток заметил шелковистую белокурую массу. Белокурую массу, слипнувшуюся от темной крови. Волосы своей сестры. – Сколько, Капелла? Сколько за мою мать и семилетнюю сестру, которых, изнасиловав и перерезав им горло, оставили гнить на солнце, бросили собакам, растерзавшим несчастных так, что я не узнал их? Сколько за твою душу? Наконец банкир перевел свой взгляд на рыцаря. Это был взгляд смерти, взгляд воспоминаний. Изменившимся голосом он сказал, догадываясь, что никогда не оправится после такого признания: – Пятьсот ливров*. – Ты лжешь. Я всегда распознаю вашу ложь, она слишком очевидная. Речь шла о более скромной сумме, не правда ли? Банкир молчал. Рыцарь же продолжал настаивать: – Не правда ли? Что? Что ты думал? Что, удвоив или утроив количество полученного золота, ты сумеешь получить отпущение грехов? Что, умножив цену предательства и алчности, ты в какой-то мере оправдаешь их? Что все в этом мире имеет свою продажную стоимость? Как ты думаешь, сколько стоят тысяча ливров, сто тысяч ливров или десять миллионов ливров в глазах Господа? Столько же, сколько паршивый денье. – Триста… Но я получил только половину, они не сдержали своего слова. Они плюнули мне в лицо, когда я потребовал остальное. – Прощелыги, – с горькой иронией сказал рыцарь. Затем рыцарь закрыл глаза и, подняв лицо к потолку, произнес, словно разговаривая сам с собой: – Сто пятьдесят золотых ливров за столько трупов, за них двоих… Сто пятьдесят золотых ливров, которые позволили тебе стать банкиром. Выгодная сделка для… Кем ты был в то время, когда у тебя была душа? – Торговцем мясом. – А… Вот почему ты хорошо знал сточные канавы Акры и рвы для забоя. Леоне вздохнул, а потом вновь зашептал: – Я изучил вас, тебя и тебе подобных, и теперь меня окружает зловонное облако. Я всюду чувствую ваш запах. Он въелся в мою кожу, он исходит из моего сердца прямо в нос. Я чувствую вас, когда еще не вижу и не слышу вас. Я чую вас. Я задыхаюсь от затхлого запаха агонии, разложения ваших душ. Знаешь ли ты, что душа воняет, когда гниет? И нет более несносной падали. Капелла резко встал. Он был не в состоянии терпеть боль, обжигавшую его ногу. С мертвенно-бледными губами он подошел к рыцарю, упал на колени перед креслом, в котором тот сидел, и зарыдал: – Простите, умоляю вас, простите! – Это не в моей власти, мне жаль. Себя. Прошло несколько минут, наполненных рыданиями человека, стоявшего на коленях. Леоне охватила смертельная тоска. Как могло случиться, что он не простил, несмотря на свою бесконечную любовь к Нему? Что он потерял? Чем он испортил свою веру? Он взял себя в руки, вспомнив, что не был Светом, что приближался к нему с таким трудом, с такими усилиями, словно упрямый муравей, пресытившийся тьмой, болезненно уставший от нее. Однажды… Однажды он наконец прикоснется к этому Свету, который ему только приоткрылся в нефе Святой Констанции. Однажды он заключит его в свои объятия, он будет дышать им, он будет в нем купаться и смоет все свои грехи. Он приближался к нему, он это чувствовал. Он превратился в неутомимого муравья, который пересекал океан, всходил на горы, преодолевал все препятствия. Сотни раз он думал, что умирает, обжигаемый зноем пустыни, снедаемый лихорадкой, захлестываемый штормами и бурями. Но каждый раз он поднимался и вновь отправлялся в путь, продвигаясь к Свету. Он хотел однажды умереть в лоне Света и рассеяться в нем, обретя наконец покой. До Тайного Следа, Несказанной Тайны было рукой подать. Тайна ждала лишь крови, готовой пролиться ради нее. Его крови. Леоне встал, грубо оттолкнув человека, стоявшего на коленях. – Я жажду встречи с Гийомом де Ногаре. В конце концов, ты один из ростовщиков Французского королевства. Я уверен, что ты найдешь удобный предлог, объясняющий мое присутствие рядом с тобой. Не забудь: малейшая попытка строить козни, и Филипп Красивый узнает, кто виновен в бойне Акры. На это время я остановлюсь у тебя. Банкир… Обращайся ко мне только в том случае, если этого требует дело. Я буду есть один, в комнате, которую ты мне отведешь в своем доме. И пусть она будет готова через час. Пойду подышу уличной вонью. Она не такая противная, как запах ладана, который курится у тебя дома. Рыцарь остановился на пороге и, не обернувшись, бросил совершенно опустошенному человеку: – Никогда не лги мне. Я многое знаю о тебе, Капелла, многое, о чем ты даже не догадываешься. Если тебе не терпится продать меня за тугой кошелек или просто из страха, клянусь перед Богом наполнить все твои дни, все твои ночи такими муками, что твое живое воображение даже и представить не в состоянии.Женское аббатство Клэре, Перш, июнь 1304 года
Вот уже в течение нескольких недель Клеман каждую ночь приходил в аббатство, куда его почти против собственной воли влекли сокровища, спрятанные от посторонних глаз в тайной библиотеке. Сначала мальчику было немного страшно, но потом он постепенно стал чувствовать себя более уверенно. Он проникал в библиотеку с наступлением ночи и порой осмеливался проводить там весь следующий день. Питался он тем, что похищал на кухне Суарси, поскольку испытывал все более сильное недоверие к Мабиль. К тому же после последнего визита Эда де Ларне его недоверие, прежде пассивное, претерпело значительные изменения. Если до сих пор Клеман довольствовался тем, что просто наблюдал за шпионкой, надеясь тем самым защитить Аньес, теперь он подмечал малейший из ее подозрительных жестов. Он быстро осознал, каким нелепым был его первоначальный план. Ведь он рассчитывал поймать ее с поличным, чтобы у дамы де Суарси появилась законная причина выставить служанку за дверь. Слишком очевидный план. Слишком очевидный и неэффективный. Почему бы, наоборот, не обратить козни шпионки против нее самой? Позволить ей выведать мелкие, безобидные секреты, шитые белыми нитками. А если Эд использует их против своей сводной сестры, его будет легко разоблачить, несмотря на его происхождение и состояние, которые, впрочем, давали ему существенное преимущество. Теперь Клеману осталось только уговорить даму де Суарси согласиться на подобную уловку. Он знал, что его госпожа начинала осознавать неприятную правду. Одерживать благородные победы или терпеть достойные поражения можно только перед лицом достойного врага. А победить могущественного негодяя слабым помогают лишь хитрость и обман. Клеман был уверен, что Аньес это понимала, хотя и не совсем была готова согласиться. Впрочем, низость Эда сослужила в некотором роде добрую службу даме де Суарси. Она заставила замолчать последние угрызения совести. Эд был злобным животным, и поэтому ради достижения цели все средства были хороши. К числу таких средств принадлежали и ночные походы в тайную библиотеку Клэре. Клеман успокаивал себя, думая, что, если у аббатисы возникнет желание наведаться в библиотеку, он всегда сумеет спрятаться под винтовой лестницей, за импровизированным занавесом из развешенных кож. Но его страхи быстро улеглись. Похоже, мать аббатиса крайне редко посещала библиотеку, о существовании которой знала лишь она одна. Да и ключи были только у нее. Сначала ребенка удивляло столь странное поведение аббатисы, чья эрудиция была хорошо всем известна. Но постепенно он понял причину: некоторые произведения таили в себе невероятные открытия, ошеломляющие тайны. Иные из этих открытий потрясли Клемана до глубины души. Сначала он даже не хотел верить напечатанным строкам. Но неопровержимые доказательства убедили его. Например, людей окружает не пустота, а своего рода неосязаемый флюид, внутри которого существуют столь микроскопические элементы и организмы, что никто не в состоянии их заметить. А спрятанный в мозгу жаб камень, защищающий от ядов, оказался досужим вымыслом, как и единороги. Комы, конвульсии, дрожь и мигрень были не кознями вселившихся в человека бесов, а следствием нарушений в работе мозга, если верить Абу Марвану Абд аль-Малику ибн Зухру, которого на Западе называли Авензоаром, – одному из выдающихся врачей-арабов иудейского происхождения XII века. Чтобы не забеременеть в течение года, было недостаточно плюнуть в рот лягушки три раза. И так далее, и так далее… Отказывалась ли Элевсия де Бофор пуститься в плавание по столь бурному морю? Спасовала ли она перед опасностью, которую представляла собой эта наука для застывших догм и, главное, для власти, которую эти догмы давали тем, кто владел ими? Почти целый месяц все внимание Клемана было приковано к тоненькой книжечке. Учебник греческого языка для латинистов. Он даже набрался храбрости забрать учебник с собой на несколько дней, чтобы быстрее выучить этот странный язык, который теперь казался ему главным условием для понимания мира. Потом Клеман стал искать на заставленных полках библиотеки подобную книгу, которая позволила бы ему проникнуть в тайны древнееврейского и арамейского языков, поскольку в его лихорадочных поисках вскоре появилась определенная логика: путеводная нить, сущность которой он пока не понимал, вела его от одной книги к другой. Клеман глазам своим не поверил, когда осторожно открыл небольшой сборник афоризмов в добротном ярко-красном шелковом переплете. То же имя. То же имя, выведенное чернилами, было написано вверху на первой странице трех прочитанных им ранее книг. Материализация его путеводной нити. Эсташ де Риу, рыцарь-госпитальер. Умер ли он? Завещал ли он свои книги аббатству Клэре или наследнику, выступившему посредником? Как могло случиться, что вот уже несколько дней Клеман выбирал книги из библиотеки этого человека? Он импульсивно бросился к полке, на которой нашел это произведение. Одну за другой он вынимал книги и, едва открыв, сразу же ставил их на место. Наконец он нашел то, что искал. Плохо выдубленная кожа, окрашенная в темно-фиолетовый цвет, служила обложкой большой книги, от которой исходил кисловатый запах жира. Названия не было даже на форзаце, только имя ее бывшего владельца, словно шифр: Эсташ де Риу. Увидев на первых страницах диаграммы, Клеман решил, что в его руки попал учебник по астрономии или астрологии. Однако следующие страницы вызвали у него удивление. На них были изображены знаки зодиака, причем некоторые из них были окружены стрелами, отсылающими к сложным расчетам и комментариям, сделанным, вне всякого сомнения, двумя разными людьми. Первый почерк, хотя и немного нервный, был мелким и четким, второй же – размашистым. Собственно, это была не книга, а скорее личный дневник. Дневник рыцаря де Риу и другого человека, имя которого нигде не упоминалось. Внимание Клемана привлекла к себе одна фраза, написанная сбоку:Et tunc parabit Signum Filii hominis [34].Стрела, исходившая от этой фразы, заставила Клемана перевернуть страницу. То, что он увидел на обороте, повергло его в недоумение. Эклиптика, на которой располагались лишь знаки Козерога, Овна и Девы, была исчерчена каракулями, помарками, словно автор не был в себе уверен. Это ощущение усиливали комментарии, сделанные в форме вопросов. Некоторые из вопросов казались памятками для одного или нескольких редакторов.
Луна скроет Солнце в день ее рождения. Месторождения еще не известно. Привести слова варяга – бонда [35], встреченного в Константинополе, который торговал моржовой костью, янтарем и мехами. Пять женщин, в центре шестая. Первый декан Козерога и третий декан Девы изменчивы. Что касается Овна, то, каким бы ни был его декан, он будет единокровным. Первые расчеты были ошибочными. Они не приняли во внимание, что год рождения Спасителя был неверным. Это наш шанс. Эта оплошность дает нам небольшое преимущество.Буквы в этих строках были высокими, что свидетельствовало о том, что человек, писавший их, свободно владел пером. Но о ком он говорил? О Filii hominis, Сыне Человеческом, о Христе? Если это так, первая фраза была совершенно бессмысленной, равно как и третья. Небольшое преимущество – для чего? И что означало это «нам», «редакторы»? Утверждения, относящиеся к астрологии, были такими невнятными! Что означает «единокровность» знака зодиака? О каких женщинах идет речь? Клеман посмотрел на бойницы. Солнце уже садилось. Его почти два дня не было в мануарии. Аньес, вероятно, беспокоилась. Вскоре будут служить вечерню. Во время службы он может пробраться на улицу и вернуться. Клеман колебался. Ему очень хотелось взять с собой найденный дневник, чтобы в Суарси спокойно изучить его. Но внутреннее чувство подсказало ему, что следует быть осторожным, тем более что книгу трудно спрятать. Тем хуже. Он продолжит ее читать позднее, когда придет в библиотеку во время заутрени*. Клеман встал, обрезал фитиль маленькой масляной лампы. Она меньше коптила, чем факел, и к тому же была такой дешевой, что никто в мануарии не заметил бы ее исчезновения, в отличие от сальных или стеариновых свечей, весьма дорогих и внесенных в опись кухонного имущества. Клеман стал спускаться вниз.
Рим, Ватиканский дворец, июнь 1304 года
Камерленго[36] Гонорий Бенедетти взбодрился, почувствовав облегчение, которое ему всегда приносил дивный веер, сделанный из тонких перламутровых пластинок. Этот веер ему подарила ранним утром – после долгой ночи – раскрасневшаяся дама де Жюмьеж. Милое воспоминание двадцатилетней давности. Одно из последних воспоминаний, оставленное ему короткой светской жизнью до того, как Благодарение оборвало ее, чтобы позволить ему измениться и одновременно растеряться. Единственный сын веронского зажиточного горожанина, он был веселым собутыльником и страстным поклонником прекрасного пола. Мало что предрасполагало его к сану, и уж во всяком случае не откровенная любовь к материальным проявлениям жизни, по крайней мере приятным. Тем не менее его продвижение вверх по церковной иерархической лестнице было стремительным. В этом ему помогли широкая образованность, подкрепленная высокой культурой, и, как он сам признавал, изощренная хитрость. Равно как и жажда обладать властью, вернее, возможностями, которые она предоставляет тому, кто умеет ею пользоваться. По телу Гонория Бенедетти ручьем тек пот. Уже несколько дней в городе стояла труднопереносимая жара, которая, казалось, решила никогда не покидать его. Молодого доминиканца, сидевшего напротив, удивлял его заметный дискомфорт. Архиепископ Бенедетти был среднего роста, щуплым, почти тщедушным. Невольно возникал вопрос, откуда бралась эта влага, которая сделала мокрыми его седые волосы и стекала со лба. Прелат внимательно рассматривал оробевшего молодого монаха. Руки монаха, лежавшие на коленях, немного дрожали. Это было уже не первое поданное ему на рассмотрение обвинение в злоупотреблении, в жестоком обращении, в котором провинился инквизитор. До этого много неприятностей, а также разочарований доставил им Роберт Болгарин*. Следствие, проведенное по просьбе Церкви, выявило такие ужасы, что тогдашний Папа Григорий IX лишился сна. Григорий IX понял, что его прежние расчеты оказались ошибочными, поскольку ранее он видел в этом раскаявшемся совершенном[37] «разоблачителя» еретиков, ниспосланного провидением. – Брат Бартоломео, – заговорил камерленго, – то, что вы сейчас рассказали о молодом инквизиторе, этом Никола Флорене, ставит меня в затруднительное положение. – Поверьте мне, ваше преосвященство, я просто в отчаянии, – начал оправдываться Бартоломео. – Если Церковь, черпающая силу в энциклике Ехсотmunicamus нашего покойного Григория IX, выразила желание назначать инквизиторами доминиканцев – и в меньшей степени францисканцев, – она это сделала, разумеется, не только по причине их совершенного знания теологии, но также и из-за присущих им скромности и снисходительности. Для нас всегда было очевидным, что пытка является крайним способом добиться признания и таким образом спасти душу обвиняемого грешника. Прибегать к ней в начале процесса… Использованное вами слово «недопустимо» вполне подходит. Поскольку на самом деле существует… как бы лучше сказать… множество способов внушения и наказания, которые можно, которые должно применять, идет ли речь о паломничестве, с несением креста или без такового, публичном бичевании или штрафе. Брат Бартоломео сдержал вздох облегчения. Он не ошибся. Прелат оказался на высоте своей репутации мудрого и образованного человека. Впрочем, когда после трехчасового ожидания в душной приемной его ввели в кабинет личного секретаря Папы, он на мгновение испугался. Как отреагирует камерленго на его обвинения? А потом, был ли Бартоломео всей душой уверен в причинах, которые его побудили просить об этой аудиенции? Шла ли речь о прекрасной жажде справедливости, или к этому чувству примешивалось нечто постыдное: желание оговорить опасного брата? Незачем было скрывать: брат Никола Флорен терроризировал его. Странно, как этот молодой человек с ангельским лицом мог испытывать своего рода болезненное наслаждение, избивая, мучая, калеча своих жертв. Он вонзал свои руки в незащищенную, кричавшую от боли плоть, и при этом никакая тень досады не омрачала его прекрасное чело или ясный взгляд. – Разумеется, ваше преосвященство, поскольку наша единственная цель – получить признание, – осмелился произнести Бартоломео. – Хм… Больше всего Гонорий Бенедетти боялся зловещего повторения дела Роберта Болгарина. Глухая ярость примешивалась к его раздумьям о политике. Болваны. Иннокентий III* изложил правила инквизиторской процедуры в булле Vergentis in senium. Ее целью было не уничтожение отдельных людей, а искоренение ереси, которая угрожала основам Церкви, ставя под сомнения в том числе и бедность Христа как пример для подражания в жизни, правда, весьма сомнительный пример, учитывая, что большинство монастырей владели огромными земельными наделами. Иннокентий IV* преодолел последний этап, разрешив в своей булле Ad Extirpanda 1252 года прибегать к пыткам. Палачи, глупые и подлые истязатели. Гонорий Бенедетти уж и не знал, какое чувство преобладало в нем: ярость или горечь. Впрочем, если он хотел быть честным, то был должен признать: он сам согласился с чудовищной идеей, что к любви к Спасителю порой принуждали, прибегая к крайне жестоким методам. Он оправдывал себя, думая, что на этот путь толкнул его Папа. Но разве не было главным то неизмеримое счастье, которое испытываешь после того, как тебе удалось спасти душу, вернуть ее в колыбель Христа?[38] Этот юный Бартоломео со своим человеколюбием поставил его в щекотливое положение, поскольку он больше не мог притворяться, будто ничего не знает. Он совершил глупость, приняв его. Лучше было бы оставить его томиться в приемной. Возможно, тогда бы он в конце концов ушел, оскорбившись или устав от долгого ожидания. Нет, этот был не из тех, кто устает или теряет терпение. Тонкие губы, иссушенные зноем, смелость, которая читалась в его манере держаться, хотя в глазах и мелькал страх, слова, сказанные робким, но твердым тоном, – все выдавало в нем упрямство безупречно честного человека и в определенной степени напоминало архиепископу Гонорию Бенедетти о его собственной молодости. Ему оставалась лишь неприятная альтернатива: строго наказать или отпустить грехи. Отпущение грехов означало бы одобрение недопустимой жестокости и дало бы повод для еще более яростной критики Церкви мыслителями всей Европы. Это также означало бы согласиться с политикой Филиппа IV Французского, хотя в прошлом тот не гнушался пользоваться услугами инквизиции*. Кроме того, это означало – последний, почти детский, аргумент чуть не вызвал у прелата улыбку – разочаровать молодого человека, сидевшего напротив, который был убежден, что можно управлять, не заключая сделок со своей верой. Значит строго наказать? Прелат охотно вступил бы в жаркую схватку с Никола Флореном. Воткнул бы ему в глотку ту власть, которую он порочил, возможно, потребовал бы отлучить его от Церкви. Но, наказывая одну заблудшую овцу, он рисковал покрыть позором всех доминиканцев и нескольких францисканцев, назначенных инквизиторами, а заодно и папство. А позор от бунта порой отделяют лишь несколько шагов. Времена были такими смутными, такими переменчивыми. Малейший скандал можно было раздуть, чем воспользовались бы король Франции и другие монархи, ждавшие лишь удобного повода. В этот момент один из многочисленных камергеров, буквально наводнявших папский дворец, словно тень, проскользнул в кабинет и, нагнувшись, прошептал ему на ухо, что пришел следующий посетитель. Прелат с необычной горячностью поблагодарил камергера. Наконец нашлось долгожданная причина, пусть и не слишком хорошая, чтобы избавиться от молодого монаха. – Брат Бартоломео, меня ждут. Молодой монах, покрасневший до корней волос, порывисто вскочил. Камерленго успокоил его легким движением руки, сказав: – Благодарю вас, сын мой. Как вы понимаете, я не могу самостоятельно решить судьбу Никола Флорена… Тем не менее уверяю вас, что его святейшество, так же, как и я, не потерпит подобных ужасов. Они противоречат нашей вере и дискредитируют всех нас. Идите с миром. Справедливость скоро восторжествует. Из просторного кабинета Бартоломео вышел окрыленным. Как глупо было с его стороны во всем сомневаться, всего бояться! Несносный палач, который преследовал его, унижал, перестанет мучить его целыми днями. И ночами тоже. Мучитель стольких маленьких людей растает, словно кошмарный сон. Он слегка улыбнулся силуэту в плаще с капюшоном, ожидавшему приема в прихожей. И только на улице, когда он пересекал широкую площадь радостным шагом победителей, Бартоломео подумал, что посетителю наверняка было очень жарко в такой тяжелой одежде.Лес Клэре, Перш, июнь 1304 года
Спустившийся чуть ли не до земли густой туман так плотно окутал Клемана, что он едва различал дорогу. В этом краю туманы не были редкостью. Аньес находила их поэтичными. Она утверждала, что эти пелены, цеплявшиеся за дикие травы и кустарники, смягчали слишком резкие контуры предметов. Но сегодня эта завеса источала удушающий запах смерти. Мириады серых мух жужжали, вились, набрасывались на разлагающуюся тухлятину. Наполовину вырванный клок плоти свисал со щеки на землю, слегка колышась, поскольку целая колония маленьких жучков упорно рыла галерею под костью скулы. Бедра и ягодицы были проедены, искромсаны до самой кости. Мальчик выронил из рук самострел.[39] Аньес требовала, чтобы он всегда брал его с собой, отправляясь в лес, чтобы иметь возможность хоть как-то защитить себя. Он сделал еще один шаг вперед, едва сдерживая икоту, из-за которой его рот заполнялся горькой слюной. Это был мужчина, несомненно, крестьянин, если судить по поношенной одежде, перепачканной липкой жидкостью и засохшей кровью. Он лежал на боку, повернув лицо к небу. Его пустые глазницы любовались заходящим солнцем. Иссушенная, почерневшая, огрубевшая, особенно на руках, кожа казалась обугленной, словно ее испепелил сильный огонь. Напали ли на него? Защищался ли он? Жгли ли его огнем, чтобы выпытать некую тайну? Какую? Бедняки никогда не носили с собой вещей, имевших хоть какую-нибудь ценность. Клеман огляделся вокруг, тщательно рассматривая лесную поросль и кустарники. Никаких следов костра. Еще один шаг, затем два шага. Теперь его отделял от мужчины всего один метр. Клеман заставлял себя дышать. Затхлый запах, исходивший от гниющей плоти, вызывал у него тошноту. Но он так и не чувствовал запаха обуглившегося дерева, запаха дыма. Мальчик быстро отошел назад, закрывая рот рукой. Он не боялся. Мертвые разительно отличаются от живых: они не расчетливые и безобидные. К тому же тот, кто лежал на земле, не был похож на больных чумой, описания которых он читал. В нескольких метрах от трупа Клеман наткнулся на длинный крестьянский посох. Мальчик подобрал его и стал внимательно осматривать. Древесина ясеня казалась совсем молодой. У нее был бледно-кремовый цвет, присущий недавно срезанной ветке. На посохе не было ни малейшего следа крови. Но одна деталь удивила мальчика: острый металлический наконечник, позволявший тверже опираться на землю. Разве крестьянин позволил бы себе столь дорогую отделку, если он мог срезать столько ветвей, сколько душе угодно? Клеман дотронулся железным концом до руки трупа, но моментально отдернул посох. Запястье частично отделилось, а указательный палец и вовсе упал на землю. Как долго труп лежал на этой крошечной лужайке, в половине лье от населенных мест? Это было трудно определить, в частности, из-за обожженной, почерневшей кожи. Странно, но Клеман не увидел ни одной синей падальницы,хотя условия для них были вполне благоприятными. Он обошел жалкие останки и присел на корточки в шаге от них. Через дырку на льняной рубашке чуть выше поясницы Клеман различил широкий волдырь, наполненной желтой жидкостью, и проткнул его острым наконечником посоха. Он вовремя отвернулся, иначе его вырвало бы прямо на одежду. В рваной ране копошилось множество личинок мясных мух. Синие падальницы успели отложить яйца, а теплая погода способствовала размножению личинок. Вероятно, человек умер недели две назад, самое большее – три. Клеман, у которого внезапно возникло желании поскорее уйти, выпрямился. Никто больше не мог помочь этому несчастному. Мальчик твердо решил не рассказывать ни одной живой душе о своей находке, иначе ему пришлось бы вновь проделывать этот путь, указывая дорогу людям бальи. И тут его поразила одна несообразность. У мужчины были волосы средней длины. Некогда они, безусловно, были светло-каштановыми, хотя судить об этом было трудно, поскольку они слиплись от грязи, растительных остатков и кишели паразитами. И все же на макушке можно было еще различить след от небольшой тонзуры. Волосы отрасли, но, тем не менее, недостаточно, чтобы скрыть след бритвы цирюльника. Кем же он был? Церковником или одним из тех образованных людей, которые носили тонзуры из благочестия и желания искупить грехи? Любопытство пересилило дурноту, вызванную близостью гниющих останков. Клеман вытряхнул из мешка покойного хлебные крошки и травы и надел его на правую руку. Защищенный этой импровизированной перчаткой, он осторожно снял зловонные лохмотья, прикрывавшие мужчину. Пот ручьем лился по лицу мальчика, заливал ему глаза. Однако тошнота, мучавшая его некоторое время, уступила место возбуждению. Теперь миазмы не досаждали ему. Он отбивался от насекомых, потревоженных его вторжением в самый разгар пира, прогонял их рукой в перчатке, исследуя каждый сантиметр трупа. Почему этот несчастный был так бедно одет, если речь шла об образованном человеке? Почему он был не в рясе, если речь шла о монахе? Он путешествовал пешком? Откуда он шел? Как он умер? Был ли он убит на этой лужайке, или его сюда принесли после того, как жгли огнем в другом месте? К сожалению, состояние его кистей, загрубевших, как старая кожа, не позволяло Клеману понять, были ли покойник ученым или крестьянином. Ничто, ни один предмет, ни одна особенность, если не считать тонзуры, не могли помочь Клеману. Ограбили ли его? До или после смерти? И вдруг одна очевидная подробность бросилась ему в глаза: волосы на теле, еще сохранившиеся на коже, изъеденной червями, и волосы на предплечьях. Они были нетронутыми, хотя и перепачканными. На разорванной в клочья одежде не было следов подпаливания. Человека не жгли, иначе они сгорели бы до того, как жгучее пламя охватило кожу. Клеман с трудом перевернул массивное тело на спину, чуть не упав под его весом. Он осторожно оторвал грубую ткань, прилипшую к животу. В чреве покойного копошились беловатые личинки. И только тогда Клеман заметил в примятой траве, на которой лежал мужчина, небольшую ямку, диаметр которой не превышал диаметр монеты. Можно было подумать, что кто-то воткнул палец в рыхлую землю. Клеман осторожно разгреб почву. Под несколькими сантиметрами травы и земли лежала печать. Он соскоблил с медали воск и стал ее разглядывать. Во рту у Клемана пересохло. Кольцо «ловца человеков»! Папская печать. Клеман был в этом уверен, поскольку видел ее в библиотеке Клэре. Но кто этот человек? Переодетый эмиссар Папы? Пытался ли он перед смертью зарыть печать, чтобы спрятать ее от посторонних глаз? Что произошло с личным посланием,[40] которое эта печать скрывала? Отдал ли он его в аббатство Клэре, единственную крупную религиозную конгрегацию в этих краях? Мальчик внимательно осмотрел землю в непосредственной близости от ямки. Что это за метка рядом с ямкой? Какая-то буква. Клеман лег на живот и слегка дунул на сухую пыль, покрывавшую букву. Он увидел четкую, немного выгнутую черточку, начинавшую m или и, а может быть, прописные В или D. Нет, чуть ниже была маленькая горизонтальная палочка… Е? Да нет же, никаких сомнений, это была А. Не отдавая себе отчета в своих действиях, Клеман затер букву пальцами, полностью ее уничтожив. Он задержался еще на несколько секунд, чтобы засыпать ямку, скрывавшую печать. Что означала эта буква А? Шла ли речь о начальной букве имени или фамилии? Имени его убийцы? Дорогого ему человека, к которому он шел, чтобы предупредить? Покойный хотел подать знак тем, кто его обнаружит? Если это так, значит, он умер на этой лужайке, и его агония была продолжительной, поскольку он сумел спрятать печать и оставить знак. Клеман заставил смолкнуть множество вопросов, гудевших в его мозгу. Надо было уходить, причем быстро. Если речь шла о столь важном посланнике, вполне вероятно, что его искали, или же искали письмо, которое он нес. Люди бальи были способны на все, лишь бы угодить своему начальнику и графу д'Отону, своему господину, не говоря уже о Папе. На все. Они даже были готовы поджарить на огне невинного ребенка, лишь бы потом их оставили в покое. Клеман положил печать в мешок и стремительно пошел прочь.Часовня мануария Суарси-ан-Перш, июнь 1304 года
Некая тень проскользнула за пилонами маленькой часовни, неприлично зашуршав юбками. Брат Бернар ужинал в обществе Аньес в перерыве между службами. Мабиль была довольна собой. Дама де Суарси сказала, что хочет отблагодарить своего доброго каноника, и служанка приготовила настоящий праздничный ужин. Шесть перемен, ни больше ни меньше. После закуски, представлявшей собой ассорти из свежих фруктов, кислота которых способствовала пищеварению, подали суп с миндальным молочком. Для третьей перемены служанка выбрала перепелов, зажаренных на вертеле и политых соусом, щедро приправленным черным перцем. Эта невыносимая Аньес де Суарси так манерничала за столом, будто поглощение маленьких птичек потребовало от нее огромных усилий. Брат Бернар – и в этом можно было не сомневаться – следовал ее примеру, не давая Мабиль времени, чтобы перейти в наступление. Он был молодым, хорошо сложенным человеком, которому тонзура придавала удивленный и жизнерадостный вид. Мабиль охотно попыталась бы соблазнить его. До сих пор ее осторожные попытки заканчивались ничем. Питал ли он тайную нежность к даме де Суарси? При этой мысли у Мабиль текли слюнки. Эд де Ларне был бы счастлив услышать такую новость. Возможно, он, желая ее отблагодарить, стал бы вести себя с ней нежнее и, главное, щедрее. Но вскоре у девушки испортилось настроение. Счастлив? Разумеется, нет. Удовлетворен, но, скорее, он обезумел бы от ярости. Порой он внушал ей страх. Часто. Он был переполнен неистребимой ненавистью. Можно было подумать, будто все, что касалось Аньес, буквально выворачивало его наизнанку. Он ополчился на нее, не получая ни малейшего облегчения от своих планов мести. И все же Мабиль помогала ему. Более того, она предвосхищала его хищнические желания. Но, честно говоря, она не знала, почему делала это. Любила ли она своего господина? Конечно, нет. Она желала, чтобы он наваливался ей на живот, чтобы он овладевал ею как уличной девкой или благородной дамой, как ему угодно. Ей нравилось, когда он после занятий любовью порой шептал: «Аньес, моя милая», – чтобы потом погрузиться в глубокий сон. Значит, он думал не о ней? Какое заблуждение! Она была его единственной Аньес, и он был вынужден довольствоваться этим. Мабиль смахнула слезы ярости, выступившие у нее на глазах. Однажды… Однажды она вытянет из своего доброго хозяина достаточно денег, чтобы уйти, не высказав ему ни единого упрека. Она поселится в городе и будет работать златошвейкой.[41] Она была терпеливой и ловкой. В конце концов… Басня о том, что Аньес питала слабость к своему канонику, нравилась Мабиль, поскольку могла подмочить репутацию незаконнорожденной и оскорбить ее хозяина. Досада Мабиль тут же улетучилась, уступив место злорадному ликованию. Книга, в которую записывали даты рождения и смерти, должна была храниться в небольшой ризнице, примыкавшей к церкви. Мабиль без колебаний проникла туда. Она задыхалась от ярости. Ей доставляла удовольствие сама мысль, что она станет причиной падения Аньес. Это в какой-то степени излечивало Мабиль от снедавшей ее болезни: зависти. По ее мнению, если надо было мириться с естественным положением дел, в соответствии с которым вилланы гнули спины, в то время как сеньоры брали на себя обязательство защищать их, то такие перебежчики, как Аньес, были занозой в глазу. Она избавилась от своего законного по рождению положения в обществе благодаря замужеству. Незаконнорожденная, Аньес была всего лишь дочерью служанки, как и Мабиль. Почему она? Если бы старый граф Робер не побоялся грома и молний загробного мира, которые он предчувствовал по мере того, как подходила к концу его земная жизнь, он не признал бы ее. Он проливал свое семя в хижинах и на фермах своих владений. Почему именно Аньес? Почему Мабиль, рожденная в законном браке, занимавшая более завидное положение, поскольку ее отец был одним из «синих ногтей»[42] Ножана-ле-Ротру, получила меньше, чем незаконнорожденная, пусть и дворянского происхождения? От ненависти, которую Мабиль питала к даме де Суарси, у нее часто кружилась голова. Даже если бы Эд де Ларне не оплачивал ее ежедневные предательства, она все равно служила бы ему. Толстая книга лежала на деревянном аналое. Мабиль принялась поспешно ее листать, отсчитывая время назад, до 1294 года, когда родился этот порочный Клеман, который следил за ней без зазрения совести. Она разбирала почерневшие слова, написанные крупным почерком предыдущего каноника, который умер, если верить более элегантному почерку, заполнявшему следующие страницы книги, в полночь 16 января 1295 года. Мабиль помнила ту убийственную зиму. Тогда она была еще ребенком. Наконец ее указательный палец остановился на записи, которую она искала: Клеман, посмертный сын Сивиллы, рожденный ночью 28 декабря 1294 года. Быстрее, перепела не отнимут у них много времени. Она должна вернуться на кухню, чтобы сопровождать Аделину, когда та будет подавать следующее блюдо: классическое, но изысканное бланманже с козьим молоком. На десерт подадут черную нугу, сделанную из вскипяченного меда, орехов прошлого урожая и специй, тщательно перемешанных. Напоследок она приготовила медовуху – купаж красного и белого вина, подслащенного медом и приправленного корицей и имбирем. Мабиль закрыла книгу и поспешила на кухню. Удивленной Аделине она объяснила, что вечерняя жара так ее утомила, что ей пришлось выйти на улицу, чтобы освежиться. – Они закончили третью перемену, – слабо запротестовала девочка-подросток. – Я не знала, что делать. – Положить десерт на тонкий ломоть[43] и налить медовуху в графин, чтобы она немного пропиталась воздухом, дура! Не забудь, мадам Аньес требует, чтобы ломоть подавали каждому. Мы не нищие… Как я устала повторять одно и то же! – шипела Мабиль. Аделина опустила голову. Она настолько привыкла к тому, что Мабиль вечно ругала ее, что едва обращала на нее внимание. В большом зале беседа шла своим чередом. Мабиль прикинула на глазок расстояние, отделявшее ее госпожу от каноника, спрашивая себя, не приблизились ли они друг к другу. Аньес казалась непринужденной. А ведь во время визита сводного брата чувствовалось, что она была напряжена. Служанка прислушалась в надежде различить слова, компрометирующие Аньес, однако беседа не имела ни малейшего отношения к ее хозяину. – Я совершенно не понимаю, как кастрация может излечить от проказы, грыжи и подагры, – говорила Аньес. – Это абсолютно разные недуги. А ведь известно, что несчастным прокаженным, которые подверглись кастрации в лепрозории Шартаня, около Мортаня, лучше не стало. – Я не знаток медицинской науки, мадам, но полагаю, что при этих патологиях задействованы одинаковые жидкости. Брат Бернар всегда пребывал в хорошем настроении, что еще сильнее влекло его к приятным вещам. Он мгновенно забыл о подагриках и прокаженных, чтобы опять восхититься перепелами, которых только что отведал. Мабиль вернулась на кухню. С недавнего времени она пыталась разгадать одну загадку. Почему в книге не было указано родовое имя Сивиллы, бывшей горничной госпожи? Разве ее похоронили не по христианскому обычаю? Могила Сивиллы, над которой возвышался крест, находилась на участке земли, отведенном для захоронения слуг и примыкавшем к кладбищу, где хоронили сеньоров, их жен и потомков. Некоторые Суарси были погребены под плитами часовни, но из-за нехватки места, пришлось выделить три ара земли на расстоянии в добрую сотню туазов от часовни. Несмотря на свою неприязнь к Аньес, Мабиль признавала, что сеньоры Суарси всегда воздавали должное праху своих слуг, в отличие от других, кто сваливал покойников в общинный оссуарий, если никто из родственников не хотел забрать труп. Впрочем, Эд де Ларне не проявлял нежных чувств к своим челядинцам. Мабиль раздраженно покачала головой. Какое ей дело до благодушия дамы де Суарси! Это не ее забота. Мабиль волновало другое: была ли освящена земля, которая приняла тело матери Клемана? Надо это выяснить. То, что Сивилла родила, не будучи замужем, не вызывало у Мабиль удивления. Такое часто случалось с девушками-служанками. Они оказывались беременными нежеланным плодом, и выбору них был невелик: либо аборт, часто заканчивавшийся смертью матери, либо тайное донашивание беременности, если, конечно, хозяин был справедливым человеком. Но как случилось, что в книге Клеман значился только под именем? Кто были его крестные отец и мать, без которых невозможно таинство крещения? Их имена и фамилии должны быть записаны в книге после фамилии ребенка. Такая церемония крещения казалась ей слишком таинственной, чтобы быть католической. Клеман, напряженно прислушивавшийся, подождал еще несколько минут, чтобы полностью удостовериться. Этим вечером Мабиль не вернется в часовню, ведь она хорошо выполнила свою работу шпионки. Он на четвереньках выполз из зарослей жимолости, где прятался. Его рубашка взмокла от пота – так сильно он волновался. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, зачем эта негодница приходила в часовню. Значит, он был прав: Мабиль умела читать. Он упрекал себя за то, что не сумел предвосхитить ее новую хитрость. Он должен был спрятать книгу записей о рождениях и смертях, не признавшись в этом даже Аньес, которая, несомненно, не одобрила бы его поступка, лишившего Суарси всех воспоминаний. Он был уверен, что от этой новости толстые губы Эда де Ларне задрожат. Еще немного, и его челюсти сомкнутся. Их плоть была незащищенной, уязвимой. Погода стояла ясная, благостная. Порой через просветы в листве деревьев Аньес видела безукоризненно голубое небо. Лодка медленно плыла по реке. Она лежала, опершись спиной о корму. Аньес была одна, пребывала в приятном одиночестве. Ее правая рука скользила по неподвижной водяной поверхности. Вдруг суденышко закружилось в водовороте. Она выпрямилась, с ужасом глядя на круги, все шире расходившиеся вокруг лодки. Что это было? Неожиданное течение? Крупное водное животное? Грозное? Вода забурлила еще сильнее. Лодка встала на дыбы, опасно накренившись. Аньес хотелось позвать на помощь, но ни один звук не мог вырваться у нее из горла. Вдруг тонкий голосок повелительно прошептал ей на ухо: – Мадам, мадам, умоляю вас, проснитесь, но только не кричите! Аньес выпрямилась и села. Клеман пристально смотрел на нее, просунув голову между занавесями балдахина. Аньес вздохнула с облегчением, но ее спокойствие оказалось недолгим. Она прошептала в ответ: – Что ты делаешь в моих покоях? Который сейчас час? – После заутрени, но еще до рассвета. Аньес вновь повторила: – Что ты делаешь у меня? – Я ждал, пока Мабиль и другие слуги заснут. Пока вы ужинали с братом Бернаром, она ходила в часовню, чтобы тайно посмотреть книгу записей. Полностью проснувшаяся после этих слов Аньес сделала вывод: – Это нас убеждает в одном: она умеет читать. – Достаточно, чтобы строить козни. – Что ты об этом думаешь? Нетрудно догадаться, что она искала запись о твоем происхождении или упоминание о смерти Сивиллы. – Я в этом убежден. – Какой она может сделать вывод, прочитав эти строки? – вслух размышляла Аньес. – Я проник в часовню после нее, чтобы перечитать их, чтобы представить себе, куда ее может завести подлость. Там есть только мое имя, имен же моих крестных родителей нет. Что касается Сивиллы, мадам, хочу вам напомнить, что ее смерть нигде не подтверждена. Она была еретичкой и отвергала таинства нашей святой Церкви. – Тише… Замолчи, никогда не произноси этого слова. Все это закончилось. Жизель – твоя крестная мать, что же касается твоего крестного отца, мы не могли рисковать… Единственным человеком, который мог нас хоть как-то защитить, был мой прежний каноник, но он уже находился при смерти и вскоре покинул нас. К тому же нам не следовало ему признаваться… Это было невозможно. Вот почему Жизель и я решили никого не записывать. Одна фамилия могла причинить нам неприятности. В самом худшем случае, если бы было приказано произвести ревизию книги, мы могли бы сказать, что речь идет об ошибке ослабевшей руки и помрачившегося ввиду близкой смерти ума. – Значит, мое крещение не… Поскольку меня не крестили, не правда ли? – спросил Клеман дрожащим, едва слышным голосом. Аньес посмотрела своими серо-голубыми глазами в глаза ребенка и жестом велела ему сесть рядом с ней. – Клеман, единственный суд, перед которым мы должны предстать, – это суд Божий. Люди, какими бы они ни были, являются всего лишь его трудолюбивыми переводчиками. Какой безумец, распираемый гордыней, может утверждать, будто он познал все желания, все планы, всю сущность нашего Господа? Они недоступны нам. Мы можем лишь смутно догадываться о них. Слова, которые она произносила, словно парализовали ее. Они пришли ей на ум с единственной целью: успокоить мальчика. И все же никогда прежде слова, которые она так тщательно подбирала, описывая его шаги на пути к Богу, не казались ей столь искренними. Совершала ли она серьезную ошибку? Было ли это богохульством? – Вы действительно так думаете, мадам? Аньес, не колеблясь ни секунды, ответила: – Эта мысль поразила меня саму, но, по правде говоря, я думаю именно так. Клеман, твое крещение привело тебя к Богу. Этому помогли две женщины – Жизель и я, и действовали мы с открытыми сердцами. Мальчик, вздыхая, прижался к Аньес. Через несколько минут он спросил: – Что мы будем делать с этой предательницей, мадам? – Как она собирается сообщить новость моему брату, вдохновителю этих гнусных ухищрений? Ларне находится далеко от нас. Путь пешком займет у нее два дня. Не пользуется ли Эд услугами других приспешников, которым поручил передавать ему послания? – В этом я сильно сомневаюсь мадам, Эд – глупец, но все же не до такой степени, чтобы не понимать: чем больше у него сообщников, тем больше шансов, что о его тайне узнают. – Ты прав. Но как она его известит? Ведь он, слава богу, очень редко приезжает в Суарси. – Я узнаю об этом, обещаю вам. А теперь отдыхайте, мадам, а я пойду в свою берлогу. На чердаке мануария Клеман устроил себе нечто вроде спальни. Он выбрал место с большой осмотрительностью. Лестница с врезанными ступеньками, которую он сделал слишком шаткой для того, чтобы кто-нибудь из взрослых решился подняться по ней, позволяла ему проникать на чердак из конца коридора, соединявшего прихожую со спальней его госпожи. Таким образом, он мог видеть любого, кто подходил к спальне. У его берлоги было еще одно ценное преимущество. Через небольшую отдушину, служившую для проветривания чердака, он мог незаметно для челядин-цев подниматься и спускаться по лестнице, сплетенной из бычьих кишок.Каркассон*, июнь 1304 года
Высокий смуглый ангел. Брат Никола Флорен резко остановился. Тонзура не обезобразила молодого человека, напротив. Она продлевала его бледный высокий лоб, придавая ему вид спесивой химеры. Справа стоял брат Бартоломео. Опустив голову, он смотрел на свои руки, скрещенные на груди. Никола прошептал каким-то странным, нежным, но одновременно суровым тоном: – Я теряюсь в догадках. Почему меня отправляют на север, хотя я хорошо служил на юге, после последнего августовского мятежа, который залил кровью наш славный город? Я помог расстроить сатанинские планы этого развращенного францисканца… Да будет проклят Бернар Делисье[44]… Никогда еще фамилия так не соответствовала человеку, который ее носит. Нет, решительно, я не понимаю, если только речь не идет о награде, но внутренний голос подсказывает мне другое. Длинная рука Никола приподняла по-прежнему опущенный вниз подбородок жертвы. – Что ты об этом думаешь, мой милый брат? – продолжал настаивать он, погрузив свой темный бархатный взгляд в глаза Бартоломео. У молодого монаха пересохло во рту. Ночи напролет он молил Бога, чтобы произошло чудо, которое избавило бы его от мучителя, а теперь боялся последствий. Напрасно он внушал себе, до одурения повторяя, что ему нечего бояться, что приказ о переводе был подписан камерленго Бенедетти, что его имя и тем более подлинная причина перевода нигде не упоминались, – ничто не могло вернуть ему спокойствия. Никола, его ненасытная жажда власти, его потребность заставлять других страдать – все, что было присуще этому слишком красивому, слишком утонченному существу, внушало Бартоломео ужас. Наивному доминиканцу понадобилось совсем мало времени, чтобы понять: его компаньоном по дортуару двигала вовсе не вера. Во все времена принадлежность к ордену давала в руки честолюбивых отпрысков низкого происхождения эффективное оружие. Из расчетливых признаний Никола Бартоломео узнал, что отцом того был светский иллюминатор сьера Шарля д'Эвре, графа д'Этампа. Ребенок, хотя и не проявлявший особого интереса к краскам и буквам, но наделенный живым воображением, приобрел солидные знания, в чем помогла великолепная библиотека графа. Его нежила, холила, лелеяла стареющая мать, которую эта единственная поздняя беременность вознаградила за долгие годы сомнений в возможности иметь детей. Помимо унижения бедная женщина испытывала страх, поскольку она занималась ремеслом повивальной бабки[45] и пользовала лишь дам, входивших в свиту мадам Марии Испанской, дочери Фердинанда II и супруги графа. Однажды, когда они вместе молились, Никола прошептал на ухо Бартоломео на одном дыхании, заставив того вздрогнуть: – Мир будет принадлежать нам, если мы сумеем заставить его подчиниться. Однажды ночью, когда Бартоломео спал в прохладной темноте дортуара, ему показалось, будто он услышал: – Плоть не подчиняется, а если она колеблется, это удел слабых духом. Плоть надо завоевать, ее надо вырвать. Никола начал злоупотреблять своей властью почти сразу же после приезда в город «четырех нищенствующих монастырей»*, который насчитывал тогда десять тысяч жителей. Бартоломео был убежден, что монастыри разделяли ненависть, о которой им доверительно сообщали жители, и были причастны к восстанию против королевской и церковной власти. Сердце молодого доминиканца сжалось от горьких воспоминаний. Эта несчастная девушка с помутившимся разумом, Раймонда, которая утверждала, что по вечерам ее навещают привидения… Подбадриваемая Никола, выслеживавшим девушку, как кошка мышь, она попыталась доказать свою власть, которой, как она утверждала, ее наделила Пресвятая Дева. Она упрямо повторяла заклинания, способные, по ее мнению, язвить[46] крыс и лесных мышей. Несмотря на отсутствие результатов, что положило конец ее стараниям, Никола удалось заставить девушку признаться, будто она виновна в смерти вдовы, своей соседки, скончавшейся в июне от таинственной лихорадки, а также в выкидышах у коров. Аргументы молодого инквизитора были притянуты за уши, тем не менее он сумел убедить ее: Пресвятая Дева не может наделить убийственной властью, даже если речь идет о вредных грызунах. Эту власть дает один лишь дьявол в обмен на душу. Внутренние органы несчастной умалишенной девушки свисали с пыточного ложа. Ее мучения были нескончаемыми. Улыбавшийся Никола смотрел, как кровь капает из обнаженных кишок и медленно стекает в центральный желоб подземного зала, вырытый специально для этих целей. Бартоломео стремглав выбежал из виконтского дворца, презирая себя за трусость. Молодой человек достаточно трезво мыслил, чтобы не поддаваться спасительной слепоте. Он весь светился верой, равно как и любовью к людям. Он мог бы найти в себе силы для борьбы и даже – почему бы и нет? – для разоблачения Никола. Но ему мешало какое-то колдовство, хотя колдовал он сам. Эта слабость, когда Никола гладил его руку… Его изначальная непростительная склонность искать оправдания для того, что было разгулом жестокости, свойственным его соседу по дортуару. Бартоломео любил Никола, но отнюдь не братской любовью. Он любил его и одновременно ненавидел. Он хотел бы умереть и вместе с тем жить, чтобы видеть, как улыбается Никола. Разумеется, Бартоломео знал, что среди церковников распространена содомия, равно как и николаизм.[47] Только не он. Только не он, который мечтал об ангелах, как другие мечтают о девушках или прекрасных нарядах. Пусть этот жестокий прекрасный демон уйдет, пусть он исчезнет навсегда. – Я ведь с тобой разговариваю, Бартоломео. Что ты об этом думаешь? Молодой монах сделал над собой нечеловеческое усилие, чтобы ответить равнодушным тоном: – Я думаю, что это знак благодарности. Разумеется, речь не идет о замечании и еще меньше о наказании. – Но тебе будет меня не хватать? – продолжал искушать его Никола. – Да… Бартоломео говорил правду. Ему хотелось плакать от ярости, но и от горя тоже. Бартоломео был уверен, что его болезненная страсть к Никола была не единственным непреодолимым испытанием, которому ему придется подвергнуться, и от этой мысли ему становилось плохо.Лес Клэре и мануарий Суарси-ан-Перш, июнь 1304 года
Ежевику и высокие травы еще окутывал утренний туман. Можно было подумать, что земля, завидовавшая небу, источала собственные облака. Сначала Жильбер боялся тумана. Все говорили, что это дыхание привидений и что некоторые из них были так недовольны своей участью, что могли схватить путника и затащить его в преисподнюю. Но добрая фея объяснила Жильберу, что все это домыслы и сказки, придуманные для того, чтобы заставить детей слушаться старших. Туман спускался, когда земля насыщалась водой, а жара заставляла ее испаряться. Только и всего. Это объяснение успокоило Жильбера. Он вдруг почувствовал свое превосходство над всеми этими дурачками, введенными в заблуждение баснями, шитыми белами нитками. Ведь его добрая фея всегда была права. Жильбер смеялся от удовольствия. Его торба была полна сморчков. Осенние дожди и несколько прошлогодних лесных пожаров создали для них благоприятные условия. Он оставит себе целую горсть сморчков и испечет их в горячей золе, так, как он любит. Остальное, все остальное предназначалось его доброй фее. Да, она была феей, одной из тех фей, которые приспособились к человеческой жизни, делая ее более красивой и легкой. Он в этом не сомневался. Жильбер рукавом вытер слюну, стекавшую по подбородку. Он ликовал. Она так любила сморчки, которые он каждой весной собирал для нее! Он уже даже мысленно представлял, как она, взвешивая их в своих прекрасных бледных руках, восклицает: – Ах, Жильбер! Ну разве они не крупнее тех, что ты собрал в прошлом году? И где ты находишь такое чудо? Он не скажет ей. Впрочем, он был готов на все, лишь бы понравиться ей. Но он не сумасшедший: если он расскажет ей о своих укромных местах, где растут сморчки, белые грибы и лисички, он больше не сможет преподносить ей прекрасные подарки. Это было бы слишком большим несчастьем, поскольку тогда она не будет улыбаться ему. А эта роскошная форель, которую он ловил руками в холодных водах Юисны! Жильбер выпятил грудь колесом: только ему одному были известны маленькие бухточки, где отдыхали прекрасные рыбы. Впрочем, отправляясь на рыбную ловлю, он предпринимал все меры предосторожности, чтобы за ним не увязался какой-нибудь любопытный, постоянно оборачиваясь и держа ухо востро. Стоя неподвижно посредине тихо несущего свои воды потока, можно было собирать рыбу почти как фрукты. Каждую пятницу он приносил по две форели своей доброй фее, чтобы постный день стал для нее приятным. Вдруг настроение Жильбера изменилось. Он посуровел. Разумеется, он отдаст жизнь за свою добрую фею. И все же тогда два дня и три ночи подряд он боялся смерти, хотя и спал с ней в одной кровати. Даже во сне на него смотрела смерть с открытыми глазами, он мог бы в этом поклясться. Она источала не слишком зловонный запах, ведь было так холодно. Стояла зима… Он забыл год. Столь безжалостная зима, что многие умерли, даже в мануарий, даже старый каноник и горничная доброй феи, та, которая была толстой. Дама де Суарси разрешила охотиться на своих землях. Он хорошо помнил об этом, потому что поймал несколько зайцев. Сначала он прижался к смерти с открытыми глазами в надежде немного согреться. Но тщетно. В то время он был совсем маленьким и не знал, что смерть забирает тепло. Когда они – те, другие – наконец наткнулись на них обоих, на смерть и на него, они вытащили смерть с открытыми глазами на улицу и бросили ее в телегу, нагруженную другими трупами. Один из них сказал: – Что мы будем делать с дурачком теперь, когда его старуха померла? Это лишний рот. Я говорю, надо отвести его на опушку леса, а там пусть сам выкручивается. Женщина, стоявшая в стороне, слабо запротестовала: – Это не по-христиански! Он слишком маленький. Пройдет совсем немного времени, и он помрет. – Да он еще не может отличить свою голову от задницы, это не так страшно, как если бы это был один из нас. – А я говорю, что это не по-христиански, – повторила женщина прежде, чем уйти. Он рассматривал их, он, девятилетний Жильбер, с трудом понимавший, что они замышляли, но нутром чувствуя, что вместе с матерью, валявшейся на других трупах, на самом верху телеги, которую мерно раскачивали запряженные в нее быки, исчезали его шансы на спасение. Бланш, жена сыромятника,[48] о набожности и здравом смысле которой всем было хорошо известно, твердо сказала: – Мариетта права. Это не по-христиански. Он еще ребенок. – Он подлый живодер, спускающий шкуру с кошек, – возразил мужчина, хотевший как можно быстрее спровадить Жильбера в лучший мир и, главное, в мир, где нет необходимости его кормить. Да, он убил нескольких кошек, живших по соседству. Но это не такое серьезное преступление, как убийство собак, а потом он содрал с них шкуру, чтобы положить ее внутрь своих сабо. Разумеется, он поступил скверно. Нельзя плохо обращаться с этими животными, истребляющими лесных мышей, которые поедали запасы зерна. Со всеми, кроме черных. Черных кошек охотно убивали из предосторожности, поскольку в них могли превратиться демоны. Бланш бросила на мужчину взгляд, который хлестнул его сильнее, чем пощечина. Тоном, не допускающим возражений, она сказала: – Я намерена рассказать о возникшем споре нашей даме. Она встанет на мою сторону, я в этом уверена. Мужчина потупил глаза. Он тоже был в этом уверен. Действительно, Аньес велела привести к ней слабоумного и предупредила, что в будущем тот, кто ударит или несправедливо накажет ребенка, навлечет на себя ее гнев. Жильбер Простодушный вырос и окреп под сенью мануария, но его разум остался детским. Словно ребенок, он искал знаки внимания своей доброй феи, становился нежным и беззащитным, когда она гладила его по волосам или обращалась к нему с ласковым словом. Словно ребенок, он мог впасть в неконтролируемый гнев, когда проникался страхом за свою добрую фею или за самого себя. Его недюжинная сила, а также покровительство дамы де Суарси отбили у всех обитателей деревни желание унизить его или грубо обращаться с ним. Некоторое время назад странный инстинкт подсказал тому, кого многие называли простофилей, что близилось время Зверя. Зверь шел к ним. Когда наступал вечер, Жильбер порой начинал метаться, будучи не в состоянии понять, какое обличье примет Зверь. И все же он его чуял, чувствовал, что тот приближается. Жильбера не оставлял страх, что заставило его сблизиться с Клеманом, которого он, впрочем, не любил, поскольку ревновал его к Аньес, отводившей мальчику особое место в своем сердце. Но Клеман тоже любил добрую фею бескорыстной и чистой любовью, и Простодушный знал об этом. Клеман обладал умом, которого ему недоставало, а вот мышц и всесокрушающей силы Жильбера у мальчика не было. Вдвоем они могут стать храбрыми защитниками своей дамы. Вдвоем они могут отвести множество угроз, а возможно, даже справиться со Зверем. Ощущение страха, несколько минут назад владевшее им, сразу же исчезло, унесенное приливом уверенности. Еще немного сморчков, и он примется искать лечебные травы, собрать которые его просила добрая фея. Он знал столько трав и растений, способных творить удивительные чудеса! Некоторые из них излечивали от ожогов, другие могли убить быка. К сожалению, он не знал, как они назывались. Он распознавал их по приятному запаху или по тошнотворному душку, по цветам или по форме листьев. Прошлой зимой он, приготовив несколько отваров, избавил свою даму от сильного кашля. Как только он все соберет, сразу же вернется домой. Его уже начинал мучить голод. Да, он сумеет собрать хороший урожай, как раз за этой лесной порослью, которая так манила его к себе с прошлого года. Он лег на живот возле побегов ежевики, спутанных вьюнком, и просунул руку между грозными колючками. Что это? Ему показалось, что его пальцы дотронулись до какой-то ткани. Как она оказалась здесь, среди сморчков его доброй феи? Дикие побеги переплелись так плотно, что он различил лишь какую-то неясную тень величиной с оленя, но олени не носят одежду. Натянув рукава на кисти рук, чтобы защитить их от колючек, Жильбер стал вырывать разросшуюся ежевику, прокладывая узкий проход, намереваясь добраться до тени. Смерть с закрытыми глазами. Эта смерть не смотрела на него, вместо глаз у нее зияли провалы. От ужаса у Жильбера Простодушного перехватило дыхание, ведь он находился так близко от месива, которое прежде было лицом. Он пополз назад, извиваясь как змея, стеная, плотно сжав губы. От страха его и без того слабый рассудок помутился еще больше. Он попытался встать. Колючки ежевики, впившиеся в плоть плеч, рук и ног, лишь подгоняли его. Он как сумасшедший помчался к деревне, задыхаясь, прижимая к животу торбу со сморчками. В его мозгу постоянно вертелась одна и та же мысль: Зверь уже пришел, Зверь был готов напасть на них. Труп, вернее, то, что от него осталось, лежал на доске, установленной на козлах в сенном сарае мануария Суарси. Аньес послала за ним трех батраков, которые привезли его на двуколке. Клеман воспользовался царившей суматохой и подошел к трупу, чтобы внимательно рассмотреть его. Правда, почти разложившийся труп мало у кого вызывал любопытство. Это был мужчина лет тридцати, хорошо сложенный, довольно высокий. От бывшей тонзуры не осталось и следа, поэтому ничто не позволяло предполагать, что это монах. Клеман не стал обшаривать его карманы, уверенный, что батраки опередили его, забрав все ценные вещи – если таковые имелись, – которые покойный мог нести с собой, и разбросав все остальное, чтобы создать впечатление, будто это дело рук грабителя. Мужчина умер не очень давно, несомненно, три-четыре недели назад, как об этом свидетельствовала относительная сохранность мышечной ткани, почти не подвергшейся гниению. Впрочем, запах, исходивший от трупа, был довольно сносным. Однако можно было подумать, что зверь набросился на него, остервенело вцепившись когтями в лицо, обезобразив его до неузнаваемости, превратив в живую рану, в истерзанную плоть. Но было непонятно, почему хищник выместил свою злобу только на одном месте. Лицо не было самой мясистой частью тела, отнюдь нет. Кровопийцы и стервятники бросаются на ягодицы, бедра, живот, руки, оставляя насекомым и мелким животным кости, покрытые кожей и тонким слоем плоти. Было ли это следствием его первой встречи с покойником в том же лесу Клэре или того, что он жадно впитывал науки в течение нескольких недель? Несомненно, и того и другого. Как бы то ни было, этот труп взбудоражил воображение Клемана, и он решительно подошел к нему. Кончиком указательного пальца Клеман приподнял лохмотья рубашки, прилипшие к телу мужчины, и наклонился, чтобы осмотреть его живот. Зеленое пятно не залило весь живот, но гнойники, заполненные тошнотворным газом, уже начали появляться на коже, что убедило Клемана в правильности его первоначальной оценки момента смерти. Он обогнул импровизированный верстак, чтобы осмотреть череп мужчины. Можно было подумать, что кровожадные когти вцепились в его лицо, разорвав щеки, лоб и шею в клочья, так что ни один знакомый не сумел бы опознать жертву подобной жестокости. Одна деталь его заинтриговала. Черт возьми! Как зверю удалось растерзать жертву таким образом? Глубокие следы когтей, оставленные на правой щеке, шли от носа к уху, как об этом свидетельствовали четкие края раны в исходной точке и клоки кожи и тканей, вырванные в конечной точке. Когда Клеман рассмотрел левую щеку, он увидел, что рисунок ран был прямо противоположным. Следовательно, оставалось предположить, что зверь, если он существовал, в первом случае вцепился когтями в ухо и провел ими до носа, а во втором случае сделал все наоборот. В самом деле, это не было одним движением лапы, обезобразившим лицо с обеих сторон, поскольку нос остался нетронутым. Внимание Клемана привлекла еще одна особенность. В одном из переведенных трудов Авиценны, знаменитого персидского врача XI века, он прочитал, что можно легко распознать раны, нанесенные после смерти. Такие раны не кровоточат и не воспаляются. У мужчины были точно такие же раны. Бледные края длинных рубцов, испещрявших лицо покойного, кричали о своем происхождении тем, кто знал, как их услышать. Мужчину изуродовали после смерти. Эхо тяжелых шагов, шагов мужчины, сопровождаемых легкими шагами, которые Клеман тут же определил как походку Аньес, вывело его из раздумий. Он поспешил укрыться за тяжелыми вязанками соломы, сложенными в глубине сарая. Этот мужчина не был растерзан зверем. После смерти ему специально нанесли эти раны, чтобы сделать лицо неузнаваемым или отвести от себя подозрение. Что касается виновного в убийстве, мальчик мог бы поспорить, что тот ходил на двух лапах и пил из кувшинчика. Приближавшиеся шаги замерли. Воцарилось молчание, нарушаемое тяжелым дыханием, становившимся все более беспокойным. Из этого Клеман сделал вывод, что мужчина осматривал труп. Наконец грубый голос заявил: – Черт возьми! Да зверь должен быть бешеным, чтобы так растерзать парня. Хорошо… Хорошо, я предупрежу своего хозяина, надо, чтобы он сам взглянул. Значит, это был один из людей Монжа де Брине, бальи графа Артюса д'Отона. Мальчик услышал, как тяжело вздохнула дама де Суарси. Когда она заговорила, он почувствовал в ее голосе напряжение. Делая ставку на тупость и взволнованность мужчины, она решила предпринять последнюю попытку. Если ей удастся его убедить, есть много шансов, что расследование этим и ограничится. – Поскольку речь идет о звере, излишне беспокоить мсье де Брине и заставлять его преодолевать такое расстояние. Но вы правы, я велю своим людям выследить этого зверя. Надо его убить как можно скорее. Следуйте за мной на кухню. Добрый кувшинчик вина придаст вам бодрости. – Хорошо… Зверь, зверь… При всем моем уважении к вам, мадам, я не столь в этом уверен. Зверь сожрал бы и остальное. У Клемана появилось тяжелое предчувствие: их неприятности начали более четко вырисовываться. Теперь Клеман корил себя за свое легкомыслие.Мануарий Суарси-ан-Перш, июнь 1304 года
Когда Клеман после лихорадочной ночи чтения и открытий вернулся в мануарий, он сразу все понял по царившему на просторном дворе оживлению. Три мерина, почти такие же крупные, как вьючные лошади,[49] были привязаны к кольцам, вделанным в стену сенного сарая. Несколько метров отделяли их от гнедой верховой лошади,[50] фыркавшей и бившей копытами от нетерпения. Клеман внимательно разглядывал ее. В этом краю не часто встречались столь элегантные животные. Лошадь рысью проделала долгий и трудный путь, и теперь на ее шее и боках виднелись беловатые полоски. Кто мог ездить на таком чудесном животном, да еще в сопровождении трех других всадников? Клеман проскользнул в коридор, ведущий на кухню, и подкрался к низкой двери, через которую челядинцы могли входить в большой зал. Он прильнул к щели, чтобы выяснить, кто нанес столь ранний визит Аньес, и услышал, как его дама ответила: – Сьер бальи, что могу я вам сказать? До вашего приезда я ничего не знала об этих таинственных смертях, о которых вы мне поведали. Один из моих людей нашел этого горемыку в зарослях, когда искал там сморчки. «Монж де Брине, бальи графа Артюса д'Отона», – подумал Клеман. – Тем не менее, мадам, ходят слухи. Неужели они не дошли до вас? – Разумеется, нет. Мы живем обособленно. Четыре жертвы? За два месяца? И все монахи, говорите вы? – Трое из них. Нам известно о человеке, который лежит у вас в сенном сарае, лишь то, что его настигла такая же участь… – И у всех них были такие же изуродованные лица? – Кроме второго, эмиссара Папы. Его смерть, как вы понимаете, вызвала бурную реакцию в Риме. И все же две первые смерти – настоящая головоломка для нас. Похоже, обоих мужчин жгли огнем, по крайней мере это можно предположить по их огрубевшей черноватой плоти. Однако пламя не тронуло одежду… Неужели их раздели, а после пытки вновь одели? Такое представляется маловероятным. «Значит, был еще один до того, как я нашел труп на лужайке», – сделал вывод Клеман. Действительно, огонь пощадил одежду того человека, равно как волосы на голове и теле. – Нам не удалось обнаружить послание, которое он вез. Это послание было написано матерьюаббатисой Клэре. Она призналась нам в этом, но отказалась поведать о его содержании. По ее словам, два других монаха никогда не появлялись в аббатстве. Что касается того человека, который лежит в вашем сенном сарае, мы его описали ей в нескольких словах, но это не вызвало у аббатисы никаких воспоминаний. На сегодняшний день мы почти ничего не знаем о них. – Тем не менее вы утверждаете, что речь идет о монахах. – В самом деле. – Но откуда такая уверенность? – Эта подробность касается лишь допросчиков, – ответил бальи учтивым, но твердым тоном. «Тонзура», – тут же подумал Клеман. Аньес поняла это предупреждение бальи. Она молча сидела в течение нескольких минут. Когда Аньес заговорила, ее тон изумил ребенка, притаившегося за дверью. Он вдруг стал сухим, не допускающим возражений: – К чему вы клоните, мессир бальи? – Что такое, мадам? – У меня странное чувство, что вы лукавите. Воцарилось молчание, вызвавшее у Клемана беспокойство. Монж де Брине был всесильным человеком. Свою должность и власть он получил непосредственно от могущественнейшего графа Артюса д'Отона. Другу юности короля Филиппа хватило здравого смысла отказаться от милостей, которые, как он знал, были недолговечными, чтобы полностью посвятить себя управлению своими владениями. То, что он занялся собственными делами, позволило графу сохранить дружбу монарха, который расценивал поведение Артюса как бескорыстное чувство собственного достоинства, хотя речь шла лишь о предосторожности по политическим мотивам, и превратить свое небольшое графство в одно из самых богатых графств Франции. Вскоре Клеман успокоился. С проницательностью Аньес мог сравниться лишь ее ум. Вероятно, она раскусила своего собеседника, раз выбрала такую стратегию. – Что такое, мадам? – повторил он. – Полно, мсье, сделайте милость, не стоит меня недооценивать. Представляется вполне очевидным, что на этого горемыку зверь не нападал. И вы, как и я, в этом убеждены. Я не видела других жертв, но ваше присутствие здесь служит мне доказательством. Эти мужчины, по крайней мере трое из них, были убиты, а их убийца или убийцы постарались скрыть следы преступления, изуродовав когтями лица своих жертв. «Весьма неумело», – поправил Аньес Клеман со своего поста наблюдения. Вновь воцарилась тишина, на этот раз более короткая. Затем Монж де Брине признался: – Да, я действительно пришел к такому выводу. – Но тогда почему вы так поспешно приехали ко мне? Ведь вы прискакали в сопровождении трех ваших помощников не только для того, чтобы осмотреть изуродованное тело, которое разлагается в сенном сарае. Каким образом эти убийства касаются Суарси и его хозяйки? Ну же, мсье, скажите правду. – Правда… – заколебался бальи, – правда, мадам, заключается в том, что мы обнаружили букву, написанную на земле под трупами двух жертв. Сейчас мои люди обыскивают колючие заросли, которые им показал Жильбер из вашего дома, чтобы убедиться в… отсутствии буквы. Боже мой, это буква А, которую он импульсивно затер на земле рукой! – Буква? Какая буква? – спросила Аньес. – Буква алфавита. Буква А. – А? Понимаю… как в «Аньес»? – Да, или в других словах или именах, уверяю вас. Неуместный смех оборвал его слова. Дама де Суарси быстро овладела собой, а потом добавила: – Множество… Я могу не раздумывая назвать вам штук тридцать! Что, мсье? Вы полагаете, что я рыщу по лесу с «кошками» и нападаю на мужчин, которые раза в два сильнее меня, если судить по телосложению того, кто сейчас лежит в моих службах? Тогда надо уж предположить, что я была довольно близко знакома с моими жертвами, поскольку они знают меня и без колебаний называют мое имя. Если бы положение было не столь серьезным, ваши догадки выглядели бы просто забавными. Наконец, если я могу себе позволить сделать такое замечание, я была бы последней дурой, если бы стала поступать подобным образом. – Я вас не понимаю. – Тем не менее все очень просто. Итак, я чудовище, жаждущее крови, только не знаю, по какой причине. Предположим. Я… Я не знаю, что я на самом деле делаю, но так или иначе я убиваю этих людей. Тем не менее я стараюсь скрыть следы своих преступлений и представить их как нападения дикого зверя. Медведя, например, ведь они водятся в наших лесах. Но неужели я настолько глупа, что, имитируя нападения зверя, я обезображиваю когтями только лицо и ничто другое, даже одежду? Любой крестьянин или охотник сразу бы все понял. Даже ваш чурбан сержант не попался на эту удочку! Это был не зверь! Это понял бы и пятилетний ребенок. Вот что я имела в виду. Убийца – он умственно отсталый или гораздо хитрее, чем вы думаете. – На что вы намекаете, мадам? – Я ни на что не намекаю, я утверждаю. Я утверждаю, что этот подлый преступник, напротив, хотел привлечь внимание к совершенным им убийствам. К тому же вы не находите странным, что все четыре трупа были обнаружены довольно быстро? Два месяца, говорите вы. А ведь я убеждена, что множество других, скинутых в овраги, спрятанных в пещерах, утопленных, брошенных в реки на корм рыбам или сожженных, никогда не будут обнаружены. Согласитесь, что это дело шито слишком толстыми нитками. Клеман не видел, как на губах бальи заиграла улыбка. Бальи был удивлен, но не потому, что женщина продемонстрировала ему способность мыслить и живость своего ума, которые он мог бы пожелать многим мужчинам, – в конце концов супруга бальи Жюльена была его самым главным советчиком, – но скорее потому, что она без колебаний, открыто возражала ему. Он встал, чтобы откланяться, и игривым тоном произнес: – Мадам, вы доставите удовольствие графу д'Отону, моему хозяину. Он пришел к тому же выводу, что и вы. Итак, мы имеем дело с четырьмя трупами, трое из которых монахи – а не исключено, что и все четверо, кто знает, – и повторяющейся буквой, написанной, возможно, жертвами, возможно, тем, кто на них напал. Улыбка погасла на губах бальи. Ее сменила горькая складка, выдававшая его растерянность. – Еще одна подробность, о которой я не решался вам сказать… Бальи вынул из кожаного мешочка небольшой квадратик из бледно-голубой ткани и развернул его на глазах у Аньес: – Вы узнаете этот батистовый платок, мадам? В уголке вышиты ваши инициалы. Мабиль или сам Эд. Клеман был в этом уверен. Сводный брат Аньес мог украсть этот платок во время своего последнего визита. – Действительно, это мой платок, – согласилась Аньес. – Мы нашли его висящим на нижней ветке, в туазе от второй жертвы. – Таким образом, я не только кровожадная и очень глупая, но еще и неловкая. Ведь я бежала по лесу, сжимая в одной руке платок, а в другой – «кошки»! Какого же вы нелестного обо мне мнения, мсье. – О… Разумеется, нет, мадам. Надо быть сумасшедшим, чтобы так думать, – любезно возразил Монж де Брине. – Я должен уезжать, до Отона путь далек. Всего доброго, мадам. Прошу вас… Я сам найду дорогу к своей лошади. Клеман слышал, как шаги бальи удалялись в сторону высокой двери, выходившей во двор. Вдруг шаги замерли: – Мадам… Признаюсь вам, я еще не уверен в своих выводах. Но если ваши слова найдут подтверждение, не лишне будет посоветовать вам проявлять осторожность. Через несколько секунд Клеман вышел из своего укрытия и направился к Аньес. – Ты подслушивал? – Да, мадам. – Что ты об этом думаешь? – Я беспокоюсь. Бальи прав, нам надо усилить бдительность. – Ты думаешь, что за всем этим стоит Эд? – Даже если он и стоит, я сомневаюсь, что он является вдохновителем. Он не стратег. Ему больше подходит роль шпиона. – Ему может давать советы более умная голова. Кроме того, как мой платок оказался в лесу? – Мабиль? – А почему бы и нет? Она очень хитрая и коварная. Думаю, она разожгла в себе нечто вроде ненависти к нам… Ненависти слабых, которые предпочитают преследовать еще более угнетенных, чем они сами, чтобы не навлечь на себя гнев своего повелителя. – Я был заинтригован, если не сказать встревожен тем оборотом, который вы придали этой… беседе, мадам. Аньес улыбнулась, пристально глядя на Клемана. – Наступательный… Боевой поединок, это хочешь сказать? – Вот именно. – Видишь ли, Клеман, поскольку женщины вынуждены подчиняться мужчинам, они умеют заплетать следы, по примеру дичи. Через несколько лет ты это лучше поймешь. – Какой дичи? – Хм… секача,[51] разумеется. – Они крупные, но чуткие и предпочитают пугать, а не нападать. – Но когда нападают, ничто не может устоять под их напором. Монж де Брине прощупывал меня. Это стало очевидным после первых же его слов. Но я не знаю, почему он это делал. И напротив, я знаю, что ни одно из моих объяснений не стало для него новостью. Теперь остается выяснить, какие подлинные причины двигали им, когда он решил посетить меня. Кроме того, нельзя было допустить, чтобы он догадался о моих опасениях. – Говорят, граф д'Отон – очень могущественный человек. – Да, он очень могущественный. – А ваш сводный брат – ординарный барон и его вассал. – А я вассал Эда, что делает меня вавассалом[52] графа. – Вы встречались с ним? – Я помню, как молодой высокий человек, угрюмый и неразговорчивый, приехал навестить покойного барона Робера. Только и всего. Я была тогда маленькой девочкой. – Не могли бы вы, мадам, заручиться его непосредственным покровительством? – Тебе, как и мне, хорошо известно, что сеньор сеньора не вмешивается в дела своего непосредственного вассала, за исключением отказа в правосудии или ложного суда.[53] Но это не наш случай. Артюс д'Отон не станет вмешиваться в семейные споры, иначе сложится щекотливая политическая ситуация, которая может ему навредить. Конечно, Эд – мелкий сеньор, но у него есть весомый козырь: его железные рудники. – Его железный рудник, последний, и, как говорят, он истощился, – поправил Аньес Клеман. – И все же он добывает достаточно железа, чтобы производить впечатление на короля. Клеман… – Мадам? – Я так корю себя за то, что впутала тебя в эти интриги, но… Клеман сразу же понял, что тревожило Аньес, и поспешил ее успокоить: – После своего визита в часовню Мабиль довольно долго никуда не выходила и не встречалась ни с кем, кто мог бы сыграть роль гонца и сообщить о ее открытиях вашему брату. Аньес протянула руку, и Клеман прижался к ее ладони, закрыв глаза. Ближе к вечеру другой неожиданный визит отнюдь не улучшил настроение Аньес. Жанна д'Амблен из Клэре совершала свое ежемесячное путешествие. Обычно Аньес нравилась живая непосредственность монастырской казначеи. Она всегда привозила с собой множество незатейливых историй, анекдотов о своих встречах с зажиточными горожанами, крупными торговцами, откупщиками или же местными дворянами, которые развлекали молодую женщину. Все сведения о мире – рождения, браки, смерти, беременности и урожаи – доходили до нее благодаря казначее. Но сегодня было видно, что сестру снедало какое-то беспокойство. Женщины расположились в небольшой прихожей перед покоями Аньес, где стояли изящный столик и два кресла. От легкого ветерка накидка Аньес зашевелилась. Она посмотрела на высокое окно. Несколько стеклянных ромбов, обрамленных свинцом, были разбиты. Птица? Но когда? В течение дня она только проходила несколько раз через эту маленькую комнату и располагалась там лишь в тех случаях, когда ей наносила визит какая-нибудь дама, то есть крайне редко. Что за несчастливый день! Стекло стоило так дорого, было такой редкостью… Несколько застекленных окон мануария были лишь воспоминаниями о расточительных вкусах Гуго. Когда наступала зима, другие окна утепляли полотнами и шкурами. Где найти деньги, чтобы вставить недостающие ромбы? Чуть позже… Аньес сделала над собой усилие и занялась своей гостьей: – Не выпьете ли чарку медовухи? – Я никогда не отказываюсь от хорошей медовухи, а та, что варят у вас, одна из самых лучших. – Вы мне льстите. Улыбке, которой одарила Аньес казначея, не хватало убедительности. Впрочем, она тут же перешла в наступление: – Я приехала, как только узнала о визите бальи. – Новости быстро распространяются, – откликнулась Аньес. – Не совсем так. Монж де Брине сначала посетил Клэре. Сразу же после лауд*. – А почему он приехал в аббатство еще до рассвета? – Чтобы побеседовать с нашей матушкой. Тогда мы и узнали, что затем он собирается ехать в Суарси. Больше мне ничего не известно. Наша матушка попросила меня съездить к вам, чтобы убедиться, что с вами все в порядке. Да так бы я и поступила, если бы ее мысль не опередила мою, – добавила Жанна д'Амблен. – Какой ужас – все эти убийства! Ведь речь идет об убийствах, не правда ли? – Все заставляет нас думать именно так. – Ужас! – повторила казначея, положив руку на массивное деревянное распятие, висевшее у нее на груди. – Монахи… Сестра Аделаида права. Эта история с тонзурой такая таинственная… Но почему эти три, а возможно, и все четыре монаха отрастили волосы? – Чтобы раствориться в толпе, стать незаметными, полагаю. – Хм… Убедительное предположение. Во всяком случае, оно подходит для второго, того эмиссара Папы, с которым встречалась наша матушка. После его визита она была так взволнована… Разумеется, мы связали ее волнение с ним гораздо позже, поскольку не знали, с какой миссией он приезжал. – А послание, которое он с собой вез? – встрепенулась Аньес, хотя знала ответ благодаря бальи. – Исчезло. Наша матушка потеряла аппетит. Она отказалась поведать нам о содержании послания, а поскольку я ее хорошо знаю, то не сомневаюсь в весомости причин, которыми она руководствовалась. – Но другие жертвы… – … не посещали нас, если вы об этом спрашиваете. Немногие мужчины, за исключением каноника и наших юных учеников, могут попасть в монастырь, иначе нам стоило бы большого труда соблюдать обеты, ведь их лица выражают такую горячую признательность. Она замолчала и несколько минут хмуро смотрела на Аньес, а потом продолжила: – Сейчас затевается что-то ужасное, я чувствую это. Впрочем, не только я одна. Тибода де Гартамп, наша сестра-гостиничная, другие, даже Иоланда де Флери, которую, казалось бы, ничто не может смутить, тоже встревожены. А отчаянное молчание нашей матушки только разжигает беспокойство. Да, это отчаянное молчание. Она замкнулась в себе, чтобы защитить нас, всех своих дочерей, но я не знаю от чего. Мы боимся, мадам… Аньес в этом не сомневалась. Казалось, густая тень нависла над обычно радостным, ясным лицом казначеи. Та продолжала: – Я боюсь неведомого, форму которого я никак не могу представить… Словно пагубная туча готова опуститься на нас, словно злобный зверь крадучись подбирается к нам. Вы подумаете, что я рассуждаю как безумная суеверная старуха… – Конечно, нет. Вы лишь подтвердили мои подозрения. Я тоже опасаюсь… не знаю чего. Это была не совсем ложь, но и не совсем правда. Страхи Аньес имели более определенную форму: Эд. Однако, в отличие от казначеи, Аньес чувствовала, что тайком замышляется нечто более грозное, которое вскоре обрушится на них, словно удар бича. Жанна д'Амблен колебалась, но потом все-таки решилась: – Безусловно, я сегодня приехала, чтобы проведать вас, но также… как бы это лучше сказать… Одним словом, мы хотели бы знать, не открыл ли вам мессир де Брине… не знаю, какую-нибудь деталь, которая помогла бы нам разобраться, успокоить нашу матушку, лучше понять, может быть, даже помочь ей защитить других несчастных жертв? – Нет. Откровенно говоря, у меня такое чувство, что он, как и мы, блуждает в потемках. Вскоре после отъезда казначеи Аньес решила немного отвлечься от грустных мыслей. Она пошла на голубятню, чтобы проверить, вернулся ли Вижиль. Все уже привыкли к его таинственным прогулкам. Порой он исчезал из голубятни на целый день, но по вечерам всегда возвращался проведать своих голубиц. Аньес не видела Вижиля со вчерашнего дня, и какое-то смутное беспокойство за птицу примешивалось к и без того мрачному настроению, не покидавшему ее. Некоторые охотники стреляли поспешно, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. В голубятне Вижиля не было. Не сидел он и на коньке крыши мануария. Она погладила одну из подруг Вижиля, но та вдруг принялась яростно клевать ее руку, что показалось Аньес дурным предзнаменованием.Лес Бетонвийе, недалеко от Отон-дю-Перш, июнь 1304 года
Великолепный гнедой жеребец застыл, как мраморная статуя, едва всадник слегка ударил его ногой. Весь покрытый потом, он фыркал, но ни один мускул его мощной шеи даже не вздрогнул. Он понимал, что сидевший на нем верхом искусный наездник натягивал свой турецкий лук, сделанный из двух бычьих рогов, стянутых металлической скобой. Оперенная стрела длиной в три фута со свистом устремилась на штурм неба. Она могла бы продолжить свой полет и дальше, преодолев еще метров сто, но угодила в мишень, взмахнувшую крыльями от удивления, но и от боли тоже, а затем, закружившись в водовороте перьев, упала к ногам охотника. Всадник соскочил с жеребца и нагнулся, чтобы подобрать птицу. Стрела проткнула ее насквозь, войдя‹$ грудь и выйдя за сочленением крыла. Рука, затянутая в перчатку, застыла в нескольких сантиметрах от прекрасной шеи с розовато-лиловым отливом, обагренной алой кровью. Одну из мощных лапок птицы сжимало кольцо, ко второй же лапке была привязана записка. Лицо охотника скривилось от досады. Он убил почтового голубя, великолепную птицу, о которой ее законный владелец будет, несомненно, жалеть. Да уж, прекрасная добыча, ничего не скажешь! Ему придется возместить ущерб сеньору или монастырю, которым принадлежал голубь, хотя он и убил его на своих землях. Но вскоре эта досада сменилась другой: его зрение слабело. Он, некогда способный следить за охотящимся ястребом, не упуская его ни на мгновение из вида, вскоре начнет путать голубей с обыкновенным фазаном! Тайные проделки возраста. С каждым днем он все сильнее ощущал его подрывную работу. Скоро ему исполнится сорок три года. Разумеется, он еще не старик, он совсем недавно распрощался с молодостью.[54] Но все же его суставы ноют после долгого дня, проведенного в седле, и ему уже не хочется проводить ночи вне дома, спать где придется. Если верить трактату «Четыре возраста человека», написанному сорок лет назад Филиппом Новарским, ему осталось прожить всего лишь несколько прекрасных лет до того, как он начнет стареть. Артюс д'Отон снял перчатку с правой руки и ущипнул себя. Обветрившаяся кожа, задубевшая от того, что его руки в течение многих лет подряд не выпускали оружия, теперь истончилась. Казалось, местами она хочет сойти с плоти, которую защищала. Что касается запястья, то на нем и вовсе не осталось мышц. – Черт бы подрал эти годы, – процедил он сквозь зубы. Годы пролетели стремительно, но все же он смертельно устал от них. Один день сменял другой, и так до бесконечности. Он даже не мог отличить их друг от друга. Родившись в царствование Людовика IX,[55] он вырос при Филиппе III Храбром, коннетаблем которого был его преждевременно скончавшийся отец. Артюсу д'Отону исполнилось девять лет, когда родился Филипп, ставший четвертым из королей, носивших это имя. Он обучал будущего юного короля премудростям охоты, искусству стрелять из лука. Уже тогда чувствовалось, что тот, кого впоследствии назовут Красивым, наделен несгибаемым, суровым характером. Артюс д'Отон был убежден, что Филипп, если будет следовать мудрым советам, станет не только великим королем, но и тем, кем следует восхищаться издалека. Поэтому он поблагодарил зa оказанную ему честь, но отказался от обременительной должности своего отца, которую мог бы занять благодаря своей дружбе с монархом, тем более что должность стала почти наследственной. Артюс отправился путешествовать по свету, встречался со многими людьми, переменил множество пристрастий, побывал на Святой земле, откуда увез несколько удивительных впечатлений, пылкое неистовство и многочисленные раны, которые теперь давали о себе знать при приближении грозы. И хотя он своим умом и мечом служил многим праведным делам, ни одно из них не захватило его настолько сильно, чтобы он посвятил ему всю свою жизнь. Он вернулся во Францию, не претерпев тех душевных изменений, на которые надеялся, и вновь погрузился в однообразную скуку сменявших друг друга похожих дней. Затем он с головой ушел в заботы о своем маленьком графстве. Его отец совсем не занимался графством, все свои силы отдавая политике короля. А забот Артюсу хватало. Ему пришлось усмирять, более или менее жестоко, мелких дворян, которые вцеплялись друг другу в глотку, методично захватывая земли, не принадлежавшие им. Овдовев в тридцать два года, он почти забыл черты лица своей хрупкой супруги, умершей вскоре после рождения их сына. Малыш Гозлен унаследовал от матери слабое здоровье. Когда малышу было четыре года, он умер от истощения. Горе отца сменилось яростью животного, уничтожающего все на своем пути. В течение нескольких недель эта ярость полыхала в замке, терроризируя домочадцев до такой степени, что слуги прятались, как маленькие зверюшки, едва заслышав неистовый топот его шагов. Две смерти. Две нелепых смерти. И ни одного наследника. Только гнетущее одиночество и сожаление о том, чего не было. Артюс д'Отон стряхнул с себя оцепенение. Если он вновь позволит своим мыслям вступить на этот отравленный путь, день будет неизбежно испорчен. Еще один день. Он подобрал голубя и стал осматривать кольцо, пока не решаясь вытащить из еще теплой плоти длинную стрелу. Прописная буква С, с которой переплеталась строчная буква и. Суарси. Это была птица молодой вдовы, незаконнорожденной сводной сестры Эда де Ларне. Он не помнил, чтобы когда-либо встречался с вдовой. Впрочем, Брине ему описал ее, правда, всего в нескольких словах, но при этом в его глазах сверкали торжествующие искорки. Когда несколько дней назад Монж де Брине, его бальи, вернулся, чтобы доложить о проведенном расследовании, Артюс спросил его: – Ну и как поживает эта загнанная лань, которую вы затравили? – Ах, если она загнанная лань, то я жалкий гусенок. Мой приезд не произвел никакого впечатления на даму, если только она не мастерица скрывать свои чувства. Эта женщина скорее рысь, чем лань. Она недоверчивая, отважная, умная и терпеливая. Она позволяет хищнику приходить на ее земли, делая вид, что не замечает его. Что касается охотников, она заигрывает с ними, притворяясь, что поддается им, а на самом деле защищает своих людей, готовит тылы и составляет план бегства. – Как вы считаете, она причастна к этим убийствам? – Нет, мессир. – Вы слишком категоричны. – Я просто разбираюсь в человеческих душах. – Женская душа – потемки, друг мой, особенно, – добавил граф, слегка улыбнувшись, – если речь идет о рыси. – Черт, да… Она боится, но отнюдь не потому, что виновна. Намеренно приняв высокомерный вид, она хотела убедить меня в обратном. По моему мнению, она не имеет никакого отношения к этим убийствам. И тогда встает простой, но тревожный вопрос: как оказался ее платок в этих зарослях? Его туда подбросили, но кто? Чтобы перевести на нее подозрение, но зачем? Сведения, которые я о ней собрал, сугубо формальные. У нее нет большого состояния, как раз наоборот. Суарси представляет собой крупное хозяйство, однако оно не такое процветающее, как хозяйства наших богатых держателей Отона и его окрестностей. К тому же мануарий и земли достались ей в наследство от мужа. У нее нет личного имущества. Если ее лишат вдовьей доли, имущество перейдет к ее сводному брату до совершеннолетия Матильды, ее единственной дочери и, следовательно, наследнице Гуго де Суарси. Таким образом, на это имущество вполне может зариться Эд де Ларне. Ведь он очень богат, хотя и бросает на ветер свое состояние, да и состояние жены. Эд де Ларне. Настроение графа Артюса сразу же испортилось при одном лишь упоминании имени его вассала. Эдкуница. Под толстой оболочкой и мужественной внешностью победителя скрывался трус и подлый стервятник. Мужчина, бьющий женщин, которым он задирает юбки, не достоин называться мужчиной. По крайней мере, именно такие слухи, ставшие известными Артюсу, ходили о репутации ординарного барона. Несколько минут он колебался, водя указательным пальцем по тоненькой трубочке, обвивавшей лапку убитого им голубя. Нет, это послание было написано дамой Суарси или по ее распоряжению. Было бы неприличным читать его без разрешения дамы. – Давай убедимся своими глазами, мой прекрасный Ожье,[56] – сказал Артюс боевому коню, который зашевелил ушами, услышав свое имя. Артюс д'Отон резко выдернул стрелу, усилием воли застав себя посмотреть на ручеек крови, вытекавший из раны. Он вскочил в седло и дружески похлопал ногами по бокам жеребца, тут же устремившегося на север. В конце концов, это тоже было одним из способов закончить день, да и к тому же рассказ Монжа заинтриговал его. Граф не слишком верил восторженному описанию дамы, сделанному бальи. Брине питал к женщинам нежность, к которой примешивалось восхищение. Его женитьба на живой, своенравной барышне из порядочной семьи горожан Алансона не остудила эту страсть, как раз наоборот. Пусть эта Жюльена не была самой красивой девушкой Перша, но она, несмотря на свою юность и невзрачную внешность, умела развлекать и доставила им – Монжу и ему самому – несколько приятных мгновений, заставив их смеяться: настолько талантливо, если не сказать гениально, она умела подражать. Она прямо у него на глазах так точно изображала графа Артюса, сурово хмуря брови, глядя в пол с задумчивым видом, скрещивая руки за спиной и прохаживаясь, чуть склонившись, словно ей мешал высокий рост, что граф, который не потерпел бы ни от кого другого столь милой выходки, давился от хохота. Суарси находился в трех часах верховой езды, чуть меньше, если пустить жеребца галопом. Мадам де Суарси не сможет отказать своему сюзерену в ночлеге, если в этом возникнет необходимость. Как только он удовлетворит свое любопытство, он вернется домой.Мануарий Суарси-ан-Перш, июнь 1304 года
Батрак, потерявший голову при упоминании имени графа, показал ему на лес. Запинаясь, он едва смог объяснить, где находилась хозяйка мануария. Ожье, по ослабленным поводьям и удилам почувствовавший, что всадник колеблется, перешел на медленный шаг. – Еще есть возможность повернуть назад, – прошептал Артюс д'Отон, словно спрашивая совета у жеребца. – Что за смешное ребячество! Ба… Тем хуже, пойдем до конца! Ожье прибавил шаг. Внимание графа привлекала дымовая завеса на расстоянии туазов пятнадцати от него. В клубах дыма суетились два мужских силуэта, один грузный и высокий, второй изящный. Два крестьянина, если судить по их коротким рубахам, перехваченным на талии грубым кожаным ремнем и соединенным с браками[57] из грубого полотна. На обоих мужчинах были перчатки и странные головные уборы: нечто вроде шляпы с тонкой вуалью, плотно обвивавшей их шеи. Занервничавший жеребец передал свою тревогу Артюсу. Медовые мухи летели в их сторону. Улья. Два серва окуривали улья. Граф резко натянул поводья и заставил Ожье сделать несколько шагов назад. Потом он спрыгнул на землю. Он находился всего в двух-трех туазах от сервов, однако те, казалось, были так увлечены своим занятием, что не заметили, как он подошел. Несомненно, их странная защитная одежда не позволяла им хорошо слышать. – Эй! – крикнул он, отмахиваясь рукой в перчатке от вьющихся вокруг него медовых мух. Графа заметили. Изящный силуэт повернул к нему свое закрытое вуалью лицо. Звонкий, похожий на юношеский голос произнес решительным тоном, удивившим графа: – Отойдите, мсье, они нервничают. – Они защищают мед? – Нет, своего царя, причем с такой самоотверженностью и ожесточенностью, что им могли бы позавидовать многие солдаты, – возразил властный голос. – Отойдите, говорю же я вам. У них очень сильный яд. Артюс сделал несколько шагов назад. Это был не юноша. Это была женщина, великолепно сложенная, несмотря на свой странный наряд. Значит, Аньес де Суарси при необходимости превращалась в сборщика меда. Монж де Брине был прав: рысь была смелой, потому что укусы этих легионов атакующих медовых мух могли оказаться смертельными. Прошло добрых десять минут, в течение которых граф не спускал с нее глаз, наблюдая за точными, быстрыми жестами, восхищаясь ее спокойствием, которое необходимо было сохранять, чтобы не разозлить медовых мух еще сильнее, прислушиваясь к распоряжениям, которые она отдавала твердым голосом слуге, казавшемуся рядом с ней настоящей горой из плоти. Артюса обуревали противоречивые чувства: он забавлялся и одновременно пребывал в замешательстве. Она может рассердиться, что ее застали в браках, которые – и он в этом не сомневался – были более подходящей для сбора меда одеждой, чем платье. Безусловно, но общество неодобрительно относилось к переодеванию женщин в мужскую одежду,[58] каковы бы ни были на то причины, хотя непокорная Алиенора Аквитанская некогда проделывала это не раз. Наконец, графу показалось, что сборщики меда закончили свою работу. Они шли в его сторону. Слуга осторожно нес два тяжелых ведра с янтарной добычей. Дама де Суарси развязала защитную вуаль, обнажив тяжелые белокуро-медные косы, собранные в пучок по обеим сторонам ее изящной головки. Поравнявшись с графом, она сказала равнодушным тоном: – Они сейчас успокоятся и полетят к своему царю. Вдруг ее тон изменился, стал резким. – Вы застали меня в нелепой одежде, которая мне не к лицу, мсье. Несомненно, было бы предпочтительней, если бы вы сообщили о своем визите, прислав ко мне одного из моих людей, а сами дожидались бы меня в мануарии. Граф редко встречал женщин такой совершенной красоты, с высоким бледным челом, с выщипанными бровями по тогдашней моде. Он открыл было рот, чтобы произнести заранее приготовленные извинения, но она не дала ему возможности заговорить: – Суарси, уверяю вас, всего лишь ферма. И все же там соблюдают правила приличия и не ведут себя как грубияны! Как вас зовут, мсье? Черт возьми, гнев дамы едва не привел его в замешательство, его, солдата и охотника, одного из самых грозных фехтовальщиков Французского королевства! Да, он не привык, чтобы его вот так ставили на место. Он взял себя в руки и спокойно произнес: – Артюс, граф д'Отон, сеньор де Маль, де Ботонвийе, де Люиньи, де Тирон и де Бонетабль, к вашим услугам, мадам. Аньес словно окатила ледяная волна. Граф д'Отон был человеком, которого никогда не следовало грубо одергивать и уж тем более оскорблять. Разумеется, она всегда сомневалась, что он выступит в ее защиту, и все же эта могущественная тень превратилась в своего рода магическое заклинание, которое никто не осмелился бы произнести, чтобы не разочаровываться в недостаточности его власти. Далекий талисман. Впрочем, это была главная причина, по которой она запрещала себе приближаться к нему, чтобы искать справедливости. Если он оттолкнет ее от себя, как она это предвидела, она останется совсем беззащитной, одна против Эда, и не сможет больше надеяться на неожиданное чудо. А ведь сейчас, как никогда прежде, она нуждалась в своей вере. Аньес закрыла глаза. Она тяжело дышала через приоткрытый рот, внезапно так сильно побледнев, что даже ее губы стали бескровными. – Вам плохо, мадам? – забеспокоился он, протягивая к ней руку. – Жара, усталость, ничего страшного. Она выпрямилась и добавила: – И Суарси. Вы забываете о Суарси. – Суарси находится под защитой барона де Ларне, мадам. – Он ваш вассал. – Да, это правда. Аньес присела в запоздалом, но изящном реверансе, который ее крестьянская одежда сделала еще более очаровательным. – Прошу вас, мадам. Я грубиян, вы правы… Вы уже закончили с медовыми мухами? – Жильбер приведет все в порядок. Они любят его. Он все делает неторопливо, и у него добрая душа. Займешься, Жильбер? – Да-а, да-а, моя добрая дама. Я принесу мед и воск, не беспокойтесь. – Вы выглядите измученной, мадам. До мануария вас довезет Ожье. Позвольте… Граф наклонился, сложил руки в форме чаши, чтобы она могла поставить на них ногу. Аньес была легкой, мускулистой. Она села верхом, удобно расположившись в седле. Это была неприличная поза, когда речь шла о даме, но он нашел ее волнующей. Аньес совершенно не боялась норовистого жеребца, который привык лишь к своему хозяину. Она прекрасно держалась в седле. Артюс подумал, что Монж был прав. Теперь он сомневался, стоит ли говорить о подстреленном им голубе, боясь испортить этот чарующий момент. Слишком быстро – поскольку он в пути наслаждался молчанием – они добрались до мануария. Аньес не стала дожидаться, когда он подаст ей руку, и ловко соскользнула на землю по боку Ожье, который даже не вздрогнул. Прибежала Мабиль. Необычная бледность служанки укрепила Аньес в мысли, что этот человек был козырем, который она должна приберечь для себя. Мабиль склонилась в глубоком реверансе. Значит, она видела его у своего хозяина. – С вашего позволения, мсье, я переоденусь. А чтобы скрасить ваше ожидание, Мабиль подаст вам прохладительные напитки и свежие фрукты. – У меня, мадам, – нерешительным тоном начал граф, похлопывая по кожаному ягдташу, привязному к седлу, – есть новость, которая доставляет мне немалое огорчение, поверьте. – Дичь? – Прискорбная ошибка. Он вытащил из ягдташа уже окоченевшего голубя, нежная лиловая шея которого была изуродована подтеками застывшей крови. – Вижиль… – Значит, он ваш. – Конечно, – прошептала Аньес, пытаясь сдержать слезы, заволакивавшие ее глаза. – Ах, мадам, как мне жаль. Он пролетал над моим лесом, я пустил стрелу и… Мабиль, словно обезумев, бросилась к птице, тараторя: – Я заберу его, мадам, не… – Не трогай! Резко, словно удар хлыста, прозвучал приказ. Аньес заметила послание, обвивавшее лапку птицы. – Не трогай, я сама этим займусь. Девушка отступила под недоуменным взглядом графа д'Отона. По ее бегающим глазам и дрожавшим губам Аньес поняла, что именно Мабиль была автором послания, однако ей удалось сохранить спокойствие. Талисман. Этот человек уже совершил маленькое чудо, поскольку Аньес не сомневалась, что послание было адресовано Эду. Теперь стало понятно, как переписывались сообщники: благодаря выдрессированному прекрасному голубю, так щедро подаренному ей сводным братом. Грусть от утраты Вижиля мгновенно прошла. Аньес с улыбкой повернулась к тому, кто еще не осознавал, какую помощь он ей оказал. – Я… дикарь. Умоляю вас, мадам, поверьте. Я был уверен, что по небу летит маленький фазан. Он летел достаточно высоко и… – Мсье, прошу вас. Ваша ошибка опечалила меня, поскольку я дорожила этой птицей, но… другие не были бы столь учтивы и не принесли бы мне птицу. Дайте мне несколько минут. Я скоро вернусь. Аньес прижала Вижиля к груди и пошла в свою спальню. Поднявшись на второй этаж, она свернула в другой коридор и позвала снизу неустойчивой лестницы: – Клеман! Ты мне нужен. – Иду, мадам. Раздались шаги, такие же легкие, как шаги мыши, и в люке показалось лицо. – Вижиль? – Да. Спускайся. Он нес послание. – Вот вам и связь! – Этот охотник – не кто иной, как граф д'Отон. Он ждет меня в большом зале. Поторопись. Ребенок спустился по лестнице и вошел в спальню Аньес. Она коротко рассказала Клеману о встрече, по меньшей мере неожиданной, не решаясь пока считать ее ниспосланной провидением. Клеман слушал Аньес с улыбкой на устах, но взгляд его сине-зеленых глаз был суровым. – Переодевайтесь, мадам. Я сейчас освобожу лапку птицы. Аньес колебалась. На переодевание у нее было всего лишь несколько минут. Что выбрать? Уж во всяком случае не это парадное платье, которое она сшила из роскошного отреза, преподнесенного ей Эдом. Блестящая мишура не очарует этого человека. А ей непременно надо было очаровать графа д'Отона, ведь от него зависело ее спасение. Она мастерски владела этим искусством, однако сегодня ее охватил необычный страх. – Это шифр, мадам. Буквы заменены цифрами… кроме римских… Возможно, это действительно числа. Не надо быть большого ума, чтобы понять их значение ХХПХ – XII – MCCXCXIV, 1294 год, год моего рождения. Мабиль передавала сведения из книги часовни. Возможно, в этом послании есть и другие уточнения, которые помогут нам понять его содержание. Аньес обернулась к Клеману, который из чувства стыдливости смотрел в небольшое окно ее гардеробной. – Ты думаешь, что сумеешь проникнуть в тайну? Клеман, ты обязательно должен это сделать. – Я постараюсь раскрыть ее. Обычно шифр составляют на основе справочной книги, но в Суарси никогда не было такой книги, к которой имели бы доступ челядинцы. Сначала я займусь Псалтирью на французском языке, той самой, которую вы подарили своим людям. Только я боюсь, что эти заговорщики оказались более хитрыми, чем мы предполагали. Понимаете, заговорщики выбирают какую-нибудь страницу и зашифровывают буквы, встречающиеся на ней. Хитрость состоит в том, что читать надо не с первой буквы первой строчки, а с какой-либо другой определенной буквы или строчки. Таким образом, необходимо время, чтобы понять шифр. – Откуда тебе это известно? – Из книг, мадам. Они хранят в себе столько чудес. – Разумеется, но они большая редкость. Не знаю, содержит ли наша скромная библиотека столь богатые сокровища. – Могу ли я вас покинуть, мадам? – Конечно, но не исчезай, как ты это любишь. – Только не сегодня вечером, мадам. Я буду следить за вами. Аньес едва не улыбнулась. Но что она делала бы без него, без его бдительности и ума, все новые грани которого она открывала для себя с каждым днем? Прежде чем уйти, Клеман обернулся и ласковым голосом спросил: – А он что за дичь, мадам? Олень? – Он достаточно породистый и мощный, но нет, не олень. Он более изворотливый. Олень пускается бежать, едва заслышав сигнал к травле. Затем он делает мужественный, но бесполезный крутой поворот. Этот же все просчитывает и идет на опережение. Он знает, когда надо отказаться от стратегии, чтобы применить силу, и никогда не поступает наоборот. Нет, не олень… Лиса,[59] возможно… – Хм… ценное животное, хотя его практически невозможно приручить. Клеман закрыл за собой тяжелую дверь, ощетинившуюся шляпками гвоздей. Ее платье для мессы, светло-серое шерстяное платье, прекрасно подойдет. Она покрыла волосы длинной легкой вуалью, которую на верхушке поддерживал маленький тюрбан более насыщенного серого цвета. Мягкие линии платья подчеркивали изящество силуэта Аньес и как бы удлиняли его. Она могла себе это позволить, поскольку ее гость был высокого роста. Грациозная строгость ее туалета прекрасно сочеталась с тем, как она представляла своего гостя. Она взяла в рот щепотку пряностей, чтобы освежить дыхание, и закапала в глаза немного «Прекрасной донны»[60] – настойки, которую в прошлом году привез из Италии Эд. Она крайне редко прибегала к этому средству и использовала содержимое серебряного флакона, украшенного серым жемчугом и мелкой бирюзой, лишь для того, чтобы проверить его действие. Казалось, ее взгляд внезапно стал более ясным, приобрел странную глубину, приятную томность. Аньес прошла на кухню. Она не сомневалась, что найдет там свою дочь. Девочка с вожделением следила, как хлопотали Аделина и Мабиль. – Мадемуазель моя дочь, мы удостоились чести принять важного гостя, графа д'Отона. Я хочу, чтобы вы произвели прекрасное впечатление, а потом оставили нас. Надеюсь, мне не придется просить вас об этом. – У нас граф д'Отон, мадам? – Вот уж действительно сюрприз. – Но… на мне старое некрасивое платье и… – Оно вполне подходящее. В любом случае, ни один из наших туалетов не может соперничать с туалетами дам из окружения нашего сеньора. Ведите себя достойно, это самое лучшее украшение дамы. Быстро причешитесь и немедленно спускайтесь. Когда Аньес присоединилась к графу в большом зале, он сидел на одном из посудных сундуков и играл с собаками. – У вас чудесные молоссы, мадам. – Они настоящие сторожа… По крайней мере были таковыми до вашего приезда. Услышав этот ненавязчивый комплимент, граф улыбнулся и сказал. – Я просто нахожу общий язык с животными. Наверно, я их понимаю. Она не станет извиняться за то, что отчитала его в лесу. Это было бы ошибкой, поскольку он расценил бы ее слова как низкопоклонство. Пошлая лесть, которой она потчевала Эда, не годилась для этого человека. Прибегнув к ней, она, напротив, могла бы его оскорбить. Как и следовало ожидать, Матильда вошла в комнату буквально через минуту. Она запыхалась после бега, но старалась дышать ровно и, приняв скромный вид, спокойно подошла к своему сюзерену. – Мсье, – начала она, делая очаровательный реверанс, – посетив эти стены, вы доставили нам редкостное удовольствие. Честь, которую вы нам оказали, озаряет наше скромное жилище. Граф подошел к девочке, еле сдерживая добродушный смех: – Вы очень милы, мадемуазель. Но, поверьте, это я получаю удовольствие от оказанной мне чести. Если бы я знал, что две самые прекрасные жемчужины Перша живут в Суарси, я не стал бы так медлить. С моей стороны это преступная небрежность. Услышав такую лесть, девочка порозовела от счастья и, сделав еще один реверанс, удалилась. – Ваша барышня – само очарование, мадам. Сколько ей лет? – Одиннадцать. Я слежу за ее манерами. Я хочу для нее лучшей участи… более достойной, чем управление Суарси. – Чему вы, тем не менее, посвятили себя. – Ведь Матильда родилась в не комнате, соседствующей с людской, и она вполне может стать дамой, входящей в свиту какой-нибудь знатной особы. Артюс знал, что дама де Суарси была незаконнорожденной. Но то, что Аньес это не скрывала, сбило его с толку, пока он не понял, что она прибегла к единственному оружию, способному заставить замолчать злые языки. Заявить во всеуслышание, кем она была на самом деле, означало предотвратить нападение. Действительно, прекрасная рысь. Она ему нравилась. Ужин начался с обмена любезностями. Они не обращали внимания на постное выражение лица Мабиль, которая подала им пюре изтолько что собранного зеленого горошка. Суп-пюре, связанный яичными желтками, взбитыми в теплом молоке, был восхитителен. Артюс про себя отметил, что дама была образованной, непосредственной, умной и умела шутить, что было редкостью среди женщин ее положения. После того как он сделал ей комплимент, отметив, как она невозмутимо вела себя, окруженная отнюдь не приветливыми медовыми мухами, она рассказала, бросив на него лукавый взгляд, о первом сборе меда: – …на меня устремилось целое полчище медовых мух. Я закричала и, охваченная паникой, бросила в них ведром с медом, думая, что, если я верну им отнятое, они оставят меня в покое… Не тут-то было! Мне пришлось натянуть платье до пяток и со всех ног бежать к мануарию, спасаясь от них… Только представьте, как я выглядела… Тюрбан съехал набок, вуаль почти оторвалась… Я потеряла одну туфлю. Один из этих диких сторожей пробрался мне под платье и укусил… в общем, выше колена, вот почему теперь я надеваю браки. Одним словом, я сама себя выставила на посмешище. К счастью, лишь Жильбер был свидетелем моего позорного бегства. Он храбро боролся с насекомыми, размахивая руками, похожий на недовольного гуся… И все это ради того, чтобы защитить меня. Он вернулся весь искусанный, дрожащий от лихорадки. Артюс мысленно представил себе эту сцену и рассмеялся. Как же давно он не смеялся, да еще в обществе женщины! В памяти всплыло воспоминание, до сих пор причинявшее ему боль. Лицо, перекошенное от страха, лицо хрупкой барышни, на которой он женился незадолго до своего тридцатилетия. Мадлен, единственной дочери д'Омуа, было восемнадцать лет – самый подходящий возраст, чтобы стать супругой и матерью. Но она еще играла в куклы. Ее рыдавшая от горя мать и отец, который охотно считал бы свою дочь ребенком еще несколько лет, отдали ее Артюсу только потому, что возникла необходимость заключить с графом торговую сделку. Артюс д'Отон нуждался в Нормандии с ее портами, соединявшимися с внутренними территориями страны благодаря разветвленной речной сети, чтобы расширить торговлю, тем более что эта провинция была богата железными минералами. Что касается Юшальда д'Омуа, принадлежавшего к бедному, но древнему дворянскому роду, финансовая помощь, которую обязывался оказывать ему граф д'Отон, позволяла этому дворянину позолотить свой герб, потускневший из-за неудачных вложений. Юная Мадлен д'Омуа скрепила их союз. Можно было подумать, что бессердечный варвар разлучил несчастную девушку с отчим домом. Сначала замужество стало для нее предательством, а потом превратилось в нескончаемый крестный путь, когда она поняла, что географическая удаленность от родителей лишь изредка позволит ей с ними встречаться. Артюс вновь видел, как она, отрешенная от всего, сидела на скамье в своей комнате, которую редко покидала, и смотрела через бойницу на небо, ожидая какого-то чуда. Когда он спрашивал, на что она смотрит, она поворачивала к нему свое восковое лицо, выдавливала из себя улыбку и неизменно отвечала: – На птиц, мсье. – Мы можете сколько угодно ими любоваться в саду. Сейчас тепло, мадам. – Несомненно, мсье. Но мне холодно. Она сидела, не шевелясь. Он все реже заходил в комнату своей жены. Он там не был желанным гостем. И если бы не необходимость обзавестись потомством, он, вероятно, ни за что не стал бы удручать Мадлен своим присутствием, поскольку она никогда не пробуждала в нем желания. Глядя на худое, плоское тело, к которому он едва осмеливался прикасаться из страха сломать его, он проникался странной печалью, которая постепенно переросла в отвращение. Роды превратились в кошмар. Несколько часов подряд она стонала, пока он ждал в соседней комнате. Едва разрешившись от бремени, она чуть было не умерла от кровотечения. И все же усилиями знахаря и повивальной бабки к ней, казалось, вернулась жизнь. Однако она этого, несомненно, не хотела. Она угасла, не сказав последнего слова, не бросив последнего взгляда, как слабенькое пламя, через три недели после рождения маленького Гозлена. Артюс поймал себя на мысли, что исподтишка поглядывает на Аньес. Она обладала поразительной красотой и к тому же сопровождала каждое сказанное слово изящным движением руки. Он был уверен, что под этим очарованием скрывалась незаурядная воля. Гуго де Суарси повезло, что он женился на ней по просьбе Робера де Ларне. Ей же не очень. Гуго не был плохим человеком, напротив. Однако он был неотесанным, а войны и усердное посещение таверн не придали ему лоска. Кроме того, к моменту женитьбы он был уже старым. А сколько ей было лет? Тринадцать, четырнадцать? Они беседовали о пустяках, дурачились, состязались в юморе, говоря всякую чепуху. Немного подумав, Аньес сказала: – Этот «Роман о Розе»* мсье Лорриса и мсье Мена оставил меня, как бы это сказать… неудовлетворенной. Начало разительно отличается от конца. Первый рассказ показался мне банальным, если не сказать слащавым, но во второй части сатира на «женские нравы», вложенная в уста Дружбы и Старости, меня просто раздражала. – Это связано с тем, что автор второй части был парижским клириком. Он не сумел обойти подводные камни, расставленные его образованностью, которой он охотно кичится, и окружением, а также шутовством. – Признаюсь вам, что я, напротив, питаю слабость к лэ и басням Марии Французской*. Какая прозорливость, какое изящество! Она заставляет животных говорить человеческим языком. Случай представился превосходный, и Артюс не захотел упускать его. – Я тоже очарован тонкостью ума и языком этой дамы. А что вы думаете о лэ под названием «Йонек»? Аньес мгновенно поняла, куда клонит граф. В этой чудесной поэме, послужившей поводом для размышлений о настоящей любви, женщина, выданная замуж против собственной воли, умоляет небеса послать ей нежного возлюбленного. Ее просьба была исполнена. Возлюбленный предстает перед ней в облике птицы, которая превращается в очаровательного принца. Аньес не спешила ответить. Она смотрела на паштет из цепей,[61] приправленный луком и пряностями, который она едва попробовала, так захватила ее беседа с графом. Граф же неправильно истолковал ее молчание. – Да, грубиян, сегодня вечером это слово как нельзя лучше характеризует меня. Прошу вас, мадам, забудьте о столь неприличном вопросе. – Но почему, мсье? Мессир Гуго не был супругом, о котором по ночам мечтают девушки. Впрочем, он относился к своей супруге учтиво и уважительно. Добавьте к этому, что сама я никогда не мечтала по ночам. Речь шла об оказанной мне чести. – Какая жалость, мадам. – Безусловно. Вдруг ему стало тяжело при одной мысли, что его ненасытное любопытство причинило этой молодой женщине боль. – У меня такое чувство, что я вел себя как бесчувственный чурбан. – Нет, что вы, мсье, в противном случае я этого не потерпела бы, несмотря на все мое уважение к вам… Я думаю, что Гуго был моим спасительным плотом, как говорят моряки. Он был таким же надежным. Мне едва исполнилось тринадцать лет. Моя мать покинула этот мир, когда я была совсем ребенком. Что касается баронессы, да хранит Господь ее душу, она предпочитала астрономию и не посвящала меня в тайны семейной жизни. Одним словом, я ничего не знала о супружеской жизни… о том, какие обязанности она возлагает. – Она может доставлять и удовольствие. – Судя по всему, да. Так или иначе, Гуго нельзя отказать в терпении. По моему мнению, единственной его грубой ошибкой было то, что он бросил Суарси на произвол судьбы. Гуго был воином, а не мызником и еще меньше управляющим. Большинство земель пришло в запустение, а некоторые стали неплодородными, и эту беду уже не поправишь. – Почему же после смерти мужа вы не сблизились с вашим братом? Жизнь в Ларне была бы менее тягостной для молодой вдовы и ее дочери. Лицо Аньес окаменело. Горькая складка у ее губ просветила графа лучше, чем слова. Он сразу же сменил тему разговора, выяснив то, что хотел узнать с самого начала ужина. – Этот паштет из цепей – настоящее чудо. Артюс почувствовал, что Аньес делает над собой усилие, чтобы вернуться к легкой беседе, и его охватила странная нежность. – Правда? Эти маленькие животные обожают ромен1, который мы разводим. Ромен придает им приятный вкус, который мы усиливаем, добавляя обжаренный лук. Если они нам оставляют несколько листочков, мы кладем их в суп или в салат. Затем Мабиль подала зажаренный кабаний оковалок, политый почти черным соусом из сока незрелого винограда, вина, имбиря, корицы и гвоздики. Гарниром к нему служило пюре из бобов и тушеных яблок. Едва служанка ушла на кухню, как Артюс сказал: – До чего же странная девица. «Она боится, что я пойму смысл послания, привязанного к лапке Вижиля, – вот чем объясняется ее странность», – подумала Аньес. Она посмотрела своими серо-голубыми глазами прямо в темные глаза графа и сообщила: – Это подарок моего сводного брата Эда. По ее тону граф понял, что Аньес прекрасно обошлась бы без этой девицы и что она не доверяет ей. Ужин продолжался. Аньес перевела разговор на приятные, легкие темы. Беседа вновь наполнилась остроумными шутками, учеными историями, поэтическими цитатами. Недавнее замечание графа нисколько не рассердило Аньес. Напротив, он позволил ей намекнуть, что она испытывает отвращение к своему сводному брату. Впрочем, никаких неосторожных слов она не произносила. Если граф входил в число друзей Эда, Аньес всегда могла сказать, что он неправильно истолковал ее тон. Объяснением этому могла бы послужить и непредсказуемая переменчивость настроения, свойственная женщинам. Аньес добилась своей цели: Артюс увлекся ею и их беседой. Теперь она могла как следует рассмотреть его. Он был высоким, на полторы головы выше ее – хотя для женщины она была высокого роста, – темноволосый, с темными глазами, что было необычно для этого края, где преобладали мужчины со светло-каштановыми или белокурыми волосами и голубыми глазами. Он носил волосы до плеч, как того требовала мода от знатных особ. В его волнистых прядях блестели редкие серебряные нити. У него был красивый прямой нос, подбородок, свидетельствовавший о властном характере, но и о нетерпеливости тоже. Несмотря на крупное, мускулистое тело он держался с удивительным изяществом. Обветренный из-за долгих прогулок верхом лоб прореживали глубокие морщины. Одним словом, прекрасный образчик. – Вы рассматриваете меня, мадам, – раздался весьма довольный густой голос. Кровь бросилась в лицо Аньес. Но она уклонилась от прямого ответа. – У вас прекрасный аппетит. Это делает честь моему дому. – Это и для меня честь, поверьте мне. Аньес заметила веселую искорку в его глазах. Вдруг улыбка слетела с губ графа. Он машинально поднял руку, как бы призывая к молчанию. Слегка наклонив голову в сторону низкой двери, он прислушался. Аньес чуть не поперхнулась. Клеман. Артюс д'Отон встал и неслышно, словно кошка, направился к двери. Что ей оставалось делать? Закричать, сделать вид, что на нее напал кашель? Громко и отчетливо крикнуть: «Что происходит, мсье?», – чтобы предупредить ребенка? Нет. Граф сразу же догадается о ее хитрости, и она испортит все то хорошее, что было до сих пор. Граф резко распахнул дверь. Клеман ввалился в комнату, как мешок с отрубями. Безжалостная рука поставила его на ноги, схватив за ухо: – Что ты здесь делаешь? Ты шпионишь? – Нет, мессир, нет. Клеман, объятый паникой, посмотрел на Аньес. Артюс мог избить его до полусмерти, если бы захотел. Увиливать было невозможно. Дама де Суарси лихорадочно размышляла. – Клеман… Подойди ко мне, мой сладкий. – Это один из ваших людей? – Лучший из них. Мой страж. Он следил за вами, дабы убедиться, что его даме не грозит никакая опасность. – Он слишком мал, чтобы быть грозным стражем. – Разумеется, но он полон отваги. – А чтобы ты сделал, мальчик мой, если бы я проявил дурные намерения в отношении твоей дамы? Клеман вынул разделочный нож, который он всегда носил с собой, и ответил серьезным тоном: – Я бы вас убил, мсье. Граф захохотал. Между двумя приступами громкого смеха он все же сумел сказать: – Знаешь ли ты, молодой человек, что я считаю тебя способным на это? Ложись спать. Ничего с твоей дамой не случится, слово чести. Клеман посмотрел на Аньес. Та слегка кивнула головой, и мальчик исчез, словно по мановению волшебной палочки. – Вы рождаете прекрасные порывы, мадам. – Он еще ребенок. – Который проткнул бы меня ножом, если бы в этом возникла необходимость, я в этом уверен. В этот момент в комнату вошла Мабиль. Ее глаза блестели от любопытства. – Тысяча извинений… Мне показалось, что вам нужна помощь, мадам. – В самом деле… Мы ждем третьей перемены, – сухо ответила ей Аньес. Мабиль опустила глаза, но все же недостаточно быстро, чтобы дама де Суарси не заметила в них ядовитую ненависть. Вскоре на столе появилось блюдо с закуской, состоящей из слоеных пирожков с фруктами и орехами. Мабиль придала своему лицу более любезное выражение. Однако Аньес была просто обязана избавиться от этой девицы и покончить с тем маскарадом, который та разыгрывала в течение нескольких месяцев. И подобная перспектива вызывала у нее сильное беспокойство. До сих пор Аньес удавалось манипулировать Эдом, притворяясь, будто она обожает сводного брата и доверяет ему. Инцидент с голубем больше не позволял прибегать к этой тактике, которая, несмотря на всю свою неискренность, была тем не менее эффективной на протяжении многих лет. Скрытая война, которую она вела со сводным братом, неминуемо должна была стать открытой, а у Аньес не было оружия, чтобы противостоять врагу. Она наверняка потерпит поражение, поскольку поспешила, необдуманно приказав, чтобы именно ей отдали мертвого голубя, несшего послание. Если бы она поступила иначе, она могла бы еще некоторое время притворяться, будто не знает о подлинных планах Эда. Чудесный приезд графа д'Отона, получившего удовольствие от этого вечера, только усиливал досаду дамы де Суарси. Если бы у нее было больше времени, он мог бы стать ее надежным союзником. Но она все испортила, неожиданно рассердившись на Мабиль. Аньес постаралась избавиться от тревожных мыслей. Под конец ужина подали густой крем из пьяных вишен на вафлях. – Вы устроили для меня настоящий пир, мадам. – Очень скромный для сеньора вашего положения. Артюса удивила эта куртуазная учтивость, впрочем, прозвучавшая вполне естественно, но, взглянув на молоденькую девушку, которая им подавала, он сразу же понял ее истинную причину. Теперь это была не служанка с неприятным постным лицом, которую он видел прежде, а немного угловатая и неуклюжая девушка-подросток. – Аделина, приготовь для монсеньора д'Отона комнату хозяина, ту, что находится в южном крыле. Девчушка что-то пролепетала и стремительно выбежала из зала, неумело сделав реверанс. – Она не слишком умная, зато верная, – извиняющимся тоном сказала Аньес. – В отличие от этой Мабиль, не правда ли? В ответ Аньес печально улыбнулась. – Я корю себя, мадам, за то, что причинил вам столько беспокойства. Боюсь, мой визит затянулся. Я уеду завтра на рассвете. Прошу вас, окажите мне милость, не провожайте меня. Лошадь оседлает один из ваших слуг. – А я, мсье, признательна вам за то редкое и слишком короткое удовольствие, которое вы мне доставили. Вечера в Суарси тянутся так долго, а ваше присутствие прогнало угнетающую скуку. Артюс пристально посмотрел на Аньес, желая, чтобы учтивые слова были большим, чем формулой безукоризненной вежливости. Менее чем через час Артюс устраивался в своих покоях, бывшей комнате Гуго де Суарси, которую Аделина приготовила для него с маниакальной тщательностью. Служанка даже разожгла в камине огонь, несмотря на теплую ночь. Он подошел к металлическим башенкам,[62] защищавших свечи, чтобы задуть их. Количество свечей доказывало, что они были зажжены в его честь. Слишком большая роскошь для столь скромного хозяйства. Разумеется, медовые мухи поставляли воск, но, скорее всего, Аньес продавала его, а не использовала для собственных нужд. Сняв сюрко, граф вытянулся всем телом на кровати. Он не дал себе труда раздеться и даже не стал снимать сапоги. Он лежал с широко открытыми глазами, глядя в темноту. Артюс признался себе, что немного растерялся. То, что было любопытством с его стороны, странным образом превратилось в нечто иное. Он вдруг забыл об этих ужасных убийствах. Конечно, дама ему нравилась. За всю свою жизнь он так редко испытывал это чувство, что оно вызвало у него беспокойство и даже восхищение. Неужели жизнь графа стала такой пустой, что дама де Суарси без всякого труда завоевала его сердце? Конечно, его жизнь превратилась в пустыню… если только она всегда не была пустыней. Пустыня, наполненная различными обязательствами, интересами, которые позволяли ему забыть об отчаянно медленном беге времени. Но эти восемь часов после его приезда пролетели так стремительно, что он даже не заметил их. В один вечер время вновь приобрело значимость. Эта дама расправилась со скукой Артюса, более того, она расправилась с его привычкой к скуке. Стремительная победа, о которой она даже не догадывалась. Артюс ошибался. Аньес прекрасно осознавала, какой путь преодолела за ужин. Конечно, она поздравляла себя с одержанной победой, однако слишком трезво мыслила, чтобы не понимать: она выиграла лишь одно сражение и война будет продолжаться. Аньес поднялась к себе, отдав распоряжения относительно завтрашнего отъезда графа. Она сделала вид, что не заметила отсутствия Мабиль на кухне. Неужели негодница убежала, чтобы найти пристанище у своего прежнего хозяина? Что за вздор! Только не глухой ночью и не пешком! Увидев свет масляного светильника, Аньес остановилась наверху каменной лестницы. Раздался шепот: – Мадам… – Клеман, ты не спишь? – Я жду вас, мадам. Клеман первым вошел в спальню, тускло освещенную несколькими сальными свечами. Смолистые факелы висели только в длинных каменных коридорах и просторных залах, поскольку очень сильно коптили и пачкали стены. – Произошло что-то серьезное? – забеспокоилась Аньес, закрыв тяжелую створку двери. – Можно и так сказать. Вечером голубь и послание исчезли из вашей спальни. – Но ведь ты унес его к себе на чердак, – возразила дама. – Только чтобы переписать послание. Потом я аккуратно обвязал лапку голубя этой полоской бумаги и принес его обратно. Я положил его на ваш туалетный столик. – Ты ведь знал, что она его стащит, не правда ли? Теперь понятно, почему ее нет на кухне. – Я мог бы спокойно заключить об этом пари, – сказал мальчик. – Мы еще не готовы сорвать забрало[63] с барона, мадам. Мабиль не уверена, что вы заметили послание или, в худшем случае, подозреваете, что оно исходит от нее. Однако она предпочтет в это не верить, поскольку ей выгоднее заблуждаться. Иначе ей придется признаться своему хозяину, что их план провалился, а за это он ее не похвалит. Мы должны выиграть еще немного времени, чтобы приготовиться к стычке… особенно после неожиданного визита графа. Аньес с облегчением закрыла глаза и наклонилась, чтобы прижать ребенка к себе. – Что бы я без тебя делала? – Без вас я умер бы, я умру без вас. – Тогда мы оба должны постараться выжить, мой Клеман. Аньес поцеловала мальчика в лоб и со слезами на глазах проводила его взглядом, когда он бесшумно покидал комнату. Несколько минут она пребывала в этом тревожном настроении, пытаясь прогнать воспоминания о годах печалей, лишений, одиночества и даже страха. Она отчаянно боролась с настойчивым отчаянием, пробуждавшим в ней желание смириться, возненавидеть себя. Вдруг нежданный голос, голос, который она знала так же хорошо, как и свой собственный, прозвучал в ее памяти. Она так любила слова, которые произносил этот нежный, спокойный и вместе с тем твердый голос. Голос ее прекрасного ангела, голос баронессы Клеманс де Ларне. Почему так случилось, что она едва помнила свою мать, в то время как каждый жест, каждая улыбка, каждое нравоучение, каждая ласка мадам Клеманс навсегда отпечатались в ее плоти и памяти? Божество, воплотившееся в этой женщине, которую она любила так горячо, что порой думала: баронесса была ее единственной матерью, поскольку одна заменила другую. Божество, смерть которого сделала ее сиротой. Из глаз Аньес полились слезы, прекрасные слезы. Она услышала свой голос: – Как мне вас не хватает, мадам. Вдруг ее охватило волнующее чувство, что она больше не одна. Аньес позволила себе погрузиться в воспоминания обо всех этих годах учебы, смеха, откровений и нежности, прожитых вместе. Мадам Клеманс настояла, чтобы девочка выбрала созвездие, которое должно стать их общим. Аньес долго колебалась между Девой, Орионом, созвездием Гончих Псов и многими другими, но в конце концов остановила свой выбор на созвездии Лебедя, так ярко сиявшего по ночам в начале сентября. Мадам Клеманс читала и перечитывала ей лэ Марии Французской. Как им нравилось лэ «Ланваль», повествующее о мужественном рыцаре, которому фея подарила свою любовь при условии, что он сохранит ее в тайне! Баронесса научила ее играть в шахматы, заранее предупредив девочку о своих проказах: «Должна тебе признаться, я жульничаю. Но ради любви к тебе я постараюсь быть честной в первых партиях». Была ли мадам Клеманс счастлива? Возможно, в первые годы замужества, хотя Аньес не могла бы в этом поклясться. Так или иначе, но их сблизили два одиночества. Одиночество стареющей прекрасной дамы, на которую ее муж и сын обращали не больше внимания, чем на привычную мебель, и с которой они вели себя с равнодушной учтивостью. Одиночество маленькой девочки, объятой ужасом при мысли, что от нее избавятся после смерти матери, девочки, которую изводил Эд, повторяя на все лады, что она должна быть послушной, если не хочет закончить свои дни на улице. Аньес признавалась себе, что ей всегда было страшно. И лишь присутствие мадам Клеманс придавало ей храбрости. Тогда она держалась с достоинством и умела постоять за себя. В ее память врезалась одна сцена, которую она никак не могла забыть. Что в действительности произошло? Несомненно, это было одно из галантных похождений барона Робера, после которых он приезжал в Ларне опухший от вина и пропахший девками. Без всякого предупреждения он ввалился в комнату жены, желая утолить свои плотские потребности. Аньес сидела на полу возле ног мадам Клеманс, читавшей ей сказку. Едва увидев пьяного мужа, баронесса встала. Он пробормотал нечто такое, что заставило мадам Клеманс побледнеть. Однако маленькая девочка не поняла смысла произнесенных слов. Спустя много лет в мозгу Аньес до сих пор звучал ледяной властный голос: – Уходите, мсье! Уходите немедленно! Барон поднял руку и, шатаясь, направился к жене, намереваясь дать ей пощечину. Баронесса не отступила, не закричала. Напротив, она подошла к мужу, схватила его за воротник и грозно бросила ему в лицо: – Вы нисколько меня не испугали! Никогда не забывайте, откуда я и кто я есть. За кого вы себя принимаете, свинья вы эдакая! Волочитесь за другими девками, сколько вам угодно, но нас оставьте в покое! Не попадайтесь мне на глаза, пока не протрезвеете и не раскаетесь. Уходите, гнусный солдафон, немедленно! Это приказ! Аньес отчетливо видела, что барон сразу же утратил свою спесь. Он опустил голову на грудь, а его пьяная физиономия из малиновой превратилась в серо-зеленоватую. Он открыл рот, но не произнес ни звука. Баронесса не отводила глаз, не отступала ни на шаг. Он послушался, вернее, повиновался, смущенно пробурчав: «Тоже мне светская дама!», – что было не свойственно человеку в его состоянии. Как только дверь покоев мадам Клеманс закрылась, баронесса вся задрожала. Заметив, что ничего не понимавшая Аньес заволновалась, она произнесла голосом, вновь ставшим нежным: – Единственный способ усмирить собаку – это рычать громче, чем она, поднять хвост и уши и показать зубы. – И тогда она не вцепится вам в глотку? Мадам улыбнулась и погладила Аньес по волосам: – Чаще всего собака убегает… Но иногда она нападает, и тогда надо сражаться. – Даже если боишься, что она укусит? – Страх не спасает от укусов, дорогая. Наоборот. Сражаться. До сих пор Аньес всегда старалась избежать битвы, обогнуть противника, схитрить. На протяжении нескольких лет эта тактика давала определенные результаты. Впрочем, весьма посредственные, поскольку сейчас она оказалась в более опасном положении, чем до замужества или сразу после кончины Гуго. Хитрить? Это служило объяснением, с которым она соглашалась. Но надо было признать: она не хитрила, она боялась хитрить. Она, успокаивая себя, думала, что оборонительная позиция более соответствовала даме, была более достойной. Но стервятники вроде Эда не делали дамам снисхождения, напротив. Дамы разжигали их хищнические инстинкты, поскольку стервятники думали, что слабость и страх, присущие дамам, помогут им одержать быструю и безопасную победу. Сражаться. Это означало конец уверткам, притворствам. Она тоже пойдет в наступление и будет такой же безжалостной, как ее противник. Железный рудник. Железный рудник Эда, который, если верить слухам, почти истощился. Рудник принес ее сводному брату, его предкам из рода Ларне огромное богатство, но, главное, он помог им завоевать заинтересованную благожелательность монархов, которым они служили. А что, если король Филипп узнает, что месторождение истощилось? Тогда можно не сомневаться, что очень скоро иссякнут и знаки милости, оказываемые его владельцу. Эд окажется в одиночестве, без покровительства. В таком случае ее всемогущим сюзереном станет Артюс д'Отон, а ему она нравилась. Аньес была в этом уверена. Если люди честны и если к тому же они сразу же попадают под власть чувств, их можно читать, словно книги. Никакой хитрости, ведь так утверждала она? Но женская хитрость совсем не похожа на подлый обман. Это оружие борьбы, одно из немногих, имевшихся в ее распоряжении. Рычать громче, поднять хвост и уши, показать зубы. И главное, быть готовой вцепиться в глотку противника. Чтобы победить. Как добраться до короля? Ответ был простым: анонимно. Единственным посредником, к которому дама де Суарси могла обратиться, был не кто иной, как мсье де Ногаре. Как говорили, он правил не только королевством, но и личной жизнью короля. Почувствовав неожиданное облегчение, Аньес мягко опустилась на пол. Долгий вздох принес ей полное спокойствие: – Спасибо, мой ангел, спасибо, моя Клеманс. Когда на следующий день граф Артюс садился в седло, рассвет только брезжил. Ничто не заставляло графа уезжать в столь ранний час, если только не какой-то суеверный страх вновь так скоро встретиться с женщиной, которая заполнила собой все часы, отведенные для сна. Да, этой короткой ночью он не сомкнул глаз, ведь ребяческая веселость, пробуждавшая у него желание смеяться, и нелепое наваждение, державшее его в напряжении, поминутно сменяли друг друга. Каким же женским угодником он был! Это сравнение заставило его фыркнуть. Как, ему уже за сорок, а он ведет себя словно простак, впервые воспылавший страстью? Какое чудо. Какая чудесная радость. Граф выпрямился. Ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы придать своему лицу хмурое выражение и поддержать свою репутацию унылого человека. Через несколько минут он уже скакал по полям, опьяненный мощным ровным аллюром Ожье, который за ночь набрался свежих сил. Внезапная тревога отрезвила Артюса: а вдруг он ошибался, вдруг эта женщина была приманкой, вдруг она не была мечтой, в чем он никогда не захотел бы признаться? Потрясенный такой перспективой, он пустил коня шагом. Проехав сотню туазов, он улыбнулся, вспомнив ее рассказ о первом сборе меда, закончившемся пикантным поражением. Беспорядочная смена чувств привела Артюса в смятение. Ей-богу… неужели он влюбился? Как… так быстро? Если говорить о чувстве влюбленности, то он, конечно, испытывал его. Впрочем, по общепринятому мнению, это чувство было достаточно распространенным и переменчивым и поэтому не слишком беспокоило его. Что касается любви и ее ран… По правде говоря, он не помнил, чтобы когда-либо любил. Захохотав во все горло, он повалился на переднюю луку седла, припав к шее Ожье, который тряхнул гривой в знак согласия.Улица Бюси, Париж, июнь 1304 года
В суровой тишине вечера гулко раздавалось эхо шагов по каменным плитам. Франческо де Леоне прислушался, пытаясь понять, откуда исходил этот звук. Вдруг он осознал, что это были не его шаги. Он пошел по галерее церкви. Черный плащ без рукавов бил его по икрам, порой задевал амвон, ограждавший хоры. Прямо на сердце Леоне лежал широкий белый крест, восемь концов которого были соединены попарно. Как долго он шел? Несомненно, достаточно долго, поскольку его глаза уже привыкли к полумраку. Через купол в церковь приникал слабый свет. Он позволял Леоне осматривать тени, которые словно подтрунивали над ним. Казалось, они скользили вниз по пилястрам, прижимались к основанию стен, просачивались сквозь балясины. О какой церкви шла речь? Какая разница! Эта была небольшая церковь, но все же он мерил ее шагами несколько часов подряд. В конце концов он стал узнавать каждый из этих охровых камней, казавшихся почти розовыми в тусклом свете. Он пытался догнать силуэт. Тот двигался молча, и его выдавало только легкое шуршание ткани из плотного шелка. Женский силуэт, женщина, которая пряталась. Горделивый силуэт, почти такой же высокий, как он сам. Вдруг Леоне увидел волосы женщины, очень длинные волосы. Они спадали до самых икр причудливой волной, которая сливалась с шелковым платьем женщины. Внезапная резкая боль вызвала у него одышку. В этих стенах царил ледяной холод, и его дыхание почти сразу же превращалось в облако пара, увлажнявшее его губы. Он начал охоту на эту женщину. Она не убегала, лишь только не позволяла расстоянию, разделявшему их, сокращаться. Она кружила по церкви вместе с ним, всегда впереди на несколько шагов, и, казалось, предвосхищала его движения: когда она шла по внешней галерее, он следовал за ней по внутренней. Он застыл неподвижно. Один шаг, один-единственный, и она тоже остановилась. До него долетало медленное, спокойное дыхание, но, возможно, он только так думал. Он пошел вперед, и тут же раздалось второе эхо. Франческо де Леоне медленно положил руку на головку эфеса своего меча, в то время как из-за внезапной опустошающей нежности на его глаза навернулись слезы. Он недоверчиво смотрел, как его рука сжимает металлический шар. Неужели он постарел? Из-под бледной кожи, изборожденной морщинами, выступали широкие вены. Почему он преследовал эту женщину? Кто она? Действительно ли она существовала? Хотел ли он ее убить? Франческо де Леоне резко пробудился ото сна. Пот заливал его лицо, он чувствовал в груди боль, причиняемую бешено стучавшим сердцем. Он задыхался. Он поднял руку и посмотрел на кисть. Она была длинной, квадратной, но не иссохшей. Упругая бледная кожа покрывала голубоватую сеть его вен. Он сел на краешек кровати под балдахином, стоявшей в комнате, которую отвел ему Капелла. Франческо отчаянно боролся с головокружением, лишавшим его последних сил. Кошмарный сон приобретал более четкие очертания. Леоне приближался к своей цели. Сон показывал будущее, теперь он был в этом уверен. Выйти отсюда. Воспользоваться рассветом, чтобы затеряться в толпе, бродить по городу… Он задыхался в этой комнате, в этом доме. Застоявшийся запах вызывал у него тошноту. Джотто Капелла рвал на себе волосы. На протяжении многих лет он развивал в себе настоящую неприязнь к честности. Конечно, он не испытывал особого пристрастия к греховности. Однако он испытывал нечто вроде суеверия к честности. Постепенно он пришел к выводу, что быть честным означало быть уязвимым, а быть уязвимым – значит быть униженным. Что мог знать об унижении этот прекрасный рыцарь, выходец из благородной семьи? Капелла злился на него. Но не за то, что рыцарь был благородного происхождения, а он сам не удостоился такой привилегии, и не за то, что тот беспощадно судил его за предательство в Акре. Что он думал? Неужели Джотто был настолько глупым, что не осознавал тяжесть своего преступления, когда заключал сделку с врагом? Столько женщин, детей, мужчин за триста золотых ливров. Столько отчаянных криков, столько крови. Он согласился на сделку и позволил нажиться на себе. Нет, Капелла злился на рыцаря, поскольку тот принес в его кабинет доказательство, что никакие воспоминания не умирают окончательно. А ведь ростовщик свыкся со своими воспоминаниями. Конечно, они еще всплывали в его памяти, особенно по ночам. Но с течением времени они все реже беспокоили его. Этого результата Джотто добился благодаря прекрасной теории, которую он сам разработал: в конце концов, кто мог быть уверен, что помощь подоспела бы своевременно и спасла бы Акру? К тому же план сточных желобов врагу мог бы выдать кто-то другой. Так или иначе, но они все умерли бы. Банкир искал оправданий, убеждая себя в том, что резня была неизбежной, что он был виновен не более, чем любой из других возможных предателей. И вот теперь из-за этого рыцаря, никогда не знавшего страха, побелевшие под солнцем стены Акры не выходили из его ума. И вот теперь честность пробивала дорогу к нему в сопровождении своего губительного спутника: ясности сознания. И вот теперь Капелла говорил себе, что, не соверши он преступления, тридцать тысяч человек остались бы в живых. Говоря по правде, Капелла ненавидел Леоне, однако инстинкт мелкого хищника-паразита подсказывал ему, что этот рыцарь не принадлежал к числу тех, кому можно было бы отомстить. Их надо было убивать быстро, чтобы они не смогли защищаться, но на это у Джотто не хватало мужества. До визита посланца мсье де Ногаре, пришедшего чуть раньше, после полудня, он лелеял детскую надежду, что чудо, словно по мановению волшебной палочки, избавит его от беспокойного гостя. Каждый раз, когда Джотто слышал, что гость уходил, как сегодня утром, он молил Бога, чтобы тот никогда больше не вернулся. Ведь ежедневно в этом городе умирало столько людей… Почему бы не умереть и рыцарю-госпитальеру? Джотто Капелла прекрасно понимал, насколько глупыми были его желания. Существовала и другая возможность, более реалистичная: если он ничего не станет предпринимать, рыцарь так и не встретится с Гийомом де Ногаре, и тогда, возможно, он уедет? В таком случае он смог бы и дальше жить под своим девизом-фетишем: «Всегда откладывай на завтра то, что тебя торопят сделать сегодня». До сих пор этот девиз приносил Джотто удачу и богатство. Но сейчас девиз мог сыграть с ним злую шутку, и он осознавал это. Мир Капеллы, мир, который он с таким трудом создал, рушился под ногами рыцаря. За несколько дней Джотто потерял ко всему вкус, даже соблазн легкой добычи не наполнял его трепещущей радостью. Он был вынужден признать, поскольку Леоне принудил Джотто к честности: то, что мучило его, не было угрызениями совести. Это было скорее страх неминуемой огласки его вины. Признанная вина – наполовину прощеная вина? Вздор! Лишь та вина, которую скрывают, оберегает вас. В ночной рубашке, с фланелевым колпаком на голове, Джотто терзал себе душу, приходя в отчаяние от одной только мысли о мести, которую он не сможет совершить из страха, что ему отплатят тем же. Эта помеха отбила у него за ужином аппетит, и теперь он кипел от негодования. Тайный посланец мсье де Ногаре ушел несколькими часами ранее. Леоне, несомненно, не видел, как тот проскользнул через черный ход. Мсье де Ногаре требовал, чтобы Джотто пришел к нему послезавтра. Речь могла идти только о деньгах, поскольку король Филипп без колебаний занимал крупные суммы, пусть даже потом ему приходилось изгонять заимодавцев, чтобы не афишировать долги своего королевства. Если это позволяло обогащаться за счет других – в том числе и за счет великих баронов, – прибегая к едва скрытому ростовщичеству, это было меньшим из зол. После ухода посланца Джотто тянул время: а что, если он пойдет на встречу один и предупредит мессира де Ногаре о странном требовании рыцаря? В конце концов, это не будет предательством в полном смысле слова. Однако молчание Леоне разубедило его в этом. В молчании Леоне таилось больше признаний, чем в словах. Молчание этого человека говорило само за себя: Леоне принадлежал к той породе хищников, которые из любви к Богу заботились об его агнцах. Хищник, наделенный опасной чистотой, непорочностью. Обезумевшая служанка вбежала в комнату и начала бормотать что-то нечленораздельное: – Я… я… не хочет ничего слушать, господин мой, это не моя вина… За спиной служанки показался Франческо де Леоне и жестом велел ей уйти. Он внимательно посмотрел на наряд Джотто Капеллы. Человек в ночной рубашке и колпаке более сговорчив, чем одетый. Не то чтобы рыцарь боялся подвоха со стороны ломбардского банкира. Его угрозы произвели на Капеллу такое сильно воздействие, что и без того желтое лицо банкира еще сильнее пожелтело. Приведет ли он их в действие в случае необходимости? Возможно. Жалость надо питать только к тем, кто сам способен испытывать это чувство, а Капелла оплатил кровавое убийство стольких мужчин, женщин и детей даже глазом не моргнув. – Ломбардец, когда ты устроишь мне встречу с Ногаре? – спросил рыцарь, не дав себе труда поздороваться со своим строптивым хозяином. Совпадение было слишком очевидным. Капелла понял, что рыцарь мельком видел посланца советника короля. – Я жду удобного случая. – И? – Он только что мне представился. – Когда ты рассчитывал предупредить меня? – Завтра утром. – Почему такая отсрочка? Мягкий тон рыцаря обеспокоил Джотто, который запротестовал сдавленным шепотом: – Да что вы воображаете! – Чего я от тебя жду? Самого худшего. – Это ложь! – Осторожней, ростовщик… Я убил стольких людей, которые мне ничего не сделали… Тебя же, тебя я выдам. Палачи короля питают к пыткам… пристрастие, которое усиливает почтение. Неприкрытая ирония этого выпада еще больше усилила беспокойство банкира. Он попытался доказать свою добрую нолю, объяснив: – Вполне вероятно, что нас примет Гийом де Плезиан. Вы его знаете? – Понаслышке и весьма смутно. Полагаю, он был учеником Ногаре в Монпелье, потом судьей королевского суда в этом городе до того, как стал наместником сенешаля Бокера. – Вы правы. Это вторая голова на плечах мессира де Ногаре. В прошлом году он присоединился к нему, поступив на прямую службу к королю как легист. Говоря о нем, было бы не совсем верно употреблять выражение «правая рука», поскольку никогда не знаешь, кто был вдохновителем той или иной реформы, Ногаре или Плезиан. Они оба наделены блестящим умом, но Ногаре – не оратор, в отличие от Плезиана, который, выступая перед толпой, непременно заставит ее растеряться и вывернет наизнанку, словно перчатку. Я помню, как он в прошлом году обрушился на Бонифация VIII. Это была замечательная и грозная критика… Прибавьте к этому ораторскому искусству их внешние различия. Гийом де Плезиан – красивый весельчак. Одним словом, с ним надо вести себя так же осторожно, как и с мессиром де Ногаре. В голове Франческо де Леоне промелькнула мысль: почему приор Арно де Вианкур не упомянул об этой «второй голове на плечах Ногаре», как описывал этого человека Капелла?Окрестности командорства тамплиеров Арвиля, Перш, июль 1304 года
Черная как смоль лошадь переминалась с ноги на ногу. Ее всадник – тень, скрытая капюшоном плаща, – осматривал полутемный лес в поисках жертвы. Блестящие металлические когти на правой руке вцепились в поводья. Призрак выпрямился в седле и тяжело вздохнул. На сей раз эти идиоты поручили передать послание девушке, молоденькой девушке. На что они надеялись? Что она окажет более отчаянное сопротивление, чем те мужчины, которых они уже принесли в жертву? Слабоумные. Впрочем, презрение призрака-убийцы постепенно сменялось нетерпением, возможно, даже беспокойством. Облава продолжалась более получаса. Девушка шла быстро, бесшумно. Почему так произошло, что она совсем не устала? В каких зарослях она пряталась? Почему она не потеряла голову, как другие до нее? Ведь все они не были отравлены до такой степени, чтобы бредить. Почему она не неслась, не разбирая дороги, в бесполезной попытке спастись бегством? Он сильнее сжал ногами круп лошади, которая начинала нервничать. Несомненно, животное чувствовало, что в душу его хозяина закрадываются сомнения. Что делала в Арвиле эта девушка? Имела ли ее миссия отношение к командорству тамплиеров? До сих пор послания Папы передавались через аббатство Клэре. Настроение призрака испортилось. Он терпеть не мог удаляться от своих привычных охотничьих угодий. Но он взял себя в руки, подумав, какое впечатление на него произведет это первое убийство женщины. Прочтет ли он тот же ужас в глазах жертвы, когда она заметит когтистую лапу? Порвется ли женская плоть легче, чем мужская? Надо было спешить. Наступала ночь, а ему еще предстояло преодолеть долгий обратный путь. Взгляд закутанного в плащ призрака шарил по зарослям ежевики, нижним ветвям и кустарникам. Столько расчетов, лжи, убийств. Сначала приходилось их терпеть, потом смириться с ними. Что касается удовлетворения своих потребностей, этим он не грешил. Ему было неведомо чувство радости от убийства, впрочем, и отвращения тоже. В лучшем случае речь шла о риске, в худшем – о последствиях, и если было необходимо пройти через это… Столько лет, столько горьких разочарований, унижений, несправедливых лишений определили его нынешнюю жизнь… Опьяняющее чувство, что он не был похож на других, создало все остальное. Впервые его существование обрело значимость, стало определяющим и, по сути, мало зависело от дела, которому он служил. Впервые он обрел власть. Отныне он не подчинялся ей, напротив, он держал ее в своих руках. Прижавшись к земле в двадцати метрах от копыт лошади, спрятавшись за широкими листьями папоротников, Эскив следила за преследователем, который начал охотиться за ней еще до того, как она сумела передать послание. Еще не взяв на себя выполнение этой миссии, она знала об опасностях, подстерегавших ее. Почему они посылали молодых монахов, прежде чем выбрать ее эмиссаром? Мысль о смерти была монахам столь чужда, что они предпочитали смириться с ней. Но только не она, грознаязабияка. Так воспитал ее отец. Архангел-госпитальер, он тоже не раздумывая вступил бы в схватку с ночным призраком и его лошадью, но он был так далеко. Какие воспоминания он сохранил об их первой встрече, произошедшей много лет назад? Несомненно, он помнил немногое, по крайней мере, из того, что касалось ее. Лошадь нервно шарахнулась на три шага в сторону, вновь привлекая к себе внимание Эскив, потом замерла неподвижно. Несущий зло призрак забеспокоился, и его тревога передалась лошади. Несмотря на веру, на решительность, унаследованную от отца, и, главное, бесконечную любовь к архангелу с Кипра, Эскив охватила паника, когда крупный вороной жеребец неожиданно возник из туманных сумерек. Лошадь устремилась на нее, и призрак поднял свою устрашающую перчатку. Эскив бросилась вперед; легкие, стремительные движения давали ей преимущество. Затем она распласталась на земле, застыв неподвижно, словно корень дерева, чтобы перевести дыхание и вновь обрести способность трезво мыслить. Сейчас она не могла позволить себе умереть. Важные сведения, которые она несла с собой, стоили дороже ее жизни. Потом? Потом все будет зависеть от Бога. Смерть ее мало волновала, поскольку она унесет с собой своего архангела из плоти и крови. Призрак сначала увидел лишь два бледно-янтарных озера, два почти желтых озера. Бездонный взгляд. Потом длинные вьющиеся каштановые волосы. Наконец, маленький рот в форме сердечка и такую бледную кожу, что она казалась лунной. Раздался приказ, и в то же самое время тонкая рука выхватила из ножен, прикрепленных к поясу, короткий меч. – Спешивайся. Спешивайся и вступай в бой. От столь неправдоподобного поворота событий призрак пришел в замешательство. Девушка продолжала необычайно суровым тоном: – Тебе нужна моя жизнь? Так возьми же ее. Я ее дорого продам. Что происходило? Все шло не так, как было предусмотрено. Выпад был настолько стремительным, что призрак не смог отразить удар. С мечом в руках девушка бросилась на лошадь и вонзила острое лезвие в широкую грудь животного. Лошадь встала на дыбы, заржав от боли и удивления, сбросив на землю всадника, окаменевшего от шока. Радостная, но жестокая искорка озарила и без того странный взгляд Эскив. Она улыбнулась, отошла на несколько шагов и встала, немного расставив ноги, готовая к схватке. Призрак резко выпрямился. Страх. Страх, который, как он считал, навсегда исчез, вновь охватил его. Отвратительный страх перед смертью, страданиями, перспективой опять стать никем. Он снял перчатку, ставшую бесполезной, и вынул кинжал рукой, потерявшей уверенность. Разумеется, он умел биться, но поза девушки показывала ему, что он будет иметь дело с искусным бойцом. Он растеряно посмотрел вокруг, задыхаясь от отвращения к себе, чувства, от которого, как он думал еще несколько минут назад, ему удалось навсегда отделаться. Всего лишь презренный человек, низкая душонка, одурманенная властью, которую он считал своей. Он ненавидел эту девушку. Это по ее вине вновь вернулось прошлое. Она заплатит за это, за его ненависть к себе. Он насладится ее агонией, получит удовольствие, когда услышит, как она будет кричать, потом стонать и медленно умирать. Позднее. Эскив поняла, что ее противник готов обратиться в бегство. Лишнюю долю секунды она колебалась между яростью, желанием наброситься на того, кто убил стольких ее соратников, и жизненной важностью возложенной на ее миссии. Почувствовал ли это призрак? Он бросился к огромному вороному жеребцу, который немного успокоился и стоял в нескольких туазах от него, но недостаточно быстро, не успев уклониться от широкого лезвия, которое обрушилось на его правое плечо. От боли он застонал, но страх и ненависть придали ему силы. Помогая себе левой рукой, он взобрался в седло. Лошадь и всадник мгновенно исчезли в темноте ночи.Ватиканский дворец, Рим, июль 1304 года
Первые дни июля принесли с собой еще более чудовищную жару, чем та, что стояла в июне. Воздух казался таким разреженным, что надо было заставлять себя им дышать. Ни одно дуновение ветерка не приносило облегчения, пусть даже эфемерного. Камерленго Бенедетти обессилел от борьбы с этой накатывавшейся на него упрямой душной волной. Он задремал за рабочим столом, опустив голову на левую руку и уткнувшись носом в изящный перламутровый веер. Человек остановился и прислушался. В руках он держал маленькую ивовую корзину, ручка которой была перевязана белой лентой. В этот час отдыха в приемной никого не было. Дыхание архиепископа было спокойным и ровным. Взгляд человека упал на наполовину пустой бокал с настойкой из шалфея и тмина, которую камерленго пил в полдень как средство от вздутия в животе. Очень неприятный, но надлежащий вкус, поскольку он позволил скрыть горечь порошка опиума, количество которого было рассчитано на то, чтобы вызвать коматозное забытье. Бесшумно, не тревожа застывший воздух, человек прошел за массивным столом, инкрустированным слоновой костью, перламутром и ромбами из бирюзы. Рука в перчатке приподняла гобелен с изображением застенчивой полупрозрачной Пресвятой Девы, вокруг которой летали ангелы, скрывавший низкий проход, сделанный в толстой стене. За ним находилась комната, где проводил заседания понтифик. Человек наклонился и преодолел четыре туаза, отделявших его от выполнения миссии. Просторный зал пустовал, как это и было предусмотрено. Бенедикт XI еще не вернулся после полуденной трапезы. Он не был замечен в грехах, если не считать небольшой слабости к хорошей еде, в частности той, что напоминала ему о счастливых годах, когда он был епископом Остии. Человек шел вперед по толстому ковру с пурпурными и золотыми узорами, покрывавшему почти весь мраморный пол. Стол, за которым заседали, напоминал о Тайной вечере. Посредине зала стояло богато украшенное папское кресло с белым балдахином. Силуэт поставил корзину на стол, прямо напротив кресла. Вдруг его лицо исказилось от боли, которую причиняли еще нывшие плечи. Фиги. Великолепные зрелые фиги, каких только можно было желать. Прежде чем стать Бенедиктом XI, Никола Бокказини так любил их. Послеполуденное заседание началось с опозданием, поскольку пришлось будить камерленго Бенедетти. Он был бледным как полотно, и у него кружилась голова. Он с трудом мог говорить, что удивило собравшихся, знавших его как человека, наделенного признанным ораторским талантом. Тем не менее Бенедикт XI внимательно выслушал советы своего камерленго. Несомненно, Гонорий был единственным настоящим другом, привязавшимся к нему после того, как он стал Папой. Он был ему за это тем более благодарен, что прелат не скрывал своей привязанности к Бонифацию VIII. Бенедикт XI охотно соглашался, что не обладал ни властностью своего предшественника, ни его манерами, достойными Юпитера. Не было у него и императорского видения Церкви, у него, человека, глаза которого становились влажными при упоминании о мученичестве Христа и бегстве Марии. Поэтому безупречная поддержка камерленго была для него очень важна, а впоследствии стала и вовсе бесценной. Папа был встревожен. Отлучение Гийома де Ногаре от Церкви не понравится королю Франции. И все же требовалось стукнуть кулаком по столу. Отсутствие наказания выдаст страх, который он питал к этому неумолимому государю. К тому же оно может еще больше уменьшить политическое влияние Церкви. Гонорий Бенедетти убедил Папу: прямое нападение на Филиппа Красивого может обернуться самоубийством. А вот Ногаре был вполне приемлемым козлом отпущения. Бенедикт по очереди слушал своих советников, лакомясь фигами. Он был до того озабочен, что фиги показались ему едкими, и он не получил от них того удовольствия, которое они обычно доставляли ему.Дворец Лувра, окрестности Парижа, покои Гийома де Ногаре, июль 1304 года
Они покинули улицу Бюси чуть позже девятого часа. Франческо де Леоне, следовавший в двух шагах за Джотто Капеллой, чтобы подчеркнуть свое подначальное положение, опустил голову. Работы по возведению дворца на острове Сите, задуманного Людовиком Святым, до сих пор не начались, и вся государственная власть еще была сосредоточена в суровой крепости Лувра, расположенной сразу за границей столицы, недалеко от ворот Сент-Оноре. В цитадели, которая по-прежнему была лишь неприступным донжоном, построенным по приказу Филиппа Августа, стремившегося сосредоточить в одном месте канцелярию, счетную палату и казну, все ютились, как могли. По улице Сен-Жак они дошли до Малого моста, затем пересекли остров Сите, чтобы попасть на Большой мост, называвшийся еще мостом Менял, который упирался в улицу Сен-Дени. Они свернули налево, словно возвращаясь обратно, но на этот раз по правому берегу, чтобы добраться до Толстой башни Лувра. Торговцы, рыбаки Сены, зеваки, нищие, уличные девки, мальчишки толкали друг друга, окликали, бранилась в этом переплетении узких, провонявших нечистотами улочек. Плющилыцики[64] и мельники, вручную тащившие свои тележки, оскорбляли друг друга, загораживали проход, утверждая, что они пришли первыми. Джотто пробурчал, скорее по привычке, чем в надежде завязать разговор со своим молчаливым спутником: – Только посмотрите на это нагромождение. Все хуже и хуже! И когда они только решат построить новые мосты? Мы проделали тройной путь, хотя Лувр находится в нескольких сотнях туазов от улицы Бюси. На что рыцарь невозмутимо ответил: – Тем не менее лодочники перевозят людей и товары от Лувра до Нельской башни, разве нет? Джотто посмотрел на него как побитая собака, а потом признал: – Да… но им надо платить. – Так ты ко всем своим грехам добавил и скупость? А ведь я думал, что та скромная еда, которой ты меня угощал, была знаком твоего внимания к моему здоровью. Но Капелла не собирался оплачивать два перевоза. У него разыгралась подагра, нога ныла от щиколотки до колена, но тем хуже! Они пойдут медленно. Привратник встретил их с надменным видом, в полной мере свидетельствовавшим о том удовлетворении, которое он получал от своей маленькой должности. Им пришлось ждать добрых полчаса в прихожей мсье де Ногаре. За это время они не обменялись ни единым словом. Наконец их ввели. Леоне встретился с их самым серьезным противником, поскольку речь не могла идти о Гийоме де Плезиане, которого Джотто описал как красивого весельчака. Мужчина лет тридцати, который стоял за заваленным документами длинным столом, заменявшим бюро, был невысокого роста, почти тщедушным. Его голову и уши покрывала ярко-синяя велюровая шапочка, заострявшая и без того худое лицо, освещаемое горящим взглядом, который делали почти неприятным веки, лишенные ресниц. Несмотря на увлечение роскошной одеждой, словно выставленной напоказ, и моде, укоротившей мужские наряды, Ногаре остался верным скромной длинной мантии легистов. Поверх мантии он носил безрукавку с разрезом спереди, единственным украшением которой была оторочка из беличьего меха.[65] В камине ярко пылал огонь, и Леоне спросил себя, не выказал ли больной Ногаре знак дружбы, согласившись их принять? – Садитесь, мой добрый друг Джотто, – пригласил Гийом де Ногаре. Франческо де Леоне остался стоять, как и подобало приказчику банковского дома. Наконец легист сделал вид, что заметил Леоне, и спросил, не глядя на него: – А кто ваш спутник? – Мой племянник, сын моего покойного старшего брата. – Я не знал, что у вас был брат. – У кого его нет? Франческо. Франческо Капелла. Мой племянник оказал нам большую честь… Ногаре докучали пустые разговоры. К тому же светское терпение не входило в число его достоинств, но он слушал банкира с легкой улыбкой на губах. Тридцать тысяч ливров, которые он надеялся занять у него, стоили определенной снисходительности. – …в течение трех лет он был одним из камергеров нашего покойного святого отца Бонифация… Искорка заинтересованности вспыхнула в этом странном неподвижном взгляде. – А потом история с женщиной… потасовка, одним словом, немилость. – Когда? – Незадолго до кончины нашего Папы, да хранит Господь его душу. – Если это так, пусть суд Господа отмоет его от многочисленных грехов, – язвительным тоном согласился Ногаре. Ногаре был человеком веры, требовательной веры, заставлявшей советника короля ненавидеть Бонифация, который, по его мнению, был недостоин величия Церкви. В отличие от своего предшественника Пьера Флота, решившего окончательно избавить монархию от постоянного вмешательства папской власти, Ногаре лелеял честолюбивую мечту позволить королю дать Церкви безупречного представителя Бога на земле. Леоне знал о тайном участии Ногаре в крупных церковных делах, взбудораживших Францию. Затем Ногаре вышел из-за кулис, чтобы иметь возможность действовать в открытую. В частности, в прошлом году он произнес злобную речь, обличающую «преступления» Бонифация VIII. Другими словами, он мостил дорогу будущему Папе короля, разумеется, не без помощи Плезиана. Одно или два имени кардиналов, которых прочили в Папы, – вот что стремились узнать приор и Великий магистр прежде, чем вмешаться. Смерть Бонифация VIII не смягчила враждебности, которую питал Ногаре к покойному Папе. Что касается оскорбления, которое понтифик публично нанес Ногаре, назвав его «сыном катара», – оно по-прежнему задевало советника короля за живое. Когда Ногаре узнал о смерти Папы, он довольствовался тем, что процедил сквозь зубы: – Пусть он встретится со своим Судией. Ногаре никогда не забывал о том, кого считал в лучшем случае чудовищной Божьей немилостью, а в худшем – посланником дьявола, жаждущим погубить святую Церковь. И только сейчас он впервые внимательно посмотрел на молодого человека, скромная поза которого вызывала у него удовлетворение. – Сядь… Франческо, так? – Так, мессир. – Служить Папе – это огромная честь и большая привилегия. Но ты все испортил, к тому же из-за девицы. – Речь шла о даме… Ну, почти. – Какой галантный мужчина! Одним словом, о зрелой девице. И чему научила тебя столь почетная служба? Крупная рыба попалась на крючок. Приор был прав. Несмотря на свой проницательный ум, Ногаре был человеком страсти, страсти к государству, страсти к королю, страсти к праву. Страсть заставляет идти вперед, но она ослепляет. – Многому, монсеньор, – вздохнул Леоне. – Тем не менее мне кажется, что это многое тебя не радует. – Потому что святейший человек был… Ну… Любовь нашего Господа должна снисходить без… Быстрая улыбка пробежала по тонким губам Ногаре. Он клюнул на приманку. Что, в сущности, знал этот племянник ростовщика? Даже если речь шла о гнусных сплетнях, они сослужат Ногаре добрую службу, укрепят в ненависти к Бонифацию. Тем более что эти камергеры снуют повсюду, обмениваются маленькими секретами о содержимом ночных ваз или разговорах в альковах, в которых часто вершатся государственные дела. Тошнотворный слизистый понос у могущественного человека может предвещать скорое появление его преемника. Вновь повернувшись к Джотто, Ногаре спросил: – Значит, ваш племянник подхватит факел банка? – О нет, мессир, и я очень этим опечален. У него нет вкуса к денежным делам, и я сомневаюсь, чтобы у него был к ним талант. Среди своих высоких связей я ищу сеньора, который пожелал бы взять его к себе на службу. Он очень умен, бегло говорит на пяти языках, не считая латыни, а эта прискорбная история с девицей умерила его пыл. Можно сказать, он стал монахом. Он очень надежный и знает, что в нашей профессии молчание стоит дороже золота. – Интересно… Чтобы доставить вам удовольствие, мой друг Джотто, я мог бы взять его к себе на пробу. – Какая честь! Какая бесконечная честь! Какая благожелательность, какая честность… Я даже не надеялся… – Это потому что я дорожу нашими сердечными и плодотворными отношениями, Джотто. Леоне притворился, будто он тоже бесконечно признателен Ногаре, преклонил колено, опустил голову и положил руку на сердце… – Ну будет… Завтра я жду тебя к первому часу*, мы вместе помолимся. Я не знаю лучшего средства стать ближе друг другу, чем молитва. Наконец Ногаре перешел к тому, что его больше всего волновало. Новый заем, тридцать тысяч ливров, целое состояние! Плезиан сделал как можно более точные расчеты. Именно в эту сумму им обойдутся многочисленные сделки с французскими кардиналами, услуги различных посредников, которые придется оплачивать, не говоря уже о «подарках» прелатам, чтобы те отказались от своих притязаний на верховную власть в пользу единственного кандидата – кандидата Филиппа. Что касается короля, он еще не сделал своего выбора. Происхождение нового избранника не имело значения, главное, чтобы он перестал совать нос в дела Франции. Монарх был готов оказать помощь и предоставить свою казну тому, кто это ему гарантирует. Ни Джотто, ни Леоне не обмануло объяснение, предоставленное советником: подготовка нового крестового похода для отвоевания Святой земли. Филипп был слишком озабочен обстановкой во Фландрии и Лангедоке и не мог себе позволить распылять силы. Тем не менее приветствовать любой новый проект подобного рода считалось хорошим тоном, и Джотто не был исключением из правил. – А какие условия, мессир, вы ставите нам, поскольку речь идет о сумме, конечно, не астрономической, но довольно внушительной? – Проценты, установленные Людовиком Святым. Джотто был готов к такому ответу. – А срок уплаты по векселю? – Два года. – Что? Но это так не скоро, я не знаю, будут ли мои заимодавцы… – Восемнадцать месяцев, и это мое последнее слово. – Очень хорошо, мессир, очень хорошо. Немного погодя они вышли из толстой башни Лувра. Джотто довольно потирал руки. – Вы удовлетворены, рыцарь? Вот вы и пристроены. – Не жди от меня благодарности, банкир. Что касается моего настроения, это не твое дело. Я буду по-прежнему жить у тебя. Джотто поджал губы. А он-то думал, что наконец избавился от рыцаря. Конечно, он с ним редко сталкивался, но все же ощущал присутствие Леоне в своем доме так явственно, что мороз пробирал его до самых костей. Несмотря на плохое настроение, он придал своему лицу приветливый вид и спросил: – Что вы думаете об этом займе? Крестовый поход, которым нам так усердно заговаривали зубы, – это очень удобный предлог. Он годится во всех отношениях. Тридцать тысяч ливров – большая сумма, но все же ее недостаточно, чтобы снарядить армию крестоносцев и отправить их на другой конец света. Наш друг Ногаре одержим другими идеями. – Какое тебе до этого дело? Тебе ведь платят, разве нет? – Напротив, мне есть до этого дело. Знать, о чем думают сильные мира сего, – значит предупреждать их потребности и отражать их подлые удары. А нам, бедным беззащитным заимодавцам, всегда достаются колотушки вместо благодарности. Так устроен мир. – Я задыхаюсь от слез. Злобный скряга не обратил внимания на грубое одергивание и продолжал: – А вы что об этом думаете? – Одну очень интересную вещь, важность которой ты еще, вероятно, не осознал. – Какую? – спросил Капелла. – Ты только что предал мсье де Ногаре. Ты ему поставил ловушку, и если он узнает… выкручивайся, если хочешь легкой и быстрой смерти. Это было настолько очевидно, что Джотто даже не подумал о таком повороте событий. Он бросился головой в омут, чтобы избежать опасности, но его хитрость, умение все просчитывать даже не подсказали ему, что он создавал новую опасность, гораздо более серьезную, чем предыдущая. Через десять минут после их ухода привратник впустил в кабинет Ногаре человека, закутанного в плотный плащ. – Ну? – Мы приближаемся к цели, монсеньор. Все идет так, как вы этого хотели. – Хорошо. Продолжай работать. Твой труд будет вознагражден, как мы и договорились. Надо действовать как можно более скрытно. – Скрытность – это моя профессия и мой талант. В душу Ногаре закралось сомнение, и он спросил: – Что ты думаешь о нашем деле? – Я думаю так, как вы мне платите. Значит, ваше дело – благородное.Замок Ларне, Перш, июль 1304 года
Заканчивался шестой час*, когда граф Артюс д'Отон спешился во внутреннем дворе замка Ларне. Он тут же подумал об Аньес, о детстве незаконнорожденной девочки, прошедшем в этих стенах. При других обстоятельствах суматоха, вызванная его приездом, безусловно, развлекла бы графа. Однако несколько дней, незаметно пролетевших после встречи с дамой де Суарси, держали графа в таком напряжении, что его настроение постоянно менялось. Полчаса вынужденного ожидания, разумеется, не улучшили его настроение. К нему устремилась какая-то матрона, обмахивавшая себя фартуком, что выдавало ее растерянность. – Монсеньор… монсеньор… – бормотала она, бросаясь на колени прямо перед ним. – Моего хозяина нет дома… Боже мой… – причитала она, словно наступил конец света. Артюс знал об этом. В конце каждого месяца торговые дела Эда призывали его в Париж. Впрочем, именно это обстоятельство и подтолкнуло графа преодолеть пятнадцать лье, отделявших Отон от замка барона. – Мадам его супруга больна? Женщина почувствовала упрек и пустилась в объяснения. – Нет, нет уж, никак нет, она в добром здравии, хотя срок родов приближается, слава богу. Ей сообщили о вашем приезде, и она готовится достойно принять вас… Она дремала… Но я старая дура, трещу без умолку… Следуйте за мной, монсеньор, прошу вас. Моя дама скоро к вам выйдет. Артюс подумал, что очаровательная гусыня, обычное молчание которой скрывало полное отсутствие ума, вероятно, рвет на себе волосы в своей спальне, проклиная отсутствие мужа, спрашивая себя, что она должна делать – говорить, молчать, уклоняться, предлагать, чтобы не навлечь на себя гнев Эда после его возвращения? Наконец появилась Аполлина де Ларне, окруженная тяжелым облаком чесночного запаха. Увидев Аполлину, Артюс растерялся, ведь он ничего не знал о ее беременности. Она принадлежала к числу тех женщин, которых ожидание появления на свет ребенка не красило. Ее обычно смазливое лицо подурнело, превратившись в сероватую маску, а под глазами образовались огромные синяки. Он протянул руку, чтобы избавить ее от необходимости делать реверанс, и сказал как настоящий лжец: – Мадам, вы очаровательны. – Просто вы добрый человек, мсье, – возразила Аполлина, и это доказывало, что ее не обманула его лесть. – Мой супруг… – … отсутствует, меня уже об этом известили. Очень жаль. – Вам необходимо с ним срочно поговорить? – Срочно – это слишком сильно сказано. Скажем, мне хотелось бы вовлечь его в один проект, разработанный мною. В Аполлине что-то изменилось. Теперь казалось, что бесконечная грусть переполняла хорошенькую безмозглую простушку, какой он ее всегда знал. – Эд… Мой муж так занят делами, что я вижу его только раз в месяц. – Добыча минералов требует к себе большого внимания. Аполлина посмотрела на графа, и ему показалось, что она с трудом сдерживает слезы. Тем не менее она ответила: – Да, он тоже так говорит… Потом, взяв себя в руки, она продолжила: – Но я манкирую своими обязанностями… Вероятно, жара сильно докучала вам в пути. Чарка сидра утолит вашу жажду. – С удовольствием. Аполлина отдала распоряжения. Граф устроился на одной из скамей, стоявших около большого стола. Она села напротив, на довольно большом расстоянии, так ей мешал выпирающий живот. Последовало гнетущее молчание. Наконец граф прервал его: – Знаете, я недавно встречался с вашей сестрой по мужу, мадам де Суарси. Серое лицо женщины просветлело при упоминании этого имени: – Аньес… Как она поживает? – Мне показалось, что очень хорошо. – А Матильда? Я не видела ее лет пять. – Теперь это очаровательная и очень хорошенькая барышня. – Вся в мать. Мадам Аньес всегда была прелестной. Я так жалела, что она не приняла предложение моего супруга и не поселилась вместе с дочерью в замке. Жизнь в Суарси такая ненадежная, такая трудная для вдовы, не созданной для сельских работ. Мы стали бы сестрами, и у меня появилась бы подруга, самая лучшая подруга. Она такая жизнерадостная, такая добрая. – Это было бы решение, которое устроило бы всех. Но почему она отказалась? Легкое облачко омрачило взгляд Аполлины де Ларне. Аполлина солгала так неумело, что он почувствовал всю ту печаль, которую она пыталась скрыть: – О, я не знаю… Возможно, из-за привязанности к своим землям. Граф убедился, что предчувствия его не обманули: Эду де Ларне, покровительствовавшему своей сводной сестре, пришла в голову мысль, граничившая со святотатством. До сих пор барон раздражал Артюса своим самодовольством, малодушием и грубым обращением с женщинами. Но сейчас раздражение сменилось омерзением, которое внушал ему этот тип извращенцев.[66] Легкость прекрасной бабочки, с которой прежде порхала кроткая Аполлина, превратилась в прах, такой же серый, как и она сама. И это тоже было делом рук Эда. Когда граф осознал это, у него стало тяжело на душе. Он корил себя за то, что почти вырвал признание у этой женщины, которую когда-то нашел очень глупой. Он распрощался с Аполлиной, впервые почувствовав к ней дружеское расположение. На прощание он ей посоветовал: – Берегите себя, мадам. Вы и ребенок, которого вы носите, просто бесценны. В ответ она смущенно прошептала: – Вы так думаете, мсье? Вернувшись в Отон, граф по-прежнему не находил себе места. Уже наступал вечер, когда он вышел к Монжу де Брине, своему бальи, ждавшему его в библиотеке. Артюс любил эту небольшую комнату в виде ротонды. Здесь он собрал прекрасную коллекцию книг, привезенных из своих многочисленных скитаний по свету. Здесь он вольготно чувствовал себя, окруженный воспоминаниями, многие подробности которых он забыл. Столько встреченных людей, столько произнесенных имен, столько посещенных мест, но, в конечном счете, так мало тихих гаваней… Монж смаковал плодовое вино и лакомился медовым пирогом с айвой. Едва граф вошел, как Монж встал и заявил: – Ах, мсье, вы спасли меня от тошноты. – А зачем вы горстями поглощали эти лакомства? – Их нежность успокаивает меня. – Значит, меня ждет плохая новость. Прозорливость графа не вызвала удивления у Монжа де Брине. Однако его мрачный вид насторожил бальи. – Что вас беспокоит, мессир? – Многое, но я пока не могу ничего понять. Ладно, Брине, выкладывайте. – Сегодня в полдень один из моих сержантов примчался во весь опор. На опушке леса Клэре была найдена еще одна обезображенная жертва. Но на этот раз похоже, что жертва погибла совсем недавно. – Монах? – По всей очевидности. – Вы сказали, на опушке? – Да, мессир. Убийца поступил крайне неосторожно. – Или очень расчетливо, – возразил Артюс. – Он мог быть уверен, что мы очень быстро найдем жертву. Обнаружили ли поблизости букву А? – Ее прочертили на земле, почти рядом с ногой. – Что еще? – Пока мне больше ничего не известно. Я приказал, чтобы осмотрели окрестности, – объяснил бальи. Монж де Брине не решался вернуться к предыдущему разговору. Восхищение вкупе с дружескими чувствами, которые питал Брине к графу, не делали его ни одним из близких к Артюсу людей, ни даже приятелем. Впрочем, мало кто мог похвастаться своими тесными отношениями с Артюсом. Сеньор бальи не обращался со своими людьми грубо, но всегда соблюдал дистанцию, что не располагало к откровениям. Однако Монж знал, что граф был человеком справедливым и добрым. И он решился спросить: – Ваш визит к мадам де Суарси убедил вас в правильности моих слов? – Разумеется. Я не представляю ее себе кровожадной преступницей. Это образованная женщина, великолепная собеседница и, несомненно, сострадательная. – А вы не находите, что эта молодая вдова очень красива? Едва произнеся эту неуклюжую фразу, Монж начал проклинать себя. Граф мгновенно поймет, куда он клонит. Последующий разговор подтвердил, что он оказался прав. Артюс устремил взгляд своих темных глаз на бальи, и Монж уловил в них маленькую ироничную искорку: – Разумеется. Брине, вы изображаете сваху? Краска залила лицо бальи под пробивавшейся щетиной, и он сразу же присмирел. – Полно, Брине, не берите в голову. Ваша забота согревает мое сердце. У вас счастливый брак, друг мой, и вам всюду мерещатся свадьбы. Перестаньте беспокоиться. Рано или поздно я сделаю наследника, как мой отец. В готовности Монжа устраивать свадьбы всем тем, кому он желал счастья, следовало прежде всего винить его жену Жюльену. Граф уже давно овдовел, не имел прямых наследников – такие доводы она ему приводила. «До чего же грустно видеть, как стареет такой достойный человек без женской ласки», – настаивала она. Монж остудил опасный энтузиазм своей жены-свахи, сказав: «Все зависит от дамы». – Я не хотел… – пробормотал немного сконфуженный Брине. – Неужели вы думаете, что мадам Аньес принадлежит к числу тех благородных дам, которым задирают юбки в укромных уголках? Правда, мы пользовались услугами некоторых из них. – Я думаю, что будет лучше, если я откланяюсь, мессир. Я совсем запутался и выставил себя на посмешище. – Я подтруниваю над вами, друг мой. Останьтесь. Мне необходима ваша помощь, чтобы попытаться разобраться. И этом деле мне все кажется бессмысленным. Монж устроился напротив Артюса, который погрузился в глубокие раздумья. Бальи это понял по застывшему взгляду своего сеньора – взгляду, ничего не видящему в комнате, – по крепко сжатым челюстям, по одеревеневшей спине. Он терпеливо ждал. Такие уходы Артюса вглубь самого себя были ему привычны. Несколько минут прошло в полнейшем молчании. Потом граф сбросил оцепенение и произнес: – Все это не имеет никакого смысла… под каким углом зрения не рассматривать. – Что вы хотите этим сказать? – Брине, мы согласны в одном: Аньес де Суарси никоим образом не причастна к этим убийствам. – Как она непринужденно бросила мне в лицо, я не представляю ее, бегущей по лесу с «кошками» в руках, готовой изуродовать несчастных монахов… Если только речь не идет о мимолетном помрачении ума или внезапном приступе одержимости. Добавьте к этому, что мужчины, особенно последний, были в два раза тяжелее дамы. – Четыре последних жертвы, если считать нового убитого, перед смертью якобы вывели букву А, а недалеко от одной из них был найден батистовый платок, принадлежавший даме. Таким образом, ее пытаются втянуть в это дело. – Я пришел к тому же выводу. – Прежде чем задать главные вопросы, то есть «кто?» и «почему?», надо понять, насколько умен убийца. – Он болван, – уверенно сказал Брине. – Полный болван, поскольку есть более убедительные способы опорочить Аньес де Суарси… Или же, и я этого очень боюсь, мы с самого начала вашего расследования идем по ложному пути. – Я не понимаю вас. – Я сам теряюсь в догадках, Брине. А если у преступника не было ни малейшего намерения указать нам на Суарси? Если эта буква означает что-то другое? – Но батистовый платок, вы о нем не забыли? – Вы правы, остается платок, – согласился граф. После короткого молчания Артюс д'Отон продолжил: – Вопрос, который я хочу задать вам… очень деликатный, вернее, очень неделикатный. – Я к вашим услугам, мсье. – Мне хотелось бы, чтобы вы ответили на него как друг. – Почту за честь. – Дошли ли до вас слухи… сплетни… касающиеся отношений Эда де Ларне со своей сводной сестрой? Бальи поджал губы, и Артюс понял, что до того действительно дошли пересуды. – Ларне – неприятный сеньор. – Это не новость, – согласился граф. – Причем до такой степени, что уши вянут. Он плохо обращается со своей женой, и это всем известно. Он ей изменяет направо и налево. Мне рассказывали, что он даже не стыдится приводить потаскушек в замок. После этих похождений многие уличные девки были найдены жестоко избитыми. Но ни одна из них не захотела рассказывать моим людям о своих злоключениях из боязни навлечь на себя его гнев. – А его сестра? – Говорят, что у Эда де Ларне весьма смутное понятие о родстве и общей крови. Он задаривает даму дорогими подарками… – …которые она принимает? – Отказаться от подарков было бы слишком опрометчиво с ее стороны. Я узнал, что он даже преподнес ей палочку сахара. – Черт возьми, он действительно обращается с ней как с принцессой! – заметил граф. – Или как с дорогостоящей гетерой. – Вы думаете, что они… ну, что она… – Честно говоря, такая мысль приходила мне в голову до встречи с ней. В конце концов, Ларне, возможно, прогнил изнутри, но внешне он выглядит вполне прилично. Нет, я не представляю, что она трется своим животом о живот этого жалкого проходимца. Да и другие детали совпадают. – Какие? В это мгновение Артюс д'Отон осознал, что ему просто необходимо, жизненно необходимо убедиться, что Аньес равнодушна к своему брату и, если возможно, что она ненавидит его. – Аньес де Суарси всегда отвергала «гостеприимство» своего сводного брата, хотя я думаю, что она действительно питает нежность, смешанную с жалостью, к своей невестке, мадам Аполлине. Она старается, насколько это в ее силах, как можно реже встречаться с братом. Если добавить к этому откровения одной дамы, входившей в близкое окружение покойной баронессы де Ларне, матери Эда, которые мне не раз повторяли… Аньес без колебаний согласилась на первую предложенную ей партию, только чтобы спастись от хищнических инстинктов своего сводного брата. Судьбе-злодейке было так угодно, что Гуго преждевременно умер от удара рогов раненого оленя, вновь оставив ее на попечение Эда. – Действительно, Гуго де Суарси составил счастливую партию! – Разумеется, по мнению дамы, это было лучше, чем лечь в постель презираемого ею брата. – Но откуда вам все это известно? – Я ваш бальи, мессир. Я считаю своей обязанностью, своим долгом и своей честью развешивать «свои длинные уши», как выражается Жюльена, чтобы служить вам. – И я вам очень за это признателен.Мануарий Суарси-ан-Перш, июль 1304 года
Все последние дни Клеман пытался разгадать шифр переписанного послания, пробуя различные комбинации, меняя ракурсы чтения, начиная с первых строк псалмов, затем сдвигая начало на несколько букв, на несколько строк. Напрасно. Его охватили сомнения: вдруг он пошел по неправильному пути? Вдруг Мабиль использовала другую книгу? В таком случае, какую? В Суарси хранилось немного книг, к тому же большинство из них было написано на латыни. А Клеман был совершенно уверен, что Мабиль ничего не понимала в этом языке, предназначенном для эрудированных людей. Впрочем, набожность не была главным достоинством служанки. Значит, она могла выбрать более подходящее для себя произведение, на французском языке, и более доступное. Но где она его прятала? Плутовка находилась рядом с Аньес, как они и договорились с дамой ранним утром. Аделина выгребала золу из большого камина, когда в кухню вошел Клеман: – Я ищу Мабиль, – солгал он. – Она у нашей дамы. – А… Хорошо, ожидая ее, я составлю тебе компанию. В разговорах работа быстрее спорится. – И то правда. – Ты много работаешь, наша дама довольна. Аделина подняла голову. Краска залила ее лицо. – Она добрая. – Да, она добрая. Не то что… У меня такое впечатление, что Мабиль не слишком-то вежлива с тобой. Девушка-подросток поджала обычно чуть приоткрытые губы. – Она настоящая злюка. – Верно. Аделина осмелела и разошлась. – Она настоящий чирей на заднице, вот кто она! Но хочу тебе сказать, что от чирья болит только вначале, а потом, когда он созрел, ты его выдавливаешь и – хоп! – с ним покончено. Она ведь не считает себя содержимым ночной вазы! Эти рожи, которые она строит… Если она… Аделина замолчала на полуслове и бросила испуганный взгляд на Клемана. Она слишком много болтала и теперь боялась, что получит от Мабиль хороший нагоняй. – Если она кувыркается со своим бывшим хозяином, это еще не значит, что она должна стараться прыгнуть выше своей головы, – закончил фразу Клеман, чтобы успокоить Аделину. – Это останется между нами. Радостная улыбка осветила грубое лицо молоденькой девушки, кивнувшей головой в знак согласия. – И потом она умеет читать, вот поэтому-то и важничает, – продолжал Клеман. – Так это… А вот мне не надо читать, чтобы приготовить обед… Но она… Никогда не отрывается от своей мясной книги1, хочет произвести на меня впечатление. Послушай, она действительно хорошо готовит, тут я ничего не могу сказать, но… – А, так значит, у нее есть мясная книга! – воскликнул Клеман. – А я-то думал, что она все это знает… – Ха, она хитрит, – подтвердила Аделина, – вот я держу в голове все, что умею делать, в голове, а не в книге!Мясная книга – поваренная книга. В ту эпоху большинство рецептов были посвящены приготовлению мясных блюд. – Послушай, мне хотелось бы узнать, не в этой ли книге она выискала рецепт соуса, которым был полит кабаний оковалок. Он так понравился графу д'Отону. Но, если она заимствовала этот рецепт у кого-нибудь, я уверен, что ее за это не похвалят. – Истинная правда, – довольным тоном согласилась Аделина. – Если узнают о ее проделках, ей придется расстаться со своей мясной книгой! Она прячет ее в своей комнате. – Не может быть! – Может, – упорствовала возгордившаяся Аделина, вдруг почувствовав себя важной особой. В ее глазах сверкнул огонек. – И я знаю, где именно. – Не думал, что ты такая хитрюга! – Не сомневайся. Книга спрятана под соломенным тюфяком. Клеман поговорил еще несколько минут с девушкой, потом встал. Не успела кухонная дверь закрыться за ним, как он уже стремительно поднимался на этаж, отведенный для слуг. В его распоряжении оставались считанные минуты. Аньес будет вынуждена отпустить Мабиль, которую, безусловно, удивил интерес, проявленный к ней госпожой. В тайнике, указанном ему Аделиной, Клеман тут же нашел сборник кулинарных рецептов. На первой странице он прочитал: «Переписано с книги сьера Дебре, повара его псемилостивейшего и всемогущего сира Людовика VIII Льва». Мальчик колебался: должен ли он положить книгу обратно под тюфяк и дождаться, когда Мабиль вновь отлучится, чтобы сравнить ее с текстом послания, или стащить? Время поджимало, и он склонился в пользу второго решения. Если Мабиль заметит отсутствие книги до того, как он успеет ее вернуть, она, несомненно, во всем обвинит Аделину. Тогда Аньес придется защищать бедную девушку от гнева своей служанки. Он, словно тень, проскользнул в свою берлогу и немедленно принялся за работу. Нужно было действовать быстро. Война приобретала четкие очертания. К тому же Клеману следовало как можно скорее вернуться в тайную библиотеку Клэре, чтобы попытаться разгадать еще одну загадку: загадку дневника рыцаря Эсташа де Риу.
Ватиканский дворец, Рим, июль 1304 года
Камерленго Гонорий Бенедетти был бледен как полотно. Он, кому так докучала невыносимая жара, чувствовал, как ледяной холод пробирается до самых костей. Никола Бокказини, Бенедикт XI, задыхался, сжимая пальцы прелата в своей мокрой от пота руке. Перед белой рясы был весь покрыт кроваво-красной рвотной массой. Всю ночь Папа мучился от жутких болей в животе. Под утро силы совсем оставили его. Арно де Вильнев, один из выдающихся врачей того времени, придерживавшийся слишком смелых, по мнению инквизиции, идей, не отходил от его изголовья. Вильнев без малейших колебаний поставил диагноз: Папа умирал от отравления, и никакое противоядие, а там более молитва, не могло его спасти. Никто не питал особых надежд, но все же были зажжены лампады, курился ладан. Ни на минуту не стихали молитвы. Арно де Вильнев не разрешил пускать умирающему кровь, поскольку уже во времена Галена было известно, что при отравлении кровопускания не помогают. Слабым, но нетерпеливым жестом Бенедикт потребовал, чтобы его оставили наедине с камерленго. Прежде чем покинуть покои агонизировавшего Папы, Вильнев повернулся к прелату и прошептал голосом, прерывавшимся от охватившего врача горя: – Полагаю, монсеньор понял причину своей вчерашней непонятной сонливости? Гонорий в недоумении посмотрел на него. Врач продолжил: – Вас одурманили. По вашему спутанному состоянию после полудня и неспособности четко выражать свои мысли я понял, что вам подсыпали порошок опиума. Вас надо было устранить, чтобы добраться до его святейшества. Гонорий закрыл глаза и перекрестился. – Вам не в чем себя винить, ваше преосвященство. Эти проклятые отравители всегда добиваются своего. Мне очень жаль, жаль всей душой. Затем Арно де Вильнев оставил мужчин одних, чтобы они могли в последний раз поговорить. Бенедикт XI не расслышал ни единого слова из того, что сказал врач. Смерть уже вошла в его спальню, и она заслуживала того, чтобы он встретил ее в обществе своего единственного друга, которого он приобрел в этом слишком большом, слишком помпезном дворце. Комнату заполнил странный запах, сладковатый и тошнотворный, запах дыхания умиравшего Папы. Конец был близок. И он принесет с собой чудо облегчения. – Брат мой… Голос был таким слабым, что Гонорию, боровшемуся со слезами, которые он с трудом сдерживал вот уже несколько часов, пришлось нагнуться к святому отцу: – Ваше святейшество… Бенедикт XI недовольно покачал головой: – Нет… Брат мой… – Брат мой? Иссушенные губы умирающего озарила легкая улыбка: – Да, ваш брат. Я хотел быть лишь им… Не надо так страдать. Это неизбежно. Я не боюсь. Благословите меня, брат мой, друг мой. Фиги… Какое сегодня число? – Седьмое июля. После соборования, проведенного над ним другом и наперсником, Папа впал в коматозное состояние, прерываемое бредом: – … Миндальные деревья Остии, какое чудо… Каждый год маленькая девочка преподносила мне корзинку, полную миндаля… Я так любил миндаль… Теперь она, должно быть, стала матерью… Я иду к Тебе, Господи… Это было ошибкой… Я старался справиться, предвидеть… Свет, я вижу Свет, Он заливает меня… До встречи у Господа, мой милый брат. Рука Никола Бокказини крепко сжала пальцы Гонория. Потом давление внезапно ослабло. Камерленго, покрытый холодным потом, остался один в мире. Вздох.Последний. Вечное горе, бесконечные слезы. Гонорий Бенедетти захлебывался от рыданий. Он медленно наклонялся вперед, до тех пор пока его лоб не уткнулся в широкое красное пятно, пачкавшее грудь умершего Папы. Он долго весь дрожал, прижавшись к телу своего мертвого брата, прежде чем сумел встать и добраться до приемной. И хотя в приемной толпилось множество людей, в ней стояла такая тишина, что она стала похожа на склеп.Мануарий Суарси-ан-Перш, июль 1304 года
Занялся рассвет, прогоняя ночную тьму. Вот уже две ночи Клеман не смыкал глаз. От усталости у него кружилась голова. Но, возможно, она кружилась от упоительного успеха? Внезапно озарившая Клемана мысль охладила пыл его самодовольства. Подлая гадюка! В нескольких словах послания, которое нес Вижиль до того, как его пронзила стрела, была сосредоточена вся мировая ненависть, вся мировая зависть. И этот яд был собран в одном кулинарном рецепте. В очень аппетитном рецепте, если подумать, рецепте «толченых бобов»,[67] одном из коронных блюд Мабиль.Поставьте толченые бобы на огонь, а когда они начнут кипеть, слейте воду из горшка и добавьте свежую воду так, чтобы она была выше их на два пальца, и положите соль по вкусу… [68]Эду и Мабиль явно не хватало воображения, поскольку они начали свой шифр с первой буквы первой строчки. Содержание послания заставило Клемана вздрогнуть от отвращения. После уточнений, касавшихся его рождения, отсутствия родового имени, записей сведений о крестном отце и крестной матери, следовало несколько пакостных слов:
Каноник Бернар попал под чары Аньес. Вместе спят?Подлая мерзавка! Она бессовестно лгала, чтобы доставить удовольствие своему хозяину. В голову Клемана пришла другая мысль, более убедительная. Она лгала, чтобы причинить ему боль, чтобы отомстить за себя. Безрассудная ненависть, которую питал Эд к своей сводной сестре, была непостоянной. К ней примешивались неразделенная любовь и неудовлетворенное желание. Он хотел заставить Аньес пресмыкаться перед собой, по-прежнему убеждая себя, что, не будь между ними кровного родства, она любила бы его горячее, чем кого-либо другого. Мабиль знала об этом. Ее же ненависть была отточенной, как безжалостное лезвие клинка. Клеман подождал еще час, а затем, крадучись как кошка, спустился в спальню своей госпожи, чтобы поведать ей о сделанном открытии. Сидя на кровати, дама пристально смотрела на ребенка. Румянец, который вспыхнул на ее лице от гнева, сменился бледностью, когда она узнала о содержании записки. – Я заставлю ее признаться и вышвырну вон! Я прикажу забить ее палками! – Я понимаю ваш гнев, мадам, но это будет ошибкой. – Она меня обвиняет в… – … в том, что вы делите ложе со своим каноником, да, это так. – Речь идет о преступлении, а вовсе не о заблуждении! – Я прекрасно это осознаю. – Понимаешь ли ты, что со мной станет, если кто-нибудь поверит в это чудовищное обвинение? – Вы лишитесь вдовьего наследства. – Не только! Брат Бернар – не мужчина, он священник. Меня отдадут под суд за то, что я дьявольским способом заставила божьего человека предаться разгулу. Суккуб – вот чем меня станут считать, а ты знаешь, какая участь им уготовлена. – Костер. – Не говоря обо всем остальном. Аньес помолчала несколько минут, а затем продолжила: – Эд ждет это послание. Сколько он уже получил таких записок благодаря верному Вижилю с тех пор, как подарил голубя мне? Неважно. Но голубь мертв. У нас нет никаких возможностей послать другую записку вместо той, что написала Мабиль. Но хуже всего то, что я не могу даже избавиться от нее, не вызвав при этом подозрения у моего сводного брата. Клеман, что нам делать? – Убить ее, – на полном серьезе предложил мальчик. Аньес широко раскрыла глаза: – Что ты хочешь этим сказать? – Я могу ее убить. Это легко, ведь существует столько растений. Меня не обвинят в смертном грехе, поскольку это не человек, а гадюка. – Ты сошел с ума? Я запрещаю тебе… Убивают лишь тогда, когда опасность грозит плоти. – Она угрожает нам. Она угрожает вашей жизни, а следовательно, и моей. – Нет… Ты не запятнаешь свою душу. Ты слышишь меня? Это приказ. Если кто-то и должен отправить эту ведьму в ад, то это я. Клеман опустил голову и прошептал: – Я не сделаю этого. Я не хочу, чтобы вы были прокляты. Я повинуюсь вам, мадам, я всегда повинуюсь, чтобы угодить вам. Проклятие? Она так долго жила с мыслью о проклятии, что перестала его бояться. – Клеман… должна существовать другая причина, объясняющая ее козни. Мне нужны точные сведения о состоянии рудника мсье де Ларне. Я распоряжусь, чтобы для тебя оседлали лошадь. Наши коренастые тягловые животные не слишком быстрые, но, отправившись в путь верхом, ты не устанешь, а импозантный вид лошади отобьет у лихих людей желание напасть на тебя. Им не хватало времени. Вернувшись вечером в комнату, Мабиль быстрее, чем этого можно было ожидать, обнаружила пропажу своей мясной книги. Стремглав она бросилась по коридору, ведущему на этаж, отведенный для слуг, и без предупреждения, яростно, словно фурия, толкнула дверь комнаты Аделины. Злодейка ринулась на спящую девушку, схватила ее за волосы, избивая при этом кулаком другой руки. Толстая девица хотела закричать, но безжалостная рука закрыла ей рот, а острие ножа вонзилось в кожу на шее. Голос прорычал ей прямо в ухо: – Где она, голодранка? Где моя мясная книга? Отдай мне ее немедленно! Если ты закричишь, я тебя убью. Ты меня слышишь? – У меня ее нет, у меня ее нет, клянусь Евангелиями! Это не я, – хныкала Аделина. – Кто тогда? Говори живее, вилланка, моему терпению приходит конец! – Это, должно быть, малыш Клеман. Он у меня спрашивал, где она находится, эта мясная книга, хочу тебе сказать! Тогда я ему объяснила, поверь мне! – Чума на голову этого негодного мальчишки! Мабиль лихорадочно соображала. Ей не хватило хитрости. И хотя она пыталась убедить себя в обратном, они нашли послание, адресованное Эду де Ларне. Несомненно, этот несносный, порочный мальчишка специально положил мертвого голубя на заметное место в комнате дамы де Суарси. Он был уверен, что она его украдет. Исчезновение мясной книги доказывало, что он разгадал шифр и прочитал послание. Она не могла больше оставаться в мануарии. У Аньес было достаточно оснований, чтобы потребовать ее наказания. Почему эта мерзкая незаконнорожденная всегда одерживает верх? Почему Клеман любит ее до такой степени, что не боится мести Мабиль? А Жильбер? А остальные? Почему? Неожиданно Мабиль успокоилась. Она думала, что ненавидит даму де Суарси. Но это не так. Она просто желала ей зла. Ненависть, настоящая ненависть, та, которая сокрушает все, пришла только сейчас. Ненависть двигала ею, и Мабиль не отступит ни на шаг. Ненависть затмит собой страх, сожаление. Острие ножа перестало кусать шею Аделины, по-прежнему плачущей. – Слушай меня внимательно, идиотка! Я возвращаюсь в свою комнату. Если я услышу, что ты встала до наступления утра, если я услышу от тебя хоть слово, ты погибла. Поняла? Если надо, писай в тюфяк, но чтобы я не слышала никаких движений! Аделина поспешно закивала головой. Мабиль вышла из ее комнатушки. Ей оставалось всего несколько часов, чтобы уйти как можно дальше от людей Аньес де Суарси. Новость об исчезновении Мабиль не удивила Аньес и уж тем более Клемана, который слушал на кухне откровения Аделины, лицо которой распухло от слез. – Будем надеяться, что ее растерзает медведь, – начал Клеман, когда они с Аньес вошли в сенной сарай, в котором некогда лежал труп, принесенный людьми бальи. – Но они тоже опасаются гадюк. – Мадам, вы собираетесь послать людей на ее поиски? – Она ушла несколько часов назад, и наши рабочие лошади не в состоянии будут ее догнать. Но, даже если они ее догонят, что я буду потом с ней делать? Не забывай, она принадлежит моему сводному брату. Так или иначе, мне придется ее отдать ему, чтобы он вершил над ней суд. – В самом деле, уж лучше позволить ей блуждать по лесу. По словам Аделины, она, должно быть, убежала настолько быстро, насколько смогла. Она взяла с собой немного еды и еще меньше воды и одежды. Кто знает… – Не надо слишком горячо надеяться, Клеман. – В таком случае война уже у нашего порога. Аньес погладила ребенка по волосам, прошептав таким усталым тоном, что тому стало страшно: – Как верно эти прекрасные слова отражают наше положение. А теперь оставь меня, я должна подумать. Клеман немного поколебался, но потом повиновался. Аньес поднялась в свои покои. От бесконечной усталости она едва передвигала ноги. Как только за ней закрылась дверь, внешнее самообладание, которое она нарочито показывала, чтобы успокоить Клемана, исчезло. Если Мабиль удастся разлить свой яд, Эд поверит ей или сделает вид, что нерит ее коварству. Если ее сводный брат решит, что неточности в книге записей из часовни по поводу рождения Клемана и смерти Сивиллы были сделаны для того, чтобы скрыть тот факт, что Сивилла была еретичкой, Аньес пропала. Ее предполагаемые преступления были подведомственны инквизиторскому суду. Рыдания душили ее. Она опустилась на каменные плиты, встала на колени. Что делать… что она могла сделать? Бесчисленные вопросы вертелись у нее в голове, но она была не в состоянии ответить ни на один из них. Что станет с Клеманом? Он попадет в руки барона де Парне… Если только ей не удастся убедить его бежать… Но он ни за что не убежит без нее… Она заставит его… Главное, нельзя допустить, чтобы он заподозрил, что его дама находится в опасности. Иначе он останется с ней в надежде помочь ей, забыв о своем возрасте, рождении и о том, что он должен был скрывать. А Матильда? Надо защитить Матильду… Но куда ее отправить? У них не было никаких родственников, кроме Эда… Может, на какое-то время ее приютит аббатство Клэре? Но если Аньес обвинят в том, что она склонила священника к николаизму, ее лишат вдовьего наследства и материнских прав… Из груди Аньес вырвалась бессвязная мольба: – Молю тебя, Господи! Не наказывай их за мои грехи! Делай со мной все, что угодно, но пощади их! Они невиновны! Сколько времени она плакала? Она не имела ни малейшего представления об этом. Аньес боролась с изнеможением, от которого слипались глаза. Страх не спасает от укусов, дорогая. Наоборот. Ярость подняла Аньес с колен, и она отругала себя. Немедленно прекрати! Выпрямись! Кто ты, чтобы так пресмыкаться! Если ты дрогнешь, ты превратишься в легкую добычу. Они набросятся на тебя и порвут на куски. Если ты дрогнешь, они заберут у тебя Клемана, Матильду, твое имя и твое имущество. Подумай об участи, которую они уготовят Клеману. Если ты дрогнешь, ты заслужишь то, что с тобой сделают, и ты будешь виновна в том зле, которое они причинят ребенку. Рычать громче, чем они, поднять хвост и уши и показать зубы, чтобы избежать опасности. Сражаться.
Таверна «Красная кобыла», Алансон, Перш, июль 1304 года
Инквизитор Никола Флорен сменил рясу на шоссы и шенс, на который он надел дублет[69] из бумазеи, затем темно-серую котту,[70] немного вышедшую из моды, но менявшую его внешность до неузнаваемости. Капюшон цвета шкурки крота, завязанный вокруг шеи, позволял ему скрыть тонзуру, которая выдала бы его, едва он переступит порог этой таверны на улице Крок. В полдень в таверне еще было мало посетителей. Он узнал человека, назначившего ему встречу, и подошел к столу, за которым тот сидел. Человек без тени приветливой улыбки пригласил Никола сесть и начал разговор сразу после того, как хозяин таверны подал им новый кувшин вина. – Как вы вчера объяснили моему посланцу, речь идет О деликатном деле, и поэтому все должно происходить В строжайшей тайне. – Совершенно верно, – согласился Никола, попивая кино. Под столом его колена коснулся какой-то предмет. Никола схватил его. Туго набитый кошелек, как они и договорились. – Здесь сто ливров, еще сто ливров после вынесения приговора, – шепотом сказал Эд де 7Іарне. – Я не понимаю, как вам удалось разыскать меня. – В Алансон были назначены только три инквизитора. – Мне по-прежнему непонятно, почему вы отвергли двух других кандидатов. – Неважно, – возразил Эд де Ларне, которому было не по себе. – Важно то, что сведения, которые я получил, оказались верными. Теперь… если это… дело не интересует вас, остановимся на этом, – заключил он без особой уверенности. Никола не попался на удочку. Этот человек нуждался в нем, иначе он не стал бы рисковать, назначая ему встречу. Впрочем, у него не было ни малейшего намерения терять двести ливров, небольшое состояние, и поэтому он поддержал собеседника: – Вы правы, давайте вернемся к нашим делам. Эд вздохнул с облегчением – незаметно, как он надеялся. Он начал произносить свою маленькую речь, которую повторял про себя уже десятки раз. – Моя сводная сестра, мадам Аньес де Суарси, – женщина малопристойная и безнравственная. Что касается ее любви к нашей матери святой Церкви… ей не хватает искренности, и это самое малое, что можно сказать… Никола не поверил ни единому слову этого вступления. У него появился чудесный дар распознавать лжецов, в чем ему помогал собственный талант притворщика, позволявший угадывать корысть других. Болван! Да что он думал? Что Никола нуждается в подтверждениях, чтобы подвергнуть кого-либо инквизиторскому суду? Ему вполне достаточно денег. Что касается доказательств и свидетельств, он был достаточно ловок, чтобы придумать или подстроить их. Впрочем, вино было хорошим, а барон де Ларне был первым настоящим клиентом из списка, который, как он надеялся, окажется длинным и прибыльным. Нетерпеливые наследники, вассалы, жаждавшие отмщения или просто завистливые, негодующие или разорившиеся торговцы – в них не будет недостатка. Он мог себе позволить потратить немного времени, чтобы выслушать глупости своего собеседника. – У нее плотская связь с божьим человеком, которого она отвратила от священнического служения с помощью, несомненно, колдовских средств. Речь идет о молодом канонике, иском брате Бернаре. Несчастный безумец полностью оказался в ее власти, он даже предал свою веру. Добавьте к этому, что в течение нескольких лет она занимается возмутительным ремеслом с неким слабоумным, который предан ей как собака. Так, так, вот это сгодится. Терпение Никола было вознаграждено. – Правда? Ремеслом какого рода? – Настойки, яды и отвары в обмен на прелести. – У вас есть свидетели или доказательства ваших слов? – Свидетельство чрезвычайно набожной особы, которая жила в окружении мадам де Суарси. Я готов спорить, что мы получим и другие свидетельства. – Не сомневаюсь. Преследование колдовства все чаще сопровождает охоту на еретиков. Это легко понять. Что такое поклонение демонам, если не высшая ересь, непростительное преступление против Бога? Эд не знал, как отреагировать на такие тонкости, и продолжал: – В окрестностях ее мануария совершались странные и ужасные убийства. Монахов. – Ну и ну! Но ведь эти кровавые преступления находятся в ведении уголовного суда сеньора д'Отона и его бальи… – …которые ничего не делают после того, как встретились с ней! – Не хотите ли вы сказать, что эта дама околдовала графа Артюса и мсье де Брине? – Не исключено. Впрочем, убедиться в этом будет намного труднее, учитывая положение и репутацию этих людей. – Да, конечно. Едва приехав в Алансон, Никола, умевший хорошо манипулировать людьми, посвятил часть своего времени знакомству с местными могущественными и влиятельными людьми. Разумеется, не могло быть и речи, чтобы восстановить против себя графа д'Отона, друга короля. То же самое относилось и к Монжу де Брине. – Значит, мадам де Суарси будет пользоваться существенной поддержкой, даже если она этого добьется демоническими способами? – сладким голосом спросил Флорен. Эд понял, что он совершил тактическую ошибку. Но его ослепляло желание смешать Аньес с грязью. Чтобы успокоить инквизитора, он уточнил нарочито бодрым тоном: – Она всего лишь незаконнорожденная. И как же такое могло случиться, что мой отец на склоне лет признал ее! Злобная выходка Эда заставила нескольких посетителей обернуться в их сторону. Эд понизил голос: – Она лично почти ничем не владеет, и я сомневаюсь, что граф Артюс и мсье де Брине станут ее поддерживать, если будет доказано, что она занимается колдовством. Это люди чести и благонравия. Эд внезапно замолчал. В его душу закралось мучительное подозрение, но обида и страсть затуманили его разум. – Продолжайте, прошу вас, – подбодрил Эда Никола. Слащавый голос инквизитора действовал Эду на нервы. Тем не менее он решил рискнуть: – Наконец, и это, несомненно, самое серьезное… Сеньор инквизитор… Некогда Аньес де Суарси покровительствовала еретичке, причем она питала к ней такие дружеские чувства, что невольно задумываешься, не стала ли она сама приверженкой этого учения. К тому же она воспитывает посмертного сына этой еретички, который так предан ей, что готов отдать за нее жизнь. Красивые губы собеседника Эда расплылись в улыбке. – Подробности, умоляю вас… Вы заставляете меня изнемогать от нетерпения. Фразу закончил тяжелый вздох. – В книге часовни нет записи о родовом имени ребенка – Клемана, – а также его матери Сивиллы. Нет в ней упоминаний и о заупокойной мессе. Там также не записаны имена и общественное положение крестного отца и крестной матери. И хотя над могилой Сивиллы стоит крест, она похоронена немного в стороне от освященной земли, отведенной для захоронения челядинцев мануария. – А вот это уже интересно, – подытожил Никола. Ересь всегда служила идеальным предлогом для обвинения. Колдовство, если не сказать, бесовство, что было гораздо сложнее доказать, сразу же отошло на второй план. Никола продолжал: – Как вы того и хотите, даму будут судить за ересь и за содействие ереси. Хотите ли вы, чтобы… признаний добивались долго? Эд не сразу понял подлинное значение этих слов. Вдруг их смысл поразил его как удар молнии, и он побелел от ужаса. – Давайте договоримся… не может быть и речи, чтобы она… Его голос стал еле слышным, и Никола пришлось наклониться к своему собеседнику. – Достаточно бичевания. Я хочу, чтобы она боялась, чтобы она рыдала, чтобы чувствовала себя погибшей, чтобы ее прекрасная спина и прекрасный живот были исполосованы кожаными ремнями. Я хочу, чтобы ее вдовье имущество было конфисковано, как это принято, и перешло к ее дочери, опекуном которой назначат меня. Я не желаю, чтобы она умирала. Я не желаю, чтобы ее искалечили или обезобразили. Вы получите двести ливров только при этом условии. Эти слова испортили благодушное настроение Никола. Дело становилось менее смачным. Но он утешил себя: ба, чуть позднее он найдет другие игрушки. Сейчас лучше получить деньги, которые положат начало его состоянию. – Все будет сделано так, как вы желаете, мсье. – А теперь мы должны уйти порознь. Не нужно, чтобы нас видели вместе. Эд хотел остаться один, освободившись от этого обворожительного человека, присутствие которого в конце концов вызвало у него тревогу. Никола встал и, прежде чем уйти, одарил Эда пленительной улыбкой. Неприятное смятение, чуть раньше охватившее барона, усиливалось. Что-то было не так, в чем-то он допустил ошибку. Он сжал виски руками и залпом выпил стакан. Как он дошел до этого? Разумеется, он хотел, чтобы Аньес ползала перед ним на коленях, чтобы она умоляла его. Он хотел наводить на нее ужас и заставить ее забыть о презрении, которое она испытывала к нему. Он хотел завладеть ее вдовьим наследством. Но до такой ли степени? Кому первому, Мабиль или ему, пришла в голову мысль отдать Аньес в руки инквизиторского суда? Теперь он сомневался. Мабиль рассказала ему о своей встрече с монахом. Он отказался открыть свое лицо, и те несколько слов, которые он произнес, долетели до нее через грубый шерстяной капюшон искаженными. Мабиль видела только силуэт монаха. Но не он ли подсказал имя Никола Флорена и план, который сейчас начал Эда беспокоить?Мануарий Суарси-ан-Перш, июль 1304 года
Матильда отшвырнула платье, упавшее к подножью кровати. – Наша юная дама, э… что такое? – захныкала Аделина, бросаясь к кровати, чтобы подобрать платье. – Уходи, дура! Уходи немедленно из моей комнаты! Что за напасть эта тупая девица! Аделина не заставила себя просить дважды и выбежала из покоев юной хозяйки. Она слишком хорошо знала эти нервные припадки и поэтому боялась их. Матильда уже несколько раз била ее по щекам, а однажды без малейших колебаний бросила в нее свою щетку для волос. Матильда кипела от ярости. Еще немного, и она зарыдала бы. Лохмотья, вот что она была вынуждена носить! Для чего быть такой хорошенькой, как все ей это говорили, если она вынуждена уродовать себя этими бесформенными тряпками? Она даже не осмеливалась носить чудесный гребень, который подарил ей дорогой дядюшка Эд, поскольку он наверняка не одобрил бы ее вышедшие из моды и к тому же дешевые наряды… Милый дядюшка, он-то обращался с ней как с настоящей барышней. Вся эта грязь, все эти невыносимые запахи, эти неотесанные слуги, с которыми ей приходилось общаться… Ее жизнь к мануарий была настоящей голгофой. Для такой жизни годился лишь этот самодовольный нищий, Клеман. Проклятое отродье. Он имел наглость задирать нос, когда она приказывала ему, как будто приказывать ему могла только дама де Суарси, ее мать. Мадам ее мать… Как Аньес де Суарси могла выносить эту жизнь? Матильде было стыдно, когда мать переодевалась в мужчину, нет, хуже, в серва, и шла собирать мед. Она докатилась даже до того, что пересчитывала новорожденных поросят, словно крестьянка. Светские дамы никогда не опускаются до такого. Вскоре ее руки будут такими же грубыми, как руки батрачки! Почему ее мать отвергла столь великодушное предложение барона де Ларне и отказалась поселиться в его замке? Там бы они вели образ жизни, соответствующий их положению. Дядюшка Эд часто устраивал празднества, на которые съезжались красивые дамы и доблестные рыцари. Он приглашал даже трубадуров, чтобы те услаждали слух гостей, вкушавших изысканные и экзотические яства. Там смеялись, танцевали под звуки симфоний,[71] шеврет[72] и цистр.[73] Там легкомысленно, хотя и куртуазно, говорили о любви. Но так случилось, что Аньес де Суарси заупрямилась, лишив свою дочь удовольствий, на которые та имела право по рождению. Девочка почувствовала невыразимую горечь. Из-за матери она никогда не сможет носить великолепные меха и роскошные туалеты. Из-за ее упрямства она никогда не познает то, что скрывает в себе утонченный мир. И опять-таки из-за глупого, нелепого решения матери Матильда, ее единственный ребенок, несомненно, никогда не вступит в брак, на который она могла бы рассчитывать. Матильда с содроганием думала о своей участи, которая ей уготована в этом свинарнике Суарси, и слезы наворачивались ей на глаза. Жизнь крестьянки! Ей придется своими руками вырывать из земли средства к существованию, переодеваться в нищенку, чтобы собирать мед! Она была такой несчастной, она не заслуживала подобной участи! Невыносимое горе заставило ее броситься на кровать. То, что ей навязывали в течение стольких лет, было подлостью. Если мать хотела похоронить себя заживо, чтобы сохранить свою необъяснимую гордость, дочь не собиралась повторять ее судьбу. Печаль сменилась злобой. Она, Матильда, родилась в священных узах брака. В ней текла кровь, которой не пристало стыдиться, кровь Ларне со стороны ее деда Робера и кровь Суарси со стороны ее отца. Она не желала чахнуть в сырых и печальных стенах Суарси. Она не желала считать яйца на голубятне, словно от этого зависела ее жизнь. Она не собиралась покрывать свое имя позором, продавая кубометры древесины за несколько туазов льна. В отличие от своей матери. Ни за что на свете. Что касается Клемана, то он мог подыхать вместе со своей дамой, если ему так было угодно. Матильду меньше всего на свете беспокоила его судьба. Она была сыта по горло его превосходством, которое он демонстрировал ей в течение стольких лет!Женское аббатство Клэре, Перш, июль 1304 года
Клеман находился во власти болезненного исступления. Бесповоротный ход времени стал каким-то колдовским. Аньес хранила молчание, но Клемана невозможно было обмануть. Если Эд захотел бы поверить в непростительную связь дамы де Суарси со своим каноником, если бы он выяснил скрываемую правду о Сивилле, он мог бы прибегнуть к помощи одного из инквизиторов Алансона. Мальчик содрогнулся от ужаса. Клеман помнил эту сцену, словно она произошла вчера. Ему было пять лет. Жизель, кормилица, занимавшаяся им, привела его однажды вечером в комнату его дамы. Он знал, что обе женщины очень привязаны друг к другу. Они долго смотрели на него, а потом Аньес прошептала: – Может, это преждевременно? На что Жизель ответила: – Мы не можем больше медлить. Это слишком опасно. Тем более что она догадывается о правде, только пока не понимает ее. Я слежу за ней, и я заметила. В тот момент Клеман спрашивал себя, о чем спорили женщины. – Но она такая маленькая… Я боюсь, что… Кормилица резко оборвала Аньес: – Сейчас эти чувства больше неуместны. Подумай о том, что произойдет, когда другие узнают о нашей тайне. Вздохнув, Аньес де Суарси начала рассказывать. Она объяснила ему то, что он должен был знать относительно своего рождения. Он должен был понять, что только абсолютная тайна могла их спасти. Когда его матери Сивилле Шалис не было еще и пятнадцати лет, она попала под влияние вальденской* ереси евангельской чистоты. Она бросила свою семью, зажиточных горожан Дофинэ, чтобы тайно соединиться со своими духовными братьями и сестрами и стать их священнослужителем. Кто-то выдал маленькое братство, но девушке удалось бежать от правосудия. Она скрывалась, шла по ночам, точно не зная, где находится, выпрашивала кусок хлеба за несколько часов работы. Случилось неизбежное: она встретилась с лихими людьми. Два пьяных разбойника изнасиловали ее, избили, а затем бросили умирать. Сивилла уже знала, что беременна, когда однажды вечером подошла к стенам мануария. Аньес приютила ее, прекрасно понимая, что становится сообщницей еретички. Даже если бы юная женщина открылась ей, дама де Суарси все равно не приказала бы своим людям прогнать ее. Аньес немного помолчала прежде, чем поведать Клеману о самом худшем: его мать не смогла смириться с мыслью, что ее душа была заключена в грязное тело. Она обрекла себя на смерть от лишений и голода, распростершись на полу часовни в ту убийственную зиму 1294 года. Жизель, почувствовав, что ее госпожа не сумеет признаться в остальном, сказала: – Умирая, она вытолкнула тебя из своего чрева. Это произошло 28 декабря. Клеман был потрясен. Из его глаз потекли крупные слезы. По неподвижно застывшему взгляду Аньес он понял, что она вновь как наяву видит этот кошмар. Аньес положила свою дрожащую руку ему на голову, а затем сказала прерывающимся голосом: – Ты не мальчик, Клеман. Вот почему мы настаивали, чтобы ты никогда не мылся вместе с другими детьми слуг, чтобы ты сторонился их и не участвовал в их играх… Он – она – с некоторых пор догадывался об этом, заметив, что его тело было больше похоже на тела девочек. – Но… почему… – пробормотал он. – Потому что я не смогла бы оставить на службе девочку, лишившуюся матери. Ты стала бы одной из бесчисленных сирот, которых посвящают Богу и которые заканчивают свои дни в монастыре. Этого потребовал бы Эд де Ларне, и я не смогла бы воспротивиться ему. Я не хотела для тебя… Из-за своего рождения ты не смогла бы занять в монастыре достойное место… На мгновение Аньес закрыла глаза. Когда она вновь заговорила, ее голос звучал тверже: – У сирот низкого происхождения есть только один выбор: прислуживание, порой хуже… Но ты еще слишком мала. Эти сироты лишены доступа к знаниям, а их жизнь превращается в пытку, от которой я хотела тебя избавить… Если мой брат и ему подобные узнают, кто ты на самом деле… Надо, чтобы ты понял, малыш Клеман, что никто никогда не должен узнать правду. Никогда… Впрочем… может быть, когда-нибудь настанет более подходящий день… Твоя судьба была такой жестокой. Ты это понимаешь? – Да, мадам, – пролепетал он, заливаясь слезами. Он – она – плакал всю ночь, спрашивая себя, хотела ли его мать, о которой он мечтал, представляя ее прекрасной, как звезда, и нежной, как солнечный лучик, чтобы он умер до рождения. Что значила его столь ничтожная жизнь, если даже мать не желала, чтобы он родился? Этот вопрос мучил его несколько недель, прежде чем он отважился задать его своей даме. Она посмотрела ему прямо в глаза, склонила набок голову, так что вуаль соскользнула по лифу платья, и улыбнулась такой прекрасной, такой безнадежной улыбкой: – Мне бесконечно дорога твоя жизнь, Клеман… Клеманс. Клянусь тебе всей душой. У него была Аньес. Жизнь Клемана сводилась к жизни его дамы. В конце концов, она его кормила и защищала, как если бы была ему матерью. Она любила его, и в этом он был уверен. А он – он ее просто обожал. Что касается всего остального, то перемена пола, по сути, не имела для него особого значения. Его дама была права. Быть дочерью-сиротой низкого происхождения, да еще рожденной еретичкой, значило быть ничем или еще хуже. Он будет по-прежнему считать себя мальчиком ради собственного спасения и ради спасения Аньес. К тому же жизнь мальчика была намного более захватывающей, чем жизнь, которую отводили девочкам… Клеман вытер рукавом слезы, которые текли из его глаз, делая мокрым подбородок. Хватит. Хватит вспоминать. Прошлое быльем поросло. Надо думать о будущем. Надо жить, жить вопреки тем бесчисленным опасностям, которые все ближе подступали к ним. Почему он чувствовал, что нужно непременно проникнуть в тайну дневника Эсташа де Риу и его редактора? Чем могли им, Аньес и ему, помочь помарки, вопросы, поиски этих людей, которые, возможно, давно умерли? И все же какой-то необъяснимый инстинкт заставлял его анализировать этот дневник. Он ничего не понимал в астрологической и астрономической тарабарщине, в непонятных математических расчетах, гневных или восторженных комментариях, в невысказанных до конца признаниях.Луна скроет Солнце в день ее рождения. Место рождения еще не известно. Привести слова варяга – бонда, встреченного в Константинополе, который торговал моржовой костью, янтарем и мехами.Что это за слова, где они были записаны?
Пять женщин, в центре шестая.Геометрическая фигура? Метафора? Что именно?
Первый декан Козерога и третий декан Девы изменчивы. Что касается Овна, то каким бы ни был его декан, он будет единокровным.Шла ли речь о рождении? Но кого? В будущем или в прошлом? И что означает «единокровность» астрологического знака?
Первые расчеты были ошибочными. Они не приняли во внимание, что год рождения Спасителя был неверным. Это наш шанс. Эта оплошность дает нам небольшое преимущество.Неужели была допущена ошибка при установлении даты рождения Христа? Небольшое преимущество – для чего? Клеман листал дневник, борясь с раздражением и отчаянием. Надо было начинать все сначала, избавиться от нервозности, паники, которая вот-вот могла его охватить. Что означал этот рисунок, перечеркнутый одной чертой, смысл которого он пытался понять уже несколько часов? Он был похож на диск. С обеих сторон его окаймляла колонка римских цифр, перед которыми стояли начальные буквы и символы. Одни и те же буквы повторялись в разных местах: З, Со, Л, Me, В, Ю, Ca, GE1, GE2, As. Рядом с ними находились символы, изображавшие знаки зодиака. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться: некоторые из начальных букв означают планеты, кроме GE1, GE2, As, ничего не напоминавших мальчику.[74] Что касается римских цифр, они обозначали различные дома знаков зодиака. Две колонки описывали астральные темы и карты небосвода. Клеман сравнил их. Они практически полностью совпадали, за исключением двух планет. В одной колонке Юпитер был в Рыбах и Сатурн в Козероге, а во второй – Юпитер в Стрельце и Сатурн в Рыбах. Козерог, то есть с 22 декабря с 20 января… Если бы не нависшая над ними опасность, это совпадение его позабавило бы. Он родился ночью 28 декабря. В первый раз, когда Клеман изучал исправленный рисунок, он не обратил внимания на слова, нацарапанные внизу:
Гномон [75], сделанный по описаниям ибн аш-Самха, арабского математика. Речь идет о концепции, появившейся из-за глупого упрямства Птолемея. Полученные таким образом цифры нельзя использовать, поскольку Земля не стоит неподвижно! Следовательно, эти цифры вводят в заблуждение.Боже милостивый! Да разве такое мыслимо! Как, Земля не застыла неподвижно? В таком случае, куда она движется? Птолемей, греческий астроном и математик, утверждал, что Вселенная была конечной и плоской и что в ее центре находится неподвижная Земля. Непосредственным соседом Земли была Луна. Затем практически по прямой линии располагались Марс, Венера и Солнце. Все единодушно признавали эту систему правильной, особенно Церковь, ведь сестры-учительницы постоянно говорили об этом. Как могло такое случиться, что Эсташ де Риу и его соратник по дневнику считали эту систему нелепой? Внизу страницы рыцарь или другой человек, писавший размашистым, немного резким почерком, вывел:
Необходимо пересмотреть все расчеты, основываясь на теории Валломброзо, что мы и сделали.Клеман несколько раз просмотрел дневник с начала до конца, но тщетно. Он так и не нашел каких-либо других упоминаний о Валломброзо. На оборотной стороне страницы с рисунком, который удостоился гнева мсье де Риу или его соредактора, была написана фраза, которую они хотели уничтожить, поскольку соскребли буквы острием лезвия. На странице сохранились царапины. Клеман внимательно рассмотрел это место, поднеся масляную лампу как можно ближе. Он пытался, глядя на просвет, заставить страницу заговорить. Ему удалось разобрать кавычки, окружавшие буквы. Следовательно, речь шла о цитате. Чернила, впитавшиеся в бумагу, позволили прочитать несколько букв, которых было явно недостаточно, чтобы понять смысл фразы: «… л… ме… на… он… пог… т…». Под этой фразой был еще один рисунок, изображавший широко распустившуюся розу. Были ли это слова варяжского купца, о которых рыцарь говорил выше? Когда Клеман читал дневник в первый раз, от него ускользнула одна деталь: размашистый почерк полностью исчез через несколько страниц. После этого в дневнике появились забавные фигуры, по размерам и по виду напоминающие миндаль. Эти фигуры, выведенные воздушным пером, были расположены в форме креста. Вверху страницы было дано объяснение: «Крест Фрейи». Впрочем, это нисколько не помогло Клеману. Ведь он не знал, кем был или была Фрейя. В центре каждой широкой миндалины располагалась одна из тех не поддающихся расшифровке клинообразных букв, о существовании которых он узнал из других книг. Эти странные надписи были сделаны на очень древних языках. От каждой из них исходила стрела, заканчивавшаяся неизвестным словом. Миндаль на левой ветви назывался или обозначал «Лагу – прямой вид», а правая ветвь заканчивалась словами «Торн – перевернутый вид». На миндалине, образующей центр креста, Клеман прочел: «Тюр – прямой вид», на миндалине верхней ветви – «Эол – прямой вид», что касается миндалины, располагавшейся в самом низу, она называлась «Инг – перевернутый вид». Если названия не вызывали у Клемана никаких ассоциаций, ему было понятно чередование выражений «прямой вид» и «перевернутый вид». Речь шла о своего роде оракуле, поскольку гадальщики проделывали то же самое со своими картами. Клеман колебался. Он мог наизусть выучить буквы и их соответствия, а также положения планет. Однако он чувствовал, насколько важна точность, и поэтому боялся, что ошибется, когда будет воспроизводить эти записи по памяти на своем чердаке. Он испытывал искушение подойти к высокому пюпитру, за которым надо было писать стоя, и взять лежавшие на нем перо и чернильницу. Но Клеману не пришлось слишком долго бороться с самим собой. Он решил, что не будет ничего передвигать и, главное, не оставит никаких следов, которые могли бы выдать его присутствие в библиотеке. Теперь оставалось найти лист бумаги, чтобы переписать колонки. Он обшарил всю библиотеку, но напрасно. Бумага была роскошью, и ее заботливо хранили в закрытых кабинетах. Несколько минут он не решался реализовать идею, пришедшую ему В голову. Вырвать одну из двух последних пустых страниц дневника, поскольку соредактор уже давно перестал делать свои заметки… Этот поступок казался ему настолько кощунственным, что он трижды отступал, прежде чем осмелиться. Удовлетворенный сделанной им копией, Клеман тщательно уничтожил следы своего труда, вытерев перо и пальцы подолом рубашки, смоченным слюной. Чтобы сделать перерасчет и добраться до даты, которая подскажет ему, обозначали ли эти комбинации чье-то рождение или наступление какого-либо события, он должен определить систему, использованную рыцарем и его соратником, иными словами теорию Валломброзо. Что касается клинообразных букв, то он не сомневался, что в какой-нибудь книге отыщет их значения. Последние часы ночи ребенок посвятил чтению учебников по физике, астрономии и астрологии, а также словарей, находившихся в библиотеке. Однако он так и не сумел найти ничего, что было бы похоже на это имя или что просветило бы его относительно содержания миндалин. Валломброзо, Валломброзо… Он возобновил свои поиски. Занимался рассвет, когда Клеман отыскал то, что расценил как Божью помощь. Он обнаружил Consultationes ad inquisitores haereticae pravitatis Ги Фулькуа.[76] К этой книге прилагалось тоненькое практическое пособие, в котором были собраны чудовищные рецепты. Содержание этих рецептов ошеломило Клемана, если не ужаснуло.
Лувр, Париж, июль 1304 года
После известия о кончине Папы Бенедикта XI Гийом де Ногаре всю ночь не смыкал глаз. В течение долгих часов он взвешивал все «за» и «против», ворочался с боку на бок, думая о серьезных последствиях для Французского королевства. При мысли о том, что кто-то пал столь низко и отравил Папу, он задыхался от возмущения. Нет, конечно он не испытывал особой привязанности к покойному святому отцу. Но, будучи влюбленным в закон, Ногаре требовал, чтобы все происходило в соответствии с законом. Закон также служил и для разоблачения Папы, пусть даже посмертно. Не было никакой необходимости убивать его. Это убийство было личной и политической катастрофой. Все знали, что Бенедикт XI решил отлучить Ногаре от Церкви, чтобы наказать Филиппа Красивого за насилие по отношению к Бонифацию VIII. Если бы это произошло, отлучение от Церкви унизило бы Ногаре, человека большой веры, и отрицательно сказалось бы на его дальнейшей политической карьере. Иными словами, у Ногаре, как ни у кого другого, были весомые основания содействовать отравлению Папы. Но в эти предрассветные часы Ногаре терзали мысли не только о собственном будущем. Он мучительно размышлял о судьбах королевства. Они были не готовы. Ногаре и Плезиан плели хитроумную паутину, чтобы передвигать пешки на шахматной доске папства. Они рассчитывали на несколько лет относительной передышки, предоставленной им понтификатом Бенедикта XI, которая, как они надеялись, будет короткой. Но все же не до такой степени. Сон упорно не приходил к Ногаре. Еще не было и четырех часов утра, когда он решил встать, чтобы помолиться, а затем взяться за работу. Франческо де Леоне, называвший себя Капелла ради выполнения своей шпионской миссии, был погружен в чтение картулярия, когда Ногаре толкнул дверь, ведущую в его кабинет. Советника обуревали противоречивые чувства: с одной стороны, раздражение, что он будет не один в течение нескольких часов, с другой стороны, удовлетворение, что он нашел столь усердного секретаря. Второе чувство пересилило, возможно, потому что Ногаре хотелось поговорить откровенно. – А ты ранняя пташка, Франческо. – Нет, мессир, это работа – ранняя пташка. Такое впечатление, что за ночь ее как по волшебству стало больше. Такой ответ заставил Ногаре слегка улыбнуться. Он согласился: – Подобное впечатление возникает довольно часто. – Монсеньор… – искусно изобразил нерешительность Франческо, – что мы должны думать об ужасной кончине нашего Папы? – Кто «мы»? «Мы» – государство или «мы» – ты и я? – Разве «вы» и «государство» отделены друг от друга? Лесть была настолько тонкой, что Ногаре ее не заметил. Напротив, она удовлетворила его, немного улучшив его печальное настроение. Он ответил со вздохом, который уже не был столь тягостным: – Разумеется, нет, разумеется, нет. Видишь ли, Франческо, я не знаю, что об этом и думать. Конечно, угроза отлучения от Церкви доставляла мне огромное беспокойство, хотя я знал, что для Бенедикта это был способ показать свою власть над Французским королевством. Внезапно Гийому де Ногаре показалось очень важным обратить особое внимание на эту деталь, возможно, потому, что он понимал, что человек, которого он взял к себе на служ6у, был наделен живым умом и поэтому заслуживал уважительного внимания к себе. – Знай же, я клянусь тебе перед Богом, что я не принимал никакого участия в этой попытке покушения на Бонифация. Я шел к Бонифацию, чтобы сообщить ему об одном изречении, которое собирался произнести на будущем экуменическом соборе. Я оказался на площади в неподходящий момент. У нас были хорошие шансы сместить этого недостойного Папу, прибегнув к помощи религиозного суда. Покушаться на Папу было совершенно бесполезно. Леоне несколько секунд пристально смотрел на Ногаре, а потом медленно и искренне произнес: – Я вам верю, мессир. Этотмогущественнейший человек говорил правду, Франческо был в этом уверен, ведь он распознавал ложь так же хорошо, как силуэт старого товарища. Ногаре почувствовал непомерное облегчение. В то же время он удивился: в конце концов, Франческо Капелла был всего лишь секретарем, племянником одного из самых кровожадных ростовщиков Парижа. Разве ему так важно мнение Франческо? Тем не менее он продолжал: – Отвечая на твой вопрос… Эта преждевременная смерть может создать нам весьма серьезные и к тому же прискорбные препятствия. Мы не готовы вести закулисную политику… разве только для того, чтобы отсрочить выборы нового Папы. – Но как? – Делая ставку на низменные человеческие инстинкты, которые присущи подавляющему большинству наших кардиналов. Алчность, зависть, ревность и стремление к власти. Франческо решил, что на сегодня он узнал вполне достаточно, иначе своей настойчивостью он мог бы вызвать у Ногаре недоверие. – Дожидаясь вас, я проверял книгу учета счетов двора и… Леоне притворился, что очень смущен. – И что? Давай, Франческо, говори. – Хорошо… Счета мсье де Мариньи… как бы это сказать… Ну… Ему были выплачены крупные суммы денег без указания целей… – Есть три Мариньи: Ангерран, главный камергер короля, которого весьма хорошо принимают при дворе мадам Жанны Наваррской, королевы; Жан, брат Ангеррана, епископ Бове, и Филипп, секретарь короля и епископ Камбре. О каком из них ты говоришь? – Главным образом о последнем. Что касается монсеньора Карла де Валуа*, это настоящая бездонная бочка! Произнося эти слова, Франческо придал своему лицу недовольное выражение. Ногаре объяснил: – Единственный брат короля неприкосновенен. Наш король испытывает к своему брату нежность, которая порой ослепляет его. Так обстоят дела, и нам не остается ничего другого, как смириться с этим. Мсье Карл буквально сорит чужими деньгами. Нам надо это терпеть, но вместе с тем умело сообщать о его выходках королю. Леоне удивился, что Ногаре не потребовал от него уточнений относительно сумм, выплаченных Филиппу де Мариньи. Простодушным тоном он продолжал настаивать: – Мсье де Мариньи, Филипп, менее чем за полгода взял из казны десять тысяч ливров. Это крупная сумма! Его переводные векселя были написаны рукой Ангеррана и скреплены подписью короля, но в них нет упоминания о том, для чего они предназначены! – Если их подписал король, значит, это не наше дело, – чрезмерно сухо возразил советник. Леоне согласно кивнул головой и опять погрузился в работу. На что были истрачены деньги, выплаченные с согласия короля? Выплаты начались шесть месяцев назад, задолго до смерти Бенедикта XI. К тому же Ногаре пришлось прибегнуть к помощи Джотто Капеллы, чтобы собрать средства, необходимые для мошенничества при проведении выборов будущего Папы. Следовательно, деньги, выплаченные Филиппу де Мариньи, предназначались для других целей, столь секретных, что в казначейской книге о них не было никаких упоминаний. Внезапная перемена настроения Гийома де Ногаре свидетельствовала, что он был в курсе дела. Незаметно прошел час. Рыцарь де Леоне трудился, не поднимая головы. Работа, которую ему поручил советник короля, была скучной, но зато она не требовала особой сосредоточенности, и мысли Леоне были заняты другим. Скоро. Скоро, и он это чувствовал, он выполнит свою миссию. Но Арно де Вианкур, приор командорства Кипра, не обязательно должен был узнать об этом немедленно. Так называемое расследование позволяло Франческо оставаться во Франции довольно долго, столько времени, сколько ему понадобится, чтобы завершить собственные поиски. Затем? Затем мир перестанет быть таким, какой он есть сегодня. Лицемерие, расчетливость, плутовство – все это исчезнет. Идолы надут… Но сначала надо добраться до командорства Арвиля, собственности рыцарей Храма, которые, разумеется, не окажут помощи рыцарю-госпитальеру, по крайней мере ту, к которой так нуждался Леоне. Из простуженного горла Гийома де Ногаре вырвался хриплый звук. Рыцарь оторвался от колонок цифр, которые он внимательно изучал с самого прихода сюда. – Давай, Франческо, отдохнем несколько минут. Твой дядя не солгал. Ты прекрасно говоришь по-французски. – Здесь нет моей заслуги, мессир. Моя мать была француженкой. Леоне поспешил сменить тему. – Похоже, вас раздражает ваша работа. – От этих брачных договоров у меня кружится голова. В них надо все предусмотреть, причем в первую очередь то, что невозможно предвидеть. – О каком браке идет речь, если, конечно, я могу позволить себе задать этот нескромный вопрос? – Это не секрет. О браке монсеньора Филиппа,[77] графа де Пуату, второго сына нашего короля. Его супругой станет мадам Жанна Бургундская, дочь Оттона IV, графа Бургундского, и графини Маго д'Артуа. Графство Артуа всегда было вожделенным лакомством… Что уж говорить о Бургундском графстве! Одним словом, необходимо предусмотреть любые возможности: смерти, рождения, браки, признание браков недействительными, бесплодие… Головная боль, скажу я тебе. Почувствовав, что мсье де Ногаре жалел о своем недавнем плохом настроении, рыцарь бросил на него сочувствующий взгляд и приготовился слушать продолжение. Оно не заставило себя долго ждать: – В этих унылых толстых стенах цитадели Лувра так темно. Неужели ты не тоскуешь о свете Рима и роскоши папского дворца? – Зарождающийся свет римского раннего утра… Какое чистое чудо… – На губах Франческо погасла улыбка. – Конечно, мне его не хватает… Но я не жалею о годах, проведенных на службе у Бонифация. Советник постарался скрыть свое любопытство, принявшись очинять перо. «Какой же я ловкий лжец и притворщик», – подумал Леоне, невольно коря себя. Он должен действовать осторожно и не проникаться симпатией к Ногаре. Ногаре был врагом, и об этом не следовало забывать. Тот попытался, правда, без особого успеха, прикрыть свой интерес обыкновенной учтивостью: – В самом деле? И все же речь шла о почетной должности, которая к тому же приносила материальные преимущества. – Разумеется… Леоне превосходно изобразил нерешительность, чем еще сильнее раззадорил советника: – Теперь, Франческо, настала моя очередь задать нескромный вопрос. Я очень доволен тем, как ты работаешь, и я полагаю, что нас ожидает длительное и плодотворное сотрудничество. Но как заботливый… отец я подозреваю, что твой отъезд был вызван чем-то другим, а вовсе не историей… с дамой. Леоне вытаращил глаза и пристально уставился на советника, словно прозорливость Ногаре ошеломила его. – Разумеется… – повторил он. – Мне очень жаль… – Мессир… если король считает вашу честь и веру достойными своей дружбы, то скромному секретарю не пристало не доверять вам. Но это… в этом так трудно признаться. Ведь мы же говорим откровенно друг с другом, не так ли? – Даю тебе слово, – заверил Ногаре, который действительно думал, что рыцарь был откровенен с ним. В конце концов, если эти откровения окажутся важными, он может использовать сведения, полученные от своего секретаря, не называя источника. Таким образом он сдержит свое обещание. – Так вот. Видите ли, мессир де Ногаре, при царствовании Бонифация было столько лжи, столько махинаций, столько гнусных связей… Да, речь действительно шла о царствовании. Он хотел стать императором, сана Папы ему было недостаточно. Ногаре ничуть не сомневался во всем этом, в значительной степени еще и потому, что ненависть, которую он питал к покойному понтифику, ослепляла его. Тем не менее ему было приятно слышать эти слова из уст камергера, к тому же итальянца, несколько лет состоявшего на службе у Бонифация. – И это тебя раздражало? – Конечно… Но, боюсь, вам не понравится мое объяснение… – Если так случится, я скажу тебе об этом, и в будущем мы не станем сравнивать наши идеи. Продолжай. – Царство душ, защита нашей веры, чистота нашего служения Богу – все это, по моему мнению, подпадает под власть и мудрость святого отца. Напротив… строительство, руководство и защита государств – это прерогатива короля или императора. Но Бонифаций отказывался это признавать. Ногаре нарадоваться не мог, что взял к себе племянника Джотто Капеллы. Он одобрил слова Леоне: – Я тоже придерживаюсь такого мнения. Но ты говорил о гнусных связях и махинациях… – Да-а… Ногаре умерил свой пыл, выжидая, когда Франческо продолжит. Он не хотел торопить Леоне из опасения, что тот закроется, как устрица. Франческо де Леоне лихорадочно подыскивал подходящую ложь. Чтобы ложь выглядела убедительной, она должна быть простой, основанной на реальных фактах, но главное, она должна нравиться тому, кто хочет ее услышать. – Епископ Памье, Бернар Сэссе*… которого король Филипп отправил в изгнание, после того как выяснилось, что тот замышлял против него заговор… – Да? И что же? – Сэссе не хватало проницательности… Он сангвиник, которым легко управлять. Ногаре застыл от изумления: – Ты хочешь сказать, что это Бонифаций дергал за веревочки, когда Сэссе взбунтовался против короля, а не наоборот, как мы думали? – Именно. Я присутствовал на одной из встреч Папы с епископом. Сэссе был марионеткой. Достаточно было помахать красной тряпкой перед его глазами, как он тут же бросался вперед. – Господи Иисусе, – прошептал Ногаре. На несколько минут воцарилось молчание. Потом советник сказал: – А… эти слухи, дошедшие до меня… Франческо терпеливо ждал. Он знал, куда клонит Ногаре. Однако вопрос был деликатный, и его собеседник взвешивал каждое слово, настолько серьезным было обвинение: – Эти слухи… как бы сказать… ужасные слухи, в соответствии с которыми Бонифаций будто бы прибегал – он сам или один из его приспешников – к колдовству, чтобы укрепить свою власть? Действительно, такие клеветнические слухи ходили довольно широко, но Леоне никогда им не верил. Он встречал много мнимых ведьм, так называемых колдунов самых разных мастей, но ни один из них не сумел убедительно продемонстрировать свою власть. Разум и наука всегда побеждали их. Однако он хорошо знал, откуда исходили скандальные сплетни, бросавшие дополнительную тень на личность предыдущего Папы. Всего лишь одно мгновение он размышлял, не лучше ли пойти по пути, намеченному Ногаре. Советник был наделен живым теоретическим умом, однако тайны вселенной делали его доверчивым. Инстинкт, а также необходимость заставить Ногаре поверить в свою абсолютную честность, чтобы завоевать его расположение, разубедили Леоне. – Честно говоря, я никогда не присутствовал на подобных сеансах, и у меня нет никаких причин разделять эти подозрения. Могу ли я открыть вам тайну? – Разумеется, я сохраню ее. – Моим предшественником на службе его святейшества был некий Гашлен Юмо. Он был… как же его описать в нескольких словах… Скажем так: о долге, честности и признательности он имел сугубо личные представления. Юмо был паразитом, тайным вором, пронырливым шпиком, любившим добывать маленькие секреты, чтобы затем продавать их тем, кто предложит большую сумму. Его поймали с поличным, когда он украл несколько манускриптов из личной библиотеки Папы. Немилость, причем вполне заслуженная, не заставила себя долго ждать. Гашлен Юмо исчез, но отомстил, как умел, распустив грязные слухи, порочащие Бонифация и его камерленго. История была частично правдивой, но эти события произошли не четыре, а пять лет назад. Гашлен Юмо решил увеличить свое жалование камергера, воруя – порой по заказу – различные ценные предметы и, главное, редкие манускрипты, о существовании которых никто не знал, за исключением Папы и камерленго. Втайне была проведена инвентаризация библиотеки, чтобы уточнить, какие книги были украдены. Почти полтора десятка, пять из которых были уникальными. Некоторые утраты оказались невосполнимыми: пергамент, написанный рукой Архимеда*, который, по словам Юмо, содержал удивительные математические расчеты, намного опередившие свое время; внушающий ужас труд о некромантии, говоря о котором он неистово крестился; и трактат по астрономии под не вызывавшим особых ассоциаций названием «Теория Валломброзо». Вор клялся, что если содержание этого трактата станет известно, то вся вселенная содрогнется. Гашлен Юмо сумел сбежать задолго до ареста, совершенно справедливо опасаясь, как бы инквизиция не вырвала у него признания о местонахождении тайника, в котором он спрятал столь ценные и грозные книги. Затем он их продал в строжайшей тайне, получив внушительную сумму, которая позволяла ему с уверенностью смотреть в будущее. Одним из клиентов Юмо был не кто иной, как рыцарь Франческо де Леоне, который заказал, а затем купил за золото два произведения. Именно из них Леоне узнал, откуда ему следует начинать поиски. Теперь манускрипты и их прекрасные, но доводящие до безумия открытия были спрятаны в надежном месте. Прежде чем исчезнуть навсегда, Юмо попытался выплюнуть свой яд, чтобы отравить репутацию Папы. Ногаре долго размышлял над словами своего секретаря, а потом сказал: – Благодарю тебя за твою искренность, Франческо. Она вполне уместна, и, будь уверен, я оценил ее. Ногаре верил, что секретарь был с ним искренен, и поэтому почувствовал облегчение, осознав, что тоже может быть с ним искренним. Советник короля был так одинок, а занимаемая должность делала его очень уязвимым. Мысль, что он неожиданно нашел друга в этом еще молодом человеке, сидевшем напротив, согревала его сердце. Франческо де Леоне вновь занялся инвентарным списком, навевавшим на него скуку. После полудня Ногаре должен присутствовать на заседании Совета короля. И тогда в его распоряжении окажутся несколько часов, чтобы найти знак, способный подсказать ему имена французских кардиналов, которых советник попытается соблазнить, если не купить. Вот уже несколько дней Леоне не покидало тревожное чувство, что время поджимает. Подземные силы, несшие с собой зло, делали свое дело, ожесточенно работали. Он никогда не сомневался ни в их упрямстве, ни в их жестокости. Их близость становилась очевидной. Тень приближалась, чтобы поглотить рождавшийся Свет. Тень прибегнет к любому оружию, к любым, даже самым подлым уловкам, только чтобы не исчезли сумерки, питавшие ее. Надо было как можно быстрее проникнуть в командорство тамплиеров Арвиля. Леоне не был столь безрассудным, чтобы считать, будто ключ от Света находится в стенах этого командорства, но он знал, что в его камнях или плитах прячется орудие, необходимое, чтобы выковать этот ключ.Дом инквизиции, Алансон, Перш, июль 1304 года
Сидя в небольшом кабинете, выделенном ему в Доме инквизиции, Никола Флорен лучился от счастья. Он, кого так обеспокоил неожиданный отъезд из Каркассона, теперь корил себя за «девичьи», как он их называл, страхи. И за Бартоломео тоже, по которому поначалу немного, как ему казалось, скучал. Ведь он довольно скоро заметил, что молодой доминиканец и его покорность надоели ему до смерти. До чего же он был прозрачным, этот монашек! Никола хотел удостовериться, что сможет его соблазнить. И ему это удалось с такой легкостью, что одержанная победа стала утомлять его. Соблазн был оружием. Как и в случае с другим оружием, его надежность и силу следовало проверить на разных мишенях. Несмотря на рясу, Бартоломео без труда поддавался влиянию, был таким незащищенным. Недотепа и не слишком умная баба – вот слова, которые прекрасно характеризовали Бартоломео. Жертва, недостойная Никола. Правда, в Каркассоне Никола не приходилось выбирать добычу. Он был окружен старыми бородачами, склонными к нравоучениям, монахами, преисполненными достоинства и погрязшими в своих смехотворных догматических спорах. Что они делали бы, если бы Франческо Бернардоне, который после жизни, проведенной в бедности и посвященной страстной любви к Христу, получил имя Франциска Ассизского, не опустошил торговые склады своего отца, богатого суконщика, чтобы отдать деньги на ремонт Сан-Дамиано? Отец лишил его наследства, и Никола находил это наказание вполне заслуженным. А этот бесконечный спор по поводу плаща святого Мартина Турского! Действительно ли святой отдал плащ нищему, в котором, как ему показалось, он узнал Спасителя? Разорвал ли он плащ пополам или отдал целиком? Да Никола все уши прожужжали! Разумеется, все эти заковыристые словесные уловки преследовали одну-единственную цель: оправдать приверженцев бедности Христа и апостолов, а следовательно, и необходимой бедности Церкви, дав ей преимущество над многочисленными и весьма язвительными противниками. Но до этого Никола не было никакого дела. Если бы он родился богатым, он постарался бы таковым и остаться. Тогда религия не заманила бы его к себе. Но он родился бедным. Впрочем, ряса и должность инквизитора позволят ему вскоре избавиться от этого временного жалкого состояния. В его памяти всплыло мимолетное воспоминание. Его мать, не любимая единственным сыном. Она в совершенстве владела искусством принимать роды у благородных дам из окружения мадам Марии Испанской, но в остальном была такой глупой! Что с ней стало после его отъезда? Какая разница? Его отец, трусливый эрудит, влюбленный в красивые виньетки[78] на исторические темы и буквицы,[79] окруженные вязью.[80] Его пальцы, перепачканные чернилами ярких цветов и золотым порошком. Он смешивал каракатиц или чернильные орешки, яичный белок или гвоздичный[81] порошок, забывая, что граф, для которого он столь неистово трудился, что потерял зрение, предпочитал манускриптам войну и женщин. Оба мелкие прислужники! Благодаря своей смазливой физиономии, не говоря уже о таланте двурушничать, Никола снискал милость многих дам и нескольких господ. Наделенный незаурядным умом, он вскоре возвысится над всеми ними. Никто не сможет ему противостоять, и ему больше не придется гнуть спину, работая на других. Даже знатные сеньоры королевства дрожали при одном лишь упоминании об инквизиции. Единственным его хозяином был Папа, но Папа находился очень далеко. Власть ужаса. Теперь он был наделен этой властью и рассчитывал употреблять ее себе во благо. Какое прекрасное вознаграждение – все эти пытки, смерти, которыми он мог распоряжаться по собственному усмотрению! Ведь было так легко обвинить любого в ереси или в одержимости бесами! Ведь было так легко вырвать признание в преступлении, в котором обвиняли этого человека! Не было никакой необходимости в услугах палача. Никола отстранил палачей, чтобы иметь возможность действовать самому. Несколько минут, проведенных с несчастным в комнате допросов. Ничего другого. Никола уже не раз в этом удостоверялся. Если обвиняемый владел каким-либо имуществом, можно было вступить в переговоры. В противном случае обвиняемый умирал, и его ужас, страдания приносили Никола удовлетворение. Так или иначе, но выигрывал всегда он. При этой мысли из груди Никола вырвался радостный вздох. Роберт Болгарин – безукоризненный пример для подражания. Неистовые вопли, море крови, месиво из вырванных внутренностей, сломанных ног, выколотых глаз, изрубленной плоти. Пятьдесят трупов за несколько месяцев, пятьдесят жертв за время его короткого пребывания в Шало-сюр-Марн, Перонне, Дуэ, Лилле. Огромный костер на горе Сент-Эме: 183 совершенных катара или выдаваемых за таковых превратились в уголь за несколько часов. Бедный, бедный скучный Бартоломео… Он никогда не узнает, что такое величие и тем более радость, которую оно дает. Но хватит воспоминаний. Надо заняться делом Аньес де Суарси, которое ему дали вместе с туго набитым кошельком, первым кошельком. Второй кошелек ему вручат после того, как обвиняемая попадет в опалу. Опала? Почему бы не смерть? Но барон-заказчик настаивал, что молодая вдова не должна умереть, неважно где, на пыточном ложе или на костре. Что касается пыток, их следовало применять осторожно, что делало возможным использовать средства, обычно предназначенные для женщин, более «милосердные», чем те, которые были уготованы мужчинам.[82] Никола больше ничего не требовалось, чтобы понять: речь шла о наказании, которому хотел подвергнуть даму влюбленный кровосмеситель, к тому же отверженный. Женщина, дама – какое удовольствие! Они вызывают столько эмоций, когда извиваются от ужаса. А эта дама будет еще сильнее извиваться, поскольку она, как ему описали, была очень красивой. Впрочем, какое разочарование! Ба, в конце концов, ему щедро заплатили! Другая глупая жертва позволит ему получить удовлетворение. Недостатка в мнимых виновных не будет. Аргументы, которые привел ему заказчик, чтобы обосновать необходимость инквизиторского суда, были сбивчивыми, и поэтому Никола решил сам добыть доказательства. Обвинение в ереси предоставляло широкое поле действий. Он знал все уловки, которые можно было использовать в ходе этого процесса. Ни один обвиняемый – даже столь же невинный, как новорожденный агнец, – не мог вырваться из его когтей. Никола вытянул руки от удовольствия и откинулся в кресле назад, закрыв глаза. Но инстинктивно почувствовав чье-то присутствие, он почти сразу же открыл их. Он неподвижно стоял перед ним. Никола даже не слышал, как тот проскользнул в его кабинет. Человек, закутанный в грубый коричневый плащ с капюшоном, почти закрывавшим лицо. Хорошее настроение Никола мгновенно уступило месту гневу. Кто осмелился войти в его кабинет без предупреждения? Кто дерзнул столь пренебрежительно отнестись к занимаемому им положению и должности? Никола встал и открыл рот, чтобы отругать непрошеного гостя, но тут из широкого рукава появилась рука в перчатке и протянула ему короткий свиток. Противоречивые эмоции по очереди захлестывали Никола по мере того, как он знакомился с содержанием свитка: изумление, страх, жадность и, наконец, жестокая радость. Человек терпеливо ждал, не говоря ни слова. – Что я об этом должен думать? – прошептал Никола дрожавшим от удовлетворения голосом. Низкий голос, искаженный плотным капюшоном, скрывавшим лицо, подвел черту: – Она должна умереть. Триста ливров за жизнь – это больше, чем достаточно. У Никола промелькнула мысль о небольшом шантаже, чтобы попытаться поднять цену за кровь. – Это… – Триста ливров или твоя жизнь, выбирай, но быстро. Равнодушие, сквозившее в голосе незваного гостя, мгновенно убедило Никола в серьезности этой угрозы. – Мадам де Суарси умрет. – Рассудительный человек… Ты приедешь в аббатство Клэре на время благодати. Так ты приблизишься к своей новой… игрушке. Никакой орден, даже богатый и могущественный, не может воспротивиться действиям инквизитора, и любезные монахини будут вынуждены подчиниться. Ты окажешься всего лишь в нескольких лье от твоей добычи – сладостной Аньес.Замок Отон-дю-Перш, июль 1304 года
Известие о смерти в родах мадам Аполлины де Ларне не удивило Артюса д'Отона. Однако оно огорчило его намного сильнее, чем он мог бы предположить. Когда он видел эту женщину с серым лицом, агония уже читалась по ее глазам. И по ее животу тоже: новорожденная девочка, еще одна дочь, пережила мать всего на несколько часов. Артюс нисколько не сомневался, что их кончина нисколько не опечалила барона. Смерть этой женщины, которую, впрочем, граф прежде немного презирал, повергла его в странную печаль, печаль, которую испытывают от невозместимой опустошающей утраты. Артюс поймал себя на мысли, что пытается воссоздать жизненный путь Аполлины. Она принадлежала к числу тех женщин, которые полностью раскрываются лишь тогда, когда у них возникает желание быть любимыми избранником своего сердца. Эд не имел ничего общего с таким избранником и никогда не любил свою жену. И она замкнулась в себе, равнодушно взирая на прожитые годы. Она вышла из этого состояния лишь на несколько минут: когда две недели назад он нанес ей визит. Но что происходит с ним? Почему с некоторого времени он стал так близко все принимать к сердцу? Пережив опустошение, которое он испытывал после смерти сына, он постепенно сумел наладить жизнь, пусть довольно неинтересную, но все же не причинявшую ему страданий. Разумеется, он никогда не был одним из тех жизнерадостных или легкомысленных людей, которые любили вращаться в обществе. Но после смерти Гозлена ничто не могло ранить его душу. Что происходит? Почему несправедливая кончина мадам Аполлины так расстроила его? Ведь столько женщин умирают в родах. С некоторых пор он стал замечать в себе нервозность, чувственность, на которые, как ему казалось прежде, он был неспособен. Эта женщина… Его губы озарила улыбка, первая за этот мрачный день, пришедший на смену такому же мрачному дню. Он призвал на помощь ясность ума – так он сумеет сэкономить время. Надо признать: после возвращения из Суарси она не выходила у него из головы. Она вторгалась в его ночи, заполняла его мысли, когда он разговаривал со своими крестьянами, преследовала его на охоте, из-за чего он упускал добычу. Он с удивлением поймал себя на мысли, что подсчитывает разницу в возрасте: ей было немногим более двадцати лет, но, в конце концов, ее покойный муж был лет на тридцать старше ее. К тому же возраст мужчин не имел особого значения, поскольку от них требовалось заботиться, уважать и защищать в обмен на любовь и послушание, а плодовитость была им присуща на протяжении всей жизни. Да, но… Она была вдова, а статус благородной вдовы с ребенком был, безусловно, наиболее подходящим для дамы. Не владея личным состоянием, вдовы пользовались имуществом, унаследованным от мужа, поскольку было немыслимо оставить в нужде тех, кто выполнил свои обязанности супруги и матери. Не имея больше ни отца, ни мужа, они становились полновластными хозяйками собственной судьбы. Этим случайным статусом и объяснялось, что многие дворянки и горожанки не стремились вступать в новый брак. Придерживалась ли такого же мнения Аньес де Суарси? Но что он об этом мог знать? А потом, кто сказал, что она нашла его привлекательным или просто приятным в обращении? Когда он покончил с этими навязчивыми вопросами без ответов, нервозность, мешавшая ему найти покой, уступила место мрачному настроению. Он так яростно ударил кулаком по рабочему столу, что чернильница в форме корабля подскочила, едва не опрокинувшись. Уличная девка, вот кто ему требовался. Приветливая и довольная теми денье, которые он ей заплатит. Девка, которая не вызовет у него никаких вопросов. Несколько минут оплаченного удовольствия без последствий и воспоминаний. Но подобная перспектива утомила его прежде, чем он начал развивать ее. Он не испытывал к уличным девкам ни малейшего влечения. Приход Монжа де Брине прервал тягостные размышления графа. – Мы немного продвинулись в деле о последней, пятой жертве. – Вы смогли установить личность погибшего? – Нет, пока нам этого не удалось, но смерть его была ужасной. – Как? – Вне всякого сомнения, он умер от внутреннего кровотечения. – Почему вы так думаете? – Его нёбо иссечено мелкими порезами.[83] По моему мнению, ему дали какое-то яство, набитое толченым стеклом. Когда жертва это заметила, было уже поздно. Бедный парень истек кровью, вылившейся внутрь его самого. – В некоторых странах так избавляются от хищников. В самом деле, ужасная смерть. А другие? Ваше расследование продвигается? – Очень мелкими шажками. Я получил заключение от врача-теолога из Сорбонны. – И? – Столько учености при ничтожной помощи… – Понимаю. Какой диагноз он поставил? – Что все жертвы умерли насильственной смертью. Ничего другого. – Какое потрясающее заключение! Как много оно нам дало! – сыронизировал Артюс. – Вам было бы лучше прибегнуть к помощи Жозефа, моего врача. – Все дело в том, что эти люди никогда не покидают университетских аудиторий и не приближаются ближе, чем на туаз, к больным или покойникам, поскольку боятся заразиться. Они довольствуются тем, что учат наизусть или пережевывают то, что другие открыли более тысячи лет назад. Они могут заговорить вас своей латынью, но что касается чирья или мозоли на ноге… – Мы во всем разберемся, Брине, уверяю вас. – Да, но когда, как? Речь идет о монахах, по крайней мере о четырех из жертв. Один был эмиссаром его святейшества Бенедикта XI, тот, кто умер от отравления. Это дело, которое могло бы остаться местным, теперь приобретает размах политического инцидента. Нам надо продвигаться в нашем расследовании, причем быстро. Артюс уже давно это предчувствовал. Французскому королевству, у которого и так были сложные отношения с папством, совершенно не был нужен эмиссар, найденный обугленным, но без малейших следов огня.Женское аббатство Клэре, Перш, июнь 1304 года
Элевсия де Бофор невозмутимо слушала молодого доминиканца, о приезде которого ее известили несколько минут назад. Казначея Жанна д'Амблен провела монаха в ее кабинет. Обычно светлое лицо молодой женщины посуровело, что служило недобрым предзнаменованием. Как и мать аббатиса, Жанна, Иоланда де Флери, Аннелета Бопре, сестра-больничная, и особенно Гедвига дю Тиле, чей дядя по мужу был убит в Каркассоне во время расправы над недовольными, были образованными женщинами и критиковали, порой в завуалированных выражениях, средства, применяемые Римом для защиты чистоты веры. Несомненно, в момент прозрения с их взглядами соглашались Аделаида и даже Бланш де Блино, однако они были более боязливыми. Но большинство ее духовных дочерей, к сожалению, не ведали таких сомнений, о чем Элевсия сожалела. В самом деле, расширение деятельности инквизиции вызывало тревогу и глубоко удручало Элевсию, несмотря на ее твердую веру и послушание. Спасти души заблудших, чтобы они смогли присоединиться к Божьей пастве, важнее всего, но для Элевсии была неприемлемой сама мысль о том, что монахи могли прибегать к пыткам и смерти во имя Христова послания любви и терпимости. Разумеется, они не пятнали свои руки кровью, поскольку передавали осужденных светским властям, чтобы те привели приговор в действие. Однако это удобное лицемерие не убеждало ее, тем более что многие инквизиторы теперь присутствовали при пытках. На память Элевсии пришел упрек, который почти тысячу пет назад Илэр де Пуатье мужественно бросил Оксентиусу, епископу Миланскому: «Я спрашиваю вас, вас, который считает себя епископом: какой поддержкой пользовались епископы для очищения Евангелий? На какую власть они опирались, чтобы проповедовать учение Христа?…Сегодня – увы – Церковь угрожает изгнанием и застенками. Она хочет силой заставить в себя верить, она, которая некогда подвергалась изгнанию и познала застенки». Тем не менее эти доминиканцы и францисканцы были всесильны и обладали властью над всеми, то есть и над ней. До чего же он был красивым и лучезарным, этот брат Никола Флорен! Он попросил приютить его на месяц в аббатстве с таким апломбом, что было ясно: под формулой вежливости скрывался приказ. Как ни странно, но едва он вошел в ее кабинет, как аббатиса почувствовала отвращение, чувство, которое трудно было сдержать. Это удивило Элевсию, ведь она всегда остерегалась импульсивных реакций. И все же в этом молодом человеке было нечто такое, что вызывало у нее тревогу, хотя она не могла объяснить почему. – Поиски в рамках расследования, говорите? – Да, матушка. Я должен был приехать в сопровождении двух братьев, как это желательно, но срочность… – Я не помню ни об одном случае ереси в Перше, сын мой. – А колдовство, связи с демонами?… Ведь у вас есть свои суккубы и инкубы, не правда ли? – Кто от этого избавлен? Монах послал ей улыбку, похожую на улыбку ангела, и сладким печальным голосом ответил: – Какое грустное, но справедливое замечание. Я уверен, что вы поймете меня правильно. Я не могу назвать вам имя особы, по поводу которой я веду расследование. Как вам известно, наш суд милосерден и справедлив. Я сообщу ей, что у нее в распоряжении месяц, время благодати, чтобы признаться в своих ошибках. Бели она будет упорствовать в своем заблуждении, начнется судебный процесс. В противном случае, если она признается в грехах, возможно, она получит прощение и ее имя останется в тайне, что избавит ее от преследования… соседей. Никола сложил свои прекрасные руки, моля Бога, чтобы Аньес де Суарси упорно настаивала на своей невиновности. Если ему верно описали эту даму, вполне вероятно, что так оно и будет. В противном случае у него уже были готовы отговорки. Он всегда сможет сказать, что впоследствии она отказалась от своих признаний, а вероотступники всегда считались худшими из преступников. Никому из них не удалось избежать костра. Слово дамы де Суарси ничего не значило по сравнению со словом инквизитора. Барон-заказчик будет весьма неприятно удивлен – он, который хотел просто запугать и обесчестить свою сводную сестру. Собственная двуличность опьяняла Никола. Теперь он мог оказать барону сопротивление, пренебрегая его приказами. – Для поддержания обвинения необходимы по меньшей мере два свидетельства, – настаивала Элевсия де Бофор. – О… Я получил их гораздо больше, иначе меня не было бы здесь. Вы же знаете, в данном вопросе мы стремимся прежде всего защищать. Имена свидетелей и их показания тоже останутся в тайне. Мы хотим избавить их от расправы. Смуглый ангел слегка наклонил свое лицо к ее плечу. Его лоб, озаренный почти нереальным светом, напоминал Элевсии свет, льющийся по утрам зимой из парных окон[84]церкви Пресвятой Богородицы аббатства. Полупрозрачные длинные голубоватые веки скрывали бесконечно глубокий взгляд, взгляд смерти. Маска. Под бледной кожей таилось изъеденное червями существо с обнаженными мышцами. Разлагающаяся плоть, клочья зеленоватой кожи, слизкая тошнотворная жидкость. Скользкие щеки, ввалившиеся глаза, обнажившиеся зубы. Красноватые панцири, копошащиеся лапы, ненасытные мандибулы, безжалостные клыки рылись в плоти. Запах падали. От пронзительного крика приподнимались грудная клетка, лишенная внутренностей, бока, изъеденные упрямыми челюстями. И вдруг появилась красная от крови морда крысы. Зверь готовился к нападению. Обеими руками Элевсия де Бофор схватилась за край рабочего стола, едва сдержав вопль, готовый вырваться из ее груди. До нее донесся голос, очень далекий голос: – Матушка? Как вы себя чувствуете? – Голова закружилась, ничего страшного, – сумела выговорить Элевсия, а затем добавила: – Вы желанный гость, сын мой. Дайте мне несколько минут, чтобы прийти в себя. Это жара… несомненно… Никола не замедлил откланяться. Элевсия стояла, одна посредине этого просторного кабинета, контуры которого расплывались перед ее глазами. Они вернулись. Адские видения. Теперь ей нигде от них не спастись.Мануарий Суарси-ан-Перш, июль 1304 года
Он был таким красивым, таким молодым, таким сияющим, что Аньес наивно подумала, что он должен быть милосердным. Когда Аделина прибежала к ней, чтобы сбивчиво, путая слова, объяснить, что монах в черной рясе и накидке нечистого белого цвета, специально приехавший из Алансона, ждет ее в общем большом зале, она сразу все поняла. Аньес недолго колебалась: отступать больше не было времени. Монах ждал ее стоя, сжимая в руках распятие. – Мсье? – Брат Никола… Я принадлежу к Дому инквизиции Алансона. Аньес, пытавшаяся унять сердцебиение, подняла брови, изобразив удивление. Никола улыбнулся ей, и Аньес подумала, что это была самая чарующая улыбка, которую она когда-либо видела. Казалось, глаза доминиканца были омрачены печалью. Горестным тоном он произнес: – До нас дошли слухи, мадам, моя сестра в Иисусе Христе, что в прошлом вы приютили еретичку, а не выдали ее нашему суду. До нас также дошли слухи, что вы будто бы воспитали ее посмертного сына, появившегося на свет при столь странных обстоятельствах, что в этом усматривают происки демона. – Вероятно, речь идет о горничной по имени Сивилла, которая служила мне какое-то время до того, как умерла от слабости при родах? Та зима была убийственная, столько народу умерло. – В самом деле, мадам. Все позволяет думать, что речь шла о еретичке, сбежавшей от правосудия. – Вздор. Это сплетни злой завистливой женщины, и я даже могу вам назвать имя вашего осведомителя. Я набожная христианка… Изящным движением руки Никола прервал Аньес: – Как об этом свидетельствует ваш каноник? Брат Бернар? – Мать аббатиса Клэре и казначея, которая часто меня посещает, Жанна д'Амблен, тоже засвидетельствуют это перед Богом. Проведя несколько дней в аббатстве и умело расспросив монахинь, Никола это понял. Поэтому он решил пока отставить обвинение в плотской связи с человеком Бога. Он использует его в последнюю очередь. И он слукавил: – Сейчас не время для суда и тем более для обвинения. Сейчас пробил час благодати, сестра моя. Никола закрыл глаза. Его лицо исказилось от мук: – Исповедуйтесь. Исповедуйтесь и покайтесь, мадам. Церковь – добрая и справедливая, она вас любит. Она простит вас. Никто не узнает о моем визите, а вы отмоете свою душу от грязи. Церковь простит ее, но она попадет в руки светской власти, которая конфискует ее вдовье наследство и отберет дочь и Клемана. Аньес колебалась, сомневаясь, что способна противостоять инквизиторскому суду, и решила выиграть немного времени. – Брат мой… Мне неизвестны эти гнусные преступления, в которых вы меня обвиняете. Но я полностью доверяю вашей рясе и вашей должности. Позволила ли я ввести себя в заблуждение? Дала ли я доказательство своего преступного простодушия? Как бы то ни было, ее сын Клеман был воспитан в уважении и любви к нашей святой Церкви, и ему не ведомы прискорбные ошибки матери… если таковые, конечно, были. Никола убрал распятие в передний карман своего сюрко и подошел к Аньес, протягивая руки, с блаженной улыбкой на губах. Маска. Под бледной кожей таилось изъеденное червями существо с обнаженными мышцами. Разлагающаяся плоть, клочья зеленоватой кожи, слизкая тошнотворная жидкость. Скользкие щеки, ввалившиеся глаза, обнажившиеся зубы. Красноватые панцири, копошащиеся лапы, ненасытные мандибулы, безжалостные клыки рылись в плоти. Запах падали. От пронзительного крика приподнимались грудная клетка, лишенная внутренностей, бока, изъеденные упрямыми челюстями. И вдруг появилась красная от крови морда крысы. Видение было столь реальным, что Аньес задохнулась. Откуда появились эти невыносимые образы смерти, страданий? Зверь стоял перед ней. Она отступила назад. Никола резко остановился в двух шагах от Аньес, пытаясь разгадать тайну этого прекрасного женского лица, которое внезапно исказилось. На какое-то мгновение ему показалось, что чуть ранее он уже видел эту сцену, однако не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. От чувства, от которого он, как думал прежде, навсегда избавился, пересохло во рту. Страх, это был страх. Но он прогнал страх и воспользовался возможностью, предоставленной ему странной реакцией Аньес де Суарси: – Вы боитесь дружеских объятий человека Бога, мадам? Так значит, вы твердо стоите на демоническом пути? – Нет, – едва слышно выдохнула она. Этот человек был одним из провозвестников Зла. Он любил Зло. Она была убеждена в этом, сама не зная почему. Но нот уже несколько секунд, прошедших после того ужасного видения, она была не одна. На ее стороне боролась могущественная тень. Несколько теней. Энергия, которую она считала исчезнувшей, вновь охватила ее. Она притворилась, что верит ему, и отважно продолжила: – Нет… Ваши слова поразили меня. Сивилла обманула меня? Она воспользовалась моей доброжелательностью, моим простодушием? Какая жуткая мысль! А потом, я боюсь, как бы Клеман не узнал невыносимой правды о своей матери. Он будет сражен, – солгала Аньес с легкостью, которой ее наделили дружественные тени. Эти самые тени толкнули ее к дьявольскому ангелу, заставили ее протянуть вперед руки в знак любви и дружбы и обнять ими за плечи человека, который вызывал у нее тошноту. Он приехал не для того, чтобы добиться от нее признания. Он требовал ее жизнь, шептали тени Аньес, которая теперь слышала голоса, не похожие на ее собственный голос. Клеманс? Аньес не была в этом уверена. Когда Аньес разжала объятья, в темных глазах, пристально смотревших на нее, вспыхнула ярость. Борьба будет более ожесточенной, чем предполагал Никола. Если она признает ересь служанки перед инквизиторским судом и при этом будет утверждать, что ее заблуждение было вызвано доброй верой, судьи снизойдут к ней. Она отделается смешным паломничеством, в худшем случае несколькими девятидневными молитвенными обетами. Он мог распрощаться со ста ливрами барона, а также с 300 ливрами, обещанными странным посланцем. Он мог также распрощаться со своим удовольствием. И вдруг Никола со всей ясностью осознал угрозу, о которой прежде старался не думать: если он потерпит поражение, его жизнь окажется в опасности. Человек в плаще не даст ему пощады, ведь тот обладал властью. И теперь он возненавидел свою будущую жертву, которую до сих пор презирал за ее игры. Едва Никола ушел, как Аньес упала на колени и стала молиться. Она умоляла голоса вернуться в ее сознание. Но они смолкли, едва инквизитор покинул зал. Лишилась ли она рассудка? Она молилась, как ей казалось, несколько часов. У нее начался своего рода бред. В это мгновение она все отдала бы, лишь бы тени вернулись, чтобы успокоить ее. – Мой ангел, – тихо рыдала Аньес. Внутренний вздох, похожий на ласковое прикосновение. Клеман нашел Аньес, лежавшую на плитах общего зала. На мгновение его охватил ужас. В мозгу Клемана промелькнула мысль, что она умерла, и он бросился к ней. Но Аньес спала. Ребенок погладил тяжелые косы, уложенные вокруг головы, и позвал: – Мадам?… Пора просыпаться, мадам. Что случилось? Почему… – Тише… Он пришел. Это Зло отдало меня в его руки. Ты должен немедленно уехать, Клеман. Она пресекла возражение, готовое, как она чувствовала, слететь с уст Клемана, и твердо сказала: – Это приказ, и ты обязан подчиниться. Смягчившись, Аньес продолжила, по-прежнему сидя на полу: – Сделай это из-за любви ко мне. Началось инквизиторское расследование. Глаза Клемана расширились от ужаса, и он задрожал: – Боже мой… – Замолчи и слушай меня. Произошло нечто из ряда вон выходящее, настолько необычное, что я даже боюсь тебе об этом говорить, поскольку сама пребываю в таком смятении духа, что мне не удается собраться с мыслями. – Что, мадам, что? – Присутствие, вернее, несколько присутствий… Это так сложно описать. Уверенность, что меня поддерживает некая благожелательная сила. – Бог? – Нет. Кто бы это ни был, они вдохнули в меня уверенность, энергию, которая мне говорит, что я могу оказать сопротивление этому вредоносному существу, инквизитору, некому Никола Флорену. Он… Он воплощение худшего, Клеман… Как бы тебе сказать… Эд – плохой, но этот – проклятый. Ты должен исчезнуть, потому что ты, который был все эти годы моей силой, теперь стал моей самой большой слабостью. Ты это знаешь так же хорошо, как и я. Если этому человеку удастся убедить суеверных безумцев, которых он выберет судьями, что ты инкуб, твой юный возраст не спасет тебя, напротив. Если он обнаружит, что мы скрывали твой истинный пол, будет еще хуже. Они сочтут его логику железной, потому что ты ребенок еретички. А затем они согласятся со всем, во что это чудовище заставит их поверить. Надо, чтобы ты уехал, Клеман. Ради меня. – А Матильда? – Я попрошу аббатису Клэре приютить ее на какое-то время. – Но я могу вам… – попытался убедить Аньес Клеман. – Клеман, умоляю тебя! Помоги мне: уезжай. Уезжай как можно быстрее. – Это действительно для того, чтобы помочь вам, мадам? Не хотите ли вы просто защитить меня? – Я хочу защитить нас, нас всех. – Но куда я пойду, мадам? Сначала ответом ему была горькая улыбка. – О… Это правда, никто не поторопится протянуть нам руку помощи. Единственная защита, на которую я могу надеяться – это защита графа Артюса. Но я не знаю, согласится ли он помочь мне, чтобы защитить тебя. Если он откажет тебе, испугавшись последствий, беги, неважно куда. Поклянись мне в этом своей душой. Поклянись! Клеман немного поколебался, но потом уступил перед ее настойчивостью. – Клянусь. Аньес прижала ребенка к себе. Он уткнул лицо в ее шелковистые волосы, пахнувшие розмариновой водой. Клеман чувствовал такое стеснение в груди, что ему хотелось разрыдаться, еще крепче вцепиться руками в свою даму. Казалось, силы оставили его. Без нее он погибнет, без нее он не знал, в какую сторону следовало идти. Ради нее он был способен на все, и он это знал. Но огромная пустота, которая постепенно, по мере того как Аньес говорила, заполняла его душу и леденила тело, лишила Клемана возможности думать. – Спасибо, мой сладкий. Я напишу письмо, которое ты отдашь графу. Если он откажется спрятать тебя… Я скопила несколько золотых су*, совсем немного, но они помогут тебе добраться до порта и оплатить путешествие в Англию, единственное королевство, которое сумело противостоять натиску инквизиции. Иди, пусть для тебя оседлают лошадь, соберут еду и одежду, а затем возвращайся в мою спальню. Когда Аньес разжала объятия, Клеман подумал, что сейчас умрет, прямо у ее ног. Почувствовала ли это Аньес? Она прошептала: – Я больше не боюсь, Клеман. Я одержу победу, ради тебя, ради себя, ради всех нас и ради дружественных теней. Никогда не забывай, что я храню тебя в своем сердце, даже если мы находимся в разлуке. Никогда не забывай, что мною движет любовь и что она сильнее всего остального, когда вступает в битву. Никогда не забывай. – Я никогда не забуду этого мадам. Я так вас люблю. – Ты сможешь доказать это, если не вернешься сюда до тех пор, пока я не разделаюсь с этим посланцем тьмы. Через несколько лет, которые пробегут незаметно, Клеман превратится в молоденькую девушку. И тогда будет довольно рискованно по-прежнему прибегать к мистификации, которая позволила Аньес оставить подле себя Клемана. Как отреагирует Клеман, Клеманс, если узнает всю правду о своем рождении? Эту мучительную тайну хранили три женщины, две из которых умерли. Через несколько лет… если Господь сохранит им обоим жизнь. Аньес посмотрела на ребенка, выходившего из ее спальни, и удивилась, как он вырос за последние месяцы. Браки доходили до половины икр, а пятки свешивались из сабо наружу. Она корила себя за то, что не замечала этого раньше. Вдруг ей показалось очень важным исправить это до отъезда Клемана, словно обычное внимание образовывало некую связь с будущим, словно она доказывала, что вскоре они вновь будут вместе. А вдруг она убаюкивала себя ложью, вдруг она не сможет оказать сопротивление инквизиторскому суду, расправиться с этим прекрасным созданием ада? Вдруг она больше никогда не увидит Клемана? Вдруг она умрет? Вдруг граф Ар-тюс лишь притворялся? Вдруг на самом деле он был трусом? Вдруг он не примет Клемана или, еще хуже, выдаст его инквизиции? Довольно! Прекрати! Немедленно! Месяц скоро пройдет, месяц благодати. Но у нее еще есть время все обдумать, приготовить свою защиту, предусмотреть запасные стратегии. В этом ей уже помог Клеман, однажды вечером, когда появился после одного из своих таинственных исчезновений. К Аньес вернулось мужество, хотя она на это больше не рассчитывала после того, как замолчали тени. Теперь она была не одинока, несмотря на ее решение отправить Клемана к графу. Она не солгала ему. В данный момент он был ее самой серьезной слабостью. Она чувствовала себя способной на все. Но вот противостоять угрозе, нависшей над юной жизнью, она не могла. Когда же Клеман спрячется в надежном месте, она сумеет взглянуть опасности в глаза. Ее озарила одна шокирующая мысль, мысль, которую она не допускала еще несколько дней назад: она никому не даст пощады. Эд сплел паутину, которая душила ее. Если она выйдет из этого испытания победительницей, она поступит с ним точно так же, не испытывая ни капли жалости. Время прощения, время снисхождения прошло. Аньес направилась на кухню и спокойным тоном приказала Аделине подобрать подходящую для Клемана одежду и приготовить узелок с едой. При этом она не удосужилась удовлетворить немое любопытство служанки.Замок Отон-дю-Перш, август 1304 года
Проливные дожди чуть не погубили урожай, созревший в Перше позднее, чем в Босе. Этого ни за что нельзя было допустить, и поэтому все работали день и ночь, отчаянно борясь с непогодой. Артюс объезжал фермы, подбадривал своих крестьян и сервов, одних ругал, других же хвалил. Все видели, как он, засучив рукава шенса из тонкого льна, спокойно остановил, а потом повел телегу, запряженную двумя тяжеловесными першеронами, на которую погрузили скошенную пшеницу. Женщины восторгались его прекрасным телосложением, мужчины восхищались тем, что граф не побоялся столь презренной и изнурительной работы. Артюс делил с крестьянами и сервами сидр, грубый хлеб и сало, как и они, падал от усталости на соломенные снопы, чтобы немного передохнуть, и ругался как солдат, приговаривая, что «эта чертова погода ему не указ, прости, Господи!». Они работали не покладая рук на протяжении двух дней и двух ночей. Домой Артюс д'Отон вернулся весь разбитый, промокший, облепленный грязью с ног до головы. Прежде чем рухнуть на кровать, даже не раздевшись, он признал очевидный факт: он не думал о ней с самого утра… Ну, почти не думал. Артюс проспал всю ночь и добрую половину наступившего дня. Когда он проснулся, его уже ждала горячая ванна. Ронан, который служил еще отцу графа, уже ждал его, вооружившись щеткой, мылом и простынями. – Вас покусали сенные блохи, монсеньор, – заметил старик. – И от этого умерли, – пошутил Артюс. – А… Осторожнее, старый палач, у меня чистые глаза, бесполезно переводить на них мыло. – Прошу прощения, монсеньор. Но эта грязная корка, покрывающая вас… Да, очень стойкая корка… – Самая настоящая. Земляная корка. Я голоден, Ронан, очень голоден. И долго ты меня будешь мучить этой щеткой? – Остались волосы, монсеньор. Лучшее я приберег на конец. Ночью приехал маленький мальчик. Он выглядел изнуренным. – Кто? – Некий Клеман. Он утверждает, что уже имел честь встречаться с вами у своей хозяйки. Артюс д'Отон поднялся на ноги, настолько резко, что серая волна мыльной воды выплеснулась на пол. Он почти кричал: – Что ты с ним сделал? Он по-прежнему у нас в замке? – Волосы, монсеньор, волосы! Я расскажу вам все, если вы спокойно сядете в ванну и позволите мне вымыть и принести в порядок… то, что растет на вашей голове. Ронан видел и не такое, сначала при жизни покойного графа д'Отона, потом при Артюсе, родившемся у него на глазах. – Прекрати говорить со мной как нянька, – недовольно проворчал Артюс. – Почему? Я и есть ваша нянька. – Вот этого я как раз и боялся. Артюс любил Ронана. Ронан олицетворял его воспоминания, самые лучшие и самые худшие. Ронан был единственным, кто не боялся убийственной ярости своего хозяина после смерти малыша Гозлена. Он приносил еду в покои графа, не говоря ни слова, без тени страха, в то время как Артюс грозил ему всеми карами, если тот вновь появится. Но Ронан приходил вновь и вновь. Единственным, кроме Господа, у кого Артюс однажды попросил прощения, был Ронан. Эта ужасная пощечина, которую он с такой силой дал своему самому верному слуге, что тот упал на пол! Ронан поднялся на ноги. На его щеке виднелся красный след от ладони Артюса. Ронан печально посмотрел на графа, а потом сказал: – До завтра, монсеньор. Пусть ночь принесет вам облегчение. На следующее утро Артюс, еще более удрученный, попросил прощения, смиренно склонив голову. Ронан со слезами на глазах подошел к графу и обнял впервые с того времени, как тот распрощался с детством. – Мой бедный малыш, мой бедный малыш. Это так несправедливо… Заклинаю тебя, не забывай в этом тяжелом испытании о доброте и величии, иначе смерть восторжествует. Несомненно, благодаря этой пощечине ярость Артюса стихла. Он вновь вернулся к жизни. – Быстрее, расскажи мне, что ты с ним сделал, – повторил Артюс, закрыв глаза, поскольку Ронан так нещадно орудовал щеткой, будто был готов сорвать кожу с его головы. – Я отвел его в служебное помещение, дал ему еду, одеяло и циновку в ожидании ваших распоряжений. Один из батраков занялся его лошадью. У мальчика есть письмо. Он показал свиток, но отказался доверить его мне. Письмо предназначено вам и только вам. История, которую он рассказал мне, похожа на правду. Надеюсь, что я не поступил слишком опрометчиво. – Нет, конечно, нет. Ты правильно поступил. Осторожней, осторожней… Ведь это волосы, а не грива рабочей скотины. – В чем я сильно сомневаюсь, монсеньор. – Ну, и что Клеман? Какая история? – Его дама приказала ему добраться до ваших земель. Ронан тяжело вздохнул и продолжил: – Он очень испуган. Я так понял, что он не хотел ее покидать, но она ему приказала. Он ждет вас. – Ну, ты уже закончил со щеткой? Конечно, я сияю, как новый золотой су! – Кстати, о новых су… Ронан замолчал. Когда он заговорил вновь, его голос звучал довольно напряженно: – Он спросил меня, сколько будет стоить ужин, которым я накормил его ночью. Он мне объяснил, что у него только семь золотых су, все состояние его дамы, которое она отдала ему на прощание. Он не хочет тратить деньги понапрасну, поскольку они трудно достаются его даме. Поэтому он предпочел бы обойтись ломтем хлеба и похлебкой. Мне с трудом удалось втолковать ему, что я не держу таверну, что речь идет о вашем гостеприимстве. Артюс закрыл глаза, притворившись, что в них попало мыло. Его сердце, которое он считал замолчавшим навеки, вновь забилось. В груди разливалась острая, но столь желанная боль. Любовь так давно ушла из его жизни, и он думал, что сейчас он открывает ее вновь. Огромная любовь Клемана к своей даме, любовь дамы к этому храброму мальчику, его любовь к Аньес. Семь золотых су. Все ее мизерное состояние. Его едва хватило бы на манто, подбитое беличьим мехом. – Да, да… Я закончил, – сказал Ронан. – Повторяю, мальчик отдохнул, поел и ждет вас, монсеньор. Артюс вылез из ванны и позволил себя вытереть, сгорая от нетерпения. Артюс ходил взад и вперед, скрестив руки за спиной, слегка нагнувшись вперед. Сине-зеленые глаза следили за ним, замечали малейшее движение. Клеман в нескольких словах все ему объяснил. Инквизиция, клеветнические измышления Мабиль, приезд доминиканца, время благодати, которое течет, как песок сквозь пальцы. Едва сдерживая рыдания, Клеман рассказал графу, что мадам Аньес боялась, что его арестуют. Он поведал, что она заставила его поклясться душой: он должен был уйти и не возвращаться. Бежать, оставив ее наедине с инквизицией. А потом ребенок замолчал, поскольку его слова утонули в слезах, так он боялся за нее. Граф д'Отон подошел к столу, чтобы еще раз прочитать письмо Аньес.Мсье! Поверьте, мне очень жаль, что я вынуждена Вас беспокоить. Поверьте также, что я остаюсь Вашим покорным и верным вавассалом и что Ваше решение будет моим. Сейчас я оказалась в опасной и очень деликатной ситуации. Я должна ей противостоять. И я к этому готова, по крайней мере я так надеюсь. Бог мне поможет. Но не в этом состоит моя покорнейшая просьба, ибо речь идет именно о покорнейшей просьбе. Вы знаете Клемана. Он верно служил мне, и он очень дорог моему сердцу. Это чистая и надежная душа, и поэтому он заслуживает, чтобы его кто-то защитил. Когда я поняла, что мне надо удалить Клемана от себя, чтобы обеспечить его безопасность, я вспомнила о Вас. Ну разве это не странно? Если Вы, выслушав Клемана, сочтете, что не можете приютить его в своем доме, умоляю Вас, при всем моем послушании и уважении, позвольте ему уйти, не ставя никого об этом в известность. Я дала ему семь золотых су, все, что у меня было. Какое-то время он сможет прожить на эти деньги. Я буду Вам весьма признательна за это. Я не виновна ни в одном из чудовищных преступлений, в которых меня обвиняют, а Клеман тем более. Я знаю причину этих козней, которые призваны меня погубить, но смутно подозреваю, что она ускользнула от понимания человека, затеявшего их. Как бы то ни было, примите, мсье, мои заверения в том, что Ваш визит в Суарси оставил лучшие воспоминания за все время моего вдовства. Чтобы быть до конца честной и если Вы мне это позволите, признаюсь Нам, что у меня не было столь приятных моментов с тех пор, как смерть забрала с собой мадам Клеманс де Парне. Пусть она покоится с миром. Да хранит Вас Господь, да хранит Он Клемана. Ваш искренний и послушный вассал,Шквал противоречивых эмоций захлестнул графа, помешав ему обратиться к этому хрупкому, не по годам развитому мальчику, стоявшему напротив, с гордо поднятой головой, смелым взглядом, несмотря на страх. Но почему она не приехала просить помощи? Он мог бы вмешаться, заставить инквизитора отказаться от своих обвинений. Разумеется, инквизиция была очень могущественной, но не до такой степени, чтобы позволить себе вызвать недовольство короля Франции, а Артюс унизился бы и до того, чтобы уговорить короля вмешаться. Ради нее. Филипп понял бы его. Филипп был великим королем и человеком чести и слова, когда дело не касалось государственных интересов. Кроме того, король не питал особой любви к Церкви и инквизиции, хотя при необходимости прибегал к их помощи. Эта женщина потрясла его, привела в отчаяние, сделала покорным, растрогала его так, как это прежде никому не удавалось. Равной ее смелости была только ее безумная слепота. Что? Она рассчитывала в одиночку вступить в бой с великим инквизитором? Разве у нее было оружие? Нет, она не была слепой. Она была рысью, как ее и описывал Монж. Сейчас она делала обманные движения. Она прятала малышей, подставляя свою грудь противнику, чтобы отвлечь его. Действительно ли она верила в возможность броситься на врага, вонзить свои клыки в его презренную плоть? Она не была им ровней. Они обладали властью, почти полной неприкосновенностью, поскольку оправдывали друг друга за допущенные прегрешения, какими бы те ни были. А если она это знала? Если речь действительно шла о намеренном самоубийстве? Самки рыси способны на такое. Граф был охотником и знал об этом. Он всегда прекращал борьбу, давая хищнице возможность убежать. Однажды одна из рысей, преодолев несколько туазов, обернулась и внимательно посмотрела на него своими желтыми глазами, прежде чем исчезнуть, как привидение, в зарослях. У Артюса появилась сбивающая с толку уверенность: рысь послала ему прощальный привет, возможно, благодарность. Но этот хищник-паразит, как его описал Клеман, не разожмет когтей и не отпустит свою добычу. У Аньес не было ни единого шанса. Артюс стукнул кулаком по столу и выкрикнул: – Нет! Клеман не шевельнулся. – Надо найти выход, – бормотал Артюс. – Но какой? Мы остались без Папы. Ходатайство, даже от имени короля, затеряется в коридорах Ватикана. Там все будут ссылаться на отсутствие Папы, чтобы оправдать свое бездействие. Клеман, стоя неподвижно, ждал, сам толком не понимая, чего именно он ждет от этого человека. Возможно, чуда. Он сказал: – Разве в прошлом году мсье Карл де Валуа, брат короля, не получил Алансонское графство в качестве апанажа? – Получил. – Дом инквизиции, к которому приписан Никола Флорен, находится в Алансоне, – продолжал настаивать ребенок. – Если вмешательство королевского дома могло бы нам помочь, я остановил бы свой выбор на Филиппе, а не на нашем добром Карле. Дипломатичность не входит в число основных достоинств Карла. Мой мальчик… Карл ничего не сможет сделать, хотя он и граф Алансонский. Инквизиция не подчиняется никаким приказам, если только они не исходят от Папы. – Но у нас нет Папы, – повторил Клеман. Голос Клемана сорвался. Он сжал зубы, заставил себя замолчать, но Артюс все прочитал в его глазах, поскольку вспылил: – Нет же, выбрось это из головы! Она не погибнет! Я еще не все обдумал. Оставь меня. Мне нужна тишина, а твое молчание настолько красноречивое, что оно мешает мне думать. Клеман неслышно вышел из комнаты. Думать. Вывод, который Артюс сделал, разговаривая с маленьким мальчиком, разглядывавшим его, ошеломил графа своей искренностью, своей жестокостью. Он был способен на все, чтобы ее спасти. Если к этому добавить здравый смысл, если Не сказать цинизм, который у него выработался по отношению к почти всему религиозному институту… Вера быстро исчезала, когда в ход шли деньги и власть. Артюс знал: многих инквизиторов можно было купить, и этот не будет исключением из правил, поскольку Эд, несомненно, оплатил его услуги. Было достаточно просто предложить большую сумму. Завтра он отправится в Алансон.Аньес де Суарси
Дом инквизиции, Алансон, Перш, август 1304 года
Совершенная красота молодого человека удивила Артюса. Описывая его Клеману, Аньес не преувеличивала. Подобострастие инквизитора было столь ожидаемым, что при других обстоятельствах оно вызвало бы у графа улыбку. – Какую честь вы, мсье граф, оказали своим визитом столь жалкому монаху, как я! – Жалкому монаху? Вы слишком сурово к себе относитесь, мсье. Никола Флорен вздрогнул, услышав это обращение, которое выводило его на гражданский уровень и лишало религиозной ауры, тем более что формула вежливости, в том виде, в котором произнес ее граф, избавляла Артюса от необходимости воздавать должное Флорену. Никола не сомневался, что это был сознательный выбор. Всю дорогу Артюс размышлял, как следует вести разговор с инквизитором. Следует ли продвигаться, обдумывая каждый шаг, или лучше сразу взять быка за рога? Но поскольку его снедала тревога и, главное, он не хотел дать понять инквизитору, что хитрит, он выбрал вторую стратегию. – Не так давно вы сообщили одной из моих знакомых дам о ее времени благодати, не так ли? – Мадам де Суарси? В подтверждение этих слов Артюс кивнул головой. Он почувствовал, что инквизитор колеблется. Никола проклинал этого чурбана де Ларне, утверждавшего, что граф Артюс не вступится за женщину. Но в памяти инквизитора всплыл образ человека в грубом капюшоне, его слова и обещания, и он успокоился. Что мог сделать граф, пусть даже друг короля, против такой могущественной силы? Никола ответил елейным голосом: – Я даже не знал, что дама де Суарси входит в число ваших друзей, мсье. Артюс подумал, что если бы Аньес – через посредничество Клемана – не развеяла бы его заблуждений относительно Никола Флорена, он, вероятно, поклялся бы в невиновности инквизитора. В конце концов, если бы зло не было столь соблазнительным, оно не имело бы столько приверженцев. – Но это так. Артюс сделал вид, что колеблется: – Я не сомневаюсь, мсье, что вы человек веры… В ответ Никола моргнул. – …и к тому же человек проницательный. Причины, по которым мсье де Ларне разгневался на свою сводную сестру, далеки от тех, которые мог бы одобрить человек веры и чести. Они носят личный характер и… как бы это сказать… достойны порицания. – Да что вы мне такое говорите! Флорен прикинулся оскорбленным. Заблуждения графа его забавляли. – Он умолчал вам об этом аспекте и о подлинных причинах своей злобы. – Разумеется! – согласился Никола, который прекрасно понимал, что Эдом двигали вовсе не рвение и желание защитить чистоту Церкви. – Одним словом, он только заставит вас терять драгоценное время, – продолжал Артюс. – Но я считаю своим долгом избавить вас от этого. Еще никому не известно о расследовании, начатом против мадам де Суарси. Вы можете прекратить его. Никола радовался как безумец. Власть… наконец власть! Возможность щелкнуть графа по носу, послать его куда подальше. Возможность быть выше графа. Он изобразил негодование, причем так неумело, что Артюс нисколько не усомнился, что инквизитор просто смеется над ним. – Мсье… Я не осмеливаюсь даже предположить, что вы предлагаете мне деньги, чтобы… Неужели вы думаете, что я приблизился бы к мадам де Суарси, если бы не был убежден в законности подозрений, которые питает на счет дамы ее сводный брат? Я человек Бога. Я Ему посвящаю свою службу и свою жизнь. – Сколько? – Довольно, мсье, я прошу вас уйти и больше никогда не возвращаться. Вы оскорбляете не только меня, вы оскорбляете Церковь. Из уважения к вашему имени я прошу вас: давайте остановимся на этом. Угроза была слишком очевидной. Артюс не заблуждался. Однако это угроза не вызывала у него особой тревоги. Его гораздо сильнее беспокоило другое: какая тайная власть покровительствовала Никола Флорену, отчего он чувствовал себя таким неуязвимым, что даже осмелился поставить на место сеньора? Разумеется, не эта марионетка Эд де Ларне. Артюс вспомнил об интуиции Аньес: ее обвинению содействовало нечто более темное, нечто более грозное. Когда Артюс пустился в обратный путь в Отон, он уже принял решение. Если до этого дойдет дело, Никола Флорен умрет. Тайная смерть, похожая на несчастный случай. Говоря по совести, он не считал, что совершит преступление, если раздавит зловредную гадину. В уголках его губ образовалась горькая складка: а затем он повернет свое оружие против врагов Аньес. Он во всеуслышание заявит, что свершился суд Божий. Бог покарал Никола за его безжалостность и несправедливость. В своей бесконечной мудрости и своей восхитительной доброте Господь спас невинность: Аньес. И хотя большинство людей теперь немного сомневались в этих божественных вмешательствах – которые никто никогда не видел во время многочисленных индивидуальных ордалий,[85] – никто не отважится ему возразить. Артюс расслабился. Ожье тряхнул гривой, одобрив смену настроения своего хозяина. Если до этого дойдет дело, он был готов. Тем не менее он надеялся, что ситуация изменится и ему не придется обагрять свои руки кровью в незаконной борьбе.Лувр, Париж, август 1304 года
Свеча отбрасывала тени, бегавшие по мрачным стенам кабинета, заваленного учетными книгами. Об уюте мсье де Ногаре имел весьма суровое представление. От холода и сырости посетителей кабинета защищали ковры. Точнее, только один, который лежал на широких каменных плитах за рабочим столом. Франческо де Леоне корил себя за то, что не подумал об этом раньше. Он беспрерывно вел поиски, пользуясь отсутствием советника короля, но не находил того, что его интересовало. Однако вчера вечером, когда он ложился спать после весьма скудного ужина, который принес ему Джотто Капелла, в его памяти всплыла свора собак с взмыленными от бега боками, с широко открытыми пастями – собак, вытканных красными шерстяными нитями на синем фоне. Он приподнял ковер и увидел небольшую металлическую панель, вделанную в камень. Сундук закрывался на висячий замок. Леоне внимательно осмотрел этот замок. Ему довелось отпереть столько потайных дверей, столько тайников, которые их владельцы считали надежно спрятанными, что этот механизм почти сразу же поддался. Леоне вытащил тонкий металлический стержень из его корпуса и взломал замок за несколько секунд. Если взлом заметят, в чем Леоне, правда, сомневался, он мог исчезнуть через несколько часов, и тогда разбираться с людьми мсье де Ногаре пришлось бы Капелле. В маленькой выемке лежали скрученные в трубочку письма и мешочек, наполненный, скорее всего, золотыми монетами. Но внимание Леоне приковал к себе тоненький дневник с обложкой из черной телячьей кожи. Страницы дневника были испещрены тонкими буквами, написанными нервным почерком советника. Эти строки таили в себе столько государственных секретов, что, будь они оглашены, весь Запад закачался бы. Так, священный крестовый поход против альбигойцев был всего лишь предлогом для того, чтобы обуздать Раймонда VI Тулузского, захватить Лангедок и позволить сеньорам Севера получить по желанию феоды на Юге. Так, несмотря на полное поражение в прошлом году при Куртре, армия короля Филиппа готовилась вторгнуться через несколько дней во Фландрию. Его сердце заныло от боли, когда он наткнулся на колонки цифр, заполнявших следующие страницы: оценка состояния ордена тамплиеров и ордена госпитальеров. Значит, об их уничтожении уже было принято решение. Орден тамплиеров, самый богатый и самый уязвимый, должен был пасть первым. Затем наступит очередь госпитальеров. Раздался звук шагов, совсем близко. Франческо поспешно положил на место ковер и вытащил кинжал из ножен. Шаги прошли за дверью, а затем их звук стих в дальнем конце коридора. Надо было действовать быстро. Под колонками стояло несколько коротких фраз, заканчивавшихся вопросительными знаками.Предоставить взимание налогов ордену Храма? Тогда можно ожидать все более частых вспышек гнева среди народа и усилить его озлобленность. Тесное общение с еретиками или демонами? Согласие с неверными? Содомия? Клятвопреступление, богохульство или поклонение идолам? Человеческие жертвы, приношение в жертву детей?Значит, приор Арно де Вианкур был прав. Привилегия взимать налоги была дана ордену рыцарей Храма лишь для того, чтобы ускорить их погибель. Что касается всего остального, о чем же шла речь? О подозрениях или о списке надуманных и взаимозаменяемых обвинений, которые король Филипп обнародует в подходящий момент, чтобы оправдать необходимость проведения расследования и судебного процесса? Участь двух крупнейших военных орденов была предрешена. Арно де Вианкур и Великий магистр смотрели в корень. Но когда будет оглашен приговор? Леоне пытался обуздать душившие его ярость и отчаяние. Он стал читать дальше. Он увидел другие цифры, скрупулезную бухгалтерию, учитывавшую даже несколько денье, заплаченные слугам-шпионам, и частично объяснявшую, на что шли суммы, изъятые из казны Филиппом де Мариньи. Леоне узнал, что некий Тьерри, мелкий дворянин, получил сто турских денье за то, что передал содержание писем одного из кардиналов. Прачка Нинон обошлась казне в восемьдесят денье. Она должна была сообщить о состоянии ночного белья одного прелата, поскольку, прежде чем делать на него ставку, требовалось убедиться, что он не страдает какими-либо болезнями. Мсье де Ногаре был педантичным и осмотрительным человеком. Наконец, на одной из страниц Леоне увидел два подчеркнутых одной чертой имени; четыре других имени были зачеркнуты. Рено де Шерлье, кардинал Труа, и Бертран де Го, архиепископ Бордо. Рыцарь положил дневник на место и запер замок. Он жалел, что у него не было времени, чтобы просмотреть другие документы. Но, в конце концов, что за важность? Для него имело значение только одно королевство, только одно царство: царство Божье. Люди могли по-прежнему губить друг друга за мелкие грешки, выдаваемые за смертные. Впрочем, грехов хватало. Но вскоре всем будет объявлена правда, и никто больше не сможет закрывать на нее глаза и делать вид, будто она ему неведома. Франческо де Леоне вышел из Лувра. Ночь, его союзница, была темной. Он не обращал никакого внимания на усилившееся из-за летней жары зловоние на улицах и уж тем более на миазмы, источаемые всеми этими людишками, кишевшими в трущобах. Еще несколько минут, чтобы написать зашифрованное послание Арно де Вианкуру. Затем Леоне должен будет передать послание одному дружески настроенному священнику церкви Сен-Жермен-л'Осеруа, который и проследит, чтобы оно дошло до Кипра. Текст послания был лапидарным и не имел никакого смысла для непосвященного.
Дражайший кузен! Мои изыскания в области ангелологии продвигаются не так быстро, как я на это рассчитывал и как вы того бы желали, несмотря на бесценную помощь, которую мне оказывают труды Августина, особенно его восхитительный Град Божий. Вторая сфера [86] Господств, Сил и Властей весьма трудна для понимания в целом, а вот третья сфера Начал, Архангелов и Ангелов оказалась более доступной моему разуму. Тем не менее я продолжаю упорствовать, полный прекрасного воодушевления, и надеюсь, что в следующем письме я сообщу вам о существенном прогрессе в моей работе.Арно де Вианкур поймет, что Леоне узнал шесть имен французских прелатов, которые могли быть избраны Папой благодаря поддержке короля Франции, и что ему пока еще не удалось установить личности наиболее вероятных кандидатов, для чего ему требовалось время. Рыцарь не стал упоминать о других мрачных открытиях, касавшихся предрешенного конца орденов тамплиеров и госпитальеров. Он должен был еще подумать, как лучше нанести контрудар. Не прошло и часа, как Леоне вышел из маленькой церкви,[87] возвышавшейся недалеко от Сены. В нескольких шагах от церкви его уже дожидалась нанятая лошадь со скудной поклажей. На юге, в Перше, находились командорство Арвиля и аббатство Клэре. На юге был Знак.Ваш нижайший и весьма признательный Гийом
Женское аббатство Клэре, Перш, август 1304 года
Высокий силуэт карабкался по стене, ограждавшей аббатство. Он ловко ставил ступни в удобные трещины, образовавшиеся после выпадения известкового раствора, скреплявшего камни неправильной формы, словно они были ему хорошо знакомы. Он незаметно, подобный призраку, проскользнул вдоль церкви Пресвятой Богородицы, затем решительно направился в сторону длинного здания, в котором располагались покои аббатисы и дортуары монахинь.Элевсия де Бофор внезапно проснулась. Сон буквально бежал от нее после приезда этого человека, которого она опасалась и ненавидела одновременно после той галлюцинации, открывшей его подлинную сущность. Она нисколько не сомневалась, что он был порождением Тьмы. Аббатиса едва задремала, погружаясь в кому, нарушаемую непонятными кошмарами, когда частое постукивание в окно кабинета, смежного с ее спальней, вырвало Элевсию из сна. Она встала и, пошатываясь, подошла к кабинету. Ее обуял страх. Кем был этот человек, вскарабкавшийся на каменную реборду? Как ему удалось проникнуть сюда? Она увидела, как он поднял руку и откинул капюшон, скрывавший его лицо. – Господи Иисусе… Элевсия бросилась вперед и открыла окно. Человек проворно спрыгнул на пол и заключил аббатису в свои объятия. – Тетушка, я так счастлив вновь вас видеть! Отойдем в сторону, я хочу лучше вас разглядеть. – Франческо, как же вы меня испугали! Надеюсь, вас никто не заметил? Большинство моих дочерей дали нестрогий монашеский обет. Но счастье видеть Франческо, иметь возможность его обнять оказалось сильнее. Аббатиса простонала: – Какая радость… Мне кажется, что вы еще больше выросли. О… Мне о многом надо вам рассказать, о стольких страхах, стольких вопросах, что я даже не знаю, с чего начать. – Впереди еще долгая ночь, тетушка. – Боже мой… Этот эмиссар, которого нашли обугленным, но без малейших следов огня… Мое послание пропало… Папу отравили… Аньес де Суарси должна предстать перед инквизиторским судом. Неизвестно, кто подкупил инквизитора, поскольку обвинения не обоснованы, я в этом ничуть не сомневаюсь… Видения, которые приходят ко мне вновь и вновь и лишают меня рассудка… Этот инквизитор, Никола Флорен, который, говоря со мной, превращается в отвратительное трупоядное насекомое… Он обосновался в аббатстве… Вы ни за что не должны столкнуться с ним, тем более с моими монахинями, ни с одной из них… У нас малышка Матильда де Суарси… Ее дядя, который хочет забрать девочку… Аббатиса закашлялась, сдерживая рыдание. – О, Франческо, Франческо, я думала, что уже никогда не увижу вас, что все потеряно… Мой племянник… Мой дорогой, мой милый племянник… Мимолетное облегчение озарило прекрасное лицо Элевсии. Она продолжила: – Вы все больше и больше походите на свою мать, мою сестру. Известно ли вам, что она была самой красивой из всех нас? Добродетельная, очаровательная Клэр… Ей, как никому другому, подходило это имя.[88] Франческо напрягся, услышав одно из имен. Он отвел аббатису в ее комнату. Окна кабинета выходили в сад, и их могли заметить. – Так вы говорите, что Аньес де Суарси угрожает разбирательство в инквизиторском суде? – Когда приехал этот подлый Флорен, он отказался назвать мне ее имя. Его сообщила мне сама мадам де Суарси, когда две недели назад умоляла меня присмотреть за ее дочерью. Наша сестра-гостиничная, Тибода де Гартамп, взяла малышку под свое крыло, но Матильда оказалась таким трудным ребенком. – Что еще сказала вам мадам де Суарси? Элевсия села на краешек кровати и скрестила руки. Ее била дрожь. Несмотря на жару, стоявшую в последние дни, все ее тело пробирал смертельный холод. Она видела в этом признак скорой смерти. Предвещаемый конец не волновал ее, поскольку не существует никакого конца. Но она боялась, что ей не хватит времени, чтобы помочь своему племяннику. – Она была немногословна. Аньес знала, что инквизитор остановился у нас, и боялась осложнить мои отношения с ним. Смрадный запах этого Никола Флорена чувствуется всюду, он отравляет воздух, мы задыхаемся от него… ну, по крайней мере некоторые из нас. Жанна, наша казначея, никогда не совершала столь длительных поездок, а теперь она старается как можно реже возвращаться в аббатство. Аннелета Бопре, наша больничная, почти никогда не покидает своего гербария. Милая Аделаида цепляется за спои горшки и вертела, словно от них зависит ее жизнь. Что касается моей доброй Бланш, возраст позволяет ей предаваться молчаливым мечтаниям, которые с каждым днем становятся дольше. Но многих других совершенный внешний вид этого опасного существа ввел в заблуждение. Он такой красивый, такой обходительный и такой набожный, что я порой спрашиваю себя, не лишилась ли я рассудка, подозревая его в худшем. Ангельское лицо. Я не осмеливаюсь открыться своим подругам, поскольку боюсь поставить их в неловкое положение. В конце концов, большинство тех, кто, как я чувствую, на моей стороне, выбрали несомненно лучший способ: бегство. Напротив, некоторые из моих дочерей удивляют и беспокоят меня: Берта де Маршьен, наша экономка… Мне надо было избавиться от нее сразу же после своего приезда в Клэре. Что касается Эммы де Патю, сестры, обучающей детей, то ее брат – доминиканец и инквизитор в Тулузе. Я как чумы боюсь этих так называемых чистых душ, которые никогда ни в чем не сомневались. Элевсия вздохнула, потеряно глядя в пространство, а потом продолжила: – Я избавлю вас от перечисления имен тех, о ком не знаю, что и думать: Тибода де Гартамп и даже очаровательная Иоланда де Флери… Значит, надо было этому существу проникнуть в наши стены, дабы я внезапно осознала, что знаю своих духовных дочерей лишь в лицо и по улыбке? Я продвигаюсь на ощупь к их сердцам, которые открываю для себя заново. Казалось, Элевсия была сбита с толку, но Франческо ждал, понимая, что эти откровения приносили ей облегчение. Она вздрогнула, неожиданно сказав: – Но я пренебрегаю своими обязанностями второй матери, мой дорогой племянник. Вы голодны? За одно мгновение тяжелое бремя, изнурявшее рыцаря на протяжении многих лет, свалилось с его плеч. Его захлестнул шквал личных, нежных и чарующих воспоминаний. Годы Элевсии, так он их называл. Годы, последовавшие за ужасом. Элевсия, нежная Элевсия и ее супруг Анри де Бофор приютили мальчика после смерти его отца и жестокого убийства матери и сестры в Акре. Элевсия с любовью и бдительностью воспитала его, заменив Клэр, о которой она говорила каждый день, чтобы мальчик сохранил живые воспоминания о своей матери. Благодаря своему любящему упорству Элевсии удалось немного утолить мучительную печаль ребенка. Он привязался к ней, и этим она, несомненно, спасла его от жажды мщения. Он был обязан ей своей душой. Он был обязан ей больше, чем жизнью. И как он был признателен Элевсии за то, что столь многим обязан ей! – Я умираю с голоду, ведь я ничего не ел после того, как покинул Париж вчера ночью… Но мой желудок подождет. Расскажите мне об Аньес де Суарси, об убийствах посланцев. Элевсия рассказала Франческо о том, что узнала от Аньес, и о том, что, как ей казалось, она поняла из ее умалчиваний. Она не забыла ни об Эде де Ларне, ни о его пагубных страстях, ни о Матильде, ни о Сивилле и ее еретическом прошлом, ни об отвратительной роли Мабиль, ни, главное, о Клемане и его преданности своей даме, а в заключение сказала: – Что касается посланников, то я принимала лишь одного из них. Как я уже говорила бальи Монжу де Брине, другие никогда не появлялись в аббатстве. Как вы думаете, они встретили своего убийцу еще до того, как добрались до меня? Эта мысль не дает мне покоя. И что тогда стало с посланиями Бенедикта, которые они везли мне? Неужели они попали в руки наших врагов? Существует ли связь между содержанием этих посланий и недавним отравлением Папы? Что все-таки было в них написано? Теперь у нас нет возможности это узнать, поскольку наш добрый святой отец погиб от их рук. Столько вопросов вертятся в моей голове денно и нощно, но ни на один из них я не в состоянии дать ответ. Первые проблески зари робко окрасили темное небо, когда аббатиса провела Франческо в тайную библиотеку. Они вдвоем выбрали этот тайник, который скрыл бы Франческо от глаз инквизитора и монахинь и позволил бы ему вновь обратиться к редким манускриптам, которые он купил у этого пора Гашлена Юмо. Элевсия де Бофор воспользовалась предрассветной тишиной, чтобы сходить на кухню и принести все, что могло утолить голод ее племянника. Затем она погрузилась в короткий сон, избавленный от кошмаров, и проснулась незадолго до начала лауд. Облегчение, которое она чувствовала, казалось ей знаком свыше. Теперь смерть может приходить, она выполнила свою задачу. Франческо вернулся. То, что должно было свершиться, свершится. Леоне проснулся, когда день уже клонился к закату. Он потянулся, невольно поморщившись от боли. Все его тело ныло, уж слишком жесткими были плиты, несмотря на два ковра, которые он положил друг на друга, устраивая себе постель. Он удивился, увидев кувшин с водой и деревянную лохань. Тетушка позаботилась о его туалете прежде, чем приступить к своим многочисленным обязанностям. Леоне сразу же заметил его на полках, прогнувшихся под тяжестью книг: дневник рыцаря Эсташа де Риу. Эсташ, его крестный отец по ордену, направлявший первые шаги рыцаря. Эсташ, один из семи госпитальеров, выживших после осады Акры. Серия совпадений, которые сопровождают лишь самые ужасные события, позволила рыцарю де Риу услышать откровения, которые он записал на страницах своего дневника. Во время титанического штурма, призванного взорвать донжон Храма, Эсташ – уже дважды раненый – понял, что они все были обречены и что вскоре начнется резня. Он не боялся погибнуть в сражении, если речь шла о защите «агнцев», как он их называл, и своей веры. Смерть ничего не значила, поскольку он уже предложил ей свою жизнь, вступив в орден госпитальеров. То, что воины-противники, монахи или не монахи, истребляли друг друга, было, по его мнению, частью цикла этого мира. Но только не эти женщины, не эти дети… Если ему удастся их спасти, хотя бы некоторых, значит, он не напрасно появился на этот свет, и он был готов отдать собственную жизнь взамен их жизней. В сопровождении двух рыцарей, принадлежавших к ордену Храма, он попытался сделать последнюю вылазку, заведя обезумевшее человеческое стадо в подземные ходы, которые заканчивались недалеко от побережья, недалеко от кораблей европейцев, стоявших на рейде в открытом море – настолько оно было неспокойным и не позволяло войти в бухту. Донжон Храма – настоящий бастион с пятью башнями, который считали неприступным, поскольку он сопротивлялся гораздо дольше, чем Новая Башня мадам де Блуа, – в этот момент был взорван. Обломки камней в человеческий рост завалили выход. Эсташ де Риу пытался успокоить десятка два женщин и около тридцати маленьких детей, последовавших за ним. Напрасно. Его уговоры и просьбы потонули в криках малышей, уцепившихся за юбки матерей, рыданиях женщин и порой нервных криках. В человеческой толпе всегда находятся одна-две глотки, способные перекричать других, хотя их некомпетентность и глупость равны лишь их честолюбию. Это они повели за собой стадо, а оно, спрыгнув с утеса, разбилось у его подножья. Вот так все и произошло. Вероятно, всю свою жизнь Эсташ де Риу как наяву видел эту не терпевшую возражений высокую клячу, имени которой он не знал. Она призывала женщин сдаться, утверждая, что сумеет убедить неверных воинов оставить их в живых. Напрасно он кричал на нее и даже едва не ударил. Они последовали за ней, взяв с собой детей.Эсташ, взбешенный глупостью этой женщины, заявил, что не собирается вести их на бойню. А вот два тамплиера присоединились к ним, хотя были абсолютно уверены, что никто из их маленького войска не сумеет спастись. И в доказательство этому старший из тамплиеров обратился к Эсташу, протягивая ему дневник, запятнанный кровью, который он носил под своей коттой, прижимая к голому телу. Срывающимся, но все же не потерявшим твердость голосом он прошептал: – Брат мой… конец близок. Этим страницам я доверил поиски всей своей жизни. В значительной степени мне облегчили эти поиски упорные усилия некоторых других тамплиеров. Они начались давно, еще на базарах Иерусалима, когда и встретил одного бедуина, у которого купил свиток папируса с текстом на арамейском языке. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять: речь идет об одном из наиболее священных текстов человечества. Я спрятал свиток в надежном месте, в одном из наших командорств. Потом произошли другие случаи, столь невероятные, что вряд ли их можно было бы считать простыми совпадениями. Все убеждало меня, что я, что мы не были жертвами миража или безумия. Время поджимает… Эти поиски настолько выше моего разумения, что они не должны остановиться здесь, погибнув вместе со мной. Вы человек Бога, меча и чести. Вы знаете, что делать. Мою жизнь направляла высшая сила, и я подумал, что мне надо отдать дневник вам, сегодня и в этом месте, ибо ничто из произошедшего не было случайным. Живите, брат мой, заклинаю вас, живите во имя любви к Богу и продолжите эти высшие поиски. Молитесь за нас, за нас, кто идет на смерть. Они исчезли за поворотом развороченного подземного хода. Наверху шла жаркая битва. Вопли перемежались со свистом ядер, выпущенных из катапульт, лязгом мечей, жужжанием стрел, летевших со всех сторон. В опустевшем подземелье Эсташ упал на мокрую землю, рыдая, как ребенок, и прижимая к себе толстый дневник с обложкой из изношенной кожи. Почему его не было там, наверху, с теми, кто плечом к плечу сражался с неизбежным? Почему он не отдавал жизнь за напрасную борьбу? Рыцарь света и благодати Эсташ де Риу выжил и добрался до Кипра. Понимая, что эти столь сложные поиски одному ему не по силам, Эсташ де Риу, едва приехав на спасительный остров, разыскал человека, который должен был вместе с ним и после него нести этот тяжелый факел. Совсем молодой человек, почти подросток встретился ему на пути после весьма странного поворота событий. Франческо де Леоне… Странного потому, что мужчины из семьи юного новообращенного по традиции становились тамплиерами с самого момента создания этого ордена. Значит, было почти неизбежно, что Франческо последует их примеру. Тем не менее Франческо примкнул к госпитальерам. Когда Эсташ спросил о причинах подобного решения, юноша не смог дать вразумительного ответа, объяснив, что его выбор, был, конечно, обусловлен заботой о бедных и больных, но, по правде говоря, он поступил так в импульсивном порыве чувств. Риу усмотрел в этом знак: дальше они должны следовать вместе. Они переписали дневник тамплиера, погибшего в Акре, пытаясь разгадать тайны, ведя поиски в библиотеках всего мира, чтобы объяснить многочисленные загадки. Постепенно некоторые тайны приоткрылись им, но другие, вернее большинство, не поддавались прочтению. Все те семь лет, что оставалось рыцарю де Риу, он жалел, что не последовал за двумя братьями, думая при этом, что дневник необходимо было спасти и непостижимое Божественное провидение распорядилось так, что именно ему была поручена эта миссия. Вероятно, он до самого конца нес, словно испытание, бремя жизни, спасенной в Сен-Жан-д'Акр. Когда Эсташ де Риу угасал в кипрской цитадели, Леоне поклялся ему продолжить путь к Свету и молчать до тех пор, пока Он не вспыхнет. Несмотря на колоссальную проделанную работу, Франческо де Леоне иногда чувствовал, что ничуть не продвинулся в своих поисках после смерти крестного отца. Ах да… возможно… эти руны, которые ему объяснил один варяг, встреченный в Константинополе. Эсташ и он заблуждались, принимая их за арамейские буквы. Ничего подобного. Этот алфавит назывался футарком. Скандинавы, несомненно, заимствовали его у этрусков. Эти древние буквы вырвались за спои пределы, превратившись в символы, в пророчество. Однажды вечером много лет назад Леоне положил листок с изображением этого странного креста на стол, за которым сидел мореплаватель-торговец. Это происходило в лавочке, где пили едкие тонизирующие напитки из листьев кустарника под названием чай. Улыбка мгновенно сбежала с лица викинга. Он, поджав губы, покачал головой. Леоне уговаривал его ответить, предлагал деньги. Викинг отказался от денег и пробормотал: – Нехорошо. Колдовство. Запрещено.[89] – Я должен знать значение этих символов. Прошу вас, помогите мне. – Я не все знаю, но это крест Фрейи. – Фрейи? – Фрейя – сестра-близнец Фрейра. Женщина-богиня. – Богиня? Викинг кивнул в знак согласия и уступил просьбам Франческо: – Она богиня красоты и любви… плотской любви. Она богиня войны, как Тюр, сам бог-человек. Она ведет за собой воинов. Ее брат-близнец – Фрейр. Еще один бог-человек, бог-человек богатства, плодородия, земли. Ты спрашиваешь у креста Фрейи, чтобы узнать, выиграешь ли ты войну. У мореплавателя было только одно на уме: поскорее покинуть лавочку, исчезнуть. Леоне схватил его за рукав, умоляя: – Но другие знаки, что они означают? – Не знаю. Все это запрещено. Резким движением мореплаватель сбросил руку Леоне, чтобы исчезнуть в ярком лабиринте большого базара. Леоне потребовался год, чтобы проникнуть в загадку миндалин. Ему пришлось дожидаться одного из тех невероятных совпадений, одной из тех необъяснимых встреч, о которых вспоминал тамплиер в подземелье Акры. В то утро Франческо де Леоне вышел на улицу после аудиенции у Генриха II де Лузиньяна. Их надежда добиться от короля Кипра разрешения на увеличение численности госпитальеров на острове вновь не оправдалась. Маленькая девочка в лохмотьях, с длинными вьющимися светлыми волосами, до того спутавшимися, что они походили на пук соломы, подошла к нему. Опустив голову, она молча протянула свою грязную ручку ладошкой вверх. Он, улыбаясь, положил в ладошку несколько мелких монет, совсем немного, ровно столько, сколько нужно было, чтобы купить хлеба и немного сыра. Наконец она подняла лицо. Леоне оторопел, увидев светло-янтарные, почти желтые зрачки ее глаз. У нее был столь глубокий, столь мудрый взгляд, что он спросил себя, не была ли она старше, чем казалось. На удивление серьезным голосом она начала: – Ты добрый. Как и должно быть. Я искала тебя. Мне сказали, что у тебя есть бумажный крест, значение которого ты не знаешь. Я могу тебе помочь. В мозгу рыцаря мелькнула мысль, уж не грезит ли он. Как могло такое случиться, что маленькая нищенка, каких на острове было полным-полно, знала об этой тайне и обращалась к нему так, словно ей была тысяча лет? Как девчушка-киприотка могла расшифровать символы древнего алфавита, которым сейчас владели только викинги? Она повела его за собой, вернее, он последовал за ней. Миновав несколько улочек, они добрались до лачуги, сделанной из комьев глины, смешанной с соломой. Она села, поджав под себя ноги, на иссушенную землю. Он последовал ее примеру. Девочка вновь молча протянула руку. Он вытащил из своего сюрко сложенный лист бумаги, с которым никогда не расставался. Девочка разложила лист на земле и нагнулась, чтобы лучше рассмотреть рисунок. Прошла бесконечная минута, прежде чем она подняла свои желтые глаза и пристально посмотрела на него. Вздохнув, она сказала: – Все вписано в этот крест, брат мой. Речь идет о кресте Фрейи, но ты уже это знаешь. Этот крест используют только в тех случаях, когда хотят предугадать исход битвы. Поскольку речь идет именно о битве. Левая ветвь указывает на то, что есть, на то, что ты наследуешь. Это Лагу, вода. Вода инертна, но она чувствительная и интуитивная. В кресте у лагу прямой вид. Ты заблудился, реальность кажется тебе непреодолимой. Слушай свою душу и свои мечты. Идет подготовка к великим походам. Никогда не забывай, что ты был избран, что ты всего лишь инструмент. Леоне набрал в грудь воздуха, но девочка оборвала его тоном, не терпящим возражений. – Ничего не говори. Бесполезно задавать мне вопросы. Я говорю тебе то, что ты должен знать. Остальное зависит от тебя. Правая ветвь изображает препятствия, которые тебе придется преодолеть. Она отрицательная. Это Тор. Тор – бог войны, бури и дождя. Он сильный и не способен на низость. Но у руны перевернутый вид. Опасайся его гнева и мести, они станут для тебя роковыми. Остерегайся советов, большинство из них окажутся ошибочными. У тебя могущественные и тайные враги. Они прикрываются красотой ангелов, но уже давно, очень давно замышляют свои планы. Самая высокая ветвь символизирует помощь, которую тебе окажут и которую ты должен будешь принять. Девочка немного помолчала, а затем продолжила: – Знаешь ли ты, брат мой, что это результаты поисков не одного человека? Речь идет о непрерывной цепочке. Вот руна Эол, у нее прямой вид… Очаровательная улыбка озарила лицо девчушки, и она прошептала: – Как я счастлива. Эол – это самая могущественная защита, на которую ты можешь рассчитывать. Она магическая. Но она настолько непредсказуемая, что ты не распознаешь ее, когда она придет к тебе на помощь. Не бойся попадать под влияния, сути которых ты не понимаешь. Нижняя ветвь включает в себя все то, что вскоре случится с нами. Это Инг, и у него перевернутый вид. Инг – бог плодородия, его циклов. Миссия скоро закончится… твоей опалой. Это поражение. Ты ошибся, ты должен вновь пройти путь с самого начала… Она пристально посмотрела на него своими глазами хищника и спросила: – Какую ошибку ты допустил, брат мой, когда, где? Ты должен скорее это понять, у нас мало времени. Время торопит нас вот уже несколько столетий. Она подняла руку, опередив вопрос, готовый сорваться с губ рыцаря. – Молчи. Мне неведома природа этой ошибки, но если ты ее быстро не исправишь, поиски зайдут в тупик. Мне тем более неведома сущность этих поисков. Я, как и ты, всего лишь инструмент, моя работа вскоре завершится. Твоя же, возможно, не будет иметь конца. У Инга перевернутый вид, значит… Наступает неблагоприятный период. Отодвинься немного. Найди время исправить ошибки, твои собственные или твоих предшественников. Руна, расположенная в центре креста, означает далекое окончание. У Тюра прямой вид. Тюр – это священное копье, это праведная битва. Это отвага, честь и жертвенность. Тюр потерял руку, заткнув ею пасть волка Фенрира, который грозил погубить человечество. Борьба будет ожесточенной и долгой, но она завершится победой. Гебе следует быть верным, справедливым и порой безжалостным. Помни, что жалость, как и все остальное, надо заслужить. Не питай жалости к тем, кто лишен ее. Я не знаю, одержишь ли ты победу или она уготована тому, кто придет тебе на смену. Этой борьбе уже тысяча лет. Она ведется в тайне на протяжении почти двенадцати столетий. Несколько минут Леоне обуревали противоречивые чувства. Он колебался между облегчением, которое ему принесло прочтение предсказания, и отчаянием, поскольку теперь он понимал еще меньше, чем до встречи с маленькой нищенкой. Он пролепетал: – Расскажи мне об этой борьбе, умоляю тебя! – Разве ты еще не понял моих объяснений? Я больше ничего не знаю. Я рассказала тебе обо всем, что мне известно. Истолковать этот крест – вот в чем заключалась моя задача. – Кто тебе об этом поведал? – не унимался Леоне, которого постепенно охватывала паника. Девчушка вдруг устремила взгляд своих желтых глаз куда-то за его спину. Он повернул голову, готовый вскочить. Ничего, кроме холма, на котором росли оливковые деревья, никакой угрожающей тени. Когда Леоне обернулся к девчушке, она уже исчезла. Лишь отпечаток ее рваного платья на пыльной земле да несколько монет, которые он ей дал чуть раньше, свидетельствовали, что это был не сон. Целую неделю Леоне искал маленькую нищенку, обходя улочки, заглядывая внутрь лавочек, заходя в церкви, но нигде он не обнаружил ее хрупкого силуэта. Настойчивые усилия постепенно позволили Франческо де Леоне понять ошибку, которую они допустили, все они, с момента образования этой цепочки, как сказала киприотская нищенка. Две астральных темы, фигурировавшие в дневнике рыцаря Храма, были ошибочными. Гномон, позволивший их интерпретировать, сам был ошибкой, возникшей в результате применения устаревшей астрономической теории. Монах-математик из итальянского монастыря, монастыря Валломброзо,[90] открыл истину, но затем отказался от нее, испугавшись последствий. Немного позже он умер таинственным образом, разбив голову о пилястр подвала. Его рабочий дневник не был найден. До того дня, когда вор Юмо провел небольшую инвентаризацию в личной библиотеке Папы, результаты которой он мог предоставлять в распоряжение своих заказчиков. Леоне тоже объявил о своей готовности купить книги, предложив большую сумму, чем другой неизвестный покупатель. Гашлен Юмо ломал комедию, искушая, прячась, но главное, набивая цену. Боже мой, кому он должен отдать предпочтение? Он хотел доставить удовольствие всем, но дела есть дела. Одним движением, так, что подлый продавец не успел и глазом моргнуть, Леоне извлек кинжал, схватил Юмо за шею и приставил острие к горлу. Спокойным тоном он спросил: – Во сколько ты оцениваешь свою жизнь? Быстро говори цену, которую ты хочешь добавить к предложенной сумме. Другие покупатели по-прежнему готовы предложить больше? Юмо почувствовал, что это была не пустая угроза. Он неохотно уступил украденную книгу, впрочем, получив за нее весьма внушительную сумму. «Жалость надо питать только к тем, кто сам способен испытывать это чувство», – предупредила девочка. Содержание трактата изумило Леоне. Оказывается, существовали другие планеты, более далекие, которые невозможно были заметить, но расчеты подтверждали их реальность. Речь шла о двух гигантских звездах,[91] названных GE1 и GE2 своим первооткрывателем, и об астероиде, несомненно, менее крупном, чем Луна, но огромной плотности,[92] который тот назвал AS. Этому открытию сопутствовала еще одна умопомрачительная новость: Земля не была неподвижной, она не находилась в центре небесного свода. Она вращалась вокруг Солнца. Несколько недель рыцарь посвятил скрупулезным и сложным расчетам. Надо было исходить из положения планет в знаках и домах зодиака, чтобы найти даты рождения двух человек или двух событий, небесные карты которых располагались по соседству. Его выводы были пока частичными, поскольку ему не хватало данных о движении GE2. Тем не менее он преодолел новый этап в их установлении и получил первую дату: первый декан Козерога, 25 декабря. Рождество. День рождения Аньес де Суарси. Руна Инг, руна ошибки, была пройдена. Леоне ждал знак, который позволил бы ему дополнить эти астральные темы и, главное, понять их кардинальное значение. Он также ждал, что проявятся его могущественные тайные враги. Он чувствовал, что они притаились в тени, готовые нанести удар. Их жуткое сопротивление уже началось: Бенедикт XI пал от их рук. В этом Леоне не сомневался. Леоне направился к одному из шкафов библиотеки и резко толкнул его. Высокая этажерка заскользила по невидимым рельсам, обнажая плиту, более широкую и более светлую, чем другие. Внизу был спрятан сундук. Манускрипт Валломброзо терпеливо ждал, тщательно завернутый в льняное полотно, пропитанное пчелиным воском, предохранявшим его от сырости и насекомых. Внизу лежала вторая книга, которую он пролистал только один раз, поскольку к его горлу подступила тошнота, едва он раскрыл ее. Он купил ее у Юмо лишь для того, чтобы уничтожить, но потом что-то разубедило его делать это. Книга по некромантии, написанная неким Юстусом. Гнусные рецепты следовали один за другим. Их цель заключалась не в том, чтобы завязать обыкновенные разговоры с потусторонним миром, но чтобы изводить покойных, обратить их в рабство и заставить их служить вам. Леоне вздрагивал от отвращения всякий раз, когда его взгляд падал на обложку книги, но он постоянно подавлял желание бросить ее в огонь и обратить в пепел. В тысячный раз он читал трактат по астрономии Валломброзо, затем в тысячный раз стал изучать записи, сделанные им и Эсташем в толстом дневнике. И тогда одна деталь, почти незаметная, привлекла его внимание. Он подошел к стене, вверху которой были сделаны горизонтальные бойницы, чтобы воспользоваться светом, лившимся через них, и остолбенел. Что это за маленькое чернильное пятнышко, напоминавшее след от испачканного пальца? Позади него раздалось элегантное шуршание женского платья. На мгновение его сердце остановилось. Но это была не незнакомая женщина из церкви, из сна, а его тетушка. Леоне резко обернулся. – Вы застали меня врасплох, тетушка. Смотрели ли вы Вот дневник во время моего отсутствия? – Вы прекрасно знаете, какой страх внушают мне эти иероглифы. – Это не иероглифы, а тайные руны. – Они запрещены Церковью. – Как и много других вещей. – Племянник мой, да вы богохульствуете? – Богохульствуют, когда речь идет о Боге, а я предпочел бы умереть, нежели осмелиться на это. Как вы думаете, что с нами станет, если о наших поисках кто-нибудь узнает? – Не знаю… Чистота наших поисков должна их убедить и удовлетворить. – Правда? – К чему такой сарказм, племянник мой? Франческо посмотрел на нее, слегка наклонил голову и только потом ответил: – Неужели вы верите, мадам, что те, кто обладает такой властью и таким богатством, позволят сердечной радости ускользнуть от них? – Я по-прежнему надеюсь, что Свет придет сам, Франческо. – Как я вам завидую. – Франческо, Бенедикт умер ради этого Света… А сколько других до него… – напомнила она ему печальным тоном. – Вы правы. Прошу простить меня. – Вы прекрасно знаете, что я не способна на вас сердиться, дорогой мой. Немного помолчав, Франческо спросил: – Вы уверены, что мадам де Суарси родилась 25 декабря? Аббатиса усмехнулась и заметила: – Неужели вы считаете меня старухой, выжившей из ума, мой дражайший племянник? Я вам уже говорила и повторяю, что она родилась в Рождество. Речь идет об очень значимой дате, пусть изначально и языческой,[93] и поэтому о ней часто упоминают… Я зашла, чтобы удостовериться, что с вами все в порядке. Но сейчас я должна вас покинуть… столько дел требуют моего внимания. До скорого, племянник мой. – До встречи, тетушка. Аббатиса ушла. Леоне просмотрел записи, которые Эсташ и он оставили на листах дневника. Вдруг его кровь заледенела. На какое-то мгновение у него так закружилась голова, что он потерял равновесие. Предпоследняя страница дневника была вырвана! Мимолетная безумная паника помутила его рассудок. Кто-то читал дневник. Но кто? Франческо был уверен, что тетушка, как она ему и говорила, не открывала дневник за время его отсутствия. Кто же тогда? Другая сестра-монахиня? Никто не знал о существовании библиотеки. Он ошибся. Инг, руна ошибки, означала не неверное толкование астральных тем, а его непростительную глупость. Эти две последние, с виду чистые страницы были испещрены расчетами, диаграммами, тайными комментариями. Знал ли об этом вор? После приезда Никола Флорена Элевсия де Бофор заставляла себя заниматься повседневной работой. Она была уверена, что ее прилежание вернет ее духовным дочерям спокойствие. Не будь этой воли продолжать жить так, как если бы ничего не произошло, она заперлась бы в своих покоях и возненавидела бы себя за нехватку смелости. Аббатиса не спеша шла к парильне, когда ее внимание привлекли два близко стоявших друг к другу силуэта. Толком не понимая, чем была вызвана ее реакция, аббатиса прижалась к стене, спрятавшись за одним из пилястров, поддерживавших свод, и стала внимательно наблюдать за сценой, происходившей метрах в двадцати от нее. Ее сердце было готово выпрыгнуть из груди. Она закрыла рот рукой, уверенная, что ее учащенное дыхание было слышно В другом конце аббатства. Флорен. Флорен наклонился к одной из сестер и что-то шептал ей на ухо. Спина инквизитора скрывала лицо монахини, которая слушала его. Прошло несколько секунд, столь нескончаемых, что они показались ей вечностью. Наконец два силуэта расстались, и инквизитор быстрым шагом направился в сворачивавший вправо коридор, который вел в зал, где хранились святые мощи. Монахиня, с которой он разговаривал, стояла неподвижно несколько секунд, словно колебалась. Затем она, видимо, приняла решение и вышла в сад. Эмма де Патю, учившая детей.
Особняк Эстувиль, улица Ла-Арп, Париж, август 1304 года
Эскив д'Эстувиль отложила феникса, которого она начала вышивать несколько месяцев назад. Льняное полотно немного обтрепалось, испорченное неумелыми стежками, которые ей слишком часто приходилось переделывать. Вышивание всегда утомляло Эскив, зато оно соответствовало правилам хорошего тона. Молоденькая женщина вздохнула, и ее очаровательное личико исказилось от отчаяния. Какое бесконечное ожидание! Она с нетерпением ждала встречи со своим прекрасным архангелом-госпитальером. К ее раздражению примешивалось странное наслаждение. Каждый день немного страдать ради него, того, на чью долю вскоре выпадет столько страданий… Он не знал о них, она была в этом уверена. Когда наконец она увидит его, когда она позволит себе это? Горничная тихо постучала в дверь маленького салона, в котором Эскив проводила большую часть дня. В оставшееся время она оттачивала свое искусство владения оружием. В руках горничная держала роскошное платье кремового цвета. – Оно готово, мадам. Я подумала, что вы сразу же захотите полюбоваться им. – Вы правильно поступили, Гермиона. Посмотрим на это чудо, которое мне обещали целых три недели назад. Гермиона подошла ближе, избегая взгляда молодой графини, от которого ей становилось не по себе. Бездонного взгляда светло-янтарных глаз, почти желтых. Взгляда хищника.Женское аббатство Клэре, Перш, сентябрь 1304 года
Приближался первый час, но он не будет присутствовать на службе. Никола Флорен пребывал в радужном настроении и боялся испортить его, заставив себя пойти на службу. Тридцать один день. Ровно тридцать один день. Она не призналась и не сделала достойного приношения. Слава Богу. Она была полностью в его власти, и ничто, никто больше не мог спасти ее. Накануне прибыла вооруженная охрана. Сейчас она ждала только его приказа. Через несколько часов Аньес де Суарси повезут в телеге в Алансон, в Дом инквизиции. Оказавшись в его стенах, она может умолять или вопить сколько ее душе угодно, никто ее не услышит. От удовольствия он потянулся на своем ложе, мысленно представляя себе, в какое замешательство придет граф Артюс. Вскоре все будут бояться власти нового инквизитора. Мимолетное облачко омрачило его радость. Ему показалось, что с какого-то момента аббатиса изменилась. Можно было подумать, что неожиданно пришедшая к ней уверенность утолила ее тревогу. Ба, пусть она была матерью аббатисой, все равно речь шла о бабе, о еще одной бабе. Никола хихикнул от удовольствия: его баба, та, которую он желал весь этот нескончаемый месяц, была такой красивой! Он представлял, как вскоре она его встретит, заламывая руки, утопая в слезах, с бледным лицом, искаженным от страха. Тем не менее Аньес де Суарси не знала, до какой степени она была права, страшась будущего. Его захлестнула волна сладострастия. От наслаждения он даже стал задыхаться. Долго. Он будет играть очень долго. Никола закрыл глаза. Радость настолько переполняла его, что грудь была готова лопнуть.Мануарий Суарси-ан-Перш, сентябрь 1304 года
А пьес в последний раз перечитала коротенькое послание Клемана, которое передал ей граф Артюс с одним из своих жандармов, потом с сожалением бросила его в огонь камина. Ей так хотелось взять этот лист бумаги с собой! Молодая женщина не заблуждалась: Клеман тщательно подбирал слова на тот случай, если его послание попадет в чужие, недобрые руки.Моя дражайшая дама! Как мне Вас не хватает! С каждым днем моя тревога лишь усиливается. Граф очень хорошо ко мне относится. Он даже предоставил мне доступ в свою изумительную библиотеку. Его врач, еврей из Болоньи, который не обыкновенный знахарь, а большой ученый, преподает мне медицину и многие другие вещи. Я так волнуюсь, мадам. Только бы Вы мне разрешили приехать к Вам! Уверяю Вас, я стал бы заботиться о Вас, прибегая ко всем имеющимся в моем распоряжении средствам. Ваша жизнь – это моя жизнь.Внизу граф приписал несколько строчек, таких же таинственных, понятных лишь получателю послания:Ваш Клеман
Будет испробовано все, чтобы разоблачить этот жуткий маскарад. Все. Мужайтесь, мадам, Вы нам очень дороги.Аделина молнией ворвалась в большой зал, даже не подумав предварительно постучать. Вся в слезах, она пробормотала: – Он там… Он там, монах в черном, плохой. Потом она убежала прочь столь стремительно, будто и ее жизнь была в опасности. – Мадам? – Я ждала вас, мсье. Аньес повернулась спиной к камину и лицом к монаху. Хорошее настроение Флорена тут же исчезло. Она не плакала. Она не заламывала руки от страха. – Я готова. Ведите меня. – Вы ничего не хотите… Решительным тоном она оборвала Флорена на полуслове: – Мне не в чем признаваться. Я не совершила никаких ошибок и намерена это доказать. Идемте, мсье, путь в Алансон не близкий.Со всем почтением к Вам, Артюс, граф д'Отон
Краткое историческое приложение
Абу Бакр Мухаммед ибн Закария ар-Рази (865 – 932) – известен под именем Разес. Персидский философ, алхимик, математик и талантливый врач, которому мы обязаны, в числе прочего, открытием и первым описанием аллергической астмы и сенного насморка. Он первым доказал связь, существующую между сенным насморком и некоторыми цветами. Считается отцом экспериментальной медицины. С успехом делал операции по удалению катаракты.Архимед (287 – 212 гг. до н. э.) – гениальный древнегреческий математик и изобретатель. Мы обязаны ему многочисленными открытиями в области математики, в частности открытием знаменитого закона, который носит его имя. Он также вычислил первое довольно точное значение числа я, был убежденным сторонником экспериментов и доказательств. Ему приписывают авторство многих изобретений, в частности катапульты, бесконечного винта, системы рычагов и блоков и зубчатого колеса. На проведенном недавно аукционе один из палимпсестов был оценен в два миллиона долларов. Предполагается, что в тексте, первоначально написанном на этом палимпсесте, говорилось о достижениях Архимеда в области вычисления бесконечно малых значений. Впоследствии этот документ использовали, чтобы записать на нем библейский текст. А ведь нам удалось вычислить дифференциалы только через две тысячи лет! Ходят слухи, что счастливым покупателем этого палимпсеста был Билл Гейтс. Документ был передан в Художественный музей Уолтерса в Балтиморе, где он стал объектом самых современных исследований.
Бенедикт XI (Никола Бокказини, 1240–1304) – Папа Римский. О нем известно довольно мало. Выходец из очень бедной семьи, этот доминиканец до самой смерти вел аскетический образ жизни. Один из немногих дошедших до нас исторических анекдотов красноречиво свидетельствует об этом: когда после избрания Бенедикта его мать захотела с ним встретиться, она надела свой лучший наряд. Но сын вежливо объяснил матери, что ее платье слишком богатое и он хочет, чтобы она и впредь оставалась скромной женщиной. Наделенный покладистым характером, этот бывший остийский епископ стремился смягчить разногласия, существовавшие между церковью и Филиппом IV Красивым, но вместе с тем проявил суровость по отношению к Гийому де Ногаре и братьям Колонна. Он скончался после восьми месяцев понтификата 7 июля 1304, отравленный фигами, или инжиром.
Бонифаций VIII (Бенедетто Каэтани, около 1235–1303) – кардинал и легат во Франции, затем Папа. Он был яростным защитником папской теократии, которая противостояла современному праву государства. Открытая вражда с Филиппом IV Красивым восходит к 1296 году. Страсти не утихли даже после смерти Папы, поскольку Франция предпринимала попытки начать процесс против его памяти.
Валуа Карл де (1270 – 1325) – единственный брат Филиппа IV Красивого. На протяжении всей своей жизни король испытывал к брату слепую привязанность и поручал ему миссии, которые, несомненно, были ему не по плечу. Карл де Валуа – отец, сын, брат, дядя и зять королей и королев – всю жизнь мечтал о короне, которую так и не получил.
Вальденсы, или лионские бедняки-братья, – одна из самых крупных ересей той эпохи, причем не только по своему распространению, но и по влиянию на население. Движение, ратовавшее за бедность, евангельскую чистоту и всеобщее равенство, было создано около 1170 года Пьером Вальдесом (Вальдо), богатым лионским купцом, который пожертвовал ему все свое имущество. Успех вальденсов, как и катаров, был во многом связан с недовольством церковными кругами. Сначала это движение выражало интересы зажиточных слоев общества, стремившихся к чистоте. У вальденсов в сан могли быть рукоположены и женщины. Вскоре инквизиция стала преследовать приверженцев вальденсов, поскольку они отрицали все, что расходилось со строгим прочтением Евангелий. Одни вальденсы примкнули к движению «католических бедняков», другие разбрелись по всей Европе, создав отдельные сообщества, которые существуют и в наши дни.
Вильнев Арно де, или Арнольдус де Вилланова (около 1230–1311), – уроженец Монпелье. Вероятно, один из самых авторитетных ученых XIII и XIV веков. Предполагают, что образование он получил в Испании, у братьев-доминиканцев. Этот врач, астролог, алхимик и юрист, наделенный весьма сильным характером, затевал многочисленные диспуты и без колебаний открыто нападал на нищенствующие ордена. Он не попал в руки инквизиции только потому, что лечил Бонифация VIII, который простил ему все допущенные «ошибки». Он лечил понтифика до самой его смерти, а затем был врачом Бенедикта XI и Климента V При этом он выполнял тайные поручения короля Арагона.
Гален Клавдий (131 – 201) – грек, родившийся в Малой Азии, один из самых крупных ученых античности. Будучи врачом в школе гладиаторов, он имел в своем распоряжении «добровольцев», чтобы совершенствовать свои знания в хирургии. Позднее он стал врачом Марка Аврелия и лечил двух его сыновей, Коммода и Секста. Гален был автором многих открытий. Он описал прохождение нервного импульса и его роль в мышечной деятельности, циркуляцию крови по венам и артериям, доказав, что артерии переносят кровь, а не воздух, как это считалось раньше. Он также доказал, что именно мозг контролирует голос.
Го Бертран де (около 1270–1314) – сначала был каноником и советником короля Англии. Выдающиеся способности дипломата помогли ему не поссориться с Филиппом IV Красивым во время войны между Англией и Францией. В 1299 году он стал архиепископом Бордо, а затем, в 1305 году, преемником Бенедикта XI, взяв имя Климента V. Плохо ориентируясь в ситуации, сложившейся в Италии, он в 1309 году обосновался в Авиньоне. Не согласившись с Филиппом IV Красивым в делах, сделавших их противниками, а именно в том, что касалось посмертного процесса Бонифация VIII и уничтожения ордена Храма, тамплиеров, он занял выжидательную позицию. Ему удалось усмирить гнев монарха в первом деле и практически устраниться от второго.
Делисье Бернар – францисканец, яростный противник доминиканцев и их инквизиции. Независимость его ума помогла Делисье завоевать успех среди народа. Он призвал народ выйти на улицу в знак протеста, когда Филипп Красивый приехал в Каркассон в августе 1303 года. Дело дошло до того, что Бернар Делисье принял участие в заговоре, ставившим перед собой цель поднять Лангедок на борьбу с Филиппом IV Красивым. Делисье несколько раз арестовывали. Он окончил свои дни в тюрьме в 1320 году.
Занятие – см. Проституция.
Инквизиторская процедура – описание процесса, а также вопросы доктрины, которые задавали обвиняемым, были позаимствованы автором из «Руководства инквизитора» Николау Эймериха и Франсиско Пена.
Каркассон – в августе 1303 года во время посещения города Филиппом Красивым население Каркассона взбунтовалось против инквизиции. Горожанам оказывал помощь Бернар Делисье, францисканец (см. выше).
Катары – от katharôs, «чистый» по-гречески. Зародившись в Болгарии в конце X века, религиозное движение катаров получило широкое распространение благодаря проповедям священника Богомила. «Высшая ересь» подвергалась преследованию инквизицией. В общих чертах движение катаров представляет собой одну из форм дуализма. Необратимому Злу (материя, мир) катары противопоставляют Бога и Добро (совершенство). Они осуждали общество, семью, духовенство, а также не признавали евхаристию и причащение святых. Первые катары отрицали человеческую ипостась Христа, видя в нем ангела, посланного на землю, хотя и не были в этом абсолютно уверены. Сущность движения катаров сводится к требованию чистоты, которое распространяется также на отказ от мяса и половое воздержание. К движению катаров примкнули в основном духовно неудовлетворенные представители зажиточных и образованных кругов общества. Католическая церковь развернула борьбу против катаров в 1120 году, осудив их движение на соборе 1119 года, проходившем в Тулузе. Начались Крестовые походы против альбигойцев. С1209 по 1215 год крестоносцев возглавлял Симон де Монфор. Эта кровопролитная война, поддерживаемая инквизицией, закончилась лишь с падением последних крепостей катаров, в частности Монсегюра в 1244 году. От этого поражения движение катаров так и не сумело оправиться, тем более что идеал чистоты стали проповедовать нищенствующие ордена. Окончательно движение катаров прекратило свое существование около 1270 года.
Клэре – женское аббатство в департаменте Орн. Аббатство расположено на опушке леса Клэре, на территории прихода Маля. Строительство, решение о котором было принято в июне 1204 года Жоффруа III, графом Першским, и его супругой Матильдой Брауншвейгской, сестрой императора Оттона IV, продолжалось семь лет и закончилось в 1212 году. В церемонии освящения аббатства принимал участие командор ордена тамплиеров Гийом д'Арвиль, о котором мало что известно. Аббатство предназначалось для монахинь-затворниц ордена цистерцианцев, бернардинок, которые имели право разрешать уголовные и гражданские дела, опекунские дела и дела об обидах и выносить смертные приговоры.
Кретьен де Труа (около 1140 – около 1190) – об этом уроженце Шампани нам известно немногое. Любитель путешествий, возможно, клирик, он страстно увлекался поэзией Овидия. Он перевел «Искусство любви» римского поэта и возродил куртуазный роман, которому придал психологическую глубину. Играя символами и искусно плетя интриги, он порой обращался к чудесам, как в «Клижесе». Мы обязаны ему следующими поэмами: «Ланселот, или Рыцарь с телегой», «Ивэйн, или Рыцарь со львом», «Эрек и Энида» и, разумеется, самой известной – «Персеваль, или Сказание о Граале».
Лэ Марии Французской – двенадцать лэ, обычно приписываемых некой Марие, уроженке Франции, жившей при английском дворе. Некоторые историки полагают, что речь идет о дочери Людовика VII или графа Меланского. Лэ написаны до 1167 года, а басни – около 1180 года. Перу Марии Французской принадлежит также роман «Чистилище святого Патрика».
Ногаре Гийом де (около 1270–1313) – доктор гражданского права. Преподавал в Монпелье, затем в 1295 году вошел в состав Совета Филиппа IV Красивого. Круг его обязанностей быстро расширился. Сначала более или менее тайно он принимал участие во всех крупных религиозных делах, сотрясавших Францию, в частности в судебном процессе Бернара Сэссе. Затем Ногаре вышел из тени и сыграл решающую роль в деле тамплиеров и в борьбе против Бонифация VIII. Ногаре был человеком большого ума и незыблемой веры. Он ставил перед собой цель спасти одновременно и Францию и Церковь. Он стал канцлером короля, но затем уступил эту должность Ангеррану де Мариньи. Однако в 1311 году печать вновь вернулась к нему.
Орден Святого Иоанна Иерусалимского – Гостеприимный орден, госпитальеры, признан в 1123 году папой Паскалем II. В отличие от других рыцарских орденов, госпитальеры изначально ставили перед собой благотворительные цели. Лишь позднее орден взял на себя и военную функцию. После падения Акры госпитальеры нашли прибежище на Кипре, затем на Родосе и наконец на Мальте. Во главе ордена стоял Великий магистр, который избирался генеральным капитулом, состоявшим из высших должностных лиц. Орден подразделялся на «языки», или провинции, которыми в свою очередь управляли великие приоры. В отличие от ордена тамплиеров и несмотря на свое богатство, госпитальеры всегда пользовались благожелательной поддержкой общества. Вероятно, это было связано с благотворительной миссией ордена и смирением его членов.
Пена Франсиско. Используя приведенную в тексте цитату, автор прибег к сознательному анахронизму. Франсиско Пена был доктором канонического права, которому в XVI веке святой престол поручил переиздать «Руководство инквизитора» Николау Эймериха.
Покушение в Ананьи, сентябрь 1301 года. Бонифаций VIII, оказывавший сопротивление власти Филиппа Красивого, «был задержан» в Ананьи. Гийом де Ногаре, приехавший, чтобы известить Папу о вызове на собор, который должен был состояться в Лионе, случайно оказался на площади. Эти насильственные действия были обусловлены намерением Филиппа Красивого обложить французское духовенство десятиной, поскольку для продолжения войны с Англией требовались деньги. Некоторые историки, напротив, полагают, что, по приказу Филиппа Красивого, именно Гийом де Ногаре, прибегнувший к помощи братьев Колонна, питавших личную ненависть к понтифику, был организатором заточения Бонифация VIII в его покоях.
Проституция – к ней относились снисходительно, если она оставалась в границах, определенных властями и религией. Доктора канонического права XIII века считали, что это «занятие» не было аморальным при соблюдении определенных условий, в частности, если женщина «занимается ею по нужде и не находит в ней никакого удовольствия». В городах «девицы радости» были обязаны жить в определенных кварталах, их одежда должна была сразу показывать, чем они занимались. Отношение к проституции может показаться нам противоречивым. Но это ошибочное мнение, поскольку необходимо принимать во внимание умонастроение того времени. Речь идет об обществе, в котором мужчины обладали несравненно большими правами, чем женщины. Однако это общество понимало, хотя и не утверждало открыто, что проститутками становились только те, у кого не было других возможностей. «Девиц» рассматривали как грешниц, но вместе с тем Церковь заявляла, что женитьба на них была достойным поступком, и оказывала доверие мужчинам, которые брали их в жены. Если проститутки выходили замуж или поступали в монастырь, они считались «очищенными» от грехов своей прежней жизни. Изнасилование проститутки считалось преступлением и сурово наказывалось.
Религиозные нищенствующие ордена возникли в XII–XIII веках. Их отличительной чертой был, в числе прочего, отказ от земельной собственности. Проповедуя возвращение к евангельской бедности, они очень быстро стали пользоваться в обществе огромным успехом, что привело к вражде с белым духовенством, которое считало, что в значительной степени лишилось пожертвований мирян. Эти распри послужили причиной упразднения в 1274 года на Лионском соборе нищенствующих орденов, за исключением кармелитов, отшельников Святого Августина, доминиканцев и францисканцев. В 1294 году к нищенским орденам добавились целестины.
Роберт Болгарин – болгарин по происхождению, он увлекся учением катаров, получил высшую степень посвящения и стал доктором этой веры. Затем перешел в католичество и вступил в орден доминиканцев. Папа Григорий IX (1227–1241) увидел в нем «разоблачителя» еретиков, ниспосланного провидением. На самом деле представляется вероятным, что Роберт Болгарин специально устраивал ловушки самым ученым из катаров. Едва он был назначен в 1235 году генеральным инквизитором в Шарите-сюр-Луар, после убийства своего предшественника Конрада Марбургского, как начались зверства, леденящие душу пытки. Повергнутые в ужас дошедшими до них рассказами о расправах, архиепископы Санса и Реймса, а также несколько других прелатов выразили свой протест. Первое расследование, выявившее в феврале 1234 года бесчинства Роберта Болгарина, привело к отстранению его от должности. Тем не менее в августе следующего года он вновь снискал милость Папы и вскоре возобновил свои «развлечения». И только через несколько лет он был окончательно отстранен от власти и в 1241 году был приговорен к пожизненному заключению.
«Роман о Розе» – длинная аллегорическая поэма, принадлежащая перу двух авторов: Гийома де Лорриса, писавшего ее в 1230 году, и Жана де Мена, создавшего продолжение между 1270 и 1280 годами. Первая часть поэмы воспевает куртуазную любовь. Напротив, часть Жана де Мена гораздо более ироничная, если не сказать циничная, женоненавистническая и содержит плохо скрытые непристойности. Жан де Мен без колебаний нападает на нищенствующие ордена, говоря устами монаха по имени Притворство.
Средневековая инквизиция – следует отличать средневековую инквизицию от испанской святой инквизиции, прибегавшей к свирепым и беспощадным расправам, не имевшим ничего общего с тем, что происходило во Франции. Только за период, когда великим инквизитором был Томас Торквемада, в Испании погибло более двух тысяч человек. Сначала средневековая инквизиция находилась в ведении епископата. Папа Иннокентий III (1160–1216) установил правила инквизиторской процедуры, издав в 1199 году буллу Vergentis in senium.Намерения Папы не сводились к истреблению отдельных индивидуумов. Доказательством этому служат решения IV Латеранского собора, состоявшегося за год до смерти Папы. Эти решения запрещали применять ордалии к инакомыслящим. Понтифик стремился к искоренению ересей, угрожавших основам Церкви, поскольку они ставили под сомнения в том числе и бедность Христа как жизненную модель, впрочем, довольно сомнительную, если судить по огромным наделам плодородных земель, принадлежавших монастырям. Затем она превратилась в папскую инквизицию. Это произошло при Григории IX, отдавшем право вершить инквизиторский суд доминиканцам и в меньшей степени францисканцам. Папой двигали в основном политические мотивы, поскольку, сосредоточив этот институт в одних руках, он тем самым усилил его власть. Папа должен был во что бы то ни стало помешать императору Фридриху II встать на тот же самый путь по мотивам, которые не имели ничего общего с духовностью. Последний этап преодолел Иннокентий IV, разрешив своей буллой Ad Extirpanda, изданной 15 мая 1252 года, применять пытки. Впоследствии преследование колдовства было уподоблено охоте на еретиков. В наши дни преувеличивают реальное влияние инквизиции во Франции. Необходимо принимать во внимание тот факт, что на территории Французского королевства, находилось сравнительно мало инквизиторов, следовательно, инквизиция не смогла бы обрести такую значимость, если бы не пользовалась поддержкой светских властей и если бы к ней не поступали многочисленные доносы. Таким образом, благодаря возможности прощать друг другу любые прегрешения, некоторые инквизиторы оказывались виновными в таких чудовищных преступлениях, что они порой служили причиной для бунтов или резких выступлений возмущенных прелатов. В марте 2000 года, то есть примерно через восемь столетий после возникновения инквизиции, Папа Иоанн Павел II попросил у Бога прощения за преступления и ужасы, в которых она повинна.
Сэссе Бернар (? – 1311) – первый епископ Памье. Он поступил весьма неразумно, поставив под сомнение законное право Филиппа Красивого на престол Франции, дойдя даже до того, что начал плести заговор и предлагать графу де Фуа установить свой суверенитет над Лангедоком. Сэссе отказался предстать перед королем. Он рассчитывал прибыть к Бонифацию VIII, чтобы изложить свои жалобы. В конце концов Филипп Красивый отправил Сэссе в изгнание, и тот закончил свои дни в Риме.
Тамплиеры – рыцари Христа и Храма Соломона. Орден был создан в Иерусалиме около 1118 года рыцарем Гуго де Пейном и несколькими другими рыцарями из Шампани и Бургундии. Окончательно он был признан на соборе в Труа в 1128 году. В основу его устава было положено учение святого Бернара, а возможно, устав был написан самим святым. Орден возглавлял Великий магистр, которому помогали несколько высокопоставленных лиц. Владения ордена были весьма обширными (3 450 замков, крепостей и домов в 1257 году). Наладив систему денежных переводов вплоть до Святой земли, в XIII веке орден превратился в одного из главных банкиров христианского мира. После падения Акры – события, ставшего, по сути, для него роковым, – большинство тамплиеров вернулись на Запад. В конце концов общественное мнение стало относиться к членам ордена как к ростовщикам и лодырям. Об этом свидетельствуют многочисленные выражения, дошедшие до наших дней. Так, слова «я иду в Храм» произносили, отправляясь в бордель. Великий магистр Жак де Моле отказался объединить свой орден с орденом госпитальеров. Тринадцатого октября 1307 года начались аресты тамплиеров. Затем последовали расследования, признания (если говорить о Жаке де Моле, то некоторые историки полагают, что его признания были получены под пытками), отказы от ранее данных показаний. Двадцать второго марта 1312 года Климент V, боявшийся Филиппа IV Красивого по другим причинам, упразднил орден тамплиеров. Жак де Моле отказался от своих признаний и вместе с другими тамплиерами 18 марта 1314 года взошел на костер. Представляется доказанным, что расходы, понесенные в связи с проведением следствия по делу тамплиеров, процесс конфискации их имущества и его распределения среди госпитальеров намного превысили доходы, которые получил Филипп IV Красивый от уничтожения ордена.
Филипп IV Красивый (1268–1314) – сын Филиппа III Храброго и Изабеллы Арагонской. От Жанны Наваррской у него было три сына, будущие короли: Людовик X Сварливый, Филипп V Длинный и Карл IV Красивый, а также дочь Изабелла, ставшая супругой Эдуарда II Английского. Отважный, талантливый военачальник, Филипп Красивый отличался несгибаемостью и суровостью. Однако следует смягчить краски, поскольку современные историки описывают Филиппа Красивого как человека, которым манипулировали его советники, «осыпавшие короля лестью и отстранявшие его от дел». История главным образом сохранила свидетельства о его роли в деле тамплиеров, однако Филипп Красивый был прежде всего королем-реформатором, поставившим перед собой цель покончить с вмешательством Папы в политику Французского королевства.
Глоссарий
Литургические службы – богослужение, цикл которого был разработан в VI веке на основе устава святого Бенедикта, включает в себя – помимо мессы, которая не является его составной частью в строгом смысле слова, – несколько ежедневных служб. Эти службы определяют распорядок дня. Так, монахи и монахини-затворницы не могут ужинать до наступления ночи, то есть до вечерни. До XI века богослужение длилось практически целый день, но затем продолжительность служб была сокращена, чтобы монахи и монахини-затворницы могли уделять больше времени чтению и ручному труду. Утреня, или заутреня – около 2.30 или 3 часов. Лауды – до рассвета, между 5 и 6 часами. Первый час – около половины восьмого, первая дневная служба, сразу же после восхода солнца, непосредственно перед мессой. Третий час – около 9 часов. Шестой час – около полудня. Девятый час – между 14 и 15 часами. Вечерня – около 16.30–17 часов, при заходе солнца. Повечерие – после вечерни, последняя вечерняя служба, около 18–20 часов.Меры длины
Перевод в современные меры сделан довольно произвольно, поскольку значение мер варьировалось в зависимости от того или иного района. Лье – примерно 4 километра. Туаз – от 4,5 метров до 7 метров. Локоть – 1,2 метра в Париже и 0,7 метра в Аррасе. Фут – примерно соответствует 34–35 сантиметрам.Меры веса
Эти меры, изначально установленные для определения веса золота и серебра, а следовательно, и веса монет, также варьировались в зависимости от времени, районов и даже от взвешиваемых продуктов. Так, мясной фунт не был равен аптекарскому фунту. Фунт варьировался от 306 до 734 грамм. Мы взяли за основу вес марки Труа (тройской марки), которая ходила в Париже и в центральных районах королевства. Фунт, то есть две марки – 489,5 г. Марка – 244,75 г. Унция – 30,60 г. Гросс – 3,82 г. Стерлинг – 1,53 г. Полденье – 0,764 г. Денье – 1,27 г. Гран – 0,053 г.Меры емкости
Пинта – чуть меньше литра. Горшок – две пинты, чуть меньше двух литров. Сетье – восемь пинт.Денежные единицы
Речь идет о настоящей головоломке, поскольку при каждом царствовании вводилась новая денежная единица. Впрочем, порой в том или ином районе ходили собственные деньги. В зависимости от эпохи деньги оценивались – или не оценивались – в соответствии со своим реальным весом в золотом или серебряном эквиваленте, а также ревальвировались или девальвировались. Ливр – расчетная единица. Один ливр соответствовал 29 су или 240 серебряных денье, а также 2 золотым королевским пти (королевские деньги при Филиппе IV Красивом). Турский денье (денье Тура) – постепенно вытеснил парижский денье. Двенадцать турских денье равнялись одному су.Библиография
Blond Georges et Germaine, Histoire pittoresque de notre alimentation, Paris, Fayard, 1960. Bruneton Jean, Pharmacognosie, phytochimie et plantes médicinales, Paris-Londres-New York, Тех et Doclavoisier, 1993. Burguère André, Klapisch-Zuber Christiane, Segalen Martine, Zonabend Françoise, Histoire de la famille, tome II, Les Temps mé diévaux, Orient et Occident, Paris, Le Livre de poche, 1994. Cahen Claude, Orient et Occident au temps des croisades, Paris, Aubier, 1983. Chevaliers du Christ, les ordres religieux au Moyen áge, Xle – XVIe siècle, Paris, Seuil, 2002. Delort Robert, La Vie au Moyen áge, Paris, Seuil, 1982. Demurger Alain, Chevaliers du Christ, les ordres religieux au Moyen áge, Xle – XVIe siècle, Paris, Seuil, 2002. Demurger Alain, Vie et Mort de l'ordre du Temple, Paris, Seuil, 1989. Duby Georges, Le Moyen áge, Paris, Hachette Littératures, 1998. Duby Georges, Le Moyen áge, Paris, Hachette Littératures, 1998. Eco Umberto, Art et Beauté dans l'esthétique médiévale, Paris, Grasset, 1997. Eymerick Nicolau et Pena Francisco, Le Manuel des inquisiteurs, Paris, albin Michel, 2001. Favier Jean, Histoire de France, tome II: Le Temps des principautés, Paris, le Livre de poche, 1992. Flori Jean, Les Croisades, Paris, Jean-Paul Gisserot, 2001. Fournier Sylvie, Brève histoire du parchemin et de l'enluminure, Gavaudin, Fragile, 1995. Gauvard Claude, La France au Moyen áge du V au XV siècle, Paris, PUF, 2004. Gauvard Claude, Libera Alain de, Zink Michel (sous la direction de), Dictionnaire du Moyen áge, Paris, PUF, 2002. Jerphagnon Lucien, Histoire de la pensée; Antiquité et Moyen áge, Paris, Le Livre de poche, 1993. Libera Alain de, Penser au Moyen áge, Paris, Seuil, 1991. Pernoud Régine, Gimpel Jean, Delatouche Raymond, Le Moyen áge pour quoi faire? Paris, Stock, 1986. Pernoud Régine, La Femme au temps des cathédrales, Paris, Stock, 2001. Pernoud Régine, Four en finir avec le Moyen áge, Paris, Seuil, 1979. Pour en finir avec le Moyen áge, Paris, Seuil, 1979. Redon Odile, Sabban Françoise, Serventi Silvano, La Gastronomie au Moyen áge, Paris, Stock, 1991. Richard Jean, Histoire des croisades, Paris, Fayard, 1996. Siguret Philippe, Histoire du Perche, Céton, éed. Fédération des amis du Perche, 2000. Vincent Catherine, Introduction á l'histoire de l'Occident médiéval, Paris, le Livre de poche, 1995.Андреа Жапп Дыхание розы
Предисловие
Одного имени автора на обложке книги достаточно, чтобы понять: перед вами настоящий шедевр, который вы будете читать не отрываясь, пока не перевернете последнюю страницу. Андреа Жапп заслуженно называют королевой исторического детектива Франции. Ее перу принадлежат более двадцати романов, а также множество рассказов и сценариев, которые пользуются неизменной популярностью в мире. Успех Андреа Жапп – настоящий феномен, поскольку она и не помышляла о карьере писательницы, долгие годы ее ничто не связывало с литературой, кроме любви к чтению. Профессии токсиколога и судмедэксперта, казалось бы, не располагают к сочинительству, но ее воображение рождало удивительные образы, слова будто сами просились на бумагу. В 1990 году вышел дебютный роман Жапп, который вызвал живой интерес у поклонников детективного жанра. С тех пор ее книги с восторгом читают в Старом и Новом Свете. Произведения Андреа удивительно реалистичны, она, как никто, умеет создавать в них эффект присутствия и подлинности происходящего. Франция, начало XIV века. По всей Европе пылают костры инквизиции, могущественный орден тамплиеров соперничает властью и богатством с королями, его сокровища, вывезенные из Святой земли, уже стали легендой. Король Филипп IV Красивый не собирается мириться с этим. Начинается тайная жестокая война между королем, Ватиканом и тамплиерами. Какое отношение к ней имеет молодая вдова Аньес де Суарси? Почему именно в ее владениях обнаружены изуродованные тела посланцев Ватикана? Что везли эти люди и кто отнял их жизни? Как на месте преступления появился платок Аньес? В довершение всех бед в доме мадам де Суарси появляется известный своей жестокостью инквизитор Никола Флорен… Но на защиту невинной женщины встают могущественные силы. Рыцарь-госпитальер Франческо де Леоне должен спасти ее даже ценой собственной жизни! Писательница мастерски переплетает сюжетные линии, создавая завораживающее, увлекательное произведение, в котором есть и преступная страсть, и древние рукописи, и интриги отцов Церкви, и таинственные убийства, и сметающая все преграды любовь. Смелая фантазия автора создает удивительную картину, напоминающую средневековые витражи. Как яркие, насыщенные светом фрагменты сменяются зловещими темными цветами, так и в романе Жапп моменты проявления бескорыстной любви, преданности, благородства, чистой веры, мудрости чередуются с леденящими кровь жестокими убийствами, описаниями подземелий инквизиции, случаями предательства, проявлениями жажды власти, корыстолюбия, продажности вельмож и священников. Читайте, и овеянная легендами эпоха рыцарства откроет вам свое истинное лицо…Gentle Pye Go to your brother. With nopain.[94]
Дорога в Алансон, Перш, сентябрь 1304 года
Никола Флорен настоял, чтобы для Аньес де Суарси приготовили тяжелый деревянный фургон, очень похожий на гроб на колесах. Узкие щели, проделанные по бокам, да к тому же закрытые кожаными занавесками, не позволяли узнику видеть, что происходит снаружи. А вот в случае нападения ни одна стрела не смогла бы влететь внутрь через столь крохотные бойницы. Четыре першерона с трудом тащили эти ломовые дроги. Никола потребовал, чтобы их сопровождали пятеро вооруженных стражников. Двое из них сели рядом с кучером, а остальные тряслись в телеге, ехавшей следом. Все вещи Аньес уместились в маленький кофр, а вот Никола взял с собой доверху набитый сундук: удивительное кокетство для инквизитора. Пятеро вооруженных мужчин для сопровождения одной женщины… Это казалось излишней мерой предосторожности, но доминиканец любил подобную чрезмерность. Он усматривал в ней реальный способ проявить недавно полученную власть. Никола не сводил с Аньес де Суарси глаз, подмечая малейший вздох, едва уловимое дрожание губ. Впрочем, именно по этой самой причине он и приказал, чтобы она ехала рядом с ним, а не в телеге. Увидела ли она в этом знак уважения к занимаемому ей положению в обществе? Никола Флорен не был в этом уверен. Чувство раздражения не покидало его с самого начала путешествия. Все шло не так, как он предусматривал, причем с их первой встречи, когда он пришел к ней, чтобы сообщить о времени благодати. На что она надеялась? Что она окажется сильнее его? Что он проявит к ней снисходительность? В таком случае, она вскоре жестоко разочаруется. Он приподнял кожаную занавеску и прищурил глаза, пытаясь увидеть клочок голубого неба. Наступал вечер. Лошади медленным и уверенным аллюром везли их в Алансон. Они пустились в путь сразу после шестого часа, и за все это время она ни разу не оторвала взгляда от рук, сложенных на животе, не произнесла ни единого слова, даже не попросила позволить ей выпить воды или сделать короткую остановку для удовлетворения физиологических потребностей, на что Никола с радостью согласился бы, приставив к ней одного из сопровождавших их грубиянов, чтобы унизить ее, чтобы она занервничала и обмочила туфли или край платья. К отчаянию инквизитора примешивалась смутная тревога. Не получила ли его жертва заверения в помощи? В таком случае от кого? От графа Артюса д'Отона, матери аббатисы Клэре или от более могущественного человека? Но кто мог быть более могущественным, чем заказчик этого властного человека, который приходил к нему в Дом инквизиции в Алансоне? Ну хватит, он боится, словно маленький мальчик! Эта незаконнорожденная баба напустила на себя вид светской дамы, какой хотела казаться, вот и все. Взгляд серо-голубых глаз оторвался от рук, сложенных для молитвы, и встретился с взглядом Никола. Неприятная горячая волна докатилась до самых щек молодого человека, который поспешно отвел глаза, проклиная себя за это рефлекторное движение. В этой женщине было что-то странное, нечто такое, что он не удосужился или, возможно, отказывался разглядеть. Он попытался определить, что именно он чувствовал, однако это ему не удалось. Временами он испытывал опьяняющее чувство оттого, что нагонял на нее страх. Затем неожиданно возникала другая женщина, словно тайная дверь, ведущая в темное подземелье. И эта другая женщина не боялась его. Как ни странно, Флорен был убежден, что не Аньес стала причиной этих метаморфоз. Если бы он был фанатичным простаком, как некоторые из его духовных братьев, он, несомненно, увидел бы в этом одержимость бесами. Но Никола не верил в дьявола. Что касается Бога, честное слово, Бог мог и подождать. Инквизитора гораздо сильнее волновали жизнь и удовольствия, которые эта жизнь предоставляет тем, кто умеет ими пользоваться. Несмотря на множество людей, казненных по обвинению в колдовстве и бесовстве, Флорен ни разу не нашел неопровержимого доказательства существования чудотворцев или злых колдунов. Нервное напряжение оказалось сильнее хитрости, и он сказал: – Вы прекрасно знаете, мадам, что инквизиторский суд не предполагает присутствия адвоката, если только адвокатом не становится сам обвиняемый. – В самом деле. – В самом деле? – Мне известна эта особенность, – ответила Аньес до того уверенным голосом, что инквизитор почувствовал себя униженным. Никола обуздал ярость, закипавшую в нем и побуждавшую его дать Аньес пощечину. Ему следовало бы молчать, он это понимал, но желание увидеть, как она побледнеет, было столь горячим, что он продолжил как можно более слащавым голосом: – По сложившемуся обычаю мы не сообщаем имена наших свидетелей и тем более содержание их заявлений… Тем не менее, поскольку вы дама, я могу предоставить вам эту привилегию… – Я уверена, что вы поступите по справедливости, так, как это желательно, мсье. Если позволите, я немного вздремну. Длинные дни, которые меня вскоре ждут, предрасполагают к отдыху. Аньес прислонилась к деревянной спинке сиденья и закрыла глаза. От ярости на глазах Флорена выступили слезы. Он крепко сжал зубы, боясь, что сорвется и наговорит всякой чепухи, которая покажет Аньес, что он находится на грани нервного срыва. Пришедшие Никола на ум слова немного утешили его, слова, произнесенные одним из самых почитаемых знатоков канонического права: «Окончание процесса и смертный приговор служат не для спасения души обвиняемого, а для поддержания общественного блага и устрашения народа… Если невиновного трудно отправить на костер… я восхваляю обычай пытать обвиняемых».[95] У Аньес не было ни малейшего желания спать, она размышляла. Удалось ли ей обозначить еще одну веху в этой длинной битве, которую она приготовилась вести? Она осознала необъяснимую враждебность этого человека к ней, его неудовольствие тоже. «Клеман, как это случилось, что ты, еще совсем ребенок, всегда защищаешь меня?» – подумала она. Благодаря Клеману Аньес знала, что Флорен использует первую хитрость инквизиторов, одну из их многочисленных уловок. Несколько месяцев назад, в июле, почти ночью, Клеман пришел после одной из своих частых отлучек весь взбудораженный. Было слишком поздно, и Аньес уже удалилась в свои покои. Девочка легонько постучала в дверь, спрашивая разрешения поговорить. Нет, вспоминать о Клемане нужно только как о мальчике, иначе она совершит оплошность, которая подвергнет их жизни опасности. Сохранять привычку говорить о нем лишь в мужском роде. Ребенок постучал в дверь, спрашивая разрешения поговорить. Он обнаружил Consultationes ad inquisitores haereticae pravitatis[96] Ги Фулькуа, который затем стал советником Людовика Святого, а впоследствии Папой под именем Климента IV. К этой книге прилагалось тоненькое практическое пособие, в котором были собраны чудовищные методы. Клеман задыхался: – Мадам, мадам… если бы вы знали… Все это лишь западня, ложь, чтобы получить признания, пусть даже ложные. В практическом пособии на самом видном месте было написано: «Необходимо сделать все, чтобы обвиняемый не смог доказать свою невиновность. Таким образом, никому и в голову не придет, что приговор был несправедливым…». – Какая чудовищная гнусность, – недоверчиво прошептала Аньес. – Но ведь речь идет о суде Божьем… как они смеют? Где ты отыскал эти книги? Ребенок пустился в сбивчивые объяснения. Он упомянул о библиотеке, но затем ловко обошел вопрос Аньес. – Я в этом вижу знак Божий, мадам. Знать все плутни своих врагов, предвосхищать их – значит не попасть в ловушки, которые они расставляют вам на каждом шагу. Клеман рассказал Аньес о методах, призванных запугать и унизить обвиняемых, чтобы сломить сопротивление самых стойких, о махинациях и манипуляциях со свидетельствами. Простых людей расспрашивали о принципах христианской доктрины. В том, что они не могли ответить на все вопросы, не было ничего удивительного, однако их невежество становилось доказательством того, что они впали в ересь. Клеман также поведал ей о редких случаях обжалований приговоров обвиняемыми. К этой процедуре прибегали лишь единицы, к тому же без особого успеха. Ходатайство, посланное Папе, имело все шансы затеряться, причем чаще всего это делалось сознательно, если, конечно, в роли посланца не выступал какой-нибудь могущественный человек, специально приехавший в Рим. Можно было также потребовать отвода инквизитора под предлогом, что тот питал особую неприязнь к обвиняемому. Впрочем, это была палка о двух концах, поскольку тогда собирался третейский суд. Но назначенные судьи вовсе не стремились портить отношения с инквизитором или епископом, присутствовавшим при инквизиторской процедуре. Клеман окончательно развеял еще остававшиеся у его дамы иллюзии, уточнив, что инквизиторы могли получать жалование, но большинство из них жили за счет конфискации имущества осужденных. Следовательно, в финансовом плане они не были заинтересованы, чтобы обвиняемых признали невиновными. Желанной добычей для них была состоятельная дичь, хотя ее и было труднее поймать. Эти сведения, которые Клеман раздобыл неизвестно где, позволили Аньес выковать самое надежное, как она надеялась, оружие, чтобы сегодня сойтись в схватке с Флореном. Прежде всего лукавые инквизиторы переставляли имена свидетелей и их заявления. Показания первого свидетеля они приписывали пятому, второго – четвертому, третьего – первому и так далее… К этой хитрости прибегали для того, чтобы обвиняемый запутался, неумело опровергая слова каждого из своих обвинителей. Более эффективных результатов удавалось добиться, когда к именам подлинных доносчиков инквизиторы добавляли имена людей, которые никогда не свидетельствовали против обвиняемых. Но существовал еще один, самый изощренный, самый неотразимый и наиболее действенный метод. Уклонившись от допроса, инквизитор спрашивал у обвиняемого, кто из его смертельных врагов был способен совершить клятвопреступление, чтобы погубить его. Если обвиняемый забывал имена своих самых ярых обвинителей, тогда считалось, что их свидетельства были выше всех подозрений во лжи… по мнению самого обвиняемого. В любом случае, инквизиторам следовало прежде всего оберегать свидетелей по той причине, что «без данной меры предосторожности никто никогда не осмелится дать свидетельские показания». Как ни странно, но откровения, которые так потрясли ее в ту ночь, теперь пришли ей на помощь. Аньес не была бы столь сильной, если бы думала, что ей предстоит предстать перед беспристрастными судьями, радевшими о правде и вере. Тогда она искала бы в самой себе причину столь ужасного наказания. Благодаря Клеману она осознала всю степень беззакония этой пародии на суд. Сражаться честно можно лишь с достойными противниками. Аньес настолько глубоко ушла в свои мысли, что голос Флорена заставил ее вздрогнуть. Он подумал, что разбудил ее, и это вызвало у него новое беспокойство. Как она могла спать в такой момент? – Поскольку в Алансоне Дом инквизиции очень маленький, во время предварительного заключения вас поместят intra murus strictus, если только… присяжная матрона[97] не подтвердит, что вы беременны. – Разве вы забыли, что я овдовела много лет назад? Intra murus strictus? Речь идет о суровом наказании, а не о… временном содержании. Казалось, Флорен удивился, что ей была знакома эта подробность, ведь инквизиция ревностно хранила свои секреты, чтобы еще сильнее ошеломить обвиняемых. Эти «узкие стены» были ничем иным, как каменным мешком размером с нишу, темную и сырую, в которой осужденных приковывали цепью к стене. – Мадам… мы же не чудовища! – воскликнул Флорен с наигранным возмущением. – Вам разрешат короткие свидания с вашими прямыми родственниками, по крайней мере, до начала… собственно допроса. «Допрос с пристрастием», – подумала Аньес и заставила себя ответить равнодушным тоном: – Это весьма милосердно с вашей стороны, мессир. Аньес вновь закрыла глаза, чтобы положить конец этому разговору, который имел лишь одну цель: запугать ее. Сердце Аньес было готово выпрыгнуть из груди, и она прилагала нечеловеческие усилия, чтобы обуздать свое учащенное дыхание. Единственное, что помогало ей справиться с ужасом, начинавшим охватывать ее, так это уверенность, что она сумела обезопасить Матильду и Клемана. Прошло полчаса. Флорен так громко крикнул «стой!», что Аньес вздрогнула. – Наша остановка будет короткой, мадам. Не хотите ли вы ею воспользоваться, чтобы размять члены? Аньес колебалась лишь секунду. Несмотря на свое желание не уступать, она нуждалась в нескольких минутах, чтобы привести себя в порядок. – Охотно. Никола проворно спрыгнул на землю, но не протянул руку, чтобы помочь Аньес выйти из фургона. Один из стражников бросился к нему с полотняным мешком. Несомненно, там хранились еда и вода. Инквизитор посмотрел на Аньес и спросил: – Не желаете ли вы, мадам, отойти в сторонку? Аньес подавила вздох облегчения и согласилась: – Конечно, мсье инквизитор. – Я думаю, все мы в этом нуждаемся. Эй, ты, проводи мадам. К ней подошел здоровенный, похожий на животное детина с плоским лицом. Аньес чуть было не передумала и не сказала, что она предпочитает подождать до Алансона. Но язвительная улыбка Флорена разубедила ее в этом. К тому же она уже течение нескольких часов ощущала тяжесть внизу живота Аньес заметила рощицу из густого кустарника и направилась к ней. Детина следовал за ней по пятам. Наконец, скрывшись от взглядов других, она стала ждать, когда мужчина отвернется. Но он не спускал с нее глаз. Едва она приподняла платье, как на его влажных губах заиграла похотливая улыбка. Ярость заставила Аньес забыть о смущении. Она села на корточки, глядя своему провожатому прямо в глаза. Улыбка погасла, и мужчина опустил веки. Эта крошечная победа придала молодой женщине уверенность. Это был знак: она может победить. Аньес сразу же поднялась в громоздкий фургон, не желая оставаться на свежем воздухе. Через приоткрытую дверь она вдыхала пряный аромат трав и умиротворяющий сырой запах леса. Флорен, устраиваясь напротив Аньес, внимательно посмотрел на низ ее платья. Аньес удержалась от комментария, готового сорваться с ее губ. Нет, она не обмочила платье. Она задрала его, а если стражник увидел ее икру, или колено, или что-нибудь еще, ну и на здоровье! Теперь она была выше этих смехотворных обид, которые в другое время и в другом месте показались бы ей неслыханными оскорблениями. Когда они наконец приехали в Алансон, во рту Аньес пересохло от жажды. Фургон запрыгал по неровным камням, которыми был вымощен двор Дома инквизиции. Слащавым голосом Флорен произнес: – Вот мы и приехали, мадам. Долгое путешествие наверняка утомило вас. Я немедленно проведу вас в… вашу резиденцию, в которой вам предстоит провести много недель. Аньес нисколько не сомневалась в намерениях Флорена. Он хотел увидеть, как исказится ее лицо, и она приготовилась к худшему. Во всяком случае, она так думала. Несмотря на окружавшую их темноту, инквизитор уверенно направился к ступенькам, которые вели к тяжелой двери, укрепленной перекладинами. Она шла, чувствуя за своей спиной двух стражников, следовавших в трех шагах за ней. В помещении царил ледяной холод. Флорен приказал зажечь несколько свечей. Аньес подумала, что в их мерцающем свете Флорен был похож на прекрасное, но злотворное видение. – Идемте же, – поторопил он ее тоном, в котором уже чувствовалось волнение. Они прошли через зал с низким потолком, в котором из мебели были только большой почерневший деревянный стол и скамьи, стоявшие по бокам. Флорен направился к двери в правой стене большой комнаты. Рядом с Аньес неожиданно появился очень молодой человек. Флорен заявил нежным голосом, внушавшим тревогу: – Аньян… Мне кажется, что ты выглядишь сонным. Я не могу поверить, что ты отдыхал, пока я трудился в поте лица ради величайшей славы Церкви. Никола выделил Аньяна из других клириков и сделал своим секретарем. Его полностью удовлетворяла лишенная всякой привлекательности внешность молодого человека. Уродство – что за великолепная несправедливость! Аньян был кротким и приветливым, честным и набожным существом, но эти маленькие, близко посаженные глаза, узкий длинный нос, выступающий подбородок, который его обезображивал, внушали недоверие каждому, кто смотрел на молодого человека. И напротив, кто мог бы подумать, что за высоким изящным силуэтом Никола, его нежными, чуть раскосыми глазами, пухлым ртом скрывалась душа, гнусное коварство которой могло бы заставить вздрогнуть от ужаса даже светских палачей? Аньян удовлетворял Никола еще и потому, что инквизитор без особого труда внушал своему секретарю страх. – Конечно, нет, мессир инквизитор. Я сверял различные фрагменты будущего процесса, чтобы вы преуспели в выполнении своей задачи, – оправдывался секретарь неуверенным голосом. – Хорошо. Не оборачиваясь, Никола добавил, показывая рукой на Аньес: – К нам прибыла мадам де Суарси. Аньян бросил робкий взгляд на молодую женщину и тут же опустил голову. Тем не менее Аньес могла бы поклясться, что в глазах секретаря промелькнула тень сочувствия. – Ладно, иди… Продолжай помогать мне продвигаться вперед. Секретарь поклонился, пробормотав что-то неразборчивое, и исчез под шуршание своей рясы из грубой шерстяной ткани унылого цвета. Один из вооруженных стражников поспешил открыть низкую дверь. Каменная винтовая лестница утопала в густом мраке. Стражник начал спускаться первым, освещая им ступеньки. Едкий запах плесени все сильнее бил Аньес в нос, по мере того как они спускались все ниже в подвал. Вскоре к этому запаху прибавились и другие: пота и экскрементов, гноя и тухлятины. Лестница упиралась в утоптанную землю, становившуюся вязкой при первых разливах Сарты. Аньес дышала через рот, в надежде подавить тошноту, подступавшую к горлу. Флорен весело заявил: – К этому привыкают. Через несколько дней вонь становится такой привычной, что ее больше никто не замечает. Подземелье казалось огромным. Аньес даже подумала, что своими размерами оно превосходит Дом инквизиции. Опорные столбы были соединены друг с другом решетками, разграничивая таким образом камеры. Они шли вдоль этих маленьких клеток, в которых человек не мог стоять. Порой мерцание свечи, которую держал в руке Флорен, ненадолго выхватывало из мрака неподвижного человека, забившегося в угол, возможно, спящего, возможно, мертвого. – У нас мало опыта в обращении с дамами вашего ранга, – сыронизировал Флорен. – Тем не менее хоть я и монах, но все же остался светским человеком. Мы выбрали для вас одну из тайных камер. Такой выбор был сделан вовсе не из куртуазности, Аньес в этом не сомневалась. Флорен хотел лишить ее любого общения, даже с другими заключенными, которые, разумеется, находились не в том положении, чтобы ободрять ее. Впервые у нее возник вопрос, не боялся ли он ее? Что за глупость! Чего он мог опасаться с ее стороны? Пол плавно клонился вниз. Они прошли под сводами, мимо камер и содержавшихся в них несчастных, запуганных жестоким обращением созданий. Теперь туфли Аньес вязли в густом иле. Несомненно, они приближались к реке. От нездорового влажного холода Аньес дрожала. Мысль о том, что она вскоре окажется одна среди этого зловония, поколебала ее волю, ее желание ни за что не выдавать своего страха. Как это странно! Злодейское присутствие Флорена начало казаться Аньес более предпочтительным, чем пустота, населенная ожидавшими ее ужасами. Вдруг что-то липкое зацепилось за ее щиколотку, и Аньес закричала. Стражник бросился вперед и наступил своим башмаком с деревянной подошвой на руку… Да, это было окровавленной рукой, висевшей между прутьев одной из клеток. Раздался стон. Шепот перешел в рыдание: – Мадам… из этого места нельзя спастись. Умирайте, мадам, умирайте быстрее. – Что за ребячество, – рассердился Флорен. Потом тоном, ставшим игривым, он посоветовал человеку различить которого можно было лишь по силуэту, прижавшемуся к решетке: – Молись… но молись молча, у нас уже уши болят от твоих криков! Аньес застыла неподвижно в двух шагах от клетки, вглядываясь в сумерки, которые не могли разогнать свечи. Были ли это глаза, эти две синие дыры в том, что едва походило на красноватую физиономию? Была ли эта живая рана ртом? – Боже мой… – простонала Аньес. – Он покинул нас, – раздался в ответ шепот, полный страданий. – Богохульство! – рявкнул Флорен, волоча Аньес за рукав ее манто. – И этот негодяй еще клялся в своей невиновности! Еще несколько метров, потом такая низкая дверь, что пройти через нее можно было, лишь согнувшись почти до земли. В двери не было потайного окошечка. Один из стражников открыл замок и тут же исчез. Инквизитор обогнал Аньес и веселым тоном провозгласил: – Ваши покои, мадам. А потом добавил голосом, полным нежной печали: – Верьте мне, дочь моя, ничто не может сравниться с полной тишиной, когда необходимо привести мысли в порядок. Здесь у вас будет время подумать, исправиться, я очень на это надеюсь. Больше всего на свете я хочу помочь вам достичь света нашего Господа. Я отдал бы свою жизнь ради спасения вашей заблудшей души. Хлопнула дверь, заскрипел замок. Аньес осталась одна в кромешной тьме. Она медленно пошла вперед, осторожно передвигая ноги, в направлении скамьи, которую она успела заметить. Едва ее нога коснулась скамьи, как она рухнула на нее. Аньес охватила паника. Она боролась с желанием закричать, бросится к двери и застучать в нее кулаками, умоляя чтобы за ней пришли. Вдруг они притворятся, что забыли про нее? Вдруг ее оставят умирать от жажды и голода? Вдруг они будут ждать до тех пор, пока она не сойдет с ума, чтобы заявить, будто она была одержима бесами? Этот человек, который схватил ее за щиколотку и заклинал умереть как можно быстрее! Он знал. Он знал, что годы предварительного заключения могли длиться вечно под тем предлогом, что в ходе расследования возникли новые трудности. Он познал лишения, унижения, пытки, продолжавшиеся неделями. Он познал страх и уверенность, что из рук инквизиции практически невозможно вырваться. Замолчи! Он ждет, что ты отречешься. Он ждет, что ты позволишь своей жизни вытечь из тебя. Сопротивляйся, это приказ! Баронесса де Ларне, мадам Клеманс сумела бы гордо держать голову. Гордо держи голову! Если ты признаешься, ты будешь гнить здесь до тех пор, пока за тобой не придет смерть, а Матильда и Клеман последуют за тобой. Он поведет дело так, что объявит тебя вероотступницей, а, по их мнению, это самое тяжкое преступление. Не забывай: у него нет ни капли жалости. Благодать не снизойдет на него, он этого не хочет. Сопротивляйся. Увещевая себя, она вдруг прониклась ошеломляющей уверенностью: Флорен забавлялся. Какой бы нелепой ни казалась эта мысль, но Флореном двигали не алчность и, уж конечно, не вера. Им двигало желание мучить. Он любил рвать, бичевать, вспарывать плоть. Он любил заставлять своих жертв вопить от нечеловеческих страданий. Она была его новой игрушкой. Аньес почувствовала во рту привкус желчи. Ее сотрясали рыдания. Клеманс… Клеманс, ангел мой, благослови меня чудом! Удостой меня чуда! Сопротивляйся!Замок Отон-дю-Перш, сентябрь 1304 года
Жозеф старался не выдавать своего удовлетворения. Юный Клеман учился с удивительной легкостью и демонстрировал свой восторг так естественно, что старый еврей, врач Артюса д'Отона, был польщен. Тем не менее ребенку пришлось убеждать, а графу – настаивать, прежде чем Жозеф согласился учить Клемана. Мысль, что ему предстоит объяснять, вбивать красоту науки в эту юную голову, заранее утомляла Жозефа. Но вскоре врач был поражен обширными знаниями ребенка, приобретенными им ранее. Он даже выходил из себя, заставляя его замолчать, когда Клеман говорил о медицинских истинах, известных очень узкому кругу ученых, поскольку о них было лучше не упоминать, чтобы не подвергать себя преследованию со стороны Церкви. – А почему надо лгать, если знаешь истину, столь прекрасную, что она могла бы избавить от страданий и смерти? – Потому что знание – это власть, дитя мое, а те, кто владеет знаниями, не собираются ими делиться. – Они всегда будут обладать знаниями? – Нет. Видишь ли, знания сродни воде. Даже если ты сожмешь пальцы настолько сильно, насколько сможешь, вода все равно утечет капля по капле. Прошло несколько недель. Жозефа подкупал этот живой ум, а возможно, и желание, надежда передать те огромные знания, которые, как он боялся, могли исчезнуть вместе с ним. Почему он покинул Болонью, свой знаменитый университет? Жозеф был достаточно честен, чтобы признать: на такой шаг его толкнуло своего рода высокомерие. Салерно и Болонья были инициаторами перевода трудов великих греческих, иудейских и арабских врачей. Несмотря на огромный приток знаний, когда эти ставшие наконец понятными произведения сделались доступными многим, остальной Запад упорно цеплялся за практику, опиравшуюся скорее на суеверия, чем на науку. Постепенно Жозеф проникся убеждением, что он был посланцем этой революции в медицине. Но он заблуждался. Жозеф приехал в Париж в 1289 году. Он думал, что его искусство, желание использовать это искусство для всеобщего блага спасет его от антисемитизма, свирепствовавшего во Франции. Он вновь заблуждался. Через год дело еврея Джонатана,[98] обвиненного в том, что он плюнул на освященную облатку – хотя так называемые свидетели преступления не смогли уточнить условия, при которых произошло это безобразие, – разожгло костры. Евреи опять стали врагами веры, такими же, как и катары. К унижению на улицах, к дискриминационным мерам, принятым властями, добавился страх быть забитыми камнями враждебно настроенной толпой, готовой растерзать евреев на части и при этом остаться безнаказанной. Бросив все свое имущество, Жозеф вместе с другими евреями пустился по дорогам изгнания. Он думал добраться до веротерпимого Прованса, где его единоверцы наслаждались спокойствием, которое, как они считали – совершенно ошибочно, – установилось надолго. Но сказался возраст. Жозеф закончил свой путь в Перше. На несколько лет он нашел приют в небольшом селении недалеко от Отон-дю-Перш. Он старался держаться как можно скромнее и лечил – не используя все свои знания из боязни вызвать подозрения – настолько лучше местных знахарей и врачей, что слава о нем достигла графского замка. Артюс потребовал его к себе. Жозеф не без боязни подчинился. Молчаливый, измученный высокий мужчина, стоявший перед ним, несколько минут рассматривал Жозефа. А потом сказал: – Несколько месяцев назад умер мой единственный сын. Смогли бы вы его вылечить, мессир врач? – Не знаю, монсеньор, поскольку я не знаю, какими были симптомы болезни, которой он страдал, хотя мне говорили о вашей ужасной потере. – Слезы выступили на глазах старого врача. Покачивая головой, он шептал: – Ах, малыши, малыши… Они не должны умирать раньше нас. – И тем не менее… Он был хрупкого телосложения, как и его мать. Она часто болела, ее лихорадило, у нее была бледная кожа, а из самой крошечной ранки обильно текла кровь. Она часто жаловалась на усталость, головные боли, необъяснимые боли в костях. – Он был зябким? – До такой степени, что его комнату отапливали до самого лета. Артюс немного помолчал, а потом сказал: – Как случилось, что еврей выбрал для своей практики наш край? Вместо ответа Жозеф покачал головой. Артюс продолжал: – В настоящее время быть евреем – это очень опасно во Французском королевстве. – Это опасно уже давно и во многих королевствах, – поправил графа врач с невеселой улыбкой. – Вместе с арабами вы считаетесь лучшими врачами в мире. Вы оправдываете эту репутацию? – Судить об этом должны мои пациенты. Артюс, которого после смерти Гозлена ни на мгновение не покидала печаль, позволил себе каламбур, который долгие месяцы траура и страданий сделали немного вымученным: – Если они это засвидетельствуют, значит, вы их вылечили, что гораздо лучше результатов, которых удается добиться нашим врачам. Наконец Артюс решил задать вопрос, который давно его мучил. Дрожащим голосом граф сказал: – Мой врач охотно прибегал к кровопусканиям. Они внушали мне беспокойство, но он казался таким уверенным. – Ах… до чего же они любят пускать кровь! При болезни вашего сына кровопускания абсолютно бессмысленны. Если судить по вашему описанию, мальчик все равно умер бы. – Как вы думаете, какой болезнью он страдал? – Слабостью крови, которая часто встречается у маленьких детей и стариков, которым перевалило за шестьдесят. Не исключено, что эта же самая болезнь, но в менее выраженной форме, унесла мадам вашу супругу. Это неизлечимая болезнь. Как ни странно, но. подобный диагноз немного утолил глубокую печаль графа. Значит, причина смерти Гозлена заключалась не в ошибках врачей, а следовательно, его собственных, но в злом роке, противостоять которому никому не под силу. Затем Жозеф нашел пристанище в замке. Библиотека и полная свобода, предоставленная Жозефу графом, а также его влияние помогли старому врачу вновь обрести уверенность. Постепенно признательность сменилась уважением, поскольку Артюс д'Отон не принадлежал к числу тех болтунов, которые обещают, но ничего не делают. Так, в одном из разговоров Артюс заметил: – Если положение ваших единоверцев станет еще более серьезным, а у меня есть основания этого опасаться, мне придется попросить вас формально перейти в нашу веру. Мой каноник проследит за этим. В том случае, если вы сочтете это гнусностью, помните, что Карл II Анжуйский, брат короля Филиппа, который столь же сурово относится к вашему народу в Анжу, проводит более великодушную политику в принадлежащих ему Прованском графстве и Неаполитанском королевстве. Он осторожный, но здравомыслящийчеловек: евреи обогащают его. Мне кажется, что Неаполь расположен достаточно далеко, чтобы стать для вас надежным укрытием. Я помогу вам добраться до него. По взгляду темных глаз, пристально смотревших на него, Жозеф понял, что этот человек не откажется от своего слова, чего бы это ему ни стоило. Жозеф помогал справляться с мелкими неприятностями обитателям замка – поскольку сам граф был наделен здоровьем, способным привести в отчаяние любого врача, пожелавшего продемонстрировать свое искусство, – и лечил крестьян Артюса от более серьезных болезней, большинство которых было вызвано лишениями и несоблюдением гигиены. Старый врач перестал задавать себе вопросы о противоречивой натуре человека, уверовав, что эта проблема неразрешима. Пациенты Жозефа выражали ему благодарность, делая маленькие подарки и низко кланяясь на улице. Они принимали его за ученого – или даже за могущественного мага, – выписанного из Италии хозяином ради их блага. Дети бегали за Жозефом и цеплялись за его платье, словно за талисман. Женщины робко останавливали его и шептали на ухо, как шло выздоровление или как протекала беременность, совали в руки корзинки с яйцами, бутылки с сидром или хлеб, испеченный на молоке и меду. Мужчины обнажали руки или ноги, дабы Жозеф мог убедиться, что язвы, которые он лечил, окончательно прошли. Теперь Жозеф не пытался понять по этим улыбкам, неловким фразам и лицам, кто мог бы выдать его светским властям, если бы узнал, что он еврей. Жозеф подошел к высокому аналою, на котором лежал латинский перевод. Клеман, открыв рот от изумления, буквально пожирал глазами текст. – Что за книга вызвала у тебя столь сильное удивление? – Этот трактат о мошенничестве в фармацевтике, мэтр. – А, трактат, написанный аш-Шайзари два столетия тому назад. – Понимаете, чтобы увеличить свои барыши, аптекари разбавляли египетский опиум соком чистотела или соком листьев дикого латука и даже арабской камедью. Чтобы это выявить, надо растворить полученный таким образом порошок в воде. Чистотел придает воде запах шафрана, латук – едва заметный пресный запах, а что касается арабской камеди, то она делает жидкость очень горькой. – Мошенничество существовало во все времена, и я сомневаюсь, что с ним когда-нибудь покончат. Столько денег зарабатывают нечестным путем! Хороший врач или хороший аптекарь должен уметь распознавать мошенничество, чтобы быть уверенным в эффективности лекарства, прописанного больному. Клеман поднял голову. Он больше не мог сдерживаться и задал вопрос, который вертелся у него на языке с момента знакомства с Жозефом: – Мэтр… Ваша наука такая обширная, такая многогранная… Вам знаком ученый по имени Валломброзо? Жозеф нахмурил свои густые седые брови и ответил: – Валломброзо – это не человек, а итальянский монастырь. Я слышал, что там ведутся исследования в области математики и астрономии, не говоря уже о том, что его монахи весьма сведущи в медицине. – А… По лицу ребенка было видно, что он глубоко разочарован. Как теперь он сумеет понять смысл выкладок, записанных в толстом дневнике? – Почему тебя это интересует? – Потому… – пролепетал Клеман. – Это настолько серьезно? – продолжал мягко настаивать Жозеф. – Э-э… потому… я прочитал… где-то… только не подумайте, что я верю всему этому вздору, но… Валломброзо был упомянут в одной из теорий, согласно которой Земля не застыла неподвижно на небе… Старый врач смертельно побледнел и тоном, не терпящим возражений, приказал: – Замолчи! И чтобы больше никто не слышал от тебя таких слов. Жозеф с беспокойством посмотрел вокруг. Кроме них в огромном светлом зале, превращавшемся зимой в настоящий ледник, никого не было. Подойдя ближе к ребенку, Жозеф наклонился и прошептал ему на ухо: – Еще не пробил час. Люди еще не готовы услышать правду и согласиться с ней… Земля вовсе не застыла неподвижно. Она вращается вокруг собственной оси, и поэтому день и ночь сменяют друг друга. Она также вращается вокруг Солнца, всегда по одной и той же траектории, порождая смену времен года. Это было настолько логично, что Клеман остался стоять с открытым ртом. – Это тайна, понимаешь, Клеман? Она может стоить нам жизни, если кто-нибудь узнает, что мы владеем ею. Ребенок часто закивал головой, а затем прошептал: – Но тогда астрологи ошибаются? – Все без исключения. Тем более есть весомые основания полагать, что существуют другие звезды, пока еще не известные нам. Именно по этой самой причине ты не должен доверять астрологической медицине в том виде, в каком ее повсеместно практикуют. – Жозеф выдержал короткую паузу, а затем сказал: – Теперь моя очередь требовать, чтобы ты открыл тайну… девочка. Клеман с трудом проглотил слюну. – Поскольку ты девочка, не так ли? – на одном дыхании произнес Жозеф. И вновь Клеман только и смог кивнуть головой в ответ: – Тебе скоро исполнится одиннадцать лет… Тебе говорили о… о физиологических особенностях, свойственных прекрасному полу? – Я не знаю… У меня никогда не будет бороды… и существует главная анатомическая разница, позволяющая отличать девочку от мальчика. – Именно этого я и боялся… Ну что же, начнем с этого… космогония может подождать! Но паника уже вытеснила, изумление. Со слезами на глазах Клеман умолял Жозефа еле слышным голосом: – Об этом никто не должен узнать, мэтр! Никто. – Я это понял. Не беспокойся. Отныне нас связывает не только неистребимая тяга к знаниям, но и опасные тайны. Насторожившись, они одновременно повернулись лицом к открывавшейся двери. Ронан сделал несколько шагов и извинился: – Надеюсь, я не прервал какой-нибудь ваш опыт, мессир врач? – Нет. Мы как раз закончили одну демонстрацию. – Монсеньор Артюс требует к себе молодого Клемана. – Что же, мальчик мой, иди. Граф хочет тебя видеть. Не заставляй его ждать. – Спасибо, мэтр. – Ты вернешься сразу же, как только наш сеньор пожелает этого. Сегодня мы еще не закончили. – Хорошо, мессир. Граф работал в библиотеке-ротонде, которую он так любил. Едва Клеман вошел, как Артюс оторвался от книг учета и дружеским жестом отпустил Ронана. – Черт возьми… эта работа управляющего портит мне настроение, – пробормотал он. – Тем не менее я должен испытывать удовлетворение и признательность: мы сумели избежать худшего, собран хороший урожай, да и отел лучше, чем в прошлом году. Граф закончил строчку. Клеман заметил, что Артюс писал изящной скорописью.[99] Клеман сразу же вспомнил о размашистом почерке в дневнике. Речь шла о ротунде, письме, предназначенном для научных, юридических и теологических трактатов, – одним словом, для знаний, передаваемых на латыни. Если этот почерк принадлежал рыцарю де Риу, как он все время думал, значит, рыцарь был одним из теологов своего ордена? Но как эта деталь могла помочь Клеману? Он не знал, однако инстинктивно чувствовал важность своего открытия. Граф положил перо на красивую серебряную чернильницу в форме корабля, стоящую напротив. И без того мрачное лицо графа исказилось, и ребенка обуял страх. Что это за новость, которую граф так долго не решался ему сообщить? Срывающимся голосом, полным печали, которую он без особого успеха пытался обуздать, граф вымолвил: – Мадам де Суарси прибыла в Дом инквизиции в Алансоне. Ее держат intra mums strictus. Клеман прислонился к книжному шкафу. У него перехватило дыхание. Ему казалось, что он дрожит всем телом, с ног до головы. Но возможно, у него просто разыгралось воображение. Твердая рука схватила Клемана за рубашку, когда он почувствовал, что падает. Очнувшись, Клеман увидел, что сидит, сам не зная почему, в одном из небольших кресел, стоявших вдоль стен комнаты. – Извините, монсеньор, – пробормотал Клеман, понемногу приходя в себя. – Нет, это ты извини меня. Я привык жить среди мужчин и крестьян, и поэтому, боюсь, мне не хватает учтивости и дипломатии. Клеман хотел было встать, но граф посоветовал ему: – Сиди. Ты еще слишком юн, мой мальчик… Тем не менее тебе известно, что некоторым приходится прощаться с детством раньше других. Прошу тебя, подумай и хорошенько поройся в своей памяти. Это жизненно важно. Ты мне говорил, что этот негодяй Эд де Ларне и его подручная служанка стоят за кознями, позволившими инквизиции арестовать мадам Аньес. Будто она приютила еретичку, сама того не зная, эту… – Сивиллу. – Верно. Клеман прикусил губу и неожиданно признался: – Это моя мать. Граф внимательно посмотрел на ребенка, а потом сказал: – Вот, значит, почему мадам Аньес так настойчиво хотела удалить тебя из своего окружения. Неуместная нежность вкралась в страх, который Артюс испытывал уже несколько дней. Он знал многих мужчин. Солдат, которые без малейших колебаний отдали бы ребенка в руки инквизиции, лишь бы избавить себя от опасного судебного процесса. Но она, женщина, у которой – как он думал – не было никакой опоры, бросила инквизиции вызов. Она не могла не знать о той яростной борьбе, которая происходила в умах монахов. Разрываясь между плотскими желаниями и своими обетами, монахи боялись или ненавидели женщин и их красоту. Они охотно приписывали дьяволу слабость, которую чувствовали в присутствии женщин, тем самым признавая себя невиновными. А раз это так, то Флорен уж конечно не станет утруждать себя воздержанием. Артюс понимал это. Но ненависть к женщинам, желание иметь над ними пагубную власть – все это было тесным образом связано с плотью. В душе графа боролись два чувства: отвращение и ярость. С тех пор как Артюс увидел, как Аньес собирала мед и успокаивала медовых мух, он каждое утро грезил об ее длинной бледной шее. Он хотел вдыхать ее аромат, прижиматься к ней своими губами. Он грезил о длинных изящных руках, державших вожжи с грациозной твердостью, твердостью настоящих всадников. Он видел, как они скользили по его животу, обвивались вокруг его пояса. Это видение стало столь четким, а также столь неуместным, что он прогнал его. Однако Артюс был уверен, что видение вновь вернется, едва его воля ослабеет. – В письме, которое ты привез с собой, мадам де Суарси упоминала о тайном влиянии, гораздо более могущественном, чем влияние ее коварного сводного брата. – Да, именно к такому выводу мы пришли, монсеньор. Эд де Ларне мог заплатить инквизитору. Однако он не мог гарантировать ему влиятельной поддержки. Влияние Эда де Ларне ограничивается его вотчиной, а она намного меньше вашей. Значит, вмешался кто-то другой, тот, кто укрепил позиции Никола Флорена. Артюс подошел к одному из окон, в которые были вставлены маленькие квадратики редкого в то время стекла, скрепленные между собой свинцом. Заложив руки за спину, он смотрел на свой сад, который осень окрасила в рыжие и охровые цвета. На небольшом расстоянии от окна пара лебедей плавно скользила по водной глади пруда. Столь элегантные в своей стихии, они, едва ступив на землю, становились такими неуклюжими! Однажды он подведет ее к ним, поддерживая под руку. Он познакомит ее с несговорчивыми лебедями, высокомерными павлинами и ланями-альбиносами, которые будут следить за ними своими огромными бархатистыми глазами. Однажды он скажет ей: «Я люблю бродить среди этих запахов, смотреть на эти чудесные цветы»,[100] а она ему ответит, вкладывая всю свою душу, всю свою нежность в слова из произведения мсье Кретьена де Труа*: «Я подвергла вас испытанию. Не стоит больше грустить, поскольку я люблю вас еще сильнее, так же сильно, как вы любите меня, я это знаю». Однажды. Скоро. Избавиться от Флорена. Убить его, если в том возникнет необходимость. Артюс удивился, услышав, как отвечает ребенку, словно речь шла о собеседнике, равном ему по возрасту: – Флорену известно, что с королем Франции меня связывают узы дружбы и привязанности, возникшие еще в детстве. Значит, его наглость, его… неприкосновенность можно объяснить лишь поддержкой Рима. Добавь к этому, что у нас сейчас нет Папы и что мы не знаем, кто станет преемником Бенедикта. Видимо, Флорена поддерживает человек, пользующийся в Ватикане огромным влиянием, но не понтифик. Этому не следует удивляться. Покойный Бенедикт был милосердным человеком, реформатором. Он мог бы повести нашу историю по пути сострадания и великодушия. Но они не дали ему времени. Восемь месяцев правления… Я уверен, они постарались, чтобы его правление оказалось коротким. Видишь ли… Я чувствую, что враги Папы – это наши враги. – Но кто? – спросил Клеман. – Мы отыщем нашего врага, мой мальчик, клянусь тебе. А теперь оставь меня.Командорство тамплиеров Арвиля, Перш-Гуэ, октябрь 1304 года
Расположенное в самом центре древнего края карнутов,[101] на дороге, ведущей в Сантьяго-де-Компостела, командорство тамплиеров Арвиля было создано в числе первых благодаря щедрости сеньора де Мондубло, Жоффруа III, который подарил рыцарям Храма тысячу гектаров лесных угодий. В 1130 году здесь обосновались несколько рыцарей, которых сопровождали конюшие и братья-ремесленники.[102] Командорство выполняло триединую задачу. Оно не только было сельскохозяйственной вотчиной, поставлявшей мясо, зерно, лес и лошадей крестоносцам, стремившимся отвоевать Святую землю, но и служило вербовочным пунктом и центром военной подготовки тамплиеров, ожидавших возможности отправиться в крестовый поход. Кроме того, командорство восстановило в треугольнике, образуемом Арвилем, Сент-Ажилем и Уаньи, религиозную жизнь, исчезнувшую здесь после того, как римские завоеватели стерли с лица земли этот некогда процветавший галльский город. Вскоре дары в виде лесов, плодородных земель, рощ и привилегии владеть публичными печами и заниматься торговлей посыпались как из рога изобилия. Виконты Шатоденские, графы Шартрские, и де Блуа, и даже графы Неверские настолько щедро одаривали командорство, что оно превратилось в одно из самых богатых командорств Франции. В 1205 году растущее беспокойство вынудило сеньоров де Мондубло, виконтов Шатоденских, отказаться от своей былой щедрости. Могущество и богатство рыцарей стали внушать им опасения. Отношения обострились до такой степени, что Папа Гонорий III в 1216 году отлучил от Церкви графа Жоффруа IV, который хотел запретить тамплиерам Арвиля проезжать через территорию сеньории Мондубло, владеть публичной печью, привозить на рынки товары для продажи и собирать папоротник, идущий на корм их скоту. После короткого бунта Жоффруа IV подчинился приказаниям Папы. Деятельность командорства способствовала росту населения, поскольку рыцари-тамплиеры предлагали хлеб и небольшие феоды[103] в обмен на скромный чинш[104] и услуги. В 1304 году вокруг мощной крепостной стены обитало семьсот душ. Солнце стояло уже высоко, когда Франческо де Леоне выехал из леса Мондубло, бывшего продолжением леса Монмирай. Старая кобыла, которую он нанял в Ферте-Бернар, шла медленным шагом. В своей жизни бедному животному приходилось таскать такую тяжелую поклажу, что у рыцаря не хватало духу пришпорить его и пустить в галоп. Желудок Леоне, пустой с самого раннего утра, давал о себе знать участившимися спазмами. А ведь незадолго до тайного отъезда Леоне из аббатства Клэре его тетушка, Элевсия де Бофор, дала ему мешок с провизией. Однако Леоне раз и навсегда запретил себе произносить слово «голод», соблюдая правила приличия и помня о губительных последствиях настоящего голода. Он не сомневался, что в командорстве его накормят. Это было выражением христианской любви к ближнему, пренебрегать которой не имел права ни один монах-воин, несмотря на сложные – если не сказать конфликтные – отношения между Гостеприимным орденом и орденом Храма. Конечно, Леоне не мог рассчитывать на помощь тамплиеров, чтобы продвинуться в своих поисках, не дававших ему покоя столько лет, поисках, которые по него велись в подземельях Акры, непосредственно до кровавого падения, ознаменовавшего собой конец христианского Востока. Предчувствуя неизбежную резню, рыцарь-тамплиер отдал Эсташу де Риу, крестному отцу Леоне по ордену, дневник, содержащий в себе размышления о годах исканий, вопросы, непостижимые тайны. Прежде чем выйти наверх, где уже шла кровавая бойня, рыцарь упомянул о свитке папируса, одном из священных текстов человечества, написанном на арамейском языке, уточнив, что теперь он спрятан в надежном месте, в одном из командорств тамплиеров. Командор Арвиля ни за что не должен был догадаться об истинных мотивах Леоне. Что касается гостеприимства, которое тот окажет Леоне, рыцарь не сомневался, что оно будет коротким и сдержанным. Еще до начала путешествия Франческо де Леоне предвидел, что его попытка может окончиться провалом. Тщетная надежда не объясняла его упорного стремления все же предпринять ее. Он хотел осмотреться на месте, уверенный, что, попав в церковь, он почувствует присутствие тайны, ключа, спрятанного там. Возможно, это все-таки папирус. Леоне поднимался по булыжной дороге, ведущей к крепостной стене, защищавшей другие сооружения. Подъемный мост возле ворот был опущен надо рвом, прорытым вдоль стены. Вода в ров поступала из Коэтрона, речки, которая протекла по соседству. Слева находились конюшни. Говорили, что в них могли содержаться одновременно более пятидесяти лошадей. Затем лошадей стреноживали, грузили на уссарии[105] и везли в Святую землю. За конюшнями были разбиты огороды, овощной и аптекарский, снабжавшие сообщество тамплиеров овощами и большинством лекарственных средств. Стоявшее справа от ворот скромное здание, зажатое между церковью и службами, с несколькими узкими бойницами вместо окон, по всей видимости, было домом praeceptot.[106] Чуть дальше возвышалась круглая сторожевая башня из черноватого известняка, природного материала с вкраплениями кремня, кварца, глины и железа. Она была построена для защиты церкви. Храм Пресвятой Богородицы – освященный под этим названием, чтобы напоминать о почитании Матери Божьей тамплиерами, – примыкал снаружи к крепостной стене. Это было сделано для того, чтобы сельские жители могли присутствовать на церковных службах, не проходя через командорство, а следовательно, не нарушая затворничества монахов-тамплиеров. Другая, не столь большая дверь позволяла братьям проникать в боковые приделы, не выходя за крепостную стену. Двухуровневую колокольню поддерживала угловая арка с тремя круглыми аркадами, символизировавшими Троицу. В центре командорства стоял большой амбар, в котором хранился урожай, собранный на окрестных полях и уплаченный в виде церковной десятины. Эти богатства охраняла другая, толстая круглая сторожевая башня, возвышавшаяся сзади. Расположенная недалеко публичная печь – причина вечной досады – дерзко бросала вызов виконтам Шатоденским. Леоне направился к зданию, которое, по его мнению, было жилищем командора. Его черный плащ с восьмиконечным белым крестом сразу обратил на себя внимание. Молодой конюх поднял голову и тотчас побледнел, словно увидел привидение. Он крутил головой во все стороны, ища подмогу, и у Леоне возник вопрос, не собирался ли юноша дать стрекача. Лицо Леоне озарила печальная улыбка: они столько раз сражались бок о бок, помогали друг другу, жертвовали собой, чтобы спасти товарища, не обращая внимания на цвет его креста. Тысячи тамплиеров и госпитальеров погибли в сражениях, которые вели сообща, а их кровь смешалась, прежде чем пропитать чужую землю. Почему же потом мир заставил их забыть о братстве в дни резни и бойни? Леоне окликнул молодого человека: – Прошу тебя, проведи меня к Аршамбо д'Арвилю, вашему командору. – Дело в том… мессир… – пролепетал юноша. Сочувствуя его затруднению, Леоне уточнил: – Скажи, что приехал Франческо де Леоне, рыцарь по справедливости и по заслугам ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Иди. Моя лошадь и я, мы изнемогаем от усталости. Конюх мгновенно исчез. Франческо спешился. Прошло добрых полчаса, во время которых Леоне постоянно спрашивал себя, согласится ли командор его принять. Несомненно. Учитывая сложившуюся политическую обстановку, выпроводить его было бы слишком опрометчиво. Под портиком появился импозантный статный мужчина в белой накидке с красным крестом с расширяющимися концами и блио.[107] На боку его висел меч, прикрепленный к широкой кожаной перевязи. Аршамбо д'Арвиль подошел к рыцарю. По точеным чертам его лица, обрамленного пышной шевелюрой и седой бородой, было невозможно точно определить возраст. Сорок – сорок пять лет, возможно больше. Когда Леоне представился, губы Аршамбо д'Арвиля расплылись в дежурной улыбке. Рыцарю показалось, что при упоминании его имени в глазах командора зажегся какой-то огонек. Он и в самом деле спросил: – Тот самый Франческо де Леоне, которого хотят видеть столпом языка Италии в вашем ордене? То, что командор-тамплиер был осведомлен о внутренних перестановках в ордене госпитальеров, не удивило Леоне. Каждый рыцарский орден старался тайком добыть сведения о других орденах. Гораздо удивительнее было то, что тамплиер в открытую говорил об этом. – Я считаю себя недостойным такой чести и должности и поэтому отклонил предложение. – Доказав, что вы не только благочестивый и отважный человек, как это всем хорошо известно, но и мудрый. Что привело вас к нам, брат мой? Леоне нашел безобидный предлог, чтобы не вызвать никаких подозрений. Он не мог просить о ночлеге в командорстве тамплиеров и должен был ограничиться кратким визитом. – Необходимость помолиться и… усталость моей лошади, равно как позывы желудка, признаюсь вам. Я направляюсь в Сетон, но не доберусь туда до ночи, – объяснил Леоне. Попался ли Аршамбо д'Арвиль на удочку? Леоне не мог бы в этом поклясться. Тем не менее командор предложил: – Добро пожаловать к нам. Вашей лошадью займутся. А мы же немного подкрепимся. – Я должен уехать до девятого часа*, если хочу найти в Сетоне таверну. Завтра утром мне надо быть в аббатстве. – Значит, ваш визит будет очень кратким. Очень жаль, – сказал командор тоном слишком непринужденным, чтобы быть убедительным. – Но я пренебрегаю своим долгом. Следуйте за мной. Леоне пошел за Аршамбо д'Арвилем в здание, стоявшее справа от ворот. Он правильно угадал, это был дом командора. В большом зале за столом сидели два конюха. Они, склонившись над своими тарелками, быстро ели суп, что свидетельствовало об их желании как можно скорее покинуть общий зал. Рацион тамплиеров, пусть и не слишком разнообразный, все же считался более питательным, чем тот, к которому привыкли рыцари-госпитальеры. В отличие от госпитальеров, орден Храма во все времена был прежде всего военным орденом. Воздержание в пище, которого вначале неукоснительно придерживались его члены, стало не столь строгим, поскольку солдат необходимо хорошо кормить, если хочешь, чтобы они сражались как львы. Брат-ремесленник быстро накрыл на стол. Он поставил перед Леоне стакан с медовухой, а перед Аршамбо д'Арвилем положил толстый ломоть хлеба бедняка,[108] испеченного из суржи – смеси пшеницы и ржи – и ячменя грубого помола. Нарисовав кончиком ножа крест на коричневом ломте, командор преломил его и протянул половину рыцарю-госпитальеру. Они оба возблагодарили Господа за это благо. Затем брат-ремесленник положил на хлеб паштет из шпината с салом и подал говяжий язык, запеченный в кислом виноградном соке. Смутное удивление, которое чувствовал рыцарь с момента своего прибытия, постепенно переросло в тревогу. Казалось, Аршамбо д'Арвиль ничуть не интересовался его приездом, путем следования. Одним словом, он выглядел совершенно равнодушным, в то время как должен был попытаться вытянуть из Франческо сведения, поскольку знал, что тот занимал высокое положение в иерархии ордена госпитальеров. Их трапеза проходила в странном молчании, прерываемом лишь комментариями по поводу блюд, которые им подавали, собранного урожая и будущего крестового похода, впрочем, маловероятного. Аршамбо д'Арвиль согласился с опасениями Леоне, сказав: – Мы вынуждены продавать лошадей на рынках, ведь мы не в состоянии держать в наших конюшнях более пятидесяти животных. Эти разговоры на хозяйственные темы смущали Леоне. За медоточивыми словами вежливости скрывалось нечто другое. Конечно, было бы глупо думать, что командор заранее знал о его визите и поисках. Аршамбо д'Арвиль заметил беспокойство Леоне и сразу же сменил тему разговора, что только усилило тревогу госпитальера. Разыгрывая веселость, Аршамбо д'Арвиль поведал Леоне о своих злоключениях, когда он обустраивался в Перш-Гуэ четыре года назад. Он в подробностях рассказал о своем отъезде из Италии, страны, о которой он до сих пор тосковал, о приезде во Францию, о разболтанности, царившей в командорстве. Ему пришлось делать предупреждения, подвергать ординарным наказаниям, сажать провинившихся на хлеб и воду, налагать двухдневные посты и даже заставлять самых нерадивых есть прямо с земли. Послушать командора, так ему удалось призвать к порядку некоторых братьев, виновных в мелких грехах. Честное слово, все они с радостью встали на путь исправления. Он рассмеялся, рассказывая о сержанте-тамплиере, который до того любил лакомства, что выходил по ночам и запускал руки в бочки с медом. Однажды утром его нашли спящим, перемазанным медом, и, главное, все его тело было усеяно муравьями, так что потом он целых четыре дня ходил распухшим от укусов. Рассказал командор об одном тамплиере, у которого была столь сильная склонность к «божественной бутылочке», что он напивался до первой дневной службы и с трудом стоял, прислонившись к одному из пилонов храма Пресвятой Богоматери, до тех пор, пока не падал, бормоча «Salve, Regina, Mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra»,[109] икая при каждом слове. И о тех, кто порой забывал о своих обязанностях, предпочитая им игорный зал2, обустроенный на большом чердаке конюшен. Леоне вежливо улыбался, стараясь добраться до правды, скрытой под потоком красноречия командора. Что происходит? Несмотря на утреннюю свежесть, Аршамбо д'Арвиль был весь покрыт потом и уже пил третий стакан медовухи. Время шло. Леоне заставил себя отвлечься от вопросов, вертевшихся у него в голове, и учтиво прервал бессмысленный, но бесконечный рассказ Аршамбо д'Арвиля. – Несмотря на удовольствие, которое я испытываю, находясь в вашем обществе, мне придется скоро уехать, брат мой. Я проделал долгий путь и теперь хочу помолиться перед отъездом. – Конечно… несомненно… Но у Леоне появилось чувство, что подобная «несомненность» не обрадовала Аршамбо д'Арвиля. Приближался ли он к своей цели или его вводили в заблуждение впечатления, не имеющие никаких последствий? Леоне показалось, что на мгновение облачко подлинной печали омрачило веселое лицо командора, когда тот предложил: – Я не могу отпустить вас, не попросив отведать нашего сидра. Он славится на весь край. Леоне охотно согласился. Вскоре они вышли из небольшого здания и направились в храм. Они прошли под угловой аркой, которую поддерживали четыре выступающих контрфорса. Церковь, своими строгими формами напоминавшая постройки цистерцианцев, была обыкновенным нефом с четырьмя пролетами, заканчивавшимися полукруглой апсидой. Внутрь свет проникал из четырех высоких круглых окон. Алтарь и ничего больше, ни одной скамьи. Тем не менее, едва Леоне оказался между пилонами, он понял, что добрался до цели. От радостного предвкушения у него закружилась голова, и он с облегчением вздохнул. Казалось, командор неправильно истолковал его состояние и схватил за руку, чтобы поддержать. – Вы очень устали, брат мой. – В самом деле, – солгал Леоне. – Не окажет ли ваша щедрая душа мне последнюю услугу? Мне хотелось бы побыть несколько минут в одиночестве. Затем, заверив вас в своей признательности, я вновь отправлюсь в путь. Тамплиер пожал плечами и вышел на свет, бросив на ходу: – Я прикажу оседлать вашу лошадь. Вы найдете меня возле конюшен. Море. Нежное и теплое море. Колыбель приветливого, умиротворяющего света. Он так сильно жаждал провести рукой по этим черным и коричневым грубым камням, что сейчас едва осмеливался дотронуться до них. Он не станет искать, лихорадочно перебирая в уме возможные варианты. Только не сегодня. Еще не пробил час. Внезапно он почувствовал изнеможение. Ему захотелось лечь на черные широкие плиты и уснуть. Сегодня он позволит себе погрузиться в эту атмосферу, даст ей убаюкать себя. Сегодня он в полной мере использует свою привилегию: быть здесь, поблизости от ключа. Леоне не был уверен в подлинной природе ключа, впрочем, как и Эсташ де Риу. Шла ли речь, как они иногда думали, о своеобразном лабиринте, начертанном на камнях так, что его можно было увидеть только с определенной точки пения? Или о манускрипте, который привез сюда монах или рыцарь после разграбления какой-нибудь библиотеки? Или о папирусе на арамейском языке, купленном у бедуина на иерусалимском базаре, том самом, о котором говорил тамплиер в подземельях Акры? О кресте, статуе, испещренной магическими символами? Шла ли речь только об одном предмете? Не сегодня. Если Леоне задержится, Аршамбо д'Арвиль непременно придет за ним. И все же Леоне обрел то, за чем приехал: уверенность, что поиски необходимо заново начинать в этом месте. Завтра он подумает, под каким предлогом вернуться сюда и остаться надолго. Когда он вышел из церкви, чтобы присоединиться к командору, ему стало холодно от солнечного света. В груди образовалась неприятная пустота. Он подумал, что невыносимая разлука со своей целью опять причиняет ему боль. Аршамбо д'Арвиль ждал Леоне возле конюшен. Молодой брат-ремесленник держал лошадь рыцаря за поводья. По нервозности командора Леоне понял: тот хочет, чтобы он уехал как можно быстрее. Рыцарь вновь поблагодарил его и вскочил в седло.Окрестности командорства тамплиеров Арвиля, лес Мондубло, октябрь 1304 года
Франческо де Леоне не испытывал особого разочарования от встречи, которой он вначале так боялся. Разумеется, странное поведение командора заинтриговало его. К тому же добродушная разговорчивость Аршамбо д'Арвиля не сумела ввести Леоне в заблуждение. Ведь госпитальер никогда не надеялся, что орден Храма добровольно окажет ему помощь, тем более что Аршамбо д'Арвиль не имел ни малейшего представления о ключе – каким бы он ни был, – спрятанном в храме Пресвятой Богородицы, иначе тамплиер ни за что не оставил бы его там одного. Теперь Леоне предстояло определить стратегию, чтобы добиться своей цели: он должен был вновь вернуться в командорство, но уже надолго, и получить свободу действий, чтобы раскрыть тайну. Леоне погладил гриву своей клячи. Животное, не привыкшее к подобным знакам внимания, заржало и вскинуло от страха голову. – Спокойно, моя милая. Мы уезжаем с миром. Неужели обман и притворство, к которым он был вынужден прибегнуть, так утомили его? Он с трудом выпрямился. Кобыла, почувствовав, что он легонько сжал ее ногами, ускорила шаг. Вдруг Франческо де Леоне с удивлением обнаружил, что его окружает лес, на который спускаются сумерки. А ведь ему казалось, что он только что выехал за крепостную стену командорства. Рыцарь был весь в поту и дрожал. От невыносимой жажды язык прилип к небу, а временами у него так кружилась голова, что он терял равновесие. Над ним вращалось небо и верхушки деревьев. Он попытался собраться, крепче ухватившись за вожжи, но в тот момент, когда соскальзывал из седла на землю, понял, что его отравили. Чаша сидра. Он подумал о том, должна ли была эта отрава убить его или просто усыпить. С этой мыслью он улыбнулся и свалился на опавшие листья, устилавшие землю. Аршамбо д'Арвиль спешился в нескольких туазах от того места, где упал Леоне. В нем боролись два чувства – отвращение и страх. Убить брата, человека Бога, который без колебаний рисковал своей жизнью ради их веры, казалось ему невыносимым грехом. Тем не менее у него не было выбора. Будущее командорства, возможно, даже само присутствие их ордена во Франции зависело от этого предательства, которое он никогда не простит себе. Мерзкий человек, нанесший ему визит двумя днями ранее, был предельно краток. Леоне должен был умереть, причем следовало сделать так, чтобы все подумали, будто рыцарь пал от ударов кинжалов шайки грабителей. Аршамбо д'Арвиль не знал о причинах подобного решения, но послание, требовавшее привести его в исполнение, которое показал командору призрак, было скреплено апостольской печатью, или неполной буллой. Тамплиеру уже приходилось убивать. Но он убивал с честью, лицом к лицу, сражаясь порой в одиночку против пятерых, как настоящий солдат. Пусть его кожа была покрыта рубцами, пусть она загрубела, но душа осталась нетронутой. От одной мысли, что ему пришлось подсыпать отраву Леоне, дабы быть уверенным, что он сумеет одолеть этот грозный клинок, к горлу тамплиера подступала тошнота. Впервые в жизни он презирал себя. Он превратился в подлого исполнителя, и уверенность, что он действовал по приказу папства, отнюдь не приносила ему облегчения. Аршамбо д'Арвиль вытащил клинок и подошел к неподвижно лежащему брату. В его памяти всплыли жуткие воспоминания о месиве из человеческой плоти, о полях сражений, превратившихся в бойни. Он вновь в тысячный раз слышал вопли умирающих, звериные крики победителей, опьяневших от запаха крови, обезумевших от жажды добычи. Столько погибших. Столько погибших во имя бесконечной любви. Возвысились ли после этого их души, как в этом всех заверяли? Не существовало ли альтернативы этой резне? Но если он начнет сомневаться, под его ногами разверзнется ад. Какое-то движение сзади было столь стремительным и тихим, что он даже не вздрогнул. Резкая боль пронзила грудь тамплиера. Он прижал руку к груди и наткнулся на острие короткого меча. Он отчетливо чувствовал, как металл выскользнул из него, чтобы вновь вонзиться в плоть. Тамплиер упал на колени. Его рвало кровью. Звонкий, свежий, как родник, голос молоденькой женщины произнес: – Простите, рыцарь. Ради всего святого простите меня. Я должна была его спасти. Его жизнь слишком ценна, намного ценнее нашей. Я не была уверена, что мои силы равны вашим. Я не могла напасть на вас лицом к лицу. Рыцарь, клянусь вам, что спасу вашу душу. Простите меня, умоляю вас. У Аршамбо д'Арвиля не было ни малейших сомнений, что она говорила правду и что она избавила его от кошмара бесконечных угрызений совести. Она сделала за него выбор, позволила не подчиниться призраку, посланию из Рима, которое тот привез, избавила от необходимости выполнить его повеление. – Я… прощаю вас… сестра моя… Спасибо… Эскив д'Эстувиль приняла последний вздох умирающего. Из ее светло-янтарных глаз на кожаное сюрко лились слезы. Она присела на корточки, ровно уложила тело тамплиера и скрестила его руки на окровавленной груди, любуясь, прекрасным умиротворенным лицом. Сколько времени она оставалась там, вся в слезах, молясь за спасение души тамплиера, да и за спасение своей души тоже? Она не могла сказать. Когда она наконец поднялась с колен, стояла полная луна. Она подошла к спящему Леоне и легла рядом с ним. Она обняла его, покрывая чело поцелуями. Накрыв спящего своим плащом, чтобы оградить от сырой ночной прохлады, она прошептала: – Спи, мой прекрасный архангел. Спи, я посторожу. А затем я вновь исчезну. Эскив д'Эстувиль зажмурилась от нахлынувших чувств, заставивших ее, всю дрожащую, еще крепче прижаться к этому высокому человеку, не подозревавшему об ее присутствии. Грешила ли она? Несомненно, но этот грех вознаграждал ее за столько лет ожидания, за все эти неуместные, но волнующие мечты, с которыми она уже не боролась, поскольку только они одни и заполняли ее часы после пробуждения. После Кипра, когда она предстала перед ним в облике маленькой грязной нищенки, способной объяснить значение оракула рун, она думала лишь о нем. Она отдала жизнь и душу их поискам, но ее сердце принадлежало этому человеку, который был почти ангелом. Он не знал об этом, и это было так хорошо. Одна лишь мысль о любви, которая не была ни материнской, ни сестринской, ни дружеской, наполняла ее грустью, поскольку он не стремился, да и не мог ответить на эту любовь. Что за важность? Она любила его всеобъемлющей любовью, и любовь наполняла ее радостью и силами, которые она открыла в себе благодаря ему. Когда Леоне пришел в себя, солнце едва всходило. Жуткая головная боль сжимала ему виски, а рот был полон горькой слюны. Ему с трудом удалось сесть. Голова кружилась. Леоне боролся с охватывающей его паникой, мешавшей ему думать. Где он находился? Почему он лежал посреди леса, да еще ранним утром? Он пересилил амнезию, затуманивавшую его воспоминания. Леоне изо всех сил старался вспомнить, что делал накануне. Постепенно из смутного тумана его сознания выплывали лица, слова. Да, он ездил в командорство тамплиеров Арвиля, чтобы встретиться с Аршамбо д'Арвилем, который одурманил его наигранной добродушной словоохотливостью. Но в какой-то момент Леоне почувствовал, что за братским радушием скрывается какой-то страх, какое-то отчаяние. На прощание командор предложил ему выпить чашу сидра. Безумная надежда зародилась в душе Леоне, когда он вошел в церковь Пресвятой Богородицы. Надежда найти знак, подтверждавший, что эти камни, плиты и пилястры скрывали тайну, за которой он охотился столько лет. Головокружение, начавшееся у него в церкви, чудесное умиротворение, которое его неожиданно охватило, – были ли они подтверждением присутствия этого знака или первыми признаками одурманивания? Что произошло с его уставшей кобылой? Он встал, немного покачиваясь, и осмотрелся. Привязанная в нескольких туазах от него за ствол березы, кобыла смотрела на рыцаря. Она выглядела намного бодрее, поскольку ночью ей не пришлось скакать, неся на себе тяжелую ношу. Он же, обессиленный, вновь упал на землю. Кто привязал кобылу? И тут он увидел бурый ручеек, вытекавший из-под холмика из опавших листьев. Леоне вытащил меч из ножен и подошел ближе. Разгребая листья острием меча, он уже знал, что ему предстоит увидеть. Он выронил меч из рук и упал на колени рядом с Аршамбо д'Арвилем. Потом смахнул рукой тонкий саван из листьев. По двум одинаковым сквозным ранам на груди, откуда вытекала кровь, испачкавшая белую накидку, Леоне понял, что убийца питал к покойному сострадание и уважение. Рыцарь-тамплиер последовал за Леоне с целью прикончить его, когда отрава начнет действовать. Но почему? Кто-то был здесь, тот, кто спас жизнь Пеоне, без колебаний отобрав ее у командора тамплиеров. Защитник, а не негодяй или подлый грабитель. Кто? Почему? а затем этот защитник уехал на лошади тамплиера? Леоне казалось, что какие-то мимолетные воспоминания ускользают от него. Он напрасно пытался вернуть их. Охваченный сомнениями, он приложил дрожащую руку ко лбу. Леоне преисполнился глубочайшим сочувствием, когда представил себе весь тот кошмар, который пережил этот человек Бога и войны. Отравить брата, убить его так, как это сделал бы подлый наемник. Кто? Кто мог обладать властью, достаточной, чтобы заставить командора ордена Храма пойти на подобную низость? Даже если Аршамбо д'Арвиль получил приказ от своего Великого магистра или капитула, все равно этот приказ должен был одобрить сам Папа. Но Папа был мертв. К тому же Бенедикт никогда не приказал бы совершить столь подлое деяние. Леоне достаточно хорошо знал Бенедикта, уважал его и любил и мог бы поклясться в этом своей жизнью. Кто в отсутствие понтифика обладал достаточной властью, чтобы организовать убийство госпитальера? Ответ был столь очевидным, что при всей своей заурядной чудовищности напрашивался сам собой.Дворец Лувра, Париж, октябрь 1304 года
Удивление Гийома де Ногаре, советника и доверенного лица короля, сменилось беспокойством, быстро переросшим в ярость. Куда подевался этот Франческо Капелла, которому он стал так доверять? На следующий день после непонятного исчезновения Франческо Ногаре отправил гонца к Джотто Капелле, дяде своего нового секретаря. Послание, которое Ногаре велел доставить Капелле, было коротким и полным угроз. Может, Франческо приковала к постели неожиданная болезнь? По мнению Ногаре, никакая другая причина не могла оправдать его отсутствие. Он проклинал Джотто Капеллу за то, что тот дал ему столь плохой совет, расхвалив племянника, который оказался отнюдь не усердным, а еще в меньшей степени верным. Прочитав письмо, Джотто Капелла буквально обезумел. Сначала он решил немедленно бежать из Франции, но затем с головой забился под стеганые одеяла, подумав, что, если советник короля понял, какую роль он сыграл в этом мошенничестве, его жизнь висит на волоске. Он часами хныкал, стучал зубами, но, тем не менее, весь покрытый потом под несколькими одеялами, придумывал всевозможные оправдания. Что мог противопоставить такой бедный банкир-ломбардец, каким он был, шантажу Франческо де Леоне? Да, Леоне и госпитальеры знали о предательстве, которое позволило мамлюкам сокрушить последние оборонительные рубежи крепости Сен-Жан-д'Акр. Что он мог поделать, кроме как подчиниться Леоне и выдать его за своего племянника, что позволило рыцарю поступить на службу к мессиру де Ноrape? Разумеется, ростовщик догадывался, что рыцарь собирался шпионить за советником короля. Но к чему привели бы все эти признания? Ни к чему хорошему, по крайней мере для него. Измучившись от страха, Капелла наконец решил вылезти из-под одеял и написать короткий ответ. В письме он поведал о неожиданной истории с барышней, которая опутала племянника любовными сетями, заставив его, потерявшего голову, покинуть Париж и отправиться вслед за ней в Италию. Он описывал отчаяние ошеломленного дядюшки, сокрушающегося, что он прогневал мессира де Ногаре. Письмо заканчивалось резкой критикой нравов молодежи и ее безумств. Но письмо не убедило мсье де Ногаре, который увидел в нем лишь жалкое извинение. Когда советник короля выпустил из рук листок бумаги, исписанный каракулями, им овладело гневное спокойствие. В глубине души он не мог простить себе, что испытывал некую духовную общность с Франческо Капеллой, что нашел его умным человеком и что, возможно, позволил себе сделатьнекоторые признания. Затем он долго думал о письме Капеллы. В конце концов Ногаре успокоился. Дело выеденного яйца не стоило, а вот неискренний Джотто, порекомендовавший ему своего племянника, должен кусать себе локти. Ногаре лично проследит за тем, чтобы Джотто Капелла никогда не получил должность капитана ломбардцев, о которой этот негодяй так давно мечтал. Все утро Гийом де Ногаре пребывал в плохом настроении. Он потерял не только усердного секретаря, но и приятного собеседника. Советник короля погрузился в счета. Его тонкие губы искривились недовольством, когда он принялся составлять список последних сумм, полученных братом короля из казны. Как положить конец разорительному неистовству Карла де Валуа, не оскорбив короля? Карл де Валуа мечтал о сражениях, завоеваниях, – одним словом, об армиях, которыми будет командовать. У Франческо Капеллы имелись все основания для беспокойства. В тот самый момент, когда Ногаре думал о своем исчезнувшем секретаре, из королевских покоев до него донесся лай. Это была одна из заячьих гончих[110] Филиппа Красивого. Ногаре резко повернулся к ковру, находившемуся у него за спиной, к красным пастям, вышитым на синем фоне. Он встал и приподнял ковер. А вдруг Франческо был шпионом? Но кому он служил? Разумеется, не Джотто Капелле. Ногаре внимательно осмотрел замок, запиравший тайник, но не обнаружил ничего подозрительного. Тем не менее его не оставляли сомнения. Он снял с шеи цепь, на которой висел ключ и с которой он не расставался даже во время сна, и вставил ключ в замочную скважину. Ему показалось, что механизм поддался с трудом. Но, возможно, у него просто разыгралось воображение. Затем он осмотрел содержимое тайника. Ничего не пропало. Но почему дневник в черном переплете из телячьей кожи лежит поверх писем? Он получил или написал эти письма уже после того, как в последний раз сверялся с дневником. По идее, дневник должен был лежать внизу или среди писем. Был ли он в этом столь уверен? В конце концов, замок никто не взламывал. Привычка властвовать обострила недоверчивость Ногаре. Внезапное исчезновение Франческо, которому его дядя дал столь нелепое объяснение, лишь усиливало тревогу советника короля. Поскольку Ногаре не мог расспросить племянника, он приставит нож к горлу его дядюшки. Советник короля направился к двери, чтобы позвать привратника, но потом одумался. Признать, что ему не хватило осмотрительности в столь мрачные и смутные времена – разве это не было ошибкой, за которую он мог дорого заплатить? Ангерран де Мариньи, уже ставший камергером короля, прибегал к различным уловкам, чтобы снискать милость монарха, в чем ему помогала любимая жена Филиппа, королева Жанна Наваррская, сделавшая Мариньи своим наперсником и доверенным лицом. Беспокойный, молчаливый и желчный Ногаре завидовал непринужденности своего противника. Мариньи говорил, напоминал, рассуждал таким волнующим или страстным тоном, что собеседники воспринимали каждое его слово как евангельские сентенции. Гийом де Ногаре знал, что не способен бороться с такой живостью речи и свободной манерой держаться. Если он признается королю, что стал жертвой шпиона, которого сам взял на службу, Мариньи воспользуется этим промахом, чтобы дискредитировать его. Даже если он отдаст Джотто Капеллу в руки палача и тем самым отомстит за себя, это все равно не укрепит его позиции при дворе. В конце концов, похоже, что тайник остался нетронутым. Никаких сомнений, что он сам себя накручивал. Но почему, черт возьми, этот дневник оказался лежащим на пачке тайных писем, которые он спрятал позже? Ногаре вновь сел за письменный стол и несколько мгновений смотрел на хорошо заточенное перо. Нет. Тень, услугами которой он пользовался, не была достаточно проворной, чтобы помочь ему в этом деле. Советник короля ненавидел этого прислужника, закутанного в плащ с капюшоном, впрочем, не раз оказывавшего ему услуги прежде. Этот негодяй дышал такой ненавистью, такой злобой, такой жаждой мести, что у всех, кто встречал его на своем пути, по спине пробегал холодок. Казалось, что зло, причиняемое им, облегчало его измученную душу. Ногаре не был подлым человеком. Если он и прибегал к обману или чему-нибудь похуже, то причиной или, возможно, объяснением этому всегда было радение о величии королевства. Нет, тень не сумеет вынюхать всю правду о Франческо капелле. Что касается обычных шпионов, все они состояли на Королевской службе, а большинство из них отчитывались перед Мариньи в обмен на небольшие привилегии. Любые результаты расследования советника Ногаре могли попасть в руки его главного соперника, а тот непременно воспользуется ими в момент, который сочтет наиболее подходящим. Сейчас лучше делать вид, что ничего не произошло. Ногаре тяжело вздохнул. Ему требовался шпион. Умный шпион, который не станет идти на поводу у зависти или фанатизма. Обособленное положение Ногаре в Лувре делало его уязвимым. Он добился от короля уважения, возможно, даже благодарности, но не сумел завоевать его дружбу. Ногаре, у которого чувства всегда вызывали удивление, тем не менее вынес урок, наблюдая за другими: чувства, даже самые глупые, даже самые неуместные, правят миром. Ум лишь оправдывает или порицает их, да и то задним числом. Свидетельством тому служит преступная слабость, которую монарх питал к своему брату, этому политически близорукому пустозвону мсье де Валуа. Шпион. Во что бы то ни стало он должен найти шпиона, ловкого шпиона, который будет отчитываться только перед ним. Но как это сделать, если противники советника короля следят за каждым его жестом?Женское аббатство Клэре, Перш, октябрь 1304 года
Несмотря на жар яркого пламени, пылавшего в камине ее кабинета, Элевсию де Бофор, аббатису Клэре, била дрожь. С тех пор как она впервые увидела инквизитора Никола Флорена, холод упорно пробирал ее до самых костей. Кошмарные видения вновь проложили дорогу в ее сознание и столь настойчиво преследовали, что она стала бояться периода дремоты, предшествующего сну. Если прежде мать аббатиса немного сомневалась в чистоте поисков, объединивших Элевсию с ее племянником Франческо, а также с покойным Папой, нежным Бенедиктом XI, приезд этого посланца тьмы навсегда рассеял ее колебания. Но будет ли достаточно той двери, которую они намеревались открыть, чтобы вернуть миру Свет, чтобы разделаться с Никола Флореном и ему подобными, переходившими из века в век после наступления ночи времен? Франческо, которого она воспитала как родного сына, ничуть не сомневался в этом, но он был скорее не мужчиной, а ангелом, спустившимся на землю неведомо откуда. Что ангелы могут знать о ярости, ужасе и страданиях человеческой плоти? Потоки слез, хлынувшие из глаз, затуманили ее взгляд. «Ваш сын так похож на вас, моя Клэр, моя сестра. И он так близок нам. Мы пробираемся на ощупь в бесконечном лабиринте. Мы мечемся в поисках путеводной нити. Меня изводят столько вопросов, на которые не удается найти ответы. Почему было угодно, чтобы вы умерли в Сен-Жан-д'Акр? Почему вы не предчувствовали, что готовится резня? Почему вы не бежали? Что знали вы, о чем мне неведомо? Мои сны превратились в прогулки по кладбищу. Там я встречаюсь со всеми вами, любезный народец призраков. Анри, моя нежная любовь, мой супруг. Филиппина, чья драгоценная кровь течет в нас. Бенедикт, мой любезный Бенедикт. Клеманс, Клэр, мои сестры, мои воительницы. И она, одна из нас. Что она знает о своей судьбе? Клэр, тревога снедает меня. А если мы заблуждались? Если все это лишь сказка? Если нет никакой двери? Если нет никакого ключа? Мы уподобили наши жизни игре в Таро, которую недавно цыгане привезли из Египта, если только не из Китая. Мы скрестили клинки, но не понимаем значения происходящего. Впрочем, кто может утверждать, что действительно понимает его значение? Клэр, мне так страшно, но я не могу найти причин моих страхов. Эти толстые стены, эти суровые своды, под которыми я рассчитывала обрести покой, источают угрозу. Я чувствую ее в каждом коридоре, перед каждой ступенькой. Теперь под ними расхаживает зверь, несущий зло. Никто его не видит, никто его не слышит. Лишь некоторые из нас ощущают его присутствие. Чтобы покончить с ним, требуется отвага Клеманс или ваша способность предвидеть, моя Клэр. Требуется победоносное упорство Филиппины. Я всего лишь боязливая старая женщина, довольствующаяся своей эрудицией, убеждающая себя, что душой понимаю все. И вот теперь я превратилась в одинокую старуху, разбитую болью во всех членах, преследуемую видениями, которые не в состоянии истолковать, испуганную глубиной пропасти, разверзшейся у моих ног. Я дрожу от внутреннего холода, который убеждает меня, что зло рядом. Оно вошло сюда в сопровождении этого Флорена. Зло прокралось к нам и теперь следит за нами. Я чувствую, что оно подслушивает наши разговоры, вторгается в наши молитвы. Оно ждет, но я не знаю чего. Вы помните? Когда мы были детьми, мы поехали вместе с нашей семьей в этот городок, в Тоскану. Вы помните проклятую яркую тряпку, которой размахивали крестьянские дети, так напугавшую меня? Я плакала, я рыдала, я отказывалась сделать еще один шаг. Вы подбежали к ним, вырвали из их рук тряпку, бросили ее на землю и стали топтать ногами. Подойдя ко мне под раздосадованными взглядами детей, вы, улыбаясь, сказали: сила рождается из твоей веры в нее. у дьявола широкая спина, он козел отпущения всех наших грехов и охотно наделяет нас ими. Вы были правы, моя сестра, и эта уверенность, если о ней станет известно, может стоить мне отлучения от Церкви. Дьявола не существует. Человек – вот кто вечное и единственное поле битвы зла. Я видела одно из его самодовольных завоеваний, я дотрагивалась до него. Он мне улыбался. Он был красивым. Мне страшно, моя Клэр». Аделаида Кондо, сестра-келарша в аббатстве Клэре, просматривала содержимое шкафа гербария, в котором стояло множество пузырьков, джутовых мешочков, терракотовых бутылок и различных сосудов. Она чувствовала себя виноватой, что пришла сюда, не спросив разрешения у аббатисы или у сестры-больничной Аннелеты Бопре, считавшей гербарий своим феодом. Аннелета охраняла его столь ревностно и даже злобно, что порой это вызывало у многих удивление. Крупная женщина производила на Аделаиду, еще молодую и легко смущающуюся, сильное впечатление. Ходили слухи, что Аннелета, дочь и внучка врачей, не смирилась с тем, что не смогла продолжить их искусство, и примкнула к единственному обществу, разрешавшему ей врачевать: она поступила в аббатство. Аделаида не поклялась бы в правдивости этих утверждений, которые, вероятно, отчасти объясняли раздражительный и сварливый характер сестры-больничной. Как бы то ни было, но Аделаиде не хватало шалфея, чтобы приправить этих великолепных зайцев. Зайцев принесли вчера от галантерейщика[111] из Ножана, и она собиралась подать их с пюре из слив, схваченных первыми холодами. Шалфей был очень распространенным лекарством, которое советовали принимать при головных болях, резях в желудке, параличе, эпилепсии, желтухе, контузиях, тяжести в ногах, обмороках и множестве других болезней, и поэтому сестра-больничная должна была сделать летом значительные запасы, тем более что эта лекарственная трава также входила – наряду с белым вином, гвоздикой, имбирем и перцем – в состав восхитительного соуса «Сальвия». Аделаида искала взглядом большой мешок с вышитыми на нем словами salvia officinalis,[112] но безуспешно. Она нашла блошницу дизентерийную, дербенник иволистный, касатик зловонный, крапиву двудомную, огуречник и буквицу, но шалфея нигде не было. Раздосадованная Аделаида спрашивала себя, не убрала ли по здравому размышлению сестра-больничная мешочек с шалфеем на одну из верхних полок. В конце концов, та была высокой и крепко сложенной, как мужчина. Молоденькая сестра поставила табурет рядом с полками и взобралась на него. Шалфея нигде не было видно. Протянув руку, Аделаида стала шарить за первым рядом пакетов и пузырьков. Вдруг она наткнулась на завалившийся назад джутовый мешочек и вытащила его. Спрыгнув с табурета, Аделаида высыпала на стол, на котором сестра-больничная взвешивала травы и измельчала их, содержимое найденного ею мешочка. Серо-коричневая мука с едким запахом могла быть только толченой рожью. Но что это за черноватые комочки? Она нагнулась, чтобы понюхать. Резкий запах цвели заставил ее отпрянуть назад. – Сестра Аделаида! – прогремел голос сзади. Молоденькая монахиня подпрыгнула от неожиданности и схватилась за сердце. Она резко повернулась к сестре-больничной, обширные и ценные знания которой в области медицины не искупали ее сварливого характера, по крайней мере по мнению Аделаиды. – Что вы здесь делаете? – продолжала сестра-больничная обвинительным тоном. – Просто… Просто… – «Просто» что, я вас спрашиваю? Путаясь в объяснениях, молодая монахиня наконец сумела объяснить свое присутствие в святилище, ревностно охраняемом сестрой Аннелетой. – Одним словом, я искала шалфей, чтобы приготовить соус. – Вы должны были спросить у меня. – Разумеется, разумеется. Но я вас нигде не нашла. Я искала, я даже взобралась на табурет и… – Вам не повредило бы иметь немного здравого смысла, сестра моя, – надменно отозвалась сестра-больничная. – Почему я должна убирать лекарство, которым пользуюсь ежедневно, в труднодоступное место? Шалфей лежит… Аннелета не закончила фразу. Ее взгляд упал на серо-коричневую муку, лежащую на столе. Она подошла ближе, нахмурила брови и спросила: – Что это? – Вот этого я не знаю, – призналась Аделаида. – Я нашла этот мешочек на верхней полке. Он завалился за остальные. Оскорбленная в лучших чувствах, Аннелета сухо поправила Аделаиду: – Мои мешки и пузырьки не «заваливаются». Я аккуратно расставляю их рядами после того, как взвешу и запишу в свою книгу учета. Вам прекрасно известно, что некоторые лекарства очень опасны, и я должна быть готова в любой момент проверить их состав и способ употребления. Сестра-больничная склонилась над небольшой горкой муки и кончиком указательного пальца принялась отделять от нее черноватые комочки. Когда она выпрямилась, лицо ее было смертельно-бледным. Утратив самоуверенность она прошептала: – Боже мой! – Что такое? – Это спорынья. – Спорынья? – Ржаная спорынья. Она так называется, потому что образует своеобразные черные коготки на колосьях ржи. Авторы древних текстов считают, что она вызывает гангрену… Члены чернеют и сохнут, а кожа становится похожей на обожженную. Кажется, что трупы обуглились. Некоторые ученые считают спорынью причиной «горячки»,[113] о которой так много говорят, этого лихорадочного бреда, сопровождаемого галлюцинациями,[114] принимаемыми невежами за доказательство откровений или одержимости, в зависимости от случая. От этого сильного яда вымерли целые деревни.[115] – Но для чего она может понадобиться? – спросила Аделаида, которую постепенно охватывала паника. – Да вы, сестра Аделаида, лишились рассудка, если поверили, что я готовлю эту субстанцию в таком количестве! Разумеется, она обладает чудесными свойствами, избавляет от головной боли,[116] недержания мочи и климактерических кровотечений.[117] Но ее надо применять очень осторожно. Я всегда держу небольшой пакетик этого вещества, но, разумеется, не в таких количествах. – Я не знаю… Не сердитесь на меня, прошу вас, – пробормотала молодая женщина, готовая расплакаться. – Да нет же… Успокойтесь! И не надо тут лить потоки слез, как вы это умеете делать. Настают суровые времена, и у меня нет ни малейшего желания утешать вас. Этих слов вполне хватило, чтобы Аделаида бросилась в сад, захлебываясь от рыданий. Аннелета, не сводившая глаз с отравленного ржаного порошка, не обращала внимания на плач своей духовной молодой сестры. Кто приготовил эту муку? В каких целях? Кто спрятал ее в гербарии? Зачем? Чтобы обвинить ее, если муку найдут? И главное: кто из ее окружения был достаточно сведущ в veneficium,[118] чтобы понимать, насколько опасными свойствами обладает спорынья? Должна ли она рассказать о страшной находке аббатисе? Вне всякого сомнения. В этом аббатстве Элевсия де Бофор была одной из немногих женщин, за которыми Аннелета признавала высокие умственные способности и к которым она питала нежность, смешанную с уважением. Но от одной мысли, что ей придется еще больше огорчить Элевсию, ей становилось не по себе. Последние месяцы стали для их матушки тяжелым испытанием, а приезд инквизитора, казалось, забрал все ее жизненные силы. Прежде всего Аннелета должна была все обдумать. Тот, кто положил в аптекарский шкаф яд, поступил весьма рассудительно. Кроме того, можно было предположить, что некий посторонний пробрался в аббатство и проник в гербарий. Но было бы ошибкой думать, что он периодически наведывался в аббатство, чтобы взять спрятанный яд. Следовательно, отравитель жил в самом аббатстве. Брат-каноник проводивший службы, был маловероятным кандидатом из-за своего возраста, почти полной слепоты, к тому же его постоянно клонило в сон. Значит, речь шла не об отравителе а об отравительнице. В следующие полчаса Аннелета перебирала в памяти всех сестер. Она сразу же отмела прислужниц-мирянок, посвященных Богу. Ни одна из них не умела читать и поэтому не смогла бы приготовить этот яд, известный немногим ученым. Аннелета решила не поддаваться чувству симпатии или антипатии, принудив себя к объективности и беспристрастности, что в данном случае было смелым поступком, поскольку речь шла о людях. И все же Аннелета вычеркнула имя Элевсии де Бофор из своего воображаемого списка. Конечно, Элевсия была образованной женщиной, но не питала склонности к наукам, что делало ее неподходящим кандидатом. К тому же вера Элевсии была столь требовательной, что не допускала ни малейшего прегрешения. Несмотря на неприязнь к Жанне д'Амблен – а Аннелета была достаточно честной, чтобы признать, что ее неприязнь была вызвана большей свободой, которой пользовалась казначея, поскольку сама должность избавляла ее от необходимости принимать монашеский обет, – Аннелета отвергла ее кандидатуру по тем же причинам. Она сильно сомневалась, что Жанна знала о существовании ржаной спорыньи. Что касается Аделаиды, этой милой простушки, которая так часто действовала Аннелете на нервы, она, привыкшая ощипывать птицу, потрошить зайцев или вымачивать в известковом растворе поросят, чтобы с них сошла щетина, мгновенно терялась, когда ситуация требовала от нее чего-то другого. Бланш де Блино, благочинная, помогавшая аббатисе и исполнявшая обязанности приора, была в столь преклонном возрасте, что порой возникало ощущение, что она вот-вот рассыплется в прах. Ее глухота, порой вызывавшая у молодых сестер улыбку, до того раздражала Аннелету, что та избегала обращаться к старой женщине из опасения, что ей придется повторять одну и ту же фразу раз пять. А вот Берта де Маршьен, экономка, со своей вечно постной миной, вызывала серьезные подозрения. Она получила хорошее образование, но была последним ребенком в благородной семье, не имевшей средств к существованию, которая сочла, что одиннадцатый отпрыск – к тому же женского пола – лишний. Берта принадлежала к числу женщин, приобретавших в зрелом возрасте определенную элегантность. Вероятно, в молодости она была довольно некрасивой. Для непривлекательной бесприданницы монашеская жизнь становилась последней надеждой. Аннелета застыла неподвижно. Разве сейчас она не описала свою собственную жизнь? Монашеская жизнь давала ей единственную возможность проявить свои таланты. Вечно печальное лицо экономки уступило место другому лицу. Иоланда де Флери, сестра-лабазница. Кто, как не она, следившая за посевами, мог знать об этой болезни ржи и собрать зараженные колосья? Если так рассуждать, то и Адель де Винье, сестра – хранительница зерна, становилась вероятным кандидатом. И сама сестра-больничная, и хранительница садков, и… Короче говоря, в столь гнусном преступлении нельзя было обвинить только ее одну. Необходим был мотив и, главное, требовалось обладать склонностью к убийству. Несмотря на то, что Аннелета не испытывала особого уважения к себе подобным, она была вынуждена признать, что подобная склонность свойственна лишь немногим. Когда Аннелета вышла из гербария, предварительно сметя со стола ядовитую муку, уже наступил вечер. Оставались два-три имени, два-три лица, две-три истории жизни. Впрочем, Аннелета Бопре была достаточно умна и понимала, что очень мало фактов подтверждают ее подозрения. Она использовала метод исключения, оправдывая тех сестер, которые, по ее мнению, совершенно не годились в убийцы. Оправившись от страха и печали, Аделаида Кондо приняла решение, казавшееся ей правильным: она обойдется без шалфея, что позволит ей избежать новой стычки с этой мегерой Аннелетой. До чего же она, эта крепко сбитая дылда, отвратительно выглядела, когда принялась отчитывать ее! Аделаида тут же укорила себя за эти дурные мысли. Она допила кружку с настойкой из меда, лаванды и корицы, так любезно предложенной ей Бланш де Блино, их благочинной, наморщив нос. Что за досадная привычка класть столько меда! Напиток, особенно остывший, становился невкусным. Аделаида улыбнулась: Бланш уже совсем состарилась, а всем известно, что пожилые женщины приобретают вкус к сладостям. Розмарин. Вот трава, которая прекрасно подойдет к дичи. К счастью, у нее на кухне достаточно розмарина, что избавит ее от необходимости вновь идти в гербарий. Все утро три послушницы потрошили и разделывали зайцев, которые сейчас мрачной кучей лежали на большом разделочном столе. Наступало время, которое Аделаида любила больше всего. Вскоре начнется вечерня*. Молодые монахини, которых, как и ее, освободили от присутствия на службе, чтобы они приготовили ужин, суетились в просторном общем зале, расставляя приборы под строгим взглядом сестры-трапезницы. Временная тишина царила на большой сводчатой кухне, нарушаемая лишь гудением огня в камине или эхом быстрых шагов сестер, направлявшихся в скрипторий, обогревальню или парильню. Когда Аделаиду назначили келаршей, она испугалась, поскольку эта должность требовала ведения учетных книг, одним словом, писанины, не оставляя времени на котелки и горшки. Аббатиса и Берта де Маршьен, сестра-экономка, от которой она непосредственно зависела, растроганные ее смятением, заверили девушку, что она прежде всего останется их сестрой-кормилицей. Ведь Аделаида так любила разделывать, смешивать, приправлять, пассеровать, тушить, жарить, сдабривать… Она любила кормить других, угощать, что ее мнению, ни одно земное удовольствие не могло сравниться с творческими муками, которым она периодически подвергала себя, изобретая новые варианты пюре или варений. Возможно, причиной тому стали первые трудные годы ее жизни? Она, младенец, умирала от истощения, когда бондарь нашел ее на опушке леса Кондо. Длинная деревянная ложка выскользнула из ее рук и гулко стукнулась о плиты. Хлеб. Ржаной хлеб, который она поспешно отнесла посланцу Папы, чтобы он мог подкрепиться во время пути. Откуда взялась эта ржаная буханка? Ведь на той неделе она ничего подобного не заказывала Сильвине Толье, в чьем ведении находилась печь аббатства. От внезапного головокружения Аделаида потеряла равновесие. Она едва успела схватиться за длинный верстак, служивший столом. Что с ней? Казалось, тысячи муравьев бежали по ее рукам и ногам, брали штурмом губы и небо. Она попыталась сжать пальцы, но они словно одеревенели. В животе пылал жгучий огонь. Ледяной пот ручьями стекал с ее лба, отчего ворот платья стал мокрым. Аделаиде стало трудно дышать. Держась за край длинной доски, лежавшей на козлах, она попыталась подойти к двери, к другим монахиням. Она хотела позвать на помощь, но слова застряли в горле. Она почувствовала, что падает на пол, и схватилась рукой за грудь. Ее сердце. Куда делось ее сердце? Билось ли оно? Она широко открыла рот, пытаясь вдохнуть воздух, которого ей так не хватало. Неужели тот мужчина спас ее только для того, чтобы через не так уж много лет она умерла от отравления? Какой смысл во всем этом? Последняя молитва. Пусть смерть побыстрее возьмет ее. Но эта просьба не была выполнена. Более получаса Аделаида металась между страданиями и непониманием. Будучи в сознании, она сквозь пот, заливавший ее лицо, видела, как в огромной кухне собрались обезумевшие монахини. Она кричали, плакали. Она видела, как с закрытыми глазами крестилась и целовала распятие Гедвига де Тиле. Она видела, как исказилось лицо Жанны д'Амблен. Она видела, как та закрыла рукой рот, чтобы сдержать крик. Она видела, как Аннелета нагнулась над ней и принюхалась к ее губам, ее дыханию. Она почувствовала, как Элевсия поцеловала ее в лоб и как от слез аббатисы ее рука стала мокрой. Аннелета провела пальцем по ее небу, а затем лизнула его. Крупная женщина выпрямилась, и юная келарша впервые подумала, что за грубыми манерами ее духовной сестры скрывалась нежность. Она слышала, как Аннелета прошептала: – Бедная крошка. Сестра-больничная удалилась вместе с аббатисой. Аделаида не слышала, о чем они говорили. – Матушка… Наша сестра отравлена аконитом. Она скоро умрет от удушья. К сожалению, ей будет отказано в такой милости, как потеря сознания. Мы бессильны и можем лишь встать вокруг нее и молиться. Аделаида Кондо изо всех сил боролась с параличом, который обездвиживал ее, постепенно поднимался к лицу, не давая голосу вырваться наружу. Она пыталась произнести слово, одно-единственное слово – хлеб. Пока монахини стояли вокруг нее на коленях, пока они отпускали ей грехи, она мысленно произносила единственное священное слово: хлеб. И когда у нее отказало дыхание, когда она широко открыла рот, чтобы вдохнуть воздух, ускользавший от нее, она подумала, что сможет наконец вытолкнуть его из себя. Его, это самое слово. Ее голова упала на руки Элевсии.Замок де Ларне, Перш, октябрь 1304 года
Матильда де Суарси важно расхаживала в прекрасном лазурном платье с опушкой из беличьего меха, вышитом так же богато, как платье принцессы. Она мысленно представляла, что находится среди молодых дворян и дворянок. Перед одними она приседала в глубоком реверансе, другим кокетливо улыбалась. Сочтя себя достаточно взрослой, она потребовала, чтобы служанка заплела ей волосы в косы и уложила их вокруг головы. Матильда хихикала от восторга. Она так скучала в суровых стенах аббатства Клэре, куда мать сочла необходимым ее поместить после того, как инквизитор, приехавший из Алансона, объявил о времени благодати. Там ей приходилось рано вставать, чтобы идти в церковь, помогать застилать кровати или сортировать белье под предлогом любви к ближнему. Какой ужас! А ведь в аббатстве было полно прислужниц-мирянок, которые могли бы избавить от труда благородную барышню. В течение нескольких дней, пока длилось то, что Матильда считала постыдным заточением, она больше всего боялась, что ей придется окончить свои дни в аббатстве Клэре, в бесконечной печали и постоянных заботах. И без капли нежности, которой ее окружал чудесный дядюшка Эд. Одному Богу известно, какое облегчение она испытала, когда узнала, что он приехал в аббатство. Он потребовал, чтобы аббатиса немедленно отдала ему племянницу. Элевсия де Бофор не могла долго сопротивляться этому требованию. Эд приходился Матильде кровным дядей, он был ее законным опекуном в отсутствие матери. В самом деле, какие чудные недели она провела благодаря щедрости своего дядюшки! Комната, которую предоставили Матильде, – комната покойной мадам Аполлины, – была просторной и теплой. Ее отапливал огромный камин, по бокам которого – вершина изящества! – были проделаны небольшие окошечки, позволявшие теплу быстрее распространяться. Грубые каменные стены были увешены яркими коврами с изображением сцен дамского туалета. Эти ковры хорошо защищали от сырости. Каждый вечер Матильду принимала в свое лоно огромная кровать. С некоторым смущением Матильда думала, какие воспоминания хранила эта кровать, ведь девочка не сомневалась, что мадам Аполлина отдавалась здесь своему мужу. Что происходило на этих простынях? Она искала ответа на свои вопросы, осторожно расспрашивая Аделину или Мабиль. Но эти две глупые курицы лишь фыркали, ничего не говоря ей. На изящном туалетном столике с резными ножками стояло зеркало. По обеим сторонам камина располагались два огромных сундука. Сначала в них лежали ее жалкие лохмотья, до того самого момента, когда дядюшка рассердился и велел их сжечь. Он потребовал, чтобы его племянница одевалась в соответствии с занимаемым ею положением. Несомненно, некоторые из уборов, подаренных Матильде, принадлежали ее покойной тетке Аполлине. В конце концов, Аполлина не могла сердиться на ее дядюшку за то, что он приказал переделать их по размеру своей племянницы. Выбросить их было бы непростительной глупостью. К тому же бедняжке Аполлине не хватало природного изящества. Многочисленные беременности не улучшили ее грузную фигуру. Платья и накидки лишь подчеркивали ее неуклюжесть. Из-за большого живота у нее постоянно болела поясница, за которую она держалась обеими руками, словно вилланка. А Матильда порхала, окруженная льном и шелком, словно прелестными облачками. По лицу Матильды пробежала тень. Настроение сразу испортилось. Ее мать была в руках инквизиции. Матильда в точности не знала, чем занимались эти монахи, но ей было хорошо известно об их жестокости. У человека, попавшего в Дом инквизиции, практически не было шансов когда-либо выйти оттуда. Тем не менее инквизиторы были людьми Бога и посланцами Папы. Если ее мать навлекла на себя их гнев, значит, в этом надо было усматривать наказание за тяжкий грех, совершенный ею. Размышляя о случившемся, Матильда проявляла к матери снисходительность и не слишком злилась на нее, хотя, если Аньес де Суарси признают виновной, разразившийся скандал может отразиться на дочери и испортить ей будущее. По крайней мере она избавилась от этого отвратительного Клемана. Слабость, которую Аньес де Суарси питала к маленькому батраку, сыну служанки, всегда уязвляла Матильду. А с каким пренебрежением он относился к единственной законной наследнице! Если он думал, что она не понимала, с каким презрением он порой слушал ее, он глубоко заблуждался. Дурак! Кто сейчас взял ошеломляющий реванш? Она! Он же бежал из мануария как вор, доказав, по мнению Матильды, что у него была нечистая совесть. Аделина рассказала ей, что помимо рабочей лошади, которую дала ему хозяйка, он почти ничего не взял с собой: лишь немного еды и одеяло. Ему пришлось расстаться со своим арбалетом, ведь сервы не имели права носить оружие. Еще одна глупая выходка ее матери! Надо же было вооружить этого мерзкого негодяя арбалетом, пусть даже маленьким! В голову девочки пришла соблазнительная мысль. Леса таили много опасностей. По ним бродило много хищников, как на двух ногах, так и на четырех лапах. Может, какой-нибудь разбойник уже порвал его на куски? В комнату робко вошла Барба, служанка, которую к ней приставил дядюшка, и прервала многообещающий поток мыслей девочки. – Чего тебе надо? – прикрикнула на нее Матильда. – Мессир Эд желает, чтобы вы оказали ему честь, приняв у себя, мадемуазель. При имени ее любимого дядюшки лицо Матильды просветлело. – Это честь для меня. Чего ты ждешь? Иди и передай ему мои слова. Девушка еще не успела выйти из комнаты, как Матильда бросилась к зеркалу, чтобы убедиться, что с прической и платьем все в порядке. Эд расхохотался, когда она развела руки и сделала пируэт, чтобы он увидел, как его подарок выгодно подчеркивает ее изящную фигуру. – Вы восхитительны, моя племянница, и вы украсили своим присутствием мой дом, – заявил он с легкой печалью в голосе. Польщенная комплиментом девочка тут же угодила в расставленную Эдом хитроумную ловушку: – Я вижу, вы в плохом настроении, дядюшка. Эд обрадовался, что ему удалось так быстро добиться своей цели. – Дело в том, моя принцесса, что ваша мать… которую я люблю как сестру, вы же знаете… Так вот… Этот процесс будет иметь прискорбные последствия для нас всех. Если ее признают виновной в ереси, как я этого опасаюсь, позор падет на вас и на меня. Я знаю, у вас острый ум. Вы должны понимать, что приговор мадам Аньес испортит наши отношения с королем Франции, не говоря уже о бесчестии, которое навсегда запятнает наше имя. Да, разумеется… Я прожил жизнь, но ваша жизнь только начинается, и стало бы огромной несправедливостью, если… Свои слова Эд закончил печальным вздохом. Ошеломленная Матильда понурила голову. Дядюшка подтвердил, что она не напрасно беспокоилась вот уже несколько недель. Готовая вот-вот расплакаться, Матильда прошептала: – Действительно, как несправедливо нас обоих связывать с ошибками моей матери. Дорогой дядюшка… что мы можем попытаться… – Все прошлые ночи, когда сон бежал от меня, я строил различные планы защиты. Один из них показался мне удачным… но мне неприятно говорить о нем с вами. – Расскажите, дорогой дядюшка, умоляю вас. Сейчас настали суровые времена. – Дело в том… Какие страдания я должен вам причинить, а ведь ваше счастье – это для меня бесценное сокровище… Матильда не сомневалась в этом. Вдали от печальных и холодных стен Суарси Матильда, которую одевали в дорогие наряды, каждое утро причесывали, два раза в неделю купали в воде, разбавленной молоком и ароматами розмарина и мальвы, которой все кланялись как молодой даме, наконец обрела жизнь, существовавшую прежде лишь в ее мечтах. Но нет! До сих пор она была лишена всего этого из-за упрямства матери, но сейчас она не потерпит, чтобы ее лишили того, что принадлежало ей по праву! К тому же она должна была постараться защитить своего дядюшку-благодетеля. – Умоляю вас… Для меня нет больших страданий, чем видеть, как вас покроют позором из-за заблуждений моей матери, к которой вы всегда были так добры. Слишком добры. Прекрасно. Хорошенькая, но глупая тетеря сама прыгнула в силок! – Вы такая смелая, моя лучезарная принцесса. Вы моя опора в этой круговерти. Нам не остается ничего другого, как использовать довольно неприятный план. Свидетельство. Матильда не удивилась. Она уже думала об этом. Разве в одной из энциклик Папа Гонорий III не советовал: «Пусть каждый из вас приготовится к бою и не жалеет ни своего брата, ни самого близкого родственника»? Она повинуется приказу наместника Бога на земле. – Как вам известно, моя племянница, инквизиция рассматривает тех, кто не выдал еретика, как его сообщников Как же я себя корю за то, что мне приходится терзать вашу юную душу таким решением! – Не корите себя, дядюшка. Если бы моя мать не сделала глупость, не приютила бы эту… вероотступницу Сивиллу, к тому же беременную, мы, вы и я, не оказались бы в подобном положении. В конце концов… Кто может сказать что это сатанинское отродье, этот суккуб не заронил семена ереси в душу моей матери, приговорив ее к вечному проклятию, более страшному, чем судебный процесс? Я дрожу от ужаса.Дом инквизиции, Алансон, Перш, ноябрь 1304 года
Первые дни ноября выдались теплыми и дождливыми. После каждого ливня дороги превращались в месиво из зловонной грязи, но Никола Флорен не жалел о теплом солнце Каркассона. Ему удалось, как он сам говорил, «отложить про запас» другие, более прибыльные дела, которые он будет рассматривать после процесса Аньес де Суарси. С минуту на минуту он ждал визита одной из будущих поставщиц денежных средств. Никола Флорен приказал, чтобы Аньес де Суарси продержали неделю в подземной камере Дома инквизиции. Ей не разрешали умываться и переодеваться, а отхожее место чистили только раз в три дня. Ее рацион сводился к трем мискам молочного супа с корнеплодами[119] и четвертушке хлеба голода.[120] Аньян, секретарь Флорена, заказывал этот хлеб у хозяина публичной печи. Удивленный хозяин решил, что в этот урожайный год подобная эксцентричность вызвана обетом покаяния. Флорен был немного разочарован. Он думал, что Аньес откажется от столь недостойной пищи, но она съедала все до последней крошки. Он понял почему: Аньес де Суарси собиралась сопротивляться как можно дольше. Ладно… От этого игра станет лишь приятней. Неделя тянется бесконечно долго, когда ты сидишь одна в сырой мгле. Твоими единственными спутниками остаются мысли, которые кружатся в хороводе, с каждой минутой становясь все более мрачными. План Никола Флорена был простым. К тому же он всегда оправдывал себя. Держать в жутком одиночестве, сводить с ума на протяжении нескольких дней, допрашивать, потом разрешить несколько посещений, которые причиняют обвиняемому дополнительные мучения, заставляя вспоминать обо всем, чего ему не хватает, – о свободе, любимых лицах, – навязывая мысль, что на воле жить радостно даже если там и возникают трудности. По правде говоря речь шла о стратегии, призванной сломить сопротивление и вырвать признания у самых стойких. Разумеется, он не ждал признаний от прекрасной Аньес, поскольку вся ее вина заключалась лишь в отказе от притязаний похотливого сводного брата. Но применение обычных издевательств придаст этому делу вид настоящего процесса. Никола Флорен часами испытывал наслаждение, представляя, как лицо его жертвы искажается паникой. Он вздохнул, осматривая неуютную тесную комнату, служившую ему кабинетом. Маленький рабочий стол из растрескавшегося грубого дерева был завален следственными журналами. Инквизиторы были обязаны иметь такой журнал, куда они записывали малейшие подробности о своих действиях, встречах, собранных свидетельствах, наложенных наказаниях, примененных пытках. Но цель записей заключалась не в неукоснительном соблюдении процедуры, а в том, чтобы ни одно из обвинений не было забыто. Так, если обвиняемый признавался невиновным по одному из обвинений, почему его нельзя осудить по другому обвинению? Аньян, его секретарь, робко вошел в кабинет и, опустив голову, ждал, когда можно будет прервать мысли Флорена. – Ну, Аньян, я жду. Поторопись. – Господин инквизитор, пришла ваша посетительница. – Приведи ее ко мне. Аньян исчез, словно тень. Маргарита Гале была женой богатого горожанина Ножана, торговавшего кораблями, от названия которых, вероятно, и произошла его фамилия.[121] Никола Флорен осторожно разузнал о состоянии этой семьи. У дамы, одетой в беличье манто, слишком теплое для этого времени года, была горделивая походка. Вероятно, ей исполнилось двадцать два, самое большее – двадцать четыре года. Восхитительная прозрачная накидка обрамляла красивый овал ее лица. Огонек вульгарности горел в ее глазах, вступая в явное противоречие со смиренной изящной походкой. Она шла, слегка отклонившись назад, чтобы не наступить на опушку, удлинявшую перед платьев благородных дам. При каждом ее шаге из-под платья показывались перепачканные шелковые туфельки, служившие лишним доказательством ее богатства, поскольку к вечеру уличная грязь неминуемо испортит их. Никола Флорен поднялся даме навстречу. Он протянул руку, чтобы помочь ей сесть в кресло, стоявшее напротив его стола. Она вздохнула, мило передернув плечами, и нерешительным тоном начала: – Один из моих дальних родственников с восторгом отзывался о вас, господин инквизитор. Барон де Ларне. Я оказалась в весьма щекотливом положении и не знаю, как из него выпутаться. Цель моего визита… ваш совет, господин инквизитор. Ваша мудрость, равная лишь вашей снисходительности, уже заставила говорить о себе в… узком кругу. До чего волнующей была жизнь! Эта очаровательная, очень богатая молодая женщина опускала перед ним глаза и величала «господином инквизитором» при каждом удобном случае. Что касается барона де Ларне, он оказался более интересным, чем думал Флорен. – Вы льстите мне, мадам. – Что вы, мессир инквизитор. Напротив. Я… До чего деликатен этот вопрос… Прощупывая почву, Маргарита Гале продвигалась вперед. С какого-то момента она стала делать точно просчитанные шаги. Он же выжидал. Осторожность требовала чтобы он продолжал изображать из себя бдительного и беспристрастного инквизитора. И все же он боялся, что дама испугается и откажется от своих первоначальных планов. Тогда он рискует потерять звонкие ливры* вознаграждения. Хищный огонек, который он заметил в ее глазах, едва она вошла в комнату, позволил ему сжечь мосты. – Помилуйте, мадам, этот кабинет сродни исповедальне. Здесь я выслушивал множество историй, но лишь немногие из них удивили меня. Порой справедливость не торопится свершиться. Но моя роль и заключается в том, чтобы исправить это… а наградой мне служит признательность таких чистых душ, как ваша… Она подняла голову. Понимающая улыбка озарила ее губы, соблазнительные как экзотический плод. – Какое облегчение, господин инквизитор… К сожалению, я до сих пор не смогла зачать. Это первая причина моего беспокойства. Но есть и вторая: мой супруг очень болен… Врачи боятся, как бы боль в груди, вот уже несколько недель вызывающая у него одышку, не усилилась… Она замолчала и принялась кусать губы. Флорен ободрил ее ласковым движением руки. – Как ни странно, но отец моего супруга, человек весьма преклонного возраста, демонстрирует такое крепкое здоровье, что оно начинает вызывать у меня подозрения. Так вот почему дама нанесла ему визит. Вероятно, свекор был очень богатым. Если ее муж умрет раньше своего отца, состояние старика ускользнет от алчной красавицы, поскольку у нее не было детей. В душу Флорена закралось сомнение. Ядов вполне хватало, чтобы быстро разделаться со стариком, цеплявшимся за жизнь, а такая женщина была, несомненно, способна достать их. Впрочем, он не раз убеждался, что убить собственноручно гораздо труднее, чем совершить убийство при помощи стороннего исполнителя. Она немного разочаровала его. Но, в конце концов, инквизиторская процедура выше всех подозрений, в отличие от отравления, которое могло явно указывать на заинтересованное лицо. – Подозрения? Вы ведь так сказали? – Да, как и мое необъяснимое бесплодие. Видите ли, мой свекор… Он не жалует меня, и это самое меньшее, что можносказать. – Вы подозреваете, что он прибегал к недопустимой практике? – Я в этом убеждена. – К магии? Я хочу сказать к магии venefica? Творящей зло? Заклинание и вызов нечистой силы, ведь мы об этом говорим, не так ли? – Разумеется. Я даже думаю, что он виновен в болезни моего дорогого супруга. «Которого ты сведешь в могилу, как только старик отдаст концы», – подумал Никола, прикинувшийся потрясенным. – Речь идет об очень серьезном обвинении, мадам. Ведь колдун подобен еретикам. Он тоже поклоняется демоническим идолам. У вас есть доказательства? – Видите ли… Казалось, она потеряла почву под ногами, но все же продолжила: – В постные дни он ест скоромное… «Разумный человек, ведь нет ничего печальнее, чем пост», – мысленно прокомментировал Никола. Надо помочь прекрасной Маргарите, которая, по всей видимости, не подготовилась к этому этапу нападения. – Очень ценное сведение. Наверняка есть и другие, более разоблачительные. Значит, вы думаете, что ваш свекор использовал небольшие восковые фигурки, чтобы навредить здоровью вашего супруга и помешать вам зачать ребенка? – подсказал он. Она кивнула головой в знак согласия. – Хорошо. Как вы думаете, он вызывает демонов в подвале или в сгоревшей церкви? – Недалеко от того места, где он живет, есть такая церковь. – В сгоревших церквях часто находят следы проведения черных месс, опрокинутые кресты, свечи из черного воска. Надо проверить, мадам. В сопровождении нотариуса. Вы думаете, что он предается противоестественным сексуальным бесчинствам? – Я в этом убеждена… Он пытался меня… «А также человек со вкусом», – мысленно одобрил Флорен, если только это обвинение было обоснованным. – Какой мерзавец! Принимая во внимание ваши слова, я представляю даже омерзительные акты, звериные. Маргарита Гале подняла брови, и Флорен понял, что она не догадалась, куда он клонит. – С животными, например с козлами… В течение следующего получаса Никола Флорен перечислял доказательства, слухи, которые должна была распространить Маргарита, чтобы жандармы и нотариус, назначенный инквизиторами, без особого труда собрали их. Прощаясь с Флореном, Маргарита сияла от счастья. Она подошла к его столу, протягивая руки в знак благодарности. Он схватил их, поднес одну кисть к своим губам и провел по ней языком. Она закрыла глаза от удовольствия и прошептала: – Я чувствую, что это дельце доставит мне пьянящую радость, мессир. – Я надеюсь, что вы, мадам, скоро дадите о себе знать и считаете меня готовым вмешаться в любой момент. Она обольстительно улыбнулась и вышла. Он развернул бумажку, которую она сунула ему в руку, и увидел сумму: пятьсот ливров. Никола не нуждался в письменных договорах. Кто бы имел глупость отрицать долги, связывавшие его с инквизитором? Долги в виде денег или в виде жизни. Мнимая Маргарита Гале шла размеренным шагом благородной дамы. Но, завернув за угол Дома инквизиции, она почувствовала, как у нее подкосились ноги. Она прислонилась к ограде и несколько минут глубоко дышала. Раздавшийся густой голос сразу же успокоил ее. Голос, который однажды стал для нее голосом чуда. – Идем, здесь недалеко есть таверна. Ты очень бледна. Пойдем, тебе надо немного отдохнуть, друг мой. Высокий силуэт, закутанный в плащ с капюшоном, обнял за талию мнимую Маргариту Гале и повел ее по улочкам. Молодую женщину била такая сильная дрожь, что она не могла вымолвить ни единого слова, пока они не сели за стол в таверне, почти безлюдной в этот час. Поднося стакан к губам, она едва не вылила его содержимое на дорогое манто, взятое напрокат. Тем не менее обжигающий алкоголь помог ей подавить тошноту, подступавшую к горлу. Франческо де Леоне снял тяжелый плащ и спросил: – Как ты себя чувствуешь, Эрмина? – Мне было так страшно. – Ты смелая женщина. Выпей еще немного и отдышись. Эрмина вняла его совету. Странно, но этот великодушный человек – единственный, кто ответил ей отказом, когда в знак благодарности она не могла предложить ничего Другого, кроме своего тела, – умиротворял ее своим взглядом, одной из своих удивительных улыбок. Странно, но только он сумел примирить ее с собственной душой. А по рой и с душами других людей. В ее памяти отчетливо, словно это произошло вчера, всплыло воспоминание о том дне ужаса – горькое, но и дорогое воспоминание. Прекрасный архангел, он не судил, он даже почти ничего не сказал. Без единого слова он, который ее совсем не знал, встал между ней и яростным градом камней. Кровь окрасила его лоб, его щеки. Он не запротестовал, не отступил назад, не вытащил меч из ножен висевших у него на боку. Он просто смотрел на них. Его голубой взгляд и крест, закрывавший его сердце, заставили опустить головы самых неистовых ее палачей. Побить камнями. Они хотели уничтожить ее градом камней. Эрмина стала собственностью одного кипрского сеньора, который купил ее наряду с шелковыми тканями, охотничьими собаками и кадильницами. Когда сеньор умер, истеричная вдова стала кричать на всех углах, что Эрмина околдовала ее мужа, заставила покинуть супружеское ложе, а затем убила ласками и настойками. Нелепость этого обвинения никого не остановила. Напротив, оно оправдывало убийство. Человеческое стадо, состоявшее из мужчин, женщин и даже детей, в течение нескольких часов преследовало ее вдоль утесов. Они кричали, весело окликали друг друга, передавали бутылки с водой. В конце концов они ее загнали в грот. Измученная Эрмина забилась внутрь, как обезумевшее животное, пытаясь защитить голову руками. Она увидела в их глазах радость. Радость дозволенного убийства. В нее полетели камни… И вдруг появился он. Тот, кто закрыл ее своим телом. Они отступили, злобные крабы, которых даже самая ничтожная власть опьяняла до такой степени, что они превращались в убийц. Странно. Ради своего рыцаря она пошла бы на край света, но он попросил ее дойти лишь до конца улицы. До Дома инквизиции. Эрмина протянула Франческо де Леоне свою ладонь, и он сжал ее обеими руками. От этого прикосновения глаза молодой женщины закрылись. Он разжал руки, и она прошептала: – Прости. – Нет, это ты прости меня. Я вовлек тебя в очень опасное дело. – Ты предупреждал меня об этом. Мне так сладостно нравиться тебе. – Она робко улыбнулась, словно извиняясь, и добавила: – Мне нравится быть твоей вечной должницей. Я тебе обязана жизнью, и ты не можешь меня забыть, потому что спасенные жизни принадлежат спасителям. Никто не может уйти от этого, даже если хочет. Франческо де Леоне улыбнулся. Эрмина, как и Элевсия, как до этого его мать и сестра, пробуждали в нем, сами того не ведая, нежность. С ними он забывал об алчности и корысти, мог спать, не сжимая рукой эфес своего меча. Эрмина и другие женщины, жившие в его памяти, за несколько минут избавили его от Джотто Капеллы и ему подобных, от множества подлых хищников, которых он встречал на своем пути. – Какое у тебя о нем сложилось впечатление? – Речь идет не о впечатлении, а о фактах, мой рыцарь. Он худший из всех подонков. Нет, слово «подонок» здесь неуместно. Он нечисть. И он никогда не сможет очиститься от скверны. – Понимаю. Для него очень удобно, что Папа[122] разрешил инквизиторам отпускать друг другу грехи за допущенные ошибки и чинимые беззакония. Подобная щедрость теперь позволяет им присутствовать при пытках, что раньше было строжайше запрещено. Держу пари, что более лакомого подарка Флорену никто не смог бы сделать. – Они внушают мне ужас, – прошептала Эрмина. – Они всем внушают ужас. Страх, который они наводят, является их главным оружием. Расскажи мне обо всем. В мельчайших подробностях Эрмина рассказала о своей встрече с Никола Флореном, не забыв и ту слюнявую ласку, след от которой еще оставался на ее ладони. Леоне покачал головой. – Я не понимаю, Франческо, – продолжила Эрмина. – Твоя тетушка должна была тебе сообщить то, что ты узнал о сделке, заключенной Ларне с Флореном. – Несомненно, тем более что… Леоне в нерешительности замолчал, но потом все же объяснил: – Понимаешь, милая Эрмина, речь идет о приговоре человеку. Мне надо было понять, чем вызвана его жестокость, болезнью души или болезнью разума. Благодаря тебе я узнал, что его мозг прекрасно работает, поскольку он продает процессы ради собственной выгоды. Я хочу предоставить ему… последнюю попытку. Если он ею не воспользуется, его время благодати истечет. Эрмина долго колебалась, прежде чем задать ужасный вопрос: – Он умрет? – Не знаю. Я… никогда не подстраиваю смерть своих врагов. Смерть наступает или не наступает. Леоне помолчал, а затем продолжил: – Хозяин таверны разрешил тебе подняться, чтобы переодеться. Милая подруга, пора возвращаться в Шартр. Я нанял для тебя повозку. Я не знаю… Я не знаю, как тебя отблагодарить. – Не стоит меня благодарить. Я тебе уже говорила: мы ответственны за свои долги, неважно, берем ли мы в долг или отдаем. Тебе никогда не избавиться от меня, от воспоминаний обо мне, мой рыцарь. Он молча смотрел на нее несколько мгновений, потом закрыл глаза и, улыбаясь, сказал: – А я и не хочу избавляться, Эрмина. До свидания с тобой, моя доблестная. Эрмина попыталась побороть чувство, от которого у нее на глазах выступили слезы, весело сказав: – Не забудь вернуть беличье манто хозяину и, главное, забери залог, он был просто баснословным. Если этим людям дать волю, они выпьют всю кровь. Кстати, туфли находятся в плачевном состоянии. Он потребует оплатить их стоимость. – Я знал, что Флорен их заметит.Дом инквизиции, Алансон, Перш, ноябрь 1304 года
Липкая грязь, в которой были измазаны ее руки и ноги, вызывала у Аньес отвращение. Голова зудела, а от запаха, исходившего от ее платья, пропитанного потом и супом из прокисшего молока, который она пролила на себя вечером, поскольку не смогла в темноте разглядеть миску, ее подташнивало. Она сняла накидку, намочила ее в кувшине с водой и кое-как умылась. Сколько дней она уже здесь? Она потеряла счет времени. Три дня, пять, восемь, десять? Она не смогла бы этого сказать, упорно цепляясь за мысль, что инквизитор вскоре начнет допрос. Затем… Главное, не думать о том, что произойдет затем. Флорен рассчитывал, что из страха она сломается, чем облегчит его задачу. Нет ничего более разрушительного, чем отчаяние, кроме, возможно, надежды. Аньес не была уверена, спала ли она днем или ночью. Один кошмар сменялся другим. И все же она нашла средство, чтобы противостоять ужасу в часы бодрствования. Она вспоминала о самых приятных моментах своей жизни. Но подобных моментов было так мало, что ей приходилось вновь и вновь возвращаться к ним. Она заставляла себя заново переживать те минуты, когда рвала цветы, собирала мед, присутствовала при рождении жеребенка, замечала хитрую улыбку Клемана. Часы напролет она читала лэ Марии Французской, начиная сначала, если сбивалась. Она придумывала целые диалоги, вспоминала о милых пустяках: о баснях, которые ей рассказывала мадам Клеманс, о своих распоряжениях насчет обеда, о том, как утешала Матильду, о теологических беседах с братом-каноником. По правде говоря, всего этого оказалось так мало… Ее жизнь была пуста. Аньес вздрогнула. До нее донеслось эхо тяжелых шагов, спускавшихся по каменной лестнице, по которой она шла в сопровождении Флорена, поскольку он лично хотел ей показать место ее заключения. Она выпрямилась, прислушиваясь к каждому звуку, пытаясь понять, что бы это значило. Может, он пришел, чтобы допросить ее? Шаги остановились далеко до ее камеры. Какое-то скольжение, потом топтание на месте. Тащили что-то тяжелое. Она бросилась к тяжелой деревянной двери, прижалась ухом и стала ждать, напряженно вслушиваясь в тишину. Отчаянный крик, за которым последовало рыдание. Кто? Мужчина, который умолял ее умереть как можно быстрее? Отчаянный крик повторялся вновь и вновь. Ей казалось, что тот человек страдал целую вечность. Зал пыток находился недалеко от камер. Перед ее глазами прошла череда образов, кровавых, мрачных, вопиющих. Аньес упала на колени прямо в грязь и горько заплакала, словно наступал конец света. Она оплакивала этого человека или какого-нибудь другого. Она оплакивала бессилие невинности, силу жестокости. Аньес не молилась. Тогда ей пришлось бы молить о смерти для всех них, иначе ее молитва не имела бы смысла. Было ли утро, когда Аньес проснулась на своей койке, не помня, как она туда попала? Произошло ли это после бесконечных пыток? Потеряла ли она сознание? Предоставил ли ей рассудок милостивую возможность временно погрузиться в бессознательное? Значит, зал пыток находился недалеко от камер. Таким образом, крестный путь одних усиливал страх других, тех, кто ждал в темноте и зловонии застенков. В этом месте, которое не допускало никакого утешения она вдруг почувствовала мимолетное облегчение. Вероятно, ее начнут допрашивать лишь через несколько недель. Мерзость, которую подразумевала эта надежда, была сродни пощечине: пытать будут других, тех, кто представал перед ее взором как бесформенные массы, лежавшие на полу, но не ее, пока еще не ее. Аньес становилась понятна стратегия Флорена, всех инквизиторов. Низвести их до состояния измученных, запуганных, сломленных бедных животных, чтобы затем внушить, что спастись они могут, лишь встав на сторону палачей, признав и даже выдумав свои прегрешения, изобличив в свою очередь других, унизив свои чистые души. Сломать. Сломать члены, кости, совесть и душу. Кто-то подошел ближе. Аньес показалось, что ее сердце перестало биться, когда шаги затихли перед ее камерой. Заскрежетал замок, и тут же к горлу Аньес подступила тошнота. Она встала лицом к двери. Флорен нагнулся, чтобы попасть в это миниатюрное пространство. В руках он держал башенку.[123] – Вы привели свою душу в порядок, мадам? – спросил инквизитор без всякого вступления. В голове Аньес промелькнула мысль, порожденная страхом: «Разумеется, господин инквизитор». Однако она услышала, как ее твердый и спокойный голос произнес: – В ней никогда не было беспорядка, мсье. – Это и надлежит выяснить. Мне показалось, что процедурная комната больше подходит для первого допросы дамы, чем эта камера, которая… Сморщившись от отвращения, он понюхал воздух, пропахший нечистотами и пищевыми отбросами, и продолжил: – …ужасно воняет. – Как вы и говорили, к этому привыкают. К тому же в этой комнате только вы сможете сидеть, а я буду вынуждена стоять перед вами согнувшись. – Дадите ли вы, мадам, мне слово, что путы и стражники не понадобятся? – Я сомневаюсь, чтобы кому-либо удавалось убежать из Дома инквизиции. Тем более что эти несколько постных пней лишили меня сил. Флорен довольствовался тем, что кивнул головой, и вышел. Аньес последовала за ним. Белокурый молодой человек, осторожно державший в руках письменный прибор, на котором стоял рожок, служивший чернильницей, и маленький масляный светильник, ждал их неподалеку. Это был grapharius, письмоводитель, на которого возлагалась обязанность записывать ее показания. Когда они шли вдоль клеток, Аньес взглядом искала человека, который схватил ее за щиколотку. Напрасно. Она прониклась твердой уверенностью, что он умер. Почувствовав бесконечное облегчение, она закрыла глаза. Он сумел от них сбежать. По мере того как они поднимались к залу с низким потолком, Аньес казалось, что воздух становился более свежим, более легким, более жизненным. Они пересекли большую комнату и попали в приемную. Когда в крошечном окне, выходившем во двор, Аньес увидела клочок неба, покрытого тяжелыми дождевыми тучами, она почувствовала, как ее переполняет неуместное в данных обстоятельствах счастье. Они свернули направо и стали подниматься по другой лестнице, на этот раз из темного дерева. Добравшись до лестничной площадки, Флорен обернулся к Аньес. Аньес задыхалась от усилий, потребовавшихся, чтобы преодолеть четырнадцать ступеней. Флорен прокомментировал: – Лишения позволяют разуму освободиться. – И вы тому служите превосходным доказательством. Аньес чуть не прикусила губу от испуга. Неужели она потеряла голову? Что на нее нашло? Если она будет его оскорблять, он не замедлит выместить на ней свою злобу. Для этого он располагал всевозможными средствами. На какое-то мгновение Флорена покинула уверенность. Перед его мысленным взором предстала другая женщина, та, которую он уже однажды видел за прекрасным лицом Аньес. Он мог бы поклясться, что она нисколько не осознавала произошедшей с ней метаморфозы. Но он ошибался. Аньес охватило стойкое спокойствие, заглушившее семена страха, которые пытался посеять Флорен. Могущественные тени, присутствие которых она чувствовала во время первой встречи с инквизитором, вновь поселились в ней. Молодой письмоводитель бросился вперед, чтобы открыть высокую дверь, перед которой они остановились. Аньес вошла в комнату и посмотрела вокруг, словно хотела просто ознакомиться с обстановкой. Ее охватило странное чувство нереальности. Ей казалось, что ее дух отделился от тела. Комната была огромной, почти ледяной. Аньес стояла посреди нее, ожидая продолжения, ни о чем не думая. Как ни странно, бессилие, которое она чувствовала, покидая застенки, исчезло, уступив место желанному оцепенению. Пять человек с непроницаемыми лицами, сидевшие за длинным столом, ждали ее: нотариус и его клерк, а также два брата-доминиканца, не считая инквизитора. Нищенствующие монахи склонились, разглядывая свои руки, лежавшие на столе. Аньес подумала, что, несмотря на разницу в возрасте, они выглядели почти как близнецы. Флорен мог бы потребовать присутствия «мирян с безупречной репутацией», но миряне были менее сведущи в вопросах теологии, а значит, менее опасны для так называемой еретички. Пятеро столь хмурых, так близко сидевших друг к другу мужчин, казавшихся грозной черной волной. Монж де Брине, бальи Артюса д'Отона, отсутствовал на допросе. Флорен намеренно не попросил его приехать. Инквизитор уселся в грубо сколоченное большое кресло, стоящее во главе стола, а письмоводитель устроился на скамье. Сквозь туман до Аньес долетел громкий голос Флорена: – Будьте любезны, мадам, сообщить нам вашу фамилию, имена и статус. – Аньес Филиппина Клэр де Ларне, дама де Суарси. После чего нотариус встал и произнес: – In nomine domine, amen.[124] В 1304 году, 5 числа ноября месяца, в присутствии нижеподписавшегося Готье Рише, нотариуса Алансона, одного из его секретарей и свидетелей по имени брат Жан и брат Ансельм, доминиканцев из Алансонского диоцеза, урожденных соответственно Риу и Юрепаль, Аньес Филиппина Клэр де Ларне, дама де Суарси лично предстала перед досточтимым братом Никола Флореном, доктором теологии, господином инквизитором территории Алансона. Нотариус сел, так и не взглянув на Аньес. Флорен начал: – Вы, мадам, обвиняетесь в том, что приютили еретичку, некую Сивиллу Шалис, свою служанку, спрятав ее от нашего правосудия, а следовательно, Божьего правосудия, и позволили соблазнить себя еретическими мыслями. Против вас выдвинуты и другие обвинения. Но мы предпочли не говорить о них сегодня. Процедура позволяла Флорену это сделать. Он припас главный козырь про запас, на тот случай, если Аньес чудом удастся доказать свою невиновность, опровергнув обвинение в ереси. – Признаете ли вы эти факты, мадам? – Я признаю, что в моем услужении находилась Сивилла Шалис, скончавшаяся в родах зимой 1294 года. Я клянусь своей душой, что никогда не подозревала ее в ереси. Что касается соблазна, который могут вызвать еретические мерзости, то он полностью мне чужд. – Позвольте об этом судить нам, – возразил Флорен сдерживая улыбку. – Признаете ли вы, что оставили при себе сына, рожденного этой еретичкой, чтобы и его тоже взять на службу?… Некого Клемана… – Я рассматривала это лишь как жест христианского милосердия, поскольку не знала, что его мать была еретичкой, как я уже говорила. Ребенок был воспитан в любви и уважении к Церкви. – Вот именно… а как дела обстоят с вашей любовью к нашей святой Церкви? – Моя любовь к ней абсолютна. – Правда? – Правда. – Ну что же, почему бы нам не проверить это немедленно? Вы клянетесь вашей душой, и смертью, и воскресением Христа, что говорите правду? Вы клянетесь, что не будете ничего скрывать и ничего утаивать? – Клянусь. – Осторожнее, дочь моя. Ни одна из клятв, которые вы до сих пор давали, не была столь серьезной. – Я вполне осознаю это. – Хорошо. Поскольку я обязан прежде всего попытаться использовать все средства, чтобы признать вас невиновной, я спрашиваю: знаете ли вы людей, которые стремятся навредить вам? Несмотря на усталость, Аньес пристально посмотрела на Флорена, сделав вид, будто не понимает. Один из двух присутствовавших доминиканцев, более молодой, брат Ансельм, счел своим долгом просветить ее и объяснил, предварительно взглядом спросив совета у другого монаха. – Сестра моя, думаете ли вы, что некоторые люди способны совершить клятвопреступление, чтобы нанести вам вред, движимые ненавистью, завистью или дурными мыслями? Вторая хитроумная ловушка. Клеман предвидел ее. Лучше предложить длинный список потенциальных доносчиков, чем признать невиновным близкого человека, который мог оказаться худшим из обвинителей. – Думаю, что да. И по причинам столь ужасным, что мне стыдно говорить о них. – Назовите их имена, мадам, – попросил доминиканец. – Мой сводный брат барон Эд де Ларне, похотливые ухаживания которого не дают мне покоя с тех пор, как мне исполнилось восемь лет. Его служанка Мабиль, не имеющая родового имени. Он приставил эту девицу ко мне, чтобы та шпионила за мной. Не найдя ничего, что могло бы удовлетворить ее хозяина, она принялась измышлять еретические басни или приписывать мне гнусные плотские желания, чтобы навредить мне. Аньес замолчала, лихорадочно вспоминая, кто еще мог желать ей зла. Ей хотелось верить, что ее каноник, брат Бернар, которого она знала не слишком хорошо, пощадил ее. Но, в конце концов, что ей было известно о нем? – Кто еще? – настаивал брат Ансельм. – Возможно, мой новый каноник. Он плохо меня знает и, следовательно, мог ошибаться во мне. Возможно, несколько сервов или крестьян, недовольных из-за того, что вынуждены платить мне аренду. Возможно также, эта девица, которая прислуживала мне, Аделина. Я не знаю, в чем она могла бы меня упрекнуть, но сейчас я вынуждена подозревать всех. Возможно, я ее когда-то отругала, и она затаила на меня злобу? – О, о таких нам известно… Их подлая желчность. Они появляются на каждом процессе, но к их свидетельствам мы относимся с осторожностью. Что касается священнослужителя… Но мы рассмотрим и это. Значит, никого больше? – Я не считаю себя виновной в какой-либо несправедливости. – Если это так, Господь дарует вам прощение и просветит нас в этом. Никого больше, мадам? – упорствовал брат Ансельм, вновь обменявшийся взглядом с другим доминиканцем, который даже бровью не повел. Аньес лихорадочно соображала. В ее мозгу один за другим возникали Клеман, Жильбер Простодушный, Артюс д'Отон, Монж де Брине, Элевсия де Бофор, Жанна д'Амблен, многие другие. Никто из них не был способен оболгать ее из злости. А вот Жильбер… У него была чистая, но такая хрупкая, такая легко управляемая душа, что инквизитор мог вывернуть ее наизнанку, как перчатку. Она возненавидела себя, когда добавила: – Жильбер, один из моих батраков, слабоумный. Он многого не понимает и живет в мире, который нам недоступен. Испугавшись, что она может навредить Жильберу, Аньес добавила: – Его душа никогда не расставалась с нашим Господом, который любит чистых и невинных… Аньес подыскивала слова. Ни в коем случае она не должна была обвинить Флорена в том, что он собрал лжесвидетельства или неполноценные сведения. Она не была уверена, что братья Ансельм и Жан поддерживали инквизитора, но опасалась настроить их против себя, обвинив представителя их ордена, к тому же доктора теологии. – …от него легко можно добиться всяких историй, которые его косноязычие и слабость ума делают странными, если не сказать подозрительными. – Мадам… – выдохнул доминиканец тоном, в котором сквозили упрек и огорчение. – Неужели вы думаете, что мы собираем свидетельства, расспрашивая слабоумных. Аньес в этом не сомневалась, но нотариус будет обязан записать в своих актах, что Жильбер был слабоумным. Его свидетельство – если им удастся добиться его от Жильбера и сделать так, чтобы оно оказалось не в пользу его дамы, – не могло отныне считаться полноценным. – Это все, мадам? Подумайте… Цель процедуры заключается вовсе не в том, чтобы поставить обвиняемых в безвыходное положение, призвав на помощь предательство, – продолжал настаивать брат Ансельм, быстро повернув голову к брату Жану. Аньес прикусила губу и с трудом сдержала слова, пришедшие ей на ум: «Господь вознаградит свой милый народ, но вы к нему не принадлежите». Вместо этого она сказала: – Я не могу назвать имена других доносчиков. Флорен ликовал. Еще до того, как Аньес вошла в зал допросов, он был уверен: ей никогда не придет в голову, что ее родная дочь станет самым безжалостным обвинителем, которому она будет вынуждена противостоять. Маленькая девочка, которую дядюшка берег как драгоценную жемчужину, исписала листок бумаги, правда, очень небрежно, но такими ядовитыми фразами, от каких ее мать никогда не отвертится. Ее обвинения, где смешались ересь, колдовство и безнравственность, насквозь пропахли кознями Эда де Ларне. Свидетельство девочки не убедило Флорена. Напротив, он был уверен в полной невиновности Аньес де Суарси. Мысль о том, что под столь милым личиком скрывалось столько ненависти и зависти, внушала спокойную надежду. Сущность большинства подобных Флорену еще не была готова улучшиться, что обеспечивало ему долгую и плодотворную карьеру. Он заранее предвкушал удовольствие, предвидя, как сломается Аньес, когда ей зачитают этот мерзкий листок, годный лишь на то, чтоб им подтереться. Ее родная дочь, которую она так стремилась защитить, отправит мать на костер без малейшего колебания. Когда Флорен думал об этом, у него сразу поднималось настроение. Он подошел к Аньес и протянул ей Евангелия. Она положила руку на большую книгу в черном кожаном переплете. – Мадам, вы готовы поклясться перед Богом и вашей душой, что будете говорить правду? – Клянусь. Аньес вовремя вспомнила фразу, которой ее научил Клеман, и добавила: – Пусть Господь придет мне на помощь, если я сдержу свою клятву, и покарает меня, если я отступлюсь от нее. Флорен едва заметно кивнул головой нотариусу, который встал и заявил: – Обвиняемая Аньес, дама де Суарси, которая на четырех Евангелиях, дотронувшись до них рукой, принесла клятву говорить всю правду как о себе самой, так и о других, была допрошена надлежащим образом. Флорен поблагодарил нотариуса любезным жестом руки. Несколько долгих минут он смотрел на Аньес, прикрыв глаза, словно молился, а затем сладким голосом спросил: – Мадам де Суарси, дочь моя, сестра моя… Полагаете ли вы, что Христос рожден девственницей? Допрос начался с ловушек, со стратагем, разработанных инквизитором. Если Аньес ответит «я полагаю», она тем самым докажет, что не совсем уверена в этом. Клеман рассказал ей обо всех этих хитроумных уловках. Она твердо ответила: – Я уверена, что Христос рожден девственницей. Лицо Флорена слегка исказилось от недовольства. Он продолжил: – Верите ли вы в католическую святую Церковь? И вновь ей требовалось в точности повторить слова Клемана, не допускавшие невыгодного для нее толкования. – Никакой другой Церкви, кроме католической святой Церкви, не существует. – Думаете ли вы, что Святой Дух происходит от Отца и Сына, как считаем мы? Клеман зачитывал ей тот же самый вопрос, она помнила это так отчетливо, словно все происходило вчера. Большинство обвиняемых совершенно искренне отвечали: «Я так думаю». И тогда сеньор инквизитор утверждал, что они играли словами, как убежденные еретики, что на самом деле их ответ означал «да, я думаю, что вы так считаете», хотя бедняги имели в виду совсем другое. – Совершенно очевидно, что Святой Дух происходит от Отца и Сына. Флорен задал еще несколько вопросов, пока не понял, что таким способом он не заманит ее в ловушку. Недовольным тоном он бросил, ни к кому не обращаясь: – Я вижу, что мадам де Суарси хорошо усвоила урок. Аньес возразила, прежде чем ее заставили замолчать: – О каком уроке вы говорите, сеньор инквизитор? По-вашему, вера Христа подобна уроку, который заучивают, словно алфавит? Она рождается в нас, вместе с нами. Она – это мы сами. Она освещает нас и проникает в нас. Неужели вы ее выучили, как другие учат на память рецепт из мясной книги? Я вся дрожу при этой мысли. Лицо инквизитора стало пепельно-серым. Он крепко сжал челюсти. Его глаза, столь нежные, засверкали убийственной ненавистью. В голове Аньес мелькнула мысль, что он ударил бы ее, если бы они были наедине. Брат доминиканец, задававший ей вопросы, смущенно закашлялся. Она преодолела целый этап, и Флорен не простит ей этого. Но вместе с тем она выиграла немного времени. Сама не зная почему, она полагала, что главное – это продержаться как можно дольше. Флорен, изо всех сил пытавшийся взять себя в руки, велел отвести Аньес в камеру. Спускаясь в свой повседневный ад, она постоянно твердила про себя: «Знание – это власть. Это оружие, от которого невозможно найти защиту, мой милый Клеман». Когда стражник втолкнул Аньес в камеру, когда тяжелая дверь застенка захлопнулась, она упала на колени и сложила в молитве руки, пытаясь понять, откуда она взяла силы держаться столь стойко, не опуская головы. – Клеманс, мой нежный ангел, спасибо. В процедурном зале Флорен метал громы и молнии. Инквизитор не мог понять, как неделя молчания и лишений, которым он подверг свою жертву, не отняла у нее последние силы. Эта женщина чуть не заронила семена сомнения и выставила его на посмешище перед двумя его братьями. Он ненавидел Аньес и – как был вынужден признать – начинал бояться ее. Едва Аньес вышла, как он попытался восстановить свое положение, сказав взволнованным тоном, в котором сквозила печаль: – Столь бойкий язык служит бесспорным свидетельством извращенного, бесчестного ума и лучше, чем любой донос, доказывает, что обвиняемая погрязла в ереси. Нам известно, что потерянные души умеют защищаться и изощренно хитрить благодаря усвоенному ими ложному учению. В этом особенно преуспевают женщины в силу своей пагубной натуры и свойственному им краснобайству. Мэтр Готье Рише, нотариус, кивнул головой в знак согласия. По мнению нотариуса, лживая и расчетливая природа женщин позволяла дьяволу превращать их в своих пособниц с удивительной легкостью. И все же у Никола Флорена было ощущение, что его страстная речь лишь наполовину убедила доминиканцев, призванных в свидетели. Особенно брата Жана, ни разу не открывшего рот. К тому же его взгляд все время ускользал от взгляда инквизитора. Брат Ансельм нежно проворковал: – Мессир инквизитор, брат мой, давайте вернемся к общительному свидетельству юной Матильды де Суарси. – Действительно, обличительному, – согласился Флорен, которому понравилось такое прилагательное. – Мадемуазель Матильда говорит в нем… – Брат мой, чтение свидетельства лучше просветит нас, – прервал инквизитора Жан де Риу, впервые подавший голос. Флорен искал в его тоне недоверие, замешательство или, напротив, потворство, но не заметил ничего, что могло бы помочь ему понять состояние духа своего свидетеля. К ярости, охватившей инквизитора во время допроса Аньес, прибавилось новое беспокойство. Присутствие свидетелей-священнослужителей, принадлежавших к одному и тому же ордену, было лишь пародией на правосудие. Флорен не помнил ни одного процесса, на котором они выражали несогласие с инквизитором. Впрочем, по этой самой причине он отстранил свидетелей-мирян. Но в этом брате Жане де Риу, которому к тому же перевалило за сорок, все было подозрительным и вызывало у него тревогу: его внимательное молчание, спокойствие, ускользающий взгляд и даже на удивление сильные руки для человека, не привыкшего заниматься физическим трудом. Более того, казалось, что брат Ансельм де Юрепаль при каждом случае искал у него одобрения. Флорен одернул себя: неужели опять начались его «девичьи» страхи? Нет же, просто эти два идиота всерьез принимали отведенную им роль, но он заставит их проглотить наживку. Флорен подошел к столу, вытащил из маленькой стопки свидетельство Матильды де Суарси и начал читать: – Я, Матильда Клеманс Мари де Суарси, единственная Дочь мадам Аньес де Суарси… Флорен не заметил, как Жан слегка подмигнул Ансельму, и тот сразу же прервал чтение: – Помилуйте, дорогой брат инквизитор… Мы умеем читать. Было бы весьма желательно, чтобы мы ознакомились в молчаливом раздумье со строками мадемуазель де Суарси, чтобы тщательно взвесить их смысл. Флорен чуть не лишился дара речи. Что, эти два грубияна ставят его слова под сомнение? Брат Ансельм продолжал настаивать: – Эта девочка еще не достигла совершеннолетия, не так ли? – Она скоро будет совершеннолетней, через год. Так или иначе, но свидетельства детей против родителей допускаются и даже приветствуются, невзирая на возраст ребенка. В самом деле, кто может лучше оценить извращения, чем те, кто сталкивается с ними и страдает от них ежедневно? – Да, верно, – согласился доминиканец, протягивая руку. Флорен неохотно подчинился и отдал ему донос. Брат Ансельм внимательно прочитал донос и передал его брату Жану. Невозмутимость доминиканца, его бесконечная медлительность действовали Флорену на нервы. Наконец, доминиканец поднял лицо и равнодушным голосом сказал: – В этих словах есть все, чтобы вынести приговор, больше не заслушивая обвиняемую. Инквизитор почувствовал облегчение и улыбнулся: – А разве я вам об этом не говорил? Она виновна. Мне больно об этом думать, но я сомневаюсь, что ей было даровано спасение. Но облегчение оказалось слишком коротким. – Тем не менее… Разве не удивительно, что эта юная особа, которая так плохо владеет пером и с трудом выводит корявые буквы, смогла столь искусно построить фразы? Посмотрим… «Моя душа страдает при мысли о мерзостях, многократно чинимых мадам де Суарси, моей матерью, а ее упорство в грехе и заблуждениях заставляют меня бояться за ее душу»… Или же: «Еще молодой каноник, который приехал к нам столь набожным, не опасаясь этой тени, творящей зло…» Или: «Господь наделил мое сердце силой, достаточной, чтобы не поддаться злу, пример которого мне постоянно подавала моя мать…» Ну и ну! Какие убедительные душевные порывы! Брат Жан поднял голову, и Никола впервые встретился с ним взглядом. У инквизитора возникло головокружительное ощущение, будто он идет под нескончаемыми сводами. Этот взгляд был бесконечным. Никола непроизвольно закрыл глаза. Хорошо поставленным голосом брат Жан произнес: – Брат инквизитор, могу ли я поделиться с вами нашими тревогами? Хотя наше присутствие здесь носит… лишь консультативный характер, нам было бы очень жаль, если ваши чистоту и горячую веру коварные лжесвидетели вдруг использовали бы в своих целях. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам приказать привести мадемуазель де Суарси в Дом инквизиции, чтобы присутствующие здесь могли допросить мадемуазель в отсутствие ее дяди. Флорен колебался лишь долю секунды. Он имел право отвергнуть подобное предложение, но его путали последствия отказа. В мозгу Флорена мелькнула неприятная мысль. А что, если этих двух монахов-свидетелей тайно выбрал камерленго Бенедетти, которому он был обязан своим отъездом из Каркассона и назначением в Алансон? Если они были инспекторами папства? Святой престол иногда посылал своих инспекторов для урегулирования внутренних проблем, возникших в монастырях, или для наблюдения за надлежащим ходом судебного процесса. Карьера Никола Флорена обещала быть весьма успешной, и сейчас он не мог подвергать себя напрасному риску. Он не сомневался, что Матильда, эта маленькая злючка, выдержит допрос Он вполне мог рассчитывать на помощь Эда де Ларне, Однако требование доминиканца приведет к новой отсрочке. Впрочем, человек в плаще требовал смерти Аньес де Суарси, не уточнив дату приведения приговора в исполнение. Разумнее всего было бы подчиниться. – Благодарю вас, брат мой, за ту заботу, которой вы меня окружаете. Когда вершишь суд в одиночку, очень важно чувствовать, что другие поддерживают вас, чтобы гарантировать безупречность инквизиторской процедуры. Письмоводитель запишите о необходимости вызывать свидетеля и прикажите сообщить об этом мадемуазель де Суарси. Другая мысль улучшила настроение Флорена. Едва Матильду привезут в Дом инквизиции, как он потребует очной ставки между матерью и дочерью. Его ждало весьма заманчивое зрелище.Женское аббатство Клэре, Перш, ноябрь 1304 года
Элевсия де Бофор закрыла глаза. По ее щеке текла слеза, прокладывая узкую мокрую дорожку до самых губ. Бланш де Блино, благочинная, порывисто сжала ее руку, все время повторяя, словно бесконечную молитву: – Что происходит? Что все-таки происходит? Она умерла, не так ли?… Как она могла так рано уйти из жизни, она же так молода… Милая Аделаида лежала в гробу, стоявшем на козлах в центре картулярия. Затем гроб перенесли в церковь Пресвятой Богородицы аббатства. Аннелета Бопре долго боролась с языком покойной, который никак не получалось убрать внутрь. Он продолжал висеть, придавая лицу Аделаиды жуткое выражение. Аннелета была вынуждена заткнуть рот покойной льняным полотенцем, удерживавшим язык во рту. Теперь молодая женщина обрела достоинство, в котором ей отказывала смерть. Пришли все монахини и послушницы. Собравшись с духом, встав на колени, они оплакивали свою юную келаршу. Аннелета зорко следила за позами, за выражением лиц, ловила смущенные, бегающие или печальные взгляды, преисполненная решимости найти виновную. Она была в этом уверена и поделилась своими мыслями с аббатисой: отравительница принадлежала к их сообществу. Сначала Элевсия принялась возражать, но потом, под бесспорными доказательствами сестры-больничной, смирилась с очевидным, вернее, с неприемлемым. Каждый день они сталкивались с убийцей любезной Аделаиды.Смятение уступило место горькому отчаянию. Зло вошло с этим существом тьмы, с Никола Флореном. Элевсия уже тогда чувствовала это. Обессиленная аббатиса часами сидела за своим рабочим столом, не зная, что предпринять, с чего начать. Она знала, что никакая молитва, никакая свеча не заставит зло отступить. Зло могут победить лишь чистые души, готовые бороться до конца. Но этой титанической борьбе конца не будет. Она вспыхнула в глубине веков и будет продолжаться до тех пор, пока не пресечется род человеческий. Если только… Время мира еще не пришло. Элевсия будет бороться потому что Клеманс, Филиппина, Клэр без малейших колебаний взяли бы в руки оружие. Почему выжила именно она, хотя другие были более боеспособными? Сегодня рано утром Жанна д'Амблен поехала к постоянным жертвователям и штрафникам[125] аббатства. Она долго колебалась, не решаясь оставить свою аббатису наедине с другими обитательницами монастыря. Аббатисе потребовалось собрать волю в кулак, чтобы убедить молодую женщину заняться своими обязанностями. Теперь Элевсия жалела о своем решении. Жанна, ее знания, жизненная сила, беззлобная прозорливость принесли бы ей успокоение. Аббатиса открыла глаза и посмотрела на Аннелету. Та отрицательно покачала головой. Ведя за собой Бланш, аббатиса подошла к сестре-больничной и прошептала: – Пусть все, все без исключения соберутся в скриптории через полчаса. – Это очень опасно, – возразила Аннелета. – Может, лучше провести расследование… тайно? – Нет более грозной опасности, чем слепота, дочь моя. Я хочу видеть всех. Кроме мирянок, с ними я встречусь позже. – Если убийца почувствует себя загнанной в угол, да может стать жестокой. Предположим, она боится, что ее найдут… Тогда она убьет другую сестру, возможно даже вас. – Вот именно, я хочу, чтобы она встревожилась. – Это очень опасно. Отрава действует так незаметно, что даже я не смогу помочь. Нельзя ли… – Это приказ, Аннелета. – Я… Хорошо, матушка. Стена белых платьев, слегка колыхавшихся при каждом вздохе. Бледные лица. Элевсия видела лишь лбы, глаза и губы. Пятьдесят женщин, половина из которых были послушницами, ждали, догадываясь о причине, по которой их собрали. Тем не менее Элевсия могла бы поклясться, что никто, кроме убийцы, не понял, какая буря вот-вот разыграется в скриптории. Сев за один из письменных столов, Аннелета опустила голову. Она, сама того не осознавая, вертела в руках маленький ножик, которым очиняли перья. Со вчерашнего дня ее мучил один вопрос. Почему кто-то счел необходимым убить бедную Аделаиду? Поняла ли Аделаида, кто ее отравил? Видела ли она, слышала ли она, как отравительница угрожала ей? Ведь стакан с настойкой, который обнаружила сестра-больничная, принесли Аделаиде вечером, в тот самый час, когда на кухне находилась лишь келарша. Значит, убийца воспользовалась этим моментом и предложила Аделаиде выпить роковой напиток. Ко всем этим вопросам примешивалось чувство тревоги, изводившее Аннелету: а вдруг отравительница взяла яд в аптечном шкафу гербария? Сестра-больничная использовала раствор аконита, когда требовалось снять боль, воспаление лицевого нерва или сбить температуру.[126] – Дочери мои… Сестра Аделаида вернулась в колыбель нашего Господа. Ее душа упокоилась с миром, я знаю. Напротив… – Элевсия де Бофор сделала глубокий вздох и продолжила резким тоном: – Крестный путь той, кто нарушил Божью волю, будет нескончаемым. В этом мире она понесет ужасное наказание, а наказание, которому ее подвергнет всемогущий Господь в мире ином, превосходит все пределы нашего воображения. Несколько сестер обменялись взглядами, спрашивая себя, что означали слова аббатисы. Другие смотрели на Элевсию изумленно и одновременно тревожно. Воцарившееся зловещее молчаниесменилось шепотом, шарканьем ног по полу, приглушенными восклицаниями. – Бога ради! – громко сказала Элевсия. – Бога ради! Я еще не закончила. Удивленный и встревоженный шепот сразу же смолк. – Нашу милую сестру Аделаиду отравили медовой настойкой лаванды, в которую подмешали аконит. Из пятидесяти ртов одновременно вырвался вопль, взлетевший к потолку скриптория. Элевсия воспользовалась возникшей суматохой и последовавшим за ней гомоном, чтобы внимательно всмотреться в лица. Она искала лицо, на котором проявился бы знак, способный выдать виновную. Но напрасно. – Тихо! – крикнула Элевсия. – Помолчите минутку! Разумеется, я не спрашиваю, кто из вас приготовил эту настойку, поскольку сомневаюсь, что получу ответ. Элевсия выдержала паузу, вновь вглядываясь в пятьдесят взоров, устремленных на нее. На какое-то мгновение она задержалась на лицах Берты де Маршьен, Иоланды де Флери, Гедвиги дю Тиле и, главное, Тибоды де Гартамп. – Но та из вас, которая совершила это непростительное преступление, допустила ошибку. Пока я не знаю ее имени, но скоро узнаю. В гробовой тишине, сопровождавшей это обещание, раздался дрожащий голос: – Я ничего не понимаю. Кто-нибудь может мне объяснить, о чем говорит наша матушка? Бланш де Блино ерзала на скамье, поворачиваясь то к одной, то к другой женщине. Послушница наклонилась к ее уху и что-то зашептала. – Но… это я отнесла ей настойку! Обезумевшая от страха старая женщина простонала: – Она умерла, выпив медовую настойку лаванды? Как это могло случиться? Элевсия смотрела на Бланш так, словно у нее под ногами разверзлась пропасть. – Что вы такое говорите, моя милая Бланш? Что вы отнесли настойку Аделаиде? – Конечно. Ну… Дело было не совсем так. Я собиралась пойти к вечерне и вдруг увидела на своем столе стакан. Я понюхала его… Признаюсь, что я никогда не любила настойку лаванды. Я считаю ее слишком пряной, – смущенно проговорила Бланш, опустив глаза, словно речь шла о серьезном недостатке. – Напротив, я очень люблю вербену, особенно вместе с мятой, и… – Бланш! Прошу вас, вернемся к фактам, – прервала ее Элевсия. – Извините, матушка, я заговариваюсь… Это старость… Значит, я отнесла стакан на кухню, думая, что настойку приготовила Аделаида. Она… такая заботливая. Она не захотела вылить настойку и сказала, что сама с удовольствием выпьет ее. Элевсия перехватила изумленный взгляд сестры-больничной. Кто, кроме них двоих, понял, что означал этот обмен? Только не Бланш, хотя она и корила себя, что отдала отравленный напиток сестре, которую любила. Кто-то хотел убить Бланш. Но почему? Зачем надо было избавляться от почти глухой старой женщины, жившей в снах наяву? Элевсия почувствовала на себе злобный взгляд, но не смогла определить, от кого он исходил. Сделав над собой гигантское усилие, она продолжила: – Вот деталь, которой мне недоставало, чтобы продвинуться в своих поисках. Ведь гипотеза, которую я пыталась выстроить, чтобы вычислить личность убийцы, упиралась в личность жертвы. Смерть Аделаиды, ужасная смерть, была случайной. Туман рассеивается. Я закончила, дочери мои. Я немедленно напишу мсье Монжу де Брине, бальи нашего сеньора д'Отона, сообщу ему об этом убийстве и назову два имени, которые приходят мне на ум. Я потребую публичного бичевания и смертной казни для виновной. Пусть свершится воля Божья. Но едва аббатиса закрыла за собой дверь своих покоев, как ее оставила властность, которую она только что продемонстрировала, вся эта напускная бравада. Элевсия как подкошенная упала на кровать. Она была не в состоянии двигаться, не могла даже думать. Она ждала. Она ждала руку, которая протянет ей яд. Готовилась прочитать на чужом лице всю ненависть или весь страх мира. В соседнем кабинете раздался звук, послышалось неуверенное шуршание шерстяного платья. Смерть шла к ней в белом платье. На груди смерти висело большое деревянное распятие. В дверном проеме спальни аббатисы показался силуэт Аннелеты. Ее лицо было искаженным, смертельно-бледным. Она всхлипнула: – Вы… – Что я? – прошептала Элевсия, с трудом говорившая от изнеможения. Крупную женщину охватила ярость, и она выкрикнула: – Что вы говорили! В расследовании этого чудовищного преступления вы продвинулись не дальше меня. Зачем утверждать обратное? Вы сошли с ума! Она убьет вас раньте, чем вы найдете ее. Вы не оставили ей никакой лазейки. – Это и было моей целью. – Я не могу вас защитить. Существует множество ядов, а вот противоядий – очень мало. – Почему она пыталась отравить Бланш де Блино? Этот вопрос не дает мне покоя, но я не могу найти ответ. Как вы думаете, Бланш… – Нет, Бланш еще не понимает, что именно она была мишенью. Я отвела ее в обогревальню, где она проводит все светлое время суток. Она очень опечалена смертью Аделаиды. – А другие? – Самые умные, а таких немного, догадываются о правде. – Но кто? – Но почему? – поправила аббатису Аннелета. – Над нами над всеми будет висеть угроза, если мы не разгадаем эту смертоносную шараду. Пора прекратить рассматривать проблему под искаженным углом зрения. Признаюсь, я сама заблуждалась, ища подходящую кандидатуру среди сестер. Это было ошибочным умозаключением. Понять почему – значит найти того, кто это сделал. – Вы думаете, вам это удастся? – спросила Элевсия, которой присутствие сварливой женщины впервые принесло успокоение. – Я постараюсь. Отныне вы не будете питаться отдельно. Вам будут подавать из тех же чугунков, в которых варится общая еда. Вы не должны пить или есть то, что принесут или предложат специально вам. До чего же бессмысленная идея пришла вам в голову! Если убийца поверила вашим заявлениям, если она боится, что ее вычислят, она… Чрезмерная усталость Элевсии сменилось странным спокойствием. Она заявила тоном, не терпящим возражений: – Я отрезала ей все пути к отступлению. Значит, она будет вынуждена действовать. – Убив вас? – Бог мне судья. Я готова и не боюсь встречи с Ним. – Я вижу, вы щедро распоряжаетесь своей жизнью, – презрительным тоном проговорила Аннелета. – Смерть – хорошая вещь… Мы все на нее обречены, и я удивляюсь, почему мы ее так боимся. Жизнь – такая ненадежная, такая тяжелая. Вы отказываетесь от нее, потому что вам так удобно или из трусости? Вы разочаровываете меня, матушка. – Я не позволю вам… Аннелета резко оборвала аббатису: – Я прекрасно обойдусь без вашего разрешения! Согласившись занять эту должность, вы дали обет, поклявшись Заботиться о ваших духовных дочерях. Неужели вы об этом забыли? Сейчас не время отрекаться. На что вы надеялись? Что годы, проведенные вами в Клэре, будут похожи на безмятежную прогулку по полям? Они могли бы таковыми стать, но случилось иначе. Мы все в опасности до тех пор, пока не поймем, какую цель преследует это чудовище. – Я думала, что смерть для вас – обычное дело. – Разумеется. Но моя слабость заключается в том, что я дорого ценю свою жизнь, и, самое главное, не собираюсь преподносить ее в качестве подарка первому же убийце. Элевсия уже собиралась резко возразить, но тень, промелькнувшая в светлом взгляде сестры-больничной, не позволила ей это сделать. Понизив голос, Аннелета продолжала: – Я удивляюсь, мадам. Разве вы забыли всех наших предшественников? Разве вы забыли, что наши поиски выше нашего понимания и что наша жизнь, равно как и наша смерть, больше не принадлежит нам? Почему вы с такой легкостью уступаете, хотя Клэр предпочла встретить смерть на ступенях Акры, но только не отречься? – О чем вы говорите? – выдохнула Элевсия, совершенно сбитая с толку словами Аннелеты. – Кто вы? – Аннелета Бопре, ваша сестра-больничная. – Что вам известно об этих поисках? – Я всего лишь одно звено, мадам, равно как и вы. Тем не менее я звено, которое никогда не сломается. – О чем вы говорите? Какое звено? – Бесконечной тысячелетней цепи. Неужели вы думали, что Франческо, Бенедикт и вы сами вели поиски в одиночестве? Непонимание парализовало Элевсию де Бофор. – Я… – Бенедикт знал каждое кольцо, каждую заклепку этой цепи, по крайней мере, я так думаю. – Кто вы? – повторила аббатиса. – Я слежу за вами. Я не знаю мотивов своей миссии, но не задумываюсь над этим. Мне достаточно знать, что моя жизнь пройдет не напрасно, что она станет камешком, одним из тех, на которых будет возведено самое чистое и самое радушное святилище. После этого признания Аннелеты воцарилось молчание. Откровение рассеяло непонимание аббатисы. Она вдруг явственно осознала правду. Значит, не только Франческо, Бенедикт и она сама блуждали в потемках и действовали, несмотря на страх быть разоблаченными. Эта цепь, о которой говорила Аннелета, была на самом деле начинанием, о размахе которого Элевсия никогда не задумывалась. Она удивлялась, до какой степени она была слепой, что даже не предчувствовала это, и спрашивала себя, был ли ее племянник более прозорливым. Несомненно, нет» поскольку тогда Франческо не оставил бы свою любимую тетушку в неведении. Теперь Элевсии становились ясными многочисленные невероятности, определявшие ее жизнь в течение всех этих лет Порой необъяснимые открытия Франческо, помощь, приходившая от папы Бенедикта XI, и даже ее назначение в Клэре Элевсия не просила об этом, но именно в Клэре находилась тайная библиотека. А недалеко от аббатства стоял мануарий Суарси. Аньес. – Аннелета! Расскажите мне об этой… цепи. Крупная женщина вздохнула, а потом призналась: – Я больше ничего не знаю, матушка. В какой-то момент я думала, что наш добрый Папа Бенедикт XI возглавляет организацию. Но ничего подобного. К тому же я не уверена, что слово «цепь» здесь подходит. – Но послушайте, – вскинулась Элевсия, – кто просил вас следить за мной? – Бенедикт, разумеется. – Наш Папа, Никола Бокказини? – Да. – Как так? Он вас знал? – Я входила в его окружение, когда он был епископом Остии. – Но он совсем не знал меня… Я была всего лишь посредницей. – Возможно. Постепенно нервное напряжение сменялось паникой: Элевсия все сильнее чувствовала, что их всех опутывает гигантская паутина, хотя они этого не осознают. – Разве мы не пешки на шахматной доске, о которой нам ничего не известно? – Какая разница, ведь это великолепная шахматная доска! Я уверена, что та, кто сеет смерть в нашем аббатстве, тоже причастна к гибели эмиссара Папы, тело которого было найдено в лесу. Ведь говорили, что он обожжен, хотя вокруг не было никаких следов огня… Ржаная спорынья. Несколько минут Аннелета размышляла, а потом добавила: – Вы накормили этого посланца, того, кто приезжал к вам? Аббатиса поняла, куда клонит сестра-больничная. У нее пересохло в горле от страха, что она сама, возможно, была невольной пособницей отравительницы. Она воскликнула: – Боже мой!.. Неужели вы думаете, что тот хлеб, что я дала ему… Разве спорынья встречается также в овсе, ячмене и полбе, из которых мы готовим общую пищу? – Спорынья поражает и другие злаки, хотя не так часто. Впрочем, мука, которую Аделаида нашла в гербарии, была, безусловно, ржаной. Остается узнать, кто дал роковую буханку посланцу. Элевсия, почувствовав облегчение, корила себя за эгоизм. – А поэтому легко предположить, что это чудовище виновно в смерти всех тех, кто приезжал раньше или позже эмиссара, которого вы принимали, – продолжила Аннелета. Элевсия смотрела на нее, не говоря ни слова. Истина постепенно вырисовывалась, и она сердилась, что не видела ее до сих пор. От невыносимой душевной боли у нее на глазах выступили слезы. «Клеманс, Клэр, Филиппина… Вы, кто все эти годы поддерживал меня, должно быть, презираете меня за трусость…» – Как вы думаете, существует ли связь между арестом мадам Аньес и приездом в наше аббатство этого инквизитора? – услышала Элевсия свой глухой голос, который едва узнала. – Это не удивило бы меня, матушка. Тем не менее мне не хватает деталей, чтобы сделать вывод. Кто такая на самом Деле мадам де Суарси? Почему вы отводите ей столь важную роль? Тайна, которую мы обязаны хранить для нашего спасения, смертоносна. Моя миссия заключается в том, чтобы защитить вас. Но я ничего не знаю о вашей миссии. Полагаю, что смерть Бенедикта вынуждает нас открыть карты. Элевсия колебалась. – Что вам известно о… Что вам поведал Бенедикт о… Губы сестры-больничной тронула безрадостная улыбка Она сказала: – Ах, неужели нам так трудно сблизиться? Вам не ведомо то, о чем знаю я. Что касается меня, я не имею ни малейшего понятия об объеме сведений, которые сообщили вам. Мы наблюдаем друг за другом, не горя желанием нарушить наш обет абсолютной тайны. Я веду себя так же, как вы, матушка: с какого-то момента я начала прибегать к уверткам. Я колеблюсь между убеждением, что опасность, с которой мы столкнулись и которую мы ощущаем лишь частично, должна вызвать у нас взаимное доверие, и страхом допустить катастрофическую ошибку, полностью открывшись вам. Этими словами Аннелета как бы подвела итог умонастроению Элевсии де Бофор. – Мы должны проявить мужество, дочь моя. Это необходимо, чтобы между нами установилось доверие. Что вам поведал Бенедикт по поводу наших поисков? Сестра-больничная устремила свой взгляд в окно. – На самом деле немногое. Бенедикт боялся, что слишком обширные знания поставят под угрозу братьев и сестер, ведущих эти поиски. Он, несомненно, был прав. Его смерть служит печальным доказательством этому. Он сообщил мне разрозненные детали, настолько путанные, что я даже не убеждена, что правильно поняла их. Я могу повторить вам эти детали лишь в том хаотическом порядке, в котором их сообщали мне. Бенедикт говорил о тысячелетнем столкновении между двумя силами. Эта скрытая, но кровавая война приближается к своей кульминационной точке с тех пор, как была открыта астральная тема, вернее, две темы. Говорил он и о планетарном соединении, касающемся женщины, локализация которого станет возможной благодаря лунному затмению. До сих пор при определении дат рождения, содержащихся в этих темах, возникали трудности, поскольку в астрологических расчетах были допущены ошибки. Эту женщину необходимо защитить, пусть даже ценой наших жизней. Вы являетесь основным элементом этой защиты, а я ваша хранительница. Вот все, что мне известно. Аннелета перестала созерцать деревья, растущие в саду, и, внимательно посмотрев на Элевсию, сказала: – Как я об этом не подумала раньше? Аньес де Суарси и есть эта женщина, не правда ли? – Мы так думаем… но не совсем уверены. Все поиски, все расчеты Франческо указывают на это. – Почему ее жизнь так высоко ценится? – Мы не знаем, несмотря на все наши многочисленные домыслы. Мадам де Суарси никак не связана со Святой землей… Она не имеет отношения к священной генеалогии вопреки тому, что мы сначала думали. Подойдите ко мне и сядьте, Аннелета. Сестра-больничная сделала несколько шагов вперед. Аббатисе показалось, что она шла более тяжелой походкой, чем обычно, и Элевсия спросила: – Вам страшно? – Конечно, матушка. Но разве величие человеческой души не состоит в том, чтобы бороться с животным страхом и идти вперед даже тогда, когда этот страх навевает мысль, что надо забиться в убежище и носа оттуда не показывать? Грустная улыбка озарила лицо Элевсии: – Вы только что пересказали мою жизнь. Мне всегда было страшно. Я с этим боролась с тем или иным успехом. Но поражений у меня было больше, чем побед. Я все чаще сожалею о том, что смерть не выбрала меня вместо одной из моих кровных сестер. Они были гораздо более уверенными, гораздо более сильными, нежели я. Аннелета присела на краешек кровати рядом с Элевсией и прошептала: – Что вы об этом знаете? Кому известно, куда заведет нас шахматная доска, о которой вы говорили? Кому известны цели? Сестра-больничная печально вздохнула. Обе женщины немного помолчали, потом Элевсия сказала: – У меня такое чувство, что меня окружает густой туман. Я пробую наугад, не знаю, в каком направлении двигаться. Аннелета выпрямилась и произнесла тоном, не допускающим возражений: – Теперь мы не одиноки. Теперь нас двое, и у меня нет ни малейшего желания ждать, пока эта ядовитая гадюка нанесет новый удар, оставаясь безнаказанной. Нет! Она встретит меня на своем пути, и я… мы не пощадим ее! Немного уверенности, даже ярости, которую аббатиса почувствовала в голосе своей духовной дочери, передалось и ей. Она тоже выпрямилась и спросила: – Что мы можем сделать? – Прежде всего удвоить бдительность, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность. Я вам уже говорила, матушка: наша жизнь не принадлежит нам, мы не можем ею распоряжаться по собственному усмотрению и, главное, дарить ее убийце. Затем мы должны провести расследование. Бенедикт умер. Теперь мы предоставлены самим себе. Никакая помощь не придет к нам волею провидения. Преступница очень хитра. Я подозреваю, что она крадет лекарства в аптекарском шкафу гербария. А это служит доказательством, что она обладает обширными знаниями в науке о ядах. Я собираюсь спрятать содержимое некоторых мешков и пузырьков. Мы должны найти надежное место для них… Элевсия мгновенно подумала о библиотеке. Но все же она решила не говорить об этом секретном месте даже Аннелете. – Потом я сыграю с этой змеей злую шутку. – Какую? – Хочу преподнести вам сюрприз, матушка. Очевидная недоверчивость Аннелеты успокоила Элевсию. Сестра-больничная никому не позволит ввести себя в заблуждение. Поэтому Элевсия не стала настаивать, чтобы та рассказала ей о своем плане, и только одобрительно кивнула головой. – Наконец, – продолжала сестра-больничная, – Бланш де Блино, и это самое важное. Почему хотели убить эту слабоумную, почти глухую старую женщину, которая буквально через минуту забывает, что она делала или говорила? Аннелета нарисовала не слишком лестный портрет Бланш, но сейчас Элевсии было не до упреков, которые прежде были частью ее жизни. – Бланш – наша благочинная, – продолжала сестра-больничная. – Она помогает вам и выполняет обязанности приора в моменты просветления, которые наступают все реже. Внезапно Аннелета вскочила. Ее озарила одна мысль. Показывая пальцем на аббатису, она почти кричала: – И она хранительница печати! – Моя печать? – заволновалась Элевсия, вставая. – Вы думаете, что кто-то взял мою печать? Срывательница печати?[127] При помощи моей печати можно сделать все… отправлять секретные послания в Рим, королю, узаконивать акты и даже смертные приговоры… что еще… – Когда Бланш не пользуется печатью, чтобы удостоверить маловажные документы, которые она подписывает от вашего имени, облегчая вашу задачу, где вы ее держите? – В несгораемом шкафу, вместе с конфиденциальными документами. В тот самый момент, когда Элевсия произносила эту фразу, ее обожгла одна мысль. Аннелета, несомненно, заметила смятение аббатисы, поскольку продолжала настаивать: – Печать по-прежнему там? – Нет… Да, конечно, я в этом уверена, – сказала аббатиса. Элевсия положила руку на грудь и немного успокоилась, прикоснувшись к толстой цепи, на которой висел ключ. С ним она никогда не расставалась. Внезапное изменение тона насторожило Аннелету. Она смотрела на аббатису и ждала продолжения. – Несгораемые шкафы аббатств всегда запираются на три ключа в целях безопасности. Дверной механизм приходит в движение лишь в том случае, если все три ключа поворачиваются одновременно. По традиции один ключ хранится у аббатисы, второй – у хранительницы печати, а третий – у приора. – А поскольку Бланш – хранительница печати и приор, значит, у нее было два ключа? – Нет. Наша благочинная стареет душой и телом, и это вынудило меня отобрать у нее один из ключей. Я доверила его нашей экономке, которая зависит непосредственно от меня. По занимаемому ею иерархическому положению она имеет на это право. – Этой желчной Берте де Маршьен, которой я не доверила бы свою жизнь! – Как вы можете такое говорить, дочь моя! – начала бранить Аннелету Элевсия. – А что? Разве мы не отбросили в сторону любезности, требуемые правилами приличия? Я не доверяю этой женщине. – Я тоже, – призналась аббатиса. – Впрочем, она не единственная. После минутного колебания Элевсия рассказала Аннелете о сцене, невольной свидетельницей которой она стала несколько недель назад: о разговоре между Эммой де Патю, учившей детей, и Никола Флореном, которому она была вынуждена предоставить в аббатстве кров. – Эмма де Патю разговаривала с инквизитором, присутствие которого мы едва терпели? – повторила ошеломленная Аннелета Бопре. – Он воплощение зла, он один из наших врагов. О чем они могли говорить? Где она с ним познакомилась? – Не знаю. – Нам надо проследить за ней. Но сейчас нужно как можно скорее проверить, не украли ли ключ у нашей благочинной. – Однако несгораемый шкаф невозможно открыть без моего ключа. Духовная дочь аббатисы скривила губы, что было красноречивее слов, которые она сдержала. Вместо нее эти слова произнесла Элевсия: – В самом деле… Если Берта де Маршьен… ну, если убийца уже завладела двумя ключами, я представляю для нее последнее препятствие, – подвела итог аббатиса. – Пойдемте, спросим у Бланш… Боже мой, бедная Бланш… Какая легкая добыча. Как женщины и ожидали, они нашли Бланш в обогревальне, единственном отапливаемом в это время года помещении, где Бланш де Блино пыталась унять боль во всех своих членах. Она попросила обустроить ей небольшой уголок, поставить туда пюпитр, за которым она могла сидя читать Евангелия, не страдая от неудобств. Благочинная посмотрела на женщин покрасневшими от горьких слез глазами и прошептала: – Я никогда не думала, что мне придется столкнуться с таким ужасом, матушка. Бедная малышка Аделаида! Отравительница среди нас, в наших стенах! Неужели это конец света? – Нет, дорогая Бланш, – попыталась успокоить ее Элевсия. – Все думают, что рассудок все чаще покидает меня, и это, несомненно, верно. Тем не менее порой я бываю в своем уме. Настойка предназначалась мне, правда? Аббатиса, колебавшаяся лишь долю секунды, ответила: – Да, это правда, дорогая Бланш. – Но почему? Что я такого сделала, отчего некто желает моей смерти, я, которая никогда не оскорбила, даже не обидела ни одной души? – Мы знаем почему, сестра моя. Аннелета и я обсудили это чудовищное преступление во всех подробностях. Постепенно мы пришли к одному и тому же выводу. Лично вас убивать не хотели. Вы по-прежнему храните ключ, который я вам дала? Ключ от несгораемого шкафа. – Ключ? Значит, все дело в ключе? – Мы так предполагаем. Бланш, скривившись от боли, встала. – За кого меня принимают! – воскликнула она голосом, вновь обретшим твердость, уже знакомую прежде Элевсии. – Возможно, мой рассудок иногда мутится, но я не совсем рехнулась, как это некоторые думают. Бланш с неприязнью посмотрела на Аннелету. – Разумеется, ключ у меня. Я его чувствую каждую секунду. Бланш высунула из-за пюпитра ногу, обутую в туфлю с кожаным ремешком, и протянула ее сестре-больничной. – Ну, Аннелета, вы еще молоды. Помогите мне снять туфлю и стащите носок. Аннелета послушно выполнила все, о чем ее просила Бланш. Она увидела, что ключ был привязан к подошве ноги старой женщины. От соприкосновения с металлом на бледной коже остался след. – Но он, вероятно, причинял вам дополнительные страдания, – заметила Аннелета. Бланш, решившая поставить точку, резко ответила: – Разумеется, но так я чувствую его постоянно и не боюсь потерять. А что вы думали? Что в этом аббатстве только вы наделены здравым смыслом? Сестра-больничная сдержала улыбку, неуместную в это опасное время, и призналась: – Если я так думала, то сейчас вы доказали, что я была очень глупой. Бланш одобрила слова своей духовной сестры, с удовлетворением кивнув головой, и сказала: – Подобная откровенность делает вам честь. Неожиданная печаль развеяла хорошее настроение старой дамы. – Тем не менее в одном вы правы. Я уже старая и все чаще погружаюсь в дремоту. Нет, нет, я не жду от вас утешений. – Повернувшись к аббатисе, благочинная продолжила: – Матушка, вы знаете, что я питаю к вам дружбу, уважение и нежность. Я прошу вас об одолжении: избавьте меня от моего бремени, от ключа. Я выбрала этот неудобный тайник только потому, что порой, во время все более Длительных минут забытья, кто-то ощупывал мне грудь и пояс. Возможно, это было просто одно из ощущений, возникающих во время сна. Но я отнеслась к нему серьезно и положила ключ… в свою туфлю. – Вы правильно поступили, Бланш, – похвалила ее Элевсия. – Мы доверим этот ключ сестре-больничной, а потом открыто заявим, что по вашей просьбе вы были освобождены от этой обязанности, но не назовем имя новой хранительницы. Таким образом… – Таким образом, меня не убьют, чтобы стащить ключ, – закончила фразу старая дама. – Ваша идея, сестра моя, столь гениальна, что я воспользуюсь ею. Туфля, какое чудесное место! – солгала Аннелета. На самом деле Аннелета подумала об ином тайнике. Она сердилась на себя за то, что ей пришлось солгать бедной Бланш, но она по-прежнему считала, что из-за почтенного возраста умственные способности сестры-благочинной ослабли, и боялась, что Бланш могут втянуть в опасные разговоры. Никто, кроме аббатисы и ее самой, не будет знать место, куда она спрячет ключ. Через некоторое время они расстались с Бланш де Блино, уверенные, что отныне ее сны станут более легкими. Когда они вернулись в кабинет аббатисы, Элевсия сказала: – Мне потребуется ваш ключ на несколько минут. Я также заберу ключ у нашей экономки. Я хочу убедиться, что моя печать по-прежнему лежит в несгораемом шкафу. Затем я найду вас, Аннелета. Аннелета поняла, что аббатиса отсылает ее, но не обиделась. В несгораемом шкафу лежали, несомненно, документы, о которых ей не следовало знать. Кроме того, она должна была приготовить свою шутку, как она это называла. Элевсия де Бофор нашла Берту де Маршьен, сестру-экономку, перед сенным сараем. Та считала вязанки сена, которые четверо сервов складывали пирамидой. Выражение лица Берты неприятно поразило аббатису. Она не смогла прочесть на нем ни малейшего намека на печаль или волнение. Элевсия почувствовала, как ее охватывает неприязнь, но сумела взять себя в руки. Берта никогда не состояла в близких отношениях с Аделаидой, равно как и с другими сестрами. Экономка проворчала сквозь зубы: – До чего они нерасторопны! В таком темпе мы и до ночи не закончим. – Вязанки очень тяжелые. – Матушка, вы слишком добры. Они лентяи, вот и все. Думают лишь о том, как бы поживиться за наш счет. Мой отец был совершенно прав… Берта замолчала на полуслове. Ее отец смертным боем бил своих людей, возлагая на них ответственность за собственные промахи. Он морил их голодом, заставлял их подыхать как собак. И аббатиса знала об этом. Она также знала, что покойный мсье де Маршьен, бросив беглый взгляд на новорожденную дочь, заявил, что она уродина, что у нее нет будущего, и больше не проявлял к ней никакого интереса. Берта цеплялась за мечту, которая, как она знала, никогда не осуществится. Она всегда мечтала о жизни, которой была лишена, о жизни, в которой она была бы красивой. В такой жизни она занимала бы место, соответствующее своему положению, которого ее лишили равнодушие и беспросветная глупость отца, в конце концов разорившего семью. – Дорогая Берта, не могли бы вы дать мне ключ от несгораемого шкафа, который хранится у вас? Элевсии показалось, что по лицу экономки пробежала тень. Она удивилась, почему экономка неожиданно потеряла уверенность и, запинаясь, пробормотала: – Разумеется… Я… всегда храню его при себе. Почему… В конце концов, я не должна спрашивать о причинах, которые вынуждают вас открыть несгораемый шкаф, но… – Так оно и есть, – властно оборвала ее Элевсия. – Ключ, прошу вас. Аббатису охватили беспокойство и ярость. Как? Берта станет утверждать, что она потеряла ключ? Неужели подозрения, которые она всегда питала к экономке, оправдались? Она протянула руку. Маленькое постное лицо Берты де Маршьен еще сильнее сморщилось. Она расстегнула верхнюю пуговицу, вытащила длинный кожаный шнурок и сняла его с шеи. Ключ висел на конце шнурка. – Благодарю вас, дочь моя. Я верну вам ключ после того, как закончу. Когда через четверть часа Элевсия вставляла все три ключа в замочные скважины, она дрожала так сильно, что ей пришлось дважды повторить попытку. Она лишь мельком взглянула на свою печать. Но когда ее пальцы коснулись старого пергамента,[128] на котором были изображены планы аббатства, она вздохнула с огромным облегчением. Ни на одном из планов не была отмечена тайная библиотека. Теперь аббатиса не сомневалась, что целью убийцы были именно эти планы.
Замок Ларне, Перш, ноябрь 1304 года
Эд де Ларне в пятый раз перечитал короткую записку, написанную рукой инквизитора Никола Флорена. Что означал этот поворот событий? Когда Флорен посоветовал ему раздобыть письменное свидетельство Матильды де Суарси, он обещал, что девочка не будет давать показания перед судьями ее матери. И вовсе не потому, что барон хотел защитить свою племянницу. Он боялся, что вся та паутина лжи, которую он вбил в голову девочке, порвется при перекрестном допросе. Надо же такое придумать! У Флорена было достаточно сил, чтобы позволить Аньес гнить в камере и лишить ее вдовьего наследства! Поскольку Эд стал фактическим опекуном Матильды, какое-то время вдовье наследство Аньес будет принадлежать ему. Этого времени вполне хватит, чтобы Эд смог осуществить свои планы. Когда он окончательно обделает дельце, у этой глупой донзеллы[129] не останется и ломаного су. И как только дядюшке наскучат юные прелести племянницы, она добровольно или насильно уйдет в монастырь. В конце концов, в монастырях девушек кормят и одевают. Но главное, никто не слышит, как они жалуются на судьбу. А этот инквизитор не слишком почтительно с ним обошелся. В записке содержались даже едва скрытые угрозы. Эд вновь прочитал вполголоса: «…Вы должны как можно скорее привезти мадмуазель вашу племянницу в Дом инквизиции Алансона и оставить там ее наедине с нами, чтобы мы оценили степень ее тревоги и претензий к матери…» Ни просьбы, ни формул вежливости. Эда охватило раздражение. Ему придется везти Матильду в Алансон. Для этой поездки нужно будет закладывать карету, поскольку глупая гусыня боялась лошадей и хваталась за вожжи, повисая на шее лошади, как мешок, набитый трухой. Аньес же любила ездить верхом. Ее не останавливали даже опасные дамские седла. Самый быстрый, самый норовистый и самый необузданный конь пускался вскачь, едва почувствовав прикосновение ее ног, словно он наконец обрел хозяина. А ведь именно Эд, и никто другой, научил девочку держаться в седле, когда той исполнилось пять лет. Она визжала от восторга, опуская голову, чтобы не задеть низкие ветви, без колебаний переправляясь через водные потоки, перепрыгивая через кустарник. Она часто выигрывала скачки, которые они устраивали. Внезапно Эд, осознав всю несуразность своего плана, пришел в ужас. Что? Кроме денег и власти, которую они давали, Аньес была единственной, кто имел для него значение. Как он дошел до этого? Что теперь ему делать с этой глупой девчонкой, которая расхаживала в платьях ее умершей при родах тетушки, перешитых почти сразу после того, как их владелицу опустили в землю, и при этом не чувствовала никаких угрызений совести? Аньес скорее надела бы нищенские лохмотья, чем приняла столь недозволенные подарки. Она шла бы с гордо поднятой головой, королева среди королев, одетая в рубище, и все кланялись бы ей. Она спала бы на земле, как собака, но ни за что не легла бы на опустевшее супружеское ложе. Боже мой, как он до этого дошел? Потому что она питала к нему отвращение? К нему или к той связи по крови, которая их объединяла? К их общей крови, разумеется, поскольку иначе не могло быть. Поверить в противоположное означало бы признать его. Что она знала о его крови? Возможно, мать Аньес солгала, чтобы заставить барона Робера признать свой плод? Впрочем, его отец Робер, его дед и теперь он сам, последний мужчина по прямой линии, наплодили множество незаконнорожденных детей, и Эд порой думал, что спал с некоторыми из своих сестер, племянниц, кузин, теток и даже дочерей. И что? Хорошенькое дельце! В конце концов, разве все они не потомки Адама и Евы? Разве Адам и Ева не родили двух сыновей, один из которых убил другого? Кровь была общей. В его мозг, отяжелевший от ярости, ревности, отвергнутой любви, неутоленного желания вкралась одна неприятная мысль. Его вели, хотя он думал, что был единственным создателем своей стратагемы. Разумеется, он в течение многих лет мечтал отомстить Аньес, заставить ее заплатить за брак с Гуго де Суарси кровавыми слезами, отнять вдовье наследство, полученное от мужа. Но он все-таки не собирался отдавать ее в когти инквизиции. Эд стал лихорадочно вспоминать. Поскольку Эд не мог допустить мысли, что он оказался негодяем, действовавшим в порыве страсти и отупевшим от злобы, то он нашел единственного виновного, на которого мог все свалить: Мабиль. Эд на четвереньках взобрался на этаж, где его любовница и сообщница, вернувшаяся в замок, держала маленький двор из других слуг. Она всем ловко дала понять, что ее обязанности выходят далеко за пределы кухни и распространяются на кровать. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы к ней стали относиться с большим уважением, поскольку никто не знал реальную силу ее полномочий. Когда Эд вошел, Мабиль валялась на своей кровати и облизывала указательный палец, который время от времени макала в чашу с медом. Она приветствовала своего хозяина кокетливой улыбкой и раздвинула под платьем ноги. в другое время и в другом месте это приглашение мгновенно подействовало бы. Но не сегодня. Эд приподнял Мабиль за воротник и дал ей звонкую пощечину. Она заныла: – Но что… – Ты мне солгала! Ты мне лгала с самого начала! – зарычал Эд. Мабиль, которой недоставало прозорливости, злобно возразила: – Пусть, но в таком случае это был всего лишь обмен ложью. От другого удара, на этот раз сжатым кулаком, она упала на пол. Служанка поняла, что гнев хозяина был не наигранным и что Эд мог избить ее до полусмерти. Встав на четвереньки, Мабиль простонала: – Монсеньор… да что с вами? – Правду. Я хочу немедленно услышать правду. Если ты мне вновь солжешь, я тебя убью. Ярость помогла Мабиль забыть о страхе. Дело было в этой негоднице Аньес, она могла бы поклясться. Она спокойно села и прошипела: – Что? Нас терзают запоздалые угрызения совести? Слишком поздно, монсеньор. Эд подошел к Мабиль. Его нога резко устремилась вперед и ударила в грудь молодую женщину, сидевшую на полу. Мабиль закричала от боли, согнулась пополам. Она хватала воздух ртом, пытаясь восстановить дыхание. Тем не менее ее тело сотрясалось от злобного хохота. Заикаясь, она проговорила: – Теперь красавица уж наверняка не задирает нос. И, если вы мне позволите, хочу посоветовать вам не отступаться от своих слов. Лжесвидетелям и клятвопреступникам уготовлена незавидная судьба. То же самое касается и этой самодовольной соплячки, к которой вы относитесь как к хозяйке дома. Слишком поздно, говорю я вам! Она подохнет, как того заслуживает, эта пройдоха де Суарси. – Кто тебя надоумил? – Боже мой, мне подсказал это весьма симпатичный властный человек. Настоящий призрак, прямо мороз по коже… Но рассудительный. Он соблазнил меня, перечислив все наказания и пытки. Мне даже в голову не приходило, что им можно подвергнуть красавицу Аньес. Потом он сообщил мне имя инквизитора, к которому вы должны обратиться. Эд понял, что ненависть Мабиль может исчезнуть только со смертью ее врага. Он понял, что им манипулировали, что он угодил в ловушку, которую, как он ошибочно думал, разглядел заранее. – Почему… Почему ты ее так ненавидишь? – Почему? – прошипела Мабиль, как ядовитая змея. – Почему? Потому что она, ничего не прося, получила все то, что я умоляла дать мне. Потому что она снизошла в своей великодушной щедрости взять кончиками пальцев то, что я мечтала получить. Потому что вы обнимали меня, желая, чтобы я походила на нее. Этого достаточно? – Мабиль злобно рассмеялась и закончила: – У меня есть сбережения… А также этот миленькой батистовый носовой платок, который я у нее стащила, чтобы подбросить его в нескольких туазах от трупа, найденного людьми бальи. Идиоты… Они даже не поняли, что если платка не было, когда они в первый раз осматривали место, значит, его прицепили к низкой ветви уже после убийства. Если эта незаконнорожденная вырвется из рук инквизиции, в чем я сомневаюсь, то лишь для того, чтобы умереть от приговора высшего светского суда. Эду показалось, что у его ног разверзлась пропасть. Беззвучным голосом он спросил: – И она никогда не спала со своим каноником, не правда ли? – Нет. Какая разница! Достаточно, чтобы в это поверили, и я буду счастлива. Что касается ереси матери этого чертова Клемана, вероятно, так оно и было, хотя мне на это наплевать. Эд почувствовал в груди леденящий холод. Равнодушным тоном он заявил: – У тебя есть полчаса, чтобы покинуть замок. Ты можешь взять с собой только еду на один день. Когда ты будешь уходить, тебя обыщут. Если ты осмелишься вернуться или разболтаешь наши отвратительные тайны, ты умрешь медленной смертью. С этими словами Эд вышел из комнаты. Мабиль несколько минут сидела неподвижно, не зная, что лучше: разрыдаться или впасть в ярость. Но поскольку она уже давно поняла, что слезы не помогают, она дала ярости выйти наружу. Мабиль встала и процедила сквозь зубы: – Ты мне за это заплатишь, причем сторицей, мой хозяин! К счастью, ее небольшие сбережения, накопленные за несколько лет, хранились в Клэре. На эти деньги вкупе со сведениями об Эде, которые Мабиль собиралась дорого продать, она сможет где угодно начать новую жизнь. Она похвалила себя за предусмотрительность и стала готовиться к уходу, надевая на себя одно платье за другим. – Ты мне за это заплатишь, клянусь душой. Эд лежал лицом на столе общего зала, в луже хотя и красной, но довольно светлой, что не могло вызвать сильного беспокойства у сьера Манюссера, бывшего знахаря мадам Аполлины. Стоявший перед Эдом пустой кувшин свидетельствовал, что сон хозяина был вызван вовсе не усталостью. Знахарь потряс Эда за плечо и быстро отошел назад. Еще не пришедший в себя Эд что-то пробормотал, потом выпрямился, чуть приоткрыв глаза. – Что? – рявкнул он. – Мабиль ушла, монсеньор, на север. Час назад. Вы велели мне предупредить вас. – Ночь уже наступает? – Разумеется. – Эту негодяйку обыскали? – Все сделали так, как вы велели. Барба проверила даже интимные места. Мабиль не могла украсть ни одной ценной вещи или вынести какой-либо документ. Мы дали ей масляный светильник, как вы пожелали, и еды на день пути. – Хорошо. Мою лошадь оседлали? – Как вы велели, монсеньор. Эд встал, слегка покачиваясь, и приказал: – Пусть мне немедленно принесут лохань холодной воды, чтобы я смог освежить свои мысли. Я должен… посетить свой рудник. Знахарь, не поверивший ни одному из этих слов, но отнюдь не горевший желанием навлечь на себя гнев хозяина, поклонился и исчез за дверью. Эд ударил кулаком по столу. – Подлая шлюха, твоим проделкам пришел конец! Вручай свою душу Богу. Если, конечно, Ему не противно ее принять, ведь она наверняка очень грязная. Эд дал Мабиль час форы, чтобы она ушла подальше от замка Ларне. Что касается масляного светильника, то его свет позволит Эду найти служанку. Эд ехал по лесу. Ночное небо было чистым, воздух – свежим и бодрящим. Прекрасная ночь для казни. Мабиль становилась слишком опасной. А раз так, он последует ее совету. Он не мог отказаться от своих заявлений и тем более от заявлений, вложенных в уста безмозглой племянницы. Вскоре он заметил силуэт. Она шла по опушке леса, словно тать,[130] готовая слиться с кустами при малейшей опасности. Женщина резко обернулась на цокот копыт, но Эд успокоил ее широким жестом руки. Он натянул поводья и остановил лошадь в нескольких шагах от Мабиль. – Я погорячился, – бросил он угрюмо. Мабиль подняла светильник, чтобы лучше рассмотреть лицо своего хозяина. То, что она увидела, успокоило ее. На губах Мабиль заиграла победная улыбка. – Мы возвращаемся, – приказал Эд. Эд спешился и подошел к Мабиль. Она изогнулась, изо бражая кокетку, и прижалась к нему. Две руки схватили ее за горло. Мабиль запыхтела, попыталась вырваться, неловко пиная своего убийцу ногами, стараясь вонзить ногти ему в глаза. Он сжимал ее горло так крепко, как только мог, кряхтя от усилий. Ему показалось, что в горле молодой женщины что-то хрустнуло. Мабиль дернулась в последний раз. Наконец ее тело обмякло. Он разжал руки, и безжизненное тело рухнуло к его ногам, как тяжелый тюк, набитый тряпками. Эд потащил тело в заросли. Осмотрев место взглядом, в котором не было ни капли печали или раскаяния, он бросил тело в нескольких туазах от дороги, не забыв задрать юбки до груди. Если Мабиль найдут до того, как ее растерзают дикие звери, то сделают поспешный вывод, будто какой-нибудь бродяга изнасиловал и убил несчастную девушку. И никто не будет проводить тщательного расследования, поскольку речь шла о вилланке. Эд, почувствовав облегчение, сел в седло. В конце концов, кем была эта оборванка? Служанка и к тому же шлюха, немного более хитрая, чем другие, вот и все. Тем более что она имела наглость и, главное, неосторожность солгать ему по поводу каноника. Ему следовало отделаться от нее раньше. Он проявлял к ней чрезмерное великодушие. Все они одинаковые, эти развратницы. Дай им палец, так они всю руку откусят!Женское аббатство Клэре, Перш, ноябрь 1304 года
Наступал вечер. Поднялся резкий ветер; под порывами которого хлопали деревянные створки двери гербария. Аннелета задумчиво рассматривала содержимое высокого аптекарского шкафа. Она любила эти часы спокойного одиночества, когда ей казалось, что благодаря своему уму она царит над миром, который, хотя и ограниченный толстыми стенами маленького домика, был еесобственным. Страх, а также беспокойство за жизнь аббатисы покинули ее. Сейчас не время довольствоваться лишь реакцией на угрозу. Настало время действовать, Она столкнулась с изворотливой, дальновидной и скрытной противницей, одним словом, с противницей, достойной ее самой. То, что для нее сначала было миссией – защита аббатисы, – превратилось в своего рода личную битву, пари, которое заключила она сама. Окажется ли она более сильной, более хитрой? Противница Аннелеты предоставила ей, даже не подозревая об этом, уникальную возможность испытать свои способности, проверить степень своего превосходства. Все эти годы Аннелета мечтала убедиться в этом, но ей всегда недоставало объективных доказательств. В глубине души она была убеждена, что вскоре встретится лицом к лицу с существом, мозг которого работал так же четко, как ее собственный, с той лишь разницей, что та, другая, была пособницей зла. Сестра-больничная без особого труда подчинилась уставу monasterium, монастыря, этой общины женщин, большинство из которых она презирала, равно как и мужчин. По ее мнению, это было меньшим из зол. Тем не менее мысль о том, что ей предстоит сразиться с иным мировоззрением, опьяняла ее. Она оставит мольбы и молитвы другим и призовет на помощь свой недюжинный ум, которым наградил ее Господь. Она полагала, что речь идет о неопровержимой благодарности, о полнейшей преданности, которую она только может выразить Господу. Аннелета вздохнула от удовольствия: борьба начиналась, и она будет безжалостной. Злу, умело чинимому ее противницей, она противопоставит все свои знания, весь свой ум, все свое презрение к суеверию. Она даже вздрогнула от охватившей ее эйфории: разве когда-нибудь она чувствовала себя столь свободной, столь могущественной? Разумеется, никогда. Аннелета принялась снимать с полок мешочки с засушенными и толчеными травами, пузырьки и склянки с настойками, отварами, экстрактами, которые она заготовила весной и летом. На край каменной ниши она поставила маленькую склянку, запечатанную пробкой из коричневатого воска, которой она пользовалась в очень редких случаях. Другие лекарства она разложила на большом столе. Слева находились препараты, которые не привели бы к летальному исходу в тех дозах, в которых отравительница могла подмешать их в пищу или напитки. Это были сушеные листья шалфея, розмарина, тмина, артишока, мяты, мелиссы, другие растения, которые использовали как в качестве приправ к блюдам, так и для лечения самых распространенных болезней. Справа возвышалась горка из одурманивающих и отравляющих средств, которые она собиралась отдать Элевсии, чтобы та спрятала их в надежном месте. Как ни странно, но пузырек с настойкой из корней aconitum napettus,[131] которую она применяла при гиперемических воспалениях, различных болях и подагре, оставался нетронутым. Где же убийца раздобыла аконит, при помощи которого она отравила Аделаиду? Волне возможно, что убийца давно разработала свой план и украла настойку в прошлом году. Затем Аннелета внимательно стала читать буквы, вышитые красными нитями, которые предупреждали, что содержимое этих холщевых мешочков таит в себе опасность. Она спрашивала себя, что бы она выбрала, если бы вдруг ей самой захотелось совершить злодеяние. Ее взгляд остановился на мешочках с толчеными листьями digitalis purpurea,[132] которые она использовала для лечения водянки и одышки, с листьями conium maculatum,[133] предназначенными для лечения невралгии и болезненных обильных менструаций, и с порошком taxus baccata.[134] Этот порошок она смешивала с зерном, чтобы вывести лесных мышей, бесчинствовавших в амбарах аббатства. Столь простой способ отравления привел ее в ужас. Аннелета бросилась к аналою, на котором лежала толстая книга учета. В ней она в подробностях фиксировала все предписания, а в конце каждой недели подсчитывала, сколько оставалось в каждом мешочке. Запасы taxus baccata должны были составлять одну марку* одну унцию* и три гросса[135]*. Она схватила весы и проверила вес мешочка. Он едва тянул на одну марку и восемь гроссов. Не хватало примерно пяти гроссов[136] тисового порошка. Этого было вполне достаточно, чтобы убить лошадь, а значит, и человека, то есть монахиню. Кто станет следующей жертвой? Аннелета упрекнула себя: ее размышления вновь оказались ошибочными. Существовали две возможности. Одна из них предполагала, что враг принадлежит к клану тьмы, клану, который отчаянно сражался, чтобы помешать им в их поисках. Если это так, то на пути отравительницы вставали два препятствия: Аннелета и Элевсия де Бофор. Вторая возможность была более банальной, но такой же смертоносной: речь шла о личной ненависти или зависти. В таком случае личность следующей жертвы будет труднее установить. Ей на ум пришла одна мысль, и Аннелета вновь стала читать книгу учета, проверяя даты последних взвешиваний. Она опять полностью исключила одну из маловероятных подозреваемых, Жанну д'Амблен. Порошок тиса могли украсть лишь за два дня до убийства Аделаиды, то есть тогда, когда Жанна была в отъезде. Так или иначе, выбор отравляющего вещества был удачным: противоядия просто не существовало. Симптомами отравления были тошнота, рвота, затем начиналась дрожь, кружилась голова. Вскоре жертва впадала в кому и умирала. Это открытие подтверждало выводы Аннелеты: убийца хорошо разбиралась в ядах… Если только у нее не было толкового советчика… Но кто ей мог советовать? Надо было размышлять, искать средства борьбы. Порошок тиса был горьким, значит, он мог остаться незамеченным лишь в очень сладком и пряном блюде. В пироге. Или – вершина преступного замысла – в другом горьком целебном настое. Жертва отравления не удивится горькому вкусу питья. Аннелета трудилась еще целый час, складывая пузырьки и мешочки со смертоносным содержимым в большую корзину. Одновременно она пересыпала содержимое из одного мешочка в другой. Теперь шалфей занял место в мешочке для листьев аконита, остро-пестро – в мешочке для наперстянки, а вербена аптечная – в мешочке, предназначенном для daphne mezereum,[137] чудесного кустарника с душистыми розовыми цветами, три маленькие ягоды которого могли убит здоровенного хряка. Если убийца воспользуется ими, сможет похвалить себя за то, что вылечила свою жертву от кашля, колик или ломоты. На губах Аннелеты Бопре заиграла улыбка. Она перешла к следующему пункту своего плана и сняла полотенце с ивовой корзинки с яйцами, которые стащила из курятника тайком от сестры – хранительницы садков и птичьего двора. Бедную Женевьеву Фурнье мог бы хватить апоплексический удар, заметь она, что пятнадцать ее дорогих наседок не снесли яиц. Яйца, которые Женевьева каждое утро собирала и пересчитывала, она рассматривала как доказательство действенности хорошего ухода за птицей и благоволения Господа к ее курятнику. Чем лучше неслись птицы, тем сильнее гордилась Женевьева, ставшая в конце концов похожей на довольную толстую индюшку. Аннелета поджала губы, укоряя себя: конечно, она поступила немного жестоко. Женевьева Фурнье была милейшей сестрой, но ее рассуждения о необходимости петь псалмы курам, гусям и индюкам, чтобы они набирали вес прежде, чем оказаться на их столе, надоели сестре-больничной, равно как и уткам, которым Женевьева силой впихивала зерно в клюв. Приглушенный шум, раздавшийся снаружи, заставил Аннелету поднять голову. Повечерие* давно закончилось. Кто мог еще быть на ногах в столь поздний час? Аннелета опустила колпачки на двух светильниках, освещавших гербарий, и подошла к двери. Шум вновь повторился. Это было эхо осторожных шагов, ступавших по гравию одной из поперечных дорожек, разделявших грядки с лекарственными растениями. Аннелета резко распахнула дверь и оказалась лицом к лицу с Иоландой де Флери, сестрой-лабазницей, одной из своих подозреваемых, поскольку она могла без труда раздобыть отравленные зерна ржи. Пухленькая молодая женщина стала белой, как привидение, и схватилась за сердце. Угрожающим тоном Аннелета потребовала объяснений: – Сестра моя, что вы здесь делаете в час, когда все уже легли? – Я… – забормотала Иоланда, на щеках которой выступил густой румянец. – Вы? Иоланда де Флери с трудом проглотила слюну. Казалось она лихорадочно искала причину, объяснявшую ее появление здесь. – Ну… Боль в животе… она появилась у меня сразу после ужина, и я… – И у вас достаточно знаний, чтобы найти лекарство, которое помогло бы вам? – Терновник мне… Аннелета резко прервала Иоланду: – Терновник рекомендуют при многих заболеваниях. Его используют как мочегонное, слабительное, кровоочистительное средство. Он незаменим при лечении фурункулов. У вас есть фурункулы или акне, сестра моя? Что касается болей в животе… вам подойдут остро-пестро, василек или полынь. Одним словом, множество лекарственных трав, но только не терновник. Итак, я повторяю свой вопрос: что вы здесь делаете? Иоланда принужденно рассмеялась и сказала: – Признаюсь, я придумала плохой предлог. Все эти истории, смерть нашей бедной Аделаиды потрясли меня. Мне надо было подышать свежим воздухом, подумать… – Неужели? Ста арпанов*, которые занимает наше аббатство, вам показалось мало, и вы решили «прогуляться» перед гербарием? Аннелете показалось, что Иоланда еще больше растерялась и вот-вот зальется слезами. Тем не менее что-то в ее поведении, хотя и странном, подсказывало Аннелете, что Иоланда де Флери бродила здесь вовсе не для того, чтобы стащить яд из аптечного шкафа. К тому же убийца уже раздобыла порошок тиса. – Будет вам, сестра моя! Перестаньте! И немедленно отправляйтесь в ваш дортуар. И тут Иоланда сделала движение, которое ошеломило сестру-больничную. Монахиня схватила ее за рукав и взволнованно прошептала: – Вы расскажете нашей матушке, что я была здесь? Аннелета резко высвободила руку, сделала шаг назад и сухо ответила: – Разумеется. Вдруг занервничав, она принялась безжалостно отчитывать Иоланду: – Разве вы забыли, сестра моя, что среди нас прячется чудовище? Разве вы еще не поняли, что эта отравительница, вероятно, украла яд из моего шкафа, тот самый яд, который вызвал ужасную кончину нашей келарши? Одним словом, неужели вы глупы как курица? – Но… но… – Что «но, но»? Немедленно возвращайтесь, сестра моя. Наша матушка будет поставлена в известность о вашем поведении. Аннелета смотрела, как исчезал в темноте силуэт молодой женщины, заливавшейся слезами. Зачем же приходила сюда эта глупышка? Иоланда так неумело лгала, что Аннелета сомневалась, что та была отравительницей. Хотя… А если эта неумелая ложь была всего лишь очередным притворством? Аннелета вошла в гербарий и приступила к главному этапу борьбы. Она убрала в шкаф мешочки, надписи на которых теперь не соответствовали их содержимому, и, скривив рот от отвращения, взяла маленькую, запечатанную восковой пробкой склянку, которую раньше отложила в сторону. Затем она разбила яйца, вылив белок в терракотовую миску, и добавила в эту склизкую массу несколько капель миндального молочка, которое привезла из Остии, чтобы смазывать им зимой обмороженные пальцы и губы. Она энергично взбила эту массу и, вздохнув, решилась наконец откупорить пузырек, задержав на несколько мгновений дыхание. Сразу же ей в нос ударил зловонный запах, запах гнилых зубов или стоячего болота. Запах эссенции ruta graveolens, руты душистой, или благодатной травы. Аннелета сомневалась, что это последнее название было связано с поверьем, будто растение помогало при укусах змей или бешеных собак,[138] и находила этому более простое объяснение. Руту душистую использовали как абортивное средство в жалких лачугах, где появление еще одного лишнего рта считалось катастрофой, несмотря на гневное осуждение подобных действий Церковью. Большие дозы или неправильное употребление могли привести к смерти. Она быстро вылила содержимое пузырька в белки и вновь начала энергично взбивать их, едва сдерживая приступы тошноты. Наконец она вылила смесь на пол, прямо перед аптекарским шкафом. Масло не позволит смеси слишком быстро высохнуть и будет лучше удерживать ее на деревянных или кожаных подошвах. Затем Аннелета взяла большую корзину, в которую она сложила самые опасные препараты, и вышла, не потрудившись запереть за собой дверь на замок. Ее ждала мать аббатиса. Аннелета шла в темноте, прислушиваясь к каждому шороху. Путь ей освещал небольшой светильник. По правде говоря, она не испытывала особого страха. Убийца вряд ли обладала достаточной физической силой, чтобы открыто напасть, тем более на противницу такого высокого роста и столь крупного телосложения.Дом инквизиции, Алансон, Перш, ноябрь 1304 года
Часом раньше приехала Матильда де Суарси в сопровождении барона де Ларне. Никола Флорену показалось, что барон был чем-то раздосадован. На физиономии барона отчетливо читались следы пьянства, что очень обрадовало инквизитора. Свидетельства человеческого распутства всегда поднимали ему настроение. Роскошное меховое манто, которое больше подошло бы замужней женщине, чем девочке, доказывало, что барон относился к своей юной племяннице с подчеркнутой предупредительностью. Аньян провел их в маленькую комнату, где царил ледяной холод. Эдом де Ларне все сильнее овладевала тревога. Впрочем, он изображал безмятежное спокойствие, чтобы не напугать племянницу. Во время долгого путешествия в Алансон он был весьма любезен с Матильдой, хвалил ее фигуру, наряд, голос. Он заставил девочку повторить ее показания, стараясь предостеречь от возможных ловушек. Наконец он напомнил Матильде, что, если она отречется от своих слов, инквизиторский суд может обвинить ее в лжесвидетельстве, а подобное клятвопреступление чревато для них обоих серьезными последствиями. В дверях появился молодой секретарь с отталкивающей внешностью, тот самый, который провел их в эту комнату ожидания. Эд встал, сделав вид, что намерен сопровождать свою племянницу, хотя знал, что инквизитор вызвал ее одну. Аньян покраснел и пробормотал: – Мессир, прошу вас, сидите. Перед судом попросили выступить только мадемуазель де Суарси. Эд грузно рухнул на стул, выразив свое недовольство восклицанием «ей-богу»,[139] прозвучавшим не так громко, как ему хотелось бы. Эдом вновь охватило беспокойство, которое он тщательно сдерживал во время путешествия. Вдруг Матильда струсит, представ перед инквизитором? Вдруг он, прибегнув к словесным уловкам, тонкостям доктрины, невольно заставит ее оплошать? Нет же, после вынесения приговора Аньес Флорену щедро заплатят. Инквизитор был заинтересован в том, чтобы принимать заявления девочки как освященный хлеб. Но кем были другие судьи? Заплатил ли им Никола Флорен из собственного кармана, чтобы гарантировать их попустительство? Ведь у Матильды, несмотря на все ее очарование, были куриные мозги. Эд напрасно беспокоился. Матильда была преисполнена решимости не допустить ошибку, которая могла бы заставить ее вернуться в Суарси и свинарники мануария. До чего же она была соблазнительной, эта прелестная барышня, сделавшая вид, будто испугалась при виде судей! Она, одетая в красивое платье из пурпурного шелка, которое дополняла ярко-лазоревая тонкая накидка, держалась как молодая дама. Она стояла перед ними, напустив на себя притворную скромность, скрестив свои маленькие ручки на животе, слегка опустив голову. Флорен молча похвалил вкус Эда де Ларне, спрашивая себя, уложил ли уже барон свою племянницу в постель. Инквизитор подошел к девочке и заговорил слащавым тоном: – Мадемуазель… Сначала позвольте мне похвались вас за смелость и силу вашей веры. Мы понимаем, как вам тяжело. Исполнить свой долг, обвинив мать, – это доставляет ни с чем не сравнимые страдания, не правда ли? – Намного меньшие, что страдания, которые испытываешь при виде ее заблуждений. – Как это верно, – горестным тоном согласился Флорен. – Теперь я должен попросить вас назвать свою фамилию, имя, занимаемое положение и место жительства. – Матильда Клеманс Мари де Суарси, дочь покойного Гуго де Суарси и Аньес Филиппины Клэр де Ларне, дамы де Суарси. Мой дядюшка и опекун, барон Эд де Ларне, любезно приютил меня в своем замке после ареста моей матери. Нотариус встал и произнес, словно заученный урок: – In nomine domine, amen. В 1304 году, 11 числа ноября месяца, в присутствии нижеподписавшегося Готье Рише, нотариуса Алансона, одного из его секретарей и свидетелей по имени брат Жан и брат Ансельм, доминиканцев из Алансонского диоцеза, урожденных соответственно Риу и Юрепаль, Матильда Клеманс Мари де Суарси лично предстала перед досточтимым братом Никола Флореном, доктором теологии, господином инквизитором территории Алансона. Инквизитор поблагодарил нотариуса легкой улыбкой и подождал, пока тот вновь устроится на скамье. Потом он бросил беглый взгляд на доминиканцев. Брат Ансельм пристально смотрел на девочку. Что касается брата Жана, то он, казалось, погрузился в созерцание своих ногтей, положив руки на стол. Никола подавил охватывавшую его радость: никто не догадывался о маленькой трагедии, которую он готовился чуть позднее разыграть перед ними. Никола Флорен взял со стола большую черную книгу, подошел к Матильде так близко, что едва не касался ее тела, и сказал: – Клянетесь ли вы на Евангелиях, что все ваши слова истинны, что вы не станете утаивать от суда никаких подробностей, что вы свидетельствуете без ненависти, без принуждения, без вознаграждения? Подумайте, мадемуазель. Речь идет о клятве, которой навсегда будет скреплена ваша душа. – Клянусь. – Мадемуазель де Суарси, вы заявили в свидетельстве написанном вашей рукой, что – я цитирую – «моя душа страдает при мысли о мерзостях, многократно чинимых мадам де Суарси, моей матерью, а ее упорство в грехе и заблуждениях заставляют меня бояться за ее душу». Затем: «Брат Бернар, еще молодой каноник, который приехал к нам столь набожным, не опасаясь этой тени, творящей зло, так изменился, общаясь с ней». Наконец, вы успокоили нас на свой счет, но вместе с тем вызвали тревогу относительно мадам вашей матери, заявив: «Господь наделил мое сердце силой, достаточной, чтобы не поддаться злу, пример которого мне постоянно подавала моя мать. И все же мое сердце истекает кровью и причиняет мне боль». Вы признаете, что это писали именно вы, что это не подделка? – Да, господин инквизитор, – согласилась Матильда голосом маленькой девочки. – Хотите ли вы отказаться от своих заявлений, смягчить их или изменить каким-либо образом? – Они в точности отражают истину. Отказ от них был бы грубой ошибкой и тяжким грехом. – Прекрасно. Письмоводитель, вы отметили, что свидетель подтверждает свои показания? В ответ молодой человек нервно кивнул головой. Флорен продолжал: – Вы еще очень молоды, но я прошу вас припомнить все, что могло бы нас просветить. Когда вы заметили первые проявления зла, отравившего душу мадам де Суарси, и какие это были проявления? – Мне трудно припомнить точную дату… Вероятно, мне было шесть лет, может быть, семь. Я… Матильда понизила голос, словно ее пугало то, о чем о собиралась сообщить. – Я видела, как она выплевывала облатку, причем несколько раз. Мужчины, сидевшие за столом, в ужасе перешептывались. Флорен мысленно поздравил Эда де Ларне: прекрасная выдумка, он не мог бы дать лучшего совета. – Вы уверены, что ваши глаза не обманули вас… Это так… чудовищно. – Я в этом совершенно уверена. Заскрежетал замок, но на этот раз тихо. Аньес, измученная лишениями, дрожащая всем телом, собрала последние силы и встала. Она задыхалась от малейшего усилия. Ее знобило, и все последние ночи она потела. Едкий запах пота, смешавшийся с запахом экскрементов в отхожем месте, вызывал у нее тошноту. От кашля у нее першило в горле, ее постоянно бросало в дрожь. Голова зудела так сильно, что она больше не знала, от грязи ли это, или у нее в волосах завелись вши. Платье мешком болталось на ее исхудалом теле. Несмотря на манто, которое ей оставил Флорен, не забыв напомнить о своем великодушии, убийственный холод все равно проникал под кожу, добираясь даже до костей. Аньес тут же узнала это безобразное худое лицо, но никак не могла вспомнить имя, а ведь в день ее приезда в Дом инквизиции, вечность назад, Флорен обращался к своему секретарю по имени. – Что… От лихорадочного беспокойства у Аньес зуб на зуб не попадал, и она не смогла произнести фразу до конца. Аньес казалось, что ей не хватает слов, что они разлетаются прочь, как крохотные искорки. – Молчите, мадам. Я не должен находиться здесь. Если меня увидят… Я проверил документы, относящиеся к вашему процессу… Это тяжкий позор для нашей святой Церкви, мадам. Это пародия, нет, хуже, это кощунственное святотатство. Все свидетельства в вашу пользу, в том числе аббатисы Клэре, монсеньора графа д'Отона, вашего каноника, брата Бернара и другие, весьма многочисленные, исчезли. Я сначала думал, что они затерялись, и сказал об этом господину инквизитору, как того требовал мой долг. Но наградой мне стали его гнев и презрение. Он сказал, что ничего о них не знает, а если свидетельств действительно не хватает, то это моя вина… Бесконечное облегчение. Аньес шатало, у нее кружилась голова. Ей требовалось собрать всю волю в кулак, чтобы понять объяснения молодого человека с лицом, похожим на лисью мордочку. Впрочем, она помнила об огоньке жалости, озарившем его взгляд, отчего молодой человек стал почти красивым. – …он тонко дал мне понять, что, если я сообщу об этой потере еще кому-нибудь, я незамедлительно буду сурово наказан за свою некомпетентность. Он уточнил, что за его великодушие и благоволение я должен заплатить своим молчанием. Я не боюсь наказания, моя душа чиста и непорочна. Знаете… Я испугался, когда этот столь красивый человек выбрал меня в свои секретари. Я подумал… я подумал, что он ангел, спустившийся к нам с небес. Я подумал, что он разглядел, какая чистая душа скрывается за безобразной маской, с какой я предстаю у людей перед глазами, что он прикоснулся к моей непорочности и набожности. Я думал, что он увидел мою душу, как это умеют делать только ангелы. Каким же я был наивным! Моя безобразная внешность забавляет его. На моем фоне он кажется еще прекраснее. Это подлая душа, мадам. Он выбросил свидетельства, которые должны были оправдать вас. Этот процесс – всего лишь трагический фарс. – Я не… Как вас зовут? – сухо спросила Аньес хриплым голосом. – Аньян, мадам. Аньес прочистила горло. – Аньян, я настолько измучена, что с трудом держусь ногах. Он… Это не просто подлая душа. Он один из провоз вестников зла. У него больше нет души. Аньес почувствовала, что падает вперед, и вовремя схватилась за одно из колец, вделанных в стену, к которым приковывали узников, заставляя их часами стоять с поднятыми руками. Аньян вытащил из-под полы своей накидки кусок сала и два яйца и протянул их Аньес. – Поешьте, мадам, умоляю вас. Наберитесь сил… И умойтесь. То, что вскоре произойдет, это… позор. – Что… – Больше я ничего не могу вам сказать. Прощайте, мадам. Моя душа будет с вами. Аньян исчез так быстро, столь стремительно заперев замок, что у Аньес возникло ощущение, что она не видела, как он вышел из ее камеры. Она стояла, чуть пошатываясь, прижимая к груди сало и яйца, бесценные сокровища, не в состоянии понять смысл последнего совета. Умойтесь. Зачем? Разве для нее имело значение, что эти судьи-марионетки, находившиеся на содержании Флорена, увидят ее грязной и пропахшей нечистотами? Допрос длился уже более часа. Флорен и брат Ансельм сменяли друг друга, словно в импровизированном танце, чередуя вопросы веры с вопросами, относившимися к личной жизни. – Значит, – настаивал Никола Флорен, – мадам де Суарси, ваша мать, считала, что Ной согрешил, напившись после потопа? Но его простили, поскольку он прежде не пробовал вина и не знал, как оно воздействует на разум. – Моя мать считала его виновным и в конце концов убедила в этом брата Бернара. – Мадам де Суарси полагала, что прозорливость ее суждения превосходит Божью прозорливость? Речь идет о богохульстве, – подвел черту инквизитор. – Я полностью это осознаю, – согласилась с ним Матильда, а потом добавила, изобразив огорчение: – Это случалось так часто, господин инквизитор. Брат Ансельм бросил быстрый взгляд на второго доминиканца, который впервые поднял голову с начала допроса. Он моргнул, и брат Ансельм, повинуясь этому знаку, вмешался: – Мадемуазель де Суарси, вы пишете: «Брат Бернар, еще молодой каноник, который приехал к нам столь набожным не опасаясь этой тени, творящей зло, так изменился, общаясь с ней. Во время мессы он произносит слова на непонятном языке, который я не знаю и который наверняка не является латынью». Вы узнаете эти слова? – Да, я узнаю их. Они в точности выражают правду. – Выходит, вам известно, что существа, отвернувшиеся от Бога и пошедшие дьявольскими путями, порой обретают дар говорить на незнакомых языках, которые облегчают им общение с силами ада, – уточнил Флорен. – Нет, мне это не было известно, – уверенно солгала Матильда. Фразу о языках ей продиктовал дядюшка, а потом объяснил ее значение. – Речь идет о фундаментальном обвинении, которое может привести к аресту и брата Бернара. Как вы думаете, эти два сообщника предавались нечестивым занятиям? – продолжал настаивать инквизитор. Матильда сделала вид, что колеблется, затем дрожащим голосом призналась: – Я этого опасаюсь. – Прошу вас, мадемуазель, будьте более точной. Благодаря вашему свидетельству мы должны понять всю степень их подлинного грехопадения. Таким образом, мы сможем определить, исповедует ли ваша мать культ единого бога[140] или культ ангелов,[141] поскольку – и это очередное доказательство нашей терпимости – эти ереси мало чем отличаются друг от друга. Матильда подавила вздох облегчения. Двумя днями раньше она бы не смогла ответить, поскольку не знала смысла этих слов. Дядюшка просветил ее, подозревая, что судьи непременно зададут этот вопрос. Он настойчиво подчеркивал, что культ единого бога был тяжким преступлением. Значит, ее мать обвинят и в этом преступлении, не считая других выдвинутых против нее обвинений. – Я должна вам сказать, что мое сердце истекает кровью. Они вызывали демонов, читая омерзительные молитвы во время мессы, добавляя к ним слова нечестивого языка, как я об этом написала. Они преклоняли колена и пели им хвалу. – В вашем присутствии? Губы девочки задрожали. Казалось, она вот-вот расплачется, едва выговорив: – Я думаю, что моя мать хотела увлечь меня на адский путь. Среди мужчин, сидевших на скамье, вновь раздался возмущенный шепот. Матильда горестно вздохнула и уточнила: – Однажды… служанка, которую мой дядюшка Эд любезно предоставил в наше распоряжение, пришла ко мне столь взволнованная, что едва сумела объяснить, в чем было дело. Я пошла за ней в маленькую ризницу часовни. Там грудой лежали куры с перерезанными глотками, уж не знаю сколько. – Так они приносили в жертву животных! – воскликнул Флорен, радовавшийся как безумный с самого начала допроса. Эта крошка была чудом, которое ее дядюшка должен был показывать на ярмарках. Матильда покачала головой и сделала вывод: – Значит, речь идет о поклонении единому богу, и это признание, несомненно, самое тягостное из всех тех, что мне приходилось делать. Брат Ансельм несколько секунд пристально смотрел на девочку, а потом спросил: – Полагаете ли вы, что непосредственной причиной преступлений против веры, совершенных мадам де Суарси, была Сивилла Шалис? – Моя мать неоднократно говорила мне о той нежности которую она питала к этой девице, а также о горе, которое ей принесла ее смерть. Кроме того, она всегда выказывала чрезмерно нежные чувства к ее посмертному сыну Клеману. Флорен вмешался: – Клеман исчез до окончания времени благодати, предоставленного мадам де Суарси, что неопровержимо доказывает его виновность. Продолжайте, мадемуазель, прошу вас. – Я думаю, что эта Сивилла заронила семена ереси в душу моей матери, и за такое она будет проклята. Затем ее сын поддерживал эту ересь со всей дальновидностью, на которую был способен. В этот момент дверь большого зала приоткрылась. Аньян, прижимаясь к стенам, тихо подошел к креслу инквизитора и прошептал ему на ухо, что мадам де Суарси поднимается по лестнице, ведущей в процедурную комнату. Никола кивнул и встал: – Мадемуазель, с вашим мужеством может сравниться лишь ваша чистота. Вот почему я не боюсь столкнуть вас лицом к лицу с врагом вашей души. Я не сомневаюсь, что очная ставка, которая сейчас состоится, просветит – если в этом еще есть потребность – благородных членов суда. Матильда пристально смотрела на Флорена, пытаясь понять смысл сказанного им. Ее непонимание длилось недолго. В залу медленно вошла ее мать. Брат Ансельм и брат Жан обменялись долгими взглядами, глубокую печаль которых никто не заметил. Сама не зная почему, Аньес последовала последнему совету Аньяна, после того как подкрепилась настоящей едой, которую ей принесли впервые с момента ее заключения. Благодаря салу и яйцам, которые Аньес буквально проглотила, по всему ее телу разлилось тепло, забытое много дней назад и унявшее дрожь. Ей удалось быстро умыться и заплести в косы спутанные и слипшиеся от грязи волосы. Когда Аньес увидела Матильду, впервые после приезда в Дом инквизиции ее бледное лицо озарила улыбка. Она бросилась к дочери, протягивая руки. Девочка отвела глаза и сделала шаг назад. Аньес в нерешительности остановилась. Ее охватила смутная паника. Неужели они арестовали ее дочь? Неужели Эд организовал второе такое же гнусное преступление? За это она убьет его, даже если будет навсегда проклята. Внезапно Аньес почувствовала на себе пристальный взгляд и обернулась в ту сторону. На нее внимательно смотрел брат Жан, доминиканец, голоса которого она ни разу не слышала. Он адресовал ей едва заметный жест отрицания, смысла которого она тогда не поняла. Но очень скоро ей все стало ясно. Флорен шел к Аньес легкой и грациозной походкой, словно он парил над плитами. – Мадам де Суарси! Ваша двуличность и извращенное красноречие, которые вы продемонстрировали нам, отныне вам не помогут. Ангел послал нам эту молоденькую непорочную женщину, – сказал он, показывая на Матильду. Аньес перевела взгляд с инквизитора на свою дочь. Что он говорил? Заключить дочь в объятия. Затем все уладится, в этом она не сомневалась. Потом жизнь станет благостной. Она защитит ее, она будет сражаться против всех. Девочка выйдет с гордо поднятой головой. Аньес ни за что не допустит, чтобы ее дочь бросили в застенки, чтобы она переживала те же муки, что и мать. И только тогда Аньес заметила наряд Mатильды, платье из великолепного густого шелка, столь тонкую накидку, что она не могла вспомнить, видела ли она когда-нибудь более прозрачную ткань, и кольца, унизывавшие маленькие пальчики. Прекрасная бирюза в форме квадрата, кольцо мадам Аполлины для указательного пальца из гранатов Чехии, ее же кольцо для большого пальца с крупными серыми жемчужинами. Аньес боролась с голосами, которые пытались проложить себе дорогу в ее разум. Она боролась с правдой, на которую они изо всех старались открыть ей глаза. Один голос подавил ее желание ничего не слышать, голос Клеманс. Она услышала шепот: «Посмотри на аметистовый крест, подчеркивающий изящество шейки Матильды. Разве он не прекрасен, моя дорогая? Это крест мадам Аполлины. Крест, доставшейся ей от матери, тот самый, вместе с которым она хотела быть похороненной. Как, по-твоему, Эд подарил его твоей дочери? Эти прелестные капли бордо служат платой за ее предательство». Крест. Аполлина, бедная милая Аполлина. Она часто целовала этот крест, когда молилась, словно он заменял ей любовь матери, умершей так рано. В голове Аньес раздался вздох. Но это был не ее вздох, а Клеманс. Второй вздох послышался в груди Аньес, на этот раз ее собственный. Аньес почувствовала, как из-под ног уходит почва. Ледяная черная пелена окутала ее сознание. В ее голове воцарилась мертвая тишина. Аньес чувствовала себя подавленной. Все то время, пока плиты пола приближались к ней, все то время, пока длилось это бесконечное падение, она повторяла: «Мой ребеночек, что они сделали с нами. Прокляты, пусть они будут прокляты и пусть они заплатят сторицей за то, кем ты стала по их вине». Когда Аньес пришла в себя, она находилась в маленькой комнатке, отапливаемой жаровней. Аньян протянул ей терракотовую чашу, содержимое которой она выпила, не сказав ни единого слова. Алкоголь ожег ей горло, и она закашлялась. Тем не менее по всему ее замерзшему телу разлилось благодатное тепло. – Это очень крепкий сидр, но он должен взбодрить вас. – Сколько времени… – Примерно полчаса. Вы не носите в своем чреве ребенка, не так ли? Аньес отрицательно покачала головой, прошептав: – Вы оскорбляете меня, мсье. Я вдова. – Простите мою душу, мадам, мадемуазель ваша дочь пошла перекусить в сопровождении барона де Ларне. Когда они придут, допрос возобновится. Аньес спросила голосом, который едва узнала, спокойным, удивительно твердым голосом: – Значит, она не арестована. – Нет, что вы, моя дорогая дама. Речь идет о самом опасном для вас свидетеле. Я читал письмо, которое она прислала Флорену. Оно насквозь пропитано ядом и обжигает этим ядом глаза и пальцы. Я не мог… – Я понимаю, – оборвала она его, – и очень признательна вам за ваш рискованный и мужественный поступок. Аньес погладила Аньяна по руке. Молодой человек стал красным как рак и схватил ее пальцы, чтобы поцеловать. Он лепетал, и в его голосе слышались слезы: – Спасибо, мадам, спасибо от всей души. – Как… я вам обязана, а вы… – Нет, напротив, вы продемонстрировали, что я живу не напрасно. И я вам за это бесконечно признателен. Если мой труд жалкого муравья поможет спасти невинность – а ваша невинность не подлежит ни малейшему сомнению, – слабое Божье создание, каким я являюсь, обретет свое величие Это гораздо больше, чем может просить столь безобразный муравей. Выражение лица Аньяна внезапно изменилось. Эмоции из-за которых он заикался, произнося слова, уступили место несгибаемой решимости: – Мадемуазель де Суарси хорошо выучила урок, тем не менее с ее глупостью может сравниться лишь ее злоба. Ее глупость – это единственное оружие, которое у вас есть в борьбе с ней. – Я… – пыталась возразить Аньес, но Аньян прервал ее нетерпеливым жестом. – У нас больше нет времени, мадам. Они вскоре придут за вами. Аньян пересказал Аньес обвинительное свидетельство ее дочери. Сначала Аньес душили рыдания. Она старалась понять, кто мог до такой степени испортить ее дитя. Аньес чувствовала, что становится убийцей, способной уничтожить этого демона, пронзить его дамским коротким мечом – подарком мадам Клеманс, – который она не вынимала из ножен с момента замужества. Она видела, как этот демон падает к ее ногам, в луже крови, разливавшейся под ним. Демон Эд. Демон Флорен. И вдруг ей открылась правда, которую она отвергала изо всех сил с тех пор, как увидела Матильду в зале для допросов. Матильда стала сообщницей тени, променяв спасение на несколько прелестных безделушек. И в этом была виновата ее мать, по крайней мере, частично. Конечно, она недостаточно подготовила свою дочь, конечно, она ее не вооружила против соблазнительных фривольностей, против такого смешного и вместе с тем привлекательного соблазна. Возможно, она слишком много времени и любви посвящала воспитанию Клемана. Клеман, как я тебя люблю! Живи, Клеман, живи ради меня! Клеман, как мы похожи друг на друга! Клеман, как могло такое случиться, что ты единственный свет, проникающий в мои застенки, свет, за который я цепляюсь, чтобы не сойти с ума? Живи, умоляю тебя. Живи ради моей жизни. – Я очень огорчен, что мне пришлось стать тем, кто открыл вам глаза на эту чудовищную правду, – извинился Аньян. – Нет, что вы, мсье. Напротив, вы стали знаком, что в этих позорных местах я не одна. Что бы со мной ни случилось, я не смогу в полной мере отблагодарить вас. Вы мне позволили подготовиться к тому, что я никогда бы не осмелилась предположить. Спасибо, Аньян. Аньян опустил глаза, бесконечно благодарный за то, что столь красивая дама назвала его по имени. С тех пор как Аньес предстала перед глазами Матильды, метаморфоза той, кого она носила под сердцем, удручала ее. Куда подевалась маленькая девочка, конечно, капризная и легко поддающаяся своим чувствам, но все же такая веселая, девочка, которой она дала жизнь, которую воспитала? Перед ней стояла миниатюрная женщина. Миниатюрная женщина, переставшая быть ее дочерью, была преисполнена решимости отправить свою мать на костер. Ненависть и злоба, которые Матильда испытывала по отношению к своей матери, были оплачены несколькими красивыми нарядами, несколькими сверкающими безделушками. Аньес надеялась, что девочка попытается избежать ее взгляда. В этом она хотела усмотреть последнее доказательство привязанности, возможно, сожаления. Но Матильда смотрела своими глазами орехового цвета прямо в глаза матери, высоко держала голову, решительно сжимала губы. Все остальное было кошмаром, умело подстроенным Флореном. Ужасные, абсурдные слова, которые произносила Матильда, чтобы подтвердить обвинение, вынесенное против ее матери, лишили Аньес права на голос, права на реакцию. Если верить плоти от плоти ее, она прониклась не только ересью, но занималась колдовством и предавалась похоти. Аньес охватило довольно удобное оцепенение. Она отказалась от борьбы или даже защиты. Каждый раз, когда после новой порции яда, выплюнутого дочерью, Флорен спрашивал ее торжествующим тоном: «Что вы на это можете возразить, мадам?», она довольствовалась тем, что всегда отвечала: – Ничего. Какое имело значение, что она чувствовала ликование Никола Флорена? Какое значение имели ободряющие улыбки, которые он адресовал Матильде? Никакого. Теперь никакого. – Значит, вы утверждаете, что брат Бернар перемежал свои молитвы и клятвы словами из непонятного языка, из демонического языка, и все это осознавали? – настаивал сеньор инквизитор. – Разумеется, это не было латынью и уж тем более не французским языком. – Ваша мать тоже пользовалась этим нечестивым языком? – И все же, как я слышала, она меньше прибегала к нему, чем ее каноник. – Всем известно, что женщины наделены меньшими способностями к языкам, чем мужчины. Мэтр Рише согласно кивнул, впрочем, он кивал при каждом желчном замечании, сделанном Флореном в адрес прекрасного пола. Его маленькое злобное лицо кривилось всякий раз, когда он желал в какой-то мере выразить свое одобрение. – Мадемуазель де Суарси, мне хотелось бы вернуться к этому Клеману, который так… своевременно исчез, – продолжил инквизитор. – Думаете ли вы, что его тоже соблазнил демон? Прилив жизненных сил взбодрил Матильду, уставшую от двухчасового допроса. Она сделала колоссальное усилие, чтобы не выдать животной ненависти, которую испытывала к этой язве, этому мальчишке. Печальным тоном она заявила: – Я в этом уверена. В конце концов, он мог подхватить заразу в чреве своей матери. Почему дядюшка Эд не предупредил ее о вопросах, которые могут ей задать об этом жалком негодяе? Но Матильда колебалась недолго. Она выкрутилась: – Он тоже говорил на этом святотатственном языке, причем весьма бойко. Кроме того, я совершенно уверена, что он был тайным, но верным пособником бесчестья моей матери. Острая, как лезвие ножа, боль пронзила грудь Аньес, которая словно пробудилась от долгого сна. Клеман. Матильда клеветала на Клемана! Дама де Суарси почувствовала небывалый прилив энергии. Никогда! – А, вот и убедительное доказательство! – громко воскликнул Флорен. – Трое поклонников сатаны. Я благодарю бесконечную мудрость провидения, что оно вовремя открыло нам глаза и не допустило, чтобы они пролили яд в другие души. Этого мальчика надо найти, арестовать и привезти к нам. Тиски, сжимавшие Аньес, внезапно разжались. Ее тело забыло о неделях заключения, лишений, о лихорадочных ночах. Матильда, ее дочь, ее кровь, не довольствовалась тем, что работала на безжалостные когти инквизиции, которые схватят ее мать и разорвут на куски. Матильда натравляла безжалостных хищников с широко раскрытыми пастями на Клемана. Никогда! Аньес подняла голову и ледяным взором посмотрела на свою дочь. Четко выговаривая каждый слог, она произнесла: – Моя дочь с трудом читает по-французски. Ей было так сложно читать молитвы, что мне пришлось заставить ее выучить их наизусть. Что касается письма, которое она якобы написала, то я не сомневаюсь, что ей продиктовали его или она просто переписала образец. Она ничего не смыслит в латыни, даже вульгарной. Так как же она могла судить о языке? Как она могла разобраться, кощунственный он или же священный? Флорен лихорадочно думал, что на это возразить. Но смог лишь выдохнуть: – Жалкая защита, мадам! – Это подлая ложь! – взвизгнула Матильда. В зале раздался суровый неторопливый голос. Все обернулись в эту сторону. Брат Жан встал и во второй раз вмешался в допрос. – Те deprecamur supplices nostris ut addas sensibus nescire prorsus omnia corruptionis vulnenera. Что это означает, мадемуазель? Матильда сочла, что настал подходящий момент залиться слезами. Она пролепетала: – Я… измучилась, у меня нет сил… – Куда же делись ваши жизненные силы, которые вы нам только что демонстрировали? Что означает эта фраза, такая простая фраза, мадемуазель? Вы хоть догадались, что это латынь, а не нечестивый язык? Воцарилось молчание. Флорен отчаянно искал выход из положения, проклиная себя за то, что увлекся из-за своей страсти к играм. Но поскольку он не мог долго злиться на себя самого, то ополчился на Матильду. Какая глупая девчонка, какая идиотка! Надо же быть такой тупой, чтобы упоминать о латыни, в которой она ничего не смыслила! – Мадам, – спросил брат Жан, глядя на Аньес, – что означает эта фраза? – На Тебя уповаем, надели нас даром никогда не знать то, что может опорочить святую чистоту. – Нотариус, в соответствии с мерами предосторожности, требующими ставить под сомнение все свидетельство, если часть его на инквизиторской процедуре оказалась ложной, я даю отвод свидетельству Матильды Клеманс Мари де Суарси. Я не сомневаюсь, что наш мудрый господин инквизитор проявит такую же осмотрительность и последует моему примеру. Брат Жан де Риу выжидал. Разъяренный Флорен сжал зубы. В конце концов он сказал: – Да будет так. Свидетельство этой юной дамы отклонено. Флорен боролся с желанием броситься на Матильду и избить ее. – Письмоводитель, отметьте, что суд высказывает большие сомнения в искренности мадемуазель де Суарси и опасается, что она совершила клятвопреступление. Уточните, что означенный суд оставляет за собой право подвергнуть ее в дальнейшем преследованиям. Матильда завопила: – Нет!.. Вытянув вперед руки, Матильда сделала три шага навстречу инквизитору, но пошатнулась. Аньян подхватил девочку и отвел ее в комнату, в которой Эд предвкушал, совершенно напрасно, свою скорую победу. Брат Жан хотел встретиться с взглядом Аньес, но она смотрела в никуда. Аньес соприкоснулась с миром страданий, о существовании которого даже не подозревала. Матильда была для нее потеряна. Она сомневалась, что когда-нибудь сможет вновь вернуть свою дочь. Аньес уцепилась за последнюю надежду, за последнюю силу: Клеман пока был спасен. – Идиот! – выругался Эд. – Тупой идиот! Почему он меня не предупредил, что собирается устроить вам очную ставку с Аньес? Я смог бы его разубедить… Вы ей не ровня. Матильда плакала, утирая нос тонким носовым платком своей покойной тетки, на котором нежно-голубыми нитками была вышита буква «А». Они тряслись в повозке, ехавшей вдоль леса Персень в сторону аббатства с тем же названием. Последнее замечание дядюшки задело девочку за живое, и она подняла лицо, опухшее от слез, которое тот нашел уродливым и слишком красным. Он подумал, что Матильда была похожа на поросенка. Изящного, но все-таки поросенка. – Что вы говорите, дядюшка? Я не ровня своей матери? Сейчас было не время оскорблять донзеллу. В конце концов, до тех пор пока Аньес не будет вынесен приговор, он останется временным опекуном Матильды. – Ну, моя милая красавица, – заговорил Эд, поглаживая ее по руке. – Вы еще слишком молоды и не привыкли к подлым приемам, которыми злоупотребляют некоторые люди, что делает вам честь. Я хочу сказать, что вы не бессовестная плутовка. – Истинная правда, дорогой дядюшка, – согласилась Матильда, не замечая непоследовательности в его словах. – Ваша мать… ну, мы ее знаем… Она хитрая и умеет вертеть другими, как ей вздумается… Одним словом, я восхищен тем отпором, какой вы ей дали. Вероятно, в вашем возрасте это суровое испытание. Матильда легко утешилась. Она вновь стала жертвой проделок своей матери. Эта роль ей так нравилась, что она все охотнее верила в нее. – Разумеется. Но… – Уж я-то сумел бы указать этому шуту инквизитору, как следовало задавать вопросы, чтобы они принесли нам пользу. Но нет! Этот идиот захотел вести свою игру, – прервал Матильду Эд, весь во власти недовольства. – Дядюшка, угроза господина инквизитора очень обеспокоила меня. Он дал понять, что может отдать меня под суд за клятвопреступление. Если бы не истощившийся рудник, который существенно портил ему как финансовое, так и политическое будущее, Эд с удовольствием бросил бы племянницу на произвол судьбы. – Ба… Это будет мне стоить еще двести ливров… Но чего только я не сделаю, лишь бы угодить вам, моя племянница. – Еще? Эд попытался выкрутиться: – Да, двести ливров сюда, двести ливров туда, еще сто ливров аббатству и так далее… Матильда сразу же поняла, что процесс ее матери был изначально подстроен и оплачен ее дядюшкой. Эта уверенность успокоила девочку. Власть денег была настолько чудесной, что Матильда преисполнилась решимости всегда обладать ими, во что бы то ни стало.Женское аббатство Клэре, Перш, ноябрь 1304 года
Иоланда де Флери, сестра-лабазница, стояла перед рабочим столом аббатисы, выпрямившись во весь рост, бледная как полотно, с бескровными губами. Элевсия де Бофор посмотрела в окно. Тонкий слой инея, выпавшего ранним утром, еще лежал на деревьях. Казалось, аббатство погрузилось в гнетущую тишину. Аббатиса прислушалась. Ни радостного перешептывания, ни шума быстрых шагов, ни взрыва смеха, поспешно заглушаемого рукой, приложенной ко рту, ни единого звука не раздавалось за тяжелой дверью, защищавшей ее покои. Милая Аделаида унесла с собой в холодную землю радость, которую никогда прежде эти суровым неприступным стенам не удавалось развеять. Элевсия никогда не наказывала за радость, вопреки желанию Берты де Маршьен, экономки, которая, несомненно, была бы довольна, если бы у всех всегда были такие же, как у нее, постные лица. Но Клэр и Филиппина лучились радостью, да и Клеманс тоже, по крайней мере до того, как вышла замуж за этого хмурого грубияна Робера де Ларне. Каждый взрыв быстро подавляемого смеха, каждая быстро гаснувшая на губах монахинь улыбка напоминали Элевсии о ее сестрах, о беззаботном детстве. Из-за своей веселости, из-за своих повседневных восторгов и даже из-за бесконечной болтовни Иоланда, несомненно, была одной из любимых дочерей Элевсии. Неподвижный взгляд, устремленный сестрой-лабазницей на Элевсию, вернул ее к действительности: – Я повторяю свой вопрос, дорогая Иоланда… Что вы делали ночью у дверей гербария? – Какая омерзительная доносчица, – прошептала сестра-лабазница. Ее маленький круглый подбородок дрожал. – Наша сестра-больничная просто исполнила свой долг Я должна была знать, что вы выходили. Ваше поведение внушает еще большую тревогу, учитывая… нынешние обстоятельства. – Матушка, вы не можете подумать, что я пошла туда чтобы стащить какой-нибудь яд! – Я тем более не могла думать, что отравительница столь ужасным образом лишит нас нашей милой Аделаиды, ~ сухо возразила аббатиса. – Ответьте мне. – У меня кружилась голова… Я чувствовала какое-то стеснение в груди… хотела вечером немного освежиться. Элевсия протяжно вздохнула: – Значит, вы упорствуете в этой неправдоподобной истории. Вы не облегчаете мне задачу, но, самое худшее, Иоланда, вы осложняете свое положение. Вы свободны, дочь моя. Идите в лабаз, но не думайте, что я закончила наш с вами разговор. Иоланда де Флери стремительно выбежала. Через несколько минут в кабинет аббатисы вошли Аннелета Бопре и Жанна д'Амблен. Элевсия не стала звать Бланш де Блино, хотя та играла в аббатстве вторую роль. Бедная Бланш не вымолвила ни единого слова с тех пор, как поняла, что кто-то хотел ее отравить. Элевсия вкратце пересказала им короткий и пустой разговор с сестрой-лабазницей. Аннелета встрепенулась: – Почему она упорствует, когда у нас есть все основания считать ее поведение подозрительным? – Я вовсе не думаю, что она и есть это… это чудовище» – сказала Жанна, покачав головой. Ответ Аннелеты не заставил себя ждать: – В таком случае, что она делала ночью около гербария? – Не знаю… может быть, у нее действительно болел живот. Это убедительная причина. К какому вы пришли выводу, матушка? – спросила Жанна д'Амблен, поворачиваясь к Элевсии. – Что я об этом думаю?… Разумеется, я не считаю Иоланду отравительницей. Я вообще не вижу ни одну из своих дочерей в этой роли. Что касается Иоланды, я спрашиваю себя, не скрывается ли за ее упрямством… гм… как сказать… Боже, как же это трудно… – Умоляю вас, матушка, объясните нам, – попыталась ей помочь Жанна. – Хорошо… Нам всем известно, что в этих закрытых местах, где обязательно воздержание… И это случается у наших братьев и порой даже у нас… Да… Элевсия взяла себя в руки и заявила более решительным тоном: – Рим знает, что в отдельных монастырях недостаток эмоций и человеческих чувств вынуждает некоторых из нас сближаться с душой… того же пола. Жанна д'Амблен принялась рассматривать оборку своего платья, а Аннелета Бопре спросила: – По вашему мнению, Иоланда поддерживает… дружбу, неуместную в обители молитв и медитаций? – Мне об этом ничего не известно, дочь моя. Речь идет о предположении, пришедшем мне в голову, только и всего. Но такое предположение гораздо предпочтительнее, чем думать, будто Иоланда является отравительницей. В первом случае мне всего лишь придется избавить ее от заблуждении, надеюсь, временных, во втором же подразумевается самое худшее преступление, которое достойно публичного бичевания, а затем смертной казни. На какое-то время воцарилось молчание. Аннелета Бопре знала о подобной практике. Если однополые отношения открыто не афишировались, и, главное, если о них не становилось известно за пределами обители, на них закрывали глаза. Она сама была невольной свидетельницей заговорщических взглядов и улыбок, которые объяснялись не только сердечностью сестер. Подобные душевные и чувственные порывы смущали Аннелету и укрепляли в стойком презрении к прекрасному полу в целом. Что за нужда гладить руку или целовать в губы, когда существует столько чудесных вещей, которые только и ждут, чтобы их изучили и поняли! Ей удалось избежать супружеского ложа вовсе не для того, чтобы лечь рядом с женщиной. Жанна д'Амблен нарушила мнимое спокойствие: – Я ничего не понимаю в этом ужасном деле! Зачем надо было травить Аделаиду или убивать Бланш? Это не имеет ни малейшего смысла… По крайней мере, если речь не идет об умственном помешательстве… Жанна замолчала и перекрестилась перед тем, как закончить фразу: – Одержимость бесами?… Сестра-больничная постаралась встретиться с взглядом Элевсии, ища одобрения. Элевсия кивнула головой, и Аннелета объяснила: – Если предположить, что причиной преступления было вовсе не безумие, то единственное объяснение, которое мы в состоянии дать и которое имеет смысл… это ключи от несгораемого шкафа, где находится печать нашей матушки. Один ключ хранился у нашей благочинной, как это и положено. Второй ключ отдан Берте де Маршьен, что касается третьего ключа, он, разумеется, оставался у нашей матушки. Глаза Жанны д'Амблен вылезли на лоб. Она прошептала: – Подложные документы? Но это ужасно… С этой печатью можно отправить на виселицу невинных людей! Можно… Можно… – Действительно, можно сделать очень многое, – прервала Жанну Элевсия. – Но не волнуйтесь, Жанна. Печать цела и не покидала своего хранилища. – Боже мой… – выдохнула Жанна. Элевсия не сумела определить, взяло ли вверх временное облегчение, доставленное Жанне этим известием, над прострацией, в которой они все пребывали. Вмешалась Аннелета, уставшая от этого пустого разговора: – Разумеется! Если мы поняли истинный мотив, которым движима убийца, значит, у нас есть не слишком обнадеживающая альтернатива. Раз для нее очень важно завладеть печатью, она снова начнет убивать. Мы сейчас объявим, что отныне ключ нашей благочинной хранится у меня. Второй ключ остается у матушки, а третий – у Берты де Маршьен. Лицо Жанны д'Амблен озарила искра понимания. Она почти кричала: – Это означает, что… что… она попытается убить всех вас? Ах, нет… ах, нет, я не вынесу этого! – Вы можете посоветовать что-нибудь другое? – спросила Аннелета, которой начал овладевать гнев. – Хорошо… Ну, я не знаю… Но я придумаю, немного терпения! Значит, она пыталась отравить Берту, чтобы завладеть ключом, который та носила с собой. Я поняла: мы не станем носить их под платьями или на шее, мы спрячем их. Спрячем в тайном месте, о котором не знает ни одна из нас Мне кажется, наша матушка должна стать следующей жертвой. Но мы выбьем почву из-под ног чудовища. Смерть нашей аббатисы не поможет ей найти тайник. Столь логичная мысль прельстила Аннелету. Она удивилась, почему эта мысль не пришла ей в голову. Но все же Аннелета была достаточно честной, чтобы через мгновение спросить себя, не сердилась ли она на Жанну за то, что та опередила ее. – Ваше предложение достаточно интересное, – согласилась она. – Над ним надо подумать. Но прежде мы должны разобраться с еще одним дельцем, очень серьезным. Элевсия удивленно посмотрела на свою дочь больничную. Та продолжала: – Прежде всего, Жанна, я должна поставить вас в известность, что у меня не хватает пяти гроссов тиса, того самого, которым я травлю крыс и лесных мышей, угрожающих нашим запасам зерна. – Но почему вы не сказали мне об этом раньше? – Тис украли во время вашей последней поездки. – Господи Иисусе, – прошептала Жанна д'Амблен. – Она сможет… – Да, она с легкостью сможет отравить одну из нас… Это подсказывает мне, что она замышляет новое убийство. – Ничего себе ваше «дельце»! Какой эвфемизм! – прокомментировала Жанна. – Жанна, я провела свое расследование и хочу поделиться с вами его результатами. Неожиданное колебание в обычно властном голосе сестры-больничной насторожило обеих женщин. Элевсия спрашивала себя, куда та клонит. Ведь Аннелета не советовалась с ней, не спрашивала, уместно ли проводить расследование. – Я надеюсь, что не оскорбляю нашу матушку, ведь я ее не предупредила. Я… Скажем, меня одолели определенные сомнения в отношении некоторых из нас, личные сомнения, и я не знаю, лишены они основания или нет… Эти хождения вокруг да около, осторожный выбор слов только усилили беспокойство женщин, которые прекрасно знали, что Аннелете не была свойственна дипломатичность. – …наша матушка вне моих подозрений. Одним словом, – Продолжила Аннелета более твердым тоном, – я испытываю лишь малую толику доверия к Берте де Маршьен. – Как вы можете… – прошептала Элевсия малоубедительным тоном. – Так я чувствую, – возразила Аннелета, слегка насупившись. – Так или иначе, но я хочу, чтобы ключ от несгораемого шкафа хранился у вас, Жанна. Сестра-казначея взглянула на Аннелету так, словно имела дело с душевнобольной. Потом она взорвалась: – Вы что, выбросили свой разум на помойку? Конечно, нет! И стать мишенью отравительницы вместо Берты? Ну уж нет! Если бы речь шла об охране ключа нашей матушки, ее жизни, я согласилась бы. Мне было бы страшно, признаюсь вам, но я согласилась бы. Но ради Берты… даже не думайте! Элевсия подавила улыбку, готовую озарить ее губы, несмотря на столь мрачные обстоятельства. С момента их знакомства Жанна впервые потеряла самообладание. Аббатиса успокоила казначею: – Дорогая Жанна, спасибо, что вы так заботитесь обо мне. Спасибо вам обеим. Надо было дождаться этих жутких событий, чтобы я открыла для себя подлинные чистые души. Что касается моего ключа… я буду держать его при себе. Никто не может занять мое место и нести то бремя, которое я согласилась взвалить на себя, поступив в Клэре. Жанна опустила голову, чтобы скрыть свою печаль. Элевсия попыталась ее успокоить: – Дорогая Жанна, это вовсе не надгробная речь. У меня нет ни малейшего желания позволить себя отравить до того, как будет уничтожено это зловредное существо. Когда они прощались через несколько минут, по настойчивому взгляду Элевсии сестра-больничная поняла, что аббатиса хотела поговорить с ней с глазу на глаз. Сестра-больничная пошла вместе с Жанной по длинно му коридору, который вел в скрипторий, а потом, сославшись на необходимость кое-что проверить, оставила ее одну и вернулась в кабинет аббатисы через сад. Элевсия де Бофор, стоявшая за своим большим рабочим столом, казалось, застыла неподвижно. – Ну, и как ваша «шутка», дочь моя? Когда вы сообщите мне о результатах? Время невероятно поджимает. Я чувствую, зверь вновь нападет. – Скоро… я наблюдаю, я высматриваю.Дом инквизиции, Алансон, Перш, ноябрь 1304 года
Придав своему лицу вежливое и вместе с тем печальное выражение, Никола Флорен рассматривал графа Артюса д'Отона, сидевшего по другую сторону его маленького рабочего стола. – Поскольку вы, мессир, не являетесь прямым родственником мадам де Суарси, я, как это ни прискорбно, не могу разрешить вам встретиться с ней. Поверьте, мне очень жаль, что я не могу услужить вам, но я подчиняюсь строжайшим правилам. Флорен выдержал паузу, чтобы оценить эффект, произведенный этим едва скрытым грубым отказом. Артюс оставался невозмутимым, и поэтому инквизитор не заметил ярости, которую графу удавалось сдерживать. Подлое ничтожество упивалось своей властью. – Как я понял, допрос мадам де Суарси начался. – Да, это так. – Вы полагаете, что процесс продолжится? – Боюсь, что так, мессир граф. Но не пытайтесь добиться от меня других уточнений. Как вы знаете, инквизиторскую процедуру всегда окружает глубокая тайна. В первую очередь мы стараемся защитить честь и достоинство тех, кто попал к нам, вплоть до убедительного доказательства их виновности. – О, я нисколько не сомневаюсь, что вы весьма озабочены тем, чтобы защитить честь и достоинство мадам де Суарси, – откликнулся Артюс д'Отон. Флорен, скрестив руки на черной рясе, ждал продолжения. Попытается ли этот могущественный сеньор подкупить его, как во время первой встречи? Будет ли угрожать? Или умолять? А он сам, что предпочел бы он? Разумеется, всего понемножку. Но вместо этого пухлые губы Артюса расплылись в странной улыбке, в улыбке, обнажившей зубы. К великому изумлению Флорена, который вслед за графом машинально улыбнулся, тот встал. – Поскольку моя просьба оказалась тщетной, как я и думал, я не хочу больше отнимать у вас время. Итак, до свидания. После ухода графа Артюса Флорен никак не мог прийти в себя. Что произошло? Почему этот высокомерный грубиян не настаивал? Не было ли это тяжким оскорблением? В самом деле, Флорен почувствовал, как краснеет, словно от пощечины. За кого принимал себя граф? Он ее хотел, свою бабу? Так пусть придет на нее полюбоваться через несколько дней. Поскольку простые допросы не загнали ее в угол, завтра начнется допрос с пристрастием. Смертельная ярость овладела Флореном, и он все смахнул со своего стола. Стопки дел, записи разлетелись по кабинету. Флорен завопил: – Аньян, сюда, немедленно! Молодой клирик тотчас вошел, растерянно глядя на беспорядок. С угрозой в голосе Флорен прорычал: – Собери, чурбан! Чего ты ждешь? Приближался девятый час, когда Франческо де Леоне, спрятавшийся под портиком, увидел, как Никола Флорен вышел из Дома инквизиции. Доминиканец ответил смиренной улыбкой на чопорные приветствия некоторых прохожих и свернул на улицу Арш. Леоне опустил на лоб капюшон и поправил короткую приталенную тунику, которую обычно носили ремесленники. На поясе у него был завязан толстый кожаный фартук кузнецов. Он двинулся вслед за инквизитором на расстоянии в несколько туазов. Леоне обогнал грязный мальчишка, внезапно замедливший шаг. Теперь он неторопливо шел, сложив за спиной руки, задрав голову и рассматривая верхние этажи домов. Леоне спрашивал себя, не собирается ли мальчишка что-нибудь украсть. У рыцаря не было определенного плана, как он и сказал об этом Эрмине после того, как она сыграла роль богатой Маргариты Гале, торопившейся отправить своего свекра к праотцам. Леоне не знал, искал ли он компрометирующие подробности, способные погубить Флорена, или обстоятельства, которые вынудят его убить инквизитора. Леоне был достаточно умен, чтобы понимать: ему необходимо знать о поступках инквизитора все, ведь в случае необходимости само поведение инквизитора могло послужить ему оправданием. Он не собирался прибегать к трусливым и лицемерным уловкам. Леоне взял на себя ответственность за столько смертей. Впрочем, он их не выбирал. Флорен, несмотря на свою подлость, удостоится того, в чем он всегда отказывал своим жертвам: в конфиденциальном Божьем суде. Если он не должен умереть, он не умрет. Госпитальер был убежден в этом. Инквизитор зашагал быстрее, словно его подгоняло чувство долга. Возможно, Флорен это сделал потому, что они уже были достаточно далеко от площади, на которой возвышался Дом инквизиции, и он не боялся, что его поспешность может кого-либо удивить. Как ни странно, маленький нищий тоже ускорил шаг, держась на том же расстоянии от Флорена. Леоне, привыкший к схваткам, насторожился. Флорен свернул направо и дошел до Гончарной улицы, а затем неожиданно направился в сторону улицы Крок. Леоне ускорил шаг. Но, когда он обогнул лавочку сапожника, Флорен уже исчез. Леоне лицом к лицу столкнулся с мальчишкой, который тоже казался растерянным. Леоне бросился к нему в тот самый момент, когда мальчишка хотел убегать, и схватил его за тунику. – Кого ты преследовал? – Я? Никого, скажете тоже! Схватив мальчишку за ухо, рыцарь притянул его к себе и, наклонившись, зашептал: – Ты следил за этим доминиканцем. Не ври мне, а то у меня терпение лопнет. Мальчишка испугался. Уж слишком странно выглядел этот кузнец. Он задергался, пытаясь вырваться, но безуспешно. – Оставь меня, – захныкал мальчишка, дрожа. С угрозой в голосе Леоне предупредил его: – Ты говоришь и получаешь три прекрасных денье*. Затем ты исчезнешь. Я отпущу тебя. Если ты будешь продолжать мне врать, я изобью тебя. И твое тело найдут в Сарте. При мысли о подобной перспективе глаза маленького нищего наполнились слезами. Но хитрый от природы, он все же решил удостовериться: – И кто мне скажет, что у кузнеца есть три прекрасных серебряных денье, чтобы заплатить мне? Мой клиент дал один денье сразу же и должен отдать второй за сведения, но он выглядел как знатный сеньор. Взяв мальчишку за ухо второй рукой, Леоне вытащил из кошелька три монеты. – Согласен, – пробурчал мальчишка. – И отпусти мое ухо, ты мне делаешь больно, грубиян. – Если ты попытаешься сбежать… Мальчишка перебил его, пожав плечами: – Зачем мне выбирать прыжок в Сарту, когда я могу получить звонкую монету? Леоне подавил улыбку и отпустил мальчишку, готовый все же броситься на него в любой момент. – Он мне предложил два турских денье, чтобы я проследил за доминиканцем. – Ты знаешь, как его зовут? – Нет. – Опиши его. – Он высокий, хорошо сложенный, выше вас, весь темный, вплоть до глаз. Он носит волосы до плеч, роскошную одежду, как могущественные сеньоры, и меч. А раз так, я сказал бы, что он по меньшей мере барон, а может быть, даже граф. – Сколько ему лет? – О, он намного старше вас. – Что именно он хотел? – Чтобы я тайно проследил за инквизитором и сообщил ему, где тот живет. Зачем Артюс д'Отон вмешался в эту историю, поскольку Леоне не сомневался, что речь шла именно о графе? Тетушка Леоне, Элевсия де Бофор, вкратце рассказала ему о встрече Аньес де Суарси со своим сюзереном, произошедшей незадолго до ареста молодой женщины. – Где ты должен с ним встретиться? – В таверне «Красная кобыла», это… – Знаю. Леоне протянул ему деньги, и мальчишка проворно спрятал их под своей туникой. – Не вздумай возвращаться к своему заказчику, чтобы получить вторую монету, или… – Знаю, Сарта! Мальчишка умчался так быстро, что исчез из поля зрения Леоне прежде, чем тот решил, стоит ли за ним следить. Артюс д'Отон. Враг или друг? Сейчас не время разбираться в этом. В какой дом мог войти Никола Флорен? Леоне сомневался, что инквизитор заметил за собой слежку. Достаточно было подождать, присев на корточки возле стены, чуть дальше: в конце концов, Флорен скоро появится. Прошло добрых полчаса, в течение которых рыцарю удалось очистить свои мысли от бесконечных предположений, гипотез, вопросов. Не думать вообще – опасное и изнуряющее упражнение для тех, кто привык размышлять. Пойти навстречу пустоте, призвать ее, стать беспомощным означало попытку прикоснуться к бесконечности. Тогда время идет в непредсказуемом ритме. Эта маленькая босоногая девочка, которая обеими руками задирает платье из грубого сукна, подпоясанное на талии веревкой, чтобы взобраться на край канавы и пописать, пристально глядя на вас, сама по себе заполняет всю вселенную. Сколько времени прошло, пока она не встала на ноги и стремглав не убежала прочь? Этот маленький комок пакли, который летит по мостовой, останавливается, затем поднимается, чтобы приземлиться в нескольких футах* далее, который вращается, наталкивается на стену и на который наступает сабо, унося его с собой неизвестно куда, на несколько мгновений становится самой важной вещью в мире. Франческо де Леоне с трудом узнал инквизитора. Как он гордо шагал, этот прекрасный Никола! Он, несомненно, был одним из самых великолепных созданий, с которыми Леоне когда-либо приходилось встречаться. Светский наряд подчеркивал изящество его силуэта. Казалось, Флорен был одет по последней городской моде. Никола сменил черную рясу и длинную белую накидку доминиканца на шелковую камизу, на которую надел бланшет,[142] позволявший видеть укороченные ярко-фиолетовые шоссы из телячьей кожи, соединявшиеся с короткими штанами. Парижские модники называли их верхними шоссами. На бланшет был надет гамбуаз,[143] расшитый золотыми нитями. Темно-зеленый камзол[144]из тонкой овечьей шерсти с прорезями вместо рукавов, чтобы можно было видеть рукава гамбуаза, был перехвачен на талии поясом, украшенным изящными золотыми изделиями. Упленд,[145] открытый спереди и с прорезями по бокам, мог бы заставить многих сеньоров побледнеть от зависти. Наконец, конусообразная шапочка более светлого, чем камзол, зеленого цвета, верхушку которой он опустил на манер молодых честолюбивых придворных, скрывала его тонзуру. Франческо де Леоне подумал о вещах, которые им выдавали при вступлении в орден. Кроме смены постельного и столового белья они получали две рубахи, две пары лосин, две пары брак, поясной жупан,[146] шубу и две накидки, одна из которых была зимней, то есть подбитой мехом, а также шапку и котту с поясом. Когда одежда и простыни протирались до дыр, госпитальеры должны были предъявлять их брату интенданту, чтобы тот убедился в их негодности и заменил. Взамен они отдавали ордену все свое имущество. В случае Франческо речь шла о значительном состоянии, оставшемся ему от матери. Тем не менее Леоне нисколько не сомневался, что этот дар обрадовал бы женщину ослепительной красоты, родившую его на свет. Ему же отказ от земельных владений принес такое облегчение, что после обряда посвящения он всю ночь улыбался звездам. По всей видимости, инквизитор не разделял его страсти к бедности. Его мать. Он хранил о ней воспоминания, которые с возрастом становились более светлыми. Старшая сестра его матери, Элевсия де Бофор, была похожа на нее, но не отличалась такой красотой и жизнерадостностью. Его мать заливалась веселым смехом из-за каждого пустяка, из-за неожиданной поэмы, нежного цветка, детского слова, редкого цвета ленты. И тем не менее… Под этим высоким бледным челом скрывались такой ум и такая прозорливость, что Леоне хотелось думать, что он унаследовал эти качества о матери. Но она обладала еще и инстинктом, которого eму недоставало. Он считал это платой за свою физическую силу и принадлежность к мужскому полу. Она «чувствовала» смутные потоки, которые несли их жизни, еще до того, как те появлялись. Будучи маленьким мальчиком, Леоне был убежден, что этой сбивающей с толку властью ее наделили ангелы. Предчувствовала ли она, что в Сен-Жан-д'Акр она вместе с дочерью погибнет ужасной смертью? Нет, такая мысль казалось неправдоподобной, поскольку, если бы на нее снизошло озарение, она успела бы убежать вместе с девочкой. Леоне очень многого не знал об этой женщине, такой красивой, такой благородной, которая крепко сжимала его в объятиях, называла его «своим нежным рыцарем с крестом», когда ему было лет пять или шесть. Знала ли она, что настанет день, и он вступит в орден госпитальеров или тамплиеров? Или это были просто ласковые слова матери? Уйдя в столь сладостные и одновременно столь горестные воспоминания, он вовремя опомнился, осознав, что слишком близко подобрался к добыче и существует опасность, что инквизитор обернется и примется рассматривать его. Флорен не должен был узнать его через несколько дней. Леоне замедлил шаг. Не снимал ли инквизитор какую-нибудь уютную гарсоньерку[147] в этом зажиточном, тихом квартале города, чтобы иметь возможность спокойно преображаться и даже принимать любовниц? Он хорошо наживался на крови других. Никола Флорен бодро шел, углубляясь в один из тех кварталов, которые при наступлении ночи избавляются от праздношатающейся публики и теряют свой пристойный вид по мере того, как их заселяет другая фауна. Здесь стояли более скромные дома с выступающими консолями, которые почти соприкасались друг с другом, образуя над улочками своеобразные своды. В каждом фасаде, выходящем на улицу, размещалась лавочка или мастерская. Леоне стали встречаться женщины, одежда которых свидетельствовала об их занятии*, как требовали власти и Церковь. Более яркие цвета их платьев, нескромные вырезы, а также запрет носить те же украшения или пояса, что носили горожанки и благородные дамы, делали их узнаваемыми для покупателей плотских услуг. Леоне понял, что поблизости находился девичий дом,[148] как это было заведено в крупных городах.[149] Проститутка, которой было не больше пятнадцати лет, подошла к Флорену. Он оглядел проститутку с ног до головы, оценивая ее, словно лошадь. Рыцарь притаился за дверью, наблюдая за торгом, который происходил в нескольких туазах от него. Он даже не осмеливался представить себе, что должна будет пережить за несколько монет девица, поскольку нисколько не сомневался, что и сексуальным пристрастиям Флорена были присущи насилие и жестокость. Наконец они отправились дальше и вошли в лавочку торговца льняными тканями, которая, вероятно, была прикрытием борделя. Прошло добрых полчаса прежде, чем вновь появился инквизитор. Его тонкие губы расплывались в довольной улыбке, озарявшей лицо. Леоне спрашивал себя, смогла ли встать на ноги публичная девка.[150] Сутенеры, поставлявшие свечи и вино, не обращали внимания на «шалости» своих клиентов, какими бы жестокими они ни были, поскольку получали свою долю. Назад Флорен возвращался той же дорогой. Леоне шел следом. Но вместо того чтобы свернуть на Гончарную улицу Флорен пошел прямо, до перекрестка с улицей Ангела. Вскоре он исчез под портиком дома горожанина. Леоне подождал несколько секунд, потом подошел ближе. Над первым и вторым этажами, возведенными из камня, возвышался третий фахверковый этаж. Крыша из кровельного сланца казалась новой. Несомненно, ею совсем недавно заменили обычную соломенную крышу, и это свидетельствовало о том, что владелец дома был зажиточным горожанином. Небольшие окна были вставлены в глухие рамы и защищены промасленной тканью. Все ставни, кроме ставен второго этажа, были закрыты. Сточные желоба, позволявшие выливать на улицу грязную воду из кухни, были сухими, как и стоки для нечистот, по которым человеческие экскременты текли в выгребные ямы или рвы. Создавалось впечатление, что это прекрасное здание какое-то время стояло заброшенным. Вероятно, Флорен снимал комнатушку на улице Крок, чтобы иметь возможность переодеваться там в богатого горожанина, а затем приходить в этот роскошный дом. Кому принадлежал этот дом? Почему казалось, что в нем никто не живет? Леоне потребовался всего лишь один час и немного лжи, чтобы узнать это от лавочников, державших свои лавки на Гончарной улице и на улице Ангела. Сьер Пьер Тюбеф, богатый суконщик, был весьма своевременно обвинен в ереси и сношениях с дьяволом. Инквизиция конфисковала все его имущество. Жена и оба сына суконщика бежали из города. Они приходили в ужас от одной только мысли, что жалоба может побудить инквизитора взяться и за них. Леоне не сомневался, что так все и произошло бы. Флорен получил великолепный дом практически даром. Чуть позже рыцарь покинул этот квартал. Теперь он знал, где живет мучитель Аньес. Артюс д'Отон сгорал от нетерпения, сидя за кружкой медовухи, которую он едва пригубил. Что произошло с этим мальчишкой? Он уже давно должен был бы вернуться и сообщить сведения. Граф боролся с яростью, но, главное, с отчаянием. Позволил ли он этому маленькому нищему обмануть себя? Впрочем, мальчишка должен был польститься на торой денье. Заметил ли Флорен своего преследователя, отбив у того охоту шпионить? Граф забеспокоился о судьбе мальчишки, но быстро успокоился. Эти юные плуты были проворными, и схватить их за руку мог лишь очень ловкий человек. Граф злился на себя. Что теперь делать? Если он станет следить за инквизитором, Флорен мгновенно узнает его. Он проклинал себя за то, что был человеком чести. Он мог вызвать на дуэль, драться и побеждать. Но уловки и хитрости были ему чужды. Он чувствовал себя безоружным перед такой ловкой гадюкой, которой был инквизитор. Монж де Брине, его бальи, ничем не сможет помочь ему в этом деле, поскольку они были очень похожи друг на друга. И вдруг он нашел очевидное и простое решение; Клеман! Флорен не знал мальчика. Зато Клеман уже доказал свое мужество и ум и был готов на все, лишь бы спасти свою даму. Почувствовав несказанное облегчение, Артюс расслабился и пригубил медовуху. Послезавтра он вместе с Клеманом вернется в Алансон. Вечером Флорен отправится туда, откуда он никогда не выйдет: в ад. И тогда граф сошлется на Божий суд. Когда обвинитель умрет, сраженный десницей Божьей, Аньес обретет свободу. Артюс резко встал, едва не опрокинув стол, и стремительно вышел, сопровождаемый удивленными взглядами других посетителей. Рыцарь Франческо де Леоне разыскал улицу Карро, которая была привести его к месту назначенной встречи, к таверне «Шпульня»[151] на улице Мотальщиков. Леоне ориентировался по громким выкрикам зазывалы,[152] которому было поручено объявлять по всему кварталу цену на вино, подаваемое в таверне. Когда рыцарь вошел, господин Шпульня – было принято называть владельцев таверн по их вывеске – поднял голову, спрашивая себя, что понадобилось кузнецу в его заведении, где собирались галантерейщики – цех, богатство и влияние которого продолжали расти и к которому теперь относились почти так же уважительно, как к горожанам. Мэтр Шпульня колебался. Его завсегдатаи не любили, когда к ним подсаживался представитель низшего ремесла. Но, поскольку речь шла не о кожевнике, сопровождаемом отвратительным запахом падали, которым пропиталась его одежда, и уже тем более не о презренном красильщике, сейчас было не время давать от ворот поворот. Тем более что сьера Шпульню заинтриговала манера, с которой держался этот человек: удивительная непринужденность, раскованность, в которой не было ни тени высокомерия. Несомненно, завсегдатаи, сидевшие в таверне, тоже почувствовали это, поскольку, взглянув на незнакомца, тут же вернулись к своим разговорам. Кузнец молча обвел зал взглядом, потом, не сказав ни единого слова, повернулся к хозяину и показал подбородком на стоявший в стороне стол, за который он собирался сесть. Когда мэтр Шпульня предстал перед Леоне, чтобы взять заказ, он счел необходимым поддержать марку заведения и успокоить своих посетителей: – Мы люди из приличного общества, кузнец… поэтому на этот раз Шпульня любезно примет вас. Но если завтра вас одолеет жажда, соблаговолите посетить таверну, в которой собираются люди вашего ремесла. Кузнец поднял свои голубые глаза и посмотрел на хозяина таверны таким глубоким взглядом, что какое-то смущение сжало горло мэтра Шпульни, и он с трудом подавил себе желание броситься прочь, чтобы не упасть лицом в грязь перед своими посетителями. На губах кузнеца заиграла запоздалая улыбка: – Вы очень любезны, мэтр Шпульня, и я вам за это признателен. Я принимаю ваше гостеприимство и всегда буду помнить, что вы сделали для меня исключение. – Хорошо, друг, – сказал хозяин таверны, довольный, что не стал слишком сильно настаивать. – Вина? – Да, и лучшего. Я жду товарища… доминиканца… Он не галантерейщик, но… – О, монах? Это честь для моего заведения, – проникновенным тоном перебил Леоне мэтр Шпульня. Через несколько минут в таверну вошел Жан де Риу, младший брат Эсташа де Риу, крестного отца Леоне по ордену госпитальеров. Мэтр Шпульня сразу же засуетился, увидев в приходе монаха своего рода общественное признание: его заведение притягивало к себе соль земли и вовсе не было пристанищем греха. Когда старый друг Леоне поравнялся с его столом, рыцарь встал и прижал к себе этого человека с отважным и верным сердцем, не побоявшегося выполнить презренную работу шпиона, чтобы всегда оставаться на высоте своей веры и веры своего умершего брата. – Я жалуюсь на судьбу, Жан, поскольку удовольствие, которое я испытываю от того, что вновь вижу вас через столько лет, омрачено обстоятельствами, заставившими меня просить вас о помощи. Я всей душой признателен вам за то, что вы без колебаний оказали мне эту помощь, несмотря на свой долг подчиняться вашему ордену. – Франческо, Франческо… Какое счастье лицезреть вас! Что касается моей помощи, она всего лишь отражение дружбы и уважения, которые я всегда к вам питал. Эсташ относился к вам как к сыну, я же считаю вас своим младшим братом. Ваши поиски не могут быть запятнаны низостью, и поэтому, когда я получил вашу короткую записку, я без малейших колебаний согласился оказать вам услугу равно как и мой брат по ордену Ансельм. Жан замолчал, когда к ним подошел мэтр Шпульня и поставил на стол кувшин пенистого пива. Он поблагодарил хозяина, приветливо кивнув ему, и подождал, пока тот не отойдет достаточно далеко. Затем он продолжил доверительным тоном: – Что касается долга послушания моему ордену, он никогда не вытеснит долг послушания Господу. Не думайте, дорогой Франческо, что, добровольно подчиняясь правилам, мы стали слепыми, не думайте, что правила лишают нас возможности размышлять. Многие из нас, доминиканцев и францисканцев, задумываются над той кровавой ролью, которую стала играть инквизиция. То, что вначале было волей убеждения, превратилось в жуткую свирепость. Одно дело – защищать веру, но насилие – это совсем другое дело, которое к тому же искажает евангельское учение. – Бенедикт XI хотел обуздать инквизицию. Жан де Риу с удивлением посмотрел на Франческо и спросил: – И вернуться к булле Ad Extirpanda Иннокентия IV? – Да. – Это был бы большой политический риск. – Бенедикт XI знал об этом. – Ходят слухи, которые только все больше разрастаются, что его смерть была вызвана естественным внутренним кровотечением, – уточнил Жан де Риу. – Этого следовало ожидать… Тем не менее он был убит, отравлен фигами, – возразил рыцарь, – которые избавили приверженцев императорской Церкви от неудобного реформатора и лишили христианский мир одной из самых прекрасных душ. Они молча выпили несколько глотков, затем доминиканец заговорил еле слышным голосом: – Брат мой, то, что сейчас вы мне сказали, лишь усиливается мою тревогу, причину которой я никак не могу определить. Происходит нечто такое, что мне непонятно. Нечто такое, что выходит далеко за границы процесса, подстроенного за деньги. Флорен чувствует себя неуязвимым. Но он не мог бы так себя вести, если бы его единственный интерес заключался в кошельке этого ничтожного ординарного барона. – Вы пришли к такому же выводу, что и я. Я думаю, что могу назвать имя и открыть лицо того, кто стоит за этим. – Кто? – Камерленго Гонорий Бенедетти. – Но все же вы не допускаете мысли, что он был причиной неожиданной смерти нашего славного Бенедикта XI? – Я в этом почти уверен, хотя мне не хватает доказательств, и я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу получить их. Через час они расстались на верхних ступенях лестницы, ведущей в винный погребок. Жан поведал Леоне о допросах мадам де Суарси, на которых он присутствовал, причем во всех подробностях. По его мнению, все обвинения были лишь подлым шутовством, и то, что процесс был нечестным, тоже не вызывало сомнений. Жан особо выделил омерзительную роль, которую играла дочь Аньес. Надо было действовать быстро. Предварительные допросы вскоре закончатся, особенно если учесть то обстоятельство, что желчная, но глупая Матильда де Суарси так опозорилась перед судьями. Перед тем как расстаться, они пожали друг другу руки Жан ненадолго задержал руку Леоне. Немного поколебавшись, рыцарь спросил: – Жан, друг мой, думаете ли вы, как Эсташ и как я что, защищая Свет, нельзя вершить святотатства? – Это мое глубокое убеждение, и вы обижаете меня своими сомнениями, – серьезным тоном прошептал доминиканец. Леоне протянул ему маленький холщовый мешочек, посоветовав: – Не открывайте его здесь, брат мой. В нем – ваше право обходить закон и, несомненно, спасение мадам де Суарси. Там есть и записка. Если вы считаете… В конце концов то, что Предложено в записке, может подвергнуть вас опасности, и я буду упрекать себя… Слабая улыбка озарила грубое лицо доминиканца, напоминавшее Леоне лицо его крестного отца по ордену госпитальеров. – Вы, Франческо, как и я, знаете, что опасность – это любовница с характером. Опасность редко находится там, где вы ее ждете, и этим она соблазняет вас. Давайте мешок.Ватиканский дворец, Рим, ноябрь 1304 года
Странно… Он, кому так докучала жара, вдруг после смерти Бенедикта XI начал чувствовать, как ледяной холод пробирает его до самых костей. Можно было подумать, что приятные воспоминания, которые в мрачные минуты волновали или успокаивали Гонория Бенедетти, камерленго покойного Бенедикта XI, неожиданно поглотила бездонная пропасть. Куда делась история о прекрасном дамском веере, который он убрал в ящик стола, о том, как они со своим юным братом купались в ледяной воде реки, откуда выскочили покрасневшими от холода и удовольствия, а после увидели, что их ступни все в крови? Гонорий, которому было тогда пять лет, разрыдался и заявил, что они скоро умрут. Бернардо, старший брат, быстро взял себя в руки и принялся его утешать, объяснив, что в этом повинны раки, но раки извинятся перед ними, превратившись во вкусный обед. Они сварили их и наелись до отвала, а потом их сморил глубокий сон. Его мать… Опьяняющий запах волос его матери. Она ополаскивала волосы медовой илавандовой водой, что пробуждало желание дышать ими, кусать и проглатывать их. Куда исчезли из его памяти опоры?Exaudi, Deus, orationem теат сит deprecor, a timoré inimici eripe animam meam.[153]Бенедикт. Бенедикт все унес с собой в могилу. Как Гонорию хотелось разозлиться на него за это! Тогда, может быть, к нему вернулись бы прекрасные воспоминания о детстве. Но ему никак не удавалось этого сделать. Бенедикт и его а гельское упрямство. Бенедикт и его нежная несгибаемость От тревожной грусти на глазах Гонория выступили слезы Милый Бенедикт. «Я так любил тебя, брат мой. Восемь месяцев, проведенных подле тебя, были единственным светлым пятном в этом дворце дураков, который я ненавижу до тошноты. Бенедикт почему ты вынудил меня убить невинность? Другие не имели для меня значения, жалкие непоследовательные насекомые, которые летят туда, куда несет их ветер. Когда я сжимал тебя в своих объятиях, пока тебя рвало кровью, я знал что отныне мне всегда будет холодно. Бенедикт, разве ты не понял, что я был прав, что я боролся за нас? Зачем нам это потрясение, нам, которых так холило постоянство? Зачем надо было все бросать во имя так называемой истины, столь смутной, что она в состоянии очаровать лишь неразумных? Я защищаю установленный порядок, без которого люди стремительно погрузятся в хаос, откуда мы их вытащили. Но что ты думал? Что они любят Истину, что в своих молитвах они взывают к Справедливости? Они такие глупые, такие безвольные, такие злобные. Ах, Бенедикт… Почему ты оказывал мне сопротивление, почему противоречил мне, сам того не осознавая? Если бы ты согласился со мной, я принялся бы неустанно работать, чтобы возвести тебя на престол как Бога, как я это сделал для Бонифация, которого, впрочем, не любил. Я стал бы неутомимым инструментом, который позволил бы тебе править нашим миром. Бог озарил тебя своей улыбкой, но он не наградил тебя силой, чтобы без устали бороться. Почему ты упорствовал в этой химере? Прежде чем приказать тебя убить, я плакал все ночи напролет. Я молился все ночи напролет. Я молил, чтобы твой глаза наконец открылись. Но ты был ослеплен ясным светом. Часы твоей агонии стали самыми долгими часами в моей жизни. Я так страдал, видя, как страдаешь ты, что поклялся навсегда изгнать из своего лексикона слова «мука», "скорбь", "крестный путь". Бенедикт… После твоего ухода моя вселенная опустела. Ты был единственным, кто мог бы приблизиться ко мне, но из-за твоей любви к Нему нас друг от друга отделяло расстояние. И все же я тоже люблю Его больше своей жизни или своего спасения. Меня накачали одурманивающими средствами, в то время как исполнитель грязных дел спокойно прошел по пустому коридору, соединяющему мой кабинет с твоим залом. Когда я пил эту горькую настойку, я умолял, чтобы она стала для меня смертельной. Но смерть отвернулась от меня. Мое косноязычие объяснили опиумом, но мой голос прерывался из-за скорби. Вспомни. Я видел, как ты одну за другой ел фиги. Ты мне улыбался, как ребенок, поскольку они тебе напоминали о счастливом времени, проведенном в Остии. С каждым кусочком фиолетовой кожуры, которую ты выплевывал в свою руку, тебя покидала жизнь, частичка за частичкой. Я считал минуты, которые тебе оставалось дышать, и моя душа вытекала вместе с ядом, который постепенно распространялся по твоим жилам. В моем сердце нет ни капли сожаления, Бенедикт. Это гораздо хуже. Ни капли сожаления, поскольку я не мог позволить тебе лишить нас величия и власти во имя чудесной утопии. Это гораздо хуже, ведь после твоей смерти я не живу, я действую машинально. Это все, что мне осталось, а осталась мне устрашающая пустота. Пусть я виновен перед Господом и перед тобой, но я прав перед людьми. Я примирюсь со своим наказанием, оно не может быть более суровым, чем наказание, которому я подвергаюсь сейчас. Милый Бенедикт, да упокоится с миром твоя прекрасная душа. Я молю тебя об этом всякий раз, когда все фибры моей души начинают кричать и взывают к снятию самых насущных обетов». Гонорий Бенедетти встал и вытер слезы, от которых стал мокрым даже его подбородок. Перед его глазами кружилась комната, и он оперся о свой большой письменный стол, чтобы удержаться на ногах. Наконец головокружение прекратилось. Он дал себе еще несколько секунд, чтобы восстановилось дыхание, а потом дернул за позументный шнурок, спрятанный под одним из ковров, оживлявших его кабинет. Мгновенно появился камергер. – Пусть он войдет. – Слушаюсь, ваше преосвященство. В кабинет вошел человек, закутанный в плащ с капюшоном. – Ну? – Аршамбо д'Арвиль умер, пронзенный мечом. Леоне ускользнул от нас. Раздосадованный камерленго закрыл глаза. – Как это произошло? Ты советовал д'Арвилю соблюдать крайнюю осторожность? Леоне – ратник, причем один из лучших в своем ордене. – Он должен был его одурманить, чтобы тот стал уязвимым. Бенедетти раздраженно вздохнул и спросил: – Как ты думаешь, речь вновь идет о вмешательстве одного из них? – Эта мысль приходила мне в голову. – Но почему всем моим шпионам еще не удалось их вычислить? Я начинаю думать, что они пользуются божественным покровительством. – Я в этом сомневаюсь, ваше преосвященство. Бог на вашей стороне. А поскольку это так, наши враги поднаторели в подземной войне. Мы вытеснили их в пещеры, расщелины, катакомбы. Их слабость стала силой. Они превратились в тени, и нам неизвестна их численность. – Как ты думаешь, Леоне понял, что на самом деле вдохновителями его тайных поисков были совершенно другие люди? – Меня это очень удивило бы. Прелат почувствовал горечь и срывающимся голосом сказал: – Манускрипты, похищенные этим негодяем Юмо из папской библиотеки… Собранные сведения позволяют мне предполагать, что Юмо продал их Франческо де Леоне. Ты нашел их? – Еще нет, но я неустанно ищу. – Надо же! Я предпочел бы, чтобы ты искал, находя. – Все указывает на аббатство Клэре. – Но как Леоне связан с этим женским аббатством? – удивился камерленго. – Через Элевсию де Бофор, аббатису. Она была назначена Бенедиктом XI, и я спрашиваю себя, нет ли между ней и рыцарем связей, о которых нам ничего не известно. – Выясни и найди как можно скорее этот трактат Валломброзо, без которого мы не можем уточнить даты рождения, а также трактат по некромантии… В том положении, в каком мы находимся… даже строптивая помощница может оказаться нам полезной. – Но вы же не намерены… ну, прибегнуть к этому зверству? – Зверству, говоришь? Какую вину ты за собой чувствуешь с тех пор, как мне служишь? Призрак притих. – А женщина? – продолжал камерленго. Призрак снял капюшон. Его лицо озарила довольная улыбка. – Теперь, ваше преосвященство, осталось не так долго ждать, и мне не хотелось бы оказаться на месте этого ничтожества. – Ее страдания не приносят мне облегчения. Страдания – это слишком ценная жертва, чтобы ее приносили попусту. Я хорошо это знаю, – прошептал прелат, прежде чем продолжить более уверенным тоном: – Аньес де Суарси должна умереть, причем как можно скорее. Тем не менее эту казнь необходимо представить так, чтобы она выглядела как заслуженный приговор. Мне совершенно не нужна мученица. – Я немедля сообщу об этом ее палачу. Он будет разочарован. Страдания других опьяняют его как пряное вино. – Ему щедро платят за послушание, – напомнил Бенедетти тоном, не допускающим возражений. – Я питаю отвращение к радости мучителей. Потом он тоже должен умереть. Мы больше не нуждаемся в нем, а его образ жизни настолько омерзителен, что вызывает у меня отвращение. – Все будет сделано так, как вы желаете, ваше преосвященство. Гонория охватило отчаяние, и он процедил сквозь зубы: – Ты знаешь мою волю. Выполни ее. Я достаточно плачу тебе за эту службу! Мне не хотелось бы сердиться на тебя. А теперь ступай. Угроза была столь очевидной, что человек надел капюшон и удалился. Камерленго подождал несколько минут, затем вызвал камергера, яростно дернув за позументный шнурок. – Пришла она наконец? – Нет, ваше преосвященство, еще нет. На лице Бенедетти отразилось разочарование. Он прошептал, словно разговаривая сам с собой: – Но что может ее задерживать? Как только она придет, сразу же сообщите мне. – Слушаюсь.
Лувр, Париж, ноябрь 1304 года
Одна из крупных заячьих гончих короля Филиппа следила за ним угрожающим взглядом. Гийом де Ногаре ждал в рабочих покоях монарха, стараясь не делать никаких движений из страха, что белая сука с черной головой расценит его жест как угрозу. Все знали, что челюсти этих животных, сомкнувшись, могли сразу убить свою добычу. Ногаре понимал их пользу, но, разумеется, не в тех случаях, когда дамы делали самых прелестных из этих четвероногих своими спутниками и доходили до того, что одевали их в вышитые манто[154] зимой, чтобы те не простудились. Для мсье де Ногаре единственными Божьими созданиями были мужчины и в меньшей степени женщины. Все остальное всемогущий Господь дал для того, чтобы этим пользовались, не применяя насилие и не допуская плохого обращения. В конце темного коридора, в который вглядывался советник, появился высокий стройный силуэт Филиппа Красивого. Гийом де Ногаре встал. Тут же послышалось отнюдь не приветливое рычание суки, которая подошла к советнику и принялась недружелюбно обнюхивать полу его накидки. – Лежать, – шепотом приказал он. Собака зарычала еще громче. Но как только в комнату вошел ее хозяин, она бросилась ему навстречу, а потом села между ним и человеком, запах которого ей не нравился. – Дельме, моя драгоценная Дельме, – успокоил ее Филипп, наклонившись, чтобы погладить собаку. – Ложись, моя красавица. Знаете ли вы, мой славный Ногаре, что из всех собак она самая быстрая и одной хваткой ломает позвоночник зайцам? – Действительно, милое животное, – согласился советник таким малоубедительным тоном, что Филипп улыбнулся. – Порой я спрашиваю себя, что вас привлекает или развлекает, когда речь не идет о государстве и законе? – Ничего, сир, если это не касается ваших дел. – А как обстоят дела, если речь заходит о Папе? Бенедикт XI, вернее, его преждевременная смерть поставила меня в весьма неловкое положение. Эта реплика не смутила Ногаре. Тем не менее если кто и попал в неловкое положение из-за преждевременной кончины понтифика, так это был он. План, который он намеревался разработать и который должен был дать Филиппу Красивому святого отца, заботящегося о духовном царстве, а не о политических делах Франции, не был готов. Гийом де Ногаре терпеть не мог действовать в спешке, однако будущее избрание не оставляло ему выбора. Он объяснил: – По моей просьбе Гийом де Плезиан прощупал Рено де Шерлье, кардинала Труа, и Бертрана де Го*, архиепископа Бордо. Это наши самые многообещающие кандидаты. – И? – Я, несомненно, не удивлю вас, сир, доложив вам, что они оба – я цитирую – «кровно заинтересованы в том, чтобы служить нашей святой матери Церкви». – Действительно, вы не удивили меня, Ногаре. Папская тиара таит в себе множество преимуществ, и я полагаю, что они продадут их нам. За какую цену они согласны править христианским миром? – У них, и у того, и у другого, отменный аппетит… Преимущества, титулы для их семей, различные подарки и обязательства с вашей стороны. – Какие обязательства? – Что духовное царство будет признано их апанажем и что вы перестанете интересоваться управлением французской Церкви. – Церковь Франции находится во Франции, а Франция – мое королевство. Земельное богатство французской Церкви заставляет бледнеть от зависти самых крупных моих сеньоров. К чему ей дополнительные привилегии? Ногаре решил выгадать время. – Разумеется, сир… Но мы нуждаемся в Папе, который будет благоволить вам. Допустим… Неужели вы думаете, что счастливый избранник станет затем возмущаться, рискуя предать огласке махинации, которые привели его на папский престол? Плохое настроение Филиппа читалось по поджатым тонким губам. – Кто будет удостоен нашей милости? – спросил король. – Мы их выбрали потому, что их готовность услужить нам не вызывает ни малейших сомнений. Го, несомненно, более умный, но, как и Шерлье, не наделен твердым характером, качеством, которое – если я могу так выразиться – и определило наш выбор. – В самом деле, нам не нужна сильная личность. Что они намерены делать в отношении этой язвы Бонифация VIII? Вам известно, Ногаре, как я хочу его разоблачения, даже посмертного… как плату за то, что он испортил мне жизнь. Он противодействовал всему, что бы я не приказал. И я уверен, что он дошел даже до того, что подстрекал Лангедок к бунту против моей власти, выпустив на сцену этого несносного Францисканца, этого Бернара Делисье*. Бонифаций… – король плюнул на пол. – Досадная ошибка, память о которой Уродует христианский мир! Ненависть, которую они оба питали к предшественнику Венедикта XI, была еще одной ниточкой, связывавшей мужчин. – Плезиан, разумеется, упомянул с… тактом и осторожностью об этом аспекте. Ему показалось, что оба священнослужителя внимательно выслушали его, во всяком случае, без враждебности. – На ком мы остановим выбор, поскольку мы не можем передвигать две пешки одновременно? – Я отдал бы предпочтение архиепископу Бордо, монсеньору де Го. – Ваши доводы? – Вам лучше, чем мне, известны его достоинства как дипломата. Гасконцы уважают его, что принесет нам дополнительные голоса; К тому же нам не понадобится их оплачивать и даже не потребуется действовать открыто. Наконец и это главное, архиепископ Бордо благосклонно относится к объединению двух военных орденов под одним знаменем, следовательно, к исчезновению ордена Храма как сообщества. Пусть мы руководствуемся разными причинами, но движемся в одном направлении. – Хорошо… Пусть будет монсеньор де Го. Поддержим его настойчиво, но тайно. И постарайтесь, чтобы он был нам за это признателен.Женское аббатство Клэре, Перш, ноябрь 1304 года
Она забилась в угол маленькой темной и сырой комнаты, пропитавшейся запахом экскрементов и свернувшегося молока. Она забилась в угол, присев на илистую землю, которая пачкала зловонной зеленоватой грязью низ ее слишком легкого платья, ее лодыжки, ее икры. Она забилась в угол, вглядываясь в темноту, пытаясь разгадать долетавшие до нее звуки. Раздавались грубые окрики, взрывы безумного смеха, крики, перераставшие в отчаянные вопли. Потом наступила своего рода тишина ужаса. Она забилась в угол, стараясь слиться с камнями стены, надеясь распластаться на них, чтобы окончательно исчезнуть. Шаги, остановившиеся за низкой дверью, казавшейся такой толстой. Восклицание: – По крайней мере похоже, что она, эта баба, весьма аппетитна и на нее приятно смотреть! – Она была такой, но выглядела как оборванка, когда я приволок ее сюда из процедурной комнаты.Дверь сотрясалась от сильных ударов. Но почему они ломились, ведь им было достаточно открыть замок? Прекратите, да прекратите же… Элевсии де Бофор удалось вырваться из мучившего ее кошмара. Вся в поту, она села в кровати. Аньес. Допрос с пристрастием. Скоро начнется допрос с пристрастием. Что делает Франческо? За дверью ее покоев царило какое-то оживление. Потом раздался крик. Кричала Аннелета: – Матушка, умоляю вас, проснитесь… Жанна… Гедвига. Элевсия буквально выпрыгнула из постели и бросилась открывать. Тибода де Гартамп, сестра-гостиничная, цеплялась за руку Аннелеты. За ними стояли Эмма де Патю и Бланш де Блино, мертвенно-бледные, как привидения. – Что происходит? – взволнованно спросила Элевсия, поспешно надевая накидку. Тибода пронзительно выкрикнула: – Они умрут, они умрут… Господи ты мой Боже… Я ни секунду больше не могу оставаться в этом проклятом месте… Я хочу уехать, немедленно… Обезумевшая, готовая вот-вот впасть в истерику, сестра-гостиничная едва не бросилась на аббатису. Аннелета попыталась ее успокоить, решительно отчитав: – Хватит! И отцепитесь от меня, ваши ногти вонзаются мне в руку. Отцепитесь, говорю я вам… Тибода продолжала кричать: – Я хочу уехать… Позвольте мне уехать… Если вы… От звонкой пощечины голова Тибоды дернулась в сторону. Аннелета вновь замахнулась, но тут вмешалась Элевсия: – Да объясните же мне в конце концов! – Они в очень плохом состоянии. Жанна д'Амблен и Гедвига дю Тиле. Едва они легли спать, как у них началась рвота. Аббатиса почувствовала, как от ее лица отхлынула кровь. Она содрогнулась от ужаса и едва слышно спросила: – Тис? – Возможно, но я не уверена. Элевсия молча бросилась по коридору к дортуарам. Все четыре женщины побежали за ней. Жанна д'Амблен лежала под простынями, испачканными кровавой рвотой. Ее глаза были закрыты, грудь едва поднималась от дыхания. Мучительная агония превратила ее лицо в искаженную маску. Элевсия провела рукой по ледяному лбу Жанны и выпрямилась, едва сдерживая душившие ее слезы. Аннелета рявкнула: – Где кувшин с водой, который я велела принести. Обезумевшая послушница подала ей кувшин, расплескав добрую четверть содержимого на пол. В другом конце дортуара раздался крик: – Она… Нет, это невозможно… Да сделайте что-нибудь… Элевсия бросилась на крик. Голова Гедвиги дю Тиле упала на плечо Женевьевы Фурнье, сестры – хранительницы садков и птичника. В отчаянии Женевьева, отказываясь признать правду, трясла мертвую хрупкую Гедвигу в надежде оживить ее, шепча доверительным тоном: – Прошу вас, дорогая Гедвига, прошу вас, возвращайтесь к нам… Ну же, Гедвига, ну же… Вы слышите меня? Это Женевьева. Вы знаете… Женевьева, ее индюки, ее яйца, ее карпы и ее раки. Сделайте над собой усилие, заклинаю вас. Дышите, дорогая Гедвига. Смотрите, я помогаю вам, я расшнуровываю ваш шенс, чтобы вам было легче дышать. Аннелета с неожиданной нежностью попыталась освободить тело мертвой сестры, но Женевьева не разжимала своих крепких объятий. Аннелета понюхала посиневшие губы, затем просунула палец в рот Гедвиги, чтобы понюхать слюну. Поцеловав блестевший от пота лоб Женевьевы, она прошептала: – Она умерла. Оставьте ее, прошу вас. – Нет. Нет! – кричала хранительница садков. – Нет, этого не может быть! Женевьева цеплялась за свою духовную сестру, почти легла на безжизненное тело, прижалась лицом к ее шее и все время повторяла скороговоркой: – Нет, это невозможно. Господь не допустит этого. Он не допустит, чтобы один из столь нежных ангелов ушел таким образом. Я это знаю! Вы ошибаетесь, дорогая Аннелета, она вовсе не умерла. Она потеряла сознание, только и всего. Обыкновенный обморок. Вы прекрасно знаете, моя дорогая, она всегда была слабенькой. Но умерла… Какая глупость! Элевсия хотела вмешаться, но Аннелета, отрицательно покачав головой, сказала решительным тоном: – Нам как можно быстрее надо заняться Жанной, теперь, когда, как мне кажется, я знаю, о каком яде идет речь. Перейдя на шепот, чтобы ее не могла услышать Женевьева Фурнье, она добавила: – Ни слова Жанне о смерти Гедвиги. Вы знаете, как они дружили. Жизнь нашей сестры-казначеи держится на волоске, и это жуткое известие может оборвать его. Они на время оставили женщину, отказывавшуюся верить в произошедшее, поскольку знали, что эта передышка будет недолгой и вскоре горе со всей неумолимой жестокостью навалится на нежную Женевьеву. Жанна задыхалась. При каждом приступе рвоты ее рот переполнялся слюной с примесью крови, стекавшей по подбородку. Из ее груди вырвался хрип. – Боже, до чего же мне плохо… В животе все горит. Благословите меня, матушка, ибо я согрешила… умоляю, благословите меня пока… не поздно… Воды… Меня мучает жажда… Благословите меня… Элевсия перекрестила ее лоб, прошептав: – Благословляю тебя, дочь моя, подруга моя, и отпускаю тебе все твои прегрешения. От мимолетного облегчения искаженные болью черты лица Жанны расслабились. Умирающей удалось выдохнуть: – Гедвига… Ей лучше? – Да, Жанна, мы надеемся, что она выживет, – солгала Элевсия. – Мы… мы обе отравились. – Я знаю… Успокойтесь и берегите силы, моя дорогая дочь. Жанна закрыла глаза и хрипло прошептала: – Проклятая… – Она проклята. А теперь замолчите. Аннелета взяла кувшин с водой и приказала послушницам крепко держать Жанну и силой открыть ей рот. Умирающая попробовала оказать слабое сопротивление, простонав: – Дайте мне уйти с миром. Я хочу уйти с миром… В течение четверти часа сестра-больничная заставляла Жанну пить, несмотря на ее слабый протест и одышку, от которой она кашляла и выплевывала слизь. Две послушницы по очереди ходили на кухню за водой. Когда Жанна, которую оставили последние силы, выпила несколько пинт* жидкости, сестра-больничная встала. Перед ее платья был мокрым от воды и рвоты. Угрожающим жестом она показала на Иоланду де Флери, которая неподвижно стояла перед кроватью, не произнеся ни единого слова с начала этой кошмарной сцены, и на Эмму де Патю, сказав повелительным тоном: – Поднимите и крепко держите ее. Монахини подняли безвольное тело Жанны и усадили ее. – Вы обе, – приказала Аннелета, повернувшись к дрожавшим послушницам, – откройте ей рот и уберите руки только тогда, когда начнется рвота. Все повиновались, не в состоянии вымолвить ни слова. Аннелета засунула два пальца в рот Жанны. От зловонного и вместе с тем сладкого запаха, исходившего изо рта Жанны, ее слегка подташнивало. Она жала на язычок до тех пор, пока диафрагма отравленной монахини не начала содрогаться. Аннелета дождалась, пока теплая жидкость, выходившая из желудка, не польется ей на руку, а потом вытащила пальцы изо рта сестры, которая порциями отрыгивала жидкость, промывшую ее внутренности. Когда полчаса спустя они удобно уложили Жанну, ее пульс еще бился прерывисто, тело по-прежнему содрогалось от конвульсий, но дышала она свободнее. Элевсия шла за Аннелетой по длинному коридору. Бланш де Блино прижалась к одному из пилястров и, закрыв лицо руками, плакала. Когда Бланш услышала их шаги, она подняла голову и простонала: – Я трусливая. Трусливая и слишком старая. Смерть внушает мне такой страх… Мне стыдно за себя. – Бланш, не надо столь строго относиться к себе, – вздохнула Элевсия. – Мы все тревожимся, хотя хорошо знаем, что подле нашего Господа нас ждет чудесное место. Повернувшись к Аннелете Бопре, старая женщина спросила: – Жанна тоже умрет? – Не знаю. Гедвига была такой хрупкой, и к тому же она старше. Возможно также, что она приняла более высокую дозу яда. Мы это узнаем лишь тогда, когда поймем, каким образом им подсыпали яд. – Но почему? – плача, прошептала благочинная. – Этого мы тоже не знаем, дорогая Бланш. У меня была версия, но две новые жертвы поставили ее под сомнение, – ответила аббатиса, думая о планах аббатства, спрятанных в несгораемом шкафу. Если убийца хотела добраться до этих планов, почему она отравила Гедвигу и Жанну, у которых не было ключей? Элевсия утешила Бланш, как могла, добавив: – Вам надо немного отдохнуть. Послушницы по очереди будут дежурить у изголовья Жанны. Они сообщат нам, если ее состояние изменится.
Замок Отон-дю-Перш, ноябрь 1304 года
Прижавшись к большому камину, единственному источнику тепла в этом огромном учебном зале, Жозеф из Болоньи учил Клемана распознавать запахи. Старый врач поднес к носу своего ученика сосуд с отвратительной стоячей жидкостью красновато-желтого цвета. Он немного нервничал: – Ну, постарайся не ошибиться. Что это? Клеман едва сдержал позыв к рвоте, сказав: – О… Меня тошнит… – Ученого не тошнит. Ученый размышляет и определяет по запаху. Более того, он вспоминает, – оборвал Клемана Жозеф. – Призови на помощь свой нос, Клеман, нос – это бесценный помощник в медицине! Ну, так что это? – Тухлое, очень тухлое яйцо. – И откуда исходит столь неприятный запах, поскольку – не станем преувеличивать – это один из самых зловонных? – Из испражнений больного, страдающего кровавым поносом. – Хорошо. Перейдем к другому, более приятному. – Мэтр, – перебил Жозефа Клеман, которому никак не удавалось избавиться от единственного наваждения. Он думал об этом днем и ночью, плача в подушку, когда знал, что находится один. – Мэтр… – Ты думаешь о своей даме, не так ли? – опередил ребенка Жозеф, который увеличил число опытов и занятий лишь для того, чтобы дать своему блестящему ученику возможность хоть немного забыть о страхе. – Она никогда не выходит у меня из головы. Вы полагаете… ну, что я вновь встречусь с ней? – Мне хочется думать, что невинность должна выйти победительницей из самых худших положений. – Но сможет ли она на самом деле? Жозеф из Болоньи внимательно посмотрел на ребенка. Его переполняла безмерная печаль. Разве когда-нибудь он видел, чтобы невинность торжествовала? Разумеется, нет. Он солгал во спасение этой переодетой маленькой девочки, которую полюбил как своего единственного духовного сына. – Иногда… Редко, разве что ей помогают. Итак, мой мальчик, – продолжил он, придав своему голосу строгость. – Продолжим. Жозеф прошел в другой конец большого зала и налил янтарную жидкость в новый сосуд, а затем представил ее на обонятельный суд Клемана: – Что мы чувствуем? Разве на этот раз приятный запах не щекочет нам нос? – Яблочный сок. Pestis.[155] Речь идет о запахе, исходящем от больных чумой. Ну, по крайней мере, большинства из них, поскольку от остальных пахнет недавно выдернутыми перьями. – Хорошо запомни эти два запаха. Поверь мне, эти проклятые напасти по-прежнему угрожают нам. Что в таком случае нужно делать? – Если образуется бубон, его надо насквозь проткнуть раскаленным добела ножом. При этом я должен надеть на руки перчатки, а затем бросить их в огонь и тщательно вымыть кисти и предплечья с мылом. Если речь идет о легочной форме, сделать ничего нельзя. Я не должен приближаться к такому больному ближе, чем на туаз. В его слюне образуются крошечные шарики, которые вылетают наружу, когда он говорит. Так передается чума, вылетая изо рта больного и цепляясь за его собеседника. Морщинистое лицо старого врача озарила улыбка. Он одобрительно кивнул. Хорошему учителю – хороший ученик. Вдруг они оба подскочили. Им показалось, что в зал вбежало целое войско. Послышался голос Артюса: – Могу ли я подойти, не страшась подхватить смертельную лихорадку? Что это за отвратительный запах? – Запах гнилого яйца, монсеньор. – Вот уж действительно, да чего забавными вещами занимаются ученые! Мессир врач, я хочу немедленно поговорить с вашим помощником. – Вы желаете, чтобы я удалился, сеньор? – Нет, нет, я оставляю вас с вашим смрадом и увожу его в свои покои, защищенные от миазмов. Когда они устроились в маленькой комнате в виде ротонды, Артюс, который был больше не в состоянии ждать, начал без всякого вступления: – Мне нужна твоя помощь, мой мальчик. Мрачный, напряженный вид графа просветил Клемана лучше, чем любые слова. Речь шла об Аньес. Безумная паника охватила мальчика, который буквально прирос к месту. Нет. Нет, она не могла умереть, поскольку тогда бы он тоже умер, настолько его жизнь зависела от жизни дамы. – Плохие новости? – наконец пролепетал ребенок, сдерживая рыдания, готовые вот-вот вырваться из его груди. – Они прискорбные, но не такие плохие, как вчера или позавчера. Не забивай себе голову глупостями. Мадам де Суарси жива… Тем не менее скоро начнется допрос с пристрастием. Артюс обвел комнату убийственным взглядом ища, что он мог бы разломать, разбить, чтобы немного утолить свою ярость. Его кулак резко опустился на рабочий стол опрокинув серебряную чернильницу в форме корабля. Клеман продолжал сидеть неподвижно, глядя, как чернила медленно текут по дереву, а затем капают на пол. Артюс проследил за взглядом ребенка и заметил небольшой беспорядок – пятно» черневшее на паркетной дощечке. Они оба в замешательстве смотрели на него, словно это постепенно расширявшееся пятно таило в себе некое послание. «Чернила черные, а не красные», – упорно твердил себе Клеман. Это чернила, а не кровь. Чернила и ничего больше. Тем не менее он схватил большой платок, висевший у него на поясе и служивший ему полотенцем, и бросился к столу, чтобы закрыть им небольшую черную лужу и заставить ее навсегда исчезнуть. Артюс поднял голову, словно этот простой жест развеял колдовские чары, принуждавшие их смотреть на пол. Граф начал с того, чем закончил: – Клеман. Флорен должен умереть. Он должен умереть, причем как можно скорее. – Прикажите, мессир, чтобы мне оседлали лошадь. Я еду немедленно. Я убью его. В сине-зеленом взгляде ребенка, смотревшего графу прямо в глаза, читалась полнейшая решимость. Странно, но Артюс считал Клемана способным на такой поступок, пусть даже потом ему придется погибнуть. – Право воспользоваться кинжалом я оставляю себе, мой мальчик. Кинжал – мой старый товарищ и никогда не изменял мне. Мне нужен шпион, который следил бы за Флореном, поскольку он меня знает. Я думал, что нашел себе сообщника, но он испарился. Клемана охватило радостное возбуждение. – Я могу его заменить. Приказывайте, мессир! – Завтра на рассвете мы едем в Алансон. – Это примерно в двадцати лье… Успеем ли мы… Клеман споткнулся на последних словах, которые прозвучали бы как смертный приговор. – Двадцать три, если быть точным, и, черт возьми, мы там будем вовремя! Немного поторапливая наших лошадей, не делая долгих остановок, мы приедем в Алансон послезавтра на рассвете.Ватиканский дворец, Рим, ноябрь 1304 года
Камергер положил конец мучительному оцепенению, которое отныне почти никогда не покидало камерленго Бенедетти. – К вам пришли, ваше преосвященство. Из груди Гонория вырвался вздох облегчения. У него возникло впечатление, что это благостное известие позволит ему наконец причалить к берегу, выплыть из беспокойного океана, который терзал его дни и ночи напролет. – Дайте мне время помолиться, а потом введите ее. Камергер ушел, склонившись в низком поклоне. Однако камерленго вовсе не хотел тратить время на то, чтобы собраться. Он хотел смаковать его, подметить все нюансы. Од, великолепная Од. Од де Нейра. Одно упоминание этого имени оказывало на него благотворное колдовское действие. Тиски, сжимавшие грудь прелата на протяжении нескольких месяцев, расслабились. С опьяняющей радостью он вдыхал этот почти свежий воздух, вновь и вновь открывая его для себя. Острая боль, которая жгла грудину, исчезла. Впервые за долгое время он осмелился встать и потянуться всем телом, не боясь, что его члены распадутся на куски. Од… Видеть ее, улыбаться ей… Не в силах больше сдерживаться, он устремился к высокой двойной двери своего кабинета и резко распахнул ее, чем привел в изумление камергера, скрашивавшего ожидание мадам де Нейра. – Входите, моя дорогая прекрасная подруга. Женщина поднялась с воздушным изяществом. Гонорий подумал, что она стала еще красивее, чем тот образ, который он хранил в своей памяти. Чудо, одно из чудес, которые поджидают вас на очередном жизненном повороте, чудо, совершенство которого поражает вас. Пышные белокурые волосы окружали идеальный овал ангельского лица. Два бездонных изумрудных озера, вытянутых в форме миндаля, радостно смотрели на него, а на прекрасном ротике в форме сердечка играла очаровательная улыбка. От удовольствия Гонорий закрыл глаза. За этим изящным силуэтом, за этим выпуклым челом скрывался один из наиболее мощных, наиболее острых умов, которые ему доводилось встречать. Она подошла ближе, и ему показалось, что ее ноги едва касаются земли. Гонорий закрыл дверь. Од де Нейра удобно села и улыбнулась, склонив свою очаровательную головку набок: – Сколько времени прошло, ваше преосвященство. – Прошу вас, Од, будем считать, что этого времени, которое едва коснулось вас, а меня же, напротив, превратило в старика, не существует. Грациозным жестом она одобрила его слова: ее тонкая красивая рука словно погладила пустоту. Затем она ответила: – С удовольствием… Значит, так мало времени, мой дорогой Гонорий. Поджав свои пухленькие губы, она продолжила более серьезным тоном: – Сначала ваше послание обрадовало меня, но затем, признаюсь, встревожило. – Простите меня за это. Меня снедает тревога, и, должно быть, она просочилась в мои слова… Камерленго замолчал и пристально посмотрел на нее. Од де Нейра вела бурный образ жизни. Только чудом можно было объяснить, почему он нисколько не сказался на ее внешности. Рано осиротевшую девочку отдали на воспитание стареющему дядюшке, который быстро начал путать родственное милосердие и кровосмесительство. Но мерзавец недолго пользовался прелестями племянницы. Он умер после бесконечной, мучительной агонии, при которой, как и требовало того благочестие, присутствовала его протеже. В двенадцать лет Од осознала, что ее талант по части ядов, убийств и лжи мог сравниться лишь с ее красотой и умом. За распутным дядюшкой в мир иной отправились тетушка, два кузена, претендовавшие на наследство, старый муж… Однако прискорбная участь родственников Од насторожила людей бальи Осера. Гонорий Бенедетти, тогда обыкновенный епископ, оказался в городе, когда шел процесс. Изумительная красота мадам де Нейра напомнила Гонорию сладостные безумства его юности, когда он покидал кровать одной дамы только затем, чтобы упасть в кровать другой. Он захотел ее допросить под тем предлогом, что его ряса заставит ее быстро признаться. Она ни в чем не призналась, запутав его в лабиринте лжи, которым он восхищался, будучи знатоком. По его мнению, такая беспринципность, такой ум и такой талант должны были спасти ее шейку от веревки и, уж конечно, от костра, на котором сжигали ведьм. Он крутился, как уж на сковородке, покупая одних, угрожая другим, убеждая третьих. С Од сняли все обвинения, освободили от всех подозрений. Од была единственным плотским увлечением прелата с тех пор, как он отрекся от мирской жизни. Неделю спустя он пришел к ней в особняк, унаследованный от мужа, которого она отправила в мир, считавшийся лучшим из миров. На мгновение Гонорий испугался, что она окажется не на высоте прегрешения, которое он собирался совершить. Но он глубоко заблуждался. Как он и надеялся в глубине души, эти несколько часов страсти она не рассматривала ни как вознаграждение, ни как необходимость. Она оказала ему честь, отдавшись ему как мужчине, поскольку никогда не уступила бы кредитору. Все эти часы, проведенные в совершенном безумии, они обнюхивали друг друга, как хищники одной и той же породы. Они занимались любовью, словно скрепляли договор. Как и Гонорий, Од полагала, что цель оправдывала средства. Ведь она сказала ему на рассвете после той ночи: – Что вы хотите, мой дорогой, жизнь слишком коротка, чтобы терпеть тех, кто портит нам ее. Если бы люди были более мудрыми… мне не пришлось бы их травить. Я женщина слова и чести, но только толкую эти понятия, разумеется, на свой лад. Как мой дядюшка, который думал, что имеет право лишать меня невинности… В обмен на это я отобрала у него жизнь. Я с самого начала не была согласна со сделкой, которую он заключил относительно моего тела. Неожиданно мне показалось, что мне не требуется спрашивать его мнения насчет всего остального… его смерти, например. Поклянитесь мне, Гонорий, что вы мудрый человек. Мне было бы очень жаль, если бы вы умерли… Вы такой исключительный и бесценный, что мне вас будет не хватать. Услышав столь сладостную угрозу, он расхохотался. С тех пор он редко смеялся по-настоящему. Его жизнь претерпела существенные изменения, стала зловещей и уродливой. Жизнерадостность Од была, несомненно, последним воспоминанием, которое позволяло ему вольготно дышать. – То, о чем я вам поведаю, моя лучезарная Од… – начал Гонорий, но она прервала его, забавно сморщив личико: – Должно остаться между нами? Ах, вы до такой степени забыли меня, мой дорогой? Гонорий медленно вздохнул. Разве Од не была лучшим исповедником, о котором он мог мечтать? Единственным, кому он мог довериться. Он закрыл глаза и, с трудом выговаривая слова, начал: – Од, моя великолепная… Если бы вы знали… Бенедикт умер, и я был виновником его агонии. Эта смерть причиняет мне такую боль, гложет меня изнутри, без передышки, но, тем не менее, она была неизбежной. – Почему? – спросила она, нисколько не смутившись от такого признания. – Потому что Бенедикт был одним из тех непорочных, упрямство которых может поколебать основы нашей Церкви. Он вбил себе в голову опасную химеру и отчаянно цеплялся за свою идею евангельской чистоты в то время, когда мы сами находимся в опасности, когда нам угрожают со всех сторон. Христианский Восток умер, и я сомневаюсь, что он когда-нибудь возродится из пепла. Сейчас мы должны, напротив, укреплять власть Церкви на Западе. Сейчас не время для диалога, обмена и открытости… Впрочем, они всегда были неуместны… Нас ждет церковная реформа, своего рода покаяние, я убежден, что это неизбежно. Од, мы гаранты порядка, твердости, без которых люди не смогут выжить. Силы, сущность которых я плохо понимаю, противостоят нам и пытаются уничтожить наше влияние. Некоторые монархи Европы, в частности Филипп Красивый, моя дражайшая, хотели бы разделаться с нашей властью. Но не это меня беспокоит, мы сумеем заставить их отступить. Признаюсь вам, совсем другие внушают мне страх. – Другие? Какие другие? – удивленно спросила прекрасная дама. – Если бы я знал, то больше не волновался бы. Я чувствую, как они наступают со всех сторон, я их чувствую в процветающей ереси, в экзальтированной строгости некоторых наших нищенствующих монахов, в дружбе молодых дворян и горожан. Я без устали ищу их следы… Самая богатая и самая просвещенная часть общества связывает свои надежды с реформаторами. Вскоре за ними последуют другие, бедняки, соблазненные их гротескными теориями равенства. Мы боролись и продолжаем бороться с еретическими движениями, но они представляют собой лишь поверхностный слой глубокого потока нелюбви к нам, к тому, что мы воплощаем. – Однако инквизиция ведет активную деятельность, – подчеркнула гостья камерленго. – Инквизиция – это бумажный дьявол, которым размахивают, чтобы внушить страх. В прошлом против нее случались бунты, и это доказывает, что народ, если он находит… вождя, может оказывать противодействие. Прежде чем продолжить, Гонорий немного поколебался: – Вождя или чудо. Представьте себе, моя подруга… Представьте… – В чем вы не решаетесь мне признаться? Я чувствую, что вы испытываете страх, и это тревожит меня. Проницательность молодой женщины убедила камерленго, и он пошел до конца в своих откровениях. – Я вступил в битву, которая, как я порой этого боюсь, может оказаться напрасной. Я чувствую, что потерплю поражение, и при этой мысли меня охватывает ужас. Было бы достаточно чуда… убедительного чуда, чтобы все переменилось. – Какого чуда? – Не знаю. Я сомневаюсь, что Бенедикт знал природу этого чуда, но все же он был готов его защищать ценой собственной жизни, равно как и один из его главных ставленников, рыцарь Франческо де Леоне, госпитальер. Несколько секунд Гонорий пристально смотрел на нее, а потом продолжил: – Мои объяснения такие расплывчатые, такие неясные… Это потому, что я сам вот уже на протяжении многих лет продвигаюсь в тумане. Текст, своего рода святое пророчество, чудом попал в наши руки, но лишь для того, чтобы потом исчезнуть вновь. В нем говорилось о двух астральных темах. После многих лет исканий и разочарований мы довели до сведения Бонифация существование трактата по астрономии, написанного монахом из монастыря Валломброзо. Революция, описанная на этих страницах, ни за что на свете не должна произойти. За этим следил я. Трактат был спрятан в нашей личной библиотеке. Мы делали успехи в расчетах, которые должны были позволить нам прояснить эти темы, однако один из камергеров украл этот трактат и продал его тому, кто предложил большую цену… Леоне. Тем не менее нам удалось проникнуть в тайну первой темы и определить, благодаря лунному затмению, личность, которую она означала, некую даму Аньес де Суарси. – Кто это? – Признанная незаконнорожденная дочь, зачатая французским ординарным бароном Робером де Суарси. Мадам де Нейра недоверчиво нахмурила свой хорошенький лоб. – Что за бессмысленная история… Какую роль играет эта мелкая французская дворяночка в столкновении между реформаторскими и консервативными силами Церкви? – Как вы верно выразили замешательство, в котором я пребываю уже несколько лет! – К тому же женщина. Кто такие женщины в глазах прелата? Святые, монахини, матери с одной стороны, а с другой стороны – шлюхи, развратницы и искусительницы. Какое значение может иметь женщина? Это перечисление заставило Гонория невольно поджать губы. Разумеется, он мыслил достаточно трезво, чтобы признать ее правоту. А поскольку это так, какую роль могла бы играть женщина? Разве Од, эта очаровательная убийца, сама не была наглядным примером? – Я теряюсь в догадках, моя дорогая. Я ничего не знаю об этой женщине, кроме того, что она представляет ужасную опасность, о которой мне тоже ничего не известно. Она должна умереть, причем как можно скорее. – Вы позвали меня, чтобы доверить мне ее казнь? – улыбаясь, уточнила мадам де Нейра. – Нет, я это устроил задолго до вашего прихода. – Так что вы от меня хотите, дорогой Гонорий? – Мне нужен трактат Валломброзо. Мне он непременно нужен, чтобы прояснить вторую тему и опередить моих врагов. Я прибег к услугам наемного убийцы, однако неэффективность его действий беспокоит меня и начинает приводить в отчаяние. Я рассчитывал на его гнев, досаду, на его стремление потребовать от жизни вознаграждение за несправедливость, жертвой которой он себя воображает. За этим признанием последовало короткое молчание. Од де Нейра неспешно прервала его, сказав: – Гонорий, Гонорий… Какая ошибка – доверять страху и зависти! Это характеристики труса, и нет худшего предателя, чем трус. – У меня было очень мало возможностей, моя красавица. Выпоможете мне? – Когда-то я вам сказала: я женщина слова и чести. Я всегда оплачиваю свои долги, мсье, – ответила она на этот раз без тени улыбки. – Тем более что, насколько я помню, у меня очень мало долгов. Я помогу вам… Потом, сочтя свой тон слишком серьезным, она пошутила: – И кто может сказать, что я не оказываю услугу будущему Папе? Гонорий, покачав головой, возразил: – Меня вполне устраивает роль тени, моя дорогая. Я предпочитаю держаться позади, я человек, который отчаянно ждет того, кому он будет служить лучше, чем самому себе. Бенедикт… Бенедикт, которого я любил, не был таким. – А ваш шпион? Что с ним делать? – Если возникнет необходимость, устраните его. Он предоставил мне множество доказательств своей некомпетентности. – Какая соблазнительная мысль, мой дорогой Гонорий! Од встала. Ее примеру тут же последовал камерленго, который крепко сжал ее руки, прежде чем поднести к своим губам. Она прошептала: – Я задержусь в Риме еще на два дня, чтобы немного отдохнуть. Если вы хотите тайно меня посетить, не стесняйтесь. – Не думаю, что мне этого захочется, моя нежная. Мы слишком хорошо друг друга знаем. И главное, мы слишком сильно любим друг друга. Од, закрыв глаза, послала ему свою неотразимую улыбку, а потом прошептала: – Почему я ответила бы точно так же, если бы вы первым сделали мне это нескромное предложение? – Потому что мы действительно слишком хорошо знаем и слишком сильно любим друг друга.Дом инквизиции, Алансон, Перш, ноябрь 1304 года
Аньян, забившийся вместе со своей рабочей доской в угол прихожей, служившей продолжением кабинета Никола Флорена, сразу все понял, едва взглянув на него. На какое-то мгновение у молодого клирика возникло ощущение, что он видит перед собой самый настоящий меч. Чудо, о котором он молил уже много дней, это невероятное чудо, к которому он взывал ночи напролет, явилось в виде этого человека, стоявшего перед ним и внимательно смотревшего на него голубыми глазами. Эти глаза переливались различными оттенками, от сапфира до цвета холодной морской волны, в зависимости от света, открывавшего в них множество тайн. Аньян мог бы в этом поклясться. Ужасных, но благородных тайн, о которых он ничего не знал, но которые тем не менее взбудоражили его. Его, сидевшего за маленькой доской. – Прошу вас, не окажете ли вы мне услугу, доложив о моем приходе? Франческо де Леоне, рыцарь по справедливости и по заслугам ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Я приехал, чтобы осведомиться о мадам де Суарси. Сам того не желая, не понимая, какая сила заставила его совершить такую неосторожность, Аньян прошептал: – Умоляю, спасите ее. Рыцарь посмотрел на Аньяна, нахмурив брови: – Неужели мои мысли написаны у меня на лице? Вы растревожили меня. – А вы, рыцарь, вы… успокоили меня. Молодой клирик исчез, а затем вернулся с быстротой молнии. Подойдя к Леоне, он прошептал: – Он намного подлее и опасней, чем самый худший из инкубов. – Вы так считаете? – улыбаясь, ответил Леоне. – Преимущество заключается в том, что этот инкуб смертен. После того как Аньян доложил о приходе Леоне, Флорен стал думать, что понадобилось этому чертову госпитальеру в Доме инквизиции. Эта баба Суарси доставляла ему сплошные неприятности. Вскоре начнется допрос с пристрастием. Он очень быстро, по мнению Флорена, закончится окончательным успокоением обвиняемой. Смертью. Несколько часов страданий и воплей все же принесут ему определенное удовлетворение. Разумеется, он мог бы задушить ее в камере и сказать, что она повесилась, чтобы избежать допроса. Такие вещи часто случались. Нет. Она измучила его. И она поплатится за это. Вслед за Аньяном Леоне вошел в маленький кабинет инквизитора. Молодой клирик сразу же оставил их наедине. Вопреки принятому им решению Флорен, движимый какой-то силой, встал, едва рыцарь переступил порог. Пленительная красота мужчины и очевидная мощь, исходившая от него, ошеломили Флорена. Неуместная, но настойчивая мысль пришла в голову Флорену: ему захотелось соблазнить рыцаря, чтобы унизить того. В конце концов, почему бы и нет? Разумеется, он любил спать с девками, но, если он заставит этого прекрасного госпитальера дрогнуть, он получит великолепное доказательство своей власти. Ведь секс служил ему только для того, чтобы утверждать свою власть. – Рыцарь, какая честь… – Честь для меня, господин инквизитор. Леоне охватило какое-то легкое опьянение, и он почувствовал себя виноватым. Опьянение, которое предшествует самым трудным битвам. Джотто Капелла был слабым противником. А вот человек, стоявший перед ним, принадлежал к числу самых опасных, самых непредсказуемых врагов, с которыми ему когда-либо доводилось встречаться. Джотто Капелла был падшим человеком. Этот же – скопище яда. Леоне упрекнул себя за внезапно возникшее у него своего рода извращенное желание: убить гадину, используя ее же оружие. – Присаживайтесь, рыцарь, прошу вас. Мой клирик сказал мне, что вас беспокоит судьба мадам де Суарси? – Речь не идет о ее судьбе, мсье, поскольку я не сомневаюсь, что она находится в лучших руках. Комплимент польстил Флорену, который одобрил его, изящно кивнув головой. – Мать мадам де Суарси была близкой подругой моей тетушки. Проезжая по вашему прекрасному краю, чтобы добраться до Парижа, по делам ордена, я подумал, что мог бы помочь ей своей молитвой. – Гм… Флорен не сразу смог продолжить разговор. Он лихорадочно искал лучшую стратегию, чтобы соблазнить говорившего с ним красивого мужчину. – Не окажете ли вы мне милость, брат мой, разрешив встретиться с мадам де Суарси? – продолжал настаивать Леоне спокойным тоном. Внезапно просьба вернула Флорена к действительности, и он заставил себя улыбнуться. – Разумеется, рыцарь, мне было бы очень трудно отказать вам в этой ничтожной милости. Я усматриваю в этом бесконечную щедрость представителей вашего ордена. Внутри у Никола Флорена все кипело. Почему этот рыцарь вмешивается в самый разгар процесса? Ведь его никто не уполномочил. Флорен бесился от того, что ему приходилось подчиняться. Вне ордена никто никогда не знал, какое положение занимал госпитальер, к тому же рыцарь по справедливости и по заслугам: был ли он Великим магистром или простым воином. Следовательно, приходилось соблюдать осторожность. Флорен преодолел решающий этап в своем восхождении к власти, но прекрасно понимал, что ему оставалось сделать еще много шагов. А затем он возвысится над всем, над людьми и над законами. Сейчас было лучше не перечить этому незнакомцу, притвориться, будто он принял решение непредвзято и смиренно. Флорен заговорил: – Как вы понимаете, речь идет о нарушении нашей процедуры, поскольку вы не состоите с обвиняемой в прямом родстве. Поэтому я прошу вас заверить меня, что ваш визит будет кратким. Процесс мадам де Суарси продолжается. Леоне встал и поблагодарил, устремив свой взгляд в темные бархатные глаза инквизитора. Флорен вкрадчиво спросил: – Зайдете ли вы потом, чтобы попрощаться со мной, рыцарь? – Вы в этом сомневаетесь, мсье?… Не могу поверить, – ответил Леоне слащавым голосом. Аньян бросился вперед, бормоча маловразумительные слова благодарности, спотыкаясь на каждой ступеньке лестницы, ведущей к камерам. Он так сильно дрожал, что Леоне пришлось самому открыть замок. – А теперь ступайте, да хранит вас Господь, – поблагодарил Аньяна рыцарь. – Я найду дорогу назад. У меня очень мало времени, но мне хватит… Пока… – Я столько раз звал вас в своих молитвах, – лепетал Аньян. – Я… – Ступайте, говорю я вам. Поторопитесь. Поднимайтесь, иначе он забеспокоится. Аньян исчез за пилястром, словно дружественная тень. Леоне не чувствовал отвратительного зловония, впитавшегося в стены застенков. Он не видел грязи, темных кругов под глазами, болезненную бледность женщины, с трудом стоявшей перед ним. Эти серо-голубые глаза, внимательно смотревшие на рыцаря, были ему наградой за все его страдания и мучения. Леоне казалось, что она была светом и что он всю свою жизнь мечтал прикоснуться к ней своим взглядом Он упал на колени в вонючий ил, стараясь восстановить дыхание, которого его лишило невыносимое чувство, и прошептал: – Наконец… Вы, мадам. – Мсье? От изнеможения Аньес не могла даже достойно ответить. Она лихорадочно искала причину такой удивительной чести, почему этот госпитальер пришел в ее камеру. Ведь больше ничего не имело смысла. – Франческо де Леоне, рыцарь по справедливости и по заслугам ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Ничего не понимавшая Аньес изумленно смотрела на него. – Я пришел издалека, чтобы спасти вас, мадам. Аньес облизнула пересохшие губы и прокашлялась прежде, чем спросить: – Сделайте одолжение, встаньте, мсье. Я не понимаю… Граф д'Отон вас… Значит, Артюс д'Отон был их другом. Это открытие принесло Леоне облегчение. – Нет, мадам. Я знаю графа лишь по имени и его прекрасной репутации. – Порой они посылают очаровательных шпионов, чтобы добиться откровенности, – сказала Аньес доверительным тоном, который не обманул Леоне. – Элевсия де Бофор, мать аббатиса Клэре, приходится мне тетушкой, вернее, должен вам сказать, второй матерью, поскольку она воспитала меня после гибели своей сестры Клэр в Сен-Жан-д'Акр. Несмотря на изнеможение, в памяти Аньес всплыло смутное воспоминание. Жанна д'Амблен действительно ей говорила, что аббатиса взяла к себе племянника после кровавого поражения, ознаменовавшего собой крах христианского Востока. Наконец она смогла позволить себе сесть на скамью. Рыцарь добавил: – У нас очень мало времени, мадам. – Как вам удалось получить от этого злотворного существа разрешение встретиться со мной? – Заманив его в его же собственную ловушку. У нас очень мало возможностей, мадам. Отвод… Аньес прервала Леоне: – Полно, мсье, вы, так же, как и я, знаете, что отвод ничего не даст. Инквизиторы имеют обыкновение ставить даты на своих бумагах задним числом, и поэтому просьба об отводе поступит к епископу уже после завершения процедуры. Но если даже эта просьба повлечет за собой определенные последствия, в чем я сомневаюсь, я умру еще до того, как они назначат нового инквизитора. Добавьте к этому, что новый инквизитор немедленно станет еще сильнее третировать меня, поскольку я посмела выступить против одного из них. Леоне в этом ничуть не сомневался. Он заговорил об этом мнимом праве лишь для того, чтобы узнать, как она отреагирует. В полумраке он вновь посмотрел на нее, потрясенный до глубины души своим открытием, тем, чего сама Аньес не знала о себе. Он поблагодарил Бога за то, что Он выбрал его жизнь, чтобы спасти эту женщину. Эту женщину, которая оставалась в полнейшем неведении о своей необыкновенно важной роли. – Скоро начнется допрос с пристрастием, мадам. – Я знаю. Могу ли я вам признаться, в каком ужасе я пребываю? Целыми днями я слышала их вопли… Этот человек… Полагаю, он умер. Я презираю себя за отсутствие мужества. Я боюсь, что не сумею держаться с достоинством, что превращусь в кричащую марионетку, готовую признаться в худшем, лишь бы мои мучения прекратились… – Я не сомневаюсь в своем мужестве, но мне тоже было бы страшно. Впрочем, вы плохо знаете себя и меня… Я взял себе за правило ничего не оставлять на волю людей… Их воля – потемки. Аньес хотела прервать его, вынудить его пуститься в объяснения, растолковать смысл последних слов, но он остановил ее жестом руки: – Мадам… вам придется претерпеть мучения. Вам нужно продержаться до завтра, ради любви к Богу. – До завтра? Но почему завтра, а не сейчас? Аньес разозлилась на себя за эти слова, вызванные страхом перед будущими страданиями. Но, в конце концов, она была всего лишь существом из плоти, крови и нервов. – Потому что завтра судить будет Он. Аньес не дала себе труда постараться понять, что означали эти слова. Вот уже несколько минут, как ей все казалось таким странным, таким нереальным. – Можно прибегнуть к Божьему суду, мадам. – Вы до сих пор в это верите? – Разумеется… поскольку я Его рука. Если бы Флорен исчез до начала ваших страданий на допросе с пристрастием, его бы быстро заменили, и процесс бы продолжился. При этом под суд могли попасть те из ваших людей, кто выступил на вашей стороне… Аньес сразу же поняла намек на Клемана и даже не удивилась, что этот странный рыцарь знал о существовании ребенка. Она отрицательно покачала головой. – …напротив, если Бог накажет его за ваши несправедливые страдания, никто впоследствии не пожелает поддержать обвинение… даже Рим. – Рим? – Время поджимает. Леоне вытащил из своего сюрко охровый холщовый мешочек и вытряхнул из него себе на ладонь большой темно-коричневый шарик. Затем он протянул шарик Аньес. – Разжуйте его непосредственно перед пыткой. Разжуйте, умоляю вас. И тогда вы едва будете чувствовать удары кнута. Эту пасту мне привезли из Китая после моих многочисленных злоключений. Это очень горькая смола, но и тех, кто умело ею пользуется, она оказывает волшебное действие. – Но кто вы? Почему вы рискуете своей жизнью, чтобы помочь мне? – Сейчас еще слишком рано говорить об этом… Леоне добавил, чем только усилил замешательство Аньес: – Чистота немыслима без стойкости, иначе она может привести к жертве, но сейчас еще слишком рано. Вы должны жить. Моя честь, моя вера и мой выбор требуют защищать вас до последнего вздоха. За зловещей дверью раздался стук. До них донесся приглушенный голос Аньяна: – Быстрее, умоляю вас! Он начинает нервничать и скоро спустится. – Живите, мадам. О, Боже мой! Живите, умоляю вас! Аньес быстро спрятала шарик коричневой пасты у себя на груди. Когда за рыцарем закрылась дверь, она спросила себя, не стала ли жертвой галлюцинации. Ей пришлось дотронуться до шарика, скрытого под платьем, чтобы убедиться в реальности этой встречи.Женское аббатство Клэре, Перш, ноябрь 1304 года
Во мраке огромного дортуара скользила тень, прислушивавшаяся к дыханию и похрапыванию. Тень колебалась. Ее взгляд скользил по трем рядам ячеек, окруженных занавесками, которые давали сестрам возможность одеваться в более интимной обстановке. В центре каждой маленькой кельи с полотняными стенами стояла кровать. Пчелы. Улей с пчелами, которые неизвестно зачем суетились. Множество насекомых, ведущих одинаковое существование. Вселенная ритуалов, привычек, приказов, всегда одних и тех же. Тень задыхалась от яростной горечи. Она ненавидела их. Всех. Уйти из этого места, убежать от ничтожной монотонности жизни, которая не была единственной. Наконец существовать. Тень сделала несколько шагов. Ее босые ноги бесшумно ступали по большим ледяным плитам. Тень остановилась, прислушалась, затем раздвинула занавеси одной из ячеек. Недавно закончился первый час. Аннелета склонилась над съежившейся Жанной д'Амблен и прислушалась к ее еще неуверенному дыханию, вырывавшемуся из груди. Обессилев в борьбе с ядом, казначея пока еще не вставала с кровати. Благодаря хорошему уходу, которым ее окружила сестра-больничная, а также молитвам, вчера вечером Жанна сумела выпить немного куриного бульона и даже не отрыгнула его сразу же. Аннелета пощупала ее пульс и нашла его более спокойным. – Жанна, моя дорогая Жанна, вы меня слышите? До Аннелеты долетел едва слышный шепот: – Да… мне лучше. Спасибо, моя дорогая, спасибо за вашу заботу. Спасибо вам всем, сестры мои. – У вас все еще горит в животе? – Он понемногу успокаивается. Раздался вздох. Жанна заснула, и сестра-больничная подумала, что это к лучшему. Как только Жанна немного окрепнет, она услышит ужасное известие о смерти Гедвиги. Элевсия велела скрывать это от Жанны, поскольку двух молодых женщин связывала долгая дружба. Вдруг неожиданная печаль охватила неуживчивую крупную женщину. Аделаида Кондо умерла, Гедвига дю Тиле тоже. Жизнь Жанны, едва не последовавшей за ними в могилу, висела на волоске. Бланш де Блино осталась в живых только потому, что не любила лаванду. Бедная благочинная все чаще молола вздор. Жуткие воспоминания о прошлом не покидали ее. Страх сковал Бланш до такой степени, что ее лицо стало похожим на посмертную маску. Что касается Женевьевы Фурнье, то жизнь, казалось, покинула ее после ужасной кончины Гедвиги, к которой она питала гораздо больше симпатии, чем предполагала Аннелета. Куда-то разом улетучилась жизнерадостность очаровательной хранительницы садков и птичника. Женевьева бродила по коридорам, как маленькое скорбящее привидение, едва замечая сестер, которые приветливо улыбались ей. Как ни странно, но страшная агония сестры-ризничной словно вернула матери аббатисе уверенность, которую она утратила после приезда инквизитора. Аннелету терзала подспудная тревога: решила ли Элевсия де Бофор вести беспощадную борьбу? Решила ли она принести в бессмысленный дар свою жизнь в обмен на другую жизнь, жизнь подлого зверя, который нападал исподтишка? Этого нельзя было допустить. Аббатиса не умрет, и Аннелета была готова на все, чтобы спасти ее. Аннелета Бопре вошла в гербарий, чтобы провести первую из своих инспекций, которые она совершала два раза в день. Только что прозвонили к третьему часу*, но она освободила себя от присутствия на службе. Перед аптекарским шкафом Аннелета застыла как вкопанная. Внезапно возникшая эйфория пробудила у нее желание кричать от радости: она была права! Паста из яичных белков, смешанных с миндальным молочком, которую она готовила каждый вечер, совершила чудо. Мимолетное сожаление умерило опьяняющую радость Аннелеты. Женевьева Фурнье больше не будет сердиться на своих птиц. Впрочем, хотя Женевьева каждое утро, осматривая соломенные гнезда, убеждалась в их неверности и низкой яйценоскости, она оставалась к этому равнодушной. «Выше голову, дочь моя, – приказала себе Аннелета. – Плакать ты будешь потом, когда разделаешься с этой гадиной». На слизистой пасте отпечатались черные следы от подошв. Значит, кто-то приходил в гербарий в период между вчерашним повечерием и сегодняшней заутреней. Кто-то, кому здесь нечего было делать. Кто-то, чьи оправдания могли быть только лживыми. Сестра-больничная бросилась на улицу. Она буквально влетела к аббатисе. Элевсия слушала ее с открытым ртом, торопя взглядом. Когда Аннелета рассказала о своей ловушке и об открытии, аббатиса спросила: – Конечно, яичный белок… Но что теперь нам делать? – Прикажите им всем собраться в. скриптории и разуться. И пусть кто-нибудь из послушниц принесет два раскаленных добела нагревальника.[156] – Два нагревальника? Вы говорите о приспособлениях, при помощи которых нагревают постель, чтобы избавиться от сырости? – Именно о них. Я хочу, чтобы они дымились от раскаленных углей. Так будет быстрее. Нам не придется все нести в кухню, чтобы проводить наше расследование. Стена из белых платьев застыла в неуверенном ожидании. Сестры в одних носках переминались с ноги на ногу. Перед ними стояли их туфли. Едва прозвучал странный приказ, как сразу же раздался недовольный шепот: – Снять обувь? Я не ослышалась? – Я ничего не понимаю. – Пол ледяной… – Я уверена, что эта нелепая мысль принадлежит Аннелете… – Зачем им нужны наши туфли?… – У меня не слишком чистые носки. Но мы их меняем только в конце недели… – Я сомневаюсь, что речь идет о проверке гигиены. – Один мой носок дырявый, большой палец вылезает наружу. У меня не было времени его заштопать, какой стыд… Элевсия, сделав им внушение, заставила сестер замолчать, ожидая, когда удивленная послушница принесет нагревальники. Наконец их доставили с кухни. От горящих внутри нагревальников углей шел дым. В сопровождении аббатисы Аннелета пошла слева вдоль этой шеренги испуганных или раздраженных женщин. Она взяла первую пару туфель и провела их подошвами по горячему нагревальнику. Она повторяла эти движения вновь и вновь, не обращая внимания на испуганное перешептывание и изумленные взгляды. Вдруг послышалось легкое потрескивание. От одной из подошв туфель Иоланды де Флери пошел отвратительный запах гнилых зубов или стоячего болота. Аннелета провела еще несколько раз туфлями по нагревальнику до образования сухой белой пленки. Ее лицо исказилось от ярости. Тем не менее она сдержала свои эмоции и продолжила проверку, идя вдоль ряда монахинь и послушниц. Но вся остальная обувь не отреагировала на жар углей. Тяжелой поступью Аннелета вернулась к смертельно бледной Иоланде. Ее голос прогремел так громко, что сестры вздрогнули от ужаса: – Что вы делали в гербарии? – Но я… Но это ложь… – Хватит, в конце концов! – прорычала сестра-больничная. Элевсия, опасавшаяся, что Аннелета позволит своей ярости выйти наружу, вмешалась. Срывающимся голосом она сказала: – Иоланда, следуйте за мной в мой кабинет. Дочери мои, приступайте к своим повседневным занятиям. Аннелете и Элевсии пришлось буквально тащить упиравшуюся Иоланду. Она пыталась оправдаться, клялась, что не заходила в гербарий. Аннелета втолкнула молодую женщину в кабинет аббатисы и резко захлопнула за собой дверь. Она осталась стоять около двери, словно опасалась, что Иоланда де Флери попытается убежать. Элевсия подошла к своему рабочему столу и оперлась обеими руками о тяжелую темную дубовую столешницу. Аннелета с трудом узнала голос аббатисы, так неистово он звучал: – Иоланда, моему терпению пришел конец! Две мои дочери умерли, двум другим едва удалось избежать подобной участи, и это за столь короткий промежуток времени. Проволочки и любезности больше не уместны. Более того, они преступны с моей стороны. Я требую правды! Я хочу услышать ее немедленно! Если вы вновь начнете увиливать, я буду вынуждена отдать вас в руки светских властей, в руки бальи Монжа де Брине, поскольку отказываюсь вершить суд над одной из своих дочерей. Для виновной я уже потребовала смерти. Я потребовала, чтобы ее раздели по пояс и подвергли публичному бичеванию. Несмотря на внешнюю суровость, подобное наказание было относительно мягким, если говорить о таких преступлениях, как отравление. Обычно отравителей сначала пытали и лишь потом предавали смерти. Иоланда растерянно смотрела на аббатису, будучи не в состоянии вымолвить хотя бы слово. Элевсия почти кричала: – Я жду правду! Абсолютную правду! Я приказываю вам отвечать немедленно! Иоланда не шевелилась. Кровь отхлынула от ее лица, виски побелели. Опустив голову, она сказала: – Я не ходила в гербарий. Последний раз, когда я подошла к зданию, меня заметила Аннелета. Она рассказала вам о моей ночной вылазке. С тех пор я не приближалась к гербарию. – Вы лжете, – вмешалась Аннелета. – Как вы думаете, что означает эта сухая белая пленка на ваших подметках? Жареный яичный белок. Я им покрыла пол перед шкафом, в котором хранятся яды. Как вы думаете, откуда исходит этот отвратительный запах? От эссенции руты душистой, которую я добавила в смесь. Сегодня утром я заметила следы на смеси… ваши следы. Иоланда отчаянно замотала головой, опровергая слова сестры-больничной. Элевсия вышла из-за стола и почти вплотную подошла к Иоланде. Тоном, не допускающим возражений, она заявила: – Время идет, и оно не играет вам на руку, Иоланда. Я подозреваю вас в двух вещах. Выслушайте меня. Вы убийца. И мой гнев будет вас преследовать даже под землей. Вы не будете знать ни секунды покоя. Или… вы питаете чрезмерную дружбу к одной из ваших сестер, дружбу, которая вынуждает вас искать интимности за пределами дортуаров. Тогда придется удалить одну из вас, не налагая никаких других наказаний. Я жду. Признание в своих ошибках еще может вас спасти. Воспользуйтесь этой возможностью, дочь моя. Ад столь ужасен, что вы даже представить себе не монете. Я жду. Поторопитесь. Иоланда подняла свои большие глаза, полные слез, на эту женщину, которой она прежде так восхищалась и которую теперь боялась. Она закрыла глаза и простонала: – Мой сын… – Простите? – Мне иногда сообщают новости о моем сыне. Улыбка озарила прелестное личико, искаженное горем. Иоланда продолжала: – Он хорошо себя чувствует. Ему десять лет. Его воспитывает мой отец, выдавая мальчика за одного из своих незаконнорожденных сыновей. Таким образом, он не будет лишен нашего имени. Принеся себя в жертву, я спасла его. Я каждый день, в каждой молитве благодарю Господа за это. Полнейшая тишина встретила это столь неожиданное признание. Растерянная Элевсия прошептала: – Но… – Вы хотели услышать абсолютную правду, матушка. Не всю правду приятно узнавать. Но отступать слишком поздно. Мне было пятнадцать лет, и я так сильно любила этого красивого и нежного управляющего. Со мной случилось неизбежное. Я забеременела от виллана вне священных уз брака. Претендент на мою руку отвернулся от обесчещенной девушки, которой я стала. Мне не было никаких оправданий, это так, ведь я отдалась ему добровольно, со всей страстью, на какую была способна. Мою любовь избили и выгнали из замка. Он пустился в бега, и поэтому его не оскопили и не четвертовали как насильника, которым он никогда не был. Он был таким нежным, таким щедрым на любовь. Мой отец держал меня взаперти все последние пять месяцев беременности. Никто не должен был об этом знать. Едва я родила, у меня забрали сына и отдали его кормилице-простолюдинке. Затем я жила на этаже прислуги. Отец говорил, что я хуже этих нищенок и что со мной следует обращаться как с ними. А затем мой маленький Тибо, которого мне порой удавалось мельком увидеть, заболел. Я расценила это как знак Божьего гнева. Я решила до конца своих дней нести покаяние и искупить свою вину. По щекам Иоланды текли слезы, но, казалось, она не замечала их. От счастья она сжала руки и продолжила: – Мои молитвы были услышаны, и за это я буду всегда благодарна. Мой дорогой малыш пышет здоровьем. Он ездит на лошади как взрослый юноша, а мой отец любит его как родного сына. Я молюсь и за своего отца, который был прежде таким жестоким и безжалостным. Возможно, благодаря моему ребенку он вновь обрел сердечную нежность. Иоланда выпрямилась и закончила: – Вы узнали абсолютную правду, матушка. Вам ведь тоже были известны опьяняющие чувства. Любовь мужа. Разумеется, я не была замужней перед людьми, но клянусь вам, что, когда мой избранник впервые лег со мной, я была уверена, что Бог стал свидетелем нашей свадьбы. Однако я ошибалась. Откровения Иоланды пригвоздили Элевсию к месту. Она страдала, словно от ножевой раны, корила себя за то, что испытывала к Иоланде недоверие. Она пыталась оправдаться, понимая всю тщетность своих усилий: – Иоланда, моя дорогая дочь… Церковь совершенно согласна с тем, что ее чада могут познавать привязанность, плотские утехи в браке, порой вне брака, при определенных условиях. Когда они поступают в монастырь, им достаточно дать обет навсегда забыть их. Наш почтенный святой Августин… – Вы не понимаете! – закричала внезапно вышедшая из себя Иоланда. – Никогда… Вы меня слышите, я никогда не разделила бы мнимое спокойствие ваших монастырей, я никогда не согласилась бы подчиниться вашим нелепым правилам, если бы не боялась за жизнь моего сына, если бы я вышла замуж за свою любовь. Никогда! У Иоланды начался нервный припадок. Она бросилась к рабочему столу, схватила лежавшие на нем бумаги и принялась яростно их комкать, рвать, колотить по ним кулаками. Она стонала: – Никогда! Никогда… Я ненавижу вас! Я смогла выжить среди вас, только думая о Тибо и моей прекрасной любви. Когда Иоланда повернулась к аббатисе, ее лицо стало неузнаваемым. Она подняла руки, растопырив пальцы, готовая исцарапать ногтями лицо женщины, которую она так уважала все эти долгие годы, проведенные в монастыре, все эти долгие годы, которые, по ее мнению, были лишь менее страшным заключением, поскольку благодаря ее покаянию Тибо выжил. Аннелета встала между ними. Щеки Иоланды задрожали от двух звонких пощечин. Раздался суровый повелительный голос сестры-больничной: – Успокойтесь! Немедленно! Иоланда смотрела на Аннелету безумным взором, готовая в любой момент броситься на нее. Аннелета встряхнула молодую женщину за плечи и прикрикнула: – Что вы думаете, сумасшедшая? Что я нахожусь здесь из-за набожности? Нет, я пришла сюда потому, что у меня не было другой возможности заниматься своим искусством. Неужели вы думаете, что Берта де Маршьен выбрала монашеское одеяние из-за любви к медитации? Нет, просто ее семья не захотела воспитывать еще одну дочь. Неужели вы думаете, что Элевсия де Бофор возглавила бы нашу конгрегацию, если бы не овдовела? А Аделаида Кондо? Неужели вы думаете, что, если бы она родилась в благородной семье, а не была брошена в лесу, она захотела бы стать монахиней? А все остальные? Идиотка! Большинство из нас выбрали это место, чтобы не оказаться на улице! И что? Мы здесь живем в обществе Бога. По крайней мере у нас есть привилегия не превратиться в уличных девок, которых снимают на час в каком-нибудь городском борделе, а потом, когда они подхватывают дурную болезнь, оставляют умирать в канаве. Эта тирада, полная здравого смысла, остановила нервный припадок, в котором билась Иоланда. Она выдохнула: – Простите. Я покорнейше прошу у вас прощения. – Кто сообщает вам сведения о вашем сыне? Иоланда поджала губы и ответила тоном, не терпящим возражения: – Этого я вам не скажу. Вы можете грозить мне всеми карами, но я буду молчать. Я сделала достаточно ошибок, и я не хочу навредить человеку, который стал для меня воплощением доброты и опорой. По тону Иоланды Аннелета поняла, что настаивать бесполезно. Тем не менее она решила проверить правильность сделанных ею выводов: – И вы встречались ночью возле гербария, который нельзя увидеть из окон покоев нашей матушки и дортуаров, чтобы доверительно поговорить. – Да. Но больше я ничего не скажу. Эта бурная сцена и, главное, история еще одной испорченной жизни потрясли Элевсию. Глухим от усталости голосом она произнесла: – Это все, дочь моя. Оставьте нас. – Наложенные вами наказания будут… – Если сам Христос протянул свои руки Марии Магдалине, кто я такая, чтобы поворачиваться к вам спиной? Ступайте с миром, Иоланда. Видите ли, я вас упрекаю только за то, что вы слишком долго не хотели раскрывать нам правду. Вдруг испугавшись, Иоланда забормотала: – Вы полагаете, что… что если бы я исповедалась раньше, Гедвига, возможно, могла… Вместо аббатисы ей ответила Аннелета: – Спастись? Сомневаюсь. Ее смерть не на вашей совести. Я полагаю, что она и Жанна чем-то обеспокоили убийцу, и она решила лишить их жизни. Если мы найдем точную причину, мы узнаем личность отравительницы… По крайней мере, я молюсь, чтобы это было так. После того как Иоланда де Флери ушла, обе женщины несколько минут молча смотрели друг на друга. Первой нарушила молчание Элевсия де Бофор: – Я… это правда? – Что? – Что вы никогда не вступили бы в орден, если бы смогли заниматься врачебной или аптекарской практикой в миру? Аннелета подавила горькую улыбку и подтвердила: – Разумеется. Если бы ваш милый супруг не скончался, разве были бы вы сейчас с нами? – Нет, это правда. Но, несмотря на это, я никогда не жалела о своем выборе. – Я тоже, но речь идет лишь о замене. – Видите ли, Аннелета, несмотря на нападки, совершающиеся почти повсеместно в адрес Церкви, монастыри, в которых мы можем спокойно жить, работать, делать, решать, оказывают женщинам огромную услугу. Аннелета покачала головой, не соглашаясь: – Нет, это услуга, которая лишь подтверждает неумолимую реальность: за монастырскими стенами мы пользуемся ничтожными правами. Некоторым, как вы, более обеспеченным, чем другие, посчастливилось выйти замуж за человека чести, питавшего к вам уважение и подлинную любовь. А другие? Какая участь ждала их? Я с вами согласна, за свободу надо платить, как и за все остальное. Но все же я готова предложить высокую цену, чтобы получить ее. Мое мнение не имело никакого значения, и никто, особенно мой отец, не считался с ним. Некрасивая бесприданница, засидевшаяся в девицах… Мне оставалось либо заниматься детьми моего брата, врача… плохого врача, но мужчины, либо уйти в монастырь. Я выбрала меньшее унижение. – К сожалению, я согласна с Аннелетой, – раздался сзади высокий голос. Аннелета и Элевсия обернулись одновременно. Перед ними стояла смущенная Берта де Маршьен. Казалось, ее высокомерие куда-то исчезло. – Берта… – Я стучала, матушка, стучала несколько раз. Никто меня не услышал, и я вошла. – Берта добавила скороговоркой: – Я уловила лишь конец вашего разговора. Берта сжимала руки, и у Аннелеты мелькнула мысль, что никогда прежде она не видела, чтобы экономка хоть на мгновение утратила свой надменный вид святоши. – Что происходит, матушка? У меня такое впечатление, что мир вокруг нас рушится… Я не понимаю, что замышляется. – Мы пребываем в таком же недоумении, как и вы, дочь моя, – несколько сухо ответила аббатиса. Приоткрыв рот, экономка, казалось, подыскивала слова: – Я знаю, что вы совсем не любите меня, вы, матушка, Аннелета и другие. Мое сердце обливается кровью, но все же я понимаю, что в этом есть и моя вина. Я… Это так ужасно осознавать, что тебя никогда не ждали, не желали. В моем возрасте я по-прежнему не знаю, что ужаснее: признаться в этом другим или самой себе. Бог всегда был моей опорой. Он принял меня. Клэре стал моей единственной обителью, моей тихой гаванью. Я признаю… Ваше назначение, матушка, вызвало у меня зависть и злобу. Я вбила себе в голову, что мое старшинство и безупречная служба позволят мне занять место аббатисы, нет, хуже… что оно было предназначено мне. Несколько дней назад я поняла, что ошибалась в своих способностях. Я почувствовала себя такой безоружной, такой невероятно слабой, когда произошли эти события, заставшие нас врасплох, и я вам бесконечно признательна мадам, что вы стали нашей матушкой. Это удивительное доказательство покорности нелегко далось Берте де Маршьен. Элевсия протянула к ней руку, но Берта отрицательно покачала головой. Она облизнула губы и продолжила: – Я хочу вам помочь… Так надо. Я подозреваю, что вы питаете ко мне недоверие, я это чувствую. Но я не сержусь на вас, я этого заслуживаю. – Берта, я… – Оставьте, матушка, позвольте мне закончить. Я этого заслуживаю, поскольку трусливо солгала, чтобы не… потерять лицо. Мне нет оправданий за то, что я побоялась вызвать у нас недовольство. Нет, мной двигала гордость. Аннелета не решалась вмешиваться, понимая, что эта исповедь обращена не к ней. Прежде чем продолжить, экономка тяжело вздохнула: – Я… Несколько дней назад я потеряла ключ от вашего несгораемого шкафа, отданный мне на хранение. По крайней мере, в тот момент я именно так и думала. Я жила в страхе, что вы потребует ключ, дабы удостоверить какой-нибудь документ. Я всюду его искала. Я не понимала, как этот длинный толстый кожаный шнурок, на котором висел ключ, мог соскочить с моей шеи. Через четыре дня я нашла ключ на дне маленького дорожного несессера, стоящего под моей кроватью… Ошеломленные Элевсия и Аннелета не спускали с Берты глаз. – Я почувствовала огромное облегчение и не сразу поняла, что здесь было что-то не так. – Что вы хотите этим сказать? – спросила Элевсия, опасавшаяся, что ответ ей уже известен. – Я дважды перебирала содержимое моего маленького сундучка, решив, что шнурок порвался и ключ соскользнул вниз. Но узел на кожаном шнурке был цел. Теперь я уверена: ключ украли, когда я спала, а затем сунули в первый попавшийся тайник. – Плохой тайник, поскольку вы уже смотрели в нем, – отозвалась Аннелета. – Нет… Нет, что вы, сестра моя! Идеальный тайник. Какой жалкой трусихой считает меня убийца! Вероятно, она догадывается, что я перевернула всю свою каморку, кровать, коробку со штопкой… Она сделала ставку на мое самодовольство, уверенная, что я, найдя ключ, испытаю такое облегчение, что ни за что не признаюсь в своей некомпетентности. Я виновна в гордыне… Но если это чудовище считает меня трусихой, она глубоко ошибается.Дом инквизиции, Алансон, Перш, ноябрь 1304 года
Аньес впала в оцепенение вскоре после того, как тщательно разжевала горький шарик, с трудом заставив себя проглотить горькую слюну, наполнившую ее рот. Постепенно своего рода сон наяву вытеснил кошмар, с которым у нее больше не было сил бороться. Она безвольно соскользнула по стене на землю. Она забилась в угол маленькой темной и сырой комнаты, пропахшей экскрементами и свернувшимся молоком. Она забилась в угол, присев на илистую землю, которая пачкала зловонной зеленоватой грязью низ ее слишком легкого платья, ее лодыжки, ее икры. Она забилась в угол, вглядываясь в темноту, пытаясь разгадать долетавшие до нее звуки. Раздавались грубые окрики, взрывы безумного смеха, крики, перераставшие в отчаянные вопли. Потом наступила своего рода тишина ужаса. Она забилась в угол, стараясь слиться с камнями стены, надеясь распластаться на них, чтобы окончательно исчезнуть. Шаги, остановившиеся за низкой дверью, казавшейся такой толстой. Восклицание: – По крайней мере, похоже, что она, эта баба, весьма аппетитна и на нее приятно смотреть! – Она была такой, но выглядела как оборванка, когда приволок ее сюда из процедурной комнаты. – Ступайте. Ее надо привести. В конце концов, женщин легче тащить, чем мужчин, когда они теряют сознание. Раздался такой знакомый скрежет открываемого замка. Но Аньес не сделала ни одного движения. Она плыла, убаюкиваемая каким-то густым туманом. – Вставай, женщина де Суарси! – прорычал один из мужчин, вошедших в камеру. – Вставай, слышишь? Как было бы хорошо остаться здесь, сидя в этой зловонной грязи… Но какой-то инстинкт подсказал Аньес, что ей необходимо скрывать причину своего равнодушия. Флорен не должен был узнать, что она парит вне своего тела после того, как разжевала коричневый шарик. Ей удалось встать на четвереньки, а затем выпрямиться. Она шаталась из стороны в сторону, словно пьяная. Один из зубоскаливших мужчин сказал: – Да тебе надо еще меньше, чем моей, чтобы улететь на седьмое небо! Другой мужчина выразил свое одобрение неприличным смехом, смысла которого Аньес не поняла. О каком небе они говорили? Тело Аньес отяжелело от приятной истомы, и им пришлось тащить ее по коридору. Стражник, тот, который смеялся, заявил: – Им не следовало бы подвергать их таким лишениям… В конце концов, тащить приходится нам. Посмотри на это, она с трудом передвигает ноги. Говорю тебе, она сдохнет после первого получаса, – сделал он вывод, намекая на обязательную процедуру пыток. Действительно, процедура требовала, чтобы после каждого заданного вопроса пытки продолжались полчаса. Удивительно скрупулезный расчет страданий! Но многие инквизиторы пренебрегали им. Затем им было достаточно произнести теа culpa,[157] чтобы получить прощение от своего брата, поскольку инквизиторы имели право отпускать друг другу грехи. Стражники держали ее за подмышки до тех пор, пока не открылась дверь, ведущая в пыточный зал. То, что увидела Аньес, заставило ее похолодеть от ужаса. Длинный стол, достаточно длинный, чтобы положить на него человека. Длинный стол, блестевший от темно-красной крови. Внизу – желоб, в котором слиплись странные слизкие комья. Снова кровь. Всюду кровь. Кровь на лице Флорена, кровь на его руках, вплоть до закатанных до локтей рукавов. Кровь на кожаном фартуке палача, который стоял в углу, скрестив руки на груди. Кровь на стенах, кровь на ремнях, свисавших со стола. Море человеческой крови. Никола Флорен направился к Аньес. Его лицо было мокрым от пота, а глаза блестели от опьяняющей радости. Аньес сразу же поняла причину его возбужденного состояния: кровь, вопли, бесконечные страдания, разорванная плоть, смерть. Аньес посмотрела на него и сказала решительным тоном: – Вы прокляты, и вам нет прощения. Флорен нагнулся к ней и, улыбаясь, коснулся губами ее губ. – Вы так думаете? – выдохнул он ей прямо в рот. Потом он повернулся, изящной походкой подошел к палачу и приказал: – Ну, хватит болтать. Нас ждет работа, и меня снедает желание приступить к ней. Какая удачная игра слов! Сильная рука сдернула с Аньес платье и бросила женщину на стол. Другая рука грубо перевернула ее на живот. Аньес запаниковала. Прикоснувшись животом к липкой крови в углублении на деревянном столе, она впала в бесконечное отчаяние. Аньес окунулась в кровь другого человека, в страдания другого человека, который перед ней сошел в этот ад. Она едва чувствовала ремни, безжалостно сжимавшие ее спину. Флорен схватил ее потускневшие медные волосы и с сожалением отбросил их набок. Он ошибался в причинах, вызвавших скорбь его жертвы, и промурлыкал: – Ну, ну… Мы еще не начали. Нагота – всего лишь пустяк по сравнению со всем остальным. Скоро вы сами это поймете. Аньес Филиппина Клэр де Суарси, урожденная Ларне, сегодня вы предстали перед своими судьями, чтобы ответить за преступления в пособничестве ереси и в личной ереси, отягченные исповедованием культа единого бога, соблазнением Божьего человека, которое мы заслушаем позже, колдовством с вызыванием демонов. Последний раз спрашиваю, вы признаетесь? Можно ли распознать человека по запаху его крови? Можно ли молиться за него, уткнувшись носом в красный след его пролитой жизни? – Вы не признаетесь, – быстро констатировал Флорен, поскольку признание принесло бы ему разочарование. Флорен почувствовал жар внизу живота; его член напрягся. Он так долго ждал этого момента. Пытаясь обуздать все сильнее охватывавшую его радость, он боролся желанием зажмуриться от переполнявшего его наслаждения. Он боролся с желанием броситься на нее, залезть ей на спину и кусать, зубами рвать эту прекрасную бледную кожу, чтобы кровь его великолепной жертвы потекла ему в рот. – Отметьте, письмоводитель! – крикнул Флорен в на: правлении горевшего масляного светильника, который, казалось, парил в нескольких сантиметрах над утоптанной землей. – Отметьте, что мадам де Суарси отказывается признаваться и что она сохраняет полное молчание, свидетельствующее о ее виновности. Очень молодой человек, сидевший на земле с поджатыми ногами,кивнул головой и удостоверил отказ от показаний. – Палач, кнут, быстро! – рявкнул Флорен, протягивая руку к верзиле в кожаном фартуке. – Письмоводитель, отметьте, что мы соблюдаем процедуру, сначала подвергая обвиняемую наказаниям, предназначенным для женщин. Если наше великодушие не будет вознаграждено признаниями, мы прибегнем к другим методам убеждения. Флорен посмотрел на открытую жаровню, на которой краснели узкие металлические лезвия. Когда Аньес услышала свист кнута, она напряглась всем телом. Кнут с силой опустился на ее спину, и она застонала. Однако ей показалось, что она сможет вытерпеть укусы этих толстых кожаных полосок. Удары обрушивались на Аньес целую вечность. Ее тело вздрагивало при каждой новой убийственной волне. Аньес отчетливо чувствовала, как разрывалась ее кожа. Ткань, которой было больно. Что-то нежное и теплое стекало по спине на бока, а затем капало на стол. И все же плоть горела, хотя едва ли это была ее плоть. Аньес в голову пришла утешительная мысль: ее кровь сольется с кровью несчастной души, которая до нее лежала на этом столе. Она почувствовала, как рука мучителя гладит ее израненную плоть, а на ее раны льется дождь из какого-то порошка. Несмотря на разжеванный коричневый шарик, она почувствовала острую боль и пронзительно закричала. Соль. Этот демон сыпал на ее раны соль. Аньес почувствовала, как теряет сознание, и молила, чтобы это произошло поскорее. Словно в кошмарном сне, она слышала, как истерически рыдал Флорен. Он впал в экстаз от возбуждения, он хихикал от восторга, одновременно требуя, чтобы она исповедалась в своих грехах. Потом голосом, дрожавшим от неистовой радости, Флорен крикнул: – Палач, эта ведьма сопротивляется Богу… Железо… Железо, раскаленное добела… Посыпались жестокие удары. Из груди Аньес вырвалось рыдание, прямо перед тем, как на нее снизошла благодать и она потеряла сознание. Перед инквизитором стоял Жан де Риу. Он старался не смотреть на несчастную Аньес, напустив на себя равнодушный вид. Флорен, согнувшись пополам, задыхался. Его лицо было покрыто потом, взгляд блуждал. К горлу доминиканца де Риу подступила тошнота, и он с трудом подавил в себе жгучее желание немедленно разделаться с инквизитором в этом подвале, который тот превратил ради своего удовольствия в зал чудовищных игр. Но указания, которые ему дал Леоне, были предельно четкими: суд Божий. Ни слова не говоря, Жан де Риу протянул мучителю послание. Едва инквизитор увидел печать, скреплявшую это послание, как его взгляд тут же стал ясным. Удивленный и вместе с тем заинтригованный, он прошептал: – Апостольская печать? Неполная булла? Это послание могло исходить лишь от одного из двух камерленго, но, скорее всего, лично от Гонория Бенедетти. Дрожа всем телом, Флорен распечатал послание. До чего все это изумительно! Он упрочил свою власть, потому что камерленго письменно обратился непосредственно к нему. Он читал и перечитывал приказ, написанный на латыни:«Очень важно выполнить процедуру, применяемую к мадам де Суарси, строго в соответствии с правилами, чтобы в процессе не было допущено никаких ошибок. Отныне мои враги становятся Вашими врагами, что крепко связывает нас. Мой посланец возьмет назад это письмо.Вернувшийся к действительности Флорен поднял свой взгляд на сурового высокого мужчину. Значит, тот был тайным эмиссаром камерленго, чем и объяснялось его вмешательство в допрос Матильды де Суарси, противоречившее намерениям инквизитора. Вероятно, ему было поручено убедиться, что никакое нарушение процедуры уже не могло спасти мадам де Суарси. Как же он не догадался об этом заранее! Если бы Флорен это понял, он не желал бы доминиканцу тысячи смертей, когда тот потребовал отвода свидетельства этой безмозглой донзеллы. Но, несомненно, Жан де Риу был обязан действовать в строжайшей тайне. «Отныне мои враги становятся вашими врагами, что крепко связывает нас». Какие великолепные вкрадчивые слова!.. Рим, величие! Скоро! Услышав голос Жана де Риу, инквизитор чуть не подскочил на месте. – Стражники… Отведите мадам де Суарси в ее камеру. Пусть ее раны промоют и перевяжут. Ошеломленные стражники удивленно посмотрели на Флорена, но тот прикрикнул на них: – Ну же… Выполняйте! Полчаса прошло. Допрос с пристрастием продолжится завтра. Обернувшись к доминиканцу, Флорен елейным голосом добавил: – Я провожу вас, мой брат в Иисусе Христе.Г. Б.»
Женское аббатство Клэре, Перш, ноябрь 1304 года
На пыточном ложе на животе лежала женщина. На пол медленно текла кровь из ее иссеченной спины. Женщина стонала. Ее длинные светлые волосы слиплись от пота и крови. Чья-то рука скользила по изможденной плоти и сыпала в раны грязно-серый порошок. Женщина забилась в конвульсиях, потом стихла, потеряв сознание.Элевсия де Бофор зажала рукой рот, чтобы подавить крик, готовый вырваться из ее груди. Перед ее глазами все поплыло, и она уронила голову на свой рабочий стол. У нее вновь возникло то же самое видение. Прежде Элевсия думала, что пытают ее, но она ошибалась. В этот самый момент они терзали Аньес. Аббатиса упала на колени и стала горячо молиться: – Боже мой… Боже мой… Франческо, мой нежный, мой дорогой… Почувствовав подступившую к горлу тошноту, Элевсия легла на широкие черные плиты. Она никак не могла успокоиться и все время повторяла: – Зверь должен умереть, Франческо, надо, чтобы он умер! Зверь должен умереть, надо, чтобы он умер! Сидя на маленьком табурете в гербарии, прижавшись спиной к холодным камням, сложив руки на груди, Аннелета размышляла. Откровения Берты де Маршьен, сделанные сегодня утром, сначала сбили ее с толку. После ухода сестры-экономки они с Элевсией де Бофор обменялись взглядами, неспособные понять смысл всей этой истории. Мать аббатиса была уверена, что не расставалась с ключом. У нее был слишком чуткий сон, чтобы кто-нибудь мог незаметно стащить его, а затем положить на место, пока она отдыхала. Зачем потребовалось возвращать ключ, хранившийся у Берты, если убийце не удалось раздобыть два других ключа, необходимых, чтобы открыть несгораемый шкаф, в котором хранилась печать? Может, Берта солгала, чтобы обезопасить себя? Странно. Несмотря на неприязнь, которую Аннелета питала в сестре-экономке, она не верила в подобную гипотезу. Вдруг она нашла ответ: дубликаты! Четырех дней вполне хватило бы, чтобы золотых и серебряных дел мастер или даже умелый кузнец сделал дубликат. Аннелету сразу же охватила тревога. А вдруг Бланш де Блино тоже скрыла временную утрату ключа? А вдруг – учитывая ее старческое умственное расстройство – она даже не заметила его исчезновения? А вдруг был сделан дубликат второго ключа, того самого, хранить который обязалась Аннелета, как об этом было всем известно? Аннелета машинально потрогала лиф платья. Она почувствовала под своими пальцами твердый предмет, но это не принесло ей спокойствия. Третий и последний ключ висел на шее Элевсии. Если допустить, что теория о дубликатах имеет под собой основания, Элевсия де Бофор была выше всяких подозрений, поскольку она могла в любой момент открыть несгораемый шкаф, чтобы взять оттуда свою личную печать. Кроме того, она должна была стать следующей жертвой, поскольку только ее ключ все еще существовал в одном экземпляре. Что-то тут было не так. Не хватало какой-то основной детали. Почему убийца упорно стремилась заполучить печать, когда большинство из них теперь знали, что печать была главной ее целью? Аббатиса лично следила за всеми документами и дважды проверяла каждый акт, каждое послание. А если убийца отравит аббатису, ее печать будет сразу же признана утратившей силу. Столько нитей, но ни одного узла, ни одной связи, чтобы объединить их! В этой жуткой истории отсутствовала логика. Аннелете никак не удавалось выяснить правду. Убийца была умной, необычайно хитрой женщиной. Ей удалось разгадать слабости и силу, маленькие секреты, мелкое тщеславие или большие обиды своих сестер, чтобы ловко использовать эти недостатки. Ребенок Иоланды, внешняя надменность Берты, старческое слабоумие Бланш… Но почему она отравила Гедвигу дю Тиле и Жанну д'Амблен? Какое место занимали эти старые подруги в ее убийственной геометрии? Старые подруги… Если только убийца не собиралась устранить одну из них, а их милая привычка садиться рядом во время трапез и пить вместе настойки не свела в могилу вторую… В таком случае, которая из них должна была умереть? Гедвига или Жанна? Гедвига дю Тиле? Есть ли какая-то связь с ее обязанностями ризничной? Ризничная получала доходы аббатства, следила и платила кузнецам, певчим, ветеринарам… Одним словом, она распоряжалась большими деньгами. В прошлом случалось, что благодаря подложным актам монахи сколачивали огромное личное состояние. А акты подделывались благодаря украденной или позаимствованной печати аббата. Нет… Нет, она заблуждалась, она это чувствовала. Аннелета была готова дать голову на отсечение – убийцей двигали вовсе не денежные интересы. Тогда Жанна д'Амблен, спасшаяся от яда только благодаря своему крепкому здоровью? Жанна имела право покидать пределы аббатства и ездить по краю. Она встречалась с многочисленными жертвователями, беседовала с ними, порой становилась их наперсницей. Может быть, она увидела или услышала то, чего боялась отравительница? Нечто очень важное, смысл чего казначея сразу не поняла? Думать… Размышления должны привести к правильному решению. Тибо! Тибо, горячо любимый сын Иоланды, ради которого она была готова солгать! Аннелета должна была узнать о Тибо как можно больше, но для этого ей потребуется помощь аббатисы. Аннелета сделала большой шаг в нужном направлении. Вероятно, отравительница узнала, что по ночам сестра-лабазница выходила украдкой на улицу, чтобы встретиться со своей осведомительницей недалеко от гербария. Именно по этой причине отравительница взяла ее туфли, чтобы подозрения пали на Иоланду де Флери. Впервые за всю свою жизнь Аннелета выругалась, нервно топнув ногой: – Черт возьми! Эта гипотеза была абсурдной, поскольку она предполагала, что убийца догадывалась о поджидавшей ее ловушке. Но Аннелета никому не говорила о своем плане, даже аббатисе. Тибо, Тибо… Аннелета могла бы поклясться, что отгадка заключалась в этом прелестном имени маленького незаконнорожденного мальчика. Колокольный звон постепенно вывел Аннелету из оцепенения: он созывал сестер на вечерню. Аннелета вышла из гербария, как никогда преисполненная решимости ничего не есть, кроме того, что она своими руками приготовит на кухне, поскольку, если она не ошиблась, приписав своей противнице острый ум, та быстро поймет, что Аннелета была ее самым грозным врагом, и без колебаний убьет ее. Человек притаился за изгородью из каштанов, защищавшей аптекарский огород от сильных порывов ветра. «Аннелета, Аннелета, – думал человек. – До чего твое рвение тяготит меня, до чего оно огорчает меня! Что ты скажешь о смерти, дорогая сестра-больничная? Давай, сделай милость, порадуй меня. Сдохни!» Элевсия де Бофор молча смотрела на свою дочь. – То, о чем вы меня просите, Аннелета, кажется таким странным… Неужели вы думаете, что этот маленький мальчик может помочь в нашем расследовании? – Я в этом уверена. Достаточно отправить туда одного из наших прислужников-мирян. Отец Иоланды де Флери живет на своих землях, в окрестностях Маласси. Вы мне сами об этом говорили. Это не так далеко. Один день понадобится на то, чтобы верхом на лошади съездить туда и вернуться в аббатство. – И какова же будет его миссия? Сестра-больничная вздохнула. Об этом она не имела ни малейшего представления. Но инстинктивно Аннелета понимала, что надо продолжать настаивать. – Признаюсь вам, у меня нет мыслей по этому поводу. – Аннелета, я не могу отправлять одного из наших людей, не уточнив, чего я от него хочу. – Я прекрасно понимаю это, матушка… Мне хотелось бы узнать о малыше Тибо. – Узнать? И это все? – Это все. Я иду в дортуар. Элевсию де Бофор охватило какое-то наваждение. Она, некогда избегавшая посещать тайную библиотеку, с какого-то времени чувствовала необходимость проверять книги каждый день, по нескольку раз в день. Ее толкала некая сила, которой ей нечего было противопоставить, ведь планы аббатства по-прежнему лежали в несгораемом шкафу. Убийца, если только она не было изощреннее, чем демон, не могла знать о существовании тайной библиотеки. Тем не менее аббатиса всякий раз приподнимала тяжелый гобелен и открывала дверь, ведущую в это место, которое притягивало ее и одновременно внушало ужас. Элевсия посмотрела на масляный светильник, стоявший на ее рабочем столе. Тоненькое пламя не давало достаточно света, чтобы разогнать тени, сгустившиеся в библиотеке и, казалось, цеплявшиеся за полки, которые прогнулись под книгами, полными опасных откровений. Аббатиса быстро вышла в коридор и взяла один из смолистых факелов, освещавших его. Ей требовался мощный свет, чтобы просмотреть множество названий, вобравших в себя беспокойные истины. Элевсия падала от усталости. Ну же, немного мужества! Закончив обход, она предоставит себе несколько часов заслуженного отдыха. Элевсия осматривала книги, неспешно переходя от одного книжного шкафа к другому. Она держала факел высоко, но довольно далеко от мебели, опасаясь, как бы огонь не охватил эти столь ценные и столь грозные страницы. Человек весь сжался, устремив свой взгляд на высокие горизонтальные бойницы, которые он смог различить в глухой стене несколько минут назад благодаря колеблющемуся в них огню. В ледяной темноте внутреннего сада победоносная улыбка озарила его лицо. Человек правильно все рассчитал, и его ожидание было наконец вознаграждено. Камерленго будет доволен и, как он надеялся, проявит большую щедрость. Тайная библиотека примыкала к покоям аббатисы. Силуэт вскоре завладеет манускриптами, о которых так страстно мечтал Гонорий Бенедетти. Теперь отпала необходимость убивать Элевсию де Бофор, чтобы завладеть третьим ключом от несгораемого шкафа, единственным ключом, которого недоставало силуэту. Милость, которую человек оказывал аббатисе, доставила ему удовольствие. Не то чтобы ужасная смерть монахинь опечалила его. Но Элевсия была важным звеном. Она была частью этой неосязаемой паутины, которую им не удавалось окружить плотным кольцом. Матушка могла предоставить им ценные сведения. А если удастся убедить ее открыть им то, что она знала… Разумеется, у них не будет недостатка в средствах убеждения!
Улица Ангела, Алансон, Перш, ноябрь 1304 года
Над улицей Ангела постепенно сгущалась ночь. Следовало ли видеть в названии этой улицы знак или же просто новую иронию судьбы? Франческо де Леоне спрятался под портиком красивого особняка покойного Пьера Тюбефа, суконщика, имевшего несчастье встретить на своем пути Флорена. Он еще немного подождал, потом двинулся по квадратному двору к величественному зданию. За закрытыми занавесями окон второго этажа порой мелькало колеблющееся пламя свечи – лишнее доказательство того, что Флорен поселился в доме, который он реквизировал, поскольку тот ему понравился. Рыцарь запретил себе разрабатывать какой-либо план, какую-либо стратегию. В своих действиях он руководствовался своего рода суеверием. Ему казалось очень важным, чтобы Флорен стал творцом собственного возмездия, но при этом рыцарь не совсем отчетливо понимал, откуда у него такая уверенность. Речь шла не о страхе перед угрызениями совести, и уж тем более не о жалости. Нет… Скорее, речь шла о смутном предвидении: все, что касалось мадам де Суарси, не следовало осквернять и пачкать, даже устранение ее мучителя. Глаза Леоне стали влажными, когда Жан де Риу начал рассказывать ему о подвале, о неподвижно лежавшем теле, об иссеченной бледной спине, о крови, вытекавшей из ран. Прошло несколько минут, прежде чем Леоне понял: то, что затуманивало его взгляд, было слезами. Чудо. Эта женщина сотворила для него первое чудо. Сколько времени он не чувствовал этой удушающей печали, свидетельствующей о том, что ты человек, подтверждающей, что ты сумел спасти свою душу от разрушения, не дал ей привыкнуть к худшему? он столько видел, в столь многом удостоверился. Он так глубоко погружался в смерть и страдание, что перестал их замечать. Мучительные страдания Аньес вызвали у него отчетливые воспоминания о скрюченных и обожженных телах, о зияющих ранах, о грудных клетках, пронзенных стрелами, об отрубленных членах, о выколотых глазах. Леоне был чрезвычайно признателен Аньес за все это, за эти воспоминания, которые ранее настолько сбились в кучу, что превратились в однообразное месиво. Теперь он не хотел забвения, он отвергал удобный обман, позволявший привыкнуть к ужасам. Леоне неспешно поднялся по ступеням, ведущим к двойной двери, и постучал. Он ждал, ни о чем не думая. Дверь осторожно приоткрылась, потом распахнулась. Никола Флорен уже успел переодеться в роскошную ночную рубашку из цветного шелка, расшитую золотыми нитями. Леоне был уверен, что раньше по вечерам она согревала сьера Тюбефа. – Рыцарь? – хриплым голосом спросил инквизитор. – Я скоро покидаю Алансон и… мысль о том, что я уеду, не простившись с вами доставляла мне… огорчение. – Если бы вы уехали, не простившись со мной, я бы тоже… огорчился. Входите, прошу вас. Бокал вина? В подвале… в моем подвале много запасов. – Бокал вина. – В этой комнате очень холодно. Поднимайтесь, рыцарь. Я устроил свои покои на хозяйском этаже. Сейчас я к вам приду. Гостиная, в камине которой пылал огонь, была удивительно просторной. Свечи на многочисленных канделябрах отбрасывали столь яркий свет, что в комнате было светло, как днем. Прекрасные резные лари, изящные столики, привезенные из Италии, высокие граненые зеркала и толстые ковры, висевшие на стенах, свидетельствовали о богатстве прежних владельцев дома. Леоне расположился в одном из двух кресел, стоявших перед каменным камином. В гостиную вошел Флорен. Он принес два венецианских бокала. Эту редкую и хрупкую диковинку можно было увидеть лишь на столах самых могущественных принцев. Флорен подвинул другое кресло к своему гостю и сел так близко, что касался коленями ног Леоне. Но Леоне не стал отодвигаться. Инквизитором овладело сладострастное желание иного рода. Он поймал на крючок рыбку, вот уж действительно прекрасную добычу. А вдруг ему удастся соблазнить этого человека, который мог бы противостоять ему? Игра, ее трудность, ловкость, которую ему надо будет проявить, опьяняли его сильнее, чем вино. Густым нежным голосом, голосом алькова, он прошептал: – Я так… я хотел сказать, что польщен, но сейчас это не совсем подходящее слово. – Взволнован? – предложил Леоне, немного наклонившись к инквизитору. – Правда, взволнован. – Что касается меня, то я потрясен, – признался Леоне. Флорен почувствовал в голосе рыцаря искренность и вздрогнул. Но он ошибался относительно подлинной причины этой искренности. – Потрясен? – повторил инквизитор, смакуя это слово, словно лакомство. – Разве не удивительно, что наши пути пересеклись подобным образом? – Не совсем, – возразил Леоне, прищурив свои голубые глаза. – Верите ли вы в судьбу? – Я верю в желание и его исполнение. Длинная тонкая рука, пытавшая стольких людей, приблизилась к лицу рыцаря. Леоне видел, как она ласкает воздух. В отблесках пламени прозрачная кожа становилась розоватой. Леоне на мгновение закрыл глаза. Его губы медленно растянулись в улыбке. Он сжал в ладони кинжал и встал. Инквизитор последовал его примеру и сделал шаг навстречу. Тело инквизитора чуть коснулось тела госпитальера. Раздался вздох. Глубокие глаза Флорена вылезли из орбит. Он открыл рот, но не мог издать ни единого звука. Попятившись, он опустил глаза, и его взгляд остановился на рукоятке кинжала, торчавшей из его живота. Флорен захрипел: – Но за что… Леоне не сводил с него глаз. Инквизитор вытащил убийственный клинок, и поток крови обагрил перед его красивой ночной рубашки, расшитой золотыми нитями. – Не за что. Скорее, за кого. За розу. Чтобы роза жила. – Я не… Высказали… потрясены… – Я потрясен до глубины души. Она потрясла меня. Я не заблуждался. Чтобы не упасть, Флорен схватился обеими руками за спинку кресла. Его мысли путались, но ему никак не удавалось привести их в порядок. – Аньес? – Кто же еще? Не старайтесь, вы не способны это понять. – Камер… – Подлый мерзавец, палач, которому нет прощения. Послания камерленго не существовало. Распоряжение, которое ты получил, было написано Жаном де Риу и скреплено печатью, снятой с очень старого письма, которое хранится в библиотеке соседнего аббатства. В уголке губ инквизитора появился сгусток крови, потом еще один, а за ним последовала цепочка из маленьких ярко-красных жемчужин. Инквизитор зашелся в кашле. По его подбородку потекла алая струйка. Он корчился от боли, буквально разрывавшей его живот, от боли, теперь проявлявшейся во всей своей жестокости. Он стонал, сбивчиво повторяя: – Мне больно, мне очень больно. – Теперь наконец множество несчастных призраков упокоятся с миром, Флорен. Все твои жертвы. – Я… я вас умоляю… Я истекаю кровью… – Что? Добить тебя? О какой жалости ты можешь вспомнить, чтобы заслужить мою жалость? Ответь. Один-единственный ответ. Больше ничего не надо, чтобы я избавил тебя от ужасов агонии. Некогда столь привлекательное лицо становилось пепельным. Леоне спрашивал себя, сколько мужчин и женщин попали под чары этого идеального миража, чтобы затем понять, какой кошмар он скрывал. Сколько людей умерло, погрузившись в море страданий, созданное этими длинными тонкими руками. Писк, похожий на детский, вернул рыцаря к человеку, который только что упал перед камином. – Мне больно… Мне ужасно больно… Я умру, мне так страшно… Сжальтесь, рыцарь. Рыцарь вспомнил об огромных серо-голубых глазах, под которыми чернели болезненные тени. Ради нее, ради несравненной розы, лепестки которой он однажды нарисовал в своем дневнике, Леоне подобрал окровавленный кинжал. Он наклонился к умирающему, расстегнул ворот ночной рубашки и быстрым движением перерезал бледное горло. Раздался хрип, потом вздох. Нервно вздрогнув, тело Флорена обмякло. Несколько минут Франческо де Леоне смотрел на труп мучителя, стараясь понять, принесла ли ему эта казнь удовольствие. Ни малейшего, только мимолетное облегчение. Один зверь умер, но его место займут другие, Леоне в этом не сомневался. Леоне взял свой бокал с одного из маленьких итальянских столиков и переставил его на каминную полку. Второй бокал разбился, когда падал Флорен, и фиолетовое вино смешалось с карминовой кровью. Леоне нагнулся и снял роскошные кольца, украшавшие пальцы инквизитора. Затем он пнул ногой оба кресла, упавшие набок. Наконец, он расстегнул ночную рубашку и снял ее с инквизитора. Таким образом, все подумают о галантном свидании с плохим концом или о кровавом ограблении. Леоне еще раз взглянул на созданную им мизансцену, потом снял сюрко, запачканный кровью, бросил его в камин и вышел на улицу, погруженную во тьму. Бог рассудит. Что касается людей, то рыцарь надеялся на их желчные языки, наконец освобожденные от ужаса, который внушал им инквизитор, и на их потребность взять реванш. Бог рассудит.Женское аббатство Клэре, Перш, ноябрь 1304 года
Сидя за столом, установленном на помосте, откуда была видна вся трапезная, Элевсия разглядывала сестер, расположившихся за двумя длинными досками, лежавшими параллельно на козлах. Их освещало колеблющееся пламя смолистых факелов. Обычно просторный зал был наполнен шепотом, правда, неуместным, поскольку трапезы должны были, проходить в полном молчании. Обычно раздавались приглушенные смешки, из-за чего аббатисе приходилось призывать сестер к порядку. Обычно рядом с аббатисой сидели благочинная, экономка и ризничная. Но Бланш де Блино не покидала обогревальни, а Гедвига дю Тиле была мертва. Оставалась Берта де Маршьен. С нее слетело прежнее высокомерие, и теперь она походила на ту, кем была по сути: на стареющую чувствительную женщину. Элевсия де Бофор попросила Аннелету Бопре занять ставшее теперь свободным место Гедвиги, чтобы лишний раз не пробуждать тягостных воспоминаний у ее духовных дочерей, но сестра-больничная отвергла это предложение. Ей было удобнее следить за реакцией каждой из сестер со своего места в конце стола. К тому же она была уверена, что, заняв место, не соответствовавшее ее положению, она вызовет у убийцы беспокойство. Аннелета Бопре не сводила глаз с Женевьевы Фурнье. Лицо сестры – хранительницы садков и птичника было, мертвенно-бледным. Ее огромные карие глаза с фиолетовыми, почти черными кругами свидетельствовали о том, что Женевьева плохо спит и почти ничего не ест. Действительно, после смерти Гедвиги дю Тиле она так почти ничего и не съела. Столь упорный пост, который связывали с симпатией, объединявшей двух молодых женщин, заинтриговал больничную. Разумеется, женщины хорошо ладили, впрочем, как и прочие но все же не до такой степени, чтобы изводить себя голодом. Аннелета переводила взгляд с одной сестры на другую. У нее кольнуло в сердце, когда она увидела осенние цветы, лежащие на осиротевшем месте Аделаиды Кондо и на по-прежнему свободном месте Жанны д'Амблен. Жанне было лучше, но из-за слабости она все еще не могла встать. Аннелета увидела, как Женевьева поднесла ко рту чашку с супом из репы, бобов нового урожая и сала, но сразу же дрожащими руками поставила ее обратно. Ее духовная сестра испуганно посмотрела вокруг и опустила голову, нервно пощипывая свой кусок хлеба. И Аннелета все поняла. Женевьева умирала с голоду, но ее не покидал ужас, несмотря на то, что на кухне предпринимались все меры предосторожности. Возле двери стояли две послушницы и наблюдали за происходящим, пока новая сестра-трапезница, Элизабо Феррон, готовила еду. Срок послушничества Элизабо закончился, и она дала окончательный обет. Женщина среднего возраста, вдова крупного торговца из Ножана, Элизабо заняла эту должность при поддержке Аннелеты. Рослая и широкоплечая, Элизабо была способна оглушить любого, кто попытался бы покуситься на ее котелки. Ее зычный голос не раз производил сильное впечатление на сестер, когда она, упершись кулаками в пышные бедра, заявляла: – Мое имя определило мою судьбу. Оно означает: радость в доме Бога-Отца. Не будем этого забывать – Бог есть Радость! У всех хватало здравого смысла не противоречить ей, поскольку у Элизабо, несмотря на ее шумное великодушие, был закаленный характер, ведь всю свою супружескую жизнь она подгоняла ленивых приказчиков или грубо одергивала бессовестных заказчиков. Аннелета ловила взволнованные недоверчивые взгляды Все украдкой переглядывались, стараясь понять, за каким знакомым и любимым лицом скрывается зловредный зверь Она следила за взглядами, которые порой сталкивались иногда задерживались друг на друге, задавали молчаливые вопросы. Сумеет ли их конгрегация, некогда такая безмятежная и, можно сказать, слаженная, оправиться от этой опасной болезни – подозрительности? Аннелета не была в этом уверена. Если Аннелета хотела быть честной, она должна была признать: прежде всего сестер объединяло твердое убеждение, что стены аббатства надежно защищают их от внешнего мира. Но смерть тайком пробралась к ним, заставив разлететься на куски толстые стены и уверенность, что безумие мира никогда не сможет добраться до них, укрывшихся здесь. По сути, чего боялось большинство из них? Яда? Или оказаться на улице, в одиночестве, без состояния, без челядинцев[158], жаждавших их принять? Разумеется, сюда их привела вера, во всяком случае, большинство из них. Но к этой вере примешивалась уверенность, что аббатство – их единственное пристанище. Она сама, мужественная Аннелета, что она будет делать? Она предпочитала не думать об этом. За стенами монастыря ее никто не ждал. Никто не беспокоился о ней. Все ее существование, ее значимость была сконцентрирована в этих стенах. Это собрание столь разных женщин, одни из которых раздражали ее, другие забавляли, немногие интересовали, стало для нее единственной семьей. Другой у нее просто не было. Трапеза закончилась в тягостном молчании. Гнетущую тишину разорвал скрежет скамей. Аннелета последней встала из-за стола и пошла вслед за Женевьевой Фурнье. Сестра-хранительница садков, выйдя из трапезной, свернула налево, чтобы, несомненно, срезать путь через гостеприимный дом, пройти через сад и в последний раз перед сном провешить кур. Она шла медленно, опустив голову, чуть согнувшись. Казалось, она забыла обо всем, что ее окружает. Наступала ночь. Аннелета шагала следом в нескольких туазах, чтобы не напугать ее. Женевьева прошла внутренние монастырские галереи, потом обогнула реликварий. Миновав конюшни, она вышла к фруктовому саду, в котором находились курятники. Она остановилась перед забором из тонких планок и принялась разглядывать своих дорогих птиц. Аннелета, которая тоже остановилась, почувствовала какую-то не совсем уместную нежность. О чем думала ее духовная сестра, застывшая в холодных сумерках, предвещавших ночь? О Гедвиге? О смерти? Наконец Аннелета решилась. Сделав несколько широких шагов, она подошла к Женевьеве и положила руку ей на плечо. Сестра – хранительница садков и птичника подскочила, с трудом удержавшись от крика. В ее глазах Аннелета прочла неописуемый ужас. Женевьева быстро взяла себя в руки и принужденно рассмеялась: – До чего же я стала трусливой! Вы застигли меня врасплох… Вышли подышать свежим воздухом, дорогая Аннелета? Несколько секунд Аннелета молча смотрела на Женевьеву, потом сказала решительным тоном: – Не думаете ли вы, что сейчас самое время? – Что, прошу прощения? – Почему вы боитесь стать следующей, причем так сильно, что морите себя голодом? – Я не понимаю, в чем вы меня обвиняете, – сухо ответила молодая женщина. – Вы знаете или полагаете, что знаете, причину убийства Гедвиги и почти смертельного отравления Жанны. И по этой самой причине вы опасаетесь за свою жизнь. – Я не… – Помолчите! Неужели вы не понимаете, что чем дольше вы будете молчать, тем настойчивее убийца будет стремиться устранить вас? И напротив, если я… если некоторые из нас доверятся друг другу, убивать вас станет бессмысленно. Крупная слеза потекла по щеке сестры – хранительницы садков и птичника. Она пролепетала: – У меня больше нет… – Доверьтесь мне, это единственный способ защитить вашу жизнь. Женевьева пристально смотрела на Аннелету. Она так хотела верить ей, но вместе с тем она боялась. – Я… Я видела, как вы воровали мои яйца, очень много яиц. Сначала я до того возмутилась, что спрашивала себя, не следует ли рассказать об этом нашей матушке. Я колебалась. Спросила Гедвигу. И только потом, в скриптории, когда вы водили нашими туфлями по нагревальнику, я поняла, что мои яйца потребовались вам, чтобы устроить ловушку. – Значит, Гедвига знала, что я… заимствую яйца у ваших кур, а поскольку она дружна с Жанной, вполне вероятно, что она рассказала ей об этом. Женевьева нервно кивнула головой в знак согласия и срывающимся голосом прошептала: – Это моя вина… Их отравили из-за меня. – Разумеется, нет. Выбросите эту глупость из головы. Надо возвращаться, Женевьева. Надо возвращаться. К тому же вам следует поесть. Я расскажу о нашем разговоре матушке. Советую вам… Советую вам поговорить с несколькими сестрами, поведать им о своих страхах. – Но отравительница… Я рискую довериться ей. – Именно этого я и хочу. Если она задумала избавиться от вас, чтобы помешать вам сказать правду, она поймет, что вы опередили ее, и оставит свое намерение. Женевьева расслабилась от облегчения. Она крепко обняла Аннелету. Сестра-больничная, смущенная таким выражением чувств, мягко освободилась от объятий и улыбнулась, как бы оправдываясь: – Я не привыкла к подобным проявлениям дружбы. Женевьева покачала головой и призналась: – Я думаю, дорогая Аннелета, что многие из нас недооценивали вас. Это потому, что у вас такой свирепый вид, – добавила он, вздохнув. – Но вы, бесспорно, самая храбрая женщина из всех, кого я знаю, и самая умная. Мне просто необходимо было вам об этом сказать. С этими словами Женевьева побежала к зданию, массивные очертания которого виднелись при лунном свете. Аннелета стояла и смотрела на сбившихся в кучу птиц, спавших в своем убежище. Она ни секунды не сомневалась, что Женевьева сказала ей правду. Тем не менее вся эта история была притянута за уши. В этом тоже она была уверена. Если предположить, что Гедвига поведала Жанне о беспокойстве Женевьевы по поводу яиц, тогда получалось, что Жанна тоже должна была с кем-то поделиться этими сведениями. Лишь так можно было объяснить, что обе женщины стали мишенью отравительницы. Если только они не разделили между собой яство или напиток, предназначенный Гедвиге. Перед тем как лечь спать, сестра-больничная решила в этом убедиться. Она поднялась в еще пустой перед повечерием дортуар и вошла в маленькую занавешенную ячейку, которую занимала Жанна. Казначея спала. Нога Аннелеты наткнулась на какой-то предмет, тут же зазвеневший под ее ногой. Она опустила глаза и увидела пустую суповую чашку. Хорошо. Жанна начала есть, что позволит ей быстро набраться сил. Она подняла чашку и ближе подошла к спящей. Под ее толстыми кожаными подошвами что-то заскрипело. Она испугалась, что этот неприятный звук может разбудить ее духовную сестру. Шум, сопровождавший возвращение сестер в свои полотняные ячейки после повечерия, тоже мог вырвать Жанну из сна. Она воспользовалась суматохой, чтобы вернуться к себе. Аннелета бесшумно вышла, задвинула занавеси и направилась к кухне, чтобы вернуть чашку. Каждый ее шаг сопровождался легким скрежетом. Она взглянула на подошву, думая, что в саду за нее зацепился небольшой камешек. В полутьме сверкнула крошечная искорка. Она попыталась вытащить застрявший предмет и тут же вскрикнула от острой боли. Сначала она не смогла ничего разглядеть. Лишь подойдя к освещенной кухне, она увидела, что из пальца текла кровь. И лишь более внимательно осмотрев подошву, она поняла, что камешек был толстым осколком стекла. Как сюда попал осколок? Стекла в аббатстве было немного. Застекленными были только окна скриптория, но, насколько она знала, все они оставались целыми. Аннелета промыла палец над каменной раковиной, не жалея воды из кувшина, затем смазала его настойкой тмина, розмарина, березы и шалфея.[159] Флакончик с этой настойкой никогда не покидал пояса ее платья. Раздавшееся сзади покашливание заставило ее обернуться. Послушница робко наклонилась к ней и прошептала: – Матушка хочет вас видеть. Она ждет вас в своем кабинете. Молодая женщина тут же исчезла. Прежде чем идти в кабинет аббатисы, Аннелета перевязала палец полоской ткани. Едва Аннелета вошла, как Элевсия встала. Лицо аббатисы было каменным. Аннелета недоуменно подняла брови. – Мне только что доложили об одной невероятной вещи. Я до сих пор не могу прийти в себя от услышанного, у меня такое чувство, что чем дальше мы продвигаемся, тем меньше я понимаю. Аннелета терпеливо ждала. Поведение аббатисы заинтриговала ее и даже вызвало беспокойство. Элевсия провела своей тонкой рукой по лбу и вздохнула: – Ребенок… этот малыш Тибо де Флери… умер почти два года назад, через несколько месяцев после смерти своего деда. Аннелета почувствовала, что вот-вот упадет. Она с трудом добралась до кресла, стоявшего возле стола аббатисы, и выдохнула: – Ах, нет… Но… – Сначала я отреагировала точно так же, дочь моя. Мы столкнулись с нагромождением несообразностей. Но тогда почему матери сообщают о хорошем здоровье и беззаботном детстве ее ребенка? Кто опустился до такой чудовищной лжи? И потом, почему она не получила писем, в которых сообщалось бы о смерти ее отца, а затем сына? – Я теряюсь в догадках, – призналась Аннелета. – Но главное, я не знаю, что делать. Должны ли мы рассказать Иоланде о чудовищном фарсе, жертвой которого она стала? – Даже если потом она умрет от горя? – Даже если она потом умрет от горя… но мы должны рискнуть, иначе мы не узнаем имени ее осведомительницы, – ответила сестра-больничная. – Вы думаете, что этой осведомительницей движут недобрые намерения или что она получает от Иоланды сведения, которые той сообщает третье лицо? – Я ничего не думаю. Мы сможем это понять лишь тогда, когда узнаем, кто эта осведомительница. Вновь воцарилось молчание. Аннелета пыталась привести в порядок свои хаотичные мысли, найти связь, объединявшую все эти разрозненные элементы, казавшиеся бессмысленными. Элевсия де Бофор чувствовала беспредельную усталость. Она чувствовала, как уходит в себя. Постепенно ее вселенная разрушалась, и теперь ей не оставалось ничего другого, как созерцать развалины. Огромным усилием воли она взяла себя в руки и распорядилась: – Приведите ко мне Иоланду. Аннелета нашла сестру-лабазницу в парильне. Вместе с Тибодой де Гартамп, сестрой-гостиничной, она складывала белье. Иоланда с неприязнью взглянула на Аннелету, когда та передала ей приказ аббатисы. Некогда веселая молодая женщина не простила больничную за то, что та подозревала ее. К великому облегчению Аннелеты, Иоланда пошла за ней, не сказав ни слова, даже не поинтересовавшись, зачем ее вызвали. Элевсия стояла, опершись спиной о рабочий стол, словно готовилась к тяжелому испытанию. По искаженному грустью лицу аббатисы Иоланда поняла, что разговор будет трудным. – Матушка? – Иоланда… моя дорогая дочь… Ваш… отец умер чуть больше двух лет назад. Иоланда опустила глаза и прошептала: – Боже мой… да упокоится с миром его душа. Я надеюсь, что он меня простил. Вдруг Иоланда забеспокоилась: – Но… Мой сын… Тибо, кто теперь следит за ним? Я была единственной наследницей. – Значит, ваша… осведомительница вам об этом не сказала? – вмешалась Аннелета. Иоланда повернулась к Аннелете. Выражение ее лица было суровым и неприветливым. Сквозь зубы она процедила: – Будет лучше, если я не стану с вами разговаривать. Я никогда вас не любила, тем не менее я никогда не думала, что вы станете подозревать меня. Иоланда посмотрела на аббатису. Выражение ее лица смягчилось. – Матушка, заклинаю вас, скажите, кто воспитывает моего Тибо? Теперь пришла очередь Элевсии опустить глаза. Аннелета не узнала голоса аббатисы, когда та произнесла ужасные слова: – Немного погодя он присоединился к вашему отцу. Иоланда не сразу поняла, что сказала ей духовная мать. Немного растерявшись, она переспросила: – Он присоединился к нему… как это? Где? Я… – Он умер, моя дорогая дочь. На губах сестры-лабазницы заиграла неуместная улыбка. Она наклонилась к расстроенной женщине и переспросила: – Я не… Что вы говорите? Острая боль пронзила грудь Элевсии. Тоном, ставшим почти агрессивным, она повторила: – Тибо умер, Иоланда. Скоро будет два года, как ваш сын умер, через несколько месяцев после своего деда. Аннелете показалось, что Иоланду покидает жизнь. Она увидела, как молодая женщина согнулась почти пополам. Странный звук, похожий на пыхтение раздуваемых мехов, заполнил комнату. Затем раздался стон. Он становился все громче и в конце концов перешел в вопль. Иоланда вертелась как волчок, все быстрее и быстрее, царапала себе щеки, не в состоянии подавить пронзительный крик, вырывавшийся из груди, который, казалось, не нуждался в ее дыхании, чтобы заполнить комнату. Она упала на колени, рыдая, словно в агонии. Аннелета и Элевсия неподвижно стояли на месте, не в состоянии сделать какое-либо движение или вымолвить хоть слово. Сколько они смотрели на слезы отчаяния Матери, слушали ее хриплые крики умирающего зверя? Внезапно все звуки стихли. Иоланда смотрела на них широко раскрытыми от бешенства глазами. Ее лицо было искажено яростью. Помогая себе двумя руками, она встала. Элевсия хотела броситься к ней, заключить в свои объятия. Но Иоланда отпрыгнула назад и прорычала, показывая на нее пальцем: – Как вы могли?… Вы злая, вы предательница, вы ничуть не лучше своей прислужницы больничной. Две злые и извращенные безумицы. Ошеломленная Элевсия застыла в одном шаге от своей духовной дочери. Иоланда зарычала. Аннелета была готова вмешаться, опасаясь, как бы та не бросилась на аббатису. – Как вы посмели придумать такую чудовищную ложь? Для этого надо, чтобы вы прогнили до глубины души! Неужели вы думаете, что имеете дело со слабоумной? Вы сообщаете мне это чудовищное известие в надежде узнать от меня имя любезной подруги, которая рассказывает мне о Тибо? Никогда! Я разгадала вашу гнусную стратагему! И знаете почему? Потому что я ежесекундно чувствую своего малыша во мне. Потому что, если бы он умер, я вскоре бы угасла, чтобы последовать за ним. Подлые чудовища! За это вы будете прокляты! Иоланда на мгновение замолчала, зажав рукой рот. – Я хочу, матушка, чтобы вы немедленно потребовали моего перевода в другое аббатство нашего ордена. Я хочу как можно быстрее покинуть смрадные бездны, которые вы и вам подобные вырыли в этих местах. Несомненно, я буду не единственной, кто потребует перевода. Другие тоже поняли всю подлость ваших ухищрений. Аннелета подумала, что на ее глазах Иоланда погрузилась во вселенную безумия. Она вмешалась, пытаясь успокоить молодую женщину: – Иоланда, вы заблуждаетесь. Мы вам… – Замолчите, грязная безумная отравительница! Неужели вы думаете, что я не поняла, что виновны вы? О, разумеется, вы ловкая и хитрая. Но, чтобы обмануть меня, требуется гораздо больше. Подобное обвинение до того сильно уязвило сестру-больничную, что она даже не отреагировала. Тем не менее Аннелета попыталась вразумить свою духовную сестру: – Вы не понимаете… Если я все правильно поняла, вата осведомительница… Да, я не удивлюсь, если речь идет об отравительнице, за которой мы охотимся. Если это так, ваша жизнь в опасности. Иоланда прошипела: – Вот уж ловко, ничего не скажешь! Убийца! Иоланда выбежала из кабинета аббатисы так стремительно, словно за ней гнался дьявол. Аннелетаповернулась к Элевсии и прошептала: – Мне кажется, она потеряла рассудок. Сухое рыдание вырвалось из груди аббатисы. Она простонала: – Боже мой! Что мы наделали! Аннелета боролась с отчаянием. Впервые в своей жизни властная женщина сомневалась в себе. По сути, для нее не имели особого значения обвинения, брошенные сестрой-лабазницей в порыве отчаяния, с которым она отказывалась примириться. Единственное, что было важно для Аннелеты, так это душераздирающая боль, которую они причинили молодой женщине. Однако очень важен был план, который разработала Аннелета, чтобы вынудить Иоланду назвать имя своей осведомительницы. Аннелету охватывал стыд, с которым она ничего не могла поделать. Она услышала свой голос, который просил, почти умолял: – Матушка, могу ли я в порядке исключения переночевать в ваших покоях? Я лягу на ковре в вашем кабинете. Я знаю, что… Беспомощный взгляд, слова, которые произносил запинающийся голос, нервный тик, заставлявший вздрагивать подбородок сестры-больничной, сказали Элевсии больше, чем законченные фразы. Взволнованным голосом она ответила: – Я не решалась предложить вам это. Сегодня вечером мы так одиноки. Видите ли, Аннелета, яростная битва идет и снаружи, причем безжалостная битва. Я всей душой жалею, что мы причинили Иоланде боль. Но, так или иначе, она должна была узнать ужасную правду. Тибо умер, а ее осведомительница лжет Иоланде вот уже два года по причинам, которые я никак не могу понять. Кроме того… Господь простит меня… Уверяю вас, я не жестокосердна, мое сердце истекает кровью, когда я думаю об этой несчастной истерзанной матери… Господь простит меня, но угроза нависла над всеми нами, и траур Иоланды ничего не меняет. Этот несчастный маленький мальчик достиг света своего Создателя два года назад… Мы же умрем сегодня, возможно, завтра. Наших мертвых мы оплачем позже. От зверя надо как можно скорее избавиться. Аннелета вздохнула и подошла к матушке, широко раскинув руки. Она прошептала: – Спасибо, что вы высказали то, о чем я не осмеливалась думать. Адель де Винъе, хранительница зерна, проснулась от холода. Ее тонкое одеяло упало на пол. Она стала шарить в темноте, подавила зевок и скосила еще сонные глаза. В дортуаре сестры мирно спали. Казалось, в огромном ледяном зале дыхания перекликались друг с другом. Порой движение или покашливание разрывало эту монотонность ритмических звуков. Но все перекрывало громкое похрапывание Бланш де Блино. Адель де Винье улыбнулась. Казалось, сам возраст оберегал Бланш от тревожных снов. Хранительница зерна вновь залезла под одеяло и свернулась калачиком. Она впала в забвение как раз в тот момент, когда тень отделилась от занавесей, окружавших ее ячейку. Ночь по-прежнему боролась с рассветом, когда они проснулись и начали готовиться к лаудам. Адель надела платье и поправила накидку с еще полузакрытыми глазами. Она раздвинула занавеси, ограждавшие ее альков, и удивилась тишине, царившей в соседней ячейке. Иоланда де Флери до сих пор не проснулась. Вчера вечером она казалась такой возбужденной, что Адель, встревоженная ее поведением, грубо одернула Иоланду. Однако ей показалось, что нервы Иоланды были напряжены до предела, поскольку та крикнула ей прямо в лицо: – Если эти две сумасшедшие считают меня дурой, они быстро в этом разочаруются! Я это почувствовала бы, понимаете? Это такое, что… Ну, я хочу сказать, что вы это чувствуете вашей кровью. Спокойной ночи, Адель. Не трогайте меня, заклинаю вас. У меня отвратительное настроение. Не сердитесь, что я накинулась на вас, ведь вы тут ни при чем. Адель колебалась. Возможно, ночь принесла ее духовной сестре облегчение. Она осторожно раздвинула занавес и прошептала: – Иоланда, дорогая Иоланда, пора просыпаться. Никакого ответа. Адель сделала два шага вперед. Ее удивило, в каком положении лежала спящая Иоланда. Она дотронулась до руки, покоившейся на одеяле. В дортуаре раздался вопль. Все застыли неподвижно, взглядом задавая друг другу немые вопросы. Берта де Маршьен первой вышла из этого нереального оцепенения и бросилась к ячейке Адель. Молодая женщина твердила как литанию: – Ее рука ледяная… Ее рука ледяная, это ненормально, она ледяная, говорю вам… Берта резко раздвинула занавес. Иоланда де Флери лежала с широко открытым ртом. На бледной коже ее шеи виднелись красно-фиолетовые царапины. Нога свисала с кровати. Экономка закрыла глаза покойной и повернулась к Адель Де Винье, мягко сказав: – Она умерла. Будьте так добры, позовите нашу матушку, а также Аннелету Бопре, прошу вас. Адель словно окаменела. Она смотрела то на Берту, то на уже остывший труп. – Это приказ, Адель. Бегите и немедленно поставьте нашу матушку в известность. Молодая женщина сбросила с себя оцепенение и исчезла. Берта рухнула как подкошенная на узкую кровать Иоланды. Она сложила руки для молитвы и тихо сказала: – Мы ваши покорнейшие и неутомимые служительницы. Не оставляйте нас.Алансон, Перш, декабрь 1304 года
Лошади изнемогали от усталости. Что касается всадников, они были не в лучшей форме, когда поздно вечером въехали в город Алансон. Ожье фыркал. Холодный пар окружал раздувающиеся ноздри, вздымающуюся от тяжелого дыхания грудь и нервно вздрагивающую голову жеребца. Кобыла Сильвестра, на которой ехал Клеман, дрожала и при каждом шаге высоко поднимала ноги, словно боялась споткнуться. Артюс погладил шею своего великолепного жеребца и сказал: – Спокойнее, мой доблестный. Мы приехали. Тебя ждет хорошая конюшня. Спасибо тебе, Ожье. Ты стал еще храбрее с тех пор, как я тебя объездил. Жеребец поднял голову, тряхнул черной, как смоль, гривой и от изнеможения прижал к голове уши. Клеман спрыгнул с кобылы и погладил ее по морде, благодаря за эту безумную скачку наперекор времени, которое неумолимо бежало вперед. Хозяин конюшни и лошадей, которых он сдавал в наем, бросился к измученным животным, чтобы отвести их в стойла. Он слишком резко дернул за удила Ожье, и тот немедленно стал брыкаться. – Эй, виллан! Не порви рот моему товарищу! – крикнул Артюс. – Веди его осторожно, иначе он затопчет тебя при первой же возможности, и я буду на него не в обиде. Кобыла такая же норовистая. Остерегайся ее. Животных просят выбиться из последних сил не для того, чтобы затем с ними обращаться как с рабами. Эти лошади загнали себя и бешеной скачке, чтобы быстрее доставить нас сюда. Обращайся с ними так, как они заслужили. Я заплачу тебе двойную цену. В противном случае ты мне за все ответишь. Держатель конюшни намотал слова графа себе на ус и осыпал животных любезностями, чтобы те соизволили пойти за ним. Клеман следовал за Артюсом д'Отоном по улочкам Алансона. «Какой же он высокий и как широко шагает!» – думал ребенок, семеня за ним. Артюс резко остановился и Клеман чуть не налетел на него. – Он скоро должен появиться. Я покажу тебе его. Затем ты пойдешь за ним. Когда узнаешь, где он живет, немедленно вернешься. Я буду ждать тебя в таверне «Красная кобыла», – уточнил граф, показывая на заведение. – Ты ничего не должен предпринимать, слышишь? – Да, монсеньор. – Клеман… Не вздумай ослушаться меня и совершить безумную глупость. Каким бы храбрым ты ни был, твой возраст и телосложение не позволят тебе одержать над ним победу. Я – другое дело. Ты серьезно навредишь своей даме, если не последуешь моему совету. Если сегодня вечером он ускользнет от нас, завтра мадам Аньес испытает тысячу смертей. Понимаешь? – Да, мессир. А затем вы его убьете? – Разумеется. Он не оставил мне выбора. Но, по сути, это не имеет значения. Конечно, я должен был раньше решиться на это. Я корю себя за то, что лелеял надежду уговорить его. Добравшись до Дома инквизиции, они увидели, что там царит непонятное оживление. Клирики бегали, входили, выходили. Жандармы с хмурыми лицами суетились с непонятной целью. Воспользовавшись царившей суматохой, граф д'Отон вошел в дом в сопровождении Клемана. К ним бросился тощий молодой человек, которого Артюс не узнал. – Монсеньор, монсеньор, – забормотал молодой человек, сгибаясь в низком поклоне в знак приветствия. – Он умер. Слава Богу! Суд Божий свершился. Подлый зверь умер. Видя, что граф ничего не понимает, он уточнил: – Я Аньян, первый секретарь этого проклятого инквизитора. Я вас видел, когда вы приходили, чтобы попытаться вразумить его. Но я заранее знал, что вы даром тратите время. Однако теперь это неважно. Он умер, как и грешил, подобно подлой твари. Теперь Аньян почти кричал: – Бог покарал его! Он привел свой неизреченный приговор в действие, чтобы просветить нас. Мадам де Суарси, бедная голубка, свободна. Другие тоже, все жертвы Никола Флорена. Все процессы, которые он начал, закрыты, окончательно и бесповоротно, как этого и требует суд Божий. – Когда он умер? Когда? – Вчера ночью, несомненно, от кинжала случайного пьяницы, которого пригласил к себе, в дом, отнятый у несчастного человека, подвергнутого им жестоким пыткам и умершего от них. Там случилось ограбление, была борьба, но этот демон не смог одержать верх. Мсье… Мы все свидетели чуда… Бог вмешался, чтобы спасти мадам де Суарси. Видите ли… Меня это не удивляет. Я встретился взглядом с этой женщиной, ее рука дотронулась до меня, и я понял… – Что вы поняли? – нежным голосом спросил Артюс, которого этот восторженный монолог молодого человека Немного смущал. – Я понял, что она… другая. Я понял, что эта женщина… выше. Мне не хватает слов, монсеньор, и вы, вероятно, считаете меня сумасшедшим. Но я знаю. Я знаю, что до меня дотронулось совершенство и я больше никогда не буду таким, каким был прежде. Он тоже это знал. Он вышел из ее застенков с щемящей болью в сердце, с невыразимым светом в глазах. – Кто? – торопил его Артюс, уверенный, что молодой человек не сошел с ума, что за его сбивчивыми фразами скрывается основополагающая истина. – Ну… рыцарь, разумеется. Этот рыцарь-госпитальер. – Кто?! – почти завопил Артюс. – Я думал, что он ваш друг… Больше я ничего не могу сказать. Не настаивайте, мсье, при всем моем уважении к вам. Никто из людей не имеет ни права, ни власти развеивать чудо. Мадам де Суарси ждет вас в нашей больнице. Она очень измучена, но с ее мужеством может сравниться лишь ее чистота. Ах, как вы, должно быть, счастливы, что можете приблизиться к ней! Какое счастье… Как был счастлив я… Только подумать… Она дотронулась до меня, она посмотрела мне прямо в глаза! Аньян уклонился от руки Артюса, который пытался его удержать, и убежал, оставив Артюса и Клемана в недоумении. Аньес лежала в бреду, но брат милосердия заверил их, что ей ничто не грозит. Раны, нанесенные хлыстом, вскоре заживут. Только вот мадам де Суарси страдала от лихорадки, и поэтому ей придется провести несколько дней в постели. К тому же ей требовался хороший уход. Клеман и Артюс подошли к Аньес. Порой она издавала нечленораздельные звуки, потом впадала в беспамятство. Неожиданно она открыла глаза и закричала, привстав: – Клеман… нет, никогда! – Я здесь, мадам, рядом с вами. О, мадам, заклинаю вас, поправляйтесь, – рыдал ребенок, прижавшись лбом к руке Аньес. У Артюса сжалось сердце. Он глубоко страдал, но вместе с тем радовался, что мнимый пьяница – поскольку граф не сомневался, что речь шла о госпитальере, – убил Флорена. Правда, порой ему становилось досадно при мысли, что рыцарь опередил его. Каким же глупцом он был! Он пытался вступить в переговоры и подкупить инквизитора в то время, как надо было без малейших угрызений совести вытащить из ножен меч. Он не спас Аньес, он не заслуживал ее благодарности, и за это он был ужасно на себя зол. Граф без колебаний отдал бы за нее свою жизнь. Он сердился на этого рыцаря и одновременно благодарил его от всей души. Несколько часов, только и всего. Другой спаситель опередил его на несколько коротких часов, которые создали иной мир. И этот Аньян, из сбивчивых объяснений которого он не понял ни слова… Аньян, молодой монах, жизнь которого наполнилась светом, потому что Аньес дотронулась до его руки или лица. Артюс вдруг понял. Артюс понял, что эта величественная женщина, которая очаровала его сердце и душу была другой, как ее и охарактеризовал молодой клирик. Он понял, что ум, отвага, красота, которые его прельстили, были всего лишь внешними качествами. Тем не менее, когда он сжимал в своих руках ее длинную тонкую руку, он спрашивал себя: кем она на самом деле была? Все существа, которые сталкивались с ней на своем жизненном пути, попадали во власть любви и преображались: Аньян, Клеман, этот рыцарь и он сам. И это только те, кого он знал. Кем она была в действительности? В последующие дни у людей развязались языки. Артюс и Клеман нашли вполне приличную комнату в таверне «Красная кобыла». Все охотно рассказывали, кричали, прикидывали шансы. Улицы наполнились шумом доверительных признаний и пересудов. К этому шуму примешивались как достоверные, так и невероятные сведения. Чтобы придать своим утверждениям правдоподобие, все ссылались на откровения какого-нибудь родственника, хозяина публичной печи или гончара, живших по соседству. Бесчинства Никола Флорена, его злоупотребления, извращенность и вкус к роскоши теперь стали общеизвестными. Его обвиняли также в колдовстве, в том, что он получил власть, продав душу дьяволу. Его подозревали в отправлении черных месс. Простой люд неистово поносил этого человека, которого сначала боготворил, а затем стал бояться и ненавидеть. Епископат, до сих пор на все закрывавший глаза, был вынужден наконец вмешаться. Было принято решение, что останки инквизитора не будут преданы освященной земле. Это известие успокоило простолюдинов, которые совсем недавно низко кланялись Флорену и делали вид, будто не замечают его темных делишек, а сейчас подняли головы, потому что больше не опасались преследований. Раны Аньес быстро затянулись благодаря хорошему уходу и заботе, которой она была постоянно окружена. Когда через несколько дней после смерти своего палача она встала с кровати и начала ходить, Клеман отругал ее за такую поспешность. Артюс умолял ее беречь себя. – Будет вам, мои милые мсье, я же не стеклянная. Требуется гораздо большее, чтобы покончить с такой женщиной, как я. Если раньше я в этом сомневалась, то теперь совершенно уверена. Отклонив любезное предложение Артюса, который хотел, чтобы она приняла гостеприимство его замка, Аньес решила как можно быстрее вернуться в мануарий, чтобы успокоить своих людей и вновь заняться своими делами, от которых ее насильно оторвали.Замок де Ларне, Перш, декабрь 1304 года
Обезумевшая от страха девушка пятилась назад. Ее щека горела. Ярость Эда заставляла ее опасаться за свою жизнь. Вторая пощечина была такой сильной, что девушка отлетела к косяку двери. Она почувствовала, как из носа потекла кровь, и взмолилась: – Хозяин… я ничего не сделала… мой добрый хозяин. – Прочь с моих глаз, шлюха! Вы все мерзкие шлюхи! – заорал Эд, комкая послание, которое принесла ему служанка. Девушка-подросток выскочила из комнаты и со всех ног помчалась прочь, чтобы расстояние между ней и этим сумасшедшим как можно быстрее увеличилось. Убийственная ярость сотрясала Эда де Ларне. Он уже жалел, что велел девице убраться. Если вы он ее избил, это, возможно, принесло бы ему облегчение. Тупицы, все они тупицы! Эта сволочь Флорен даже не смог довести до конца процесс, за который ему щедро заплатили! Идиот, позволивший проткнуть себя насквозь чурбану, собутыльнику и, возможно, приятелю по оргиям, с которым познакомился в каком-нибудь злачном месте или притоне! А бестолковая племянница, которая только и умеет, что хлопать глазами и играть со своей мишурой, такая неспособная и глупая, что Даже не сумела повторить то, что ей с трудом вбили в голову: Эта оборванка Мабиль, которая направляла его, наживалась на нем как на простаке, вымогала у него, лгала ему… Все его челядинцы, глупые, трусливые, подлые! От неожиданной острой боли ярость Эда утихла. «Аньес… моя великолепная завоевательница. Почему ты меня так ненавидишь? Аньес, я тебя тоже ненавижу. Я непрестанно думаю о тебе. Ты меня преследуешь, ты захватила мои дни, мои ночи. Я хотел твоей смерти. Но что осталось бы мне, если бы ты умерла?» Эд подавил душившие его рыдания и закрыл глаза. «Аньес, я так тебя люблю. Аньес, ты моя гнойная рана и мое единственное лекарство. Я ненавижу тебя, я всем сердцем тебя ненавижу». Он взял кувшин, стоявший на столе, и начал пить из горлышка, даже не подумав налить вино в чашу. Вино текло по его шелковому дублету, расцвеченному тонкими полосками. Вино обожгло желудок, напомнив Эду, что он ничего не ел со вчерашнего дня. Тем не менее, быстро опьянев, Эд вновь обрел уверенность в себе. «Я еще не закончил, моя красавица». Он найдет другой способ. Это непременно надо было сделать. Горечь и желание отказывали ему в облегчении. Это непременно надо было сделать, поскольку ценой этому было его собственное спасение.Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Иоланду де Флери опустили в землю. Каждый день Элевсия ходила на ее могилу, чтобы собраться с мыслями. Слабый огонек надежды утолял печали Иоланды. После нескольких нескончаемых секунд ада нежная Иоланда укрепилась в мысли: ее Тибо не мог умереть. По крайней мере, она так думала. Элевсия де Бофор могла бы поклясться, что Аннелета была права. Вероятно, сестра-лабазница рассказала своей осведомительнице о той ужасной сцене, которая разыгралась в кабинете аббатисы. Должно быть, она заверила ее, что им не удалось заставить ее назвать имя своей осведомительницы. Иоланде ни на мгновение не пришла в голову мысль, что любезная вестница хороших новостей и была убийцей. В душу Иоланды не закралось никаких сомнений, она совершенно не подозревала, что своими откровениями она подписала себе смертный приговор, поскольку убийца не могла подвергать себя опасности разоблачения. Бедный маленький ангел, она соединилась со своим сыном. В тот день, когда комья земли посыпались на гроб Иоланды, Элевсия дала себе клятву. Она найдет ту, что так жестоко лгала Иоланде, и узнает, почему та это делала. Ей казалось, что в противном случае душа ее духовной дочери не упокоится с миром. Ей казалось, что маленький Тибо, которого она никогда не знала, требовал отмщения за себя и свою мать. Вдруг Элевсия поняла, что сейчас важнее всего быть ничтожным исполнителем воли Божьей, гордо держаться и преграждать путь подлости. Осведомительница Иоланды де Флери была убийцей Аделаиды, Гедвиги, Жанны и посланцев Папы. Как ни странно, но ложь, благодаря которой эта проклятая заманила в ловушку сестру-лабазницу, убаюкав Иоланду подлыми россказнями о здоровье ее сына, превратилась в глазах Элевсии в символ смертного греха. Сначала аббатиса хотела устранить опасность, вытолкнуть ее за стены аббатства, а затем, если это возможно, свершить правосудие. Теперь она потребует заплатить за свои прегрешения. По справедливости. Смертью и никак иначе. Когда аббатиса возвращалась с кладбища, под ее ногами скрипел легкий снежок. Прежде, вечность назад, она любила спокойное высокомерие зимы. Раньше она улыбалась снежному молчанию, которое словно поглощало все звуки. Мороз не был столь злым, поскольку с ним можно было бороться, усевшись перед камином или съев полную чашку горячего супа. Но сегодня утром смертоносный холод забрался ей под кожу и больше не покидал ее. Всюду смерть. Смерть текла, просачивалась, всюду втиралась. Ее жизнь превратилась в кладбище, и ничья жизнь не способна что-либо изменить. Она была последней выжившей в некрополе, образовавшемся в ее душе. Несколько крупных снежных хлопьев упали ей на руки и тут же исчезли, растаяв. Элевсия колебалась. Пойти к Аннелете в гербарий? Ей не хватало смелости. Нет, лучше вернуться в свой кабинет. Хотя он и стал ей враждебным после того ужасного разговора с Иоландой, он все же оставался единственным местом, где аббатиса могла предаваться размышлениям. Колокол церкви Пресвятой Богородицы зазвонил в набат. Громкие крики и едкий запах заставили аббатису посмотреть в сторону гостеприимного дома. Она побежала туда. Из одной из бойниц вырывалось пламя. Аббатиса услышала, как надрывно гудел огонь. Пожар! Сестры, руководимые Аннелетой, суетились, таская тяжелые ведра с водой. Вскоре образовалась живая цепь. Ведра, бадьи, другие сосуды переходили и рук в руки. Наконец Аннелета увидела аббатису и закричала, бросившись к ней: – Это хитрый обман, могу в этом поклясться! Она старается отвлечь наше внимание, но я не знаю, что она замышляет. Элевсия мгновенно поняла: тайная библиотека. Она устремилась назад, бежала так быстро, как только могла. Когда Элевсия, толкнув дверь, ворвалась в ледяную комнату, она почувствовала неладное. Ее взгляд упал на толстый ковер, скрывавший короткий проход и дверь, ведущую в тайное помещение. Кто? Кто разгадал ее тайну? Кто сюда входил? Боже мой, запрещенные книги, дневник Эсташа де Риу и Франческо! Они ни за что не должны были попасть во вражеские руки. Значит, она была права. Отравительница стремилась только к одной цели: она хотела добраться до этих произведений. Элевсия лихорадочно искала оружие, неважно какое, любое. Ее взгляд упал на длинный стилет, которым она разрезала бумагу в целях экономии. Она схватила стилет и ринулась к потайной двери. Вдруг она увидела силуэт, движения которого сковывало тяжелое монашеское одеяние. Он повернулся к матери аббатисе. Его лицо было скрыто под опущенным капюшоном, так что узнать его было невозможно. Силуэт бросился к двери, ведущей в коридор. Размахивая стилетом, Элевсия попыталась догнать его. Но он ударил ее локтем прямо в грудь. Задыхавшаяся аббатиса пыталась бороться, вырвать книги, которые ее противник сжимал под мышкой, но напрасно. Элевсия согнулась, чтобы восстановить дыхание. И тут она увидела, как тень исчезла в конце коридора. Всплеск энергии, на которую Элевсия уже перестала рассчитывать, заставил ее резко распрямиться. Аббатиса решительно устремилась на улицу, словно от этого зависела ее жизнь. Она кричала всем встречавшимся ей на пути монахиням, бежавшим, чтобы помочь своим духовным сестрам потушить пожар: – Пусть привратницам прикажут никого не выпускать, ни под каким предлогом! Отсутствие под любой причиной повлечет за собой строгое наказание! Немедленно! Никто не должен уйти из аббатства! Этот приказ! Элевсия бросилась к главным воротам и грубо растормошила привратницу, потребовав, чтобы та немедленно заперла на замок три тяжелых створки. Испуганная привратница тут же выполнила это распоряжение. Элевсия вздохнула, схватившись рукой за бок. Она пыталась унять боль, мучившую ее. Вдруг она нервно рассмеялась, задрожав всем телом, и отрывисто сказала: – Ты не выйдешь отсюда, мерзавка! Что, негодяйка, ты думала, что ты умнее нас? Я поймаю тебя. Я уничтожу тебя так, как этого заслуживает паразит! Повернувшись к побледневшей привратнице, Элевсия приказала: – Я восстанавливаю строгое затворничество. Для всех без исключения. Никто не может выйти без разрешения, написанного мной. Мной, и никем иным. Отныне я требую обыскивать с ног до головы каждую, я повторяю каждую, сестру, у которой возникнет необходимость выйти. Вы должны будете также обыскивать ее вещи и повозку. И никаких исключений. Элевсия резко повернулась и бросилась к своим духовным дочерям, приговаривая: – Рукописи останутся в аббатстве. Спрячь их… спрячь их так надежно, как только сможешь, я все равно их найду! Чтобы завладеть ими, тебе придется переступить через мой труп!Мануарий Суарси-ан-Перш, декабрь 1304 года
Аньес, еще бледная и слабая, внимательно посмотрела на Клемана и спросила: – Что ты такое говоришь? – Мы должны съездить в От-Гравьер, если, конечно, ваше здоровье позволит это сделать. – Мое здоровье позволит, если я так захочу. Прекрати вертеться вокруг меня, как встревоженная наседка. На мгновение лицо подростка озарила счастливая улыбка. – Просто вы мой цыпленочек, мадам. Аньес рассмеялась и ласково потрепала его по голове. Боже мой, как же она его любила! Она ни за что не выжила бы, если бы постоянные мысли о нем не поддерживали бы ее в застенках Алансона. – В самом деле, большая курочка! – Став вновь серьезной, она возразила: – Мы ничего в этом не смыслим, мой Клеман. – Нет, мадам, я все узнал от моего замечательного учителя, доктора Жозефа из Болоньи. – Жозеф, опять Жозеф, – пошутила Аньес. – Знаешь, в конце концов я начну ревновать к этому человеку! – Ах, мадам, если бы вы только были с ним знакомы… Ваше сердце сразу покорилось бы ему. Он знает о стольких вещах! – Черт возьми, какое восторженное описание! Его тебе не хватает, не правда ли? Клеман покраснел и признался: – Нет, ведь я рядом с вами, поскольку именно здесь я хочу остаться навсегда. Аньес почувствовала, как ей трудно сдерживать слезы. Клеман продолжал: – Я боюсь, мадам, я ужасно боюсь вас потерять, расстаться с вами навсегда. Тысячу раз я думал, что умру от горя. И если у меня есть возможность выбора, я хочу остаться здесь, подле вас. Клеман немного поколебался и закончил: – Но вместе с тем учеба у мессира Жозефа не может сравниться ни с какой другой. Мадам, у этого человека свой внутренний мир. Он усвоил столько наук. Разве это не чудесно, разве это не невероятно, что он счел меня достойным своих знаний и ответил на столько моих вопросов? И… он знает. – Что он знает? – спросила Аньес, насторожившись, когда тон Клемана стал слишком серьезным. – Что я не… Ну, что я девочка. – Ты рассказал ему об этом? – Разумеется, нет. Он сам это понял. Он утверждает, что в глазах девочки уже можно разглядеть глаза женщины и что надо быть очень неразумным человеком, чтобы путать их с глазами мужчин. Аньес овладело беспокойство. – Как ты думаешь, он расскажет об этом графу? – Нет. Он преисполнен чувства огромного уважения и признательности к своему сеньору. Но он дал мне слово, что будет хранить эту тайну. Видите ли, мадам, я питаю абсолютное доверие лишь к вашему слову и его слову. Почувствовав облегчение, Аньес повеселела и заметила: – Не говори об этом слишком громко. Ты недооцениваешь людей. – Какая разница, если я ценю вас по заслугам. Вернемся к От-Гравьер, который входит в ваше вдовье наследство. Там одни заросли крапивы. – Да, только она и растет, – вздохнув, согласилась дама де Суарси. – Мы даже не можем пасти там быков. Впрочем, на следующей скотоводческой ярмарке я намерена купить несколько коз. По крайней мере, из их молока можно делать сыр. – Крапива любит железистую почву. Аньес сразу же поняла, куда клонит подросток: – Что ты говоришь? Мэтр Жозеф уверен в этом? – Уверен. Он считает, что столь буйные заросли крапивы свидетельствуют о том, что земля богата железом. Мадам, мы должны это проверить. Нам надо знать, идет ли речь о составе земли, или эти сорняки указывают на наличие залежей железа. – Но как это сделать? Как мы узнаем, что там залегает железо? Клеман вытащил из своей зимней туники нечто вроде темно-серого точильного камня и заявил: – Благодаря вот этому, настоящему чуду и бесценной редкости, которую дал мне мессир Жозеф, чтобы услужить вам. – Но что это за точеный булыжник? – Магнит, мадам. – Магнит? – Очень полезный камень, который привозят к нам из области в Малой Азии под названием Магнезия.[160] – Но для чего он нам понадобится, мой Клеман? – Этот небольшой брусок, который вы видите, обладает способностью притягивать к себе железо или землю, содержащую в себе железо. Они прилипают к нему неизвестно почему. Аньес встала и распорядилась: – Пусть седлают лошадь. Ты поедешь верхом. Да, ты прав. Нам нужно все это проверить немедленно. Клеман тут же исчез. Губы Аньес расплылись в улыбке, и она прошептала: – Ты в моих руках, Эд. Если Богу так угодно и речь действительно идет о железном руднике, ты очень скоро заплатишь мне за то зло, которое причинил. Аньес изгнала образы, которые пытались укорениться в ее сознании. Матильда. Крошечные ноготки младенца, которые впивались в палец Аньес. Ее безумная беготня по коридорам Суарси, ее крики, когда гусь, хлопая крыльями, подходил к ней слишком близко. Не думать больше об этих приятных воспоминаниях, которые ранили ее, как лезвие ножа. Куда исчез этот странный и прекрасный человек, этот рыцарь-госпитальер, который спас ее, поскольку Аньес сомневалась, что смерть Флорена была случайной? Пусть басня о попойке или оргии с плохим концом прельстила тех, кто хотел вконец запятнать и без того скандальную репутацию инквизитора, но Аньес относилась к ней скептически. Часы напролет она думала об их короткой встрече, пытаясь восстановить каждую деталь, вспомнить каждое произнесенное слово. У нее была сбивающая с толку уверенность, что она прикоснулась к тайне, которая затем быстро ускользнула от ее понимания. Элевсия де Бофор. Франческо де Леоне был ее племянником, нет, приемным сыном. Согласится ли аббатиса просветить ее, рассказав о нем? Если Матильда осталась в Клэре, удалось ли дядюшке развратить девочку? Совершила ли она ошибку, она, пытавшаяся спасти свою дочь? Хватит! Матильда. Ее ледяной взгляд, ее пальцы, украшенные кольцами мадам Аполлины. Ее ложь, которая могла отправить мать на костер, ложь, которая могла окончиться для Клемана пытками. Нет. Она не будет плакать. Она была выше слез.Краткое историческое приложение
Абу Бакр Мухаммед ибн Закария ар-Рази (865 – 932) – известен под именем Разес. Персидский философ, алхимик, математик и талантливый врач, которому мы обязаны, в числе прочего, открытием и первым описанием аллергической астмы и сенного насморка. Он первым доказал связь, существующую между сенным насморком и некоторыми цветами. Считается отцом экспериментальной медицины. С успехом делал операции по удалению катаракты.Архимед (287 – 212 гг. до н. э.) – гениальный древнегреческий математик и изобретатель. Мы обязаны ему многочисленными открытиями в области математики, в частности открытием знаменитого закона, который носит его имя. Он также вычислил первое довольно точное значение числа я, был убежденным сторонником экспериментов и доказательств. Ему приписывают авторство многих изобретений, в частности катапульты, бесконечного винта, системы рычагов и блоков и зубчатого колеса. На проведенном недавно аукционе один из палимпсестов был оценен в два миллиона долларов. Предполагается, что в тексте, первоначально написанном на этом палимпсесте, говорилось о достижениях Архимеда в области вычисления бесконечно малых значений. Впоследствии этот документ использовали, чтобы записать на нем библейский текст. А ведь нам удалось вычислить дифференциалы только через две тысячи лет! Ходят слухи, что счастливым покупателем этого палимпсеста был Билл Гейтс. Документ был передан в Художественный музей Уолтерса в Балтиморе, где он стал объектом самых современных исследований.
Бенедикт XI (Никола Бокказини, 1240–1304) – Папа Римский. О нем известно довольно мало. Выходец из очень бедной семьи, этот доминиканец до самой смерти вел аскетический образ жизни. Один из немногих дошедших до нас исторических анекдотов красноречиво свидетельствует об этом: когда после избрания Бенедикта его мать захотела с ним встретиться, она надела свой лучший наряд. Но сын вежливо объяснил матери, что ее платье слишком богатое и он хочет, чтобы она и впредь оставалась скромной женщиной. Наделенный покладистым характером, этот бывший остийский епископ стремился смягчить разногласия, существовавшие между церковью и Филиппом IV Красивым, но вместе с тем проявил суровость по отношению к Гийому де Ногаре и братьям Колонна. Он скончался после восьми месяцев понтификата 7 июля 1304, отравленный фигами, или инжиром.
Бонифаций VIII (Бенедетто Каэтани, около 1235–1303) – кардинал и легат во Франции, затем Папа. Он был яростным защитником папской теократии, которая противостояла современному праву государства. Открытая вражда с Филиппом IV Красивым восходит к 1296 году. Страсти не утихли даже после смерти Папы, поскольку Франция предпринимала попытки начать процесс против его памяти.
Валуа Карл де(1270 – 1325) – единственный брат Филиппа IV Красивого. На протяжении всей своей жизни король испытывал к брату слепую привязанность и поручал ему миссии, которые, несомненно, были ему не по плечу. Карл де Валуа – отец, сын, брат, дядя и зять королей и королев – всю жизнь мечтал о короне, которую так и не получил.
Вальденсы, или лионские бедняки-братья, – одна из самых крупных ересей той эпохи, причем не только по своему распространению, но и по влиянию на население. Движение, ратовавшее за бедность, евангельскую чистоту и всеобщее равенство, было создано около 1170 года Пьером Вальдесом (Вальдо), богатым лионским купцом, который пожертвовал ему все свое имущество. Успех вальденсов, как и катаров, был во многом связан с недовольством церковными кругами. Сначала это движение выражало интересы зажиточных слоев общества, стремившихся к чистоте. У вальденсов в сан могли быть рукоположены и женщины. Вскоре инквизиция стала преследовать приверженцев вальденсов, поскольку они отрицали все, что расходилось со строгим прочтением Евангелий. Одни вальденсы примкнули к движению «католических бедняков», другие разбрелись по всей Европе, создав отдельные сообщества, которые существуют и в наши дни.
Вильнев Арно де, или Арнольдус де Вилланова (около 1230–1311), – уроженец Монпелье. Вероятно, один из самых авторитетных ученых XIII и XIV веков. Предполагают, что образование он получил в Испании, у братьев-доминиканцев. Этот врач, астролог, алхимик и юрист, наделенный весьма сильным характером, затевал многочисленные диспуты и без колебаний открыто нападал на нищенствующие ордена. Он не попал в руки инквизиции только потому, что лечил Бонифация VIII, который простил ему все допущенные «ошибки». Он лечил понтифика до самой его смерти, а затем был врачом Бенедикта XI и Климента V При этом он выполнял тайные поручения короля Арагона.
Гален Клавдий (131 – 201) – грек, родившийся в Малой Азии, один из самых крупных ученых античности. Будучи врачом в школе гладиаторов, он имел в своем распоряжении «добровольцев», чтобы совершенствовать свои знания в хирургии. Позднее он стал врачом Марка Аврелия и лечил двух его сыновей, Коммода и Секста. Гален был автором многих открытий. Он описал прохождение нервного импульса и его роль в мышечной деятельности, циркуляцию крови по венам и артериям, доказав, что артерии переносят кровь, а не воздух, как это считалось раньше. Он также доказал, что именно мозг контролирует голос.
Го Бертран де (около 1270–1314) – сначала был каноником и советником короля Англии. Выдающиеся способности дипломата помогли ему не поссориться с Филиппом IV Красивым во время войны между Англией и Францией. В 1299 году он стал архиепископом Бордо, а затем, в 1305 году, преемником Бенедикта XI, взяв имя Климента V. Плохо ориентируясь в ситуации, сложившейся в Италии, он в 1309 году обосновался в Авиньоне. Не согласившись с Филиппом IV Красивым в делах, сделавших их противниками, а именно в том, что касалось посмертного процесса Бонифация VIII и уничтожения ордена Храма, тамплиеров, он занял выжидательную позицию. Ему удалось усмирить гнев монарха в первом деле и практически устраниться от второго.
Делисье Бернар – францисканец, яростный противник доминиканцев и их инквизиции. Независимость его ума помогла Делисье завоевать успех среди народа. Он призвал народ выйти на улицу в знак протеста, когда Филипп Красивый приехал в Каркассон в августе 1303 года. Дело дошло до того, что Бернар Делисье принял участие в заговоре, ставившим перед собой цель поднять Лангедок на борьбу с Филиппом IV Красивым. Делисье несколько раз арестовывали. Он окончил свои дни в тюрьме в 1320 году.
Занятие – см. Проституция.
Инквизиторская процедура – описание процесса, а также вопросы доктрины, которые задавали обвиняемым, были позаимствованы автором из «Руководства инквизитора» Николау Эймериха и Франсиско Пена.
Каркассон – в августе 1303 года во время посещения города Филиппом Красивым население Каркассона взбунтовалось против инквизиции. Горожанам оказывал помощь Бернар Делисье, францисканец (см. выше).
Катары – от katharôs, «чистый» по-гречески. Зародившись в Болгарии в конце X века, религиозное движение катаров получило широкое распространение благодаря проповедям священника Богомила. «Высшая ересь» подвергалась преследованию инквизицией. В общих чертах движение катаров представляет собой одну из форм дуализма. Необратимому Злу (материя, мир) катары противопоставляют Бога и Добро (совершенство). Они осуждали общество, семью, духовенство, а также не признавали евхаристию и причащение святых. Первые катары отрицали человеческую ипостась Христа, видя в нем ангела, посланного на землю, хотя и не были в этом абсолютно уверены. Сущность движения катаров сводится к требованию чистоты, которое распространяется также на отказ от мяса и половое воздержание. К движению катаров примкнули в основном духовно неудовлетворенные представители зажиточных и образованных кругов общества. Католическая церковь развернула борьбу против катаров в 1120 году, осудив их движение на соборе 1119 года, проходившем в Тулузе. Начались Крестовые походы против альбигойцев. С1209 по 1215 год крестоносцев возглавлял Симон де Монфор. Эта кровопролитная война, поддерживаемая инквизицией, закончилась лишь с падением последних крепостей катаров, в частности Монсегюра в 1244 году. От этого поражения движение катаров так и не сумело оправиться, тем более что идеал чистоты стали проповедовать нищенствующие ордена. Окончательно движение катаров прекратило свое существование около 1270 года.
Клэре – женское аббатство в департаменте Орн. Аббатство расположено на опушке леса Клэре, на территории прихода Маля. Строительство, решение о котором было принято в июне 1204 года Жоффруа III, графом Першским, и его супругой Матильдой Брауншвейгской, сестрой императора Оттона IV, продолжалось семь лет и закончилось в 1212 году. В церемонии освящения аббатства принимал участие командор ордена тамплиеров Гийом д'Арвиль, о котором мало что известно. Аббатство предназначалось для монахинь-затворниц ордена цистерцианцев, бернардинок, которые имели право разрешать уголовные и гражданские дела, опекунские дела и дела об обидах и выносить смертные приговоры.
Кретьен де Труа (около 1140 – около 1190) – об этом уроженце Шампани нам известно немногое. Любитель путешествий, возможно, клирик, он страстно увлекался поэзией Овидия. Он перевел «Искусство любви» римского поэта и возродил куртуазный роман, которому придал психологическую глубину. Играя символами и искусно плетя интриги, он порой обращался к чудесам, как в «Клижесе». Мы обязаны ему следующими поэмами: «Ланселот, или Рыцарь с телегой», «Ивэйн, или Рыцарь со львом», «Эрек и Энида» и, разумеется, самой известной – «Персеваль, или Сказание о Граале».
Лэ Марии Французской – двенадцать лэ, обычно приписываемых некой Марие, уроженке Франции, жившей при английском дворе. Некоторые историки полагают, что речь идет о дочери Людовика VII или графа Меланского. Лэ написаны до 1167 года, а басни – около 1180 года. Перу Марии Французской принадлежит также роман «Чистилище святого Патрика».
Ногаре Гийом де (около 1270–1313) – доктор гражданского права. Преподавал в Монпелье, затем в 1295 году вошел в состав Совета Филиппа IV Красивого. Круг его обязанностей быстро расширился. Сначала более или менее тайно он принимал участие во всех крупных религиозных делах, сотрясавших Францию, в частности в судебном процессе Бернара Сэссе. Затем Ногаре вышел из тени и сыграл решающую роль в деле тамплиеров и в борьбе против Бонифация VIII. Ногаре был человеком большого ума и незыблемой веры. Он ставил перед собой цель спасти одновременно и Францию и Церковь. Он стал канцлером короля, но затем уступил эту должность Ангеррану де Мариньи. Однако в 1311 году печать вновь вернулась к нему.
Орден Святого Иоанна Иерусалимского – Гостеприимный орден, госпитальеры, признан в 1123 году папой Паскалем II. В отличие от других рыцарских орденов, госпитальеры изначально ставили перед собой благотворительные цели. Лишь позднее орден взял на себя и военную функцию. После падения Акры госпитальеры нашли прибежище на Кипре, затем на Родосе и наконец на Мальте. Во главе ордена стоял Великий магистр, который избирался генеральным капитулом, состоявшим из высших должностных лиц. Орден подразделялся на «языки», или провинции, которыми в свою очередь управляли великие приоры. В отличие от ордена тамплиеров и несмотря на свое богатство, госпитальеры всегда пользовались благожелательной поддержкой общества. Вероятно, это было связано с благотворительной миссией ордена и смирением его членов.
Пена Франсиско. Используя приведенную в тексте цитату, автор прибег к сознательному анахронизму. Франсиско Пена был доктором канонического права, которому в XVI веке святой престол поручил переиздать «Руководство инквизитора» Николау Эймериха.
Покушение в Ананьи, сентябрь 1301 года. Бонифаций VIII, оказывавший сопротивление власти Филиппа Красивого, «был задержан» в Ананьи. Гийом де Ногаре, приехавший, чтобы известить Папу о вызове на собор, который должен был состояться в Лионе, случайно оказался на площади. Эти насильственные действия были обусловлены намерением Филиппа Красивого обложить французское духовенство десятиной, поскольку для продолжения войны с Англией требовались деньги. Некоторые историки, напротив, полагают, что, по приказу Филиппа Красивого, именно Гийом де Ногаре, прибегнувший к помощи братьев Колонна, питавших личную ненависть к понтифику, был организатором заточения Бонифация VIII в его покоях.
Проституция – к ней относились снисходительно, если она оставалась в границах, определенных властями и религией. Доктора канонического права XIII века считали, что это «занятие» не было аморальным при соблюдении определенных условий, в частности, если женщина «занимается ею по нужде и не находит в ней никакого удовольствия». Вгородах «девицы радости» были обязаны жить в определенных кварталах, их одежда должна была сразу показывать, чем они занимались. Отношение к проституции может показаться нам противоречивым. Но это ошибочное мнение, поскольку необходимо принимать во внимание умонастроение того времени. Речь идет об обществе, в котором мужчины обладали несравненно большими правами, чем женщины. Однако это общество понимало, хотя и не утверждало открыто, что проститутками становились только те, у кого не было других возможностей. «Девиц» рассматривали как грешниц, но вместе с тем Церковь заявляла, что женитьба на них была достойным поступком, и оказывала доверие мужчинам, которые брали их в жены. Если проститутки выходили замуж или поступали в монастырь, они считались «очищенными» от грехов своей прежней жизни. Изнасилование проститутки считалось преступлением и сурово наказывалось.
Религиозные нищенствующие ордена возникли в XII–XIII веках. Их отличительной чертой был, в числе прочего, отказ от земельной собственности. Проповедуя возвращение к евангельской бедности, они очень быстро стали пользоваться в обществе огромным успехом, что привело к вражде с белым духовенством, которое считало, что в значительной степени лишилось пожертвований мирян. Эти распри послужили причиной упразднения в 1274 года на Лионском соборе нищенствующих орденов, за исключением кармелитов, отшельников Святого Августина, доминиканцев и францисканцев. В 1294 году к нищенским орденам добавились целестины.
Роберт Болгарин – болгарин по происхождению, он увлекся учением катаров, получил высшую степень посвящения и стал доктором этой веры. Затем перешел в католичество и вступил в орден доминиканцев. Папа Григорий IX (1227–1241) увидел в нем «разоблачителя» еретиков, ниспосланного провидением. На самом деле представляется вероятным, что Роберт Болгарин специально устраивал ловушки самым ученым из катаров. Едва он был назначен в 1235 году генеральным инквизитором в Шарите-сюр-Луар, после убийства своего предшественника Конрада Марбургского, как начались зверства, леденящие душу пытки. Повергнутые в ужас дошедшими до них рассказами о расправах, архиепископы Санса и Реймса, а также несколько других прелатов выразили свой протест. Первое расследование, выявившее в феврале 1234 года бесчинства Роберта Болгарина, привело к отстранению его от должности. Тем не менее в августе следующего года он вновь снискал милость Папы и вскоре возобновил свои «развлечения». И только через несколько лет он был окончательно отстранен от власти и в 1241 году был приговорен к пожизненному заключению.
«Роман о Розе» – длинная аллегорическая поэма, принадлежащая перу двух авторов: Гийома де Лорриса, писавшего ее в 1230 году, и Жана де Мена, создавшего продолжение между 1270 и 1280 годами. Первая часть поэмы воспевает куртуазную любовь. Напротив, часть Жана де Мена гораздо более ироничная, если не сказать циничная, женоненавистническая и содержит плохо скрытые непристойности. Жан де Мен без колебаний нападает на нищенствующие ордена, говоря устами монаха по имени Притворство.
Средневековая инквизиция – следует отличать средневековую инквизицию от испанской святой инквизиции, прибегавшей к свирепым и беспощадным расправам, не имевшим ничего общего с тем, что происходило во Франции. Только за период, когда великим инквизитором был Томас Торквемада, в Испании погибло более двух тысяч человек. Сначала средневековая инквизиция находилась в ведении епископата. Папа Иннокентий III (1160–1216) установил правила инквизиторской процедуры, издав в 1199 году буллу Vergentis in senium. Намерения Папы не сводились к истреблению отдельных индивидуумов. Доказательством этому служат решения IV Латеранского собора, состоявшегося за год до смерти Папы. Эти решения запрещали применять ордалии к инакомыслящим. Понтифик стремился к искоренению ересей, угрожавших основам Церкви, поскольку они ставили под сомнения в том числе и бедность Христа как жизненную модель, впрочем, довольно сомнительную, если судить по огромным наделам плодородных земель, принадлежавших монастырям. Затем она превратилась в папскую инквизицию. Это произошло при Григории IX, отдавшем право вершить инквизиторский суд доминиканцам и в меньшей степени францисканцам. Папой двигали в основном политические мотивы, поскольку, сосредоточив этот институт в одних руках, он тем самым усилил его власть. Папа должен был во что бы то ни стало помешать императору Фридриху II встать на тот же самый путь по мотивам, которые не имели ничего общего с духовностью. Последний этап преодолел Иннокентий IV, разрешив своей буллой Ad Extirpanda, изданной 15 мая 1252 года, применять пытки. Впоследствии преследование колдовства было уподоблено охоте на еретиков. В наши дни преувеличивают реальное влияние инквизиции во Франции. Необходимо принимать во внимание тот факт, что на территории Французского королевства, находилось сравнительно мало инквизиторов, следовательно, инквизиция не смогла бы обрести такую значимость, если бы не пользовалась поддержкой светских властей и если бы к ней не поступали многочисленные доносы. Таким образом, благодаря возможности прощать друг другу любые прегрешения, некоторые инквизиторы оказывались виновными в таких чудовищных преступлениях, что они порой служили причиной для бунтов или резких выступлений возмущенных прелатов. В марте 2000 года, то есть примерно через восемь столетий после возникновения инквизиции, Папа Иоанн Павел II попросил у Бога прощения за преступления и ужасы, в которых она повинна.
Сэссе Бернар (? – 1311) – первый епископ Памье. Он поступил весьма неразумно, поставив под сомнение законное право Филиппа Красивого на престол Франции, дойдя даже до того, что начал плести заговор и предлагать графу де Фуа установить свой суверенитет над Лангедоком. Сэссе отказался предстать перед королем. Он рассчитывал прибыть к Бонифацию VIII, чтобы изложить свои жалобы. В конце концов Филипп Красивый отправил Сэссе в изгнание, и тот закончил свои дни в Риме.
Тамплиеры – рыцари Христа и Храма Соломона. Орден был создан в Иерусалиме около 1118 года рыцарем Гуго де Пей-ном и несколькими другими рыцарями из Шампани и Бургундии. Окончательно он был признан на соборе в Труа в 1128 году. В основу его устава было положено учение святого Бернара, а возможно, устав был написан самим святым. Орден возглавлял Великий магистр, которому помогали несколько высокопоставленных лиц. Владения ордена были весьма обширными (3 450 замков, крепостей и домов в 1257 году). Наладив систему денежных переводов вплоть до Святой земли, в XIII веке орден превратился в одного из главных банкиров христианского мира. После падения Акры – события, ставшего, по сути, для него роковым, – большинство тамплиеров вернулись на Запад. В конце концов общественное мнение стало относиться к членам ордена как к ростовщикам и лодырям. Об этом свидетельствуют многочисленные выражения, дошедшие до наших дней. Так, слова «я иду в Храм» произносили, отправляясь в бордель. Великий магистр Жак де Моле отказался объединить свой орден с орденом госпитальеров. Тринадцатого октября 1307 года начались аресты тамплиеров. Затем последовали расследования, признания (если говорить о Жаке де Моле, то некоторые историки полагают, что его признания были получены под пытками), отказы от ранее данных показаний. Двадцать второго марта 1312 года Климент V, боявшийся Филиппа IV Красивого по другим причинам, упразднил орден тамплиеров. Жак де Моле отказался от своих признаний и вместе с другими тамплиерами 18 марта 1314 года взошел на костер. Представляется доказанным, что расходы, понесенные в связи с проведением следствия по делу тамплиеров, процесс конфискации их имущества и его распределения среди госпитальеров намного превысили доходы, которые получил Филипп IV Красивый от уничтожения ордена.
Филипп IV Красивый (1268–1314) – сын Филиппа III Храброго и Изабеллы Арагонской. От Жанны Наваррской у него было три сына, будущие короли: Людовик X Сварливый, Филипп V Длинный и Карл IV Красивый, а также дочь Изабелла, ставшая супругой Эдуарда II Английского. Отважный, талантливый военачальник, Филипп Красивый отличался несгибаемостью и суровостью. Однако следует смягчить краски, поскольку современные историки описывают Филиппа Красивого как человека, которым манипулировали его советники, «осыпавшие короля лестью и отстранявшие его от дел». История главным образом сохранила свидетельства о его роли в деле тамплиеров, однако Филипп Красивый был прежде всего королем-реформатором, поставившим перед собой цель покончить с вмешательством Папы в политику Французского королевства.
Глоссарий
Литургические службы – богослужение, цикл которого был разработан в VI веке на основе устава святого Бенедикта, включает в себя – помимо мессы, которая не является его составной частью в строгом смысле слова, – несколько ежедневных служб. Эти службы определяют распорядок дня. Так, монахи и монахини-затворницы не могут ужинать до наступления ночи, то есть до вечерни. До XI века богослужение длилось практически целый день, но затем продолжительность служб была сокращена, чтобы монахи и монахини-затворницы могли уделять больше времени чтению и ручному труду. Утреня, или заутреня – около 2.30 или 3 часов. Лауды – до рассвета, между 5 и 6 часами. Первый час – около половины восьмого, первая дневная служба, сразу же после восхода солнца, непосредственно перед мессой. Третий час – около 9 часов. Шестой час – около полудня. Девятый час – между 14 и 15 часами. Вечерня – около 16.30–17 часов, при заходе солнца. Повечерие – после вечерни, последняя вечерняя служба, около 18–20 часов.Меры длины
Перевод в современные меры сделан довольно произвольно, поскольку значение мер варьировалось в зависимости от того или иного района. Лье – примерно 4 километра. Туаз – от 4,5 метров до 7 метров. Локоть – 1,2 метра в Париже и 0,7 метра в Аррасе. Фут – примерно соответствует 34–35 сантиметрам.Меры веса
Эти меры, изначально установленные для определения веса золота и серебра, а следовательно, и веса монет, также варьировались в зависимости от времени, районов и даже от взвешиваемых продуктов. Так, мясной фунт не был равен аптекарскому фунту. Фунт варьировался от 306 до 734 грамм. Мы взяли за основу вес марки Труа (тройской марки), которая ходила в Париже и в центральных районах королевства. Фунт, то есть две марки – 489,5 г. Марка – 244,75 г. Унция – 30,60 г. Гросс – 3,82 г. Стерлинг – 1,53 г. Полденье – 0,764 г. Денье – 1,27 г. Гран – 0,053 г.Меры емкости
Пинта – чуть меньше литра. Горшок – две пинты, чуть меньше двух литров. Сетье – восемь пинт.Денежные единицы
Речь идет о настоящей головоломке, поскольку при каждом царствовании вводилась новая денежная единица. Впрочем, порой в том или ином районе ходили собственные деньги. В зависимости от эпохи деньги оценивались – или не оценивались – в соответствии со своим реальным весом в золотом или серебряном эквиваленте, а также ревальвировались или девальвировались. Ливр – расчетная единица. Один ливр соответствовал 29 су или 240 серебряных денье, а также 2 золотым королевским пти (королевские деньги при Филиппе IV Красивом). Турский денье (денье Тура) – постепенно вытеснил парижский денье. Двенадцать турских денье равнялись одному су.Библиография
Blond Georges et Germaine, Histoire pittoresque de notre alimentation, Paris, Fayard, 1960. Bruneton Jean, Pharmacognosie, phytochimie et plantes médicinales, Paris-Londres-New York, Тех et Doclavoisier, 1993. Burguère André, Klapisch-Zuber Christiane, Segalen Martine, Zonabend Françoise, Histoire de la famille, tome II, Les Temps mé diévaux, Orient et Occident, Paris, Le Livre de poche, 1994. Cahen Claude, Orient et Occident au temps des croisades, Paris, Aubier, 1983. Chevaliers du Christ, les ordres religieux au Moyen áge, Xle – XVIe siècle, Paris, Seuil, 2002. Delort Robert, La Vie au Moyen áge, Paris, Seuil, 1982. Demurger Alain, Chevaliers du Christ, les ordres religieux au Moyen áge, Xle – XVIe siècle, Paris, Seuil, 2002. Demurger Alain, Vie et Mort de l'ordre du Temple, Paris, Seuil, 1989. Duby Georges, Le Moyen áge, Paris, Hachette Littératures, 1998. Duby Georges, Le Moyen áge, Paris, Hachette Littératures, 1998. Eco Umberto, Art et Beauté dans l'esthétique médiévale, Paris, Grasset, 1997. Eymerick Nicolau et Pena Francisco, Le Manuel des inquisiteurs, Paris, albin Michel, 2001. Favier Jean, Histoire de France, tome II: Le Temps des principautés, Paris, le Livre de poche, 1992. Flori Jean, Les Croisades, Paris, Jean-Paul Gisserot, 2001. Fournier Sylvie, Brève histoire du parchemin et de l'enluminure, Gavaudin, Fragile, 1995. Gauvard Claude, La France au Moyen áge du V au XV siècle, Paris, PUF, 2004. Gauvard Claude, Libera Alain de, Zink Michel (sous la direction de), Dictionnaire du Moyen áge, Paris, PUF, 2002. Jerphagnon Lucien, Histoire de la pensée; Antiquité et Moyen áge, Paris, Le Livre de poche, 1993. Libera Alain de, Penser au Moyen áge, Paris, Seuil, 1991. Pernoud Régine, Gimpel Jean, Delatouche Raymond, Le Moyen áge pour quoi faire? Paris, Stock, 1986. Pernoud Régine, La Femme au temps des cathédrales, Paris, Stock, 2001. Pernoud Régine, Four en finir avec le Moyen áge, Paris, Seuil, 1979. Pour en finir avec le Moyen áge, Paris, Seuil, 1979. Redon Odile, Sabban Françoise, Serventi Silvano, La Gastronomie au Moyen áge, Paris, Stock, 1991. Richard Jean, Histoire des croisades, Paris, Fayard, 1996. Siguret Philippe, Histoire du Perche, Céton, éed. Fédération des amis du Perche, 2000. Vincent Catherine, Introduction á l'histoire de l'Occident médiéval, Paris, le Livre de poche, 1995.Андреа Жапп Ледяная кровь
Предисловие
Эпоха средневековой Франции времен правления Филиппа IV Красивого воскрешена на страницах этой книги во всем своем ужасе и красоте. Это время куртуазных вельмож и грозных костров инквизиции, борьбы власти церковной и светской, крестовых походов, и папских тиар… Но одного имени автора на обложке достаточно, чтобы понять, что перед нами не просто исторический роман. Андреа Жапп трудно найти равных в жанре детектива, ее имя на обложке обещает невероятные хитросплетения сюжета, помещенные в исторический антураж Средневековья, подернутого дымкой притч и легенд. И нужно быть Шерлоком Холмсом или Эркюлем Пуаро, чтобы предугадать развязку. Сегодня Андреа Жапп – одна из самых продаваемых европейских авторов, а ведь она скрывала свой талант рассказчика много лет. Токсиколог по образованию, она на протяжении восемнадцати лет была руководителем научно-исследовательской лаборатории и к литературе имела отношение лишь как читатель вплоть до начала 90-х, когда, едва увидев свет, ее дебютный роман в 1991 году принес ей литературную премию Международного фестиваля детективов во французском городе Коньяк (Prix Cognac). Книга «Ледяная кровь. Полное затмение» – творение уже зрелого мастера: она разбита на два романа лишь затем, чтобы читатель мог перевести дух… Нет, не переживая вместе с главной героиней Аньес де Суарси, а выживая вместе с этим лучиком света в «темном времени», когда жизнь людей регламентировалась папскими предписаниями и несогласных сжигали заживо. Аньес чудом избегает подобной участи. Инквизитор, который вел грешницу к раскаянию в делах своих, странным образом погибает» сохранив Аньес жизнь и оставив глубокие шрамы от пыток. С Аньес снимают обвинения в колдовстве, но сказать, что опасность миновала, значило бы погрешить против истины. А тем временем из тайного хранилища в аббатстве Клэре пропадают манускрипты по некромантии и астрологии. Их обнародование привело бы на костер все аббатство, поэтому аббатиса Элевсия де Бофор приказывает закрыть ворота и никого не впускать и не выпускать. Похититель оказывается еще и душегубом: пока его ищут, происходит целая серия убийств монахинь, апогеем же бесчинства становится отравление самой аббатисы. В предсмертном письме своему племяннику госпитальеру Франческо де Леоне она рассказывает о том, что Аньес де Суарси – его кузина, а значит, в древнем пророчестве из секретной библиотеки аббатства речь идет именно о ней. Но ни аббатиса, ни Франческо не учли еще одну фигуру, а точнее изящную фигурку, которой на самом деле суждено увековечить другую кровь… Удастся ли героям избежать ловушек могущественного фанатика Церкви камерленго Бенедетти и отомстить за павших друзей? Ответ ищите в книге, где ненависть и любовь, кровь и слезы радости сменяют друг друга с безумной скоростью!* * *
Нежность, смех, чтение. А потом подлинная, Столь ценная печаль, Когда ты ушла. Покойся с миром, моя Жанин. Твой Ганеша[161] улыбается На моем рабочем столе.
Ватиканский дворец, Рим, декабрь 1304 года
Тонкие губы камерленго Гонория Бенедетти побелели от ярости. У него возникло неприятное чувство, как будто его плоть постепенно сжимается, а кожа на скулах прилипла к черепу. Он поднес руку к лицу, понюхал ее, проверяя, действительно ли от него исходит запах гниения, или это только тревожная иллюзия. Но уловил он лишь легкие флюиды розовой воды, которой обычно умывался по утрам. Они, его враги, одержали победу. Они вновь одержали победу. У камерленго закружилась голова, и он закрыл глаза. Как это могло произойти? Бенедетти не побоялся задать себе ужасный вопрос: не ошибся ли он с самого начала? Хранит ли Бог его врагов, чтобы показать, до какой степени камерленго упорствует в своей ошибке в течение многих лет? Или же он должен винить только себя за то, что набрал бездарных головорезов? Твердое убеждение, что человеческое существо не в силах самостоятельно управлять своими действиями и зло непременно восторжествует в нем, если не принуждать его к добру, – поскольку творить зло проще и, главное, легче, – взяло верх над душевными метаниями камерленго. Какую глупость он сделал, завербовав того, кого он называл призраком! Что касается сеньора инквизитора, этого Никола Флорена, убитого в Алансоне, о чем камерленго только что сообщили, Од де Нейра была тысячу раз права. Каким безумием было доверить выполнение этой затеи злобе, желанию, вкусу крови! Вопреки всем ожиданиям, Аньес де Суарси вырвалась из когтей инквизиции*.[162] Бенедетти воткнул лезвие стилета, которым вскрывал корреспонденцию, в ценное дерево своего великолепного стола. Горячо. Он будет горячо молиться, чтобы душа Флорена была навсегда проклята. Впрочем, душа инквизитора не нуждалась в помощи камерленго, чтобы обречь себя на бесконечные муки проклятых. Камерленго резко дернул за позументный шнурок, соединявший его с крохотным кабинетом секретаря. В проеме высокой двери тут же появился человек. – Монсеньор, – прошептал он елейным голосом, низко наклонив голову. – Моя посетительница, дама, она пришла? – Только что, монсеньор. – Прекрасно! И чего вы ждете? – рассердился камерленго. Секретарю с трудом удалось скрыть удивление. Ему еще не приходилось быть свидетелем вспышек гнева у прелата. Невозмутимость, даже доброжелательность камерленго делали его еще более грозным в глазах всего окружения. Все знали, что топор может обрушиться в любую минуту, пусть этого ничто не предвещает. Бенедетти внушал страх. Впрочем, он этим пользовался в свое удовольствие. Элегантная особа, белокурая, как облачко, одетая во все карминовое, впорхнула, принеся с собой пьянящий аромат мускуса и ириса. Бенедетти, почувствовав облегчение, расслабился. – Од, моя дражайшая красавица… Какое утешение в моих несчастьях… Но устраивайтесь поудобней, прошу вас. Не согласитесь ли выпить стаканчик сладкого вина, которое делают на склонах Везувия? Од подняла полупрозрачную вуаль, скрывавшую ее лицо, столь очаровательное, что оно невольно притягивало взоры. – Ах… «Христовы слезы»,[163] мне расхваливали их сладость. – Lacrima Christi, в самом деле. – Предложенные вами… Столь же действенные, как и отпущение грехов, – пошутила Од. Камерленго улыбнулся, разливая вино в высокие бокалы. Порой у него возникало ощущение, что он так хорошо знает эту женщину, словно однажды она родилась из его головы. И только одна черта характера этого совершенства с изумрудными глазами, с маленьким насмешливым ртом, наделенного железной логикой, оставалась для него загадкой. Неужели она действительно не испытывает никакого раскаяния или скрывает кровавые угрызения совести за невозмутимостью? Бенедетти так долго жил с этой язвой, что ему казалось, что нет более верной и более недоброжелательной спутницы. Язва давала знать о себе по ночам и безостановочно мучила его. Она кровоточила, она терзала его душу до самого утра. Они молча сделали несколько глотков, потом Гонорий Бенедетти признался: – Вы оказались правы, моя дорогая. Мадам де Суарси на свободе, с нее сняты все подозрения. – Значит, ваши приспешники потерпели поражение. – Один из них поплатился своей жизнью. Главный инквизитор. – Это хорошо, тем более что я не испытываю особой симпатии к таким людям, – беззаботно откликнулась Од. – Они приносят нам пользу. – Как все исполнители подлых дел. Хотя их надо тщательно выбирать. Так, значит, незаконнорожденная дворяночка утерла нос самым могущественным особам Церкви? Черт возьми, вот это я называю смертельным оскорблением! – Если бы речь шла просто о моей уязвленной гордости, я стерпел бы. К сожалению, я вижу в этом подрывную работу моих врагов, доказательство их растущего могущества. Я вижу также, что мадам де Суарси имеет в их глазах колоссальное значение. Она должна умереть как можно скорее… Эта женщина должна умереть… Что касается того постреленка, который следует за ней как тень, мои шпионы недавно донесли о его безоговорочной преданности своей даме. – Камерленго закрыл глаза и прошептал: – Да благословит их Господь и да примет их в свои объятия. – Она… Они умрут, я об этом позабочусь. Од де Нейра выдержала паузу, неспешно смакуя содержимое своего бокала. В первый раз она позволила своим чувствам вырваться наружу.Рано осиротевшую девочку отдали на воспитание дядюшке. Старый мерзавец быстро начал путать родственное милосердие с правом первой ночи. Правда, продолжалось это недолго, поскольку беззубое чудовище умерло после агонии, которая, как и надеялась его протеже, была бесконечной и мучительной. Она преданно и нежно обтирала влажным полотенцем потный лоб дядюшки. Влажным и пропитанным ядом. В двенадцать лет Од осознала, что ее одаренность во всем, что касается ядов, убийств и лжи, может сравниться лишь с ее красотой и умом. Она быстро научилась извлекать выгоду из своей обворожительной внешности и получила два значительных наследства, в том числе и после старого мужа. Но она совершила ошибку, пощадив юного племянника этого старика. Мальчишка был столь очаровательным и таким веселым, что у Од не хватило решимости отправить его в могилу. Досадная оплошность, едва не ставшая роковой. Юный наследник по побочной линии оказался не менее алчным, чем молодая вдова его дядюшки. Он поставил в известность людей бальи Осера, поведав им о несчастьях, обрушившихся на всех родственников мадам де Нейра, и потребовал лишить ее наследства. Од арестовали. Сотни подлых крыс тут же вышли из подземелья, чтобы осыпать ее обвинениями и уличить во всех смертных грехах: от отравления до общения с демонами. Гонорий Бенедетти, в ту пору обыкновенный епископ, оказался в городе, когда шел процесс. Изумительная красота мадам де Нейра потрясла его. Он добился права присутствовать на допросах. Од с маниакальной точностью сохранила воспоминания об их первой встрече под сводами замка Осера. Несмотря на прохладу, источаемую толстыми каменными стенами, Бенедетти потел и обмахивался чудесным веером с прозрачными перламутровыми пластинками. Подарком дамы де Жюмьеж, как он пояснил, заговорщически улыбаясь. Прелат, стоявший перед Од, был элегантным, почти хрупким, невысокого роста. У него были изящные, ухоженные тонкие руки – женские руки. Он посоветовал ей признаться, исповедоваться в своих грехах. Тем не менее что-то в его поведении подсказало молодой женщине, что надо сделать прямо противоположное. Од ни в чем не призналась, заведя своих судей в лабиринт неправдоподобия и обмана, которыми Гонорий наслаждался, будучи тонким знатоком лицемерия. Она знала, что затем он сделал все, чтобы отвести от нее серьезные подозрения, вплоть до того, что обвинил потерпевшего сокрушительное поражение племянника в клятвопреступлении. Подросток, обезумевший от недвусмысленных угроз епископа, отрекся от своих показаний и попросил прощения у дорогой тетушки, на которую, как он утверждал, возвел напраслину. Ночь, удивительная и неизбежная ночь. Бенедетти пришел к Од в особняк, который она унаследовала от покойного мужа. Между смятыми в радостном безумии простынями они почувствовали себя созданиями одной и той же породы. Од понимала, что была единственной, кто возродил чувственность Гонория с тех пор, как он принял обет. Когда утром Гонорий ушел от нее, она уже знала, что он не вернется. Ей даже не пришлось деликатно намекать ему. Не обращая внимания на насмешливую улыбку, он поцеловал ей руку и прошептал на прощание: – Благодарю вас, мадам, за восхитительную ночь, поскольку не увидел в ней платы за услуги, которые я оказал вам во время процесса. Благодарю вас также за то, что в течение этих нескольких часов вы вызывали у меня горькие сожаления, но оставили сладостные воспоминания.
Черт подрал бы эти воспоминания! Заинтригованная Од де Нейра продолжила: – Мой добрый друг… Неужели вы уже были таким сентиментальным, когда мы впервые встретились? Когда вы спасли мне жизнь? – Сентиментальным? Если я был сентиментальным, зачем же тогда я вас спас? Ведь я знал, что вы виновны. – Ради забавы, к которой, вероятно, примешивалось плотское желание. – И это тоже. Вы пробудили во мне волнение… – Волнение? – Вы в одиночку боролись с мужчинами, в большинстве своем подлыми. Вы стойко держались, но они устроили над вами суд. По правде говоря, выбор был простым. Встать на вашу сторону или предоставить им свободу действий, позволив, таким образом, ничтожеству одержать победу над исключительностью. Я сделал свой выбор. – Это, несомненно, самый милый комплимент, который мне когда-либо делали. Благодарю вас, – сказала Од, становясь серьезной. – Ладно, мне нужно приготовиться, если я хочу как можно скорее оказаться в прекрасном графстве Перш. – Сначала вам придется пожить в Шартре, моя дорогая. Камерленго вытащил из ящика туго набитый кошелек и несколько листов, исписанных его мелким решительным почерком. – Это вам на первое время. И, конечно, рекомендации, советы, имена, адреса. Умоляю вас, Од… Добейтесь успеха. – Я не помню, чтобы когда-нибудь терпела поражение… в чем-либо. Надеюсь вскоре увидеться с вами, друг мой… Чтобы отпраздновать наш успех.
На площади Святого Петра поднялся резкий ветер. Ее вуаль развевалась, словно крыло. Од де Нейра ускорила шаг. Почти забытая истома вновь охватила ее, когда Бенедетти вспомнил о своем волнении во время их первой встречи. Неожиданная и, уж конечно, досадная истома, учитывая, сколько дел ей предстояло уладить до своего скорого отъезда. Ба… Лучше всего было от нее избавиться, не придавать ей значения, и Од знала, как это осуществить. Она направилась к мосту Ангела, соединявшему берега Тибра. Сообщница ночь уже опускалась на город. Од устремилась в лабиринт улиц, которые хоть и не считались разбойничьим притоном, но все же были не тем местом, где можно встретить знатную женщину в любое время суток. Холод наступающей ночи немного смягчил невыносимые запахи человеческой плоти, грязи, отбросов, которыми, казалось, дышали одноэтажные лачуги. Од, разумеется, привлекала к себе внимание. К ней подошел мужчина. Она внимательно посмотрела на него. Он был уродливым, грязным, слишком старым. Что касается его гнилых зубов, которые обнажила улыбка, они были отвратительными. Од жестом прогнала его. А вот мускулистый юноша, которого Од заметила в нескольких шагах от лестницы, ведущей к таверне с дурной славой на улице Бьянка Донна, заинтересовал ее. Од поравнялась с ним. Он был красивым, очень красивым. Несомненно, ему не было и двадцати. Он бросил на нее игривый взгляд и отпустил откровенно непристойный комплимент. Од ответила на прекрасном итальянском: – Ради бога, помолчи. Ты испортишь мне желание. Она вытащила из сумочки две золотые монеты и добавила: – Все будет так, как я хочу. Ни больше и ни меньше. Мгновенно протрезвев, молодой человек положил деньги в карман и кивнул в знак согласия.
Когда Од поднялась с кровати в комнатенке лупанария, замаскированного под таверну, она тут же едва не упала на нее снова от изнеможения. Она чувствовала запах мужчины на своей коже, в данное мгновение еще приятный. Но через несколько минут он станет невыносимым. Она могла бы избавиться от него, приняв ванну с цветами мальвы и лаванды. Спящий юноша потянулся всем телом, и Од впервые внимательно рассмотрела его. Он действительно был красивым – с темными волосами, матовой кожей. Колючие волосы покрывали его тело от шеи до лобка. Он был сильным, неспособным на нежность, как она и рассчитывала. Од охотно допускала, что ее откровенная тяга к грубым мужикам была вызвана упоительным желанием подчинить их себе, заставить слушаться. По сути, полученное удовольствие стоило этого. Хорошенькое дельце! Кто заинтересуется этими безмозглыми увальнями, которые каждый день мрут как мухи? Грубый голос заставил ее вздрогнуть: – Это… Дамы – это намного лучше, чем нищенки и шлюхи… Впрочем, ты могла бы поучить их. Шлюх, я хочу сказать. Запах стал невыносимым, Она оделась и знаком велела ему зашнуровать ее платье. Он встал, попытался лизнуть ее шею, уперся напряженным членом ей в спину. Она обернулась и смерила его испепеляющим взглядом. Он проворчал: – Ладно… – Недовольство сменилось ребяческим смехом. – Если бы я знал… Когда я увидел, как ты входила в папский дворец… Да, это невероятно, не так ли? Я был там и видел тебя. Не так уж часто им наносят визиты дамы. Говорят, порой это проститутки, одетые как знатные женщины, но чаще всего это шпионки. Ты шпионка? Ты могла бы быть ею, для этого у тебя есть все, что нужно. – Жаль, – прошептала Од, на этот раз по-французски, прежде чем одарить его лукавой улыбкой. – А, я знал, что ты хочешь еще. Не каждый день встречается такой жеребец, как я! Он грубо притянул Од к себе, буквально приклеившись к ней, и толкнул ее на циновку. Его глаза расширились. Он открыл рот, пытаясь крикнуть, возможно, запротестовать. Красная струя обагрила его зубы, а потом полилась по подбородку. Од резко вонзила кинжал еще глубже. Он упал животом на пол. Она наклонилась, чтобы вытащить кинжал из его спины, и отступила назад. Брызги крови запятнали ее платье. Од вздохнула с облегчением. Судьба была на ее стороне: никто не заметит алого пятна на карминовом платье. Она постояла еще несколько минут, скривившись от отвращения, ожидая, когда прекратятся конвульсии, вызванные агонией. Боже, как же она ненавидела смотреть на умирающих, даже когда сама являлась причиной смерти!
Алансон, Перш, декабрь 1304 года
Наступила ночь, когда Аньян, секретарь покойного Никола Флорена, вышел из дома инквизиции. С момента смерти сеньора инквизитора, погибшего от удара кинжалом, который нанес ему случайно встреченный пьяница, прошло две недели. Тщедушный и бледный молодой человек мог бы поклясться, что это были самые прекрасные недели в его жизни. Он также был готов дать голову на отсечение, что видел, как в мгновение ока произошло чудо. По мнению Аньяна, возмездие было неминуемым и оказалось настолько справедливым, что в его божественной сущности не оставалось сомнений. Разумеется, Аньян не был настолько суеверен или глуп, чтобы поверить, будто сам ангел пронзил своим клинком этого красивого негодяя. Напротив, Аньян все больше убеждался в том, что Франческо де Леоне, этот рыцарь по справедливости и по заслугам,[164] приехал, чтобы с оружием в руках защитить агнцев Божьих. Ведь для защиты агнцев от хищников должны существовать другие хищники. Как иначе объяснить, что госпитальер вмешался, когда сеньор инквизитор начал пытать женщину, так очаровавшую молодого клирика? Пребывая в эйфории, которую было трудно сдержать, Аньян, сам того не замечая, ускорил шаг. Люди старались на него не смотреть, настолько коробило его уродство. Маленькие, близко посаженные глаза, узкий длинный нос, выступающий подбородок, который его обезображивал и делал похожим на хитрого пройдоху, внушали недоверие, если не отвращение. Но это лучезарное существо, эта женщина прикоснулась к нему! Она смотрела на него, разглядывала, словно ей удалось заглянуть за эту обманчивую плоть, за маскарад внешнего вида. Душа прекрасной женщины, твердая как алмаз, ласкала душу Аньяна, которая навсегда сохранит в памяти ее облик. Какое счастье, какое невыразимое счастье, что ему выпала возможность приблизиться к совершенству! Вдруг у него мелькнула забавная мысль, и он удивился, почему раньше это не приходило ему в голову: у них были почти одинаковые имена. Аньес, Аньян. И пусть эта общность была ничтожной и незначительной, Аньян все же обрадовался. Аньян дрожал от холода, но даже не подумал надеть капюшон. Мелкий холодный снежок засыпал мостовые и хрустел под его деревянными подошвами. Сырой туман цеплялся за стены, обволакивая нереальным молчанием дома и закрытые лавки. На губах молодого человека играла улыбка. Он больше не чувствовал обжигающего холода, несмотря на убогую рясу и слишком тонкий плащ. Он принимал участие в спасении мадам де Суарси. Жалкий дар в виде куска сала и яиц, которые он украл на кухне, чтобы тайком принести в застенок, придал ей немного сил, и она сумела выстоять на подлом процессе. Рыцарь Франческо де Леоне, которого он провел к ней и предупредил о неминуемом приходе этого прекрасного чудовища, инквизитора, спас женщину Света. Он почувствовал, как его лицо постепенно розовеет от смущения. Не становится ли он чересчур спесивым, претендуя на роль, пусть даже ничтожную, в спасении Аньес де Суарси? И все же ему сейчас было необходимо верить, что слабый муравей, каким он представлял себя, работал со всем своим упрямством, с полнейшей самоотдачей, несмотря на ужас, который внушал ему зверь – Флорен. Погруженный в свои взбалмошные и вместе с тем меланхоличные мысли, Аньян не слышал и не видел, как за ним на некотором расстоянии кралась тень. Он свернул на улицу Поаль-Персе, добрался до площади Этап-о-Вэн и не спеша направился к церкви Святого Эньяна. Чтобы срезать путь, Аньян пошел по узкому проулку, разделявшему два ряда деревянных и саманных домов с крышами из дранки. Внезапно ему в голову пришла мысль, что ночь очень темная и никто не бросится ему на помощь, если на него нападут разбойники. Аньян пожал плечами. Да какой глупец или безумец нападет на бедного клирика, у которого нет иного имущества, кроме одежды, ничуть не более роскошной и теплой, чем одежда местных жителей? Аньян мыслил вполне трезво. Он возвращался к встрече с Аньес де Суарси, перебирал воспоминания, искал мельчайшие подробности только для того, чтобы обнаружить признак, который мог бы помочь ему. Разрываясь между надеждой и страхом, что его ждет разочарование, Аньян искал знак, который указал бы ему, что его роль в спасении мадам де Суарси, пусть незначительная, была предопределена и, возможно, еще не закончилась. Аньян замедлил шаг, вдруг устыдившись. Что за дерзость, что за претензии! Как, он уже начал строить из себя героя, главного исполнителя замысла, который был ему непонятен? И только теперь Аньян услышал приглушенный шум шагов, которые приближались к нему в зловонной темноте проулка. Он остановился как вкопанный, прислушался, пытаясь проникнуть в тайну окружавшей его ночи. Очень скоро тревога уступила место страху, сжимавшему сердце. Он не был способен драться, оказывать сопротивление. Ему хотелось убежать, броситься прямо вперед, чтобы добраться до площади, в центре которой возвышалась церковь Святого Эньяна. Несмотря на пронизывающий холод, лоб Аньяна покрылся потом, стекавшим по бледным щекам. Он сделал глубокий вдох, борясь с удушающим страхом. Бежать, найти в себе мужество двигаться! Но ноги не слушались Аньяна. На него напал столбняк, словно на зайца, который видит, как раскрываются челюсти хищника, но реагировать не может. Высокая фигура неторопливо приближалась к нему. Теперь она стала более различимой в ночном тумане. Аньян ясно видел складки на длинном темном плаще, окутывавшем фигуру, заметил, как сверкнул меч, постукивавший о сапог из толстой кожи. У него кружилась голова, его душили беззвучные рыдания. Аньян прислонился к стене дома. У него не было сил кричать, звать на помощь. Человек поравнялся с Аньяном, наклонился и положил руку ему на плечо. Аньян был настолько изумлен, что с трудом, еле слышно прошептал: – Вы… рыцарь… – Успокойтесь. Что с вами случилось? – Я боялся… Я боялся неприятной встречи… В ответ рыцарь улыбнулся, потом сказал: – Все же вам не хватает элементарной осторожности, раз вы рискуете бродить ночью по этим проулкам. – Понимаете… Понимаете, я об этом не подумал. – Я провожу вас. Куда вы идете? – В церковь Святого Эньяна, хочу помолиться на филипповках.[165] Они шли молча. Леоне колебался, ища предлог, чтобы задать вопрос, который мучил его многие недели, многие годы. Аньян размышлял: стоит ли рискнуть и попытаться развеять свои сомнения, чтобы у него отлегло от сердца? Почему он уверовал в этого рыцаря, который покорил его и одновременно внушал страх? Впрочем, потребность выяснить, не поддался ли он обману с самого начала, взяла верх. Аньян торопливо произнес, не поворачиваясь к госпитальеру: – Вы… Мсье, это вы… – Убил, вернее, казнил Флорена? Да, но я прошу вас хранить это в секрете. Другого выхода не было. Он не оставил мне выбора. Честно говоря, я хотел, чтобы он так поступил. – Я всегда буду обязан вам за… за этот поступок. Я догадываюсь, чего он вам стоил. Исчезновение этого зловредного существа подарило нам чуть больше света. В этом мире не так уж много света, чтобы мы стали скорбеть о кончине Флорена. – О его убийстве, – поправил Леоне. – Вы слишком великодушно употребили слово «кончина», такое неопределенное и естественное. Тем не менее речь идет именно об убийстве. Я пронзил его кинжалом, хотя знал, что он безоружен. Я поступил бы недостойно, если бы стал отрицать свою ответственность. – Паразитов не убивают. Их выводят, – заявил клирик непреклонным тоном. – При всем моем дружеском отношении, вам не подобает меня судить. Один Бог может это делать, и я смиренно приму его приговор. – Леоне вздохнул и продолжил: – Кем был Флорен? Ошибкой природы или одним из тех испытаний, которыми усеяны наши дороги, чтобы мы никогда не забывали, что балансируем между величием и невыносимым падением? Признаюсь вам, что если бы ставкой в этой игре не была жизнь мадам де Суарси, я не стал бы обагрять руки кровью инквизитора. Аньян впервые с момента их странной встречи в проулке пристально посмотрел на рыцаря и растерянно поджал губы. – О… Вы правы. Вот уже несколько дней у меня такая путаница в мыслях, что… – Отбросив осторожность, он выпалил: – Кто на самом деле мадам де Суарси? Вы знаете ее, рыцарь? Я… Я был уверен, что произойдет нечто из ряда вон выходящее для нашего мира… – О нет! Я не слишком сильно ошибусь, если скажу, что это вполне присуще нашему миру… – Заставив замолчать свою подозрительность, свою осмотрительность, Леоне сказал голосом, который волнение изменило до неузнаваемости: – Вы видели ее кровь? Аньян напрягся и спросил, ничего не понимая: – Прошу прощения, рыцарь? – Вы… Вы обратили внимание на кровь мадам де Суарси? Этот мужчина, спаситель, ратник, не мог расспрашивать о таких мрачных деталях, чтобы посмаковать их! Аньян ответил срывающимся от рыданий голосом: – Ах, мсье! Разумеется, я видел ее кровь и предпочел бы, чтобы пролилась моя, только бы не врачевать несчастную истерзанную плоть. Он… Он сыпал соль на раны, чтобы усилить ее страдания, чтобы она не смогла выздороветь. Этот демон не догадывался, что я знаю тайну серого порошка, который он хранил в красивом серебряном флаконе. Она тщательно промыла раны, нанесенные кнутом. Я смазал иссеченную плоть мазью. Потом меня сменил брат-врачеватель, – добавил он, совершенно расстроенный. – Вы видели ее кровь? – настаивал Леоне, с трудом сдерживавший нервозность. – Она текла по ее спине, пачкала бока, окрашивала волосы в красный цвет. Кровь обагрила мои руки, рыцарь, и я целовал ее. – Как… – От волнения у госпитальера перехватило дыхание, и он закончил вопрос, сделав над собой колоссальное усилие: – Как она выглядела? – Прошу прощения? – Я хочу сказать… Была ли она похожа на кровь других осужденных или жертв? Не заметили ли вы каких-нибудь особенностей? Аньян тщетно искал причину настойчивости своего спутника. Он пробормотал: – Я немного теряюсь… Она была ярко-красной, полной жизни… У меня сжалось сердце. Я видел, как кровь смешивалась с водой, окрашивая ее в восхитительный алый цвет… Признаюсь вам, мне вдруг стало холодно. Ведь вы это хотели знать? – Да, – согласился Леоне, плохо скрывая внезапно охватившую его панику. Когда они дошли до ворот церкви Святого Эньяна и госпитальер расстался с Аньяном, чтобы продолжить дальше свой путь, его снедала тревога, с трудом поддающаяся описанию.Женское аббатство Клэре*, Перш, декабрь 1304 года
От огня, который так испугал монахинь несколько дней назад, но был быстро потушен, лишь слегка почернели стены дортуаров гостеприимного дома. Аббатиса Элевсия де Бофор молча заканчивала очередную инспекцию. Она шла в сопровождении Аннелеты Бопре, сестры-больничной. Тибода де Гартамп, сестра-гостиничная,[166] причитала, повторяя дрожащим голосом: – Умоляю вас, матушка. Это бедствие было вызвано вовсе не моей небрежностью. Я не понимаю, как огонь мог вспыхнуть посреди помещения, вдали от очага, и перекинуться на соломенные тюфяки… Аннелета пристально посмотрела на аббатису, но та лишь сдержанно покачала головой. Затем Элевсия успокоила свою духовную дочь, приведя аргументы, которые показались той убедительными, несмотря на нелогичность: – Дорогая Тибода, огонь порой ведет себя непредсказуемо… Искра могла взлететь и упасть на соломенный тюфяк, а тот загорелся. В конце концов, было больше дыма, чем огня,больше страха, чем зла, а это главное. Обе женщины вскоре расстались с сестрой-гостиничной, которая при помощи нескольких служанок-мирянок начала наводить порядок и уничтожать следы диверсии. Они дошли до рабочего кабинета аббатисы, не вымолвив ни единого слова. Аннелета почувствовала, что Элевсия де Бофор воспользовалась этим молчанием, чтобы взвесить все «за» и «против», прежде чем решиться на откровенные признания. Их матушка хранила опасную тайну. Сестра-больничная давно об этом подозревала, хотя и не знала, о чем именно пойдет речь. Вслед за аббатисой она вошла в ледяной кабинет и остановилась. Скрестив руки на груди, она терпеливо ждала. Элевсия обошла массивный дубовый письменный стол и тяжело опустилась в кресло. На мгновение она закрыла глаза, вздохнула и только потом прошептала: – Я совершила большую ошибку. Меня одолевали сильные сомнения, и поэтому мои позиции ослабли. Я сама открыла дверь, через которую проникло это зловредное существо… Аббатиса резко выпрямилась и с силой ударила кулаком по столу, процедив сквозь зубы: – Но я еще не сказала последнего слова! Аннелета стояла молча, ожидая продолжения. – Вы правы, Аннелета. Этот пожар, хотя и небольшой, был всего лишь попыткой увести нас в другое место, чтобы развязать себе руки здесь. Вы также были правы, когда доверились мне, когда открылись… Мне кажется, что с тех пор прошла вечность. Но я сама слишком поздно безоговорочно доверилась вам и поэтому сегодня кусаю локти. Я солгала вам из страха, что отнюдь не извиняет мою оплошность, нет, хуже, мое заблуждение. Не сказав ни слова, Аннелета опустила голову. Сейчас она даже боялась узнать всю правду. – По приезде в Клэре я обнаружила… нечто такое, что сначала приняла за малопонятное совпадение, и даже нарушила клятву – хотя это слово не совсем подходит, – не поставив в известность Рим. Бонифаций VIII*, наш святой отец в то время, не был нашим союзником. Но я сообщила об этом Бенедикту XI* сразу же после его избрания. Скажу вам откровенно, реакция Бенедикта удивила меня. У меня возникло мимолетное ощущение, что эта находка не была для него… Ах, я сама себя раздражаю! Опять говорю намеками, но ведь сейчас не время! – Элевсия поспешно продолжила: – В нашем аббатстве есть тайная библиотека. В надежном месте – по крайней мере оно было надежным до вчерашнего дня – спрятаны произведения… такие смущающие, такие опасные, что они ни в коем случае не должны попасть в плохие или алчные руки. – В аббатстве? Тайная библиотека? – повторила ошеломленная Аннелета, – Где? Элевсия взглядом показала на ковер, висевший за ее столом, и ограничилась одним словом: – Там. – Я должна была догадаться. Эта длинная внешняя стена без окон и дверей, продолжающая ваши покои,… – Если судить по планам, начертанным на древнем пергаменте,[167] который хранится в моем шкафу, наличие библиотеки предусматривалось еще до начала строительства, столетие назад. – Значит, убийца хотела завладеть этим пергаментом, а не вашей печатью. Наконец ее действия стали мне понятны. Ошеломление, вызванное признаниями аббатисы, сменилось любопытством и лихорадочным возбуждением. Аннелета спросила скороговоркой: – Есть ли в библиотеке… научные труды, например? – Разумеется, причем очень опасные. Они подрывают основы всего, что мы считаем установленным раз и навсегда, незыблемым. – Могла бы я… Я едва осмеливаюсь покорнейше просить, чтобы вы разрешили мне посмотреть некоторые книги, если… Видите ли… Полученные нами объяснения кажутся недостаточными, если не сказать бессмысленными. Элевсию вновь охватили сомнения. Что, если она опять совершила грубую ошибку, доверившись этой женщине? В конце концов, о порядочности Аннелеты она могла судить только по признаниям самой сестры-больничной. А вдруг Аннелета была шпионкой на службе у ее врагов? Если именно она была отравительницей, как утверждала Иоланда де Флери, столько выстрадавшая милая сестра-лабазница, незадолго до того как умерла от яда? – Приказ Бенедикта, нашего покойного святого отца, был предельно четким. Никто, кроме меня, не должен входить в библиотеку ни под каким предлогом. Некрасивое лицо сестры-больничной стало непроницаемым. Элевсия боролась с внезапно охватившей ее горечью. – Сейчас не время для подобных разговоров, хуже того, болтовни, – решительно заявила аббатиса. – То, о чем я собираюсь вам поведать, настолько неотложно и ужасно, что ваши капризы сейчас совершенно неуместны. Аннелета посмотрела на аббатису, и улыбка раскаяния озарила ее лицо. – Вы правы, матушка. Простите меня, прошу вас. Извинением мне служит то, что я многое отдала бы, чтобы сделать еще несколько шагов вперед на пути познания. – Порой этот путь опасен, – возразила Элевсия. – Нет. Опасно то, что люди смогут постичь, продвигаясь по нему. Если мы будем использовать наши знания анатомии для того, чтобы изощреннее пытать, а не лечить с большей пользой, наука в этом не виновата. Неожиданная нежность озарила лицо аббатисы. Она сказала: – Когда я вас слушаю, мне порой кажется, что я беседую с племянником. Мне так хочется, чтобы он поскорее вернулся. Я так одинока… Ну вот, я опять горько жалуюсь! – Элевсия собралась с духом и решительно продолжила: – В последние дни я провела тщательную инвентаризацию. Из-за этой диверсии из тайной библиотеки были похищены три манускрипта. Их названия не вызывают у меня удивления и доказывают, что поджигатель знал, что искать. Меня удивило лишь то, что он был одет в монашескую рясу, а капюшон был надвинут так низко, что я не рассмотрела его лица. Я попыталась отнять рукописи, но напрасно. – Именно поэтому вы приказали запереть все ворота на засовы и тщательно обыскивать самих сестер, их поклажу и повозки? – Да. Я не удивлю вас, если скажу, что «он» был «ею». Удар, который она нанесла мне, был сильным, но не имел ничего общего с мужской жестокостью. Рукописи не могли покинуть Клэре. Нам непременно следует разыскать их как можно скорее. – Аббатство такое большое… – начала сестра-больничная, но Элевсия прервала ее, сделав ошеломляющее признание: – Три тома… Дневник, принадлежащий рыцарю Эсташу де Риу и моему племяннику Франческо. Записи в дневнике отражали десятилетия не только наших поисков, успехов и неудач, но и поисков наших предшественников, тамплиеров. При штурме Сен-Жан-д’Акр, незадолго до кровавого убийства тридцати тысяч христианских душ, Эсташ де Риу и рыцарь Храма* попытались спрятать горстку женщин и детей в подземелье. Я точно не знаю, что произошло тогда, но тамплиер решил следовать за маленьким отрядом, пожелавшим сдаться врагу. Они все были уверены, что их пощадят. Прежде чем пойти на то, что вскоре превратилось в бойню, рыцарь отдал свой дневник Эсташу, умоляя его продолжить священную миссию, которую он и несколько его духовных братьев держали в тайне. В украденном дневнике Франческо указаны все следы, все признаки. – Потеря дневника – это катастрофа, – выдохнула Аннелета, у которой от ужаса глаза буквально вылезли из орбит. – Но вы еще не знаете, о чем повествуют другие произведения, – продолжала Элевсия. – Второй труд – это трактат по некромантии, написанный неким Юстусом. Я так и не решилась перелистать эти нечестивые страницы. Тем не менее я знаю, что в трактате речь шла не о возможности устанавливать связи с потусторонним миром, что было бы непростительно в глазах нашей Церкви. Цель этого трактата – подчинить души покойных, блуждающих в лимбе, закабалить их, чтобы добиться от них мерзкой помощи. Франческо купил трактат лишь для того, чтобы тот не попал в преступные руки. Но он никогда не спешил разжечь спасительный огонь, который превратил бы трактат в пепел. А теперь… Если наши враги прочтут его, воспользуются ужасными советами, приведенными там… – Боже мой… – Но это не все, поскольку худшее или самое тревожное еще впереди. Последнее произведение называется «Трактат Валломброзо»*. Он… – Элевсия не осмеливалась продолжать, уже опасаясь последствий ошеломительных откровений, которыми она поделилась с Аннелетой. – Он… говорит… Ну же, мне надо решиться. Он безоговорочно доказывает, что… Земля вращается вокруг Солнца. Она движется вокруг светила всегда по одному и тому же пути, словно ее удерживает на нем какая-то сила. – Что?! Вы хотите сказать, что система, описанная Птолемеем,[168] в которой Земля застыла неподвижно в центре Вселенной, неверна? – Полностью ошибочна. Вы, разумеется, понимаете, что если о нашем разговоре станет известно, нас обвинят в ереси. Но ошеломленная сестра-больничная не услышала это предостережение. Погруженная в свои размышления, она, казалось, забыла обо всем, об убийствах монахинь, пожаре, краже, серьезной опасности, нависшей над поисками. Вдруг она воскликнула: – Наконец все становится ясно… Какая же я глупая, тупая! Плохой ученый, какой стыд! Ведь к науке можно подходить только с критической точки зрения! Иначе как объяснить смену времен года, приливы, день, ночь и звезды, если Земля неподвижно стоит в центре небосвода? Какая честь, какое счастье! Огромное спасибо, матушка, за столь ценные сведения! Элевсию вновь охватила горечь, и она властным тоном сказала: – Вы будете радоваться потом, дочь моя. Если, конечно, мы останемся в живых. Резкий упрек как рукой снял воодушевление Аннелеты. Она склонила голову, а аббатиса продолжала: – По всей видимости, дух ученых мне недоступен! Монах, написавший этот трактат в монастыре Валломброзо, поплатился жизнью за свои открытия. Я спрашиваю себя, не стоит ли считать досадный «несчастный случай», когда монах сильно ударился головой о столб, делом рук наших врагов? Так или иначе, этот трактат позволяет прояснить две астральные темы, о существовании которых вы знаете, темы, открытые рыцарем-тамплиером, передавшим свои записи Эсташу. – Сдавленным голосом Элевсия подвела итог: – Теперь Тень знает все подробности, записанные в дневнике, и у нее есть трактат, необходимый для расшифровки тем. На протяжении нескольких столетий наши враги идут за нами по пятам. Единственное наше преимущество заключалось в их неповоротливости. Мы всегда опережали их на шаг. Я очень боюсь… Аннелета, напряженная до предела, пыталась упорядочить всю эту информацию, внезапно обрушившуюся на нее. Ее охваты вали то упоительный восторг, то уныние. Упоительный восторг оттого, что они продвигались к Свету, несмотря на запутанность дорог, ведущих к нему. Уныние – потому что она так долго находилась в стороне от тайны, в центр которой неожиданно сейчас попала. Она постаралась упорядочить сумбур, царивший у нее в голове: – Мы одни на борту терпящего бедствие корабля. Вокруг нас бушует буря. Бенедикта отравили, и никто не может сказать, на чью сторону встанет будущий понтифик: на нашу или на сторону наших врагов. Одним словом, в своем стремлении отыскать манускрипты и раздавить гадину, убившую наших сестер, мы можем рассчитывать только на собственные силы. – Даю голову на отсечение, что воровка и убийца наших сестер – одна и та же женщина. – Я тоже, матушка. Как бы там ни было, хотя я понимаю ваши сомнения в отношении меня, поскольку питаю такие же сомнения в отношении вас, мне не хватает подробностей, чтобы понять всю историю в целом. Заклинаю вас, просто скажите, хотите ли вы, чтобы мне удалось сориентироваться в этом лабиринте? Разумеется, мы не друзья. И это меня огорчает, поверьте. – Аннелета жестом прервала возражение, готовое вот-вот сорваться с уст аббатисы. – Тем не менее мы… две оставшиеся в живых, и над нами нависла грозная опасность. Аннелета отогнала от себя так некстати появившуюся печаль. Впервые в жизни она пожалела, что у нее нет друзей. Конечно, уже поздно заводить дружбу, но тем хуже. Более твердым тоном она продолжила: – Итак, две темы. Теория Валломброзо, в отличие от теории Птолемея, позволяет прояснить их. Верно? – Да. – Эти темы касаются фактов или людей. Готова спорить, что одна из них связана с мадам де Суарси. Я права? – Мы так полагаем. Мадам Аньес родилась 25 декабря, а эта дата указана в одной из тем, уточняющей, что человек, которого мы ищем, пришел в наш мир во время затмения. Но в тот вечер, когда она родилась, затмение было лишь частичным. – Необходимо, чтобы затмение было полным? – Мы не знаем. – Теперь ясно, почему инквизиция ополчилась на нее, – размышляла вслух Аннелета. – Аньес де Суарси внушает нашим врагам страх и поэтому должна умереть. Не так ли? – Мы тоже так думаем. – Почему? – Дорогая Аннелета, если бы мы знали хотя бы начало ответа на этот вопрос, до Света было бы рукой подать. – Тем не менее, по вашим словам, в основе подлых интриг, приведших к аресту мадам Аньес, лежали низменные инстинкты Эда де Ларне, ее сводного брата? – Да, это так. Тем не менее я убеждена – и мой племянник Франческо придерживается такого же мнения, – что в его тени действовал кто-то более коварный и опасный, да так ловко, что этот подлый фат де Ларне ничего не заметил. Ординарный барончик – не орел. Впрочем, я не удивлюсь, если Никола Флорен тоже стал жертвой более изворотливого человека, чем он сам. За это он поплатился жизнью. Прекрасная развязка! – Вы полагаете, что мадам де Суарси все еще находится в смертельной опасности? – Если мои предположения верны, это не вызывает сомнений. Если честно, я чуть ли не сожалею о смерти сеньора инквизитора… Аннелета закончила ее мысль: – …потому что мы хотя бы знали, с кем быть бдительными. – Совершенно верно. Теперь же мы блуждаем в густом тумане, не зная, кто и когда попытается напасть на мадам Аньес. – Вы догадываетесь, кто отдал приказ? – У меня есть одно предположение, – ответила Элевсия после недолгого молчания. – Тот, кто дергает за веревочки, прячась за занавесом, есть не кто иной, как отравитель Бенедикта. Так считает Франческо. – Проклятый! – выдохнула Аннелета. – Сомневаюсь, что это слово подходит к нему. Он хитрый, очень умный, и, что самое худшее, дочь моя, он не ищет для себя славы. Чтобы знать о приезде эмиссаров Папы в Клэре, произвести такое сильное впечатление на Флорена, позволить своему подручному столь близко подойти к нашему покойному Папе, он должен обладать колоссальной властью в Ватикане. Аннелета, приоткрыв рот, пристально смотрела на аббатису. Постепенно в ее мозгу складывалась мозаика. Вдруг она прошептала: – Он? Камерленго Гонорий Бенедетти? – А кто же еще? – Тогда мы погибли. – Почему? Теперь заколебалась Аннелета. Она входила в окружение Бенедикта XI, когда тот был еще Никола Бокказини, епископом Остии, и поэтому понимала, как действовал механизм епископской, вернее, архиепископской политики. Если аббатиса, ослепленная своей безоговорочной верой, видела в назначениях и выборах лишь проявление верховной небесной власти, она глубоко ошибалась. В принципе, сестра-больничная даже завидовала этому ангельскому простодушию, которое не сумели поколебать недавние чудовищные события. Аннелета решилась: – После смерти Бонифация VIII пошли слухи, что архиепископ Бенедетти стремится занять Святой престол. Признаюсь вам, все были крайне удивлены, что выбор пал на Бенедикта. Все относились к камерленго как к новому Папе. – Но тогда как получилось, что его отстранили? – Мне хотелось бы вам ответить, что нам помогло чудо, но на самом деле причина носит сугубо политический характер. Я вот спрашиваю себя: что, если большинство кардиналов, собравшихся на конклав… – Аннелета в замешательстве закрыла глаза и покачала головой. – Гонорий Бенедетти внушает страх. Он такой напористый, его невозможно провести, он такой непреклонный! Полагаю, что его ложная преданность Бонифацию VIII тоже внушала страх. И напрасно, поскольку Бенедетти никогда не был служителем. Он стратег, мыслитель. Речь шла скорее о замечательном сотрудничестве двух людей, поскольку я сомневаюсь, что Бенедетти питал дружбу к властному Бонифацию. Понимаете, я считаю, что камерленго не жаждет власти для себя. Временные преимущества его не интересуют. К тому же сомнительная репутация Бонифация,[169] его властный характер, подавляющий всех, утомили некоторых кардиналов. Они проголосовали за Никола Бокказини, введенные в заблуждение его доброжелательностью и мягкостью. Возможно, они надеялись, что его будет легко контролировать. Но они ошиблись. Бесконечная доброта, внешняя мягкость Бенедикта сделали его безупречным, несгибаемым человеком. – Боже мой… Вы намекаете, что архиепископ Бенедетти может стать нашим будущим Папой? – Я этого опасаюсь. И, каким бы странным вам ни показалось мое признание, я все же надеюсь на вмешательство короля Франции в ход будущих выборов, на испытываемую им необходимость иметь Папу, который был бы к нему благосклонен, поскольку тогда Бенедетти будет отстранен. Филипп Французский* – вовсе не безумец, не говоря уже о его советнике Гийоме де Ногаре*. Гонорий Бенедетти принадлежит к той человеческой породе, которую невозможно прельстить привилегиями, лаской или угрозой. Никто не пытается его одурачить или соблазнить, поскольку он сам непревзойденный магистр обмана. Если вы все правильно рассчитали, а я придерживаюсь именно этого мнения, он во что бы то ни стало пойдет до конца, постаравшись исполнить возложенную на него миссию. Да… Я надеюсь на избрание Папы короля. Лицо Элевсии исказилось от ужаса. Она пробормотала: – Да вы… вы оскорбляете Церковь, дочь моя! – Нет. Я всего лишь надеюсь на такой ход событий, который спасет христианство и, главное, его послание, а они для меня бесценны, если не сказать – жизненно необходимы. Воцарилось гнетущее молчание. Что-то смущало Аннелету. Собрать воедино. Да, надо собрать воедино все детали, доверенные ей аббатисой, чтобы как можно лучше все понять. Наконец ее тревога оформилась. – Значит, трактат Валломброзо, написанный монахом, которого, судя по всему, убили, при Бонифации VIII хранился в папской библиотеке. Что касается астральных тем, они были обнаружены тамплиером из Акры. Можно предположить, что ученые, к которым обратился за помощью Гонорий Бенедетти, так и не сумели прояснить их, иначе мадам де Суарси уже давно была бы мертва, если, конечно, она и есть главная ставка, указанная в одной из этих тем. Элевсия посмотрела на Аннелету, пытаясь понять, куда та клонит. В знак согласия она кивнула головой. Аннелета продолжала: – Но как объяснить, что подручные камерленго так быстро подобрались к ней, затеяли махинацию, которая должна была стремительно погубить ее, ведь у них не было астрологических знаков, позволявших ее идентифицировать? Сформулированное таким образом противоречие было столь очевидным, что Элевсия остолбенела. Ей в голову тотчас пришла мысль, что надо немедленно найти способ поставить Франческо в известность о выводах Аннелеты, на которые и возразить-то было нечего. Она прошептала: – Боже мой, Аннелета, вы правы! Неужели нами с самого начала манипулировали? Неужели среди нас есть шпион камерленго? Какая ужасающая перспектива… В голове аббатисы замелькали лица, голоса, обрывки воспоминаний. Кто? Неужели в их маленькое войско посвященных затесался злоумышленник? Если это так, Бенедетти знает их имена, по крайней мере некоторые из них, в том числе Аньес. Когда он нанесет удар, их поиски окажутся под угрозой, если только она не найдет злоумышленника. Кто? В целях безопасности участники поисков не знакомились друг с другом. – Мадам де Суарси догадывается о своей роли? – Как она может догадываться, если мы продвигаемся в густом тумане? Мы знаем, что Аньес принадлежит решающая роль, но не знаем почему. – Если только об этом не сказано в теме. – В самом деле, – согласилась Элевсия. – Матушка, вернемся к Эсташу де Риу. – Это допрос? – вскинулась Элевсия, задыхавшаяся от тревоги. Аннелета не дала заманить себя в ловушку. Внезапная отчужденность аббатисы доказывала, что та по-прежнему не доверяет ей. – Ни в коем случае. Время поджимает. Вы сами это заметили. В нашем случае недоверие является роскошью. Тем более что… Взвесьте все, что я вам скажу. Взвесьте быстро. Если бы я была одной из них, теперь, когда бесценные манускрипты украдены, мне не оставалось бы ничего другого, как убить вас, чтобы сразу со всем покончить. Столь стремительно, что Элевсия даже не успела ничего понять, Аннелета бросилась к ней и приставила к горлу кинжал, который прятала в складках рясы. – О… святые небеса! – закричала аббатиса. Аннелета отступила на шаг, спрятала кинжал в холщевые ножны, пришитые к изнанке ее рясы, и с раздражением сказала: – Умоляю вас, избавьте меня от проповеди о греховности насилия. Все равно я не стану подставлять шею, как новорожденный ягненок. Я должна продолжать выполнять свою миссию, а она заключается в том, чтобы защищать вас. Ею я обязана Господу и нашему славному покойному Бенедикту. Аннелета ошибалась. У Элевсии не было ни малейшего желания пускаться в нравоучительные наставления. Тот факт, что одна из ее духовных дочерей прячет под одеждой кинжал, не возмутил ее, как это произошло бы еще несколько дней назад, а успокоил, и она злилась на себя за эту сделку с верой. – Рыцарь-госпитальер Эсташ де Риу был крестным отцом по ордену моего племянника, Франческо де Леоне. Он был не только грозным воином, но и одним из выдающихся теологов ордена госпитальеров. Разве не поразительно, что тот тамплиер выбрал именно Эсташа в подземельях Акры непосредственно перед последним боем и кровавой резней, чтобы передать ему свои записи? – Поразительно для нашего жалкого разумения, да. Но это служит новым свидетельством того, что все задуманное было планом, слишком сложным, чтобы вы могли понять его. О чем еще говорилось в записках тамплиера? – Там была странная фраза: «Пять женщин, в центре шестая». А еще оракул и руны. – Какие? – Это были советы воину Света, который продолжит поиски. В данном случае – Франческо. Руны предостерегали его от могущественных врагов. От ошибок. Несомненно, от тех, что содержались в первых астрологических расчетах. Прежде чем броситься на помощь женщинам и детям, прятавшимся в подземельях цитадели Сен-Жан, и погибнуть, тамплиер упомянул о «папирусе на арамейском языке, купленном у бедуина», уточнив, что речь идет об. одном из священных текстов человечества. – Мы знаем его содержание? – Нет. Тамплиер спрятал этот свиток. В надежном месте, как он уточнил. – Мы знаем где? – продолжала настаивать Аннелета голосом, срывавшимся от волнения. Крайняя осторожность помешала Элевсии признаться, что в центре загадки находится командорство тамплиеров Арвиля. Она довольствовалась тем, что отрицательно ответила на этот вопрос. – Это все? Не надо ничего скрывать, матушка, время – это наш самый беспощадный враг. – Я знаю только то, что расчеты, необходимые для прочтения древних тем, должны совпасть с астрономическими открытиями, сделанными в Валломброзо. Они такие трудные, такие длинные, что Франческо до сих пор не сумел добраться до их конца. Ибо – и сейчас в вас опять заговорит ученый – не только Земля вертится, но существуют и другие небесные сферы помимо тех, что были открыты до сих пор. Три,[170] чтобы быть точной, которые учтены только в расчетах монаха. Первые расчеты не принимали их во внимание и, следовательно, были ошибочными. – Боже всемогущий… Другие планеты, неведомые самым великим ученым… Какая привилегия узнать об этих неслыханных открытиях!.. Как я вам благодарна, мадам, – произнесла Аннелета со слезами на глазах. Но вскоре она взяла себя в руки и настойчиво спросила: – А во второй теме говорится о событии или о человеке? – Я рассказала вам обо всем, что мне известно. Правда. Если речь идет о человеке, почему столько людей умерло, чтобы сохранить его тайну? Франческо уверен, что объяснение или ключ надо искать в древнем тексте на арамейском языке. Возможно, он прав. Аннелета встала и сказала угрожающим тоном: – Если трактат и дневник покинут стены нашего аббатства, это главное существо, на которое указывают темы, обречено на гибель. Они уничтожат его. Точно так же, если речь идет о великом событии, оно никогда не произойдет. Бенедетти проследит за этим. Одним словом, эти два тома не должны покинуть аббатство, чего бы это нам ни стоило. Элевсия, охваченная яростью, потеряла над собой контроль и закричала: – Неужели? Вы считаете, что я этого не понимаю, потому что я слишком старая или слишком глупая? А как вы собираетесь действовать? Перерыв сотни арпанов* земли аббатства? – Ни в коем случае. Время поджимает. – Тогда я жду вашего предложения. – Боюсь, что оно вас совсем не удивит. Я согласна с вами, что воровка и убийца – одно и то же лицо. Нам не остается ничего другого, как найти ее. – Со дня смерти нежной Аделаиды Кондо прошло слишком много долгих недель. С тех пор мы ищем ее, но безуспешно. ВЫ ищете ее безрезультатно, – заявила аббатиса обвинительным тоном. – Да, – согласилась Аннелета, вновь став надменной. – Но если бы вы сразу же сообщили мне известные вам подробности, я знала бы, в каком направлении следует вести расследование. А так я блуждала в потемках. – Раздосадованная, она добавила: – Если бы я знала больше, возможно, Гедвига дю Тиле и Иоланда де Флери были бы сейчас среди нас! Неимоверная печаль охватила Элевсию де Бофор. Она потупила взор, чтобы сестра-больничная не смогла заметить слез, блестевших на ее глазах. Потом едва слышно прошептала: – Эта мысль преследует меня по ночам. Простите меня, простите великодушно. Нет, я не заслуживаю прощения. Меня невозможно простить. Острая боль пронзила Аннелету. Она бросилась к расстроенной женщине, крепко обняла ее и прошептала на ухо: – Нет, это вы простите меня, мадам. Мною двигали горечь, озлобленность. Мною двигало и сожаление о несостоявшейся дружбе, поскольку я до сих пор не верю, что вы наконец удостоите меня своей дружбой. Тише, ничего не говорите. Я… Я допустила серьезную ошибку, и я должна это признать. Я увлеклась мыслью о борьбе с этой гадиной. Мое высокомерие ослепило меня. Я хотела быть более изощренной, более умной. Я стремилась к изящным решениям, к пышной помпе, когда надо было действовать стремительно. Одним словом, я признаю, что мне доставляло удовольствие быть втянутой в эту смертельную схватку. Но я забыла главное: я должна была погубить убийцу. С этими словами Аннелета выбежала из кабинета, пораженная масштабом своих ошибок. Элевсия осталась одна, переполненная печалью, неспособная вымолвить хотя бы слово, хотя бы пошевелиться.Сад и гербарий, женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Юная послушница, принятая в монастырь несколько дней назад, выпрямилась и повернула голову, когда Аннелета Бопре выбежала из двери гостеприимного дома в аптекарский огород. Она видела, как крупная женщина остановилась и перевела дыхание, приложив руку к груди. Эскив д’Эстувиль терпеливо ждала момента, когда вновь сможет приступить к выполнению своей миссии. Она должна была защитить Аннелету и Элевсию де Бофор и во что бы то ни стало найти воровку до того, как та вынесет украденные манускрипты за территорию монастыря. Получить эту миссию Эскив позволили ее удивительные таланты не только отчаянной забияки, но и прирожденной обманщицы. Элевсия де Бофор, тетушка прекрасного архангела, которого она защитила своим клинком в лесу Мондубло, которого прижимала к себе, чтобы он, лежавший без сознания, не замерз… Это было два месяца назад. Вечность, как казалось ей.Аннелета, боровшаяся с желанием разрыдаться, упасть на колени, чтобы вымолить прощение, продолжила свой путь. Ослепленная не только горечью, но и стыдом, она наткнулась на послушницу, которая, сидя на корточках, рыхлила землю. Молоденькая девушка встала, рассыпавшись в извинениях: – Помилосердствуйте, сестра моя. Я не слышала, как вы подошли. Я рыхлила замерзшую землю. Аннелета внимательно посмотрела на нее, покачав головой. Это очаровательное личико было ей незнакомо. Наверняка одна из новых послушниц. Возможно, облатка.[171] Послушница с наигранной робостью спросила, опустив глаза: – А вы, должно быть, Аннелета, наша сестра-больничная, таланты которой заслуживают стольких похвал? Я еще путаю лица, обязанности, имена… Аннелета сумела взять себя в руки и отрывисто ответить: – Похвалы заслуживают лекарственные растения. Мой единственный талант заключается в том, что я умею составлять сборы. Кто вы? Послушница подняла свои золотистые, почти желтые глаза. – Я здесь новенькая. Меня зовут Эскив, но позднее, когда я с несказанной радостью стану одной из вас, я собираюсь взять имя в честь святой Елены. – Достойная женщина. Настоящая святая. Вы сделали правильный выбор. С этими словами Аннелета рассталась с молоденькой девушкой и скрылась за дверью гербария, своей вселенной. В нескольких туазах* от гербария Эскив д’Эстувиль бросила тяпку, совершенно бесполезную в это время года, и, несмотря на кинжал, привязанный к бедру, легким шагом направилась в сторону скриптория. Она достигла своей первой цели. Ей приходилось действовать очень осторожно. Свои курчавые волосы она заплела в пучок и спрятала под короткой накидкой послушниц. Но глаза, легко узнаваемые глаза могли ее выдать. Призрак, над которым она одержала верх, которого проткнула своим кинжалом, прятался в этих стенах. Когда Эскив встречала на своем пути одну из монахинь, что случалось редко, поскольку она сумела добиться, чтобы ей поручали самые тяжелые работы на свежем воздухе, она опускала глаза, ловко изображая смирение и послушание. Аннелета закрыла ставни, заперла на засов дверь и разрыдалась в недружелюбной полутьме. Когда она так горько плакала в последний раз? Когда в последний раз ей нанесли столь глубокую душевную рану? Много лет назад.
Неуместное, почти забытое воспоминание проложило себе дорогу сквозь отчаяние. Ее отец и брат, сидевшие прямо, словно аршин проглотив, за столом в общей зале, судили ее. Судили безжалостно, поскольку никогда не испытывали к ней хотя бы намека на нежность. Аннелета не возмущалась, полагая, что вполне заслуживала ту пустоту, которая окружала ее с тех пор, как она себя помнила. В тот день мать не соизволила выйти из своих покоев, где она денно и нощно молилась с отрешенной улыбкой на губах, почти никогда не отрывая глаз от Псалтири. Некрасивая, чересчур высокая угловатая девушка ждала, положив руки на живот. Она ждала приговора отца и брата, и тот вскоре прозвучал: – Вы сумасшедшая, дочь моя? Помогать брату в его искусстве? Вы лишились рассудка? – Мсье отец мой, у меня есть склонности к врачебному искусству и науке. – Она попыталась привести последнее оправдание почти жалобным тоном: – У вас самого было множество возможностей проверить тот факт, что я в состоянии оказать существенную помощь. – Какая наглость! Какое бесстыдство, мадемуазель! Вы должны сгореть от стыда! Вы женщина – неужели вы забыли об этом? – а женщины ничего не смыслят в науках! Их разум не приспособлен для таких трудностей. Разумеется, я допускаю, что они могут запоминать, повторять движения или действия. Но что касается анализа, диагноза… Старый знахарь, который выдавал себя за cesculapius,[172] хотя из-за его грубейших врачебных ошибок погибло множество людей, что никак не могло считаться успехами, повернулся к сыну, такому же бездарному лекарю, с заговорщической улыбкой на губах. – Ну, Грегуар… Если вы не остережетесь, эта девица вскоре начнет вас учить, как пускать кровь! В ответ на это гротескное предположение брат самодовольно расхохотался. Затем Грегуар окинул свою сестру взглядом с ног до головы. На его лице отчетливо читалось отвращение. Усталым тоном он произнес: – Ба… Если она хочет стирать грязное белье или готовить мази под моим руководством, тогда мне не придется платить аптекарю. А к тому же она сможет заниматься моими детьми, тем самым освободив мою жену от тяжелой работы. – Какое благородное предложение, сын мой! Что на это скажете, мадемуазель? Примите во внимание то, что вы стареете. А я не могу содержать стареющую дочь. Что касается вашего замужества… Аннелета заметила искорку злобного упоения, блеснувшую в глазах обоих столь похожих мужчин. Как они радовались, что им удалось так дешево от нее избавиться! Аннелета вдруг все поняла. Ей открылась страшная правда во всей своей мучительной ясности: все эти годы она внушала им страх. Ее ум, способность вникать в суть и использовать свои знания буквально терроризировали их. Из-за нее они были вынуждены признать свою ограниченность. И за это они никогда не простили бы ее. Как ни странно, но констатация этого досадного факта принесла ей утешение. Аннелета не была одной из них, поскольку они не хотели ее. Ей больше нечего было делать среди них. Мягким, но непреклонным тоном она сказала: – Я не принимаю этого предложения. Губы отца скривились от негодования. Угрожающим тоном он прошипел: – Хорошо… Мы не чудовища, чтобы принуждать вас. А раз так, мадемуазель, у вас остается только один выход… – Он фыркнул, повернувшись к сыну, и насмешливым тоном добавил: – Если только какая-нибудь жаба не превратит вас в очаровательную принцессу! Подражая отцу, Грегуар рассмеялся, одобряя столь жестокую шутку. – Итак, я вижу для вас только один выход, – повторил мужчина, переполненный злостью. – Монастырь, дочь моя. – Как вам угодно, мсье. Мой долг велит мне подчиняться вам. Аннелете не удалось скрыть свой сарказм, и кипевший от негодования отец вспылил: – Черт бы вас побрал, дочь моя! Вы заставляете меня горько сожалеть, что я дал вам столько знаний… Аннелета никогда ничего не получала от отца, если не считать оскорблений и унижений. Всеми своими знаниями она была обязана себе и только себе. Она наблюдала, слушала, вникала. – Вот доказательство вашей неблагодарности! Что касается вашей дерзости, она служит дополнительным оправданием все чаще возникающих вопросов о целесообразности женского образования. Аннелета вышла из зала. Через четыре месяца она поступила послушницей в цистерцианское аббатство в Ферваке,[173] основанное в 1140 году сенешалем Вермандуа.
Аннелета рыдала, дыша через рот, вытирая нос рукавом, прижав ладонь ко рту, боясь, что какая-нибудь сестра или послушница, проходя мимо гербария, услышит ее горькие всхлипывания. «Прекрати. Немедленно прекрати, здоровенная жалкая дылда! Прекрати и возьми себя в руки. Что? Они не любили тебя, даже мать, которая пришла в этот мир только для того, чтобы желать поскорее покинуть его и вознестись в сады, населенные ангелами. Ну и что? Прошло почти тридцать лет. Может, они уже все умерли. Ты что, собираешься взять с собой эти абсурдные сожаления в могилу? Будешь выставлять себя на посмешище, вновь и вновь причитая, как они были неправы, не любя тебя? Они не хотят этого знать. Прекрати сражаться с призраками. Сейчас не время. Где-то рядом бродит смерть. Сражайся за жизнь. За ваши поиски, за себя саму, за Элевсию де Бофор, за мадам Аньес. Прекрати бороться с воспоминаниями или людьми, лица которых ты уже с трудом можешь описать. Изгони из себя прошлое». Аннелета опустилась на маленькую каменную скамью, вырезанную под окном гербария, и долго сидела, чувствуя себя опустошенной. Печаль постепенно исчезала, уступая место спокойной усталости. Сколько прошло времени? Аннелета не могла ответить на этот вопрос. Когда она наконец встала, ей показалось, что звонили к вечерне*. В памяти Аннелеты всплывали силуэты, с которыми она тысячи раз сталкивалась, привычки, за которыми она тысячи раз наблюдала, голоса, которые она тысячи раз слышала. Бланш де Блино, благочинная, которая помогала аббатисе и выполняла обязанности приора. Бланш, глухота и дряхлость которой так раздражали ее. Как ни странно, презрение постепенно вытеснило нежную жалость, которую она питала к старой женщине. Страх умереть из-за козней отравительницы превратил Бланш в живой труп, цепляющийся за последние ниточки, связывавшие его с жизнью. Аннелета спрашивала себя, был ли нервный кризис, охвативший благочинную при известии о смерти Гедвиги дю Тиле и особенно Иоланды де Флери, вызван ее дружескими отношениями с сестрой-казначеей[174] и милой сестрой-лабазницей или боязнью стать следующей? Жанна д’Амблен, которая ела суп такими маленькими глотками, что никто не знал, опустеет ли ее тарелка до утра. Ужасные события, происходившие в аббатстве в последние месяцы, сблизили Аннелету с Жанной, к которой она некогда питала неуместную зависть. Жанна собирала пожертвования, даруемые сострадательными людьми, и взимала деньги со штрафников, которые были обязаны проявлять щедрость по решению суда за то или иное прегрешение. Поэтому Жанна, в отличие от других, в том числе и сестры-больничной, не соблюдала строгого затворничества. При каждой своей поездке она могла общаться с мирянами. Берта де Маршьен. Берта сбросила с себя маску высокомерия и спесивости, перестала изображать святошу. Аннелета признавала за экономкой[175] определенное мужество, поскольку та приняла решение постричься в монахини из-за того, что никому не была нужна: ни семье, ни жениху. И все же Аннелета не могла отделаться от чувства недоверия к Берте и лишь частично верила в ее готовность помочь им в поимке убийцы. А Тибода де Гартамп, сестра-гостиничная? Тибода хлопотала вокруг своих кроватей, словно агрессивная наседка, мыла, не жалея воды, почерневшие от копоти стены до изнеможения, чтобы показать всем, что нисколько не была повинна в пожаре. Тибода, скрытая истерика которой постепенно становилась явной, что могло навлечь на них новые опасности. Аннелета вспоминала, как она вела себя незадолго до кончины Гедвиги. Тибода кричала, что хочет как можно скорее покинуть аббатство, вцепившись ногтями в руку больничной, да так сильно, что Аннелете пришлось дать ей пощечину, чтобы предотвратить приступ безумия. А если чересчур бурные реакции были всего лишь прикрытием, искусным притворством? Угрюмая толстуха Эмма де Патю… Аннелета подозревала, что Эмма вымещала свое вечно плохое настроение на юных послушницах и учениках, охотно раздавая им пощечины, поскольку, будучи учительницей, только она одна имела право поднимать на них руку. Аннелета частенько с удивлением замечала глаза, блестевшие от слез, покрасневшие щеки, на которых были отчетливо видны следы пальцев Эммы. Что рассказывала Эмма подлому сеньору инквизитору, когда аббатиса заметила, как те шушукались? А Женевьева Фурнье, хранительница садков и птичника, монахиня с кротким взглядом? Кому она могла рассказать о пропадавших яйцах? Женевьева больше не распевала во все горло гимны, побуждая кур активнее нестись. Казалось, ее жизненные силы иссякли. А Сильвина Толье, в чьем ведении находилась печь аббатства, славная маленькая коренастая женщина, всегда деятельная, выпекавшая хлеба один за другим, словно от этого зависело ее спасение? А все остальные? Какой убийственный список! Кому она могла довериться? Возможно, Жанне, а лучше Элизабо Феррон, заменившей несчастную Аделаиду Кондо в качестве сестры-трапезницы по настоятельной просьбе сестры-больничной. Женщина среднего возраста, вдова крупного торговца из Ножана, Элизабо недавно дала окончательный обет. Рослая Элизабо была способна оглушить любого, кто попытался бы покуситься на ее котелки. Что касается ее закаленного характера, он прекрасно подходил сильной женщине, прятавшей свою благожелательность и сострадание под манерами хозяйки лавки с зычным голосом. Кто же? Кто?
Раньше Аннелета исходила из того, что убийца стремилась завладеть печатью аббатисы. Теперь надо было все начинать сначала. Разрушить все сделанное. Она не была повинна в ошибках, допущенных из-за недоверия матушки! Губы Аннелеты озарила жалкая улыбка. Ладно, в ней вновь проснется боевой дух. Надо было собрать воедино разрозненные фрагменты, отталкиваясь от подлинной цели убийцы: секретной библиотеки и хранившихся там бесценных произведений. Аннелета подошла к высокому шкафу и вытащила оттуда мешочек с ricinus communis,[176] масло которой она использовала как средство, очищающее кровь, но только в редких случаях из-за его токсичности. Она разложила на столе, за которым взвешивала и готовила препараты, серые зерна с красно-коричневыми прожилками и села на маленький табурет. Первое зернышко она отложила влево. Это зернышко изображало Аделаиду Кондо, их милую, но слишком болтливую сестру-трапезницу, отравленную аконитом, подмешанным в настойку из лаванды с медом, которая предназначалась Бланш де Блино, приору и хранительнице печати аббатисы. Второе зернышко присоединилось к первому: Бланш, которая не покидала обогревальню. Большую часть дня она дремала, а монахини порой наносили ей визиты под надуманными предлогами, чтобы удостовериться, что Бланш не умерла во сне. Как ни странно, но вопреки тому, что думала Аннелета, использованный аконит не был похищен из шкафа гербария. Чуть выше сестра-больничная положила третье зернышко: Гедвига дю Тиле. Рядом с ним оказалось еще одно: Жанна д'Амблен, которая, по мнению Аннелеты, была женщиной недюжинного ума. Конечно, вплоть до того дня, когда Жанну отравили, Аннелета считала ее одной из подозреваемых. Но то обстоятельство, что Жанна была в отлучке в момент кражи тиса из гербария, лишь подтверждало ее невиновность. Хотела ли убийца отравить обеих подруг, или же Жанна либо Гедвига по ошибке съели или выпили отраву, предназначенную для другой? В данном случае Аннелета нисколько не сомневалась, что пять гроссов* тисового порошка убийца взяла из ее запасов в гербарии. Об этом свидетельствовали как симптомы, проявившиеся у Гедвиги, так и конвульсии, дрожь и рвота, мучившие Жанну в течение двух дней, а затем сменившиеся сонной прострацией. Сестра-больничная почувствовала легкий укол боли, откладывая следующее зернышко: Иоланда де Флери. Милая, веселая Иоланда, жившая одной мечтой: что ее маленький Тибо жив, здоров и наслаждается жизнью. Кто мог лгать ей целых два года, сообщая обнадеживающие новости об умершем мальчике? И почему? Затем Аннелета насыпала шаткую горкуиз зернышек клещевины: она сама, Элевсия, мадам де Суарси, эмиссар Папы, рожь, зараженная спорыньей, которую Аделаида нашла в гербарии незадолго до своей смерти. Аннелета долго смотрела на горку, потом щелчком разрушила ее и сделала маленькую пирамидку. Нет, она забыла по меньшей мере три зернышка. Эмма де Патю, учительница, застигнутая при разговоре с чудовищем Флореном. Тибода де Гартамп, поскольку кто как не сестра-гостиничная могла разжечь огонь в гостеприимном доме, чтобы отвлечь внимание? Наконец, осколок стекла, впившийся в подметку, когда она стояла у изголовья Жанны. Стекло было редкостью, и его присутствие в дортуаре вызывало как минимум удивление. Аннелета погладила кончиком указательного пальца зернышко, изображавшее Иоланду. Как ни странно, смерть сестры-лабазницы огорчила Аннелету гораздо сильнее, чем она могла бы предположить. Ей не хватало жизнерадостности этой полненькой женщины. А ведь еще совсем недавно Аннелета видела в ее постоянном хорошем настроении недостаток ума. Но главное, она корила себя за то, что заставляла Иоланду признать смерть своего сына, чтобы выведать имя той, кто сообщал ей столь умилительные новости о ребенке. Ярко-красные пятна на мертвенно-бледной коже трупа Иоланды напоминали царапины. Аннелета сначала подумала о механическом удушении: кто-то сжал ее горло обеими руками или полоской ткани. Но когда она тщательно изучила все следы, то пришла к выводу, что это не странгуляционная борозда, тем более что женщину, достаточно крепкую для того, чтобы задушить полную сил жертву, трудно было представить. И наверняка Иоланда начала бы сопротивляться, звать на помощь соседок по дортуару. Иоланда тоже стала жертвой отравительницы. Некоторые детали подтверждали вывод сестры-больничной: воспаленная зона была достаточно обширной, от основания шеи до самого носа, иными словами, совсем не похожей на полосу, которую могли бы оставить веревка или полоска ткани, скрученная в жгут. Думать… У Иоланды де Флери не было сил встать, позвать на помощь, а это доказывает, что она лежала на кровати в оцепенении, возможно, ее даже разбил паралич. Она умерла от асфиксии, если только у нее не остановилось сердце. Аконит, как и в случае с Аделаидой? Думать. Когда Адель де Винье, сестра – хранительница зерна, нашла безжизненное тело Иоланды, оно уже окоченело, а это доказывало, что молодая женщина умерла несколько часов назад, даже принимая во внимание ледяной холод, царивший в дортуаре. Иоланда лежала с широко открытым ртом, одна нога свисала с кровати, другая была поджата под ягодицы, а руки покоились на одеяле, несмотря на низкую температуру. Может, сильный приступ лихорадки заставил ее искать прохлады? Подобная гипотеза не казалась такой уж нелепой. Тем не менее она не объясняла положение ног Иоланды, а также длинную красную полосу, поднимавшуюся от основания шеи к носу. Окоченевшие члены покойной ставили Аннелету в тупик. Речь не могла идти о rigor mortis, трупном окоченении, начинающемся через три-четыре часа после кончины с мелких мышц шеи и становящемся полным часов через двенадцать. Если отталкиваться от времени последней службы, на которой присутствовала Иоланда, смерть наступила четыре-пять часов назад. Но тело было холодным и окоченевшим. Немногие известные яды действуют с такой скоростью. Аннелета Бопре стала рыться в своей памяти. Напрасно. Что-то ускользало от нее, какая-то деталь, связанная с неким животным. Она могла бы в этом поклясться. Но в одном Аннелета была уверена: убийца взяла этот яд не из ее шкафа, поскольку она не могла его идентифицировать. Животное. Крупное животное. Очень опасное. Какое же? Искать. Когда-то она об этом читала. Почему она забыла, она, которую память и разум никогда не подводили? Аннелета в ярости смахнула со стола зерна клещевины.
Замок Отон-дю-Перш, декабрь 1304 года
Вот уже две недели граф Артюс д'Отон пребывал в опасном раздражении. Он, обычно столь сдержанный, столь внимательный к мнению других – и особенно к мнению своих челядинцев,[177] поскольку те прекрасно знали привычки сильных мира сего, – гневался из-за пустяков, раздувал смешные промахи, которые прежде лишь позабавили бы его. Слуги ходили на цыпочках, прижавшись к стенам, стараясь сделаться как можно более незаметными. Граф грубо отчитал прачку из-за складки на рукаве его шенса.[178] Повар решил, что настал его последний час, а причиной стала слишком пряная медовуха. Что касается кузнеца, то граф с яростью прижал его к стене кузницы, обвинив в жестокости, когда Ожье, любимый конь графа, недовольно заржал при появлении мастерового. Все были чрезвычайно обеспокоены. Старые слуги с тревогой вспоминали о жутком трауре графа после смерти Гозлена, его единственного наследника, когда в угрюмом взгляде хозяина, во всех его жестах они читали желание убить кого-нибудь. Некоторые обращались за помощью к Ронану, к которому их сеньор относился с нежностью, удивительной для этого молчаливого человека. Старик был свидетелем рождения графа и в значительной мере его воспитателем. Он один осмеливался не обращать внимания на убийственное горе, охватившее графа после смерти сына. Слуги пытались получить сведения, возможно, объяснения. Ронан, как мог, успокаивал их: это желчное настроение должно было скоро пройти.Ронан понимал, что заставило графа потерять интерес к еде и лишило сна. Мадам. Так он назвал эту даму, которая была необыкновенной женщиной. И хотя Ронан никогда не встречался с ней, он почувствовал это по преданности маленького Клемана, по ужасу, охватившему мальчика, пока его госпожа сидела в тюрьме, по приступам радости Артюса, сменявшимся меланхолическим настроением, по восхитительным отзывам Монжа де Брине, сеньора бальи, и даже по беспокойству мессира Жозефа из Болоньи, старого лекаря графа.
Ронан постучал в дверь маленькой библиотеки в форме ротонды, которую граф превратил в свой рабочий кабинет. В ответ он услышал нетерпеливое, строгое восклицание: – Что еще? Неужели мне нужно спрятаться в какой-нибудь пустыне, чтобы наконец обрести покой? Старый слуга притворился, что не заметил отвратительного настроения Артюса, и вошел в комнату. – Повар покорнейше просит сообщить, что вы желаете на ужин. Вы похудели, монсеньор. На вас мешком висят короткие штаны и даже лосины. – Я не голоден, у меня нет никаких желаний, и он раздражает меня, этот повар. Ты тоже, с твоим вечным упрямством старой клуши. Ронан опустил голову, не сказав ни слова. Артюс смутился. Неужели он стал таким безмозглым хамом, что нагрубил одному из немногих, кто был по-настоящему привязан к нему, его прошлому, одному из тех редких Людей, кого по-настоящему любил? Он вздохнул, злясь на себя, и проворчал: – Я всегда питал особую нежность к клушам, особенно старым. Их преданность своим цыплятам и даже молодым несушкам умиляет меня. Тем не менее… в данный момент я не хочу находиться в их обществе. Ронан поднял глаза на того, кто по-прежнему был его «малышом», и легкая улыбка вознаградила графа за его завуалированные извинения. – Мессира Монжа де Брине удивляет ваше одиночество. Возможно, беседа с этим человеком, который так вам предан… – Брине ничего не поймет, – прорычал граф. – Впрочем, я не смогу ему все объяснить, поскольку сам мало что понимаю… Черт возьми! После стольких мучений, которым она подверглась в том застенке… Как подумаю, что она отказалась от моего гостеприимства, сославшись на усталость и боль! Никто не посмел бы злословить по этому поводу! Почувствовав, что он ступил на зыбкую почву, Ронан заколебался, но, движимый любовью и уважением к этому человеку, достойному доверия, смелому, но, к сожалению, лишенному непосредственности, он решился: – Слухи не нуждаются в обоснованности. Несомненно, у мадам есть множество дел в своем мануарии. Несомненно,… слишком быстрое и… публичное сближение с Отоном не подобает достойной благородной даме. Несомненно… – Почему вы все называете ее «мадам», словно только она одна и существует? – прервал старика Артюс, терзаемый растерянностью и плохим настроением. – А разве есть другие, мессир? – Для кого? – Для вас. Для меня, для тех, кто входит в ваше окружение. – А почему я в очередной раз должен чувствовать себя перед тобой шестилетним ребенком? Лицо Ронана просияло от счастья. Он пустился в воспоминания: – Боже мой, каким вы были шалуном и проказником… и уже таким отчаянным. Вы ничего не боялись… Что касается глупостей, Господи Иисусе, да вы их коллекционировали. Когда вы поднимались на крышу голубятни, чтобы убедиться, что солнце действительно восходит на востоке, я умирал от страха. Было невозможно заставить вас спуститься. Как же мы боялись! А ваши ночные походы в лес в поисках большого белого единорога из сказки… А тот день, когда вы чуть не утонули, потому что вбили себе в голову, что, если будете долго держать голову под водой пруда, у вас отрастут жабры? Святые небеса, и где вы нахватались всех этих безумных глупостей? Одна следовала за другой. Как часто вы мучили меня! Граф постепенно смягчался, вспоминая свои детские выходки, многие из которых действительно могли стоить ему жизни. Более спокойным тоном он сказал: – Вы… Ты, маленький Клеман, клирик из Алансона… этот рыцарь-госпитальер, о котором я ничего не знаю, кроме имени, Франческо де Леоне, и даже мой лекарь, спрашивающий меня о ранах «мадам» и пославший ей чудодейственную настойку, рецепт которой он ревностно держит в тайне… Ронан не заблуждался. Его господина преследовала навязчивая идея об этом рыцаре. Может, он сердился из-за того, что тот опередил его и спас мадам де Суарси? Или речь шла об обыкновенной ревности? Поняв, что его сеньор действительно не может поделиться своими опасениями с мессиром де Брине, старый слуга осторожно пошел дальше по зыбкой почве чувств. – Ах… рыцарь… – Что «рыцарь»? Ведь я упомянул не только его одного, разве не так? – Разумеется. Граф несколько минут пристально смотрел на старика, потом сдался: – Продолжай, Ронан, и сядь, потому что твое упрямство сродни моей неуверенности, которая гложет меня вот уже несколько дней. По сути, кому, кроме тебя, я могу довериться… Или ей, «мадам», – добавил он, впервые улыбнувшись за несколько недель. Старик сел прямо в одно из маленьких кресел, взволнованный этим проявлением нежности и доверия. – Да… этот рыцарь. Я не знаю, что и думать, мой славный Ронан. Мне в голову приходят абсурдные мысли. До его прихода в застенок мадам де Суарси не была знакома с ним. В этом я уверен, да и Клеман подтвердил. Я также убежден, что Никола Флорен погиб от его кинжала. Какая сила могла толкнуть госпитальера, занимающего высокое положение в ордене, на убийство инквизитора? Как, почему он приехал в Алансон? А он приехал специально, чтобы спасти ее. Даю голову на отсечение. Почему Аньян, секретарь покойного чудовища Флорена, бормотал такие несуразные слова о мадам Аньес, что я подумал, будто он в нее влюбился? Почему все эти существа: мужчины, дети… да я сам, все мы тянулись к ней и были готовы рисковать своей жизнью, лишь бы спасти ее? Почему, почему этот рыцарь с Кипра? Откуда он ее знает? – Граф вышел из себя. – Вы опасаетесь, что в его случае… Как бы это сказать? Речь идет о привязанности, недопустимой для человека, давшего обет? – А что? Разве он не может влюбиться? Мне не понадобилось много времени, чтобы самому потерять голову, – ответил граф с мрачной иронией. – Вы помните, как однажды задавали мне вопросы, на которые я не мог ответить? Вы усмехнулись, сказав мне: «У всякой проблемы есть решение. Надо только его найти». – К чему ты клонишь? – А не лучше ли поделиться своими сомнениями с «мадам»? Насколько я понимаю, ее не назовешь вертихвосткой или глупой кокеткой. – И выставить себя на посмешище? Я даже не знаю, находит ли она во мне какие-либо достоинства, кроме моего имени и состояния. Видишь ли, в ее случае моего имени и состояния недостаточно… Тем более я сомневаюсь, что она этим удовольствуется. – Это было бы превосходной возможностью все проверить. Вы также могли бы сразу взять быка за рога. – Ее? – смутился граф. – Разумеется, нет, монсеньор. Ну же, чему я вас учил? Никогда не обращаться с женщиной как с быком. Они намного более опасны. Я все время думаю об этом рыцаре де Леоне. Вы могли бы сблизиться с ним, возможно, добиться объяснений. Я слышал, что к этим монахам-воинам не так легко подступиться, но ваше имя, ваша репутация, вероятно, избавят вас от дурного приема и заставят его внимательно выслушать вас. Это было столь очевидным, что Артюс посмотрел на Ронана так, словно только заметил присутствие старика в библиотеке. Когда он заговорил, в его голосе звучали интонации прежних добрых дней: – Знаешь ли ты, мой драгоценный Ронан, что снял с моих плеч невыносимое бремя? Черт возьми! Разумеется, я встречусь с рыцарем… Надеюсь, что он не отправился в дальние страны. Прикажи позвать Монжа де Брине, прошу тебя. Его длинные уши улавливают все слухи. Возможно, он сумеет мне помочь. – А «мадам»? Граф тут же заколебался. – Что ж… Твое предложение вполне разумно. Раз так… Мне надо взвесить все «за» и «против». Да… Я чувствую себя способным взять быка, даже разъяренного, за рога. А вот общаться с женщиной ее положения мне не так просто. Понимаешь ли, Ронан, – продолжал он, – дамы такие сложные, если не сказать неожиданные. Наконец… Мы гораздо… проще, доступнее. Улыбка озарила морщинистое лицо старика, много лет назад тоже проводившего бурные ночи. – Так утверждают мужчины. И поскольку женщины не ждут того же самого, их считают неожиданными… если не сказать непредсказуемыми? – Ах так! Ты щелкаешь меня по носу? – Я никогда бы на это не осмелился, – возразил старик тоном, свидетельствовавшим о том, что он и в самом деле поставил точку в разговоре. – Если позволите, я пойду за мессиром де Брине. – Ступай. Вскоре после ухода старика, столь любезного его сердцу, Артюс был вынужден признать очевидное – то, о чем вот уже две недели он старался не думать. Он предпочел бы волноваться, нервничать, переживать, неистовствовать. Так и было бы, если бы Ронан, который всегда искусно управлял им, терпеливо не подвел его, как обычно, туда, куда он отказывался идти: к столу, ванне, кровати, часовне, письменному столу, а вот теперь, в зрелые годы, к решению. Артюс раздраженно вздохнул. Разумеется, надо было получить разъяснения от неуловимого госпитальера. Как могло случиться, что воин Христа проявил слабость и воспылал чувством к женщине? Правда, к необычной женщине. Артюс был достаточно честным, чтобы признать: ревность боролась в нем с беспокойством. «Мадам» украла у него сердце и рассудок так ловко, так стремительно, что он едва это заметил. Тогда почему бы ей не похитить их у другого? По какой иной причине так спешил спасти ее рыцарь, не побоявшийся убить пусть и развратного, но служителя Бога, инквизиции, Папы? Граф ходил взад и вперед по маленькой комнате, словно лев в клетке, с таким раздражением, что в окнах дребезжали маленькие стеклышки неправильной формы. Клеман уверял графа, что его дама даже не подозревала о существовании этого рыцаря до того, как тот нанес ей странный визит в Доме инквизиции. – Черт возьми! – процедил граф сквозь зубы. Эта история не имела никакого смысла. Следующая мысль заставила его оцепенеть. Как и все, что касалось мадам де Суарси. Какая паутина плелась вокруг нее? Встреча с рыцарем де Леоне не поможет ему, по крайней мере сейчас. Нет другого выхода, кроме того, что так ловко предложил Ронан. Нанести ей визит. Нетерпение боролось со страхом. А если она выгонит его? Если она будет уклоняться от ответа? Если он поймет, что она не разделяет его чувств? Да, но… Вдруг все наоборот? Предлог. Тогда он окажется не в такой уж глупой ситуации. Узнать о ее здоровье, осведомиться о малыше Клемане, которого ему так не хватает в замке. К тому же мессир Жозеф скучал по мальчику и его неиссякаемым вопросам. Должен ли он предупредить ее заранее о своем визите? Он вспомнил о гневе Аньес, о ее резких словах, когда он застал даму де Суарси в крестьянских браках при сборе меда. О длинных крепких мышцах бедер, выступающих под тканью, когда она садилась на Ожье. Черт возьми! Уже после их первой встречи она не выходила у него из головы. Тогда сообщить? Это было бы, несомненно, более куртуазно, хотя положение сюзерена избавляло его от подобной необходимости. Но он рассчитывал на эффект неожиданности, чтобы как можно скорее развеять свои сомнения.
Замок Ларне, Перш, декабрь 1304 года
Жюль мял в руках шапку, подбитую заячьим мехом. Он старался держаться подальше от своего рассерженного хозяина, но был вынужден подойти ближе по требованию, произнесенному голосом, охрипшим от пьянства. – Подойди! Подойди же! Итак, мой мошенник мастер, что ты можешь мне сказать? Жюль был сервом. Мастером же он стал по воле случая. Впрочем, этот титул не спасал его ни от побоев, ни от голода. – Подойди ближе! – завопил Эд де Ларне, яростно стукнув кулаком по столу. – Отвечай немедленно, или я прикажу твоим дружкам по несчастью поколотить тебя, и они будут весьма рады возможности отомстить за твое высокомерие по отношению к ним. Всем этим болванам, которые только и делают, что ленятся и хотят разорить меня! – Нет, мой добрый хозяин, нет, – пробормотал обезумевший мужчина. – Тогда, если ты при помощи себе подобных не обкрадываешь меня, если вы не дрыхнете, как слизни, где руда, добытая за неделю? Надеюсь, не в этом мешочке, который ты притащил, – он вызывает только смех! Вместо ответа мужчина кивнул головой. – В нем? Да ты издеваешься! Тут нет и тридцати марок!* Куда вы дели остальное? Вы продали… – В глазах Эда засверкал нехороший огонь. – А, я вижу… Вы грабите меня, как лесные разбойники, чтобы заплатить мне шеваж[179] и талью[180] или, что хуже, за свое личное освобождение! Ну и дела! Что, я должен позволять себя ощипывать как индюшку, чтобы вы могли купить себе свободу? Признавайся, или я тебя сейчас убью! – Нет, вы ошибаетесь, мессир. В мешке все, что мы сумели добыть из вашего рудника, клянусь своей душой. Ваш рудник… он… Остальные слова потонули в невнятном шипении. Жюль дрожал от страха. Жертвами ярости его сеньора уже стали несколько человек. Поговаривали, что он помог уйти в мир иной – чересчур сильно сжав ей горло, – этой шлюхе Мабиль, которая терроризировала всех слуг. Мабиль вернулась в замок, проведя некоторое время у сводной сестры хозяина, мадам де Суарси. Она была смазливой, но злой, как чесотка и колики вместе взятые, эта аппетитная шлюха. – Мой рудник? Так что с моим рудником? – зарычал Эд. – Он истощился… Безвозвратно. Здесь нет моей вины, хозяин. Мы рыли, рыли, пока не стерли все пальцы. Там больше ничего нет. Нет железа. Клянусь вам прахом моего сына. Ординарный барон[181] де Ларне резко вскочил, опрокинув скамью, на которой сидел. Жюль решил, что настал его последний час, и подавил рыдание, перекрестившись. Эд прорычал: – Вон с моих глаз! Немедленно! Убирайся, пока я не передумал. Мастер не заставил хозяина повторять дважды и как ужаленный выскочил из зала, благодаря небеса за оказанную ему милость. В конце концов, он ничем не владел, даже свободой уйти. Ничем, кроме своей жизни, а она, по крайней мере сейчас, была спасена. Эд тяжело опустился на край стола. Разумеется, он знал об этом. Он заставлял сервов работать, пытаясь убедить себя, что в руднике есть еще немного руды, достаточно, чтобы какое-то время держать короля в заблуждении. Напрасно. На протяжении нескольких поколений семья Ларне покупала у властей относительное спокойствие за эту цену, а от их огромного состояния сейчас остались лишь крохи. Предки Эда вели хитроумную политику, клянясь в верности королям Франции, но не гнушаясь заигрывать с вражеской Англией, близким соседом. И хотя открыто об этом не говорили, но железо доставалось самому щедрому и «душевному» монарху. Как сформулировал дед Эда с жизнерадостностью богатого суконщика: «Твоя жена бывает весьма соблазнительной лишь тогда, когда она нравится другим. Таким образом, щедрым следует быть лишь с соблазнительными женщинами». Жизнерадостность исчезла. Что касается «соблазнительной женщины» из метафоры, она стала бесплодной. Рудник начал истощаться незадолго до смерти барона Робера, отца Эда. Эд схватил кувшин и налил себе нетвердой рукой вина, забрызгав темную столешницу. Он качнулся, но вовремя схватился за край стола. Тупая, глупая зловредная шлюшка, которая важно расхаживала по замку в перешитых нарядах своей тетки, раздавала приказы и читала нравоучения, словно она была здесь хозяйкой! Все ее ненавидели. Он сам ее ненавидел! Все произошло из-за нее, из-за глупости, проявленной ею на инквизиторском процессе. Матильда… На что она рассчитывала? Что он уложит ее в постель и лишит девственности? На супружеском ложе? Как ни странно, хотя это и входило в его планы, он не испытывал ни малейшего желания. Раз уж он не сумел уничтожить Аньес руками Матильды, девчонка перестала для него существовать. Он рыгнул. Зачем деликатно обращаться с барышней, когда он может лапать девок и требовать от них все, что угодно? Из-за глупости Матильды провалился план ее дорогого дядюшки. Ну что ж, она за это заплатит. Она заплатит за мать. Она заплатит за От-Гравьер. Она заплатит за все остальное. Опьяненный желчной радостью, он забыл, что инквизитора убил незнакомец. Это была вина Матильды. Он все ставил ей в вину, даже то, что она не была похожа на Аньес. Да, надо, чтобы эта идиотка за все заплатила. Тогда, возможно, он снова станет спать спокойно. Эд задумался. Вдруг его озарила счастливая мысль, и он улыбнулся. Он позвал служанку, которая предусмотрительно остановилась на безопасном расстоянии от хозяина. – Немедленно скажи мадемуазель моей племяннице, что я хочу видеть ее. Быстро сделав реверанс, девушка исчезла.Матильда потратила несколько минут, чтобы привести себя в порядок, прежде чем принять своего дорогого прекрасного дядюшку. Она оживила кожу щек щипками, покусала губы, но не знала, что делать с волосами. Нет, дама расплетает косы лишь тогда, когда ложится… с супругом или любовником. Она бросилась к небольшому креслу, стоявшему возле туалетного столика, и приняла позу, которую посчитала томной и одновременно изящной. Хмурое лицо любимого дядюшки подсказало Матильде, сразу же почувствовавшей разочарование, что сегодня вечером она вновь не познает тайну плотских утех. Раздосадованная, она встала. Эд почувствовал желание племянницы, и на него нахлынула волна ненависти, которую он никак не мог сдержать. Юная шлюха! Ее порочность не имела оправданий, в чем он не отказывал другим. – Дядюшка, какое счастье видеть вас… – Моя дорогая крошка, боюсь, что оно продлится недолго. – Вы пугаете меня. – Я в отчаянии. Ваша мать по-прежнему портит нам жизнь. – Как?! – Вскоре она заберет вас. Несправедливый исход судебного процесса дает ей на это право, ибо она не была поражена в своих правах. – «По твоей вине, мерзавка», – добавил Эд про себя, а потом продолжил: – Боюсь, она будет мстить вам за вашу смелость, вашу привязанность ко мне, которую я очень ценю. Я хорошо знаю ее. Она безжалостная, хотя и прикидывается простодушной. Ах, боже мой!.. Только представлю вас в этом свинарнике Суарси, ваши нежные руки, огрубевшие от тяжелой работы, ваш изящный силуэт, изуродованный лохмотьями… У меня сжимается сердце. У Матильды тоже было тяжело на сердце. При мысли о подобной перспективе тошнота подступила к самому горлу. Нет! Нет, только не Суарси, только не мать, только не свиньи и вонючие слуги! Только не невыносимый холод в мрачных стенах. Она хотела веселья, изысканных яств, танцев, света, ковров, служанок, красивых одеяний и драгоценностей. – Я отказываюсь! Я отказываюсь возвращаться в эти смрадные трущобы Суарси. – Охваченная паникой, готовая вот-вот разрыдаться, Матильда умоляюще добавила: – Дядюшка, заклинаю вас, оставьте меня здесь. – Это мое самое горячее желание, милая. Но как? Я не могу выступать против права вашей матери. Тем более сейчас. – Ну… через несколько месяцев я стану совершеннолетней, всего через пять. – И где же я буду прятать вас все это время, до тех пор, пока вы не вернетесь ко мне? – Эд подошел к племяннице и поцеловал в лоб в знак покорности, а затем лукаво продолжил: – Мадам… Мне пришлось выпить несколько кубков вина, чтобы найти в себе мужество сделать это признание. Разве это не поразительно для человека, который боится только Бога? – солгал жалкий трус. Внезапное смирение и обращение «мадам» растрогали девочку, и она жеманно произнесла: – Вы пугаете меня, мсье. – Это последнее, чего я хочу в данный момент. Вы… Надеюсь, ваша проницательность позволила догадаться, что я питаю к вам… привязанность… Однако наши родственные связи не только не оправдывают ее, но и делают… необъяснимой. Даже немыслимой. Сердце Матильды забилось. Наконец-то! – Мсье… – прошептала она, прикрывая рот маленькими пальчиками, усыпанными кольцами мадам Аполлины, ее покойной тетушки. – Я знаю… Впрочем, я слишком далеко зашел, чтобы от всего отказаться. Я понимаю, что наши кровные узы внушают вам отвращение. Я сам долго взвешивал все «за» и «против». Я стою перед вами покоренный, безоружный, не питающий никаких надежд. Хотите моей смерти? Я предлагаю вам свою жизнь. Ах, какой неожиданный поворот! Все ночи напролет Матильда мечтала услышать такие слова. Любила ли она дядюшку греховной любовью? Конечно, нет. Впрочем, она не питала к нему и особой родственной любви. Матильда не любила никого, кроме Матильды де Суарси, которая все больше нравилась ей. Но он был богат – так, по крайней мере, она считала, – и потом, эта душераздирающая сцена… Она станет недоступной богиней, к стопам которой будут припадать мужчины. Какая прекрасная метафора! Матильда протянула Эду руки, и он поцеловал их. – Ах, нет… Вашей смерти? Никогда, мсье. Что делать? Что делать, чтобы навсегда остаться с вами? – Иными словами, вы… – Тише, – прервала она его. – От дамы нельзя требовать подобных признаний. – Я грубиян, мадам. Тысяча извинений. Но вы опять заставили трепетать мое бедное сердце, которое я считал уснувшим. Что делать? Я перебрал все решения и понял, что существует лишь один выход. Если ваша мать заберет вас, она вас погубит. Вы молодая, красивая, соблазнительная. А она стареет, и у нее нет иного будущего, кроме неблагодарной работы в Суарси. Ее женская ревность не будет знать передышки. Она чувствует, что вы завоевали меня, признаюсь, без особого труда. Эд так умело набросал соблазнительный портрет Матильды, противопоставив ее матери, что девочка, не задумываясь, согласилась с ним. – И какой же этот единственный выход, мой дорогой дядюшка? – Зовите меня Эд, прошу вас. Не напоминайте больше о наших связях, которые ранят мое сердце. – Эд… Я тысячи раз шептала ваше имя, мсье. Итак, выход? – Монастырь, моя прелестница. Монастырь, где вы будете гостить пять недолгих месяцев до вашего совершеннолетия. – Монастырь? – Вы поедете туда как гостья, а не как облатка. Своего рода духовное уединение, как это делают многие высокородные дамы королевства, в том числе и дочь короля, мадам Изабелла. – Мадам Изабелла? Правда? – Разумеется, и многие другие. – Пять месяцев – это так долго… В монастырях можно умереть от скуки. – Пять месяцев – и свобода, навсегда. Вы, я… Но вы такая красивая, такая изящная, что я опасаюсь, как бы однажды вы не покинули меня… – О нет, мой… Эд, мой нежный Эд, – пообещала Матильда, предчувствуя, что скоро замок Ларне станет недостаточным для будущего, о котором она мечтала. К тому же сводный дядюшка никогда не получит от Церкви разрешения жениться на племяннице. – Ну что же, мой нежный Эд, нас ждет короткая разлука. Но молю вас, выберите женское аббатство, более привлекательное, чем Клэре. – Я уже подумал об этом, – солгал Эд, который искал самый удаленный от Ларне и Суарси-ан-Перш монастырь. – Вам надо написать короткое письмо и объяснить, почему вы хотите на время покинуть светское общество и воссоединиться с Богом… Так я огражу нас от гнева Аньес. Выбор Эда пал на Аржантоль, женское аббатство ордена цистерцианцев, основанное Бланкой Наваррской и ее сыном Тибо IV Шампанским. Это аббатство полностью отвечало его желаниям. Удаленность, поскольку Аржантоль находился в Шампани, и суровость. Устав, написанный святым Бенедиктом, был строгим, вменял в обязанность бедность и строгое затворничество в стенах монастыря и возводил в догму ручной труд. «Твои хорошенькие ногти будут рыть землю, прекрасная кокетка, твоя поясница будет разламываться от боли при сборе хвороста, и тебе придется колоть лед в тазу, чтобы умыться». – Прошу вас, Эд, диктуйте. Все время, пока Эд подбирал слова, как можно более убедительно свидетельствовавшие о том, что его племянница сделала окончательный выбор, он смотрел на нее, полуобнаженную, сидевшую на неудобном табурете. Он видел, как монахиня подносит нож к ее прекрасным волосам, режет, стрижет их. Он видел, как длинные курчавые пряди падают на землю. Он видел, как из глаз Матильды градом льются слезы, орошая ее маленькие груди. Он даже чувствовал запах грубой льняной рубахи, которую надевают ей через голову. Шлюха! Когда мать разыщет ее, невыносимая глупая болтунья станет уже совершеннолетней. Ничто и никто не сможет забрать ее из монастыря, которому он пообещал щедрый дар. Вернуть девочку означает вернуть деньги. Эд сумеет убедить аббатису, что племянница ведет себя неподобающе и он, дядюшка-опекун, заботящейся о ее благополучии и чистоте души, вручает Матильду Богу и дисциплине, чтобы направить племянницу на путь истинный. И как славная женщина, которая окажет ему такую услугу, сможет проверить, что он вовсе не является опекуном мадемуазель? Шлюха!
Шартр, дамские бани, улица Бьенфэ, Бос, декабрь 1304 года
Од де Нейра потянулась всем телом и залюбовалась своей молочной кожей, слегка порозовевшей после горячей ванны, ароматизированной эссенциями розы и лаванды. Одетая только в вышитые шелковые туфельки, она рассматривала себя в маленьком зеркале, висевшем в ее личной кабинке. Совершенство. Она всегда была совершенством, вплоть до прекрасного чела, изящная линия которого стала еще длиннее благодаря эпиляции, как того требовала мода. Это не было ни тщеславием, ни кокетством. Тело и очаровательное лицо были самым надежным оружием, не говоря уже об уме и изворотливости. И поэтому они требовали ухода. В ожидании своего гостя она решила пройти через умывальню обнаженной: восхитительное испытание, которое она порой позволяла себе. Од вышла из кабинки и, неся в руках тяжелый кувшин с настойкой мальвы, беззаботно стала рассматривать новых посетительниц с видом знатной дамы, ищущей родственницу. Не менее десяти женщин устремили свои взгляды на Од, более или менее явно оценивая ее. Убедившись в правильности своих предположений, Од вернулась в кабинку. Нет более беспристрастного судьи женской красоты, чем другая женщина, поскольку мужчина сразу же начинает путаться в своих желаниях. А здесь их было почти десять! Подобные проверки были первой из причин, по которым Од любила публичные бани. Положение в обществе и состояние позволяли ей принимать ванну дома. Вторая причина носила стратегический характер. Женщины охотно болтали друг с другом, даже если встречались только в банях. Они обменивались альковными тайнами, кулинарными рецептами, рассказами о семейных или денежных затруднениях и, при случае, анекдотами, которые, если правильно ими воспользоваться, могли низвергнуть обладающего властью человека. Од здесь собирала информацию. Кроме того, ни в одном другом месте не было так удобно принимать женщину, особенно тогда, когда Од не хотела, чтобы прохожие или слуги видели, как та входит в особняк, снятый для нее Гонорием Бенедетти в Шартре, например. Разве можно найти лучшее место для конфиденциальных признаний и анонимности, чем залы, гудящие от разговоров и смеха? В то время, когда нагота никого не смущала, многие бани были общими для мужчин и женщин. Некоторые даже становились местом галантных встреч – за плату или бесплатно, – если не неофициальными борделями. Од избегала этих лупанариев, пусть и роскошных, где перед ваннами, надежно защищенными занавесями, стояли прелестные столики, чтобы любовники могли подкрепиться и насладиться вином в перерыве между двумя сеансами физических упражнений. Если не считать редких, но требовательных жалоб тела, плоть уже давно перестала интересовать мадам де Нейра, поскольку она знала все ее хитрости, все уловки. Плоть превратилась в обыкновенный способ добиваться цели. Од легла на маленькую кушетку, стоявшую в ее кабинке, и закрыла глаза. Гонорий, дорогой Гонорий… Во время своего последнего приезда в Рим она нашла камерленго постаревшим, исхудавшим. Странно, но многие люди так никогда и не могут утолить жажду власти. Они постоянно вырывают, поглощают, проглатывают новые частички власти, но вечно остаются голодными. Од открыла глаза и выпрямилась. На нее смотрела женщина, не по сезону легко одетая, в головном уборе матроны, скрывавшем, вероятно, обритую наголо голову. Од встала, неторопливо взяла полотенце, лежавшее на полу, и завернулась в него. Женщина внимательно смотрела на белокурые волосы Од, обрамлявшие идеальный овал прелестного лица, на гармоничный выпуклый лоб, огромные миндалевидные изумрудные глаза, похожие на озера, и маленький рот в форме сердечка. Она сразу возненавидела эту слишком красивую женщину, слишком уверенную в себе, слишком дерзкую, которая с непроизвольной жестокостью напомнила ей обо всем, чего ей не хватало и что мучило ее. Сдержанным, но любезным тоном Од де Нейра спросила: – Я вижу, мадам, что у вас нет ни свертка, ни пакета. Неужели вы до сих пор не завладели ими? Наш общий «друг» расстроится, узнав об этом. – Напротив, они у меня. – Все три? – Да. – Какая приятная новость! И где же? – В аббатстве Клэре, где есть тайная библиотека, которую мне удалось обнаружить с большим трудом. – Но ведь вам щедро заплатили за подобные трудности, – сыронизировала Од наигранно-веселым тоном, а затем добавила: – Итак, столь желанные манускрипты по-прежнему находятся в Клэре… Мы не продвинулись ни на шаг. – Дело в том, что наша матушка приказала обыскивать повозки и всех, кто выходит из монастыря, невзирая на их обязанности и положение. Я не могла подвергать опасности… – Досадное препятствие, которое очень огорчит нашего итальянского друга. Что касается аббатисы, мадам де Бофор, она вызывает у нас все большее раздражение. Нам срочно нужны эти книги. Как вы думаете, она скоро снимет наблюдение за воротами? – Сомневаюсь. Я даже полагаю, что она прикажет методично обыскать все аббатство. Лицо Од де Нейра скривилось от досады. – Какая ужасная перспектива. У нее есть шансы найти их? – Не думаю… – Но? Ведь вы хотели возразить? – Сейчас происходят странные события. Изящные брови Од вопрошающе поползли вверх. Ее гостья продолжала: – Загадочная смерть инквизитора, который должен был мне… вам служить. Я не верю в эти глупые россказни о встрече со случайным убийцей. Неимоверная милость, оказанная мадам де Суарси Божьим именем. Эта пронырливая сестра-больничная, оказавшаяся гораздо опаснее, чем я полагала, судя по ее самодовольству. Изнасилование, а затем удушение служанки Мабиль из дома Эда де Ларне. Она оказала мне неоценимую помощь, приведя своего хозяина туда, куда я и хотела, к покойному Никола Флорену. Она также раздобыла для меня несколько осколков стекла из окон прихожей мадам де Суарси. Толченое стекло, добавленное в мясную котлету или ломоть хлеба, становится беспощадным оружием. Одним ударом мы убивали двух зайцев, поскольку в случае необходимости мы могли бы и это вменить в вину мадам де Суарси. Видите ли, и в случае с Мабиль гипотеза о бродяге-убийце мне не подходит. Мабиль не принадлежала к числу девиц, позволявших одурачить себя. По крайней мере она оказала бы отчаянное сопротивление. Еще одна деталь смущает меня. Когда люди бальи обнаружили ее бездыханное тело на опушке леса, они заметили, что на ней было несколько одеяний, словно она готовилась к длительному путешествию. Что-то затевается, и это беспокоит меня, мадам. Од несколько минут молча рассматривала ее. Гонорий проявил удивительное безрассудство, завербовав эту женщину. Как она сказала ему во время их первой встречи в Ватикане, было безумием доверять страху и желанию, которые служат главными характеристиками трусости. И все же она произнесла любезным голосом: – Вы должны как можно скорее вынести эти манускрипты за стены монастыря и передать мне, чтобы я могла отвезти их нашему «другу». Женщина, разозлившись, резко ответила: – Да что вы возомнили о себе? Что мне достаточно приказать? Да я первая, кто пострадал от этого необычайно строгого затворничества в аббатстве. Я должна была прислушаться к внутреннему голосу и перенести в надежное место деньги, накопленные своим неблагодарным трудом. – Неблагодарным, но весьма прибыльным. – А вы думаете, что убивать легко? Искренне удивившись, Од заявила: – Имеет значение только первый труп. Все остальные похожи на него. – Вы… вы… – с отвращением выдохнула женщина. – Чудовище? Возможно. – Вдруг опечалившись, мадам де Нейра добавила: – Но рождаются чудовищами немногие. Большинство из встреченных мною чудовищ таковыми стали. Од быстро сумела взять себя в руки и фыркнула: – Ах, трагедии я не люблю, они сушат кожу лица и способствуют появлению морщин. Признаюсь, в моем случае преображение произошло стремительно и почти безболезненно. Возвращаясь к мадам де Бофор, скажу, что она нас… утомляет. Од увидела, как напряглась женщина, и участливо произнесла: – Вы побледнели. – Речь идет об аббатисе. – И что? Разве это утомление, о котором я говорю, не лишает сна архиепископа, который вскоре станет Папой? – Но… эта ведьма больничная следит за ней, как за молоком, стоящим на огне. – Ба, да у нас возникли маленькие трудности! Но я знаю способ, как их устранить, – заявила Од, показывая на коричневый атласный кошелек, лежащий на изящном столике ее кабинки. Женщина поспешно схватила его. Од добавила: – Добрый совет подруги, знающей вас: заслужите его. Женщина почувствовала угрозу, скрытую игривым тоном, и пообещала: – Постараюсь. – Сделайте это, сделайте быстро и как можно лучше. Затем нам надо поговорить – надеюсь, душевно, – о другой нашей весьма упрямой знакомой, о мадам Аньес. Как выглядит эта дама, которую мне так расхваливали? – Она очень красивая и весьма грациозная, если вы это хотите знать. – Да. Впрочем, это весьма лаконичный ответ. Сделайте над собой усилие, я жажду узнать больше. Опишите ее. – Она высокая, выше меня, хрупкая, но не слабая. У нее светлые волосы с медным оттенком, более насыщенным, чем у вас. Взгляд ее серо-голубых глаз сразу же поражает. Что касается ее кожи, она бледная, как и подобает благородной даме, хотя мадам де Суарси охотно работает со своими людьми на открытом воздухе, – произнесла женщина сухим тоном. – Весьма милый портрет. Но мне кажется, что вы описываете ее с отвращением. Почему? – шутливо спросила мадам де Нейра. – Прошу вас, продолжайте. Лицо женщины исказилось от ненависти, и она процедила сквозь зубы: – Я сыта по горло этой Суарси! Похоже, что все готовы сражаться за нее. Все восхваляют ее до небес и приписывают ей тысячи добродетелей. А кто такая Суарси? Ей не откажешь в хороших манерах, она, разумеется, благочестивая, достойная, образованная и, несомненно, умная женщина. – Черт возьми! Тем не менее вы находите несправедливым, что ее восхваляют до небес? – сыронизировала Од де Нейра. – Милочка, ревность и зависть – это весьма коварное оружие. Необходимо избавиться от них. – Что вы хотите этим сказать? – Зависть заставляет слабые умы искать в других причины своего поражения или неудовлетворенности, хотя они кроются в них самих. Оскорбление было таким очевидным, что женщина покраснела. Она ненавидела это прекрасное чудовище и охотно заткнула бы ему рот. Да, она его ненавидела, но вместе с тем боялась. Од де Нейра продолжала: – Успокойтесь. Очень скоро мадам де Суарси перестанет причинять вам неудобства. На этот счет у меня есть несколько занятных идей. Впрочем… все в свое время. Поспешишь – людей насмешишь. Прощайте, до скорой встречи на следующей неделе на этом же месте, в это же время… вместе с манускриптами. Мы полакомимся нежным яблочным пюре с орехами и медом, радуясь, что мадам де Бофор наконец-то воссоединилась со своим горячо любимым мужем. По сути, разве тем самым мы не окажем ей бесценную услугу?От-Гравьер, Перш, декабрь 1304 года
Поднялся холодный порывистый ветер. Он пронизывал до костей опрометчивых смельчаков, оказавшихся в этот час на улице, когда ночь брала верх над последними проблесками дня. Аньес прижимала Клемана к себе, управляя одной рукой Розочкой, сильной вороной кобылой першеронской породы.[182] В холке Розочка была даже выше рослого мужчины. Эту черту она унаследовала от своих булонских предков, появившихся в ее роду несколько столетий назад. Выведенные для тяжелой работы, эти выносливые лошади, способные довезти на себе рыцаря от Франции до Святой Земли, могли также идти мелкой рысью и демонстрировать удивительное проворство при преодолении препятствий, однако быстро выдыхались в галопе. Поэтому сейчас они ехали из мануария Суарси неторопливым аллюром. Аньес погладила мощную шею кобылы и сказала: – Стой, прекрасная Розочка. Мы приехали. Кобыла застыла на месте, терпеливо ожидая, когда Клеман спустится по ее ноге на землю, а Аньес выпрыгнет из дамского седла, снабженного только левым стременем. Едва Аньес коснулась ногами земли, как они увязли в красноватой грязи. Лицо Аньес исказилось от боли, и подросток забеспокоился: – Раны, нанесенные этим демоном, еще не затянулись, не так ли, мадам? – У меняостались только шрамы от ударов, и все это благодаря заботам милого Аньяна, монахов, по очереди дежуривших у моего изголовья, и волшебной мази, которую принес мне лекарь монсеньора д'Отона, Жозеф, столь любезный твоему сердцу. Но порой из-за сырости шрамы начинают давать о себе знать. Однако худшее позади, не волнуйся. Приподняв подол платья, молодая женщина сделала несколько шагов. Увидев удручающий пейзаж клочка земли, который входил в наследство, оставленное ей мужем, она тяжело вздохнула. Воинствующая армия крапивы заполонила десять арпанов бесплодной почвы. Никакие другие растения просто не могли на ней выжить. Сгущавшиеся сумерки придавали этому месту, продуваемому всеми ветрами и размытому бесконечными дождями, еще более мрачный вид. Учащенное дыхание Клемана вывело Аньес из тягостного оцепенения. Подросток задыхался, словно после долгого бега. Он прошептал: – Мне страшно, что этот момент настал. Я так боюсь, что ошибся, что моя интуиция была всего лишь химерой. Беспокойство Клемана заставило Аньес собрать все силы в кулак. Она резко возразила: – Мы уже здесь. Сейчас не время бояться. Опробуем камень, который тебе дал гениальный Жозеф из Болоньи. Ведь он должен помочь нам проверить, скрываются ли под этой засушливой землей железные богатства. – Мессир Жозеф рассказал мне об опыте, который очень легко провести тому, кто обладает замечательным инструментом, тем самым, что он доверил мне. Он также посоветовал беречь этот инструмент, поскольку тот редко встречается и не имеет цены. Из осторожности мы должны хранить его существование в тайне. – И ты называешь это «инструментом»? На мой взгляд, это всего лишь необработанный кусок скалы! – Нет… Как я вам уже говорил, это камень из Магнезии, области в Малой Азии. У этой скалы, которую называют магнитным железняком, весьма примечательная история. Пять тысяч лет назад пастух по имени Магнес[183] пас своих баранов. Он взобрался на скалу, чтобы лучше видеть их. И вдруг металлический наконечник его посоха словно прирос к скале. Посох стоял прямо, хотя пастух не поддерживал его в этом положении. Пастух испугался и увидел в этом колдовство. Лукреций и Плиний Старший наделяли этот камень магическими свойствами.[184] Лет десять назад в руки моего ментора Жозефа попало письмо, написанное неким Петером Перегринусом.[185] Тот подробно изложил все сведения о магнитном железняке, о котором по-прежнему ничего не известно в нашем королевстве.[186] По мнению мессира Жозефа, в этой скале нет ничего магического. Речь идет об удивительном природном феномене, о магнитных свойствах, все еще недоступных нам. Аньес ловила каждое слово Клемана. Затем она подвела итог: – Если посох стоял вертикально, значит, этот минерал в определенном смысле приклеивается к металлу?[187] Клеман улыбнулся, вновь поразившись уму Аньес. – Да, он притягивает его. – Я начинаю разделять твое восхищение Жозефом, хотя совсем не знаю его. Быстрее, мне не терпится увидеть, как работает этот чудесный притягательный камень. Скоро наступит ночь. Но Розочка знает дорогу, а мой короткий меч разубедит любого грабителя. И все же я предпочитаю, чтобы мы вернулись до наступления кромешной темноты. Что я должна делать, чтобы помочь тебе? Клеман дал странный ответ: – Ничего, мадам, если только не следить за мной, как обычно. Аньес с горечью подумала, что эти слова, не имеющие никакого отношения к опыту, который собирался провести подросток, вкратце изложили всю его жизнь гораздо лучше, чем пространные рассуждения. Их было всего двое: женщина и девочка, переодетая в мальчика ради своего спасения, ради спасения их обеих. Их было двое, связанных искренней любовью, а эта сила не знала себе равных. Аньес получила этому лишнее доказательство в ужасном застенке Дома инквизиции Алансона, когда над ней нависла отвратительная маска смерти. Но что, по сути, понимал/понимала Клеман/Клеманс в свои еще детские годы о том, что их связывало? И что она, дама де Суарси, знала об этом? «То, что я всегда буду поступать так. Если придется, даже ценой собственной жизни», – шепотом пообещала она себе. Клеман взглянул на нее своими сине-зелеными глазами и, улыбаясь, покачал головой. Затем, желая положить конец этому всплеску чувств, столь бурному, что слова уже становились излишними, он произнес наигранно-бодрым тоном: – Все остальное надо делать лежа ничком. Клеман вытащил из мешка широкие джутовые полоски и обмотал ими кисти и предплечья, прежде чем войти в заросли почерневшей от мороза крапивы. Он сказал: – Эта проклятая трава по-прежнему жжется, хотя и замерзла. – Из крапивы мы изготавливаем бесценный компост. – Рецепт которого привезли тамплиеры. Тем не менее крапива кусается, как сонм дьяволов. Упоминание о военном ордене заставило Аньес вспомнить о неуловимом рыцаре-госпитальере. Аньес бросила вслед Клеману, направлявшемуся в заросли: – Тебе что-нибудь известно о рыцаре Франческо де Леоне? – Немногое. Впервые я услышал это имя от любезного Аньяна, когда мы с графом приехали в Алансон. Вы сами рассказали мне о нем подробнее, поскольку благодаря вам я теперь знаю, что он племянник и приемный сын аббатисы Клэре, Элевсии де Бофор. И я голову готов дать на отсечение, что именно он убил подлого Никола Флорена. Я совершенно не верю в эту байку о случайном пьянице, якобы пронзившем кинжалом вашего мучителя. – Сухим, почти злобным тоном Клеман добавил: – Он только опередил нас, мадам, уверяю вас. Монсеньор Артюс д'Отон не пощадил бы этого подлеца. Я тоже. Аньес с трудом подавила улыбку. – Я нисколько не сомневаюсь в вашей доблести. Вы мои мужественные защитники. Клеман опустился на колени и продолжил: – Возвращаясь к Франческо де Леоне… Я никогда не видел его. Тем не менее я благодарен ему за вмешательство, хотя он лишил нас чести спасти вас. Я спрашиваю себя… Клеман раздвинул рукой, обмотанной джутом, заросли крапивы и внезапно замолчал. После возвращения Аньес, после ее странных откровений о рыцаре-госпитальере его мучил один вопрос наряду с тысячами других. В тот вечер, когда Клеман слушал Аньес, сидя в ногах ее кровати, его поразило одно совпадение, столь важное, что мальчика начали терзать сомнения. Не был ли этот Франческо де Леоне вторым редактором дневника Эсташа де Риу? Клеман, так и не поведавший своей даме о находке в тайной библиотеке Клэре, воздержался от комментариев, которые могли бы вызвать у Аньес беспокойство. Эта тривиальная недомолвка – смешная ложь озорника, боявшегося наказания, – довлела над ним с тех пор, как он увидел в ней опасную двусмысленность. К этому примешивалось смутное чувство, что Аньес находится в центре шахматной доски, контуры которой он не мог различить. Аньес и он сам быстро поняли, что махинациями Эда де Ларне, сводного брата и непосредственного сюзерена дамы Клемана, руководил некто более могущественный и более опасный, чем Эд. И намного более решительный. Артюс д'Отон сузил круг возможностей, поместив их врага в Ватикан, приватный Ватикан Папы. Клемана очень беспокоила последовательность событий. Аньес попадает в руки инквизиции. Тут же, как по мановению волшебной палочки, появляется рыцарь-госпитальер. Чудовище-инквизитор погибает от ножа посланного провидением пьяницы, в существование которого трудно поверить. Убийство истолковывают как суд Божий, и Аньес спасена. Госпитальер исчезает, словно греза… Именно тогда Клеман узнал, что рыцарь был любимым племянником, почти сыном аббатисы, защищавшей тайну библиотеки Клэре, где хранился дневник, написанный двумя рыцарями-госпитальерами и посвященный «возвышенным» поискам. В этом дневнике говорилось об оракулах, описывались невероятные астрономические открытия, раскрывались две астральные темы, солнечный знак которых находился в Козероге. Аньес родилась 25 декабря. Возможно, одна из тем указывала на нее. А вторая? Постепенно детали вставали на свои места, хотя он не мог постичь логику разыгрываемой партии. Вот уж, действительно, шахматная доска. – О чем ты думаешь? Сумерки скрывали смущенное лицо Клемана. Молодая женщина собралась было повторить свой вопрос, но ее опередил восхищенный вопль Клемана: – Мадам, мадам, посмотрите! Это чудо! Аньес бросилась к нему. Стоя на коленях, Клеман размахивал темным камнем, к которому прилипло несколько крупинок красноватой земли. Аньес выхватила камень из рук мальчика и принялась рассматривать его со всех сторон, завороженная, стараясь подавить облегчение и радость, переполнявшую ее. Она дотронулась до крошечных комочков глины, которые буквально прилипли к шероховатой поверхности камня, притянувшего их к себе. Словно борясь с попыткой стряхнуть их на землю, они снова крепко прилипли к камню, едва Аньес отдернула указательный палец. У нее на глазах появились слезы. Взволнованный Клеман бормотал: – Ах! Камень из Магнезии притягивает землю! Вот доказательство, научное доказательство того, что под этой землей скрывается железо! Это рудник, мадам. Ваш бесплодный От-Гравьер – железный рудник! И он будет приносить вам доход до вашей смерти! В словах Клемана Аньес почувствовала колкость в адрес Матильды, о жестокости и предательстве которой она постоянно думала все эти дни. Ее дочь никогда не воспользуется богатствами От-Гравьера – если они и вправду существуют, в чем Аньес не сомневалась, – при жизни матери, если только она повторно не выйдет замуж. И Эд де Ларне тоже. Господь дал ей пассивное оружие мести против сводного брага. Аньес про себя произнесла благодарственную молитву мадам Клеманс, голосам, любезным призракам, которые поддерживали ее в заточении. Аньес боролась с желанием упасть на эту землю, которую раньше презирала, ненавидела, чтобы испросить прощения и поблагодарить ее за долготерпение. Если бы Аньес была одна, она, несомненно, принесла бы это странное покаяние. Но вместо этого она присела на корточки, вонзила ногти в землю, которая прежде вызывала у нее отвращение, и принялась разрывать глину. Захватив две пригоршни глины, она поднесла их к губам и поцеловала. Она жадно нюхала глину, желая убедиться, что этот горьковатый металлический запах, бивший ей в ноздри, был запахом ее спасения. Наконец Аньес открыла глаза. Клеман пристально смотрел на нее. Маленький трогательный силуэт, стоявший посреди бесплодной пустоши. – С вами все в порядке, мадам? – Да… Мне уже лучше. Дорогой Клеман, я вновь испытываю давно забытое чувство. Мне кажется, что я сплю… И умираю с голоду! – добавила она. – Вы возвращаетесь к жизни. Но надо торопиться. Уже ночь. Аньес подвела Розочку к коряге. Так ей было легче и, главное, не так больно садиться на спину крупной кобылы. Потом она помогла Клеману подняться. Подросток влез на седло, дыша в живот Аньес. На обратном пути Розочка бежала резво. Желание оказаться в родной конюшне, несомненно, подстегивало ее. Размышляя вслух, Аньес говорила: – Предположим – ибо я не решаюсь окончательно поверить в это, – предположим, что От-Гравьер оказался железным рудником. Пойдем в наших предположениях дальше и допустим, что это очень богатый рудник… – Она вздрогнула в предвкушении и прошептала: – Но, Клеман, что делать с рудой, как ее добывать, как… что там еще… ее обрабатывать, чтобы изготовлять садовые ножи, шпаги и сошники?[188] – Нам на помощь вновь придет мессир Жозеф. Ведь я же вам говорил, что этот человек знает все, даже способы эксплуатации рудников! Нам понадобится много топлива, но его у нас в избытке благодаря вашим лесам. Нам также понадобятся рудокопы, но их можно набрать среди ваших сервов и батраков.[189] Однако мы должны будем уважать закон, запрещающий вести добычу руды и перерабатывать ее в период жатвы, поскольку в противном случае мы можем нанести урон полям и лишим ваших людей средств к существованию.[190] – Неужели такой закон существует? – Разумеется, мадам. И это очень разумный закон. – Но откуда ты, чертенок, знаешь обо всем этом? – От мэтра Жозефа. – Твой Жозеф – юрист? – И юрист тоже, мадам. Он говорит, что хорошее знание законов страны, которая дала тебе приют, избавляет от досадных недоразумений. – Да, он действительно мудрый человек. Затем Клеман перечислил их слабости: – Нам также нужна достаточно полноводная река, чтобы построить мельницу, которая будет приводить в движение кузнечные меха и быстро остужать кованое железо. Но здесь нет ни мельницы, ни мощного водного потока… Однако они есть поблизости. А раз так, нам нужны ломовые дроги и обозы, которые будут тянуть волы. Тогда мы сможет подвозить железо к одной из мельниц, которую мы возьмем в аренду за определенный процент, о чем нам следует хорошенько поторговаться. – У тебя на все есть ответ, мой чудесный Клеман, – улыбнулась Аньес, гладя его по волосам. На ум ей пришла другая мысль, сразу умерившая ее энтузиазм. – Я дрожу от ярости, вспоминая о том, что мне придется отдавать в качестве подати половину добытой руды этому негодяю Эду, обязанному, в свою очередь, передавать четверть этого количества своему непосредственному сюзерену, графу д'Отону. Едва Аньес произнесла эту фразу, как на нее снизошло озарение. Рудник. Эд знал или догадывался о его существовании. Не только озлобленность и извращенное желание двигали Эдом, когда он добивался ее ареста инквизицией. Он вскружил голову Матильде не только ради того, чтобы отомстить Аньес. Он это сделал, чтобы захватить рудник. Если бы Аньес признали виновной в ереси или в пособничестве еретичке, она лишилась бы своего вдовьего наследства, которое перешло бы к Матильде. Эду оставалось лишь осыпать Матильду подарками, которые ему ничего не стоили, поскольку он брал их из гардероба или шкатулок своей покойной супруги, милой Аполлины. Если только он не счел бы более полезным поместить девочку в монастырь, поскольку был ее опекуном. От горькой обиды у Аньес сжалось сердце. Она даже сама этому удивилась. Служили ли, по ее мнению, распутство и извращенность Эда объяснениями его действий, даже постыдных? Возможно. Возможно, она видела в них своего рода душевную болезнь, которая в определенной мере снимала с Эда ответственность. Но деньги, жажда наживы, бесчисленные хитроумные уловки, чтобы завладеть вдовьим наследством сводной сестры, свидетельствовали, что единственной виновницей была его подлая и расчетливая душа. Помолчав несколько минут, Клеман сказал слишком безразличным тоном, что наводило на подозрения: – Я не вижу способа избежать этого… По крайней мере до тех пор, пока вы остаетесь арьер-вассалом мессира Отона. Аньес не попалась на удочку: – Ты слишком быстро выдаешь меня замуж. Неужели ты хочешь избавиться от меня? И потом… даме не пристало делать предложение руки и сердца. Ответом ей был веселый смех. Потом Клеман сказал: – И все же согласно обычаю она может дать понять, что благосклонно отнесется к подобному предложению, особенно если монсеньор ждет лишь знака… Вернее, я должен сказать – уже и не надеется, что такой знак будет ему послан. – Постреленок, – прыснула от смеха Аньес, почувствовав облегчение после легкомысленного разговора, на мгновение разогнавшего нависшие над ними тучи. – Так она может? – настаивал Клеман. – Она может. – Без неудовольствия? – Надо быть слепым или сумасбродным, чтобы причинять страдания другим. – Значит, с удовольствием? Аньес больше не могла сдерживать своего радостного настроения. Она принялась шутливо бранить Клемана: – Прекрати немедленно! Что ты такое говоришь? Я не смеюсь, я задыхаюсь от стеснения. Ну, сорванец, давай прекратим этот разговор! Клеман недолго радовался тому, что ему наконец-то удалось развеселить свою госпожу. Он должен был поведать ей о своих находках в тайной библиотеке Клэре. Он не мог больше скрывать. Время поджимало.Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Тень проскользнула в коридор скриптория. Впереди стелился густой пар, вырывавшийся у нее изо рта. Она обогнула столовую и прислушалась. Ни звука, ни шороха. Гостеприимный дом был пуст, поскольку там по-прежнему царил крепкий запах гари. Ее сообщнице хватило хитрости предложить столь коварный план. Она сама развела огонь, а Тени оставалось лишь подождать, чтобы затем воспользоваться суматохой и похитить манускрипты, хранившиеся в аббатстве. Что касается этой безмозглой Тибоды де Гартамп, сестры-гостиничной, то она действовала всем на нервы, повторяя, что ничего не понимает, безуспешно пытается разгадать загадку и вовсе не виновата в том, что огонь чуть было не уничтожил ее владения. Тень крадучись вошла в обогревальню, расположенную недалеко от сушильни. Бланш де Блино, не покидавшая это помещение на протяжении нескольких недель, вернулась в дортуар. Едва голова Бланш касалась подушки, как она забывалась непробудным сном, становившимся все длиннее. Старая женщина любила эту комнату, в которой – как она утверждала, – могла читать Евангелия, не дрожа от холода и не опасаясь простудиться. Евангелия! Надо быть идиоткой, чтобы поверить в такой предлог! Бланш просто храпела целый день напролет. Тень на ощупь направилась к шкафу, куда по вечерам убирали чернильницы, чтобы их содержимое не замерзло морозной ночью. На нижней полке лежали испорченные рожки, поскольку в этой комнате добровольного тяжелого труда хранили все без исключения. Внезапно Тень ощутила горечь. Аббатство было богатым, очень богатым. Так почему надо было лишать себя малейшего удовольствия под предлогом искупления грехов и заботы о бедняках? Неужели бедняки могли согреться при мысли, что в аббатстве монахини дрожат от холода под тонкими одеялами? Неужели то, что сестры копали землю и чистили свинарники, делало жизнь бедняков менее тягостной? Скоро. Скоро, но не тут, а в светском обществе. Жить. Надо жить. Мсье де Ногаре обещал ввести ее в лучшие семьи Парижа, где зловредные таланты Тени могли оказаться полезными советнику короля. Она уже оказывала ему услуги, шпионя за дворянами-смутьянами по тайной просьбе камерленго Бенедетти. Париж, какая пьянящая радость! Впрочем, ее больше не привлекала мысль о помощи сильным мира сего. Она хотела жить свободно, наслаждаться богатством. Разумеется, мысль об убийстве Элевсии де Бофор была ей не по душе. Но тем хуже, раз придется пройти через по, чтобы забрать – и, главное, вынести из аббатства, – свои сбережения, пополненные скромным состоянием, которое доверила ей Мабиль. Она спрятала это великолепное золото, добытое столь тяжким трудом, в двойном дне ковчежца, подаренного аббатству мадам де Бофор. Считалось, что в этом ковчежце хранится берцовая кость святого Жермена, епископа Осера, сражавшегося против пиктов и саксов в Англии. В конце концов с упрямством аббатисы могла сравниться только ее слепота. Какое безумие побуждает некоторых людей бороться с теми, кто сильнее их? Ведь «итальянский друг», как называла этого человека мадам де Нейра, не решавшаяся произнести вслух его имя, был одним из этих опаснейших созданий, которым не следовало противоречить. Тень вздрогнула. Порой ее охватывало неприятное ощущение, что за ней повсюду следят глаза камерленго, проникают в самую душу и внимательно рассматривают ее. Глупость, порожденная страхом, который он ей внушал. Потом не будет причин бояться. Разве не в этом заключается истинная свобода? Мадам де Нейра была свободной, потому что она не знала, что такое страх, сожаление, упреки совести. Мадам де Нейра внушала ей ужас. Мадам де Нейра зачаровывала ее. Тень ненавидела мадам де Нейра. Тень взяла в руки красивый черный рожок, ставший непригодным из-за длинной трещины. Вдоль шероховатой стенки тянулась полоса засохших красных чернил, похожих на кровь. Она осторожно вынула пробку, сделанную из пакли. На дне рожка оставалось совсем немного коричневого порошка. Насколько ей было известно, коричневый порошок изготавливали из азиатского плода размером с яблоко. И хотя об этом порошке не говорили в открытую, коварные отравители высоко ценили его, несмотря на чрезмерную цену за один полденье*. Впрочем, такая цена была вполне обоснованной из-за необычайной действенности порошка. Тень могла бы в этом поклясться – благодаря невольному вмешательству Иоланды де Флери. Какой же глупой была несчастная Иоланда! Милая сестра-лабазница стремглав бросилась в зал картуляриев[191] сразу же после бурного объяснения с аббатисой. Рыдая, эта глупая гусыня упала на, как она считала, дружескую грудь. Она божилась, что им не удалось заставить ее произнести имя своей любезной осведомительницы, объясняла, что сразу же разгадала подлую игру Элевсии де Бофор и Аннелеты Бопре, клялась, что если бы ее драгоценный Тибо умер, она, мать, сразу же почувствовала бы это. Простофиля! В ту же ночь она отправилась к своему любимому сыночку. Тень рассматривала щепотку оставшегося порошка, размышляя, хватит ли его на две порции, чтобы разделаться с аббатисой и больничной, этой заразой Бопре. Не было ли это слишком рискованно? Готова ли она навлечь на себя гнев мадам де Нейра, прелестного чудовища, если мадам де Бофор выживет? Разумеется, нет. Тень высыпала содержимое рожка в небольшой тканевый лоскут и тщательно завязала его. Теперь ей надо было как можно скорее вернуться в дортуар.Мануарий Суарси-ан-Перш, декабрь 1304 года
Повечерие* уже давно прошло, когда Аньес и Клеман вернулись в мануарий. Приятная усталость разливалась по всему телу дамы де Суарси. Конюх поспешил увести Розочку в конюшню, где ее ждало заслуженное сено. Аньес удержала Клемана, собиравшегося пойти на кухню, чтобы поужинать. – Останься, Клеман, и поужинай со мной. Я не хочу сидеть за столом одна. – Мадам… – Мое общество тебе неприятно? – О… – выдохнул Клеман, услышав такой упрек. – Просто… Просто… Такая честь… Что подумают… – Кто еще? Бедная Аделина? Мы совсем одни. Я каждый день со страхом жду, что мой каноник, брат Бернар, объявит о своем отъезде. – Почему? С вас сняты все подозрения. – Разумеется. Но обвинения, даже беспочвенные, всегда оставляют следы. Бедный молодой человек был в ужасе оттого, что кто-то мог поверить в его плотскую связь со мной. Понимаешь, я не сужу его строго за то, что он хочет уехать как можно дальше от Суарси. – Но он производит впечатление благочестивого и достойного человека. – Да услышит Господь твои слова! Нашей деревне Суарси будет его не хватать. Я сомневаюсь, что толпы желающих станут осаждать наши двери в надежде занять его место. Появилась Аделина. Поспешный отъезд Мабиль, шпионки и одной из многочисленных любовниц Эда де Ларне, похоже, придал уверенности неуклюжей девушке-подростку. Она с радостью согласилась заведовать кухней, хотя бы для того чтобы показать, что, вооружившись горшками и ложками, она способна творить чудеса. Однако Аделина так и не научилась делать изящные реверансы. Чуть покачиваясь, она присела и объявила: – Поскольку сейчас идет филипповский пост, да и на улице очень холодно, я приготовила густой суп из столовой тыквы[192] с миндальным молочком. Честное слово, он такой же аппетитный, как и сало с яйцами. Затем я подам пюре из конских бобов с жареной форелью, которую Жильбер только что поймал, чтобы сделать ваш пост более приятным, мадам. А потом… Да, у меня на десерт остался многослойный пирог с сухофруктами. После такой скачки сухофрукты кое-что да значат! Но больше у меня нет ничего особенного. Кувшинчик мальвазии,[193] вот и все. – Благодаря твоим талантам, Аделина, наш пост становится таким же сытным, как и праздник разговения. Поставь Клеману прибор рядом с моим. Удостоившись лестного комплимента, вне себя от счастья, девушка нисколько не удивилась, что молодому слуге была оказана столь высокая честь. Правда, все слуги знали, что их госпожа питает особую нежность к мальчику. Они ели суп в молчании, которое Аньес сначала объясняла усталостью и эмоциями, вызванными сделанным ими открытием. Однако в поведении Клемана, ужинавшего без всякого аппетита, чувствовалось нечто странное. Не в силах больше сдерживаться, она принялась расспрашивать его сразу после того, как Аделина подала нежную форель, пойманную Жильбером Простодушным. От дымящейся корочки исходил восхитительный запах гвоздики и имбиря. – Ты какой-то задумчивый, угрюмый. Ты почти ничего не ешь. Что происходит? Подросток уставился на свой ломоть,[194] не говоря ни слова. – Ну, Клеман, это серьезно? – настаивала Аньес. – Да, мадам, – выдохнул Клеман, готовый вот-вот разрыдаться. – Говори же, я очень волнуюсь за тебя. – Дело в том… Я солгал вам, и мне очень стыдно. – Солгал мне? Ты? Это невозможно. – Возможно, мадам. Я боялся вашего гнева… и потом, все больше запутываясь во лжи, я не видел способа признаться в этом. Недоверчивость уступила место страху. Аньес потребовала: – Немедленно признавайся. Я велю тебе рассказать мне все, ничего не утаивая. – Я… По ночам я пробирался в аббатство Клэре. – Ты сошел с ума? – ужаснулась Аньес. – Я там обнаружил тайную библиотеку. – Клеман… Ты действительно в своем уме? – Да, да, мадам. А как иначе, по вашему мнению, я сумел узнать о Consultationes ad inquisitores haereticae pravitatis Ги Фулькуа и этом тоненьком сборнике леденящих душу рецептов инквизиторской процедуры? – Да, эти знания спасли мне жизнь, – промолвила Аньес. – Продолжай. – За стенами аббатства, похоже, никто не подозревает о существовании тайной библиотеки. Я возвращался туда ночь за ночью. Если бы вы знали, сколько чудес, открытий во благо человечества спрятано в этих стенах без окон! Дама де Суарси все сильнее цепенела от ужаса. Она воскликнула: – Как ты мог совершить такую чудовищную глупость! Если бы аббатиса застала тебя на месте преступления, она могла бы потребовать твоей казни! – Я знал об этом. – Мне надо бы сильно рассердиться на тебя за такое непослушание, за все эти недомолвки… – И вы сердитесь? – спросил Клеман лукавым голоском. – Я должна! Но к тебе я питаю непростительную слабость. Подросток выдержал суровый взгляд Аньес. Уловив тень улыбки, заигравшей на ее губах, он испытал огромное облегчение. – Право, я не могу долго сердиться на тебя. И потом… И потом, если бы ты не рассказал мне об инквизиторских уловках, я попала бы в ловушки, расставленные Флореном. – Лукавый огонек вспыхнул в голубых глазах, пристально смотревших на Клемана. Доверительным тоном Аньес прошептала: – Да еще моя неутолимая жажда знаний… Говори. Подробно рассказывай о своих находках. Клеман поведал ей о своих открытиях, зачарованно следя за постоянно менявшимися выражениями лица Аньес: беспокойством, удивлением, изумлением, радостью, раздражением, восхищением. Он рассказал ей о вращении Земли вокруг Солнца, о чудесах греческой, иудейской и арабской медицины, о том, что все рассказы о единорогах, феях и людоедах – обыкновенные выдумки, о дневнике рыцаря Эстагда де Риу, оракулах и астральных темах, теории Валломброзо, в которой он не продвинулся ни на шаг. Аньес внимательно слушала, подавшись вперед, открыв рот. Клеман подумал, что его дама была самым удивительным и восхитительным из всех существ, которых Господь в своей бесконечной доброте создал, чтобы озарять жизнь рода человеческого. Он замолчал. Аньес хранила молчание несколько минут, потом сказала: – Ну и чудеса! Я просто ошеломлена. Мне вдруг стало холодно. Попроси Аделину подбросить несколько поленьев в камин. – Я могу сам это сделать. Бедная девочка совсем измучилась. Ведь она работает за двоих после ухода этой гадюки Мабиль. – Ты прав. Скажи ей, что она может уйти в свою комнатку и что мы очень довольны ее стряпней. Не забудь уточнить, что она готовит так же хорошо, вернее, даже лучше, чем Мабиль. – Она преисполнится гордости. – Мимолетная гордость порой играет роль пряника, особенно если речь идет о бедной девушке, к которой жизнь относилась слишком сурово. А потом, если гордость питается лишь похлебкой и жарким, она практически не влечет за собой никаких серьезных последствий. Клеман пошел за дровами. В течение нескольких последовавших за его уходом минут одиночества Аньес сидела перед своим терракотовым кубком полностью опустошенная. Нет, не опустошенная. Ее мысли витали где-то далеко. У нее было предчувствие. Все подтверждало то, что она предвидела, во что отказывалась верить. Чего же она боялась на самом деле? Она не могла точно сказать. Возможно, правды. Мысли текли потоком. Матильда, вновь и вновь. Ярость, которая придала Аньес сил, несмотря на истощение, когда девочка попыталась отправить Клемана на костер, не превратилась в ненависть вопреки молитвам. А ведь как Аньес хотелось бы вырвать дочь из своего сердца и разума! Разумеется, она была не настолько слепой, чтобы думать, что ее детище преобразилось лишь под влиянием Эда и его подленькой душонки. Нет, нечестивый мошенник старательно проращивал отравленные ростки, без него заложенные в Матильде. Аньес, по справедливости, чувствовала себя ответственной за эти самые ростки, по крайней мере частично. Она считала себя виновной в том, что ей не удалось вырвать с корнем эти ростки зла. Ей не было прощения за то, что она не сумела распознать их существование, развитие и даже природу. Ростки зла были расплатой за материнские ошибки. Клеман сел рядом с Аньес. И они стали смотреть, как из углей вновь взвились ввысь языки пламени. Скудное тепло, которое огонь дарил огромной ледяной комнате, освещенной смолистыми факелами, висевшими вдоль стен, не могло прогнать холод, забравшийся под кожу Аньес. – Мадам, поговорите со мной, прошу вас, хотя бы чтобы меня отругать, – вдруг взмолился Клеман, которого столь долгое и тягостное молчание сводило с ума. – Клеман… я боюсь. – Аньес закрыла лицо руками и продолжила: – Одна очень красивая и очень мужественная дама, имя которой ты носишь, однажды заверила меня, что страх всегда кусает, как собака. Она была права, но… Как мне ее не хватает! Мне так давно ее не хватает! Знаешь ли ты, как я боюсь оказаться не на высоте, не оправдать ожиданий мадам Клеманс де Ларне? Ее учтивость скрывала бесстрашие, решимость, любезность, а также доверие. – Вы на высоте, мадам. Вы на высоте, которую нельзя измерить. – Какие милые слова! Но я глубоко разочарована, потому что не верю им. Видишь ли, Клеман, я так боялась в этом зловонном застенке… Я так боялась смерти или – того хуже – страданий… Я так боялась сдаться, проявить трусость, предать, отречься… Мадам Клеманс гордо вскинула бы голову, поджала губы и взглядом уничтожила любого, кто стал бы ей угрожать. – Но вы не сдались, также как и она. Я согласен с вами, страх кусает всегда. Но если нет страха, это не значит, что тебя никто не кусает. – M что же ты предлагаешь? Клеман улыбнулся. В какой-то момент Аньес спросила себя, что бы он сказал, если бы увидел свое лицо в зеркале. – Если бы мне пришлось выбирать между страхом перед укусами и глупым пренебрежением опасностью? Я сказал бы себе, что раны от укусов, даже самых сильных, проходят. Убедил бы себя, что лучше позволить разорвать свою плоть, чем потерять душу. Плоть зарубцовывается и восстанавливается, но душа – никогда. – Клеман… Я прошу тебя об одном одолжении… – О любых, мадам, всех без исключения, – прервал ее Клеман. – Клеман, подведи итог тому, о чем я не осмеливаюсь даже думать. Я теряюсь в догадках. Свяжи воедино все эти разрозненные нити, прошу тебя. Свяжи их ради меня. Подумай об открытии, сделанном тобой в Клэре, и визите рыцаря-госпитальера в застенок, этом благочестии, которое заставило его упасть на колени в зловонную грязь. Мне казалось, что он был в трансе. Не забудь о странных словах Аньяна, молодого клирика, секретаря Никола Флорена, также готового умереть ради моего спасения. Все это не имеет никакого смысла. Никакого видимого смысла, если только не предположить, что эти мужчины знают или предчувствуют нечто, остающееся для меня тайным. – Тайным, говорите? Нет, рассуждения доказывают, что вы близки к решению. Просто нам не хватает большинства фактов. Я рассказал вам о главном. Интуитивно я чувствую многое, но у меня нет основополагающих элементов, чтобы проверить свои догадки. – О чем ты говоришь? Что ты интуитивно чувствуешь? – Сам толком не знаю. Я думаю, что мы, вернее, вы находитесь в эпицентре вихря, сущность которого мы только-только начинаем осознавать. Услышав ответ Клемана, Аньес чуть не задохнулась: мальчик пришел к тем же выводам, что и она. – Какого вихря? – Я спрашиваю себя, не связана ли первая астральная тема с вами? – Это немыслимо! Что? Незаконнорожденная дочь дворянина, неимущая вдова? Мне с трудом удается кормить своих людей, обменивая на зерно мед и воск, которые я вот уже два года ворую у своего сводного брата и сюзерена, а также разводя свиней и выращивая гречиху и просо. И вдруг обо мне упоминается в дневнике двух рыцарей-госпитальеров, один из которых сражался в Сен-Жан-д'Акр? Что за чушь! – Неимущая вдова, которую хочет погубить сеньор инквизитор и спасает рыцарь по справедливости и по заслугам, посланный небесами. Право же, мадам… Я, как и вы, блуждаю в потемках. И все же, согласитесь, что отдельные совпадения слишком очевидны, чтобы быть просто совпадениями. Аньес внимательно посмотрела на Клемана и ответила: – Я согласна с тобой. Согласна, и поэтому мне страшно. – Мне тоже, мадам. Но нас двое. – Клеман, как ты думаешь, тебе удастся окончательно расшифровать эти темы? – Для этого мне придется изучить теорию Валломброзо. – И возвратиться в Клэре, чтобы вновь свериться с дневником? Лукавая улыбка озарила лицо мальчика, и он успокоил Аньес: – Вовсе нет. Во время своего последнего посещения Клэре, перед вашим процессом, целую вечность назад, я тщательно переписал темы и оракул, а также другие сведения. Этот листок бумаги хранится в надежном месте. Аньес не поняла, откуда вдруг взялось неимоверное облегчение, мгновенно сделавшее ее дыхание легким. С ее губ слетела фраза, значение которой она толком не осознала: – Тогда не все потеряно. – Да, но мне не хватает трактата Валломброзо, а без него у меня нет никаких шансов продвинуться вперед. Я хочу воспользоваться, на этот раз с вашего разрешения, рождественскими праздниками, чтобы вновь проникнуть в библиотеку и отыскать его, если, конечно, он по-прежнему там хранится. – Завтра я попрошу аудиенции у мадам де Бофор. Возможно, после моего визита многое прояснится.Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Элевсия де Бофор тянула время. Ее пугала перспектива встречи с мадам де Суарси. Но аббатиса не могла выпроводить ее без объяснений. Вздохнув, она встала и прошла в рукодельню, где ее ждала Аньес. Молодая женщина поднялась с узкой скамьи, стоявшей перед потухшим очагом, и протянула руки к аббатисе со счастливой улыбкой на устах. У Элевсии мелькнула мысль, что она напрасно согласилась на встречу. Как избежать ответов на вопросы, которые Аньес несомненно задаст ей? Сумеет ли она скрыть правду? Внезапная слабость заставила аббатису сесть. Такая изматывающая слабость, что она становилась опасной. Молодая женщина ничего не знала о своем чрезвычайно важном значении и, главное, не должна была знать. – Спасибо, что вы так быстро меня приняли, матушка. Я знаю, как вы заняты. – Не за что. Вы так редко приезжаете к нам. Вы уже оправились после этого чудовищного процесса? Как поживает наш любезный озорник Клеман? – Чудесно. Он стал мне еще более дорог с тех пор… – Аньес не закончила фразу, уверенная, что аббатиса поняла намек на Матильду. – Что касается процесса, я стараюсь забыть о нем, вплоть до малейших подробностей, хотя сомневаюсь, что мне это удастся… Мне нужно рассказать вам об удивительном визите, случившемся тогда, когда я находилась в мрачном застенке… Элевсия внимательно слушала ее, изображая полнейшее неведение. – Ко мне приходил ваш племянник-госпитальер. – Неужели? – вымолвила аббатиса со столь наигранной непринужденностью, что Аньес догадалась о том, что той все было известно. Аньес продолжала: – Ах… я подумала, что это вы прислали его, чтобы поддержать меня. Признаюсь, что не понимаю, как он узнал о моем заключении. К тому же я даже не догадывалась, что ему известно о моем существовании. Бледные щеки аббатисы порозовели, когда она была вынуждена солгать: – Возможно, я рассказывала ему о вас, о вашей тяжелой жизни в Суарси. – Понимаю… Но я думала, что ваш племянник находится на Кипре. – Да, это так. Он приписан к цитадели Лимассол. Аньес все меньше следила за ходом разговора. Заметное смущение и очевидная ложь Элевсии беспокоили ее и подтверждали смутные догадки. Затевалось нечто такое, что непосредственно касалось ее, но было недоступно пониманию Аньес. Мадам де Суарси колебалась. Учтивость требовала, чтобы она прекратила настаивать, поскольку ее собеседнице не хотелось говорить на эту тему. Тем хуже для учтивости! Элевсия что-то знала, и Аньес преисполнилась решимости выведать у нее правду. – Как-то раз вы говорили мне о нем. О ваших родственных связях, о вашей материнской любви к нему. – Он сын моей сестры Клэр. После ее гибели в Сен-Жан-д'Акр мы с моим покойным мужем – у нас не было детей – воспитывали Франческо как родного сына. Он дал нам то, чего не хватало нашему союзу. Мы все питали друг к другу нежную любовь, – улыбнулась аббатиса, погрузившись в сладостные воспоминания о своей жизни до Клэре. Аньес уцепилась за откровения Элевсии. – Я… Вот почему я осмелилась приехать сегодня к вам… Господи Иисусе, как мне не хватает слов… Я думала… Странное чувство, оставшееся у меня после короткой встречи с вашим дражайшим племянником, я сначала приписывала своему лихорадочному состоянию и изнеможению. Тем не менее… – Странное, говорите? Что-то не клеилось. Казалось, Элевсия нисколько не удивилась, услышав, что ее приемный сын приезжал в Алансон. Она тем более не спросила, что за причины побудили рыцаря встретиться с Аньес. Однако лицо ее омрачилось. Становилось ясно, что аббатиса уклоняется от прямых ответов. Теперь Аньес не сомневалась, что все жуткие события, чуть не отнявшие у нее жизнь, тесно связаны между собой. Эд, ее сводный брат, был всего лишь гнусным исполнителем плана, недоступного его пониманию. Аньес сухо потребовала: – Мадам, прошу вас, отнесите на счет того огромного страха, что я испытываю, мою настоятельную просьбу. Мне необходимо знать… И ваше смущение заставляет меня думать, что вы в состоянии просветить меня. Неожиданная реакция аббатисы озадачила Аньес. Элевсия резко встала. От острой боли ее лицо исказилось, но вместе с тем в ее глазах лучилась бесконечная нежность. Тоном, не терпящим возражений, она сказала: – Уезжайте, мадам. Мне надо заняться… У нас был пожар… и манускрипты пострадали. – Нет, было бы недостойно вашего положения, вашего звания отказать мне в этой просьбе. Знаете ли вы, что мне пришлось пережить? Элевсия де Бофор боролась со слезами, затуманивавшими ее взор. И все же она взяла себя в руки и выдохнула: – О… я знаю, я это чувствовала своей кожей так остро, что вы даже представить себе не можете. Видения и кошмары не давали аббатисе ни малейшей передышки. Ремни со всей силой опускались на ее спину, разрывая кожу. А эти жгучие укусы соли, которую чудовище-инквизитор сыпал на ее раны! На раны Аньес, терзавшие плоть Элевсии. – Помилосердствуйте, не оставляйте меня в неведении, – умоляла молодая женщина. – Вы говорите, манускрипты пострадали? Какие манускрипты? Теория Валломброзо? – импульсивно выкрикнула Аньес. Ледяная рука коснулась щеки Аньес. Элевсия де Бофор прошептала: – Мне не подобает… не сейчас, только не я. Да хранит вас Господь. Элевсия стремительно скрылась в обогревальне под эхо своих шагов и шелест тяжелых складок платья. Ошеломленная Аньес осталась одна.Послушница бросилась к Аньес и предложила помочь ей сесть в седло. Улыбнувшись, дама де Суарси отказалась от любезного предложения, объяснив молоденькой девушке с удивительными светло-желтыми глазами: – Я сама справлюсь… Мне… просто немного мешает боль в спине, ничего страшного. И потом, вы же не всегда будете рядом, чтобы мне помочь. Премного вас благодарю. Послушница исчезла за арочными воротами стены, окружавшей аббатство. Едва забравшись на спину Розочки, Аньес почувствовала огромную усталость. Крупная кобыла першеронской породы спокойно ждала, пока всадница не устроится в седле. Женские седла[195] были такими же неудобными, как и старый портшез мадам Клеманс, своего рода кресло, устанавливавшееся на крупе лошади, из-за чего всадница не могла управлять животным. Поэтому один из слуг вел лошадь шагом. Лошади, на которых ездили в то время женщины, были обучены идти иноходью, чтобы всадницы могли сохранять равновесие и, главное, крепко держаться в седле. Кроме того, бытовали опасения, что верховая езда трусцой или галопом может повредить зачатию. Розочка шла размеренным аллюром. Все думы Аньес были о Матильде. Она по-прежнему не получала никаких вестей о дочери. Аньес пыталась предугадать, как она отреагирует, какие чувства испытает, встретившись лицом к лицу со своей самой жестокой клеветницей. Потребует ли она объяснений от ребенка, которого выносила под сердцем? Замкнется ли в осуждающем молчании? Станет ли оплакивать эти жалкие остатки того, что некогда упрямо считала своими самыми прекрасными воспоминаниями? Воспоминания о Матильде, когда та была младенцем, ребенком, наконец, маленькой девочкой. Хватит лгать себе! Жалкие остатки – это мягко сказано. Что касается самых прекрасных воспоминаний, то они были омрачены, если не осквернены злобой Матильды во время процесса. Ее дочь исчезла, а на ее месте появилась неумолимая обвинительница, безжалостная предательница. Следовало смотреть правде в глаза: своими лучшими воспоминаниями она обязана Клеману и не имеет ни малейшего представления, как поведет себя в присутствии Матильды. Впрочем, снедавнего времени Аньес прониклась ужасающей уверенностью: Матильда не только ненавидела Клемана и тяжелую жизнь в Суарси. Она также и в первую очередь питала лютую ненависть к родной матери. Аньес прикусила губу, чтобы унять пронзительную боль, вызванную осознанием этого факта. Как бы там ни было, не могло быть и речи о том, чтобы Матильда оставалась в хищных руках Эда. Если потребуется, она обратится за помощью к бальи, Монжу де Брине. Пусть он именем закона войдет в замок Ларне и, если понадобится, силой привезет девочку в Суарси. Она собиралась вскоре написать об этом Эду. Аньес прогнала мрачные мысли и сосредоточилась на странной встрече с аббатисой, встрече, лишь усилившей ее непонимание. И все же, несмотря на разочарование и беспокойство, из разговора с Элевсией де Бофор она вынесла одно твердое убеждение: ни Клеман, ни она сама не лишились рассудка. Они кружились в водовороте, сила которого была выше их понимания. Гигантский вихрь безжалостно бросал их из стороны в сторону. И попали они в него по ошибке. Но Аньес заблуждалась.
Мануарий Суарси-ан-Перш, декабрь 1304 года
Когда Аньес вошла в большой квадратный двор мануария, ее встретило тревожное молчание. Ни собак, ни суетившихся слуг. Можно было подумать, что она попала в одну из тех сказок, в которых ведьмы погружали всех обитателей дома в глубокий сон. Аньес посмотрела вокруг и закричала: – Эй!.. Кто-нибудь!.. Жильбер Простодушный молнией выскочил из амбара и бросился к ней с удивительным для его крупного тела проворством. – Моя дама… Он здесь. О, Господи Иисусе… Что за история! Он недавно приехал, без предупреждения! Он свалился нам как снег на голову, вот. – Кто, Жильбер? – Да он же, разумеется, – ответил весь красный от нервного напряжения Жильбер. Он размахивал руками так сильно, что походил на разгневанного гусака. – Успокойся, мой славный Жильбер. О ком ты говоришь? Розочка не шелохнулась, когда Жильбер бросился к ней, схватил Аньес за талию и помог спуститься на землю. Он подхватил свою госпожу словно перышко и нежно поставил на ноги. В какое-то мгновение Аньес подумала, что этот гигант с умом маленького ребенка мог голыми руками свернуть шею быку. – Спасибо, славный Жильбер. Успокойся и подумай. Объясни, кто приехал? – Наш сеньор, моя добрая фея. Наш сеньор, как говорит Клеман. От ярости Аньес вся похолодела и с ненавистью процедила презренное имя сквозь зубы: – Эд? – Нет, не подлый гном. Эту заразу… да я раздавил бы его рожу ногами, если бы он только посмел сунуться к нам. Наш главный сеньор, что живет за лесом Отон. У Аньес подкосились ноги. Боже мой… Мессир Артюс! Но как, почему, когда? Почему он не предупредил ее о своем визите? В отчаянии она взглянула на свое платье, шлейф которого был запачкан грязью, на ногти, ставшие такого же зеленого цвета, как и вожжи. Она была всклокоченной, покрытой пылью, одним словом, похожей на чудовище, способное испугать любого. И даже восхищенный взгляд млевшего от радости Жильбера был не в состоянии заставить ее изменить свое мнение. Но Аньес все же взяла себя в руки и приказала: – Прошу тебя, отведи Розочку в конюшню. Жильбер неторопливо направился к конюшне, что-то нашептывая кобыле на ухо. До чего же все животные и даже пчелы любили Жильбера! Казалось, их связывала невидимая нить. Быстрее! Что можно сделать? Тайком пробраться в свои апартаменты и привести себя в порядок? Нет. Граф слышал, как она приехала и звала на помощь. Она могла бы продемонстрировать недовольство и упрекнуть его за неожиданный визит. Аньес сдержала улыбку. Граф поступил так намеренно. Тем не менее она не сомневалась, что он придумал один из тех невразумительных предлогов, которые используют все мужчины, даже самые умные. Неужели им приятно от одной только мысли, что, ведя подобную игру, они сбивают женщин с толку? Аньес прыснула со смеху: право же, мсье, мы так привыкли к уловкам, что чувствуем их издалека! Она изобразит удивление и волнение. Впрочем, что касается волнения… Аньес поправила манто и вуаль, подняла рукой короткий шлейф и поспешила к большой двери, ведущей в общий зал. Едва войдя, она крикнула: – Адели… Граф резко встал с сундука, где хранилась посуда. Он чувствовал себя смущенным. – Вы, мсье? – Хм… В самом деле, мадам. Решительно, я вновь веду себя как грубиян. Я опять приехал к вам без предупреждения. – Мсье, вы меня оскорбляете. Как, разве мой сеньор не будет желанным гостем в моем доме, какие бы причины… или любопытство его сюда ни привели? Граф улыбнулся, потупив взор. Под комплиментом был едва заметно скрыт легкий упрек. Впрочем, он этого ожидал и в противном случае был бы разочарован. – Я пренебрегаю своими обязанностями, мсье. Предложили ли вам освежительный или, вернее, бодрящий напиток, более подходящий для этого морозного вечера? – Разумеется. Ваша стряпуха попотчевала меня золотистой выпечкой с тертым сыром – я забыл, как называется этот рецепт, – и теплым вином с корицей и имбирем. – Это гужер. Он у нее получается на славу. Кому или чему я обязана счастьем видеть вас, если это не секрет? – наивным тоном спросила Аньес. – Городу Ремалар, куда я и направляюсь. Я уже не в том возрасте, чтобы совершать длительные поездки верхом, – небрежно ответил граф, не сводя глаз с Аньес. – Ожье по-прежнему ретив, но, признаюсь вам, у меня бывают боли в спине. Аньес изобразила улыбку, которую поспешила прикрыть рукой. – Вы смеетесь, мадам? – Нет, что вы, мсье… – Тогда к чему эта улыбка? – Потому что… Вы сочтете меня дерзкой, но в байку о вашей стареющей спине я не верю. Граф сделал вид, что не заметил лести. Надо были идти до конца. – Прозорливость дам восхищает меня, вернее, беспокоит. Признаю, предлог был не самым удачным. Я просто хотел узнать, как вы поживаете. Тем более что мессир Жозеф, мой лекарь, дал мне неотложное поручение. Я должен передать послание Клеману, которого еще не видел. – Клеман! Немедленно иди сюда, пожалуйста! – крикнула Аньес. Дверь, ведущая в отхожее место для слуг, мгновенно распахнулась, и красный как рак подросток появился словно по мановению волшебной палочки. – Тысячу извинений, монсеньор, – забормотал Клеман, кланяясь. – Если бы вы меня позвали, я тут же прибежал бы, клянусь вам. – Но ты предпочел шпионить, спрятавшись за дверью, не так ли? Почтительным, но обиженным тоном Клеман оправдывался: – Я никогда не шпионю за союзниками моей дамы. Я просто наблюдаю. – Шалопай! Исчезни немедленно, иначе я надеру тебе уши, – пригрозил мальчику граф, впрочем, без особой суровости в голосе. Клеман подчинился, но Артюс удержал его: – Подожди, я привез для тебя письмо. Но в будущем вам, хитрым сообщникам, все же придется искать других посланцев. Клеман взял запечатанный квадратик бумаги и исчез за той же дверью, бросив на прощание заговорщический взгляд на Аньес. Воцарилось молчание. Аньес не подобало прерывать его, и она терпеливо ждала, немного сердясь на саму себя. Артюс д'Отон никак не мог выйти из затруднительного положения, в которое он попал из-за своего неожиданного визита и, главное, из-за нежности, питаемой им к Аньес. Она же не спешила ему на помощь. Этот умный, достойный, соблазнительный – весьма соблазнительный! – и немного неуклюжий мужчина манил ее к себе. Несомненно, со стороны Аньес было бы презренным кокетством позволить ему слишком долго терзаться сердечными муками. Но тем хуже! Она смаковала его душевные переживания, в которых ей было отказано. Аньес овдовела более десяти лет назад. Что касается душевной нежности, галантных игр влюбленных, она никогда не знала их, ибо ее покойный муж Гуго был, несомненно, достойным и куртуазным человеком, но совершенно лишенным нежности. Вдруг ей захотелось пошалить, ей, столь рассудительной и печальной. Со сладостным удивлением она чувствовала, что в присутствии этого мужчины ею постепенно овладевает шутливое настроение. Но Аньес продолжала ждать. – Хм… Граф прочистил горло, проклиная себя. Черт возьми, каким же неповоротливым стал его язык! Всю дорогу до Суарси он мысленно представлял их встречу. Куда девались изысканно построенные фразы, пусть и немного смелые, которые он повторял своему Ожье? – Что вы говорите, мсье? – Ну… погода портится. – Что еще хуже, она не скоро улучшится. Ведь зима только началась. Черт бы побрал его глупость! Боже мой, еще немного и он станет похожим на полного идиота со всеми вытекающими последствиями… Ну же, немного мужества! В самом худшем случае она резко одернет его, но он по крайней мере будет знать, как вести себя дальше. Когда зарубцуется глубокая душевная рана, когда уязвленная гордость оправится, он… Хватит! Он и сам не знал, что делает. Печаль… он пребывал в такой печали, что о гордыне не могло быть и речи. Ему следовало спросить совета у Монжа де Брине, своего бальи. Разве тот не женился на веселой и все понимающей очаровательной Жюльене? Монжу пришлось ее соблазнить, поскольку молодая женщина, наследница огромного состояния отца, не собиралась принимать предложения первого встречного. Существуют ли рецепты обольщения, которыми могли бы делиться между собой мужчины, предварительно испробовав их? Старшие учили младших военному и охотничьему искусству, а также передавали секреты плоти. Странный поворот событий! Дичь превратилась в охотницу, а охотник испытывал лишь одно желание: стать ее добычей. Одним словом, классические правила больше не действовали. Он погиб. Аньес вдруг открыла для себя мир знаков, о котором не подозревала всего час назад. Но выяснилось, что она в нем прекрасно ориентируется. Боже, до чего же графу было неуютно! С него градом лил пот, хотя в просторном зале было очень холодно. Она протянула ему руку помощи: – Вы заночуете в Суарси? Я распоряжусь, чтобы вам приготовили комнаты. – Мне не хотелось бы злоупотреблять вашим временем и гостеприимством, мадам, тем более что Ремалар находится недалеко от Суарси. Я могу добраться туда до наступления ночи. – Мое гостеприимство всегда к вашим услугам. Вы окажете мне честь, приняв его, мсье. – Ну, раз так… – с облегчением согласился граф. Граф достаточно трезво мыслил, чтобы понять: испытываемое им облегчение рождалось из передышки, которую он предоставил самому себе. Он оставался в мануарии на ужин и на ночь, и поэтому ему не требовалось торопить события. Артюс сам удивлялся, почему вдруг начал трусить. Ему доводилось сражаться порой против трех врагов, не испытывая ни малейшего страха быть раненым или, что еще хуже, убитым. А сейчас он уже был готов спасаться бегством! Надо воспользоваться передышкой. Восстановить дыхание, расслабиться, завести милую беседу о пустяках… Но Аньес нисколько не заблуждалась. Граф отступил, чтобы дальше прыгнуть. Разве не так делают отважные скакуны, стремясь сохранить свои силы? Они вели беседу за кубком подогретого вина. Аньес с восторгом рассказывала о любовных песнях рыцаря Гуго,[196] шателена Арраса, который трогательно прощался со своей возлюбленной, отправляясь в крестовый поход. А вот «Шасти-Мюзар»,[197] откровенно женоненавистническую поэму, пользовавшуюся уже на протяжении пятидесяти лет огромной популярностью в определенных кругах, она резко осуждала. – Право, сколько же глупостей собрано в этих рифмованных строках! Набор общих фраз… А какая ненависть к женщинам! Мне стыдно за автора, который из осторожности или трусости предпочел остаться неизвестным! Какая грубость! Плененный помимо собственной воли граф улыбался, не обращая особого внимания на увлеченность Аньес. Боже, как же ему не хватало ее! Боже, как же он скучал по ней. Ничто иное не имело для него смысла, радости, интереса. Как получилось, что его жизнь стала всецело зависеть от этой женщины, о существовании которой он не знал еще несколько месяцев назад? Впрочем, какая разница? Никакой. – Вам скучно, мсье? Мне очень жаль. Порой я слишком увлекаюсь. Но мне так редко выпадает возможность поговорить с достойным собеседником. Я, несомненно, злоупотребляю вашим терпением. Смущенный, граф вздрогнул: – Нет, мадам. Напротив, вы чаруете меня. А раз так… – Раз так? – переспросила Аньес. – Раз так, ненависть к слабому полу настолько широко распространена, что, несомненно, должна скрывать нечто иное. – И что же? – Страх, разумеется. – Страх? Но кто мы такие, чтобы внушать страх? – Другие. Необходимые. А мужчины всегда стремятся подчинить себе необходимое, чтобы никогда не испытывать в нем недостатка. Потом… но эти откровения не предназначены для ушей дамы. – Вы забываете, что я была замужем и у меня есть ребенок. И в этот самый момент Артюса охватил смутный страх. Граф побоялся идти дальше, открыть свои карты. Он долго смотрел на Аньес. Эти огромные синие глаза, непроницаемые и такие строгие, приводили его в растерянность, выбивали почву из-под ног. – Простите ли вы меня, если я отважусь на грубость? Аньес сгорала от любопытства, от нетерпения тоже, хотя не хотела в этом признаваться. – По крайней мере я спокойно выслушаю ее. – Этого мало… – Прошу прощения? – Вы утверждаете, что были замужем. Я возражаю: этого мало. Недомолвки вызывали столь сильное головокружение, что Аньес едва держала себя в руках. Лихорадочно ища достойный ответ, она довольно неуверенно пошутила: – Разве можно быть замужем много или мало? – А вы в этом сомневаетесь, мадам? Куртуазная дуэль становилась все более опасной, что не входило в намерения Аньес. Она грациозно встала и сказала: – Тысяча извинений. Мне надо пойти на кухню, проверни… как справляется Аделина, если мы хотим вскоре поужинай… – А… приготовление еды, кровати или ванны… неисчерпаемые женские отговорки! – Я не… – Вы прекрасно все понимаете, – прервал он ее. – Держу пари, что Аделина прекрасно справляется с горшками и котелками, и ваша помощь ей совершенно не нужна. Присядьте, прошу вас. Аньес нехотя подчинилась. Былое удовольствие сменилось паникой. По сути, она так плохо знала свет, игры любви и соблазна. Вопреки тому, во что ей хотелось бы верить, чтобы ориентироваться в этом мире, быть просто женщиной оказывалось недостаточным. В конце концов, разве она не была крестьянкой, пусть и благородного происхождения? Он должен об этом знать. Он подвизался при дворе и, несомненно, имел успех у многих придворных дам, мастерски умевших околдовывать, нравиться и, главное, поддерживать длительную связь. – Вы чувствуете себя неловко, мадам? Но я не хотел этого. Заставив себя улыбнуться, Аньес отрицательно покачала головой. Граф продолжал: – Согласитесь… Окажите мне любезность и согласитесь, что наша беседа, в которой нам до сих пор так и не удалось затронуть главную тему, зашла слишком далеко и требует, по крайней мере, вывода. – Мы говорили о поэзии. – Полно, мадам! Мы говорили о настоящей любви, хотя и не произносили этого слова… Аньес отчаянно боролась с одолевавшими ее чувствами, боясь услышать продолжение. – …Слова, как мне не хватает слов! Я уже давно отвык от них. Перед вами я чувствую себя таким глупым. Я… вы годитесь мне в дочери или почти… Аньес подняла руку и вновь покачала головой. Он опередил ее: – Не обманывайте себя, эти различия очень важны. Впрочем, я пользуюсь хорошей репутацией и ношу достойное имя. Я богат. Я граф д'Отон, сеньор де Маль, де Ботонвийе, де Люиньи, де Тирон и де Бонетабль и де Ларне… – Вы составляете контракт, мсье? – прервала его Аньес. – Если я не ошибаюсь, при вступлении в брак вы подписывали контракт. Аньес вскочила как ужаленная и с горечью сказала: – Так вот о какой грубости вы меня предупреждали! К вашему сведению, у меня не было иного выбора! – Прошу прощения за дерзость. Тем не менее… сегодня он у вас есть. Выбор. – Разумеется. – Аньес, поджав губы, пристально смотрела на графа, потом добавила: – Ладно, будь что будет! Поскольку мы говорим откровенно, я не хочу оставаться в долгу. Куда вы клоните? Вы хотите перечислить все преимущества вашего положения? Неужели вы думаете, что я о них не догадываюсь? Разве я забыла, что вы мой сюзерен и что графство Отон, хотя и небольшое по площади, является одним из самых богатых графств королевства? Что еще? Ваша дружба с королем? Ваши слуги? Посуда, конюшни? Обширные охотничьи угодья? Движимое и недвижимое имущество? Растерявшись, граф пробормотал: – Что я могу сказать… – Правду, и немедленно. Чистосердечную правду! – Правду… Что за бездна эта правда! Аньес топнула ногой и воскликнула: – Помилосердствуйте, мсье! Вы сами сказали, что отступать слишком поздно! Разве вы не за этим приехали в Суарси? – Правда… Страсть, которую я вот уже давно, с момента нашей первой встречи, испытываю к вам, превосходит все чувства, обычно питаемые сюзереном к своему вассалу. – Граф поднял взор вверх и выругался: – Черт возьми! Я не принадлежу к мужчинам, которые умеют складно говорить, мадам! Да будут прокляты эти слова! Это женщины[198] питают к словам слабость! – Три слова, мсье. И ничего больше. Речь идет только о трех словах, и я сдамся, я, которую инквизиция не смогла заставить отступить. Три очень простых слова. – А если… если бы вы сами не были способны их произнести? Если бы…, они застревали у вас в горле, потому что вы их не чувствуете? Слова, опять слова! Пусть один из ваших слуг немедленно оседлает мне лошадь! Меня ждут в Ремала-ре. Не провожайте меня. Мне необходимо побыть на ледяном воздухе. Одному. Цокот копыт Ожье эхом разнесся по двору и вскоре затерялся в снежном молчании. Аньес стояла, не зная, что делать: разрыдаться или залиться безумным смехом. Она выбрала второе. Согнувшись чуть ли не до земли, она нервно икала, понимая, что затем из ее глаз польются слезы. На протяжении всего визита графа эти три слова постоянно витали в воздухе. Если бы Аньес могла, она произнесла бы их вместо Артюса, но дамам не полагалось этого делать. Нервный припадок закончился так же неожиданно, как и начался. Какое странное ощущение: она влюблена! Ей понадобилось время, чтобы объяснить эту сухость во рту, желудочные спазмы, которые она чувствовала в его присутствии, учащенное дыхание, сладостную негу. Какой же слепой она была! Но в этом не было вины Аньес, поскольку никогда прежде ее не захлестывали подобные эмоции. Вот почему она не смогла сразу понять свои чувства. Какое удивительное, чудесное состояние! Он произнесет эти слова. Так надо.Кипр, декабрь 1304 года
Арно де Вианкур, великий командор ордена госпитальеров и приор цитадели Лимассол, вздохнул. Он, кого буквально изводила кипрская жара, с наслаждением вдыхал свежий декабрьский воздух, проникавший в его рабочий кабинет через узкие бойницы. Этот остров приютил их после разгрома Сен-Жан-д'Акр в 1291 году, несмотря на плохо скрываемое недовольство Генриха II Лузиньяна, короля Кипрского, который опасался, как бы в его феоде не пустил глубокие корни могущественный военно-духовный орден. Приор отложил в сторону короткое послание, которое он получил от своего так называемого кузена Гийома. Под именем этого страстного любителя ангелологии скрывался Франческо де Леоне, рыцарь-госпитальер по справедливости и по заслугам, шпион Вианкура при мсье Гийоме де Ногаре, советнике Филиппа Красивого*. При содействии Ногаре король Франции искал прелата, готового за большие деньги занять Святой престол в обмен на полное невмешательство в политические дела Французского королевства. Однако Вианкур, равно как и Гийом де Вилларе, великий магистр их ордена с 1296 года, уже давно начал сомневаться, что признательность нового понтифика королю Франции на этом остановится. Филипп хотел любой ценой избавиться от военных орденов, главным образом от тамплиеров – подлинных сторожевых псов папства. Стратегия, несомненно разработанная самым верным советником Филиппа – Гийомом де Ногаре, стратегия, которой придерживался король, вызывала у Вианкура восхищение. Филипп не требовал немедленного роспуска всех орденов рыцарей Христовых, чем мог бы вызвать недовольство Ватикана, не говоря уже о молодых дворянах и горожанах, весьма трепетно относившихся к этим незапятнанным дурными делами героическим орденам, а говорил об их объединении под единым знаменем и под руководством одного из своих сыновей. Скорее всего, под руководством юного Филиппа, единственного, кого природа наделила незаурядным умом. Таким образом Филипп Красивый собирался держать монахов-воинов на коротком поводке, принуждая их к послушанию при минимальном политическом риске.Дражайший кузен! Осмелюсь ли вам признаться, что мои поиски в области ангелологии топчутся на месте? Понимаю, как вы разочарованы, и это наполняет мое сердце глубокой печалью. Вторая сфера[199] Господств, Сил и Властей весьма трудна для моего понимания. Однако приятная новость должна, несомненно, смягчить вашу досаду, по крайней мере я на это надеюсь. Третья сфера Начал, Архангелов и Ангелов начинает приобретать более четкие очертания. Теперь я уверен, что tempus discretum, обнаруженный мною в документах, к которым я получил доступ, касается в основном Начал. Мне требуется время, чтобы сделать достоверный вывод. Не сомневаюсь, что очередная отсрочка огорчит вас, и очень сожалею об этом. Уверяю вас, что буду и впредь рьяно заниматься поисками. Надеюсь, что в следующем послании мне удастся сообщить вам о значительном продвижении вперед.Франческо де Леоне сообщал, что борьбу за папский престол продолжали вести четыре французских прелата, что уже было существенным прогрессом с момента написания первого послания, поскольку Филипп Красивый, судя по всему, вычеркнул из списка двух других кардиналов – возможных претендентов. Знаменитые архангелы и ангелы… Какая очаровательная метафора! Леоне больше не говорил о «Граде Божьем» святого Августина как библиографическом источнике, а это означало, что он решил расстаться с мсье де Ногаре, чтобы вести свои поиски в иных местах. Щуплый мужчина в последний раз внимательно перечитал письмо, лежавшее на его письменном столе.Ваш покорнейший и признательный Гийом
Не сомневаюсь, что очередная отсрочка огорчит вас, и очень сожалею об этом.Улыбка озарила морщинистое лицо великого командора. Да, Леоне находился во Франции. Однако рыцарь ни на мгновение не догадывался, что был послан туда совсем по другим причинам. Приор встал и направился к тайнику, сделанному в стене. Оттуда он вытащил полученный некоторое время назад свиток, на котором вместо подписи стояла буква Г. Так подписывался Клэр Грессон, личный секретарь Гийома де Плезиана,[200] бывшего ученика Ногаре в Монпелье, затем наместника сенешаля Бокера, который в прошлом году воссоединился со своим учителем, поступив на службу к королю Франции. С тех пор Плезиану не раз выпадала возможность продемонстрировать свои удивительные таланты легиста. К тому же он был превосходным оратором, наделенным недюжинным умом, и высокообразованным человеком. Как поговаривали в коридорах и передних Лувра, Плезиан стал «второй головой на плечах мсье де Ногаре» и, похоже, питал ту же неприязнь к памяти покойного Папы Бонифация VIII. Пристроить Грессона, одного из самых усердных и изворотливых информаторов, каких только знал приор, в секретари Плезиану оказалось весьма эффективной тактикой, с чем и поздравил себя Арно де Вианкур. Клэр Грессон писал:
Любезный крестный! Надеюсь, что вы чувствуете себя лучше. Наш общий троюродный брат волнуется, что ему вскоре придется сообщить вам о своих весьма скромных успехах в изучении ангелологии, которое вы поручили ему. Он провел некоторое время среди нас и отыскал отдельные детали, способные помочь ему в работе. И хотя я ничего не знаю о теоретических тонкостях, слишком сложных для меня, я все же понял, что найденные детали помогли ему существенно продвинуться в своих поисках. Уверяю вас, наш кузен не жалел своих сил. Сейчас он отправился с коротким визитом к своей родственнице, которую ему давно хотелось прижать к своему сердцу. Но неожиданная кончина задержала его. Не печальтесь, мой любезный крестный. Речь идет о постороннем человеке, а вся наша семья пребывает в добром здравии. Верьте мне, наш кузен усердно трудится, и его мудрость достойна самой горячей похвалы. Я нисколько не сомневаюсь, что он добьется результатов, которые укрепят вас в решении доверить ему написание трактата, посвященного дискретному времени ангелов, этому tempus discretum, своего рода промежуточной стадии между божественной вечностью и непрерывным временем материальных существ,[201] постоянно вызывающим у нас беспокойство.Арно де Вианкур улыбнулся, хотя положение их было весьма серьезным, если не опасным. В своем письме Клэр Грессон подтвердил, что Леоне уехал от Ногаре. Но другие сведения, читавшиеся между строк, расходились со сведениями, сообщенными рыцарем. Впрочем, Вианкура это нисколько не удивляло. У советника короля Франческо де Леоне нашел информацию, несомненно, более важную, чем он сам мог предположить. Он выиграл время, и приор знал почему. Грессон сообщал, что Леоне отправился навестить свою тетку Элевсию де Бофор, аббатису Клэре, как и предполагал Вианкур, знавший, что два манускрипта, купленные рыцарем у Гашлена Юмо, хранятся в тайной библиотеке аббатства. Что касается смерти, которая не должна была огорчать его, то речь, несомненно, шла о гибели этого нечестивого животного Никола Флорена, получившего от приспешника Бенедетти приказ уничтожить Аньес де Суарси. Значит, дама была спасена и находится в добром здравии. Но как долго это продлится? Их враги не остановятся. Аньес была основной фигурой в партии, которую они разыгрывали на протяжении тысячелетий. Кровавой, безжалостной партии. Арно де Вианкур поднес оба письма к пламени свечи и молча смотрел, как коричневатые языки пожирают бумагу. И хотя простые смертные ничего не поняли бы из этих писем, лучше, чтобы они не попали в чужие руки, даже в руки Гийома де Вилларе, их нынешнего великого магистра. Леоне по-прежнему ничего не должен был знать о подлинной роли приора. Он, равно как и все остальные, не должен был даже догадываться, что Арно де Вианкур уже давно тайно руководит их поисками, даже до разгрома Акры, когда тамплиер передал свой дневник Эсташу де Риу. Франческо по-прежнему должен был твердо верить в его полнейшую преданность великому магистру их ордена. Главное, требовалось, чтобы он и дальше пребывал в убеждении, что Вианкур старается противодействовать планам Филиппа Красивого, хотя на самом деле маленького невзрачного человечка гораздо сильнее беспокоили подручные Гонория Бенедетти. Приор почти с нежностью подумал о еще молодом отважном рыцаре, которым он манипулировал. Франческо, его великолепный воин. Франческо, который пока не должен был знать о необратимом значении их битвы. Но приор быстро взял себя в руки. Ему предстояло столько сделать, принять столько решений… И ему было чего опасаться. Вот уже несколько недель приор испытывал сомнения. Должен ли он тоже отправиться во Францию, чтобы тайно помочь Франческо? Оставить цитадель Лимассол без начальника, не побоявшись, что Генрих II де Лузиньян воспользуется его отсутствием и поставит во главе цитадели своих людей? А если его столь неожиданный отъезд заинтригует Гийома де Вилларе? Впрочем, какая разница, если они проникли в самую суть? За одну ночь все рухнет. Мир обретет новый облик. Им больше не придется метаться между адом и раем. Они перестанут бояться ада и мечтать о рае. А если это крушение заставит себя ждать? Если оно призвано изменить не их жизни, а жизни грядущих поколений? Вианкур вздохнул. Он был всего лишь скромным ремесленником. Какая разница? Никакой. Он впишет свое имя в тайный список своих предшественников. Собственная слава была ему безразлична. В этом он походил на своего непримиримого врага, камерленго Бенедетти. В глубине души он восхищался этим человеком, хотя и стремился его уничтожить. В камерленго он узнавал себе подобного. Они были одной породы. Породы, которую ничто не могло сдержать: ни выгода, ни страх. Они умели забыть о себе, выполняя возложенную на них миссию. «Я раздавлю тебя, Гонорий. Я раздавлю тебя, хотя мне тебя жаль. Гонорий, я знаю тебя как собственную жизнь. У нас родственные души, хотя твоя душа проклята из-за множества ошибок. У меня такое впечатление, что ты жил рядом со мной. Ощущаешь ли ты то же самое? Гонорий! Как могло так случиться, что мы оба служим Ему всеми своими силами, всей нашей любовью, но поступки наши прямо противоположны?»Ваш преданный и почтительный сын Г.
Алансон, таверна «Красная кобыла», Перш, декабрь 1304 года
Удушающая тишина. Холодный скупой свет зимнего вечера. Едкий запах, исходящий от длинных свечей. Эхо шагов по коричневым каменным плитам. Франческо де Леоне шел вперед по бесконечной галерее церкви. Черный плащ с широким белым крестом, восемь концов которого были соединены попарно, хлопал о кожаные сапоги. Он пытался догнать силуэт. Тот двигался молча, и его выдавало только легкое шуршание ткани из плотного шелка. Женский силуэт, женщина, которая скрывалась от него. Силуэт почти такой же высокий, как он сам. Отблески пламени свечей переливались на ее волнистых волосах. На длинных волосах, спадавших по спине до самых икр и сливавшихся с шелковым платьем женщины. На длинных белокурых волосах с медным или медовым отливом. Внезапная резкая боль вызвала у него одышку. От ледяного холода стыли губы. Он попытался вытереть лоб, покрытый потом, застилавшим ему глаза, но лишь оцарапал его своей латной рукавицей. Почему он ее надел? Готовился ли он к битве? Постепенно его глаза привыкли к полумраку. Через купол в церковь приникал слабый свет, сливаясь с мерцающими огоньками свечей. Это позволяло Леоне всматриваться в окружавшую его тень, смутно различать контуры пилястров, очертания стен. Что это за церковь? Какая разница'. Эта была небольшая церковь, но все же он мерил ее шагами несколько часов подряд. Он неторопливо преследовал эту женщину. Почему? Она не убегала, лишь только не позволяла расстоянию, разделявшему их, сокращаться. Она всегда шла впереди на несколько шагов и, казалось, предвосхищала его движения: когда она шла по внешней галерее, он следовал за ней по внутренней. Он застыл неподвижно. Один шаг, один-единственный, и она тоже остановилась. До него долетало спокойное дыхание, дыхание женщины. Он пошел вперед, и тут же раздалось второе эхо. Франческо де Леоне медленно положил руку на головку эфеса своего меча. И вдруг его охватила такая опустошающая нежность, что на его глаза навернулись слезы. Он недоверчиво смотрел на то, как его рука сжимает металлический шар. Как же он постарел… Под кожей, изборожденной морщинами, проступали широкие вены. И тут он почувствовал чужеродное присутствие. Присутствие крови и убийства. Безжалостное присутствие. Женщина остановилась. Неужели она заметила враждебную тень? Раздался шепот: «Защищайтесь, рыцарь, во имя любви к всемогущему Богу». Бледная женская рука прикоснулась к рукаву его блио,[202] заставив Леоне вздрогнуть от почти невыносимого наслаждения. Вторая рука на мгновение исчезла в складках ее платья и тут же появилась, сжимая короткий меч, излучавший серебристый свет. Он не заметил, что она была вооружена. Леоне прошептал: «Моя жизнь в вашем распоряжении, мадам», и медленно повернулся к ней. Желтый шелк обтягивал ее живот. Женщина была беременна.Франческо де Леоне проснулся. Он широко открыл рот, жадно вдыхая воздух, которого ему так не хватало. Сон. Опять сон. Упрямый сон приобретал смысл. Он приближался к разгадке. Леоне уже понял, что сон предвещает будущее. Он нервно зарыдал и свернулся калачиком на матрасе, набитом конским волосом и соломой, в комнате таверны Алансона, где он жил после убийства Флорена. Это были рыдания без слез, рыдания признательности, глубочайшего облегчения. Он так боялся, что преследовал эту женщину, чтобы убить ее. Однако теперь стало ясно, что он преследовал ее, чтобы защитить, вместе с ребенком, которого она носила под сердцем. Вопреки тому, во что он так долго верил, молодая женщина не была Аньес де Суарси. Разница в возрасте между ними это доказывала. Тем не менее она походила на нее как сестра. Неужели скоро закончатся поиски, которые держали его в таком сильном нервном напряжении, влекли за собой, изматывали? Но каков их подлинный смысл? Он встал и застыл неподвижно, голый, в центре крохотной комнатки. Затем он медленно подошел к слуховому окошку и приподнял пропитанную маслом кожу, затвердевшую от холода. Ледяной ветер ворвался в комнату, заставив его задрожать. Леоне упал на колени, с наслаждением читая благодарственную молитву. Женщина. Его жизнь за беременную женщину. Без колебаний, без страха, без вознаграждения. Его жизнь принадлежала этой женщине, поднявшей меч в незнакомой церкви ради своего ребенка, которого носила под сердцем. Ибо некто хотел уничтожить ребенка, убив его мать. Он знал это. И она это знала.
Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Несколько дней назад Жанна д'Амблен вернулась из поездки вся разбитая, с высокой температурой. Приступы сильного кашля не давали ей передышки. Жанна безуспешно пыталась возражать Элевсии де Бофор, которой пришлось почти насильно уложить ее в кровать, чтобы та смогла как можно быстрее выздороветь. Учитывая состояние Жанны, ей выдали два теплых одеяла, а Аннелета приготовила различные лечебные настойки и бальзамы. Сестра-больничная знала, что симптомы болезни Жанны присущи как серьезным патологиям, так и незначительным простудам. Но в любом случае было необходимо как можно скорее справиться с ними, чтобы другие монахини не заразились. Жанна выпила настойку из медуницы, капусты, коры бука и огуречника[203] и протянула пустую чашку Аннелете. Лицо Жанны сморщилось от отвращения, и она проворчала: – Почему все лекарства такие противные? – А ведь для улучшения вкуса я добавила пряности и мед, – ответила Аннелета. – Отдохните немного. А потом… придется сделать ингаляцию. – Ах нет, только не крапива и любисток, умоляю вас! – Но они очень эффективные! – Да ими же лечат лошадей![204] – Они и людям приносят пользу. Вас нелегко врачевать, дорогая Жанна. Жанна улыбнулась и начала оправдываться: – Извините меня, предупредительная Аннелета. Просто мне так скучно лежать в кровати и ничего не делать. Ноги у меня уже не болят, правда, у меня такое чувство, будто голову сжимают клещи, а в груди горит сильный огонь! – Сочувствую вам. Но вы должны понимать, что неизлеченное простудное заболевание может привести к очень серьезным последствиям. Впрочем, болезни передаются странным путем… Верно ли, что больной заражает других через свое дыхание? Возможно, поскольку известно, что здоровый человек, надев белье больного, может заболеть. Весьма любопытная шарада. Жанна, не проявлявшая к науке особого интереса, забеспокоилась: – Выходит, что я могу вас заразить? – О, у толстухи крепкое здоровье. Но если и так, тогда я буду лежать рядом и развлекать вас, – пошутила сестра-больничная. Аннелета поправила подушку Жанны и спросила: – Вам что-нибудь нужно, Жанна? Я налила в кувшин воду с экстрактом мальвы. Полагаю, у вас все есть… – Никак не могу найти носовой платок. Куда он подевался? Аннелета посмотрела под кроватью, но не нашла его. Тогда она вытащила свой платок из маленькой сумочки, которую носила на поясе. В сумочке она всегда хранила пузырек с антисептиком, длинную иглу, чтобы вытаскивать занозы, салфетки, пропитанные сосновым экстрактом, и носовой платок. – Возьмите, это платок из бельевой комнаты. Сейчас я вам принесу еще один. Аннелета покинула еще очень слабую Жанну, сонно покачивавшую головой. Уходя, она не забыла опустить тонкие занавески, ограждавшие крохотную спаленку.Аннелета шла по коридору, ведущему в кабинет Элевсии де Бофор. Сестру-больничную обогнал кто-то, показавшийся ей знакомым. Миниатюрная фигурка обернулась и послала ей лучезарную, хотя и робкую улыбку. Ах, как же звать эту послушницу? Ту, что хотела взять имя Елены, матери Константина. Аннелета забыла. Впрочем, какая разница! Аннелета постучала в тяжелую дверь. В ответ раздался сильный кашель. «Черт побрал бы эту простуду», – подумала Аннелета. Эта болезнь распространяется галопом. Возраст и слабое здоровье аббатисы делали ее легкой добычей. Да, теперь ей придется ухаживать за двумя больными. Аннелете хотелось надеяться, что болезнь на этом остановится, а матушка окажется более сговорчивой, чем Жанна. Сестра-больничная вспомнила о той весне, когда ей пришлось лечить рвоту, диарею и кишечные колики у почти тридцати монахинь и стольких же мирянок-прислужниц. И хотя болезнь пощадила ее, она думала, что умрет от усталости! Аббатиса сидела за столом, сжимая голову обеими руками. Когда она подняла голову, Аннелета поняла, что ее предчувствия оправдались. Из глаз Элевсии де Бофор текли слезы, нос покраснел, изо рта вырывались хрипы. – Только этого нам не хватало, дорогая Аннелета. Эпидемии. – Пока она ограничивается только Жанной и вами. Надеюсь, на этом она остановится. Аббатиса шумно высморкалась и сказала: – Мне надо бы взять еще несколько салфеток. Эта… очень грязная. Но у меня нет сил встать, дочь моя, и… – Разумеется. Я сбегаю в бельевую. А на обратном пути загляну в гербарий и приготовлю вам настойку… Жанна говорит, что она противная, но я добавлю мед, имбирь и корицу, чтобы хоть немного улучшить ее вкус.
Через полчаса Элевсия де Бофор, поставив на стол чашку, содержимое которой Аннелета заставила ее выпить полностью, сказала: – Господи Иисусе, до чего же это лекарство противное! Мало того, что ты болеешь, так еще ты должна пить, словно в наказание, столь отвратительное зелье. Зажгите, пожалуйста, масляный светильник, дочь моя. Уже вечер, и ничего не видно. Я чувствую такую слабость! Надеюсь, хороший сон придаст мне сил. Продвинулись ли вы в своих поисках, в своих размышлениях? – Не так далеко, как мне хотелось бы. Не сочтите меня нескромной, но я слышала, что к вам приезжал гонец… Аббатиса улыбнулась: – Наконец-то хорошая новость. Вскоре в аббатство должен приехать человек от моего племянника. Какое облегчение! – Но милое лицо в мелких морщинах тут же вновь стало хмурым. – Я написала ответ, коротко поведав о недавних печальных событиях, произошедших в аббатстве. – Как же так получилось, что я не заметила вашего племянника, когда он в последний раз навещал вас? Боже всемогущий, если бы мерзавец Флорен увидел его, это стало бы настоящей катастрофой! Лицо аббатисы зарделось от гордости. Она призналась: – Мой Франческо очень хитрый. Он всюду может проникнуть, словно жулик. Перед ним не устоят ни стены, ни ворота. Элевсия задохнулась в приступе кашля. Аннелета бросилась к ней и несколько раз постучала по спине. Наконец аббатисе стало легче. Они вновь заговорили об убийствах, об угрозе, нависшей над их поисками. Потом Элевсия де Бофор так лестно описала Франческо, что Аннелета подумала, что аббатиса явно считает его по меньшей мере архангелом и что любовь истинных матерей не знает границ. Сестра-больничная уже собиралась уходить, как вдруг ее насторожило выражение лица Элевсии. Челюсти ее так сильно сжались, что из-под бледной кожи резко выступили мышцы. – Матушка! Вам плохо? Элевсия кивнула головой, не в силах разжать зубы. В мозгу сестры-больничной промелькнул длинный список симптомов различных болезней. Тризм. Это состояние называлось тонической судорогой челюстей. Оно наблюдалось при некоторых формах тетании и флегмоны миндалевидных желез. – Матушка! – закричала Аннелета. Элевсия покачнулась и упала на пол, как тяжелый мешок. Духовная дочь бросилась к аббатисе, пытаясь поднять ее. Но мышцы хрупкой женщины стали твердыми, как железо. Она задыхалась, тщетно ловя воздух. С лица градом лился пот. И тут Аннелета поняла. Обезумев, она схватила пустую чашку и слизнула последние капли, оставшиеся на дне. Аннелета сразу почувствовала, как у нее подкосились ноги. Необыкновенная горечь напитка не вызывала сомнений. К ее травам подмешали что-то другое. От рыданий тело Аннелеты содрогнулось. Она сама приготовила яд и отнесла его аббатисе. Это извращенное чудовище, эта отравительница заставила ее стать невольной помощницей. Впервые в жизни Аннелета почувствовала непреодолимое желание убить. И она убьет, поскольку хочет видеть убийцу мертвой. Аннелета опустилась на колени рядом с задыхающейся Элевсией, протягивающей к ней свои окоченевшие руки. Аннелета хотела взять аббатису за руку, но от жутких конвульсий хрупкое тело словно взлетело в воздух, а затем вновь упало на пол. – Вам больно, мадам? – простонала сестра-больничная. – Эти симптомы мне незнакомы. Что она использовала, эта проклятая? Мадам, умоляю вас, не умирайте, не оставляйте меня одну! Мадам, мадам… я солгала… у меня нет той силы, которой я так хвалилась. Я держалась, чтобы успокоить нас и самой себе доказать свою значимость. Живите, заклинаю вас! Живите! Мне страшно, матушка. Что я буду делать, если вы покинете меня? Капля упала на белоснежное платье аббатисы, потом вторая, третья… Они сверкали, словно маленькие прозрачные бриллианты. И только тогда Аннелета осознала, что плачет. Ей казалось, что жизнь утекает из нее точно так же, как жизнь умирающей женщины. Сестра-больничная легла, прижавшись к скорчившейся от боли Элевсии, и повторяла как молитву: – Будьте благословенны, сестра моя, будьте благословенны, сестра моя… Бог любит вас. Он любит вас… Сколько прошло времени? Аннелета не могла сказать. Мысли ее витали далеко. Хрип, вырвавшийся из груди умирающей, заставил Аннелету вздрогнуть. С по-прежнему крепко сжатыми челюстями Элевсия смотрела на нееогромными глазами в отчаянной попытке что-то сообщить. Аннелета коснулась щекой лица аббатисы, и тут же раздался хриплый крик. Аббатиса с трудом зашевелила губами и прошептала сквозь сжатые зубы: – Шк… шк… – Ваш шкаф. – Фран… – Ваш племянник Франческо. – Пис… – Письмо или письма в вашем шкафу для вашего племянника. Элевсии удалось моргнуть. – Тай… Тайное… – Это тайное письмо, и оно останется таковым, клянусь вам своей жизнью. – Ключ… Тай… библ… – Там также находится ключ от тайной библиотеки. Кому его отдать? Франческо? Элевсия снова моргнула. От хриплого дыхания щеки умирающей раздувались. Аннелета, потеряв голову от ужаса, с трудом соображала. Должна ли она броситься за помощью? Нет. Элевсии не следует умирать в одиночестве в этой зловещей комнате. Хрип, еще один. Окоченевшие руки, протянутые к ней, напряженные до предела ноги, торчащие из-под платья щиколотки. Элевсия спокойно ждала смерти. Она ничего не видела, не пыталась запомнить малейшие детали. В сущности, смерть не так уж страшна, как об этом говорят. Она даже проявила снисходительность к своей новой жертве. Мадам де Бофор казалось, что вокруг нее собрались ее любимые сестры. В ее памяти звучал смех Клэр, Клеманс целовала ее, а Филиппина ласково трепала по щеке. «Анри, мой любезный супруг… Наконец-то я воссоединюсь с вами. Какой же длинной и тернистой была дорога к вам! И пустынной. Без вас мне всегда было холодно. Там… там я наконец отогреюсь». Последнее усилие. Последнее. Элевсии вновь удалось разжать губы. – Д… руг мой. Живи, др… уг мой. Последний сдавленный вдох. Грудь Элевсии застыла. Аббатисе казалось, что ее мозг захлестывает огромная красная волна, размывая контуры мира. Крик. Последний крик. Тело аббатисы приподнялось над ледяными плитами, приняв форму радуги. Теперь оно касалось пола только головой и пятками. Но вскоре, безжизненное, оно вновь рухнуло вниз. – Мадам, мадам… – рыдала Аннелета. – Нет, нет, это невозможно! Нет, это несправедливо, несправедливо! Это моя вина, моя самая тяжкая вина. Я слишком торопилась, готовя эту настойку, ни минуты не думая, что убийца могла подмешать яд к моим травам. Я повинна в глупости и небрежности! Вдруг Аннелету охватила невыразимая ярость. Она на коленях доползла до двери и крикнула во всю мощь своих легких: – Чтоб ты сдохла, чудовище! Чтобы ты сдохла и во веки вечные гнила в аду! Даже если мне придется отправить тебя туда своими руками! Топот ног, резко распахнутая дверь. При виде жуткой сцены женщины одновременно закричали: Тибода де Гартамп и Берта де Маршьен, сестра-экономка. Тибода опустилась на колени рядом с Аннелетой, бившейся в истерике. Сестра-больничная, не в состоянии сдержать свои вопли, отчаянно боролась с духовной сестрой, пытавшейся ее успокоить: – Сдохни! Я помогу тебе сдохнуть, если надо… – Аннелета, прошу вас! Успокойтесь… Все кончено. Успокойтесь. АННЕЛЕТА, прекратите! Нам нужно заняться телом нашей славной матушки. Звериные вопли сестры-больничной мгновенно затихли. Безумным взглядом она посмотрела на сестру-гостиничную. Постепенно облако, затуманивавшее ее бледно-голубые глаза, рассеялось. Она прошептала: – Боже мой… Тибода помогла Аннелете подняться. Мертвенно-бледная Берта стояла в нескольких сантиметрах от мертвой аббатисы. Она прошептала: – Это место проклято. Теперь я в этом уверена. – Старая дура! – прорычала Аннелета. – Единственное, что проклято в этом месте, так это отравительница. Мне нужен ваш ключ от шкафа. Такова последняя воля нашей матушки. Будьте любезны дать мне его, а затем обе выйдите. Я позову вас позже, чтобы мы вместе сломали печать. – Но… – Это приказ! Берта сделала робкую попытку возразить: – Учитывая преклонный возраст Бланш, нашей благочинной и хранительницы печати, до назначения новой аббатисы я фактически… – Вы никто! – резко оборвала ее сестра-больничная. – Вы всего лишь одна из моих подозреваемых. Ключ! Лицо Берты еще сильнее сморщилось от недовольства. Она неохотно сняла с щей кожаный шнурок и бросила его Аннелете. Затем вышла из комнаты в сопровождении Тибоды. Аннелета Бопре приподняла платье и развязала шнурок, обмотанный вокруг талии, на котором висел второй ключ. Присев рядом с трупом аббатисы, она вдруг подумала, что теперь ей предстоит сделать самое трудное. Но в то же время ее охватила бескрайняя нежность. Она осторожно приподняла голову мертвой Элевсии и пошарила под воротником платья. После наступления смерти мышцы Элевсии расслабились, и она вновь обрела достоинство прекрасной стареющей дамы. Аннелета взяла третий ключ и положила себе на колени голову так поздно обретенного друга. Последними словами Элевсии были «Друг мой. Живи, друг мой». Эти с трудом произнесенные слова вознаградили сестру-больничную за горькую, полную одиночества жизнь, которую, как совсем недавно казалось, она ненавидела. Она погладила лоб, еще покрытый испариной, и поцеловала его. Затем она встала и при помощи трех ключей открыла шкаф. Она сразу же увидела большой ключ, несомненно, дубликат ключа от покоев аббатисы, еще один, более короткий, а также ключ и толстое письмо, на котором лежала печать. На конверте высоким тонким почерком, который Аннелета знала так же хорошо, как свой собственный, было выведено:
Отдать моему любимому племяннику Франческо де Леоне после моей смерти. Никто другой не должен знать о содержании письма. А ежели он нарушит волю усопшей, душа его не найдет успокоения. Один Господь мне Спаситель и Судия.Аннелета просмотрела другие документы: акты о покупке и продаже земель и недвижимого имущества, о сдаче в аренду лесов и мельниц. Она взяла пергамент с планом, о котором говорила аббатиса, чтобы перепрятать его в надежное место. Единственным надежным местом ей казалась тайная библиотека. Аннелета приподняла ковер и увидела низенькую дверь. Взяв в руки масляный светильник, который она зажгла целую вечность назад, Аннелета вошла в просторный зал с высокими потолками. Струя ледяного воздуха ударила ей прямо в лицо. Подняв глаза, она заметила длинные горизонтальные бойницы, расположенные под самым потолком. Несмотря на удушающую печаль, сдавливавшую ей грудь, Аннелета застыла от волнения, до глубины души потрясенная видом сотен томов, собранных в этом месте, едва осмеливаясь подойти ближе. Прерывисто дыша широко открытым ртом, Аннелета боролась с суеверным страхом, парализовавшим ее. Вдруг какая-то сила бросила ее к полкам. Она читала названия, присвистывая от восхищения, дрожа от желания приобщиться к науке, к собранным здесь знаниям. Боже мой… Если бы ей разрешили жить здесь, прочитать все книги, обо всем узнать… Неожиданно ее охватила тревога: а вдруг новая аббатиса[205] решит уничтожить это чудо, или ей прикажут это сделать? Подобная перспектива заставила Аннелету вздрогнуть. Она должна держать при себе ключ до приезда рыцаря де Леоне. Какое тяжелое бремя она взваливает на себя! Аннелета знала, как любила мадам де Бофор своего приемного сына, и не сомневалась, что он отвечает ей взаимностью. Надо было действовать быстро. С минуты на минуту Берта и Тибода должны вернуться. Эти глупые гусыни могут подумать, что Аннелета решила воспользоваться одиночеством, чтобы при помощи печати сфальсифицировать документы. Низкие душонки чаще всего подозревают других в том, на что способны сами. Аннелета положила письмо и планы на полку. Неожиданно она обо что-то споткнулась. Она нагнулась и в полутьме при слабом свете масляного светильника разглядела большую ивовую корзину, в которую сложила мешочки и пузырьки, прежде чем отдать ее аббатисе. Так вот куда спрятала корзину матушка! Что это был за яд, который действовал столь стремительно, вызывая конвульсии и сильное окоченение членов? Аннелета могла поклясться, что Иоланду де Флери отравили тем же ядом. Вероятно, сестра-лабазница боролась с асфиксией, царапая себе горло, чтобы облегчить доступ воздуха, до тех пор пока руки не перестали ее слушаться. Животное… Яд был связан с каким-то крупным животным. Аннелета могла в этом поклясться, хотя память упорно отказывалась ей помочь. Вероятно, решение находилось на страницах этих книг. Нет! Только не царапины! Следы были гораздо длиннее, вели к самому носу. А Элевсия всякий раз кричала, когда Аннелета дотрагивалась до нее. Неужели малейшее прикосновение вызывало у нее мучительную боль? Аннелета мысленно представила убийцу в ту ночь в дортуаре. Проклятая! Она решительно сжала одной рукой горло Иоланды, а другой заткнула ей рот, чтобы та не могла кричать. На протяжении всей агонии она спокойно смотрела, как умирает ее духовная сестра. Ни в этом мире, ни в том ей не будет прощения. И Аннелета поклялась своей жизнью, своей душой, что возмездие вскоре обрушится на убийцу и будет ужасным. Еще один фрагмент мозаики встал на свое место: Элевсию отравили, поскольку убийца надеялась, что будет отменен запрет выходить за пределы аббатства, а вместе с ним и тщательный обыск всех путников, поклажи и телег. Манускрипты! Они ни за что не должны попасть в руки их врагов. Аннелета постарается разоблачить отравительницу любыми способами, пусть даже ей придется подкрепить свое недостаточно высокое положение дерзостью, как она только что сделала в отношении Берты и Тибоды. Несмотря на возраст и старческое слабоумие, Бланш де Блино имела все законные основания претендовать на пост заместителя аббатисы. Впрочем, сестра-больничная не сомневалась, что убийце удастся без особого труда манипулировать старой женщиной. Что касается Берты де Маршьен, то она, пусть и забывшая о прежней надменности, столь глупа, что легко попадется на удочку, буквально растаяв от льстивых слов. Аннелета боролась со смутным отчаянием, завладевавшим ее сознанием. Она найдет способ, чтобы помешать снятию запрета выходить за стены аббатства. Она направилась к приоткрытой низенькой двери, как вдруг ее озарила новая мысль, леденящая душу. Эта мысль лишь подтверждала уверенность Аннелеты в извращенном уме ее заклятого врага: носовой платок. Зная то, что некоторые болезни, в частности простудные, могут передаваться через одежду и личные вещи больных, убийца украла носовой платок Жанны, несомненно, дремавшей в это время, чтобы подбросить его Элевсии. Хрупкое телосложение аббатисы вкупе с усталостью и беспокойством последних месяцев довершили дело. А затем подколодной змее осталось лишь наблюдать за развитием болезни и добавить яд в травы, которыми Аннелета непременно будет лечить аббатису. Убить змею своими руками, если потребуется! Сестра-больничная чувствовала себя на это способной. Хуже, она жаждала видеть, как будет умирать дьяволица, видеть так же явственно, как видела угасавшую на ее глазах Элевсию. Сестра-больничная быстро вышла, заперла дверь и поправила тяжелый ковер. Затем она закрыла на ключ кабинет Элевсии. Она сама проследит за выносом тела и никому не позволит занять покои их матушки. До тех пор, пока не прибудет новая аббатиса, поскольку тогда Аннелете придется отдать ключи. Боже всемогущий… сделай так, чтобы Франческо как можно быстрее приехал!
Ватиканский дворец, Рим, декабрь 1304 года
Камерленго Гонорий Бенедетти рассматривал слащавое лицо своего визави, французского прелата, преисполненного почтения. Епископ Фульк де Марзен ждал от него совета. И он прозвучал: – Мой дражайший брат… друг мой, что я могу вам ответить? Разумеется, король Франции и другие монархи Европы используют всю свою политическую значимость, пытаясь повлиять на скорые выборы нашего нового Папы, но, в конечном счете, принимать решение будет только конклав. За вас выступают все французские прелаты, которые не хотят, чтобы Святой престол занял итальянец. По крайней мере те, кто сохранил достаточно смирения, чтобы признать, что сами не станут хорошими понтификами, или те, кто не отдаст своего голоса за… компенсацию. – И сколько же таких, по вашему мнению, ваше преосвященство? Тех, кто не куплен – что за мерзкое слово! – или не пал жертвой своего честолюбия? Марзен забавлял Бенедетти. Правда, весьма странным образом. Этот епископ, готовый на все, чтобы занять Святой престол, хмурил брови, кусал от отчаяния губы, рассказывая об аппетитах своих противников, рвавшихся к почестям И власти. Камерленго в голову пришла неприятная мысль, которую он попытался прогнать. По сути, «другие», его тайные враги, те, кто боролся, чтобы воссияло то, что они называли Бесконечным Светом, были похожи на этого прелата. Они твердо убеждены, что их жизни не имеют особого значения, Важным является лишь будущее. Разумеется, они по ошибке забрели не в тот лагерь, поскольку люди – это люди, и никакое чудо, никакая жертва распятого Сына Божьего не могли их изменить. Они плакали, просили, умоляли, а потом вновь становились расчетливыми и начинали совершать подлые поступки, едва из их памяти изглаживались воспоминания о мученической чистоте. Бенедетти вернулся к епископу, лицо которого напоминало ему фруктовое пюре, обильно политое прогорклым медом. Желание заставить его волноваться оказалось сильнее здравого политического смысла, требовавшего успокоить епископа. – Сказать правду? – Именно это я и хочу услышать, при всем моем уважении к вам. – Весьма незначительном. Мед стек с румяного лица любителя хорошо поесть. Фульк де Марзен занервничал. До чего же он был забавным, этот епископ, заплывший жиром, постоянно разглагольствовавший о воздержании! Все знали, что монсеньор де Марзен, вынужденный содержать алчных родственников и несколько хорошеньких любовниц, постоянно нуждался в деньгах. На что он надеялся? Что он сможет поселить их, всех этих женщин из гарема, достойного султана, в Ватиканском дворце? Почему бы и нет? Такое уже было. Марзен приехал за помощью, за голосом, в обмен на который он был готов пойти на любые уступки. Вдруг весь этот спектакль, еще недавно забавлявший камерленго, готового продолжать его до бесконечности, начал действовать Бенедетти на нервы. Бенедетти захотелось, чтобы это стонущее ничтожество немедленно исчезло. Он задыхался в его присутствии. – Дражайший друг, вы же знаете, какое уважение я к вам питаю. Вы светоч нашей Церкви. Будьте уверены, свой голос я отдам за вас. Жирное лицо затряслось от волнения, вернее, от радости. – Если Господу будет угодно, чтобы я стал его наместником на земле, поверьте мне, ваше преосвященство, я никогда не забуду о вашей доброте и бесчисленных достоинствах. Мне понадобятся люди веры, надежные люди. Покорнейше благодарю вас. – Нет, это я вас благодарю, дорогой Марзен, что вы стали кандидатом, которого я могу совершенно безбоязненно поддержать. Гонорий встал, показывая тем самым, что беседа окончена. Фульк де Марзен, уверенный, что получил то, за чем приехал, этот самый голос, который камерленго уже пообещал доброй дюжине итальянских и французских прелатов, поспешил поцеловать протянутую руку.Избавившись наконец от назойливого прелата, Бенедетти вновь погрузился в один из своих безмолвных монологов, столь дорогих его душе. Кому же еще он мог открыть правду, как не Сыну Божьему?
«О чем Ты думал? Что кровь, лившаяся из Твоих рук и ног, искупит мир? Какое соблазнительное заблуждение! Нет, ничто не может спасти этот мир. Единственное, что можно сделать, так это отсрочить его гибель. В Твоем царстве, Божественный Агнец, так мало праведников. Твоя паства состоит из жалкой кучки последователей, позволяющих себя убивать, страдающих, потому что другие хотят жить во грехе, к которому привыкли и который делает их богатыми и счастливыми. Грех может быть таким милым, таким удобным. Добродетель же – едкая, бесплодная. Кого она способна прельстить? Что Ты говоришь? Что мои тайные враги входят в число Твоих последователей? Да, это правда. Но Ты же знаешь, что и я – Твой верный последователь и приму тысячу смертей во имя любви к Тебе. И все же я не питаю безумной надежды изменить людей. В день, когда они перестанут бояться последствий своих поступков, уже ничто не сможет их спасти. Их безумие, лихоимство превратятся в закон. Слабым перережут горло или обратят в рабство. И только сильные, жестокие и кровожадные выживут. Если мы позволим им это, будущее превратится в жуткий кошмар. Я хочу сохранить страх. Я хочу сделать более крепким поводок, удерживающий их. Я буду покрыт позором? Какая разница! После убийства Бенедикта моя жизнь превратилась в крестный путь. Знаешь ли Ты, о чем я порой думаю? Что этот мир на самом деле является адом. И другого ада не существует».
Гонорий Бенедетти их ненавидел, всех, почти всех. Они внушали ему отвращение. Почему он так сильно любил Бенедикта, хотя покойный Папа был его самым заклятым врагом? Почему так случилось, что он чувствовал себя чужим, отличным от своих вольных или невольных союзников? Неужели это его проклятие – видеть родственные души в тех, кого он был призван устранить, уничтожить?
Камергер прервал поток невеселых мыслей камерленго. – Немедленно введите его. Молодой человек низко поклонился. Но в его поведении не было раболепия. – Прошу вас, Клэр, присаживайтесь. Клэр Грессон, личный секретарь Гийома де Плезиана, сел. Синяки под его глазами свидетельствовали о том, что путь из Парижа в Рим был долгим и трудным. Плащ Грессона весь запылился. – Ваше преосвященство, я сразу же пришел к вам. Прошу прощения, но я немного утомился в дороге. – Вы заслуживаете прощения, Клэр. Вы привезли важные новости? – Разумеется. Слишком важные, чтобы доверить их бумаге. Я должен вернуться как можно быстрее. Мое слишком долгое отсутствие обязательно вызовет подозрение у мсье де Плезиана. – Вам удалось узнать имена? – О! У меня есть кое-что получше! Одно-единственное имя. – Говорите же! – воскликнул Гонорий, сгоравший от нетерпения. – Монсеньор Труа. – Рено де Шерлье? – Да. После многочисленных колебаний между мсье де Го*, архиепископом Бордо, и мсье де Шерлье, кардиналом Труа, Гийом де Ногаре и мой хозяин остановились на кандидатуре последнего. Я не знаю, руководствовались ли они сугубо финансовыми соображениями, поскольку гасконцы легко отдали бы свои голоса архиепископу Бордо. Впрочем, мсье де Го ведет себя весьма сдержанно относительно посмертного процесса над Бонифацием VIII, поскольку был его другом, и ловко уклоняется от прямого ответа, когда речь заходит о тамплиерах. Слова Клэра Грессона подтверждали донесения шпионов камерленго о борьбе, развернувшейся между этими двумя епископами. Тем не менее, принимая во внимание поддержку гасконских прелатов, Гонорий мог бы поспорить, что победу одержит мсье де Го. Но, видимо, архиепископ, забыв о политических уловках, отказал королю в том, что тот требовал в обмен на свою тайную поддержку, и сразу же лишился надежды занять Святой престол. Камерленго почувствовал такое всеобъемлющее облегчение, что оно даже вызвало у него легкое беспокойство. Наконец он узнал, против кого должен бороться. Недостатка н средствах он не испытывал. Слухи о николаизме, общении с демонами, ереси или терпимости к отклонениям от религиозных догм, пущенные в нужный момент, опорочат кардинала Труа. И будет избран Гонорий, хотя его совсем не привлекала папская тиара. Тем не менее это было необходимо для выполнения возложенной на него миссии, и он был готов на все. К тому же Рено де Шерлье не пользуется большим влиянием, и поэтому его можно не бояться. Если Гонорий хочет быть избранным, ему придется взять средства из военной казны, расточать обещания, делать предупреждения и заигрывать с паствой. Игра стоит свеч. Он почувствовал подлинную нежность к Клэру Грессону. Чтобы убедить молодого человека, камерленго не пришлось прибегать к звонкой монете. Оказалось достаточно одних только слов. Непорочный. Непорочный, как Бенедетти, поскольку непорочность была многоликой. – Я бесконечно признателен вам, друг мой. Странно, ведь я произношу слово «друг» раз двадцать в день, но никогда не чувствую его подлинного значения. Мне понадобилось прибегнуть к вашей помощи, чтобы заново осознать его смысл. Отдохните немного. Благодарю вас. Благодарю, что вы сумели успокоить меня. – Ваше преосвященство, я должен немедленно ехать. – Хорошо. – Вдруг устыдившись жеста, который он так часто повторял, Бенедетти спрятал кошелек в ящик стола, потом, немного поколебавшись, он все же решился протянуть его своему собеседнику. – Я… Возьмите. Это не плата и не признательность… Это… Молодой человек покраснел до корней волос и встал, сказав сухим тоном: – Вы оскорбляете меня, мсье. Я беден, но я не продаюсь. Я загнал лошадей, чтобы как можно скорее добраться сюда, поскольку верю в ваше предназначение. Люди не способны управлять своими жизнями. Без нас их ждет хаос. Разве можно получать вознаграждение за то, что желаешь им спокойствия или хотя бы его сносного подобия? А раз так, я возьму ровно столько, во что мне обошлось путешествие, ибо не могу рассчитывать на собственные деньги. Ни больше и ни меньше. Удовлетворение, которое я получаю при мысли, что тружусь на благо будущего, служит мне единственным вознаграждением. Бенедетти знал, что все так и произойдет. Он предчувствовал и даже надеялся, что Грессон откажется от денег. Возможно, камерленго даже нуждался в столь грубом отказе, чтобы убедиться, что он не одинок. – Право… должен признаться, ваш визит был единственным приятным моментом за сегодняшний день, за все последние бесконечные дни, – говорил камерленго, провожая молодого человека до высокой двери своего кабинета. Оставшись один, Гонорий позволил себе немного расслабиться. Он, этот уставший до изнеможения молодой человек, не знал, какое облегчение чувствовал камерленго после его визита. Конечно, сведения, которые он привез, имели основополагающее значение. Но если не принимать в расчет умелый шпионаж, честность и безукоризненная порядочность Грессона доказывали Бенедетти, что он ведет справедливую борьбу. Власть и ум всегда настолько одиноки, что порой забываешь их подлинную цену. А ведь время от времени камерленго охватывал страх. Страх ошибиться, страх продать душу, совершив непростительную ошибку. «Господи Иисусе! Я тоже хочу их спасти. Во имя Твое спасти их от самих себя. Я хочу их спасти от их тяги к убийству, подлости и жестокости. Как Ты. Впрочем, я всего лишь человек, а не Сын Божий, и поэтому сражаюсь человеческим оружием. Правда, оно плохо пахнет. Но другого оружия у меня нет».
Клэр Грессон тяжелой поступью шел по большой площади Святого Петра. При его появлении голуби заметались. Шумно взлетая в воздух, они дерзко задевали его крыльями. Но он не замечал птиц. Гонорию Бенедетти придется перегруппировать свои значительные силы, чтобы убрать со своего пути монсеньора Труа, который уже не оправится от такого удара. У Бертрана де Го, архиепископа Бордо, появятся широкие возможности. Нет сомнений, что он будет избран Папой как при щедрой финансовой помощи короля Франции, так и при поддержке гасконцев, которые отдадут ему свои голоса. Бертран де Го никогда не бросит на произвол судьбы военные ордена, в частности госпитальеров. Немного чудаковатый Го был искусным дипломатом. Он умел затаиваться и спокойно ждать, когда утихнет буря. Он всегда давал обещания, но выполнял их лишь тогда, когда сам принимал решение. Он не станет играть в прятки с Филиппом, которому, несмотря ни на что, придется пересмотреть свои принципы. Арно де Вианкур, великий командор их ордена, будет доволен. Вианкур не испытывал сердечной привязанности к тамплиерам. Братья-враги, но также духовные братья, братья по оружию и по крови. Однако он был готов пойти на крайние меры, чтобы орден госпитальеров продолжал существовать.
Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Франческо де Леоне карабкался по стене, примыкавшей к церкви Пресвятой Богородицы аббатства. Полы его плаща развевались, как два больших темных крыла. Ухватившись за выступ, он подтянулся на руках, сократив тем самым расстояние еще на несколько футов*. Теперь от вершины высокой стены его отделяло не больше метра. Несмотря на усталость, он улыбнулся при мысли, что скоро увидит тетушку, свою вторую мать. За низкими темными тучами, предвещавшими снегопад, пряталась луна, невольная сообщница его вторжения. Если бы его застигли, он с трудом смог бы объяснить свое ночное присутствие в аббатстве бернардинок. Добравшись до вершины, Франческо де Леоне распластался на широких камнях и перевел дыхание, прежде чем спрыгнуть на землю. Идя вдоль стены монастырской церкви, он обогнул ее сзади, прошел через сад, потом вернулся назад через огороды, где в столь поздний час не было ни души. Теперь, чтобы добраться до покоев тетушки, ему оставалось проскользнуть между библиотекой и скрипторием. Франческо де Леоне взобрался на подоконник одного из высоких узких окон кабинета аббатисы и как можно тише засвистел, чтобы предупредить ее о своем приходе. Тщетно. Неужели она так крепко спит? Он снова засвистел, на этот раз громче. Окно распахнулось. Перед ним стояла высокая женщина крепкого телосложения. Франческо даже не успел испугаться, как женщина сказала: – Быстрее, рыцарь! Если одна из сестер увидит нас, мы погибли. Изумленный Франческо спрыгнул на пол кабинета. – Но кто вы, моя сестра во Христе? Где ваша матушка? Лицо женщины посуровело. Она ответила: – Аннелета Бопре, сестра-больничная. Франческо де Леоне с облегчением вздохнул. В одном из последних писем Элевсия рассказала ему об этой неожиданной союзнице. Она расхваливала ее ум и упорство. Взволнованный Франческо схватил Аннелету за руку и прошептал: – Нет более действенного бальзама, чем взгляд друга. Она спит? – спросил он, взглядом показывая на закрытую дверь, ведущую в спальню Элевсии, такую же крохотную, как келья. Поджав губы, женщина пристально смотрела на него. В ее бледно-голубых глазах сверкал нехороший огонек. Затем она ответила, четко выговаривая слова: – Она умерла. Умерла, понимаете? Ее отравили, на моих глазах. – Прошу прощения… – недоверчиво прошептал Франческо, пытаясь осознать, что значит слово «умерла», когда речь идет о его дорогой тетушке. – Она рухнула к моим ногам, а я ничего не могла сделать. – Нет! – запротестовал он, отчаянно мотая головой. – Дьяволица нанесла новый удар. По всей видимости, она подмешала яд в одно из моих лекарств против воспаления легких. Я сама отнесла вашей тетушке яд, убивший ее… Мерзавка ответит мне за это. Я дала клятву Богу. Смысл слов бесконечно долго доходил до сознания Франческо. Умерла, отравлена. Он вновь видел прелестную элегантную женщину, движения которой стесняло платье. Она смеялась над собственной неловкостью, обучая его соулу,[206] деревенской игре, в которой участники ударяли по кожаному мячу ногами, руками или палкой, стараясь привести его в центр поля. Он помнил аромат мальвы и лаванды, исходивший от ее вуали. Порой он утыкался в эту вуаль лицом, прежде чем заснуть. Он чувствовал, как длинные, пахнущие свежестью пальцы ласкали его голову, когда он был ребенком, потом юношей и мужчиной. Франческо охватила неутолимая печаль. Он покачнулся и ничком упал на темную дубовую столешницу рабочего стола аббатисы, обхватив голову руками. Аннелета стояла неподвижно, разделяя его боль, не в состоянии ни пошевелиться, ни сказать что-нибудь утешительное. Надо всегда уделять немного времени, немного места печали, чтобы она не задушила вас окончательно. Аннелета увидела, как Франческо резко встал. Кулаки молодого мужчины с силой опустились на дубовую столешницу. Они опускались вновь и вновь, заставляя доску подпрыгивать. Аннелета слышала, как Франческо стонал, задыхаясь, и повторял: – Проклятая тварь, ты заплатишь… Проклятая, проклятая… Аннелете показалось, что прошла целая вечность. Руки Франческо вновь упали на стол. Когда он повернулся к ней, она его не узнала. Из разбитых пальцев текла кровь, оставляя красные пятна на одежде. – Она воссоединилась с Господом с великим смирением, – прошептала Аннелета. – Не сомневаюсь, сестра моя. Но все же мне хочется отправить эту отравительницу туда, откуда она никогда не выйдет: в ад. – Вы не сможете этого сделать, рыцарь. Вы должны до рассвета уехать из аббатства. Пусть я порой тайком прихожу в покои нашей матушки, но я не имею никакого права здесь находиться, к тому же с вами. Я оставила себе ключи. Никто не посмеет потребовать, чтобы я отдала их, учитывая мой крутой нрав. Я поддерживаю легенду о своей грубости, поскольку это играет мне на руку. Но я буду вынуждена отдать ключ новой аббатисе. Однако не волнуйтесь: я займусь убийцей. У нас мало времени. А мне так много надо объяснить вам! А еще я должна передать вам письмо и тайные планы аббатства, чтобы вы спрятали их в надежном месте, то есть за пределами этих стен. В течение следующего часа при слабом свете двух башенок[207] Аннелета рассказывала Франческо о несчастьях, обрушившихся на аббатство Клэре. О некоторых из них Элевсия успела сообщить своему племяннику. Но, узнав обо всем остальном, рыцарь едва не впал в уныние. – А если к этому добавить последнюю подлость этих чудовищ, лишающих нас даже права на печаль… У нас нет времени, понимаете, у нас нет времени оплакать наши любимые жертвы… Слова сестры-больничной утонули в тяжелом вздохе. Рыцарь возразил: – К сожалению, я сомневаюсь, что в данном случае речь идет о последней подлости. Франческо отчаянно боролся с паникой, охватившей его после исчезновения манускриптов и дневника. В какое-то мгновение, одно-единственное, он почувствовал, что готов признать поражение, опустить оружие и сдаться. Прекратить поиски, уехать на Кипр, навсегда затеряться за суровыми стенами цитадели далекого острова. И вспоминать там о сладостной жизни с Элевсией и ее мужем Анри де Бофором, своей матерью Клэр, своей милой сестрой Александриной… Сладостной, как нежный поцелуй на его челе, хмуром от скорби. Нет, никогда не отступать. Сражаться до конца и идти дальше. Элевсия? Клэр? Клеманс, его тетушка, которую он мало знал? Или Филиппина, старшая, воительница, столь любимая сестрами? Он не мог сказать. Он никогда не видел Филиппину. Элевсия и Клэр мало рассказывали о ней, словно одно упоминание ее имени переносило сестер в чудесное прошлое, принадлежавшее только им одним. Почему Франческо вдруг показалось насущно необходимым вспомнить самые ничтожные подробности, связанные с ней?Однажды Элевсия заметила: – Она знала, что сильнее и решительнее нас, и поэтому принесла себя в жертву. Его тетушка быстро опомнилась и замкнулась, словно устрица, отказавшись продолжать, несмотря на настойчивые просьбы Франческо. О ком она говорила с Клэр, когда он неожиданно появился на пороге спальни своей матери? – Она так похожа на Филиппину, что у меня сжалось сердце, когда я ее впервые увидела. Тогда он был еще ребенком. Увидев его, женщины замолчали. А у него не хватило мужества засыпать их вопросами.
– Рыцарь! Рыцарь! Рука, дергавшая его за рукав, вернула Франческо к реальности, в кабинет, куда он так стремился попасть и который отныне ненавидел. – Мне так тяжело, рыцарь, и все же я знаю, что моя боль несравнима с вашей. Вы потеряли мать. Я потеряла сестру и своего единственного друга. Один из прекрасных светочей, озарявших нашу жизнь, потух. А ведь такие светочи столь редко встречаются, что исчезновение каждого из них причиняет невыносимую боль. Но время не ждет, рыцарь, умоляю вас… Скоро часы пробьют к заутрене…* Следуйте за мной в библиотеку. Я отдам вам письмо и планы. Франческо пошел за ней. Каждый шаг давался ему с величайшим трудом. Аннелета взяла с полки бесценные документы и протянула их рыцарю. Он спрятал пергамент под сюрко и повертел письмо в руках. Он мысленно видел Элевсию, сидящую за рабочим столом. Склонив голову, она выводила эти слова, которые ему было сейчас страшно читать. Когда? Предчувствовала ли она свой скорый конец? Аннелета не поняла причины замешательства Франческо и участливо спросила: – Вы хотите, чтобы я ушла, оставив вас наедине с письмом? Франческо покачал головой и искренне сказал: – Бога ради, сестра, останьтесь. Ваше присутствие успокаивает меня. Это правда, что… Это правда… – Что она так близка к нам, что мы чувствуем ее присутствие, хотя и не можем присоединиться к ней? Франческо пристально посмотрел на Аннелету, удивившись, что она так легко прочитала его мысли. Сестра-больничная уточнила: – Так случается с прекрасными сильными душами. Такими, как ее душа. Они немного задерживаются, чтобы помочь нам найти верный путь в потемках. Опустив голову, Франческо распечатал послание, написанное за несколько дней до убийства. Значит, Элевсия знала.
Мой дражайший племянник! Когда Вы будете читать эти строки, меня не будет рядом с Вами, и я не смогу поцеловать Вас. Но не бойтесь, я всегда буду следить за Вашей жизнью. Я уверена, Господь окажет мне эту милость. Теперь я должна заполнить лакуны нашей истории, по крайней мере те, о которых известно только мне одной. Я так долго не решалась это сделать только из-за того, что мы боялись, как бы отдельные сведения не направили Вас по ложному пути. Мы? Четыре сестры: Ваша мать Клэр, Клеманс, Филиппина и я. У меня мало времени. Я чувствую, что с минуты на минуту она поглотит меня. Кто? Убийца. Тень. Мне необходимо поведать Вам о людях, посвятивших свою жизнь расчетам, стратагемам, уловкам. Но также и любви, доверию, взаимопомощи и самоотречению. Не заблуждайтесь на мой счет. Я всего лишь самая ничтожная, самая робкая из сестер по крови и духу. Как ни странно, но именно я пережила их, хотя три другие сестры были более талантливыми. Столь странный выбор не давал мне покоя, но я вынуждена признать, что мне так и не удалось понять его причину. Прежде чем перейти к мучительным признаниям, я хочу вновь сказать Вам, как сильно я Вас любила, как сильно люблю и буду любить целую вечность. Ваше появление в нашем счастливом доме, моем и Анри, было настоящим благословением, несмотря на горе, охватившее нас после смерти Клэр и Александрины, Вашей юной сестры. Вы были солнцем и надеждой, которых нам так недоставало. Вы были для меня последней причиной жить дальше. Вы знаете, что Клэр навсегда осталась в моем сердце. Тем не менее, боже мой, как мне нравилось называть себя матерью! Боже, какие усилия мне приходилось делать, чтобы никогда не забывать, что для Вас я была всего лишь второй матерью! Итак, четыре сестры, четыре женщины, в том числе несгибаемая Филиппина. Вероятно, Вам казалось удивительным, что я никогда не рассказывала о ней, избегала отвечать на вопросы о Вашей тетке, которую Вы никогда не видели. Помните, в таких случаях я переключала Ваше внимание на книгу, дерево, другую историю? Мне – нам – было так тяжело Вам врать, что мы предпочли хранить молчание…Казалось, Элевсия не спешила выводить следующие буквы, словно ее вновь охватили сомнения. На первой букве слова стояла клякса, показывавшая, что аббатиса слишком долго держала перо в чернильнице.
…Передо мной проносится множество образов, таких важных, таких сложных… Филиппина, восхитительная греза! Она была до того красива, что у всех захватывало дыхание. Вам, безусловно, трудно поверить мне, но, по общему мнению, даже по мнению Вашей матери, небо одарило Филиппину таким умом и изяществом, что она была просто чудом. Мудрость Филиппины можно было сравнить только с ее красотой, добротой, состраданием. Ангелы, сгрудившиеся над ее колыбелью, оспаривали друг у друга право наделить ее всевозможными достоинствами. Ах… А как смеялась Филиппина! Сейчас я отдала бы все, чтобы вновь услышать ее смех. Любой пустяк мог вызвать у нее улыбку. Но за этой веселостью, озарявшей жизнь любого, кто приближался к ней, скрывались сила, мужество, удивительная решимость. Филиппина ничего и никого не боялась, кроме Бога. Этому столь верному портрету не хватает одного уточнения, причем фундаментального. Как Клэр, Ваша мать, и я в некоторой степени, Филиппина обладала даром предвидения, о котором, в отличие от меня, никогда не говорила. Но и никогда не пыталась от него избавиться. Меня же терзали видения, а я из трусости пыталась прогнать их. Клеманс видения не посещали, хотя она, наделенная особенной восприимчивостью, предчувствовала события и распознавала людей так же верно, как и мы. Клэр использовала видения. Филиппина шла за ними до конца. Итак, с ее стороны это не было ни безумием, ни прискорбной ошибкой и еще меньше смертным грехом. Когда на ее пути появился этот мужчина, о котором мне ничего не известно, она поняла, что должна родить от него ребенка. Как Вы понимаете, свою беременность она держала в тайне. Первую половину беременности Филиппина жила в Италии, у Вашей матери, вторую – у нас, в Нормандии. Слезы наворачиваются мне на глаза, дорогой мой, ибо конец близок: конец этого письма, которое Вы читаете, и конец Филиппины. Повитуха призналась, что никогда в жизни не принимала столь тяжелых родов. Началось обильное кровотечение, приковавшее Филиппину к кровати. Ничто не помогало. Ни молитвы, ни уход, ни мои слезы. Я вижу огромные серо-голубые глаза, ее исхудавшее лицо. Я вижу ее иссохшие от жара губы. Однажды утром, когда я задремала, сидя подле нее, я проснулась, почувствовав, как ее рука коснулась моей. Радостным голосом она произнесла: «Дорогая, прогони эту гадкую печаль. Я чувствую себя хорошо. Так оно и должно быть, я знала. Храни меня в своем сердце, дорогая сестра. Заботься о моем ребенке. Он важнее всех нас». Она улыбнулась, вытянула губы для последнего поцелуя и упала на подушку. Я оставалась с ней до третьего часа*. Плач ребенка вырвал меня из головокружительного и вместе с тем сладостного небытия, в которое я позволила себе провалиться. Необходимость заботиться об Аньес, избранном агнце, несомненно, позволила мне побороть ужасную тоску. Аньес. Вы правильно поняли. Аньес де Суарси приходится Вам кровной сестрой по женской линии. Она дочь Филиппины и незнакомца…Резко вскинув голову, Франческо, ошеломленный этими откровениями, посмотрел на Аннелету. В свою очередь сестра-больничная тоже пристально смотрела на рыцаря. У него вдруг появилось чувство, что он стремительно движется к бездонной пропасти, тщетно пытаясь привести свои мысли в порядок.
…Именно Клэр решила, что младенца надо отдать на воспитание Клеманс. С опозданием я спрашиваю себя, не предвидела ли Ваша мать свою смерть и Ваш приезд к нам. Барон Робер де Ларне был тупоголовым мерзавцем. Он сделал столько незаконнорожденных детей, что одним больше или меньше – для него это было уже неважно. Горничная Клеманс действительно забеременела от барона, и мы этим воспользовались. Несчастная девушка умирала от страха на одном из хуторов поместья – как это было принято, чтобы не причинять сеньору-подлецу неудобств, – ожидая родов. У нее случился выкидыш, и Клеманс убедила девушку сказать, будто Аньес – ее дочь. Я не знаю, добровольно ли согласилась на это служанка. Моя дорогая Клеманс была женщиной железной воли и в случае необходимости могла и припугнуть. Всех удивляла та нежность, которую баронесса де Парне питала к маленькой незаконнорожденной девочке. Нам надо было защитить ее и воспитать. Клеманс удалось сломить сопротивление барона и заставить его признать девочку несколько лет спустя. Она умело намекнула своему супругу о спасении его души, и без того обремененной грехами. Извращенная страсть, которую испытывал и до сих пор испытывает Эд де Парне, оказывается, не столь уж и греховна, поскольку Аньес приходится ему лишь кузиной. А раз так, не могло быть и речи о том, чтобы она досталась ему, поскольку сохранялась опасность появления на свет нового представителя зловредной породы де Парне. Обо всем остальном, мой дорогой, Вам известно. Представляю, как Вы удивлены. Осмеливаюсь думать, нет, надеюсь, что Вы не сердитесь на меня за то, что я держала Вас так долго в полном неведении. Не сочтите это попыткой оправдаться, но Клэр, Филиппина и Клеманс оставили мне четкие указания: о нашей тайне можно рассказать только в том случае, если есть опасность, что я унесу ее с собой. Это время пришло. Я скоро умру и воссоединюсь с ними, любимыми призраками, сопровождавшими меня все эти долгие годы. Вас, мой дорогой ангел, будет мне не хватать, но я рада, что вновь встречусь с ними. Аминь. Живите, мой доблестный рыцарь. Живите и продолжайте наше дело, заклинаю Вас.Франческо де Леоне пребывал в недоумении. Как получилось, что от него так долго скрывали правду? Почему? Как ни странно, но кровная связь с мадам де Суарси не сделала ее более близкой ему. По крайней мере сейчас. И тут он понял. Именно к этой цели стремились четыре сестры, вернее, три вдохновительницы этого подлога. Он должен был защищать от всех не свою двоюродную сестру Аньес, а то главное существо, о котором говорилось в пророческой теме. Он с облегчением вздохнул. С плеч свалился тяжелый груз. Они были правы. Круг начал сужаться. Аньес родилась в их семье, многие поколения которой вели поиски. Она родилась от женщины, ставшей матерью вне священных уз брака несомненно потому, что последовала знаку, указавшему ей на мужчину, от которого должен был родиться ребенок. Девочка. Франческо поднял глаза на сестру-больничную, с беспокойством смотревшую на него. – Все хорошо, сестра моя, – успокоил он ее. Рыцарь подошел к башенке, которую Аннелета держала в руках, и поднес уголок письма к огню. Они оба молча следили, как бумага превращается в пепел. Франческо не выпускал письмо из рук до тех пор, пока пламя не обожгло ему пальцы. – Вам скоро надо уезжать, рыцарь, – напомнила Аннелета. – Знаю. Но я не обрету покой, если не поклонюсь могиле моей второй матери. Аннелета одобрительно кивнула и сказала: – Она похоронена в нефе церкви Пресвятой Богородицы аббатства, рядом с аббатисами, своими предшественницами. – Знаете… Господь дал мне бесконечное счастье иметь двух восхитительных матерей, которых я так любил. – Понимая, что время поджимает и вскоре проснутся сестры вдортуарах, он добавил: – Манускрипты… Во что бы то ни стало их необходимо найти. Они не должны покинуть стены аббатства Клэре. Аннелета тяжело вздохнула: – Я немедленно займусь этим, брат мой. Я силой добилась, чтобы в монастыре все выполняли последнюю волю мадам де Бофор, но… если новая аббатиса… – На их стороне, – закончил Франческо. – Не сомневаюсь. Это главная причина убийства моей тетушки. Поставить на ее место одну из своих сообщниц. Боюсь, что она не замедлит появиться в Клэре. У нас очень мало времени. Если вы найдете манускрипты; немедленно уничтожьте трактат о некромантии. Я так злюсь на себя, что не сделал этого своевременно! – А остальные? Я не смогу выйти, чтобы передать их вам, если, конечно, сумею их найти. Ваш дневник, о котором мне рассказывала наша дражайшая матушка… Франческо жестом прервал Аннелету. Вдруг его сердце бешено забилось. Он вспомнил о кляксе внизу страницы… Вырванный лист, который вызывал у него наибольшее беспокойство, поскольку на нем симпатическими чернилами были написаны их главные выводы! Вор, сам того не зная, спас их. Франческо перекрестился, возблагодарив Бога, и прошептал: – Мы не погибли, как я думал. Сестра моя, в библиотеку входил кто-то еще, помимо моей тетушки. – Это невозможно. О существовании библиотеки было известно только ей одной, если не считать эмиссара Папы, приехавшего с посланием. Матушка спрятала его там на несколько часов. Потом его нашли мертвым, недалеко от аббатства. – При нем был найден лист бумаги? – Нет. Письмо, написанное аббатисой, исчезло. Письмо не имело ничего общего с этим листком. Франческо продолжал настаивать: – Кто-то проник в библиотеку без ведома моей тетушки! Взяв из рук Аннелеты башенку, Франческо бросился к лестнице, уходившей в темный подвал, который использовали как реставрационную мастерскую. Держась за перила, чтобы не споткнуться на ступеньках, окутанных тьмой, он быстро спустился. Осторожно ступая по утоптанной земле, ощупывая пол впереди ногой и только потом делая шаг, он наткнулся на деревянную стремянку, взобравшись на которую можно было снять книги с самых верхних полок. Приставив стремянку к задней стене, прямо под узкой отдушиной, позволявшей проветривать помещение, Франческо взобрался на третью ступеньку и поднял башенку, освещая толстые железные прутья. Через них мог проскользнуть только худенький ребенок. Вернувшись в библиотеку, Франческо шепотом спросил: – Вы учите детей. Как вы думаете, мог кто-нибудь из них найти тайную библиотеку? Аннелета и бровью не повела, умело скрыв досаду. На вопрос рыцаря она ответила: – Да, к нам ходят школяры. Но они не имеют права разгуливать по аббатству и уж тем более – без присмотра наших сестер-учительниц! Франческо не стал возражать, решив, что Аннелета слишком наивна. Если она думает, что дети всегда подчиняются требованиям старших, она глубоко заблуждается. – Вы их знаете? – Прошу прощения? – Этих детей, вы их знаете? Сколько детей к вам ходит? – Я знаю их только в лицо. И еще. За детьми, кроме сестер-учительниц, следит Эмма де Патю. Сколько? Их не больше двадцати. В основном это дети наших крупных арендаторов, горожан или мелких дворян, у которых недостаточно средств, чтобы нанять гувернера. Они приходят к нам, уже умея читать и писать. У нас они изучают Евангелия, основы астрономии. О, я забыла про латынь и самых почтенных авторов, писавших на этом языке! Цицерон, Светоний и Сенека. Некоторые дети очень талантливы, другие же… Боже мой! – воскликнула Аннелета, закрывая рот рукой. – Что? – Клеман. Не может быть… Это было бы так удивительно… – Бога ради, прошу вас, объясните. – Мы приняли в школу Клемана, протеже мадам де Суарси. Он такой резвый, он так жаждет знаний… Неужели вы думаете?… Как он мог обнаружить библиотеку? Почему он, а не другой? – размышляла Аннелета скорее для себя, чем для Франческо. Но Леоне интуитивно чувствовал, что мальчик был именно тем, кого он искал. Круг снова сужался. Еще одно совпадение добавилось к тем, которые так давно определяли жизнь всех, кто вел поиски. Франческо должен был как можно скорее встретиться с мальчиком, чтобы узнать, не потерял ли он или не уничтожил ли вырванный листок. Сестра-больничная нервничала. Рыцарь понял: она боится, что сестры вот-вот проснутся. Он прошел за ней в кабинет своей покойной второй матери и подождал, пока она закроет тайную дверь. Вдруг он импульсивно бросился к ней и прошептал на ухо: – Берегите себя. Вы последнее препятствие. Я бесконечно вам благодарен, сестра моя, что в последние минуты вы были рядом с моей тетушкой, спасибо за боль, которую вам причинила смерть моей тетушки. Вскоре я найду способ вновь свидеться с вами. Умоляю вас, найдите манускрипты, пока не станет слишком поздно, и, главное, живите! Затем Франческо исчез за окном, через которое чуть раньше проник в кабинет.Вечно любящая Вас мать
Эскив прижалась к одному из пилонов внешней стены скриптория и проводила взглядом высокую фигуру, быстро исчезнувшую во тьме. Ночной ледяной холод больше не кусал ее. Она прикрыла рот рукой, замерзшей так сильно, что она едва чувствовала пальцы, и сдержала шепот: – Мой прекрасный архангел… Не волнуйся, я слежу. Я жду. Скоро приползет прелестная гадюка. И она гораздо опаснее той, что уже свирепствует в этих стенах.
Аннелета улыбнулась, порывшись в своей памяти. Если хорошо подумать, это было впервые. Впервые к ней прижался мужчина, а она при этом не почувствовала ни смущения, ни раздражения. Но Элевсия поведала ей, что Франческо был скорее не человеком из крови и плоти, а ангелом. Аннелета осторожно вышла в коридор и крадучись добралась до дортуара. Затем она легла в кровать. До заутрени оставалось несколько минут. После службы она не будет ложиться, а продолжит поиски, как это делала вчера и позавчера. Аннелета боролась со сном, смыкавшим ее веки, увещевая себя, что если ей удастся поспать хотя бы несколько минут, она будет чувствовать себя более изможденной. От усталости, лишавшей ее сил к борьбе, она буквально падала с ног. Мысли путались, в памяти мелькали бессвязные образы, обычно предшествующие сну. Но вдруг расплывчатая тень приобрела форму, стала черной, огромной, грозной. Вверх взметнулись длинные мощные когти. Аннелета напряглась. Медведь! Черный медведь! Ядом, убившим Элевсию, в Азии травили медведей. Nux vomica. Опасный наркотик добывали из зерен оранжевых плодов, которые росли на красивом дереве высотой в 20 метров. Плоды эти были размером с яблоко. Дерево называлось strychnnos nux-vomica.[208] Аннелета лихорадочно вспоминала. Речь шла о сильнодействующем яде, еще не известном в Европе. Противоядия к нему не существовало. Чтобы убить взрослого человека, достаточно всего полденье*. Как этот безумно дорогой экзотический яд попал в Клэре? Аконит. Спорынья ржи. Порошок тиса. Большая доза, приведшая к смерти. Малая доза, вызвавшая рвоту и судороги. Простудное заболевание, носовой платок. Она вновь слышала свои слова: «Впрочем, болезни передаются странным путем… Верно ли, что больной заражает других через свое дыхание? Возможно, поскольку известно, что здоровый человек, надев белье больного, может заболеть». Осколок стекла, впившийся в ее подметку, когда она подошла к одной из кроватей в дортуаре. Элевсия говорила ей, что горло одного из убитых монахов было иссечено множеством тонких порезов и вся кровь вытекла ему в живот. Эта женщина должна быть очаровательной, иначе посланец не захотел бы довериться ей. Сестра, у которой было право долго отсутствовать в монастыре на вполне законных основаниях, поскольку требовалось время, чтобы раздобыть яд, передать сведения и якобы привезти новости о маленьком мальчике, умершем два года назад. Достаточно умная сестра, чтобы претворить в жизнь дерзкий план и украсть манускрипты. Сестра, близкая к Гедвиге дю Тиле. В противном случае она не смогла бы узнать о ловушке, которую готовила Аннелета при помощи яиц, украденных у Женевьевы Фурнье. Дьяволица перехитрила Аннелету, но ей пришлось убить Гедвигу, чтобы та ни о чем не смогла рассказать. Дьяволица, убив свою подругу, без колебаний приняла малую дозу порошка тиса, чтобы отвести от себя подозрения. Изворотливая сестра, которая воспользовалась услугами сообщницы, похитившей яд из шкафа гербария во время одной из своих отлучек. Разрозненные фрагменты мозаики сложились в единое целое. Простое милое лицо, озаренное доброжелательной улыбкой. Жанна д'Амблен. Жанна д'Амблен и сообщница, прокравшаяся в гербарий, чтобы украсть порошок тиса, ввести Аннелету в заблуждение и предоставить алиби Жанне. Сестру-больничную охватила убийственная ярость. Она встала, ища взглядом занавешенную каморку Жанны. Проклятая грешница! Она воспользовалась благожелательностью, уважением, своим влиянием на других с одной-единственной целью: чтобы убить их всех. Безмерная печаль причиняла Аннелете боль. Элевсия так любила Жанну, что сестра-больничная порой испытывала приступы ревности. Жанна была другом, наперсницей. Что могло толкнуть ее на столь чудовищные злодеяния? Фанатизм? Принадлежала ли Жанна к числу их заклятых врагов? Неизвестно почему, но Аннелета не верила в это. Деньги? Месть? Если бы отравительницей оказалась другая монахиня, возненавидела бы ее Аннелета так же сильно, как Жанну? Разумеется, нет. Жанне почти удалось прельстить ее. Аннелета прониклась к ней доверием, даже нежностью. И все это время Жанна думала, как убить ее. Аннелета сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Она чувствовала, что способна убить мерзавку. Нет, хуже. Она была готова искалечить Жанну и затащить ее, кричащую от боли, в подвал, где та будет дожидаться приезда бальи и его палачей. Аннелета Бопре задыхалась. Она с трудом заставила себя ровно дышать, широко открыв рот, и стала ждать, когда сердце перестанет биться так часто. Она боролась с яростью, возбуждавшей в ней желание сейчас же броситься на Жанну и жестоко избить ее. Нет. Такой поступок был бы непростительной глупостью. Аннелета понимала, что могла бы силой заставить Жанну во всем признаться. Но это ничего не изменит, поскольку эстафету подхватят другие враги. Ждать. Стать такой же хитрой, как Жанна. Неусыпно следить за ней, чтобы она вывела на след манускриптов. Время становилось бесценным. Франческо был прав. «Они» не замедлят назначить новую аббатису. Та снимет запрет на выход из аббатства, отменит обыск и приблизит к себе Жанну, которая сможет вынести манускрипты, с нетерпением ожидаемые камерленго. И тогда все будет потеряно. Внезапно Аннелета прониклась ледяным спокойствием. Сначала «им» придется иметь дело с ней. Она прогнала панику, возникавшую при одной мысли об ее одиночестве, уязвимости. Она найдет сообщницу Жанны. У Аннелеты закралось подозрение: кто, как не Сильвина Толье, в чьем ведении находится печь аббатства, могла испечь хлеб, зараженный спорыньей? Или Адель де Винье, сестра – хранительница зерна? Аннелета вознамерилась осторожно расспросить Сильвину. Это не составит особого труда, поскольку та звезд с неба не хватает. Лицо Аннелеты озарила грустная улыбка. Аббатиса упрекала ее в жестокости. Время благожелательности и прощения прошло. Элевсия погибла. Энергичность, покинувшая Аннелету после смерти женщины, которой она так восхищалась, вновь вернулась к ней словно благословение. Она будет сражаться до конца. И тогда свершится справедливость.
Таверна «Красная кобыла», Алансон, Перш, декабрь 1304 года
Хозяин таверны, чья физиономия была фиолетовой из-за злоупотребления вином, которое он считал честью допивать за своими клиентами, бросился навстречу элегантному сеньору, наклонившему голову, чтобы не удариться о низкие балки. Он узнал его. – Мессир… мессир, какая честь для моего скромного заведения… Вот вы опять посетили нас, – тараторил хозяин, сгибаясь в низком поклоне. Артюс д'Отон подумал, что теперь все знают о его высоком положении в обществе. Впрочем, именно этого и добивался хозяин таверны, который гордился тем, что сумел заполучить августейшего клиента. Богатого и к тому же щедрого клиента. В прошлый раз этот благородный сеньор оставил на столе деньги за нетронутую еду. Адель, посудомойка, взяла их, убирая со стола. Но папаша Красный[209] заставил ее отдать деньги. Эти нищенки способны на все. Служанкам предоставляли кров и еду, а они хотели, чтобы им к тому же еще и платили! А уж что касается одежды, то мамаша Красная постоянно что-то отдавала ей. Вот прошлым вечером, например, его пышная супруга Мюгетта проявила редкостное великодушие. Впрочем, иногда он ласково журил ее: – Мамаша Красная, ваша щедрость делает вам честь, но смотрите, как бы вам не оторвали руку вместе с подарком. – Ба, – возражала мамаша, вытирая рот рукой. – Это дрянное платье так износилось, что протерлось до дыр. Еще немного, и будут видны сиськи с задницей. А эта деваха тощая, и грудь у нее плоская. Из него она сможет три платья себе сделать. По правде говоря, пышные формы мамаши Красной могли вызвать голод у самых сытых хозяев таверн. И при одной лишь этой мысли папаша Красный сам начинал мучиться от голода. Сделав над собой усилие, он вернулся к своему почетному гостю: – Что я могу предложить вам, монсеньор? – Хорошего вина… Я хочу сказать – лучшего. – Разумеется, разумеется. Мне известно, что вы тонкий знаток вин, – ответил сеньор «Красной кобылы», пытаясь убедить завсегдатаев с длинными ушами, что уже давно знает этого дворянина. Артюс сразу все понял и воспользовался случаем: – И два кубка. Отведаем вместе твой нектар. Услышав такие слова, завсегдатаи удивленно подняли головы. Хозяин таверны едва не лишился сознания. Какая радость! Какая честь! Мамаша Красная лопнет от зависти, когда он будет рассказывать ей о предложении знатного сеньора, вероятно, богатого рыцаря. А может, барона? А почему бы и не графа? Ах! Боже мой! Когда через несколько минут папаша Красный сел за стол, его щеки по-прежнему горели от удовольствия. Разумеется, он не был столь наивным, чтобы полагать, будто граф, барон или богатый рыцарь пригласил его за стол ради простой беседы. Хозяин таверны был большим ловкачом. Он умел злословить, не пороча собственного имени, наушничать, не опасаясь нежелательных последствий, или говорить правду, но обязательно с выгодой для себя. А если они будут беседовать тихо, посетители решат, будто они болтают по-приятельски. Какая реклама для его заведения! К тому же совершенно бесплатная. – Папаша Красный, – начал Артюс д'Отон, – некоторое время назад вы приютили у себя рыцаря-госпитальера, одного из моих друзей. Некоего Франческо де Леоне. Обращение на «вы» окончательно убедило хозяина таверны, что к нему отнеслись с большим почтением. – Понимаю, но говорите тише, – попросил хозяин, преисполненный решимости не упускать столь прекрасной возможности оповестить об их беседе весь квартал. – Уф… Когда речь идет о благородных клиентах, я стараюсь соблюдать тайну. – Это делает вам честь. Итак, что с моим другом? Я должен передать ему очень важное послание от советника короля, – соврал Артюс. – От советника короля? – вытаращив глаза, повторил хозяин таверны. Ах! Какая удача! Когда мамаша Красная узнает, что у него жил рыцарь, состоящий в переписке с самим советником короля… – Лично. Вы, разумеется, понимаете, что большего я не могу сказать. – О, конечно! Дела королевства, они… Да, дела королевства. – Вы, право, мудрый человек. Так где же мой друг рыцарь? – Он покинул мое заведение два дня назад. – Черт возьми! А вы знаете… – Нет. Этот ваш знакомый рыцарь… он был настоящим рыцарем-госпитальером. Нетребовательным, скромным, молчаливым. Любезным, даже когда был в плохом настроении, не могу отрицать этого. А ведь мое заведение, хотя и пользуется хорошей репутацией, давно не видело такого безукоризненною поведения. Впрочем, к нам заходят монахи… Молодые и зрелые. Этот портрет, казалось, набросанный хозяином таверны не без сожаления, немного успокоил Артюса д'Отона. Значит, Леоне вел себя в соответствии с обетами, предписывавшими строжайшее целомудрие. Да, но любовь? Разве можно бороться с ней? Артюс сам служил убедительным примером: он даже не почувствовал, как к нему пришла любовь. – Понимаю… Значит, у вас нет ни малейшего представления, куда он направился? – Нет, черт возьми. Он взял свой тощий мешок, заплатил по счету и – фьють! – исчез. Впрочем… Хозяин таверны немного помолчал, чтобы усилить впечатление от слов, которые собирался произнести. – Впрочем? – Впрочем, однажды вечером он угощал некоего клирика. Очень уродливого молодого человека, похожего на страшную крысу, если хотите знать мое мнение. Я понял, что молодой человек служил секретарем в Доме инквизиции. Возможно, он знает больше меня. Он вели очень душевный разговор. Аньян! Аньян, бормотавший невразумительные слова после освобождения Аньес. Артюс допил свой кубок и поблагодарил хозяина таверны, как важного горожанина. Тому и не требовалось большего, чтобы рассыпаться в любезностях. Папаша Красный, который до сих пор никогда не подавал нищему даже ломтя черствого хлеба, предпочитая скормить его курам, расщедрился, словно ангел, и, упершись руками в бока, с наигранно-оскорбленным видом отказался брать у графа деньги за кувшин дорогого вина.Мануарий Суарси-ан-Перш, декабрь 1304 года
Дождавшись ночи, Франческо де Леоне начал осматривать окрестности. Днем по двору бегали собаки, и они быстро выдали бы его. Заглянув на минуту в служебные помещения, Леоне сразу понял, что этот воришка Клеман там не жил. Он не спеша обошел мануарий, держась на расстоянии в несколько туазов. Две квадратные, кое-как возведенные башни стояли по бокам относительно небольшого трехэтажного здания, увенчанного своего рода мансардой. По обычаю, принятому в этих краях, здания строили с севера на юг, чтобы оба фасада были освещены лучами восходящего или заходящего солнца. Ему вдруг показалось, что в слуховом окошке под крышей северной башни, затянутом прозрачной кожей, мелькнул огонек. Он подошел ближе и увидел светлые полосы известкового раствора, которым пытались заделать большие трещины. Франческо охватила бесконечная нежность к Аньес де Суарси. Она, как могла, отчаянно боролась с разрухой, постоянно грозившей ввергнуть ее саму и ее людей в нищету. В конце концов, в этом нет ничего удивительного. Та, которую он, теряя уже надежду, искал многие годы, должна быть удивительным существом. И ничто, да и никто не может заставить ее отречься.Hoc quicumque stolam sanguine proluit, absergit maculas; et roseum decus, quo fiat similis protinus Angelis.[210]Божественная кровь, которая очистит от скверны всякого, кто окунется в нее.
Недалеко от окошка Леоне заметил канат, закрепленный на раструбе желоба, сделанного в форме рыбы с крыльями летучей мыши. Чаще всего желоба[211] крепили к скатам выступающей крыши, а затем отводили назад. Их продолжением служили канавки, выбитые в камне. Желоба позволяли собирать дождевую воду и, отводя ее, оберегали каменную кладку от чрезмерной сырости. Наличие веревки свидетельствовало о том, что кто-то тайно пробирается наверх. Клеман? Другой слуга? Рыцарь хотел как можно скорее поймать подростка, чтобы забрать листок. Почему он его вырвал? Конечно, бумага очень дорогая, и ее можно продать по хорошей цене. Но если такова была цель Клемана, почему он не вырвал два последних листа, с виду чистых? Нет, он довольствовался одним, предпоследним и самым важным. Леоне вздохнул. Скоро наступит новая ночь, когда взойдет прекрасная звезда. Ночь морозная, но, к счастью, сухая. Завтра они отпразднуют Рождество Спасителя. Он так надеялся провести эту ночь со своей тетушкой, помолиться подле нее. Он вспоминал бы, как ребенком с нетерпением ждал, когда Элевсия наконец скажет ему, что божественный младенец родился. Каким же он был глупым, как он боялся, что однажды по воле какой-нибудь случайности этот день никогда не придет! Когда в полночь тетушка радовалась вместе с ним, что наступил новый год, сердце мальчика переполнялось счастьем. У Франческо пропадал аппетит, хотя филипповки, начавшиеся в День святого Андрея, заканчивались, и на кухне лихорадочно суетились служанки. Они ощипывали птицу, чистили рыбу, резали мясо на куски и украшали блюда. И хотя рыцарь де Леоне теперь знал, что Он родился не 25 декабря, все равно этот день оставался для него днем чуда и пока не сбывшейся надежды на то, что только Он и Он один может изменить людей и мир. Впрочем, на следующий день мир оставался таким же, каким был накануне. Что касается людей, они не изменятся, если их к этому не принудить. Если бы в этот момент Леоне сказали, что в своих мыслях он приблизился к мыслям заклятого врага, он вытащил бы меч. Леоне отошел назад на несколько туазов и лег, свернувшись клубком, за мощным стволом дуба, закутавшись в зимний плащ на меховой подкладке и накинув на голову капюшон. От холода у него немели члены, голод стягивал желудок, но рыцарь умел бороться с неудобствами и страданиями: он думал обо всех страждущих мира, открывал перед ними свою душу и, главное, повторял, что никакие муки не сломят его. Леоне погрузился в воспоминания. Перед его глазами в стотысячный раз возникли белые ступени цитадели Сен-Жан-д'Акр, залитые кровью. Отрубленная голова прекрасной женщины, слипшиеся волосы девочки. Впервые он увидел очаровательные морщины в уголках губ смеющейся Элевсии и рассердился на себя, что не удосужился разглядеть их подробно. Наконец сон сморил его. Из оцепенения его вывело уханье сипухи.[212] Он осторожно потянулся всем телом, сбросив тонкий слой снега, припорошившего его за ночь, и попытался дыханием согреть руки. Сейчас он многое отдал бы за тарелку горячего супа или кубок медовухи и несколько ломтей хлеба. Бледная луна освещала окрестности. Канат по-прежнему оплетал желоб. А вдруг в этот день, отведенный молитвам, никто не воспользуется им? Франческо не был уверен, что сумеет продержаться еще один день, за которым последует такая же ледяная ночь, без еды. Неожиданно его внимание привлек какой-то шорох. Он посмотрел на крышу квадратной башни. Из окошка вылезала маленькая фигурка. Был ли это знаменитый Клеман? Ухватившись за раструб, он развязал веревку и сбросил ее на землю. Леоне увидел, что в нескольких местах на канате были сделаны узлы, вероятно, для того, чтобы было легче подниматься. Рыцарь с трудом сдерживал свое нетерпение. Он был уже не столь юным и к тому же намного более тяжелым, чем эта фигурка, ловко спускавшаяся вдоль стены. Однако мышцы еще никогда не подводили рыцаря. Что касается химеры, к которой был привязан канат, она казалась довольно прочной. Его план – если только можно было назвать так несколько неясных мыслей, – был простым, но не внушающим уверенности. Леоне рассчитывал пробраться через слуховое окошко в дом и под покровом ночи обыскать все комнаты. Он не мог пройти через двор, поскольку тогда его заметили бы собаки.
Клеман спрыгнул на землю и поправил накидку. Как мальчик и говорил Аньес, он собирался в последний раз проникнуть в тайную библиотеку в надежде отыскать трактат Валломброзо. Монахини соберутся в церкви, где будут весь день молиться, и у него, при известной доле осторожности, появится шанс попасть в аббатство незамеченным до рассвета. Он немного испугался, когда его дама рассказала о своем странном свидании с аббатисой. Элевсия де Бофор поведала ей о пожаре, об испорченных манускриптах. Каких? В какой библиотеке? В тайной или открытой для всех?
Аньес надела серое шерстяное платье, собираясь идти на утреннюю мессу, начинавшуюся сразу после всенощной.[213] В церкви соберется вся деревня. Она безуспешно попыталась прогнать грустные мысли, одолевавшие ее вот уже несколько дней, и поправила накидку. Сегодня же она отправит записку своему сводному брату, потребовав, чтобы он немедленно привез Матильду в Суарси. Второе письмо она пошлет Монжу де Брине. Она уведомит бальи о своем поступке и попросит его силой привезти дочь, если Эд откажется это сделать добровольно. Дама де Суарси не заблуждалась. Она скоро потеряет влияние на дочь, ведь через несколько месяцев Матильда станет совершеннолетней. И тогда девочка наверняка потребует, чтобы вплоть до замужества опекуном ее был Эд. Могут ли пять месяцев изменить душу? Аньес сомневалась в этом. Она была достаточно честной, чтобы признаться самой себе: главной для нее оставалась уверенность, что она сделала все возможное, чтобы спасти дочь от пагубного влияния дядюшки. Грустные мысли растревожили Аньес, и она молча упрекнула себя за это. Матильда, думы о которой прежде придавали ей силы, которая была смыслом ее существования, теперь лишала мать душевного равновесия, решимости бороться и энергии. А ведь раньше Аньес работала не покладая рук, не давая себе отдыха, словно крестьянка. По вечерам она в изнеможении падала на кровать, едва сдерживая слезы отчаяния, готовые вот-вот хлынуть из ее глаз, терзаясь немым вопросом: чем она будет кормить своих челядинцев завтра? И каждый раз она обретала силы и мужество, думая о Матильде и Клемане. По сути, они заставляли ее жить. Но однажды родная дочь попыталась толкнуть мать в объятия смерти. Перестань! Перестань хныкать и жаловаться на судьбу! Я не могу. Нет, можешь. Если сосредоточишься, а не будешь причитать как старуха. Вспомни, каково тебе было в зловонном застенке. Вспомни, как тебе удалось удержать жизнь, едва не покинувшую тебя? Прекрасные воспоминания. Я цеплялась за свои самые прекрасные воспоминания. Но Матильда… Перестань. Твою жизнь озарили другие прекрасные воспоминания. Мадам Клеманс де Ларне, Клеман и теперь он. Он? Что я знаю о нем? А с каких пор тебе понадобилось знать, чтобы знать? И тут вмешалось волшебство. Она вновь увидела графа Артюса, бледного как саван, неистового и вместе с тем нежного и взволнованного. Их последние фразы до сих пор звучали в ее ушах: – Три слова, мсье. И ничего больше. Речь идет только о трех словах… – А если… если бы вы сами не были способны их произнести? Аньес топнула ногой. Обольститель, очаровательный дуралей! Какими же нудными становятся мужчины, когда боятся показать свои чувства! Даже самые умные из них отчаянно запутывают себя и потом не знают, что и сказать. Он произнесет их, эти три слова. Аньес дала торжественную клятву в этот день Рождества Христова. «Клеман, мой дорогой ангел! Возвращайся скорее. Я так корю себя за то, что посоветовала тебе нанести последний визит в Клэре. Что станет со мной без тебя, моя Клеманс?» Аньес открыла дверь, обитую гвоздями, и спохватилась. Надо было бы надеть манто, пусть до часовни рукой подать. Вот уже несколько дней стояли сильные морозы. Она толкнула тяжелую дверь, стукнувшую о наличник, и огляделась вокруг в поисках манто с подкладкой из меха выдры. Шум. Приглушенное эхо шагов над ее головой. Клеман ушел до рассвета. В любом случае, он был таким легким, что из своей спальни она никогда не слышала звука его шагов. Хрупкая лестница, возведенная им, не выдержит взрослого, тем более пухленькой Аделины или могучего Жильбера. Кто-то проник с улицы? Зачем? Незнакомец услышал, как она вышла из спальни, и только потом сделал несколько шагов г В таком случае громко стукнувшая тяжелая дверь ввела его в заблуждение. Аньес испугалась. В мануарии она была одна. Да и кто мог бы услышать ее крики? Аделина хлопотала на кухне, закрыв тяжелые двери. Она готовила теплое вино с медом и хлеба, замешанные на молоке, которые Аньес раздаст после того, как их благословит каноник, брат Бернар. Слишком далеко, чтобы она могла услышать голос своей госпожи. Аньес на цыпочках прокралась в ротонду, в которую упиралась восточная стена ее покоев. Это маленькое помещение служило гардеробной и отхожим местом. Там она взяла короткий меч, подаренный баронессой де Ларне. Конечно, с таким оружием нельзя было одолеть грозного разбойника, но, как любила повторять ее нежная покровительница, «женщина, преисполненная решимости защищаться, вполне может произвести неизгладимое впечатление на шайку обычных прохвостов». Встав посреди комнаты, слегка расставив ноги, она ждала, не спуская глаз с двери. Она слышала, как наверху незнакомец ходит взад-вперед. Вдруг что-то заскользило по полу. Незнакомец передвинул соломенный тюфяк, на котором спал Клеман, потом табурет. Он методично обыскивал мансарду. Это не вор, поскольку вся обстановка красноречиво свидетельствовала о бедности жильца. К тому же какому болвану могла прийти в голову безумная мысль забраться в мануарии, зная, что он за это поплатится головой? Вновь раздались шаги. Незнакомец подошел к люку, к которому Клеман прикрепил свою лестницу. Затаив дыхание, Аньес сжимала головку эфеса дамского меча. Треск, звук упавшего тела. Одна из перекладин не выдержала, и незнакомец свалился на пол. Хотя в комнате царил ледяной холод, Аньес чувствовала, как с ее лба стекает мог. Она вытерла правую руку о платье, чтобы еще крепче сжать меч. Тяжелая дверь медленно распахнулась. Аньес напряглась, готовая прыгнуть, понимая, что эффект неожиданности – самый серьезный ее козырь. Высокий человек прокрался внутрь. Он закрыл дверь и обернулся. Аньес застыла на месте от изумления. Впрочем, насколько Аньес могла судить по внезапно побледневшему лицу мужчины, он изумился не меньше, чем она. – Рыцарь? – Мадам… – Но… что вы делаете в Суарси, в моей спальне… Почему вы проникли сюда как вор? Он пристально смотрел на нее, не зная, что ответить. Ему было стыдно, и вместе с тем он восхищался ею. Она была… такой, какой и должно. Величественной, с поднятым мечом, готовой к бою, но не жестокой. Аньес взяла себя в руки. Теперь ее голос звучал властно: – Ну, рыцарь! Я требую, чтобы вы немедленно все объяснили! – Мадам, к сожалению, я не могу дать вам приемлемого объяснения. Впрочем, мои угрызения совести могут сравниться лишь с моим замешательством. – Неужели вы думаете, что угрызения вашей совести и ваше замешательство меня удовлетворят? Вы ставите меня в щекотливое положение. Я обязана вам жизнью, спасенной честью. Но я не потерплю, чтобы в мой дом, в мои покои беспардонно врывались. Что вы здесь ищете? – Ничего, мадам. Правда. – Правда? Оставьте! Хватит рассказывать сказки, мсье! – Аньес рассердилась. – Вам надо было лучше учиться врать. – Я не могу. Я не хочу. Улыбка осветила прекрасное лицо мужчины, стоявшего напротив Аньес. Он закрыл глаза, покачал головой и прошептал: – Почему бы вам не убрать меч в ножны? Сомневаюсь, что вы им сейчас воспользуетесь. Что касается меня, я предпочту тысячу смертей, но не допущу, чтобы вы пролили хотя бы каплю своей драгоценной крови. Аньес посмотрела на меч, словно видела его в первый раз, и убрала его в ножны. – Идемте, мсье. Проводите меня до часовни. Я забуду о вашем неподобающем присутствии в моей спальне. Скоро начнется месса. Дайте слово, рыцарь, что мы продолжим наш разговор с того самого места, на котором закончили. Ваше слово, я настаиваю. – У вас всегда есть мое слово, мадам, – ответил рыцарь, улыбнувшись. Аньес чувствовала, что он многого не договаривает, но не могла понять почему. Неужели этот мужчина такой непостижимый, что ей никогда не удастся понять его? И все же он соткан из света. В этом она уверена.
Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Клеман, согнувшись, осторожно пробирался вперед, прикрывая рукой слабый свет, исходивший от башенки. Он крался вдоль стен, уверенный, что его темная одежда сливается с каменной кладкой, тонувшей во мраке. Аббатство окутывало глухое молчание, иногда прерываемое хором голосов, доносившихся из церкви Пресвятой Богородицы. В голове Клемана лихорадочно мелькали мысли. Затронул ли быстро потушенный пожар тайную библиотеку? А если огонь уничтожил дневник? Надо было забрать его, ведь он сначала так и хотел поступить. Разумеется, он переписал своим тонким почерком все, что показалось ему крайне важным. Ну и что? Ведь он так толком ничего и не понял из записей на этих страницах. А вдруг его увидят? Игра в прятки, сначала забавлявшая его, поскольку опасность быть обнаруженным маячила где-то далеко, теперь доставляла ему беспокойство. Он распластался на земле и, изогнувшись, стал протискиваться между толстыми прутьями решетки, закрывавшей отдушину. Он вытянул ногу, ища ступеньку стремянки. Ему показалось, что стремянку кто-то отодвинул. Возможно, тот, кому что-то понадобилось в мастерской. Наконец он нащупал верхнюю ступеньку и опустил на нее ногу. Оказавшись на утоптанной земле, Клеман принюхался. В воздухе не пахло гарью. Он пошел по винтовой лестнице, ведущей в тайную библиотеку, добрался до площадки и остановился. Тайная дверь, выходившая в покои аббатисы, была широко распахнута. От страха у Клемана пересохло во рту. Он отступил на несколько шагов, в ужасе ожидая, что сейчас появится Элевсия де Бофор и увидит его. Из комнаты, которая, вероятно, служила кабинетом, не доносилось ни звука. Вновь обретя немного мужества, Клеман крадучись пошел вперед. Прижавшись к стене, он осторожно заглянул за дверь. Сестра-больничная. Как же ее звали? Аннелета, сестра Аннелета. Крупная хмурая женщина, которую он порой встречал в коридорах, сидела за массивным рабочим столом, подперев голову рукой. Она была погружена в чтение большой книги, лежавшей перед ней. Как она узнала о библиотеке? Могла ли аббатиса разрешить ей пользоваться хранившимися там книгами? Не зная, что лучше – остаться или уйти, Клеман едва осмеливался дышать. Он прятался за дверью целую вечность, как ему показалось. От широких плит исходил ледяной холод, постепенно парализуя его щиколотки, икры и колени. Он чуть не закричал от страха, когда женщина резко встала и направилась к двери. Боже мой, он погиб! Он сильнее прижался к стене, чувствуя, как шероховатые камни буквально впились ему в лопатки. Клеман закрыл глаза, словно ничего не видеть означало исчезнуть. Дверь хлопнула. В замочной скважине повернулся ключ, и тут же все погрузилось в более густой мрак. Клеман с трудом сдержал вздох облегчения. Клеман подождал несколько минут, потом начал действовать. Он быстро убедился, что огонь не повредил библиотеку. Но после нескольких часов поисков он так и не смог найти дневник рыцаря Эсташа де Риу и его соредактора. Его внимание привлекли полки, стоявшие теперь неровно. Он тщательно осмотрел их сверху донизу. Можно было подумать, что кто-то недавно передвинул их на дюйм*. Следуя своей интуиции, подросток навалился всем телом на боковину. Мебель сдвинулась на полфута. Еще одно усилие, и появился тайник, вырытый в земле. Сердце Клемана было готово вырваться из груди. Он опустился на колени и, поднеся ближе масляный светильник, стал обшаривать тайник. Вскоре он вытащил липкую салфетку и поднес ее к носу. Пчелиный воск. В нее явно заворачивали бесценные манускрипты, чтобы уберечь их от сырости и насекомых. Но что там было? Знаменитый трактат Валломброзо? Он наклонился в надежде найти какой-нибудь другой признак. И тут кто-то схватил его за горло так сильно, что он вскрикнул. Суровый женский голос прошептал: – Медленно вставай, поганец. Одно резкое движение, и я придушу тебя как кролика, без всяких колебаний. По ее спокойному тону Клеман сразу же понял, что в случае необходимости женщина исполнит свою угрозу. Он встал и оказался лицом к лицу с послушницей, если судить по ее платью. Кинжал, который она держала в умелой руке, был очень острым. К тому же он заставлял думать быстрее. Клеман осторожно поднес свою башенку к лицу женщины. Она была красивой и совсем юной. Ей было лет 16–17. Но Клемана главным образом заинтриговал ее взгляд. Два огромных янтарных озера бросали беспокойный свет на его бледные щеки. – Кто ты такой, виллан? – сурово спросила она. – Тише… она может нас… – Аннелета? Она ушла, как только закрыла дверь библиотеки. Разве ты не слышал? Клеман отрицательно покачал головой. – Плохой же ты шпион. Кто ты такой? – настаивала она. – Клеман. Я принадлежу мадам де Суарси. Золотистые глаза прищурились. Но тон остался прежним, когда она уточнила: – Мадам Аньес де Суарси? Та, что едва не погибла под пыткой? – Она самая. Казалось, молодая женщина колебалась. Потом она пригрозила более мягким тоном: – Не ври мне. Я всегда чувствую обман, даже ничтожный. – Тогда вы должны знать, что я говорю правду, – запротестовал Клеман. – Ладно! Продолжай и объясни мне, почему ты оказался здесь. Клеман почувствовал себя немного увереннее и заартачился: – А вы? Как получилось, что послушница имеет доступ в библиотеку, ревностно оберегаемую аббатисой? К тому же, я полагаю, ей об этом неизвестно, а это может вам дорого стоить! Печаль омрачила прелестное личико. – Ты разве не знаешь?… Он удивленно посмотрел на нее. Она продолжала: – Мадам де Бофор скончалась несколько дней назад. Ее тоже отравили. – Что? Отравили? Тоже? – в ужасе повторил Клеман. – Но моя госпожа навещала ее недавно, и… Кажется, вы намекаете на другие отравления… Но аббатиса ничего не сказала ей об этом. – Уже умерли четыре монахини, в том числе наша матушка. После ее слов воцарилось молчание. В слабом пахучем свете масляного светильника Эскив д'Эстувиль следила, как по бледной щеке мальчика медленно катится слеза. На одном дыхании Клеман выпалил: – Что же такое творится? Мою даму отдали под суд инквизиции, обвинили и вываляли в грязи на основании заявлений ее родной дочери, эмиссары погибли, Папу убили, сестер отравили, эту библиотеку, этот… Клеман вовремя остановился. Но молодая женщина продолжила вместо него: – …этот дневник рыцаря-госпитальера? Его украли, когда полыхал пожар, несомненно, устроенный намеренно. И еще два произведения исчезли, – добавила Эскив, теперь не сомневавшаяся в искренности подростка. – Элевсия ввела строгое затворничество, запретив выходить без веской причины. К тому же всех, кто выходит, тщательно обыскивают, равно как их поклажу и повозки. – Будем надеяться, что украденные произведения по-прежнему находятся на территории аббатства. – Да, будем надеяться. – При всем моем уважении, кто вы, мадам? Как вы сюда попали? – Мое имя ничего тебе не скажет. Допустим… Друг, несомненный друг. А дверь я открыла самым обычным способом: при помощи переданного мне дубликата ключа. – Но кто передал вам его? – осмелился спросить Клеман. – Не знаю. Клеман ничуть не усомнился, что она сказала правду. – Вы пришли сюда раньше, чем я. Но почему? И почему вы прятались? Прелестные губы в форме сердечка расплылись в слабой улыбке. – Мне было необходимо срочно провести инвентаризацию. Убедиться до приезда новой аббатисы, что в библиотеке не осталось никаких… опасных манускриптов. Потом пришла Аннелета, и мне пришлось спрятаться. Через час появился ты. Мне захотелось узнать, что ты ищешь. – Трактат Валломброзо, – откровенно ответил Клеман. – Хм… Я так и думала. Это одна из трех украденных книг. – Мадам, умоляю, объясните мне, что происходит? – Еще слишком рано, Клеман. Тем более что мне известна лишь часть этой истории. – Моя дама находилась в серьезной опасности… – Нет, прошедшее время здесь не подходит. Она и сейчас в опасности. Очень грозной. – Но кто ей угрожает? Помогите мне, чтобы я смог защитить ее. Улыбка молодой женщины стала лучезарной. Она прошептала: – Знаешь ли, я верю, что ты сумеешь защитить свою даму! – Вновь нахмурившись, Эскив продолжала: – Кто? Другие. Они такие многоликие, такие изменчивые. Послушай меня внимательно, юноша. Ты можешь довериться лишь немногим. В том числе и этому рыцарю-госпитальеру, Франческо де Леоне. Потом мне. – А монсеньору д'Отону? – Он не совсем из наших… друзей. Впрочем, он имеет блестящую репутацию и вряд ли способен скрывать бесчестье. Эскив посмотрела на узкие горизонтальные бойницы и сказала: – Приближается время полуденной мессы. Они все будут заняты своими молитвами. Тебе надо уходить. Клеман согласно кивнул. Эскив продолжила: – Клеман… Я еще не уверена, кто из монахинь является отравительницей, но я приближаюсь к разгадке. Остерегайся всего и всех. При этих словах подросток почувствовал, как на него нахлынула волна ледяного холода. – Последнее предостережение. Новая аббатиса, которая, как я чувствую, не замедлит приехать в Клэре, не будет нашей союзницей, наоборот. Не приходи больше в аббатство.Мануарий Суарси-ан-Перш, декабрь 1304 года
День клонился к закату, когда расстроенный и усталый Клеман вернулся в мануарий. Он сразу же бросился в большой общий зал, чтобы рассказать о неожиданной встрече своей госпоже. Аньес стояла недалеко от огромного камина, в котором пылал недавно разожженный огонь. За столом сидел мужчина и медленно доедал ломоть хлеба, смазанный салом. Он был одет в браки,[214] заправленные в походные сапоги, вышедший из моды длинный жилет, на который он, вероятно, накидывал шерстяной упленд,[215] подбитый изношенным кроличьим мехом, лежавший вместе с фетровой шапкой на сундуке. Когда незнакомец взглянул на Клемана, подросток сразу понял, что тот не был ремесленником или бродячим торговцем, как это можно было судить по его одежде. В этом случае Аньес все равно накормила и напоила бы его, но только на кухне. Но, что самое странное, у Клемана возникло сбивающее с толку ощущение, будто он знает этого человека, хотя и не встречался с ним.– Рыцарь де Леоне удостоил нас своим неожиданным и… не совсем обычным визитом, – объяснила Аньес спокойным тоном. Значит, это был он. Клеману захотелось броситься к этому прекрасному рыцарю и упасть перед ним на колени в знак бесконечной благодарности за то, что тот без колебаний отнял жизнь у подлеца Флорена, чтобы спасти Аньес. Но пристальный взгляд темно-синих глаз разубедил его в этом. Это был бездонный, искушающий и вместе с тем успокаивающий взгляд. – Вы подкрепились, мсье? – спросила Аньес. – Я наелся досыта, мадам, и очень вам благодарен за это. – Клеман – мойнаперсник. Он может слушать все, что касается меня. Внешние приличия соблюдены, христианское милосердие проявлено, и теперь я вновь спрашиваю вас, рыцарь: почему вы проникли в мой дом? – мягко продолжила Аньес. «Проник»? Что Аньес имеет в виду? Клеман почувствовал, что сейчас не время вмешиваться. Леоне склонил голову и, тщательно собрав крошки, положил их в рот, как человек, знававший, что такое голод. – Признаюсь вам: я ищу вещь, которую у меня украли, по всей видимости, без преступных намерений. – Но как можно украсть без преступных намерений? – Можно, если не сознавать, что делаешь. – И я приютила в своем доме вора? – Да. Но вора, который не слишком-то и виновен. – О какой вещи идет речь? Клеман с трудом понимал, что происходит. Он мог бы поклясться своей жизнью, что сейчас случится нечто ужасное. Но разговор внезапно утратил свою напряженность. Оба собеседника прониклись спокойствием. – Я не могу ответить на этот вопрос. – Прошу вас, рыцарь, – настаивала Аньес, ничуть не нервничая. – У меня такое чувство, что все это… не случайно. Боже, я ищу слова, чтобы выразить свои мысли, но не нахожу их. У меня… сложилось убеждение, что сплелась паутина, связавшая наши жизни, жизни множества других людей, в частности жизнь моей дочери, моего сводного брата, инквизицию… И все это уходит своими корнями так далеко, что я теряю след. В ответ Леоне тяжело вздохнул. Но Аньес не могла сказать, был ли вызван его вздох растерянностью или чувством облегчения. В памяти Клемана возникла невинная или почти невинная сцена.
Высокий пюпитр, за которым надо писать стоя. Перо, лежащее рядом с чернильницей в форме рожка. И ни одного клочка бумаги, чтобы перенести некоторые записи, сделанные в дневнике. Бумага была роскошью, и ее заботливо хранили в закрытых кабинетах. Две последних страницы толстого тома. Чистые. Затем он тщательно уничтожил следы своего труда, оттерев перо и пальцы подолом рубашки, смоченным слюной.
Дрожащим голосом подросток признался: – Речь идет о листке бумаги, мадам. Листке, о котором я вам говорил, том самом, что я вырвал из дневника рыцаря Эсташа де Риу. Так, значит, мсье, это вы соредактор этих записей? – Да. – Вы не можете больше молчать, – требовательно сказала Аньес. – Напротив, мадам. Я обязан хранить все в строжайшей тайне. Не стоит расценивать мое молчание как хитрость или расчетливость. – Не эта ли тайна чуть не стоила мне жизни? – возразила дама де Суарси. – Согласен с вами, и сердце мое обливается кровью при мысли о тех муках, что вам пришлось вытерпеть. Но если тайна будет раскрыта… Кто знает, сбудется ли она тогда? Множество людей подвергнутся преследованиям, будут казнены. – Рыцарь немного помолчал. Запрокинув голову, он улыбнулся, и Аньес показалось, что он перенесся в чудесный мир. Леоне прошептал: – Ваша жизнь, мадам… Ваша жизнь дороже мне, чем моя собственная. – Вот именно, мсье. Время не ждет, – вмешался Клеман. – Вы же знаете, что дневник и трактат были похищены. Скоро о тайне станет известно другим, и я готов спорить, что они не входят в число наших друзей. – Похищены? – выдохнула Аньес, хватаясь рукой за сердце. Губы Клемана дрожали от горечи. Он добавил: – Несколько дней назад отравили аббатису. Она стала четвертой убитой монахиней. У Аньес подкосились ноги. – Боже мой, – простонала она, хватаясь за край стола, чтобы не упасть. Но силы покинули Аньес, и она рухнула на скамью. Дрожащей рукой она взяла кубок с водой, который предложил ей Леоне. – Рыцарь… – Я знаю, как вам тяжело, мадам. Искренняя любовь, которую вы испытывали к моей второй матери, была взаимной, уверяю вас. И хотя ваше горе не облегчает моих страданий, все же оно поддерживает меня. Мне нужен этот листок, юный Клеман. Клеман хотел было броситься бегом в свою каморку, чтобы забрать документ из надежного тайника, который он сделал под деревянной доской, прикрепленной к одной из высоких балок, как раздался приказ его дамы: – Нет, останься, мой Клеман! – Мадам, при всем моем уважении я настаиваю. Этот листок содержит жизненно важные сведения, – пояснил рыцарь. – Но он был чист, пока я не переписал в него сведения, которые считал необходимыми, – возразил подросток. – Какие? – спросил Леоне. – Те, что я боялся исказить, доверив их памяти. – Какие?! – закричал рыцарь. – Две темы. Колонки с расчетами, рисунок розы, который показался мне неуместным на этих столь строгих страницах. Но я сказал себе, что она имеет какое-то таинственное значение… А, еще неполную фразу, вернее, несколько букв. – Роза… Ты ее точно скопировал? Все лепестки, их правильное расположение, размер? – Разумеется, рыцарь, точно, – подтвердил Клеман, понявший, что он правильно догадался о значении распустившегося цветка. Клеман и Аньес были поражены, как внезапно изменился Франческо. Черты его лица расслабились. Скрестив руки на груди, он закрыл глаза. Аньес вдруг подумала, что ей явился архангел. Он вздохнул и сказал так тихо, что она едва различала слова: – Господи Иисусе, любовь бесконечная, теперь мы, возможно, спасены. Вновь вернувшись в мир существ, сделанных из плоти и крови, Леоне вновь повторил свою просьбу: – Отдай мне листок, Клеман, прошу тебя. – Нет, – вновь возразила Аньес со спокойной уверенностью. – Я хочу знать, что на нем написано, и получить удовлетворительные объяснения. Я заплатила за это кровью, унижением и страданиями. Это ваш долг. – Ничто не заставит вас изменить ваше мнение, мадам, не так ли? Даже если я заверю вас, что владею лишь ничтожной частью тайны и что она весьма опасна? – Ничто. Страх перед собакой не спасает от ее укусов. Леоне вспомнил, что однажды эту фразу произнесла его тетушка Клеманс. – Хорошо. Принеси листок, Клеман, и не забывай, что твоя мелкая кража и ненасытное любопытство, возможно, спасли нас. Ах, извини… Я намного тяжелее тебя и поэтому сломал твою лестницу. Мадам, пусть ваша кухарка принесет мне свечу.
Аделина, которую присутствие этого элегантного, но довольно бедно одетого человека интриговало и одновременно смущало, тут же исчезла, пробормотав несколько невразумительных слов. Они молча ждали. Как ни странно, но, несмотря на недавнее раздражение, в присутствии рыцаря Аньес чувствовала себя спокойно. От этого человека исходила природная сила. Она подумала, что ее должны были прельстить эти крепкие длинные пальцы, прямой нос, высокий лоб, волнующий взгляд его синих глаз, длинные белокурые волосы… Разумеется, он был человеком Бога и монахом-солдатом, и поэтому ее желание осталось бы сугубо платоническим. Впрочем, она как женщина не испытывала к нему любовного влечения, но охотно склонила бы голову ему на плечо, чтобы немного отдохнуть. Осознав всю непристойность своих мыслей, Аньес покраснела и отвернулась, сделав вид, будто ждет возвращения Клемана. Неужели Артюс д'Отон настолько очаровал ее, что мысль о другом мужчине не может даже прийти ей в голову? Возможно, но Аньес сомневалась, что это служило подлинным объяснением нематериальной нежности, которую она питала к Леоне. «Что за вздор, да еще в такой момент!» – упрекала себя Аньес. Появление Клемана положило конец ее переживаниям. Она кивнула ему, и подросток протянул рыцарю аккуратно сложенный листок. Клеману показалось, что прошла целая вечность, прежде чем рыцарь взял его в руки. Осторожно зажав листок между пальцами, он прошептал: – Non nobis Domine, поп nobis, sed nomini Tuo da gloriam.[216] Потрясенный до глубины души, рыцарь принялся расшифровывать убористый почерк Клемана. Чуду было угодно, чтобы подросток скопировал темы и рисунок розы, поскольку считал, что в них были зашифрованы важнейшие сведения. Он возблагодарил небеса за ум, любопытство и отвагу этого подростка, которого случайно встретил на своем пути. Франческо де Леоне осторожно поднес свечу к листку. Пламя быстро нагрело бумагу, на которой проступили рыжеватые буквы. – Да это колдовство! – воскликнула Аньес. – Нет, мадам, никакого колдовства здесь нет, – объяснил рыцарь. – Речь идет о невидимых чернилах. Это обыкновенный сок зеленых слив. Похоже, существуют и другие рецепты. Чернила также делают из сока кислых плодов, которые растут на деревьях, привезенных из Азии и встречающихся в Испании – citrus limon.[217] Нагреваясь, сок приобретает рыжеватый цвет. Аньес подошла к Леоне. Когда она дотронулась до его руки, ее охватило неожиданное блаженство. Аньес показалось, что если она сейчас закроет глаза, то погрузится в успокоительный сон и никакие сновидения не будут ее беспокоить. Брат. Он был для нее братом. Почувствовал ли он то же самое? Леоне посмотрел на Аньес. Его бездонные глаза цвета морской волны сияли от счастья, а губы неслышно прошептали какое-то слово, которое она не разобрала. Встав на цыпочки, Клеман пытался разглядеть постепенно проявлявшиеся буквы и цифры. Сложная схема, эллипсы с многочисленными маленькими точками. Планеты. Он прошептал сдавленным от волнения голосом: – Теория Валломброзо! – Ее квинтэссенция, – поправил подростка Леоне. – И все это благодаря мудрости Эсташа, который хотел, чтобы в случае необходимости мы смогли бы обойтись без толстого трактата по астрономии, созданного монахом. Мы выписали только то, что поможет нам проникнуть в тайну двух тем. Несколько минут госпитальер смотрел на листок, вертя его в руках. Потом он посоветовал: – Нужно как можно быстрее переписать эти указания. По правде говоря, я в точности не знаю, как долго остаются на бумаге эти чернила, сделанные из сока. – Несколько листков бумаги и пузырек с чернилами хранятся в моем платяном шкафу. Клеман, беги и принеси их нам. Чернила еще не засохли, я недавно ими пользовалась.
Подросток и рыцарь сели рядом за длинным столом и стали аккуратно копировать проявившиеся слова и рисунки. В зал на минутку вбежала Аделина, зажгла факелы, поставила на стол возле переписчиков масляные светильники, а затем вернулась в свою вселенную, на кухню, расположенную за дверью, спрашивая себя, зачем переписывать, когда разумная голова может все это запомнить. Озадаченный Клеман спросил: – Но я нигде не вижу обрывка фразы, которую я переписал. Вот этой, – уточнил он, показывая указательным пальцем на буквы, выведенные его тонким почерком: «… л… ме… на… он… пог… т…». Леоне повернулся к Клеману, пристально посмотрел ему в глаза и только потом ответил: – Это досадная ошибка. Но эти записи, вероятно, помогут нам восстановить ее смысл. Клеман знал, что Леоне лгал и при этом хотел, чтобы Клеман это понял. Этот человек мог обманывать кого угодно, если долг, вера и честь требовали этого. Инстинкт подсказал Клеману, что настаивать не следует, ибо у него не возникло никаких сомнений в том, что рыцарь молчал, чтобы пощадить чувства Аньес. Аньес сидела по ту сторону стола. Ее мысли где-то блуждали, но она не могла сказать, где именно. Впервые подобная рассеянность принесла ей облегчение. Воспоминания о Матильде, Эде, Флорене, кончине Гуго после нескольких дней страшной агонии теперь были не властны над ней. Они просто витали рядом, но не могли ранить ее душу. Воспоминания о банях на улице Белой Лошади, недалеко от собора, куда она позволила привести себя, не сказав ни слова, вот уже многие годы не давали ей покоя. Воспоминания о лачуге, о предсказательнице в тот день жуткой зимы 1294 года. О запахе грязи и пота, исходившем от лохмотьев ведьмы, который ударил в нос Аньес, когда злобная сумасшедшая старуха подошла к ней, чтобы вырвать из рук корзинку с жалкими подношениями, принесенными ею. Хлеб, бутылка сидра, кусок сала и тощая курица. Сожалела ли она? Как можно сожалеть о неизбежном! Хриплый голос заставил Аньес вздрогнуть: – Моя дама, скоро вечерний торжественный рождественский молебен… Вечерня уже закончилась… – А… спасибо, Аделина. Мы пойдем в церковь, а затем поужинаем. Я пригласила на ужин брата Бернара. Накрой стол на четыре персоны. Нужно также приготовить ночлег для нашего гостя. Он останется до завтра и заночует в наших службах. Леоне даже не мог возмутиться. Считалось совершенно недопустимым, чтобы дама, к тому же вдова, жившая одна, приютила в своих покоях взрослого мужчину, если только он не был ее родственником или сеньором. – Хорошо, моя дама. Я прослежу. А вечером к нашей даме явятся с подношениями. Затем Аделина исчезла. – Совсем забыла об этом, – вздохнула дама де Суарси. – А что такое подношения? – удивился Леоне. Аньес улыбнулась: – Дары даме. Это обычай нашего уголка, который, несомненно, покажется вам смешным. В Рождество все: крестьяне, сервы, батраки, ремесленники и небогатые горожане приносят даме, владелице поместья, подарки, благодаря за заботу, защиту и справедливость. Каждый приносит столько, сколько может. И тогда мне приходится думать, что делать с горой карпов, паштетов из улиток, кровяных колбас, фруктовых пюре, шерстяных вязаных носков, маленьких хлебцев с пряностями или слоеных пирожков со свиным жиром. Порой даже приносят полотенца или стеганые одеяла, которые более или менее зажиточная супруга шила или стегала целый год. В Суарси нет богатых людей, но мы как-то живем, кормим детей и заботимся о стариках. В нашей деревне обитает отважный и трудолюбивый народец. Каждый отдает родному краю свое сердце и руки. Никто не увиливает от работы. – Смешным? Я нахожу этот обычай превосходным. Его следует распространить повсюду. – Рыцарь немного поколебался, а потом сказал суровым и вместе с тем радостным тоном: – Если бы вы знали, как я счастлив, что буду молиться рядом с вами этой рождественской ночью! Я никогда даже не смел надеяться получить этот божественный подарок. У Аньес возникло впечатление, что за этой фразой скрывается нечто иное, чем любезная учтивость.
Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Еще не рассвело., когда Аннелета Бопре услышала скрип колес ломовых дрог, пересекавших большой двор, простиравшийся между крепостной стеной и конюшнями. Так могли скрипеть только деревянные колеса, окованные железными скобами, что свидетельствовало о высоком положении приезжего в обществе. Вернее, приезжей, как она в этом смогла вскоре убедиться. Аннелета застыла от удивления, увидев женщину, велевшую всем им собраться в скриптории. Эта женщина отличалась ослепительной красотой и совершенными формами, которые не могли скрыть ни накидка, ни строгое платье. Женщине было 23, самое большее 25 лет. Она внимательно оглядела всех собравшихся с очаровательной улыбкой на устах. На встречу были приглашены и послушницы, забившиеся в самые дальние углы огромного зала, в котором царил ледяной холод. Когда женщина, назначенная их новой аббатисой, остановила взгляд своих изумрудных глаз на сестре-больничной, та поняла, что борьба будет безжалостной. Аннелета закрыла на мгновение глаза. Но вовсе не из смирения или слабости. Напротив, Аннелета надеялась, что, опустив взгляд, она сумеет скрыть свою недоверчивость. На мгновение воцарилось молчание, прерываемое лишь покашливанием и шелестом платьев неуверенно переминавшихся на ногах женщин. Потом раздался вкрадчивый, но строгий и громкий голос: – Дочери мои, как я счастлива, что после столь долгого путешествия наконец вижу ваши лица! Я, сгорая от нетерпения, тысячи раз мысленно представляла вас, причем не без опаски. Да, опаска – это самое верное слово, – добавила она, поднимая вверх изящную руку. – Я знаю, какой скорбью наполнились ваши сердца после кончины вашей матушки, воссоединившейся с величайшей славой нашего Господа. Так вот, я нуждаюсь в вашем радушии, в ваших протянутых ко мне руках. Передо мной стоит тяжелая задача. Некоторые из вас станут сравнивать меня с мадам де Бофор, нашей дражайшей покойной сестрой. Не стоит этого делать. Но и в этом случае я не буду сердиться на вас. Больше всего на свете я хочу продолжить ее труд, приложить к этому все свои силы. Признаюсь вам, я мечтаю о том, чтобы однажды вы могли сказать: «Она нас не разочаровала». Итак, я рассчитываю во всем равняться на покойную мадам де Бофор, благочестивую и мужественную женщину, на которую, думаю, я немного похожа. Как и она, я вдова. Как и у нее, у меня нет детей. Как и она, в самые горькие моменты своего вдовства я чувствовала, что передо мной должен открыться путь к другой жизни. Ваша матушка погибла от удара, нанесенного подлой отравительницей. А до нее и другие дорогие наши сестры. Не сомневайтесь, прежде всего я хочу разоблачить это чудовище и отдать ее в руки светского правосудия, чтобы свершился суд человеческий до того, как свершится суд Божий, который вынесет ей окончательный приговор. Аббатиса немного помолчала, а потом продолжила: – Какие важные сведения я могу сообщить вам о себе? В миру меня звали Од де Нейра. Я счастлива, что нахожусь среди вас, и не могу думать ни о чем другом. Я мечтаю только о том, чтобы Папа утвердил мое назначение… Сердце мое разрывается при одной лишь мысли, что мне придется расстаться с вами. Но я оставляю вас, дочери мои. Меня ждут важные дела, мне необходимо поговорить с некоторыми из вас, заверить свою печать у нашей благочинной и приора, а также у казначеи. Господи, храни нас всех в своей бесконечной доброте. Фигуры в белых платьях заторопились к выходу. Аннелета воспользовалась общей суматохой и, согнувшись в три погибели, тоже поспешила выйти, понимая, что высокий рост выдает ее. Она не сомневалась в том, что новая аббатиса хочет встретиться с ней, хотя бы для того, чтобы забрать ключ от покоев Элевсии. Надо было вести тонкую, но жесткую игру. Бенедетти назначил эту женщину, поскольку знал, что та готова на все и, главное, на худшее. Аннелета могла бы отдать голову на отсечение, что ловкость этого очаровательного создания могла сравниться лишь с ее умом и непоколебимой решительностью. Аннелета вздрогнула, когда изящная твердая рука вложила в ее ладонь записку. Аннелета посмотрела по сторонам, но так и не смогла понять, кто это сделал. Ее окружало море белых накидок бернардинок и черно-серых накидок послушниц. Тяжелой поступью Аннелета Бопре добралась до гербария и развернула записку. Несколько слов, написанных торопливым почерком: «Как можно быстрее приходите в огород. Речь идет о наших жизнях. Записку уничтожьте». Сестра-больничная поднесла тонкую полоску бумаги к пламени башенки и выпустила ее из рук только тогда, когда обуглилась последняя буква. Затем она вышла на улицу. Огород простирался по ту сторону палисада, ограждавшего квадратные грядки с лекарственными растениями, разбитые вокруг гербария. Сначала Аннелета никого не увидела. Наконец из-за колодца, вырытого посреди огорода, появился изящный силуэт послушницы. Аннелета знала эту молодую женщину. Неужели это та самая девушка, которая хотела взять имя святой Елены после принесения обета? Как же ее звали? Прелестное редкое имя, напоминающее о хитрости и сражении. Эскив. Когда послушница поравнялась с Аннелетой, та недоверчиво спросила ее недружелюбным тоном: – Зачем вы назначили эту встречу? Испытующий взгляд янтарных глаз смутил Аннелету. Раздался слишком суровый для хрупкой молоденькой девушки голос: – У нас мало времени. Она приехала раньше, чем мы рассчитывали. Прежде всего она отменит запрет на выход из монастыря, поскольку именно он стал причиной смерти мадам де Бофор. – Кто?… – пробормотала сестра-больничная. – Кто я? Эскив. Звено, как и вы. Вы должны мне верить. Какие слова убедят вас в том, что я ваша союзница? Пока могу сказать только одно. Франческо де Леоне приехал, чтобы навестить свою тетушку, не зная, что она скончалась. Вы проводили его в тайную библиотеку, вход в которую спрятан за ковром в кабинете аббатисы. Девушка нагнулась и вынула из-под платья ключ. – Вот дубликат, который мне вручили, когда возложили на меня эту миссию. Я должна была приехать в Клэре, чтобы помогать вам и помешать отравительнице расправиться с вами. К сожалению, я потерпела неудачу. Элевсия де Бофор погибла. – Значит, вы… следили за нами… – Я приехала за несколько дней до ее кончины. И я не слежу за вами, я охраняю вас. – Кто передал вам ключ? – О, посланец. Но я не имею ни малейшего понятия, кто поручил ему эту миссию. Впрочем, неважно. Я подчиняюсь. Я подчиняюсь во славу Господа. Я знаю только то, что должна знать. Ничего больше… и это нисколько меня не беспокоит. Как ни странно, но именно последние слова убедили Аннелету. Действительно, какая разница? Значение имели лишь их поиски. – Как вы думаете, кто может быть этой проклятой отравительницей? Есть ли у вас серьезные, обоснованные подозрения? – спросила Эскив. – Жанна. Жанна д’Амблен. Пока у меня нет доказательств, но все указывает на нее. И она по крайней мере один раз прибегала к помощи сообщницы, в тот самый день, когда у меня украли порошок тиса, ведь сама Жанна была в отъезде. – Кто? Эта сообщница, кто она? – Я подумала о Сильвине Толье, в ведении которой находится печь аббатства. Признаюсь, к этому выводу меня привели только умозаключения. Кто еще мог испечь хлеб из ржи, зараженной спорыньей, который и отправил на тот свет нескольких эмиссаров Бенедикта? – Спорынья? Аннелета, почувствовав себя как рыба в воде, принялась рассказывать об ужасных свойствах маленьких черных комочков, которые так часто поражали злаки, особенно рожь. Человек, отравившийся спорыньей, начинал бредить, а кожа его рук и ног становилась похожей на обожженную сильным огнем. Это была гангрена, из-за которой отваливались пальцы. Эскив мягко прервала Аннелету: – У нас очень мало времени, сестра моя. Сильвина Толье – ее сообщница, говорите? Аннелета поджала губы, потом призналась: – По правде говоря, я не питаю к ней нежности, и это заставляет меня быть очень осторожной в своих подозрениях. – Это делает вам честь. А Жанна? – О, я даже позволила себе проникнуться к ней дружбой. Она умеет заставить полюбить себя, она с виду такая преданная, такая внимательная, словно могла бы без покаяния отправиться прямо в рай. – Эти качества присущи всем самым изощренным убийцам. – Разумеется. К тому же Жанна очень хитрая. Как она ловко все продумала! Сама уехала, а своей сообщнице велела украсть яд из моего шкафа. Я с трудом сдержалась, чтобы не броситься на нее. Потом я решила, что лучше предоставить ей свободу действий, чтобы она привела меня к тайнику, где спрятаны украденные рукописи. – Очень разумное решение, – одобрила Аннелету Эскив. – Боже мой! – простонала Аннелета. – Я так заблуждалась. Я потеряла слишком много времени, и нашу матушку убили. – Не корите себя. Вы ни в чем не виноваты. Вы не совершали ошибок, просто прониклись слишком большим доверием. В каком мире мы живем, если теперь доверие так плохо вознаграждается? – Но ведь мир изменится, не так ли? – спросила Аннелета с почти детской интонацией. – Мы каждую минуту боремся за это. – Но вы в это верите? – Всей жизнью, всей душой. Надо, чтобы мир изменился. Он должен измениться. А теперь нам необходимо разработать план, чтобы любой ценой найти манускрипты из библиотеки прежде, чем Жанна д’Амблен или грозная Од де Нейра вывезут их. – Боюсь, что за нами наблюдают. Я возвращаюсь в гербарий. Приходите ко мне после вечерни. Эскив уже собралась уходить, когда Аннелета удержала ее, сказав: – Моя сестра в Иисусе Христе… Спасибо. – За что? За то, что мне не удалось защитить Элевсию де Бофор? – За то, что вы здесь. Она… Элевсия казалась такой хрупкой, но у нее была несгибаемая воля. – Аннелета понурила голову. – Признаюсь…признаюсь, после смерти матушки мне было так страшно, мне, которая считала себя выше всех страхов! – Лишь немногие никогда не испытывают страха. Доблесть заключается в борьбе с ним. До скорой встречи, сестра моя.Од де Нейра, мечтавшая, чтобы суровая монастырская жизнь закончилась для нее как можно скорее, дрожала, хотя и была одета в прелестное теплое манто, подбитое беличьим мехом. Не имея ни малейшего желания строить из себя настоящую аббатису, она приказала перенести багаж в свои покои. Перед отъездом Од из уютного особняка в Шартре ее служанка сложила в сундуки множество красивых платьев, роскошный туалетный несессер и два теплых манто, не забыв о бутылке ликера из чернослива, придававшего ей бодрости в такие холода. Когда все сундуки были принесены в покои, Од удовлетворила молчаливое любопытство Берты де Маршьен, удивленно смотревшей на столь многочисленный багаж: – Это книги. В свободное время, которого у меня так мало, я пишу житие Макария Великого.[218] Ее слова произвели на Берту, не отличавшуюся проницательностью, сильное впечатление.
Од любовалась своими изящными руками, ожидая посетительницу. Она потребовала, чтобы к ней немедленно позвали Жанну д'Амблен. То, что Жанне мало чего удалось добиться, раздражало Од. Едва Жанна вошла, как сразу же набросилась на Од: – Что вы позволяете себе, мадам? Мы должны были встретиться с вами в банях Шартра. – Терпение нашего друга иссякло, – прервала ее Од де Нейра. – Поэтому он послал меня, желая удостовериться, что манускрипты вскоре будут у него. Жанна д'Амблен с трудом сдерживала ярость. – Это безумие! Нас уничтожат! – Кто? Монахини? Не беспокойтесь, я знаю, что делаю. – Од нахмурила брови и возмущенно скривила прелестный ротик. – Кроме того, мне не нравится ваш тон. Немедленно перемените его. Жанна д'Амблен почувствовала в голосе Од угрозу. Сменив по необходимости и, главное, из осторожности тон, она заявила: – Нельзя, чтобы Аннелета догадалась о наших отношениях. – Неужели? О наших отношениях? Вы находитесь у меня на службе… пока вы мне полезны. Что касается Аннелеты, она, похоже, внушает вам страх. Тем не менее она не выглядела слишком уверенной в себе, когда я потребовала вернуть ключ от покоев аббатисы. Она сразу отдала его мне, не сказав ни единого слова. У меня такое чувство, что сестра-больничная – самодовольный мыльный пузырь, который лопнет, едва до него дотронется иголка. Где спрятаны манускрипты? Немедленно отдайте их мне за кругленькую сумму, и мы расстанемся. Жанна внимательно посмотрела на Од. Это прекрасное чудовище вполне может убить ее, Жанну, когда ее помощь больше не понадобится. Другие – Иоланда, Аделаида, Гедвига и даже Элевсия – были всего лишь мелкими рыбешками. Жанна могла бы поспорить, что мадам де Нейра дорого продаст свою шкуру. Слишком дорого для Жанны. Что касается обещаний и заверений, плутовка врала так естественно, что только правда могла вырвать ее язык с корнем. Жанна д'Амблен сказала с иронией: – Отдать вам манускрипты? Здесь? Даже не думайте. Я выйду вместе с ними, а потом мы встретимся и совершим обмен. Вы дадите мне увесистый кошелек и уйдете. Куда хотите. Од улыбнулась: – Я поступила бы точно так же. Знаете, почему хищники редко пожирают друг друга? Ибо знают, что они по природе хищники. Они никогда не доверяют друг другу. Ладно, пусть будет так. Завтра я сниму запрет на выход из аббатства. Но сначала я должна предъявить свои верительные грамоты этим старым дурам из капитула, чтобы они узаконили мою печать. Через два дня мы встретимся с вами в известных яам банях. Здесь I пробуду недолго, и, честно говоря, мне нисколько не жаль. Это ужасно… Этот влажный холод кажется мне нездоровым. А что, любовь к Богу должна обязательно вести в могилу? – Не знаю. Я интересуюсь только собой. – Мудрые слова. Я высоко ценю их, дочь моя. Вы свободны.
Через полчаса после вечерни Эскив так тихо проскользнула и гербарий, что Аннелета, сидевшая над своими регистрационными книгами, вздрогнула от неожиданности. Сестра-больничная не смогла сдержать улыбку, рассматривая, на этот раз внимательно, молоденькую девушку. Эскив была худенькой, миниатюрной. Макушка ее головы едва достигала плеча Аннелеты, женщины крупной. Очаровательное, почти треугольное лицо придавало молоденькой девушке сходство с котенком. И миндалевидные янтарные глаза усиливали это впечатление. Ярко-красный ротик в форме сердечка оживлял ее бледность. Волнистые темно-каштановые волосы выбивались из-под короткой накидки послушницы. Хрупкое тело, прекрасно сложенное. Но Аннелета нисколько не сомневалась, что эти почти детские ручки могли яростно защищаться, а за высоким гладким лбом скрывалась решительность, боевитость настоящего солдата их поисков. Аннелета вздрогнула. Мир, тот самый, от которого она укрылась много лет назад за стенами аббатства, настиг ее в образе этой молоденькой девушки. Но это был мир, о котором она ничего не знала. Мир, в котором она чувствовала себя слабой, беспомощной, растерянной. Мир, в котором молоденькие девушки становились отважными солдатами, аббатисы – прекрасными шлюхами, готовыми на все, мир, где легко убивали, где лгали ради забавы, где грабили ради каприза. Аннелета подумала, что никогда, никогда она не постигнет этого мира. По сути, эти жуткие убийства открыли ей глаза: она поняла, что в том мире для нее больше нет места. Впрочем, она даже не хотела возвращаться обратно. – Всю мессу я размышляла, – начала Эскив. – Нас всего двое, но все же нас двое. Мы должны нанести два контрудара. Во-первых, мы должны неусыпно следить за Жанной д'Амблен. Во-вторых, нам следует убедиться, что Сильвина Толье – ее сообщница. Нельзя допустить, чтобы Жанна д’Амблен передала манускрипты другой сестре. – Но ведь она может передать их непосредственно аббатисе! Разве не по этой самой причине ее так быстро назначили? – Вы же сами сказали, что Жанна очень хитрая. Доверять мадам де Нейра было бы настоящим самоубийством. Если Жанна отдаст манускрипты, она станет ненужной Бенедетти и его подручным. Нет, аббатиса позволит Жанне вынести манускрипты как можно быстрее. Затем она обменяет их на деньги. Иными словами, если Жанна решит взять бесценные манускрипты, в ее распоряжении только эта ночь. Вне всякого сомнения, она сделает это после повечерия, когда монахини лягут спать, – сказала Эскив. – Очень важно убедиться, что сообщницей Жанны была именно Сильвина Толье, если вы правильно рассчитали. Напоминаю вам, что нас всего двое и нам будет очень трудно следить за Жанной и ее неустановленной сообщницей одновременно. – Какая разница? – возразила Аннелета Бопре. – Для нас важна Жанна. Сомневаюсь, что она рассказала своей сообщнице о тайнике. Она возьмет манускрипты, а мы нападем на нее и отберем бесценные тома. И, словно желая доказать, что она готова к рукопашной схватке, сестра-больничная закатала рукава, хотя в гербарии царил ледяной холод. Такие слова заставили Эскив д'Эстувиль улыбнуться. Молоденькая девушка остудила воинственный пыл Аннелеты: – А вот я никак не могу отделаться от сомнений. На месте Жанны я лишь притворилась бы, что хочу вынести бесценную добычу за пределы аббатства. Мадам де Нейра слишком близка к камерленго, и поэтому она грозный противник. Если бы я была мадам де Нейра, я наняла бы нескольких ловких негодяев, которых подстерегли бы Жанну, чтобы завладеть манускриптами совершенно бесплатно. Столь железная логика лишь усилила беспокойство сестры-больничной: ей было не по силам разобраться с мирскими делами. – Право же, я предпочитаю настойки, яды, лекарственные травы. Никаких серьезных последствий, если хорошо знаешь их свойства. – О… то же самое относится и к отношениям между людьми, – любезно заметила Эскив. – Просто самая распространенная ошибка заключается в том, что мы полагаем, будто хорошо знаем их. – Да, гадюки остаются гадюками, а голуби – голубями, – нравоучительным тоном сказала сестра-больничная. – Вовсе нет. Надо опасаться и голубей. – Какая жалость! – вздохнула Аннелета. – Разумеется. Но какое счастье, если гадюка перестает плеваться ядом! – Разве подобная метаморфоза возможна? – Да, хотя такое случается редко, признаюсь вам. Тем более я сомневаюсь, что в один прекрасный день эта метаморфоза произойдет с нашими врагами, де Нейра и д'Амблен. Как бы там ни было, мы позднее поговорим о зловредных голубях. Время поджимает, час ухищрений миновал. Надо действовать с открытым забралом. Это единственное, что нам остается. – Действовать с открытым забралом? Но против кого? Против Сильвины? – Да. – Но… мы питаем друг к другу взаимную неприязнь, и я сомневаюсь, что она окажет мне дружеский прием. – Порой угрозы и шантаж дают превосходные результаты, – твердым голосом напомнила Эскив. Аннелета запротестовала: – Но это низость! – А отравить аббатису – это преступление, – взволнованно возразила молоденькая девушка. – Остались считанные минуты, сестра моя! Целомудрие вашей души делает вам честь, но сейчас это неуместно. У нас есть время до рассвета. Затем… Ну что же, я даже не хочу думать, что произойдет, если мы потерпим поражение. Аннелета понурила голову. – Вы правы. В конце концов, разве мне не казалось, что я испытаю огромное облегчение, когда задушу это чудовище собственными руками? – Как вы думаете, где сейчас находится Сильвина Толье? – Несомненно, возле своей печи. – Значит, за церковью Пресвятой Богородицы. – Или же в дровяном сарае. Она с маниакальным усердием следит за своими поленьями и кругляками. Что касается растопки, то она, если бы это было в ее власти, считала бы каждую щепку! Эта… Одним словом, ей в голову приходят безумные мысли. Подумать только… В течение многих месяцев она плакалась нашей матушке в жилетку, требуя, чтобы дрова для каминов хранились отдельно от ЕЕ дров для печи, под тем предлогом, что на отопление аббатства уходит слишком много ее личных запасов! Значит, мы должны построить второй дровяной сарай, чтобы разделить поленья? Какая чушь! – Да, вижу, что отношения между вами не сложились. – Скажем так: мы друг к другу равнодушны, и это позволяет нам избегать ссор. – Возможно, настал момент исправить это положение. – Прошу прощения? Лукавый огонек сверкнул в странных глазах Эскив: – Окольные пути… Иногда ссоры приводят к хорошему результату. Аннелета рассмеялась, но тут же извинилась: – Моя веселость неуместна. А раз так, поторопимся, ваше предложение весьма заманчиво. Так что же, примемся за Сильвину Толье! – Дайте мне несколько минут, чтобы я могла добраться до места вашей встречи… или ссоры. – Я достаточно хорошо сложена и не нуждаюсь в защите, – обиделась сестра-больничная. – Разрешите хотя бы один раз другому принять за вас решение. Прозорливость молоденькой девушки заставила Аннелету замолчать. Как ни странно, она не испытывала желания протестовать, утверждать, будто способна в одиночку бороться с любым врагом. Сестра-больничная удивлялась самой себе. Как могло случиться, что хрупкая молоденькая девушка сумела ее успокоить? Аннелета подождала несколько минут, чтобы Эскив как можно дальше отошла от гербария, где они держали свой маленький тайный совет. Эти минуты Аннелета использовала, чтобы отогнать от себя тоску, вызванную смертью Элевсии. За все прошедшее время ее боль так и не утихла. Аннелета также отчаянно боролась со страхом перед внешним миром, все секреты которого прежде казались ей такими знакомыми. Что она будет делать, если аббатство закроют? Куда она пойдет, к кому сможет обратиться за помощью, если король или будущий Папа, устав от убийств, потребуют, чтобы монахинь расселили по другим монастырям? В принципе, Аннелета допускала подобный поворот событий. Она была слишком старой, чтобы приспособиться к другой вселенной, привыкнуть к другим лицам. К тому же она сомневалась, что найдет в себе силы бороться, презирать, порицать, наносить удары первой, чтобы скрывать свои слабости. «Хватить причитать, толстуха! Вставай, бери себя в руки и иди! В какого же жалкого слизняка ты превратилась, постарев! И ты еще смеешь подтрунивать над Бланш де Блино и Бертой де Маршьен?! Да, дочь моя, удали тебе явно не хватает. Ну же, взбодрись! Покажи, на что ты способна». Упреки, обращенные к самой себе, помогли. Аннелета решительно встала с табурета.
Замок Ларне, Перш, декабрь 1304 года
Незаконнорожденная баба! Да она ему угрожает! Эд де Ларне, пьянствовавший все эти дни и ночи напролет, кипел от негодования. Сделав глоток подогретого вина, он почувствовал во рту горечь и скривился. Нахалка! За кого она себя принимает, ублюдок его отца? Прищурив глаза, он перечитал короткое письмо, которое ему только что принесли. Он с трудом боролся с пьяным туманом, застилавшим его мозги.Дражайший любезный брат! Вы знаете, какую нежность я питаю к Вам, так же хорошо, как я знаю, что Вы искренне благоволите ко мне, чему есть тысячи доказательств. Но я упомяну лишь о Вашей бескорыстной щедрости и постоянной заботе о моем будущем и о будущем Вашей племянницы, моей дочери. Я бесконечно признательна Вам за мужество, которое Вы проявили, без колебаний приютив Матильду, когда вопиющая несправедливость вынудила меня предстать перед судом инквизиции, вмешательство Господа отмыло меня от всех подозрений и позволило вернуться к прежней жизни. Поверьте, дорогой брат, я прекрасно понимаю, что жизнь в Вашем замке намного более приятная, чем та, которую и могу предложить моей дочери на этой весьма унылой ферме Суарси. Но я уверена, Вы согласитесь, что девочка должна жить с матерью. Я буду Вам бесконечно обязана, мой милейший брат, если Вы привезете мою дочь в мой мануарий. Как можно быстрее.Но, несмотря на свое состояние, Эд не заблуждался. Аньес не случайно написала эти три слова. Это было требованием, настоящим приказом, который не могли смягчить никакие формулы вежливости. В ярости Эд вскочил со скамьи. И тут же терракотовый кубок полетел в стену, орошая плиты вином. Раздался приглушенный шум. Эд молниеносно бросился на ни в чем не повинный кубок и в ярости стал топтать его, превратив в пыль осколки желтого першского песчаника. Вдруг он осознал всю гротескную тщетность своего безумного поступка. Баба, превратившая его во вспыльчивого мальчишку, каким он был в восемь лет! Баба, сделавшая его смешным в собственных глазах! Ее дочь? Эта шлюха, ее дочь была заперта в монастыре, и Аньес не скоро увидит девчонку. Дура. Аньес должна благодарить его за то, что он избавил ее от такой обузы. Матильда ненавидела мать, ревновала к ней, мечтала лишь об одном: погубить мать, на которую она никогда не сможет стать похожей. Но, в конце концов, чего требовала дама де Суарси? Смерти Эда? Он в этом сомневался, но ненависть Аньес служила ему утешением. Значит, он имел в ее глазах такую важность, что она стремилась уничтожить его. Жалкое утешение. Однако оно было предпочтительнее той пустоты, с которой он боролся многие годы. Эд заполнял пустоту всеми средствами: деньгами, небольшой, но властью, ляжками девок и вином. Но денег стало не хватать, его власть никому, кроме сервов, не внушала больше страха, от вина ему становилось плохо. Что касается девок, его воротило от них. Эд завопил: – Эй! Кто-нибудь! Что, надо всех вас выпороть, чтобы вы наконец начали работать? Слуга робко вошел и, встав как можно дальше от хозяина, спросил: – Да, хозяин? – Лохань ледяной воды, письменный прибор и чернила! Да поживей! Слуга исчез. Через несколько минут он появился в сопровождении молоденькой служанки, воображавшей, что у нее все же есть шанс избежать тумаков. Слуга торопливо поставил лохань на пол. – Болван, ставь на стол! Или ты думаешь, что я растянусь на полу, как собака? Слуга исполнил приказание и поспешно выбежал из комнаты. Девушка, охваченная паникой, едва не уронила письменный прибор. Чернила брызнули на длинный деревянный стол. Эд внимательно следил за всеми ее движениями. Поставив прибор на стол, она подняла голову. Хлесткая пощечина свалила бедняжку на скамью. – Идиотка косорукая! Сотри эти чернила языком! – Но, хозяин, нет… сжальтесь, – простонала обезумевшая от страха девушка. – Сжалиться? Такие нищенки, как ты, не заслуживают жалости. Стирай! Или ты предпочитаешь кнут? Решай. Я начинаю терять терпение. А из-за своей неуклюжести ты рискуешь получить оба наказания. Со слезами на глазах молоденькая девушка подчинилась. Эд заворожено следил за движениями языка, лизавшего темное дерево. Девушка выпрямилась. Опустив глаза, она через силу проглотила слюну. Ее губы и нос были темными от чернил. Эд почувствовал, как к горлу подступает тошнота, и закричал: – Скройся с моих глаз, неблагодарная! Благодари небеса за мою доброту. Другой избил бы тебя до полусмерти. Девушка стремительно выбежала прочь из комнаты. Эд, боровшийся с оцепенением, сумел добраться до лохани. Опустив голову в воду, он сдерживал дыхание так долго, что у него подкосились ноги. Он надеялся, что ему хватит мужества не поднимать голову, чтобы жадно вдохнуть воздуха. Но в очередной раз мужества ему не хватило. Сев за письменный прибор, Эд вдруг явственно почувствовал ледяной холод. Он задрожал всем телом, спрашивая себя, скоро ли заледенеют мокрые волосы. Ледяной шлем, который поможет ему составить ответ, дать отпор. Он вдруг захохотал и принялся разговаривать сам с собой.Ваша любящая сестра и покорнейший вассал Аньес.
Моя нежная, моя жестокая Аньес! Я не могу привезти тебе дочь, поскольку распорядился ее судьбой в наших общих интересах. Не бойся, девственная плева твоей сучки дочери осталась нетронутой. Она не вызывала во мне желания. Но Бог свидетель, она отчаянно этого добивалась, считая наше родство пустым звуком. Мораль этой истории такова: можно быть девственницей и одновременно презренной потаскухой.Но вместо этого Эд, став серьезным, вывел дрожащей рукой:
Дражайшая Аньес! Ваше письмо вызвало у меня недоумение и беспокойство. Матильда покинула Ларне несколько недель назад. На нее снизошла благодать Божья. Несомненно, она раскаивается в своем недостойном поведении во время суда над Вами. Пользуюсь возможностью, чтобы заверить Вас, что меня самого привели в недоумение ее заявления. Но, как бы там ни было, она захотела уйти в монастырь. Я не знаю, как он называется и где находится, но она убедила меня в том, что объяснила Вам свой поступок, который Вы одобрили. Я не знаю, что идумать. Разве мы, говоря по совести, можем бороться против такого сильного и благочестивого желания? Можем ли мы лишить ее единственной возможности искупить свою вину? Как Вы знаете, я всегда готов прийти Вам на помощь.Эд перечитал письмо, временами рыгая. Давай, моя красавица. Что ты теперь сделаешь? Давай. Побегай по всем монастырям королевства.Остаюсь Вашим всегда предупредительным Эдом.
Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Как Аннелета Бопре и предвидела, Сильвина Толье пересчитывала бревна, бормоча что-то себе под нос. Погруженная в инвентаризацию, которую она проводила почти каждый день с маниакальным упорством, она заметила присутствие сестры-больничной только тогда, когда та кашлянула. Сильвина Толье резко обернулась и еще сильнее нахмурилась. Аннелета подумала, что Сильвина ей неприятна во всех смыслах слова. Приземистая, плотная, она казалась вырезанной из обрубка дерева, к которому прикрепили мускулистые ноги и руки, но забыли вытесать шею. Ее лицо, такое же квадратное, как и тело, походило на лицо уродливой батрачки с постоянно лоснящейся грубой кожей. Маленькие глазки навыкате, постоянно настороженные, довершали столь неприглядный облик. По правде говоря, из всех физических недостатков Сильвины Аннелету больше всего раздражал ее голос. Сильный, крикливый и резкий, от которого были готовы лопнуть барабанные перепонки и у всех возникало желание заскрежетать зубами. Аннелете в очередной раз пришлось в этом убедиться. – Э… Сестра Аннелета? Вы меня ищете? «А иначе какого черта я пришла бы в этот сарай?» – с раздражением подумала Аннелета, но вслух любезно произнесла: – Разумеется, и я очень рада, что застала вас. Достаточно ли у вас запасов? – спросила она, показывая на аккуратно сложенные штабеля. – Видите ли… Клянусь вам, мне не хватает дров! Просто некоторые родились на шелковых простынях. Они вечно мерзнут с ног до головы, – пробурчала Сильвина. – И я должна подкладывать поленья и хворост в камины с вечера до рассвета. Если однажды я не смогу выпечь хлеб, пусть не жалуются! Вот так! – Сочувствую вам, – сказала Аннелета, не став ей напоминать о том, что аббатство окружают принадлежащие монахиням дремучие леса и целые поленницы уже распиленных и нарубленных дров ожидают своего часа. – Наша добрейшая матушка была слишком мягкой и уступчивой, вот что я вам скажу. Ее прекрасная душа покоится с миром, в этом я уверена. Но все же у нас здесь не особняк для придворных дам, а аббатство бернардинок. – Разумеется, разумеется. Тем более что у вас столько забот, моя дорогая Сильвина, – покривила душой Аннелета, которую уже стала утомлять непривычная роль дипломата. – О, я безмерно счастлива, что это кто-то заметил, – заявила Сильвина, резко кивнув головой. Аннелета продолжала в том же духе: – Подумать только! Убедиться, что бревна привезли, что они сухие, проследить, чтобы их распилили и накололи, присматривать за дровосеками, которые бросают поленья как бог на душу положит, постоянно подгонять их. Замесить тесто, дать ему подойти, поставить хлеба в печь, вытащить их не позже и не раньше, да еще и не забыть заказать муку различных видов… Действительно, какой тяжелый труд! Сильвина Толье заважничала, подумав, что она недооценивала сестру-больничную, находя ее вспыльчивой и надменной. Польщенная Сильвина добавила: – Не говоря уже о том, что я пеку разный хлеб. Хлеб бедняков, хлеб радости, обычный хлеб или хлеб для богослужений. А все это требует хорошей организации процесса. – И хлеб из полбы, пшеницы, суржи…[219] – И из ячменя, овса, проса… И все это надо смешать в правильных пропорциях! – И изо ржи… Вы забыли о ржи, с которой, как мне кажется, надо обращаться очень осторожно. – Ба… Как и со всем остальным, – возразила Сильвина. – И я редко использую рожь. В основном я пеку хлеб из суржи. Ржаной хлеб берут в дорогу. Он долго не черствеет. К тому же он не такой дорогой, как пшеничный хлеб, и полезен для здоровья. «Особенно его ярко выраженный, немного кисловатый вкус, позволяющий скрыть вкус спорыньи», – подумала Аннелета. – Правда? А я думала, что мы едим в основном ржаной хлеб. Послушайте… А не пекли ли вы ржаной хлеб незадолго до кончины нашей любимой матушки? – Нет. – Но я готова поспорить… Сильвина, которой уже начала надоедать настойчивость сестры-больничной, сказала нелюбезным тоном: – И вы проспорите. Сделав ставку на ограниченный ум своей собеседницы, Аннелета твердо заявила с видом превосходства: – У меня очень хорошая память, моя дорогая. И никто не может утверждать обратное. Если я говорю, что нам давали с супом ржаной хлеб, значит, так оно и было. Уязвленная словами этой нелюбезной сестры, вторгнувшейся, словно саранча, в ее владения и принявшейся читать нотации, Сильвина Толье с возмущением сказала: – Потому что вы всегда правы, не так ли? – Пусть это нескромно, но я не помню ни одного случая, когда я ошибалась, – возразила сестра-больничная, всем видом показывая, как она довольна собой. Больше и не потребовалось, чтобы окончательно вывести Сильвину Толье из себя. – Ну что ж, сегодня вечером ваше уважение к себе приуменьшится. Следуйте за мной. Сильвина двинулась вперед чеканным шагом. За ней шла Аннелета. Они преодолели три туаза, разделявших дровяной сарай и печи. Теперь печи стояли на некотором расстоянии от зданий, хотя в прошлые века их возводили вплотную к домам, чтобы тепло могло проникать в помещение. Но из-за многочисленных пожаров пришлось отказаться от этой экономии, столь удобной в домашнем хозяйстве. В прилегающем к печам строении находился высокий пюпитр, на котором лежала амбарная книга печного хозяйства. В комнате было жарко и душно, и это служило лишним доказательством, что хле-6а на следующий день еще не были готовы. Сильвине было легко осуждать мерзлячек, ведь она сама проводила весь день в тепле. Сильвине пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до книги. Она перевернула несколько страниц и торжествующе заявила: – Я записываю все, слышите – все! Даже хлеб, обглоданный крысами, который мы добавляем в суп для нищих, если, конечно, эти мерзкие твари не нагадили на него. Вот страница, относящаяся ко дню, когда наша дражайшая матушка… Святые небеса, как подумаю… Какой ужас! Аннелета с удивлением увидела, что Сильвина принялась тереть глаза своим крепким кулаком. Жест, пусть и лишенный изящества, но свидетельствовавший о подлинной нежности. Сильвина, смущенная этими эмоциями, поскольку они редко охватывали ее, прочистила горло, а потом сказала: – Я листаю страницы назад от этой скорбной даты, и что и вижу? Ничего. Ни единой крупинки ржи! Суржа – да! Полба – конечно! Овес – в изобилии! Но ни крупинки ржи! – Вы поставили меня в сложное положение, дорогая Сильвинa… Ведь я прекрасно помню восхитительный хлеб с вкусной черной коркой. Сильвина, разрывавшаяся между радостью, которую ей доставил новый комплимент, и желанием придать своей особе большее значение, все же смягчилась: – Он действительно очень вкусный. А все потому, что я добавляю немного молока в опару. – Я уверена, что наслаждалась его вкусом совсем недавно. Могу ли я посмотреть вашу книгу… – Нет, ни за что! – прорычала коренастая женщина. – Разве вы не станете возмущаться, если я приду к вам и стану рыться в вашем гербарии? И потом, я устала от ваших недомолвок. Что вы хотите, в сущности, сказать? Что я сошла с ума и путаю пшеницу с рожью? – Маленькие глаза Сильвины сузились, когда в ее неповоротливом уме сверкнула неприятная мысль: – О, понимаю… вы заподозрили, что я продаю благородный хлеб владельцами городских печей, а вас кормлю рожью и овсом? Да? Имейте мужество признаться! Упершись руками в бока, нахмурив лоб, сжав зубы, Сильвина Толье стояла, с ненавистью глядя на Аннелету. Казалось, она готова растерзать свою обвинительницу на части. Аннелета почувствовала, что Эскив, вероятно, была права. Стратегия, которую она выбрала, обречена на провал. Время деланных улыбок и лести прошло. Наступило время шантажа и угроз. – Знайте, Сильвина: я не особо жалую вас, а вы не считаете меня любезной. Но я вынуждена признать, что вы, несомненно, лучшая сестра-хлебопек из всех, что встречались на моем пути. А теперь перейдем к фактам. Сильвина перевела взгляд на дверь. Аннелета рванулась к выходу и с грохотом закрыла ее, навалившись всем телом, чтобы никто не мог войти в помещение. Она погрозила Сильвине указательным пальцем и ледяным тоном сказала: – Вы не выйдете отсюда живой до тех пор, пока я все не узнаю. Делайте свой выбор, только быстро. Вы… – Мне ясно одно: вы лишились рассудка. Незаконно лишать меня свободы, да еще в моих владениях! Я обо всем рассажу нашей матушке, а поскольку она не питает к вам особой нежности… – Правда? Вы знаете об этом? И каким же образом? А, откровения сообщницы! – с угрозой прервала ее Аннелета. Сильвина Толье прижала амбарную книгу к широкой груди и прошипела: – Я не скажу ни слова. Мы можем провести здесь всю ночь, если так вам угодно. – Мне так угодно! – Что касается моих записей, вы напрасно надеетесь, что я позволю вам проверить их. У вас нет надо мной никакой власти. И не надо злобно ухмыляться и сурово хмурить брови! Оставьте все это для послушниц и некоторых монахинь, которые вас боятся. Мне же вы не внушаете страха. – Ваши слова доказывают, что вы еще глупее, чем я думала. – Что… что… – задохнулась от ярости Сильвина Толье. – Вам предъявят обвинение как сообщнице отравительницы, безмозглая курица! Сообщнице, содействовавшей отравлению наших сестер и матери-аббатисы! Вы понимаете, Что вас ждет? Вас разденут до пояса и проведут, закованную и цепи, словно медведя, по улицам соседних поселений, а простолюдины будут кидать в вас камни. А потом вас повесят! Кровь отхлынула от лица Сильвины Толье, ставшего таким же серым, как зола, устилавшая пол возле двери. Как ни странно, но не возможные пытки и казнь испугали Сильвину. Она оцепенела при самой мысли, что ее обвиняют в столь страшном преступлении. – Сообщница отравительницы?… Да вы сошли с ума! Как вы думаете, почему я в поте лица тружусь возле печей? Почему я таскаю на себе все эти поленья? Я мечтала заведовать кухней, как наша милая Аделаида Кондо, да хранит Господь се душу. – Сильвина горько вздохнула. – Но я не могла претендовать на эту должность. Я не могу оглушить угря ударом о стену или, что еще хуже, перерезать горло славному кролику или молоденькой курочке… А уж убить или содействовать убийству моих сестер, нашей матушки!.. Вы сами дура! Перед собой вы видите сильную женщину, – добавила Сильвина, поднимая свою узловатую руку, – но не фурию. Что-то в аргументах Сильвины, в ее поведении, слезах, навернувшихся на глаза, подсказало Аннелете Бопре, что она ошибалась. Тем не менее она решила идти дальше: – И я должна поверить вам на слово? Когда вы пекли ржаной хлеб? – Да дался вам этот ржаной хлеб! Рожь еще никого не убивала! – Эта рожь оказалась смертельной. – Такого не может быть! – Может. Речь идет о ржи, зараженной спорыньей. – Спорыньей? – Это маленькие черные комочки, появляющиеся на колосках. Своего рода шанкр. Когда вы пекли ржаной хлеб, из одной только ржи? – повторила Аннелета, четко выговаривая каждую букву. – Живее, я уже устала. Если я не получу внятного ответа, я немедленно поставлю в известность бальи. Осознав всю серьезность своего положения, Сильвина принялась лихорадочно перелистывать страницы амбарной книги, которую держала в руках, боясь, что Аннелета отнимет ее. Сильвина подняла голову и пробормотала: – В начале филипповок, месяц назад. Потом в октябре. Если перенестись назад… Посмотрим… в мае. Еще раньше я испекла полный противень в феврале. Тогда у нас не было овса и пшеницы. Май. Эмиссар Папы, тот, который приехал к Элевсии, а затем был найден мертвым с якобы обгоревшими конечностями, постучал в дверь рукодельни именно в мае. – Хватит увиливать. Я жду от вас коротких и точных ответов. Иначе вас ждет виселица. Вы печете хлеб по распоряжению сестры, в чьем ведении находится кухня, не так ли? – Конечно. Она лучше всех знает, сколько хлеба требуется для нужд монастыря и раздачи нищим. – Вы это отмечаете в своей книге? – Да за кого вы меня принимаете, в конце концов? За слабоумную? Вы ошибаетесь. Конечно, я не такая образованная, как вы. Признаюсь, мне трудно читать длинные тексты, значение замысловатых слов ускользает от моего понимания, но я умею писать. Представьте себе, этому я выучилась здесь, – с гордостью добавила Сильвина. – Прекрасно, – откликнулась Аннелета. Второй раз с момента их схватки она не кривила душой. – Вот видите! Значит, май. Каждый заказ Аделаиды я помечала буквой «А». Это лишнее, поскольку кроме нее… Впрочем, матушка, желая разнообразить нашу пищу, порой заказы-налахлеб, замешенный на молоке и яйцах. А когда кто-нибудь из нас заболевал, она просила, чтобы я добавляла в тесто кусочки утятины или свинины. Тогда я ставила букву «М». Означает «матушка», – объяснила Сильвина. – Я поняла, что не «Элевсия». Вернемся к ржаному хлебу, испеченному в мае. Там стоит «А» или «М»? – Ни то ни другое… И это странно. «Через Ж. д'А.». Л, вспоминаю! Наша милая Жанна пришла вместо Аделаиды, занятой на кухне. Я это хорошо помню, потому что раньше Жанна никогда не подходила к печам. В конце весны и летом здесь очень грязно и жарко. – Понимаю. И прошу у вас прощения перед Богом. Я такая вспыльчивая, что порой становлюсь несносной. Вы отнюдь не глупая, наоборот. Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. Вы, и я подчеркиваю это, лучший хлебопек из всех, чьи творения я имела честь отведать. – О… «творения»… это сильно сказано, – пробормотала Сильвина. – Хлеб, всего лишь хлеб. – Да, хлеб… Хлеб всему голова. Голодные желудки насыщаются хлебом. Хлеб дарит жизнь, он священен. – А унижение, побитие камнями, виселица… – Я заблуждалась на ваш счет. Прошу вас, простите меня. Однако… Нам всем угрожает опасность, и это единственное, что может служить мне оправданием. Сильвина… Не рассказывайте никому о нашем разговоре. Никому! Речь идет о наших жизнях, в том числе и о вашей. – Жанна д'Амблен? Но… Не могу в это поверить. Немыслимо! Она заменила обычную ржаную муку этой… спорыньей… – Тише, говорю вам. – Я молчу, Аннелета. Клянусь душой, этот разговор останется между нами. Сестра-больничная быстро вышла на улицу. Вскоре ее догнала легкая тень. Это была Эскив. – Вы слышали? – Практически весь разговор. Сильвина не та, кого мы ищем. А вот насчет Жанны вы были правы. – Но где скрывается вторая дьяволица? – Надо ее найти.Повечерие давно закончилось. Аббатство окутало ночное безмолвие, лишь изредка прерываемое тревожным шелестом крыльев сипух. Хищные птицы, серебристые силуэты которых время от времени появлялись из темноты, плавно скользили в ночном воздухе. Они жили на самой верхушке колокольни церкви Пресвятой Богородицы. В отличие от других представителей семейства сов, сипухи могли здесь чувствовать себя в безопасности, поскольку считалось, что они приносят удачу. Лежа с широко открытыми глазами, полностью одетая, Аннелета боролась с усталостью. Она пыталась занять свой ум, чтобы прогнать сон. О чем они думают, эти монахини, спящие за занавесками, которые отгораживают друг от друга их крошечные каморки? О прежней жизни? О завтрашнем дне? Об отравительнице и страхе, охватившем их всех? В душе Аннелета Бопре жалела, что не удосужилась узнать побольше об остальных. Например, о несчастной Сильвине, на которую она так грубо набросилась. Что она знала о ее прежней жизни? Ничего. Только после того, как несколько человек умерли ужасной смертью, Аннелета выяснила, что надменная Берта де Маршьен не поддалась на обман, а у Иоланды де Флери был сын. Один вопрос не давал покоя сестре-больничной: почему Жанна, убийца, сообщала радостные новости о мертвом мальчике его матери? Чего она хотела добиться? Ведь ею двигало отнюдь не сострадание. А сообщница? Кто она, если Сильвина Толье доказала свою невиновность? Тибода де Гартамп, сестра-гостиничная, любезно принимавшая этого демона Никола Флорена? У сестры-больничной возникла еще одна гипотеза: а что, если Жанна из чрезмерной осторожности и злости отравила свою сообщницу, чтобы та замолчала навеки? Кто она, одна из трех умерших, поскольку Элевсия до Бофор была не в счет? Аделаида Кондо, сестра-трапезница? Нет. Использовать болтливую жизнерадостную Аделаиду означало бы проявить слабость ума, а Аннелета считала Жанну д'Амблен очень умной женщиной. Гедвига дю Тиле? Нет. Гедвига была слишком нервной, непредсказуемой и к тому же часто впадала в депрессию. Иоланда де Флери? У Иоланды была чистая душа. Она ни за что не стала бы участвовать в этом чудовищном преступлении, даже если бы ее к этому принуждали. Да, но если все дело было в маленьком Тибо? Хорошие новости об обожаемом матерью ребенке в обмен на соучастие? Тогда понятно, почему Жанна лгала, скрывая смерть мальчика. И все же кандидатура Иоланды как сообщницы не устраивала Аннелету.
Шорох. Аннелета закрыла глаза и стала дышать ровно, как спящая. Легкий шелест платья. Глухой, едва уловимый звук босых ног, тихо семенивших по холодным плитам дортуара. От волнения ладони Аннелеты Бопре стали потными. Она вдруг испугалась, что Эскив не поможет ей, что она ошиблась относительно этой молоденькой девушки. Что тогда она будет делать одна? Она была умной, образованной, но не умела драться. «Перестань! Ты выше Жанны на целую голову и к тому же весишь на 30 фунтов* больше. Мокрая курица, вот ты кто! Испуганная индюшка! Если на то пошло, ты без труда сможешь подмять ее под себя». Аннелета прислушалась. Вновь наступила полная тишина, прерываемая лишь ровным дыханием спящих сестер. Она осторожно встала, внимательно осмотрев огромный зал. Келья Жанны опустела. Путь был свободен. Но Аннелете следовало поторопиться, чтобы не потерять Жанну из виду. Взяв деревянные башмаки в руки, Аннелета тихо пошла вперед, как привидение. Исходивший от плит безжалостный холод кусал ей лодыжки, хотя на ней были толстые чулки. Аннелета бесшумно открыла дверь и, высунув голову, посмотрела в длинный коридор, тонувший в потемках. Там, в другом конце коридора, она заметила Жанну, сворачивавшую вправо, в направлении зала, где хранился реликварий. Значит, манускрипты были спрятаны там? Аннелета на цыпочках поспешила вслед за Жанной. Вдруг сильная рука схватила ее. – Тише, – прошептала Эскив. – Пошли. Ни слова больше! И только сейчас Аннелета увидела, что молоденькая девушка сжимает в руке короткий меч. Это оружие, как и кинжал, спрятанный под ее платьем, вызвало у Аннелеты вздох облегчения. Но вдруг ее снова охватило беспокойство. Еще один шаг, и они превратятся в дикарей. Они тоже свернули направо и подошли к лестнице, которая вела в этот зал. Первые ступеньки им пришлось преодолеть, низко согнувшись, иначе Жанна могла их заметить. Недалеко от них плясал слабый огонек, словно висевший в воздухе. Значит, мерзавка все продумала. Раздался металлический звук. «Реликварий», – подумала Аннелета. Кто-то поднимал реликварий, подаренный аббатству мадам де Бофор. Говорили, что в нем лежит большая берцовая кость святого Жермена, епископа Осера. Аннелету охватил страх. А вдруг она опять ошиблась? Даже если предположить, что у прекрасного стеклянного реликвария, окаймленного чеканным серебром, имеется двойное дно, что нередко случалось, в нем не могут поместиться три объемистых тома. Снова раздался металлический звук. Эскив потянула Аннелету за рукав, и они быстро спрятались за одну из гигантских колонн. Когда Жанна проходила мимо них, они затаили дыхание, выжидая, когда она уйдет подальше. Аннелета прошептала так тихо, что Эскив пришлось прижаться ухом к ее рту: – У нее нет ничего, похожего на книги. Впрочем… – Тише… Могу поклясться, что она еще не закончила. Продолжим слежку. Жанна быстро шла по нескончаемому коридору, ведущему в хранилище вина и продуктов. Потом она свернула налево, туда, где находились умывальни и обогревальня. Обе женщины бросились за ней. Но, заметив, что дверь обогревальни открыта, они резко остановились и попятились. Им показалось, что Жанна роется в одном из шкафов, перебирая его содержимое. Потом раздался звук закрывающейся двери. Вскоре Жанна вышла. На этот раз у нее в руках был объемистый сверток, завернутый в сероватую салфетку. Книги. Нервы Аннелеты были так напряжены, что она была готова накинуться на Жанну д’Амблен и силой вырвать драгоценный трофей. Но сильная, хотя и миниатюрная рука вовремя схватила ее за платье. Аннелета бросила яростный взгляд на Эскив, но та покачала головой, прижав палец к губам. Сестра-больничная сгорала от нетерпения. Наконец-то подвернулся удобный случай! Тем не менее она подчинилась Эскив. Когда Жанна не могла больше их услышать, молоденькая девушка тихим шепотом объяснила: – Сейчас наше вмешательство было бы преждевременным. Если она очень хитрая, как я и думаю, она непременно перепрячет манускрипты в то место, откуда их можно будет без труда забрать днем. Сначала она должна выторговать у мадам де Нейра свою безопасность. И за это я воздаю ей должное, – добавила Эскив с веселым огоньком в глазах, который Аннелета сочла неуместным. – Если Жанна потеряет осторожность, мадам де Нейра нанесет молниеносный удар. Мы продолжим тайком следить за ней. Жанна уже миновала трапезную, когда они вышли на галерею, ведущую в умывальню. Темнота была такой густой, что если бы не белое платье и слабый огонек башенки, они наверняка не сумели бы различить силуэт убийцы. Что она делала? Можно было подумать, что Жанна направлялась к покоям аббатисы. Эскив нахмурила брови. Неужели Жанна оказалась такой наивной? Неужели она совершит опрометчивый поступок и сегодня ночью передаст манускрипты Од де Нейра?
Жанна остановилась возле высокой двери, ведущей в кабинет, через который можно было попасть в спальню аббатисы. Из-под платья она вытащила дубликат ключа, полученный ею благодаря помощи бесценной сообщницы. Открыв тяжелую дверь, она сделала несколько шагов. Босые ноги так сильно замерзли, что она больше не чувствовала их. Мадам де Нейра, эта жизнерадостная убийца, спала сном праведника в соседней комнате. Губы Жанна д'Амблен расплылись в довольной улыбке. До сих пор все шло замечательно. Из зала, где хранился реликварий, она забрала свое чудесное состояние, пополненное скромным даром Мабиль. Затем она вытащила манускрипты, спрятанные в обогревальне в корзине со старым бельем, которое отдавали в починку два раза в год. Жанна упивалась своей хитростью: тайник был таким простым, что никто не обратил на него внимания, как она и рассчитывала. Никто, кроме, возможно, мадам де Нейра, которой нельзя было отказать в живом уме и изощренной хитрости. Значит, следовало как можно скорее перепрятать эту бесценную добычу, гарантировавшую ее спасение. Единственным уязвимым местом мнимой аббатисы было самодовольство, и Жанна рассчитывала обратить эту слабость против Од. Высокомерной мадам де Нейра никогда не придет в голову мысль, что она сама охраняет манускрипты, которые уже отчаялась заполучить для камерленго. Что касается этой язвы Аннелеты, тут последнее место, куда она придет рыться. Кабинет аббатисы. Слишком банально, недостаточно ловко по мнению сестры-больничной. Жанна д'Амблен двигалась, как кошка. Из ее рта вырывались клубы пара. Она прямо шла к своей цели: массивный шкаф, в котором Элевсия хранила свои регистрационные книги. Под них-то Жанна и положила манускрипты, уверенная, что мадам де Нейра, которую новое назначение отнюдь не радовало, не будет заниматься такой скучной работой, как подробное ознакомление со всеми деталями монастырской жизни. Впрочем, Жанна не сердилась на нее за это. Затем Жанна бесшумно вышла, довольная своей ловкостью. Она торопливо вернулась в дортуар и легла, даже не подумав проверить, все ли сестры спят в своих кроватях. Эскив подошла к тяжелой двери и попыталась ее открыть. – Черт возьми! Она заперта. А мне передали только ключ ОТ библиотеки. Но тут Аннелета приподняла юбки и нагнулась, чтобы вытащить из чулка ключ, тот самый ключ от кабинета, который она нашла в ларце покойной аббатисы. С торжествующим видом она протянула его молоденькой девушке. – Вы настоящее золото, моя дорогая. Потом вы мне расскажете, как вам удалось его раздобыть. – Подчиняться – не значит быть золотом. Меня попросили отдать ключ, что я и сделала. Но есть и второй. Эскив вставила ключ в замочную скважину, но Аннелета удержала ее. – Подождите немного. Мадам де Нейра спит совсем рядом. Мы не можем начать поиски. Жанна вышла без книг. Признаюсь, она гораздо хитрее, чем я думала: спрятать книги, не пряча их. В кабинете не так много мебели, куда можно положить такие большие манускрипты. Наверняка они лежат в шкафу, где хранятся регистрационные книги. – Повторяю, вы золото! Оставайтесь здесь, сестра моя. Покараульте. Это не помешает. Тем более что одного незваного гостя труднее заметить, чем двух. Сестра-больничная согласилась и добавила: – К тому же я такая неуклюжая! Аннелете Бопре показалось, что прошла целая вечность с момента ухода молоденькой девушки. Когда Эскив наконец вышла, глаза сестры-больничной полезли на лоб от удивления, а лицо стало каменным. Она с трудом задала вопрос, так мучивший ее: – Их там нет? – Напротив, – заверила ее сияющая от счастья Эскив. – Но до завтра или до послезавтра я спрятала их на полках тайной библиотеки, откуда они были похищены. Ведь от библиотеки у нас есть ключ. На хитрость надо отвечать двойной хитростью. Затем я без особого труда заберу их и передам рыцарю де Леоне. – Янтарные глаза лучились от радости, когда она добавила: – Я многое бы отдала, чтобы увидеть выражение лица Жанны, когда она вновь полезет в шкаф. – Вам в голову пришла восхитительная мысль, – вздохнула сестра-больничная. – А что мы будем делать с Жанной? Мы не можем оставить ее безнаказанной. – Не беспокойтесь. Говорят, что хищники не пожирают друг друга. Но такого мнения придерживаются лишь те, кто не знает их нравов. Аннелета, мы одержали прекрасную победу, и я благодарю вас от всей души. Без этих драгоценных рукописей у тех, других, ничего не получится… Впрочем, нет, они не доберутся до второй темы. Испугавшись, сестра-больничная прошептала: – Ах, нет! Только не говорите, что вы скоро уезжаете! – Но это так, мой добрый друг, и мне очень жаль. Я сержусь на себя, что оставляю вас одну. Но вы же знаете, время поджимает. А раз так… Однако я подожду, чтобы увидеть, как разгневается наша дорогая аббатиса. Это произойдет скоро.
Мануарий Суарси-ан-Перш, декабрь 1304 года
Клеман часто моргал. Как только челядинцы заснули, он пробрался к рыцарю в амбар. Еще даже не сев, мальчик спросил: – «… л… ме… на… он… пог… т…». Что означает эта фраза, стертая из вашего дневника? Госпитальер ответил не сразу. Наконец, после нескольких минут борьбы с самим собой, он произнес: – «Потомство передается по женской линии. Через одну из них возродится другая кровь*.[220] Ее дочери увековечат ее». – Аньес. – Вероятно. – Как это так – «вероятно»? Ведь первая тема – это ее тема, правда? – По всей видимости, если только на это не влияет тот факт, что затмение было частичным. – Что вы хотите этим сказать, рыцарь? – В соответствии с пророчеством, записанном на арамейском пергаментном свитке, местонахождение которого нам неизвестно, столь важное событие должно было произойти во время затмения. Но в день появления на свет мадам де Суарси затмение было частичным. Я не знаю, насколько важна эта подробность. – О каком потомстве идет речь? – Я и так слишком много сказал, Клеман. Наши враги готовы на все, чтобы уничтожить эту тайну, что они уже неоднократно демонстрировали. И новыми тому свидетельствами стали обвинение мадам де Суарси и убийство моей тетушки. – Вы правы. Если с вами… что-нибудь случится… тайна не умрет? После нескольких минут молчания, заполненных, как догадался Клеман, колебаниями и страхом, Леоне заговорил: – Я не знаю, о каком потомстве идет речь. Мы с Эсташем перебрали все гипотезы, от самых прекрасных до самых безумных. – Священное потомство? – спросил подросток, у которого сердце замирало от волнения. – Я всегда сомневался и до сих пор сомневаюсь, – ответил Леоне, вспомнив о предсмертных откровениях своей тетушки. – Мадам де Суарси… а тем более ее мать не имели никакого отношения к Святой Земле. Хотя некоторые утверждают, что Мария Магдалина бежала во Францию. А Пресвятая Дева – в Турцию, после смерти и воскресения Христа. Там она и упокоилась с миром. Впрочем… Клеман, ты должен молчать о том, что я тебе сказал. Речь идет о жизни твоей дамы. Подросток кивнул в знак согласия, поскольку тревога рыцаря передалась и ему. Франческо де Леоне продолжил: – Эсташ перевел с арамейского фрагменты, переписанные тамплиером из Акры в свой дневник. Мы скопировали их с помощью невидимых чернил на последнюю страницу дневника, который ты обнаружил. К сожалению, ее ты не вырвал. Мы не знаем, были ли они на знаменитом папирусе. Как бы там ни было, речь идет о божественной крови, которая очистит от всех грехов. Как уточняется в стертой мною фразе, которую я восстановил ради тебя, речь идет о другой, особенной крови. – Почему особенной? – прошептал Клеман. – Не знаю. У меня складывается впечатление, что я все время даю тебе один и тот же ответ: не знаю. Мы с Эсташем пришли к выводу, что разгадка тайны находится в тексте папируса. – А что с ним стало? – Тот рыцарь утверждал, что спрятал его в надежном месте. В одном из командорств тамплиеров. – Вы знаете, в каком? Что-то в этом мальчике интриговало рыцаря. Чутье подсказывало ему, что только Клеману он мог открыть всю правду целиком. То, о чем он умолчал при разговоре с Аннелетой, он сразу же поведал Клеману: – Я пришел к убеждению, что речь идет о командорстве тамплиеров Арвиля. – Оно расположено не так далеко от Суарси. – Да, и это один из аргументов, говорящих в пользу моих выводов. – Вам что-нибудь известно о тайнике, в котором спрятан папирус? – Ничего. Но я думаю, что роза поможет мне найти его. – Вот почему было очень важно верно скопировать ее. – Ты совершенно прав. Но мой короткий визит в командорство не смог меня просветить, хотя мне удалось побывать в церкви Пресвятой Богородицы. Леоне и Клеман встретили рассвет, рассуждая о расчетах монаха из Валломброзо, которому его открытия стоили жизни. Когда голова Клемана уже была готова упасть на солому, он вдруг проникся уверенностью, как рукой снявшей его усталость. Подросток понял, как он сможет заставить расчеты астронома заговорить. Он закрыл глаза, испугавшись, что рыцарь прочтет в них ликование. Один час, максимум два наедине с этими страницами. Ему больше ничего не требовалось, чтобы проверить свою догадку. Во всяком случае, он надеялся на это. Клеман пролепетал, делая вид, что вот-вот уснет: – Рыцарь… Моя дама, должно быть, заждалась нас. Идите первым. Умывшись ледяной водой, мы окончательно проснемся. А я пока подумаю. – Если только ты не свалишься на солому, побежденный сном, – улыбнувшись, сказал Леоне. Франческо де Леоне аккуратно сложил листок с рыжеватыми буквами, местами исписанный тонким почерком Клемана, оставив на охапке соломы, служившей им пюпитром, копию, сделанную накануне. В отличие от рыцаря, его крестного по ордену Эсташа де Риу и тамплиеров, Клеман не стал тщетно пытаться вычислить самое существенное расхождение между теорией Валломброзо и теорией Птолемея, которой до сих пор отдавали предпочтение. Он воспользовался первой, довольно ясной темой, чтобы вывести из нее вторую. Краткость, которую так высоко ценил гениальный Архимед*. По правде говоря, первый подход был весьма изящным как с математической, так и с астрономической точек зрения. Но он предполагал множество неимоверно сложных расчетов, ставших камнем преткновения для предшественников Клемана. Второй подход, намного более прагматичный, давал только одно решение, решение второй темы, но по сути это и было основным. Клеман в сотый раз со вчерашнего дня принялся изучать обе темы, солнечный знак которых находился в Козероге, то есть с 22 декабря по 20 января. Повторялись одни и те же буквы, означавшие планеты: 3 для Земли, Со для Солнца, Л для Луны, Me для Меркурия, Ma для Марса, В для Венеры, Ю для Юпитера, Са для Сатурна, GE1, GE2, As,[221] сопровождаемые символами, которые означали астрологические знаки, и римскими буквами, соответствующими домам Зодиака. Два маленьких различия нарушали схожесть тем: в первой теме Юпитер находился в Рыбах, а Сатурн в Козероге. Во второй же теме Юпитер находился в Стрельце, а Сатурн – в Рыбах.На утоптанном земляном полу амбара Клеман начертил карту неба, нанеся на нее указания первой темы, выведенную первую дату – 25 декабря 1278 года, день рождения Аньес, – и положение планет на тот момент. Проще всего оказалось полностью забыть о неверных данных, которыми все были обязаны Птолемею. Однако следовало принять совокупность указаний, имевшихся в первой теме, за нулевое время Вселенной, за своего рода точку отсчета, от которой отталкивались все светила, пускаясь в бесконечное путешествие. Клеман запыхтел: иными словами выходило, что рождение Аньес означало начало мира. Прекрасная метафора. На основе указаний монаха Валломброзо о вращении вокруг Солнца трех таинственных светил, обозначенных как GE1, GE2, As, и двух расхождений в темах – Юпитер в Рыбах и Сатурн в Козероге в первой теме и Юпитер в Стрельце и Сатурн в Рыбах во второй – Клеман вычислил разделявший их период. Чертя на утоптанной земле указательным пальцем, он складывал месяцы, дни и годы. Результат получился таким странным, что Клеман растерялся: вторая тема была связана с очень далеким будущим. Рыцарь должен был вот-вот вернуться. Мальчика охватила паника. Что делать? Исчезнуть. Исчезнуть вместе с копией, чтобы в течение нескольких часов спокойно поразмышлять и проверить расчеты. Клеман подошел к высокой двери амбара и осторожно выглянул во двор. Леоне умывался, фыркая, как лошадь. Клеман воспользовался подходящим моментом. Но куда бежать? В Клэре возвращаться нельзя. Что касается мансарды и даже служб, Леоне быстро найдет его там. От-Гравьер. Не так далеко, если он пойдет через лес. Это место было таким унылым, что не могло привлечь ни одной живой души. Клеман крадучись пробирался между зданиями, словно тень. – Ба, кто это здесь? Клеман, куда ты направляешься? Жильбер Простодушный, голос которого гремел на всю округу. – Замолчи… Я тороплюсь оказать нашей даме услугу. – Нашей доброй фее? – Да, ей. – Куда ты идешь? – В От-Гравьер. Но это тайна. – О-о-о-о… – выдохнул Жильбер, поднося указательный палец ко рту. – Вот именно. Ни слова, даже нашей даме. – Я буду молчать как рыба, – пообещал Жильбер, у которого от волнения затряслись губы.
Умывшись холодной водой, Франческо де Леоне медленно пошел к амбару. Успел ли Клеман убежать с копией листка, которую рыцарь намеренно «забыл»? Он почувствовал, как мальчик внезапно изменился. Удастся ли Клеману за несколько часов разгадать загадку, над которой они с Эсташем так долго и безуспешно бились? Почему бы и нет? В ходе своих поисков они так часто сталкивались со странными совпадениями, получали помощь, откуда не ждали, встречали удивительных незнакомцев, как та маленькая нищенка с желтыми глазами с Кипра, что Леоне уже давно всецело полагался на события, суть которых не мог постичь. Клеман действительно исчез. Но настроение рыцаря нисколько не ухудшилось. Ни один поступок мальчика не мог навредить им, поскольку тот скорее умрет, чем предаст свою даму.
Скупые солнечные лучи медленно скользили по инею, покрывавшему траву на просторном дворе, когда Леоне вошел в общий зал. Аньес уже сидела за столом перед тарелкой горохового супа, приправленного мятой и маленькими кусочками жареного лярда. – Прошу вас, рыцарь, присаживайтесь. А Клемана вы потеряли по дороге? – Он покинул меня, так стремительно исчезнув, что я не знаю, где он. – Он часто исчезает ненадолго. Но вечером голод гонит его домой. Аделина принесла с кухни дымящуюся тарелку и широкий ломоть хлеба, смазанный жиром. Едва она вышла, как Леоне уверенно сказал: – Он вам очень дорог. Аньес подняла на рыцаря свои сине-зеленые глаза. Леоне охватила сладостная печаль. У Аньес были такие же глаза, как у Клэр, его матери. Возможно, такие же, как и у Филиппины, но он никогда не видел свою тетушку и поэтому не мог судить. Другой взгляд вытеснил взгляд Клэр из его памяти, и удивление сменило печаль. Он проглотил ложку супа, чтобы скрыть свою растерянность. Нет, он ошибался, он потерял голову. Этого не может быть. Сходство было случайным. – Да, он очень дорог мне. Я воспитала его. Как вы знаете, его мать умерла при родах. Клеман никогда не огорчал меня, не причинял душевных страданий. Он всегда был на моей стороне. И сейчас, когда мне так одиноко, он со мной. Леоне понял намек на Матильду и предпочел сменить тему. – Могу ли я, мадам, попросить вас о милости? – Конечно. – Я прошу вашего разрешения прийти вечером и забрать Клемана. Мне нужна его помощь. – Я разрешаю вам, мсье. Но умоляю вас, помните, что он еще ребенок, а не закаленный воин, как вы. – Не волнуйтесь, мадам, я прослежу за ним. Но Аньес не покидала тревога, и она решила поговорить с Клеманом, потребовать, чтобы он не переступал определенные границы ради их общей безопасности.
Алансон, Перш, декабрь 1304 года
Если Артюс д'Отон думал, что труднее всего будет найти рыцаря де Леоне и уж тем более вызвать его на откровенный разговор, то вскоре он был вынужден переменить свое мнение. Уже стремительно сгущались зимние сумерки, пока граф терпеливо ждал у мрачной двери Дома инквизиции. Вот уже целый час он ходил взад и вперед, притоптывая ногами в тщетной надежде согреться. Он долго мучился сомнениями, спрашивая себя, не лучше ли поговорить с клириком Аньяном в его маленьком кабинете. Но потом он отбросил эту идею, решив, что Аньян испугается длинных ушей и замкнется, как устрица. Наконец тяжелая дверь, обитая гвоздями, открылась. На пороге появился уродливый молодой человек. Граф д'Отон позволил ему отойти на некоторое расстояние, а затем догнал в три прыжка. Молодой секретарь испуганно обернулся, опасаясь, вероятно, нежеланной встречи. Но его страх мгновенно исчез. Улыбка озарила его уродливое лицо, придав молодому человеку почти трогательный вид. Клирик низко поклонился, пробормотав: – Мсье граф… Я сначала вас не узнал, прошу прощения. – Охотно прощаю вас. Как поживаете после смерти этого мерзкого Флорена? – Прекрасно, монсеньор. Словно вдруг исчезла самая худшая из теней, порожденных адом. – Аньян заколебался, но потом задал вопрос, вертевшийся у него на языке: – А… мадам де Суарси, оправилась ли она после пыток? Поняв, что молодой человек не осмеливается спросить о том, что его волнует больше всего, Артюс ответил: – Вполне. Она очень мужественная, и ее хранит Господь. Она часто вспоминает вас, выражая горячую признательность. – Правда? – прошептал Аньян, заливаясь краской до самых корней волос. – Скажите ей, что она зря благодарит меня. Скажите ей, прошу вас, что это я ее вечный должник. Мадам подарила мне самый прекрасный подарок, на который я даже не мог надеяться. Я всегда буду вспоминать о ней в своих молитвах. Скажите ей, умоляю вас… при всем моем уважении, мессир. У Артюса возникло смутное чувство, что молодой человек говорит с ним так, словно они оба владеют чудесной тайной. Впрочем, граф терялся в догадках. Решив все прояснить, он предложил: – Вы окажете мне честь, если поужинаете со мной. Затем я должен буду вернуться в Отон. – О, монсеньор, это честь для меня. – Знаете ли вы таверну, где подают не такое жесткое мясо, как в «Красной кобыле» и где мы могли бы спокойно поговорить? – Конечно. Таверна «Мотыга»[222] на Горшечной улице. Мне расхваливали ее. Только… Мясо там вкусное, но недешевое. Это уточнение вызвало мимолетную улыбку у самого богатого – после брата короля мсье Карла де Валуа* – человека в Перше. – Это мне по душе. «Мотыга» вполне подойдет, чтобы достойно отпраздновать смерть негодяя Флорена.Таверну «Мотыга» держал известный на всю округу повар, бывший брат-мирянин ордена тамплиеров. Он никогда не давал обета и покинул военный орден после последнего неудачного крестового похода. Как он сам говорил, горечь от потери христианского Востока и полная победа сарацин навсегда отбили у него желание следовать за войсками в телеге, груженой горшками и котелками. Первая перемена состояла из сладкого вина и фруктов. Артюс не мог нарадоваться: мэтр Мотыга привез из своих путешествий по миру удивительные рецепты лакомых блюд. Ароматный запах второй перемены, впрочем, простой на вид, – мясного бульона, приправленного шафраном, тимьяном и петрушкой, – только укрепил графа в сложившемся мнении. Они разговаривали о разных пустяках: об урожае, Ги д'Андерлехте,[223] крестьянине, ставшем ризничим, который немало скитался по свету, дойдя до Иерусалима. Вернувшись в свой родной город, расположенный в нескольких лье к югу от Брюсселя, он умер. Никто толком не знал, почему вот уже на протяжении многих лет существовал настоящий культ д'Андерлехта. Напряжение Аньяна постепенно спадало. После небольшого стаканчика вина его бледность, свидетельствовавшая о том, что он постоянно недоедает, сменилась легким румянцем. Он ел с наслаждением, но в то же время боялся демонстрировать свой аппетит. Артюса охватила почти отеческая нежность. О чем думал Аньян, почти монах? Чего граф не понимал в этом ясном взгляде, пронизанном голодом, который наконец можно было утолить? Путешествуя по миру, он тоже не раз терпел и голод и холод. Артюс решил дождаться конца третьей перемены: бедра косули в кисло-сладком маринаде,приготовленном из белого и красного вина, уксуса и айвового желе. – Господи Иисусе, какая роскошь, – прошептал Аньян, наевшийся на неделю. Мэтр Мотыга подошел к их столу, на котором стояли свечи, и с удовольствием выслушал заслуженные похвалы. Он был опытным хозяином таверны и поэтому не стал долго задерживаться. Подав в конце пиршества кувшин яблочного сидра, способствовавшего пищеварению, он удалился. Лицо Аньяна стало малиновым, но этот румянец был вызван не робостью. Артюс д'Отон начал: – Аньян, полагаю, вы знаете одного из моих приятелей, рыцаря Франческо де Леоне. Аньян выпрямился и сказал твердым голосом, хотя и много выпил: – Он человек Света, чистого и мужественного сердца. Посланник Бога в Его бесконечной милости. Он спас мадам де Суарси и убил чудовище тьмы. – Разумеется. Он опередил меня на несколько часов, – неловко добавил граф, которого до сих пор мучила мысль, что не он вырвал Аньес из когтей инквизитора. Но реакция тщедушного клирика удивила графа. Тот буквально оборвал его на полуслове: – О каких часах вы говорите? Да знаете ли вы, какой пыткой были эти несколько часов для мадам Суарси, попавшей в руки Никола Флорена, мсье? А я знаю. Я заткнул уши руками, чтобы не слышать ее отчаянных криков. Если бы этот упрек не был столь справедливым, Артюса д'Отона, несомненно, оскорбил бы тон клирика. Молодая служанка, свежая как бутон розы, поставила перед ними закуски, а потом, улыбнувшись, исчезла, избавив их от необходимости продолжать разговор. Они молча ели гречневые лепешки с медом и зизифусом.[224] Потом Артюс сказал: – Я должен передать рыцарю важное послание. Вы не знаете, где я могу его найти? Аньян поднял голову, поджал губы, а затем ответил тоном, не терпящим возражений: – Не заблуждайтесь, монсеньор. Конечно, яблочный сидр ударил мне в голову, что, как я надеюсь, извиняет мою дерзость. Но в этом маленьком, тщедушном уродливом теле, которое вы видите перед собой, живет храбрая душа. Впрочем, она была вознаграждена жестом мадам де Суарси. Ничего не понимая, граф д'Отон спросил: – Что вы хотите этим сказать? – При всем моем уважении к вашему положению, репутации и дружбе детства с нашим королем, я ни секунды не верю в эту басню. Вы незнакомы с рыцарем де Леоне, и никакого послания не существует. Мужество и неожиданная дерзость молодого человека неприятно поразили Артюса, и он воскликнул: – Черт возьми! Ну и дела! Да знаете ли вы, молодой нахал, что я давал взбучку наглецам и за меньшее? – О! В этом я нисколько не сомневаюсь. Я не боюсь, – заупрямился тщедушный человечек. – Я прикоснулся к чуду. Она улыбнулась мне и погладила мою руку. Я никогда не сделаю и даже не скажу того, что может поставить даму де Суарси в опасное положение или просто вызвать ее недовольство. И снова преданность, которую все демонстрировали к той, что пленила сердце Артюса. В нем опять заговорила ревность: – И почему же моя встреча с рыцарем может рассердить мадам де Суарси? – Потому что рыцарь Франческо де Леоне спас ее и она бесконечно признательна ему за это. Какое странное и чудесное совпадение! Божественное, скажу я вам. – Аньян немного подумал, потом добавил: – Мсье, я чувствую, что вы глубоко порядочный человек. Доверие, которое вам засвидетельствовала мадам де Суарси на моих глазах, подтверждает мои предположения. Сегодня вечером вы оказали мне великую честь, пригласив на столь роскошный пир. Но… но я попытаюсь злоупотребить вашей благожелательностью. – Как? – Попросив вас оказать мне еще одну честь. – Какую? – Скажите правду, монсеньор. Ничто не может принудить вас к этому, я в этом уверен, если только не уважение, которое вы могли бы питать ко мне. Артюс пристально посмотрел на молодого клирика. Аньян был наделен тем робким, но непоколебимым целомудрием, которое невольно вызывало всеобщее почтение. Граф решился: – Значит, уважение. Вопрос очень простой, но весьма щекотливый. Как вы думаете, мадам де Суарси знала рыцаря де Леоне до его чудесного вмешательства? – А почему вы об этом спрашиваете? Черт возьми, это признание было одним из самых трудных, которые приходилось делать Артюсу. И он бросился головой в омут: – Беспокойство влюбленного, которого поджидает старость. Уверяю вас, речь идет о любви, которую Церковь не может не одобрить. Улыбка озарила покрасневшее лицо Аньяна. Он сложил руки и блаженно прошептал: – Какая чудесная новость! У нас будет очаровательная графиня! Став серьезным, он твердо сказал: – Нет, и в этом я уверен. Мадам де Суарси никогда не встречалась с рыцарем. Что касается всего остального, то я могу только догадываться. У меня сложилось впечатление, что она для него очень много значит. Как бы это сказать… некая миссия. Причем такой огромной важности, что он даже отважился на убийство сеньора инквизитора. Когда я недавно случайно встретился с ним, рыцарь задал мне весьма странный вопрос. – Какой? – Признаюсь вам, я по-прежнему ничего не понимаю… Он спросил меня, какая у мадам де Суарси была кровь. – Прошу прощения? – Вы же слышали, что я сказал. – И что вы ответили? – Э… А что вы хотели бы, чтобы я ответил?… Красная, такая прекрасная, такая удивительная, что я плакал. Кровь. Как кровь невинных жертв. – И как же отреагировал Франческо де Леоне? – Мне показалось… Нет, он не был разочарован. Скорее взволнован, ошеломлен. – Ошеломлен из-за того, что кровь была красной? – Скажу вам, я до сих пор пытаюсь понять смысл его вопросов. Пьянящий «Сово-крестиан»,[225] который им подали напоследок, показался графу почти отвратительным. Хотя аромат ликера мог сравниться только с его вкусом. Через полчаса Артюс проводил молодого клирика до Дома инквизиции, где тот жил, чтобы избавить молодого человека от неприятных встреч. После того как они дружески расстались, Артюс понял, что не продвинулся ни на шаг. Конечно, откровения Аньяна успокоили его как влюбленного. Но граф по-прежнему терялся в лабиринте предположений.
Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Этим ранним утром послушницам пришлось колоть лед в умывальне, чтобы добыть хотя бы немного воды для туалета. От работы их щеки покраснели, а пальцы одеревенели до такой степени, что они зажимали кисти под мышками, чтобы те чуть-чуть согрелись. Дочь жителя Ножана повернулась к одной из послушниц и доверительно прошептала: – Надо на них пописать. Но ее соседка ответила жалобным тоном: – Нет, глупая, это делают, когда они обморожены. Эскив отошла в сторону и стала смотреть на высокие двери, выходившие в коридор, который вел в скрипторий, а затем в покои аббатисы. Она решила не портить себе настроение во имя христианского милосердия. В конце концов, она имела полное право насладиться дракой двух негодяек. По правде говоря, она сгорала от нетерпения, так ей хотелось увидеть мадам де Нейра. Разгневанную!Жанна д'Амблен ждала, когда рассветет. Воспользовавшись отменой запрета на выход, она миновала главные ворота, прижимая к себе толстый квадратный сверток, обмотанный темной салфеткой. Она шла осторожно, мелкими шажками, постоянно оглядываясь по сторонам. Не пройдя и пяти туазов, она заметила их, стоявших возле одного из дубов на опушке леса Клэре. Два разбойника с опухшими от пьянства физиономиями висельников. Двое подручных, нанятых Од де Нейра. Жанна была готова к этой встрече, но все же не смогла сдержать гнев. Идиоты, за кого они ее принимают? Она столько лгала, обманывала, убивала, что теперь боится даже тени. Их пока еще разделяло достаточное расстояние, и бандиты делали вид, что поглощены оживленной беседой, радостно хлопая себя по бокам, словно два приятеля, случайно встретившиеся на дороге. Они ждали, когда она подойдет поближе, чтобы напасть, затащить в заросли, вырвать из рук сверток и, несомненно, перерезать ей горло. Жанна быстро огляделась. Никого. Никого, кто смог бы ей помочь, поскольку привратница никогда не покинет свой пост, если только не получит указание от аббатисы. Жанна д'Амблен, глубоко дыша, замедлила шаг. Потом она резко повернулась и бросилась к стене аббатства. Головорезы сразу же поняли, что их добыча, а следовательно, и кошелек, ускользает от них. Они помчались следом, пытаясь ее догнать. Жанна слышала топот их ног. Она закричала: – Привратница! Откройте ворота… немедленно откройте ворота! На меня напали. Они напали на одну из жен Господа! Жанна слышала, как лязгнул железный засов, запиравший высокую дверь. Она обернулась, не замедляя бега. Разбойники были в двух туазах от нее. Она швырнула сверток как можно дальше. Один из бандитов крикнул: – Стой! В конце концов, нам заплатили только за сверток. Мужчины бросились в сторону и схватили драгоценную добычу. Жанна вбежала во двор аббатства, крича: – Закрывайте, закрывайте немедленно! Молодая привратница-мирянка с ужасом смотрела на Жанну, бормоча: – Сестра моя… сестра моя… никогда прежде я не видела ничего подобного. Куда мы катимся, если эти негодяи нападают на женщин Бога? Задыхавшаяся Жанна кивнула головой. – Надо немедленно доложить нашей матушке, – настаивала привратница, кипевшая от негодования. – Нет, надо сообщить бальи! – Я так и сделаю, – солгала Жанна, пытаясь обуздать ярость, от которой дрожала всем телом.
Тишина, царившая в церкви Пресвятой Богородицы аббатства, испугала Жанну д'Амблен. Внезапно у нее возникло ощущение, что это место находится между жизнью и смертью. В этом нефе царило гробовое, леденящее душу спокойствие, волнами лившееся с хоров. И как только она могла находить успокоение среди этих зловещих огромных камней, этих жутких пилястров, которые сейчас давили на нее всей своей тяжестью? Казалось, все было устроено так, чтобы умалить входящих сюда, убедить их в тщетности своих усилий, надежд. Ей захотелось убежать из темноты, пронизываемой лишь слабым светом, едва падавшим из сдвоенных окон. Бежать из часовни придела, в котором она нашла убежище. Убежище? Теперь в этом аббатстве у нее не было убежища. Жанне казалось, что каждая стена, каждая дверь нависает над ней, чтобы ее сильнее унизить, чтобы окончательно поглотить. Жанне понадобилось несколько долгих минут, чтобы немного успокоиться, оправиться от тягостного головокружения, которое она отказывалась приписывать нехорошему предчувствию. Вскоре холодная ненависть вытеснила ярость и страх. Она решила во что бы то ни стало вызвать мадам де Нейра на откровенный разговор. Жанна встала и вышла на морозный зимний воздух, но каждый шаг требовал от нее невероятных усилий.
Не удосужившись постучать, Жанна д'Амблен толкнула высокую дверь, ведущую в кабинет аббатисы. Никого. Жанна заранее не подготовила никакого вступления, никаких объяснений, ничего. Знала ли уже мадам де Нейра, что у нее украли сверток, что она была вынуждена бросить его своим преследователям, чтобы спастись в стенах аббатства? Жанна д'Амблен стояла перед дубовым столом, который всегда будет напоминать ей об Элевсии де Бофор. Она ждала, когда так называемая аббатиса, распевавшая песенки в соседней комнате, оденется. Воспоминания о покойной матушке, о годах мнимой – по крайней мере с ее стороны – дружбы стерлись из ее памяти так быстро, что она сама удивлялась. Неужели она полностью изменилась? Жанне казалось, что три года назад в ее жизни произошел настоящий катаклизм. Смирение порой оказывается коварным. Ибо Жанна смирилась со скучным, бесславным, но и спокойным существованием в монастыре. Она искренне верила, что похоронила мечты о свободной, безумной, блестящей жизни. До тех пор, пока эта глупая Иоланда, проникшаяся к ней абсолютной, слепой дружбой, словно маленькая девочка, не начала откровенничать. Правда, Жанна умела вызывать к себе нежность и доверие. В то время, о котором она почти забыла, этот талант позволил ей выжить, отвоевать для себя место, а ведь она была нежеланной как для родителей, так и для братьев. Но в их оправдание надо сказать, Что состояние семьи д'Амблен было далеким воспоминанием, за которое упорно цеплялся отец, чтобы окончательно не впасть в отчаяние. Способность заставить полюбить себя впоследствии превратилась в грозное и надежное оружие Жанны. Любезная сестра-лабазница поведала Жанне историю своей страсти к тому, кого она называла «своей любовью» до самой смерти. Она рыдала, рассказывая о рождении своего ангелочка, малыша Тибо, о жертве, которую принесла как мать и женщина, особо подчеркивая, что никогда об этом не жалела, поскольку была убеждена, что постриг в монастырь спас ребенка от тяжелой болезни. Она доверительно сообщила Жанне, что больше всего на свете ей хотелось бы получить весточку о сыне. Жанна порылась в памяти: куда подевалась прежняя Жанна д'Амблен? Она не могла ее отыскать. Поехала ли она во Флери, расположенный недалеко от Мапаси, из-за сострадания к милой Иоланде или уже тогда в ее голове созрел коварный план? Жанна не помнила. Да и какая разница? То, что умерло в ней, никогда не возродится. Три года назад Жанна приехала к Исидору де Флери, отцу сокамерницы, как ей нравилось называть Иоланду. Властный, суровый, если судить по описаниям сестры-лабазницы, мужчина находился при смерти. Он уже чувствовал приближение уродливой старухи с косой. Жанна, притворившись, будто хочет поднять ему настроение, втерлась в доверие к старику, стала необходимой, выказывая почтение многими способами. Старый деспот обладал всем, что ей требовалось. Он был богатым, удивительно доверчивым, когда кто-то делал вид, будто полностью согласен с ним, но главное, он уже одной ногой стоял в могиле. Талант помог Жанне очаровать и Тибо. Казалось, милый мальчик медленно угасает в зловещих толстых стенах мануария. Он стал молчаливым, старался слиться с другими тенями, чтобы не раздражать деда, а еще лучше исчезнуть с его глаз. Когда Жанна уезжала, мальчик цеплялся за ее белое платье, совершенно серьезно спрашивая, все ли монахини становятся похожими на ангелов. Она сотни раз избегала ответа, но потом все же решилась: – Надеюсь, что нет, милый Тибо. Видите ли, нет ничего скучнее, чем жизнь ангелов. – Когда вы снова приедете, мадам? – Как только смогу, мой славный. Жанна очень привязалась к этому мальчику, которому нужны были нежные улыбки, сад, залитый солнцем, немного внимания, чтобы жить полной жизнью. Все то, что суровый дед не мог дать внуку. Следующие месяцы доказали, что люди бывают беспощадными в основном к другим и очень редко к самим себе. Исидор де Флери, чувствовавший смерть, начал испытывать запоздалые сожаления, заговорил о возмездии и вознаграждении. Впервые с момента их первой встречи, которую он считал случайной, старик произнес имя своей дочери: – Возможно, я был слишком жестоким с Иоландой, которую вы знаете. Что мне осталось теперь, когда я превратился в немощного старика? Внук. Он, безусловно, милый, но его беготня раздражает меня. Разумеется, я был неуступчивым. Но вот я постарел, и присутствие молодой женщины могло бы облегчить мое положение. А если я умру, что станет с Тибо? Его мать вернется и займется хозяйством. Но я и этого опасаюсь. Иоланда – милая простушка, неспособная выполнять серьезные задачи. Понимаете, дорогая Жанна, не может быть и речи, чтобы этот прохвост, в которого она влюбилась, пот нищий, который задрал ей юбки, словно поганой служанке, получил хотя бы одно денье из моего состояния! Слова взялись неизвестно откуда. Жанна услышала, как она произносит их со слезами на глазах, скривив рот: – Значит, как я и думала, вы ничего не знаете. – А что я должен знать? – Иоланда умерла прошлой зимой. Она потребовала, чтобы вас не ставили в известность. Как я ненавижу себя за то, что мне приходится сообщать вам эту печальную новость! Старик смотрел на нее так, словно она заговорила на незнакомом ему языке. Жанна ринулась в брешь, которую только что пробила: – Вы глубоко заблуждаетесь, дорогой друг. Вы отзываетесь о себе нелестно и несправедливо. Иоланда согрешила. Как достойный отец, заботящийся о будущем своей единственной дочери, вы изгнали негодяя, покусившегося на ее честь. Если хотите знать мое мнение – Боже, как мне трудно судить покойную сестру! – теперь, когда я немного узнала вас, я удивляюсь тому, что она так плохо относилась к вам. – Плохо? – Она не жалела жестоких, порой непристойных слов, вписывая вас… Я даже начала думать, что вы – чудовище, лишенное чувств. – До такой степени? – прошептал старик, мгновенно побледневший. – Боже мой, простите, что мне приходится говорить вам такие страшные вещи! Немного помолчав, Исидор протянул Жанне руки и сказал: – Нет, вы правильно поступили. Старость делает человека мягким. Я искал для себя тысячу оправданий, испытывал душевные терзания, полагая, что поступил жестоко. Знаете, моя дорогая, у меня остался только сорванец Тибо. Не сомневайтесь, я люблю его. Просто… детство так далеко ушло от меня, что я забыл его привычки. – По правде говоря, он такой очаровательный, что я начинаю сожалеть о своем затворничестве, не позволяющем мне иметь такого же милого ребенка. Жанне понадобилось совсем немного времени, а еще меньше усилий, чтобы стать «моей красавицей», «моей чаровницей», «моим солнечным лучиком». В свою очередь она принялась называть его «моим безумцем Исидором», «моим дражайшим другом», «моим великолепным львом». Как ни странно, мсье де Флери не видел ничего смешного в этих глупых прозвищах. Плотские объятия со стариком были такими редкими, быстрыми и незамысловатыми, что Жанна не считала их большим грехом. Он же был полностью удовлетворен. Жанна ловко вбила в голову старику все, что считала необходимым. Она была достаточно молода, чтобы нравиться и заботиться о маленьком мальчике и постаревшем мужчине. Кроме того, тот факт, что Жанна много лет провела в монастыре, казалось, принес успокоение Исидору де Флери, словно это и ему обещало место в раю, которого он прежде считал себя недостойным. В конце концов, Жанна долго общалась с Богом. Она стала своего рода пропуском в Эдем. Она знала тамошние привычки и требования и могла бы давать великолепные советы, как преодолеть ступени, ведущие туда. Был назначен день свадьбы. Нотариус должен был составить договор, согласно которому Жанна унаследует имущество мсье де Флери после его смерти, взяв на себя обязательство заботиться о Тибо и передать ему после своей смерти все владения его деда. Смирение мгновенно исчезло. Смирение оказалось жалкой маской, заимствованной кожей, которой она прикрывалась все эти годы. Наконец-то Жанна будет вести образ жизни, который она по праву заслуживала. И надо же было такому случиться, что старый идиот умер за несколько недель до свадьбы! Восхитительный план, который она ночами составляла, лежа в своей крошечной келье за занавеской, рассыпался в прах. А ведь Жанна уже видела, как она тайком покидает аббатство, чтобы стать второй мадам де Флери, не оставив после себя никакого следа, кроме этого ненавистного белого платья. Подлый кретин сыграл с ней злую шутку! Да сгинет он в аду! Жанна вновь оказалась без денег, без будущего, без жизни, но, главное, без возможности вновь смириться. Она больше не ездила во Флери и с опозданием узнала, что маленький Тибо скончался от лихорадки. Иоланде ничего не сообщили, потому что считали ее умершей. А Жанна не посмела сказать о смерти мальчика своей сокамернице. Надо признать, сама мысль, что милая сестра-лабазница унаследует имущество своего подлого отца, имущество, которое должно было бы достаться ей, задевала Жанну за живое. Кроме того, ей совсем не хотелось, чтобы челядинцы Флери рассказали Иоланде о ее настоящей роли. И Жанна продолжала врать Иоланде, считавшей ее своей подругой, привозя из своих поездок утешительные новости об умершем Тибо. Конечно, делала она это Не без извращенного удовольствия. Удовольствия дурачить другого и держать его в своей власти.
Ги желая крышка сундука опустилась с громким звуком. Жанна вернулась в настоящее, стараясь обрести хладнокровие. Сейчас оно было ей крайне необходимо. Противостояние началось. Открылась дверь. На пороге появилась величественная Од де Нейра, надушенная мускусом, что было совершенно недопустимо для аббатисы. – Моя дорогая Жанна… как я рада, что вы так рано вернулись. – Лучезарная улыбка мадам де Нейра погасла. Она спросила: – А… Я их не вижу. – Вы удивлены? Не могу в это поверить. – Почему? – проворковала Од с наигранной неловкостью. Сердце Жанны д'Амблен было готово выпрыгнуть из груди. Противостояние предстояло беспощадное, и мадам де Нейра не должна была заметить ее страха. Она пыталась говорить спокойным тоном, стараясь подражать своей собеседнице. Впрочем, Жанна была далека от спокойствия. – Бога ради, оставьте эти игры для других. Разве вы не знаете, что меня подстерегали два разбойника, нанятые, чтобы отнять у меня манускрипты? – Это очень серьезное обвинение, дочь моя. – Это очень справедливое обвинение, матушка. – Согласитесь, что мой план был удачным. Он избавлял меня от необходимости платить вам, поскольку вы стали слишком ненасытной, моя дорогая. – Ненасытность еще никого не утомляла. К тому же она имеет тенденцию усиливаться… под малейшим предлогом. Од де Нейра уловила намек, но все же не поняла точного смысла слов Жанны. Слащавым тоном она пропела: – Что вы хотите этим сказать? Жанна д'Амблен сделала глубокий вдох. Она боялась, что начнет запинаться и тем самым даст понять своей противнице, что ее нервы на пределе. – Радость, что я избежала неминуемой смерти, не уменьшила мою ненасытность. А еще никогда не надо скупиться, когда нанимаешь головорезов. Я дорого отдала бы, чтобы увидеть, как от досады вытянутся их мерзкие физиономии, когда они сорвут салфетку, в которую были завернуты… дощечки. Прелестное лицо аббатисы застыло, рот скривился от злости, изумрудные глаза утратили свой блеск. Впервые после их встречи в банях на улице Бьенфе Жанна почувствовала радость близкой победы и стала более уверенной. Она могла восторжествовать над очаровательным чудовищем. – Я огорчила вас. Подобная мысль приводит меня в отчаяние, моя любезная матушка. Но не волнуйтесь. Манускрипты не потеряны, они по-прежнему хранятся в тайнике, – заявила Жанна тоном, казавшимся ей ироничным. – Давайте обсудим, во сколько вы оцениваете ваше удовлетворение, а также удовлетворение «нашего итальянского друга». Од де Нейра облизала губы и прошипела: – Вам известна цена. Двести фунтов*. Весьма кругленькая сумма. Жанна ликовала. Од де Нейра утратила свое превосходство. – Недостаточная сумма, весьма недостаточная, учитывая, что речь идет о моей последней миссии. – Сколько? – Как сухо! Гораздо больше я ценю ваш дружелюбный тон. Мадам де Нейра опустила голову. Когда она ее подняла, Жанна заметила незначительные, но вместе с тем внушающие тревогу перемены. Все черты лица Од застыли и стали более резкими. Несмотря на радость, которую Жанна испытывала, унизив своего врага и заказчика, она поняла, что игра затянулась и пора ее заканчивать. – Скажем… в два раза больше. – Ни за что. – Я склонна полагать, что манускрипты имеют для вас огромную важность. А ведь я могу найти других покупателей. – Не угрожайте мне, Жанна. Я ненавижу, когда мне угрожают. Жанна удивилась, что мадам де Нейра назвала ее по имени, и продолжила: – Вы подарите мне одно из ваших роскошных платьев и манто. Я переоденусь в вашей комнате. Затем я заберу манускрипты и некоторые свои личные вещи, – сказала Жанна, думая о деньгах. – На ломовых дрогах вы проводите меня до Беллема. Там мы обменяемся нашими сокровищами, и я исчезну. Но Од де Нейра была бдительным хищником, знавшим все хитроумные уловки. Она поймала взгляд, который Жанна невольно бросила «а шкаф. Од мысленно поблагодарила Жанну, поскольку сама никогда бы не догадалась об этом тайнике. – Дело в том… у меня нет четырехсот фунтов. – Полно, мадам! – Хорошо. – Вы принимаете мои условия? – А разве у меня есть выбор? – Сомневаюсь. – Тогда я принимаю их, сохранив свое лицо. Прошу вас, моя хорошая, выберите наряд в одном из моих сундуков. Впрочем, одно из самых роскошных платьев лежит у меня на кровати. Карминовое платье, которое освежит цвет вашего лица. Из плотного генуэзского шелка. Она первой вошла в спальню и показала на платье немного нервным жестом. Платье, отороченное беличьим мехом, было настолько роскошным, что у Жанны перехватило дыхание. Она уже протянула к нему руку, но тут же инстинктивно отдернула ее. Резко повернувшись к так называемой аббатисе, Жанна резко сказала: – Мне рассказывали о губительном действии ядов, проникающих через кожу. Люди, ставшие их жертвами, медленно умирают в страшных мучениях. Мимолетная улыбка озарила лицо мадам де Нейра. Она сказала: – Если бы я хотела преждевременно отправить вас в мир, считающийся лучшим, я подождала бы, когда манускрипты окажутся в моих руках. Впрочем, вы правы. В наши дни осторожность не помешает. Взяв платье обеими руками, Од уткнулась в него лицом, а затем протянула Жанне. – Этот маленький эксперимент убедил вас, не правда ли? – Да. Не могли бы вы оставить меня на несколько минут одну, чтобы я переоделась? – Разумеется, прошу прощения. О чем только я думаю? Позовите меня, когда оденетесь. В этом сундуке лежит манто, подбитое мехом рыси. Оно должно вам подойти, – сказала аббатиса. – Ах, я забыла, это платье сшито по итальянской моде. Оно застегивается сзади двумя серебряными аграфами. Что касается расширяющихся книзу рукавов, они весьма элегантны. Посмотрите… – продолжала мадам де Нейра, показывая на плечи. – Они тоже прелестно отделаны серебряными аграфами, чтобы можно было менять рукава.[226] Да, вы сможете менять рукава в зависимости от своих капризов и настроения, не перекраивая само платье. Ах, еще! – радостно воскликнула Од, вынимая из сундука прелестный чепец. – Итальянские модницы теперь клянутся только этим головным убором, который прекрасно дополняет вуаль. К тому же он скроет ваш выбритый затылок. Признаюсь, он выглядит немного кричащим в нашем прекрасном, но суровом королевстве. Впрочем, я думаю, что скоро он приживется и у нас.[227] – Я… я уже давно не подстригалась, – смущенно ответила Жанна. – Мои волосы отросли. – Какая предусмотрительность! – фыркнула Од, выходя из пальни. Жанна взяла в руки роскошное платье. От охватившей ее детской радости Жанне хотелось пуститься в пляс. Через несколько часов она будет богата. Впервые в жизни она примерит платье, достойное дочери короля. Наконец перед ней откроется мир. На улицах ее будут приветствовать почтительными кивками, маленькие девочки будут склоняться перед ней в глубоком реверансе, при ее появлении будут стихать разговоры. Пусть она не такая красивая, как мадам де Нейра, но она привлекательная, изящная, а дорогие украшения могут сделать элегантной даже корову. Жанна сбросила с себя ненавистную рясу и надела платье. Она дрожала от удовольствия, когда ее рука скользила по золотым нитям, которыми были расшиты рукава. Боже мой… манто, подбитое мехом рыси… Жанна изгибалась всем телом, пытаясь застегнуть платье на спине и прикрепить аграфами рукава. Тщетно. Отчаявшись, она позвала мадам де Нейра, и тут же ее плохое настроение развеялось. Разве не приятно, что эта надменная женщина станет, пусть на несколько мгновений, ее служанкой? Мадам де Нейра охотно выполнила просьбу Жанны. Она натянула рукава на плечи и прикрепила их аграфами. Затем она встала за спиной Жанны, чтобы застегнуть платье. Жанна задрожала, но на этот раз не от восторга. Чепуха! Аббатиса камерленго не воспользуется этим моментом, чтобы вонзить кинжал. Ей нужны манускрипты. Однако резкая боль заставила ее закричать и податься вперед. Жанна резко обернулась, готовая броситься на Од, чтобы вырвать из ее рук кинжал или стилет. Мадам де Нейра стояла перед ней бледная, как саван. Единственным оружием, которое она держала в руках, был аграф. Она пролепетала: – Святые небеса… Прошу прощения за свою неловкость. Эти застежки такие опасные! Позвольте, я посмотрю. Теперь, когда страх прошел, Жанна еще сильнее ощутила боль между лопатками. Она чувствовала, как по позвоночнику льется струйка крови. Сделала ли это Од де Нейра нарочно? Почему? – Какая глубокая рана, моя дорогая! Простите ли вы меня? Надо немедленно ее смазать. У меня есть средство, которое вам поможет, – сказала мадам де Нейра, роясь в небольшой шкатулке из кедра, стоявшей под узким окном. – Эту мазь мне привезли из Азии. Она не даст ране загноиться и ускорит заживление. Будет немного щипать, но это неприятное ощущение быстро пройдет. Од де Нейра открыла серебряный футляр, в котором находился стеклянный пузырек, и шагнула к Жанне. Та отступила на два шага назад. – Не трогайте меня. – Я хочу только вам помочь, избавить от боли. Жанна д'Амблен с подозрением смотрела на пузырек. – Ах, нет… Вы по-прежнему думаете, что я хочу вас отравить? Смотрите, это успокоит вас. Подойдите ближе. Жанна повиновалась. Од де Нейра открыла пузырек. Густая беловатая струйка потекла ей на ладонь, вскоре образовав лужицу, похожую на сгусток яичного белка. – Как видите, я не умерла. Продолжим наш опыт. Од склонила голову, минуту подумала. Вдруг ее лицо просияло. Она закрыла глаза и слизнула мазь с ладони. Потом засмеялась: – Боже, до чего же противно! Надеюсь, что я сумею избежать колик. Что скажете? Пусть ваша рана загноится, что может привести к гангрене, или вы все же позволите мне смазать ее? Какая же неловкая служанка из меня получилась бы… Меня немедленно выгнали бы! Жанна успокоилась, хотя и не понимала, почему Од вела себя столь доброжелательно. Она съежилась, почувствовав холодное прикосновение к спине. Однако обещанного жжения она не ощутила. Мадам де Нейра, тихо напевая какую-то мелодию, застегивала карминовое платье, Затем она прикрепила чепец и вытащила из сундука роскошное манто, подбитое мехом рыси. Од отошла на несколько шагов назад и, склонив голову, оценила результат своих усилий. Затем она сказала: – Вы великолепно выглядите! Повернитесь, прошу вас, я хочу посмотреть, хорошо ли сидит сзади. Жанна хотела повернуться, но вместо этого пошатнулась. Ей пришлось схватиться за стену, чтобы не упасть. У нее кружилась голова, а перед глазами плясала вся мебель. К горлу подступила жуткая тошнота. Ее вырвало. Изо рта лилась горькая солоноватая жидкость. Протянув руки к мадам де Нейра, Жанна закричала: – Будь ты проклята! Од ловко увернулась и бросилась в кабинет, посмеиваясь: – Мы обе хороши! Шатаясь, держась за стену, чтобы не упасть, Жанна с трудом следовала за ней. Ее рвало прямо на прекрасное карминовое платье. Как такое могло случиться? Какая невероятная уловка позволила Нейра дотронуться до яда, даже проглотить его и при этом остаться живой и невредимой? А вот Жанна сейчас умирала. Противоядие. Мерзавка предварительно приняла противоядие. Жанна чувствовала, как к ней приближается смерть, касается ее рук, гладит по лбу. Упав на колени, сотрясаясь от болезненных спазмов, она взмолилась: – Оставьте деньги себе. Дайте мне противоядие, и я верну вам манускрипты. Очаровательным жестом мадам де Нейра показала на шкаф, где хранились журналы, и весело спросила: – Те, которые спрятаны в этом шкафу? Пока вы одевались, я обшарила его и в глубине нашла толстый сверток, завернутый в льняное полотенце. Это очень мило с вашей стороны, хотя и немного поздновато. Тем более что я должна вас огорчить. Противоядия не существует. – Но вы… вы… – Из-за вас я пережила несколько весьма неприятных минут. Мне говорили, что этот смертельный растительный сок безопасен, если нанести его на кожу или выпить. Но я не была уверена в этом, и мое сердце билось сильнее в течение нескольких секунд, когда я испытывала неподдельный ужас. Нет ничего более упоительного, чем пари со смертью. Головокружительное наслаждение. Так, что же еще интересного мне рассказали? Ах, вот. Этот яд, от которого нет спасения, добывают из прекрасного могучего дерева, растущего в Африке или Азии, из анчара.[228] У него округлые листья, а лыко идет на изготовление одежды. Но сок смертельно опасен. Местные жители смазывают им кончики стрел. Одна стрела может убить быка в течение нескольких долгих мучительных минут. Минут за двадцать, как мне говорили. Этот яд обладает странным, но весьма полезным свойством: он совершенно безобиден, если его нанести на кожу или проглотить. Но он становится смертельным, если попадает в кровь, через рану, например. Моя дорогая, скоро ваше тело начнет содрогаться от конвульсий, вам станет трудно дышать, сердце заколотится в бешеном ритме… пока не остановится. Мадам де Нейра хмыкнула, а потом удрученно сказала: – Боже, как я ненавижу агонии! Единственная агония, которая доставила мне удовольствие, – это агония моего дядюшки… Но в свое оправдание я могу сказать, что тогда я была такой молодой! Пусть вы сочтете меня трусихой, но я вас оставлю на несколько минут и сделаю вид, что занимаюсь своими обязанностями матери-аббатисы. Я вернусь… когда нас больше не будет. – Умоляю вас, – простонала Жанна. – Ан… Аннелета… Прикажите позвать ее… – О, она ничем не сумеет вам помочь, – с наигранной жалостью ответила мадам де Нейра. – Моя душа… – Вы не теряете оптимизма, моя дорогая. Неужели вы полагаете, что ваша душа действительно может очиститься от скверны? Впрочем… Если на самом деле вы собирались выдать меня, я все равно сомневаюсь, чтобы вы сообщили бы что-нибудь новое нашей въедливой сестре-больничной. Но успех делает человека щедрым. Вскоре я расстанусь с этим ненавистным мне белым платьем. Проявим милосердие. Я прикажу позвать ее. Постарайтесь продержаться до ее прихода. Но прежде всего – я возьму драгоценный сверток. Мадам де Нейра вытащила из тайника объемистый сверток, завернутый в льняное полотенце, и погладила его рукой, вздыхая. Затем она вышла из комнаты, даже не посмотрев на умирающую Жанну. Гонорий будет доволен. Он получит свои вожделенные манускрипты, избавившись одновременно от исполнительницы гнусных дел, которая стала для них весьма обременительной. Она тоже могла быть довольна, ведь она вернет первую часть долга, связывавшего ее с камерленго. Вскоре исчезнут и остальные проблемы, когда дворяночка из Суарси и ее маленький серв попадут в мир, который Од, будучи великодушной убийцей, считала для них лучшим. Трое подручных, которым щедро заплатили, ждали подходящего момента, чтобы навсегда избавить их от земных страданий. Жандармы бальи Монжа де Брине наверняка подумают, что несчастные встретили на своем пути безжалостных разбойников. Мадам де Нейра дала им четкие указания, умело намекнув негодяям, что будет ждать их в случае неудачи.
Аннелета вихрем ворвалась в кабинет аббатисы. Потное лицо Жанны было искажено жуткой болью. Она сдавливала свою грудь, пытаясь остановить конвульсии, пищала, как младенец, между двумя приступами рвоты, когда ее рот наполнялся горькой слюной, смешанной с кровью. Слюна текла по подбородку, по шее. Сестра-больничная склонилась над умирающей. Жанна с трудом выговорила: – Од… это она… – Я вас не понимаю. Что она? Это она отравила Аделаиду, Гедвигу, Иоланду, нашу матушку и эмиссаров Папы? – Нет, – прошептала Жанна, качая головой. – В самом деле, это не она, а вы. Значит, она отравила вас? – Да… – Это доказывает, что она не так уж порочна и может при случае оказать добрую услугу. Гадина, я тебя ненавижу! Как ты могла? Я не знаю, каким ядом она воспользовалась, но честное слово, мне это безразлично. – Благословите… – Благословить тебя? Мне не подобает этого делать. Аннелета выпрямилась и направилась к двери. Последний истошный вопль Жанны не заставил ее вздрогнуть. Она спокойно закрыла за собой тяжелую дверь.
Тело Жанны д'Амблен быстро вынесли из покоев аббатисы и положили в конюшне. Потом Од де Нейра вернулась в спальню, чтобы закончить приготовления к отъезду. Она хотела как можно скорее покинуть аббатство. Од осторожно положила на кровать драгоценный сверток, который она прижимала к груди, ожидая, когда ее избавят от прискорбной необходимости видеть труп Жанны. Она села на кровать, развязала веревки и прочитала названия: «Сочинения» Гийома де Сент-Амура,[229] всеми забытого каноника; «Архитрениус», длинная жалостливая аллегория, написанная на латыни около 1184 года поэтом Жаном де Анвилем и пользовавшаяся определенным успехом; и толстый том, датируемый, несомненно, концом XII века. Считалось, что этот богато иллюстрированный труд, в котором перечислялись все тонкости игры в триктрак и шахматы, был написан неким Николем Сен-Никола. Разгневанная мадам де Нейра вскочила на ноги и завопила: – Мерзавка! Гори в аду! Надо же, она осмелилась шутить со мной! Но гнев не лишил мадам де Нейра способности трезво мыслить. Да, она совершила непростительную ошибку, не проверив содержимое свертка до того, как расправилась с Жанной. Однако она поняла, что Жанна ничего не знала о случившемся, иначе она предложила бы обменять несуществующее противоядие на манускрипты, а не на деньги. Но кто? Аннелета Бопре, разумеется! Од де Нейра бросилась в коридор. Она была уверена, что найдет сестру-больничную в гербарии. Не замедляя бега, Од толкнула дверь и застыла на месте в половине туаза от острия кинжала. – Стойте и не двигайтесь, мадам. Не приближайтесь ко мне, ибо я без малейших колебаний отправлю вас туда, где вам самое место. – В ад? Не ломайте комедию! Мы обе умные женщины, по крайней мере, я на это надеюсь. – Разумеется, мне незнакомы многие яды, в том числе тот, с помощью которого вы избавились от Жанны д'Амблен. Но я знаю, как все они применяются. – Отравить вас? Совершить две ошибки за такой короткий период времени? Вы считаете меня простофилей? Мне нужны манускрипты. Я согласна на любую цену, предложенную вами. Но только не надо ловить рыбку в мутной воде. Я знаю, что они у вас. – Нет. – Вы лжете, – занервничала мадам де Нейра. – Нет. – Нет? – неуверенно переспросила Од. Почти любезным тоном Аннелета объяснила: – Поскольку вы сняли запрет на выход из аббатства, сегодня утром манускрипты покинули его территорию. Мадам, я благодарю вас за это от чистого сердца. Сейчас они уже на пути к своему законному владельцу. Затем моя посланница передаст короткую записку мессиру Монжу де Брине, бальи графа д'Отона. В ней я рассказала, каким образом вы проникли в монастырь. Если мои расчеты верны, мессир де Брине и его жандармы приедут к нам поздно вечером или в крайнем случае ранним утром. Решайте сами, хотите ли вы задержаться в монастыре, чтобы лично их встретить. Пухлые губы мадам де Нейра сжались, но тут же расплылись в широкой улыбке: – Я была права: мы обе умные женщины. И ум обязывает меня признавать поражения и делать из них выводы. Полагаю, я должна лишить себя удовольствия встретиться с мсье де Брине. До скорой встречи, дорогая. – Я в этом сомневаюсь. – Кто знает? Аннелета Бопре и Берта де Маршьен долго спорили, прежде чем пришли к согласию. Они отстранили Бланш де Блино от принятия решения. Аннелета боялась, что старая женщина зальется слезами и будет все время причитать. В тот же вечер Жанну д'Амблен похоронили за стенами аббатства в неосвященной земле, как было принято поступать с ведьмами и отравителями. Несколько монахинь, ошеломленные откровениями Аннелеты, все же проводили в последний путь свою сестру. И только немногие подняли головы, следя взглядом за громоздким возком, увозившим прочь мадам де Нейра и ее сундуки.
Лес Лувьер, Перш, декабрь 1304 года
Вдруг Аньес четко поняла, что необходимо принять срочные меры. Охваченная необъяснимой нервозностью, она поспешила в свою спальню. Аньес тепло оделась и совершенно неосознанно прикрепила к поясу ножны, в которые вложила короткий меч. Позвав одного из слуг, она приказала оседлать Розочку. Молодой человек удивленно посмотрел на Аньес и пробормотал: – Скоро ночь, наша дама. Это безумие! – Иди и немедленно оседлай Розочку! – раздраженно повторила она. С каждой потерянной минутой беспокойство Аньес усиливалось.Аньес ехала уже добрых полчаса. Тревога уступила место ярости. Маленький безумец, несчастный недоумок! К счастью, Жильбер Простодушный поведал ей, куда направился подросток. Почему Клеман вдруг вздумал пойти в От-Гравьер? Что он там собирался делать? Собирать образцы почвы? Один, оставив свой самострел[230] в мануарии? Что за глупость – срезать дорогу через лес Лувьер, чтобы сократить себе путь на пол-лье? Ведь он же мог взять тягловую лошадь. Если бы приехал рыцарь де Леоне, она, конечно, попросила бы его проводить ее. Тем хуже. Аньес волновалась. Наступал вечер, опуская неясные грозные тени на кустарники и деревья, ощетинившиеся, словно зубья бороны. Глубокий снег уничтожил все ориентиры, которые могли бы помочь путникам найти дорогу. Скоро наступит глухая ночь. В это время года тьма торопилась поглотить последние проблески дня. И хотя Аньес была одета в немного потертый длинный плащ, подбитый мехом выдры, – подарок покойного мужа, и шерстяное платье, она дрожала от холода. Вдруг Аньес подумала, что в окружающем ее полном безмолвии есть что-то сверхъестественное. Она не слышала ни шелеста листьев, ни торопливого бега маленьких зверушек, спасавшихся при ее приближении. Лишь ритмичное поскрипывание пыльной попоны, которую время от времени Розочка толкала своими крепкими ногами. Молодая женщина внимательно осматривалась, пытаясь разглядеть следы сабо Клемана. Вдруг кобыла резко вскинула голову и громко фыркнула. Аньес напряглась, невольно откинув полу плаща, под которым скрывался короткий меч, висевший у нее на поясе. Шепотом она успокоила Розочку, слегка надавила ногой на круп и продолжила путь. Через несколько секунд она пожалела, что взяла дамское седло, которое ставило ее в невыгодное положение по сравнению с всадником, сидевшим верхом. Разумеется, если придется спасаться бегством, Аньес, прекрасная наездница, не выпадет из седла. Но Розочка не сможет бежатьдолго и резво. Ей не по силам тягаться с гораздо более легким горячим мерином, в котором течет кровь арабских скакунов. Не говоря уже о боевом жеребце. Да что она вообразила? Она взяла себя в руки и приказала мыслить трезво. Она ищет Клемана, вот и все. Она сурово отчитает его, напомнив, что он не должен уходить так далеко от мануария по вечерам, не удосужившись поставить ее в известность. Какая безумная мысль толкнула его, всегда столь рассудительного, на эту дерзкую выходку? Аньес услышала голоса и только потом заметила два, нет, три мужских силуэта в тридцати туазах впереди. Страх тут же вытеснил плохое настроение. Бродяги, судя по их грязным лохмотьям, головорезы, каких часто можно встретить в лесу. Но Аньес охватили сомнения, едва она услышала, как один из них крикнул своим приспешникам: – Никакой пощады, мсье! Нам приказали не брать ее в плен. Эти слова, сам тон, которым они были сказаны, подсказали Аньес, что она ошибалась. Она натянула поводья, собираясь повернуть назад, прежде чем они ее заметят. И тут она увидела позади мужчин, стоящих полукругом, лицо, искаженное ужасом, и маленькую фигурку, медленно кравшуюся в направлении зарослей, согнувшись, словно собираясь стремительно сорваться с места. Клеман. От безумной тревоги у Аньес пересохло во рту. Несколько мгновений она неподвижно стояла на месте, неспособная думать. Вдруг громкий крик Клемана, который только что заметил ее в трех десятках туазов от убийц, заставил Аньес вздрогнуть: – Бегите! Бегите, это ловушка, мадам! Кобыла, обезумевшая от крика и страха, передавшегося ей от всадницы, заржала и стала нервно бить копытами обледеневшую землю. Аньес прошептала прерывающимся от ужаса голосом: – Тише, тише, моя красавица. – Потом она гневно крикнула разбойникам: – Немедленно оставьте ребенка! Это приказ! Разбойники обернулись. Аньес заметила, что они были крайне удивлены, и решила воспользоваться своим незначительным преимуществом. Тоном, не терпящим возражений, она продолжила: – Этот мальчик – мой слуга. Он принадлежит моему дому. Если вы будете упорствовать, вы умрете. Я потребую, чтобы бальи казнил вас. Вас повесят, а потом хищники растерзают ваши тела на куски. Разбойники обменялись взглядами. Аньес заставила Розочку сделать несколько шагов вперед. Клеман качал головой, таком отговаривая Аньес от ее безумной затеи. Потом, заливаясь слезами, он закричал: – Не приближайтесь, умоляю вас! Они вас тоже убьют! Это… – Закрой пасть, щенок! – прервал Клемана мужчина, который, похоже, был главарем. Обернувшись к двум своим подельникам, он сказал: – Это женщина де Суарси. Нам повезло, она направляется к нам. Я займусь ею, а вы прикончите мальчишку, да поживее! Аньес показалось, что на секунду, длившуюся целую вечность, мир застыл. Затем он рухнул в хаос. Она увидела, что мужчина большими прыжками мчится к ней. Она видела, как он размахивает охотничьим ножом. Они видела, как стремительно сокращается расстояние между его подельниками и Клеманом. Она видела, как подросток споткнулся о ветку и чуть не упал. Не давая себе отчета в своих действиях, Аньес резко сняла туфлю, обвязала левое бедро стременным ремнем, свисавшим с седла, и вставила босую ногу в стремя. Правую ногу она положила на попону, защищавшую шею животного. Прижавшись коленом к приподнятой передней луке седла, она натянула вожжи и заставила кобылу отступить на несколько шагов. По быстрым и четким движениям всадницы Розочка поняла, что та вновь овладела собой, и успокоилась. Мужчина остановился, улыбаясь. Он решил, что Аньес трусливо отступила. Однако дама де Суарси просто хотела, чтобы Розочка хорошо разбежалась перед решающим прыжком. Когда от мужчины ее отделяли двадцать туазов, молодая женщина пустила кобылу в галоп, резко стегнув животное по крупу. Желая приободрить Розочку, Аньес издала гортанный крик. Земля вздрогнула, когда тяжелое мускулистое тело пришло и движение. Из-под копыт кобылы першеронской породы полетели комья мерзлой земли. Аньес приподнялась в седле и выхватила левой рукой короткий меч, управляя Розочкой правой. Увлекаемая всей своей массой, кобыла ускорила бег, мчась прямо на разбойника: – Прыгай! Прыгай на него, моя доблестная! – кричала Аньес. От ужаса глаза разбойника вылезли из орбит. Через секунду он уже не мог ничего поделать. Мужчина повернул голову и что-то крикнул своим сообщникам. Оглушенная безумной скачкой, Аньес не разобрала ни единого слова. Он хотел бежать, но лошадь уже прыгнула на него. Аньес увидела только широко раскрытый рот. Она почувствовала лишь слабое сопротивление плоти и костей, раздавленных широкими железными подковами, и вскоре кобыла устремилась к опушке леса. Аньес слышала отрывистое тяжелое дыхание Розочки. Она умоляла: – Держись, Розочка, не останавливайся! Умоляю тебя, моя красавица. Вперед! Вперед! Аньес подгоняла кобылу ногами и голосом. Клеман, упавший на землю, полз на спине, помогая себе руками, в тщетной попытке спастись от убийц. Аньес видела. Она видела безжалостные лезвия их кинжалов, угрожавшие ребенку. Но ошеломленные только что разыгравшейся жуткой сценой, видом растоптанного тела их главаря, бандиты колебались лишнюю долю секунды. Лишнюю долю, в течение которой все мысли исчезли у Аньес из головы. Она наклонилась влево, опершись на стременной ремень. Ее туловище оказалось на высоте передней луки седла. Она направила Розочку на негодяя, стоявшего ближе всего к Клеману. В голове Аньес мелькнула мысль, что она просто с размаху ударит его хлыстом. Резко, по пальцам, и все. Но откуда-то в руке появилась гарда ее короткого меча. Мужчина упал на колени, хватаясь руками за горло, брызнула ярко-красная струя. Аньес удалось вовремя выпрямиться, чтобы сдержать кобылу, которую бешеная скачка и изнеможение могли сделать неуправляемой. Она повернула к опушке. Третий разбойник исчез. Клеман, обхватив голову руками, сидел на земле и плакал. Аньес пустила Розочку шагом. Она ласково гладила мускулистую шею, покрытую беловатой пеной, успокаивала животное ласковыми словами, потом выпрыгнула из седла и подошла к мальчику. Споткнувшись о бившееся в агонии тело, молодая женщина едва не упала. Ноги отказывались подчиняться ей. Она отвела взгляд, чтобы не смотреть на человека, которого только что убила, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Невероятная апатия словно пригвоздила ее к земле. Сделав огромное усилие, Аньес подошла к Клеману. Он поднял лицо, залитое слезами, и простонал: – Вы убили его. Вы убили его, чтобы спасти меня, ради меня… Аньес услышала свои слова, произнесенные равнодушным голосом, который с трудом узнала: – И сделаю это вновь, если понадобится. Огромное значение этого заявления потрясло Аньес не меньше, чем искренность чувств. Она продолжила: – Ведь это были подлые грабители, не так ли? – Нет. Я тоже сначала так думал. Но нет. Их задача – а ее перед ними поставили, – заключалась в том, чтобы убить меня, да и вас тоже. – Тогда скорее, – прервала Аньес подростка. – Нам надо возвращаться в Суарси. Я боюсь, как бы третий разбойник не побежал за подмогой. Скорее, Клеман! Поднимайся. Сейчас не время падать духом. Еще не настало время для слез. Вставай, немедленно! Аньес подошла к Розочке и прижалась лицом к ее шее, чувствуя, как пульсирует горячая кровь в мощных жилах животного. Она ни о чем не могла думать. Подросток подошел к ней, и она услышала позади его неуверенный голос: – Ваш меч, мадам. Я вытащил его из горла разбойника и вытер как мог… о свое сюрко. Измученная Аньес прошептала: – Сегодня вечером я должна прочитать дополнительную молитву. Так требует обычай, когда первая кровь обагряет клинок. Помоги мне сесть в седло, прошу тебя. У меня такое впечатление, что мои ноги стали ватными. Клеман подсадил свою даму. Аньес кое-как удалось забраться в седло, потом она подтянула к себе Клемана. Он прошептал: – Мадам, я так вас люблю. Разве это не чудо, что мы вместе? – Я тоже тебя люблю, мой дорогой. Но нет, это не чудо. Только любовь может быть вечным чудом. К сожалению… К сожалению, об этом часто забывают. Поехали.
Сначала они ехали молча. Аньес лихорадочно пыталась вспомнить сцену, разыгравшуюся у нее на глазах, которая стоила жизни двум мужчинам. Сцену, во время которой она дважды стала убийцей. Тщетно. Обрывки образов, звуков, чувств беспорядочно мелькали у нее в голове. Широко открытый рот, хруст сломанных пальцев, невыносимая боль от стременного ремня, впившегося ей в бедро, треск разрывающейся плоти, изнеможение, когда она выпрыгнула из седла. Ничего другого. Так мало. Ее охватила паника. Неужели она превратилась в чудовище, которого смерть двух мужчин оставила равнодушным, не нанеся никаких душевных ран? Конечно, нервный срыв, рыдания во весь голос принесли бы ей облегчение. Но глаза Аньес оставались сухими. Что касается душевных переживаний, она уже давно забыла, что это такое. Аньес услышала, как строго спросила Клемана: – Что ты собирался делать в От-Гравьере один и так поздно? Твое… непослушание становится преступным, Клеман. Твое безрассудство удивляет меня. Клеман попытался возразить: – Речь шла о ловушке, мадам. – Какая разница, скажи на милость? Ты сначала пошел туда и только потом попал в ловушку. Эти бандиты отнюдь не такие дерзкие или безмозглые, чтобы поджидать тебя у мануария. – Вы правы. Как только я подумаю, что заставил вас подвергнуться такой опасности… Боже мой! А если бы по моей вине с вами случилось несчастье… Аньес почувствовала, как Клеман задрожал, и упрекнула себя за излишнюю строгость. – Я не за это сержусь на тебя. Почему тебе в голову пришла столь безумная мысль? Возбуждение пришло на смену замешательству и страху. Клеман нервно воскликнул: – Ах, мадам, если бы вы знали… Я хотел побыть какое-то время один… Рыцарь нашел бы меня в службах и даже на чердаке. Другое место мне просто не пришло в голову. Эти расчеты более сложные, чем я ожидал… Даже основываясь на бесценных указаниях, которые содержатся в трактате Валломброзо. – О чем ты говоришь, в конце концов? – О второй теме. О той, что я переписал на листок, вырванный из дневника. Аньес напряглась всем телом. Нетерпение, охватившее ее, на мгновение вытеснило тревогу. – Ты проник в тайну? – прошептала она, хотя их окружал только густой лес. – Если бы… Я вновь и вновь делал расчеты, не в состоянии поверить в их результат. Если только я не ошибся, второй человек родился 28 декабря 1294 года ночью. – Боже всемогущий! – выдохнула Аньес. – Почему меня это не удивляет? – В ту ночь было лунное затмение, мадам? – Лунное? Нет, не думаю. Это в ночь моего рождения луна частично исчезла. А вот незадолго до твоего рождения на несколько секунд полностью исчезло солнце. Наступила странная ночь. Я помню, как собаки, подняв морды к небу, завороженно смотрели на него. У одной из собак шерсть встала дыбом, и она залаяла. Потом они все побежали назад и распластались на земле. А после вновь воссиял день. Многие считали, что это явление предвещает конец света. Признаюсь, я тоже так думала. Аньес не стала продолжать дальше. Она тогда действительно полагала, что скоро наступит конец света и она непременно умрет. Впрочем, в ту ночь умерла Сивилла. Что касается Аньес, то если бы не упорство Жизель, ее кормилицы, она тоже не выжила бы. – Затмения – это естественные природные явления, как об этом говорится в теории Валломброзо. Если планеты движутся по небосводу, то рано или поздно их пути пересекаются, и тогда одна планета закрывает собой источник света другой. Это не имеет ничего общего ни с проклятием, ни со знамением. – Я тогда в это верила. Я была такой молодой. Та зима была такой ужасной, что мы все думали, что на нас обрушилась Божья кара. Гуго, мой супруг, умер и… Одним словом, многие недели мы жили в ожидании последней катастрофы. После нескольких минут молчания Клеман продолжил: – Почему вы не удивлены, мадам? Я хочу сказать… Вы думаете, что эта тема действительно связана со мной? – В этом я готова поклясться жизнью. – Но не только я родился ночью 28 декабря 1294 года. – Да, это так. Но первая тема, похоже, связана со мной. – И откуда же эта связь? Признаюсь, мне это льстит, но… мне не удается понять это совпадение, ведь я родился подле вас, в Суарси, хотя мог родиться в любом другом месте или вовсе не родиться, поскольку моя мать умерла еще до того, как я целиком появился на свет. – Мне кажется, что мы оба попали в западню многочисленных совпадений, причем необъяснимых, – покривила душой Аньес. – Клеман… Мсье де Леоне хочет поручить тебе одну миссию. Больше я ничего не знаю. Если она окажется опасной для тебя, я требую – я требую, слышишь? – чтобы ты отказался. Несмотря на твой удивительный ум и мужество, которыми я по праву горжусь, ты должен помнить, что на самом деле ты всего лишь девочка, переодетая мальчиком. Мужчины сильнее нас. – А мы более быстрые и ловкие. – Быстрые? Не знаю. Ловкие – да, я тоже так думаю. Но они лучше приспособлены к смертельной схватке. Возможно, это результат воспитания девочек, от которого я попыталась тебя оградить. Возможно, это наша женская природа. Как бы там ни было… – И все же в этом лесу вы сражались как мужчина, с мечом в руках. – Нет. Как женщина, и не спорь со мной. Сначала я хотела убежать, когда думала, что мне это удастся. Дама не покроет себя бесчестьем, если не выполнит взятых на себя обязательств. Это так. Я вступила в схватку лишь после того, как увидела тебя. Страх за… дорогое существо, ярость, что ему хотят навредить, делает самку более жестокой, чем самца той же породы. – Неожиданно Аньес заявила: – И не пытайся, как обычно, переменить тему разговора. Ты слышал, что я сказала тебе относительно твоего будущего разговора с рыцарем? – Я слышал вас. Я поступлю так, как вы хотите, мадам. Казалось, Аньес колебалась. Когда она заговорила, Клеман В изумлении посмотрел на нее. – Клеман, как только мы приедем, немедленно беги в часовню и уничтожь страницу регистрационной книги, на которой записано твое имя. – Мадам!.. Вы… – Не спорь, Клеман. Это приказ. – Хорошо, мадам. Вплоть до мануария Суарси они ехали молча. Жильбер Простодушный бросился им навстречу. На его широком лице читалось беспокойство: – Наша добрая фея… Уже почти ночь! Я не знал, куда бежать, чтобы отыскать вас. Вы такая бледненькая, наша дама… Что же случилось? Как обычно, Жильбер помог Аньес спешиться с Розочки. Его взгляд упал на меч, обагренный кровью: – О-о-о-о!.. Драка! – Жильбер так плотно сжал челюсти, что его скулы заострились. Насупившись, он требовательно спросил: – Где он? Я засуну его голову ему же в задницу! Жильбер сжал свои огромные кулаки. Было слышно, как захрустели суставы. – Двое убиты, Жильбер. Третий убежал. – Трое? Против доброй феи? Обезумев от волнения, он заставил Аньес резко повернуться, желая убедиться, что она не ранена. – Я жива и невредима. Розочка вела себя очень мужественно. Позаботься о ней, милый Жильбер. Аньес ласково погладила добродушного и вместе с тем грозного великана по всклокоченным волосам. Он сразу же успокоился, забыв о гневе и желании убивать, и замурлыкал от счастья. Клеман молчал. Когда Жильбер, взяв кобылу под уздцы, удалился, он взволнованно прошептал: – Как вы себя чувствуете, мадам? – Сама не знаю. Я кажусь странной самой себе. Разве я не должна была терзаться угрызениями совести? У меня такое чувство, что все, произошедшее в лесу, не… как бы это сказать?., не принадлежит мне. Что это… за пределами моего понимания. – Возможно, это последствия вынужденного насилия. Ведь вы же не убийца, мадам. Аньес улыбнулась. – Правда? А как в таком случае ты объяснишь два трупа, которые я оставила на дороге? – Законной самозащитой. Вы, как могли, спасли нас от верной смерти. И я уверен, эту смерть заказали. Вот и все. – Ты, несомненно, прав, – согласилась Аньес. – И все же я сомневаюсь, что мне легко удастся убедить себя. Пойдем… Наверное, рыцарь нас уже ждет. Но сначала беги в часовню и сделай то, о чем я тебе просила. И только потом ты можешь встретиться с рыцарем. Я поднимусь в свои покои и переоденусь. Эта одежда… У меня нет никакого желания оставаться в ней. Вскоре я присоединюсь к вам. Не забудь о своем обещании, Клеман.
Сидя на одном из больших сундуков, рыцарь де Леоне, у ног которого лежали босские собаки, терпеливо ждал, созерцая пламя, неистово пожиравшее страницы гнусного трактата по некромантии, написанного неким Юстусом. Льняное полотенце, в которое был завернут трактат, медленно колыхалось на сквозняке. Леоне нашел сверток на охапке соломы, где он оставил мешок со своими личными вещами. Обладать этими манускриптами желали многие. Он умело расспросил двух слуг, убиравших во дворе снег, утоптанный скотиной и утрамбованный колесами тележек. Два парня с руками, покрасневшими от холода, обрадовались возможности выпрямить спину и отдохнуть несколько минут во время разговора. Они не заставили просить себя дважды и охотно отвечали на вопросы рыцаря. Из их слов следовало, что в этот день никто из посторонних не заходил во двор мануария. Леоне подумал, не была ли тень, незаметно прокравшаяся в амбар, чтобы подкинуть ему манускрипты, тем же существом, что убило Аршамбо д'Арвиля прежде, чем тот сумел прикончить его, одурманенного. Он поднял взгляд на вошедшего Клемана, который покраснел, увидев дневник в дешевой фиолетовой обложке. – Манускрипты! – Да. Я нашел их в амбаре сразу после своего возвращения. Посланец, вестник – не знаю кто – не оставил после себя никаких следов. Я вижу в этом знак наших союзников. Мы научились становиться тенями. Как бы там ни было, благодаря тебе, благодаря вырванному листу мы смогли обойтись без них, но трактат Валломброзо станет нам бесценной подмогой, когда мы продолжим наши расчеты. Что касается этого… Юстуса… – Рыцарь жестом показал на камин. – От него остался лишь пепел, и одному Богу известно, какая гора свалилась с моих плеч. Клеман, ты должен надежно спрятать два других манускрипта. Так, чтобы их никто не нашел. Я не могу увезти их с собой. Слишком большой риск. Лукавый огонек мелькнул в сине-зеленых глазах подростка: – О… я уже нашел замечательный тайник. – Зная тебя, я не удивляюсь. И какой же? – В стойле жеребца Мариоля. У него отвратительный характер, и он получает злобное удовольствие, кусая все, до чего может дотянуться. Никто из слуг к нему не смеет подойти, кроме Жильбера Простодушного… А он, как свидетельствует его прозвище, с неба звезд не хватает! – Разумно. Но твоя дама? Став серьезным, подросток вкратце рассказал рыцарю о переплете, в который он попал, возвращаясь из От-Гравьер. Голос Клемана срывался от волнения, когда он вновь, словно наяву, видел те ужасные сцены. Он, не жалея слов, описывал мужество своей дамы, благодаря которому они оба остались в живых. Франческо де Леоне резко вскочил на ноги, в голосе его звучала паника: – Что? Что ты такое говоришь? Почему ты сразу не рассказал мне об этом? Она направила свою лошадь на трех вооруженных мерзавцев! Она сошла с ума! Они могли… Они могли… О боже! Они могли ее убить. Неожиданно рыцарь успокоился, и его лицо озарила неуместная улыбка. Закрыв глаза, он прошептал: – Иначе и быть не могло. Она не могла поступить иначе. – Затем Леоне задал довольно странный вопрос: – И часто мадам де Суарси беспокоят твои отлучки, к которым, как я понял, она привыкла? И хотя Клеман прежде об этом никогда не думал, он сразу же понял, чего от него хочет рыцарь. Но мальчик не считал, что должен быть с рыцарем таким же откровенным, как со своей дамой, и поэтому немного уклончиво ответил: – Просто недавние события были такими ужасными, что моя дама постоянно пребывает в беспокойстве. Леоне почувствовал, что мальчику не хочется отвечать на этот вопрос, и не стал настаивать. Значит, Аньес унаследовала странный дар от Клэр, его матери, и Филиппины, своей матери. Несомненно, она об этом не знала, пугаясь предвидений и предчувствий, не зная, как их использовать, контролировать. Элевсия настолько боялась видений, что отказывалась мириться с ними, усматривая в них некий знак. Она не была уверена, что этот знак исходил от Бога. А что чувствовала Аньес? Какой импульс побудил ее оседлать Розочку и вооружиться коротким мечом? Знала ли она об этом? Леоне был очарован этими способностями женщин его семьи, способностями, в которых он видел божественную волю. – Ты собираешься отдать мне листок, который ты… позаимствовал? Клеман покраснел до корней волос и прошептал: – Разумеется, рыцарь. – Продвинулся ли ты в расчетах второй темы? – Нет. Я думал, что мне это удастся, но я заблуждался относительно своих способностей, – солгал подросток с уверенностью, которая его самого удивила. – Очень жаль, – прошептал раздосадованный Леоне. Леоне почти поверил, что этот странный мальчик, встретившийся на его пути, преуспеет там, где они с Эсташем потерпели поражение. Да, жребий брошен, и продолжение следует искать в командорстве тамплиеров Арвиля. Леоне спросил: – Мадам де Суарси говорила тебе, что я хочу попросить тебя о помощи? – Вкратце. Миссия? – Можно и так сказать. Храм Пресвятой Богородицы командорства тамплиеров Арвиля – сам по себе крепость. Он находится за стеной, так что деревенские жители могут присутствовать на мессах, не проходя по территории командорства и не нарушая затворничества монахов-тамплиеров. Высокие ворота главного входа недоступны, если только не прибегнуть к помощи тарана. А вот другие ворота, маленькие, ведущие в скромную привратницкую, позволяют братьям входить в храм, не покидая территории командорства. В воротах проделано узкое окно, защищенное одним горизонтальным железным прутом. Между прутом и краем окна есть пространство такой же ширины, как и то, через которое ты проникал в тайную библиотеку Клэре. Еще одна важная деталь. Со сторожевой круглой башни, стоящей на небольшой возвышенности, можно наблюдать за церковью. Впрочем, Арвиль считается одним из самых мирных поселений. Сомневаюсь, чтобы командора беспокоила невероятная возможность нападения на храм Пресвятой Богородицы, а значит, стражники не будут стоять на посту. Впрочем, не мне об этом судить. – Итак, вы хотите, чтобы я туда проник… – подвел итог Клеман. Франческо де Леоне кивнул в знак согласия. – А как я потом открою для вас дверь? – Как это часто бывает в аббатствах или командорствах, где хотят свести до минимума число ключей, маленькая дверь, в отличие от двери главного портика, не запирается на замок. Ее закрывают на железный засов, который в любую минуту можно отодвинуть. – Немного помолчав, Леоне продолжил: – Клеман, твоя дама мне посоветовала… вернее, приказала не вовлекать тебя в опасную авантюру. Я не могу заверить тебя, что… Клеман оборвал рыцаря на полуслове: – Я знаю. Неважно, мсье. Моя дама не боится смерти, если речь идет о моем спасении. При всем моем уважении, я всегда стремлюсь подражать ей, хотя я обыкновенный слуга. Я вырос с этой мыслью и никогда от нее не отступал. С моей стороны было бы не только глупо, но и прискорбно менять привычки. Рыцарь посмотрел на Клемана своим странным волнующим взглядом, устремленным, казалось, в небытие. – Ты мне очень нравишься, молодой человек. Как ни странно, ты напоминаешь меня, когда я был в таком же возрасте. Что касается доблести и чести, они всегда присущи верным слугам, молодым и старым. Мы отправимся в путь на рассвете. Арвиль далеко, а ваши лошади слишком неторопливые. Мы приедем туда лишь к вечеру. Приготовь теплую одежду и еду для нас обоих. А потом отправляйся спать. Я предупрежу твою даму. Нас ждет долгая дорога. Клеман отправился на кухню. Леоне сердился на себя, что вовлек мальчика в авантюру, исход которой был ему неизвестен. Но время поджимало, и только он один мог проникнуть в храм Пресвятой Богородицы. Он предпочел бы вступить в бой, нежели подвергать подростка опасности, но у него не было выбора. В ледяной просторный зал вошла Аньес, положив конец невеселым мыслям рыцаря. Леоне вновь забеспокоился о ее состоянии и принялся расспрашивать о недавних жутких событиях. Пришла ли она в себя после этой смертельной схватки в лесу? Аньес стояла перед ним, не желая отвечать. Она ждала. Леоне все понял и пересказал ей свой недавний разговор с Клеманом. – Мсье… Знайте, что я никогда не прощу вам, несмотря на всю свою благодарность, если с Клеманом случится беда. Леоне немного поколебался, потом спросил: – Ведь он ваш родной сын, не так ли? Смертельно побледнев, Аньес покачнулась. Леоне бросился на колени, низко опустил голову и прошептал: – Прошу прощения, мадам. Умоляю меня простить. Забудьте. Забудьте об этой грубости. Боже мой, простите меня! Главное, чтобы вы были живы и здоровы, а ваш поступок в лесу доказывает, что в случае необходимости вы становитесь такой, какой я и представлял вас: не отступающей перед лицом опасности. – Уже слишком поздно, – ответила Аньес нежным усталым тоном. – Все слова были сказаны. Значит, они существуют. Отрицать их не имеет ни малейшего смысла. Прошу вас, мсье, встаньте. Леоне исполнил ее просьбу. Аньес вновь внимательно посмотрела на рыцаря, в очередной раз удивившись тому, как прекрасно тот сложен. В его облике, в манере смотреть на нее было столько благожелательности, уверенности в самом себе, что Аньес порой становилось тяжело на душе. Вдруг Аньес показалось, что ее жизнь была оборотной стороной жизни рыцаря. Она никогда ничего не выбирала, даже жизненной стези. Она шла по тропинкам, на которых почти не было непреодолимых препятствий. По сути, она довольствовалась тем, что избегала худшего для себя и своих дочерей. Она вырвалась из лап Эда, выйдя замуж за Гуго, и затем снова сделала то же, превратив маленькую Клеманс в слугу. Аньес откашлялась, чтобы скрыть смущение. – Да, Клеман – мой родной ребенок, но в его жилах не течет кровь моего покойного супруга. Кто вам сказал? Неужели наши глаза так похожи? Разве это не удивительно? Я сама заметила это только недавно. – Аньес подошла к большому столу и тяжело опустилась на скамью. Сидя прямо, положив руки на колени, с блуждающим взглядом она продолжила: – Прошу вас, не верьте, что с моей стороны это было… безрассудством. Я даже не могу требовать, чтобы это служило мне извинением. Я все тщательно взвесила. Я тысячу раз могла отступит от дверей бань Шартра. Но я сознательно переступила через их порог. Меня никто не принуждал, и мужчина, обнимавший меня, не совершил никакого насилия, наоборот. Аньес замолчала. Сквозь густой туман до нее донесся хриплый, но вместе с тем нежный голос рыцаря: – Я охотно верю, что это не было заблуждением. Но… – Дайте мне слово, рыцарь. Поклянитесь вашей душой и кровью Христа, что никогда не расскажете о моих признаниях, сделанных только вам. Ни под каким предлогом. – Клянусь вам, мадам. Своей душой и муками нашего Спасителя. – Гуго де Суарси, мой супруг, не имел детей в первом браке. Ему было уже много лет. Я… – Аньес пыталась сдержать слезы. Неожиданно почувствовав прилив сил, она продолжила: – Я совершила гнусный поступок. Я знала, что если он умрет бездетным, я попаду под опеку своего сводного брата Эда де Ларне. И я хотела любой ценой этого избежать. Мне нужен был ребенок. – Матильда? – Она тоже не Суарси. Еще одна внебрачная дочь, родившаяся от мимолетной случайной любовной связи. Как и я. – Закрыв глаза, Аньес прошептала: – И вот я превратилась в ваших глазах в обыкновенную потаскуху. – Вы, мадам… – возмущенно произнес Франческо де Леоне. – Вы самая целомудренная, самая великолепная, самая величественная из всех женщин. Провалиться мне на этом месте, если я говорю неправду. Что касается потаскух, то многие из них отдаются вовсе не потому, что того требует их тело. Но если Клеман мальчик, почему вы не объявили его законным наследником мсье де Суарси? Аньес колебалась лишь долю секунды. Сама не зная почему, она вновь солгала. Хотя Леоне, в отличие от Эда, не получил бы никаких преимуществ, если бы узнал всю правду о Клемане. Но странный инстинкт не позволил Аньес быть откровенной. – Клеман родился через восемь месяцев после смерти моего супруга. Наше будущее было под угрозой. Я… Вот уже много лет меня не покидает чувство, что смерть Гуго, пронзенного рогами оленя через несколько дней после моего предательства, была неотвратимым наказанием. Все эти годы, тянувшиеся до самого процесса, убеждали меня в этом. – Порой пути Господни неисповедимы, но Бог милосерден к праведникам и своим самым любимым чадам. – Что? Я праведница и любимое чадо нашего Спасителя? – усмехнулась Аньес. – Разумеется, мадам, хотя вы сами этого не понимаете. Аньес не расслышала последних слов рыцаря, погрузившись в неприятные воспоминания.
Когда тело ее супруга лежало на столе в большом общем зале, Аньес была уже беременной. От куртуазного, любезного и веселого, но не вульгарного мужчины, который отвел ее в бани на Ястребиной улице, когда она в последний раз приезжала в Шартр. Одного его взгляда оказалось достаточно, чтобы она решилась. Как ни странно, она уже знала, что во время этой короткой встречи будет зачат ребенок. Именно к такой цели она стремилась. Она молилась, чтобы у нее родился мальчик. Как звали мужчину? Она забыла. Впрочем, она вообще не была уверена, что когда-либо знала его имя. Хуже, сегодня она не смогла бы описать его, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Он был высоким, выше ее, с каштановыми волосами, голубыми глазами, как и ее супруг. В этом Аньес была уверена, хотя и не помнила, поскольку выбрала мужчину, похожего на Гуго, в отличие от предыдущего, незнакомого и почти безликого отца Матильды. Как она боялась идти к прорицательнице, которую порекомендовала Жизель, ее старая кормилица! Лачуга злой феи провоняла потом и застарелым жиром. Мерзкая ведьма подошла к ней и вырвала из рук корзину с жалкими дарами, которую в ту пору шестнадцатилетняя Аньес принесла ей. Хлеб, бутылка сидра, кусок сала и курица. Аньес стало страшно, когда женщина, положив руку ей на живот, стала внимательно разглядывать ее. В глазах ведьмы зажегся злой огонек, и она буквально выплюнула свой приговор: – Еще одна курица. Ты снесешь еще одну курицу. А вовсе не славного мальчишку с хвостиком между ног! У Гуго де Суарси не будет посмертного наследника. Отныне ничто не могло спасти Аньес. Девушка стояла неподвижно, с недоверием глядя на старуху. Все было сказано, все было кончено. И вдруг настроение ведьмы резко изменилось. Злобная радость уступила место панике. Старуха завизжала, натягивая сальный фартук на шапку, словно ничего не хотела видеть. Она вытолкнула Аньес на улицу, велев ей больше никогда не приходить сюда. Аньес повиновалась. Она боролась с желанием упасть прямо здесь, свалиться в грязь, смешанную с экскрементами свиней, и навсегда заснуть. Стояла жуткая зима 1294 года. Через несколько недель, вечером 28 декабря Аньес смотрела, как догорают последние угли. Смертоносный холод безжалостно терзал людей и зверей. Столько умерших! Суарси-ан-Перш похоронил треть своих крестьян в общей могиле, наспех вырытой на окраине. К тому же началась эпидемия гнойных колик. Ни у кого зуб на зуб не попадал. Люди цеплялись друг за друга, словно последнее тепло могло передаться привидениям, еще державшимся на ногах. Живые днем и ночью молились в ледяной часовне, примыкавшей к мануарию, надеясь на чудо. Свои несчастья они связывали с недавней гибелью их повелителя, Гуго, сеньора де Суарси. Серебристый пушок местами покрывал поленья, догоравшие в камине ее спальни. Последнее полено, последняя ночь. Она презирала себя за жалость, которую питала к самой себе. Она не заслуживала снисхождения, поскольку вела себя как распутная женщина. А голод или холод не могли служить ей оправданием. Аньес закуталась в прекрасное манто, подбитое мехом выдры, и сбросила шерстяные вязаные башмачки, подумав, что Матильда, которой было полтора года, сможет их носить через несколько лет, если Господь оставит ее в живых. Аньес спустилась по винтовой лестнице, ведущей в просторный общий зал. Казалось, все исчезло, кроме эха ее шагов по ледяным темным плитам. В часовне ее ждала Сивилла, которую Аньес приютила несколько месяцев назад, поскольку беременность, наступившая в результате изнасилования, роднила бедную девушку с ней самой. Сивилла, изможденная, посиневшая от холода, лишений и страха. Тонкая рубашка доходила ей до самых щиколоток, вздуваясь на животе. Роды приближались. Сивилла радовалась, что вскоре соединится с чистотой, которая была ее единственной страстью. Улыбаясь в экстазе, она пообещала: – Смерть будет легкой, мадам. Мы проникнем в Свет. Вы боитесь? – Замолчи, Сивилла. Они подошли к алтарю. Аньес сняла манто, потом расстегнула тонкий кожаный поясок, завязанный под грудью, чтобы скрыть округлившийся живот. Вдруг она перестала что-либо чувствовать. Но через несколько мгновений из-за ледяного холода на ее глаза навернулись слезы. Она устремила взгляд на расписанное деревянное распятие, затем упала на колени, схватившись руками за живот. Смерть быстро забрала Сивиллу. Однако до самого последнего вздоха молоденькая девушка повторяла: Adoramus te, Christe.[231] Adoramus te, Christe. Но вот Аньес покачнулась. Ледяные камни приняли ее без малейшего сострадания. Она сложила руки крест-накрест, ожидая конца. Она молилась за Матильду, повторяя, что грешила вопреки своему телу и духу и поэтому не заслуживала прощения. Она молила, чтобы проклятие обрушилось только на нее одну. Постепенно сознание покидало ее. И вдруг прозвучал властный голос, приказывавший ей встать, жить. Жизель, ее старая кормилица. Жизель прижалась к ней, заставив Аньес вернуться в тот мир, который внушал ей такой ужас. Сивилла умерла. Девочка, которую она носила в себе, тоже. Но менее чем через час родилась Клеманс. Если бы Клеманс была мальчиком, Аньес, несомненно, пренебрегла бы слухами, объявив ребенка посмертным наследником Гуго де Суарси. Это не было бы обманом в прямом смысле слова. Но вторая дочь ничего не меняла в судьбе вдовы, не имевшей сыновей. К тому же незаконнорожденный плод ставил под угрозу вдовье наследство, которые у Аньес могли отнять, если будут получены свидетельства ее недостойного поведения. И Эд сделал бы это с великой радостью.
От гнетущей и вместе с тем такой знакомой боли у Аньес подкосились ноги. Вдруг Клеманс узнает, что она – дочь мадам де Суарси? Сумеет ли она простить мать за столь презренную мистификацию? Простит ли она мать за то, что та отдалила ее от себя, лишила места, положения, хотя и скромного, в обществе? Аньес приходилось столько лет лгать, терзаться угрызениями совести, а теперь она испытывала страх потерять существо, которое любила больше своей жизни.
– Мадам? Мадам, вы пугаете меня… Вы такая бледная, вы… Настойчивый голос Леоне вырвал Аньес из ядовитой вселенной прошлого, вернув в просторный зал. Она дрожала всем телом. Ценой колоссальных усилий ей удалось произнести почти нормальным голосом: – Простите меня, рыцарь. Я погрузилась в воспоминания. А они отнюдь не радостные. И у меня нет права требовать Света, – ответила Аньес с жалкой улыбкой на губах. – Вы правы только в одном: Света требовать бессмысленно. Аньес не поняла, что хотел сказать рыцарь, но не осмелилась переспросить. Внезапно она почувствовала, что сейчас очень важно жить настоящим, оставить на какое-то время воспоминания, отравлявшие ей память. Уверенным тоном она продолжила: – Я заслуживаю объяснений, рыцарь. – Не заблуждайтесь. Я не хочу быть ни двусмысленным, ни таинственным. Я опасаюсь… Я боюсь, что из-за меня вы можете оказаться в опасности, а эта мысль мне невыносима. – Полно, мсье! Меня пытались уничтожить, бросив в когти инквизиции. А до этого мне попытались приписать все эти гнусные убийства, когда жертвами становились монахи, эмиссары покойного святого отца. Мой платок, брошенный недалеко от одного из убитых эмиссаров. Буква «А», обнаруженная под изувеченными трупами. Разумеется, все это козни служанки. – Буква «А»? О… Эту букву выводили эмиссары. Она не имеет ничего общего ни с вашим, ни с каким-либо другим именем. Это первая буква слова apokalypsis. – Апокалипсис? – Но не в том смысле, в каком мы его понимаем. Откровение, пришествие, озарение. Возрождение. Начало новой вселенной. – Какое возрождение? Какая вселенная? – Вы требуете от меня описания? Но у меня его нет. Надежда. Аньес рассердилась и решила напомнить: – Вы обязаны мне, мсье. Откровенность за откровенность. Можете не сомневаться, мне откровенность далась нелегко. Аньес ясно почувствовала, что между ними возникло препятствие. Рыцарь, положа руку на сердце, поклонился: – К вашим услугам, мадам. – Что означает стертая фраза, буквы которой переписал Клеман? – Аньес подняла руку, не дав Леоне возможности возразить. – Помилосердствуйте, рыцарь. Не думайте, что наша «прискорбная забывчивость» послужила для меня убедительным объяснением. Что означает эта фраза? То, что Аньес заинтересовалась этим основополагающим элементом, в очередной раз послужило Леоне доказательством, что она унаследовала пророческий дар, передававшийся в его семье по женской линии. Он отбросил последние сомнения: – «Потомство передается по женской линии. От одной из них возродится другая кровь. Ее дочери увековечат ее». Ледяная волна накрыла Аньес. Как много всего наконец прояснилось! Ее недавний обман, когда она позволила Леоне поверить, будто Клеман был ее сыном, нашел себе оправдание, равно как и ее неожиданное требование вырвать страницу с именем Клемана из регистрационной книги. Едва слышно Аньес спросила: – Как вы думаете, о каком потомстве идет речь? О какой Крови? – Об этом я не скажу даже под пыткой, мадам. Тем более нам, несмотря на бесконечную любовь, связывающую мою душу с вашей. Не настаивайте, умоляю вас. Я отказываюсь лгать вам. Сказав это, рыцарь вышел, вернее, выбежал, даже не откланявшись. Мысль, что после посещения командорства он может навсегда исчезнуть из ее жизни так же стремительно, как ворвался в нее, ошеломила Аньес. Что связало их? Что было таким важным, жизненным, как ей казалось? Лауды* еще не начались, когда им оседлали лошадей. Аньес на минуту задержала Клемана для короткого разговора. Она говорила таким настойчивым, требовательным тоном, что Клеман удивился. Ни под каким предлогом рыцарь де Леоне не должен был догадаться, что на самом деле Клеман был девочкой. Аньес нервно добавила: – Если бы мне сказали, что я буду бояться проницательности рыцаря гораздо сильнее, чем проницательности моего сводного брата, я немедленно выбросила бы эту мысль из головы. Но это так. Клеман, будь осторожен. Он гораздо умнее Эда. – Почему это так опасно, мадам? Он наш самый надежный союзник. Он и граф д'Отон, – ответил мальчик. – Но наш сеньор многого о нас не знает. Аньес колебалась, прикусив губу. Она не могла признаться Клеману в том, о чем поведала Леоне накануне. Она хотела убедить себя, что время еще не настало. Но честность одержала верх: ее страхи основывались исключительно на реакции Клемана. – «Потомство передается по женской линии…» Ты соответствуешь второй теме. – А вы – первой. – Клеман, у нас мало времени, – занервничала Аньес. – Умоляю тебя, доверься моему чутью. Пусть он ничего не знает о том, что ты на самом деле девочка. – Хорошо, мадам.
Лес Мондубло и командорство тамплиеров Арвиля, Перш, декабрь 1304 года
Клеман и Франческо де Леоне, словно заключившие негласный договор, ехали в полном молчании. Лишь изредка они обменивались ничего не значащими фразами о суровой зиме, морозах, от которых трескалась кора деревьев, скудной трапезе, которую вскоре приготовят из припасов, собранных Аделиной им в дорогу. Совсем немного: хлеб, сало, сыр и бутылка сидра, чтобы согреться. Вот уже несколько минут Клеману не давало покоя банальное, но настойчивое желание. Что делать? Два часа назад рыцарь предложил сделать короткую остановку. Леоне подошел к дерену, повернулся спиной, и Клеман позавидовал рыцарю, что тот так легко мог справить естественную нужду. Подросток, покачав головой, ответил отказом на предложение Леоне последовать его примеру, сказав, что он еще в состоянии потерпеть.Через несколько часов езды на рабочих лошадях мануария они наконец сделали привал. Клеман плавно соскользнул со спины Розочки, опасаясь, что, сделав резкое движение, не сумеет сдержаться. Наигранно веселым тоном он сказал: – Я соберу немного упавших веток.[232] Потом мы разведем костер и согреемся. – Хорошая мысль, – одобрил Леоне, спешиваясь с крупного, серого в яблоках жеребца, злобного Мариоля, который предательски попытался укусить его за руку, когда рыцарь подошел к нему сегодня утром, но затем, внимательно посмотрев на него, смягчился. На глазах девочки появились слезы облегчения, когда она, зайдя довольно далеко в лес, спустила браки и присела на корточки. Когда она, то есть он вернулся к их биваку с большой охапкой веток, Леоне уже вытащил из походной сумы содержимое и грел в руках оловянный котелок, наполненный снегом. Они молча поели, согревая руки над огнем. – Вам не холодно, рыцарь? – спросил Клеман. – Вы привыкли к более мягкому климату. Леоне внимательно посмотрел на мальчика, кладя в рот последний кусок. – Я ко многому привык. К жаре, холоду, лишениям, изобилию, дождю, пустыне, дружбе и ненависти. К жизни и смерти тоже. Понимаешь, тебе кажется, что нет ничего прекраснее дождя только в том случае, если солнце пустыни в течение многих недель обжигало твою кожу. Точно так же происходит и со всем остальным. – Мы особенно высоко ценим любовь и дружбу, когда на себе познали ненависть. В этом я не сомневаюсь. Но жизнь? Мы живем и только потом узнаем, что такое смерть. – Не заблуждайся. Мы несем смерть в себе с самого рождения и знаем об этом. Жизнь – это всего лишь переходный период. Смерть предоставляет ее нам, но она безжалостный, беспощадный ростовщик. Она всегда заставляет платить по счетам. Именно это делает жизнь столь ценной. Твою собственную жизнь, жизнь других. Я всегда удивляюсь, как можно убивать или мучить и испытывать при этом удовольствие. –Франческо де Леоне выпрямился и более веселым тоном продолжил: – Фи, прекратим эти разговоры! Какими же мрачными мы стали! Леоне поднял небольшую, наполовину обугленную веточку и, воспользовавшись ею как стилом, стал чертить план командорства на земле, проступившей из-под снега, растаявшего от жара их костра. Сначала он нарисовал большой овал неправильной формы, изображавший крепостную стену, и сказал: – Смотри и запоминай. Именно это я делал во время своего первого и единственного визита в командорство. Встанем напротив главных ворот. Слева находятся конюшни. Просторные, поскольку говорят, что в них круглый год могли стоять более пятидесяти боевых лошадей. Затем лошадей стреноживали, грузили на уссарии[233] и везли в Святую Землю. По крайней мере так было еще пятнадцать лет назад. Теперь тамплиеры продают их на ярмарках как рабочую скотину. Досадно, когда думаешь о достоинствах и отваге этих животных. За конюшнями разбиты огороды, овощной и аптекарский, снабжающие сообщество тамплиеров овощами и большинством лекарственных средств. Справа от ворот ты увидишь с скромное здание, зажатое между церковью Пресвятой Богородицы, нашей целью, и службами. Это дом praeceptor.[234] Нам нужно остерегаться его. По традиции всю ночь три сержанта, сменяющие друг друга, стоят на страже под узкими бойницами. Но, – добавил Леоне, улыбнувшись, – по той же традиции этого спокойного края они быстро засыпают. Чуть дальше возвышается круглая сторожевая башня из черноватого известняка, защищающая церковь. Храм легко узнать по массивной двухуровневой колокольне с угловой аркой. Как я тебе уже говорил, храм Пресвятой Богородицы примыкает снаружи к крепостной стене, чтобы сельские жители могли присутствовать на церковных службах, не проходя через командорство, а следовательно, не нарушая затворничества монахов-тамплиеров. Другая дверь, та, которая нам и нужна, позволяет братьям проникать в боковые приделы, не выходя за крепостную стену. В центре командорства стоит большой амбар, в котором хранится урожай, собранный на окрестных полях и уплаченный в виде церковной десятины. За ней возвышается другая, толстая и круглая сторожевая башня.[235] Эта башня вызывает у меня особое беспокойство. Она защищает большой амбар и все, что в нем хранится. Могу поспорить, что тамплиеры, стоящие возле нее на часах, гораздо более бдительные, чем те, что храпят возле дома командора. Клеман внимательно смотрел на кружочки и линии, нарисованные рыцарем. Направив указательный палец на крест, нарисованный за большим амбаром, он спросил: – А что это за маленький крестик, вот здесь, справа от второй сторожевой башни? – Это печи. – Значит, если мы обогнем их справа, мы избежим встречи со стражниками обеих башен. Нам следует идти вдоль левой стены церкви Пресвятой Богородицы, тем более что маленькая дверь расположена посредине. Способность Клемана мыслить как настоящий стратег поразила Леоне. Мальчик предложил точно такой же план, какой он сам разработал.
Леоне посмотрел вверх. Обнаженные ветви деревьев заслоняли бледное солнце. Госпитальер выпрямился, потянувшись всем телом. Клеман тут же последовал его примеру. Он затопал ногами, чтобы сбить снег, прилипший к подошвам его сапог. – Поехали, мой мальчик. Цель нашего путешествия близка. В седло! Мы доберемся до командорства поздно вечером, после повечерия. Они привязали лошадей к дереву в нескольких туазах от каменистой тропинки, поднимавшейся к высокой стене, окружавшей здания командорства Арвиля. Подъемный мост перед главными воротами был поднят на ночь. Почти черные воды Коетрона заливали рвы и слабо блестели под тусклыми лучами луны, время от времени появлявшейся из-за ночных облаков. Леоне захотелось увидеть в этом знак: даже луна была их союзницей. Клеман предложил: – Никто не заподозрит маленького оборванца. Я могу обойти командорство, чтобы убедиться, все ли вернулись. – В этом нет необходимости. Жизнь в командорствах подчиняется строгому уставу, схожему с уставом монастырей. После вечерни, на закате солнца они поужинали. А после повечерия отправились в дортуары или заступили на службу. Подождем еще несколько минут. Клеман… Я дал слово твоей даме и сдержу его благодаря тебе. – Благодаря мне? – Если… наша затея не удастся… если нас обнаружат, я требую, чтобы ты тут же спасался бегством, без оглядки, не дожидаясь меня, так быстро, как только сможешь. – И оставить вас одного перед лицом опасности! Леоне с трудом подавил улыбку, которую вызвал у него горячий протест мальчика. Клеман походил на свою мать, но не знал этого. Леоне постарался не обидеть его: – Я нисколько не сомневаюсь в твоей отваге. Но будет ли нас двое или я буду один, это ничего не изменит, если нам придется сражаться с сотней тамплиеров. Я постараюсь их задержать, чтобы ты сумел добраться до Суарси. Таким образом я сдержу свое обещание. В любом случае меня схватят. Я сложу оружие, когда ты будешь уже далеко. У меня нет ни малейшего желания быть изрубленным на куски. Клеман недоверчиво спросил: – Вы обещаете, что они не убьют вас? – Это очевидно, – заверил рыцарь, моля Бога, чтобы тамплиеры тоже считали это очевидным. – Хорошо, я согласен, мсье. Но все же надо постараться, чтобы нас не заметили. – Я тоже считаю это лучшим решением. Пойдем! Сейчас самое время. Обогнув рвы слева, они пошли вдоль бесконечной крепостной стены, сложенной из рыжеватого железистого песчаника, который добывали в расположенных неподалеку карьерах Корменона и Сарже. Наконец они поравнялись с большим амбаром. Они отчетливо видели его крышу, покрытую дранкой из каштанов, в изобилии растущих в этом краю. Древесина каштанов, неподвластная погоде, оставалась прочной на протяжении более ста лет. Толстая круглая сторожевая башня возвышалась слева, чуть в стороне от амбара. Еще дальше слева стояли печи. Они были гораздо ниже двух других построек, и поэтому из-за крепостной стены их не было видно. Они шли, считая шаги. Вдруг Леоне взмахом руки велел остановиться. По его расчетам они сейчас находились чуть левее печей, а следовательно, их не могли заметить из башни, бойницы которой выходили на амбар. Леоне поднял Клемана как перышко. Подросток сел верхом на гребень стены и через несколько секунд распластался ничком, слившись с темнотой. Потом по мере своих сил он помог рыцарю, пусть поджарому и мускулистому, но тяжелому для мальчика. Клеман подивился ловкости и проворству Леоне. Теперь он понял, почему тот легко влез к нему на чердак по веревке, привязанной к раструбу. Они спрыгнули со стены и замерли, тревожно прислушиваясь. Их окружала полная тишина. Низко согнувшись, они добрались до мощной стены храма Пресвятой Богородицы. Клеман внимательно посмотрел на выступающую часть здания. Именно здесь была дверь, позволявшая братьям заходить в церковь, не покидая территории командорства. Как и говорил рыцарь, маленькое окошко, защищенное только одним толстым прутом, было расположено на уровне человеческого роста. Клеману показалось, что пространство между стеной и железной перекладиной уже, чем отдушина в библиотеке аббатства Клэре. – Сумеешь пробраться? – взволнованно прошептал Леоне. – Не без синяков и шишек, несомненно. Надеюсь, что я не застряну, – шепотом ответил подросток. Леоне подсадил его. Клеман напрягся, пытаясь себя успокоить: если голова пролезет, значит, пролезет и тело. Шероховатые камни безжалостно царапали и ранили плечи. Клеман сжал зубы, чтобы не застонать от пронзительной боли. Он выдохнул изо всех сил, чтобы как можно сильнее втянуть ребра, отчаянно извивался, втягивая одно бедро, потом другое. Наконец он пролез внутрь головой вперед. Госпитальер удерживал мальчика за ноги. Несмотря на ледяной холод, Клеман задыхался. Едва повысив голос, он попросил: – Отпустите одну ногу, но держите вторую, иначе я разобью себе голову. Клеману удалось немного выпрямиться и схватиться рукой за железный прут. Леоне отпустил вторую ногу, и Клеман спрыгнул внутрь. Он подошел к двери, растирая ушибленное плечо. Засов, запиравший дверь, поддался легко. Вскоре Леоне присоединился к Клеману. Они прошли в неф. Дорогу им освещал слабый лунный свет, лившийся из высоких круглых окон. Вдали, возле хоров, светлое пятно колыхалось на некотором расстоянии от пола. Маленький загадочный метеор. Клеман показал на пятно рукой. Леоне прошептал: – Это свечи, посвященные Пресвятой Деве. Клемана охватило странное чувство. По внезапно побледневшему лицу госпитальера он понял, что это чувство было взаимным. Клеману казалось, что он попал в другую вселенную, неподвластную времени. Страх, не покидавший его на асем протяжении их пути, исчез. Даже ледяной холод, казалось, не осмелился последовать за ними. У Клемана кружилась голова. Он закрыл глаза в надежде, что так быстрее привыкнет к темноте. Леоне вытащил из мешка две башенки и пошел к хорам. Вскоре его высокий силуэт поглотила темнота. Клеман подумал, что он остался один в мире, во вселенной, защищенный этой массивной церковью. Но страшно ему не было. Две крошечные звездочки отделились от метеора и теперь плыли к нему. Он взял башенку, протянутую ему рыцарем. Очень тихо – но не потому что боялся, что их услышат на улице, а потому что толстые стены призывали к доверительности, – Леоне сказал: – Как видишь, кроме алтаря, нескольких канделябров и расписанной статуи Девы Марии, здесь нет ничего такого, что могло бы послужить тайником. Если не считать заложенной ниши и поворачивающейся плиты, которую мы должны найти. – Но почему вы так уверены в том, что предмет ваших поисков спрятан именно в этом храме, а не в другом здании? – Инстинкт вкупе со знанием образа мышления тамплиеров, который, несмотря на вражду между орденами, очень схож с нашим. Храм – это священное место любого командорства. А оба наши ордена свято чтут Деву Марию. Мария дарит жизнь и защиту. Мария знает, но молчит. Кто, как не она, может надежно хранить такую важную тайну? – Весомый довод. Нам предстоит простучать все стены и пилястры, не говоря уже о плитах. Но до утра мы не закончим. – Ты уйдешь до рассвета. Я найду способ спрятаться. – Здесь? – возразил Клеман. – Как вы надеетесь спрятаться? Вы же сами сказали, что обстановка здесь очень скромная. – Крипта. В ней хоронят командоров и членов капитула, если есть место. Пойдем проверим. Туда должны вести две лестницы – одна из нефа, вторая из хоров. Низкая дверь находилась за высокой деревянной статуей. Вдруг у Клемана мелькнула мысль, что Пресвятая Дева с выпуклым лбом, едва выступающими скулами и маленьким ртом в форме сердечка похожа на Аньес. Они спустились в длинный подвал со сводчатым потолком. Вопреки их ожиданиям, здесь было сухо, хотя и холодно. Шесть надгробных памятников. Шесть лежащих фигур. Клеман подошел к каменным силуэтам со скрещенными на груди руками, прекрасным в своей простоте. На первом постаменте, на котором лежала скульптура, изображавшая невысокого тщедушного мужчину, он прочитал: «Frater Robertus de Avelin est preceptor tunc temporis Areville, 1208».[236] Клеман подошел ко второй скульптуре, изображавшей человека атлетического телосложения, молодого, поскольку так было принято изображать покойных в то время:[237] «Анри де Куэм, 1176 год». Никаких других сведений Клеман не нашел. Он внимательно разглядывал третьего мужчину с внушительной бородой, потом четвертого, несомненно, самого высокого из всех. Худое лицо, длинный прямой нос, квадратные челюсти – все свидетельствовало о том, что покойный был властным человеком. Сильные руки, немного непропорциональные. Да, это был солдат, воин. Надпись, высеченная в камне, уточняла: «Гильермус де Аридавилла, 1218 год»,[238] повторяя древнее латинское название Арвиля. Гийом д'Арвиль. Дальше шла эпитафия. Клеман перевел: «Он ушел в шестой час* филипповок и вернулся в девятый час* нового года». Гийом д'Арвиль. Знакомое имя. Клеман уже где-то встречал его. Внезапно подростку показалось очень важным порыться в своей памяти, однако ничего конкретного он не мог вспомнить. Он внимательно смотрел на гранитные прямые складки платья, тяжелый меч, лежавший сбоку и достигавший ступней. Возле икры была вырезана узкая пятиструнная виела[239] с двумя эфами, а также лук. Это пробудило любопытство Клемана. Все каменные фигуры, которыми он до сих пор любовался, отличались строгостью, а вот дека виелы была изящно вырезана. Ее украшал сложный узор, настоящее каменное кружево. Клеман нагнулся, чтобы лучше рассмотреть. И вдруг он почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он вспомнил. О Гийоме д'Арвиле упоминалось в хартии о строительстве женского аббатства Клэре, решение о котором было принято в июне 1204 года Жоффруа III, графом Першским, и его супругой Матильдой Брауншвейгской, сестрой императора Оттона IV. В одном из картуляриев библиотеки он прочитал – правда, бегло, поскольку он тогда искал сведения о теории Валломброзо, – что сьер Гийом д'Арвиль скончался, возвращаясь из Святой Земли, недалеко от Константинополя, летом 1229 года. Значит, он не мог быть похоронен в командорстве! Этот надгробный памятник… Боже мой! Нет, это невозможно, он на неверном пути! Во рту пересохло. Сдавленным от волнения голосом он позвал: – Рыцарь, скорее! Леоне подбежал к Клеману. Опустившись на колени, он принялся разглядывать рисунок, на который показывал подросток: – Святые небеса… Роза. Это та же самая роза. Посмотри на правый лепесток. Он важнее всех прочих. Он так важен, что мы с Эсташем были уверены, что речь идет о каком-то коде, о числе шагов, кардинальных вех… Служит ли этот лепесток опознавательным знаком? Клеман рассказал рыцарю все, что он знал о Гийоме д'Арвиле, который, по всей вероятности, был тесно связан с командорством и аббатством Клэре. Леоне слушал мальчика, напряженный, как струна. Подросток замолчал. Что-то во взгляде рыцаря насторожило его: – Неужели я сказал нечто такое, что… – Нет… Просто ты представляешь собой одно из невероятных совпадений, определяющих мою жизнь… несомненно, самое интригующее. – Я не понимаю, на что вы намекаете, мсье. – Неважно. Я сам многого не понимаю. Потом. Время поджимает. Вернемся к этой лежащей фигуре. Ты считаешь, что эта могила пуста, поскольку Гийом д'Арвиль умер в Константинополе? – Меня смущает другое. Если только я не ошибаюсь… Я читал, что рыцарь д'Арвиль умер летом. Почему же на эпитафии написано, что он вернулся в девятый час нового года? – Ошибка? – Нет, не думаю. Я склонен полагать, что речь идет о послании и… Возможно, я глубоко заблуждаюсь, но я не удивлюсь, если столь ценный папирус, который вы ищете, окажется под этой лежащей фигурой. – Христос милосердный! Леоне резко вскочил на ноги и воскликнул: – Помоги мне! – Но… – Быстрее! Сначала давай вытащим железные штифты, удерживающие конструкцию по углам. Затем совместными усилиями мы уберем крышку. – Она, должно быть, такая же тяжелая, как мертвый осел, – простонал Клеман. – Как два или три осла, полагаю. Но мы не будем поднимать крышку, мы просто сдвинем ее немного в сторону. Рыцарь сел на корточки и с помощью кинжала принялся разбивать известковый раствор, крепивший крышку к основанию. В течение нескольких минут в крипте раздавалось эхо его учащенного дыхания. Продвигаясь на коленях сантиметр за сантиметром, он наконец полностью обогнул захоронение. Когда он встал, по его лицу градом лился пот. Леоне прошептал: – Осталось самое трудное. Помоги мне. По моему сигналу толкай крышку изо всех сил. Леоне сел на пол, прижался спиной к крышке и уперся ногами в стену подвала. Клеман слышал, как тот медленно дышал. Леоне крикнул: – Давай! Они вновь и вновь толкали. Тяжелая крышка поддавалась с большим трудом, сдвигаясь каждый раз всего на несколько миллиметров. Клеман даже перестал чувствовать боль, которая жгла ему плечи. Подростку казалось, что его руки тоже превратились в камни. Едва переводя дыхание, едва держась на ногах от изнеможения, он чуть не упал, когда рыцарь сказал: – Щель, которую нам удалось сделать, достаточно широкая, чтобы в нее пролезла тонкая рука. Боюсь, что эта честь выпала тебе. Клеман отпрянул назад, пробормотав: – Но… мне немного страшно. – Чего ты боишься? – улыбнулся рыцарь, просовывая в крошечное отверстие три пальца. – Если там и были крысы, они сдохли лет сто назад. – А может, это ловушка? – Зачем надо устраивать ловушку под надгробием, если эта роза ведет туда только посвященных? – Вы убедили меня. Ну что ж, покажем нашу храбрость, – громко подбодрил себя Клеман. Он осторожно просунул руку под крышку и пошарил по дну. Затем он вынул ее и, растопырив пальцы, сообщил: – Как мы и предполагали, там нет никакого скелета. Черт возьми! Надо толкать дальше, рыцарь. Я могу ощупать только треть дна. Они вновь принялись за дело, обливаясь потом, натужно кряхтя. Прошло четверть часа. Клеману казалось, что его легкие вот-вот лопнут. Кровь стучала в висках, вызывая острую головную боль. Теперь щель была достаточно широкой, чтобы подросток мог в нее просунуть обе руки и даже плечи. От боли по щекам Клемана потекли слезы, когда он был вынужден прижаться плечами, безжалостно израненными каменной кладкой церкви, к гранитной крышке. Он стал медленно ощупывать, осматривать вслепую каждый сантиметр дна. Вдруг он закричал от отвращения, когда его пальцы коснулись какого-то рыхлого, мягкого, как плоть, предмета. Сделав над собой невероятное усилие, он вытащил этот предмет, приготовившись к худшему. Леоне выхватил его из рук Клемана, развернул и воскликнул, всматриваясь в то, что весьма напоминало пергамент: – Ничего не понимаю! Это план аббатства Клэре, точно такой же, какой мне передали по просьбе моей тетушки Элевсии де Бофор после ее смерти. – Разволновавшись, он спросил: – А ты уверен, что там больше ничего нет? – Я ощупал каждый сантиметр захоронения, даже каменные стенки и внутреннюю часть крышки. Дважды. Если папирус с текстом на арамейском языке и спрятан в храме, то точно уже не под этой лежащей фигурой. Можно? – спросил Клеман, протягивая руку к старинной велени.[240] – Обрати внимание, на плане отмечена тайная библиотека Клэре. А это доказывает, что она была задумана с самого начала, – сказал Леоне голосом, в котором явственно слышалось отчаяние. – Да, правда. Посмотрите… вот здесь, в самом низу можно различить подпись… Поднесите башенку ближе, прошу нас. А… Ги… ль… рмус д… Арид… вил… Гильермус де Аридавилла! Значит, он заверил план. Леоне склонился над веленью и задумчиво произнес: – Странно, но на экземпляре, который хранится у меня, нет подписи. При слабом свете башенки Клеман продолжал рассматривать план. И вдруг он увидел ее, крошечную, частично спрятанную в букве «о» слова bibliotheca.[241] Розу. Срывающимся от волнения голосом Клеман прошептал: – Папирус находится в тайной библиотеке Клэре. Леоне нисколько не сомневался в справедливости слов мальчика. Его охватила глубокая нежная печаль. Элевсия, милая Элевсия. Знала ли она там, куда теперь вознеслась, что многие годы хранила столь важную, столь бесценную тайну, стоившую жизни многим людям? Покойся с миром, моя дражайшая мать. Я подхватил твой факел. Леоне посмотрел на отодвинутую крышку, но Клеман опередил его, сказав тоном, не терпящим возражений: – Я не могу, рыцарь. У меня горят плечи. Тем хуже, пусть все остается в таком виде. Никакого святотатства, поскольку могила была пустой. – Ты прав. Пошли. Под покровом ночи мы ускользнем незамеченными.
Мануарий Суарси-ан-Перш, декабрь 1304 года
Пробил девятый час, когда Леоне и Клеман добрались до мануария. Изнемогая от усталости, они оба припали к шеям своих лошадей. Измученный Мариоль раздраженно фыркал и яростно тряс гривой, и Франческо де Леоне с облегчением передал жеребца на попечение Жильберу Простодушному. Рыцарь с трудом добрался до амбара и рухнул как подкошенный на солому. Клеман исчез словно по мановению волшебной палочки. Леоне мог бы дать голову на отсечение, что сейчас Клеман подробно рассказывает своей даме об их приключениях. Он надеялся, что мальчик не забудет перевязать свои раны. Когда Леоне очнулся от крепкого сна чуть позже повечерия, у него кружилась голова, а желудок приятно сводило от голода. Умывшись ледяной водой, Леоне вошел в просторный общий зал. На столе уже стоял его прибор. Аньес и Клеман доедали гороховое пюре с грудинкой и шафраном. Затем Аделина подала коноплянок. Она зажарила птичек на сале, затем несколько минут томила в мясном бульоне, приправленном имбирем, корицей, не говоря уже о кислом виноградном соке и красном вине. Настоящее чудо, однако есть его надо быки с величайшей осторожностью, если только не следовать отвратительному примеру Эда де Ларне. На десерт была подана черная нуга с миндалем и ломтики сушеных яблок. – Садитесь, мсье. Подкрепите свои сипы, – пригласила рыцаря Аньес. Несколько слов, произнесенных довольно сухо. Она продолжила: – Вы вернули мне Клемана в целости и сохранности, и за это я вам весьма признательна. Но его плечи изранены, словно мальчика били. Похоже, ночью вы собираетесь пуститься в очередную авантюру? – Покорнейше прошу прощения, мадам, да и у Клемана тоже. Если бы я мог, я поехал бы в командорство один. Но все дело в его маленьком росте и ловкости. Он вам обо всем рассказал? – Да. – Ночная авантюра, как вы это называете, будет не такой сложной, поскольку у меня есть ключ от библиотеки. Кроме того, судя по манускриптам, таинственным образом попавшим ко мне, новая аббатиса уехала так же быстро, как и приехала в аббатство. Учтите также, что в аббатстве у меня есть союзница. А раз так, я не могу вам обещать, что этим вечером нам не придется перелезать через очередную стену. Немного смягчившись, Аньес попросила: – Но обещайте мне, что вы будете заботиться о Клемане так же, как заботились бы обо мне. – Клянусь своей душой, мадам. С вашего позволения, мы уедем через несколько часов. Не стоит нас провожать. – Да? И вы думаете, что я смогу уснуть?!Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Леоне рукой показал Клеману на трещины и уступы на высокой стене аббатства, которые могли служить опорой для его ног и рук. Подросток подумал, что ремесло шпиона или вора явно не для него. Аньес оказалась права. Его тело начинало бунтовать. Конечно, мышцы Клемана были еще недостаточно крепкими, но в такое аббатство, как Клэре, нельзя было попасть нахрапом, прибегнув к помощи разглагольствований или неправдоподобных доводов. Они молча шли по дороге, которую проделал Леоне несколько дней назад, когда рыцаря ошеломило жуткое известие о смерти его милой тетушки Элевсии. Но он мог бы поклясться, что возвышенная душа его второй матери, полная любви и отваги, с тех пор постоянно сопровождала его. Резким движением Леоне опустил пропитанную маслом кожу, закрывавшую окно кабинета его столь любимой покойной тетушки. Комната погрузилась в кромешную темноту. Леоне прошептал: – Клеман? – Да, рыцарь. Я справа от вас. – Клеман, я хочу дать тебе очень деликатное поручение. – Но вы говорили, что у вас есть ключ! – Не об этом речь. Надо пробраться в дортуар монахинь И тихо разбудить сестру-больничную. Нам нужен свет. Да и ее помощь будет нелишней. – Что? – Что слышал. Ты же ее знаешь, не так ли? – Да, я узнаю ее в лицо. Оно не очень-то приветливое. Что вы от меня требуете!.. Хорошо, я выполню вашу просьбу. – Клеман… Если твой взгляд упадет на… одним словом, на голые плечи или, что еще хуже… ноги дам, потому что, в конце концов, они дамы… Будь настоящим дворянином, закрой глаза. И хотя в подобной ситуации это было неуместным, девочке захотелось рассмеяться. – О, не сомневайтесь, я умею вести себя как настоящий дворянин. Клеман ушел. Леоне проник в библиотеку. Темнота мешала ему. Рыцарь почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Он резко обернулся, положив руку на головку эфеса меча. К нему приблизилась тень. Миниатюрная тень. Он выхватил меч. – Не волнуйтесь. Я не причиню вам зла, клянусь всей душой. Женский голос. Молодой женский голос. Она подошла к нему, и он сумел разглядеть ее лицо. Что-то знакомое, но он никак не мог понять, что именно. – Вы помните меня, рыцарь? Кипр, крест Фрейи, руны. С тех пор прошла целая вечность. – Святые небеса… грязная маленькая нищенка. Это вы, мадам? Ах да… Я узнаю этот удивительный взгляд, который я несколько дней напролет вспоминал после вашего… исчезновения. Моя сестра, мой друг… Леоне бросился к молоденькой девушке и прижал ее к себе. Она вся напряглась. Леоне не понял ее реакции и смущенно отступил назад: – Простите меня, но я так рад вас видеть… – Я тоже.Жестокие страсти бушевали, хотя и недолго, в душе Эскив д'Эстувиль. Проиграла ли она? Выиграла ли? Она так и не могла решить, каковым был подлинный исход безжалостной борьбы, в которой она противостояла самой себе. Прекрасный архангел никогда не узнает, что ради него она убила, напав со спины на командора тамплиеров. Он никогда не догадается, что всю ночь она прижимала его к себе, оберегая от холода в мрачном лесу. До конца своей жизни он не будет знать о бесконечной любви, заставлявшей ее беспокоиться о нем, мечтать о нем день за днем, ночь за ночью. Эскив улыбнулась. Она, несомненно, выбрала самое приемлемое решение. Если бы она позволила ему обращаться с ней с такой любовью, с такой нежностью, она, вероятно, умерла бы от отчаяния. Он навсегда останется ее обожаемым прекрасным архангелом. Она будет лелеять его в своей душе до самой смерти. Он станет ее всеобъемлющей любовью, столь совершенной, что никакой другой мужчина не сможет стать его соперником. Но он об этом ничего не узнает. Да разве ему необходимо об этом знать? По сути, какая разница? Она жила и дышала ради него.
– Вы нашли манускрипты? – с облегчением спросила она. Леоне схватил ее руки и нежно поцеловал их. Радостным тоном он ответил: – Ах… моя таинственная посланница. Мадам, будьте моей доброй феей! – Я всей душой стремлюсь к этому. И вы никогда не должны об этом забывать. Никогда. – Даю вам слово. – Теперь я должна ехать в Париж, мсье. Аннелета Бопре поможет вам. До встречи. Возможно, в этом мире. И наверняка в другом. Она отошла на несколько шагов, взяла себя в руки и прошептала, обращаясь к самой себе: – Рыцарь, желаю вам удачи. Я прослежу за этим. Леоне проводил ее до двери кабинета. Он осторожно открыл дверь и выглянул в коридор, желая убедиться, что путь свободен. Когда она исчезла, завернув за угол, госпитальер почувствовал в груди сладостную боль. Он больше никогда ее не увидит. В горестных раздумьях Леоне прислонился спиной к закрытой двери. Приглушенное эхо осторожных, но стремительных шагов вывело его из оцепенения. Аннелета Бопре, возбужденная, словно потревоженная блоха, буквально бегом ворвалась в кабинет, держа в руках башенку. За ней появился запыхавшийся Клеман. – Рыцарь… – воскликнула она. – Тише, сестра моя, говорите тише, прошу вас! – Прошу прощения. Вот свет. Как я поняла из слов этого очаровательного постреленка, что… ах, боже мой!., цель близка. Ах! Боже мой! Боже мой! – повторяла она, прижимая руку к сердцу. – Какое счастье, какая милость оказана мне! Как жаль, что нашей славной матушки больше нет с нами. – Нет, она с нами. – Вы правы, – согласилась она, протягивая к нему руку. – Я полная дура! В свое оправдание скажу, что после внезапного пробуждения я вся на нервах. Но я возьму себя в руки. Что надо делать? Я в вашем распоряжении, мсье. Но прежде… – продолжила она, нагнувшись. – Какая невыносимая банальность… Уф… Не могли бы вы отвернуться, мои милые друзья? У меня спадают чулки. Я так торопилась, когда этот молодой человек… одним словом, я не осмелилась прикрепить их… выше колен, и теперь мне приходится их поддерживать, что очень стесняет мои движения. Мне нужна всего лишь минута, не больше. Леоне и Клеман отвернулись. – Ядовитая гадина умерла. Ее отравили. Да, есть высшая справедливость! Жанна д’Амблен, добрый друг всех монахинь, наперсница нашей дорогой Элевсии! Ее убила мнимая аббатиса, очаровательная Нейра с изумрудными глазами, которая вернулась туда, откуда пришла, без манускриптов. Надеюсь, она попала в ад. Я многое отдала бы, чтобы увидеть, как расстроился Бенедетти! Вот. Теперь я могу предстать перед вами в полной готовности. Можете повернуться. Что надо делать? – Позвольте вам коротко рассказать вам, к каким выводам мы пришли. Потом мы вместе подумаем. Две головы хорошо, но три лучше. А я знаю, какой у вас проницательный ум. Щеки Аннелеты зарделись. Комплимент доставил ей такое удовольствие, что у нее не хватило мужества опровергнуть его, как того требовало монашеское смирение. Леоне, которого изредка прерывал Клеман, рассказал Аннелете о сделанных ими открытиях. Аннелета пришла в восторг: – Ах, чудо свершилось! Порой мне жаль, что я не мужчина. Я многое отдала бы, чтобы быть с вами в крипте. Я сильная. Я помогла бы вам сдвинуть лежащую фигуру. – Нам удалось это сделать, сестра моя. Но ваша помощь нам еще понадобится, – успокоил ее Леоне. – Посмотрите. Леоне развернул пергамент перед сестрой-больничной. – Эта та же самая роза, которая вот уже много лет служит мне путеводной звездой. Ее подлинное значение долго сбивало нас с толку. Но теперь жребий брошен. Истина совсем рядом. О чем вам говорит эта роза? Несколько секунд Аннелета рассматривала велень, а потом сказала: – Неужели цветок указывает на тайник? В таком случае, его надо вычислить, исходя из его положения в букве «о» слова bibliotheca. Тогда мы поймем, где он находится: в стене или в земле. Из сумочки, которая всегда висела у нее на поясе, Аннелета вытащила длинную иглу и воспользовалась ею как линейкой. Склонившись над большим столом, за которым столько времени проводила Элевсия де Бофор, Аннелета принялась измерять расстояние между розой, спрятанной в букве «о», и нарисованными на плане стенами тайной библиотеки, лестницей, ведущей в реставрационную мастерскую, и высокими бойницами. Затем она пером записывала полученные результаты на клочке бумаги. Наконец Аннелета выпрямилась и сказала: – Хорошо. Теперь нам надо определить масштаб. Длина внутренней стены библиотеки, идущей вдоль монастыря, составляет 2,3 иглы. Рыцарь, будьте любезны, прошу вас, пройдите вдоль стены, ставя одну ступню перед другой. Вернувшись через две минуты, рыцарь сказал: – Мне пришлось проделать это дважды, поскольку я сбился со счета. 31 ступня и еще чуть больше половины.[242] – Иными словами, одна игла означает 13 футов и половину гросса. Сестра-больничная принялась переводить в футы десятые доли длины иглы, что-то бормоча себе под нос. Леоне заговорщически улыбнулся Клеману, который в ответ понимающе кивнул. Они преподнесли Аннелете Бопре бесподобный подарок, призвав на помощь ее бесспорные умственные способности. Неожиданный крик заставил их вздрогнуть. Сестра-больничная закрыла рот руками и прошептала в свое оправдание: – Прошу прощения… Я знаю, надо говорить тихо. Но это от волнения. Я нашла. Место. Стена, напротив той, что вы измеряли. Аннелета развязала пояс, поддерживавший ее платье, разложила его на полу и обратилась к Леоне: – Поставьте сюда ногу, рыцарь, а я отмечу расстояние. Так нам будет легче обнаружить тайник. Минут десять Леоне и Клеман смотрели, как Аннелета измеряла поясом стены и плиты. Вдруг она протянула руку и, ни слова не говоря, указала на камень, расположенный прямо под кольцом, в который вставляли факел. – Это здесь. По крайней мере, расчеты указывают именно на это место. Они по очереди ощупывали камень, ища трещину, узенькую расселину, при помощи которой можно было бы привести в действие хитроумный механизм. Напрасно. Взяв в руки кинжал, Леоне попытался разбить известковый раствор. Через четверть часа он отказался от этой затеи. Никто не стал бы так прочно соединять камень, за которым скрывался тайник, с другими камнями. Лицо Аннелеты исказилось от досады. Она бросилась в кабинет, намереваясь проверить свои расчеты. Рыцарь повернулся к Клеману и спросил: – А ты что думаешь? – Мы на ложном пути. – Но что заставляет тебя так думать? – Эпитафия. Разгадка кроется там. Сестра-больничная, подняв голову, задумалась. Потом она попросила: – Клеман, принеси, пожалуйста, картулярий, в котором говорится о кончине Гийома д'Арвиля. Подросток исполнил ее просьбу. Аннелета нашла нужную страницу и стала читать, время от времени покашливая: – Хм… Дело в том, что в описании прошедших событий содержится много неточностей. Однако картулярии никогда не лгут, поскольку должны служить доказательствами. Поэтому их редакторы предпочитают опускать те или иные детали, чтобы избежать досадных ошибок. На честность редакторов можно с полным правом полагаться, поскольку мошенничество – а такие случаи бывали – строго наказывается. Хронисты хорошо усвоили это правило. Если в картулярии сказано, что мсье д'Арвиль умер летом, значит, мы должны в это верить. Мы никогда не узнаем, когда именно: в июле, августе или сентябре, но в любом случае не под Новый год. Тем более что он родился в июне, а вовсе не в начале филипповок. Мои выводы совпадают с выводами Клемана. Эпитафия хочет сообщить нечто иное: «Он ушел в шестой час филипповок и вернулся в девятый час нового года». Клеман кивнул знак согласия и добавил: – Меня удивляет, почему так точно указано время. Такую тщательность соблюдают лишь в отношении королевских семейств, когда речь идет о рождении наследников. А простые люди порой не знают не только в какой день, но и в какой месяц они появились на свет. Леоне согласился с Клеманом: – Я считаю, что если код и существует, его надо искать именно в этом направлении. Что ты предлагаешь, Клеман? – Немного поиграть в загадки, рыцарь. – В загадки? Сначала Клеман пояснил свою точку зрения: если данная фраза действительно была тайным шифром, то в ней содержался намек на какое-то событие, которое происходило каждый год в определенное время, поскольку человек, зашифровавший его, не мог знать, когда будут правильно истолкованы эти слова. Затем подросток задал своим спутникам простой, по крайней мере на первый взгляд, вопрос: что каждый год уходит в шестой час филипповок и возвращается в девятый час нового года? Речь не могла идти о филипповках, поскольку те заканчивались в Рождество. В кабинете воцарилось молчание. Аннелета прибегла к методу исключения, перечисляя все, что не могло происходить в этот временной промежуток: – Все религиозные праздники, за исключением Рождества нашего Спасителя. Сюда надо добавить все, что связано с землей, я имею в виду урожай, поскольку зима в разгаре… По этой же причине все, что относится к жаре и прекрасным денькам… Леоне попытался положить конец этому бесконечному списку: – Сестра моя в Иисусе Христе, возможно, противоположный список – того, что может произойти, – окажет нам более существенную помощь? – Вы правы, – согласилась женщина. – Однако составить его труднее. Впрочем, он поможет мне понять, как мало событий происходит в зимний период! – Полагаю, вы приблизились к ответу, сестра моя, – вмешался Клеман. – Регулярность и постоянство, поскольку эпитафия была сделана по крайней мере сто лет назад, наводят на мысль, что это событие связано с природой. Ненастье непредсказуемо, приливы и отливы происходят слишком далеко от нас. Кроме того, я никогда не слышал, что они могут продолжаться больше месяца. Что касается затмений, они тоже непредсказуемы и к тому же длятся недолго. А вот солнце и луна возвращаются к нам каждый день и каждую ночь. – Разумеется, – согласился Леоне, – но круглый год. А нам требуется относительно короткое событие. Клеман, погруженный в размышления, кивнул головой и продолжил: – Речь не может идти о различных фазах луны. Их периодичность нам не подходит. – Вдруг он подпрыгнул на месте и выпалил на одном дыхании: – Я понял! Теория Валломброзо. Вращение Земли вокруг Солнца. Сейчас мы находимся очень далеко от светила, и поэтому стоят морозы. Свет и тени меняются местами! Бойницы! Разумеется, бойницам специально придали такую форму, чтобы их невозможно было отметить снаружи. Но я готов дать голову на отсечение, что они обладают еще одной функцией: свет проникает через них под определенным углом, из-за чего появляются светящиеся гало и своеобразные тени! – Иисус милосердный, до чего же он умен! – воскликнула Аннелета. – Мне не хватает слов, чтобы выразить свое восхищение! – сказал Леоне. – Значит, нам придется дождаться девятого часа завтрашнего дня, поскольку новый год уже близок. – Скоро всенощная, – напомнила Аннелета. – Устраивайтесь в библиотеке. А я прокрадусь на кухню до того, как встанет наша добрая, но придирчивая Элизабо Феррон, сестра-трапезница, и принесу вам что-нибудь поесть. Потом я вас запру, а чуть позже вновь присоединюсь к вам.
Мануарий Суарси-ан-Перш, декабрь 1304 года
Аньес стояла лицом к камину, слабо обогревавшему неуютный общий зал. Она не соизволила повернуться и склониться в изящном реверансе перед своим сюзереном. – Мадам… я… Ожье принес меня на всем скаку. Я… Аньес подняла руку и срывающимся голосом потребовала: – Три слова, мсье. Или вы забыли, на чем мы расстались? На чем вы покинули меня? Три слова, или навсегда уходите из этого мануария и наших жизней. Из моей жизни. Вы человек чести. Я знаю, что вы не будете мстить мне и моим челядинцам за то, что вы сами оказались неспособны выговорить эти слова. Я по-прежнему буду воздавать вам почести, выполнять свои обязанности и платить подать. Но этим и ограничится наше общение. Я жду, мсье! Святые небеса! Она отрезала ему путь к отступлению. Она пугала его так, как еще никто не мог испугать, даже когда ему было пять лет. В этом возрасте, как периодически напоминал графу его дорогой Ронан, он совершал безумные поступки и глупости. Позднее дамы – вернее, не совсем дамы, а потаскухи, – оказывали ему честь, находя его привлекательным. Приятным воспоминанием о слабости прекрасного пола навсегда осталась молодая шлюха из Константинополя, которая подарила ему чудесную ночь в обшарпанной конуре лупанария большого базара. Она ничего не продавала, потому что он ничего не покупал. Она просто схватила его за руку, рассмеявшись: «Ты мне нравишься. Ты странный, дружок. Странный и нежный. Что еще надо такой девице, как я?» Вдруг став серьезной и робкой, она добавила, потупив взор: «Я знаю, о чем могу тебя попросить. Отблагодари меня утром так, словно я дама». Утром он накрыл ее одеялом, поцеловал руку и прошептал: – Мадам, вы удивительный цветок, который я никогда не забуду. Покорнейше благодарю вас. Взгляд прекрасных карих глаз следил за ним, когда он положил руку в карман, чтобы достать несколько монет. Но когда он вытащил руку, в ней ничего не было. Он осыпал ее лоб и ноги поцелуями, которые той ночью стоили дороже денье. Инстинктивно найдя дорогу к изящным чувствам, продажная и покупаемая, поруганная и осмеянная женщина обрела величие, которое подходило ей так же безупречно, как и расшитая золотыми нитями перчатка. Тревожно улыбнувшись, женщина сказала: – Мсье… Если по странной случайности наши дороги вновь пересекутся… Окажите мне милость, узнайте меня. Я… Одним словом, с какой бы спутницей вы ни были, я забуду, где мы встретились и чем занимались. Представьте меня как… случайную знакомую, или мимолетное увлечение друга, или недостойную девицу, я не обижусь… Но только не делайте вид, будто не узнали меня. Внезапно осознав, какая пустота окружала эту женщину, как она отчаянно боролась за свое существование, он смутился, решив преподнести ей подарок, но не золото или серебро: – Мадам… вы оскорбляете меня! За кого вы меня принимаете? Если, как вы говорите, по странной случайности наши дороги вновь пересекутся, я прошу… нет, я требую, чтобы вы удостоили меня танцем или беседой. Уверяю вас, беседа не будет для вас обременительной, даже если вы будете не одна. Ну, мадам, дайте слово, немедленно. Только не давайте опрометчиво, ведь я его не забуду… ей-богу! Женщина рассмеялась, от удовольствия, натягивая одеяло до самого подбородка. Он подумал, что сейчас она похожа на ту девушку, которой, вероятно, была до того, как ее продали на невольничьем рынке в Константинополе, одном из самых известных рынков Среднего Востока, где торговали белым товаром. Радостная, она мило жеманничала, когда согласилась на то, что всегда останется ее самым прелестным воспоминанием: – Танец или беседа? Как пожелаете, мсье. Да… вы требуете слово дамы… я даю вам его. Охотно. Она догнала его, когда он уже выходил из этой конуры, украшенной кроваво-красными тканями и безвкусными безделушками. С улицы врывался не умолкавший ни на секунду шум базара, его сделок, обменов и торгов. Голоса кричали, торговались, беззлобно оскорбляли друг друга. До них доносились надменные крики и отвратительный тяжелый запах «горных слонов»,[243] который, как говорили, обратил лидийскую армию в беспорядочное бегство.[244] Иногда они слышали нечленораздельную болтовню попугаев, которых торговцы заставляли по нескольку раз повторять одно и то же, набивая им цену. Ароматы корицы и мускатного ореха смешивались с затхлой вонью коровьего навоза и человеческих экскрементов, с испарениями мускуса и ириса, с металлическим запахом почерневших от мух баранов, висящих на крюках перед лавками. И все это создавало атмосферу, которую было невозможно спутать с любой другой: атмосферу чрева Константинополя. Продажная женщина, имени которой он не знал, прошептала: – Помни обо мне! Помни! Я дала тебе слово. Потребуй его, когда мы снова встретимся, прошу тебя. Ради меня… Беседа, шербет с миндалем, медовая патока с лепестками роз, чашка чая, неважно, что ты предложишь мне в тот день. Он вновь поцеловал ей руки и прошептал, прижавшись к ее тонкой коже: – Мадам, никогдане забывайте, что вы оказали мне честь. Вы совершенный солнечный луч, который будет освещать дорогу измученного путника. Да хранит вас Господь. Если мы когда-нибудь свидимся… Я без колебаний напомню вам о данном мне слове, даже если вы сочтете меня невыносимым грубияном. Уверяю вас, вам не удастся отделаться от моей настойчивости. Он лгал. Он был уверен, что больше никогда ее не увидит. Однако будущее показало, что эти лживые слова были одними из немногих, которыми он гордился.Аделина вошла в просторный общий зал, неся кувшин вина, сдобренного пряностями, и хлеб, замешанный на сметане, яйцах и меду,[245] которые она быстро поставила на стол, прежде чем исчезнуть, смущенно бормоча: – Вот… мадам… я испугалась и… – Я по-прежнему жду. – Три слова? Вы хотите их услышать? – спросил граф. – Я требую их. Сейчас, мсье, вы говорите не со своим вассалом, а с дамой. И как велит обычай, у меня есть привилегия приказывать, даже вам, – сказала Аньес, так и не обернувшись к графу. – Хорошо. Я принимаю и уважаю ваше положение. Три слова! Черт возьми! – выругался он, а потом продолжил: – Прошу прощения, порой я употребляю слова, не предназначенные для ушей прекрасного пола… Привычка, свойственная крестьянам и солдатам. Три слова… Вы требуете их, словно речь идет о сделке, которую легко заключить, ударив по рукам! Если бы это было так просто… Аньес не шелохнулась, ничего не сказала. Она стояла неподвижно как статуя. – Да помогите же мне в конце концов! – взмолился он. Напрасно. Вот уже несколько минут Артюс д'Отон пытался сдержать безумный счастливый смех, готовый вырваться из груди, – он, который не смеялся целую вечность. Конечно, ситуация была чертовски раздражающей, выводящей из себя, но все же – боже мой! – он был счастлив. Эта женщина была умной, красивой и нежной, как ангел, и в то же время твердой и упрямой как осел. Стадо ослов. Он безумно любил ее, а она изводила его, хотя и не лишала надежды. Жизнь возвращалась к нему бурным потоком, ошеломляя и озадачивая его. Хорошо. Сейчас он не должен был вступать в схватку с достойным врагом. Нет, ему просто нужно было убедить дорогую и желанную даму в абсолютной искренности и прочности своих чувств. Разумеется, ему, искусному фехтовальщику, было бы легче сразиться с тремя противниками. К сожалению, женщины лучше владели оружием любви. Они в совершенстве владели им, знали все его приемы. Неудивительно, ведь любовь – неважно какая – была делом всей их жизни. В глубине души Артюс хотел, чтобы это всегда было так. Терзаемый страхом, очарованный, на седьмом небе от счастья, он бросился в бой: – Я люблю вас, мадам. Страстно, горячо, отчаянно. Ведь вы хотели услышать именно эти три слова? А то я могу повторять до бесконечности: вы моя надежда. Я себя презираю. Я жду вас. Я жажду вас. Клянусь своей жизнью. Клянусь своей душой. Сжальтесь, полюбите меня. Сжальтесь, будьте моей женой. Ах… Боже мой, эта фраза состоит из четыpex слов! Наконец Аньес повернулась и одарила графа такой прелестной улыбкой, какой он еще никогда не любовался. Игривым тоном она спросила: – Вы подшучиваете надо мной? Как ни странно, графу сейчас было не до шуток. Суровый, почти мрачный он потребовал: – Мадам… Я открыл перед вами душу. Я жду ответа… или отказа, быстрого и достойного. Аньес посмотрела на Артюса так, словно тот лишился рассудка, и воскликнула: – Отказа? Да вы с ума сошли! Внезапно разозлившись, она с негодованием сказала: – Боже мой… Значит, это не вымыслы! Что влюбленные мужчины становятся глухими, слепыми… и даже в какой-то степени немыми! Разве вы ничего не видите? Разве вы ничего не поняли? Невероятно! Дама бесконечно любит мужчину, который бесконечно любит ее. Черт возьми!.. Неужели такое происходит впервые? – Теперь настал мой черед бояться, что вы подшучиваете надо мной. Впрочем, неважно. Вы так и не произнесли этих трех знаменитых слов, мадам. Я жду. – Три слова? О, но они не внушают мне страха. Они так давно звучат во мне, мсье. Хотите, я прокричу их, спою, прошепчу или даже напишу? Я люблю вас, бесконечно, навсегда, мой любезный сеньор. Граф, протянув руки, бросился к ней, но Аньес отступила назад, прошептав: – Я так… потрясена, немного испугана. Прошу прощения… я не привыкла… По правде говоря… я немного смущена, поскольку чувствую себя юной девушкой, хотя у меня есть ребенок. Вы были правы, хотя и обидели меня в тот момент. Я была так мало замужем, что почти ничего не знаю о замужестве. Разумеется, я… выполняла супружеские обязанности, но… Граф поцеловал Аньес руку и погрузил взгляд своих темных глаз в бездонные голубые глаза, смотревшие на него: – Мадам, милая моя, с моей стороны было бы высокомерием думать, что я буду принуждать вас к обязанностям, супружеским или иным. Но я… осмеливаюсь полагать, что мы добровольно соединим свои судьбы как влюбленные, добрые друзья и супруги… Не заблуждайтесь. Я ждал этого момента всю свою жизнь. Граф отпустил руки Аньес и крепко обнял ее за плечи. Аньес вздрогнула. – Вы понимаете? Я уже не молод. Я знаю, что мне довелось пережить, я знаю, чего я больше не хочу. Вернее, я знаю, меда я хочу. Вас. – Он опустил веки, и она пожалела, что так пристально смотрела ему в глаза. – Ах, мадам, я обезумел от радости… Я вовсе не веселый человек. Мой бальи, которого вы знаете, находит меня мрачным. Как и все остальные. Мне не хватает легкости, юмора. Знаете ли вы, что благодаря вам я впервые со времен детства рассмеялся, когда вы рассказывали мне о своих злоключениях с пчелами? С этой самой минуты я не сомневался, что вы навсегда покорите мое сердце. Мадам, ко мне возвращается жизнь. От вас. Я чувствую, как она вливается в мои жилы. Это ранит, обжигает и опьяняет. Когда? Когда я могу показать вам своих горделивых лебедей, нежных лам-альбиносов, моих несносных павлинов, чтобы объяснить им, что отныне вы будете их повелительницей? События развивались стремительно. Вдруг Аньес стало страшно. Все было таким новым, таким непривычным. Но этот мужчина ей так дорог… Аньес овладело странное чувство, ею, которая никогда не испытывала сильных чувств к другим людям, кроме своих дочерей и мадам Клеманс. Впрочем, Артюс ныл мужчиной, а она прежде не знала подобной любви. – Но Суарси, мои люди… я не могу бросить их. – Мы назначим управляющего. Что касается ваших людей, в частности этого постреленка Клемана, вы выберете тех, кто последует за вами. Они будут желанными гостями в нашем графстве. Аньес закрыла глаза и прошептала: – Я люблю вас… я люблю вас, я люблю вас… Ах! Как мне приятно говорить вам «я люблю вас», слова, которые до сих пор я произносила только… детям. Аньес почувствовала, как к ее губам прикоснулись губы графа. Ей показалось, что этот долгий поцелуй был первым в ее жизни. Несомненно, так оно и было. Когда он отпустил ее, Аньес задрожала. Она боролась с желанием броситься к нему, прижаться всем телом. Граф все понял по глазам Аньес и медленно покачал головой, улыбаясь: – Мне надо ехать, мадам, немедленно, иначе я впаду в грех… во множество грехов, которые мне никогда не отпустят. – Неужели это действительно так? – Не искушайте меня. Я легко поддаюсь на соблазн, если он исходит от вас. У меня нет ни малейшего желания сопротивляться. Сейчас мне приходится делать над собой невероятные усилия, чтобы остаться истинным дворянином. И это я, который думал, что можно доверять дамам, известным своей рассудительностью! – Хорошо. Но вы сами виноваты в этой слабости, этом безрассудстве, которое порой овладевает мной… и ошеломляет меня, признаюсь вам искренне. Граф принял комплимент, кивнув головой, и быстро, но с сожалением откланялся. Мысль о жизни, бившейся под его кожей. Мысль о силе, которую он чувствовал в каждом своем движении. Мысль о своем существовании, наконец. Мысль, что годы, лежавшие на его плечах тяжелым бременем, испарились, словно грозовая туча. Мысль, что он был мужчиной, которого удивительная, потрясающая, странная женщина избрала своим единственным мужчиной, не принимая в расчет его состояние и титулы. Он мог бы потребовать и получить любую женщину. Однако ту, которую он желал всем своим сердцем, связывала с ним тонкая, но вместе с тем прочная нить. Нить, которую она сама соткала и которая привела ее к нему. Она не простая, и с ней будет непросто. Граф усмехнулся, садясь в седло. Ожье затряс гривой, приветствуя хозяина. Ронан будет повторять ему любезным, но не допускающим возражений тоном, что «мысли дам такие сложные вовсе не потому, что они думают иначе, чем мы. Впрочем, опыт показывает, что зачастую их мысли оказываются правильными». Жизнь была настоящим чудом. Почему он так долго в этом сомневался? Почему он так долго ждал, чтобы осознать это? – Ожье… твой хозяин сошел с ума. Безумец, сошедший с ума от любви. Разумеется, это гораздо лучше, чем быть мрачным мудрецом, ты не находишь? Я покончил с грустью, которая так долго не покидала меня. Это прекрасная новость, мой доблестный. Поехали. Нам надо вернуться, пока я не переменил решение и не выбил дверь спальни моей дамы. А до этого рукой подать. Вези меня, Ожье. Мой славный Ожье, до чего же сложна человеческая жизнь! Проехав несколько туазов, граф возобновил свой монолог: – Ожье… я мечтаю о ее руках, шее, коже… Наконец… понимаешь ли… Я мечтаю о ее смехе, радостных восклицаниях, когда мы вместе будем гулять в саду. Я мечтаю о ее восхищении, когда она откроет для себя все, что подарит ей замужество… Но что самое худшее, дорогой Ожье, я даже не уверен, что ее привлекают земные блага. Однако я уверен, что пруд, деревья, цветы, павлины и лани очаруют ее. Почувствовав себя философом, зашедшим слишком далеко в своих надеждах, граф продолжил: – Нет, Ожье. Вопреки утверждениям Ронана, женщины сделаны из другого материала, отличного от нашего. Обрати внимание, я не говорю, что этот материал менее ценный. В любом случае, он более возбуждающий, по крайней мере для мужчин. А раз так, надо быть честным: он другой, если не сказать – непостижимый. Радостно рассмеявшись, граф склонился к шее Ожье. Вдруг он понял, что разговаривал с конем, словно тот был великим Mудрецом. Впрочем, у Ожье было одно несомненное достоинство: он никогда не спорил.
Женское аббатство Клэре, Перш, декабрь 1304 года
Колокольный звон известил о начале девятого часа. Аннелета, сославшись на необходимость провести очередную инвентаризацию в гербарии, не пошла на мессу. Хотя после смерти отравительницы в аббатство вернулось относительное спокойствие, страх так и не покинул его стены. Регулярные инвентаризации гербария придавали монахиням уверенности. Благодаря им Аннелета могла предотвратить новое подлое преступление. Берта де Маршьен, выполнявшая обязанности заместительницы аббатисы после отъезда мадам де Нейра, поощряла сестру-больничную, без устали хлопотавшую в своих маленьких владениях. Аннелета Бопре шла решительным шагом. Чтобы отвести подозрения и пресечь любопытство, она решила на минуту заглянуть в гербарий, а затем украдкой выйти, когда все монахини соберутся на молитву в церкви. Она миновала столовую и уже собиралась выйти в огороды, как услышала странные звуки, доносившиеся с кухни. Она крадучись подошла к высокой двери, ведущей во вселенную, которую так любила несчастная Аделаида Кондо. Сначала Аннелета увидела чулки и колыхавшиеся складки платья. Стоя к ней спиной на табурете, монахиня пыталась дотянуться до большого глиняного горшка, в котором Элизабо хранила мед. – Что вы делаете, сестра моя? – прорычала Аннелета. Раздался крик, и табурет покачнулся. Аннелета бросилась к горшку с медом и вовремя подхватила его. Монахиня, сделав кульбит, с грохотом упала на пол. Эмма де Патю, сестра-учительница, распласталась на полу в довольно неприличной позе: ее платье задралось до самой головы. Аннелета помогла ей встать на ноги и, прищурив глаза, спросила: – Что вы здесь делаете? – Я…я…я… – Конечно, вы! А дальше? Вновь став высокомерной, Эмма де Патю презрительно посмотрела на сестру-больничную: – Ах так! Да кто вы такая? Вы забыли о своем положении? Дочь простолюдина! – Эти слова здесь совершенно неуместны! – прошипела Аннелета. – Впрочем, они меня совсем не удивляют, поскольку прозвучали из ваших уст. Да, я дочь простолюдина, но я не ворую мед у своих сестер, чтобы тайком обжираться, да еще во время вечерней мессы! Я не бью несчастных детей по щекам, вымещая на них свою злобу… Эмма де Патю открыла рот, чтобы возразить, но разъяренная Аннелета прокричала: – Молчите, обжора! Ваши щеки такие же жирные и обрюзгшие, как и ягодицы, которые я, к своему стыду, только что видела! Да, я простолюдинка, но я не заключаю сомнительные сделки с демоном, переодетым в инквизитора! Прекратите притворяться, будто вы удивлены, – продолжала Аннелета, не переводя дыхания. – Я все знаю! Наша любимая покойная матушка видела, как вы разговаривали с Никола Флореном, которого покарал сам Господь… Можете не сомневаться, я доложу об этом проступке нашей новой аббатисе. Преисполненная решимости нанести последний удар, чтобы отомстить за нанесенное ей оскорбление, Аннелета Бопре сказала язвительным тоном: – Не заблуждайтесь… Я уверена, что между вами не было греховной связи. В противном случае сеньор инквизитор доказал бы, что он не только чудовище, но и мужчина, лишенный всякого вкуса, да к тому же нетребовательный! Эти слова окончательно ошеломили Эмму де Патю. Ее жирные щеки затряслись, как свиной студень, а лицо стало мертвенно-бледным. – Сомнительные дела? – прошептала Эмма. – Да вы лишились рассудка! Я только один раз подошла к сеньору инквизитору, чтобы узнать новости о своем брате, который прежде служил инквизитором в Тулузе, а в ту пору получил назначение в Каркассон. Их пути там пересекались незадолго до отъезда мессира Флорена в Алансон. Несмотря на свое желание уличить Эмму де Патю еще и во лжи, Аннелета была уверена в ее искренности. Неважно, она еще не закончила. – А мед? Или вы будете утверждать, что решили проверить, не прогорк ли он? Реакция Эммы де Патю застигла Аннелету врасплох. Учительница расплакалась, затряслась, как бесноватая, и запричитала: – Я голодна! Я хочу есть… Всю свою жизнь я испытываю чувство голода. Мой желудок содрогается от спазмов, я едва передвигаю ноги. Я устала от этих постов, постных дней, различных изощренных покаяний, которые зимой становятся еще более невыносимыми. Я умираю от голода с утра до вечера! Голод озлобляет меня, портит настроение. Я выхожу из себя и срываю злость на детях. И за это я сама себя ненавижу! Я хотела любить Бога, но не умирать от истощения каждый день, который Он дарует нам! Это крестный путь. Послушайте: моя жизнь превратилась в крестный путь! Вместо того чтобы молиться, как я хотела, предаваться размышлениям, ибо это моя страсть, я, едва закрыв глаза, вижу колбасы, ломти хлеба с румяной корочкой, фруктовые пюре, ароматное жаркое… Я проклята, проклята… – рыдала Эмма де Патю, закрыв лицо руками. Невыносимая печаль Эммы де Патю растрогала сестру-больничную. Понимая, что именно она заставила Эмму так страдать, Аннелета протянула Эмме горшок с медом, сказав: – Держите, ешьте. Я ничего не скажу Элизабо.Когда Аннелета прокралась в тайную библиотеку, она увидела, что рыцарь де Леоне и Клеман стоят, не отрывая взгляда от высоких бойниц. Она подошла ближе и взволнованно прошептала: – Ну что? – Вы пришли вовремя, сестра моя, – откликнулся Леоне. – Пока еще ничего не произошло. Ведь день еще не угас. Мадам, внимательно смотрите на стены и пол. Аннелета послушно встала в центре просторной библиотеки и стала медленно поворачиваться вокруг себя. Вскоре к ней присоединились Леоне и Клеман. Клеман вытер потные ладони о браки. Сначала он решил, что эти секунды были, несомненно, самыми долгими в его жизни. Но нет! Нет, самыми бесконечными были секунды, которые текли тогда, когда его дама томилась в застенке. Клеман и Аннелета вскрикнули одновременно. Вытаращив глаза, сестра-больничная показывала пальцем на одну из этажерок, ту самую, которую можно было отодвинуть и под которой рыцарь де Леоне спрятал трактат Валломброзо. Леоне и Клеман бросились к светящемуся пятну размером с ладонь. Своей формой оно, безусловно, напоминало распустившуюся розу. – Это решетка на бойнице, чтобы грызуны и птицы не могли попасть в библиотеку и испортить книги, – объяснила сестра-больничная. – Отсюда мы не можем видеть ее. Но я готова поклясться, что именно решетка придает пятну форму розы. – Скорее, помогите мне. Нужно отодвинуть этажерку, пока пятно не исчезло. На стене светящееся пятно оказалось в самом центре большого камня. Когда Леоне ногтем поскреб известковый раствор, связывавший камень с другими камнями, тот сразу же начал сыпаться. Песок специально смешали с небольшим количеством гашеной извести, чтобы он не смог затвердеть. Леоне вставил пальцы в образовавшиеся отверстия и потянул. То, что они приняли за тяжелый камень, подалось так легко, что рыцарь потерял равновесие и чуть не упал. Это была пластинка обтесанного камня в палец толщиной. Позади нее находилась небольшая ниша. Никто из них не закричал от радости, не рассмеялся от счастья. Напротив, они благоговейно молчали. Леоне опустился на колени. Клеман и Аннелета последовали его примеру. Их объединила немая благодарственная молитва. Несмотря на переполнявшее его блаженство, Леоне боролся с отчаянием, пытавшимся овладеть им. Наконец он добрался до цели. Вот уже много лет – он даже не помнил сколько – каждый день, каждый час его существования был подчинен поискам. Во что превратится его жизнь потом? Леоне сурово корил себя за трусость, а также за эгоизм. Ему удалось взять себя в руки. Люди умирали, страдали, чтобы наступил этот миг. Впервые рыцарю по заслугам и по справедливости ордена Святого Иоанна Иерусалимского* стало стыдно за себя. – Рыцарь… мы не можем останавливаться на этом, – прошептал Клеман. – Знаю. Леоне подошел к маленькой нише. Ему показалось, что пришлось приложить титаническое усилие, чтобы протянуть руку. Его пальцы коснулись шероховатого свитка. Папирус. Сердце Леоне было готово выпрыгнуть из груди. – У меня подкашиваются ноги, – пожаловалась Аннелета. – Умоляю, не падайте в обморок, мадам, – встрепенулся Клеман. – Почему бы вам не пойти в кабинет? Мы скоро присоединимся к вам. Аннелета послушно вышла из библиотеки. Наконец Леоне и Клеман вышли из маленькой двери, спрятанной за гобеленом. Но виду них был расстроенный. Аннелета резко встала и испуганно спросила: – Это не папирус? – Нет, папирус, – ответил Леоне. – Но только текст написан не на арамейском, который я могу разобрать, а на незнакомом мне языке. За исключением одной фразы, одной-единственной, самой последней фразы, которую я знаю наизусть: «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Речь идет о Евангелии от Марка,[246] перекликающемся с Книгой пророка Даниила: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». – Боже мой… – выдохнула Аннелета. – Второе пришествие? Христос должен возродиться, чтобы вновь спасти нас. Как уточняет Священное Писание, другого царства не будет. Возможно ли… – Папирус усеян рисунками. Странными, даже вызывающими беспокойство. Причудливые роскошные растения, женщины, купающиеся в просторных водоемах, наполненных зеленой жидкостью.[247] – Женщины… голые? – удивилась Аннелета. – Да. У двух из них руки в крови, но они улыбаются. Кровь, текущая из их ран, зеленая. – Возможно, речь идет о глупой мистификации? – Не думаю. – Но разве кровь бывает зеленой? – воскликнула окончательно растерявшаяся сестра-больничная. Тоненький голосок ласково произнес: – Разумеется, нет… Но если зеленый цвет означает, что речь идет о другой крови? «Потомство передается по женской линии. От одной из них возродится другая кровь. Ее дочери увековечат ее». – Что значит «другая»? – Не знаю, – улыбнулся Клеман со слезами на глазах. Вот уже несколько мгновений он боролся с желанием убежать. Далеко, куда глаза глядят. Чтобы никто не смог его найти. Ее найти. Клеманс все поняла. Пророческое вмешательство Леоне во время судебного процесса, убийство Папы Бенедикта XI, решившего подготовить второе пришествие, неистовство Гонория Бенедетти, понимавшего, что оно подорвет основы Церкви, которые он и его приспешники постарались упрочить, и даже ужас, побудивший Аньес потребовать, чтобы девочка ни под каким предлогом не призналась рыцарю, кем она была на самом деле. Она была шестой женщиной, той самой, которая находилась в центре, окруженная пятью другими, в том числе Аньес. Аньес, ее мать. Ее мать, которая раньше них проникла в тайну. Ее мать, больше всего на свете жаждавшая защитить свою дочь от чудесной и вместе с тем страшной судьбы, ибо адская свора набросится на ту, которая осмелится возродить Свет. Подлые коварные души, процветавшие на отбросах мира, постараются уничтожить ее, ведь они не могли допустить, чтобы исчезли расчетливость, низость, подлость – все те пороки, которые позволяли им жировать. Кто выносит Младенца? Она или одна из дочерей ее дочерей? Клеманс боролась с неистовым желанием вырвать из рук Леоне папирус и уничтожить его. Спрятать другую кровь, зеленый цвет которой служил лишь символом. Она не хотела иной судьбы. Она хотела броситься к этой чудесной женщине, которая родила ее. Она хотела упасть перед ней на колени, целовать ее руки, расплакаться, упав ей на грудь. И ничего другого. Леоне догадался о душевных переживаниях мальчика, но связал их с находкой. Его самого раздирали противоречивые чувства: восторг, даже экстаз, сменялся облегчением. Наконец он нашел, но его поиски должны продолжаться. Аньес, как об этом свидетельствовал его сон, была не Женщиной, а одной из праматерей, после Филиппины. От нее родится Женщина, поскольку он не сомневался, что уже давно преследовавший его сон был вещим. И родившуюся девочку он должен будет хранить как зеницу ока. Леоне охватила сладостная, бесконечно грустная нежность к Элевсии де Бофор, Эсташу де Риу, своей матери, Клеманс, Филиппине и Бенедикту, которые в нужный момент указывали ему путь.
Женское аббатство Клэре, Перш, январь 1305 года
Через два дня немного раздосадованная Аннелета решила составить после девятого часа компанию Бланш де Блино, их бедной благочинной. Казалось, после ужасной смерти Жанны-отравительницы Бланш окончательно впала в старческое слабоумие. Сестра-больничная даже сомневалась, что старая женщина осознала всю подлость Жанны. Бланш сонно качала головой на мессах, засыпала над своей тарелкой во время ужина, а днем то и дело спрашивала, где их славная матушка Элевсия де Бофор, повторяя, что с утра не видела ее. Послушницы, сменяя друг друга, носили ей крепкие травяные отвары, которые готовила Элизабо. По вечерам Тибоде де Гартамп и Берте де Маршьен приходилось подолгу уговаривать Бланш покинуть обогревальню. Конечно, раздосадованная Аннелета думала, что ей не хватает милосердия, сострадания. К тому же все смерти несчастных монахинь, которых аббатство не так давно похоронило, были на ее совести. Она корила себя, что тогда не пожелала узнать их ближе. Аннелета Бопре заглянула в обогревальню. Бланш открыла глаза, но тотчас вновь сомкнула их. Несомненно, она спала, как об этом свидетельствовали легкое похрапывание и ровно вздымавшаяся грудь. Аннелета тихо подошла, боясь испугать Бланш: – Бланш, моя милая Бланш. Я принесла нам два кубка напитка из лепестков мальвы. Это должно нас обеих согреть. Я толкнула локтем Элизабо Феррон, когда она добавляла мед в ваш напиток, поскольку знаю, что вы очень любите его. Бланш, вы меня слышите? – Аннелета повысила голос. Старая дама вздрогнула. Казалось, она вышла из небытия. Бланш захлопала ресницами и только потом заметила сестру-больничную: – Ах… Аннелета, моя дорогая Аннелета! Как мило с вашей стороны… Вы пришли проведать меня. Но садитесь, прощу вас. Подождите, я немного подвинусь. Дайте… я поставлю эти горячие кубки, чтобы вы не обожгли руки. Старая дама осторожно поставила кубки рядом с теми, которые она уже успела выпить за день, проведенный в полусне. Ее движения были медленными, неуверенными. Сестра-больничная испугалась, что один из терракотовых сосудов сейчас может упасть на пол и разбиться. Но предлагать помощь Бланш ей показалось бестактным. В конце концов, все люди стареют и не любят, когда им об этом напоминают. Теперь, когда Аннелета пришла в обогревальню, она не знала, о чем говорить с этой женщиной, которую в глубине души всегда недолюбливала. Она начала: – Чтение Евангелий приносит огромное облегчение, не так ли? – О, разумеется, разумеется, – закивала головой Бланш. – С каждым разом я нахожу в них новые чудеса. – Конечно. На этом разговор на единственную придуманную сестрой-больничной тему иссяк. Аннелета, вздохнув, улыбнулась: – Почему бы нам не отведать эти вкусные напитки, пока они еще не остыли? – С удовольствием. Аннелета хотела встать, но Бланш решительно удержала ее, объяснив: – Нет, нет, моя дорогая. Мне надо двигаться. Мои старые ноги затекают. Позвольте мне. Дрожащей рукой Бланш де Блино протянула ей кубок. Аннелета пригубила напиток и с трудом сдержала гримасу отвращения. Напиток был приторно-сладким и к тому же холодным. Вероятно, благочинная ошиблась и дала ей свой кубок. Но сказать об этом было бы невежливо. Тем хуже. Она осушит его до самого дна. Впоследствии Аннелета не раз будет удивляться, насколько тесно связаны чувства и рассудок. Несколько крошечных секунд Аннелета смотрела на пар, поднимавшийся над напитком, который Бланш пила, причмокивая. И только когда она вновь прикоснулась губами к своему почти ледяному напитку, ее чувства послали рассудку тревожный сигнал. Аннелета подняла глаза. Безжалостный взгляд, сверливший ее, принадлежал не добродушной старой женщине, а сообщнице Жанны. Аннелета резко встала. Но Бланш неожиданно быстро бросилась на сестру-больничную и повалила ее на пол всей своей массой. Проявив удивительную для своего возраста проворность, разъяренная Бланш придавила коленом горло и грудь Аннелеты и заткнула ей рот своей широкой рукой. Сестра-больничная все поняла. Во время мучительной агонии Иоланде Флери удерживала в кровати не Жанна д'Амблен, а Бланш де Блино. Именно Бланш совершенно сознательно принесла отравленный напиток Аделаиде Кондо, чтобы затем утверждать, будто истинной жертвой отравительницы была она сама. Какой хитроумный прием, чтобы отвести от себя подозрения! Почему Аделаида? Неужели милая сестра-трапезница связала заказ Жанны на ржаной хлеб со смертью эмиссара Папы? Вне всякого сомнения. Бланш была такой же преступницей, как и Жанна. Аннелета задыхалась. Но ярость удесятерила ее силы, и сестра-больничная вонзила ногти в искаженное от ненависти лицо Бланш, царапая, раздирая кожу, вырывая куски плоти. Убийственная хватка ослабла. Сестра-больничная схватила своего врага за плечи и скинула с себя. Ей удалось встать, и она ринулась к двери. Бланш, почувствовав боль во всех суставах, барахталась на полу, тоже пытаясь подняться. Она завопила, как одержимая бесами: – Я вас ненавижу… всех! Сдохни, нищенка, сдохни! Несчастные безумицы, вот вы кто! Вы слишком тупые, чтобы понять, насколько опасны ваши химеры, ваши стремления к чистоте! Мир такой, каким он и должен быть! И хотя Аннелету трясло, она все-таки сумела вытащить ключ из двери и запереть обогревальню со стороны коридора. Бланш руками и ногами колотила в толстую дверь, осыпая Аннелету проклятьями и оскорблениями. Немного отдышавшись и придя в себя, Аннелета громко крикнула в ответ: – Демон, вот вы кто! Мы никогда не остановимся! Вы можете нас уничтожить, но на наше место придут другие. Знайте, убийца, скоро за вами приедет сеньор бальи. Вам не удастся избежать его суда, и приговор будет суровым. Но Аннелета ошибалась. Когда ранним утром приехал Монж де Брине в сопровождении двух жандармов, Бланш была мертва. Ее распухший посиневший язык свисал изо рта. Глаза, вылезшие из орбит, неподвижно смотрели на шкаф, в котором хранились чернильницы. На дне некоторых непригодных чернильниц они нашли остатки разных порошков. По цвету и запаху Аннелете удалось определить некоторые из них. Это были яды, купленные за пределами аббатства или украденные из ее гербария. Вланш не дремала в обогревальне. Она охраняла богатую коллекцию ядов, собранных Жанной, а также манускрипты.Эпилог
Вечером, через три дня после потрясающего открытия, сделанного Леоне и Клеманом при помощи Аннелеты Бопре в тайной библиотеке аббатства Клэре, Аньес забеспокоилась. Клеман, который так изменился, так отдалился от нее после своего возвращения из аббатства, исчез. Она осторожно поднялась по хрупкой лестнице, ведущей на чердак. Едва ее нога коснулась пола, как Аньес поняла, что на нее обрушилось новое ужасное бедствие. Вместе с Клеманом исчезла и его одежда. Она увидела записку, лежавшую на соломенном тюфяке.Мадам, моя обожаемая матушка! Мне пришлось взвешивать каждое слово, поскольку я решила, что это письмо будет коротким, иначе я исписала бы множество страниц толстого тома, признаваясь Вам в своей вечной любви. Три дня назад, глядя на этот папирус, я поняла, какой сильной любовью Вы любите меня, и эта уверенность является единственной вещью, которую я хочу увезти с собой. Можно ли идти наперекор судьбе? Не знаю, но попытаюсь сделать это благодаря отваге, которую я унаследовала от Вас. Ах, мадам, если бы Вы знали!.. Мой сон длился всего несколько секунд, но я поняла, что я Ваша дочь и как сильно Вы меня любите. Вот что я видела в этом сне. Я видела, как мы прогуливаемся на закате в роскошном саду замка Отон. Ваша рука лежит на моем плече, а я обнимаю Вас за талию. Мы смеемся, когда Вы то и дело путаете названия цветов, окружающих нас. Ах, мадам… какое блаженство! Такое короткое, но, возможно, оно еще наступит? Несколько стремительных мгновений до того, как я поняла, что я должна ускользнуть от рыцаря де Леоне и его союзников, от их абсолютной веры и чистой любви. Со своими врагами я решила сражаться в одиночку. Сон развеялся. Мне надо ехать. Знайте, мадам, где бы я ни находилась, Вы всегда будете рядом со мной. Да хранит Вас Господь. Я заклинаю небеса, чтобы на Вас не обрушились новые беды. Мадам, Ваша печаль доставит мне смертельные муки. Живите как добрая фея, какой Вы и являетесь на самом деле.Слезы душили Аньес. Она выпустила листок из рук, упала на колени. Из ее груди вырвался животный крик. Позже, намного позже она опустилась ничком на пол от изнеможения. Никогда! Она найдет ее, даже если ей придется босой обойти все королевство, обыскать каждый дом, каждую хижину. Она найдет ее! Аньес резко встала на ноги. Она никогда не смирится с отсутствием Клеманс.Клеманс, Ваша любящая дочь.
Артюс д'Отон не оставил Эду де Ларне ни малейшего шанса отступить. Словно орел, схвативший свою добычу, он прижал Эда к стене общего зала и сказал убийственно-спокойным тоном: – Вы скверный человечишка, Ларне, жалкий подлец, оскверняющий всю округу. Если на то пошло, я знаю, как заставить негодяев вроде вас расстаться с жизнью, и сделаю это без колебаний. Я получу от этого даже определенное удовольствие. Не Вводите меня в грех. Мгновенно уступив недвусмысленным угрозам монсеньора д'Отона, своего сюзерена, а теперь и зятя, Эд де Ларне нашел провинцию, где, по словам барона, его дражайшая племя кница воссоединилась с миром Господа. Однако он упорно повторял, будто больше ему ничего не известно. Конечно, Эд де Ларне не горел желанием испытать на себе остроту клинка Артюса д'Отона. Когда после упорных долгих поисков Аньес удалось выйти на след своей старшей дочери, она узнала, что Матильда де Суарси исчезла из аббатства два месяца назад, ночью, прихватив свои вещи, не забыв украсть несколько культовых предметов и дюжину книг, которые можно было легко продать. По улыбке матери-аббатисы Аньес д'Отон поняла, что беглянку практически не искали, поскольку ее пребывание в монастыре не оставило приятных воспоминаний ни у послушниц, ни у монахинь. Эта новость ошеломила ее, хотя намного меньше, чем она опасалась… или надеялась. Но внутренний голос подсказывал Аньес, что однажды Матильда вновь появится в ее жизни, хотя бы для того чтобы потребовать свое имущество, поскольку ее мать вышла во второй раз замуж.
Рыцарь де Леоне обрадовался, когда приор кипрской цитадели продлил ему отпуск во Франции. Арно де Вианкур велел Леоне тайно сблизиться с монсеньором де Го, архиепископом Бордо, чтобы защитить дело ордена госпитальеров. Рыцарь охотно исполнил приказ приора, позволявший ему наблюдать за мадам Аньес. Пятого июня 1305 года монсеньор де Го был избран Папой под именем Климента V. Новый понтифик, обладавший тонким политическим чутьем, оставил при себе камерленго Гонория Бенедетти, о котором теперь знал гораздо больше благодаря стараниям Арно де Вианкура, справедливо рассудив, что близкий враг безопаснее врага, плетущего заговоры вдалеке.
Гораздо выше, чем замок, земли и роскошные украшения, Аньес де Суарси оценила обещание своего любимого супруга, Артюса д'Отона, разыскать «шалопая» Клемана. В конце концов Аньес пришлось признаться удивленному графу, что мальчик на самом деле был девочкой, нуждавшейся в защите и покровительстве. Рассказывать обо всем остальном было слишком опасно, и Аньес решила из осторожности прибегнуть к спасительной лжи. Через год Аньес д'Отон, окруженная преданностью и неусыпной заботой супруга, который, по ее словам, превратился в «старую беспокойную курицу», родила мальчика, такого же темноволосого, как и его отец. Крошка, едва увидев свет, начал сучить ногами и весь день и добрую часть ночи требовать грудь. Повитуха, сразу же полюбившая горластого малыша, подхватила его на руки и, как это было принято при рождении первого наследника, понесла показывать, «что их у него два, да и он сам ладно скроен, слово присяжной матроны».[248] Аньес захотела назвать своего первенца мужского пола Филиппом. Все расценили это как дань уважения королю. Аньес не стала никого разубеждать, хотя ни секунды не думала о короле. Просто это имя пришло ей на ум ранним утром, едва она проснулась, за несколько дней до родов. А повитуха рассказывала всем, кто хотел ее выслушать, но особенно тем, кто угощал ее вином в таверне города, что за нее долгие годы своего ремесла ей еще никогда не приходилось принимать таких родов. «Ветерок, говорю я вам! Этот весельчак весом в девять фунтов вылетел из нее, как ветерок. Я даже не успела взять лохань, как он уже выскочил, посиневший от рева! А ведь по ней не скажешь. Она такая изящная, но просто создана для того, чтобы дать жизнь многочисленному крепкому потомству».
Узнав о рождении маленького Филиппа д'Отона, Франческо де Леоне уехал на Кипр. Дружба, которую засвидетельствовал ему Арно де Вианкур, согревала сердце рыцаря. И все же один вопрос не давал ему покоя ни днем, ни ночью: у нее должна родиться дочь! Род продолжается только по женской линии.
Благодаря бесценным указаниям мессира Жозефа из Болоньи разработка рудника От-Гравьер оказалась не такой трудной, как опасалась Аньес. Став после замужества богатой, Аньес поняла, что не в состоянии расстаться со своими привычками, приобретенными в бедности. Она откладывала все деньги, которые приносил ей рудник, чтобы затем отдать их Клеманс. Ведь ее любимая дочь вернется, так было надо, и Господь не позволит, чтобы Аньес жестоко страдала теперь, когда они обе могли быть такими счастливыми. Мессир Жозеф из Болоньи, который знал решительно все, как и говорила Клеманс, объяснил Аньес, что, конечно, можно было бы добывать руду для продажи сеньорам или монастырям, владевшим кузнечными печами, как это делалось повсеместно. Но на этот раз законы Нормандии благоприятствовали ей. В этой провинции существовали влиятельные Лиги кузнецов,[249] сосредоточенные в соседнем краю Уш. Лиги, не желавшие иметь дело с сеньорами и монахами, брали рудники в аренду, выплачивая их владельцам определенный процент. Аньес обратилась к нормандским кузнецам и ни разу не пожалела об этом.
Шпионы Арно де Вианкура, которыми руководил Клэр Грессон, рыскали по всему королевству в поисках маленького Клемана, мальчика с сине-зелеными глазами, но так и не могли найти.
Краткое историческое приложение
Абу Бакр Мухаммед ибн Закария ар-Рази (865 – 932) – известен под именем Разес. Персидский философ, алхимик, математик и талантливый врач, которому мы обязаны, в числе прочего, открытием и первым описанием аллергической астмы и сенного насморка. Он первым доказал связь, существующую между сенным насморком и некоторыми цветами. Считается отцом экспериментальной медицины. С успехом делал операции по удалению катаракты.Архимед (287 – 212 гг. до н. э.) – гениальный древнегреческий математик и изобретатель. Мы обязаны ему многочисленными открытиями в области математики, в частности открытием знаменитого закона, который носит его имя. Он также вычислил первое довольно точное значение числа я, был убежденным сторонником экспериментов и доказательств. Ему приписывают авторство многих изобретений, в частности катапульты, бесконечного винта, системы рычагов и блоков и зубчатого колеса. На проведенном недавно аукционе один из палимпсестов был оценен в два миллиона долларов. Предполагается, что в тексте, первоначально написанном на этом палимпсесте, говорилось о достижениях Архимеда в области вычисления бесконечно малых значений. Впоследствии этот документ использовали, чтобы записать на нем библейский текст. А ведь нам удалось вычислить дифференциалы только через две тысячи лет! Ходят слухи, что счастливым покупателем этого палимпсеста был Билл Гейтс. Документ был передан в Художественный музей Уолтерса в Балтиморе, где он стал объектом самых современных исследований.
Бенедикт XI (Никола Бокказини, 1240–1304) – Папа Римский. О нем известно довольно мало. Выходец из очень бедной семьи, этот доминиканец до самой смерти вел аскетический образ жизни. Один из немногих дошедших до нас исторических анекдотов красноречиво свидетельствует об этом: когда после избрания Бенедикта его мать захотела с ним встретиться, она надела свой лучший наряд. Но сын вежливо объяснил матери, что ее платье слишком богатое и он хочет, чтобы она и впредь оставалась скромной женщиной. Наделенный покладистым характером, этот бывший остийский епископ стремился смягчить разногласия, существовавшие между церковью и Филиппом IV Красивым, но вместе с тем проявил суровость по отношению к Гийому де Ногаре и братьям Колонна. Он скончался после восьми месяцев понтификата 7 июля 1304, отравленный фигами, или инжиром.
Бонифаций VIII (Бенедетто Каэтани, около 1235–1303) – кардинал и легат во Франции, затем Папа. Он был яростным защитником папской теократии, которая противостояла современному праву государства. Открытая вражда с Филиппом IV Красивым восходит к 1296 году. Страсти не утихли даже после смерти Папы, поскольку Франция предпринимала попытки начать процесс против его памяти.
Валуа Карл де (1270 – 1325) – единственный брат Филиппа IV Красивого. На протяжении всей своей жизни король испытывал к брату слепую привязанность и поручал ему миссии, которые, несомненно, были ему не по плечу. Карл де Валуа – отец, сын, брат, дядя и зять королей и королев – всю жизнь мечтал о короне, которую так и не получил.
Вальденсы, или лионские бедняки-братья, – одна из самых крупных ересей той эпохи, причем не только по своему распространению, но и по влиянию на население. Движение, ратовавшее за бедность, евангельскую чистоту и всеобщее равенство, было создано около 1170 года Пьером Вальдесом (Вальдо), богатым лионским купцом, который пожертвовал ему все свое имущество. Успех вальденсов, как и катаров, был во многом связан с недовольством церковными кругами. Сначала это движение выражало интересы зажиточных слоев общества, стремившихся к чистоте. У вальденсов в сан могли быть рукоположены и женщины. Вскоре инквизиция стала преследовать приверженцев вальденсов, поскольку они отрицали все, что расходилось со строгим прочтением Евангелий. Одни вальденсы примкнули к движению «католических бедняков», другие разбрелись по всей Европе, создав отдельные сообщества, которые существуют и в наши дни.
Вильнев Арно де, или Арнольдус де Вилланова (около 1230–1311), – уроженец Монпелье. Вероятно, один из самых авторитетных ученых XIII и XIV веков. Предполагают, что образование он получил в Испании, у братьев-доминиканцев. Этот врач, астролог, алхимик и юрист, наделенный весьма сильным характером, затевал многочисленные диспуты и без колебаний открыто нападал на нищенствующие ордена. Он не попал в руки инквизиции только потому, что лечил Бонифация VIII, который простил ему все допущенные «ошибки». Он лечил понтифика до самой его смерти, а затем был врачом Бенедикта XI и Климента V При этом он выполнял тайные поручения короля Арагона.
Гален Клавдий (131 – 201) – грек, родившийся в Малой Азии, один из самых крупных ученых античности. Будучи врачом в школе гладиаторов, он имел в своем распоряжении «добровольцев», чтобы совершенствовать свои знания в хирургии. Позднее он стал врачом Марка Аврелия и лечил двух его сыновей, Коммода и Секста. Гален был автором многих открытий. Он описал прохождение нервного импульса и его роль в мышечной деятельности, циркуляцию крови по венам и артериям, доказав, что артерии переносят кровь, а не воздух, как это считалось раньше. Он также доказал, что именно мозг контролирует голос.
Го Бертран де (около 1270–1314) – сначала был каноником и советником короля Англии. Выдающиеся способности дипломата помогли ему не поссориться с Филиппом IV Красивым во время войны между Англией и Францией. В 1299 году он стал архиепископом Бордо, а затем, в 1305 году, преемником Бенедикта XI, взяв имя Климента V. Плохоориентируясь в ситуации, сложившейся в Италии, он в 1309 году обосновался в Авиньоне. Не согласившись с Филиппом IV Красивым в делах, сделавших их противниками, а именно в том, что касалось посмертного процесса Бонифация VIII и уничтожения ордена Храма, тамплиеров, он занял выжидательную позицию. Ему удалось усмирить гнев монарха в первом деле и практически устраниться от второго.
Делисье Бернар – францисканец, яростный противник доминиканцев и их инквизиции. Независимость его ума помогла Делисье завоевать успех среди народа. Он призвал народ выйти на улицу в знак протеста, когда Филипп Красивый приехал в Каркассон в августе 1303 года. Дело дошло до того, что Бернар Делисье принял участие в заговоре, ставившим перед собой цель поднять Лангедок на борьбу с Филиппом IV Красивым. Делисье несколько раз арестовывали. Он окончил свои дни в тюрьме в 1320 году.
Занятие – см. Проституция.
Инквизиторская процедура – описание процесса, а также вопросы доктрины, которые задавали обвиняемым, были позаимствованы автором из «Руководства инквизитора» Николау Эймериха и Франсиско Пена.
Каркассон – в августе 1303 года во время посещения города Филиппом Красивым население Каркассона взбунтовалось против инквизиции. Горожанам оказывал помощь Бернар Делисье, францисканец (см. выше).
Катары – от katharôs, «чистый» по-гречески. Зародившись в Болгарии в конце X века, религиозное движение катаров получило широкое распространение благодаря проповедям священника Богомила. «Высшая ересь» подвергалась преследованию инквизицией. В общих чертах движение катаров представляет собой одну из форм дуализма. Необратимому Злу (материя, мир) катары противопоставляют Бога и Добро (совершенство). Они осуждали общество, семью, духовенство, а также не признавали евхаристию и причащение святых. Первые катары отрицали человеческую ипостась Христа, видя в нем ангела, посланного на землю, хотя и не были в этом абсолютно уверены. Сущность движения катаров сводится к требованию чистоты, которое распространяется также на отказ от мяса и половое воздержание. К движению катаров примкнули в основном духовно неудовлетворенные представители зажиточных и образованных кругов общества. Католическая церковь развернула борьбу против катаров в 1120 году, осудив их движение на соборе 1119 года, проходившем в Тулузе. Начались Крестовые походы против альбигойцев. С1209 по 1215 год крестоносцев возглавлял Симон де Монфор. Эта кровопролитная война, поддерживаемая инквизицией, закончилась лишь с падением последних крепостей катаров, в частности Монсегюра в 1244 году. От этого поражения движение катаров так и не сумело оправиться, тем более что идеал чистоты стали проповедовать нищенствующие ордена. Окончательно движение катаров прекратило свое существование около 1270 года.
Клэре – женское аббатство в департаменте Орн. Аббатство расположено на опушке леса Клэре, на территории прихода Маля. Строительство, решение о котором было принято в июне 1204 года Жоффруа III, графом Першским, и его супругой Матильдой Брауншвейгской, сестрой императора Оттона IV, продолжалось семь лет и закончилось в 1212 году. В церемонии освящения аббатства принимал участие командор ордена тамплиеров Гийом д'Арвиль, о котором мало что известно. Аббатство предназначалось для монахинь-затворниц ордена цистерцианцев, бернардинок, которые имели право разрешать уголовные и гражданские дела, опекунские дела и дела об обидах и выносить смертные приговоры.
Кретьен де Труа (около 1140 – около 1190) – об этом уроженце Шампани нам известно немногое. Любитель путешествий, возможно, клирик, он страстно увлекался поэзией Овидия. Он перевел «Искусство любви» римского поэта и возродил куртуазный роман, которому придал психологическую глубину. Играя символами и искусно плетя интриги, он порой обращался к чудесам, как в «Клижесе». Мы обязаны ему следующими поэмами: «Ланселот, или Рыцарь с телегой», «Ивэйн, или Рыцарь со львом», «Эрек и Энида» и, разумеется, самой известной – «Персеваль, или Сказание о Граале».
Лэ Марии Французской – двенадцать лэ, обычно приписываемых некой Марие, уроженке Франции, жившей при английском дворе. Некоторые историки полагают, что речь идет о дочери Людовика VII или графа Меланского. Лэ написаны до 1167 года, а басни – около 1180 года. Перу Марии Французской принадлежит также роман «Чистилище святого Патрика».
Ногаре Гийом де (около 1270–1313) – доктор гражданского права. Преподавал в Монпелье, затем в 1295 году вошел в состав Совета Филиппа IV Красивого. Круг его обязанностей быстро расширился. Сначала более или менее тайно он принимал участие во всех крупных религиозных делах, сотрясавших Францию, в частности в судебном процессе Бернара Сэссе. Затем Ногаре вышел из тени и сыграл решающую роль в деле тамплиеров и в борьбе против Бонифация VIII. Ногаре был человеком большого ума и незыблемой веры. Он ставил перед собой цель спасти одновременно и Францию и Церковь. Он стал канцлером короля, но затем уступил эту должность Ангеррану де Мариньи. Однако в 1311 году печать вновь вернулась к нему.
Орден Святого Иоанна Иерусалимского – Гостеприимный орден, госпитальеры, признан в 1123 году папой Паскалем II. В отличие от других рыцарских орденов, госпитальеры изначально ставили перед собой благотворительные цели. Лишь позднее орден взял на себя и военную функцию. После падения Акры госпитальеры нашли прибежище на Кипре, затем на Родосе и наконец на Мальте. Во главе ордена стоял Великий магистр, который избирался генеральным капитулом, состоявшим из высших должностных лиц. Орден подразделялся на «языки», или провинции, которыми в свою очередь управляли великие приоры. В отличие от ордена тамплиеров и несмотря на свое богатство, госпитальеры всегда пользовались благожелательной поддержкой общества. Вероятно, это было связано с благотворительной миссией ордена и смирением его членов.
Пена Франсиско. Используя приведенную в тексте цитату, автор прибег к сознательному анахронизму. Франсиско Пена был доктором канонического права, которому в XVI веке святой престол поручил переиздать «Руководство инквизитора» Николау Эймериха.
Покушение в Ананьи, сентябрь 1301 года. Бонифаций VIII, оказывавший сопротивление власти Филиппа Красивого, «был задержан» в Ананьи. Гийом де Ногаре, приехавший, чтобы известить Папу о вызове на собор, который должен был состояться в Лионе, случайно оказался на площади. Эти насильственные действия были обусловлены намерением Филиппа Красивого обложить французское духовенство десятиной, поскольку для продолжения войны с Англией требовались деньги. Некоторые историки, напротив, полагают, что, по приказу Филиппа Красивого, именно Гийом де Ногаре, прибегнувший к помощи братьев Колонна, питавших личную ненависть к понтифику, был организатором заточения Бонифация VIII в его покоях.
Проституция – к ней относились снисходительно, если она оставалась в границах, определенных властями и религией. Доктора канонического права XIII века считали, что это «занятие» не было аморальным при соблюдении определенных условий, в частности, если женщина «занимается ею по нужде и не находит в ней никакого удовольствия». В городах «девицы радости» были обязаны жить в определенных кварталах, их одежда должна была сразу показывать, чем они занимались. Отношение к проституции может показаться нам противоречивым. Но это ошибочное мнение, поскольку необходимо принимать во внимание умонастроение того времени. Речь идет об обществе, в котором мужчины обладали несравненно большими правами, чем женщины. Однако это общество понимало, хотя и не утверждало открыто, что проститутками становились только те, у кого не было других возможностей. «Девиц» рассматривали как грешниц, но вместе с тем Церковь заявляла, что женитьба на них была достойным поступком, и оказывала доверие мужчинам, которые брали их в жены. Если проститутки выходили замуж или поступали в монастырь, они считались «очищенными» от грехов своей прежней жизни. Изнасилование проститутки считалось преступлением и сурово наказывалось.
Религиозные нищенствующие ордена возникли в XII–XIII веках. Их отличительной чертой был, в числе прочего, отказ от земельной собственности. Проповедуя возвращение к евангельской бедности, они очень быстро стали пользоваться в обществе огромным успехом, что привело к вражде с белым духовенством, которое считало, что в значительной степени лишилось пожертвований мирян. Эти распри послужили причиной упразднения в 1274 года на Лионском соборе нищенствующих орденов, за исключением кармелитов, отшельников Святого Августина, доминиканцев и францисканцев. В 1294 году к нищенским орденам добавились целестины.
Роберт Болгарин – болгарин по происхождению, он увлекся учением катаров, получил высшую степень посвящения и стал доктором этой веры. Затем перешел в католичество и вступил в орден доминиканцев. Папа Григорий IX (1227–1241) увидел в нем «разоблачителя» еретиков, ниспосланного провидением. На самом деле представляется вероятным, что Роберт Болгарин специально устраивал ловушки самым ученым из катаров. Едва он был назначен в 1235 году генеральным инквизитором в Шарите-сюр-Луар, после убийства своего предшественника Конрада Марбургского, как начались зверства, леденящие душу пытки. Повергнутые в ужас дошедшими до них рассказами о расправах, архиепископы Санса и Реймса, а также несколько других прелатов выразили свой протест. Первое расследование, выявившее в феврале 1234 года бесчинства Роберта Болгарина, привело к отстранению его от должности. Тем не менее в августе следующего года он вновь снискал милость Папы и вскоре возобновил свои «развлечения». И только через несколько лет он был окончательно отстранен от власти и в 1241 году был приговорен к пожизненному заключению.
«Роман о Розе» – длинная аллегорическая поэма, принадлежащая перу двух авторов: Гийома де Лорриса, писавшего ее в 1230 году, и Жана де Мена, создавшего продолжение между 1270 и 1280 годами. Первая часть поэмы воспевает куртуазную любовь. Напротив, часть Жана де Мена гораздо более ироничная, если не сказать циничная, женоненавистническая и содержит плохо скрытые непристойности. Жан де Мен без колебаний нападает на нищенствующие ордена, говоря устами монаха по имени Притворство.
Средневековая инквизиция – следует отличать средневековую инквизицию от испанской святой инквизиции, прибегавшей к свирепым и беспощадным расправам, не имевшим ничего общего с тем, что происходило во Франции. Только за период, когда великим инквизитором был Томас Торквемада, в Испании погибло более двух тысяч человек. Сначала средневековая инквизиция находилась в ведении епископата. Папа Иннокентий III (1160–1216) установил правила инквизиторской процедуры, издав в 1199 году буллу Vergentis in senium. Намерения Папы не сводились к истреблению отдельных индивидуумов. Доказательством этому служат решения IV Латеранского собора, состоявшегося за год до смерти Папы. Эти решения запрещали применять ордалии к инакомыслящим. Понтифик стремился к искоренению ересей, угрожавших основам Церкви, поскольку они ставили под сомнения в том числе и бедность Христа как жизненную модель, впрочем, довольно сомнительную, если судить по огромным наделам плодородных земель, принадлежавших монастырям. Затем она превратилась в папскую инквизицию. Это произошло при Григории IX, отдавшем право вершить инквизиторский суд доминиканцам и в меньшей степени францисканцам. Папой двигали в основном политические мотивы, поскольку, сосредоточив этот институт в одних руках, он тем самым усилил его власть. Папа должен был во что бы то ни стало помешать императору Фридриху II встать на тот же самый путь по мотивам, которые не имели ничего общего с духовностью. Последний этап преодолел Иннокентий IV, разрешив своей буллой Ad Extirpanda, изданной 15 мая 1252 года, применять пытки. Впоследствии преследование колдовства было уподоблено охоте на еретиков. В наши дни преувеличивают реальное влияние инквизиции во Франции. Необходимо принимать во внимание тот факт, что на территории Французского королевства, находилось сравнительно мало инквизиторов, следовательно, инквизиция не смогла бы обрести такую значимость, если бы не пользовалась поддержкой светских властей и если бы к ней не поступали многочисленные доносы. Таким образом, благодаря возможности прощать друг другу любые прегрешения, некоторые инквизиторы оказывались виновными в таких чудовищных преступлениях, что они порой служили причиной для бунтов или резких выступлений возмущенных прелатов. В марте 2000 года, то есть примерно через восемь столетий после возникновения инквизиции, Папа Иоанн Павел II попросил у Бога прощения за преступления и ужасы, в которых она повинна.
Сэссе Бернар (? – 1311) – первый епископ Памье. Он поступил весьма неразумно, поставив под сомнение законное право Филиппа Красивого на престол Франции, дойдя даже до того, что начал плести заговор и предлагать графу де Фуа установить свой суверенитет над Лангедоком. Сэссе отказался предстать перед королем. Он рассчитывал прибыть к Бонифацию VIII, чтобы изложить свои жалобы. В конце концов Филипп Красивый отправил Сэссе в изгнание, и тот закончил свои дни в Риме.
Тамплиеры – рыцари Христа и Храма Соломона. Орден был создан в Иерусалиме около 1118 года рыцарем Гуго де Пейном и несколькими другими рыцарями из Шампани и Бургундии. Окончательно он был признан на соборе в Труа в 1128 году. В основу его устава было положено учение святого Бернара, а возможно, устав был написан самим святым. Орден возглавлял Великий магистр, которому помогали несколько высокопоставленных лиц. Владения ордена были весьма обширными (3 450 замков, крепостей и домов в 1257 году). Наладив систему денежных переводов вплоть до Святой земли, в XIII веке орден превратился в одного из главных банкиров христианского мира. После падения Акры – события, ставшего, по сути, для него роковым, – большинство тамплиеров вернулись на Запад. В конце концов общественное мнение стало относиться к членам ордена как к ростовщикам и лодырям. Об этом свидетельствуют многочисленные выражения, дошедшие до наших дней. Так, слова «я иду в Храм» произносили, отправляясь в бордель. Великий магистр Жак де Моле отказался объединить свой орден с орденом госпитальеров. Тринадцатого октября 1307 года начались аресты тамплиеров. Затем последовали расследования, признания (если говорить о Жаке де Моле, то некоторые историки полагают, что его признания были получены под пытками), отказы от ранее данных показаний. Двадцать второго марта 1312 года Климент V, боявшийся Филиппа IV Красивого по другим причинам, упразднил орден тамплиеров. Жак де Моле отказался от своих признаний и вместе с другими тамплиерами 18 марта 1314 года взошел на костер. Представляется доказанным, что расходы, понесенные в связи с проведением следствия по делу тамплиеров, процесс конфискации их имущества и его распределения среди госпитальеров намного превысили доходы, которые получил Филипп IV Красивый от уничтожения ордена.
Филипп IV Красивый (1268–1314) – сын Филиппа III Храброго и Изабеллы Арагонской. От Жанны Наваррской у него было три сына, будущие короли: Людовик X Сварливый, Филипп V Длинный и Карл IV Красивый, а также дочь Изабелла, ставшая супругой Эдуарда II Английского. Отважный, талантливый военачальник, Филипп Красивый отличался несгибаемостью и суровостью. Однако следует смягчить краски, поскольку современные историки описывают Филиппа Красивого как человека, которым манипулировали его советники, «осыпавшие короля лестью и отстранявшие его от дел». История главным образом сохранила свидетельства о его роли в деле тамплиеров, однако Филипп Красивый был прежде всего королем-реформатором, поставившим перед собой цель покончить с вмешательством Папы в политику Французского королевства.
Глоссарий
Литургические службы – богослужение, цикл которого был разработан в VI веке на основе устава святого Бенедикта, включает в себя – помимо мессы, которая не является его составной частью в строгом смысле слова, – несколько ежедневных служб. Эти службы определяют распорядок дня. Так, монахи и монахини-затворницы не могут ужинать до наступления ночи, то есть до вечерни. До XI века богослужение длилось практически целый день, но затем продолжительность служб была сокращена, чтобы монахи и монахини-затворницы могли уделять больше времени чтению и ручному труду. Утреня, или заутреня – около 2.30 или 3 часов. Лауды – до рассвета, между 5 и 6 часами. Первый час – около половины восьмого, первая дневная служба, сразу же после восхода солнца, непосредственно перед мессой. Третий час – около 9 часов. Шестой час – около полудня. Девятый час – между 14 и 15 часами. Вечерня – около 16.30–17 часов, при заходе солнца. Повечерие – после вечерни, последняя вечерняя служба, около 18–20 часов.Меры длины Перевод в современные меры сделан довольно произвольно, поскольку значение мер варьировалось в зависимости от того или иного района. Лье – примерно 4 километра. Туаз – от 4,5 метров до 7 метров. Локоть – 1,2 метра в Париже и 0,7 метра в Аррасе. Фут – примерно соответствует 34–35 сантиметрам.
Меры веса Эти меры, изначально установленные для определения веса золота и серебра, а следовательно, и веса монет, также варьировались в зависимости от времени, районов и даже от взвешиваемых продуктов. Так, мясной фунт не был равен аптекарскому фунту. Фунт варьировался от 306 до 734 грамм. Мы взяли за основу вес марки Труа (тройской марки), которая ходила в Париже и в центральных районах королевства. Фунт, то есть две марки – 489,5 г. Марка – 244,75 г. Унция – 30,60 г. Гросс – 3,82 г. Стерлинг – 1,53 г. Полденье – 0,764 г. Денье – 1,27 г. Гран – 0,053 г.
Меры емкости Пинта – чуть меньше литра. Горшок – две пинты, чуть меньше двух литров. Сетье – восемь пинт.
Денежные единицы Речь идет о настоящей головоломке, поскольку при каждом царствовании вводилась новая денежная единица. Впрочем, порой в том или ином районе ходили собственные деньги. В зависимости от эпохи деньги оценивались – или не оценивались – в соответствии со своим реальным весом в золотом или серебряном эквиваленте, а также ревальвировались или девальвировались. Ливр – расчетная единица. Один ливр соответствовал 29 су или 240 серебряных денье, а также 2 золотым королевским пти (королевские деньги при Филиппе IV Красивом). Турский денье (денье Тура) – постепенно вытеснил парижский денье. Двенадцать турских денье равнялись одному су.
Библиография
Blond Georges et Germaine, Histoire pittoresque de notre alimentation, Paris, Fayard, 1960. Bruneton Jean, Pharmacognosie, phytochimie et plantes médicinales, Paris-Londres-New York, Тех et Doclavoisier, 1993. Burguère André, Klapisch-Zuber Christiane, Segalen Martine, Zonabend Françoise, Histoire de la famille, tome II, Les Temps mé diévaux, Orient et Occident, Paris, Le Livre de poche, 1994. Cahen Claude, Orient et Occident au temps des croisades, Paris, Aubier, 1983. Chevaliers du Christ, les ordres religieux au Moyen áge, Xle – XVIe siècle, Paris, Seuil, 2002. Delort Robert, La Vie au Moyen áge, Paris, Seuil, 1982. Demurger Alain, Chevaliers du Christ, les ordres religieux au Moyen áge, Xle – XVIe siècle, Paris, Seuil, 2002. Demurger Alain, Vie et Mort de l'ordre du Temple, Paris, Seuil, 1989. Duby Georges, Le Moyen áge, Paris, Hachette Littératures, 1998. Duby Georges, Le Moyen áge, Paris, Hachette Littératures, 1998. Eco Umberto, Art et Beauté dans l'esthétique médiévale, Paris, Grasset, 1997. Eymerick Nicolau et Pena Francisco, Le Manuel des inquisiteurs, Paris, albin Michel, 2001. Favier Jean, Histoire de France, tome II: Le Temps des principautés, Paris, le Livre de poche, 1992. Flori Jean, Les Croisades, Paris, Jean-Paul Gisserot, 2001. Fournier Sylvie, Brève histoire du parchemin et de l'enluminure, Gavaudin, Fragile, 1995. Gauvard Claude, La France au Moyen áge du V au XV siècle, Paris, PUF, 2004. Gauvard Claude, Libera Alain de, Zink Michel (sous la direction de), Dictionnaire du Moyen áge, Paris, PUF, 2002. Jerphagnon Lucien, Histoire de la pensée; Antiquité et Moyen áge, Paris, Le Livre de poche, 1993. Libera Alain de, Penser au Moyen áge, Paris, Seuil, 1991. Pernoud Régine, Gimpel Jean, Delatouche Raymond, Le Moyen áge pour quoi faire? Paris, Stock, 1986. Pernoud Régine, La Femme au temps des cathédrales, Paris, Stock, 2001. Pernoud Régine, Four en finir avec le Moyen áge, Paris, Seuil, 1979. Pour en finir avec le Moyen áge, Paris, Seuil, 1979. Redon Odile, Sabban Françoise, Serventi Silvano, La Gastronomie au Moyen áge, Paris, Stock, 1991. Richard Jean, Histoire des croisades, Paris, Fayard, 1996. Siguret Philippe, Histoire du Perche, Céton, éed. Fédération des amis du Perche, 2000. Vincent Catherine, Introduction á l'histoire de l'Occident médiéval, Paris, le Livre de poche, 1995.Андреа Жапп Полное затмение
Предисловие
Эпоха средневековой Франции времен правления Филиппа IV Красивого воскрешена на страницах этой книги во всем своем ужасе и красоте. Это время куртуазных вельмож и грозных костров инквизиции, борьбы власти церковной и светской, крестовых походов, и папских тиар… Но одного имени автора на обложке достаточно, чтобы понять, что перед нами не просто исторический роман. Андреа Жапп трудно найти равных в жанре детектива, ее имя на обложке обещает невероятные хитросплетения сюжета, помещенные в исторический антураж Средневековья, подернутого дымкой притч и легенд. И нужно быть Шерлоком Холмсом или Эркюлем Пуаро, чтобы предугадать развязку. Сегодня Андреа Жапп – одна из самых продаваемых европейских авторов, а ведь она скрывала свой талант рассказчика много лет. Токсиколог по образованию, она на протяжении восемнадцати лет была руководителем научно-исследовательской лаборатории и к литературе имела отношение лишь как читатель вплоть до начала 90-х, когда, едва увидев свет, ее дебютный роман в 1991 году принес ей литературную премию Международного фестиваля детективов во французском городе Коньяк (Prix Cognac). Книга «Ледяная кровь. Полное затмение» – творение уже зрелого мастера: она разбита на два романа лишь затем, чтобы читатель мог перевести дух… Нет, не переживая вместе с главной героиней Аньес де Суарси, а выживая вместе с этим лучиком света в «темном времени», когда жизнь людей регламентировалась папскими предписаниями и несогласных сжигали заживо. Аньес чудом избегает подобной участи. Инквизитор, который вел грешницу к раскаянию в делах своих, странным образом погибает» сохранив Аньес жизнь и оставив глубокие шрамы от пыток. С Аньес снимают обвинения в колдовстве, но сказать, что опасность миновала, значило бы погрешить против истины. А тем временем из тайного хранилища в аббатстве Клэре пропадают манускрипты по некромантии и астрологии. Их обнародование привело бы на костер все аббатство, поэтому аббатиса Элевсия де Бофор приказывает закрыть ворота и никого не впускать и не выпускать. Похититель оказывается еще и душегубом: пока его ищут, происходит целая серия убийств монахинь, апогеем же бесчинства становится отравление самой аббатисы. В предсмертном письме своему племяннику госпитальеру Франческо де Леоне она рассказывает о том, что Аньес де Суарси – его кузина, а значит, в древнем пророчестве из секретной библиотеки аббатства речь идет именно о ней. Но ни аббатиса, ни Франческо не учли еще одну фигуру, а точнее изящную фигурку, которой на самом деле суждено увековечить другую кровь… Удастся ли героям избежать ловушек могущественного фанатика Церкви камерленго Бенедетти и отомстить за павших друзей? Ответ ищите в книге, где ненависть и любовь, кровь и слезы радости сменяют друг друга с безумной скоростью!Таверна «Старый карп», Отон-дю-Перш, Перш, июль 1306 года
Раймонда вздохнула с облегчением, вытягивая ноги, разбитые ревматизмом. Ах, какое счастье! Стаканчик вина, да еще в приятном обществе. Ее товарка не могла придумать ничего лучше. Она пнула ногой тяжелую корзинку с провизией, купленной на рынке. Мерзавцы! Конечно, последние два года кидались неурожайными, но эти негодяи торговцы, взвинтив цены, беззастенчиво грабили своих покупателей, как разбойники с большой дороги. Раймонда не позволяла себя одурачить и громко, как базарная баба, кричала, что это самое настоящее воровство. Так Раймонда и познакомилась с Мюгеттой, подошедшей к ней, когда она стояла у лотка. После очередной гневной тирады молодая женщина повернулась к пей и поддакнула: – Ах, моя хорошая, вы во всем правы! Прохвосты наживаются на нищете других. Подумать только! На Рождество фунт сала стоил четверть турского денье*.[250] А сейчас он уже стоит половину! И нас хотят заставить поверить, что свиньи пострадали от непогоды! Над кем они издеваются? Обрадовавшись этой неожиданной поддержке, Раймонда разошлась не на шутку. Алчный торговец, притворившись смущенным, опустил голову и терпеливо ждал, когда пронесется буря. В эти голодные времена он не испытывал недостатка в клиентах. Пусть эта жалкая старая кляча замолчит и уйдет! Она может возмущаться сколько угодно, его лоток все равно опустеет, а он сам битком набьет карманы к тому времени, когда крикнет «Ату!».[251] А что такого? Если у бедняков нет денег, чтобы покупать… да пусть подыхают! Они так расплодились, что никто не заметит исчезновения нескольких из них. Раймонда и Мюгетта сразу же прониклись взаимной симпатией и решили скрепить новую дружбу вполне заслуженным кувшинчиком вина в соседней таверне «Старый карп». Мюгетта, зажиточная крестьянка, если судить по ее льняному чепцу, отороченному кружевами, и аметистовому кресту, висевшему на тонкой черной ленте, не говоря уже об обручальном кольце с бирюзой размером с ноготь мизинца, в порыве щедрости, столь редкой в эти времена, воскликнула: – Я угощаю! Раймонда не заставила просить себя дважды. Она постоянно чувствовала усталость и была слишком старой, чтобы одной ходить за продуктами, но Ронан, слуга и наперсник графа д'Отона, не хотел ничего слышать. Телега, запряженная ломовой лошадью,[252] предназначалась только для крупных покупок, например, целого быка, оленя, убитого в лесу их сеньором, бочек с вином, пшеницы или овса. Все остальное приносили на руках или привозили на двухколесной тачке. Мюгетта позвала хозяина таверны: – Папаша Карп, принесите нам хорошего выдержанного вина. Мы его заслужили. Затем она с возмущением обратилась к Раймонде: – Чертовы рвачи! Они дерут с нас три шкуры. Мой супруг, мудрый человек, утверждает, что грядущие времена будут еще тяжелее. И, понимаете ли, я считаю, что он прав. Разумеется, нам не на что жаловаться, но совсем не по-христиански радоваться, когда столько людей страдают. Я так думаю. – И это служит прекрасным доказательством вашей любви к ближнему, – согласилась Раймонда, залпом выпив стакан и причмокнув языком от удовольствия. Мюгетта тут же налила ей еще вина, кивком приглашая выпить. – О, значит, вы служите у нашего добрейшего графа Артюса? – спросила она почтительным тоном. – Он настоящий мужчина, этот сеньор. Да, он не отлынивает от работы. Вы видели, как он косил ячмень? Как наши батраки![253] Вот уж прекрасный представитель сильного пола! – восторгалась молодая женщина. – Вы правы, – согласилась пожилая. – Кроме того, он справедливый и милосердный. – Я и говорю, что нам не стоит жаловаться. Конечно, можно было бы ожидать лучшего от погоды, портящей нам урожай. Но что поделать… Женщины спокойно беседовали обо всяких пустяках, обменивались рецептами соусов, настоек, помогавших избавиться от болей в горле, рецептами приготовления виноградных улиток[254] – такими, чтобы они не горчили. Одним словом, они были довольны друг другом. Раймонда с огорчением подумала, что ей надо возвращаться в замок, иначе не избежать очередного нагоняя от Ронана. Он видел все, знал обо всем. Можно подумать, что у него на затылке есть глаза. Женщины расстались при выходе из таверны, договорившись вновь встретиться в ближайший базарный день. Раймонда воскликнула: – Я отнюдь не богата, но в следующий раз угощаю я! – До скорой встречи, моя хорошая, счастливо, – попрощалась Мюгетта, заворачивая за угол.Раймонда медленно шла, толкая перед собой тачку. Она задыхалась. Боже мой, до чего же долгая дорога! Каменистая тропинка затрудняла ее путь. Порой она останавливалась, чтобы перевести дыхание. Она потребует, чтобы Ронан выделял ей помощника в базарные дни. Услышав за собой топот, Раймонда обернулась. К ней бежала Мюгетта. Раймонда ждала ее с улыбкой на губах. Запыхавшаяся молодая женщина остановилась в метре от Раймонды и воскликнула, прижав руку к груди: – Боже мой, до чего же я глупая! Мой супруг не уладит дела до вечера, так что я могу помочь вам. Я возьму вашу ношу. Взмахнув рукой, Мюгетта прервала слабые возражения старухи и продолжала настаивать: – Нет, нет, говорю я вам. Это малейшая из всех услуг, которые может оказать женщина моего возраста женщине вашего… в надежде, что настанет день, когда мне окажут такую же услугу. Отдохните немного. Тачку повезу я. Они шли, разговаривая, минут десять. Мюгетта остановилась. Раймонда взялась за ручки тачки, поблагодарив провидение, пославшее ей такую услужливую молодую особу. Вдруг Мюгетта захромала. Смеясь, она сказала: – Да, этого надо было ожидать. В мою туфлю попал камешек. Идите, Раймонда. Я вас догоню и вновь повезу тачку. Старая женщина почувствовала колоссальное облегчение. Благодаря милой Мюгетте у нее уже не так ломило спину. Раздался звук быстрых шагов. Раймонда едва повернула голову. Вероятно, Мюгетта уже вытащила камешек. Сначала Раймонда ничего не поняла. Но потом вдруг острая боль пронзила ее грудь и заставила согнуться. Она спрашивала себя, какой хищный зверь разорвал ее плоть. Раймонда икнула и попыталась выпрямиться, глотая воздух широко открытым ртом. Но из ее рта полилась струя крови, обагрив шенс.[255] Она хотела крикнуть, позвать на помощь, но силы оставили ее. Раймонда упала, опрокинув тачку. Она так и не поняла, что это Мюгетта пронзила ее сердце кинжалом. Мюгетта вытерла клинок о платье старой женщины, лежавшей ничком. Скривившись от отвращения, она опустила рукава, которые предварительно закатала очень высоко, чтобы на них не попали брызги крови. Ее раздражало пятно от вина размером с денье, обезобразившее складку на правом рукаве. Мюгетта прошептала: – Мне очень жаль, Раймонда. Бог примет твою душу, моя хорошая. У меня не было выбора. Теперь ты ангел, и я надеюсь, что ты меня простишь. Мюгетта бросилась бежать, но вдруг ей в голову пришла одна мысль. Черт возьми! Продукты! Она не сомневалась, что человек, который найдет труп, не отдаст их людям бальи. Грешно оставлять еду. В конце концов, это не поможет Раймонде. Тем более что Мюгетта должна была отдать платье, чепец и прелестные украшения заказчице и вновь облачиться в лохмотья. Мюгетта взглядом оценила содержимое тачки. Морской черт,[256] обложенный травой, спасавшей его от жары. Святые небеса, она никогда не ела рыбы! Рыба была лакомством принцев. Тем более что до завтра она протухнет. И целая связка кровяной колбасы. Чудо, которое поможет ей устроить настоящий пир. Она забрала рыбу и колбасу, даже не взглянув на женщину, истекавшую кровью.
Ватиканский дворец, Рим, июль 1306 года
Стоя перед высоким окном своего кабинета, скрестив руки за спиной, камерленго Гонорий Бенедетти смотрел невидящим взглядом на епископальные дома,[257] образовывавшие центр папского дворца, который был возведен во время короткого правления Николая III.[258] Он сердился на себя за нетерпение, которое никак не мог обуздать. Многое зависело от ответов, которых он ждал на протяжении нескольких месяцев. Архиепископ Бенедетти был изящным мужчиной небольшого роста. Это впечатление усиливалось благодаря массивному столу, инкрустированному слоновой костью, перламутром и ромбами бирюзы, за которым он сидел. Он был единственным сыном зажиточного горожанина Вероны. У него не было особой предрасположенности к духовному сану, особенно если учесть его откровенную любовь к представительницам прекрасного пола и материальным проявлениям жизни, по крайней мере, приятным. Тем не менее его продвижение вверх по церковной иерархической лестнице было стремительным. В этом ему помогли широкая образованность, подкрепленная высокой культурой, и, как все признавали, изощренная хитрость. Его многочисленные, но осмотрительные враги признавали, что величайшее хитроумие и расчетливость Бенедетти способствовали его карьере. Будучи тонким политиком, архиепископ играл на страхе, который многим внушал. Страх был надежным оружием в руках того, кто умел им пользоваться. Как обычно, пот градом лил с Гонория Бенедетти. Из ящика стола он вытащил перламутровый веер. Немногие знали тайну этой восхитительной вещицы. Веер ему подарила одним ранним утром дама де Жюмьеж. Больше он никогда ее не видел. Тем не менее с тех пор прелат ни на минуту не расставался с веером. Действительно, прекрасное воспоминание более чем двадцатилетней давности. Странно… Теперь камерленго казалось, что в нем уживались две памяти. Одна – далекая, но живая. Память о незначительных событиях, не имевших особой важности, но приносивших счастье. Рыбалка со старшим братом или их воображаемые приключения, о которых они грезили, спрятавшись в глубине сада, окружавшего их просторный дом. Смех матери, гортанный смех, напоминавший ему крики экзотической птицы. Нежная кожа дам или не совсем дам. Эта память была крепко запечатана, она стала недоступной даже в те моменты, когда на Бенедетти спускалась благодать. Нечто вроде огромной и неразделенной любви, к которой он не был готов, которой не требовал, которую охотно отверг бы, если бы у него был выбор, поглотило камерленго. В его душе поселился Бог, вытеснив все остальное. Теперь перед Бенедетти стояла лишь одна цель: служить Ему всеми силами и умом. С тех пор бессонными томительными ночами он искал хотя бы одно-единственное милое воспоминание, стертое двадцатью годами неистовой веры. Но оно не приходило к нему. Открывалась вторая память – память заговоров, коварства, лжи. И убийств. Сколько убийств, сколько людей, которых он приказал умертвить! Но только одна из всех этих отвратительных ран не будет давать ему покоя до конца его дней. К другим он привык. Осталось лишь одно, лишь одно имя. Бенедикт XI, его незаживающая рана. Бенедикт, подобный ангелу, которого он любил как брата, на которого усердно трудился, но которого приказал отравить. Бенедикт скончался на руках своего убийцы, бормоча в предсмертном бреду слова братской любви. На глазах Бенедетти выступили слезы. Он смежил веки, чтобы заставить себя в тысячный раз увидеть кровавую рвоту, испачкавшую рясу покойного Папы. «Бенедикт, агнец, так горячо любимый Богом. Видишь ли, брат мой, я всей душой верю, что самым худшим грехом, который я мог бы совершить, – а я совершал их вполне сознательно, – стало бы отпущение грехов за твою смерть. Я хочу, чтобы ты оставался моим самым жутким кошмаром, моим проклятием, безумием, порой овладевающим мной, безумием, с которым я борюсь изо дня в день. Я хочу, чтобы твоя агония мучила меня до конца моей собственной агонии».Секретарь, подобострастно согнувшись в три погибели, просунул голову в приоткрытую дверь и плаксивым тоном произнес: – Я дважды стучал, ваше святейшество. – Он пришел? – Он ждет в приемной, монсеньор. – Немедленно проводите его ко мне. В груди Гонория Бенедетти образовалась неприятная пустота. Если новости окажутся плохими, если поручение не было выполнено, если… Хватит! Он нервно обмахнулся веером, да так сильно, что хрупкие перламутровые пластинки задрожали. Прелат протянул руку поверх стола и приветствовал молодого доминиканца словами: – Брат Бартоломео, признаюсь, я сгораю от нетерпения… и страха видеть вас. – Ваше святейшество… – Садитесь. Придержите новости при себе еще несколько мгновений. Видите ли, в нашей жизни существуют чрезвычайные моменты, которые мы, к сожалению, недооцениваем. Причиной тому служит наша прискорбная привычка делать поспешные выводы. Эти моменты похожи на засовы на дверях. Едва мы проходим через двери, как они навсегда закрываются за нашей спиной. И нет надежды на возвращение. Поэтому очень важно вернуть этим моментам всю их чрезвычайную важность. Бартоломео послушно кивал головой, не уверенный, что правильно понял смысл слов камерленго. Последние месяцы превратились для Бартоломео в сплошное потрясение, от которого кружилась голова. Мелкий инквизитор Каркассона, он сумел добиться аудиенции у камерленго, чтобы разоблачить зловредного брата, жестоко пытавшего невиновных. Вредоносный Никола Флорен смаковал все грани своего разрушительного таланта. Флорен наслаждался, смущая, соблазняя, опьяняя, завоевывая и губя наивные души, это укрепляло его уверенность в своей роковой власти. Бартоломео принадлежал к числу таких душ. Никола терпеливо очаровывал его, лишил воли сопротивляться привязанности, которая отнюдь не была братской. Конечно, до плотского греха и содомии дело не дошло. Но Бартоломео достаточно трезво мыслил, чтобы признать: он уступил бы, если бы его мучитель вдруг не почувствовал усталость. Никола внезапно надоело играть в соблазнителя Бартоломео. Каждую ночь Бартоломео молча благодарил камерленго, вмешательство которого избавило его от худшего, от самого соблазнительного искушения: Флорен был назначен сеньором инквизитором территории, подчиняющейся инквизиции Алансона. Он молился за этого справедливого человека, устранившего палача стольких маленьких людей. А потом Никола погиб от кинжала случайно встреченного пьяницы. По крайней мере, так сказали Бартоломео. Но все же тень зловредного Флорена не исчезла. Целыми неделями она следовала за молодым доминиканцем по пятам, как немой укор. В Дом инквизиции Каркассона ему принесли короткую записку. Столь странную записку, что он сначала подумал, что это ошибка. Камерленго Гонорий Бенедетти вызывал Бартоломео к себе, в Рим, где он должен был отныне служить. Впрочем, Бартоломео испытывал не пьянящую радость, а скорее страх, что окажется не на высоте, не оправдает ожиданий прелата. Служение величию, которое он сразу распознал во время короткой встречи с архиепископом, казалось Бартоломео выше его способностей. Он настойчиво твердил прелату о своей некомпетентности. Но именно это настойчивое упрямство убедило Бенедетти, что молодой доминиканец – именно тот человек, который ему нужен. Он легко развеял колебания молодого монаха: – Брат мой… я знал множество людей, которые не были теми, за кого себя выдавали. Они вызывали у меня порой изумление, а порой и отвращение. Позвольте мне самому судить о ваших способностях. С большим дружелюбием, за которым Бартоломео уловил бесконечное отчаяние, Бенедетти объяснил молодому доминиканцу сущность и непреклонность его священной миссии: Церковь должна победить, любой ценой, чтобы обуздать худшие наклонности человека. Поиски, которые камерленго доверил Бартоломео, целиком и полностью захватили молодого доминиканца. Он не спрашивал себя, насколько справедливы убеждения архиепископа. В конце концов, сам Господь решил назначить монсеньора Бенедетти в Ватикан. А если Он дал Бенедетти это место, значит, его помощь была Ему необходима. Постепенно молодой человек постиг размах замысла Гонория Бенедетти. Он почувствовал, что отведенная ему роль, пусть и незначительная, сможет отвратить человека от животного начала, направить его к Свету. Облегчение вытеснило страхи Бартоломео. Наконец он сможет послужить человеческим созданиям, всем братьям и сестрам, за которых он был готов отдать свою жизнь во имя любви к Христу. И тень Никола Флорена отступила, а затем совсем исчезла.
Удивительно суровый голос вырвал Бартоломео из блаженной неги: – Этот момент миновал. Я насладился им. Новости? Они добрые? – Не знаю, ваше святейшество. Ставки слишком сложные, чтобы я смог их полностью осознать. Судите сами. Но я считаю их благоприятными. – Расскажите все по порядку. – По вашему приказу я сблизился с настоятелем монастыря Валломброзо отцом Элигием, человеком благожелательным и твердым духом. Он принимал вас, так что мне было нетрудно поведать ему всю эту историю. Старый монах-математик брат Лиудгер, автор этой богохульной астрономической теории, представляется мне закоренелым бунтовщиком, – с осуждением в голосе сказал Бартоломео. – Несмотря на братские увещевания, он постоянно доказывал, что он прав, что основной труд Птолемея был всего лишь скопищем вопиющих ошибок. Какая дерзость! Оставаясь суровым, Гонорий Бенедетти одобрил последнее восклицание кивком головы. Славный молодой монах! Разумеется, Земля вращается вокруг Солнца, а вовсе не наоборот. Бесполезно его разубеждать. Молодой доминиканец, как и другие, должен верить, что человек является удачным проектом Бога, его окончательным успехом. Даже планеты и Солнце должны воздавать должное Земле людей, вращаясь вокруг нее. Человеческое высокомерие не знает пределов. – Но как бы там ни было, этот упрямый брат Лиудгер поскользнулся, несомненно, на мокрых деревянных подошвах… «Он поскользнулся, потому что я приказал его толкнуть, а убийца, нанятый мной, разбил его голову о колонну, – мысленно поправил доминиканца Гонорий. – Мы забрали манускрипт, где были записаны его поразительные астрономические открытия. Земля не застыла неподвижно в центре небесного свода, она вращается вокруг Солнца, как и другие планеты. Более того, расчеты Лиудгера доказали существование трех других светил.[259] Эта настоящая научная революция доказывает, что все астральные темы, не говоря уже об астрологической медицине, были выведены из ложных данных. Мы последовательно продвигались в расчетах, которые должны были нам помочь прояснить вторую астральную тему пророчества: Потомство передается по женской линии. От одной из них возродится другая кровь. Ее дочери увековечат ее». Аньес де Суарси была одной из этих женщин, первой темой, той самой, которую удалось расшифровать. Все позволяло предполагать, что новая Матерь родится от нее. Число поколений не имело значения. Не было также сомнений, что вторая тема касалась одной из ее дочерей, той, которой суждено увековечить другую кровь. И надо же такому случиться, что проклятый Гашлен Юмо украл трактат Валломброзо, один из самых ценных манускриптов человечества, а такжедругие произведения из личной библиотеки Бонифация VIII, чтобы продать тому, кто предложит лучшую цену. – …дневник, в который он записывал весь этот вздор, исчез… – Все это мне известно, – рассердился Бенедетти. – Вы собрали новые сведения во время вашего пребывания в Валломброзо? – Конечно, ваше святейшество. Я к этому подхожу. Аббат Элигий, до сих пор крайне раздосадованный этим делом, хотя прошло уже пять лет, неустанно ведет поиски. – Славный человек, – откликнулся Гонорий, подумав, что вскоре надо будет подыскать аббату доходное епископство, чтобы отблагодарить его и гарантировать молчание и вечную признательность. Конечно, тот ради приличия примется возражать, уверяя, что единственное, о чем он заботился, так это о защите Церкви. Комедия, которая никого не введет в заблуждение. Действительно, вознаграждение. Ведь этот славный аббат предоставил Бенедетти то, что он искал на протяжении многих лет: способ добраться до открытий монаха-математика. – …От старости пальцы брата Лиудгера деформировались. Он с трудом мог надевать сандалии, а уж держать перо… Иными словами, он не мог быть редактором вздора, которым усеяны страницы манускрипта. – Значит, за него писал кто-то другой? – сладким голосом спросил Гонорий. – О да. Судя по словам отца Элигия, наш мерзкий монах стал очень подозрительным, особенно после уговоров и настойчивых требований немедленно прекратить молоть чепуху. Он мог довериться только надежному человеку, достаточно поднаторевшему в искусстве математики. Иначе при переписывании в текст могли вкрасться ошибки. – Знаем ли мы, кто был этим наперсником? – Косвенно, ваше святейшество. Через несколько дней после несчастья, случившегося с братом Лиудгером, из монастыря исчез молодой бенедиктинец. Он недавно стал послушником, а его духовным наставником был не кто иной, как наш полоумный астроном. Я не удивлюсь, если станет известно, что именно он украл манускрипт в надежде продать его. «Милый Бартоломео, – подумал Гонорий. – Ты ошибаешься. Это мы украли труд после убийства его автора. Что касается послушника, он просто испугался, что свидетельствует не только о его учености, но и о благоразумии». – И как зовут этого молодого бенедиктинца? – Сульпиций де Брабеф. Он как сквозь землю провалился. – Ну что ж, мы найдем его. Так надо. И как можно быстрее. – Ваше святейшество, неужели вы думаете, что он в точности запомнил множество расчетов, записанных им под диктовку, пусть даже он прекрасно разбирается в искусстве математики? – Конечно, нет. К тому же бумага стоит дорого, а монастыри на всем экономят. Обычно переписчики используют чистые полоски, оторванные от краев писем или других текстов, чтобы сократить количество ошибок, которые могли бы испортить страницу. К тому же, как вы знаете, подчистка буквы или фразы может перечеркнуть несколько часов работы. Я склонен думать, что оба сообщника занимались своим делом тайно и поэтому были ограничены во времени. Иными словами, я не удивлюсь, узнав о существовании черновика произведения. Если бы я был на месте Сульпиция де Брабефа, я постарался бы забрать его с собой. – И как же я смогу его найти? – Вам помогут. Мы должны действовать быстро. Очень быстро. Вам следует объехать все соседние монастыри от моего имени. Не появился ли там молодой священник или послушник вскоре после исчезновения Сульпиция? Впрочем, я сомневаюсь в том, что он спрятался в монастыре. Возможно, он затаился в миру[260] под вымышленным именем. Я не знаю, Бартоломео, – раздраженно бросил камерленго, – у этого Брабефа должна быть семья, старые связи, поскольку он был совсем молод, когда произошли все эти события. Возможно, он попросил у них помощи. – Я буду искать его денно и нощно, монсеньор. – Без колебаний напоминайте упрямцам о нашем недовольстве. И ласково обещайте, что мы будем молиться и простим прошлые ошибки всем, кто поможет нам. Люди, которые боятся неудобств на том свете, часто становятся покорными на этом.
Лес Траан, Перш, июль 1306 года
Од де Нейра поднесла к носу тоненький квадратик линона,[261] надушенный розовой эссенцией. К отверстию в крыше, сделанной из хвороста и соломы, поднимался от очага, устроенного прямо на утоптанной земле, черный дымок. Черная курица с перерезанным горлом, подвешенная за лапы над огнем, перестала трепыхаться. Капли крови стекали на горящие головни и с шипением испарялись. Вокруг огня суетилась ведьма, порой подбрасывая щепотку порошка, тут же загоравшегося зеленоватым пламенем. Она что-то бормотала, не переводя дыхания. Постепенно Од де Нейра охватывало беспокойство. Она боролась с настойчивым желанием выйти из лачуги, чтобы глотнуть немного свежего воздуха. Сосредоточившись, ведьма вытащила из котелка горсть отвратительных внутренностей и бросила их в огонь. От едкого запаха, распространявшегося среди закопченных стен, к горлу Од де Нейра подступила тошнота. Мадам де Нейра, душевный друг камерленго Бенедетти, его признательная должница, наконец, сообщница, удивлялась той настойчивости, с которой Гонорий советовал ей обратиться к этой ведьме. Неужели он действительно верит в могущество темных сил, он, который до сих пор прибегал к помощи только отравительниц, в том числе и к помощи Од де Нейра?Из темного уголка лачуги послышался легкий вздох. Од повернула голову и, прищурившись, увидела маленькую девочку, сидевшую на земле с поджатыми ногами. Эта очаровательная девчушка встретила ее на пороге глубоким реверансом. Затем она стремглав убежала в темный угол, чтобы скрыться с глаз. Удивительный контраст между ведьмой, ее высохшим телом, длинными черными ногтями, толстыми и кривыми, как собачьи когти, грязными, редкими спутанными волосами, напоминавшими жалкую гриву, пропитанную салом и жиром, и этим белокурым ангелочком со светлыми, как прозрачная вода, глазами заинтриговал мадам де Нейра. По правде говоря, эта девчушка вполне могла бы сойти за ее собственную дочь, но уж никак не за отпрыска ведьмы. Неужели она была из тех детей, которых нищие родители оставляют умирать в лесу? Или одним из тех милых ангелочков, украденных из колыбели, которых затем учат просить милостыню у покупателей в базарные дни или у кумушек, судачащих на паперти? Но Од де Нейра быстро переключила все свое внимание на женщину, которой могло быть как тридцать, так и сто лет, и забыла про девчушку. Еще один еле слышный вздох. Од махнула рукой в темноту. Потом раздался шелест. Девочка робко подошла к Од. С беспокойством взглянув на спину женщины, что-то шептавшей огню, она скривилась от отвращения. Од нашла восхитительным сморщенный носик и улыбнулась, знаком подзывая девочку к себе. Од протянула ей свой надушенный платок. Девочка спрятала в нем свой хорошенький носик и от удовольствия закрыла глаза. Восхищение, которое Од прочитала в ее взгляде, принесло мадам де Нейра небольшое облегчение. Она даже на несколько секунд забыла об отвратительном запахе. Од показала рукой на пол рядом с колченогим табуретом, на котором сидела. Девочка поспешила удобно устроиться. – Как дела? – неожиданно спросила мадам де Нейра с ноткой раздражения в голосе. – О да… Я почти закончила, – ответила ведьма игривым тоном. – Вы уверены в могуществе вашего… искусства, за которое я очень дорого плачу? Ведьма резко повернулась и застыла от изумления, увидев девчушку, сидевшую у ног прекрасного создания, которое час назад вошло в ее зловонное жилище. Густые белокурые волосы окружали совершенный овал лица. Огромные изумрудные глаза, похожие на озера, вытянутые к вискам, смотрели на ведьму без малейшего страха. Напротив, в них читалось легкое презрение. Настроение ведьмы испортилось. Что она о себе возомнила, эта прекрасная донзела?[262] Что весь мир припадет к ее стопам? Но в таком случае это доказывало, что она не знает всю силу власти той, которую ей рекомендовали. Той, которую все боялись. Женщина прошипела: – Отправляйся в свой угол, Анжелика. Если, конечно, не хочешь, чтобы я надрала тебе задницу. Прежде чем уйти, девчушка с ужасом посмотрела на мадам де Нейра, которой начала надоедать эта ведьма. Ведьма сразу же смягчилась и заставила себя быть любезной с такой богатой посетительницей. Кошелек, который вручила ей эта женщина, был набит до отказа. Там было гораздо больше, чем платили ей окрестные вилланки, просившие избавить их от бородавки или, наоборот, наслать бородавку на лицо соперницы, молившие ее помочь зачать мальчика или же освободиться от плода так, чтобы никто ничего не заметил. Ведьма объяснила: – Я не принадлежу к тем жалким заклинателям судьбы, которые продают свои смехотворные зелья наивным простакам, или к знахарям, утверждающим, что умеют обращаться с животами женщин и животных. – Это успокаивает меня, – жеманно пропела мадам де Нейра. – Кстати, совсем забыла… Вы достали то, что я… хотела? – Да. Женщина засунула руку в свою грязную бесформенную котту[263] и вытащила маленький холщовый мешочек. Од соизволила встать, чтобы взять мешочек, потом снова грациозно опустилась на табурет. Из мешочка она вытащила маленькую тростинку с жемчужно-серым кольцом. Од повертела в руках тростинку, задумчиво глядя на нее. Ведьма начала оправдываться: – Я неукоснительно следовала вашим распоряжениям. Не так-то легко было ее достать! Пристально глядя на мадам де Нейра своими черными как смоль глазами, она прошептала: – Несмотря на ваше роскошное платье, манеру держаться и ангельское лицо, за которым я вижу бездну, я знаю, что могу сказать вам правду. Другие не в состоянии ее понять, они даже не сумеют выдержать ее… Но мы разделяем ее, не так ли? Надо всегда платить за то, чего больше всего желаешь. Некоторые цены кажутся трусам неприемлемыми. Но не нам. Я права? Мадам де Нейра не соизволила ответить, лишь кивнула головой в знак согласия. Ведьма продолжала таким же спокойным, почти равнодушным тоном: – Я хотела быть выше всех. Чтобы добиться этого, мне потребовалось заключить… договор с могущественными союзниками. Могущественными, но жестокими и безжалостными… И она своими когтями показала на утоптанную землю. – Деньги их не интересуют, слава и благодарность – тем более. Лишь души неукротимо манят их. И я предложила им свою душу. Совершенно осознанно. Я ни о чем не жалею. Я видела, поняла, прочувствовала столько странных и сказочных вещей. Я проникла в окружающие нас тайны. Я читаю души других как открытую книгу. – Ведьма закрыла глаза, и вдруг искренняя печаль омрачила ее лицо, сделав его на мгновение менее отталкивающим. – Так вот, мадам, знайте. Души тех, кто приходит сюда, или тех, кого я встречаю на своем пути, дурно пахнут. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ибо мои… могущественные союзники отдали предпочтение моей душе. Она была чистой. Готова спорить, что и ваша душа некогда была чистой. Раньше. Это было раньше.
Воспоминания, столько воспоминаний! Словно прилив, они затопили рассудок Од де Нейра. Она рано узнала, какой суровой бывает жизнь. Но лишь чудом эта жизнь не оставила на ней физических следов. Впрочем, люди сами создают себе судьбу. И та словно грабитель набрасывается на слабых и старается подмять их под себя. Рано осиротевшую девочку отдали на воспитание стареющему дядюшке, который быстро начал путать родственное милосердие и кровосмешение. Но мерзавец недолго пользовался прелестями племянницы. Острые боли в животе быстро уложили его в постель. Он умер после бесконечной мучительной агонии, при которой, как того требовало благочестие, присутствовала его протеже. В двенадцать лет Од осознала, что ее талант ко всему, что касалось ядов, убийств и лжи, мог сравниться лишь с ее красотой и умом. За распутным дядюшкой в мир иной, который Од считала для них лучшим, отправились тетушка, два кузена-наследника, обращавшиеся с ней с высокомерием тех, кому никогда не приходилось вести борьбу за выживание, потом сварливый больной муж.
У мадам де Нейра кружилась голова. Она предавала, обманывала, плела заговоры, убивала. Господи Ты Боже мой! В своей бесконечной мудрости признает ли Господь Бог, что лишь обстоятельства толкали ее на преступления? Разумеется, нет. Од заставила себя успокоиться, пристально глядя на плохо выделанные волчьи шкуры, свисавшие с низкого потолка. Вдруг ей в голову пришла неуместная мысль, что это была браконьерская добыча, которая могла бы стоить женщине жизни. Но неужели ведьму так боялись, что даже ее непосредственный сеньор не посмел совершить правосудие? И Од де Нейра уверовала в могущество ведьмы. А ведьма смотрела на Од с суровым видом, ожидая ответа, который подтвердил бы, что они, несмотря на все различия, принадлежат к одной и той же породе. Од де Нейра прямо сидела на табурете. Ведьма спросила: – Должен ли вместе с матерью умереть и ребенок? Мадам де Нейра ответила с иронией в голосе: – Черт возьми, нет, бедный херувим. Ведь мы же не чудовища. Тем более что наследник мужского пола нам не мешает. Как… как будут развиваться события? – Как нельзя лучше, и я, как всегда, забуду о вашем существовании. – Мне было бы интересно узнать некоторые подробности, – продолжала настаивать мадам де Нейра. – Вялость, первые симптомы которой появятся вскоре после того, как приготовленный мною мешочек окажется рядом с ней, например, в ее спальне под кроватью. Как правило, это быстро приводит к желаемому эффекту. Она потеряет аппетит и будет чахнуть до тех пор, пока не умрет. – Поколебавшись несколько минут, ведьма добавила: – Тем более что такая болезнь не вызовет удивления у окружающих. Все расценят ее как проклятие дам д’Отон. Сначала первая графиня, потом мадам Аньес де Суарси, вторая супруга. Трагическая последовательность. В мадам де Нейра проснулось любопытство, и она спросила: – Вы были одной из тех, кто оказался причастен к смерти первой графини д’Отон и ее сына? Ведьма бросила на Од косой взгляд и уклонилась от прямого ответа: – Есть секреты, которыми я никогда не делюсь. – Предусмотрительная женщина. Будет ли мадам Аньес страдать, я это хочу спросить? – Нет, просто ее жизнь перестанет бить ключом. Вы огорчены? Од де Нейра фыркнула: – Да что вы такое вообразили? Я хочу избавиться от этой… несносной женщины, только и всего. Я никому не желаю страданий. По правде говоря, она меня не интересует. Мне нужно нанести весьма глубокую обиду, чтобы я захотела доставить страдания.
Только однажды Од с упоением причиняла боль, продлив последний вздох дядюшки, который подминал ее под себя, когда ему хотелось, дергал за волосы, заставляя открывать рот, хлестал по щекам, когда она противилась или плакала. Она могла бы ускорить его агонию. Но она, напротив, решила продлить ее. Все то время, когда она омывала руки старика свежей водой, вытирала лоб носовым платком, а губы – салфеткой, смоченной в яде, она наслаждалась пиршеством смерти.
– Что в этом мешочке? – Действенные ингредиенты, которые я держу в секрете. Чем ближе он окажется к даме, тем скорее она распрощается с жизнью. – Вы уже придумали, как подобраться к ней? – Не беспокойтесь. Я нашла способ. Впрочем, вы мне за это платите. – Когда она воссоединится с Создателем? – спросила мадам де Нейра тоном светской дамы, пришедшей с визитом вежливости. – Через три-пять месяцев, в зависимости от состояния здоровья. Это необходимо, чтобы никто не заподозрил отравление. – Беременность осложнит дело. По словам повитухи из замка Отон, которой с удовольствием подносят стаканчик-другой в близлежащих тавернах, мадам де Суарси просто создана для того, чтобы рожать детей. А если она уже тяжелая… Ведьма предложила нерешительным тоном: – Ах… Я могла бы сделать ее бесплодной. Это легко. Ведь речь идет об этом, не так ли? Она больше не должна рожать? Смерть – слишком серьезная штука, чтобы причинять ее по недомыслию. – А вы не только рассудительная, но и прозорливая, – пошутила Од де Нейра. – У нас нет времени. Время полумер прошло. Она должна умереть. Как можно скорее. – Все будет сделано так, как вам угодно. Вы платите. – Мы закончили? – Сегодня и здесь – да, – ответила женщина, вынимая из-под грязного шенса черный холщовый мешочек. Она приоткрыла его с блуждающей улыбкой на губах, вырвала у зарезанной курицы шесть перьев и воткнула их в мешочек. – Жребий брошен, – сказала она. – Как только этот мешочек окажется на своем месте, остальное произойдет без нашего участия. – Какая радостная перспектива! – с восторгом воскликнула Од де Нейра. – Я ненавижу этот уголок земли. Постоянные туманы, поднимающиеся по утрам и исчезающие лишь во второй половине дня… Создается впечатление, что солнце показывается только после упорной борьбы. Я жажду вернуться в мой феод на юге королевства. Пусть будет проклят дождь, от которого ломит кости и наступает преждевременная старость. Од де Нейра грациозно встала, опустила подол карминового бархатного платья с рукавами, пристегнутыми аграфами, и с вызовом спросила: – Сколько за Анжелику? – Она не продается, – ответила ведьма, вновь став желчной. – Почему? Все продается, нужно лишь назначить хорошую цену. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Сто фунтов[264] за девчонку. Это хорошая цена за сироту, каких в этом краю найдется двадцать, сто или тысяча. Тем более что она сама уйдет от вас, как только сможет. Было бы глупо поступить иначе. – Она не продается, – твердым тоном повторила женщина. – Но ведь вы ее украли, разве не так? – И что? Если я ее украла, значит, она моя. – Сто пятьдесят фунтов. Подумайте… Вы сможете купить половину соседней деревни Сетон. Замечательный обмен! – Уходите. Я дала вам то, что вы хотели получить. Теперь уходите. – Двести фунтов, женщина. Это моя последняя цена. – А мой последний ответ – нет. – Вы совершаете большую ошибку, – пропела Од. – Я всегда добиваюсь желаемого. Так или иначе. – Осторожно, я знаю грозные тайны. Од закрыла глаза. Очаровательная улыбка озарила ее лицо. Она прошептала: – Они мне не страшны. Сколько людей хотели, чтобы я умерла или испытала жестокие мучения! Могу поклясться, что некоторые из них щедро платили таким, как вы, чтобы достичь своей цели. Но я, как видите, жива и здорова. Я пришла к выводу, что я никогда не умру и не познаю, что такое старческие недуги. Вы не внушаете мне страха… Од открыла глаза. Зеленый взгляд глубоких как озера глаз устремился на ведьму. Суровый, твердый голос продолжал: – И я получу Анжелику. Это каприз и обещание. Я охотно уступаю своим капризам и всегда сдерживаю обещания. Лицо Од помрачнело. Два года назад она впервые в своей жизни не выполнила данное слово. Она обещала камерленго Гонорию Бенедетти жизнь мадам де Суарси, ныне графини д’Отон, и три манускрипта, спрятанных в аббатстве Клэре. Но ей пришлось познать горечь поражения. Она оправдывала себя тем, что ей попалась негодная подручная, монахиня, завербованная прелатом. Жалкое оправдание. Она собственными руками убила эту Жанну д’Амблен. Зловредные существа с когтистыми лапами, должно быть, устроили пир, обглодав эту подлую душу, у которой было так много на дебете и так мало на кредите. А она сама, чем она могла гордиться? Каким кредитом она обладала? Честь. Это единственное, что осталось у нее нетронутым. Странная честь, приспособившаяся ко лжи и убийствам. Честь, правила которой придумала она сама. Слишком легкая гиря на чаше весов, неспособная уравновесить другую, чашу дебета. Анжелика. Анжелика не была прихотью холеной женщины. Уже час назад Од убедила себя, что очаровательная девочка с предопределенным именем была той самой гирей, которой ей не хватало, чтобы погасить часть долга. Она получит Анжелику. Она воспитает девочку как родную дочь, даст ей то, что этот мир предоставил ей самой только после упорной борьбы. В конце концов, если она вернет Богу одного из его ангелов, Он, несомненно, проявит к ней милосердие. Как вырвать девочку из когтей ведьмы, которая, вероятно, ей еще понадобится, чтобы погубить незаконнорожденную дворяночку? Ждать, предвидеть. Терпение было одним из самых надежных видов оружия женщин. Они превосходно владели им. Тем более что мадам де Нейра, будучи осмотрительной особой, с трудом верила во всемогущество ведьм, какими бы грозными они ни были. Она считала махинации и яды более верным, в каком-то смысле реальным средством. Ба, если кто-то может больше, значит, он может и меньше!
Мадам де Нейра удобно устроилась в крытых ломовых дрогах, ждавших ее в десяти туазах от лачуги. Ее план постепенно претворялся в жизнь. Накануне Од получила от камерленго Гонория Бенедетти известие, которого ждала с нетерпением вот уже несколько недель. Название другого женского аббатства, расположенного в Шампани. На этот раз подручные Гонория хорошо поработали. Разумеется, дорога будет долгой и утомительной, но Од де Нейра уже наслаждалась своей будущей победой.
Дворец Лувр, окрестности Парижа, апартаменты Гийома де Ногаре, август 1306 года
Джорджио Цуккари, генерал-капитану ломбардцев[265] Франции, было жарко в парчовом плаще. Ему казалось, что шаперон[266] весит фунтов двадцать. Хотя излишняя полнота сковывала движения ломбардца, он не стал прибегать к услугам лодочников, перевозивших пассажиров и их поклажу между Нельской башней и Лувром. Он предпочел пробивать себе дорогу локтями в адской уличной суматохе, где его толкали зеваки, торговцы, нищие, проститутки, где ему досаждали мириады мух, слетавшихся на груды отходов, что валялись вдоль центральных канав. Он, задыхаясь, поднялся по лабиринту узких улочек, неспешно пересек остров Сите и добрался до Большого моста, выходившего на улицу Сен-Дени. Порой он возвращался назад, давая себе время, чтобы вновь и вновь все обдумать. Наконец он очутился возле толстой башни Лувра. Работы по возведению дворца на острове Сите, задуманного Людовиком Святым, до сих пор не начались, и вся государственная власть еще была сосредоточена в суровой крепости Лувра, расположенной сразу за границей столицы, недалеко от ворот Сент-Оноре. В цитадели, которая по-прежнему была лишь неприступным донжоном, построенным по приказу Филиппа II Августа,[267] стремившегося сосредоточить в одном месте канцелярию, Счетную палату и казну, все ютились как могли. На прошлой неделе Джорджио Цуккари испросил аудиенции у советника, приближенного к королю, не объяснив причин своего визита. Ногаре тут же удовлетворил его просьбу. Помимо того, что Цуккари был самым крупным банкиром Французского королевства, – а со своим банкиром ссорятся лишь тогда, когда не могут вернуть ему деньги, – капитан ломбардцев обладал прекрасной репутацией. Ломбардец был безукоризненно честным человеком, что весьма импонировало суровому Гийому де Ногаре. Цуккари без колебаний продлевал срок выплаты займа до двадцати четырех месяцев, что не часто делали другие заимодавцы. Привратник открыл дверь, и мсье де Ногаре вошел в прихожую. Цуккари встал с кресла, в которое в изнеможении опустился несколько минут назад. – Мой старинный друг, – приветствовал ломбардца Гийом де Ногаре, протягивая руки, что служило знаком сердечности – чувства, столь редко проявлявшегося у советника. – Мессир, благодарю вас, что вы так быстро меня приняли. – Ваши визиты всегда доставляют мне радость. Улыбка озарила худое лицо советника. В тысячный раз в голове Цуккари промелькнула одна и та же мысль. Ногаре было лет тридцать, но он казался глубоким стариком. Он был невысокого роста, почти тщедушным. Странные, словно мраморные, веки, лишенные ресниц, делали его лицо еще более неприятным. Ногаре остался верным скромной длинной мантии легистов. Единственной уступкой роскоши была велюровая шапочка, покрывавшая голову и уши. – Они доставляют радость мне и к тому же оказывают честь, – сказал Цуккари, склоняя голову. – Присядем, мой добрый друг. Скоро нам принесут виноградный сок и сливовое пюре. Это был особый знак уважения, поскольку все знали, что Ногаре не давал себе труд любезничать со своими многочисленными визитерами. Уважения, но также и политической тонкости, ведь Цуккари был не только заимодавцем сильных мира сего, но и пользовался доверием понтификов, начиная с высокомерного Бонифация VIII. Климент V,[268] нынешний понтифик, не был исключением. Люди, даже Папы, уходят, а тайны Рима остаются и никогда не исчезают. – Вы умолчали о цели вашего визита, мой славный Цуккари… Ломбардец недовольно поджал губы и вновь уклонился от прямого ответа: – Просто я в затруднительном положении, монсеньор. В очень затруднительном. В течение нескольких секунд Ногаре рассматривал своего визави: его маленькие толстые ладони, которые тот нервно сжимал, пот, выступивший над верхней губой. – Черт возьми! – удивился Ногаре. – Я впервые вижу вас в затруднительном положении… После короткой паузы советник добавил: – Я наблюдал за многими людьми, лишь делавшими вид, будто они попали в неприятный переплет, и понимаю, что вы действительно не решаетесь сказать правду. Джорджио Цуккари одобрил этот сомнительный комплимент кивком головы и все же решился: – Будет лучше, если я обо всем расскажу вам. Я вернулся из Рима… Он замолчал, поскольку в комнату неслышно вошел слуга с подносом, на котором стояли высокие бокалы из граненого хрусталя и розетки со сливовым пюре. Ногаре, даже не взглянувший на слугу, жестом дал понять, что тот свободен. – Продолжайте, друг мой, прошу вас… – Я… Но прежде всего я вновь хочу выразить вам благодарность за ваше… тайное вмешательство, позволившее сохранить мне должность генерал-капитана. Этот негодяй Джотто Капелла[269] в течение многих лет исподтишка пытался сместить меня, а при встрече заискивал передо мной и называл «своим добрым дядюшкой». Гийом де Ногаре снисходительно улыбнулся, всем своим видом показывая, что это все пустяки. Но Цуккари не заблуждался. Ногаре никогда не действовал бескорыстно, если речь, конечно, не шла о службе королю и Французскому королевству. – Оставим эти старые воспоминания, – ответил советник. – Капелла мне не нравился, а вот посодействовать вам мне было по нраву. От этого желчного подагрика несло падалью. Конечно, порой стервятникам приходится поручать грязную работу, но в конце концов их присутствие начинает раздражать. Кроме того, он горячо порекомендовал мне своего племянника, а тот сыграл со мной злую шутку. Это некий Франческо Капелла, впрочем, весьма учтивый и услужливый на вид. Ба, прошлое быльем поросло. Забудем о нем на благо настоящего и будущего. Ногаре отпил черно-фиолетового виноградного сока и продолжил: – Так все-таки какова цель вашего визита? Ответом ему стал тяжелый вздох. – Черт возьми! До такой степени? Уж не пришли ли вы требовать, чтобы королевство выплатило вам кредит? Как правило, кредиты не ложатся на вас тяжким бременем. Ну же, мой друг, мы с вами хорошо ладим. Я сомневаюсь в том, что вы попросили аудиенции для того, чтобы рассказать о вашей недавней поездке в Рим… Если только вы там не встретились с человеком, который нас обоих интересует. Но речь не может идти о нашем любимом Папе, поскольку его нет в Риме. Прозорливость мсье де Ногаре встревожила Цуккари, но вместе с тем и успокоила. Могучий ум, удивительная проницательность советника короля не были ни для кого тайной. Впрочем, они облегчали Цуккари задачу. Тем не менее он колебался: – Мсье д’Отон… Наш любимый и уважаемый Климент V… – Какая связь? Какие могут быть отношения между графом Артюсом и нашим святейшим отцом, хранимым самим Господом? – прервал его Ногаре. Вдруг обретя твердость, банкир кашлянул и выпалил на одном дыхании: – Связь? Убийство сеньора инквизитора в Алансоне. Некого Никола Флорена, о котором, разумеется, ходили зловещие слухи. Но, тем не менее, он оставался одной из карающих десниц Церкви. Ногаре были известны подробности этого дела. Инквизитор, прославившийся своей жестокостью в Каркассоне, бросил в тюрьму молодую вдову, незаконнорожденную дворянку, обвинив ее в сговоре с еретиками, да еще и в исповедовании культа единого бога.[270] Этот Флорен погиб от удара кинжалом, нанесенного пьяницей, с которым повстречался в какой-то таверне, вскоре после начала следствия. Свершился Божий суд, оправдавший подозреваемую. Ногаре, человека требовательной и суровой веры, захлестнули эмоции. Бог лично воздал отмщение. Он ни секунды не сомневался, что эта женщина была чистой, как новорожденный агнец. Аньес, дама де Суарси затем вышла замуж за графа Артюса д’Отона, друга детства короля. Разумеется, с течением времени связи между мужчинами ослабли. Но это ничего не меняло. Именно Артюс научил Филиппа Красивого охотничьим приемам и военному искусству, не говоря уже об искусстве уводить дам на ночь, чтобы на следующий день они вздыхали от удовольствия, лежа на скомканных простынях. Это были настоящие мужские связи, неподвластные годам. – Только не говорите мне, Цуккари, что монсеньор д’Отон был замешан в убийстве этого мерзкого палача. До нас дошли слухи о его возмутительной репутации. – Но это правда, и мне очень жаль. Есть два свидетельства, говорящие в пользу этого предположения. И неопровержимое доказательство, о котором мне не захотели рассказывать. Поскольку Божий суд мог свершиться на законных основаниях лишь в том случае, если бы чужестранец, бродяга, уже не знаю кто еще, напал на сеньора инквизитора… – … постольку становится маловероятным, что монсеньор д’Отон, нынешний супруг дамы, убил палача, – закончил советник. Банкир пристально посмотрел на Ногаре и сухо произнес: – Вот в чем причина моих затруднений, мессир. – Эти свидетельства, они надежные? – Насколько свидетельства вообще могут быть надежными. Самое разоблачительное исходит от сорванца, маленького бродяжки из тех, что за пару монет оказывают мелкие услуги. Монсеньор д’Отон заплатил ему, чтобы тот следил за сеньором инквизитором Флореном и сообщил его адрес. Это свидетельство подтверждается словами папаши Красного, хозяина таверны «Красная кобыла» в Алансоне, который слышал разговор графа с шалопаем. – Насколько мне известно, сеньор инквизитор был ограблен. – Убийца хотел, чтобы все поверили в ограбление. Но это не так. Следователи нашего святейшего отца не сидели сложа руки. Они… изучили зловонное содержимое сточной канавы дома[271]… реквизированного Никола Флореном. Он забрал его у богатого горожанина,[272] обвиненного в сношениях с демоном. Ногаре представил себе, как люди в рясах копались в зловонной грязи, и с трудом сдержал приступ тошноты. – Так вот, – продолжал банкир, – эти следователи ползали по экскрементам два дня подряд. Они нашли кольца, украденные у Никола Флорена. Какой пьяница, совершив преступление, станет выбрасывать добычу в сточную канаву? И напротив, дворянин, защищающий любимую женщину, никогда не опустится до воровства. Ногаре терял терпение. И такое положение вызывало у этого человека, никогда не терявшего над собой контроль, отвращение. Он задавался вопросом, терзавшим его с самого начала столь странного разговора. Странного и неуместного, поскольку его затеял банкир-ломбардец, хорошо осведомленный о политических и денежных делах, но отнюдь не о божественном или считающемся таковым вмешательстве. Он с наслаждением отведал сливового пюре и изобразил недоумение: – Мой славный друг… Вы запутали меня… Какое вам дело до этой мелкой дворяночки, которая имеет значение только потому, что стала супругой Артюса д’Отона? Банкир залпом допил свой бокал и пробормотал: – Ах, мессир, мессир, какая же трудная мне выпала миссия! С непроницаемым лицом Ногаре посмотрел на банкира и тихо спросил: – Миссия, мой славный Джорджио? – Разумеется. И приказ этот исходит от самого высокопоставленного человека. – От Папы? – От него самого через посредничество камерленго, грозного Гонория Бенедетти, которого я посетил в Риме по его приглашению. Признаюсь, я ни в чем не уверен. Почему исход инквизиторского процесса по делу незаконнорожденной мелкой дворянки мадам де Суарси так беспокоит нашего понтифика? Тем более, как я понял, в ходе этого процесса были допущены грубейшие нарушения. Ногаре сгорал от нетерпения. Отбросив притворство, он прямо спросил: – Что хочет Климент, пятый по имени, и почему? – Он требует провести расследование. И он не отступит. Если дама де Суарси злонамеренно воспользовалась благоприятным для нее Божьим судом, он хочет непременно это выяснить. Он не говорит, что потребует нового инквизиторского процесса… Это было бы грубейшей ошибкой с политической точки зрения. Вы знаете, как народ относится к этим своего рода ордалиям.[273] Тем более что население Алансона ненавидело мессира Флорена. Однако Святой престол хочет получить ответ, который дать ему может только монсеньор д’Отон. Мессир советник, я обращаю ваше внимание на этот факт: насколько я понял, речь не идет о пересмотре процесса над мадам де Суарси. Святой престол хочет услышать правду. В конце концов, чудо, которым воспользовалась дама, достаточно необычно и уже поэтому может заинтересовать Папу и его окружение. – Мсье д’Отон – друг короля. – Ногаре натянуто улыбнулся. – Во всяком случае, он тот, о ком король хранит добрые воспоминания в своем сердце. Граф поступил мудро: он никогда не вмешивался в дела королевства и не искал милости у Филиппа. Он – одно из самых теплых воспоминаний моего повелителя. Другими словами, если бы его отдали под суд, это было бы… как бы это сказать… плохо воспринято. Джорджио Цуккари потупил взор. Глядя на свои потные руки, он прошептал: – Положим… за услугой может последовать вознаграждение. – Правда? И что вы подразумеваете под вознаграждением? – Дело в том… Я досадовал бы на себя, если бы стал истолковывать намерения камерленго, но мне показалось, что его святейшество понимает дилемму, с которой может столкнуться король. Еще одна важная деталь: разговор велся на латыни. Он… как бы это сказать… Вы же знаете прелатов, мессир… их утонченное искусство риторики и фраз с двойным смыслом… Легко лишь для тех, кто в совершенстве владеет этим языком. Разговаривая с ними, необходимо правильно ориентироваться, понимать то, что было сказано на самом деле, и не пытаться недооценивать важность того, что они недосказали или о чем они сознательно умолчали. Так вот, я буду соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не извратить или не обобщить слова камерленго, введя тем самым вас в заблуждение. Одним словом, он четко сформулировал, что признательность его святейшества – в том случае, если монсеньор д’Отон даст объяснения по поводу двух свидетельств, – может содействовать разрешению споров по поводу объединения двух крупнейших военных орденов. Одно из самых честолюбивых стремлений Филиппа Красивого. Несмотря на героическое сопротивление рыцарей ордена Храма*, Гостеприимного ордена, не говоря уже о рыцарях орденов Святого Лазаря и Святого Фомы, цитадель Сен-Жан-д’Акр пала в 1291 году под натиском мамлюков султана аль-Ашраф Халиля. Большинство тамплиеров вернулись на Запад. Что касается госпитальеров, они поспешно бежали на Кипр, вопреки откровенному нежеланию предусмотрительного Генриха II де Лузиньяна, короля острова, который скрепя сердце разрешил им временно обосноваться в городе Лимассоле, на южном побережье. Годы, последовавшие за разгромом Акры, оказались роковыми для тамплиеров, но пощадили госпитальеров, которые никогда не забывали о милосердии и сострадании. Простолюдины ненавидели орден тамплиеров за заносчивость рыцарей, их привилегии, не говоря уже о лености и полнейшем отсутствии щедрости. Ходили слухи, что военный орден тратил собранные деньги лишь на собственные нужды и обладал колоссальными сокровищами. Не замедлили появиться злые шутки и ругательства. Отправляясь в бордель, говорили «я иду в Храм». Можно было «воровать или лгать, как тамплиер». Военные ордена – и прежде всего орден тамплиеров – мешали королю, стремившемуся положить конец папскому вмешательству в политику Французского королевства. Гийом де Ногаре, которому помогал его бывший ученик Гийом де Плезиан, изучил все аспекты проблемы. Было бы неразумным требовать простого роспуска всех военных орденов. Молодые дворяне и горожане были преданы модели благочестия, послушания и героизма, пример которой им подавали воины Христовы. А вот прежний проект объединения всех этих орденов, предложенный четырнадцать лет назад Николаем IV,[274] предлагал естественное решение, позволявшее сохранить и козла, и капусту. Это объединение должно было произойти в пользу Гостеприимного ордена, который и встал бы во главе нового образования. А командором этого образования предполагалось назначить одного из младших сыновей Филиппа Красивого. Таким образом, французскому монарху не придется больше конфликтовать ни с Папой, ни с общественным мнением. Более того, он обуздает всю папскую свору. Остается только одна тень, но тень весьма неудобная: Жак де Моле, новый магистр ордена тамплиеров. Этот консерватор, отважный солдат и человек веры, не потерпит, чтобы его вот так просто низложили. Кроме того, Моле был человеком неискушенным в политике, что, впрочем, не уменьшало его высокомерия. Он будет упираться изо всех сил, не осознавая, что фигуры на шахматной доске были расставлены без его участия. – Жак де Моле будет против, – сказал Ногаре. Ломбардец, не глядя на советника, возразил: – У меня сложилось такое чувство, что возможное недовольство мсье де Моле тревожит камерленго. Гийом де Ногаре смаковал сливовое пюре, дав себе время на размышление. Он не мог не воспользоваться этим удобным случаем, чтобы далеко продвинуться в деле объединения военных орденов, о чем страстно мечтал король Филипп. С другой стороны, сама мысль, что придется пожертвовать французским дворянином с безупречной репутацией, да к тому же другом детства короля, была ему невыносима. – Как вы понимаете, мой славный Цуккари, я не могу единолично принимать решение. Речь идет о друге короля. Итак, я хочу убедиться, что верно истолковал ваши слова. Позвольте мне вкратце изложить то… на чем настаивает Святой престол. Мсье д’Отона просят дать разъяснения светскому суду по поводу двух свидетельств, относящихся к убийству сеньора инквизитора. – Инквизиторскому суду, – поправил Ногаре банкир, с трудом сглатывая слюну. – Простите, но речь идет об убийстве, а не обвинении в ереси. Джорджио Цуккари поджал губы. Он прошептал: – Нет… Речь идет, мессир, о Божьем суде. Убийца Флорена сознательно совершил непозволительное богохульство, заняв место самого Господа. Как вы понимаете, только Церковь имеет право оценить масштаб этого преступления.Ломбардец, внезапно помолодевший, довольный, что выполнил столь трудную миссию, ушел. Ногаре допил виноградный сок. Что замышляют Климент V и его камерленго? Почему им понадобилось оспаривать суд Божий, который, по всей очевидности, всех устраивал? Почему они так горячо защищали память инквизитора, в чистоте помыслов которого все сомневались? Разве папство забыло о скандале, спровоцированном действиями Роберта Болгарина?* Почему убийство этой заблудшей овцы так взволновало их? Ногаре чувствовал, что это ловушка, но не мог понять, в чем именно она заключается.
Женское аббатство Аржансоль, Шампань, август 1306 года
Аббатство цистерцианок, основанное[275] в Молене[276] Бланкой Наваррской и ее сыном Тибо IV Шампанским, сначала служило приютом для монахинь из Льежа. Вскоре монастырь стал таким могущественным, что жители окрестных деревень стремились войти в состав независимого феода Молена, чтобы пользоваться покровительством монастыря. Так, Моранжис[277] в обмен на это присоединение отдал монастырю свой лес. Закончился третий час*, когда мадам де Нейра вошла в прихожую. Молодая привратница-мирянка,[278] не привыкшая к светскому обществу и его манерам, сказала, сделав неловкий реверанс: – Я сейчас позову нашу славную матушку, мадам. Или, возможно, приора. Я не могу предупредить вашу племянницу, я просто не имею права. Од чуть не возразила сухим тоном, что ей все равно, кто из монахинь выполнит ее просьбу, лишь бы это было сделано быстро. Но она сумела подавить вспышку гнева, которая могла бы испортить все дело. Путешествие было изматывающим. Приехав накануне поздно вечером, Од смогла найти лишь одну грязную таверну, чтобы переночевать. Город Реймс был слишком далеко. Нечего было даже думать, чтобы отправиться туда. У нее чесалась спина, а это доказывало, что она подхватила блох, перепрыгнувших на нее с дрянной соломенной циновки, на которой она всю ночь ворочалась, так и не сомкнув глаз. Странно, но жизнь порой выбирает такие извилистые тропинки, что, идя по ним, теряешься в догадках. Гонорий, дорогой Гонорий! Почему он вдруг перестал строить козни, которые наверняка позволили бы ему занять Святой престол? У него были власть и средства. У него хватало для этого золота и ума. Да, ума. А ведь только безжалостный ум камерленго Бенедетти Од считала равным своему уму. Если он пренебрег Светом, значит, Тьма подходит ему больше. Губы Од растянулись в прелестной улыбке. Дорогой Гонорий, единственное поистине радостное воспоминание в ее жизни…По доносу племянника мужа, которого она пощадила, поскольку тот был очаровательным мальчишкой, так нравившимся ей, люди бальи Осера арестовали Од. Их заинтересовали несчастья, обрушившиеся на всех родственников мадам де Нейра. Гонорий Бенедетти, тогда обыкновенный епископ, случайно оказался в городе, когда шел процесс. Изумительная красота мадам де Нейра напомнила Гонорию о сладостных безумствах его юности. Изящная белокурая особа в изумрудном бархатном платье ответила на все вопросы, запутав его влабиринте лжи, которой он восхищался, будучи знатоком. И он решил: такой ум, такие таланты не должны погибнуть под топором палача или сгореть на костре, как сгорали все ведьмы. С Од сняли все обвинения, отмыли от всех подозрений. И даже племянник по мужу попросил прощения. Неделю спустя Гонорий пришел к ней в особняк, унаследованный после супруга, которого она отправила в мир, считавшийся лучшим из миров. Надежды Гонория Бенедетти не были обмануты. Эта ненасытная плоть, единственная, которую он вкушал с тех пор, как покинул мирское общество, не оставила у него горьких воспоминаний о совершенной ошибке. Од предложила ему свое тело с радостным неистовством любовницы, а не должницы, уплачивающей свой долг. На рассвете после той безумной и чарующей ночи она сказала ему с сокрушенным видом: – Жизнь слишком коротка, чтобы терпеть тех, кто портит ее нам. Если бы люди были более мудрыми… мне не пришлось бы их травить. Поклянитесь мне, Гонорий, что вы мудрый человек. Я очень сожалела бы о вашей смерти… Скрытая угроза скрепила их договор. Да, ведь речь шла именно о договоре. Разумеется, Гонорий спас Од жизнь, которая висела тогда на волоске. Однако их связывало нечто большее, чем обыкновенная признательность. Они были людьми одной породы. Редкой породы, несомненно, опасной, но способной рисковать всем, лишь бы добиться поставленной цели. Породы, которую не могли обуздать ни страх, ни интерес, ни даже любовь.
Шуршание тяжелой материи вывело Од из раздумий. Невысокая тщедушная женщина, сморщенная, как яблоко зимой, сурово смотрела на нее. Од встала, присела в реверансе и представилась. Женщина ответила ей без малейшей теплоты в голосе: – Беренгерия д’Этреваль. Я мать-аббатиса этого монастыря. Мне сказали, что вы хотели бы встретиться с мадемуазель вашей племянницей? – Да, мадам моя матушка. Я направляюсь в Реймс. Мой путь пролегал так близко от Молена, что у меня возникло горячее желание повидаться с племянницей. – Это вполне естественное желание тетушки. Что-то в тоне аббатисы, одновременно равнодушном и недоверчивом, насторожило Од де Нейра. Она спросила: – Она в добром здравии? – Да. – Позволите ли вы встретиться с ней?… О, это будет короткая встреча. Я знаю, сколь строг устав святого Бенедикта. Да, восхитительно строг! – К сожалению, нам не удалось убедить в этом Матильду. Возможно, вы сумеете вложить хотя бы немного здравого смысла в эту молодую строптивую головку. – Я буду стараться изо всех сил, матушка. – Вам придется постараться. Не буду скрывать от вас, что если бы не откровенное отчаяние и настойчивость ее дорогого дядюшки, боявшегося за целомудрие и душу своей кровной племянницы, опекуном которой он был, мы охотно обошлись бы без такой обузы. С самого своего приезда к нам она постоянно укоряет нас, жалуется, бессовестно лжет. Мы как благословения ждем того дня, когда родственник решит выдать Матильду замуж. Мадам де Нейра сумела остаться невозмутимой. Значит, как она и подозревала, ординарный барон Эд де Ларне избавился от ставшей для него обузой Матильды, запрятав ее в монастырь. Матильда де Суарси, единственная дочь Аньес, написавшая ложное свидетельство, в котором обвиняла родную мать в ереси, предстала перед инквизиторским судом, призванным прямиком отправить ее мать на костер. К сожалению, несмотря на все усилия Никола Флорена, который мастерски вел эту пародию на истинный суд, безмозглая Матильда обрекла на провал план, составленный Гонорием Бенедетти. Сгоравшая от ревности к матери, от желания отправить ее на костер, юная глупышка запуталась в собственной лжи, и ее свидетельство было признано недействительным. Затем Флорена убили. Од де Нейра сдержала улыбку, представив себе ярость, затуманившую и без того недалекий ум Эда де Ларне, сводного брата Аньес, когда он узнал, что дама де Суарси вырвалась из когтей инквизиции. Значит, он выбрал женское аббатство, причем как можно более удаленное от Перша, чтобы Аньес не смогла разыскать свою дочь. Но что это означало на самом деле? Изощренная месть сводной сестре после провала инквизиторского процесса? Насколько было известно мадам де Нейра, Эд де Ларне с удовольствием потерся бы животом о живот своей родственницы. Он, обуреваемый кровосмесительными желаниями, преследовал сводную сестру в течение многих лет, до тех пор пока не убедился, что она никогда не уступит. И тогда он возненавидел ее. В принципе, Од чувствовала, что в этом плане с дамой де Суарси ее объединяла общность мысли, за тем исключением, что, окажись она на месте Аньес, она быстро отправила бы барона на тот свет. Од де Нейра приняла скорбный вид и, тяжело вздохнув, ответила: – Я понимаю всю вашу печаль и досаду, мадам моя матушка. Столько тщетных усилий, а ведь у вас и без того много тяжелых обязанностей в этих стенах. Матильда… как бы это сказать… Я понимаю, почему мой славный кузен де Ларне решил доверить ее вам. Я понимаю также, на что он надеялся. Матильда всегда была очень резвой девочкой, и поэтому молитв и размышлений оказалось… недостаточно. Эд должен был догадаться, что свет ее влечет гораздо сильнее, чем жизнь, полная целомудрия и самоотречения. Если я в силах вразумить ее хотя бы немного, призвать ее к терпению до будущего замужества, я постараюсь это сделать за время своего короткого визита. – Я буду очень вам за это признательна, мадам моя дочь. Вас проводят в приемную, где вы обе сможете удобно расположиться.
От сладостного страха у мадам де Нейра заныло в груди, когда монахиня привела Матильду де Суарси в приемную. Неужели девчонка настолько глупа, что воскликнет: «Кто вы, мадам?» Или же настолько хитра, что изобразит радость при виде своей любимой тетушки? Но, как Од и надеялась, у Матильды хитрость восторжествовала над удивлением. Одетая в жалкое серое платье облатки, с белым платком из грубого льняного полотна на голове, она с распростертыми объятиями кинулась к сидящей женщине, радостно улыбаясь: – О, моя возлюбленная тетушка… Какое счастье видеть вас здесь! У меня кружится голова. – Моя милая Матильда… Я тоже очень рада. Я столько думала о вас, после того как вы уехали в эти места, благоприятствующие возвышению души. Прошу вас, сядьте рядом со мной. Мне нужно рассказать вам о стольких вещах! Ваша матушка, мадам д’Этреваль, любезно предоставила в наше распоряжение несколько часов. Од поймала проницательный взгляд девушки, рассматривавшей ее украшения, словно она оценивала, насколько состоятельна эта блистательная дама. Все это вполне устраивало мадам де Нейра. Когда молодая монахиня, которая привела Матильду, закрыла за собой дверь, улыбка на губах девочки погасла. Она наклонилась к так называемой тетушке и тихо прошептала: – Кто вы, мадам? Од одарила ее ослепительной улыбкой и прошептала в ответ: – Разве вы поверите, если я вам признаюсь? Ваш лучший друг. У нас слишком мало времени. Я буквально вырвала несколько часов у матери-аббатисы, по меньшей мере разочарованной вашим поведением, в обмен на обещание, что я вложу в вашу прелестную головку немного скромности и послушания. – Она жестом остановила Матильду, готовую возразить. – По правде говоря, все это мне безразлично. Но если мы хотим договориться, вам придется стать более покладистой. Не волнуйтесь… это дело нескольких дней. – Я ничего не понимаю, мадам, – возразила Матильда тоном, в котором слышались нетерпение и недоверие. – Сейчас поймете, мой друг. Я не могу вызволить вас из этого ужасного места обычным путем. В таком случае мне придется предоставить нотариально заверенный документ, подтверждающий наше родство. Матильда прищурила глаза. Она обо всем догадалась. – Тем не менее, – продолжало очаровательное создание, – я наняла трех здоровых молодцев, которые помогут вам выйти за пределы монастыря. В конце концов, монастырь – это не застенок. Хотя… может, я и ошибаюсь, – весело пошутила Од. – Почему вы так заботитесь обо мне? Вы же меня не знаете. Кто вас прислал? Мой дядюшка, этот желчный прохвост, который заставляет меня здесь гнить вот уже целый год? Мать, эта хитрюга, которая воспользовалась мной, чтобы выйти сухой из воды? Вот уж прелестная недотрога! – Ни дядюшка, ни мать. – Полно! Да кто будет заботиться обо мне, той, которая медленно умирает в этих зловещих стенах, роет руками землю, чтобы добыть немного овощей, трет горшки и котелки золой и песком, чинит нательное белье, такое износившееся, такое жесткое, что его даже нищим отдать стыдно! Матильда протянула руки к блистательной женщине и ядовито прошипела: – Посмотрите, мадам. Посмотрите на мои руки. Они стали такими грубыми, что я плакала бы от ярости, если бы уже не выплакала все слезы. – Славная бедняжка, – прошептала Од, думая о своем. – В самом деле, какой ужас! Руки вилланки, старой женщины. Вы такая красивая, в вас чувствуется порода. Все это так несправедливо! – Действительно, – согласилась Матильда со слезами на глазах. – Но кто вы, мадам, почему вы беспокоитесь о печальной затворнице, которая попала в эти скорбные места из-за людской зависти? – Было бы преждевременно объяснять вам истинные причины моего приезда. К тому же у нас мало времени. Знайте только, что я ваша союзница. Единственная союзница. Вы наделены проницательным умом, и поэтому я не буду уверять вас, что оказываю вам бескорыстную помощь. Мы еще вернемся к этому. Однако будьте уверены, что уготовленная вам судьба волнует меня. Ее несправедливость сравнима только с ее жестокостью. Что касается… возмещения долга, на которое я рассчитываю, оно будет вполне соразмерным и ничуть не оскорбительным для вас, даю вам слово. Барон де Ларне подло использовал вас в своей постыдной войне, которую он вел против вашей матери. Но что на самом деле он хотел получить? Вашу мать или железный рудник От-Гравьер, входящий в ее вдовье наследство?[279] Не знаю. Возможно, и вашу мать, и рудник. Тем не менее остается фактом, что вас одурачили, вами помыкали, вас ввели в заблуждение. Что касается вашей матери, то, как вы правильно сказали, она превосходно расставила свои пешки. Воспользовавшись наивностью несчастных жертв, она завладела, благодаря замужеству, богатым графством, не говоря уже о мужчине, более чем симпатичном. К тому же рудник От-Гравьер должен был отойти вам после их бракосочетания. – Вот именно, одурачили. Это слово подходит как нельзя лучше. Они украли у меня все, что принадлежит мне по закону и по крови. Я отомщу им, – прошипела Матильда сквозь зубы. – И вы совершенно правы, – с восторгом одобрила ее мадам де Нейра. Этого короткого разговора было вполне достаточно, чтобы Од по достоинству оценила еще только формировавшуюся женщину, находящуюся перед ней. Матильда была глупой, уже озлобленной, спесивой, расчетливой, эгоистичной, но ее жадность к жизни и деньгам могла послужить главным козырем в плане, составленном мадам де Нейра. – Мы, Матильда, принадлежим к той редкой породе людей, которая знает, что такое страдания, но никогда не отступает перед лицом противника. Мы всегда высоко держим голову и не признаем поражений. Не так ли? – Разумеется, – согласилась Матильда. Столь лестное описание ее предполагаемой стойкости пришлось девочке по душе. Более того, ей импонировало некое сходство с этой великолепной женщиной, так богато одетой, от которой исходил тонкий аромат ириса и мускуса. Возвращаясь к тому, что ее беспокоило больше всего, Матильда продолжила: – Значит, вы предлагаете мне выйти из прихожей этой богадельни…[280] В ответ Од кивнула элегантным жестом. – Вы имели честь предупредить меня, что эту помощь мне придется компенсировать… Од снова кивнула. – Но я по-прежнему не знаю, кто вы на самом деле… – Од де Нейра, ваша союзница. – Это слишком скудные сведения, но сейчас мне их достаточно. Для меня важно только одно: поскорее выйти отсюда! Я пыталась это сделать несколько раз. Но даже если забыть о том, что ворота монастыря охраняются лучше, чем ворота тюрьмы Лувра, куда я могу затем пойти? Моя семья подло бросила меня на произвол судьбы, обманула меня. У меня нет ни су, нет даже достойной одежды. – Вы все это получите, моя дорогая. Особняк, в котором я живу в Шартре, жаждет принять вас в свои стены. Наконец… Боже, как быстро бежит время в вашем обществе! Я должна успеть изложить вам свой план, пока сестра не прервала нашу беседу. Ваше гордое сопротивление вызвало у монахинь множество подозрений. Я это поняла из плохо скрываемых намеков матери-аббатисы. Необходимо, чтобы они ослабили слежку за вами, иначе мои люди не сумеют вмешаться. Разыграем же для них комедию. Вы не против? После нашего разговора вы выйдете… просветленной, горящей желанием послушания. Вы покорнейше попросите прощения у мадам д’Этреваль, скажете, что причиной ваших прошлых выходок был ваш юный возраст. Вы охотно, с удовольствием станете выполнять всю тяжелую работу, которую вам поручат. Одним словом, будете трудиться, как мул. Матильда все сильнее хмурилась, слушая эти наставления. Од приободрила девочку: – Немного терпения, моя дорогая. Всего лишь неделя. Мы усыпим их бдительность, а потом освободим вас. Простодушие монахинь может сравниться с их желанием верить, будто им удалось вывести души на правильный путь. Вы будете молиться горячо и прилежно. Вы станете очаровательной и услужливой… В душу мадам де Нейра закралось сомнение. Матильда была глупой. Это она убедительно доказала во время инквизиторского процесса над своей матерью, поспособствовав тем самым оправданию той, которую она упорно старалась отправить на пыточное ложе. Она могла переусердствовать и только разжечь подозрения, вместо того чтобы сгладить их. Слащавым голосом Од де Нейра уточнила: – Я знаю, какая вы проницательная. Вы будете действовать умело, легкими мазками, чтобы не вызвать… неуместные толки. В ответ Матильда моргнула. – Мы знакомы очень мало, моя дорогая. Тем не менее, Матильда, знайте, что я, как и вы, боролась с предназначенной мне судьбой. Эта судьба была несправедливой, унизительной. Я боролась дольше, чем вы. Да, столько лет борьбы… И вот я сегодня: богатая, красивая, любимая и внушающая страх. А мне никто не внушает страха. Я сама себе госпожа. И это тоже я предлагаю вам в обмен на вашу помощь: научиться владеть оружием, которое я выковала для себя. Это грозное оружие. А вы уже приобрели достаточный опыт, чтобы приступить к практическим занятиям. Ошеломленная, очарованная столь заманчивым будущим, Матильда почувствовала бесконечную признательность к этому ослепительному созданию, которое спасет ее от худшего: от монастыря, от заката жизни, как она уже думала. Ее куриные мозги не старались вникнуть глубже. Она будет во всем подчиняться этой женщине, она станет ей подражать, превратится в такую же красавицу, будет такой же властной. Наконец-то мир припадет к ее стопам. Эд де Ларне будет кусать себе локти. Что касается матери, по вине которой все это произошло, она заплатит сторицей. Матильда получит все, что ей принадлежит по праву и по крови, и даже больше. Раздался легкий шум. Од быстро взглянула на дверь и тут же заговорила нежным, но строгим голосом: – О, моя дорогая, какое я испытываю облегчение, что вы наконец приняли столь мудрое решение. Нет, я не удивлена. Ваш восхитительный характер… Мадам де Нейра изобразила удивление, увидев мадам д’Этреваль, аббатису. Она встала. Ее примеру тут же последовала Матильда. – Скоро шестой* час, мадам. Я вынуждена попросить вас покинуть наши стены. Од закрыла рот рукой, как бы извиняясь. Тот факт, что пришла аббатиса, а не монахиня, которая должна была отвести Матильду в монастырь, доказывало, что матушка питала надежду увидеть раскаяние девочки. – Мадам моя матушка, прошу у вас прощения. Длинный и плодотворный разговор, который я только что имела с моей племянницей, заставил меня забыть о времени. – Повернувшись к девочке, Од, изобразив заботливую тетушку, посоветовала: – Так вот, моя славная крошка, поступайте так, как велит ваше чистое сердце. Опустив голову, скрестив молитвенно ладони, Матильда подошла к маленькой женщине и прошептала: – Моя возлюбленная матушка, я не знаю, как вымолить у вас прощение. Я была глупой мятежницей. Ваши постоянные усилия помочь мне, наставить на путь истинный должны были меня образумить. Но в мое оправдание свидетельствуют молодость, а также чувство, что я была брошена на произвол судьбы моей семьей. Какая душевная боль! По сморщенному лицу, просветлевшему от радости, по вздоху облегчения маленькой женщины, которая возглавляла эту богомольную обитель, более могущественную, чем крупная сеньория, Од все поняла. Партия еще не была выиграна, однако ее начало казалось многообещающим.
Рудник От-Гравьер, Перш, август 1306 года
Шел противный моросящий дождь, когда Аньес, графиня д’Отон, спешилась у рудника почти сразу же после девятого* часа. Жандармы, которые по требованию ее дражайшего супруга сопровождали Аньес во всех ее поездках, остановились в двух туазах дальше. Аньес потрепала гриву прекрасного иноходца,[281] с сожалением подумав о Розочке, своей славной кобыле першеронской породы, серой, почти черной, на которой она всегда ездила до замужества. В холке Розочка была выше многих мужчин. Однако эти мощные лошади, выведенные для тяжелых работ, не могли слишком долго скакать галопом. Аньес оглядела десять арпанов* некогда запущенного краснозема, доставшегося ей как вдовье наследство. Раньше здесь в изобилии росла лишь воинственная крапива. Аньес ненавидела это место, продуваемое всеми ветрами, размытое постоянными дождями, и проклинала его за то, что оно было неспособно помочь Суарси выжить. Вплоть до того вечера, когда Клеманс испытала магнит, подаренный ей мессиром Жозефом из Болоньи, врачом-евреем графа д’Отона, выдающимся ученым, который досконально знал науки, в том числе астрономию, философию и все юридические лазейки. Тогда Аньес поняла: Эд де Ларне, мерзавец, который на протяжении многих лет пытался уложить ее в свою постель, несмотря на их кровную связь, хотел в первую очередь заполучить От-Гравьер, поскольку знал, что это был богатый железный рудник. Если бы Аньес обвинили в ереси или плотской связи с человеком Бога, она лишилась бы всех своих прав, в том числе вдовьего наследства. Эд заполучил бы ее дочь Матильду и От-Гравьер. К ненависти, которую испытывала Аньес к Эду, примешивалось бесконечное презрение. Аньес вздохнула. Каждый раз, когда она посещала это место, она поражалась происходившим там изменениям. Крапиву вырвали с корнем. Редкие деревца, сумевшие противостоять буйному натиску крапивы, срубили. Глубокие и широкие борозды, в которых исчезали люди, изрезали землю во всех направлениях.[282] Горы земли ждали, когда их погрузят на ломовые дроги, весь день ездившие туда-сюда. На дрогах руду возили к мельницам, при помощи которых раздували кузнечные меха. Меряльщик[283] оценивал количество поставленной руды, определял стоимость в древесном угле и во времени, необходимом для ее переработки. Он также сообщал Аньес вес металла, который она может получить. Аньес порадовалась, что последовала совету мессира Жозефа. На этот раз законы Нормандии, составленные явно не в пользу женщин, благоприятствовали ей. В провинции существовали могущественные Лиги кузнецов, сосредоточенные в краю Уш. Не желая подчиняться сеньорам и монахам, они брали рудники в аренду и добывали руду за определенный процент. Аньес обратилась к ним за помощью, не став самостоятельно продавать руду сеньорам или монастырям, владевшим кузницами, как это делалось повсеместно.Из траншеи появилась голова мастера. Он заметил Аньес. На коленях он дополз до верха траншеи и подбежал к ней, держа шапку в руках. Плотный мужчина, затянутый в кожаную тунику без рукавов, низко поклонился и с гордостью произнес: – Мадам, я не устаю повторять: этот рудник – самый богатый в нашем краю. Одно удовольствие работать лопатой, когда твой труд щедро вознаграждается. – Слава Богу, мой славный Элоа. А ведь я так люто ненавидела эту неплодородную землю. Но она смилостивилась надо мной, простила меня и теперь столь щедра ко мне. – Земля никогда не испытывает ни злобы, ни ненависти. – Мужчина вздохнул. Казалось, он колебался. – Уж не знаю… Мы здесь наемные… Впрочем, хорошему покупателю – хороший продавец. Вот уже несколько дней сюда приходят какие-то люди. Они что-то вынюхивают, делая вид, будто собирают хворост. Внезапный смутный страх испортил безмятежное настроение Аньес. – Вынюхивают? – Сначала мы с Робером, моим учеником, подумали, что это воришки. Правда, воришки обычно приходят по ночам. Мешок руды всегда можно хорошо продать. Но нет. Люди, о которых я вам рассказываю, делали вид, что они просто проходили мимо. Они приближались к нам, словно им вдруг захотелось поговорить. От них пахнет мануарием. Они слишком медоточивые, чтобы быть честными, если хотите знать мое мнение. Были ли это люди Эда? Но почему ее сводный брат велел следить за рудником? На что он мог надеяться? Зачем ему надо было мучиться при виде того, что он не получил? Аньес вздрогнула от отвращения. Что замышлял Эд? Неужели он настолько обезумел, что решил плести заговор против своего сюзерена, графа д’Отона? Артюс д’Отон не оставил Эду де Ларне иного выбора. Эд понял, что ему не по силам тягаться с будущим зятем. Трусливый, но расчетливый Эд дал благословение своей сводной сестре и прилюдно хвастался тем, что она сумела так удачно выйти замуж. С тех пор Аньес ничего не слышала о своем сводном браге. Правда, ходили все более упорные слухи, что последний рудник Эда закрылся, истощившись, как и все другие. – Смотрите в оба, мой славный Элоа. Это могут быть люди моего сводного брата. Я хорошо знаю его, Что бы он ни задумал, это всегда будет подлостью. – Не волнуйтесь, благородная дама! Я видел стольких мародеров и разбойников всякого пошиба, что чую их, еще даже не увидев их грязных морд. Если они попытаются совершить какую-нибудь пакость, что же… Нас здесь пятнадцать молодцов, и мы уже давно ничего не боимся. Они на себе попробуют, как тяжелы наши лопаты, кирки и ломы.[284] Элоа помог Аньес сесть в седло. Она поблагодарила его взмахом руки и поехала обратно. По дороге Аньес обдумывала сведения, которые ей сообщил кузнечный мастер. Должна ли она рассказать об этом своему супругу и тем самым доставить ему очередные неприятности? Полно! Что она вбила себе в голову? В конце концов, что мог предпринять Эд? Улыбка озарила лицо Аньес, сразу же просветлевшее. Вероятно, Эд задохнулся от ярости, узнав, что из зависимого бедного вассала она через свое замужество превратилась в его сюзерена. Прекрасный реванш! В сопровождении жандармов Аньес ехала по опушке леса Лувьер. Два года назад она здесь убила двух мужчин, двух мерзавцев, чтобы спасти свою дочь Клеманс от их когтей. Целая вечность. Странно, но она не помнила лиц этих разбойников. «Клеманс, моя милая, моя нежная, моя дорогая! Как мне тебя не хватает! Где ты бродишь? Поиски, которые мы предприняли, чтобы найти тебя, не оставили мне надежды вновь тебя увидеть. Я представляю тебя красивой и здоровой. Я упрямо гоню от себя мрачные мысли. Так легко предполагать плохое, когда отсутствие любимого существа гложет тебя денно и нощно. Я желаю тебе только самого лучшего, тебе, которая была и остается моей лучшей. Я так боюсь, что они найдут тебя раньше, чем я. Тогда как ты сможешь защититься? Приспешники Гонория Бенедетти хотят уничтожить тебя. Они сделают это после того, как получат манускрипты, тайну которых ты оберегаешь. А он, рыцарь-госпитальер Франческо де Леоне, спасший мне жизнь, готовый пожертвовать своей жизнью, лишь бы сбылось пророчество, он еще не понял, что ты – существо Света, единственная женщина, которую он искал столько лет со всей преданностью и отвагой. Я не доверяю ему. Я не доверяю его любви и чистоте. Возможно, даже больше, чем проклятым негодяям, прислуживающим камерленго». – Мы заночуем в мануарии Суарси, – сказала Аньес жандармам. – Я распорядилась, чтобы вам приготовили циновки в службах и хорошо накормили. Она снова увидит ферму с квадратными башнями, отремонтированными по приказу ее супруга. Аньес не могла понять, почему у нее все чаще возникало желание оказаться среди этих толстых неприветливых стен, в огромных ледяных комнатах, которые она некогда считала ужасными. Впрочем, воспоминания о прошлой жизни порой приобретают надуманную сладость. А ведь Аньес было так страшно за себя, своих дочерей и челядинцев. Она боялась, что неурожай, эпидемия, злой рок поставят их жизни под угрозу. Она трудилась, как вилланка, буквально вырывая у земли плоды, которыми они могли хотя бы немного насытиться. Но сейчас, едва Аньес входила в просторный двор, как сразу же испытывала облегчение. Все воспоминания о Клеманс были связаны с этим местом. Аньес перебирала их, когда осматривала службы, голубятню, расспрашивала людей, оставшихся в мануарии. Они проносились в ее памяти, как милые призраки, когда она спускалась к деревне Суарси, идя наугад по узеньким улочкам, вдоль которых теснились хижины. Улочки переплетались столь причудливым образом, что порой телеги, везущие сено, задевали крыши строений на очередном повороте. Как и многие другие мануарии, Суарси не имел права держать у себя оружие. В былые времена, когда король Англии еще не был объявлен врагом, хотя все постоянно боялись его, их могли спасти лишь неприметность и прочные стены. Этим и объяснялось, почему выбор пал на место, расположенное на возвышенности и окруженное лесом. Действительно, толстые крепостные стены, за которыми прятались крестьяне, сервы и мелкие ремесленники, спокойно и дерзко отразили не один натиск противника. Как и надо было ожидать, в мысли молодой женщины вторглась Матильда. Но Аньес прогнала воспоминания об обольстительной улыбке, капризной мине, ревнивой зависти, ночном кошмаре. Насколько Аньес, несмотря на все свое беспокойство, привечала воспоминания о Клеманс, поскольку черпала в них силу и волю, настолько она вот уже в течение двух лет отторгала воспоминания о Матильде, своей старшей дочери, посеявшей в ней сожаление и непонимание. Аньес, узнав, что Матильда толкала их обеих, ее и Клеманс, в безжалостную пасть инквизиции и лгала без стыда и совести, хотела бы возненавидеть старшую дочь всей своей яростью, всем своим ужасом. Возможно, со временем ей это удастся. Однако уверенность в том, что она сама стала виновницей испорченности девочки, не давала Аньес покоя. Ведь несправедливо, когда мать постоянно отдает предпочтение одному из своих детей. А ведь так оно и было. Аньес была слишком честной, чтобы попытаться разубедить себя в этом. Смех, разговоры с Клеманс, когда девочка уже понимала, что должна зваться Клеманом, но еще не знала, что была не внебрачной дочерью служанки-еретички, а второй дочерью Аньес… Их прогулки, веселое сообщничество и даже страх перед завтрашним днем объединяли их. Необходимо было признать: она любила Матильду как ребенка, воспитала ее, желала ей всего самого лучшего, старалась сделать ее жизнь менее тяжелой. Но она с упоением каждый день открывала для себя Клеманс. Подшучивая над ней, она ловила каждое движение, каждое выражение лица, ища в своей младшей дочери черты самой себя, родной матери девочки. Аньес толкнула кобылу ногой. Ей не терпелось поскорее добраться до Суарси. У нее немного кружилась голова. Несомненно, от утомительной поездки.
Дворец Лувр, окрестности Парижа, апартаменты Гийома де Ногаре, август 1306 года
Филипп Красивый слушал с непроницаемым лицом, устремив орлиный взгляд своих голубых глаз на мсье де Ногаре. Напряженный, он восседал на престоле[285] с резной высокой спинкой. – Поскольку это предположение исходит из ваших уст, Ногаре, я сомневаюсь, что оно является глупой шуткой, – произнес монарх ледяным тоном. – Разумеется, нет, сир, – ответил советник, который буквально сох на глазах, передавая королю содержание своего разговора с Джорджио Цуккари, генерал-капитаном ломбардцев. Почувствовав плохое настроение своего хозяина, Дельме, любимая гончая Филиппа, подняла голову с черными полосами и недружелюбно посмотрела на Гийома де Ногаре. Ей не нравился запах этого человека, а гнев, который, как она догадывалась, бушевал в душе ее хозяина, державшего ее при себе днем и ночью, тревожил верную собаку. Время от времени она порыкивала. – Спокойно, Дельме, моя красавица! – приказал ей Филипп. – Ногаре, неужели вы забыли, что Артюс д’Отон – мой друг? – Если бы я забыл об этом, то не пребывал бы в крайнем замешательстве. – Значит, Климент V через своего камерленго… Что? Ходатайствует, просит, советует, требует, чтобы Артюс д’Отон предстал перед инквизиторским судом и дал объяснения двум свидетельствам, одно из которых исходит от уличного сорванца, а второе – от хозяина таверны. Так? – Совершенно верно. – Это было бы смешно, если бы не было так нелепо! Значит, безукоризненной репутации мсье д’Отона, которую признают даже его враги, недостаточно, чтобы снять с него глупые подозрения? Убийство, да еще сеньора инквизитора, к тому же безоружного! Святой отец лишился рассудка? Наши дороги с течением времени разошлись, но я не сомневаюсь в д’Отоне: он никогда не опустился бы до подобной низости. Прекрасный фехтовальщик, д’Отон дал бы пощечину Никола Флорену, оскорбил бы его при многих свидетелях и потребовал бы судебного поединка.[286] – С человеком Бога? Кроме того, сир, позволю себе возразить: учитывая, что убийца доминиканца хотел заставить признать невиновность мадам де Суарси и устроить так, чтобы все подумали о суде Божьем, кончина инквизитора должна была выглядеть случайной… чудесной в некотором роде. Не будем забывать, кто больше всего был заинтересован, да что я говорю – спешил вырвать даму из когтей инквизиции! – Чушь все это! – Филипп вышел из себя. Его тонкие губы скривились, что не предвещало ничего хорошего. – Ваше ощущение, Ногаре? – Мое ощущение? – повторил советник, впервые после начала этого бурного разговора осмелившийся встретиться взглядом со взглядом монарха. – Да, да, ваше. Что нам тут поют? Если мы выполним требование Святого престола, нас отблагодарят? Они с большей готовностью выслушают наше требование о слиянии военных орденов… А почему бы не о посмертном процессе над Бонифацием VIII, вечно гори он в аду? – Как я вам и говорил, речь не идет о посмертном процессе. Упоминалось только о слиянии. Именно об этом мне поведал Цуккари, ваше величество, причем с большой осмотрительностью, смею вас заверить. – Мудрый человек! И все это вызывает у меня ощущение, что Папа и его камерленго обещают нам золотые горы, держа кукиш в кармане. Чует мое сердце, это подлость или по крайней мере лицемерие. У нас богатый опыт, Ногаре. Если мы согласимся выполнить их просьбу, Святой престол ловко выкрутится, изобразив полнейшее недоумение, заявив, что мы плохо их поняли, что речь даже не заходила о… своего рода вознаграждении. – Мы можем потребовать более… четких заверений. Ногаре почувствовал облегчение. Филипп больше всего боялся, что его обманут. Иными словами, он уже согласился с мыслью, что ему придется заставить мсье д’Отона предстать перед церковным судом. Человек слова и чести в личных делах, Филипп вершил дела королевства как истинный монарх: для него не существовало ни обещаний, ни дружбы. Все средства были хороши для достижения поставленных целей. Филипп машинально погладил собаку по голове. Дельме не сводила глаз с Ногаре. Длинные грозные челюсти могли сломать хребет зайцу одним махом. По мнению советника, животные были всего лишь созданиями, отданными в распоряжение человека Богом, чтобы он использовал их сообразно своей воле, но без жестокости. В сотый раз он спрашивал себя, почему его повелитель – к которому он питал почтение, но не нежность, – находил удовольствие и успокоение в обществе собак, в частности Дельме, с которой практически никогда не расставался. – В этой истории нет ничего стоящего, – продолжал король. – И что? Почему, черт возьми, Церковь возмутило маленькое чудо, которое в глазах всех подтвердило реальность Божьего суда? Церковь должна была бы радоваться и, напротив, бояться, как бы вся правда об инквизиторе не вышла наружу. Какое дело Клименту V до Артюса д’Отона, который никогда не вмешивался в политику, если не считать управления своим графством? – У меня тоже возникли все эти вопросы. Филипп наклонился к собаке и сказал ей почти веселым тоном: – Видишь ли, моя бесстрашная, твой хозяин чует ловушку. Просто он пребывает в замешательстве, поскольку не знает, где именно она находится и какая именно дичь его ждет. Белая собака с черными полосами на голове повиляла хвостом, не спуская глаз с человека, который стоя ждал решения своего повелителя. Несколько секунд прошло в молчании. Филипп начал таким равнодушным тоном, что Ногаре понял – продолжение тяжелым грузом ляжет ему на сердце: – Самые ясные заверения, говорите вы? Нам надо идти другим путем. Наш старый знакомый Цуккари немного поломается, но потом охотно согласится и станет нашим посредником. – А если мы получим эти заверения, сир? – Мсье д’Отон должен будет представить объяснения церковному суду. Оставьте меня, мой славный Ногаре. Мне надо подумать.Мануарий Суарси-ан-Перш, август 1306 года
Аньес осмотрелась вокруг. Просторный двор был пустынным, если не считать двух молоссов, которые, облизываясь, побежали к ним, но, едва признав свою даму, резко остановились. Аньес позвала на помощь. В службах раздался какой-то неясный шум. Тяжелая дверь конюшни мгновенно распахнулась, словно была обыкновенной кожаной занавеской. На пороге появился взлохмаченный Жильбер Простодушный. Он радостно бросился к своей госпоже, восклицая: – Наконец-то наша добрая фея вернулась! О Господи Иисусе, это чудо! – задыхаясь от счастья, бормотал титан, так и оставшийся неразумным ребенком. Кобыла в яблоках ничуть не занервничала при его приближении. Она даже не зафыркала, когда Жильбер взял ее под уздцы. Аньес всегда восхищалась отношениями, которые, казалось, объединяли Жильбера с животными. Даже мстительный гусак, который обычно с громким шипением бросался на свои жертвы, без всякой провокации с их стороны, послушно следовал за ним. Что касается Мариоля, этого першерона, терроризировавшего всех батраков, загоняя их вглубь стойла, а затем лягая копытами или прижимая крупом к стенке, он с удивительно спокойным видом стоял, пока Жильбер менял сено. – Мой славный Жильбер, помоги мне спешиться, я так устала, – ласково попросила Аньес, гладя взлохмаченную гриву. – Наша поездка была долгой. Я заночую в мануарии. Жильбер поднял свою даму словно перышко, вынул из седла и с удивительной осторожностью поставил на землю. – Позаботься о наших лошадях и попроси приготовить соломенную подстилку и горячий ужин для моей охраны, прошу тебя! – Конечно, конечно, моя фея. Все будет сделано, как вы того пожелаете. Подойди сюда. Ты что, приклеился к седлу? Оторви задницу от седла и спускайся! – крикнул он церберу, следившему за графиней. Мужчина, привыкший к более учтивым манерам людей графа д’Отона, удивился, но послушался. Аньес с трудом подавила улыбку. Из кухни выбежала Аделина, вытирая руки о передник, ставший жестким от жира и грязи. Аньес подумала, что ей необходимо навести порядок. Угловатая девушка сделала реверанс, настолько неловко, что едва не упала. – О… Господи Иисусе, а у меня ничего нет! О! Да! Жильбер набрал трюфелей, так что вам не придется долго ждать. Это постное блюдо,[287] но я могу, – с отчаянием в голосе сказала Аделина, – зарезать курицу. – Не беспокойся, Аделина. Будет вполне достаточно супа и доброго ломтя хлеба. Я поднимусь в свою спальню. Я очень устала. – Черт возьми… Я лучше сделаю, – заупрямилась служанка, которую Аньес назначила ответственной за кухню и трапезы. Конечно, это слишком громко звучало для такой фермы, как Суарси, но зато льстило бедной девушке, обделенной судьбой. Аделина, кивнув в сторону жандарма, стала оправдываться, понизив голос: – А потом в доме нашего господина будут говорить, что я не могу достойно встретить нашу даму. Ах, как же мне будет стыдно! Уж лучше пусть у меня случатся колики! Я пойду прикажу судомойке,[288] чтобы она разожгла камин в общем зале и ваших покоях, наша дама. У нас очень сыро. Со смущенным видом Аделина снова сделала реверанс и убежала на кухню. Приподняв перед своего платья, Аньес медленно, словно колеблясь, направилась к лестнице, которая вела в общий зал. Она вся дрожала. Несмотря на горевшие смолистые факелы,[289] зажженные судомойкой, просторный зал был погружен в полутьму. В этих суровых стенах, от которых исходила сырость запустения, прожило не одно поколение Суарси. В памяти Аньес промелькнула вся ее жизнь, впрочем, еще достаточно короткая. Гуго, ее супруг, пронзенный острыми рогами раненого оленя, лежал на массивном столе, после того как бесконечная агония предоставила ему право на последнюю милость. Сидя в этом зале, она наблюдала, как росли ее дочери, одна из которых ничего не знала об их кровном родстве. Безликое, но обольстительное чудовище, сеньор инквизитор, пришел, чтобы увезти ее от этого камина, подвергнуть пыткам и смерти. А потом суровый, но потрясающий мужчина запутался в своей любви и словах. Аньес открыла для себя сияние жизни, всепоглощающее желание дарить себя без оглядки. Вскоре исполнится два года, как она вела существование, до сих пор удивлявшее ее до такой степени, что порой она боялась очнуться от столь чудесного сна. Два года всепоглощающей, совершенной страсти, столь головокружительной любви, что у нее перехватывало дыхание, когда она вдали замечала силуэт своего супруга, или когда по вечерам он прищуривался, склонял голову, вопрошал о ее желании взглядом. По правде говоря, Аньес была довольна своей супружеской жизнью с Гуго де Суарси. Куртуазный, почтительный, этот человек веры и войны всегда обходился с ней предупредительно и ласково. Тем не менее до бракосочетания с Артюсом д’Отоном она не знала, что такое безумие двух тел, которые искали друг друга и отдавались друг другу, что такое острая, почти болезненная нехватка близкого человека, когда он уезжал хотя бы на несколько часов, не говоря уже об облегчении, когда он приезжал, когда можно было переплести свои пальцы с его пальцами. Она подавила смех, пожав плечами. Святые небеса, какие глупости приходят ей в голову! Вскоре ее настроение омрачилось. Для полного счастья ей не хватало одной, но главной вещи: она хотела найти Клеманс, сжать ее в объятиях так сильно, чтобы та едва не задохнулась, осыпать ее волосы поцелуями. Она найдет ее, она не успокоится до тех пор, пока дочь не окажется рядом с ней, в полной безопасности. Как ни странно, но Аньес, мудрая, здравомыслящая дама, обнаружила частичку самой себя, такую сокровенную, что прежде она даже не подозревала о ее существовании. Во время инквизиторского процесса перед ней разверзлась мрачная пропасть, когда ее старшая дочь Матильда пыталась отправить Клеманс на костер. Аньес охватила ярость, хотя физическое изнеможение побуждало ее сдаться. Безграничная ярость, не знавшая жалости. Она была готова на все, лишь бы защитить Клеманс. В благоразумной Аньес, до глубины души восторгавшейся поэзией Марии Французской*, приходившей в восторг от воркования голубки, радовавшейся летнему дождю, проснулся дикий зверь, о существовании которого она даже не догадывалась. Затем она приручила, укротила его в надежде, что его не станет, настолько эта другая ипостась беспокоила ее. Вплоть до исчезновения любимой дочери она думала, что ей удалось этого добиться.Вечером через три дня после потрясающего открытия, сделанного Франческо де Леоне, Клеманс и Аннелетой Бопре, в ту пору сестрой-больничной, а ныне матерью-аббатисой Клэре, в тайной библиотеке аббатства Клэре, Аньес забеспокоилась, не видя нигде девочки. Она находила, что Клеманс очень отдалилась от нее, стала более молчаливой, чем обычно, после своего возвращения из аббатства. Она осторожно поднялась по хрупкой лестнице, ведущей на чердак, в убежище Клеманс. Едва ее нога коснулась пола, как Аньес поняла, что на нее обрушилось новое ужасное бедствие. Одежда деревенского мальчика, которую носила ее дочь, исчезла. Она увидела записку, лежавшую на соломенном тюфяке. От волнения на глазах Аньес выступили слезы. Каждая фраза, слова, которые она перечитывала сотни раз, врезались в ее память:
Мадам, моя обожаемая матушка! Мне пришлось взвешивать каждое слово, поскольку я решила, что это письмо будет коротким, иначе я исписала бы множество страниц толстого тома, признаваясь Вам в своей вечной любви. Три дня назад, глядя на этот папирус, я поняла, какой сильной любовью Вы любите меня, и эта уверенность является единственной вещью, которую я хочу увезти с собой. Можно ли идти наперекор судьбе? Не знаю, но попытаюсь сделать это благодаря отваге, которую я унаследовала от Вас. Ах, мадам, если бы Вы знали!.. Мой сон длился всего несколько секунд, но я поняла, что я Ваша дочь и как сильно Вы меня любите. Вот что я видела в этом сне. Я видела, как мы прогуливаемся на закате в роскошном саду замка Отон. Ваша рука лежит на моем плече, а я обнимаю Вас за талию. Мы смеемся, когда Вы то и дело путаете названия цветов, окружающих нас. Ах, мадам… какое блаженство! Такое короткое, но, возможно, оно еще наступит? Несколько стремительных мгновений до того, как я поняла, что я должна ускользнуть от рыцаря де Леоне и его союзников, от их абсолютной веры и чистой любви. Со своими врагами я решила сражаться в одиночку. Сон развеялся. Мне надо ехать. Знайте, мадам, где бы я ни находилась, Вы всегда будете рядом со мной. Да хранит Вас Господь. Я заклинаю небеса, чтобы на Вас не обрушились новые беды. Мадам, Ваша печаль доставит мне смертельные муки. Живите как добрая фея, какой Вы и являетесь на самом деле.Слезы душили Аньес. Она выпустила листок из рук, упалана колени. Она кричала, как раненый зверь, целую вечность, как показалось ей. Никогда прежде она даже не подозревала, что из ее груди может вырваться животный крик, почти бесконечный. Что его исторгло? Непреклонная, бесконечная любовь, над которой нависли серьезные угрозы. Но Аньес знала, что способна побороть их. Вот эти угрозы: Эд, истинный пол Клеманс, Матильда, хрупкость их жизней. А сейчас создания, наделенные неслыханным могуществом, неистребимой волей, – приспешники камерленго Гонория Бенедетти – охотились за ее дочерью. Позднее, намного позднее она от изнеможения опустилась ничком на пол. Она свернулась клубком, думая только об одном: она найдет ее, даже если ей придется босиком обойти все королевство, обыскать каждый дом, каждую хижину. Она найдет ее! Никто не сможет разлучить ее с Клеманс.Клеманс, Ваша любящая дочь
Аньес подошла к скупому пламени, слабо разгоравшемуся в огромном камине, не думая, что ей станет легче. Она повернулась к камину спиной в тщетной надежде, что боль в спине, мучившая ее несколько дней, пройдет. Ей казалось, что даже палящий огонь не сможет прогреть комнаты мануария. Аньес всегда было холодно. Но сейчас она дрожала от внутреннего холода, забиравшегося ей под кожу. Скажет ли она когда-нибудь Артюсу д’Отону о причинах своего нетерпения, настойчивого желания найти маленькую Клеманс, которую она якобы приютила после смерти при родах своей служанки, так называемой матери девочки? Ее супруг не переставал удивляться, видя, как ее огорчило внезапное исчезновение девочки, которую он считал мальчиком, и поэтому Аньес пришлось сказать ему полуправду. В конце концов, Аньес столько раз приходилось лгать, чтобы выжить! Но эта ложь тяжелым бременем лежала у нее на душе, поскольку предназначалась любимому человеку. Аньес призналась, что Клеман на самом деле был девочкой, что она пошла на это, дабы оградить ребенка от извращенных домогательств Эда де Ларне и от жизни в монастыре, где сироты низкого происхождения выполняли самые тяжелые работы. К тому же, убеждала графа Аньес, она боялась: если станет известно, что девочка родилась от еретички, принадлежавшей к секте вальденсов*, судьба ее будет ужасной. Похоже, эти объяснения удовлетворили Артюса. Его желание во всем нравиться любимой супруге сделало все остальное. Он поручил своему бальи Монжу де Брине разыскать Клеманс. Но все было тщетно, а обманутые надежды лишь усилили душевную боль Аньес. Аньес одернула себя. Хватит. Надо забыть об этом ребячестве, об этом отчаянии, которое не отнимет у нее мужества. С Божьей помощью и при спокойной, но могущественной поддержке Артюса она разыщет свою младшую дочь. И никто не посмеет встать у нее на пути. Аньес медленно поднялась по каменной лестнице, ведущей в ее прихожую. Она удивлялась, что силы почти оставили ее. Грустная улыбка озарила ее лицо, когда она вошла в смежную комнату, обставленную лишь круглым столиком и двумя креслами с потертой обивкой. Боже, до чего же они были бедными! Аньес казалось, что она никогда не привыкнет к роскоши, окружавшей графиню д’Отон, к садам замка, полыхающим всеми цветами радуги, к тропинкам, по которым она так любила прогуливаться, чувствуя себя гостьей, к огромной библиотеке графа. В библиотеке она обнаружила потрясающие поэмы, которые с восторгом вполголоса читала вслух, и откровенно непристойные тексты, такие как «Лэ об Аристотеле», написанное Анри д’Андели.[290] Аристотель, наставник юного Александра Македонского, вернувшегося из Индии с очаровательной красавицей, волнуется, как бы царь не забросил государственные дела в угоду сердечным и плотским делам. Хитрая индианка, которую раздражают советы старого наставника, соблазняет его. Более того, она залезает ему на спину, а он ползает на четвереньках, как большая собака. Александр застает их и заливается веселым смехом. Но мудрый человек не теряется, наоборот, он говорит своему ученику: «Сир, разве я был неправ, когда боялся вашей любви, ибо все в вас дышит молодостью? Посмотрите, что любовь смогла сделать со мной, несмотря на мою старость!» Когда Аньес вошла в свою спальню, унылая печаль, поселившаяся в этой комнате после ее отъезда из Суарси, яростно набросилась на молодую женщину. Обескураживающая мысль попыталась затмить ее разум: неужели она везде стала чужой? Здесь и там? Вывод напрашивался сам собой: по сути, Аньес, будь она дама де Суарси или графиня д’Отон, нигде не чувствовала себя как дома. Она изо всех сил цеплялась за любимых существ, а не за стены или башни. За мадам Клеманс де Ларне, воспитавшую ее, своего нежного ангела, за своих дочерей, за Артюса. Она существовала, держалась на ногах только благодаря им. Впрочем, подобный вывод нисколько не огорчил Аньес.
Цитадель Лимассол, август 1306 года
Рассвет, просачивавшийся сквозь узкую бойницу в келью, вырвал Франческо де Леоне, рыцаря по справедливости и по заслугам, из лихорадочного сна, навеянного не только душной ночью. Он вышел из крыла, где находились кельи и дортуар, и пересек просторный мощеный двор, направляясь к стоящему в центре приземистому зданию. Здесь принимали всех больных без исключения, будь они нищие, дворяне, слуги, торговцы или солдаты. По мере того как рыцарь приближался к госпиталю, он все сильнее чувствовал запах человеческой немощи, сукровицы, гноя и экскрементов. Но Леоне не обращал на него внимания. Он уже целую вечность сталкивался со страданиями и смертью. Жара разбередила раны больных, моливших о помощи. Госпитальерам с трудом удавалось обрабатывать измученные тела, в надежде, что в ранах не заведутся паразиты. Из-за нехватки места, средств, рыцарей-врачевателей было уже невозможно сдерживать распространение инфекции, разместив отдельно легочных, золотушных[291] больных или страдавших кровавым поносом. Происходил своего рода естественный отбор, который никому не хотелось открыто признавать. На втором этаже размещали тех, у кого был шанс выжить. На первом этаже лежали обреченные на смерть, которым вскоре суждено будет оказаться в небольшом подвале, расположенном под госпиталем. Он служил мертвецкой, поскольку царивший в нем холод не позволял телам, ожидающим погребения, слишком быстро разлагаться. Рыцарь де Леоне вдруг почувствовал горечь, от которой нелегко было избавиться. Генрих II де Лузиньян, король Кипрский, скрепя сердце разрешил госпитальерам обосноваться на южном побережье, но на очень жестких условиях. Численность госпитальеров, с присутствием которых неохотно смирился король, никогда не должна была превышать семидесяти рыцарей вместе с сопровождавшими их служителями-мирянами. Рыцарям Христа пришлось покориться, хотя поток больных, которых вскоре стало в пять раз больше, чем самих госпитальеров, никак не иссякал. Разумеется, Леоне знал: Кипр был всего лишь этапом большого пути. Гийом де Вилларе, сменивший[292] своего брата на посту великого магистра ордена, уже обратил свой взор на Родос, в будущее. И все же Франческо с грустью думал обо всех этих детях, стариках, о других, которым суждено будет умереть только потому, что Лузиньян боялся экспансии и, главное, власти военного ордена. – Я вижу, вас обуревают печальные мысли, друг мой. Франческо де Леоне обернулся на этот нежный голос. На него умиротворенно смотрел Арно де Вианкур, приор и великий командор ордена. Маленький щуплый человек с пепельными волосами, казалось, не имевший возраста, несмотря на глубокие морщины, прорезавшие его щеки и лоб, продолжал настаивать: – Так почему вы такой мрачный? Франческо де Леоне понурил голову и скрестил руки на черном плаще из грубой ткани. – Многим еще предстоит умереть. Сколько нас останется, когда мы наконец обретем спасение? – Мало, очень мало. Если бы не воля Божья, наша миссия была бы обречена на провал. Но мы должны всякий раз начинать заново, чтобы облегчить муки Его созданий. – Что нам известно о промысле Божьем? – Ах… невыносимый вопрос, который я задавал себе тысячи раз. Лишь умалишенные могут думать, что им удалось проникнуть в эту тайну. Мы продвигаемся на ощупь, брат мой. Мы стараемся верой и правдой служить Господу, моля, чтобы избранный нами путь был чистым и, насколько это возможно, безошибочным. Пойдемте, – продолжил Арно де Вианкур менее строгим тоном, – проведем несколько минут в дружеской обстановке. Свежий утренний воздух почти заставил меня забыть, что я старик. Вы подметили эту особенность кипрских ночей? Дневной зной растворяется в ночи, постепенно остывая. Рассвет приносит несколько часов желанной, но такой мимолетной прохлады. Воспользуемся этим. Арно де Вианкур пошел вперед. Он медленно отдалялся от стен, стараясь не подходить слишком близко к зданиям. Леоне не заблуждался. Желание приора прогуляться было вызвано отнюдь не утренней свежестью. Он явно хотел поговорить о серьезном деле. Он опасался шпионов, которых Лузиньян внедрил повсюду, даже в их орден, и потому заводил серьезные разговоры только за пределами стен своего кабинета и библиотеки. Они молча подошли к высокому вольеру, в котором ворковали голуби и горлицы. Их слова тонули в чудесном шуме, и Франческо де Леоне спрашивал себя, действительно ли настойчивое желание приора разместить этих нежных птиц на западной стороне двора было связано с удовольствием, которое тот получал, как сам говорил, глядя на них. – Я старею, друг мой, – продолжал Арно де Вианкур, – Мне очень жаль, что далеко не все Божьи создания наделены бесполезной красотой этих птиц. – Но если бы все обладали красотой, как тогда мы смогли бы различать ее, чтобы радоваться? Арно де Вианкур усмехнулся и ответил: – Вы попали в самую точку, Франческо. Человек создан так, что ему необходимо худшее, чтобы распознавать лучшее. Печальный вывод. Изменимся ли мы когда-нибудь? Арно де Вианкур медленно и с напускным равнодушием обвел взглядом двор. Он колебался. Франческо де Леоне подумал, что приор, как обычно, искал одну из преамбул. Ум Арно де Вианкура напоминал Леоне сложную шахматную партию, в которой фигуры подчинялись изменчивым правилам. Он расставлял их в произвольном порядке. Но вдруг они сгруппировывались, образуя удивительно стройную композицию. Впрочем, рыцарь ошибался. Арно де Вианкур в очередной раз обдумывал сведения, которые собирался сообщить. Леоне не должен был догадаться, что в течение долгих лет приор направлял их поиски, что он действовал в тени, чтобы противостоять проискам их заклятого врага Гонория Бенедетти. Двумя годами ранее Вианкур выиграл решающую битву, в чем ему оказал бесценную помощь Клэр Грессон, один из его самых талантливых шпионов, внедренный в окружение Гийома де Плезиана, второй головы на плечах мсье де Ногаре, как говорили в коридорах Лувра. Клэр Грессон сблизился с Гонорием Бенедетти, взгляды которого якобы разделял: человек не способен достичь чистоты и света Христова, если его к этому не принудить. Грессону удалось убедить камерленго в своей абсолютной вере: человечество будет ввергнуто в хаос, если ослабить сдерживающую его узду. Только страх, установленный порядок и Церковь спасут человечество от худшего, то есть от самого себя. Грессон убедительно солгал, сообщив Бенедетти ложные сведения о прелате, которого король Франции прочил на папский престол. Филипп Красивый нуждался в послушном Папе, пусть даже ценой подкупа кардиналов, лишь бы обеспечить тому место в Ватикане. Сведения, полученные конфиденциально, позволили королю Франции остановить свой выбор на мсье де Го, архиепископе Бордо, поскольку ему отдали свои голоса гасконцы. Кроме того, мсье де Го был умен, слыл искусным дипломатом, но уж никак не своенравным человеком. Ногаре убедился, что им будет легко управлять и что мсье де Го уступит королю во всем, чего тот пожелает, в знак благодарности за помощь, а именно в проведении посмертного процесса над памятью Бонифация VIII и в объединении военных орденов под штандартом сына короля Филиппа де Пуатье. Итак, следовало во что бы то ни стало поддержать кандидатуру мсье де Го, чтобы воспрепятствовать избранию Гонория Бенедетти, фавориту нескольких итальянских прелатов и грозному врагу всех остальных. Клэр Грессон не ударил в грязь лицом. Делая вид, будто он был шпионом камерленго, Грессон отдал тому другого человека на съедение: Рено де Шерлье, кардинала Труа, уточнив, что кардиналу нравилась сама идея посмертного процесса над памятью Бонифация, которым был одержим король Франции. Наступление не замедлило начаться. Гонорий щедро черпал из своей военной сокровищницы, расточал обещания, не скрывал угроз. Мастер действовать исподтишка, он домогался папской тиары вовсе не потому, что она манила его к себе. Камерленго интересовала только огромная власть, которую тиара предоставляла своему обладателю, власть, нужная ему для того, чтобы спасти человека от самого себя ради Божьей любви. Слухи, посеянные и разжигаемые людьми камерленго, разлетелись со скоростью молнии. Поскольку время поджимало, Гонорий прибег к обвинению, которое было практически невозможно опровергнуть: к обвинению в преступной терпимости к ереси и отклонению от церковных канонов. Сначала Рено де Шерлье, человек добродушный, проникся недоверием. Он попросил совета и защиты у мсье де Ногаре. Но у советника короля было много других, более важных дел, и он допустил провозглашение анафемы[293] монсеньору Труа, хотя толком и не знал ее причины. Рено де Шерлье грозил инквизиторский процесс. Подобное положение дел вполне устраивало короля Франции и позволяло Ногаре, равно как и Плезиану, продвинуть вперед их пешку: монсеньора де Го. Сомнения Рено де Шерлье сменились страхом. Не понимая, почему он стал жертвой таких суровых преследований, Рено де Шерлье добился аудиенции у камерленго Бенедетти. И хотя Гонорий умело скрыл удивление, вызванное визитом прелата, ему пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы не дать своей ярости выплеснуться наружу, когда он понял, что Клэр Грессон, этот неистовый молодой человек, преисполненный такой соблазнительной набожности, одурачил его, чего до сих пор никто никогда не осмеливался сделать. Тогда Гонорий Бенедетти попытался изменить свою стратегию. Но было слишком поздно. Все эти месяцы, в течение которых он последовательно клеветал на Рено де Шерлье, оказались решающими. Монсеньор де Го был избран Папой. И камерленго ничего не смог с этим поделать. Вианкур вздохнул и просунул два пальца между ячейками сетки вольера, чтобы погладить горлицу, склонившую к нему голову. Пожилой мужчина вновь пристально посмотрел на своего молодого духовного брата. Франческо де Леоне было, вероятно, лет двадцать семь. Еще молодой, но умудренный, как столетний старец, опытом, полученным им во всех сражениях, где он воевал не только клинком, но и умом. Как сам Вианкур, как многие из них, Леоне побывал на полях сражений, ставших кровавой бойней, мясорубкой из-за человеческого безумия. Как и он, Леоне одним ударом шпаги приканчивал своих агонизировавших товарищей, чтобы уберечь их от мстительной ярости врага. Как и он, Леоне, пребывая в одиночестве, восхищался ранним свежим утром, запахом цветущих миндальных деревьев, криками журавлей, думая, что Бог наконец-то смилостивился над ними. Приор заметил первые тонкие морщины на высоком бледном лбу человека, хранившего столько тайн. Рыцарь был довольно высоким. Тонкие, даже точеные черты лица, светлые волосы и темно-синие глаза выдавали в нем уроженца Северной Италии. Прямой нос, пухлые губы, улыбка, порой озарявшая его лицо, вероятно, очаровывали многих женщин во многих странах. Но у приора не было ни малейших сомнений в том, что рыцарь ревностно умерщвлял свою плоть, подчинялся дисциплине их ордена и обладал горячей верой. Равно как и проницательным умом и чистотой устремлений. – Франческо, мой доблестный воин. Разве это не печально, что я питаю полнейшее доверие только к вам одному? Леоне боролся с охватившем его замешательством. Долгие годы он лгал приору, ведя тайные поиски, факел которых был передан ему через тамплиера из подземелий Акры, непосредственно перед падением цитадели. Приор намного явственнее заметил смущение рыцаря, чем тот предполагал, и слукавил: – Мы, создания Божьи, так многогранны, друг мой, и было бы безумием утверждать, что я вас досконально знаю… Взволнованный Леоне посмотрел на приора. Что, в сущности, означали эти слова? О чем догадывался Вианкур? – Впрочем, у нас всегда остаются сомнения относительно других. Так, наш великий магистр, которого я считаю одним из своих друзей, порой удивляет меня… Видите ли, Франческо… Возраст не обязательно делает мудрее. Зато он заставляет торопиться. Еще десять лет назад мои высказывания не были столь краткими. Главное заключается вовсе не в знании истинной природы человека, а в уверенности, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не погонится за наживой. Я знаю, что вы никогда не станете искать выгоды, и это приносит мне огромное облегчение. Жизнь, пусть даже суровая и неблагодарная, ломает лишь тех, кто позволяет ей это делать. Порой так важно держаться за самое прекрасное, что есть в тебе. Красота – наша последняя сила. Легкая улыбка озарила лицо тщедушного мужчины. Он вздохнул: – Разве я сам не подталкиваю вас в пропасть махинаций? Ваше молчание служит тому свидетельством. Прошу прощения, брат мой. Ба, у стариков есть право немного поболтать, ведь никто не осмелится их прервать. – Поболтать? Напротив, я чувствую, что ваши рассуждения ведут к определенной цели, которая мне еще не понятна, – возразил Леоне, оставаясь настороже. – Вы совершенно правы. Завтра вы покинете Кипр и отправитесь во Французское королевство. Ваш отпускной билет,[294] подписанный мной, уже готов. По этой самой причине я и был с вами столь откровенен. Я не знаю, Франческо, свидимся ли мы еще в этом мире. – Что… Взмахом руки Вианкур прервал рыцаря: – Я не боюсь смерти. В этих краях она была и остается нашей упрямой спутницей – вашей, моей, всех остальных. Успокойтесь: пока я не чувствую, что она подкрадывается ко мне. Надеюсь, она проявит учтивость и заранее предупредит меня о своем приходе. Она мне многим обязана, ведь она постоянно вторгалась в мою жизнь, днем и ночью. Как бы там ни было, за время вашего отсутствия для меня утечет не так уж много воды. Наряду с удивлением Франческо де Леоне почувствовал огромное облегчение. Вернуться во Францию, увидеть Аньес д’Отон, кузину, которая даже не подозревала об их кровном родстве. Следить за ней, чтобы никто не смог покуситься на новую жизнь, которую ей предстояло дать. Вступить в схватку с приспешниками Бенедетти, если понадобится. Однако каковы были подлинные причины его отъезда? Ведь приор ничего не знал о его поисках, об Аньес и о другой крови, которая должна была появиться через нее? – Я выполню эту миссию. В чем она состоит? – Ваши слова принесли мне огромное облегчение. Гонорий всюду протянул свои щупальца, а вы знаете, насколько они могущественные и опасные. – Что он замышляет? Приор в последний раз немного поколебался. Сказав правду, он испытал бы облегчение. Но час правды еще не пробил. – Мы точно не знаем, – солгал Арно де Вианкур. – Однако очевидно, что успех нашего противника будет означать наше поражение. Хочет ли он избавиться от Климента V, избранию которого не смог противостоять? В одном мы уверены. Это Бенедетти отдал приказ отравить Бенедикта IX. Мы продвигаемся в густом тумане, мой доблестный брат. Гонорий ищет человека, до которого нам нужно добраться раньше него, неважно, будет ли этот человек нашим союзником или врагом. Речь идет о ребенке. А раз этот ребенок имеет для камерленго столь важное значение, значит, для нас он бесценен. – Ребенок? – удивился Леоне. – Так явствует из сведений, которые нам удалось собрать. На самом деле Клэр Грессон и его шпионы вот уже два года рыскали по всему королевству в поисках юного Клемана из окружения мадам де Суарси. Но все их усилия оказывались напрасными. Постепенно Арно де Вианкур пришел к выводу, что Леоне, хорошо знавшему ребенка, будет легче его найти и оберегать. А Грессон станет тайно помогать рыцарю. – Мы думаем, что это малыш Клеман, слуга из дома одной дамы, новой графини д’Отон. Леоне силился обуздать панику, от которой у него заныло в груди. Клеман! Почему Бенедетти преследовал его? Чтобы завладеть манускриптами, которые рыцарь перед своим отъездом на Кипр передал мальчику на хранение? Трактатом Валломброзо, без которого камерленго не мог истолковать вторую тему пророчества, и большой тетрадью, в которую они с Эсташем де Риу, его крестным отцом по ордену, перенесли записи из дневника, переданного тамплиером Эсташу в подземельях Акры незадолго до своей гибели? Обе книги ни за что не должны были попасть в руки камерленго. Какова бы ни была цена. Вианкур притворился, что не заметил смятения своего духовного брата, внезапно смертельно побледневшего, и продолжил: – Вы должны найти этого Клемана. Я не в состоянии дать вам какие-либо указания. Друг мой, я всецело полагаюсь на вас. Вы сами должны понять, почему Клеман так важен Бенедетти. И тогда мы сумеем разгадать хитроумный план, составленный камерленго. Но главное, Леоне обязан был во что бы то ни стало спасти ребенка, чтобы их поиски продолжились. Мальчик становился основополагающей ставкой, но Леоне не должен был догадаться об истинных причинах такого поворота событий. – Я исполню ваше поручение, – поклонился Леоне. – И, брат мой… мы еще увидимся. – Если Богу будет угодно.Женское аббатство Клэре, Перш, август 1306 года
Аббатство Клэре, этот величественный храм молитвы и труда, примостившийся в долине, по склонам которой были разбиты виноградники, позволявшие изготавливать выдержанный кларет,[295] внезапно появилось на опушке леса. Сотни арпанов земли, подаренной бернардинкам, конгрегации, входившей в орден цистерцианцев, начинались на территории епархии Маля. Строительство, решение о котором было принято в июне 1204 года по инициативе Жоффруа III, графа Першского, и его супруги Матильды Брауншвейгской, сестры императора Оттона IV, закончилось в 1212 году. Аббатство Клэре, получавшее щедрые дары и освобожденное от уплаты налогов, имело право разрешать уголовные и гражданские дела, опекунские дела, дела об обидах и выносить смертные приговоры. Все аббатисы были наделены прерогативами сеньорального суда и имели право приговаривать к бичеванию, отрубанию конечностей и даже смерти. Виселицы,[296] служившие средством исполнения приговоров, возвышались в поле, простиравшемся между аббатством и Суарси. Аббатисы также судили волков, пойманных в соседних лесах, за преступления, совершенные против скота. Приговоренных волков незамедлительно вешали в нескольких сотнях туазов от стены аббатства, в местечке под названием Жибе.[297] Женскому монастырю, одному из самых крупных в королевстве, были пожалованы многочисленные преимущества: земли в Мале и Тейле, а также более чем щедрая ежегодная рента. В монастырь рекой лились многочисленные пожертвования горожан, сеньоров и даже зажиточных крестьян, не говоря уже о жертвователях поневоле, приговоренных к щедрости во имя искупления грехов. В то время в монастыре жили двести монахинь, около пятидесяти послушниц и более шестидесяти служанок-мирянок. Большинство зданий, в том числе и церковь Пресвятой Богородицы с хорами, обращенными на восток, к могиле Христа, были построены из черноватого природного минерала, состоящего из кремния, кварца, глины и железной руды. Казавшаяся бесконечной высокая стена надежно защищала монастырь. В ней было всего трое ворот, главные из которых выходили на север. Сразу же за ними располагались здания, в которых могли находиться посторонние: гостеприимный дом, приемная и конюшни. Справа возвышались жилище великого приора[298] и суприора, затем дом аббатисы, приземистое двухэтажное строение, ничуть не более роскошное, чем дортуары монахинь. Здесь работали и жили аббатиса и ее секретарь. Чуть дальше к юго-востоку стояла церковь Святого Иосифа. За ней находились лазарет, сады и дом, где жили послушницы. Затем располагался сиротский приют с двумя классами, где по воскресеньям вели занятия монахини-учительницы. В приют помещали детей, подкинутых по ночам к главным воротам или оставленных на опушке леса. Сюда помещали также барышень из общества, которых приводили в аббатство родители, возмущенные безрассудством своих дочерей. Там несчастные давали жизнь нежеланному ребенку и оставались навсегда, чтобы не бросать позорящую тень на других членов семьи.Аннелета Бопре, охваченная раздражением, вздохнула. Святые небеса! Как она скучала по умиротворяющему спокойствию своего гербария! И все же последние месяцы оказали благотворное действие на бывшую сестру-больничную, которую не смогли сломить ни годы, ни опасности, ни предостережения. Она так незаметно прониклась своего рода мудростью, а также терпением, что сама удивлялась. Аннелета усматривала в этом посмертный дар Элевсии де Бофор, ее дражайшей духовной матушки, умершей от отравления у нее на руках. Крупная угловатая женщина научилась лелеять новые черты своего характера, которые прежде были бы ей неприятны. В самом деле, для чего служит терпение, если достаточно немного поторопить то, что медлит прийти к тебе? «Терпение – божественный дар», – повторяла ее дражайшая Элевсия. Впрочем, тогда ей не удалось убедить в этом свою духовную дочь больничную. Зачем Богу терпение, если он обладает вечностью? Аннелета отложила регистрационную книгу, в которую старательно, но без особого энтузиазма записывала все подробности монастырской жизни. Они продали два бочонка* молодого вина хозяину таверны из Ножан-ле-Ротру и восемь фунтов меда аптекарю из Алансона. Дровосеки трудились целую неделю. Они валили деревья, разрубали их на дрова и убирали поленья в дровяной сарай под пристальным наблюдением Сильвины Толье, монахини, в ведении которой находилась печь аббатства. Сильвина денно и нощно пересчитывала их, проверяя, не украли ли эти «хреновы сестры», как она называла монахинь, обладающих менее крепким здоровьем, чем она сама, хотя бы одно полено, чтобы подбросить его в камин обогревальни и согреть окоченевшие руки. В лесу был убит олень. По традиции, как того требовала любовь к ближнему, столь редко встречавшаяся в эти голодные времена, аббатство выделило четверть туши местным крестьянам, устроив раздачу перед главными воротами. Оставшееся мясо с удовольствием взяла Элизабо Феррон, сестра-трапезница, которая сообщала каждому, кто хотел ее выслушать: «Мое имя означает “радость”. Радость в доме Господа нашего Отца. Радость от того, что дичь внесет разнообразие в наш скудный рацион с разрешения аббатисы, да будет она благословенна. Все – радость». Эта вдова крупного торговца из Ножана раздавала пощечины ленивым приказчикам с той же легкостью, с какой тайком совала деньги трудолюбивому молодому человеку, влюбленному в милую девушку, мечтавшую о красивых лентах для волос. Могучая Элизабо была способна одним ударом оглушить осла. Закаленный характер, зычный голос и манеры хозяйки лавки скрывали ее доброту. Не в состоянии сосредоточиться на ежедневной писанине, которую Аннелета считала бессмысленной, она принялась вспоминать о событиях последних месяцев. Капитул[299] вел нескончаемые споры. Уловки Аннелеты Бопре ни к чему не приводили. Сестры, уполномоченные принимать решения,[300] собрались, чтобы выбрать новую аббатису, и проголосовали за сестру-больничную. Почти единодушно, за исключением одного голоса. Голоса Берты де Маршьен, экономки,[301] считавшей, что должность аббатисы должна была по праву достаться ей, ибо она жила в монастыре дольше Аннелеты Бопре. Берта де Маршьен, преисполненная обычного высокомерия, долго объясняла свою позицию капитулу, делавшему вид, будто внимательно слушает ее. Впрочем, Берта де Маршьен была очень глупой женщиной, о чем знали все, кроме нее самой. Тем не менее Аннелета Бопре, смущенная таким проявлением коллективного уважения, начала отказываться от оказанной ей чести, которая казалась ей весьма обременительной. Она безраздельно властвовала в своем гербарии и испытывала такое сладостное наслаждение, готовя мази и настойки, что ей совершенно не хотелось оказаться за тяжелым, массивным рабочим столом, за которым часами напролет сидела мадам де Бофор и ее предшественницы. Разумеется, и она это охотно признавала, почти полное единодушие ее сестер льстило ей. В памяти Аннелеты стремительно пронеслись воспоминания об отце и брате. Старый знахарь возомнил себя æsculapius. Правда, пациенты, умершие от его многочисленных грубейших врачебных ошибок, покоились под землей на глубине десяти футов и не могли ничего возразить. Грегуар, его сын и достойный наследник, уверенно шел по его стопам. Как они смеялись, издевались над ней, унижали ее, когда она наивно, глупо поверила, будто они смогут признать ее научные способности! Они дешево и бесчестно отделались от нее. Аннелета явственно вспоминала об этом, словно все произошло только вчера. Она стояла перед ними. Ее отец проговорил насмешливым тоном: – Ну, Грегуар… Если вы не остережетесь, эта девица вскоре начнет вас учить, как пускать кровь! Аннелета заметила искорку злобного упоения, блеснувшую в глазах обоих столь похожих мужчин. Как они радовались, что им удалось так дешево от нее избавиться! Аннелета вдруг все поняла. Ей открылась страшная правда во всей своей мучительной ясности: все эти годы она внушала им страх. Ее ум, способность вникать в суть и использовать свои знания буквально терроризировали их. Из-за нее они были вынуждены признать свою ограниченность. И за это они никогда не простили ее. Как ни странно, но воспоминание о двух спесивых мужланах быстро развеялось. Горькая обида, которую она чувствовала на протяжении почти тридцати лет, исчезла, словно по мановению волшебной палочки. Возможно, это было следствием страшных событий, которые одно за другим произошли в Клэре. Капитул объявил о своем решении сестре-больничной и стал настойчиво просить стать их матушкой. И Аннелета в конце концов уступила нежной настойчивости своих духовных сестер. Монахини пережили сильный страх, когда в стенах монастыря бродила тайная отравительница, вернее, две тайных отравительницы: Жанна д’Амблен, их любезная сестра-казначея,[302] и Бланш де Блино, исполнявшая обязанности приора, которая, ловко прикрываясь своим возрастом, всех их ввела в заблуждение. Если бы Аннелета не вступила в борьбу с этими двумя убийцами, свершилось бы худшее. А потом, что стало бы с аббатством Клэре, если бы его возглавила Берта де Маршьен? Похоже, подобная перспектива никого не радовала. Тибода де Гартамп, сестра-гостиничная, всегда раздражавшая Аннелету своей нервозностью, обрисовала сложившуюся ситуацию с предельной ясностью: – В конце концов . Я ненавижу себя за то, что мне приходится отказывать в любви к ближнему, но, несмотря на свою ученость и веру, Берта такая же упрямая, как все дураки! Тем более что она никогда не проявляла снисходительности, которой непременно должна обладать аббатиса. Ошеломленная Аннелета слушала, как сестры постепенно рисовали ее портрет. Сестра-больничная, которая всем внушала страх своим неуживчивым характером и едкими замечаниями, стала их спасительницей и ангелом, подарившим им нежность и покой.
И все же окончательное решение Аннелета приняла после того, как обнаружила в гербарии короткую записку, лежащую на рабочем столе под маленьким терракотовым кувшином. Несколько слов были выведены красивым высоким почерком: «Подумайте о книгах. Защищайте их». Как ни странно, но Аннелета ни мгновения не сомневалась в том, кто был автором записки. Эта совсем юная женщина, девушка, вооруженная кинжалом, которая выдавала себя за новую послушницу, чтобы помочь Аннелете в ее борьбе с Жанной д’Амблен. Эскив д’Эстувиль. Очаровательное треугольное личико, которое озарял блеск янтарно-желтых глаз. Густые каштановые волосы. Аннелета обшарила каждый уголок гербария, ища другие следы пребывания Эскив здесь, но напрасно. Как Эскив удалось проникнуть в гербарий, а затем выйти? Тем ранним утром сестра-больничная нашла дверь закрытой на ключ. Эта совсем юная женщина была чудесной тайной, появлявшейся и исчезавшей, словно тень. Сама мысль, что мадемуазель д’Эстувиль где-то рядом, приободрила Аннелету, скрасила ее одиночество, которое упорно преследовало сестру-больничную с момента смерти ее любимой матушки-аббатисы. Тайная библиотека, спрятанная в Клэре. Теперь никто не знал о ее существовании, кроме Аннелеты, Франческо, племянника, вернее, приемного сына покойной мадам де Бофор, этого милого сорванца Клемана, протеже Аньес де Суарси, ставшей графиней д’Отон, и Эскив. Возможно, также Климента V, нового Папы, но сестра-больничная не могла в этом поклясться. И все же, если бы Берта захотела приподнять или снять со стены ковер, висевший за рабочим столом в кабинете аббатисы, она тут же обнаружила бы низкую дверь, ведущую в библиотеку. Что тогда стало бы с произведениями? Эта простофиля вполне могла бы отдать их камерленго Гонорию Бенедетти, заклятому врагу их поисков. Аннелета постоянно думала о знаниях, накопленных в этом потаенном месте и стоивших жизни стольким ее духовным сестрам. Какие чудесные тайны скрывали в себе эти произведения? Так много знаний запечатлено на этих страницах и пергаментах, которые Церковь не хотела признать правдивыми или проклинала! Знаний, до которых было рукой подать. Тяжелая печаль охватила Аннелету, когда она подумала о страхе, который внушали эти знания Элевсии де Бофор и многим другим. Знания – это власть. Сама по себе власть не может быть ни хорошей, ни плохой, равно как и знания. Таковыми их делают люди. Почему Элевсия не сумела понять, что люди, если удерживать их в рабстве животного начала, никогда не станут лучше? Наоборот, они станут более уязвимыми. Как бы там ни было, Аннелета уступила настойчивым просьбам капитула и стала преемницей мадам де Бофор при условии, что сохранит за собой должность сестры-больничной. В конце концов, существовал славный прецедент: высокообразованная Хильдегарда из Бингена*, которая обладала мудростью аббатисы вкупе с удивительными талантами сестры-больничной, не говоря уже о ее великолепных способностях к музыке и поэзии. Разумеется, Хильдегарда умела творить чудеса, которые Аннелете было не по силам повторить. Крупная женщина вздохнула, поднимая очиненное перо, выпавшее у нее из рук. До сих пор ей не хватало времени, чтобы тщательно осмотреть тяжелые полки, хранившие знания прошлых столетий. Трагедии, одна за другой произошедшие в аббатстве, оставили глубокие раны. Недоверие, страх и злодейство царили в этих суровых стенах, предназначенных для молитвы, труда и сострадания. Едва вступив в должность аббатисы, Аннелета Бопре принялась залечивать эти раны, разжигать сестринский огонь, полагая, что ее благословенная твердость приятно удивила бы мадам де Бофор. Ей пришлось срочно выбрать монастырских должностных лиц на места сестер, убитых двумя подлыми сообщницами. Она воспользовалась удобным случаем, чтобы сместить неспособных монахинь, цеплявшихся за свои должности благодаря доброте Элевсии де Бофор, которая никогда не произвела бы перестановок. Жервезу де Пюизан избрали счетоводом,[303] чему она была обязана своему здравому смыслу и прилежанию во всем; Маргариту Мазирье, тоже наделенную незаурядным умом и никогда не терявшую бдительности, – кассиром,[304] Алиса Валет согласилась занять должность ризничной.[305] Что касается восхитительной, но умевшей твердо стоять на своем Леонины де Бриур, то должность казначеи ей подходила как никому другому. Во время своих поездок она сумеет принудить самых скупых к щедрости. Были произведены и другие замены. Берта де Маршьен сохранила свою должность. Аннелета не смогла найти способ отстранить ее и избавить себя от необходимости постоянно видеть это пухлое недовольное лицо. И что? Разве Аннелета виновата в том, что только Берта де Маршьен проголосовала против, мечтая о месте аббатисы для себя? Эмму де Патю, вечно хмурую учительницу воскресной школы, тоже отстранили от должности, но назначили регентом,[306] что та считала справедливым, поскольку обладала великолепным диапазоном голоса, которым, впрочем, не очень-то и гордилась. Таким образом, ни в чем не повинных детишек перестанут наконец хлестать по щекам. К тому же теперь она будет попадаться на пути в длинных коридорах лишь тогда, когда придет время исполнять песни на четыре голоса, сочиненные Перотеном,[307] регентом церковного хора в соборе Парижской Богоматери. Эмма старалась задействовать в хоре все голоса, от самого низкого до самого высокого, смакуя фальшивые ноты своих жертв, внимательно прислушивавшихся к ней.
Из груди Аннелеты вырвался очередной тяжелый вздох. Да, следовало как можно скорее закончить с этой проклятой писаниной. Итак, они продали меринов Вивьену Шенелю, мостильщику[308] из Колонара. Робкий стук в тяжелую дверь ее кабинета заставил Аннелету поднять голову. Наконец-то кто-то дал ей предлог оторваться от неблагодарной работы, не испытывая при этом угрызений совести. Прелестное личико хрупкой Алисы Валет, сестры-ризничной, показалось в приоткрытой двери. – Моя славная матушка, могу ли я привлечь ваше внимание? Может быть, мне зайти позже… – Нет, нет. Входите, прошу вас. Садитесь, дочь моя. Алиса подошла к рабочему столу. Эта молодая монахиня не ходила, а перемещалась маленькими изящными прыжками. На ее губах всегда играла легкая улыбка. Ее заостренное личико напоминало Аннелете мордочку маленькой полевой мышки. А темные глаза Алисы лишь усиливали это впечатление. Именно мышки, а не отвратительной крысы, пожирающей припасы и грызущей ковры. Одного из маленьких животных, обитающих в полях, которые порой встречаются на вашем пути и растерянно смотрят на вас, сидя на задних лапках и шевеля усами. – Что привело вас ко мне? – участливо спросила Аннелета. Эту привычку она приобрела с тех пор, как ей удалось избавиться от некогда присущего ей тона, не терпевшего никаких возражений. – Катастрофа, – с трудом прошептала монахиня. – На нас совершено покушение. – Прошу прощения. Какое покушение? – Вернее, не на нас, а на берцовую кость святого Жермена, епископа Осера, который сражался с пиктами и саксами в Англии. – Реликвия, подаренная покойной мадам де Бофор аббатству! – воскликнула аббатиса. – Совершенно верно, – закивала головой молодая монахиня, лицо которой было искажено страхом. – Но как такое могло случиться? – Не ведаю, матушка. Вы же знаете, как я слежу за ней. Все началось месяц назад. Тогда на святой берцовой кости я заметила несколько грязно-белых крупинок. Сначала я решила, что это пыль, попавшая в реликварий, несмотря на фермуары. Разумеется, я тщательно протерла берцовую кость. Но через неделю все повторилось. С тех пор я не спускаю глаз со святой реликвии. Я все время меняю саше с палочками красного можжевельника[309] и мирта, которые защищают реликвию от насекомых. Но, матушка, не знаю, как вам в этом признаться, однако… эти крупинки исходят от самой кости. Она разлагается. – Боже милосердный! – простонала аббатиса, прикрывая рот рукой. – Что же делать? – Не знаю. Я подумала, что одна из ваших целебных настоек могла бы… – Насколько мне известно, нет никаких средств для борьбы с… разложением костей святых. Пойдемте, дочь моя. Я хочу все увидеть собственными глазами.
Улица Сент-Амур, Шартр, сентябрь 1306 года
Волосы Матильды де Суарси, которую мадам де Нейра переименовала в Матильду д’Онжеваль, чтобы избежать ненужных расспросов, были перевиты бледно-голубыми лентами и элегантно скручены у висков. Девочка, одетая в домашнее платье из тяжелого фиолетового шелка, с восхищением смотрела на вазочку, наполненную желто-оранжевыми зернышками и коринками. – Что это, мадам? – спросила она у мадам де Нейра, смотревшей на нее с заговорщической улыбкой на губах. – Рис,[310] моя дорогая. Сваренный в молоке, приправленном шафраном и медом. – Рис? – Отведайте. Это очень вкусно, гораздо вкуснее полбы, если хотите знать мое мнение. Разорительная прихоть, но ведь мы достойны лучшего, не так ли? Ответом ей стал довольный вздох. Девочка погрузила свою серебряную ложку в вазочку под ястребиным взглядом мадам де Нейра, уже объяснившей девочке, что манера держаться за столом выдает ее происхождение яснее, чем манера говорить. Од ненавязчиво преподносила Матильде уроки жизни. Тем не менее она была вынуждена признать, что Аньес де Суарси выполнила материнский долг, умело воспитав эту непокорную и капризную девчонку. Матильда держалась прямо, прекрасно разбиралась в сложных правилах приветствий и реверансов, умела в надлежащие моменты опускать взор и, за неимением ума, витиевато изъясняться. Матильда поднесла палец к зубам, чтобы вытащить застрявший рис. Од немедленно встрепенулась: – Полно, мадемуазель! Что за солдафонская манера! – Я часто видела, как мой дядюшка де Ларне поступал именно так. Од нахмурила свои прекрасные светлые брови и спросила с нескрываемой иронией: – А чему я вас учила? Матильда прыснула, прикрыв рот рукой. – Всегда помните о достойном произведении мсье де Сен-Виктора,[311] который ясно указывал, что надо есть не пальцами, а ложкой, что руки надо вытирать не об одежду, а салфеткой, предназначенной в первую очередь для того, чтобы мы могли очищать свои пальцы от жира, что нельзя снова класть на общие блюда недоеденные куски и уж тем более остатки пищи, застрявшие между зубами. Дорогая моя, я вам уже говорила, но повторение никогда не бывает лишним: существует три вида женщин. Дамы благородного происхождения с богатым наследством, которым неведомы житейские тяготы. Бедные женщины, покорные уготованной им участи, пусть даже они обладаютвысокими душевными качествами и наделены умом. Такие женщины в худшем случае становятся проститутками и заканчивают свои дни в лупанарии,[312] в лучшем случае – в монастыре. Лисы[313] же, другая разновидность бедных женщин, никогда и никому не покоряются. – Так мы принадлежим к породе лис, мадам? – А какая женщина, наделенная здравым умом, захочет закончить свои дни общедоступной шлюхой или лягушкой в баптистерии? Однако положение лисы требует больших усилий и постоянной бдительности. Лисе необходимо развивать и совершенствовать свои достоинства. – Какие? – Искусство лгать, обманывать, надувать. Искусство хранить тайны, поскольку вы, даже загнанная в угол, никогда не должны раскрывать свои секреты, особенно в том случае, когда хотите выведать чужие. Иные назвали бы эту нравственную независимость, это презрение к правилам, установленным другими, цинизмом.[314] И они не ошиблись бы. Одним словом, все, что в итоге делает вас свободной, вольной распоряжаться собой по собственному усмотрению. Тем не менее осторожность, ясность ума должны оставаться нашей самой великой тайной и главной силой. Никто не должен раскусить нас. А вот нам следует заставить всех поверить, что мы слепо следуем общепризнанным правилам, что не потерпим ни малейшего пренебрежения добрыми нравами и тем более учением Церкви. Понимаете? – Разумеется, я все понимаю. Значит, необходимо стать мистификатором. – Вот именно! Какой чудесный вывод вы сделали! До чего же вы проницательная, моя дорогая Матильда! – Я думаю… Нет, я знаю, что я создана для этого. «Впрочем, я сомневаюсь, что ты достаточно хитра и изворотлива», – подумала Од, но вслух сказала: – Я в этом уверена. И я помогу вам… Од сделала вид, будто колеблется, хотя на самом деле вот уже несколько дней сгорала от нетерпения. Она хотела как можно скорее заговорить о том, что лежало у нее на сердце. – Дорогая моя… вы довольны моими молодцами, теми, из Шампани? – Ах, мадам, я каждый день воздаю хвалу Господу за то, что встретила вас на своем пути. Как я вам уже говорила, это… похищение оказалось таким легким делом, что можно было бы посмеяться, если бы я не боялась столь сильно, что ничего не получится. Один из них схватил меня вместе с моей жалкой поклажей словно перышко и поднял вверх. Второй, сидевший на крепостной стене, подтянул меня за руки, потом перевязал крепким кожаным поясом с кольцом, к которому была прикреплена веревка. Он осторожно спустил меня на землю, а третий снял с меня эту сбрую. Меня уже ждала двуколка. Через несколько дней я под надежной охраной приехала в Шартр. Своим освобождением я полностью обязана вам. – Как я рада, что положила конец вашим страданиям! Разумеется, дело было опасным. Но мою решимость можно было сравнить лишь с чувством сострадания к вам. Матильда отпила глоток теплого персикового вина, сдобренного медом. Од с трудом сдерживала нетерпение. Эта глупая гусыня все еще не понимала, чего от нее хотела Од. Теперь надо было отбросить все уловки и говорить начистоту. – Вы помните нашу первую встречу в ужасной приемной женского аббатства Аржансоля в августе? – Мадам, каждое ваше слово, каждый ваш жест навсегда врезался в мою память, – ответила Матильда с легкой грустью в голосе. – Как вы можете в этом сомневаться, вы, ангел моего спасения? – Очень любезно с вашей стороны. Мне очень жаль, но я должна напомнить о вашем обещании. Честь лис, хотя и немного условная, – одна из самых требовательных. Наконец-то искорка понимания зажглась в томном взгляде карих глаз, внимательно смотревших на Од. – Вознаграждение, – выдохнула девочка. – Скажем… обмен. Это слово… не так шокирует. – Вы заверяли меня, что оно будет соразмерным и не оскорбительным для меня. – Именно так. Я никогда не отказывалась от своих слов, поэтому и не бросаю их на ветер. Хочу сказать вам со всей грубой откровенностью, за которую умоляю простить меня: обмен будет состоять в следующем. Ваше будущее в обмен на будущее вашей матери, мадам Аньес. Лицо Матильды вытянулось от удивления. С тех пор как она поселилась на втором этаже роскошного особняка на улице Сент-Амур, она приготовилась ко многим требованиям, но только не к такому. Постепенно удивление сменилось любопытством. Она потупила взор, но недостаточно быстро, и Од прочитала в глазах девочки нехорошее ликование. – Будущее моей матери? Но что я могу сделать? – прошептала она, по-прежнему не поднимая глаз. – Очень многое, моя дорогая. Мы еще к этому вернемся. Вот в чем полностью заключается мое предложение, сделанное вам в аббатстве Аржансоля. Я строю, вооружаю, обеспечиваю ваше будущее. Вы помогаете мне уничтожить будущее вашей матери. Черт возьми! Ведь мне удалось без особого труда разыскать вас в этом… шампанском застенке, куда бросил вас мерзкий дядюшка. Неужели ваша мать не могла этого сделать? Полно! Она просто вас не искала, слишком довольная, что теперь вы находитесь так далеко от нее самой и ее планов. Вспомните, как она плела интриги против вас, как завидовала вам, с каким презрением относилась к вам, своему единственному ребенку, которого заставляла жить в свинарнике, носить лохмотья, общаться с простолюдинами. В этом ужасном мануарии… Да что я говорю, на этой облупившейся ферме. А ведь вы же Суарси по крови! Конечно, этот дворянский род не самый богатый, но в графстве Перш, да и в самом Шартре он пользуется безупречной репутацией. Дорогая, репутация семьи – это бесценное богатство… Матильда больше ее не слушала. Будущее – такое, какое она хотела. Два года назад, когда Матильда жила в замке де Ларне, она решила, что преисполнена ненависти к матери. Ее ненависть лишь росла во время ее, как она говорила, «заточения» в Аржансоле. Несмотря на ограниченный ум и вопреки инсинуациям мадам де Нейра, Матильда прекрасно знала, что ей не в чем упрекнуть Аньес, за исключением этих лет, проведенных в Суарси, которые она считала бесконечным и несправедливым крестным путем. Матильда ненавидела мать за то, что та отказалась от комфорта, который ей предлагал сводный брат Эд де Ларне. А ведь почти сразу же после смерти Гуго де Суарси Эд не раз настаивал, чтобы они переехали в его замок. Разумеется, во время инквизиторского процесса Матильда поняла, что Эд ждал полного вознаграждения. Он хотел, чтобы Аньес стала его любовницей. Хорошенькое дельце! Эд устал бы от нее так же быстро, как уставал от других. Что такое несколько ночей по сравнению с невыносимой нуждой, в которой они жили? Да она сама, если бы пришлось пройти через это… Нет, дядюшка вовсе не нравился ей. Ее влекло к себе то, что она считала его богатством. Уже давно Матильда была поглощена только собой, думала лишь об удовлетворении своих потребностей, своих желаний. Все остальное ее не интересовало. Существовало лишь единственное исключение, сделанное ею недавно. Она питала нечто вроде дружеской признательности к мадам де Нейра, поскольку это великолепное создание воплощало собой будущее, к которому Матильда стремилась. По правде говоря, одна новость, которую она узнала с опозданием, повергла ее в ярость: ее мать вышла замуж за графа д’Отона. Что? Эта впоследствии признанная незаконнорожденная стала графиней д’Отон, выйдя замуж за одного из самых богатых и пленительных мужчин провинции? Тем более что он был намного старше Аньес, и та могла через некоторое время стать обеспеченной вдовой![315] Какая чудовищная несправедливость! Да что они находят в ней, в конце концов! Ее отец Гуго де Суарси, эта язва Клеман Нищий, этот идиот Жильбер Простодушный, ее дядюшка Эд, монахини Клэре, считавшие счастьем возможность помочь Аньес, граф д’Отон и даже толстуха Аделина, которая почитала Аньес, словно та была ипостасью Пресвятой Девы. Что? Что в ней такого? Матильда ненавидела мать. Она с радостью разделается с ней. – Матильда? – Прошу прощения, мадам. Ваши слова вызвали столько ужасных воспоминаний! – Не сомневаюсь, моя дорогая. – Я обязана вам. Как вы сказали, мы союзницы. Тем не менее, прежде чем продолжить наш разговор, я на минуту удалюсь в свои покои, если позволите. – Я сама хотела посоветовать вам сделать это. Вам необходимо подумать в одиночестве. Но Од не заблуждалась. Она видела, как стремительно менялось выражение лица Матильды. Та ликовала при мысли, что скоро сможет отомстить матери, своему заклятому врагу. Но зачем ей потребовалось уединиться? Несомненно, она хотела еще раз полюбоваться убранством особняка, которое Од считала вульгарным. Для Матильды не существовало ничего более возбуждающего, чем выставленная напоказ роскошь, которую она уже считала своей, особенно по сравнению с прежней нуждой. Матильда ни за что не хотела возвращаться в прошлое. Что касается пропасти, разделявшей позор и бесчестье, Матильда уже ее преодолела, дав на суде ложные свидетельские показания, благодаря которым она пыталась отправить мать на костер. Неожиданно мадам де Нейра почувствовала презрение. Она медленно встала и подумала, что теплая ванна и массаж с миндальным молочком из Италии в женских банях на улице Бьенфе могли бы принести ей облегчение. В ней поселилась приятная уверенность. Несмотря на все грехи, всю ложь, все убийства, совершенные ею, она ничем не походила на эту девицу. Она всегда защищалась. Все, кому она помогла убраться на тот свет, были виновными, алчными или жестокими, насильниками или кровосмесителями. Кроме Аньес де Суарси, как она была вынуждена признать. Од подавила смешок: жалкое оправдание, но ей придется довольствоваться и таким. Воспоминание о белокурой девочке из лачуги окончательно успокоило ее. Анжелика… Вытащить ее из этого логова, вернуть в чистоту. Матильда крутилась как волчок, строила забавные рожицы, любуясь собой в одном из многочисленных граненых зеркал. Она подняла глаза и в сотый раз с упоением посмотрела на изящную лепнину потолка, красоту, доступную только богатым сеньорам. Над огромной резной кроватью, в которой она любила нежиться, висел балдахин, прикрепленный к потолку. Стены были увешаны роскошными яркими коврами, прилегавшими вплотную к дверным наличникам. Между двумя застекленными окнами с внутренними ставнями высился резной шкаф с железной окантовкой. На небольшом туалетном столике стояло зеркало, которое можно было наклонять, лежали щетки и гребни, аграфы для волос и ленты. За прихожей, прелестно обставленной, находилась спальня, достойная принцессы. Но больше всего Матильду восхищала туалетная комната, прилегавшая к спальне. Что за чудо этот высокий мраморный стол, на который по утрам и вечерам служанка ставила кувшин с розовой водой! Матильда подошла к шкафу и открыла одну из резных дверец. Святые небеса, какая радость! После приезда Матильды в Шартр мадам де Нейра наполнила его подарками: многочисленными платьями с фалдами и пристегивающимися по итальянской моде рукавами, не говоря уже о накидках, нагрудных покрывалах и капорах, подбитых мехом. Матильда вынула самую красивую вещь на свете: сюрко с прорезанными начиная от локтя рукавами, целиком подбитый беличьим мехом. Она с упоением уткнулась лицом в шелковистый мех, который ее благодетельница надушила изысканными ароматами. Девочка думала о туалетах своей тетушки Аполлины де Ларне, перешитых вскоре после ее смерти по приказу Эда для его кровной племянницы. Да, дядюшка не отличался щедростью! Горечь чуть не испортила радужное настроение Матильды. Но радостная мысль быстро прогнала это чувство. Вот ей и выпала долгожданная возможность подороже продать свои услуги мадам де Нейра. Она потребует у нее голову Эда, этой крысы. Разумеется, Матильде придется стать еще более учтивой и признательной, чем обычно, но за этим дело не станет. Матильда была уверена в своих талантах. И хотя умом девочка не блистала, она чувствовала, что ее покровительница не принадлежит к породе тех, кого можно так или иначе заставить плясать под свою дудку.Замок Отон-дю-Перш, Перш, сентябрь 1306 года
Артюс д’Отон в третий раз перечитал короткое послание, скрепленное королевской печатью. Когда несколькими мгновениями ранее Ронан передал его графу, тот сначала почувствовал приятное удивление. Радостный Ронан ждал реакции Артюса. Но как только его господин поднял глаза, радость мгновенно улетучилась. – Ничего не понимаю, – сказал граф, поднимаясь с одного из маленьких кресел, стоявших вдоль стен его рабочего кабинета. Взволнованный Ронан терпеливо ждал. Артюс сжал зубы и чуть слышно прошептал: – Какой же я безумец! Я думал, что король собирается посетить мои земли… ждал знака благоволения! Старый слуга воздержался от вопросов, несмотря на привязанность к Артюсу, с которым был близок с самого детства графа. Артюс объяснил, доказав, что он тоже относится к Ронану с нежностью: – Король… приказывает мне предстать перед судом, который соберется в Доме инквизиции Алансона, чтобы прояснить… сомнения относительно исхода процесса над графиней, сомнения, появившиеся после получения свидетельств. Услышав об инквизиторском суде, Ронан побледнел. – Прошу прощения, монсеньор? – Ты же все слышал. – Как… Что… – прошептал старик, не находя слов. – Мне известно только то, что я тебе сказал. Речь идет о повелении сюзерена, а не о дружеском послании человека, которого я научил особенностям соколиной охоты. У Ронана сложилось впечатление, что тон королевского послания ранил графа сильнее, чем его содержание. Что касается его самого, то Ронан испытывал неподдельный страх. Все знали, что человек, попавший в Дом инквизиции, никогда не выходил оттуда живым. – Возможно, чудесный суд, спасший мадам графиню… – … Будет поставлен под сомнение? – ледяным тоном закончил фразу Артюс. – Не знаю, но если это так, я дойду до самого Папы. – Нет ли возможности получить от короля объяснения… после стольких лет, проведенных вместе, он должен был сохранить к вам дружбу или по крайней мере помнить о вас. – Если бы Филипп захотел дать мне объяснения, он так бы и написал, – возразил Артюс д’Отон. – Что касается дружбы, Ронан, это один из пороков принцев. И я думаю, что наш король не наделен этим пороком. – Значит, вам придется повиноваться? – У меня нет другого выбора. Я должен покориться воле короля. Тем более что я был и остаюсь его самым верным подданным. Артюс внимательно посмотрел на Ронана, который на протяжении многих лет неусыпно следил за ним днем и ночью. После смерти сына графа, маленького Гозлена, Ронан оставался единственным, кого не пугала убийственная ярость его господина. Этот старик был наделен силой, решимостью и удивительной преданностью. Поджав губы, опустив голову, он рассматривал пол. Ронан колебался, подыскивая слова. Монсеньор д’Отон не дал ему возможности произнести их: – Я знаю, о чем ты думаешь. Мы должны относиться с лояльностью и благодарностью только к тем, кто вел себя с нами почтительно. Но ведь речь идет о короле, Ронан. Поэтому оставь комментарии при себе. Иначе я рассержусь. – Слушаюсь, монсеньор. А мадам графиня? Как следует вести себя с ней? – Я не собираюсь ничего говорить ей, по крайней мере сейчас. Я хочу, чтобы она не знала об этом известии как можно дольше. Не стоит усугублять ее беспокойство о юной Клеманc. Эти бесконечные поиски изнуряют ее. Ты не находишь, что она похудела и спала с лица? – У меня такое чувство, что за обычной любезностью мадам графини скрывается огромная усталость. – Я буду настаивать, чтобы она немного отдохнула, но у моей дамы железный характер, – сказал граф. – Немедленно пошли за моим бальи Монжем де Брине. – Все будет сделано так, как вам угодно, – прошептал Ронан, склонившийся в поклоне, прежде чем выйти из кабинета. Едва закрыв за собой дверь, старик остановился, чтобы немного восстановить дыхание. От страха у него помутилось в голове. Он попытался прогнать нехорошее предчувствие. Что он мог сделать? Разумеется, он был свободным человеком, но не имел никакого веса в обществе. Мессир Жозеф из Болоньи, старый врач графа. Возможно, этот мудрый человек сумеет придумать, как дать отпор. Разумеется, монсеньор Артюс приказал молчать. Впрочем, речь тогда шла только о его супруге. Поэтому Ронан посчитал, что он вправе известить ученого и попросить его о помощи, тем более что мессир Жозеф был одним из тех редких людей, к которым Ронан питал доверие. А мессир Жозеф, в свою очередь, питал к графу огромную благодарность.Когда Ронан поведал срывающимся голосом об ужасной новости, Жозеф из Болоньи оперся локтями о высокий пюпитр. Несколько минут он молчал, пристально глядя на старого слугу, едва сдерживавшего слезы. – Это все? – недоверчиво спросил Жозеф. – Все и ничего больше, мессир врач. – Какая нелепость! – воскликнул ученый. – Я ничего не понимаю. Поэтому я и пришел к вам за советом, за объяснением. – Проходите, мой славный Ронан. Давайте присядем и вместе подумаем. Постараемся понять, что за всем этим скрывается. Но в одном я твердо уверен: папство никогда не действует без веских причин, даже если эти причины такие скрытые и таинственные, что теряешься в догадках. Ронан последовал за cesculapius . Если существует способ прийти на помощь их господину, этот человек обязательно найдет его. Или отыщет объяснение. Жозеф из Болоньи стал тихо перечислять события, произошедшие с момента заключения Аньес де Суарси в murus strictus,[316] в грязный мрачный застенок, где обвиняемых приковывали цепями к стенам. Ронан терпеливо ждал. Мысли его путались. Но уже тот факт, что этот умнейший человек тщательно перебирал все мельчайшие детали произошедшей истории, придавал Ронану спокойствие. – Ах, вот оно что! – вдруг воскликнул врач. – Это явно ловушка, но какая и для чего? Церковь запретила ордалии более ста лет назад. И знаете почему? Ронан отрицательно покачал головой. – Потому что лишь немногие, невиновные или виновные, способны выдержать пытку каленым железом, а в судебном поединке побеждает тот, кто искуснее владеет оружием, если только действительно не происходит божественное чудо. Насколько мне известно, во время этих поединков лишь ничтожному количеству невиновных удалось доказать свою правоту. Кому действительно выгодны чудеса? Тем, кто чудом спасся, это очевидно. Но также и Церкви, которая в определенном смысле обладает властью их устраивать во время судебного процесса или паломничества. Так зачем же предъявлять обвинение человеку, ставшему свидетелем убийства вполне заменимого мелкого сеньора инквизитора, к тому же пользовавшегося такой сомнительной репутацией, что однажды он закончил бы свои дни в папских застенках по примеру своего омерзительного предшественника, Роберта Болгарина? Зачем лишать население Алансона и окрестностей счастья думать, что Господь Бог вмешался, чтобы убить чудовище и спасти голубку? Речь идет о столь нелепом расчете, что я не узнаю в нем руку Святого престола. Ученый нахмурился и тяжело вздохнул. Беспокойство вновь овладело Ронаном, и он прошептал: – Что вы об этом думаете, мессир врач? Умоляю, скажите правду. – Видите ли… нам следует смотреть правде в глаза. Они взялись за мсье д’Отона. – Не могу в это поверить, – возразил Ронан. – Мой господин, будучи здравомыслящим человеком, никогда не вмешивался в политику королевства и уж тем более Рима. – Что вы об этом знаете? Что он об этом знает? – Я не понимаю, о чем вы говорите, мессир врач. – Мне надо подумать в одиночестве, просмотреть различные произведения, в том числе Consultationes ad inquisitores haeretical pravitatis.[317] Они помогут мне лучше понять, как происходит процедура. Не сомневайтесь. Бог не оставит нас, в этом я уверен. Что касается моей головы, то Господь в своем бесконечном великодушии сделал ее разумной.
После ухода старого слуги мессир Жозеф еще долго сидел, соединяя и разъединяя фрагменты этой тревожной головоломки. Озадаченный, он наконец вошел в свой рабочий кабинет и вытащил тоненькую книгу в потертом фиолетовом кожаном переплете. Каждый раз он с восхищением погружался в чтение «Размышлений о себе самом», написанных императором Марком Аврелием Антонином.[318] Они никогда не разочаровывали мессира Жозефа, всякий раз давая ответы на его вопросы. Он перевернул несколько страниц произведения, которое знал наизусть, и прочитал:
В ответ на каждое действие другого возьми себе в привычку задавать вопрос: «Какую цель в действительности преследует этот человек?»Или:
События, следующие друг за другом, всегда связаны с предшествующими событиями родственными узами.Истинная цель. Целью был граф Артюс, а не какая-либо махинация, в которой он служил проходной пешкой. Жозеф хорошо знал инквизицию и ее методы, чтобы опасаться худшего при встрече монсеньора д’Отона с его судьями. Спутником чести очень часто является неумение ловчить. Единственная эффективная стратегия в борьбе с сеньором инквизитором заключается в хитрости и умелой лжи, даже если ты невинен, как новорожденный агнец. Но Артюс д’Отон никогда не опустится до этого, уверенный, что чистосердечие должно стоять на первом месте. Что касается родственных уз, тут не надо быть великим мудрецом, чтобы понять: речь идет об Аньес, графине д’Отон. Чего добивалось папство или его клевреты? Устранить, вернее, уничтожить Артюса д’Отона, чтобы ослабить положение его супруги? Это напрашивалось само собой. Но почему они ополчились на это добродетельное и разумное существо, которое Иосиф Мудрый, лишь в редких случаях забывавший об осмотрительности, ни в чем не мог бы упрекнуть? Жозефу не хватало ключевого элемента, чтобы разгадать эту грозную шараду до конца. Он решил во всем разобраться и взял в руки длинный посох с железным наконечником, стоявший в углу кабинета. Затем он перекинул через плечо широкую суму, в которую собирал лекарственные травы.
Жильета прервалась на минуту и, держа в руке серебряную расческу с искусной резьбой, подошла к одному из окон апартаментов своей госпожи. Она радостно сказала: – Ах, думаю, мсье ваш врач отправляется на прогулку. – Он любит гулять по лесам, – неуверенно ответила Аньес д’Отон. – А возвращается оттуда с охапкой лекарственных трав, большинство из которых мне неизвестны. Жильета вновь принялась причесывать Аньес. – У вас такие красивые волосы, мадам. Прямо текучий мед. И такие шелковистые. Одно удовольствие дотрагиваться до них. Вы хорошо спали ночью, мадам? Вы кажетесь мне усталой. – Я спала как убитая и проснулась только после первого часа*. Пустяки… Просто последние месяцы были такими изнуряющими. – О, разумеется… Мсье Филипп стал таким весельчаком. А какой он живой, ангелочек! Ронан говорит, что он копия своего отца. Потом этот Клеман… Я не устаю повторять: я знаю немногих хозяев, которые прилагают такие усилия, чтобы разыскать обыкновенного слугу! Аньес все душой привязалась к девушке, которую Барба, управлявшая всеми слугами замка, наняла несколько недель назад. Жильета была всегда веселой, но не навязчивой или слишком болтливой. Девушка обладала живым умом, что понравилось Аньес, вскоре сделавшей ее своей горничной. – Я воспитала Клемана, ведь его мать умерла при родах. И поэтому я беспокоюсь за него, – уточнила Аньес, стараясь говорить как можно более ровным тоном. – Это лишний раз свидетельствует о вашем великодушии, мадам. А еще рудник и Суарси… Да, забот и хлопот у вас хватает! Жильета заплела густые белокурые волосы с медным оттенком в косу, собрала ее в пучок на затылке, наложила сеточку и закрепила аграфами. Переменив тему, девушка сказала: – Монсеньор д’Отон просит осчастливить его, отужинав вместе с ним после шестого часа. Лицо Аньес озарила улыбка. Она поправила свою горничную: – Это он осчастливит меня, как обычно. Будем надеяться, что к тому времени у меня проснется аппетит. Повар моего супруга не перестает удивлять нас своими диковинками, к которым я стала почти равнодушной в последние дни. Тревога омрачила прелестное личико Жильеты: – Вы должны хорошо питаться, мадам. Я заметила, что платья стали вам широки. Но ваша фигура и без того весьма изящна, вам незачем худеть. – Закрепи накидку, пожалуйста. А потом ты меня оставишь, милая Жильета. Перед встречей с супругом я хочу немного почитать. – Хорошо, мадам. Какую книгу вам принести? Я не умею читать, но если вы укажете место, где она стоит и какого цвета у нее переплет, я найду ее. – Нет, она всегда лежит у моего изголовья, – ответила Аньес, показывая на сундучок, стоящий возле кровати. Когда служанка ушла, Аньес взяла в руки книгу, изысканный том, один из многочисленных подарков Артюса по случаю рождения маленького Филиппа. «Лэ»* мадам Марии Французской, которые по его распоряжению были переписаны в Париже и украшены прелестными рисунками. На одном из рисунков была изображена во всей красе птица с длинным хвостом из «Йонека», превратившаяся затем в возлюбленного. Там можно было также увидеть фею из «Ланваля», одетую в темно-голубую котту. На другой странице оборотень из «Бисклавре» угрожающе распахивал свою кроваво-красную пасть. Великолепием блистала и обложка этого тома. На ней были разбросаны букеты миниатюрных цветов, сделанных из тоненьких перламутровых пластинок, бирюзы, изумрудов, рубинов, аметистов и гагата. На форзаце высоким решительным почерком ее мужа было написано:
Я выбрал бессмертники, чтобы они постоянно напоминали Вам, как горячо я Вас люблю, моя дама. И всегда буду любить.Аньес выбрала лэ, повествующее об истории несчастной женщины, узнавшей, что ее супруг – оборотень. Ей показалось, что строки пляшут перед глазами. Аньес пришлось дважды перечитать их заново. Наконец ей удалось расшифровать первую строку. От усталости у Аньес смыкались веки. Да что с ней такое? Она не была беременна. Нужно посоветоваться с мессиром Жозефом, когда он вернется с лесной прогулки. То безграничное восхищение, которое испытывала к нему Клеманc, и достоинства, которые она сама в нем обнаружила, подкупили Аньес. Тем более что мессир Жозеф знал жизнь и живых существ так же хорошо, как одно из бесценных произведений, запутанный смысл которых он долгие годы пытался постичь. Мессир Жозеф поймет, что не нужно беспокоить графа из-за обычной усталости, которая, конечно, скоро пройдет, да еще головокружений.
Несмотря на недомогание, Аньес удавалось сохранять радостное выражение лица во время всего ужина. Она заставила себя съесть больше, чем ей хотелось, оживляя разговор своими рассказами о недавно прочитанных лэ, о переговорах, порой весьма жарких, с кузнецами, о прогулках по саду. Как обычно, повар превзошел самого себя. После свежих фруктов со сладким вином появилась вторая перемена: фрикасе из шампиньонов со специями и луком, поданное на ломте черствого хлеба. За фрикасе незамедлительно последовал заяц, зажаренный на вертеле и приправленный винным соусом, уксусом, майораном и корицей. Охваченная желанием развлечь своего любимого и тщательно скрывая от него то, что у нее временами кружится голова, Аньес не заметила, что графу стоило неимоверных усилий улыбнуться, когда служанка поставила перед ней флан с сухофруктами. – Я так много болтаю, что, вероятно, вы просто утонули в потоке слов. Видимо, поэтому у вас такое серьезное выражение лица. Артюс отрицательно покачал головой и улыбнулся: – Нет же. Ба… вечные споры арендаторов, которые я должен разрешить к удовлетворению и тех и других, а это нелегкое дело. Их надоедливость может сравниться только с их постоянством. – Какие споры? – Один покусился на земли другого. По крайней мере так рассказывает другой. Как вы понимаете, ничего нового. – А уж удовлетворить их обоих… тут нужен жонглер, а не сеньор, – пошутила Аньес. Аньес едва дотронулась до пюре из вареных груш, поданного после десерта, и тут заметила, что аппетит покинул и ее супруга. Они оставили без внимания медовые соты и довольствовались зернами кардамона и аниса. Артюс обнял любимую жену за талию и проводил до апартаментов. Затем он откланялся, сославшись на то, что ему необходимо урегулировать дела своих недовольных арендаторов.
– Пульс, зрение и дыхание более чем удовлетворительные, мадам, – сообщил мессир Жозеф после того, как осмотрел Аньес. – Теперь я совершенно спокойна. Как я вам и говорила, ничего серьезного. Необъяснимая усталость и временами головокружение. – И еще отсутствие аппетита. – Да, верно. – Рвота? – Тошнота, но тоже изредка, – согласилась Аньес. – Поскольку вы не беременны и к тому же у вас прекрасная конституция, полагаю, это просто последствия ужасных событий, которые вы мужественно пережили. Следует также предположить временное расстройство пищеварительной системы. Очень часто последствия дают о себе знать довольно поздно. Исключительные существа стойко переносят невзгоды, но затем, когда они успокаиваются и вновь обретают безмятежность, возникают симптомы меланхолии,[319] хотя они сами не осознают этого. Я верю в ваше замечательное здоровье: вы скоро придете в себя. А мы этому поспособствуем с помощью нескольких препаратов, рецепт изготовления которых я держу в тайне. – Большое спасибо, мессир врач. Благодаря вам тревога покинула меня, и я чувствую себя намного бодрее, – солгала Аньес. Но Жозеф из Болоньи не заблуждался. – С вашего позволения, мадам, через два дня я снова осмотрю вас, чтобы констатировать эффект лекарств, которые я вам вскоре принесу. – Это необходимо? – Старые врачи подобны несушкам, как говорит ваш супруг: они суетятся, нервничают, бегают туда-сюда до тех пор, пока цыплята не соберутся у них под крылышком. – Ну что ж, я прилежно сыграю роль вашего цыпленка, мессир Жозеф. Жозеф из Болоньи смотрел вслед удаляющемуся прелестному стройному силуэту. Во время осмотра Аньес у него появились сомнения. Чудовищные сомнения.
Ватиканский дворец, Рим, сентябрь 1306 года
Од де Нейра пригубила мальвазию и взяла золотистую корочку,[320] любимое лакомство Гонория Бенедетти. Она сама удивлялась, почему эта встреча с камерленго доставляла ей такое удовольствие. – Почему, мой дорогой друг, вы единственная, в чьем присутствии я успокаиваюсь? – спросил камерленго, вытирая лоб тонким платком. – Возможно, хорошие новости, которые я вам приношу, действуют как целительный бальзам? – Совершенно верно. Однако это объяснение слишком… простое, чтобы быть удовлетворительным. К нему надо добавить столь бесконечное доверие, что оно меня самого удивляет. – Но что тут удивительного, ведь доверие взаимное? – Потому что мы недоверчивые, а значит, одинокие существа. – Прелат с горечью признался: – Как я горько разочаровался в Клэре Грессоне! Я борюсь со злобой и ненавистью, которые он мне внушает. По сути, я корю себя не столько за его предательство, сколько за свою наивность. Од де Нейра задумчиво смотрела на большой ковер, висевший на стене за роскошным письменным столом прелата. Робкая Пресвятая Дева, окруженная строго улыбавшимися ангелами, потупив взор, склонила голову. Од знала, что за ковром находится низкая дверь. Она вела в зал, где понтифик собирал своих прелатов. Од медленно произнесла: – Разве судьба, уготованная таким существам, как мы, не является уже сама по себе оскорбительной иронией? – Что вы хотите этим сказать? – Мы, те, кто постоянно плетет интриги и обманывает, неспособны испытывать иное чувство, кроме недоверия, ко всем, кто общается с нами. Когда же, в исключительных случаях, мы оказываем уважение или проявляем ласку, мы ожидаем как должного, что их оценят как редкую привилегию. Но почему это должное быть именно так? По сути, плутни делают нас слишком простодушными. – Какой замечательный итог вы подвели, – согласился камерленго, всегда поражавшийся уму очаровательной белокурой особы, сидевшей напротив. – Действительно, какое оправдание я могу найти моей горечи? Грессон попрал дружбу, которую я испытывал к нему, но за всю свою долгую жизнь я сам столько раз злоупотреблял дружбой… – Дорогой Гонорий, наш разговор принимает зловещий оборот. Полно… Я принесла вам добрые вести и нашла вас в добром здравии. Удача на нашей стороне. Так возрадуемся же! Худое лицо прелата смягчилось. – Дорогая Од, провидение проявило великодушие, позволив нам встретиться. Все в вас меня очаровывает, даже в самые тяжелые минуты. – Провидение, безусловно, проявило ко мне великодушие, когда спасло меня с вашей помощью от костра или веревки, – игривым тоном согласилась Од. Несмотря на признание архиепископа и веселье, которое она старательно изображала, чтобы отвлечь своего старого друга от мрачных мыслей, мадам де Нейра чувствовала некое смятение. Смятение, которое она хорошо знала. Одна из граней ее характера оставалась загадкой для прелата, которого вот уже много лет терзали угрызения совести. Гонорий ничего не знал о ее потребности в покаянии. Неужели она действительно не испытывала никаких сожалений в том, что замарала свою душу? Она могла бы все объяснить, но молчание было еще одним доказательством дружбы. Безусловно, испытывала. Порой ее охватывало страстное желание покаяться. Но она научилась быстро прогонять его. Раскаяние в содеянных подлостях было бы напрасным. Она давно отказалась от вдвойне нечестной сделки, которую предлагала ей судьба. Раскаяться – означало признать, что она совершила ошибку, ведя борьбу с навязываемой ей жизнью, обидами, унижениями. Это означало бы оправдать отвратительного старика, наваливавшегося на нее, когда у него возникало желание. Что касается Гонория, Од никогда не признается ему, что порой бессонной ночью ею овладевало отвращение к самой себе. Надо было, чтобы камерленго продолжал верить, что угрызения совести могут обойти стороной некоторых людей, и тогда его собственные душевные мучения, возможно, покажутся ему менее справедливыми. Много лет назад он спас ей жизнь. И она постарается облегчить его страдания. – Как я уже говорил, вы озаряете солнечным светом мои самые пасмурные дни. Так поведайте мне о своих успехах. – Эта… женщина, которую вам рекомендовали, та самая, что живет недалеко от Сетона, выполнила свою задачу, если верить слухам, ходящим в Отон-дю-Перш. Мадам де Суарси бледнеет и чахнет. Она настолько слаба, что вынуждена ложиться в постель во второй половине дня, чтобы не упасть в обморок. Признаюсь: я не верила в возможности этой ведьмы. Поэтому я заручилась помощью… мадемуазель Матильды, дочери мадам Аньес. Но я ошиблась. Теперь мне надо избавиться от этой надоедливой донзелы. Хорошее приданое и несколько сверкающих безделушек – этого будет достаточно, не считая моего обещания помочь ей отомстить ее дядюшке. Угасание и скорая смерть ее матери смягчат желчь, накопившуюся в этой прелестной чертовке. Я не буду огорчена, когда она уберется с моих глаз. Что еще? Разумеется, как я могла забыть! Показания графа д’Отона в Доме инквизиции Алансона выслушает сеньор инквизитор Эвре. Это удача. – Од де Нейра сморщила свой очаровательный носик. – Впрочем, удача – не совсем правильное слово, поскольку я знаю, что к этому делу вы приложили свою ловкую руку. – Ваша проницательность радует меня, – с одобрением согласился камерленго. – Не злоупотреблю ли я вашим доверием ко мне, если спрошу, как вам удалось убедить Климента V потребовать от короля Франции отдать под суд его старинного друга? – Вы никогда ничем не злоупотребляете, моя дорогая. Климент V наделен удивительной проницательностью. Он немного похож на нас. Впрочем, такое сравнение возмутило бы его. Его очень трудно одурачить, поскольку он сам не раз обводил людей вокруг пальца. Поэтому его скрытный характер служит для нас козырем. Его избранию содействовал Филипп Красивый. Я не знаю, как далеко зашел Климент V в сделках, которые должны были привести его на папский престол. Тем не менее он больше всего боится, что история об этих торгах станет известной по всему христианскому Западу. Тогда может зайти речь о его смещении. Так вот, что значит судьба мсье д’Отона по сравнению с подобной перспективой? – Пешка в сложной шахматной партии. – Од де Нейра нахмурила свои прелестные светлые брови и продолжила: – И все же признаюсь вам, я не понимаю стратегии этой партии. Какое нам дело до Артюса д’Отона, если мы охотимся за прекрасной Аньес? Расправа над ее супругом не принесет нам никакой пользы. Гонорий Бенедетти колебался лишь несколько мгновений. Он без зазрения совести солгал бы кому угодно, но только не Од де Нейра. – Вы сами сказали, что мы начали очень сложную партию. В прошлом я глубоко заблуждался, полагая, что главной фигурой на шахматной доске была Аньес де Суарси. После долгих размышлений я пришел к твердой уверенности, что она не одна. – И вторая королева – это Артюс д’Отон? – Я не знаю, кто он на самом деле. Однако, даже если он всего лишь тура, он может преградить дорогу другим фигурам. Понимаете, мой прекрасный друг, ни одно из действий мадам д’Отон не является… невинным, вопреки тому, что она, несомненно, думает. – Невинным? – Все ее действия продиктованы планом, который она не в состоянии постичь. Вернее, она о нем просто не подозревает. – Вы думаете, что она выбрала Артюса д’Отона не в порыве сердца, а потому что он был ей в определенном смысле предназначен? И эта будущая девочка, зачатию которой вы хотите воспрепятствовать, должна родиться от него? Камерленго кивнул головой в знак согласия, еще раз поразившись проницательности Од. – Речь идет о сомнениях, которые возникают у меня все чаще. Будем откровенны: Артюс д’Отон не существует без Аньес де Суарси, по крайней мере, когда речь идет о нашей многовековой борьбе. Но я начинаю опасаться, что он не просто производитель, которого легко заменить. Что мне известно… Главный производитель, без которого его супруга не сможет зачать девочку, призванную продолжить род, кроме того, защитник… Камерленго вытер капельку пота, катившуюся по лбу, уголком платка. Он тяжело вздохнул: – Од, я это чувствую, время ускоряет ход. Для нас все дни сочтены. Они должны исчезнуть, все. Мадам д’Отон, поскольку «потомство передается через женщин». Совершенно очевидно, что она одна из этих женщин. Я точно не знаю, какую роль играет малыш Клеман, который исчез одновременно с манускриптами. Мои шпионы донесли, что Клэр Грессон настойчиво его ищет, равно как и графиня д’Отон. Почему? Какое значение может иметь обыкновенный слуга, если только в его руках не находится трактат Валломброзо? А д’Отон? Мне не удается разгадать, какую роль он в действительности играет подле своей супруги. Я не удивлю вас, мой друг, вы знаете меня как саму себя. Мое бессилие меня просто бесит, ведь я не нахожу иных решений, кроме их смерти. У меня нет никаких способов убедить себя, что эта безумная, гибельная надежда на второе пришествие не распространится по всему свету. Гонорий Бенедетти прижался к резной спинке кресла и, закрыв глаза, тихо прошептал: – «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». – Евангелие от Марка,[321] не так ли? – Действительно, оно перекликается с Книгой пророка Даниила: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится».[322] Схожие аллюзии мы можем найти в Евангелии от Матфея: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей».[323] Лука описывает второе пришествие более подробно: «И будут знамения в солнце и луне и звездах… Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».[324] – Второе пришествие… Христос воскреснет, чтобы вновь спасти нас. И третьего пришествия не будет, как написано в священных книгах. – Вот почему я до самой смерти буду бороться, чтобы воспрепятствовать этому. – Вы воспротивитесь божественной воле? Гонорий закрыл лицо руками и уточнил свою позицию: – Я буду служить Ему до проклятия, если понадобится. Оберегать Его созданий от самих себя. Защищать до последнего вздоха порядок, установленный нами много столетий назад, чтобы обуздать худшие инстинкты, иначе человечество будет ввергнуто в хаос, из которого мы его вызволили. Веселость мадам де Нейра исчезла как по мановению волшебной палочки. Она прошептала: – Если Христос воскреснет… – Что? – рассердился камерленго, стуча кулаками по столу. – Человек чудесным образом станет лучше? Сегодня он такой же, каким был прежде. За Ним последует лишь горстка мечтателей и непорочных. Другие будут постоянно стремиться уничтожить Его, поскольку Он угрожает их подлым, но выгодным сделкам, и они добьются своего. Воцарилось молчание. Мадам де Нейра почувствовала, какая глубокая грусть охватила прелата. Гонорий боролся со своей единственной любовью: с Богом. – Так значит, вы обрекаете нас на несовершенный мир? – У меня нет иного выхода. Порой я говорю себе… – Камерленго сдержал ироническую улыбку. – Вы сочтете меня смешным, моя дорогая… Порой у меня рождается безумная надежда. Если мне удастся помешать объявленному второму пришествию, если мне удастся его отсрочить… Возможно, оно случится, когда человек повзрослеет, когда он избавится от жестокости, алчности, слабоволия и глупости, сохранив лишь Свет? Прелестный ротик в форме сердечка изогнулся в грустной улыбке. Од вздохнула: – Гонорий, мой дорогой Гонорий… Неужели вы верите, что люди могут радикально измениться в лучшую сторону? Со слезами на глазах камерленго внимательно посмотрел на Од и сказал: – Не больше, чем вы, моя дорогая, но порой у меня возникает необходимость лгать самому себе, чтобы немного свободнее дышать.Замок Отон-дю-Перш, Перш, сентябрь 1306 года
Монж де Брине прикусил губу и медленно покачал головой. Он избегал смотреть в глаза графу Артюсу. Расстроенный, он тихо сказал: – Это ловушка, монсеньор. Сведения, которые мне удалосьсобрать, подтверждают мое мнение. – Но, Брине, – занервничал Артюс, – почему король расставил мне ловушку? Какую выгоду он сможет извлечь из всей этой затеи? – Не знаю, – признался бальи. – Но зато из надежных источников мне известно, что для ведения процесса епископ Алансона поспешно назначил сеньора инквизитора Эвре. Почему Эвре? Да только потому, что Людовик,[325] граф этого города, выполняет все деликатные дипломатические миссии, в частности имеющие то или иное отношение к Риму, которые поручает ему Филипп Красивый, его сводный брат. – По вашему мнению, я должен стать разменной монетой между королем и Ватиканом? – Нисколько не сомневаюсь. Именно этим и объясняется оскорбительный тон послания, которое вы получили. – Наверное, мне должно льстить, что я вдруг оказался такой важной особой в глазах всех, – мрачно сыронизировал граф Артюс. Он вздохнул и сурово продолжил: – Что вы на самом деле думаете, Брине? Я всегда чувствую, когда вы скрываете от меня отвратительные новости. Ваше лицо вытягивается, словно вы с утра ничего не ели, и вы настойчиво избегаете встречаться со мной взглядом. – Я… возможно, я ошибаюсь… Мне в голову пришла мысль, и я должен сказать вам, что она мне отвратительна. А если… А если вас пытаются удалить от графини? – С какой целью? – спросил Артюс. Тем не менее у Монжа де Брине возникло убеждение, что граф ничуть не удивился. – Без вашей защиты она станет более легкой добычей. Упорство, с которым ее травила инквизиция, эти разбойники, которые чуть не задушили ее в лесу, если бы не мужество графини и доблесть ее кобылы, а также вмешательство рыцаря-госпитальера, вмешательство… слишком чудодейственное, чтобы быть случайным… Все позволяет предполагать, что она имеет основополагающее значение для могущественных и решительных людей. Их решимость, цель – пусть они остаются для меня таинственными, – разве они исчезли после вашей женитьбы? Очень сомневаюсь. – И я разделяю ваши сомнения, Брине. Таким образом, вы пришли к тому же выводу, что и я. – Другими словами… – Монж де Брине стал говорить более твердым тоном, пытаясь скрыть свою тревогу. – Я очень боюсь, что судебный процесс – это нечто гораздо более серьезное, чем невинное желание Рима получить разъяснения. Артюс внимательно посмотрел на бальи, прежде чем ответить: – Так вот по какой причине мессир Жозеф превратил меня неделю назад в прилежного ученика… – Прошу прощения? – Я изучаю, вернее, скрупулезно разбираю «Советы инквизиторам», написанные покойным Климентом IV, а также небольшой трактат об инквизиторской практике. Мы обязаны им неизвестному сеньору инквизитору. Поучительное чтиво. Невольно задаешь себе вопрос, как некоторым обвиняемым удалось вырваться из их когтей? Монж де Брине вздохнул с облегчением. – Каким же невыносимым глупцом я был, монсеньор! А я сгорал от беспокойства! Я уже представлял, как вы без подготовки бросаетесь в пасть волку. Право, какой же я глупец! – Разумеется, нет, – возразил Артюс д’Отон более мягким тоном. – Вы храбрый друг, а меня гложет собственная глупость. Понимаете, мне потребовалось пережить несколько страшных часов, чтобы я начал отдавать себе в этом отчет. Подобное заявление, неожиданное со стороны этого непостижимого, замкнутого, но не высокомерного человека, заставило покраснеть Брине. Бальи прошептал: – Вы делаете мне честь и доставляете огромное удовольствие, монсеньор. – Возвращаясь к процессу, на котором я должен, как они утверждают, дать обыкновенное объяснение, мне его не избежать. Даже если бы у меня была возможность уклониться, я все равно предстал бы перед судом. Уклониться – значит дать им повод подумать, что они правы. Тогда суд Божий, который спас мою нежную супругу, вызовет подозрения, станет подложным, а значит, недействительным. Кто может утверждать, что они не пойдут на новую подлость, то есть не устроят новый процесс с отягчающими обстоятельствами, иначе говоря, выдвинут обвинения в убийстве инквизитора и богохульстве? А этого я хочу во что бы то ни стало избежать. Артюс д’Отон немного помолчал, а потом заговорил таким равнодушным тоном, что бальи заволновался: – Брине, теперь, когда вы уверовали в мой боевой дух, я… Я вам не приказываю, я прошу вас как своего друга об одной услуге. Если события станут развиваться не так, как мне того хотелось бы, я покорнейше прошу вас как можно скорее отвезти графиню д’Отон и маленького Филиппа к моему кузену Жаку де Каглиари на Сардинию. Пусть его манеры… немного грубоваты… он наделен благородным сердцем и подлинным мужеством. Будучи человеком осмотрительным, он мало вмешивается в дела светского общества. Впрочем, никто не в состоянии их постичь. Я известил его, едва получил послание короля. – Значит, вы все предусмотрели? – Даже самое худшее, да хранит нас Господь. Мой добрый друг, у королей и пап есть прекрасное оправдание, которое позволяет им совершать ошибки и не чувствовать себя виновными: государственные интересы. Нужно быть умалишенным, чтобы пренебрегать этими самыми интересами. – Графиня знает, что завтра на рассвете вы уезжаете в Алансон? – Нет. И я требую, чтобы вы держали ее в неведении, повторяя ту сказку о неотложных делах, которую я ей рассказал. Если… за два-три дня я не сумею прояснить все вопросы, возникшие у моих судей, вы приедете сюда, чтобы морально поддержать графиню. Вы ей скажете, что я немного задерживаюсь. Если меня бросят в тюрьму, мы будем знать, как вести себя дальше. Тогда вам придется сказать графине правду, всю правду, в том числе о нашем сегодняшнем разговоре, и как можно быстрее увезти ее на Сардинию. – Все ваши распоряжения будут выполнены… и с самыми дружескими намерениями, монсеньор. – От всего сердца благодарю вас, Брине.Аньес встала со скамеечки для молитвы. Стоял жаркий день, но ее била дрожь. Она толкнула дверь маленькой часовни, примыкавшей к ее опочивальне, и направилась к сундуку, стоявшему около кровати. Она села, досадуя на саму себя. Вялость, с которой Аньес никак не удавалось справиться, приводила ее в отчаяние. Лекарства, приготовленные мессиром Жозефом, не могли побороть усталость, навалившуюся на нее несколько дней назад. Аньес пыталась взять себя в руки, но все усилия оказывались тщетными. Она не испытывала никакого желания чем-нибудь заняться, выйти в сад, проехаться на лошади или просто погулять на берегу пруда. Аньес огляделась. Куда подевался прекрасный сборник лэ Марии Французской? Робкий стук в высокую дверь ее апартаментов заставил Аньес встрепенуться. Вошла Жильета, бережно неся в руках прекрасную чашу, изготовленную в Бовэ.[326] – Ваш гоголь-моголь, мадам. Насколько мне известно, никакое другое лекарство не восстанавливает силы так быстро. К тому же он очень приятный на вкус. – Как мило с твоей стороны. Поставь его рядом со мной. Поставив чашу, молодая женщина с беспокойством спросила: – Как вы себя чувствуете? – Лучше, – солгала Аньес. – Неудивительно. Мессир Жозеф считается одним из лучших лекарей королевства. – Он пользуется заслуженным уважением, я в этом уверена. Жильета, я не могу найти сборник лэ. Ты его не видела? – Да, мадам. Вчера я видела, как вы шли с ним в библиотеку. Возможно, вы его там и оставили. – Он мне очень дорог. Прошу тебя, найди сборник. Ах, еще принеси мне графин с водой. Я хочу пить… Хотя день не был душным. Служанка сделала реверанс и, улыбнувшись, пообещала: – Непременно. Я быстро отыщу эту негодную книгу, которая играет с вами злые шутки. Аньес обвела взглядом столики, расставленные по всей комнате. Она еще больше рассердилась на себя. Как она могла потерять книгу, столь дорогую ее сердцу? Она пила маленькими глотками гоголь-моголь, в меру приправленный сахаром, корицей и имбирем, и все время размышляла, пытаясь вспомнить, что делала накануне и утром. Ночью книга еще была рядом с ней, поскольку она читала в кровати один из лэ. Может быть, книга упала за кровать, когда она заснула? Аньес встала и, опираясь руками на постель, тщательно осмотрела пространство, отделявшее ложе от стены. Ничего. Тогда она опустилась на колени, приподняла покрывало и заглянула под кровать. Но там не было ничего похожего на ее прелестный сборник лэ. Она уже хотела встать, как вдруг ее внимание привлек странный комок. Она попыталась его ощупать, но для этого ей пришлось лечь на пол и забраться под кровать. Оторвав мягкий комок, прибитый к дереву, она села на пол и принялась рассматривать небольшой черный холщовый мешочек. Развязав веревку, она высыпала содержимое мешочка на ладонь. Что это? Что это за обгоревший зловонный комок? А черные перья? Аньес охватила паника. Ледяной пот выступил на лбу. Магия. Колдовство. Вот чем объяснялись ее усталость и головокружения. Кто-то хотел убить ее при помощи колдовства. Аньес выбежала из спальни и инстинктивно бросилась в учебный зал мессира Жозефа. Она стремглав подбежала к старику, погруженному в чтение. Он оторвался от книги и от изумления открыл рот, увидев искаженное яростью лицо графини. Она молча раскрыла ладонь. – Мадам… – Это я нашла под своей кроватью, – произнесла Аньес таким отрешенным голосом, что сама его не узнала. – Ни слова моему супругу. Еще не время. Жозеф из Болоньи разворошил указательным пальцем перья и наклонился, чтобы понюхать черный комок. Потом, взяв его в руки, он сказал: – Это обугленная органическая материя. Возможно, внутренности. Такое часто случается. Полный колдовской набор. Тут нельзя ошибиться. – Так вот чем объясняется моя непонятная усталость, отсутствие аппетита… Я стала жертвой ведьмы. – И вы верите в могущество ведьм? Но, увидев, как побледнела Аньес, старый ученый все понял и заговорил нежным голосом: – Мадам, я старый человек, многое повидавший и всегда оценивавший все с точки зрения науки. Уверяю вас: могущество ведьм зиждется на вере, на страхе, который они внушают своим клиентам или жертвам. – Значит, если я перестану верить в их силу, я избавлюсь от недомогания и всевозрастающей усталости? – Возможно, нет. Но не забывайте: я всегда рядом с вами. Аньес грустно улыбнулась и вышла. Сжав зубы, Жозеф долго смотрел на черный комок. В его голове лихорадочно проносились мысли. Наконец, осталась одна, такая чудовищная, такая страшная мысль, что он решил немного повременить. Его ошибка могла стать для графини роковой.
Алансон, дом инквизиции, Перш, сентябрь 1306 года
Артюс д’Отон и Монж де Брине выехали верхом на рассвете, чтобы добраться до Алансона незадолго до девятого часа. В дороге они один раз остановились, чтобы напоить лошадей и самим выпить по кубку сидра и вина. Было так приятно отделаться от пыли, забившейся им в рот. От изнурительной скачки и нервозности всадника, которую Ожье ощущал, когда тот пришпоривал его, вороной жеребец графа стал раздражительным. Когда они добрались до таверны «Запряженная телка», где рассчитывали переночевать, жеребец, тяжело дыша, недовольно зафыркал, едва Артюс соскочил на землю. – Тише, мой красавец, – успокоил коня всадник, гладя его по шее. – Мы приехали и теперь будем наслаждаться заслуженным отдыхом… Тише. Папаша Телка, настолько заплывший жиром, что стал почти квадратным, бросился к ним, склоняясь в почтительном поклоне так низко, насколько позволял огромный живот. Хозяина таверны просто распирало от гордости. Ведь не каждый день он принимал двух столь знатных особ. Мамаша Телка оказалась совершенно права, когда уговорила его потратить несколько денье, чтобы улучшить внутреннее убранство таверны. Комнаты, хотя и не роскошные, были весьма опрятными и нарядными, словом, достойными принимать высокородных гостей. Он должен был признать, что мамаша Телка умела преподнести себя. Она была бесконечно рада, что теперь их посетителями стали нотариусы и знахари, вытеснившие этих горлопанов колбасников.[327] Она обращалась к посетителям, подбирая изысканные, даже галантные выражения, хотя порой путала значения слов, услышанных в разговорах галантерейщиков[328] или судейских. Сначала у папаши Телки были сомнения относительно намерения супруги «повысить их статус», как она выражалась. Конечно, уважение соседей имело для них значение, но все же не такое, как звонкие монеты, которые он пересчитывал вечером, закрыв таверну. Колбасники были горячими ребятами и забавлялись, словно дети. Провернув хорошенькое дельце, они охотно шли в таверну, где порой напивались до потери сознания. Одним словом, стаканчики быстро выстраивались в ряд, к великому удовлетворению хозяина. Мамаша Телка деликатно намекнула: действительно, колбасники с энтузиазмом опустошают глиняные кувшины. Но чуланы и кухни, не говоря уже о лотках самих колбасников, битком набиты провизией, и у них нет никакой необходимости питаться вне дома. А вот их будущие завсегдатаи в силу занимаемой должности будут вынуждены столоваться в таверне, тем более что иногда им требуется скрыться от любопытных глаз для конфиденциального разговора. Именно это и собиралась предложить им мамаша Телка. Будущее показало, что она была права. – Монсеньоры… монсеньоры… ваши комнаты вас ждут. В них вы найдете лохань с душистой водой, чтобы освежиться после долгой дороги. Затем вы сможете поужинать. Ваш гонец сообщил нам, что вы намерены провести у нас два-три дня, что делает огромную честь нашему заведению. – Возможно, мне придется пробыть здесь чуть дольше, – поправил его граф д’Отон. – Что касается моего бальи, ой уедет послезавтра. Проследи, чтобы его лошадь была готова. А сейчас пусть твой подручный отведет лошадей в конюшни. С ними нужно обращаться ласково. Они очень норовистые. – Всегда к вашим услугам, мессир, – ответил хозяин таверны, наклоняясь еще ниже. Выпрямившись, он завопил: – Эй! Лентяй! Где ты прячешься? Появился мальчик лет десяти, худой как вобла, с синяками под глазами. Папаша Телка запел свою любимую песню, как это он всегда делал в присутствии посетителей: – Ты, как всегда, спишь! Если бы не жалость, скажу я вам!.. Он ест за четверых, готовый вырвать у вас изо рта кусок хлеба, и бездельничает, как ящерица на солнце! Пошевеливайся, негодник… Или мне надо тебе уши надрать, чтобы ты соизволил заняться лошадьми сеньоров? Папаша Телка немного расстроился, увидев суровое лицо самого важного из двух посетителей. Обычно его тираду, тысячи раз перепетую на все лады, встречала одобрительная улыбка, порой реплика: «Палочных ударов, вот чего он заслуживает» или «На черствый хлеб и воду, это послужит ему хорошим уроком». Но вместо этого Артюс пристально смотрел на мальчика, приближавшегося к Ожье. Граф был готов вмешаться, если его норовистый жеребец заартачится. Немногие могли подходить к Ожье, не опасаясь его враждебной реакции. А вот Аньес могла. Она садилась на Ожье без тени страха. Но Аньес была другой. Мысль о супруге совершила обычное чудо: граф успокоился. Мальчик протянул руку к вороному жеребцу и погладил раздувающиеся ноздри, белые от пены. Ожье зафырчал, не проявляя ни малейшей агрессии. Более того, он наклонил голову, и мальчик погладил его по лбу. Затем он взял жеребца за вожжи и повел его в конюшню. Ожье послушно последовал за ним. – Мальчик… – остановил его Артюс д’Отон, опуская серебряный денье в карман куртки из толстого серого шелка. – Это тебе от моего доблестного четвероногого спутника, который редко бывает покладистым. Повернувшись к хозяину таверны, граф, пристально глядя на него, повторил: – Я ясно сказал: это ему. Ты нанесешь мне смертельную обиду, если не поймешь этого. – Какое великодушие! – воскликнул папаша Телка, чувствовавший непреодолимое желание забрать деньги, едва граф удалится. – Все же он этого не заслуживает. – Я думаю иначе, – возразил Артюс д’Отон тоном, не терпящим возражений.Монж де Брине хранил молчание во время их трапезы в просторном зале таверны, стены которой были недавно покрыты известкой, чтобы скрыть потеки, оставленные коптящими факелами. Он даже не дотронулся до куриного рагу и бобового пюре. Зато он залпом выпил четыре кубка вина, что в принципе было несвойственно этому человеку, ведущему трезвый образ жизни. Хозяин таверны суетился вокруг них, то и дело склоняясь в низком поклоне, спрашивал, довольны ли они. Поэтому Артюс д’Отон говорил намеками, пытаясь вновь успокоить своего бальи относительно исхода судебного процесса. Когда папаша Телка подал десерт, пирог с яблоками и изюмом, Артюс с раздражением сказал: – Черт возьми, Брине! Я битый час сюсюкаю с вами как с дитем малым, уговариваю, как старуху, а ведь меня, а не вас, заманили в ловушку, о которой вы мне постоянно твердите. – Понимаю, – согласился бальи, – я презираю себя зато, что доставляю вам лишние неприятности. Просто я так корю себя за собственную беспомощность… Черт возьми! Я предпочел бы сразиться одновременно с несколькими подлыми мерзавцами! – В большинстве случаев речь идет о подлых мерзавцах в судейских мантиях и рясах. И хотя вы виртуозно владеете шпагой, вам не по силам справиться с этой породой. – Вы уверены, монсеньор, что я не могу вас сопровождать? Я имею честь быть рядом с вами, служить вам верой и правдой много лет, и поэтому судьи могли бы заслушать мое свидетельство. – Исключено, Брине. Во-первых, они не засчитают ваше свидетельство именно потому, что вы мне служите. Во-вторых, я опасаюсь, что судьи могут проявить к вам более пристальный интерес. Если случится, что… Вы единственный, к кому я питаю достаточно уважения, чтобы доверить будущее моей супруги и моего сына. Потупив взор, потрясенный Монж де Брине покачал головой. Артюс д’Отон встал, стряхивая пыль с парчового камзола. – До скорой встречи, друг мой. Молитесь за меня. Брине снова покачал головой, опасаясь, что дрожь в голосе выдаст эмоции, от которых слова застревали в горле.
Артюс д’Отон прошел через мрачные ворота, сделанные в крепостной стене, окружавшей Дом инквизиции. Уверенным шагом он пересек квадратный двор, мощеный плитами, и поднялся по ступенькам, ведущим к тяжелой двери, усиленной поперечными брусьями. Едва граф вошел в темную приемную, освещенную лишь слабым светом факелов, висевших на стенах, как к нему устремился привратник. Граф назвал свое имя и титулы, уточнив, что его ждет сеньор инквизитор Эвре. Привратник поклонился и проворчал: – Я позову секретаря. Присаживайтесь, если хотите, – предложил он, показывая на стол из черного дерева, вокруг которого стояли скамьи. Больше никакой другой мебели не было в большом зловещем зале с низким потолком, примыкавшем к прихожей. Артюс подошел к столу, но садиться не стал, ожидая, когда из головы улетучатся все мысли. Все последние дни он старался прогнать даже тень страха, зная, что именно страх был самым грозным оружием инквизиторов. Артюс испытал необъяснимое облегчение, когда появился секретарь, тот самый Аньян, которого он пригласил на ужин в надежде узнать, какую роль сыграл Франческо де Леоне в убийстве Флорена. Он сделал два шага навстречу молодому человеку. Его уродство – маленькие, близко посаженные глаза, длинный острый нос, выступающий подбородок – вызывали к Аньяну недоверие, едва на нем останавливался чей-то взгляд. Но Артюс знал, что под уродливой маской скрывалась мужественная, прекрасная душа. Как ни странно, Аньян не проявил ни малейшей сердечности, поравнявшись с графом, Равнодушным тоном он сказал: – Монсеньор д’Отон, сейчас ваши судьи совещаются. Я не знаю, скоро ли они закончат свои приготовления. Могу ли я попросить вас следовать за мной? Ожидание станет менее тягостным, если вы подождете в комнате, прилегающей к допросной. Немного сбитый с толку поведением молодого человека, Артюс повиновался. Они прошли через большую комнату и свернули направо, потом стали подниматься по темной деревянной лестнице. Аньян молча шел впереди графа. Добравшись до лестничной площадки, Аньян, вместо того чтобы ввести графа в зал ожидания, приложил указательный палец к губам, призывая Артюса д’Отона молчать, и рукой показал на узкий коридор, который сворачивал влево и упирался в низкую дверь – дверь кабинета молодого клирика. Едва закрыв ее, Аньян прислонился к стене. Задыхаясь, он прошептал: – Я боялся, что вы внизу станете меня расспрашивать о моем отношении к процессу, по меньшей мере вызывающему недоумение. Они не должны знать, что я вновь встречался с вами после вашего единственного прихода в это место, когда вы пытались вразумить Никола Флорена. Иначе они заставят меня поклясться на четырех Евангелиях, а затем дать показания. Но они извратят мое свидетельство в своих корыстных целях. Аньян подошел к маленькому рабочему столу, потрескавшуюся столешницу которого скрывали свитки и журналы. – Я тайком переписал, чтобы сослужить службу мадам д’Отон, оба свидетельства против вас. Прочтите. Вы должны подготовиться. Самое обличающее – это свидетельство маленького бродяги. Они не станут проводить очную ставку между свидетелями, чтобы вы не смогли опровергнуть их показания. Это обычная процедура. Артюс внимательно прочитал копии, сделанные Аньяном. Оба свидетельства были ложными, но до того ловко состряпанными, что чувствовалась рука поднаторевшего в таких делах клирика. Свидетельства было очень легко обратить против графа. – Допрос, которому вас подвергнут, ибо необходимо называть вещи своими именами, окружен необычной таинственностью, причину которой я никак не могу разгадать. Я только заметил кольца мерзавца Флорена, найденные в доме, который он отнял у одной из своих жертв. Впрочем, ходят слухи, что у них есть еще одно доказательство вашей вины, решающее доказательство, но я не знаю, какое именно. – Но как они смогли его получить, если я никогда не переступал порога дома Флорена? – А вот это мне хорошо известно. Рыцарь по справедливости и по заслугам Леоне разъяснил мне свою роль. Он избавил нас от чудовища, чтобы спасти вашу супругу, да вечно хранит ее Господь. Но я не могу выдать его. Умоляю вас, не думайте, будто я боюсь, что они строго накажут меня за то, что я скрыл от них признание, сделанное мне однажды вечером рыцарем. Я боюсь только за мадам д’Отон. Они могут вновь отдать ее под суд, если будет доказано, что Бог оказался не на ее стороне. Но я лучше умру, чем заставлю ее подвергаться новым страданиям. И даже если я солгу, умолчав о некоторых подробностях, моя совесть будет спокойной. Мадам должна жить, в этом я уверен. Я нисколько не сомневаюсь, что Господь вмешался, послав ей на помощь этого рыцаря-госпитальера. – Вы очень верно выразили то, что меня тревожит. Именно по этой причине я не упомяну даже имени Леоне. Мало того, что недостойно выдавать рыцаря и спускать на него всех собак, так и Аньес может от этого пострадать. – Нам надо действовать быстро. Если они, закончив, увидят вас здесь… Мсье… И хотя я сам в ужасе от своего совета, все равно заклинаю вас: лгите. Лгите даже после клятвы. Во имя служения Богу. В конце концов, разве они не оскверняют Евангелия, используя их, чтобы бросать невинных в свои застенки и пыточные комнаты? – Но почему вы подвергаете себя такой серьезной опасности, пытаясь мне помочь? – Ради мадам де Суарси, графини, которая озарила мою жизнь, жизнь упрямого муравья. Ибо я чувствую, что она самая ценная из женщин. Аньян потупил взор. Его маленькое лисье лицо еще сильнее сморщилось. Наконец он признался – голосом, ставшим от печали едва слышным: – Понимаете, потому что я верил тем, кто сейчас заседает в зале, и им подобным. Верил всей своей наивностью и простодушием. Я верил в чистоту их намерений, в справедливость приговоров, вынесенных ими. Я верил в то, что они стремятся спасти заблудшие души, души грешников. Но сейчас я уже не ошибаюсь так сильно. Некоторые сеньоры инквизиторы, такие как Флорен, всего лишь подлые палачи, вышедшие из ада. Другими движет алчность. Они реквизируют имущество обвиняемых, они наживаются на их страданиях. Оправдание приводит их в отчаяние. А потом есть великое множество таких, кто оплакивает страдания Спасителя, но при этом испытывает презрение к страданиям слабых созданий Божьих. Мучить тело, пытать его до безумия или смерти – разве так можно спасти душу? Я больше не верю в это и презираю себя за то, что прежде верил им. Слабая улыбка озарила его лицо. В заключение Аньян сказал: – Если они подслушали наш разговор, я заживо сгнию в подземелье. Умоляю вас, лгите, защищайтесь, мсье. Ради графини, ради вашего сына. Рыцарь де Леоне сказал мне, что достойно сражаться можно только с достойными врагами. Эти же недостойные. Я отведу вас в зал ожидания. Они скоро вас вызовут.
Замок Отон-дю-Перш, Перш, сентябрь 1306 года
Стоя спиной к одному из окон своей опочивальни, Аньес пристально смотрела на мессира Жозефа. Ему казалось, что графиня стала еще бледнее, чем накануне. Темные круги делали еще более пронзительным взгляд ее серо-голубых глаз. И хотя Аньес держалась стойко, Жозеф чувствовал, что страх не покидал ее с тех пор, как она обнаружила под своей кроватью черный холщовый мешочек. – Я старый человек, мадам, и повидал на своем веку много удивительных вещей. Но если их критически проанализировать, окажется, что ни одну из этих вещей нельзя объяснить властью злых сил. Речь идет о суевериях. А суеверия распространяются галопом, чему способствуют и тайны, которые наука пока еще не в состоянии прояснить. Наука же, как и все остальное, есть Бог, что бы там ни говорили те, кто затыкает ей рот, поскольку они боятся, и совершенно обоснованно, что знания подорвут их власть. Когда-нибудь мы узнаем, что такое на самом деле гроза, солнечные затмения. Когда-нибудь мы научимся бороться с болезнями. Когда-нибудь благодаря научному прогрессу невозможное станет возможным. – И все же рассказывают такие жуткие истории… Уже и счет перестали вести свидетельствам тех, кто пострадал, если не умер, от колдовской порчи. Церковь приговаривает подручных сатаны к сожжению на костре… А Церковь не может ошибаться. Жозеф из Болоньи взглянул на Аньес, но сдержал слова, готовые сорваться с его языка: ведьмы, внушавшие всем страх, оказывают бесценную услугу Церкви, которая выдает себя за единственную силу, способную разделаться с ними и защитить свою паству. Жозеф не сомневался, что графиня была умной женщиной и благоволила к нему. Но он был человеком другой веры, и охота на евреев* мало чем отличалась от охоты на ведьм и еретиков. Благодаря радушному гостеприимству графа Жозеф больше не опасался за свою свободу и жизнь. Но он не знал, сколь долго это продлится. Достаточно одного королевского ордонанса, и облава станет поголовной. Жозеф обошел острые углы: – Некоторые из этих шарлатанов так уверены в своих… способностях, если можно так выразиться, что безропотно всходят на костер. И тогда легенды о них разносятся по всем уголкам нашего королевства. Все подхватывают и приукрашивают их, преувеличивая воображаемую доблесть этих предсказателей судеб. – Значит, вы, мессир врач, нисколько не верите в чудеса? – спросила Аньес, потрясенная разумными доводами старика. – Верю, мадам. Но чудеса – это Бог, даже если он делает своим посредником человека. Бог всемогущ. И когда он карает, наказание, ниспосланное нам, несет на себе божественную, а не человеческую печать. – Вы… От мучительной боли в животе Аньес согнулась почти до пола. Ей даже пришлось схватиться за занавеску, которой зашторивали окно на ночь, чтобы не упасть. – Мадам… – разволновался мессир Жозеф, бросаясь к графине. – Умоляю вас, позвольте мне усадить вас в кресло. Опираясь на руку старика, Аньес медленно пошла за ним. Пытаясь сдержать приступ рвоты, она закрыла глаза. Мессир Жозеф осторожно вытер пот, выступивший на лбу молодой женщины. Он терпеливо ждал, когда она немного придет в себя. Потом нежным голосом спросил: – Не могли бы вы точно описать характер боли, мадам? – Такая резкая, такая неожиданная… – срывающимся голосом ответила Аньес. – Где именно вы ее чувствовали? – Вот здесь, у пупка, – объяснила Аньес. – Распространилась ли она затем на поясницу и бедра? – Совершенно верно, – согласилась графиня д’Отон, внимательно глядя на врача. – Как выглядели ваши недавние испражнения,[329] мадам? – Честно говоря, вот уже несколько дней я испытываю определенные трудности. – И когда же возникли эти трудности? Одновременно с усталостью, тошнотой и головокружениями? – Да, вы правы. Или чуть позже. – Вы чувствуете во рту металлический привкус? – Неужели вы стали прорицателем? – попыталась пошутить Аньес. – К сожалению, я всего лишь врач, – улыбнулся Жозеф. Вновь став серьезным, он сказал: – Я должен нарушить обещание, данное вам, и сообщить о вашем состоянии своему господину и его бальи, мадам. – Умоляю вас… – прошептала графиня. – Мне так не хочется расстраивать вас. Но я не могу исполнить ваше приказание. Дело принимает слишком серьезный оборот. Ваше здоровье внушает мне серьезную тревогу. Я не знаю, какой колдун решил вас сглазить, но это меня нисколько не беспокоит. Куриные перья, даже черные, еще никогда никого не убивали. Зато я знаю, что вы стали жертвой медленного отравления. Мне наконец удалось определить яд, хотя я до сих пор не знаю, как он попадает в ваш организм. – Немыслимо! Но почему? – запротестовала Аньес, которую постепенно охватывала безумная тревога. – На этот вопрос должен ответить бальи, мадам. Вы позволите мне немедленно откланяться? Аньес кивнула. Услышав столь страшный диагноз из уст старого врача, она никак не могла привести свои мысли в порядок. Отравление. Самое гнусное преступление, которое вершат в глубокой тайне. Именно поэтому отравителей приговаривают к смерти без отпущения грехов и хоронят в неосвященной земле. Врач ушел. Аньес осталась одна в комнате. Постепенно к ее страху примешивалось недоумение. Кто мог ее так сильно ненавидеть, чтобы желать медленной смерти? Какой ее поступок мог вызвать столь неумолимую ненависть? Вдруг она осознала всю глупость этих вопросов без ответа. Ничего. Она ничего не сделала, что могло бы объяснить эту мерзость. Причиной этого отравления стал бесценный для человечества пергамент. Другая кровь. Ее кровь. Та, которую она передала Клеманс, а она затем одарит ею свою дочь. Но человек, отдавший приказ, – а это был, несомненно, камерленго Бенедетти, – не знал, что маленький слуга, убежавший из Суарси, был на самом деле младшей дочерью Аньес. Камерленго полагал, что Аньес является последним носителем этой крови, которую больше никогда ни одна из ее дочерей не должна унаследовать. Значит, требуется, чтобы Аньес умерла до возможного рождения дочери. Как ни странно, но эта уверенность принесла Аньес успокоение. Никто не знал, что Клеман на самом деле был девочкой. Значит, на данный момент ее любимой дочери ничто не угрожает. «Клеманс, моя Клеманс! Как мне тебя не хватает! И это причиняет мне невероятные страдания. Я постоянно думаю о тебе. Я смотрю на маленького Филиппа, которого люблю так горячо, что мое сердце замирает, когда я прижимаю его к груди. Он совсем на тебя не похож. Мой сын. Но, Клеманс, моя кровь бьется в тебе. Я прислушиваюсь к ударам пульса, которые связывают меня с тобой надежнее любого договора. Я чувствую тебя. Я ощущаю тебя. Ты где-то рядом, в этом я уверена. Ты моя плоть, моя душа. С тех пор, как ты исчезла, я жива лишь наполовину. Клеманс, я подарила тебе жизнь, а ты спасла мою, позволив мне выстоять, вести борьбу с хищниками, жаждущими нас уничтожить. Живи, моя Клеманс. Живи ради меня».Мессир Жозеф, оцепенев от ужаса, слушал Ронана. Монсеньор д’Отон в сопровождении одного лишь бальи рано утром покинул замок и отправился в Дом инквизиции Алансона. Мадам графиня ничего не должна знать об этом. – Это настоящая катастрофа! Я всего лишь человек науки. Причем старый человек. Разве я смогу бороться в одиночку? Встревоженный Ронан спросил: – С чем бороться, мессир? – Мой славный Ронан, я даже боюсь говорить вам об этом. Но учитывая, какое почтение вы питаете к нашему господину, я поведаю вам о моей самой страшной тревоге. Нашу даму пытаются отравить. В этом я уверен. Потеряв дар речи, старый слуга открыл рот. Кровь отхлынула от его лица. Он переспросил: – Прошу прощения. Пытаются отравить? Даму? Ангела, посланного сюда, чтобы сделать нашу жизнь более приятной? Святые небеса! Что же нам делать? – Я ищу ответ на этот вопрос с тех пор, как все понял. Ронан, вы единственный, кому я могу доверять. Отныне вы сами будете готовить еду для графини. Все блюда, которые ей будут подавать. Все, вы меня поняли? Если вас начнут расспрашивать, скажите, что выполняете приказ врача дамы. – Что происходит? – простонал старый слуга. – Ничего, что осталось бы в тайне. Я дал клятву Богу. Ронан, мы будем сражаться бок о бок. – Можно ли противостоять подлости отравителя, мессир врач? – Разумеется, если мы ни на секунду не утратим бдительности. Даже вода, Ронан. Вы сами будете доставать воду из колодца.
Дом инквизиции Алансона, Перш, сентябрь 1306 года
Молодой секретарь, через плечо которого была перекинута сума с письменным прибором, равнодушным тоном сообщил Артюсу д’Отону, что судья вызвал его к себе. Граф неспешно встал и последовал за молодым человеком. Едва они остановились перед высокой дверью, как секретарь тут же толкнул ее. Они вошли в огромную комнату. Несмотря на теплый день, в ней царил ледяной холод. За длинным столом сидели пятеро хмурых мужчин: нотариус и его письмоводитель, как того требовала процедура, два брата-доминиканца. В конце стола на высоком резном стуле сидел сеньор инквизитор Эвре. Ни одного «мирянина с безупречной репутацией». Артюс подумал, что инквизитор устранил их, дабы гарантировать поддержку и снисходительность братьев по ордену. – Извольте сообщить имена, фамилию и титулы, мсье. Прошу вас. – Артюс Шарль Пласид, граф д’Отон, сеньор де Маль, де Ботонвийе, де Люиньи, де Тирон, де Бонетабль и де Суарси. Нотариус встал и зачитал: – In nomine domine, amen.[330] В 1306 году, 18 числа сентября месяца, в присутствии нижеподписавшегося Готье Рише, нотариуса Алансона, одного из его секретарей и свидетелей по имени брат Робер и брат Фульк, доминиканцев из Алансонского диоцеза, урожденных соответственно Анселен и Шанда, Артюс Шарль Пласид, граф д’Отон, сеньор де Маль, де Ботонвийе, де Люиньи, де Тирон, де Бонетабль и де Суарси добровольно предстал перед досточтимым братом Жаком дю Пилэ, доминиканцем, доктором теологии, сеньором инквизитором территории Эвре, назначенным для рассмотрения этого дела в нашем славном городе Алансон. Нотариус сел. Это был тот самый нотариус, который принимал участие в пародии на судебный процесс, целью которой было отправить супругу графа на костер. Артюс пытался побороть нехорошее предчувствие. Какая чепуха! В Алансоне не так уж много нотариусов, это совпадение было случайным. Жак дю Пилэ, склонив голову, подошел к графу д’Отону, прижимая в груди большую книгу в черном переплете. Доминиканец был человеком высокого роста, таким худым, что его тело под темной рясой из грубой шерстяной ткани казалось изможденным. Он поднял голову, и взгляд его светло-голубых глаз встретился со взглядом Артюса. Раздался нежный, почти певучий голос: – Мсье д’Отон, прежде чем мы начнем задавать вопросы, – а речь идет только об этом, – позвольте мне заметить, что ваш добровольный приезд сюда соответствует вашей безупречной репутации. Переведя дыхание, инквизитор продолжил: – Артюс, граф д’Отон, вот четыре Евангелия. Положите на них правую руку и поклянитесь говорить только правду как о себе самом, так и о других. Вы клянетесь Богом и своей душой? – Клянусь. Да поможет мне Бог, если я сдержу клятву. Пусть Он покарает меня, если я совершу клятвопреступление. – Прекрасно. Нотариус, запишите, что граф д’Отон дал клятву. Жак дю Пилэ запахнул белый плащ, словно ему стало холодно. Артюс внимательно смотрел на длинные худые руки, вцепившиеся в полы плаща, словно клещи. Инквизитор сел за длинный стол и снова обратился к Артюсу: – В благодатный 1304 год 5 числа ноября месяца здесь же сеньору инквизитору Никола Флорену давала показания Аньес Филиппина Клэр де Ларне, дама де Суарси. Ее подозревали в страшных преступлениях, в пособничестве ереси, если не в самой ереси, преступлении, отягощенном культом единого бога. Мои братья Робер и Фульк вместе со мной просмотрели записи процесса, который вел наш брат Никола. Возможно, вы этого не знаете, но сеньорам инквизиторам вменяется в обязанность прилежно вести такие дневники… Артюс знал об этом с тех пор, как мессир Жозеф шаг за шагом провел его по лабиринту инквизиторской процедуры. Эти дневники велись вовсе не для того, чтобы инквизитор действовал по справедливости. Их целью было не допустить, чтобы от внимания судей ускользнула даже самая мельчайшая подробность. Только так можно было надеяться, что оправданному по одному делу предъявят обвинение в совершении другого преступления. – …В них отражены все этапы процесса над особой, которая вскоре после этого стала вашей второй супругой. Клятвопреступление ее дочери, выявленное благодаря бдительности наших братьев доминиканцев, и, разумеется, начало допроса… Никола Флорен тщательно соблюдал все формальности процедуры. Через несколько дней наш несчастный брат пал от удара кинжалом незнакомца. Быстро проведенное следствие пришло к выводу, что он случайно встретился с пьяницей в какой-то таверне. Флорен погиб на следующий день после начала допроса с пристрастием, и поэтому никто не сомневался, что Бог, рассудив по-своему, вмешался и спас невиновную в лице мадам де Суарси. Пока вы согласны со мной? – спросил инквизитор, пристально глядя на Артюса. – Согласен. Если только не считать, что смерть Никола Флорена выявила все его грехи: жестокость, плотский грех, извращенность, любовь к роскоши, вымогательство денег и имущества, в чем его обвиняли. Я уже не говорю об омерзительных слухах, обвинявших его в колдовстве. И остается фактом то, что наш епископ, поступив мудро и по справедливости, решил похоронить Флорена в неосвященной земле. – Нам все это известно, – печальным тоном ответил Жак дю Пилэ. – Однако сегодня мы собрались вовсе не для того, чтобы судить покойного. Противное означало бы, что мы присвоили себе неопровержимую прерогативу Господа. Перед нами стоит иная, весьма трудная задача. Мы должны подтвердить или опровергнуть достоверность суда Божьего. Установить, не воспользовался ли кто-то в своих подлых целях славой Божьей, чтобы снять подозрения с мадам де Суарси. Не было ли совершено недопустимое богохульство, приведшее к смерти сеньора инквизитора. – Но как я могу помочь вам разрешить столь щекотливый вопрос? Я встречался с сеньором инквизитором только один раз, когда приходил сюда замолвить слово за мадам де Суарси. Он быстро меня выпроводил. Потом мы с ним никогда не встречались. – Правда? Должен ли я вам напомнить о принесенной вами клятве? – Я клянусь на четырех Евангелиях, что больше никогда не встречался с Никола Флореном. Раздался протяжный голос, голос Фулька де Шанда. Он зачитал свидетельство, с которым Артюс ознакомился в кабинете Аньяна несколькими минутами ранее:Клянусь перед Богом, что действую не по принуждению и не преследую никаких целей, продиктованных ненавистью или местью. Незадолго до убийства сеньора инквизитора Флорена сеньор д’Отон дал мне два полновесных серебряных денье, чтобы я следил за упомянутым Флореном, на которого он мне показал, когда тот выходил из Дома инквизиции. Чтобы получить вторую половину оговоренной суммы я должен был встретиться с сеньором д’Отоном в таверне «Красная кобыла» и сообщить ему, где проживает сеньор инквизитор, что я и сделал.– Это ложь, – спокойно заявил Артюс д’Отон. – Я больше никогда не встречался с этим шалопаем. Я действительно ждал его в таверне, но он не пришел. – Однако же папаша Красный, хозяин заведения, подтверждает слова свидетеля, – возразил инквизитор. – Нотариус, прошу вас, ознакомьте нас с заявлением свидетеля, сделанным под присягой.
Клянусь перед Богом, что действую не по принуждению и не преследую никаких целей, продиктованных ненавистью или местью. Двенадцатого числа ноября месяца 1304 года сеньор д’Отон встречался в моей таверне с маленьким бродягой. Они знали друг друга и, несомненно, имели общее дело. Постреленок говорил с ним шепотом, и я услышал лишь название улицы: улица Ангела. Затем монсеньор д’Отон протянул мальчишке монету, и тот немедленно исчез.– Мне так и не удалось узнать адрес сеньора инквизитора. Как я уже говорил, мальчишка не пришел на встречу. Что касается папаши Красного, то у него удивительная память. По прошествии двух лет он помнит даже день, когда к нему пришел посетитель, хотя ежедневно в его таверну заходят несколько десятков человек. Завидую ему, – сыронизировал граф. – Это свойственно хозяевам таверн, – возразил инквизитор. – Они служат осведомителями прево и бальи, и поэтому в их интересах помнить всех неплательщиков и смутьянов. – Повернувшись к доминиканцам, Жак дю Пилэ спросил: – Братья мои, кажутся ли вам эти свидетельства надежными? В ответ доминиканцы утвердительно кивнули. – Нотариус, запишите, прошу вас, что я и мои советники сочли эти свидетельства правдивыми и приемлемыми. Почему вы хотели узнать домашний адрес сеньора инквизитора, которому было поручено вести процесс вашей будущей супруги, монсеньор д’Отон? Артюс вспомнил о советах, данных ему бальи, Аньяном и мессиром Жозефом. В том, чтобы лгать судьям, которые подтасовывают лживые доказательства, нет ничего постыдного. – Я узнал, что Флорен имеет весьма своеобразное представление о своей миссии и должности. – Мессир д’Отон, наш суд отвергнет любую клевету относительно покойного, – прервал графа сеньор инквизитор. – Речь не идет о клевете и даже слухах. Вам это известно так же хорошо, как и мне. Некоторые нетерпеливые наследники и враги, решившиеся на месть, щедро платили Флорену за его услуги. Я не сомневаюсь, что после смерти Флорена былопроведено строжайшее епископское расследование относительно его… сделок. Взгляд бледно-голубых глаз пригвоздил графа к месту. Жак дю Пилэ возразил: – Мы собрались здесь не для того, чтобы судить о деяниях нашего покойного брата, а чтобы оценить правомерность Божьего суда, снявшего с вашей супруги все подозрения. Итак, почему вы хотели узнать адрес сеньора инквизитора? – Чтобы купить его, ведь, я настаиваю, это было обычной практикой. – Какой позор, мессир! Вы хотели подкупить инквизитора? – Позор должен был пасть на него, мсье. Подкупить можно лишь тех, кого развращают деньги, – возразил Артюс д’Отон властным тоном. – К сожалению, и я об этом уже говорил, маленький проходимец, который должен был мне сообщить адрес, сыграл со мной злую шутку. Впрочем, не знаю, действительно ли я жалею об этом. В конце концов, если бы Флорен захотел взять мои деньги, он бы остался жив. – Внимательнее следите за своими словами, мсье! – воскликнул уязвленный Пилэ. – Я буду внимательнее. Но никто не заставит меня поверить, что смерть Флорена вызвала всеобщее огорчение. Жак де Пилэ напряженно думал несколько минут. Он привык к выходкам обвиняемых, неважно, совершали они преступления или нет. Разумеется, он был готов к тому, что сеньор д’Отон даст ему решительный отпор, будет вести себя дерзко. Однако сеньор инквизитор столкнулся со стеной спокойного упорства, к которой он не знал как подступиться. – Секретарь, предъявите вещи, найденные в сточной канаве дома на улице Ангела. Молодой человек вскочил, схватил небольшой мешочек, лежавший перед ним, и бросился к сеньору инквизитору. Тот велел: – Извольте показать их судьям, а также нотариусу и монсеньору д’Отону. Доминиканцы сделали вид, что погрузились в немое созерцание драгоценностей, которые, несомненно, уже видели раньше. Нотариус переворачивал костлявым указательным пальцем кольца, завернутые в тряпочку. Артюс д’Отон бросил на драгоценности беглый взгляд. Золотое кольцо с огромным прямоугольным топазом, которое, очевидно, носили на указательном пальце, лежало рядом с широким кольцом с россыпью прекрасно ограненных жемчужин и сапфиров. Изящная змея с рубиновыми глазами, вероятно, украшала мизинец Флорена. – Вам знакомы эти кольца, мессир д’Отон? – слащавым тоном спросил инквизитор. – Нет. – Вы утверждаете, что никогда их не видели? – Да. Клянусь честью. – Монсеньор д’Отон… Послушайте… Как вы объясните эту загадку? Негодяй, пьяница, случайно встреченный в таверне, следует за сеньором инквизитором до самого дома. Затем они пьют вместе, как о том свидетельствуют разбитые стаканы, найденные на месте. Возможно, затем вспыхивает ссора. Как бы там ни было, этот пьяница убивает Никола Флорена, срывает с его пальцев кольца… которые следователи Папы, да будет он благословенен, находят через два года в сточной канаве. Разве это не странно? – Ничто в людях уже не вызывает у меня удивления. Если вы позволите сделать мне замечание, мне непонятно, почему я должен объяснять мотивы поступка подлого убийцы. Непринужденный, без малейшего намека на высокомерие тон графа окончательно смутил Жака дю Пилэ. – Вы дворянин, пользующийся безукоризненной репутацией. Разве вы не находите, что этот поступок, необъяснимый, если речь идет о каналье, становится понятным, если это было не ограбление, а хладнокровное убийство, совершенное человеком благородного происхождения, решившим защитить женщину, которая очаровала его до такой степени, что он женился на ней. Кража колец была не чем иным, как попыткой ввести следователей в заблуждение. Так оно и произошло. Впрочем, этот человек благородного происхождения счел недостойным оставлять драгоценности себе. – Должен признать, ваши рассуждения не лишены здравого смысла. Однако в них есть один существенный изъян. Неужели этот человек благородного происхождения настолько глуп, что бросил кольца, обличающие его, в сточную канаву дома Флорена? В единственное место, где их можно легко найти? Пилэ ожидал подобного возражения. – Волнение, угрызения совести из-за того, что он убил Божье создание… – Но разве вы сами не сказали сейчас, что он хладнокровно убил Флорена? Оставим эти мистификации, сеньор инквизитор. Сомневаюсь, что я был единственным дворянином, которому смерть Флорена не доставила никакого огорчения. Держу пари, многие другие возблагодарили небеса, узнав о его смерти. Пусть это не по-христиански, но это не преступление. Жак дю Пилэ провел множество допросов, вывел на чистую воду множество виновных. Он разоблачал самые хитроумные обманы, загонял в угол таких обольстительных лгунов, что, не разобравшись, без колебаний можно было бы даровать им прощение. Он ставил в безвыходное положение коварных плутов, прикидывавшихся кроткими агнцами, а порой вызволял из зловонных застенков Дома инквизиции невинных, скудость ума которых прямиком вела их на костер. Одним словом, человеческая душа и ее потемки не были для Пилэ великой тайной. Во время процессов его вели абсолютная вера и несгибаемая стойкость. Он врачевал души заблудших во имя любви к Богу.[331] Страсть к Богу жгла Жака дю Пилэ, пожирала его так нежно, что он никогда не осквернил бы ее очевидной несправедливостью, постыдным или услужливым приговором. Разумеется, он уехал из Эвре, уверенный в виновности монсеньора д’Отона. Ведь на него оказало сильное влияние то, как изобразил для него графа епископ. Но несколько минут назад он вдруг почувствовал неуверенность. С самого раннего утра он раз десять вспомнил о коротком послании, которое получил из Рима неделю назад. Послание было написано рукой камерленго Гонория Бенедетти и скреплено папской печатью.
Нам чрезвычайно важно удостовериться в безукоризненной чистоте суда нашего Господа Бога, вмешавшегося в дело Аньес де Суарси, ставшей графиней д’Отон. Нам представляется, что произошедший суд был непозволительным святотатством. Мы требуем, чтобы Вы не теряли бдительности и вели себя в высшей степени сурово с нечестивцем, который совершил такую профанацию в личных корыстных целях.Другими словами, он должен обвинить Артюса д’Отона, даже если не будет уверен в его виновности, или, по крайней мере, затянуть процесс. Жак дю Пилэ раздраженно поджал губы. Ему казалось приемлемым одно-единственное решение. Во имя возвышенного божественного агнца он не толкнет на пыточное ложе невиновного. Но, чтобы удовлетворить епископа и камерленго, процедуру следует затянуть на многие месяцы, если не годы. На всю жизнь. – Нотариус, извольте, прошу вас, предъявите нам вещь, которую мы отдали вам на хранение, чтобы ничто не могло помешать нашему расследованию. Мэтр Готье Рише вскочил как ошпаренный и, мелко семеня, подбежал к инквизитору. Он вытащил из кармана судейской мантии кошелек, вытряхнул его содержимое на ладонь, внимательно посмотрел на него и заявил: – Мы, Готье Рише, нотариус Алансона, удостоверяем, что именно эту вещь нам отдал на хранение сеньор инквизитор Жак дю Пилэ, чтобы предотвратить любую попытку подмены. Он передал вещь инквизитору и вернулся на свое место забавной подпрыгивающей походкой. Жак дю Пилэ подошел почти вплотную к Артюсу д’Отону, раскрыл ладонь и спросил: – Мессир, узнаете ли вы этот предмет? На какое-то мгновение Артюс оцепенел. Что это за кольцо с трехгранным радужным белым камнем? Когда он узнал кольцо, его охватила ярость вместе с глубокой печалью. Кольцо с опалом, обручившее его с мадемуазель Мадлен д’Омуа, скрепившее условный торговый союз, выгодную сделку, которую он заключил с ее отцом. Нежная, почти прозрачная Мадлен, которую покинуло желание жить, едва ей пришлось расстаться с родителями и оставить родной мануарий. Трагическая хрупкая птичка, о которой у него остались смутные воспоминания. Она отдалась смерти с полнейшим равнодушием. С точно таким же, с каким она встретила первый крик их сына Гозлена, умершего несколькими годами позже. – Это кольцо, скрепившее мой первый брак с мадемуазель д’Омуа. – Вы подтверждаете, что кольцо принадлежит вам? – Да. Жак дю Пилэ выдержал паузу. Артюс расценил молчание как уловку, призванную произвести впечатление на доминиканцев. Но он ошибался. Пилэ ненавидел себя за то, что ему приходилось принимать участие в этом жалком фарсе. Однако он не мог отступить. Его горечь смягчало жалкое утешение. Мсье д’Отон мог напасть на сеньора инквизитора, полного решимости понравиться камерленго любой ценой, даже ценой жизни невиновного. – Как вы можете прояснить нам эту тайну, монсеньор д’Отон? Из ваших слов явствует, что вы не знали, где живет Никола Флорен, никогда не переступали порога его дома. – Это правда. – Правда? Значит, это кольцо попало к нему по мановению волшебной палочки? Печаль улетучилась, осталась лишь ярость. – Что?! – почти закричал Артюс. – Вы выдумали, что нашли мое обручальное кольцо у сеньора инквизитора? – Что вы себе позволяете! Я ничего не выдумываю! Я использую бесспорные доказательства, предоставленные мне следователями. Возражение последовало незамедлительно: – Как дворянин дворянину скажу вам, мсье: речь идет о мерзости, от которой вы должны покраснеть до корней волос! Оскорбление уязвило сеньора инквизитора сильнее, чем пощечина. Жак дю Пилэ закрыл глаза и с трудом сглотнул слюну. От графа д’Отона исходила странная непоколебимая сила. Пилэ был уверен, что внешность графа обманчива. За куртуазными манерами, безукоризненной учтивостью скрывался человек пылкий, страстный, мужчина, для которого честь и данное слово были превыше любых сделок, любых компромиссов. Он взял себя в руки, подумав, что Артюс д’Отон никогда не узнает об усилиях, которые он предпринял, чтобы спасти графа от худшего. – Кольцо было найдено недавно. Оно провалилось в щели между паркетинами, прямо перед камином, в том самом месте, где был убит сеньор инквизитор. – И это произошло почти два года назад? Так почему же первые следователи не заметили кольцо? Разве с тех пор в доме никто не живет? – Секретарь, что известно об этом доме? Молодой секретарь стал перебирать документы, лежавшие на чернильном приборе. – Э-э-э… Через три месяца после смерти нашего досточтимого сеньора инквизитора Флорена дом был продан солевару Жану Шовэ, который с тех пор там живет вместе с семьей. – Так, значит, – вышел из себя граф д’Отон, – надо полагать, что хозяйка дома и ее служанки не замечали кольцо? Хозяйка должна незамедлительно наказать свою прислугу. Ее дом содержится из рук вон плохо, если никто не чистит полы и не вытаскивает всякий сор, застрявший в щелях! – Не ломайте комедию, мессир д’Отон, – только и мог сказать инквизитор, исчерпавший все свои аргументы. – Комедию! Да вы шутить изволите, мсье! Этот допрос – глупая комедия! Моя первая супруга скончалась незадолго до смерти моего сына. Траур по наследнику лишил меня разума. Я не утверждаю, что смерть супруги оставила меня равнодушным. При всем моем уважении к ней, мы были чужими друг другу, хотя и жили вместе. Это послужит хорошим уроком вашим так называемым следователям. Я снял с безымянного пальца обручальное кольцо, как только моя супруга умерла. Это было много, очень много лет назад. Слишком тягостные воспоминания. – Артюс сжал зубы и буквально прошипел: – Иными словами, тот или та, кто украл кольцо, чтобы уж не знаю кому понравиться, плохо меня знает. Этот приспешник допустил грубейшую ошибку, ибо все мое окружение засвидетельствует, что я не ношу это кольцо уже целую вечность. – Мы оценили вашу увертку, – без особого энтузиазма попытался защититься Жак дю Пилэ. – Однако, как вы понимаете, необходимо провести проверку. Инквизиция справедлива и милосердна. Мы призваны установить невиновность, понять. Если ваши слова подтвердятся, мы с радостью причислим вас к душам, на которые сходит благодать Господня. Однако, поскольку я обязан провести следствие в полном объеме с единственной целью снять с вас все подозрения, вам необходимо согласиться на наше гостеприимство. Разумеется, мы не в состоянии обеспечить вам комфорт, к которому вы привыкли. Но в вашем случае речь не идет о murus strictus равно как об обычной для этих мест пище, состоящей из воды, трех мисок молочного супа с корнеплодами[332] и четвертью хлеба голода.[333] Этому наказанию мы подвергаем подлинных виновных, чтобы они думали о спасении своей души. – Какое великодушие! – сыронизировал Артюс д’Отон. – Тем не менее, чтобы доставить вам удовольствие, я буду довольствоваться молочным супом и хлебом голода. Моя супруга сумела выстоять. И пусть я не уверен, что моя душа такая же стойкая, как ее душа, мое упрямство можно сравнить только с упрямством моей супруги. Инквизитор пропустил колкость мимо ушей. Он сказал, стараясь не выдать своего раздражения: – Можете ли вы дать мне слово, мсье д’Отон, что вы будете вести себя благоразумно, или я должен приказать заковать вас в оковы? – Даю вам слово, мсье. – Нотариус, извольте записать, что на сегодня допрос завершен и что он будет возобновлен в ближайшее время. Артюс д’Отон, не удостоив взглядом и прощальным словом других членов суда, последовал за сеньором инквизитором и его секретарем. Вскоре к ним присоединился Аньян. Лицо его было непроницаемым. Дойдя до приемной, Жак дю Пилэ позвал одного из жандармов, стоявших на страже: – Ты пойдешь впереди. Взяв один из факелов, слабо освещавших помещение, жандарм пересек по диагонали просторный зал. Он открыл низкую дверь, за которой скрывалась каменная винтовая лестница, ведущая в мрачные подвалы. Жандарм по-прежнему шел впереди, освещая ступеньки. Запах плесени усиливался по мере того, как они спускались все ниже, в подземелья Дома инквизиции. Вскоре к нему примешались другие запахи: экскрементов, сукровицы, гноя. Запахи физического разложения. Разложения человеческой плоти. Лестница уперлась в утоптанный земляной пол, покрытый грязью, которую приносили сюда смрадные воды протекавшей неподалеку Сарты. Наклонившись, они прошли под сводами, слишком низкими, чтобы человек мог встать под ними в полный рост, мимо несчастных истерзанных созданий, томившихся в застенках. Там царила странная тишина. Тишина ужаса, иногда нарушаемая лязгом цепей, порой хрипом. Артюс узнавал эту тишину. То была тишина самых зловещих застенков, когда все спрашивали себя, кто придет за ними, чтобы увести на бесконечные пытки или казнь. Он сжал кулаки. Аньес, его друга, его возлюбленную, его супругу бросили, как зверя, в эту клоаку, бесконечную сточную канаву. Ее тело, как и душу, терзали. Но у нее не осталось ни одного стигмата, словно всевышняя сила решила избавить ее от рубцов, которыми человеческое варварство обезображивает своих жертв. Графа охватило странное спокойствие. Он должен следовать примеру восхитительного создания, которое озарило его жизнь с самой первой минуты, когда он увидел Аньес, одетую в браки, собиравшую мед в гостиницах для пчел.[334] Нельзя позволить ненависти или страху завладеть душой. Сопротивляться. Сопротивляться ради Аньес и сына. Сопротивляться, чтобы сохранить веру в справедливость. Сапоги Артюса с хлюпаньем увязали в болотистой грязи. Несомненно, они приближались к реке. Огромное подземелье никак не заканчивалось в дрожащем свете факела, который держал в руках жандарм. Граф задавал себе вопрос, на который не было ответа: сколько несчастных узников ждали здесь пыток или смерти? Сколько из них ждали смерти как избавления? Инквизитор остановился и обратился к Артюсу впервые с того момента, как началось их ужасное подземное шествие: – Монсеньор д’Отон, мы пришли. Вы будете занимать эту камеру до тех пор, пока нам не удастся получить разъяснения, которые требует от нас наш досточтимый святой отец. Конечно, эта камера мрачная и сырая, но она предназначена для свидетелей. Поэтому вам каждый день будут приносить кувшин со свежей водой для омовения и ведро для отправления естественной нужды. Артюс д’Отон кивком поблагодарил сеньора инквизитора. Неожиданно он явственно почувствовал, что этот человек не был врагом, стремящимся во что бы то ни стало его погубить. Если только он не был самым худшим плутом, надевшим маску снисходительности, чтобы ослабить стойкость своего противника.
Улица Сент-Амур, Шартр, сентябрь 1306 года
Од де Нейра, проснувшаяся час назад, нежилась в постели. Возлегая на мягких подушках с кружевными шелковыми наволочками, она довольно безуспешно боролась с мрачным настроением, не покидавшим ее вот уже несколько дней. Какой же язвой оказалась эта несносная девчонка, которую она приютила! Матильда только и делала, что меняла прически и туалеты. Она могла часами колебаться, не зная, что надеть: шелковое платье или шерстяную котту, отороченную беличьим мехом. Матильда едва не лишилась чувств, когда прикрепляла к облегающим рукавам парчовые[335] налокотники,[336] расшитые золотыми нитями, – последний подарок мадам де Нейра ее «дорогой крошке». И она кружилась вокруг своей благодетельницы, умоляя ее: – Прошу вас, мадам, скажите правду. Вам нравится мой наряд? – Он восхитителен. Вы настолько очаровательны, что даже самые равнодушные придут в восторг, – неизменно отвечала Од. Состояние дамы де Суарси ухудшалось с каждым днем, как и обещала ведьма. У Од больше не было необходимости использовать Матильду против ее матери. Но осмотрительность мешала мадам де Нейра без промедления избавиться от Матильды. Суеверная осмотрительность. Самое мудрое решение заключалось в том, чтобы дождаться того момента, когда судьба ниспошлет прекрасной графине д’Отон смерть. Аминь. Од с сожалением встала и, дернув за позументный шнурок, висевший недалеко от изголовья кровати, позвала служанку. Пора уже было идти к своей протеже и вновь слушать болтовню безмозглой девчонки.Они сели за широкий овальный столик, стоящий перед окном, и принялись завтракать. Но сегодня наряды не были главной заботой Матильды. Несколько недель, проведенных в обществе покровительницы и наставницы, преобразили ее, как она сама говорила. Из девочки она превратилась в женщину. А женщины умеют мстить. – Когда мне предстоит исполнить свою миссию и испортить будущее моей матери, мадам? Мне так хочется угодить вам. – Я жду некоторых сведений, которые значительно облегчат вашу задачу, моя дорогая. Наше лисье искусство – не забывайте об этом – состоит прежде всего в умении тщательно разведать территорию, прежде чем вступать на нее, – солгала очаровательная женщина. Матильда с серьезным видом кивнула головой и продолжила: – А что с этим подлым негодяем Эдом де Ларне? Вы придумали, как я могу блестяще отомстить ему, мадам? Но Од де Нейра совершенно забыла о своем обещании, поскольку отныне Матильда не представляла для нее особого интереса. Черт возьми! Как же выкрутиться из создавшейся ситуации? Она медленно пила медовую настойку из лаванды и шалфея и напряженно думала. Поставив элегантный кубок с серебряным ободком на стол, Од с наигранной нерешительностью сказала: – Я думаю лишь о том, чтобы помочь вам. Вы пылаете праведным гневом, и я разделяю его, равно как и ваше нетерпение. Мои люди не сидели сложа руки, уверяю вас. Этот негодяй Ларне еще пользуется поддержкой влиятельных людей, с которыми надо вести себя очень осторожно, – на ходу придумала Од. Матильда жадно ловила каждое слово. Ей даже в голову не пришло спросить, какой поддержкой мог пользоваться опутанный долгами барон, железные рудники которого истощились, а репутация давным-давно была подмочена. К тому же его враги уже поднимали голову. Как опытная отравительница, мадам де Нейра могла бы оказать Матильде помощь. Однако она совершенно не доверяла девочке, убедительно доказавшей, что она способна донести из-за простого желания сделать свою жизнь более комфортной или из-за каприза. Вдруг у Од появилась идея. Грубая, неуместная, непристойная, но весьма отрадная. Од колебалась лишь секунду. Проникновенным тоном она начала: – Я часами обдумывала ваше законное желание взять реванш, моя дорогая. Как вы проницательно заметили, нам нужна блистательная, окончательная месть. Тем не менее на вас не должна упасть ни одна капля грязи. В противном случае вы навсегда запятнаете свою прекрасную репутацию, и мое сердце будет обливаться кровью. – Какая же вы добрая, моя прекрасная дама. Как вы заботитесь обо мне! – поблагодарила глупышка со слезами на глазах, полагая, что благодетельница печется лишь о ее интересах. – Я разработала несколько стратагем. Правда, некоторые из них оказались весьма опасными. Позвольте объяснить вам ход моих рассуждений. Я задала себе следующий вопрос: какое оскорбление, какую непростительную обиду мог бы нанести мерзавец прелестной девушке из достойной семьи, пользующейся заслуженным уважением в обществе? Иными словами, какую отвратительную подлость мог совершить в отношении вас Эд де Ларне, подлость, требующую беспощадного наказания? Разумеется, то, что он запер вас в суровых стенах монастыря, не может считаться подлостью. Как раз наоборот, это еще одна жемчужина, украшающая вашу репутацию. К тому же он может воспользоваться этим и рассказать своим судьям чудовищную байку о вашем неразумном поведении, доказательством чему послужит ваше возвращение в светское общество… Матильда, открыв рот от восхищения, опьяненная ароматами ириса и розы, исходившими от мадам де Нейра, восхищалась хитроумием прекрасной женщины. – Кровосмешение, моя дорогая. Жестокое, гнусное кровосмешение, которому вы отчаянно пытались сопротивляться. Что вы могли поделать, несчастная хрупкая девственница? В конце концов, разве вы мне не рассказывали о пламенных признаниях вашего дядюшки в апартаментах замка Ларне? Зверя ничуть не заботил тот факт, что это была спальня его недавно усопшей супруги. Против барона обернется и его репутация бессовестного волокиты, о чем, несомненно, известно Монжу де Брине. Наш бальи и уж тем более его господин граф д’Отон также прекрасно знают о нездоровом чувстве Ларне к вашей матери, которую он упорно преследовал с самого детства. – Од звонко рассмеялась. – Если Ларне осудят – а я думаю, что так оно и будет, – его оскопят, а затем четвертуют. Наверняка. Матильду полностью удовлетворило бы одно только оскопление. Ба, она не стала бы привередничать! Тем более что всегда можно отказаться присутствовать при исполнении наказания. Тем не менее у нее закрались сомнения: – Мой дядя потребует, чтобы меня осмотрела присяжная матрона. А я ведь девственница. Дело принимало приятный оборот для мадам де Нейра. Она притворилась смущенной: – Ах! Я никогда в этом не сомневалась! Барышне вашего положения лишиться девственности? Какая жуткая перспектива! У нас, моя красавица, есть две возможности, чтобы урегулировать… этот щекотливый вопрос. Первая возможность, которой я отдаю предпочтение, довольно опасная. Я приглашу повитуху и щедро заплачу ей, чтобы она тайком лишила вас девственности. Как вы правильно поняли, опасность заключается в том, что простолюдинам доверять нельзя. Она вполне может обо всем рассказать в обмен на звонкую монету или выпивку. – А вторая, мадам? – нетерпеливо спросила Матильда, которую вовсе не устраивало вмешательство повитухи. – Мужчина. Что же еще? Мужчина, который не должен вас потом узнать. Если такое решение вас устраивает, мы проследим за этим. Подумайте хорошенько. Матильду охватило приятное волнение. Наконец она познает то, о чем не принято говорить вслух. – Могу ли я задать совершенно неуместный вопрос, мадам? – Конечно, моя дорогая. У меня от вас нет тайн. – Когда вы… потеряли девственность? – почти шепотом спросила Матильда. Бездонные изумрудные глаза затуманились. Если бы Матильду интересовало что-либо другое, а не она сама, она заметила бы, как прекрасный ротик в форме сердечка скривился от отвращения. Впрочем, Од де Нейра ответила непринужденным тоном: – Я была моложе вас. Растлитель или, вернее, жестокий насильник был не кем иным, как моим дядюшкой. Отвратительные воспоминания. Я, конечно, предпочла бы постороннего, не слишком нежного. Ба, прошлое есть прошлое! И все же вы сами видите: у нас есть много общего, и это сближает нас. Конечно, Матильда умом не блистала, но все же была довольно осмотрительной, когда речь заходила о ее собственном будущем. Она спросила: – Порядочные барышни так дорожат своей девственностью, что я боюсь, как бы ее отсутствие не помешало мне выйти замуж. Какой благородный наследник захочет взять в жены обесчещенную донзелу, если только за ней не дают богатого приданого? А это не мой случай. – Мне нравится ваша простодушная прямота. Она делает меня моложе. Девственность подобна кошкам. У нее несколько жизней. Я сама подарила ей три жизни. Обыкновенные женские уловки. Я научу вас. Мужчин так легко одурачить, особенно когда у них в низу живота горит огонь желания. Матильда захлопала в ладоши от облегчения и удовольствия. – Сколько же у вас достоинств! Добрая, умная, мудрая и такая прекрасная! Прилагательное «добрая» развеселило мадам де Нейра. Неужели Матильда забыла о том, что они плетут нити заговора, чтобы оскопить и четвертовать человека, который, несмотря на все свои пороки, не вступал в кровосмесительную связь с племянницей? Той самой племянницей, которая нисколько не огорчилась бы, если бы дядюшка овладел ею? Од найдет ей неотесанного молодца, о котором эта девственница будет долго вспоминать. А молодцов, готовых оказать подобные услуги, пруд пруди. Некоторые светские дамы, неудачно вышедшие замуж, любили грубые ласки и охотно платили незнакомцам за услуги, оказанные за пределами супружеского алькова, лишь бы те хранили все в тайне.
Замок Отон-дю-Перш, Перш, сентябрь 1306 года
Едва человек с усталым лицом, в одежде, покрытой дорожной пылью, вошел, ведя за уздцы измученную наемную клячу, в просторный двор замка, примыкавший к садам, плавно спускавшимся вниз, Ронан понял, что тот не был бедным путником, который искал гостеприимства и надеялся, что хозяева расщедрятся на стакан воды и кусок хлеба. Что-то в походке, манере держаться человека, приближавшегося к Ронану, выдавало его высокое положение в обществе. Человек приветствовал Ронана кивком. Под глазами цвета морской волны лежали черные круги. – Ронан, не так ли? – приятным голосом спросил человек. Старый слуга почти не удивился тому, что путешественник назвал его по имени. – Я хочу встретиться с твоим господином, чтобы он разрешил мне переговорить с мадам д’Отон. Прошу тебя, сообщи ему, что приехал Франческо де Леоне, рыцарь Гостеприимного ордена. Ронан низко поклонился. Ведь это был он, госпитальер, спасший мадам. Он, который убил чудовище Флорена. Он, на кого рассердился граф за его вмешательство в дело спасения любимой женщины Артюса. Старик прошептал: – Рыцарь, горячо благодарю вас от себя, от всех нас, кому выпало счастье жить рядом с мадам. Леоне сразу же понял, что Ронан намекал на суд Божий. – Благодарить надо Бога, мой славный Ронан. Так ты известишь графа о моем приезде? – Увы… Он отправился в Дом инквизиции, чтобы дать показания суду добровольно… но по приказу короля. Мессир Монж де Брине, его бальи, поехал вместе с графом. А вот мадам, ах! Святые небеса… Несмотря на усталость после бесконечного путешествия с Кипра, Леоне заметил все возраставшее беспокойство Ронана, глаза которого наполнялись слезами. – Рыцарь, вас вновь послало нам провидение. Я уже ничего не понимаю… По правде говоря, я думаю, что после того, как какой-то разбойник убил нашу несчастную Раймонду, старую служанку, на нас ополчилась злая сила… Как я корю себя, что не исполнил ее просьбу! А ведь она просила, чтобы в базарные дни кто-нибудь обязательно сопровождал ее… Да упокоится она с миром! Следуйте за мной, прошу вас. Мессир Жозеф из Болоньи, врач графа, лучше, чем я, расскажет вам о нашем ужасающем положении, в котором я виню вредоносную руку, но настолько могущественную, что она сумела повлиять на короля, сразу же забывшего о дружбе детства с моим господином. Я больше не буду докучать вам неуместными словами… Я ведь просто смущаю ваш рассудок. Я не знаю, что делать, – говорил обезумевший слуга. – Я чувствую себя таким беспомощным. Старый дурак, вот кто я!Через час Франческо де Леоне, который выслушал рассказ мессира Жозефа, ни разу не перебив его, заканчивал ужинать. Он тщательно раскрошил ломоть хлеба, пропитанный мясным соком, и съел его до последней крошки. Обычай бедняка, столь дорогой сердцу рыцаря. Богачи бросали ломти хлеба собакам или отдавали нищим, просившим милостыню у ворот их жилищ. Однако сегодня этот жест нуждающихся не принес Леоне удовлетворения. К беспокойству примешивалась ярость. Глядя на подол своего плаща, подметавшего пол при каждом шаге, заведя руки за спину, мессир Жозеф закончил свой рассказа на мрачной ноте: – Теперь вы все знаете, рыцарь. Я не упустил ни одной детали, во всяком случае, из всех мне известных. Признаюсь вам… У меня очень мало средств, чтобы отсрочить действие яда, которым травят мадам. Рвота, которую вызывают, выпив молоко, помогает лишь в том случае, если яд по-прежнему находится в желудке. То же самое можно сказать и о сыре.[337] Кроме того, все блюда для мадам готовит лично Ронан, чтобы никто не смог к ним приблизиться. Если в самое ближайшее время мы не найдем отравителя, мадам умрет. От тревоги у Леоне пересохло во рту. Он спросил: – О каком яде идет речь? – Если я не ошибаюсь, а я думаю, что я совершенно прав, речь идет о свинце. Опытные отравители используют его со времен античности. Впрочем, мало кто догадывается о его ужасающей силе, ведь именно свинцом мы подслащиваем наши самые изысканные вина.[338] – Вы подозреваете, пусть даже смутно, кто может быть убийцей? – Признаюсь вам, мы начинаем подозревать служанку мадам, молоденькую Жильету, хотя она, похоже, относится к нашей даме с искренней нежностью. Но это невозможно. Ей, как и нам, строжайше запрещено приносить мадам еду и напитки, даже воду. Значит, этот яд попадает… Видите ли, рыцарь, мадам – исключительное создание, вот почему я поздно понял неприемлемую истину. Кто может желать гибели лучу света, ведь эти лучи так редко встречаются в нашем мире? – Те, кто жаждут тьмы. Но если это отравление, к чему мистификация с черным холщовым мешочком, обугленным комком и перьями? – Я долго думал над этим вопросом. Хитроумная уловка, которую я объясняю многими причинами. – Прошу вас, присядьте, мессир врач, – вновь предложил Леоне. – Давайте выпьем немного медовухи. Жозеф почти с сожалением исполнил просьбу рыцаря. Ему лучше думалось стоя, когда он мерил ногами комнату, пристально уставившись в одну точку, целиком погрузившись в раздумья. Но надежда, которую принесло ему присутствие этого еще молодого рыцаря, преисполненного непоколебимой решимости, сама репутация госпитальеров как мужественных и неподкупных людей стоила небольшого исключения из правил. Тем не менее, прежде чем принять из рук Леоне кубок вина, он уточнил: – У нас разная вера, а вы солдат вашего Бога. – Я знаю, – улыбнулся Леоне. – И задолго до этого мой Бог был вашим. К тому же я многому научился у вашего народа и сарацин, против которых мы отчаянно боролись. Мессир Жозеф, людей различает только вес их душ. У нас с вами легкие души, и это сразу видно. Выпьем за людей доброй воли и прекрасную веру. Сделав глоток, Леоне поставил свой кубок и продолжил: – Хитроумная уловка, говорите? – Безусловно. Я не знаю, какое у вас мнение обо всех этих ведьмах, предсказателях судеб. Я же твердо убежден: они обыкновенные шарлатаны, живущие за счет простодушных людей или несчастных безумцев, завороженных верой в их сверхъестественные способности. – Я пришел к тому же выводу, что и вы. Я никогда не видел, как проявлялись их так называемые способности. А ведь я был свидетелем многих удивительных вещей. – Мадам… она тоже боится. Я был удивлен, увидев, какой ужас внушает ей этот мешочек. А ведь она наделена проницательным умом, в чем я не раз убеждался. – До сих пор она жила в окружении суеверных слуг и батраков, которые буквально впитывают любую глупость, если ее убедительно преподносят. – Вы правы. Однако достоверно известно, что подлинная власть этих отвратительных существ зиждется на страхе, который они внушают. Думаю, что первая причина заключается в следующем: отравитель хотел усилить воздействие яда, вызвав у мадам безумный страх. Если подумать, мешочек был спрятан довольно плохо. Даже удивительно, что служанка, подметая под кроватью нашей госпожи, не заметила его раньше. – Да, отравитель действовал продуманно, – согласился Леоне. – Вторая причина – еще более извращенная. Впрочем, я нахожу ее вполне удовлетворительной. Предположим, порчу наводят на расстоянии. Тот, кто подложил этот колдовской мешочек, вероятно, надеялся, что его свяжут с ухудшением состояния здоровья графини. Расследование с целью установления виновного априори обречено на провал, поскольку, как гласит легенда, колдун может находиться в нескольких лье* от своей жертвы. В отличие от отравителя, который каждый день подмешивает в пищу свой смертельный порошок. Чудовище надеялось, что оно сможет действовать в полной безопасности, даже когда физическое состояние графини станет внушать тревогу ее близким. – Может ли отравление свинцом привести к быстрой смерти? – Конечно. Но это опасно, поскольку тогда все поймут, что жертва была отравлена. Отравитель же хочет внушить нам, что речь идет о болезни, весьма схожей с той, что унесла в могилу первую даму д’Отон, а затем и Гозлена, ее сына. О болезни, в которой никто не виноват. Затем было бы вполне достаточно распространить слухи о семейном проклятии или даже навести подозрения на графа д’Отона. – Из вас получился бы грозный следователь, мессир врач. Жозеф из Болоньи внимательно посмотрел на рыцаря. – Просто я, как и вы, проник во многие тайны человеческой души. От самых чудесных до самых отвратительных. Мы способны на все. На худшее и на лучшее. Вам это известно? – Я это давно понял. – Значит, поля сражений помогли вам опередить меня на несколько десятилетий, – прошептал Жозеф. – Человек открывается там через страх, отвагу, подлость или предательство. Одному Богу известно, какое направление мы выберем. – Да, только Богу известно, – согласился старый врач. – Еще одна гипотеза пришла мне на ум. Некоторые ведьмы и колдуны живут в собственных домах. И дурная слава о них распространяется далеко за пределами провинции. Они лелеют ее, словно малые дети. Об их успехах начинают говорить все громче, а они изо всех сил поддерживают легенду. Страх, который они внушают, защищает их и гарантирует многочисленную клиентуру. А вдруг мы имеем дело с одним из этих злодеев, для которого кончина мадам была бы своеобразным… вознаграждением? Ведь достаточно заставить поверить, что смерть мадам была вызвана адскими силами, укрощенными этим колдуном. Тогда никто не заподозрит отравление, обыкновенное убийство. Напротив, все будет свидетельствовать, что колдун навел на графиню порчу. – Ваши объяснения смущают меня. Но они такие убедительные. – Заметьте, рыцарь, что они не исключают друг друга. Мы можем столкнуться с существом, наделенным злым, но могучим умом. – Но мы разделаемся с ним, – пообещал Леоне, вставая. – Позвольте мне откланяться, мессир врач. Я хочу поздороваться с мадам и успокоить ее. Жозеф тоже встал. Он никогда не умел выражать своих чувств и поэтому нерешительно прошептал: – Ах, мсье… Вас послал нам сам Господь. В отсутствие графа и его бальи мы с Ронаном были как две старые женщины, беспомощные, отчаявшиеся. Вы чудо, посланное в ответ на наши мольбы, чтобы спасти нашу любимую госпожу. – Мы рассудим об этом позже, когда чудовище-убийца будет болтаться на веревке. Вы заметили улучшение состояния здоровья мадам после того, как еду для нее стал готовить Ронан? Или еще слишком рано? – Она по-прежнему чувствует сильные боли в животе. Ей ничуть не легче, – удрученным тоном признался врач. – Значит, отравитель по-прежнему подсыпает ей яд. Нам надо как можно скорее разоблачить его. Я немедленно займусь этим. Не будете ли вы так любезны положить для меня циновку возле двери опочивальни графини? Я не встану с нее до тех пор, пока не разгадаю эту дьявольскую шараду. От облегчения врач закрыл глаза. Он боролся с желанием обнять рыцаря, словно тот был его сыном. Но тут одна тревога сменилась другой: – А монсеньор д’Отон? Как спасти его от инквизиторского расследования, во всем напоминающего процесс? Леоне мягко сказал: – Успокойтесь, мессир Жозеф. Я верю в ловкость и бесстрашие вашего господина. Граф д’Отон – вовсе не трус. К тому же он пользуется безупречной репутацией. Кроме того, я знаю Жака дю Пилэ: он непорочный, изворотливый и опасный человек. Но в первую очередь непорочный. Я знаю верный способ, как вызволить монсеньора д’Отона из Дома инквизиции. Но, если позволите, об этом я сейчас умолчу. Однако знайте, я без колебаний использую этот способ. Слезы навернулись на глаза старика, горячо поблагодарившего Бога за то, что тот позволил ему стать свидетелем этого чуда. Значит, люди могли быть прямодушными, добрыми, мужественными без всякой надежды на плату, даже когда единственным вознаграждением им является смерть. – Не надо мне рассказывать об этом способе. Полагаю, я сам догадаюсь методом дедукции. Ибо вы тот, кого Бог избрал для исполнения своего решения, не так ли? Вы признаетесь в убийстве Никола Флорена? – Если дело дойдет до этого – без колебаний. – Разумеется, вам известно, какая судьба вас тогда ждет. – Во всех гнусных подробностях, – усмехнулся Леоне. – Приобщившись к Богу со всей любовью и послушанием, я смирился с возможностью мученической смерти. Но я никогда об этом не жалел. Полно, мудрый и проницательный врач, – пошутил Леоне, – я ничто и одновременно все, поскольку Господь наделил меня удивительными возможностями. Впрочем, давайте выбросим эти глупые истории из головы. Сейчас мы должны прежде всего думать о мадам д’Отон.
При появлении рыцаря Аньес с трудом встала. Он уже видел ее такой же слабой, такой же разбитой и такой же величественной. В том зловонном подземелье Дома инквизиции. Рыцаря захлестнули те же эмоции. Она была той, ради кого он с упоением отдал бы жизнь. Аньес, распахнув объятия, бросилась к Леоне: – Рыцарь! Господи Иисусе, мои мольбы услышаны. Я снова вижу вас. Мой супруг должен скоро вернуться. Он примет вас как брата, он, который так жалеет, что у него никогда не было брата, кроме короля. Леоне не стал разубеждать Аньес. Артюс д’Отон вернется не скоро. Он думал, что поступил мудро, решив держать свою супругу в неведении, чтобы защитить ее. Но он жестоко ошибался. Графа устранили с единственной целью: чтобы убить его возлюбленную супругу. Но Бог, любимой дщерью которого она была, рассудил иначе, и Леоне поспешил ей на помощь. В этом рыцарь не сомневался. – Мадам, мессир Жозеф подробно рассказал мне о недавних событиях. На вашу жизнь покушаются. Я собираюсь устроиться, словно верный пес, около вашей двери до приезда вашего супруга. – Если бы такой диагноз поставил кто-нибудь другой, а не мессир Жозеф, я сочла бы его нелепым. – Но вы, разумеется, знаете по какой причине… – Разумеется, рыцарь. По той самой причине, что вы нашли в тайной библиотеке Клэре. Женщины с зеленой кровью, с другой кровью. Они хотят меня убить, чтобы я не смогла передать свою кровь одной из моих дочерей, и тем самым они собираются предотвратить второе пришествие. Леоне кивнул головой в знак согласия. – Никогда не забывайте об этом, мадам. Они очень опасны и готовы на все. За всем этим стоит Бенедетти. Ему даже удалось обуздать Климента V. Несомненно, Бенедетти пригрозил Папе, что расскажет, как тот был избран благодаря помощи короля Франции. Разумеется, доказать это невозможно. Остерегайтесь всего, никогда не теряйте бдительности. Вплоть до возвращения вашего супруга и его бальи у вас здесь есть только три союзника, готовые вас защитить: ваш врач, старый Ронан и я. – Вы мой сторожевой пес, рыцарь, – попыталась пошутить Аньес. – Обещаю вам, что не буду лаять по ночам.
Таверна «Запряженная телка», Шартр, сентябрь 1306 года
Монж де Брине замолчал. Он ждал, пока мамаша Телка наполнит их кубки хмельным медом,[339] который Аньян предпочитал вину. Бальи вновь удивился, до чего уродливым, лишенным всякого очарования был молодой человек, которого граф описал так подробно, что Брине без труда узнал его. Артюс д’Отон уточнил, что молодой клирик обладает прекрасной душой и что в Доме инквизиции он единственный, на чью благожелательность мог бы рассчитывать граф. Монж де Брине дождался Аньяна у дверей зловещего здания в надежде получить от него сведения. Он шел за клириком несколько туазов, потом подошел ближе, представился и пригласил в эту таверну, достаточно удаленную от Дома инквизиции, чтобы они могли поговорить спокойно. Едва Брине назвал свое имя и должность, как лицо Аньяна просветлело. Молодой клирик прошептал: – Я так наделся, что со мной встретится человек из ближайшего окружения графа, монсеньор бальи. Тут происходит такое… такое, что недоступно моему пониманию. Но все происходящее внушает мне огромное беспокойство. Когда мамаша Телка ушла, Монж тихо спросил: – На что вы намекаете, мсье? – Я ничего не понимаю. Их бесспорным доказательством было обручальное кольцо. Но это новый знак того, что Господь на нашей стороне. Вор украл обручальное кольцо, скрепившее первый брачный союз монсеньора д’Отона. А ведь граф утверждает, что снял кольцо с пальца сразу после смерти первой супруги и больше никогда не надевал его. И я ему верю. – Вы совершенно правы. Я подтвержу это перед судом, равно как и все остальное окружение графа, – ответил бальи. Аньян отпил напиток и сказал, немного поколебавшись: – Видите ли, мсье, у меня такое чувство, чтосеньора инквизитора Жака дю Пилэ гложут сомнения. Я об этом догадался, когда он пришел в мой кабинет, чтобы передать мне акты. Могу поклясться: он не знал, что кольцо было украдено, чтобы опорочить графа. Он тоже поверил в искренность монсеньора. – Но в таком случае все идет хорошо, – обрадовался Монж де Брине. – Вскоре с Артюса д’Отона снимут все подозрения и подтвердят правомочность Божьего суда. – Боюсь, вы слишком торопитесь… Аньес заговорил быстрее. Монж де Брине знаком попросил его говорить тише, боясь, как бы их не подслушали любопытные уши. – Сеньор инквизитор явно получил какие-то дополнительные сведения об этом кольце, якобы найденном через два года после убийства Флорена. Учитывая положение монсеньора д’Отона в обществе и его безупречную репутацию как человека чести, он мог бы разрешить графу вернуться домой, если тот даст слово не покидать своих владений. Почему же Жак дю Пилэ велел держать графа в Доме инквизиции? Разумеется, с графом будут обращаться как со свидетелем, а не как с обвиняемым. Однако я полагаю, что в основе подобного решения лежит причина, внушающая мне ужас: они хотят зла графине. Граф мешал им, теперь они его устранили. Действуйте как можно быстрее, умоляю вас. Мадам находится в серьезной опасности. Ледяная волна окатила бальи. Он стремительно вскочил и крикнул:. – Мамаша Телка! Позовите мужа, скорее! Пусть мне подготовят счет… Пусть седлают мою лошадь… Лошадь монсеньора Артюса останется в вашей конюшне. Если будете хорошо о ней заботиться, вам щедро заплатят. Папаша Телка, влетевший в зал, как молния, осмелился возразить: – Сеньор, скоро ночь. Вы не можете… Положив руку на гарду шпаги, висевшей сбоку, бальи сказал: – Пусть только кто-нибудь посмеет встать на моем пути! Я так зол, что без колебаний отрублю ему уши.Замок Отон-дю-Перш, Перш, сентябрь 1306 года
Устроившись, как солдат в походе, на циновке, которую Ронан положил около двери апартаментов мадам д’Отон, Франческо де Леоне принялся читать Псалтирь. Сколько же ночей он провел в случайных укрытиях или прямо под небом! Теперь и не вспомнить. Молодая служанка на цыпочках подошла к нему. Леоне поднял глаза. Она присела в глубоком поклоне. Лицо ее оставалось серьезным. – Я Жильета. Состою на службе у мадам. Э… мессир, прошу вас, не судите меня строго за нескромность. Пусть оправданием мне послужит беспокойство за нашу добрую госпожу. Ей действительно угрожает опасность, раз вы устроились под ее дверью? Рыцарь ответил ей мягким тоном: – Нет никакой опасности, пока я здесь. – Могу ли я побыть немного с ней, чтобы приободрить? Я могла бы спать на полу возле ее кровати. Она такая щедрая, такая благожелательная ко всем нам. – Исполните ваши обычные обязанности, а потом ступайте. Будьте покойны. Она ничем не рискует. Леоне, не подавая вида, убедился, что девушка не принесла с собой ни сладостей, ни напитков. Через час, выйдя от Аньес, она заявила с озабоченным видом: – Мадам уже надела ночную рубашку и скоро ляжет спать. Прошу вас, не беспокойте ее до утра. Она нуждается в отдыхе. Святые небеса, как она похудела! Что происходит? Вы устроились около двери, наша дама слабеет с каждым днем, Ронан замкнулся в себе, не говорит ни слова, открывает рот лишь для того, чтобы запретить мне приносить ей сладости… Я чувствую, что над ней нависла угроза, и мое сердце сжимается от страха. – Теперь все будет хорошо. Не волнуйтесь, Жильета. – Но вы же не будете ужинать перед дверью, мсье? – Буду. Ронан вскоре принесет мне ужин. – В таком случае я желаю вам спокойной ночи. Девушка повернулась и пошла по коридору. Прежде чем исчезнуть с глаз рыцаря, она быстро оглянулась. Леоне взял в руки Псалтирь, лежавшую на циновке. Он погрузился в чтение. Но вдруг, хотя у него не зародилось ни одного конкретного подозрения, он резко вскочил и с силой застучал кулаком в дверь опочивальни Аньес. – Кто там? – Леоне, мадам. Позвольте мне войти, умоляю вас. – Но… я в ночной рубашке… – Умоляю вас, мадам. Я прежде всего монах и уже потом мужчина. Быстрее! От страха у Леоне свело живот. Он толкнул дверь, не дожидаясь разрешения. – Ну… входите. Он заставил себя хранить спокойствие, чтобы его ужас не передался графине. – Вам скоро принесут ужин. – У меня совсем пропал аппетит, рыцарь. Эта бесконечная рвота лишила меня вкуса к еде. Из меня получается отвратительная хозяйка. Я так счастлива вас видеть, но не могу радушно угостить. Какое ужасное впечатление у вас сложится обо мне! Но эта усталость… усталость, от которой я шатаюсь из стороны в сторону… – Мадам, впечатление, которое я составил о вас, не может потускнеть, настолько оно лучезарное. Жильета долго пробыла с вами, не так ли? – Она такая очаровательная, такая внимательная ко мне. Но она о чем-то догадывается. Ее беспокоит состояние моего здоровья. Впрочем, как вы и хотели, я ничего ей не говорила. – Она читала вам? – Бедная девушка не умеет читать. Очень жаль, ведь она такая умная. – Покорнейше прошу вас, не сочтите это вмешательством в вашу личную жизнь. Что в сущности вы делали? Я не знаю, как раздеваются дамы. Но целый час… это показалось мне слишком долгим. Удивленный взгляд сине-зеленых глаз устремился на рыцаря. Аньес спросила: – Что вы имеете в виду, рыцарь? – Я хочу, чтобы вы мне рассказали, чем вы обе занимались все это время. Подробно. – До чего же странная настойчивость… Честное слово, Жильета помогла мне раздеться, рассказывая о том, что происходит в замке, как обычно. Она никогда не злословит. Но она такая наблюдательная, что часто смешит меня. В общем, ничем особенным. – Это все, мадам? – Не понимаю… Ах, безобидная деталь, но я сомневаюсь, что она вас заинтересует. Она подогрела остаток гоголь-моголя, который я пью каждый день после обеда. Его готовит и приносит мне Ронан, как и всю остальную еду, вот уже несколько дней… Но не так хорошо, как Жильета. Только не говорите ему! Гоголь-моголь был чересчур сладким. Ронан положил слишком много меда. – Подогрела в этом камине? – продолжал настаивать Леоне, стараясь контролировать свой голос. Он показал на очаг, обогревавший опочивальню графини. – Нет, на подфакельнике.[340] Куда ставят факелы, освещающие мою часовню, – уточнила Аньес, показывая на дверь, ведущую в часовню. Место, где Аньес не могла за ней проследить. Место, где Жильета могла делать все, что угодно. – Вы выпили весь гоголь-моголь, мадам? Леоне отогнал мысль, от которой у него подгибались ноги: она скоро умрет. Боже мой, никогда! – Не весь. Он был приторно-сладким. Леоне, охваченный паникой, резко сказал: – Я немедленно позову вашего врача. Не выходите из опочивальни, никому ничего не говорите. И никому не открывайте. – Что… в конце концов… мсье! – позвала она рыцаря. Но Леоне уже выбегал из опочивальни. Прошло всего лишь несколько секунд, когда Жозеф из Болоньи с побелевшими от страха губами вбежал, даже не постучав в дверь, в опочивальню Аньес. За ним мчался рыцарь с перекошенным от ужаса лицом. Леоне прижимал к себе кувшин. Жозеф тут же поставил на сундук таз и положил салфетки. Затем врач схватил кувшин и наполнил кубок до краев молоком. Он протянул кубок Аньес со словами: – Пейте, мадам. Она выпила три кубка подряд. – Мы сейчас выйдем, а вы постарайтесь вызвать рвоту. – Опять? – простонала графиня. – Умоляю вас, мадам. Это необходимо сделать, пока яд не усвоился. Такое неприятное промывание желудка придется сделать трижды. Аньес взяла таз и направилась в часовню, примыкающую к опочивальне, тихо приговаривая: – Это невозможно! Только не Жильета! Только не она! Скоро Жозеф и Леоне услышали звуки рвоты. – Постарайтесь, чтобы из вас вышло все. Это единственное спасение, мадам. Аньес была бледной, как саван. Глаза покраснели от усилий. Промывание желудка продолжилось. Снова рвота. Жозеф тихо спросил: – А чудовище? – Я займусь им, – ответил рыцарь таким равнодушным тоном, что Жозеф догадался: Леоне задыхается от гнева. – Вы ее убьете? – Разумеется, нет. Хотя убийство доставило бы мне огромное удовольствие. Она должна заговорить, и она будет говорить. Затем она пожалеет, что я не убил ее сразу же. Свой долг исполнят люди бальи.Жильета вышла из отхожего места для слуг. Застыв от удивления, она спросила: – Замок такой большой. Вы потерялись, мессир? – Нет, это ты потерялась, – возразил Франческо де Леоне. Он грубо схватил Жильету за руку. Рукав задрался, и рыцарь увидел широкое фиолетовое пятно на сгибе локтя. – Что вы делаете… Мне больно! – запричитала девушка. Леоне пытался обуздать ярость, охватившую его с тех пор, как он установил личность отравительницы. Убийственную ярость. Он обшарил складки котты девицы свободной рукой. Наконец он нащупал маленький мешочек, спрятанный под поясом. Жильета все поняла. Она бросилась вперед, пытаясь расцарапать лицо рыцаря, ударить его коленом в промежность. Он резко развернул Жильету и завел ее руку за спину. Она пронзительно закричала от боли. – Знай: ударить женщину – значит покрыть себя несмываемым позором. Но ты не женщина, ты гадюка самой худшей породы. И я не буду колебаться ни секунды. Не стоит сопротивляться, иначе я тебя изобью, а потом поволоку по полу. Не вводи меня в искушение. Сейчас я не знаю, чему отдать предпочтение: отвращению или ненависти, которую ты мне внушаешь. Теперь Жильета от страха стучала зубами. Она не сопротивлялась. Леоне тащил ее к винтовой лестнице, которая вела в подземелье замка. Внизу их ждал Ронан, держа в руках факел. – Умоляю вас, – рыдала Жильета, – это чудовищная ошибка. Я не понимаю, в чем вы меня обвиняете. Я не совершала никакой подлости. Ничего не крала. – Ронан, заберите у нее мешочек, спрятанный под поясом. Не бойтесь, я крепко держу ее. Змея ядовита и умеет защищаться. Старый слуга вытащил небольшой холщовый мешочек, из которого на его ладонь посыпался мелкий сероватый порошок. – Черт возьми! Что же это такое? – с иронией, не предвещавшей ничего хорошего, спросил Леоне. – Не хочешь ли ты его проглотить? У порошка приятный вкус, сладкий. Глаза убийцы чуть не вылезли из орбит. Она в отчаянии замотала головой. Леоне втолкнул Жильету в застенок. Ронан тут же запер дверь. Обезумев от страха, Жильета задрожала всем телом. Впрочем, страх быстро улетучился. С искаженным ненавистью лицом она завопила, пытаясь лягнуть их через решетку, в которую крепко вцепилась руками: – Подохнете, вы все подохнете! Я не боюсь вас. Она погубит вас. Она спасет меня. Она умеет. Она знает все тайны. Леоне не сомневался, что Жильета говорит о ведьме, которая приготовила черный холщовый мешочек, найденный под кроватью графини, и приказала отравить ее. Теперь они должны были поймать злодейку. Только она одна могла помочь им добраться до Гонория или его приспешника во Французском королевстве. Задыхаясь от ярости, он бросил девице: – И ты во все это веришь? На твоем месте я бы подумал. Если твоя ученая ведьма такая могущественная, зачем ей понадобилось прибегать к помощи обыкновенной отравительницы? Жильета прищурила глаза и, плюнув Леоне в лицо, осыпала его непристойными ругательствами.
Незадолго до лауд* Монж де Брине, изнемогая от усталости, спешился во дворе замка и позвал на помощь кого-нибудь, кто мог бы заняться его лошадью, также измученной быстрой ездой. Ронан бросился навстречу бальи и попытался описать сложившееся положение. Но старый слуга так путался в объяснениях, что Монж де Брине понял лишь две вещи. Во-первых, мадам д’Отон чуть не погибла от яда, и, во-вторых, Франческо де Леоне успел ее спасти. Выслушав рассказ рыцаря по заслугам и по справедливости, дополненный рассказом мессира Жозефа из Болоньи, посуровевший Брине спросил: – Как чувствует себя наша дама? – Она отдыхает. Сегодня вечером она была на волосок от смерти. Держу пари, что отравительница, зная, что за блюдами мадам внимательно следят, решила покончить с ней как можно быстрее. Не вмешайся рыцарь, не сделай мы сразу же этих промываний… Ах, я отказываюсь даже думать об этом! – Дело носит чрезвычайный характер. И поэтому я считаю себя вправе провести расследование в отсутствие графа. Я немедленно допрошу девицу. Сейчас я пошлю за палачом. В ее распоряжении час, чтобы рассказать мне обо всем добровольно. Затем… затем она все равно обо всем расскажет. Рыцарь, вы желаете присутствовать при допросе? – Нет. По правде говоря, мне все равно, что ее ждет. Мне важно лишь узнать имя той, которую она называет могущественной ведьмой. – Вы узнаете ее имя. Очень скоро. Леоне встал. Он собирался откланяться, когда Брине удержал его, протянув руку: – Мсье, я ваш вечный должник. Прошу вас, окажите мне милость и никогда не забывайте об этом. – Это вы делаете мне честь, мсье. – Что касается вас, мессир Жозеф, то сам Бог привел вас в эти владения. Улыбка озарила лицо старика, испещренное глубокими морщинами. Он прошептал: – Я сам начинаю в это верить, монсеньор.
Жильета, яростно сотрясая прутья своего застенка, словно каторжница, битый час осыпала всех проклятиями, грубыми ругательствами и угрозами. Она изрыгала такие чудовищные непристойности, что секретарь, записывавший по приказу Брине ее показания, несколько раз перекрестился. Двое стражников, прислонившихся спиной к соседнему застенку, толкали друг друга локтями, с видом знатоков смакуя ее слова. Животное отвращение, которое бальи питал к Жильете, помогало ему сохранять хладнокровие. Слабость Брине к прекрасному полу, которая никуда не делась после счастливой женитьбы, удовольствие, которое он испытывал, находясь в женском обществе, его восхищение жизнерадостностью, милыми улыбками дам – все это осложняло его работу. Пытать женщину казалось ему отвратительным. Но только не эту особу. Он лютой ненавистью ненавидел Жильету за то, что она осмелилась покуситься на жизнь графини. Она старалась угодить Аньес, окружала ее заботой и лаской и одновременно тайком подталкивала к могиле. Бальи сказал отрешенно: – Твое время скоро истечет, чудовище. Осталось совсем немного песка, – уточнил он, показывая на песочные часы, стоявшие на утрамбованном земляном полу. – Падаль, плевать я на тебя хотела! Ты подохнешь как свинья! Ты и есть свинья! Как твои дети и жена! Услышав тяжелые шаги, все повернули головы. Им навстречу двигался огромный силуэт, затянутый в кожаный фартук. В руках он держал металлическую башенку. – Палач, приготовьте зал. Никаких… нежностей, предусмотренных для женщин.[341] Она этого не заслуживает. – Как вам угодно, – пробормотал палач, склоняя лысую голову, увенчанную кожаным колпаком. – Мерзкий грубиян! – прорычала Жильета с пеной на губах. – Я ничего не почувствую. Ты не причинишь мне зла. Я под надежной защитой. – Скоро мы это проверим, – невозмутимо возразил Брине.
Жильету раздели и привязали к пыточному ложу. На какое-то мгновение она вытаращила от изумления глаза, когда раскаленное добела железо с шипением коснулось тонкой кожи ее живота. Тут же в воздухе разнесся отвратительный запах паленой плоти. Жильета завопила. – Хватит, палач, – приказал бальи. Палач равнодушно повернулся и вновь положил два металлических клинка на угли, горевшие синим пламенем. – Говори, – велел Брине. От жары, царившей в помещении, его лицо покрылось потом. – Я не инквизитор. Мне нужны только признания. Я хочу услышать имя ведьмы, которую ты совершенно напрасно защищаешь. Я хочу знать, как ее найти. Мне плевать, раскаешься ты или нет. Бог тебе судья, и его приговор будет ужасным. – Да пошел ты ко всем чертям ада! – прорычала Жильета, задыхавшаяся от рыданий. – Палач, продолжайте. Жильета вопила от боли всякий раз, когда металл опускался на ее живот. Ее вопли гулким эхом отскакивали от низких сводов подземелья. Брине молча смотрел на пузырящиеся алые раны, исполосовавшие ее живот, запрещая себе думать, что это плоть женщины. Нет, то была плоть подлой отравительницы, которая пыталась убить – и чуть не преуспела в этом – прекрасную, нежную мадам д’Отон. Вскоре вой прекратился. Жильета потеряла сознание. Но ненадолго. Ушат воды, который вылил на лицо Жильеты палач, привел ее в чувство. Когда она открыла глаза, Монж де Брине понял, что ненависть и надежда на спасение оставили ее. Остались только страдания и ужас. – Говори. Неужели ты не понимаешь, что она солгала тебе, воспользовалась тобой, чтобы совершить свое гнусное дело, оставаясь в безопасности? У нее нет никакой власти. Да пойми ты это наконец! Задыхаясь от рыданий, Жильета жалобно прошептала: – У нее нет имени… Просто Ведьма. Это она велела мне заколоть кинжалом… старую Раймонду, чтобы занять ее место в замке. Клянусь! Лачуга… в лесу Траан, недалеко от Сетона… Прошу вас… во имя любви к нашему Спасителю, умоляю вас… – Палач, потушите угли и перевяжите раны. Затем пусть стражники отведут ее в камеру. Обращайтесь с ней милосердно, накормите и напоите. Наклоняясь к истерзанному телу, бальи продолжил почти дружеским тоном: – Ты правильно поступила. Когда я проверю сведения, которые ты мне сообщила, тебя повесят. Веревка будет короткой. И тебя повесят высоко, так что шея твоя сразу же сломается. Твоя агония не протянется долго. Даю тебе слово. Но если ты солгала… – Я не солгала, клянусь вам, – пробормотала она, цепенея от ужаса. – Надеюсь, граф скоро вернется. Чтобы утвердить приговор, вынесенный мной.
Замок Ларне, Перш, сентябрь 1306 года
Эд, лежавший поперек кровати, пьянствовал уже целую неделю. Голову сжимал железный обруч, язык прилип к нёбу. Запах одежды, пропитавшейся жиром, потом и рвотными массами, вызывал у него отвращение. Но сама мысль о том, чтобы переодеться, претила ему. Он вызвал слугу, прежде чем рухнуть в пьяном беспамятстве. По крайней мере, он так думал. Никто не пришел. Простолюдины жались к стенам и старались как можно реже попадаться ему на глаза. Они боялись беспричинной ярости своего господина, вспышек гнева, когда хозяину просто хотелось кого-нибудь избить, отхлестать по щекам в тщетной надежде успокоиться. Эд перевернулся на бок и с трудом встал. Он ничуть не протрезвел после вчерашней попойки. Сколько сейчас времени? Он не имел ни малейшего представления. День уже занялся. Тусклый, туманный. Эд, шатаясь, дошел до граненого зеркала и увидел следы дебоша на своем лице. Пропитая рожа. Сеточка тонких красноватых прожилок покрывала пожелтевшую роговицу его глаз. Багровые щеки казались помятыми. Эд вытянул вперед руку. Она так дрожала, что он едва сумел сжать кулак. Жалость к самому себе смешивалась с яростью, обжигавшей его многие месяцы, годы. Один. Он был один. Разорившийся, потерявший уважение в обществе. Ему и в голову не приходило, что он сам способствовал своему падению. Даже слуги насмехались над ним за его спиной. Он был в этом уверен. Нищие, не знавшие чести, не испытывающие благодарности. Он забыл, что с самого своего раннего детства подвергал слуг лишениям и дурно обращался с ними. Он забыл, что задирал юбки девушкам ради удовлетворения своих низменных потребностей, не задумываясь хлестал их по щекам, когда они оказывались слишком строптивыми. А сейчас его не привлекали даже женские прелести. Он утратил вкус ко всему, кроме вина, обжигавшего горло и постепенно топившего его воспоминания. Вино было единственным оружием, с помощью которого он мог бороться с воспоминаниями об Аньес, постоянно изводившими его. Она никогда не выходила у него из ума. В нем жили даже далекие воспоминания. Уже в детстве он пристально следил за ней, появлялся на ее пути тогда, когда она меньше всего ждала этого, когда полагала, что была в безопасности. Он упивался страхом, который читал в ее серо-голубых глазах. Жажда подчинить Аньес своей воле, вынудить ее полюбить его была отравлена нездоровым желанием, таким одурманивающим, что не одну ночь ему снилось, будто он кладет руку ей на живот. Но вместо этого он задрал юбки стольким нищенкам и шлюхам, что давно со счета сбился. Он исполнял свои супружеские обязанности по отношению к Аполлине, нежная плоть которой вызывала у него отвращение, с единственной целью: он хотел иметь сына. Но Аполлина, похоже, была способна производить на свет только дочерей. Перед его глазами возникло видение: прелестное лицо его покойной супруги, искаженное отчаянием. Он прогнал видение. Да и что он стал бы делать с угрызениями совести? Что? Он никогда не любил Аполлину, с трудом терпел ее присутствие, изменял ей даже в ее опочивальне. Ну и что? Она воссоединилась с легионом женщин, от которых ждали только наследника. Сильное напряжение бедренных мышц Аньес, когда он учил ее ездить верхом. Он тысячу раз представлял, как ее бедра будут сжимать его ноги. Сначала он был убежден, что она ничего не понимает, ничего не чувствует. Он полагал, что их кровная связь объясняет упрямство, с которым она твердит о близком родстве. Тогда он стал обращаться с ней со всей предупредительностью, осыпать дорогими подарками, которые только способствовали его разорению. Затем, через несколько лет после смерти Гуго де Суарси, он был вынужден признать, что она управляла им. А он-то думал, что вел ее в танце. Она прикидывалась наивной лишь для того, чтобы держать его на расстоянии. Его не оставляло чувство ненависти, к которой примешивалась зависть. Он хотел уничтожить, погубить это совершенство, отказывавшее ему, поскольку у него больше не было власти над ним. Подумать только! Ему отказали даже в праве на месть. Столь ловко составленный план, чтобы внушить ей ужас, оставить единственный путь к спасению – а этим путем был он сам, – едва не стоил жизни Аньес. Силы, природу которых Эд де Ларне так и не смог понять, толкали ее к пыткам и смерти. Но если бы она умерла, у Эда не осталось бы больше смысла выживать. Именно выживать, поскольку ему уже давно не хотелось жить. Внезапно вспыхнувшая ярость прогнала плаксивое настроение, в котором он пребывал. Он с силой пнул ногой столик, и тот отлетел в другой конец комнаты. Хрупкая мебель не выдержала удара и с треском разлетелась на куски. Неужели Господь с самого начала ополчился против него? Выйдя замуж за графа, Аньес стала его сюзереном. Теперь он не мог до нее добраться. Она подарила Артюсу д’Отону сына. Что касается рудника От-Гравьер, за которым следили его люди, он был богат железом. Почему? Порой у него возникала смутная тревога. Эду казалось, что Господь нарочно хранил Аньес и хотел наказать его только за то, что он появился на свет. Господь словно предупреждал Эда, что все дальнейшее превратится в еще худший кошмар. Его пьяный двойник в высоком граненом зеркале выдержал его взгляд. И в этом взгляде он почувствовал страх. Кулак сам собой взлетел в воздух и опустился на зеркало. По всей его длине прошла широкая трещина. Но Эд ее не видел. Улыбаясь, он внимательно смотрел на кровь, медленно текшую из ран на его ладони.Дом инквизиции, Алансон, Перш, сентябрь 1306 года
Когда вошел сеньор инквизитор Жак дю Пилэ, Аньян стремительно встал. Он потупил взор, уставившись в дневник следствия, настолько его смущал взгляд этих светло-голубых глаз. У Аньяна возникло ощущение, что этот взгляд проникает в глубины разума и читает самые сокровенные мысли. – Вы закончили редактировать записи, Аньян? – Да. Э-э… Что касается дополнительного расследования относительно обручального кольца монсеньора д’Отона… Гонец привез семь свидетельств. Все они совпадают и подтверждают, что граф действительно не носил его с момента смерти первой супруги. Одно из свидетельств принадлежит епископу Отона. Нужно ли снова позвать мэтра Рише и наших братьев Робера Анселена и Фулька де Шанда для проведения второго дознания? Жак дю Пилэ посмотрел на Аньяна со странной улыбкой на губах и медоточивым голосом произнес: – Пока еще не время. – Мы ждем новых свидетельств? – продолжал Аньян, подумав, что проявляет слишком опасную смелость. – Не обязательно. Скажем так… Я советуюсь со своей душой, чтобы вынести как можно более безукоризненное суждение. – А… Жак дю Пилэ направился к двери. Но прежде чем выйти, он остановился и спокойно проговорил: – Вы служите прекрасным доказательством милосердия и искренности нашей инквизиции. Какое участие вы принимаете в судьбе монсеньора д’Отона! Спина Аньяна покрылась ледяным потом. Он потерял осторожность. Если у сеньора инквизитора закралось хоть малейшее подозрение о сговоре между ним и Артюсом д’Отоном… Аньян предпочитал даже не думать, что его ожидает в таком случае. Однако не это заботило Жака дю Пилэ, когда он закрывал дверь маленького кабинета секретаря. Сколько еще должен продолжаться этот маскарад, чтобы Рим получил удовлетворение и успокоился? А сейчас Жаку дю Пилэ предстояло спуститься в подвалы Дома инквизиции, как он это уже не раз делал. Подлая игра заключалась в том, чтобы убедить монсеньора д’Отона, будто его судьи ждут, пока в их распоряжении окажутся все документы, необходимые для следствия. Жака дю Пилэ охватило чувство смутного стыда. Несмотря на усердие, с которым он преследовал еретиков, нечестивцев, колдунов и ведьм, несмотря на свою неподкупную строгость, сеньор инквизитор прибегал к высшей мере наказания лишь в исключительных случаях.[342] Его миссия заключалась в том, чтобы возвращать заблудшие души в лоно Господа, изобличать обвиняемых в их прегрешениях, просвещать их о совершенных ошибках. Бесчисленное множество раз он приговаривал к покаянию, к паломничеству босиком, публичному бичеванию, но смерть всегда казалась ему божественным провидением и тем, что неподвластно человеку.Ватиканский дворец, Рим, сентябрь 1306 года
Гонорий Бенедетти вытер пот, выступивший на лбу. Затем с отвращением посмотрел на влажные пальцы. Бартоломео терпеливо ждал вердикта прелата. Он только что признался, что не сумел собрать необходимые сведения. Неужели камерленго усмотрит в этом поражение? Как ни странно, молодой доминиканец, уверенный в грозной власти архиепископа, не испытывал в его присутствии никакого страха. После нескольких месяцев общения с Бенедетти он пришел к убеждению, что в своих поступках, даже самых жестоких, камерленго не руководствовался чувством злости. Наконец Гонорий Бенедетти сказал с досадой в голосе: – Да, незадача. Сотни шпионов ищут этого юного слугу, Клемана, ускользающего от нас, как песок сквозь пальцы. Нет, хуже. Мы не нашли даже его следа. И Сульпиций де Брабеф, этот нищий монах, тоже испарился. Черт бы побрал злой рок, преследующий нас! Мы непременно должны заполучить трактат Валломброзо или хотя бы его черновик. – Иными словами, ваше святейшество, после исчезновения из Валломброзо брат Сульпиций не нашел пристанища в другом монастыре, даже под фальшивым именем. К тому же он не обращался за помощью к своим родным, по крайней мере к тем, с которыми общались наши шпионы. К великому отчаянию матери Брабефа, родные о нем ничего не слышали. – Значит, он живет в светском обществе, – сделал вывод камерленго. – А это все равно, что искать иголку в стоге сена. – Не обязательно, осмелюсь возразить вам. Как и вы, я полагаю, что Брабеф живет среди мирян. А поскольку у него за душой абсолютно ничего нет, он не смог бы выжить, если бы не занялся каким-либо ремеслом. Я вспомнил об одной подробности, которую сообщил мне в разговоре настоятель монастыря Валломброзо. Отец Элигий поведал, что Сульпиций де Брабеф был не только талантливым математиком, но и искусным музыкантом. Значит, лютня[343] и симфония[344] не таили от него своих секретов, и он прекрасно играл на них. – Неужели он стал менестрелем? Эти люди бродят по дорогам, из замка в мануарий. Никогда не знаешь, где они находятся. – Возможно. Однако я в этом сомневаюсь, ваше святейшество. Судя по описанию Брабефа, он не отличается отвагой или предприимчивостью, то есть качествами, необходимыми для трувера. Мне его характеризовали как робкого, весьма скромного молодого человека. Я полагаю, что он стал лютнистом в большом городе. Подумайте сами. Где, как не в большом городе, можно остаться незамеченным? Гонорий Бенедетти приподнялся, опершись локтями о массивный стол. Несколько мгновений он напряженно вглядывался в лицо молодого доминиканца. – Бартоломео, я не ошибся, поверив в ваши способности. Инстинкт мне подсказывает, что вы совершенно правы. Нельзя терять ни секунды. Пусть наши шпионы как можно быстрее обойдут всех мастеров, изготавливающих или чинящих музыкальные инструменты в больших городах. Начните с тех, в которых находятся Дома инквизиции. Они нам помогут, и ваша задача упростится. Я напишу вам рекомендательное письмо. У вас есть описание Брабефа. Не думаю, что за эти годы он сильно изменился. Если вы правы, наши ищейки быстро найдут его.Лес Траан, Перш, сентябрь 1306 года
Несмотря на манто, подбитое мехом соболя,[345] и надвинутый почти на глаза капюшон, мадам де Нейра дрожала от холода. Вдалеке, за каштанами мерцал огонек, и оттуда доносилось протяжное пение, изредка прерываемое пронзительным женским криком. Од де Нейра прогнала страхи, пытавшиеся овладеть ею, подумав, что вскоре она выполнит свою миссию, сдержит обещание и получит то, что хочет. И тогда она уедет на юг. В свой феод. С каким наслаждением она вновь увидит крупные розоватые камни мануария, который получила в наследство после смерти мсье де Нейра! Правда, для этого ей пришлось вести жестокую борьбу с алчными кровными наследниками своего покойного мужа. Все они умерли, более или менее быстро, в зависимости от интереса, который представляли для нее. И от привязанности тоже, поскольку ради собственной защиты можно убивать, испытывая к своим жертвам определенную нежность. По крайней мере, в этом была уверена мадам де Нейра. В живых остались только самые рассудительные. Они смутно почувствовали, что их настойчивое желание получить наследство может приблизить смертный час, поскольку лучезарная Од была преисполнена решимости отправить самых упрямых к праотцам. Водяные лилии, покрывавшие по утрам желто-фиолетовой скатертью гладь пруда, выкопанного по ее приказу… Нескончаемое стрекотание цикад, сопровождавшее ее целый день. Иногда, очень редко, их можно было видеть на стволах деревьев, и тогда ее охватывал неподдельный восторг, ведь она могла так близко подойти к ним. Нахальные павлины,[346] бежавшие к ней большими скачками, пригнув головы, чтобы лучше рассмотреть, какое лакомство она держит в руках… Игра, от которой она никогда не уставала. Павлины легко приходили в ярость, да и их клювы служили грозным оружием. Од, зажав между пальцами печенье или сдобную булочку, осторожно подходила к ним, не спуская глаз с птиц. До сих пор они никогда не клевали ее. Она усилием воли прогнала блаженные воспоминания, в которые ненадолго погрузилась. Чуть позже. Од на минуту закрыла глаза, вдыхая полной грудью сухой и свежий ночной воздух. Уже двадцать пять лет. Только двадцать пять лет. Вечность мгновений, не имевших продолжения, океан лиц, о которых у нее не осталось никаких воспоминаний. Слова, которые она забывала, едва произнеся их, вздохи сожаления и упоения. По сути, до сих пор ее жизнь была всего лишь бесконечным подготовительным периодом. Она копила способы защиты, деньги, связи, которые всегда могла задействовать, поскольку знала гнусные маленькие тайны людей. Она вела торговлю человеческой грязью, уверенная, что это является самым верным способом отмыться от нее. Момент, которого она ждала столько лет, наконец наступил. Надо вновь обрести мужество. Впрочем, ей его не занимать. Да и жестокости тоже. Какая разница, если она делает это для того, чтобы вновь познать нежность? Другой момент, другое лицо, никаких воспоминаний. Мужчина, встреченный ею в Сетоне, стал весьма категоричным, едва вино, которым она щедро напоила его, начало действовать на него. Едва ворочая языком, он заявил: – Она из тех, кто совокупляется не по-христиански, говорю я вам! Такие совокупляются при полной луне. Лучше отступить. Это может повредить вашему здоровью. Похоже, там происходят мерзкие вещи. И они трутся срамными местами друг о друга и даже делают это с черными козлами.[347] Ей удалось выведать, где происходит этот адский шабаш, прежде чем мужчина свалился на пол, пьяный в стельку. Полнолуние должно было наступить через два дня. Накануне Од, едва узнав о приговоре, вынесенном Жильете, взяла с собой двух жандармов и осмотрела местность, поскольку была уверена, что ночь спутает все следы и исказит ориентиры. Этой ночью ее не тяготило одиночество. Она сознательно приняла решение самостоятельно претворить свой план в жизнь, поскольку боялась, что ее страж может проговориться. Смутный страх, который она почувствовала, садясь в седло, исчез. За всю свою жизнь она стольким людям внушала страх, что теперь знала его как родного брата. Он уже не мог оказать на нее никакого влияния. Так почему она должна бояться ночи, своей давней сообщницы? Что касается окружавшего ее леса, такого дремучего, такого темного, она чувствовала себя в нем так, словно ожидала чего-то, безмятежно ожидала. Од опустила поводья. Саврасая кобыла[348] спокойно ждала, склонив голову и глядя на свои копыта, обмотанные джутовой тканью, чтобы их цокота не было слышно. Стояла полная луна. Идеальная ночь. Первая ночь новой жизни. Последняя ночь старой жизни. Звучавшая вдали песнь смолкла. Воцарилась почти нереальная тишина. Большое серебристое крыло бесшумно задело лицо мадам де Нейра и тут же исчезло. Од так и подпрыгнула, но тут же отругала себя за дурацкую мысль, пришедшую ей в голову. Нет, это была не ведьма, высланная в дозор. Злобное сопение подсказало Од: то была сипуха,[349] а эти птицы всегда приносили счастье. Как же простодушны те, кто верит, будто душу можно обменять на власть! Душу невозможно продать, поскольку цену ей назначает лишь Господь Бог. Од вспомнила о книге, за которую заплатила золотом, когда еще верила в могущество колдовских чар. Она внимательно читала книгу, пока не наткнулась на следующий фрагмент: «Чтобы избавиться от долгов, съешьте бобовый корень, растолченный в порошок. А чтобы получить долги назад, выдавите сок из луковицы и закапайте его в уши».[350] Од фыркнула, закрыла книгу и отныне заглядывала в нее лишь для того, чтобы посмеяться над комичными советами. Схватившись за сук, опираясь на единственное стремя, мадам де Нейра ловко вскочила в седло, в очередной раз пожалев, что вынуждена соблюдать глупый обычай и ездить в дамском седле, не приспособленном к рыси и галопу. Пустить лошадь вскачь могли себе позволить лишь лихие наездницы. Женские седла были такими же неудобными, как и портшез прошлого столетия, своего рода кресло, которое устанавливали на крупе лошади, из-за чего всадница не могла управлять животным. Поэтому слуга вел лошадь в поводу. Од распахнула манто и вновь задрожала. Ударив лошадь пяткой, она заставила ее идти шагом. Обмотанные тканью копыта не издавали ни звука. Од ехала по пути, намеченному накануне. Добравшись до поляны, она натянула удила, и лошадь остановилась. Звук шагов, шелест опавших листьев. Пьяный смех. Восклицание: – Да я сейчас полечу вверх тормашками! Помоги мне, простофиля ты эдакая! Прояви немного животной благодарности, если у тебя нет другой. Ни черта не видно! Темно, как в аду! Помоги мне, говорю тебе, или я тебе задам такую взбучку, что век не забудешь! От отвращения Од всю передернуло. Впрочем, она предвидела нечто подобное, хотя и не хотела становиться свидетельницей. Тем хуже! Как Богу угодно. Звуки раздавались все громче. Из колчана, прикрепленного к путлищу,[351] Од вытащила короткую двухфунтовую* стрелу с железным наконечником и вставила ее во французский лук.[352] Дальность стрельбы такого лука превышала сто метров. Говорили, что опытные лучники могут за минуту выпустить двенадцать стрел. Вполне достаточно. За кустом боярышника появилась ведьма. Она грузно опиралась на плечо Анжелики, едва державшейся на ногах под такой тяжестью. Пьяная ведьма не сразу заметила всадницу, стоявшую в десяти туазах от нее. А вот Анжелика сразу же узнала красивую женщину, и радостная улыбка озарила личико, сморщенное от напряжения. Раздался спокойный и суровый голос мадам де Нейра: – Отойди в сторону, дорогая, и закрой глаза. Немедленно. Девочка проворно отскочила и оказалась вне досягаемости стрелы. Од натянула тетиву. Наконец пьяная женщина поняла, что мишень здесь именно она, и ядовито прошипела: – Вы умрете в жестоких муках и навсегда будете прокляты… Тот или та, кто покушается на мою жизнь, познает худшие страдания, нежели те, что терпят грешники в аду! Они дали слово и всегда держат его. Те самые, из преисподней! Од усмехнулась и язвительным тоном заметила: – Что за ребячество, моя хорошая! Она прицелилась. Ведьма упала на колени, свернулась клубком на опавших листьях, обхватила голову руками, словно пыталась защитить ее, и завопила: – Вы хотите девчонку? Так забирайте ее! Забирайте! Я отдаю ее вам. Она мне не нужна! – Мудрые слова. Что же, ударим по рукам. Я забираю Анжелику. Подойди ко мне, детка. Но девочка не торопилась исполнить приказ мадам де Нейра, поочередно глядя то на Од, то на ведьму. Ведьма встала и сделала три шага в сторону всадницы. Стрела пролетела с яростным свистом и вонзилась в горло пьяной женщины. Она покачнулась, схватилась за стрелу обеими руками, попыталась сдержать поток крови, лившейся из раны, и упала. Од вздохнула и взяла лошадь под уздцы. Глядя на хрипевшую женщину, она сказала с обескураживающей улыбкой: – Я солгала. Ба, но на одну лгунью всегда найдется полторы лгуньи. Время сделок прошло. Ты обманула меня. Я ненавижу, когда меня вводят в заблуждение. Твоя порча, зелье и вонючие зарезанные куры – это всего лишь прикрытие, поскольку тебе пришлось позвать на помощь отравительницу. К тому же весьма неумелую. Мертвая, ты не сможешь выдать наши маленькие секреты. – С горечью она добавила: – Решительно, мне не везет. Но я привыкну к этому. Ноги ведьмы дернулись в последней конвульсии. Од повернулась к Анжелике, наблюдавшей за этой сценой с довольной улыбкой на губах: – Подойди ко мне, дорогая. Ты сядешь на лошадь. Мы возвращаемся. К сожалению, тебе придется терпеть присутствие одной особы, которую, как я надеюсь, ты сочтешь надоедливой, а это докажет, что мы с тобой похожи не только внешне. Да, очень жаль, но эта прелестная глупышка нужна мне, поскольку ее мать избежала смерти. Да будут прокляты эти невежды! Я правильно сделала, что не отослала ее прочь. По правде говоря, рассчитывать можно только на себя, моя дорогая. Однако давай перестанем обращаться друг к другу на «ты», как это свойственно нищим и слугам. Од протянула руку в перчатке из фиолетовой кожи и помогла девочке взобраться в седло. – Прошу вас, мадемуазель моя дочь. Не хотите ли вы что-нибудь взять с собой? Только умоляю вас, оставьте все ваши лохмотья. Они унижают ваше достоинство. – Только сундучок, в котором я храню разные безделушки, – ответила Анжелика сладким голоском. – Их так мало. Смешные талисманы, найденные то тут, то там. Я копила их тайком от ведьмы, которая наверняка отобрала бы их у меня. Я надеялась, молилась, чтобы в один прекрасный день лучезарная принцесса приехала и освободила бы меня. И вот она приехала. Вы приехали, мадам моя мать. И другой матери у меня нет. Неведомые ранее эмоции, на которые она всегда считала себя неспособной, захлестнули мадам де Нейра. Она смаковала это неожиданное, столь приятное ей обращение: «мадам моя мать». Наконец ее жизнь изменится. Мир станет терпимее. Анжелика разгонит тени, слишком долго окружавшие ее. Она повела лошадь шагом, молча, поскольку боялась, что голос выдаст ее волнение. Когда они добрались до лачуги, Од помогла девочке спешиться. – Поторопись, моя нежная крошка. Нужно быстро и навсегда проститься с прошлым. И только одна тень омрачала радость Од, густая тень. Как сообщить камерленго, что женщине де Суарси в третий раз удалось избежать смерти? Матильда вновь стала необходимой. Только она одна могла, изобразив раскаяние, приблизиться к матери вплотную, чтобы завершить то, что не удалось этим неумелым идиоткам. Однако подобная стратегия лишь наполовину устраивала мадам де Нейра. Она хотела, чтобы Матильда шпионила за матерью, собирала более или менее сфабрикованные доказательства, которые потом в случае необходимости можно будет использовать против прекрасной Аньес, уничтожив ее будущее. Но сейчас время поджимало. Аньес молода и обладает превосходным здоровьем. Она может родить еще много детей. Значит, она должна умереть как можно скорее. Иными словами, мадам де Нейра следует обучить глупую Матильду приемам отравителей и раздобыть яд. Но Од совершенно не доверяла этой глупой девице. Если ее застигнут на месте преступления и выдвинут против нее обвинения, Матильда без колебаний расскажет обо всем и назовет имя своей благодетельницы. Ну и положение! Если, конечно, Матильда вслед за матерью не встретится со своим Создателем. Сразу же, иначе судьи начнут ее расспрашивать. Да, замечательная мысль! Анжелика вышла из лачуги. В руках она держала небольшой сундучок. Ее радостный смех окончательно прогнал мрачные мысли мадам де Нейра.На следующий день Монж де Брине в сопровождении трех жандармов подъехал к лачуге. В тусклых лучах осеннего солнца они увидели тело ведьмы со стрелой, торчащей из горла. – Прекрасный выстрел, – прокомментировал бальи. Он почти не удивился. Заказчики ведьмы, узнав, что их планам опять не суждено осуществиться, пришли в ярость. К тому же она становилась неудобным свидетелем. По приказу бальи один из его людей взвалил труп на боевого гнедого коня,[353] не скрывая омерзения. Монж успокоил его: – Как только кто-нибудь из жителей Сетона опознает ее, мыизбавимся от тела. Не волнуйся. Она и при жизни-то не имела никакой власти, а уж после смерти и подавно.
Улица Сент-Амур, Шартр, сентябрь 1306 года
Матильда де Суарси, вновь ставшая Матильдой д’Онжеваль, прилагала неимоверные усилия, чтобы сохранить достоинство, общаясь с этой белокурой девочкой. Она была уязвлена, когда та появилась неделю назад в особняке мадам де Нейра. Ведь она привыкла считать себя его второй хозяйкой. Юность, красота, сообразительность Анжелики приводили Матильду в отчаяние. А также нескрываемая нежность, с которой мадам де Нейра обращалась с девочкой. Да будет проклята эта девчонка, ее прекрасные волосы, холодный взгляд голубых глаз, очаровательное личико! Впрочем, речь не шла об истинной ревности. Матильда не испытывала никакой душевной привязанности к своей наставнице. Она просто нуждалась в ней, в ее советах и деньгах, чтобы довести до совершенства свое образование, которое, как она предчувствовала, поможет ей в дальнейшем. Анжелика стала соперницей. Мадам де Нейра приказала одевать девочку как принцессу. Матильда тщательно осмотрела все туалеты Анжелики, желая убедиться, что они не были роскошнее нарядов, подаренных ей. Существовала еще одна деталь, успокоившая Матильду: для Анжелики не купили ни одного украшения. Значит, мадам де Нейра считала Анжелику еще девочкой. Казалось, Анжелика не замечала враждебности Матильды. Она старалась угодить ей, расхваливала ее осанку, приятный тембр голоса, соблазнительную теплоту карих глаз, бледную кожу. Она ходила за Матильдой по пятам, как преданная собачонка. Сопровождала ее на прогулках, устраивалась рядом, когда Матильда делала вид, что читает, чтобы отделаться от назойливой Анжелики.Матильда оторвала глаза от поэмы, строки которой просматривала, не читая и даже не понимая. Ее взгляд упал на Анжелику, которая терпеливо ждала, лучезарно улыбаясь и сидя прямо на стуле, как того требовала мадам де Нейра. С надеждой в голосе девочка спросила: – Я хочу вам помочь. Разрешите мне поменять душистую воду в вашей туалетной комнате, мадемуазель. – Даже не думайте об этом, мадемуазель, – сухо ответила Матильда. – Этим должны заниматься слуги. Эти недостойные занятия повредят вашей репутации. – А… – выдохнула расстроенная Анжелика. – Но что я могу сделать, чтобы угодить вам? Мне так жаль, что я слишком юная и немного неотесанная. Ведь такую совершенную барышню, как вы, не интересуют мои разговоры. Матильда чуть не ответила: «Ты можешь немедленно исчезнуть. Навсегда». Но вместо этого она немного помолчала, боясь, что ее слова вызовут гнев благодетельницы. Тщетно стараясь унять раздражение, которое явственно слышалось в ее голосе, она объяснила: – Анжелика, вы ангел и не должны судить себя так строго. Конечно, вы еще ребенок, ищущий развлечений, в то время как я уже превратилась в женщину. Я не хочу вас обижать, но признаюсь вам откровенно: с мадам де Нейра меня объединяют связи более… Как бы это выразиться? – Тесные? – подсказала девочка, лицо которой стало печальным и суровым. – Нет… Скажем, более подобающие. – Конечно, я понимаю, – тяжело вздохнула Анжелика. – С вашего разрешения я удалюсь, мадемуазель. Вы сможете продолжить читать книгу в тишине. Однажды, совсем скоро, я научусь читать так же хорошо, как и вы. Это такое наслаждение, верно? – Да, – согласилась Матильда, совершенно равнодушная к чтению. Но, как говорила мадам де Нейра: «Книга или вышивание в руках придают даме достойный вид и доказывают, что она не легкомысленная глупышка».
Замок Отон-дю-Перш, Перш, сентябрь 1306 года
Тревожное предчувствие ни на мгновение не покидало Аньес. После ареста отравительницы она медленно шла на поправку благодаря постоянной заботе мессира Жозефа из Болоньи. Конечно, врач предостерег Аньес: отравление свинцом – очень стойкое. Тем не менее жизнь постепенно возвращалась к ней. Однако она никак не могла отделаться от мрачного настроения, которое раньше объясняла своим физическим состоянием. Ее любимый супруг отсутствовал вот уже пять дней. Деловая поездка затягивалась, чего раньше никогда не случалось. Никто не приезжал, чтобы передать ей весточку от мужа. Это выглядело странным, поскольку прежде он никогда не упускал ни малейшей возможности прислать ей записку, если задерживался даже на два дня. Монж де Брине старательно избегал Аньес, что она могла бы расценить как невежливость, если бы не чувствовала, что за всем этим скрывается какая-то неприятная тайна. Монж рассказал ей о признаниях Жильеты. Аньес не хотела знать больше. Она и так все понимала. По сути, новое наступление врагов не удивило Аньес, хотя она каждый вечер молила Бога, чтобы он хранил их от происков злодеев. Что касается Франческо де Леоне, то он порой исчезал, возвращался, весь разбитый усталостью, ночью и сразу же уходил, даже не поужинав, в свою комнатку в служебной постройке, чтобы не давать повода для сплетен в отсутствие графа. Когда Аньес сталкивалась с рыцарем, она принималась расспрашивать о его продолжительных поездках. Правда, не особенно настойчиво. Франческо де Леоне отвечал ей странной улыбкой, прищурив свои бездонные голубые глаза, а затем придумывал какой-нибудь невразумительный предлог.Аньес вдруг осознала, что вот уже несколько минут мечется по комнате, словно лев в клетке, и остановилась возле высокого итальянского столика. Ее сердце бешено забилось, кровь застучала в висках. Ледяная волна накрыла ее с ног до головы. Однако Аньес знала, что это состояние никак не связано с отравлением. В ее голове не осталось ни одной ясной мысли, и она была вынуждена опереться руками о столик, чтобы не упасть. Но страшно ей не было. Неожиданно в ее мозгу пронесся мощный вихрь. Мадам Клеманс де Ларне, которая воспитала Аньес и имя которой она дала своей любимой дочери. Мадам Клеманс, которая из могилы помогла ей выстоять в схватке с сеньором инквизитором Флореном. – Мой ангел, у вас все хорошо, мой прекрасный ангел? – услышала Аньес собственный шепот. Она закрыла глаза.
Ее туфли вязли в густом иле. Несомненно, они приближались к реке. От нездорового влажного холода Аньес дрожала. Мысль о том, что она вскоре окажется одна среди этого зловония, поколебала ее волю, ее желание ни за что не выдавать своего страха. Как это странно! Злодейское присутствие Флорена начало казаться Аньес более предпочтительным, чем пустота, населенная ожидавшими ее ужасами. Вдруг что-то липкое зацепилось за ее щиколотку, и Аньес закричала. Стражник бросился вперед и наступил своим башмаком с деревянной подошвой на руку… Да, это было окровавленной рукой, висевшей между прутьев одной из клеток. Раздался стон. Шепот перешел в рыдание: – Мадам… из этого места нельзя спастись. Умирайте, мадам, умирайте быстрее.
Задыхаясь, Аньес открыла глаза. Дом инквизиции. Она помнила эту сцену, руку, человеческий голос. Флорен втолкнул ее в застенок. Два года тому назад. От панического страха у Аньес пересохло во рту. Что от нее скрывали? На розовом дереве остались два влажных отпечатка ее ладоней. Аньес стремглав выбежала из комнаты.
Монж де Брине уехал из замка в свои владения. Тоном, не терпящим возражений, Аньес вынудила мессира Жозефа сказать ей всю правду. – Сейчас же, мсье. Ваше молчание становится преступным. Я рассержусь на вас, если вы и дальше будете молчать. Где мой супруг? Я знаю, чувствую, что все от меня скрывают ужасные новости. Жозеф из Болоньи опустил голову и признался: – Вы правы, мадам. Но я не могу рассказать вам о них. Сеньор д’Отон приказал мне, равно как и Ронану, молчать. – Так вот почему мсье де Брине так редко посещает меня! – У него было много хлопот с отравительницей, – попытался оправдать его врач, но таким малоубедительным тоном, что графиня рассердилась: – Прошу вас, мессир, перестаньте молоть чепуху! Вы принимаете меня за идиотку? Я хочу знать правду, и я узнаю ее! Аньес резко повернулась и направилась в служебные помещения. Ничего не бояться. Страх лишает сил. Сначала все узнать. Потом действовать. Франческо де Леоне устроил свое ложе в комнатке над конюшнями. Обычно там жил ветеринар, следивший за кобылами, которые вот-вот должны были ожеребиться. Аньес постучала в дверь. Поколебавшись всего одну секунду, она вошла в комнатку. Ей упорно лгали, от нее скрывали чудовищное положение, и теперь галантные манеры были неуместны. Вероятно, Франческо де Леоне опять отправился в одну из своих долгих поездок. Немногочисленная светская одежда рыцаря де Леоне была аккуратно сложена. Действительно, так мало вещей: потертый льняной шенс, крестьянские браки, шерстяная котта непонятного цвета. На маленьком столике из тополя лежали Псалтирь и несколько бумажных свитков, исписанных стремительным высоким почерком рыцаря. Там же стояла чернильница. Ни таза, ни кувшина с водой. Несомненно, рыцарь умывался во дворе. В углу стояло ведро для отправления нужды. Постепенно странная нежность вытеснила тревогу Аньес. Нежность к страсти, заставившей Леоне отказаться от состояния, нажитого его семьей, которая считалась одной из богатейших в Италии, от легкого будущего и праздной жизни ради искренней веры. Аньес подошла к столику, подняла свитки, надеясь найти чистую полоску бумаги. Ей не хотелось портить целый лист ради короткого послания. Аньес вновь подумала, что никогда не избавится от привычки на всем экономить. Тем лучше, она и не хотела от нее избавляться. Использовать только самые необходимые вещи, не забывать об их стоимости, помнить, что они всегда могут понадобиться. Аньес опустилась на стул и придвинула к себе чернильницу. Она случайно задела рукой несколько свитков, и один из них упал на пол. Аньес наклонилась, чтобы его поднять, и тут ее взгляд упал на первые строки письма, написанного сегодня утром:
Мой дражайший кузен! После моего приезда в Анже я был так занят, что не имел возможности поведать Вам о своих поисках. От всего сердца надеюсь, что Вы не сердитесь на меня. Несмотря на все мои усилия, мне так и не удалось найти диптих, подаренный мсье Вашим отцом. Я даже не напал на его след. Но будьте уверены, что я неустанно ищу его. Я понимаю всю важность миссии, которую Вы мне доверили.Что все это значило? Письмо, несомненно, было написано рыцарем. Но почему здесь речь идет об Анже, о диптихе? Почему он подписался не своим именем? Вдруг Аньес осенило: послание было зашифровано. Получатель все сразу поймет, а вот если письмо попадет в чужие руки, его точный смысл так и останется тайной. И тут Аньес преисполнилась уверенности: Леоне искал Клеманс, которую по-прежнему считал мальчиком, по поручению своего так называемого кузена. Знал ли тот о пророчестве? О второй теме, которая указывала на дочь Аньес? Знал ли он, что в тайной библиотеке Клэре был обнаружен манускрипт, украшенный изображениями женщин с зеленой кровью? Аньес не имела об этом ни малейшего представления. Аньес должна помешать Леоне найти Клеманс. Она будет бороться до последнего вздоха, но не позволит рыцарю навязать своей дочери славное и вместе с тем страшное будущее, которое предсказали ей звезды. Дрожащей рукой она вывела на полоске бумаги несколько строк:Ваш нижайший и преданный Гийом
Мсье! Похоже, после Вашего возвращения с Кипра наши дороги еще сильнее разошлись. Прошу вас оказать мне милость и разделить сегодня вечером со мной ужин, чтобы мы могли поговорить в дружеской обстановке.Аньес положила записку на узкую кровать, чтобы рыцарь сразу же увидел ее, и вышла из комнаты.Ваша преданная Аньес.
Аньес приказала, чтобы ей немедленно доложили о возвращении рыцаря де Леоне и накрыли стол на две персоны. Затем она ушла в свою опочивальню, села на стул, положила открытую книгу на колени и принялась ждать. Скоро уже прозвонят к вечерне*. Куда подевались все мысли? Аньес не смогла бы ответить на этот вопрос. Казалось, даже нетерпение куда-то исчезло. Она просто ждала, только и всего. Она ждала тяжелых торопливых шагов, которые подскажут ей, что Артюс скоро войдет в ее опочивальню. Она ждала, что вот-вот раздастся гортанный смех, означающий, что сейчас Клеманс бросится в ее объятия. Она ждала облегчения, храбро сражаясь с навалившимся на нее страхом. Со страхом, своим заклятым врагом. «Страх не спасает от укусов, моя дорогая», – говорила баронесса де Ларне. Навострить уши и поднять хвост. Сопротивляться. Держать страх на коротком поводке. Надеть на него намордник. В дверь осторожно постучали. Молоденькая служанка, которую Аньес прежде не видела, просунула голову в образовавшуюся щель и робко сказала: – Наша дама… Меня послал Ронан. Мессир рыцарь вернулся. Он сказал, что сейчас умоется и присоединится к вам. Девушка исчезла так быстро, что Аньес даже не успела ее отпустить. Наверняка она работает на кухне. Маленький хлопотливый народец, с которым Аньес редко сталкивалась. Она боролась с апатией. Ей ничего не хотелось делать, но все же она встала и направилась в небольшую столовую, где они с Артюсом принимали только самых близких гостей. Аньес тяжело опустилась на стул, думая только об одном: не поддаваться страху, какими бы плохими ни были известия. Она снова стала ждать.
Аньес не могла бы сказать, когда пришел Леоне: через час или через несколько минут. Под наигранной веселостью рыцаря скрывались изнеможение и тревога. Аньес, взяв себя в руки, спокойно сказала: – Рыцарь, благодарю вас за честь, которую вы мне оказали, согласившись разделить со мной трапезу. – Это вы сделали мне честь, – ответил Леоне, низко поклонившись. – К тому же ваше общество всегда доставляет мне удовольствие. Леоне улыбнулся. Аньес так любила, когда губы рыцаря медленно растягивались в милой улыбке. – Тем более что рядом с вами устраивается голодная собака, – уточнил он. Аньес ничего не забыла. Даже в худшие моменты сомнений и тревог присутствие Франческо де Леоне всегда приносило ей успокоение. Странно, но как женщина она не испытывала к нему никаких чувств. Однако Аньес всегда казалось, что от Леоне исходит благожелательная, успокаивающая волна, которая полностью накрывала ее. Она могла бы заснуть в этих волнах, словно убаюканный ребенок. Может, это связано с тем, что они оба хранят мучительные тайны, о которых Артюс даже не догадывался? Тайны о ее детях, зачатых не на супружеском ложе. Тайны пророчества. Возможно. Бенедикта, пожилая служанка, подала им первую перемену: гороховый суп, приправленный шалфеем и розмарином, и графин вина, привезенного из Эпернона.[354] Леоне вполголоса поблагодарил Господа за его благодеяния. Аньес охватило чувство, приведшее ее в замешательство. Ей казалось, что она отделилась от своего тела. Они молча ели суп, порой улыбаясь друг другу, чтобы восполнить отсутствие слов. Аньес пыталась окончательно прийти в себя. Бенедикта принесла вторую перемену: рагу из баранины, приправленное иссопом[355] и политое винным соусом. Как объяснила Аньес рыцарю, этот соус становился настоящим деликатесом только тогда, когда в нем не чувствовалось привкуса кислого вина. Леоне, обрадовавшись, что их разговор больше похож на светскую беседу, воскликнул: – Черт возьми! И как только все это удается вашему повару? – О, он так ревностно хранит свои секреты, что они почти неизвестны нам. Правда, нам удалось добиться от него некоторых подробностей. Нужно смешать корицу, перец, немного имбиря и залить красным вином, разбавленным говяжьим бульоном. Потом добавить мелко нарезанный лук, свиную печенку и кусочки черствого хлеба. И вдруг, сама того не желая, Аньес услышала свои слова: – Я жду, рыцарь. Леоне поднял на нее свои бездонные глаза. Он мог бы притвориться, что ничего не понял. Но только не с Аньес. Это необыкновенное создание заслуживало его уважения и честности. – Мне поручено искать и найти Клемана, мадам. Но до сих пор ни одна из моих попыток не увенчалась успехом. – Мои тоже. Но кто поручил вам эту миссию? Аньес с трудом узнавала свой голос, такой нежный, такой отрешенный. Голос чужой женщины. – Приор Лимассола. Другие тоже ищут Клемана. И очень рьяно. Наши враги, мадам, хотя Арно де Вианкур полагает, что это враги только ордена госпитальеров. Ведь Клеман хотел спрятать манускрипты, которые я доверил ему, не так ли? – Очевидно, – солгала Аньес. – Если они доберутся до вашего сына раньше меня… Да хранит его Господь. Признаюсь, сначала я думал, что вы его прячете. Но теперь я знаю, что ошибался. Серо-голубые глаза, бездонные, как океан, смотрели ему прямо в лицо. «Боже, благодарю тебя. Дорогая моя, твое отсутствие причиняло мне столько страданий, но Господь хранит нас. Он помешал мне найти тебя, чтобы ты оставалась в безопасности, чтобы приспешники камерленго не смогли схватить тебя. Прячься, мой ангел. Надежно прячься. Ведь им почти удалось убить меня. Как бы я сумела тебя защитить, если не способна учуять змею?» – Где мой супруг? Я требую, чтобы вы сказали правду, которую от меня вот уже несколько дней скрывают. Леоне сжал зубы и потупил взор. На его высоком лбу появилась тонкая морщинка. – Мсье? – настаивала Аньес. – Я не могу, мадам, – ответил рыцарь, глядя на ломоть хлеба. Тогда Аньес воскликнула тоном, не терпящим возражений: – Немедленно скажите правду, мсье, и посмотрите на меня! Когда Леоне поднял глаза, Аньес прочитала в них такую глубокую печаль, что невольно вздрогнула. Она замерла, приготовившись к худшему. И худшее не замедлило открыться ей. – Граф отправился в Дом инквизиции по приказу короля. Всем нам он велел молчать, чтобы вы не волновались. Аньес глубоко вздохнула. Сон, который она видела, сбывался. Ее туфли увязали в илистой грязи застенков. Месиво из плоти, обхватившее ее щиколотку. Артюс. – Мадам, – забеспокоился рыцарь, – вам плохо? Вы такая бледная, словно привидение. Рыцарь вскочил, готовый позвать на помощь. Но Аньес жестом остановила его. – Не надо. Я принадлежу к тем женщинам, которым отказано в праве на обмороки, на уход от действительности, приносящий мимолетное облегчение. И я сожалею об этом. Рыцарь, расскажите мне какую-нибудь прекрасную историю из вашего прошлого. Докажите мне, что честь и мужество всегда побеждают. Прошу вас. – Сейчас? – Сейчас. – Дело в том, что моя память сохранила очень мало прекрасных историй, в отличие от невыносимых воспоминаний. Но есть одна прекрасная история, как раз для вас, мадам. Это произошло на Кипре, много лет назад. Пришла моя очередь ухаживать за больными. Я объезжал фермы, лачуги, стоявшие на побережье, помогал тем, кого болезнь приковала к постели, укладывал тяжелобольных на дроги и отвозил их в наш госпиталь. Понимаете, многие не приходили к нам сами. Они были очень бедны и боялись, что мы потребуем денег у их родственников, и без того голодавших. Хотя мы буквально кричали на всех углах, что лечим бесплатно. Когда я въехал во дворик этой обветшалой фермы, то сразу понял, что здесь произошло нечто ужасное. Все было разбросано, сломано. Недалеко от строений медленно угасал огромный костер. На обгоревшей поленнице я увидел два обугленных человеческих трупа. Я спешился… – Вы были одни. Но ведь разбойники, ибо речь идет о подлых грабителях, могли спрятаться, не так ли? Неужели вы не испытывали страха? – прервала рыцаря Аньес. Леоне откинул голову назад и грустно рассмеялся: – Страха, мадам? Да я только его и испытываю. Это мой самый верный спутник. Он уже целую вечность идет за мной по пятам. Я знаю все его уловки, когда он хочет превратить человека чести и веры в презренного труса. И все же у страха есть одна слабость. Как только ты находишь эту слабость, он исчезает. – И что это за слабость? – Дар. Самопожертвование. Смириться с мыслью о смерти значит уничтожить страх. Тогда он, сконфуженный, убегает. О, разумеется, едва в вашей обороне возникает трещина, как он тут же появляется. Но вам достаточно не обращать на него внимания, дать ему понять, что готовы добровольно принести себя в жертву. Как только страх осознает вашу искренность, он тут же отступает. – Какой милый совет! Продолжайте свой рассказ, прошу вас, мсье. – Я выхватил меч и обошел все строения, комнаты, службы. Все находилось в плачевном состоянии. Однако подлые грабители все равно опрокинули всю мебель, все перерыли, надеясь отыскать несколько су или какие-нибудь драгоценности. Они, несомненно, пытали хозяев дома, а потом, потеряв терпение, убили их и сожгли, словно останки зверей. Эти подлые разбойники[356] встречаются во всех странах. Итак, я никого не нашел. Я уже собрался вернуться к дрогам, как мое внимание привлек собачий вой, раздавшийся справа от меня. Я пошел на вой и чуть не наткнулся на своего рода огромную конуру. Вход в нее защищала грозно оскалившаяся собака. Ноздри ее раздувались, клыки злобно щелкали. Увидев меня, она предупреждающе зарычала. У собак есть достоинства, которым мы можем позавидовать. А вместо этого мы их используем и мучаем. Они никогда не нападают без предупреждения. И тут сквозь яростное рычание я услышал плач ребенка. Я сел рядом с конурой, постарался успокоиться и медленно заговорил с собакой. Но у меня ничего не вышло. Собака защищала ребенка. У меня оставалось два выхода: либо убить собаку, либо пренебречь ее яростью. Мне не составило бы труда пронзить ее мечом. Собака не знала, какие раны может нанести клинок самому доблестному из защитников. Собаки вообще не слишком опасаются людей. Я просунул руку в отверстие, намереваясь схватить собаку за горло. Я хотел немного придушить ее, чтобы она присмирела. Но спуску она мне не дала. На левой руке у меня до сих пор остались отметины от укусов. Прекрасное воспоминание, достойный противник. Это единственные раны, которые были мне нанесены без всякой корысти… Леоне приподнял рукав своего шенса. Аньес увидела длинные белые рубцы, шрамы, исполосовавшие руку рыцаря. – …Мне удалось схватить собаку за загривок, немного придушить ее и вытащить из конуры. Это была прекрасная рослая сука, одна из тех беспородных пастушьих собак, которые не отступят перед двумя-тремя волками. Я ударил ее кулаком в висок и забрался в конуру. Там сидела маленькая девочка лет четырех-пяти. Она молча плакала, зажав рукой рот, чтобы не выдать своего присутствия. Видимо, мать втолкнула ее в конуру, доверив дочь собаке, как только поняла, что их всех убьют. Глаза Аньес наполнились слезами. А ведь ей удалось без единой слезинки выслушать жуткие известия об Артюсе и Клеманс. – Что с ними стало? – Девочка превратилась в очаровательную девушку, умеющую читать и считать. А собака долгие годы, до самой смерти охраняла наши стада. – Значит, вы поведали мне историю о мужестве и чести собаки. – Да, собаки, как и все другие животные, – это создания Божьи. Нас с ними объединяют определенные черты. Однако они лишены многих грехов, присущих нам. – Иначе говоря, вы не помните ни одной прекрасной истории о мужестве и чести человека? – Почему же? Но мне надо порыться в памяти. Леоне разрезал ломоть хлеба и съел его до последней крошки. Этот прекрасный жест смиренного человека, знавшего, что такое голод, опечалил Аньес. – Жильету повесят на рассвете. Бальи сдержит свое слово. Ее агония будет короткой. Она… умоляет вас простить ее. Аньес пришла в замешательство. Подумав несколько секунд, она ответила: – Говоря по совести, почему я должна ее прощать? Только Господь, если захочет, может это сделать. Поймите меня правильно. Если бы меня пытался убить незнакомец, я простила бы его во имя любви к Спасителю. Но Жильета окружила меня заботой и лаской только с одной целью: медленно, тайком, самым подлым способом[357] отправить меня на тот свет. – Если бы я разговаривал с другой женщиной, я не осмелился бы продолжить, – нерешительно сказал Леоне. – Они не остановятся, мадам. Вскоре к вам подберутся другие злодеи. Я с ужасом думаю об этом. – Я знаю, мсье, – равнодушно ответила Аньес. – Мне надо не только найти Клемана, но и выяснить, кто является приспешником Бенедетти в вашем краю. Камерленго не может действовать из Рима. Ему необходимо заручиться помощью союзника, вернее, ловкого сообщника, необычайно умного и опасного. Если мы уничтожим этого сообщника, Бенедетти будет трудно оправиться от поражения. К тому же у нас появится время, чтобы на этот раз вступить в схватку непосредственно с камерленго. – Речь идет о коварном звере, который многие годы бродит вокруг нас, а мы даже не можем обнаружить его тень. Как же вы сумеете поймать его? – У меня есть союзники, – уклонился Леоне от прямого ответа, подумав о Клэре Грессоне и его шпионах. Леоне замолчал, поскольку в столовую вошла Бенедикта. Она принесла креветки в желе. – Я наелся досыта, мадам. Благодарю вас за вашу доброту. Раздайте оставшуюся еду бедным ради любви к Христу. – У меня тоже пропал аппетит. Завтра я поеду в Алансон, – тоном, не терпящим возражений, сказала Аньес. – Нет, вы никуда не поедете. Иначе вы облегчите им задачу, – сухо возразил Леоне. – Я хочу воссоединиться со своим супругом. Я вызволю его из застенков. – Мадам, разве вы не знаете, какие они хитрые и лживые? Потребовалось… убить Флорена, чтобы вырвать вас из их когтей. Артюс д’Отон принял это столь трудное решение сознательно. Он понимал, что если не согласится предстать перед судом, то погубит вас. Он действовал как человек чести и любви. – Если им нужна я, они освободят моего супруга. – Они хотят вас убить, мадам. – Но разве вы сами не говорили, что смириться с мыслью о смерти значит прогнать страх? И тогда страх убежит, как трус. Я еду завтра на рассвете. – Нет. – Прошу прощения? – Нет. – Леоне закрыл глаза и откинул свои белокурые волосы назад. – Мадам, дело всей моей жизни, ее смысл, ее оправдание заключается в том, чтобы оберегать вас. Я умру за вас, мадам. И не позволю вам безрассудно распоряжаться своей жизнью, пусть даже вами движут отвага и любовь… – Ледяным тоном он добавил: – Вставайте, мадам. Я отведу вас в вашу опочивальню. – Что… – Я ненавижу себя за то, что мне приходится делать. Даже если я вымолю у вас прощение, это ничего не изменит. Поэтому я избавлю вас от необходимости меня прощать. Вставайте, мадам. Я буду следить за дверью и не позволю вам покинуть ваши апартаменты. Вы не поедете в Алансон, чтобы броситься в пасть хищникам. Я дал клятву Господу. Монсеньор д’Отон принес себя в жертву. Он знал, что делает. – Полно, мсье! – возразила Аньес. – Неужели вы собираетесь держать меня, как пленницу, в собственном замке? – Да, собираюсь. И прошу вас слушаться меня, раз вы не в состоянии меня простить. Ваша жизнь слишком дорога, чтобы я мог потворствовать вашим планам. Следуйте за мной, мадам. Прошу вас, не надо упрямиться. Иначе я, к своему величайшему стыду, буду вынужден применить силу. В самое ближайшее время я извещу вашего бальи. Не сомневаюсь, что он одобрит мои действия. Вашим людям будет запрещено седлать вашу лошадь или впрягать лошадей в дроги. Аньес встала. Глядя рыцарю в глаза, она сказала: – Даже не думайте об этом, мсье! Вы не можете запретить мне спасти моего супруга. – Напротив, я имею право запретить вам броситься в пасть волку, который только этого и ждет. Никто не принадлежит самому себе, мадам. Вы принадлежите вашему супругу, вашим сыновьям, в определенной степени мне и всем тем, кто вас любит и готов умереть за вашу жизнь. Но главное, вы принадлежите будущему, которое предопределяют небесные силы. Следуйте за мной, прошу вас. – Почему же я вас не возненавидела? – удивилась Аньес. – Возможно потому, что частичка вашего естества знает, что я прав. Идемте, мадам. Аньес, удивляясь самой себе, послушно пошла за рыцарем. Леоне был прав. Одна частичка ее естества безрассудно бросилась на помощь своей любви, другая же все просчитывала, оценивала. Она должна остаться в замке, чтобы защитить Клеманс и маленького Филиппа. Если она приедет в Дом инквизиции, они не выпустят ее на волю и не освободят Артюса. У Клеманс не останется никого, к кому она могла бы обратиться, если над ней нависнет смертельная опасность. А опасность была рядом. Откровения Леоне за ужином лишь подтвердили догадки Аньес. Через несколько недель девочке исполнится двенадцать лет, и она станет совершеннолетней.[358] Леоне открыл дверь и посторонился, давая Аньес пройти. – Мадам, мне очень жаль, но я должен запереть дверь на ключ. Можете ли вы поклясться перед Богом, что не будете пытаться покинуть замок? – Клянусь, рыцарь. Пусть я буду проклята, если нарушу клятву. – Хорошо. Спокойной ночи. Но ночь выдалась неспокойной. До самого рассвета Аньес не покидали зловещие мысли. Они уже трижды пытались убить ее, чтобы не дать ей возможности зачать нового ребенка. Несомненно, они продолжат свое черное дело. Сейчас они охотятся за Клеманс в надежде получить манускрипты. Но когда они узнают, что Клеманс – девочка, ее дочь, они убьют ее как бешеного зверя. Вот уже несколько месяцев Аньес не давал покоя один вопрос. Как девочке удавалось выжить? Ведь она была совсем одна, без поддержки, без денег, и к тому же за ней неустанно охотились приспешники камерленго.
Дом инквизиции, Алансон, Перш, октябрь 1306 года
В то раннее утро в кабинете Аньяна царил ледяной холод. Молодой клирик засунул кисти рук в рукава своей шерстяной рясы в тщетной надежде согреть их. Он внимательно слушал брата Вьеви, сидевшего напротив. Жизнерадостное румяное лицо Вьеви внушало доверие, а его большие близорукие глаза, казалось, смотрели на все с величайшей благожелательностью. Доминиканец Анри Вьеви приехал, чтобы обратиться за помощью к Дому инквизиции, как явствовало из рекомендательного письма, подписанного Гонорием Бенедетти. Вот уже добрых четверть часа монах давал такие уклончивые объяснения, что Аньян пытался прочитать его мысли. По всей очевидности, брат Вьеви не имел ни малейшего желания раскрывать подлинную цель своей миссии, но при этом хотел выведать как можно больше сведений. – Мой брат в Иисусе Христе! Если я вас правильно понял, вы ищите лютниста, но не можете найти, – подытожил Аньян. Вьеви вздохнул – то ли с облегчением, то ли с раздражением, Аньян так и не понял. – В некотором роде, – нерешительно ответил Вьеви. – Разумеется, мне помогают трое мирян… В этом деле… ряса и тонзура слишком заметны. Но, как бы это сказать… мы должны соблюдать крайнюю осторожность. – Но почему, если речь идет о еретике? – спросил Аньян. Аньяна интриговало явное замешательство Вьеви и то упорство, с которым он продвигался к своей цели. Брат Вьеви весьма неумело уклонился от прямого ответа: – Ваше знание города, в котором вы родились, как мне сказали, и его населения сделает вашу помощь бесценной. Итак, мы ищем лютниста примерно вашего возраста, может, чуть старше. Нам описали его как тщедушного и… – Вьеви заколебался, отведя взгляд от секретаря, потом продолжил: – … и весьма уродливого человека. Такое описание должно навести вас на правильный след. Аньян лихорадочно размышлял. Почему Анри Вьеви и его миряне не обошли всех лютнистов города? Доминиканец, олицетворявший собой могущество Церкви, вполне мог бы это сделать. Но он не хотел, чтобы слухи разлетелись по городу. Если они дошли бы до человека, которого они разыскивали, он вполне мог бы спастись бегством. Другими словами, история, которую ему поведал брат Вьеви, была шита белыми нитками. Никто не протянет руку помощи еретику, если только не согласится стать его сообщником и разделить с ним суровое наказание. Аньян принял задумчивый вид, нахмурил брови и произнес: – Итак, в нашем городе живут три лютниста. Первый настолько стар, что просто не может быть тем, кого вы ищете. Второй – зрелый мужчина. Он настолько полный, что диву даешься, как его толстые пальцы способны извлекать нежные звуки, прославившие музыканта. Третий по возрасту мог бы подойти вам. Но природа наделила его привлекательностью. Полагаю, брат мой, что служитель Сатаны укрылся вовсе не в Алансоне, если, конечно, он не поменял ремесло. Аньян нисколько не сомневался, что Господь простит его за ложь. После процесса над мадам де Суарси интриги и ловушки инквизиции вызывали у него отвращение. Добрый и справедливый, Аньян не хотел принимать в этом участия. Более того, он считал своим долгом разоблачать их во славу божественного агнца. Разочарование, смешанное с глухой яростью, отразилось на лице брата Вьеви. Как-то сразу оно стало менее привлекательным. Аньян праздновал свою маленькую победу. Он, трудолюбивый муравей, внес свою лепту в вечную битву за Свет. Свет опьянял. Аньян узнал об этом при общении с мадам де Суарси, которая излучала Свет, сама того не ведая. Приближение к Свету, упоение им, пусть даже скоротечное, сопровождалось необратимым изменением: человека охватывало стойкое отвращение к Мраку. Он изо всех своих слабых сил боролся с наступлением Мрака. К тому же, если однажды его упрекнут в том, что он назвал лютниста Дени Лафоржа привлекательным, он всегда сможет возразить, что в этом мире все относительно. Впервые уродство Аньяна помогло ему. В самом деле, по сравнению с Аньяном Лафорж выглядел отнюдь не уродом. Вскоре Вьеви ушел, даже не поблагодарив молодого клирика. Аньян ликовал. Она могла бы гордиться им. Аньес. Аньян решил идти до конца.Аньян выждал до шестого часа, не в состоянии сосредоточиться на работе – бесконечном переписывании актов, составленных в ходе недавних процессов. Он вышел из Дома инквизиции, стараясь идти спокойной походкой мелкого секретаря. Аньян направился на улицу Поаль-Персе. Он вошел в таверну «Одноглазый кот», где обычно обедал. Подаваемую стряпню, конечно, нельзя было назвать деликатесом, зато она была вполне съедобной и стоила относительно дешево. К тому же папаша Одноглазый не скупился на порции, и Аньян наедался на целый день, экономя на ужине. Безусловно, славный хозяин таверны стремился замолить грехи своей долгой жизни. Впрочем, это были мелкие грешки, о чем свидетельствовала его красная физиономия пьяницы и огромное пузо. «Одноглазый кот» мог гордиться еще двумя особенностями, неведомыми тени, шедшей по пятам за Аньяном, едва тот вышел из Дома инквизиции. Однако Аньян, бывший все время настороже, сразу же заметил эту тень. Папаша Одноглазый подбежал к Аньяну. – Сегодня у нас настоящее чудо! – воскликнул он. – Целый котелок рыбы в кисло-сладком соусе! Потом вы поделитесь со мной своими впечатлениями. И учтите, рыба была настолько свежая, что у нее глаза блестели. – Сеньор Одноглазый, подойдите ближе. Я должен поделиться с вами церковной тайной. Польщенный папаша Одноглазый, подумав, что он еще на один шаг приблизится к раю, сел за стол и придвинулся к Аньяну. – Речь идет о тайне. Понимаете? – Могила, – поклялся хозяин таверны, подняв правую руку. – Сеньор инквизитор доверил мне чрезвычайно важную задачу. Меня преследуют… враги нашей веры, – добавил Аньян, стараясь придать весомость своим словам. Разинув рот от изумления, папаша Одноглазый согласно кивал головой. – Мне нужно воспользоваться вашим отхожим местом и… вернуться тогда, когда ваше чудо будет дымиться на моем столе. – Договорились. – Если в это время подлые прохвосты, пытающиеся помешать мне выполнить мою миссию, обратятся к вам с вопросами, скажите им, что я надолго вышел по естественной нужде и что такое часто со мной случается. – Э… – Обычный запор, другими словами. Папаша Одноглазый понимающе кивнул. Веселая улыбка озарила фиолетовое толстое лицо, не один десяток лет водившее дружбу с кувшинами. – Ба, такое часто случается! Многие не могут быстро выдавить из себя это! Не волнуйтесь. Я вру так хорошо, что порой сам не могу понять, правда это или нет. Идите, а я приготовлю для вас рыбу. Ответьте природным позывам, брат мой, – грубо пошутил папаша Одноглазый. Аньян вышел через заднюю дверь таверны и быстро направился к деревянному сараю, в котором была вырыта яма для отправления нужды. Перепрыгнув через низкую стену, он очутился на улице, параллельной улице Поаль-Персе. Приподняв рясу двумя руками, он пустился бежать. Вторым преимуществом «Одноглазого кота» было его местонахождение: таверна располагалась в ста туазах от лавки лютниста Дени Лафоржа. Даже не переведя дыхание, он толкнул дверь. Лафорж склонился над лирой со сломанной широкой колковой коробкой. Он поднял голову и машинально улыбнулся. Аньян не стал утруждать себя объяснениями и сразу взял быка за рога: – Они вас ищут. Доминиканец-инквизитор и миряне. По их описанию я сразу понял, что речь идет о вас. Лютнист побледнел, а это значило, что он был готов к этому известию. – Боже всемогущий, – прошептал Сульпиций де Брабеф. – Значит, это никогда не кончится. – Они пытаются заставить всех поверить, будто вы опасный еретик. Если они вас арестуют, они запрячут вас в тайный застенок, и никто не сумеет вам помочь. Что касается свидетельств против вас, они их сфабрикуют. У них большой опыт. Я не знаю, почему они столь упорно вас ищут, но у нас нет времени обсуждать это. Вот вам мой совет: бегите как можно быстрее. Полагаю, моя ложь немного задержала их. Бывший монах из монастыря Валломброзо внимательно посмотрел на Аньяна. – Почему вы мне помогаете? Вы доминиканец, а если они узнают о вашем предательстве… – Во имя любви к Богу, брат мой. Чтобы жил Свет. С этими словами Аньян помчался со всех ног к таверне «Одноглазый кот». Деревянные подошвы его сандалий скользили по неровной мостовой, но он не обращал на это внимания. Ему казалось, что у него выросли крылья, что его несет неведомая сила. Он, тощий и тщедушный человечек, даже не запыхался, когда опустился на стул. Папаша Одноглазый успокоил Аньяна. Никто не осведомлялся о нем во время его короткого отсутствия. Вопреки радостным заверениям папаши Одноглазого, граничившим с лукавством, от стряпни исходил душок, свидетельствовавший, что рыба пролежала на лотке торговца весь базарный день. Несмотря на имбирь, кардамон и добрую порцию кислого вина, благодаря которым папаша Одноглазый надеялся уничтожить душок, рыба источала подозрительный запах. Ну и пусть! Победа только разожгла аппетит Аньяна. Когда через час клирик вышел из таверны, тень проследовала за ним до Дома инквизиции. С заговорщической улыбкой на губах Аньян сел за свой рабочий стол. Сегодня вечером он тоже сыграл с ними шутку.
Улица Сент-Амур, Шартр, октябрь 1306 года
Этим ранним утром мадам де Нейра велела позвать к себе в спальню Матильду. Одетая в тончайшую ночную сорочку, она нежилась в постели. Белокурые волосы делали ее похожей на добрую фею. Прежде чем приступить к серьезному разговору, она уточнила: – Я подумала, что в спальне нас никто не сможет подслушать, моя дорогая. Анжелика ни в коем случае не должна знать об истинной цели нашего союза. – Даю вам слово, мадам, – ответила Матильда, радуясь, что скрепленный договор касался только их двоих. – Устраивайтесь рядом со мной. Матильда села на кровать, зачаровано глядя на молочно-белую кожу рук мадам де Нейра. – Вчера я получила сведения, которых мне до сих пор не хватало. Моя милая, вы скоро сможете отомстить за себя. Вы заслужили свой реванш. Я должна уехать на два дня, чтобы закончить свои дела. Как только я вернусь, я подробно объясню вам, чего жду от вашей ко мне дружбы. Подумайте, Матильда… Подумайте о том, что вскоре весь мир будет у ваших ног. «Правда, тебе придется отравить собственную мать, – мысленно добавила мадам де Нейра. – И только посмей меня одурачить, глупая гусыня!» Мадам де Нейра пришлось радикально изменить свой план. Ведь первоначально она просто предлагала Матильде испортить будущее ее матери. Убийство и стремление погубить кого-либо разделяла огромная пропасть. Мадам де Нейра придется вести тонкую игру, чтобы убедить Матильду, будто через эту пропасть можно спокойно перешагнуть. Впрочем, она твердо знала, что для Матильды превыше всего были ее собственные интересы. Для того, кто попрал Божьи законы и законы человеческие, пусть не такие суровые и, главное, более расплывчатые, значение имеет только первое хладнокровное убийство. Этому есть лишь одна-единственная альтернатива. Постоянные угрызения совести, медленно, но верно разрушающие душу. Те самые угрызения, которые уже давно терзали Гонория Бенедетти. Или своего рода мятежное упоение. Преступить черту, сдерживавшую всех остальных. Последующие убийства становятся лишь обыкновенным повторением, рутиной. – Вскоре вы предстанете перед своей матерью как любящая и раскаявшаяся дочь. Держу пари, что она уже отчаялась вновь увидеть вас и поэтому поверит всей вашей лжи. Прекрасное дельце в перспективе. Как мне будет вас не хватать, моя дорогая! – жалобно простонала мадам де Нейра, хватаясь своей изящной рукой за сердце. – Однако не будем огорчаться. Речь идет о короткой разлуке. Вскоре мы вновь будем вместе.Через полчаса Матильда вышла из спальни своей благодетельницы. Она была настолько счастлива и возбуждена, что не заметила, как за высокий сундук быстро спряталась маленькая тень. Присев на корточки Анжелика, гневно поджав губы, ждала, когда смолкнет эхо шагов. Потом она выпрямилась во весь рост.
– Посмотрите, мадемуазель, что я вам приготовила. Черная нуга с кусочками лесных орехов и миндаля, приправленная корицей. Вечером она прекрасно дополнит вашу мальвазию. Какой же глупой была эта девчонка! Сколько раз можно ей повторять, что барышня из общества никогда не опустится до того, чтобы вертеться на кухне среди горшков и котелков! Разумеется, эта девчонка была всего лишь нищенкой. Однако она, несмотря на покрывавшую ее с ног до головы грязь, сумела удостоиться неслыханной чести: на девчонку обратила внимание сама мадам де Нейра! После того как ее покровительница уехала ранним утром, раздражение Матильды только усиливалось. Анжелика со своей навязчивой заботой действовала ей на нервы, почти доводила до слез. Девочка буквально рассыпалась в любезностях. Впрочем, после их недавнего объяснения она старалась не выводить Матильду из себя и режепопадаться ей на глаза. Правда, без особого успеха, поскольку само ее существование приводило Матильду в отчаяние. Матильда, знавшая, что через несколько дней избавится от ее общества, заставила себя быть более учтивой с Анжеликой. – Как это любезно с вашей стороны! Нуга. Одна из моих маленьких слабостей. Анжелика зарделась от счастья и присела в реверансе. Она положила деревянную ложку рядом со стаканом мальвазии. – Я оставляю вас, чтобы вы могли в тишине насладиться прекрасным десертом, мадемуазель. Матильда вздохнула с облегчением, думая, что вскоре ее мечты станут явью. Она размышляла о том, кем наконец станет и что будет делать дальше.
Ночью Матильда проснулась от резкой боли в животе. Она попыталась встать, чтобы позвать на помощь, но со стоном упала. Она скатилась на пол, тщетно хватаясь за простыни, мокрые от пота и каких-то красноватых выделений. Девушка хотела закричать, но не смогла. Она задыхалась от боли. Тогда она, вся в поту, поползла к двери, рыдая от ужаса. Ее тело содрогнулось от жестокого приступа рвоты. Изо рта хлынула кровь. Хватая воздух ртом, она сумела издать слабый крик. К двери приближались легкие шаги. – Умоляю вас… на помощь… судороги… Дверь приоткрылась, и в проеме появилась прелестная Анжелика. Девочка бросилась к Матильде. Она обезумела от страха, едва увидев на светлых плитах пола море крови. – Боже мой! Боже мой! Я бегу за помощью… Я сейчас позову знахаря… Анжелика выбежала из комнаты, оставив Матильду, корчившуюся от боли. Двое слуг с трудом уложили Матильду на кровать. Служанка вытирала влажным полотенцем ее лицо. Наконец пришел заспанный знахарь. Матильда была бледна, как восковая свеча. Находясь в полуобморочном состоянии, она уже почти себя не жалела, тщетно пытаясь восстановить дыхание. Порой из ее груди вырывались хрипы. Знахарь пощупал ее живот, горло и решил пустить кровь. Матильда де Суарси умерла ранним утром, так и не приходя в сознание, сразу же после соборования, срочно проведенного каноником мадам де Нейра. Анжелика, бледная от усталости, ушла в свою спальню. Заперев за собой дверь, девочка прислонилась к ней и прикрыла рукой очаровательный ротик, чтобы сдержать смех, вот уже целый час рвущийся из груди. Знахарь оказал ей бесценную помощь, предписав кровопускание, в то время как заносчивая девчонка уже истекала кровью. Ведь в нугу Анжелика добавила толченое стекло, рассудив, что лесные орехи помогут ввести Матильду в заблуждение и у нее не вызовут никаких подозрений твердые кусочки, которые то и дело будут попадаться ей. Две протеже – это слишком много. Анжелика не испытывала ни малейшего желания делить с глупой гусыней внимание и ласки приемной матери. Она была прилежной ученицей и воспользовалась отвратительной наукой, которой ее обучила ведьма. Девочка вытащила сундучок, который прихватила с собой, когда уезжала из жалкой лачуги. Все эти годы она терпеливо ждала, когда ей выпадет удача покинуть ее навсегда. Почему эти женщины так хотели взять ее к себе? Ба, ей не на что было жаловаться. Она залюбовалась почерневшим списком жутких рецептов ведьмы, рецептов, которые позволяли быстро или медленно отправить человека с этого света в потусторонний мир, а также маленькими пузырьками. Какой яд она даст мадам де Нейра, когда больше не будет нуждаться в ней? Через несколько лет… Она еще не знала. Ей еще предстояло многому научиться, заставить себя полюбить всей душой, чтобы завладеть именем и имуществом той, кого она надеялась очаровать до потери здравого смысла и элементарной осторожности. На следующий день вернулась Од де Нейра. Узнав о случившемся, она пришла в ярость, к которой примешивалось непонимание. Анжелика, обрадовавшаяся нервному срыву своей «матери», забилась в кресло, стоящее в маленьком читальном салоне, и сделала вид, будто плачет, заламывая руки от горя. – Да вы просто забыли свою ученую латынь! – рычала на своего знахаря мадам де Нейра, мигом утратив все свое очарование. – Ей не было и четырнадцати лет! О каких конвульсиях вы говорите?! – Разумеется, мадам, – ответил знахарь почтительным тоном. – Но, может, такие припадки у нее случались в раннем детстве? – Не знаю и знать не хочу! – Резкие спазмы, возникшие у мадемуазель д’Онжеваль, привели к разрыву внутренних органов и вызвали кровотечение. – А почему, черт возьми, вы несколько раз пускали ей кровь, как мне рассказали мадемуазель моя дочь и присутствовавшие там слуги? – Мадам, – смутился знахарь, – так положено в подобных ситуациях. Менторским тоном знахарь объяснил: – Существует два вида крови: пагубная черная кровь, от которой необходимо избавиться, сделав кровопускание, и чистая динамичная кровь. Ее надо непременно сохранить. При кровопускании черная кровь выливается, из-за чего чистой крови становится больше. – Оставьте меня, мсье. Мне нужно подумать. – А похороны? Мы ждем ваших распоряжений. – Как можно быстрее и как можно проще. У меня и так от всего этого раскалывается голова, – занервничала Од де Нейра. – Необходимо поставить в известность ближайших родственников вашей покойной протеже и… – Благодарю вас за заботу, но она совершенно лишняя. Матильда д’Онжеваль была… сиротой. Именно поэтому я взяла ее под свое покровительство. Займитесь приготовлениями к похоронам. А мне, как я уже сказала, нужно подумать. Едва знахарь вышел, как Од де Нейра дала волю своей ярости и воскликнула: – И надо же было этой девке все окончательно испортить! По правде говоря, мадам де Нейра начинало охватывать безумное беспокойство. Теперь, когда Матильда умерла, как она сумеет выполнить обещание чести, данное камерленго? В голове Од зародились неприятные, но настойчивые сомнения. Совпадения становились такими закономерными, что Од постепенно охватывал суеверный страх. Неужели Аньес де Суарси пользовалась божественной поддержкой, если все попытки погубить ее оказывались обреченными на провал? Как ни странно, Од не удавалось возненавидеть Аньес. Правда, ненависть была таким же сильным чувством, как и любовь. А мадам де Нейра опасалась сильных чувств, навсегда изгнав их из своей жизни. Благодаря Анжелике она вновь почувствовала нежность. И вскоре к ней придет любовь, настоящая любовь, она это чувствовала. Что же такое придумать, чтобы раз и навсегда избавиться от дамы д’Отон? Она могла бы превратить Анжелику в грозную отравительницу. Возраст и непорочная чистота девочки ни у кого не вызвали бы подозрений. Нет, никогда. Она убережет Анжелику от любого зла. Вдруг ее затуманенное сознание озарила счастливая мысль. Она сама. Ни Аньес д’Отон, ни ее слуги никогда не видели Од. Просто надо любой ценой избежать встречи с монахинями Клэре. В конце концов, самым лучшим исполнителем собственных планов, особенно когда речь идет о преступлении, бывает тот, кто их составил. – Пусть будет проклята эта идиотка! Если бы глупая гусыня была еще жива, я с удовольствием отхлестала бы ее по щекам, чтобы полностью успокоиться, – прошипела Од, топнув ногой. Ответом ей были жалобные всхлипывания. – О, моя сладкая… Я заставила вас пережить неприятные минуты… – Мадам де Нейра, изобразив радость, которой совершенно не испытывала, предложила: – Идите ко мне, моя дорогая. Я почитаю вам сказку. Историю прекрасной принцессы, такой как вы. Прекрасные принцессы никогда не должны интересоваться недостойными занятиями.
Улица Поаль-Персе, Шартр, октябрь 1306 года
Плющильщик,[359] так и не снявший кожаный фартук, медленно пил вино маленькими глотками. Он аккуратно сложил упленд из грубой шерсти, подбитый заячьим мехом, на соседний стул. Завсегдатаи таверны «Одноглазый кот» хорошо понимали, что это означало: посетитель не хочет, чтобы к нему подсаживались. Особенно если речь шла о болтунах, горящих желанием плюхнуться за стол, чтобы затем спросить у незнакомца, не мешает ли ему их навязчивое присутствие. Наконец тот, кого он ждал, вошел в таверну. Плющильщик приветствовал его улыбкой. Аньян снял плащ, насквозь промокший под ливнем, вздохнул с облегчением и прошептал: – Ры… – Тише… Здесь я для всех Франсуа. Садитесь, мой славный Аньян. Благодарю Бога за радость, что вновь вижу вас. – Признаюсь вам, послания, которыми мы обменивались после вашего отъезда на Кипр, в которых я сообщал вам новости о графине, служили мне надежной поддержкой. Знаете ли, ры… Франсуа, в Доме инквизиции, где постоянно царит суета, я неожиданно обнаружил пустыню одиночества. Разве это не грустно, что я вдруг понял, что у меня нет друзей, ни одного человека, которому я смог бы довериться, кроме вас? А ведь я был знаком с вами всего несколько часов, и к тому же вы были так далеко. – Грустно? Не думаю. У нас есть друзья, которых мы заслуживаем. По сути, вы ведете строго упорядоченное существование, определяемое законами и приказами других людей. Ваши друзья похожи на вас. Вы, поставив свою безопасность под угрозу, примкнули ко мне, чтобы вести бесконечную битву с тьмой. А ведь очень мало найдется таких, кто способен на это. Люди смутно чувствуют, что мы не такие, как они, и сторонятся нас, поскольку мы вносим смятение в их умы. Я не осуждаю их. Тем не менее мы не одни, Аньян. Нас множество. Выпьем за величие людей. Два года назад во время ужина, которым Леоне угощал молодого клирика в таверне «Красная кобыла», немного подвыпивший Аньян поведал ему о своих разочарованиях, упреках совести, которые глодали его из-за того, что он принимал участие, пусть косвенное, в том, что сам называл позором. Запинаясь от страха и выпитой медовухи, он со слезами на глазах признался в своей добровольной слепоте. По сути, он знал, хотя и гнал подобные мысли прочь, что многие инквизиторские процедуры на самом деле были зловещими и кровавыми клоунадами. Инквизиция была призвана внушать ужас, убивать в зародыше любое стремление к неповиновению. И она превосходно справлялась со своей задачей. Никола Флорен, этот демон, ополчившийся на доблестную Аньес де Суарси, заставил Аньяна прозреть. Только и всего. Тогда Леоне с интересом смотрел на это маленькое лицо куницы. Глаза Аньяна горели всепоглощающей страстью. Как ни странно, Леоне нисколько не сомневался в искренней вере и огромном мужестве молодого клирика. И хотя путь Леоне совсем недавно пересекся с дорогой Аньяна, недоверие, никогда прежде не покидавшее рыцаря, исчезло. Почти еле слышным шепотом он поведал молодому человеку об их поисках. О чрезвычайной важности Аньес де Суарси и ее будущей дочери, о другой крови, которую они будут передавать вплоть до второго пришествия. Потрясенный до глубины души молодой секретарь пристально смотрел на рыцаря, будучи не в состоянии вымолвить ни единого слова. Наконец он прошептал: – Значит, я прав. Мадам де Суарси – ангел, изменивший мою жизнь муравья. Все свои слабые возможности, все свое упорство… Моя жизнь, рыцарь… Отдаю их вам. Отдаю их мадам де Суарси и ее будущей дочери. Так Аньян присоединился к когорте служителей Света, которые веками действовали тайно, оберегая второе пришествие. Во время того ужина они решили, что молодой человек останется в Доме инквизиции и будет следить за непосредственными их врагами. Они также договорились, что он будет сообщать Леоне, который вскоре должен был уехать в кипрскую цитадель Лимассол, все подробности, связанные с Аньес де Суарси.Аньян вкратце рассказал рыцарю о визите доминиканца Анри Вьеви, уточнив, что он сумел предупредить лютниста Дени Лафоржа. – Почему доминиканец так усердно его ищет, что ему даже пришлось обратиться за помощью к Дому инквизиции? Ведь Лафорж – не еретик. Впрочем, вы в этом уверены? – спросил Леоне. – О да! Однако рекомендательное письмо было написано камерленго. Таким образом, можно сделать вывод, что Лафорж причастен к тому, что вот уже многие годы вызывает у нас беспокойство. Я не мог дожидаться вашего приезда в Алансон. Они успели бы его арестовать. Поэтому я посоветовал ему бежать, не задавая никаких вопросов. – Вы правильно поступили, – одобрил Аньяна Леоне. – А монсеньор д’Отон? – Он томится в камере. Впрочем, с ним почтительно обращаются. Жак дю Пилэ, сеньор инквизитор, которому поручено вести допрос, кажется мне человеком чести. Похоже, он пребывает в большом затруднении. Он во что бы то ни стало хочет узнать правду об обручальном кольце, так удачно найденном на месте преступления через два года. Однако он будет тянуть время. Процедура дает ему на это право. Если ему будет угодно, монсеньор д’Отон может провести остаток своей жизни в этом подземелье. – Он выполняет порученные распоряжения, – сделал вывод Леоне. – Тем не менее я удивляюсь, почему для исполнения своих гнусных замыслов они не прибегли к помощи другого Флорена. Инквизитора, который без зазрения совести подтасовал бы доказательства и свидетельства. – Пилэ не принадлежит к числу таких инквизиторов, в этом я могу поклясться. Он суровый, строгий, но не подлый человек. – Значит, они ошиблись в своем выборе, а это служит очередным доказательством, что Бог на нашей стороне. – Не сомневаюсь. Я думаю, что выбор пал на Пилэ, поскольку он приходится кузеном монсеньору Эвре, сводному брату короля, – добавил Аньян. – Приказ предстать перед судом монсеньор д’Отон получил от самого короля, которому хотелось бы снискать милость Климента V. Таким образом, епископ Эвре мог надеяться, что Жак дю Пилэ, непосредственно подчиняющийся ему, окажет услугу своему кузену, проявив чрезвычайную строгость к графу д’Отону, более того, не побоявшись сфальсифицировать доказательства. – Полагаю, вы правы, – согласился рыцарь. – Аньян, я по-прежнему очень боюсь за жизнь мадам д’Отон. Бенедетти мог поручить отравить графиню только надежному сообщнику из своего ближайшего окружения. Мне надо добраться до него и уничтожить. Это, разумеется, не станет окончанием войны, ибо вскоре Бенедетти найдет нового сообщника. Но, во всяком случае, мы получим передышку. – Вы полагаете, что этот сообщник находится в Алансоне? – Не знаю. Так или иначе, в округе не так уж много больших городов, где можно затеряться, завербовать подручных и разработать стратагемы. – Алансон и Шартр. Было бы неразумно укрываться в Отон-дю-Перш. Мортань не подходит, поскольку это маленький город. Незнакомца там быстро заметят. Я займусь Алансоном, Франсуа. – А я Шартром. До скорого свидания, друг мой. – Если так Богу будет угодно.
Замок Отон-дю-Перш, Перш, октябрь 1306 года
Удушающая тишина. Холодный скупой свет зимнего вечера. Едкий запах, исходящий от длинных свечей. Эхо шагов. Франческо де Леоне шел вперед по бесконечной галерее церкви. Черный плащ с широким белым крестом, восемь концов которого были соединены попарно, хлопал о кожаные сапоги. Он пытался догнать силуэт. Тот двигался молча, и его выдавало только легкое шуршание ткани из плотного шелка. Женский силуэт, женщина, которая скрывалась от него. Силуэт почти такой же высокий, как он сам. Отблески пламени свечей переливались на ее волнистых волосах. На длинных волосах, спадавших по спине до самых икр и сливавшихся с шелковым платьем женщины. На длинных белокурых волосах с медным или медовым отливом. Внезапная резкая боль вызвала у него одышку. От ледяного холода стыли губы. Он попытался вытереть лоб, покрытый потом, застилавшим ему глаза, но лишь оцарапал его своей латной рукавицей. Почему он ее надел? Готовился ли он к битве? Постепенно его глаза привыкли к полумраку. Через купол в церковь проникал слабый свет, сливаясь с мерцающими огоньками свечей. Это позволяло Леоне всматриваться в окружавшую его тень, смутно различать контуры пилястров, очертания стен. Что это за церковь? Какая разница! Это была небольшая церковь, но все же он мерил ее шагами несколько часов подряд. Он неторопливо преследовал эту женщину. Почему? Она не убегала, лишь только не позволяла расстоянию, разделявшему их, сокращаться. Она всегда шла впереди на несколько шагов и, казалось, предвосхищала его движения: когда она шла по внешней галерее, он следовал за ней по внутренней. Он застыл неподвижно. Один шаг, один-единственный, и она тоже остановилась. До него долетало спокойное дыхание, дыхание женщины. Он пошел вперед, и тут же раздалось второе эхо. Франческо де Леоне медленно положил руку на головку эфеса своего меча. И вдруг его охватила такая опустошающая нежность, что на его глаза навернулись слезы. Он недоверчиво смотрел на то, как его рука сжимает металлический шар. Как же он постарел… Под кожей, изборожденной морщинами, проступали широкие вены. И тут он почувствовал чужеродное присутствие. Присутствие крови и убийства. Безжалостное присутствие. Женщина остановилась. Неужели она заметила враждебную тень? Раздался шепот: «Защищайтесь, рыцарь, во имя любви к всемогущему Богу». Бледная женская рука прикоснулась к рукаву его блио, заставив Леоне вздрогнуть от почти невыносимого наслаждения. Вторая рука на мгновение исчезла в складках ее платья и тут же появилась, сжимая короткий меч, излучавший серебристый свет. Он не заметил, что она была вооружена. Леоне прошептал: «Моя жизнь в вашем распоряжении, мадам», и медленно повернулся к ней. Желтый шелк обтягивал ее живот. Женщина была беременна. И готова к бою, чтобы защитить ребенка, которого носила под сердцем. Злобные привидения хотели уничтожить именно этого ребенка. Взгляд Леоне упал на треугольное лицо, на сине-зеленые глаза, взглядывавшие в неприветливую темноту. Это лицо было ему знакомо. Он хорошо знал его, но не мог точно сказать, где видел его. Короткий меч взметнулся вверх. Он был направлен на восток, в сторону одного из приделов, окружавших неф. Раздался спокойный шепот: – Уничтожить надо женщину. Это она отдает приказы. Однако она почти забыла, что действует на стороне зла. Леоне почувствовал сомнения и нахмурил брови. Он медленно двинулся к маленькой часовне. Пламя свечей немного рассеивало темноту. Перед статуей безмятежной Пресвятой Девы, показывавшей миру божественного младенца, на коленях стояла женщина. Такая красивая, такая умиротворенная женщина, что она казалась средоточием бесконечной любви. Она не торопясь встала и, улыбаясь, протянула к нему свои руки. Она уже открыла рот, собираясь сказать, что он здесь желанный гость, как вдруг поток темно-красной крови обагрил ее подбородок и медленно потек по белому платью.Леоне открыл глаза. Он едва узнал комнатку над конюшнями, служившую ему временным прибежищем, и с трудом сел на постели. Странно. Обычно этот упорно повторяющийся сон потрясал его так сильно, что он покрывался потом. Сердце бешено стучало, кровь пульсировала в жилах. Но сегодня ничего подобного не было. Его охватило необъяснимое спокойствие. Спокойствие, предшествующее сражению, когда все уже сказано, когда ничто не в состоянии изменить будущее. Белокурая женщина с изумрудными глазами. Женщина, напоминавшая ангела. Падшего ангела. В памяти Леоне возникло ее прелестное лицо. Из упорного предчувствия сон превратился в страстное послание. Обнаженный до пояса Леоне умылся холодной водой. Он окончательно стряхнул с себя остатки сна. Позвав слугу, он приказал оседлать для него коня и приготовить еду на два дня. Аньес читала в библиотеке. Она твердо держала свое слово и позволяла себе только гулять по парку. – Мадам, одно очень срочное дело привлекло мое внимание. Я должен ехать в Шартр. Мне придется провести там несколько дней. Аньес согласно кивнула головой. – Если позволите, во время моего отсутствия Монж де Брине поживет в вашем замке. Заинтригованная Аньес возразила: – Рыцарь, я уже не ребенок, которого надо водить за руку. – Они тоже не дети, мадам. – Разумеется. Я должна поехать в Суарси, чтобы навестить моих людей, мсье. Я дала вам слово, что не стану выходить за стены замка. Но сейчас я прошу вас позволить мне посетить мануарий. – Хорошо. Я разрешаю вам. Однако вы должны обещать мне, что ваша поездка ограничится только посещением мануария. К тому же вас будут сопровождать два жандарма графа. – Обещаю вам. Клянусь честью.
На кухне Леоне быстро съел кусок сыра и ломоть хлеба, сдобренного жиром, затем сразу же вскочил в седло. Падший ангел жил в Шартре. Он это почувствовал прежде, чем понял, что речь шла о женщине. Теперь он был в этом уверен. Не думать о ней как о женщине, поскольку он должен ее убить. Во время всей скачки Леоне не отпускала смутная тревога. Он допустил грубейшую ошибку, позволив Аньес поехать в Суарси. Дороги были полны опасностей, даже если путешественника сопровождала вооруженная охрана. Разумеется, дама будет яростно сопротивляться, но что она сможет поделать с пятью-шестью разбойниками или их подручными? Конечно, жандармы станут защищать Аньес. К тому же никто не узнает, что она поедет в мануарий. Неожиданно Леоне охватило желание вновь увидеть Клэре, пережить, пусть даже на несколько мгновений, момент абсолютного счастья, которое он испытал, когда нашел непонятный манускрипт. Его путь лежал недалеко от женского аббатства. Не раздумывая больше ни секунды, он повернул лошадь в его сторону.
Женское аббатство Клэре, Перш, октябрь 1306 года
Леоне спешился возле главных ворот Клэре незадолго до девятого часа. Его захлестнули воспоминания о прекрасной улыбке его тетушки и приемной матери, Элевсии де Бофор, бывшей матери-аббатисы, отравленной в этих стенах. Изящная Элевсия, которая заливалась молодым смехом, когда, наступив на подол платья, с трудом удерживалась на ногах, обучая его премудростям игры в соул. Порой летними вечерами она показывала тонким пальцем на самую яркую звезду и говорила, закрыв глаза, полные печали и ласки: – Пожелайте доброй ночи вашей матери, мой милый. – А эта звезда и есть мадам моя мать? – Разумеется, это моя сестра, моя Клэр, самая яркая из всех. Элевсия умерла жуткой смертью в этом аббатстве, в котором она мечтала обрести покой. Леоне боролся с ненавистью, постепенно охватывавшей его. Элевсия де Бофор не потерпела бы этого.Прижавшись лбом к потаенному окошку, Леоне долго убеждал привратницу-мирянку в непорочности своих помыслов и принадлежности к ордену госпитальеров. – А где же ваш восьмиконечный крест?[360] – спросила недоверчивая привратница. – Я путешествую инкогнито. Так решил мой орден. Прошу вас, нельзя ли мне переговорить с вашей новой аббатисой? – повторил рыцарь в двадцатый раз. Привратница внимательно рассматривала его через решетку. – Если бы не ваша правильная речь и походные сапоги, я приняла бы вас за нищего! Стараясь не выдать своего отчаяния, Франческо де Леоне продолжал настаивать любезным тоном: – Можете ли вы позвать вашу сестру-больничную, Аннелету Бопре? Она хорошо меня знает и сумеет развеять ваши сомнения. – Нашу матушку? – Аннелета? – Ну да. Это наша матушка, слава Богу. Вот уж кого Он по праву взял под свое покровительство. Это ангел во плоти, нежный и сострадательный ко всем нам. Ангел, говорю я вам. Столь лестный портрет вызвал у Леоне раздражение, которое ему с трудом удалось побороть. Он засомневался в том, что речь идет о той самой Аннелете Бопре, которую он так хорошо знал. – Не будете ли вы так любезны известить ее о моем приезде? Прошу вас. Привратница-мирянка прищурила глаза и поджала губы. – Что ж… постараюсь. Она с яростью захлопнула окошко, показывая тем самым, что разговор окончен. Не прошло и трех минут, как калитка распахнулась словно от шквала ураганного ветра. Крупная женщина бросилась, словно молния, навстречу рыцарю: – Боже милосердный, святая матерь Божья… Ах… какая радость… какое счастье… Рыцарь, ах… рыцарь… Столь бурное выражение радости вызвало у Леоне улыбку. – Матушка, я тоже счастлив, что наконец вижу вас. По правде говоря, я часто думал о вас… Мне не хватало вас. Я даже не мог надеяться, что вас выберут аббатисой Клэре. – О! – зарделась от гордости бывшая сестра-больничная. – Я совсем не заслуживаю такой чести. Но проходите, проходите же! А то мы торчим у ворот, как два столба! Вскоре наша славная Элизабо принесет вам в кабинет легкий завтрак и бодрящий напиток. Леоне шел за Аннелетой по бесконечным коридорам. Под сводами, такими высокими, что они терялись в полумраке, раздавалось эхо их шагов. Струйки пара, вырывавшиеся у них изо рта, перемешиваясь, взлетали ввысь. Франческо де Леоне невольно остановился перед просторным рабочим кабинетом, в котором он часто навещал свою тетушку. Аннелета грустно улыбнулась. – Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Я сама… Мне так хорошо в этом кабинете. Он успокаивает и поддерживает меня. Я провожу здесь целый день и добрую часть ночи в дружеском обществе. И все же мне кажется, что я занимаю не свое место. – Это место подходит вам как никому другому, матушка. Говорю вам это от чистого сердца. Чудесная Элевсия любила вас не только как одну из своих дочерей, но и как друга. Аннелета обошла массивный рабочий стол и, глядя куда-то вдаль, проговорила: – Я всегда была преисполнена глупого тщеславия и считала себя сильнее других. Но должна вам признаться: мне так не хватает вашей тетушки! Аннелета лихорадочно искала предлог, чтобы сменить тему, делавшую ее такой уязвимой. Она взяла в руки стопку бумаг, вздохнула и вспылила: – Эти бумаги, листы, картулярии, регистрационные книги… Они никогда не заканчиваются! Это может свести сума самую прилежную из женщин! А потом, у меня ухудшается зрение. Мне приходится писать, вытянув руку и откинувшись всем телом назад. Наш епископ пообещал привезти мне из своей следующей поездки в Италию очки.[361] Я стану похожей на несчастную калеку![362] – Вы говорите об этом откровенно, хотя другие тщательно скрывают свой недуг. Вы быстро привыкнете к очкам. К сожалению, рано или поздно этот предмет становится необходимым для всех нас, – утешил Леоне Аннелету. – В самом деле, у всех стариков зрение постепенно слабеет. Зачем же они утверждают, будто видят так же хорошо, как дети? Что они еще очень молоды? Странная улыбка, до сих пор незнакомая Леоне, озарила суровое лицо, которое он некогда находил неприятным. Аннелета прошептала: – Как я рада, что вы приехали… Это подарок небес. Впрочем, я не сомневаюсь, что вас зовет долг и вы недолго пробудете у нас. – Матушка, когда наши поиски завершатся, я приеду к вам надолго. – Завершатся ли они когда-нибудь? – возразила Аннелета, но в ее голосе не было ни малейшей горечи. – Возможно, не при нашей жизни. Одному Богу это известно, и я вверяю себя Ему. – Аминь. Молодая недельная монахиня,[363] работающая на кухне, постучала в дверь. – Войдите! – зычным голосом крикнула Аннелета. Девушка робко вошла в кабинет и положила поднос на пол, рядом с креслом, где сидел Леоне. Затем она уточнила: – Матушка, наша славная трапезница Элизабо Феррон просит сообщить ей, не поскупилась ли она на угощение для вашего гостя. Тогда я принесу второй поднос. Леоне опустил глаза. Вероятно, в своем мирском прошлом Элизабо не раз кормила голодных мужчин. Пять толстых кусков хлеба, обильно смазанных жиром, с филе копченой форели. Огромный кусок овечьего сыра служил второй переменой. На десерт же Элизабо приготовила сухофрукты в вине. – Черт возьми! – воскликнул Леоне. – Да этого хватит на двух голодных мужчин. Недельная монахиня выбежала из кабинета. Леоне, этот солдат, хорошо знавший, что такое голод, спросил: – Позволите ли мне взять с собой то, что я не смогу съесть здесь? – Разумеется. Сам Господь посылает нам пищу. Какое чудо делить с вами хлеб насущный! Расскажите мне, что позвало вас в дорогу. – Удовольствие видеть вас… Аннелета прервала рыцаря, ничуть не сомневаясь, что это был не просто куртуазный комплимент: – Другие манускрипты, которые хранятся в тайной библиотеке? Те, которые вы не смогли увезти? Не беспокойтесь. Они под надежной охраной. И горе той, кто попытается сыграть со мной злую шутку! Леоне рассмеялся. Энергия этой умной женщины, способной свернуть горы, несмотря на возраст, придала ему уверенности: – Надо совсем лишиться ума, чтобы осмелиться на такой поступок, – согласился он. Посуровев, он начал тщательно подбирать слова: – Матушка… Вот уже многие годы мне снится один и тот же сон. Детали не так уж важны, но знайте: сон приобретает ясность и даже становится более жестоким… Аннелета облокотилась о стол и, подавшись вперед, ловила каждое слово рыцаря. – Прошлой ночью появился еще один персонаж, вышедший из погруженного во мрак придела церкви. Прежде я его никогда не видел во сне… Вы подумаете, что я теряю рассудок… Но я вбил себе в голову, что вы единственная, кто может помочь мне разгадать эту шараду. Ваш ум, ваша ученость… Аннелета была готова заворковать от удовольствия. Она расценивала ум как высший Божий дар. Но взволнованный и вместе с тем серьезный тон Леоне заставил ее забыть об удовольствии, которое обычно доставляли ей подобные комплименты. – Рыцарь… прошу прощения, сын мой, – никак не привыкну к этому обращению! – сны не обязательно сбываются. Некоторые сны – это всего лишь смешение мыслей и воспоминаний. Наш разум воспроизводит их так сумбурно, что мы едва понимаем, о чем идет речь. Однако слишком велико искушение видеть в них промысел Божий. Рыцарь оценил научный подход Аннелеты, не признававшей суеверий, за которые цеплялось большинство людей. – И все же некоторые сны сбываются, не так ли? – Если верить серьезным свидетельствам, исходящим от людей, у которых есть голова на плечах и которые твердо стоят на земле, в крайне редких случаях сны могут быть вещими. Следует ли видеть в этом предостережение Господа, ведущего нас, или своего рода интуицию, высвобождающуюся по ночам от пут, которыми днем сковывает ее рассудок? И то и другое, несомненно, поскольку наша интуиция исходит от самого Господа. – Ничуть не сомневаюсь, что мой сон вещий. – И я вам безоговорочно верю. – Итак, прошлой ночью во сне мне явилась женщина, вернее, чудовище. – Вы ее знаете? Я хочу сказать, вы видели ее когда-нибудь? – Нет, иначе я ее помнил бы. Она настолько красива, что перехватывает дыхание. Высокая, изящная, с великолепными волнистыми белокурыми волосами, плавно ниспадающими на плечи. Глаза похожи на горные озера, миндалевидные, цвета изумруда. Она вышла из придела, а когда хотела обратиться ко мне, поток темно-красной крови… – Мадам де Нейра! – закричала Аннелета. Аннелета резко встала и, ударив кулаком по дубовой столешнице, прорычала: – Чудовище… Дьявол с лицом ангела, вышедший прямиком из ада. Уверяю вас, вы видели вещий сон! – Аннелету охватила паника. Она рухнула в кресло, обхватила голову руками и пролепетала: – Ах, Боже милосердный… Ах, Господи Иисусе… Храни нас, Пресвятая Дева! Леоне тоже вскочил. Бросившись к столу, он, обезумевший от страха, прошептал: – Матушка, матушка… Умоляю, объясните, что все это значит. Аннелета приложила палец к губам, призывая Леоне к молчанию. Прошло несколько минут, когда, казалось, вокруг метались зловещие призраки. Аннелета опустила руки, приоткрыла глаза и, глядя на Леоне, удивительно равнодушным тоном пустилась в объяснения: – Вскоре после кончины вашей тетушки, вашей любимой приемной матери, нашей славной Элевсии была назначена другая аббатиса. Очаровательная, дружелюбная на вид. Она была такой ласковой с нами. Но меня не обманешь. И поэтому она предпочитала не связываться со мной. Это была приспешница – да что я говорю! – сообщница камерленго. Это она завербовала Жанну д’Амблен, сделав ее исполнительницей своих подлых дел. А когда Жанна стала ей не нужна, она ее отравила. Знаете, она даже мне угрожала, надеясь получить манускрипты. Но мужественная Эскив д’Эстувиль уже вынесла их из аббатства. Должна признать, мадам де Нейра умела проигрывать. Она как можно скорее покинула аббатство, даже не отомстив мне, поскольку стремилась во что бы то ни стало избежать встречи со мной. Мне не хватает слов, чтобы охарактеризовать ее. Когда я назвала ее «дьяволом с лицом ангела, вышедшим прямиком из ада», я использовала простое и довольно часто употребляемое сравнение. На самом деле все гораздо сложнее. Мадам де Нейра вовсе не одержимая. Как ни странно, но в отличие от Жанны д’Амблен и Бланш де Блино, она не пылала лютой ненавистью. Скорее… Конечно, вы изумитесь, услышав эти слова, сказанные об убийце, но они единственные, которые приходят мне на ум: мадам де Нейра была преисполнена бодрой и несгибаемой решимости.
Тревога целиком захватила Леоне, когда он покидал аббатство. Зло неумолимо приближалось. Аньес д’Отон решила отправиться в Суарси, пообещав взять с собой двух туповатых жандармов, которым было не под силу тягаться с бестией с изумрудными глазами. Многие годы эта женщина действовала в тени, за плотным занавесом. Она была виновна в смерти нескольких монахинь и его любимой тетушки Элевсии. Ей удалось стать аббатисой, и весь этот маскарад она устроила, чтобы завладеть манускриптами и передать их камерленго. Она без колебаний обратилась за помощью к ведьме, чтобы отравить мадам д’Отон, оставшись при этом в тени. Одним словом, речь шла о самом таинственном и наиболее опасном враге, с которым Леоне когда-либо приходилось встречаться. Лишь счастливая случайность и дружеское отношение к Аннелете позволили Леоне напасть на его след. И сон. Господь хранил их. Защитить Аньес. В какое-то мгновение он уже решил ехать в Шартр. Нет, он не мог так поступить. Надо как можно скорее вырвать зло с корнем, выкорчевать его так, что ему понадобится целая вечность, чтобы вновь возродиться. Ибо зло всегда возрождается. Выиграть время. Надо выиграть время, чтобы спасти Аньес. Надо раздавить гадину.
Мануарий Суарси-ан-Перш, октябрь 1306 года
Уже наступала ночь, когда Франческо де Леоне добрался до толстых квадратных башен мануария. Спускалась сырая прохлада. Сквозь кожаные занавеси, закрывавшие узкие окна просторного общего зала, просвечивали отблески огня факелов. Это было единственным признаком, что в мануарии еще не легли спать. Леоне спешился и привязал свою лошадь к одному из колец, вделанных в стену служебных помещений. – Стой, моя хорошая, – прошептал он на ухо лошади. – Мы переночуем здесь. Было бы неразумно продолжать путь. Тебя вымоют и накормят. Леоне пришлось долго колотить кулаком в массивную деревянную дверь, прежде чем он услышал недоверчивый голос: – Кто там в этот недобрый для христиан час? – Рыцарь-госпитальер Франческо де Леоне, Аделина. Я был гостем вашей госпожи и прошу приютить меня на ночь. Меня и мою лошадь. Раздался лязг тяжелого железного засова, запиравшего дверь. В дверном проеме появилась Аделина. Присев в реверансе, она одной рукой придерживала тяжелую дверь, а второй пыталась поправить шапочку, и поэтому чуть не упала. – Ах… И вправду это вы, рыцарь, Боже милосердный, а наша добрая дама нас не предупредила… Что же я могу предложить вам? – Густая похлебка и кусок хлеба станут для меня настоящим пиршеством, моя славная Аделина. Я недавно ел. Не займется ли Жильбер моей лошадью? А потом мне надо с ним поговорить. – У меня остался гороховый суп со свиным салом и прочей всякой всячиной. Честное слово, он очень сытный. Простодушный небось уже храпит. Он спит как сурок, поверьте мне. Я поставлю горшок на очаг и разбужу его. Наконец Аделина распахнула тяжелую дверь и впустила рыцаря в дом. Затем она убежала на кухню, оставив Леоне в зловещем просторном зале со стенами, почерневшими от копоти факелов. На госпитальера нахлынула волна воспоминаний. Здесь Аньес вышла из себя, заставив его ответить на все вопросы. Здесь она почти угрожала ему, в страхе за Клемана, ее родного сына. Здесь она призналась, глядя куда-то вдаль, что ее дети были зачаты от других мужчин, поскольку ее супруг был бесплоден. Она унижала себя, называла себя шлюхой. А ведь она была самой великолепной, самой лучезарной женщиной из всех, которых он когда-либо встречал. Вошла Аделина. Из кухни она принесла дрова и хворост. – Положите все это на пол, Аделина. Я сам разожгу огонь. Разбудите Жильбера, прошу вас. Моя лошадь устала. Ее мышцы разгорячились от скачки. Я боюсь, что она простудится. Угловатая девушка бросилась исполнять просьбу Леоне. Рыцарь разжег огонь, потом тяжело опустился на массивный сундук, стоявший возле камина. Столько лет, столько шагов наугад, столько беспокойных ночей, столько разочарований, но он наконец близок к цели. Леоне не сомневался в этом. Теперь осталось лишь открыть потайную дверь. Ту самую, за которой скрывался Свет. – Наш рыцарь, друг нашей доброй феи! – прогремел Жильбер Простодушный, сжимая в руках шапку. Немного заспанный, с взлохмаченными волосами, но радостный, Жильбер переминался с ноги на ногу, стоя в дверях просторного зала. Леоне встал и сделал несколько шагов ему навстречу. – Входи, славный Жильбер, и закрой дверь. Ночь выдалась холодной. Жильбер не заставил себя просить дважды. Он легко захлопнул тяжелую дверь. – Я поставил в стойло ведро со свежей водой и дал вашей лошади овса. Ночь для нее будет доброй. – Спасибо, Жильбер. Я уеду завтра на рассвете. Оседлай ее заранее. А теперь подойди ближе. Мне нужно объяснить тебе кое-что. Это очень серьезно, – медленно и мягко сказал Леоне, так, как обращалась к Простодушному Аньес. – Да, да… Жильбер, нахмурив лоб от напряжения, подошел к рыцарю. – Речь идет о доброй фее, нашей даме. На лице грубоватого, но славного Жильбера отразилась тревога. – Что такое? – угрожающее спросил он. Леоне подумал, что гигант чувствовал эмоции других, даже когда те тщательно скрывали их. Рыцарь, стараясь не разжигать тревоги Жильбера, полагая, что тот может стать опасным при одной мысли, что его фее грозит беда, продолжал: – Некоторые подлецы не любят добрых фей. Так устроен мир… – Мерзавцы, негодяи! Я воткну им головы в их же задницы! – воскликнул Жильбер, потрясая кулаками, способными свернуть шею лошади. – Успокойся, Жильбер! Ради нашей дамы, ради ее счастья. Эти слова произвели магическое действие. Лицо гиганта приобрело обычный вид, а губы растянулись в восторженной улыбке. Он пробормотал: – Да, да… Она спасла меня. Моя фея. Я тогда был совсем маленьким. Они хотели бросить меня в зловонную канаву вместе с гниющими трупами. Они не посмели. Она надрала им уши. Мне было холодно. Она накормила меня. Моя фея. Она защитила меня. Леоне понял, что крестьяне попытались отправить лишний рот в лучший из миров, но дама де Суарси не позволила им погубить дурачка Жильбера. А ведь тогда она была совсем юной. Леоне протяжно вздохнул, пытаясь совладать с охватившей его нежностью. – Она великолепная женщина. – Да, – согласился Жильбер, кивая головой. – Слушай меня внимательно, славный Жильбер. Я должен уехать и не смогу защитить ее от этих мерзавцев и негодяев. Ты меня понимаешь? – Да. – Твоя фея скоро приедет в Суарси и проведет здесь несколько дней. – А… Господи Иисусе! – обрадовался Жильбер Простодушный, захлопав в ладоши. – Ее будут сопровождать два жандарма, но я все равно беспокоюсь. Нашей даме противостоят могущественные демоны. – Я не боюсь демонов! Нашу даму хранят милосердный Иисус и Жильбер! – прорычал гигант. – Они очень хитрые. Я хочу, чтобы ты защитил нашу фею. Ты должен неустанно следить за ней. Ты меня понял? Если ты заподозришь, что затевается что-то дурное, немедленно пошли одного из слуг к бальи в Отон-дю-Перш. – Да, да… Я оседлаю лошадь, и он вихрем помчится. А затем бальи отрубит головы этим мерзавцам. – Правильно. Возможно, среди них будет женщина. Очень красивая, белокурая, с зелеными глазами. Она выглядит как добрая фея, но на самом деле она демон. Самый худший из всех. Жильбер крепко сцепил руки и прорычал сквозь зубы: – Я раздавлю ее как гадюку. Она не причинит зла моей фее. – Ты не сможешь этого сделать. Она дворянка. Ты не имеешь права поднять на нее руку. Иначе они замучают тебя до смерти, и наша добрая фея опечалится. Сильно опечалится. Ведь ты же не хочешь, чтобы она плакала? Но Жильбер уже забыл о пытках, которым его подвергнут, если он поднимет руку на «подлого демона». Он запомнил лишь главное для себя, а главное было связано с его дамой. Он нахмурился, думая о том горе, которое мог бы ей причинить, и простонал: – О-о-о… нет… Моя фея не должна грустить. Леоне отказывался даже думать, какая участь ждет этого гиганта, так и оставшегося ребенком, если тот убьет сообщницу Гонория Бенедетти. – Поклянись перед Богом, что ты будешь только защищать свою фею и собственноручно не причинишь зла этому прелестному чудовищу. Ты знаешь, что тебя ждет, если ты нарушишь клятву, данную Господу. – О да! Моя фея объяснила мне это. Вдруг Жильбер занервничал. Размахивая руками, как разъяренный гусак, он, захлебываясь слюной, забормотал: – Огонь… гореть вечным пламенем… Плохо, очень плохо! И я больше никогда не увижу свою фею, поскольку не попаду в рай. Леоне понял, что было главным по мнению Жильбера Простодушного: его фея. Надо было убедить Жильбера. Запугать его тем, что было для него дороже всей жизни и даже перспективы оказаться в аду. – Правильно. Ты больше никогда не увидишь свою фею. Итак, если ты заметишь эту женщину, просто помешай ей приблизиться к нашей фее. Держи ее на расстоянии одного туаза, не меньше. Она отравительница. Она знает чудовищные тайны. И немедленно поставь в известность бальи. Ты меня понял? В ответ Жильбер кивнул головой. Жильбер Простодушный, погрузившись в грустные мысли, вышел, не сказав ни слова. Да и не было таких слов, которые могли бы выразить внезапно образовавшуюся в нем пустоту. Ни одного слова, способного выразить его ужас и неожиданно возникшую ненависть. Жестокую, безграничную ненависть. Впервые после исчезновения Клемана Жильбер пожалел, что мальчика нет рядом с ним. Клеман лучше понял бы, нашел бы правильное решение. Этой ночью Жильбер будет спать с лошадьми, чтобы их запах придал ему сил. И во сне к нему непременно явится ангел. Ангел подскажет, как защитить добрую фею. Жильбер в этомне сомневался. Разве добрая фея с улыбкой на губах не сказала ему однажды, ласково гладя по волосам: «Ангелы любят простодушных. Они им помогают немного отдохнуть». Жильбер ненадолго забылся лихорадочным сном. Он видел смутные тревожные кошмары, слишком сложные, чтобы он мог найти им объяснение. В то же время его не покидала настойчивая мысль. Он должен был найти способ, как уберечь добрую фею от гадюки, не взяв на свою душу грех, который навсегда закроет перед ним врата рая. Жильбер был готов на все, но только не на разлуку со своей феей на этом и на том свете. Перспектива казалась ему такой безвыходной, такой ужасной, что он расплакался, коря себя за свой неповоротливый ум. Рассердившись на собственное бессилие, он принялся бить себя кулаками по ногам и рукам. Он заслужил подобное наказание. И даже более серьезное. Он долго плакал. Слезы ручьем текли по его лицу, но он даже не вытирал их. Обезумев от усталости и паники, он наконец заснул под мерное дыхание першеронов. И ангел явился ему.Хутор Лож, окрестности Отон-дю-Перш, Перш, октябрь 1306 года
Жозеф из Болоньи бросил суму, в которую собирал лекарственные травы, на утоптанный земляной пол хижины и нежно позвал: – Полина! Тут же послышался звук легких шагов по лестнице, ведущей в спальню. Совсем юная девушка с белокурыми волосами бросилась ему навстречу: – Как я рада вновь вас видеть! Однако я немного ревную! До ее приезда вы не так часто меня навещали! Жозеф улыбнулся, покачав головой. Показав на суму, он сказал: – Я принес немного еды. Она вкусная. – Вы не должны так поступать, – проворчала она, как обычно. – Ведь вы воруете еду у графа и графини, а они добрые господа, разве нет? – Ничего я не ворую, – защищался мессир Жозеф. – Это остатки пищи, которую каждое утро Ронан раздает бедным. В конце концов, вы тоже не богатая. Конечно, это трефная[364] пища… Но у нас нет другого выбора. Конечно, несоблюдение кашрута[365] показывает, что мы всего лишь слабые грешники, которые смешивают то, что нельзя смешивать. Однако строгое соблюдение наших законов привело бы нас на костер, что вовсе не понравилось бы Богу. Полина опустила глаза. Она колебалась. – Порой я спрашиваю себя, почему Он так долго испытывает нас. Только не говорите, что я богохульница. Ум – это дар И,[366] и не воспользоваться им было бы грешным делом. – Не знаю, моя славная Сара… Полина, – поправил себя Жозеф. Молодая женщина пристально смотрела на старика своими трогательными глазами. Начиная с VI века евреи постоянно подвергались издевательствам, дискриминации и гонениям. Исключением стал период правления Людовика I Благочестивого, взявшего евреев под свою защиту. Наступило временное затишье. Но длилось оно недолго. Филипп Август, воспользовавшись народной злобой, изгнал евреев, конфисковал их имущество и аннулировал кредиты всех заемщиков, в число которых входило и Французское королевство. Хорошенькое дельце! Филипп Красивый пошел по стопам своего славного предка и несколько месяцев назад[367] издал ордонанс, предписывающий всем евреям покинуть территорию Французского королевства, хотя многие сеньоры открыто возражали, поскольку у них не было никакого желания терять денежную манну, сыпавшуюся на них благодаря евреям. Некоторые из них, в том числе монсеньор д’Отон, были даже шокированы этой охотой на ведьм, усиливавшейся, когда задолженность королевства перед банкирами-евреями достигала астрономической суммы. – Неужели они начнут травить нас как диких зверей? – Безусловно, если узнают, что мы евреи. – Она знает. – Она ничего не скажет, даже под пытками. Не волнуйся. Мой господин обещал помочь мне уехать в Прованс или Неаполитанское королевство. Карл II Анжуйский, кузен Филиппа Красивого, понял, какую выгоду он сможет извлечь благодаря нам. Если хищники подойдут слишком близко, я никогда не брошу тебя, Сара. Ты поедешь со мной. Артюс д’Отон – человек истинной чести. Он никогда не отказывается от данного слова, даже если ему приходится за это пострадать. Сейчас же нам необходимо жить под его покровительством и скрывать нашу веру. Пока это служит нам лучшей защитой. Где твоя юная сестра Адель? – Она в курятнике. – Пойду к ней. Она смотрела ему вслед, на его спину, которую годы так и не сумели согнуть. Она вспоминала, хотя и ненавидела воспоминания. Но, несмотря на все ее усилия, ужас одного далекого вечера и агония последовавших за ним месяцев навсегда врезались в ее разум и плоть. Она возвращалась домой, на улицу, куда переселили всех евреев, чтобы за ними было легче следить. В глубине души Сара не считала эту меру постыдной. Теперь они жили все вместе, и соседство соплеменников внушало ей спокойствие. Но только не в тот вечер. Она шла быстрым шагом, ведь уже спускались сумерки, и это немного беспокоило ее. В этот момент они вышли из таверны и захохотали, увидев ее накидку. Прыская от смеха, они пошли за ней следом. Она ускорила шаг. Но они были настолько пьяны, что их неуместная веселость уступила место непристойной злости. Один из них сорвал с нее накидку, другой с такой силой толкнул, что она чуть не упала в канаву. Только не бежать. Иначе они пустятся за ней в погоню. Как можно скорее добраться до Еврейской улицы. Редкие прохожие наблюдали за происходящим, но не осмеливались вмешиваться. За спиной Сары раздался пьяный голос: – Ну, прекрасная нищенка! Похоже, вы не любите христианских нежностей? Вы ошибаетесь. Мы умеем обращаться с дамами! – Только за одним исключением: это не дама, это еврейка. – Говорят, они смазливые и горячие, – подхватил третий фривольный голос. Мод их похотливыми шуточками скрывалась ненависть. Сара явственно чувствовала эту ненависть, надвигавшуюся на нее, словно массивная стена. А потом был кошмар. Они затащили ее на задний двор небольшого дома и бросили под дверь. Она кричала во весь голос. На нее обрушились оплеухи и удары кулаков. Они, безумно хохоча, по очереди изнасиловали ее. На одном из окон дома опустилась кожаная занавесь. Жилец досыта насладился зрелищем. Она замолчала. Прошла целая вечность после их ухода. Сара, сидя на плитах двора, наконец разрыдалась. Из дома вышла пожилая женщина. Вздохнув, она сказала: – Слезы горю не помогут, девочка. Поверь мне. В конце концов, они тебя не убили. Вставай! Иди за мной. Я приготовлю тебе лохань, чтобы ты смогла вымыться. Хорошенько подмойся. Возможно, тогда ты не понесешь. Но этого избежать не удалось. С непокрытой головой она вернулась на Еврейскую улицу. И вновь на ее щеки обрушились оплеухи. Сара смирилась с тем, что ее третировали, проклинали. Она ничего не могла поделать. Когда она поняла, что забеременела, у нее возникло такое чувство, будто ее изнасиловали вновь. Мысль о том, что она родит ребенка от солдафона, обесчестившего ее, вызывала у Сары такое сильное отвращение, что самоубийство казалось ей более приемлемым решением. Злоба, которую она испытывала к будущему ребенку, внушала ей ужас. Свою единственную надежду на спасение она связывала с Жозефом из Болоньи, врачом, которому не было равных, гуманистом, философом. Их община хранила о нем самые добрые воспоминания. Он мог ее спасти, хотя женским чревом занимались только женщины. Узнав, что Жозеф часто посещает богатую библиотеку Сорбонны,[368] Сара сразу же бросилась туда. Отойдя достаточно далеко от Еврейской улицы, она сняла накидку и спрятала ее в небольшой мешок. Стоя на улице под моросящим дождем, она ждала мессира Жозефа целый час. Узнав врача по описаниям людей, которые хорошо его знали, Сара бросилась навстречу, едва мессир Жозеф показался вверху лестницы. Жозеф из Болоньи молча выслушал Сару, ни разу не перебив. Он только хмурил брови, когда душившая его ярость была готова вырваться наружу, превратившись в проклятья и грязные ругательства. Наконец он мягко, но решительно произнес: – Я не могу сделать то, о чем ты просишь, девочка. Пусть даже речь идет о насилии. Я готов прервать беременность только в том случае, если матери грозит смерть. Но это не твой случай. Ты молодая, пышешь здоровьем. – Я ненавижу этого ребенка, я не хочу его! Они навсегда обесчестили меня, мессир. Если все узнают, а через несколько недель я уже ничего не смогу скрыть… – Это не твоя вина. Ты была одна, а их было трое пьяных солдат. Ты защищалась. А потом, если ты родишь этого ребенка, значит, ты сможешь зачать и других. В браке нет ничего более ужасного, чем бесплодие. Ни слезинки. Старая женщина, которая позволила ей вымыться и привести в порядок одежду, была права. Слезами горю не поможешь. Она пристально посмотрела на врача и процедила сквозь зубы: – Я вас ненавижу. Вы принуждаете меня родить порочного ребенка, терпеть его всю жизнь, хотя он уже мне омерзителен. – Ты научишься его любить. – Никогда. Я уеду из Парижа… Я найду… Есть женщины… – Они хуже стервятников. Они так разворошат твои внутренности, что ты никогда не сможешь зачать, если, конечно, не умрешь через несколько дней от лихорадки. – Ну и пусть. В обоих случаях этим я буду обязана вам. Я предпочитаю смерть унижению, бесчестию. Я все равно не переживу этого позора. Жозеф внимательно смотрел на прелестное личико, на большие, еще детские голубые глаза, на решительно сжатые губы. Опасаясь, что Сара совершит безумный поступок, последствия которого сейчас не в состоянии оценить, он сказал: – Тогда идем со мной. Я буду наблюдать за твоей беременностью. А если потом ты решишь избавиться от ребенка, я тебе помогу.Так три года назад Сара, ставшая Полиной, поселилась в Перше, на хуторе Лож. Младенец – крошечная девочка – после своего появления на свет прожила лишь один короткий час. С тех пор Жозеф оберегал Полину, которая не захотела возвращаться на Еврейскую улицу, зная, какая судьба уготована ее соплеменникам. Когда мессир Жозеф попросил Полину приютить Адель и выдать ее за свою сестру, поскольку они действительно были похожи, она не стала задавать никаких вопросов и без колебаний согласилась. Адель собирала яйца, когда Жозеф появился на пороге курятника. Он кашлянул. Адель обернулась, и счастливая улыбка озарила ее лицо. – Мой учитель, какое счастье вас видеть! Чему сегодня вы будете нас учить? Астрономии, математическому искусству или греческой философии? Жозеф смотрел на стройную юную девушку с медовыми волосами, ниспадавшими на плечи, с сине-зелеными глазами, слишком высокую для своего возраста. Боже, как она была на нее похожа… На Аньес де Суарси. Клеманс. В сотый раз мессир Жозеф попытался убедить ее: – Твое отсутствие доставляет ей страдания. Жестокие страдания. Ее гложет тревога. Почему ты не хочешь, чтобы я сказал ей, что ее любимая дочь скрывается в двух шагах от нее, что она жива и здорова? Очаровательное личико омрачилось печалью. – Она знает, что я жива и здорова. Она это чувствует, точно так же, как и я. Мы так тесно связаны. – Клеманс потупила взор и нежным тоном продолжила: – Мессир Жозеф, еще слишком рано. Ради нашей общей безопасности. Что касается графа д’Отона, он пока не должен знать, что я родная дочь его возлюбленной супруги. – Я никогда не скажу ему об этом, даю тебе слово. – Месяц назад в деревню приходили какие-то люди и расспрашивали о мальчике. Друзья или враги, не знаю. Если с моей любимой матерью что-то случится, со мной все будет кончено. Поймите меня правильно, мессир Жозеф. Я мечтаю только об одном: броситься к ней, оказаться в ее объятиях, говорить с ней, упиваться ее словами все дни напролет… Однако если мои враги, следуя обыкновенной логике, не спускают глаз с моей матери, они наверняка доберутся до Ложа, а она этого даже не заметит. Манускрипты спрятаны в надежном месте. Никому и в голову не придет искать их там. Но я боюсь приспешников камерленго. Они действуют так подло, так беззастенчиво, так жестоко… Разве можно быть уверенным, что они не вынудят меня признаться, где находится тайник? На юном лице вновь заиграла улыбка. – Как она поживает? Настала очередь Жозефа отвести взгляд. Он не сомневался, что девушка прочтет в его глазах все, о чем он умолчал, чтобы избавить ее от бесконечных часов ужаса: о попытке отравить ее мать, о заключении графа в темницу. – Если не считать того, что ей не хватает тебя, как воздуха, она пребывает в добром здравии и озаряет своим присутствием огромный замок так, что всем нам легко дышится. Когда я смогу сообщить ей счастливое известие? Ах, я уже так отчетливо вижу, как она радуется… – Сомневаюсь, мессир Жозеф, – поправил врача голос, прерывавшийся от волнения. Они одновременно обернулись. Перед ними, бледная как саван, стояла Аньес, дама де Суарси. Она закрывала ладонью рот, сдерживая крик, возможно, стон. К ее счастью примешивалась острая как лезвие боль. Аньес подняла брови, стараясь восстановить дыхание, подыскивая слова: – Я шла за вами, мессир врач. Меня заинтриговали ваши частые прогулки по лесу, из которого вы возвращаетесь с пустой сумой. Аньес смотрела на свою дочь. Не в состоянии сделать ни жеста, ни шага, она прошептала: – Упивайся моими словами, дорогая. Упивайся мной до самого вечера. Да, ты права. Я больше не приду сюда и не увижу тебя до тех пор, пока наши враги не потерпят поражение. Они слишком неуловимые и грозные. Они намного опаснее, чем ты думаешь. Но я ношу тебя в себе, я помню все фразы, сказанные тобой, и повторяю их, пока не засну. Клеманс бросилась к матери и крепко сжала ее в своих объятиях. Она долго плакала, прижавшись к обожаемой женщине, которой ей не хватало до боли, до головокружения. Потрясенный Жозеф из Болоньи вдруг почувствовал несказанное облегчение и пошел к хижине Полины.
Лес Клэре, мануарий Суарси-ан-Перш, Перш, октябрь 1306 года
Жильбер ликовал. От полной торбы исходил тяжелый запах свежей земли. Его фея будет счастлива, будет гордиться им, когда увидит собранные крепкие боровики[369] со шляпками размером с ее ладонь. Аделина насушит их на зиму, развесив над кухонным камином. А потом она нафарширует грибами свинью, которую зарежут в декабре. Довольный Жозеф перекинул тяжелую торбу через плечо и поспешил в мануарий. Вдруг, повинуясь инстинктивному чувству, он остановился и спрятался за могучий дуб. По опушке леса ехали два всадника, вернее, всадница и ее сопровождающий. Они проехали в двух туазах от Жильбера, даже не догадываясь о его присутствии. Обезумевший от страха Жильбер не мог сдвинуться с места. У него в голове вихрем носились мысли, но ему никак не удавалось сосредоточиться ни на одной из них. Его добрая фея. Его добрая фея скоро вернется из От-Гравьера, куда она поехала, чтобы проследить за добычей руды. Жильбер со всех ног бросился к мануарию, словно за ним гнался дьявол.От страха Жильбер Простодушный дрожал всем телом. Во рту у него пересохло. Она была там. Он видел ее, подлую ведьму с белокурыми волосами и зелеными глазами. Она бродила вокруг Суарси в сопровождении разбойника с физиономией висельника, одного из тех наемников, которые в мирное время зарабатывали себе на жизнь, предлагая свои услуги заказчикам, не желавшим опускаться до подлых дел и испытывать угрызения совести. К страху Жильбера примешивалось отчаяние. Он мог бы убить гадину, свернуть ее длинную тонкую шею своими ручищами. Это заняло бы всего лишь несколько секунд. В конце концов, она была не подлинным Божьим созданием, а подлой ведьмой. Но рыцарь был непреклонен: тогда Жильбер лишится места в раю рядом со своей доброй феей. А этот мужчина с бездонными глазами знал, о чем говорил, поскольку два года назад Аньес де Суарси поведала Жильберу, что тот был рыцарем Христовым. Сочетание этих двух слов показалось тогда Жильберу таким чудесным, что он, потрясенный до глубины души, навсегда запомнил его, хотя забыл о многих других вещах. Ангел, явившийся ему, когда он крепко спал между ног Розочки, тоже выражался предельно ясно. Жильбер не должен запятнать свои руки кровью. Он не должен убивать чудовище. Неужели это действительно был серафим? Жильбер не знал. На кого похожи ангелы? К тому же он не помнил его лица. Однако утром, проснувшись, Жильбер знал, что делать. Неужели его слабый ум самостоятельно принял решение? Конечно, нет. Только ангел мог его подсказать. Да, небесное создание в своей бесконечной доброте указало ему способ защитить добрую фею и тем самым сохранило для него место в раю рядом с ней. Страх исчез. Жильбер прыснул от удовольствия, прикрыв рот широченной ладонью. Он направился в дровяной сарай, расстелил возле двери полотно и стал укладывать на него хворост и небольшие поленья. Потом он добавил несколько охапок сырой соломы и взвалил мешок на спину, посвистывая от удовольствия. Он хорошо знал свое дело.
– Эй, деревенщина! – закричала мадам де Нейра, въезжая в просторный двор мануария, ладонью защищая глаза от лучей заходящего солнца. Жильбер, притворявшийся, будто осматривает копыта Розочки, вновь почувствовал страх. Но на этот раз к страху примешивалась жестокая, убийственная ярость. Он чуть не рассмеялся, подумав, какой сюрприз приготовил чудовищу. Страж мадам де Нейра недружелюбно посмотрел на Жильбера, когда тот подходил к саврасой кобыле его хозяйки, и прорычал: – Держись на почтительном расстоянии, деревенщина, если не хочешь познакомиться с моим клинком. – Э… Да что ты такое говоришь, человек? Я должен подойти ближе, чтобы послушать эту прекрасную даму! Какая муха тебя укусила, парень? – Слабоумный, мадам, – сказал разбойник. Впервые в жизни Жильбер радовался, что Бог наградил его физиономией дурачка и заплетающимся языком. Но Жильбер вовсе не был законченным идиотом, как думали эти двое. Добрая фея по мере возможности развивала его детский ум, хотя он так и не повзрослел. Поколебавшись, Од выбрала мягкий тон. – Я ищу мадам д’Отон, Аньес де Суарси, одну из моих лучших подруг. Я уже давно потеряла ее из виду. Не хочешь ли ты сказать мне, где она? Это было бы так любезно с твоей стороны. – Да-а, да-а… – Где она сейчас? – настаивала Од де Нейра медоточивым голосом, который она считала достойным самых высоких похвал. – Там, там, – ответил Жильбер, показав рукой на поля, окружавшие мануарий. – Ты можешь меня туда проводить? Я хочу обнять свою подругу. Игла, пропитанная соком анчара, которую она заранее приготовила и спрятала в мешочек, висевший на поясе, сделает все остальное. Испокон веков туземцы Африки и Азии смазывали кончики стрел соком анчара, отправляясь на охоту за крупной дичью. Одной стрелой можно было убить буйвола. Глубокая царапина, и прекрасная Аньес быстро отправится к праотцам. Пятнадцать минут агонии, и ее сердце перестанет биться. Грозный и удобный, в отличие от многих других, яд. Ведь чтобы убить, было достаточно нанести одну глубокую царапину. – Конечно… Но сейчас моя дама занимается медовыми мухами. Она окуривает ульи, чтобы собрать их мед. Последний в этом году. «Боже мой, какой ужас!» – подумала мадам де Нейра. Аньес так и не избавилась от манер вилланки. Черт возьми! Она же теперь была графиней д’Отон! Как она могла опуститься до столь презренной работы? – Ну что же, мы поможем ей, – предложила Од де Нейра, старательно скрывая отвращение. – Проводи меня. А вы, – бросила она своему подручному, – подождете меня здесь. Разбойник удивился, но не подал вида. За повиновение ему щедро заплатили. Од же ни за что на свете не хотела, чтобы свидетель убийства смог когда-либо причинить ей вред. Их будет только трое: Аньес, слабоумный слуга и она сама. Двое вернутся живыми. Да и кто поверит бреду идиота от рождения, если на то пошло? Тем более что он не поймет, почему умерла его госпожа. Испытывая сладостное предвкушение, Од выпрямилась в седле. Она пустила кобылу шагом, следуя за Жильбером Простодушным, который что-то бормотал себе под нос. Од не поняла ни одного слова из его странного монолога. Впрочем, то, что он говорил, никого не интересовало. Надо было действовать молниеносно. Спешиться, растянуть губы в лучезарной улыбке, броситься к Аньес, крепко прижать ее к себе и вонзить иглу в плечо. Аньес не должна успеть понять, что они никогда не были знакомы. Од не имела права отступать. Несколько секунд промедления могли погубить ее столь блестящий план. Густой дым окутывал рощу, расположенную в нескольких туазах от них. Од различила силуэт. Аньес. Жильбер Простодушный шел впереди. Од со страхом отогнала от себя нервным жестом несколько надоедливых медовых мух, кружившихся вокруг нее. Слуга остановился и сказал: – Дальше идти опасно. Они нервничают, потому что у них забирают мед. Я предупрежу нашу даму. Вам лучше спешиться. Я отведу лошадь немного назад. Иначе она испугается. Жильбер схватил мадам де Нейра за талию и опустил на землю. Од даже не успела возмутиться. Потом он тщательно смахнул пыль с ее фиолетового платья из плотного шелка. – Прекрати! Позови же, наконец, свою госпожу, мою подругу. – Да-а, да-а… Жильбер спокойно двинулся к плотной дымовой завесе и скоро скрылся в ней. Он заговорщически подмигнул чучелу, которое соорудил чуть раньше. Вдруг он стрелой помчался вперед и изо всех сил ударил сабо по улью. Улей упал. Жильбер помчался еще быстрей. Он бежал к пруду, собираясь в случае необходимости нырнуть в него с головой. Обезумевший рой вылетел из опрокинутого улья. Жужжание пчел напоминало раскаты грома. Наконец пчелы почувствовали главный запах – запах своего короля.[370] Огромная туча, устремившаяся на защиту своего суверена, заволокла небо. Од видела, как она неумолимо приближается к ней. Она бросилась бежать, пытаясь разогнать руками десятки тысяч насекомых.[371] Од кричала, как одержимая бесами. Пчелы сбились с пути. Не понимая поведения своего короля, они напали на Од. Мадам де Нейра упала. Через четверть часа она умерла от удушья. Ее ангельское лицо было обезображено отеками и укусами. В эти казавшиеся бесконечными минуты, когда она еще не потеряла сознание, в ее памяти всплывали чудовищные картины, а в ушах звучал голос ведьмы:
Вы умрете в жестоких муках и навсегда будете прокляты… Тот или та, кто покушается на мою жизнь, познает худшие страдания, нежели те, что терпят грешники в аду! Они дали слово и всегда держат его. Те самые, из преисподней!Как ни странно, но единственным утешением Од, объятой ужасом из-за того, что она так и не сумела уравновесить чаши весов своей совести, служили воспоминания не об Анжелике, а о Гонории. И когда смерть вцепилась ей в горло, когда ей стало не хватать воздуха, Од молилась только за него.
Жильбер долго мыл руки, очищая их от земли. Он корил себя за злую шутку, которую сыграл со своими крылатыми друзьями. Но они поймут и простят его. Он окуривал улья, чтобы найти короля. Затем он раздавил его, зажав между двумя камнями, и тщательно собрал выделившуюся жидкость,[372] которой затем пропитал платье злой ведьмы, делая вид, будто стряхивает с него пыль. Почувствовав сладостное облегчение, Жильбер рассмеялся. Он сдержал слово, данное рыцарю, и не обагрил свои руки кровью. Он не убивал ведьму. За него это сделали пчелы. В конце концов, если бы злая фея не размахивала руками, не визжала бы как свинья, которую режут, маленькие медовые мухи не стали бы ее жалить. Но тут Жильбер заволновался: не лишил ли он их места в раю? Быстрее, надо возвращаться в мануарий. Его добрая дама должна вот-вот приехать. Радость от предвкушения скорой встречи вытеснила тревогу о судьбе пчел.
Замок Отон-дю-Перш, Перш, октябрь 1306 года
Леоне, лежа в своей комнатке над конюшнями, пребывал в нерешительности. Вот уже несколько часов он взвешивал все «за» и «против». Впервые в жизни одиночество было рыцарю в тягость. Аньес, несмотря на всю свою мудрость и живость ума, не могла дать Леоне совет, ибо речь шла о ее сердечных переживаниях. В других обстоятельствах признаться инквизиции в убийстве Никола Флорена, чтобы снять с монсеньора д’Отона все подозрения, показалось бы ему единственным приемлемым решением. Однако рыцарь должен был оберегать Аньес и разыскать Клемана раньше, чем до мальчика доберутся люди камерленго. Достойно сражаться можно только с достойными врагами. Нечто противоположное было бы безумной глупостью.Устроившись в маленьком круглом кабинете графа, Монж де Брине, сурово нахмурив брови, занимался текущими делами. Сведения, тайно полученные то тут, то там, совпадали. Казалось, Дом инквизиции Алансона охватила тревожная апатия. Жак дю Пилэ утверждал, что у него появилась необходимость собрать дополнительные свидетельства. Судьи до сих пор не вызвали монсеньора д’Отона на второй допрос, и он по-прежнему томился в камере для свидетелей, то есть для тех, кому еще не удалось предъявить обвинение. Неуверенность приводила бальи в бешенство. Все было готово. Он мог незамедлительно сдержать обещание, данное графу, и отправить мадам Аньес и ее сына на Сардинию, гарантировав тем самым их безопасность. Правда, он держал мадам в неведении относительно намерений ее супруга. Поставить графиню в известность означало бы огласить ей смертный приговор. И все же Монж де Брине пока не терял надежды.
Монж де Брине встал, приветствуя рыцаря де Леоне. Тот кивком отклонил предложение сесть. – Мсье, вы человек чести и доверяете графу. – Я люблю его. – Вы прекрасно знаете этот край, и поэтому я прошу вас о помощи. У нас очень мало времени, поэтому я не буду ходить вокруг да около, пусть и покажусь вам немного грубым. Монж де Брине молча ждал. – Нужно организовать лжесвидетельство. Вы считаете это постыдным? – Чтобы освободить монсеньора д’Отона? Разумеется, нет. Постыдно ставить под сомнение слова графа и обвинять его в преступлении, которого он не совершал. К вашим услугам, мсье. От чистого сердца. Только скажите, как я могу вам помочь.
Женское аббатство Клэре, Перш, октябрь 1306 года
Взволнованная Тибода де Гартамп, сестра-гостиничная, вихрем ворвалась в кабинет Аннелеты, с трудом сдерживавшей грубые слова, вот-вот готовые сорваться с языка. Тибода вертелась на месте, размахивала руками, как обезумевшая от страха гусыня хлопает крыльями, лихорадочно открывала и закрывала рот, что делало ее похожей на карпа, выпрыгнувшего из садка. Усмирив свой гнев, Аннелета как можно мягче сказала: – Успокойтесь, дорогая дочь, и объясните, что вас так взволновало. «О-о-о-о» было единственным ответом, которого ей удалось добиться. Аннелета, знавшая, что у Тибоды часто бывают нервные припадки, сохраняла относительное спокойствие. Ей удалось выдавить ангельскую улыбку. Тибода немного пришла в себя. – Матушка… ваш брат… – Мой брат? Какой? – Кровный. – Грегуар? – Да, да… Он ждет… в приемной… Он просит вас удостоить его чести и поговорить с ним. Аннелета Бопре резко встала. На нее нахлынула волна неприятных воспоминаний. Неожиданная боль сдавила ей грудь. Зачем Грегуар приехал в Клэре через тридцать лет после того, как его единственная сестра навсегда покинула отчий дом? Ни он, ни их отец никогда не сообщали о себе или челядинцах и уж тем более не осведомлялись о ее здоровье. Аннелета узнала о смерти матери лишь через несколько лет. Отец и брат поделили наследство, доставшееся им от неприметной женщины, которая жаждала вознестись в райские кущи, полагая, что это событие должно произойти со дня на день. Разумеется, Аннелета отказалась бы от земельных владений и отдала бы свою долю аббатству, постепенно заменившему ей семью, ставшему ее единственной вселенной. Но она хотела бы оставить себе Псалтирь, обложку которой мать вышила изображениями множества улыбающихся крылатых созданий. Едва Аннелета вошла в приемную, как Грегуар встал и застыл на месте. По всему было видно, что он чувствует себя неуютно. Знахарь растолстел, тело его стало дряблым. Что касается его сына, мальчика лет пятнадцати, он был удивительно похож на отца. Аннелета ждала. Ей совсем не хотелось облегчать брату задачу. Она не предложила ему сесть, показывая тем самым, что свидание будет коротким. – Моя возлюбленная сестра… Э… моя матушка… – Сын мой, брат мой, – в тон ему откликнулась Аннелета. – Как мы радовались, да что я говорю, упивались счастьем, когда узнали, что капитул выбрал вас новой аббатисой! – Правда? Значит, вы лучше осведомлены, чем я, поскольку я даже не знаю, жив ли наш отец. Толстые щеки еще сильнее обвисли. – Увы! – ответил Грегуар печальным тоном. – Скоро сравняется десять лет, как он скончался. Воспаление легких… Я не сумел его вылечить, несмотря на все мои знания и усилия. «Еще одна врачебная ошибка», – подумала Аннелета. Отец стал еще одной жертвой, отправившейся в мир иной вслед за многочисленными пациентами обоих шарлатанов. – Позвольте, сестра моя… мать моя, представить вам вашего кровного племянника, Тибо, моего последыша от второго брака. Увы! Судьба ополчилась на нашу семью. Моя вторая супруга умерла при родах, равно как и первая. «Потому что ты сам принимал роды, решив не прибегать к услугам опытной повитухи, которой пришлось бы платить. Чего ты хочешь от меня, Грегуар? Уж больно ты стал медоточивым. Давай, поторапливайся. У меня мало терпения, и я не собираюсь тратить его на тебя». – У меня много дел, сын мой. Не сомневаюсь, поездка в Клэре была изнурительной. Я предлагаю вам ночлег и ужин в нашем гостином доме. – О!.. Я не хочу злоупотреблять вашим временем. Цель моего визита, не говоря о счастье видеть вас в добром здравии… так вот, это весьма щекотливая тема. Вы же знаете, нынче все так дорожает… «А ты такой же скряга, как твой отец». – Мне нужно пристроить четырех сыновей. К счастью, у меня нет дочери… Э, при всем моем уважении к прекрасному полу… Станут ли они солдатами, монахами или врачами, все равно мне это обойдется в целое состояние. – И как я могу помочь вам, если у меня нет личных средств? Грегуар с облегчением вымолвил: – Э-э… вы занимаете такую высокую должность, пользуетесь превосходной репутацией, аббатство, которым вы управляете с удивительным талантом, снискало себе широкую известность… Вот я и подумал, что возможно… Пристальный взгляд бледно-голубых глаз заставил Грегуара забыть все заранее подготовленные фразы, которыми он надеялся смягчить Аннелету. – Подумали о чем? – Э… возможно вы согласитесь замолвить за нас словечко… в Риме. – В Риме? – Место секретаря для моего младшего. Он умный, трудоспособный… Я уверен, что он не подведет вас и быстро займет более престижную должность. Возможно, казначея. Аннелета невозмутимо смотрела на брата. Грегуар опустил голову так низко, что его подбородок уперся в шею. – Сестра моя… матушка… я так корил себя зато, что наш отец столь жестоко поступил с вами. Я должен был воспротивиться его решению. Но я всегда был слишком послушным сыном и теперь молю вас простить меня. Горечь Аннелеты сменило удивительное чувство. Значит, Грегуар приехал снискать милость у той, которую с удовольствием бы запер в чулане, чтобы она стирала грязное белье его больных. Сейчас она имела полное право на реванш или, по крайней мере, на законное удовлетворение давней обиды. Но она не думала об этом. Присутствие брата в Клэре раздражало ее. Что касается племянника, то и дело одаривавшего ее натянутыми улыбками, он был ей безразличен. Она больше не сердилась на них. Ни на Грегуара, ни на отца. Они исчезли из ее мира. Наконец-то! – Да, Грегуар! Вы принимали и продолжаете принимать меня за идиотку. Сын мой, мы не испытываем друг к другу ни капли любви. Давайте прекратим ломать комедию. Единственным удовлетворением, которое я получила от вашего визита, служит новое доказательство того, что мы с вами принадлежим к разным породам. Я замолвлю слово за вашего сына. Прощайте, брат мой. Прошу принять наше гостеприимство и остаться у нас на ночь. Завтра рано утром вы уедете. – Тетушка… – с благодарностью в голосе прошептал племянник. Аннелета прервала его ледяным тоном: – Мадам моя матушка! Она повернулась и бросила через плечо: – Грегуар, не стоит приезжать в Клэре и благодарить меня, когда вы получите то, чего хотели. Вы не будете моим должником, поскольку, сами того не ведая, оказали мне ценнейшую услугу. Аннелете показалось, что Элевсия де Бофор поцеловала ее в лоб. После стольких лет воспоминания оставили ее в покое.Дом инквизиции, Алансон, Перш, октябрь 1306 года
Бернадетта Карлен ждала, скрестив руки на животе. На ее стройную фигуру было приятно смотреть, но жизнь не пощадила совершенного овала лица и заставила погаснуть прелестные серые глаза. В зале для допросов стояла тягостная тишина, нарушаемая лишь шелестом листов, которые нервно поворачивал и переворачивал сеньор инквизитор. – Извольте сообщить нам ваши имена, фамилию и состояние, мадам. – Бернадетта Жанна Мари Карлен, урожденная Бардо. Вдова, наемная златошвейка.[373] Нотариус встал и недовольным тоном зачитал: – In nomine domine, amen.[374] В 1306 году, 24 числа октября месяца, в присутствии нижеподписавшегося Готье Рише, нотариуса Алансона, одного из его секретарей и свидетелей по имени брат Робер и брат Фульк, доминиканцев из Алансонского диоцеза, урожденных соответственно Анселен и Шанда, Бернадетта Жанна Мари Карлен, урожденная Бардо, добровольно предстала перед досточтимым братом Жаком дю Пилэ, доминиканцем, доктором теологии, сеньором инквизитором территории Эвре, назначенным для рассмотрения этого дела в нашем славном городе Алансоне. Жак дю Пилэ подошел к женщине, внимательно глядя на нее. – Бернадетта Карлен, вот четыре Евангелия. Положите на них правую руку и поклянитесь говорить правду, как о самой себе, так и о других. Вы клянетесь перед Богом своей душой? – Клянусь, – произнесла женщина неуверенным тоном. – Разумеется, вы знаете, что клятвопреступление не только осквернит вашу душу, но и навлечет на вас гнев инквизиторского суда. – Знаю, сеньор. Моя душа чиста, и Господь может в этом удостовериться. – Итак, несколько дней назад вы сделали нам странное признание. Запоздалое, но умело составленное. – Я не умею ни читать, ни писать, сеньор, и поэтому продиктовала свои слова публичному секретарю. – Хм… Так вот в чем дело. И что же вы нам хотите сообщить? Жак дю Пилэ начал читать спокойным голосом:Сеньору инквизитору, которому поручено расследовать убийство доминиканца Никола Флорена.– Вы готовы отказаться от своих слов, мадам? – Ни в коем случае. Я подтверждаю свои слова и клянусь, что это правда. Невиновный не должен отвечать за преступления моего подлого мужа. Мы и так много выстрадали. Раздался неприятный писклявый голос брата Робера Анселена: – Кто и сколько вам заплатил за это ложное свидетельство? Бернадетта Карлен закрыла глаза, словно от пощечины. Потом она внимательно посмотрела на доминиканца и твердым голосом произнесла: – Мсье, я, конечно, всего лишь бедная женщина, которая трудится денно и нощно, чтобы прокормить троих детей. Но я никогда не воровала. Да я лучше умру, чем нарушу клятву, данную на Евангелиях. Она перекрестилась и повернулась в Жаку дю Пилэ, ни на секунду не спускавшему с нее глаз. Что-то в ее поведении вызывало у сеньора инквизитора удивление. Несмотря на поношенную, но безукоризненно чистую одежду, чепец из толстого льняного полотна, пальцы, израненные острыми золотыми нитями, эта женщина держалась с таким естественным достоинством, что ей хотелось верить. В ее пользу говорили и многочисленные свидетельства, собранные в ходе предварительного расследования. А вот свидетельства, касавшиеся ее вечно пьяного грубияна-мужа, не пощадили его. Бернадетта Карлен вела замкнутый образ жизни. Она откладывала работу в сторону только для того, чтобы заняться детьми, которые, по общему мнению, были хорошо воспитанными и умными. Дом она покидала лишь для того, чтобы отправиться на базар или в церковь. Никто никогда не видел, чтобы она сидела в таверне или сплетничала с кумушками. А тот факт, что ей доверяли мотки золотых и серебряных нитей, свидетельствовал о ее безукоризненной честности. Но Жак дю Пилэ, будучи грозным знатоком человеческих душ, был уверен, что она лгала. Знала ли она, что он мог вырвать у нее правду под пыткой? Возможно, ведь она была умной женщиной. Так почему она так рисковала, подвергала себя такой серьезной опасности, от которой многие мужчины, не раздумывая, бросились бы бежать прочь, как от огня? Ради денег, ради своих детей, разумеется. В гробовой тишине зала он прислушивался к ее дыханию, которое она пыталась сделать ровным. Странный народец эти женщины, думал Жак дю Пилэ. Они приходят в ужас при виде мыши, но храбро лгут инквизиторскому суду, чтобы сделать жизнь своих детей лучше. Пилэ выждал еще несколько минут. По сути, эта женщина предлагала ему прекрасное лекарство от всевозрастающего недовольства. Ведь ему действительно не нравилось то, что он вынужден держать в заключении монсеньора д’Отона, твердо зная, что граф невиновен. Будучи ловким политиком, он все равно не смог бы освободить графа, даже несмотря на дополнительное расследование. А вот это свидетельство, данное в присутствии представителей Церкви, было послано ему самим провидением. Неважно, что оно было ложным. И Жак дю Пилэ, всю свою долгую жизнь неустанно преследовавший ложь, вдруг услышал свой голос, говоривший с напускной досадой: – Братья мои, всей своей душой и всем сердцем я считаю, что мы можем доверять словам этой женщины. Но все же ей придется дать три девятидневных молитвенных обета, чтобы Господь простил ее за столь долгое молчание. Нотариус, извольте записать вынесенный нами приговор. Монсеньор д’Отон свободен. Аньян, немедленно сообщите об этом графу. Молодой клирик стремглав кинулся к двери, не бросив ни единого взгляда на Бернадетту Карлен, которой несколько дней назад предложил заключить столь выгодную для нее сделку. Завтра на рассвете он отдаст ей обещанный кошелек. Через год – чтобы не вызвать подозрения – Бернадетта переедет в Шартр. Там она будет жить, не беспокоясь о завтрашнем дне. Молодому человеку пришла в голову ободряющая мысль: право, убийство чудовища Флорена искупалось сторицей.
Сеньор! Тайна, которую я храню вот уже два года, становится слишком обременительной, поскольку в городе ходят слухи, что мужчина, граф д’Отон, может быть осужден за убийство сеньора инквизитора Никола Флорена. Он не виновен, и я не могу больше хранить молчание. До сих пор я молчала, чтобы защитить имя моих детей, оградить их от нового бесчестья. Ужасная репутация отца и так легла тяжким бременем на их юные плечи. А мне этот грубиян, вор, бабник и лжец испортил жизнь. Полгода назад Господь призвал его к себе, и я не утверждаю, что это повергло нас в печаль. Он умер также, как и жил: как негодяй. Собутыльник, которому мой муж отказался заплатить карточный долг, пронзил его кинжалом, когда они вместе выходили из притона. Я, сгорая от стыда, клянусь перед Богом, что именно мой муж убил сеньора инквизитора Флорена, горожанина, как он говорил мне. Мой муж встретил его в таверне, и они напились до такой степени, что сеньор инквизитор стал делать ему непристойные предложения. Только через несколько дней мой негодный муж узнал, кто на самом деле стал его жертвой. Обезумев от страха, он решил избавиться от украденных драгоценностей. Ночью он вернулся к дому сеньора Флорена и бросил их в сточную канаву. Я нисколько не сомневаюсь, что Ваши следователи подтвердят: мой муж пользовался отвратительной репутацией, и они также расскажут Вам о моей репутации. Это истинная правда. Клянусь перед Богом.Ваша нижайшая Бернадетта Карлен.
Ватиканский дворец, Рим, октябрь 1306 года
– Кто автор этого послания? – Не знаю, – ответил секретарь, склоняясь еще ниже. – Один из стражников, стоящий у крепостной стены, уточнил, что его передал запыхавшийся всадник, французский гонец. Я подумал, что речь идет не о бесчисленных просителях, которые досаждают вам каждый день. Значит, к лучшему, что отправитель не стал ставить печать на воск и писать свое имя на свитке. Гонорий Бенедетти отпустил секретаря легким кивком. Он вертел послание в руках, тщетно ища подпись. Его рот скривился от недовольства. Что это? Анонимное письмо. Какая наглость! Тем не менее он решил ознакомиться с содержанием послания. По мере того, как он расшифровывал высокий стремительный почерк, его сердце билось все сильнее. Ему казалось, что в его мозг вонзались острые лезвия. Он был вынужден по несколько раз перечитывать невыносимые слова прежде, чем до него доходил их смысл.Ваше святейшество! Мы сочли необходимым сообщить Вам о кончине мадам Од де Нейра, которая, как нам сказали, была Вашим другом. Произошел ужасный несчастный случай. Похоже, мадам де Нейра случайно потревожила улей, а вырвавшийся оттуда рой набросился на нее. После заупокойной мессы в соборе мадам де Нейра похоронили в Шартре, где она и жила.Вот и все. И ничто. Бесконечное ничто. Мысли вылетели из головы, в груди перестало биться сердце. От острой как клинок боли камерленго почти лег на стол. Широко открыв рот, он глотал воздух, но все равно задыхался. В его памяти ожило множество ужасных картин, отвлечь его от которых были способны лишь миндалевидные изумрудные глаза. Вдруг его оглушил бесконечный стон. Сначала он даже не понял, что этот стон вырвался из его груди. Ручьем потекли слезы. От них стала мокрой рука, на которую он, словно отчаявшийся ребенок, положил голову. Неужели все, за что он столько лет боролся, действительно не имело никакого смысла? Неужели он с самого начала заблуждался? Неужели Господь послал ему последнее предупреждение? Бенедикт, которого он любил как брата, даже сильнее, чем своего старшего брата по крови, Бенедикт, умерший у него на руках. Од, лучезарная Од, спасенная им от топора палача в Осере и теперь погибшая по его вине. Он запретил себе представлять это прелестное лицо распухшим от яда. Два человека, которых он искренне любил.Два человека, которые были способны сделать его дни радостными. Один-одинешенек. Его жизнь превратилась в зловещее кладбище, по которому он бродил в полном одиночестве. Ни один нежный призрак не сопровождал его, блуждавшего среди безымянных, ничего не простивших могил. Такова была цена его проклятия. Он хотел спасти людей от самих себя во имя любви к божественному агнцу. Но вместо этого он уничтожил единственное, что оставалось у него непорочным: свою бесконечную нежность к Бенедикту, свою неизмеримую потребность в Од. Странно. Он, никогда не страдавший корыстолюбием, никогда не интересовавшийся ни деньгами, ни славой, ни даже властью, оказался один в королевстве теней, созданном его собственными руками и крепко запертом на засов. Этот лабиринт ловушек, уловок, гротескных отвратительных масок сегодня вызывал у него стойкое омерзение. Огромная, бесконечная печаль. Печаль титана, вдруг осознавшего, что власть ускользнула из его рук. Печаль старика, который, оглянувшись назад, понял, что оставил за собой пустыню. Пустыню и ничего другого. Камерленго выпрямился и вытер лицо обшлагом рукава, пытаясь сдержать рыдания, упрямо вырывавшиеся из груди. Что прошептал Бенедикт XI перед смертью? «Свет, я вижу Свет. Он заливает меня… До встречи у Господа, мой милый брат». А потом пальцы Папы сильно, словно тиски, сжали руку Гонория. Но вдруг они разжались, оставив камерленго совсем одного в этом мире. Что Од сказала ему во время их последней встречи, когда он любовался ее улыбкой, всегда приносившей ему спокойствие? «Значит, вы обрекаете нас на несовершенный мир?» И на какое-то мгновение грусть заставила потускнеть лучезарный взгляд изумрудных глаз. «Ненаглядный агнец, я не могу больше заблуждаться. Признаюсь, моя слепота сравнима лишь с моим упрямством. Я так Тебя люблю. Прости меня, что я разочаровал Тебя, не понял смысла тех знаков, что Ты любезно посылал мне в своем бесконечном великодушии. Но, как ни странно, я и сейчас уверен, что был прав: только порядок, установленный нами, может спасти людей от хаоса. Но я всего лишь насекомое. Мне ведомо лишь прошлое и настоящее. Ты же знаешь будущее. Ты есть будущее. Но будет ли оно озарено Твоей славой, или оно превратится в кровавую баню? Не знаю. Странно, но это больше не имеет значения, поскольку Ты указал мне, что я не принадлежу к числу тех, кто установит будущее. Что касается всего остального, моих кровавых преступлений, в совершении которых я признаю себя виновным, то я с нетерпением жду Твоего приговора и наказания. Заплатить за все. Отделаться от угрызений совести. Заснуть наконец». Когда-то, целую вечность назад он объяснил это Бартоломео. В нашей мелочной жизни существуют великолепные моменты, которыми мы совершенно напрасно пренебрегаем. Причиной этому служат смехотворная человеческая поспешность в выводах и амбициозное желание считать себя эталоном времени. Эти моменты служат замками нашего существования. Едва мы перешагиваем через порог, как двери прочно закрываются, оставляя нас без надежды, без желания повернуть назад. Гонорий Бенедетти откинулся на высокую спинку кресла и закрыл глаза. Он тщательно обдумывал наступивший момент. Без всякого удовольствия, без малейшего страха. В простой уверенности, что время остановилось.
Он взял в руки длинный стилет, которым вскрывал печати, и залюбовался резной, словно кружево, рукояткой из слоновой кости. Подняв робу, он взглянул на дряблую белую кожу бедер. Ощупывая пах, он наконец почувствовал, как под пальцами медленно бьется его кровь, и спокойным движением вонзил в это место острие стилета. Резкая боль уже не принадлежала ему. Теплый карминовый поток обагрил бедро и лениво потек по икре. Потом из раны вырвался еще один поток. Сначала он хотел сосчитать их, но потом передумал. Он предпочел еще раз вернуться к улыбке Од, к тихому и порой неуверенному голосу Бенедикта, к креветкам, которые они ловили вместе с братом, к гортанному смеху матери. Неожиданно пришедшая в голову неуместная мысль заставила его рассмеяться: секретарям и камердинеру придется немало потрудиться, чтобы замыть красное пятно, разливавшееся по ковру. Им придется выкручиваться, чтобы не осквернить его память. И тогда Климент V сможет сообщить, что его возлюбленный брат умер от сердечной слабости в полном согласии со своей душой.
Замок Отон-дю-Перш, Перш, ноябрь 1306 года
Дни, прошедшие с момента возвращения Артюса в замок, были наполнены молчанием, прерываемым лишь светскими беседами. После бесконечного облегчения, которое она испытала, когда ее дражайший супруг наконец обрел свободу и был отмыт от всех подозрений, после всепоглощающей радости, от которой она задрожала всем телом, едва увидела, как он, исхудавший, спешивается во дворе, после безумных ночей любви, когда она рыдала от счастья и благодарности к Господу, Аньес почувствовала, что наступило время немых вопросов. Вопросов, которые отравляли все дни, настолько опасными были ответы на них. Аньес чувствовала, что они вот-вот сорвутся с языка ее супруга. Но безукоризненно воспитанный и благородный мужчина не решался их задавать, боясь поставить ее в безвыходное положение. Аньес презирала себя за трусость, которую неожиданно обнаружила у себя. И это она, бесстрашно вступавшая в схватки! Любовь к ближнему всегда делает человека трусливым, ибо он боится потерять дорогое существо. Она тщетно повторяла себе, что нет ничего более катастрофического, чем разрушительное воздействие неуверенности. Мужество оставило Аньес. Порой она бросалась к кабинету супруга, преисполненная решимости рассказать всю правду о своем прошлом, о дочерях, Клеманс, пророчестве, подлинной роли Леоне, поисках. Но в нескольких футах от двери кабинета она останавливалась и возвращалась в свои апартаменты. Сотни раз она надеялась, что слово или вздох принудят ее к откровениям вопреки собственной воле. Напрасно.Аньес показалось, что ужин длится бесконечно долго. Она, которой никогда прежде не докучали присутствие супруга, его улыбки, влюбленные взгляды, считала минуты между переменами блюд. И это приводило ее в отчаяние. Признания роились в ее голове, готовые вырваться наружу. Но от ужаса перед непредсказуемыми последствиями они застревали у нее в горле. Нет, она не уставала от взглядов Артюса, от его слов и жестов. Тем не менее сейчас его общество удручало ее. Служанка поставила на стол третью перемену, шодюме[375] из щуки, политой кислым виноградным соком и белым вином и приправленной щепоткой шафрана и имбиря. Кисловатый вкус соуса как нельзя лучше сочетался с нежной рыбой.
– Вы такая задумчивая, моя любимая… И совсем неразговорчивая. Вы хорошо себя чувствуете после той чудовищной истории, чуть не стоившей вам жизни? Ах, мадам, как только я вспоминаю об этом, мои ноги становятся ватными. Я постоянно с ужасом думаю, во что тогда превратилась бы моя жизнь, целиком принадлежащая вам. – Юмор немного разогнал запоздалый страх, и граф с улыбкой закончил: – Вы можете мне возразить, что это еще одно прекрасное доказательство мужского эгоизма. – Что вы, друг мой! Это прекрасное доказательство любви в глазах дамы, наполнившей жизнь своего возлюбленного новым смыслом. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что здоровье понемногу возвращается ко мне благодаря вашему счастливому спасению и заботам мессира Жозефа. Ужасная слабость, отбивавшая у меня желание что-либо делать, постепенно проходит. Опять воцарилось молчание. Аньес лихорадочно думала в тщетной надежде отыскать в памяти какую-нибудь приятную историю, чтобы продолжить разговор. Но потребность высказаться откровенно, все объяснить душила ее. – Может быть, мадам, вам не хватает общества рыцаря де Леоне? Ведь мы его так редко видим. – Да, – ответила Аньес, заставив себя улыбнуться. – Он очень занят. Насколько я поняла, он разыскивает диптих, который его кузен опрометчиво продал, а сейчас хочет выкупить. – Да, он мне рассказал эту историю, принося извинения за свои частные отлучки. – Граф нахмурил брови, словно силясь что-то вспомнить. – Но, мадам, видите ли, я во все это не верю. Аньес задрожала всем телом, пытаясь скрыть зарождавшуюся тревогу. – В извинения и сожаления рыцаря? – Нет. В эту байку о диптихе. Неужели Леоне пустился в долгое и изматывающее путешествие – ведь путь с Кипра неблизкий, – чтобы разыскать какое-то произведение искусства? Этот жалкий предлог мог бы вызвать у меня смех, если бы я не чувствовал, что за ним скрывается другая, намного более грозная правда. По крайней мере, я так думаю. – Орден госпитальеров, как и многие другие ордена, известен своими тайнами, к которым ни один профан не в состоянии даже приблизиться, – уклонилась от прямого ответа Аньес. Граф бросил на жену пронзительный взгляд, один из тех, которыми он удостаивал собеседников, когда сомневался в их честности. Аньес ненавидела этот взгляд. – Впрочем, вы правы, – согласилась она слишком непринужденным тоном, чтобы он мог успокоиться. На смену разговору, принявшему форму куртуазного состязания, когда каждый участник тщательно оценивает промахи и силы противника, вновь пришло молчание. Головокружение, не имевшее ничего общего с отравлением, жертвой которого она стала, немного выбило Аньес из колеи. Святые небеса! Она проклинала себя за подозрения, недоверие, печаль, за все эти чувства, которые вспыхнули у Артюса. Она понимала, что в этом есть ее вина. На что она надеялась? Глупо было верить в то, что этот умный и проницательный человек позволит себя одурачить неумелой ложью. Разумеется, какое-то время любовь к ней не позволяла ему смотреть правде в глаза. Аньес ужасно боялась, что граф рассердится на нее, узнав, что она воспользовалась его слабостью влюбленного. И из-за этого ужаса она решила ничего не рассказывать ему о своей жизни. Приход служанки, осторожно поставившей на стол блюдо с оладьями, заполнил на несколько минут тишину, ожидание, с каждым мгновением становившееся все более тягостным для них обоих. По сути, Аньес была достаточно честной, чтобы признать: она надеялась только на одно, на то, что он потребует от нее объяснений и прикажет сказать всю правду. Тогда она не сможет отступить. Он избавит ее от мучительных сомнений. Но чего на самом деле она боялась? Что он вдруг разочарует ее узостью своих взглядов. Что он недооценит ее. Не поймет, что совершенные в юности поступки, пусть и предосудительные, были обусловлены лишь безумным страхом вновь попасть в когти Эда, стать жертвой его похоти. Чтобы избежать этого, ей нужен был ребенок, но Гуго де Суарси оказался бесплоден. И тогда случайно встреченный незнакомец, о котором она давно забыла, спас ее от более грозной опасности, чем смерть. У Аньес совсем пропал аппетит. Тем не менее она взяла несколько оладий, чтобы соблюсти правила приличия. Артюс залпом выпил свой бокал и устало вздохнул. – Вам скучно, мсье? – В вашем обществе? Никогда, мадам. – Внезапно он весь напрягся и продолжил: – Аньес… говорят, любовь со временем исчезает, особенно после рождения ребенка. Вы в это верите? – Нет, – убежденно ответила она. – В любом случае, моя любовь к вам только возросла, причем до такой степени, что порой у меня кружится голова. Разволновавшись, она спросила: – Неужели вы в столь куртуазной манере намекнули мне, что ваша любовь немного остыла? Артюс рассмеялся. – Не могу поверить, что такая проницательная дама, как вы, способна выдвинуть столь нелепое предположение. Каждое мгновение моей жизни наполнено вами. И хотя тюремное заключение измотало меня, я мечтал лишь об одном: положить вас рядом с собой и лишать сна все ночи напролет. Неужели это служит свидетельством того, что мужчина разлюбил свою даму? – А разве вы сомневаетесь в моей любви? Это так неразумно… – Дорогая моя, я нисколько не сомневаюсь, – ответил он таким грустным тоном, что она встала, подошла к нему, взяла за руки и поцеловала их. – Но меня глубоко огорчает то, что вы не испытываете ко мне полного доверия. Разве я когда-нибудь давал вам повод думать, что буду глумиться над ним? – О, мой славный супруг, нет, – запротестовала Аньес. – Вы самый достойный, самый надежный мужчина из всех, которых мне доводилось встречать. Я знаю, что вы скорее умрете, чем нарушите данное слово… Что вы такое говорите! – И все же, мадам… – И все же? – с трудом произнесла Аньес. Сердце Аньес заныло. Она оказалась права. Артюс догадался об ее уловках и полуправдивых откровениях. Она приготовилась к худшему. – Прошу вас, мадам, вернитесь и сядьте на свое место. Я хочу видеть ваши глаза. Она послушно пошла назад в дрожащем свете факелов и огня, полыхавшего в камине. На несколько секунд колыхавшиеся языки пламени исказили ее силуэт. Потом вдруг он скрылся во мраке, чтобы затем вновь появиться. Артюс отказывался видеть в этом дурное знамение. Он гнал прочь мысль, что однажды Аньес может исчезнуть навсегда. Граф был уверен, что многочисленные узы, связавшие их друг с другом, не позволят ему жить, если она исчезнет. Его снова охватили сомнения. Должен ли он принудить ее к откровениям? Рассердится ли она на него, если он заставит ее выдать тайну, которую она столь ревностно оберегает? Он так боялся обидеть ее… Но маскарад слишком затянулся. Им двигало вовсе не беспокойство супруга. То, что он предполагал, было намного страшнее. По правде говоря, история, которую ему поведала Аньес два года назад, объясняя, почему она так разволновалась из-за исчезновения маленького слуги, Клемана, лишь отчасти удовлетворила Артюса. Желание нравиться своей возлюбленной супруге сделало все остальное. Однако поведение Аньес в последующие месяцы сначала заинтриговало графа, а потом встревожило. Разумеется, она была воплощением доброты и великодушия, но не до такой же степени, чтобы потерять сон и аппетит из-за того, что девочку, незаконнорожденную дочь умершей служанки, никак не удавалось найти. Он слышал, как она всю ночь ходила по своей опочивальне. Он замечал, с каким трудом она буквально заставляла себя есть, когда Монж де Брине приносил одно и то же известие: их поиски не дали никаких результатов. Он ловил взгляды, которые она быстро отводила, чтобы он не заметил слез, появлявшихся всякий раз, когда он упоминал имя Клеманс. Голос возлюбленной супруги оторвал графа от невеселых мыслей: – Я выполнила вашу просьбу, мсье. Артюс внимательно разглядывал ее платье итальянского покроя. Тяжелый красновато-коричневый бархат с золотистым отливом подчеркивал медный оттенок волос Аньес. И тут он мысленно увидел ее в простеньком сером платье, в котором она ходила на мессу. Это был самый красивый туалет дамы де Суарси. Он вспомнил, как разволновался, когда она, одетая в крестьянские браки, но величественная, как королева, садилась верхом на Ожье. Он прогнал чувства, сжимавшие его грудь. Время недомолвок и страха показаться нелюбезным прошло. Он должен знать. И он начал нежным голосом: – И все же, мадам, какую страшную тайну вы от меня скрываете? Аньес закрыла глаза и вздохнула. Лицо ее смертельно побледнело. Едва шевеля почти белыми губами, она прошептала: – Я обо всем расскажу вам, мсье. Если потом вы сочтете, что я недостойна вашей любви, прошу вас, скажите мне об этом откровенно. Не надо меня щадить. Как ни странно, но это предостережение нисколько не обеспокоило Артюса. Все, что имело отношение к его супруге, не могло быть дурным. Ничто, исходившее от нее, не могло его разочаровать. Он бы поклялся в этом своей жизнью. Аньес отпила глоток вина и начала свой рассказ. Зазвучал такой спокойный, такой удивительно монотонный голос, что Аньес с трудом его узнала: – Клеманс – моя родная дочь. Как и Матильда, она не Суарси. Ради Артюса Аньес вытащила из лабиринта памяти все подробности, которые причиняли ей огромные душевные муки. Она ни о чем не умалчивала, не старалась найти себе оправдание. Но она не была щедрой на слова и эмоции. Кровосмесительное желание Эда, ее ангел мадам де Ларне, замужество с Гуго, ужасная агония этого мужчины веры и чести, смерть которого вновь бросила ее в когти подлой похоти сводного брата, приезд Леоне, обнаружение священного свитка в Клэре, камерленго Гонорий Бенедетти и его приспешники, отравленные монахини, поиски, другая кровь… Казалось, жизнь навсегда покинула Аньес, но вернулась снова после их встречи недалеко от ульев, когда его охватила застенчивость влюбленного, а ее – паника. Целый час граф слушал Аньес, не перебивая, едва осмеливаясь время от времени закрывать глаза или подносить к губам бокал, боясь, что она остановится. Он быстрым жестом отослал служанку, принесшую десерт. Погрузившись в свой кошмар, Аньес даже не заметила ее. Несколько раз он был вынужден сдерживать безумное желание броситься к ней и сжать так крепко, чтобы она едва не задохнулась в его объятиях. Аньес замолчала и отпила глоток вина. Граф протянул к ней руки, но она отказала ему кивком головы. Сделав глубокий вдох, она продолжила: – Я уже говорила это рыцарю де Леоне и теперь повторяю вам: должно быть, я выгляжу в ваших глазах общедоступной шлюхой. Но, заклинаю вас, помните: рыцарь ни в коем случае не должен узнать, что Клеманс – девочка. – Вы, мадам… – прошептал Артюс, задыхаясь, борясь с эмоциями, от которых на глазах выступили слезы. – Вы сияние божественного света. Ваше несгибаемое мужество, ваша решимость без ненависти, ваша… странная сила… Я думал, что не смогу любить вас сильнее, поскольку уже бесконечно люблю вас. Но я ошибался. Вы только что впустили меня в свою душу, и единственное, что я хочу, так это остаться в ней навсегда. Это единственное место, где мне вечно будет хорошо. Вы позволите? Бездонный взгляд серо-голубых глаз встретился со взглядом графа. Аньес не нуждалась в словах. Впрочем, существовали ли подходящие слова? Теперь Артюс твердо знал, что ничто и никогда не сможет омрачить их любовь. Он неторопливо встал и не спеша направился к Аньес. Она прижалась лицом к животу любимого человека и расплакалась. Они долго молчали. Артюс, обхватив ее руками, нежно покачивал из стороны в стороны, пытаясь осушить слезы горя или радости, он точно не знал. Наконец она подняла голову, и он поцеловал ее в губы. Она повторила, на этот раз поспешно: – Леоне ни в коем случае не должен узнать, что Клеманс – девочка. – Он не сумеет ее защитить? – О, он будет защищать ее до последней капли крови. Но я уверена, что наши враги обнаружили рыцаря. Они будут следовать за ним по пятам. Леоне – человек Бога. Более того, он человек, который видит лишь Бога. Если он поймет, что в жилах Клеманс течет другая кровь, он не отступит до тех пор, пока пророчество не сбудется. – Срывающимся голосом она закончила: – Я не хочу такой судьбы для своей дочери. Я не хочу, чтобы она стала ставкой в игре превосходящих сил, которые легко сломят нас ради своих целей. И неважно, что это за силы: Тьмы или Света. – Вы знаете, где прячется Клеманс? – нежно спросил Артюс. – Недалеко от замка, на хуторе Лож. Я совсем недавно узнала об этом. Меня заинтриговали частые прогулки мессира Жозефа по лесу, из которых он всегда возвращается с пустым мешком. Я проследила за ним. Он спрятал и оберегал Клеманс с момента ее исчезновения. Признаюсь вам, я разрываюсь между бесконечной признательностью к нему и горькой обидой. Но сама Клеманс потребовала, чтобы он хранил тайну. Она привела убедительный довод, сказав, что я сразу же побежала бы к ней, а наши враги пошли бы по моим следам. Очаровательная Полина, протеже мессира Жозефа, приютила ее, выдав за свою младшую сестру. Они разводят кур. – О, мадам, моя дорогая… Что за безумная идея скрывать от меня так долго правду! Какое же ничтожное уважение вы питаете ко мне! – Да вы с ума сошли! – почти закричала Аньес. – О каком ничтожном уважении вы говорите, когда я считаю вас одним из самых достойных людей?! Мне просто было страшно. Страшно, что вы станете меня меньше любить, будете меня осуждать. Страшно, что из-за моих откровений вы можете оказаться в опасности. – Но именно ваше молчание подвергает меня опасности, поскольку еще большая опасность грозит вам! Забудем о моих упреках… Мы должны действовать. Клеманс не может больше оставаться там. Она изменилась? Я хочу сказать: физически? Лицо Аньес осветила лучезарная улыбка: – Она такая красивая, такая… чудесная. Она выросла, стала почти женщиной. Ее волосы теперь длинные. Вы удивились бы, насколько она образованная… Мессир Жозеф раскрыл ей столько тайн! – Мы должны найти надежное место, чтобы ее защитить. – Но какое? Я питала иллюзии, что смогу ее защитить, но… Им почти удалось меня убить, хотя я даже не подозревала, что наши враги совсем рядом. – Здесь никто не знает Клемана или Клеманс, кроме вас, моего врача, Полины и Леоне. Одним словом, они благородные люди. Клеманс могла бы… поступить к вам на службу… Просто надо сделать так, чтобы Леоне никогда ее не встретил… А она не должна приближаться к Суарси и Клэре. – Она слишком похожа на меня, и одного взгляда достаточно, чтобы понять: между нами есть кровная связь, – возразила Аньес. – Черт возьми! – воскликнул Артюс. Он ходил взад-вперед по комнате, скрестив руки за спиной. Вдруг он остановился и сказал: – Сардиния! Там живет мой славный кузен Жак де Каглиари, тот самый, которому я рассчитывал доверить вас и Филиппа, если мне не удастся вырваться из подстроенной ловушки. Он похож на медведя, но на медведя, который предпочтет скорее умереть, чем изменить своему слову. Он всегда ненавидел приказы и запугивания. Никто не станет искать Клеманс в этом диком засушливом краю. Она поедет туда под охраной, переодетая в молодую горожанку, которая отправляется к своему жениху. Все они ищут мальчика. Слугу. Глаза Аньес округлились от изумления. Она с трудом выговорила: – Сардиния? Господи Иисусе, это же край света! Но я понимаю, что вы правы… Знать, что она так далеко от меня… – Зато вне досягаемости, мадам. Она проведет там в худшем случае год-другой. Дадим Леоне и его тайным собратьям время на то, чтобы с корнем истребить всех тех, кто хочет погубить вас и вашу дочь. – Но сумеют ли они? – Если так Богу будет угодно. Аньес встала. Она подошла к супругу и склонила голову ему на плечо. Он погладил ее по волосам медового оттенка. И густые пряди скользили между его пальцами, словно шелковистый бальзам. – Любимый мой! Перед отъездом Клеманс мне хотелось бы провести вместе с ней весь день, отужинать в ее обществе, рассказать о многих вещах, прогуляться вместе с ней в саду… погрузиться в воспоминания. – Полина принесет нам корзинку с яйцами. Младшая сестра будет сопровождать ее. Но уйдет Полина одна. Ранним утром Клеманс уедет в сопровождении жандарма. – Он улыбнулся, и ей захотелось поцеловать его в губы. – Позволите ли вы мне разделить с вами ужин, или я буду лишним? Сейчас самое время встретиться с мадемуазель моей дочерью по линии жены, той самой, которая была готова заколоть меня кинжалом, если бы я вас обидел в вашем мануарии. Вы помните? Черт возьми, она не шутила! Хорошая кровь не может лгать! На следующее утро незадолго до первого часа Артюс д’Отон приказал оседлать Ожье. Граф, немного поколебавшись, поставил ногу в стремя. Он погладил гриву великолепного коня, которого слегка смущала нерешительность хозяина. Граф прошептал Ожье на ухо: – Ожье, мой доблестный Ожье… Ты ничего не знаешь о жизни людей. Как же ты, наверное, счастлив! Он позвал конюха и, протягивая ему вожжи, уточнил: – Мой отъезд откладывается на несколько минут. Привяжи коня. Артюс медленно пошел назад. И что? Теперь они с Леоне хранят одну и ту же тайну. Будет вполне естественно, если они поговорят как мужчина с мужчиной. Граф ускорил шаг. Артюс нашел Леоне сидящим за маленьким столиком в его комнатке. Граф коротко рассказал рыцарю о признаниях, сделанных его супругой. – Я испытываю огромное облегчение оттого, что мадам д’Отон решилась открыть вам правду. Эта правда позволит вам понять, какая серьезная опасность нависла над ней. Я отложил свой отъезд, испугавшись, что она окажется очень уязвимой. Но это не так. Вы храбрый и умный человек. Вы не отступите перед врагом, чтобы защитить свою супругу. Значит, я могу ехать с легким сердцем, чтобы продолжить мои поиски. – Найти Клемана и манускрипты, – подытожил Артюс д’Отон. – Разумеется. – Мсье, я ваш вечный должник. Вы спасли существо, которое мне дороже всей моей жизни. Вы оберегали мою супругу, когда нас хотели разлучить. Наконец, вы вырвали меня из когтей инквизиции. Приятно чувствовать себя должником: познаешь, что такое смирение. Осознаешь свои слабости. Я не уверен, что когда-нибудь смогу оплатить свой долг. Леоне одарил графа одной из своих странных улыбок, которые, казалось, исходили из глубины души, куда никто не имел доступа. – Никаких долгов, мсье, чистосердечно говорю я вам. Служение Богу нельзя оплатить распиской, данной ростовщику. Более сухим тоном граф добавил: – Тем не менее, мсье, при всем моем уважении к вам – а мы должны быть выше правил, продиктованных нашим положением в обществе, – я предпочел бы вам помочь, чем так долго оставаться в неведении, что превратило меня в жалкого статиста. Вы могли бы воспользоваться моим мужеством и шпагой. – От всей души прошу прощения, мсье. Но вы должны понять, что это был не мой выбор. Такой выбор сделала мадам. К тому же существа, с которыми мы боремся на протяжении нескольких столетий, редко берутся за шпагу. Они пользуются тайным оружием. – Вы правы, – шепотом согласился граф. – Когда вы огорчите нас своим отъездом? – Завтра. С вашего позволения я поприветствую графиню и пожелаю ей удачи. Ваше присутствие в замке доставляет мне огромное облегчение, особенно сейчас, когда вы знаете, какая угроза нависла над графиней, – ответил Леоне. – Помните, мсье, ни на мгновение не забывайте о том, что у нас есть грозные враги, готовые на все. Даже малейший знак, самая незначительная деталь должна вызывать у вас подозрение и тревогу. Сейчас они дезорганизованы, но вскоре вновь наберутся сил. Артюс нисколько не сомневался в том, что это были не пустые слова. К страху графа за супругу примешивался настойчивый вопрос: почему она выбрала его? Шла ли речь о сердечном порыве, или она, сама того не зная, следовала непостижимому плану? Настойчивый и волнующий вопрос, поскольку он предполагал, что они уже целую вечность предназначены друг другу. – Когда вы вернетесь, рыцарь? – Когда я наконец найду Клемана. Он скрывается так ловко, что шпионам камерленго не удалось напасть на его след… Но как долго это может продолжаться? Он так молод, а они не знают жалости. – Надеюсь на скорую встречу, рыцарь. – Если так Богу будет угодно.
Краткое историческое приложение
Архимед (287–212 гг. до н. э.) – гениальный древнегреческий математик и изобретатель. Мы обязаны ему многочисленными открытиями в области математики, в частности открытием знаменитого закона, который носит его имя. Он также вычислил первое довольно точное значение числа л, был убежденным сторонником экспериментов и доказательств. Ему приписывают авторство многих изобретений, в частности катапульты, бесконечного винта, системы рычагов и блоков и зубчатого колеса. На проведенном недавно аукционе один из палимпсестов был оценен в два миллиона долларов. Предполагается, что в тексте, первоначально написанном на этом палимпсесте, говорилось о достижениях Архимеда в области вычисления бесконечно малых значений. Впоследствии этот документ использовали, чтобы записать на нем библейский текст. А ведь нам удалось вычислить дифференциалы только через две тысячи лет! Ходят слухи, что счастливым покупателем этого палимпсеста был Билл Гейтс. Документ был передан в Художественный музей Уолтерса в Балтиморе, где он стал объектом самых современных исследований.Бенедикт XI (Никола Бокказини, 1240–1304) – Папа Римский, О нем известно довольно мало. Выходец из очень бедной семьи, этот доминиканец до самой смерти вел аскетический образ жизни. Один из немногих дошедших до нас исторических анекдотов красноречиво свидетельствует об этом: когда после избрания Бенедикта его мать захотела с ним встретиться, она надела лучший свой наряд. Но сын вежливо объяснил матери, что ее платье слишком богатое и он хочет, чтобы она и впредь оставалась скромной женщиной. Наделенный покладистым характером, этот бывший остийский епископ стремился смягчить разногласия, существовавшие между Церковью и Филиппом IV Красивым, но вместе с тем проявил суровость по отношению к Гийому де Ногаре и братьям Колонна. Он скончался после восьми месяцев понтификата 7 июля 1304, отравленный фигами, или инжиром.
Бонифаций VIII (Бенедетто Каэтани, около 1235–1303) – кардинал и легат во Франции, затем Папа. Он был яростным защитником папской теократии, которая противостояла современному праву государства. Открытая вражда с Филиппом IV Красивым восходит к 1296 году. Страсти не утихли даже после смерти Папы, поскольку Франция предпринимала попытки начать процесс против его памяти.
Валломброзо (от лат. Vallia Ombrosa) – аббатство в Тоскане, расположенное на высоте 1000 м. Оно было основано в 1036 году святым Иоанном Гуальбертом. Вскоре оно стало центром конгрегации бенедиктинцев. Закрытое в 1808 году, оно было восстановлено Фердинандом III. В 1866 году аббатство окончательно прекратило свою деятельность. В XII веке в конгрегацию входили 23 монастыря. В Валломброзо учился Галилей.
Валуа Карл де (1270–1325) – единственный брат Филиппа IV Красивого. На протяжении всей своей жизни король испытывал к брату слепую привязанность и поручал ему миссии, которые, несомненно, были ему не по плечу. Карл де Валуа – отец, сын, брат, дядя и зять королей и королев – всю жизнь мечтал о короне, которую так и не получил.
Вальденсы, или лионские бедняки-братья – одна из самых крупных ересей той эпохи, причем не только по своему распространению, но и по влиянию на население. Движение, ратовавшее за бедность, евангельскую чистоту и всеобщее равенство, было создано около 1170 года Пьером Вальдесом (Вальдо), богатым лионским купцом, который пожертвовал ему все свое имущество. Успех вальденсов, как и катаров, был во многом связан с недовольством церковными кругами. Сначала это движение выражало интересы зажиточных слоев общества, стремившихся к чистоте. У вальденсов в сан могли быть рукоположены и женщины. Вскоре инквизиция стала преследовать приверженцев вальденсов, поскольку они отрицали все, что расходилось со строгим прочтением Евангелий. Одни вальденсы примкнули к движению «католических бедняков», другие разбрелись по всей Европе, создав отдельные сообщества, которые существуют и в наши дни.
Го Бертран де (около 1270–1314) – сначала был каноником и советником короля Англии. Выдающиеся способности дипломата помогли ему не поссориться с Филиппом IV Красивым во время войны между Англией и Францией. В 1299 году он стал архиепископом Бордо, а затем, в 1305 году, преемником Бенедикта XI, взяв имя Климента V. Плохо ориентируясь в ситуации, сложившейся в Италии, он в 1309 году обосновался в Авиньоне. Не согласившись с Филиппом IV Красивым в делах, сделавших их противниками, а именно в том, что касалось посмертного процесса Бонифация VIII и уничтожения ордена Храма, тамплиеров, он занял выжидательную позицию. Ему удалось усмирить гнев монарха в первом деле и практически устраниться от второго.
Другая кровь. В XIV веке ничего не было известно о группах крови. Кровь на Туринской плащанице, в которую было завернуто тело Христа, на тунике из Аржантея, в которой он шел на Голгофу, и на сударии из Овьедо, которым было закрыто его лицо при снятии с креста, принадлежит одному человеку, ее группа – АВ. Эта группа встречается крайне редко, что практически исключает случайное совпадение. К тому же группа АВ появилась примерно две тысячи лет назад на Среднем Востоке. Представляется, что она распространилась во Франции примерно во втором тысячелетии нашей эры. Группа АВ является рецессивной, поэтому возникает вопрос о ее устойчивости, особенно если принять во внимание тот факт, что ее носителей в мире сравнительно немного. В самом деле, у родителей с группой крови АВ (что само по себе статистически маловероятно) есть лишь один шанс из двух, что дети унаследуют их группу крови, в отличие от родителей с часто встречающейся группой крови 0, дети которых практически всегда рождаются с этой же группой. С сугубо статистической точки зрения группа АВ должна была исчезнуть, тем более что ее обладатели предрасположены к некоторым болезням. Тем не менее она продолжает существовать, хотя встречается редко. Радиоуглеродный анализ показал, что туринская плащаница датируется 1250–1340 годами, туника из Аржантея – 800 годом, сударий – 500 годом. Однако Церковь разрешила взять образцы – по крайней мере, в случае с сударием, – только с краев, которые, как правило, более подвержены порче и менее пригодны для установления точной даты. Ходят слухи, что на самом деле Церковь не хочет, чтобы сударий был приписан Христу. Будто бы она боится коллективной истерии правоверных христиан. Так это или нет, недостаточно фактов, чтобы вынести окончательное решение. Наконец, еще одна загадка, вызывающая удивление ученых. На тунике из Аржантея якобы были найдены неповрежденные белые тельца, хотя эти клетки разрушаются вскоре после смерти (а ведь туника датируется как минимум XIII веком). Чтобы объяснить этот феномен, была создана следующая гипотеза: белые тельца сохранились благодаря растительным консервантам, которые широко использовали в ту эпоху, когда жил Христос. Что касается мужского лица, отчетливо проступающего на сударии, то на этот счет существует множество объяснений, от божественного чуда до воздействия солнечных лучей на ткань, хранящуюся за стеклом.
Евреи. Начиная с VI века евреи постоянно подвергались издевательствам, дискриминации и гонениям. Исключением стал период правления Людовика I Благочестивого (814–840), взявшего евреев под свою защиту и даже создавшего специальную должность «докладчика по еврейскому вопросу», который должен был следить за выполнением королевского ордонанса. Относительный мир установился в том числе и благодаря усилиям святого Бернара. Святого Бернара привели в ужас попытки озлобленных крестоносцев разжечь антисемитизм, сделав евреев главными виновниками смерти Христа. Впрочем, мир оказался коротким. Из-за слухов о ритуальных убийствах ненависть вспыхнула с новой силой. Евреев обвиняли, совершенно бездоказательно, в убийствах христианских младенцев, хотя не было найдено ни одного трупа. Эти необоснованные слухи послужили причиной уничтожения еврейской общины Блуа. В 1171 году все ее члены были сожжены на костре. В 1182 году Филипп Август, воспользовавшись народным гневом, изгнал евреев, конфисковал их имущество и аннулировал кредиты всех заемщиков, в число которых входило и Французское королевство. Людовик IX Святой не остался в стороне, когда инквизиция приравняла иудаизм к ереси. Он приказал сжечь в Париже восемьдесят телег с талмудическими манускриптами под тем предлогом, что они отвращают правоверных от единственной Книги – Библии. Тогда же участились случаи насильственного обращения в христианство, не говоря уже об обращениях из страха за свою жизнь. Четвертый Латеранский собор стал решающей вехой. Он запретил евреям заниматься ростовщичеством, обязал носить особую одежду, чтобы их можно было узнать, принял постановления относительно богохульства при неискреннем обращении в христианство. Охота на евреев стала одной из главных миссий инквизиции. Инквизиция обязала всех евреев носить на рукаве желтый круг, а женщин – закрывать лицо вуалью. В 1294 году был принят ордонанс, предписывающий евреям жить на специально отведенных для них улицах. В 1290 году дело парижского еврея Джонатана, якобы плюнувшего на освященную облатку, хотя свидетельские показания были весьма противоречивыми, вновь разожгло антисемитизм. Это дело также дало повод Филиппу Красивому издать в июле 1306 года ордонанс, предписывающий всем евреям покинуть территорию Французского королевства, хотя некоторые сеньоры открыто возражали против этого, поскольку у них не было никакого желания терять денежную манну, сыпавшуюся на них благодаря евреям. Более того, они были уверены, что эти дискриминационные меры были обусловлены желанием государства радикальным образом избавиться от долгов.
Клэре – женское аббатство в департаменте Орн. Аббатство расположено на опушке леса Клэре, на территории прихода Маля. Строительство, решение о котором было принято в июне 1204 года Жоффруа III, графом Першским, и его супругой Матильдой Брауншвейгской, сестрой императора Оттона IV, продолжалось семь лет и закончилось в 1212 году. И церемонии освящения аббатства принимал участие командор ордена тамплиеров Гийом д'Арвиль, о котором мало что известно. Аббатство предназначалось для монахинь-затворниц ордена цистерцианцев, бернардинок, которые имели право разрешать уголовные и гражданские дела, опекунские дела и дела об обидах и выносить смертные приговоры.
Лэ Марии Французской – двенадцать лэ, обычно приписываемых некой Марии, уроженке Франции, жившей при английском дворе. Некоторые историки полагают, что речь идет о дочери Людовика VII или графа Меланского. Лэ написаны до 1167 года, а басни – около 1180 года. Перу Марии Французской принадлежит также роман «Чистилище святого Патрика».
Ногаре Гийом де (около 1270–1313) – доктор гражданского права. Преподавал в Монпелье, затем в 1295 году вошел в состав Совета Филиппа IV Красивого. Крут его обязанностей быстро расширился. Сначала более или менее тайно он принимал участие во всех крупных религиозных делах, сотрясавших Францию, в частности в судебном процессе Бернара Сэссе. Затем Ногаре вышел из тени и сыграл решающую роль в деле тамплиеров и в борьбе против Бонифация VIII. Ногаре был человеком большого ума и незыблемой веры. Он ставил перед собой цель спасти одновременно и Францию, и Церковь. Он стал канцлером короля, но затем уступил эту должность Ангеррану де Мариньи. Однако в 1311 году печать вновь вернулась к нему.
Орден Святого Иоанна Иерусалимского – Гостеприимный орден, госпитальеры, признан в 1123 году папой Паскалем II. В отличие от других рыцарских орденов, госпитальеры изначально ставили перед собой благотворительные цели. Лишь позднее орден взял на себя и военную функцию. После падения Акры госпитальеры нашли прибежище на Кипре, затем на Родосе и наконец на Мальте. Во главе ордена стоял великий магистр, который избирался генеральным капитулом, состоявшим из высших должностных лиц. Орден подразделялся на «языки», или провинции, которыми в свою очередь управляли великие приоры. В отличие от ордена тамплиеров и несмотря на свое богатство, госпитальеры всегда пользовались благожелательной поддержкой общества. Вероятно, это было связано с благотворительной миссией ордена и смирением его членов.
Роберт Болгарин – болгарин по происхождению, он увлекся учением катаров, получил высшую степень посвящения и стал доктором этой веры. Затем перешел в католичество и вступил в орден доминиканцев. Папа Григорий IX (1227–1241) увидел в нем «разоблачителя» еретиков, ниспосланного Провидением. На самом деле представляется вероятным, что Роберт Болгарин специально устраивал ловушки самым ученым из катаров. Едва он был назначен в 1235 году генеральным инквизитором в Шарите-сюр-Луар после убийства своего предшественника Конрада Марбургского, как начались зверства, леденящие душу пытки. Повергнутые в ужас дошедшими до них рассказами о расправах, архиепископы Санса и Реймса, а также несколько других прелатов выразили свой протест. Первое расследование, выявившее в феврале 1234 года бесчинства Роберта Болгарина, привело к отстранению его от должности. Тем не менее в августе следующего года он вновь снискал милость Папы и вскоре возобновил свои «развлечения». И только через несколько лет он был окончательно отстранен от власти и в 1241 году был приговорен к пожизненному заключению.
Свинец. Человек стал использовать свинец три с половиной тысячи лет назад. Он способствует росту, но только в ничтожных дозах. Долгое время свинец был излюбленным ядом отравителей. Свинец применяли в самых различных целях: для легирования, герметизации, очистки канализации, при изготовлении книжных переплетов, кухонных принадлежностей, для паяния консервных банок. Он стал также одним из первых подслащивающих средств в истории, поскольку римляне добавляли его в вина. Отравление свинцом было первой профессиональной болезнью, признанной во Франции. Симптомы болезни варьируются в зависимости от дозы и длительности периода интоксикации. Хроническая интоксикация (малые дозы в течение длительного периода) приводит к практически необратимому нейротоксикозу, пагубно влияющему на способности к обучению, а также на развитие плода и ребенка. При средней интоксикации (более высокие дозы) появляются металлический привкус во рту, анорексия, резкие абдоминальные боли, тошнота, рвота, диарея. Острая интоксикация (очень высокие дозы) характеризуется возбудимостью или, наоборот, сонливостью, гипотензией, конвульсиями, комой.
Средневековая инквизиция – следует отличать средневековую инквизицию от испанской святой инквизиции, прибегавшей к свирепым и беспощадным расправам, не имевшим ничего общего с тем, что происходило во Франции. Только за период, когда великим инквизитором был Томас Торквемада, в Испании погибло более двух тысяч человек. Сначала средневековая инквизиция находилась в ведении епископата. Папа Иннокентий III (1160–1216) установил правила инквизиторской процедуры, издав в 1199 году буллу Vergentis in senium. Намерения Папы не сводились к истреблению отдельных индивидуумов. Доказательством этому служат решения IV Латеранского собора, состоявшегося за год до смерти Папы. Эти решения запрещали применять ордалии к инакомыслящим. Понтифик стремился к искоренению ересей, угрожавших основам Церкви, поскольку они ставили под сомнение в том числе и бедность Христа как жизненную модель, впрочем, довольно сомнительную, если судить по огромным наделам плодородных земель, принадлежавших монастырям. Затем она превратилась в папскую инквизицию. Это произошло при Григории IX, отдавшем право вершить инквизиторский суд доминиканцам и, в меньшей степени,францисканцам. Папой двигали в основном политические мотивы, поскольку, сосредоточив этот институт в одних руках, он тем самым усилил его власть. Папа должен был во что бы то ни стало помешать императору Фридриху II встать на тот же самый путь по мотивам, которые не имели ничего общего с духовностью. Последний этап преодолел Иннокентий IV, разрешив своей буллой Ad Extirpanda, изданной 15 мая 1252 года, применять пытки. Впоследствии преследование колдовства было уподоблено охоте на еретиков. В наши дни преувеличивают реальное влияние инквизиции во Франции. Необходимо принимать во внимание тот факт, что на территории Французского королевства находилось сравнительно мало инквизиторов, следовательно, инквизиция не смогла бы обрести такую значимость, если бы не пользовалась поддержкой светских властей и если бы к ней не поступали многочисленные доносы. Таким образом, благодаря возможности прощать друг другу любые прегрешения, некоторые инквизиторы оказывались виновными в таких чудовищных преступлениях, что они порой служили причиной для бунтов или резких выступлений возмущенных прелатов. В марте 2000 года, то есть примерно через восемь столетий после возникновения инквизиции, Папа Иоанн Павел II попросил у Бога прощения за преступления и ужасы, в которых она повинна.
Тамплиеры – рыцари Христа и Храма Соломона. Орден был создан в Иерусалиме около 1118 года рыцарем Гуго де Пейном и несколькими другими рыцарями из Шампани и Бургундии. Окончательно он был признан на соборе в Труа в 1128 году. В основу его устава было положено учение святого Бернара, а устав, возможно, был написан самим святым. Орден возглавлял великий магистр, которому помогали несколько высокопоставленных лиц. Владения ордена были весьма обширными (3 450 замков, крепостей и домов в 1257 году). Наладив систему денежных переводов вплоть до Святой Земли, в XIII веке орден превратился в одного из главных банкиров христианского мира. После падения Акры – события, ставшего, по сути, для него роковым, – большинство тамплиеров вернулись на Запад. В конце концов общественное мнение стало относиться к членам ордена как к ростовщикам и лодырям. Об этом свидетельствуют многочисленные выражения, дошедшие до наших дней. Так, слова «я иду в Храм» произносили, отправляясь в бордель. Великий магистр Жак де Моле отказался объединить свой орден с орденом госпитальеров. Тринадцатого октября 1307 года начались аресты тамплиеров. Затем последовали расследования, признания (если говорить о Жаке де Моле, то некоторые историки полагают, что его признания были получены под пытками), отказы от ранее данных показаний. Двадцать второго марта 1312 года Климент V, боявшийся Филиппа IV Красивого по другим причинам, упразднил орден тамплиеров. Жак де Моле отказался от своих признаний и вместе с другими тамплиерами 18 марта 1314 года взошел на костер. Представляется доказанным, что расходы, понесенные в связи с проведением следствия по делу тамплиеров, процесс конфискации их имущества и его распределения среди госпитальеров намного превысили доходы, которые получил Филипп IV Красивый от уничтожения ордена.
Филипп IV Красивый (1268–1314) – сын Филиппа III Храброго и Изабеллы Арагонской. От Жанны Наваррской у него было три сына, будущие короли: Людовик X Сварливый, Филипп V Длинный и Карл IV Красивый, а также дочь Изабелла, ставшая супругой Эдуарда II Английского. Отважный, талантливый военачальник, Филипп Красивый отличался несгибаемостью и суровостью. Однако следует смягчить краски, поскольку современные историки описывают Филиппа Красивого как человека, которым манипулировали его советники, «осыпавшие короля лестью и отстранявшие его от дел». История главным образом сохранила свидетельства о его роли в деле тамплиеров, однако Филипп Красивый был прежде всего королем-реформатором, поставившим перед собой цель покончить с вмешательством Папы в политику Французского королевства.
Хильдегарда Бингенская (1098–1179) дала обет в пятнадцать лет, а в 1136 году стала аббатисой. Она писала стихи, сочиняла музыку, на протяжении второй половины XII века переписывалась с сильными мира сего. Утверждают, что она творила чудеса, а ее видения сбывались. Она всегда отличалась слабым здоровьем и поэтому проявляла неподдельный интерес к лекарственным травам. Ее перу принадлежит, в числе прочих, медицинский трактат, что позволяет нам рассматривать ее как первого фитотерапевта нового времени. Несмотря на хрупкое здоровье, она прожила восемьдесят лет, рекорд для той эпохи. Возможно, этому способствовали ее действительно эффективные травяные сборы. И хотя ее часто называют святой, она никогда не была канонизирована.
Глоссарий
Литургические службы – богослужение, цикл которого был разработан в VI веке на основе устава святого Бенедикта, включает в себя – помимо мессы, которая не является его составной частью в строгом смысле слова, – несколько ежедневных служб. Эти службы определяют распорядок дня. Так, монахи и монахини-затворницы не могут ужинать до наступления ночи, то есть до вечерни. До XI века богослужение длилось практически целый день, но затем продолжительность служб была сокращена, чтобы монахи и монахини-затворницы могли уделять больше времени чтению и ручному труду.Утреня, или заутреня – около 2.30 или 3 часов.[376] Лауды – до рассвета, между 5 и 6 часами. Первый час – около половины восьмого, первая дневная служба, сразу же после восхода солнца, непосредственно перед мессой. Третий час – около 9 часов. Шестой час – около полудня. Девятый час – между 14 и 15 часами. Вечерня – около 16.30–17 часов, при заходе солнца. Повечерие – после вечерни, последняя вечерняя служба, около 18–20 часов.
Меры длины
Перевод в современные меры сделан довольно произвольно, поскольку значение мер варьировалось в зависимости от того или иного района.Арпан – от 160 до 400 квадратных туазов, то есть от 720 дл 2800 квадратных метров. Лье – примерно 4 километра. Туаз – от 4,5 метров до 7 метров. Локоть – 1,2 метра в Париже и 0,7 метра в Аррасе. Фут – примерно соответствует 34–35 сантиметрам.
Меры веса
Эти меры, изначально установленные для определения веса золота и серебра, а следовательно, и веса монет, также варьировались в зависимости от времени, районов и даже от взвешиваемых продуктов. Так, мясной фунт не был равен аптекарскому фунту. Фунт варьировался от 306 до 734 грамм. Мы взяли за основу вес марки Труа (тройской марки), которая ходила в Париже и в центральных районах королевства.Фунт, то есть две марки – 489,5 г. Марка – 244,75 г. Унция – 30,60 г. Гросс – 3,82 г. Стерлинг – 1,53 г. Полденье – 0,764 г. Денье – 1,27 г. Гран – 0,053 г.
Меры емкости
Пинта – чуть меньше литра. Горшок – две пинты, чуть меньше двух литров. Сетье – восемь пинт.Денежные единицы
Речь идет о настоящей головоломке, поскольку при каждом царствовании вводилась новая денежная единица. Впрочем, порой в том или ином районе ходили собственные деньги. В зависимости от эпохи деньги оценивались – или не оценивались – в соответствии со своим реальным весом в золотом или серебряном эквиваленте, а также ревальвировались или девальвировались. Ливр – расчетная единица. Один ливр соответствовал 29 су или 240 серебряных денье, а также 2 золотым королевским пти (королевские деньги при Филиппе IV Красивом). Турский денье (денье Тура) – постепенно вытеснил парижский денье. Двенадцать турских денье равнялись одному су.Библиография
Blond Georges et Germaine, Histoire pittoresque de notre alimentation, Paris, Fayard, 1960. Bruneton Jean, Pharmacognosie, phytochimie et plantes médicinales, Paris-Londres-New York, Тех et Doclavoisier, 1993. Burguère André, Klapisch-Zuber Christiane, Segalen Martine, Zonabend Françoise, Histoire de la famille, tome II, Les Temps mé diévaux, Orient et Occident, Paris, Le Livre de poche, 1994. Cahen Claude, Orient et Occident au temps des croisades, Paris, Aubier, 1983. Chevaliers du Christ, les ordres religieux au Moyen áge, Xle – XVIe siècle, Paris, Seuil, 2002. Delort Robert, La Vie au Moyen áge, Paris, Seuil, 1982. Demurger Alain, Chevaliers du Christ, les ordres religieux au Moyen áge, Xle – XVIe siècle, Paris, Seuil, 2002. Demurger Alain, Vie et Mort de l'ordre du Temple, Paris, Seuil, 1989. Duby Georges, Le Moyen áge, Paris, Hachette Littératures, 1998. Duby Georges, Le Moyen áge, Paris, Hachette Littératures, 1998. Eco Umberto, Art et Beauté dans l'esthétique médiévale, Paris, Grasset, 1997. Eymerick Nicolau et Pena Francisco, Le Manuel des inquisiteurs, Paris, albin Michel, 2001. Favier Jean, Histoire de France, tome II: Le Temps des principautés, Paris, le Livre de poche, 1992. Flori Jean, Les Croisades, Paris, Jean-Paul Gisserot, 2001. Fournier Sylvie, Brève histoire du parchemin et de l'enluminure, Gavaudin, Fragile, 1995. Gauvard Claude, La France au Moyen áge du V au XV siècle, Paris, PUF, 2004. Gauvard Claude, Libera Alain de, Zink Michel (sous la direction de), Dictionnaire du Moyen áge, Paris, PUF, 2002. Jerphagnon Lucien, Histoire de la pensée; Antiquité et Moyen áge, Paris, Le Livre de poche, 1993. Libera Alain de, Penser au Moyen áge, Paris, Seuil, 1991. Pernoud Régine, Gimpel Jean, Delatouche Raymond, Le Moyen áge pour quoi faire? Paris, Stock, 1986. Pernoud Régine, La Femme au temps des cathédrales, Paris, Stock, 2001. Pernoud Régine, Four en finir avec le Moyen áge, Paris, Seuil, 1979. Pour en finir avec le Moyen áge, Paris, Seuil, 1979. Redon Odile, Sabban Françoise, Serventi Silvano, La Gastronomie au Moyen áge, Paris, Stock, 1991. Richard Jean, Histoire des croisades, Paris, Fayard, 1996. Siguret Philippe, Histoire du Perche, Céton, éed. Fédération des amis du Perche, 2000. Vincent Catherine, Introduction á l'histoire de l'Occident médiéval, Paris, le Livre de poche, 1995.Андреа Жапп Палач. Костер правосудия
© Линник З., перевод на русский язык, 2014 © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016* * *
Все, что находится за пределами простой смерти, мне кажется чистой жестокостью, и особенно по отношению к нам, которым следовало бы испытывать почтение, посылая души в лучший мир, что невозможно, когда они пребывают в беспокойстве и отчаянии от невыносимых мучений.Монтень (1533–1592)О страданиях
Вам, доблестному, навсегда милому другу с нежным сердцемAnimula blandla[377]
Список основных действующих лиц
В Мортань-о-Перш[378]
Ардуин Венель-младший – иначе говоря, мэтр Правосудие Мортаня, палач Бернадина – его служанка, вдова палача Арно де Тизан – заместитель бальи[379] Мортаня Аделин д’Эстревер – старший бальи шпаги Перша Эванжелина Какет – дурочка, работница Мюриетты ЛафуаВ Ножан-ле-Ротру и окрестностях
Антуан Мешо – городской доктор Бланш – его невестка Матушка Крольчиха – трактирщица из «Напыщенного кролика» Констанс де Госбер – матушка-аббатиса из Клерет Ги де Тре – бальи Ножан-ле-Ротру Мадлен Фроментен, Элуа Талон, Альфонс Фортен, Адель Бобет, урожденная Сарпен – слуги или бывшие слуги Гарена и Мюриетты ЛафуаБеатрис де Вигонрен – баронесса Маот де Вигонрен – ее невестка, баронесса Агнес де Маленье – дочь Беатрис Усташ де Маленье – муж Агнес
Исторические персонажи
Филипп Красивый, Климент V, Гийом де Ногарэ, Екатерина де Куртенэ, Изабелла де Валуа, Карл де Валуа, Жан Бретонский.1
Мортань-о-Перш, август 1305 года Ввиде исключения право решения относительно судебной дуэли было передано помощнику бальи Мортаня[380]. Монсеньор Карл де Валуа не проявлял особого интереса к графствам Алансон и Перш, полученным им во владение[381] от своего царственного брата двумя годами раньше. Эти земли были для него всего лишь источником денег, которые он снова мог тратить без всякого счета. Письмо с поручением проследить, чтобы все было исполнено «согласно чести и обычаям», было уже три месяца как получено помощником бальи Арно де Тизаном. Разумеется, де Тизан знал, что епископ Сеезский от имени церкви осуждает этот варварский обычай[382], широко применявшийся веком раньше. С другой стороны, он не собирался восстанавливать против себя ни монсеньора де Валуа – своего сюзерена, вспышки ярости которого были общеизвестны, – ни даже старшего бальи шпаги[383] – Аделина д’Эстревера. Эстревер принадлежал к тем людям, за которыми без труда можно разглядеть тень великого инквизитора, обладавшего не меньшей властью, чем Бог, король и закон вместе взятые. Король же являлся светским представителем Бога на земле и хранителем закона. Иными словами, жизнь мессира д’Эстревера сводилась к службе королю, а значит, и его брату. В тех редких случаях, когда помощнику бальи доводилось с ними беседовать, ему всякий раз было не по себе. Светлые, почти белые глаза старшего бальи шпаги выражали нечто вроде непреклонной ледяной страсти. Так или иначе, мессир Арно де Тизан не мог, да и не старался противодействовать судебному поединку, который состоялся в фехтовальном зале замка де Мортань на рассвете в присутствии четырех свидетелей, обладающих прекрасной репутацией, а также его самого, палача и заявительницы – Мари де Сальвен.* * *
Оба противника – Сальвен и Фоссей – принадлежали к не самым знаменитым, но благородным семействам. Мари де Сальвен также могла гордиться своим происхождением. Один из участников судебного поединка обвинял другого в насилии, совершенном над его супругой, Мари. Другой же кричал, что все это – не более чем клевета и мошенничество. Арно де Тизан выслушал обоих. Мадам де Сальвен – жертва насилия, восхитительное создание, которому едва ли исполнилось двадцать пять лет, – поклялась перед лицом Господа, положив руку на Евангелие, что Жак де Фоссей попросил приюта на ночь в ее доме, воспользовавшись тем, что ее супруг, Шарль де Сальвен, отбыл на охоту. Он был знаком с ее мужем, поэтому Мари без недоверия отнеслась к его просьбе. Среди ночи Жак де Фоссей неожиданно ворвался в ее комнату и совершил жестокое насилие[384]. Фоссей – худой мужчина примерно тридцати лет, слывущий известным фехтовальщиком, – также принес клятву. Разумеется, мадам де Сальвен предложила ему гостеприимство, но он ни за что на свете не преступил бы границы дозволенного, если б она сама во время позднего ужина[385] не дала ему понять, что его знаки внимания ей далеко не противны. Шарль де Сальвен, напротив, соглашался с каждым словом своей жены, к которой испытывал самую нежную любовь. Из вежливости, а также из сострадания к человеку, стоящему на пороге старости, Арно де Тизан попытался отговорить мужа, убедить его решить дело посредством судебного разбирательства, а не поединка. Шарлю де Сальвену было уже почти пятьдесят, и, в противоположность своему противнику, он не выглядел резвым записным дуэлянтом. Тем не менее Сальвен упрямился, пребывая в полной уверенности, что Господь Бог защитит оскорбленную невинность. Смертельный поединок длился всего несколько минут. Муж едва передвигался, с трудом парируя хитрые удары своего соперника, который, несмотря на деликатное сложение, оказался мощным противником. Первому же явно не хватало силы и сноровки, поэтому прошло не так много времени, прежде чем лезвие Жака де Фоссея вонзилось ему в горло. Целый поток жидкости карминового цвета хлынул на камзол Шарля де Сальвена. На лице немолодого мужчины отразилось глубочайшее удивление. Постояв пару мгновений, он пошатнулся и рухнул на пол. Мари де Сальвен встала со скамейки, где сидела рядом со свидетелями; во взгляде ее читался неподдельный ужас. Женщина поднесла тонкую изящную руку к губам, чтобы удержать рвущийся из горла крик. Господь признал ее мужа виновным. Другими словами, ее заявление о поступке Жака де Фоссея признано святотатственной ложью, ее репутации нанесен непоправимый ущерб, а она сама должна быть предана смерти. Ей было известно, какому наказанию ее подвергнут – заживо сожгут на костре правосудия.* * *
Арно де Тизан бросил долгий взгляд на палача, мэтра Правосудие Мортаня, или, как его звали по-настоящему, Ардуина Венеля-младшего. Его репутация настоящего искусника смерти была известна далеко за пределами графства. Не было известно ни одного человека, который мог бы так же ловко перерубить чью-то шею «шпагой с листом»[386], чем он, окрещенный Энекатриксом, что означает «приносящий смерть»[387]. Со всего королевства его вызывали к особо важным приговоренным, которым была дарована последняя привилегия[388] – умереть быстро. И нередко для этого приходилось ехать очень и очень далеко. Лицо, обтянутое тонкой черной кожей, повернулось к заместителю бальи. Мэтр Правосудие Мортаня едва заметно наклонил голову.2
Мортань-о-Перш, сентябрь 1305 года На протяжении последующих недель Мари де Сальвен содержалась в камере, но к ней не проявляли чрезмерной строгости. Арно де Тизан считал, что с представительницами прекрасного пола следует быть мягким и любезным, каким бы ни было их происхождение. Молодая женщина не изменила своих показаний, даже ради того, чтобы смерть на костре была заменена обезглавливанием, на которое она имела право согласно своему общественному положению. Но Мари де Сальвен изо всех сил продолжала настаивать: Жак де Фоссей совершил над нею насилие, воспользовавшись тем, что она спала, и требуя от нее совершить неслыханный разврат. Он с яростью таскал ее за волосы, бил по лицу, едва она пыталась позвать на помощь. Твердость и особенно отсутствие всякой хитрости у этой женщины, которой лучше было бы солгать, чтобы избежать костра, смутили покой заместителя бальи Арно де Тизана. Тем не менее он должен был беспристрастно исполнить решение Божьего суда, даже если тот уже почти что вышел из обихода. Не испытывая при этом никаких чувств, тем более настолько неуместных. Услышав скрежет ключа в замочной скважине, Мари де Сальвен поднялась с лежащего на полу соломенного тюфяка. Бессознательным жестом она стряхнула пыль с подола своей котты[389]. Арно де Тизан был так любезен, что предоставил ей сменный комплект одежды, также как и ведро воды по утрам, чтобы она могла совершать омовения. Но тем не менее после многих недель в этой камере с утоптанным земляным полом все ее сорочки[390] и юбки были одна грязнее другой. В камеру вошел худощавый мускулистый мужчина. Он был такого высокого роста, что вынужден был согнуться, чтобы не удариться о каменный свод. Вошедший молча склонился пред нею в низком поклоне и деликатным движением положил на ее соломенный тюфяк бежевое платье, ткань которого была пропитана серой – наряд для приговоренных к сожжению[391]. Полуоткрыв рот, Мари вздохнула, разглядывая маску из черной кожи[392], красный камзол со шнуровкой на боку – нарочно того цвета, на котором будут незаметны брызги крови. Палач встал пред нею на колени, опустил голову и, умоляюще сложив руки, произнес важным и серьезным тоном: – Мадам и сестра моя во Христе. Выполняя свои обязанности, я буду должен завтра лишить вас жизни. И за это я униженно прошу у вас прощения. Надеюсь, вы не затаите против меня злобы в своей душе. – Конечно же, нет. Знайте, месье, что я не лгала, говоря о своей невиновности. Палач медленно встал, а потом торжественно и печально произнес: – Но Бог вас уже осудил, мадам. Я же являюсь всего лишь исполнителем его закона. И этой ночью я буду молиться, чтобы ваша душа обрела покой. Я… В конце концов, для него не составит особой разницы, предстанете ли вы перед ним сгоревшей заживо или, если я позабочусь о том, чтобы вы предварительно были задушены. Судья специально дал на это свое позволение. В обоих случаях мое вознаграждение будет одинаковым. Девять денье![393] К вам проявили великодушие, так как, согласно правилам Божьего суда, тот, кто терпит поражение в судебном поединке, является клятвопреступником, солгавшим перед лицом Господа нашего, и должен быть сожжен без всякого снисхождения. Мари де Сальвен лишь отрицательно замотала головой, не в силах произнести ни слова. Палач некоторое время внимательно смотрел на нее, прежде чем заговорить: – Молитесь, мадам. Молитесь, чтобы ваша смерть была быстрой. Чаще всего… Приговоренные задыхаются от дыма, и это их избавляет от мучительных ожогов. Я желаю, чтобы смерть пришла к вам как можно скорее. Желаю от всего сердца. Сказав это, он выскользнул наружу неуловимым движением, подобно элегантной и зловещей тени.* * *
Стоя на коленях в часовне прекрасного здания, расположенного на расстоянии менее одного лье от Мортаня[394], Ардуин Венель-младший, которого все знали под именем мэтр Правосудие, молился, выполняя обещание, данное Мари де Сальвен. Молитвы о том, чтобы ее душа обрела покой, смешивались с обрывками воспоминаний и бессмысленных сожалений. Четырнадцать лет. Ему было всего четырнадцать[395], когда он впервые поднял «меч правосудия», чтобы опустить его на шею приговоренного. Разумеется, в течение многих лет он был подмастерьем палача, своего отца, но вовсе не думал о том, что когда-нибудь должен будет занять его место, унаследовав после смерти отца эту должность. Смерть и страдания других людей стали частью его жизни, его профессией. Все вокруг относились с осуждением к ним, чьей работой было исполнять приговор, вынесенный судом. Отец и сын выполняли эту работу, имеющую самое прямое отношение к смерти. Палачи, рабочие скотобойни, душители бродячих собак, могильщики, предающие земле тех, кто при жизни был отлучен от церкви, а также хирурги[396] и костоправы, присутствие которых терпели за то, что те могли вылечить от ревматизма… Казненные преступники никого особенно не интересовали, разве что нескольких алхимиков, большинство из которых явно было колдунами. Поэтому из их продажи извлекалась самая мизерная выгода[397]. Некоторые из них все-таки продавали алхимикам так называемую «мазь палача» из человеческого жира, которая считалась наилучшим средством от любой боли. Странное дело, Ардуин Венель-младший никогда прежде не искал ответа на вопрос, в чем заключается его предназначение. Их династия палачей началась с его прадеда, отъявленного негодяя, грабителя и убийцы. Будучи арестованным и приговоренным к повешению, он, как и остальные, получил предложение спасти свою жизнь, согласившись исполнять эту должность[398]. И не упустил случая. Боже мой, он убивал за несколько мелких монет. А затем продолжил заниматься тем же, но с благословения закона и за гораздо большее вознаграждение. На сегодняшний день их династия существовала уже более столетия[399]. Ардуин всегда верил объяснениям отца – человека порядочного и набожного – и матери, которая тоже была дочерью «исполнителя» с востока королевства, так как никакая другая женщина не согласилась бы на такой унизительный и позорный брак. Создания Божии сбиваются с пути и совершают предосудительные поступки, противоречащие христианским законам. После того, как они будут преданы суду, разумеется, нужен кто-то, кто бы взял на себя исполнение приговора, избавив добрых христиан от необходимости осквернять себя убийством и пачкать руки в крови. Палачи были карающей десницей Бога и короля. Более того, они не осуждали, не приговаривали других людей к казни или мучениям. Они становились всего-навсего инструментами правосудия[400]. Однажды Ардуин, еще совсем юный, как-то возразил отцу: – Но разве мы не являемся виновными, когда казним и причиняем страдания невинным, которых осудили несправедливо? Отец успокаивающе произнес: – Знаешь, я таких что-то маловато встречал. За всю жизнь меньше, чем пальцев на одной руке. И потом, что из этого? Это не мы послали невинную душу на костер или на эшафот, поэтому не нам за это и отвечать. Ардуин больше никогда не задумывался об этом. До сегодняшнего дня.* * *
Выйдя на эшафот босиком, в платье из грубой льняной ткани, в которое обряжали осужденных на смерть, с небрежно обстриженными волосами, Мари де Сальвен вдруг почувствовала, как один из стражников бесцеремонно толкнул ее в спину, и опустилась на колени перед священником, который потрясал распятием над ее головой. Тот тихо прошептал ей: – Признайтесь же в своем преступлении и раскайтесь, дочь моя. Сейчас самое время. Но Мари де Сальвен остановила его и твердо отчеканила: – Я сказала правду! Стражник поднял ее и поволок к костру настолько резко и грубо, что женщина споткнулась и едва не упала в пыль, покрывающую место казней. Было еще раннее утро, поэтому толпа на площади была не такой густой, тем более что рынок тканей и животных в Беллеме начинал работать только днем. Его посещение всегда было желанной забавой, чем-то вроде увеселительной прогулки, которую совершали всей семьей. Тем не менее здесь было уже достаточно ротозеев, пребывавших в прекрасном расположении духа. Они игриво подталкивали друг друга локтями, обмениваясь шутками. Разумеется, сам костер интересовал их меньше всего. Всего лишь бесстыдница, которая утверждает, будто ее изнасиловали. Не убийца и даже не ведьма. Мэтр Правосудие Мортаня уже ждал, напряженно выпрямившись. Он был одет в наряд, соответствующий его занятию, – капюшон с прорезями для глаз, облегающие панталоны из черной кожи, высокие ярко-красные сапоги. Мари непроизвольно поймала себя на мысли, что у ее смерти очень гордый вид. В половине туаза[401] от нее юноша, почти мальчик, обеими руками крепко держал факел. Мэтр де Мортань во второй раз громко произнес: – Мадам, сестра моя во Христе, простите мне то, что я должен сейчас сделать. – Я прощаю вас, палач… Толпа дружно зааплодировала. Мари де Сальвен продолжила таким же громким голосом: – Я невиновна, поэтому душа моя пребывает в мире. Послышались неодобрительные возгласы. Ну вот, испортила все представление… Мэтр Правосудие Мортаня в последний раз внимательно посмотрел на прелестное лицо, на которое даже недели, проведенные в тюрьме, не наложили своего отпечатка. Светлые, чуть удлиненные сине-зеленые глаза миндалевидной формы, высокий лоб, когда-то лишенный волос, а теперь покрытый пухом цвета спелой пшеницы[402]. – Я выполнил свое обещание и молился о вашей душе. Подойдите сюда. Осторожнее, здесь ветки и солома. Не уколите себе ногу, они острые. Мари кивнула в ответ и взобралась на верх кучи дров до самого столба. Мэтр Правосудие начал ее привязывать, а затем остановился и обеспокоенно произнес: – Мне нужно затянуть веревки, но все-таки дайте знать, если я нечаянно сделаю вам больно. Мне было бы очень стыдно, если б я доставил вам лишние страдания. Она еще раз кивнула. – Вам также разрешено воспользоваться повязкой на глаза. Вы желаете? – Конечно же, нет! Я жду от вас только вашего… жеста великодушия! Я хочу видеть вас до самой последней секунды. Вас, этого священника и эту толпу. Вы будете лицом бесчестья, того, что я уношу с собой в могилу. До встречи в райских кущах, если Бог все-таки найдет там для вас место. И прошу вас, давайте покончим с этим. Мэтра Правосудие Мортаня давно уже не оскорбляли такие заявления. Отец когда-то научил его, что, когда исполняешь свою работу, следует входить в некое особое состояние. Нужно ощущать абсолютное безразличие к страданиям и страху другого человека и в то же время воздерживаться от того, чтобы они приносили удовольствие. Приговоренный больше не существовал для него. Для Ардуина этот человек уже соединился со своим Создателем, даже если в этот момент он вопил, испытывая невыносимые страдания. Палач спустился с костра, взял факел из рук Селестина, своего молодого прислужника, одетого в черное, в маске и красных сапогах, положенных ему по должности, и поджег сухую солому. Побежавшие по ней огоньки перекинулись сначала на хворост, а затем и на сложенные дрова. Мэтр де Мортань следил за тем, как разгорался огонь, чтобы быть уверенным, что за несколько секунд он превратится в ревущее пламя. Его не покидало явственное ощущение, что взгляд миндалевидных зелено-голубых глаз неотрывно прикован к его лицу. Мари не стала кричать или биться, пытаясь вырваться. Сквозь зловещий танец языков пламени он видел, что ее голова склонилась на грудь, и от всей души надеялся, что женщина уже задохнулась от дыма. Непонятно почему ее взгляд неотступно преследовал мэтра Правосудие, даже когда тот вернулся в свою комнату и лег спать.3
Беллем, сентябрь 1305 года Укрепленный город, в который когда-то было не так просто проникнуть, был окружен обширным лесом. С конца первого тысячелетия[403] сеньоры Беллема ревностно выполняли возложенную на них миссию – сражаться со скандинавскими завоевателями, которые намеревались захватить Французское королевство. Стратегическая и политическая важность этого клочка земли только возрастала, поэтому на протяжении многих лет разные сеньоры, наследовавшие Беллем, тайком склонялись то к королю Франции, то к другому могущественному соседу – герцогу Нормандскому. Благодаря щедротам, извлекаемым из желания разных сюзеренов заполучить этот город, а также разумному участию в различных союзах, Беллем процветал, что сразу было заметно, стоило лишь взглянуть на его прекрасные особняки. Город постепенно приобретал вытянутую форму, распространяясь за пределы крепостных стен и привлекая к себе все больше людей. Ротру III, граф Перша, в конце концов получил власть над ним. В начале XIII века этот блистательный род угас, и Беллем снова был возвращен под власть французской короны. Но многие продолжали сожалеть о прекрасных временах, когда при сеньоре коммерция шла как следует и приносила достаток всем жителям Беллема. Пользуясь молодостью нового короля Франции Людовика IX[404], которому едва исполнилось пятнадцать, Пьер Дре, известный под именем Моклерк, герцог Бретонский, присвоил этот город себе. Но при этом он явно недооценил воинственный характер вдовствующей королевы Франции Бланки Кастильской[405], которая, подобно львице, блюла интересы своего сына. Побуждаемая исключительно своей храбростью и материнской любовью, она не колеблясь приказала войску стать лагерем на выходе из города и направить на него оружие с явным намерением начать осаду.* * *
Марсель Вуазен, прозванный Убей Собаку, мэтр Правосудие Беллема, скончался прошлой весной от воспаления кишок. Его старший сын десяти лет от роду был признан слишком юным, чтобы продолжить дело покойного отца, тем более что, по утверждению его матери, вдовы палача, у него никогда не будет такой верной руки, как у отца. Толпа, которая обожает пытки и казни, не простит ни малейшего промаха. Недостаточно ловкий палач тут же станет мишенью для всевозможных насмешек и брани. Уступив длительным мольбам, уговорам и различным посулам вроде двойного жалованья и права на пробу[406], Ардуин неохотно согласился временно занять это место. Он всегда предпочитал знать, какие обвинения выдвинуты против осужденных, с которыми он имеет дело; здесь же его единственная миссия сводилась к тому, чтобы подвергать пыткам и предавать смерти. Когда утром он с юным Селестином, сидящим позади него на крупе лошади, прибыл в город[407], у эшафота уже сгрудилась порядочная толпа. Мэтр Правосудие был уже облачен в черно-красные одежды смерти. Все расступились, чтобы дать им проехать. Венель-младший в миллионный раз прочитал на лицах ту же смесь, казалось бы, несочетаемых чувств: презрительное отвращение к палачу и свирепую радость по поводу зрелища, которое сейчас должно начаться. Ардуин спешился, и секретарь заместителя бальи, некий Бенуа Ламберт, приблизился, чтобы в двух словах пересказать ему приговор, а затем громко объявить его еще раз собравшимся ротозеям. – Обезглавливание. Речь идет о женщине, Од де Касанель, она тайком опоила[408] отравой своего мужа, свекровь и, без сомнения, своего пасынка. – Черт возьми! – Именно! После очной ставки со свидетелями обвинения и особенно после того, как в ее туалетной комнате был обнаружен серый порошок, щепотка которого за несколько часов убила кошку, она быстро созналась и принялась многословно раскаиваться, чем, разумеется, избавила себя от пыток. Ардуин Венель-младший сперва не понял, откуда взялось это переполнившее его вдруг чувство облегчения. С некоторых пор в его голове постоянно раздавалось: «Моя душа пребывает в мире, так как я невиновна… Я предпочту смотреть на вас до своей последней секунды. Вы, священник и эта толпа. Вы станете лицом бесчестья, того, что я уношу с собой в могилу». Мари де Сальвен… Почему его мысли возвращаются к ней снова и снова? Эта женщина осуждена самим Богом. Ведь все очевидно: она виновна в ложных клятвах, в бесчестной натуре своей, которая побудила ее на клевету. Из-за ее проступка слишком легковерный супруг умер от удара шпаги Жака де Фоссея. И хватит об этом! Од де Казанель же была виновна в многочисленных бесчеловечных убийствах.* * *
Показались ломовые дроги, на которых везли приговоренную. Собравшаяся толпа встретила их взрывом ликования. Раздались громкие смешки, многие выражали свой восторг сквернословием. Ведь далеко не каждый день можно увидеть, как даму из благородных лишают головы. Одетая в черное, она стояла, напряженно выпрямившись, привязанная к подпорке, установленной посреди тяжелой телеги. Руки у нее были крепко связаны спереди. Телега остановилась. Осужденная спустилась на землю, подошла к священнику, чтобы преклонить пред ним колени и еще раз попросить прощения за свои отвратительные поступки. Мужчина в рясе ласково возложил руку ей на лоб и отошел в сторону. Ардуин приблизился в свою очередь и помог осужденной подняться по лестнице на эшафот. Как обычно, он спросил ее громким и четким голосом: – Мадам и сестра моя во Христе! Выполняя свои обязанности, я сейчас должен лишить вас жизни и покорно прошу за это прощения. Простите ли вы меня? Од де Казанель – высокая женщина с малосимпатичным лицом – посмотрела на него пустым взглядом и спокойно произнесла: – О да, милейший, конечно! Затем, понизив голос, она добавила: – Такие глупцы… Я ни о чем не жалею, разве что о том, что меня разоблачили. До скорой встречи в аду, палач. После всего, что я перенесла здесь, вряд ли мне там будет хуже. Только, ради Господа Бога, прошу вас, исполните свою работу как можно проворнее. Ваша репутация искусного мастера служит мне небольшим утешением. Ардуин покачал головой и помог женщине встать на колени перед плахой, после чего принялся развязывать веревку, стягивающую ее запястья. – Мадам, пожалуйста, вытяните руки по бокам, – сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно мягче. – Вытяните шею, насколько можете, и положите голову на этот брусок. Прошу вас не шевелиться, тогда ваша смерть будет совершенно безболезненной. Од де Казанель безропотно выполнила все, что он сказал. Ее руки заметно дрожали. Женщина подавила стон, рвущийся у нее из горла, и застыла в ожидании, преисполненная ужаса. Мэтр де Мортань окликнул Селестина, своего молодого помощника: – Подай мой меч! Взгляд Од остановился на юноше, следя, когда появится оружие, которое должно ее убить. Она не заметила быстрого движения Ардуина, который извлек сверкающий Энекатрикс, который был уже приготовлен и лежал рядом с ним. Она не увидела, как сверкающее лезвие поднялось над ней и точным ударом обрушилось на ее шею. Голова покатилась по эшафоту, сопровождаемая безумными воплями толпы, в которых слышались радость и одобрение. Мэтр де Мортань только что прекрасно выполнил свою работу, при этом оказав мадам де Казанель небольшую поддержку, устроив все так, чтобы она не увидела, как смерть приближается к ней. Селестин приблизился к хозяину и протянул ему кусок красной шелковой ткани, которой тот вытирал Энекатрикс от пятен крови. Несколько мягких ласкающих движений – и на лезвии появилась сверкающая надпись: «Eos diligit et suaviter multos interficit»[409]. Когда Ардуин и Селестин неторопливо пересекли площадь, все головы поворачивались к ним.4
Мортань-о-Перш, сентябрь 1305 года Ардуин Венель-младший очень любил те минуты, когда он снова становился обычным, ничем не приметным незнакомцем, когда никто не знал ни его имени, ни его занятия. Разумеется, это было в тех случаях, когда он не прикреплял к одежде полоску ткани[410], которую под угрозой штрафа должен был носить на рукаве, находясь в городе, чтобы все могли знать о его ремесле. Сейчас он забыл об этом опознавательном знаке. В сущности, Ардуин не особенно верил, что его и правда могут оштрафовать. Палачей не так много, а обидевшись, он запросто может уехать, оставив город без столь необходимого работника. Всеми презираемые, отвергаемые обществом, исполнители приговоров часто были выше закона, даже если дело касалось кровосмесительных браков. Церковь смотрела на такое сквозь пальцы, понимая, что палачи могут жениться исключительно в своей среде. Все мастера Высокого Правосудия[411] состояли в родстве друг с другом в большей или меньшей степени. Существовали различные благозвучные названия, которыми именовали людей их ремесла, но только когда испытывали нужду в их услугах, – например «Мастер, наказующий преступников», вошедшее в обиход несколькими десятилетиями ранее. Зато никогда не было недостатка в оскорбительных кличках: Жан-Покойник, Сломай Шею и многих, подобных им. С рассеянной улыбкой на губах Ардуин бродил по узким крутым улицам Мортаня, разглядывая товары на лотках. В постный день[412] у прилавка торговца рыбой собралась целая толпа. Слышались пересуды почтенных хозяек и служанок. Происхождение рыбы сделалось предметом самых ожесточенных споров. Неужели эти удильщики[413] выловлены в Сен-Флорентене? Что же касается этих миног, чем можно доказать, за исключением честного слова торговца рыбой, что они прибыли из Нанта, или что эти скаты прямо из Ларшама? С тем, что лососи привезены из Анже, все дамы милостиво согласились. И потом, сколько дней понадобилось для их перевозки?[414] Коконы из травы, которыми была обмотана каждая рыбина, чтобы предохранить ее от жары и кишащих везде мух, казались достаточно свежими… Однако что мешает заменить кокон из увядшей травы свежим, чтобы выдать рыбину за только что выловленную? Несчастный торговец рыбой, которому приходилось каждый базарный день выслушивать одни и те же замечания, полные подозрений и беспощадной критики, изо всех сил старался оправдаться и доказать свою честность. Какая-то кухарка кричала ему прямо в лицо: – Если мои хозяева слягут от колик или поноса, то виноваты будете только вы! Так и знайте! И нечего тут мне зубы заговаривать!* * *
Ардуин Венель-младший вошел в лавочку аптекаря, который вырвал у своих соперников право торговать самыми разными мазями, лосьонами, притираниями[415], которые должны обеспечить красивую кожу, благозвучный голос[416] и густые волосы. Здесь же находилось двое еще молодых кумушек, обсуждавших достоинства мази для лица. Они обернулись к вошедшему, и невольная улыбка появилась на губах одной из них. Какой симпатичный мужчина! Как он элегантно одет, какие у него темные волнистые волосы, спадающие на плечи! Кожа бледная, ни одного пятна или отметины[417]; такого ни одна девица не пропустит. И, наконец, у незнакомца на поясе короткая шпага. Явно мужчина из благородных, тут нечего и сомневаться[418]. Жеманясь и стараясь привлечь его внимание, женщина просюсюкала: – Пожалуйста, проходите перед нами, мессир. Нам нужно еще посоветоваться о своих покупках. Он поклонился и медленно произнес низким голосом, который поверг в дрожь молодую кумушку: – Благодарю вас, мадам. Обе не спускали с него глаз все время, пока он покупал лосьон для рта. Поклонившись им еще раз, Ардуин вышел из лавочки. Неясная грусть переполняла его. Если б эти женщины знали о его занятии, они постарались бы даже не смотреть на него, как если бы он был заразным больным. Он в тысячный раз подумал о том, что если бы его старший брат не скончался, то он бы унаследовал отцовскую должность, а его сын стал бы помощником. Ардуин, возможно, смог бы пуститься в приключения, стать солдатом или хирургом-цирюльником. Он чувствовал себя буквально раздавленным невыносимым грузом трех поколений исполнителей Высокого Правосудия. Эх! Судьба распорядилась совсем по-другому. В глубине души Ардуин Венель-младший допускал возможность иной жизни, мыслями он не раз возвращался к этому, как если бы предназначение мало значило для него. Судьба беспощадно потащила его в грязь, чтобы затем стать ласковой и превратить его в богатого, очень богатого человека.* * *
Он помнил об этом так ясно, будто эта встреча была вчера. Умирая, очень богатый галантерейщик[419], вдовец, дети которого умерли еще раньше, послал за ним как-то вечером, нимало не беспокоясь, что соседи увидят, как палач входит в его дом. Старик хрипел. С левойстороны шеи у него выросла опухоль величиной с куриное яйцо. Несмотря на свое плачевное состояние и слабость, он не переставая ругал всех священников, колдунов и врачей, от которых никакой пользы; они, мол, только выманили у него кучу денег. Путаясь и захлебываясь словами, старик спросил: – Палач, говорят, что вы лучшие хирурги. Это правда? Молодой Ардуин возразил ровным спокойным голосом: – Мы в совершенстве владеем этим искусством… для определенных целей. Являемся ли мы лучшими? Я не берусь этого утверждать. – Ладно, действуй, друг! Давай, отрежь эту пакость. А то еще немного, и я подохну. Я уже чувствую, как смерть целует меня в лоб. Она так воняет! Если ты сможешь дать мне еще немного пожить, то увидишь: я умею быть благодарным. Операция предполагалась довольно сложная и опасная. Ардуин знал, что под кожей расположено множество вен и артерий. Стоит чуть сильнее провести ланцетом[420], делая надрез, и старик отдаст Богу душу… Мэтр Правосудие задумчиво покачал головой и спросил: – Итак, месье, вы отдаетесь в мое распоряжение, чтобы я смог вам оказать эту услугу? – Что для этого нужно? – пробулькал несчастный галантерейщик. – Мне понадобятся чистые тряпки и таз с водой. Еще были бы совсем не лишними два кувшина вашего лучшего вина. Вы очень облегчите мою работу, если напьетесь до полного бесчувствия. Иначе от страха вы можете завизжать, как резаный поросенок. Издав придушенный смешок, галантерейщик наклонил голову в знак согласия. Они выпили, а потом еще и еще. Ардуин благоразумно едва пригубил из своего бокала; галантерейщик же наливался вином, как бездонная бочка, без умолку рассказывая истории из своей жизни, как если бы сидел со своим приятелем за столиком какого-нибудь трактира. Окончательно захмелев, он все время повторял: – Друг, ты пришелся мне по сердцу. Еще как! И почему у меня нет такого сына, как ты? Эти хилые бабы отдали концы, не оставив потомства! Как же тебе не повезло родиться в семье палача и всю жизнь безвинно страдать от этого… Наконец старый галантерейщик допился до полного бесчувствия. Ардуин поднес ланцет к его горлу. Вся операция длилась не более получаса. Несмотря на то, что в комнате было довольно прохладно, горячий пот заливал лицо Венелю-младшему, руки его все были обагрены кровью. Пьяный старик стонал, время от времени открывая глаза и уставившись куда-то в пространство бессмысленным взглядом. Ардуин без устали повторял: – Не шевелитесь, иначе я случайно могу вас зарезать, как свинью. Наконец все было закончено. Ардуин бережно обмыл рану, которая зияла на месте вырезанной опухоли, приложил компресс, смоченный в настойке чабреца[421], и осторожно забинтовал шею. Пять дней спустя вечером служанка галантерейщика пришла к нему, принимая все меры предосторожности, чтобы никто не видел, как она входит в дом палача, и принесла более чем значительную сумму. Хозяин велел передать эти деньги в благодарность за услугу. Галантерейщик выжил и, несмотря на то, что еще месяца три испытывал сильные боли, в конце концов окончательно поправился. Ардуин тайком заходил проведать старика, который радовался своему чудесному спасению и теперь как никогда ценил каждое мгновение своей жизни. Они выпивали по несколько стаканов вина и расставались как самые лучшие друзья. Однажды, спустя четыре года после операции, когда Ардуин не заходил к своему галантерейщику уже несколько недель, к нему постучался одетый в черное служащий нотариальной конторы и передал извещение. Каково же было удивление Ардуина Венеля-младшего, когда тот узнал, что является наследником немалого состояния галантерейщика, скончавшегося несколько дней назад. Также он теперь являлся собственником большого дома. Молодой палач более чем разумно распорядился своим капиталом. Он купил лавку мясника, которую содержали нанятые им люди, вложил деньги в гильдию Мастеров Высокого Правосудия, приобрел доли на нескольких мельницах и открыл в своем регионе несколько контор по сдаче лошадей внаем. Деньги продолжали стекаться к нему. Венель-младший мог бы оставить должность палача, уехать, поменять имя. Но, странное дело, он не смог на это решиться. Тем не менее теперь Ардуин мог позволить себе покупать книги, картины, красивые вещи. Однако хотя мелким дворянам очень нравился его дом, никто так и не откликнулся на его приглашение заглянуть в гости, даже последний слуга из дома каких-нибудь буржуа. По зрелом размышлении Венель-младший пришел к выводу, что абсолютное одиночество отверженного, то, что в глазах остальных отличает его от других людей, покрывая несмываемым позором, в какой-то мере даже льстит ему. Эта мысль помогала Ардуину переносить обиды от всех тех, кто постоянно отвергал его. Принеся себя на алтарь правосудия, подвергаясь постоянным насмешкам, он нес свою службу. Хищник превратился в жертвенного агнца. Так или иначе, он принял свою судьбу.* * *
Несмотря на то, что было еще очень раннее утро, Ардуин ощутил, как голод все сильнее терзает его внутренности, и вошел в таверну «Белый кинжальщик»[422] – заведение довольно высокого уровня. Мэтр Кинжальщик[423] тотчас же поспешил навстречу посетителю благородной наружности, который был у него довольно частым клиентом. – Мессир, какое счастье, какая невероятная честь для меня видеть вас здесь! – воскликнул трактирщик, бросая косой взгляд на двух уже сидевших клиентов. Ардуин, едва войдя, заметил, что те уже несколько навеселе, и выбрал стол как можно дальше от них. – Взаимно, – ответил он. – Кувшин вашего лучшего вина и блюдо… не знаю, что сейчас готовится на вашей кухне. – Сегодня постный день, поэтому могу предложить пирожки с тресковой[424] икрой, их только что испекли; еще оладьи без сыра[425] и – чуть не забыл – яблочная запеканка с медом, о которой вы мне как-то говорили. – Что же, более чем привлекательное меню, мэтр Кинжальщик. Трактирщик устремился на кухню, не переставая улыбаться широкой дежурной улыбкой. Два других посетителя тем временем подняли возню и порядком действовали Ардуину на нервы. «Белый кинжальщик» гордился своей репутацией семейного заведения, куда могли прийти посидеть с удовольствием даже дамы, не опасаясь, что непристойные речи могут оскорбить их слух. Трактирщик хотел набраться решимости и почтительно попросить шумных посетителей удалиться. Без сомнения, это были благородные господа. Во всяком случае, один из них. Грубый смех послышался со стороны стола, расположенного на другом конце длинного зала. Ардуин Венель-младший осторожно повернул голову, впервые разглядывая сидящих за столом. Одного из них он сразу узнал – того, что бессвязно бормотал самым фривольным тоном: – Ну и что тут такого? Я взял эту дамочку сверху, как последнюю шлюху. Славная вышла забава! К тому же, несмотря на то, что она отчаянно сопротивлялась, я более чем уверен, что женщина получила удовольствие. Разразившись омерзительным хихиканьем, он продолжил: – Еще бы! Ее хилый старик муж способен только перепачкать ей кожу на животе своим жиром. Не удивлюсь, узнав, что он давно ни на что не способен, особенно на то, чтобы удовлетворить красотку. А тут ее наконец-то почтил своим вниманием полнокровный мужчина! Другие на ее месте рассыпались бы в благодарностях! Ну да, она сопротивлялась… Но кто же не знает женщин; все их жалобы и обвинения не более чем пустая формальность. А сколько разговоров из-за такой малости! В конце концов, ей было о чем вспомнить, когда она отдавала Богу душу. Его собеседник, который был немного трезвее, делал ему отчаянные знаки, призывая говорить потише. Жак де Фоссей, убийца Шарля де Сальвена. Тот, из-за кого загорелся костер, пожравший Мари де Сальвен, его жертву. Будто ледяная волна окатила мозг Ардуина. Когда мэтр Кинжальщик поставил перед ним кувшин, стакан и блюдо с лакомствами, он бросил на него отсутствующий взгляд. Затем, заплатив и пробормотав невнятные извинения, мэтр Правосудие поспешно вышел.* * *
Ощущая неприятную пустоту в голове, Ардуин бесцельно бродил по улицам Мортаня, толком не отдавая себе отчета, сколько времени провел за этим занятием. Две противоположные мысли крутились в его мозгу, сталкиваясь и будто перекликаясь друг с другом. Он не был тем, кто вершит суд, и поэтому смерть невинного человека произошла не по его вине. Но как же он не почувствовал ее искренности в тот момент, когда связывал ее на костре? И что самое худшее: почему он не помедлил хотя бы одно мгновение и не спросил эту женщину, что придает ей силы перед лицом ужасной мучительной смерти, во что она верит? Если б только она солгала, признавшись в клятвопреступлении, которого не совершала, тогда бы ее ждало только обезглавливание – быстрая и сравнительно легкая смерть… Венель-младший заглянул к Фрингану[426] – лучшему жеребцу его конторы по найму лошадей, – едва заметив обычные почтительные поклоны прислужника, которому доверил эту деликатную работу. Ардуин настолько через силу ответил на его приветствие, что тот даже забеспокоился: – Господин, с вами все хорошо? Вы такой бледный, такой изнуренный… Стакан сладкого вина с корицей и медом должен вас взбодрить. Я могу пойти за ним на кухню. – Благодарю, любезный, но я уже должен идти. Скорее всего, меня просто утомила эта длительная прогулка.* * *
Всю обратную дорогу мысли о Мари де Сальвен не выходили у него из головы. Ардуин будто снова видел ее – одетую в платье из грубой некрашеной ткани, босиком, с поспешно обстриженными волосами и зелено-голубыми глазами, чуть вытянутыми к вискам. Она так стойко переносила выпавшие ей страдания… В ушах его снова звучал ее голос, так же ясно, как если бы Мари де Сальвен сейчас шла рядом с ним. В моей душе мир, я невиновна… Я желаю видеть вас до самой последней секунды. Вас, священника и эту толпу. Вы будете лицом бесчестья, того, что я уношу с собой в могилу… Но почему она? Ардуин Венель-младший был достаточно проницательным, чтобы предположить, что Мари была не единственным невинным человеком из тех, кого он за свою жизнь отправил на тот свет. Почему она, почему именно сегодня? Он снова и снова задавал себе этот вопрос, не в силах ответить на него. Может быть, это перст судьбы, как и всегда? Одна мысль об ужине вызывала у него тошноту, и он отправился спать под немного удивленным взглядом Бернадины, которая служила у него в доме уже два года. Набожная женщина, постоянно раздающая милостыню. Еще молодая вдова нормандского палача, она предпочитала не обнародовать правду о своем прошлом. Всякий раз эта сильная женщина заявляла без пафоса, но и без вызова: – Мой муж не был ни плутом, ни мошенником, и он не выбирал профессию, которую должен был унаследовать от отца и деда. Молчать об этом для меня все равно что заново родиться. Я будто выплевываю все это из своей памяти. Бернадина ни о чем не стала спрашивать своего молодого хозяина. Она прекрасно знала, что означает такой затуманенный взгляд, такая пепельная бледность. С ее мужем иногда такое случалось. В такие вечера не было обычных разговоров; муж сидел, уставившись куда-то в пространство невидящим взглядом. В последний раз нечто подобное произошло, когда он исполнил наказание в виде отрубания руки. Осужденный за браконьерство был совсем молод, почти мальчик. На этот противозаконный поступок его побудили муки голода, терзавшие его уже долгое время. Ему не оставалось другого средства, чтобы поддержать свое существование. Обвиняемый клятвенно заверял в этом судей, тщетно взывая к снисходительности и милосердию…* * *
Ардуин Венель-младший на долгие часы погрузился в дремотное забытье, наполненное обрывками снов, странными и непонятными видениями. Он дрожал в приступе сильнейшей лихорадки, от которой все его тело покрывалось ледяным потом, отчего ночная рубашка моментально делалась мокрой, изо всех сил стараясь сбросить с себя это кошмарное оцепенение, – но тщетно. Как будто беспощадные тиски сдавили ему грудь, перемалывая кости, так же, как он сам делал множество раз. Смутный шум, который наполнял его разум, внезапно стал оглушительным криком. Завывания, душераздирающие жалобы, рыдания, мольбы. Крики, неизменно сопровождающие ужасную смерть, давно ставшую главной частью его жизни. Должно быть, ад так и выглядит – точным подобием его полуобморочных кошмаров. Его корчили сильнейшие судороги, исторгающие из груди жалобные стоны. Он отбивался от охвативших его кошмаров, изо всех сил пытаясь вернуться в сознание. Ему казалось, что к нему притрагиваются липкие теплые руки, терзают его когтями и тащат в какое-то незнакомое место, откуда ему уже никогда не выбраться. Перед мысленным взором Ардуина появлялось отвратительное болото, зыбучие пески, готовые погрести его под собой. Дышать ему становилось все труднее. Женщины, осужденные на смерть, которых он зарыл в землю живыми, вернулись, чтобы неотступно преследовать его. Женщин было не принято вешать из опасения перед непристойным зрелищем, которым могло стать для находящихся внизу платье, задравшееся под ветром[427]. Их целомудрие было спасено, в то время как они задыхались, царапая землю в безумной отчаянной надежде освободиться. Палач и сам задыхался, заблудившись в той чудовищной стране, откуда он никак не мог выбраться, но внезапно прохладная ладонь прикоснулась к его пылающему лбу. Голос, который он когда-то давно уже слышал, прошептал: «Я вас простила, теперь вы это знаете». Мари де Сальвен! Ардуин резко открыл глаза, вытянувшись на своей кровати, будто утопающий, спасенный в тот момент, когда он уже было простился с жизнью. Теперь он снова мог свободно дышать. Почему у него предплечья в крови? Почему их покрывает множество царапин? Ардуин внимательно разглядел свои ногти, но ни под одним не увидел красной полоски. Он встал с кровати и, пошатываясь, пересек комнату. Его губы слиплись от жажды. Ухватившись за перила каменной лестницы, Ардуин с трудом спустился и направился в кухню. Поставив перед собой зажженный светильник[428], Бернадина устроилась на скамейке, стоявшей возле длинного стола из темного дерева. Услышав шаги, она повернула к нему голову, и ее взгляд остановился на его расцарапанных предплечьях. – Мне так хочется пить, – произнес Ардуин, с трудом выговаривая слова. Она встала, чтобы подать ему воды. Палач пил долго, опустошив кружку и протянув ее, прося снова наполнить. После этого он тяжело рухнул на скамейку. Бернадина обтерла ему руки полотенцем, смоченным в настойке мальвы и чабреца. Котелок с теплым снадобьем висел у нее над очагом. Не дожидаясь, пока он сам заговорит об этом, служанка тихо и внушительно произнесла: – Про́клятые души иногда могут приоткрыть двери ада. Выйти оттуда не в их силах, но, когда за ними следят чуть менее строго, они пытаются заманить туда других. – С твоим мужем тоже так было? – Гм… – Но она не проклята. Господь принял ее с распростертыми объятиями. Она невинный ангел. – Кто она? – Женщина, осужденная на смерть. Как ее звали, не имеет никакого значения. В самом деле, он предал ее мучительной смерти от огня, а она вырвала его из когтей проклятых душ. Он ее убил, а она его спасла от неведомого кошмара. Во всяком случае, он сам старался себя в этом убедить. Почувствовав себя полностью обессиленным, Ардуин закрыл глаза и качнулся всем телом вперед, стукнувшись лбом об стол. Глубоко вздохнув, он наконец погрузился в глубокий сон без сновидений. Бернадина бесшумно встала, прикрутила фитиль в светильнике и приблизилась к спящему. Погладив его по голове, она прошептала: – Спи. Адские врата снова закрылись. Во всяком случае, на этот раз. Когда однажды ночью они снова приоткроются, ничто на свете не сможет их снова закрыть. Ты это скоро узнаешь. Очень, очень скоро.5
Окрестности Мортань-о-Перш, сентябрь 1305 года Когда Ардуин Венель-младший проснулся, солнце было уже высоко. Всего нескольких мгновений ему хватило, чтобы понять, что он делает в кухне, развалившись за столом. К нему тотчас же возвратились все ужасы минувшей ночи. Мэтр Правосудие снова принялся разглядывать свои исцарапанные в кровь руки. Множество тонких царапин покрывали его кожу красной сеткой, вызывая воспоминания о кошачьих когтях. Но тем не менее он не испытывал никакой неловкости или боли. Наперекор пережитым ночью ужасным кошмарам, Ардуин прекрасно чувствовал себя, он снова был свеж и бодр. Даже его разум вновь обрел привычные ясность и остроту. И тем не менее он совершенно ясно ощущал, что непоправимая трещина прошла по его душе. Непреодолимая пропасть теперь разделяла его жизнь на «до» и «после». У него не было ни единой мысли относительно того, чем станет для него это «после». Он должен был совершить разоблачение: убийство, не более и не менее. Из-за того, что это было именно убийство, изменилось все существование Ардуина; он теперь по-другому воспринимал живых существ, смерть и даже Господа Бога. Это убийство сделало все совершенно другим раз и навсегда. Убийство Мари де Сальвен. Эта последняя мысль настолько сбила его с толку, что оставалось лишь недоуменно улыбаться. Его разум знал то, что ему самому было еще неведомо.* * *
Он окликнул Бернадину, которая появилась почти сразу же. Скорее всего, она была все это время где-то рядом, ожидая его пробуждения. – Я голоден, моя добрая Бернадина. Голоден как волк. – Какая радостная новость! Сейчас я принесу все, чем можно набить себе живот. Ардуин поглощал принесенную служанкой еду с таким аппетитом, которого не испытывал никогда в жизни. Бернадина не сводила с него заботливого взгляда. Благоразумная служанка не стала задавать никаких вопросов, понимая, что хозяин и сам еще толком не знает ответов ни на один из них. За супом с миндальным молочком и размоченным хлебом последовало обильное блюдо из птицы[429], поданное прямо на корочке[430] с овощным пюре. Ардуин с жадностью проглотил все это, заев свежим сыром, а затем набросился на сладкий фруктовый десерт[431]. Все эти лакомства он залил стаканом[432] тонкого дорогого вина и попросил Бернадину присоединиться к нему. Та налила себе вина с множеством предосторожностей, из страха как-нибудь повредить драгоценный стеклянный стакан, и уселась напротив него, довольная этим знаком привязанности и почтения. – Отметим, – предложил он. – Что же? – Не знаю. Однако я уверен, что у меня есть что отметить. Они осторожно поднесли свои стаканы друг к другу, а затем выпили в полном молчании. С предыдущей ночи Бернадина испытывала смутное волнение. Где потерялся рассудок ее хозяина? В каких разнесчастных краях? Вернулся ли он невредимым из своего путешествия, свидетелем которому она уже однажды была? Женщина была убеждена, что в своих кошмарных видениях ее покойный супруг сам поджаривался на медленном огне. Жиль так и не оправился после одной такой ночи. Он превратился в еле живую развалину, отказавшись разговаривать и все время воскрешая в памяти ужасные видения. Ночи напролет он задыхался, издавая жалобные стоны и обливаясь по́том. Это происходило всякий раз, пока ей не удавалось его разбудить. Без всяких видимых причин сильный мужчина потихоньку угас, подобно пламени свечи. Как будто вся жизнь высасывалась из него какой-то темной силой, которую Бернадина даже не знала как назвать. – Ты такая молчаливая… – Я жду вашей воли. – Сомневаюсь, чтобы дело было в моей воле, доброй или злой. Это не имеет ровным счетом никакого значения. – Что-то я вас совсем не понимаю, хозяин. – А я и сам себя не понимаю. Я жду. Жду того, что должно внезапно произойти. Скажи, чтобы оседлали Фрингана. Мне нужно прогуляться, подышать свежим воздухом. Женщина согласно кивнула в ответ. Страх будто обвивался вокруг ее сердца, скручиваясь тугими узлами.* * *
Ардуин оседлал великолепного черного жеребца, своего верного товарища на протяжении многих лет. Жеребец вздрагивал, нервно поднимал голову, издавая пронзительное ржание и взмахивая гривой. Ардуин погладил его по шелковистой шее, ласково успокаивая. Слова, которые сами шли с его языка, явились верным отражением того, что сейчас происходило в самой глубине его существа. – Я все тот же твой хозяин, мой прекрасный верный конь, просто я вдруг сам стал другим. Благородное животное успокоилось. Совершенно бездумно Ардуин направился в сторону Мортаня. Он въехал в город чуть позже шести вечера и направился к дому, который занимал помощник бальи, когда у него были какие-нибудь дела в этом городе. Слуга попросил его подождать, а затем провел к своему хозяину. Арно де Тизан был очень удивлен появлением палача. Его взгляд остановился на рукаве Ардуина, и помощник бальи ядовито заметил: – Я не вижу вашей эмблемы. – Это так. Вы не видите эмблемы, потому что вы не видите палача. Заместителю бальи понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать свою причастность к происходящему. Лицо его приняло отстраненное строгое выражение. – Ах нет? Так вам не нравится, что все девицы легкого поведения бегут от вас в страхе? Кровь, крики теперь вызывают у вас ужас? Нет, только не у вас, самой лучшей руки королевства!.. Ради Бога, избавьте меня от всех этих монашеских сентиментальностей. Вы не можете… изменить своему предназначению. Наконец, я… государство испытывает настоятельную необходимость в вашей службе. После некоторого размышления Ардуин медленно произнес: – Ужас? Вовсе нет, мессир. Пока Фринган нес меня на своей спине, я понял, что меня заставляет страдать нарушенное равновесие. – Да вы что, с ума сошли? – вспылил помощник бальи. – Какое еще равновесие?! Взгляд светло-серых глаз мэтра Правосудие Мортаня сделался беспощадным. Неожиданно губы его растянулись в легкой улыбке, и Ардуин произнес очень вежливым тоном: – Мне нужна голова Жака де Фоссея. Я слышал, как он хвастался совершенным насилием. Я сам обезглавлю его, не спрашивая за это никакой платы. Я требую, чтобы честь мадам Мари де Сальвен была восстановлена публично, чтобы ее останки были вырыты и похоронены в освященной земле, как того заслуживает эта достойная женщина. Арно де Тизан не привык, чтобы с ним говорили в подобном тоне. Однако он вытерпел эту наглость со стороны того, кто в его глазах был ничтожнее самого последнего слуги, – своего палача. Ну и ну! И этот человек держится с таким поразительным чувством собственного достоинства и с такой благородной суровостью… – А если нет, то что будет? – все же осведомился он. – Если нет? Я сделаю это втайне, а потом исчезну. Вам придется найти другого мэтра Правосудие Мортаня. На это место не так уж много желающих, позвольте заметить. Несколько мгновений Тизан судорожно размышлял, к какой бы увертке прибегнуть, понимая, что неожиданный посетитель вовсе не шутит. И как ему обойтись без Венеля-младшего, особенно после того, как мастер Высокого Правосудия из Беллема так внезапно скончался? – Вы абсолютно уверены относительно Фоссея? – Безусловно. Он в открытую хвастался своим гнусным бесчестным поступком. Это был именно он, я абсолютно в этом уверен. Я легко узна́ю его спутника, и он может засвидетельствовать мои слова. – Хорошо. Жака де Фоссея завтра известят о том, что против него выдвинуто обвинение и что ему запрещено покидать округ. Расследование начнется немедленно. Берегитесь, Венель-младший. Если вы впутываете меня в щекотливую историю, я вам этого не прощу.* * *
Ардуин покинул дом заместителя бальи. Он не был уверен в благоприятном исходе дела. С того самого момента, как палач проснулся, его не покидало ощущение, что он двигается, подталкиваемый чьей-то рукой, прохладной и благожелательной. Ардуин не сомневался в словах заместителя бальи. Во всяком случае, монсеньор де Тизан был благородным человеком, но одновременно он был политиком. Старый лис[433], большой мастер избавлять себя от лишних невзгод. Месье Правосудие Мортаня лучше, чем кто-либо другой знал, что суд для какого-нибудь деревенщины[434], оборванца или серва[435] сильно отличается от того, что применяется в отношении к высокородным господам. Если бы Жак де Фоссей был каким-нибудь шорником, изготовляющим конскую упряжь, или красильщиком тканей с синими ногтями[436], его бы тут же арестовали и бросили в тюрьму или в подземелье даже до начала расследования. Ардуин удивился, обнаружив, что находится под вывеской заведения «Белый кинжальщик». Он спустился на несколько ступенек по лестнице, ведущей в большой зал. Мэтр Кинжальщик, который был немного обеспокоен его внезапным уходом в прошлый раз, поспешил ему навстречу. – Мессир, мессир, какая радость снова вас видеть! Мне так неловко, что… – Прошу меня извинить. У меня внезапно возникло срочное дело после того, как я с отвращением услышал разговор ваших других посетителей. – Даже не говорите мне об этом! Мне стоило такого труда уговорить их уйти до полудня, ведь в этот час всегда наплыв посетителей… Я так матушке Кинжальщице и сказал: раз уж ты пришел сюда, нализавшись всякой кислятины, не заказывай еще вина. Или делай это не в моем заведении. – Скажите, эти люди постоянно у вас бывают? – как бы невзначай спросил Ардуин, устраиваясь за столом. – Только не этот дворянчик. Второй – да, один из постоянных посетителей. Жермен Фланш, здешний богатый фермер. У него здесь в городе лавочки и кое-какие коммерческие дела. Большое состояние! Он здесь обычно останавливается и любит пропустить стаканчик-другой хорошего вина, но такого с ним раньше никогда не случалось. Я был так удивлен и обескуражен… Мессир, я всем сердцем желаю, чтобы вы не судили меня за это строго. – Что вы, мой друг. Вы не виноваты, что эти люди так себя вели, – заверил его Ардуин, в глубине души очень довольный тем, что ему удалось узнать имя того, с кем ему нужно встретиться. – Мы с вами принадлежим к породе сильных людей и способны слушать непристойные и фривольные речи, при этом не задыхаясь от смущения. Но представьте себе, если бы в этот момент здесь присутствовали дамы… – Что верно, то верно! Они бы разволновались и были бы до крайности недовольны. А ведь так недолго и клиентуру потерять. Я только и мечтаю, чтобы эти двое навострили лыжи куда подальше… – Ладно, оставим это. Сегодня мы здесь в хорошей компании. А теперь я прошу вас, мэтр Кинжальщик, принесите кувшин вашего превосходного вина и малую тарелку ваших лакомств.* * *
Ардуин быстро нашел великолепную ферму Жермена Фланша, расположенную между Мортань-о-Перш и Гайером. Громадный зажиточный дом, который, судя по виду, поддерживался в прекрасном состоянии, был построен в форме подковы – планировка, очень распространенная в этом округе. Около полудюжины лакеев и служанок хлопотали в просторном квадратном дворе, вид которого служил еще одним доказательством, что дом принадлежит хозяину здешних мест. Мэтр Правосудие узнал, что хозяин отправился взглянуть на скотомогильник, находящийся примерно в четверти лье на запад. Он знал это место, неприглядное название которого хранило память об эпидемии «белой заразы»[437], истребившей стада овец несколькими десятилетиями раньше. Была выкопана яма, чтобы бросать туда останки и потом засыпать негашеной известью, чтобы пресечь распространение этой ужасной эпидемии[438].* * *
Ардуин Венель-младший узнал человека, стоявшего на краю поля, несмотря на то, что он находился на расстоянии в несколько туазов. Это был тот самый пьяница из таверны. Краснолицый, неповоротливый, несмотря на достаточно низкий рост, из-за непомерной толщины он обильно потел под своей шляпой. Жермен Фланш издали заметил силуэт нежданного посетителя. Его одежда, прекрасно сшитая, но строгого и немного устаревшего фасона, выдавала недоверчивость, характерную для тех, кто не любит демонстрировать свое богатство из страха, что все будут бессовестно пользоваться их великодушием и в итоге оберут до последнего денье. Ардуин спешился и привязал поводья Фригнана к нижней ветке какого-то дерева. Вежливо улыбаясь, он приблизился к фермеру. – Мэтр Фланш? У меня есть к вам небольшое дело. Тот резко повернулся, внимательно глядя на приближающегося к нему высокого элегантного мужчину. Во взгляде толстяка ясно читалось любопытство и недоверие. – Месье? – Венель. Ардуин Венель. – Извините, не помню, где мы с вами встречались. – Да, конечно. Я имел… удовольствие оказаться одновременно с вами в таверне. С вами и вашим другом Жаком де Фоссеем. Фермер, глядя на него, пытался догадаться, к чему клонит неожиданный гость, и наконец осторожно протянул: – Друг, друг… Я всего лишь в какой-то мере хозяин этих земель[439]. – Должно быть, в тот день вы немного опьянели от своих щедрот, раз ничего не помните. Вы с ним говорили о какой-то «даме, которую поимели, как непристойную девку». Хитрец попробовал ускользнуть от ответа. – Венель, говорите? Я вас совсем не знаю. Какая еще дама? Какая девка? Оставим это, месье. Я не понимаю, о чем вы таком говорите. У меня сейчас случится разлитие желчи. Взгляд пронзительных серых глаз немного затуманился. Ардуин вздохнул. – Что же, очень жаль. Три вытянутых пальца устремились к гортани фермера. Тот рухнул на колени, хрипя, задыхаясь; от боли слезы хлынули на его красные жирные щеки. Венель-младший приблизился и, схватив его за руку, быстрым движением выломал мизинец. Раздался хруст, за которым последовал хриплый пронзительный вой. Вдалеке жнец поднялся на ноги, поворачиваясь во все стороны, не понимая, что за звук только что долетел до его ушей. Наконец, успокоившись, он вернулся к своему занятию. – Мне продолжать или твоя желчь уже успокоилась? А как с твоей памятью, она прояснилась наконец? Итак, эта дама… Да отдышись ты, я никуда не тороплюсь. Знаешь ли, я могу сделать тебе еще хуже – например, одну за другой переломать каждую косточку твоего тела. И ты останешься жив столько, сколько мне понадобится. Так что выбирай сам. – Так ты… – торопливо запыхтел толстый фермер. – Только не произноси слова «палач», а то ты меня рассердишь. Я мэтр Высокое Правосудие. Тот, кто ужасным способом отнял жизнь у этой дамы, которую твой друг Фоссей отымел, как непристойную девку, изнасиловал, воспользовавшись отсутствием ее супруга… Ну так выбирай. Фермер сунул палец себе в рот, стараясь утихомирить боль. Не сводя с него пристального взгляда, Ардуин схватил собеседника за вторую руку. Тот в ужасе забормотал: – Нет, нет, смилуйтесь… Чего вы от меня хотите… – Правды. Справедливости. Ты сейчас же пойдешь просить аудиенции у помощника бальи мессира Арно де Тизана. Он уже ждет твоего визита. И ты перескажешь ему слова Жака де Фоссея. – Нет, он же расправится со мной, – умолял Фланш, охваченный безумным ужасом. – Если только его не бросят в тюрьму. В противном случае я сам займусь тобою, и твоя агония будет бесконечной. Ты будешь готов проклясть собственную мать за то, что произвела тебя на свет. Все мое искусство будет к твоим услугам, а оно поистине безгранично. Выбирай же. Венель-младший принялся медленно и осторожно выворачивать кверху три пальца на левой руке Жермена Флаша. Тот попытался было отбиваться, подняться на ноги, но удар ноги посередь грудины снова выбил из него дыхание. Фермер тяжело рухнул на бок. Ардуин терпеливо ждал. На его изящном лице не отразилось никаких эмоций. Ни один человек, каким бы ловким или массивным он ни был, не смог бы устоять против него. Еще в юности палач выучил, где находятся самые чувствительные места человеческого тела; те, удары по которым будут наиболее болезненными. Он знал, как заставить человека потерять сознание, воздействуя на тыльную часть руки, или, наоборот, не позволить ускользнуть в блаженное забытье. Ардуин испытал облегчение, поняв, что испытанный им накануне ночной кошмар, прохладная рука, притронувшаяся к его пылающему в горячке лбу, не сбили его с пути, на который наставил его когда-то отец. Путь, приведший его к тому странному состоянию, в котором он находился сейчас, исполняя свою работу: совершенное безразличие к ужасу и страданиям другого человека. Корчась от боли, Жермен Фланш усердно затряс головой в знак согласия. – Скажи, что сделаешь это. Поклянись пред лицом Господа. Поклянись своей душой, – потребовал мэтр Правосудие Мортаня. – Я клянусь своей душой, что донесу отвратительные речи Жака де Фоссея господину бальи, – пролепетал фермер. – После всего этот гнусный злодей мне вовсе не приятель. – Если ты только вздумаешь мне соврать, берегись, мой друг! Поверь, чтобы вызвать мой гнев, надо быть уж вовсе бесчувственным болваном! С этими словами Ардуин Венель-младший снова вскочил в седло и скрылся вдалеке.6
Мортань-о-Перш, конец сентября 1305 года Благодаря свидетельству Жермена Фланша взятие под стражу и судебный процесс против Жака де Фоссея прошли так быстро, как мэтр Правосудие Мортаня и не надеялся. Тем более что хлынул настоящий поток других свидетельств; свидетельствовали женщины всех сословий, над которыми он совершил насилие, а также всплыли истории о тех женщинах, которые после надругательства совершили самоубийство. Судя по всему, Жаку де Фоссею было свойственно грубо отбирать то, что ему отказывались дать добровольно. И в этом случае он получал куда больше удовольствия. Вся его надменность и спесь фата, с которой он сначала свысока принимал заявления многих дам, обвиняющих его в изнасиловании и клятвопреступлении, быстро испарились, стоило ему свести во время допроса близкое знакомство с искусством мэтра Высокое Правосудие. Все происходило согласно законам и обычаям: полчаса пыток по каждому из обвинений, выдвинутых против него. Ардуин переломал ему ноги, медленно вбивая клинья между пластинками «сапога»[440]. Непристойная ругань, которую сначала без умолку изрыгал Жак де Фоссей, быстро сменилась завываниями и жалобными мольбами. Прислонившись к стене камеры пыток, с письменным прибором на шее, который почти что лежал на его объемистом брюхе, секретарь ждал признаний обвиняемого. И они не замедлили появиться. Жак де Фоссей подробно изложил, как совершил насилие и нанес побои Мари де Сальвен и другим женщинам. Ознакомившись со списком злодеяний, Арно де Тизан впал в ужасный гнев. – Негодяй, бесчестный клятвопреступник! – кричал он. – Правосудие будет беспощадным. В самом деле, судьи, назначенные заместителем бальи, вынесли самый суровый приговор, предусмотренный за такие преступления. Это произошло по окончании процесса, который длился всего лишь от полудня до вечера. На следующий день виновного доставили на городскую площадь. Толпа, заранее проведавшая о готовящихся пытках, перетаптывалась и шумела в нетерпении. Секретарь заместителя бальи громко прочел приговор и протянул его мэтру Правосудие Мортаня, одетому в кроваво-красный камзол. Лицо палача было скрыто под маской из черной кожи. Тот быстро просмотрел лист, убедившись в отсутствии retentum[441], который судьи иногда добавляли для палача. Обвиняемый знал об этом не больше собравшихся зевак, которым не терпелось увидеть, как он умрет, и досадовавшим на любое промедление. Позор Жака де Фоссея был таким же вопиющим событием, как и возвращенная честь мадам Мари де Сальвен и ожидавшее ее перезахоронение. Жертва насилия будет погребена в освященной земле рядом со своим супругом. В первый раз за всю свою карьеру мэтр Правосудие Мортаня не стал склоняться в поклоне перед обвиняемым. Напротив, он грубо толкнул его, а затем исполнил приговор, к великой радости толпы, которую забавляли бесконечные звериные стенания де Фоссея. Обвиняемый был публично оскоплен под овации и грубые непристойные шутки черни. Затем он был распят между четырьмя жеребцами-тяжеловозами из Перша, которых Ардуин Венель-младший сначала пустил медленным шагом, чтобы, к удовольствию собравшихся, пытка длилась как можно дольше. Когда после долгих мучений де Фоссей был уже в агонии, бесчувственный ко всему, что с ним происходит, мэтр Правосудие Мортаня вместе с юным учеником Селестином отнесли его на эшафот, где в знак окончательного бесчестья повесили как нищего. Искореженные окровавленные останки были сняты и отвезены к виселице на шести столбах, оставленной для графов[442], которая находилась за городскими стенами, чтобы избежать невыносимого запаха падали. Там висели трупы тех, кому из-за их гнусных деяний было отказано в христианском погребении. Они обречены висеть до полного разложения, служа пищей для птиц, покуда веревка не оборвется. Селестин в глубине души поздравил себя с тем, что Фоссей был четвертован и повешен. Чтобы подвешивать обезглавленных, требовалось продеть веревку им под мышки. Трудная работа, во время которой не обходилось без того, чтобы перепачкаться свернувшейся кровью. Маленькие дети, поощряемые своими родителями, последовали за процессией, посмеиваясь над тем, как, наверно, тяжело быть подмастерьем палача. Следом шли люди бальи. Когда все было закончено, многие из толпы стали подбирать камни и забрасывать ими безжизненные останки Жака де Фоссея.* * *
Ардуин Венель-младший вернулся домой, чувствуя себя совершенно опустошеным. Мучения и смерть гнусного подлеца доставили ему одновременно и удовольствие, и огорчение. Так же, как во множестве других случаев, он просто выполнил свою работу. С другой стороны, его опьяняла одна мысль, что справедливость восторжествовала и Мари де Сальвен снова обрела свою честь. Он, отверженный, тот, кого почти не считают за человека, вернул правосудие и людей на путь истины. Бернадина приготовила своему молодому хозяину ванну[443] с теплой водой, в которую было добавлено изрядное количество отвара липы и мальвы. Когда он разделся[444], женщина снова отметила про себя, что Ардуин – красивый и сильный мужчина. Разумеется, он уже давно не был девственником. Иногда он не ночевал дома, и Бернадина догадывалась, что он встречается с женщинами. Однако Венель-младший никогда не упоминал ни об одной из них, в то время как столько хорошеньких дочек палачей были бы рады такой партии… Ах, хозяин еще так молод! Придет время, и он наконец решится обзавестись супругой. Оставшись один, в медной бадье, полной ароматизированной воды, Ардуин позволил своему рассудку впасть в некое блаженное оцепенение. Он чувствовал полнейшую безмятежность и умиротворение. Должно быть, его посетили видения, которые обычно приходят к человеку, погруженному в сладкую дрему. Но их продолжение было настолько реальным, что он почувствовал это всей кожей. Уже засыпая, беззаботно закинув руки за голову, Ардуин внезапно ощутил, как кто-то нежно проводит рукой по его боку, теплоту руки, скользнувшей через плечо и обвившейся вокруг шеи. Затем он почувствовал поцелуй, который пришелся точно в подмышку, затем длинные мокрые волосы нежно провели по его груди. Больше всего на свете Ардуину не хотелось пробуждаться от этого сладостного видения, но все же он поднял тяжелые веки, прошептав: – Мари? Ощущение обвившегося вокруг него женского тела длилось еще несколько мимолетных мгновений, чтобы затем рассеяться, коснувшись и его кожи, и души. Блаженное состояние сменилось ощущением смутной печали. Он, обреченный на вечное одиночество, которое, честно говоря, давно воспринималось им как что-то привычное, вдруг почувствовал себя несчастным и покинутым. После ванны Ардуин Венель-младший поужинал с людоедским аппетитом. Запахи, распространяемые кушаньями, казались ему опьяняющими, а их вкус – просто отменным, намного лучше прежнего. Он похвалил Бернадину, которая ждала, стоя за его стулом. Та удивленно прервала хозяина: – Что вы… Я все приготовила как всегда. И вино из той же самой бочки, что вчера, позавчера и на прошлой неделе.* * *
Ночь была на редкость причудливой. Глубокий мертвый сон чередовался у Ардуина с внезапными пробуждениями, во время которых острота всех чувств его просто ошеломляла. Настойчивое посвистывание сипухи, на которое тут же мстительно откликалось совиное уханье, вызывало у него улыбку. Ардуин понимал, что хищные птицы обмениваются угрозами, защищая свою охотничью территорию. Запах тимьяна и порошка из красного можжевельника, которые Бернадина рассыпала по маленьким матерчатым мешочкам[445] и раскладывала по углам высокого шкафа, чтобы отпугнуть насекомых и, без сомнения, от дурного глаза, до сих пор был едва различим. Теперь же он ощущался так сильно, что это даже вызывало удивление. Где-то над головой слышались легкие, едва различимые звуки, как будто проносились вереницы каких-то созданий. Скорее всего, это мыши возились под кровлей. В ночной тишине эхом отражались мирные и в то же время мощные звуки биения его сердца, шум крови в артериях на шее. Без всякого беспокойства и спешки Ардуин попытался проникнуть в тайну этой метаморфозы, которую ощущал всеми своими фибрами. Должно быть, в этом скрыт какой-то смысл, какое-то предназначение.Но внезапный сон прервал его размышления. Когда он снова проснулся, была еще ночь, но его мысли потекли с того самого момента, когда он был сражен сном. Кто является причиной происходящих с ним изменений? Господь Бог? Мари де Сальвен? Он сам? Множество тех, для кого он явился причиной преждевременной смерти? И, наконец, какое все это имеет значение? Последовали периоды такого же бездонно глубокого сна, настолько короткие, что Ардуину казалось, будто он едва успел смежить веки. Это продолжалось до самого рассвета. Встав с постели счастливым, сам не понимая причины переполнявшей его радости, он приступил к умыванию перед туалетным столиком. Неожиданный сюрприз ждал мэтра Правосудие, когда тот спустился в кухню, чтобы подкрепиться. На скамейке его терпеливо ожидал не кто иной, как помощник бальи. На столе перед ним был стакан настойки и блюдо с мясом и слоеными пирожками. Прислонившись к низкой двери, ведущей в погреб, сложив руки на груди и опустив глаза, с самым решительным видом стояла Бернадина. – Я не хотела тревожить ваш сон, хозяин. Он ведь так драгоценен. Все, кроме Бога, могут подождать. Этот бунт служанки вызвал неуместную улыбку на лице Ардуина Венеля-младшего. Тотчас же он склонился перед де Тизаном, безмерно удивленный, что тот явился к нему сам вместо того, чтобы вызвать к себе. Помощник бальи произнес немного ироничным тоном: – Ваша упорная служанка наотрез отказалась подняться, чтобы разбудить вас, и составила мне безмолвную компанию. По правде говоря, это был скорее надзор. Может быть, она опасалась, что я могу похитить вашу свиную колбасу? Мэтр Правосудие, я должен с вами поговорить. Наедине.* * *
Заметив требовательный взгляд хозяина, Бернадина сделала реверанс и удалилась. Нервно постукивая указательным пальцем по столу, де Тизан подыскивал подходящие слова с нерешительностью, которая была очень редкой для такого человека, как он. Без сомнения, тот прежний мэтр Правосудие удивился бы этому. Но не этот новый, который родился наутро после ужасающей, проведенной в горячке ночи. Его разум был таким именно с того времени, в то время как душа его была по-детски спокойна. Явная нерешительность де Тизана теперь оставила его равнодушным. Тот бросил на него неуверенный взгляд и наконец решился: – Венель-младший… Чего вы на самом деле добивались в случае с де Фоссеем? – Я… я не могу это выразить достаточно точно. Как объяснить, не рискуя уподобиться в ваших глазах романтической девице, помешанной на поэзии? – Это лестное сравнение я никогда не рискнул бы применить к вам, хотя вы и слывете ценителем прекрасного, – шутливо заметил де Тизан. Ардуин вздохнул. – Внутри меня свирепствует жестокая борьба, мессир бальи. Две исполинские силы противоборствуют друг с другом. Бог свидетель, я нисколько в этом не виноват. Я осуществляю правосудие – Божие и человеческое, – но являюсь ли я сам совершенно невинным? Я больше в этом не уверен. Я предпочел бы… я испытываю колебания… поведать вам весь бред той ночи, с риском, что вы увидите в этом лишь помутившийся рассудок затворника, – объявил палач, возвращая собеседнику отпущенную недавно колкость. – Вы, без сомнения, преувеличиваете, – неохотно согласился помощник бальи. – В ваших словах мне видится почти неприкрытая угроза. И я не привык, чтобы… – …вам противоречил кто-то из низкого сословия, где самым низшим, конечно, является мэтр Высокое Правосудие? – со злобной иронией продолжил Венель-младший, жестом останавливая возражения, которые готовы были сорваться с языка де Тизана. – Ради Бога, сеньор бальи. С чего бы вам сердиться на этот признанный всеми обычай? – И все же, чего вы добивались, мессир исполнитель? – настаивал собеседник таким строгим голосом, что палач спросил себя, не бродил ли и его разум в тех же краях. – Это нечто вроде доверительного счета… Ни одно из существующих слов не представляется мне подходящим. Я не являюсь виновным, но в то же время и невиновным тоже. Речь не идет о тех, кому я причинил страдания и смерть, в то время как они не были виновны в тех преступлениях, в которых их обвинили. Речь идет о тех созданиях… которым не следовало бы умирать… не знаю почему, я… нет, это невозможно объяснить. И все-таки у меня есть твердая уверенность относительно этого предмета. Чистые души, которые Господь вовсе не требовал к себе, не желал, чтобы их преждевременно посылали к Нему. Прошу простить меня за эти бессвязные речи, но они дают представление о том, что творится у меня в голове. Я бы очень хотел обрести вновь свою невинность, хотя бы часть ее. Очиститься от всей этой душевной грязи, которая сейчас давит на меня. – Мари де Сальвен? – Она и другие. Я хочу выполнить все, что в моих силах. Вот в чем состоит мой долг, моя совесть и честь и, если хотите, спасение моей души. Казалось, Арно де Тизан погрузился в очень давние воспоминания. Серая тень покрыла его щеки. Наконец помощник бальи заговорил сухим безжизненным голосом, не сводя взгляда с мэтра Правосудие: – Помните ли вы о молодой Эванжелине Какет, которой едва исполнилось четырнадцать? Ее скорее можно было назвать толстой скотиной, чем юной девушкой. Ее назвали в честь паперти той церкви, где она была найдена еще младенцем. Покопавшись в своей памяти, Ардуин отрицательно покачал головой. – Вы подвергли ее пытке, и она очень быстро во всем призналась. Согласно законам и обычаям, касающимся женщин в таких случаях, ее предали смерти путем закапывания в землю. – Сеньор бальи, я исполнил множество пыток и казней, через мои руки прошло множество человеческих созданий. Должно быть, та история была не особенно значительна, раз я не могу ее вспомнить. – Ну конечно… Но, видите ли, я более чем уверен, что она была невинной во всех смыслах этого слова. Она была ленивой дурочкой и не понимала даже четверти того, что ей говорилось. Большая удача для обвинения и тем более для свидетелей, подтвердивших его слова из чистой любезности, в чем я более чем уверен. Венель-младший снова попытался вспомнить, но безуспешно. Путь, который когда-то указал ему отец, включал в себя много чего в таком роде: забыть внешность, лица, имена, крики, мольбы. Поняв, что собеседник так и не сможет вспомнить, Тизан продолжал: – Пять лет назад ее обвинили в жестоком убийстве своей хозяйки, Мюриетты Лафуа, жены чиновника – разбивателя соли[446]. Девушка исполняла самую тяжелую и грязную работу на кухне в доме Лафуа, набожных и почтенных горожан. Такого мнения о них придерживались все их слуги и соседи. Хозяйка была зарублена топориком. Лицо Мюриетты Лафуа превратилось в сплошные кровавые лохмотья. Эвелину Какет нашли сидящей у ее тела; она что-то напевала, держа за руку свою покойную хозяйку. Ее руки и лицо были в крови. Окровавленный топорик был найден в зарослях шалфея в дюжине туазов от дома. Лафуа сжимала в руке серебряный медальон со Святой Девой. Если какой-нибудь бродяга зашел в дом, чтобы обокрасть его, столкнулся с хозяйкой и убил ее, он, конечно, забрал бы медальон, ведь он очень дорого стоит. К тому же решающим аргументом послужило то, что из дома ничего не было похищено. Когда вы, по распоряжению судей, стали пороть ее кнутом, она лишь жалобно поскуливала, что было истолковано как утвердительный ответ. Она ни слова не поняла из ваших вопросов. Тем лучше для нее; ее страдания были недолгими. Тупое тяжелое лицо, покрытое каплями пота и слезами, слюнявый рот, растянутый в такой неуместной улыбке, предстали перед мысленным взором палача. Она улыбалась даже тогда, когда он мягко подтолкнул ее к яме, вырытой для того, чтобы ее похоронили там заживо. – Теперь я начинаю ее вспоминать, но очень смутно, – произнес он. – Она была невиновна, клянусь вам. А значит, убийство совершено кем-то другим. – Что заставило вас прийти к такому выводу, сеньор бальи? – Теперь моя очередь опасаться, что меня обвинят в дамской сентиментальности. Да хотя бы то, что она беспрекословно растянулась в этой яме. – Сентиментальность? Мне было достаточно взгляда женщины. Взгляда Мари де Сальвен. Но помощник бальи, казалось, не слышал его. Он медленно закрыл глаза. – Венель… Вот сейчас, в этот момент… у меня полная уверенность, что Господь смотрел на меня тогда глазами Эванжелины Какет, и смертельный холод леденит мои внутренности. Я знаю, Бог не хотел, чтобы она тогда ушла в его Царствие. Какое мне дело, что она была осуждена, как того требовали законы. Мы узурпировали волю Вседержителя! Странное дело, но я к этому уже привык, так же как к множеству других вещей до вашей… выходки по поводу де Фоссея, которая уже стала для меня одним из воспоминаний прошлого. А самые обескураживающие детали я спрятал в дальнем уголке своего разума. – Обескураживающие? – чуть повысил голос Венель-младший, поднимаясь, чтобы снова наполнить стакан заместителя бальи. – Ну конечно. Гарен Лафуа, безутешный вдовец, который навещал свои владения, находящиеся в добром лье от его дома, где произошло убийство, переехал из Мортаня в Ножан-ле-Ротру несколько месяцев спустя после ужасной кончины супруги. Почти все слуги последовал туда за ним. За исключением троих, в числе которых была молодая женщина. Все трое выступали свидетелями против Эванжелины. – И что из этого? – Слушайте дальше. Один из свидетелей купил себе лавку колбасника, другой – ферму неподалеку от Дансе. Что же касается юной особы, то она удачно вышла замуж за сына крупного маркитанта. Спрашивается, откуда она взяла деньги на приданое? Конечно, не с тех грошей, которые платил ей Гарен Лафуа, который вовсе не славился щедростью. – Вы полагаете, что ей заплатили за некоторое свидетельство? – Вроде того. – И что же она тогда заявила? – Девица поклялась на Евангелии, что молодая служанка ненавидела свою хозяйку Мюриетту Лафуа, жаловалась на нее и высказывала угрозы в ее адрес. Элуа Талон, чернорабочий, бывший солдат, а теперь наш добрый колбасник, поклялся, что сопровождал своего хозяина, когда тот отправился объезжать владения, и не отходил от него ни на шаг. Альфонс Фортен, третий мошенник – тот, который стал фермером, – свидетельствовал, что утром того дня, когда было совершено убийство, Эванжелина пришла к нему одолжить топорик, заявив, что ей нужно отрубить головы у карпов. Эта просьба его немного удивила, но он, разумеется, ничего такого не подумал. – А другие слуги? – Все это и определило ход процесса. Трое других слуг тогда находились в домашней прачечной. Еще двое на телеге отправились в лес, чтобы нарубить там дров. Таким образом, Мюриетта Лафуа оказалась дома одна с Эванжелиной. Некоторые слуги усмотрели в этом умысел обвиняемой, которая ждала удобного момента, чтобы беспрепятственно совершить свое ужасающее деяние. Даже если б и захотела, она была совершенно не способна ни на какую хитрость и тем более расчетливость. Ей бы просто не хватило на это ума. – Полагаю, слуги отправились исполнять работу по приказу хозяина? – Ваше предположение совершенно верно, мессир Правосудие. Но история на этом не заканчивается. Через три месяца после убийства жены Гарен Лафуа снова женился на молоденькой и хорошенькой буржуазке из Мортаня. Последнее служит доказательством, что он был с ней знаком еще до переезда в Ножан-ле-Ротру. – А он что-нибудь унаследовал от первой жены? – поинтересовался Ардуин. – А вы как думаете! После ее кончины он унаследовал довольно приличное имущество. Кстати, сейчас у него народилось уже двое от второй жены. – Обычная семейная история с очень скверным завершением, так? – подытожил палач. – Если бы все, кому изменяют супруги, погибали таким образом, земля превратилась бы в безлюдную пустыню! – отрезал помощник бальи. – Обычная и довольно омерзительная история о страсти к наживе, о безнравственности и даже дикости. – И все же это не доказательство, – возразил Ардуин. – Верно. Тем не менее кто, даже имеющий больше власти, чем я, мог бы добиться таких доказательств? – Разумеется. Но, мессир бальи, позвольте почтительно поинтересоваться у вас, почему вы именно сейчас решили вытащить эту историю на свет Божий? Насколько я понимаю, она давно лежит тяжким грузом у вас на сердце… – Потому что я приспособился ко всем этим вещам, именно об этом я вам сегодня и говорил. Недавние события всколыхнули во мне воспоминания об этой старой истории. Может быть, я сам выискиваю себе оправдания, но мне кажется, что я жду некоего знака свыше. Что-то вроде императорского приказа, требующего, чтобы справедливость в отношении Эванжелины и Мюриетты была восстановлена. – Какого знака? – Вас. Этим знаком стали ваша горячность по поводу истории с де Фоссеем, ваши угрозы. Если отыщутся бесспорные доказательства виновности Гарена Лафуа, поможете ли вы мне? – В чем? – Прикончить его. Я бы очень хотел, чтобы он знал, почему и за какой непростительный грех он умирает. – Вы хотите, чтобы я совершил убийство? Сеньор бальи! – воскликнул Ардуин. – Но ведь вы не из тех людей, кто падает в обморок при виде шпаги или боится всадить ее в сердце своего противника. Тизан ответил ему с еле заметной улыбкой: – Благодарю вас, сударь. Я рад, что наши взгляды на правосудие и справедливость во многом совпадают. Дело в том, что… речь вовсе не идет о мести, о ненависти или дуэли, которая является долгом чести. Речь идет исключительно о правосудии, ко всем законам относятся с должным почтением. Моя работа состоит в том числе и в том, чтобы арестовывать и судить, а ваша – чтобы исполнять приговор. – Ваши слова совершенно справедливы. Но почему же вы просите моей помощи? Мы не друзья и даже не симпатизируем друг другу. К тому же Эванжелина Какет и Мюриетта Лафуа мне не родственницы, которых я должен защищать даже после того, как они сошли в могилу. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы в отношении этих женщин восторжествовала справедливость. – Как жаль, что вы даже богаче меня и вас невозможно подкупить, – заметил Арно де Тизан. – Тогда, возможно, мы бы с вами сторговались… Что я могу вам предложить такого, от чего вы не сможете отказаться? – Свою ответную помощь, что же еще? – улыбнулся мэтр Правосудие. – То есть? – Не думаю, чтобы вы благосклонно приняли мое предложение. Тем не менее прошу вас немного поразмышлять, прежде чем отказывать мне. То, что я хочу у вас попросить, – вовсе не предательство; это можно скорее назвать справедливостью. Отдать Богу то, что должно вернуться к нему… вернуть его созданиям возможность униженно просить у него прощения, что мы в своем высокомерии подменили собой его волю… Более того, все это останется между нами. – Говорите же! – настойчиво повторил помощник бальи. – Мне нужен доступ к записям судебных процессов. Я еще сам не знаю, каких. – Ну вот еще! – воскликнул Арно де Тизан, резко поднимаясь на ноги. – Вы что, с ума сошли? Это же секретные записи, и к тому же они опечатаны. Ардуин попросил его мягким и спокойным голосом: – Прошу вас, присаживайтесь, сеньор бальи, и беспристрастно подумайте об этом еще раз. Если б вы не ознакомились с показаниями свидетелей против Эванжелины, ее бедная душа так и находилась бы в чистилище, ожидая отмены несправедливого приговора и христианского погребения. Тот же, кто виновен в смерти ее хозяйки, должен поплатиться за свое преступление. И двое этих несчастных наконец обретут покой. – Но вы хотите, чтобы я совершил должностное преступление! – Это всего лишь название, которое можно выворачивать по своему желанию в зависимости от того, чьи интересы защищаются, – заявил мэтр Правосудие Мортаня. – Должностное преступление, с помощью которого истина наконец воссияет, невиновные будут очищены от гнусных обвинений и пятно позора, которое легло на их семьи, будет наконец стерто. Что, по-вашему, лучше: сломать печать, преграждающую доступ к записям, или позволить, чтобы невиновные и дальше страдали? Что же касается самоубийц[447], которые чаще всего оказываются жертвами преступления, разве не наш долг отдать их состояние семьям и восстановить их доброе имя в глазах церкви? Я вижу в этом лишь простое нарушение обычаев. Спросите же совета у своей души и своей совести. Помощник бальи строго посмотрел на него и после нескольких мгновений напряженного молчания торжественно произнес: – Хочу вам предложить кое-что получше. Восстановить справедливость в отношении покойников – это, безусловно, достойное занятие. Но спасти тех, кто еще жив, – вот долг сердца и чести. Ардуин Венель-младший ожидал продолжения, не понимая, куда клонит Тизан. И продолжение не замедлило последовать. – А теперь вернемся в Ножан-ле-Ротру. Начиная с какого-то времени там происходят жестокие убийства детей, причем обоего пола. Уличные дети из тех, кого за монету можно нанять поднести корзину или сбегать в лавку. Я знаком с бальи этого края, Ги де Тре; он в полном отчаянии от того, что не в силах прекратить эту ужасную историю. Два или три дня дети бесследно исчезали, а затем не то на улице, не то возле какого-то дома были обнаружены их тела. Дети были замучены до смерти самым бесчеловечным образом. Следствие затрудняло то, что показания свидетелей были неясными и расплывчатыми. Родители пропавших детей не особенно ими занимались, предоставляя тем пробавляться случайными заработками[448]. – Но я же не являюсь бальи или кем-то из его лейтенантов. Я не провожу расследование. – А разве не вы проделали эту работу, чтобы разоблачить Фоссея? Разве не вы разыскали этого фермера Жермена и заставили его явиться ко мне и поведать все, что он знает? – парировал Арно де Тизан. – Это вы правильно подметили, – согласился Ардуин. – Но прошу вас, рассказывайте дальше. – Мне известно лишь то, что рассказывал Ги де Тре; он говорил обо всем на редкость туманно, за исключением того, что в судебном разбирательстве была допущена серьезная, роковая ошибка. Попрошайка, некий Бастьен Моллар, поплатился за то, чего не совершал. Такие тунеядцы обычно переходят из города в город, из прихода в приход. Проходит всего несколько недель, и все начинают понимать, с кем имеют дело, и больше не верят в их сетования на горькую судьбу. Этот же только недавно прибыл в Ножан и не собирался оставаться там надолго, так как вместо милостыни его осыпа́ли бранью. Его образ жизни послужил одной из причин, по которой он был арестован людьми бальи… На вашем лице я читаю уверенность, будто я нарочно перегружаю свой рассказ малосущественными деталями. Ответом была улыбка, выражающая вежливое согласие. – Прошу меня простить, – продолжил Тизан. – Мне бы следовало рассказывать все по порядку, чтобы убедить вас. Тем не менее я хочу позволить себе сделать одно признание и прошу вас, чтобы оно осталось между нами. – Даю слово, сеньор бальи. Арно де Тизан покрутил в пальцах пирожок с мясом, пристально глядя на него и будто задаваясь вопросом, насколько он вкусен. Положив его назад на блюдо, он заявил: – По моему глубокому убеждению, Ги де Тре, не обладающий серьезным характером, так и не простил себе того легкомыслия, с которым отнесся к этому делу. Без сомнения, его внимания требовали более срочные дела, поэтому он и передал бразды правления одному из своих лейтенантов. Тот же быстренько закруглился, с самого начала поведя расследование по неверному пути. Под пыткой попрошайка признался в гнусных насилиях и кровавых убийствах, совершенных над этими детьми, и сразу же после этого был повешен. – Какие следы привели именно к этому человеку? – Его опознала одна торговка, когда утром открывала ставни. Накануне Моллар оскорбил ее у церковных дверей, когда женщина отказала ему в мелкой монетке. По словам этой торговки, побродяжка стоял на коленях возле того, что ей сперва показалось кучей одежды. Подняв голову, он заметил открытое окно и удрал. После этого она заметила, что из кучи тряпья торчит голая детская ножка. Муж свидетельницы спустился на улицу и обнаружил страшно изуродованное тело ребенка. – Что сказал обвиняемый в свое оправдание? – Что он просто проходил по улице, когда еще только светало. Издалека он заметил кучу тряпок и решил, что кто-то выбросил старье. Для него это была бы хорошая пожива. Приблизившись, он увидел, что перед ним мертвый ребенок. Думаю, будет излишним упоминать, что его пьянство и мелкое жульничество не сослужили обвиняемому хорошую службу. – Значит, вы не считаете, что Бастьен Моллар виновен в этих преступлениях? – Я в этом абсолютно убежден. Мой первый аргумент появился, когда я ознакомился с картиной преступления. Бессмысленное жестокое убийство, совершенное ради удовольствия, причем над слабыми существами. Его было легче легкого свалить на нищего пьяницу, мозг которого постоянно одурманен винными парами. Этот мог бы убить от испуга, в пьяной драке; наконец, чтобы ограбить свою жертву, – и в любом случае удрал бы как можно скорее. Здесь же у меня не возникло впечатления, что убийство совершено кем-то неразумным, настолько хитро и расчетливо были нанесены эти ужасные раны. Насколько я понял, убийца детей прекрасно умел ладить с ними. К тому же он нападал только на маленьких беспризорников, прекрасно зная, что их никто не будет искать. Судебное разбирательство избрало самый легкий путь… Но каким идиотом надо быть, чтобы притащить окровавленные останки своей жертвы в город ранним утром, да еще на торговую улицу, где все просыпаются очень рано? Я не поверил в эти обвинения. Любой на его месте сделал бы это ночью, когда обитатели улицы спят за закрытыми ставнями. – Все это разумно и очень убедительно. Однако я чувствую, что главная причина ваших сомнений в чем-то другом, – заметил Ардуин. – Попрошайка появился в Ножане за два или три месяца до своего ареста. Однако дети начали пропадать двумя годами раньше. – Разве это не удивило первого лейтенанта бальи Ножан-ле-Ротру? – Ни капли. Бесполезно вам говорить, что в некоторых кварталах города по-прежнему неспокойно. Людей Ги де Тре осыпают упреками в бездействии и неумении. Без сомнения, вышеупомянутый лейтенант подумал, что если найти виновника, неважно, настоящего или нет, волнения хоть немного успокоятся. Как видите, это ни к чему хорошему не привело. Попрошайка был подвергнут пытке и повешен. Месяцем позже в одном из поселков была найдена маленькая девочка. Умерщвленная тем же кошмарным способом. – Черт возьми! – Недовольство населения уже переходит за опасную черту. Женщины открыто бранят и оскорбляют людей Ги де Тре. Дело дошло до того, что жители собираются отправить послание самому Жану II Бретонскому, а может быть, даже уже послали. По моим сведениям, в письме особое внимание уделяется недобросовестности Ги де Тре и его людей, особенно первого лейтенанта. – Не думаю, чтобы мессира Бретонского заинтересовали эти преступные дела, потрясающие одно из его отдаленных владений, – заметил Ардуин. – Он слишком занят в другом месте, – согласился бальи. Венель-младший начал подчеркнуто незаинтересованным тоном: – Перейдем к очевидному. Когда был повешен попрошайка? – Примерно полгода назад. – Убийство девочки произошло три или два месяца назад. А другие потом были? – Не знаю; во всяком случае, мне не приходилось об этом слышать. Я встречался с бальи Ножан-ле-Ротру летом, перед самым днем Святого Якова[449]. Девочку нашли как раз за две недели до него[450]. – Сколько детей было убито таким же способом… ну хотя бы за год? – Одиннадцать, не считая той девочки. Ну и, разумеется, тела некоторых детей так и не были обнаружены. – Смерть Христова![451] Помощник бальи принялся путаться, с трудом подбирая слова, и мэтр Правосудие почувствовал, что тот крайне смущен. – Я… Я удержусь от такого… радикального уточнения, но мне кажется, что… что я ошибался. Я не знаю… По приказу Ги де Тре некий Антуан Мешод с помощью присяжной матроны[452] исследовал найденные тела. Все дети подверглись жестокому насилию, причем над мальчиками надругались противоестественным способом, после чего все они были кастрированы. – Проклятье! Гореть ему в аду! – на одном дыхании выкрикнул Ардуин.* * *
До этого момента вся история была ему довольно безразлична и очень далека. Он только и ждал, что удобного момента обратиться к де Тизану с какой-нибудь просьбой. Странное дело, палач, подвергший мучениям, убивший и лишивший мужественности стольких человек по приказу суда, не мог выносить и мысли о том, чтобы кто-то делал это ради удовольствия. То, что кто-то мог наслаждаться страданиями и стонами маленьких невинных детей, повергало его в ужасный гнев. Во всяком случае, осторожность, которой он решил придерживаться в разговоре с заместителем бальи, тонкая хитрая политика, чтобы добиться от него желаемого, – все это уступало необходимости раскрыть ужасное жестокое преступление. Ардуин еще колебался, перед тем как задать вопрос, который буквально жег ему губы. Не сочтет ли помощник бальи это за дерзость? Даже если они так сердечно беседовали, исполнитель ни на мгновение не забывал, что в глазах всех Арно де Тизан всегда останется благородным господином, в то время как к нему, Ардуину, будут относиться как к болотной грязи. Сеньор бальи обращается к нему с такой вежливостью лишь потому, что палач по сути дела является узаконенным убийцей. Ну и, может быть, существует еще одна причина такого доверительного разговора. В конце концов, почему бы не позволить себе небольшую дерзость, раз уж в кои-то веки такая возможность у него появилась! – Сеньор бальи, со всем моим почтением, я понимаю ваш интерес к этому Гарену Лафуа, потому что это убийство совершено в вашем судебном округе. Но какая вам забота до Ножан-ле-Ротру, попрошайки и несчастных маленьких жертв убийства? Дети ведь мрут легионами. Ардуин заметил, каких усилий стоит Тизану сохранить невозмутимый вид. Взгляд его глаз орехового цвета заметно помрачнел, и палач, который столько знал о недрах человеческих душ, чистых и нечистых, понял, что тот собирается ему солгать или, во всяком случае, сказать полуправду. – Я снова вынужден просить вас дать мне слово сохранить все в секрете. – Я еще раз даю вам его. Клянусь честью. Да падет на меня вечный позор, если… Слова Ардуина были прерваны стуком в дверь. Бернадина просунула голову в комнату и спросила: – Хозяин, достаточно ли напитка? А может быть, подать еще пирожков? – Все хорошо, благодарю. Она покачала головой, прежде чем со стуком захлопнула за собой дверь. Ардуин воспользовался паузой, чтобы еще раз наполнить их стаканы, а затем снова уселся перед помощником бальи и спросил: – Так какую тайну вы мне собирались доверить? После некоторых колебаний Арно де Тизан произнес: – Вот в чем препятствие! Я вам уже говорил: я верю Ги де Тре, он благородный человек, приятный в общении. Он из Ренна, принадлежит к старому бретонскому дворянству, очень образован, так же, как вы, страстно увлечен искусством, поэзией и литературой. Думаю, что должность бальи небольшого владения, далеко от всех крупных городов, подходит ему как корове седло. И более чем уверен, что это отвратительное дело с убийствами вызвало у него такое сильное отвращение, что он постарался от него отделаться. – И откуда же у него такое отсутствие усердия? – Черт побери, я-то почем знаю, откуда! Скорее всего, от непонимания. К тому же он еще молод – думаю, ваш ровесник, женатый на славной женщине, которая недавно подарила ему сына… Видите ли, он был бы более на месте при дворе какого-нибудь сеньора. Тем более что ему приписывают еще и выдающиеся умственные способности. Ардуин настаивал, старясь, чтобы его слова звучали как можно мягче: – Хм… И все же это не ответ на мой вопрос, сеньор бальи. Какая вам до всего этого забота? Ведь это не наш судебный округ, не наше графство и даже владения не нашего сюзерена, его высочества Карла де Валуа, отношения которого с Жаном II Бретонским при всем желании не назовешь мирными и спокойными. – Вы хотели сказать «воинственные»!..[453] Ну да, та самая старая история, которая тянется с замужества молодой Изабеллы де Валуа[454], – сказал Тизан, еле заметно пожимая плечами. – Ги де Тре не выразился достаточно четко, но у меня такое впечатление… если б вы поинтересовались моим мнением, я бы сказал, что он весьма намерен позвать меня на помощь. Венель, за тридцать лет я велел арестовать, судить и отправить к праотцам много отпетых преступников. И в этих тошнотворных делах я обладаю поистине огромным опытом. – Охотно признаю, я сам много раз был тому свидетелем, – согласился Ардуин самым искренним тоном. – Что греха таить, должно быть, я недостаточно проницателен, так как до сегодняшнего дня не понял, что вы с монсеньором де Тре связаны узами дружбы. Тизан не попался на эту удочку. Венель-младший, чья изворотливость не была для него неожиданной, подстроил для него ловушку с такой ловкостью и кажущейся простотой. Помощник бальи глубоко вздохнул, подавляя поднимающееся внутри раздражение. Еще чего! Он что, теперь должен оправдываться перед каким-то палачом? Ответ напрашивался сам собой. Но, с другой стороны, ему не обойтись без помощи Ардуина. Одурачить его или заманить какими-то посулами представлялось еще менее вероятным, чем заставить. Такие честные и принципиальные хуже всякой чумы, особенно если они к тому же умны и удачливы. Он ответил резким, почти что повелительным тоном: – Венель, да вы просто как колючка в сапоге! – Поверьте, я сам об этом сожалею. – Ладно! Итак, вы настаиваете на том, чтобы узнать правду относительно моего… интереса к Ги де Тре? – Правда близка мне так же, как перчатка прекрасной выделки, – не удержался от шутки палач. – Но вы же понимаете, что все далеко не так просто… – Хм… Могущество мессира де Тре равносильно вашему, – заметил Ардуин. – Но в том, что касается помощи в расследовании непростых дел, отсутствие опыта, которое вы неоднократно подчеркивали, вряд ли делает его наилучшим союзником. Да и что от такого можно ожидать? – Венель, Венель, и почему мне не пришло в голову, что проще будет связаться с каким-нибудь тупицей, чем с вами? – А разве тупица сможет помочь в вашей затее? – Укол засчитан… На самом деле могущество де Тре на тех землях не больше моего. По правде говоря, эти земли меня порядком утомили. Как бы мне хотелось сменить крохотный округ на что-нибудь более блестящее! Мелкие дворянчики, буржуа и торговцы… Важные сеньоры там, в Лувре, даже и не вспоминают о нас, пока не наступает время собирать подати. Как я вам уже говорил, де Тре из Ренна, из высокородной дворянской семьи. Великолепный ключ, чтобы открыть многие двери, если, конечно, он будет мне чем-то обязанным. Ардуин пристально разглядывал сидящего перед ним человека, его изможденное лицо, которое пересекали глубокие морщины, карие глаза, которые порой становились такими неподвижными. Его собеседник был хитрым проницательным человеком, знатоком всевозможных законов и обычаев. Неужели этот мелкий деревенский дворянин надеется, что рекомендация Ги де Тре сможет открыть ему путь к титулу барона? Конечно же, нет, если он не сошел с ума. У мессира де Тизана были какие-то свои далеко идущие планы. Однако мэтр Правосудие Мортаня знал, что вряд ли он когда-нибудь узнает об этом всю правду. Он решил прекратить эту беседу, которая его уже порядком утомила. В конце концов, какое ему дело до всей этой суеты высокородных особ и тех, кто стоит еще выше их? – Теперь я все понимаю гораздо лучше, – солгал он. – Мы как-нибудь вернемся к этому разговору. Но чего ради я должен помогать вам? – Разве спасение детей не кажется вам похвальным? – возразил бальи голосом, полным негодования. – Ради Бога, мессир! Вы только что говорили, что считаете меня умным человеком. Убийства детей начались более двух лет назад, и никто этим не занимался, пока недовольство жителей Ножан-ле-Ротру едва не переросло в бунт. К тому же эти дети вряд ли сделают более легким груз, который тяготит мою душу и отравляет мне сегодняшний день. Но это не мои призраки, не те несправедливо осужденные на смерть, которых я лишил жизни. Вы желаете моего участия в деле Эванжелины Какет и Мюриетты Лафуа. Это ваши мертвецы. Переживайте из-за них так же, как я переживаю из-за своих мертвецов. Помощник бальи испустил короткий яростный вздох. – Вижу, вы так и не уступите… Какие документы вам нужны? Какие процессы, проходившие в прекрасном городе Мортань-о-Перш, вас интересуют? Если я дам вам возможность с ними ознакомиться, тогда вы мне поможете? – Да, конечно, если вы предоставите их мне, когда придет время и какое-то из старых дел отравит мне ночной покой и потребует, чтобы я вытащил его на свет. Об этом чуть позже. Сейчас я полностью удовлетворен своим нынешним счастьем. Справедливость в отношении Мари де Сальвен восстановлена. А что касается вашего срочного дела, если я заполучу бесспорное доказательство, что Гарен Лафуа ухлопал свою первую жену и оговорил несчастную дурочку, я поступлю с этой гнусной душонкой согласно вашему приговору. Я согласен отправиться в Ножан-ле-Ротру, чтобы помочь мессиру Ги де Тре в его расследовании, касающемся убийств детей. Услуга за услугу! Помощник бальи поднялся и резко кивнул головой в знак прощания. – Ну что же, мэтр Высокое Правосудие. Думаю, вы поняли, что бальи Ножан-ле-Ротру находится в затруднительном положении. Полагаю, что будет желательно помочь ему как можно скорее. И вот еще что: я ему ничего о вас не говорил; мысль о вашем участии сама собой возникла у меня в голове. – Значит, я превратился в дознавателя – упорного, но невидимого? – По моей милости. Итак, до встречи, Венель-младший. До очень скорой встречи.7
Лес у города Беллем, сентябрь 1305 года Арно де Тизан заранее спешился и устроился под деревом в нетерпеливом ожидании. Ему было запрещено обмениваться посланиями или воспользоваться для этого чьими-то услугами. Тем не менее он согласился на эту встречу, не сомневаясь, что она станет первой из длинной череды подобных. Столько лет он бродил в мирах, полных полуправды, уловок, компромиссов с жалкой добродетелью; короче говоря, так называемых политических хитростей, единственной скрытой движущей силой которых было угодить горстке людей в ущерб всем остальным… Не это ли всегда окружало его? Не в этом ли он всегда будет пребывать? Чего ради смущаться этим, если ничего не можешь изменить? С его стороны это не было малодушием, а скорее некоей разновидностью цинизма, который де Тизан специально развил в себе, чтобы защищаться от крушения иллюзий, загасить порывы гнева на мир, который повернулся против него. Безусловно, он был человеком порядочным и вовсе нелишенным рассудительности, так как считал делом чести не проявлять слепое упрямство, а сохранять проницательность и ясность ума. Тизан всегда старался достойно вести себя в ситуациях, которые не имели касательства к его судебным обязанностям или его авторитету, и тем более в делах вроде того, в которое он был сейчас замешан. Легкий шелест, раздавшийся неподалеку, оторвал его от унылых дум. Де Тизан встал на ноги и церемонно поприветствовал всадника, который спрыгнул со своего коня. – Мессир старший бальи шпаги. Аделин д’Эстревер в ответ вежливо кивнул. Как и всякий раз во время их редких встреч, Арно де Тизан ощутил какое-то неясное недомогание. Непреклонность, которая ясно читалась на лице его собеседника, напоминающем лезвие ножа, в светлых, почти белых глазах старшего бальи, вовсе не располагала ни к сердечности, ни к доверию. Тизан подумал, что он почти ничего не знает об этом человеке, достаточно могущественном, чтобы в один прекрасный день сместить его, будто прислужника в своем доме. Мир д’Эстревера ограничивался службой королю – своему единственному господину. Господину, который, без сомнения, знал только то, о чем ему докладывали господин Гийом де Ногарэ, самый влиятельный советник сюзерена, или монсеньор де Валуа. – В чем дело, Тизан? – Моя миссия вовсе не легка, мессир, – начал было помощник бальи, но его прервали тоном, не допускающим возражений: – Так что вам от меня нужно? – Истины. Полагаю, что уже нашел… невольного статиста, который поможет мне все же добиться правды. – Сколько он хочет? Деньги сейчас не имеют значения. – К моему великому сожалению, это достаточно богатый человек, и его невозможно купить – во всяком случае, за деньги, как бы велика ни была сумма вознаграждения. – Сумасшедший! Только всяких чудаков нам не хватало… И что же ему надо? – Правды. Аделин д’Эстревер уставился на собеседника, как будто тот сказал какую-то невероятную глупость. – Правды? Как она, однако, привлекательна! – произнес он голосом, полным иронии. – Он что, только ею и живет? Чистотою истины, которую воспевает и воспевает? И о чем он хочет правды? – О делах, помещенных в архив. Он требует записи со старых процессов, чтобы что-то по ним выяснить. – Там речь идет о… важных персонах? – Насколько я понимаю, нет. – А, другие! – заметил мессир д’Эстревер презрительным тоном. – Дайте вы ему эту бутылочку с соской, чтобы не плакал. Это нам ничего не будет стоить. – И вы хотите сделать меня взломщиком печатей, мессир, – подвел итог де Тизан. – Ничто не дается нам без труда, мой друг, – произнес старший бальи шпаги, давая понять нетерпеливым жестом, что возражения тут бесполезны. – И кто же этот ваш любитель истины? – насмешливо поинтересовался он. – Мессир Правосудие Мортаня. – Боже праведный! Ваш палач! Надеюсь, речь не идет о тупой скотине, у которого мозгов не больше, чем у курицы… Нам нужно продвигаться вперед с большой осторожностью. Не забывайте, кому мы служим… – Монсеньору Карлу де Валуа, – закончил фразу Арно де Тизан. – И это имя лучше не произносить всуе. Кто говорит о монсеньоре де Валуа, имеет в виду короля собственной персоной. Вам известно, с какой нежностью его величество относится к своему единственному брату. – Ну разумеется. Со всем моим почтением, которое я должен испытывать к такой высокородной персоне и к вам, признаюсь, что интересы монсеньора де Валуа для меня в этом деле далеко не главное, поскольку его дочь тринадцати лет от роду уже пять лет как замужем за внуком Жана II Бретонского, которому принадлежит владение Ножан-ле-Ротру. – Мы что, снова будем это обсуждать? – уронил старший бальи шпаги, метнув в собеседника презрительный взгляд. – Речь идет об интересах Екатерины де Куртенэ, обладающей правами императрицы Константинополя[455] и второй супруги монсеньора Карла. Лучшей подругой мадам де Куртенэ является не кто иной, как матушка-аббатисса из Клерет. – Мадам Констанс де Госбер? – Она самая. Исключительное благородство, репутация настоящей святой… Но для нас важнее всего, что она – ближайшая подруга супруги мессира де Валуа, о котором я вам уже говорил. Мадам де Госбер послала два срочных письма для мадам де Куртенэ, описав все ужасы, которые случились здесь с маленькими босяками. В довольно суровых выражениях она подчеркнула некомпетентность бальи Ножан-ле-Ротру, Ги де Тре. К этому она присовокупила намек на его… как бы сказать… безразличие в этом деле. Так сказать, за отсутствием более точного определения. – Его безразличие? Неужели мадам де Госбер подозревает, что Ги де Тре может оказаться замешан в этих чудовищных злодеяниях? Аделин д’Эстревер бросил на него взгляд, лишенный всякого выражения, и закончил: – Не настолько, но, согласитесь, его небрежность способна привести в замешательство. К тому же Ножан-ле-Ротру – это вам не Париж! Чтобы схватить за шиворот убийцу подобного рода, здесь должно потребоваться гораздо меньше времени. – Полагаете, что мессир де Тре покрывал кого-то, пользующегося его милостью, кого-то, кто отличается скверными наклонностями? – По правде говоря, не знаю. Во всяком случае, иногда такие подозрения меня посещают. Именно по этой причине мне и понадобилась ваша помощь конфиденциального характера. Как бы то ни было, наша дражайшая аббатиса не знакома лично с монсеньором Жаном, герцогом Бретонским, в чьих владениях находится Ножан-ле-Ротру. Поэтому она обратилась к самому могущественному из своих знакомых, чтобы наконец прекратить эти возмутительные и кощунственные преступления. – И монсеньор де Валуа, желая понравиться даме… – …доверил это дело мне. Его уверенность, что я смогу его расследовать, наполняет меня гордостью. Тем не менее монсеньор де Валуа сознает, что Ножан-ле-Ротру не входит в его удел, и очень не хотел бы вызвать гнев монсеньора Бретонского, родственника своего зятя, с которым он наконец достиг мира. Поэтому он категорически настаивал на особой деликатности, тем более что мне придется проявить своего рода двоедушие. Речь идет о том, чтобы оказывать помощь, оставаясь как можно более незаметным. – Бесспорно, самым лучшим будет, если мы представим настоящего виновника, жаренного на вертеле, пред светлые очи Ги де Тре в надежде, что тот не позволит ему удрать. А он кажется вполне способным на такое из-за своей неловкости или даже худшего. Вы уверены, что этот ваш душегуб из Мортаня окажется на такое способен? – Если он согласится помогать мне, я буду готов побиться об заклад. – Если он согласится? – повторил Аделин д’Эстревер. – Будет лучше сказать: если он не совершит большойошибки, ответив отказом, – добавил старший бальи шпаги, надменно кривя губы. – Палача не заставишь, когда он очень богат и к тому же очень образован, – прошептал Тизан, который теперь гораздо лучше понимал, каковы ставки в этой игре. Он не чувствовал никакой симпатии к д’Эстреверу и к ему подобным созданиям, настолько наполненным уверенностью, что, казалось, их никогда не грызли и не тревожили никакие сомнения. Д’Эстревер принадлежал к той разновидности чиновников, которые способны по приказу не моргнув глазом истребить целую деревню, причем даже не испросивши подтверждения приказа. – До очень скорой встречи, Тизан. Место то же самое. Число я потом уточню. Старший бальи снова уселся в седло и, коротко отсалютовав, пустил лошадь в галоп.* * *
В полной задумчивости Арно де Тизан последовал его примеру. Как отреагирует Венель-младший, если поймет всю двусмысленность ситуации? Без сомнения, ему это очень не понравится. Когда мэтр Высокое Правосудие явился к нему требовать жизнь Жака де Фоссея и восстановления поруганной чести Мари де Сальвен, Тизан как раз уже несколько дней как отбивался от требований Аделина д’Эстревера, не зная, как ему поступить. Этот замысел пустил ростки в голове заместителя бальи во время той первой дискуссии, когда он почувствовал, что ничто на свете не заставит отступить Венеля-младшего, находящегося во власти сильнейших переживаний и яростной жажды справедливости. Арно де Тизан решил немедленно удовлетворить просьбу своего палача и предоставить ему голову Жака де Фоссея, чтобы потом можно было испросить своего рода должок. Судьба Эванжелины Какет, которую он затем упомянул, послужила всего лишь предлогом. Правда, та история не оставила заместителя бальи равнодушным; перечитывая записи с процесса, он окончательно удостоверился, что несчастная девушка вовсе не убивала свою хозяйку. Тем не менее, если б месье Гарен Лафуа не навострил лыжи из Ножан-ле-Ротру, Арно де Тизану и в голову не пришло бы посмотреть под новым углом зрения на это старое дело. Между тем он должен был настоять, чтобы мэтр Правосудие Мортаня вернулся в этот город. Помощник бальи очень надеялся, что убийство маленьких нищих затронет его до глубины души. Ножан-ле-Ротру не входил в его судебный округ, и Гарен Лафуа представлял собой вполне допустимый предлог, чтобы отправить туда мэтра Высокое Правосудие. Не особенно честный маневр, который Тизан вовсе не считал достойным гордости, но все-таки помощник бальи быстро почувствовал, что этот странный договор с палачом убедил того оказать ему поистине драгоценную помощь. Чувства – единственная слабость сильных людей. Прекрасная слабость и в то же время очень опасная. Объяснения д’Эстревера лишь наполовину убедили Арно де Тизана. Для чего столько секретов? Если бы монсеньор де Валуа пожелал понравиться своей даме Екатерине де Куртенэ, желающей успокоить лучшую подругу мадам де Госбер, матушку-аббатиссу, почему не двигаться к цели открыто? Зачем что-то делать Карлу де Валуа, брату короля, с Ги де Тре, заместителем бальи крохотного округа Ножан? И что ему даже до возможного недовольства Жана II Бретонского, который одобрил смещение де Тре, хотя тот на этой должности устраивает короля Франции? Решительно, от этого дела так и несло жареным. Ставки в этой игре были гораздо более весомыми, чем уличные голодранцы, ставшие жертвой неведомого убийцы. И кого здесь расспрашивать, кем возмущаться, у кого требовать отчета? Его единственное категорическое требование состояло в том, чтобы защищаться. Если все это дело скиснет, он сможет выкрутиться, свалив все на Венеля-младшего. По правде говоря, палач обладал необходимыми качествами, чтобы поневоле выполнить сложную миссию, которую д’Эстревер взвалил на Тизана. Чудесный экземпляр сильного человека – обворожительный, воспитанный, поразительно смышленый и к тому же никого не боится. Никто не знает его в лицо ни в Ножане, ни в окрестностях. Если б такой человек счел нужным убить, то не колебался бы ни секунды. Наконец, его не могли затронуть никакие земные блага, никакая слава. Настоящий ангел-истребитель. И наконец, если чья-нибудь голова и должна будет скатиться в корзину с опилками, чтобы утихомирить недовольство кого-то из высших, пускай лучше это будет голова палача!8
Окрестности Мортань-о-Перш, октябрь 1305 года Когда Ардуин Венель-младший вернулся со своей утренней верховой прогулки на любимом жеребце Фрингане, Бернадина сообщила ему, что гонец только что принес свернутый в трубочку пакет с печатью заместителя бальи мессира де Тизана. – Я положила этот пакет на кухонном столе, – добавила она. – Может быть, я подам вам кубок настойки, прежде чем уйду? Я должна выяснить отношения с торговцем рыбой, я все ему выскажу прямо в глаза! Настоящая подошва – вот что он мне вчера продал! Конечно, это совсем небольшая камбала, и не первой свежести; но эта дурища Сидони, которую вы со своим великодушием и скромным количеством здравого смысла изволили нанять – она же голову с задницей спутает!* * *
Бернадина была крайне недовольна, что ее молодой хозяин предоставил жилье, еду и службу этой бедной бесхитростной сиротке. Юная тринадцатилетняя девушка растрогала его, когда кусала себе губы, топчась у центрального портика церкви Сен-Дени в Мортане с грязными босыми ногами и нечесаными волосами, прижав руки к груди. Раздраженно оттолкнув попрошайку, который тянул к нему свою загребущую лапу, выпрашивая милостыню, Ардуин Венель-младший приблизился к ней, испуганно потупившей взгляд. – Что ты здесь делаешь? Ночь сейчас наступит. – Я… это… попрошайничаю, – ответила та дрожащим голосом. – Скрестив руки на груди? Тогда тебе лучше протянуть хотя бы одну. – Я еще не умею этого делать, я вообще здесь в первый раз… Наконец она подняла глаза на него. Ардуин смог разглядеть блестящие полоски от слез на худых впалых щеках. Сам толком не понимая, что побудило его это сделать, он присел рядом с нею. Для него это было более чем странным поступком, так как чаще всего нищие не вызывали у него ничего, кроме раздражения. – Рассказывай. – Что? – Что тебя привело сюда. – Я не разговариваю с незнакомыми, – возмутилась странная нищенка. – Если ты хочешь собрать хотя бы несколько монет, тебе нужно научиться хныкать, улыбаться, благодарить, – заметил Ардуин, которого все это начало забавлять. – Ну же, рассказывай. Сидони пересказала свою короткую жизнь таким невыразительным голосом, что Ардуин был совершенно уверен, что она не лжет. И потом, вся эта история была настолько обыкновенной, что девчушка и сама ей не удивлялась. Ардуин даже был вынужден подсказывать ей слова, которые все время ускользали от нее. Когда Сидони родилась, ее матери было всего четырнадцать, и она даже не знала, кто ее обрюхатил. Будучи хорошенькой девушкой, обожающей сиюминутные и простые удовольствия, она переходила из постели в постель, из таверны в таверну, выручая по несколько су, которые позволяли ей как-то перебиваться, живя в жалкой лачуге. По крайней мере, пока она еще сохраняла ясность рассудка, чтобы возвращаться туда. Сидони вносила свою лепту в их нищенское хозяйство, промышляя мелкими кражами то тут, то там. – Я брала только еду и ничего другого, к тому же я никогда не крала у бедных! – подчеркнула она, особенно настаивая на своей порядочности, своего рода чести нищего. Так продолжалось до тех пор, пока три недели назад ее мать не нашли утонувшей в ручье, протекавшем неподалеку от развалин, в которых они обитали. На виске мертвой виднелся след от сильного удара. Может быть, кто-то ударил ее и столкнул в реку? А может быть, дело в том, что она была постоянно пьяной и нетвердо стояла на ногах? Может быть, она ступила на скользкий обрыв, ударившись и потеряв сознание, захлебнулась? Никто не знал, что произошло на самом деле, и все только смеялись над нею. Так как Сидони не могла оплатить ни гроб, ни заупокойную службу, для ее матери только и оставалось, что погребение в общей могиле – обычная участь всех, у кого ни гроша за душой. Странное дело, не испытывая особенной любви к женщине, у которой пьянки чередовались с утренними страданиями, переходившей от одного мужчины к другому, Сидони решила, что подобный конец будет уж слишком большой несправедливостью. Она выкопала могилу в нескольких туазах от их убогой хижины и ночью похоронила свою мать. – Я молилась, а еще смочила полотенце святой водой и обернула вокруг ее шеи, чтобы Господь смог ее узнать. Я не знаю латыни, но, думаю, Богу это безразлично. Несколькими днями позже явился фермер, которому принадлежала эта земля. Он потрясал какой-то бумагой, из которой Сидони ровным счетом ничего не поняла, ведь она не умела читать. Он внимательно разглядывал девушку – не особенно симпатичную, худую и широкую в кости, еще менее привлекательную, чем ее мать, прелестями которой он пользовался время от времени в обмен на скаредное «гостеприимство». Эта же не воодушевляла даже на такие развлечения. Он дал ей время, чтобы собрать манатки и покинуть это место. В самом деле, лачуга была построена на его земле и также принадлежала ему. Если б Сидони начала с ним заигрывать, он поступил бы с ней по-другому и, возможно, даже разрешил бы ей остаться, пока не пресытится ею. Впрочем, ей это тоже было прекрасно известно. Заканчивая свою историю, Сидони так и стояла, не выказывая никакого страха, устремив взгляд куда-то вдаль. Она не ждала никаких замечаний, никаких слов утешения от этого воспитанного, роскошно одетого человека, сидящего рядом с ней. Она просто удивлялась, что он с нею разговаривает. Ардуин не знал, откуда взялись слова, которые как будто сами собой вылетели из его рта: – Ты хорошая работница? Я могу быть уверен, что ты не будешь воровать в доме? – Я брала только еду, – сухо повторила она. – Что же касается работы, то я прачка с шести лет – по крайней мере, когда мне случается подработать. – Хорошо. Следуй за мною. Думаю, для тебя найдется кое-какая работа. – А мне, мессир, а мне? – принялся канючить нищий, которого он оттолкнул перед тем, как заговорить с девушкой. – Посмотрите… мои бедные руки, мои пальцы… ужасная болезнь поразила меня в Святой земле, где я защищал Гроб Господень… Мужчина со смышленым и расчетливым взглядом протянул к нему руки, задирая рукава. Его кожа была сплошь покрыта гнойными волдырями. – Поработать хочешь? – иронично осведомился Ардуин. – О, мессир, мне этого хотелось бы больше всего на свете… но эта ужасная болезнь, которая меня поразила, когда я сражался во славу нашего Спасителя… у меня слабость во всем теле… Я чувствую себя слабее древней старухи… – А еще ты бездельник и соня! Что же касается твоей кожной болезни, то перестань натирать руки соком ангелика[456] или волчьего лыка[457], и она сразу пройдет. Дай мне пройти, любезный, ты приводишь меня в бешенство. И не дай Бог я увижу, как ты тянешь свои лапы к моему кошельку! Думал, кругом одни простофили? Бросив на него злобный взгляд, нищий поспешно отошел в сторону.* * *
Бернадина, которая сначала охотно взялась обучать Сидони тонкостям домашней работы, в конце концов начала с раздражением повторять, что ее новая помощница просто спит на ходу. Впрочем, юная девушка не чуралась никакой работы, но ее лицо, лишенное всякого выражения, взгляд, который оставался пустым, даже когда к ней обращались, производили впечатление, что она не слушает или насмехается над собеседником. По правде говоря, месяцем позже Ардуин Венель-младший и сам не знал, что и подумать. То ли девушка действительно была слабоумной, то ли скрывалась в своем мире, населенном отвратительными призраками прошлого. В кухне он застал высокую непривлекательную девицу, стоящую перед длинным столом. С неподвижным лицом она ощупывала пакет, принесенный посланцем мессира де Тизана. Даже не повернув головы, девица объявила сквозь зубы: – Это важно. То, что там внутри, для тебя очень важно. Ардуин Венель-младший бросил быстрый взгляд на печать: она оставалась целой. Тем не менее он спросил: – Ты просматривала письмо? – Я не умею читать, и мне бы только худо было, открой я его, – бросила Сидони резко. – Но для тебя это важно… Ладно, мне надо ощипывать птиц на завтра. Качая головой, она проворчала: – Подошва или деревяшка, это блюдо на двоих или что-то в таком роде! Затем девица исчезла, не сказав больше ни единого слова. Странное чувство охватило Венеля-младшего. Как если бы он нашел какой-то предмет на одном месте, прекрасно помня, что совсем недавно положил его совсем не туда. Ардуин сломал печать и развернул джутовую ткань, которая стягивала пакет. Там были тоненькие тетради, переплетенные в черную кожу. Записи с процессов, где были судебные прения, признания – добровольные или полученные под пыткой, допросы, свидетельства. Все три тетради были посвящены делу «Эванжелины Какет, убийцы мадам Мюриетты Лафуа 16 мая 1300 г. от Рождества Христова». Форзацы также были исписаны неудобочитаемой, но аккуратной скорописью[458]. Первая тетрадь начиналась с описания трупа Мюриетты Лафуа, ужасно искромсанного ударами топорика, и ее неузнаваемого лица, особо уточняя, что Эванжелина Какет, сирота, которой дали приют, вся покрытая кровью, что-то напевая, сидела рядом со своей покойной хозяйкой. Девица Какет была описана как слабоумная с неприятным лицом, на котором ясно читается крайняя степень тупости. Ардуин Венель-младший порылся в памяти: какого цвета были у нее волосы, глаза? Странное дело, воспоминание о лице Сидони тоже все время ускользало от него. Это для тебя важно. То, что там внутри, очень важно для тебя. Сидони явно не была слабоумной, разве что очень медлительной и невнимательной. Почему она так зацепила его, привлекла его взгляд, когда он спускался с паперти церкви Мортаня? Почему он нашел время, чтобы поговорить с этой девушкой? Причем все это произошло гораздо раньше, чем Арно де Тизан оживил в нем воспоминания о казни Эванжелины Какет… Черт возьми! Он что, теперь будет повсюду видеть знаки судьбы? Или его жизнь теперь и в самом деле подчинена делу, вкуса которого он даже еще и не понял? Ардуин почти догадывался, что второе предположение окажется неправильным. Далее шел подробный перечень вопросов, которые задавались девице Какет. Судья был потрясен, что на все вопросы следовал один-единственный ответ: «Уй-уй»[459]. – Ваше имя? – Ванжелиииина! – В доме Лафуа с вами хорошо обращались? – Уй-уй! – Вам там было хорошо? – Уй-уй! – Вас там обижали? – Уй-уй! – Вы любили свою хозяйку? – Уй-уй! – Вы ненавидели свою хозяйку? – Уй-уй! Прибыл адвокат, который должен был защищать бедняжку и которому, без сомнения, хотелось оказаться в десяти лье отсюда. Он все время повторял раздраженным тоном: – Со всем моим почтением, мессир судья, она не понимает ничего из того, что ей говорят. Она даже не поняла, что ее обвиняют в жестоком убийстве и что ей грозит смертная казнь. Тем не менее судья распорядился о порке, чтобы «вытащить правду» из затуманенного разума девицы Эванжелины Какет. Эта сцена возникла в памяти Ардуина с поразившей его самого четкостью. Длинный подвал со сводчатым потолком, в котором происходили допросы инквизиции и светского правосудия. Окна отсутствуют, чтобы никто не услышал крики тех, кого сюда тащат. Стол – достаточно длинный, чтобы сюда можно было уложить высокого мужчину; дерево все почернело от крови тех, кто подвергся здесь пыткам. Под столом в полу проделана канавка для стока крови, а нередко и экскрементов, когда боль становилась чересчур сильной, чтобы их удержать. Перед камином нечто вроде открытого очага, в котором складывали раскаленные угли. Со стен из темно-серого камня свисают ножные и ручные кандалы, ошейники, цепи и орудия пытки. В углу трехногая треугольная табуретка, на которой всегда сидит писарь со своими письменными принадлежностями. Его обязанность состоит в том, чтобы скрупулезно записывать вопросы и ответы и следить, чтобы время пытки не превышало положенного получаса на вопрос. Удары палки, которые обрушились на бледную жирную спину, были нанесены мэтром Правосудие Мортаня в должном количестве и с силой, точно определенной судебными уложениями. Для Ардуина Венеля-младшего речь шла не о скрупулезном учете их жестокости, а о неукоснительном уважении к закону и судебной процедуре. Он вдруг вспомнил: у нее были темно-русые волосы – тонкие и грязные. Как это положено по отношению к женщинам, она была обнажена только до бедер. На каждый вопрос, который ей задавал судья, она отвечала только «уй-уй», плача и крича при каждом новом ударе, издавая очередное «уй-уй». Наконец судья возмутился: – Мессир Правосудие, нет смысла продолжать это дальше! Мы ничего от нее не добьемся. Мы имеем дело либо с отъявленной лгуньей, либо с настоящей идиоткой. Но так или иначе, мое терпение закончилось! Пусть ей обмоют раны и отведут в камеру, а послезавтра задушат ее землей. Я составлю об этом акт. И пускай священник придет к ней, чтобы ознакомить ее с судебным решением. Она должна понять наше великодушие, мы вовсе не какие-нибудь чудовища! Ардуин Венель-младший согласно кивнул в ответ на его слова. Тот день очень быстро закончился.* * *
Он перешел ко второй тетради, переживая, что никто этого не заметил. Почему топорик, покрытый кровавой коркой, был найден на огороде в зарослях шалфея, в доброй дюжине туазов от дома, в то время как Мюриетта Лафуа была забита насмерть на том самом месте, где ее обнаружили, – в кухне? Причем все свидетели в один голос утверждали, что вокруг нее не было никаких следов крови. Почему Эванжелина после того, как якобы нанесла своей хозяйке несколько ударов с ужасающей силой и яростью, сперва вышла из дома, чтобы избавиться от импровизированного оружия, а затем вернулась и села рядом с трупом? Она не смыла кровь, не убежала. Она осталась здесь, держа за руку покойницу. Ардуин Венель-младший вздохнул. Если верить только что прочитанному, ничто не служило доказательством тому, что Эванжелина Какет убила Мюриетту Лафуа. Впрочем, доказательства обратного также отсутствовали. По примеру помощника бальи он сомневался, что толстая слабоумная девица, неспособная на какую-либо злость, могла совершить такое зверское убийство. Он совершенно четко вспомнил ее последнюю фразу, единственную, которую она произнесла за весь процесс, когда ее уже вывели из тюрьмы, как раз перед тем, как он, мэтр Правосудие Мортаня, связал ей за спиной руки, чтобы вести к яме, вырытой для того, чтобы она была там похоронена заживо. – Почему вы попросили этот топорик? Зачем принесли его обратно в дом? Вы сказали, что он нужен вам, чтобы прикончить карпов. Эванжелина Какет, озадаченная его быстрыми вопросами, нахмурила брови, быстро кивнула, а затем заговорила с глупой улыбкой. Не понимая, о чем ее спрашивают, прицепившись к единственному слову, которое воскрешало в памяти что-то знакомое – «карпы», – она забормотала, с трудом ворочая языком и пуская слюни: – Клянусь вам… я не сделала ничего плохого карпам… милым карпам… но что же делать, раз их надо кушать… я их убила, зато они теперь не кричат… я никому не сделала плохого… нет-нет… никому-никому… милые карпы… Он также прочел показания вдовца, вроде бы безутешного, но подозрительно быстро снова связавшего себя узами брака. Гарен Лафуа – чиновник, разбивающий соляные брикеты, что подтверждается служанкой, состоявшей с ним в близких отношениях, еще когда он не был вдовцом, – некой Маделиной Фроментен. Из дома ничего не было похищено, даже драгоценностей хозяйки, а ведь среди них было несколько очаровательных колечек, которые можно было легко обратить в деньги. Оказались на месте и другие ценные вещи, даже несколько денье, которые Мюриетта Лафуа хранила в комнате, чтобы рассчитаться, когда придет повозка с товарами, или заплатить человеку, нанятому на тяжелую работу. Судья на это высказал предположение, что какой-нибудь бродяга, застигнутый во время мелкой кражи, просто не успел сообразить, где что лежит.* * *
Ардуин Венель-младший перешел к последней тетради, где были собраны различные свидетельства, обеспечившие смертный приговор Эванжелине Какет, четырнадцати лет от роду[460]. Молодая служанка Адель Сарпен заявила под присягой, что Эванжелина ненавидела Мюриетту Лафуа. Она свидетельствовала, что много раз слышала, как та жалуется на свою хозяйку, которая будто бы завалила ее тяжелой работой и скупится кормить как следует. Она даже вспоминала, что как-то застала Эванжелину за яростной рубкой кровяной колбасы большим ножом, и при этом та якобы восклицала: «Вот тебе, ослица!» Когда же она спросила, с кем Эванжелина так яростно расправляется, та будто бы ответила: «С этой старой каргой Лафуа». Далее четким почерком было дописано: «Подобно двум остальным служанкам, Адель Сарпен не последовала со своим хозяином, когда тот переехал в Ножан-ле-Ротру после своей вторичной женитьбы. Напротив, она вышла замуж за сына богатого маркитанта, некоего Луи Ботетта, что позволяет высказать предположение об имевшемся у нее приданом. Эта семейная пара сейчас живет в Брюнелле». Ниже торопливым небрежным почерком было приписано: «Чернорабочий Элуа Талон, бывший солдат, поклялся на четырех Евангелиях, положив на них руку, что в момент убийства сопровождал хозяина, который объезжал свои владения. Выехав на рассвете, они вернулись только поздним вечером и застали в доме весь этот ужас». На полях добавлено, без сомнения, рукой заместителя бальи: «Элуа Талон поселился в Сент-Пьер-ла-Брюер вскоре после окончания процесса. Он сделался колбасником. Причем мясную лавку купил еще до переезда. На какие средства?» Далее продолжались записи со слов свидетелей. Альфонс Фортен, слуга, клятвенно заверял, что слабоумная Эванжелина в утро убийства зашла к нему и попросила на время топорик под тем предлогом, что ей нужно отрубить головы карпам. Он взял с нее обещание как можно быстрее принести его назад, а потом забыл об этом. Арно де Тизан снова вносит уточнение своим прекрасным угловатым почерком: «Фортен выкупил в Дансе ферму средней руки, почти сразу после убийства Мюриетты Лафуа. И опять – на какие деньги?» Здесь же подчеркивалось, что остальные слуги – три женщины и двое мужчин – в момент убийства были усланы из дома по различным делам. Досадное совпадение или тщательно исполненный план настоящего убийцы? Никто не сказал ни слова относительно четы Лафуа или Эванжелины. Обвиняемую называли только словами «дурочка», «идиотка», слабоумная». Ардуин припомнил резкий комментарий заместителя бальи. Гарен Лафуа быстро переехал из Мортаня в Ножан-ле-Ротру – всего три месяца спустя после того, как его постигло тяжелое испытание. Благодаря которому он стал наследником всего имущества покойной супруги, чтобы быстренько жениться на очаровательной молоденькой мещаночке из… Мортаня. Имя этой девицы нигде не упоминалось. Возможно, жестокий удар, который уничтожил лицо жертвы убийства, был нанесен рукой соперницы? Можно ли усмотреть в этом ревнивую ярость любовницы, которая ждет своего часа? Тем более что Гарен Лафуа, скорее всего, был знаком с нею, еще не будучи вдовцом. В противоположность заместителю бальи Арно де Тизану Ардуин сам видел эту парочку – мужа и любовницу, ныне являющихся законными супругами. Интересно, они действовали каждый по отдельности или предварительно сговорившись? Муж заблаговременно удалил из дома всех возможных свидетелей и был уверен, что во всем обвинят дурочку, которая не сможет себя защитить. Он возвращается, убивает жену и щедро оплачивает лжесвидетельство Элуа Талона, который клянется перед Господом, что весь день ни на шаг не отходил от хозяина. Или, может быть, удар нанесла потерявшая терпение любовница…* * *
Венеля-младшего уже ничего не удивляло из того, что можно отыскать в человеческой душе, – ни лучшее, ни худшее. Он слышал столько исповедей, и большинство были более чем правдивы. Палач был готов в этом поклясться. Чаще всего услышанное переполняло его отвращением, и лишь иногда, сталкиваясь с поистине прекрасными чувствами, ему хотелось упасть на колени и плакать. Четверть листа в конце последней тетради была исписана легко узнаваемым квадратным почерком заместителя бальи. Бумага в ту эпоху ценилась очень дорого, и чтобы ее сэкономить, письма обрывали сразу же под последней строчкой[461].Мэтр Высокое Правосудие, Меня очень заинтересовала эта новая супруга, Эдвига Лафуа, урожденная Тоннет. Я даже вернулся в Ножан-ле-Ротру, чтобы тайком на нее посмотреть. Очень хорошенькая и еще молодая женщина двадцати четырех лет от роду. По словам лавочников, она добрая и набожная. Я опасался вызвать беспокойство и поэтому не стал их особенно тщательно расспрашивать. То, что вы добрались до этого письма, служит лучшим доказательством вашего интереса. Искренне ваш Арно де Тизан.
Ардуин Венель-младший вздохнул. Его любопытство было до крайности возбуждено. Палач встал, закрыв все три тетради, ожидая непонятно чего. Он уже прекрасно знал, в глубине души все еще не решаясь признать это. История, о которой он только что прочел, была сродни тому, что произошло с Мари де Сальвен. Ардуин чувствовал себя разочарованным и очень злился на себя. – Да черт возьми! – обратился он к себе самому. – Ты что, так и будешь любить этот призрак? Женщина, которую ты обожаешь, давно уже мертва! Как так получилось, что какая-то пригожая девица настолько овладела твоим сердцем, что у тебя кровь буквально вскипает при одной мысли об этой потрясающей, но, увы, умершей женщине?
9
Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года Несмотря на то, что полдень выдался теплый, город накрыл мелкий моросящий дождик. Он делал сильнее запахи нечистот, медленно текших в канавах, прорытых посреди улочек, и затхлую вонь рынка. Ардуин Венель-младший еще до рассвета вышел из своего дома в окрестностях Мортаня. Фринган бодрой рысью пробежал расстояние до Ножан-ле-Ротру. Славного жеребца, которого, казалось, вовсе не утомила такая длительная прогулка, он оставил у коновязи на постоялом дворе. Получив щедрые чаевые, конюх пообещал как следует позаботиться о благородном животном. – Да я его прямо как милую буду обихаживать, мессир! – принялся уверять рослый молодой парень. – Что же, я на тебя надеюсь, – шутливо ответил Ардуин. – Тем более что вряд ли твоя милая лягается так же сильно, как мой Фринган!* * *
В Ножан-ле-Ротру можно было попасть по одному из трех мостов. Торговцы, проходя по ним, должны были сперва заплатить на свой товар пошлину, которая шла в пользу сеньора или церкви[462]. Деревянный мост, перешагивая реку, вел прямо в Бург-ла-Комтес. Мост же Сент-Илер почти вплотную подходил к церкви, носящей то же название, и мост Роны обозначал окончание улицы Порт-Ривьер и начало улицы Оре, которая пересекала Бург-ле-Комт. Мэтр Правосудие Мортаня был немного знаком с этим городом, с его пригородами, прилепившимися друг к другу, и почти без труда ориентировался здесь. Он направился по улице Де Пре, которая отделяла Бург-ла-Комтес от Бург-Нёв[463] – района, в основном населенного торговцами. Благодаря им город процветал, а добрая слава саржи и других продававшихся здесь тканей распространялась далеко за его пределы. Помимо того, город славился своими ярмарками и четырьмя рынками, хлебными павильонами и лавками суконщиков, булочниками и торговцами пирожными. Жан II Бретонский, в чьи владения входил Ножан-ле-Ротру, не особенно часто наведывался туда, перепоручив большинство своих полномочий новому бальи Ги де Тре, который был назначен сюда несколькими годами раньше, к неудовольствию жителей, все время спрашивавших себя, что бретонец может понимать в их порядках.* * *
Мэтр Правосудие Мортаня свернул в Бург-ле-Комт[464], над которым виднелся замок Сен-Жан[465] – крепость, построенная на возвышенности в те времена, когда Перш устанавливал хрупкий мир между французским королевством и скандинавскими пиратами, пытавшимися завоевать эти земли[466]. Особняк, купленный Гареном Лафуа, без сомнения, благодаря щедрому наследству покойной супруги, возвышался на улице Д’Оре. Скрывшись под портиком дома напротив, Венель-младший полюбовался особняком, отметив про себя, что тот выглядит вполне зажиточным. Защищенный высокой, прорезанной порталом стеной, превосходившей по высоте даже голубятни, этот особняк с каменными стенами был на два этажа выше всех прочих зданий[467]. Первого этажа не было видно, но во всех окнах верхних имелись стекла, вставленные в свинцовые рамы в виде ромбов, что считалось особым шиком в эту эпоху. Трубы канализации сбегали по углам и посредине строения, что позволяло удалять из дома нечистоты[468], для сбора которых в ту эпоху служил сосуд, стоящий в коридоре или в углу комнаты. Несмотря на то, что был еще день, Ардуин заметил огоньки в нескольких комнатах – ясное свидетельство того, что здесь не считаются с затратами.* * *
Он принялся терпеливо ждать, сам толком не зная чего. До него долетали ароматы улицы Пюант, принесенные легким ветерком[469]. Неподалеку играли, бегали и кричали дети, время от времени бросая на него удивленные взгляды. Время потекло в очень странной манере: оно то летело с безумной скоростью, то еле тащилось. Но разве это имело какое-то значение, когда в его памяти всплывали различные события и картины прошлого… Ардуин снова увидел тот день, когда они с отцом отправились вдвоем ловить рыбу. Мама приготовила им с собой поесть, чтобы они смогли восстановить силы. Ему тогда, должно быть, было шесть или семь лет. Старший брат с ними не пошел, Ардуин это точно помнил. Только он и отец. С какой любовью и почтением мальчик относился к этому человеку, который говорил так медленно и в то же время так точно, без всякого пафоса… В тот день Ардуин поймал замечательную щуку. Он вытащил крючок из окровавленной рыбьей челюсти. Щука прыгала на траве; маленький мальчик, раздувшись от гордости как индюк, наблюдал за своей добычей. С легким свистом большой нож отца обрушился на голову рыбы. Затем послышалось медлительное: – Господь послал нам эту рыбу, чтобы мы насытились ею, а не для того, чтобы заставляли ее страдать. Она – тоже создание Божье, и поэтому заслуживает нашего уважения. – Но получается, что ты заставляешь страдать Божие создания? – возразил мальчик. – Щука не обладает разумом. Она не совершила никакого преступления. Их совершает лишь человек, так как он единственный наделен способностью рассуждать, ибо так решил Господь Бог в своей бесконечной мудрости. Странное дело, Ардуин слышал голос своего отца так же ясно, как если б тот сейчас находился рядом с ним; он снова с поразительной ясностью видел каждую травинку, сверкающую чешую щуки, молодые листочки на деревьях. Зато некоторые недели и даже месяцы полностью выпали из его памяти. Таким образом у него осталось лишь очень смутное воспоминание о кончине старшего брата, о его последних днях, о запахе смерти, который царствовал в его перегретой комнате. И, однако, это событие исковеркало ему жизнь, сделало его палачом, в то время как он всеми силами стремился избежать этой участи.* * *
Внезапно его внимание привлекли громкие женские голоса. Две торговки цапались между собою; несколько прохожих остановились, заинтригованные этим живым спором, сулившим недурное развлечение. Облегченно вздохнув и мысленно поблагодарив этих женщин за то, что прервали его нерадостные мысли, Венель-младший в конце концов тоже приблизился к ним. Две женщины ругали друг дружку почем зря, уперев руки в бока и состроив самые злобные физиономии. Та, что была постарше, худая дурнушка в грязном льняном чепце, яростно завывала: – Ах ты шлюха! – Шелуха![470] Муть пивная! Нет, вы посмотрите на нее: своих детей прокормить не может, а еще других пытается учить! – Зато я на них не передом зарабатываю и не трясу сиськами под носом у мужчин, как некоторые! – Да тебе и трясти-то нечем! Старшая повернулась к толпе любопытствующих и бросила, призывая их быть свидетелями: – Вы только поглядите на эту потаскушку простоволосую! И она еще считает себя хорошенькой! Да тут и посмотреть не на что! Скандал грозил перерасти в потасовку. Женщина помоложе, сохранившая некоторую миловидность, покраснела от обиды и, казалось, была готова броситься на свою противницу. – Пока ты надрываешь горло весь день, у меня найдется время, чтобы причесаться! Один из ротозеев воскликнул: – Да мы уж знаем, что там такое происходит! Старшая произнесла голосом, дрожащим от гнева: – Иди отсюда, пока я тебя не отколотила при всех! Дрянь гулящая! Да сколько раз всякие простаки совали ей руки понятно куда! Да ты хуже любой кабацкой девки! Услышав осуждающий шепот собравшихся женщин, Ардуин понял, что одна из торговок пыталась увести у другой мужа. Та, которая помоложе, возмущенно пропищала: – Чего?! Да вы бы видели рожу ее мужа – вся в морщинах, будто корова жевала! А этой только и надо, чтобы он подержал ее за задницу… Впрочем, у нее и выбора-то особого нет, – ядовито добавила она. Мощная пощечина противницы заставила ее пошатнуться. Женщина выпрямилась и собралась дать сдачи, к громадному удовольствию зрителей, которые уже принялись заключать пари. Ардуин Венель-младший встал между ними, твердой рукой останавливая младшую и отталкивая вторую. – Хватит, дамы! Неужели вы не понимаете, что все эти добрые люди, которые здесь собрались, потешаются над вашими историями и хотят только одного: чтобы вы разлохматили друг дружку им на забаву. Но уж если вы решили это сделать, пускай они вам заплатят, как на базаре. В ответ послышалось неразборчивое злобное ворчание любопытствующих, которые уже начали расходиться, разочарованные, что развлечение прервалось так быстро. Повернувшись к женщине постарше, Ардуин добавил: – Вам же следует выкинуть из головы всякий вздор; эта женщина и не думает интересоваться вашим супругом. Посмотрите хорошенько, и вы сами сможете в этом убедиться. Не лучше ли будет отвесить такую затрещину именно ему? Соблазнить можно лишь того, кто сам стремится быть соблазненным. Пыл обеих женщин внезапно угас. Та, что помоложе, примирительно сказала: – Клянусь тебе, Люсьена, мне твой муж и тыщу лет не нужен. Он для меня слишком старый, слишком некрасивый и не такой богатый. И к тому же от него еще и воняет. Без сомнения, она полагала, что такое неприятное перечисление должно успокоить противницу. Но она ошибалась. Старшая снова покраснела от злости: – Что?! От моего мужа воняет?! – Всё, достаточно, дамы, – повторил Ардуин, который уже начал терять терпение. Наконец ему все-таки удалось примирить «воюющие стороны», которые в итоге отправились по домам. Возможно, когда-нибудь они еще и будут таскать друг друга за волосы, но, по крайней мере, пускай это будет без свидетелей!* * *
На свой наблюдательный пункт Ардуин вернулся немного с другим настроением. Недавняя стычка развлекла его, и мысли бродили где-то далеко. Внезапно он задел спину какой-то маленькой оборванки. Казалось, та только что прямо из воздуха появилась перед ним. – Извини, девочка. Я тебя не увидел. Она повернулась, и Ардуин едва сдержал изумленный возглас. Перед ним стояла миниатюрная худенькая старушка с таким сморщенным лицом, что, казалось, ей не менее ста лет. Пряди совершенно белых волос торчали из-под чепца. Она пристально смотрела на него холодными ярко-голубыми глазами; этот взгляд будто пришпилил его на месте. На тонких губах старухи играла таинственная улыбка – Ардуин так и не понял, то ли приветливая, то ли ироничная. Старуха протянула ему худую руку и спросила на удивление твердым сильным голосом: – Мой добрый сеньор, не дадите ли мне монетку? Прыснув от смеха, Ардуин протянул ей денье из кошелька в поясе. Милостыня более чем щедрая. Старуха быстро спрятала монетку в рукаве и, бросив на него еще более пристальный взгляд, повернулась спиной, направившись прочь странной подпрыгивающей походкой. Все еще развлекаясь, Ардуин бросил ей вслед: – Вообще-то сказать «спасибо» было бы не лишним! Внезапно она остановилась, стремительно повернулась к нему и дерзко заметила: – Ну да, тебе-то сказать «спасибо» точно лишним не было бы! И исчезла, оставив его в полнейшем изумлении. Хотя что тут удивительного: еще одна старуха, почти выжившая из ума, попрошайка и, скорее всего, еще и пьяница, которая спит прямо на улице… В городах столько таких!* * *
Между тем его принялся допекать голод. Интересно, который может быть час? Ардуин оставил свой наблюдательный пост и устроился было в таверне по соседству, когда дверь особняка наконец приоткрылась. На улицу вышла молодая женщина, которая держала за руку мальчугана четырех или пяти лет, без умолку тараторящего, как сорока. Детская болтовня явно забавляла женщину – мать этого мальчика, насколько можно судить по их сходству. Она поминутно прыскала от смеха, слушая, как мальчик что-то рассказывает своим еще неловким детским языком. И мать и сын были одеты достаточно богато. На женщине красовалось котарди с узкими обтягивающими рукавами[471], на локтях перевязанными лентами шафранового цвета. Согласно моде, платье было перехвачено тонким пояском, который подчеркивал линию бедер. Один из кончиков кожаной завязки, украшенный цветными шариками, свешивался почти до самых ступней женщины. На поясе был подвешен кошелек в виде небольшого мешочка. Плечи ее украшал легкий фиолетовый шарф, один из концов которого был заброшен за спину[472]. Волосы покрывала сетка, унизанная жемчужинами и закрывающая уши. Должно быть, из кокетства она не воспользовалась шейной косынкой[473], оставив открытым круглое декольте своего платья. Внезапно Венель улыбнулся, вспомнив о резких высказываниях канцлера о Париже и «вызывающих» парижанках. «Там женщины ходят по улицам декольтированные, как неизвестно что». Невозможно было не признать: Эдвига Лафуа, урожденная Тоннет, была красивой женщиной. Подождав, когда она уйдет чуть дальше, болтая со своим сыном, Ардуин последовал за нею. Женщина направлялась к Нотр-Дам-де-Марэ – бесспорно, самой красивой церкви города, которую Жан I, герцог Бретонский, велел отстроить несколькими десятилетиями ранее и учредить там приход. На ее тимпане был изображен бретонский экю, статуи разных герцогов в судейских мантиях украшали портал. Эдвига Лафуа помогла сыну подняться по ступенькам, и оба они скрылись внутри. Ардуин Венель-младший развернулся и решил подкрепиться в какой-нибудь таверне, вид которой вызвал бы у него доверие. Ничего определенного ему пока что так и не удалось узнать. Однако в одном он совершенно уверился – Эдвига Лафуа была вовсе не похожа на ту, что способна так обойтись с лицом соперницы.10
Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года Бродя по поселку Сен-Дени, Ардуин случайно свернул на улицу Пупардьер. Две таверны стояли почти что напротив друг дружки. Он выбрал ту, что называлась «Напыщенный кролик», с улыбкой размышляя, какой каприз или пьяная фантазия могли произвести на свет подобное название. Привлеченный аппетитными запахами, доносящимися с кухни, Венель-младший спустился по лестнице, ведущей в зал. Там было всего несколько человек, заканчивающих трапезу. Ардуин заговорил, будто артист, появившийся из-за кулис: – Приветствую добрую компанию. Я из Мортаня, прибыл в ваш прекрасный город по делам и зашел в это прекрасное заведение, чтобы утихомирить свой недовольный желудок. Его поприветствовали еле заметным кивком и благосклонными улыбками. Не очень-то приятно, когда заходит чужак, о котором ровным счетом ничего не знаешь. А у этого и манеры приятные, и одет как человек, у которого водятся денежки. А короткая шпага на поясе ясно говорит о том, что он из мелкого дворянства. Так или иначе, все успокоились и вернулись к своему ужину. Довольно быстро к нему подошла высокая, хорошо сложенная женщина. Не иначе, трактирщица. Ардуину хватило одного взгляда, чтобы понять, что перед ним хозяйка, так называемая «женщина в штанах». Она тоже смерила его взглядом опытной торговки и, жестом приглашая пройти, любезно предложила: – Вот столик, который вас устроит, мессир. Что бы вы желали? Она изъяснялась довольно приятным языком, чем объяснялось и поведение семей за столом. Таверна по соседству, где не принято напиваться и падать под стол, куда могут прийти женщины, не опасаясь, что пьяницы оскорбят их слух всякими непристойностями. – Матушка Напыщенная Крольчиха? – Она самая. Не то чтобы мне особенно нравилось так называться, но не всегда все получается так, как тебе хочется. – Могу ли я съесть что-нибудь легкое с кувшином вашего лучшего вина? – произнес Ардуин с улыбкой, которая смогла бы растопить любое женское сердце, будь оно даже из мрамора. – Что же вы так поздно пришли, мессир! В девятом часу… – Но ведь вы не такая женщина, чтобы оставить беднягу зачахнутьс голода! – Конечно же, нет, тем более если он так любезно просит! – Доброго вечера! – крикнул хозяйке один из посетителей, вставая из-за стола вместе со своей супругой и выходя на улицу. Та в ответ дружески помахала ему рукой. – Посмотрим… Я могу вам предложить порцию свиной вырезки в вине с овощным пюре. Если б вы пришли чуть раньше, я смогла бы предложить вам рагу из бычьего спинного мозга[474] с петрушкой в белом вине. Такое блюдо могло бы соблазнить даже святого. – Я нисколько не разочарован. Уверен, что ваша вырезка меня полностью устроит.* * *
Зал постепенно опустел, и когда принесли досочку[475] со щедро отрезанным куском вырезки в вине и фасолевым пюре, Ардуин Венель-младший был здесь единственным посетителем. Мэтр Правосудие почувствовал, что трактирщице хочется поболтать, и предложил: – Могу ли я от чистого сердца предложить вам стаканчик вашего вина? – Оно из маленького виноградника двоюродного брата покойного мэтра Кролика, который обладал множеством прекрасных качеств, в том числе вкусом к хорошим винам, – пояснила трактирщица. По ее грустному взгляду Венель-младший понял, что она не принадлежит к тем вдовам, которые быстро находят себе утешение. Подождав, пока женщина принесет стаканчик и устроится за столом напротив гостя, он налил ей вина со словами: – Мои искренние соболезнования. – Да уже два года прошло, с тех пор как он скончался. Бочки оказались плохо привязаны и скатились с телеги. Моего супруга ими и раздавило. Мужчиной он был крепким, поэтому помер не сразу, четыре дня мучился… Я еще до сих пор помню весь этот кошмар. – Глупая история; впрочем, они все такие, – произнес мэтр Правосудие. – Что же это я порчу вам настроение и аппетит своими скверными воспоминаниями, – спохватилась она. – Значит, вы в нашем городе по делам? – Совершенно верно. В вашем городе один из лучших в королевстве изготовителей пергамента[476]. – Увы, это искусство постепенно исчезает. – Пергамент сейчас используется только для очень важных документов. Бумага хоть и обходится значительно дешевле, все же не такая долговечная. – Во всех этих новых изобретениях нет ничего хорошего, можете мне поверить, – согласно кивнула трактирщица. Еще несколько минут они вели ни к чему не обязывающий любезный разговор, а затем Венель-младший перешел к тому, что его интересовало больше всего. – Как я вам уже говорил, я из Мортаня. Один из моих старых знакомых сейчас живет в вашем городе. Разбиватель соли с супругой, некие Лафуа. – Ну да, они довольно часто приходят сюда ужинать. Совсем не гордые, а вместе с тем денежки у них водятся. Чтобы это понять, достаточно лишь взглянуть на их дом – один из самых лучших в городе. – Так вы с ними знакомы? – Все здесь между собой знакомы, мессир. – Гарен Лафуа в Мортане слыл приятным человеком, – солгал Венель-младший. – Вот уж что меня ни капли не удивляет! Он человек редкого великодушия, веселого нрава и никогда не отказывает в милостыне, так же как и его дама. Ардуин покончил с фасолевым пюре и, к удовольствию хозяйки, рассыпался в комплиментах по поводу его замечательного вкуса, после чего снова наполнил вином стакан трактирщицы. Та поблагодарила его, а затем встала, объявив: – Я пошла за сыром – нежный, из козьего молока, лучше и желать невозможно. Это – по желанию, как и хлеб. Судомойка помогает мне только несколько часов каждый вечер. А мои дела не настолько блистательны, чтобы я могла позволить себе нанимать ее на целый день.* * *
Воспользовавшись ее непродолжительным отсутствием, Ардуин Венель-младший принялся размышлять. С одной стороны, ему не хотелось пробудить у трактирщицы подозрения чересчур настойчивыми вопросами, с другой – все трактирщики королевства одинаковы: прекрасно слышат соседские пересуды, не пересказывая их из соображений коммерческой осторожности. Каждый из них – кладезь всевозможных сведений, способный вытащить их буквально из воздуха. Тем более что хозяйка «Напыщенного кролика» показалась ему женщиной достаточно здравомыслящей. Вернувшись, женщина поставила перед ним тяжелый ивовый поднос, на котором были уложены куски козьего сыра, а также глиняное блюдо, полное аппетитных золотистых хлебцев[477]. Осторожно приблизившись, Ардуин произнес: – Ваша печальная история об ужасной кончине вашего супруга напомнила мне то, что случилось с Гареном Лафуа. – А что с ним случилось? – поинтересовалась трактирщица с одинаковой долей деликатности и любопытства. – Я о том чудовищном деле, которое потрясло и повергло в ужас весь Мортань. Это было около пяти лет назад. Его первая жена, Мюриетта, была жестоко убита одной из служанок, дурочкой… забыл, как ее звали. – Боже праведный, – вздохнула трактирщица, притрагиваясь к висящему на шее маленькому аметистовому распятию. – А я и не знала. – Мне рассказывали, это было даже ужаснее, чем обычное убийство. Должно быть, именно поэтому официальный разбиватель соли переехал и купил дом в вашем прекрасном городе. Я думаю, он больше не мог выносить все эти ужасные воспоминания, которые преследовали его в Мортане. – А… Ну конечно же… Он купил этот дом, дай Бог памяти… девять или десять лет назад. Я вам, наверное, уже говорила, что с этим домом было очень много работы, которая продолжалась многие годы. Мы только и думали, поселится ли кто-нибудь здесь наконец. Сведения оказались просто сногсшибательными. Получается, Гарен Лафуа очень заблаговременно начал обустраивать себе это гнездышко. Но Ардуин ничем не выдал своего волнения. Он лишь покачал головой и заметил: – Некоторые мастера настолько ценны, что их просто так не заполучить! Она мигнула в знак согласия с его словами и продолжила, допивая свой стакан маленькими глоточками: – Вы уже знаете, мессир? – О чем? – Об этом ужасе, который свирепствует здесь вот уже два года. – Вы про маленьких беспризорников? Честно говоря, я думал, что все это не более чем страшная сказка. – Ох, нет, мессир! Это страшно, но, к несчастью, совсем не сказка. Я не любительница слушать всякие сплетни, но недавно у нас повесили одного попрошайку, плохого христианина и ленивого бездельника. Поэтому мы все и думали, что это он нападает на детей. Но после его смерти эти убийства снова продолжаются. Матери, у которых маленькие дети, буквально сходят с ума от страха и не отпускают своих малышей. Конечно, сейчас проклятый убийца берет этих маленьких нищих, которых несть числа… Да покоятся они в мире! Но… он может остановить свой выбор и на ком-то другом! Перед мысленным взором Ардуина снова встала Эдвига Лафуа, крепко сжимающая руку своего сына. – А когда это случилось в последний раз? – Три недели назад. Мальчуган, чьи бедные останки обнаружили ранним утром в конце улицы Тележников. А теперь новое подлое убийство девочки, о котором упоминал мессир Арно де Тизан… – Страсти Христовы! Неужели люди бальи не напали ни на какой след? – Вот именно: ни на какой! Да на что они вообще годятся! Только и знают, что таскаться по харчевням, борделям и общественным баням![478] Я как подумаю, что этот дурачок Морис Деспре послал на виселицу невинного человека… – Морис Деспре? – Первый лейтенант бальи. Полный тупица, у которого только и хватает ума на то, чтобы разжиться кувшинчиком-другим да вытянуть из кого-нибудь несколько монет. Хотя не скажу, чтобы смерть этого попрошайки стала такой уж большой потерей – пустое место и морда вечно грязная. – И к тому же совершенно невинный, – с улыбкой добавил Ардуин. – Совершенно верно. Но, как бы там ни было, люди недовольны. Даже послали письмо монсеньору Бретонскому… Вы, конечно, скажете мне, что ничего толкового из этого не выйдет! Но раз уж мы платим такую кучу налогов, пускай нас за это хотя бы защищают. – Это очевидно! Трактирщица бросила опасливый взгляд в зал, будто подозревая, что там кто-то может прятаться, и произнесла тихим голосом, наклонившись к самому уху Ардуина: – Мне бы, конечно, не следовало говорить приезжему о таких вещах. Вы, чего доброго, решите, что у нас тут не город, а разбойничий притон, но… Мы здесь пользуемся услугами знаменитого ученого, мессира Антуана Мешода. Он мой завсегдатай, здесь его принимают в сердечной и непринужденной обстановке. И он иногда делает кое-какие замечания… Нет-нет, он никогда не позволяет себе шутить над медицинскими секретами. По просьбе нашего бальи, мессира Ги де Тре, мессир Мешод исследовал трупы злодейски убитых детей. Конечно, он не вдавался в детали, но и услышанного мне хватило, чтобы понять, что все эти бедные дети перед смертью испытали много гнусностей и адских мучений. Она подтвердила все, что Ардуин уже слышал от Арно де Тизана. Дети были изнасилованы, в том числе и противоестественным способом, а мальчики еще и кастрированы. – Кажется, ваш бальи принял это дело очень близко к сердцу, – осторожно произнес мэтр Правосудие Мортаня. Трактирщица испустила долгий вздох и возразила неуверенным тоном: – К сердцу? Нет, этого не скажешь. Да этого милого бретонца в бантиках здесь не очень-то и часто видят. Не иначе боится измазать свои чулки кровью и уличной грязью… Если б не недовольство, которое с каждым днем становится все сильнее, он, должно быть, так и сидел бы у себя дома и слушал, как жена играет на кифаре[479]. Вопрос, еще достаточно смутный, крутился в мозгу Ардуина, как вдруг в таверну шумно ввалился какой-то толстый, громадного роста мужчина с красным лицом. Прямо с порога он заорал: – Матушка Крольчиха, рыбки хочу, умираю! И утиных яиц мне, сегодняшних, которые только что выкатились из ее задницы. Омлету с салом, с сыром – и вы безо всяких хлопот осчастливите меня! Трактирщица виновато улыбнулась Венелю-младшему и подошла к маркитанту. Мэтр Правосудие попробовал золотистые медовые хлебцы. Он подождал, когда трактирщица закончит с новым посетителем, расплатился и вышел из «Напыщенного кролика».11
Крепость Лувр, Париж, октябрь 1305 года. В это же время Суровая крепость Лувр, прозванная местными жителями «большой башней», находилась недалеко от Мельничного моста сразу за границей Парижа. Здесь всегда скапливались представители государственной власти – министерская канцелярия, счетная палата и сокровищница. Те, кто теснился за этими мощными стенами из темного, постоянно сырого камня, каждый день призывали перестроить наконец зловещий донжон, возведенный еще Филиппом II Августом. Но за недостатком средств работы постоянно отодвигались. Из этого весьма неприветливого логова мессир Гийом де Ногарэ, советник короля Филиппа Красивого, правил королевством. Приближенные короля и придворные волновались по этому поводу, интриговали, строили планы, чтобы захватить хоть что-то: землю, должность, влияние, иногда даже просто возможность показать себя, слегка прикоснуться к власть имущим, одурманить себя всевозможными ухищрениями, в опасности которых некоторые могут убедиться, наблюдая внезапный каприз суверена или одного из его баронов. В противоположность остальным, Карл де Валуа не боялся сварливого характера своего единственного родного брата-короля, который всегда демонстрировал по отношению к нему нежность, даже немного чрезмерную. Постоянные предостережения мессира Гийома де Ногарэ оставались без внимания. Советник видел, что непрекращающиеся финансовые требования царственного брата, с великолепным ликованием путающего свои карманы с государственной сокровищницей, могут привести к довольно скверным последствиям. Несмотря на громадные доходы, Карл де Валуа был по уши в долгах. Он брал взаймы, чтобы погасить ранее сделанные долги. Невольный поручитель короля позволял ему жонглировать деньгами с ростовщиками и банкирами Ордена тамплиеров. Если верить упорным и достаточно обоснованным слухам, Валуа был должен рыцарям Христа целое состояние[480]. Одно служило утешением мессиру де Ногарэ: несмотря на постоянные мечты о короне, Валуа никогда не предаст короля. Собственно говоря, эта важная уверенность была важнее всего в глазах советника, абсолютная преданность которого суверену оставалась незыблемой даже во время распрей Филиппа с папой Климентом V. И потому мессир де Ногарэ не строил каких-либо козней или ловушек против Карла де Валуа и всегда хорошо служил своему господину, зачастую даже вопреки собственным интересам. Гийом де Ногарэ допускал такое разве что в глубине души: смерть молодой Жанны Наваррской[481], случившаяся несколькими месяцами раньше, его утешила, невзирая на глубокую печаль Филиппа Красивого. Жанна двигала по шахматной доске свои фигуры, самой вызывающей и опасной из которых был не кто иной, как Ангерран де Мариньи[482]. Вдобавок Жанна Наваррская осуждала то, что называла «удручающей непреклонностью» де Ногарэ, предпочитая ему циничный, но такой блестящий прагматизм де Мариньи – своего любимца среди придворных. Ее смерть означала для Гийома де Ногарэ отсрочку и еще большую власть.* * *
Мессир де Ногарэ отошел от узкого застекленного окна, которое едва освещало просторный кабинет, где он проводил самое светлое время дня, и приблизился к рабочему столу, которого не было видно под книгами записей, свитками с посланиями, чернильницами и сосудами с чернилами, заранее заготовленными секретарями. Он невольно улыбнулся, разглядывая бледную Святую Деву, держащую младенца Иисуса, удивленно взирающего на мир. Мессир де Ногарэ готов был смотреть на нее сколько угодно. Он видел в ней то, что так хотел бы любить и чего так не хватало этому миру: мирное изобилие, бесконечная сила, сосредоточенная в улыбке этой удивительной, единственной в своем роде женщины. Обещание чуда – такого близкого, стоит только руку протянуть. Ногарэ был уверен, что все это – не более чем прекрасный мираж, ибо человечество никогда не изменится. Бедный Агнец Божий, распятый потому, что поверил, будто люди смогут полюбить друг друга и помогать один другому… И, однако, вопреки всем низостям, которые наблюдал вокруг себя каждый день и каждый час, Ногарэ знал, что неугасимая искра, которая горит в нем, рождала непобедимую веру в Спасителя. «Грустная лесная мышь» – такое насмешливое прозвище втихомолку дали ему многочисленные хулители – устало вздохнул. Он положил свои костлявые пальцы на исхудавшее лицо с сухой кожей, по которому его запросто можно было принять за столетнего старца, в то время как ему не было и тридцати пяти[483]. Несмотря на свой хрупкий вид, мессир де Ногарэ, без сомнения, производил должное впечатление благодаря своей громадной власти, а также потому, что все сразу чувствовали: под его выпуклым лбом, перечеркнутым краем непременной фетровой шапочки, таятся ум, который всегда настороже, абсолютное недоверие ко всем и бездна секретов, которых лучше не знать. Впечатление суровости, исходящее от него, усиливалось одеждой – длинное одеяние законоведа, на которое был наброшен плащ, спадавший едва ли не до самых ступней. Единственной нарядной деталью его костюма была узкая оторочка из беличьего меха. Нескрываемое презрение мессира де Ногарэ к всевозможным богатым уборам, вышивкам золотой и серебряной нитью, короткой и обтягивающей одежде, чулкам, украшенным лентами и бантами, которые так ценили в ту эпоху придворные, было очень дерзко. Какая необходимость надевать длинный вышитый золотом дублет[484] или жиппон[485] такого яркого цвета, что рябит в глазах? Ему вполне достаточно, чтобы его появление сопровождал легкий шелест привычного одеяния. Все разговоры и смешки тут же замолкнут сами собою. Он был воплощением власти, способной созидать и разрушать, и страха, смешанного с неловкостью. Все это тут же ощущал любой, на ком останавливался взгляд его лишенных ресниц глаз. Расчетливый, изворотливый, способный на лицемерие – такому никто не мог дать ложных обещаний. Его требовательная вера в Бога знала лишь одно исключение: король. Ногарэ был прекрасно приспособлен к двум главным требованиям монарха: подчиняться приказам Ордена тамплиеров и стараться, чтобы удачно завершился процесс против Бонифация VIII, бывшего папы римского и заклятого врага Филиппа, несмотря на то что понтифик скончался тремя годами раньше. Эти двое имели твердое влияние и единую цель, за исключением того, что Бонифаций мечтал стать фактическим императором Запада, против чего Филипп без устали очень сурово возражал. Французское королевство принадлежало ему, и никто не должен покушаться на его священное право безраздельного царствования, будь он даже самим папой римским. Чтобы угодить королю, Ногарэ покопался в мрачных секретах Рима, выискивая что-нибудь, способное нанести вред репутации покойного Бонифация, и не надеясь придать процессу законное обоснование, то, что делало бы невозможным изгнание нового папы римского, который был обязан своим избранием великодушию французского короля. К несчастью, Ногарэ так и не удалось откопать ничего, что подтвердило бы слухи, обвиняющие Бонифация в занятиях магией и алхимией с целью достижения его заветной мечты – абсолютной власти над душами и живыми созданиями[486]. Советник не осмелился изобретать такие сведения самостоятельно, хотя по отношению к другим он не проявлял подобной щепетильности. Впрочем, речь шла о претензии к покойному королевы Жанны, которая всегда предпочитала Бонифацию его оппонента, канцлера Пьера Флоте. Последний был преисполнен решимости пресечь вмешательства папы в дела Французского королевства, и ничто не могло бы его остановить. Ногарэ же лавировал, действуя в полном мраке из своего безграничного почтения к Святой Церкви. Пусть и с запозданием, но он старался помешать непоправимому разрыву между папством и его старшей дочерью – Францией. Что касается дела Ордена тамплиеров, Филипп Красивый еще не порвал с ними окончательно; искоренение ордена пока что не входило в его планы. Речь шла лишь о том, чтобы обуздать тамплиеров – эту свору папских сторожевых псов. После разгрома Акры[487] воинствующие монахи вернулись в Европу, большей частью во Францию, став в глазах Филиппа ненавистной угрозой власти. Задача же мессира де Ногарэ состояла в том, чтобы подорвать то, что оставалось от их авторитета, стереть из умов все воспоминаниях об их славных боевых победах, о тысячах тамплиеров, погибших во славу Господню, обо всем, что говорило бы в их пользу. Советник прекрасно знал человеческую душу. Разве найдется оружие более сильное, чем ревность или низменные желания? Причем оружие не особенно обременительное в смысле затрат и по быстроте воздействия сравнимое разве что с эпидемией, которая распространяется со скоростью лошадиного галопа. Впрочем, Орден госпитальеров был гораздо богаче Ордена тамплиеров. Но какое это имело значение? Те находились под предводительством прекрасного воина и тонкого политика, в то время как предводитель Ордена тамплиеров – Жак де Молэ – по набожности и храбрости не имел себе равных, но его высокомерие сильно задевало короля. Бедный Молэ! Этот ничтожный посредник был не настолько значительной фигурой в начале партии, но он ничего не знал до самого конца, играя с Ногарэ, который обставил его с той же легкостью, с какой заезжий красавец соблазняет наивную крестьяночку. Молэ слепо верил в Климента V: ужасная ошибка! Папа хитрил с Филиппом, перед которым испытывал страх, желая обезопасить себя от его гнева. И если это будет в его интересах, Климент без колебаний бросит Молэ на съедение псам. Ногарэ одобрял мессира понтифика. Что значит какой-то там де Молэ перед лицом христианского Запада? Что означали его братья по ордену для большинства мелких дворянчиков и зажиточных крестьян? Ногарэ вспоминал старую кормилицу, которая любила повторять: «Не разбив яйца, не сделаешь омлет». Господь всемогущий! В течение всей своей жизни он неизменно убеждался в правильности этой максимы.* * *
Кто-то осторожно постучал в высокую резную дверь кабинета, отвлекая Гийома де Ногарэ от размышлений. Он сухо и отрывисто бросил: – Войдите. Молодой человек в камзоле с вышитым гербом Карла Валуа, согнувшись в поклоне, приблизился к столу. Лицо его показалось Ногарэ смутно знакомым; должно быть, он уже сталкивался с ним в цитадели. – Мессир… – Да? – Эмиль Шапп, почту за счастье служить вам. – Гм… Ногарэ совершенно не представлял себе, что мог от него хотеть этот молодой человек с такими светлыми короткими волосами, что сквозь них проглядывала розовая кожа. – Я жду! – раздраженно поторопил его советник. Детское лицо посетителя тут же покраснело. Дрожащим от волнения голосом он принялся объяснять: – Мессир, я имел дерзость прийти к вам, чтобы умолять о месте помощника секретаря. Как я уже упоминал, у меня бойкое перо, я читаю и пишу на латыни и прекрасно разбираюсь в цифрах. Вы были так бесконечно добры, что выслушали меня и дали понять, что если вашего писца по каким-то причинам не будет на своем месте… Ногарэ ничего не помнил об этой встрече. Не то чтобы это его удивляло – он довольно часто давал такие уклончивые ответы тем, кто его не интересовал или не мог быть ему полезным, едва выслушав просителей. – …Я, как и все здесь, знаю о вашей бесконечной преданности королю и о том, что вы, должно быть, противостоите стольким недоброжелателям. Я прихожу в сильнейшее негодование, когда слышу, как всякие недостойные твари стараются принизить ваш достойный всякого восхищения труд… Ногарэ вздохнул и раздраженно поджал тонкие губы. Этот Эмиль Шапп начинал действовать ему на нервы. – …Поэтому когда я слышу, что говорят в окружении монсеньора де Валуа, которому я имею честь служить, даже находясь в отдалении, я… чувствую себя безмерно оскорбленным. Известие о том, что злые языки действуют среди верных сторонников Карла де Валуа, вовсе не удивило мессира де Ногарэ. Во всяком случае, услышанное возбудило его любопытство. Он по опыту знал, что пересуды придворных могут стать настоящим ядом, особенно если ими пользоваться с достаточной ловкостью. – Так что вы хотите сказать? Ногарэ вспомнил этого молодого человека. За два года службы у брата короля Эмиль Шапп продемонстрировал безграничное честолюбие, которое безуспешно пытался спрятать за показной скромностью. Он ревностно относился к своим обязанностям и работал лучше других секретарей, демонстрируя неплохие умственные способности. Он также не скупился на поклоны и лесть, как только предоставлялся удобный случай. Тем не менее из-за одного досадного происшествия, случившегося несколькими месяцами раньше, его имя вдруг выпало из памяти монсеньора де Валуа, несмотря на то что Шапп служил ему очень долгое время. Поэтому молодой человек решил, что его усилия никогда не увенчаются успехом и что он должен найти себе другое пристанище, где к нему отнесутся более благосклонно. Как, например, служба у мессира де Ногарэ. Он уже давно держал ушки на макушке, тайком наблюдая за братом короля и его окружением. В слухах про «печальную мышь» не было недостатка, но ранее Шаппу никак не удавалось услышать ничего такого, что могло бы послужить ему верительной грамотой или, скорее, разменной монетой при встрече с глазу на глаз с королевским советником. А еще он не был уверен в значимости того бестактного поступка, который готовился совершить. Вот почему Шапп долго взвешивал все «за» и «против», прежде чем испросить аудиенцию у Ногарэ, что означало пойти ва-банк и сжечь все мосты между ним и монсеньором де Валуа. Если сведения, которыми он располагал, не прельстят советника, Шапп мог оказаться в весьма скверном положении. Но стоила ли эта игра свеч?[488] Он по-прежнему не был в этом уверен. Сердце молодого человека билось так сильно, что, казалось, готово было выскочить из груди, когда он произнес: – Итак, мессир, монсеньор де Валуа много раз принимал у себя старшего бальи шпаги Перша. – Хм… Эстрелина? – Аделина д’Эстревер, мессир. – Хм… и что особенного в том, чтобы принять своего бальи шпаги? – нелюбезно заметил советник короля. Эмиль Шапп сглотнул комок в горле и подчеркнул: – В том, что монсеньора де Валуа мало занимают земли Перша или Алансона. Это было первое посещение тех земель мессиром д’Эстревером после его вступления в должность. Также речь шла о монсеньоре Жане Бретонском, короле и… о вас. Ногарэ был слишком хитер, чтобы заглатывать наживку. Он нарочито небрежно поинтересовался: – О короле? И в каких же выражениях? – О, в самых почтительных, как и положено при упоминании высочайшей персоны. – Ну, а обо мне? – Ну… монсеньор де Валуа настаивал, чтобы вы ни в коем случае не были осведомлены об этом деле. Мессир д’Эстревер поручился в этом. – Так о каком деле идет речь? – спросил Ногарэ, одновременно заинтересовавшись и насторожившись. – К моему величайшему сожалению, мне это неизвестно. Эта часть разговора закончилась, когда… хорошо, я это скажу: мне удалось услышать лишь конец разговора. «Когда ты начал подслушивать под дверью», – мысленно уточнил мессир де Ногарэ. Эмиль Шапп понял, что судьба поворачивается к нему лицом, и решил поймать свою удачу. – Я уверяю вас, что все речи относительно его величества были на редкость учтивы… но правда также и то, что при всем почтении к его величеству они не желали, чтобы наш высокочтимый суверен был в курсе откровенной беседы между монсеньором де Валуа и мессиром д’Эстревером. – В самом деле? Как же так: скрыть от короля то, что происходит в его владениях? И в то же время мессир Карл только что получил в свои руки Перш вместе с другими знаками расположения? – вспылил советник. Если речь шла о том, чтобы скрыть незначительное неповиновение Карла, то этим можно будет воспользоваться в качестве аргумента, что королю не следует всегда слепо поддерживать финансовые или политические притязания своего брата. Мессир де Ногарэ собрал у себя уже столько секретов – безобидных или смертельных – и столько же ловушек, которые можно при желании расставить на пути могущественных персон или претендующих на могущество, и особенно предназначенных тем, кто плел интриги, добиваясь его падения. До сих пор, за исключением растрат, ему так и не удалось почерпнуть ни малейшего доказательства неповиновения Карла своему брату-королю. Итак, если Филипп прощает этого мота, своего младшего брата, он никогда не допустит, чтобы тот взял над ним верх, неважно каким образом. Филипп был убежден, что Господь выбрал его, чтобы царствовать во Франции, в чем мессир де Ногарэ не сомневался ни секунды. – А Жана II Бретонского также упоминали в разговоре? – уточнил Ногарэ. – Да, и его тоже, мессир. – И почему же? Какой интерес он может представлять в глазах Карла де Валуа? Кроме того, что является дедом мужа его дочери Изабеллы? – К моему глубочайшему сожалению, мне это неизвестно, мессир. Гийом де Ногарэ колебался всего лишь несколько мгновений: – По правде говоря, я не особенно доволен одним из своих помощников… Он работает слишком медленно и нерасторопно… Но из человеколюбия я не могу отделаться от него немедленно, принимая во внимание его возраст и семью, которая находится на его попечении… Все-таки через пару недель… Шапп, разумеется, с позволения монсеньора Карла вы сможете, пройдя испытание, стать одним из моих секретарей. Эмиль буквально сложился в угодливом поклоне. Наконец-то! Он получил шанс и ни за что на свете не упустит его! Мессир де Ногарэ предложил ему место при своей персоне, но в будущем. Потому что он должен еще доказать, что пригоден занимать эту должность, что он владеет не только скорописью, чистописанием и сокращениями[489]. Короче говоря, он должен заслужить свое вознаграждение. Разумеется, он приложит к этому все усилия. Шапп по крайней мере кое-чему научился в окружении монсеньора де Валуа: власть имущие участвуют в заговорах, но при этом хотят сохранять благопристойный вид. Отсюда вытекает необходимость иметь при себе исполнителей, которые не боятся испачкаться в любой грязи, чтобы угодить им и позволить сохранить чистоту если не души, то хотя бы рук. Можно ли его отнести к людям такого рода? Конечно же, да! – Конечно, мессир де Ногарэ, по причине моей глубочайшей привязанности к вам, моего безусловного почтения к вашему труду и безграничного почтения к его величеству, если моего слуха достигнут какие-нибудь… известия, я не замедлю донести их до вашего сведения. – Вот это правильно и похвально с вашей стороны, – одобрительно заметил советник. – Шапп… Служба суверену – это изнурительный труд, неусыпное внимание. Наш долг состоит в том, чтобы защищать его, не обременяя. Да, кстати… Никогда монсеньор де Валуа не совершит никакой ошибки и не будет огорчать своего брата… но вот придворные… ах, эти придворные! На что они только не способны, что они только не замышляют… причем зачастую буквально теряя рассудок от своих страстей и честолюбия. – Истинная правда. Какой это будет восхитительной миссией для меня – быть смиренным помощником, которому дарована великая милость разделить ваше тяжкое бремя… Разумеется, Ногарэ питал недоверие к этому молодому человеку. Он повидал уже столько предателей, что появление этого ничего не добавило. Никакие льстивые слова и почтительные ужимки не могли его обмануть. А что, если Карл де Валуа спешно послал Эмиля Шаппа, чтобы удостовериться, что Ногарэ присматривает за ним? Решив немного схитрить, он объявил: – Бремя, которое с такой сердечностью разделяет монсеньор Карл, желающий своему брату только добра. Во всяком случае, Карл де Валуа – человек чести и человек действия. Низости тех и других его не касаются, настолько они противны его благородному происхождению. В сущности, наша миссия состоит в том, чтобы защищать обоих братьев от злокозненных змей, что извиваются и шипят в их ближайшем окружении, но братья в своем бесконечном благородстве и великодушии не замечают этого. Ногарэ сказал это, сочтя, что настал подходящий момент, чтобы немного встревожить молодого человека. – Тем более, – продолжал он, – что на своем опыте я имел возможность много раз убедиться: даже самые могущественные не любят даже допускать мысли, что добрый друг, храбрый товарищ, мудрый советчик или даже преданный слуга – с виду такой близкий человек – на самом деле оказывается не более чем презренным льстецом. Они очень ловко притворяются перед ними. Еще одна важная причина, чтобы уберечь их от такого унижения. Таким образом, я уверен, что если монсеньором Карлом пытается вертеть его собственный бальи шпаги, да к тому же еще и против интересов брата-короля, полагаю, он был бы вам признателен, если б вы предостерегли его от серьезной ошибки. Даже не допуская и мысли о подобном. Эмиль Шапп понял подтекст и подумал, что ему только что преподали урок высшего политического искусства. Мессир де Ногарэ – единственный, кто должен быть в курсе происходящего. Для всего остального мира, что бы ни произошло, Карл де Валуа будет невиннее новорожденного младенца, введенный в заблуждение лживыми словами, до того момента, когда мессир советник примет какое-то другое решение. Политика – какое это чудо, если ты достаточно хитер, чтобы избежать бесчисленных ловушек! – До скорой встречи, Шапп. Вы мне кажетесь человеком с будущим. И если что-нибудь приводит вас в замешательство или тяжким грузом ложится на сердце, без колебаний приходите с вашими переживаниями ко мне. Моя дверь открыта для вас. А потом я подберу своему неловкому секретарю какое-нибудь другое занятие. Гийом де Ногарэ милостиво растянул губы, что должно было сойти за улыбку. Шапп понял: он только что стал шпионом советника при монсеньоре де Валуа.* * *
Наконец оставшись один, Ногарэ принялся размышлять. Интересуется ли Валуа Жаном Бретонским, с которым связан через свою дочь? И какова причина этого интереса? Конечно же, здесь речь не идет о нежной привязанности. Интересно, какая хитроумная комбинация рождается в расчетливом, но не особенно проницательном разуме брата короля? Другими словами, что он так надеется заполучить?12
Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года. В то же самое время Примостившийся под самым замком в начале улицы Сен-Жан, дом Антуана Мешо был опасно наклонен в сторону. Хозяин дома принимал пациентов на первом этаже. Дверь тесного жилища, состоящего, должно быть, не более чем из двух комнат, была приоткрыта. Ардуин толкнул ее и вошел. Двое терпеливо дожидались, стоя перед крохотным кабинетом, – женщина с ребенком семи или восьми лет. Мальчишку душил ужасающий приступ кашля, от которого кровь приливала у него к лицу. Венель-младший снова вышел из тесной комнаты, решив подождать снаружи, чтобы не наглотаться болезнетворных миазмов[490]. Он принялся наблюдать, как движутся туда и сюда нагруженные ободранными кровавыми тушами тележки – ручные и запряженные лошадью. Улица Мясников была совсем близко отсюда. Как он сможет зацепить Антуана Мешо? Тем более чтобы не повредить бальи Ножан-ле-Ротру и не добавить ему хлопот. Арно де Тизан велел ему действовать как можно более скрытно. Ги де Тре намекнул, что желает помощи помощника бальи Мортаня, но так, чтобы его собственная неспособность вести расследование не стала достоянием молвы. Ладно! Он что-нибудь придумает, когда начнет разговаривать с ним. И это будет довольно скоро. Женщина с обеспокоенным лицом вышла на улицу, таща за руку маленького худенького мальчика, которого мучил приступ сухого кашля. – Мой маленький храбрец, – произнес рядом с Венелем-младшим тот, о ком он только что думал. – Значит, надо возобновить лечение… Мессир? У доктора были густые седые волосы до плеч. В своем преклонном возрасте – явно добрых пятьдесят[491] – он выглядел вполне бодрым. Его лицо в сетке тонких морщинок буквально излучало мудрость и доброту. – Мессир доктор, я чужой в вашем замечательном городе и когда-то был пациентом Лалуе де Мортань, который недавно скончался. – Прекрасный человек, настоящий эскулап, я его хорошо знал, – начал Антуан Мешо скорбным тоном. – Я присутствовал на его похоронах. Какая потеря для медицинского искусства, хотя Жан Фовель из Брево, бесспорно, наилучший практикующий врач в наших краях. Мысль блеснула в мозгу Венеля-младшего, и он поспешно добавил: – Конечно, это потеря, не только для искусства, но и для больных, которых она, конечно, очень опечалила. Клод Лалуе во время одной из наших дружеских пирушек упомянул ваше имя и ваше непревзойденное мастерство. А у меня возобновились боли в правом боку; не постоянные, но все равно достаточно неприятные. Прибыв в Ножан, я и решил заглянуть к вам. – Входите, – с улыбкой пригласил его доктор. Ардуин последовал за ним в комнату, находящуюся по соседству от приемной. Всю мебель там составляли рабочий стол, заваленный бумажными свитками, и два стула, на сиденьях которых также теснились разные научные труды, которым не хватило места на полках книжного шкафа и в стопках, загромождавших углы. Он безропотно позволил себя ощупать, высунул язык по команде доктора, согнул колени, рассказал, какого цвета у него моча, как часто он извергает ее наружу и остальные подробности, до которых так охочи все доктора[492]. – На вид вы совершено здоровы, – подвел итог врач. – Может быть, у вас был ушиб или даже скорее опухоль, которая рассасывалась очень медленно. Честно говоря, я не вижу никакого повода для беспокойства. – Да, иногда бываешь таким мнительным, – шутливо заметил Ардуин. – Подозреваешь у себя кучу болезней, которых даже и в помине нет. – Совершенно верно! Ардуин Венель-младший оделся и после некоторого колебания снова заговорил: – Мессир доктор, я знаю, что вы исследовали останки несчастных детей, убитых на улице этим чудовищем. Доброжелательное лицо доктора снова сделалось серьезным и сдержанным. – Да, верно. Но разрешите поинтересоваться, какое отношение это ужасное дело может иметь к жителю Мортаня? Ардуин Венель-младший решил покончить с увертками. Де Тизан, который рекомендовал обратиться именно к этому человеку, особенно остановился на таких его качествах, как деликатность и сдержанность. Тем более что палач не успел узнать ничего из того, что его интересовало. Исключение составляла разве что беседа с толстушкой из таверны. – Видите ли, мессир доктор, я должен буду доверить вам такие подробности, о которых умоляю никому никогда не говорить. Мэтр Правосудие извлек из поясной сумки свернутую трубочкой бумагу и протянул ее доктору. Тот, узнав печать заместителя бальи Мортаня, удивленно поднял брови. – Прошу вас, ознакомьтесь, – настаивал Ардуин Венель-младший. Перед отъездом он стребовал у Арно де Тизана рекомендательное письмо. Помощник бальи уступил его просьбе, только поняв, что без этого письма мэтр Правосудие не поедет в Ножан-ле-Ротру. Ардуин привел и такой довод: – Мессир, я вовсе не хочу, чтобы меня арестовали и бросили в подземелье, обвинив в том, что я сую нос в дела, которые меня не касаются. В случае крайней необходимости ваше рекомендательное письмо послужит мне защитой. В осторожных и довольно расплывчатых выражениях Арно де Тизан удостоверял, что господин Венель, обладающий незапятнанной репутацией и удостоенный его доверия, получил эту доверенность, чтобы ему оказывали содействие в сборе информации относительно преступления, совершенного в Мортане, а также всех сведений, которые могут способствовать расследованию. – Хм… И каким образом дело, о котором упоминает мессир де Тизан, связано с убитыми детьми? – Это всего лишь одно из предположений, – схитрил Венель-младший. – Вполне возможно, что это тот же самый проклятый изверг, который в свое время свирепствовал у нас и по непонятной причине перенес свою ужасную деятельность в Ножан-ле-Ротру. – Боже милосердный! – в ужасе воскликнул доктор. – Подождите… Он поспешно закрыл ведущую на улицу дверь своего скособоченного дома, а затем и дверь кабинета. Понизив голос до еле слышного шепота, он продолжил: – У стен тоже есть уши! Я здесь не живу, а только принимаю пациентов, поэтому прошу вас, давайте говорить тихо. Венель-младший кивнул в знак согласия. Также шепотом он произнес: – Мессир де Тизан открыл мне многие ужасающие подробности. Дети были замучены, подверглись насилию, зачастую извращенным способом, мальчики были кастрированы, ведь так? – Хм… а также вагинальная полость у девочек была наполнена… экскрементами. Мессир де Тре предпочел сохранить в тайне это невообразимо чудовищное деяние. – Нужно понять, что руководит этим чудовищем, – заметил Венель-младший, в ошеломлении и ужасе от услышанного. Насколько далеко убийца мог зайти в своей жестокости и бесчестье? Без сомнения, очень далеко. Энекатрикс и фраза, выгравированная на сверкающем лезвии: «Eos diligit et suaviter multos interficit» – будут ли они когда-нибудь осквернены кровью этого чудовища, даже если он окажется из благородных? Нет, лучше, если его жизнь прервет топор лесоруба. – Мессир Венель, за свою долгую медицинскую практику я никогда не видел ничего ужаснее. Причем несмотря на то, что я много раз сталкивался с человеческой жестокостью. Если вы сможете схватить за шиворот это исчадие ада – только так и следует его называть, – я буду вам крайне признателен, так же как, без сомнения, и мессир де Тизан. – Вы мне поможете? Немного помолчав, Антуан Мешо проговорил: – Ради Бога, дайте мне немного времени для размышления. Приходите ко мне вечером, но не сюда, а домой. Это в нескольких дюжинах туазов от моста Сент-Илер, напротив церкви[493]. Приглашаю вас на ужин. А мне еще предстоит участвовать в зловещей церемонии принятия новых прокаженных в лепрозорий Сен-Лазар[494]. – Да, неприятное дело, – заметил Ардуин. – Совершенно верно. А что вы хотите; хоть они еще живы, они уже мертвы[495]. Несчастные души… Во всяком случае, мы бежим впереди страданий. – Это как? – Город распространяется дальше, мессир. Лепрозорий был построен согласно обычаям, на расстоянии броска камня против господствующих ветров[496], но это произошло две сотни лет назад. Новые дома строятся все ближе и ближе. Еще немного – и горожане не захотят такого тесного соседства с больными. Могут быть столкновения, как это уже происходит в других городах[497]. Бедных прокаженных могут просто-напросто перебить. Люди теряют голову от страха. Лепрозорий внушает им ужас, отсюда и неприязнь к его обитателям. С другой стороны, понятно, что никто не хочет заразиться этой ужасной болезнью… Итак, после вечерни я вас жду. – С удовольствием и почту за честь, мессир, – поклонился Ардуин. – Я не рассчитывал надолго задержаться в вашем прекрасном городе, поэтому не позаботился о том, чтобы мне оставили комнату в «Напыщенном кролике». Он заметил, что доктор испытывает некоторые колебания, удерживаясь от того, чтобы предложить ему кров. Но это длилось не более нескольких секунд. Доктор произнес: – Да, хорошее заведение, удобное и чистое.* * *
Выйдя из таверны, Ардуин снова направился к человеку, который отдавал внаем лошадей. Фригнан был уже оседлан, так как предполагалось, что этим вечером Венель-младший возвращается в Мортань. Увидев своего хозяина, благородное животное вздохнуло от удовольствия. Но Ардуин сказал слуге, который подвел к нему коня: – Дела вынуждают меня остаться здесь дольше, чем я рассчитывал. Я приведу его назад поздно вечером или даже, может быть, завтра. Молодой человек тотчас же согласился, помня о полученных им щедрых чаевых. Выехав их города, Ардуин пустил своего черного жеребца в галоп. Брюнель был отсюда на расстоянии какого-то лье.13
Брюнель, октябрь 1305 года Небольшое местечко возле Ножан-ле-Ротру хоть и было скромного значения, тем не менее могло гордиться тем, что дало приют аббатству д’Арксис, которое находилось в ведении монахов королевского аббатства Сен-Трините в Тироне[498]. Укрепленный замок стоял на холме, господствуя над окружающей местностью, безмолвный свидетель столкновения, которое давным-давно произошло неподалеку отсюда[499]. Недооценивая упрямство Бланки Кастильской, вдовствующей королевы и регента Франции до дня совершеннолетия Людовика IX[500], Ангерран III, владетель Куси, крупнейший барон королевства, счел момент благоприятным, чтобы завладеть титулом графа Перша и, по возможности, короной Франции – той, которую он взял для слабой женщины, подняв армию. И потерпел поражение, сохранив наследственные владения своего сына. Бланки не было там, где произошло сражение, и в конце концов власть имущие ее поддержали. Пока она будет жива, никто не лишит владений Людовика. Ардуин попросил какую-то кумушку указать ему дом маркитанта Луи Бобета, сказавшись старым знакомым его жены, урожденной Адель Сарпен. Он спешился, въехав в квадратный двор большой фермы. По обеим сторонам от жилого дома виднелись пристройки, образующие подобие буквы «U». Постройки были сложены из превосходного камня, и черепичные крыши говорили о зажиточности владельцев, как и большое количество телег, стоящих под навесом. Несколько толстых кур рылось в пыли у их колес, отыскивая себе корм. Мэтр Правосудие окликнул слугу. Тотчас же из крытого гумна вышел молодой человек и приблизился к нему. – Эй, человек, я хотел бы поговорить с твоей хозяйкой, Адель Бобетт. – С чего бы это вдруг, ваша милость? – недоверчиво протянул парень, на которого не произвел никакого впечатления благородный вид неожиданного гостя. – Личное дело. – Э нет, не думаю, что хозяйка вас примет, тем более когда хозяина нет дома. Да к тому же она еще и на сносях, вот-вот родит. – Успокойся, я здесь по рекомендации мессира Арно де Тизана, помощника бальи Мортаня. Может быть, это ему и показалось, или крохотная тучка проскользнула на юном лице прислужника с фермы? – Я сейчас пойду гляну, – наконец согласился тот. – И, ваша милость, вы уж, пожалуйста, оставайтесь на этом месте. Он исчез в центральных воротах фермы. Прошло несколько минут, которые показались мэтру Правосудие бесконечно долгими. Перед ним, на время забыв свою работу, прошли слуги, опустив головы и украдкой бросая на него взгляды. Никто не сказал ему ни слова, не обратился к нему с приветствием или улыбкой. Здесь царила весьма неприветливая атмосфера.* * *
Наконец появилась та, кто должна была быть Аделью Бобетт, урожденной Сарпен. Она сделала ему навстречу несколько тяжелых медленных шагов, держась руками за поясницу. Большой круглый живот стеснял ее движения. Судя по виду, она и вправду должна вот-вот родить. Если б Ардуин Венель-младший подумал, что упоминание имени сеньора бальи расположит эту молодую женщину к откровенности, он бы сейчас убедился в своей неправоте. На ее лице с тонкими чертами застыло самое нелюбезное выражение. Даже не утруждая себя приветствием, она бросила: – Вы кто? – Ардуин Венель из Мортаня. Приветствую вас, мэтресса Бобетт. – И чего вы сюда явились? – Причина моего визита – убийство Мюриетт Лафуа. Сжав кулачки в гневе, женщина злобно зашипела: – Эта история когда-нибудь закончится? Она ее убила, была осуждена и зарыта живой. Вот и все! – А почему вы так к этому относитесь? – Да потому, что уже десять раз меня допрашивали как свидетеля, заставляли давать присягу на четырех Евангелиях, грубят, будто я вам какая-нибудь бессовестная врунья! Я все сказала, что мне было известно. – Вы сказали, что Эванжелина, дурочка, ненавидела Мюриетт Лафуа. Что вы слышали, как она жалуется, что та ее плохо кормит и поручает много работы. Вы сказали, что Эванжелина однажды в порыве злобы принялась тыкать ножом в кровяную колбасу, выкрикивая: «Вот тебе, ослица проклятая». Вы спросили, что это означает, и Эванжелина объяснила, что имеет в виду свою хозяйку, Мюриетт Лафуа. – А каким образом вы узнали, что я говорила? – недоверчиво поинтересовалась Адель. – Я один из дознавателей мессира де Тизана и поэтому имею право просматривать записи с процессов. – Да на что вам сдалось то проклятущее дело, ведь уже пять лет прошло! Оставят меня когда-нибудь в покое?! – Некоторые противоречия смутили сеньора помощника бальи. Подняв взгляд на черепичные крыши, которые соседствовали с крышами, покрытыми дранкой – здесь было возможно их покрывать деревом, чаще каштаном[501], – он добавил: – Должен сказать, прекрасный дом, мэтресса Бобетт. Глаза молодой женщины сузились. Все более и более впадая в ярость, она атаковала в свою очередь: – Ну и что это, по-вашему, может означать, добрый человек? – Бобетты – довольно зажиточная семья, как я слышал. И старший сын из нее не может вот так просто жениться на первой встречной. Конечно, он возьмет за себя девушку с хорошим приданым. Казалось, эта лобовая атака вовсе не вывела женщину из равновесия, разве что подняла ее боевой дух. Она двинулась прямо на него, яростно рыча: – А ну иди отсюда, пока по загривку не получил! Плевать я на вас хотела! И пусть такие, как вы, господа со шпагами поберегутся! Еще раз придете меня оскорблять – и вас вышвырнут отсюда вон, так и знайте! По правде говоря, самоуверенность этой женщины произвела на него сильное впечатление, тем более что в ее голосе не слышалось никакой фальши. Ардуин сбавил тон: – Мэтресса Бобетт, я не сомневаюсь, что вы порядочная женщина. Но если допустить на минуту, что удивление мессира де Тизана имеет под собой некоторые основания… Трое свидетелей обвинения – и все трое нынче располагают значительными средствами, в то время как незадолго до того у них не было и гроша лишнего. Например, у вас вдруг появилось солидное приданое… Состроив печальную гримасу, женщина машинально погладила рукой свой огромный живот. Внезапно Ардуина начало злить ее упрямство. – Прошу прощения. Вы хотите вернуться в дом или присесть? Адель отрицательно покачала головой. Он продолжил: – Поймите, мессиру де Тизану невыносима даже сама мысль, что несчастную дурочку обрекли на мучительную смерть, в то время как настоящий убийца все еще на свободе. Женщина на мгновение отвела от него взгляд и прошептала неожиданно смиренным тоном: – Я не клятвопреступница. Я не сказала ни единого слова неправды. Эванжелина говорила даже еще худшие вещи. Она просто ненавидела матушку Лафуа. Должна сказать, что и поделом. – Это еще как? – Мюриетта была скверной женщиной, уж можете мне поверить. Это с соседями и священником она была такой лапочкой, а у нас буквально кусок изо рта вынимала. Вечно брызгала желчью по поводу наших ненасытных животов, вечно находила предлоги, чтобы вычесть хотя бы денье из нашего жалованья, вечно нас подозревала, что у нее украли то кусок сала, то горбушку хлеба… Настоящая мегера, точно вам говорю. А с Эванжелиной она обращалась еще хуже. Бедной дурочке было не найти другого места, и матушка Лафуа прекрасно это знала. Вечно ее унижала, вечно обращалась как с полной идиоткой, вечно угощала ее затрещинами ни за что ни про что, запирала на ночь то в курятнике, то конюшне, как собаку… – Ну, а месье Лафуа? – поинтересовался Ардуин. – Он не такой уж плохой христианин, разве что немного простоватый. Это она всем заправляла, и всё из-за денег, которые она унаследовала от своего отца. А Гарен пользовался любой возможностью, чтобы исчезнуть из дома. Чем меньше попадаешься ей на глаза, тем меньше получаешь неприятностей. Во всяком случае, никто и не рассчитывал, что он когда-нибудь наведет порядок в доме. – Вы не знаете, может быть, у него была интрижка на стороне? – Если так, то я за него только рада! Хоть что-то у него тогда в жизни было хорошего… – Мэтресса Бобетт, я спрошу вас прямо: вам заплатили за ваше свидетельство? Испустив долгий вздох, она согласно кивнула: – Да. Но я клянусь вам своей головой и головой своего ребенка, что из моего рта не вылетело ни одного слова неправды! Слова Эванжелины, которые я передала, были и в самом деле произнесены ею. Как я вам уже говорила, она ненавидела хозяйку, просто не то слово! – Хорошо, а зачем тогда Гарен Лафуа заплатил вам? Ведь это он сделал? – Да я и так бы все сказала… Это была несчастная девушка, дурочка, злючка. У нее с рождения с головой было плохо. Уверена, она ее и пристукнула, когда никого не было в доме. В тот день ей не давали еды. Эванжелина была постоянно голодна и не могла вынести такого наказания. Она плакала и топала ногами, а матушку Лафуа это только смешило. Я же говорю, настоящая дрянь она была. Не думаю, чтобы много кто о ней жалел, разве что те, кто видел только ее лживые ужимки. – Ну, а другие свидетели? Им тоже заплатили? Элуа Талону и Альфонсу Фортену? – Без понятия. Да я вообще-то остерегалась этого парня, Фортена. Вот уж чьей исповеди я бы точно не поверила, если хотите знать! Настоящий плут. А Элуа – приличный человек. Не думаю, чтобы он солгал, давая показания, даже если б ему хорошо заплатили. – Как вы считаете, это Эванжелина убила госпожу Лафуа? Адель снова пристально посмотрела на него и вздохнула: – Вот уж не знаю. Когда мы все вернулись, Лафуа уже отдала Богу душу. Она лежала на полу вся раскромсанная, будто туша на бойне. Эванжелина сидела рядом и держала ее за руку. И лицо, и руки у нее были в крови. Я могу сказать только одно: все, что я сказала, – истинная правда, и пусть я буду проклята, если хоть в чем-то солгала. Ардуин Венель-младший был уверен, что она сказала ему правду. Но всю ли правду она сказала? Вот за это он вряд ли бы поручился.14
Ножан-ле-Ротру Венель-младший вернулся в Ножан-ле-Ротру перед самой вечерней. Он доверил Фригнана заботам молодого слуги в конторе, где давали внаем лошадей и упряжь, и поспешил в таверну, чтобы сполоснуть руки и лицо в миске, стоящей на туалетном столике напротив его комнаты. Хозяйка, матушка Крольчиха, уверяла его: – О, ваша комната самая просторная и самая удобная. К тому же ее окна выходят во двор. Утром вас не потревожат никакие мясники. Они, может быть, и забавны, когда с ними приятельски общаешься, но у них у всех такие луженые глотки! Впрочем, комната, расположенная на втором этаже, оказалась приятной и светлой, так как промасленная кожа, закрывающая окно, была приподнята. Покончив с умыванием, Ардуин выглянул во двор. Невольная улыбка появилась у него на губах. Матушка Крольчиха, похоже, очень ценила порядок. Аккуратно сложенная поленница примыкала вплотную к пирамиде из пустых бочек. Несколько кур и уток суетились в курятнике с насестом, устроенном под навесом, рядом с которым стояла ручная тележка. На ней была навалена целая куча ведер и каких-то инструментов. Здесь же, у стены, была сделана подставка для бутылок. Колокола соседней церкви зазвонили, оповещая о начале вечерней службы.* * *
Дом, где жил доктор Антуан Мешо, был гораздо богаче того, где он принимал пациентов. Окруженный садом за высокой стеной, с чердаком и подвальным этажом, он выглядел довольно зажиточным. Ардуин там уже побывал прошедшим вечером. Завидев мужчину, громадный босерон[502] с рыжими подпалинами показался у дома, рыча и давая понять, что не следует идти дальше. Прозвучала команда, отданная молодым женским голосом: – Юлиус, к ноге! Собака послушалась, и Ардуин пошел по направлению к неясному силуэту, показавшемуся в дверях. – Мессир Венель? Проходите, пожалуйста, мой свекр вас ждет. Бланш Мешо, урожденной Делавуа, на вид едва исполнилось двадцать пять лет. Это была маленькая изящная женщина, приятная в обращении, с густыми темными волосами, заплетенными в косу, уложенную вокруг головы, тонкими чертами лица и шаловливой улыбкой, от которой на щеках у нее появлялись ямочки. Ее сдержанное поведение, не доходящее до такой крайности, как суровость, сразу понравилось Ардуину. На ней было ярко-голубое платье из тонкой шерсти простого фасона с довольно скромным декольте и узкими рукавами, где на предплечьях имелись разрезы, позволяющими разглядеть шелковую сорочку. – Мадам, счастлив вас поприветствовать, – вежливо произнес Ардуин. – Я тоже очень рада вас видеть. Он направился вслед за нею по длинному коридору, освещенному свисающим с потолка подсвечником. Наконец они очутились в просторной гостиной.* * *
Антуан Мешо встал с сундука[503], на котором сидел, и направился к мессиру Высокое Правосудие. – Давайте присядем, мессир, – предложил он, указывая на длинный стол темного дерева, на котором стояло несколько подсвечников, а вокруг – скамейки. – Бланш, дорогая, не могла бы ты сходить на кухню и распорядиться, чтобы нам принесли по стакану прохладного вина, блюдо пирожков, оладий с бычьим костным мозгом и чего-нибудь еще в ожидании ужина? Улыбнувшись, женщина тотчас же исчезла. – Вдова моего сына, уже три года как скончавшегося. Он присоединился к своим четверым братьям и сестрам, которые уже предстали перед Господом, – пояснил доктор мягким печальным голосом. – Примите мои искренние соболезнования. – Есть ли у вас жена, дети? – Нет. Еще нет. – Время бежит быстро, так быстро, и заканчивается так внезапно… Оглянуться не успеваешь, как уже поздно!.. Ладно, не обращайте внимания на болтовню старого чудака. Я начинаю говорить всякий вздор и раздавать советы тем, кто в них вовсе не нуждается. Что поделать, возраст! – Что вы, это очень любезно с вашей стороны, – возразил Ардуин, поняв, что доктор больше всего на свете боится, что его и в самом деле сочтут стариком. – Благодарю. Ваш комплимент мне просто бальзам на сердце. Вошла Бланш, неся блюдо с аппетитно пахнущими пирожками. За нею, волоча ноги по полу, выложенному керамическими плитками, следовала женщина, которой, судя по виду, было не меньше ста лет. Руки ее были скрючены от старости и болезни[504]. Она поставила на стол бутылку и четыре стакана, которые несла, прижимая к груди, опасаясь выронить. – Спасибо, моя добрая Берта, – прокричал доктор прямо ей в ухо. Старая служанка бросила на него суровый взгляд и прокричала: – Да не глухая я вовсе, хозяин! – Глуха, как звонарь[505], – пояснил доктор нормальным голосом. Ардуин едва сдержал улыбку. – Конечно же, нет, моя хорошая! – крикнул он старухе, которая грохнула свою ношу на стол, не слыша, сколько шума при этом наделала, и отправилась на кухню. Мешо жестом пригласил Ардуина устроиться на одной из скамеек. Бланш села напротив него, ее свекр занял место во главе стола. Повисла тишина. Присутствие Бланш немного стесняло Ардуина, так как молодая женщина часто украдкой поглядывала на него, думая, что он этого не замечает. Впрочем, он все равно не решился бы заговорить при ней на такую тему. Антуан Мешо пришел к нему на помощь. – Моя невестка знает об этих гнусных убийствах и о причине вашего визита. Я хорошенько поразмышлял о вашей просьбе во время символической похоронной церемонии. Это меня немного отвлекло; признаться, от этой церемонии у меня волосы дыбом встают. Некоторые из этих людей проживут еще достаточно долго, зная, что для всех остальных они уже умерли, даже для своих близких[506]. Но, с другой стороны, мы же не можем допустить, чтобы эти люди оставались среди здоровых. Ведь болезнь может распространяться. – В этой болезни обычно видят проклятие, Божье наказание. – Да, такого мнения придерживаются обо всех серьезных болезнях[507]. Таким образом простым людям пытаются объяснить необъяснимое. Почему Бог наказал их ребеночка, который только что родился? И если это Божье наказание, то почему оно так же заразно, как золотуха?[508] Во всяком случае, в своем преклонном возрасте я научился одной вещи: для некоторых лучше надежда, проистекающая из суеверия, чем правда, лишающая всякой надежды. – То есть? – Думать, что все болезни случаются исключительно по Божьей воле, для простых людей означает сохранить надежду. Будешь молиться – и болезнь исчезнет… Кстати, чудеса действительно случаются. Правда, очень редко. Я столько раз был свидетелем, как омерзительные бездельники доживали до глубокой старости и мирно отдавали Богу душу в своей постели, в то время как другие люди, добрые и работящие, сгорали от лихорадки в ранней юности. – Должен признать справедливость этих слов, – согласно кивнул Ардуин. – Так вот, что касается этих гнусных убийств… – продолжил он, чувствуя на себе настойчивый взгляд Бланш и помимо своей воли замечая блуждающую на ее губах чарующую улыбку. – Совершенно очевидно, что это дело рук какого-то чудовища, наихудшего из проклятых Богом. – Вы говорили, что бальи Ги де Тре и его люди так и не смогли напасть на след. Доктор сжал губы и безмолвно покачал головой. – Однако вот уже двенадцать маленьких жертв. Во всяком случае, столько их обнаружили в городе и ближайших окрестностях. Не стану отрицать, что в самом начале… примерно два с половиной года назад… люди бальи проявили некоторое… безразличие. – Ведь речь шла всего лишь о маленьких голодранцах, – подхватил Ардуин. – Именно так, не будем обманываться на этот счет. Они гибнут целыми легионами от пустячной лихорадки; некоторые вступают в жестокие драки, вырывая друг у друга кусок хлеба или заработанный денье… На это принято закрывать глаза. Но сейчас вовсе не тот случай, я вас уверяю, особенно после того, как жители Ножана обратились с письмом к монсеньору Жану II Бретонскому, а копия письма была послана бальи. – Мой отец по мужу участвовал в расследовании по просьбе сеньора бальи, – вступила в разговор Бланш и спросила: – Принести вам еще чего-нибудь? Ардуин с улыбкой повернулся к ней. Она покраснела и опустила глаза, встретившись с пристальным взглядом серых глаз. – Немного позже. Приношу вам свою благодарность, мадам Бланш. Антуан Мешо хотел было продолжать, когда Берта своим зычным голосом объявила, что ужин вот-вот подадут. – Вот только суп[509], он хорош, пока горячий, особенно моя бобовая[510] похлебка, которая, как только остынет, так вся и становится комками. Доктор согласно кивнул. Тотчас же две служанки, совсем юные девушки, принялись быстро накрывать на стол, проворные и молчаливые, подобно сильфам[511]. Доктор произнес благодарственную молитву, и все погрузили свои ложки в миски, наполненные острым и густым супом. Когда была проглочена последняя капля супа, доктор снова заговорил. – Признаться, некоторые детали этой ужасной истории меня смущают. Я снова и снова перебираю в голове сведения, которыми располагаю, и не могу понять некоторых вещей. – Каких же? – Да я ручаться[512] готов, что этот палач, этот мучитель детей умен и что он ужасный развратник. Нет, это не какой-то бродяга или пьяница, у которого в мозгах плещется скверное пойло, не… Антуан Мешо прервал свою речь, пока девочки собирали тарелки и ставили на стол толстую доску для мяса, на которой были разложены порции кроличьего рагу[513]. Воспользовавшись паузой, Антуан Мешо наполнил стаканы вином. Слово «палач» в применении к кровавому убийце задело Ардуина. За исключением вовсе уж особых случаев дети не подвергались пытке по решению суда. С другой стороны, он ведь тоже лишал жизни приговоренных. Вдруг преувеличенное внимание Бланш показалось ему невыносимым. Он сердился на нее за это и думал, что если женщина хотя бы догадывалась о его занятии, она бы его тотчас же оттолкнула с презрением и не стала бы разглядывать с таким интересом, как сейчас, с самого момента его прибытия. К тому же цель его посещения вовсе не была надуманной. Честно говоря, погребальную церемонию по нему самому справили, еще когда он только появился на свет. Как только Ардуин издал первый в жизни крик и, открыв глаза, увидел мир, он уже был прокаженным, мертвым для всех прочих людей. Он боролся против охватывающей его злобы, ругая себя, но что толку? Впрочем, в подобных мыслях для него не было ничего особенного или неожиданного… Фраза, произнесенная доктором сразу, как только маленькие служанки удалились, вернула его к действительности. – Очень жестокий способ. – Это как? Бланш сделала первый глоток и заметила: – Не правда ли, Берта немного перестаралась с виноградным соком?[514] – Нет, что вы, блюдо просто восхитительно! – возразил мессир Правосудие, не глядя на женщину. – Вы говорите, очень жестокий способ? – переспросил он доктора. – Так и есть. Двенадцать детей были похищены, их удерживали в неволе, а затем убили. При этом никто ничего не видел и не слышал, в то время как все уже давно пребывают в тревоге и вряд ли что-то может остаться незамеченным. – В самом деле? – Хм… мессир Венель, все это, разумеется, должно остаться между нами. – Клянусь своей душой и честью! – Хорошо. Итак, мессир бальи получил великое множество доносов – конечно, анонимных и, скорее всего, нацарапанных рукой уличного писца. Большинство были проверены. За исключением тех, что носили уж вовсе резкий характер, они были полны дикой ненависти или откровенного безумия. Ни в одном из этих посланий не нашлось никаких полезных сведений. И вот что меня поражает. Ножан-ле-Ротру не является настолько большим или перенаселенным городом, чтобы этот безбожный убийца мог оставаться совершенно незамеченным. Особенно – совершив двенадцать настолько омерзительных убийств. – Вы считаете, что это какой-то приезжий? – подытожил Ардуин. – Сомневаюсь, именно по вышеизложенным причинам. Приезжий сразу оказывается на виду, особенно если его замечают достаточно часто. – А что вы скажете о жителе Ножана, живущем неподалеку от города и утаскивающем несчастную добычу к себе в логово? Антуан Мешо начал жевать пищу с преувеличенным старанием. Бланш снова вступила в разговор: – Мы пришли к тому же самому предположению, мессир. Раздражение Ардуина по отношению к ней моментально исчезло. Теперь он чувствовал, насколько несправедливым и неуместным оно было. Множество женщин – молоденьких и в более зрелом возрасте, – не зная, кто он такой, давали ему понять, что обходительность и нежная настойчивость с его стороны не является для них неприятной. И он сам умертвил ту единственную, кто потряс настолько, что мысль о ней преследовала его днями и ночами. Женщина, для которой он стал «лицом бесчестья». Мари де Сальвен… Он внимательно посмотрел на Бланш и спросил: – Знаете ли вы о ком-нибудь из приезжих, кто поселился поблизости от небольшого поселка три-четыре месяца назад? Она улыбнулась, и на ее щеках появились две очаровательные ямочки. – У вас на редкость могучий ум, мессир. Мы сами задавали себе тот же вопрос. Но таких людей здесь не обнаружилось. – Речь может идти о человеке, который вдруг стал одержим демоном, – заметил Антуан Мешо. – Кто-то, кого мы знаем настолько хорошо, что и в голову не придет его подозревать. Неуверенность, прозвучавшая в голосе доктора, вызвала любопытство у Ардуина. – Вы думаете о каком-то конкретном человеке? Хозяин дома обменялся долгим взглядом со своей невесткой, а затем прошептал: – Когда речь идет о настолько серьезных вещах, трудно указывать на кого-то пальцем, если ты в этом не абсолютно уверен…* * *
Две юных феи снова появились в комнате, являя собой очаровательную балетную пару – улыбающуюся и безмолвную. Одна из служанок собрала досочки, залитые соусом, и мессир Правосудие подумал, что пес Юлиус сегодня наестся до отвала, ведь все остатки будут в его распоряжении. Служанки подали крем из слив в меду с цукатами и пряностями на вафле. Ардуин восторженно произнес: – Прямо королевский пир, честное слово! – А то! Некоторые из моих пациентов схватили бы дьявола за хвост, лишь бы заполучить такую хозяйку[515]. Сколько вечеров подряд я приношу домой корзинку с фруктами или овощами, немного яиц и масла – все, что мне удается заработать за день… Во всяком случае, меня невозможно одурачить, и я могу отличить настоящих бедняков от тех, кто только плачется на отсутствие средств. – Я в этом даже и не сомневаюсь. Так вот, возвращаясь к нашему разговору… – Вы хотите, чтобы я назвал имя? Послушайте, мессир Венель, речь идет вовсе не о каких-то вычислениях, разрозненных элементах, которые мы собрали, может быть, не совсем законным путем. Тот, кого я имею в виду, – не просто невежа, у него репутация плута и грубого мерзавца[516]. Его супруга скончалась три года назад, и притом очень странным образом. – Это как? – Ее обнаружили утонувшей в яме с навозной жижей. На голове у нее имелись явные следы ушиба. – Ее смерть была насильственной? – Расследование, которое очень быстро свернули, как вы уже догадываетесь, пришло к выводу, что это всего лишь несчастный случай. – Но почему? – Потому что безутешный вдовец выпивал с несколькими завсегдатаями таверны. Он всего лишь прополоскал горло спиртным, хотя, если судить по его виду, то просто лыка не вязал. Все собутыльники потом в один голос утверждали, что их распрекрасный… меценат был настолько пьян, что рухнул на крыльце своего дома и до утра не смог подняться на ноги. То есть войти к себе в дом. – И убить там жену, – подхватил Ардуин. – Свидетели, ниспосланные провидением, не иначе. – Что верно, то верно. – Ну, а теперь – достаточно ли вы доверяете мне, чтобы назвать имя, мессир доктор? – Послушайте меня еще. Дело в том, что… Наши подозрения не являются следствием того, что речь идет об очень скверном человеке. – Подобные предостережения делают вам честь. – Речь идет о Гастоне Лекоке, бывшем кузнеце. Есть свидетельства, что он очень жестоко обращался с лошадьми; у некоторых потом даже находили ожоги на груди или на крупе. – Такой человек мне решительно по нраву, – иронично заметил мессир Высокое Правосудие, и взгляд его серых глаз сделался суровым. Улыбка Бланш тоже исчезла. – Вот уже много лет, как никто не доверяет ему подковывать своих лошадей. Но что странно – он не испытывает от этого недостатка в средствах и постоянно водит к себе целыми толпами всяких пьяниц и любителей публичных девок. – Становится все интереснее… – Исходя из всего этого, мы спрашиваем себя, не заключил ли он сделку с Лукавым, мессир, – добавила Бланш.* * *
Сладости[517] подала Берта, красная и взмыленная от кухонной возни. Она покраснела еще чуть больше, бесцеремонно спросив у гостя: – Ну, что вы об этом думаете, мессир? Хороший стол, верно? Наш хозяин умеет принять гостей. – Ну что ты, Берта! – смущенно пробормотала Бланш. Но старая служанка ее не услышала. Едва не прыснув со смеху, Ардуин в свою очередь закричал, изо всех сил сохраняя серьезный вид: – Любой, кто скажет что-то другое, будет бессовестным лжецом. Вы просто непревзойденный кулинар! Вот просто так бы вас и украл! Ответом на это было довольное мычание. Удовлетворенно кивнув, Берта покинула комнату.* * *
– И еще одно: я настаиваю, что речь идет всего лишь о наших умозаключениях, не основывающихся на каких-то реальных фактах, – в замешательстве повторил доктор. – Здесь видели бродяг, которых побили и за меньшие проступки. – Я далек от мысли побить кого бы то ни было, – шутливо заметил Ардуин. – Ваш бальи, мессир де Тре, слишком замешкался с этим расследованием. – Это верно. После того как я несколько раз побеседовал с ним и принял роды у его супруги, я начал думать, что это дело ему действительно не по силам. Бальи даже не знает, каким образом выживают или умирают мальчики на побегушках в его доме. Он поручил своему первому лейтенанту заниматься этим делом. Морис Деспре, об его успехах всем известно! – Повесили бродягу. – Вот именно. – А что он из себя представляет, этот Деспре? – спросил Ардуин. – Грубая скотина, которая загордилась с тех пор, как влезла в красивую ливрею. А еще он заставляет всех платить за свою временную слепоту. – Это как? – Крестьянин, который зарезал трех старых овец и утверждает, что это мясо годовалого ягненка. Хозяин таверны, который разбавляет вино водой. Торговец шкурами, который переделывает заднюю лапу у шкуры соседской кошки, чтобы выдать ее за кроличью. Чиновник, который следит за длиной поленьев, и дровосек, который эти поленья укорачивает… – Но это же самые обычные вещи, – заметил Ардуин.* * *
Он довольно быстро понял, что доктор и Бланш больше ничего не знают, и выждал удобный момент, чтобы откланяться. Хозяева проводили его до садовой калитки, и молодая женщина протянула ему небольшой светильник со словами: – Чтобы осветить вам эту темную ночь. Вы сможете как-нибудь занести его до своего возвращения. Эта очаровательная хитрость была более чем очевидна, но Ардуин поблагодарил женщину, вежливо наклонив голову. И все же мэтр Правосудие чувствовал себя немного смущенным. Ни за что на свете Венель-младший не стал бы подавать надежду, которая рано или поздно обернется разочарованием. Завтра он зайдет туда, где доктор принимает больных, и вернет светильник ему. Тогда молодая женщина должна все понять, он в этом совершенно не сомневался.15
Ножан-ле-Ротру Ардуин Венель-младший заснул беспробудным сном. Его не потревожили ни ругань возчиков, телеги которых частенько цеплялись друг за друга на слишком узкой улице, ни громкие шутки мясников, которые начинали свою работу еще до восхода солнца. Он открыл глаза гораздо позже заутрени, пребывая в уверенности, что его разум воспользовался часами отдыха, чтобы блуждать в неведомых землях, не принадлежащих ни реальному, ни потустороннему миру. Палач дал себе немного времени на воспоминания об этих бессознательных блужданиях. Что там с ним происходило? Ардуин приступил к умыванию, а затем оделся и спустился вниз. Сидя за столом, матушка Крольчиха с озабоченным видом занималась счетами. Услышав, что он входит, она сразу же встала ему навстречу. – Ваши дела настолько плохи, как можно судить по недовольной морщинке у ваших губ? – Не так чтобы очень плохо, все более-менее. Вот только торговцев в этом не убедить. Все дорожает. Урожаи последних лет были не особенно обильны…[518] Проходите же, присаживайтесь, сейчас я подам вам что-нибудь на обед для подкрепления сил. Она отправилась на кухню и вскоре вернулась с подносом, на котором стояла тарелка овощного супа, стакан свежей настойки, так как спиртное не подавалось из-за постного дня, щедрый ломоть хлеба из ржи, смешанной с пшеницей, и блюдо копченой селедки. – Благодарю вас. Матушка Крольчиха, пожалуйста, оставьте за мною комнату еще и на нынешней вечер. Не знаю, понадобится она мне или я вернусь в Мортань, завершив последнее дело… На всякий случай включите в мой счет и эту вторую ночь. Если я больше с вами не увижусь, то будьте уверены, что я обязательно порекомендую вашего «Напыщенного кролика» своим знакомым. – Ах, вот вы о чем! Если бы у меня все клиенты были такими, как вы, моя жизнь превратилась бы в одно сплошное удовольствие, – улыбнулась хозяйка, снова возвращаясь к своему столу и погружаясь в бумаги.* * *
Ардуин пообедал, даже толком не разобрав, что ест. Как ему поступить? На что решиться? Он хотел было отправиться расспросить Элуа Талона, который, по словам Адель Бобетт, не отличался особенной искренностью во всей этой истории с убийством Мюриетты Лафуа. С другой стороны, продавший душу дьяволу Гастон Лекок, о котором рассказывали свекр и невестка Мешо, также возбуждал его живейший интерес. Тогда почему бы не выяснить, насколько Лекок замешан в истории с чудовищными убийствами детей? К этому ли он стремился? Хотелось ли ему на самом деле помочь заместителю бальи Мортаня и бальи Ножан-ле-Ротру, тем более что последний производил на него все более неприятное впечатление? Этот бретонец, кто он на самом деле? Любезный фат, полагающий, что обязанности ограничиваются приглашениями к знатным персонам? Равнодушный человек, считающий важными лишь привилегии? Глупец, прячущий голову в песок в надежде, что хлопоты рассеются сами собой без всякого участия с его стороны? У Ардуина было не особенно много возможностей это узнать. Каким образом он встретится с бальи Ножана, не возбудив при этом его любопытство? Арно де Тизан настаивал, чтобы он действовал с особой скрытностью и деликатностью. Венель-младший подумал, что мог бы ограничиться сведениями, полученными от доктора Мешо. Во всяком случае, он не собирался ссылаться на источники, которые клятвенно пообещал не обнародовать.* * *
Когда матушка Крольчиха положила перед ним свою грифельную доску[519] и наполнила его стакан исходящей паром настойкой, Ардуин еще колебался. Его злость на самого себя только увеличилась. Ну же! Хватит увиливать, решайся наконец! Ты не обязан служить мессиру Арно де Тизану. С другой стороны, он может помочь тебе из благодарности. Но не стоит ему особенно доверять! Власть имущие часто забывают об оказанной услуге, а также имеют неприятную склонность переваливать самые скверные части своих обязанностей на других. Тем более что неловкие объяснения помощника бальи Мортаня его вовсе не убедили. – Матушка Крольчиха, моя лошадь вчера что-то захромала. Где живет Гастон Лекок, кузнец? – Не так далеко отсюда. Достаточно пересечь Деревянный мост и ехать вдоль канала. В четверти лье от города вы заметите ферму, которая скорее напоминает какую-то берлогу, – и вы на месте. Понизив голос и бросив вокруг быстрый взгляд, она продолжила: – Я о вас очень хорошего мнения: вы хорошо платите и ведете себя как воспитанный человек. Поэтому я просто обязана вас предупредить: Лекок слывет очень нехорошим человеком. Лучше отведите вашу лошадь к Жану Гроспарми. Он звезд с неба не хватает, но прекрасно знает свое ремесло. Его кузница находится в полулье от города по Бердьи. – Благодарю вас за совет, матушка Крольчиха. До встречи нынче вечером или как-нибудь потом.16
Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года. Немногим позже Палач заглянул к доктору, чтобы вернуть светильник мадам Бланш. Дверь, выходящая в смотровую, была закрыта, и можно было слышать, как доктор разговаривает с пациентом. Ардуин уже собирался воспользоваться этим и просто оставить лампу здесь, исчезнув без лишних разговоров, как вдруг дверь отворилась. Доктор проводил до двери на улицу сутулого старика и повернулся к мэтру Высокое Правосудие. – Я уже возвращаюсь, мессир доктор, и хотел бы откланяться, еще раз поблагодарить за ваше восхитительное гостеприимство и попросить вас передать мои заверения в совершенной признательности вашей невестке, – произнес Ардуин, протягивая доктору светильник. – О! Бланш будет очень расстроена… Она так надеялась предложить вам стаканчик настойки. – Это было бы для меня большим удовольствием, но я должен торопиться. – Я вас прекрасно понимаю. Спешка связана с делом этих несчастных убитых детей? – Я должен об этом поразмышлять, и как только дело хоть немного продвинется вперед, сразу же дам вам знать. Он заметил выражение разочарования на добром морщинистом лице доктора и ощутил угрызения совести. Ардуин чувствовал себя все более и более чуждым огорчениям и надеждам других людей. С каждым прожитым часом он все более убеждался в этом. Что-то где-то его ждало… Нечто настолько таинственное, настолько необычное, что Ардуин был не способен даже приблизительно понять, что это такое. Всю обратную дорогу он не видел и не слышал ничего вокруг. Единственное, что сейчас имело для него значение – то неведовое, что властно звало за собой. Некая сила начертила для него путь, которым он должен следовать, и ничто на свете теперь не заставило бы его свернуть или отступить. Когда слуга в конюшне вывел ему Фрингана за повод из стойла, Ардуин ожидал, скрестив руки на груди. Мысли его бродили очень далеко, он даже сам не знал где. Возможно, в одном из тех мест, где крутятся мысли слишком расплывчатые и туманные, чтобы можно было заняться ими. Поэтому он едва не подпрыгнул от неожиданности, услышав громкий радостный голос: – Милости тебе, добрый сеньор! Ты в этом нуждаешься. Но заслуживаешь ли ты этого? Он резко развернулся всем телом и успел заметить, что за углом здания исчезает худой силуэт нищенки, которую он недавно принял за маленькую девочку. Ардуина охватила дурнота, но тут же он спохватился и выругал себя. Эта старуха – скорее всего, ненормальная – вовсе не причина, чтобы выходить из равновесия! Ножан-ле-Ротру – не такой уж большой поселок, и что в том удивительного, что здесь постоянно сталкиваешься с одними и теми же людьми? И он не нуждался ни в чьей милости.17
Окрестности Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года. Немногим позже Радуясь возможности поразмять ноги, жеребец встряхивал гривой, радостно пофыркивая свежим прохладным утром. Ардуин Венель-младший быстро добрался до строения, о котором говорила трактирщица, и остановился в конце идущей под уклон дороги, разглядывая пустынные окрестности. Когда он снова тронул поводья, в нескольких туазах от него тяжело взлетела целая туча воробьев. В шелесте их крыльев слышалась какая-то укоризна. Ардуин быстро обнаружил предмет, вызвавший у них такой интерес. Это были останки барана, кишащие червями. Кости частично обнажились и висели на лоскутах черноватой шкуры. Пиршество стервятников.* * *
Он въехал во двор, сплошь заросший высохшими сорняками. Погладил Фрингана, сказав ему стоять спокойно и ждать, а сам же направился вперед. В слове «лачуга», которое употребила матушка Крольчиха, не было никакого преувеличения. Ферма, небольшое здание без фундамента, являла собой довольно печальное зрелище. Глядя на нее, можно было решить, что она давно заброшена. Конек крыши был весь в глубоких трещинах и, казалось, того и гляди рухнет, увлекая за собой и всю ветхую крышу. Со стен местами опала штукатурка, открывая взору влажные камни, сплошь покрытые островками зеленоватого мха. Все окна были закрыты источенными жучком ставнями, некоторые из которых висели криво из-за отломанных петель. Справа виднелись настежь раскрытые двери небольшого домика. Должно быть, это и есть бывшая кузница. Внезапно большой и до крайности истощенный деревенский пес кинулся на Ардуина, оскалив клыки и взъерошив шерсть. Посетитель застыл в неподвижности, чтобы успокоить зверя и вынуть из-за пояса кинжал в ножнах. Собака злобно ворчала, но не решалась кинуться на него. Венель-младший прошептал ему самым ласковым голосом: – Не делай этого. Не надо на меня нападать, иначе я убью тебя и буду очень жалеть об этом. Он крикнул, не сводя глаз с хищного зверя: – Мэтр Лекок, у меня лошадь прихрамывает. Мэтр Лекок! Собака повернула голову в направлении гумна, двери которого были широко распахнуты, давая понять Ардуину, что хозяин находится именно в том здании. – Я заплачу, сколько скажете, мэтр Лекок. Я проделал долгий путь, и у меня очень мало времени! – снова крикнул мэтр Высокое Правосудие. Угрюмая всклокоченная фигура возникла в дверях сарая, скрестив руки на широкой груди – мощной, будто у племенного быка. – Вы не могли бы отозвать свою собаку, чтобы мы смогли спокойно поговорить? – вежливо предложил Ардуин, вовсе не желающий ранить бедного пса, который снова принялся рычать. – А ну брысь, чертова дворняга! – проревел более чем нетрезвый мужчина, угрожающе замахиваясь ногой. Потеряв равновесие, он споткнулся и чудом не упал, упершись плечом в створку двери. Собака тотчас же удрала, поскуливая, прижимаясь к земле и поджав хвост, должно быть, наученная, что любое непослушание влечет за собой тяжелую расплату. Ардуин приблизился к омерзительному господину Гастону Лекоку. В нос ему тут же ударила вонь старого пота и дешевого вина. Он лишь слегка коснулся взглядом коричневой грязи, коркой покрывающей этого человека с макушки до широких неряшливых штанов. Венель-младший попытался разглядеть, что находится внутри кузницы, которая, казалось, тоже давно стояла без дела, но из-за царящей тамтемноты не смог ничего увидеть, кроме неясного предмета вроде угольной бочки у левой стены. Он снова заговорил: – Моя лошадь прихрамывает и… – Ну и чего? А мне-то какая забота до твоей клячи? – Я думал, что вы кузнец, – заметил Венель-младший, которого вся эта история уже начала забавлять. Еле слышный стук заставил его поднять голову. На верхнем наличнике был прибит странный предмет, раскачиваемый ветром. Это оказались кости, подвешенные на бечевках разной длины. Кости, до странности похожие на человеческие фаланги пальцев. Лекок проследил за направлением его взгляда и невнятно пробормотал: – Я не из тех, кого можно обвести вокруг пальца! – В самом деле? – поинтересовался Ардуин, широко улыбаясь. – Ты что это ко мне притащился, простофиля? Не больно-то осторожно с твоей стороны, – угрожающе произнес пьянчуга. – А мне по нраву опасности, – ответил мэтр Правосудие, откровенно забавляясь. – Вали отсюда, ты мне уже на нервы действуешь, – проворчал Лекок. – Нет уж, это ты сейчас смирно и благонамеренно пригласишь меня в свою кузницу и свое… жилище. И пошевеливайся, любезный, у меня и вправду не так много времени! Челюсти грубияна злобно сжались, его и без того злобные глазки зажглись настоящей жаждой убийства. Кулак величиной с наковальню яростно устремился к незваному гостю. Ардуин уклонился от удара, легко отпрыгнув в сторону. В следующее же мгновение тонкое лезвие кинжала опустилось на ухо бывшего кузнеца. Сначала ничего не произошло. Лекок стоял, открыв рот и ничего не понимая. Красная теплая струя потекла у него по подбородку. Он потряс головой. Отрезанное ухо, держащееся только на тоненькой полоске кожи, болталось у самой шеи. Он прижал к ране грязную руку с длинными загнутыми ногтями, больше похожими на когти, с ошалевшим и крайне потрясенным видом ощупал болтающееся ухо, хрящ и полоску кожи. Наконец, обезумев от боли и злобы, он с яростным завыванием бросился на Ардуина, который встретил его ударом пальца в солнечное сплетение. Гастон Лекок рухнул на колени, простонав: – Чертова задница! – Ну, раз тебе так нравится, мой друг. С болтающимся ухом или без него вовсе, – иронично протянул мэтр Правосудие. – Хотя без него ты уже не такой красавчик. Быстрым движением он оторвал полоску кожи, на котором болталось ухо, вызвав у грубияна новый крик боли, и выкинул хрящеватый окровавленный трофей в кучу отбросов во дворе, заметив: – Тебе оно все равно больше не понадобится! Бледный до синевы Лекок стонал, прижимая руку к ране. Похоже, он только сейчас начал чувствовать боль. – Подумаешь, важность; это всего-навсего ухо! У тебя есть второе… пока еще. И нос тоже. А теперь быстренько соберись с силами! Нечего тут скулить, будто побитая шавка. Быстро приглашай меня в дом, а то мое терпение уже на исходе. А тогда беседа со мной может стать еще более… неприятной. – Чума на тебя! – выкрикнул Лекок, изрыгнув еще несколько проклятий и с трудом поднимаясь на ноги. – Это не так противно, как находиться рядом с такой зловонной кучей дерьма, как ты. – Чума на тебя! – повторил бывший кузнец. Ему не дали возможности ни перевести дыхание, ни удрать. Острие кинжала ткнулось в жирную левую руку бывшего кузнеца. На грязном рукаве его рубахи появилось красное пятно. Снова раздался душераздирающий вой. Взгляд Лекока сделался затравленным, губы пересохли – для Ардуина это были верные признаки того, что грубиян больше не станет сопротивляться. – Ну же, мой друг! В полдень меня ждут завтракать. Давай-ка, будь любезен, продемонстрируй мне свои владения. В противном случае мне придется разделаться с тобою, выбросить твой омерзительный труп на корм воробьям и прогуляться здесь самому. Так что выбирай сам, – добавил мэтр Правосудие с ангельской улыбкой. – И, кстати, любезный, называй меня на «вы». Я терпеть не могу, когда всякий прохвост пытается со мною фамильярничать. Совершенно ошалевший кузнец прочел в неумолимом взгляде серых глаз странного посетителя, что тот и не думает шутить. Смерть была буквально написана там крупными буквами. – А потом? – пробормотал он. – Если я не обнаружу здесь… того, что ищу, то уйду и оставлю тебя зализывать раны. В противном случае послужу причиной гораздо больших страданий. Я сам прослежу за этим. – Да что вы такое ищете… Нет у меня денег… – И все же на свою жизнь мазурика и пьянчуги ты тратишь не так уж мало монет. Они у тебя что, в саду растут? – Ну, это… мне тут иногда платят, – попытался объяснить Лекок, опустив глаза и гримасничая от боли. – Арендаторы или жильцы? Ты что, смеяться надо мной вздумал? Я не думаю, чтобы даже дьявол согласился купить у тебя душу. Она слишком грубая и отвратительная, чтобы он на нее польстился. К тому же она и так принадлежит ему по праву. Зачем платить за то, что можно забрать даром? – Вы не имеете права меня так оскорблять! – возмутился бывший кузнец. Ардуин с лукавым видом начертил в воздухе круг острием кинжала. – Какие мы, однако, нежные! Ты только в обморок не свались. У тебя пока что есть выбор, ты, вонючий мешок отбросов. Так как насчет визита к тебе? Имей в виду, я за тебя еще толком не взялся. А что касается твоего уха, так это лишь для того, чтобы немного привести тебя в чувство. Ситуация забавляла Ардуина Венеля-младшего, тем более что он чувствовал – этот грубиян при первой возможности порвет его на лоскутки. На самом деле мэтр Высокое Правосудие был воплощенным великодушием. Сталось бы гораздо легче прикончить этого пьянчугу и самому осуществить здесь осмотр. Понимал ли Гастон Лекок, что его жизнь буквально повисла на волоске и может оборваться в любую секунду? Скорее всего, нет. Он принадлежал к той породе людей, которые мучают и убивают других, пока имеют над ними власть, и становятся послушней дрессированных собачек, столкнувшись с более сильными. Из того же теста, что и Жак де Фоссей, разве что невежественный и одетый в лохмотья. Тем не менее некий инстинкт уже подсказал Ардуину, что Лекок вовсе не тот мучитель детей, которого он разыскивает. Но все же он хотел в этом убедиться. – Мне нужна какая-нибудь тряпка. Я истекаю кровью. – Хм… ладно, я добрый. Но смотри, держи руки на виду, и без глупостей! Одно резкое движение – и оно станет последним в твоей жизни. Гастон Лекок отошел на несколько шагов и вытащил полотенце, жирное и грязное, как и все здесь, и приложил к дыре, зияющей на месте уха. – Что вы ищете? – повторил он. – Доказательства убийств. Впрочем, я тебе об этом уже говорил; если я их здесь не найду, ты увидишь… В противном случае твоя подлая жизнь закончится здесь и сейчас. – Послушайте, может, я грубиян, лжец и вор, но никогда никого не убивал, – возразил Лекок. – А твоя добрая женушка? Сама взяла и прыгнула в яму с навозной жижей? Аргумент потряс грубияна до глубины души. – Да кто вы такой?! – прорычал он. – Я тот, кто много чего знает. – Она наставила мне рога! – За это ее просто невозможно упрекнуть, – усмехнулся Ардуин. Лекок сделал угрожающий жест, и острие кинжала сверкнуло у самого его горла. – Спокойно! Одно неверное движение – и ты будешь насажен на вертел, точно кролик. – Да подрались мы тогда. Мы в ту ночь сперва принялись орать друг на дружку. Эта чертова ведьма меня поцарапала, за плечо укусила, прямо до крови… Я всего лишь отвесил ей затрещину, и то вполсилы. Она упала, ударилась виском об угол стола. Смотрю, а уже и не дышит. Я ее потряс, но это не помогло. Сразу протрезвел, лучше, чем от белого с сельтерской… Ну не знал я, что делать с ее проклятым трупом. Куда мог, туда и выбросил. – В яму с навозной жижей… нечего сказать, подходящее место для последнего упокоения. Впрочем, это уже не важно. Показывай дорогу.18
Окрестности Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года и чуть позже Тяжелыми шагами, прижимая к ране грязную тряпку, Гастон Лекок двинулся вперед. Чуть пошатываясь, он направился к полуразвалившейся ферме. Столовая, судя по всему, служившая и кухней, отличалась тем же отталкивающе неопрятным видом. Остатки непонятно чего продолжали гнить на столе, согнутая ножка которого, казалось, вот-вот подломится. Тяжелый запах, царящий здесь, вызывал тошноту, но приводил в восхищение мух, которые копошились на всей поверхности стола. Камин был переполнен золой, неопрятными кучами валявшейся по полу, выложенному каменными плитками, выщербленными от ударов топора, которым здесь же рубили толстенные поленья. Во всех углах стояли давно высохшие ловушки для насекомых[520], покрытые толстым слоем крохотных коричневатых трупиков. Кучи мусора, обломков стульев, колес, осколки горшков и стаканов заполняли все более или менее свободное пространство. Здесь тоже виднелись связки костей. Подвешенные на бечевках, они болтались на потолочных балках и дверях, ведущих в комнаты. В этот раз Ардуин смог разглядеть, что это птичьи кости. Заметив его удивленный взгляд, Лекок объяснил: – Это защищает. – От чего? От глупости? Иди дальше.* * *
Ардуин внимательно оглядывал все закоулки, выискивая там следы, доказательства присутствия детей в этой тошнотворно грязной берлоге. За столовой находились другие комнаты. Первая, должно быть, когда-то была «хозяйской спальней», насколько можно судить по тому, что там стояли большая кровать и комод с выломанной стенкой. И повсюду – нагромождения переломанных вещей, выброшенных, разбитых, свидетельство беспутной жизни[521]. Когда они прошли в следующую комнату, Ардуин окончательно убедился, что Лекок совсем не тот человек, которого он ищет. Это была крохотная комната, где царила удивительная чистота. В середине важно стояла колыбель, сделанная из половины бочки, поставленной на полозья. Сундук, накрытый пыльным домотканым половиком, стоял в углу. Стены были обиты полотнищами зеленой льняной ткани. Ардуин подошел к колыбельке. Крохотный матрасик и пуховые подушки ожидали младенца. – Не выжил он, – пояснил за спиной Лекок грубым голосом. – Все померли. Все трое, один за другим. И чем я только это заслужил? Ардуин повернулся к нему. Печаль смягчила злобное грубое лицо, и сейчас в нем начало проглядывать что-то человеческое. – Я был… добрым и честным работником… И все пошло прахом… Моя женушка сердилась на меня, а потом наставила мне рога, уж не знаю почему… мне больше не хотелось ничего делать… я думал, что все это злая судьба… что-то такое обрушилось на меня… и я начал утешаться стаканчиком-другим, все чаще и чаще… дела и так шли плохо, а потом уж и просто из рук вон… коняги все это чувствуют, к тому же у меня руки стали не те, чтобы так ловко подковывать, как раньше… Я осерчал и ударил кого-то из них. Это как поток грязи. Не знаешь, откуда он течет, подхватывает тебя и потом все тащит и тащит. И ничего с этим не поделать. – Да, судьба, непонятная и неумолимая судьба. – Ну а по правде, для чего вы здесь? – Убийства маленьких бродяг. – Чего? – покраснел Лекок. – Неужели кто-то сказал, что я мог надругаться над мальчишкой и убить его? Кто? Да я ему голову в задницу забью! Ардуин не сомневался, что тот говорит правду. Убивать может любой, но только очень редкие чудовища способны мучить, насиловать, причинять множество страданий только ради удовольствия. Гастон Лекок побледнел настолько, что даже губы у него стали белыми. Ардуин понял, что тот не притворяется и сейчас действительно упадет в обморок. – Сядь. Перевяжи свою рану чистым полотенцем, если найдешь его в своей берлоге. Я загляну в твою кузницу и уйду. Крупный грубый мужчина затряс головой и рухнул на сундук, чтобы прийти в себя.* * *
В кузнице все было затянуто паутиной. Толстый слой пыли покрывал бочку для углей, наковальню и сваленные кучей инструменты. Всюду были разбросаны кучи металлического лома. И никаких признаков того, что здесь запирали и мучили детей. Наоборот, полное впечатление заброшенности и уныния, как если бы жизнь решила уйти отсюда навсегда. Все это настолько опечалило Ардуина, что ему хотелось лишь одного: как можно скорее выбраться на солнечный свет и покинуть это неприятное место. Выйдя, он был изумлен представшим перед ним зрелищем. Изголодавшийся пес лежал у самых копыт Фрингана, не проявляющего ни малейшего признака беспокойства. Потрясенный Ардуин приблизился к собаке, ожидая грозного рычания. Но вместо этого громадная дворняга завиляла хвостом. – И чего ты от меня ждешь, собака? – поинтересовался Ардуин. Животное встало, по очереди посмотрев на человека, ворота фермы и дорогу. Венель-младщий поднялся в седло. Он был далеко не уверен в том, что хочет тащить эту псину с собой. Собака не сводила с него глаз. Мэтр Правосудие пустил Фрингана шагом, легонько сжав ногами его бока. Ему показалось, что во взгляде несчастного кабысдоха сосредоточилась вся надежда, какая только есть в мире. Сам толком не понимая, что делает, он коротко свистнул, бросив: – Ладно, можешь идти с нами. Мы найдем, чем покормить тебя в дороге. И как назвать – тоже.19
Дансе, октябрь 1305 года Пес, все еще не имеющий имени, бежал рысцой впереди, часто поворачивая голову, чтобы убедиться, что новый хозяин, которого он сам себе выбрал, следует за ним. Ардуин покормил его в два приема, понемногу, чтобы оголодавшее животное не извергло из себя слишком обильную пищу. Однако Венель-младший не обращал на пса никакого внимания. Он воскрешал в памяти записи с процесса Эванжелины Какет слово в слово: «Альфонс Фортен, слуга, засвидетельствовал под присягой, что слабоумная Эванжелина утром в день убийства пришла, чтобы одолжить у него топорик под предлогом того, что ей надо отрубить головы карпам. Она обещала сразу его вернуть и забыла». Ардуин вспомнил также и запись на полях, сделанную рукою Арно де Тизана: «Фортен выкупил в Дансе ферму средней руки, почти сразу после убийства Мюриетты Лафуа. И опять – на какие деньги?» Топорик был обнаружен в кустах шалфея в дюжине туазов от дома. Но почему такая идиотка, как Эванжелина, совершив убийство, ушла, чтобы выбросить импровизированное оружие, и вернулась, чтобы сесть рядом с жертвой? Почему она даже не подумала вымыть лицо и руки от крови, которой они были покрыты? Вопросы продолжали крутиться у него в голове.* * *
Вороной Фринган бежал бодрой рысью по дороге от Ножан-ле-Ротру к Дансе – маленькой деревушке, состоящей из четырех ферм, окруженных лесом. Перед Ардуином наконец показалась церковь Сен-Жуин[522], настолько старая, что все забыли, когда она была возведена. Мальчишка, который, высунув от старания язык, отрезал кусок хлеба, указал ему ферму Альфонса Фортена кивком головы, едва бросив на путника взгляд. Ардуин въехал в квадратный двор, где было множество людей, занятых делом, что сразу производило впечатление рачительного хозяйства. Двое каменщиков чинили трещину в стене риги, женщина в сабо, наклонившись, вырывала сорняки, выросшие между серыми камнями, которыми был вымощен двор. К палачу подошла девочка примерно десяти лет, с младенцем на руках. Она посмотрела на него любопытным взглядом, одновременно грустным и сердитым. – Я разыскиваю Альфонса Фортена, мне нужно поговорить с ним, – произнес Ардуин. – Папа сейчас в поле, – ответила она. – А мама? Слезы появились у девочки на глазах. – Она соединилась с Господом Богом. Ардуин Венель-младший спрыгнул из седла и подошел к ней, тихо сказав: – Мне очень жаль. – Это из-за него, – пояснила она, указав подбородком на задремавшего у нее на руках младенца. – Но мне сказали, что это вовсе не его вина. Что не следует на него за это сердиться. Но она умерла после того, как он вылез из нее[523]. – Твой братик и вправду не виноват в кончине твоей мамы. – Если б он не родился, она бы не умерла, – упрямо повторила девочка, опустив голову. К ним вихрем примчалась молодая женщина с пышной грудью, едва не вываливающейся из передника. Вид у нее был на редкость нелюбезный, щеки немного покраснели, пряди волос выбились из-под льняного чепца. Она резким движением отобрала у девочки младенца и бросила: – А это еще кто? – А я почем знаю… Хочет видеть папу. – Я тебе уже говорила, что нечего нянчиться с Антуаном, не надо вынимать его из колыбели. Иди отсюда! – проворчала молодая женщина. Девочка повернулась и быстро ушла с недовольным видом. – Кто вы такой? – требовательно произнесла женщина, на которую не произвели ни малейшего впечатления ни благообразный вид незнакомца, ни даже шпага. – Ардуин Венель, прибыл поговорить с мэтром Фортеном. – В поле он. Раньше ужина не вернется. – В каком поле? Она пристально посмотрела на Ардуина, поджав губы и выражая полнейшее несогласие отвечать. – А кто вы, позвольте спросить? – Влажная кормилица[524]. Ардуин удивился, что простая кормилица ведет себя настолько невежливо, даже услышав, что он приехал проговорить с ее хозяином. – Ну и кислый же у вас характер, молодая особа… В ваших краях люди славятся любезным обращением с приезжими. Она сощурила глаза и вздохнула, а затем извинилась уже гораздо более вежливым тоном: – Прошу прощения, мессир. Это потому, что я боюсь. – Меня? – Вот ее, – выпрямилась она, указав на жилой дом, в котором скрылась девочка. – Бландина, гадюка проклятая! – В таком возрасте? – Я проснулась – и вот, Антуан уже исчез. У меня вся кровь так и застыла. Излишним будет говорить вам, что я кормлю двоих – своего и вот этого. И к тому же должна готовить на всех – и на хозяев, и на работников, а это, знаете ли, нелегко. Она казалась настолько огорченной, что Ардуин захотел ее утешить, хоть и немного тривиально: – Это всего лишь сильное утомление. Такое случается. – Вы не понимаете, – возразила женщина, понижая голос. – Бландина ненавидит своего братика. Она же его едва не задушила в колыбели. Хорошо, я вовремя пришла. А тут проснулась, а его нет… Боже милосердный, я уж подумала, что произошло самое худшее. Она же может бросить его в колодец или утопить в речке. – Простите? – переспросил ошеломленный Ардуин. – Она не может простить ему, что ее мать умерла. Говорю вам, она его ненавидит и при малейшей возможности сделает ему что-нибудь плохое. – А что хозяин об этом говорит? – Да говорит, что в конце концов это пройдет. Вот убьет она младенчика, тогда он и поймет, да поздно будет. А может, вы как раз вовремя и прибыли, может, она его как раз к реке и хотела тащить… О Господи Иисусе! Не останусь я здесь, не хочется мне оказаться виноватой в том несчастье, которое здесь случится. Знаете, кормилицы с таким молоком, как у меня, долго без дела не остаются. А хозяина вы найдете на поле Буржуа, это прямо на выезде из деревни. Она снова покачала головой; судя по всему, ей что-то только что пришло в голову. – Знаете, меня, конечно, некоторые обвинят в небрежности… Но только соберу я сейчас свое барахло да и дам деру, пока хозяин не вернулся. Она улыбнулась в первый раз за время разговора и добавила: – Вот вы пришли, и мне это прямо как знак свыше. Я тут и так целыми днями крутилась… Неохота мне увидеть, как она его прикончит в один прекрасный день. И, не дав ему времени поблагодарить ее за сведения, женщина бросилась к дому, все так же держа младенца на руках.* * *
Поле Буржуа Ардуин нашел без особых сложностей. Темно-серый мерин из Перша, вожжи которого были слабо затянуты на ветке, жевал сухие травинки. Он бросил мирный взгляд на Фрингана. Невольная улыбка показалась на губах мэтра Правосудие. Какие же замечательные создания эти лошади! Сколько красоты в их шее, спине, мощных ногах, несших крестоносцев до самой Святой Земли! Впрочем, те лошади были не такими быстрыми, как Фринган, но зато куда более сильными и выносливыми. Взгляд Венеля-младшего пробежался по полю, представлявшему из себя еле заметный склон, но не заметил там ни одного человека. Ардуин спешился, жестом подозвал собаку, которая теперь все время следовала за ним, и сделал несколько шагов, вспоминая замечение Адель Бобетт: «Да я вообще-то остерегалась этого парня, Фортена. Вот уж чьей исповеди я бы точно не поверила, если хотите знать! Настоящий плут». – Эй, мэтр Фортен, где вы? – несколько раз окликнул Ардуин. Никакого ответа. Странно: кто же надолго оставит лошадь вот так, без присмотра. Фермер должен находиться где-то поблизости. Венель-младший направился к невысокому дереву, виднеющемуся по левую сторону. Он решил, что, должно быть, заросли заглушили его крики. В рощице обнаружился небольшой прудик; тут Ардуин понял, почему Фортен оказался глух к его зову. Он спал, вытянувшись на спине, раскинув руки и раскрыв рот. Раздавался громкий ритмичный храп, который, казалось, мог бы разбудить и мертвого. Рядом валялись две глиняные бутыли, и мэтр Правосудие готов был спорить на что угодно: в них не было ни воды, ни свежей травяной настойки. Он приблизился к распростертому на траве огромному телу и слегка толкнул его носком сапога. Фортен издал протестующее ворчание, но все же открыл глаза. Другой, более чувствительный толчок окончательно разбудил его. Он быстро принял сидячее положение, глядя на незнакомца со смесью злобы и удивления. – Эй, ты это чего? Смотри, я ведь и сдачи дать могу. – Правда? Да я за это время мог сто раз тебя прикончить и скрыться с твоим мерином. – Чего тебе надо? – Потолковать об одном старом деле… Мое имя Ардуин Венель, уполномоченный сеньора бальи Мортаня, и мне следует говорить «вы» всем, кто желает, чтобы я оставался с ними любезным. Давай-ка вставай! Упоминания об Арно де Тизане и слов «старое дело» оказалось достаточно, чтобы лицо у Фортена окаменело от страха. Ему понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы прийти в себя и принять вертикальное положение. Наконец перед ним встал низенький сутулый человечек. – Не понимаю, чего вы мне тут такого напели. – Правда? А вот такое имя, как Эванжелина Какет, тебе ни о чем не говорит? Она была служанкой у Лафуа. Грубое тяжелое лицо помрачнело еще больше. Ардуин, от взгляда которого ничего не ускользало, заметил, что мужчина уже приготовился врать. Мэтру Правосудие очень не хотелось, чтобы его снова вынудили применить силу, поэтому он решил опередить Фортена и заговорил ровным непреклонным тоном, который подействовал с первого раза: – Не надо меня злить, это я тебе пока что советую по-дружески. На какие деньги ты купил свою распрекрасную ферму? За то, что свидетельствовал в суде, так? Я уже побеседовал с Адель Бобетт, которая, как ты помнишь, тоже служила у Лафуа. Выкладывай остальное или берегись. Альфонс Фортен прочел во взгляде серых глаз Ардуина неколебимую твердость и понял, что этот высокий незнакомец, рассматривавший его с пренебрежением, будто какую-то навозную муху, не отпустит его и вовсе не намерен шутить. Он слишком проигрывал в росте и габаритах, чтобы даже думать о каком-то сопротивлении, к тому же опьянение всегда замедляет и движения, и мысли. Немного поколебавшись, мужчина сдался: – Ну это… хозяин… Гарен Лафуа мне дал на лапу… но я даже не лгал… почти. – Потому что было возможно соврать наполовину? Рассказывай. Взгляд Фортена устремился куда-то вдаль к вершинам деревьев. Наконец он вздохнул: – Надо сказать… по правде говоря, его не любили… то есть, я хочу сказать, что слуги его не любили… его любили не намного больше, чем хозяйку. А уж хозяйку все точно ненавидели. – «Прыщ на ровном месте», как сказала Адель. – Настоящий чирей на заднице, вот кто она была! Насколько папаша Гарен был добрым, настолько та… Всем там заправляла. Ну и скверной же она была! Что же там… конечно. – Я так понимаю, что ее смерть вас не особенно опечалила. – Вот истинная правда, – согласился Фортен. – Нам всем не особенно хотелось свидетельствовать против дурочки. Она была настоящей идиоткой, но не злой. У этой бестии Мюриетты она была вроде козла отпущения. Вот почему из-за этой карги никто из нас даже и слезинки не пролил. – Итак, Эванжелина пришла одолжить топорик под тем предлогом, что ей надо отрубить головы карпам? Фермер опустил голову, и его щеки нависли над небритым подбородком. Он отрицательно замотал головой и наконец произнес: – Ну… но это ведь мой топорик был там, в зарослях шалфея, а когда дурочку нашли в доме, она сидела возле трупа матушки Лафуа. – Лафуа тебе щедро заплатил, чтобы ты показал под присягой, что Эванжелина пришла к тебе за этим импровизированным оружием. – Хм… – согласился фермер, которому явно было не по себе, – так это же она укокошила Мюриетту Лафуа! Да она была вся в кровище, с ног до головы, что твой мясник, – поспешно добавил он. – И для тебя удобнее всего этому верить, – одернул его Ардуин. – В противном случае ты будешь вынужден признать, что отправил невинного человека на пытку и медленную мучительную смерть из-за каких-то паршивых монет. Мерзкое пятно на твоей душе. – Но это же она, клянусь вам! – упрямо повторил Фортен. – Твоя клятва так же правдива, как твое свидетельство? Что ты можешь мне сказать об Элуа Талоне, бывшем солдате, который стал чернорабочим, а затем колбасником? Он клятвенно утверждал, что в день убийства сопровождал хозяина в поездке по его владениям и целый день никуда от него не отлучался. Он сказал правду? – Слушайте… Ох… я, конечно, немного соврал из-за денег. Но Эванжелина укокошила хозяйку, я не отступлюсь от своих слов. Я и так был жестоко наказан за свою ложь – моя жена умерла в родах… – Получается, это она заплатила за твой проступок? А ты тут наслаждаешься жизнью, брюхо вон какое отрастил, глаза себе залил с утра пораньше… Ты себе быстренько сыщешь супругу, которая сумеет утешить вдовца, – иронично произнес Ардуин. – Только поспеши, пока твоя Бландина не прикончила мальчишку. Хотя, если придерживаться твоей логики, это тоже станет возмещением долгов твоей души? Давай-ка соберись, время не ждет. – Я ни в чем не виноват, только в одной маленькой лжи, которая и не изменила-то ничего. Клянусь вам, что это был мой топорик, который нашли в зарослях шалфея, весь покрытый засохшей кровью! – И все-таки вернемся к Элуа Талону, – настаивал мэтр Правосудие. – Он тоже виновен в некотором искажении истины? – Нет, не мог он это сделать, он слишком набожен для такого. Он же поклялся, положив руку на Евангелие… Если только наш хозяин его не обманул. – Это как? – Что же… Земли Лафуа, они ведь большие. Я потом часто об этом думал. Проверка движется очень быстро, каждый направляется в какую-то сторону, а затем все снова встречаются. Но Элуа вовсе не думал о плохом, он вообще размазня. Это я так, предполагаю… Вот нарочно он не солгал бы, это точно, в этом я уверен. Фермер полностью подтвердил слова Адель Бобетт, но Ардуин Венель-младший был уверен, что он еще что-то скрывает. – Фортен, я умею читать в душах людей и вижу, когда они мучаются. Правду! Всю и прямо сейчас. Быстрым, как молния, движением он вытащил свой кинжал из ножен, висящих на поясе, и без всяких церемоний упер его в двойной подбородок собеседника, который поспешно сделал шаг назад. – Живо! – Мадлен… Это с нею надо говорить… но имейте в виду, я вам ничего не сказал. Я поклялся головой своей жены, что ничего никому не скажу. Я, конечно, нарушаю слово, но раз она уже скончалась, так я ничем особенно и не рискую. – Поклялся обо всем молчать? Альфонс Фортен пристально посмотрел на него и затряс головой в знак согласия. – Кто эта Мадлен? – Мадлен Фроментен. Одна из служанок, которая осталась с хозяином. Ардуин вспомнил. Это была одна из служанок, свидетельство которой ограничилось коротким заявлением: в доме все было как всегда, за исключением убийства, совершенного каким-то бродягой. – Она в Ножане, да? Новый утвердительный кивок. – А почему именно Мадлен? – настаивал Ардуин. – Я ничего больше не знаю, – буркнул фермер с самым упрямым выражением лица. Ардуин Венель-младший знал, что это тоже ложь, но больше он ничего не смог добиться.* * *
Палач уже подошел к Фрингану, когда снова раздался голос Фортена: – Это, знаете ли, такая девушка… Вы уж с ней понежнее. У нее… есть внебрачный ребенок, он в деревне… Гарен Лафуа ничего не знает. Она не хотела этих денег, лишь бы сказать правду, но ведь несколько денье значили очень много для нее и ее сына. Венель-младший резко остановился и сделал несколько шагов назад к фермеру. – А каким образом тебе это все стало известно? Мягкая улыбка показалась на губах у низкорослого мужчины, когда он смущенно произнес: – А я воровал у Лафуа для нее. Внезапно выпрямившись и бросив на Ардуина злобный взгляд, он заявил, грозно тыча в него пальцем: – Но учтите, здесь не было ничего такого! Она не из тех, кому можно лазить под юбку. Никто, достойный называться человеком, так не поступил бы. Она пострадала от одного из тех негодяев, которые берут женщину силой и бьют ее, если та упрямится. Да ничего я особенного у них и не брал: несколько поленьев здесь, немного яиц и овощей там, чтобы она могла заплатить за содержание своего малыша… Матушка Мюриетта, она, знаете ли, была скупердяйкой. Скверная женщина, я об этом уже говорил. Да она бы эти яйца лучше свиньям скормила, чем позволила бы кому-то отдать. После того, как произошло это… преступление, Мадлен попросила у меня совета, и я ей сказал держать рот на замке. – Это не она ли в тот ужасный день отправилась с другими служанками стирать белье? – Нет, но я вам ничего не говорил.* * *
Ардуин Венель-младший подумал, что поступил очень проницательно, оставив за собою еще на одну ночь комнату у матушки Крольчихи. Он возвращался в Ножан-ле-Ротру. Собаку, у которой еще не было имени и которая виляла хвостом при виде своего нового хозяина, он с удобством устроил во внутреннем дворе, надеясь, что она не сожрет обитателей курятника.20
Окрестности Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года или чуть позже Стоя на коленях у кровати своего пятилетнего сына Гийома, Маот де Вигонрен молилась. Она сжимала обеими руками его маленькую горячую ручку и время от времени поднимала глаза на влажное от пота ангельское личико. И отказывалась признавать, что нежные детские черты искажает агония. Раздавшийся рядом легкий шелест одежды заставил ее повернуть голову. Агнес де Маленье, ее свояченица, стояла позади, молитвенно сложив руки. На лице ее застыло выражение полнейшей опустошенности. – Пришел ли он в сознание, сестрица? – Нет, дорогая Агнес. Но я уверена, что теперь он дышит гораздо легче. Ужасная диарея прекратилась, так же как и рвота. Из сострадания к несчастной матери, которая старалась утешиться как могла, Агнес молча покачала головой. Только что ушел прославленный доктор Антуан Мешо, известный своими обширными знаниями и врачебным искусством. Избегая взгляда Агнес и баронессы-матери Беатрис де Вигонрен, он прошептал: – Дамы… Я вынужден объявить, что следует готовиться к худшему. Молите Бога о милости… я не уверен, что маленький Гийом переживет ночь. Стон сорвался с губ Беатрис де Вигонрен. Перекрестившись, она спросила отрывистым голосом: – Мессир доктор… Я… Скажите, это болезнь желудка, или желчь течет слишком медленно… или это проклятие? – Мадам, я не верю в проклятия, и в то же время все прочие предположения исчерпаны. – Вы считаете, что это не тот случай? – сдавленным голосом произнесла Агнес де Маленье, с трудом удерживая слезы. – Нет, не думаю. – Опасная болезнь? Из тех, что исчезают, чтобы затем появиться вновь? – настаивала Беатрис де Вигонрен. Доктор осторожно подытожил: – Ваш супруг, мадам, скончался больше двух лет назад. Ваш сын Франсуа, отец Гийома, – восемью месяцами позже. Эпидемии распространяются намного быстрее. Я все же надеялся, уверяю вас, что мне не придется наблюдать ужасную агонию еще одного члена вашей семьи. К моему сильнейшему отчаянию, теперь ваш внук может нас покинуть; у него те же симптомы, что у его деда и отца. Болезнь не затронула больше никого из живущих в доме. – А… может быть, у него отравлена кровь? – подсказала Агнес де Маленье. – Кровь, которую я ему пустил вчера, была нормальной – жидкой и хорошего карминового цвета, – возразил доктор, который по примеру своих собратьев по профессии практиковал многочисленные кровопускания[525]. – Впрочем, легкость ее истечения меня удивила в случае с мессиром вашим отцом, учитывая его возраст. Кровь стариков, которые любят хорошо покушать, чаще всего очень вязкая. – Я… Господи Иисусе, я ненавижу себя за эту эгоистическую мысль в такой момент, но я опасаюсь за жизнь своего сына Этьена, – прошептала Агнес. – Успокойтесь, мадам, мы будем наблюдать за ним вдвое тщательней, – постарался утешить ее Антуан Мешо. – Для своих четырех лет Этьен достаточно крепок, он просто бурлит от переполняющей его жизненной силы. – Конечно, старость ослабила моего отца, но мой брат Франсуа, он же был крепок, как дуб, – продолжила она. – Прошу вас, мадам, не забивайте себе голову этими ужасающими безумными мыслями. С маленьким Этьеном ничего не случится. Если вы считаете это необходимым, я буду приходить и осматривать его каждую неделю. Агнес прикрыла глаза в знак согласия, Беатрис де Вигонрен сделала то же самое и снова заговорила: – Если… если Гийом умрет… прямая ветвь рода Вигонрен, его имя угаснет вместе с ним. Боже милосердный, какая несправедливость! Сеньор доктор, я уже потеряла троих сыновей. У меня остается только моя дорогая дочь Агнес и ее сын. Впрочем, я нежно люблю и свою своячницу Маот, и должна сказать, что эта любовь вполне ею заслужена, но она же не совсем нашей крови. Антуан Мешо печально опустил голову. Семейство Вигонрен было известно своим благородством, набожностью и справедливостью. И все же с недавнего времени над ними разразились несчастья. Шесть лет назад средний, Жан, погиб от несчастного случая на охоте. Он приблизился к раненому оленю, полагая, что тот уже в агонии и следует прекратить его страдания. Но олень внезапно поднялся и разодрал его своими рогами. У Жана, как и у всех мужчин этой семьи, были крепкие кости, поэтому целых два дня он противился смерти, пока она наконец не восторжествовала. Двумя годами позднее младшего, Филиппа, нашли на опушке леса, неподалеку от Рапуйер, ограбленного и буквально истыканного ножом. На убитом оставались только сапоги. Расследование пришло к заключению, что это убийство совершено бродягами-грабителями. Прошло еще чуть меньше года, и Франсуа, старший, присоединился к своим братьям, уже представшими перед лицом Создателя. Причиной этого явилось то, что баронесса Беатрис де Вигонрен назвала опасной болезнью.* * *
Агнес приблизилась к своей родственнице, которая все еще стояла на коленях, положила руку ей на плечо, и попросила мягким ласковым голосом: – Дорогая Маот, присоединяйтесь к нам, отдохните немного. Вы не ели уже столько дней и… Гийом нуждается в вас, в ваших силах. Маот де Вигонрен отрицательно покачала головой. – Вы такая добрая… Но при одной мысли, что надо проглотить хоть кусок, у меня тошнота подкатывает к горлу. Ему немного лучше… Уверяю вас, дорогая Агнес, он дышит гораздо свободнее, его больше не тошнит. Я хочу быть рядом, когда он наконец придет в сознание… Я… я уверена, что ему стало легче после того, как я его напоила отваром из чертополоха[526]. Агнес вдруг подумала, что ни за что на свете не хотела бы находиться здесь, когда малыш испустит дух. Без сомнения, скоро. Она отошла на несколько шагов, бросив последний взгляд на очаровательное детское личико, которое уже сделалось воскового цвета. – Я пойду на кухню, скажу, чтобы для вас что-нибудь оставили на тот случай, если вам захочется покушать… попозже. Я скоро приду, сестрица.* * *
Агнес де Маленье ужинала со своей матерью в большом зале усадьбы. Изредка они встречались взглядами, чтобы тотчас же отвернуться друг от друга. Женщины обменялись лишь парой ничего не значащих слов. Беатрис де Вигонрен заметила про себя, что на большой дом навалилась зловещая тишина. Она страшила всех – судьба маленького хозяина, юного барона, который собирался отдать Богу душу. Беатрис изо всех сил удерживала слезы, мужественно стараясь завершить трапезу. Но каждый проглоченный кусок щуки, запеченной в густом соусе с хлебом и белым вином, приправленной имбирем и шафраном, – для постного дня просто роскошное блюдо, – вызывал у нее тошноту. Агнес жадно ела все с подозрительным усердием, выдающим отсутствие аппетита. Она произнесла нарочито бодрым голосом, вымученная жизнерадостность в котором вызывала еще большую печаль: – На самом деле прекрасная еда! Настолько сытная, что я, пожалуй, откажусь от грушевых пирожков и ограничусь стаканчиком гипокраса[527]. Баронесса-мать Беатрис де Вигонрен не обманулась этим наигранно довольным тоном своей дочери, но все же улыбнулась ей. Очень непривычным для нее способом Агнес в три приема наполнила свой стакан и выпила гипокрас почти что одним длинным глотком. Мать наблюдала за ней уголками глаз, следя, как меняется выражение ее лица: сперва фальшиво-жизнерадостное, затем опечаленное, после мрачное и суровое и, наконец, непокорное. – Матушка… Я не могу больше держать при себе свои мысли. Они меня мучают. Без сомнения, это глупости и женские нервы, беспокойство матери, но… – Прошу вас, моя дорогая дочь, доверьтесь мне, так как я чувствую… наконец… я предчувствую, что… – Хм… Сколько прекрасных, сильных и доблестных мужчин. Безусловно, Жан был изувечен раненым оленем шесть лет назад, Филипп убит грабителями двумя годами позже. Но мой отец скончался, явив те же симптомы, что сейчас у Гийома, точно так же, как мой старший Франсуа… муж Маот. – К чему вы клоните? – шепотом спросила мать. Сомнение поселилось в ней с самого начала болезни Гийома. – Верите ли вы, матушка… верите ли вы, что вся эта череда печальных событий и в самом деле не более чем несчастные случаи? Беатрис де Виготрен допила свой стакан, избегая встречаться взглядом с дочерью, которая снова заговорила: – Не может ли за этим стоять чья-то злодейская рука… – Злой умысел? – выдохнула Беатрис, зажимая себе рот рукой, настолько чудовищным показалось ей это предположение. Чудовищным, но все более и более убедительным. – Пугает, не так ли? – заметила Агнес. – Однако эта серия смертей мужчин… наследников титула и состояния… – И вы считаете, что… – Я думаю, что происходит самое худшее, что можно предполагать, матушка. Имя Маот так и не было произнесено, но, однако, оно витало в воздухе между женщинами, сидящими за столом. – Какой ей толк, если ее… если Гийом умрет в свою очередь, если он последний наследник по прямой линии? – рассудительно произнесла мадам де Вигонрен. – Приемлемый довод, потому что тогда она потеряет почти все, за исключением скромного наследства, оставленного ей мужем. Но если Антуан Мешо совершит невероятное чудо и Гийом избежит когтей смерти? – заметила Агнес. – Об этом, дочь моя, следует спросить у самой себя. Во всяком случае… если ваши подозрения на чем-то основаны… каким образом можно довести моего внука до такого состояния, чтобы затем его спасти? – Достаточно крохотной порции яда, чтобы произвести все нужные эффекты без риска убить ребенка. И, должно быть, чтобы отвести от себя подозрения. – Я вся дрожу от ужаса при одной мысли о подобных кознях. – Я тоже. Во всяком случае, прежде всего я думаю о своем сыне Этьене. Если в доме и вправду свирепствует злоумышленник или злоумышленница… Необходимо раздавить эту змею быстро и безо всякой жалости. – Когда должен вернуться ваш супруг, моя душенька? – Эсташ больше не должен задерживаться. Я ожидаю его к концу недели. Признаться, при таких обстоятельствах его отсутствие вызывает у меня тревогу.21
Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года. Чуть позже В конторе по найму лошадей и повозок Ардуина Венеля-младшего ожидало короткое послание, состоящее из одних намеков и подписанное Бернадиной. Проницательная служанка не знала, где ее хозяин остановился в Ножане, но прекрасно понимала, что Фринган всегда окружен заботой и вниманием, поэтому вряд ли его поместят в темный захламленный сарай какой-нибудь таверны. Ардуин узнал ее ровный старательный почерк. Несмотря на то, что палачи принадлежат к презираемой касте, почти все они умеют читать и писать.Мой обожаемый хозяин, Беллем – секретарь заместителя бальи – вызывает вас к себе. С тех пор как вы уехали, он уже три раза приходил и был похож на курицу, которая без толку суетится во дворе. Он ждет, а точнее, уже требует, чтобы вы приехали как можно скорее. По какой причине – вы сами знаете. Ваша преданная, почтительная и любящаяУ мэтра Высокое Правосудие вырвался усталый вздох. Боже милосердный, он совершенно забыл о своих обязанностях, от всей души надеясь, что ничто ему о них не напомнит. Назавтра ему нужно будет вернуться в Беллем. А сейчас и он, и Фринган слишком устали, чтобы пускаться в такую дальнюю дорогу, да еще и на ночь глядя.Бернадина.
* * *
В концетрапезы Венель-младший вдруг ощутил полнейшее изнеможение. Он выпил всего один стакан вина и отказался от щедрой порции сливового крема с цукатами, предложенной матушкой Крольчихой, которая была восхищена его возвращением. Распрощавшись с трактирщицей, Ардуин поднялся к себе в комнату. Из окна он помахал рукой псу, который теперь стал Энеем[528], потому что любовь, которая настигла героиню – молодую Лавинию, – была такой же «внезапной и быстрой, как укус собаки». Конечно, это чересчур изысканное имя для такой тощей дворняги, потомка пятнадцати отцов, но, в конце концов, должно же у бедного животного быть хоть что-то красивое. Пес с запутанной родословной посмотрел на него и часто завилял хвостом. – Спи, пес. Ты сыт благодаря щедрости матушки Крольчихи. Непонятная усталость разлилась по всему его телу, ставшему невероятно тяжелым. Неловкими движениями Ардуин разделся и улегся на кровать. Странное дело: он думал, что сразу же провалится в забытье, но сон упорно не шел к нему. Палач почувствовал довольно приятное головокружение, как это бывает ночью во время лихорадки. Закрыв глаза, он погрузился в полусонное состояние. Перед внутренним взором мелькали картинки, смешиваясь в его сознании, постепенно теряя четкость и связность.* * *
Мари де Сальвен пристально смотрела на него; их разделяла стена пламени. На шее молодой женщины поблескивал какой-то медальон. Но ведь у приговоренных отбирают украшения. Длинные волосы цвета спелой пшеницы каскадом спускались до самой талии. Но их же тогда обстригли… Тишина. Плотная тяжелая тишина. Ни потрескивания огня, ни разговоров или смешков из открытых ртов зевак, собравшихся поглазеть на казнь. Ардуин ей улыбался, казалось, совершено не замечая, что она сейчас будет поглощена огнем. Он слышал свой собственный голос, спокойный и радостный: – Простите, но я ничего не слышу, что вы мне говорите, дорогая. Она улыбнулась ему в свою очередь сквозь красно-желтые языки пламени, бросив: – Ничего страшного, милый, подождем до завтра. Два их голоса в безмолвной вселенной.* * *
Он снова был на прежнем месте, мелкий дождик смачивал булыжники мостовой. Никаких признаков костра. И все та же непроницаемая тишина. Однако дети играли, гонялись друг за другом, кумушки болтали, бродячие торговцы катили ручные тележки и орали, расхваливая несравненные достоинства предлагаемых продуктов, безделушек или кухонных горшков. Старая истощенная седая нищенка прошла мимо, обратив на него взгляд голубых глаз, цвет которых вызывал в памяти холодное море. И никакого шума. Можно подумать, что какая-то проказница-фея[529] пошутила с миром, лишив его звуков. Ардуин не слышал даже шелеста шелковистой ткани у себя за спиной. И ему не приходило в голову повернуться. Раздался легкий шум. Чьи-то руки обняли его сзади, к нему прижалось твердое и худое тело, теплое дыхание овеяло затылок, и нежный голос прошептал: – Ничего этого не существует… – Мари?* * *
Он резким движением вытянулся на кровати, вглядываясь в густую темноту комнаты. Вокруг царила глубокая ночная тишина. Полная тишина. Ардуин вспомнил о нескольких снах, настолько ярких и напряженных, что, наверно, можно было бы часами разгадывать, что они означают[530]. Некоторое время он громоздил одно предположение на другое, полностью лишенные смысла или вполне приемлемые. Но ни одно из них не показалось ему достаточно достоверным. К тому же сейчас у него не было желания копаться в перипетиях этого сна, которые только сбивали с толку. Единственное, что имело значение, – в них постоянно была Мари. Ее руки сжимали его в объятиях, ее дыхание он ощущал на своем затылке. Нелепый и неуместный вопрос заставил его сердце забиться так быстро, что Ардуин застыл, положив руку себе на грудь и открыв рот. Любила ли она его хоть немного? Но он даже задохнулся при мысли о том, насколько неуместно и непристойно это звучит, и предпочел тотчас же изгнать эту мысль из своей головы. Он точно так же подверг пытке и Эванжелину Какет, перед тем как похоронить ее заживо. Двое невинных. Два жертвенных агнца. Палач снова вытянулся на кровати. Против всех ожиданий сон тотчас же сразил его.22
Ножан-ле-Ротру октябрь 1305 года. Еще чуть позже Стук в дверь и выкрики взволнованной женщины вырвали его из сонного оцепенения. Он встал и, прежде чем открыть, кое-как оделся. Его тут же затопил поток невразумительных слов. Антуан Мешо и матушка Крольчиха говорили одновременно, причем каждый повышал голос, стараясь перекричать другого. Немного сбитый с толку, пытаясь стряхнуть с себя последние остатки дремы, Ардуин воздел руки к потолку в знак того, что абсолютно ничего не понимает. Но тут доктор удивил его еще больше. Он оглушительно заорал: – Матушка Крольчиха, я почтительно прошу вас замолчать! Вы знаете об этом лишь то, что я вам только что рассказал, и я очень прошу вас не повторять этого. Я понимаю, что вы во власти эмоций, и очень надеюсь, что смогу все объяснить лучше вас! Трактирщица присмирела. – Еще одного несчастного малыша нашли сегодня, прямо перед заутреней. Кожевник обнаружил. – Где? – На улице Крок, завернутого в лохмотья, как и остальных. – Э… – Ардуин украдкой бросил взгляд на матушку Крольчиху, которая, похоже, решила так здесь и оставаться. – О, наша славная трактирщица знает, какие чудовищные зверства сотворили с этими детьми, почти со всеми. Маленький покойник очень похож на тех, кого мне уже приходилось осматривать. – Могу ли я… – Сеньор Ги де Тре дал мне карт-бланш[531]. – Его уже известили? – Еще нет, я… я ждал, пока его разбудят. Изо всех сил набравшись храбрости, он повернул голову к хозяйке, которая внимательно слушала, стараясь ничего не упустить из разговора, и выпалил смущенной скороговоркой: – Матушка Крольчиха, я очень прошу простить меня и понять, что все это мой профессиональный секрет. Поэтому мы будем вам очень признательны, если вы пожелаете нас оставить. Почему бы вам не приготовить что-нибудь перекусить для мессира Венеля, не говоря уже о стакане бодрящей настойки, которая ему очень даже не помешает? Та, будучи женщиной умной, поняла, что ее любопытство становится чрезмерным, и поспешила извиниться: – Прошу прощения, мессир доктор! Я была так неделикатна, что, право, краснею. Прошу прощения, правда, мессиры. И она бросилась к лестнице, будто воровка, застигнутая на месте преступления. – Дайте мне немного времени, чтобы одеться, – поспешно сказал Ардуин. Доктор Мешо рухнул на край расстеленной кровати, но при таких обстоятельствах эта неучтивость была вполне простительна. Со вздохом, полным отчаяния, он хрипло проговорил: – Я не понимаю… – Во всяком случае, я могу вас заверить, что Гастон Лекок, ваш бывший кузнец, пьяница и скандалист, не замешан в этом мрачном и невыносимым деле. – Вы что, ездили к нему? – осведомился доктор. – Ну да. У нас был… довольно оживленный спор. Но мы снова помирились настолько, что он подарил мне свою собаку. – Если так, то это значит, что с ним произошли просто волшебные перемены. Надо же, собаку!.. Рассказывайте, прошу вас. Ардуин в деталях рассказал ему о своей бурной встрече с Лекоком, опустив разве что эпизод с отрезанным ухом. – Но кто же это тогда? Кто же этот ужасающий бесчеловечный монстр? – Не знаю. Во всяком случае, я считаю, что ваши умозаключения вполне разумны. Это существо, которое обитает недалеко от Ножан-ле-Ротру, где его привыкли видеть и не обращают на него особого внимания. Возможно, постоянно проживающий здесь приезжий, который прекрасно ориентируется в здешних окрестностях. Поразмышляв несколько мгновений, доктор спросил, выделяя каждое слово: – Мессир Венель… Кто вы на самом деле? Обещаю, ваш ответ не нанесет урона вашей чести[532], но я ни капли не верю в историю, которую вы мне преподнесли. Что убийство, которое произошло в Мортане, могло быть совершено тем же человеком, что объясняет ваш интерес к нашему городу. Предо мною проходит множество людей, и очень многие из них мне лгут: рассчитывая что-то выгадать, или от стыда, иногда же от страха… Если я этим вопросом случайно наступил на больную мозоль, оставьте его без внимания и не судите меня строго. Венель-младший вдруг вспомнил, что через несколько часов он должен будет надеть одежды смерти и подвергнуть кого-то пыткам или казнить. Взгляд его серых глаз буквально пришпилил к месту доктора, уже сожалевшего о своей несдержанности. Глубокий взгляд, в котором, казалось, были сокрыты все тайны мира. Мешо почудилось, будто он погрузился в бездонную пропасть, которая может загасить любую искорку жизни. Доктор тут же рассердился на себя за эти суеверные мысли. Все это чепуха! Но продолжение разговора будет еще более болезненным; он обладал достаточным знанием человеческой природы, чтобы это понять. – Мессир Мешо… поклянитесь перед Богом вашей душою, что те слова, которые вы сейчас услышите, не выйдут за пределы этой комнаты. Что вы не перескажете их даже на исповеди. Странное дело: доктор вовсе не был удивлен ни таким требованием, ни торжественным и свирепым тоном, которым оно было произнесено. – Клянусь. Пусть я буду проклят, если нарушу это слово. – Вы сейчас поймете, почему я счел… неуместным снова предстать перед вашей невесткой, мадам Бланш. Любой на моем месте, если у него есть хоть немного чести и совести, обязан поступить именно так. Если придерживаться точности, его слова были лишь полуправдой. На самом деле Бланш Мешо почувствовала бы себя униженной, узнав, что мужчина, к которому она смутно ощутила нечто похожее на сердечную привязанность, принадлежит к презираемой касте палачей. Разум Ардуина был занят призраком Мари де Сальвен. Он даже не противился этому вторжению мертвой, той, которую сам лишил жизни, раздираемый сомнениями, терзавшими его за целую вечность до ее казни. Наваждение, но какое прекрасное, какое совершенное! Никогда раньше он настолько не ощущал в себе дыхание жизни; никогда до того, как начал жить с воспоминанием о покойной. – Я не… – начал было Антуан Мешо. Ардуин жестом прервал его: – Позвольте мне продолжить. Это нелегкое признание могло бы навсегда остаться внутри меня и никогда не вылетать из моего рта. Я… Моя должность называется мэтр Правосудие Мортаня. Смертельно побледнев, Антуан Мешо вскочил на ноги. – Вы… – Да, в самом деле, я палач. Или, как это вежливо именуется, исполнитель высоких деяний. – Боже милосердный! – прошептал врач. – Палач на службе у закона, который собирается положить конец бесчинствам – вот ведь как получилось, – иронично заметил Ардуин, ощущавший, как все его существо заполняет глубокая грусть. – Палач, головотяп мессира Арно де Тизана, которого позвал на помощь ваш бальи Ги де Тре. Его вдруг охватило непонятное желание шокировать, хвастаться тошнотворной репутацией касты отверженных и в глубине души защищать то, чем он является, то, что с ним сделали, чтобы руки всех остальных не были запятнаны кровью. Он продолжил нарочито небрежным тоном: – Я, кстати, отрезал ухо бедняге Гастону Лекоку. Он был не особенно расположен беседовать со мною – во всяком случае, не так, как меня бы это устроило. Верное средство сделать кого-то разговорчивее. У меня, знаете ли, большая практика в делах такого рода. Несколько минут старый доктор внимательно смотрел на него, а затем проговорил: – Хм… Скажите, чтобы доверять мне, разве вам необходимо, чтобы я начал чувствовать к вам отвращение? Вы думаете, что, удивив меня своей профессией, теперь стали каким-то страшилищем в моих глазах? Палач, палач… Мне случалось видеть выкопанные из земли трупы, осматривать младенцев, которых бросили в реку или в печь. Я должен выполнять эту работу. Убийства, замаскированные под несчастный случай, болезнь или колдовство… В сущности, вы – другой вы – выполняете то же, что и я. Если б я не разоблачал преступников, мэтр Правосудие их не наказывал бы. Не стоит видеть в этом ничего оскорбительного, но я испытываю к вам… к людям вашего… искусства те же чувства, что и к обитательницам лупанария[533]. Они, как и вы, не выбирали свою участь. Разумеется, я не приглашу их за свой стол, но они оказывают нам услугу, выполняя то, без чего многие просто не могут… Заметив искреннюю человечность доктора, Ардуин немного смягчился. – Мессир Венель, ваша… учтивость по отношению к Бланш делает вам честь. Я искренне желаю ей найти себе супруга. Во всяком случае, эта женщина, моя невестка, заслуживает того, чтобы стать матерью. Даже если отцом ее детей будет не мой сын. – Я тоже желаю ей этого от всего сердца, – добавил Ардуин. – Она скромна, очаровательна и обладает живым умом. – Итак, вы говорите, что наш бальи обратился за помощью к мессиру де Тизану? – поинтересовался доктор. – Именно так он и дал мне понять – правда, выражался достаточно туманно. По словам мессира, бальи де Тре желает… неявной поддержки. – Это можно понять, он оказался в довольно сложном положении. Жители Ножана очень недовольны и опасаются за своих детей. Сначала упреки были деликатными и осторожными, но постепенно они становятся все более и более яростными. Дело может дойти до… Антуан Мешо проглотил конец фразы. – До чего? – настаивал Венель-младший. – Предполагать такое просто безумно. – А все-таки? Прошу вас. – Ну… сплетники в таверне, всякие злые языки… Одним словом, некоторые намекают, что мессир де Тре не совсем чужд этому зловещему делу. – Это надо же додуматься до такого! – заметил Ардуин. – Выходит, Ги де Тре, бальи, мучил, насиловал и убивал этих маленьких босяков? – Разве я не предупреждал вас, что это совершенно безумное предположение? Вот откуда берутся поспешные выводы, основанные лишь на случайных совпадениях. Впрочем, как нам это известно, убийства начались после прибытия сюда нового бальи. Конечно, мессир де Тре показал себя… как бы это сказать… довольно высокомерным. Судя по всему, он предпочитает роскошную жизнь; ему гораздо интереснее визиты к персонам из высшего общества, чем трагедии бедняков. Без сомнения, он слишком легко отнесся к первым убийствам, что, конечно, никому не понравилось. А если к этому еще добавить все ошибки, совершенные его первым лейтенантом, Морисом Деспре… Впрочем, слово «ошибка» вряд ли будет здесь самым уместным. Деспре хотел не расследовать преступление, а найти человека, которого можно было бы легко выдать за виновного. – Но это еще не делает из бальи какого-то монстра, – возразил Ардуин. – Согласен! Но в этом люди находят отдушину для своего страха, который теперь вдвое усилен еще и гневом. Ощутив растущий гнев населения, мессир де Тре попытался исправить ситуацию… но, похоже, слишком поздно. Добавьте к этому то, что он не из нашей местности, и никто здесь не знает ни его родственников, ни его прошлого. – Ну, а вы? Доктор пристально посмотрел на Адриана, а затем произнес нарочито медленно: – Мы с вами обменялись клятвами доверия, не так ли? – Да, и поклялись честью друг перед другом, – подтвердил мэтр Правосудие. – Отлично. Признаться, я не очень хорошо его знаю. Как я уже говорил, Ги де Тре высокомерен и мало интересуется заботами людей низшего сословия. Несчастные убитые малыши его мало волнуют. Ходят слухи, что он даже как-то заявил измученным голосом: «Одним больше, одним меньше, какая разница!» Эта крайне неприятная история, уж не знаю, насколько правдивая, распространилась со скоростью лошадиного галопа. Я вынужден очень осторожно формулировать свои мысли, но все же я считаю, что его внезапный интерес к этим убийствам вызван всего лишь эгоизмом. – Иными словами, он опасается за свое место? – Именно так. Об этом знают очень немногие: матушка аббатиса Клэре, мадам Констанс де Госбер, уязвленная, написала своей лучшей подруге, супруге монсеньора Карла де Валуа, брата его величества. Если Жан Бретонский потребует объяснений, замечательная карьера Ги де Тре может очень быстро завершиться. На это Ардуину уже открыл глаза Арно де Тизан, но мэтр Правосудие предпочел об этом умолчать. – Мадам де Госбер блистает такими качествами, как набожность, храбрость и честь. К тому же она женщина очень большого ума. Матушка аббатиса много сделала для блага нашего края, и здесь ее очень любят. Как вам это известно, у нее есть исключительное право сеньора. Она очень могущественна и отвечает только перед папой римским, которому приходится родственницей по женской линии. Поэтому ее не интересуют ни де Тре, ни их высочества Карл Валуа или Жан Бретонский. – Ни даже король. – В самом деле. Более того, она непреклонна. Забавно, что при этом внешне матушка аббатиса похожа на хрупкого воробышка. Однако решимость читается в каждой черточке ее лица. – Вы, кажется, хорошо ее знаете, – заметил Ардуин. – Так и есть. Я забочусь о здоровье монахинь аббатства Клэре и бываю там раз в месяц, а когда кто-то из них заболевает, то и чаще. Поэтому я все это и знаю. Мне также известно, что она приглашала к себе бальи Ножан-ле-Ротру и что после этой встречи он вышел оттуда белый как бумага. Полагаю, матушка аббатиса потребовала, чтобы тот нашел убийцу, иначе она начнет действовать против него. Причем настоящего убийцу, а не какого-то попрошайку, поспешно арестованного и повешенного. Такое вполне в духе нашей матушки аббатисы. Очаровательная, справедливая, с нежным голоском, но в то же время острая, будто отточенное лезвие. – Такая женщина определенно пришлась бы мне по сердцу! – пошутил мэтр Высокое Правосудие.* * *
Разговор прервал осторожный стук в дверь. Матушка Крольчиха сообщила: – Завтрак уже на столе. Я приготовила и на вас, мессир доктор. О, мне так жаль, так жаль, что я была настолько неделикатна… – Ну что вы, что вы… Эта ужасная новость потрясла нас всех, – громко ответил доктор, чтобы женщина смогла его расслышать. – Спасибо, голубушка, мы сейчас спустимся. Повернувшись к Ардуину, он тихо добавил: – А потом мы отправимся освидетельствовать тело бедного малыша, он сейчас лежит в оружейном зале замка Сен-Жан. А затем я буду вынужден вас оставить; нужно посетить одного маленького пациента. Милого ангела Гийома. Я сильно сомневаюсь, что он выкарабкается. Какая жалость! Мне случалось видеть много детских смертей, но все-таки… К этому невозможно привыкнуть. Мне это кажется таким… неправильным… Хотя это слово здесь вряд ли будет уместным.23
Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года. Еще позже Матушка Крольчиха охотно согласилась подержать у себя пса Энея и пообещала его кормить во время отсутствия его нового хозяина. Они поднялись к замку Сен-Жан по узкой и длинной дороге, круто забиравшей вверх, – идеальная защита для замка[534]. Доктор очень устал; он тяжело дышал, держась за бок. Привыкший к виду этого большого каменного здания, которое угнездилось на вершине огромного холма, Антуан Мешо не обращал на него внимания. В противоположность ему, Ардуин был очарован архитектурным совершенством замка – внушительным зданием с башнями по бокам, его простотой и сдержанной элегантностью. Встретивший их вооруженный охранник узнал доктора. Они пересекли террасу, протянувшуюся перед главной башней. Следуя за немногословной охраной, вошли в просторный оружейный зал, стены и пол которого были выложены серо-белым камнем. Затем охранник концом протазана[535] указал им на деревянный стол перед большим камином и так же безмолвно удалился. Они подошли к чему-то небольшому, вытянувшемуся на столе под саваном из темной шерсти. Мешо снял шляпу и перекрестился, шепотом добавив: – Я полагаю, что становлюсь слишком старым, чтобы созерцать всю гнусность мира. Венель-младший медленным и аккуратным движением открыл маленькое изуродованное тело.* * *
Ему, скорее всего, не было и восьми лет. Темные прямые волосы слиплись от грязи и пыли, тощее тело с выпуклыми боками было исполосовано кнутом, низ живота и рот в крови. Как и другие, он был лишен мужских гениталий, даже еще не став настоящим мужчиной. Ардуин Венель-младший приподнял верхнюю губу. Все резцы и клыки мальчика были вырваны. Невероятное, ледяное спокойствие охватило мэтра Правосудие. Однажды, днем или ночью, он окажется наедине с виновным в этих неслыханных злодеяниях. «Око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, синяк за синяк, рана за рану». Никогда еще общеизвестные законы, изложеные в Книге[536], не знали более сурового применения. Ардуин проклинал неведомого преступника перед лицом Господа. Зуб за зуб.– Ах… Агнец божий, у остальных тоже… все зубы… – стонал доктор. – Неужели это чудовище может быть еще более жестоким? Ох… может быть, этот ребенок был уже мертв, когда… когда… – пытался он найти себе хоть крохотное утешение. – Нет. Крови слишком много. Он был очень даже жив. Остается лишь надеяться, что он был уже без сознания, – заявил мэтр Высокое Правосудие странно спокойным голосом. – Давайте перевернем его… чтобы увидеть… Ну вот, теперь я испытываю нужду в вашем искусстве. Сжав губы, Антуан Мешо осмотрел спину мальчика. Ягодицы были тоже испачканы кровью. – Его… жестоко изнасиловали. – Хорошо. Потрясенный этой странной реакцией, доктор уставился на невозмутимое лицо Ардуина. Серые глаза вглядывались в тощие лопатки, покрытые красноватыми полосами, оставленными широким ремнем. В мозгу Антуана Мешо вспыхнула неуместная ужасающая мысль: сейчас этот серый цвет глаз представлялся ему цветом ада. Никаких других: ни красного, ни огня, ни черного. Он как будто только что мельком заглянул в преисподнюю. Мэтр Правосудие Мортаня раздвинул пальцами волосы мертвого ребенка, чтобы ощупать череп. Он срезал несколько прядей на макушке и нагнулся над мертвым телом. На черепе обнаружилась кровавая рана в форме звезды, осколки костей впились в мозг. – Пробита черепная коробка. – Этого было достаточно, чтобы его убить? Я молю Бога лишь о том, чтобы этот удар был нанесен в самом начале… до остального. – Я… мы уже можем накрыть останки? Ардуин снова закрыл мальчика шерстяной тканью. – Я не хочу сказать ничего оскорбительного, – снова заговорил доктор, – но мне все это представляется таким… ясным… – Почему же тогда мне это непонятно? – Хорошо… Ребенок убит страшным и отвратительным способом, как и другие, убитые до него, и… – В самом деле. Я буду следить, не появятся ли новые, и уверяю вас, что не забуду об этих несчастных замученных детях. Ад. Ад был серым и заледеневшим. Ад в глазах, которые внимательно смотрели на него. – А теперь идемте, мессир доктор, нам здесь больше нечего смотреть[537]. А я должен вернуться в прекрасный город Беллем. – Чтобы… – Чтобы исполнять свои обязанности.
24
Цитадель Лувр, Париж, октябрь 1305 года Мессир Гийом де Ногарэ с задумчивым видом заканчивал свой скудный ужин. Он разрешал своему молодому служителю зажигать в рабочем кабинете яркий свет, хотя даже такие незначительные удобства вызывали у него раздражение. Королевский советник находил некоторое удовольствие в маленьких ежедневных неудобствах: невкусная еда, не дающая насыщения, влажный холод в комнатах, краткость отведенных для сна часов. По правде говоря, речь шла вовсе не о стремлении к умерщвлению плоти; это была некая форма гордости, побуждавшая его отвергать человеческую природу. Он был надо всеми, более дисциплинированный, более сдержанный, более требовательный к себе самому. Ногарэ испытывал беззлобное презрение ко всем этим придворным, которые обжирались и напивались только для того, чтобы рухнуть на постель и проспаться. Все эти дворяне, дворянчики, буржуа, очарованные мишурой, бантами и драгоценностями, украшавшими их слуг и даже собак, не говоря уже о вышитых мундирах и оружии – если последние у них были. Ну да! Так устроен мир, и он не в силах его изменить, тем более что эти причуды оказывали ему поистине бесценные услуги. Прилагая все усилия, чтобы жить широко, зачастую тратя больше своего состояния, некоторые пробовали обратить в деньги плоды своего любопытства и бестактности, которые иногда оказывались полезны для Ногарэ. Советника интересовали слухи, распространяемые в прихожих, сплетни в кулуарах. Ногарэ много обещал, правда, довольно туманно, к тому же всегда благополучно забывал о своих словах и всегда делал изумленный вид, когда кто-то из обманутых в своих ожиданиях имел безрассудство настаивать на своем. Он оттолкнул миску из-под супа, которую заботливо вычистил, не потеряв ни капли. Что же делать с этим Эмилем Шаппом? Так же тонко и незаметно поощрять, чтобы тот и дальше шпионил за его высочеством де Валуа? Эта мысль представлялась ему довольно привлекательной, так как там у него не было других соглядатаев. Учитывая все эти обстоятельства, Гийом де Ногарэ читал в человеческой душе так же легко, как и в книге, особенно если речь шла о запятнанных душах. Шапп принадлежал к той странной породе изменников, которые не выносят своего бесчестья и низости и предпочитают лгать самим себе, выставляя свой презренный расчет в более благоприятном свете. Несмотря на то что советник не испытывал особого уважения к монсеньору де Валуа, он признавал того не самым плохим господином. Во всяком случае, разве он не предложил Шаппу то, на что тот надеялся? Другими словами, в подобной ситуации маленький Эмиль[538] выкинул бы с ним тот же малоприятный фортель, что и с братом короля. В глазах мессира Ногарэ подобные ему обладали замечательным качеством: предсказуемостью. Стук в высокую дверь кабинета прервал эти размышления, которые одновременно забавляли его и вызывали раздражение. Вошел привратник и объявил, что некий только что прибывший тамплиер настаивает на аудиенции, не сообщив, что ему нужно. Во всяком случае, учитывая желание Филиппа Красивого укротить Орден тамплиеров, этот визит был интригующим. В кабинет вошел высокий мужчина, худой и мускулистый. Ногарэ мысленно отметил, что в каждом движении посетителя чувствовалась некая элегантная сила. Вошедший поклонился и представился: – Гуго де Плисан, рыцарь Ордена тамплиеров, к вашим услугам, мессир советник. На вид ему едва исполнилось двадцать пять лет, светлые волосы до плеч: прекрасный образчик сильной породы. Ногарэ выдержал взгляд до странности голубых глаз, ожидая, что будет дальше. Он не пригласил собеседника присесть, рассудив, что если разговор пойдет не по тому руслу, так его будет гораздо легче выпроводить. – Мне известно, что вы не располагаете лишним временем, поэтому прошу вас позволить мне сразу перейти к сути. Надеюсь, что мои бессвязные и, может быть, малоправдоподобные речи не окажутся особенно докучливыми. – Говорите, – ответил, насторожившись, Ногарэ. – Мессир, умоляю вас поверить, что мое единственное желание, единственная цель – это спасти мой орден от гибели или даже худшего. Я не питаю никаких иллюзий: епископ не жалеет прекрасных обещаний и опирается на нашего гроссмейстера Жака де Молэ. Но он оставит его, чтобы избежать немилости, как только эта поддержка станет неприятна королю. В самом деле, начало разговора получилось достаточно резким… – У короля нет никакого желания распускать ваш воинствующий орден, но он желает внушить ему немного… уважения, – солгал Ногарэ. Эти слова были встречены тонкой недоверчивой улыбкой. – Молэ намерен упорствовать до безрассудства, чтобы сохранить неприкосновенность и самостоятельность Храма, разумеется, оставаясь во главе его, – возразил рыцарь. – Присаживайтесь… Плисан, говорите? Вы набросали достаточно точный портрет де Молэ. Значит, именно поэтому вы так настойчиво просили о встрече со мной? – нетерпеливо подытожил советник, побуждая своего собеседника двигаться дальше. – Позвольте почтительно не согласиться с вами, мессир. Я немного знаю Молэ: он доблестный воин, но вместе с тем упрям и высокомерен. Он никогда не уступит и в случае необходимости не остановится перед тем, чтобы увлечь моих братьев к гибели. Этого я не могу допустить. Я долго размышлял, взвешивал все «за» и «против». И, как уже говорил, надеюсь спасти свой орден от той ужасной судьбы, которую предчувствую. – И как же? – Оказав вам помощь, если вы ее примете. – Что я слышу?! – всокликнул пораженный Ногарэ. Орден, который основали тамплиеры, был почти тайным, и его братья не имели обыкновения предлагать помощь или принимать ее от посторонних. – Признаю, это звучит более чем удивительно, – улыбнулся Гуго де Плисан. – Все объясняется моим беспокойством и почтением, которое я испытываю к своим братьям. Если понадобится обмануть Молэ, чтобы спасти нас всех, пусть так и будет. – И вы предадите своего гроссмейстера, чтобы понравиться королю? – осведомился Ногарэ, делая отчаянные усилия, чтобы скрыть свое удивление. – Слово «предать» мне кажется чрезмерным, и вовсе не потому, что я ищу слова помягче. Тем более что в данном случае это именно Жак де Молэ готов предать свой орден и доверие, которое мы ему оказали. Ногарэ внимательно посмотрел на человека, сидящего напротив него. В мужественных чертах его лица не было даже намека на угодливость или бесхарактерность. Наоборот, в них читалась предельная решимость. Гийом де Ногарэ понял, что имеет дело с безупречно честным человеком, готовым на жертву ради своего дела. Если бы Молэ осуществил задуманное, жизнь рыцаря вряд ли стоила бы даже мелкой монеты. Безупречно честный человек. Чума на этих порядочных! Нет ничего труднее, чем принуждать или заманивать кого-то из них. – Признаться, ваша пылкая искренность делает вам честь и обезоруживает меня. К подобным вещам я здесь не особенно привык. Перед тем как продвигаться дальше, мне необходимо поразмышлять. – Да, я понимаю, мессир, – произнес Гуго де Плисан, вставая и отвешивая поклон. – Надеюсь, до встречи, когда это вам будет угодно. Вы – мое последнее средство.25
Окрестности Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года. В тот же самый день Антуан Мешо спешился перед ступенями, ведущими к главной двери замка. К нему тотчас подбежал конюх, чтобы позаботиться о его старом першероне[539]. Доктор продлагодарил его небрежным кивком и, давая себе небольшую передышку, принялся отряхивать пыль с конского чепрака и своей обуви. Тут он обратился к небесам с безмолвной горячей молитвой: «Ради всего святого, Агнец Божий, только бы не второй умерший ребенок за день!» Он подумал, что с возрастом делается сентиментальным, будто старуха, и что, должно быть, ему скоро надо будет распрощаться с медицинским искусством. Так мало удач, и так много поражений и смертей… В конце концов, может ли он похвастаться, что когда-то действительно спас настоящего больного? Господи, да разве не самыми лучшими средствами всегда были удача и крепкое сложение? Его одолевали сомнения. Все чаще и чаще. А что можно еще сделать, кроме кровопускания[540], даже если уверен, что некоторым пациентам от этого станет лишь хуже? Что прописывать, когда женщина после родов вдруг ослабевает и гаснет, истощенная кровотечениями, инфекциями и скудным питанием? Положить ей на грудь цветы мака, чтобы оживить кровь?[541] Столько болезней – и так мало средств их вылечить… В конце концов он начал завидовать священникам. Впрочем, их влечение к мирским удовольствиям, особенно к женской коже, отвратили Антуана Мешо от желания надеть сутану. Но они единственные знали, как утешить, вернуть надежду. Агонизирующий успокаивался, уверенный, что Бог ждет его с распростертыми объятиями. На его лице появлялась утомленная, но счастливая улыбка, и это после длящихся дни и ночи приступов лихорадки, которые Антуан Мешо был не способен облегчить. Священники не приносили выздоровления. Они приносили душевный покой.* * *
– Мессир доктор? Дамы вас ждут с нетерпением. Подпрыгнув от неожиданности, Мешо повернулся. На верху лестницы стояла молодая служанка. На губах девушки играла счастливая улыбка. – Вы кажетесь веселой, молодая особа. – Конечно, мессир. Маленькому барону лучше! Какое облегчение! Он такой милый и такой проказник! Ну просто живое серебро[542]. – Месье Гийом чувствует себя лучше? Антуан Мешо скрыл свое изумление, настолько неизбежной ему казалась смерть мальчика. – О да! Мы все молились Пресвятой Деве, которая заботится о детях, и она услышала нас. Мадам Маот не выходила из часовни с тех пор, как ее малыш открыл глаза и прошептал: «Мадам матушка? Мне уже лучше. Я хочу есть». Она возносит благодарность Агнцу Божьему и Богоматери. Это настоящее чудо! Мадам Маот уже решила возвести часовню Милосердной Святой Девы. – Это и в самом деле чудо, – ответил доктор, со смешанным чувством изумления и облегчения вспоминая крохотное обезвоженное тельце, силы в котором убывали с каждым мгновением.* * *
Гийом де Вигонрен выглядел измученным и бледным, но, несмотря на это, он улыбался, сидя в своей кровати. – Большое спасибо за ваши заботы, мессир доктор, – произнес мальчик. Мать, не покидавшая его все три дня и четыре ночи, пока длилась болезнь, не сводила с маленького Гийома счастливого умиротворенного взгляда. Антуан Мешо провел осмотр мальчика, приложив ухо к его худенькой груди и прислушиваясь к дыханию, тщательно изучив цвет мочи и состояние испражнений. Затем выпрямился, удовлетворенный состоянием маленького пациента, и посмотрел на очаровательную молодую женщину, неподвижно сидящую в ногах кровати, попутно отметив, что и она выказывает признаки полного истощения сил. Ее невероятную бледность подчеркивали широкие сиреневые круги под глазами. Мешо порекомендовал отеческим тоном: – Мадам, вам следовало бы отдохнуть, чтобы восстановить силы. Он выпутался из очень нехорошего положения. Она закрыла глаза и, положив руку на сердце, одобрительно проговорила: – Разумный совет, которому я намерена тотчас же последовать. По правде говоря, я едва держусь на ногах. Как мне выразить вам мою бесконечную признательность, мессир доктор? Я так молилась, так верила, что… и вот, наконец… – Я тоже. Но Господь заботится о Гийоме и о вас. Возрадуемся же и возблагодарим небеса.* * *
Когда доктор снова спустился в общий зал, там уже стояла перед широким камином свекровь Маот – баронесса-мать Беатрис де Вигонрен. Антуан Мешо не сомневался, что она его ждет, так как женщина с необыкновенной живостью устремилась к нему. Понизив голос и бросив в сторону лестницы подозрительный взгляд, она поинтересовалась: – Он окончательно поправился? – Ему значительно лучше! Уверяю вас, мадам, я всерьез опасался, что, когда я приеду к вам, мне объявят об его кончине. – Это несомненное чудо, – произнесла мадам де Вигонрен сухим тоном, который заинтриговал доктора. – В самом деле, – неуверенно подхватил Мешо. – Доктор… могу ли я рассчитывать на вашу абсолютную деликатность? Мне нужно задать вам один вопрос, который не дает мне… нам покоя весь день и всю ночь, так как беспокойство моей дочери примешивается к моему. – Продолжайте, мадам, прошу вас. Антуан Мешо был почти уверен, что за этим последует. И он не ошибся. – Речь пойдет о загадочной череде смертей мужчин нашей семьи, тех, кто являлся наследником титула и земель. Я уже подозреваю в этом чей-то злой умысел. – Ваш супруг и ваш старший сын Франсуа, не так ли? – А перед этим еще два моих сына, – добавила баронесса-мать. – Но причиной смерти тех двоих был раненый олень и грабители с большой дороги. – Разумеется… – Во что вы собираетесь меня впутать, мадам? Беатрис закусила губу с выражением неуверенности на лице, и Антуан Мешо заметил, что от волнения у нее дрожат щеки. – Посудите сами… Позволяет ли вам ваше хваленое врачебное искусство быть уверенным, что несчастья, случившиеся с моим покойным супругом Франсуа и моим сыном Франсуа… были вызваны естественными причинами… и ниспосланы Всевышним? – Ну и ну! Мадам, со всем моим почтением, но что у вас такое в голове? – возмутился доктор. – Я знаю… такая мерзость… покушение… Думаю, вы хорошо поняли, какое ужасное слово я не осмеливаюсь произнести. – Вы считаете, что на жизнь Гийома кто-то покушался, но кто… и в конце концов, он же ребенок и сейчас не может ничего наследовать… я… право же… Несколько мгновений Беатрис де Вигонрен пристально смотрела на него, а затем печально прошептала: – Но в самом деле… он не умер, в то время как точно такая же болезнь унесла в могилу моего супруга и моего сына. Оба пребывали в расцвете лет. Доктор снова посмотрел на нее, не понимая, что именно она пытается ему объяснить, и повторил с совершенно растерянным видом: – Гийом жив и очень скоро поправится. – Именно… именно… Послушайте, я вам сейчас объясню. Весь день и всю ночь я молилась, чтобы он выжил. И все же я настаиваю: не кажется ли вам поразительным, что маленький мальчик спасается от болезни, которая убивает взрослых мужчин крепкого телосложения? Когда колебания и намеки мадам де Вигонрен собрались в голове Антуана Мешо в единое целое, тот застыл в полнейшем изумлении. Доктор наконец понял, что имела в виду его собеседница. Он снова спросил: – Мадам, вы подозреваете, что… кто-то давал Гийому некий яд, вызывающий симптомы желудочной лихорадки, причем достаточно маленькими дозами, чтобы вызвать у него болезнь, не рискуя при этом убить, как его отца и деда? Ответом ему было еле слышное «да». – Боже милостивый! Мадам… такое обвинение… такое серьезное… Это же непростительное злодеяние! Но кто же? Голос баронессы-матери внезапно стал твердым и резким, будто остро заточенное лезвие. Она ответила, четко выделяя каждое стово: – А кому выгодно то, что случилось с моим супругом и моим сыном? Кто сразу же унаследует титул и состояние? – Молодой барон Гийом? Но ему же всего пять лет! – Мне известен возраст моего внука, мессир доктор. Но до совершеннолетия опекуном будет его мать. – Мадам Маот? – прошептал доктор, ошеломленный таким обвинением. – А кто еще? Правда, моя уверенность еще не полная. Между тем Агнес беспокоится за своего сына Этьена и ожидает самого худшего. Пока не вернется мой зять Эсташ, я буду присматривать за ним и за Гийомом. Как вы поняли, я имею в виду Маот; чтобы нанести вред моим потомкам, ей придется перешагнуть через мой труп. Я в этом поклялась, и я вовсе не обделена смелостью. Если понадобится разорвать на части это чудовище, прикидывающееся женщиной, я без колебаний сделаю это. В этом доктор не сомневался. И тем не менее его обеспокоила яростная решимость, которая читалась на суровом лице баронессы-матери. – Мадам, со всем моим почтением, поймите, речь идет об ужаснейшем обвинении. Не следует верить порывам, порожденным вспыльчивостью, и предположениям. Наконец, должны быть веские доказательства – например, найденный яд или неопровержимые письменные свидетельства. Ну не знаю, что еще… Я заклинаю вас дождаться возвращения вашего зятя, мессира Эсташа де Маленье, и не бросаться очертя голову в дело, которое для всех может обернуться катастрофой. Немного подумав, баронесса снова заговорила: – Согласна, ваши советы разумны и полны доброты. И все же если когда-нибудь она попытается совершить это неслыханное… клянусь пред Господом Богом, что убью ее своими руками. А сейчас нам нужно будет с милым видом – и следя за каждым своим движением – постараться отыскать те самые доводы, о которых вы упоминали. – Мадам, позвольте поблагодарить вас за ваше благоразумие, – заявил Антуан Мешо, немного успокоившись. – До свидания, мессир доктор.26
Беллем, октябрь 1305 года. Немногим позже Исполнитель Высокого Правосудия доложил о себе в гостинице, занятой заместителем бальи Беллема, воспользовавшись своим настоящим именем и объяснив привратнику, что Бенуа Ламбер посылал за ним курьера. Несколькими мгновениями спустя месье Ламбер – первый секретарь бальи, низенький лысый и безбородый толстяк, которого Ардуин хорошо знал, внезапно выбежал из кабинета и помчался к нему, на бегу выпалив скороговоркой: – А, мессир! Однако же не слишком рано, не слишком рано… Внимательно посмотрев на его городской костюм, где на рукаве не было изображения плахи, он продолжил, и в голосе его звучало негодование: – Но… вы что, не готовы? И, наконец… где ваши отличительные знаки? – Сегодня мне было бы неуместно выставлять их напоказ, – саркастически произнес Ардуин. – Как… неуместно? Но… вы же обязаны! – возразил совершенно шокированный собеседник. – Именно так, мой дорогой Ламбер, именно так. Зато я вовсе не обязан и замещать как вашего Марселя Вуазена, известного под именем Собакоубийцы, замечательного исполнителя, который скончался прошлой весной от желудочной лихорадки, так и его десятилетнего старшего сына, у которого, по словам его матери, никогда не будет такой же верной руки. А что делать? Услышав это, Бенуа Ламбер почувствовал, что вступил на скользкую почву и это может обернуться для него неприятнымипоследствиями. Хорошие палачи не торопятся на службу. Он продолжил, несколько сбавив тон: – Э… Ладно-ладно… В конце концов, что такое одежда, всего лишь кусок ткани… и к тому же такой некрасивой! Да-да, все правильно! Какая все это ерунда, правда ведь? Мы вас очень ценим. И доказательством этого служит ваше двойное жалованье… – Да, верно, – согласился Ардуин, который никогда не выставлял напоказ свое огромное состояние и высокое положение, за исключением разве что тех немногих случаев, когда требовалось прижигать каленым железом, ломать ноги, обезглавливать или вешать. – Во всяком случае, я охотно признаю, что работать в ваших стенах мне в тягость. По сути дела, я не обвиняю и не собираю доказательства вины. Мне приказывают мучить и убивать. Это утомительно и мало располагает к тому, чтобы вкладывать в работу душу! Я даже колебался перед тем… Венель-младший искал подходящие слова. Перед вышестоящими требовалось быть почтительным. Но вдруг его охватило неодолимое желание говорить дерзости. Легким небрежным тоном он закончил свою речь: – Я колебался, прежде чем откликнуться на ваше настоятельное приглашение. Впрочем, не уверен, что буду продолжать в том же духе. Позвольте почтительно напомнить вам, что моя работа в Беллеме должна рассматриваться как временные услуги, которые я оказываю вам из… сердечности. Вот так! У вас нет недостатка в горячих приверженцах правосудия, которые могли бы заменить меня, а также во времени, чтобы найти умелого палача. Вот вы, к примеру, не хотите заняться? Или мессир помощник бальи Беллема – он же храбрый солдат, а не какой-нибудь растяпа. От такого предложения на лице Ламберта разлилась смертельная бледность. Он был большим охотником до кроличьего мяса и щедро платил, чтобы кроликов резали и разделывали другие. Окончательно растерявшись, он забормотал, чтобы выгадать время: – Ну конечно же… мессир Исполнитель Правосудия… такой горячий нрав свидетельствует о прекрасном здоровье, а также о смелости и чистосердечности, уж можете мне поверить. Я вам быстренько расскажу об обвиняемом, которого мы… доверяем вашим заботам. Речь идет о некоем Гаспаре Билу. Ему почти пятнадцать, что дает возможность судить его как взрослого. Сеньор помощник бальи в своей мудрости счел необходимым смягчить ему наказание. – Какое наказание? – Для всеобщего назидания Билу будет выпорот кнутом, пока кожа не отвалится от костей, затем раны будут посыпаны солью, а затем вашими заботами – или заботами вашего помощника – его презренное существование будет закончено путем повешения на веревке. А также в качестве особой благодарности за… громадную любезность, которую вы нам оказываете, выручая во время отсутствия у нас своего мэтра Высокое Правосудие, ваше вознаграждение будет удвоено. Более того, к Рождеству вы получите сетье[543] пшеницы, на Пасху – сукно и прочее вдвое против обыкновенного. – Черт возьми, но какое же преступление он мог совершить в таком юном возрасте? – воскликнул Венель-младший, немного удивленный суровостью наказания. – Худшее… одно из худших… впрочем, все преступления худшие… отцеубийство. Ардуин покачал головой в знак одобрения, сожалея, что не может вынуть свой чудесный и безжалостный Энекатрикс из красных шелковых ножен. Но лишь дворяне обладали этой привилегией – быть обезглавленными длинным клинком. Быстрая смерть. Согласно надписи, выгравированной на лезвии Энекатрикса, он их всех любит и убивает с нежностью. А вот эта смерть точно не будет ни нежной, ни быстрой. И что в этом важного? Ничего. – Эшафот уже приготовлен? – Ну конечно, мы с нетерпением ждем вас. Мне остается только предупредить глашатая, который объявит на улицах время казни и приговор. – Сразу после девяти часов. Я еще не очень хорошо знаю своего юного ученика Селестина и сам выполню эту работу. Во всяком случае, я заранее наберусь сил и сразу им займусь. – Конечно, – поспешил согласиться Бенуа Ламбер, который понял, что палача лучше не сердить, если хочешь, чтобы все было сделано быстро и как надо. – Ваше снаряжение ждет вас в моем кабинете.* * *
Венель-младший обязан был проделать путь от Мортаня до Беллема в черно-красном одеянии смерти и с лицом, закрытым кожаной маской. Также он настоял, чтобы в Беллеме для него хранился второй комплект формы палача. Ардуин ни мгновения не сомневался в реакции на него встреченных по дороге крестьян и путешественников. Они будут отворачиваться, иногда креститься; ко всему этому палач давно привык. Нет, речь скорее шла о странном и тяжелом впечатлении, что смерть сопровождает их повсюду, следуя по пятам. В эти прекрасные одежды из красной ткани и черной кожи впиталось столько страдания и ужаса множества человеческих созданий, что сама мысль о том, чтобы хоть иногда обойтись без них, опьяняла его. Все его существо ощущало себя живым. Ардуин вдыхал эту жизнь, упивался ею, как если бы жизнь только и ждала позволения, чтобы снова вступить в свои права. – Я советую вам остановиться в таверне «Влюбленный гусак» на улице Егермейстера, которая вам, возможно, знакома, – улыбнулся секретарь помощника бальи. – Меню там довольно скромное, но горничные услужливы. Ардуин был уверен, что тот советовал это заведение, потому что сам туда никогда не отправится. Секретарь старался избавиться от тягостной обязанности разделить с ним трапезу. Мэтр Высокое Правосудие поблагодарил его вежливым кивком. Отобедав и любезно, но очень уклончиво ответив на вопросы трактирщика, заинтригованного появлением хорошо одетого чужака, Ардуин отправился доложить о себе в особняк помощника бальи. Прикосновение мягкой кожи облегающих штанов вызывало странное ощущение. Как если бы к его коже прикасался другой человек. Он опустил черную маску, которая закрывала все лицо, и натянул ее до самой шеи. Теперь у Ардуина было полное ощущение, что он оказался в другом мире. Никогда прежде у него не было ощущения такого отсутствия ориентировки и такой дисгармонии со всем окружающим. В этом мире остались только глаза, в то время как все остальное его существо унесено в незнакомое недостижимое место. К чему приведет все это?* * *
Он неторопливо дошел до замка Беллем с его подземными тюрьмами. Теперь и его глаза больше не принадлежали ему. Они видели людей, которые при его приближении спешно отодвигаются, забиваются по углам, чтобы только случайно не притронуться к нему. Только глаза. Ардуин не слышал перешептываний у себя за спиной, не ощущал затхлой уличной вони. Охранники у решетки без единого слова пропустили его. Венель-младший бегом спустился по широким переходам каменной лестницы, ведущим в тюремные помещения, вырубленные прямо в скале. Здесь царил полумрак, немного тусклого света проникало только через крохотные подвальные окошки. Поэтому другой охранник не узнал его, даже подойдя достаточно близко. Он спросил громким нетрезвым голосом: – Кто здесь? – Мастер Высоких Деяний за Гаспаром Билу. – Эт… за поворотом. Третья камера… справа, – сообщил тот, показывая на ряд ниш, вырубленных в скале, настолько тесных, что человек не мог там выпрямиться во весь рост. – Ключ, – приказал Венель-младший. Скот в человеческом образе отцепил от пояса связку ключей и после некоторого колебания протянул ему, добавив: – Не знаю, который там. Отдайте, когда будете уходить. Лучше его тут так и оставить, посередке, чтобы он других не достал, – добавил он, махнув рукой туда, где в полумраке виднелись силуэты людей – согбенных, лежащих или прикованных к решеткам своих клеток. Тяжелым шагом, волоча ноги, охранник направился прочь и вскоре исчез в другом конце коридора, по обе стороны которого находились камеры. Остаток ночи он собирался провести в маленьком помещении для охраны, храпя в компании двух таких же пьяниц.* * *
Поскольку заключенные в тюрьме замка не засиживались, они просто не успевали заболеть, несмотря на отсутствие отверстий для вентиляции в камерах. Язвам и ранам не хватало времени загнить до такой степени, чтобы развилась гангрена, несмотря на жуткую грязь. В лицо буквально ударял запах грязи и нечистот, запах страха и отчаяния множества человеческих существ. Ардуин Венель-младший медленно шел, окруженный томительной тишиной, нарушаемой только храпом, рыданиями и приступами кашля. Узники очень быстро понимали, что здесь нельзя ни кричать, ни ругаться, если они не хотят быть избитыми охранником, обозленным, что ему помешали отдыхать. Другой мерой воздействия была порция похлебки из репы и дешевого испорченного[544] хлеба, которую надзиратель мог вылить на пол прямо перед пленником, лишив его единственной еды за день. Ардуин не испытывал по отношению к ним ни печали, ни сострадания; ведь он был их палачом. В его обязанности не входило выяснять, ни по какой причине они оказались в этом подземелье, ни какие обстоятельства смягчают их преступление. Его работа – лишь исполнять приговоры. Внимание Ардуина привлек смутный силуэт, прижавшийся к решетке той камеры, которую ему указали. Он осторожно приблизился, держа руку на эфесе своего кинжала, висящего на поясе. Силуэт, закутанный в жалкие тряпки, поднялся, держась за прутья решетки. Перед мэтром Высокое Правосудие была женщина, уже в возрасте. Хорошо, что полумрак мешал рассмотреть ее как следует, особенно глаза – один из тех взглядов, что преследовали его с тех пор, как он облачился в одежды смерти. Лицо женщины было настолько изуродовано, что сперва палач решил, что перед ним ненормальная. Сделав еще шаг, он понял, что желтоватые пятна и припухлости, сплошь покрывающие ее лицо, могли образоваться только вследствие ударов. Нос, без сомнения, был сломан совсем недавно. Когда женщина открыла рот, Ардуин заметил отсутствие верхних резцов. Он едва не подпрыгнул, когда женщина схватила его за руки и, сжав их с силой, удивительной для такого хилого создания, забормотала: – Сжалься. Сжалься, палач. Это мой мальчик. Я сюда прошмыгнула. Охранник меня-то и не увидал, весь день отсыпается после своего пикета[545]. Там же мой мальчик, Гаспар! Тот самый юноша, почти ребенок, у которого он должен содрать кожу со спины ударами кнута, посыпать солью свежие раны, а затем повесить… – Оставь меня, женщина! – произнес он мягким, но требовательным тоном. – Его наказание могло быть и более жестоким. Это же все-таки отцеубийство! Она подчинилась и закричала, выставив напоказ свое изуродованное лицо: – Да вы посмотрите на меня, посмотрите, что эта сволочь со мною сотворила! Каждый вечер, даже хулого слова не сказав, то ногой, то поленом, и по спине, и по брюху… Вот мой мальчик и не смог дальше терпеть такое. Это же низость какая… он бы меня так убил в конце концов… вот мой Гаспар за меня и заступился. Но эта старая скотина как с цепи сорвалась, я от него такого никогда не слышала. Он хотел меня убить, душой своей вам клянусь! – Отойди, женщина. Я должен делать свое дело. – Но ведь вас тоже родила мать, палач! Вы бы ее защитили, правда? Старик его сперва тоже колотил, но Гаспар стал сильным, как бык. Так его отлупил… а этот проклятый взялся за меня, понял, что с сыном ему больше не совладать. Ардуин попытался ее мягко отстранить, но женщина как будто приросла к решетке, своим телом загораживая ему вход. Порывшись в своих лохмотьях, она вытащила старый платок и протянула ему. – Возьмите ради Бога, который всех нас любит. Там немного денег, я продала обеих коз. Меня при этом обобрали до нитки, но это неважно… Возьмите деньги… Мне сказали, что… что вы могли бы… из милосердия… ну, это… чтобы все прошло быстро… ради Христа Спасителя… Ускорьте конец… Я не хотела… я не смогу этого вынести… он же хотел меня защитить… мой Гаспар… Она зарыдала, исходя соплями, стекающими по лицу до самого рта, и попыталась сунуть Ардуину в руку сверток с деньгами. Серые глаза мэтра Правосудие внимательно разглядывали женщину – ее желто-фиолетовое лицо, синяки, сломанный нос, нищенскую одежду. По затылку у него пробежал холодок. Нет, здесь и в самом деле было прохладно. Внезапно его коснулось теплое дыхание, как тогда, во сне. Мария. Ему вдруг показалось, что все человеческое отчаяние, вся любовь мира собралась в старом платке, который мать протягивала ему, чтобы уменьшить страдания своего сына. – Заберите свои деньги. Конец наступит быстро. – Клянетесь? – Клянусь. Попрощайтесь с ним и уходите, чтобы я вас больше никогда не видел. После нескольких попыток ключ наконец провернулся в замочной скважине. Гаспар встал, опутанный цепями, которыми были скованы его лодыжки и запястья. – Матушка… – пролепетал он. – Я уж думал, что никогда тебя не увижу. Она бросилась к нему, сжала в объятиях и принялась покрывать его лицо поцелуями, шепча: – Не беспокойся, не беспокойся… Палач, он справедливый. Очень скоро мы внова встретимся в раю, мой мальчик… Я каждый день буду думать о тебе, а на те су, которые он не взял по своей доброте, закажу мессу за тебя и за него. – Заканчивайте, – вмешался Ардуин, – и оставьте нас. Вся в слезах, женщина снова поцеловала своего сына, которому предстояло умереть, а затем повернулась к палачу и торжественно произнесла: – Я сохраню в памяти серый цвет ваших глаз как самый лучший в моей пропащей жизни. – А теперь уходите, – мягко ответил Ардуин. – Но мой мальчик не будет страдать, правда? – Не будет. Честное слово. Бросив последний взгляд на своего сына и едва не задохнувшись в рыданиях, зажав себе рот рукой, она исчезла в полумраке подземного коридора. Венель-младший закрыл за ней решетку. – Он бы ее убил, – подал голос молодой человек, очень молодой. – Я отходил его поленом, чтобы вырвать мать из его поганых лап. – Я знаю. У нас мало времени, эшафот уже построен. Ты готов? – Да… Она… Ардуин приблизился к тому, кого ему предстояло убить из жалости. Красивый подросток, высокий, крепко сбитый, с густыми темными волосами. – А это будет больно? – Нет… меньше, чем могло бы быть… Ты готов? Одно слово, и я удалюсь. – Нет, нет… Прошу вас… убейте меня побыстрее. Моя душа спокойна, я ведь не сделал ничего дурного. – Брат мой во Христе, прощаешь ли ты меня за то, что я сейчас отниму твою жизнь? – Да, только побыстрее… сделайте это побыстрее, умоляю… прощаю. Я прощаю вас и благодарю. Ардуин провел рукой по его лбу, покрытому по́том от ужаса, и прошептал: – Произнеси свою последнюю молитву, я дам тебе несколько минут. А затем покойся в мире, брат мой. Гаспар закрыл глаза, в последний раз взывая к Создателю. Он не заметил резкого стремительного движения, которым обкрутилась вокруг его шеи цепь, сковывающая его запястья. Затем Ардуин дернул изо всех сил. Хруст. Шейные позвонки сломаны. Молодой человек свалился на пол, даже не поняв, что смерть его уже унесла. Ардуин Венель-младший перекрестился, а затем вышел. Он крикнул охранника, который появился лишь через несколько минут, спотыкаясь на неровном полу. Сухим тоном, в котором сквозило бешенство, палач заявил: – Руки на себя наложил! Каково, а? Вы хоть иногда обходите камеры? Я пожалуюсь куда нужно и потребую, чтобы мне оплатили хотя бы дорожные расходы. И уверен, они будут удержаны из твоего жалованья. Обезумев, грубый пьянчуга согнулся в поклоне и запричилал: – Да ну… да что… Я же трезвый был… – Это как? После третьего кувшина? Бросив связку ключей на пол у его ног, Ардуин резко развернулся и вышел. Заплаканная женщина в кошмарных лохмотьях ждала его снаружи. Она бросилась к нему, не осмеливаясь задать вопрос, который буквально жег ей губы. Палач произнес мягко и деликатно: – Гаспар покоится в мире, соединившись со Спасителем нашим. Он не увидел и не почувствовал приближения смерти. Молитесь за нас. Она принялась бессвязно лепетать слова благодарности, снова пытаясь сунуть ему старый платок, в который было завернуто несколько денье – для нее целое состояние. Ардуин отрицательно потряс головой: – Я уже вознагражден во сто крат больше. Теплым дыханием. Оставив женщину опустошенной, но утешенной, он большими шагами направился прочь.27
Крепость Лувр, 1305 год Несмотря на неприятный влажный холод, круглый год царствующий в неприветливой крепости, Эмиль Шапп исходил крупными каплями пота. Он даже прикрыл рот рукою, опасаясь, что его прерывистое дыхание будет слышно всем вокруг. Его сердце бешено колотилось, кровь стучала в шейных артериях. Молодой человек изо всех сил боролся с беспокойством, которое оживало всякий раз, стоило ему представить себе, какая участь будет ему уготована, если его раскроют в этом устроенном им тайнике.* * *
Привратник накануне вручил ему свиток, содержащий короткое послание, написанное рукой мессира Аделина д’Эстревера и адресованное монсеньору Карлу де Валуа. Толстый Карл с дряблым подбородком, как Эмиль начал его называть с тех пор, как решил предать, не спешил ломать восковую печать. Молодой человек, украдкой следящий за ним, подумал, что еще немного – и он умрет от нетерпения. Наконец монсеньор ознакомился с посланием и шумно опустился на сиденье высокого кресла с балдахином. Будучи низкого роста, толстый Карл питал особую привязанность к знакам королевского достоинства, особенно тем, с помощью которых он мог казаться выше. С задумчивым, но вполне удовлетворенным видом граф положил свои маленькие пухлые ручки на толстое брюхо и погрузил почти отсутствующий подбородок в жирную шею. Эмиль был совершенно сбит с толку. Еще недавно он с почтением относился к брату короля и видел в нем второе воплощение власти, самой природой созданную лестницу, по которой он поднимется к карьерным вершинам и полновесным денье, но теперь Шапп чувствовал сильнейшую злобу и раздражение. Карл не дал ему того, что Эмиль так страстно желал иметь, и поэтому молодой человек был готов продать свою душу – любому, готовому заплатить. Теперь имя и положение брата короля ничего не значило для секретаря. Наконец-то он поступил на службу к очень могущественной персоне, которая будет ему признательна за труды, – к мессиру де Ногарэ. Новый господин казался ему воплощением всех добродетелей, которых был лишен Карл де Валуа. Господи, да это просто какой-то жирный глупый хлыщ! Эмиль шпионил за ним очень осторожно, выждав, пока монсеньор де Валуа покинет рабочий кабинет, где он не работал, а принимал всяких льстецов, к которым питал слабость, и щедро прополаскивал глотку тонкими винами. Желудок королевского брата постоянно требовал, чтобы его набивали до отказа, а монсеньор де Валуа серьезно относился к его желаниям. Закрыв за собой двойную резную дверь, Эмиль поспешил к рабочему столу, чтобы ознакомиться с посланием. Аделин д’Эстревер, старший бальи шпаги графства Перш, написал своей сухопарой рукой:Монсеньор, К Вашему удовольствию, наше дело продвигается – во всяком случае, я так полагаю и очень надеюсь. По Вашему приказу я позволил себе только что Вас посетить и сделать донесение относительно завтрашнего утра, к моему счастью и моей чести. Ваш преданнейший, почтительнейший и покорнейшийЭмиль Шапп наконец почувствовал, что судьба на его стороне. Во время утренней службы он проник в рабочий кабинет и пробрался за большой гобелен, висящий на одной из стен, скрывающий, что довольно часто встречается в крепости Лувр, нечто вроде ниши, где человек вполне мог поместиться, скрючившись в три погибели.Аделин д’Эстревер.
* * *
Он ждал уже несколько часов, ноги у него затекли настолько, что казалось, будто по ним поднимается целый легион муравьев. Наконец его высочество де Валуа соизволил войти. Шапп узнал его по громким зевкам, как будто брат короля с раздраженным вздохом взваливал на себя тяжелый мешок. Потекли нескончаемо томительные минуты. Эмиль поджал пальцы ног, чтобы его нижние конечности не онемели. Он трижды услышал стук края стеклянного стакана о горлышко серебряного кувшина, а затем бульканье и удовлетворенное щелканье языка толстого Карла. Невыносимое желание облегчиться заставило молодого человека плотно стиснуть губы и колени, и он подумал, что более уже не в силах сдерживаться. Но тотчас же перед его мысленным взором возникло вызывающее дрожь ужаса видение пыточного стола. Наконец его слуха достиг шелест одежд и шепот, на который ответил зычный голос монсеньора де Валуа: – Да впусти же его! Ты что, ждешь, чтобы я сам открыл дверь? Привратник тотчас же замолчал и выполнил приказание. Прошло еще несколько минут, а затем послышался знакомый голос мессира д’Эстревера, который раболепно поприветствовал королевского брата. – Ну что, мой дорогой бальи шпаги? Говори же, я страстно хочу услышать утешительные новости. – Скончался еще один несчастный малыш, расставшись с жизнью тем же ужасающим способом. Это произошло в Ножан-ле-Ротру. Ги де Тре и его люди не смогли напасть на след преступника. – Превосходно. Их нерадение уже становится очевидным. А их… соучастие? – Мы над этим упорно работаем, монсеньор. Если б я осмелился, со всем моим почтением… – Ну давайте, осмеливайтесь! – Я бы позволил себе смиренно посоветовать вам… Если мадам Констанс де Госбер, матушка абатства Клэре, могла бы снова продемонстрировать живейшее негодование по поводу того, что Ги де Тре так и не сумел арестовать этого гнусного мучителя невинных детей, его сопричастность этому делу станет в глазах вашего брата короля более чем очевидной. К примеру, в качестве подстрекателя. Мадам ваша супруга является ее лучшей подругой, не так ли? – Прекрасная мысль, мой бальи шпаги, просто прекрасная! – Со всем моим почтением и несмотря на известную всем проницательность мадам Екатерины де Куртенэ, вашей супруги, я позволю себе напомнить, что мадам де Госбер известна своим тонким умом, замечательной набожностью и… скажем так, очень живым характером, не считая свободу языка, на которую дают право ее титул, состояние и общественное положение, которое она прекрасно осознает. Осторожные слова бальи шпаги были встречены грубым смешком. – Ну да, вижу: напористая воображала. Не то чтобы это удивляло меня в своей душеньке-супруге! Если обойтись без ваших словесных вывертов, то следует действовать с особой осторожностью, иначе она очень обидится, узнав, что ее используют, – произнес Карл де Валуа. Должно быть, Аделин д’Эстревер получил разрешение удалиться в виде насмешливого жеста или улыбки. Во всяком случае, Эмиль Шапп ничего не слышал. Почти ничего не поняв из разговора, он молил небеса, чтобы все закончилось как можно скорее, дабы он смог записать каждое слово и особенно справить естественную надобность, с каждой минутой делающуюся все более и более настоятельной и вытесняющей все остальные желания. – А что вы скажете о человеке, который расследует это зловещее дело, даже не зная, что работает на меня? Кто он? – поинтересовался монсеньор де Валуа. – Просто отборный работник, который к тому же ничего нам не стоит. Исполнитель Высоких Деяний Мортаня… забыл, как его зовут. Он предложил свою помощь вашему помощнику бальи Тизану в обмен на возможность просматривать тетради записей с судебных процессов. Тизан заявляет, что он умен, хитер и, что примечательно, не лишен определенной сентиментальности. – Добрый палач… ну вы и сказанули! – прыснул от смеха Карл де Валуа. – Напоминаю вам, Эстревер, что поиски настоящего убийцы детей не так важны. – Если б я мог позволить себе высказаться… нам все же следует раскрыть это дело, чтобы убийства прекратились… разумеется, тогда, когда мы получим желаемое. – А затем тотчас же устранить убийцу, чтобы это не возобновилось. Подобное могло бы навлечь подозрение на… подлинность того преступника, который уже найден. И где только был мой разум? Мой друг, вы более чем правы. – Устранить? Как только прочее будет сделано, это немедленно исполнят, к вашему удовольствию, – успокоил его Эстревер.* * *
Наконец-то небеса сжалились над шпионом и вняли его безмолвной горячей мольбе. Эстревер удалился, перед этим рассыпавшись в льстивых словах, заверениях в сердечности и обещаниях полнейшего послушания. Немногим позже Карл де Валуа тоже покинул рабочий кабинет, чтобы предаться обжорству за счет королевства. Эмиль Шапп потерпел еще немного, обливаясь по́том и ерзая, а затем осторожно выбрался из своего тайника. Довольно хихикая, он потихоньку сбежал, будто мышь из кладовой.28
Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года Оставив пса Энея под умильным присмотром матушки Крольчихи, Ардуин Венель-младший бродил в одиночестве, наслаждаясь прекрасным чуть прохладным днем. С наступлением осени начали понемногу исчезать невыносимые рои мух, которые жужжали и кусали детей и животных, пировали на кучах отбросов, являя собой прискорбную, но совершенно неизбежную принадлежность улиц. Всюду можно было видеть ловушки для мух; ими были увешаны снизу все стены домов, лотки мясников, колбасников, рыбников, торговцев маслом и сыром. Казалось, между восходом солнца и полуднем весь Ножан-ле-Ротру охватывало какое-то неистовство. Все вокруг были чем-то заняты: уходили, приходили, покупали, продавали, мельтешили. Возчики на телегах отчаянно переругивались, стараясь разъехаться на слишком узких для этого улочках. За обменом оскорблениями следовали угрожающие жесты. – Ты, овечий жир, вынь голову из задницы и прижмись к стенке, а не то застрянем здесь до будущего поста! Чаще всего такие скандалы заканчивались взрывами смеха, комплиментами по поводу особо изобретательных оскорблений и предложением промочить глотку в соседней таверне. Торговля, которая шла здесь на каждом шагу, для Ардуина стала большим развлечением. Он испытывал нечто вроде детской радости, наблюдая оживленную жестикуляцию, бурные споры, всевозможную деятельность. Гадалки, зазывалы, уличные аптекари, торгующие чудодейственными лосьонами для роста волос или увеличения мужской силы – все они в изобилии встречались сегодня здесь, на большом рынке Ножана, одном из самых оживленных и многолюдных в этих землях. Вдруг палач заметил просвет в толпе. Скрюченная в три погибели старуха что-то говорила молодой горожанке, державшей руку на округлом животе. Ардуин услышал, как предсказательница повторяет тоном, не допускающим возражений: – Точно тебе говорю, красавица, скоро сына родишь. – У меня уже три дочки, я потеряла всякую надежду… – Мужик родится вот с такими двумя! Будешь всем показывать и гордиться[546]. Внезапно женщина обернулась и в упор уставилась на Ардуина, которому казалось, что он тихо и незаметно стоит в сторонке. Ошеломленный, палач замер под взглядом светло-голубых глаз, которые казались холодными, как ледышки. Наставив на него костлявый палец, она бросила: – А вот ты берегись! За нос тебя водят, вот что, красавец ты мой. Красавец, который весь в кровище… Ты веришь, и ты заблуждаешься. Ты не знаешь, но найдешь то, чего не искал. Повысив голос, старуха злобно прикрикнула: – Иди отсюда сию же минуту! Слуги нечистого следуют за тобою по пятам. Избавься от них, покуда не стало поздно. А ну брысь, чтоб я тебя не видела! Выкрикнув это, старуха трижды плюнула на землю, перекрестилась, а затем повернулась и быстрыми шагами направилась прочь. Молодая горожанка, которой та только что делала предсказание, растерянно смотрела ей вслед. Затем она обратилась к Ардуину, наблюдавшему эту сцену с немым изумлением: – Она что, сумасшедшая? – Я так не думаю.* * *
Так как прогулка была испорчена этой неприятной встречей, Ардуин решил распорядиться, чтобы оседлали Фрингана, и отправиться за город. Слова, а точнее, обвинения старой предсказательницы не шли у него из головы. Берегись! Тебя водят за нос, красавец мой! Красавец, который весь в кровище… Ты веришь, и ты заблуждаешься. Ты не знаешь, но найдешь то, чего не искал. Иди отсюда сию же минуту! Слуги нечистого следуют за тобою по пятам. Избавься от них, покуда не стало слишком поздно… – Все, хватит всяких глупых загадок! – выругал он сам себя. С каких это пор он стал верить болтовне какой-то нищей оборванки, выпрашивающей несколько монеток у легковерных простаков, которые настолько глупы, что прислушиваются к ее россказням? Напрасно палач читал сам себе нотации, напрасно убеждал себя, что недавняя встреча достойна только презрения. Настроение было настолько испорчено, что его не развеселила даже бесцельная прогулка на спине у Фрингана. Решив поужинать, Ардуин спешился возле таверны Бердуиса, выбрав ее из-за забавной вывески «Ощипанный поросенок». Войдя в харчевню, он с неудовольствием заметил за столом трех уже порядочно набравшихся пьянчуг и женщин со скверными манерами и небольшим количеством добродетели. Одна из них, в расшнурованном платье, открывавшем взору дряблую грудь, бросила заинтересованный взгляд на вошедшего. Ардуин сделал вид, что не понимает этого тяжеловесного приглашения, и устроился за столом как можно дальше от шумной компании. Из узкого коридора, который, судя по всему, вел в кухню, появился трактирщик, вытирающий руки несвежим полотенцем, обернутым вместо передника вокруг туловища. Чуть приволакивая ногу, он подошел к новому клиенту и не особенно любезно спросил: – Ну? Чего хотите? – Того, за чем обычно ходят в таверну, – заметил Ардуин, терпение которого почти закончилось. – Есть и пить. От трактирщика несло по́том, старым затхлым жиром и подгоревшим мясом. При каждом его движении новая волна запахов буквально ударяла в нос. – Ну… Сейчас посмотрю… Мэтр Поросенок, который прекрасно соответствовал своему имени, ворча, отправился назад. Ардуин подумал, что самым лучшим будет покинуть это заведение, пока оно окончательно не стало действовать ему на нервы. В конце концов, какое значение имела эта таверна и всякая шушера обоего пола? И все же здесь его удерживало какое-то непонятное упрямство. Ему вдруг захотелось утешиться после встречи со старой гадалкой, пусть даже таким странным и глупым способом. Ему снова хотелось ощутить, что он полностью владеет собой. Непонятно как, но эта старая попрошайка будто нарушила мощную связь Ардуина Венеля-младшего с его судьбой. Нищенка, которая считала себя прорицательницей, казалось, знала все о его будущем и прошлом, будто ему только и оставалось, что следовать по раз и навсегда проложенному пути, никогда не задавая себе вопрос о своем предназначении. И что самое худшее: он испытывал перед нею настоящий страх. Венель-младший хотел бы снова найти свою мрачную судьбу и не забегать вперед, пытаясь узнать будущее. Он ждал, ни на что не напрашиваясь и ничего не избегая. Он изо всех сил старался не слышать замечаний пьяниц, прохаживающихся по поводу «господинчика», раскатов деланого смеха полушлюх, которые благодарили своих «меценатов» за возможность прополоскать глотку, громко и старательно смеясь над их непристойными шутками. Вдруг один из мужчин, с огромным брюхом, нависающим над поясом штанов, и прилипшими к черепу редкими волосами, заорал: – А вот я говорю, что так только бабы наряжаются. Не станет нормальный мужик ходить с длинными патлами и в кургузых штанишках, которые всю задницу обтягивают! Есть, правда, некоторые, которым нравится выглядеть как девки… Ардуин счел эти замечания в свой адрес даже забавными. Но улучшившееся было настроение было снова испорчено тошнотворным запахом, распространившимся от подноса, который поставил перед ним мэтр Поросенок. – Это еще что? – поинтересовался Ардуин, разглядывая черноватую, скверно пахнущую массу. – Как что? Рагу из кабана[547], вот что! – презрительно бросил трактирщик, пожимая плечами. – Месячной давности? – Мне-то какая разница! С тебя половина денье за рагу и выпивку, а сожрешь ты его или нет, так это мне начхать. Буду я тут еще из шкуры вон вылезать для таких скандалистов, как ты… Деньги гони, быстро! С наглым и угрожающим видом мэтр Поросенок протянул руку, без всякого сомнения рассчитывая на своих нетрезвых приятелей, которые поддержат его, если что. Но судьба вдруг переменилась, и причиной тому был странный посетитель. В полной тишине Ардуин встал, разве что немного смущенный идиотским ржанием одной из женщин, которая уже настолько набралась, что не сообразила, что запахло жареным. Издав глубокий вздох, мэтр Высокое Правосудие поднял поднос, придерживая его за края, чтобы не перепачкать пальцы в отвратительном густом соусе. Быстрым и точным движением он вдавил его в рожу трактирщика, издавшего удивленный и обиженный писк. Ошметки черноватого мяса стекли на его одежду. Бросив на хозяина небрежный взгляд, Ардуин игриво заметил: – Твоя одежка от этого грязней не стала! Завывая от ярости, мэтр Поросенок вытер лицо: – Ах ты… Внезапно кинжал Венеля уперся в горло трактирщика, прямо в адамово яблоко. – Никаких грубостей в моем присутствии, дорогуша! Я, знаешь ли, чувствителен, как невинная дева, и от такого у меня уши краснеют. Пьянчуга, который только что высказывал предположения насчет жизненных предпочтений Ардуина, бросился на него, размахивая кулаком. Тот уклонился неуловимым изящным движением. Увлекаемый силой инерции, своим весом и немалым количеством выпитого, пьяница промчался еще некоторое расстояние, прежде чем смог развернуться и с яростным ревом снова броситься в атаку. Но с тем же успехом. С быстротой молнии Венель снова отпрыгнул в сторону. Что-то злобно бормоча, пьяница доковылял до стола своих приятелей. Одна из женщин, с глубоким, но малопривлекательным декольте, встала и завизжала, широко открыв рот и вытаращив глаза от ужаса: – Черт побери! Что у тебя с лицом, Жако? Тот же в полной растерянности поднес руку к лицу и теперь тупо рассматривал покрывающую ее жидкость карминового цвета. Совершенно ошарашенный, он повернулся в Ардуину и пробормотал: – Это… того… ты чего со мною сделал? – Широкий шрам. Твоему лицу не хватало мужественности. Но это поправимо. Ты меня еще благодарить должен. Кто-то еще здесь хочет, чтобы я оказал ему ту же услугу? – обратился он к внезапно онемевшей пьяной компании. – Ну тогда надеюсь, что, к своему удовольствию, никогда больше вас не увижу! – бросил мэтр Правосудие и в полном молчании вышел из харчевни, где теперь было тихо, как в склепе.* * *
Немного раздосадованный своей вспышкой и демонстрацией силы, он снова подошел к Фрингану. В конце концов, что ему делать с этими забулдыгами из таверны с их низкопробными шутками! Во всяком случае, он подчинился своей судьбе и сейчас радовался этому. Ардуин решил вернуться в Ножан-ле-Ротру и найти достойную себя таверну, где он сможет устроиться со всеми удобствами.29
Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года В нескольких лье отсюда, в Ножане, пользуясь сутолокой после рынка, тяжелая фигура забилась в угол под портиком красивого дома, низко надвинув на лицо капюшон меховой накидки[548] и рассматривая множество маленьких бродяг, роющихся в кучах отбросов, оставшихся после торга, надеясь найти там что-то, что поможет выжить. Мальчика или девочку? Неважно. Это всего-навсего жертва. Последним был мальчик. Может, теперь и вправду девочку? Того или ту, кого можно будет легко одурачить… А, не до жиру! У него имелось прекрасное средство «соблазнения», до сих пор безотказно действующее. Чего только не сделают эти маленькие голодранцы в надежде немного набить брюхо и принести своим кусок хлеба или немного сыра… Позже. Возможно, этим вечером. Человек вышел из укрывающей его темноты, сделал несколько шагов, снял накидку и любезно ответил на приветствия нескольких прохожих.30
Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года Оставался лишь прилавок рыбника, который распродавал остатки товара. Его окружала плотная толпа, так как завтра был постный день. Скромные мещанки или служанки из состоятельных домов старались выбрать наиболее подходящий лосось из Бретани, миногу из Нормандии или щуку из Анжера[549], а самые небогатые или экономные – угря или копченую селедку сомнительного происхождения. Хватало и перебранок между дамами, особенно перед лотками рыбников, на которых сосредоточились их недоверие и раздражение. Все хотели пощупать рыбу, понюхать ее голову, посмотреть на ее глаза и жабры, чтобы этот мошенник-торговец уж точно не обманул. Забавляясь этой уже тысячу раз виденной сценой, мэтр Правосудие подошел к прилавку. Рыбник топал ногами и выкрикивал: – Перестаньте же их теребить, наконец! – Так как же покупать, если перед этим не понюхать и не пощупать? – Женщина, идите своей дорогой и ешьте завтра репу с сухим хлебом! – Вы только полюбуйтесь на этого грубияна! Когда совесть чиста, тогда и скрывать нечего! – воскликнула какая-то служанка из хорошего дома. – Пойду-ка я лучше к торговцу вымоченными улитками![550] Молодая женщина со сдержанным выражением лица, сложив руки на темной длинной юбке, терпеливо ждала, когда продавец сможет уделить ей внимание. Тот же старался как можно скорее отделаться от сварливой любительницы улиток. – Мадам Мадлен, вы пришли за своим заказом? – Ну конечно. Надеюсь, вы оставили нам самое лучшее. – Как и всегда для таких преданных и приятных клиентов, как мэтр Лафуа и его супруга. Не то что некоторые! – добавил он, бросая ядовитый взгляд на служанку с улитками, которая, несмотря на угрозы потратить свои денежки в другом месте, даже и не думала уходить. «Судьба, везде и всегда, – подумал Ардуин. – Мадлен Фроментен, женщина, о которой говорил Альфонс Фортен». Он ломал голову, как бы получше подобраться к ней, чтобы добыть нужные сведения, – и вот, пожалуйста, сама судьба преподносит ему эту встречу. С легкой улыбкой на губах женщина удостоверилась в свежести удильщика[551], завернутого в травяной кокон, и протянула торговцу деньги. Остановившись на расстоянии нескольких шагов, Ардуин наблюдал за нею с равнодушным видом праздношатающегося или мужа, который ждет, пока его жена торгуется с рыбником. Мадлен Фроментен, которой на вид было около тридцати, была достаточно привлекательна и отличалась скромной сдержанной красотой. Несмотря на подчеркнуто скромный фасон, ее одежда подчеркивала изящный силуэт, чепчик из накрахмаленного тонкого батиста позволял заметить несколько вьющихся прядей волос глубокого темного цвета, красиво оттеняющих молочно-белую кожу. – До скорого, мэтр рыбник. – Оставить вам что-нибудь хорошего на завтрашний постный день? – Как всегда, благодарю вас. – Скорее всего, это будет лосось; вашим хозяевам он понравится. – Предупрежу нашу кухарку, чтобы приготовила его повкуснее. Кивнув на прощание, она направилась в сторону. Ардуин подумал, что Гарен Лафуа, о котором все бывшие слуги отзывались как о большом скупердяе, прекрасно живет на широкую ногу. Черт возьми: удильщик, лосось, хорошенькая новая жена, одетая будто буржуазка; собственный дом, от которого бы не отказались и более благородные семьи!.. Судя по всему, деньги покойной мадам ему очень даже пригодились. Палач направился за служанкой, ожидая, когда она отойдет подальше от толпы и свернет на улицу Бург-ле-Конт, а затем окликнул: – Мадам Мадлен… Женщина удивлено оглянулась. Ее вежливая улыбка завяла, когда женщина поняла, что элегантный мужчина, который приближается большими шагами, ей незнаком. Выражение ее лица стало сдержанным, правда, без особой враждебности. Респектабельная дама, которая сохраняет самообладание, оказавшись лицом к лицу с незнакомым мужчиной. – Мадам Мадлен, прошу прощения за эту невольную фамильярность. Спешу вас заверить, что она вовсе не того свойства, которого стоит опасаться порядочной женщине. – Месье? – Ардуин Венель, с глубочайшим почтением, – произнес он, чуть поклонившись. – Откуда я вас знаю? Она говорила с такой непринужденностью, что мэтр Правосудие невольно задал себе вопрос, что заставило ее пойти в услужение. – Никогда не имел счастья быть вам представленным. Ваше имя мне назвал некий Альфонс Фортен. В ее и без того недоверчивом взгляде загорелся огонек беспокойства. – Альфонс? Как у него дела? – Очень хорошо. Время меня торопит. Я не хочу выглядеть грубым и покорно прошу принять мои извинения. Альфонс Фортен сознался мне, что ему заплатили за свидетельство относительно Эванжелины Какет. Беспокойно оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто не может их услышать, Мадлен прошептала: – Замолчите же, наконец! – Прошу прощения, но я не могу этого сделать. Моим нанимателем является не кто иной, как помощник бальи Арно де Тизан. Окончательно перепугавшись, женщина принялась неразборчиво бормотать: – Ради всего святого, мессир, оставим это… – Увы, нет. Мессир де Тизан поручил мне узнать правду. По словам Фортена, у вас есть сведения, которые могут повлиять на исход процесса. – Он такое сказал? Не могу поверить… Он всегда был так добр ко мне. – Добр, потому что тайком ощипывал Лафуа, чтобы облегчить существование вашему сыну? Женщина опустила голову, слезы показались у нее на глазах. – Умоляю вас, Мадлен. Скажите мне правду, и, клянусь честью, я сохраню в тайне, откуда ее узнал. Эванжелина Какет былаподвергнута пыткам, а затем заживо похоронена. Вы именно ей обязаны спокойствием своей души. Не вынуждайте меня сообщить ваше имя помощнику бальи. Он не замедлит послать за вами в дом Лафуа. Это же какие неприятности вам будут! Мадлен Фроментен сжала обеими руками полотенце, в которое был завернут удильщик. Снова испуганно оглянувшись, она отрицательно затрясла головой, положив руку себе на горло, а затем произнесла вялым бесцветным голосом: – Она ее убила. Эванжелина Какет убила Мюриетту Лафуа. Если мессир Гарен узнает, что я была свидетельницей, он выкинет меня на улицу в то же мгновение… Мессир, сжальтесь над моим сыном, прошу вас. – Я не желаю вам ничего плохого. Я всего лишь стараюсь узнать, как все было на самом деле. Почему вы так уверенно об этом заявляете? Слеза скатилась у нее по щеке, но Мадлен, судя по всему, этого даже не заметила. Глубоко вздохнув, она проговорила: – Потому что я ее видела. – Что я слышу?! – воскликнул мэтр Правосудие. – Потише, мессир, умоляю вас… Если меня услышат… я… я… Снова притронувшись к своей шее, она объяснила: – Когда мы стирали белье, шершень укусил меня в горло. Анетта, одна из служанок, которые занимались бельем, сказала, чтобы я сию же минуту вернулась в дом и приложила к укусу разрезанную луковицу. Она считает это лучшим лекарством, что бы ни случилось. Я колебалась, но опухоль стала довольно большой, меня начал пробирать озноб, а затем и голова закружилась. И… Вот так… – А что было потом? – мягко поинтересовался Ардуин, который прекрасно понимал, что молодая женщина сейчас снова переживает эту ужасную сцену. – Я вошла с улицы в кладовую, думала там найти луковицу. И вдруг… Они так кричали, так ругались… Хозяйка угрожала Эванжелине, что сейчас позовет людей бальи и они бросят ее в подземелье, где та умрет от голода. Эванжелина… она же по еде с ума сходила. Мюриетта Лафуа знала это и часто нарочно оставляла ее голодной. – Знаю, – кивнул Ардуин. – Она плохо с нею обращалась, пользуясь ее слабоумием. – Да. Я услышала звуки пощечин и как плакала Эванжелина, не переставая кричать «нет, нет!». Мюриетта Лафуа орала: «Воровка, собака, мерзавка паршивая!» Я решила уйти побыстрее, пока меня не заметили. Хозяйка могла рассердиться, узнав, что я все слышала.* * *
Снова то же непонятное видение. Мари де Сальвен пристально смотрит на него сквозь разделяющую их стену огня. На ее шее блестит медальон. Но ведь у пригворенных забирают все украшения. Из тетради с процесса: Жена Лафуа сжимала в руке серебряный медальон с изображением Святой Девы.* * *
– Вы помните, у хозяйки была серебряный медальон со Святой Девой? Эванжелина его украла? – спросил Венель-младший. – Она никогда бы ничего не украла, даже будучи слабоумной, – поправила его Мадлен, вытирая другую слезу. – Почему вы так решили? – Бедная дурочка забиралась с этим медальоном на антресоли и проводила там целые вечера напролет. Она целовала его, чистила, без конца говорила с ним, бормотала какие-то просьбы, молитвы… Я попыталась забрать у нее этот медальон и даже хотела солгать Мюриетте Лафуа, будто нашла его под мебелью. Эванжелина впала в такое неистовство, что я было подумала: сейчас ударит. Этот медальон был для нее чем-то вроде святой реликвии. Она постоянно таскала его с собой, уверенная, что Очень Добрая Святая Дева улыбается именно ей. – Так что вы сделали после этого взрыва ярости? – Успокоила ее и постаралась несколько раз объяснить, что если хочет оставить медальон у себя, она должна спрятать его как следует. И что если хозяйка узнает о краже, то наказание может быть ужасным. – А что ответила Эванжелина? – «Уй-уй», как всегда. Ничего она не поняла. Просто была довольна. Я ей оставила ее самую драгоценную вещь. Ее единственное сокровище. Ардуин был потрясен глубокой печалью, ясно читавшейся на хорошеньком личике. Губы Мадлен были плотно сжаты и дрожали, с трудом удерживая поднимающиеся из горла рыдания. Мэтр Правосудие был почти сердит на себя за то, что принуждает ее к этому признанию. – Ну хорошо, а дальше? Что произошло после той ссоры? – Сжальтесь, мессир… я должна вернуться. – Уверяю вас, не могу при всем желании. Я обязан узнать всю правду, Мадлен. – Я… заметила в голосе Эванжелины настоящий гнев. А затем… Затем Мюриетта Лафуа начала выть… Да, именно выть – от боли, от ужаса. Я перепугалась, не знала, что мне делать. От страха мне было даже с места не сдвинуться. А она все выла и выла… И вдруг я бросилась в кухню… Хозяйка валялась на полу, вся в крови. Она больше не шевелилась. Эванжелина стояла на коленях рядом с нею и била ее топориком. Еще и еще раз. Я закричала… Ее речь была прервана рыданиями. Прикрыв рот рукой, Мадлен уставилась вдаль полными ужаса глазами. – Тогда… дурочка прекратила свое занятие. Она подняла голову, улыбнулась мне и принялась бормотать: «Миленькая Мадлен… она взяла мой медальон… миленькие карпы… им хорошо. Больше не кричат». На кухонном столе и правда лежала дюжина карпов с отрубленными головами. Эванжелина расплакалась и стала показывать на руку мадам Лафуа: «Злая… взяла у меня медальон… сдохни, плохой карп!» С этими словами Мадлен испустила вздох, полный бесконечной грусти. – Вот и всё, мессир. Клянусь перед Богом, клянусь головою моего обожаемого сына. Она ее убила. – Зверски. – Нет… Такие слова для нее ничего не значили. Она убила хозяйку так же, как делала это с карпами, удивляясь, что она кричит. – А что вы сделали дальше? – Я… я была просто не в состоянии здраво рассуждать. Я подобрала топорик и… не знаю, чего я хотела на самом деле. Я боялась, что Эванжелина продолжит кромсать мадам Лафуа… – И вы подумали, что если люди бальи не обнаружат орудие преступления рядом с дурочкой, они не заподозрят ее в убийстве? Мадлен Фроментен кивнула в знак согласия. – Я бросила топорик в заросли шалфея, а потом присоединилась к остальным, сказав, что укус больше меня не беспокоит и что я немного отдохнула в тени. Я знала: Эванжелина забудет, что я приходила. – Но… почему вы об этом не сказали? Ведь Гарена Лафуа могли заподозрить в убийстве жены, – заметил Ардуин. – О… я бы ни за что не позволила, чтобы его обвинили. Тогда я бы стала свидетельствовать безо всяких денег. Но… я подумала, что вот так обвинять бедную дурочку будет не христианским поступком. Я хотела… избавить палача от мук совести, – закончила она, даже не подозревая, что говорит о своем собеседнике. – Что ж, вам не откажешь в рассудительности, – согласился Ардуин. – Прощайте, Мадлен. Я узнал все, что мне было важно выяснить. Он кивнул ей на прощание и хотел удалиться, но женщина удержала его за рукав куртки. – Мессир, вы ведь не станете упоминать мое имя? – Нет, успокойтесь. Мне будет достаточно заверить своей честью, что девица Какет действительно виновна в убийстве своей хозяйки. Арно де Тизан как раз этого и хочет – успокоить свою совесть. И с моей помощью у него это получится.* * *
Он ошибался, но узнать это ему предстояло гораздо позже.31
Крепость Лувр, Париж, октябрь 1305 года. В тот же день чуть позже Весь день Эмиль Шапп злился, мысленно сыпля ругательствами и проклятиями. Когда же толстый Карл с дряблым подбородком отправится в свои апартаменты, чтобы там, как он всегда говорил, «спокойно подумать о неотложных делах королевства», а на самом деле зевать, широко открыв рот? Молодой секретарь решил, что его высочество, скорее всего, плюхнется в кровать, чтобы храпеть там до самого ужина. Он украдкой следил из своего маленького, заставленного мебелью кабинета, открыв дверь в большой зал будто бы для того, чтобы быть готовым выполнить малейшее распоряжение брата короля. Правда, распоряжения поступали не особенно часто: Карл только и делал, что мечтал о коронах и завоеваниях, воображая себе, как посредством их расплатится со своими бесчисленными долгами, а вовсе не об управлении вверенными ему землями. При всей своей язвительности и скептицизме Карл не мог разглядеть правды: Филипп Красивый вовсе не нуждался в брате как в министре или советнике. Напротив, короля полностью устраивала его постоянная поддержка и, без сомнения, неподдельная нежность, что и объясняло уступчивость, с которой тот относился к требованиям своего младшего брата. Наконец Карл де Валуа убрался, так не сказав ни слова своему молодому секретарю и даже не взглянув в его сторону. Эмиль закрыл рог с чернилами и старательно разложил листы бумаги в две разные стопки: малопривлекательные обрывки для посланий слугам и вассалам и целые листы для важной корреспонденции. На самом деле мессир де Валуа не предписывал никакой экономии; он даже не догадывался о дороговизне бумаги, так как она оплачивалась королевскими денье. Но в то же время эта ловкость давала Эмилю возможность каждую неделю потихоньку откладывать несколько листочков. Он также получал свою скромную выгоду. До недавнего времени эти мелкие кражи не портили настроения молодому человеку; они лишь увеличивали список его претензий к брату короля. Это потому, что тот его всегда унижал, презирал, не замечал! Только поэтому он и стал таким нечестным, вот и всё! Эмиль Шапп рассуждал подобно множеству предателей, которые путем разнообразных софизмов пытаются сохранить хотя бы подобие самоуважения. Чтобы оправдать собственную низость, следует обвинить в совершаемом тобой зле кого-то другого. Он пересек большой зал и замер перед рабочим столом его высочества монсеньора де Валуа, подбоченившись и заранее упиваясь картинами своей будущей жизни. Нет никаких сомнений, что мессир де Ногарэ найдет достаточно удовлетворительный предлог заполучить его к себе на службу, не рискуя при этом, что его высочество почувствует себя задетым. Гийом де Ногарэ известен своим живым умом и острым деловым чутьем, поспешил утешить себя Эмиль Шапп, который теперь приписывал королевскому советнику все добродетели в мире. На столе королевского брата, где было не так много бумаг и книг для записей, секретарь заметил свиток с посланием д’Эстревера. Сперва он колебался, сознавая, какие роковые последствия может иметь этот поступок, если он будет раскрыт, но в конце концов честолюбие возобладало. Быстрым движением Шапп схватил свиток и спрятал его под мундиром. Да этот тупица Карл про него даже и не вспомнит! Польщенный быстротой, с которой мессир де Ногарэ пригласил его в рабочий кабинет, Эмиль Шапп старался сдержать переполняющую его радость, сохраняя серьезное, даже суровое выражение лица. Он низко склонился перед советником, который сидел за письменным столом с пером в руке. – Мой славный Эмиль, присаживайтесь. «А ведь он, ей-богу, заинтересован!» – подумал секретарь, светясь от счастья. «Мой славный Эмиль»! Подумать только, он запомнил его имя! Можно сказать, дело в шляпе. Черт возьми, какой правильный выбор он сделал! – Что привело вас ко мне? Как вы помните, между нами царят сердечность и доверие, – успокоил его советник, который в случае необходимости без колебаний бросил бы этого молодого человека в подземную тюрьму. – Хорошо, мессир… у меня есть некоторые сведения, которые, как мне показалось, могут представлять для вас интерес, хотя я в них почти ничего не понимаю. Во всяком случае, ваше восхитительное знание сильных мира сего и политических дел, безусловно, превосходит мое ничтожество. Ответом на этот поток льстивых речей был лишь невыразительный вздох. – Мой славный Эмиль… Когда я буду иметь удовольствие числить вас в маленькой группе своих… единомышленников, вы быстро поймете, что я совершено не похож на монсеньора де Валуа, к которому испытываю безграничное почтение. У каждого есть свои маленькие причуды… Моя состоит в том, что я не доверяю льстецам, которых, к моей досаде, здесь целый легион. Эмиль Шапп нервно сглотнул, поняв, что только что совершил промах. – А вот к чему я отношусь очень серьезно, так это к своему времени, которое имеет досадное свойство бежать быстрее меня. – Прошу прощенья, мессир. Это лишь потому, что… прихоти монсеньора де Валуа… то есть его самые излюбленные привычки совершенно противоположны вашим. – Да, по крайней мере, так говорят, – ответил Ногарэ шутливым тоном, который успокоил Шаппа. – Что же, Бог в своей бесконечной мудрости создал нас разными… Итак, что же вы мне принесли? Поколебавшись всего лишь мгновение, Эмиль вынул из-за пазухи своего мундира недавно утащенное послание. Мессир де Ногарэ внимательно прочитал его, немного нахмурившись, а затем посмотрел на молодого человека, подобно хищной птице, высматривающей добычу. – Ничего не понимаю. – Конечно, мессир… Эта история представляется такой запутанной… в Ножан-ле-Ротру, как я уже имел честь говорить, происходят убийства несчастных детей. Из переписки между мессиром Аделином д’Эстревером и братом короля я понял, что последний живо заинтересован в этом деле. Затем Шапп кратко изложил содержание разговора между этими двумя персонами, опустив лишь ту деталь, что в это время он сам прятался за гобеленом. В то же время секретарь был уверен: советник догадался, что сведения добыты не самым красивым способом. Некоторые детали Ногарэ заставил его повторить еще раз, и молодой человек постарался их изложить предельно четко и лаконично. Наступило молчание. Плотно сжав губы, мессир де Ногарэ размышлял, внимательно рассматривая перо, которое так и держал между пальцами. – Черт возьми! И в самом деле какая-то путаница… Что это все может означать? Для монсеньора де Валуа это вполне законное желание – поспешить на помощь доброму Жану Бретонскому, деду своего зятя, разве не так? Но в таком случае почему бы не обратиться к нему напрямую, не затевая переписку с замечательной матушкой-аббатисой, мадам Констанс де Госбер? Эмиль Шапп тоже не спрашивал себя об истинных побуждениях Карла Валуа. Он открыл было рот, но тут же одернул себя. Однако мессир де Ногарэ произнес ласковым ободряющим тоном: – Ну же, мой славный Шапп… мои любезные спутники по работе прекрасно знают: я в первую очередь ценю не прекрасный почерк, хотя и его тоже, а живой и преданный ум, способный прийти на помощь моему, не вовлекая меня в скверные ситуации… чего я никогда не прощаю. Знайте же, что мы сердечно беседуем, обмениваясь предположениями, гипотезами, слухами… никаких утверждений. Радость, которую испытывал Эмиль с самого начала аудиенции, стала еще сильнее. Боже мой, сам советник, к которому король прислушивается больше всех, – советуется с ним, ничтожным секретарем, интересуется его умозаключениями… Какое наслаждение! – Хорошо… тогда если… я с вашего позволения осмелюсь предположить… хорошо… те несколько фраз, которыми обменялись монсеньор де Валуа и его бальи шпаги, были трудны для моего понимания. Но брат короля настаивал, что его вовсе не интересует, будет ли пойманный убийца детей настоящим или нет. – Значит, согласно вашему подробному рассказу, именно на это мессир д’Эстревер ответил: «Однако нам нужно раскрыть это дело, чтобы, когда мы достигнем того, чего желаем, эти убийства прекратились». – На это монсеньор де Валуа сказал: «И уничтожить убийцу, чтобы он снова за это не взялся и не навлек подозрение на… подлинно виновного, который уже найден»! – подчеркнул Шапп. – Однако! Черт возьми… И как бы вы с этим поступили, мой славный Эмиль? Молодой человек бросился будто в омут с головой, уверенный, что мессир де Ногарэ пришел к тому же совершенно невероятному выводу. – Я предполагаю, раз уж мне это позволено, – разумеется, без всякой увереннности… А если монсеньор де Валуа хочет доставить монсеньору Жану Бретонскому какие-то трудности в его владении Ножан-ле-Ротру? А в этом случае что может быть более действенным, чем чудовищное дело с убийством детей и бальи, который не способен расследовать преступление? Что яснее всего продемонстрирует беспечность и нерадение, которые царят в этом прекрасном городе? – Хм… А также вызвать раздражение короля против своего брата и, не исключено, что и силой восстановить власть сеньора над этими землями. Любопытное рассуждение… Во всяком случае, Изабелла, дочь Карла Валуа, будучи супругой внука Жана… но почему в таком случае просто не подождать его кончины? – заметил Ногарэ. – Которая может и запоздать. Тем более что Жан, сын Артура, всего лишь внук Жана Второго. Наследование же свойственников может вернуться к Валуа с большим опозданием. К тому же кто сказал, что прямой наследник, который родится от этого брака, не продемонстрирует властный характер своему деду Карлу, если его отец все-таки станет в свою очередь герцогом Бретонским?[552] Положив наконец перо, которое в продолжение всего разговора не переставая вертел в пальцах, советник произнес: – И правда, я должен поразмышлять. Почувствовав, что ему самое время удалиться, Эмиль Шапп встал и поклонился. Но мессир де Ногарэ остановил его коротким нервным движением. – Повторите, что сказал мессир д’Эстревер про палача из Мортаня. – Мессир бальи шпаги Перша уточнил, что речь идет о прекрасном исполнителе, который не просит никакого вознаграждения за эту работу. Я не знаю, в чем она на самом деле состоит. Исполнитель Высоких Деяний Мортаня делает это для помощника бальи в обмен на разрешение ознакомиться с записями с процессов. Упомянув об этом, мессир де Тизан просто рассыпался в похвалах. Опустив подбородок на молитвенно сложенные руки, Гийом де Ногарэ слушал с неослабевающим вниманием, которое льстило самолюбию Эмиля. – Хм… что же с этим делать? Эмиль, я полагаю, что мы с вами прекрасно понимаем друг друга. Скажите, брат короля очень нуждается в ваших услугах? От радости сердце молодого человека едва не выскочило у него из груди. – Не особенно, мессир… У монсеньора де Валуа четверо секретарей… у которых очень мало работы. – Что объясняется лишь необычайными организаторскими способностями Карла де Валуа. Заметив иронию в его словах, Эмиль лишь слегка наклонил голову. – Я мог бы осторожно внушить королю, что моя служба ему требует дополнительных рук… До встречи, мой славный Эмиль. До очень скорой встречи.32
Окрестности Мортаня, октябрь 1305 года В сопровождении пса Энея, который вывалил язык едва не до земли, радуясь новому приключению, Венель-младший тем же вечером пришел к высокой двери своего жилища. Он чувствовал себя совершено разбитым, но скачка на Фрингане утомила его гораздо меньше, чем все эти встречи и пребывание в Ножан-ле-Ротру. А может быть, громадная усталость, которую он ощущал, была следствием глубокого разочарования: ведь он уже успел поверить в невиновность Эванжелины Какет. Чистосердечный рассказ Мадлен Фроментен оказал на него действие, подобное удару кнута. Ардуин пытался хладнокровно рассуждать: ведь гораздо лучше, что от его руки погибла убийца, а не дурочка, которую оклеветали. Но тогда откуда это сожаление, поднимающееся из самой глубины души? Ведь это же эгоизм и ребячество – жалеть о том, что не установил справедливость – другую справедливость, свою… К тому же и глупость, потому что справедливость и так уже исполнена. К Фрингану подбежал мальчик из конюшни и погладил жеребца по губам, спросив: – Хорошее было путешествие, хозяин? – Очень хорошее. Как следует оботри его и задай ему овса. Он это заслужил, тем более что в Ножане за ним ухаживали не так заботливо и внимательно, как это делаешь ты. И, обращаясь к жеребцу, добавил: – Ну, иди, мой славный. Спасибо за твою стойкость. – Это что, дворняга? – спросил мальчик, гладя Энея. – Не произноси слова «дворняга», ты его этим очень обидишь. Он выглядит как чистокровная пастушья собака, – шутливо заметил мэтр Правосудие.* * *
Бернадина бросилась к нему; она буквально светилась от радости, что снова видит Ардуина. На пса, который, виляя хвостом, обнюхивал подол ее платья, она всего лишь бросила быстрый взгляд. Но женщина сразу овладела собой и приняла обычный строгий и немного высокомерный вид. Поджав губы, она недовольно заговорила: – Хороший же у вас вид, хозяин, нечего сказать! А кожа-то прямо серая… И чем вас там только кормили! – У матушки Крольчихи неплохая кухня, но с твоей, моя хорошая, она не идет ни в какое сравнение. Удовлетворившись ожидаемым комплиментом, Бернадина снова стала жизнерадостной. – А это еще что за лохматый кошмар? – Моя собака, Эней. – Господи Боже, только этого мешка с блохами здесь не хватало… Его ведь, поди, кормить надо? – Еще как надо! А еще надо найти ему теплый уголок где-нибудь в пристройке. – Ах-ах… Поклясться готова, еще одного спасли, – притворно рассердилась женщина. – Вид-то у него не больно откормленный. Похоже, забот с ним будет побольше, чем с этой! И колбасу от него надо будет беречь… Ардуин ничего не ответил, понимая, что речь идет о дурочке Сидони, которую он приютил. А может быть, не такой уж и дурочке. Вслед за Бернадиной он направился на кухню, где девушка с упрямым видом чистила щуку. Она едва подняла на него взгляд и вместо приветствия ограничилась невнятным «наш хозяин», что исторгло из груди Бернадины измученный вздох. Странное дело: Эней бросился к этой неповоротливой худой девушке, радуясь ей, будто только что снова встретил старого друга. Та наклонилась его погладить и, к удивлению Ардуина, издала тихий счастливый стон. – Хозяин, как те дела, которые заставили вас отправиться в Ножан? Надеюсь, все уладилось? – осведомилась Бернадина так осторожно, будто шла по яичной скорлупе. Больше всего на свете она сейчас боялась оказаться неделикатной. Тем не менее женщина поняла, что последние события связаны между собою и имеют отношение к судебным делам: визит Арно де Тизана, долгие часы, которые Ардуин провел за чтением тетрадей с процесса и, наконец, его внезапный отъезд в Ножан. – Да, все хорошо, – ответил он, принимая поданный ею стакан вина. Бернадина внезапно обернулась к Сидони и принялась ее ругать: – Девочка, ты же не угря чистишь! Это ведь тебе не что-нибудь, а щука, да еще из Анжера! Господи, ну что за манеры! Но та даже не удостоила ее ответным кивком. Ардуин колебался, не отводя от нее взгляда. Интересно, почему она тогда повторила, что содержание тетрадей с процесса девицы Какет очень важно для него? Она же об этом вообще ничего не знает! А вдруг девушка когда-то встречала Эванжелину? Или она тоже, как говорит Бернадина, немного чокнутая? Он очень хотел это понять. Чтобы добиться хоть какого-то результата, Ардуин громко произнес: – Мессир де Тизан пожелал удостовериться в виновности дурочки, казненной пять лет назад за чудовищное убийство своей хозяйки. – Господи, ужас-то какой! – заметила Бернадина. – Да, самое подходящее слово. – Ну и как, виновна она? – Да, к моему удивлению. Сидони осталась безразличной к этим словам; она продолжала сражаться с рыбой и, казалось, даже ничего не слышала. Тогда Ардуин спросил ее: – Скажи, почему ты утверждала, что записи с процесса над дурочкой так важны для меня? Ты же их не читала! Она уставилась на него пустым взглядом и повторила немного гнусавым голосом: – Утве… Утверждала? – Утверждала. Это означает – сказать то, в чем очень уверена. – А… Да не знаю я. Но это тебе важно. Всегда тебе важно! – Господи Иисусе, выведет же она меня когда-нибудь из себя! – процедила сквозь зубы Бернадина. – Вечно как разинет свой рот да как ляпнет что-нибудь без складу и ладу… Ардуин встал тоже в некотором раздражении и произнес: – Сразу же после ужина я пойду работать. Признаться, я очень устал. Напои и накорми Энея, хорошо? Ему пришлось пробежать очень догий путь. – Я все сделаю, – вдруг перебила его Сидони. – Я так люблю дворняг… Отыщу ему уютный уголок, где бы он мог поспать. Пойдем, собачка! Эней взглянул на своего хозяина, прося у него позволения. Тот прошептал: – Иди. Замарашка радостно вышла из кухни вместе с собакой. – Ну и дела! – удивленно заметила Бернадина. – В первый раз она обнаружила желание пошевелиться ради кого-то.33
Окрестности Мортаня, октябрь 1305 года Ардуин Венель-младший спал очень крепко, без всяких сновидений – по крайней мере, ничего из них не запомнил. Он приступил к умыванию, неторопливо оделся, а затем спустился в кухню, где его ждала Бернадина. За столом, который она накрыла, запросто могли бы насытиться трое основательно проголодавшихся мужчин. – Ты, похоже, решила откормить меня, будто новогоднего гуся. Но я должен снова ехать в Мортань. Пожалуйста, будь любезна распорядиться, чтобы мальчик из конюшни оседлал Фрингана. Эней останется здесь. Палач, да еще и с дворнягой, – для нашего помощника бальи это будет уже чересчур, – иронично добавил он. – А мне не хотелось бы нарушить процесс его пищеварения. Фыркнув, Бернадина вышла из комнаты, перед этим успев налить ему стаканчик теплого сидра.* * *
Доверив своего жеребца конюху в одной из конюшен на въезде в город, Ардуин с радостью ступил на улицы оживленного и роскошного Мортаня. Странное дело: он никого не предупредил ни о своем визите, ни о возвращении, но, несмотря на это, ему показалось, что в особняке, который занимал помощник бальи со своими службами, его уже ждали. И правда, палача очень быстро проводили в кабинет мессира Арно де Тизана, который при его появлении поднял голову от внушительной черной книги для записей и с необычной сердечностью поприветствовал его, заметив: – Эти строки означают очень много работы для вас. Масса обвинений от инквизиции. Наши добрые друзья из нквизиторского дома в Алансоне работают с удвоенным усердием. – Причина в деньгах, правда?[553] – вырвалось у Ардуина неожиданно для него самого. Арно де Тизан внимательно посмотрел на него и ответил ровным безразличным тоном: – Мессир палач, некоторые шутки могут обойтись очень дорого. К тому же я не очень хорошо расслышал ваши слова. Ардуин понял, что его предостерегают. В конце концов, что он знал о помощнике бальи? Некоторым для доноса в инквизицию хватило бы и гораздо меньшего. Мэтр Правосудие быстро сменил тему разговора. – Вы будете разочарованы. – Черт подери, ненавижу разочарования! – Узнать и признать, не является ли это, в сущности, неотъемлемой частью нашей жизни? – Так вы еще и философ, Венель-младший! – проскрипел помощник бальи. – Ладно, давайте сюда вашу разочаровывающую новость. Ардуин кратко описал свое пребывание в Ножане, как он опросил старых свидетелей по этому делу, умолчав о том, какими методами велись некоторые из них, и, согласно данному им слову, не упомянул о Мадлен Фроментен. Тем более что он был уверен: бальи уже забыл о том, что топорик куда-то переносили. – Итак, – в заключение произнес он, – Эванжелина Какет в самом деле жестоко убила свою хозяйку Мюриетту Лафуа. Вдовец, хоть он и не особенно горевал, здесь ни при чем. Вопреки ожиданиям помощник бальи не был огорчен этим открытием. Он принял его с легкой улыбкой, сказав: – Что же, вы меня успокоили, а то я уже начал было питать иллюзии по отношению к этому чудовищу – возможно, из сострадания к ее жалкому состоянию. Но теперь вы и в самом деле сняли тяжесть с моей души. Я уже начал было подозревать, что, проявив глупую и недопустимую поспешность, осудил невиновную. Однако, к своему немалому удивлению, Ардуин заметил, что за этими словами мессира де Тизана скрывалось полнейшее безразличие.* * *
Внезапно наступило молчание. Помощник бальи захлопнул книгу для записей и положил ее на стол, аккуратно выровняв. По напряженным движениям его рук Ардуин понял, что тот подыскивает слова, чтобы сказать о том, что его занимает на самом деле. Неожиданно в голове мэтра Правосудие возникла совершенно несуразная мысль. Не такая уж глупая, просто она посетила его более чем некстати. Арно де Тизан продолжал пристально разглядывать своего необычного собеседника. Ардуин же позволил судьбе его вести к неизвестному предназначению. Он ничего не знал о нем и не хотел знать. Интересно, кто же из них двоих быстрее достигнет своей цели? Берегись! Тебя водят за нос, красавчик ты мой! Красавчик, который весь в кровище… – Это заключение по делу Какет меня и в самом деле успокоило, – снова повторил помощник бальи. – А что касается этих ужасных бесчеловечных убийств маленьких сорванцов… насколько вы продвинулись в этом деле? – Увы, никак. Во время моего пребывания в Ножане нашли еще одного. Мы с Антуаном Мешо – талантливым медиком, о котором вы упоминали, – осмотрели его. – Ну и?.. – Разделан, как свинья на бойне. Мешо сообщил мне имя человека, которого он все это время подозревал. Моя… беседа с ним не подтвердила предположений доктора. Изможденное лицо помощника бальи так и сжалось от разочарования. Тем не менее он нашел в себе силы вежливо улыбнуться. – Должно быть, у мессира де Тре от такого вся кровь свернулась. – Не знаю, сеньор бальи, я его не встречал. – Вы рассчитываете… вызвать больше интереса к этой чудовищной истории? – поинтересовался Арно де Тизан со слишком легкой интонацией, чтобы она была правдоподобной. – Конечно, я должен заняться своими делами, которыми столько времени пренебрегал, и теми обязанностями, о которых вы мне сейчас сообщили, – схитрил Ардуин, показывая на черную книгу для записей. – Ну, инквизиторские процессы могут и подождать… Думаю, обвиняемые вряд ли станут на вас сердиться, если вы опоздаете на их допрос. Ардуин счел такой каламбур неуместным, но предпочел об этом благоразумно промолчать. Арно де Тизан встал из-за стола; похоже, он собирался задать какой-то вопрос, но затем спохватился. Подойдя к камину, помощник бальи потянул за один из висящих в углу шнурков из позумента[554]. Послышался звон колокольчиков. Несколько секунд прошли в полном молчании. Затем раздался стук в дверь. – К вашим услугам! Вошел старик, настолько высохший, что, наверное, весил не больше воробья, скрюченный от болезней и старости. Он наклонился еще сильнее, с большим трудом сдерживая гримасу боли. Не глядя на него, Тизан бросил: – Принеси нам два стакана теплой настойки и блюдо чего-нибудь, что найдешь. Какой-нибудь легкой закуски. – Хорошо, мессир. Сию минуту, мессир. Когда старый слуга ушел, Ардуин подумал, что помощник бальи предстал перед ним с новой и не очень привлекательной стороны. Он не сомневался, что де Тизан – человек чести, но, как он теперь понял, исключительно по отношению к тем, кто принадлежит к его сословию. Ардуин заблуждался, позволив убедить себя, что помощника бальи действительно интересует судьба бедной дурочки и что он в самом деле хочет восстановить справедливость. Очевидно, что ему нет никакого дела до Эванжелины Какет, виновной или невиновной. Ведь она не принадлежала к его сословию… Но тогда зачем ему уверять Ардуина в своей признательности? Мэтр Правосудие испытывал к нему все меньше и меньше доверия. Тизан снова принялся говорить, как он расстроен бесчеловечными убийствами детей в Ножан-ле-Ротру. Ардуин Венель-младший почти не слушал, время от времени кивая и предпочитая сосредоточить все внимание на его мимике, на взгляде, холодность и сосредоточенность которого контрастировали со словами возмущения и сострадания. Внезапно Ардуин ощутил сильнейшую злость, смешаную с отвращением. Он было открыл рот, чтобы заявить, что не желает продолжать это расследование, но именно в этот момент вошел старый слуга, который осторожно и торжественно держал поднос. Отвесив еще один поклон, что ему явно стоило большого труда и мучений, слуга молча поставил поднос на бюро помощника бальи, не удостоившего старика даже благодарности. Коротким жестом Арно де Тизан пригласил Ардуина к столу. В этом движении мэтру Правосудие почудилось все презрение мира, в то время как его собеседник, скорее всего, хотел продемонстрировать свое расположение. – …Итак, я распорядился составить письмо, чтобы его уведомили обо всем. Никаких сомнений, что новость успокоит сердце этого благородного человека, – закончил помощник бальи, набрасываясь на золотистые пирожки. В этот момент Ардуин ощутил, что снова оказался на твердой почве. Его жизнь зависела от того, что он был не в состоянии уяснить, от того, что предшествовало этой фразе. Впрочем, какая разница… Мэтр Правосудие ограничился лишь кратким замечанием: – Да, разумеется. – Всего лишь наименьшая из любезностей. Итак, возвращаясь к Ножану, уважаемый мэтр Высокое Правосудие… Его слова были прерваны новым стуком в дверь. Помощник бальи бросил страдающим тоном: – Ну, что там еще? В кабинет нерешительно вошел секретарь, покраснев и опустив глаза под нелюбезным взглядом Арно де Тизана. – Э… мессир… гонец из Ножан-ле-Ротру. Семья Мари де Сальвен сердечно благодарит за то, что доставили ей такое утешение. Лицо помощника бальи осветилось самой искренней улыбкой, с которой он и отпустил юного секретаря. Ардуин вдруг ощутил, что скользит к озеру с черной водой, теплой и приятной. Ножан, Мари. Ласка, дыхание… С ним только что говорила сама судьба. Он с трудом удержался от слез, которые выступили у него на глазах. – Итак, мэтр Высокое Правосудие? – настойчиво повторил помощник бальи, не подозревая о восхительной буре, которая сейчас царствовала в разуме его палача. – Предоставьте мне два дня, чтобы уладить неотложные дела. – Охотно. До скорой встречи, мой друг. «Друг, как бы не так! Ты мне не друг и никогда им не станешь», – подумал Ардуин, поднимаясь на ноги.34
Окрестности Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года Накануне баронесса-мать Беатрис де Вигонрен нарочито хлопотливо принимала у себя своего зятя, Эсташа де Маленье. Тем не менее она никогда не испытывала ни дружеских чувств, ни уважения к тому, кого в своем ближайшем окружении называла не иначе как «мягкотелая улитка». В самом деле, мессир де Маленье носил свое большое обрюзгшее тело так, будто в нем не было позвоночника. Но его выручала прекрасная судьба, которая, немотря на его непривлекательный внешний облик, постоянное ворчание и никуда не годные манеры за столом, наделила его благородным происхождением, а также доставшимся от предков цепким практичным умом, военной доблестью и древней кровью. Вот поэтому он и был принят в семью Вигонрен с распростертыми объятиями. Что же касается Агнес, то Беатрис из стыдливости или осторожности не задавала ей вопросов об истинных чувствах, которые та испытывает к своему супругу. Из тихих подавленных вздохов и украдкой брошенных страдальческих взглядов баронесса-мать сделала вывод, что ее любимая дочь предпочла страсти разум и долг, по примеру многих женщин ее положения. Что бы там ни было, Эсташ был последним взрослым мужчиной в семье, и его приезд ранним утром стал облегчением для тещи. Конечно, Эсташ по-скотски спал до полудня, потом набивал себе брюхо, а затем снова спал. Целыми днями Беатрис была в нетерпении, ожидая благоприятного момента, чтобы побеседовать со своим зятем. Когда они все вместе собрались за ужином, Эсташ не переставая сыпал анекдотами, всяким вздором, скучными историями, касающимися его путешествия и его парижских дел. Дамы же, урожденные Вигонрен, все время обменивались тяжелыми взглядами. Улыбалась одна Маот, пребывая в непрестанной радости от выздоровления маленького Гийома. После десерта – цукатов и сладкого вина с корицей – мадам Беатрис встала, давая понять, что трапеза окончена. Когда зять склонился в поклоне, прежде чем покинуть комнату, она вдруг воскликнула, как будто только что вспомнив: – О! Мой дорогой сын! Понимаю, что вы и так утомлены важными делами, но все же я хотела бы дать вам прочесть письмо одного из моих арендаторов. Мне кажется, он считает меня глупой старухой и пытается что-то урвать… Черт возьми! Я его забыла на столике в прихожей. Прошу вас, пойдемте со мной. Обещаю, много времени это не займет. Они вышли, оставив Агнес с Маот. Последняя была переполнена счастьем, что ее сын спасен, и не замечала холодности свояченицы. Маот в сотый раз заверила ее, что это Святая Дева умолила Бога-Отца не забирать мальчика к себе. Она даже удивилась, когда Агнес произнесла с вымученной улыбкой: – В этом нет никакого сомнения, мы все так молились ей… А теперь прошу меня извинить, сестрица, я так устала, что у меня кружится голова. – Конечно, моя душенька. Я такая эгоистка… Но я так счастлива! – Я прекрасно вас понимаю и желаю вам доброй ночи, – ответила Агнес, целуя свояченицу, удивленную такой поспешностью.* * *
Изумлено открыв рот и тяжело опершись на стоящий просреди прихожей столик из розового дерева, который едва не подламывался под его тяжестью, Эсташ де Маленье смотрел на тещу, которая только что поделилась с ним подозрениями, посетившими их с Агнес. Но мессир де Маленье обладал острым умом лишь тогда, когда речь шла о су или денье. Он лишь невнятно пробормотал: – Что я такое слышу, дорогая матушка… отдаете ли вы себе отчет… наконец… Усилием воли мадам де Вигонрен не позволила гневу овладеть собой. В самом деле, какая мягкотелая улитка! Франсуа – ее покойный супруг или Франсуа – старший сын, те бы мешкать не стали! Но, несмотря на это, она постаралась придать себе спокойный и любезный вид: – Видишь ли, мой дорогой сын, я… мы подозреваем, что все несчастья, которые в последние годы обрушились на нашу семью, нанесены рукой какого-то чудовища. Лишний раз подтверждая, что обладает не самым быстрым умом, Эсташ с таинственным видом прикрыл глаза и рискнул предположить: – Может, это мстит кто-то из слуг? – Ни в коем случае. Это кто-то из близких, из членов семьи, которому, как я вам уже говорила, все это на руку. Согласно его чудовищному замыслу, маленький Гийом тоже должен был умереть, несмотря на все наши усилия и все наши молитвы Всевышнему. – Э… чудо? С трудом удержав вертевшиеся на кончике языка слова «дурак несчастный», баронесса-мать резко оборвала его: – Нет, всего лишь слишком маленькая порция яда. Я слишком стара и готова воссоединиться со своими дорогими усопшими родственниками. Но подумайте о своем сыне Этьене и о своей жене, моей дочери. Огонек понимания наконец-то загорелся во взгляде Эсташа де Маленье. Он громко зачастил: – Но, дорогая матушка, вы же не думаете, что наша дорогая Маот… Наконец… – Именно в этом я становлюсь все более уверена. Кончина моего дорогого супруга сделала ее баронессой. Кончина моего сына, ее супруга, сделала ее вдовой – свободной и обладающей немалым наследством. Став совершеннолетним, ее сын унаследует титул и земли своего покойного отца. Речь зашла о единственном предмете, которым Эсташ владел в совершенстве. Поэтому он со знанием дела возразил: – Но в таком случае почему что-то должно угрожать моей жене и моему сыну? Ведь Маот не имеет права ни на титул, ни на наследственную долю имущества Гийома. Прекрасно понимая, что для зятя важно лишь собственное здоровье и в наименьшей степени здоровье жены и своего прямого наследника, Беатрис бросилась в атаку: – А если вас, например, прикончит внезапная желудочная лихорадка, кому достанется ваше состояние? – Разумеется, моему сыну, с отдельной долей для Агнес. – А если предположить, что жертвами некой загадочной болезни падут и другие – я и Агнес, – кто в таком случае легко получит опеку над Этьеном и его состоянием, да и вашим тоже? – Маот! – Именно, мой обожаемый зять. Он закрыл рот пухлой белой рукой, испуганно бормоча: – Боже мой! Господь и все его святые! Эсташ де Маленье представил себе, что он распростерт на одре болезни, корчась в муках агонии, измученный ядом, задыхающийся, жадно хватающий ртом воздух… Ах, какое ужасающее, какое плачевное зрелище! Он также представил себе сына, который отдает душу Создателю. Правда, картина сия была уже не настолько жестокой и ужасающей. Что же касается супруги и тещи, то он, конечно, не сомневался, что их безвременная кончина его опечалит, особенно смерть Агнес. Эсташ де Маленье не был злым человеком, просто он любил только себя и сына – будущего себя. Поэтому ему была невыносима сама мысль, что какой-то негодяй может представлять угрозу для них. Он выпрямился и твердо сказал: – Я знаком с Ги де Тре, нашим бальи. Я сообщу ему о наших… ужасных подозрениях. Надо помешать этой отвратительной мерзавке… то есть, я хотел сказать, этой убийце нанести удар первой! – Мой дорогой сын, будет лучше, если прежде чем добиваться помощи сеньора бальи, вы обзаведетесь доказательствами. Маот принадлежит к высшему дворянству – и по мужу, и по праву рождения. Без неопровержимых доказательств ваши обвинения никто и слушать не станет. – Да, верно… хм… И какого рода доказательства? Беатрис де Вигонрен ощутила сильнейшее желание со всей силы отвесить ему пощечину, увидеть, как на его белой обрюзгшей коже появляется красноватый отпечаток ее руки. Эсташ оказался еще глупее, чем она думала. Но, во всяком случае, он знаком с Ги де Тре, и его жалоба будет для того гораздо более весомой, чем слова женщины, даже высокопоставленной. Что же, значит, она добилась своего; обычное самомнение зятя его совершенно ослепило. – Мой дорогой, спасибо, что так внимательно отнеслись к моим словам. Вы себе даже не представляете, насколько ваше присутствие придает сил нам с Агнес. Ваш ясный тонкий умслужит нам таким утешением! Вот что я вам предлагаю: моя дочь и я займемся поисками того, что подтвердит наши подозрения, а вы предоставите результаты наших поисков мессиру де Тре и добьетесь его сочувствия. Успокоившись при мысли, что ему не придется заниматься поисками того, к чему он даже не знал с какой стороны подойти, Эсташ де Маленье охотно согласился и, поцеловав руку теще, пожелал ей доброй ночи.* * *
Оставшись одна, Беатрис наконец дала волю своему гневу, который столько времени удерживала с великим трудом: – Рохля несчастная! Да если ты ночью проявляешь столько же мужественности, сколько ума днем, то моя дочь, должно быть, подыхает с тоски рядом с таким мужем! Господи Боже, ну почему богатство достается именно таким мужчинам? На следующий день ей понадобилось найти предлог, чтобы на некоторое время убрать Маот из замка. Об этом ей нужно было поговорить с Агнес, и как можно скорее. Эсташ, как и всегда, когда возвращался из столицы, отправился в город, заявив, что ему нужно уладить какие-то срочные дела. Беатрис подозревала, что на самом деле его зовут туда чувственные удовольствия, которым он предается со всякими трактирными девками. Должно быть, распутство настолько лишает сил его «нижний этаж», что тот свисает едва ли не до колен. Во всяком случае, если верить намекам некоторых слуг, Эсташ любил устроить себе прогулку по тавернам, всюду опустошая кувшинчик чего-нибудь крепкого. Характер доброго малого, малограмотное окружение и особенно обаяние человека из высшего общества позволяли ему выпячивать грудь и без особых усилий производить на всех впечатление. Да уж, этому есть чем соблазнять и восхищать низшее сословие, с досадой подумала баронесса-мать. Мадам де Вигонрен легла спать, но сон бежал от нее, и она долго ворочалась в своей постели. Ей вспомнилось послание арендатора Гуарда, послужившее предлогом для встречи с зятем. А ведь этот глупец и в самом деле пытается ее провести… Что же, завтра она увидится с ним, и он быстро поймет, какова она в гневе!35
Окрестности Ножан-ле-Ротру, октябрь 1305 года После заутрени молодая служанка объявила о прибытии Фирмена Гуарда. Баронесса-мать продолжала одеваться с помощью неловкой Мартины, руки которой одеревенели от старости. Но мадам Беатрис ценила ее за очаровательную живость, которая не уменьшилась с годами, и бойкий язычок – иногда ядовитый, но довольно забавный. Тем более что Мартина испытывала самое искреннее обожание к урожденным Вигонренам, оставляя свое злословие и ядовитые замечания для всех остальных, что было еще одним ее достоинством в глазах хозяйки. – Ах-ах, Фирмен! – воскликнула она, когда молодая служанка покинула комнату. – Это твой родственник? – Ну да, есть у меня это сомнительное преимущество… Я хорошо знала его отца, который помер два года назад. Если хотите знать мое мнение, мадам, и тот, и другой из одного теста. И вовсе не из пшеничной муки! Вечно пытаются урвать себе хоть один денье то тут, то там… Да такие покойную мать три раза продадут! Ну разве что сынок, как мне рассказывали, еще большая лиса, чем отец. Не стоит им доверять, мадам, вот что я скажу со всем моим почтением. – Значит, лис, лиса и денье… Что бы я без тебя делала, Мартина? – Это потому, что я от всей души служу этой семье, мадам. Прекрасным людям. Кроме искренней привязанности, которую она испытывала к мадам де Вигонрен и ее дочери, Мартина знала, что она уже слишком стара, чтобы найти себе другое место. Поэтому она с необычайной ловкостью смешивала разумные советы со сплетнями, которыми развлекала хозяйку, добавляя немного лести, доставлявшей той удовольствие, что и обеспечивало Мартине кров и стол в дополнение к маленькому жалованью.* * *
Беатрис де Вигонрен неподвижно встала перед высокой дверью приемной, которая после кончины ее супруга почти не использовалась, а отапливалась и того меньше. Всякий раз, оказавшись здесь, она вспоминала о грандиозных застольях, пирушках, веселье и танцах, немного экзальтированных труверах, напыщенные стишки которых очаровывали дам и заставляли кавалеров фыркать в ладонь. Тогда она была такой молодой, такой очаровательной… И такой влюбленной. Франсуа, ее Франсуа, какой прекрасный образчик сильного человека! Франсуа обожал жизнь, любовь, женщин – без сомнения, и других, совсем немного, – охоту, праздники… Она же чувствовала, что сердце готово выпрыгнуть от радости, когда ночью он приходил в ее апартаменты. Какой любовник! Какой чудесный любовник! Она обвивалась вокруг него, а он шептал ей на ухо: – Мой нежный дрозд… Она надувала губы и возражала тонким жеманным голоском: – Но вы же их едите, Франсуа! – О, я вас только немного погрызу, моя душенька! Ей так его не хватало… Беатрис часто думала о том дне или той ночи, когда он испустил свой последний вздох. Она улыбалась при мысли, что уже совсем скоро присоединится к нему. Но следующая мысль умеряла теплоту, которую вызывала такая перспектива. Эта подлая мерзавка Маот не сможет ускорить ее встречу с Франсуа. Она сама себе в этом поклялась. Ну уж нет!* * *
Войдя в большой зал, Беатрис снова обрела величественное спокойствие, смягченное некоторой долей любезности. Фирмен Гуард ждал ее, сидя на длинной скамейке у стола. Приблизившись, она уставилась на него долгим внимательным взглядом, не говоря ни слова. Краска залила толстые щеки фермера; он вскочил, сдергивая с головы войлочный колпак, и сложился в поклоне. – Приветствую, мэтр Гуард. Я немного знала вашего отца. – Который говорил столько хорошего о вас и вашем супруге. – Не сомневаюсь в этом ни одного мгновения, – заметила баронесса с колкой иронией. – Итак, насколько я поняла, мои земли причиняют вам какие-то затруднения? Лицо фермера печально вытянулось, как у человека, который только что похоронил всех своих детей. – Ох, да, это так, мадам баронесса. Уж такие затруднения… – В самом деле? – Истинно так. Такой град выпал! С перепелиное яйцо! Всю полбу побило[555]. – В марте град побил колосья? Черт возьми, я и не знала, что в наших краях растет такая скороспелая полба! Раздосадованный, Гуард опустил голову. Он надеялся обстряпать дельце, полагая, что перед ним женщина, которая не отличит курицы от яйца, а в результате сел в лужу. Голосом, полным сдержанного гнева, баронесса произнесла, четко выделяя каждое слово: – Любезный, нехорошо вешать мне лапшу на уши. У меня нет недостатка в арендаторах, и я могла бы выкинуть вас со своей земли, обеспечив репутацией жулика. – О… мадам… – Что «мадам»? Для вас это синоним слова «дура»? – О, с полным моим почтением, никогда, совсем никогда… – забормотал Гуард, которому все больше становилось не по себе. – Однако я беседовал с вашим зятем на прошлой неделе, и он, судя по виду, со мною согласился… – Вы меня и вправду сердите! – вспылила баронесса. – Вы или бессовестный лгун, или в самом деле настолько глупы? На прошлой и на позапрошлой неделе Эсташ находился в Париже. Нервными движениями Фирмен Гуард принялся мять и крутить свой войлочный колпак. Он чувствовал, что, несмотря на то что в комнате было довольно прохладно, его лоб покрылся капельками пота. Черт возьми, он и не подозревал, что старая баронесса настолько хорошо соображает. Он надеялся, что все пройдет гладко, так как ее простофиля зять проглотил эту байку не поморщившись, когда фермер сказал ему пару слов в Ножан-ле-Ротру. – Вовсе нет, – попытался он спасти положение. – Я и в самом деле встретил мессира Эсташа в прошлый вторник в Ножане. Я видел его так же ясно, как теперь вас! Мадам де Вигонрен, вдова, сразу поняла, что на этот раз он говорит правду. Что еще за странная история? – И где же вы его встретили, скажите на милость? – Он выходил из своего дома; это в конце улицы Ронны, где он снимает жилище, чтобы заниматься там делами. – И в самом деле, где была моя голова? – солгала потрясенная Беатрис. Эсташ никогда не упоминал о существовании этого жилища. Интуиция подсказывала баронессе, что и ее дочери также об этом ничего не известно. Господи Боже! Неужели Эсташ содержит любовницу? В такой ситуации можно опасаться появления признанного бастарда…[556] Ну нет! Она не позволит, чтобы наследство ее внука и дочери было урезано из-за ублюдка какой-то девки-содержанки. В конце концов, единственный интерес ее зятя сводится к деньгам. Она должна выяснить это дело и в случае необходимости положить ему конец. Позже. – Что бы там ни было, Гуард, ради нашего доброго и долговременного согласия, как можно быстрее и правильнее пересчитайте мины[557] и минот[558], которые вы мне должны. Разве не будет достойно сожаления, если наши искрение сердечные отношения будут испорчены из-за нескольких буассо?[559]* * *
Непорядочный, но весьма сообразительный фермер удалился. Беатрис была очень довольна собой. Черт возьми, Франсуа гордился бы своей «мужественной девицей», как он ее иногда называл! Но удовлетворенность быстро исчезла. С чего бы это вдруг Эсташу вздумалось снимать жилье в городе в добром лье от замка? История определенно попахивает адюльтером! Удивительно… Она бы даже не смогла предположить, что ее зять удовлетворяет свою страсть вне супружеского ложа. И верно, не стоит доверять стоячей воде.36
Крепость Лувр, Париж, 17 ноября 1305 года Его высочеству де Валуа доложили о прибытии срочного посланца. Недовольный, так как он дремал, переваривая обильную трапезу, щедро политую тонким вином, брат короля в конце концов позволил посланцу войти в рабочий кабинет. Тотчас же Эмиль Шапп притаился под дверью, насторожив уши в надежде услышать что-нибудь, что может заинтересовать его нового хозяина, мессира Гийома де Ногарэ. Судя по всему, посланец был утомлен длительной скачкой, его лицо и одежда были серыми от дорожной пыли. Поклонившись, он прошептал обычную формулу вежливости, уточнив: – Послание от короля, монсеньор. Из Лиона. – Почему вы сразу об этом не сказали, милейший? – сварливо бросил Валуа. – Я чуть не приказал прогнать вас. – Я подчинялся отданному мне приказу держать все в тайне. Только что я вручил такое же послание мессиру де Ногарэ. Король через своего секретаря передал, что не ждет другого ответа, кроме горячих родственных молитв, так как он со всей возможной поспешностью возвращается с церемонии посвящения в сан Климента V. Почти ничего не поняв из этих слов, но встревожившись тем, что эта новость может оказаться очень важной, его высочество де Валуа поблагодарил посланца небрежным кивком. Тот сразу же удалился. Граф поспешно развернул письмо. Ему понадобилось прочесть его несколько раз, настолько ошеломительным оказалось содержание письма, выдержанного в сухом деловом стиле. Послание заканчивалось словами:Учитывая крайнюю внезапность событий, нужно как можно быстрее, но со всей возможной осторожностью изучить их возможные последствия. Издав возглас, выражающий крайнее изумление, брат короля забарабанил пальцами по столу. – О черт! Кровь Христова! Ад и все его дьяволы! Напустив на себя крайне обеспокоенный вид, Эмиль Шапп поспешил в зал. – Какие-то затруднения, монсеньор? Могу ли я чем-то помочь? Карл де Валуа бросил на него нерешительный взгляд. – Шапп. Эмиль Шапп к вашим услугам, монсеньор, – почтительно произнес секретарь, чувствуя, как от злости желчь поднимается к самому горлу. – Да, я знаю… Чем вы можете помочь… Ну… Пусть немедленно отправят послание Аделину д’Эстреверу… – Какое именно, монсеньор? – Я думаю! – раздраженно рявкнул брат короля, отмахиваясь от него. Покорно наклонив голову, Эмиль терпеливо ожидал, чувствуя, как его распирает от любопытства. – А, черт! – повторил Валуа, шлепнув себя по бедру. – А ведь эта новость распространится со скоростью лошадиного галопа. Фыркнув, он снова заговорил: – Какая глупая смерть! Вы только подумайте: папский мул… К счастью, стена не обрушилась на Климента V, иначе получилось бы, что мой брат зря старался, способствуя его избранию в Сен-Сьеж, к великому неудовольствию итальянцев. – Простите, монсеньор, могу ли я осмелиться?.. Валуа коротко рассмеялся, но тут же оборвал себя, плотно сжав губы. – Это нервное, – извинился он. – На самом деле события далеко не радостны. Черт побери, Филипп теряет хорошего союзника с гибкой шеей… Остается лишь пожелать, чтобы Артур продемонстрировал достаточно любезности и услужливости… Как бы там ни было, моей дочери полагается герцогская корона! Собрав воедино бессвязные речи короля, Эмиль наконец понял: – Жан Второй Бретонский скончался? – Да, Господи Боже, скончался! По крайней мере, он умер почти на руках папы римского, можно сказать, получил пропуск в рай. Ну да, чтобы смягчить недовольство папы бретонским епископатом, Жан поспешил на церемонию посвящения в сан Климента Пятого в Лионе. И вот на выходе из церкви Сен-Жюст на Монте-де-Гургийон стена, на которую навалилась толпа, обрушилась и погребла под собой доброго Жана, который в качестве подобающего ему покаяния вел в поводу папского мула! Папа-то был только оцарапан, а вот на Жана обрушились камни немалого веса, и он в конце концов скончался[560]. Вот ведь какой расклад получился, – процедил Валуа, озадаченно потирая подбородок. – Расклад? По косому взгляду, который бросил на него монсеньор де Валуа, Эмиль Шапп понял, что проявил недостаточно деликатности и что брат короля не такой узколобый, как ему хотелось бы думать. – Вам-то какое дело, Шапп? Конечно, расклад! Мой брат теряет надежного союзника, который отдалился от Англии, лишь бы ему угодить. – Очевидно, так, – смиренно произнес Шапп, заранее склонившись. Он был уверен, что Карла де Валуа сейчас больше занимает другой расклад – более важный и относящийся к нему самому. – Итак, возвращаясь к посланию, Шапп, известите мессира д’Эстревера, что я должен увидеть его как можно скорее. Добавьте, что герцога Бретонского больше нет. Эмиль подождал, надеясь, что его высочество де Валуа добавит одно-два уточнения, которые он смог бы передать королевскому советнику. – Этого достаточно. Так и напишите, – бросил Карл, отпуская секретаря. Поклонившись еще раз, Эмиль уже направился в свой крохотный кабинет, когда брат короля остановил его. – А… Составьте другое послание… соболезнования, и чтобы там было искусно вставлено упоминание о моей преданности, наших семейных узах, о моем нетерпении стать дедом, которое, я уверен, он разделяет со мной. Не скупитесь на изъявления вежливой привязанности, подчерчивая, что я крайне опечален этой несправедливой и неожиданной потерей. – Кому следует адресовать это письмо? – Какой же вы тупица! – вспыхнул Валуа. – Конечно же, Артуру, Артуру Второму, свекру моей дочери, будущему герцогу Бретонскому и графу де Ришмон. Короче говоря, старшему сыну покойного Жана Второго, кому же еще? Уж во всяком случае, не вашей бабушке! – Прошу прощения, монсеньор, я очень сожалею о своей глупости. – Идите. Да идите же, наконец! Я жду черновиков, чтобы поправить их, если понадобится.
* * *
Несколькими часами позже монсеньор де Валуа поменял в письмах два слова и с раздраженным видом велел переписать начисто. Эмиль Шапп помчался к мессиру де Ногарэ, пользуясь тем, что благодаря воздержанности в еде тот наверняка подкрепляется лишь сухими фруктами и куском хлеба, не отрываясь от работы. В противоположность ему Валуа в это время, должно быть, сидит за столом, предаваясь обжорству. Вертя между пальцами сухую сливу, мессир де Ногарэ внимательно выслушал Эмиля, не спуская с него внимательного взгляда лишенных ресниц глаз. – Я получил точно такое же послание, чуть раньше, чем брат короля. Видите ли, Эмиль, политика – вещь утомительная. Вы годами маневрируете, чтобы создать и упрочить союз, и вот какая-то стена рушится, погребая под собой все ваши усилия… Хорошо хоть эта идиотская стена пощадила папу, над избранием которого мы столько трудились. Присаживайтесь. Смущенный этим приглашением и особенно тем, что мессир де Ногарэ говорит с ним как с равным, Эмиль решился: – Позвольте спросить, мессир, со всем моим почтением. Питаете ли вы какое-то беспокойство относительно… расположения Артура, сына Жана Второго, который унаследует его титул, к Франции и нашему королю? – Не так чтобы, но… Вы помните, что я требую от своих соратников абсолютной искренности и верности? И что я настаиваю на этом? – Да, мессир. Я не забываю об этом ни на секунду, клянусь честью. – Хорошо. У Артура репутация человека мирного, приятного в общении и хорошего правителя. Жан находился… под большим впечатлением от нашего короля Филиппа. Разумеется, в самом лучшем смысле этого слова. Будем надеяться, что его старший сын Артур унаследовал и это похвальное качество… То есть услужливый и поддающийся влиянию, мысленно перевел для себя Шапп. – Их предки, к которым относится и Жан Первый, дали нам нить, которую можно выпрямить, соединившись с Англией более или менее блистательным способом. Но теперь мы добрые друзья. И нас соединяет нечто даже более драгоценное, чем дружба, – добавил мессир де Ногарэ. Его тон ясно давал понять, что армия на следующий же день отправится «успокаивать» Бретань, если та начнет снова лягаться в своих оглоблях. Филипп Красивый задавил стальной перчаткой все попытки неповиновения. – Тем более что союз между Изабеллой де Валуа и Артуром служит лишь к выгоде короля, моего господина, – ответил советник. – Она еще слишком молода, чтобы произвести на свет наследника, но пожелаем им многочисленного потомства. После всего этого герцогство могло бы вернуться в лоно Французского королевства. Если у них будет сын, мы с легкостью найдем какую-нибудь франкскую[561] принцессу, на которой он женится. Эмиль Шапп был потрясен услышанным. Господи Боже, он кончиком пальца прикоснулся к большой политике, к военным хитростям власть имущих Французского королевства… Опьяненный этим ощущением, он рискнул: – Но… со всем моим почтением, мессир… что же предпринял мессир д’Эстревер, бальи шпаги Перша, во всей этой шараде с безвременной кончиной Жана Второго? – Этот вопрос говорит о вашей ловкости, мой славный Эмиль, и я рассчитываю получить ответ именно от вас. Или, по крайней мере, первые шаги к нему, – бросил советник, растягивая сухие губы, что должно было обозначать улыбку. – Так как, по правде говоря, у меня нет ни единой мысли по этому поводу. Гийом де Ногарэ внимательно посмотрел на крошку хлеба, упавшую на рабочий стол, и принялся кончиком ногтя подталкивать ее перед собой вправо-влево и вперед-назад, как будто совершенно забыв о своем собеседнике. Облизав кончик указательного пальца, он прилепил к нему хлебную крошку, с удовлетворенным видом проглотил ее и, снова подняв голову со странной улыбкой, являвшей взору мелкие зубы цвета пожелтевшей слоновой кости, произнес с задумчивым и лукавым видом: – Хотя… Хотя! Это, конечно, ошеломительное, поразительное предположение, которому я и сам не особенно верю… Благодарю, мой славный Эмиль. Вы хорошо мне служите. Шапп понял, что не стоит настаивать, чтобы не вызвать неудовольствия советника.37
Окрестности Мортаня, ноябрь 1305 года Бернадина больше не знала, беспокоиться ей или радоваться резким изменениям, которые она заметила в своем хозяине. Сначала женщина ужасалась, решив, что узнаёт в его лице и манере говорить первые плоды тех же тщательно скрываемых тайных горестей, которые понемногу подточили силы ее покойного супруга, тоже бывшего палачом. Нечто вроде душевной лихорадки, пожравшей его за несколько месяцев. Со дня возвращения мэтра Правосудие из Ножан-ле-Ротру или, точнее, со дня визита Арно де Тизана, в Ардуине проявилось какое-то отчаянное напряжение – и в то же время поразительная жизненная сила. Обычно спокойный, сдержанный, почти суровый, он теперь ел за троих, спал как сурок и смеялся проделкам пса Энея, который не имел себе равных, когда надо было растрогать хозяина и добиться, чтобы тот дал кусочек мяса, сыра или сала. Сидони с первого дня испытывала невероятную симпатию к этой дворняге, и Ардуин ничего не имел против этого. Она готовила ему похлебку с такой заботой, какой не проявляла по отношению к хозяину, и вовсе не потому, что, по словам Бернадины, добросовестно выполняла новую обязанность.* * *
Наконец доверенная служанка спросила себя, не женщина ли является причиной тех изменений, которые она наблюдает в Ардуине. Это предположение наполнило ее радостью. Такой хороший, красивый и полный всевозможных достоинств мужчина непременно должен сделать женщину счастливой. Иначе просто и быть не может. И, кстати, появление хозяйки внесло бы живую струю в этот дом. Только вот Бернадина не знала достаточно утонченной и покладистой девушки, которая годилась бы на эту роль. Она уже представляла себе, как ухаживает за хорошенькими пострелятами, которые как две капли воды похожи на своего отца. Как было бы хорошо, если б этот большой прекрасный дом, такой тихий, что частенько кажется немым, наполнился смехом, криками и – без этого никак – детскими огорчениями, которые так быстро забываются… Эта девица живет в Ножане, не иначе. Поэтому у хозяина и было такое хорошее настроение, когда он спустился по лестнице и велел оседлать Фрингана. Подобно многим женщинам, даже стареющим, Бернадина больше всего на свете обожала очаровательные любовные истории. Проверяя содержимое дорожной сумки Ардуина, чтобы удостовериться, что туда не забыли положить легкие закуски, бутылочку сидра, чистое полотенце и флакон тминной настойки на случай, если хозяин вдруг оцарапается, служанка задавала себе множество вопросов, таких же радостных и бесполезных, как и все остальные. Интересно, она хорошенькая? Несомненно. Блондинка или брюнетка?.. Конечно же, тоненькая, но не слишком[562]. Веселая и приветливая – в этом Бернадина была уверена, – так как Ардуин не стал бы обращать внимание на сварливую и недобрую женщину. Из хорошей семьи? При этой мысли служанка заметно помрачнела. Конечно же, нет. Из семьи палача, по-другому и быть не может. Да и что им за дело до тех, кто их презирает? Они все прекрасно живут в своем кругу, зная, что взаимопомощь – самая лучшая защита против внешнего мира.* * *
Внезапно появившись на кухне в сопровождении пса, который с благоговением смотрел на него, Ардуин бросил: – Бернадина, я отправляюсь в Беллем, а оттуда поздним вечером в Ножан. Не знаю, сколько времени я там проведу. Это на тот случай, если тебе нужно будет доставить мне послание. – Конечно, хозяин. Хорошего путешествия, и возвращайтесь отдохнувшим.38
Беллемский лес, ноябрь 1305 года Аделин д’Эстревер, старший бальи шпаги, прибыл на место встречи немного раньше назначенного часа. В кислом настроении он перебирал в памяти содержание короткой беседы с его высочеством де Валуа. Их разговор состоялся под открытым небом, на холодной и сырой улочке, расположенной в нескольких туазах от крепости Лувр. Монсеньор де Валуа объяснил необычность места тем, что не доверяет одному из своих секретарей, который не так давно в его окружении и явно шпионит в пользу мессира де Ногарэ. Эстревера такое требование ничуть не удивило. Несмотря на то, что все, кто вращается в окружении короля, шпионят друг за другом, мессир де Ногарэ и его высочество де Валуа соблюдали молчаливый статус кво. Валуа имел дело с государственной казной, занимался королевской армией, иногда даже успешно; Ногарэ же чаще всего действовал за занавесом, управляя королевством или охраняя суверена. В конечном итоге такая комбинация устраивала обоих, что не мешало ни одному, ни другому по крупицам собирать про запас сведения, которые могли бы опорочить соперника. Если б Валуа, в список основных добродетелей которого вовсе не входила политическая тонкость, уже раскрыл двойную игру вышеупомянутого секретаря, Эстревер не дал бы за шкуру хитреца и мелкой монеты.* * *
Аделин д’Эстревер вытащил шпагу и принялся яростно рубить нижнюю ветку дерева. Господи, как его раздражает все это! Это настоящая чума – ленивые и никчемные люди, которым надо оказывать всяческое содействие. Что ни сделай, их все не устраивает! Арно де Тизан все тянул, не давая ему желаемого: средства понравиться его высочеству де Валуа! Впрочем, ни Тизан, ни Карл де Валуа не были в курсе его участия в ненавистном деле. Да еще какого! Брат короля известил его о своем желании: дестабилизировать Жана II Бретонского в его владении Ножан-ле-Ротру. Как и всем власть имущим, ему было безразлично, каким способом ему доставят требуемое. Он ровным счетом ничего не хотел знать об этом; для него был важен лишь результат. Целыми неделями Эстревер размышлял, пытаясь доискаться, не было ли какой-нибудь неприятной истории, касающейся Ги де Тре. Тщетно. Де Тре показал себя фатом и, без сомнения, не справлялся со сложившейся ситуацией. Но и только. Такой человек был бы более уместен при дворе, чем на должности бальи. Здесь не найти даже повода, чтобы высечь кошку, а тем более доставить затруднения герцогу Бретонскому. Два с половиной года назад на одной из улочек Ножана было обнаружено тело мальчишки. Он был задушен – возможно, кем-то из родителей, желающим избавиться от лишнего рта, или посетителем таверны, которого тот попытался обворовать. А может быть, то был другой ребенок – постарше или покрупнее, – с которым убитый не поделил кусок хлеба. Одним словом, самая обычная история в эпоху, когда палачи получали прибавку к жалованью, вылавливая в реках утопленных младенцев. Вот тогда эта мысль и пустила корни в голове старшего бальи шпаги: серия гнусных и непристойных убийств детей. Невеликой проницательности Ги де Тре вряд ли хватило бы, чтобы увидеть, кто за этим стоит. Немного коварства, несколько слухов, пущенных то там, то здесь, и в конце концов любой поверит, что он причастен к этим чудовищным событиям. Народное недовольство обернется беспорядками, а может быть, и бунтом. И, конечно, нашлось несколько идиотов, которые клялись и божились, будто своими глазами видели, как прошлой ночью Ги де Тре шатался по улицам, будто какой-то жулик. К удовольствию его высочества де Валуа, скандал коснулся Жана II Бретонского, так как Ги де Тре был его протеже. И вдруг неожиданно монсеньор де Валуа недвусмысленно дает ему понять, что «зловещее дело в Ножан-ле-Ротру» его больше не интересует. К тому же добавив усталым тоном: – Политика, мой дорой Эстревер, политика! То, что создается сегодня, завтра разрушается. Но что бы там ни было, я не вижу, чтобы вы продвигались к счастливому завершению этой истории. Этот скрытый упрек поверг Аделина д’Эстревера в трепет. Разве можно было предвидеть, что Жан II окажет им такую любезность, позволив стене в Лионе обрушиться на него во время процессии, когда он вел папского мула? Однако же его кончина открыла Карлу де Валуа путь к тому, чтобы восстановить союз с герцогством Бретонским… Чума на этого Тизана, который продвигается недостаточно быстро! Впрочем, Эстревер не доверял ему и поэтому не стал посвящать в свои истинные планы. Помощник бальи был излишне сентиментален, что при его должности было довольно неуместно. Ведь что такое человеческое правосудие? Нечто вроде рожка с молоком, который дают ребенку, чтобы не плакал, средство, с помощью которого бедных и обделенных разумом заставляют поверить, будто о них и в самом деле заботятся. Человеческое правосудие никогда не касается власть имущих, разве что когда те оказываются настолько глупы, чтобы творить злодеяния на глазах у всех. Себя же он считал достаточно умным пройдохой, чтобы проскользнуть сквозь сеть. По этой причине перемена курса монсеньора де Валуа в раскладе ничего не меняла. Старшего бальи шпаги категорически обязали найти того, кого можно обвинить во всех этих преступлениях. Причастность к этому самого старшего бальи шпаги стала бы более чем опасной. Вот так! После всего этого Ги де Тре выглядел глупым самодовольным щеголем. И его смерть особенно ничего не изменит. Эстревер прервал свое занятие, даже удивившись собственной раздражительности. Не отдавая себе отчета, что делает, несколько минут концом шпаги протыкал дырки во влажной земле. – Возьми себя в руки, наконец! – выругал он сам себя. Решение было принято. Он до конца выполнит свой план. И с еще большим усердием. Чтобы спасти свою шкуру, ему теперь недостаточно только понравиться брату короля… Эхо. Приближается всадник. Быстрым движением, очень ловким для его возраста, Арно де Тизан спешился и, приблизившись крупными шагами, склонился в поклоне: – Мессир… – Оставьте эти церемонии, время не ждет! Скажите лучше, как далеко вы продвинулись? – прервал его Эстревер. – Мой… человек, мэтр Правосудие Мортаня, продолжает расследование, но… – Какое еще «но»? У Арно де Тизана не было никакого желания описывать недостаток воодушевления, который продемонстрировал Ардуин Венель-младший. Ведь тогда его самого обвинят, что поручил это дело не тому человеку. – Дело в том, что следы достаточно запутаны. Одна из нитей привела в тупик, к некоему Лекоку – спившемуся бывшему кузнецу. – Какой еще Лекок? Что вы мне им в нос тычете? – рявкнул Эстревер и тут же оборвал себя, заметив удивление на морщинистом лице де Тизана. – Мессир, это был единственный достойный внимания подозреваемый, – возразил помощник бальи. – Ладно, хорошо, – проворочал старший бальи шпаги. Наступила тишина, нарушаемая только шумом ветра в оголенных ветвях деревьев и осторожными криками птиц, которые издали наблюдали за двумя мужчинами. Тизану решительно не нравился этот человек, и вовсе не потому, что Эстревер значительно превосходил его по происхождению и должности. Он уже давно понял, что целью бальи шпаги является вынести на всеобщее обозрение преступную непригодность Ги де Тре. В то же время он с некоторых пор начал думать, что если будет не хватать доводов, Эстревер не колеблясь подтасует их, чтобы утопить бальи Ножана. Некоторое время спустя ему пришлось убедиться, что правда оказалась еще более отталкивающей и омерзительной. Чувствуя, что мысли собеседника далеко отсюда, старший бальи шпаги выждал некоторое время, а затем произнес: – Простите, Тизан… Из-за этого дела я буквально лишился сна. Каждое утро я со страхом ожидаю известия о гибели еще одного несчастного малыша… И это не считая недовольства мадам Констанс де Госбер, матушки-аббатиссы в Клэре, которая закусила удила и не слушает никаких доводов… Помощник бальи Мортаня наконец понял, что все это время позволял водить себя за нос. Он даже не сомневался, что Эстревер свалит на него любую ошибку, любой промах. По правде говоря, старшему бальи было откровенно наплевать на убитых детей. – Я вижу, с какими препятствиями вам приходится сталкиваться, и меня это тоже печалит, – произнес он. – Поверьте, Тизан, это еще не самое худшее. Что бы вы сказали о достигших моих ушей зловещих слухах, что мессир де Тре не так чтобы… полностью… не имеет отношения к этим ужасающим убийствам? В конце концов, что мы знаем о нем? Некоторые высокопоставленные люди имеют тайные склонности, которые удовлетворяют в глубоком секрете, уверенные в своей безнаказанности… Боже мой! Эстревер перестал ходить вокруг да около. Все это не внушало доверия Арно де Тизану. Другими словами, старший бальи знал, кто убийца. Тотчас же у него возникла другая, еще более возмутительная мысль. А вдруг речь идет о его человеке, причем не о каком-нибудь проклятом выродке, а о человеке, которому платят за то, что он истязает, насилует и убивает детей, чтобы потом можно было обвинить де Тре в угоду его высочеству де Валуа? Эта мысль была настолько потрясающей и настолько недопустимой, что Тизан даже опустил глаза. Решение было принято моментально, на одном дыхании. Он никогда не обесчестит себя такой низостью. Но в ответ де Тизан произнес с легкостью, поразившей его самого: – Да, верно, отталкивающие наклонности… Я более пристально поинтересуюсь этим предметом. – Обещаете? – настаивал Эстревер с облегчением, которое буквально бросалось в глаза. – Без тени сомнения, мессир. Мы не можем позволить, чтобы этот позор пал на нас. Даже крестьяне запрезирают нас с полным правом, если мы не положим конец этим гнусным бесчеловечным деяниям. – Хорошо. Просто прекрасно, – одобрительно заметил Эстревер. – До встречи… полагаю, до очень скорой. Надеюсь, тогда вы принесете мне весть о завершении этого крайне неприятного дела. Старший бальи шпаги снова уселся в седло и пустил лошадь галопом. Оставшись один, Арно де Тизан сделал несколько глубоких вдохов, вбирая в себя влажный прохладный воздух и стараясь избавиться от тошноты, которая подкатывала прямо к горлу. Что же делать? Он не мог резко порвать отношения с могущественным Аделином д’Эстревером. Последствия такого бунта оказались бы для него более чем плачевны. С другой стороны, он никогда не станет участником подобной низости. Помощник бальи подумал испросить аудиенции у мадам Констанс де Госбер, но времени катастрофически не хватало. И потом, что ей сказать? Предупредить Ги де Тре? Но нечто противоположное он говорил Ардуину Венелю-младшему, который, должно быть, уже встретился с бальи Ножана… Надо как следует обо всем поразмыслить: малейший неверный шаг может оказаться роковым и стоить ему должности, репутации, а возможно, и самой жизни.39
Окрестности Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 года Между Беатрис де Вигонрен и ее дочерью Агнес установилось согласие, как между двумя заговорщицами. Обе не спускали глаз с Маот; даже муха – и та не пролетела бы незамеченной в ее покои. Их объединяло беспокойство и страх, как бы кто из них не оказался застигнут в таком деликатном положении. – И все же, дорогая матушка, со всем моим почтением, позвольте не согласиться с вами. Если меня обнаружат, я всегда могу сказать, что искала в комнате своей свояченицы бант или булавку для волос, – заявила Агнес. – А я всегда могу напомнить, что здесь я у себя дома и могу заходить, куда мне угодно, чтобы проверить, к примеру, натерта ли воском мебель, вычищен ли камин… предлогов можно найти сколько угодно. Прошу вас, душенька, не настаивайте. Лучше будьте моей разумной сообщницей и озаботьтесь тем, чтобы увести Маот с сыном на длительную прогулку подышать свежим воздухом[563]. Скажите, что они выглядят изможденными и бледными. Покажите им, какая вы заботливая тетушка и свояченица. – Для вашего удобства, матушка, – наконец согласилась молодая женщина.* * *
Беатрис де Вигонрен заняла место в углу, у одного из застекленных окон библиотеки, и замерла в ожидании. Наконец она увидела, как ее дочь выходит с Маот и Гийомом, которого та ведет за руку. Ей показалось, что две женщины о чем-то беседуют, часто смеясь. Быстрым шагом трое удалились от замка. Прекрасно. Беатрис устремилась в атаку. С некоторых пор в ней поселился холодный гнев. Воспоминания, казалось бы, совершенно похороненные в глубинах памяти, ожили с новой силой. Франсуа возвращается ночью, покрытый кровью и свежими ранами. Скверная встреча с дорожными грабителями, а его сопровождал всего один слуга, вооруженный лишь палкой. Обезумев от ужаса, она стала перевязывать его раны, суетиться, засыпала его вопросами. Франсуа ответил парой коротких фраз: – Успокойтесь, душенька. Либо мы их, либо они нас. Из двух зол я выбрал наименьшее. Она тоже тогда высказалась за наименьшее зло. Беатрис поднялась по главной лестнице с живостью, которую, как она думала, уже не способна проявить, и устремилась в покои своей невестки. Войдя, она неподвижно замерла посреди маленькой прихожей и принялась размышлять: куда же эта плутовка могла спрятать свой гнусный секрет? Только не в глубине шкафа, не в сундуке, не под матрасом и не в гардеробе: все это чересчур на виду. Бетрис направилась к кабинету[564] с дверцами, богато украшенными резьбой. Когда-то он принадлежал ее матери, поэтому Беатрис знала все его скрытые секреты. Один за другим она открывала ящики, засовывая руку в глубину некоторых из них, чтобы привести в действие пружины, открывающие крохотные уголки, предназначенные для хранения драгоценных украшений или секретных писем. Ничего. Несколько прядей светлых волос Гийома, несколько редких писем Франсуа, покойного мужа Маот. Отбросив всякую деликатность, Беатрис принялась их читать. Банальности, которые всегда заканчивались фразой: «Я думаю о вас, моя дорогая супруга». На лице баронессы появилась грустная улыбка. Боже мой, старший сын совсем не унаследовал запальчивую, но такую соблазнительную поэзию своего отца… Она вспомнила его удлиненный наклонный почерк и фразы, которые заставляли ее краснеть от смущения и удовольствия. «Обещаете ли вы мне стонать, когда я буду расшнуровывать вашу ночную сорочку, чтобы целовать вашу грудь; обещаете ли вы нежно царапать меня, когда я подтолкну вас к нашей кровати? Клянетесь ли вы сердиться и морщить нос, прежде чем сдаться мне, моя восхитительная любовница?» Беатрис вздрогнула. Столько времени прошло с тех пор. Но она не забыла ни одну из его ласк. Женщина принялась методично рыться во всех уголках, которые казались ей подходящими, настороженно передвигаясь по комнате. Она даже ощупала изнутри каминную трубу, нижнюю поверхность мебели, перебрала лежащие у камина дрова, перевернула стул и табуретку, затем решила поискать спрятанное в тех местах, которые, войдя в комнату, сочла слишком бросающимися в глаза. Безрезультатно. В сильнейшем раздражении, почти что впав в отчаяние, она так же украдкой обследовала коридор. Господи Боже! Да мать-баронесса руку бы в огонь положила, утверждая, что Маот способствовала гибели обоих Франсуа и, чтобы отвести от себя подозрения, вызвала желудочную лихорадку у своего сына. Но где же она спрятала яд? Или уже избавилась от него, совершив свое последнее злодеяние? Преступление, потому что надо быть настоящим монстром, чтобы отравить маленького мальчика, даже используя крохотную дозу. Гийом был ужасно болен и едва избежал смерти.* * *
Гийом! Ну конечно же! Беатрис устремилась в комнату своего внука. Эта мерзкая пройдоха Маот придумала самый невероятный тайник, который не должен вызвать подозрений: комнату невинного ребенка. Баронесса с трудом опустилась на колени, чтобы осмотреть сперва нижнюю сторону матраса, а затем и кровать. Она порылась в шкафу, потянула за большой гобелен, покрывающий одну из стен, и подняла тяжелую крышку сундука. Там были свалены в кучу какие-то одежки и деревянные игрушки, принадлежавшие Франсуа, когда тот был ребенком. Гийом пока что был слишком мал, чтобы они могли развлекать его; их черед наступит лишь через несколько лет. Она засунула дрожащую руку в глубь сундука, и ее пальцы нащупали что-то, напоминающее книгу. Беатрис вытащила ее и принялась рассматривать очаровательную псалтырь с серебряной застежкой и обложкой, инкрустированной кусочками перламутра и бирюзы, которые складывались в имя Маот де Вигонрен. Франсуа сделал ей этот роскошный подарок в честь рождения наследника. Странное дело, прошло немного времени после кончины супруга, и Маот заявила, что псалтырь исчезла. Она перевернула все комнаты в напрасной надежде отыскать его. Баронесса припомнила все эти жалобные и печальные возгласы: Боже мой, восхитительный подарок покойного мужа! Неужели она его потеряла? Нет, не может быть, она была с ним так аккуратна… А потом Маот больше не упоминала о псалтыри, и все о ней забыли. Беатрис де Вигонрен слегка притронулась к инкрустации тонкой работы, которую ее сын заказал в Итальянском королевстве. Расстегнув серебряную застежку, она удержала удивленный возглас, который едва не сорвался с ее губ. Внутри было пусто, а титульная страница, изображающая распятого Христа, была выпачкана чем-то, очень похожим на засохшую кровь. Боже милосердный! Да ведь Маот продала душу дьяволу, чтобы тот помог ей уничтожить членов семьи! Беатрис де Вигонрен перекрестилась. За такое кощунственное, безбожное поведение Маот будет заживо сожжена. Ее подвергнут пыткам, чтобы заставить сознаться в своих грехах, а может быть, и в каких-то гнусных связях, а затем толкнут на костер правосудия. Там же, в специально устроенном для этого отделении, в мешочке из черной ткани, лежала сушеная лягушка или жаба. Беатрис осторожно вынула ее оттуда, чувствуя, что ее рот переполняется кислой слюной. Она осторожно пощупала нечто вроде черного кошелька, заполненного песком или порошком, а затем потянула за завязку. От волнения баронессу сотрясала дрожь, сердце колотилось от дурных предчувствий. Беатрис вспомнила, что некоторые яды могут сжечь кожу, будто адским огнем, и высыпала немного порошка себе на ладонь. Жирный на вид, тусклый темно-серый порошок мягко стек ей на руку. Беатрис понюхала его: от порошка исходил неясный сладковатый металлический запах. Баронесса не знала, что делать: вернуть псалтырь на место или унести? А если Маот что-нибудь заподозрит и перепрячет его или уничтожит? Будет лучше сохранить его, чтобы потом воспользоваться этим неопровержимым доказательством. А если Маот догадается, что ее перехитрили? Вдругколебания баронессы-матери сменились яростью. Ну и что? Что тогда сделает ее невестка? Неужто у нее хватит бесстыдства жаловаться на пропажу книги? Это бы означало признаться, что она прятала там странный порошок. Впрочем, она же тогда осмелилась стенать о пропаже подарка Франсуа, а затем так гнусно осквернила его, покрыв Христа кровью… Ведьма проклятая! Стиснув зубы от ярости и отвращения, чувствуя, как тошнота подкатывает к самому горлу, баронесса-мать положила на место кошелек и снова закрыла псалтырь, а затем вышла из комнаты Гийома. Это каким же демоном надо быть одержимой, чтобы прятать орудие чудовищных преступлений в комнате своего сына?40
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 года Прекрасно выспавшись, Ардуин заканчивал одеваться в просторной комнате, которую занимал в таверне «Напыщенный кролик». Он натягивал сапоги из мягкой кожи, когда осторожный стук в дверь заставил его поднять голову. Что-то не похоже на обычные манеры матушки Крольчихи… – Кто там? – Э… я, – ответил мужской голос, который Ардуин тотчас же узнал. Он отодвинул дверную задвижку. В комнату вошел Арно де Тизан, лицо которого вытянулось от усталости, а вся одежда была покрыта дорожной пылью. – Месс… – Тизан, здесь этого достаточно, – серьезно и даже торжественно прервал его помощник бальи. – Я втянул вас в… очень щекотливое дело. – Чем объясняется ваше посещение? Не ожидая приглашения, Арно де Тизан рухнул на единственный стул в комнате и, поморщившись, вытянул ноги перед собой. – У вас очень усталый вид, – заметил мэтр Правосудие. – Еще бы. Я не в том возрасте, чтобы во весь опор скакать до Парижа и так же быстро вернуться обратно. – Париж? – Хм… У меня была тайная встреча с одной крайне могущественной персоной, имя которой я не стану вам называть, будучи уверен, что вы и так догадаетесь, кто это. – Очень могущественная персона? – уточнил мэтр Правосудие. – Да, исключительно. И он не из тех, кто славится своим долготерпением. – Вижу… Впрочем, нет, как раз ничего не вижу. – Нас водили за нос, Венель. По крайней мере, меня дурачили, как последнего простака. Должен заметить, неприятное ощущение. «Берегись! Тебя водят за нос! – сказала тогда старая гадалка. – Ты веришь, и ты ошибаешься». Губы Ардуина медленно растянулись в улыбке. – Важнее всего понять, что здесь самое главное, не так ли? – произнес он. – Главное – несчастные малыши, ведь так? Это довольно смутная история, и у меня… как бы это сказать… такое ощущение… что вам она тоже доставляет немало беспокойства. – Ловкая акробатика, чтобы обвинить меня во лжи или неискренности перед вами, – перевел его слова Тизан. Венель хотел было возразить из вежливости, но помощник бальи жестом прервал его. – Пожалуйста, истина требует именно таких резких слов. Верно, я пытался ввести вас в заблуждение. Я настаиваю на слове «пытался», так как усердие, с каким вы взялись помогать мне в этом расследовании, показало, что вы далеко не простофиля. Им оказался я сам. – Я все воспринимаю не так остро, – поправил его Ардуин. – Не могу сказать, что меня удерживает. Без сомнения, уверенность, что дети для вас не особенно важны, несмотря на то, что речь идет об убийствах. Может быть, еще и убеждение, что ваши связи с мессиром Ги де Тре не такие близкие, как вы пытались меня убедить, и что он не может вам помочь, несмотря на то, что должен быть признателен за вашу помощь в этом щекотливом деле. – Все так и есть: я едва знаком с де Тре… Послушайте меня, Венель. То, что может за этим последовать, меня действительно мучит. Как вы считаете, можно ли потерять свою честь по незнанию? – Нет, не думаю. – Ну хоть этот камень вы у меня с души сняли, – иронично заметил помощник бальи небрежным тоном, за которым Ардуин ясно различил настоящее отчаяние. Тихим монотонным голосом Тизан изложил ему, к каким выводам пришел. Правда, ни разу не назвав имени Аделина д’Эстревера, упоминая лишь, что некое могущественное лицо пожелало, чтобы во всем обвинили де Тре, а косвенно и Жана II Бретонского, чтобы получить обратно сеньорию Ножан-ле-Ротру. В заключение он сказал: – Вы почему-то не удивлены, Венель. – С чего бы мне удивляться? В человеческой душе для меня вряд ли остались какие-то секреты, и кому, как не мне, знать, что она нередко бывает полна гнусности… Черт возьми, мессир де Тре никогда не узнает, какого ужаса он только что избежал. Насколько я понял, монсеньор де Валуа принимает участие в этом чудовищном плане? – По правде говоря, не знаю… но… та крайне могущественная персона, о которой я упоминал, в этом уверена. – Крайне могущественная персона, имя которой начинается на «Н», не так ли? Если следовать вашей логике, то можно прийти к выводу, что за эти подлые убийства кто-то платит. – Верно, я тоже пришел к этому выводу. – И кто же? Персона, чей секрет вы так тщательно оберегаете и о которой, я полагаю, что догадался? Давайте продолжим игру в вопросы и ответы, она начинает меня очень забавлять. Имя этой персоны начинается на «Э», я угадал? – А кто же еще? Но даже если подтвердится его причастность к этому омерзительному делу, вы не можете взяться прямо за него. Он вам не по зубам, Венель. Тихий смех вырвался из горла мэтра Правосудие. – Вы полагаете? Не по зубам? Из моих когтей еще никому не удавалось ускользнуть. Более того, мне знакомы черты его лица, а мои ему – нет. Ему случалось меня видеть только под маской из черной кожи во время некоторых казней, на которых он соизволил присутствовать. – Прошу вас, – настаивал Тизан. – Я и так уже достаточно сердит на себя, что сознательно лгал вам. По правде говоря, меня и самого ввели в заблуждение, что, конечно, не умаляет моей вины. – Как вам будет угодно, – согласился мэтр Правосудие, пожав плечами. Однако помощник бальи Мортаня был уверен, что при желании, убедившись в виновности д’Эстревера, Венель вполне способен показать тому, «где раки зимуют». – Венель! Подумайте, возможно ли нам поскорее избавиться от чудовища, которое убивает, мучит и насилует? – Разумеется. Чтобы найти кусок заплесневевшего сыра, надо выследить крысу. – Крысу, то есть… – Тсс… Оставьте мне немного моей магии, – иронично возразил Ардуин. – Как хотите. Та… крайне могущественная персона, которой я сообщил о вашем участии, просит, чтобы вы назвали цену своих услуг. Я уточнил, что вы участвуете в расследовании не ради денег, но он настаивал. Полагаю, он хочет заплатить вам ради собственного успокоения. – Из страха оказаться обязанным? Пусть его это не беспокоит. Я держу слово, данное замученному пареньку. Ваша могущественная персона ничего мне не должна, так как я ей не служу. До встречи, месс… Тизан. Смертельная охота начинается.41
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 года Доктор Антуан Мешо был счастлив и удивлен, увидев в своей маленькой приемной Ардуина Венеля-младшего. Тем не менее он быстро заметил произошедшую в нем перемену. – Вы какой-то напряженный. Выгнутый, будто арка. – Прелестное и точное описание. Надеюсь, мадам Бланш в добром здравии. – Улыбнувшись, Ардуин перевел разговор на другую тему. – Конечно, конечно, благодарю вас. Венель-младший достал маленький листок бумаги и тщательно разгладил его. Там был набросан план Ножан-ле-Ротру, опоясанного реками Юин, Вьен, Рона и Жамбетта, с замком Сен-Жан в центре. На плане крестами были обозначены церковь Сен-Лоран, аббатство Сен-Дени, церковь Нотр-Дам-де-Марэ и коллегиальная церковь Святого Жака Милостивого. – Мессир доктор, вы можете точно вспомнить места, где нашли убитых детей? – Не всех, но, по крайней мере, первых. Палец доктора завис над листком бумаги и остановился в нескольких местах: – Вот здесь, в конце Речной улицы… Вот здесь, на углу Гончарной улицы, еще здесь, в конце улицы Мясников… Каждый раз Ардуин легонько протыкал бумагу острием кинжала. Когда доктор прервался, показав место, где нашли последнего маленького покойника, на снова аккуратно сложенном листке Ардуина образовалось некое подобие пчелиного роя. Причем настолько равномерно распределенного, что это было даже удивительно. – Что вы собираетесь делать, мессир Венель? Бездонные серые глаза в упор уставились на господина Мешо. А затем доктор услышал ответ, произнесенный мягким вежливым голосом: – Отбить этому преступнику желание продолжать в том же духе. Ведь все именно этого хотят? – Так вы собираетесь… так сказать… вершить правосудие? – Вы приписываете мне какие-то ужасные намерения, – попытался было протестовать мэтр Правосудие Мортаня. – И потом… если он сам представляет собой правосудие? – Ги де Тре? – прошептал доктор, с безумным видом оглядываясь вокруг. – Кто знает… Один или другой, а может, и оба сразу… Какое это имеет значение? Разве вы не заметили… на листочке… – Крохотное облачко из дырочек, проделанных кинжалом, обозначающих места, куда были подкинуты маленькие жертвы этого монстра. Они окружают особняк бальи; в городе об этом уже давно говорят, – с огорчением согласился старый доктор. – Какая это чудесная вещь – ваша врачебная наблюдательность, – откланявшись, шутливо заметил Ардуин.* * *
Он несколько раз прошел обозначенное на карте множеством дырочек расстояние между Сен-Жан и Бург-ле-Комт, некоторое время рассматривал особняк, где Ги де Тре осуществляет свои должностные обязанности. Здание буквально дышало изобилием, чтобы не сказать роскошью – решетка, высокая дверь, дверь в устрашающего вида крепостной стене… Ардуин полюбовался садами с аллеями, обсаженными высокими самшитовыми деревьями, с цветочными клумбами и лужайками. Все имело настолько ухоженный вид, что, наверное, здесь денно и нощно трудилась целая армия слуг, усердно поддерживая пленительный вид этого сада. У де Тре просто прекрасная жизнь. Внимание Ардуина привлек более скромный особняк, располагающийся чуть дальше по улице. Целая толпа ремесленников хлопотала вокруг, чтобы сделать его крупнее, солиднее, красивее. Мэтр Правосудие подошел к каменщику, которого узнал по большому переднику и нарукавникам из жесткой рыжеватой кожи[565]. – Прекрасная работа! Приятно смотреть, как возводится такое элегантное здание. – А как же. Уже добрых два года строим. Тут есть над чем поработать! – Наверное, это дом какого-то богатого торговца? – А вот и нет… человека бальи, который получил неплохое наследство. Он из тех, кто в рубашке родился, уж можете мне поверить. Вот мне, например, вряд ли так повезет, как ему. – Во всяком случае, даже если эти деньги достались ему без труда, он распорядился ими очень даже разумно, – шутливо ответил Ардуин, который узнал все, что хотел.* * *
За кем следовать? За крысой или куском заплесневелого сыра? Обрадовавшись своей новой догадке, Ардуин Венель-младший зашел в первую же таверну, вывеска которой бросилась ему в глаза. Что же, хорошему коту хорошую крысу. Но он тотчас же вышел, сделав извиняющийся жест трактирщику, который бросился навстречу своему единственному клиенту. Немного прогулявшись, палач решил вернуться в «Напыщенного кролика», чтобы спокойно поужинать и немного передохнуть. Только одной судьбе известно, удастся ли ему выспаться следующей ночью. Некоторое время Ардуин лежал, вытянувшись на кровати. В его голове мелькали неясные образы, мысли; он переходил от одного воспоминания к другому, совершенно никак с ним не связанному. Перед его мысленным взором возникла Мари де Сальвен, ее лицо, еще до того, как ей поспешно обстригли волосы и обрядили в грубое шерстяное платье, пропитанное серой. Она смотрела на него так, будто они были знакомы всю жизнь. Она вошла в его мысли, словно владела всеми ключами от них. Это наполняло Ардуина счастьем, признательностью и волнением. Он приглашал ее в свою душу, отдавая ее всю, до малейшего уголка, и просил никогда ее не покидать. Эта мольба, в которой он полностью не отдавал себе отчета, постоянно крутилась у него в голове: не покидайте меня. Умоляю вас, мадам, никогда не покидайте меня.42
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 года Эти разрозненные видения чередовались с крепким сном. Встав перед самой вечерней, Ардуин почувствовал, что полон свежести и бодрости. Даже нетерпения. Сполоснув лицо и руки за туалетным столиком, он спустился вниз. Трактирщица накрывала столы, раздавала ложки и стаканы постояльцам, которые собрались поужинать. – Матушка Крольчиха, не рассчитывайте на меня сегодня вечером. Я буду в гостях. – Приятного вечера, мессир Венель. И будьте осторожны в Бург-Нёв, если случайно там окажесь. Всякий сброд туда так и слетается, прямо как мухи на мед. И лучше не ходите один. В темноте всяким прохвостам просто раздолье. – Я буду осторожен. Благодарю вас.* * *
Когда Ардуин вышел, помахивая одолженной у трактирщицы масляной лампой, была уже ночь. Резкий ветер носился по пустым улицам. Иногда скорченные силуэты нищих, сгрудившихся в стаю, забившихся в угол под портиком двери или под навесом какой-нибудь лавки, напоминали ему, что такая ночная прогулка приятна только для тех, кто живет под крышей за надежными стенами. Остальные довольно быстро умирают. Некоторые из них убивают в надежде немного продлить свое существование. Ардуин поднялся к первой из точек, проколотых кинжалом на карте. Пройдя мимо восхитительного особняка бальи, застекленные окна которого были освещены множеством огней, он приблизился к милому гнездышку, до утра покинутому строителями. Значит, счастливый наследник… Человек бальи… Чтобы узнать, кто это такой, Ардуину не понадобилось спрашивать каменщика. Зияющие окна будто слепые глаза, стены в лесах вызывают в памяти большой корабль-призрак… И тут Ардуин заметил, что половина окон первого этажа плотно закрыта ставнями. Ардуин Венель-младший рассмеялся. Судьба, сама судьба ведет его. Оглядевшись по сторонам, чтобы удостовериться, что никто из запоздавших прохожих его не заметил, он перелез окружающую стройку хлипкую изгородь и проскользнул в сад, заросший сорняками и заваленный строительным мусором. Нескольких секунд хватило, чтобы открыть ставню лезвием кинжала. Мэтр Правосудие спрыгнул в комнату. Здесь царствовали холод и сырость. В воздухе витали неясные запахи плесени и пыли. Даже слабого света хватило, чтобы разглядеть, что немногие находящиеся здесь вещи принадлежат далеко не бедному человеку. Должно быть, у прежних хозяев тут была кухня, насколько можно было судить по тому, что здесь находился большой, переполненный золой камин и слив, устроенный в каменном полу под окнами. Судя по всему, в комнате кто-то жил. Один человек, мужчина. Ардуин Венель-младший заметил валяющийся у стены тюфяк. Нагнувшись, он пощупал покрывала и льняную простыню. Нет, не бродяга… Он различил кучу одежды, сваленную на некоем подобии кухонного стола, и внимательно ее осмотрел. Черт возьми: тонкие дорогие ткани, не какой-нибудь там дрогет![566] Обитатель этого места ни в чем себе не отказывает. А как же: унаследовал кругленькую сумму… Он поднял матрас, порылся на шатающемся колченогом столике, где кучей были свалены другие предметы одежды – изношенные и не такие роскошные. Должно быть, человек носил их до того, как получил так называемое наследство. Больше ничего интересного там не было. Немного раздосадованный, Ардуин подошел к камину, отметив про себя, что так много золы вряд ли могло накопиться от обычных дров. Серые хлопья, как будто здесь жгли бумагу… Нет, скорее, льняные тряпки, из которых эту бумагу делают. Острием кинжала Ардуин пошевелил золу. Из серых хлопьев показался кусочек белой и красно-коричневой ткани. Обследовав их, он почувствовал, что на него снизошло невероятное спокойствие. Кусок нижней рубашки, точнее, рукава – обожженного и запачканного сухой кровью. Ардуин выпрямился. Сердце его билось так медленно и неспешно, что на какое-то мгновение он испугался, не остановится ли оно вовсе. Палач дышал, широко открыв рот; вся его усталость последних дней будто превратилась в клубы пара, витающего в прохладном воздухе. Дрожь пробежала по его спине и плечам. Конечно, от холода; он же ничего больше не чувствовал – ни возбуждения, ни ожидания, ни даже ненависти. Внезапно его затылка коснулось ласковое теплое дыхание. Мари. Мари де Сальвен была здесь, с ним. Он стремительно обернулся, надеясь увидеть хотя бы смутный силуэт ее призрака[567]. – Конец близок, мадам. Вы здесь, и я уверен, что все именно так. Для него? Для этих замученных детей? Для чего-то другого? Но ответом на его почти умоляющий шепот была лишь глубокая тишина ночи.* * *
Совершенно растерянный, Ардуин стоял в темноте, пытаясь проникнуть взглядом за клубящиеся в комнате тени и разглядеть среди них Мари де Сальвен. Неожиданно внимание его привлек более светлый участок на внутренней стене. Встревожившись, Ардуин подошел к нему. Узкий высокий кусок фанеры – странное украшение для такого места. Проведя по фанере кончиками пальцев, Венель-младший ощутил на высоте человеческого роста нечто вроде зарубки. Изловчившись, он потянул на себя узкую высокую дверцу. Пролет из нескольких каменных ступенек вел в черную бездну. Мэтр Правосудие втянул в себя холодный сухой воздух и принялся осторожно спускаться. Пять ступенек, на которых не было ни пыли, ни плесени. Должно быть, по ним регулярно ходят. На стене виднеется какая-то тень – сосновый факел. Неожиданно дорогу преградила тяжелая деревянная дверь, обитая стальными полосками. Дверь, запертая на сложный замок, дстойный несгораемого шкафа какого-нибудь нотариуса. Ардуин понял, куда она ведет: в одно из длинных подземелий, прорытых жителями во время строительства замка Сен-Жан в надежде при нападении врагов найти защиту за мощными стенами крепости. Но замок был сооружен на таком высоком холме, его склоны были настолько круты, а разным властителям Ножана оказалась настолько не по душе перспектива надрывать себе кишки, ведя вверх по скале армию завоевателей, что строительство туннелей прекратилось, а самые дальние из них были замурованы. «Слишком мощный замок, чтобы запирать несколько бутылок вина», – подумал Ардуин, покидая это сумрачное жилище.43
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 года Он поочередно заглянул во все таверны, которыми этот квартал был просто усеян. Входил туда, а через некоторое время снова выходил, безропотно позволяя внутреннему чутью увлечь себя в следующую таверну. Сам себе он казался ребенком, которого тянет за руку куда-то спешащая мать, которая бросает «да-да» в ответ на простенький вопрос «куда мы идем?». Веселое настроение, царящее в «Болтливом дрозде», побудило Ардуина устроиться за столом. Все громко говорили, обмениваясь шуточками. Однако обходилось без непристойностей, и присутствующие там женщины – судя по виду, мелкие торговки или жены ремесленников – чувствовали себя вполне в своей тарелке. Здесь не было никаких пьяниц, водящих компанию с веселыми девицами. Конечно, тут не беседовали о поэзии и куртуазных романах, но атмосфера была достаточно веселой и по-детски шумной. Хозяин Дрозд с хозяйкой Дроздихой проворно и добродушно священнодействовали, переходя от стола к столу, наполняя кувшины, принося блюда с пирожками и оладьями. Клиенту, на котором богатые одежды смотрелись так же нелепо, как передник на корове, они оказывали особое внимание и уважение. Ардуин, сидящий к нему в профиль, принялся его потихоньку разглядывать. Мужчина, чуть за сорок, крепкий, с несоразмерно длинным торсом или, скорее, слишком короткими ногами, насколько можно было об этом судить. Бычья шея водружена на мускулистые плечи; этот человек явно очень силен от природы. Хозяйка Дроздиха, которая старалась, чтобы постоянные клиенты пребывали в хорошем расположении духа, принялась со смехом умолять: – О, мессир Деспре, прошу, расскажите нам еще раз, как это наследство свалилось на вас с неба, вознаградив за все ваши благодеяния нашему городу. Мессир? Черт возьми! Став богатым, человек Ги де Тре сразу поднялся в их глазах. Ардуин улыбнулся. Он был уверен, что прекрасный дом, вокруг которого трудилось столько каменщиков, принадлежал не кому иному, как первому лейтенанту бальи Ножана, повесившему попрошайку. Разумеется, по ошибке. Моментально наступила тишина. Всем хотелось послушать историю о внезапном обогащении. – Да я сам удивился, когда узнал; у меня просто язык к нёбу прилип. Мой дядюшка, которого все считали нищим, маленьким я сам таскал ему корзинки с едой… И вот он помирает, и тут выясняется, что он на самом деле был богат, как епископ… прошу прощения! А я – его единственный живой наследник. Вот и вся история. А теперь я угощаю всю честную компанию! В ответ на это честное и благородное предложение прозвучало множество благодарностей, которые слились в сплошной шум. Ардуин вежливо принял бесплатный кувшин вина, который матушка Дроздиха поставила перед ним, но выпил из него только один стакан, уголком глаза следя за первым лейтенантом бальи и притворно смеясь шуткам, которые раздавались то в одном, то в другом углу зала. Судя по тому, что лейтенант меньше чем за час осушил три кувшина вина, он явно отличался крепким здоровьем. Наконец Деспре встал, и, подобно артисту, удаляющемуся за кулисы, произнес заплетающимся языком: – Доброй ночи всей компании! А я пошел спать, до краев полный добрым вином нашей прекрасной хозяйки. Счастливо оставаться! Речь была встречена взрывами смеха и даже аплодисментами. Разумеется, он ведь тратит здесь деньги, не считая.* * *
Чуть подождав, Ардуин потихоньку вышел вслед за ним так, что его не заметил ни один из уже достаточно «подогретых» клиентов. Подняв лицо к небу, он закрыл глаза от счастья при виде звезд, усеивающих небо чернильного цвета. Растущая луна заливала небо желтоватым светом, таким деликатным, будто делала это специально для него. Медленными шагами Ардуин направился по улице к дому-призраку. Когда он оказался перед ставней, которую накануне открыл, в нос ему ударил сильный и острый запах мочи. Должно быть, перед тем как войти в дом, Морис Деспре опорожнил переполненный мочевой пузырь. Ардуин обошел вокруг дома, смотря, нет ли кого поблизости, немного подождал, а затем так же незаметно проник внутрь. Мощный храп пьяницы успокоил Ардуина, который было встревожился при звуке хлопнувшей ставни. Бесшумно, как кошка, палач снова скользнул в комнату, немного подождал, пока глаза привыкнут к темноте, которую рассеивал лишь мерцающий огонек небольшого масляного светильника, с помощью которого зажигают печь по утрам. Морис Деспре валялся на матрасе, раскрыв рот и раскинув руки. На нем были одни нижние штаны, позволяющие видеть покрытые длинными редкими волосами икры, слишком худые для человека его телосложения. Ардуин колебался лишь несколько мгновений. Деспре был не такой крупный, как он, но зато гораздо более тяжелый, и тащить его было бы трудновато. И потом, незачем делать лишнюю работу. Подобрав валяющиеся на полу штаны, он быстрым движением обернул их вокруг шеи спящего на манер гаротты. Первый лейтенант немного поморгал, а затем изумлено раскрыл глаза. Он попытался было встать, но мэтр Правосудие с яростью надавил коленом ему на грудную кость и четким движением потянул за импровизированную удавку. Раздался хрип. – Тихо, приятель, я не хочу тебе дурного. Только деньги, которыми ты соришь во всех тавернах и которыми можешь поделиться с таким бедным прохвостом, как я, – солгал Ардуин. – Я уже наведывался сюда, но, к несчастью, ничего не нашел. Разве что тяжелую дверь, которую ты сейчас будешь любезен открыть, чтобы я увидел, что ты так тщательно за нею прячешь. – Да пошел ты… – забулькал было лейтенант, но штаны снова натянулись, почти задушив его и не давая возможности продолжать. – Нет-нет, никаких грубых слов при мне, – вкрадчиво произнес Ардуин, приставив острие кинжала к тяжелому подбородку собеседника. – А теперь будь любезен, вставай… Ах, ах, что там такое висит у тебя на шее? Медальон с изображением твоего святого? Тонкий треугольник смертоносного металла опустился и приподнял черный кожаный шнурок. На конце его покачивался ключ. – Поднимайся! – настаивал мэтр Правосудие. – Я набью себе карманы и оставлю тебя мечтать дальше. Взгляд первого лейтенанта выдавал охватившую его панику и смертельный ужас. Для Ардуина это послужило еще одним подтверждением, что он на верном пути. Деспре издал какое-то горловое ворчание, отрицательно покачав головой. – У меня есть множество добродетелей, но вот терпением я обделен, – ласково прошептал Венель-младший. Острие кинжала на полпальца вошло в жирную бычью шею Деспре, исторгнув придушенный вой. По шее потекла тоненькая темно-красная струйка. – Что ты предпочитаешь? Я прикончу тебя и заберу ключ – или ты все-таки соизволишь пригласить меня в запертую комнату? Как уважающий себя вор я всего лишь немного ощиплю тебя, и ты меня больше не увидишь. Выбирай, только быстро. Меня интересуют лишь деньги, а до всего остального, что ты там прячешь, мне и дела никакого нет! В ответ тот снова отрицательно потряс головой. Ардуин опять натянул удавку и медленно воткнул лезвие кинжала в левое плечо Деспре, поворачивая лезвие, чтобы тому было как можно больней. Тот попытался заорать, но петля из собственных штанов снова затянулась на его шее. Лейтенант бальи широко разинул рот, будто рыба, выброшенная на берег. Несмотря на то, что в комнате было довольно холодно, капельки пота покрыли его квадратное лицо. – А ты здорово побледнел, – заметил Венель-младший нарочито скучающим тоном. – Сейчас ты задохнешься и подохнешь. Так что давай выбирай, любезный. Этой ночью мне надо наведаться еще к одному хорошему клиенту. Последняя фраза оказалась решающей. Морис Деспре согласно кивнул. Мэтр Правосудие немного ослабил удавку из штанов. – Только не забывай, – предостерег он, приставляя кинжал к его жирной шее. – Никаких резких движений, тем более что теперь я знаю, где ключ. Один неверный жест – и все произойдет очень быстро. Впрочем, я не хочу тебе дурного. Бери лампу; от нее ты зажжешь факел, который я там видел. Оставаясь настороже, готовый нанести удар при любом угрожающем движении, Ардуин подтолкнул Деспре к каменным ступенькам.44
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 года Весь дрожа, первый лейтенант прислонил факел к фитилю масляной лампы, а затем вставил в замочную скважину ключ, висящий у него на шее. Тяжелая дубовая дверь плавно приоткрылась. – Проходи вперед и освещай путь, – приказал ему Ардуин ровным вежливым тоном. Взгляд мэтра Правосудие пробежался вокруг. Длинный, довольно тесный погреб, вырытый в скалистом холме, на котором был воздвигнут замок Сен-Жан. Не поворачиваясь и не спуская глаз с Деспре, Ардуин толкнул деревянную дверь, освобождая свою жертву. Штаны упали на неровный земляной пол. Морис Деспре задыхался, хватая воздух измученными легкими. Наконец он забормотал: – Нет здесь ничего! Денег точно нет. Что я, дурак, держать их в подвале? Они у нотариуса! И вали отсюда, пока я тебе морду не расквасил! – Нет, отчего же, здесь что-то есть, – возразил Ардуин, шевеля острием кинжала валяющуюся на полу кучу одежды. – Это? Лохмотья, сжечь их давно пора. Так и кишат паразитами. – Эти лохмотья носили дети. – Ну и что из этого? – возразил собеседник, который восстановил присутствие духа. – Для такого прохвоста, как ты, здесь точно ничего интересного. – Ошибаешься, как раз есть. Отчего бы не зажечь факел в темном углу, где есть что-то, напоминающее стол? – Я сказал, исчезни отсюда, пока я и правда не рассердился. – Зажигай! – резким голосом приказал мэтр Правосудие.* * *
Ардуин ясно видел, какое желание крупными буквами написано на лице убийцы. За долю секунды перед глазами Венеля-младшего промелькнуло все, чему учил его отец. Он полностью погрузился в «другого себя», которого не затрагивали ни крики, ни агония человеческих созданий. Палач заметил, как Деспре с ревом бросился на него, низко наклонив голову. Прыжок, пируэт… Лезвие кинжала резко и точно вошло между вторым и третьим поясничным позвонком. Лейтенант резко остановился, а затем попытался развернуться к своему противнику, но вместо этого с жалобным писком рухнул на пол, растянувшись во всю длину. Закрыв дверь на двойной оборот, Ардуин произнес: – Ну, вот мы и одни! Никто нас не услышит. Вот в чем главное назначение сего места, ведь так? Хорошо, что ты обмочился еще до того, как пришел сюда, – мне по крайней мере сапоги пачкать не придется. Деспре попытался отползти от него, подталкивая себя локтями. Венель снова заговорил мягким вежливым голосом: – Не стоит упрямиться, ты полностью в моей власти. Вот твои нижние конечности уже и парализовало. Я мог бы прицелиться и повыше и превратить тебя в беспомощного червя, но это было бы уже чересчур. Во всяком случае, я не тороплюсь. Он снова наклонился над кучей лохмотьев – заношенных до прозрачности, грязных и зловонных. В самом деле, лохмотья маленьких мучеников. Затем Ардуин зажег последний факел. Мерцающий желтый огонь осветил деревянный стол, потемневший от засохшей крови, которая стекала на пол, образуя меленькие темные лужицы. Он не ощущал ни гнева, ни ненависти, ни жажды отмщения. Ардуин следовал по пути, начертанному его отцом. Теперь начиналась его работа. Глаз за глаз, зуб за зуб, гениталии за гениталии. У стены, плавно переходящей в свод, Венель-младший подобрал большой камень и снова приблизился к Морису Деспре. – Мы начнем с зубов, – безразличным тоном объявил он. – То, что ты закрываешь рот, ничего не изменит. Последнему ребенку ты выбил зубы. Кстати, я не представился: мэтр Правосудие Мортаня, палач. Я подвергну тебя пыткам и убью так, как ты это сделал с ни в чем не повинными детьми. Это будет долго. Пытки – это может быть очень долгим процессом. – Нет… нет… я сначала их усыплял… они ничего не видели… ничего не чувствовали… Я разбивал им головы, всем! – закричал Деспре. – К несчастью, у меня есть только твое слово. Кто тебе платил? Прекрасное наследство, деньги, полученные за бесчеловечную жестокость… – Нет… нет… Камень устремился к потному лицу, яростно ударяя по рту. Раздался вой, кровь потекла с разбитых губ. – Кто? – так же вежливо поинтересовался Ардуин, снова поднимая камень. – Старший… бальи… шпаги… Аде… Аделин д’Эстревер, – с трудом проговорил первый лейтенант, на губах которого лопались кровавые пузыри. – Ги де Тре ничем не заслужил, чтобы его впутали в такую чудовищную историю. – Не… Он мне жалованье не увеличивал… Я несколько раз просил, но ведь из него денег не выцарапать… – Ну конечно. И из-за твоей обиды тринадцать детей распрощались с жизнью, – иронично заметил Ардуин, а затем добавил ровным деловым тоном: – Морис Деспре, я должен отнять у тебя жизнь. Я не прошу у тебя прощения, так как ты не являешься моим братом во Христе. Я оставляю тебе несколько минут, чтобы ты смог вручить свою душу Создателю, если он, конечно, соблаговолит принять ее. Несколько минут истекли. Камень снова обрушился на окровавленное лицо.45
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 года Ардуин Венель-младший продолжал обедать, сидя один в зале «Напыщенного кролика». То, что произошло прошлой ночью в старом погребе, не имело для него никакого значения. Лейтенант долго стенал и умолял на том самом месте, где убил, изнасиловал и изувечил стольких детей – из жадности и без тени угрызений совести. Ардуин надеялся, что сказанное Деспре в перерыве между двумя хрипами было правдой. Что несчастные дети были без сознания и что всему остальному предшествовал жестокий удар по голове. Когда виновного найдут, вряд ли его можно будет узнать после того, как над ним поработал палач и потрудились голодные крысы. Глаз за глаз. Зуб за зуб. Удар за удар. По своему обыкновению, исполнитель Высоких Деяний уже почти забыл черты того, кого он недавно подверг пыткам и предал смерти. Зато он ясно помнил взгляд холодных голубых глаз высокого мужчины. Того, кто обрек несчастных детей на этот кошмар. Аделин д’Эстревер. Приказы или просьбы Арно де Тизана также не имели власти над мэтром Правосудие. Он не доверился бы даже самому королю. О том, чтобы повиноваться или смягчиться, не могло быть и речи. Он был выше всего этого и в то же время ниже. Только с Создателем, который является единственным господином и единственным судьей. Какое опьяняющее одиночество…* * *
Привлеченная шумом голосов с улицы, необычным в это время дня, умирающая от любопытства трактирщица, извинившись, высунулась наружу, чтобы узнать, что же там происходит. Ардуин съел яичницу с кровяной колбасой и запил все это стаканчиком настойки. Некоторое время спустя трактирщица вихрем ворвалась в зал. Судя по всему, она была крайне взволнована. – Господи боже, мессир Венель! Что происходит! Пойдемте туда вместе со мною… Такая новость… Пойдемте, пойдемте, прошу вас! – не отставала она, таща его за руку, будто упирающегося ребенка. У Ардуина не было никакого желания присоединяться к трактирщице, но в конце концов он уступил ее навязчивым просьбам. Улица была перегорожена толпой народа. Все перекликались между собой, обменивались шутками и замечаниями. Нечто вроде нездорового возбуждения, ожидания, смешанного с раздражением, читалось на лицах людей, которые все как один повернулись налево, в их напряженых спинах, в их взволнованных выкриках. До Ардуина донеслись обрывки фраз: – Покушение… своего родного сына убить… а еще из благородных… Вот мразь… добрая дюжина убитых детей… Сатанинское побуждение, не иначе… Смерть! Без жалости! Чудовище какое…* * *
Стук копыт по булыжникам мостовой. Показались двое всадников на мощных жеребцах – гвардейцы бальи Ножан-ле-Ротру. Они тащили за собой обвиняемого, но из-за толпы Ардуин не смог рассмотреть, кто это. Раздались злобные крики и ругательства, стук камней, брошенных в обвиняемого, но упавших на мостовую. Ардуин, который не испытывал ни удивления, ни интереса к этому зрелищу, уже собирался вернуться в таверну, но внезапно услышал женский крик. Крик, полный боли и удивления. И тут все существо Ардуина словно окатило ледяной волной. Он принялся бесцеремонно расталкивать тех, кто закрывал обзор, что вызвало недовольное ворчание одних и сразу отмеченные им подозрительные взгляды других. Процессия приближалась; толпа волновалась, подобно бурному морю, готовая броситься на того, кого тащили за собой люди бальи. Неспособный что-либо сообразить, Ардуин заметил за лошадиными ногами подол юбки и низ женской накидки, затем за лошадиным крупом показались длинные волнистые волосы цвета спелой пшеницы. Даже не видя лица обвиняемой, которую вели в тюрьму замка Сен-Жан, Ардуин вдуг ощутил, что его сердце подпрыгнуло и принялось бешено колотиться о грудную клетку. Совершенно непроизвольно из его горла вырвался изумленный вопль: – Мари! Мари де Сальвен? Женщина со скованными руками, увлекаемая одним из гвардейцев бальи, споткнувшись, повернула к нему голову. На него смотрели те самые зелено-голубые глаза миндалевидного разреза, взгляд которых вот уже несколько недель днем и ночью оставался перед мысленным взором мэтра Правосудие. По виску, в который кто-то попал камнем, стекала струйка свежей крови. Ардуин почувствовал, что голова у него бешено закружилась, а ноги буквально подломились под ним. Он как будто падал в черную бездонную пропасть. Сколько времени он стоял, не слыша раздающихся вокруг криков, немой, неспособный связно соображать? Он не смог бы ответить на этот вопрос. Когда сознание вернулось к нему, толпа рассеялась, Мари с эскортом исчезла, и матушка Крольчиха обеспокоенно теребила его за руку: – Мессир? Мессир Венель? Прошу вас… С вами все хорошо? Он отрицательно покачал головой и с трудом произнес: – Вы знаете, кто эта женщина? – Молодая баронесса де Вигонрен, гнусная отравительница, которая едва не прикончила своего сына! В голове Ардуина безостановочно крутились слова предсказательницы – неприятной старухи, с которой он тогда так неожиданно столкнулся: Ты веришь, и ты заблуждаешься. Ты не знаешь, но найдешь то, чего не искал. Десница Божия, судьба, неслыханный невероятный шанс, испытание – все это вместе и сразу. Некая непостижимая сила только что открыла перед ним новую дверь, о существовании которой Ардуин до сих пор даже не подозревал. Он только что снова нашел Мари, по эту сторону смерти. Смерть, которую он сам ей дал, отпустила Мари. Никогда больше он не позволит смерти снова забрать ее. Без единого слова покинув изумленную матушку Крольчиху, Ардуин быстрым шагом направился назад в таверну, чтобы заняться делами.46
Крепость Лувр, ноябрь 1305 года Его высочество Карл де Валуа очень удивился, услышав сигнал, так как о прибытии мессира де Ногарэ доложили не в рабочее время, а когда брат короля уже удалился в свои покои. Точнее, после ужина, когда уже почти наступила ночь. Их общение, отличающееся самой утонченной вежливостью, в действительности легко могло свестись к взаимному недоверию. Для Валуа не было секретом, что он раздражает сурового Ногарэ, который относился к государственным денье с такой же бережливостью, как и к своим. Но с братом короля не особенно-то поспоришь! Более того, в его активе числились несколько блистательных военных побед, как, впрочем, и случаев полного разгрома – например, после того, как он, получив репутацию подлого грабителя Сицилии, был вынужден вернуться во Французское королевство, поджавши хвост[568]. Что толку распространяться об этих досадных воспоминаниях! Как бы там ни было, монсеньор де Валуа не доверял «печальной лесной мыши» и знал, что его недоверие взаимно. Несмотря на то что ему недоставало политической ловкости, Валуа прекрасно знал, что, если представится случай, Ногарэ может стать достаточно грозным соперником. Таким образом, не понимая всех обстоятельств дел, всех заговоров, которые советник его брата держал хозяйской рукою, Валуа относился к нему с предельной осторожностью и с добродушием, которого советник был совершенно чужд. Услышав о приходе Ногарэ, Карл де Валуа сразу же приказал привратнику принести легкое угощение и непременно кувшин хорошего вина.* * *
Он с несколько принужденным радушием принял позднего гостя, с наигранной сердечностью пожав его руку обеими руками. – Какое счастье и какой сюрприз видеть вас здесь, мессир де Ногарэ. – Для меня находиться здесь – счастье и величайшая честь, монсеньор. – Прошу вас, присаживайтесь. Я знаю, насколько драгоценно ваше время, и могу лишь предполагать, что вас могло привести ко мне дело исключительной важности. В глубине души Ногарэ был даже признателен за такой прием, который избавлял его от непременного обмена любезностями перед тем, как перейти к сути. Он подождал, пока слуга поставит на стол украшенные серебром стаканы и блюдо с миндальными пирожными, яблоками и айвой, и лишь затем уселся на стул, который указал ему брат короля. Ножки этого стула были чуть короче, чем у того, на котором расположился сам монсеньор де Валуа. За то время, которого Ногарэ не хватило, чтобы произнести и одной фразы, брат короля успел с жадностью проглотить два фруктовых пирожка и наполовину осушить свой стакан вина. У Ногарэ подобная прожорливость, так же как и разорительная пышность громадной прихожей, устланной великолепными коврами и отделанной мрамором и редкими сортами дерева, вызывала отвращение. На губах королевского советника появилась дежурная улыбка. – Прежде всего, монсеньор, спешу вас уверить, что безвременная кончина свекра вашей дочери Изабеллы глубоко затронула меня. Какая трагедия! – Да, два этих дня у меня все внутри так и переворачивалось… «Если бы ты меньше жрал, у тебя внутри все было бы так же спокойно, как и у меня», – подумал мессир де Ногарэ, склоняя голову в знак сочувствия, старательно прогоняя от себя видение, как Валуа спешит в укромный уголок, чтобы не обнаружить признаков радости. – Да, Бог забирает то, что дал в своей бесконечной милости. – Необыкновенно точно сказано. И все же Артур, родственник вашей любимой дочери… – Вернет себе корону герцога Бретонского. – А затем Изабелла, будущая герцогиня, не замедлит произвести на свет чудесного младенца, – продолжил Ногарэ. Валуа еще больше насторожился, что не ускользнуло от взгляда советника. – Да, появится прямой наследник, – подчеркнул брат короля. – Ей же не четырнадцать лет. – Верно, но говорят, что она немного нездорова и обессилена, – осторожно заметил Ногарэ. – Черт возьми! Кто имеет дерзость распространять подобные слухи? Моя дочь прекрасного и крепкого сложения. Возможно, она потрясена безвременной кончиной своего почтенного родственника, но могу вас заверить, что Изабелла принесет обильное потомство[569]. – О, в этом нет никаких сомнений. У меня просто сердце кровью обливается при мысли, что герцогство Бретонское не вернется к семье Валуа, которая столько сделала, чтобы воцарился мир. Тем более… тем более что косвенно у Жана Второго могли остаться какие-то сложности с нашим обожаемым сувереном. Валуанепроизвольно моргнул, и Ногарэ понял, что тот снова испытывает неловкость. Брат короля осушил свой стакан и проглотил еще пару фруктовых пирожков, а затем спросил, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее и непринужденнее: – Сложности? – Именно так; то ужасное дело с убийствами детей в Ножан-ле-Ротру, входящем в герцогство Бретонское. Весьма к счастью, один из… источников сведений… – То есть один из ваших шпиков? – резко перебил его Валуа. – Что за грубое определение, монсеньор… Информаторы мне требуются, чтобы как можно лучше служить королю, вашему брату, – прошептал Гийом де Ногарэ. – Итак, один из моих источников полностью меня успокоил. Гнусный убийца очень хорошо расстался с жизнью. Хотя слова «очень хорошо» не совсем соответствуют действительности. Его агония была долгой и ужасной, как он того и заслуживал. Вот что мне сообщили.* * *
Монсеньор де Валуа посмотрел на него долгим недоверчивым взглядом, пытаясь разгадать смысл последнего намека. Ногарэ только что добился того, что старался обрести: уверенности, что брат короля не оплачивал и даже не поощрял эти бесчеловечные убийства. Без сомнения, он воспользовался этой трагической историей, чтобы сделать подкоп под Жана II и его право сеньора, земли которого представляли собой ненавистный, но весьма процветающий анклав посреди земель Перша и Алансона. Без сомнения, при поддержке настоятельницы аббатства Клэре, мадам Констанс де Госбер, конфидентки его супруги и двоюродной сестры папы, он неизбежно вызовет и неудовольствие населения. Это сыграло бы на руку Филиппу Красивому, который без колебаний удалил бы Жана Бретонского из Ножана, чтобы вернуть эти владения своему брату. Учитывая все эти обстоятельства, Жан II слишком зависел от благоволения короля, чтобы рисковать вызвать его гнев, противореча ему. Поэтому Валуа и прибег к этой военной хитрости. В глубине души Ногарэ допускал такой способ действовать, несмотря на свое пристрастное отношение к Карлу. И все же он испытал облегчение, убедившись, что брат короля не замешан в этом гнусном деле. Что же касается всего остального, касающегося постоянных стараний его высочества увеличить свое состояние, здесь мессир де Ногарэ не собирался ослаблять свой надзор. Несмотря на тревожные донесения относительно плодовитости молодой Изабеллы, которые Ногарэ регулярно получал от одной из бабок[570], ее отец Карл надеялся, что та заполучит герцогскую корону независимо от своего супруга. Итак, эта история закончена. Дюжина маленьких мучеников рассталась с жизнью ни за что ни про что. Впрочем, какое это имеет значение? Никакого. Тем не менее мессир де Ногарэ не собирался терять случай попортить кровь Карлу де Валуа, намекнув ему, что в запасе у него имеется некий печальный секрет, который однажды может нанести ему некоторый ущерб, если представится благоприятная возможность для этого. Более того, нечестивое высокомерие Аделина д’Эстревера вызывало у Ногарэ приступы отвращения и холодной ярости. Ничтожество, которое вообразило, будто занимает место Господа Бога, принося его невинных агнцев в жертву своей алчности и желанию угодить его высочеству де Валуа… Этот проклятый грешник должен заплатить за то, что совершил.* * *
– Это вино – настоящий бархат, – заметил мессир де Ногарэ, отставляя в сторону стакан, едва пригубив его содержимое. – Что же касается двенадцати несчастных замученных детей, вы можете возразить мне, что большинство из них и так умерло бы от голода, болезни или несчастного случая. Однако тот самый источник сведений, который тщательно держит меня в курсе всех новостей, как бы это сказать… упомянул, что за этой темной историей есть некая могущественная рука. Мне представляется, что настоящий убийца – вовсе не какой-то жестокий полоумный тип. Валуа нервно сглотнул, а затем с трудом произнес: – В самом деле? – Да, это бесспорно так. Мне кажется, что изувера не только поощряли, но и платили ему за эти ужасающие деяния. – Значит, вам известно… – Еще нет. Впрочем, я мог бы узнать, кто этот мерзавец, и передать его в руки королевского правосудия, но все мое время занято многочисленными государственными делами… – Да, многочисленными и срочными, – с готовностью подхватил монсеньор де Валуа, которому становилось все более и более не по себе. Он только что понял, что все эти убийства, которые его так устраивали, вовсе не были случайными. Его высочество окончательно разволновался; он наконец понял, что скрывалось за многочисленными намеками и недомолвками Ногарэ. Проклятый Аделин д’Эстревер! Мерзавец, ничтожество! Ничего, в личной беседе с палачом он все расскажет, даже то, о чем не подумал сам Ногарэ. Конечно, Карл приказал своему старшему бальи шпаги найти или создать предлог, чтобы прижать к стенке Ги де Тре, то есть Жана II Бретонского, чтобы отобрать роскошный Ножан-ле-Ротру. Но никогда ни за что на свете он даже не подумал бы, что его человек устроит весь этот ужас с убитыми и замученными детьми! Его не посетили ни малейшие подозрения, ни когда были найдены первые трупы несчастных малышей, ни когда об этой истории все заговорили в полный голос. Агнец Божий! Осудил ли Бог тех, кто причастен к этому чудовищному зверству? Ему следует все исправить – и покорно просить прощения у Создателя за ужасную ошибку, которой он не совершал, но которая никогда бы не была совершена без него. А кто такой этот Арно де Тизан, у которого Эстревер попросил помощи? Кто он на самом деле? И этот мэтр Правосудие Мортаня?.. От ужаса лоб брата короля покрылся капельками холодного пота. Как будто прочтя его мысли, мессир де Ногарэ, для которого человеческие души, в том числе и души сильных мира сего, были открытой книгой, объявил: – Уверяю вас, вся эта история была очень запутанной, и меня совсем не удивило, что даже вы здесь ничего не пронюхали, – схитрил советник. – Мой источник сведений также не мог ясно все видеть, так как он лишен той проницательности, которой обладает исполнитель Высоких Деяний Мортаня, некий… как там его? Впрочем, это не важно. Короче говоря, мэтр Правосудие Мортаня. К несчастью, этот человек, каким бы тонким умом и боевым характером он ни обладал, не смог проследить путь, ведущий от гнусного убийцы к тому, кто ему платил. К тому, кто осквернил свою душу грехом и отдал ее в руки дьявола. При этих словах брат короля издал вздох облегчения. Ногарэ с трудом удержал улыбку. Этот Венель-младший помог ему, не требуя вознаграждения. Ногарэ был ему благодарен, не сомневаясь, что продолжение не замедлит последовать. В этот вечер он чувствовал совершенно несвойственную ему симпатию к Карлу де Валуа, особенно учитывая то обстоятельство, что советник без труда смог управлять братом короля, приведя его куда нужно. Результат был достигнут, причем на удивление быстро. Под влиянием хорошего настроения Ногарэ вдруг решил сделать его высочеству подарок, тем более что решающими здесь были спокойствие герцогства Бретонского и его тяготение к Франции. Поднявшись на ноги, чтобы откланяться, он произнес немного усталым голосом: – Монсеньор, вам известно, с каким почтением я к вам отношусь. А споры из-за каких-то там денег… разве это так важно? «Всего-то десятки миллионов ливров, присвоенные из государственной казны», – мысленно поправил себя Ногарэ и продолжил: – Вы знаете мою склонность к аптекарской[571] точности счетов. Иногда я об этом сожалею, позвольте вас уверить. Что бы там ни было, некоторые… слухи… исходящие из вашей канцелярии, говорят как раз о хорошем женском здоровье вашей дорогой дочери, – солгал советник. – Но из этого кто-то может сделать досадные выводы. Представьте себе… развод! Англия сразу же двинет вперед свои пешки. Мое сердце просто разорвется от огорчения, если герцогство Бретонское не вернется под могущественную сень де Валуа. А теперь позвольте пожелать вам доброй ночи и заверить, что я остаюсь вашим покорнейшим слугой.* * *
Карл де Валуа метал громы и молнии: Шапп, Эмиль Шапп, презренная змея, которой он столько времени доверял!.. «Ловкий ход!» – отметил про себя мессир де Ногарэ, склоняясь в поклоне перед братом короля. Шапп принадлежит к той разновидности предателей, которые всегда сохраняют любезный вид. Таким Ногарэ никогда не доверял, даже когда пользовался их услугами. Он не сомневался, что молодой секретарь не колеблясь отвернется от него, если получит от кого-то предложение, сулящее еще большие выгоды. Вспыльчивый и очень предсказуемый Карл решит, что славный Эмиль злословит по поводу плодовитости его дочери. И вообразит, будто, избавившись от секретаря, заодно лишит осведомителя самого де Ногарэ. И правда, ловко сделано. Причем безо всяких расходов.47
Париж, ноябрь 1305 года Очень довольный тем, как продвигаются его дела, Эмиль Шапп, насвистывая, вышел совершить прогулку по Лувру. В ночной темноте контуры домов еле угадывались, шел холодный и очень неприятный моросящий дождь. Но даже это не могло испортить настроение молодому секретарю. Рядом с мессиром де Ногарэ его существование стало просто лучезарным. Может быть, однажды он будет иметь неслыханную честь приблизиться к самому королю… Дрожь вожделения охватила его при одной мысли о таких перспективах. Ах, какое перед ним теперь сияющее и волшебное будущее! Он весело подбежал к калитке, выходящей на улицу Сент-Оноре. Из подъезда соседнего дома неожиданно появился темный силуэт. Эмиль притронулся к рукоятке кинжала, спрятанного у него в поясе. Послышался легкий смешок: – Успокойся, голубчик. Мне нужен только твой кошелек, но я хотела бы заполучить часть его содержимого другим способом, более вежливым и приятным для нас обоих, – фыркнула очаровательная молодая девушка с длинными черными кудрявыми волосами. У нее была свежая кожа и чистое дыхание, хотя уличные девицы и обитательницы лупанариев были частенько отмечены печатью болезней, свойственных их ремеслу. Более того, она изъяснялась как образованный человек. Не какая-нибудь низкопробная девка из таверны. – Не знаю, есть ли у меня настроение, – возразил Эмиль, видя, как та, улыбаясь, приближается к нему. – Настроение? Это и есть мое искусство – поднимать мужчинам настроение. – Сколько ты хочешь? – С тебя? Ничего, или почти ничего. Твою жизнь, что же еще?Эмиль Шапп ничего не понял, ощутив вдруг ужасную боль, которая пронзила его грудь с левой стороны. Он опустил голову, с удивлением спрашивая себя, что за рукоятка, оплетенная черной кожей, торчит из его камзола. Широко открыл рот и попытался вдохнуть, но воздух отказывался наполнять его легкие. Его горло наполнилось чем-то теплым с металлическим привкусом. Рухнув на мокрые булыжники мостовой, Эмиль выплюнул целую лужу крови. Он попытался протянуть руку и схватиться за подол красной юбки, но девушка отпрыгнула в сторону. Он попытался проклясть ее, но его рука бессильно упала. Секретарь пробулькал: – Кто… Кто… – Какая разница? Тот, кто хорошо заплатил. Чего там еще спрашивать? Шапп был уже мертв, когда девица вытащила из его тела свой нож и вытерла окровавленное лезвие об его камзол. Затем, бросив безразличный взгляд на мутные, широко открытые глаза и влажное от дождя лицо, она скрылась в ночи.
48
Окрестности Малетабля, ноябрь 1305 года Гнедой жеребец д’Эстревера галопом выскочил на главную улицу Малетабля. Бока его все покрылись пеной от невероятных усилий, взгляд был безумный, как будто за ним по пятам гнались все демоны ада. Трое мужчин с трудом смогли его остановить и успокоить. Несмотря на то, что горожане, не желающие вмешиваться в дело, касающееся зловещего старшего бальи шпаги, проявили не так много усердия, в окрестных лесах и полях было приказано провести облаву. Деревенский священник, который забеспокоился, не пострадал ли мессир д’Эстревер при падении с лошади, смог убедить даже самых строптивых из своих прихожан, что если не прийти на помощь старшему бальи, его гнев впоследствии может пасть на всю деревню. Труп Аделина д’Эстревера, который был убит ударом кинжала, обнаружили в четверти лье от деревни. Он лежал, бессильно вытянувшись посреди лесной дороги. При нем не было ни кошелька, ни шпаги, ни колец. Также бесследно исчезли его сапоги и плащ, отороченный собольим[572] мехом. Все ясно говорило о том, что у мессира д’Эстревера произошла достойная всякого сожаления встреча с дорожными грабителями. Это очевидное умозаключение успокоило всех, за исключением священника. Он прочитал несколько молитв, все время смущенно повторяя: – Вот ведь какая судьба! Он был не особенно приятен, мир его праху, но умереть таким образом…Историческое приложение
Женское аббатство Клэре находится в департаменте Орн. Расположено на краю леса Клэре. Начало его строительства было зафиксировано в июльской хартии 1204 г. по решению Жоффруа III, графа Першского, и его супруги Матильды де Брунсвик, сестры императора Оттона IV. Действовало семь лет, закрыто в 1212 г. Освящение было проведено командором Ордена тамплиеров Гийомом Арвильским, о котором мало что известно. Аббатство предназначалось для монахинь-цистерианок, а позже бернардинок, которые имели право отправлять высшее, среднее и низшее правосудие.Бонифаций VIII (Бенедетто Каэтани) (1235–1303) – кардинал и легат во Франции, стал папой под именем Бонифация VIII. Был яростным защитником папской теократии, противостоявшей государственному праву. Автор законов, направленных против женщин, подозревался (правда, бездоказательно) в занятиях колдовством и алхимией ради упрочения своей власти. Его открытая вражда с Филиппом Красивым началась в 1296 г. и продолжилась вплоть до смерти папы. Король пытался опорочить даже память Бонифация.
Палач – эта профессия существовала далеко не всегда. До ее появления исполнять приговор кто-то назначался (это мог быть господин, судья или реже тот, кто последним женился или прибыл в город и т. д.). Так как это был лишь случайный «грех», те, кто исполнял эту работу, не подвергались изгнанию из общества, как это происходит позже. В XIII в. и даже начиная с XII в. можно говорить о появлении постоянного работника, который приводил приговоры в исполнение. Некоторая мягкость по отношению к людям этой профессии наблюдалась почти до Великой Французской революции. Возможно, термин «палач» (bourreau) происходит от имени сеньора Ричарда Бореля, который установил свое ленное владение в 1261 г. и сам вешал воров, пойманных в его землях. Согласно другой точке зрения, это слово происходит от названия профессии шорника (bourelier), многие из которых по совместительству были палачами и мясниками. Причину такого эвфемизма можно видеть также в том, что эта профессия была настолько позорна, что о ней предпочитали не слышать. Но, несмотря на положение изгоев, ненавидимых обществом, палачи были ему необходимы, особенно принимая во внимание значительное количество казней и пыток в Средние века, а также то, что они избавляли добрых христиан от необходимости пятнать свои руки кровью. Однако, несмотря на это, к ним до XVIII в. относились с презрением и жестокостью, вплоть до того, что они не имели права жить в городах, за исключением того места, где стоял позорный столб. Им было запрещено появляться на публичных зрелищах, их дети не имели права приближаться к другим детям, даже в школе; их было запрещено обслуживать в тавернах. Нередко они были обязаны иметь на одежде нашивку – позорный опознавательный знак. Палачи не считались гражданами, и лишь благодаря вмешательству графа Клермон-Тоннера в 1789 г. их начали считать членами общества. Основной целью этого вмешательства было уравнение в правах с остальными евреев, протестантов и артистов. Граф Клермон-Тоннер пожелал, чтобы к этому списку добавили также и исполнителей приговоров. Но, несмотря на это, палачи имели некоторые особые права, что давало им источник дополнительного дохода при достаточно скудном жалованье. По той причине, что желающие находились крайне редко, на эту должность вербовали из числа приговоренных к смерти в обмен на помилование. Так как они могли жениться лишь в своей среде, эта должность стала наследственной, и никто из членов семьи не мог выйти за пределы этого порочного круга. Должность палача передавалась от отца к сыну. Таким образом образовывались целые династии – как, например, Жуайенны в Нормандии. Стоит отметить, что почти все они прекрасно умели читать и писать, что тогда было редкостью среди обычного населения. Существовали и женщины, занимавшие эту должность, о чем свидетельствует указ Людовика Святого, но для них не было специального термина. В середине XVIII в. был некий месье Анри, лионский палач, который оказался женщиной Маргаритой ле Пестур. После того, как более двух лет исполняла эту должность, она была заключена в тюрьму, а затем довольно быстро освобождена, после чего вышла замуж. Она признавалась, что предпочитала иметь дело с особами своего пола и с трудом ладила с теми, кто к нему не принадлежал.
Карл де Валуа (1270–1325) – единственный родной брат Филиппа Красивого. Король всю жизнь демонстрировал по отношению к нему слепую привязанность и доверял ему политические и дипломатические миссии, которые превышали возможности этого прекрасного полководца. Карл де Валуа – отец, сын, брат, дядя и зять королей и королев, всю жизнь мечтал о короне, которую так и не обрел. В 1303 г. он получил от своего брата в удел графства Алансон и Перш и стал Карлом I Алансонским. Хотя он получал со своих земель большие доходы, а также брал деньги у короля и занимал у Ордена тапмлиеров, Карл тратил сверх меры, поэтому всю жизнь ему не хватало средств. Он даже заслужил репутацию «сицилийского грабителя». Когда Орден тапмлиеров был уничтожен, брат короля заявил, что те остались ему должны. Филипп Красивый передал ему имущество ордена на колоссальную сумму. В то же время Карл де Валуа был тем, кто смог убедить короля отказаться от желания устроить посмертный процесс против папы Бонифация VIII. Скорее всего, Карл I Валуа не занимался делами Перша, предоставив управление старшему бальи, у которого в подчинении были лейтенанты, а также лица, занимающие высокие должности в сфере правосудия и финансов. В этой ассамблее также присутствовал виконт Перша, представляющий канцелярию Мортаня, и виконт Беллема, представляющий канцелярию Беллема, Ла-Перьера и Сетона, но у последних было не так много власти. Также в ней участвовали представители высшего духовенства. Округ Ножан-ле-Ротру не входил в этот удел, будучи переданным в качестве вознаграждения одному из потомков графа Ротру, после того как не осталось прямых наследников.
Климент V (Бернар де Гот) (ок. 1270–1314) сначала был каноником и советником короля Англии. Присущие ему дипломатические качества позволили ему не рассориться с Филиппом Красивым во время англо-французской войны. В 1299 г. он становится архиепископом в Бордо, затем в 1305 г. замещает Бенедикта XI, приняв имя Климента V. Считается, что Филипп Красивый немало способствовал его избранию в Священный Совет. Опасаясь столкнуться с Италией, в делах которой он не особенно хорошо разбирался, Климент V в 1309 г. обосновался в Авиньоне. В двух крупных конфликтах, где они с Филиппом Красивым придерживались противоположных мнений, он занял выжидательную позицию. Это был процесс против памяти Бонифация VIII и уничтожение Ордена тамплиеров. В первом случае ему удалось утихомирить злобу суверена, а во втором он ловко выпутался. Климент V известен непомерными расходами своей семьи, даже дальних родственников. Он без счета тратил церковные средства, чтобы построить роскошный замок в своем родном городе Виландро. Строительство было закончено за шесть лет, что в ту эпоху являлось рекордным сроком.
Гийом де Ногарэ (ок. 1270–1313) – имел степень доктора гражданского права, преподавал в Монпелье, а затем в 1295 г. вошел в состав совета Филиппа Красивого. Его деятельность приобретает все больший размах: сперва он более или менее скрытно участвует в крупных религиозных процессах, которые тогда проходили во Франции, затем выходит из тени и играет определяющую роль в деле тамплиеров и в борьбе против Бонифация VIII. Ногарэ отличался обширными познаниями и несокрушимым характером. Его целью было одновременно спасти и Францию, и Церковь. Он становится королевским канцлером, затем его заменяют Ангерраном де Мариньи. В 1311 г. Ногарэ снова становится канцлером. Судя по всему, мессир де Ногарэ был человеком суровым и довольно порядочным, несмотря на то, что его должность позволила бы ему сколотить значительное состояние.
Изабелла де Валуа (1292–1309) – дочь Карла Валуа от первого брака с Маргаритой Анжуйской. Отец выдал ее за внука Жана II Бретонского в возрасте пяти лет, чтобы скрепить мир между Францией и герцогством Бретонским. Скончалась в возрасте семнадцати лет, не оставив потомства. Ее супруг, Жан III, ставший герцогом Бретонским, после этого женился еще дважды. Наследников у него так и не появилось.
Жан II Бретонский (1239–1305) – сын Жана I Рыжего и Бланки Наваррской, женился на Беатрисе Английской, породнившись с Эдуардом I Английским. В 1286 г. становится герцогом Бретонским. Его дед Пьер I Моклерк значительно приумножил территории, находящиеся под его властью. Сын Моклерка Жан I, он же отец Жана II, продолжил эти завоевания. Более изворотливый, чем отец, Жан I ухитрялся сохранить хорошие отношения и с англичанами, и с французами, чтобы сохранить свои владения. На своих землях много сделал в политическом, административном, финансовом и военном плане. Не обладая такой силой и размахом, как отец и дед, Жан II быстро оказался под влиянием Филиппа Красивого. Осторожный, набожный и экономный, он оставил Бретань в добром здравии. Умер 16 ноября 1305 г. в Лионе, будучи раздавлен при падении стены, когда вел мула Климента V на церемонии посвящения того в сан. Его наследником стал сын Артур. Его внук Жан, будущий Жан III, женился на Изабелле де Валуа, чтобы скрепить мир между Бретанью и Францией.
Орден тамплиеров (храмовников) создан примерно в 1118 г. в Иерусалиме рыцарем Гуго де Пейном и несколькими рыцарями Шампани и Бургундии. Был окончательно учрежден на церковном Соборе в Труа в 1228 г., устав был составлен святым Бернардом. Во главе ордена стоял великий магистр, авторитет которого поддерживался сановниками. Со временем владения ордена становились все более обширными. В 1257 г. у них насчитывалось 3450 замков, крепостей и домов. Благодаря денежным операциям в Святой Земле к XIII в. тамплиеры стали одними из главных банкиров христианского мира. После падения Акры деятельность ордена в основном переносится на Запад. В конце концов все стали считать храмовников спекулянтами и лентяями. Об этом свидетельствуют разные выражения, бытовавшие в ту эпоху. Например, направляясь в «веселый дом», говорили «я пошел к храмовникам». Жак де Молэ, великий магистр, отказался от объединения с Орденом госпитальеров, и 13 октября 1307 г. тамплиеры были арестованы. Имели место расследования, признания, а затем отказ от них. (В случае Жака де Молэ некоторые историки полагают, что его признания вовсе не были получены под пытками.) Для дознавателей, искушенных в искусстве риторики, было нетрудно получить от подследственных, большинство из которых являлись крестьянами и мелкими дворянами, подтверждения всех обвинений. Например, некоторые не замечали разницы между религиозными понятиями «боготворить» и «поклоняться», вследствие чего были обвинены в идолопоклонничестве. Климент V, опасавшийся Филиппа Красивого по другим причинам, среди которых посмертный процесс против Бонифация VIII, 22 марта 1312 г. объявил об упразднении ордена. Жак де Молэ, от которого вторично добились признаний, был сожжен на костре вместе с соратниками 18 марта 1314 г. Некоторым тамплиерам удалось вовремя сбежать в Англию или Шотландию. Не исключено, что расследование дела тамплиеров, захват их имущества и передача его госпитальерам были заранее оплачены Филиппом Красивым. Это служит лишним доказательством того, что король руководствовался исключительно политическими соображениями. Тем более что репрессии не коснулись Ордена госпитальеров, не менее богатого, чем орден тамплиеров.
Филипп Красивый (1268–1314) – сын Филиппа III Смелого и Изабеллы Арагонской. В браке с Жанной Наваррской у него было три сына, три будущих короля: Людовик X Сварливый, Филипп V Длинный, Карл IV Красивый и дочь Изабелла, которая вышла замуж за Эдуарда II Английского. Филипп был прекрасным военачальником, отличался смелостью. Также известен своим твердым несгибаемым характером и нетерпимостью к противоречиям. Тем не менее он прислушивался к своим советникам, иногда даже чересчур, особенно если те были рекомендованы его супругой. Остался в истории в основном благодаря той важной роли, которую сыграл в процессе тамплиеров. Вместе с тем он был королем-реформатором и смог избавиться от папского вмешательства в политику королевства.
Глоссарий
Литургические службы (речь идет о приблизительных названиях, их время могло варьироваться в зависимости от времени года) Помимо мессы (она, если придерживаться точности, была всего лишь частью божественной службы, установленной в VI в. правилом Святого Бенуа), было еще множество ежедневных служб. Они задавали ритм всему дню. Таким образом, монахи могли поужинать только с наступлением ночи, то есть после вечерни. – Всенощная или заутреня между 2 ч 30 мин и 3 ч; служба после заутрени – между 5 и 6 ч утра; – первая дневная служба – около 7 ч 30 мин, сразу после восхода солнца и перед самой мессой; – около 9 ч утра; – около полудня; – между 14 и 15 ч; – вечерня, в конце дня перед заходом солнца между 16 ч 30 мин и 17 ч; – повечерие, после вечерни, последняя вечерняя служба, между 18 и 20 ч. К этому списку следует добавить ночную службу, проходившую примерно в 22 ч. Если в XI в. церковные службы занимают довольно много времени, позже они сокращаются, чтобы монахи и миряне получили больше времени для чтения и домашней работы.Меры длины Перевести их в современные меры длины – очень трудная задача. К тому же они варьируются в зависимости от района. Лье – около 4 км. Туаз – в зависимости от района может составлять и 4, и 5, и 7 м. Локоть – разная длина в разных районах: начиная от 1,2 м в Париже и заканчивая 70 см в Аррасе. Ступня – примерно 34–35 см. Дюйм – 2,5–2,7 см.
Монеты Вот это настоящая головоломка! Меняются в зависимости от эпохи и от района. В основном различаются по весу золота и серебра. Ливр – начало системы координат. Ливр стоил 20 су, или 240 денье, или 2 маленьких руаяля (королевская монета в эпоху Филиппа Красивого); – маленький руаяль соответствует 14 турским денье; – турские денье (в г. Туре) должны были постепенно замещать денье парижской чеканки. 12 турских денье – 1 су.
Библиография трудов, к которым чаще всего обращался автор
1. Бертет Режис, Малая история медицины. Париж, l’Harmattant, 2005. 2. Блонд Жорж и Жермен, Живописная история нашего питания. Париж, Fayard, 1960. 3. Брюетон Жан, Фармакогнозия, фитохимия и растения в медицине. Cachan, Tec &Doc, Lavoisier, 1993. 4. Бургундьер Андре, Клапиш-Зубер Кристиан, Сегален Мартин, Зонабенд Франсуаза, История семьи, т. II: Средневековые времена, Запад и Восток. Париж, Le Livre de Poche, 1994. 5. Каен Клод, Запад и Восток во времена крестовых походов. Париж, Aubier, 1983. 6. Тетради общества друзей старого Ножана и Перша, № 9, 1959. Аббатства и настоятели Перша. 7. Тетради ассоциации друзей Перша № 42, 2 триместр. Словарь Перша. 8. Тетради ассоциации друзей старого Ножана и Перша, 3 триместр, № 11, 1959. Перечень главных памятников архитектуры и достопримечательностей Перша. 9. Деларю Жак, Профессия палача в Средние века и в наше время. Париж, Fayard, 1979. 10. Делор Роббер, Жизнь в Средние века. Париж, Seuil, 1982. 11. Демуржер Алан, Жизнь и смерть Ордена тамплиеров. Париж, Seuil, 1989. 12. Демуржер Алан, Рыцари Христа. Религиозные ордена в Средние Века. XI–XVI вв. Париж, Seuil, 2002. 13. Дюби Жорж, Средние века. Париж, Hachette Pluriel, 2011. 14. Эко Умберто, Искусство и красота в средневековой эстетике. Париж, Grasset, 1997. 15. Кабинет резиденции командора в Арвиле. Средневековый сад в арвильской резиденции командора тамплиеров. 16. Эмериш Николо и Пена Франциско, Учебник инквизиторов (введение и перевод Луи Сала-Молен). Париж, Albin Michel, 2001. Фальке де Безор Роланд, Кухня и лечебные снадобья тамплиеров. Turquant, Cheminement, 1997. 17. Фавьер Жан, Словарь средневековой Франции. Париж, Fayard, 1993. 18. Фавьер Жан, История Франции. Т. II. Время княжеств. Париж, Le Livre de Poche, 1992. 19. Ферри Поль, Лекарства и здоровье Хильдеганды Бингенской. Париж, Marabout, 2002. 20. Флори Жан, Крестовые походы. Париж, Jean-Paul Gisserot, 2001. 21. Фурньер Сильвии, Краткая история пергамента и книжной миниатюры. Gavaudin, Fragile, 1995. 22. Говард Клод, Либера (де) Ален, Зинк Мишель (под его руководством), Средневековый словарь. Париж, PUF, 2002. 23. Говард Клод, Франция в эпоху Средневековья с V по XV вв. Париж, PUF, 2004. 24. Жерфагнон Люсьен, История человеческой мысли: Античность и Средние века. Париж, Le Livre de Poche, 1993. 25. Либера (де) Ален, Мысль в Средние века. Париж, Seuil, 1991. 26. Мело Мишель, Фонтевро: культурное наследие. Париж, Jean-Paul Gisserot, 2005. 27. Мело Мишель, Аббатство Фонтевро. Маленькие монографии о великих зданиях Франции. Париж, CLT, 1978. 28. Музей замка Сен-Жан, каталог выставки «Ножанский роман; причины Столетней войны», 2004, распорядитель выставки Франсуаза Лекюер-Шампань. 29. Перну Режин, Женщина в эпоху соборов. Париж, Stock, 2001. 30. Перну Режин, Чтобы покончить со Средневековьем. Париж, Seuil, 1979. 31. Перну Режин, Жимпель Жан, Делатуш Раймонд, Средние века, для чего они? Париж, Stock, 1986. 32. Редон Одиль, Сабан Франсуаз, Сервенти Сильвано, Гастрономия в Средние века. Париж, Stock, 1991. 33. Ришар Жан, История крестовых походов. Париж, Fayard, 1996. 34. Сент-Эврулт Нотр-Дам-дю-Буа, бенедектинское аббатство в норманской земле. Конде-сюр-Нуаро, издательство NEA, 2001 35. Сигюре Филипп, История Перша. Сетон, Федерация друзей Перша, 2000. 36. Сурниа Жан-Шарль, История медицины. Париж, La Decouverte Poche, 1997. 37. Вердон Жан, Женщина в Средние века. Париж, Jean-Paul Gisserot, 2006. 38. Винсент Катрин, Введение в историю средневекового Запада. Париж, Le Livre de Poche.Андреа Жапп Палач. Да прольется кровь
Никто не знает, сколько времени может длиться секунда страдания.Грэм Грин
Именно практика страдания позволяет мне безошибочно отличать человека от животного.© З. Линник, перевод на русский язык, 2014 © ООО «Издательство Э», 2017Пьер Деспрож
Моим читателям
Мои дорогие читатели и читательницы! Некоторым из вас не доставляет удовольствия читать мои заметки внизу страницы. Пусть извинением этому послужит моя страсть к словам и этимологии, а также к многочисленным подробностям средневековой жизни, которые преподносят нам множество пикантных и волнующих деталей. Я и сама постоянно открываю для себя множество поистине чарующих деталей, и меня переполняет желание поделиться ими с вами.Список основных действующих лиц
В Мортань-о-Перш Ардуин Венель-младший – именуемый мэтр Правосудие Мортаня, палач Бернадина – его служанка, вдова палача Арно де Тизан – помощник бальи[573] Мортаня Аделин д’Эстревер – старший бальи Перша Клотильда – юная нищенка, ставшая служанкой в доме Венеля-младшегоВ Ножан-ле-Ротру и окрестностях Антуан Мешо – городской врач Бланш – его невестка, вдова Матушка Крольчиха – трактирщица из «Напыщенного кролика» Ги де Тре – бальи Ножан-ле-Ротру Энора – его супруга Сильвин – нищенка Беатрис де Вигонрен – баронесса-мать Маот де Вигонрен – урожденная Ле де Жеранвиль, ее невестка, баронесса Агнес де Маленье – дочь Беатрис Усташ де Маленье – муж Агнес Мартина – старая служанка Беатрис де Вигонрен
В аббатстве Клерет Констанс де Госбер – матушка-аббатиса, тетя Маот де Вигонрен и Мари де Сальвен Бландин Крезо – ее секретарша
Исторические лица Филипп Красивый, Климент V, Гийом де Ногарэ, Катрин де Куртене, Изабелла де Валуа, Артур II Бретонский, будущий Жан III Бретонский
Пролог
Окрестности Мортань-о-Перш[574], ноябрь 1305 годаАделин д’Эстревер, старший бальи шпаги[575], пребывал в отвратительном настроении. Кругом одни недоумки, которые ничего не понимают в делах… Нет, еще хуже! Полнейшие идиоты, вообразившие, будто такой знатный и могущественный человек, как он, станет заниматься всякими ничтожными гнусными историями, касающимися каких-то нищих и их детей. Они умирают? Да и прекрасно[576]. Если б Арно де Тизан, помощник бальи Мортаня, и его исполнитель высоких деяний, мэтр Высокое Правосудие этого города, не разоблачили того, кто мучил и убивал уличных детей Ножан-ле-Ротру, ему не пришлось бы сейчас забираться в седло своего гнедого жеребца и тащиться невесть куда! И вдобавок ко всему этот грубиян палач, настоящее имя которого ему незнакомо, ни капли не понимает, что к этому делу следует отнестись со всей возможной деликатностью. Но Тизан-то должен был понять, что это заговор политического масштаба и что судьба маленьких уличных босяков ровным счетом никого не интересует[577]. Что же касается всего остального, Господи Боже, все выглядело настолько жалким, помимо мозгов, которые, вместо того чтобы служить ему так же хорошо, как всегда, с некоторых пор стали отравлять ему существование. Впрочем, в этом можно усмотреть перст судьбы. Этот тупица герцог Жан II Бретонский имел глупость помереть в Лионе несколькими днями раньше[578]. Он погиб под обломками рухнувшей стены, когда вел мула Папы Климента V, который только что прошел церемонию посвящения в сан в бывшей столице Галлии. При таком несчастном стечении обстоятельств господину д’Эстреверу, монсеньору Карлу де Валуа, единственному родному брату Филиппа Красивого, следовало бы проявить еще немного терпения. Старший бальи шпаги поднес бы ему на золотом блюде весть о смерти убийцы ножанских детишек Мориса Деспера, первого лейтенанта городского бальи Ги де Тре. Высокомерного, но простоватого де Тре обвинили бы в сообщничестве или по крайней мере в преступном попустительстве и халатности в отношении своих обязанностей. Ножан-ле-Ротру – богатые владения, при мысли о которых Карл де Валуа уже столько лет захлебывался слюной от алчности, наконец оказались бы под его задницей и партия была бы сыграна! Разумеется, д’Эстревер был бы щедро вознагражден – и почестями, и прочими благами. Чума на этих недоумков! А вместо этого оказалось, что дюжина уличных детей была убита совершенно зря… Нельзя сказать, чтобы их ужасный конец волновал д’Эстревера. Эти маленькие оборванцы все равно прожили бы очень недолго. Их настигла бы смерть от голода, болезни или несчастного случая. Д’Эстревер не чувствовал никакой вины за то, что платил Морису Десперу за то, чтобы тот как можно быстрее отправил, без сомнения, в лучший мир этих голодранцев, а затем изуродовал их тела. Да, эти маленькие бродяги только оскверняли улицы своей грязью и грубостью. Омерзительный сброд, вот они кто! Аделин д’Эстревер был настолько поглощен своими переживаниями, что не заметил, как внезапно заволновалась его лошадь. Гнедой жеребец принялся трясти гривой, дышать как-то особенно резко и отрывисто и напряженно прислушиваться к чему-то происходящему позади. Вместо этого д’Эстревер, заметив, что жеребец замедлил свой бег, резко ударил его каблуками, побуждая ускориться. После поворота лошадь выскочила на дорогу, из конца в конец пересекающую лес Малетабль. В десяти туазах перед ним, загораживая дорогу, стоял жеребец цвета непроглядного мрака и очень высокий в холке. Гнедой жеребец заржал, выгибая шею. Д’Эстревер наконец понял, кого испугалась его лошадь.
* * *
Ардуин Венель-младший погладил Фрингана, ласково прошептав ему в ухо: – Спокойно, друг. Мы просто немного постоим здесь. Аделин д’Эстревер, еще сильнее разозлившись из-за появления всадника, резко натянул поводья, из-за чего гнедой жеребец только сильнее разволновался. Сперва он попытался удрать, затем перешел на рысь и, наконец, резко остановился, не зная, как вести себя рядом с этим странным зверем, неподвижно стоящим поперек дороги. Фринган повернул голову навстречу гнедому жеребцу. Ноги всадника дружески, но в то же время твердо чуть сжали ему бока, рука в перчатке ласково погладила по плечу. Ардуин не испытывал никакого беспокойства, и его конь прекрасно это понимал. Несмотря на неровный и неуверенный бег своего гнедого, Аделин д’Эстревер приблизился к незнакомцу и закричал: – Эй, ты! Сию же минуту убирайся с дороги! Не удостаивая ответом, Ардуин бросил на него взгляд, ясно говоривший, что все происходящее чрезвычайно развлекает его. На какое-то мгновение старшему бальи шпаги показалось, что он уже где-то видел эти светло-серые глаза, взгляд которых способен сбить с толку. Но все же ему был незнаком этот худой мускулистый мужчина высокого роста. Д’Эстревер обратил внимание на волнистые, очень темные волосы до плеч. Но в этот момент новая волна гнева помешала ему копаться в более ранних воспоминаниях, тем более что лошадь начинала беспокоиться все сильнее и с минуты на минуту грозила закусить удила. – Освободи мне дорогу, говорят тебе! Я приказываю! Или ты не знаешь, кто я? – Напротив, очень хорошо знаю. Аделин д’Эстревер, не так ли? Немного удивленный бальи шпаги надменно произнес: – Конечно. Сеньор старший бальи шпаги! Теперь ты понимаешь, что меня лучше не сердить, – раздраженно бросил д’Эстревер. Ардуин снова наклонился к уху Фрингана и прошептал: – Не двигайся, мой хороший. Не давай своему собрату проехать. Одним движением, в котором чувствовались сила и гибкость хищного зверя, он спешился и с широкой улыбкой подошел ко второму всаднику. Гнедой жеребец в нерешительности мотал гривой, пыхтел и бил копытами. Ардуин схватил его за повод и, сухо хлопнув по груди ладонью свободной руки, повелительно бросил: – Защищайтесь! Благородное животное услышало боевой крик, в котором ясно различило страсть сражения, ярость и жажду крови. С безумным ржанием лошадь поднялась на дыбы. Издав громкое проклятие, Аделин д’Эстревер свалился на землю. Ардуин коротко свистнул, давая Фрингану сигнал освободить дорогу. Прекрасный черный жеребец поскакал к поросшему травой склону. Гнедой помчался за ним. Ардуин приблизился к старшему бальи шпаги, который, буквально захлебываясь от ярости и унижения, безуспешно пытался встать на ноги, запутавшись в своей длинной накидке, подбитой собольим мехом[579]. Сейчас он напоминал толстого жука-навозника, перевернутого на спину и неловко шевелящего ногами. – Ты сейчас мне за это заплатишь, и в сто раз дороже! – зарычал д’Эстревер, красный от унижения. – Сомневаюсь, – тихо и внушительно произнес исполнитель высоких деяний. – Это ты сейчас вытрешь свою грифельную доску[580], гнусный подлец. Вставай и защищайся! Эстревер непонимающе посмотрел на него. Наконец он выпрямился и непроизвольным жестом отряхнул серую дорожную пыль со своих шоссов[581]. – Да кто ты такой, в конце концов? Что ты хочешь? – Твою жизнь, что, по правде говоря, не так уж и много. Ты только зря небо коптишь. Защищайся, – повторил Ардуин, вытаскивая шпагу из ножен. – Аделин д’Эстревер, я обвиняю тебя в том, что ты обрек на муки и жестокую смерть множество детей. Я приговариваю тебя к смерти. Я, мэтр Правосудие Мортаня, берусь лишить тебя жизни. Я не прошу за это прощения перед Господом, так как ты не мой брат во Христе. Ты предал Божественного Агнца поруганию, отправив к Его Отцу тринадцать невинных созданий, которые еще не должны были предстать перед Ним. Старший бальи шпаги сразу же вспомнил этот взгляд серых глаз. Он также вспомнил и о безукоризненной репутации этого палача, слывущего истинным мастером в искусстве страданий и смерти. Вся его наглость тут же бесследно исчезла. – Речь шла о высокой политике, как ты не понимаешь! – попытался он убедить страшного собеседника, с трудом проглатывая слюну. – Это так в твоем мире называют подлые убийства? – иронично заметил Ардуин. – Черт побери! Я всего лишь простой палач, и я слишком глуп, чтобы понять все ухищрения власть имущих. А теперь защищайся ты, плут[582], ничтожество. Учти, твоя смерть не будет легкой. – Я очень богат, – в смертельном ужасе пролепетал старший бальи шпаги. – А я еще богаче… Ну, защищайся, говорят тебе! Или ты еще больший трус, чем я предполагал? Мое терпение уже начинает истощаться. Ты приговорен к смерти, и я убью тебя независимо от того, отказываешься ты драться или нет. Неуверенным движением Аделин д’Эстревер вытащил шпагу и отбросил свой плащ, тяжело скользнувший на землю. Несмотря на то что это зимнее утро выдалось холодным, он был весь покрыт по́том. Внезапно бальибросился вперед, размахивая шпагой. Ардуин ловко отпрыгнул в сторону и повернулся. Острие его шпаги устремилось к противнику. Оглушительно взвыв, бальи схватился за лицо и принялся его ощупывать. Его лицо было теперь по диагонали перечеркнуто длинной царапиной от виска до нижней челюсти. В полном замешательстве он смотрел, как вниз стекает кровь, окрашивая тончайший шафрановый шелк его камзола. – На щеках обычно очень нежная кожа, – бесстрастно заметил Ардуин, снова нанося удар. Лезвие проткнуло насквозь левое колено д’Эстревера, точно под коленной чашечкой, исторгнув из груди раненого крик боли. Прихрамывая, бальи отступил, опуская шпагу. – Больно, не правда ли? – весело поинтересовался Ардуин. – Сжальтесь, мессир! Я взываю к вашему милосердию! – И чьим же, интересно, именем? – притворно удивился палач. – Бога, над которым ты надругался? Ты просто жалкий ничтожный шут! В два прыжка Ардуин снова оказался рядом с ним, и острие его шпаги прочертило кровавую линию сверху вниз на шее бальи, тщательно избегая артерий. Аделин д’Эстревер выпустил из рук шпагу и, рыдая, осел на землю. По его бедрам обильно текла кровь. – Сжальтесь… сжальтесь… ради любви… – Замолчи! – повелительно прервал его Ардуин. – У тебя больше нет права произносить это святое имя и еще меньше права взывать к его любви. Презренный ничтожный трус! – Я раскаиваюсь, рас… каиваюсь, клянусь вам, – прерывистым умоляющим голосом произнес старший бальи, молитвенно сложив руки. – Твои клятвы достойны только насмешки! А знаешь, в чем сейчас главное отличие между нами? Ты делаешь то, что можешь, а я делаю то, что должен. Ардуин вложил шпагу в ножны и вынул длинный острый кинжал. Он зашел за спину д’Эстреверу и резким грубым движением задрал его голову к небу. Мэтр Высокое Правосудие тут же ощутил в воздухе легкое неуловимое движение, будто рядом с ним парил в воздухе кто-то невидимый, неразличимый простым глазом. Старший бальи шпаги жалобно застонал: – Нет… нет… – Тсс, еще несколько минут. Подумай об убитых детях. Подумай о них! Кровь хлынула из четкого прямого разреза, который пересек горло бальи. Ардуин поднял голову к небу, закрыв глаза и обращаясь с безмолвной молитвой к душам маленьких мучеников. Справедливость наконец восторжествовала. Теперь они могут покоиться в мире.* * *
Ардуин Венель-младший отпустил лоб мертвеца, когда ощутил, что тело того отяжелело и стало заваливаться вперед. Он перевернул бездыханное тело, стащил с него сапоги и кольца, разрезал шнурки висевшего на поясе кошеля и подобрал валяющиеся неподалеку шпагу и плащ, подбитый собольим мехом. Все это он бросил на дорогу на счастье тем, кто возьмет себе такую неожиданную богатую добычу. Тихий нежный свист. Фринган рысью устремился навстречу своему хозяину. Венель-младший спешил убраться отсюда, покинуть этот лес, поскорее забыть этот окровавленный труп, вид которого волновал его меньше всего на свете. Негодяй, обвинить которого ни у кого не было ни силы, ни желания, заплатил сполна. Во всяком случае, Ардуин думал только об одном – о невероятном чудесном возвращении Мари де Сальвен. Мари де Сальвен – невинный агнец, которого он сам толкнул к костру правосудия. Та, что заняла место в его сердце и душе, незримо появляясь рядом с ним днями и ночами. Мари де Сальвен, которую он снова увидел живой, тащили за собой двое вооруженных всадников, людей бальи Ножан-ле-Ротру. Мари, связанная, обвиненная неизвестно в чем… – Молодая баронесса де Вигонрен, бесчестная отравительница, которая едва не довела до смерти своего сына, – сказала ему тогда трактирщица в «Напыщенном кролике», где Ардуин остановился во время своего пребывания в Ножан-ле-Ротру. Конечно же, та, чье новое появление в его жизни было таким ошеломительным и потрясающим, никакая не баронесса и никакая не де Вигонрен. Это Мари де Сальвен, вызванная из-за порога смерти любовью и неустанными молитвами Ардуина. Он только что снова обрел Мари – ту, которую отпустила даже смерть. Теперь он больше никогда не даст ей уйти. В его памяти всплыло пророчество нищенки со светло-голубыми глазами, ледяной взгляд которых тогда взволновал его. После он много раз встречал ее в городе, как будто странная женщина следовала за ним по пятам… «Ты веришь, и ты обманываешься. Ты не ищешь, но найдешь то, чего не искал». Он должен снова повидать эту старуху и вытащить из нее остальные сведения. Пусть она сообщит ему все, что знает. Он должен узнать, что послужило причиной такого жестокого ареста Мари. На этой мысли Ардуин резко прервал сам себя. Он что, с ума сошел? Мари де Сальвен мертва; он сам сжег ее заживо. Довольно с него этих страшных сказок на ночь и нелепых басен! И что ему делать с этой старой лживой бездельницей в лохмотьях? Все ее загадки служат одной-единственной цели: вытянуть побольше денег у простаков вроде него, которые имеют глупость обращать на нее внимание! Но кто же эта женщина, та Мари де Сальвен, которая не могла быть Мари? Что это было: горячечное видение, что-то сверхъестественное или наказание? Или, может быть, миссия? Миссия, порученная ему из другого мира той, настоящей Мари де Сальвен?* * *
Гнедой жеребец мессира д’Эстревера галопом ворвался на главную улицу Малетабля. Его бока были сплошь покрыты хлопьями пены, а взгляд был настолько дикий, будто жеребец только что видел всех демонов ада, пытающихся схватить его за копыта. Чтобы остановить и успокоить его, едва хватило совместных усилий троих взрослых мужчин. Несмотря на то что жители деревни не проявляли особого рвения, не желая вмешиваться в дело, которое касалось старшего бальи шпаги, не пользующегося у них особой любовью, были устроены поиски в лесу и близлежащих полях. Старый деревенский священник решил, что мессир д’Эстревер, должно быть, упал со своего коня и теперь ранен. Несмотря на то что к нему никто не чувствовал симпатии, жители деревни рассудили, что, не придя на помощь, они рискуют навлечь на себя гнев весьма могущественного лица. Останки Аделина д’Эстревера, которого кто-то сильно избил, а после этого зарезал, были найдены посреди лесной дороги, в четверти лье от деревни. Обувь и все ценное исчезло. Все быстро пришли к заключению, что мессир бальи имел несчастье повстречать шайку грабителей. Со вздохом облегчения все тут же разошлись по домам, исключая разве что священника, который прочел несколько молитв, расстроенно приговаривая: – Ах, какое несчастье! Он, конечно, был не особенно любезным господином, мир его душе, но встретить такую смерть…1
Лес де Масл[583], ноябрь 1305 годаИзбегая больших дорог, прячась в густом лесу, где деревья и многочисленные пни образовывали нечто вроде завесы, надежно скрывающей беглецов, две лошади медленно продвигались вперед. Красивый мерин[584] из Перша серой масти в яблоках, обладающий мирным характером, как и все подобные ему, старался приноравливать свой шаг с шагом кобылы, приученной идти иноходью. Ноги ее были спутаны так, чтобы замедлить шаги и не давать ей подпрыгивать, дабы не беспокоить всадницу. Новые седла, предназначенные специально для дам[585], оснащенные единственным – левым – стременем, представляли собой удобные кресла, водруженные на круп лошади. Управлять лошадью в таком седле всадница могла лишь с помощью пешего слуги. Их окружали ночные шумы леса, которые сливались в монотонную мелодию, в которой опытное ухо могло бы уловить звуки, говорящие о приближении семьи волков и одинокого медведя, а также шум, с которым убегали те, кто не желал стать их добычей и чье спасение зависело лишь от проворства и быстроты ног. Но в тот вечер в лесу царил мир и покой. Лесные создания прятались от людских глаз, едва ощутив слабый запах приближающейся процессии. Близилась ночь, заволакивая завесой темноты смутные силуэты путешественников. Вскоре вышла луна, которая, подобно церковному служке, освещала им ближайшие несколько шагов пути. Кобыла, обремененная тяжелой ношей и покрытая грязной попоной, на ходу бьющей ей по ногам и по животу, часто останавливалась и лишь после того, как натягивали поводья, с явной неохотой снова трогалась с места. Наконец после долгих часов пути всадники достигли цели своего путешествия. Навстречу им из темноты появился смутный силуэт всадника. На крупном жеребце сидел человек, закутанный в монашеский плащ с низко надвинутым на лоб широким капюшоном. Всадник, которого никто сейчас не разглядел бы даже с десяти шагов, приблизился к кобыле и бесцеремонно стащил с нее груз, который упал с глухим звуком, эхом отозвавшимся в лесной тишине. Затем, еле слышно вздохнув, человек поправил на лошади попону. Кобыла, удивленная странным звуком, с которым предмет упал с ее крупа, отбежала на несколько туазов и остановилась. Подъехавший всадник принялся разглядывать предмет. Затем спешился и рухнул на колени со вздохом невыразимого облегчения, больше похожим на хрип. Несколько мгновений он разглядывал мертвое тело. К его величайшему удовлетворению, женщина с посиневшим лицом действительно отдала Богу душу.
2
Со времени своего ночного возвращения из Ножан-ле-Ротру Ардуин Венель-младший не мог успокоиться и был словно лев в клетке. Ничто не могло его развлечь. Ни мысли о том, что правосудие в отношении Адалина д’Эстревера наконец свершилось, ни радость пса Энея, для которого возвращение любимого хозяина, когда-то отобравшего его у грубого и жестокого кузнеца, стало настоящим праздником. Его не утешил даже более сдержанный, но такой же сердечный прием Бернадины – еще молодой женщины, вдовы палача. Бернадина не смогла бы найти работу в каком-нибудь другом месте, разве что скрыв, каким ремеслом занимался ее супруг, который, как она говорила, умер оттого, что «те, кто скребется в адские двери, постепенно забрали его жизнь». Однако эта достойная женщина не скрывала правды о своем покойном супруге по той уважительной причине, что «он был хорошим человеком, набожным, честным и работящим. Разве он виноват в том, что был вынужден унаследовать ту должность, которую занимали его отец и дед!». Их ненавидели и презирали. Все без исключения испытывали страх перед ними – теми, чье ремесло состояло в том, чтобы по приказу суда убивать и подвергать пыткам. Их детей нигде не принимали, они не имели права ни останавливаться в тавернах, ни жить в городе, за исключением того места, где находился эшафот. Они были обязаны носить на одежде знак своей профессии – кусочек ткани в форме палки, чтобы все могли их узнать и отшатнуться подальше[586]. И в то же время их обхаживали, зачастую удваивая количество товара, который они, согласно старинному правилу, могли бесплатно взять из любой лавки[587]. Им увеличивали вознаграждение в зависимости от того, каким пыткам они подвергали свою жертву[588]. Церковь смотрела сквозь пальцы на отступления от правил в области брака, строжайше запрещенные всем остальным, прекрасно понимая, что жениться они могут только в своей среде и никакая девушка, даже из самого низшего сословия, не согласится стать женой палача. Ведь тогда на ее детей и всех их потомков ляжет то же самое позорное клеймо и они станут такими же изгоями общества. Каждый бальи или прево жил в постоянном беспокойстве, как бы исполнитель правосудия не оставил своего места, и предоставлял ценному работнику множество небольших привилегий. Тем более что, по правде говоря, желающих на эту должность, как правило, не находилось. Так как у судей и знатных сеньоров сама мысль о том, чтобы исполнить вынесенный ими приговор, вызывала тошноту, печальная обязанность мучить и убивать по решению суда накладывалась на простых людей – например, на того, кто в городе позже всех женился. Это была единственная непочетная должность королевства – исполнитель высоких деяний, или мэтр Высокое Правосудие. Так стали называть людей, исполняющих эту работу, чтобы не употреблять оскорбительных названий[589], ранящих их самолюбие: палач, Сломай-Шею, Жан-Покойник или Жан-Переломай-Кости. Помимо этого, палач не имел права представать перед знатными персонами и даже перед королем, что служило еще одним доказательством нечеловеческих условий, в которых существовали люди этой профессии. Хлеб для него выпекался отдельно, и этот каравай булочник клал кверху дном, чтобы никто другой не взял его по ошибке. Хлеб крови и смерти. Это странно, но Венеля-младшего это совершенно не смущало, как до этого – его отца. Их династия палачей, так же как и другие, подобные им, началась с прадеда Ардуина – отпетого преступника, грабителя и убийцы. После того как его арестовали и приговорили к повешению, ему предложили спасти себе жизнь, поступив на эту должность. И, конечно, он не упустил сей счастливый случай. Семья Венель, где Ардуин оставался единственным наследником по прямой линии, больше не считалась «бинграми»[590], так как их династии было уже больше века. Ардуину едва исполнилось четырнадцать лет[591], когда он впервые опустил меч на шею дворянчика, удавившего свою жену и новорожденную дочь, несомненно в припадке безумия, так как он потом не мог объяснить причину своего поступка. Это стало одним из редких воспоминаний о казни, так как потом благодаря урокам отца он научился выкидывать их из своей памяти. Созданиям Божьим свойственно совершать ошибки, зачастую довольно серьезные. И кто-то должен избавить добрых христиан от необходимости совершать грех убийства и пачкать руки в крови. Палачи не выносили приговоров, не решали, какой пытке или казни следует подвергнуть преступника. Они довольствовались ролью инструмента, который держит рука правосудия. Впрочем, Венель-младший никогда не думал о том, что когда-нибудь займет место своего отца. Не думал до дня кончины своего старшего брата. Его ремеслом стала смерть. Палачи выполняли и другую работу: разделывали туши, душили бродячих собак, вылавливали новорожденных, выброшенных в реки или канавы с нечистотами, хоронили отлученных от церкви; они были также хирургами или костоправами[592], а также считалось, что они могут вылечить ревматизм. Ардуин помнил, как его отец продавал так называемую «мазь палача» из человеческого жира, считавшуюся универсальным средством от любой боли. Другими словами, у них было множество профессий, связанных со страданиями, агонией, смертью, кровью и падалью. К счастью, неожиданная встреча избавила Ардуина от необходимости заниматься подобной торговлей, впрочем, не такой уж и выгодной. Это был один старый и очень богатый галантерейщик[593], вдовец, после которого не осталось наследников, щедро вознаградивший его за один вечер работы. Ардуин удалил громадную опухоль, выросшую на шее галантерейщика, тем самым подарив старику еще несколько прекрасных лет жизни. Они не стали друзьями: никто не захотел бы открыто демонстрировать подобные отношения с палачом. Но с того дня они иногда виделись и распивали кувшин-другой вина. Четыре года спустя Венель-младший, к своему огромному удивлению, узнал, что странный и вздорный старик завещал ему громадное состояние. Ардуин унаследовал также роскошный большой дом галантерейщика, расположенный в маленьком городке Мортане. Он разумно распорядился деньгами, приобретя лавку мясника, которой управляли нанятые им люди, долю в нескольких мельницах, железном руднике. Также он открыл несколько конюшен, где можно было взять напрокат лошадей и упряжь, причем те находились у двух главных дорог графства, по одной из которых можно было направиться в Шартр и далее в Париж, по другой – к морю. Молодой палач мог бы оставить свое зловещее ремесло, уехать туда, где его никто не знает, и начать новую жизнь. Но, странное дело, этого ему совсем не хотелось. Он уже принял унаследованное им невольное бесчестье и одиночество отверженного; также его опьяняло своеобразное ощущение абсолютной свободы. В самом деле, палачи были связаны множеством правил и обычаев, но Ардуин отказался им подчиняться, и даже помощник бальи Мортаня мессир Арно де Тизан был вынужден с величайшей неохотой принять такой порядок вещей, чтобы не потерять мэтра Высокое Правосудие. К этому стоит добавить, что во всем, что с ним произошло, Ардуин усматривал перст судьбы. Судьбы, которая открывает одни двери, закрывая другие. Он двигался вперед, никогда не спрашивая себя, почему ему выпала именно такая участь. В глазах Венеля-младшего такая жизнь обретала некую значительность, хоть и довольно жалкую. Впрочем, теперь для него это уже не имело значения. Ардуин не задумывался об этом, как бы созерцая свою жизнь со стороны. При этом нельзя сказать, чтобы все это его особенно печалило.* * *
Не печалило до того дня, когда в его жизни появилась Мари. Мари де Сальвен, воспоминаниями о которой он так дорожил. Эти воспоминания намного пережили саму Мари. Мари де Сальвен – за три месяца до смерти ей едва исполнилось двадцать пять лет – прекраснейшее создание с роскошными волосами цвета спелой пшеницы, с белой, почти прозрачной кожей, манеры которой свидетельствовали о высоком происхождении. Она поклялась перед Господом, что некий Жак де Фоссей, мелкий дворянчик, в отсутствие мужа, Шарля де Сальвена, с которым вместе охотился, попросил приютить его в доме на ночь. Молодая женщина утверждала, что Жак де Фоссей среди ночи ворвался в ее комнату и совершил гнусное насилие[594], избив ее и требуя совершить неслыханный разврат. Фоссей – мужчина субтильного сложения около тридцати лет – настаивал на своей невиновности и даже утверждал, что Мари де Сальвен недвусмысленно дала ему понять, что она в восторге от его мужественности и не против провести с ним ночь. Судебное разбирательство завершилось поединком чести[595], несмотря на то что Арно де Тизан не считал это лучшим решением, так как Жак де Фоссей был известным дуэлянтом, а Шарль де Сальвен был намного старше его и не так ловок в обращении со шпагой. Дуэль продолжалась всего несколько мгновений. Сальвен с трудом уклонялся от хитрых выпадов де Фоссея. Шпага бретера и записного дуэлянта устремилась к горлу мужа Мари де Сальвен, к тому времени еле держащегося на ногах от усталости, и легко проткнула его. Рана оказалась смертельной. Божий суд свершился: Мари де Сальвен была признана лгуньей, которая пыталась нанести ущерб репутации де Фоссея и послужила причиной смерти своего легковерного супруга. Она отказалась раскаяться и принести публичные извинения, что означало бы для нее более легкий способ и более почетный способ лишиться жизни. Дворянам даровалась привилегия быть обезглавленными. Мэтр Правосудие Мортаня был известен своим мастерством в обращении с мечом[596], который носил имя Энекатрикс, что в переводе с латинского означало «приносящий смерть». Его вызывали даже в соседние королевства к приговоренным благородного происхождения, обладающим правом на быструю и легкую смерть. Но Мари де Сальвен должна была сгореть на костре правосудия. Впоследствии Ардуин видел ее во сне каждую ночь такой, какой она предстала перед ним в тот день: с босыми ногами, одетая в грубое льняное платье, ткань которого была специально вымочена в сере, чтобы огонь быстрее охватил его, с коротко обрезанными волосами. Он помог ей взобраться на кучу хвороста и привязал к столбу. Ардуин снова и снова видел ее очаровательное лицо, чуть удлиненные глаза цвета морской волны, высокий лоб, волосы над которым когда-то были выщипаны[597]. Эта женщина навсегда поселилась в мыслях Ардуина Венеля-младшего. Когда он предложил ей повязку на глаза – знак последней любезности мессира Арно де Тизана, который хотел избавить даму от ужасающего зрелища красных языков племени, – Мари произнесла ровным презрительным тоном: – Я предпочитаю видеть вас до последней секунды. Вас, священника и толпу. Вы станете лицом бесчестья, того, что я унесу с собой в могилу. Ардуин ненавидел себя за то, что тогда даже на мгновение не допустил мысли, что она и вправду невиновна. Впрочем, он тогда даже не подумал подвергнуть сомнению результат поединка чести, Божьего суда. Тем не менее эта женщина отказалась с помощью лжи избежать мучительной смерти в пламени. Она стояла перед толпой, которая собралась на площади Мортаня, чтобы развлечься зрелищем казни. Эта женщина не поддалась страху и держалась прямо с высоко поднятой головой, когда языки пламени начали лизать подол ее платья. Она отказалась купить себе сравнительно легкую смерть ценой ложного признания и, пока дым от костра не задушил ее, продолжала кричать о своей невиновности. Сразу после казни Ардуин уехал из Мортаня, и тогда призрак Мари де Сальвен начал являться ему в мыслях и сновидениях. Это было одновременно прекрасно, ужасно и несказанно восхитительно. Некоторое время спустя палач случайно встретил в таверне Жака де Фоссея, который, выпив лишнего, хвастался насилием, совершенным над Марией, и утверждал что, несмотря на все ее попытки сопротивляться, она получила удовольствие от того, что он взял ее грубо, как последнюю шлюху. Услышав это, мэтр Высокое Правосудие ощутил сильнейшую ярость. Его обманули, использовали с неблаговидной целью. Его долг возвращать заблудших детей Божьих к их создателю, но лишь Отец Небесный вправе решать, кого и когда ему призвать к себе. В обмен на жизнь Жака де Фоссея и публично восстановленную честь Мари де Сальвен, которая была похоронена в освященной земле, Ардуин согласился помочь в двух расследованиях Арно де Тизану, который оказался в затруднительном положении, буквально разрываясь между чувством справедливости и почтением перед власть имущими. Одно из расследований касалось некой Эванжелины Какет, слабоумной служанки, которую заживо похоронили, признав виновной в убийстве своей хозяйки. Также требовалось найти того, кто жестоко убивал уличных детей в Ножан-ле-Ротру. В качестве вознаграждения за помощь Ардуин попросил предоставить ему сведения о некоторых судебных процессах. Мессир де Тизан пытался было воспротивиться, но после личного разговора с Ардуином понял, что возражать бесполезно. Тот был достаточно богат, чтобы ни от кого не зависеть, и в конце концов помощник бальи с неохотой уступил его требованиям. Чтобы угодить своему сюзерену Карлу де Валуа, Аделин д’Эстревер вовлек Арно де Тизана в это чудовищное дело с убийством детей, заставив его поверить, будто тот преследует чудовищного злодея. В то же время старший бальи шпаги не только знал, кто совершает эти бесчеловечные убийства, но и платил за то, чтобы они совершались. Целью этой хитроумной комбинации было уничтожить бальи Ножан-ле-Ротру и его господина Жана II Бретонского, одной из вотчин которого и был Ножан. Но после внезапной смерти герцога Бретонского эта омерзительная махинация потерпела неудачу. Чего не сделал бы Карл де Валуа, который без счета тратил свои и чужие деньги, запуская руки в государственную сокровищницу, чтобы заполучить Ножан – громадную и такую богатую территорию посреди земель графства Перш! Между тем – и если верить тому, что дал понять Арно де Тизану Гийом де Ногарэ, королевский советник, к мнению которого Филипп Красивый прислушивался, – Валуа ничего не было известно о неблаговидных действиях старшего бальи шпаги. Так или иначе, Арно де Тизан начал снабжать Ардуина сведениями, которые были ему нужны. Вскоре для него перестало быть тайной, с какой целью совершаются эти бесчеловечные убийства уличных детей. Венель-младший не сомневался, что Аделин д’Эстревер собирается обвинить Арно де Тизана в преступном попустительстве, а тот в результате мог лишиться не только всего состояния, но и головы на эшафоте. Впрочем, Ардуин не признался бы Арно де Тизану в том, что правосудие в его лице настигло старшего бальи шпаги. Есть счеты, которые улаживаются только между двумя людьми, и лишь Бог является здесь единственным судьей.* * *
Никакого отдохновения не принесла Ардуину эта ночь, проведенная в прекрасном спокойном доме, унаследованном когда-то от старого галантерейщика. Венель-младший надеялся, что, вернувшись в свое элегантное логово, он сможет привести мысли в порядок и принять наконец решение. Вместо этого он чувствовал постоянное нервное возбуждение и не понимал, как ему лучше поступить: остаться здесь или вернуться в Ножан-ле-Ротру. Умывшись перед туалетным столиком в спальне, мэтр де Мортань спустился в кухню, чувствуя непонятную смутную тревогу. Бернадина была занята приготовлением кровяной колбасы. Клотильда вопреки обыкновению была здесь и с хмурым видом помогала ей. Увидев Ардуина, служанка-наперсница подняла голову и улыбнулась. Клотильда едва удостоила его взглядом.– Надеюсь, вы хорошо провели ночь, – воскликнула Бернадина, вытирая руки о передник. – Присаживайтесь, хозяин, сейчас я подам на стол. Ардуин послушался, в который раз задав себе вопрос: и чего ради он подобрал Клотильду – несговорчивую упрямую нищенку, сидевшую у главного входа церкви в Мортане? Почему он вдруг ощутил желание заговорить с ней и, к большому неудовольствию Бернадины, дать ей место в своем доме? Впрочем, юная девушка потрясла его. Сухим безразличным тоном она рассказала о кончине своей матери, переходившей из одной постели в другую и чаще бывающей пьяной, чем трезвой. Если верить словам Клотильды, не имея ни единого су, чтобы позвать священника, она сама похоронила ее ночью. И, что особенно растрогало Ардуина, девушка намочила в святой воде кусок полотенца, которое обернула вокруг шеи своей умершей матери. «Это для того, – сказала Клотильда, – чтобы Бог смог ее узнать, хоть она и похоронена не в освященной земле». Мэтр Высокое Правосудие немного сожалел о своем внезапном приступе великодушия, так как Бернадина ругалась, повторяя, что эта помойная девица «запросто голову с задницей перепутает». Ардуин так и не понял, слабоумна она или же окружающий мир ее просто не интересует. Единственное исключение составлял пес Эней, к которому она относилась с самой искренней и взаимной нежностью. Однако голос интуиции подсказывал Ардуину, что этот добрый поступок совершен под влиянием каких-то высших сил и не является просто случайностью. Бросив взгляд на три тетради, где содержались записи с процесса Эванжелины Какет, Клотильда несколько раз повторила: «Это важно. То, что там внутри, тебе очень важно». Однако, когда Ардуин принялся ее расспрашивать, девушка не выказала никакого интереса к той другой дурочке, убившей топориком свою жестокую хозяйку, с удовольствием лишавшую ее еды и щедрую лишь на всевозможные наказания. Помахивая в воздухе руками, Клотильда с самым безразличным видом наблюдала, как хлопочет вокруг хозяина Бернадина, наливая ему стакан теплого сидра и отрезая сначала большой ломоть хлеба, а затем – кусок сала. Раздраженно вздохнув, служанка едко заметила: – Нечего сказать, хозяин, прямо сокровище отыскали. Вы только посмотрите на эту тупую телушку! Стоит и даже не пошевелится. – Это не очень-то любезно с твоей стороны, – ответил Ардуин. – Может, это и так, зато я права. Она даже свой хлеб не отрабатывает. Вы не смотрите, что она такая худенькая; жрет-то она за троих, уж можете мне поверить. Но ругань Бернадины не вызвала никакого отклика у этой девушки, у которой худоба странным образом сочеталась с тяжеловесными повадками. – Чем ворон считать, иди лучше колбасу вари! – нервно выкрикнула служанка. – Свинью ведь надо приготовить или в тот же день, как ее забили, или на следующий[598]. И смотри, помешивай ее как следует! Без единого слова Клотильда сделала, что ей сказано. Обмотав вокруг предплечья свиную кишку, наполненную свернувшейся кровью, сдобренной солью и пряностями, она, волоча ноги, направилась к котлу, висящему над очагом. Не отвлекаясь от своего занятия, Бернадина произнесла уже более мирным тоном: – Ну вот и хорошо! До январских холодов у нас будет достаточно кровяной колбасы. – Что ты говоришь? – переспросил Ардуин, который был поглощен своими мыслями и не прислушивался к ее болтовне. – Старому Пьеплу свинья бедро клыком распорола. Ох и злится же он, я думаю! Тяжеленный оказался боров…[599] Такой защитит свиней с поросятами и от бродячих собак, и от волков. Рассказав эту историю во всех подробностях, Бернадина вдруг замолчала и фыркнула: – Я вам только надоедаю своими историями про свиней, так ведь? – Нет, что ты, – улыбнулся Ардуин. – Твои истории мне нравятся даже больше твоей кровяной колбасы. Недоверчиво покачав головой, служанка присоединилась к Клотильде, которая молча орудовала, низко склонившись над котлом. – А вот я терпеть не могу кровавые кишки, – неожиданно произнесла девушка. – А твоего мнения здесь вообще никто не спрашивал! – резко бросила Бернадина. – Может быть, тебе рагу из птичек[600] подать или кормить рыбным пирогом каждый день? Некоторым только палец дай, так они всю руку захапают! Эта девица умеет отблагодарить на славу, нечего сказать! – завершила она свою гневную речь. Неожиданно Клотильда выпрямилась и со всей силы толкнула Бернадину, а затем выкрикнула, злобно размахивая руками: – А я ничего и не просила! Вот у него только милостыни. Яростным жестом указав подбородком на Ардуина, она прошипела: – Вот он меня сюда привел! А я ни о чем не просила! Он мне даже не сказал, что делается! А я и не захотела бы жить в доме палача, мне тошно здесь! Да когда я выхожу на улицу, все шарахаются от меня, будто я провоняла дохлятиной! С этими словами она плюнула на пол и широкими шагами вышла из кухни. Вне себя от ярости и унижения, Бернадина вскочила с места и, подняв руку, ринулась вслед за этой нахалкой, чтобы отвесить ей пощечину. Но Ардуин спокойно, но требовательно произнес: – Не надо! Останься. Повисло молчание, особенно тягостное после этого неожиданного взрыва. Мэтр де Мортань невидящими глазами уставился на стоящий перед ним глиняный стакан. Вдруг необычный звук заставил его поднять голову. Мертвенно-бледная Бернадина плакала, горестно сжав губы. Вскочив на ноги, Ардуин поспешил к ней, обнял и зашептал на ухо: – Не надо, не надо, моя хорошая… Не плачь. Оставим печаль для тех случаев, которые действительно ее заслуживают. И, легонько похлопав ее по спине, продолжил: – Давай-ка, налей нам лучше по доброму стакану[601] вина. Давай выпьем за всю глупость этого мира. Хотя глупости в нем столько, что мы могли бы не переставая пить за нее хоть до завтрашнего дня! И со смехом добавил: – Но, черт побери[602], какова нахалка! Входная дверь вдруг резко хлопнула. Клотильда ушла, унося свое скудное имущество – смену одежды, подаренную мастером высоких деяний. Покраснев от злости, Бернадина вдруг помчалась за ней: – Ну уж нет! Постой-ка, дрянь никчемная! Выворачивай сумку сию минуту! Если ты хоть что-то украла, получишь у меня на орехи! Ардуин уселся ее ждать. Он был уверен, что Клотильде и в голову не пришло что-нибудь стащить.
* * *
Что это – странный эпизод жизни под одной крышей со слабоумной или той, что только кажется ею? Перст судьбы или совпадение? Пожалуй, ему надо перестать всюду выискивать ее знаки. Но, несмотря на это благоразумное решение, мысль следовала дальше. А если… Если встреча с Клотильдой должна была подтолкнуть его к чему-то? Она его тогда сильно смутила своими словами о том, что в тетрадях с процесса об убийстве Мюриетт Лафуа Эванжелиной Какет содержится нечто очень важное для него. Немногим позже ему удалось выяснить, что приславший ему эти тетради Арно де Тизан много чего недоговаривал. Мэтр Высокое Правосудие провел в Ножан-ле-Ротру расследование многочисленных жестоких убийств уличных детей. А затем он снова встретил Мари де Сальвен или, по крайней мере, другую Мари. Является ли Клотильда инструментом судьбы, имеющим некую таинственную связь со всеми этим событиями, происшедшими в его жизни? – Прекрати, наконец, эти бредни! – выругал Ардуин сам себя. – И перестань, наконец, думать об этой неуравновешенной юной особе. Его размышления прервало возвращение Бернадины. Та с горящими глазами тяжелыми шагами вошла в кухню. Щеки ее пылали, пряди волос выбились из-под накрахмаленного батистового чепца. – Надеюсь, ты ее не побила. – Нет, хотя, честно говоря, у меня просто руки чесались это сделать. Ну, пусть она только попробует вернуться когда-нибудь! Она мне тут еще рот будет открывать!.. – Спокойно, Бернадина, спокойно! Она не стоит твоего гнева. И прошу тебя, налей же нам, наконец, по стаканчику вина. Выпьем за удачу и забудем о тех несчастных созданиях, которые портят себе здоровье злостью. Они не достойны даже того, чтобы мы на них сердились. – Слишком уж вы добрый, хозяин. Вот ощиплют вас когда-нибудь, как рождественского гуся… – Ну уж нет! – со смехом возразил Ардуин. – В отличие от гуся у меня есть прекрасная шпага и крепкие кулаки!3
Окрестности Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 годаВсю ночь баронесса-мать Беатрис де Вигонрен не смогла сомкнуть глаз. Она ходила из угла в угол своей комнаты, время от времени сама подбрасывая поленья в камин, чтобы не звать слугу. Ведь тогда он, чего доброго, решит, будто она нездорова, раз ее мучит бессонница. Затем Беатрис мысленно обратилась к Франсуа, своему нежному покойному супругу, умоляя поддержать ее в этой жизненной буре. Мужу, который называл ее «моя перепелка» или «моя храбрая девочка», когда она обвивалась вокруг него, вздыхая в ожидании ночных ласк, или когда капризничала, упрямо морща свой очаровательный носик. Беатрис сознавала, что получила множество подарков судьбы. Она вышла замуж за того, к кому лежало сердце: неслыханная удача для женщины. Она с улыбкой вспоминала о том ужасе, с которым ожидала своей первой брачной ночи. Впрочем, старая кормилица много раз объясняла ей, чего супруг будет ждать от нее. Не особенно заманчивое описание, которое заставило ее страшиться этого момента, в то время как Франсуа за время помолвки сумел завоевать ее любовь. Она дрожала от страха, когда он принялся расшнуровывать ее ночную сорочку, богато отделанную кружевами. Тогда ей едва исполнилось шестнадцать. Беатрис лихорадочно перебирала в памяти неясные намеки матери, рассказы кормилицы и увиденные сцены совокупления собак. «Это твой главный супружеский долг, и ты должна покорно его исполнить, дочь моя. Впрочем, лишиться девственности – это немного болезненно, и у тебя, конечно, будет кровотечение. Но утешься, остальное будет не настолько неприятно. Просто думай о чем-нибудь другом». Когда ночная сорочка упала к ее ногам, Беатрис почувствовала, как тошнота поднимается у нее к горлу. Франсуа, который лишил невинности множество девиц, тотчас же понял, что она сейчас чувствует. Фыркнув от смеха, он прошептал ей на ухо: – Душенька моя, мы никуда не торопимся. Ночь еще только начинается. Давай будем наслаждаться, моя перепелочка. Я знаю множество разных вещей, которые непременно доставят тебе удовольствие. Господи, как же они смеялись наутро, когда, совершенно обессиленная, Беатрис пересказала ему все, что ей говорили мать и кормилица… Теперь же отсутствие Франсуа стало для нее источником жестоких страданий, таких сильных, что она даже задыхалась от них. Впрочем, баронесса достаточно хорошо знала жизнь, чтобы отдавать себе отчет: как жена и как мать, она была настолько счастлива, как очень немногие из ей подобных. Но, несмотря на это, теперь Беатрис была одинока, ужасно одинока, и единственным оружием и защитой для нее была тень супруга. Все еще раз взвесив, она окончательно уверилась, что Маот, ее невестка, отправила его на тот свет и мечтала о смерти самой Беатрис. Она очень хотела увидеть, как невестку, воющую от страха, поволокут на площадь и возведут на костер правосудия. Она предвкушала картину нечеловеческого ужаса, который появится на лице Маот, когда ее лизнут языки костра. Они станут для нее преддверием адского пламени. Но один и тот же вопрос назойливо крутился у нее в голове, оставаясь ужасной загадкой: почему, в самом-то деле, почему Маот отравила своего свекра, мужа и едва не прикончила своего сына, маленького Гийома, которому всего пять лет? В чем причина? Деньги, титул, владения? Нет, все это не так важно. Франсуа-отец и так мог скончаться со дня на день, Франсуа-сын, супруг Маот, прямой наследник по мужской линии, унаследовал бы почти все, за исключением вдовьей доли его матери и суммы ежегодного дохода его сестры Агнес, супруги Эсташа де Маленье, который и сам был богат, что являлось в глазах Беатрис его единственным достоинством. Но, может быть, Маот нужны были и деньги, и свобода, которую давало бы ей положение вдовы с ребенком… Ведь именно поэтому многие дамы из дворянства и буржуазии избегают вторично вступать в брак. Сердце же самой баронессы-матери целиком и полностью принадлежало Франсуа с той самой первой брачной ночи. Одна лишь мысль, что все эти годы она жила рядом с самой ядовитой из змей, вызывала у нее желание извергнуть наружу содержимое желудка. Ее ненависть к Маот невозможно было выразить никакими словами. Как бы ей хотелось собственноручно задушить эту дрянь! Самые ужасающие из пыток, какие только имеются в арсенале палача, казались ей слишком мягкими для такой гнусной злодейки. – Франсуа, милый мой, дорогой Франсуа, эта гадюка, которую вы любили, которую почтили своими милостями и великодушием, тайком хладнокровно лишила вас жизни. Я ненавижу ее, как же я ее ненавижу! Пусть она будет проклята, пусть она вечно горит в аду! С этими словами Беатрис подошла к кабинету[603] из розового дерева с опаловыми, бирюзовыми и аметистовыми инкрустациями и вынула из верхнего ящичка написанную на перламутре миниатюру с портретом ее мужа. Она принялась с безумной страстью целовать этот портрет, а затем, содрогаясь от рыданий, повалилась на мягкий ковер, устилавший пол в ее прихожей.
* * *
Мартина, войдя ранним утром в комнату своей хозяйки, огорченно заметила: – О, мадам, у меня просто сердце кровью обливается, когда я на вас смотрю. Господи милостивый, как же это несправедливо к вам! Эта негодяйка, эта… мерзость, умереть ей без покаяния, и пусть она тысячу смертей переживет, прежде чем сдохнет. Мартина действительно обожала баронессу-мать, которой служила с ее пятилетнего возраста. К тому же она знала, что в ее возрасте и с ее неловкими от старости руками она не сможет найти себе другое место. Прекрасно понимая, что ее помощь хозяйке с туалетом и прической не так хороша, как надо, она старалась развлекать баронессу, искусно смешивая советы, полные здравого смысла, забавные истории и немного тонкой лести. Баронесса благоволила ей, предоставляя жилье в дополнение к скромному жалованью. Кроме того, мадам Беатрис была благодарна и признательна ей. Мартина знала, что в завещании баронессы значится и ежегодная сумма для нее – скромная, но вполне достаточная. Будучи хитрой исключительно в силу необходимости и лишенной какой-либо злости, Мартина все же вела себя с неизменной живостью и резвостью, иногда задевая тех и других своим резковатым, но довольно забавным язычком, а иногда умело используя доверительный тон. Но тем не менее она очень разволновалась, увидев заплаканные глаза своей хозяйки. – О, мадам, что я могу сделать, чтобы поднять вам настроение? – Ничего, моя хорошая; невозможно вернуть назад то, что уже прошло. Мне показалось, что я в плену ужасного ночного кошмара, из которого неизвестно как выбраться. Но это уже прошло. Что говорят о маленьком Гийоме? – Он настойчиво просил позвать маму. Мадам Агнес объяснила ему, что та очень утомилась, ухаживая за ним во время болезни, и теперь отдыхает у одной из своих подруг, где проведет довольно долгое время. Мадам Агнес проявляет к своему племяннику столько нежности и деликатности. – А что Эсташ? Зная, что баронесса-мать не особенно благоволит к своему зятю, Мартина постаралась, чтобы в ее ответе звучало плохо скрытое раздражение. Она надеялась, что это понравится ее хозяйке. – Ну… Монсеньор Эсташ… остается монсеньором Эсташем! В самом деле, на губах баронессы де Вигонрен появилась тонкая улыбка. Затем мадам Беатрис вспомнила о другом деле, требующем немедленного решения: – Мартина, ты помнишь этого отъявленного плута – фермера Фирмена Гуарда? Того, который попытался меня надуть, без сомнения приняв за глупую гусыню, которую можно безнаказанно общипать? – А как же! По его словам, град, который выпал в марте, побил вашу пшеницу, и поэтому он не может выплатить вам денег. Вы ловко тогда срезали этого негодяя! Этот еще хуже своего отца, который теперь удалился от дел… Подать вашу голубую котту[604], мадам? А какую верхнюю одежду[605]? – Выбери сама, моя хорошая, мне сейчас совершенно не до этого. Ласково взяв хозяйку за руку, Мартина повела ее к одному из стульев, стоящих вокруг столика в прихожей, посоветовав: – Присядьте, милая мадам, я сейчас всем займусь. Она подошла к камину и, скрыв гримасу боли, наклонилась и подложила в очаг два больших полена, заявив: – Ох и отругаю я этих слуг! Дров меньше некуда. Им надо как следует растолковать, как относиться к своим обязанностям. Лентяи до мозга костей. Ворон считать, набивать себе брюхо или забавляться – это они великие мастера! – Не надо их ругать, это я ночью замерзла до костей. – Неужели вы переживали из-за этого мерзкого прохвоста Гуарда? – Кстати, несмотря на постоянную ложь и увертки, он проговорился об одной важной вещи. Это были единственные слова правды, которые он произнес. У Эсташа есть некое пристанище в Ножан-ле-Ротру, так сказать, «чтобы заниматься делами»; оно находится в самом конце улицы Роны. – Неужели он никогда об этом не упоминал? К примеру, в разговоре с мадам Агнес? – Не думаю. Готова спорить, что моей дочери ничего об этом не известно. К тому же я нежелаю с ней об этом говорить. – Ооооооох! Баронесса тут же уловила намек Мартины: – Да, мы думаем об этом одно и то же, так как дела моего зятя совершаются в Париже, иногда в Ле-Мане или в Ренне. – Неужели он содержит какую-то мерзавку? Или у него там случайные интрижки? – Признаться, мне самой очень хотелось бы это знать. Ты только представь себе… Вдруг какая-то девка родит от него ребенка! Такой простоватый сеньор, как Эсташ, может оказаться лакомой добычей для искательницы покровителей… Ну уж нет! Его деньги перейдут по наследству или к его сыну, или к моей дочери. И ни к кому больше. – Этим, пожалуй, объясняются и его частые посещения Ножана. Он находит удовольствие в том, чтобы проводить время в тавернах, щедро одаривая веселых девиц. Со всем моим почтением, мадам. – Ты вовсе не оскорбила меня этими словами, так как я пришла к тем же самым выводам. Если б я не опасалась быть узнанной или столкнуться с ним нос к носу… – О, ради бога, мадам! Нет-нет! Вам – и вдруг шпионить… никогда! Я сама отправлюсь туда: погляжу, что да как, поболтаю с разными людьми… Это же подумать только: наставить рога мадам Агнес!.. Жирный боров, который умеет поддержать беседу, не лучше вьючного мула. Это грубое животное просто не понимает, какое счастье ему выпало, – продолжала браниться Мартина, к полнейшему удовлетворению баронессы. Мадам Беатрис благодарно взяла ее за руку. – Мартина, ты для меня так драгоценна… Что бы я делала без тебя? – Вы для меня, конечно, еще более драгоценны, мадам. Что бы со мной без вас стало? Мне страшно даже думать о таком. И она шепотом добавила, причем совершенно искренне: – Мадам, я старуха, у которой нет ни единого су и нет другой семьи, кроме вас. О, я знаю, что скверно служу вам. Вы такая прекрасная, такая благородная дама… Другие бы меня давно уже прогнали – и не испытывали бы никаких угрызений совести, не подумав о том, что мне осталось только побираться на паперти. Вы не думайте, мне самой все это прекрасно известно. – Ну что ты, моя хорошая… Кроме моей дочери, ты единственная, на кого я могу рассчитывать. И ты тоже не думай, будто я об этом не знаю. Распорядись, чтобы приготовили легкую повозку, Ножан находится в добром лье отсюда. Ты отправишься туда под предлогом, будто я послала тебя за покупками. Впрочем, чтобы не возбуждать чужого любопытства, купи там каких-нибудь безделушек, что сама выберешь. Возьми дюжину серебряных денье из коробки, там, на столе. Угости стаканчиком вина кого-нибудь в тавернах, которые посещает этот глупец Эсташ. Мне этот тупой хлыщ всегда был решительно невыносим! Ах, если бы у него не было столько денег… Бедная моя Агнес вынуждена терпеть рядом это ничтожество. Он даже в постели ни на что толком не способен! – Я помогу вам одеться и поспешу в Ножан. Неожиданно баронесса-мать забеспокоилась: – А что, если Эсташ увидит тебя там, если вы с ним случайно столкнетесь? – Месье Эсташ? – переспросила служанка, хитро улыбаясь. – Вы оказываете слишком много чести его уму, если думаете, что он на такое способен. Я для него не более чем мебель. Баронессе-матери даже не пришло в голову посоветовать Мартине держать язык за зубами. Она была уверена, что та не проговорится даже под пыткой.4
Крепость Лувр, ноябрь 1305 годаЭтим серым и промозглым утром крепость Лувр, «толстая башня», казалась еще более зловещей, чем обычно. Мощная и тяжеловесная, она возвышалась за границей Парижа неподалеку от моста Мельников. Вопреки плану Людовика Святого[606], согласно которому Дворец правительства должен был быть создан на острове Ситэ, в этой башне сконцентрировались учреждения государственной власти, такие как государственная канцелярия, финансы и сокровищница. Мечтой покойного короля было заменить построенный Филиппом II Августом, своим дедом, донжон из темного камня, стены которого круглый год сочатся сыростью. Но из-за отсутствия денег работы постоянно откладывались. Однако мессиру Гийому де Ногарэ, советнику короля Филиппа Красивого, здесь было как нельзя более уютно. Толстая башня стала его владением. Он чувствовал себя как медведь в берлоге. Впрочем, что видел от своего окружения «печальный крот», которому это уничижительное прозвище было дано многочисленными тайными клеветниками? Король, Государство и Церковь – вот что имело значение для бывшего легиста, который, в сущности, и управлял государством из своего холодного неуютного логова. Ему были совершенно безразличны приближенные короля, фавориты, которые суетились, строили козни, чтобы откусить кусочек от пирога, именуемого Францией, – земли, состояния, влияние на короля. Эти будут ползать на брюхе перед любым, кто предложит им хоть крохотную привилегию. Пусть они упиваются своими ухищрениями. Не стоящие внимания мелкие сошки. Их заранее тревожили любые смены настроения суверена или расчеты крупных баронов и особенно монсеньора Карла де Валуа – единственного родного брата короля, к которому тот демонстрировал особенную нежность; с точки зрения Гийома де Ногарэ, даже чрезмерную. Валуа воплощал в себе все, что презирал Ногарэ. Особенно его финансовые притязания, которым не было ни конца ни края. Он легко путал государственную сокровищницу со своим собственным карманом. Советник больше не считал расходов и особенно утечки денег в ливрах[607], которыми оплачивались мечты о власти монсеньора де Валуа или его армии. На самом деле он не любил брата короля, этого ничтожного фата, хотя и, несомненно, храброго в сражении. По примеру прочих крупных баронов Карл жил на широкую ногу и разбазаривал деньги тех, кто зарабатывал их тяжелым трудом. До Ногарэ доходили сведения о голодных мятежах, которые начали происходить в деревнях. Но в глазах королевского советника главным была верность Валуа своему брату. Расстроить по нескольку заговоров в месяц!.. Советник поднес к своему изможденному лицу руки с длинными костлявыми пальцами. Он казался столетним стариком – во всяком случае, не меньше тридцати пяти лет[608]. Маленький, хрупкий, с сухой желтоватой кожей, мессир де Ногарэ, несмотря на это, производил впечатление. Причиной этому были огромная власть и глубокий изощренный ум, вдобавок к которому этот человек обладал бездной секретов – не особенно почетных, а зачастую и очень опасных. Все они скапливались за выпуклым, перечеркнутым глубокой морщиной лбом королевского советника. Очень редко, когда Ногарэ бывал в духе, он забавлялся, несколько раз повторяя собеседнику: – Дорогой, политика имеет вид полного блюда потрохов. И оно непременно должно попахивать дерьмом. Не слишком сильно, иначе оно станет несъедобным! Моя роль состоит в том, чтобы добавить туда специй. Взаимоотношения с монсеньором де Валуа больше походили на сложное акробатическое выступление. Несмотря на громадные доходы, Карл был по уши в долгах. Чтобы рассчитаться с кредиторами, он занимал в другом месте. Благодаря бесчисленным шпионам, которых держал у себя на службе, Ногарэ знал, что брат короля задолжал целое состояние кавалерам Христа[609] и что эти деньги уже растрачены. Советник, чья абсолютная преданность Филиппу Красивому не знала ни исключений, ни послаблений, даже когда дело касалось его распрей с Папой Климентом V, раздумывал, каким образом ему использовать эти сведения. Побудить Карла де Валуа совершить какой-нибудь промах, что навлекло бы на него гнев царственного брата? Или воспользоваться этим колоссальным долгом, чтобы подкрепить доводы суверена против ордена тамплиеров, пустить слух о грандиозном вымогательстве? Мессира де Ногарэ не остановило бы и откровенное надувательство, если б оно пошло на пользу его сюзерену. Гийом тайком поздравлял себя с кончиной королевы Жанны Наваррской[610], которая произошла несколькими месяцами раньше. Королева была грозным противником. Король же погрузился в глубокую печаль, потеряв друга и советчицу. Не самое лучшее решение, как считал Ногарэ. Королева благосклонно внимала всяким угодливым льстецам, самым вызывающим и опасным из которых, по мнению Ногарэ, был Ангерран де Мариньи[611]. И это даже если не брать в расчет его алчность и корыстолюбие. Сам же королевский советник, хоть и обогатился на своей должности, никогда не расхищал деньги короны. Но мадам Наваррская любила умные изящные рассуждения, красивые фразы и различные пируэты риторики. Ногарэ же был чересчур молчаливым, занятым и слишком серьезным. Она частенько публично посмеивалась над своим «суровым печальником», предпочитая ему педантичный, но блистательный цинизм этого Мариньи, который умел вовремя погладить ее по шерстке. А Ногарэ всегда становилось не по себе рядом с женщинами, особенно с королевами. Сидя за рабочим столом, сгорбившись над книгами записей и свитками посланий, где рядом громоздились черновики и рога, наполненные чернилами для секретарей, мессир де Ногарэ разглядывал просторный рабочий кабинет, где проводил все свои дни и добрую часть ночей. Он улыбнулся, бросив взгляд на гобелен[612], повешенный за его спиной: полупрозрачная Святая Дева показывает миру младенца Христа, который смотрит удивленным взглядом глубокого старика. Гийом видел в этом чудо во всей его бесконечной мощи и абсолютной полноте. Короче говоря, мечту о совершенно невозможном мире. Тем не менее, вопреки людской грязи, в которой барахтался каждый день, несмотря на прозвище, которое он втайне сам себе дал – «советник выгребных ям», – Ногарэ знал, что сила, которая поддерживает его в жизни, – это абсолютная вера в Спасителя, в Божественного Агнца. Вошел привратник, который нес перед собой блюдо. Склонив голову, он еле слышно прошептал: – Ваш обед, монсеньор. Я бы не осмелился вас беспокоить, но… – Поставь на каминный колпак. Мой… приглашенный уже здесь? – Еще нет, мессир. Когда он придет, я тотчас же дам вам знать. – Хорошо, а теперь оставь меня. Когда он появится, проводи его в прихожую in opaco[613]. И чтобы никто его не увидел. Отвечаешь за это головой. – Все будет сделано, как вы приказываете, монсеньор. Как только он ушел, Ногарэ поднялся на ноги, сопровождаемый жалобным шелестом своего темного и давно вышедшего из моды костюма легиста, на который была наброшена накидка, ниспадающая почти до пола и украшенная лишь оторочкой из меха белки или выдры в зависимости от времени года. Королевский советник с презрением относился к нарядам, расшитым золотом и серебром, к штанам, украшенным лентами и бантами, – ко всему этому яркому оперению придворных пташек. Это же надо – напялить на себя бланшет[614], на котором живого места нет от вышивки, плотно облегающий камзол, глубоко вырезанный сзади и спереди, светящегося зеленого[615] цвета, который ясно говорил всем, что обладатель этой одежды принадлежит к тому же миру, что и они. А эта новая мода на короткие и невероятно облегающие одежки, создающие видимость невероятной худобы! Но мессир де Ногарэ придерживался того мнения, что разница между теми, кто обладал влиянием при дворе, и теми, кто хотел бы заполучить хотя бы малую толику его, была огромной. Сам он является абсолютной властью после короля; взгляд его лишенных ресниц глаз с полупрозрачными веками внушал всем страх. Никто, на ком хотя бы раз остановился этот взгляд, никогда не мог его забыть. Страх – непобедимое оружие для тех, кто умеет им владеть. Смерть Жанны Наваррской стала для Ногарэ настоящим благословением, драгоценной передышкой, так как, несмотря на показное дружелюбие, королева являла для него самую мрачную угрозу. Она уже не один месяц строила козни, чтобы вытеснить его с места привилегированного королевского советника и посадить на его место Ангеррана де Мариньи. Мессир де Ногарэ был расчетливым, талантливым обманщиком и вдобавок обладал внушающей ужас проницательностью. Вряд ли кто-то решился бы дать ложные обещания человеку, обладающему такими качествами. Кроме страстной веры в Бога, в его сердце находилось место лишь королю, его господину. Впрочем, в глазах советника Филипп был не человеком, а скорее некой аллегорией Французского королевства. Гийом разделял цели и взгляды суверена, унаследованные им от Филиппа II Августа: создать мощное государство, объединив – если это необходимо, с помощью силы и принуждения – все баронства и графства, которые барахтались в болоте мелочных интриг, не заботясь ни о будущем королевства, ни о более серьезных опасностях, которые могли угрожать извне. Они были заняты лишь собственным обогащением, междоусобными войнами и прочими пустяками. Также Ногарэ руководствовался двумя требованиями монарха: усмирить орден тамплиеров, чтобы объединить воинствующие ордены – настоящую свору, охраняющую Папу, – под знаменем своего сына Филиппа де Пуатье и добиться от Климента V посмертного процесса над Бонифацием VIII, бывшим Папой и заклятым врагом Филиппа, несмотря на то что он уже три года как умер. Ногарэ не сомневался, что своим близким избранием этот скользкий угорь Климент обязан лишь благоволению Филиппа и что он окажется глух к главным интересам государства. Ногарэ лавировал, изо всех сил стараясь, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, стремясь не допустить разрыва между Церковью и ее старшей дочерью Францией. Разрыва, который мог вызвать гнев Филиппа Красивого. Мысли о деле тамплиеров придавали мессиру де Ногарэ бодрости – ведь это верное средство угодить королю, своему господину. После разгрома Акры монахи-солдаты были отправлены на Запад, в частности во Францию, где, по мнению монарха, они представляли собой угрозу. Ногарэ выставил против них две мощные армии, ибо человеческому роду свойственны ревность и склонность сердиться на тех, кому ты должен. Со всей своей чистотой и самоотверженностью тамплиеры одерживали победы и тысячами умирали, чтобы защитить христианство. Они жертвовали собой на полях сражений, принимали ужасную смерть в сарацинских застенках. А откровенно вызывающее богатство этого ордена разжигало желчь даже больше, чем потеря Акры. Ногарэ опасался реакции ордена госпитальеров, столь же богатого, как и храмовники. Но у госпитальеров оказался более гибкий позвоночник: они поняли, что от этого зависит их безопасность. Они выбрали великим магистром осторожного дальновидного политика, который умело лавировал в лабиринтах власти. В противоположность ему храбрый, но спесивый Жак де Молэ, великий магистр тамплиеров, был совершенно невыносим королю. Надо быть совершенным безумцем, чтобы вести такую жесткую политику с Филиппом и особенно чтобы переоценивать его поддержку. Молэ был убежден, что Климент V ему поможет, что стало еще одним громадным промахом. Папа хитрил с Филиппом. Он сохранял с ним видимость хороших отношений, но в то же время опасался возвращаться в Рим, настаивая на том, чтобы поселиться в Авиньоне. Его главное занятие состояло в том, чтобы без особого ущерба вытащить булавку[616]. Да, у Климента были повадки тонкого дипломата. В его глазах Жак де Молэ, который так неразумно цеплялся за свой титул великого магистра и связанные с этим привилегии, начинал представлять собой серьезное препятствие. Что же касается его братьев по ордену – мелких дворянчиков или зажиточных крестьян, – что ж, тем хуже для них. Ветер переменился, и он перестал быть для них благоприятным. Те из них, кто достаточно умен, чтобы покинуть тонущий корабль, – те, конечно, спасутся. А остальные? А вот они, клянусь Богом, будут уничтожены! Ногарэ боролся с печалью, которую причинял ему этот неотвратимый конец. Сколько достойных бескорыстных людей, которые высоко несли Крест, без колебаний умрут за него… Однако слишком поздно. Кости брошены, но об этом знают лишь он, король и Папа. И этого достаточно! Гийом втянул в себя запах пара, исходящий от супа, и жадно схватил большой кусок пшеничного[617] хлеба. Откусив от него, он возблагодарил Бога за его благодеяния. Умеренность мессира де Ногарэ была общеизвестной. Карл же постоянно обжирался, будто свинья на убой, рыгая, вставал из-за стола, чтобы освободить переполненный вином мочевой пузырь, и в конце концов валился в кровать, чтобы прохрапеть там бо́льшую часть дня. Почему Бог в своей бесконечной мудрости счел нужным одарить его таким королем – благородным, строгим и сдерживающим невыносимые пороки своего брата? В его разуме тут же вспыхнул ответ: Карл – младший брат, который никогда не станет королем. Наследниками трона являются три сына Филиппа Красивого и их потомки, которые в свое время появятся на свет. Жалкое утешение, так как, за исключением Филиппа де Пуатье, двое остальных, старшим из которых был Людовик Сварливый[618], полностью заслуживший это прозвище, были бы поистине жалкими суверенами. И правда, что Карлу делать со всем этим? Ногарэ прекрасно знал, что брат короля его терпеть не может. Возможно, причина была в том, что ему удалось ограничить его набеги на королевскую сокровищницу, и иногда – разумеется, с многочисленными предосторожностями – убеждать короля дать тому другие привилегии. Привилегии, которых, с точки зрения мессира де Ногарэ, Валуа был недостоин. Тактика королевского советника состояла в том, чтобы собирать все, что только возможно, против Карла де Валуа, чтобы затем одним ударом разделаться с этим ослом. Досье, которое может ему также послужить и при других обстоятельствах… Он смаковал суп маленькими глоточками и, доев кусок хлеба, завершил трапезу несколькими сухими сливами. Затем осушил стакан вина, спрашивая себя, не расслабит ли оно его. Внезапно на ум ему пришла фраза святого Бенуа: «Лучше выпить умеренное количество вина, чем избыточное – воды». Утешившись таким советом, он допил последний глоток. В дверь кабинета снова постучали. Вошел привратник. – Монсеньор, ваш приглашенный посетитель ожидает в прихожей in opaco. Я положил там на столик кошелек, который вы мне вручили. – Пригласи его сюда.
5
Мортань-о-Перш, ноябрь 1305 годаАрдуин Венель-младший доверил Фрингана слуге в одной из контор, где можно было взять внаем лошадей и упряжь – в той, которая располагалась на въезде в город. Следуя своей привычке, он не стал прикреплять опознавательный знак в виде палки к рукаву своего камзола[619]. С его стороны это был странный[620], но привычный бунт, уверенность, что он пройдет всюду, оставаясь как можно более незаметным. Больше всего на свете ему сейчас хотелось в тишине и спокойствии обдумать, как ему следует действовать. Таким образом Ардуин защитил себя, проявив скрытность, которая хоть иногда позволяла ему избавиться от удушающей тяжести, порожденной страданиями и смертью, сопровождавшими каждый из его дней. Речь шла вовсе не о смеси страха, презрения и отвращения, которую он ясно читал во взглядах окружающих; скорее это делалось, чтобы держаться на расстоянии от себя самого, чтобы каким-то образом уживаться со своим существованием палача. С другим Ардуином, в шкуру которого он вынужден был влезать, исполняя свои обязанности. Во время казней его лицо было скрыто за черной кожаной маской, доходящей до самого горла, поэтому никто не смог бы его сейчас узнать. В том числе и свидетели, и его несчастные жертвы. Странное противоречие: ведь, узнав его, близкие обвиняемого могли бы попытаться дать ему «на лапу», подкупить его, чтобы облегчить тому страдания и агонию. И в то же самое время ему предписывалось носить этот отличительный знак, выделявший его среди всех прочих. Неплохой пример логики, как ее понимают большинство людей! Ардуин направился по улице Сен-Жан, по обе стороны которой возвышались крепкие зажиточные дома, зачастую в два этажа. Изрядная высота домов ясно говорила о богатстве их хозяев, все крыши были покрыты сланцевыми плитками с Луары[621], которые очень ценятся из-за своего цвета и долговечности. Остальные более скромные жилища были покрыты крышами из черепицы или дранки, которую пытались запретить из-за того, что при пожаре она помогала огню распространиться на очень большую территорию. Особняк, который занимал мессир Арно де Тизан, когда у него были дела в Мортане, находился в самом конце улицы. Ардуин вошел в приемную[622], удивившись, что не видит там часового на посту. Когда же он с озабоченностью, если не сказать растерянностью, поднялся на второй этаж по ступенькам из старого, почти черного дерева, то увидел нечто такое, что его крайне удивило. Перед ним предстало нечто вроде хаотического почти безмолвного балета лакеев, служанок и секретарей, которые сновали взад и вперед с сосредоточенным, суровым, даже зловещим видом. Наконец ему удалось остановить одного из них, схватив за рукав ливреи. Ардуин поинтересовался нарочито безразличным тоном: – Мессир де Тизан у себя? Я прошу аудиенции у него. Слуга уставился на него несчастным взглядом, как будто наступил конец света, и дрожащим голосом прошептал: – О, мессир… я, право, не знаю… в самом деле… – Что происходит? – Прошу меня простить, но я не могу… – взволнованно произнес лакей и, сделав быстрое движение, чтобы освободиться, устремился к противоположному концу лестничной площадки. Совершенно сбитый с толку Ардуин спросил себя, не лучше ли уйти и вернуться сюда завтра. Во всяком случае, он непременно должен получить подтверждение того, что узнал от хозяйки «Напыщенного кролика» – приличного заведения на улице Пупардьер, в котором мэтр Высокое Правосудие обычно останавливался, приезжая в Ножан-ле-Ротру. Стараясь не столкнуться со слугами, ведшими себя, по его мнению, как обитатели курятника, в который забралась лиса, и явно не были заняты никаким делом, Ардуин пошел по широкому коридору, стены которого были облицованы светло-серым камнем, и приблизился к кабинету сеньора помощника бальи. Дверь, состоящая из двух резных створок, оказалась приоткрыта. Ардуин постучал в нее и немного подождал. Никакого ответа. Он уже собирался войти без приглашения, когда перед ним появился старый, скрюченный от артроза слуга, который во время последнего визита Ардуина принес сюда стаканы настойки. На лице его воцарилось выражение полнейшей растерянности, глаза были мокры от слез. – Со всем моим почтением, мессир, не входите… мой хозяин всегда вас так уважал… – Но что… Старик печально покачал головой, и мэтр Высокое Правосудие почувствовал, что тот вот-вот расплачется. Однако, насколько помнил Ардуин, Тизан был не особенно любезен со своими слугами. Мэтр де Мортань хотел уже легонько оттолкнуть его в сторону, как тот воспротивился и пробормотал: – Его дочь, старшая… она только что скончалась. – Что? Какая ужасная новость! От лихорадки? – Несчастный случай, – прошептал старик, опуская глаза. – Я больше ничего об этом не знаю.
* * *
Ардуин порылся в воспоминаниях. Арно де Тизан никогда не был с ним особенно близок. Да и с чего бы ему делиться сокровенным со своим палачом, самым презираемым из тех, кто ему служит? Тем не менее в таком небольшом городе всегда ходят разные нескромные слухи, поэтому и Ардуину стало известно кое-что из жизни помощника бальи. У Тизана было пятеро детей от двух браков. Его последняя супруга, которая была намного моложе него, умерла от родов несколько лет назад. Ардуин смутно помнил то, что говорили о его старшей дочери, имени которой он не мог вспомнить. Единственно, что он о ней знал, – та стала монахиней-затворницей в аббатстве Клерет. Несмотря на совет старого слуги, он решил войти и открыл дверь в кабинет Арно де Тизана. Помощник бальи стоял перед рабочим столом, уставившись прямо перед собой, но Ардуин не был уверен, что тот его видит. Казалось, этот обычно элегантный пятидесятилетний мужчина за несколько дней постарел лет на двадцать. Легкие морщины, покрывавшие его лицо, стали глубокими, его почти серая кожа напоминала погребальную маску. – Сеньор бальи… Я… Слуга… – Пожалуйста, – еле слышным шепотом прервал его Тизан, будто человек, вынырнувший из ужасающих кошмаров. Вынув из своего бюро свиток с посланием, он дрожащей рукой протянул его исполнителю высоких деяний. Тот колебался лишь одно короткое мгновение, прежде чем ознакомиться с его содержимым.Мессир бальи, Есть письма, о которых молишь Всевышнего, чтобы Он никогда не послал печальной необходимости их написать. Увы, это одно из них. За недостатком более подходящих к случаю слов я умоляю не испытывать ко мне ненависти за ужасную и ошеломляющую новость, которую я вынуждена вам принести. Анриетты де Тизан, вашей дочери, больше нет. Она покоится в мире рядом со своим Создателем. Мое сердце обливается кровью оттого, что я должна сказать, что ее кончина произошла не по воле Божией, а была ускорена одним проклятым преступником, который заплатит за ее жизнь, так как я без малейшего сомнения и колебания воспользуюсь в отношении него своей привилегией Высокого Правосудия. Я нуждаюсь в вашей сильной руке, дабы это чудовище было доставлено мне как можно скорее. Верьте, мессир, что горе, невольной причиной которого я становлюсь, все мы разделяем с вами. Мы здесь никогда не забудем Анриетту. Она будет предана земле рядом с ранее упокоившимися сестрами, но навсегда останется в нашей душе. Ее чистая и добродетельная душа будет сопровождать меня к престолу Всевышнего.Ардуин Венель-младший не осмелился поднять глаза на помощника бальи. Мягко и деликатно он положил свиток на рабочий стол. Загробным голосом мессир де Тизан объявил: – Анриетта… была… моей старшей… моей самой любимой дочерью, уверяю вас. Она была настоящим подарком небес и одарена многочисленными добродетелями. Я нисколько не преувеличиваю. Набожная, грациозная, Анриетта обладала настолько живым умом, что я частенько сожалел, что она не родилась моим сыном, прекрасная и неутомимая… Прерывающимся голосом, в котором Ардуин ясно различил слезы, помощник бальи продолжил: – Я… чувствую такое опустошение, что даже не могу вспомнить, жив ли я еще. И не уверен, что хочу этого. – Вы предпочитаете, чтобы я ушел? – произнес мэтр Высокое Правосудие. Он не мог утверждать, что хорошо знает помощника бальи Мортаня, но, во всяком случае, достаточно видел, чтобы догадаться, что с ним произошло. Иногда проявляя излишнюю твердость, без сомнения, немного спесивый, насколько это позволяло его высокое положение, Тизан оставался человеком благородства и чести. Ардуин довольно хорошо был знаком с человеческой душой и особенно с душой сильного человека. Под влиянием горя и отчаяния тот склонен довериться кому-то постороннему, который тотчас же уйдет из его жизни, унося с собой его печальную тайну. И, напротив, он способен невзлюбить невольного свидетеля своего горя, если встретится с ним на следующий день. Мэтр Высокое Правосудие вовсе не стремился к тому, чтобы стать свидетелем проявления слабости бальи, слабости, за которую раньше сам себя упрекал. – Нет-нет, Венель. Давайте присядем. Ардуин повиновался, чувствуя себя здесь крайне неловко. Помощник бальи позволил себе рухнуть в кресло с высокой резной спинкой, бессознательным движением охлаждая себе руки, поглаживая шары из полированного хрусталя, украшающие конец каждого из подлокотников. Воцарилась тягостная тишина. Венель-младший вспомнил о причине своего посещения. Это касалось семьи мужа Мари де Сальвен, которой помощник бальи отправил послание, где говорилось, что честь Мари восстановлена и она сама перезахоронена в освященной земле рядом со своим мужем, убитым бесчестным негодяем Жаком де Фоссеем. Но в такой печальный день он не мог задать Тизану какие-либо вопросы, хотя бы ради приличия. – Венель, я чувствую себя таким усталым… прошу вас, не могли бы вы позвать слугу? Мэтр Высокое Правосудие встал и зашел за бюро, чтобы потянуть за один из широких шнуров из позумента, свисающих с угла камина. Затем он снова уселся, смущенный этой тишиной, которую он не знал, как прервать. Глубокой томительной тишиной, которую нарушало лишь слабое потрескивание угасающего огня в очаге. Подобно безмолвной тени, вошел слуга, которого Ардуин еще не видел. – Позовите истопника, а то огонь почти погас и холод пробирает меня до костей. И принесите мне стакан гипокраса[623]. Мне больше не хочется настоек. С низким поклоном слуга так же безмолвно удалился, украдкой бросив на Тизана немного испуганный взгляд. Снова наступила такая же гнетущая тишина. Ардуин пребывал в замешательстве, раздумывая: может быть, ему стоит вмешаться и произнести какую-нибудь ни к чему не обязывающую фразу – или, наоборот, помощнику бальи нужно какое-то время побыть в тишине, чтобы прийти в себя? Он не мог найти те несколько слов, которые не были бы в таких обстоятельствах неуместными или глупыми, и продолжал так же тихо сидеть. Внезапно Тизан спросил резким голосом: – Скажите, вам когда-нибудь приходилось чувствовать, что вы достигли самого дна отчаяния? – Нет, думаю, мне бы такое не понравилось. Тизан закрыл глаза, и Ардуину показалось, что помощник бальи с трудом удерживает слезы, которые вот-вот польются. Но вместо этого взгляд его глаз орехового цвета снова стал сосредоточенным, и мессир де Тизан прошептал с бесконечно грустной улыбкой: – Хм… прекрасный ответ. Прекрасный и правильный. Так скажите, мэтр Высокое Правосудие, что, по-вашему, является лучшим лекарством в отчаянии? – Может быть, молитва? – Нет, это ярость! Молитва будет потом, чтобы послужить извинением за ярость. – Может быть. Ярость требует, к примеру, страсти и живости, которая прогонит мысли о смерти. Вам известно, каким образом погибла демуазель[624] Анриетта? – Задушена… Так говорится в послании от матушки аббатисы из Клерет, которое я получил на заре. – Смерть Христова![625] – выдохнул Ардуин. – Прямо в стенах аббатства? – Да, насколько я мог понять. Она возвращалась после посещения жертвователей[626]. Деньги, которые она везла с собой, исчезли, лошадь[627] нашли в нескольких туазах от ее… останков. – Этот проклятый преступник не украл лошадь? – Без сомнения, это потому, что он боялся, как бы не узнали клеймо аббатства. – А, конечно! Разговор прервало появление слуги и его помощника. Ардуин погрузился в созерцание неловких движений истопника – парнишки около двенадцати лет, – который уронил полено, при этом едва не поджег себе рукав, раздувая огонь, и, вставая, стукнулся головой о колпак над камином, после чего оглянулся на хозяина с извиняющейся улыбкой. Когда они снова остались одни, помощник бальи протянул Ардуину стакан гипокраса. – Вы его убили? Мэтр Высокое Правосудие не нуждался в уточнениях, чтобы понять, о ком идет речь. – Мессир, я убил очень много людей. – Но среди них не так уж много старших бальи шпаги, – возразил Тизан. Сделав глоток пахнущего пряностями вина, Ардуин уклончиво заметил: – Ценность петуха определяется по тому, как он себя ведет, когда в курятник забралась лисица, а не по тому, как он делает грудь колесом перед курами и цыплятами. – Занимательная метафора, но тем не менее… – О достоинствах человека можно судить по тому, как тот ведет себя перед лицом смерти. Когда думаешь, что она близка, становится не до лжи и уверток. Ну а что касается д’Эстревера, то под маской мужественного вояки оказалось полнейшее ничтожество. Услышав это косвенное признание, Арно де Тизан поднял брови и прошептал: – Вижу. Ничтожество, которое без колебаний впутало меня во все эти… заблуждения, чтобы самому дешево отделаться. – Заблуждения? Это еще очень мягко сказано, – выпрямившись, произнес мастер Высоких Деяний. – Что же касается всего остального, то не кажется ли вам, что во всех этих субъектах есть нечто общее? – Я вдвойне… нет, втройне ваш должник. Подтверждение виновности слабоумной Какет и… предел, который вы положили убийствам этих несчастных детей… к тому же вы избавили меня от большой опасности, которая уже было нависла надо мной. Может быть, мессир де Тизан надеялся услышать, что это вовсе не так. Но Ардуин увидел в этом лишь проявление любезности. По правде говоря, помощник бальи и в самом деле был ему обязан. Поэтому он выкрутился с помощью недурного словесного пируэта: – Человек чести охотно допускает как обязательства, так и долги. – Хм… Расходы, которых я опасаюсь, увеличиваются прямо на глазах, – произнес Тизан, и его глаза орехового цвета, взгляд которых мог становиться таким тяжелым и безжалостным, пристально уставились на собеседника. – Анриетта… Вы мне поможете? Я не могу требовать как бальи, не стану просить вас как… друг, так как не уверен, что вы согласитесь связать себя со мной узами дружбы. Я умоляю вас как отец. Будь ситуация не настолько трагичной, Ардуин непременно сыронизировал бы. Вся эта наигранная сердечность, которую помощник бальи демонстрировал в его адрес, проистекала лишь из потребности в его таланте судебного следователя, причем такого, которого невозможно ни подкупить, ни отговорить, ни запугать. Очень богатый палач как нельзя лучше подходит на эту роль. Казалось, Тизан полностью забыл, с каким презрением он всегда к нему относился. Так все относились к людям этой профессии. Ну и какое это имеет значение? Да никакого! – Помочь вам – большая честь для меня, мессир. Заметив напряженно сжатые губы собеседника, Ардуин понял, что помощнику бальи нелегко далась эта просьба. К его неудовольствию, это увеличивало список долгов перед мэтром Высокое Правосудие. – Вы согласитесь сопровождать меня в аббатство Клерет? – Это недалеко от Ножан-ле-Ротру, – заметил Ардуин. – Именно так. Девять или десять лье птичьего полета от Мортаня. Мы отправляемся завтра рано утром. Сегодня вечером мы вернемся в Ножан-ле-Ротру, где и переночуем. Почему бы не остановиться в вашем излюбленном «Напыщенном кролике»? Наши лошади тем временем отдохнут. А на следующее утро мы направимся в аббатство. Перспектива провести вечер и ночь в обществе помощника бальи вовсе не привела в восторг мэтра Высокое Правосудие. Тем не менее отклонить это предложение было бы оскорбительно и, более того, неосторожно. – Я… – Колеблетесь? – перебил его Тизан резким, почти угрожающим тоном. – Ни в коем случае; я охотно помогу вам во всем, что касается демуазель Анриетты и аббатства Клерет. Ардуин принялся осторожно подыскивать слова, чтобы не вызвать внезапное любопытство собеседника. – Ножан… насколько я помню, вы распорядились отправить послание семье родственнице Мари де Сальвен, которая там живет. Помощник бальи, казалось, был немного удивлен тем, какой оборот принял этот разговор. Голос его прозвучал довольно безразлично; все, что не имело отношения к его горю, не имело значения для мессира де Тизана: – Да, молодой баронессе Маот де Вигонрен и ее свекрови Беатрис, с которыми я едва знаком. Это самое меньшее, что я смог для них сделать. Она была мне признательна, так как ее потрясла ужасная несправедливая и позорная смерть этой несчастной молодой женщины. Стоило помощнику бальи произнести это имя, которое уже упоминалось в разговоре с хозяйкой «Напыщенного кролика», Ардуин почувствовал, как его сердце подпрыгнуло и застучало с бешеной скоростью. Мэтр Высокое Правосудие постарался, чтобы его голос прозвучал как можно более безразлично: – Так, значит, насколько я понял, между баронессой Маот и Мари де Сальвен существует родственная связь? – Ну конечно, они единокровные сестры. Ардуину едва удалось скрыть изумление, когда он услышал то, что последовало за этим: – Жеранвильские волки, очень хорошая семья – великодушная, покровительствует искусствам. Уроженцы Труа, они посодействовали строительству аббатства Сен-Лу-де-Труа[628], епископ которого был их дальним родственником[629], чем объясняется то, что они носят то же самое имя. Впрочем, мадам Констанс де Госбер является тетушкой им обеим и дальней родственницей нашего дорогого святого отца Климента Пятого. Очень почитаемая семья. Если я правильно помню, мадам Маот, баронесса, на несколько лет младше Мари де Сальвен. Судя по всему, помощник бальи ничего не знал об аресте Маот де Вигонрен, урожденной Ле де Жеранвиль. Внезапно Ардуин ощутил нечто вроде головокружения и поспешно закрыл глаза. Судьба. Снова и всегда судьба, которой он доверил свою жизнь, не задавая вопросов, не проявляя излишнего любопытства и не питая особых надежд, не испытывая дурных предчувствий. Судьба – или чистая и успокаивающая рука Мари, которую та положила на его пылающий лоб в ту ужасную горячечную ночь, указывая дорогу к не известной тогда судьбе? Сокровенный путь, начертанный обожаемой умершей женщиной и ведущий в Клерет… Ардуин поднялся на ноги, говоря: – Я должен вернуться и сделать распоряжения. Завтра я буду ждать вас на рассвете неподалеку от своего дома. До очень скорой встречи, мессир бальи.Ваша преданная и крайне опечаленная,Констанс де Госбер,матушка-аббатиса Клерет
6
Женское аббатство Клерет, ноябрь 1305 годаРешение о строительстве монастыря на опушке леса Клерет в сотне арпанов[630] от прихода Масл, предложенного бернадинкам ордена цистерцианцев, было принято июльской хартией 1204 года[631]. Инициатива исходила от Жоффруа III, графа Перш, и его супруги Матильды де Бринсвик, очень набожной сестры императора Отона IV. Благодаря их усилиям и щедрым дарам женское аббатство за семь коротких лет стало одним из самых значительных в королевстве. Будучи освобожденным от налогов и обладая исключительным правом сеньора, аббатисы Клерет имели право вершить низшее, среднее и высокое правосудие, не испрашивая согласия старшего бальи шпаги и даже короля. В нескольких сотнях туазов от стены, ограждающей аббатство, на развилке дороги стояла виселица, так называемая Жибе[632], где висели тела не только людей, но и медведей и волков, обвиненных в преступлениях против овец[633]. Также монастырю было даровано множество других привилегий. Например, монахини могли рубить деревья на дрова и для строительства в лесах, принадлежащих графам де Шартр. Стоит добавить, что сумма очень щедрой ежегодной ренты с земель Масла и Ле-Тея увеличивалась щедротами буржуа, сеньоров и зажиточных крестьян, желающих замолить грехи либо снискать божественной милости или за существенный вклад поместить в аббатство старую деву или вдову. Более двух сотен монахинь, полсотни послушниц и сто пятьдесят мирских слуг неустанно трудились, делая Клерет огромным ульем, предназначенным для труда и молитвы и по своей мощи намного превосходящим земли окрестных сеньоров. Группа зданий представала перед взором, подобно темным скалам посреди леса. Большинство из них, таких как монастырская церковь Нотр-Дам с клиросом, развернутым в сторону Гроба Господня, было построено из темного камня, представлявшего собой природную смесь темно-коричневого с вкраплениями кремня, кварца, глины и железной руды. Монастырь окружала высокая неприступная стена. Главным из трех проделанных в ней входов считался северный. Сразу же за ним находились здания, где принимали мирских гостей; зачастую там останавливались паломники или родственники, приехавшие навестить кого-то из монахинь. Здесь же находились гостиница, приемная и конюшни. Гостям аббатства предоставлялась некоторая свобода перемещения, но они ни в коем случае не имели права заходить ни во внутренние покои, ни в зал с реликвиями, ни в библиотеку. Хотя они могли присутствовать на церковных службах в аббатстве, принимать пищу в столовой или по приглашению аббатисы, за ее столом. Справа располагалось жилище старшей настоятельницы[634] и ее помощницы. Дальше находился аббатский дворец, где жили и трудились аббатиса и ее секретарша. Согласно уставу, так назывался приземистый одноэтажный домик, который был не намного уютнее монастырских дортуаров[635]. Но мадам де Госбер с первых дней весны радовал вид, открывающийся перед застекленными окнами ее рабочего кабинета. Это были террасы аббатисы – единственное украшение, разрешенное скрупулезным исполнением правил святого Бенуа, которые позже были несколько смягчены. Аббатиса готова была без устали любоваться цветочными клумбами[636] и ничего так не любила, как иногда присоединиться к садовникам и собирать лилии или мальвы, подправлять изгородь[637] или сажать гравилат[638] и посконник – прекрасное средство поднять настроение и прогнать все страхи. Скромные золотистые цветы пробуждали в ней нежность, особенно когда они расцветали все разом. Констанс де Госбер позволяла молодым мирским служанкам плести четки из цветов роз для себя и своих милых сестер. Она с умилением слушала, с каким радостным смехом те предавались этому занятию. Как грустно, что этот очаровательный обычай постепенно выходит из употребления… Роскошь, которой становится все больше и больше, с презрением отвергает прекрасные и недолговечные украшения, которые дарует Госпожа Природа, в угоду бантам в волосах, брыжам, украшенным драгоценными камнями, и, что, с точки зрения аббатисы, было гораздо хуже, накладкам. Фальшивые волосы![639] Куда катится этот мир… А в то же время, что может быть драгоценней и трогательней, чем хрупкое совершенство цветка, в котором ощущается рука Господа? С юго-восточной стороны дворец аббатисы примыкал к внутренним покоям монастыря Сен-Жозеф, где находились кухня, столовая и копировальная. В центральной части внутренних покоев располагался капитульный зал – небольшая, хорошоотапливаемая комната, где могли передохнуть больные, и на том же этаже – большие спальни для монахинь. Монастырская больница находилась позади, скрытая в глубине сада, чтобы ограничить распространение болезнетворных миазмов[640]. Чуть дальше располагались помещения для послушниц и приют. Официальное и такое милосердное назначение этого здания было давать приют детям, которых подкидывали к помещению монастырского привратника, дабы спасти их от голодной смерти или от ужасной судьбы оказаться добычей диких зверей. Здесь их воспитывали в благочестии и скромности, зачастую без всякого вознаграждения, – незаконных детей, рожденных у недостаточно хитрых и крайне осторожных девиц, принадлежащих к дворянскому или буржуазному сословию. Констанс де Госбер вертела в пальцах длинный стилет с узорчатой серебряной рукояткой, предназначенный для того, чтобы вскрывать письма. Глаза ее были мокры от слез в связи с ужасным потрясением, вызванным внезапной кончиной Анриетты. Той, в ком она видела будущую аббатису, которая займет ее место, когда она сама сделается слишком старой, чтобы выполнять эту миссию. Но Анриетта была полностью увлечена своими теологическими изысканиями, чтобы с легким сердцем принять все, из чего состояли ежедневные обязанности аббатисы, – нечто вроде распорядителя, которого в первую очередь должна занимать чистота душ тех, кто обитает в этих стенах. Мадам де Госбер вспоминала улыбку худенькой женщины тридцати двух лет от роду, ее изумление хорошим урожаем меда и чудной красоты вышивками, в которых она видела новое свидетельство бесконечной доброты Господа к своим созданиям. Помимо неиссякаемой энергии и крепчайшей веры, Анриетта обладала живым умом. Ее взгляд, полный любопытства к окружающему миру, всегда приятно удивлял мадам де Госбер. Какое ужасающее событие! Как же так получилось, что она оставила без внимания свои дурные предчувствия? Предполагалось, что двумя днями раньше Анриетта де Тизан должна была вернуться из поездки по окрестностям для сбора пожертвований к вечерне и поужинать[641] вместе с сестрами. В большом зале столовой на ее месте был положен столовый прибор. Но к трапезе Анриетта не появилась, и сестра, занимавшаяся кухней, оставила ей немного перекусить на одном из длинных кухонных столов. Затем все удалились для ночного сна. Констанс де Госбер подумала, что ее духовная дочь, должно быть, задержалась во время последнего визита и появится только на следующий день. А в это время ее бездыханное тело уже лежало в нескольких туазах от главного входа. Она была уже задушена этим проклятым чудовищем! И у самой аббатисы не возникло ни малейшего беспокойства или волнения… Какое непростительное легкомыслие, какое постыдное отсутствие проницательности! Констанс де Госбер была ужасно зла на себя. Слабым оправданием этому служило то, что Анриетта де Тизан была из тех женщин, которые умеют постоять за себя и без посторонней помощи выпутаться из любой ситуации. Тем не менее такие мысли казались очень слабым оправданием. Она была просто обязана забеспокоиться, какими бы ни были сила, ловкость и хитроумие Анриетты. А она вместо этого сладко заснула, чтобы затем быть резко разбуженной своей секретаршей Бландин Крезо – дежурной на этой неделе, в обязанности которой вменялось выходить за ворота и раздавать по четверти хлеба[642] бедным, нищим и детям. Те с раннего утра ожидали, собираясь у стены аббатства. Они-то и нашли холодное тело Анриетты, но их почтение и огорчение были столь велики, что никто не решился постучать в дверь. Мадам де Госбер не поверила словам старшей настоятельницы Мадлен Марке, что причина этой внезапной смерти далеко не естественная. Она прервала настоятельницу и потребовала, чтобы ей сказали правду, так как ложь имеет свойство порождать новую ложь. Новость распространилась со скоростью лошадиного галопа и сотворила в монастыре настоящее бедствие. Бландин Крезо, еле удерживая слезы, добавила, что сестры сменяют друг друга в часовне Сент-Элуа, дабы молиться об упокоении души Анриетты. Мадам Госберг это вовсе не удивило. Все знали, что покойная Анриетта очень любила эту маленькую часовню в виду ротонды и часто проводила там время в размышлениях. Они хотели отдать ей последние почести именно в этом месте, не таком торжественном, но, как часто говорила сама Анриетта де Тизан, «пропитанном святым духом».
* * *
Тишина, глубокая гнетущая тишина. Обитель, которая до этой ужасной новости казалась такой безопасной, теперь тревожила матушку аббатису. Тишина предписывалась правилом святого Бенуа; исключение могли составлять лишь очень важные причины. И, однако, эта обычная и желанная тишина нарушалась оборванными на полуслове разговорами, подавленными смешками, тысячами реплик, произнесенных почти что с закрытым ртом. Все постоянно делали усилия, чтобы соблюдать тишину; это правило было предназначено, чтобы обуздать природную склонность человеческих существ к болтовне, как этого и желал их святой Создатель. В этом было постоянное противоречие, которое, впрочем, счастливо разрешалось. Но эта новая тишина казалась какими-то злыми чарами, невыносимым трауром. Речь больше не шла о дисциплине речи, теперь же – о полной немоте, воцарившейся по идущему извне велению некоей злой силы. Впрочем, вряд ли аббатиса ощущала это именно так. Она несколько раз разминулась со своими духовными дочерьми и видела закрытые лица, опущенные глаза, беспричинную спешку, множество коротких нервных движений, руки, запрятанные в широкие рукава одеяний. Можно подумать, это легион летучих мышей, которые ищут малейшую трещину или дыру в стене, чтобы забиться туда и исчезнуть. Куда девались их сияние, их восхитительная уверенность, убежденность, что обитель является маяком – громадным и таким мощным, что никакие мирские бури не смогут его поколебать? Внезапно понять, что внешний мир, до этого такой отдаленный и настолько же безопасный, может обрушиться на них, умертвить, посеять ужас в их душах, – это было гораздо хуже, чем случайная трагическая потеря одной из самых замечательных сестер. Именно поэтому правосудие аббатисы было беспощадным. Она поклялась в этом. Аббатство Клерет оставалось несокрушимой твердыней, и ее духовные дочери не должны в этом сомневаться. Никогда больше. Коротко выдохнув, мадам де Госбер поднялась и резким движением швырнула серебряный стилет, который с глухим звуком отскочил от бюро – такого величественного, что рядом с ним сама аббатиса казалась еще более маленькой и хрупкой. Она замерла в нерешительности. Одна совершенно ошеломляющая мысль не переставая крутилась у нее в голове: убийство! Кто-то убил одну из ее духовных дочерей. Но кто? Кто осмелился на такой святотатственный поступок, наказанием за который является смерть и последующие вечные муки в аду? Упав на колени на пол, выложенный керамическими плитками, она молитвенно сложила руки, борясь с охватывающим ее гневом. «Агнец Божий, я не хочу его ненавидеть, не хочу, и все же я испытываю это чувство. Боже милосердный, дай мне силы оттолкнуть гнев и жажду отмщения. Я хочу увидеть бесчестного убийцу Анриетты повешенным быстро и высоко по моему приказу. Я хочу видеть, как он задыхается и отдает Тебе свою гнусную душу. Прости меня и помоги мне. Разум мой клокочет от ненависти. За несколько денье убийца лишил Господа одной из его самых ярких огоньков. Я хочу, чтобы он подох, чтобы он знал, за что и какая ужасная судьба постигнет его потом, что он обречен на вечные муки. Я думала, что уже навсегда избавилась от такого ужасного чувства, как ненависть, Господи. Но сегодня она возвращается, и сила ее подобна урагану. Вместе с ней я чувствую стыд и отчаяние, что я не стала такой, какой Ты хотел бы меня видеть и какой я обещала Тебе стать. Помимо горя, непонимания, в которое повергла меня кончина Анриетты, мною снова овладевает смятение. Я чувствую себя растерянной, слабой и больше не уверена, что эти святые годы, которые я провела здесь со дня своего прибытия, способствовали моему смирению, что в своем бесконечном милосердии придавали мне сил, чтобы стать лучше. Я брожу среди своих сумрачных мыслей, колеблясь от одной уверенности к другой. Помоги мне, прошу Тебя, умоляю Тебя. Где Ты? Подай же знак, чтобы я наконец выбралась из этого лабиринта сомнений. Неужели Ты дал мне сильный ум для того, чтобы я не размышляла? Или это мое наказание, как у жаждущего, которому протягивают флягу с водой только затем, чтобы тут же отнять ее? Это было бы настолько безжалостно, что я не могу в это поверить; я же так долго служила Тебе, ревностно и неустанно… Где же Ты, Господи? Чему верить, что делать, в каком направлении двигаться? Разве не Ты наслал десять египетских казней, истребляя стада, покрывая людей и животных гнойными язвами, предал смерти всех первенцев?[643] Разве не Ты изрек: “Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека”?[644] Но разве не Твой Сын сказал: “Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую”?[645] И, однако, разве не было угрозы смерти, когда он заявил после казни жителей Галилеи Пилатом: “Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете”?[646] Чему верить, на что решиться? Жизнь, смерть – все так запутано, в таком беспорядке… Что делать посреди этого поля, полного плевел? Чем Твои создания заслужили твой гнев, это нестерпимое наказание – бродить вслепую, на ощупь, стараясь отделить добро от зла? Умереть, сделав добро, или выжить, выбрав зло? Остаются только сообщники зла. Я не могу этому верить. Я не хочу этому верить». Констанс де Госбер с трудом снова поднялась на ноги. Молитва или, если говорить точно, бесконечные и обидные вопросы, которые терзали матушку аббатису, окончательно лишили ее сил. Она лавировала, стараясь в сотый раз избежать страшной убежденности, которая уже свила себе гнездо в ее мыслях. Если подумать, Бог никогда не был ближе к ней, чем тогда, когда она обращалась к Нему с непринужденной вежливостью. Юная очаровательная Констанс де Госбер всей душой погружалась в молитвы, Божественные тексты, благодеяния. Искренне, но несколько чрезмерно, что объяснялось ее глубоким умом и образованностью. Очевидно, Бог создал вселенную для существования своих творений – людей. Поэтому она была уверена: людям не следует беспокоить его постоянными просьбами, чтобы вселенная была именно такой, как им хочется. Таким образом юная Констанс приспосабливала для себя требования Церкви. Если в постный день[647] ее искушает кусок сала или чашка молока – что же, прекрасно! Разве для Бога так важно, что Масленица[648] продолжается чуть дольше, чем карнавал, особенно если остаются масло, яйца и молоко, которым просто непозволительно пропасть?[649] Такой она оставалась до своего замужества с бароном де Госбером – очень богатым и настолько же отвратительным маленьким старичком. Может быть, это было началом ее наказания? Несколькими годами позже он тактично отправился на тот свет. На губах аббатисы появилась тонкая улыбка. В сущности, простительные грехи отягощали ее совесть лишь тогда, когда она сама это допускала. А может быть, именно здравомыслие было дано ей в наказание? Чума на него! Здравомыслие побуждало ее сожалеть о том, что она послала письмо помощнику бальи, отцу Анриетты, в Мортань-о-Перш. Но что она могла сделать? Тем не менее честь спорила в ней с политикой. Она могла бы потребовать помощи Ги де Тре, бальи Ножан-ле-Ротру – ближайшего города к аббатству Клерет. Никаких сомнений, что новый герцог Бретонский, Артур II, сын покойного Жана II, поспешит удовлетворить ее требование по причине ее долгой дружбы с мадам Катрин де Куртене[650] – второй супругой Карла де Валуа, брата короля. Но Констанс де Госбер с презрением относилась к этому молодому хлыщу де Тре, которого считала настолько несведущим, что однажды упомянула об этом в разговоре со своей подругой. Впрочем, она могла бы не сообщать Арно де Тизану о том, что смерть его старшей дочери была насильственной. Анриетта оставила свою кровную семью ради семьи духовной, о чем свидетельствовали данные ей обеты. Мадам де Госбер знала, что отец и дочь питают другу к другу самую нежную привязанность, а кроме того, она не могла, не хотела, чтобы это чудовищное преступление оставалось безнаказанным. И потом, Арно де Тизан явил доказательство проницательности и твердости, положив конец серии убийств маленьких жителей Ножана, о чем стало известно даже в аббатстве Клерет. Помимо прочего, привлечь мирянина и светское правосудие в святую обитель могло оказаться опасным. Вдруг в этом усмотрели бы неспособность самой аббатисы покарать виновного? От многих подобных происков ее защищало положение дальней родственницы Климента V. Но как долго продлится эта вынужденная снисходительность? Ее привилегии были довольно хрупкими. Она достаточно знала Климента, чтобы понимать, что тот поступает с Филиппом Красивым так же, как и со всеми. Король или, точнее говоря, его любимый советник мессир Гийом де Ногарэ немало потрудился и столько заплатил, чтобы Климент, бывший кардинал в Го, был избран на место Итальянца. От этого они ожидали существенной помощи в двух делах, которые сильно досаждали суверену: посмертный процесс над памятью Папы Бонифация VIII и объединение воинствующих орденов, одним из которых был орден тамплиеров, под знаменем своего сына Филиппа де Пуатье. Если Климент не оплатит этот безмолвно взятый на себя долг, чего Констанс в глубине души опасалась, то гнев Филиппа обрушится и на него, и на всех его близких. В том числе и на нее. Если она обратится за помощью в скандальном деле об убийстве монахини, это может быть истолковано как свидетельство ее слабости и преступного нерадения. И это вдобавок к уже раздающимся упрекам в совершенно невыносимом фаворитизме и предпочтении, которое оказывается членам ее семьи, а также в чересчур свободном обращении с церковными деньгами. И, разумеется, злые языки тут же напомнят, что она является Папе дальней родственницей. Эта расточительность во всем, что касалось оказанных услуг, конфиденциальной поддержки в мелочах, обмен подарками и молчаливый, но явный родственный интерес – все это убедило аббатису, что лучше всего будет обратиться к помощнику бальи Мортаня. Просить о помощи Арно де Тизана, чье имя ей назвал Карл де Валуа, показалось Констанс де Госбер очень разумной альтернативой. Таким образом она проявит доверие и почтение к королевскому правосудию, несмотря на то что благодаря своему высокому духовному званию была ему неподвластна. Тем более что она старалась не вмешиваться в эту бретонскую трясину, в которой барахтался мессир де Валуа, и не просить о помощи де Тре, которого она немногим раньше сильно выругала за беспечность и нерадение. На память Констанс де Госбер пришла фраза, которую очень любил повторять отец, всегда вызывавший ее восхищение: «Политическое искусство сводится к очень немногим вещам: дать двоим одинаковое количество благ, при этом заставив одного поверить, что к другому вы далеко не так щедры». Несмотря на безграничный цинизм этой максимы, аббатиса много раз имела возможность убедиться в ее правоте. Она подобрала стилет и со вздохом облегчения прижала к своему пылающему лбу прохладное серебряное лезвие. Мысль о том, что Создатель ей поможет и защитит, казалась теперь очень скудным утешением. Убийца Анриетты сторицей заплатит за свое преступление, она поклялась в этом. В то мгновение, когда слова этого безмолвного обещания снова вспыхнули в ее мозгу, кто-то постучал в дверь кабинета, причем настолько сильно, что дверь чуть не подпрыгнула. Бландин Крезо, секретарша, приоткрыла дверь и высунула голову наружу. – Мадам матушка, пришел доктор[651] Антуан Мешо. С ним какой-то высокий мужчина, он мне не знаком. Его представили как прекрасного высоконравственного медика. – Где они дожидаются? – В медицинском кабинете. – Я сейчас к ним присоединюсь, а пока идите туда вы, дочь моя, – приказала Констанс де Госбер. Секретарша – низенькая полноватая женщина средних лет, чья энергия была сравнима только с ее компетентностью, – произнесла нерешительным тоном: – Матушка, вы совершенно уверены, что… Аббатиса прервала ее тоном, не терпящим возражений: – Да, абсолютно уверена!7
Женское аббатство Клерет, ноябрь 1305 годаНесколькими минутами позже, войдя в скромный медицинский кабинет, мадам де Госбер увидела там двух мужчин, которые наклонились над телом Анриетты де Тизан, почтительно склонив головы и молитвенно сложив руки. Покойная лежала на длинном столе темного дерева, освещенном высоким застекленным окном – почетная привилегия для находящихся здесь больных. Двое мужчин молчаливо поприветствовали аббатису. Та пояснила, обращаясь к доктору Мешо, с которым была давно знакома и чей здравый смысл и знания она ценила: – Мессир доктор, я так поспешно вызвала вас к себе, чтобы… Я даже не знаю, на что надеюсь… Это прискорбное и такое несправедливое событие затуманило мне разум. – Насколько я понял из вашего короткого послания, от меня требуется почтительно освидетельствовать вашу почившую духовную дочь, чтобы как можно точнее узнать причину ее смерти и попытаться извлечь сведения о бесчестном безумном злодее, который отнял у нее жизнь. Мадам де Госбер кивнула в знак согласия. Ей было в высшей степени наплевать на молчаливое неодобрение сестер по ордену. Чтобы эти ученые, но все же мужчины, раздевали покойную и оскверняли ее своими взглядами и прикосновениями, пусть даже самыми почтительными!.. Но аббатиса стремилась сделать все, что в ее власти, чтобы убийца был пойман и наказан. Антуан Мешо снова заговорил, сделав жест в сторону своего спутника: – Время торопит нас, и я взял на себя смелость попросить своего высокоученого собрата присутствовать здесь и поделиться своими восхитительными знаниями. Он оказал мне честь, воспользовавшись моим гостеприимством во время своего пребывания в Ножан-ле-Ротру. Высокий худой мужчина с серыми глазами еще раз склонился перед аббатисой и произнес мягким почтительным голосом: – Йохан Фовель, доктор Брево, к вашим услугам, мадам матушка. Мешо, в голосе которого слышалось самое неподдельное восхищение, продолжил фразу своего собрата по профессии: – И, смею заверить, самый лучший среди нас. – Мадам матушка, – снова вступил в разговор Йохан Фовель, который, казалось, не услышал лестных слов в свой адрес. – Могу ли я быть уверенным, что мы найдем вашу духовную дочь такой, какой видим ее сейчас? Что ее не станут ни мыть, ни переодевать? – Да, разумеется… Я только приказала снять с ее шеи эту омерзительную веревку. – Надеюсь, вы ее сохранили? – По правде говоря, не знаю, но я могу об этом осведомиться у больничной сестры. – Мне будут полезны любые сведения, – подтвердил высокий худой мужчина. – Какой именно была веревка? – Да господи, я тогда была в таком волнении и ужасе, что не обратила на это ни малейшего внимания. Самая обычная пеньковая веревка, какие используют, чтобы перевязать охапку хвороста или кипу белья. – Хм… И вот еще что: веревка была повязана на ее шею поверх ее пелерины, ее головного убора и воротника платья? – Ну, разумеется, – ответила аббатиса, и ее голос чуть сдавленно прозвучал в этой ледяной комнате. Внимательно глядя в голубые глаза этой женщины – хрупкой, как воробей, но вместе с тем излучающей необычайную силу и властность, – Фовель снова заговорил: – Позволите ли вы удостовериться, что интимным частям тела мадам де Тизан не был нанесен ущерб? Побледнев и судорожно сглотнув, мадам де Госбер пробормотала: – Вы хотите сказать, что… – К сожалению, речь идет о том, что может являться неизбежным следствием таких чудовищных явлений, – настаивал Йохан Фовель. – Конечно, у вас здесь нет ни судебной матроны[652], ни компаньонки[653]. Но я принял роды у стольких женщин, что их гениталии уже не являются для меня тайной. – Однако я полагала, что мужчины вашей профессии избегают подобных испытаний, – возразила аббатиса немного уязвленным тоном. – С моей точки зрения, они совершают большую ошибку – все мои собратья, которые хотят сыновей и не знают, откуда те появляются на свет. Все превозносят зарождение жизни, но отводят глаза от живота, откуда вот-вот появится на свет младенец. Что же касается тех докторов медицины, которые рассуждают по-латыни об оттенках мочи, то они сожалеют лишь об одной, с их точки зрения, ошибке Всемогущего: что дети не рождаются ни в капусте, ни в лилиях. Таким образом, они могли бы обойтись вовсе без женщин, к большому удовлетворению некоторых из них. Несмотря на трагизм этой минуты, аббатиса улыбнулась и заметила: – Доктор Мешо, мне кажется, что ваш драгоценный друг – очень хороший человек, и я от всей души желаю ему стать отцом милой девушки. Думаю, он будет прекрасным отцом. – Это уже произошло; очаровательной Элизе этой весной исполнится восемнадцать, что наполняет меня гордостью, – ответил Йохан Фовель, лицо которого на короткое мгновение осветилось нежной улыбкой. И, вернувшись к печальной причине их появления здесь, он настойчиво повторил: – Итак, мадам матушка, вы позволяете? Но мадам де Госбер все еще не могла решиться: – Но она девственница, это же очевидно; ведь она не была замужем. – По крайней мере, не была ли она… до этого… – осторожно произнес доктор из Брево. Наконец аббатиса со вздохом ответила: – Хорошо, я даю вам позволение, мессир. Делайте, что считаете необходимым, дабы выяснить все, что может быть полезным для моего расследования. Анриетта была не робкого десятка, и она согласилась бы с моим решением. Конечно… и я сама на себя сержусь за то, что вынуждена быть настолько неделикатной, – пожалуйста, расскажите мне все, что вам удалось выяснить. Но только мне одной. – Вы можете быть в этом совершенно уверенной, мадам матушка, – заверил ее Мешо. – Могу ли я почтительно настаивать, чтобы нашли ту самую веревку? – подхватил Йохан Фовель. – Я сейчас предупрежу больничную сестру и распоряжусь, чтобы никто вас не беспокоил до окончания… освидетельствования.
* * *
Как только аббатиса ушла, пришедшие принялись за дело. В помещении царил смертельный холод: здесь не зажигали огня, чтобы не ускорить разложения останков. Мешо ритмично сгибал и разгибал окоченевшие пальцы и, казалось, ожидал инструкций Йохана Фовеля. Наконец он сказал: – Я полагаю, что вы накопили много знаний об орудиях смерти и о разложении. – Что верно, то верно. В конце концов, мой дорогой Мешо, смерть – это последняя дань уважения, которую дает жизнь людям нашего искусства. Йохан Фовель пристально вглядывался в каждую черточку лица умершей. Он внимательно обследовал кожу вокруг глаз, показывая пальцем на малейшие признаки кровотечения, приподнял одну из рук Анриетты и удостоверился в гибкости пальцев. – Rigor mortis[654] почти нарушено, – заметил он. – Добавим к этому, что в ночь убийства было довольно холодно, что задержало его возникновение. – Что вы об этом скажете? – осведомился доктор Мешо. – Предположим, она скончалась чуть менее двух дней назад. Впрочем, нельзя этого точно утверждать, так как тело нашли позавчера ранним утром. Единственное заключение, которое можно сделать с большой осторожностью, – она была задушена незадолго до этого. Давайте теперь разденем ее, – предложил он. – Так как мы не сможем сделать даже частичное вскрытие[655]. – Какая невероятная жестокость, – бросил Антуан Мешо, засунув себе руки под мышки в надежде хоть немного их согреть. Йохан предпочел оставить это замечание без ответа. Он испытывал к своему собрату дружеские чувства и большое уважение. В то же время Мешо был человеком их профессии. Для него были важны не столько причины, сколько последствия. Фовель был абсолютно убежден, что, когда наконец Наука получит свободу, человек начнет двигаться вперед гигантскими шагами. Не останется ничего необъяснимого, развеются самые ужасные страхи – например, те, которые ему внушают, чтобы держать в состоянии выгодной другим тупости и слепой покорности. Но Наука лишь делает первые шаги, довольствуясь бессмысленными суевериями, чему способствовало отсутствие научных догм и авторитетов. В сущности, доктора и врачи были не столько учеными, сколько деревенскими фельдшерами, знакомыми с анатомией скорее опытным, эмпирическим путем. Фовель нередко приходил в отчаяние: даже цирюльники и палачи, которых все презирают, и те лучше них могут облегчить страдания больного. Они сняли головной убор. Голова Анриетты была обрита примерно две или три недели назад, насколько можно было судить по короткой темной щетине, которая покрывала череп цвета слоновой кости. На левом виске виднелся кровоподтек, большей частью скрытый под головным убором. Пощупав его, Йохан Фовель произнес, будто говоря сам с собой: – Недавний. Опухший. Без сомнения, образовался вследствие удара или падения. Видите, красный цвет еще не перешел в фиолетовый или сине-черный… Кто-то хотел ее оглушить или же речь идет о несчастном случае, который произошел незадолго до смерти?.. Продолжим. Они стянули с нее темный наплечник и белое платье из грубой шерстяной ткани. Анриетта де Тизан носила под ним власяницу. Фовель незаметно закусил губы. Эта страсть к умерщвлению плоти всегда вызывала у него удивление. Что заставило ее вырядиться в эту шероховатую, натирающую кожу рубашку из козьей шерсти? Может быть, присоединиться к последней жертве Божественного Агнца, разделить его муки? Глухой звук, с которым голова Анриетты ударилась о длинный деревянный стол, вернул его к действительности. Она была худенькой и на удивление мускулистой для женщины, даже для монахини, занимающейся физическим трудом. Йохан Фовель склонился над трупом. «Наблюдай, анализируй, сравнивай и делай выводы», – повторял он. Этот метод врач внушал своей дочери Элизе, скрывая ото всех ее необычайный ум и способности. Он много раз повторял ей, что она должна всегда производить впечатление хорошо воспитанной девицы: молитва, ведение хозяйства, скромные таланты в музыке, пении и вышивании. Учить девушек высокоумным наукам было бы подозрительно. И разве может быть лучшее средство, чем незнание, чтобы удерживать их в таких условиях? Такой судьбы избежало лишь несколько высокорожденных и очень богатых женщин. Но в конце концов, правила пишутся для того, чтобы те власть имущие, кто желает их обойти, относились к ним с почтением… Шея Анриетты де Тизан была усеяна многочисленными точечными кровоизлияниями, диаметром крупнее тех, которые обнаружились у глаз. Вокруг горла, довольно низко, виднелась глубокая неширокая борозда, бледная посредине и окаймленная красным в тех местах, где кожа была стерта. – Мы можем исключить самоубийство, которое ради приличия могли выдать за насильственную смерть, – пробормотал Йохан Фовель. – Повешение… монахини… самоубийство? – Казалось, его слова донельзя шокировали Мешо. – Почему бы и нет? – с официальной любезностью возразил Йохан Фавель. – Делать подобные предположения, когда речь идет о служительнице Господа!.. Им не свойственно накладывать на себя руки в порыве отчаяния. И потом, Анриетта де Тизан была глубоко верующим человеком, и я не думаю, чтобы мадам де Госбер могла участвовать в подобном заговоре молчания. – У мадам де Госбер тоже могли бы быть свои счеты и свои цели. Согласитесь, что может быть более скандальным, чем самоубийство в монастыре? Это даже похуже, чем тайная беременность монахини. К тому же аббатиса сама может не располагать сведениями о таком обмане. – Да, действительно. – Мой дорогой друг, не говорите мне, что ваши регулярные упражнения в искусстве медицины избавляют вас от поистине ошеломительных выводов относительно человеческой души. Матушку, достойную всяческого восхищения, вы вдруг решили обвинить в убийстве своей духовной дочери… Благочестивый, всеми уважаемый мужчина убил молодую служанку, с которой сожительствовал на протяжении нескольких лет, и лишь потому, что та оказалась беременна… Вроде бы любящий муж, которому не терпится прибрать к рукам имущество своей супруги… Давайте же оставим наши переживания и благочестивую убежденность и будем, как и положено людям науки, руководствоваться исключительно фактами. Несмотря на любезный тон, эти слова прозвучали довольно резко. Немного задетый Мешо пробормотал: – Прошу прощения. На самом деле я веду себя будто уличная кумушка[656]. Но мне зачастую очень трудно отделить болезнь от пациента. – Это потому, что вы ухаживаете за пациентом. Я же упорно, шаг за шагом, отвоевываю территорию у болезни – моего личного врага. А врага необходимо знать, чтобы осадить и разбить наголову. А кроме того, в данном случае у нас нет больше терпения, а есть, с одной стороны, убитая, которая требует правосудия, и с другой стороны – убийца, который надеется, что оно никогда его не дождется. – Черт возьми! Какая беспощадная прямота! Да, теперь я понимаю всю подоплеку вашей блестящей репутации. Впрочем, давайте и вправду действовать как люди науки. Йохан Фовель был немного сердит. Должно быть, из-за поразительного ума своей дочери он все больше терял терпение, сталкиваясь с тем, что он называл «тяжеловесностью ума». А ведь такие, как Мешо, считаются ученейшими из ученых… Он снова заговорил, стараясь, чтобы его слова звучали как можно мягче: – Давайте перевернем ее, вы не против? Тело было настолько легким, что перевернуть его не составило никакого труда. Фовель издал тихий возглас, который тут же постарался подавить. Спина Анриетты де Тизан была вся в шрамах, свидетельствующих о годах умерщвления плоти с помощью бича[657]. Некоторые полосы были бело-розового цвета, что ясно говорило об их давности. Другие, наоборот, казались совсем свежими, некоторые – нанесенными совсем недавно, без сомнения, во время недавнего бичевания. Лопатки и середина спины были покрыты коричневатой коркой. Доктор скользнул взглядом по ногам умершей, высматривая, нет ли ран от цепи с шипами, проникающими в кожу, и нагноений, которые неизбежно оставляет это изобретение, более уместное при инквизиторских допросах. Не обнаружив ничего подобного, он ограничился замечанием: – Она не носила шерстяных чулок? В это время года? Я почему-то не вижу следа от подвязок на середине бедер. Фовель не понял, чего слышалось больше в ответе доктора Мешо – почтения или грусти: – Она была очень набожной монахиней. Поднеся палец к покрытой шрамами спине, Брево произнес нарочито безразличным тоном: – Хм. Давайте снова перевернем ее, коллега. Фовель раздвинул бледные ноги покойницы, которые казались восковыми, и просунул руку между бедер. Наклонившись и внимательно рассматривая вульву, он заметил так же бесстрастно: – Если только с моей пациенткой не случилось какого-то чуда… Деликатно проведя внутри указательным и средним пальцами, он быстро проговорил: – Девственница. Она не была дефлорирована. Классическое изнасилование исключается. – Что, разве оно бывает и неклассическим? – удивился Мешо. Непонятно, что смутило его больше – серьезный взгляд голубых глаз или ответ, прозвучавший на удивление безмятежно: – А вы как думаете? Пытаясь выпутаться из неловкой ситуации, Мешо заметил: – Какое облегчение, что с ней не произошло самого худшего![658] – Да, ее всего лишь убили, – произнес Фовель так тихо, что собеседник его не услышал. На самом деле его вовсе не удивляло простодушие коллеги – напротив, в какой-то мере он даже завидовал его такой удобной уверенности. То, что Анриетта не подверглась насилию, хотя бы с виду делало все произошедшее с ней не таким отталкивающим. К тому же Мешо скорее всего не догадывался о том, что существуют и другие способы совершить насилие над женщиной, и для этого вовсе необязательно лишать ее девственности. Существовала еще дефлорация несексуального характера, когда желали очернить обвиняемую, представив ее перед судом развратной злонравной женщиной. Затем Йохан Фовель обследовал предплечья, руки и ногти Анриетты со скрупулезностью, которая даже заинтриговала доктора Мешо. – Что вы там видите, дорогой коллега? – Ничего, и это исключительно важно. – Простите? – Она не отбивалась и не пыталась отражать удары, иначе мы увидели бы синяки и царапины, свидетельствующие о борьбе. – Этот бесчестный трус подло напал на нее сзади, – с яростью произнес Мешо, и в такт его словам изо рта доктора вылетали облачка пара. – Возможно, и так, хотя позволю себе напомнить вам об ушибе на левом виске. Удар был нанесен спереди, если только она не упала незадолго до смерти. Сейчас мы уточним еще кое-что – и можно заканчивать… Он приоткрыл губы покойной и, понюхав внутренность ее рта, констатировал: – Никакого подозрительного запаха[659]. Дорогой коллега, давайте снова оденем ее, чтобы вернуть ей хоть немного благопристойности. – А власяницу тоже надеть? – Думаю, лучше будет потихоньку отдать ее аббатисе.* * *
Они старательно пристраивали на место головной убор, когда неожиданный стук в дверь едва не заставил их подпрыгнуть. Вошла крупная, хорошо сложенная женщина с очаровательной грустной улыбкой. Двумя пальцами она протянула им конопляную веревку длиной около двух локтей[660] и произнесла: – Аделаида Боклерк, больничная сестра, к вашим услугам, мессиры. Я здесь по распоряжению матушки. С гримасой отвращения она протянула им веревку. – Вот этим… это… мы нашли на шее нашей всеми оплакиваемой Анриетты. Кивнув в знак благодарности, Йохан Фовель взял у нее веревку. – Э… возможно, я вам мешаю и вы подумаете, что я недостаточно деликатна, но все же… как вы полагаете… она… страдала? – Нет, не думаю, – солгал Йохан, который на самом деле не имел об этом ни малейшего представления. – Смерть от удушения очень быстрая. И жертва встречает ее уже в бессознательном состоянии. – Ах, Боже милосердный, – вздохнула женщина, кладя руку на свое большое распятие из темного дерева. Затем она снова торопливо заговорила: – Господи, какая же я бесчувственная дура! Я всего лишь хотела… – Знаю, – мягко прервал ее Йохан. – Вы всего лишь хотели увериться, что Господь послал вашей сестре легкую и быструю кончину. Такое чувство только делает вам честь. Все именно так и произошло… Мадам сестра, мы закончили посмертное освидетельствование. Мы бы хотели переговорить с вашей матушкой и, не задерживаясь более, покинуть аббатство. В это время года темнеет достаточно быстро, а мне хотелось бы вернуться в Ножан еще до вечера. Кивнув в знак согласия, монахиня исчезла.8
Крепость Лувр, ноябрь 1305 годаГийом де Ногарэ разглядывал женщину средних лет и упитанности с приятным веселым лицом, одетую неброско, но довольно дорого. – Присаживайтесь, моя хорошая. Поверьте, я по достоинству оценил тот риск, на который вы пошли, посетив меня. – Вовсе нет, монсеньор, – успокоила его Эмелина Куанар теплым мелодичным голосом, так чудесно звучащим в этом кабинете. – Мадам Изабелла встретилась со своим отцом. А я, вернувшись из путешествия, позволила себе навестить родственницу и продемонстрировать свое великодушие ко всей этой куче племянников… благодаря вам, монсеньор. Ногарэ с трудом удержался от улыбки. Такой любезный способ поблагодарить его за толстый кошелек, которым были вознаграждены ее услуги: слежка за чревом Изабеллы де Валуа, дочери Карла и супругой Жана Бретонского, который, как надеялся Валуа, должен будет стать Жаном III после смерти Артура. Вопреки обычной неловкости, которую он ощущал к представительницам нежного пола, с этой женщиной Гийом чувствовал себя легко и свободно, должно быть благодаря ее спокойствию и какой-то материнской серьезности. Он не чувствовал ни малейшего неудовольствия от мысли, что некоторое время должен будет поболтать с ней о всяких пустяках. Держалась и говорила она как буржуазка или богатая торговка, с которой нужно соблюдать вежливость. – А у вас самой разве нет детей? Ответом ему был легкий смешок: – Монсеньор, мой супруг скончался через два месяца после женитьбы. Скольким женщинам я помогла забеременеть, стерегла каждое мгновение, чтобы избежать выкидыша и облегчить разрешение от бремени, о скольких заботилась после родов, что иногда мне кажется, будто я прожила все это вместе с ними… – У вас поистине восхитительная привилегия – наблюдать зарождение новой жизни, – торжественно произнес королевский советник. – Здесь главное, чтобы женщина оказалась крепкой, – бросила матушка Куанар. Должно быть пожалев о вырвавшихся у нее словах, она сжала губы и еле слышно добавила: – Прошу прощения! Пусть извинением мне служит, что трех прекрасных дам я не смогла спасти и они умерли родами. Да покоятся они в мире. – Аминь. Ногарэ не знал, что здесь можно еще сказать. Впрочем, очень много женщин уходит из жизни до или сразу после родов от кровотечения, инфекций или истощения сил. Но разве это не сам Господь решил, когда им следует предстать пред Ним? Во всяком случае, свое назначение они выполнили, с чем их можно поздравить. Впрочем, это рассуждение относилось лишь к высокородным дамам, чей потомок мог играть важную роль в области политики или финансов[661]. – Хорошо ли себя чувствует наша дорогая дама Изабелла? Веселое лицо тут же омрачилось. Акушерка ответила, сложив руки на коленях: – Беспокоюсь я, уж очень она нежная. Такого хрупкого сложения, и здоровье у нее слабое… А вдобавок этот кашель[662], хоть бы он прошел поскорее. И все из-за этой невыносимой сырости чертовой Бретани! Снова едва удержавшись от улыбки, Гийом де Ногарэ принялся считать на пальцах: – Вышла замуж в пять лет. Сейчас ей, если я не ошибаюсь, тринадцать. Рановато, конечно, но, может быть, вы заметили у нее признаки беременности? – Вот еще что, монсеньор… Признаки ее женского состояния запаздывают с появлением. Он удивленно вытаращился на собеседницу, не понимая, на что та намекает. – Периоды…[663] короче, менструации, – не выдержала Эмелина. Услышав это слово, королевский советник смущенно сощурился: – И как, по-вашему… способна ли она забеременеть? – Сейчас я делаю все, что в моих силах, чтобы вызвать регулярное появление периодов. Отпаиваю ее отваром можжевельника, лаврового листа, дудника, розмарина, листьев шалфея[664] с авраамовым деревом[665]. Я ее заставляю носить под платьем правое[666] яичко ласки. Чтобы было полезнее, каждое утро один из ловчих монсеньора Жана приносит ей свежее. – Есть какой-нибудь успех? – Никакого. – Разве это не удивительно для девушки… сколько, вы сказали, ей лет?.. все, что вы мне тут рассказывали… – Большинство в этом возрасте уже готовы родить, хотя мне говорили, что это должно произойти к пятнадцати или шестнадцати годам. – Черт возьми, какая потеря времени! – И что меня особенно беспокоит, монсеньор… у мадам Изабеллы очень низкие уши, короткая шея и ненормально маленький рост. Добавьте к этому, что она плоская, как камбала, настолько, что при родах бедра у нее могут треснуть. – Низкие уши, короткая шея? – повторил совершенно растерянный Ногарэ. – Ну конечно, женщины моей профессии не скупятся на описания, когда те каким-то образом связаны с трудностями, которые испытывают их дамы, пытаясь забеременеть, или наоборот. Низкие уши и линия волос, а также низкий рост говорят мне о трудностях, касающихся плодовитости[667]. – А может быть, паломничество или молитвы?.. – Мы уже все испробовали, монсеньор, – разумеется, в глубокой тайне. Можете мне поверить, я провела долгую жизнь, помогая женщинам в подобном положении. Если Господь отказывает женщине в материнстве… возможно, у Него на это есть свои резоны, и не нам их оспаривать. – Конечно, моя хорошая. Кто мы такие, чтобы вторгаться в Божественные тайны? На самом деле монсеньор де Ногарэ не знал, как ему относиться к этой новости, хотя он и поздравлял себя с тем, что уговорил Эмилину Куанар просветить его. Внезапно ее присутствие стало очень тяготить королевского советника; он ощутил сильнейшее желание оказаться в уединении, чтобы спокойно поразмышлять. Гийом поднялся на ноги, стараясь, несмотря на снедающее его нетерпение, держаться любезно. – Матушка Куанар, вы мне оказали очень существенную помощь. Благодаря вам мне многое стало понятно, и поверьте, что я действительно ценю все, что вы делаете. Привратник сопроводит вас до моста Мельников. Я прошу вас и дальше неусыпно бодрствовать. Поклонившись, женщина произнесла почти шутливым тоном: – Монсеньор, благодаря вашей восхитительной щедрости я могу надеяться провести свои последние дни в спокойствии и довольстве. Надо совершенно лишиться рассудка, чтобы совершить бестактность, за которой для меня последовала бы или веревка на шею за предательство, или краткая и неприятная встреча в дворцовых закоулках. – Эта щедрость вами полностью заслужена, – заметил Ногарэ, которого последняя тирада вовсе не привела в восторг. Более того, если бы матушку Куанар арестовали и под пыткой заставили назвать имя своего великодушного покровителя, Валуа в приступе ярости мог бы прикончить того своими собственными руками. При этой мысли Ногарэ вдруг ощутил, как дрожь пробежала по его телу. Впрочем, он уже отдавал приказы привести к абсолютному молчанию множество противников или шпионов, которые, по егосведениям, становились чересчур болтливы. В противоположность этому от одной мысли, что сорвавшийся с цепи толстый Валуа может растерзать или задушить его, слюна во рту королевского советника сворачивалась и становилась кислее уксуса.
* * *
Едва Эмелина Куанар ушла, он снова уселся за рабочим столом, взял прекрасное орлиное перо, предназначенное для самых важных писем[668] и лежащее отдельно рядом с чернильным рожком. Проведя кончиком указательного пальца по бороздкам пера, невольно восхитился их силой и упругостью. Со вздохом снова отложил в сторону длинное и мощное перо, еще раз взвешивая только что полученные сведения. Стоят ли они внимания? Если Изабелла де Валуа, супруга будущего герцога Бретонского, окажется бесплодной, их брак будет расторгнут, тем более что девица лишена того обаяния, которое пробуждает сильнейшую страсть. К своему несчастью, она – вылитый портрет своего отца. Это вызывало некое сочувствие к молодой женщине, ребенком выданной замуж за человека, которого никогда не встречала, и отправленной в чужую страну, где она никого не знала и где все было ей незнакомо. Родившись племянницей короля, она должна была расплачиваться за это с изяществом и признательностью. Что же, если чрево Изабеллы окажется неспособным к деторождению, Жан возьмет в жены другую девицу. Но кого? Предпочтет ли Артур II, его отец, от такой «неудачи» сблизиться с Англией[669], с которой бретонцы сохранили прочные связи? Прочные и очень опасные для Французского королевства, для которого они однажды могут обернуться угрозой с запада… Непроизвольным движением Ногарэ подталкивал орлиное перо то вперед, то назад, заставляя его вращаться. Помимо громадного удовольствия, которое доставили бы ему ярость и сильнейшее разочарование Карла де Валуа, узнавшего, что его дочь отвергнута, мысль о том, что Франция может подвергнуться нападению с севера, запада и востока, приводила его в ужас. Ногарэ не мог открыться в этом королю, так как это означало бы признаться царственному суверену, что он велел следить за чревом его родной племянницы. Но тем не менее одним из важных качеств королевского советника оставалась способность предвидеть непредсказуемое. Одновременно это являлось и пороком Гийома, так как он иногда терялся в шатких умозрительных построениях, которые имели очень мало общего с действительностью. Решение пришло само собой: найти принцессу, обладающую привлекательной внешностью, одинаково подходящую для Французского королевства и для будущего Жана III. Что же касается Изабеллы, он избавится от нее, сделав аббатисой. Климент V будет рад сделать им это маленькое одолжение. Ногарэ удовлетворенно вздохнул: по правде говоря, довольно приятный выход из положения. Валуа же получит хороший щелчок по носу. Ему так хочется прибрать к рукам герцогство Бретонское, хотя бы с помощью внука… К тому же Французское королевство будет защищено от этих притязаний.9
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 годаОна впустила сестру в кухню с заднего хода через внутренний дворик, так как не хотела, чтобы ту заметили. Тем не менее она была счастлива ее видеть и сразу поспешила подать ей стаканчик вина и тарелку пирожков с бычьим мозгом. – Сильвин, я уже просила тебя не сваливаться вот так, как снег на голову. И скидывай ты свои вонючие тряпки! Удобно устроившись за столом, собеседница только фыркнула в ответ: – Ну что ты, Люс, они совсем не воняют. Это только тебе кажется, что они грязные, паршивые и плохо пахнут. Если б ты знала, чего мне стоило их перепачкать! Чтобы ходить по улицам с протянутой рукой, надо быть одетой достаточно скверно. – Это точно!.. Почему ты так злишься? – Я должна это делать, – огорченно ответила Сильвин. – А тебя-то это дело каким образом касается? – Никаким. Люс свирепо уставилась на нее, сложив руки на груди. – Тебе что, так нужно совать нос куда не следует? Собеседница печально сгорбилась на стуле. Ее худое лицо приняло еще более унылое выражение. Люс снова заговорила, одновременно огорченная и рассерженная этими резкими словами: – Напрасно ты огрызаешься! Если б я получила дар нашего предка, я бы извлекла из него совсем другое! Меня здесь больше не будет, чтобы вставать на рассвете и наполнять корзинки для других. – У меня уже горло пересохло объяснять, что я его вовсе не получала! Никакая я вовсе не ясновидящая. Просто в голове у меня иногда появляются какие-то картинки. Там гнев, смерть, ненависть, – прошептала Сильвин. – Но ты знала, что он придет. – Я чувствовала, что кто-то должен приехать и что, возможно, я наконец буду прощена. Сильвин не услышала, что Люс предлагает ей подлить вина, и сделала это сама, осушив стакан за пару глотков. Щелкнув языком, он прошептала – и в голосе ее слышалась та же досада: – Я больше не такая глупая, вовсе нет, но вся ученость меня покинула. Как бы тебе объяснить получше… И если… Наконец, если после стольких лет отчаяния судьба наконец хочет дать мне возможность, вторую, последнюю… Столько совпадений, что надо быть полной дурой, чтобы по-прежнему считать их случайными. Такая путаница, что я уже просто теряюсь. – Но ты же не отвечаешь за это! – почти выкрикнула Люс, заметив ужасную печаль на лице своей старшей сестры. – О, напротив. У меня была горячая кровь и я не была недотрогой. Я очень любила мужчин, но теперь я состарилась. Тот, чье имя и чье лицо стерлись у меня из памяти, был таким красивым, таким молодым… От него пахло соломой… лошадью… Я должна продолжать до самого конца. Видишь ли, моя добрая Люс, многие сильно обольщаются, думая об аде. Он не клокочет с ревом глубоко под землей. Мы носим его в себе, этот жестокий огонь, который вечно будет пожирать нас. И не думай, что это все лишь бредни старой женщины. Поднявшись, она уставилась на Люс своими ледяными голубыми глазами, взгляд которых вызывал у всех смущение, и произнесла: – Благодарю за вино и угощение, дорогая сестрица. Видеть тебя мне прямо бальзам на сердце. Ты неплохо выглядишь. Когда он вернется? – Не знаю, но сразу же извещу тебя. Матушка Крольчиха сжала сестру в объятиях, отчего капюшон ее изношенной нищенской накидки съехал попрошайке на лоб. – По правде говоря, от тебя не так уж плохо пахнет, – расчувствовавшись, сказала трактирщица. – Может быть… дать тебе несколько денье? – Нет, моя хорошая. Мне нужно время. Надо, чтобы вернулся красавчик, который весь в кровище, и поскорее! Из-за него все наконец-то завяжется, но прекрасный убийца этого не знает.
10
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 годаГи де Тре изо всех сил старался успокоиться. Он даже не заходил в кабинет с тех пор, как рабочие обнаружили изуродованный труп Мориса Деспера, его первого лейтенанта. Или если придерживаться точности, то, что от него осталось в пещере троглодитов под строящимся домом. По сути дела, бальи Ножана был возмущен не столько убийствами, столько тем, что этот чертов предатель Деспер обвел его вокруг пальца, изображая перед ним послушного подчиненного, а в то же время калечил и убивал детей, получая за это от кого-то щедрое вознаграждение. Вот ведь отпетый негодяй! При этой мысли румяные щеки Ги де Тре даже затряслись от ярости. Он бросил влюбленный взгляд на свою милую Энору, которая убаюкивала их новорожденного ребенка. Какое восхитительное зрелище, единственное, что может охладить его гнев в такую минуту!.. Ему так хорошо рядом со своей прелестной и чувственной проказницей женушкой! Когда он смотрел на нее, ничто на свете не могло омрачить его радостного настроения. Однако за этим высоким лбом, скрытым за копной ароматных восхитительных вьющихся волос медного цвета – цвета, презираемого этими глупыми простаками франками, – скрывался один из самых живых умов и, без сомнения, один из самых упорных, какие только встречал Ги де Тре. Энора была потомком древней высокородной династии кельтских воителей, для которых страх всегда был чем-то странным, неуместным и даже постыдным. Перейдя на бретонский, чтобы никто не мог их случайно подслушать, Энора прошептала: – Я чувствую, что вы сильно опечалены, мой любимый. Это те пожиратели кабанов[670] испортили вам настроение? – Терпеть их не могу! Милая моя, я каждый день молюсь, чтобы нас наконец отозвали в нашу прекрасную Бретань. Здесь я просто задыхаюсь. Я ничего не понимаю в здешних людях. Более того, они меня ненавидят. Она послала ему одну из своих самых нежных улыбок, и де Тре встал, чтобы поцеловать ей веки, опустившиеся на глаза изумрудного цвета. – Может быть, наш обожаемый новый сюзерен Артур внемлет вашим… нашим просьбам. Что бы там ни было, эта высокая должность бальи, которую доверил вам его покойный отец Жан II, была прекрасным свидетельством того, что вас уважают и ценят. Местные относятся к вам без особой любви – что ж, тоже мне важность! Невоспитанные крестьяне, которые с завистью и злобой относятся ко всем, кто не похож на них! И даже семья де Вигонрен, одна из самых высокородных в этом краю… Боже милосердный! По сравнению с жирным и простоватым Эсташем де Маленье, благородство которого на четверть зависит от толщины семейного кошелька и двух баронесс – старой и молодой, которые напоминают мне двух телок с прическами, – мы и вправду выглядим благородней некуда. Фыркнув, Энора продолжила также на бретонском: – Ах, какие грубости я говорю! Оправданием мне служит лишь невыносимая скука здешней жизни. Только ваше присутствие и маленький Артур заставляют меня о ней забыть. Поцеловав подставленные ему губы, де Тре нежно провел рукой по лбу сына. – И все же, может, и я говорю грубости, – продолжила женщина, – но мадам Маот и высокородна, и приятна сама по себе. Ги, дорогой мой… как вы полагаете… С этими словами она прижала к себе уснувшего у нее на руках малыша в непроизвольном жесте защиты. – Как вы думаете, баронесса Маот действительно виновна в тех ужасных преступлениях, в которых ее обвиняют родственники? Прикончить своего свекра, мужа и попытаться сотворить то же самое с сыном Гийомом? И к тому же прибегнуть к колдовству, чтобы осуществить свои отвратительные замыслы? Энора перекрестилась. Подняв висевший у нее на шее кельтский крест – настоящее золотое кружево, в центре которого виднелось изображение Агнца Божьего, которого обычно изображают на облатках, – она приложила его ко лбу Артура. – Не знаю. Я еще не приступил к ее допросу. Доктор Мешо, которого я считал самым здравомыслящим человеком в этих краях, странным образом скрылся. Он давно заботится об этой семье, а баронессу Маот знает с пятилетнего возраста. Поэтому я поинтересовался его мнением; он сомневается, что здесь замешана нечистая сила. Доктор убежден, что кончина юного Гийома была неизбежна и что его выздоровление стало настоящим чудом. – Хм… – задумчиво произнесла Энора. – Если б кто-то и попытался убить молодого барона, это вовсе не означает, что за этим ужасающим поступком стоит Маот, его мать. Если только она не лишилась рассудка. – Баронесса-мать Беатрис де Вигонрен подозревает, что у ее невестки было намерение отправить на тот свет их всех, одного за другим. Сперва Франсуа – своего свекра, затем Франсуа – своего мужа, затем Гийома – своего сына, и закончить Агнес и ею самой. – Ну и ну! – насмешливо фыркнула Энора. – Маот при всем желании не упрекнешь в том, что она отлынивает от работы. Во всяком случае, милый, все эти таинственные смерти, о которых мадам Беатрис с такой проницательностью доносит правосудию, не служат ответом на мой вопрос. Мадам Маот была бы круглой дурой, если б в самом деле злоумышляла на своего сына. Ведь благодаря ему она может жить в достатке и уюте… во всяком случае, до его совершеннолетия. Разве не так? – Вы тревожите меня, мой ангел, – ответил Ги де Тре, смущенно надувая свои румяные щеки. – И потом, если предположить, что ей удалось убрать с дороги двух взрослых представителей сильного пола – Франсуа-отца и Франсуа-сына, – то как объяснить, что она проявила неловкость, пытаясь… устранить своего мальчишку? – Честно говоря, тревогу поднял Эсташ де Маленье, – заметил бальи Ножан-ле-Ротру. – По его мнению, все это было далеко неспроста – и рассчитано так, чтобы маленький Гийом вырвался из когтей смерти. Возможно, мадам Маот надеялась таким образом отвести подозрения от себя, так как со смертью сына – единственного прямого наследника титула и всего состояния – она потеряла бы все. Настоящей же ее целью были родственники мужа. – Уж слишком изощренные рассуждения для бедняги Маленье, который хорошо соображает лишь тогда, когда нужно считать денье. Вот в этом он действительно мастер. Я так полагаю, что ветер дует со стороны Беатрис де Вигонрен. – Думаете, она пытается ввести меня в заблуждение? – Я бы не стала этого утверждать… но все же… умоляю вас, мой любимый, будьте очень осторожны и тщательно просчитывайте каждый свой шаг. Уж позвольте мне немножечко позлословить: если жизнь мадам Маот оборвется под мечом палача, разумеется, в том случае, если ее виновность будет доказана… – То есть? – перебил ее супруг. – А если отсрочка от смерти, дарованная маленькому Гийому, окажется временной… кто же тогда унаследует титул и состояние? – Этьен, сын Агнес де Маленье, урожденной Вигонрен, – произнес Ги де Тре с изумленным вздохом. – Верно. – Но вы же не думаете, что Агнес, или Эсташ, или даже сама баронесса-мать замышляли убийство маленького барона? – спросил бальи Ножана, даже закашлявшись от изумления. – Каким бы гнусным ни было это предположение, оно не более бессмысленно, чем слова о виновности мадам Маот. Если ж ее вина все же будет доказана, уверяю вас, у меня первой челюсть отвиснет от изумления! Протянув к нему очаровательную ручку, где на большом и указательном пальцах красовались кольца с гранатами и опалами, она немного огорченно продолжала: – Мой дорогой, помните, что вы заявили немногим раньше? Эти двое не любят друг друга. Но они не замедлят состроить милые и любезные лица, чтобы убедить нас выполнять их замысел, а затем отдать нас на съедение всем собакам. Прошу вас, не забывайте, что Маот из семейства де Жеранвиль, которое принадлежит к высшему дворянству Труа, чего не скажешь про этого наглого мелкопоместного выскочку Маленье. Кроме того, мадам Маот – племянница мадам Констанс де Госбер, а та – двоюродная сестра Папы и лучшая подруга мадам Валуа, свояченицы короля. Дай бог, чтобы наш новый сюзерен Артур поскорее призвал нас к себе. Не станем портить ему настроение из-за всей этой истории, на радость Маленье, место которому за чернильницей с пером в перепачканных пальцах, – если он, конечно, знает грамоту. Ги де Тре фыркнул от смеха, представив себе Маленье, скорчившегося за крохотным секретарским столом. – Милая, не устаю вами восхищаться! Вы такая стойкая и просто кладезь самых хитроумных советов. С довольным видом прищурившись и состроив озорную недовольную гримаску, Энора нарочито небрежно отмахнулась: – Ну зачем так серьезно! Я всего лишь любящая женщина, и это дает мне силы. И разве запрещено помогать тому, кого любишь? Если б вы знали, сколько полезных сведений узнаешь из пересудов торговок и служанок… Мои ушки могут при надобности становиться очень длинными.
* * *
В самом деле, Энора любила своего мужа, хотя частенько относилась к нему скорее как к сыну, несмотря на то что тот был больше чем на десять лет старше нее. Она пускала в ход горячность и кровожадность лисицы[671], чтобы уберечь его от всевозможных ловушек и ужасных невзгод. Некая неоспоримая интуиция предупреждала ее, что под угрозой честь и будущее ее мужа, так же как и ее собственные. Ей были глубоко безразличны семейство Вигонрен, население Ножана и даже Французское королевство. Она чувствовала, что этот город является ставкой в решающей игре между сильными мира сего. И что сильные мира сего не особенно озабочены погибшими пешками, жертвуя ими в нескончаемой веренице стратегически важных сражений. В глазах молодой женщины имели значение лишь безопасность и благополучие семейного клана, частью которого являлся и Ги. Энора снова заговорила таким безмятежным голосом, что супруг моментально встревожился: – Какая ужасающая череда несчастных случаев у Вигонренов! Можно подумать, что сама судьба от них отвернулась. Посудите сами: Жан – младший брат Агнес – погиб шесть лет назад на охоте; олень, которого он считал издыхающим, внезапно ударил его рогами. Филипп, любимец всей семьи, зарезан дорожными грабителями двумя годами позже. Затем наступила очередь двух Франсуа – отца и старшего сына – от болезни, причиной которого, я вас уверяю, могло быть и отравление. И что еще любопытно: ни с одной из женщин этой семьи ничего подобного не случалось. – Что вы хотите этим сказать? Энора с нежностью провела рукой по волосам сына, такого же медного цвета, как и у нее. – Ну… по-моему, столько несчастных случаев – это уже подозрительно. Хотя, возможно, все это не более чем женская нервность. Не будете ли вы настолько благородны, приняв мадам Маот соответственно ее титулу и устроив ее в удобном помещении? Видите ли, в некоторых семьях легко заболевают лихорадкой или чем-то в том же духе, но с таким же роковым исходом… – Вы думаете, что кто-то собирается посягнуть на ее жизнь? – забеспокоился бальи. – А в результате маленький Гийом станет таким уязвимым, – поддержала его Энора. – Черт подери, как все запутано! Милая моя, что вы мне посоветуете? – Предельную осторожность. Ни в коем случае не доверяйте семье Вигонренов-Маленье. Даже если предположить, что, обвиняя мадам Маот, они совершенно честны и искренни, в чем я сомневаюсь, члена семьи Ле де Жеранвиль если и отправляют на эшафот, то с крайней осмотрительностью. Короче говоря, лучше всего будет подождать с судебной процедурой, пока мы не поймем, какие опасности и какие выгоды могут последовать для нас из этой ситуации. В конце концов, что такое год или два взаперти, тем более если вы проследите, что заключение достойно высокородной дамы? Что же касается тех, кто бьет копытами от нетерпения, желая увидеть, как ей отрубят голову на площади, – пусть они примут холодную ванну, чтобы успокоиться. Суверены должны умиротворять страсти, умерять гнев и укреплять плоть. В последнем Эсташ Толстое Брюхо нуждается больше всего! Господи боже, как мне жаль Агнес! – сердито закончила она свою речь. Ги де Тре расхохотался, хлопнув себя по бедру, и воскликнул: – Ах, моя восхитительная женушка! Это настоящее благословение Господне, что я полюбил вас, едва увидев. Я не буду вступать в беседу с арестованной дамой, со всей возможной деликатностью ознакомлюсь с обвинениями, которые выдвинуты против нее, и составлю свое собственное представление об этом деле. – Прошу вас, мой дорогой супруг, скажите мне хоть одно словечко, чтобы немного утешить меня, – жеманно произнесла Энора. На самом деле она хотела удостовериться, что Ги не узнал чего-то такого, что может им повредить.11
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 годаМолодая баронесса Маот де Вигонрен, урожденная Ле де Жеранвиль, около двадцати трех лет от роду, пыталась разглядеть площадь замка Сен-Жан в крохотное окошко квадратной башни, где ее содержали в ожидании процесса. На этой площади воздвигали эшафот перед днями казней, особо привлекающих публику, – когда казнили знаменитого разбойника или высокородную особу. Сеньор бальи Ги де Тре заверил ее, что с нею будут обращаться соответственно ее происхождению. Ей выделили довольно просторную комнату, которая отапливалась двумя каминами и где стены были завешаны гобеленами. Там была довольно удобная кровать, несколько предметов мебели и мягкие коврики. Маот особенно оценила любезность де Тре, обнаружив небольшую коллекцию дамских книг – куртуазных романов и поэтических сборников, без сомнения принадлежащих самому бальи и его супруге. Судя по всему, книги читали довольно часто и с большим увлечением. После сменяющих друг друга смятения, ужаса, слез ее охватило нечто вроде абсолютного безразличия, нарушаемого только приступами паники, во время которых она задыхалась, лишь подумав о том, какая судьба ждет Гийома, ее пятилетнего сына, если она будет признана виновной и лишена дворянства. Молитва была единственным, что немного успокаивало ее. Она молила добрую Святую Деву позаботиться о ее ребенке, если Господь призовет ее к себе. Какая же у нее была странная и короткая жизнь… Какая череда заблуждений, досадных тягостных совпадений… По сути дела, разве она не была виновна в том, что доверила свою судьбу другим, даже не попытавшись поступить по-своему? Мысли ее все время возвращались к воспоминаниям о Мари, любимой сестре. Мари – сама доброта, мягкость и любезность, прекрасная, как небесная звездочка. И та же Мари – боевая, решительная, такая сдержанная – никогда не позволяла, чтобы ее жизнь шла по воле других. Бедная, милая и восхитительная Мари, ее сожгли заживо за то, что дала отпор гнусному насильнику, потребовав, чтобы тот поплатился за нанесенное ей оскорбление. И она была в своем праве. Несмотря на то что их долгое время все считали двойняшками, они так отличались друг от друга. Уверенная в том, что высокое происхождение и красота обеспечат все самое лучшее в жизни, Маот вручила свою жизнь тем, кто, с ее точки зрения, больше в этом понимал. Какое мучительное разочарование, какая жестокая обида! Хуже того, она могла винить в этом лишь себя: свою лень, свою слабость, такую уместную для дамы, но в то же время такую предательскую… Ей едва исполнилось пятнадцать, когда Франсуа де Вигонрен-отец дал о себе знать. Юная девушка прекрасно догадывалась, что речь пойдет о ее замужестве, тем более что тот был в самых дружеских отношениях с ее отцом. Вигонрен испросил разрешения прогуляться с ней, чтобы выспросить, что она думает относительно брачного союза с его сыном. И за несколько минут она оказалась полностью очарована своим спутником. Боже, как он был красив, несмотря на свой возраст! Он был таким занимательным, полным очарования и буквально излучавшим энергию, которая просто обворожила Маот. Та, что была без пяти минут женщиной, ощутила первые признаки того таинственного алхимического процесса, что побуждает самых разумных и самых сдержанных безоглядно броситься в пучину страсти. Будучи знатоком и чистосердечным поклонником прекрасного пола, барон, без сомнения, заметил те чувства, которые его собеседница не умела скрывать. Но, чтобы не смущать юную особу, он с присущим ему благородством и элегантностью продолжал вести себя в отеческой манере. После этой прогулки он окончательно решил, что Маот должна стать его невесткой. Та же вовсе не обманывалась на этот счет: она вышла замуж за сына из любви к отцу. Кончина того буквально опустошила ее, сделала безутешной вдовой при живом муже. По сути дела, Франсуа-отца оплакивали две впавшие в отчаяние супруги. Из уважения к Беатрис де Вигонрен и Агнес, Маот сумела скрыть истинную причину своих страданий. Смерть Франсуа-сына дала ей возможность снова, не скрываясь, переживать их. Она могла рыдать, стенать, проводить целые ночи без сна. Для молодой вдовы такое поведение считалось совершенно естественным. Странное дело, она сохранила в памяти каждую мелочь, каждое мгновение, проведенное с Франсуа-отцом. В противоположность этому от нескольких лет замужества у нее не осталось ровным счетом никаких воспоминаний. Смутное, неясное смятение, которое вызывали не интересные ей разговоры, ночи, которые полностью оставляли ее равнодушной, удобное сосуществование с человеком, к которому она испытывала немного дружеских чувств и немного нежности. И ничего больше. Она открыла сборник Марии Французской[672], которая волновала ей сердце при каждом чтении, и слезы навернулись ей на глаза. Маот ненавидела себя за ревность, которую испытывала к Беатрис. Она охотно отдала бы полжизни, лишь бы находиться рядом с Франсуа-отцом на месте Беатрис, расцветать в лучах его любви. И что самое худшее: двое старых супругов и страстных любовников соединятся даже за порогом смерти. Франсуа обожал свою жену, даже несмотря на то, что довольно часто наставлял ей рога – очень скрытно и сдержанно, чтобы ни в коем случае не обидеть Беатрис. Маот же оставалась одна во всей вселенной, вдалеке от единственной любви, жившей в ее сердце, не считая разве что любви к Богу, который соединил ее с Франсуа-сыном, изрядно докучавшим ей во все время замужества. Но тем не менее она должна была жить. Жить для Гийома, своего обожаемого сына, которым дорожила больше всего на свете. Она должна была защитить его – он же еще такой маленький, такой хрупкий… Для него она должна была держаться изо всех сил, сражаться, так же как Мари… Она едва не подпрыгнула от неожиданности, услышав стук в дверь. Разве уже обед? Вытерев щеки от слез тыльной стороной руки, Маот встала и сделала шаг вперед, прижав к себе томик стихов Марии Французской – трогательная защита для женщин, разочаровавшихся в любви. Стражник немного приоткрыл дверь и, просунув голову вовнутрь, произнес почтительным тоном: – Мадам, сеньор бальи Ги де Тре просит оказать ему честь, побеседовав с ним. – Для меня это также будет большой честью.
* * *
Войдя в комнату, Ги де Тре склонился в низком поклоне. Он тотчас же заметил следы слез на ее белой коже. – Мадам… Поверьте, это досадное затруднительное обстоятельство мне тоже крайне неприятно. Тем не менее обвинения, выдвинутые против вас семьей мужа, настолько серьезны, что я не могу пренебречь ими, уклонившись от исполнения своей обязанности. Судорожно стиснув маленький томик, переплетенный в кожу цвета индиго, Маот воскликнула: – Монсерьор, клянусь вам: я невиновна во всех этих чудовищных злодеяниях, в которых меня обвинили! Мне и в голову не пришло бы сотворить подобную мерзость, о которой они говорят. Должно быть, это чьи-то коварные происки. Но какова причина? Кто-то старается разлучить меня с сыном? Почему? Может быть, кто-то думает, что я оказываю на него не лучшее влияние? А может быть, меня хотят удалить, чтобы затем без помех расправиться с беззащитным ребенком? Я не знаю. Целыми днями я ломаю над этим голову… В мозгу Ги де Тре тут же ожили недавние предостережения Эноры. – Прошу вас, объяснитесь, мадам. Клянусь вам, я отнесусь к этому делу как можно более беспристрастно и непредвзято. – Не придавайте такого значения болтовне пленницы, монсеньор. Беспокойство – пучина, в которую низвергаются самые мрачные, самые безрассудные мысли. Но все же… если с моим сыном Гийомом произойдет несчастье, кто унаследует его титул и состояние? – Сын мадам Агнес, – произнес Ги де Тре. – Ради бога, поверьте… я не хочу никого обвинять. Я брожу между двумя безумными предположениями, приходя в отчаяние от невозможности как-либо это объяснить. Повторяю вам: клянусь своим вечным спасением, я никогда не совершила бы подобного злодейства! Может быть, иногда я и грешила в своих мыслях, – но никогда, поверьте, никогда не причинила бы кому-то вреда. – Объясните мне, мадам, все с самого начала. Мое время целиком и полностью принадлежит вам. Давайте присядем. Стражник сейчас принесет легкий завтрак, который мы с вами вместе отведаем. Знайте, мадам: я вам не враг; во всяком случае, не настолько, как семья де Вигонрен.12
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 годаВ Ножан-ле-Ротру можно было попасть по одному из трех мостов. Торговцы, несмотря на яростные возражения, должны были платить пошлину за место на мосту в пользу Церкви, сеньора или, как в данном случае, мессиру Артуру II Бретонскому. Налог[673], который сильно задевал негоциантов, жаловавшихся, что их прибыли урезают дважды: сперва собирая налог с общего количества товара и на обратном пути – за непроданный товар. Деревянный мост через Юинь вел в Бург-ла-Контес. Мост Сент-Илер соседствовал с церковью этого святого и мостом Ронн, которым заканчивалась улица Порт-Ривьер и начиналась улица Оре, пересекавшая Бург-ле-Конт. Ардуин Венель-младший и Арно де Тизан оставили лошадей в конюшне конторы по прокату упряжи на въезде в город, так как день уже начинал клониться к вечеру. По своему обыкновению, Венель-младший потихоньку сунул несколько монет конюху, чтобы тот позаботился о Фрингане, его черном жеребце, «словно о родных детках». В полном изнеможении от долгой скачки они пересекли Ножан-ле-Ротру, подгоняемые урчанием и спазмами своих голодных желудков. Запах отбросов, который легкий холодный ветерок доносил с Вонючей улицы, был вполне терпимым. Другое преимущество зимних холодов состояло в отсутствии стаи назойливых мух, которые в более теплые времена года беспрерывно жужжали, изводя людей и животных, и роились, пируя на падали и кучах нечистот. Не обменявшись ни единым словом, они направились по улице Сен-Дени, а затем свернули на улицу Пупардьер, где находилась таверна «Напыщенный кролик». Ардуин завел привычку останавливаться именно там. Иногда он спрашивал себя в шутку, какой забавный анекдот мог бы из этого получиться. Могучая и веселая матушка Крольчиха просияла от самой непритворной радости при виде клиента, который всегда хорошо платит и к тому же прекрасно воспитан. Действительно, матушка Крольчиха не поощряла неуместных поступков и тяжеловесных шуток, которые могли бы оскорбить слух дамы. Она изо всех сил старалась привлечь семейную клиентуру, особенно привечая крупных коммерсантов и мелких нотаблей. К ней приходили, чтобы отдохнуть в радушной сердечной обстановке, поболтать с соседями или установить выгодные деловые связи. Впрочем, будучи разумной осмотрительной трактирщицей, матушка Крольчиха снисходительно относилась к ругани и сплетням своих постоянных клиентов. По ее мнению, бывают случаи, когда небольшая неделикатность вполне допустима. Более того, благосклонно слушая все, что при ней говорится, она обладала немотой старого карпа, извлекая, таким образом, двойную выгоду из своей осторожности. Никто из клиентов не мог бы упрекнуть ее в несдержанности; к тому же никому не доверяешься с такой охотой, как человеку, в чьем молчании совершенно уверен. Она отправила посыльного предупредить Сильвин о возвращении мессира Венеля, который до недавнего времени старался выдать себя за негоцианта, не прибегая к откровенной лжи. Когда старшая сестра по секрету рассказала ей, чем на самом деле занимается ее самый лучший клиент, Люс, то есть матушка Крольчиха, сперва была в замешательстве. О нет, палач в ее заведении! Вот ведь козлиная задница! Не надо ей его грязных денег! Чтобы она изменила свое мнение, понадобились длительные уговоры Сильвин, не считая нескольких добрых стаканчиков вина. Нужно наконец с этим покончить; Сильвин должна оплатить то, что считала своим долгом. Если это ее решение каким-то образом связано с Ардуином Венелем-младшим, что же, пусть так и будет. Поэтому при виде входящих матушка Крольчиха поклонилась и почти что искренне воскликнула: – Мессиры, какое счастье снова видеть вас в моем скромном заведении! Мэтр Правосудие Мортаня еще более любезно поклонился женщине и шутливо произнес: – Матушка Крольчиха, мы настолько голодны, что, наверно, можем проглотить целого быка! Прошу вас, скажите, что мы можем заночевать у вас. Мы очень торопились, и я не имел возможности отправить слугу, чтобы тот предупредил вас о нашем прибытии. – Я всегда сохраняю комнату для своих хороших клиентов… Значит, быка, говорите? Черт возьми! Вот быка-то у меня на кухне как раз и нет! Разве что тот здоровенный неряха, который за еду помогает мне топить печь. Этот точно может бегать на четырех ногах и мычать, призывая мамочку. Меня бы такое ничуть не удивило, – иронично добавила трактирщица и, чуть смутившись, так как теперь она знала о настоящем занятии обоих гостей, поинтересовалась: – Осмелюсь спросить, я обязана удовольствием видеть вас здесь какому-то делу, которое ожидает вас в городе? Бросив украдкой быстрый взгляд на помощника бальи Мортаня, Ардуин решил сказать полуправду, будучи уверенным в деликатности трактирщицы. К тому же она могла бы стать бесценным источником сведений, особенно если задеть ее чувствительную струнку. Поэтому он объявил немного театральным тоном: – Мой… друг недавно потерял очень любимую дочь, монахиню в Клерет. Черт подери… Значит, Сильвин об этом знала? И она скрыла от нее, своей сестры, ее кончину? Потрясенная, матушка Крольчиха прикрыла рот рукой, лихорадочно подыскивая подходящее к случаю замечание. Наконец она прошептала: – Боже милостивый, как же это ужасно! Эти чудесные бернардинки так самоотверженно помогают бедным и нуждающимся, не то что другие аббатства в округе… Те-то к другим слепы, глухи и немы, а вот когда надо собрать налоги, они тут как тут, уж можете мне поверить! По ее словам, Ардуин понял, что до трактирщицы еще не дошли слухи о гибели Анриетты де Тизан, и сменил тему разговора: – Что вы этим вечером предложите нашим истощенным в путешествии желудкам? Облегченно вздохнув от того, что разговор коснулся не таких скользких предметов, матушка Крольчиха охотно заговорила: – А как же, у меня найдется чем их наполнить. Сейчас-то еще рано, чтобы отправляться на рынок за припасами. Есть парочка восхитительных окороков из косули, маринованных в кислом виноградном соусе, с пюре из каштанов и свежими сливками. И я это предлагаю далеко не всем! А еще, так как день сегодня не постный, могу предложить свой омлет с салом и сыром. А он знаменит далеко за пределами наших окрестностей! Не сговариваясь, оба гостя склонились в пользу дичи.
* * *
Вкусная трапеза, которую устроила матушка Крольчиха, прошла в доброжелательном молчании. Оба гостя еще не передохнули с дороги, а трактирщица была занята на кухне, готовясь к обеденному наплыву посетителей. Между делом она дала хлеба маленькому оборванцу, который бродил по внутреннему дворику в надежде отыскать более-менее съедобные остатки от предыдущей трапезы. Затем мальчишка со всех ног помчался с посланием для Сильвин, которую трактирщица описала как старую попрошайку с голубыми глазами, которую тот, без сомнения, найдет в окрестностях замка Сен-Жан. Двое сидящих за столом обменялись одобрительными замечаниями по поводу кушаний, щедро поданных на ломтях хлеба[674]. Ардуин видел, что помощник бальи был полностью поглощен своей драмой – переживаниями отца, внезапно потерявшего самую любимую дочь. Сострадание было главным из того, что сейчас испытывал мэтр Правосудие к своему спутнику, а кроме этого, уважение с некоторой долей осторожности и в малой степени нечто похожее на дружбу. Безусловно, его старшая дочь стала жертвой жестокого убийства, но ведь столько человеческих существ отдает богу душу каждый день. Причем некоторые из них препровождаются в лучший мир согласно приказам того же помощника бальи. К тому же истинная причина той поспешности, с которой он решился сопровождать Арно де Тизана, носила имя Маот де Вигонрен, урожденной Ле де Жеранвиль, обвиненной в преднамеренном отравлении. Он должен как можно скорее встретить Антуана Мешо, семейного доктора де Вигонренов, чтобы расспросить относительно этого дела. Как раз этим вечером сразу после еды Ардуин и собирался нанести ему визит, но одна мысль сразу вызывала досаду и умеряла его рвение. Черт возьми, в доме доктора он увидит Бернадин – бездетную вдову его сына. Молодая и очень привлекательная женщина ясно выразила свой интерес, не зная о его ремесле «заплечных дел мастера». Из деликатности Венель-младший дал себе слово больше никогда не встречаться с этой женщиной. Впрочем, не только из деликатности, а чтобы избежать ошеломленного взгляда и презрительной гримасы, и особенно потому, что покойная Мари де Сальвен не шла у него из головы, неотступно преследуя его в мечтах, куда больше не было входа другим женщинам. На смену этой мысли у него в голове воцарилась следующая: все это время он чувствовал Мари рядом. В своих мечтах Ардуин жил рядом с ней, проводил ночи, слушал, отвечал на ее слова, даже чувствовал прикосновение опьяняюще теплых губ призрака на своей коже; ее волосы, которые притрагивались к его плечу. А ведь он ее видел всего несколько минут – сперва на судебном поединке, где ее муж потерпел поражение, а затем в тюремной камере, где мэтр де Мортань попросил у нее прощения за то, что должен будет отнять у нее жизнь, и, наконец, привязанной к столбу на костре правосудия. Странное дело, в это мгновение Ардуин ясно отдавал себе отчет, что это обожаемое видение, которое он постоянно призывал к себе, теперь занимало не все его помыслы. И это произошло непроизвольно, само по себе. Венель-младший больше не стремился к ней всеми фибрами своей души. Он больше не ловил себя на том, что безучастно наблюдает, как любимый образ заполняет все его существо, не оставляя ни одного свободного уголка. Может быть, она вдруг потеряла ключ от двери к его разуму, которую он тогда так охотно открыл для нее…[675] Ардуина охватила невыносимая грусть. Но он ничем не выдал своих чувств, откусив большой кусок белого каравая[676] и запив его вином со специями. А может быть, Мари де Сальвен покинула его так незаметно и деликатно, что он этого и не заметил? Может быть, это она пожелала, чтобы он оказался в Ножан-ле-Ротру и пришел на помощь ее младшей сестре, Маот? Может быть, после ее спасения она сможет упокоиться с миром? Мари – нереальная, совершенно невероятная нить Ариадны. Невероятная, но такая драгоценная… И тем более драгоценная, что однажды жизнь Ардуина странным образом соприкоснулась с ее жизнью. «Какай вздор, старушечьи бредни! – выругал он себя. – Сколько это еще будет продолжаться? Судьба или случай, какая, в конце концов, разница? Сколько прожить, когда, где и как умереть, подумаешь, важность!» Но в то же время никто, даже Мари, не осуждал на смерть Аделин д’Эстревер. Венель-младший действовал один, движимый всепоглощающей жаждой справедливости – той, которую мог восстановить лишь он. Призрак Мари к настоящему времени сделался расплывчатым и почти неразличимым. Это началось после жестокой расправы, которую мэтр Высокое Правосудие учинил над Морисом Деспером, затащив его в древнюю пещеру, находящуюся под домом, дабы бесчеловечный убийца детей наконец-то отдал свою гнусную душу дьяволу. Видение поблекло еще и тогда, когда Ардуин остановил свой взгляд на другой Мари – ее юной сестре Маот. Даже ругая за это самого себя, он не сомневался, что мадам де Сальвен сама желала бы этого. – Я не очень-то хороший спутник, верно? – неожиданно бросил де Тизан, отставляя в сторону свой стакан вина со специями. – Нет, отчего же. Молчаливые спутники – большая редкость, их общество действует исключительно умиротворяюще, – поспешил успокоить его Ардуин. – Мне решительно нравятся ваши формулировки, Венель. Вам, наверное, стоило бы заняться поэзией. – Я действительно ценю лучшее в человеке, тем более что мне не случалось встречаться с этим в своей профессии, – улыбнулся мэтр де Мортань. – Человек способен как на лучшее, так и на худшее. – Но, как правило, он предпочитает упражняться именно в худшем… Прошу меня извинить, я должен оставить вас на некоторое время. Хочу навестить друга. – Да, пожалуйста. Увидимся за завтраком, а потом направимся в Клерет.13
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 года, чуть позжеАрдуин закутался в накидку, подбитую мехом выдры, и вышел в холодную ночь. Понимая, что небо, затянутое тучами, закрывающими луну, должно благоприятствовать грабителям всех мастей, он заранее положил руку на рукоять длинного кинжала, готовый к малейшим признакам угрозы. Венель-младший не заметил небольшой тени, затаившейся в дверной нише одного из зданий. Он повернул в Бург-де-Комт[677], над которым возвышался замок Сен-Жан[678], построенный совсем для другой цели, в ту эпоху, когда Ножан-ле-Ротру оставался последней крепостью, защищавшей Французское королевство от нападений и грабежа пиратов из Скандинавии[679]. Затем прошел мимо прижатого к каменистому холму узкого дома, где доктор Мешо принимал пациентов, и чуть улыбнулся, бросив взгляд на его стены, опасно наклонившиеся в сторону. Затем быстро миновал несколько пустынных улочек, без труда ориентируясь в местечке Сен-Дени, и углубился в Бург-Неф[680] – торговый квартал, где можно было купить саржу и кисею, прославленные далеко за пределами графства. Ардуин очень сожалел о том, что не догадался купить у булочника пирожных или книгу для доктора и какую-нибудь дамскую безделушку[681]. Вышитый платок или саше с ладаном – во всяком случае, ничего такого, что Бланш могла бы счесть ответом на ее сердечные переживания. Вдруг его обогнал, чуть толкнув, какой-то человек в плаще с низко надвинутым капюшоном. В лицо Ардуина ударила струя разнообразных и крайне неприятных запахов: дыхания, полного винных паров, застарелой грязи и, несомненно, мужского пота. Мэтр Правосудие ограничился тем, что отодвинул полу своей одежды, открывая взору длинный кинжал, только что вынутый из ножен, и тихонько произнес: – С этим тебе не справиться, а я очень тороплюсь. – Ну что вы, мессир, у меня нет никаких дурных мыслей, клянусь прахом своей матери! – Правильнее будет сказать, что их у тебя больше нет. Что же, это свидетельствует о твоем благоразумии. Со сдавленным проклятием силуэт быстро исчез.
* * *
Ардуин наконец достиг дома доктора Мешо, который был расположен в нескольких дюжинах туазов от моста Сент-Илер, напротив церкви[682], носящей то же имя. Защищенный высокой стеной и построенный с высоким подвальным этажом, он возвышался над остальными домами. Мэтр Высокое Правосудие притронулся к колокольчику, висевшему над мощной дверью. Тотчас же раздалось низкое угрожающее рычание. Венель-младший прошептал: – Юлиус, мы же знакомы. Ворчание сторожевого пса пастушьей породы из Боса только усилилось. – Тебя незадобрить? Ну, конечно же, ты более чем прав, – шутливо произнес мэтр Высокое Правосудие, снова берясь за колокольчик. Наконец из-за двери кто-то окликнул: – Кто там? – Ардуин Венель проездом из города, мессир Мешо. Моя самоуверенность позволяет мне надеяться быть принятым в доме, не предупредив заранее о своем посещении. Поверьте, я очень сожалею о своей невежливости. Послышался звук ключа, который поворачивают в замочной скважине, а затем быстрое «Юлиус, место!». И снова раздался голос доктора: – Ну что вы, что вы… Это я приношу вам свои извинения. Я в ночной одежде. Я думал, что меня зовут к мадам Ленур, у которой начались роды… Вот поэтому я так поспешно и вышел к двери. Заходите же, – продолжил доктор, широко открывая дверь. – На улице чертовски холодно. Давайте согреемся поскорее у камина. Ардуин с удовольствием уселся рядом с доктором, который, несмотря на то что ему давно перевалило за пятьдесят[683], сохранял бодрость и ясность ума. Седые, довольно длинные волосы торчали у него из-под ночного колпака, падая на воротник домашнего костюма из толстой шерсти. Едва они вошли в уютный дом доктора, Бланш тотчас же вышла навстречу мэтру де Мортань. Женщина почти не старалась скрыть, как счастлива снова его видеть. Маленькая и худенькая, чуть больше двадцати пяти лет от роду, она буквально светилась мирной спокойной красотой, в которой не было даже намека на кокетство. Бланш обратилась к своему свекру: – Я поставила на угли горшок настойки, так что служанку звать не стоит. – Смущенно опустив глаза, она предложила Ардуину: – Могу я что-нибудь предложить вам перекусить, мессир? – Это очень любезно с вашей стороны, но любезная матушка Крольчиха напичкала меня, как рождественского гуся. Несколько мгновений Венель-младший боролся с внезапно охватившим его смутным стеснением. В нем соседствовали два на редкость противоречивых чувства, как и всякий раз, когда он попадал в похожую ситуацию. Жить окруженным презрением и страхом, которые неизбежно вызывают люди его профессии, – такое стало для него привычным еще с юности. Но все же иногда он чувствовал нечто вроде горечи, что побуждало к вызывающему поведению. Ну и что? Женщины находили его очень красивым, они были без ума от его высокой мускулистой фигуры, от его полудлинных волос и бледной нежной, как у женщины, кожи. Взгляд его серых глаз неизменно производил сильное впечатление. Представительницы прекрасного пола поглядывали на него, украдкой кокетливо улыбались ему и строили глазки. Однако если б они узнали о его ремесле, все тотчас бы отшатнулись от него, крестясь в страхе. Он даже немного обижался на Бланш, заранее представляя себе ее неприятие, проникни она в его тайну. Эта сцена представала в его воображении тем более живо, что Ардуин, сам того не желая, оказался ею очарован. А Мешо – единственный, кто знает о его профессии, – понимает ли он, насколько ему сейчас не по себе? Доктор ответил своей невестке мягким любезным тоном: – Моя дорогая Бланш… Прошу нас простить, но мессир Ардуин и я должны поговорить о предметах… не особенно уместных для дамского слуха. – О, это я извиняюсь за то, что была недостаточно деликатна. Итак, оставляю вас в мужской компании. – Кивнув на прощание, она осмелилась добавить: – Надеюсь, до скорой встречи, мессир Венель. Прежде чем заговорить, ее свекор подождал, пока она покинет гостиную. Указав рукой на сундуки[684], закрытые покрывалами с вышивкой, изображающей сцены из сельской жизни, он предложил: – Давайте присядем перед очагом. Лучше, если мы с вами будем чувствовать себя непринужденно. Я люблю ее как родную дочь, и я испытываю уважение к вам… Вы его убили, не так ли? Жестоко и грубо. Меня позвали освидетельствовать тело… все, что от него осталось. Ардуину не было нужды спрашивать, кого он имел в виду. Конечно же, первого лейтенанта Мориса Деспера. – Кто сеет ветер, пожнет бурю, – нарочито спокойно ответил мастер Высоких Деяний. – Безжалостное… возмездие. – А разве он жалел детей, которые по его вине расстались с жизнью? Жалость – это похвальное чувство; оставим же его для тех, кто этого заслуживает. – Туше́![685] – согласился доктор. – Во всяком случае, этот негодяй больше не принесет никому вреда. Немного помолчав, он спросил: – Ну а на сей раз каким добрым ветром вас занесло сюда? – Дело достаточно деликатное и довольно смутное. Я знаю, что вы – врач семьи Вигонрен. Мадам Маот арестована по обвинению в многочисленных убийствах… Изборожденное глубокими морщинами лицо доктора, которое только что светилось умом и добротой, тут же изменилось. Мессир Мешо сухо ответил: – Да, я с незапамятных времен забочусь о них. Но вам известно о моей обязанности хранить тайны. – Разумеется. Однако я вовсе не собираюсь вытягивать у вас медицинские сведения, а тем более сплетни. Скажите, мадам Маот виновна в malum venenum facere?[686] – Обвинена своей распрекрасной семейкой. Еще не осуждена. Антуан Мешо в упор посмотрел на мэтра Высокое Правосудие, не решаясь продолжать. – Я беседовал с нашим бальи, сеньором Ги де Тре. Он пребывает в замешательстве из-за нового скандала. Вигонрены – очень влиятельная семья в этих краях… – Могу я заранее узнать об этом? – Со всем моим уважением, но могу я спросить, почему вас так интересует молодая баронесса? – осторожно поинтересовался Антуан Мешо. Ардуин Венель-младший положил руку себе на лоб и, растерянно вздохнув, прошептал: – Мессир доктор, вы, без сомнения, сочтете меня безумцем… Я сам ничего толком не могу понять. Видение, мечта, предчувствие… Не знаю. – Ни капли не понимаю. – Сомневаюсь, что какие-либо объяснения здесь помогут… Я чувствую, что сам окончательно в этом запутался. По-отечески улыбнувшись ему, Антуан Мешо настойчиво произнес: – Все-таки попробуйте мне объяснить. За свою долгую жизнь мне довелось видеть и слышать множество самых удивительных вещей. – Я… отнял жизнь у одной женщины, по приказу правосудия. У некоей Мари де Сальвен. Сожжена заживо, несмотря на то что была невиновна. Вместе с помощником бальи Мортаня я смог это доказать, но слишком поздно. Речь идет о старшей сестре мадам Маот. Ардуин предпочел не усложнять рассказ сверхъестественными деталями, которые могут показаться лишенными всякого смысла. Он умолчал о том, как изменилась его жизнь, после того как в ней появились восхитительные волосы цвета спелой пшеницы и светло-голубые глаза, чуть вытянутые к вискам. – И теперь вы считаете своей святой миссией защищать мадам Маот? Из-за угрызений совести? – Вовсе нет. Угрызения совести рождаются из прошлого, а эта… миссия, эта срочность связана с настоящим. К тому же угрызения совести чужды человеку моего ремесла. Я не выношу приговоры и таким образом не являюсь ответственным за ошибки правосудия. И все же меня переполняет неудержимая жажда справедливости. Так или иначе, я связан со смертью мадам де Сальвен… незаслуженной смертью. Ну а теперь могу я узнать, что вы думаете насчет виновности молодой баронессы? – Это очень щекотливый вопрос, мой дорогой! Я ограничиваюсь сведениями только медицинского характера. Primum non nocere[687], и немногое на свете наносит такой же серьезный вред, как неделикатность. – Я это понимаю. Человек чести уважает свои клятвы. – Я действительно был личным врачом мадам Маот, так же как и всей семьи. До этого ошеломительного обвинения я мог бы утверждать, что с нее можно писать ангельский портрет. Восхитительная набожная вдова, благочестивая мать, которая испытывает безграничную любовь к своему сыну, милая воспитанная дама… В действительности ее муж и свекор – оба сильные и мужественные – скончались от желудочной лихорадки. Таким было заключение, сделанное на основании симптомов и которое удовлетворило меня лишь наполовину, так как нечто подобное было обнаружено у всех обитателей дома. Нечто подобное встречается после того, как все съедят что-то испорченное. Не такие уж роковые симптомы, особенно для здорового мужчины. Но вот совсем недавно заболел маленький Гийом, молодой барон. И мы наблюдаем те же самые признаки. – А дальше? – нетерпеливо перебил его Ардуин. – Дальше? Я был совершенно уверен, что в самом ближайшем будущем эта семья снова погрузится в траур, но ребенок, который был уже в агонии, чудесным образом поправился. Я не сомневаюсь в том, что чудеса существуют, но мне самому не приходилось быть им свидетелем. Те, кого я пытался вылечить и кого смерть пожелала забрать, погибли. Те, кто, как я рассчитывал, могут выжить и оправиться от болезни… Я чувствую себя таким опустошенным, таким беспомощным. Вся наука, все мое врачебное искусство все равно не спасли тех, кто благодаря врожденному здоровью и мощному телосложению вполне мог обходиться и без меня. Какая неудача, какой щелчок по моему самолюбию! Я чувствовал себя почти что обладающим высшей властью, и вот… Но я удаляюсь от темы. Заметив печаль на лице доктора, Ардуин поспешил возразить: – Уверен, что очень многие обязаны вам своим выздоровлением. – Очень немногие. Моим настоящим утешением служит, что никто не умер из-за моих ошибок. Милый Гийом все-таки выжил. Его мать видит в этом вмешательство всеблагой Святой Девы. Уверяю вас, что, несмотря на все свое благочестие, я испытываю большие сомнения. Это выздоровление было таким… неожиданным. Ребенок настолько исхудал, что был скорее похож на маленький скелет. Он находился в бреду и дышал с большим трудом. Увидев его в последний раз, я был уверен, что он не переживет следующей ночи. Я наблюдал печать смерти на его маленьком бледном личике. А теперь… А теперь… – Теперь? Я прошу и умоляю вас помочь мне, доктор. Если эта женщина виновна в том, что хотела убить плоть от плоти своей, пусть она заплатит за свое гнусное деяние. Если же она невиновна, мы должны найти этому доказательства, – продолжал настаивать Ардуин. – Мы говорим о правосудии, не так ли? Надеюсь, ваша цель не состоит в том, чтобы любой ценой спасти от наказания мадам де Вигонрен из-за… сожаления, которое вы испытываете по поводу безвременной кончины ее сестры? – Мы говорим о правосудии, клянусь вам честью. – Хорошо. Когда я уходил от маленького Гийома, баронесса-мать, Беатрис де Вигонрен, исключительная женщина, поделилась со мной некоторыми подозрениями, скорее даже беспокойством. Я предостерег ее от чересчур поспешных выводов, которые могут иметь тяжелые и весьма зловещие последствия. – Она предчувствовала, что кто-то хочет смерти Гийому, ее внуку? – Хм… Кстати, она вместе со своей дочерью Агнес де Маленье начали задавать себе ужасные вопросы. – Ну а дальше? – настаивал мэтр Высокое Правосудие. – Сопровождая сеньора бальи, я познакомился с Эсташем де Маленье, зятем баронессы-матери. Мадам Беатрис втайне обыскала покои и в комнате своего внука нашла итальянскую Псалтырь мадам де Вигонрен, с обложкой, инкрустированной бирюзой и перламутром, – подарок Франсуа своему наследнику, вещь, которая долго считалась потерянной. – Псалтырь? – Хм… Титульный лист, где был изображен Христос на кресте, был выпачкан в крови, в остальных страницах было вырезано углубление, а там, в мешочке из черной ткани, находилась высушенная дохлая жаба. – Отравительница, колдунья, да еще и приспешница Сатаны! Шансов выбраться живой все меньше и меньше, – бесстрастно заметил Ардуин. – Верно. В черном мешочке еще был темно-серый порошок, на вид жирный, со сладковатым металлическим запахом. – И что же это оказалось? – По просьбе Ги де Тре я пощупал и попробовал этот порошок. Это был свинец. – Но разве свинец является ядовитым? – удивился мэтр Правосудие. – Разумеется, если его вводить значительными дозами – или, наоборот, маленькими, но в течение длительного периода. Этого почти никто не знает, разве что самые опытные отравители, которые занимаются подобными деяниями с давних времен. Во всяком случае, мало кто догадывается об ужасной власти сего металла, вплоть до того, что его используют, чтобы подсластить[688] тонкие вина, так как он в противоположность меду не дает брожения. – Как проявляется его действие? – переспросил мэтр Правосудие Мортаня. – Насколько я знаю, очень по-разному. Он вызывает рвоту и диарею, что очень похоже на признаки болезни желудка. Затем наступают судороги, которые любой доктор легко сочтет симптомами лихорадки. Наконец больной умирает. – Кто будет обвинителем мадам Маот? – Я этого не знаю. Голос доктора вдруг сделался неуверенным, будто ему в голову пришла какая-то неожиданная мысль. Это забеспокоило Ардуина: – Вас что-то беспокоит? Я не ошибаюсь? – Вы на удивление проницательны, мессир, – шутливо, но с тяжелым сердцем заметил доктор. – Это потому, что мне хорошо известны глубины человеческой души. И чаще всего это знание не приносит особой радости. – Я сержусь на себя… Я должен был… Мой превосходный собрат Йохан Фовель, удивительный эскулап, оказал мне честь, проведя со мной три дня. Я должен был поделиться с ним своими колебаниями относительно этого дела. Но нас вызвали в аббатство Клерет, чтобы освидетельствовать покойную дочь помощника бальи Мортаня. Уверяю вас, что это ужасное убийство заставило меня забыть об аресте мадам Маот. На лице Ардуина отразилось сильнейшее удивление. – Черт подери, доктор! Вы ниспосланы мне самим провидением, так как я нахожусь здесь по просьбе Арно де Тизана, чтобы завтра сопровождать его в аббатство. Так что с Йоханом Фовелем, о котором вы сейчас упоминули? – В его разуме собрано все, чем располагает наука. А может быть, даже и более того. Я не беру на себя смелость утверждать, что являюсь его другом; мы просто в очень добром знакомстве. Тем не менее общение с ним наполняет меня радостью и восхищением. Этот человек умеет озарить остальных светом своего разума. Мне бы следовало проконсультироваться с ним относительно отравлений, – снова повторил доктор. Внезапно вскочив на ноги, он испустил огорченный возглас: – Черт возьми, я же забыл налить нам по стаканчику настойки!.. Бланш мне этого никогда не простит. Прошу вас, позвольте мне исполнить эту домашнюю обязанность, до завтра это ни в коем случае не может ждать.* * *
Оставшись один, Ардуин принялся внимательно разглядывать большую комнату, в которой обедал несколькими неделями раньше. А скорее всего целую вечность назад. Уютная комната, обставленная с хорошим вкусом. Толстые ковры покрывают глиняный пол цвета охры, обычный в этих краях, красивые серванты темного дерева, длинный стол, окруженный скамейками. Богатая меблировка, но, что свойственно доктору, без малейшего намека на хвастовство. Антуан Мешо вернулся, двигаясь мелкими шагами, сосредоточенно сжав губы и со всеми предосторожностями держа перед собой два керамических стакана. – Я ужасно боюсь их опрокинуть, – пояснил он. – Берта мне все уши прокричит. Ардуин вспомнил о громогласной кухарке, глухой и с ногами, скрюченными от старости и болезней. В молчании они выпили по стакану настойки, благоухающей мятой с мальвой и сдобренной медом. Время уже торопило, поэтому Ардуин задал тот вопрос, который волновал его больше всего: – На какую неуверенность вы намекали? – Я ухаживал, а точнее, следил за обоими Франсуа и маленьким Гийомом. Но я не заметил у них на деснах синей каймы вокруг зубов. Насчет Гийома я в этом настолько уверен, что положил бы руку в огонь[689]. Ардуин затаил дыхание. «Веди себя разумно, – выругал он сам себя. – Вспомни о том, что обещал доктору: речь идет о правосудии, а вовсе не о твоих глупых сердечных переживаниях. Ты не знаешь эту женщину, и то, что она похожа на твою призрачную возлюбленную, вовсе не делает ее такой же достойной обожания». Теперь во имя справедливости и благоразумия он чувствовал себя в силах бороться с самим собой, со своими эмоциями, с безумной всепоглощающей надеждой, что Мари являлась ему из могилы. – Синяя кайма? – Ну да, самый верный признак отравления свинцом. Я вдруг вспомнил одну из своих старых записей… – Значит, такой каймы не было ни у обоих Франсуа, ни у Гийома? – Что касается двух первых, то здесь я почти уверен. В случае маленького барона готов поклясться. – Вы могли бы в этом удостовериться? Насколько быстро эта кайма исчезает после окончания действия яда? – Очень медленно, даже если действие яда прекращается. Мне было бы достаточно обследовать ротовую полость маленького… Нет! Какой же я глупец, какой тупица! Ну конечно же, такая окраска появляется лишь при длительном отравлении достаточно скромными дозами, чтобы сохранить это преступление в тайне. И если допустить гипотезу подобного отравления, то для обоих Франсуа трагический исход наступил бы через несколько дней. Ардуину понадобилось совершить гигантское усилие, чтобы не показать своего жгучего разочарования. Антуан Мешо снова заговорил крайне огорченным голосом: – Это все, потому что мои познания по части вредных субстанций просто ничтожны, уверяю вас. После короткой паузы доктор вдруг побледнел и почти выкрикнул: – Почему я об этом раньше не подумал! Какой же я старый дурак! Я ненавижу сам себя… Тупица, какой тупица! Ни у кого из них не было выделения мочи! Ни у одного из троих! А я помню, что Франсуа де Вигонрен-младший плакал от унижения, так как в детстве мочился в кровать! Растерявшись, но в то же время чувствуя, что удача близко, Ардуин осведомился, изо всех сил стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее: – Прошу вас, объясните мне все по порядку. Выделение мочи? Что в этом такого важного? – Разжижение выделяемой мочи характерно для острого отравления свинцом. А все трое моих пациентов пи́сали не чаще, чем я или вы. И это несмотря на то, что, согласно моей рекомендации, их все время поили разнообразными настойками и бульоном. Ардуин заговорил, несмотря на охватившее его страшное волнение: – Мессир доктор, но ведь это означает, что мужчины семьи Вигонрен не были отравлены свинцом. А что нашла баронесса-мать в Псалтыри и что послужило причиной ареста мадам Маот? Свинец! Разве это не кажется вам странным? Ваши достойные восхищения научные познания, может быть, спасут невинную женщину от костра. Черт возьми, какая же это превосходная вещь – наука! Антуан Мешо спрыгнул с сундука, охваченный необычным для него порывом. Он был крайне взволнован. – Ах, господи боже… Мессир Венель… Я не знаю, как выразить вам свою признательность, свою благодарность… Вы оказали мне поистине бесценную дружескую услугу. Сам Бог захотел, чтобы ваша дорога пересеклась с моей. Озадаченный мэтр де Мортань прервал его: – О нет! Если один из нас двоих и благодарен другому за бесценную поддержку, так это я! Уверяю вас, это я ваш должник. – Нет, ни в коем случае! – заупрямился доктор. – Это я вам обязан. Я на этом настаиваю. Не так много людей оказали мне такую помощь, как вы. Послушайте, мессир Венель, вы только что подарили мне громадное облегчение. Мое искусство, моя наука, мои познания спасут создание Божье. Я знаю то, что неизвестно другим, и несправедливо обвиненная женщина будет жить. Какой прекрасный подарок вы мне сейчас сделали! Именно тогда, когда я сомневался в полезности науки… Какое счастье, какое громадное вознаграждение! Наконец доктор торжественно произнес: – Монсеньор, я приношу вам свою самую искреннюю благодарность от всего сердца! Едва слушая доктора, Ардуин с трудом подавил глубокий вздох. Он чувствовал себя так, будто целая гора свалилась у него с плеч. Воздух снова сделался бодрящим, вся усталость последних дней как по волшебству исчезла. Скоро он спасет Маот ради ее сестры Мари. Впрочем, помешав вспыхнуть одному костру правосудия, он не сможет задним числом отменить другой. Да Ардуин этого и не желал; он хотел бы сохранить след от него в своей душе. В сущности, эта рана и дала ему вдруг ощущение жизни. Неожиданное, имеющее прямое касательство к Мари. Он хотел сохранить этот долг перед ней до последнего дыхания из суеверного страха, что тогда драгоценный призрак покинет его. Если некое подобие существования, в котором он провел столько лет, и казалось ему удобным, то появление Мари наполнило эту пустыню смыслом, выражениями чувств, которые для него раньше были невозможны. – И что же мы будем делать? – спросил у него почти сконфуженный доктор. – По правде говоря, не знаю, так как мой завтрашний день будет посвящен аббатству Клерет и мессиру де Тизану. Во всяком случае, мы сделаем все, что в наших возможностях… Значит, вы с эскулапом Фовелем обследовали останки мадам де Тизан? И что вы можете сказать об этом? В душе Мешо происходила внутренняя борьба: замешательство вело ожесточенный спор с сожалением. По правде говоря, Ардуин несколькими фразами остановил поток вопросов и назойливых упреков, которыми доктор уже целые месяцы изводил себя, уверившись в посредственности и бесполезности своего врачебного искусства. Мешо был ему за это очень признателен. Оттого, что снова вернулось ощущение, что его знания способны что-то изменить к лучшему, доктор почувствовал себя помолодевшим. Но все же оставалось непреодолимое препятствие – молчаливый договор о соблюдении тайны, который связывал его с пациентами, живыми или мертвыми. – Я не могу распространяться на эту тему, и, поверьте, меня самого это крайне огорчает. С вашего позволения, я оставлю результаты наблюдений – своих и своего знаменитого собрата для отца мадам Анриетты. Завтра утром я нанесу ему визит в таверне и расскажу обо всем, что знаю об этом печальном деле. И прошу, не сердитесь на меня. – Что вы, я далек от этой мысли! Это я прошу прощения за свою глупую настойчивость. Я думаю, что мессир де Тизан не был бы признателен вам за подобную несдержанность. Думаю, нет нужды говорить вам, что он пребывает в глубокой печали и не найдет покоя, пока негодяй, совершивший это злодеяние, не получит по заслугам. И ваша наука может ему в этом помочь. – Особенно познания Йохана, – поправил его доктор. – Насколько я понял, у него было срочное дело в другом месте, которое не позволило ему дольше оставаться здесь. Мне самому очень жаль. Ардуин поднялся и раскланялся на прощание: – Большое спасибо вам, мессир доктор. Вы осветили все сиянием истины, и я постараюсь воспользоваться этим как следует, можете мне поверить. Не стоит провожать меня и выходить на холод. Я смогу найти дорогу, если только Юлиус не порвет мне штаны… Итак, до завтра. Я предупрежу сеньора помощника бальи, что вы придете к нему рано утром.* * *
Закутавшись в накидку, Ардуин Венель-младший поднял лицо к мертвенно-бледной луне, чей свет был приглушен тяжелыми облаками, предвещавшими снег. Они пока еще не разразились снегопадом, но Бернадина была категорична: зима в этом году будет запоздалой, но суровой. Достойная женщина сделала такое заключение, глядя на луковицы. Их кожура стала очень толстой: с ее точки зрения, это было неоспоримым признаком больших холодов. Торопясь скорее оказаться в скудном тепле таверны и улечься спать, Венель-младший быстро шел вперед. Без сомнения, обычная бдительность изменила ему – должно быть, потому, что он до сих пор мысленно продолжал свой разговор с Антуаном Мешо. Ардуин чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда чья-то рука потянула его за полу одежды. Маленькая морщинистая рука, больше похожая на лапку хищной птицы, с худыми пальцами и длинными грязными ногтями. Он резко повернулся, готовый к драке. Ничего. После минутного замешательства он опустил глаза и встретился с до странности пристальным взглядом ледяных голубых глаз. Попрошайка. Старушка, которую он принял за уличную девчонку и с которой он в последнее время сталкивался подозрительно регулярно. – О, вижу, ты вспоминаешь обо мне, мой красавчик… Ты дал мне такую хорошую монету. Но она так быстро истратилась. – Все та же загадочная улыбка – Ардуин не смог бы сказать, приветливая или насмешливая – раздвинула тонкие губы старухи, которая протянула к нему свою костлявую ручку, больше не притрагиваясь к его одежде. – Сделай же снова доброе дело, мой дорогой сеньор. – Что ты хочешь, в конце концов? – вспылил Ардуин. – Можно подумать, что ты меня преследуешь. На сморщенной, будто зимнее яблоко, рожице появилась одновременно недовольная и лукавая гримаска. – Ну? Он вспомнил об их встрече, когда та утверждала, будто молодая горожанка беременна давно ожидаемым и желанным сыном. Тогда старуха, свирепо уставившись и тыча в него пальцем, яростно выкрикнула: – А вот ты берегись! Водят тебя за нос, мой красавчик! Красавчик, который весь в кровище… Ты веришь – и ты ошибаешься. Ты не ищешь, но найдешь то, чего не искал. А теперь убирайся с глаз моих долой! Демоны ада идут за тобой по пятам! Отделайся от них, пока не стало слишком поздно. Убирайся, кому сказала! И, прежде чем исчезнуть самой, она перекрестилась и три раза плюнула на землю. А ведь его и в самом деле водили за нос. Он и правда обманывался и той ужасной горячечной ночью чувствовал, что демоны ада тащат его к пропасти, из которой ему ни за что не выбраться. В тот раз, дав ей монету, Ардуин иронично бросил: «Было бы нелишним сказать “спасибо”!» Остановившись, нищенка заметила: «И правда, “спасибо” для тебя не будет лишним!» Почти злобно, так как из-за смутного беспокойства он практически потерял контроль над словами, Ардуин спросил: – Почему ты тогда сказала мне «спасибо»? И разве я нашел то, чего не искал? – О… Потому что, может быть, тебя пожалеют. Что же до всего остального, то здесь тебе самому лучше знать. Помни: у некоторых воробьев когти что иголки. Доброго вечера тебе, милый сеньор. Она весело захихикала, но ее смех показался мэтру Высокое Правосудие каким-то скверным. Затем старуха выпустила полу его накидки и сделала движение в сторону. Быстрым и яростным движением он схватил за покрывающие ее лохмотья и, встряхивая, прорычал: – Сейчас же говори правду, старая дура! Кто ты? Что тебе от меня надо? Странное дело, казалось, эта вспышка ярости вовсе не испугала нищенку. С лукавой улыбкой, которая так и не исчезла с ее лица, та произнесла: – Неужто боишься, добрый сеньор, покрытый кровью? Страх – плохой советчик, не забывай об этом. Он заставляет верить в несуществующие опасности, и в конце концов ты забываешь о настоящих. Пусть тебя не волнует, кто я такая. Главное – кто ты. Очень много вещей на свете созданы не для того, чтобы все вы их понимали. А может быть, это даже и к лучшему… До встречи, еще увидимся, уж можешь мне поверить. Ее движение было таким быстрым и таким неожиданным, что Ардуин вдруг оказался стоящим с чем-то вроде пальто из вываренной шерсти в руке. Старая женщина ловко выкрутилась из своей одежки. Когда же он наконец пришел в себя от удивления, она уже исчезла за углом улочки, так быстро исчезла, что он спросил себя, действительно ли она принадлежит к миру живых. В полной растерянности мэтр де Мортань с гримасой отвращения отбросил от себя длинную грязную тряпку.14
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 годаМэтра Правосудие Мортаня задолго до заутрени разбудил шум голосов, доносящийся с улицы. По улочкам и переулкам ходили глашатаи, объявляющие особое меню, предлагаемое сегодня трактирщиками в честь большого базарного дня. Процветающее местечко Ножан было известно своей ярмаркой и четырьмя крытыми рынками: хлебным, суконным, мясным и галантерейным. Жители Ножана утверждали, что даже в Алансоне и Шартре не найдешь такой свежей рыбы благодаря быстрым коням, на которых ее доставляют из Бретани. Ардуин опоздал спуститься и присоединиться к Арно де Тизану. Вернувшись вчера, растревоженный встречей со старой нищенкой, ее речами, вовсе не похожими на более или менее правдоподобные истории ее собратьев по ремеслу, протягивающих руку на церковных папертях, он поколебался, постучать ли в дверь комнаты помощника бальи. Отмахнувшись от приступа смутной нерешительности, Венель-младший в конце концов предупредил его, что завтра должен зайти доктор. Ради приличия он счел за лучшее не присутствовать при их разговоре. Мэтр де Мортань умылся ледяной водой из тазика, поставленного на маленький столик, и приподнял покрывавшую окно промасленную кожу, чтобы бросить взгляд во внутренний двор таверны. Мостовую покрывала тонкая пелена снега. Ардуин поздравил себя с этим: их поездка в Клерет не будет отложена. По крайней мере, если снег больше не выпадет. Что же, в худшем случае аббатство предоставит гостеприимство на будущую ночь!
15
Лес Клерет, ноябрь 1305 годаОни ехали уже больше часа по одной из дорог, проложенных в густом лесу, окружавшем аббатство. – Со всем моим уважением, сеньор бальи, но таким образом мы не прибудем на место до ночи, – раздраженно заметил Венель-младший, который сдерживал Фрингана с того самого момента, когда они покинули Ножан-ле-Ротру. – Тысяча извинений, у меня мысли вразброд, и мой жеребец этим пользуется, чтобы изображать иноходца, – ответил Арно де Тизан, понукая своего коня. – Откровения этого доктора все еще крутятся у меня в голове, и я очень признателен, что вы не стали ничего выспрашивать у меня об этом разговоре. Если вам это безразлично, что, конечно, так и есть, – тогда другое дело, – добавил он натянутым тоном. Мэтр Правосудие Мортаня не стал отвечать на колкость, так как опасался, что его ответ может оказаться достаточно резким. Разве Тизан забыл, что долгое время относился к нему как к неизбежному затруднению? Он же палач – самый худший и презираемый из людей. В сущности, Тизан не особенно отличался от других высокородных персон, которым доводилось общаться с мэтром Высокое Правосудие. «Общаться» – это было еще громко сказано. История имеет значение только для тех, кто ее пишет. Низшие же существовали для них лишь тогда, когда им устраивали пир Святой Девы[690], или оказывали честь, посетив в честь рождения первого сына, или подавали хлеб в голодные годы. Тизан же сейчас обращался с ним с такой сердечностью, которой и не думал бы его одаривать, не нуждайся он в его помощи. И, что смущало еще больше, теперь помощник бальи сердился, что Ардуин не отвечает ему тем же, будто не он столько раз поворачивался спиной посреди фразы своего палача или пожимал плечами, даже не соизволив ответить на его вопрос. Неужели Тизан полагал, что унижение может оскорбить только людей его сословия? – Я что, наступил вам на любимую мозоль, что вы не отвечаете, сударь? – имел неловкость настаивать помощник бальи. Легким движением поводьев Ардуин остановил Фрингана. Напрасно стараясь обуздать свой гнев и сохранять ровный вежливый тон, он произнес: – Давайте обойдемся без этой демонстрации дружеских отношений. Тем более что два последних года вы даже не вспоминали моего имени. Вы пришли ко мне в дом, чтобы попросить о любезности, в то же время продолжая меня презирать. Да, я осмеливаюсь говорить! Вы когда-нибудь обращались подобным образом с человеком вашего сословия? Я хотел бы уточнить это, заранее попросив у вас извинения за свою невежливость, но все же прошу вас не забывать: мы не являемся друзьями. Слишком поздно для заключения такого союза. Сейчас вам более уместно забыть прошлое. Но у меня долгая память. Ну а за исключением этого, я всем сердцем с вами в этот тяжелый и горестный момент. Я помогаю вам – вы поможете мне. Обмен добрыми услугами, и вы будете благодарить меня за это, а позже, когда мои услуги не будут вам настолько нужны, я снова стану для вас всего лишь Жаном-Трупом. Услышав эту неожиданную и оскорбительную отповедь, Тизан побледнел, а затем открыл рот, чтобы возразить и уверить в своей искренности, в которую он сейчас и вправду верил. Подняв руку в перчатке, Ардуин произнес: – Тизан, лис никогда не охотится вместе с собаками. Он знает, что рано или поздно они его разорвут. Он не станет к ним даже приближаться, так как знает, что он для них – всего лишь добыча, на которую накидываются всей сворой. – В моем случае это отвратительная метафора, так как я здесь выставлен собакой, – прошептал помощник бальи. – Из уважения к вам, мессир Высокое Правосудие, я никогда не давал вам оскорбительных прозвищ вроде «заплечных дел мастера» или Жана-Трупа. Я ничего не забываю и могу лишь еще раз поблагодарить за ту помощь, которую вы согласились мне оказать, и это никоим образом не связано с дружбой. Я услышал ваши замечания и принял их: услуга за услугу, именно так, как вы мне когда-то объяснили. Внезапно смутившись, Ардуин пустил своего жеребца рысью. Он предпочел бы услышать в ответ что-нибудь резкое или презрительное, но вовсе не такое печальное согласие. Некоторое время Венель-младший сердился на себя, но затем пожал плечами. А если бы произошло нечто противоположное? Если б он нуждался в помощи своего недавнего собеседника? Никаких сомнений; он ничего не должен этому человеку, который всегда обращался с ним с отстраненным вежливым презрением. Их дороги пересеклись, но незачем загадывать, что будет дальше. Около получаса они ехали в полном молчании. Ардуин прислушивался к звукам леса, к звукам, которые могли таить в себе угрозу даже для двоих вооруженных мужчин, не новичков в обращении с оружием и полных решимости дорого продать свою жизнь. Птицы щебетали в холодном воздухе, шорох ветвей выдавал бегство мелких животных, вспугнутых их приближением. Если б какие-нибудь разбойники устроили засаду, их выдала бы полная тишина. Вздохнув, Ардуин повернул голову к мессиру де Тизану и спросил: – Что вам рассказал доктор Мешо, если спросить об этом не будет неделикатностью с моей стороны? – Напротив. Он обследовал мою дорогую Анриетту вместе с другим эскулапом, сведущим в искусстве разбирать симптомы смерти. – Мне он говорил о нем то же самое, – рассудительно заметил Ардуин. – Анриетта, по крайней мере, не стала жертвой насилия. Хоть от этого мучения она была избавлена. Скверное, но все же утешение. Что сильная вера побудила ее заниматься самобичеванием… У нее вся спина была изодрана, множество шрамов от плети, уже заживших, и свежие ссадины. Она носила власяницу под платьем. Большой кровоподтек на виске; эскулап не смог точно сказать, является он результатом падения или произошедшего с ней несчастья. Его цвет говорит о том, что он появился совсем недавно, незадолго до смерти. А кроме всего прочего, она была в прекрасной форме, очень мускулистой для представительницы слабого пола. – Была ли она избита перед смертью? – Такова одна из гипотез. Этот Фовель настаивает на ней, но без абсолютной уверенности. На спине есть совсем свежие царапины. Анриетта выехала собирать пожертвования четырьмя днями раньше. В путешествии не занимаются самобичеванием, тем более когда ночуют у почти незнакомых людей. – Это верно, – согласился мэтр Высокое Правосудие. – А если убийца действительно бил ее перед тем, как задушить? Такова одна из теорий Фовеля. И потом, веревка, которая послужила орудием преступления… – То есть? – Когда ее нашли, веревка была под воротником платья и за головным убором. Фовель очень скрупулезно подошел к этому. Если б Анриетту задушили через одежду, на шее не было бы таких длинных полос стертой кожи, причем совсем недавних. – Боже милосердный! – выдохнул мэтр де Мортань. – Значит, этот эскулап настаивает, что она была… раздета, задушена, а потом снова одета? – Он ни на чем не настаивает. Он решительно утверждает, что это было именно убийство, о чем говорит след от веревки, расположенный слишком низко, чтобы можно было сделать вывод, что ее повесили или что это было самоубийство, которое хотели скрыть, чтобы избежать скандала. К тому же обнаружена еще одна отметина, гораздо выше, почти под самым подбородком. Фовель уверен, что веревка была сжата вокруг шеи моей дочери под одеждой. Он отказывается говорить об этом более подробно по той причине, что у него нет возможности провести более детальное обследование. Также он утверждает, что нападение было произведено спереди, а вовсе не со спины, как об этом говорят в аббатстве. – Почему он сделал такой вывод? – Потому что следы от веревки прерываются на ее гортани – там, где рука убийцы натягивала веревку, – а также из-за повреждения на виске. – Это не мог быть какой-нибудь трусливый грабитель? Но зачем было ее раздевать, если не для того, чтобы совершить насилие? – возразил Ардуин. – Унизить ее перед тем, чтобы убить? Сразу после рождения Анриетту благословили феи[691], склонившиеся над ее колыбелью. Она была умной, набожной, очаровательной, обладала неиссякаемой энергией. У нее имелся только один недостаток: ей не хватало снисходительности к тем, кто, по ее мнению, не прилагал достаточно усилий, чтобы стать лучше. – Гордячка, – сделал для себя вывод Ардуин, лишь покачав головой. Мессир де Тизан тем временем продолжал: – Я уже несколько раз умиротворял ссоры между Анриеттой и Гермионой – двойняшкой, родившейся следом за ней. Гермиона была очаровательной маленькой пташкой – восхитительной, забавной, легкой, она обожала наряды и банты в волосах. Анриетта упрекала ее в отсутствии умственной дисциплины и стремления стать лучше. Но и у Гермионы был свой дар. Она знала, как сделать жизнь светлей. – А потом отношения между сестрами стали лучше? Мессир де Тизан опустил глаза, непроизвольным движением потрепал лошадь по шее, а затем продолжал: – Гермиона покинула нас за год до моей первой супруги. Нелепый несчастный случай… а впрочем, они все такие. Без сомнения, ее смерть ускорила кончину моей дорогой жены. Гермиона была ее любимицей, они были так похожи. Анриетта же вся в меня… была. Не желая более углубляться в воспоминания и переживания мессира де Тизана, Ардуин вернулся к предыдущему разговору: – А что еще заметил этот проницательный и знаменитый доктор? – Осматривая предплечья и ногти Анриетты, он пришел к выводу, что она не защищалась от злоумышленника. О, смею вас заверить, моя дочь вовсе не была рохлей. Она сумела бы дать отпор тому, кто покусился бы на ее невинность или жизнь. – Монахиня-затворница? – Монахиня вовсе не является согласной на все жертвой. Анриетта посвятила себя Богу и матушке ордена, мадам де Госбер, которую обожала и которой восхищалась. В то же время у моей дочери было достаточно самоуважения, и она никогда не отдала бы свою жизнь в руки какому-нибудь бродяге, прощелыге, омерзительному насильнику, иначе говоря, ничтожеству, которого Господь сотворил таким в своей бесконечной мудрости. Ардуин не стал ему возражать, уверенный, что де Тизан не понимает многих тонкостей. Еще несколько минут они продолжали ехать в полной тишине, нарушаемой лишь эхом приглушенного стука копыт по земляной дороге, отдаленными голосами зверей да поскрипыванием голых сухих веток, которые случайно задевали лошади. Ардуин вдыхал насыщенный влагой воздух, опьяненный запахом прелых листьев и мокрой земли. Запах бесконечности, вечности… А если Маот де Вигонрен, урожденная Ле де Жеранвиль, окажется такой же кривлякой и воображалой? Нет, невозможно, она же сестра Мари. И хватит об этом! Послышался долгий вздох. Мессир де Тизан заговорил с явным сомнением в голосе: – Венель… Что вы думаете об умерщвлении плоти, которым кто-то занимается без принуждения и не искупая какой-то серьезный проступок? – Вы будете меня ненавидеть, – предупредил мэтр Высокое Правосудие, поворачиваясь к нему. – Прошу вас, говорите. Вы говорите прямо и нелицеприятно, а я сегодня нуждаюсь именно в этом. – Дело в том… что мое мнение основано на… моем ремесле, в котором я хорошо понимаю. – Прошу вас, говорите, – продолжал настаивать помощник бальи. – По моему мнению палача и человека низшего сословия, если б эти, с позволения сказать, мученики познали настоящие побои, почувствовали бы резкую боль в желудке, в котором уже несколько дней не было ни крохи пищи, почувствовали бы, как зимой болят отмороженные и содранные руки и ноги, если бы кожу их покрывали незаживающие язвы, или они были бы вынуждены задушить своего новорожденного ребенка потому, что его нечем кормить… может быть, им и в голову не пришло бы носить власяницу. И, по крайней мере, они не находили бы удовольствие в боли. Подобное удовольствие является для меня слишком чуждым, чтобы я мог этим восхищаться[692]. Я знаю слишком много настоящих страданий, будучи тем, кто их причиняет. А несколько ударов плеткой лишь укрепляет тех, кто сам их себе наносит, в мысли, что они лучше других грешников. Умеренность в пище представляется мне достаточным самоограничением, порождающим добродетель и человеколюбие. Сын Божий позволил распять себя не ради себя самого, а ведь он страдал в тысячу раз сильнее любого из нас. Мессир де Тизан недовольно поджал губы, и Ардуин уже начал опасаться, не рассердил ли он доброго христианина и скорбящего отца. Но помощник бальи ответил: – Не могу не признать, что задет вашими рассуждениями относительно моей дочери. Анриетта любила жизнь и всегда повторяла, что та является даром Божьим и поэтому ее нужно ценить, – и в то же время была готова к жертвам. Маленькой девочкой она любила цветы, бабочек, звезды, потому что, по ее мнению, в них больше всего Бога. У нее был ангельский голосок, вы это знаете? Нет, какой же я глупец… Их путешествие продолжалось, разговор переходил от одной темы к другой. Собеседники тщательно следили за своими речами, чтобы их слова случайно не показались другому обидными. Виды на урожай, эпидемия грудной лихорадки, дороговизна рыбы в Мортане-ле-Перше представлялись им достаточно безобидными темами для беседы. Они также говорили о все более дерзких хитростях виноторговцев, которые разбавляют виноградный сок дешевым вином, вымачивают виноградные выжимки в воде с медом, и их вина становятся все более безвкусными и кислыми, по мере того как в них добавляют воду. В противоположность этому темы вроде Церкви и политики содержали в себе ловушки, и, случайно заговорив об этом, оба кусали себе губы, за исключением тех случаев, когда каждый был уверен, что мнение собеседника совпадает с егособственным. – Представлять и управлять королевским правосудием не является синекурой, можете мне поверить. Но, похоже, я одинок в этом мнении… Тем более что по долгу службы я вынужден улаживать ссоры, связанные с обеспечением, женитьбами, всякими житейскими мелочами… Так что уж в чем в чем, а в этом я понимаю. – Монсеньор Карл де Валуа, наш суверен и брат короля… Оборвав фразу на полуслове, Ардуин замолчал и принялся оглядывать окрестности. Бесполезно спрашивать, поддерживает ли Валуа своих бальи. – Могу ли я быть откровенным с вами, Венель? – Сочту за честь. – Вы недавно хорошо щелкнули меня по носу насчет самодовольства высокопоставленного человека… Прервав мэтра Высокое Правосудие, который сделал протестующий жест, помощник бальи настойчиво продолжал: – Да-да, именно так, с вашей обычной вежливостью. Но в то же время не сомневайтесь – мне, как и вам, знакомо презрение сильных мира сего. Монсеньор Карл как-то сделал мне наставление. В глазах своего хозяина я всего лишь господинчик, который кормит своих подчиненных, один из тех, кто приходит набивать его сундуки деньгами, собранными в уплату налогов. А он проматывает их в мечтах о величии, армиях, роскоши, коронах!.. Остальное? Да господи, разве это имеет какое-то значение? – По вашему голосу можно понять, что вы очень обижены, – заметил Ардуин. – О, это еще очень мягко сказано. На самом деле я готов метать громы и молнии. В то время как король с помощью мессира Гийома де Ногарэ лезет из кожи вон, чтобы образумить всех этих мелких баронов, графов и сеньоров, готовых ради какой-то выгоды объединиться с захватчиками, выбивается из сил, чтобы объединить государство, – а Валуа в это время храпит и обжирается, расхищая государственную казну. Готов поклясться, он строит всякие козни за спиной короля, чтобы обчистить орден тамплиеров в свою пользу. Этот яростный выпад многое объяснил Венелю-младшему. Несмотря на свою преданность монсеньору Карлу, преданность, обусловленную должностью помощника бальи, Тизан оказался под стать Гийому де Ногарэ. Стратегия, проистекающая из восхищения первым королевским советником? Ардуин не смог бы сказать это с уверенностью. С тех пор как Аделин д’Эстревер покинул этот мир, встретившись с кинжалом мэтра Правосудие, графство оставалось без бальи шпаги. Назначение на эту должность являлось прерогативой короля или же Ногарэ. Может быть, Тизан заслал шпионов в надежде, что его отличат и вознаградят за недавно проявленную преданность? Выбор, без сомнения, еще более рискованный, чем предполагал помощник бальи. Впрочем, король очень ценил своего первого советника. Кстати говоря, пристрастия сильных мира сего переменчивы. Если Ногарэ однажды впадет в немилость, немного же можно будет дать за его репутацию, влияние и даже за его жизнь. В то же время слепая привязанность Филиппа Красивого к своему единственному брату оставалась неизменной, и какие бы ошибки и какое бахвальство он ни совершал, все это не считалось оскорблением Его Величества. Филипп, монарх по праву и по святой крови[693], никогда не ожидал предательства от своего родственника. Даже если надо будет принести в жертву Ногарэ, единственной поддержкой которого является массивная крепость Лувр, – до этого все равно очень далеко.
16
Женское аббатство Клерет, ноябрь 1305 годаПо другую сторону комнаты монастырского привратника царило похоронное молчание. У монахини, открывшей им калитку и принявшей их, было выражение лица, более приличествующее для конца света. Обладая благодаря своей должности правом говорить с незнакомцами, она ограничилась несколькими скупыми словами: – Мессир де Тизан, наша возлюбленная матушка ожидает вас в своем дворце. Ардуин, который ожидал, что помощник бальи представится, немного удивился. Черт возьми, посетители, кроме особо приглашенных аббатисой, не имели права идти дальше приемной или дома для гостей, если они имели право здесь ночевать. – Мадам сестра, со мною помощник и советчик… мой друг из Мортаня, мессир Венель. Мэтр Высокое Правосудие склонился перед монахиней, которая ответила ему коротким кивком и торопливо произнесла: – Прошу вас, следуйте за мной. Наша матушка ждет вас. Венель-младший пытался справиться с ледяным холодом, царящим в кабинете аббатисы. Она не разрешила зажигать огонь в своем камине оттого, что бедняки в округе умирают от холода. Ардуин ощущал, что все его тело, как и разум, становится неподвижными. Тонкий сухой и монотонный голос аббатисы не давал ему ухватить нить разговора, тем более что сначала она говорила какие-то доброжелательные банальности, без сомнения не желая еще больше опечалить убитого горем отца, который сидел перед ней, смертельно-бледный, изо всех сил вцепившись в подлокотники своего кресла. Подводя итог своего длинного монолога, из которого гости не узнали ничего нового, аббатиса заключила: – По правде говоря, Анриетта была примером, образцом для подражания для нас всех. Я даже предполагала, что настанет день, и она унаследует от меня эту должность. Она показывала такую силу души, такую набожность, не говоря уже о ее уме… Короче говоря, ее смерть стала невосполнимой потерей для всех нас. – Я от всего сердца признателен вам за эти похвальные речи. Они служат мне утешением, ведь я был так привязан к своей кровной дочери, мадам матушка, – заверил Арно де Тизан, голос которого так дрожал, что Ардуин уже начал опасаться, что тот сейчас расплачется. – Прошу меня извинить, мадам матушка, со всем моим почтением, – вмешался он в разговор в первый раз за все время визита. – Да, прошу вас, монсеньор сын мой. – Анриетта де Тизан выехала из монастыря, чтобы посетить тех, кто, по решению суда, должен был заплатить штраф в пользу ордена? – Так или иначе, речь шла о четырехдневной поездке. Мы нашли лошадь неподалеку от покойной после… после того, как ее обнаружили. – Подобные высказывания чаще всего исходят из уст тех, кто сотворил нечто предосудительное, но вполне простительное. Она изумленно уставилась на него, не понимая, что он хотел этим сказать, и обеспокоенно переспросила: – То есть? – Значит, по вашему мнению, никто из них, даже очень разозлившись, не смог бы оказаться тем гнусным убийцей? – О, конечно же нет, мессир! Все они состоятельные люди, а многие из них хорошо воспитаны. Такие штрафы назначаются за легкое богохульство, дерзость по отношению к господину или шумную попойку со скандалом. Те, у кого не хватает средств избежать тюрьмы, всего-навсего поспят ночку-другую в камере на соломе. – Не могли бы вы предоставить нам список? – не унимался исполнитель высоких деяний. Мадам Констанс де Госбер, выражение лица которой чуть оживилось, авторитетно заявила: – Монсеньор, я вас уверяю: невозможно даже представить себе, чтобы кто-то из этих господ совершил сие ужасающее убийство. Тем более что они всегда проявляют даже больше великодушия, чем это требуется по решению суда. – О, я далек от подобных домыслов, мадам матушка. Это всего лишь помогло бы мне проследить за поездкой вашей духовной дочери Анриетты и, может быть, узнать, не было ли у нее какой-нибудь неприятной встречи в дороге. Тизан бросился на выручку мэтру Правосудие, объяснив: – И потом, это занятие успокоило бы меня. Я хоть что-то пытался бы сделать, и моя совесть была бы спокойна. На губах аббатисы появилась тонкая улыбка, первая, с тех пор как они оказались в ее громадном кабинете. После некоторого колебания она наконец сдалась: – Да, что может быть важнее… Бландин Крезо, моя секретарша, приготовит вам список имен и проступков, числящихся за каждым. Понимая, что правило святого Бенуа запрещает монахиням говорить с чужаками и побуждает их сводить к минимуму общение между собой, Ардуин лихорадочно искал допустимую формулировку, а потом заговорил: – Мадам матушка, со всем моим почтением и уверениями в чистоте моих помыслов… и, конечно, с вашего соизволения… будет ли возможно расспросить некоторых из ваших духовных дочерей, с которыми Анриетта де Тизан поддерживала сердечные доверительные отношения? Изящное лицо матушки снова застыло. Сухим тоном мадам де Госбер напомнила: – Но Анриетта была любима всеми нами. Более того, мессир, никто из моих духовных дочерей не может говорить с чужаком, за исключением тех, в чьи обязанности входит поддерживать связи с внешним миром. Затем, выдержав короткую паузу, она продолжила: – Но из сострадания и уважения к мессиру де Тизану, который помог мне, сам того не зная, так как я была безмерно возмущена убийствами детей из Ножан-ле-Ротру, убийствами, которыми пренебрег этот франт и юбочник. Именно поэтому я могу проявить к вам некоторую терпимость. Портрет Ги де Тре, который она обрисовала двумя словами, получился весьма нелестный. Гости поспешили рассыпаться в благодарностях за это отступление от правил. – Посмотрим… Кто не трепещет от ужаса, будто крохотная пташка, и кто лучше всех знал нашу дорогую Анриетту? Мюриетт Летуан, наша сестра-переписчица и архивариус. Очень хороший почерк. Анриетта находила большое удовольствие в чтении… Брюнад де Ливессан, соседка Анриетты по дортуару, моложе ее. Предполагаю, что они хорошо знали друг друга. С этими словами аббатиса поднялась на ноги, давая понять, что разговор закончен. Двое мужчин последовали ее примеру. Ардуин в который раз удивился, сколько властности буквально излучает женщина, настолько хрупкая с виду, что ее можно было бы принять за ребенка, если не видеть ее лица, на котором годы элегантно оставили свой отпечаток. Неожиданно на ум ему пришла та старая нищенка. В первый раз он увидел ее только со спины и принял за уличную девчонку-сорванца. – По правде говоря, я не могу назвать вам никого, кроме этих двух девушек. Сейчас я распоряжусь, чтобы за ними послали. Они скоро присоединятся к вам в приемной. До встречи – и надеюсь, она произойдет не при таких печальных обстоятельствах. И, обращаясь к Тизану, аббатиса добавила более мягким тоном: – Монсеньор, мои самые искренние соболезнования. В такой момент слова являются очень слабым утешением, но все же я знаю одно: Спаситель с особенной любовью принимает те свои создания, которыми он гордится. Моя… дочь… дочь нас обоих… будет предана земле после полудня и займет место рядом с самыми почитаемыми сестрами. И для меня будет счастьем и удовольствием протянуть вам руку в этот горестный момент. – Благодарю вас, мадам матушка, – пробормотал смущенный помощник бальи.
* * *
Сестра-посыльная, очаровательная женщина средних лет с розовыми щеками и широкой улыбкой, догнала их, когда они входили в парадный двор, как называлась скромная мощеная площадь, примыкающая к комнате привратника. Она прежде всего давала возможность лошадям и экипажам в дождь как можно скорее добраться до конюшен, не проваливаясь при этом в грязь. Не говоря ни слова, монахиня сделала им знак следовать за ней. Ардуин Венель-младший восхитился, насколько все хорошо организовано в монастыре. Он не видел никого, кто был бы удивлен их появлением, и в то же время все готовы были выполнять распоряжения мадам де Госбер. Приемная – просторная квадратная комната – была меблирована длинными столами и жесткими шероховатыми скамейками. В знак особой предупредительности перед самым их появлением затопили один из двух громадных каминов, расположенных друг напротив друга. Сестра-посыльная указала им на одну из скамеек, приглашая присесть, и удалилась, так же молчаливо улыбаясь. – Могли ли вы когда-нибудь подумать, что матушка аббатиса будет содействовать нашим переговорам с ее духовными дочерьми? – вполголоса осведомился Ардуин. – Это ее выбор и ее право. Вас это смущает? – Именно. Чужакам доверяют именно тогда, когда уверены, что их больше не увидят и что те исчезнут со всеми их откровениями. Ответом ему было одобрительное молчание бальи. – Мессиры, можно? Повернув головы, они оба тотчас же встали. Их взорам предстала Брюнод де Ливессан, соседка Анриетты по дортуару. На губах Ардуина заиграла невольная и совершенно неподобающая улыбка, которую он тут же подавил. Вошедшая была просто очаровательна. Край вуали оттенял высокий выпуклый лоб, чуть вытянутые глаза орехового цвета буквально искрились умом, маленький красный рот казался очаровательным спелым фруктом[694]. – Мадам сестра, мы крайне польщены и признательны, что вы согласились поговорить с нами, – произнес, кланяясь, мэтр Высокое Правосудие. – А к этим чувствам присоединяется благодарность убитого горем отца, – добавил помощник бальи. Как только она заговорила, мэтр де Мортань понял, что его восторги были преждевременными и чересчур поспешными. – Мой долг подчиняться приказам нашей обожаемой матушки, мессиры. И, насколько это возможно, мне бы хотелось, чтобы наш разговор был как можно короче. Я была знакома с Анриеттой лишь постольку, поскольку наши кровати стояли по соседству, и, кроме этого, мне нужно очень много чего сделать, не говоря уже о моем недельном дежурстве по кухне. В ее голосе слышалось такое презрение и высокомерие, что Венель-младший тут же понял, что из этой женщины он ничего не сможет вытянуть. – Ну, неужели у вас с Анриеттой не сложилось сердечных отношений? – все же настаивал он. – Какая бестолковая мысль, – почти ироничным тоном возразила монахиня. – Я поступила в монастырь не для того, чтобы завязывать дружбу, а чтобы служить Богу всей душою, обучаясь, изучая и работая изо всех сил, чтобы мое служение Ему понравилось и, если это возможно, было бы Им оценено. И мне, чтобы быть счастливой, достаточно одобрения нашей матушки. Ошеломленный этой тирадой, полной удивительной черствости, и беспокоясь, что мессир де Тизан почувствует себя оскорбленным и не сочтет нужным этого скрывать, Ардуин попытался еще раз: – Но ведь… вы обе были девушками из высшего общества, сестрами по ордену; наконец, по ночам вы были соседками, и я подумал, что… Прервав его быстрым нетерпеливым движением, она бросила: – Ну и что из этого? Думаете, раз мы спим в нескольких ступнях друг от дружки, так мы должны непременно стать кровными сестрами и конфидентками? Что же касается сословия, то это не меняет общей картины. И потом, я, конечно, прошу прощения, что так грубо касаюсь подобных тем, но известно ли вам, кто такие Ливессаны? Наше благородное происхождение и чистота крови могут сравниться разве что с семейством мадам де Госбер! Мэтр Правосудие Мортаня так и застыл, услышав такое явное оскорбление и опасаясь взрыва возмущения со стороны де Тизана. Но вместо этого помощник бальи, мертвенно-бледный от обиды, поднялся со скамейки, изо всех сил упершись руками в стол, чтобы не было видно, как они дрожат от сдерживаемого гнева, и заговорил ледяным тоном, тщательно выделяя каждое слово: – Ваш путь к престолу Божию будет очень долгим, мадам. Мы благодарим вас за бесценную помощь, которую я навечно сохраню в своей памяти. До встречи. Не сомневаюсь, что мы с вами еще увидимся. Еле заметным изящным движением Брюнод чуть наклонила голову и тотчас же вышла. Может быть, Ардуину это показалось в полумраке плохо освещенной приемной, но на мгновение ее взгляд вдруг омрачился, как будто крохотное облачко закрыло солнце. Едва монахиня вышла, исполнитель Высоких Деяний торжественно произнес: – Похвальная сдержанность с вашей стороны, сеньор бальи! – Она мне дорого обошлась! Но гораздо хуже брани, которую изрыгнул этот ротик очаровательной обманщицы, – тот вопрос, который меня мучает: неужели за годы, проведенные здесь, Анриетта не заслужила привязанности сестер? – В противоположность тому, в чем нас уверяла аббатиса, я склонен придерживаться именно такого предположения, – ответил Ардуин. В то мгновение, когда мэтр Правосудие произносил эти утешительные слова, у него вдруг возникло смутное воспоминание, в которое он не смог углубиться, прерванный появлением крупной женщины с кожей, светящейся белизной, глазами цвета незабудок и настолько светлыми бровями, что они казались белыми. И вдобавок ко всему от нее распространялась волна всеподавляющего холода. Мужчины поднялись на ноги. Монахиня приблизилась к ним, сложив руки перед собой и обводя их внимательным взглядом. Ардуин тотчас же заметил, что ее указательный и большой пальцы испачканы угольно-черной краской, кобальтово-голубой, заменяющей чрезвычайно дорогую ляпис-лазурь, и сусальным золотом[695]. Ее нарукавники[696] были усыпаны ярко-красными пятнами, которые выглядели совсем свежими. Откашлявшись, чтобы прочистить горло, она заговорила, не выказывая ни малейшего удивления: – Я Мюриетт Летуан, сестра-копиистка и архивариус. Моя дорогая матушка… Впрочем, вам это и так известно. Возможно, причина была в глубокой тишине, царящей в аббатстве, но ее голос прозвучал довольно неуверенно, как будто слова не шли у нее из горла. Если только причина не была в стеснительности, скрытой за внешней сдержанностью. – Надеюсь, мадам сестра, мы не прервали вас, когда вы рисовали какую-нибудь тонкую миниатюру, – заметил мэтр де Мортань, намекая на пятна красной краски[697]. Монахиня улыбнулась: – Вовсе нет, я случайно испачкалась чернилами. Эта передышка будет даже полезна, она поможет сохранить сосредоточенность. Рука так быстро устает… Чтобы подчищать пергаменты[698], требуется осторожность и легкость. А на велене[699] пятно может оказаться еще более гибельным. Несколько дней упорной работы могут пропасть даром. Моя дорогая матушка сказала, что вы желаете поговорить о нашей бедной и оплакиваемой всеми нами Анриетте… Ардуин украдкой скосил глаза на помощника бальи, ожидая его реакции. Но тот казался совершенно безразличным. Тогда мэтр Высокое Правосудие сам бросился в атаку: – Прошу вас, мадам сестра, присаживайтесь. Мы ищем… я даже сам толком не знаю, что именно. Разговоры ни о чем и обо всем могли бы направить расследование, которое мы собираемся провести для того, чтобы свершилось правосудие для аббатисы и мессира де Тизана. Что вы могли бы нам сказать об Анриетте де Тизан, как вы к ней относились? – О, она была хорошей, просто превосходной. Восхитительная женщина, сестра, пример для всех нас. Судя по всему, заранее подготовленные слова. Впрочем, Ардуин ничего другого и не ожидал. Он и не надеялся услышать от собеседниц что-то существенное. Но, возможно, их выдаст жест или взгляд, по которому можно будет догадаться, что за тайна скрывается в этом замечательном аббатстве… – Мы ни на мгновение не усомнились в ней. Почему мадам Констанс де Госбер назвала именно вас как сестру, хорошо знавшую Анриетту? Вы были с ней дружны? Мюриетт Летуан быстро прищурилась, что являло собой контраст с ее улыбкой. – Анриетта была дружна со всеми нами. Может быть, я знала ее чуть лучше, чем остальные, так как благодаря своей учености она испытывала страсть, совершенно благочестивую, к манускриптам и трудам великих теологов. Она часто приходила в скрипториум… нет, ничего особенного, просто большая комната, где копируют тексты нашей библиотеки, испорченные плесенью или насекомыми, и где новая послушница, у которой ловкие руки, помогает мне клеить страницы и чинить переплеты. – О да, кстати, мадам Госбер о ней упоминала… Лю… си… э… нет, память меня решительно подводит, – бесстыдно солгал Ардуин, воспользовавшись тем, что де Тизан погрузился в свои переживания. – Маргарита Фуке, – помогла ему Мюриетт Летуан. – Верно! Благодарю вас! Пусть долгая дорога и два скорбных дня послужат извинением моим спутанным мыслям. Скажите, а у самой Анриетты был хороший почерк? Бросив украдкой взгляд на мессира де Тизана, она заговорила так, будто ей зачем-то понадобилось тянуть время: – О, у нее был просто прекрасный почерк. Восхитительная ротунда[700] и очаровательный курсив[701]. Во всяком случае, в искусстве миниатюриста, в выписывании буквиц, разукрашенных виньетками, что требует кропотливости, сми… Мастера миниатюр трудятся как муравьи, для своего удовольствия выписывая крохотные детали, которые никто, кроме них, и не заметит, – попыталась Мюриетт исправить положение, при этом запутываясь еще больше. Она смешалась, произнося слово «смирение», скорее всего потому, что Анриетта не являла собой образец этой добродетели. Первая зацепка в этом потоке славословия. Крохотная деталь, которая подкрепляла призывавший насторожиться голос интуиции мэтра Высокое Правосудие. Траур, невольным участником которого он оказался, был немного натянутым, и только чтобы сохранить хорошее отношение де Тизана, Ардуин начал думать о чем-то другом, кроме отвратительного преступления, совершенного каким-то ничтожеством при удобном стечении обстоятельств. Понимая, что ставит телегу впереди лошади, он мысленно одернул себя, призывая к осторожности. Согласно обычаям, покойникам принято петь дифирамбы, даже если в глубине души остальные радуются их смерти. – Я полностью согласен с вами, что скрипториум – прекрасное место, – заговорил Ардуин. – Столько чудес скрыто на страницах, сохранивших гениальные мысли великих мудрецов… И потом, там тепло. – Конечно. Чернила так быстро замерзают, а от сырости разводится вся эта мерзость – плесень и личинки насекомых. Внезапно решив, что гость обвиняет Анриетту в изнеженности и любви к удобству, она поспешила добавить: – И потом, она не только интересовалась чтением трудов, которые я приводила в порядок; Анриетта… работала. – Над чем? Монахиня снова заморгала и устремила взгляд куда-то вдаль. Она сжала губы, а затем собрала пальцы правой руки в кулак и испустила долгий вздох. У Ардуина не было никаких сомнений, что его собеседница собирается солгать. – Над похвальным словом жития святой… – пробормотала она наконец. – Я уверен, что монсеньору де Тизану было бы приятно узнать, какому благородному и превосходному занятию посвятила себя его дочь, – настаивал Ардуин. – Это… ну… святая Аполлония, которая после того, как ее жестоко лишили зубов, прыгнула в костер и сгорела заживо, лишь бы не произнести нечестивых слов, которых от нее требовали. – О, восхитительно… Мадам сестра, какая, по вашему мнению, ничтожная душонка могла ненавидеть Анриетту или затаить на нее злобу? – Нет, нет, никогда! Уверяю вас, она была светочем, путеводной звездой, примером для всех нас. Какое ужасное несчастье, какая невосполнимая потеря! При этом взгляд ее незабудково-голубых глаз, покинув горние выси, остановился на Ардуине, но остался таким же ледяным. – Прошу вас, примите нашу глубочайшую признательность за ваше терпение и вашу искренность, которые нам очень помогли, – торжественно произнес мэтр Высокое Правосудие, заметив румянец, появившийся на бледных щеках монахини. Она встала и, коротко кивнув, покинула приемную.* * *
– Благодарю вас, Венель, что не были суровы к моей немоте и сумеречному состоянию рассудка, – внезапно произнес де Тизан. – Я… знаете… Я почувствовал, что если приму участие в этом разговоре… то не смогу удержать слез. Перед служительницей Божьей гораздо легче высказать свое отчаяние, чем перед обычной женщиной. Но я оставил на вас малоприятную обязанность вести эту беседу. Тем более что разговор с этой злобной Брюнод де Ливессан меня еще больше опечалил. – Малоприятная обязанность? Что вы, вовсе нет! – возразил Ардуин, разворачиваясь к помощнику бальи. На кирпичной стене за его спиной висело довольно скверно написанное полотно, изображающее коленопреклоненного епископа, окруженного толпой крестьян в лохмотьях, которые копьями и палками отбиваются от угрожающе размахивающих мечами римских солдат в шлемах. Ардуин встал и подошел к картине, чтобы разглядеть ее как следует. Голос де Тизана сделался громче: – Святой Дионисий, епископ Александрийский[702], классическое изображение. Он был спасен, когда солдаты императора Деция собирались взять его в плен[703]. – Ну, разумеется! – воскликнул мэтр Правосудие Мортаня, удерживаясь от совершенно неподобающего смеха. – Письмо. Письмо Диониса Александрийского Фабию Антиохийскому, в котором он упоминает муки святой Аполлонии и остальных. Пикантное и такое спешное объединение понятий… – Простите?.. – Когда я спросил Мюриетт Летуан, над чем работала ваша всеми оплакиваемая дочь, она смешалась, затем уставилась на картину и сказала первое, что пришло ей в голову. Посмотрев на святого Дионисия, она вспомнила о святой Аполлонии. – Но по какой же причине? – Миловидная копиистка просто-напросто дурачила нас великомученицей Аполлонией. А если лгут, что уже само по себе является серьезным грехом для служительницы Божьей, то чаще всего это делается, дабы скрыть правду. В нашем случае это более чем очевидно. – Что вы хотите этим сказать? – спросил немного растерянный помощник бальи. – Пока что ничего или очень немногое. Что ваша дочь скорее всего работала над другими жизнеописаниями святых. Но тогда какую правду от нас пытаются скрыть и почему? Мне бы очень хотелось переговорить с этой новой послушницей, у которой такие ловкие руки, – с Маргаритой Фуке[704]. – Но аббатиса не упоминала о ней… – Правильно, – прервал его Ардуин. – Но когда волос щекочет мне язык, я ищу его во рту у себя, а не у кого-то другого. – Я и не думал, что сегодня что-то сможет вызвать у меня улыбку. Да, необычайно точная народная мудрость, – согласился де Тизан. Затем, снова обретя строгий вид, он настойчиво переспросил: – Итак, вы полагаете, что мадам де Госбер пыталась что-то скрыть относительно моей дочери? Что вы об этом думаете? Это уже напоминает богохульство! – Черт возьми! Наблюдая, как вы общаетесь с широкой публикой, я считал, что вы намного хитрее. Видите ли, человеку свойственна безграничная вера в Бога, но в то же время – святое недоверие к его созданиям, даже к тем, кто Ему служит. Не забывайте, что в своем монастыре мадам де Госбер является таким же полновластным сеньором. Если Господь в своей бесконечной доброте прощает заблуждения, он гораздо строже судит власть имущих и монахинь. – Не понимаю, к чему сейчас этот тезис. – Должно быть, это потому, что у меня в голове полнейшая неразбериха. Во всяком случае, мы столкнулись с неким препятствием, и я не могу толком сказать, с чем именно. Мадам де Госбер ведет себя с нами доброжелательно, но в то же время явно что-то недоговаривает, Брюнод де Ливессан настолько надменна, что я спрашиваю себя, не является ли это напускным. И, наконец, явная ложь Мюриетт, копиистки. Мне определенно нужно переговорить с Маргаритой Фуке. – Но вы не можете настаивать на этом без позволения аббатисы! – возразил помощник бальи. – Если игра стоит свеч, то отчего бы и нет? – Вы что, совсем с ума сошли, мой друг?! Аббатиса – двоюродная сестра самого Папы, близкая подруга Катрин де Куртене и родственница короля! Чтобы ослушаться ее, нужно совершенно лишиться рассудка. – Обойти приказ вовсе не означает его ослушаться. Мы и не беспокоили послушницу Фуке. – Но я не могу дать согласие на такую непочтительность… на такую дерзость! – рассердился де Тизан. – Прекрасно, я повидаю ее один. – Чтобы затем выставить меня презренным трусом? – Вовсе нет. Сеньор бальи, вы политик и понимаете всю тонкость ситуации. Что вы можете со мной сделать? Отнять у меня мою «завидную» должность? Уж не думаете ли вы, что я сильно огорчусь, перестав быть «заплечных дел мастером»? Мессир, мессир… вы даже не представляете себе, какое это удовольствие – быть ничем, меньше чем ничем, таким же, как все вокруг. В отличие от тягостной и щекотливой должности старшего бальи шпаги, который вынужден, чтобы угодить королю и его брату, похищать, держать в неволе двенадцать детей, а затем убивать их и мучить… Представьте себе гнев жителей Ножана и даже всего графства. – Черт возьми, вы что, собираетесь меня шантажировать? – произнес порядком уязвленный помощник бальи. – Это недостойно вас! – Если уж дело до этого дошло, то почему бы и нет? – шутливо заметил Ардуин, с напускной игривостью пожимая плечами. – В любом случае благодарю за вашу высокую оценку. Недостойно меня, это верно, но не их. Достойными методами сражаются только с достойным противником, противоположное было бы просто безумием. По правде говоря, для нас обоих будет лучше, если вы не станете принимать участие в этом разговоре. Знаете ли, это все равно как влажная и сухая кормилица[705]. Сейчас моя цель состоит в том, чтобы помогать вам. Помощник бальи выслушал эту тираду с еле заметной улыбкой: – Черт побери, Венель, представить себе вас в роли влажной кормилицы – значит навсегда потерять вкус к молоку. И, выдержав короткую паузу, он прошептал: – Какая жалость, что вы не желаете быть моим другом, для этого у вас есть размах и храбрость. Оставляю вас действовать по вашему усмотрению, мессир Высокое Правосудие, а сам пойду немного размять нижние конечности… туда, где я не перепугаю наших добрых монахинь.* * *
Ардуин же вернулся в здание для гостей. Там он нашел любезную сестру, которая встретила их немногим раньше. Подойдя к ней, он заговорил с недовольным и немного лукавым видом: – Мадам сестра… Со всем моим почтением, я удивлен… Впрочем, помощник бальи устал ждать и отправился немного размять ноги… Монахиня непонимающе подняла брови. – Я полагал, что понимаю… Мне казалось, что мы должны встретиться с послушницей по имени Маргарита Фуке, которая помогает сестре-копиисту и архивариусу. Может быть, ее задержали какие-то важные дела? Дело в том, что время идет и наша всеми оплакиваемая Анриетта будет предана земле в положенный срок. Поистине бесчеловечно сейчас собирать свидетельства после того, что мы все пережили… Каждый из нас желает лишь одного: молиться в тишине и спокойствии. Гостиничная сестра колебалась, размышляя, насколько необходимо ей сейчас прервать молчание. Ответ ее был предельно кратким: – Мессир, это я, в свою очередь, удивлена… Бландин Крезо, секретарша аббатисы, назвала мне только два имени. Я сейчас спрошу ее. Прошу вас, проследуйте в приемную. Ардуин повиновался, в глубине души радуясь, что все так удачно прошло, и одновременно чувствуя себя виновным в мошенничестве. Ему совсем не пришлось ждать. Прошло всего несколько минут, и в большой зал, переводя дыхание, вбежала молодая женщина. На ней была короткая вуаль послушницы, не скрывающая копну кудрявых волос восхитительного каштанового цвета. Наскоро сделав реверанс, она уставилась на посетителя. Исходящая от нее жизненная сила очаровала Ардуина. – Мадам, надеюсь, я не прервал ваших занятий… – О, послушницу постоянно прерывают, мессир, – ответила она. Это была всего лишь шутка, и Ардуин именно так и принял эти слова. – Прошу прощения, я не знал, что дни в монастыре настолько заполнены, и тем более благодарен вам за те несколько минут, которые вы согласились мне уделить. Она еле заметно подмигнула, явно забавляясь ситуацией. – Я также благодарна вам. Так как я еще не приняла обета молчания, то имею право иногда поболтать. – Польщен и счастлив предоставить вам эту возможность, – улыбнулся мэтр Высокое Правосудие, настолько уютно он чувствовал себя рядом с этой молодой женщиной. – Полагаю, речь пойдет об ужасной кончине Анриетты де Тизан? – с любопытством спросила она. – Верно. Ваша сестра-копиист сообщила мне, что покойная посещала скрипториум, который многим обязан вашей верной руке. Внезапно приветливое лицо послушницы сморщилось. Она тихо произнесла: – Мессир… – Венель. Ардуин Венель. – Мессир Венель, могу ли я быть уверенной, что мои слова останутся между нами? – Согласно обязательствам, которые накладывает на меня расследование, я передам их только мессиру де Тизану, ее отцу, взяв с него слово сохранить в секрете, от кого я это узнал. Даю вам слово, сестра, и пусть я буду проклят, если нарушу его. – Хорошо. – Что вы на самом деле думаете об Анриетте де Тизан? И, прошу вас, присаживайтесь. Она уселась напротив него. – Трудно выносить какие-либо суждения… тем более что я видела ее только в скрипториуме. Скажем так… пылкая набожность Анриетты побуждала ее немного забывать о живых созданиях. Но разве наше старание имеет своей целью помогать Божьим созданиям? – Сердечная черствость? – Это ваши слова, – тихо произнесла молодая послушница. – И она проводила изыскания на предмет жизнеописания святой девы великомученицы? – В самом деле? По ее голосу Ардуин понял, что она хочет подтолкнуть его к какому-то выводу, который толком не оформился в ее сознании. – А, я… – Она много писала – вот главная причина ее посещений скрипториума, так как бумага, перья и чернильницы находятся там. И, конечно, в кабинете аббатисы. У меня не сложилось впечатления, чтобы она часто просматривала труды, посвященные житию великомученицы. Какой же? – Кажется, мне называли имя святой Аполлонии. – В самом деле? – повторила она. – Мессир Венель, здесь происходит не особенно много событий, которые отступали бы от правил этого места. Наша святая матушка следит за этим, подобно ястребу. Поэтому все… необычное тут же возбуждает у всех интерес. В то же время обет молчания – это так жестоко… Это обоюдоострое оружие, можете мне поверить. Не становится ли оно иногда своего рода сообщничеством? Нашей матушке, которую я глубоко чту, чьи неустанные усилия вызывают у меня благоговение, добротой и самоотверженностью которой я восхищаюсь, стоило бы обратить на это внимание. – Ваши слова вызывают у меня тревогу, мадам. Что вы хотите этим сказать? – О, я и так уже сказала слишком много и сожалею об этом, – улыбнулась она. – Если б вы знали, как это место дорого мне… Я без колебаний отдам за него жизнь, до самого своего последнего дыхания. Моя духовная матушка никогда не упоминала моего имени, как вы сказали нашей доброй гостиничной сестре, и я готова поклясться, что вы вышли за пределы дозволенного. Очень смело с вашей стороны. Я догадалась об этом до того, как прийти сюда. Анриетта де Тизан не была настолько святой, как ее вам описали. Или скорее всего я сильно заблуждаюсь насчет послания, оставленного Агнцем Божьим. Прощайте, мессир. Желаю вам счастливо завершить ваше расследование. Она уже собралась покинуть приемную, когда он остановил ее: – Прошу вас, мадам, еще один вопрос. Отрицательно покачав головой, послушница вышла. Ардуин снова уселся на место. Его сомнения подтверждались: от него скрывали правду о покойной Анриетте. Во всяком случае, все это доказывало лишь одно: с ее убийством, совершенным в поздний час за стенами аббатства Клерет, связана какая-то тайна.* * *
Мэтр Правосудие Мортаня нашел сеньора бальи и, выполняя обещание, данное молодой послушнице, очень уклончиво ответил на вопрос, что поведала ему Маргарита Фуке. Ардуин составил ему компанию до самых похорон Анриетты. Он не был приглашен, но к его присутствию при мессире де Тизане отнеслись достаточно терпимо и уважительно. Анриетта де Тизан была предана земле при полном молчании своих сестер. Когда часом позже помощник бальи подошел к своему спутнику, Венель старался избегать взгляда его еще полных слезами глаз. Не обменявшись ни словом, они шагали по парадному двору. Тизан громко дышал с открытым ртом, как будто хотел выдохнуть все горе наружу. Наконец он произнес с глубокой печалью: – Что же такое происходит, Ардуин? Я не… Эта вереница монахинь и послушниц, окруживших матушку и священника…[706] Добрая сотня… Удивленный и немного смущенный, что помощник бальи назвал его по имени, тот переспросил: – И что же? – Как что? Мадам де Госбер и я были единственными, кто оплакивал мою покойную дочь. Кто-нибудь наконец сжалится надо мной и объяснит мне, что же здесь происходит? – Я ничего точно не знаю. Клянусь честью. У меня сложилось впечатление, что, несмотря на свои молитвенные добродетели и острый ум, мадемуазель Анриетта вовсе не вызывала нежности и привязанности. – Разве непременно нужно быть любимой, чтобы быть хорошей? – набычившись, возразил мессир де Тизан. – Нет, но когда ты хороший, то чаще всего окружен всеобщей любовью. Чувствуя, что вышел за пределы дозволенного и сказал то, что может показаться оскорбительным его убитому горем собеседнику, Ардуин поспешно добавил: – Прошу прощения, я сам сержусь на себя за эти необдуманные слова. Я ни за что не стал бы торопить вас в такой момент, но дорога в Ножан-ле-Ротру довольно длинная. Нам нужно выехать поскорее, если мы хотим вернуться до того, как окончательно стемнеет. – Мессир Венель, скажите, вы не будете оскорблены, если я не буду вас сопровождать? Я… я хотел бы воспользоваться гостеприимством аббатства еще на ночь и утром в одиночестве побыть на могиле Анриетты. Я больше не могу видеть эти лица – почтительные, но лишенные всяких человеческих чувств. Как бы я хотел стереть эти воспоминания из своего разума… – Ну да, я поступаю точно так же, хотя убежден, что плохие воспоминания самые цепкие. Знайте, сеньор бальи, что я соболезную вам от всего сердца. Более того, кто знает, может быть, наши дороги все же пересекутся, связав нас узами дружбы? Разве не странно, что зачастую в самых печальных обстоятельствах люди лучше узнают друг друга? – Это прекрасная и суровая правда. В любом случае будьте уверены, что числить вас среди своих редких друзей будет для меня честью и счастьем. Вне зависимости от обстоятельств. Арно де Тизан протянул руку Ардуину и пожал ее без всяких задних мыслей. – Храни вас Бог и счастливой дороги.17
Ножан-ле-Ротру, ноябрь 1305 годаКогда Ардуин уже на исходе ночи вошел в комнату в таверне матушки Крольчихи, там его ждало короткое послание от Бернадины.
Мой превосходный хозяин, У вас срочная работа в Беллеме. Я сочла за лучшее послать Селестена, чтобы тот присоединился к вам завтра до полудня. Жду не дождусь удовольствия увидеть вас как можно скорее и в добром здравии, не забывая о могучем аппетите.Немного сонная матушка Крольчиха, которая ожидала его возвращения, принесла Ардуину тарелку густого супа, поставив ее, дабы тот не остыл, в углу камина, а также кусок шпика и сыра, расстраиваясь оттого, что трапеза получилась такой скромной. – Что вы, ужин – настоящее чудо, как и ваше любезное внимание. Я голоден как волк. – Вот какой хороший клиент – не какой-нибудь скандалист, о таком и заботиться одно удовольствие! Таверна закрыта, оставьте все на столе. Я займусь этим завтра. А сейчас, с вашего позволения, я пойду спать. Для нас, трактирщиц, утро наступает очень быстро. – Я тоже не стану засиживаться. И еще раз спасибо вам. Матушка Крольчиха, я завтра срочно отправляюсь в Беллем, где у меня… одно дело. Если у вас останется еще немного вашего восхитительного супа, я как следует набью им себе брюхо. Матушка Крольчиха продолжала любезно улыбаться ему, не догадываясь, что это «дело» означало кровь и смерть.Ваша преданная и очень почтительная служанка Бернадина.
18
Беллем, декабрь 1305 годаУтренняя молитва[707] закончилась час назад, когда Ардуин въехал в укрепленный город[708] верхом на Фрингане, который тоже являлся атрибутом его ремесла. Жеребец цвета ночи, высотой добрых пять ступней[709] в холке, представлял собой часть зрелища. Оба они – конь и всадник в черно-красных одеждах смерти и маске из мягкой кожи, закрывающей лицо до самой шеи, – выглядели прекрасными и зловещими. Они двигались вперед, будто кентавр из ночного кошмара. Копыта стучали по мостовой, раскалывая толпу, плотно обступившую эшафот и ожидающую увидеть мучения и смерть живого создания. Фринган не мог быть ни белым, ни серым в яблоках или рыжим. Ему требовалось быть черным, как вороново крыло. Странно, что черный цвет считается цветом смерти[710]. Черные животные повсюду подвергались гонениям. Черные коты считались сообщниками Сатаны, которых сажали на кол у дверей амбаров, дабы отвратить зло. Летучие мыши считались дозорными дьявольского войска, и днем их вылавливали в гнездах и бросали в огонь. Во́роны считались хранителями наихудших тайн, наперсниками всех колдуний. Совы и прочие ночные птицы безжалостно истреблялись за то, что имели несчастье выбрать такое время для охоты. Чернота, ночь… Ночью человек становится таким слабым и таким неуклюжим. Он почти ничего не видит, обладает довольно слабым нюхом и посредственно слышит. Такими качествами ему лучше вовсе не гордиться… человек опасается тех, кто может стать свидетелем его слабости. Поэтому лучший и наименее унизительный выход из положения для него – это нарядить в демонические одежки то, что вызывает у него ужас. Страх – отвратительный советчик. Он делает несуществующие опасности настолько убедительными, что в конце концов забываешь о реально существующих. Что хотела этим сказать та отвратительная старуха? Хватит с него уже всяких загадок и базарных предсказательниц! Ардуин спешился в мощеном дворе особняка, занимаемого помощником бальи Беллема. Тотчас же к нему бросился слуга, который с сердитым и наглым видом набросился на вошедшего: – Ты куда это лезешь, милейший? Что ты себе позволяешь? Садись на свою клячу и проваливай! Бросив на него ледяной взгляд своих серых глаз, Ардуин протянул ему поводья Фрингана, который фыркнул, в свою очередь выражая презрение. – Правосудие Мортаня. И не серди меня, а то ведь я и передумать могу. А моя лошадь не нуждается в твоих оценках. Лучше займись ею как следует, а не то тебе попадет. Мой молодой ученик Селестен уже прибыл? Слуга, который, без сомнения, получил все необходимые распоряжения, поклонился, бормоча: – О,прошу прощения, мессир па… исполнитель Высоких Деяний. Конечно, молодой господин вас ждет в таверне «Влюбленный гусак» на улице Луветье. Это не очень далеко отсюда… – Я знаю, – прервал его Ардуин, мысленно пожелав своему собеседнику хорошо провести время с Фринганом, которому не было равных в искусстве толкать грудью или крупом тех, кто ему не нравится. А затем в качестве коронного номера с угрожающим фырканьем прижать к стене.
* * *
Ардуин был вовсе не в восторге оттого, что пришлось временно заменить в Беллеме Марселя Вуазена, прозванного Душителем Собак[711], умершего от лихорадки прошлой весной. Впрочем, никто здесь не знал, насколько им повезло, – даже помощник бальи Альбер де Клермонтен и его первый секретарь, назойливый толстячок Бенуа Ламбер, который без конца суетился, как курица при виде ножа, обхаживал его и умолял сделать им такое одолжение. Вознаграждение и прочие преимущества были удвоены, к тому же добавили сетье[712] пшеницы к Рождеству и семь локтей сукна к Пасхе. В конце концов Ардуин согласился, настояв на том, что, как только старший из сыновей покойного Душителя Собак, которому сейчас десять лет, сможет через четыре года[713] занять место отца, мэтр де Мортань будет считать свою временную работу завершенной. Ломая руки в отчаянии, Бенуа Ламбер попытался его задобрить: – Но, мессир Правосудие!.. Вы же его знаете. Даже его матушка, принадлежащая к вашему сословию, утверждает, что рука у него вовсе не твердая. Вы отдаете себе отчет, чем это может закончиться? Неверный удар топора позабавит толпу, а вот проклятого негодяя, убийцу, преступника… совсем наоборот. А если обвиняемой окажется хорошенькая женщина? Тогда возмущения толпы будет просто не избежать! – Если она приговорена к обезглавливанию, значит, она, без всякого сомнения, виновна, – возразил Ардуин, в глубине души забавляясь этой ситуацией. – Но ведь… вы только представьте себе… у нее такое миленькое личико, она плачет, умоляет, чтобы ее простили… Согласитесь, это вам не какой-нибудь мерзавец, изрыгающий непристойности и проклятия. И потом, народ ведет себя подобно флюгеру, вам это известно гораздо лучше меня… Нет-нет, мы категорически нуждаемся в такой прекрасной руке, как ваша, прославленной не только по всему королевству, но и за его пределами. Мне известно, что вы совершали свои Высокие Деяния в Италии и в Испанском королевстве[714]. – В других графствах тоже есть неплохие мастера, – иронично заметил Ардуин, более чем уверенный, что те изо всех сил старались избежать назначения в этот город. – Что вы, что вы! Они не настолько искусны, как вы, – заговорил секретарь, жалобно добавив: – Тем более что ни один не ответил на наши срочные послания. Какая жалость, что это ремесло считается таким неприличным! Множество ваших двоюродных братьев и прочих родственников[715] разбогатели и теперь отказываются от своего занятия. – Что вы говорите? Как это скверно с их стороны! Настоящая неблагодарность! – заметил Ардуин, так хорошо скрывая свои истинные чувства, что секретарь, не заметив насмешки, принялся ему усердно поддакивать.* * *
Мэтр Правосудие Мортаня нашел своего юного помощника в таверне. Подросток, не зная, как себя держать, и окончательно смутившись, не осмелился ничего себе заказать. Венель-младший мягко упрекнул его. Юноша ответил: – Мессир, но я не знал, вдруг стакан сидра может дорого обойтись… Ардуин в который раз подумал, что своей культурной речью Селестен обязан матери – очень небогатой вдове, которая из привязанности к своему единственному сыну позаботилась, чтобы тот умел читать и писать и иметь дело со счетами и деловыми записями. Но денег не было, и Селестен, которого из-за небольшого горба на спине не захотели нанять ни на одну ферму, в конце концов согласился занять место подмастерья палача. Разумеется, такая служба не была пределом его мечтаний, но юноше хватило ума и чувства такта, чтобы не упоминать об этом. С губ мэтра Высокое Правосудие чуть не сорвался поток ругательств в адрес юной Клотильды. Никакой признательности за то, что ей дали кров и стол, в то время как другие дети или почти дети тысячами умирают от голода… А впрочем, не важно. К черту эту девчонку! Ардуин переживал, что, если юноша надолго останется при нем, его ждет такая же судьба отверженного, и решил через несколько месяцев выпроводить его, заплатив достаточно денег, чтобы помочь и ему, и его матери. – Напротив, от одного-двух стаканчиков сидра тебе ничего плохого не будет. А вот вина, которое ударяет в голову, туманит рассудок и заставляет дрожать руки, следует избегать. Давай-ка остановимся здесь, а потом узнаем, что за работа нам предстоит завтра. – Мессир Высокое Правосудие, вы, наверное, обидитесь и станете меня ругать… Я… вот… вы благородный и добрый человек… и, я уверен, весьма сведущий… Как… ну, это… Поняв, какой вопрос юноша пытается ему задать и не осмеливается, Ардуин мягко ответил: – Я все время имею дело с кровью, страданиями и смертью. Они не пугают меня и не вызывают у меня отвращения. Мясник забивает скулящее животное, я же – человеческие существа. Привычка, не более того. Когда-то Ардуин согласился принять путь своего отца – и, следуя его урокам, всякий раз облачаясь в черно-красные одежды, погружался в полнейшее безразличие. Куча плоти, нервов и костей, которая плакала, кричала и умоляла на пыточном столе, для него больше не существовала как человеческое существо. А выходя из тюрьмы или из помещения для допросов, он был неспособен вспомнить черты лица обвиняемого, цвет волос и глаз. Чаще всего ему вспоминались ненавистные запахи испражнений, рвоты и горелой кожи, затхлый воздух, пропитанный ужасом и агонией. – А… так как я, видите ли, со всем моим уважением… Я не какой-нибудь слюнтяй, я могу зарезать кролика или курицу… но чтобы человека… а если это окажется еще и женщина… – Я ненавижу резать кур и делаю это исключительно для того, чтобы их съесть. Но когда ты решился убить животное, это необратимо. Другими словами, если б не твое решение, то кролик или курица продолжали бы жить. Я же не выношу приговоров, обрекающих на пытку или смерть. Перед мысленным взором Ардуина прошли те, кого он хладнокровно отправил на тот свет. Венель-младший понимал, что будет нести за это ответственность до самой смерти.* * *
Быстро закончив трапезу, они снова направились в особняк помощника бальи. Селестену было поручено вывести Фрингана из конюшни и оседлать его. Это было не таким уж легким делом, так как черный жеребец никого не признавал, кроме своего хозяина. Ардуин известил о своем прибытии. Тотчас же появился любезный и суетливый Бенуа Ламбер. Помощник секретаря – еще молодой человек, безбородый и румяный – бросился к вошедшему, по своему обыкновению тарахтя скороговоркой: – А, мессир Высокое Правосудие… по правде говоря, вы чуть рановато… А я уже так переживал, что вас все нет. Ламбер принадлежал к той разновидности людей, которые постоянно опаздывают, но которые видят в этом лишь оплошность всех остальных. Ардуин ничего не ответил; он чувствовал в себе первые признаки таких знакомых изменений, сильнейшего ощущения, что сейчас он не принадлежит этому миру. Все становилось ему безразлично. Все было ему теперь не важно. Запыхавшись, Ламбер снова заговорил, делая руками широкие жесты, чтобы поторопить своего собеседника: – Ваша работа ждет вас в моем кабинете. Это совсем недалеко… Непременным требованием Венеля-младшего было, чтобы в Беллеме сохранялся второй комплект его одежд смерти. Это позволяло избежать переездов из Мортаня в Беллем палачу, затянутому в черную кожу и красный шелк, буквально пропитанными болью и отчаянием. – Терпение, мессир помощник секретаря; минутку, за которую, я не сомневаюсь, обвиняемый будет вам очень благодарен. Кто это? В чем он обвиняется? В чем будет состоять моя работа? Я вам уже несколько раз говорил: мне не нравится приступать к делу, не зная всех обстоятельств. Ламберт принялся недовольно кусать губы. Это какое-то ребячество, напрасная потеря времени. В конце концов, этому человеку платят и никто не обязан перед ним отчитываться. Тем более что предстояла очень тонкая работа. Но в то же время маленький толстый человечек прекрасно помнил зачастую не скрываемые угрозы мэтра Правосудие немедленно положить конец своим делам в Беллеме, если его требования не будут выполняться. Ну и что теперь остается делать? Господи, помощник секретаря предпочел бы вовсе об этом не думать, потому что, откажись Ардуин выполнять эту работу, замену пришлось бы выбирать из жителей местечка. А это вызвало бы неудовольствие среди них. Обитателям Беллема хотелось видеть смерть в красивом обличье, при этом не марая руки в крови. Сложив губы куриной гузкой, секретарь ответил таинственным шепотом: – В моем кабинете, и умоляю вас, мессир Высокое Правосудие… вам доверена важная тайна… ужасное дело… нет, все еще хуже… тсс… о! в самом деле, тсс… Раздираемый любопытством и тщательно удерживаемыми взрывами смеха, Ардуин последовал за ним. Закрыв за ними дверь, Ламбер приложил ухо к двери будто конспиратор, опасающийся шпионов. Затем быстро замахал рукой, подавая Ардуину знак следовать за ним в другой конец комнаты, а затем торопливо зашептал: – Чудовищное дело, просто невероятное. Приговоренный из высшего сословия. Ожидается ужаснейший скандал. О, боже милосердный, этот негодяй, этот проклятый злодей прямо у вас под носом! – Но кто же это? – Ангерран де Сильплесси! Кажется, Ардуин где-то уже слышал это имя. Очень богатая семья, уважаемая в этих краях. Ангерран де Сильплесси был красивым мужчиной лет пятидесяти или даже больше, считался нелюдимым, особенно после того, как снова стал вдовцом. Но, несмотря на это, его репутация была неплохой. В памяти мэтра де Мортань всплыло еще одно воспоминание. – Это ведь тот, кто прошлой весной женился на Од де Клермонтен? Одной из дочерей вашего помощника бальи, сеньора Альберта? Закрыв себе рот рукой, Ламберт со слезами на глазах пробормотал: – Да, это так… О господи, какой ужас! Какой чудовищный скандал! Сеньор Альберт де Клермонтен этого не перенесет. Он так исхудал, я так беспокоюсь о нем. Ардуин подумал, что скорее всего Клермонтен потерял едва ли половину своего жира и защечных мешков, что вряд ли можно считать достаточным поводом для беспокойства. Помощник бальи всегда напоминал ему бочонок на коротких ногах. – Хм… и в чем же обвиняется Ангерран де Сильплесси? – Колдовство, осквернение скульптур, поклонение Сатане и его демонам, похищение детей, насилие, убийства… – Черт возьми, – выдохнул Ардуин Венель-младший, сразу становясь серьезным. – Вы в этом уверены? Ведь речь идет о человеке из высшего общества, благополучном, богатом… Что могло бы побудить его продать душу дьяволу? – Вечная жизнь, – ответил помощник секретаря дрожащим голосом. – А, все та же сказка для слабых умов… И он признался в этом без воздействия… моего искусства? – удивился мэтр Правосудие. – Еще как! И при этом был горд, как петух на заборе! – возмущенно выдохнул толстячок. – Он хвастался всеми чудовищными делами, которые натворил, он наслаждался, рассказывая нам, какая сила пробуждалась в его чреслах, когда кровь зарезанных девочек лилась на обнаженное тело… Ах, меня едва не вытошнило, а мессир Клермонтен был белее полотна, без сомнения думая, чего избежала его дражайшая дочь! Что же касается сеньора инквизитора, которого позвали выслушать признания этого демона, то он все время не выпускал распятие из руки. Этот проклятый Сильплесси уверен, что будет воскрешен повелителем преисподней. Поэтому он убежден, что не ощутит никакой боли от пыток. – О, именно таких клиентов я и предпочитаю: самодоволен, глуп, не раскаивается в своих преступлениях, которые невозможно простить, – иронично протянул Ардуин. – Мне просто не терпится вывести его из этого заблуждения. – Э… понимаете, мессир Высокое Правосудие… это… – Он не должен орать в общественном месте, а также произносить непристойности в адрес демуазель Од и ее отца? – Именно! Я как только подумаю, что это чудовищное порождение ада примется перед судьями и перед всеми нами распускать хвост, будто павлин, хвастаться своими гнусными преступлениями… При этом забавляясь… Послушайте, ведь он этим и вправду забавляется! – уже кричал Ламбер, красный от гнева. – Знаете, мессир Правосудие Мортаня… мне редко случалось кого-то ненавидеть. Все, кому я писал приговоры после того, как судьи и помощник бальи вынесли решение, обладали какими-то человеческими чертами. У некоторых виной были жизненные обстоятельства, но здесь не существует и такого слабого оправдания. Я присутствовал на судебных заседаниях и часто испытывал сожаление. У обвиняемого нередко была настолько горестная судьба, что должно было произойти настоящее чудо, чтобы он в конце концов не оказался прикованным к нашей скамейке. Но этот… Его даже не назовешь созданием Божьим. Он забавлялся, уверяю вас, с удовольствием вспоминал обо всех совершенных им убийствах, обо всех мучительствах, постоянно упоминая, какую власть даровал его хозяин с козлиной задницей. А так как это инквизиторский процесс, то есть тайный, я не могу рассказать вам всего. Но все это просто тошнотворно, клянусь вам! – Отлично, сейчас мы объясним Сильплесси, что удовольствие мимолетно, а вот страдание бесконечно, – прошептал Ардуин. Он внимательно посмотрел на совершенно потерявшего голову человечка, на его детские щечки, сморщенные от ужаса и отвращения. Несмотря на все усилия забыть, Ламбер вспоминал, до чего может дойти человеческая жестокость. Ардуин знал об этом более чем достаточно. Однако он научился выкидывать из памяти последний звук, последнюю картину увиденного точно так же, как смывал кровь со своих рук и лица. Кровь другого человека. Впервые за все время их знакомства помощник секретаря не казался Ардуину похожим на бестолково крутящийся волчок. Бенуа Ламбер вынул из своего бюро небольшой свиток с печатью помощника бальи Беллема. – Вы сами уже, конечно, об этом догадались: сеньор помощник бальи ни в коем случае не желает никаких retentum[716] для обвиняемого, о чем и уведомляет вас в конфиденциальном порядке. И вообще, он приложил величайшие усилия, чтобы не прикончить этого негодяя своими руками. Ардуина это ничуть не удивило. Немногие знали о существовании retentum – своеобразном выражении снисхождения для тех, кого сочли достойным этой милости. В таких случаях сеньор бальи добавлял внизу приговора одну строчку – для исполнителя Высоких Деяний, давая указания, например, сократить мучения приговоренного до одного часа вместо двух или даже потихоньку сломать шею приговоренному к смерти на костре правосудия перед тем, как поджечь солому, закрывающую дрова. Других, чаще всего женщин, опаивали до такой степени, что те даже не понимали, что над ними взлетел топор и что отрубленная голова сейчас покатится по доскам эшафота. – В любом случае, – продолжил месье Ламбер, – Ангерран де Сильплесси принадлежит к высшему дворянству. Поэтому, чтобы избежать щекотливых вопросов и бесчестия, которое неминуемо падет на эту семью, а также на все дворянство нашего края, после… вашей работы, которая ни в коем случае не станет достоянием широкой публики, обвиняемого нужно будет снова одеть и обезглавить мечом. – Сомневаюсь, чтобы он был достоин того, чтобы его обезглавил мой Энекатрикс, – заметил Ардуин, имея в виду свой меч с лезвием в форме листа, безупречно служивший ему в его зловещем ремесле. – Да он недостоин и веревки, – злобно прошептал помощник секретаря. – Позвольте мне переодеться, – произнес Венель-младший. – Да, пожалуйста, прошу вас, мессир… Бенуа Ламбер, сейчас как нельзя более напоминающий перекормленную мышь, торопливо засеменил к двери, но вдруг остановился и добавил: – Процедура несколько необычная, но нам кажется предпочтительным, чтобы не беспокоить вас два раза и не задерживать в нашем городе, чтобы казнь состоялась до вечера – разумеется, после… остального. Мэтр Высокое Правосудие с трудом удержал улыбку. Альбер де Клермонтен хотел покончить с этим как можно скорее из ненависти к Сильплесси – и особенно чтобы избежать из уст обвиняемого случайного упоминания об Од и других членах его семьи.* * *
Мэтр Правосудие Мортаня натянул обтягивающие штаны из черной кожи, застегнул камзол кроваво-красного цвета, на котором брызги крови не так заметны. Поверх он надел нечто вроде кожаного передника с рукавами, застегивающегося на спине. Его он использовал только при казнях, после всего остального. Наконец, приложил к лицу черную маску. Глубокий вздох. Он качнулся в другой мир, где не существовало никого и ничего, кроме нескольких часов, которые он должен провести в комнате для допросов, а затем на городской площади. Часы, которые, когда Ардуин снова вернется в мир живых, не оставят и легкого следа в его памяти. Так же незаметно, как лепесток падает на пыльную землю или в море вливается еще одна капелька воды. Он подошел к Селестену, когда тот уже застегнул широкий пояс поверх черной кожаной туники. Форма подмастерья палача также покрывала его с головы до ног, подобно огромной маске. Они вышли с мощеного двора. Их появление на улице вызвало почтительную тишину, которая сопровождала их до самого замка. Прохожие прижимались к стенам домов, чтобы дать им пройти; какая-то кумушка спрятала ребенка в своих юбках, будто желая защитить его, торговки опустили головы, чтобы не видеть Ардуина с его помощником. Охранники, которые ожидали, когда можно будет поднять решетку, без единого слова пропустили их, опасливо посторонившись, будто боялись подхватить от них какую-то заразу. Ардуин Венель-младший в сопровождении Селестена спустился по каменным ступеням, ведущим в камеры, устроенные в подвале замка. Утренний свет еле просачивался сквозь отдушины, превращаясь в густые сумерки. Ардуин вспомнил о юноше, которого он из милосердия прикончил здесь несколькими неделями раньше. Он будто снова увидел его мать, убивающуюся от одной мысли, что ее сына будут мучить и казнят за то, что тот хотел защитить ее от побоев супруга – грубияна и пьяницы. В этот момент его затылка коснулось теплое дыхание. Ардуин был убежден, что это Мари де Сальвен тогда пришла на помощь молодому человеку. Как же его звали, того, кому он сломал шейные позвонки, чтобы спасти от гораздо худших страданий? Он это давно забыл. А впрочем, разве это имеет какое-то значение? Стражник направился к ним, подняв светильник[717], и почтительно спросил: – Мессир Правосудие? По поводу монсеньора Сильплесси? – Совершенно верно. Пожалуйста, проведите нас к нему. Стражник направился по коридору с земляным полом и сводчатым потолком. Они проходили мимо тесных ниш, вырезанных в скале. В них человек не мог стоять в полный рост. Стражник заметил: – Я отвел его в комнату для допросов. Он предлагал мне круглую сумму за то, чтобы я помог ему сбежать, и даже за то, чтобы я одолжил ему оружие, дабы он смог покончить с собой до вашего прихода. Но я не стану брать деньги у демона! С этими словами он с ненавистью плюнул на землю. Ардуин едва удержался от коварного замечания, которое буквально висело у него на кончике языка: «Это потому, что ты еще не видел, сколько он мог бы тебе заплатить!» Впрочем, какое ему до этого дело? Стражник, немного разочарованный, что его не похвалили за честность, снова заговорил: – Это я так думаю. Чтобы вам избежать всяких там криков. – О, я полагаю, монсеньор Ангерран де Сильплесси достаточно воспитан, чтобы не оскорблять наш слух. Когда они приблизились к толстой двери с перекладинами, сплошь обитой гвоздями, Ардуин произнес: – Спасибо за помощь, милейший. Так как Сильплесси теперь стал секретным узником, мы войдем туда одни. – Ну да, конечно, не беспокойтесь! Мне не особенно-то и охота толковать с прислужником Сатаны. Если что, я тут неподалеку. Понадоблюсь – только крикните. И вот еще что: я развел огонь перед самой заутреней, сейчас там уже славные угольки.* * *
Обнаженный до пояса, Ангерран де Сильплесси стоял у стены, подняв руки, которые были за запястья прикованы к ней короткими цепями. На губах у него играла улыбка победителя. При виде вошедших он воскликнул насмешливым тоном: – А, палач, наконец-то! Я вас уже было заждался, любезный. Ничего не ответив, Ардуин жестом указал Селестену поставить свою ношу на землю и разложить инструменты на столе возле очага, в котором уже ярко краснело раскаленное железо. – Монсеньор де Сильплесси, давайте, не теряя времени, приступим к делу. – Ничтожество, жалкий презренный червь, – презрительно бросил тот. – Неужели ты думаешь, что напугал меня? Да ты ничто по сравнению со мной. Ничто не может меня испугать, и ничто не может меня задеть. У меня такой покровитель, о котором ты не имеешь ни малейшего понятия. – Дьявол? – насмешливо фыркнул мэтр Правосудие Мортаня. – Лучше тебе оставить свой самодовольный вид. Ты даже не знаешь, насколько далеко простирается его власть. – Ну, конечно, несуществующая… Это мне столько раз уже случалось доказывать на этом столе. И знаешь почему, человек? Что ему здесь делать среди прогнивших никудышных душонок, которыми он и так завладеет без всякого труда? Чего ради он должен за них еще и платить? Дьявол старается соблазнить чистые души, даже если его и забавляют отбросы вроде тебя. Хочешь, чтобы я тебе это доказал? Даже не ожидая ответа, он взял длинным пинцетом один из тлеющих красно-белых углей, сложенных на решетке, стоящей на подставке для дров. Затем в несколько шагов пересек комнату и прижал уголь к щеке де Сильплесси. Раздался звериный вой. По комнате распространился запах горелой кожи. Ардуин заметил самым любезным тоном: – Ну что, начали? Я оставляю тебе достаточно времени, чтобы вызвать своего хозяина. Второй уголек обжег обнаженное плечо Ангеррана де Сильплесси. Пронзительный вой перешел в рыдания. – А вот так? Что же твоего покровителя до сих пор нет? Не очень-то любезно с его стороны, – иронично заметил Венель-младший. – Давай же, позови его сюда, пускай явится это животное с рогами, змеиным хвостом и козлиными копытами. И про зловоние не забудь! – Дьявол, мой хозяин, существует, ты еще пожалеешь!.. – Я и не сомневаюсь, что он существует. Но он намного умнее и хитрее, чем ты думал, жалкий безумец. Ты хотел вечной жизни? А получишь ужасную смерть, такую же, на какую ты обрекал тех девочек… Селестен, пожалуйста, рычаг и затычки. Юноша вложил в протянутую руку два маленьких кожаных цилиндра и металлический стержень, согнутый под прямым углом. Мэтр Правосудие Мортаня обратился к Сильплесси: – Что, если я попрошу тебя пошире открыть рот, дабы вырвать тебе язык, ты меня послушаешься? Понимаю, это ужасно больно, но тогда ты больше не сможешь изрыгнуть ни желчи, ни отвратительной лжи. К тому же это должно нам помочь. Узник судорожно сглотнул. Вся его спесь моментально исчезла. Заикаясь на каждом слове, он переспросил: – Вырвать мне язык? – Именно так! Не беспокойся, хозяин сейчас тебя спасет… Все, хватит этих глупостей! И, пожалуйста, избавь меня от своего нытья. Слезы способны растрогать меня, только если текут из женских глаз. В конце концов, что значит какой-то язык? Селестен, ты можешь выйти. Я кликну тебя, когда ты будешь нужен. Юноша не заставил себя просить дважды. Он направился к двери со словами: – Я буду за дверью, мессир. Э… благодарю. Точным движением Ардуин вставил затычки в ноздри де Сильплесси и направился к столу с инструментами. Там он взял тяжелые плоские клещи. Незачем зря тратить силы, клиент быстро начнет задыхаться и приоткроет рот. Это уже было видно по его лицу, которое быстро стало темно-бордовым. Сильплесси глубоко вздохнул, и Ардуин просунул ему в рот металлический стержень; с его помощью он приоткрыл рот мужчине, который пытался отбиваться и уворачиваться, насколько позволяли удерживающие его цепи. Комната для допросов наполнилась оглушительным звериным воем – это Ардуин изо всех сил потянул клещами язык узника. Некоторое время он разглядывал кровавый кусок человеческой плоти, а потом бросил его в очаг, пояснив: – Как бы уличные собаки не заболели от такой пищи. Кровь хлестала изо рта Сильплесси; он рыдал, всхлипывал, пачкая свой обнаженный торс. Мэтр Правосудие Мортаня бесцеремонно положил руку на его мужской орган, удивленно спросив: – Господи, а это еще что такое? Что-то дряблое и мерзкое, как улитка… Уж не врал ли ты судьям, рассказывая, каким твердым делался твой член, когда кровь зарезанных девочек стекала тебе на грудь? Впрочем, он тебе больше не пригодится. Из горла узника вырвалось нечто вроде хриплого рычания. Ангерран де Сильплесси уставился на Ардуина безумным, полным ужаса взглядом. – Теперь ты все понимаешь? Ты, безумный злодей, гнусный мерзавец… Перейдем к наказанию за изнасилование, жестокое обращение и убийство детей. Кастрация[718]. Ну, держись!.. Слезы стекали на перемазанные кровью щеки того, кто дерзнул считать себя выше человеческих законов и, что еще хуже, выше самого Господа Бога. – Теперь ты уже не так самоуверен, да? Собери немного чести, которая у тебя осталась, чтобы умереть достойно. Тебя забавляли слезы твоих маленьких жертв? А вот мне от твоих ни жарко ни холодно. Ардуин потянул за завязку пояса тюремных штанов[719] обвиняемого. Одежда упала к его скованным ногам. По телу Сильплесси пробежала крупная дрожь, затем оно выгнулось дугой. Лязганье цепей смешалось с неразборчивыми жалобами. – Сохрани свою храбрость до суда. Твой приговор будет исполнен в murus strictus[720], и ты будешь обезглавлен, а не отправлен на костер, как остальные колдуны вроде тебя, – из уважения к тем, кто носит то же имя, что и ты. Мэтр Правосудие Мортаня вытащил из ножен длинный кинжал и наклонился над обвиняемым…* * *
День уже клонился к вечеру, когда Фринган, в седле которого сидел Ардуин, а на крупе – юный Селестен, проложил себе дорогу через толпу, собравшуюся перед эшафотом, несмотря на влажный холод, пробирающий буквально до костей. Все расступились, чтобы освободить дорогу жеребцу цвета чернее ночи, который шел медленным торжественным шагом. Мэтр Правосудие Мортаня в тысячный раз прочел на лицах людей то же самое сочетание различных чувств: отвращение к нему и жгучее любопытство к спектаклю смерти, о котором объявили глашатаи. Не каждый день кому-то из высшего дворянства отрубают голову, особенно если тот обвинен инквизиторским трибуналом. Каждый строил по поводу этого свои домыслы: черные мессы, оргии, блуд с животными… Некоторые положа руку на сердце утверждали, что давно обо всем догадывались; кто-то громко сожалел, что зрелище ограничится только обезглавливанием. Одним словом, все радовались предстоящему развлечению. Мэтр Правосудие Мортаня со своим помощником спешились у самого эшафота. Ардуин преклонил колени перед священником, который благословил его и отпустил грехи. Затем он вскарабкался по узким ступеням, ведущим наверх, вынул из ножен Энекатрикс и поцеловал лезвие, на котором было выгравировано: Eos diligit et suaviter multos interficit[721]. Тихим шепотом мэтр де Мортань попросил у него прощения за то, что вынужден будет осквернить его нечестивой кровью. Под градом криков, оскорблений, плевков и непристойных возгласов ломовые дроги, которые тянули лошади из Перша, въехали на площадь. Ангеррана де Сильплесси, который не мог стоять на ногах, поддерживало двое стражников. Они потащили его и почти бросили перед священником, который перекрестил его, инстинктивно сделав шаг назад, но все же нашел в себе силы спросить: – Раскаиваешься ли ты? Раскайся, ибо конец твой близок. Произнеси слова раскаяния, и ты будешь спасен. Но лишь слабый хрип раздался изо рта того, кто еще недавно был важным сеньором. Священник понял, что у приговоренного нет языка и что тот находится в бессознательном состоянии из-за потери крови вследствие кастрации. В ужасе он пробормотал: – О господи… Боже милосердный… я больше ничего не могу для тебя сделать. Никто не увидел недовольной гримасы мэтра Правосудие Мортаня, скрытой под маской. Бенуа Ламбер объявил громким голосом: – Ангерран де Сильплесси, вас судили и приговорили за колдовство и многочисленные неслыханные и омерзительные преступления, а также за демонопоклонничество. Несмотря на ваше дворянство, ваши останки будут повешены на городской виселице[722], а ваше имя будет вычеркнуто из списков во всех церквях. Ваше бесчестье касается только вас, поэтому трибунал в своей мудрости и милосердии не станет лишать членов вашей семьи титула и привилегий, их имущество и владения не будут конфискованы. Да будет так. Речь была встречена аплодисментами. В карманах инквизиторов, которых боялись и ненавидели, не исчезнет громадное состояние. Стражники втащили Ангеррана де Сильплесси на эшафот и поставили на колени перед деревянным чурбаком, на который тот опустился в полубессознательном состоянии. Ардуин Венель-младший тихо сказал ему: – Выполняя свой долг, я отниму твою жизнь. Я не прошу у тебя прощения, так как ты не мой брат во Христе. Я советую тебе как следует вытянуть шею – не для того, чтобы избежать страданий, а для того, чтобы поберечь мое прекрасное лезвие. Энекатрикс взлетел, сверкнув подобно молнии, и опустился на того, кто присвоил себе право ради своего удовольствия мучить и убивать человеческие создания.* * *
Мэтр Правосудие Мортаня получил жалованье за свою работу, и Бенуа Ламбер теперь больше всего на свете хотел, чтобы тот как можно скорее исчез с глаз долой. Усадив Селестена на круп своего жеребца, Ардуин выехал из прекрасного укрепленного города, окруженного обширным лесом. Пять веков назад этот город доблестно отбивался от скандинавских завоевателей, зарившихся на все Французское королевство. Роскошный, изобильный город, который притягивал то французского короля, то могущественного герцога Норманнского, все расширялся. – Скоро стемнеет, – заметил Ардуин. – Примерно через четверть лье будет таверна, там мы остановимся и передохнем. – Еще один, пойманный Лукавым в свои сети, – заметил юноша. – Еще один, кто служил Лукавому, чтобы удовлетворить свои нечистые склонности, – поправил его Ардуин. – Но разве не вы говорили о присутствии дьявола в этом мире, мессир? – Напротив, я встречал много созданий гораздо худших, чем он.19
Ножан-ле-Ротру, декабрь 1305 года, в то же самое времяПроведя совет, как два грозных стратега, мадам Беатрис де Вигонрен и Мартина решили, что самым лучшим будет удостовериться, что Эсташ находится в том доме, дабы служанка могла как следует порыться там, не опасаясь столкнуться с ним нос к носу. Мартина отправилась туда в тот же день, надев широкую накидку и закутавшись во множество одежек, так как день ожидался холодный. Под тем предлогом, что городские улицы очень тесные, Мартина приказала слуге, который управлял лошадьми, везущими легкую повозку, ждать ее на мосту Роны в конце улицы Сент-Ландр. В самом деле, некоторые улицы были настолько загромождены, особенно улица мясников и улица Роны, что там не могли разъехаться даже две тележки. Частенько это вызывало скандалы, причем обе стороны осыпали друг друга непристойной бранью и весьма чувствительными оскорблениями, переходящими в угрозы и обмен оплеухами. Несмотря на то что эти небольшие стычки и длинные ругательные тирады обычно забавляли Мартину, сейчас у нее не было времени наслаждаться ими. Будучи женщиной здравомыслящей, она размышляла о своем порыве, под влиянием которого предложила баронессе-матери использовать себя в качестве шпиона. Причиной тому были признательность и настоящая привязанность. Мартина вовсе не жалела о своем поступке. Она поздравляла себя: получилась утонченная хитрость. Во всяком случае, безопасность и благополучие ее старушечьего существования зависели лишь от судьбы, а также доброты мадам Беатрисы и Агнес. Мартина направилась вперед прогулочным шагом, иногда украдкой кидая взгляды назад, чтобы удостовериться, что слуга, снедаемый неуместным любопытством, не последовал за ней. Она спустилась по улице Порт-Ривьер и направилась по улице Оре, где возвышались роскошные особняки в два этажа и с шиферными крышами. Свернула направо, затем снова направо, чтобы оказаться неподалеку от собора Сен-Жан[723], после чего снова поднялась по улице Роны и с видом праздношатающейся кумушки стала неторопливо прогуливаться, останавливаясь перед витринами и лотками торговцев. Мадам Беатрис вручила ей два турских денье, чтобы она купила себе каких-нибудь безделушек, и Мартина размышляла, на что бы их лучше употребить. Два денье – это вам не что-нибудь! Старая служанка боялась сделать необдуманную покупку, о которой потом будет жалеть. Ну и ну! У этого мошенника Мартине новые жировые свечи[724]. Вот ведь животное! Этот негодяй разбавляет жир быков – единственный, из которого разрешено делать свечи на продажу, – и добавляет туда бараний жир и даже свиной! Изобличенный одним из своих подмастерьев, которого недавно поколотил палкой, Мартине увидел, что к нему направляются стражники. Последовало зрелище, которое всегда пользуется успехом у зевак и ротозеев[725]. Люди бальи бросили все свечи на землю, тайком забрав несколько себе, и раздавили весь товар каблуками. Мартине был арестован и брошен в темницу, пока не заплатил значительный штраф. Затем ему было строго-настрого велено переехать и не показывать свою плутовскую рожу в городе по той неоспоримой причине, что «жульничество в свечном ремесле слишком убыточная и скверная вещь для всех». Судя по всему, новый свечной мастер только что перекупил помещение. Мартина удовлетворенно вздохнула. Может быть, купить несколько свечей в свою комнату под самой крышей? Хотя нет, это был бы расточительный каприз с ее стороны – ведь она не платила за масло для ламп, которые ей предоставлялись. Старушка продолжила свой путь и через несколько туазов остановилась перед лавкой аптекаря. Она была старой, но все-таки женщиной. С бьющимся сердцем, охваченная жаждой кокетства, Мартина вошла в лавочку. Тотчас же аптекарь мэтр Серин поспешил навстречу, вежливо приветствуя посетительницу. – Какое счастье видеть вас в таком добром здравии, матушка Мартина! – воскликнул он и тотчас же с похоронным видом продолжил: – Как себя чувствует ваше превосходное семейство? Да, мне, конечно, известно… – Проклятая Маот! Демон, а не женщина! Не пустят эту змеищу в рай, уж помяните мое слово! Мадам Беатрис из-за всего этого так переживает… Но она такая храбрая! Еще не родился тот, кто из нее мог бы веревки вить. К счастью, Святая Дева простерла свою защиту над маленьким Гийомом, и ваши притирания[726] вместе с заботами мудрого доктора Мешо совершили настоящее чудо. Аптекарь гордо выгнул грудь колесом. Этот симпатичный мужчина сорока пяти лет от роду выглядел намного моложе благодаря густым темным волосам и чистой коже, за которой он ухаживал с помощью средств своего приготовления[727]. Клиенты особенно доверяли аптекарю, у которого все зубы были на месте, да притом такие белые, что удивительно для его возраста. Мартина снова заговорила: – Мэтр Серин, хозяйка послала меня за покупками. Ее вода для рта[728], тем более ваша… – Корица, мускат и дикий ревень, остальное – мой секрет! – Еще нужен крем для лица, для шеи и для рук… по две баночки, – продолжила Мартина, дрожа от удовольствия. На два денье она вполне могла себе позволить набор кремов, который оставит для себя, а еще чепчик, украшенный очаровательной вышивкой – цветами, который она видела у галантерейщика, когда последний раз наведывалась в город. Носить такой будет особенно приятно, потому что руки у нее стали неловкими и больше не в состоянии держать иголку с ниткой. И потом, даже если она немного превысит предел дозволенного, мадам Беатрис не станет на нее сердиться… – А еще… большой пакет порошка для дыхания… – О, лосьон для рта будет лучше, хотя он и намного дороже, – заметил аптекарь. – Зайду, когда у моей хозяйки он закончится, – солгала Мартина. – Отлично, тем более что мой порошок так же хорошо очищает и освежает, как комнатные пряности[729], которые вам продают по совершенно бессовестной цене, уверяю вас! Мартина вышла, задыхаясь от смеха, с полными пакетами дамских штучек. Тем более что она не была обделена мужским вниманием. Боже милосердный, какое удовольствие покрыть себе кожу ароматным и маслянистым цветочным кремом! Это ее так развеселило, что она отправилась за следующей покупкой. Китовый ус Маленье![730] Она снова спустилась по улице Роны и вошла под портик какого-то здания. Осторожно осмотревшись по сторонам, чтобы убедиться, что во дворе никого нет, кроме нескольких кур и привязанного на цепь поросенка, который внимательно смотрел на нее, удивленный этим вторжением, Мартина сняла свой накрахмаленный батистовый чепец, по которому сразу можно было узнать в ней служанку из хорошего дома или зажиточную торговку, и вынула из сумки другой – из толстого льна грязно-белого цвета, какой носят крестьянки. Сложив свою коричневую накидку, подбитую кроличьим мехом, вынула широкое пальто из грубой шерсти, затем повязала старую, совсем вытертую сине-фиолетовую шаль так, чтобы та закрывала шею и низ лица. После этого она вышла из двора, сгорбившись и волоча ноги, – ни дать ни взять, нищая старуха, каких полно в городе. Начал падать мелкий холодный снег, и хитрая служанка поздравила себя с этим. Теперь у нее есть причина опустить голову, к тому же на улице почти никого не осталось. Зеваки, уличные торговцы и все прочие нашли хороший предлог заглянуть в какую-нибудь таверну, чтобы хорошенько подкрепиться. Зажмурившись от падающих с неба крохотных холодных снежинок, Мартина разглядывала здания в конце улицы Роны. Затем она остановилась перед портиком, над которым висел потухший фонарь. Его окна, затянутые свиным пузырем, были выкрашены суриком. Должно быть, когда за ними зажигают масляный светильник, они начинают ярко светиться красным. Лупанарий[731], причем выглядит очень неплохо[732]. Скорее всего его устроили здесь недавно, так как раньше она ничего подобного не замечала. Напротив возвышалась все та же невзрачная таверна «Расчесанная собака», куда входили и выходили клиенты. Мартина колебалась всего несколько мгновений. Она много раз проходила мимо, но никогда не была в этой харчевне. А что, если там ее разоблачат? В такое место никто из женщин не заходит, за исключением танцовщиц и случайных шлюх, которых профессионалки и их сутенеры пинками выгоняют на улицу, дабы положить конец такой бесчестной конкуренции. Но она достаточно стара, чтобы кто-то обратился к ней с непристойным предложением. И потом, она еще вполне может выкрутиться с помощью какой-нибудь хитрости или дерзости. Кроме того, мадам Беатрис рассчитывает на нее. Итак, вперед! Мартина спустилась по ступенькам, ведущим в зал таверны, что оказалось нелегким занятием для ее старых ног, лихорадочно прикидывая, кем ей предстать: маленькой незаметной мышкой или приветливой кумушкой с луженой глоткой – развлечение, которое особенно ценят завсегдатаи подобных заведений? В это время перед полуденным перекусом в большом зале в ряд у изжелта-серой стены, выпачканной в саже, сидели несколько клиентов. В воздухе витали тяжелые, невероятно затхлые запахи старых соусов, вареной рыбы, кухонного чада и уборной, которая, судя по всему, находилась во внутреннем дворике. Чуть пожав плечами, Мартина решила: к дьяволу незаметную серую мышь! Она выбрала центральный столик, чтобы хорошо слышать все, что говорится вокруг. Бросив быстрый взгляд вокруг, успокоилась: никаких горластых пьянчуг и бесстыжих девок в сильно декольтированных платьях. Состроив насмешливую улыбку, Мартина принялась ждать. Хозяин, мэтр Расчесанная Собака, подкатился к ней с не особенно любезным видом. Вот только всяких оборванцев в его заведении еще не хватало! Заранее избегая споров, Мартина выложила денье на стол, покрытый разводами от соуса и круглыми пятнами от кружек. Это тотчас же успокоило трактирщика, тут же изменившего о ней свое мнение. Скупердяйка, которая носит одежду, пока та не расползется прямо на ней, но которая в состоянии оплатить свой счет. Ее денье тоже заслуживает внимания! – Трактирщик, кувшин самого лучшего вашего вина и маленькое блюдо пирожков с сушеными фруктами или с мясом или хоть какого-нибудь печенья[733]. А что, вы меня заставите заплатить и за это мокрое грязное полотенце на столе? Если только это не ловушка для мух… Как сядут, так сразу и прилипнут всеми лапками. Справа раздался взрыв смеха, какой-то мужчина заорал: – А мне нравится эта старуха! Как она его срезала! Раз уж ты все равно здесь, трактирщик, поменяй заодно и наше. Хотя слово «старуха» не особенно понравилось Мартине, она заговорщицки покосилась на мужчину с объемистым брюхом под толстым кожаным передником, сидевшего за соседним столом в компании двух молодых парней. Скорее всего кузнец или торговец скобяными изделиями со своими помощниками. Очень недовольный, мэтр Расчесанная Собака направился на кухню, брюзжа и волоча ноги. Мартина обратилась к своему соседу: – А там, через дорогу, это лупанарий, верно? Удивленный, что такой вопрос ему задала женщина, но, рассудив, что в таком возрасте уже многого перестаешь стыдиться, он, отдуваясь, ответил: – Он самый. Неплохое заведение, девочки чистенькие и симпатичные. Тех, кто цепляет на себя болезни Венеры, прогоняют в грязные бордели для всяких голоштанников. – Разумная предосторожность, – заметила Мартина. – Но у окрестных домов вовсе не бедный вид. Должно быть, их обитателям не очень-то по душе соседство такого… заведения. – Это точно. Года два назад их стали ограничивать. На несколько туазов больше – и запросто отправят в веселый квартал. А по ночам там настоящий грабеж. А что до обитателей соседних домов, так у них нет причины проявлять недовольство: от лупанария ни скандалов, ни чего-то оскорбительного для взора. Девок за его пределами никогда не увидишь. – Интересно, почему? Вопрос был встречен новым взрывом смеха. – А это потому, что клиенты заведения не хотят, чтобы у них были неприятности. Как я уже сказал, девки здесь чистенькие. И потом, у содержателя этого дома мозги вовсе не в заднице! Он нанял несколько здоровенных мужиков, бывших солдат, которые всяких проходимцев и воришек отпугивают одним своим видом. А жители этого квартала благодарны; теперь стало гораздо безопаснее, чем когда улицы охраняли только люди бальи. Тех-то, если что, не дозовешься, а эти всегда на месте… – Убедительный довод, – совершенно искренне заметила Мартина. Снова появился мэтр Расчесанная Собака, который даже и не подумал о справедливости высказанного ему замечания. С оскорбленным видом расставив на занятых столах полотенца на валиках, он брюзгливо поинтересовался: – Ну что, нести вам кувшин и блюдо? – А зачем еще, черт возьми, я, по-вашему, пришла в таверну, как не затем, чтобы поесть и утолить жажду? Помрачнев еще больше, трактирщик не выдержал: – Пахнет от вас не больно-то приятно! Мартина парировала с ироничным выражением лица: – Я-то еще ничего, а вот только глянешь на ваш передник и руки, так сразу поймешь, что по чистоте вам далеко до детского дыхания! Шутка была встречена громовым ржанием, раздавшимся сразу из трех глоток. Направо парочка неопределенного возраста, которая молча пила и казалась скучнее дохлых крыс, энергично закивала в знак одобрения. Увидев, как трактирщик огорченно опустил голову, Мартина ощутила слабый укор совести, но голос интуиции твердил ей, что она правильно поступила, устроив это представление. Помахивая полотенцем, хозяин снова удалился с крайне смущенным и расстроенным видом. – Вы – славная тетка с острым язычком, – заметил тот, кого она мысленно назвала кузнецом. – Вы мне так напоминаете мою дорогую матушку, упокой Господь ее душу! С ней было не соскучиться. – А вы, приятель, тоже что надо! Человек, который угощает своих молодых помощников, не может быть плохим. – Да ну что вы, мне это только в радость, – протянул тот, весело хлопая руками по ляжкам. – Я – Бастьен Крессон, бондарь. – Анелет Тейландье, бывшая златошвейка, что сразу видно по моим рукам. Я в Ножане проездом. Здесь моя старая подруга, ей не так уж много осталось. – Увы, все там будем… – Печальная правда, но все же пусть это произойдет как можно позже! Мэтр Расчесанная Собака появился перед ней и поставил на стол блюдо отвратительного вида печенья, кувшин вина и стакан. – Угощайтесь. – Черт побери, что за дрянь вы мне притащили! Если этой ночью у меня будет заворот кишок, я знаю, кого за это благодарить. Трактирщик раздраженно пожал плечами и снова потащился на кухню. Понизив голос и повернувшись к Бастьену Крессону, Мартина спросила: – А этот хозяин лупанария, о котором вы говорили, он из Ножана? – Берите-ка свой стакан и подсаживайтесь к нам, а то неудобно говорить, когда так выворачиваешь себе шею. Старая служанка не заставила себя просить дважды. В голове Мартины как будто прозвучал тревожный сигнал. Она улыбнулась двум молодым подмастерьям; те безмолвно кивнули ей в ответ, снедаемые тем же самым живейшим любопытством. – Да я и сам толком ничего не знаю. Его здесь нечасто видят. Он человек очень скрытный. Приезжает повидать свою милашку, которую здесь поселил. Одну из тех девок, которые живут в лупанарии. Миленькая, совсем не наглая, из тех, кто ни за что сюда не попал бы, кабы не нужда. Лучшая здесь… нет, не помню, как его зовут… – Этьен Ленье, – вступила в разговор женщина из пары, сидевшей за столом справа. – Один из лучших клиентов в нашей колбасной лавке. Мартина одним глотком осушила свой стакан, чтобы скрыть замешательство. Этьен было второе имя Эсташа и его сына, а фамилия Ленье была не чем иным, как сокращенным Маленье. Господи боже, толстый простак Эсташ – и вдруг хозяин борделя! Господи Иисусе, какой скандал! Какой стыд! А ведь они все думали, что Эсташ де Маленье часто бывает в Ножане, чтобы прополоскать себе горло и пощеголять перед теми, кого угощает выпивкой. А он здесь занимается торговлей, и притом торговлей развратом! Что же ей делать, что сказать мадам Беатрис? Вот ведь ничтожество, бессердечный подлец! А ведь ей бы следовало и раньше об этом догадаться… – Я, конечно, не в восторге от хозяина лупанария, – поспешно заговорила Мартина, – но я довольна, что хорошенькая девушка, которую нужда заставила торговать своими прелестями, нашла себе в нем покровителя. Бог его за это вознаградит[734]. – Ну, еще бы! Просто смотреть приятно, как она прогуливает свою малышку. Такая сдержанная, доброжелательная и вместе с тем набожная… У них непременно дело закончится свадьбой, и это будет для них всех наилучшим выходом. Если, конечно, месье Ленье не женат, этого уж я не знаю. А впрочем, это далеко не впервые, когда богатый сеньор, которого выворачивает от постной рожи своей дамы, тешится с юной красоткой. Я и не говорю, что другие посматривают на веселых девиц только тогда, когда есть чем заплатить за их ласки. Ледяная волна прокатилась по спине Мартины с головы до пяток. Это описание так подходило Эсташу! Господи, он еще и ребенка ей сделал… Вот ведь мерзавец! А она тоже хороша; развратничать с женатым мужчиной… Шлюха бесстыжая! – Богатые господа часто так развлекаются, – с трудом выговорила Мартина, внутри у которой все кипело от гнева. – Вот только… вырастить малыша в доме разврата… – Вовсе нет, – прервала ее женщина из пары, которая смертельно скучала и горела желанием вступить в разговор. – Месье Ленье купил домик по соседству. – Наш приказчик относит туда заказы для демуазель Адель, его подружки, которую он с двумя сыновьями поселил на втором этаже. Детям-то на чистом воздухе куда как лучше[735]. – Какой предупредительный, – вздохнула Мартина, с трудом удерживая рвущийся наружу поток ругательств. – Это верно, она там хорошо устроена, – подхватил Бастье, бондарь. – Для дочки он не скупится! У нее с четырех месяцев на шее бусы из желтого янтаря[736]. Они и серой амброй пользуются[737]. Я с ними не так уж и близко знаком. Демуазель Адель очень любезна, хотя манеры у нее не очень приличные для женщины. Мы только при встрече обмениваемся парой слов. – Хорошее соседство, – заметила Мартина, которая была готова поспорить на что угодно, что янтарные бусы, которые Эсташ подарил своей незаконной дочери, принадлежали Этьену. Ко всему прочему, еще и вор! Бастьен Крезо, исчерпав тему лупанария, принялся рассказывать ей о недавних случаях в своей мастерской. Несколько минут Мартина с заинтересованным видом кивала головой, произносила невнятное «угу», в то же время не слыша ни слова из того, что ей говорилось. Гнев настолько душил старую служанку, что та была не в силах выпить еще один стакан вина. Поставив перед своими собеседниками блюдо с печеньем, она вдруг сказала: – О, боже мой, в хорошей компании время летит так быстро! Моя дорогая подруга, должно быть, уже беспокоится, я должна вернуться к ней. Мне было так приятно познакомиться с вами, мэтр бондарь, и с вами, матушка колбасница… Она коротко кивнула колбаснику, который все это время не проронил ни слова, пристально глядя в свой стакан.
* * *
Мартина вышла в пронизывающий вечерний холод. Уже почти что настала ночь. Улицы были пустынны, мелкий, но достаточно густой снег отбивал всякую охоту к прогулкам и болтовне. Она побрела к лупанарию и стала внимательно разглядывать дома, находящиеся по обе стороны от него. Стоящий справа показался ей не таким зажиточным, и она вспомнила о замечании бондаря насчет того, что дома разврата не должны бросаться в глаза. Там были даже керамические желоба, по которым нечистоты из дома стекали в уличные канавы, дабы не оскорблять обоняние окружающих. Казалось, их установили совсем недавно. Хорошее и не очень распространенное устройство. Шиферную крышу, похоже, тоже обновили совсем недавно. Мартину просто трясло от злости. Эти деньги принадлежат мадам Агнес и ее сыну, рожденному в благородном законном браке, а вовсе не этой потаскухе, соблазнившей жирного павлина! Обезумев от гнева и не в силах более сдерживаться, думая, что, возможно, она будет потом сожалеть о своем порыве, служанка проникла в дом, снова надела свой чепец и поверх грубого пальто набросила теплую накидку, подбитую кроличьим мехом. Охваченная неистовством, которое испугало ее саму, Мартина вскарабкалась на два марша лестницы, готовая броситься в драку. Она едва замечала, что квартиры, по две на каждой лестничной площадке, выглядели нежилыми. Наконец, задыхаясь, старушка добралась до второго этажа. Сердце ее билось так сильно, что, казалось, готово было лопнуть. Чтобы восстановить дыхание, она глубоко вдохнула распахнутым ртом. На этом этаже была единственная дверь – двустворчатая, выкрашенная под цвет бычьей крови. Мартина не могла сказать, что сейчас руководило ею – возмущение скверным поведением Эсташа де Маленье или страх, что он оставит Агнес в таких ненадежных обстоятельствах. У дам Вигонрен, матери и дочери, не было достаточного состояния, чтобы вести прежний образ жизни, а безжизненные ветви обычно отсекают. И вполне возможно, что пожертвуют именно Мартиной, несмотря на то что баронесса Беатрис питала к ней самую искреннюю дружбу. Она высказалась об этом со здравомыслием женщины, у которой за плечами длинная жизнь в браке: – Если речь идет о кратковременных легких увлечениях, мы закроем на это глаза. В конце концов, всем нам время от времени наставляют рога. Но я хочу знать, существует ли настоящая опасность – постоянная любовница или, еще хуже, постоянная любовница с ребенком. По сути дела, негодяй Эсташ обманывал всех троих, подвергая опасности их будущее. Поэтому, ни минуты не колеблясь, Мартина решительно постучала в дверь. Ей открыла молоденькая служанка, которая немного удивленно посмотрела на неожиданную посетительницу. – Аннелет Теландье, – нагло заявила Мартина. – Мне нужно видеть мадам Адель. – Я сейчас ее поищу, – тоненьким голосом ответила служанка. – Пожалуйста, подождите в комнате для рукоделия. Мартина согласно кивнула. Девушка пропустила ее перед собой и толчком открыла дверь, пропуская в большую гостиную. Войдя туда, старая служанка застыла, открыв рот от изумления. Вот развратница! У мадам Агнес никогда не было такой вызывающей, выставленной напоказ роскоши. Стены комнаты были покрыты дубовыми панелями, доходящими до самого потолка, защищая обитателей от холода и уличного шума. Все высокие окна были застеклены и снабжены внутренними ставнями. На полу толстый красно-золотой ковер прекрасной работы. Изящная мебель, без всякого сомнения, куплена в Итальянском королевстве. Несмотря на то что еще не окончательно стемнело, в серебряных подсвечниках горело множество свечей. Мартина втянула в себя воздух. Да, это вам не жировые светильники, какой прекрасный пчелиный воск! Затем ее обоняния коснулся еще один нежный запах. Она очень быстро поняла, что это такое: шарики амбры[738], лежащие на колпаке просторного, облицованного камнем камина, в котором мерцали искорки затухающего пламени. Ими пользовались только очень богатые люди; во всяком случае, она никогда раньше их не видела. Мартина принялась разглядывать гобелен, висящий на стене за ее спиной. Бурлящий в ней гнев внезапно уступил место горькой обиде за такую несправедливость. Разве мадам Агнес в чем-то провинилась перед этим негодяем? Разве она не выполняла свой супружеский долг с самоотверженностью, достойной всякого восхищения? Разве она не терпела этого толстого самодовольного мужлана, который ко всему прочему еще и плохо сложен? Но тогда почему? – Мадам? Подпрыгнув от неожиданности, Мартина уставилась на вошедшую в комнату очень молодую женщину. Среднего роста, с изящной фигурой, на вид около восемнадцати лет. Ради справедливости следовало признать, что она хорошенькая и с приятными манерами. На женщине было платье из шафрановой ткани, поверх которого был накинут плащ из тонкого бархата цвета индиго[739] с высоким воротником[740] по последней итальянской моде. Ее густые светло-русые волосы были убраны под сетку, усыпанную крохотными серыми жемчужинами, придававшими чертам ее лица особое изящество. Мартина заметила на ее пальцах кольца с аметистом, опалом и бирюзой. – Мадам Теландье? – переспросила она нежным, но уверенным голосом. Мартина колебалась всего лишь одно мгновение. Ей надо спешить, пока решимость, порожденная гневом и обидой, не покинула ее. – Вовсе нет. Мартина, служанка и доверенная помощница мадам Беатрис де Вигонрен, матери мадам Агнес де Маленье. На личике идеально овальной формы было написано такое непонимание, что Мартина поняла: молодая женщина и не догадывается, что Эсташ женат. Поэтому она бросилась в атаку, чтобы развить свой успех. – Я сильно подозреваю, – сухо заговорила служанка, – что ваш покровитель Этьен Ленье на самом деле не кто иной, как Эсташ де Маленье, супруг мадам Агнес. Боже милосердный! И он хозяин борделя! Слезы хлынули из больших глаз орехового цвета, пристально уставившихся на старую служанку. Горестно сжав губы и опустив голову, Адель прошептала: – Ах… Я догадывалась, что он женат. В его возрасте, с его добротой, его умом, предупредительностью, с его очаровательными чудачествами, должно быть, женщины с ума сходят, желая заполучить такого в мужья. Это лестное описание, настолько отличающееся от того, к которому она привыкла, совершенно ошеломило Мартину. Затем ее удивило еще и другое: манера разговора Адель ясно говорила о хорошем воспитании. Со слабой улыбкой женщина снова заговорила: – В конце концов, все это не так уж и важно. Я люблю его, он так добр ко мне и моему сыну. Пока он любит меня, мое счастье будет полным. – Ваш сын? – Да, Шарль не от Этьена. Не от того, кого вы называете Эсташем. Я могла бы ему солгать, так как в день нашей первой… встречи моя беременность была совсем не заметна. Но я сочла это недостойным мошенничеством. Что бы там ни было, у Этьена золотое сердце; он принял Шарля как своего, чтобы избавить меня от грубых и обидных замечаний. Мартина едва удержала вздох облегчения. Положение оказалось не таким катастрофическим, как она предполагала вначале. Неожиданно для самой себя старушка подумала, что у жирного кита Эсташа есть даже немного благородства. Ослабевшим, но решительным голосом Адель продолжила: – Я не знаю, что из нашего разговора вы передадите своей хозяйке. Знайте же, что я вовсе не уличная девка, вовсе нет… Мой отец – галантерейщик, если только он не скончался после моего ухода из дома. В девичестве, обезумев от любви, я уступила юноше, которого считала серьезным, любящим и благородным. Но это оказалось вовсе не так, он хвастался своими… выходками. Мой отец… я оказалась на улице, не имея другого средства к существованию, кроме как уйти послушницей в монастырь или поселиться в лупанарии. Моя прискорбная история обычней некуда, уверяю вас. Этьен… Эсташ… когда мы встретились, нас как будто бросило друг к другу. Каждый день я желала умереть – и тут вдруг в моей жизни будто загорелся свет. Это доказательство того, что Бог меня по-прежнему любит. Мартина старалась подавить в себе чувства, которые у нее вызвали эти слова. Черт возьми, ну и дела! Адель ходила по комнате, покусывая себе пальцы. Старая как мир история. Но все это было не самое главное. Самым важным оставалась семья де Вигонрен. – Я должна попросить вас уйти, мадам. – Вы должны оставить Этьена. Говорите, Бог вас любит? Неужели вы и вправду думаете, что Господь одобряет супружескую измену? – Уходите, мадам. – Нет, – заупрямилась старая служанка. – Поклянитесь спасением своей души, что вы больше не будете видеться с Эсташем де Маленье – или будете прокляты за то, что разбиваете священные узы брака. Слезинка скатилась по бледной щеке Адель, которая отрицательно покачала головой. – Смерть Христова, Мартина, что ты здесь делаешь? – прогремел возмущенный голос в дверях. Тотчас же смягчившись, Эсташ поспешил к молодой женщине, прижал ее к себе и зашептал ей прямо в волосы: – Адель, моя дорогая, милочка… все хорошо. Успокойтесь, я здесь. Предчувствие… Эти двое украдкой смотрели на меня с таким заговорщицким видом… Я думал, что надо поспешить в Ножан, чтобы сказать «тьфу» в ответ на яростные протесты Беатрис. Мартина едва узнавала его. Жирное безвольное лицо приняло решительный мужественный облик, и это было вовсе не наигранно. Повернувшись к Мартине, он повелительно спросил у нее: – Вас послала сюда моя неподражаемая теща? – Мадам Беатрис только хотела успокоиться насчет вашего… жилища в Ножан-ле-Ротру. – Только-то? Беатрис не может без задних мыслей или хитроумных расчетов. – Мессир, я предпочитаю не слышать этой бесчестной клеветы, – перешла в контратаку Мартина. Поцеловав в лоб Адель, Эсташ-Этьен нежно попросил ее: – Милая, прошу прощенья, но я бы хотел, чтобы ты сейчас пошла взглянуть на нашего сына. Я должен поговорить с этой… женщиной. – Этьен, умоляю вас, не переживайте из-за меня. Знайте, что ничто, клянусь вам, ничто на свете не сможет умерить ту бесконечную любовь и благодарность, которую я испытываю к вам. Жизнь моя, я так вас люблю и буду любить всегда. Поцеловав его в щеку, она вышла, сопровождаемая шорохом своего шелкового платья.* * *
Некоторое время Эсташ разглядывал Мартину, у которой возникло полное впечатление, что перед нею совершенно другой человек – важный, уверенный в себе. Наконец он заговорил: – Наш разговор будет коротким, но полезным. Правда не так хороша, чтобы о ней говорить, и она еще менее хороша, чтобы о ней знать. Если вы передадите этот… разговор моей теще или моей супруге, это породит настоящую драму. Зачастую неведение является благом… По голосу собеседника Мартина поняла, что тот не собирается ни угрожать ей, ни задабривать. Он просто выдвигал свои аргументы. Но тут же Эсташ совершил непоправимую ошибку, предложив: – Десять ливров за то, что вы скажете Беатрис, будто слухи о моем жилище ошибочны. Кровь бросилась Мартине в лицо, несмотря на то что она в глубине души считала доводы Эсташа довольно разумными. Возмущенная тем, что кто-то считает, будто ее молчание можно купить, она презрительно бросила ему в лицо: – Принять ваши деньги за то, чтобы предать свою хозяйку? Вы что, ума лишились, мессир? Мадам Беатрис, которая еще больше возвысилась в моих глазах, так долго одаривала меня своим доверием и привязанностью… Я никогда ее не предам! И как вам только не стыдно! С досадой вздохнув, Маленье указал на одно из изящных итальянских кресел, стоявших вокруг столика у камина. – Что же, давайте присядем. Значит, вы цените правду? Я вовсе не пытаюсь вас разочаровать. Только не забывайте: тот, кто требует правды, пускай потом не жалуется. Готов побиться об заклад, что Агнес догадывается о моей новой любви. «Новой» – не самое удачное слово, потому что до Адель я никогда никого не любил. Напротив, с начала этой… связи мои супружеские притязания сделались крайне редкими, что полностью устраивает мою супругу. Она тут же почувствовала, что у меня появилась сердечная привязанность. Я не какой-нибудь презренный мошенник, Мартина. Я понимаю, что на самом деле беспокоит вас, мою тещу и мою супругу. Знайте также, что в случае чего я позабочусь о дамах де Вигонрен, дабы они могли вести свой обычный образ жизни, не говоря уже о моем сыне, которого я бесконечно люблю. Наконец, если Маот казнят, Агнес станет опекуном своего племянника Гийома, состояние которого достанется ей. Думаю, она ничего не будет иметь против. Моя жена не особенно любила свою невестку, хоть и притворялась ради приличия. – Я не могу солгать своей даме, – отрезала Мартина, как будто Эсташ продолжал с ней торговаться. – Это делает вам честь, я прекрасно вас понимаю. Будьте уверены, что я никогда не оставлю Адель. – Но почему же, мессир, почему? Мадам Агнес такая красивая, у нее такой живой возвышенный ум, – принялась защищать хозяйку Мартина. – Она же вам всегда демонстрировала свою дружбу, почтение, покорность… Старая служанка прекрасно отдавала себе отчет, что она не в состоянии произнести такие слова, как «любовь», «нежность» и даже «привязанность». Эсташ де Маленье устало положил руку себе на лоб. Без гнева и даже досады в голосе он принялся объяснять: – И все же это так. Моя супруга в точности последовала юридическим советам своей матери. Но Агнес не способна любить кого бы то ни было, за исключением тех, кто носит ту же фамилию, что и она. Агнес презирает меня так же, как и ее мать. Первая вышла замуж не за мужчину, а за кошелек, пожертвовав собой для благополучия семьи. И одному Богу известно, насколько эта жертва стоит у нее поперек горла. Вторая каждую минуту сочувствует своей нежно любимой дочери. А я почему-то все это должен выносить. Восхитительный брак, вы не находите? Впрочем, с чего бы это? Мартина, то, что я вам скажу, оскорбит ваш слух, и я заранее прошу у вас за это прощения. Вообразите себе, какое оскорбление… что чувствует мужчина, когда супруга ждет, что он… закончит с ней, сжав зубы от злости и отвращения. – Пожалуйста, монсеньор… – Я совершенно искренне прошу у вас прощения. А еще говорят, что со временем даже самый сильный любовный пыл может остыть… Да в этом омерзительном доме я просто гнил заживо! Затем Эсташ обвел взглядом комнату, и на губах у него заиграла счастливая улыбка: – А здесь я живу, я люблю и любим. Я живу, наслаждаясь каждой минутой, каждой секундой. Но оставим этот разговор. Я доверил вам все, что лежит в глубине моего сердца. Распоряжайтесь этим, как сочтете нужным. На самом деле этот разговор принес мне облегчение. Скорее всего мне бы следовало оставить свою супругу. Я смог бы тогда жить, как мне хочется, с любимой женщиной и обожаемым сыном, и не так важно, что в нем течет не моя кровь. Вы даже не догадываетесь, Мартина, что я перекупил этот лупанарий с единственной целью – вызволить оттуда Адель, не покупая ее, будто животное, у хозяйки борделя. Ну а затем во мне заговорили инстинкты делового человека. На самом деле неплохое вложение денег. Мартина встала, чувствуя себя совершенно опустошенной. Как она обо всем этом расскажет мадам Беатрис? – Повторяю вам и готов поклясться в этом перед Господом Богом: дамы де Вигонрен не будут нуждаться ни в самом необходимом, ни в том, что приносит удовольствие. До скорой встречи, Мартина. И благодарю вас за то, что, сами того не желая, стали моим вестником. Тяжелый же разговор вас ожидает! Уже на обратном пути в повозке Мартина спрашивала себя, как она расскажет баронессе-матери о своем открытии. Служанка почти забыла о горшочках крема и о порошке для дыхания, которые еще недавно доставили ей такую радость. В голове у нее безостановочно крутилась фраза из заявления Эсташа де Маленье; тогда она не придала ей никакого значения. …Если Маот казнят, Агнес станет опекуном своего племянника Гийома, состояние которого достанется ей. Думаю, она ничего не будет иметь против. Моя жена не особенно любила свою невестку, хоть и притворялась ради приличия. Что он хотел этим сказать? Просто рассказывал – или хотел, чтобы она поняла что-то еще? Нет, Эсташ попытался поколебать ее уверенность, вот и всё. Мадам Агнес вовсе не обрадовало бы зрелище, как Маот отрубают голову или толкают на костер на городской площади. Какой вздор все это!20
Крепость Лувр, декабрь 1305 года, в то же самое времяВ тот день в толстой башне царил ледяной холод. Холодный ветер просачивался сквозь стены, под дверями, гуляя в коридорах и стеная, будто целая армия страдающих призраков. Мессир Гийом де Ногарэ приказал, чтобы затопили один из каминов в его кабинете. Речь шла вовсе не о его личном удобстве. Он опасался, как бы чернила не замерзли в чернильницах, задерживая его работу и работу секретарей. К тому же замерзшие пальцы плохо держат перо. Советник короля незаметно спрятал руки в широкие рукава своего одеяния легиста, чтобы хоть немного их согреть, и удивился, насколько сухой стала у него кожа. Ногарэ закончил есть густой суп с репой и черствым хлебом, затем проглотил несколько пирожков с сушеными фруктами. Оттолкнув блюдо, разложил перед собой в линию несколько тяжелых стопок монет, с помощью которых распрямлял свитки с посланиями. Его коллекция милых дев очень высокого происхождения пополнилась Кастильей, Савойей, Пармой и Шотландией. Короче говоря, здесь все, кроме Английского королевства. Гийом де Ногарэ, не предупредив суверена, готовился – без сомнения, преждевременно – к расторжению из-за бесплодности брака, связывавшего Изабеллу де Валуа и будущего Жана III. Когда придет время, он хотел быть готовым и предложить новую супругу, которая была бы ему по вкусу и союз с которой служил бы интересам Франции. И, более того, в интересах будущего герцога Бретонского, так как Ногарэ думал и о нем тоже. Ведя как можно более точные расчеты, чтобы не быть застигнутым врасплох, он в течение двух или трех лет принимал постоянные отчеты о женском здоровье мадам Изабеллы. Если она в ближайшее время не забеременеет, почтенная Эмелин Куанар будет склонна сделать серьезное заявление о ее бесплодии перед семьей герцога Бретонского. Сама процедура расторжения брака, даже если ее ускорить в интересах государства, займет около года, может быть, чуть меньше. Он позаботился о том, дабы Папе Клименту V шепнули, что промедление было бы скверно истолковано Филиппом Красивым и Артуром II. Он читал доставленные послами и королевскими представителями хвалебные, зачастую восторженные описания юных девиц. Ногарэ уточнял, что нужна тринадцати- или даже четырнадцатилетняя, чтобы она могла вступить в брак в возрасте пятнадцати или восемнадцати лет, прекрасно развитая, так как Жану тогда будет около двадцати пяти. Ногарэ не доверял витиеватой лирике своих корреспондентов, которые были лично заинтересованы в том, чтобы устроить брак с герцогом или более важной персоной. Судя по всему, поставщики невест надеялись на признательность – звонкую и приятно отягощающую кошелек. Но он прекрасно умел читать между строк. «Прекрасная, как утренняя заря, восхитительно сложена, набожна, читает по-латыни; все, кому посчастливится только подойти, моментально очарованы ею… Ее маленький карминовый рот, высокие скулы, короткий и прямой носик радуют взор…» – заверял его посол Кастилии насчет Изабеллы[741], старшей дочери короля Санчо IV и Марии де Молина. Вот ведь плут! Изабелла Кастильская на три года старше Жана, глупа, как курица, и к тому же в возрасте восьми лет сочеталась браком с Жаком II Арагонским. Десять лет спустя брак был расторгнут под предлогом несоблюдения супружеского долга. На самом деле Жак II искал себе другую супругу, союз с которой был бы полезен в его военных и политических расчетах. Гийом еще раз прочитал послание, присланное эмиссаром Пармы во Франции, касающееся Бланш Висконти, дочери Маттео I Висконти, властителя Пармы и Милана. «Ей ровно четырнадцать лет, ангельский характер, увлечена поэзией, красиво пишет по-гречески и по-латыни, без малейшего акцента говорит по-французски, добра и набожна, вышивает и божественно играет на ситоле[742] и гитерне»[743]. Иными словами, дурнушка, так как эмиссар особенно тщательно избегал описания ее внешности… Довольный собой, он продолжил чтение. У него было уже трое или четверо возможных претенденток на титул герцогини Бретонской. Оставалось осуществить только самую щекотливую часть его плана: ходатайство о расторжении брака. На его тонких губах заиграла коварная и плотоядная улыбка при мысли о ярости и разочаровании толстяка Карла де Валуа. Советник собирался ловко внушить Артуру II или даже самому Жану, что Бретань больше не может оставаться без прямых наследников мужского пола, дабы герцогство не было разорвано на части после распрей о наследовании. Впрочем, время у него еще оставалось. Но ведь девицы не будут вечно оставаться таковыми. Ногарэ быстро поднял стопки монет и с удовольствием посмотрел, как послания сами собой скручиваются в свитки. Что же, теперь он должен уделить время очень срочному делу, которое его злило, так как он не знал, с какого конца за него взяться. Ногарэ наконец понял, как обратить себе на пользу преданность Арно де Тизана. Причем не тратя на это ничего, кроме обещания пожаловать ему должность старшего бальи шпаги вместо этого плута и предателя Аделина д’Эстревера. По сути дела, разочарование де Тизана в монсеньоре де Валуа было главной причиной, побудившей того к лояльности по отношению к Ногарэ. Разочарование, которое он, приняв помощника бальи Мортаня у себя, искусно и незаметно разжег двусмысленными фразами советника и полуправдой. Правда, тоже мне!.. Всего лишь средство подсластить слишком горький или несвежий напиток. Править можно лишь с помощью лжи и обмана, лишь сохраняя искренний вид. Мессир де Ногарэ в совершенстве владел этим искусством. Рассуждая таким образом, он не сомневался, что де Тизан поверит его словам, как Святому Писанию. Поставив де Тизана на это место, вне зависимости от того, что подумает об этом толстый Валуа, политический ум которого не являлся его самой большой добродетелью, Ногарэ будет из-за кулис управлять графством Перш. А вслед за этим ему только и останется, что прибрать к рукам весь бретонский анклав. Ножан-ле-Ротру, Ги де Тре… как отделаться от него, чтобы продвинуть вперед свою пешку? Разве ему не хватило хитрости и ловкости, чтобы не воспользоваться преждевременно убийствами этих несчастных уличных детей? Представить Ги де Тре соучастником, пусть даже пассивным? Нет, слишком поздно! Он найдет другой повод отстранить этого хлыща от должности бальи, чтобы расчистить место Тизану.
21
Ножан-ле-Ротру, декабрь 1305 годаПолностью разбитый и опустошенный, Арно де Тизан присоединился к Ардуину Венелю-младшему тем же вечером в таверне «Напыщенный кролик». Когда ужин был закончен, де Тизан заявил сварливым тоном: – У меня такое ощущение, что мы ничего не добьемся. Будет ли разумно с нашей стороны продолжать эти поиски правды? – Что я слышу? – воскликнул мэтр Высокое Правосудие. – Речь идет о подлом убийце вашей дочери. Он должен заплатить за свое неслыханное злодеяние. – О… я и в самом деле что-то не то говорю… это все усталость от долгой скачки. Мне ведь уже не двадцать лет! – Мы выезжаем на рассвете, сеньор бальи. Здесь у меня осталось одно исключительно срочное дело. Дело, где я должен попросить вашей помощи. Мне нужно встретиться с дамой, несправедливо обвиненной в отравлении. Ручаюсь вам, я смогу это доказать благодаря научным знаниям доктора Мешо, который любезно предложил свою помощь. – Помощь будет вам оказана, если это только в моих силах. – Уверен, что это так. Для этого нужно испросить позволения у сеньора Ги де Тре, которого вы немного знаете. – Завтра я отправлю ему послание. – Весьма вам обязан, мессир. – Не настолько, как я вам, – заметил помощник бальи и добавил в своей обычной въедливой манере: – И тогда я буду меньше должен вам по счетам? В него тут же уперся непроницаемый взгляд серых глаз: – Как пожелаете, мессир. Я не веду счетов там, где речь идет о признательности. Щеки Арно де Тизана залил румянец стыда. Он будто получил оплеуху. Вставая, помощник бальи процедил сквозь зубы: – Черт побери, к отсутствию проницательности я добавляю еще и грубость. Прошу простить меня за эту бестактность. Думаю, самым лучшим для меня будет отправиться спать. Желаю вам доброй ночи.
* * *
Едва он исчез наверху лестницы, как к Ардуину подошла матушка Крольчиха, осведомившись: – Я слышала, что вы собираетесь выехать на рассвете. – Да, так и есть. – Вам бы следовало предупредить меня, чтобы я приготовила хорошей еды, которая придаст вам сил, и что-нибудь перекусить в дорогу, – жалобно произнесла она. – Подумайте, что будет с моей репутацией, если кто-нибудь покинет мое заведение с пустым желудком! И могу ли я спросить, куда призывают вас дела? Снова в Беллем? – Нет, на этот раз в окрестности Клерет. Мой… друг хочет побеседовать с теми, кто последний видел его дочь живой. – О, бедняжка, какое ужасное несчастье! Какая жалость, когда ребенок уходит раньше тебя… – Честно говоря, он совершенно раздавлен своим горем. Матушка Крольчиха, с вашего позволения, я отправляюсь поспать несколько часов. – Конечно. Отдыхайте, тем более что небо сегодня такое тяжелое и низкое… Не удивлюсь, если пойдет снег. И матушка Крольчиха отправилась на кухню, чтобы предупредить Сильвин о раннем отъезде двух постояльцев.22
Окрестности женского аббатства Клерет, декабрь 1305 годаПредсказание матушки Крольчихи подтвердилось уже ночью. Промерзшую землю покрыло на три пальца густым холодным снегом. Ардуин подумал, что это может задержать их в дороге. У Фрингана уверенный шаг, а вот за лошадь де Тизана он бы не поручился. Та с неуверенным видом наклоняла голову и раздраженно фыркала. Если верить короткому списку, неохотно выданному Бландин Крезо, секретаршей аббатисы, Анриетта отправилась с визитами за пожертвованиями к трем близким соседям аббатства. Поездка на два дня или, самое большее, на три, если принять во внимание, каким медленным шагом передвигалась ее лошадь. Во всяком случае, согласно традиции, помимо обязательной суммы, сборщики пожертвований собирают штраф с виновных в некоторых проступках, повторение которых обернется более тяжелым наказанием. Ну и, разумеется, они должны предоставлять кров и стол монахам или монахиням, собирающим деньги для святой обители. Ардуин был уверен: отправившись той же дорогой, что и убитая монахиня, они соберут немало любопытных сведений. Впрочем, первое посещение не оправдало надежд, несмотря на то что прием им был оказан самый любезный. Супружеская чета Лекок, толстые фермеры, не переставая ворчали, что уже столько лет должны платить такую большую десятину[744] с урожая и с убоины[745]. Самый настоящий грабеж, с их точки зрения. Ардуин, хоть в глубине души и находил забавными их причитания, сразу понял, что добрые фермеры довольны, что кто-то пощипал Церковь и епископа. – Этому ведь ни конца ни края не видно! Несколько денье туда, несколько денье сюда… Даже для того, чтобы сдохнуть, и то плати им! А еще работай, за скотиной ухаживай, трясись над каждым кусочком! – возмущалась матушка Лекок. Арно де Тизан счел себя обязанным сердито оборвать эти кощунственные речи.
* * *
Зажиточную ферму, построенную в форме квадрата с закругленными арками, как принято в этих краях, они поспешили покинуть. Там им не предложили даже стаканчика теплого сидра с пряностями. Мужчины снова отправились в путь. С самого начала путешествия Арно де Тизан был очень неразговорчивым. Мэтр Правосудие Мортаня понял, что его мучает, и счел за лучшее оставить его в покое. Тизан вспоминал вечер и ночь, проведенные в аббатстве после отъезда своего спутника. Из рассказов святых сестер возникал образ совсем другой Анриетты. Может быть, де Тизан боялся открыть для себя совсем другую дочь, которая вряд ли вызвала бы у него такую любовь? Опасался ли он, что внезапно открывшаяся правда может нанести урон тем идеальным воспоминаниям, которые сохранились о ней? Дорогие нашему сердцу люди, даже умершие, придают нам столько сил и храбрости в самое тяжелое время, что мы, не желая отказаться от этого утешения, предпочитаем закрывать на многое глаза… Поглаживая шею своего черного жеребца, Ардуин хранил молчание из сочувствия и особенно потому, что его уже многие месяцы сопровождал драгоценный призрак Мари де Сальвен, воспоминания о которой дарили ему утешение. Даже если они были преувеличены или выдуманы им самим… Течение его мыслей было прервано каким-то звуком. Ардуин легко натянул поводья, останавливая Фрингана, прыжком спешился и быстрыми шагами отошел примерно на тридцать туазов. Снова послышался глухой звук. – Мессир Венель? – крикнул удивленный помощник бальи. Мэтр Высокое Правосудие тщательно обследовал густой слой выпавшего ночью свежего снега. Подняв взгляд, он принялся внимательно разглядывать голые деревья, березовый пень, серебристая кора которого отставала, закручиваясь подобно бумажным свиткам. Вокруг царила глубокая тишина. Слишком глубокая. Торопливо приблизившись к своему спутнику, Ардуин пробормотал сквозь зубы: – Нас преследуют, сеньор. – Кто? – Говорите тише. Примерно в двадцати туазах от нас едет всадник. Снег заглушает эхо, но, судя по звуку, это тяжеловоз – скорее всего першерон. Лошадь подкована, так что вряд ли это кляча какого-нибудь бедного крестьянина. – Дорожные грабители? – Возможно, хотя я в этом сомневаюсь. Те передвигаются в гораздо большем количестве. Скорее всего… какой-то любопытный набивается нам в компанию. – Прогоним его? – также шепотом спросил де Тизан. – Вовсе нет. Мы же не хотим потерять его и лишить себя удовольствия повстречать, – иронично заметил Венель. – Лучше сделаем вид, что он нас совершенно не интересует. И уже громче добавил: – У меня такое впечатление, что браконьеры нынче утром обогнали нас. Поедем своей дорогой, у нас очень много дел. Снова усевшись в седло и оказавшись на одной высоте с Тизаном, он тихо добавил: – Пожалуйста, начнем приятельскую болтовню, чтобы я мог навострить уши, а также чтобы наша наивная беззаботность успокоила преследователя. А перед тем как выехать из леса, за четверть лье до Сен-Жан-Пьер-Фикст, я подниму Фрингана в галоп, вернусь и застану врасплох того, кто едет там сзади. – Можно подумать, что из нас двоих настоящий военный – это вы, – беззлобно заметил мессир де Тизан. – Отнюдь. Из нас двоих я всего лишь настоящий убийца.* * *
Следуя своему собственному совету, Ардуин ударился в панегирики произведениям Григория Турского[746], на которые де Тизан ответил пламенными хвалебными речами роману «Флоренция Римская»[747] о принцессе и кровопролитной войне, разразившейся после того, как отец девицы Оттон Римский отказал в ее руке королю Константинопольскому. Помощник бальи цитировал длинные куски александрийским стихом. Но Ардуин следил за тем, что происходит вокруг, и не слушал его, тем более что хорошо знал эту поэму, прочитав ее около десяти раз. Вскоре его слух уловил стук копыт по заснеженной дороге. Прекрасно, значит, этот безымянный сопровождающий следует за ними. Исчерпав тему своих литературных пристрастий, Тизан принялся многословно распространяться, с какими трудностями он раздобыл деньги на ремонт дворца правосудия в Мортань-о-Перш, при этом поглядывая на Ардуина, который ободряюще кивал ему. – …а еще на западном щипце крыши появились две широкие трещины. Если их немедленно не заделать… Внезапно черный жеребец, казалось, взлетел над землей и, моментально перейдя в галоп, стрелой полетел назад. Тизан увидел только силуэт всадника, который стремительно удалялся прочь, и хлопья снега, летящие из-под копыт. Он услышал крики, которыми Ардуин подгонял своего жеребца: – За ним! Скорее, Фринган, за ним! – Да, это не какой-нибудь слюнтяй, – пробормотал себе под нос помощник бальи, толком не понимая, что делать. Выждав несколько мгновений, он тоже поднял свою лошадь в галоп, догоняя мэтра Правосудие Мортаня, лошадь которого описала широкую дугу, чтобы подобраться сзади к таинственному преследователю. Когда Тизан подъехал, Ардуин сидел на корточках, тщательно осматривая снег. Неподалеку стоял жеребец цвета ночного мрака в облаке белого пара, исходившего от его дыхания. Казалось, недавняя бешеная скачка его вовсе не утомила. – Что вы там делаете? – поинтересовался Тизан. Ардуин Венель-младший указал рукой на заснеженное пространство, где отчетливо виднелись следы копыт и гладких подошв. – Значит, все-таки всадник, – подытожил помощник бальи. – Вот здесь несколько отпечатков ног. Он спешился. Вот здесь… смотрите, как будто провели метелкой. Скорее всего подолом платья или юбки. – Женщина? – Или мужчина в длинном плаще. Монах или нотабль, который не одевается по моде. Во всяком случае, не какой-нибудь презренный уличный воришка. Те обходятся без длинных одежек, чтобы не создавать себе лишних сложностей, если понадобится смыться. Но кто бы это ни был, он сбежал. И, по-моему, не очень давно. – Это не крестьянин, не браконьер, не дорожный грабитель… Но кто же в таком случае? Кого мы настолько интересуем? – Кто-то, кого приводят в восторг наши поиски истины. Кто-то, кто знает или хочет узнать настоящего убийцу Анриетты де Тизан. – Черт! Но разве это был не какой-нибудь разбойник, который задал стрекача, совершив свое гнусное дело? – На самом деле я ни минуты не верил, что все было именно так, – задумчиво ответил Ардуин. – Почему же? – Кобылу вашей дочери нашли в нескольких туазах от ее останков. Вроде как убийца испугался, что по клейму все сразу поймут, что это лошадь из аббатства. Вот эта деталь и смущает меня с самого начала. В противоположность домашней скотине, лошадей редко клеймят, особенно таких, что стоят немалых денег. Их продают после особой дрессировки, чтобы какой-нибудь сеньор мог их купить для своей дамы или дочерей. Исключение делают разве что для жеребцов-производителей, опасаясь, как бы их не украли. Иными словами,настоящий разбойник ни в коем случае не пренебрег бы этой кобылой. – Боже милосердный… Значит, аббатиса нам лгала? – Не в прямом смысле этого слова. Скажем так: она подтолкнула вас к тому, чтобы вы поверили в это предположение. Помощник бальи посмотрел на него с совершенно ошеломленным видом. Тем временем Ардуин продолжал: – Лично я склоняюсь к той мысли, что аббатиса знает гораздо больше, чем мы предполагаем, как и некоторые из ее духовных дочерей. О, нет-нет! Даже не думайте, будто одна из монахинь убила Анриетту, а матушка аббатиса покрывает это преступление. – Как вы можете быть в этом настолько уверены! – занервничал де Тизан. – Ведь это означает, что вы, хоть и молча, обвиняете их всех в сообщничестве. – Если б убийцей была монахиня, ей понадобилось бы целых четыре дня прятать ее в каком-то месте. Но в монастыре, где передвижения каждой из обитательниц происходят на глазах у всех, это было бы ужасно сложно. Добавьте к этому, что ваша старшая дочь обладала великолепной мускулатурой. Разве женщине удалось бы где-то надолго закрыть ее? Эта вероятность представляется мне соблазнительной… прошу, конечно, извинить меня за такое выражение… если ваша дочь была задушена сразу после того, как отправилась за пожертвованиями. Эскулап Йохан Фовель и доктор Мешо единодушно утверждают, что она была убита ранним вечером, незадолго до того, как ее останки были обнаружены за оградой обители. – Это вполне логичные умозаключения, – согласился помощник бальи Мортаня. – Но в таком случае… – Вернемся к царапинам и свежим струпьям, обнаруженным на спине вашей дочери. Вы точно подметили, что в поездке она не занималась самобичеванием, останавливаясь у почти незнакомых людей. Следовательно, ее били или тащили по земле, и в это время ее спина была обнажена. – Фовель чересчур формально подошел к некоторым аспектам, – произнес Тизан бесцветным голосом. – Бечевка была стянута поверх воротника платья, а заднюю часть ее головного убора поправили уже после смерти Анриетты, когда на нее снова всё надели, кроме разве что зимних чулок. Если б ее задушили через одежду, на шее у нее не было бы таких явственных следов. – Остается лишь добавить то, что вы мне говорили: этот проклятый напал на нее спереди, а вовсе не сзади, о чем говорит отсутствие следов на передней части гортани. – Итак, ваши выводы? И прошу, не пытайтесь меня щадить. – Преступление вызвано ненавистью. Кто-то с яростью бил ее и смотрел ей в глаза в то время, как душил ее. Кто-то хотел видеть, как она отдает Богу душу. Затем кто-то забрал деньги, которые она везла, чтобы заставить всех поверить, будто это обычное ограбление, не затрудняя себя возней с кобылой, на которой, без сомнения, останки были подвезены почти к самому главному входу аббатства. – А след от удара по виску? – Чтобы обездвижить ее… перед всем остальным. Ваша дочь была очень мускулистой для представительницы слабого пола. Она бы защищалась изо всех сил; в то же время на предплечьях у нее нет никаких кровоподтеков. Я считаю, что она тем или иным способом была лишена возможности двигаться. А это повреждение было скорее всего случайным. Возможно, ее ударили в качестве крайней меры. – Пожертвователь? Наш преследователь? – Кто знает… Внезапно Арно де Тизан торопливо поднялся в седло и бросил: – Давайте же будем продолжать, умоляю вас. Я хочу знать. Ардуин… Когда все будет сделано… отдайте его мне. Не вмешивайтесь. – На то ваша воля и честь отца.23
Окрестности Ножан-ле-Ротру, декабрь 1305 года, в то же самое времяПосле того как Мартина прерывающимся от рыданий голосом рассказала ей по порядку о своей поездке в Ножан, о встрече с молодой женщиной по имени Адель, а затем о разговоре с Эсташем де Маленье, не забыв упомянуть о том, как он пытался ее подкупить, баронесса Беатрис де Вигонрен осталась такой же напряженной и неподвижной, будто статуя из старинного мрамора. Под конец у Мартины хлынули слезы, которые она сдерживала всю обратную дорогу. Мадам Беатрис встала, обняла ее и спокойно произнесла: – Спасибо, моя хорошая; ты, как всегда, верно послужила мне. Я очень тебе признательна. Что же, когда требуешь правды, надо иметь достоинство, чтобы потом вынести ее… Нужно известить Агнес. Но следует ли это делать? Мартина почувствовала, что, обращаясь к ней, баронесса-мать на самом деле разговаривает сама с собой. – Эсташ наставляет ей рога с какой-то шлюхой из борделя, которую обеспечил жильем и которую рано или поздно обрюхатит. И, что особенно прискорбно, он влюблен в нее, как последний дурак. Решительно, я всегда считала его невыносимым и достойным только презрения! Что же касается этой уличной девки, любит она его или нет, она не настолько глупа, чтобы позволить ускользнуть курице, которая несет золотые яйца. И здесь я даже готова ее понять. Значит, Мартина, он пообещал, что у нас будет все «необходимое и чрезмерное»? – Так и есть, мадам. Он это повторил. – Значит, невелика потеря, – заключила Беатрис де Вигонрен. – Тем более что мы избавлены от этого глупого слизняка, о котором Агнес не пожалеет ни днем, ни тем более ночью. Хотя о нас, конечно, будут судачить… Впрочем, применив немного ловкости, мы сможем обратить это к своей выгоде. Бедная, дорогая, восхитительная Агнес, несправедливо оставленная с сыном на руках этим сластолюбцем… Вот как мы преподнесем эти события. Эсташ из-за своей проклятой ненасытности не может удовлетворить свои мужские потребности, не прибегая к услугам продажных девок, о которых всякий добрый христианин избегает даже думать. Разве что… – Что «разве что», мадам? – Разве что он подпишет у нотариуса бумаги, согласно которым предоставит моей дочери щедрое ежегодное содержание и завещает своему сыну Этьену бо́льшую часть своего состояния. В этом, и только в этом случае мы будем хранить в отношении сего дела изящную сдержанность. Мартина одобрительно кивнула. Стараясь оправдаться в собственных глазах, баронесса-мать сделала окончательный вывод: – Моя хорошая, ведь это Эсташ самым бесчестным образом нарушил молчаливую сделку. И о чем он только думал? Отвратительный жирный господинчик, лишенный разума и хороших манер, четверть благородства которого выцарапана со дна денежных ящиков!.. Он женился на восхитительном создании: воспитанной девушке, с прекрасным характером, высокого происхождения. И что же он добавил в брачную корзину? Деньги, ничего больше. Нам всем это известно. Со стороны Вигонренов все было исключительно честно. А теперь, клянусь своей бессмертной душой, он будет вынужден соблюсти свою часть контракта – или пускай кусает себе локти вместе со своей уличной девкой!
* * *
Как и предвидела баронесса-мать, Агнес приняла эту новость с полной безмятежностью. Ее единственным замечанием было: – В сущности, матушка, мы должны радоваться такому подарку небес. Деньги Эсташа без самого Эсташа… Чтобы жаловаться на такое, надо быть совершенно лишенной рассудка. Что же касается положения обманутой жены, то в отличие от остальных женщин я кое-что получаю от этого. Остается только установить опеку над Гийомом, что меня заранее заботит. По правде говоря, уверяю вас, дорогая матушка, не думаю, чтобы процесс над Маот был долгим. Немного разволновавшись, она продолжила: – В конце концов, это ведьма, отравительница, с которой нужно покончить как можно скорее. А воспитанием Гийома надо заняться прямо сейчас. Мы должны уничтожить следы ее пагубного влияния на сына. – Но она показала себя хорошей матерью, – возразила Беатрис. – За это я не стала бы ручаться. Особенно после всего, что мы теперь знаем об этих женщинах, что может скрываться за их милым выражением лица и показной нежностью. – Об этих женщинах? – Я имею в виду ее старшую сестру Мари де Сальвен. Мне кажется, что она сама немного поощряла поведение того нахала, который под пыткой признался, что провел ночь в ее спальне. Беглый взгляд, пара улыбок… И потом, разве вам не кажется странным, что дама разрешает мужчине, пусть даже и знакомому, провести ночь под ее кровом в отсутствие мужа? Готова поспорить, что она была из того же теста, что и он.* * *
Беатрис провела эту ночь почти без сна. На чем свет стоит ругая и понося своего зятя, она представляла себе, как отправляет письмо епископу, прося его отлучить публичных девок от причастия, раз и навсегда приструнить этих бесстыдниц, которые воруют чужих мужей. Этот сильнейший всплеск эмоций привел к тому, что утром она чувствовала себя несколько умиротворенной. Когда Мартина постучала в дверь и объявила, что к ней пришел Эсташ де Маленье, баронесса уже окончательно пришла в себя. Он приблизился к ней, но она не пригласила его присесть. Эсташ опасался этой встречи, возможно, последней. Теща всегда вызывала у него дурное расположение духа и даже некоторый страх. Он обращался к ней только скрепя сердце, взвешивая каждое слово настолько, что его манера говорить от этого делалась неловкой. В конце концов он произносил всякие банальности, результатом чего был раздраженный или сочувствующий взгляд. Но сейчас все это должно закончиться. Он будет жить, наслаждаться своим счастьем; ему больше не надо будет скрываться, будто преступнику. В сущности, появление Мартины на улице де Рон помогло ему решиться на то, для чего он уже несколько месяцев набирался смелости. Единственно, чего Эсташ по-настоящему опасался, – что Агнес из мести или женской обиды восстановит против него сына, обожаемого маленького Этьена. Вот уж нет! Эсташ чувствовал себя полным решимости отстаивать свои отцовские права. Боже милосердный, огромная нежность Адель и ее безграничная любовь стали воплощением всех его мечтаний. А прихотей Агнес Эсташ всегда опасался даже больше, чем характера Беатрис. Его супруга всегда была так непреклонна, что у него нередко озноб пробегал по спине. Она никогда не повышала на него голос, никогда не топала ногами в гневе. Некоторое время спустя Эсташ понял, что перед ним настоящая гранитная глыба, которую ничто не может смягчить или взволновать. Разве не поэтому он теперь был готов со всем пылом защищаться от нее! – Матушка… Я не сомневаюсь, что Мартина рассказала вам о нашей… вчерашней встрече. Давайте сегодня пощадим свои нервы и обойдемся без упреков и криков… – Вы что, считаете меня нервной дамочкой? – ледяным тоном прервала его баронесса. – Что же, обсудим… продолжение. Насколько я поняла, адюльтер, в котором вы находите такое удовольствие, не является ни случайным, ни временным. – Именно. Тем не менее у меня нет никакого намерения начинать процедуру расторжения брака и… Беатрис де Вигонрен выпрямилась перед ним, подобно разъяренной фурии, и прошептала: – Раньше надо было думать, сударь! И что побудило вас на такое, позвольте спросить? Вы взяли в жены восхитительную женщину, которая никогда вас не обманывала, которая подарила вам сына и может дать вам и других детей. А вместо благодарности вы валяетесь в постели какой-то шлюхи, которую вы к тому же еще и поселили у всех на виду. И ради нее вы отвергаете святые супружеские узы?! Хороши же вы, нечего сказать! Но оставим это вместе с бесконечным потоком упреков, которые я могла бы обрушить на вашу голову. Перейдем к… главному. – Деньги! – прошептал Эсташ. – А что другое? – переспросила баронесса недобрым и шутливым тоном. – Вы же не льстите себя надеждой, будто за вас вышли из-за вашей прекрасной внешности или мужских доблестей и блестящего ума? Или, может быть, из-за вашей благородной крови? – Черт побери, мадам, я и не знал, что вы можете быть настолько злой! Властной, без сомнения, но не настолько коварной, – заметил Эсташ, снова успокоившийся после этого залпа ненависти. – Я не собираюсь оправдываться, так что оставьте свои упреки при себе. Перейдем сразу к тому, что я, по вашему мнению, лучше всего знаю: к торговле. Поговорим как два почтенных негоцианта, у которых мало времени. Во сколько вы оцениваете свою дочь? Беатрис оскорбленно сжала губы: – Ежегодная рента, на которую я рассчитываю получить ваше… великодушное предложение, будет достойной компенсацией за то, что моя дочь больше не сможет выйти замуж. Неизменная сумма, составляющая наследство Этьена. Все это оформляется у нотариуса. В первый раз за все время на губах Эсташа появилась тонкая улыбка. Беатрис сочла, что теперь он выглядит не таким простаком. – Снова выйти замуж? Агнес? С чего бы, черт побери? Она и одна прекрасно себя чувствует, особенно с хорошей рентой… Впрочем, не важно. Теперь моя очередь ставить условия перед тем, как принять ваши. Я требую возможности часто видеть своего сына. Всякая попытка отдалить его от меня тут же лишает силы наше соглашение. Также настоятельно советую вам держаться подальше от Адель, нашего сына и других детей, которые появятся на свет. Вот цена вашего благополучия, и не сомневаюсь, мадам, что мы с вами договоримся, как два мошенника на ярмарке. Что же до всего остального – например, будущего мадам Маот, – то меня все это очень мало волнует. К тому же она не питала ко мне дружбы. – Да что ей тут делать? – Говорю вам: меня это все совершенно не волнует, за исключением того, что именно Агнес скорее всего готова отправить ее на эшафот. Может быть, причина в женской ревности? Маот прекрасна и ужасно соблазнительна. Беатрис, у которой не было ни малейшего желания распространяться о своей арестованной невестке, протянула ему руку, заявив: – Ударим по рукам и скрепим наше соглашение. Я предупрежу нашего нотариуса. Что же касается ваших бумаг, которые находятся здесь… – Я в самое ближайшее время пришлю за ними двух работников. Счастливо оставаться, мадам. Он обвел взглядом просторную комнату, в которой никто не жил со дня смерти Франсуа-отца, и произнес с мягким удивлением в голосе: – Странно… У меня такое впечатление, будто я вошел в этот дом и вышел из него, ничего здесь не оставив, за исключением сына. Черт возьми, сколько же времени я потерял!.. Счастливо оставаться, мадам. Желаю здравствовать.24
Окрестности Сен-Жан-Пьер-Фикст[748], декабрь 1305 года, в то же самое времяВъехав на площадь, где находилась церковь Сен-Жан, они замедлили шаг. Девчушка шести-семи лет, тащившая за собой отчаянно орущего братика и во все глаза уставившаяся на невиданное для себя зрелище, которое представляли собой два хорошо одетых господина со шпагами, ответила: – Сеньор Луи живет в своей усадьбе в Плесси, мессиры. Это с другой стороны от деревни, близко, можно камень докинуть. Он не слишком любезный, но душа у него хорошая, так все говорят. Он все время сидит носом в стакане, но человек он вовсе не злой. Поблагодарив девочку, они направились туда, куда та указала. Ардуин издал придушенный смешок и тут же объяснил: – Согласно сведениям, которые сообщила нам Бландин Крезо, наш добрый Луи, будучи мертвецки пьяным, сделал лужу прямо в центре нефа Сен-Жан. Он был даже не в состоянии вспомнить, что находится в святом месте. Когда же священник бросился на него, чтобы вытолкать вон, он, пошатываясь, зарычал на него: «Ты, подлый мошенник, не трогай мои шнурки[749], не то пожалеешь!» – Почему у меня создается такое впечатление, будто все эти богохульства вас забавляют? – немного натянуто поинтересовался де Тизан. – Только самые незначительные. По моему мнению, богохульство является таковым лишь тогда, когда направлено против Бога, но не против его представителей на земле[750]. Согласен, скверное у меня воображение. Я так и представляю себе раскисшего пьяного дворянчика, который в переполненной церкви опорожняет мочевой пузырь прямо в штаны и отбивается от бедного разъяренного священника, которого принял за бродягу. – Должен сказать, что не нахожу в этой сцене ничего забавного, – проворчал Арно де Тизан. – Ну и что? На его покаянное пожертвование церковь купила себе хороших восковых свечей, не говоря уж о положенной сумме для аббатства Клерет. Он заплатил за свой проступок. – Значит, вы считаете, что все можно оплатить? – неловко контратаковал сеньор бальи. Казалось бы, шутливый взгляд серых глаз Ардуина пригвоздил его к месту. Тизан вспомнил о своем неприятном замечании, сделанном в таверне матушки Крольчихи, и, немного помолчав, спросил чуть смущенным тоном: – А последний из пожертвователей, что мы о нем знаем? – Мелкий грешок. Старая женщина по имени Сильвин Броше, небогатая крестьянка. Зарезала гуся в постную неделю. – И что из этого? – Чаще всего гуся режут для того, чтобы его съесть. Она была обвинена в нарушении поста, хотя и настаивала на своей невиновности. По ее словам, это злобное создание било яйца, из-за него куры перестали нестись. Она клялась, что не ела этого гуся. Правда, ей никто не поверил. На нее наложили совсем небольшой штраф, тем более учитывая ее скромные доходы. – Сомневаюсь, что мы получим у нее какие-нибудь интересные сведения. – Полностью с вами согласен, сеньор бальи. Я гораздо больше рассчитываю на сеньора Луи. – Хм… Несколькими туазами дальше всадники свернули на дорогу, ведущую к усадьбе дю Плесси. Внимание Ардуина привлекло, что де Тизан нервно пришпоривает лошадь. – Сеньор… Пока ничего нам не говорит, что мессир Луи д’Айон был свидетелем убийства Анриетты. Бросив на него рассеянный взгляд и нахмурившись, Тизан пробормотал: – Что вы такое говорите? Но тогда… почему же мне это имя что-то напоминает? Впрочем, я могу и ошибаться. Все имена перепутались у меня в голове. Столько людей, столько лиц, настоящая каша… Усадьба[751] появилась перед ними сразу за поворотом. С виду она больше походила на запущенную ферму. Каменная кладка хозяйского дома пребывала в жалком состоянии, черепица, того и гляди, обвалится с крыши, водосточная труба уткнулась прямо в землю, а мощеный парадный двор весь в зарослях сорняков. При их приближении несколько кур, отчаянно кудахча, разбежались в разные стороны. Немного растерянные, они спешились. Тизан крикнул: – Эй, кто-нибудь! Безрезультатно. Некоторое время они подождали, прислушиваясь. – Черт возьми, здесь есть хоть одна живая душа? – во все горло заорал помощник бальи; в холодном воздухе хмурого дня пар от его дыхания повис беловатым облачком. Заметив полуоткрытую створку двери риги или конюшни, находящейся в полуразвалившейся пристройке справа от дома, Ардуин Венель-младший направился туда. Запах навоза и мочи дал ему понять, что строение является именно конюшней. Щуря глаза в полумраке, он зашел внутрь. Серый в яблоках першерон грустно жевал сено, по самые бабки утопая в нечистотах. Дружески пощелкивая языком, мэтр де Мортань погладил по крупу лошадь, которая, подобно всем лошадям этой масти, отличалась невозмутимостью и хладнокровием. Удивленный, он посмотрел на свою перчатку и погладил лошадь по мощному бедру. – Бедняга, сколько же времени ты не видел соломенного пучка?[752] Исполнитель Высоких Деяний снова присоединился к помощнику бальи, вполголоса сообщив: – Думаю, что наша секретная экспедиция прибыла вовремя. Во всяком случае, лошадь покрыта засохшей пеной. Значит, ей было от чего вспотеть! Тизан направился было к парадной двери, ведущей в дом, но мэтр Правосудие Мортаня удержал его за край накидки: – Вот кто ехал за нами. Он не убийца; во всяком случае, ничто на это не указывает. Де Тизан, которого успокоило это замечание, проворчал: – Но зачем ему было ехать за нами, если он знал, что мы как раз к нему и направляемся? – Резонное замечание, – согласился Ардуин, немного поразмыслив. Вдруг в голове мэтра Высокое Правосудие мелькнула догадка. Он вытащил из накидки список, данный Бландин Крезо. – Кровь Христова! – Что? – взволнованно переспросил Тизан. – Клянусь всеми святыми! Мы возвращаемся в Ножан, наша миссия выполнена. Надо всего лишь переставить местами визиты, сделанные Анриеттой. Сильвин Броше живет неподалеку от города, в Шампон-ан-Перш. Мы же начали с Лекоков, как ваша покойная дочь. Затем она направилась взимать штраф с Сильвин Броше, которая живет совсем рядом с Ножан-ле-Ротру, и закончила посещением Луи д’Айона в Сен-Жан-Пьер-Фикст, что удобнее всего сделать, возвращаясь в аббатство. Она вовсе не ночевала у этих бецеремонных фермеров. Мы можем сделать такой вывод из нашего сегодняшнего разговора. Но что там произошло, особенно если учесть, что туда она прибыла очень поздно, почти ночью, проявив редкую храбрость для дамы, путешествующей без сопровождения?.. Исходя из того что двух последних пожертвователей разделяет добрых полтора лье, я готов побиться об заклад, что она воспользовалась гостеприимством этой женщины, Броше. – Если ваша теория верна и перед нами наш преследователь, то он, должно быть, очень удивится, спрашивая себя, куда мы направляемся, покинув ферму Лекок. – Хм… верно. С чего бы ему ехать за нами? Чего он боялся, если, конечно, это именно он? – задумчиво проговорил Ардуин. – Ну, это мы очень скоро узнаем, – воскликнул де Тизан, отодвигая плечом полу своей накидки, подбитой лисьим мехом, и высвобождая ножны своей шпаги. Не утруждая себя дальнейшими объяснениями, помощник бальи бросился к высокой полукруглой двери усадьбы и обоими кулаками ударил в тяжелые створки из темного дерева, на которые были сверху набиты ржавые железные поперечины, заорав: – Открыть сейчас же! По приказу Карла де Валуа, десницы королевского правосудия! Неповиновение будет считаться государственной изменой![753] Никакого ответа. Тишину нарушало лишь тяжелое дыхание де Тизана и доносящееся издалека квохтанье кур. Ардуин Венель-младший отошел на несколько шагов и остановился перед узким окном, закрытым ставнем. Затем вытащил кинжал и вставил его в щель между стеной и деревянной рамой. Лезвие без труда подняло щеколду. Едва Ардуин открыл ставень, как в лицо ему ударила волна зловония. Отойдя на три шага и борясь с рвотными позывами, он, задыхаясь, произнес: – Боже милосердный… сильно разложившаяся мертвечина! Этот запах мне слишком хорошо знаком, чтобы я мог ошибиться. Сейчас я войду в дом и открою вам.
25
Окрестности Сен-Жан-Пьер-Фикст, декабрь 1305 года, чуть позжеТо, что вошедшие постепенно разглядели в полумраке, было поистине ошеломительно. Луи д’Айон, судя по всему, повесился на потолочной балке в комнате, поражающей очень скромными размерами и ужасной грязью. Обе ноги, покачивающиеся невысоко над полом, были частично съедены. Виновник очень быстро обнаружился, когда взгляд Ардуина упал на огромную крысу, бегающую по краю стола, заваленного отбросами. Объедки, надкусанные буханки хлеба, которые уже начали покрываться серо-зеленой плесенью, грязные засаленные обрывки конопляной веревки. Пустые керамические бутылки[754] громоздились во всех углах комнаты, под окном и под столом. Ардуин приблизился к повешенному, высматривая, куда тот ставил ноги перед тем, как свести счеты с жизнью. Тихий топот множества лапок безошибочно дал им понять: они потревожили пиршество целой толпы падальщиков. К счастью, из-за холодного времени года здесь не было мух и червей. Ардуин внимательно посмотрел на сиренево-голубоватое лицо, длинные грязные волосы, высунутый язык, волосатые лодыжки, открытый низ живота – зеленоватый, тронутый разложением. Неподалеку на боку лежал низкий треугольный табурет. Должно быть, на него и забрался сеньор д’Айон, чтобы свести счеты с жизнью. – Как давно наступила смерть? – поинтересовался Тизан. – Чтобы тело пришло в такое состояние, нужно четыре или пять дней. Снимем его? – Он уже тошнотворно липкий, и мы можем перепачкать об него одежду. У меня нет никакого желания уносить с собой этот смрад, – возразил Тизан. – И потом, это ведь самоубийца, не заслуживающий ни почестей, ни вечного спасения[755]. Он будет повешен на виселице в назидание прочим, и его останки будут зарыты без отпевания. Ардуин поспешил возразить ему: – А вдруг он был слабоумным или безумцем? Скорее всего злоупотребление алкоголем привело как раз ко второму. Надо убедиться в этом, дабы решить, заслуживает ли он христианского погребения, что избавило бы его близких от конфискации имущества и ужасного зрелища мертвого тела, которое волокут по улицам, чтобы бросить в канаву на неосвященной земле. За разговором Венель-младший осматривал стол, пол, колпак над камином, грубо сколоченный деревянный сундук у стены, разыскивая оставленное повешенным последнее письмо, где бы объяснялись причины его поступка. – Но тогда… кто же ехал на лошади, у которой вся шкура в поту и в пене? – снова заговорил Тизан. – Черт побери, об этом-то я и не подумал, – ответил мэтр Высокое Правосудие. – Может быть, мы наконец выйдем отсюда? Меня от этой вони сейчас вывернет. – Охотно, сеньор бальи.
* * *
Несколько минут они молча вдыхали свежий воздух. Наконец Тизан, немного огорченный зловещей находкой, спросил: – Что будем делать? – Разумеется, вернемся туда и перероем весь дом. – Вы думаете, что… – Я ничего не думаю, я совершенно уверен. Наша первая… встреча с милейшим господином д’Айоном избавит нас от необходимости снова дышать этой вонью. А в доме, несмотря на его скромные размеры, есть и другие комнаты, где могли удерживать вашу дочь. Преодолевая тошноту, они направились по узкому коридору, куда выходила комната, где они обнаружили повешенного. Мужчины быстро заглянули в три комнаты этого этажа. Повсюду ясно угадывались запустение, беспорядок, отчаяние человека, жизнь которого закончилась задолго до смерти. Все было покрыто толстым слоем пыли и паутиной, усеяно мышиным пометом. Повсюду поломанная опрокинутая мебель, на стенах длинные подтеки сырости и пятна плесени, запах давно не проветриваемого помещения и неблагополучия – вот в какой обстановке жил сеньор Луи д’Айон. Несколько валяющихся на полу книг были почти полностью съедены грызунами. – Сюда уже давненько никто не наведывался, – заметил Ардуин. – Погреб! – В Перше редко устраивают в доме погреб. Почва слишком влажная и глинистая. – У меня самого есть погреб; его вырыли в глине, а затем обложили изнутри камнем и укрепили балками. Сами не понимая почему, они заглянули в комнату, расположенную напротив комнаты повешенного. Там царило то же зловещее и жалкое запустение. У стены здесь лежал грязный соломенный тюфяк, на котором валялось скомканное одеяло. Ардуин приблизился. Непонятно почему, он вдруг ощутил глубокую печаль. По сути дела, Луи д’Айон ушел из жизни задолго до сегодняшнего дня. А впрочем, с чего бы его жалеть? У него было имя, титул, состояние. Если он оказался неспособен вести жизнь, достойную всего этого, то винить ему следует прежде всего себя. Они быстро обнаружили погреб, расположенный в конце коридора, справа от кухни, откуда несло слишком выдержанным мясом, запах которого был немногим лучше, чем тот, что распространялся от покойного хозяина дома. Мужчины спустились по винтовой лестнице. Ардуину бросилось в глаза, что ступени тут гораздо чище, чем все остальные в доме: кто-то совсем недавно подмел их. Мэтр де Мортань и де Тизан вошли в маленькую комнату. Ардуин вздохнул: – Здесь кто-то отдал концы, причем недавно. – Что? – пробормотал Тизан, щуря глаза, чтобы они привыкли к темноте, которую рассеивал лишь неверный свет из двух маленьких отдушин. – Смерть – моя старая знакомая. Я ее чую. Ее запах так долго следует за мной по пятам, – прошептал мэтр Высокое Правосудие так тихо, что его не услышал даже его спутник. – Я ничего не слышу. – Не важно. Я сказал, что здесь запах испражнений, достаточно свежих. Ардуин подошел к противоположной стене и принялся ее разглядывать. Неожиданно он едва не наступил на что-то, похожее на кусок ткани. Венель-младший наклонился, стараясь как следует разглядеть тряпку, валяющуюся на утоптанной земле, и поднял то, что оказалось чулком из тонкого хлопка. Затем нашел и второй. Подойдя к одной из отдушин, он принялся рассматривать свою находку. Наверху, там, где чулок перехватывался пеньковой повязкой на середине бедра или под коленкой, виднелись инициалы А. Т. Бельевая метка, обязательная для каждой монахини. Они должны были очень аккуратно носить их и заменять новыми, только если те сильно износятся. Не говоря ни слова, Ардуин протянул чулки Тизану. Примерно минуту помощник бальи смотрел на них, ничего не понимая. Вдруг исполнитель Высоких Деяний увидел, как тот уткнулся лицом в чулки своей дочери. Плечи де Тизана вздрагивали, его душили рыдания. Несмотря на все уважение к его горю, Ардуин продолжил осматривать подвал. В противоположном углу лежала плетка, рядом – миска и в нескольких шагах пять керамических бутылей. Ардуин опрокинул их одну за другой; из двух вытекло несколько капель вина, что доказывало, что осушили их совсем недавно. Земляной пол покрывали неясные вмятины, более или менее сухие. Там, где Анриетта де Тизан была вынуждена устроиться на отдых. – Он ее бил. Без сомнения, она была связана полоской ткани; не веревкой, так как у нее не было следов ни на запястьях, ни на лодыжках. Убийца, должно быть, долго оставался в ее обществе, судя по тому, сколько он недавно здесь выпил. Прерывающимся голосом Тизан спросил: – Она была убита в этом погребе? – Думаю, что да. – Почему? – Не знаю. Кто-то был настолько сердит, чтобы держать ее здесь по меньшей мере три дня, поить, но, возможно, не кормить и бить ее плеткой, при этом обойдясь без насилия как над женщиной и не подвергая другим мучениям, что, без сомнения, произошло бы, находись она полностью в его власти. И, наконец, он был настолько сердит, что задушил ее. Он отвез ее к аббатству на ее же кобыле, желая, чтобы покойная была найдена. Хотя ему было бы намного удобнее и не так рискованно просто оставить ее в лесу. Нет, он желал, чтобы там непременно узнали, что она была убита. Вот почему он снова одел ее и повязал ей на шею веревку. При этом забыв про чулки… Может быть, он их не нашел? Или надеть их на мертвую показалось ему очень трудным делом? А возможно, он про них просто забыл? – Но почему же? За что? – кричал де Тизан, дрожа от гнева. – Как я мог бы вам ответить? Не хотите ли уйти отсюда? – Мерзавец, проклятый змей! Гореть ему вечно в аду! Ты лишил меня удовольствия выпотрошить тебя! Ненавижу! Ты лишил Господа одного из самых прекрасных, самых чудных его созданий… – ревел Арно де Тизан. – Пойдемте со мной, мессир, там вам станет лучше, – мягко проговорил Ардуин, направляясь к каменной лестнице. Прошло несколько томительно долгих минут. Когда Арно де Тизан – мертвенно-бледный, с мокрыми от слез глазами – двинулся к нему, мэтр Правосудие Мортаня сам не мог сказать, куда его занесли мысли. Сначала Мари, а затем Мари и Маот – два лица, до головокружения похожие… – Благодарю вас, сударь. Что мы теперь будем делать? – Надо известить священника. Был сеньор д’Айон безумным или нет, но все говорит за то, что именно он убил вашу дочь. Лошадь тоже требует заботы. А мы направимся к Сильвин Броше; думаю, это будет очень короткий визит. И, наконец, с вашего позволения, поедем в Ножан-ле-Ротру. Мне так не терпится вмешаться в эту историю с арестом мадам Маот, и особенно с противозаконными обвинениями… – Сеньор Ги де Тре, должно быть, уже получил мое послание. – Мессир де Тизан, не сомневайтесь, я понимаю ваше состояние, понимаю, каково это – остаться одному со своими мыслями, со своими воспоминаниями… Если бальи Ножан-ле-Ротру примет меня благодаря вашему содействию, я пойду дальше по этой дороге один. Для этого дела требуется холодный ясный ум, скорее всего даже изворотливый. Я бы возненавидел сам себя, если б в таких обстоятельствах вздумал требовать от вас подобного. На самом деле у Ардуина не было ни малейшего желания сотрудничать с де Тизаном. Странным, непостижимым образом он почувствовал, что должен взяться за это дело один. Жизнь Маот де Вигонрен висит на волоске. Его же собеседник, погруженный в свое горе и в свой гнев, подумал о том, какой милостью Божьей является истинная дружба. Слабым голосом, хриплым от слез, пролитых в погребе, он торжественно заявил: – Сударь… Кто из нас двоих сказал, что удивительно, почему нужно дожить до самого худшего часа своей жизни, чтобы узнать, кто твой истинный друг? – Я это забыл. Но, во всяком случае, кто-то из нас двоих более чем прав.26
Шампрон-ан-Перш[756], декабрь 1305 года, немногим позжеКазалось, крохотная деревня, где они оказались, попала под власть неких чар – настолько неестественная тишина царила там. На улочках ни одной живой души, ни бродячей собаки, ни курицы, сбежавшей из чьего-то дворика или сарая. Шампрон-ле-Ротру был известен некоторым оживлением во время расцвета Ротру, которые собирались в местечке, именуемом де Саль, где находилась охотничья резиденция графов Перш. Угасание прямой ветви ее гордых мужчин привело к тому, что ежегодные праздники собирали множество прекрасных дам, а представители сильной половины человечества проводили время в длительных безумных попойках. Окружение монсеньора де Валуа, которому столица и королевская охота были гораздо больше по душе, чем он демонстрировал, без сомнения, забыли о самом существовании этого места… Мужчины объехали маленькую церковь, построенную тремя веками раньше[757], и уже отчаялись встретить кого-нибудь из жителей деревни, кто указал бы им дом Сильвин Броше. Сердце Ардуина бешено застучало, когда перед ним, будто из сгустившегося воздуха, появилась та самая нищенка с ледяным взглядом голубых глаз. – Не меня ли ищешь, красавчик мой? Склонившись перед де Тизаном в низком насмешливом поклоне, женщина произнесла: – Сильвин Броше к вашим услугам. Заходите, я поднесу вам стаканчик в знак гостеприимства. Заметив изумленный взгляд Ардуина, помощник бальи вполголоса спросил: – Кто это? – Нищенка из Ножан-ле-Ротру, она буквально преследует меня по пятам. Что-то вроде ярмарочной гадалки, болтунья; я дал ей монетку… Боже мой, ну и путаница! Я ничего в этом не понимаю. – Болтунья? Это слово говорят те, кому пришлось не по нраву предсказание. Ну, входи же, я зажгу твой светильник, – предложила мнимая попрошайка. Ардуину показалось, что под насмешливой шутовской маской скрывается многолетнее страдание. Не говоря ни слова, мужчины спешились и, совершенно озадаченные, последовали за ней, ведя лошадей в поводу. Они быстро вышли из деревни, представляющей собой несколько домов, окружавших церковь. – Привяжите своих лошадей к забору, здесь ничего не нужно бояться. Все меня знают. У меня луженая глотка, и я не дура подраться, – пояснила она, поднимая руки, которые больше походили на скорченные птичьи лапки, чем на грозное оружие. Они вошли в садик возле маленького ухоженного домика. Навстречу им вышла черно-рыжая дворняга, виляя обрубком хвоста. Ардуин погладил ее по голове. Сильвин Броше пояснила: – Не особенно красива, но хорошая собака. А хвост… это ей лисица откусила. И похвастаться-то нечем! Главная комната с полом, выстеленным желтыми першскими плитками, служила одновременно и гостиной, и кухней. От камина исходили ласковое тепло и приятный сладковатый запах лекарственных трав, свисавших с потолочных балок. Ардуин удивился, какой порядок царит в этом доме, несмотря на его бедность. Оба стоявших здесь сундука блестели от воска. Скамейки по обе стороны стола покрыты мягкими тюфяками. На столе Ардуин заметил три стакана крюшона. Будто прочитав его мысли, старуха ласково, словно ребенку, пояснила ему: – Конечно, я вас ждала, и притом уже давно. Присаживайтесь, мне нужно очень много рассказать вам. Одну очень старую и очень скверную историю. Добрый ангел… Она теперь покоится в мире. Ее взгляд хищной птицы остановился на помощнике бальи. Женщина насмешливо заговорила, причем голос ее снова стал саркастическим, почти что властным: – Мессир де Тизан, благородное происхождение, прекрасная репутация… Готова поклясться, вы не из тех, кто обидит бедную нищенку, а вот тот, кто придет мне на смену, будет вовсе не в вашем вкусе. Впрочем, какая разница, когда мое долгое покаяние приходит к концу? Арно де Тизан открыл рот, чтобы потребовать объяснений, но женщина прервала его решительным жестом: – Сядьте. Я ждала столько лет. Вы же в состоянии подождать несколько минут! Ничего не понимая, они снова уселись на свои места. Сильвин Броше взяла с каминного колпака какое-то письмо и, положив на стол, толкнула его к Ардуину. Это были три листа густо исписанной бумаги. – На твое счастье, добрый сеньор, – объявила она. – Пять дней назад мне его принес мальчик, именно тогда, когда предвидел Луи. Прочти это вслух, прошу тебя. Под внимательным взглядом Тизана Ардуин начал вчитываться в неровный почерк. Местами буквы были размазаны упавшими каплями воды, оставившими следы в виде звезд. Возможно, это были слезы. Ардуин начал:
Тем, кто со мной в родстве. Я, нижеподписавшийся, Луи-Люсьен-Мари д’Айон, сеньор Сен-Жан-Пьер-Фикст, признаюсь, что задушил до смерти мерзкую гадюку Анриетту де Тизан. Клянусь, я не предвидел и не желал такого исхода. Тем не менее моя душа вовсе не осквернена этим поступком. Смерть была всего лишь воздаянием, так как эта проклятая дрянь убила троих созданий Божьих – так же, как скоро умру и я. Мне надо…Одним движением Тизан вскочил на ноги, едва не опрокинув свой стакан вина, который ему только что принесла Сильвин, и гневно заорал: – Довольно! Что это за мерзость, бред какого-то пьянчуги! В ответ раздался тихий ровный голос мнимой попрошайки: – Вы ищете правду, сеньор бальи. Имейте же теперь смелость ее выслушать. Клянусь своей бессмертной душой, что все написанное здесь – правда. Продолжайте чтение.
Мне нужно снова вернуться к ненавистному прошлому, чтобы те, кто прочтет мое письмо, поняли меня. Что же касается их прощения, то оно меня мало волнует. Пусть я буду проклят навеки, если лгу: клянусь Господом Богом, что Анриетта де Тизан в возрасте шестнадцати лет утопила свою младшую сестру Гермиону…– Стойте! Прекратите немедленно! И почему я не задушил своими руками этого грязного безбожника, лгуна, святотатца! – неистовствовал помощник бальи. – А ну тихо! – крикнула Сильвин таким громким голосом, что Ардуин даже подпрыгнул. – Кто вы такой, чтобы решать, какая правда выйдет на свет Божий, а какая будет похоронена? Разве не вы готовы были вытащить эту правду клещами или вырвать ее с помощью дыбы или испанского сапога? А теперь, когда обвинен кто-то близкий вам по крови, вы крутитесь и верещите, будто канарейка! – Венель, идем прочь из этого нечестивого вертепа! Не желаю больше слышать ни единого слова! – заявил Тизан дрожащим от ярости голосом. Но Сильвин это, казалось, нисколько не тронуло. Она снова крикнула: – Сесть, кому сказано! Я не сомневаюсь больше ни в чем, так как испытала гораздо худшее. Вы прослушаете это завещание другой жертвы вашей дочери. Затем вы будете слушать то, что я готовилась вам сказать долгие годы. А нет, так клянусь вам, я выскажу это перед всеми. Перед большой толпой, вы слышите меня? Я твердо решила – и сделаю это во что бы то ни стало! Так что садитесь и будьте паинькой! Внезапно смягчившись, она кивнула Венелю-младшему, которого вся эта перепалка буквально лишила дара речи. – Продолжай, мой добрый сеньор. В конце концов, кто лучше тебя знает, насколько испорчены могут быть некоторые создания?
Время торопит меня, моя последняя собеседница теряет терпение. Смерть уже так давно смотрит мне в лицо… Этим вечером она приплясывает от радости, зная, что я наконец-то в ее власти. Случалось ли вам видеть голубков милее и нежнее? Они были очаровательны, добры и так хорошо подходили друг другу, что, казалось, сам Бог решил, что они должны встретиться. Николя, мой младший брат, познакомился с Гермионой де Тизан на суконной ярмарке в Ножан-ле-Ротру. Он с первого взгляда полюбил ее всем сердцем, и его чувства были взаимны. Какое счастье, какая награда было видеть их обоих, как они идут, держась за руки, не сводят друг с друга глаз, шепчут друг другу всякие милые глупости, беспричинно смеются! Стоило ему украдкой поцеловать ее в щечку или в шейку, как они оба тут же заливались румянцем, как…– Прошу прощения, – прошептал исполнитель Высоких Деяний, – слово совсем неразборчиво, чернила смыты слезами. Думаю, следует читать «ангелочки».
…заливались румянцем, как ангелочки, несмотря на то что Николя бог знает когда потерял невинность. Гермиона де Тизан была вылитая фея. Она была само восхищение и могла превратить самый тоскливый день в торжество света и радости. И все же она побаивалась сообщить отцу, что Николя завоевал ее сердце. Впрочем, мы можем не краснеть за наше имя и нашу кровь, хотя блеск и богатство для нашей семьи остались далеко в прошлом. Это милое дитя пребывало на вершине счастья и сгорало от нетерпения наконец сообщить про Николя. Гермиона доверилась матери, которую она обожала, и своей старшей сестре, которую считала доброжелательной. Анриетта потребовала встречи с моим братом; что может быть более естественным…Тизан, у которого побелели даже губы, опустил голову и так сильно стиснул в руке стакан, что мэтр Правосудие Мортаня начал опасаться, что он его раздавит.
Что же произошло в этом гнусном, извращенном разуме? Анриетта, в свою очередь, влюбилась в моего брата, который, сам того не желая, действовал на всех девушек, как весенний мед на пчел. Женская ревность, такая же ужасающая, как убийство, отравила ей сердце, и без того уже источенное скверной. Прошло несколько дней. Гермиона, такая радостная и такая влюбленная, вдруг опечалилась. Сильвин Броше, которая служила нашей семье…Ардуин прервал чтение и пристально посмотрел на ту, кого принимал за уличную попрошайку. Ледяной взгляд голубых глаз, в своюочередь, остановился на нем. Однако Венель-младший был уверен, что старушка не видит его, что мыслями она в который раз вернулась в свое горестное прошлое.
…Сильвин Броше, которая служила нашей семье бог знает с каких времен, смогла выспросить у нее причину такой печали. Анриетта с жаром отговаривала сестру от этого замужества; в то же время она находила множество поводов, чтобы посетить моего брата, и докучала ему своим кокетством и ужимками, свойственными влюбленной девице. Он был с нею неизменно вежлив, но держался от нее на расстоянии. Произошло ужасное. Осенью Гермиона по настоятельной просьбе Николя отправилась на пруд Бас-Рош. Как и всякий раз, желая позаботиться о репутации своей ненаглядной возлюбленной, он попросил Сильвин побыть компаньонкой девушки…– Моя ошибка, моя большая непростительная ошибка! – прошептала вышеупомянутая, складывая вместе руки. – Чувства, которые я не смогла обуздать, наказали меня стократно. Беззаботная пташка, я пользовалась счастливым случаем всякий раз, как он мне представлялся. Но я старела. Взгляды мужчин становились уже не такими пристальными, их улыбки были уже не такими призывными, а комплименты мне делали все реже и реже. Большинство из них больше не оборачивались, когда я проходила мимо. Улыбнувшись, она продолжала: – По просьбе их отца, да упокоит Господь его душу, я стала первой женщиной сперва для Луи, затем для Николя. Он был таким искусным, таким восхитительным мужчиной и гораздо моложе меня. И он дал мне понять, что я не оставила его равнодушным. Зная, что Николя никогда не овладеет своей будущей супругой, даже под влиянием страсти, я втайне отправилась на свидание на пруд Бас-Рош. Свидание было таким прекрасным и таким бурным, что я забыла о времени. Речь ее прервало рыдание. Закрыв рот руками, женщина простонала: – Разве это не чудовищно, разве не ужасно, что я не могу вспомнить ни лица, ни имени моего несчастного любовника, в то время как наши разнузданные забавы стоили жизни трем прекрасным людям, не говоря уже о моей собственной жизни? – Продолжайте, Сильвин, – печально попросил Венель-мадший. – Этого я ждала целых четырнадцать лет. Приведя себя в порядок, я поспешно поднялась на холм. С его верхушки я все и увидела. Анриетта, это была она. Уперев руки в бока, она внимательно смотрела на что-то в воде неподалеку от скалы. Вдруг меня охватил ужас, такой сильный, как никогда в жизни. Я… могу видеть некоторые вещи: женский дар, который достался мне от бабушки, дар, который теперь уже далеко не тот. Крича как безумная, я побежала туда. Раскрасневшаяся, разгоряченная борьбой, Анриетта довольно улыбалась. Чуть поодаль на воде покачивалось тело Гермионы, отягощенное осенней одеждой. Рукава Анриетты и ее юбка спереди и сзади совсем промокли. Даже если она не толкнула ее в воду, воспользовавшись отсутствием Николя, то, без сомнения, держала ее голову под водой. Здесь было не очень глубоко, и Гермиона могла выбраться из воды. – Но ведь она… она говорила, что… изо всех сил старалась вытащить сестру на берег, – пролепетал мессир де Тизан. – Гермиона поскользнулась на прогулке и ударилась о большой камень… Сильвин, казалось, не слышала его. Она продолжала говорить: – Я хотела броситься в воду, надеясь, что Гермиона лишь потеряла сознание. Но Анриетта схватила меня с чудовищной силой. А затем произнесла таким спокойным голосом: «Сдохла наконец. Жаль, что не раньше!» Я повернулась к ней, готовая броситься в драку, угрожать ей, что все расскажу. Но она только прыснула со смеху, продолжая держать меня: – Не забывай, что я обожаемая дочь сеньора бальи. Он проглотит все, что я ему преподнесу, а вот ты закончишь свои дни на эшафоте, бедная старая дева, слабая на передок. Ты хоть удовольствие-то получила? Вот и вся моя история. Продолжай чтение, палач.
Я обвиняю себя в душевной черствости, в глупости. После глубокого траура Николя потерял вкус к еде и питью, перестал смеяться. Он постоянно навещал те места, где они были с Гермионой, и я уверен, что еще можно было вернуть его к жизни. Я тогда не понял, что Гермиона, обожаемый ангел, была ему настолько дорога, что без нее он не мог даже дышать. Я ругал своего брата, одергивал его, называл слюнтяем, хнычущей бабой. Чтобы успокоить меня, он отвечал, изображая прежнего Николя, того, кто уже умер. Я же, несчастный, ни о чем тогда не догадывался. Я полагал, что снова обрел своего младшего брата, радовался этому, в то время как тот был несчастным призраком, чья агония уже заканчивалась. Два года, день за днем после убийства – я настаиваю, что это было именно убийство…– Это… ужасное слово здесь специально подчеркнуто, – уточнил Ардуин и продолжал читать.
…после убийства Гермионы де Тизан своей подлой сестрой Анриеттой, Николя повесился у себя в комнате. Там я его и нашел. На туалетном столике он оставил короткую записку: «Моя душенька, моя безмерная любовь, мой очаровательный ангел, я иду к вам. Пожалуйста, встречайте меня с распростертыми объятиями. Ваш Николя, наконец-то навсегда ваш». Эту записку я доверил Сильвин.– Я ее все еще храню. Она вернется к вам, мессир де Тизан, это беспощадное напоминание.
С тех пор я будто блуждаю во мраке. Вино, ложные друзья – все это губит меня больше и больше. Единственно, чего я желаю, – забыться, достичь благодетельного забытья, в котором ужасные воспоминания больше не будут меня тревожить. И все эти годы я неотступно следил за Анриеттой де Тизан, так как, предавая тело брата земле, поклялся, что она непременно заплатит за свой непростительный поступок. Она ужасно боялась, она страдала, а я забавлялся этим, когда моя плетка прогуливалась по ее спине. Это были вовсе не те нежные поглаживания, которые она наносила себе сама, чтобы успокоить совесть. Неужели она и в самом деле полагала, будто эти обеты обелят ее в моих глазах? Я собирался выпустить из погреба эту ядовитую змею, эту нечестивую монахиню после того, как сам получу с нее этот штраф, после того как она заплатит мне свой долг чести. Но ее кощунственные уста изрыгнули: – Она его не получит! Она не будет с Николя! Она что же, думала, что украдет его у меня; что всегда будет получать все, что пожелает? Я всегда ее ненавидела. Я ненавижу ее сейчас, она мне омерзительна! Если б она осталась жить, это было бы так несправедливо! Это было такое невыразимое облегчение, когда ее тело под водой вдруг обмякло в моих руках… Если Господь позволил этому свершиться, значит, я в этом не виновна. Я привез труп этого чудовища в женском облике к аббатству, дабы все знали, что она издохла, и чтобы некоторые поняли почему. Когда я бросил ее тело на спину ее иноходцу, то упал на колени и сам испытал невыразимое облегчение. Я признаюсь в убийстве Анриетты де Тизан и не испытываю от содеянного никаких угрызений совести. Я не совсем уверен, но мне кажется, что мадам де Тизан, которая обожала Гермиону, смогла понемногу распутать это ужасное дело и что страдания приблизили ее конец. Я ни о чем не сожалею. Моя душа наконец успокоилась, и скоро я соединюсь с теми, кого люблю.Тяжело дыша, Тизан медленно встал, держась за край стола. Опасаясь, как бы тот не набросился на Сильвин, Ардуин Венель-младший приготовился вмешаться. Но вместо этого помощник бальи внимательно посмотрел на мнимую нищенку и объявил замогильным голосом: – Мадам, почему я должен быть уверен, что услышанное мною сейчас есть правда? Тем более такое убийственное разоблачение… Я не знаю… я не могу… я совсем растерян. Венель, я пойду немного проветриться; у меня кружится голова, а ноги ослабели. У меня болит сердце. Вернее всего будет сказать: прощайте, мадам. Он вышел, и никто не проронил ни звука. Ардуин одним глотком осушил свой стакан и, не спрашивая позволения, налил себе еще. Сильвин поступила точно так же, а затем вытерла рот рукой и снова заговорила, проглотив слезы: – Я постучала в дверь усадьбы. Луи не отвечал. Я позаимствовала его лошадь, как иногда делала, и последовала за вами. Ни одного мгновения я не думала, что он может свести счеты с жизнью. Не думала, пока не прочитала это письмо. Топот мчащейся галопом лошади удивил мэтра Правосудие Мортаня. Де Тизан удалился так поспешно, что это более походило на бегство. – Расскажите мне о прибытии сюда Анриетты в тот день, когда она собирала пожертвования. Вы зарезали гуся во время поста… – Такой вкусный! И какой жирный бульон из него получился! Видите ли, добрый сеньор, я не думаю, чтобы Господа Бога заботило, что я нарушила пост, когда я виновна перед ним за гораздо более серьезный проступок. В конце концов, я была всего лишь разбитной смазливой служанкой, а этой истории уже больше четырнадцати лет. Тем более что моя недавняя роль бедной старухи удалась мне как нельзя лучше. Она притащилась сюда на ночь глядя, заявив, что завтра направляется к сеньору Луи д’Айону и что я должна разбудить ее пораньше. Едва она уснула, я прямо ночью бросилась[758] предупредить сеньора Луи. – Вы полагаете, что он… – Плевать мне, что могло случиться с этим демоном в облике монахини! Во всяком случае, я так надеялась, что наступит день и она заплатит по своим ужасным счетам… Я довольна тем, какой ужасный конец ее настиг. – Но… разве она не испытывала какой-то неловкости? В конце концов, она собиралась посетить брата Николя, – удивился Ардуин. – Неловкости? Она? – протянула Сильвин со злой иронией в голосе. – Вы ее не знали. Ее высокомерие, ее невероятное чувство безнаказанности, уверенность, что она находится над всеми, что она является самой правотой… Напротив, хоть Анриетта со мной почти не говорила, я поняла, что она довольна тем, что встретится с Луи д’Айоном. Может быть, она собиралась посмеяться над ним, показать, что она все равно в выигрыше, несмотря на ту неудачу в любви, которая постигла ее с его братом. Значит, она плохо знала Луи. Он был человеком чести, но жестким и еще решительней, чем она. – Человек чести? – возразил Ардуин. – А разве он не похитил деньги, которые она собрала для аббатства, чтобы все поверили, будто это убийство совершено дорожными грабителями? – Луи, украсть? Да ты заблуждаешься! Никто из Айонов не украл бы, даже умирая от голода! Немного помолчав, Ардуин снова заговорил: – Воробей, если его довести до крайности, может быть опаснее орла. Анриетта была такой? – спросил он, вспомнив о давнем пророчестве. – О нет. Дар, который я получила, стал таким слабым, таким далеким и смутным… Моя бабушка могла предсказать дождь за пять дней или беременность за два года. В моей голове возникают какие-то картинки, но я не могу описать их словами. Чаще всего эти картинки вызывают беспокойство и ужас. Я видела… я видела худенькую воробьиху, сидящую на яйце, слишком большом, чтобы она могла его снести, при этом совсем не разорвавшись. Я больше ничего об этом не знаю, но это не про Анриетту. Так как Мари, которая теперь слилась с Маот, не выходила у него из головы, Ардуин спросил: – Я уже нашел то, чего не искал? В его глаза уперся немигающий ледяной взгляд голубых глаз. Женщина улыбнулась: – Еще нет, сеньор Смерть, еще нет. Ты же знаешь, я тебя очень люблю. Ты мне напоминаешь каштан: снаружи такой жесткий, растопыривший острые иголки, а внутри такой сладкий и нежный… Прибереги свои иголки, они тебе еще понадобятся. Я так устала, мой славный… Ардуин поднялся на ноги, но женщина его удержала. Слезы, которые она и не думала вытирать, свисали у нее с ресниц. – Знай… ты творишь чудо. С тобой рядом два ангела пребывают в безмятежности и огромной любви. Мало кто мог бы похвастать такой удачей. Если б не ты, правду никто так и не узнал бы. Без тебя правда осталась бы похороненной на веки вечные. Правосудие свершилось. – Но разве его свершил не Луи д’Айон? – И он тоже. Но ты дал возможность Гермионе занять то место в сердце отца, которого она заслуживает. Место, которое украла у нее Анриетта. А ты вытащил правду на свет Божий. Теперь я спокойна. Наконец-то. Наши пути расходятся, добрый сеньор, прощай. Храни тебя Бог.
27
Ножан-ле-Ротру, декабрь 1305 годаБорясь с приступами головокружения, Ардуин вышел из домика. Фринган, покрытый сплошной белой коркой, обрадованно тряхнул гривой. – Возвращаемся, мой друг. Внезапно почувствовав себя полностью опустошенным, Ардуин едва смог забраться в седло. Ощутив шквал эмоций, которые испытывал хозяин, черный жеребец направился шагом, стараясь двигаться плавно, чтобы не сбросить его из седла. Воробей… Легкая, очаровательная и неутомимая птица. Кто сравнил его с человеком? И с кем? Борясь с непонятной и сильнейшей сонливостью, Венель-младший прошептал на ухо черному жеребцу: – Я рассчитываю на тебя, мой незаменимый друг. Беги прямо. В Ножан-ле-Ротру. Кто был этот воробей с ужасными когтями? Ардуин чувствовал, что ответ на этот вопрос имеет для него колоссальное значение. Изо всех сил сопротивляясь усталости, от которой его веки буквально склеивались, он выпрямился в седле, жадно глотая ледяной воздух. Крохотные снежинки падали на его лихорадочно горящие лоб и щеки. Прибыв в Ножан-ле-Ротру, Ардуин вряд ли смог бы вспомнить подробности своего путешествия, даже если б от этого зависела его жизнь. Погладив Фрингана, он поручил его заботам слуги в конторе по найму лошадей и упряжи. Увидев Ардуина, тот забеспокоился: – Что с вами, мессир? Уж не лихорадка ли у вас? Хорошая порция гоголь-моголя[759] перед сном, и назавтра будете как новенький. – Все верно, мой друг. Сам не понимая, каким образом, он вдруг очутился перед таверной матушки Крольчихи. Увидев, как Ардуин входит неуверенным шагом, трактирщица бросилась к нему, воскликнув: – Боже милосердный, можно подумать, что вы вернулись с того света. Присаживайтесь же, мессир, присаживайтесь. Сейчас я принесу вам покушать и выпить. – Нет… Я… Матушка Крольчиха, позвольте мне лучше прилечь на часок. Я очень устал с дороги. Неожиданно строгим голосом трактирщица спросила: – Вы говорили с Сильвин? Теперь-то она наконец успокоилась? Сильвин – моя старшая сестра. Внимательно посмотрев на нее, Ардуин тихо произнес: – Да, теперь все сходится. Полагаю, что она уже успокоилась. Мессир де Тизан уже здесь? – Нет, с тех пор как вы уехали, я его и не видела. Ардуин рухнул на кровать и уснул крепким сном без сновидений. Когда он проснулся, был уже вечер и ледяной воздух врывался в окно комнаты, на котором он не опустил промасленную кожу и не закрыл ставень. Мэтр де Мортань чувствовал себя снова полным сил, несмотря на то что теперь его тяготила неприятная тайна, которой он предпочел бы не знать. Особенно его беспокоило, как после этого будет к нему относиться де Тизан. Трудно смотреть в глаза человеку, который знает, что твоя дочь-монахиня из женской ревности убила свою сестру. Какими будут последствия этих ужасных откровений для помощника бальи Мортаня?
* * *
Когда он спустился и сел за стол, де Тизан там пил в одиночестве. Он устроился поодаль от остальных постояльцев, которые, весело болтая, поедали свой ужин. Ардуин немного успокоился, решив, что матушка Крольчиха сегодня слишком занята, чтобы у нее оставалось время на разговоры с ними. – Могу ли я присоединиться к вам, сеньор бальи? – Да, прошу вас. Я не осмеливаюсь просить вас называть меня просто по имени, ведь теперь вы таким ужасным образом близки со мной… Прошу меня извинить за все это. Я сержусь на себя, что невольно заставил вас слушать откровения этой женщины. – Со всем моим почтением, я сержусь на себя, что стал этому невольным свидетелем. – Как бы вы поступили на моем месте? – Я никогда не был отцом, поэтому вряд ли мой ответ подойдет вам. – Честь требовала бы, чтобы я открыто объявил обо всем этом и заплатил за свою глупую слепоту. – Кому и за что? На мой взгляд, достаточно передать все в руки Божьи. Я знаю, что исключительно из чести вы не взяли с меня обещания хранить эту тайну. Я же клянусь вам в этом спасением своей души. С моих губ не сорвется ничего из того, что мы видели и слышали. Анриетта де Тизан была убита Луи д’Айоном. И это все, что я знаю. Тизан протянул ему руку, и мэтр Высокое Правосудие ответил ему рукопожатием. – Благодарю вас, Ардуин, от всего сердца. Я еще сам не знаю, какое решение приму. Анриетта… какой грабеж… но как… как мог я обманываться на этот счет все эти годы? Меня тошнит от отвращения, все время с самого отъезда из Шампрон-ан-Перш. Она меня одурачила, как последнего простака. А я ее так любил… Настолько, что пренебрегал Гермионой. Господи, как же я сержусь на себя! Господи, как же я себя ненавижу… Значит, и моя нежная супруга угасла, не в силах нести тяжкий груз этой тайны, которую она не смела разделить со мной? – У некоторых вопросов больше нет ответов. Я ничем не могу облегчить ваше горе и сам об этом искренне сожалею. Во всяком случае, с вашего позволения, Анриетта разрушила три жизни, не считая кошмара, в котором жила Сильвин, и, возможно, кончины вашей супруги. Не позволяйте и вас включить в список ее жертв. Эта опасная интригантка и лгунья, ко всему прочему, дурачила еще и аббатису, и своих сестер по ордену. Когда Ардуин произносил эти слова, в памяти у него возникла одна сцена. Доктор Антуан Мешо.У мадам де Госбер блестящая репутация набожной женщины, храброй и следующей принципам чести… она непреклонна. Забавно, что при этом она похожа на воробушка, из тех, что живут в скалах. Однако решимость написана в каждой из ее черт.Значило ли это, что у мадам де Госбер такие же опасные когти, как у орлицы? Ардуин снова увидел перед собой зал таверны и мертвенно-бледного мужчину, согнувшегося от горя, хлюпающего носом и безуспешно пытающегося удержать слезы. Он заметил, что сюда только что вошел один из стражников сеньора Ги де Тре. Матушка Крольчиха вышла ему навстречу и несколько мгновений о чем-то говорила с ним, указав рукой на их стол. – У нас посетитель, – бросил Ардуин, чтобы помощник бальи успел прийти в себя. Стражник подошел и, церемонно поприветствовав его, объявил: – Послание моего хозяина мессиру Арно де Тизану. Распечатав свиток, Тизан сказал мэтру Правосудие Мортаня: – Ги де Тре готов принять в своем доме меня и друга, о котором я ему говорил. – И, обернувшись к стражнику, который ожидал ответа, добавил: – Благодарю, любезный. Предупреди своего хозяина, что мы не станем слишком ему докучать и удовольствуемся коротким визитом. Иди же. Я возьму свой плащ, и мы последуем за тобой. Когда тот вышел, Тизан снова заговорил: – Может быть, я слишком поспешил? Может быть, вы предпочли бы встретиться с бальи завтра? Но я все же понимаю, насколько вам важна вся эта история. Я, в свою очередь, понимаю, что вы хотели бы заняться этим в одиночестве. Позвольте мне послужить вашим проводником перед на редкость самодовольным де Тре. Затем я удалюсь. – Примите мою самую искреннюю признательность.
28
Ножан-ле-Ротру, декабрь 1305 года, немногим позжеНа входе в особняк их встретил Ги де Тре собственной персоной и проводил в свой роскошный кабинет, который он предпочитал официальным апартаментам, находящимся в самом сердце башни Сен-Жан. Выказывая свое почтение помощнику бальи Мортаня, он распорядился принести вина с пряностями и блюдо пирожков и сушеной айвы. Усевшись вокруг круглого столика из розового дерева перед просторным камином, они в молчании потягивали свой напиток. Наконец Ги де Тре прочистил горло и сказал, принужденно улыбаясь: – Мессир де Тизан… ваш присутствующий здесь друг, со всем моим уважением… – Он одинаково хорошо осведомлен о моих делах правосудия и о семейных делах, – ответил помощник бальи. – А, это проясняет дело! Хорошо… Позвольте, мессир, заверить вас в своей абсолютной признательности, так как я разузнал о вашей… благотворной причастности к расследованию серии ужасных убийств детей, которая нас всех так опечалила. Бесчестный Морис Деспер совершал их прямо у меня под носом, изображая при этом такую преданность… Гореть ему в аду! Ардуин, все это время не проронивший ни слова, спрашивал себя, что бы его задело больше: оказаться тем, кого предали, или узнать, что твой первый лейтенант совершил жестокое убийство тринадцати ни в чем не повинных малышей? – Ну, если б мы не помогали друг другу, груз на наших плечах стал бы поистине невыносимым. Впрочем, сегодня я как раз собираюсь обратиться к вам за помощью. За помощью, о которой вам не придется сожалеть, – ловко забросил крючок де Тизан. – И все-таки… в свою очередь оказать вам услугу – предел моих желаний, – схитрил де Тре, любопытство которого раздразнили. – Итак, я весь обратился в слух. – Мой друг Венель очень интересуется делом молодой баронессы Маот де Вигонрен, урожденной Ле де Жеранвиль, и располагает некоторыми сведениями, что обвинение против нее является ложным. По внезапному напряжению, которое читалось на еще юношеском лице бальи Ножан-ле-Ротру, Ардуин почувствовал, что должен соблюдать осторожность. – Что вы мне такое говорите? Уверяю вас, сударь, что это дело у меня как колючка в пятке. Эта дама так прекрасно воспитана и набожна… Впрочем, вы, конечно, можете мне возразить, но мы оба знаем, что бывают жестокие убийцы благородной крови и с великолепными манерами. – Это так. И тем не менее мадам Маот очень высокого происхождения, она племянница мадам де Госбер, и не абы кто, если такое выражение применимо по отношению к даме. В мозгу де Тре с огромной скоростью замелькали предостережения его супруги Эноры. Господи, как же он устал от этого места, от этих людей и от их бесконечной путаницы! Во всяком случае, если он хочет вернуться в графство Бретань с высоко поднятой головой и с репутацией человека, который хорошо справляется со своими обязанностями, он должен отделить зерна от плевел. Де Тре поинтересовался, обращаясь к мэтру Высокое Правосудие: – Простите мою резкость, сударь, но вы понимаете, что это досадное дело в высшей степени занимает меня. Что дает вам основания полагать, будто мадам Маот невиновна? – Со всем моим почтением, мессир, слова «полагать, будто» не являются самыми подобающими. У меня имеются основательные доводы считать, что вас пытаются ввести в заблуждение, возводя ложное обвинение на эту даму, и доктор Мешо подтвердит мои слова. – Доктор Мешо? Непонятный он какой-то… Следуя своему обещанию, вмешался Арно де Тизан: – Мессир де Тре, самоуверенность и заносчивость вряд ли могут считаться лучшими советчиками. Мой друг Венель предпочел бы продолжить осуществление своей миссии вместе с вами, из деликатности по отношению к молодой баронессе де Вигонрен. Мне же не остается ничего другого, кроме как одобрить это стремление. – Сделайте милость. Дамы заслуживают нашей вежливости и обходительности. – Такое воспитанное поведение делает вам честь. До скорой встречи, которая, надеюсь, произойдет в обстановке доверия и сердечности, – произнес де Тизан, кланяясь и покидая комнату.
* * *
Ги де Тре с недовольным видом покрутил в руках ореховый пирожок, разломил его, вынул начинку и положил остальное на блюдо, где виднелись капли застывшего меда. Проделав все это, он снова заговорил: – Значит, вы сказали, доктор Мешо, сударь? – Обещаю вам не быть слишком строгим к нему и не забывать, что его молчаливость порождена исключительно сомнениями ученого. Мадам Маот обвинена в отравлении своего свекра, супруга – и позднее в такой же попытке по отношению к своему сыну Гийому – посредством серого порошка, в котором все узнали свинец, спрятанного в злонамеренно оскверненной Псалтыри, ведь так? – Да, все именно так. – Когда я находился в доме доктора Мешо, тот вспомнил об одном из симптомов, характерном для отравления свинцом. Уменьшение или полное прекращение мочеиспускания. Но состояние мужчин семьи Вигонрен является этому полной противоположностью. Франсуа-сын постоянно мочился в кровать, так как его все время поили бульоном и настойками. – Черт подери! – воскликнул де Тре, широко открывая глаза. – Но… в самом деле… почему Мешо меня не предупредил? Он что, совсем соображение потерял? – Вовсе нет. Без всякого сомнения, он находится под сильным впечатлением от вас, – польстил ему Венель. – Он желает, чтобы эту миссию выполнил я. К несчастью, меня задержали другие крайне неотложные дела. Лесть подействовала на старшего бальи. Смягчившись, он заметил: – Но все же… Сударь, вы сняли у меня тяжелейший камень с души. Спасибо. Мадам баронесса Маот уже долго находится под моим присмотром. Такая нежность, такое беспокойство за своего сына… Настолько благонравная женщина не может быть ни колдуньей, ни отравительницей. Поверьте, по долгу службы мне приходилось наблюдать столько притворных слез и слышать столько лживых оправданий. А также попыток поймать меня в сети своего очарования и убедить в своей невиновности. Наполнив стаканы из резного хрусталя, Ги де Тре продолжил: – Но опять же: кто? Что? Мешо также не особенно добавляет уверенности, что мужчин из прямой ветви семейства де Вигонрен унесла желудочная лихорадка. – Не знаю; возможно, это заговор. Во всяком случае, с вашего позволения, я намерен его раскрыть. Возможно, женская интуиция что-нибудь подсказала мадам Маот? Обезумевшая мать может стать опасной ищейкой. – Беспощадной, знаете ли! Мне пришлось бы вырывать из когтей Эноры, моей супруги, всякого, кто вздумал бы выказать скверные намерения по отношению к нашему сыну, иначе она порвала бы злоумышленника в клочья, – восторженно промурлыкал он. – Со всем моим почтением, я слышал, что ваша супруга прекрасна, обладает восхитительным характером и очень набожна. – Все так и есть! А еще рядом с ней всегда отдыхаешь душой. В то же время в ее венах течет очень воинственная кровь. – Ну а кто бы захотел жениться на рохле? – Правильно! Монсеньор… Венель, да? – Ардуин Венель к вашим услугам. Издав долгий печальный вздох, Ги де Тре произнес: – Сударь, как это, в сущности, досадно, когда люди высокого происхождения спорят, способен ли я совершить промах. – И весьма досадный промах, – подхватил Венель. – В самом деле… Но у меня не сложилось впечатления, что вы принадлежите к числу близких мадам Маот. – Поводом узнать о ней послужило как раз это несправедливое подозрение. – Не лучше ли будет встретиться с нею, прежде чем составить свое мнение? Я же удалюсь, чтобы не оказывать на вас влияния. Ардуин едва сдержал вздох. Наконец-то он сможет увидеть ее, говорить с нею. Наконец встретит ту, другую Мари де Сальвен. За одну такую возможность он отдал бы жизнь – и вот судьба сама ее предоставляет ему. Снова, как и всегда, судьба подталкивает его к ней. С трудом успокоившись и стараясь, чтобы голос не выдал его нетерпения, Венель-младший ответил: – Конечно, мессир, такая встреча может многое прояснить для меня. – Хорошо. Вы готовы отправиться со мной в замок Сен-Жан? – Сейчас? – разволновался Ардуин, вдруг вспомнив, что не переоделся после скачки по лесу. – Ну, разумеется, будем ковать железо, пока оно горячо, – бросил Ги де Тре, поднимаясь на ноги и устремляясь к двери кабинета. – Кто-нибудь из моих людей поедет предупредить мадам Маот… чтобы она оделась, если что.29
Ножан-ле-Ротру, декабрь 1305 года, немногим позжеБоже милосердный, это чудо. Мари… Перед ним со смущенным видом, опустив глаза, стояла Мари, сжимая длинные белые пальцы на аметистовом распятии, висевшем у нее на шее, прикрытой косынкой[760] в тон платью. Сердце Ардуина забилось так сильно, что, казалось, еще немного, и оно разобьется о грудную клетку. От волнения он задыхался и не мог собраться с мыслями. Но Ардуин тут же выругал себя. Он должен ее спасти, а всякие дамские переживания здесь не помогут. Представив ей Венеля, Ги де Тре покинул камеру, а точнее, уютные апартаменты, которые были предоставлены молодой баронессе. – Мадам, я… я прошу прощения за такой поздний визит и… – Нет, сударь… это я извиняюсь перед вами… вы видите меня такой неприбранной… У меня не было времени сделать прическу. Я лишь поспешно надела платье и… Что же могло воспрепятствовать вам прийти ко мне раньше? Этот голос, точно такой же, как у Мари. Серьезный, теплый, тот, который он в последнее время столько раз слышал в ночных сумерках. Голос, при звуках которого Ардуином овладело безумное желание преклонить колени перед этой женщиной и поцеловать ей руку. Ее шелковые волосы цвета спелой пшеницы свисали до середины бедер. Он отдал бы жизнь за то, чтобы уснуть, уткнувшись в них… Нет, довольно! Она в большой опасности. – Уверяю вас, мадам, всего лишь одно из моих дел. К сожалению, время сейчас не является нашим союзником. Также простите меня за грубость и прямоту моих речей. Я должен действовать как можно быстрее, чтобы спасти вас от этого бесчестья. Я знаю, что вы невиновны. На восхитительных миндалевидных глазах цвета морской волны показались слезы. Женщина подняла лицо к потолку и произнесла прерывистым шепотом: – О, Боже милосердный, Святая Дева… мои молитвы были услышаны благодаря вашему заступничеству перед Богом Отцом! Наконец-то это увидел человек веры и чести. Неловким и детским движением, которое растревожило сердце Ардуина, она вытерла себе глаза и нос. – Сударь, сам Господь послал вас. Я невиновна, слышите, невиновна. Клянусь вам своей душой и жизнью своего сына, которая для меня еще драгоценней. Они хотят сделать с Гийомом что-то плохое! Я должна выйти отсюда, чтобы защитить его. По правде говоря, моя жизнь очень мало что значит… И, внезапно придя в неистовство, она закричала: – Но никто даже не приблизится к моему сыну, пока я буду рядом с ним! Они уже попытались… Он едва не умер… О, какой ужас… я больше не в состоянии уснуть. – Кто? Маот успокоилась так же быстро, как впала в ярость, а затем протянула ему руку, приглашая: – Пожалуйста, давайте присядем. Мне нужно поведать вам свои тревоги. В вас я чувствую силу, на которую надеялась с тех пор, как оказалась заключена здесь. Тревоги, которые терзают меня, несмотря на постоянную любезность сеньора бальи. Знайте… знайте, что прежде всего страх толкает меня высказать ужасные подозрения. У меня нет ни доказательств, ни даже уверенности. Я сама путаюсь в своих чувствах. Я никоим образом не хочу задеть или очернить репутацию своих родственников по мужу. С моей стороны речь идет всего лишь о догадках, подсказанных разгоряченным обезумевшим умом и одиночеством, мало способствующим душевному покою. – Такая сдержанность и настороженное отношение к своим переживаниям делают вам честь, мадам. – Я никогда, слышите, никогда не посягала на жизнь кого бы то ни было. Чтобы мне отравить своего сына? Надо совершенно лишиться рассудка или быть очень злым, чтобы предположить подобные мерзости. Я, как и все, верила, что это странная и ужасающая желудочная лихорадка, от которой его спасли заботы доктора Мешо и мои молитвы. И каким же было мое изумление, когда пришли люди бальи, чтобы арестовать меня по его приказу! И как сразило меня известие, что моя матушка и сестра по мужу обвиняют меня в двух отравлениях и такой же попытке по отношению к сыну!.. Мой друг, у вас не так много времени, и я стараюсь быть лаконичной, несмотря на то ужасное состояние, в котором находятся мои нервы. Допустим путем простых умозаключений, что испорченность моей души побудила меня совершить неслыханное злодеяние по отношению к свекру и супругу. Но зачем же мне убивать своего обожаемого сына, который служит к тому же залогом моего спокойного существования? – По мнению дам де Вигонрен, чтобы отвести от себя подозрения. Ложное отравление, целью которого вовсе не была смерть вашего сына. – Это каким же извращенным умом надо обладать, чтобы выдумать такую комбинацию! – выдохнула Маот. – Я придерживаюсь точно такого же мнения, – рассудительно ответил Ардуин. – Тем более что якобы ваши жертвы вовсе не были отравлены свинцом, найденным в вашей Псалтыри, когда-то потерянной и так своевременно найденной баронессой-матерью. Ваши сомнения, мадам? Я обязательно приму их во внимание. – Пожалуйста, не забудьте их. Беатрис – властная женщина, иногда бывает надменной и неприятной, но все же я не считаю ее плохой. Эсташ… как бы его описать в двух словах, не рискуя показаться вам нахальной? Честное слово, Эсташ скорее мягкий человек, а в сущности, безразличный ко всему. На него невозможно сердиться за холодность по отношению к супруге и ее матери. Как в таких случаях говорят крестьяне, звезд с неба не хватает, за исключением денежных дел. В сущности, то, что требуется дамам Вигонрен. Зато… Зато Агнес де Маленье хитра и изворотлива под маской любезной и доброй женщины. Мне потребовалось много времени, чтобы это заметить. Но все же я не стану утверждать, что она способна… способна на такую гнусность. – Ваши честные и смелые замечания останутся у меня в памяти, мадам, – снова уверил ее Ардуин. Несмотря на то что ситуация была трагической и опасной, у него вдруг возникло волнующее ощущение, будто он наконец прибыл в спокойный порт после бурного и длительного путешествия по океану, враждебному и безжалостному. Две женщины, почти близнецы, осветили его полное приключений кругосветное путешествие. Одна из них умерла от его руки, жизнь же другой может быть спасена только благодаря ему. – По-моему, Агнес – единственная, у кого достаточно решимости… Как бы это вам объяснить… она… Потомство, имя и кровь де Вигонренов – единственное, что имеет значение в ее глазах. Впрочем, речь скорее о том, что впервые, с тех пор как я оказалась здесь, я чувствую себя спокойнее. Не думаю, чтобы она и в самом деле взялась за Гийома. Он все-таки ее крови. Друг мой… так как вы и в самом деле мой друг. Значит, по вашему мнению, тот порошок свинца, найденный в моей Псалтыри, которая, клянусь вам, действительно была потеряна, не является причиной смерти? – Так утверждает доктор Мешо, который оказал мне, а скорее вам, громадную помощь. – Но тогда что же? – Не знаю. Какой-то другой яд. Я выясню это, обещаю вам. – О, друг… я уверена, что вас послала сама Святая Дева. Она всегда заботилась обо мне и моем сыне. Не хотите помолиться ей вместе со мной? Плавным движением Маот соскользнула со стула и преклонила колени. Ардуин сделал то же самое. Их плечи чуть соприкасались. В молчании они оба молитвенно сложили руки. Видимо, она одна возносила молитву, так как Ардуин был слишком поглощен целомудренной близостью женщины, о которой столько мечтал и на встречу с которой так надеялся, поэтому никакие другие мысли не шли ему в голову. Он встал, опасаясь, как бы у него не вырвалось какое-нибудь неподобающее слово или взгляд. Женщина последовала его примеру; на губах ее играла нежная улыбка. Импульсивным движением она сжала его руки, прошептав: – Вы станете моим доблестным спасителем, сударь? – Я молюсь об этом, мадам, так как знаю о вашей невиновности. И не успокоюсь, пока не увижу, что вы очищены от этого бесчестья, даже от тени его. – Храни вас Господь, мой друг.
* * *
Ардуин откланялся, в глубине души испытывая величайшее сожаление, так ему хотелось провести рядом с ней каждое мгновение своей жизни. Между тем, чтобы выручить ее, ему предстоит много что сделать. Он снова подумал об этом высокоученом эскулапе, Йохане Фовеле. Может ли Антуан Мешо знать, где его найти? Может быть, Фовель знает природу этого таинственного яда?* * *
Оставшись одна, Маот де Вигонрен устало вздохнула, поднимая тяжелую массу своих волос. Устроившись за столом, который любезно предоставил ей Ги де Тре, она посмотрела на себя в зеркало, а затем шаловливо улыбнулась сама себе. Кости удачно выпали![761] Решительно, она не потеряла своей власти над мужчинами. А этот кажется таким влюбленным… Она не знала, как и почему возникло это чувство. Впрочем, это не так важно. «Ты скоро пожалеешь, Агнес. Ничто мне не помешает, я не пролью ни своей крови, ни слез. Франсуа, твой отец, подтвердит тебе это, когда ты присоединишься к нему». Но тотчас же ее злобное настроение изменилось под влиянием печальной мысли. Печальной, но такой нежной. Мари, ее милочка, любимая сестра… «Умоляю, не смотри на меня, Мари, отверни от меня свой ангельский взгляд. Покойся в мире, моя прекрасная и такая идеальная сестренка… А может быть, он так любит меня из-за нее?»30
Крепость Лувр, декабрь 1305 годаГийом де Ногарэ с сожалением прикончил четверть жареного цыпленка, позволенного в предрождественское воскресенье. Это нарушение обычной умеренности не доставило ему никакого удовольствия. Напротив, он спрашивал себя, действительно ли такое чревоугодие является необходимым. Во всяком случае, этим ранним утром, наступившим после короткой ночи, внезапная слабость заставила его повернуть голову и схватиться за подпорку кровати. Созерцая обглоданные кости, аккуратно разложенные на тарелке, он сердился на себя за это послабление. Ногарэ доставляло удовольствие отказываться от всяких удобств; он усматривал в этом проявление душевной силы и твердости характера. Короче говоря, он видел в этом свидетельство своего превосходства над другими – теми, кто обжирается, пьянствует, посещает дома разврата и спит, храпя, с широко открытым ртом. То есть тем, кто разделяет наклонности Карла де Валуа и всего двора. Дрожь омерзения пробежала по его спине при одной мысли о брате короля. С другой стороны, мелкие капризы или большие пороки других могли превратиться в могущественные средства принуждения или торговли. Средства, которыми королевский советник вовсе не пренебрегал. Придворные и мелкие барончики вели себя будто головастики в заросшем тиной пруду, тратя без счета, чтобы казаться важными вельможами. В один прекрасный день, обнаружив, что кошелек внезапно и пугающе опустел, они станут его поставщиками разнообразных сведений, а если говорить прямо, то предателями. В сущности, Ногарэ бесспорно предпочитал продажных добродетельным. Чума на этих чистеньких! Таких труднее всего вынудить к чему-нибудь или припугнуть. Эта уверенность, подкрепленная многочисленными примерами, побудила его устроить тайную встречу, которую он сегодня ожидал. Гуго де Плисан, рыцарь-тамплиер. Ногарэ снова вспомнил их первую встречу, которая произошла несколькими неделями раньше. Прекрасный образчик сильного человека, которому едва исполнилось двадцать пять лет, высокий, с худощавой мускулистой фигурой и голубыми глазами, он буквально ошеломил королевского советника. Его грубая прямота, а также мужественное изящество и самоуверенность вовсе не были обычными вещами для мессира де Ногарэ и еще менее обычными для тамплиера. Ведь орден ревниво защищал свои тайны и никогда не просил о милости светские власти и даже церковные, если они не принадлежали к их ордену. Гуго де Плисану было наплевать на всякие уловки и предосторожности в речи. Жак де Молэ, их великий магистр, собирался упорствовать, отвергнув дружеское расположение мессира Филиппа де Пуатье, сына короля, напрасно рассчитывая на поддержку царственного понтифика. Чтобы спасти братьев по ордену, Плисан предложил Ногарэ свою помощь. Советника такой довод подкупил своей искренностью. Если в этом и было предательство, то по отношению к Молэ, храброму, но упрямому и высокомерному, готовому к противостоянию с Филиппом Красивым, чтобы сохранить главенство над орденом[762]. Итак, он ожидал рыцаря, судя по всему, жаждущего сообщить ему о своих недавно появившихся «опасениях». Согласно отданному рано утром приказу, привратник пропустил Плисана сразу, как только тот пришел. Рыцарь поклонился, ожидая, когда высокая дверь за ним закроется, а потом заговорил: – Мессир де Ногарэ, надеюсь, что вы пребываете в добром здравии, и благодарю, что приняли меня, не заставив ждать. – Это я благодарю вас, что настояли на этой встрече, – возразил Ногарэ, надеясь, что собеседник сразу же перейдет к сути, настолько слово «опасения» раздразнило его любопытство. – Мессир, мне показалось необходимым… срочно поведать вам о том, что я обнаружил в почте, адресованной Жаком де Молэ одному из командоров[763]. – Прошу вас! – Старая история, которая вдруг снова вышла на свет. История красного камня, уже давно украденного у Храма. – Красного камня? – К несчастью, моя степень в иерархии ордена не позволяет мне знать больше о его природе и значении, – продолжил рыцарь. – Но я уверен в ее крайней важности, так как Молэ страстно желает заполучить этот камень, так же как и… Рим. Одно упоминание заставило Ногарэ воспрянуть духом. – Рим? – Именно. Кажется, орден обратился к Инквизиции с просьбой найти его любой ценой. – О, черт побери, черт побери, – выдохнул Гийом де Ногарэ. – Но в таком случае, если он так нужен Риму и Молэ, то мне он нужен тем более, какой бы ни оказалась его цена. Как средство воздействия на доброго Климента Пятого, который будет рад много что обменять на него… Плисан, вы что-нибудь еще об этом знаете? – Очень немногое. То, что я второпях прочел в послании, которое было предназначено вовсе не мне. По непроверенным сведениям, следы ведут к одному доктору, практикующему в Брево…
31
Женское аббатство Клерет, декабрь 1305 года, на следующий деньКогда мэтр Правосудие Мортаня вернулся в «Напыщенный кролик», все в его голове было перевернуто вверх дном, мысли полны Маот или Мари, мускулы сведены от напряжения. Он был готов обежать хоть целый мир, если это потребуется, чтобы все наконец узнали о невиновности этой дамы. Казалось, он не сможет даже сомкнуть глаз, но вместо этого провалился в глубокий сон, от которого уже на заре его пробудило тяжелое сновидение. Две худые птичьи лапы, стоящие на крупном белом яйце. Лапы выросли, а затем еще и еще. Они заканчивались очень впечатляющими когтями. Медленным и плавным движением когти сомкнулись на скорлупе. Вдруг она треснула. Изнутри хлынула струяжелтка. Внезапно проснувшись, Ардуин подскочил на кровати. Видение Сильвин. Горный воробей. Аббатиса? Венель-младший поспешно оделся, уверенный, что история Анриетты де Тизан еще не подошла к своему окончательному финалу. Он скатился по лестнице, наскоро схватив кусок хлеба, который ему протянула изумленная матушка Крольчиха, бросив ей: – Тысяча извинений, у меня нет времени! Пожалуйста, предупредите мессира де Тизана, что я вернусь поздно вечером. – Для вас письмо, посыльный доставил… от вашей служанки… еще рано утром… я… – Позже!
* * *
Его сопровождало бледное зимнее солнце. Голубое, будто вылинявшее небо предвещало день без снегопада. Мэтр Правосудие Мортаня и сам не знал, что собирается искать в аббатстве. Более того, его могут туда просто не пустить. Одинокое путешествие верхом успокоило его. Надежно устроившись на спине мощного и быстрого Фрингана, он чувствовал в себе силы для любого сражения. Какой необычайный поворот судьбы! Он мучил и убивал, разрушал жизни по приказу правосудия, без сожалений и угрызений совести, правда, не испытывая при этом и удовлетворения. Более того, не испытывая при этом вообще никаких чувств, не храня этого в своей памяти. И вот, благодаря Мари де Сальвен, в нем пробудилась страсть к истинному правосудию, к жизни – своей и других. Это даже вызывало у него гнев, подобно шторму, который все сметает на своем пути. Какое сногсшибательное потрясение! Ардуин снова подумал о послании Бернадины, читать которое у него не было ни малейшего желания. Он догадывался о его содержимом: завтра или послезавтра он снова кого-то убьет. Что за важность? Никакой. Через неделю, две или больше Маот де Вигонрен будет спасена, свободна, жива благодаря ему. Досадная туча, все та же самая, испортила его завоевательное настроение. Чем ответит прекрасная дама, когда узнает о его занятии, чем он зарабатывает на жизнь? Презрением, растерянностью, отвращением. Никакая женщина, даже уличная попрошайка, не согласилась бы соединить свою жизнь с Жаном-Покойником. В первый раз за все свое существование отверженного мысль сменить имя и устроиться там, где никто его не знает, предстала перед ним во всей своей очевидности. Он спешился перед центральным входом в аббатство и ударил в дверь тяжелым молотком. Несколько мгновений спустя ключ повернулся в замке, и очень молодой женский голос спросил: – Кто там? – Ардуин Венель к мадам Констанс де Госбер. Недавно мне уже была оказана честь побеседовать с ней. – Она ждет вас сегодня? – Не так чтобы да, но… Ключ в замке повернулся в обратном направлении. Ардуин крикнул: – Прошу вас! Речь идет об очень важном деле. Об убийстве вашей сестры Анриетты де Тизан. Готов побиться об заклад, что собранные ею деньги не пропали и, мне кажется, я знаю, где они спрятаны. Они спрятаны здесь! За дверью немного помолчали, а затем произнесли: – Подождите. Мэтру Правосудие Мортаня показалось, что прошла целая вечность, прежде чем дверные створки вздрогнули и большой ключ снова со скрипом повернулся в замочной скважине. Он оказался лицом к лицу с очень молодой монахиней, державшейся крайне отчужденно. Она объявила: – Я дежурная сестра. Наша обожаемая матушка ждет вас в приемной. Вам приказано быть кратким. Ведите вашу лошадь в поводу и поручите ее заботам нашего конюха. Никто не въезжает сюда верхом, за исключением нашей матушки. Ардуину это было известно, тем не менее он кивком поблагодарил свою собеседницу. Мадам Констанс де Госбер сидела, напряженно выпрямившись, в своем кресле, стоящем в конце длинного стола. Ардуин поклонился и сказал ей: – Поверьте, мадам матушка, что я не стал бы вас беспокоить… – Оставьте эти любезности, сын мой. Присаживайтесь и объясните, что вас привело. Надо быть совершенным безумцем, чтобы непринужденно болтать с такой важной персоной. Ардуин мысленно заметил, что никогда не встречал настолько впечатляющей личности, как эта маленькая женщина, такая хрупкая с виду. Без сомнения, это потому, что она не боится никого, кроме Бога. Как и он сам. – Сперва, возможно, вам будет приятно узнать, что мадам Маот де Вигонрен, ваша племянница, не совершала ни отравления, ни другого святотатства. Я докажу это, и тогда ей возвратят свободу и незапятнанную репутацию. Несколько мгновений она внимательно смотрела на него. – Вот новость, способная обрадовать сердце тетушки. Затем она откинулась на резную спинку своего кресла и произнесла сдержанным отстраненным голосом: – Господь в своей бесконечной мудрости делает своим орудием очень странных созданий. Ты один из них, палач. – Что… наконец… – изумленно пробормотал исполнитель Высоких Деяний. – Откуда я это узнала? Но мне известно все. Так нужно. Тот, кто хочет избежать гнусных сюрпризов и жестоких разочарований, должен предвидеть все. Некоторое время она, казалось, размышляла, а затем продолжила: – У меня очень мало времени для вас. В дополнение к огорчению и… страху, которые я снова испытала, думаю, нет нужды говорить вам, что послание, которое я получила сегодня утром от мессира де Тизана, где он рассказывает мне, не смягчая правды, о кончине Анриетты, повергло меня в полнейшее замешательство. Я ведь назвала имя Анриетты как будущей аббатисы. Двуличие, непостижимое коварство некоторых душ всегда ошеломляли меня. Широкая и неисчерпаемая тема, не могу не согласиться. Итак, вы хотите поговорить со мной о пожертвованных деньгах, которые, как вы утверждаете, спрятаны где-то здесь. Это излишне, так как нам они возвращены. – Возвращены? – Да, в качестве безымянного дара. Их нашли в гостевом доме, завернутыми в ткань, на которой был ярлычок с моим именем. Внезапно мадам де Госбер фыркнула от смеха. Ардуин уставился на нее круглыми от удивления глазами. – Любезная и довольно неловкая воровка. – Простите, что, мадам матушка? – пробормотал Ардуин в полнейшем непонимании. – Тоже мне аноним! Мое имя было начертано изящным и очень узнаваемым почерком. Мюриетт Летуан, сестра-копиист и архивариус… Матушка аббатиса поднялась на ноги и объявила ровным бесцветным голосом: – Так как теперь вы можете успокоиться относительно судьбы наших пожертвований, моя дочь-дежурная проводит вас. Прощайте, сын мой. – Со всем моим почтением, мадам матушка, я… – Прощайте, сын мой. Ардуин торопливо заговорил: – Мне нужно выяснить одну вещь, которая меня тревожит. Почему ваши дочери выказали так мало переживаний по поводу кончины Анриетты? Почему об этой послушнице, Маргарите Фуке, даже не упоминалось? Эта отстраненность, которую я почувствовал в вас, несмотря на похвалы, расточаемые Анриетте… Она уставилась на него с потрясенным и явно недовольным видом и, наконец, заметила ледяным тоном: – Это еще что? Вы хорошо понимаете, с кем говорите? Никто никогда так не досаждал мне вопросами! Или дорожная усталость лишила вас способности здраво мыслить? В таком случае я могу доставить вам и другие причины тревожиться! Что же, значит, терять нечего… Ардуин выпрямился во весь рост, и взгляд его серых глаз уперся в глаза аббатисы. У него мелькнула мысль, что, возможно, ему придется пожалеть о своей дерзости. Слишком поздно. – А что вы думаете? Или вы считаете, что ваш далекий двоюродный брат Папа вместе с королем Франции примчится вам на помощь, если разразится скандал? Монахиня, которая из женской ревности убила свою сестру и к тому же обладала редкой сердечной черствостью, сравнимой разве что с ее лживостью и цинизмом. А вы расхваливали ее восхитительные душевные качества и считали своей достойной преемницей! – Вы угрожаете мне, сударь? – произнесла она, сверля Ардуина яростным взглядом. – Мне доводилось совершать гораздо худшие вещи, мадам матушка. Мне необходимо знать, можем ли мы найти то, что смягчит горе отца и прольет бальзам на его душевные раны. Аббатиса пристально посмотрела на Ардуина, и тот понял, что ее гнев утихает. Она протянула ему большое распятие из темного дерева, висящее у нее на шее, и потребовала: – Поклянитесь, прикоснувшись правой рукой к кресту. Поклянитесь своей душой и вечным спасением, что все это навсегда останется между нами. Мэтр Правосудие положил руку на крест и отчеканил: – Клянусь. Пусть я буду проклят, если нарушу свое обещание. Глубоко вздохнув, мадам Госбер начала свою речь: – Никакого. Никакого смягчения. Мне очень жаль, но нет никакого бальзама на душу мессира де Тизана. Я взяла с вас клятву затем, чтобы вы не насыпали туда соли. Ведь в суматохе, которая поднялась, когда обнаружили тело Анриетты, наша добрая Мюриетт Летуан с помощью послушницы Фуке стянула деньги, которые были при убитой. Чтобы заставить всех поверить, будто это убийство, совершенное дорожными грабителями… – Хм… Они вовсе не были знакомы с Луи д’Айоном и не пытались его защитить. – Нет, но им было известно истинное лицо Анриетты. Я так сержусь на себя за свою слепоту… Мюриетт и Маргарита тотчас же подумали, что ей кто-то отомстил, причем, по их мнению, вполне справедливо. Они заподозрили нескольких из своих сестер по обители. Возможно, они решили спутать карты, чтобы таким образом помочь мстительницам. – На чем основано такое предположение? Снова тяжелый вздох. Затем аббатиса продолжила рассказывать: – У Анриетты была специальная тетрадь, которую она каждый вечер заполняла в скрипториуме. Она была хитрой и не спускала с нее глаз, а исписав полностью, прятала в тайнике. В конце концов Маргарите удалось ее просмотреть. – Что там было? – поторопил ее Ардуин, чувствуя, что продолжение будет отвратительно. – Там было… настоящее досье на всех нас и на каждую, сплошная ложь и преувеличения, так как в глазах Анриетты непогрешимой была лишь она сама. В ней она перечисляла грехи, недочеты, пороки души, чаще всего своего собственного сочинения. Хуже того, на форзаце было написано имя того, кому предназначалась эта тетрадь. – И кому же? Она подняла взгляд на Ардуина, и он прочел в нем ужасное горе. – Почитаемому, достопочтимому и великодушному сеньору инквизитору Алансона. – О, черт! – выдохнул мэтр Высокое Правосудие. – Она собиралась доносить на своих сестер, обречь их на допрос с пристрастием? – Хм… Мелкие грешки там были увеличены до богохульства, ненормальности или распущенности и мерзости. Излишне вам говорить, что ее смерть, какой бы ужасной она ни была, вовсе не опечалила меня, даже наоборот. Когда почти все сестры посетили часовню Сент-Элуа, я начала подозревать, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Мне было известно, что Анриетта не пользуется всеобщей любовью; я приписывала это ее непреклонности в вере. Но внезапно вспыхнувший всеобщий интерес к ее любимой часовне меня заинтриговал. – Она прятала там свою отвратительную тетрадь, – догадался Ардуин. – Именно. Тетрадь была обнаружена Маргаритой Фуке за несколько часов до прибытия вас с мессиром де Тизаном. Она была засунута за кропильницу. Маргарита принесла ее мне, объяснив, что там содержится и кому она предназначалась. Меня чуть не стошнило. – Вы с ней ознакомились, я полагаю? – Конечно, я же должна была проверить, это мой долг. Злость начинает опустошать вас, как только завладевает вашим сердцем. Я сожгла эту тетрадь и взяла с Мюриетт и Маргариты обещание молчать. Они унесут эту тайну с собой в могилу, даже если другие знали о существовании этой тетради или догадывались об этом. Во всяком случае, через несколько недель, когда все успокоится, Анриетта де Тизан будет в глубокой тайне эксгумирована, а ее тело – брошено в лесной чаще. Из уважения к мессиру де Тизану я не могла прервать церемонию. Во всяком случае, она не достойна покоиться в святом месте. Я так решила. Прощайте, сын мой. Пусть Господь хранит вас, свое странное создание. Смущенный силой этой миниатюрной женщины, которая держит в руках бразды правления одним из самых важных монастырей королевства, ее способностью отличать правду от лжи и считающую себя вправе смеяться над авторитетом тех, кто находится выше нее, Ардуин низко поклонился, прошептав: – Спасибо вам, мадам матушка. За вашу откровенность и за доверие, которое вы оказали мне и которого, клянусь честью, я буду достоин. Как все-таки мало созданий Божьих, кто ослепляет своим светом… На губах мадам де Госбер показалась легкая улыбка. В свою очередь, аббатиса прошептала: – Знаете ли вы, палач, что Господь особенно любит своих странных созданий, посланных им на землю?* * *
Ардуин Венель-младший снова отправился в Ножан-ле-Ротру. Он боролся с меланхолией, которую чувствовал после разговора с мадам Констанс де Госбер; с неприятным и сбивающим с толку осознанием того, что теперь он должен хранить эту ужасную тайну, дабы не добавить де Тизану лишних горестей. Подлая доносчица и к тому же убийца, не заслуживающая никакого прощения, Анриетта следовала побуждениям своей подлой душонки, зная, какую судьбу готовит Инквизиция некоторым из ее сестер, которых выставляла перед ними безбожными нечестивицами. Мари, Маот… их лица совершенной красоты и такие похожие между собой слились в его сознании, облегчая его переживания. Чистота как единственное лекарство для того, кто соприкоснулся с гнусностью некоторых созданий. Ардуин собирался бороться, чтобы спасти чистоту. Ему необходимо встретиться с этим эскулапом Йоханом Фовелем.Краткое историческое приложение
ЖЕНСКОЕ АББАТСТВО КЛЕРЕТ, департамент Орн. Расположено на краю леса Клерет, на территории церковного прихода Масл. Его строительство, начатое по решению июльской хартии 1204 г. Жоффруа III, графом Перша, и его супругой Матильдой де Брауншвейгской, сестрой Оттона IV Брауншвейгского, длилось семь лет и закончилось в 1212 г. Его освящение было проведено командором тамплиеров Гийомом Арвильским, о котором мало что известно. Аббатство было предназначено для монахинь ордена Сито, бернадинок, имеющих право на малое, среднее и высокое правосудие.АРТУР II БРЕТОНСКИЙ (1261–1312). Герцог Бретонский и граф Ричмонд, сын Жана II и Беатрисы Английской. В ноябре 1305 года сменил своего отца после его неожиданной смерти. Он был раздавлен рухнувшей стеной в Лионе, когда вел мула Папы Климента V. Сначала был женат на Марии Лиможской, затем на Иоланде де Дрё, вдовствующей королеве Шотландии; в двух супружеских союзах у него появилось девять детей. Эти союзы дали возможность герцогской короне снова взять себе виконтство Лимож и графство Монфор л’Амори. Царствование Артура II было достаточно коротким и мирным. Между прочим, он положил конец обычаю, именуемому тьерсаж. Приходскому бретонскому духовенству причитается треть движимого имущества каждого прихожанина после его смерти. После напряженных переговоров с представителями Климента V Артур II добивается того, чтобы эта часть была уменьшена до девятой. Самые бедные прихожане были избавлены даже от этого.
БОНИФАЦИЙ VIII (Бенедетто Каэтани) (около 1235–1303). Кардинал и легат во Франции, становится Папой под именем Бонифация VIII. Был яростным защитником папской теократии, которой противостояло современное государственное право. Также был автором антиженского закона и не без оснований подозревался в занятиях колдовством и алхимией, чтобы сохранить свою власть. Открытая вражда с Филиппом Красивым начинается с 1296 г. и не ослабевает даже после его смерти. Была предпринята попытка затеять судебный процесс против его памяти.
ПАЛАЧ. В противоположность тому, что можно подумать, эта профессия существовала далеко не всегда. Раньше «устраивались», назначая того, кто выполнит эти функции (сеньор, судья или даже тот, кто на тот момент последним женился или последним прибыл в этот город и т. д.). Такое могло быть поручено каждому, поэтому те, кто выполнял эту работу, были подвергнуты остракизму значительно позже – только с XII в. Возможно, тогда и появляется человек, постоянно исполняющий все приговоры правосудия. Период, когда можно говорить о некоторой мягкости по отношению к людям этого ремесла, продолжается почти до революции. Впрочем, мягкость присутствует в самом происхождении этого слова (фр. Bourreau. – Прим. пер.). Некоторые считают, что оно происходит от имени сеньора Ричарда Бореля, получившего свой феод в 1261 г., который самостоятельно вешал воров в своих владениях. Другой вариант этимологии восходит к названию профессии шорника (фр. Bourrelier. – Прим. пер.) или профессии мясника (фр. Boucher. – Прим. пер.). Без сомнения, стоит отметить, что из-за отсутствия чистоты эта профессия считалась настолько позорной, что никто не хотел о ней говорить. Исполняющие ее становились париями, ненавидимыми обществом, несмотря на то что без них было не обойтись, ибо добрые христиане считали грехом пачкать свои руки в крови. Поэтому к ним относились с жестокостью и презрением вплоть до того, что до XVIII в. им было запрещено селиться в городах, за исключением площади, на которой стоял позорный столб. Им было запрещено посещать спектакли, их дети не могли приближаться к другим детям, даже в школе, их отказывались обслуживать в тавернах. Чаще всего они должны были носить на одежде кусок ткани – позорную метку, извещающую остальных, кто перед ними. Они не считались гражданами, и понадобилось ждать 1789 г. и вмешательства графа Клермон-Тоннера, чтобы их начали считать неотъемлемой частью общества. Также тогда были даны избирательные права евреям, протестантам и актерам. Граф Клермон-Тоннер желал, чтобы их дали также и палачам. В Средние века речь идет всего лишь о непочетной профессии. Несмотря на то что не существовало настоящих ограничений этой профессии, а желающие заняться ею были крайне редким явлением, палачи пользовались разными льготами, которые позволяли некоторым из них очень разбогатеть, в то время как их «вмешательства» вознаграждались достаточно скудно. Также из-за отсутствия желающих на эту должность чаще всего вербовали приговоренных к смерти в обмен на помилование. Так как они могли жениться только в своей среде, эта профессия становится наследственной, и никто из членов семьи больше не мог выйти за пределы этого порочного круга. Должность палача передавалась от отца к сыну. Создавались настоящие династии палачей вроде Жуайенов в Нормандии. Также стоит отметить, что, будучи изгнанными отовсюду, они прекрасно умели читать и писать, что в ту эпоху было не особенно распространено. Настоящие палачи существовали, как это указывается в ордонансе Людовика Святого. Также назывались и женщины, исполняющие эту работу. Их обязанностью было пороть приговоренных женщин. В середине XVIII в. существовал некий М. Анри, лионский палач, который оказался женщиной – Маргаритой де Пестуар. После двух лет исполнения обязанностей она была заключена в тюрьму, затем очень быстро была освобождена, после чего вышла замуж. Она призналась, что «исполняла приговоры по отношению к персонам своего пола с удовольствием, а по отношению к мужчинам – с трудом».
КАРЛ ДЕ ВАЛУА (1270–1325). Единственный родной брат Филиппа Красивого. Всю жизнь король демонстрирует по отношению к нему слепую привязанность и доверяет ему миссии, намного превосходящие политические и дипломатические возможности этого превосходного полководца. Карл де Валуа – отец, сын, брат, свояк, дядя и зять королей и королев – всю жизнь мечтал о короне, которую так и не получил. В 1303 г. он получает от своего брата графство Алансон дю Перш и таким образом становится Карлом I Алансонским. Получая громадные деньги от сеньоров, от короля и со своих владений, он влез в долги к ордену тамплиеров. Карл де Валуа все тут же растрачивал, швыряясь деньгами без счета, что даже заслужил репутацию сицилийского грабителя. Когда орден тамплиеров был уничтожен, Карл де Валуа заявил, что тот является его должником, и Филипп Красивый предоставил ему девятую часть движимого имущества ордена, что представляло собой колоссальную сумму. В то же время Карл де Валуа был, без сомнения, тем, кому удалось убедить Филиппа Красивого отказаться от посмертного процесса против памяти Папы Бонифация VIII. Вполне возможно, что Карл не был причастен к событиям, происходящим в Перше, предоставляя полную свободу действий старшему бальи, который окружил себя лейтенантами и высшими должностными лицами от правосудия и финансов при посредничестве собрания, где заседали граф Перша, представитель округа Мортань, а также виконт Беллемский, представляющий этот округ, и представители муниципалитета Перриер и Ситон, которые исполняли только очень незначительные функции, не забывая о сановниках из вышего духовенства. Округ Ножан-ле-Ротру не был частью этого удела, будучи отданным в качестве возмещения одному из потомков графа Ротру, когда их прямая ветвь угасла.
КЛИМЕНТ V (Бертран де Го) (ок. 1270–1314). Сначала был каноником и советником короля Английского. Выдающиеся дипломатические качества позволили ему не поссориться с Филиппом Красивым во время англо-французской войны. В 1299 г. становится архиепископом Бордо, затем в 1305 году наследует Бенедикту XI, приняв имя Климента V. Известно, что Филипп Красивый также немало способствовал избранию Климента в совет Святого Престола. Не желая столкнуться с итальянской ситуацией, которую плохо знал, Климент V в 1309 г. обосновался в Авиньоне. Он выжидал время с Филиппом Красивым в двух важных делах, где их интересы могли столкнуться: процесс против памяти Бонифация VIII и упразднение ордена тамплиеров. В первом случае ему удалось смягчить гнев суверена и выйти из затруднения, когда речь зашла о втором. Климент V также известен своей расточительностью по отношению к членам семьи, даже отдаленным. Он без счета тратил деньги из церковной казны, чтобы построить в своем родном округе (Вилландро) роскошный замок, который был закончен за шесть лет, что в ту эпоху является рекордным сроком и лишний раз доказывает, какие средства были вложены в строительство.
ГИЙОМ ДЕ НОГАРЭ (ок. 1270–1313). Доктор государственного права, преподавал в Монпелье, затем в 1295 г. вошел в королевский совет Филиппа Красивого. Его функции становились все более многочисленными. Он более или менее тайно принимал участие в важных церковных делах, которые происходили во Франции. Затем Ногарэ вышел из тени и сыграл определяющую роль в деле тамплиеров и в борьбе короля против Бонифация VIII. Ногарэ являлся человеком большого ума и несокрушимой веры. Его целью было спасти Францию и Церковь. Становится королевским канцлером, после смещения его место занимает Ангерран де Мариньи. В 1311 г. снова берет королевскую печать. Известен как человек суровый, пунктуальный и порядочный, хотя должность позволяла ему составить себе неплохое состояние.
ИЗАБЕЛЛА ДЕ ВАЛУА (1292–1309). Дочь от первого брака Карла де Валуа с Маргаритой Анжуйской. Отец выдал ее замуж в пятилетнем возрасте за внука Жана II Бретонского, чтобы скрепить мир между Францией и герцогством Бретань. Скончалась через двенадцать лет, оставшись бездетной. Ее супруг Жан III, который стал герцогом Бретонским в 1312 г., женился еще дважды, так и не заведя себе наследников.
ЖАН II БРЕТОНСКИЙ (1239–16 ноября 1305). Сын Жана I Рыжего и Бланш Наваррской, женат на Беатрисе Английской, родственнице Эдуарда I Английского. В 1286 г. становится герцогом Бретонским. Его дед Пьер I Моклерк значительно увеличил количество территорий под своим господством. Сын Моклерка Жан I Рыжий, отец Жана II, продолжил эти завоевания. Более изворотливый, чем отец, Жан I одинаково хорошо угождал и Англии, и Франции, чтобы сохранить свое герцогство, для которого он много сделал в политическом, административном, финансовом и военном плане. Его сын Жан II не унаследовал ни талантов отца, ни размаха деда и быстро оказался в зависимости от Филиппа Красивого. Осторожный, набожный и экономный, он тем не менее оставил Бретань в добром здравии. Умер 16 ноября 1305 г., раздавленный рухнувшей стеной в Лионе, когда вел мула Папы Климента V после посвящения того в сан. Ему унаследовал его сын Артур. Его внук Жан (будущий Жан III) женился на Изабелле де Валуа, чтобы скрепить мир между Бретанью и Францией.
ЖАН III БРЕТОНСКИЙ Добрый (1286–1341). Старший сын Артура II и Марии Лиможской, в 1312 г. становится герцогом Бретонским и в 1333 г. – графом Ричмондским. Был женат трижды – на Изабелле де Валуа, Изабелле Кастильской, дочери Эдуарда графа Савойского, и на Бланш Бургундской. Детей не было, что доказывает, что бесплодие было частым явлением в этом регионе. Остался верен королю Франции, к большому неудовольствию Эдуарда III Английского; участвовал в кампании против Фландрии на стороне Людовика X Сварливого, сына Филиппа Красивого. Не оставив наследников, пытался передать по завещанию Бретань французской короне. Столкнулся с противодействием и, очень желая отобрать герцогство у своего сводного брата Жана Бретонского Завоевателя, выдал замуж свою племянницу Жанну де Пентьевр за Карла де Блуа, племянника Филиппа VI. Его смерть развязала войну за наследство в Бретани.
ПРАВОСУДИЕ. До XII в. правосудие было в основном уголовным, затем правосудие сеньоров становится гражданским, хотя еще долго выбор делался в пользу королевского суда, обладавшего большей тонкостью. Правосудие осуществлялось на трех уровнях, учитывая, что сеньоров должна была судить только светская власть. Право высокого правосудия, которое в XIII в. заменило «правосудие крови», давало полномочия судить за любые преступления, даже государственные, и выносить любой приговор. Право среднего правосудия позволяло судить серьезные правонарушения, но не карающиеся смертью – например, драки, кражи, серьезные мошенничества и т. д. Выносились такие приговоры, как тюремное заключение, изгнание, большие штрафы и телесные наказания. Право низшего правосудия касалось несерьезных проступков: скандалы между соседями, беспорядок, учиненный пьяницами, или нарушение прав сеньора. Наказания ограничивались незначительными штрафами. Также существовало правосудие Церкви, которое осуществлялось в случаях, касающихся веры или морали либо Церкви и ее служителей. Церковь также судила за ереси (инквизиторский трибунал), а также за все, что касалось таинств, – например, законность брака и проистекающие из этого право наследования и родственные связи. Что же касается королевского правосудия, то оно прежде всего занималось делами, находящимися в политической сфере. Даже если некоторые суверены, например Людовик Святой, и брались судить дела, касающиеся общественного права, то в основном для того, чтобы напомнить сеньорам, что королевское правосудие не дремлет, а не из-за настоящей заинтересованности в данной сфере. Впрочем, именно при Людовике Святом была особенно распространена процедура апелляции, при которой множество дел пересматривалось и уже вынесенные приговоры отменялись. Это позволило оздоровить правосудие, так как судья первой инстанции сам был бы осужден, если б королевский трибунал решил, что его приговор несправедлив. Также было введено суровое наказание за «ложный вызов», который пресекал злонамеренное использование этого средства и попытки воспользоваться им много раз. Также напомним, что средневековое правосудие основывалось на принципе «закона воздаяния» (Исх. 21:23–25), где наказание должно быть пропорционально преступлению или, по крайней мере, символично, чтобы было наказано то, чем совершили преступление. Так, ворам отрубали руку. На наш современный взгляд, это может показаться жестоким, но в ту эпоху это не считалось чрезмерным – по сравнению, например, с тем, если бы того же вора приговорили к смерти.
СРЕДНИЕ ВЕКА – «мягкий» исторический период. Несмотря на то что оценки могут различаться, он длится приблизительно с VI по XV в. Историков-любителей часто смущает утверждение специалистов по Средневековью, что это был вовсе не такой суровый[764] исторический период, как можно подумать. Впрочем, ради точности оценки можно сравнить, поделив Средневековье на подпериоды (высокое или низкое Средневековье). Во всяком случае, в период, когда происходят события этого романа (XIV в.), политические и социальные особенности Франции не побуждают наших современников считать этот период «мягким», даже если количество его «добродетелей» и в самом деле очаровывает. Достаточно вспомнить о крепостной зависимости (в форме полусвободы или рабства), о тяжелых и многочисленных налогах, взимавшихся с населения, о кошмарных условиях жизни с точки зрения комфорта, эпидемиях, периодическом голоде, часто опустошавшем страну, о пытках[765], инквизиции, о зачастую очень суровом и скором правосудии, постоянном недоедании, небольшой продолжительности жизни[766], смертности детей[767], неразвитости медицины, крайней бедности, в которой жило большинство населения. Следует отметить крайне консервативные условия жизни женщин, за исключением нескольких дам из дворянского сословия. Также не следует забывать об опустошившей Францию Великой чуме (1347–1352), которая унесла 20–25 % населения; а вслед за ней разразилась Столетняя война, которую эпизодически испытали на себе пять поколений. Также имели место и другие эпидемии чумы.
ОРДЕН ТАМПЛИЕРОВ. Создан в Иерусалиме к 1118 г. шевалье Гуго де Пейном и несколькими рыцарями из Шампани и Бургундии. Был окончательно организован Собором в Труа в 1128 г. Свод правил был записан самим Бернардом Клервоским. Орден находился под руководством Великого магистра, авторитет которого обеспечивался сановниками. Владения ордена были значительными (к 1257 г. – 3450 замков, крепостей и домов). Благодаря своей системе перевода денег до самой Святой земли в XIII в. орден становится одним из главных банкиров христианского мира. После падения Акры, что, в сущности, стало для него фатальным, орден сосредоточивает свои действия главным образом на Западе. В конце концов общественное мнение стало считать членов ордена спекулянтами и лентяями. Свидетельством этому служат выражения, характерные для той эпохи – например, «пошел в Храм», направляясь в веселый дом. Жак де Молэ, главный магистр, отказался объединиться с орденом госпитальеров. 13 октября 1307 г. последовали массовые аресты тамплиеров. Последовали допросы, признания (в случае Жака де Молэ некоторые историки считают, что они были получены исключительно под пыткой), отказы от своих слов. Судебные следователи, искушенные в искусстве риторики, без особого труда добились самооговора со стороны части тамплиеров, большинство из которых были из крестьян и мелкого дворянства. Например, некоторые не понимали принципиальной разницы в религиозных понятиях «боготворить» и «поклоняться» и в итоге были обвинены в идолопоклонничестве. У Климента V были основания опасаться Филиппа Красивого, пример тому – посмертный процесс против памяти Бонифация VIII. 22 марта 1312 г. он издал указ об упразднении ордена. Жак де Молэ снова предстал перед церковным судом и 18 марта 1314 г. вместе с остальными был отправлен на костер. Некоторым тамплиерам удалось вовремя сбежать – например, в Англию и Шотландию. Бесспорным фактом является то, что процесс против тамплиеров имел целью завладеть их богатством. Впрочем, мотивы суверена были прежде всего политическими – к примеру, орден госпитальеров, такой же богатый, как орден тамплиеров, не вызывал у него беспокойства.
ФИЛИПП КРАСИВЫЙ (1268–1314) – сын Филиппа III Смелого и Изабеллы Арагонской. В браке с Жанной Наваррской у него родилось трое сыновей: Людовик X Сварливый, Филипп V Длинный и Карл IV Красивый. Филипп Красивый был храбрым, превосходным военачальником. Также известен своей непреклонностью и твердостью, не выносил никаких противоречий. Но, несмотря на это, он прислушивался к мнению своих советников, зачастую даже слишком, в частности, когда те были рекомендованы ему супругой. Его главная роль в деле тамплиеров стала историческим фактом, но Филипп Красивый считался прежде всего королем-реформатором, одной из целей которого было избавиться от вмешательства Рима в дела королевства.
СВИНЕЦ. Употребление свинца человеком насчитывает 3500 лет. Он необходим для хорошего роста, но в микроскопических дозах. Долгое время был излюбленным ядом для убийц. Существовало множество способов его использования: в сплавах, в качестве герметика, при строительстве трубопроводов, как кровельный материал; из него делали кухонную утварь, употребляли в качестве припоя. Также известен как один из первых подсластителей в истории, так как еще римляне использовали его, чтобы подслащивать дорогие вина. Отравление свинцом было первым профессиональным заболеванием, отмеченным во Франции. Известны также случаи такого отравления, когда дети пили воду, перенасыщенную металлами (так называемый водный сатурнизм). Картина симптомов изменяется в зависимости от дозы и длительности воздействия яда. Хроническое отравление (маленькие дозы в течение длительного периода времени) характеризуется снижением умственной активности, нарушением координации при ходьбе. К этому яду особенно чувствительны дети и плод в утробе женщины. Среднее отравление (более значительные дозы) сопровождается металлическим вкусом во рту, анорексией, сильными болями в животе, рвотой, поносом. Острое отравление (большие дозы) характеризуется постоянным волнением или, наоборот, сонливостью, затем начинается пониженное кровяное давление, конвульсии и кома.
Глоссарий
Церковные службы (речь идет о приблизительных цифрах, так как время менялось в зависимости от времени года и связанного с этим суточного цикла). За исключением мессы, хотя она в точном смысле слова не являлась частью божественной службы, учрежденной в VI в. Бенедиктом Нурсийским, предполагает множество ежедневных служб. Они задавали ритм всему дню. Таким образом, монахи (монахини) могли обедать только ночью или поздно вечером после вечерни. – Всенощная или заутреня: между 2.30 и 3 ч ночи. – Служба после заутрени: до рассвета, между 5 и 6 ч утра. – Первая: около 7.30 утра, первая дневная служба. – Девятичасовая: около 9 ч. – Полуденная: около 12 ч утра. – Обедня: между 14 и 15 ч. – Вечерня: на закате, около 16.30–17 ч. – Повечерие: после вечерней службы, последняя вечерняя служба, между 18 и 20 ч. Сюда еще добавлялась ночная служба, около 22 ч. До XI в. все службы исполнялись в полном объеме, но затем они были сокращены, чтобы у монахов (монахинь) появилось время для чтения и хозяйственной работы.Меры длины Перевод в современные меры длины является трудным занятием. К тому же в зависимости от региона они немного изменялись. – Лье: примерно 4 км. – Туаз: в зависимости от региона от 4,5 до 7 м. – Локоть: в зависимости от региона от 1,2 м в Париже до 0,7 м в Аррасе. – Ступня: примерно 34–35 см. – Дюйм: примерно 2,5–2,7 см.
Монеты Настоящая головоломка! Различались в зависимости от царствования и региона, а вдобавок к этому еще и от количества содержащегося в них золота и серебра. – Ливр: единица счета. Ливр стоил 20 су, или 240 денье, или еще 2 маленьких золотых руаяля (королевская монета при Филиппе Красивом). – Малый руаяль: примерно 14 турских денье. – Турский денье (из Тура). Должен был постепенно заменить денье парижской чеканки. 12 денье равнялись 1 су.
Библиография литературных произведений, к которым автор чаще всего обращался
Берте Режи. Малая история медицины. Paris, l’Harmattan, 2005. Жорт и Жермен Блон. История нашего питания в живописи. Paris, Fayard, 1960. Брюно Жан-Луи. Наши предки галлы. Paris, Seuil, L’Univers historique, 2008. Брюнето Жан. Фармакогнозия, фитохимия и лекарственные растения. Tec & Doc, Cachan, Lavoisier, 1993. Бюргиер Андре, Клапиш-Зубер Кристиан, Сегаль Мартин и Зонабен Франсуаза. История семьи. Т. 2. Эпоха Средневековья, Восток и Запад. Paris, Le Livre de Poche, 1994. Каэн Клод. Восток и Запад во времена Крестовых походов. Paris, Aubier, 1983. Тетради жителей Перша, общество друзей старого Ножана и Перша. Ежеквартальный журнал № 9, 1959. Аббатства и монастыри Перша. Тетради жителей Перша, общество друзей старого Перша. Ежеквартальный журнал № 2, Замок Сен-Жан в Ножан-ле-Ротру. Тетради жителей Перша, общество друзей старого Перша. Ежеквартальный журнал № 42, 1974. Хроники Перша, жителей Беллявиля. Тетради жителей Перша, общество друзей старого Ножана и Перша. Ежеквартальный журнал № 11, 1959. Перечень главных памятников архитектуры и достопримечательностей Перша. Деларю Жак. Профессия палача в Средние века и сегодня. Paris, Fayard, 1979. Делор Робер. Жизнь в Средние века. Paris, Seuil, 1982. Демюржер Ален. Жизнь и смерть ордена тамплиеров. Paris, Seuil, 1989. Демюржер Ален. Рыцари Христа, религиозные ордена в Средневековье, XI–XVI вв. Paris, Seuil, 2002. Дюби Жорж, Средневековье. Paris, Hachette Litteratures. Эко Умберто. Искусство и красота в средневековой эстетике. Paris, Grasset, 1997. Группа сотрудников резиденции командора в Арвилле, Средневековый сад в резиденции ордена тамплиеров в Арвилле. Эмерих Николау и Пена Франциско. Труд инквизиторов (введение и перевод Луи Сала-Мулен). Paris, Albin Michel, 2001. Фалько и Безор Роланд. Кухня и лечебное питье у тамплиеров. Turquant, Cheminements, 1997. Фавье Жан. Словарь средневековой Франции. Paris, Fayard, 1993. Фавье Жан. История Франции. Т. 2. Время княжеств. Paris, le Livre de Poche, 1992. Ферри Поль. Лекарства Хильдегарды Бингенской. Paris, Marabout, 2002. Флори Жан. Крестовые походы. Paris, Jean-Paul Gisserot, 2001. Фурнье Сильви. Краткая история пергамента и миниатюры. Gavaudin, Monsempron-Libos, Fragile, 1995. Говар Клод. Франция в Средние века с V по XV в. Paris, PUF, 2004. Женфаньон Люсьен. История мысли; Античность и Средние века. Paris, Le Livre de Poche, 1993. Лермей Клер. Мой средневековый огород. Saint-Remy-de-Provence, Equinoxe, 2007. Либера (де) Ален. Думать в Средние века. Paris, Seuil, 1991. Мело Мишель. Фонтевро, Patrimoine Culturel. Paris, Jean-Paul Gisserot, 2005. Мело Мишель. Аббатство Фонтевро. Малые монографии и большие издания Франции. CLT, 1978. Музей замка Сен-Жан, каталог выставки «Романский стиль в Ножане, его возникновение на Столетней войне», 2004. Распорядитель выставки Франсуаза Легье-Шампань. Перну Режин. Женщина в эпоху соборов. Paris, Stock, 2001. Перну Режин. Чтобы на этом покончить со Средневековьем. Paris, Seuil, 1979. Перну Режин, Жимпе Жан и Делатуш Раймонд. Средние века, для чего они? Paris, Stock, 1986. Редон Одиль, Сабан Франсуаз, Сервенти Силано. Гастрономия в Средние века. Paris, Stock, 1991. Ришар Жан. История Крестовых походов. Paris, Fayard, 1996. Коллектив Сент-Евру-нотр-Дам-дю-буа. Бенедиктинское аббатство в норманнской земле. Conde-sur-Noireau, NEA editions, 2001. Сигюре Филипп. История Перша. Federation des amis du Perche, 2000. Сурниа Жан-Шарль. История медицины, Paris, La decouverte Poche, 1997. Вердон Жан. Женщина в Средние века. Paris, Jean-Paul Gisserot, 2006. Винсент Катрин. Введение в историю средневекового Запада. Paris, Le Livre de Poche, 1995.Кристиан Жак Убитая пирамида
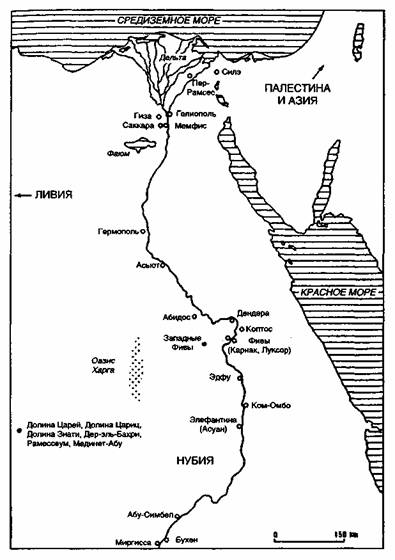
ПРОЛОГ
Безлунная ночь окутала мраком Великую пирамиду. Юркая песчаная лисица скользнула к усыпальницам вельмож, продолжавших в мире ином воздавать почести фараону. Стража охраняла покой грандиозного монумента, куда один лишь Рамсес Великий входил раз в год, дабы почтить память своего славного предка Хеопса; ходили слухи, что мумия отца высочайшей из пирамид покоится в золотом саркофаге, украшенном с невиданной роскошью. Но кто бы дерзнул польститься на столь бдительно охраняемые сокровища? Никто, кроме венценосного владыки, не мог переступить каменный порог и найти дорогу в лабиринте гигантского сооружения. Воины элитного отряда, стоявшего на страже пирамиды, стреляли без предупреждения; множество стрел мгновенно покарали бы всякого за неосторожность или любопытство. Царствование Рамсеса было счастливым; богатство и мир вознесли Египет над всеми прочими странами. Фараон представлялся воплощением света, придворные служили ему с благоговением, народ прославлял его имя. Пятеро заговорщиков вышли из хижины для рабочих, где прятались днем. Сто раз репетировали они свой план, зная, что ни в чем нельзя полагаться на волю случая. Если все пройдет успешно, рано или поздно они станут хозяевами страны и впишут себя в ее историю. Одетые в туники из грубого льна, они шли вдоль Гизехского плато, то и дело лихорадочно поглядывая на Великую пирамиду. Напасть на стражу было бы безумием; возможно, кто-то до них уже мечтал завладеть сокровищем, но никому еще это не удалось. Месяц назад большой сфинкс был очищен от слоя песка, нанесенного многочисленными бурями. Гигант с глазами, возведенными к небу, охранялся слабо. Одного имени «живой статуи» и внушаемого ею ужаса было довольно, чтобы держать зевак на расстоянии. Фараон с телом льва, высеченный из известняка в незапамятные времена, – сфинкс обеспечивал восход солнца и знал тайны Вселенной. Пять воинов-ветеранов составляли его почетную стражу. Двое из них привалились к стене ограды с внешней стороны, лицом к пирамидам, и крепко спали. Они ничего не увидят и не услышат. Самый ловкий из заговорщиков перелез через стену; проворно и тихо он задушил солдата, спавшего у правого бока каменного великана, а потом расправился с его товарищем, стоящим у левого плеча. К нему присоединились остальные заговорщики. Устранить третьего ветерана будет не так просто. Начальник стражи стоял на посту перед стелой Тутмоса IV[768], установленной между лапами сфинкса в память о том, что именно ему фараон был обязан своим троном. Вооруженный копьем и кинжалом, солдат был способен оказать сопротивление. Один из заговорщиков скинул тунику. К стражнику направилась обнаженная девушка. Ошеломленный солдат не мог отвести глаз от видения. Неужели эта женщина – один из ночных демонов, что бродят вокруг пирамид и похищают души? Она приближалась к нему с улыбкой на устах. Обезумевший страж вскочил и потряс копьем; рука его дрожала. Женщина остановилась. – Сгинь, призрак, исчезни! – Я не причиню тебе вреда. О, позволь мне ублажить тебя ласками. Взгляд главного стражника застыл на обнаженном теле – этом белом пятне во мраке ночи. Зачарованный, он сделал шаг ейнавстречу. Когда веревка обвилась вокруг его шеи, ветеран выронил копье, упал на колени, тщетно попытался закричать и рухнул на землю. – Путь открыт. – Я зажгу светильники. Пятеро заговорщиков, стоя перед стелой, в последний раз обсудили свой план и решили действовать, несмотря на терзавший их страх. Они отодвинули стелу и уставились на запечатанный сосуд, обозначавший место, где находилось жерло преисподней, вход в недра земли. – Так, значит, это не легенда! – Посмотрим, верно ли, что здесь можно пройти. Под сосудом обнаружилась плита с кольцом. Вчетвером они едва сдвинули ее с места. Узкий, очень низкий коридор круто уходил вниз, в каменные глубины. – Светильники, скорее! В долеритовые[769] чаши они налили очень жирное, легко воспламеняющееся каменное масло. Фараон запретил его использование и продажу, так как черный дым, выделявшийся при сжигании, плохо влиял на самочувствие ремесленников, украшавших храмы и гробницы, и коптил потолки и стены. Мудрецы утверждали, что эта «нефть»[770], как называли ее варвары, была вредоносным и опасным веществом, тлетворным испарением скал, полным гибельных миазмов. Но заговорщикам до этого не было дела. Согнувшись в три погибели, то и дело ударяясь о потолок из песчаника, они быстро продвигались по узкому коридору к подземной части Великой пирамиды. Все молчали: из головы не выходила зловещая сказка о духе, разбивающем череп всякому, кто осмелится осквернить гробницу Хеопса. Что, если этот подземный ход уводит их прочь от цели? Существовали ведь ложные планы, призванные запутать тех, кто решится на грабеж. Окажется верен раздобытый ими план или нет? Заговорщики уперлись в каменную стену и стали долбить ее долотом; к счастью, глыбы были невелики и поддались. Они пролезли в просторное помещение с земляным полом, имевшее три с половиной метра в высоту, четырнадцать в длину и восемь в ширину. Посередине зиял колодец. – Нижняя камера… Мы в Великой пирамиде! Удалось. Коридор[771], забытый много поколений назад, вел от сфинкса к гигантскому монументу Хеопса. Первый зал располагался на глубине примерно тридцати метров от основания пирамиды. В этой самой утробе, образно представлявшей чрево земли, совершались первые ритуалы воскрешения. Теперь им предстояло пролезть в колодец, углубиться в каменный массив и выйти в коридор, начинавшийся за тремя гранитными препонами. Самый легкий стал карабкаться вверх, цепляясь за выступы скальной породы и упираясь ногами. Он добрался до верха, обвязался веревкой и бросил ее конец вниз. Из-за нехватки воздуха один из заговорщиков чуть было не потерял сознание; его оттащили к большой галерее, где он снова смог дышать. Величие места ослепило их. Не безумен ли был тот зодчий, что дерзнул водрузить друг на друга семь рядов каменных глыб? Сорок семь метров в длину, восемь с половиной в высоту – огромная галерея, уникальное по размерам и расположению внутри пирамиды сооружение, бросала вызов векам. Как считали зодчие Рамсеса, никогда ни один архитектор не отважится больше на такое. Один из заговорщиков, оробев, попятился, но сильным толчком в спину главарь заставил его двигаться вперед. Глупо отступать, когда цель так близко; теперь они могли радоваться точности своего плана. Оставалось, правда, одно опасение: не опущена ли каменная решетка между верхним концом большой галереи и коридором, ведущим в царскую камеру? В этом случае обойти препятствие будет невозможно и придется возвращаться ни с чем. – Проход открыт. Грозные углубления, в которые должны были упираться огромные глыбы, были пусты. Заговорщики пригнувшись вошли в царскую камеру, потолок которой был сложен из девяти гранитных блоков весом более четырехсот тонн. Зал, высотой около шести метров, скрывал в себе сердце империи – саркофаг фараона, стоявший на идеально чистом серебряном полу. Они заколебались. До сих пор они вели себя как исследователи, отправившиеся на поиски неведомой земли. Правда, они совершили три преступления, за которые предстояло держать ответ перед судом иного мира, но ведь они действовали на благо страны и народа, готовясь свергнуть тирана. Если они вскроют саркофаг, если вынут из него сокровища, то нарушат вечный покой не мумифицированного человека, но бога, живущего в своем светоносном теле. Они оборвут последнюю связь с тысячелетней цивилизацией и вызовут к жизни новый мир, который никогда не признает Рамсес. Им захотелось бежать, хотя чувствовали они себя изумительно. Доступ воздуха обеспечивали два вентиляционных канала, проделанные в северной и южной стенах пирамиды, от пола исходила энергия, вселявшая в людей неведомую силу. Так, значит, вот как возрождается фараон – он вбирает в себя мощь, порождаемую камнем и формой сооружения! – У нас мало времени. – Уйдем. – И речи быть не может. Подошли двое, потом третий, а за ними и остальные. Вместе они приподняли крышку саркофага и положили ее на пол. Сияющая мумия… вся в золоте, серебре и лазурите, исполненная такого величия, что грабители не смогли выдержать ее взгляда. В ярости главный заговорщик сорвал золотую маску; его приспешники сняли с мумии ожерелье и лежавшего на месте сердца скарабея, тоже из золота, лазуритовые амулеты и тесло из небесного железа[772] – инструмент, предназначенный для того, чтобы открывать уста и очи в загробном мире. Но эти сокровища показались им почти безделицей при виде золотого свитка, который олицетворял собой Вечный Закон, вверяемый одному лишь фараону, и особенно при виде небольшого чехла в форме ласточкиного гнезда. Внутри него находилось завещание богов. Согласно этому тексту, фараон наследовал Египет и брал на себя заботу о счастье и процветании страны. Во время торжественного ритуала царского юбилея он должен был предъявить этот документ придворным и народу как доказательство законности своего царствования. Если же сделать это будет невозможно, рано или поздно фараону придется отречься от престола. Скоро на страну обрушатся бедствия и катастрофы. Осквернив сердце пирамиды, заговорщики взбаламутили главный источник энергии и нарушили эманацию ка – нематериальной силы, которой наделено каждое живое существо. Грабители завладели ящиком со слитками небесного железа, редкого металла, ценившегося не меньше золота. Оно поможет им усовершенствовать механизм переворота. Мало-помалу несправедливость распространится в провинциях, народ возропщет на фараона и страну захлестнет разрушительная волна недовольства. Им оставалось только выйти из Великой пирамиды, спрятать добычу и доплести свою паутину. Прежде чем разойтись, они дали клятву: всякий, кто встанет у них на пути, будет устранен. Такова была цена власти.1
После долгих лет жизни, отданных искусству врачевания, Беранир наслаждался покоем в своем жилище в Мемфисе. Старый лекарь был крепко сложен, широкоплеч, густые серебристые волосы обрамляли строгое лицо, в котором ощущались доброта и величие духа. Его природное благородство чувствовали и сильные мира сего, и простые смертные, и не было на памяти людей случая, чтобы кто-нибудь обошелся с ним непочтительно. Сын мастера по изготовлению париков, Беранир покинул отчий дом, чтобы стать скульптором, живописцем и рисовальщиком; один из царских мастеров позвал его в Карнакский храм. Однажды, когда община собралась за трапезой, одному из каменотесов стало плохо; Беранир инстинктивно оказал на него магнетическое воздействие и вырвал из когтей неминуемой смерти. Врачеватели храма не оставили без внимания столь ценный дар, и Беранир стал постигать искусство медицины, перенимая опыт знаменитых целителей. Неподвластный искушениям придворной жизни, безразличный к почестям, он посвятил свою жизнь тому, чтобы исцелять. Однако покинуть большой северный город и отправиться в маленькое селение, расположенное недалеко от Фив, его побудила не профессиональная необходимость. Ему предстояло выполнить другую миссию, настолько деликатную, что, казалось, она заранее обречена на провал; но он не склонен был отступать, не перепробовав все возможные пути. Вид родного селения, притаившегося в тени пальмовой рощи, взволновал Беранира. Он велел остановить носилки возле зарослей тамариска, чьи ветви свисали до самой земли. Воздух был свеж, солнце светило ласково. Он засмотрелся на крестьян, работавших под звуки флейты. Один пожилой и двое молодых земледельцев разбивали мотыгами комья земли на недавно орошенном поле. Беранир подумал о том, как ил, ежегодно приносимый половодьем, примет в себя семена и как втопчут их в землю стада свиней и овец. Природа даровала Египту неоценимые богатства, сохранить которые помогал труд человека. Так день за днем воплощалась благословенная вечность на нивах возлюбленной богами страны. Беранир продолжил свой путь. У входа в селение ему повстречалась бычья упряжка; один бык был черный, другой – белый с коричневыми пятнами. Послушные деревянному ярму, закрепленному на рогах, они спокойно продвигались вперед. У одной из глинобитных хижин мужчина на корточках доил корову, предварительно опутав ей задние ноги. Помогавший ему мальчишка сливал молоко в кувшин. Беранир с волнением вспомнил то стадо коров, что он некогда пас; их звали Добрый Совет, Голубь, Солнечная Вода, Благодатный Разлив. Для семьи корова была целым состоянием, и к тому же воплощением доброты и кротости. Ее большие уши улавливали музыку звезд, находившихся, как и она сама, под покровительством богини Хатхор. Для египтянина не было животного привлекательнее. «Какой великолепный день, – пел, бывало, египетский пастух, – небо благоволит ко мне, а работа моя сладка, как мед»[773]. Правда, надсмотрщик иногда призывал его к порядку и приказывал поторапливаться и гнать скот, а не ротозейничать. А коровы, как обычно, шли своей дорогой, не прибавляя шага. Старый лекарь почти успел позабыть эти простые сцены, эту безмятежную повседневную жизнь, не предвещавшую никаких неожиданностей, жизнь, где взгляд каждого был лишь одним из многих, где движения повторялись из века в век, приливы и отливы определяли ритм жизни поколений. Вдруг громкий голос нарушил покой селения. Общественный обвинитель призывал жителей на суд, а судебный распорядитель, отвечавший за безопасность и соблюдение порядка, вел за руку женщину, клявшуюся в своей невиновности. Суд расположился под сенью смоковницы; председательствовал Пазаир – судья, который в двадцать один год уже снискал доверие старейшин. Обычно на эту должность назначали человека зрелых лет, обладавшего солидным опытом, отвечавшего за свои решения имуществом, если он был богат, и головой, если у него ничего не было; поэтому претендентов на должность даже простого сельского судьи было не так уж много. Судью, уличенного в нарушении закона, карали так же строго, как убийцу; иначе не могло вершиться истинное правосудие. У Пазаира не было выбора; благодаря твердости характера и не вызывавшей сомнений неподкупности он был единогласно избран советом старейшин. Несмотря на свою молодость, судья заслуживал высокой оценки, ибо тщательнейшим образом изучал каждое дело. Довольно высокий, худощавый шатен с крутым лбом и живым взглядом зеленых глаз с карим отливом, Пазаир поражал своей бесстрастностью: ни гнев, ни слезы, ни соблазны не могли его поколебать. Он слушал, вглядывался, искал и высказывал свое суждение лишь после долгого и кропотливого расследования. В селении иной раз удивлялись такой въедливости, но радовались его любви к истине и способности улаживать конфликты. Многие боялись его, поняв, что он не признает компромиссов и не склонен к снисходительности, но ни одно из его решений не подверглось пересмотру. По обе стороны от Пазаира сидели присяжные, всего восемь человек: сельский управитель, его супруга, два землепашца, два ремесленника, пожилая вдова и начальник ирригационных работ. Всем перевалило за пятьдесят. Судья открыл заседание молитвой Маат[774] – богине, воплощавшей Порядок, которому должно всячески стремиться следовать людское правосудие. Потом он зачитал обвинение, выдвинутое против молодой женщины, которую судебный распорядитель крепко держал, повернув лицом к суду. Приятельница обвиняла ее в краже заступа, принадлежавшего ее мужу. Пазаир попросил истицу вслух подтвердить свои претензии, а ответчицу – защищаться. Первая выступила спокойно и рассудительно, вторая пылко все отрицала. В соответствии с законом, действовавшим испокон веков, никакой защитник не выступал в роли посредника между судьей и участниками процесса. Пазаир приказал ответчице успокоиться. Истица взяла слово, чтобы выразить свое удивление небрежностью правосудия; ведь еще месяц назад она изложила факты писцу, помогавшему Пазаиру, а суд так и не был созван. Ей пришлось подавать прошение второй раз. За это время воровка могла уничтожить улики. – Кто был свидетелем кражи? – Я сама, – ответила истица. – Где был спрятан заступ? – В доме у ответчицы. Та снова принялась все отрицать, да с таким жаром, что произвела впечатление на присяжных. Казалось, она говорит от чистого сердца. – Произведем обыск прямо сейчас, – распорядился Пазаир. Судье надлежало превратиться в следователя и лично проверить показания и улики на месте преступления. – Вы не имеете права заходить в мой дом! – закричала ответчица. – Вы признаете свою вину? – Нет! Я невиновна! – Ложь в суде – тяжелое преступление. – Это она солгала! – В таком случае ее ждет суровое наказание. Подтверждаете ли вы свои обвинения? – спросил Пазаир, глядя истице прямо в глаза. Она кивнула. Суд под предводительством судебного распорядителя отправился в дом к ответчице. Судья лично произвел обыск. Заступ был найден в погребе, завернутый в тряпье и спрятанный за кувшинами с маслом. У виновной подкосились ноги. В соответствии с законом присяжные приговорили ее вернуть жертве украденное в двойном размере, то есть два новых заступа. Кроме того, за ложь под присягой полагались пожизненные каторжные работы или даже высшая мера в случае серьезного преступления. Женщине придется много лет работать на полях местного храма, не получая за это никакого вознаграждения. Прежде чем присяжные разошлись, спеша заняться своими делами, Пазаир вынес еще один, на сей раз неожиданный приговор: пять палочных ударов помощнику-писцу за проволочку в рассмотрении тяжбы. По учению мудрых, уши человека находятся у него на спине, так что он услышит голос палки и впредь не допустит небрежности. – Судья уделит мне несколько минут? Пазаир обернулся, озадаченный. Этот голос… Возможно ли? – Вы! Беранир и Пазаир обнялись. – Вы… в деревне? – Возвращаюсь к истокам. – Пойдемте под смоковницу. Двое мужчин расположились на низких сиденьях под большой смоковницей, где в тени отдыхали старейшины. На одной из ветвей висел бурдюк с прохладной водой. – Помнишь, Пазаир? Ведь именно здесь я открыл тебе твое тайное имя после смерти твоих родителей. Пазаир, «провидец, тот, кто различает вдали»… А ведь совет старейшин не ошибся, дав тебе его. Чего еще хотеть от судьи? – Я перенес обрезание, селение подарило мне мою первую набедренную повязку, я отбросил игрушки, отведал жареной утки и пригубил красного вина. Какой чудесный праздник! – Мальчик быстро стал мужчиной. – Слишком быстро? – У каждого время идет по-своему. У тебя юность и зрелость уживаются в одном сердце. – Вы же меня воспитали. – Ты прекрасно знаешь, что нет; ты сделал себя сам. – Вы научили меня читать и писать, вы дали мне возможность познать закон и посвятить ему жизнь. Если бы не вы, я стал бы крестьянином и с любовью пахал бы землю. – Ты человек другой породы. Величие и счастье страны зависит от того, какие у нее судьи. – Быть справедливым… это ежедневное сражение. Кто может похвастаться, что всегда побеждает? – Ты хочешь этого, вот что самое главное. – Наше селение – тихая гавань; эта досадная тяжба – исключение. – А разве тебя не назначили смотрителем хлебного амбара? – Управитель хочет, чтобы я занял пост управляющего полем фараона, чтобы избежать конфликтов во время сбора урожая. Мне это совсем не нужно и, надеюсь, этого не случится. – Я в этом уверен. – Почему? – Потому что тебя ждут другие дела. – То есть? – Я приехал с поручением, Пазаир. – Дворец? – Суд в Мемфисе. – Разве я нарушил закон? – Наоборот. Вот уже два года, как чиновники, наблюдающие за сельскими судьями, составляют лестные отчеты о твоем поведении. Тебя назначили в провинцию Гизы на место умершего судьи. – Гиза, так далеко отсюда! – Несколько дней по реке. Ты будешь жить в Мемфисе. Гиза, знаменитейшее место, Гиза, где высится Великая пирамида Хеопса, таинственный жизненный центр, от которого зависит гармония всей страны, гигантский памятник, куда может проникнуть один лишь царствующий фараон. – Я счастлив в своем селении; здесь я родился, здесь вырос, здесь тружусь. Уехать отсюда – слишком большое испытание. – Я поддержал твое назначение, так как считаю, что ты нужен Египту. Не такой ты человек, чтобы руководствоваться эгоистическими интересами. – Решение окончательное? – Ты можешь отказаться. – Мне надо подумать. – Тело человека больше хлебного амбара, и в нем бесчисленное множество ответов. Выбери верный. А неверный держи взаперти. Пазаир направился к берегу. В этот момент на карту была поставлена его жизнь. У него не было ни малейшего желания отказываться от своих привычек, от мирных сельских радостей, от фиванских просторов ради того, чтобы затеряться в большом городе. Но как сказать об этом Бераниру, человеку, перед которым он преклонялся? Он поклялся откликнуться на его зов, невзирая на последствия. По берегу реки величаво ступал большой белый ибис с черными перьями в хвосте и по кромке крыльев. Гордая птица остановилась, опустила свой длинный клюв в ил и обратила взгляд на судью. – Птица Тота выбрала тебя, – раздался хриплый голос пастуха Пепи, отдыхавшего в тростнике. – У тебя нет выбора. Семидесятилетний Пепи был по натуре ворчлив и не любил ни в чем себя стеснять. Одинокое существование среди животных казалось ему верхом блаженства. Не желая подчиняться ничьим приказам, он ловко орудовал своей сучковатой палкой и умел вовремя укрыться в зарослях папируса, когда в селение, как стая воробьев, слетались сборщики налогов. Пазаир решил не вызывать его в суд. Старик не терпел жестокого обращения с коровой или собакой и охотно брался проучить виновного, поэтому судья считал его в некотором роде своим помощником. – Приглядись к ибису, – настаивал Пепи, – длина его шага – локоть, символ правосудия. Да будет поступь твоя столь же пряма и тверда, как у птицы Тота. Ты ведь уезжаешь, правда? – Откуда ты знаешь? – Ибис летает далеко в небе. Он указал на тебя. Старик встал. Его кожа потемнела от ветра и солнца, на нем была только тростниковая набедренная повязка. – Беранир – единственный честный человек, которого я знаю. Он не пытается обмануть тебя, не желает тебе зла. Когда станешь жить в городе, опасайся чиновников, придворных и льстецов: их речи несут в себе смерть. – Мне не хочется уезжать из селения. – А думаешь, мне хочется идти искать заблудившуюся козу? Пепи исчез в зарослях тростника. Белая с черным птица поднялась в воздух. Огромные крылья отбивали одной лишь ей ведомый такт; она полетела на север. Беранир прочел ответ в глазах Пазаира. – Приезжай в Мемфис к началу будущего месяца; поживешь у меня до вступления в должность. – Вы уже уезжаете? – Я больше не практикую, но все же кое-кто из больных нуждается в моих услугах. Я бы тоже с радостью остался. Носилки исчезли в дорожной пыли. Управитель окликнул Пазаира. – Нам предстоит разобрать одно щекотливое дело: три семьи претендуют на владение одной пальмой. – Да, знаю. Тяжба длится уже три поколения. Поручите это моему преемнику; если он не справится, я разберусь, когда вернусь. – Ты уезжаешь? – Меня призывают в Мемфис. – А как же пальма? – Пусть растет.2
Пазаир проверил прочность своей кожаной дорожной сумки, снабженной двумя деревянными стержнями, которые втыкались в землю, чтобы мешок сохранял вертикальное положение. Когда сумка будет полной, он понесет ее на спине, привязав к туловищу широким ремнем. Что же туда положить? Прямоугольный кусок материи для новой набедренной повязки, плащ и, разумеется, плетеную циновку. Сделанная из тщательно скрепленных полосок папируса, циновка служила кроватью, столом, ковром, навесом, ширмой у двери или окна, оберткой для ценных предметов. Последний раз в жизни человека она использовалась как саван: в нее заворачивали тело. Приобретенный Пазаиром экземпляр обладал редкой прочностью и был лучшим предметом обстановки в доме. И еще бурдюк, сшитый из двух дубленых козьих шкур: вода в нем часами оставалась прохладной. Стоило открыть дорожную сумку, как тут же подбежал песочного цвета пес и принялся ее обнюхивать. Трехлетний Смельчак был помесью борзой и дикой собаки; у него были длинные лапы, короткая морда, висячие уши, встававшие торчком при малейшем шорохе, и хвост, загнутый кольцом. Хозяина он обожал. Любитель долгих прогулок, он мало охотился и предпочитал готовую еду. – Мы уезжаем, Смельчак. Пес с тревогой смотрел на сумку. – Пешком, потом на судне, пункт назначения – Мемфис. Пес сел; он явно ждал чего-то плохого. – Пепи приготовил тебе ошейник; он хорошо вымочил кожу и обработал ее жиром. Очень удобный, правда. Смельчака это не убедило. Однако он позволил надеть на себя ошейник, розово-зелено-белый, с шипами. Если какому-нибудь собрату или хищнику вздумается схватить пса за горло, последний будет надежно защищен; кроме того, Пазаир сам сделал на нем иероглифическую надпись: «Смельчак, спутник Пазаира». Судья Пазаир накормил пса свежими овощами, которые тот радостно проглотил, не переставая следить за хозяином краешком глаза. Он чувствовал, что сейчас не до игр и развлечений. Жители селения во главе с управителем пришли проститься с судьей; некоторые плакали. Ему пожелали удачи и вручили два амулета: один с изображением барки, другой – крепких ног. Они станут охранять путника, а он в свою очередь каждое утро должен будет возносить свои мысли к богу, дабы талисманы не потеряли силу. Пазаиру оставалось лишь взять свои кожаные сандалии – не надеть их на ноги, а нести в руках. Как и все соотечественники, он отправится в путь пешком, а ценная обувь послужит ему в тот момент, когда, омыв дорожную пыль, он вступит в помещение. Он проверил, прочен ли ремешок между первым и вторым пальцами и в каком состоянии подошва. Удовлетворенный, судья покинул селение, ни разу не обернувшись. Когда он ступил на узкую дорожку, которая вилась среди холмов, возвышавшихся над Нилом, правой руки Пазаира коснулась мокрая морда. – Северный Ветер! Ты сбежал… Придется отвести тебя обратно в поле. Осел воспринимал ситуацию иначе; он решил побеседовать с хозяином и поднял правую ногу. Пазаир взял ее[775]. В свое время судья спас осла от гнева одного крестьянина, который бил его палкой за то, что тот разорвал веревку, привязывавшую его к колышку. Северный Ветер определенно обладал склонностью к независимости и способностью переносить самые тяжелые грузы. Твердо решив идти навстречу своему сорокалетию, неся по пятидесятикилограммовому мешку с каждого бока, Северный Ветер отлично сознавал, что стоит не меньше тучной коровы или хорошего гроба. Пазаир выделил ослу поле, где тот имел право пастись в одиночестве. В благодарность осел унавоживал поле до самого разлива. Прекрасно ориентируясь в пространстве, Северный Ветер всегда находил дорогу в лабиринте сельских троп и часто самостоятельно доставлял продукты из одного пункта в другой. Неприхотливый и благодушный, он спал спокойно только рядом с хозяином. Звали его Северным Ветром потому, что с самого рождения он навострял уши при малейшем дуновении с севера, дарящем живительную прохладу в жаркое время года. – Я ухожу далеко, – повторил Пазаир. – Мемфис тебе не понравится. Пес потерся о правую переднюю ногу осла. Северный Ветер понял знак Смельчака и повернулся боком, готовясь принять дорожную сумку. Пазаир ласково потрепал осла за левое ухо. – Ну и кто кого переупрямит? Пазаир сдался; даже другой осел на его месте признал бы себя побежденным. Северный Ветер, теперь отвечавший за поклажу, гордо возглавил процессию и безошибочно избрал самый короткий путь к пристани. В царствование Рамсеса Великого путники безбоязненно перемещалис ь по дорогам и тропам: они шли с легким сердцем, садились поболтать под пальмой, наполняли бурдюки колодезной водой, беззаботно ночевали у обочины поля или на берегу Нила, вставали и ложились вместе с солнцем. По дороге им встречались царские гонцы и посыльные; при необходимости можно было обратиться к патрульным стражникам. Далеко в прошлое ушла эпоха, когда дороги оглашались криками, когда бандиты грабили любого, кто дерзнет отправиться в путь, будь он богат или беден; Рамсес заставил соблюдать порядок, без которого счастье в стране невозможно[776]. Уверенным шагом Северный Ветер свернул на крутой склон, подводивший к самой реке, словно заранее знал, что хозяин собирается сесть на судно, направляющееся в Мемфис. Все трое взошли на борт; Пазаир заплатил за проезд куском ткани. Пока животные спали, он в задумчивости смотрел на свою родину – Египет, который поэты сравнивали с гигантской баркой с высокими бортами, образованными горными грядами. Холмы и скалистые откосы, поднимавшиеся на высоту до трехсот метров, казалось, охраняли пашни. Плато, пересеченные более или менее глубокими ложбинами, местами отделяли черную, плодородную, щедрую землю от красной пустыни, таившей в себе опасные силы. Пазаиру захотелось вернуться назад, в родное селение, и никуда не уезжать. Это путешествие в неизвестность порождало ощущение смутной тревоги и подтачивало веру в свои силы; простой сельский судья лишался душевного покоя, которого не даст никакое продвижение по службе. Только Беранир мог заставить его согласиться; но будущее, ожидавшее Пазаира на этом пути, казалось неподвластным его воле.***
Пазаир был потрясен. Величайший из городов Египта, «Весы Двух Земель», административная столица, Мемфис был основан Миной-объединителем[777]. Если южные Фивы были верны традиции и культу Амона, северный Мемфис, расположенный на границе Верхнего и Нижнего Египта, был открыт для Азии и средиземноморских цивилизаций. Судья, осел и собака сошли на берег в порту Перунефер, что означает «счастливого пути». Сотни торговых судов разного размера причаливали к докам, где кипела бурная деятельность; товары сгружали в гигантские склады, находившиеся под бдительной охраной и строгим управлением. Ценой усилий, достойных строителей Древнего Царства, вдоль плато, где высились пирамиды, был прорыт канал, параллельный Нилу. Таким образом суда могли беспрепятственно заходить в порт, а доставка продовольствия и материалов была обеспечена в любое время года. Пазаир отметил, что кладка в облицовке стенок канала была из самых прочных. Трое путников направились в северный квартал, где жил Беранир, прошли через центр города, полюбовались знаменитым храмом бога ремесленников Птаха и стали огибать кварталы, отведенные для армии. Там изготавливали оружие и строили военные суда. Там же тренировались элитные отряды египетского войска, размещенные в просторных казармах рядом с арсеналами, набитыми колесницами, мечами, щитами и копьями. В северной части города, как и в южной, тянулись хлебные амбары, доверху заполненные ячменем, полбой и прочими злаками, а к ним примыкали здания Казначейства, где хранились золото, серебро, медь, ткани, благовония, мед и другие продукты. Мемфис ошеломил молодого селянина своим размахом. Как разобраться в этом хитросплетении улиц и переулков, в этом разнообразии кварталов, именуемых «Жизнь Двух Земель», «Сад», «Смоковница», «Стена Крокодила», «Крепость», «Два Холма» или «Медицинский Совет»? Смельчак чувствовал себя неуверенно и жался к хозяину, зато осел невозмутимо шел вперед. Он провел своих спутников через квартал ремесленников, обрабатывавших камень, дерево, металл и кожу в своих маленьких мастерских, выходивших на улицу. Пазаир никогда не видел такого количества глиняных горшков, разных сосудов, всевозможной посуды и домашней утвари. Ему повстречалось множество чужеземцев – хеттов, греков, хананеев и азиатов, приехавших из различных маленьких царств; непринужденные, разговорчивые, они охотно украшали себя ожерельями из лотоса, называли Мемфис рогом изобилия и поклонялись своим богам в храмах Ваала и Астарты; фараон к этим храмам относился терпимо. Пазаир спросил одну ткачиху, правильно ли он идет, и убедился, что чутье осла их не подвело. Судья обратил внимание, что роскошные усадьбы знати с садами и прудами перемежались домишками простого люда. За высокими воротами, которые охраняла стража, виднелись цветущие аллеи, а в глубине – двух– или трехэтажные жилые строения. Но вот наконец и обиталище Беранира! Так хорош, так наряден был этот домик с его белыми стенами, гирляндой из красных маков над дверью и окнами, украшенными васильками с зеленой чашечкой и желтыми цветками персей[778], что молодой судья не мог не залюбоваться. Одна из дверей выходила в переулок, где росли две пальмы, дававшие тень террасе небольшого жилища. Да, деревня была далеко, но старый лекарь сумел сохранить сельский дух в самом сердце города. Беранир стоял на пороге. – Путешествие прошло благополучно? – Осел и собака хотят пить. – Я позабочусь о них; вот тебе таз, чтобы омыть ноги, а вот хлеб с солью в знак того, что ты желанный гость. Спустившись на несколько ступенек, Пазаир попал в первую комнату; он помолился перед небольшой нишей, где стояли статуэтки предков. Потом он вошел в приемный зал, потолок которого поддерживали две расписанные колонны, вдоль стен стояли шкафы и сундуки с вещами. На полу лежали циновки. Мастерская, ванная комната, кухня, две спальни и погреб дополняли уютное жилище старого лекаря. Беранир пригласил гостя подняться по лестнице, ведущей на террасу, где их ждали прохладительные напитки с печеньем и финиками, начиненными медом. – Я растерян, – признался Пазаир. – Странно, если б было иначе. Добрый ужин, спокойный сон – и ты сможешь приступить к церемонии вступления в должность. – Прямо завтра? – Дела накапливаются. – Я бы хотел привыкнуть к Мемфису. – Тебя заставят привыкнуть твои расследования. А у меня есть для тебя подарок, пока ты еще не вступил в должность. И Беранир протянул Пазаиру свиток, посвященный обучению писцов, который помогал правильно вести себя при любых обстоятельствах благодаря соблюдению иерархии. На вершине ее находились боги, богини, преображенные духи потустороннего мира, фараон и его супруга; ниже – мать фараона, визирь, совет мудрецов, верховные судьи, военачальники и писцы обители книг. Дальше следовало множество чиновников – от главного казначея до смотрителя каналов и представителей фараона в иноземных государствах. – Человек с пылким нравом или болтун может лишь сеять смуту. Если хочешь быть сильным, стань мастером слова, отточи его, как добрый ремесленник, ибо язык – мощное оружие для того, кто умеет с ним обращаться. – Мне жаль деревни. – Тебе будет недоставать ее до конца твоих дней. – Почему меня назначили сюда? – Твою судьбу определило твое же поведение. Пазаир спал мало и плохо, пес примостился у его ног, а осел устроился в изголовье. В слишком быстрой смене событий судья не успевал вновь обрести равновесие; вовлеченный в водоворот дел, он утратил привычные точки опоры и, чтобы выжить, вынужден был влиться в непредсказуемый поток неясного начинания. Проснувшись на рассвете, он принял ванну, освежил рот натронном[779] и позавтракал в обществе Беранира, который затем вверил его заботам одного из лучших цирюльников города. Сидя на трехногом табурете лицом к клиенту, устроившемуся в том же положении, брадобрей увлажнил кожу Пазаира и нанес маслянистую пену. Из кожаного чехла он достал медное лезвие на деревянной рукояти и принялся орудовать им с потрясающей ловкостью. Одетый в новую набедренную повязку и широкую полупрозрачную рубаху, умащенный благовониями, Пазаир был почти готов к испытанию. – Я чувствую себя ряженым, – признался он Бераниру. – Внешность ничего не значит, однако пренебрегать ею не стоит; умей держать рулевое весло так, чтобы течением дней тебя не снесло с праведного пути, ибо на правосудии зиждется равновесие страны. Будь достоин себя, сын мой.
3
Пазаир последовал за Бераниром в квартал Птаха, что располагался к югу от древней белокаменной стены. За судьбу осла и собаки он был спокоен, чего никак не мог сказать о своей собственной. Неподалеку от дворца было построено несколько административных зданий, вход в которые охраняли воины. Старый лекарь обратился к старшине. Выслушав просьбу, тот на несколько минут удалился и вернулся в сопровождении высокопоставленного судьи, представителя визиря. – Рад видеть вас, Беранир. Так вот он каков, ваш подопечный. – Пазаир весьма взволнован. – Вполне естественно, если учесть его возраст. Готов ли он, однако, приступить к исполнению своих новых обязанностей? Пазаир, задетый иронией важной персоны, сухо вставил: – Вы в этом сомневаетесь? Представитель визиря нахмурил брови. – Я забираю его у вас, Беранир; пора приступать к церемонии. Теплый взгляд старого лекаря придал ученику мужества, которого ему сейчас не хватало, – как бы ни было трудно, он его не посрамит. Пазаира ввели в небольшую прямоугольную комнату с пустыми белыми стенами и предложили сесть на циновку в позе писца лицом к суду, состоявшему из представителя визиря, главы провинции Мемфиса, распорядителя, ведавшего распределением должностей, и жреца бога Птаха, занимающего высокую ступень в священной иерархии. У всех четверых были массивные парики и широкие набедренные повязки. Непроницаемые лица не выражали никаких эмоций. – Вы находитесь в месте «Установления отличия»[780], – объявил представитель визиря, возглавлявший собрание. – Здесь вы станете человеком, отличным от других, призванным судить себе подобных. Как и ваши собратья по профессии из Гизы, вы будете вести расследования, председательствовать в местных судах, вверенных вашему попечению, и обращаться к вышестоящим, если окажетесь в затруднительном положении. Обязуетесь ли вы выполнять эти требования? – Обязуюсь. – Сознаете ли вы, что данное слово не может быть взято обратно? – Сознаю. – Так приступит же данное собрание к суду над будущим судьей, как предписано Законом. Глава провинции заговорил степенным, хорошо поставленным голосом. – Кого вы призовете в присяжные для своего суда? – Писцов, ремесленников, стражников, умудренных опытом мужчин, уважаемых женщин, вдов. – Каким образом вы будете участвовать в их совещаниях? – Никаким. Каждый выскажется, не испытывая чужого давления, и я с уважением отнесусь к каждому мнению, дабы выработать собственное суждение. – При любых обстоятельствах? – Кроме одного: если кто-то из присяжных подкуплен. Я прерву текущий процесс, чтобы незамедлительно выдвинуть против него обвинение. – Как вам следует действовать в случае тяжкого преступления? – спросил распорядитель. – Провести предварительное расследование, открыть дело и передать его в ведение визиря. Жрец бога Птаха приложил правую руку к груди, так что сжатый кулак коснулся плеча. – Ни одно деяние не будет забыто на суде загробного мира; твое сердце будет помещено на одну чашу весов, Порядок – на другую. В какой форме был дан закон, соблюдения которого ты должен добиваться? – Существуют сорок две провинции и сорок два свитка закона, однако дух его не был и не должен быть записан. Истина может передаваться лишь в устной форме из уст учителя в уши ученика. Жрец Птаха улыбнулся, однако представитель визиря еще не был удовлетворен. – Как вы определите Порядок? – Хлеб и пиво. – Что означает этот ответ? – Правосудие для всех – великих и малых. – Почему Порядок символически представляется в виде страусиного пера? – Потому что Порядок – это связь между нашим миром и миром богов; перо – его направляющая, руль птицы, как и руль бытия. Порядок – дуновение жизни, которое должно изгонять зло из души и тела. Его постоянно обязан чувствовать человек. Исчезни правосудие, и зерно не будет расти, мятежники захватят власть, не станет праздников. Глава провинции встал и положил перед Пазаиром известняковую плиту. – Возложите руки на этот белый камень. Молодой человек повиновался. Он не дрожал. – Да будет он свидетелем вашей клятвы; он навсегда запомнит произнесенные вами слова и станет вашим обвинителем, если вы предадите Порядок. Глава провинции и распорядитель встали по обе стороны от судьи. – Встаньте, – приказал представитель визиря. – Вот ваше кольцо с печатью, – сказал он, вручая Пазаиру прямоугольную пластинку с кольцом, которое тот надел на средний палец правой руки. На гладкой стороне золотой пластинки было написано «судья Пазаир». – Документы, на которые вы наложите свою печать, будут иметь официальную силу, и вы будете нести за них ответственность; не используйте кольцо, не подумав.***
Контора судьи располагалась в южном предместье Мемфиса, на полпути между Нилом и западным каналом, к югу от храма Хатхор. Молодой селянин, ожидавший увидеть внушительное жилище, был горько разочарован. Администрация выделила ему лишь низенький двухэтажный домик. На пороге спал, привалившись к косяку, дежурный стражник. Пазаир тронул его за плечо, тот подскочил. – Я хотел бы войти. – Контора закрыта. – Я судья. – Едва ли это возможно… Судья умер. – Я – Пазаир, его преемник. – А, это вы… да, правда, секретарь Ярти называл мне ваше имя. Как докажете, что это вы и есть? Пазаир показал кольцо с печатью. – Мне было поручено охранять это место до вашего прихода; теперь моя задача выполнена. – Когда я смогу увидеть своего секретаря? – Понятия не имею. Ему надо решить один серьезный вопрос. – Какой? – Дрова. Зимой холодно; в прошлом году Казначейство отказалось выделить дрова для этой конторы, потому что прошение не было составлено в трех экземплярах. Ярти пошел в архивы, чтобы уладить дело. Желаю вам удачи, судья Пазаир; в Мемфисе вы не соскучитесь. И стражник ушел. Пазаир легонько толкнул дверь в свои новые владения. Контора представляла собой весьма просторное помещение, заставленное шкафами и сундуками, где были сложены перевязанные или запечатанные папирусные свитки. На полу – подозрительный слой пыли. Это неожиданное затруднение не смутило Пазаира. Невзирая на свою престижную должность, он взялся за веник, состоявший из пучков жестких волокон, в двух местах перевязанных шестью оборотами шнурка: рукоять получалась прочная и позволяла мести во всех направлениях. Покончив с уборкой, судья приступил к описи содержимого архивов: кадастровые и налоговые документы, всевозможные отчеты, жалобы, счета, ведомости по выплате вознаграждения зерном, корзинами или материей, письма, списки работников… В круг его обязанностей входили самые разные дела. В большом шкафу хранилось все необходимое для писца: палетки с двумя отверстиями в верхней части для красных и черных чернил, бруски твердых чернил, чашечки, мешки с сухими красками, кисточки, скребки, каменные ступки для растирания красок, льняные веревочки, черепаховый панцирь для смешивания красок, глиняный павиан – олицетворение бога письменности Тота, обломки песчаника для черновиков, глиняные, известняковые и деревянные пластинки. Все отменного качества. В ларце из дерева акации лежал один из самых ценных предметов – водяные часы. На внутренней стенке небольшой емкости, имевшей форму усеченного конуса, были нанесены деления в соответствии с двумя разными шкалами – всего двенадцать насечек; вода вытекала через отверстие в дне сосуда, отмеряя таким образом время. Видимо, секретарь считал нужным следить за временем, проведенным на рабочем месте. Далее необходимо было выполнить еще одно дело. Пазаир взял тонко заточенную тростниковую кисточку, макнул острие в чашечку с водой и капнул на палетку. Он прошептал молитву, которую произносил всякий писец, перед тем как приступить к работе: «Вода чернильницы для твоего ка, Имхотеп» – так принято было возносить хвалу создателю первой пирамиды, зодчему, лекарю и астроному, ставшему покровителем для каждого, кто имел дело с иероглифами. Судья поднялся на второй этаж. В казенной квартире давно никто не жил; предшественник Пазаира, отдававший предпочтение маленькому домику на окраине города, и думать забыл о поддержании порядка в этих комнатах, всецело оказавшихся во власти блох, мух, мышей и пауков. Но молодой человек не отчаивался; предстоящая битва была ему по плечу. В деревне нередко приходилось тщательно вычищать жилища и изгонять непрошенных гостей. Купив все необходимое в соседних лавках, Пазаир принялся за дело. Он протер стены и пол водой с растворенным в ней натроном, потом насыпал везде смесь угольной пыли с бебетом[781], чей сильный запах отгоняет насекомых и паразитов. Наконец, он смешал ладан, смирну, кинамон[782], мед и поставил все это куриться, чтобы в помещении приятно пахло. Эти дорогостоящие вещества он попросил отпустить ему в долг и истратил наних большую часть своего будущего жалования. Выбившись из сил, он расстелил циновку и лег на спину. Но что-то мешало ему заснуть: то было кольцо с печатью. Он не снял его. Пастух Пепи не ошибся: у него не было выбора.
4
Солнце было уже высоко, когда судейский секретарь Ярти, тяжело ступая, подошел к конторе. Тучный, круглолицый и краснощекий, он никогда не выходил без своей именной палки, перемещавшейся в такт его шагам и снискавшей ему почет и уважение окружающих. Дородного сорокалетнего Ярти боги наградили дочерью, которая была причиной бесчисленных хлопот. Каждый день он ругался с женой из-за воспитания девочки, которой ни в коем случае не хотел идти наперекор. Дом сотрясался от их ссор, иногда весьма бурных. К его великому удивлению, какой-то рабочий замешал толченый известняк с гипсом, чтобы добиться белизны, потом проверил качество смеси, отлив немного раствора в известняковый конус, и стал заделывать дыру в фасаде судейского дома. – Я никаких работ не заказывал, – сердито сказал Ярти. – А я заказывал; больше того, я сам сейчас все сделаю. – По какому праву? – Я – судья Пазаир. – Но… вы так молоды! – А вы, стало быть, мой секретарь? – Верно. – День давно начался. – Да, конечно… Но меня задержали семейные неприятности. – Что есть срочного? – спросил Пазаир, не прекращая работать. – Жалоба одного строителя. У него были кирпичи, но не было ослов для их перевозки. Он обвиняет человека, дающего ослов внаем, что тот срывает ему стройку. – Дело улажено. – Каким образом? – Я видел хозяина ослов сегодня утром. Он возместит строителю ущерб и с завтрашнего дня будет перевозить кирпичи; одним процессом меньше. – А вы еще и… штукатур? – Довольно бездарный любитель. Наш бюджет весьма скромен, так что в большинстве случаев придется выкручиваться самим. Дальше что? – Вас ждут по поводу переписи поголовья скота. – А разве писца-специалиста не достаточно? – Хозяин имения, зубной лекарь Кадаш, убежден, что один из его служащих ворует. Он потребовал расследования; ваш предшественник оттягивал дело как мог. Честно говоря, я его понимаю. Если хотите, я найду аргументы, чтобы потянуть еще. – Этого не потребуется. Кстати, вы умеете обращаться с веником? И судья протянул оторопевшему секретарю сей ценный предмет.***
Северный Ветер был не прочь снова подышать сельским воздухом; нагруженный необходимыми судье принадлежностями, осел бодро шагал вперед, а Смельчак между тем бегал вокруг и радовался, что удалось поймать несколько птах. Как обычно, Северный Ветер навострил уши, когда судья сказал, что они направляются в имение зубного лекаря Кадаша, расположенное в двух часах ходьбы к югу от Гизехского плато; осел сразу же нашел верный путь. Пазаира с распростертыми объятиями встретил управляющий имением, который счастлив был наконец увидеть перед собой судью, сведущего и преисполненного желания разрешить загадку, отравляющую жизнь погонщикам быков. Слуги вымыли ему ноги и принесли новую набедренную повязку, взявшись почистить ту, что была на нем. Два мальчугана накормили осла и собаку. Кадашу доложили о приходе судьи, наскоро соорудили помост с красно-черной крышей, поддерживаемой колонками в форме лотоса, чтобы в его тени и расположились Кадаш, Пазаир и писец, который вел учет скота. Когда показался хозяин имения с посохом в правой руке и в сопровождении слуг, несших за ним сандалии, опахало и кресло, музыкантши заиграли на тамбуринах и флейтах, а молодые крестьянки преподнесли ему цветы лотоса. Кадаш был шестидесятилетним мужчиной с густыми седыми волосами, большим носом с фиолетовыми прожилками, низким лбом и выступающими скулами; он часто вытирал слезящиеся глаза. Пазаира удивили его красные руки – по всей видимости, лекарь страдал плохим кровообращением. Кадаш взглянул на него подозрительно. – Так это вы новый судья? – К вашим услугам. Приятно видеть крестьян, радующихся тому, что хозяин имения благороден душой и крепко держит жезл правления. – Вы далеко пойдете, молодой человек, если будете уважать сильных. Зубной лекарь говорил с трудом, зато одет был великолепно. Дорогой передник, нагрудник из меха леопарда, широкое ожерелье в семь рядов голубого, белого и красного жемчуга, браслеты на запястьях – все придавало ему величия. – Сядем, – пригласил он. Он сел в свое кресло из крашеного дерева, Пазаир устроился на сиденье кубической формы. Перед ним и перед писцом поставили низкие столики для письменных принадлежностей. – Согласно вашему заявлению, – напомнил судья, – вам принадлежит сто двадцать одна голова крупного скота, семьдесят овец, шестьсот коз и столько же свиней. – Точно. По последней переписи два месяца назад одного быка не хватало! А животные у меня исключительно ценные, наименее тучного из моих быков можно обменять на льняную тунику и десять мешков овса. Я хочу, чтобы вы нашли и наказали вора. – А вы проводили собственное расследование? – Это не мое дело. Судья обратился к писцу, сидящему на циновке: – Что вы записали в своих реестрах? – Количество предъявленных мне голов. – Кого вы допросили? – Никого. Мое дело записывать, а не вопросы задавать. Пазаир понял, что больше от него ничего не добьется; в раздражении он вытащил из своей корзины пластинку из смоковницы, покрытую тонким слоем гипса, заостренную тростниковую кисточку длиной двадцать пять сантиметров и чашечку для воды, в которой он развел чернила. Когда все было готово, Кадаш дал знак главному погонщику начинать прогон скота. Хлопнув по шее огромного головного быка, тот запустил процессию. Бык медленно подался вперед, а за ним тронулись его грузные, невозмутимые собратья. – Не правда ли они великолепны? – Похвалите ваших скотоводов, – посоветовал Пазаир. – Вор, наверное, хетт или нубиец, – предположил Кадаш. – В Мемфисе слишком много иноземцев. – А ваше имя разве не ливийского происхождения? Зубной лекарь не стал скрывать недовольства. – Я живу в Египте давно и принадлежу к избранному обществу – разве богатство моего имения не лучшее тому доказательство? Я лечил самых влиятельных придворных, помните об этом и знайте свое место. Рядом с животными шли слуги. Они тащили фрукты, пучки лука-порея, корзины с латуком и сосуды с благовониями. По-видимому, это была не просто проверка учета; Кадаш хотел ослепить нового судью, продемонстрировав, насколько он богат. Смельчак проскользнул под сиденье хозяина и смотрел на проходивших мимо животных. – А вы из какой провинции? – поинтересовался зубной врач. – Следствие здесь веду я. Перед помостом шли два запряженных быка. Тот, что постарше, улегся на землю и отказывался идти дальше. «Прекрати прикидываться мертвым», – заорал погонщик. Виновник с опаской взглянул на него, но не двинулся с места. – Ударь его, – приказал Кадаш. – Постой, – вмешался Пазаир, спускаясь с помоста. Судья погладил быка, дружески похлопал по могучей шее и с помощью погонщика попытался поставить его на ноги. Убедившись, что ему ничего не грозит, тот повиновался. Пазаир сел на место. – Вы очень чувствительны, – съязвил Кадаш. – Ненавижу насилие. – Но ведь оно иногда необходимо. Египту приходилось сражаться с захватчиками: люди отдали жизнь за наше нынешнее благополучие. Вы же не станете их осуждать? Пазаир сосредоточился на прогоне скота, писец считал. При подведении итогов оказалось, что быков на одного меньше, чем значилось в заявлении владельца. – Это недопустимо! – взревел Кадаш, его лицо налилось багрянцем. – Меня обкрадывают в собственном доме, и никто не хочет выдавать виновного! – Ваши животные наверняка помечены. – Разумеется! – Вызовите людей, которые их метили. Их было пятнадцать человек; судья допросил каждого по очереди, не дав им возможности поговорить друг с другом. – Нашел я вашего вора, – объявил он Кадашу. – Его имя? – Кани. – Я требую немедленного суда. Пазаир согласился. В качестве присяжных он выбрал одного погонщика быков, пастушку, писца, ведавшего учетом скота, и одного из стражников имения. Кани, и не думавший скрываться, добровольно предстал перед помостом и выдержал гневный взгляд Кадаша. Это был грузный коренастый мужчина с темной кожей, собранной в глубокие складки. – Признаете ли вы свою вину? – спросил судья. – Нет. Кадаш ударил тростью по земле. – Разбойник, еще и наглец! Пусть его накажут немедленно! – Помолчите, – приказал судья. – Если вы будете мешать, я прерву заседание. Лекарь раздраженно отвернулся. – Вы клеймили быка из стада Кадаша? – спросил Пазаир. – Да, – ответил Кани. – Животное исчезло. – Он убежал от меня. Вы найдете его на соседнем поле. – Откуда такая небрежность? – Я не погонщик быков, я садовник. Настоящая моя работа состоит в поливке небольших участков земли; целыми днями я таскаю на плечах коромысло и выливаю на растения содержимое тяжелых кувшинов. Вечером я тоже не знаю отдыха – мне надо поливать самые прихотливые растения, приводить в порядок оросительные канавы, укреплять насыпи. Если вам нужны доказательства, посмотрите на мой затылок – на нем следы двух абсцессов. Это болезнь садовника, а не погонщика быков. – Почему вы сменили работу? – Потому что я попался на глаза управляющему Кадаша, когда приносил овощи. Меня заставили заниматься быками и забросить сад. Пазаир вызвал свидетелей. Была установлена правдивость показаний Кани, и суд оправдал его. В качестве возмещения по распоряжению судьи беглый бык переходил в его собственность, кроме того, Кадаш должен был выдать ему солидное количество продовольствия за потерянные рабочие дни. Садовник поклонился судье, в его глазах Пазаир прочел глубокую благодарность. – Принуждение крестьянина к смене вида деятельности – серьезное правонарушение, – напомнил он хозяину имения. Кровь прилила к лицу зубного лекаря. – Я не виноват! Я ничего не знал – пусть мой управляющий получит по заслугам. – Вы знаете характер наказания: пятьдесят палочных ударов, лишение должности и возвращение к статусу простого крестьянина. – Закон есть закон. Управляющий предстал перед судом и не стал ничего отрицать; он был осужден, а приговор незамедлительно приведен в исполнение. Когда судья Пазаир уходил из имения, Кадаш не вышел попрощаться с ним.
5
Смельчак спал у ног хозяина и видел во сне чудесный пир, а Северный Ветер, отведав свежего корма, стоял на страже у дверей конторы, где Пазаир с самой зари разбирал текущие дела. Его не удручало обилие сложностей, наоборот, он был полон решимости наверстать упущенное время, ничего не оставив без внимания. Секретарь Ярти пришел ближе к полудню, с перекошенным лицом. – У вас подавленный вид, – заметил Пазаир. – Опять ссора. Моя жена невыносима; я на ней женился, чтобы она меня вкусно кормила, а она отказывается готовить! Так существовать невозможно. – Подумываете о разводе? – Нет, из-за дочери; я хочу, чтобы она стала танцовщицей. У жены другие планы, которые меня не устраивают. И никто из нас не собирается уступать. – Боюсь, положение безвыходное. – По-моему, тоже. Как ваше расследование у Кадаша? Все нормально? – Я как раз дописываю отчет: бык найден, садовник оправдан, управляющий осужден. По-моему, лекарь тоже замешан, но этого я не могу доказать. – Не трогайте его – у него связи. – Обеспеченные клиенты? – Он лечил самые достославные рты; злые языки поговаривают, что его рука не столь тверда, как прежде, и что лучше к нему не ходить, если хочешь иметь здоровые зубы. Смельчак зарычал, хозяин успокоил его лаской. Такое поведение пса означало умеренную недоброжелательность. Он с первого взгляда невзлюбил судейского секретаря. Пазаир наложил свою печать на папирус, где были перечислены его выводы по делу об украденном быке. Ярти любовался тонким и ровным почерком судьи; он выводил иероглифы без малейшего колебания, твердо и решительно облекая свою мысль в замысловатые знаки. – Надеюсь, вы не стали выдвигать обвинение против Кадаша? – Конечно, стал. – Это опасно. – Чего вы опасаетесь? – Н-не знаю. – Изъясняйтесь точнее, Ярти. – Правосудие – дело сложное… – Я так не считаю: по одну сторону – истина, по другую – ложь. Стоит хоть на пядь уступить последней – и правосудия больше нет. – Вы так говорите, потому что молоды; с опытом ваши суждения станут не столь резкими. – Надеюсь, что нет. В селении многие приводили ваш аргумент; мне кажется, он несостоятелен. – Вы не хотите считаться с иерархией? – А что, Кадаш превыше закона? Ярти вздохнул. – Вы производите впечатление человека умного и смелого, судья Пазаир; не делайте вид, что вы не понимаете. – Если иерархия несправедлива, страна идет к своей погибели. – Она раздавит вас, как и всех остальных; довольствуйтесь решением тех проблем, что вам поручены, и предоставьте щекотливые дела вышестоящим. Ваш предшественник был благоразумным человеком и умел избегать ловушек. Вас повысили, так не портите себе карьеру. – Я получил это назначение благодаря своим методам; с чего бы мне их менять? – Используйте свой шанс, не нарушая установленного порядка. – Я не знаю другого порядка, кроме Закона. Отчаявшись, секретарь ударил себя в грудь. – Вы на пути к пропасти! Учтите, я вас предупреждал. – Завтра вы отнесете мой отчет в администрацию провинции. – Как вам будет угодно. – Меня вот что интересует: я нисколько не сомневаюсь в вашем усердии, но неужели вы один – это весь мой персонал? Ярти как будто засмущался. – В некотором роде да. – Что значат эти недомолвки? – Есть еще некто по имени Кем… – Его должность? – Пристав. Его дело – производить аресты, о которых вы распорядитесь. – Должность, на мой взгляд, немаловажная! – Ваш предшественник никого не арестовывал; если он подозревал преступника, дело передавалось в инстанции, вооруженные получше. А поскольку в конторе Кему скучно, он патрулирует. – А буду ли я иметь честь познакомиться с ним? – Он заходит иногда. Не надо с ним свысока: у него отвратительный характер. Я его боюсь. Если захотите сделать ему замечание, на меня не рассчитывайте. «Навести порядок в собственной конторе и то будет нелегко», – подумал Пазаир, заметив тем временем, что папирус кончается. – Где вы его покупаете? – У Бел-Трана, лучшего изготовителя папирусов в Мемфисе. У него высокие цены, но материал отменного качества и прочности. Я вам его рекомендую. – Разрешите одно сомнение, Ярти: эта рекомендация бескорыстна? – Да как вы могли такое подумать? – Ладно, я ошибся. Пазаир просмотрел последние жалобы – ничего особенно важного или срочного. Он перешел к спискам чиновников, которых должен был контролировать, и к назначениям, поданным ему на утверждение, – обычная административная работа, требующая только его печати. Ярти сел, положив под себя согнутую левую ногу и выставив вперед правую; держа наготове палетку и засунув калам[783] за левое ухо, он чистил кисточки и наблюдал за Пазаиром. – Вы давно работаете? – С рассвета. – Рановато. – Сельская привычка. – Привычка… ежедневная? – Учитель говорил мне, что один день небрежения – катастрофа. Познавать можно только сердцем, при условии, что уши открыты, а разум покорен. Чтобы этого достичь, нет ничего лучше добрых привычек. В противном случае дремлющая в нас обезьяна пускается в пляс и бог покидает свое святилище. Секретарь явно помрачнел: – Не слишком приятное существование. – Мы – служители правосудия. – Кстати, мой рабочий день… – Восемь часов, два выходных на шесть рабочих дней и два-три месяца отпуска во время различных праздников…[784] Договорились? Секретарь кивнул. И без напоминаний судьи ему стало ясно, что над пунктуальностью придется немного поработать. Одно короткое дело заинтересовало Пазаира. Начальник стражи, охранявшей сфинкса в Гизе, был переведен в док. Резкий поворот в карьере: очевидно, этот человек совершил серьезный проступок. Однако вопреки обыкновению вина указана не была. И при этом старший судья провинции наложил свою печать; дело было только за печатью Пазаира, поскольку солдат жил в его округе. Простая формальность, которую следовало выполнить, не раздумывая. – Наверное, многие жаждут получить пост начальника стражи сфинкса? – В претендентах нет недостатка, – согласился секретарь, – однако на сегодняшний день у них шансов немного. – Почему? – На этом посту бывалый солдат с замечательным послужным списком и к тому же человек смелый. Он ревностно охраняет сфинкса, при том что старый каменный лев выглядит достаточно впечатляюще, чтобы самому себя защитить. Кому придет в голову причинить ему вред? – То есть почетный пост? – Совершенно верно. Начальник стражи набрал других ветеранов, чтобы обеспечить им небольшое содержание; впятером они ведут наблюдение по ночам. – А вам известно о его переводе? – Переводе… Вы шутите? – Вот официальный документ. – Поразительно. Что он натворил? – Вы рассуждаете так же, как я. Об этом ничего не сказано. – Не берите в голову; это, наверное, решение военного командования, логику которого нам не постичь. Северный Ветер издал характерный крик: осел предупреждал об опасности. Пазаир вышел и оказался перед огромным павианом, которого хозяин держал на поводке. Эта обезьяна со свирепым взглядом, большой головой и лохматым туловищем недаром слыла кровожадным зверем. От ее ударов и зубов нередко гибли крупные хищники, и даже львам случалось обращаться в бегство при виде стаи разъяренных павианов. Хозяин, играющий бицепсами нубиец, производил не менее сильное впечатление. – Надеюсь, вы крепко его держите. – Дозорный павиан[785] к вашим услугам, судья Пазаир, равно как и я сам. – Вы – Кем. Нубиец кивнул. – О вас поговаривают в округе; похоже, для судьи вы слишком много суетитесь. – Мне не нравится ваш тон. – Придется привыкать. – Ни в коей мере. Либо вы будете вести себя почтительно, как подобает подчиненному, либо подадите в отставку. Двое мужчин долго вызывающе смотрели друг на друга, собака судьи и павиан пристава делали то же самое. – Ваш предшественник предоставлял мне свободу действий. – Теперь так не будет. – Вы ошибаетесь; когда я иду по улице со своим павианом, у людей пропадает охота воровать. – Посмотрим ваш послужной список? – Сразу предупреждаю: прошлое у меня темное. Я состоял в отряде лучников, на который была возложена охрана одной из крепостей Великого Юга. Я поступил на службу из любви к Египту, как многие молодые люди моего племени. Долгие годы я был счастлив, но однажды, сам того не желая, я обнаружил махинации с золотом среди войскового начальства. Вышестоящие чины не стали меня слушать; в драке я убил одного из воров, моего непосредственного начальника. Меня судили и приговорили к отрезанию носа. Сейчас у меня нос из крашеного дерева. Я больше не боюсь ударов. Судьи, однако, признали мою правоту; поэтому мне и доверили должность пристава. Если хотите проверить, мое дело хранится в архивах военного ведомства. – Ну, значит, пошли туда. Кем не ожидал такой реакции. Осел с секретарем остались присматривать за конторой, а судья с приставом в сопровождении павиана и пса, продолжавших приглядываться друг к другу, направились к административному центру армии. – Как давно вы живете в Мемфисе? – Год, – ответил Кем. – Я скучаю по Югу. – Знаете ли вы старшего стражника из охраны сфинкса в Гизе? – Видел два-три раза. – Он внушает вам доверие? – Это известный ветеран, слава о нем добралась даже до моей крепости. Столь почетный пост не доверяют кому попало. – А он сопряжен с опасностями? – Да нет, конечно! Кто нападет на сфинкса? Это почетный караул, и стражники должны в основном следить за тем, чтобы монумент не заносило песком. Прохожие расступались перед процессией; каждый знал, как скор на расправу павиан, способный вонзить зубы в ногу вора или свернуть ему шею, до того как успеет вмешаться хозяин. Когда Кем со своей обезьяной обходил улицы, злые умыслы рассеивались сами собой. – А вы знаете, где живет этот ветеран? – В казенном доме возле главной казармы. – Моя идея оказалась неудачной, вернемся в контору. – Вы раздумали знакомиться с моим делом? – Вообще-то я хотел взглянуть на его дело, но оно мне уже ничего не даст. Жду вас завтра утром, на рассвете. Как зовут вашего павиана? – Убийца.6
На закате судья закрыл контору и отправился погулять с собакой по берегу Нила. Стоило ли ему заострять внимание на этом ничтожном деле, с которым можно покончить раз и навсегда, просто наложив печать? Препятствовать банальной административной процедуре бессмысленно. Но так ли она банальна? Сельский житель развивает интуицию, общаясь с природой и животными; Пазаир испытывал такое странное, почти тревожное ощущение, что решил провести расследование, хотя бы краткое, чтобы потом с чистой совестью засвидетельствовать этот перевод по службе. Смельчак любил играть, но боялся воды. Он бегал на почтительном расстоянии от реки, по которой плыли грузовые суда, изящные парусные барки и маленькие лодочки. Кто-то прогуливался, кто-то вез товары, кто-то странствовал. Нил не только кормил Египет, но и служил удобным и быстрым путем сообщения, где ветры и течение чудесным образом дополняли друг друга. Большие суда с опытным экипажем выходили из Мемфиса по направлению к морю, некоторым из них предстояло долгое плавание к дальним берегам. Пазаир не завидовал им; удел их представлялся ему жестоким, поскольку он уводил их из страны, где судья любил каждую пядь земли, каждый холм, каждую тропу в пустыне, каждое селение. Всякий египтянин боялся умереть на чужбине – закон предписывал вернуть его тело на родную землю, – чтобы он пребывал в вечности вблизи своих предков, под покровительством богов. Смельчак издал какой-то писк; маленькая зеленая обезьянка, резвая как ветерок, плеснула на него водой. Пес стал отряхиваться, скаля зубы от унижения и обиды; проказница, забеспокоившись, прыгнула на руки к хозяйке – молодой женщине лет двадцати. – Он не злой, – заверил Пазаир, – но терпеть не может мокрую шерсть. – Мою обезьянку недаром зовут Проказница, она то и дело затевает разные шалости, особенно с собаками. А я безуспешно пытаюсь ее вразумить. Ее голос был так нежен, что Смельчак успокоился, понюхал ногу хозяйки обезьяны и лизнул ее. – Смельчак! – Оставьте его; я думаю, он признал меня, и очень этому рада. – А Проказница согласится дружить со мной? – Надо выяснить. Подойдите. На Пазаира словно столбняк нашел: он не мог ступить ни шагу. В селении вокруг него вертелись какие-то девушки, но он не обращал на них внимания: одержимый учебой и работой, он пренебрегал интрижками и сердечными делами. Радея о законности, он рано возмужал, но перед этой женщиной он почувствовал себя безоружным. Она была прекрасна. Прекрасна, как весенняя заря, как распустившийся цветок лотоса, как искрящаяся волна в нильском потоке. Она была немного ниже его, ее волосы отливали золотом, лицо было чистым и правильным, взгляд – прямым, а глаза – синими, как летнее небо. Длинную шею украшало ожерелье из лазурита; на запястьях и щиколотках – сердоликовые браслеты. Под льняным платьем угадывалась крепкая высокая грудь, безупречные формы нешироких бедер и длинные, стройные ноги. Руки и ноги радовали глаз изяществом линий. – Вы что, боитесь? – спросила она удивленно. – Нет… разумеется, нет. Подойти к ней означало разглядеть ее поближе, вдохнуть ее запах, почти коснуться ее… Ему на это не хватало духу. Поняв, что он не сдвинется с места, она сделала три шага к нему навстречу и протянула ему зеленую обезьянку. Дрожащей рукой он погладил ей лоб. Бойким пальчиком Проказница почесала ему нос. – Так она распознает друзей. Смельчак не стал возражать, между псом и обезьянкой было заключено перемирие. – Я купила ее на базаре, где продавали товары из Нубии; она казалась такой несчастной, такой потерянной, что я не смогла удержаться. На ее левом запястье был странный предмет. – Вас заинтересовали мои переносные часы?[786] Без них при моей профессии не обойтись. Меня зовут Нефрет, я – лекарь. Нефрет – «прекрасная, безупречная, совершенная»… Разве могло быть у нее другое имя? Казалось, такой золотистой кожи просто не бывает; каждое произнесенное ею слово было похоже на чарующее пение, которое можно услышать в деревне в час заката. – А можно узнать ваше имя? Он вел себя непростительно. Не представившись, он выказал себя невежей, достойным осуждения. – Пазаир… Я один из судей этой провинции. – Вы здесь родились? – Нет, в фиванском районе. Я приехал в Мемфис совсем недавно. – Я тоже там родилась! Она радостно улыбнулась. – Ваша собака уже закончила прогулку? – Нет, что вы! Он неутомим. – Тогда, может, пройдемся? Мне хочется подышать свежим воздухом, неделя выдалась изнурительная. – Вы уже практикуете? – Нет еще, я заканчиваю пятый год обучения. Сначала я училась аптекарскому делу и искусству приготовления снадобий, потом работала ветеринаром при храме в Дендере. Меня научили проверять чистоту крови жертвенных животных и лечить всех зверей от кошки до быка. За ошибки сурово наказывали – били палкой, как мальчиков! У Пазаира сжалось сердце при мысли о наказании этой восхитительной плоти. – Строгость наших учителей – лучшее воспитание, – продолжала она. – Когда учат по спине, урок запоминается навсегда. Затем я была допущена в школу целительства в Саисе, где получила звание «помогающей страждущим», после того как изучила и освоила на практике разные области врачевания – исцеление глаз, живота, ануса, головы, скрытых органов, жидких субстанций, хирургию. – Чего же еще от вас хотят? – Я могла бы стать врачом-специалистом, но это самый нижний уровень; я смирюсь с этим положением, если не смогу стать целителем. Специалист видит лишь один аспект болезни, лишь частное проявление истины. Боль в определенном месте не означает, что ты знаешь источник недуга. Специалист способен поставить только частичный диагноз. Стать целителем – мечта всякого лекаря; но испытание настолько сурово, что большинство отступает. – Чем я могу вам помочь? – Я одна должна предстать перед моими учителями. – Да сопутствует вам удача! Они пересекли поляну с васильками, где резвился Смельчак, и сели в тени красной ивы. – Я так разговорилась, – посетовала она, – это не в моем обычае. Вы вызываете людей на откровенность? – Это часть моей профессии. Кражи, задержки платежей, договоры о продаже, семейные ссоры, супружеские измены, нанесение телесных повреждений, неоправданные пошлины, клевета и тысячи других правонарушений – вот мои будни. Мне предстоит вести расследования, проверять показания, восстанавливать факты и судить. – Это страшно тяжело! – Ваша профессия не легче. Вам нравится лечить, мне нравится, когда торжествует справедливость; работать вполсилы было бы предательством. – Терпеть не могу пользоваться обстоятельствами, но… – Говорите, прошу вас. – Один из моих поставщиков целебных трав исчез. Он человек неотесанный, но честный и сведущий; недавно мы подали жалобу вместе с другими лекарями. Может, вы могли бы ускорить поиски? – Я постараюсь. Как его имя? – Кани. – Кани! – Вы что, его знаете? – Его силой привлек к работам управляющий имением Кадаша. Теперь он свободен. – Благодаря вам? – Я проводил расследование и суд. Она расцеловала его в обе щеки. Пазаир, не отличавшийся мечтательностью, почувствовал, как перенесся в один из райских миров, уготованных праведникам. – Кадаш… знаменитый зубной врач? – Он самый. – Говорят, он был хорошим лекарем, но ему давно пора отойти от дел. Зеленая обезьянка зевнула и прикорнула на плече у Нефрет. – Мне пора идти, было очень приятно с вами поговорить. Вряд ли нам случится встретиться вновь; от всей души благодарю, что спасли Кани. Она не шла – она танцевала; поступь ее была легка, фигура излучала свет. Пазаир еще долго сидел под красной ивой, стараясь запечатлеть в памяти малейшее ее движение, самый мимолетный взгляд, тембр голоса. Смельчак положил правую лапу хозяину на колени. – А, ты понял… Я без памяти влюбился.7
Кем и павиан явились в назначенный час. – Вы готовы отвести меня к начальнику стражи сфинкса? – спросил Пазаир. – Как прикажете. – Этот тон мне нравится не больше прежнего: язвительность ничем не лучше агрессивности. Замечание судьи задело нубийца. – Я не намерен пресмыкаться перед вами. – Будьте хорошим приставом, и мы поладим. Павиан и его хозяин уставились на Пазаира; в двух парах глаз – сдерживаемая ярость. – Пошли. Было раннее утро и улицы понемногу оживали: хозяйки оживленно болтали, водоносы разносили драгоценную влагу, ремесленники открывали свои мастерские. Благодаря павиану толпа расступалась. Начальник стражи жил примерно в таком же доме, как у Беранира, правда, не столь нарядном. На пороге девочка играла с деревянной куклой; увидев обезьяну, она испугалась и с криком убежала внутрь. Сразу же вышла разгневанная мать. – Зачем вы пугаете ребенка? Уберите это чудовище! – Вы супруга начальника стражи сфинкса? – По какому праву вы меня допрашиваете? – Я судья Пазаир. Серьезный тон судьи и поведение павиана заставили хозяйку дома притихнуть. – Он больше здесь не живет; мой муж – тоже ветеран. Это жилище нам выделила военная администрация. – А вы знаете, куда он уехал? – Его жена казалась расстроенной; когда мы встретились во время ее переезда, она что-то говорила о доме в южном предместье. – Точнее ничего не знаете? – С чего бы мне лгать? Павиан рванул поводок, женщина сделала шаг назад и уперлась в стену. – Правда, ничего? – Нет, клянусь, ничего!***
Чтобы отвести дочь в школу танцев, секретарю Ярти пришлось отпроситься из конторы в середине дня, но зато он пообещал занести в администрацию провинции отчеты о делах, разобранных судьей. За несколько дней Пазаир решил больше проблем, чем его предшественник за полгода. Когда зашло солнце, Пазаир зажег несколько светильников; ему очень хотелось покончить поскорее с десятком конфликтов с налоговой службой, которые он разрешил в пользу налогоплательщиков. Все, кроме одного, касавшегося судовладельца по имени Денес. На его деле старший судья провинции собственноручно написал: «Не давать хода». Вместе с ослом и собакой Пазаир отправился в гости к своему учителю, посоветоваться с которым ему было некогда с тех самых пор, как он обосновался в Мемфисе. По дороге у него все не выходила из головы странная история с начальником стражи, потерявшим не только престижную работу, но и казенное жилище. Что же кроется за этим потоком неурядиц? Судья велел Кему выйти на след ветерана. Не поговорив с ним, Пазаир не станет утверждать перевод. Смельчак то и дело чесал правый глаз левой лапой; Пазаир осмотрел пса и увидел явное раздражение. Старый лекарь сумеет его вылечить. Дом был освещен; Беранир любил читать по вечерам, когда стихает городской шум. Пазаир толкнул входную дверь, спустился вместе с собакой в прихожую и обомлел. Беранир был не один. Он беседовал с женщиной, чей голос судья не мог не узнать. Она, здесь! Пес проскочил у хозяина между ног и стал ласкаться. – Заходи, Пазаир! Судья, сделав над собой усилие, последовал приглашению. Его взгляд был прикован к Нефрет. Она сидела скрестив ноги перед старым лекарем и держала большим и указательным пальцами льняную нить, к которой был подвешен кусок гранита ромбовидной формы[787]. – Нефрет – моя лучшая ученица, судья Пазаир. Теперь, когда все знакомы, может, выпьешь свежего пива? – Ваша лучшая ученица… – Мы уже встречались, – сказала она, явно забавляясь. Пазаир возблагодарил судьбу: увидеть ее снова было для него верхом блаженства. – Нефрет скоро предстоит пройти последнее испытание, и тогда она получит право применять свое искусство, – напомнил Беранир, – поэтому мы отрабатываем упражнения по биолокации, необходимые для того, чтобы верно поставить диагноз. Я уверен, она станет превосходным врачом, потому что умеет слушать. Кто умеет слушать, тот правильно действует. Слушать – это самое главное, нет большего сокровища. И дает нам его одно лишь сердце. – Разве тайна целителя не в знании сердца? – спросила Нефрет. – И эта тайна откроется тебе, когда ты будешь этого достойна. – Я бы хотела отдохнуть. – Непременно. Смельчак почесал глаз. Нефрет это заметила. – Мне кажется, ему больно, – сказал Пазаир. Пес дал себя осмотреть. – Ничего страшного, – заключила она, – простые капли – и все пройдет. Беранир тут же принес лекарство; глазные болезни случались нередко, и средств от них было достаточно. Подействовало снадобье быстро; отек прошел, пока девушка гладила Смельчака. Впервые Пазаир позавидовал своему псу. Он поискал предлог, чтобы ее задержать. Беранир подал великолепное пиво, сваренное накануне. – У тебя усталый вид; судя по всему, работы хватает. – Я столкнулся с неким Кадашем. – Зубной лекарь с красными руками… Человек неуравновешенный и куда более злопамятный, чем может показаться. – Я считаю, что он виновен в принуждении крестьянина к смене рода деятельности. – Доказательства веские? – Только предположение. – Проверь все тщательно; те, кто выше тебя, неточности не простят. – А вы часто даете уроки Нефрет? – Я передаю ей свой опыт, потому что верю в нее. – Она родилась в Фивах. – Она единственная дочь изготовителя дверных засовов и ткачихи. Я познакомился с ней, когда лечил ее родителей. Она задавала мне тысячу вопросов, а я поддерживал в ней стремление следовать зарождающемуся призванию. – Женщина-лекарь… А она не столкнется с препятствиями? – И с врагами тоже, но ее сила духа сравнима лишь с ее кротостью. Ей известно о том, что старший придворный лекарь надеется, что она не выдержит испытания. – Внушительный противник! – Она это понимает, но одно из ее главных достоинств – упрямство. – Она… замужем? – Нет. – А жених есть? – Насколько мне известно, пока нет.
***
Пазаир не мог заснуть всю ночь. Он все время думал о ней, слышал ее голос, ощущал ее аромат, изобретал тысячу ухищрений, чтобы снова с ней увидеться, но так ничего дельного и не придумал. Его сильно тревожил неотступный вопрос: неужели он ей совсем безразличен? Он не заметил в ней ни малейшей увлеченности своей персоной, только вежливый интерес к его должности. Даже правосудие начало приобретать для него горький привкус. Как жить дальше без нее, как смириться с ее отсутствием? Пазаир никогда бы не поверил, что любовь – это поток такой силы, который сносит все плотины и увлекает человека целиком. Смельчак почувствовал смятение хозяина; он вложил в свой взгляд всю преданность, на какую был способен, но понял, что этого теперь недостаточно. Пазаиру было совестно расстраивать пса; он бы рад был довольствоваться этой беззаветной преданностью, но не мог противиться глазам Нефрет, ее чистому облику, затянувшему его в водоворот страсти. Как быть? Молчать – значит обречь себя на страдание; открывшись, он рискует получить отказ и впасть в отчаяние. Надо убедить ее, завоевать, но каким оружием обольщения располагает он, мелкий судья без гроша за душой? Рассвет не облегчил его мук, но побудил искать забвения в исполнении обязанностей судьи. Он покормил Смельчака и Северного Ветра и оставил контору на их попечении, нисколько не сомневаясь в том, что секретарь опоздает. Взяв папирусную корзину, где лежали таблички, пенал с кисточками и приготовленные чернила, он направился в гавань. На причале стояло несколько кораблей, матросы разгружали их под руководством старшины. Сначала они закрепляли конец доски на борту и использовали ее как наклонную плоскость, а потом к шестам веревками привязывали мешки и корзины и спускали их на берег. Самые сильные таскали тяжелые мешки на спине. Пазаир обратился к старшине: – Где я могу найти Денеса? – Хозяина? Да он повсюду! – Доки что же, принадлежат ему? – Доки – нет, зато судов – уйма! Денес – самый крупный судовладелец Мемфиса и один из самых богатых людей города. – А могу я надеяться его увидеть? – Он приходит, только когда пристает очень большое грузовое судно… Идите в центральный док. Сейчас как раз подошел один из его экипажей. Огромное плоскодонное судно длиной около ста локтей могло взять на борт свыше шестисот пятидесяти тонн груза. Построено оно было из множества досок, вырезанных строго по размеру и собранных внахлест; борта корпуса были сложены из досок потолще, перевязанных кожаными ремнями. На разборной трехногой мачте, надежно укрепленной оттяжками, был поднят парус внушительных размеров. Под командованием капитана на судне убирали тростниковую решетку и спускали круглый якорь. Когда Пазаир захотел подняться на борт, путь ему преградил матрос. – Вы не член экипажа. – Я судья Пазаир. Матрос посторонился. Судья прошел по мостику и добрался до каюты капитана – хмурого мужчины лет пятидесяти. – Я хотел бы видеть Денеса. – Хозяина, в такой час? И не думайте! – Мне подана жалоба, по всей форме. – По какому поводу? – Денес берет пошлину за разгрузку судов, которые ему не принадлежат, а это незаконно и несправедливо. – А, опять эта старая история! Хозяин пользуется этой привилегией с ведома администрации. Каждый год на него подают жалобу – дело привычное. Но это неважно, можете выбросить ее в реку. – Где он живет? – Самая большая усадьба за доками, там, где начинается дворцовый квартал. Без осла ориентироваться Пазаиру было трудновато, а без дозорного павиана пришлось пробираться сквозь толпу женщин, оживленно судачивших вокруг уличных торговцев. Огромная усадьба Денеса была обнесена высокой стеной, мощные ворота охранял страж, вооруженный дубиной. Пазаир назвал свое имя и попросил о встрече с хозяином. Стражник позвал управляющего, тот отправился доложить и вернулся за судьей минут десять спустя. Пазаир едва успел подивиться красоте сада, живописности прудов и великолепию цветущих клумб, как его привели в просторный зал с четырьмя опорными столбами и стенами, расписанными сценами охоты. Судовладелец сидел в глубоком кресле с ножками в виде львиных лап. Это был дородный мужчина лет пятидесяти, весьма грузный, с довольно грубым квадратным лицом, украшенным тонкой каймой белой бороды. Один слуга тщательно умащал его кожу, другой делал ему маникюр, третий был занят его прической, четвертый натирал благовониями его ноги, а пятый зачитывал меню. – Судья Пазаир! Каким ветром вас сюда занесло? – обратился Денес к вошедшему. – Жалоба. – Вы завтракали? Я еще нет. Денес отослал слуг, занимавшихся его туалетом, и сразу вошли два повара, поставившие перед ним хлеб, пиво, жареную утку и медовый пирог. – Угощайтесь. – Благодарю. – Если с утра не поесть хорошенько, день удачи не принесет. – Против вас выдвинуто серьезное обвинение. – Очень странно! В голосе Денеса не было благородства; он иногда срывался на высокие ноты, выдавая нервозность, никак не вязавшуюся с обликом этого человека. – Вы берете неоправданную пошлину за разгрузку, а также вас подозревают в незаконном взимании налога с жителей прибрежной полосы, примыкающей к двум государственным пристаням, которыми вы часто пользуетесь. – Старые привычки! Не беспокойтесь. Ваш предшественник обращал на это не больше внимания, чем старший судья провинции. Забудьте об этом и отведайте утиного филе. – Боюсь, это невозможно. Денес прекратил жевать. – Мне некогда этим заниматься. Поговорите с моей женой; она вас убедит, что вы зря тратите время. Судовладелец хлопнул в ладоши – и тотчас появился управляющий. – Проводите судью в контору госпожи Нанефер, – приказал Денес и сосредоточился на завтраке.
***
Госпожа Нанефер была женщиной деловой. Прекрасно сложенная, статная, подвижная, она была одета по последней моде, на голове – величественный черный парик с тяжелыми косами, на шее – ожерелье из аметистов, бирюзовая пектораль, очень дорогие серебряные браслеты и сетка из зеленого жемчуга на длинном платье. Она владела обширными плодородными землями, многочисленными домами, двумя десятками хозяйств и руководила торговыми посредниками, продававшими всевозможные товары в Египте и Сирии. Будучи инспектором царских складов и Казначейства, а также главой дворцового управления по тканям, она не устояла перед обаянием Денеса, куда менее избалованного судьбой. Считая, что администратор из него никудышный, она поставила его во главе транспортной службы. Таким образом муж получил возможность много путешествовать, обрастать разнообразными связями и предаваться своему любимому занятию – бесконечным разговорам за добрым вином. Она презрительно смерила взглядом молодого судью, дерзнувшего проникнуть в ее владения. Слухи донесли, что этот крестьянин занял место недавно почившего судьи, с которым у нее были превосходные отношения. Наверное, это визит вежливости – замечательный повод приструнить новичка. Он не был красив, но умел держаться с достоинством; тонкие черты, серьезное выражение лица, проницательный взгляд. Она с неудовольствием отметила, что поклонился он не так, как подобает низшему перед власть имущим. – Вы недавно получилиназначение в Мемфис? – Верно. – Поздравляю, такой пост предвещает блестящую карьеру. Зачем вы хотели меня видеть? – Речь идет о несправедливо взимаемой пошлине, которая… – Я знаю об этом, и Казначейство тоже. – То есть вы признаете обоснованность жалобы. – Жалоба подается каждый год и тут же аннулируется, я пользуюсь приобретенным правом. – Это противоречит закону и справедливости. – Вам следовало бы поподробнее разузнать о том, как далеко простираются мои полномочия. Как инспектор Казначейства, я сама аннулирую подобные жалобы. Торговые интересы страны не должны страдать от устаревших формальностей. – Вы превышаете свои полномочия. – Громкие слова, лишенные смысла! Вы ничего не понимаете в жизни, молодой человек. – Соблаговолите воздержаться от фамильярности. Следует ли напоминать, что я задаю вопросы как официальное лицо? Нанефер не могла не принять в расчет этого предупреждения. Судья, даже самый скромный, обладал немалой властью. – Вы хорошо устроились в Мемфисе? Пазаир не отвечал. – Я слышала, ваше жилище оставляет желать лучшего; когда мы с вами подружимся по ходу дела, я смогу вам сдать совсем недорого очень милую усадьбу. – Меня вполне устраивает выделенное мне жилище. Улыбка застыла на губах Нанефер. – Эта жалоба просто смешна, поверьте. – Вы признали факты. – Но вы же не станете спорить со своими вышестоящими инстанциями! – Если они ошибаются, стану, ни минуты не сомневаясь. – Берегитесь, судья Пазаир; вы не всемогущи. – Я это осознаю. – Вы намерены рассмотреть жалобу? – Я вызову вас к себе в контору. – Соблаговолите удалиться. Пазаир повиновался. Госпожа Нанефер в ярости ворвалась в апартаменты мужа. Денес примерял новую широкую набедренную повязку. – Ну что, судьишка укрощен? – Наоборот, тупица! Он настоящий дикарь. – Ты слишком мрачно смотришь на вещи, давай подарим ему что-нибудь. – Бесполезно. Чем собой любоваться, лучше б им занялся. Его надо унять как можно скорее.
8
– Здесь, – объявил Кем. – Точно? – спросил Пазаир, пораженный. – Абсолютно, это дом начальника стражи сфинкса. – Откуда такая уверенность? Нубиец свирепо улыбнулся. – Благодаря моему павиану языки развязались сами собой. Когда он оскалит зубы, заговорит даже немой. – Но такие методы… – Они эффективны. Вам нужен был результат – вы его получили. Их взору предстало самое жалкое предместье большого города. Ели тут досыта, как и во всем Египте, но многие лачуги были в плачевном состоянии и гигиена оставляла желать лучшего. Здесь жили сирийцы, надеявшиеся получить какую-нибудь работу, крестьяне, приехавшие в город искать счастья и быстро утратившие иллюзии, вдовы, стесненные в средствах. Квартал явно не подходил для начальника стражи самого знаменитого сфинкса в Египте. – Я поговорю с ним. – Место не внушает доверия, вам не стоит идти туда одному. – Тогда пойдем вместе. Пазаир с удивлением отметил, что двери и окна закрывались при их приближении. Гостеприимство, столь милое сердцу египтян, здесь, похоже, было не в чести. Павиан нервничал и продвигался вперед скачками. Нубиец внимательно разглядывал крыши. – Чего вы боитесь? – Лучника. – Зачем кому-либо покушаться на нашу жизнь? – Вы же ведете расследование; раз мы оказались здесь, значит, дело нечисто. На вашем месте я бы отступил. Дверь из пальмового дерева, судя по всему, была крепкой. Пазаир постучал. Внутри кто-то зашевелился, но не ответил. – Откройте, я – судья Пазаир. Тишина. Войти в дом без разрешения было действием противоправным. Судья боролся со своей совестью. – Вы думаете, ваш павиан… – Убийца состоит на службе; пищу для него поставляет администрация, и мы должны давать отчет о каждом его вмешательстве. – Практика отличается от теории. – К счастью, – отозвался нубиец. Дверь не долго сопротивлялась обезьяне, чья сила поразила Пазаира; хорошо, что Убийца на стороне закона. Две маленькие комнатки тонули во мраке, так как окна были завешены циновками. Земляной пол, сундук для белья, еще один для посуды, циновка для сидения, туалетные принадлежности – обстановка скромная, но опрятная. В дальней комнате, забившись в угол, сидела маленькая седая женщина в коричневой тунике. – Не бейте меня, – умоляла она, – я ничего не сказала, клянусь! – Успокойтесь, я хочу вам помочь. Она оперлась на руку судьи и встала. Внезапно глаза ее расширились от ужаса. – Обезьяна! Она раздерет меня в клочья! – Нет, – успокоил ее Пазаир, – она служит закону. Вы супруга начальника стражи сфинкса? – Да… – ее голос звучал еле слышно. Пазаир предложил собеседнице сесть на циновку и сам устроился напротив нее. – Где ваш муж? – Он… он уехал. – Почему вы покинули казенное жилище? – Потому что он получил отставку. – Я занимаюсь делом о его переводе, – сообщил Пазаир. – В официальных документах ничего не говорится об отставке. – Может, я что-то путаю… – Что произошло? – мягко спросил судья. – Поймите, я вам не враг; если я могу вам помочь, я это сделаю. – Кто вас послал? – Никто. Я провожу расследование по собственной инициативе, потому что не хочу утверждать решение, которого не понимаю. Глаза старой женщины увлажнились слезами. – Вы… правду говорите? – Клянусь жизнью фараона. – Мой муж скончался. – Вы в этом уверены? – Солдаты заверили меня, что он будет похоронен по всем правилам. Мне велено было переехать и поселиться здесь. Я буду получать небольшую пенсию до конца дней, при условии, что буду молчать. – А что вам рассказали об обстоятельствах его смерти? – Несчастный случай. – Я узнаю правду. – Какая разница? – Давайте я перевезу вас в безопасное место. – Я останусь здесь и буду ждать смерти. Уходите, умоляю вас.***
Старший лекарь египетского двора Небамон мог гордиться собой. Переступив порог шестидесятилетнего возраста, он все еще оставался очень видным мужчиной; список его сердечных побед будет расти еще долго. Имея кучу титулов и почетных наград, он проводил больше времени на приемах и пирах, чем в своем кабинете, где за него трудились молодые честолюбивые врачи. Устав от чужих страданий, Небамон избрал себе сферу деятельности приятную и доходную – эстетическую хирургию. Прекрасные дамы желали устранить кое-какие недостатки, чтобы подольше сохранить свое очарование и заставить соперниц зеленеть от зависти. Только Небамон мог даровать им вторую молодость и оградить их прелести от воздействия времени. Старший лекарь думал о великолепной каменной двери, которая в знак особой милости фараона украсит вход в его усыпальницу. Монарх собственноручно очертил темно-синей краской контур будущего проема, к великой досаде придворных, мечтавших о такой привилегии. Купаясь в лести, богатстве и славе, Небамон лечил чужеземных принцев, готовых платить весьма солидные вознаграждения. Перед тем как взять нового пациента, он долго наводил справки и соглашался на консультацию, только если речь шла о доброкачественной, легко излечимой болезни. Неудача могла бы бросить тень на его репутацию. Личный секретарь доложил ему о приходе Нефрет. – Пусть войдет. Молодая женщина раздражала Небамона, так как отказалась работать под его началом. Он обиделся и собирался отомстить. Если она получит право лечить людей, он постарается лишить ее каких бы то ни было административных полномочий и отослать подальше от двора. Некоторые утверждали, что у нее врожденный дар целительства и что ее способности к биолокации позволяют ей ставить диагноз быстро и точно; поэтому он решил дать ей последний шанс, прежде чем обрушить на нее свой гнев и обречь на жалкое существование. Или она подчинится ему, или он ее уничтожит. – Вы посылали за мной. – У меня к вам одно предложение. – Послезавтра я уезжаю в Саис. – Я знаю, это ненадолго. Нефрет действительно была очень красива; Небамон мечтал о такой молодой очаровательной любовнице, которую можно было бы показать в самом избранном обществе. Но природное благородство и чистый свет, исходивший от нее, мешали ему произнести пару ничтожных комплиментов, обычно имевших такой успех; соблазнить ее будет делом трудным, но чрезвычайно заманчивым. – У меня тут интересный случай, – продолжал он. – Добропорядочная женщина из большой, неплохо обеспеченной семьи, хорошая репутация. – Что с ней случилось? – Радостное событие: она выходит замуж. – Это что, болезнь? – Ее муж выдвинул требование: подправить те части тела, которые ему не нравятся. Некоторые линии будет легко изменить; мы снимем немного жира там, где это угодно супругу. Сузить бедра, убрать припухлость щек, перекрасить волосы – это же детские игрушки. Небамон не стал уточнять, что уже получил за свое вмешательство десять кувшинов мазей и редких благовоний – целое состояние, исключавшее возможность неудачи. – Ваше содействие, Нефрет, меня бы очень порадовало, у вас твердая рука. Кроме того, я составлю хвалебный отчет, он вам пригодится. Так вы согласны взглянуть на мою пациентку? Он избрал самый обольстительный тон. Не дав Нефрет времени ответить, он ввел госпожу Силкет. Та в полном замешательстве прятала лицо. – Я не хочу, чтобы на меня смотрели, – сказала она голосом перепуганной девочки, – я слишком безобразна! Под широким платьем, тщательно скрадывавшим очертания тела госпожи Силкет, угадывались весьма пышные формы. – Как вы питаетесь? – спросила Нефрет. – Я… я не придаю этому значения. – Вы любите сладкое? – Очень. – Вам бы пошло на пользу есть его поменьше. Могу я посмотреть на ваше лицо? Мягкость Нефрет преодолела сопротивление Силкет, она убрала руки от лица. – Вы выглядете очень молодо. – Мне двадцать лет. Кукольное личико было, конечно, полновато, но не внушало ни ужаса, ни отвращения. – Почему вы не принимаете себя такой, какая вы есть? – Мой муж прав, я ужасна! Я обязана ему нравиться. – Не чрезмерна ли такая покорность? – Он такой сильный… И потом, я обещала! – Убедите его, что он ошибается. Небамона охватил гнев. – Не нам судить о побуждениях пациентов, – сухо вставил он. – Наше дело – удовлетворять их желания. – Я отказываюсь заставлять напрасно страдать эту молодую особу. – Выйдите отсюда! – С удовольствием. – Зря вы так себя ведете, Нефрет. – По-моему, я верна идеалу целителя. – Вы ничего не знаете и ничего не добьетесь! Ваша карьера окончена.
***
Секретарь Ярти кашлянул, Пазаир поднял голову. – Что-то не так? – Вызывают. – Меня? – Вас. Старший судья царского портика хочет немедленно вас видеть. Вынужденный подчиниться, Пазаир отложил кисточку и палетку. Перед царским дворцом, как перед любым храмом, был выстроен деревянный портик, где вершил правосудие судья. Там он выслушивал жалобы, отличал истину от беззаконной лжи, защищал слабых и спасал их от сильных. Старший судья заседал перед царским дворцом; примыкающее к фасаду строение, в центре которого находился приемный зал, имело прямоугольную форму и опиралось на четыре столба. Когда визирь отправлялся к фараону, он обязательно заходил поговорить со старшим судьей царского портика. Приемный зал был пуст. На позолоченном деревянном стуле восседал хмурый судья в переднике до колен. Твердость его характера и весомость речей были известны всем. – Вы судья Пазаир? Молодой человек поклонился с почтением: аудиенция у старшего судьи провинции была для него значимым событием. Внезапный вызов и встреча лицом к лицу не предвещали ничего хорошего. – Начало карьеры ошеломляющее, – проговорил старший судья, – вы удовлетворены? – Разве удовлетворение возможно? Больше всего на свете мне бы хотелось, чтобы человечество обрело мудрость и судейские конторы стали не нужны; но эта детская мечта рассеивается. – О вас много говорят, хотя вы в Мемфисе совсем недавно. Вы осознаете значение своего долга? – В нем вся моя жизнь. – Вы работаете много и быстро. – Однако, на мой взгляд, недостаточно; когда я лучше разберусь в трудностях моей задачи, я буду приносить больше пользы. – Пользы… Что значит это слово? – Одна справедливость для всех. Разве не в этом наш идеал и наш закон? – А кто утверждает обратное? Голос старшего судьи сделался хрипловатым. Он встал и принялся ходить взад и вперед. – Я не одобряю ваших выводов относительно зубного лекаря Кадаша. – Я подозреваю его. – Где доказательства? – В моем отчете уточняется, что я их не получил; поэтому я не предпринял против него никаких действий. – Тогда к чему эта бесполезная агрессивность? – Чтобы привлечь к нему ваше внимание; вы, наверное, располагаете более полной информацией, чем я. Старший судья замер, вне себя от ярости. – Берегитесь, судья Пазаир! Вы что же, намекаете, что я затормозил его дело? – Даже в мыслях не было; если вы сочтете необходимым, я продолжу расследование. – Забудьте о Кадаше. Почему вы преследуете Денеса? – В его случае правонарушение очевидно. – Разве формальная жалоба, поданная против него, не сопровождалась рекомендацией? – Да, действительно: «не давать хода». Поэтому я и занялся этим делом в первую очередь. Я дал себе клятву сопротивляться подобной практике из последних сил. – А вам известно, что автором этого… совета был я? – Достигший величия должен служить примером, а не пользоваться своим богатством для угнетения простых смертных. – Вы забываете об экономической необходимости. – Если она когда-нибудь возьмет верх над правосудием, Египет будет обречен на смерть. Слова Пазаира поколебали старшего судью. Он сам в молодости высказывал те же суждения, и столь же пылко. А потом пошли сложные случаи, продвижение по службе, необходимые примирения, компромиссы, уступки иерархии, зрелость… – Что вы вменяете в вину Денесу? – Вы сами знаете. – Вы полагаете, за такое поведение его следует осудить? – Ответ очевиден. Старший судья не мог сказать Пазаиру, что только что говорил с Денесом и что судовладелец просил его сместить слишком ревностного судью. – Вы намерены продолжать следствие? – Да, намерен. – А вы знаете, что я могу сей же час отправить вас обратно в деревню? – Да, знаю. – И такая перспектива не изменит вашего взгляда на вещи? – Нет. – Вы что, глухи к любым доводам рассудка? – Речь идет просто о попытке давления. Денес – мошенник; он пользуется неоправданными привилегиями. Раз его случай оказался в моем ведении, почему бы мне им не заняться? Старший судья думал. Обычно он действовал решительно, без колебаний, с полной уверенностью, что служит своей стране. Поведение Пазаира пробудило в нем столько воспоминаний, что он видел себя на месте молодого судьи, полного решимости неукоснительно исполнять свой долг. Эти иллюзии развеет время, но значит ли это, что не стоит пытаться достичь невозможного? – Денес – человек богатый и могущественный. Его жена известна своей деловой хваткой. Благодаря им товары доставляются повсюду наилучшим образом. Зачем их беспокоить? – Не ставьте меня в положение обвиняемого. Если Денес будет осужден, грузовые суда не перестанут ходить вверх и вниз по Нилу. После долгого молчания старший судья сел в свое кресло. – Исполняйте свои обязанности как знаете, Пазаир.
9
Нефрет уже два дня предавалась медитации в одной из комнат школы медицины в Саисе, в Дельте, где будущие врачи подвергались испытанию, природа которого всегда была тайной. Многие его не выдерживали; в стране, где продолжительность жизни нередко достигала восьмидесяти лет, в сословие лекарей принимали только самых одаренных. Удастся ли девушке осуществить свою мечту и посвятить себя борьбе со злом? Она познает трудности и неудачи, но не отступит и будет стремиться победить страдание. Но сначала надо удовлетворить требованиям саисских светил медицинской науки. Жрец принес ей сушеного мяса, фиников, воды и медицинские папирусы, которые она уже столько раз читала и перечитывала; некоторые понятия начинали путаться. То волнуясь, то веря в успех, она погрузилась в созерцание большого сада с циратониями[788], разбитого вокруг школы. Когда солнце склонилось к горизонту, за ней пришел хранитель смирны – аптекарь, занимавшийся изготовлением смесей для окуривания больных лечебным дымом. Он провел ее в специальное помещение, где она предстала перед несколькими его коллегами. Каждый попросил Нефрет выполнить рецепт, приготовить различные снадобья, оценить токсичность вещества, определить сложные ингридиенты, подробно рассказать о сборе растений, смолы, меда. Чтобы справиться с этим, ей не раз приходилось напрягать свою память. По окончании пятичасового экзамена четыре аптекаря из пяти дали положительную оценку. Пятый их мнения не разделял: Нефрет дважды ошиблась в дозировках. Не принимая во внимание усталость, он требовал дополнительной проверки ее знаний. Если она откажется, ей придется покинуть Саис. Нефрет выдержала. Не изменяя своему обычному мягкому тону, она отражала натиск придирчивого аптекаря. Он сдался первым. Не получив ни малейшей похвалы, она удалилась в свою комнату и заснула, как только легла на циновку.***
Аптекарь, так сурово испытывавший ее накануне, разбудил ее на рассвете. – Вы можете продолжать. Вы настаиваете? – Я в вашем распоряжении. – У вас есть полчаса на омовение и завтрак. Предупреждаю: следующее испытание опасно. – Я не боюсь. – Подумайте. На пороге испытательного помещения аптекарь повторил предостережение. – Не пренебрегайте моим предупреждением. – Я не отступлю. – Как вам угодно. Держите. – Он дал ей рогатину. – Войдите и приготовьте лекарство из ингредиентов, которые там найдете. Аптекарь закрыл за Нефрет дверь. На низком столике – пузырьки, чашечки, кувшины; в самом дальнем углу под окном – закрытая корзина. Она подошла. Плетение крышки было достаточно редким, чтобы она могла видеть, что внутри. Она в ужасе отпрянула. Рогатая гадюка. Укус ее смертелен, но ее яд составляет основу очень действенных лекарств против кровотечений, нервных расстройств и сердечных болезней. Она сразу поняла, чего ждет от нее аптекарь. Подождав, пока дыхание вновь станет ровным, она приподняла крышку; рука не дрожала. Осторожная змея не торопилась покидать свое укрытие. Сосредоточившись и замерев, Нефрет смотрела, как она переползает через борт корзины и выбирается на пол. Метровая гадюка перемещалась быстро, два рога угрожающе торчали из головы. Нефрет изо всех сил сжала палку, встала слева от змеи и собралась прижать ей голову рогатиной. На какой-то момент она зажмурилась; если она промахнется, гадюка скользнет вверх по палке и укусит ее. Тело змеи отчаянно извивалось. Она не промахнулась. Нефрет встала на колени и ухватила гадюку за голову. Теперь она заставит ее исторгнуть драгоценный яд.
***
На корабле, увозившем Нефрет в Фивы, девушке почти совсем не удалось отдохнуть. Множество врачей засыпали ее вопросами по тем отраслям медицины, которыми она занималась во время учебы; каждый интересовался своей специальностью. Нефрет легко приспосабливалась к новым условиям. В самых непредвиденных обстоятельствах она знала, как себя вести, принимала резкие повороты судьбы, разнообразие людских характеров и мало думала о себе, стремясь постичь скрытые силы и тайны. Ей хотелось счастья, но и превратности не встречали протеста – через них девушка чаяла обрести радость, таящуюся под невзгодами. Ни разу не ощутила она враждебности по отношению к своим мучителям, ведь они укрепляли ее дух и проверяли, насколько тверда она в своем призвании. Вновь увидеть Фивы, свой родной город, было для нее огромной радостью. Небо здесь казалось ей синее, чем в Мемфисе, а воздух – чище. Когда-нибудь она вернется сюда, будет жить рядом с родителями, сможет снова гулять по местам своего детства. Она вспомнила о своей обезьянке, оставленной на попечение Беранира с надеждой, что она с уважением отнесется к старому учителю и будет проказничать поменьше. Два жреца с бритыми головами распахнули перед ней ворота, за высокой оградой располагалось несколько святилищ. Там, во владениях богини Мут, чье имя одновременно означало «мать» и «смерть», врачи проходили посвящение. Девушку встретил верховный жрец. – Я получил донесение из саисской школы; если желаете, вы можете продолжать. – Я желаю. – Окончательное решение принадлежит не людям. Сосредоточьтесь, ибо сейчас вы предстанете перед судьей, принадлежащим иному миру. Верховный жрец надел на шею Нефрет веревку с тринадцатью узлами и велел ей встать на колени. – Тайна целителя[789], – поведал он, – в знании сердца – от него видимые и невидимые сосуды расходятся ко всем органам и ко всем членам. Поэтому голос сердца слышен во всем теле. Когда вы станете слушать пациента, накладывая руку на его голову, затылок, руки, ноги или другие части тела, старайтесь прежде всего уловить голос сердца и его пульсацию. Удостоверьтесь, что оно прочно держится на месте, никуда не смещается, что оно не слабеет, что ритм его танца не нарушен. Помните, что по телу идут каналы, переносящие неуловимую энергию точно так же, как воздух, кровь, воду, слезы, сперму или фекальные массы. Следите за чистотой сосудов и лимфы. Если возникла болезнь, значит, что-то нарушилось в циркуляции энергии. За симптомами старайтесь разглядеть причину. Будьте откровенны со своими пациентами и сумейте поставить один из трех возможных диагнозов: болезнь, которую я знаю и вылечу; болезнь, с которой я буду бороться; болезнь, против которой я бессильна. Идите навстречу своей судьбе.
***
В святилище царила тишина. Нефрет ждала, сидя на пятках, положив руки на колени, закрыв глаза. Время перестало существовать. Духовно сосредоточившись, она подавила в себе тревогу. Как не преисполниться доверия к братии жрецов-врачевателей, испокон веков, сколько существует Египет, благословлявших призвание целителей? Ее подняли двое жрецов; перед ней отворилась дверь из кедрового дерева, ведущая в молельню. Жрецы за ней не пошли. Не ощущая ни страха, ни надежды, Нефрет ступила в погруженную во мрак длинную комнату. Тяжелая дверь закрылась у нее за спиной. И тотчас же Нефрет ощутила чье-то присутствие, кто-то таился в темноте и наблюдал за ней. Опустив руки вдоль туловища, с трудом переводя дыхание, девушка не утратила ясности мысли. До сих пор она шла одна, и теперь будет защищаться одна. Вдруг луч света, упавший с крыши храма, осветил диоритовую статую возле дальней стены. Она представляла выступающую вперед богиню Сехмет – наводящую ужас львицу, которая ежегодно пытается истребить человечество, насылая мириады миазмов, болезней и тлетворных микробов. Ежегодно обходит она землю, принося с собой лихо и смерть. Только лекари могут противостоять свирепой богине, им она покровительствует; она одна может обучить их искусству врачевания и тайнам целительных снадобий. Ни один смертный, как часто доводилось слышать Нефрет, не смел смотреть в лицо богине Сехмет под страхом смерти. Ей следовало опустить глаза, отвести взгляд от жуткой статуи, от лица кровожадной львицы[790], но она не дрогнув воззрилась на богиню. Нефрет смотрела на Сехмет. Она молила богиню распознать, правда ли у нее есть призвание, проникнуть в самые потаенные глубины ее души, дабы понять, подлинно ли оно. Луч света стал шире и осветил целиком каменную фигуру. Ее могущество подавило девушку. Произошло чудо: ужасная львица улыбнулась.
***
Коллегия фиванских врачей собралась в большом зале с колоннами и бассейном в центре. Верховный жрец подошел к Нефрет. – Тверды ли вы в своем намерении лечить больных? – Богиня была свидетелем моей клятвы. – То, что рекомендуешь другим, нужно прежде испробовать на себе самом. Жрец поднес чашу, полную красноватой жидкости. – Вот яд. Выпив его, вы определите его природу и поставите себе диагноз. Если он будет верен, вы получите хорошее противоядие. Если неверен – умрете. Закон Сехмет оградит Египет от плохого лекаря. Нефрет приняла чашу. – Вы вольны отказаться пить и покинуть это собрание.
***
Похоронная процессия, сопровождаемая плакальщицами, прошла вдоль ограды храма и направилась к реке. Бык тянул повозку, на которой стоял саркофаг. С крыши храма за игрой жизни и смерти наблюдала Нефрет. Вконец обессилев, она радовалась ласковым прикосновениям солнечных лучей. – Вам будет холодно еще несколько часов, но яд не оставит никаких следов в вашем организме. Быстрота вашей реакции и точность диагноза произвели большое впечатление на собрание. – А вы спасли бы меня, если бы я ошиблась? – Кто лечит других, должен быть безжалостен к себе самому. Как только вы поправитесь, вы вернетесь в Мемфис и займете свой первый пост. На своем пути вы встретите немало препятствий. Такая молодая и одаренная целительница будет вызывать зависть. Не будьте ни слепы, ни наивны. Над храмом резвились ласточки. Нефрет думала о своем учителе Беранире – о том, кто научил ее всему и кому она была обязана жизнью.
10
Пазаиру было все труднее и труднее сосредоточиться на работе, в каждом иероглифе он видел лицо Нефрет. Секретарь принес ему штук двадцать глиняных пластинок. – Список ремесленников, принятых на работу в арсенал за последний месяц; нам надо проверить, не имел ли кто из них проблем с правосудием. – И как быстрее всего это выяснить? – Заглянуть в регистрационные записи большой тюрьмы. – Вы можете этим заняться? – Только завтра; сегодня мне надо домой пораньше, мы отмечаем день рождения дочери. – Желаю хорошо повеселиться, Ярти. После ухода секретаря Пазаир перечитал текст, который он написал, чтобы вызвать в суд Денеса и изложить ему суть обвинения. В глазах потемнело от усталости. Он накормил Северного Ветра, и тот улегся спать у дверей конторы, а судья отправился немного пройтись вместе со Смельчаком. Бредя наугад, он очутился в тихом квартале рядом со школой писцов, где будущая египетская элита постигала секреты своего ремесла. Вдруг в тишине хлопнула дверь, послышались крики и отголоски музыки – угадывались звуки флейты и тамбурина. Пес навострил уши; Пазаир, заинтригованный, остановился. Ссора набирала обороты; за угрозами последовали удары, кто-то закричал от боли. Смельчак, не выносивший насилия, прижался к ноге хозяина. Метрах в ста от того места, где стоял Пазаир, молодой человек в красивом белом одеянии писца перелез через стену школы, спрыгнул в переулок и со всех ног понесся в его сторону, горланя слова непристойной песни, прославлявшей распутных девиц. Когда он пробегал мимо судьи, лунный свет осветил его лицо. – Сути! Беглец резко остановился и обернулся. – Кто меня звал? – Кроме меня, здесь никого нет. – Скоро будут, меня хотят побить. Побежали! Пазаир не заставил просить себя дважды. Смельчак, обезумев от радости, помчался с ними. И подивился, как плохо бегают люди, потому что минут через десять они уже остановились, чтобы перевести дух. – Сути… так это ты? – Верно, как то, что ты – Пазаир! Еще немного – и мы в безопасности. Все трое укрылись в пустом амбаре на берегу Нила, вдали от тех мест, которые патрулировала вооруженная стража. – Я надеялся, что мы скоро встретимся, но не при таких обстоятельствах. – А что, обстоятельства презабавные! Я только что сбежал из этой тюрьмы. – Это великая мемфисская школа писцов – тюрьма? – Я бы там помер со скуки. – Ты же хотел стать ученым, когда пять лет назад уезжал из селения. – Да я бы что угодно придумал, лишь бы в городе оказаться. Мне только одно разрывало душу – что пришлось тебя, моего единственного друга, бросить там, среди крестьян. – Разве там мы не были счастливы? Сути лег на пол. – Были временами, ты прав… Но мы же выросли! Развлекаться и жить настоящей жизнью в селении было уже невозможно. Я мечтал о Мемфисе! – Ну и как, сбылась мечта? – Поначалу я терпел; учиться, работать, читать, писать, слушать, как тебе отверзают разум, познавать все сущее, все, что сотворено создателем и записано Тотом, небо и то, что на нем, землю и то, что в ней, что таят в себе горы, что несет река, что растет на спине земли…[791] Тоска! К счастью, я быстро начал захаживать в пивные дома. – В эти дома разврата?! – Ой, только не надо наставлять меня на путь истинный, Пазаир. – Ты же любил читать больше чем я. – О книги и мудрые изречения! Зa пять лет мне этим все уши прожужжали. Хочешь, изображу наставников? «Люби книги, как свою мать; нет ничего превыше их; книги мудрых – это пирамиды, чернильница – их дитя. Слушай советы тех, кто мудрее тебя, читай их речи, запечатленные в книгах; стань человеком ученым, не предавайся лени и праздности, дай знанию проникнуть в твое сердце». Ну как, я усвоил урок? – Отлично. – Пустая приманка для слепцов! – Что произошло сегодня вечером? – Сегодня я устроил вечеринку. – В школе? – Да-да, в школе! Большинство моих товарищей – люди скучные, печальные и безликие; им надо было выпить вина и пива, чтобы забыть о своих любимых занятиях. Мы музицировали и пили, мы блевали и пели! Лучшие ученики барабанили по собственному животу, нацепив на себя цветочные гирлянды. Сути расправил плечи. – Наши забавы не понравились надзирателям, они ворвались к нам с палками. Я защищался, но ребята меня выдали. Пришлось бежать. Пазаир был ошеломлен. – Да ведь тебя исключат из школы. – Ну и хорошо! Не суждено мне стать писцом. Никому не причини вреда, избегай сердечных тревог, не оставляй ближнего в нужде и страдании… Оставим эту утопию мудрым! Я жажду приключений, Пазаир, больших приключений! – Каких? – Еще не знаю… Нет, знаю: армия. Я буду много странствовать и увижу разные страны, разные народы. – Тебе придется рисковать жизнью. – Пройдя через опасности я стану дорожить ею еще больше. Стоит ли думать о благополучии, если смерть все разрушит? Поверь, Пазаир, надо жить одним днем и ловить каждый миг наслаждения. Ведь мы не более чем бабочки, так будем же перелетать с цветка на цветок. Смельчак зарычал. – Кто-то идет, надо уходить. – У меня голова кружится. Пазаир протянул руку; Сути уцепился за нее, чтобы встать. – Обопрись на меня. – А ты все такой же, Пазаир. Просто скала. – Ты – мой друг, я – твой друг. Они вышли из амбара, обогнули его и пошли по лабиринту маленьких улочек. – Благодаря тебе они меня не найдут. Ночная прохлада отрезвила Сути. – Я больше не писец. Ну а ты? – Просто не решаюсь тебе признаться. – Тебя что, ищет стража? – Не совсем. – Контрабанда? – Тоже нет. – Значит, ты грабишь честных людей! – Я – судья. Сути замер на месте, схватил Пазаира за плечи и уставился ему прямо в глаза. – Ты меня разыгрываешь. – Да я же не умею. – Это правда. Судья… Клянусь Осирисом, это невероятно! И ты арестовываешь виновных? – Да, я имею право. – Мелкий судья или крупный? – Мелкий, но в Мемфисе. Я отведу тебя к себе, у меня ты будешь в безопасности. – А ты при этом не нарушишь закона? – Но ведь против тебя никакой жалобы не подавали. – А если бы подавали? – Дружба – священный закон; предав ее, я был бы недостоин своей должности. Друзья обнялись. – Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Пазаир; жизнью клянусь. – Ты повторяешься, Сути; в тот день, в селении, когда мы смешали свою кровь, мы стали больше чем братья. – Слушай… А стражники у тебя в подчинении есть? – Два: нубиец и павиан, один страшнее другого. – У меня мурашки бегут по коже. – Успокойся, из школы писцов тебя просто исключат. Постарайся не натворить ничего серьезного, а то дело может пройти мимо меня. – Как же здорово снова найти друг друга, Пазаир! Смельчак прыгал вокруг Сути, а тот бегал с ним наперегонки, к величайшей радости пса. Хорошо, что они нравятся друг другу, думал Пазаир. Смельчак тонко чувствовал людей, а у Сути доброе сердце. Разумеется, он не одобрял ни его мыслей, ни его образа жизни и боялся, как бы они не завели его слишком далеко; но он знал, что Сути то же самое думает о нем. Если они будут вместе, каждому, наверное, удастся почерпнуть в характере друга что-нибудь поистине ценное. Поскольку осел тоже не имел ничего против, Сути беспрепятственно переступил порог дома Пазаира; он не стал задерживаться в конторе, где папирусы и таблички навевали неприятные воспоминания, и поднялся на второй этаж. – Не дворец, конечно, – заметил он, – но дышать можно. Ты один? – Не совсем, со мной живут Смельчак и Северный Ветер. – Я имел в виду женщину. – У меня полно работы, и потом… – Пазаир, друг мой! Ты что, все еще… невинен? – Боюсь, что да. – Ладно, это мы уладим! А вот я наоборот. В деревне у меня ничего не вышло из-за бдительности парочки мамаш. Зато здесь, в Мемфисе, просто рай! Первый раз я занимался любовью с малышкой нубийкой, у которой любовников уже было больше, чем пальцев на руках. Когда пришло наслаждение, я подумал, что умираю от счастья. Она научила меня ласкать, ждать пока и ей станет хорошо, и, переведя дух, предаваться играм, где нет проигравших. Второй была невеста школьного привратника; перед тем как стать верной супругой, ей захотелось молоденького мальчика, почти подростка. Ее ненасытность наполнила меня блаженством. У нее были великолепные груди, а ягодицы прекрасны, как нильские острова перед разливом. Она научила меня изысканным ухищрениям, и мы вместе кричали от удовольствия. Потом я развлекался с двумя сириянками из пивного дома. Опыт незаменимый, Пазаир; их руки были мягче бальзама, и даже ноги умели заставить трепетать мою кожу. Сути снова оглушительно расхохотался, Пазаир не мог больше сохранять видимость достоинства и разделил веселье друга. – Скажу не хвастаясь: составить список моих побед было бы долгим делом. Это сильнее меня – я не могу обойтись без тепла женского тела. Целомудрие – постыдная болезнь, и лечить ее надо решительно. Завтра же займусь тобой. – Знаешь… В глазах Сути блеснул лукавый огонек. – Ты отказываешься? – У меня работа, дела… – Ты никогда не умел врать, Пазаир. Ты влюблен и бережешь себя для своей красавицы. – Обычно обвинительный приговор выношу я. – Это не обвинение! В великую любовь я не верю, но с тобой все возможно. То, что ты судья и мой друг одновременно, это подтверждает. И как зовут это чудо? – Я… Она ничего не знает. Может, я обольщаюсь. – Замужем? – Как ты можешь! – Запросто! В моем списке как раз недостает добродетельной супруги. Сам навязываться не буду, я человек не безнравственный, но если представится случай, не откажусь. – Закон карает супружескую измену. – При условии, что он о ней знает. В любви помимо самих утех самое главное – скрытность. Не буду тебя терзать расспросами о твоей избраннице; сам все разузнаю и, если надо, помогу. Сути растянулся на циновке, сунув под голову подушку. – А ты правда судья? – Честное слово. – Тогда мне бы не помешал совет. Пазаир ожидал чего-то в этом духе; он воззвал к Тоту, чтобы то, что натворил Сути, оказалось в его компетенции. – Дурацкая история, – объяснил друг. – На прошлой неделе я соблазнил одну молодую вдовушку – тридцать лет, гибкое тело, восхитительные губки. Бедняжка натерпелась от мужа, и его смерть оказалась большой удачей. Ей было так хорошо в моих объятиях, что она поручила мне торговую сделку: продать на базаре молочного поросенка. – Хозяйка усадьбы? – Да просто птичница. – Ну и на что ты обменял поросенка? – В том-то и загвоздка: ни на что. Вчера вечером бедное животное было зажарено во время нашей вечеринки. Я верю в свое обаяние, но вдовушка жадна и очень держится за свое добро. Если я заявлюсь к ней с пустыми руками, я рискую быть обвиненным в воровстве. – Что еще? – Пустяки. Задолжал кое-где понемногу; но молочный поросенок – моя главная забота. – Спи спокойно. Пазаир встал. – Ты куда? – Спущусь в контору, пороюсь в делах, наверняка что-нибудь придумаем.11
Сути не любил рано вставать, но ему надо было уйти из дома судьи до рассвета. План Пазаира, при всей его рискованности, казался ему превосходным. Другу пришлось вылить ему на голову ушат холодной воды, чтобы привести в чувство. Сути пошел в центр города, где готовился большой базар; крестьяне и крестьянки приходили сюда продавать сельскохозяйственные продукты, вволю поторговаться и посудачить обо всем на свете. Скоро должны были подтянуться первые покупатели. Пробравшись через овощные ряды, он присел на корточки в нескольких метрах от цели – птичьего вольера. Вожделенный объект был на месте: великолепный петух, которого египтяне воспринимали не как гордость курятника, но как птицу глупую и напыщенную. Молодой человек подождал, пока жертва подойдет поближе, и схватил его ловким движением, сжав шею так, что тот чуть было не заорал. Предприятие было рискованным, если бы его поймали, перед ним распахнулись бы двери тюрьмы. Естественно, Пазаир направил его не к случайному торговцу; уличенный в мошенничестве, тот должен был выплатить пострадавшей стороне стоимость петуха. Судья не облегчил наказания, но слегка изменил процедуру. Пострадавшей стороной была администрация, а на ее месте оказался Сути. С петухом под мышкой он беспрепятственно добрался до жилища молодой женщины, кормившей кур. – Сюрприз, – объявил он, показывая петуха. Она радостно обернулась. – Он просто восхитительный! Ты здорово поторговался. – Честно говоря, было нелегко. – Догадываюсь: такой огромный петух стоит по меньшей мере трех молочных поросят. – Когда человека вдохновляет любовь, он кого хочешь уговорит. Она положила мешок с кормом, взяла петуха и выпустила его к курам. – Да ты кого хочешь уговоришь, Сути; я чувствую, как во мне поднимается сладостное ощущение тепла, и жажду разделить его с тобой. – Кто ж от такого откажется? Прижавшись друг к другу, они отправились в комнату вдовы.***
Пазаир чувствовал себя плохо, от постоянного томления он утратил былую подвижность. Вялый, словно оцепеневший, он не находил больше утешения даже в чтении великих мудрецов прошлого, которые некогда были его усладой по вечерам. Ему удалось скрыть свое отчаяние от секретаря Ярти, но обмануть учителя он не смог. – Ты что, болен, Пазаир? – Да просто устал. – Может, стоит работать поменьше? – Такое впечатление, что меня просто засыпают делами. – Тебя испытывают, чтобы выяснить пределы твоих возможностей. – Это уже за пределами. – Совсем необязательно. Но сдается мне, что причина твоего состояния не в перенапряжении. Пазаир помрачнел и ничего не ответил. – Моя лучшая ученица выдержала испытание, – сказал старый лекарь. – Нефрет? – И в Саисе, и в Фивах все прошло блестяще. – Значит, теперь она врач. – К нашей великой радости, да. – И где она будет работать? – Первое время в Мемфисе. Я пригласил ее завтра вечером на скромный пир, чтобы отпраздновать успех. Придешь?
***
Денес велел высадить себя возле конторы судьи Пазаира, роскошные синие с красным носилки произвели ослепительное впечатление на прохожих. Предстоящая встреча при всей своей щекотливости была испытанием не столь тяжким, как недавнее столкновение с супругой. Госпожа Нанефер назвала мужа тупым, ни на что не годным воробьиным отродьем[792], ведь его разговор со старшим судьей царского портика не дал никаких результатов! Перед лицом разбушевавшейся стихии Денес попытался оправдаться, ссылаясь на то, что обычно такой шаг был беспроигрышным. Почему же на этот раз старый судья его не послушал? Он не только не сместил этого мелкого судьишку, но еще и позволил ему послать Денесу официальную повестку по всей форме, словно самому обычному жителю Мемфиса! Из-за недальновидности Денеса теперь и он, и его жена оказались в положении подозреваемых, преследуемых каким-то безвестным судьей, приехавшим из провинции с намерением заставить всех следовать букве закона. Раз уж судовладелец умеет так блистательно вести деловые переговоры, пусть очарует Пазаира и остановит процедуру! Большая усадьба долго сотрясалась от раскатов голоса госпожи Нанефер, которая не выносила, когда ей перечат. Дурные новости портили ей цвет лица. Северный Ветер преградил дорогу. Когда Денес захотел отпихнуть его локтем, осел оскалился. Судовладелец отступил. – Уберите животное с дороги! – потребовал он. Секретарь Ярти вышел из конторы и потянул осла за хвост, но Северный Ветер повиновался только голосу Пазаира. Денес обошел осла, чтобы не испачкать свою дорогую одежду. Пазаир сидел, склонившись над папирусом. – Садитесь, прошу вас. Денес поискал, на что сесть, но не наш ел для себя достойного сиденья. – Вы должны оценить мою покладистость, судья Пазаир, ведь я явился на ваш вызов. – У вас не было выбора. – Присутствие третьего лица необходимо? Ярти встал, готовый уйти. – Я бы хотел вернуться домой пораньше. Моя дочь… – Писец, вы будете записывать, когда я вас об этом попрошу. Ярти забился в угол в надежде, что о его присутствии забудут. Денес не преминет отреагировать на такое обращение. Если он ополчится на судью, лавина снесет и секретаря. – Я очень занят, судья Пазаир – вас не было в списке встреч, которые я назначил на сегодня. – Зато вы есть в моем, Денес. – Ни к чему нам говорить друг с другом в таком тоне. Вамнадо уладить одну небольшую административную проблему, а мне – как можно скорее от нее отделаться. Почему бы нам не договориться? Его тон стал дружелюбным; Денес умел заигрывать с собеседниками, льстить им. Когда их бдительность ослабевала, он наносил решающий удар. – Вы заблуждаетесь, Денес. – Простите? – Мы обсуждаем не торговую сделку. – Позвольте я расскажу вам одну басню: «Непослушный козленок убежал из стада, где он был в безопасности; на него напал волк. Увидев перед собой разинутую пасть, козленок заявил: "Господин волк, вы, наверное, с радостью полакомитесь мною, но перед тем я могу вас повеселить. Например, я умею плясать. Не верите? Поиграйте на флейте и увидите". Волк, пребывавший в веселом расположении духа, согласился. Танцуя, козленок всполошил собак, они бросились на волка, и тот был вынужден обратиться в бегство. Хищник признал свое поражение: "Я – охотник, – подумал он, – а прикинулся музыкантом. Ну и поделом мне"»[793]. – В чем мораль вашей басни? – Каждый должен знать свое место. Когда хочешь сыграть малознакомую тебе роль, рискуешь допустить промах и горько об этом пожалеть. – Вы меня заинтересовали. – Очень рад. Что ж, на этом и остановимся? – На уровне басни, да. – А вы понятливее, чем я полагал; вы недолго будете прозябать в этой жалкой конторе. Старший судья царского портика – мой добрый друг. Когда он узнает, что вы подошли к создавшемуся положению с пониманием, он задумается: не предложить ли вам должность поважнее. Если он поинтересуется моим мнением, оно будет в вашу пользу. – Приятно иметь друзей. – В Мемфисе это самое главное, вы на правильном пути. Зря госпожа Нанефер так рассердилась; она боялась, что Пазаир не похож на других, но ошиблась. Денес хорошо знал род человеческий: за исключением нескольких жрецов, замкнувшихся в храмах, все думают только о своих интересах. Судовладелец повернулся к судье спиной и собрался уходить. – Вы куда? – Встречать корабль, прибывающий с Юга. – Но мы не закончили. Делец обернулся. – Вот пункты обвинения: взимание незаконной пошлины и налога, не предписанного фараоном. Штраф будет большим. Денес побелел от гнева, голос его срывался. – Вы что, с ума сошли? – Запишите, секретарь: оскорбление судьи. Судовладелец бросился на Ярти, вырвал у него табличку и яростно растоптал ее. – Ты, сиди тихо! – Нанесение ущерба имуществу, принадлежащему правосудию, – заметил Пазаир. – Вы усугубляете свою вину. – Хватит! – Вот вам папирус, здесь вы найдете юридические подробности и размер штрафа. И не повторяйте своей ошибки, иначе на ваше имя будет заведено дело в картотеке городской тюрьмы. – Вы всего лишь козленок и будете съедены! – Однако побежденным в басне оказался волк. Когда Денес шел через контору, секретарь Ярти спрятался за деревянный сундук.
***
Беранир заканчивал приготовление изысканных яств. Он извлек икру из кефали, купленной у одного из лучших рыбаков Мемфиса, и в соответствии с народным рецептом промыл ее в слегка подсоленной воде, затем зажал между двумя дощечками и высушил на сквозняке. Икра обещала быть восхитительной. Еще он собирался поджарить говяжьи ребрышки и подать их с бобовым пюре; в довершение меню будут пирожки и инжир, ну и, конечно, отменное вино из Дельты. По всему дому были развешаны цветочные гирлянды. – Я пришел первым? – спросил Пазаир. – Помоги мне расставить блюда. – Я встал поперек дороги Денесу, у меня на него солидное дело. – К чему ты его приговорил? – К большому штрафу. – Ты нажил серьезного врага. – Я исполнял закон. – Будь осторожен. Пазаир не успел ответить. Увидев Нефрет, он позабыл о Денесе, о секретаре Ярти, о конторе и делах. На ней было бледно-голубое платье на бретельках, плечи открыты, глаза подведены зеленым. Хрупкая и сильная одновременно, она озарила собой жилище старого лекаря. – Я опоздала. – Наоборот, – сказал Беранир, – ты дала нам время доделать икру. Булочник только что принес свежий хлеб, мы можем садиться за стол. Нефрет украсила волосы цветком лотоса. Зачарованный, Пазаир не мог отвести от нее глаз. – Твой успех для меня большая радость, – признался Беранир. – Раз ты теперь лекарь, я дарю тебе талисман. Он будет охранять тебя так же, как охранял меня. Всегда носи его с собой. – Но… как же вы? – Демоны уже не властны над людьми моего возраста. Он надел девушке на шею тонкую золотую цепочку с великолепной бирюзовой подвеской. – Этот камень – из рудников богини Хатхор в западной пустыне; он помогает сберечь молодость души и радость сердца. Нефрет поклонилась учителю, сложив руки в знак глубокого почтения. – Я тоже хотел бы вас поздравить, – сказал Пазаир, – но не знаю как… – Мне достаточно самой этой мысли, – заверила она, улыбаясь. – Мне хочется тем не менее вручить вам этот скромный подарок. Пазаир подарил ей браслет из цветного жемчуга. Нефрет сняла правую сандалию и надела браслет на щиколотку. – Благодаря вам я буду выглядеть краше. Эти несколько слов вселили в судью безумную надежду; впервые ему показалось, что она замечает его присутствие. Ужин был очень душевным. Нефрет расслабилась и рассказала о тех моментах своего испытания, которые не относились к сфере тайного; Беранир уверил ее, что со времен его молодости ничего не изменилось. Пазаир машинально глотал пищу, но глазами пожирал Нефрет и упивался ее голосом. В обществе своего учителя и любимой женщины он провел счастливый вечер, сопровождавшийся, правда, мгновениями тревожных опасений: что, если Нефрет его отвергнет?
***
Пока судья работал, Сути гулял с ослом и собакой, предавался любовным утехам с птичницей, затевал новые, весьма многообещающие интрижки и наслаждался суетой большого города. Он деликатно старался не надоедать другу: ни разу со дня их встречи он не ночевал в его доме. Только в одном Пазаир был непреклонен. Опьяненный успехом операции «молочный поросенок», Сути изъявил желание провернуть это дело еще раз. Судья категорически воспротивился. Поскольку любовница Сути выказывала изрядную щедрость, настаивать он не стал. В проеме двери возник павиан. Ростом почти с человека, голова, как у собаки, и клыки, как у хищника. Лапы и живот – белые, плечи и торс покрыты рыжеватым мехом. За ним – нубиец Кем. – А вот, наконец, и вы! – Расследование было долгим и трудным. Ярти уже ушел? – У него дочь заболела. Что вы узнали? – Ничего. – То есть как ничего? Это невероятно! Нубиец потрогал свой деревянный нос, словно хотел удостовериться, что он на месте. – Я обращался к лучшим осведомителям. Ни малейшей зацепки относительно судьбы начальника стражи сфинкса. Все ссылаются на верховного стража, словно получили строгое предписание. – Значит, придется повидаться с этой важной особой. – Не советую, он не любит судей. – Постараюсь понравиться.
***
У верховного стража Монтумеса были две усадьбы: одна в Мемфисе, где он в основном и жил, а другая – в Фивах. Маленький, толстый, круглолицый, он внушал доверие, но острый нос и гнусавый голос не вязались с благодушным обликом. Монтумес был холост, с самых юных лет он мечтал только о карьере и почестях. Судьба позаботилась расчистить ему дорогу с помощью нескольких весьма своевременных кончин. Пока он занимался наблюдением за оросительными каналами, ответственный за безопасность его провинции свернул себе шею, упав с лестницы. Не имея особой квалификации, Монтумес вовремя подсуетился и получил этот пост. Сумев виртуозно использовать достижения своего предшественника, он обеспечил себе отличную репутацию. Другой, может быть, довольствовался бы таким продвижением, но Монтумеса раздирали амбиции: как не мечтать о должности начальника речной стражи? Увы, во главе ее стоял человек молодой и предприимчивый. В сравнении с ним Монтумес проигрывал. Однако обременительный чиновник утонул во время проведения одной рутинной операции, освободив дорогу Монтумесу, и тот сразу же оказался официальным претендентом с многочисленными связями. Обойдя более серьезных, но не столь изворотливых конкурентов, он снова прибег к проверенному способу: присвоить достижения другого и извлечь из них личную выгоду. Стоя уже на достаточно высокой ступени иерархической лестницы, он мечтал о ее вершине, совершенно, впрочем, недосягаемой, поскольку верховный страж был во цвете лет, вел бурную деятельность и всегда во всем преуспевал. Единственной его неудачей оказался несчастный случай, в результате которого он погиб под колесами колесницы. Монтумес сразу же предложил свою кандидатуру, невзирая на протесты влиятельных лиц. Обладая редкостным талантом превозносить свои заслуги и извлекать пользу из послужного списка, он одержал победу. Теперь, когда вершина была достигнута, Монтумеса больше всего заботило, как на ней закрепиться, поэтому он окружил себя людьми заурядными, не способными его заместить. Как только он обнаруживал сильную личность, он сразу же ее удалял. Действовать в тени, манипулировать людьми так, чтобы они об этом не подозревали, плести интриги – таково было его любимое занятие. Он изучал назначения в отряд стражи пустыни, когда управляющий доложил ему о приходе судьи Пазаира. Обычно Монтумес отправлял мелких судей к своим подчиненным, но этот человек его заинтересовал. Ведь он взял за бока Денеса, чье состояние позволяло купить кого угодно. Молодой судья скоро падет жертвой своих иллюзий, но, может быть, Монтумесу удастся извлечь выгоду из его суетливости. Тот факт, что он осмелился докучать ему, доказывал его решительность. Верховный страж принял Пазаира в комнате, где были выставлены на обозрение его награды, золотые ожерелья, полудрагоценные камни, посохи из позолоченного дерева. – Спасибо, что согласились меня принять. – Я приверженец правосудия. Вам нравится в Мемфисе? – Я должен поговорить с вами об одном странном деле. Монтумес велел подать первосортного пива и приказал управляющему больше его не беспокоить. – Я вас слушаю. – Я не могу утвердить перевод по службе, не узнав, что произошло с заинтересованным лицом. – Это очевидно. О ком идет речь? – О бывшем начальнике стражи сфинкса в Гизе. – Это почетная должность, если не ошибаюсь? На нее назначают ветеранов. – В данном случае ветеран был смещен. – Он совершил какой-то серьезный проступок? – В деле об этом не упоминается. Более того, этот человек был вынужден покинуть казенное жилище и поселиться в самом бедном квартале города. Монтумесу все это явно не нравилось. – В самом деле странно. – Есть кое-что похуже: его супруга, с которой я беседовал, утверждает, что ее муж мертв. Но трупа она не видела и где он похоронен не знает. – Почему она убеждена в его кончине? – Печальное известие ей принесли солдаты; они же велели ей молчать, если она хочет получать пенсию. Верховный страж медленно выпил бокал пива; он-то думал, что речь пойдет о Денесе, а тут обнаружилась неприятная загадка. – Расследование проведено великолепно, судья Пазаир, недаром вы уже пользуетесь репутацией добросовестного человека. – Я намерен продолжать. – Каким образом? – Мы должны найти тело и установить причину смерти. – Что ж, вы правы. – Мне необходима ваша помощь. Поскольку вы руководите городской, сельской, речной стражей и стражей пустыни, вы можете облегчить мне расследование. – К сожалению, это невозможно. – Отчего же? – Ваши улики слишком неопределенны. Кроме того, во всей этой истории речь идет о ветеране и воинах. Иными словами, об армии. – Я думал об этом, именно поэтому я и прошу вашей поддержки. Если объяснений потребуете вы, армейские чины будут вынуждены отвечать. – Положение сложнее, чем вы себе представляете. Армия очень печется о своей независимости от стражи. Я не имею обыкновения затрагивать их территорию. – Однако вы их хорошо знаете. – Досужие сплетни. Боюсь, вы ступили на опасный путь. – Не могу же я оставить смерть человека без установления причин. – Одобряю. – Что вы мне посоветуете? Монтумес надолго задумался. Этот молодой судья не отступит; манипулировать им, судя по всему, будет нелегко. Придется глубоко покопать, чтобы выяснить его слабые стороны и суметь ими разумно воспользоваться. – Обратитесь к человеку, который назначал ветеранов на почетные должности, – полководцу Ашеру.
12
Поглотитель теней[794] выходил на охоту ночью, как кошка. Бесшумно огибая преграды, он скользил вдоль стен и сливался с темнотой. Никто не мог похвастать, что видел его. Да и кто вообще мог бы его в чем-либо заподозрить? Самый бедный квартал Мемфиса был погружен в сон. Здесь не было ни стражей, ни привратников, как у богатых усадеб. Мужчина скрыл лицо под деревянной маской шакала[795] с раскрывающейся пастью и проник в жилище супруги начальника стражи сфинкса. Получая приказ, он его не обсуждал; уже давно в его сердце не осталось никаких чувств. Человек-сокол[796], он возникал из мрака и в нем же черпал свою силу. Старая женщина внезапно проснулась. Жуткое видение открылось ее взору, дыхание перехватило. Она издала душераздирающий крик и упала замертво. Убийце не пришлось применять оружие и заметать следы преступления. Больше она ничего никому не скажет.***
Полководец Ашер ударил солдата кулаком в спину; тот рухнул в пыль казарменного двора. – Вот слабак! Так тебе и надо. Один лучник вышел из рядов: – Он не совершил никакого проступка, полководец. – А ты слишком много разговариваешь. Немедленно покинь строй! Две недели строгого ареста и заключение в какой-нибудь южной крепости научат тебя дисциплине. Полководец приказал отряду час бегать с луками, колчанами, щитами и сумками с провизией. Когда они отправятся на войну, они столкнутся с более суровыми условиями. Если кто-то из солдат в изнеможении останавливался, он дергал его за волосы и заставлял бежать дальше. Дважды провинившийся был обречен гнить в карцере. Многолетний боевой опыт приучил Ашера думать, что лишь безжалостная муштра ведет к победе. Каждый раз, когда воин преодолевал боль или сдерживал возникшее желание, он получал лишний шанс выжить. После славной военной карьеры на азиатских полях сражений Ашер, герой, совершивший множество громких подвигов, был назначен смотрителем конюшен, наставником новобранцев и начальником главной казармы Мемфиса. Он испытывал свирепую радость, в последний раз муштруя солдат, – накануне было утверждено новое назначение и больше ему не придется потеть на этой площадке. Став посланником фараона в иноземных государствах, он будет передавать царские приказы элитным пограничным гарнизонам, сможет служить колесничим его величества и исполнять роль знаменосца по правую руку от царя. Ашер был мал ростом и невзрачен: редкие волосы, жесткая черная растительность на плечах, широкий торс, короткие мускулистые ноги. От плеча до пупка его грудь пересекал шрам – след от клинка, чуть было не лишившего его жизни. Сотрясаясь от неудержимого хохота, он тогда задушил нападавшего голыми руками. Его изборожденное морщинами лицо напоминало морду грызуна. Сегодня в любимой казарме ожидался пир в честь Ашера. Полководец предавался мыслям о нем, направляясь к душевым комнатам, когда к нему по всей форме обратился посыльный офицер. – Извините за беспокойство, полководец, с вами хочет поговорить судья. – Кто такой? – Никогда не видел. – Выпроводите его. – Он утверждает, что дело срочное и важное. – Что случилось? – Это тайное дело. Касается только вас. – Приведите его сюда. Пазаира привели на середину двора, где, скрестив руки за спиной, стоял полководец. Слева от него новобранцы накачивали мускулы, справа – упражнялись в стрельбе из лука. – Ваше имя? – Пазаир. – Терпеть не могу судей. – Чем они вам не угодили? – Суют свой нос куда не надо. – Я расследую исчезновение человека. – Исключено в войсках, вверенных моему попечению. – И даже в почетной страже сфинкса? – Армия есть армия, даже когда речь идет о ветеранах. Стража сфинкса исполняет свои обязанности безукоризненно. – По словам супруги, бывший начальник стражи мертв; однако мое начальство требует, чтобы я утвердил его перевод по службе. – Так утверждайте! Приказы начальства не обсуждаются. – В данном случае это не так. Полководец взревел: – Вы молоды и неопытны. Убирайтесь. – Я не подчиняюсь вашим приказам, полководец, и хочу знать правду о начальнике стражи. Ведь это вы назначили его на этот пост? – Поберегись, судьишка, с полководцем Лидером шутки плохи! – Вы не выше Закона. – Вы не знаете, кто я. Еще один неверный шаг – и я раздавлю вас, как козявку. Ашер ушел, оставив Пазаира посреди двора. Его реакция удивила судью; почему он так вспылил, если ни в чем не виноват? У выхода из казармы Пазаира окликнул лучник, получивший взыскание: – Судья Пазаир… – Что вам угодно? – Может быть, я смогу вам помочь. Что вы ищете? – Сведения о бывшем начальнике стражи сфинкса. – Его дело хранится в архивах казармы. Следуйте за мной. – Почему вы предлагаете мне помощь? – Если вы обнаружите улики против Ашера, вы привлечете его к суду? – Без колебаний. – Тогда пойдемте. Архивариус – мой друг и он тоже ненавидит полководца. Лучник и архивариус быстро шепнули что-то друг другу. – Чтобы ознакомиться с архивами казармы, – сказал архивариус, – вам понадобилось бы получить разрешение визиря. Я отлучусь на пятнадцать минут, схожу за едой. Если я найду вас здесь по возвращении, то вынужден буду поднять тревогу. Пять минут, чтобы разобраться в том, как расставлены дела, еще три, чтобы найти нужный свиток, остальное – чтобы прочесть документ, запомнить его, положить на место и скрыться.
***
Карьера начальника стражи была образцовой, ни малейшего нарекания в деле. В конце папируса содержались интересные сведения: под началом ветерана был отряд из четырех человек, двое старших стояли по бокам от сфинкса, двое помладше – с внешней стороны стены, ведущей к пирамиде Хеопса. Возможно, теперь, когда известны их имена, удастся получить ключ к разгадке. В контору вошел взволнованный Кем. – Она мертва. – Вы о ком? – О вдове стражника. Я обходил сегодня утром квартал. Убийца почуял неладное: дверь дома была приоткрыта. Я обнаружил там тело. – Следы насилия? – Ни малейших. Ее свели в могилу старость и горе. Пазаир велел своему секретарю удостовериться, что армейское начальство позаботится о похоронах, в противном случае судья возьмет все расходы на себя. Он, конечно, не виноват в кончине бедной женщины, но разве не он нарушил покой последних часов ее жизни? – Ваше расследование продвинулось? – спросил Кем. – Надеюсь, довольно существенно, хотя полководец Ашер мне нисколько не помог. Вот имена четырех ветеранов, служивших под началом нашего стражника; раздобудьте их адреса. Секретарь Ярти появился, когда нубиец уже уходил. – Жена изводит меня, – признался Ярти, на котором лица не было. – Вчера она отказалась готовить ужин! Если так пойдет дальше, она перестанет пускать меня в свою постель. К счастью, дочь танцует все лучше и лучше. Дуясь и ворча, он нехотя принялся расставлять таблички. – Да, чуть не забыл… я занимался ремесленниками, желающими работать в арсенале. Один меня заинтересовал. – Преступник? – Он замешан в незаконной торговле амулетами. – Его прошлое? Ярти был явно доволен собой. – Оно вас заинтересует. Ныне он столяр, а раньше был управляющим земельными угодьями у зубного лекаря Кадаша.***
В приемной Кадаша, проникнуть в которую оказалось делом нелегким, Пазаир очутился рядом с маленьким человечком, державшимся довольно скованно. Аккуратно подстриженные черные волосы, темная кожа, сухое вытянутое лицо со множеством родинок придавали ему мрачный и неприветливый вид. Судья поздоровался с ним. – Неприятный момент, правда? Человечек кивнул. – Вам очень больно? Тот ответил неопределенным жестом. – У меня первый раз зубы разболелись, – признался Пазаир. – А вы уже бывали у зубного лекаря? Появился Кадаш. – Судья Пазаир! У вас что, зубы болят? – Увы, да! – А вы знакомы с Чечи? – Не имел удовольствия. – Чечи – один из самых выдающихся ученых во дворце, ему нет равных в химии. Поэтому я заказываю ему накладки и пломбы. Он как раз пришел предложить мне одну новинку. Не беспокойтесь, это ненадолго. Хотя Кадаш был не словоохотлив, сейчас он говорил приветливо, словно принимал закадычного друга. Если этот Чечи будет столь же немногословен, их встреча с лекарем явно не затянется. И действительно, Кадаш пригласил судью минут через десять. – Садитесь вот в это раскладное кресло и запрокиньте голову. – А он не болтлив, ваш химик. – Он человек довольно замкнутый, но зато прямой, на него можно положиться. Что с вами случилось? – Рассеянная боль. – Давайте посмотрим. Взяв зеркальце и поймав солнечный луч, Кадаш осмотрел рот Пазаира. – Вы когда-нибудь были у врача? – Один раз, в селении. У странствующего лекаря. – Я вижу первичные следы разрушения. Зуб можно укрепить хорошей пломбой: смола терпентина[797], нубийская глина, мед, абразивная пыль, зеленые глазные капли и частицы меди. Если будет шататься, я соединю его с соседним зубом золотой нитью… Нет, этого не понадобится. У вас здоровые и крепкие зубы. А вот о деснах надо позаботиться. Чтобы не было нагноения, я пропишу вам полоскание из горькой тыквы, камеди, аниса и надрезанного инжира. Смесь нужно оставить на улице на всю ночь, чтобы она пропиталась росой. Будете натирать десны пастой из кинамона, меда, камеди и растительного масла. И не забывайте почаще жевать сельдерей – это растение не только тонизирует и повышает аппетит, но и укрепляет зубы. А теперь давайте серьезно. Ваше состояние не требовало срочной консультации. Почему вы хотели меня видеть, отложив все дела? Пазаир встал, довольный, что удалось избежать зубоврачебных инструментов. – Меня интересует ваш управляющий. – Я выгнал этого лодыря. – Я хотел поговорить о предыдущем. Кадаш вымыл руки. – Я его уже не помню. – А вы напрягите память. – Нет. Правда не помню… – Вы собираете амулеты[798]? Даже после тщательного мытья руки зубного лекаря оставались красными. – У меня есть несколько штук, как у всех, но я не придаю этому значения. – Самые красивые представляют большую ценность. – Наверное… – Ваш бывший управляющий проявлял к ним интерес и даже украл несколько фигурок прекрасной работы. Вот я и забеспокоился, не вы ли были его жертвой? – Чем больше в Мемфисе чужеземцев, тем больше воров. Скоро наш город перестанет быть египетским. Это все визирь Баги с его пресловутой порядочностью. Фараон так ему доверяет, что никто не решается о нем слова дурного вымолвить. Вы и подавно не можете, ведь он ваш начальник. К счастью, из-за скромности вашего чина вам не приходится с ним сталкиваться. – Он так ужасен? – Невыносим – всех судей, позабывших об этом, уволили. Правда, все они допустили оплошности. Отказываясь прогонять чужеземцев под предлогом соблюдения справедливости, визирь ведет страну к гибели. А вы арестовали моего бывшего управляющего? – Он пытался устроиться на службу в арсенал, но в результате рутинной проверки всплыло его прошлое. В самом деле, печальная история: он продавал амулеты, украденные в одной мастерской, был уличен и уволен человеком, которого вы взяли ему на смену. – А для кого он воровал? – Не знаю. Было бы время, я бы покопался; но у меня нет ни малейшего следа и куча других дел! Главное, что вы не пострадали из-за его нечистоплотности. Спасибо за лечение, Кадаш. Верховный страж собрал у себя доверенных людей. Это заседание не будет упомянуто ни в одном официальном документе. Монтумес изучил их донесения о судье Пазаире. – Ни одного скрытого порока, никакой противозаконной страсти, ни любовницы, ни связей… Да вы мне просто полубога изобразили! Ваша работа не принесла ни малейших результатов! – Его духовный отец, некий Беранир, живет в Мемфисе; Пазаир часто его навещает. – Старый лекарь на пенсии, безобидный и не имеющий никакой власти! – К нему прислушивались при дворе, – возразил один стражник. – Но давно уже не прислушиваются, – съязвил Монтумес. – В жизни любого человека есть теневые стороны, и Пазаир не исключение! – Он целиком посвящает себя работе, – заметил другой стражник, – и не отступает даже перед такими особами, как Денес и Кадаш. – Смелый и неподкупный судья – кто поверит в эту сказку? Поработайте тщательнее и добудьте мне более правдоподобные сведения. Монтумес размышлял, сидя на берегу озера. Ему было не по себе оттого, что скользкая, непонятная ситуация выходила у него из-под контроля: ведь любая ошибка могла бросить тень на его репутацию. Кто такой Пазаир – наивный чудак, запутавшийся в сетях мемфисских интриг, или незаурядная личность, исполненная решимости идти вперед, невзирая на опасности и врагов? В обоих случаях он обречен на поражение. Оставалась третья возможность, вызывавшая большие опасения: что если за этим мелким судьей стоит кто-то другой, какой-нибудь хитрый сановник, затеявший крупную игру, и Пазаир – лишь ее видимая часть? При мысли о том, что какой-то недальновидный наглец смеет бросать ему вызов на его же территории, Монтумес пришел в ярость, позвал управляющего и велел готовить лошадь и колесницу. Охота на зайцев в пустыне была сейчас просто необходима: пара-тройка загнанных и убитых зверей поможет ему успокоиться.
13
Правая рука Сути прошлась снизу вверх по спине любовницы, пощекотала шею, потом, спустившись, погладила поясницу. – Еще, – прошептала она. Молодой человек не заставил просить себя дважды. Он любил доставлять удовольствие. Рука стала действовать настойчивее. – Нет… я не хочу! Сути, улыбаясь, продолжал. Он знал вкусы своей подруги и делал все, чтобы ей угодить. Она сделала вид, что сопротивляется, потом перевернулась и приняла любовника. – Ты довольна своим петушком? – Курочка в восторге. Ты просто чудо, милый. Радуясь жизни, хозяйка птичника приготовила плотный завтрак и взяла с Сути обещание прийти на следующий день. Вечером, проспав пару часов в порту, в тени грузового судна, он отправился к Пазаиру. Судья уже зажег светильники. Он сидел, скрестив ноги, и писал. Пес примостился у его левой ноги. Северный Ветер пропустил Сути, а тот в благодарность потрепал его по холке. – Боюсь, сегодня ты мне понадобишься, – сказал судья. – Любовная история? – Не похоже. – Но не твои же судебные игры? – Ты угадал. Именно они. – Опасные? – Возможно. – Интересно. Расскажешь побольше или предпочитаешь держать меня в неведении? – Я расставил ловушку одному зубному лекарю по имени Кадаш. Сути восхищенно присвистнул. – Знаменитость! Он лечит только богатых. В чем ты его подозреваешь? – Меня настораживает его поведение. Мне следовало бы прибегнуть к помощи моего пристава, но он сейчас занят другим делом. – Что я должен сделать: провернуть кражу со взломом? – Ни в коем случае! Просто понаблюдай за Кадашем и сообщи мне, если он сегодня ночью выйдет из дому и поведет себя странно.***
Сути влез на дерево, откуда был виден вход в усадьбу зубного лекаря и дорога, ведущая к служебным помещениям. Такое занятие явно было ему по душе. Оставшись наконец один, он наслаждался ночной прохладой и красотой звездного неба. Когда погасли светильники и в большом доме воцарилась тишина, через ворота, ведущие в конюшни, из усадьбы прокрался человек. Это был седой мужчина в длинной накидке, его облик полностью соответствовал тому описанию зубного лекаря, которое дал Пазаир. Следить за ним было нетрудно. Кадаш нервничал, но тем не менее шел медленно и не оборачивался. Он направлялся к перестраиваемому кварталу. Там находились старые обветшавшие административные здания: теперь они были разрушены и дорогу загромождала груда кирпичей. Зубной лекарь обогнул кучу строительного мусора и исчез из виду. Сути полез на эту кучу, следя за тем, чтобы какой-нибудь случайно скатившийся кирпич не выдал его присутствия. Забравшись наверх, он увидел костер, а вокруг костра – троих мужчин. Одним из них был Кадаш. Они скинули свои накидки и остались обнаженными, если не считать кожаных чехольчиков, скрывавших их пенисы; в волосы они воткнули по три пера. Держа в каждой руке по короткой метательной палке, они начали танцевать вокруг костра, изображая борьбу. Вдруг партнеры Кадаша, оба явно моложе его, согнули ноги в коленях и запрыгали, издавая дикие вопли. Лекарю было нелегко за ними поспевать, но он с большим воодушевлением старался не сбавлять темпа. Пляска продолжалась более часа. Вдруг один из танцующих сорвал кожаный чехол и выставил напоказ свое мужское достоинство; остальные последовали его примеру. Когда Кадаш явно начал уставать, они напоили его пальмовым вином и снова вовлекли в исступленный танец.
***
Пазаир выслушал рассказ Сути с величайшим вниманием. – Странно. – Ты просто не знаешь ливийских обычаев – подобные обряды у них обычное дело. – А цель? – Мужская сила, плодовитость, способность соблазнять… В танце они черпают новую энергию. Кадашу она, по-видимому, дается с трудом. – Значит, наш зубной лекарь чувствует, что слабеет. – Судя по тому, что я видел, он чувствует правильно. Но что противозаконного в его поведении? – Вообще-то ничего. Он утверждает, что ненавидит чужеземцев, но сам не забывает о своих ливийских корнях и следует обрядам, которые приличное общество – основа его клиентуры – наверняка бы осудило. – Но я, по крайней мере, был полезен? – Незаменим. – В следующий раз, судья Пазаир, пошли меня подсматривать за женскими плясками.
***
Используя свою силу убеждения, Кем с павианом исходили весь Мемфис и окрестности вдоль и поперек в поисках следов четырех подчиненных исчезнувшего начальника стражи сфинкса. Чтобы переговорить с судьей, нубиец дождался ухода секретаря: Ярти не внушал ему особого доверия. Когда огромная обезьяна вошла в контору, Смельчак забился под стул хозяина. – Как дела, Кем? – Я раздобыл адреса. – Надеюсь, не применяя насилия? – Ни намека на грубость. – Завтра прямо с утра допросим четырех свидетелей. – Все четверо исчезли. Ошеломленный Пазаир отложил кисточку. Он и представить себе не мог, что отказавшись засвидетельствовать заурядный административный документ, он приподнимет крышку сундука, полного тайн. – И никаких следов? – Двое переселились в Дельту, двое – в фиванский район. У меня есть названия селений. – Готовьте дорожную сумку.
***
Вечер Пазаир провел у своего учителя. Когда он шел туда, ему показалось, что за ним следят; он замедлил шаг, пару раз обернулся, но промелькнувшего было человека больше не заметил. Наверное, померещилось. Сидя напротив Беранира на террасе убранного цветами дома, он пил свежее пиво и слушал, как постепенно затихает дыхание большого города, отходящего ко сну. Лишь отдельные огоньки выдавали полуночников или особо усердных писцов. Когда рядом был Беранир, мир замирал. Пазаир с радостью удержал бы это мгновение, берег бы его, как зеницу ока, крепко сжимал бы в ладонях, чтобы оно не растворилось в черноте времени. – Нефрет получила назначение? – Еще нет, но вот-вот получит. Пока она живет в школе медицины. – А кто принимает решение? – Собрание практикующих врачей во главе со старшим лекарем Небамоном. Поначалу Нефрет предстоит в одиночку справляться с довольно простыми задачами, сложность будет возрастать по мере приобретения опыта. А ты мне по-прежнему кажешься мрачным, Пазаир: можно подумать, ты утратил свою жизнерадостность. Пазаир вкратце рассказал о происходящем. – Много тревожных совпадений, не правда ли? – У тебя уже появилась какая-нибудь версия? – Пока рано выдвигать версии. Закон был нарушен, это точно. Но в чем суть преступления и как далеко оно зашло? Возможно, я волнуюсь напрасно, иногда я даже сомневаюсь, стоит ли продолжать расследование, но я не могу брать на себя ответственность, даже самую незначительную, не придя к полному согласию со своей совестью. – Планы строит сердце, оно же руководит поступками человека; характер же оберегает прозрения сердца[799]. – Характер у меня, надеюсь, не слабый. Все, что мне удастся узнать, я буду тщательно проверять. – Никогда не упускай из виду счастья Египта, не заботься о своем благополучии. Если ты будешь поступать правильно, благополучие придет к тебе само собой. – Если можно безропотно смириться с исчезновением человека, если официальный документ содержит ложные сведения, то разве это не представляет угрозы величию Египта? – Твои опасения обоснованны. – С вашей поддержкой я готов встретить любые опасности. – Смелости тебе не занимать. Постарайся лишь более трезво оценивать ситуацию и научись обходить некоторые препятствия. Будешь биться о них головой – только лоб разобьешь. Обойди их, научись использовать силу противника, будь гибким как тростник и терпеливым как гранит. – Да, терпения мне, пожалуй, не хватает. – Работай над собой подобно тому, как зодчий работает над каменной глыбой. – Вы не советуете мне ехать в Дельту? – Ты ведь уже принял решение.
***
Надменный, величественный Небамон, с изысканным маникюром, в плиссированной тунике, отороченной цветной бахромой, открыл собрание, происходившее в большом зале мемфисской школы медицины. Десять прославленных лекарей, ни один из которых никогда не признавался виновным в смерти больного, должны были назначить молодых, только что посвященных врачей на их первую должность. Обычно решения были благожелательными и не вызывали никаких возражений. И на этот раз дело представлялось недолгим. – А теперь – Нефрет, – объявил хирург, руководивший собранием. – Хвалебные отзывы из Мемфиса, Саиса и Фив. Случай замечательный, можно даже сказать, исключительный. – Да, но она женщина, – заметил Небамон. – Она не первая! – Нефрет умна, не спорю, но ей не хватает энергии. На практике ее теоретические познания могут рассыпаться в прах. – Она безукоризненно выдержала множество испытаний! – напомнил один из членов собрания. – Испытания проходят под наблюдением опытных врачей, – вкрадчиво уточнил Небамон. – Но не растеряется ли она, оказавшись одна лицом к лицу с больным? Меня волнует ее выдержка. Не знаю, не ошиблась ли она, избрав наш путь. – Что вы предлагаете? – Весьма суровое испытание и тяжелые больные. Если она справится, мы возрадуемся вместе, в противном случае – посмотрим. Не повышая голоса, Небамон добился согласия коллег. Он приготовил Нефрет пренеприятнейший сюрприз в самом начале карьеры: сломив ее, он поднимет девушку из грязи и примет в свои объятия, благодарную и покорную.
***
Нефрет в отчаянии уединилась, чтобы вволю наплакаться. Ее не пугали трудности; но она не ожидала, что придется возглавить военный лазарет, куда свезли больных и раненых солдат, вернувшихся из Азии. Одни стонали, другие бредили, третьи опорожнялись. Глава санитарной службы казармы не дал девушке никаких наставлений, просто проводил ее к месту работы. Он подчинялся приказу. Нефрет взяла себя в руки. Чем бы ни объяснялась такая несправедливость, ее дело – хранить верность профессии и лечить этих несчастных. Изучив казарменную аптечку, она воспряла духом. Прежде всего необходимо унять острую боль. Она растолкла корень мандрагоры – мясистого растения с длинными листьями и зелеными, желтыми и оранжевыми цветами, – чтобы извлечь сильно действующее вещество, обладающее болеутоляющими и наркотическими свойствами. Затем она смешала душистый укроп, финиковый и виноградный сок и прокипятила все это в вине; это снадобье больные будут принимать четыре дня подряд. Она окликнула молодого новобранца, подметавшего казарменный двор. – Ты будешь мне помогать. – Я? Но… – Ты назначен санитаром. – Но мой начальник… – Немедленно отправляйся к нему и скажи, что тридцать человек умрут, если он откажет мне в твоей помощи. Солдат повиновался; он был отнюдь не в восторге от предстоявшей работы. Вернувшись в лазарет, новобранец чуть не лишился чувств; Нефрет помогла ему прийти в себя. – Аккуратно приподнимай им голову, чтобы я могла влить в рот лекарство; потом мы их помоем и приберем в помещении. Поначалу он закрывал глаза и старался не дышать; но спокойствие Нефрет придало ему сил, новоиспеченный санитар забыл о своем отвращении и радовался тому, как быстро действует снадобье. Стоны и крики смолкли, многие солдаты заснули. Вдруг один больной схватил девушку за ногу. – Пустите! – Как бы не так, милочка; такую добычу не бросают. Тебе со мной будет хорошо. Санитар схватил пациента за голову и отвесил ему мощный удар. Нефрет удалось вырваться. – Спасибо. – Вы… вы не испугались? – Конечно, испугалась. – Если хотите, я могу любого из них так же проучить! – Только если не будет другого выхода. – А что у них за болезнь? – Дизентерия. – Это серьезно? – Это болезнь, которую я знаю и могу вылечить. – В Азии они пьют тухлую воду. Я уж лучше двор мести буду. Добившись строгого соблюдения гигиены, Нефрет стала давать пациентам раствор на основе кориандра[800], чтобы унять спазмы и прочистить кишечник. Потом она растерла гранат с пивными дрожжами, процедила раствор через ткань и оставила на ночь. Плод, набитый ярко-красными зернышками, станет лучшим средством от расстройства желудка и дизентерии. В самых острых случаях Нефрет применяла смесь меда, перебродившей растительной слизи, сладкого пива и соли, которую вводила через задний проход с помощью медного рожка. Пять дней интенсивного лечения дали великолепные результаты. Коровье молоко и мед – единственная разрешенная пища – окончательно поставили больных на ноги.
***
Старший лекарь Небамон в прекрасном расположении духа отправился осматривать госпиталь казармы спустя шесть дней после того, как Нефрет приступила к работе. Он выразил удовлетворение и под конец обхода решил посетить лазарет, где лежали солдаты, заболевшие дизентерией во время последней азиатской кампании. Сейчас отчаявшаяся, обессилевшая девушка станет умолять назначить ее на другую должность и согласится работать под его началом. Новобранец выметал мусор с порога лазарета, дверь которого была широко распахнута; пустое, обработанное известью помещение проветривалось на сквозняке. – Я, наверное, ошибся, – сказал Небамон солдату. – Вы не знаете, где работает лекарь Нефрет? – Первая дверь налево. Девушка заносила имена в папирусный свиток. – Нефрет! А где больные? – Выздоравливают. – Это невозможно! – Вот список пациентов, прописанное лечение и дата выхода из лазарета. – Но как? – Я вам очень благодарна за то, что вы доверили мне эту работу, она позволила мне убедиться в действенности нашего лечения. Она говорила без всякой враждебности, глаза излучали мягкий свет. – Кажется, я ошибся. – О чем вы? – Я вел себя как идиот. – Но у вас не такая репутация, Небамон. – Послушайте, Нефрет… – Завтра же вы получите полный отчет; не могли бы вы как можно скорее сказать, каким будет мое следующее назначение?
***
Монтумес был в бешенстве. Ни один слуга во всей огромной усадьбе не смел пошевелиться, пока не утихнет холодная ярость верховного стража. В моменты крайнего напряжения у него чесалась голова, и он расчесывал ее до крови. У его ног валялись обрывки папируса – все, что осталось от порванных донесений его подчиненных. Ничего. Ни одной зацепки, ни одного явного промаха, ни намека на лихоимство: Пазаир вел себя как судья честный, а значит, опасный. Монтумес не имел обыкновения недооценивать противника – этот человек принадлежал к категории устрашающей, и одолеть его будет нелегко. Главное – никаких решительных действий, пока не станет ясно, кто за ним стоит.14
Ветер раздувал широкий парус одномачтового судна, скользившего по водным просторам Дельты. Штурман ловко орудовал рулевым веслом, чутко улавливая характер течения, а пассажиры – судья Пазаир, Кем и павиан – отдыхали в каюте, сооруженной посреди палубы; на крыше лежали их вещи. На носу судна капитан измерял глубину при помощи большого шеста и отдавал приказы экипажу. Око Хора на носу и на корме судна оберегало его от превратностей судьбы. Пазаир вышел из каюты, облокотился на борт и стал любоваться пейзажами. Как далека сейчас была долина с ее посевами, зажатыми между двумя пустынями! Здесь река разделялась на рукава и каналы, которые орошали города, селения, пальмовые рощи, поля и виноградники; сотни птиц – ласточки, удоды, белые цапли, вороны, жаворонки, воробьи, бакланы, пеликаны, дикие гуси, утки, журавли, аисты – парили в нежно-голубом небе, кое-где подернутом облаками. Судье казалось, что он созерцает море, поросшее тростником и папирусом; на выступающих из воды холмиках в тени ив и акаций виднелись белые одноэтажные домики. Возможно, это и есть первозданное болото, о котором писали древние мудрецы, то самое земное воплощение омывающего мир океана, откуда каждое утро встает новое солнце? Охотники на гиппопотамов подали судну знак сменить курс; они преследовали самца.Раненый зверь только что нырнул и мог в любой момент вынырнуть и опрокинуть даже весьма крупное судно. Животное билось не на жизнь, а на смерть. Капитан не пренебрег предупреждением; он вошел в «воды Ра» – крайний восточный рукав Нила, текущий на северо-восток. Возле Бубастиса – города богини Бастет, символически изображавшейся в облике кошки, – он пошел по каналу вдоль Вади Тумилат по направлению к Горьким озерам. Дул сильный ветер; справа за озером, где купались буйволы, под сенью тамариска ютилась небольшая хижина. Судно причалило, спустили сходни. Пазаир, не привыкший к качке, пошатываясь, сошел на берег. При виде павиана стайка мальчишек бросилась врассыпную. На их крики сбежались крестьяне и двинулись к прибывшим с вилами наперевес. – Вам нечего бояться, я судья Пазаир, со мной – моя стража. Вилы опустились, и судью проводили к местному управителю, угрюмому старику. – Я бы хотел поговорить с воином-ветераном, который вернулся домой несколько недель назад. – В этом мире это невозможно. – Он скончался? – Солдаты привезли тело. Мы похоронили его на нашем кладбище. – Причина смерти? – Старость. – Вы осмотрели труп? – Он был мумифицирован. – Что вам сказали солдаты? – Они были немногословны. Нарушить покой мумии было бы святотатством. Пазаир и его спутники вернулись на судно и отправились в селение, где жил второй ветеран. – Нам придется идти по болоту, – предупредил капитан. – Здесь опасные островки. Мне нужно держаться подальше от берега. Павиан не любил воду. Кем долго уговаривал его и наконец убедил пойти по тропинке, проложенной в тростниковых зарослях. Обезьяна выглядела встревоженной, все время оборачивалась и озиралась по сторонам. Судья невозмутимо шел вперед к маленьким домикам, примостившимся на вершине холма. Кем следил за поведением животного; уверенный в своих силах, Убийца не стал бы вести себя так без причины. Вдруг павиан издал пронзительный вопль, оттолкнул судью и схватил за хвост маленького крокодила, извивавшегося в грязной воде. В тот самый момент, когда тот распахнул пасть, Убийца потянул его назад. «Большая рыба», как называли крокодилов прибрежные жители, умела нападать внезапно и убивала овец и коз, приходивших на водопой. Крокодил отчаянно вырывался, но он был слишком молод и мал, чтобы сопротивляться разъяренному павиану, который вытащил его из илистой жижи и отшвырнул на несколько метров. – Поблагодарите его, – сказал Пазаир нубийцу. – А я подумаю о повышении по службе. Управитель селения сидел на низеньком стуле, уютно устроившись под сенью смоковницы. Он как раз собирался обедать: перед ним в плоскодонной корзине лежали жареная птица и лук, рядом стоял кувшин с пивом. Он предложил гостям разделить с ним трапезу. Павиан, слух о подвиге которого уже разнесся по окрестностям, радостно вонзил зубы в куриную ножку. – Мы ищем воина-ветерана, вернувшегося провести старость в родном селении. – Увы, судья Пазаир, мы видели только мумию! Армия взяла на себя перевозку тела и расходы по погребению. У нас скромное кладбище, но вечность здесь не хуже, чем в любом другом месте. – А вам сообщили причину смерти? – Солдаты были немногословны, но я настоял. По-видимому, несчастный случай. – Какого рода? – Подробностей я не знаю. На обратном пути в Мемфис Пазаир не мог скрыть своего разочарования. – Полный провал: начальник стражи исчез, двое его подчиненных мертвы, остальные двое тоже, наверное, уже мумии. – Вы раздумали продолжать поиски? – Нет, Кем; я хочу выяснить, в чем тут дело. – Я буду рад вновь увидеть Фивы. – А что вы по этому поводу думаете? – Раз все эти люди мертвы, вам вряд ли удастся найти разгадку, и это к лучшему. – Вы что, не хотите узнать правду? – Когда она слишком опасна, я предпочитаю оставаться в неведении. Однажды правда стоила мне носа; теперь она может лишить вас жизни.***
Когда на рассвете вернулся Сути, Пазаир уже сидел за работой, а пес лежал у его ног. – Ты что, не спал? И я тоже. Мне бы отдохнуть… моя птичница из меня все соки высасывает. Она ненасытна и все время требует чего-нибудь этакого. Я принес горячие лепешки, пекарь только что испек. Смельчак первым получил свою порцию, друзья позавтракали вместе. Сути засыпал на ходу, однако все же заметил, насколько озабочен Пазаир. – Это или усталость, или какая-то серьезная проблема. Все твоя недосягаемая незнакомка? – Я не имею права об этом говорить. – Тайна следствия? Даже мне не можешь сказать? Дело, видно, и вправду нешуточное. – Я топчусь на одном месте, Сути, но я уверен, что наткнулся на серьезное преступление. – И есть… убийца? – Вероятно. – Будь осторожен, Пазаир, убийства в Египте редки. Боюсь, как бы ты не вспугнул крупного хищника. Ты рискуешь вызвать гнев важных особ. – Превратности профессии. – Разве убийства не в ведении визиря? – При условии, что они доказаны. – Кого ты подозреваешь? – Я уверен только в одном: в этой темной истории замешаны солдаты. И солдаты эти находятся в подчинении у полководца Ашера. Сути восхищенно присвистнул. – Ты высоко замахнулся! Что, военный заговор? – Не исключено. – А в каких целях? – Не знаю. – Я твой, Пазаир! – Что ты имеешь в виду? – Мое поступление на военную службу – не пустая мечта. Я быстро стану отличным солдатом, офицером, может быть, полководцем! Во всяком случае – героем. Я разузнаю про Ашера все. Если он в чем-нибудь виноват, я буду знать, а значит, будешь знать и ты. – Слишком рискованно. – Наоборот, здорово! Наконец-то приключение, о котором я столько мечтал! Что, если мы с тобой спасем Египет? Ведь военный заговор предполагает захват власти какой-нибудь группой. – Далеко идущий план, Сути; но я пока не уверен, что положение настолько безнадежное. – Что ты об этом знаешь? Предоставь действовать мне!
***
Утром к Пазаиру в контору явился посыльный офицер на колеснице в сопровождении двух лучников. Он был резок и немногословен. – Меня послали уладить дело о переводе по службе, поданное вам на утверждение. – Это не насчет ли бывшего начальника стражи сфинкса? – Именно. – Я отказываюсь ставить свою печать, пока этот ветеран не предстанет передо мной. – Мне как раз поручено отвести вас туда, где он сейчас находится, чтобы закрыть дело. Сути спал как убитый, Кем патрулировал, секретарь еще не пришел. Пазаир прогнал возникшее ощущение опасности: разве может государственная организация, будь то даже армия, посягнуть на жизнь судьи? Пазаир погладил встревоженного Смельчака и взошел на колесницу. Они пронеслись через предместья, выехали из Мемфиса и, огибая засеянные поля, углубились в пустыню. Там высились пирамиды фараонов Старого царства, окруженные величественными усыпальницами, созданными несравненным гением зодчих и художников. Выше всех вознеслась ступенчатая пирамида Джосера – бессмертное творение Имхотепа; по ее гигантским каменным ступеням душа царя могла восходить к солнцу и спускаться обратно на землю. Взору открывалась одна лишь вершина монумента, ибо от дольнего мира его отгораживала уступчатая стена с единственными, постоянно охраняемыми воротами. Когда иссякнут силы фараона и ослабнет его мощь, здесь, в огромном внутреннем дворе священного комплекса Саккары, ему предстоит пройти обряды возрождения. Пазаир полной грудью вдохнул живительный, сухой воздух пустыни; он любил эту красную землю, это море обожженных скал и светлого песка, эту пустоту, напоенную голосом предков. Здесь человек избавлялся от всего суетного. – Куда вы меня везете? – Мы уже приехали. Колесница остановилась возле дома с крошечными окошками, стоящего особняком, в стороне от всякого жилья; вдоль его стен стояло несколько каменных саркофагов. Ветер гнал тучи песка. Ни кустика, ни цветочка, вдали – пирамиды и усыпальницы. Скалистый холм закрывал вид на пальмы и поля. Казалось, это место затерялось на самом краю смерти, посреди безлюдного пространства. – Здесь. Офицер хлопнул в ладоши. Пазаир в недоумении сошел с колесницы. Место идеально подходило для западни, и никто не знал, где он находится. Он подумал о Нефрет – уйти в вечность, не открыв ей своей страсти, было бы полным поражением. Дверь со скрипом отворилась. На пороге застыл худощавый мужчина с очень светлой кожей, длинными руками и тощими ногами. На продолговатом лице выделялись черные сросшиеся брови; в тонких, бесцветных губах, казалось, не было ни кровинки. На переднике из козлиной кожи проступали коричневатые пятна. Черные глаза уставились на Пазаира. Судье никогда не приходилось сталкиваться с таким взглядом – пронзительным, ледяным, режущим, как лезвие. Он не отвел глаз. – Джуи – старший бальзамировщик, – объяснил посыльный. Мужчина кивнул. – Следуйте за мной, судья Пазаир. Джуи отступил, чтобы пропустить колесничего и судью в помещение для бальзамирования, где на каменном столе он мумифицировал трупы. По стенам были развешаны железные крючья, обсидиановые ножи и заостренные камни; на полках стояли горшки с маслом и мазями и мешки с натроном, необходимым для мумификации. По закону бальзамировщик должен был жить за чертой города; он принадлежал к внушавшей ужас касте, состоящей из людей замкнутых и молчаливых. Все трое стали спускаться по лестнице, ведущей в огромное подземное помещение. Ступени были ветхие и скользкие. Светильник в руках Джуи дрожал. На земле лежали мумии разных размеров. Пазаир вздрогнул. – Я получил донесение относительно бывшего начальника стражи сфинкса, – объяснил офицер. – Дело было послано вам по ошибке. На самом деле он погиб в результате несчастного случая. – Наверное, случай был просто ужасный. – Почему вы так говорите? – Потому что он унес жизни по крайней мере трех ветеранов, а то и больше. Офицер пожал плечами. – Мне ничего не известно. – Каковы обстоятельства трагедии? – Я не могу ничего сказать. Тело начальника стражи было найдено возле сфинкса и переправлено сюда. К сожалению, писец ошибся: вместо распоряжения о погребении он написал приказ о переводе по службе. Простая административная ошибка. – А где тело? – Я как раз собирался вам его показать, чтобы положить конец этой прискорбной истории. – Оно, разумеется, мумифицировано? – Конечно. – А его уже положили в саркофаг? Посыльный офицер явно растерялся. Он посмотрел на бальзамировщика, тот покачал головой. – Значит, последние обряды еще не совершены? – заключил Пазаир. – Верно, но… – Ладно, покажите мне мумию. Джуи повел судью и колесничего в самую глубь подземелья и указал на завернутое в пелены тело начальника стражи. На нем красными чернилами был написан номер. Бальзамировщик показал офицеру табличку, которая будет прикреплена к мумии. – Вам остается только наложить свою печать, – подсказал тот. Джуи стоял позади Пазаира. Свет колебался все сильнее и сильнее. – Пусть мумия пока остается здесь в том же состоянии, господин офицер. Если она исчезнет или будет повреждена, отвечать будете вы.
15
– Вы можете сказать мне, где сейчас Нефрет? – Ты чем-то обеспокоен? – поинтересовался Беранир. – Это очень важно, – настаивал Пазаир. – Кажется, у меня есть одно доказательство, но я не могу им воспользоваться без помощи врача. – Я видел ее вчера вечером. Она блестяще справилась с эпидемией дизентерии и вылечила человек тридцать солдат меньше чем за неделю. – Солдат? Что ей поручили делать? – Небамон решил немножко поиздеваться. – Я своими руками буду колотить его до тех пор, пока он не испустит дух! – А это входит в полномочия судьи? – Такого самодура и засудить не грех. – Он просто воспользовался служебным положением. – Вы отлично знаете, что это не так. Скажите мне правду: какое новое испытание придумал для нее этот мерзавец? – Он, кажется, одумался; Нефрет теперь аптекарь.***
В специальных аптекарских помещениях, расположенных возле храма Сехмет[801], перерабатывались сотни растений, служивших основой для составления лекарственных средств. Ежедневные поставки обеспечивали свежесть снадобий, изготовлявшихся по заказу городских и сельских лекарей. Нефрет следила за строгим исполнением рецептов. По сравнению с предыдущей должностью это было понижение. Небамон объяснил, что это обязательный этап и возможность немного отдохнуть, перед тем как снова лечить больных. Верная своей линии поведения, девушка не возражала. В полдень аптекари отправились пообедать. По пути все оживленно переговаривались, обсуждали новые лекарства, сетовали по поводу неудач. Два молодых лекаря о чем-то болтали с Нефрет, она улыбалась. Пазаир не сомневался: они за ней ухаживают. Сердце забилось быстрее, он решился перебить беседу. – Нефрет… Она остановилась. – Вы меня ищете? – Беранир рассказал, как несправедливо с вами поступили. Это возмутительно. – Мне удалось вылечить людей. Остальное не имеет значения. – Мне необходима ваша помощь. – Вы заболели? – Одно щекотливое расследование требует участия лекаря. Простая проверка, ничего больше.
***
Кем правил колесницей уверенно и спокойно; павиан предпочитал не смотреть на дорогу. Нефрет и Пазаир стояли бок о бок, их запястья были привязаны ремнями к корпусу экипажа во избежание падения. От постоянных толчков тела их то и дело соприкасались. Нефрет на это внимания не обращала, зато Пазаир радовался всей душой, хотя и не подавал виду. Он мечтал, чтобы это небольшое путешествие длилось вечно и чтобы ухабов на дороге было как можно больше. Когда его правая нога случайно оказалась возле ноги девушки, он не стал ее убирать; он очень боялся услышать отповедь, но ее не последовало. Быть с ней рядом, вдыхать ее аромат, думать, что она не отвергла этого прикосновения… Восхитительные грезы! Перед домом бальзамировщика стояли на страже двое солдат. – Я судья Пазаир. Пропустите нас. – У нас приказ: никого не пускать. Это место переведено под охрану армии. – Никто не может противиться правосудию. Вы что, забыли, что мы в Египте? – Но приказ… – Отойдите. Павиан оскалился и приготовился к бою: взгляд пристальный, лапы согнуты, того и гляди, прыгнет. Кем стал понемногу отпускать цепь. Солдаты сдались. Кем ногой распахнул дверь. Джуи сидел на своем каменном столе и ел сушеную рыбу. – Проводите нас, – приказал Пазаир. Кем с павианом обыскали темное помещение, а судья и врач спустились в подземелье в сопровождении Джуи, освещавшего им путь. – Какое жуткое место, – прошептала Нефрет. – Я так люблю воздух и свет! – По правде говоря, мне тоже не по себе. Бальзамировщик как ни в чем не бывало шел по своему привычному пути. Мумия была на месте. Пазаир удостоверился, что к ней никто не прикасался. – Вот ваш пациент, Нефрет. Я буду разматывать пелены, а вы смотрите. Судья стал осторожно снимать бинты; показался амулет в форме глаза, положенный на лоб. На шее – глубокая рана, вероятно, от стрелы. – Нет смысла идти дальше. На ваш взгляд, сколько лет покойному? – Лет двадцать, – ответила Нефрет.
***
Монтумес был озабочен проблемами уличного движения, мешавшими спокойному течению повседневной жизни Мемфиса. В городе развелось слишком много ослов, быков, колесниц, бродячих торговцев и зевак, так что зачастую по улицам невозможно было пройти. Каждый год он издавал указы, один другого невыполнимее, и даже не представлял их визирю. Вместо усовершенствований он ограничивался обещаниями, в которые никто не верил. Время от времени ситуацию разряжал отряд стражников: улицы расчищали, на несколько дней запрещали остановки в определенных местах, взимали штраф с нарушителей, а потом дурные привычки снова брали верх. Монтумес перекладывал ответственность на подчиненных, не давая им при этом ни малейшей возможности поправить положение. Не унижаясь до участия в спорах и предоставляя подчиненным разбираться самостоятельно, он поддерживал свою безупречную репутацию. Когда ему доложили, что в приемной ожидает Пазаир, он вышел к судье со словами приветствия. Такие знаки внимания обычно располагали людей в его пользу. Мрачное выражение лица судьи не предвещало ничего хорошего. – Сегодня у меня дел невпроворот, но я готов вас принять. – Боюсь, это необходимо. – Кажется, вы взволнованы. – Да, так и есть. Монтумес почесал лоб. Он провел судью в свою контору, удалил оттуда личного секретаря и сел на великолепный стул с ножками в виде бычьих копыт. В его позе чувствовалось напряжение. Пазаир остался стоять. – Я вас слушаю. – Ко мне явился посыльный офицер и отвез меня к Джуи, старшему бальзамировщику египетской армии. Он показал мне мумию человека, которого я ищу. – Начальника стражи сфинкса? Так, значит, он мертв! – По крайней мере, меня пытались в этом убедить. – Что вы хотите сказать? – Поскольку последние обряды еще не были совершены, я разбинтовал верхнюю часть мумии под наблюдением лекаря Нефрет. Это тело мужчины лет двадцати, вероятно, смертельно раненного стрелой. Очевидно, что это никак не может быть ветеран. Верховный страж был потрясен. – Но это просто невероятно! – Более того, – невозмутимо продолжал судья, – двое солдат пытались помешать мне войти в помещение для бальзамирования. Когда я оттуда вышел, они исчезли. – Как звали посыльного офицера? – Не знаю. – Серьезный просчет. – Вам не кажется, что он мне солгал? Монтумес нехотя согласился. – Где труп? – У Джуи, под его охраной. Я составил подробный отчет, включающий свидетельства лекаря Нефрет, бальзамировщика и моего пристава Кема. Монтумес нахмурился. – Вы им довольны? – Он работает превосходно. – У него сомнительное прошлое. – Он мне очень помогает. – Будьте с ним поосторожнее. – Прошу вас, вернемся к мумии. – Я пошлю за ней своих людей, и мы ее обследуем; нужно установить личность покойного. – Придется также выяснить, что стало причиной смерти: ранение, полученное на войне, или убийство. – Убийство! Да как вам такое в голову пришло? – Я со своей стороны продолжу следствие. – В каком направлении? – Я не имею права говорить. – Но меня-то что вам бояться? – Неуместный вопрос. – Перед лицом этой неразберихи я в такой же растерянности, как и вы. Разве нам не следует объединить усилия? – Независимость правосудия, на мой взгляд, важнее.
***
Стены конторы управляющего египетской стражей сотрясались от гнева Монтумеса. Пятьдесят высокопоставленных чиновников получили взыскания и лишились разнообразных поощрений. Впервые с тех пор, как он занял высшую ступень в иерархии государственной стражи, его не проинформировали должным образом. Разве это не удар по созданной им системе? Но его так просто не сокрушить, он не сдастся без боя. К сожалению, выходило так, что у истоков всех этих странных событий, смысл которых оставался непостижимым, стояло армейское командование. Затрагивать его территорию было слишком рискованно, а рисковать Монтумес не собирался; если во главе всего предприятия стоял полководец Ашер – человек, ставший поистине неприкасаемым после недавнего повышения, – то против него верховный страж был абсолютно бессилен. Предоставить свободу действий мелкому судье было во многих отношениях выгодной тактикой. Он берет всю ответственность на себя, со свойственным юности безрассудством пренебрегая мерами предосторожности. С него станется взломать пару запретных дверей и пойти поперек неписаных законов, о существовании которых он даже не подозревает. Следуя за ним по пятам и при этом оставаясь в тени, Монтумес сможет воспользоваться результатами его расследования. Лучше сделать его своим союзником – до тех пор, пока надобность в нем не отпадет вовсе. Один вопрос по-прежнему не давал покоя: к чему весь этот спектакль? Его автор явно недооценил Пазаира, решив, что необычная обстановка, удушающе спертый воздух и угнетающее ощущение близости смерти помешают судье как следует разглядеть мумию и вынудят его поскорее уйти, предварительно наложив свою печать. Однако результат был достигнут прямо противоположный: Пазаир не только не потерял интереса к делу, но и выявил его масштабы. Монтумес пытался себя успокоить: разве может исчезновение скромного ветерана, занимавшего почетную должность, пошатнуть устои государства! Наверное, речь идет о случайном убийстве, которое совершил солдат, находящийся под покровительством высокого армейского чина, – самого Ашера или кого-нибудь из его приспешников. В этом направлении и следует копать.
16
В первые дни весны Египет воздавал почести умершим и предкам. На исходе весьма мягкой зимы ночи вдруг стали прохладными из-за порывистого ветра из пустыни. Родственники приходили в некрополи почтить память усопших и возлагали цветы в погребальных часовнях, открытых для доступа из внешнего мира. Между жизнью и смертью не было непреодолимой границы, а потому живые пировали вместе с почившими, душа которых воплощалась в пламени светильников. Ночь озарялась огнями, радуясь встречи земного и потустороннего миров. В Абидосе[802] – священном граде Осириса, где проводились мистерии воскресения, – жрецы установили на усыпальницах небольшие барки – символы путешествия в мир иной. Фараон зажег огни перед жертвенными столами всех основных храмов Мемфиса, а затем отправился в Гизу. Каждый год в один и тот же день Рамсес Великий готовил себя к тому, чтобы войти в великую пирамиду и склониться в молитве перед саркофагом Хеопса. В сердце гигантского монумента царь черпал силу, необходимую для объединения двух земель – Верхнего и Нижнего Египта – и достижения их процветания. Он погрузится в созерцание золотой маски фараона и мерного локтя из того же металла – инструмента, вдохновлявшего великого строителя и символизировавшего всю его деятельность. Придет время – и он возьмет в руки завещание богов и объявит его народу в ходе ритуала своего перерождения. Полная луна озаряла плато, где высились три пирамиды. Рамсес вступил в ворота стены вокруг пирамиды Хеопса, находившиеся под охраной элитного отряда стражников. На царе не было ничего, кроме простой белой набедренной повязки и широкого золотого ожерелья. Солдаты поклонились и отворили засовы. Рамсес Великий переступил гранитный порог и двинулся вверх по дороге, вымощенной известняковыми плитами. Еще немного – и он окажется перед входом в Великую пирамиду; он один знал ее тайный механизм, и в дальнейшем ему предстояло передать это знание своему преемнику. С каждым годом встреча с Хеопсом и соприкосновение с золотом бессмертия переживались царем все более глубоко. Царствование над Египтом было делом захватывающим и возвышенным, но вместе с тем изнурительным; обряды давали фараону необходимую энергию. Рамсес медленно прошел по большой галерее и проник в зал, где покоился саркофаг; он еще не знал, что жизненный центр страны превратился в пустую, бесплодную преисподнюю.***
В гавани был праздничный день; суда украсились цветами, пиво лилось рекой, матросы плясали с веселыми девицами, бродячие музыканты развлекали многочисленную толпу. Погуляв с собакой, Пазаир собрался пойти домой, подальше от шума, как вдруг его окликнул знакомый голос: – Судья Пазаир! Вы уже уходите? Из толпы зевак вынырнуло тяжелое квадратное лицо Денеса, окаймленное узкой седой бородой. Судовладелец растолкал соседей и пробрался к судье. – Какой замечательный день! Все веселятся, отбросив заботы. – Я не люблю шума. – Вы слишком серьезны для своего возраста. – Характер не переделаешь. – О, жизнь сама об этом позаботится. – У вас хорошее настроение. – Дела идут хорошо, товары доставляются вовремя, люди подчиняются с полуслова – на что же мне жаловаться? – Кажется, вы не держите на меня зла. – Вы исполнили свой долг, зачем мне обижаться? Кроме того, есть хорошая новость. – Какая? – По случаю нынешнего праздника многие незначительные приговоры были отменены дворцом. Древний, отчасти позабытый, мемфисский обычай. Мне повезло, я оказался одним из счастливцев. Пазаир побледнел. Он с трудом сдерживал гнев. – Как вам это удалось? – Я же сказал: праздник, просто праздник! В обвинительном заключении вы не потрудились упомянуть, что мой случай не подлежит столь милосердному пересмотру. Мы с женой считаем, что вы были правы и преподали нам хороший урок; мы его обязательно учтем. – Вы искренне говорите? – Конечно. Извините, меня ждут. Пазаир проявил нетерпение и тщеславие; ему так хотелось поскорее восстановить справедливость, что он пренебрег формальностями. Сокрушаясь, он двинулся дальше, но путь ему преградил военный парад, которым командовал ликующий полководец Ашер.
***
– Я вызвал вас, судья Пазаир, чтобы рассказать о результатах моего расследования. Монтумес держался уверенно. – Мумия – это тело молодого новобранца, убитого в Азии в ходе одного столкновения; он был поражен стрелой и умер на месте. Из-за сходства имен его дело перепутали с делом начальника стражи сфинкса. Писцы, допустившие эту ошибку, пытаются доказать свою невиновность. Оказывается, никто и не думал вводить нас в заблуждение. Мы вообразили заговор, а на самом деле здесь просто административная оплошность. Не верите? Зря. Я проверил каждый пункт. – Я не подвергаю ваши слова сомнению. – Очень рад. – Тем не менее начальник стражи исчез. – Странно, согласен; может быть, он скрывается от армейских властей? – Два ветерана, служившие под его началом, погибли в результате несчастного случая. Пазаир особенно упирал на эти слова. Монтумес почесал голову. – А что в этом подозрительного? – Об этом знали бы военные, да и вас бы обязательно предупредили. – Нет. Подобные происшествия меня не касаются. Судья пытался припереть верховного стража к стенке. По словам Кема, последний был способен затеять все это дело для того, чтобы основательно почистить ряды собственной администрации, поскольку кое-кто из чиновников стал позволять себе критиковать его методы. – По-моему, мы все слишком усложняем. Перед нами просто досадное стечение обстоятельств. – Два ветерана и жена начальника стражи мертвы, сам он пропал – таковы факты. Не могли бы вы попросить армейское начальство проинформировать вас о… несчастном случае? Монтумес сосредоточил взгляд на кончике кисточки. – Подобный шаг расценили бы как неуместный. Армия не слишком жалует стражу, и потом… – Я займусь этим сам. Двое мужчин холодно распрощались.
***
– Полководец Ашер только что получил задание и отправился за пределы страны, – сообщил судье Пазаиру войсковой писарь. – А когда он вернется? – Военная тайна. – К кому я могу обратиться в его отсутствие, чтобы получить сведения о несчастном случае, недавно произошедшем возле большого сфинкса? – Наверное, я могу вам помочь. Ах да, чуть не забыл! Полководец Ашер оставил мне документ, который я как раз должен был вам переправить. Раз уж вы здесь, я вручу его вам лично. Пазаир снял льняную веревочку, которой был перевязан свиток. Папирус содержал рассказ о прискорбном происшествии, случившемся во время обычной проверки и повлекшем за собой кончину начальника стражи сфинкса в Гизе и его четверых подчиненных. Пять воинов-ветеранов поднялись на голову гигантской статуи, чтобы удостовериться в хорошем состоянии камня и выявить возможный ущерб, нанесенный песчаной бурей. Один из них по неловкости поскользнулся и упал, потянув за собой товарищей. Ветераны были похоронены в родных селениях, двое в Дельте, двое на Юге. Тело начальника стражи, учитывая почетный характер должности, помещено в одну из войсковых часовен, где будет подвергнуто длительной и тщательной мумификации. По возвращении из Азии полководец Ашер будет лично руководить погребением. Пазаир расписался, подтвердив получение документа. – Остались ли еще какие-нибудь формальности? – спросил писец. – Нет, спасибо.
***
Пазаир жалел, что принял приглашение Сути. Перед тем как отправиться в поход, его друг решил отметить это событие в самой знаменитой пивной Мемфиса. Судья все время думал о Нефрет, ее светлое лицо озаряло его сны и мысли. Затесавшись среди зевак, пребывавших в полном восторге от происходящего, Пазаир не проявлял ни малейшего интереса к обнаженным танцовщицам – молодым, прекрасно сложенным и гибким нубийкам. Гости восседали на мягких подушках, перед ними стояли кувшины с вином и пивом. – Малышек трогать нельзя, – радостно сообщил Сути, – они танцуют, чтобы нас подогреть. Не волнуйся, Пазаир, у хозяйки есть отличное противозачаточное средство из растертых шипов акации, меда и фиников. Каждому было известно, что шипы акации содержат молочную кислоту, лишающую сперму оплодотворяющей силы. С самых юных лет молодые люди прибегали к этому простому средству, позволявшему беззаботно предаваться любовным утехам. Из маленьких комнат, расположенных вокруг центрального зала, вышли десятка полтора молодых женщин в прозрачных льняных покрывалах. Их глаза были сильно подведены, губы ярко накрашены, в распущенных волосах – цветы лотоса, на запястьях и щиколотках – тяжелые браслеты. Они приблизились к разомлевшим гостям, тут же образовались парочки, которые поспешили уединиться в комнатушках, отделенных друг от друга занавесями. Отвергнув двух восхитительных танцовщиц, Пазаир остался один в обществе Сути, не желавшего оставлять друга. Появилась женщина лет тридцати, все одеяние которой сводилось к поясу из ракушек и цветных жемчужин. Они тихонько звякали, когда она начала медленно пританцовывать, играя на лире. Завороженный Сути заметил татуировки на ее теле: цветок лилии на левом бедре возле лобка и бог Бес над черными волосами паха – знак-оберег против венерических болезней. Хозяйка пивного дома Сабабу, в своем пышном парике со светлыми локонами, была обворожительнее самой красивой из девиц заведения. Плавно сгибая длинные ухоженные ноги, она сделала несколько сладострастных шагов, а потом всем телом подалась вперед, не сбиваясь с ритма мелодии. Умащенная ладаном[803], она источала упоительное благоухание. Когда она приблизилась к друзьям, Сути не смог совладать с охватившей его страстью. – Ты мне нравишься, – сказала она ему, – и, думаю, я тебе тоже. – Я не хочу покидать друга. – Оставь его в покое; не видишь, он влюблен. Его душа далеко отсюда. Пойдем со мной. Сабабу увлекла Сути в самую просторную из комнат. Усадив его на низкую кровать с разноцветными подушками, она встала на колени и принялась его целовать. Он захотел обнять ее за плечи, но она нежно отвела его руки. – У нас целая ночь впереди, не спеши. Сдерживайся и жди, пока в тебе нарастает наслаждение, вкушай усладу огня, разливающегося в твоей крови. Сабабу сняла пояс из ракушек и легла на живот. – Помассируй мне спину. Несколько секунд Сути предавался игре, но это восхитительное, тщательно ухоженное тело, прикосновения к благоухающей коже лишили его остатков самообладания. Ощутив, сколь сильно его желание, Сабабу противиться перестала. Осыпая ее поцелуями, он дал волю сжигавшей его страсти.
***
– Ты доставил мне удовольствие. Ты не похож на большинство моих клиентов, они слишком много пьют и становятся вялыми и дряблыми. – Грех не воздать должное твоим прелестям. Сути ласкал ее грудь, внимательно следя за ее реакцией; искушенные руки любовника заставили Сабабу испытать давно забытые ощущения. – Ты писец? – Скоро буду солдатом. Прежде, чем стать героем, мне захотелось сладостных приключений. – Раз так, следует одарить тебя в полной мере. Легкими прикосновениями губ и языка Сабабу вновь пробудила желание Сути. И снова одновременно они издали крик наивысшего наслаждения. Глядя друг другу в глаза, они пытались восстановить дыхание. – Ты обольстил меня, козлик мой, ведь ты любишь любовь. – Это самая прекрасная из всех иллюзий. – Но ты-то вполне реальный человек. – Как ты стала хозяйкой пивного дома? – Из презрения к мнимой знати и важным особам с лживыми речами. Они, как и мы с тобой, повинуются голосу плоти и не могут противиться страсти. Если б ты только знал… – Расскажи. – Хочешь разузнать мои секреты? – Почему бы и нет? При всем своем опыте, при всем обилии встречавшихся ей мужских тел, красивых и безобразных, Сабабу не могла устоять перед ласками нового любовника. Он пробудил в ней желание отомстить миру, где она столько раз подвергалась унижению. – Когда станешь героем, будешь меня сторониться? – Отнюдь! Уверен, ты часто принимаешь известных людей. – Что ж, это правда. – Должно быть, это забавно… Она приложила палец к губам молодого человека. – Об этом знает лишь мой дневник. Только благодаря ему я могу оставаться безмятежной. – Ты записываешь имена клиентов? – Имена, привычки, признания. – Так это настоящее сокровище! – Если меня оставят в покое, я не стану пускать его в ход. А когда состарюсь, смогу перечитывать свои воспоминания. Сути лег на нее. – А я страшно любопытный. Ну назови хоть одно имя. – Нельзя. – Только мне, мне одному. Он стал целовать ее соски. По всему ее телу пробежала дрожь. – Имя, одно только имя. – Ладно, назову тебе один образец добродетели. Стоит мне рассказать о его пороках, и его карьере конец. – Как его зовут? – Пазаир. Сути отстранился от своей пленительной любовницы. – Какое поручение тебе дали? – Распространять слухи. – Ты его знаешь? – В глаза не видела. – Ты ошибаешься. – Да как… – Пазаир – мой лучший друг. Сегодня он просидел у тебя весь вечер и думал только о женщине, в которую влюблен, и о деле, которое распутывает. Кто велел тебе очернить его? Сабабу промолчала. – Пазаир – судья, – продолжал Сути, – самый честный из всех судей. Не надо на него клеветать; ты и так достаточно сильна, тебя никто не тронет. – Ничего тебе не обещаю.
17
Сидя бок о бок на берегу Нила, Пазаир и Сути встречали рождение дня. Обновленное солнце восторжествовало над мраком и чудовищным змеем, пытавшимся уничтожить его во время ночного путешествия, и взошло над пустыней, окрасив багрянцем речные воды и приведя в буйный восторг нильских рыб. – Скажи, Пазаир, ты серьезный судья? – Ты хочешь в чем-то меня упрекнуть? – Знаешь, у судьи, предающегося распутству, может помутиться разум. – Ты сам затащил меня в этот пивной дом. Пока ты там забавлялся, я думал о работе. – Скорее, о возлюбленной, не так ли? Река искрилась. Кровавые краски зари меркли, уступая место золоту раннего утра. – Сколько раз ты приходил в этот приют запретных страстей? – Ты пьян, Сути. – Так ты никогда не встречал Сабабу? – Никогда. – А она была готова поведать любому, кто захочет слушать, что ты – один из лучших ее клиентов. Пазаир побледнел. И даже не столько из-за безвозвратной утраты репутации судьи, сколько из-за того, что подумает Нефрет. – Ее подкупили! – Правильно. – Кто? – Мы так здорово предавались любви, что она прониклась ко мне нежностью. И рассказала, что ее втянули в интригу, но кто именно – умолчала. Но, по-моему, догадаться нетрудно – это обычные методы верховного стража Монтумеса. – Я буду защищаться. – Не стоит. Я уговорил ее молчать. – Очнись, Сути. При первом же удобном случае она предаст и тебя, и меня. – Не уверен. У этой женщины своя мораль. – Позволь усомниться в твоих словах. – При определенных обстоятельствах женщина не врет. – И все-таки я хочу с ней поговорить.***
Незадолго до полудня судья Пазаир подошел к дверям пивного дома в сопровождении Кема и павиана. Юная нубийка в ужасе забилась под подушки, ее менее пугливая подруга осмелилась выйти навстречу судье. – Я бы хотел увидеть хозяйку. – Я просто здесь работаю, и… – Где госпожа Сабабу? Не лгите. Лжесвидетельство приведет вас в тюрьму. – Если я признаюсь, она меня побьет. – А если будете молчать, я предъявлю вам обвинение в препятствовании правосудию. – Я ничего плохого не сделала! – А вас пока никто и не обвиняет, скажите мне правду. – Она уехала в Фивы. – Куда именно? – Не знаю. – Когда вернется? – Не знаю. Итак, проститутка предпочла сбежать. Отныне при малейшем неверном шаге судью будет подстерегать опасность. За его спиной строились козни. Кто-то, скорее всего Монтумес, заплатил Сабабу, чтобы запятнать его репутацию. Перед лицом серьезной угрозы проститутка не преминет его ославить. Своим временным спасением он обязан исключительно мужскому обаянию Сути и его искушенности в любовных утехах. Иной раз, подумал Пазаир, распутство, может быть, и не заслуживает безоговорочного осуждения.
***
После долгих размышлений верховный страж принял решение, чреватое непредсказуемыми последствиями: попросить визиря Баги о частной встрече. Он страшно нервничал и несколько раз прорепетировал свое заявление перед медным зеркалом, чтобы проследить за выражением лица. Как и любой другой, он знал, насколько непреклонен верховный сановник Египта. Скупой на слова, Баги терпеть не мог терять время. Должность обязывала его выслушать любую жалобу, откуда бы она ни поступила, но при условии, что она обоснованна. Всякий, кто стал бы попусту докучать ему, искажать факты или лгать, горько пожалел бы об этом. Перед лицом визиря следовало взвешивать каждое слово, каждый жест. Монтумес отправился во дворец ближе к полудню. В семь часов Баги беседовал с царем; потом он отдавал распоряжения своим ближайшим помощникам и знакомился с отчетами из провинций. Затем начинались обычные ежедневные приемные часы, когда он разбирал многочисленные дела, с которыми не справились местные суды. Перед тем как наскоро отобедать и снова приступить к работе, визирь соглашался уделить немного времени для частной беседы, если того требовал неотложный характер дела. Он принял верховного стража в своей конторе, скудность обстановки которой никак не напоминала о его высокой должности: стул со спинкой, циновка, сундуки и ящички для свитков. Можно было бы принять Баги за простого писца, если бы не его длинная туника из толстой материи, оставлявшая открытыми только плечи. На шее визиря висело огромное медное сердце, символизировавшее его неистощимую готовность выслушивать жалобы и сетования. Высокий, сутулый, с длинным лицом, большим носом, вьющимися волосами и голубыми глазами, шестидесятилетний визирь Баги не отличался атлетическим телосложением. Он никогда не занимался спортом, его кожа боялась солнечных лучей. Утонченные руки с длинными пальцами были явно знакомы с кистью художника; некогда он был ремесленником, потом наставником юных писцов, потом – специалистом-землемером. Вот тогда-то и проявилась его беспримерная строгость. Баги заметили во дворце и назначили главным землемером, затем старшим судьей провинции Мемфиса, старшим судьей царского портика и, наконец, визирем. Многие царедворцы тщетно пытались поймать его на каком-нибудь промахе; внушая страх и уважение, Баги занял достойное место среди великих визирей, со времен Имхотепа надежно удерживающих Египет на праведном пути. И пусть не всем приходилась по вкусу суровость некоторых его приговоров и неукоснительность их исполнения, однако никто не ставил под сомнение их обоснованность. До сих пор Монтумес ограничивался тем, что выполнял приказы визиря и всячески старался не вызвать его недовольства. И теперь ему было не по себе от предстоящей встречи. Визирь устал и, казалось, дремал. – Слушаю вас, Монтумес. Будьте кратки. – Это не так просто… – Упростите. – Несколько воинов-ветеранов погибли в результате несчастного случая: упали с большого сфинкса. – Административное расследование? – Его вело армейское начальство. – Что не так? – Да вроде все в порядке. Я не смотрел официальные документы, но… – Но благодаря связям вам удалось узнать их содержание. Это не поощряется, Монтумес. Верховный страж опасался подобного выпада. – Так уж повелось. – Придется менять привычки. Но если все в порядке, в чем причина вашего прихода? – Судья Пазаир. – Недостойный служитель закона? Голос Монтумеса становился все более гнусавым. – Я не выдвигаю обвинения, просто меня настораживает его поведение. – Он что, не соблюдает закон? – Он убежден, что исчезновение начальника стражи – ветерана с безупречной репутацией – произошло при необычных обстоятельствах. – У него есть доказательства? – Никаких. Мне кажется, этот молодой судья хочет посеять смуту, чтобы обратить на себя внимание. Я осуждаю такое поведение. – И правильно делаете, Монтумес. Ну а каково ваше мнение по существу дела? – Оно не заслуживает внимания. – Напротив, мне не терпится его услышать. Вот она, ловушка. Верховный страж терпеть не мог принимать ту или иную сторону из страха, что четко определенная позиция может вызвать чье-либо осуждение. Визирь открыл глаза. Пронизывающий ледяной взгляд проникал прямо в душу. – Вряд ли гибель этих несчастных сопряжена с какой-нибудь тайной, но я недостаточно хорошо знаком с делом, чтобы вынести окончательное суждение. – Если сам верховный страж выражает сомнение, почему бы не засомневаться простому судье? Его первейший долг – не принимать ничего на веру. – Разумеется, – прошептал Монтумес. – Бездарных людей в Мемфис не назначают; наверняка Пазаир хорошо зарекомендовалсебя. – Все-таки атмосфера большого города, честолюбие, слишком большие полномочия… Возможно, такой груз ответственности не под силу молодому человеку? – Посмотрим, – заключил визирь. – Если это так, я его смещу. А пока пусть продолжает. И я надеюсь, что вы его всячески поддержите. Баги запрокинул голову и закрыл глаза. Уверенный, что он продолжает смотреть из-под век, Монтумес встал, поклонился и вышел, приберегая ярость для своих слуг.
***
Едва взошло солнце, к конторе судьи Пазаира подошел крепкий, коренастый, загорелый Кани. Он примостился у закрытых дверей рядом с Северным Ветром. Об осле Кани мечтал давно. Он помог бы ему таскать тяжести, и спина, всю жизнь сгибавшаяся под грузом кувшинов с водой для поливки сада, получила бы наконец долгожданный отдых. А поскольку Северный Ветер охотно внимал его речам, он принялся рассказывать ему о беспросветно однообразных трудовых буднях, о том, как он любит землю, как заботливо роет оросительные канавы и какую радость испытывает при виде распустившегося цветка. – Кани… вы хотели меня видеть? Садовник кивнул. – Заходите. Кани заколебался. Контора судьи, как и город в целом, вызывали у него страх. Вдали от сельских просторов ему было неуютно. Слишком много шума, тошнотворных запахов и совсем не видно горизонта. Если бы речь не шла о его будущем, он никогда бы не отважился вступить в лабиринт мемфисских улиц. – Я пропал, совсем пропал, – сказал он. – Опять неприятности с Кадашем? – Да. – В чем он вас обвиняет? – Я хочу уйти, а он не отпускает. – Уйти? – В этом году мой сад дал овощей втрое больше предписанного. Значит, я могу стать независимым земледельцем. – Это законно. – Кадаш это отрицает. – Опишите мне свой земельный участок.
***
Старший лекарь принял Нефрет в тенистом парке своей роскошной усадьбы. Сидя под цветущей акацией, он потягивал молодое и легкое розовое вино. Слуга обмахивал его опахалом. – Прекрасная Нефрет, как я рад вас видеть! На девушке было скромное платье и старомодный короткий парик. – Уж очень вы сегодня строги: платье-то давно вышло из моды. – Вы заставили меня прервать работу в аптеке; мне хотелось бы знать, зачем вы меня вызвали. Небамон приказал слуге удалиться. Уверенный в своей неотразимости и в том, что красота места окажет на Нефрет должное воздействие, он решил дать ей последний шанс. – Вы меня недолюбливаете. – Я хотела бы получить ответ на свой вопрос. – Насладитесь прекрасной погодой, восхитительным вином, посмотрите, в каком раю мы живем. Вы прекрасны, умны, и ваш талант целительницы превышает способности самых именитых наших лекарей. Однако у вас нет ни состояния, ни опыта; без моей помощи вам придется прозябать в каком-нибудь селении. Поначалу сила духа поможет вам преодолеть испытание; но придет зрелость и вы пожалеете, что так дорожили своей чистотой. Карьеру не выстроишь на идеалах, Нефрет. Скрестив руки, девушка смотрела на пруд, где среди лотосов дрались утки. – Вы научитесь любить меня и мои повадки. – Ваши тщеславные помыслы меня не касаются. – Вы достойны стать супругой старшего придворного лекаря. – – Мне кажется, что вы заблуждаетесь на мой счет. – Я хорошо знаю женщин. – Вы в этом уверены? Улыбка застыла на лице Небамона. – Вы забыли, что ваше будущее в моих руках? – Над ним властны боги, но не вы. Небамон встал, лицо его помрачнело. – Оставьте богов в покое и подумайте о моих словах. – Не надейтесь. – Я предупреждаю вас в последний раз. – Я могу вернуться к работе? – Судя по отчетам, которые я только что получил, ваши познания в лекарственных снадобьях явно недостаточны. Нефрет не потеряла самообладания, она опустила руки и посмотрела в глаза обвинителю. – Вы отлично знаете, что это неправда. – Отчеты составлены по всем правилам. – Кто же их написал? – Аптекари, которые дорожат своим местом и будут удостоены повышения по службе за проявленную бдительность. Раз вы не умеете готовить сложные лекарства, я не вправе доверить вам ответственную должность. Надеюсь, вы понимаете, что это означает? Вы не сможете и шагу ступить по иерархической лестнице. Вы будете скованы по рукам и ногам, не имея доступа к лучшим лекарствам; все аптеки находятся в моем ведении, и для вас они будут закрыты. – От этого пострадают больные. – Вам придется передавать своих пациентов более сведущим коллегам. А когда столь жалкое существование станет окончательно невыносимым, вы приползете к моим ногам.
***
Денес сошел с носилок перед воротами усадьбы Кадаша в тот момент, когда Пазаир разговаривал с привратником. – У вас тоже болят зубы? – поинтересовался судовладелец. – Нет, у меня проблема другого рода. – Хорошо вам! А я места себе не нахожу от боли. Что случилось: у Кадаша неприятности? – Просто нужно кое-что уладить. Краснорукий зубной лекарь поздоровался с посетителями. – С кого начнем? – Денес ваш пациент; я же пришел довести до конца дело Кани. – Моего садовника? – Он больше не ваш садовник. Своим трудом он заслужил право на независимость. – Чушь! Он служит у меня и будет служить. – Поставьте свою печать на этот документ. – Ни за что! Голос Кадаша дрожал. – В таком случае я буду действовать в судебном порядке. – Не надо нервничать! – вмешался Денес. – Отпусти ты этого садовника, Кадаш; я найду тебе другого. – Это вопрос принципа, – возразил лекарь. – Полюбовное соглашение куда лучше судебного разбирательства! Забудь о Кани. Кадаш, ворча, последовал совету Денеса.
***
Маленький городок в Дельте, со всех сторон окруженный пшеничными полями, назывался Летополем; там находилась коллегия жрецов, посвятивших себя тайнам бога Хора – сокола с крыльями, необъятными, как сама Вселенная. Нефрет принял главный жрец, друг Беранира, от которого она не стала скрывать, что ее лишили официального статуса целителя. Жрец позволил ей войти в святилище, где стояла статуя Анубиса – бога с телом человека и головой шакала, открывшего людям секреты мумификации и отворяющего перед душами праведников врата иного мира. Анубис преображал безжизненную плоть в светоносное тело. Нефрет обошла статую. С обратной стороны на ее опорном столбе был написан длинный иероглифический текст, настоящий медицинский трактат, посвященный лечению инфекционных болезней и очищению лимфы. Девушка запечатлела его в памяти. Беранир решил передать ей искусство исцеления, неведомое и недоступное Небамону.***
День выдался утомительный. Пазаир отдыхал, наслаждаясь вечерним покоем на террасе Беранира. Смельчак, стороживший контору, тоже лежал расслабленно, с сознанием выполненного долга. Небосвод озаряли догорающие лучи уже скрывшегося за горизонтом светила. – Ну как, продвинулось твое расследование? – спросил Беранир. – Армейские власти пытаются его задушить. К тому же вокруг меня зреет заговор. – Кто может быть его организатором? – Как не заподозрить полководца Ашера? – Только не надо предвзятых идей. – Груда административных документов, поданных мне на проверку, не дает мне сдвинуться с места. Вероятно, этим завалом я обязан Монтумесу. Пришлось отказаться от намеченной поездки. – Верховный страж – страшный человек. Он разрушил не одну карьеру, пока строил свою. – Но одного человека по крайней мере я осчастливил – садовника Кани! Он стал свободным земледельцем и уже уехал из Мемфиса на Юг. – Он был одним из моих поставщиков лекарственных трав. Характер у него сложный, но дело свое он любит. Кадаша, наверное, твое вмешательство не порадовало. – Он послушался совета Денеса и смирился перед лицом закона. – Вынужденное смирение. – А Денес держится так, словно усвоил урок. – Он прежде всего делец. – Вы верите в его искренность? – Большинство людей ведут себя так, как им выгодно. – Вы давно видели Нефрет? – Ее не оставляет в покое Небамон. Недавно он предложил ей выйти за него замуж. Пазаир побледнел. Смельчак, почувствовав смятение хозяина, поднял на него глаза. – Она… отказалась? – Нефрет – девушка нежная и мягкая, но никто не сможет заставить ее действовать против воли. – Так она отказалась, правда? Беранир улыбнулся. – А ты можешь хоть на миг представить себе такую пару: Небамон и Нефрет? Пазаир вздохнул с нескрываемым облегчением. Пес, успокоившись, снова прикрыл глаза. – Небамон хочет ее подчинить, – продолжал Беранир. – На основе ложных донесений он объявил ее знания недостаточными и лишил ее официального статуса целителя. Судья сжал кулаки. – Я разберусь с ложными свидетельствами. – Ничего у тебя не получится, многие лекари и аптекари подкуплены Небамоном и будут упорствовать в своей лжи. – Она, наверное, в отчаянии… – Она решила уехать из Мемфиса и поселиться в каком-нибудь селении близ Фив.
18
– Мы едем в Фивы, – сказал Пазаир Северному Ветру. Осел принял новость с удовлетворением. Когда секретарь Ярти заметил приготовления к отъезду, он заволновался. – Вы надолго? – Пока не знаю. – Где вас искать в случае надобности? – Отложите дела до моего возвращения. – Но… – И постарайтесь все делать вовремя, дочь ваша от этого не пострадает.***
Кем жил неподалеку от арсенала в двухэтажном здании, где размещался десяток двух– и трехкомнатных жилищ. Судья выбрал день, когда у нубийца был выходной, и надеялся застать его дома. Дверь открыл павиан и уставился на посетителя немигающим взглядом. В комнате, куда пришел Пазаир, было полно ножей, пращей и копий. Пристав был занят починкой лука. – Судья Пазаир! Что привело вас сюда? – Ваша дорожная сумка готова? – Разве вы не отказались от поездки? – Я передумал. – Я к вашим услугам.
***
Праща, копье, кинжал, палица, дубина, топор, прямоугольный деревянный щит – три дня упражнялся Сути во владении всеми этими видами оружия и начал быстро демонстировать изрядную сноровку. Вызывая восхищение офицеров, отвечавших за распределение новобранцев, он действовал уверенно, как бывалый солдат. По истечении времени, отведенного для первичной подготовки, всех желающих стать воинами собрали во дворе главной казармы Мемфиса. По бокам двора находились конюшни, откуда за происходящим заинтересованно наблюдали кони; в центре – огромный колодец. Сути уже побывал в конюшнях, полы которых были покрыты галькой и имели канавки для вывода сточных вод. Всадники и возницы обихаживали своих лошадей. Сытые, чистые, ухоженные животные содержались в прекрасных условиях. Жилые помещения для солдат, расположенные в тени деревьев, тоже понравились молодому человеку. Однако дисциплина вызывала у него стойкое отвращение. Три дня строгого подчинения приказам и беспрестанных окриков мелких начальников – и всякое желание искать приключений в боевом строю испарилось у Сути без следа. Церемония принятия новичков в воинские ряды проходила по заранее установленному ритуалу; обращаясь к добровольцам, старшина расписывал радости предстоящей службы. Среди главных преимуществ были названы достаток, почет и хорошая пенсия. Знаменосцы высоко держали штандарты основных отрядов, посвященных богам Амону, Ра, Птаху и Сету. Царский писец готовился внести в списки имена новобранцев. За спиной у них стояли корзины со снедью – предполагалось, что после церемонии полководцы устроят пир, где можно будет отведать мяса, птицы, овощей и фруктов. – Какая жизнь у нас впереди! – прошептал один из товарищей Сути. – Только не у меня. – Ты что, раздумал? – Мне милее свобода. – Ты с ума сошел! Послушать наше начальство, так ты лучший из всего набора; тебе наверняка дадут хорошее назначение. – Мне приключения нужны, а не служба в строю. – Я бы на твоем месте еще подумал. Вдруг двор торопливо пересек посыльный из дворца со свитком в руках и показал папирус царскому писцу. Тот встал и быстро отдал несколько распоряжений. Все двери казармы мгновенно закрылись. Среди добровольцев прокатился ропот. – Успокойтесь, – скомандовал офицер ободряющим голосом. – Мы только что получили распоряжение. Указом фараона вы все приняты на военную службу. Одни будут размещены в казармах, другие завтра же отправятся в Азию. – Состояние боевой готовности или война, – прокомментировал товарищ Сути. – А мне плевать. – Не валяй дурака. Если попытаешься бежать, будешь считаться дезертиром. Довод был весьма веским. Сути прикинул, удастся ли ему перескочить через стену и затеряться в прилегающих переулках, и понял: не удастся. Это ведь не школа писцов, а казарма, где полным-полно лучников и копьеносцев. Один за другим новобранцы проходили перед царским писцом. Как и у офицеров, вместо дружелюбной улыбки на его лице появилось выражение озабоченности. – Сути… превосходные результаты. Причислен к азиатской армии. Будешь лучником при колесничем. Отправление завтра на рассвете. Следующий. И Сути увидел, как его имя вносится в табличку. Теперь дезертировать стало невозможно: побег означал, что придется всю жизнь провести на чужбине и никогда больше не увидеть Египта и Пазаира. Теперь он обречен стать героем. – Я буду служить под началом полководца Ашера? Писец гневно взглянул на него. – Я сказал: следующий. Сути получил рубаху, тунику, плащ, кожаные поножи, шлем, обоюдоострый топорик и лук из акации. Высота лука составляла метр семьдесят сантиметров, в середине имелось заметное утолщение. Натянуть его было нелегко, зато стрелять он мог на шестьдесят метров по прямой и на сто восемьдесят по параболической траектории. – А как же обещанный пир? – Вот хлеб, сушеное мясо, масло и инжир, – ответил офицер интендантской службы. – Поешь, зачерпни водички в колодце и ложись спать. Завтра придется пыль глотать.
***
На борту судна, идущего к югу, только и говорили об указе Рамсеса Великого, обнародованном многочисленными глашатаями. Фараон приказал провести очистительные ритуалы во всех храмах, сделать опись всех сокровищ страны, инвентаризировать содержимое амбаров и общественных запасов, удвоить подношения богам и снарядить военную экспедицию в Азию. Царский указ немедленно оброс самыми невероятными слухами: все судачили о неминуемой катастрофе, вооруженных волнениях в городах, мятежах в провинциях и скором нашествии хеттов. Пазаир, как и другие судьи, был обязан заботиться о поддержании общественного порядка. – Может, лучше было остаться в Мемфисе? – спросил Кем. – Наша поездка долго не продлится. Управители селений сообщают, что два воина-ветерана стали жертвами несчастного случая и тела их мумифицированы и погребены. – Вы не слишком благостно настроены. – Пять человек упали и разбились насмерть – такова официальная версия. – Но вы этому не верите. – А вы? – Какая разница? Если начнется война, меня призовут в армию. – Рамсес проповедует мир с хеттами и азиатскими государствами. – Они никогда не оставят намерений завоевать Египет. – Наше войско очень сильно. – А зачем тогда экспедиция и все эти странные меры? – Не знаю. Возможно, проблемы внутренней безопасности? – Страна богата и счастлива, народ любит своего царя, каждый ест досыта, дороги свободны. Нам не грозит никакая смута. – Вы правы, но фараон, судя по всему, думает иначе. Ветер овевал их лица; парус спустили, судно шло на веслах. В обе стороны по Нилу проходили десятки судов, вынуждая капитана и экипаж ни на миг не терять бдительности. На расстоянии километров ста от Мемфиса к их борту приблизилось быстроходное судно речной стражи, и с него прозвучал приказ замедлить ход. Один из стражников ухватился за снасти и перескочил к ним на палубу. – Судья Пазаир на борту? – Да, это я. – Я должен доставить вас в Мемфис. – В чем дело? – На вас подана жалоба.
***
Сути встал и оделся последним. Старший по комнате подтолкнул его, чтобы он поторопился. Молодой человек видел во сне Сабабу, ее ласки и поцелуи. Она открыла ему новые, неведомые пути наслаждения, и он был намерен исследовать их в самое ближайшее время. Под завистливыми взглядами других новобранцев Сути взошел на боевую колесницу, с которой его окликнул колесничий, лет сорока с удивительно крепкой мускулатурой. – Держись, мой мальчик, – посоветовал он очень серьезным тоном. И не успел Сути пристегнуть ремнем левое запястье, как колесничий пустил коней во весь опор. Колесница первой вылетела из казармы и устремилась к северу. – Тебе уже доводилось сражаться, малыш? – Ага, с писцами. – Ты их убил? – Думаю, что нет. – Не отчаивайся: я предложу тебе кое-что получше. – Куда мы несемся? – Вперед, на врага, во главе всех! Проедем Дельту, потом промчимся вдоль берега моря и станем бить сирийцев и хеттов. На мой взгляд, указ что надо. Давненько не давил я этих варваров. Натяни свой лук. – А вы не притормозите? – Хороший лучник поражает цель и в более сложных условиях. – А если я промажу? – Я перережу ремень, удерживающий тебя на колеснице, и ты полетишь носом в пыль. – А вы суровы. – Десять азиатских кампаний, пять ранений, две награды за храбрость, поздравления от самого фараона – тебе довольно? – И никакого права на ошибку? – Поле битвы ошибок не прощает. Стать героем, оказывается, не так просто, как представлялось. Сути глубоко вздохнул и до отказа натянул лук, забыв о колеснице, толчках и ухабах на дороге. – Попробуй попасть в дерево, вон там, вдалеке! Стрела взлетела в небо, описала изящную дугу и вонзилась в ствол акации, мимо которой пронеслась колесница. – Молодец, малыш! Сути вздохнул с облегчением. – И от скольких лучников вы так избавились? – Я их не считаю! Терпеть не могу слабаков. Сегодня вечером угощаю тебя выпивкой. – В палатке? – Офицеры и их помощники имеют право ночевать в гостинице. – А… женщины? Колесничий отвесил Сути знатный удар в спину. – Ах ты, прохвост, да ты просто создан для армии! После пьянки порезвимся с одной потаскушкой, которая облегчит наши кошельки. Сути поцеловал свой лук. Удача от него не отвернулась.
***
Пазаир недооценил изобретательность своих врагов. Они не просто решили помешать ему уехать из Мемфиса в Фивы на поиски истины, они намеревались лишить его судейского звания и тем самым раз и навсегда положить конец его расследованию. Это означало, что нить, которую нащупал Пазаир, и в самом деле вела к убийству, а возможно, и не к одному. Но теперь, к сожалению, было слишком поздно. Как он и опасался, Сабабу, состоявшая на службе у верховного стража, обвинила его в разврате. Судейская коллегия заклеймит недостойное поведение Пазаира и сочтет его несовместимым с должностью судьи. В контору вошел понурый Кем. – Вы отыскали Сути? – Он поступил на службу в азиатскую армию. – Так он уехал? – В качестве лучника на боевой колеснице. – Значит, мой единственный свидетель недоступен. – Я могу его заменить. – Нет, Кем. Будет доказано, что вы не были у Сабабу, и вас накажут за лжесвидетельство. – Но я не могу допустить, чтобы вас оклеветали! – Я сам виноват в том, что приподнял завесу над чьей-то тайной. – Но если никто, даже судья, не может говорить правду, стоит ли вообще жить? Нубиец был вне себя от отчаяния. – Я не отступлю, Кем, но у меня нет никаких доказательств. – Вам заткнут рот. – Я не стану молчать. – Я буду рядом с вами, вместе с павианом. И они дружески обнялись.
***
Суд состоялся через два дня после возвращения Пазаира под деревянным портиком, сооруженным перед дворцом. Такая спешка объяснялась статусом обвиняемого; если в нарушении закона подозревался судья, дело требовало незамедлительного рассмотрения. Пазаир не ждал снисходительности от старшего судьи царского портика, однако при виде присяжных был поражен тем, как далеко простирается заговор: здесь собрались судовладелец Денес, его супрута Нанефер, верховный страж Монтумес, один из царских писцов и жрец храма Птаха. Враги составляли большинство и, возможно, всецело контролировали ситуацию, а писец и жрец могли быть просто послушными исполнителями. Бритоголовый старший судья портика, одетый в дорогой передник, с хмурым видом восседал в глубине зала. Мерный локоть из дерева смоковницы напоминал о присутствии богини Маат. Слева от него расположились присяжные; справа – секретарь суда. За спиной Пазаира собралась толпа любопытных. – Вы судья Пазаир? – Да, я служу в Мемфисе. – У вас в подчинении есть секретарь по имени Ярти. – Верно. – Приведите истицу. Ярти и Сабабу – вот уж неожиданный поворот! Выходит, его предал ближайший помощник. Но в зал заседаний вошла не Сабабу, а коротконогая брюнетка с пышными формами и некрасивым лицом. – Вы супруга секретаря Ярти? – Да, – ответила она резким, неприятным голосом. – Вы находитесь под присягой. Изложите свои обвинения. – Мой муж пьет пиво, слишком много пива, особенно по вечерам. Он постоянно оскорбляет меня и бьет в присутствии нашей дочери. Бедняжка пугается. Врач засвидетельствовал следы от ударов. – Вы знаете судью Пазаира? – Только по имени. – Чего вы просите у суда? – Осудить моего мужа и человека, у которого он работает и который несет ответственность за его моральный облик. Я хочу два новых платья, десять мешков зерна и пять жареных гусей. И вдвое больше, если Ярти снова поднимет на меня руку. Пазаир был ошеломлен. – Пусть войдет главный ответчик. Появился грузный смущенный Ярти. Красные прожилки на его лице проступали сильнее обычного. Он принялся защищаться: – Жена сама меня провоцирует, она отказывается готовить еду. Я ударил ее, сам того не желая. Просто так неловко получилось. Меня тоже можно понять: я так много времени провожу в конторе у судьи Пазаира, работа безжалостная, дел столько, что пора бы подумать о найме еще одного секретаря. – Что вы на это скажете, судья Пазаир? – Эти упреки не вполне справедливы. Работы у нас много, это правда, но я отнесся к секретарю Ярти с пониманием и, учитывая его семейные трудности, дал ему некоторые поблажки. – Кто может это засвидетельствовать? – Соседи, я полагаю. Старший судья обратился к Ярти: – Следует ли нам вызвать ваших соседей и хотите ли вы опровергнуть слова судьи Пазаира? – Нет-нет… Но я все-таки тоже не совсем уж не прав. – Судья Пазаир, вы знали, что ваш секретарь бьет жену? – Нет. – Вы отвечаете за моральный облик своих подчиненных. – Я этого не отрицаю. – По недосмотру вы не проявили интереса к тому, как ведет себя Ярти. – Мне было некогда. – Недосмотр – единственное подходящее слово. Старший судья царского портика спросил, не хотят ли главные участники процесса что-нибудь добавить к сказанному. Супруга Ярти снова возбужденно перечислила обвинения. Присяжные удалились на совещание. Пазаир почти готов был расхохотаться. Оказаться осужденным из-за нелепой семейной ссоры – такое и вообразить-то трудно! Бесхребетность Ярти и глупость его жены подстроили совершенно непредвиденную ловушку, пришедшуюся его противникам очень кстати. Все юридические формальности будут соблюдены, и молодого судью отстранят, причем его врагам не понадобится прикладывать к тому ни малейших усилий. Обсуждение не продлилось и часа. Старший судья портика все так же хмуро огласил результаты. – Секретарь Ярти единогласно признан виновным в недостойном поведении по отношению к своей супруге. По решению суда ему надлежит выплатить потерпевшей все, что она требует, и к тому же он приговаривается к тридцати палочным ударам. В случае повторного совершения того же проступка жена немедленно получит развод. Обвиняемый желает оспорить приговор? Радуясь, что удалось так легко отделаться, Ярти подставил спину исполнителю наказания. Египетское право сурово карало грубиянов, плохо обращавшихся с женщинами. Секретарь стонал и хныкал – после порки стражнику пришлось отвести его к местному лекарю. – Единогласно, – продолжал старший судья, – судья Пазаир признан невиновным. Суд советует ему не увольнять секретаря, но дать ему возможность загладить свою вину.
***
Монтумес ограничился тем, что просто поздоровался с Пазаиром; он спешил на заседание другого суда, где судили вора и он тоже был в числе присяжных. А вот Денес с супругой бросились к нему с поздравлениями. – Обвинение просто смешное, – заметила госпожа Нанефер, чье разноцветное платье обсуждал весь Мемфис. – Вас бы любой суд оправдал, – высокопарно вступил Денес. – Нам в Мемфисе нужен такой судья, как вы. – Верно, – согласилась Нанефер. – Торговля может развиваться только в мирном и справедливом обществе. Ваша твердость произвела на нас большое впечатление, мы с мужем любим смелых людей. Впредь, если мы столкнемся с юридическими проблемами, то обязательно обратимся к вам.
19
Быстрое и спокойное плавание подходило к концу, и с борта судна, увозящего на юг судью Пазаира, его осла, пса, Кема, павиана и еще нескольких пассажиров, открылся вид на Фивы. Все притихли. На левом берегу горделиво возвышались величественные строения храмов Карнака и Луксора. За высокими стенами вдали от досужего любопытства непосвященных небольшая горстка мужчин и женщин проводила ежедневные священные ритуалы. Аллеи сфинксов с головами баранов, осененные листвой акаций и тамарисков, вели к пилонам – монументальным воротам, открывающим путь в святилища. На сей раз речная стража не тревожила их судно. Пазаир радовался возвращению в родную провинцию; с тех пор как он уехал, на его долю выпали испытания, характер его окреп, но главное – он узнал, что такое любовь. Образ Нефрет не оставлял его ни на миг. Он терял аппетит, сосредоточиться становилось все труднее и труднее; ночью он упорно вглядывался в темноту, надеясь, что она возникнет из мрака. Сам не свой, он понемногу погружался в бездну, пустота подтачивала его изнутри. Только возлюбленная могла бы излечить его, но сможет ли она распознать его недуг? Ни боги, ни жрецы не в силах вернуть ему радость жизни, никакой успех не властен рассеять боль, ни одна книга не способна принести умиротворение. Где-то здесь, в Фивах, – Нефрет; здесь его единственная надежда. Пазаир больше не верил в успех своего расследования. У него не осталось иллюзий: заговор был продуман превосходно. Он мог что угодно подозревать и теряться в догадках – до истины ему не добраться. Перед самым отъездом он узнал, что начальника стражи сфинкса похоронили. Никто не ведал, сколько времени полководец Ашер пробудет в Азии, и армейские власти сочли нужным дольше не откладывать погребение. Был ли это сам ветеран или тело какого-то другого человека? Разрешить сомнения теперь невозможно. Судно причалило неподалеку от Луксорского храма. – За нами следят, – заметил Кем. – Молодой человек на корме. Он поднялся на борт последним. – Попробуем затеряться в городе и посмотрим, пойдет ли он за нами. Молодой человек неотступно следовал за судьей и его помощником. – Монтумес? – Вероятно. – Хотите, я избавлю вас от него? – У меня есть другая идея. Судья отправился в главное управление городской стражи, где его принял тучный чиновник. Вся контора была завалена корзинками с фруктами и сладостями. – Вы ведь родились в этом районе, не правда ли? – Да, мое родное селение на западном берегу. Я получил назначение в Мемфис и там имел честь познакомиться с вашим начальником Монтумесом. – Вы вернулись насовсем? – Нет, я здесь ненадолго. – Отдохнуть или по работе? – Меня интересуют поставки древесины[804]. Мой предшественник оставил по этому вопросу весьма неполные и сумбурные записи. Толстяк проглотил несколько изюминок. – А что, в Мемфисе топливо на исходе? – Разумеется, нет. Зима была мягкая, и запасов дров мы не израсходовали. Однако служба поставки хвороста, на мой взгляд, налажена плохо: жителей Мемфиса задействовано в ней гораздо больше, чем фиванцев. Я бы хотел просмотреть ваши списки по каждому селению, чтобы выявить мошенников. Некоторые не желают собирать хворост и пальмовое волокно и сдавать его в центры сортировки и распределения. По-моему, самое время вмешаться. – Конечно, конечно. Монтумес почтой предупредил начальника фиванской стражи о приезде Пазаира, описав его как судью грозного, строгого и без меры любопытного; и вот вместо этого ужасного человека перед толстяком предстает дотошный буквоед, озабоченный какой-то ерундой. – Сопоставление количества хвороста, доставленного с Севера и с Юга, весьма красноречиво; в Фивах неправильно организована вырубка сухостоев. Возможно, существует незаконная торговля? – Не исключено. – Пожалуйста, зарегистрируйте предмет моего расследования в вашем районе. – Не волнуйтесь. Когда толстяк принял молодого стражника, уполномоченного следить за судьей Пазаиром, он передал ему этот разговор. Чиновники быстро пришли к согласию: судья забыл о своих первоначальных намерениях и погряз в рутине. Его поведение избавляло их от многих хлопот.***
Поглотитель теней опасался обезьяны и собаки. Он знал, что животные эти на редкость чутки и могут легко обнаружить недобрые намерения. Поэтому он следил за Пазаиром и Кемом с большого расстояния. Задача его облегчалась тем, что другой человек, ходивший за ними по пятам, – вероятно, стражник Монтумеса, – прекратил слежку. Если судья приблизится к цели, поглотителю теней придется вмешаться; в противном случае он останется простым наблюдателем. Приказ был сформулирован четко, а он ни за что не ослушается приказа. Он не станет убивать без крайней необходимости. Супруга начальника стражи умерла исключительно из-за настойчивости Пазаира.
***
После трагедии возле сфинкса воин-ветеран укрылся в родном селении на западном берегу. После честной воинской службы его ожидали счастливые годы пенсии. Он ничего не имел против версии несчастного случая. К чему в его возрасте затевать бой, заранее обреченный на поражение? По возвращении он починил печь и, к великой радости односельчан, стал пекарем. Женщины очищали зерно от шелухи, пропуская его через сито, потом размалывали с помощью жерновов и толкли в ступах длинными пестами. Так получалась первичная мука грубого помола, ее снова несколько раз просеивали, чтобы она стала мельче. Добавив воды, женщины замешивали густое тесто, в которое добавляли дрожжи. Одни месили тесто в глиняных горшках, другие раскладывали его на наклонных плитах, чтобы дать стечь воде. Дальше к делу приступал пекарь; самые простые хлеба он выпекал прямо на углях, а самые замысловатые – в печи, состоявшей из трех вертикальных плит, покрытых одной горизонтальной, под которой разводился огонь. Для пирогов он использовал формы с дырочками, а для изготовления круглых булок, продолговатых хлебов или плоских лепешек он лил тесто на каменные пластины. По просьбе он мог испечь булочки в форме лежащих телят, доставлявшие бурную радость детворе. В честь праздника бога плодородия Мина он пек булочки в форме фаллосов – с хрустящей корочкой и белой мякотью, которые весело поедались среди золотых колосьев. Он успел позабыть шум сражений и крики раненых. Гул огня в печи казался ему сладостной музыкой, и ничто не доставляло большего наслаждения, чем запах горячего хлеба! От военного прошлого у него сохранилась лишь привычка командовать. Ставя пластины в печь, он разгонял женщин и допускал к печи только своего помощника – крепкого паренька лет пятнадцати, которого он усыновил и избрал себе в преемники. В то утро мальчишка запаздывал. Ветеран начал было сердиться, как вдруг в пекарне послышались шаги. Пекарь обернулся. – Да я тебя… А вы кто такой? – Я пришел заменить вашего помощника. У него сегодня болит голова. – Вы не из нашего селения. – Я работаю у другого пекаря в получасе ходьбы отсюда. Меня прислал управитель. – Ладно, помоги мне. Печь была глубокой, и ветерану приходилось залезать туда по пояс, чтобы расставить как можно больше форм и хлебов. Помощник держал его за ноги и готов был вытащить при первой необходимости. Ветеран не подозревал об опасности. Но в тот день в его селение собирался наведаться судья Пазаир. Он выяснил бы, кто он такой, и стал бы задавать вопросы. У поглотителя теней не оставалось выбора. Он ухватил пекаря за щиколотки, оторвал его ноги от земли и изо всех сил толкнул в печь.
***
На подходе к селению не было ни души. Ни женщины на пороге дома, ни мужчины, задремавшего под деревом, ни ребенка, играющего с деревянной куклой. Судья почувствовал, что произошло что-то из ряда вон выходящее; он велел Кему не двигаться с места. Павиан и пес озирались по сторонам. Пазаир быстро вышел на центральную улицу с невысокими домами. Вокруг печи собралось все селение. Люди кричали, толкались, взывали к богам. Какой-то мальчишка в десятый раз рассказывал, как его оглушили при выходе из дома, когда он собирался идти на помощь к пекарю, своему приемному отцу. Он корил себя за ужасное происшествие и ревел в три ручья. Пазаир пробрался сквозь толпу. – Что случилось? – Наш пекарь погиб ужасной смертью, – ответил управитель. – Он, наверное, поскользнулся и провалился в печь. Обычно для подстраховки его держит за ноги помощник. – Это был ветеран, вернувшийся из Мемфиса? – Да. – Кто-нибудь присутствовал при… несчастном случае? – Нет. А почему вы спрашиваете? – Я судья Пазаир и приехал специально, чтобы встретиться с этим человеком. – Зачем? – Не имеет значения. Какая-то женщина в исступлении схватила Пазаира за руку. – Его убили ночные демоны, потому что он согласился поставлять хлеб – наш хлеб – Хаттусе, чужестранке, царствующей над гаремом. Судья мягко отстранил ее. – Раз вы следите за соблюдением закона, отомстите за нашего пекаря и остановите это дьявольское отродье!
***
Пазаир и Кем пообедали у колодца поодаль от селения. Павиан аккуратно чистил сладкий лук. Он почти свыкся с присутствием судьи и особого недоверия к нему не испытывал. Смельчак лакомился свежим хлебом и огурцом, Северный Ветер жевал люцерну. Судья нервно сжимал в руках бурдюк с холодной водой. – Один несчастный случай и пятеро погибших! Они наврали, Кем. Этот отчет – ложь. – Просто административная ошибка. – Это убийство, еще одно убийство. – Доказательств нет. С пекарем произошел несчастный случай. И потом, ничего уже не исправишь. – Убийца нас опередил, он знал, что мы направляемся в селение. Никто не должен был напасть на след четвертого ветерана, никто не должен ворошить это дело. – Не копайте дальше. Вы наткнулись на какие-то распри между военными. – Если правосудие отступит, в стране воцарится насилие. – Неужели жизнь для вас не важнее закона? – Нет, Кем. – Вы самый непоколебимый человек из всех, кого я знаю. Как же нубиец ошибался! Пазаир не мог выбросить из головы Нефрет даже в такие тревожные минуты. Теперь, когда случившееся доказало обоснованность его подозрений, ему нужно бы сосредоточиться на расследовании; но любовь, безжалостная, как ветер с юга, развевала всю его решимость. Он встал и прислонился к колодцу, закрыв глаза. – Вы плохо себя чувствуете? – Сейчас пройдет. – Четвертый ветеран был еще жив, – напомнил Кем. – Как насчет пятого? – Если бы его можно было допросить, мы проникли бы в тайну. – Его селение, наверное, неподалеку. – Мы не пойдем туда. Нубиец улыбнулся. – Наконец-то вы образумились! – Мы не пойдем туда, потому что за нами следят и нас опережают. Пекарь был убит из-за нашего прихода. Если пятый ветеран жив, действуя таким образом, мы обречем его на смерть. – Что вы предлагаете? – Пока не знаю. Прежде всего, мы вернемся в Фивы. Тот или те, кто за нами следят, решат, что мы сбились со следа.
***
Пазаир принялся за изучение документов о поставках древесины за прошлый год. Тучный чиновник открыл для него свои архивы, а сам спокойно попивал сок цератонии. Этот молодой судья оказался узколобым бюрократом. Пока он перебирал таблички с цифрами, фиванский чиновник написал Монтумесу ободряющее письмо. Пазаир их спокойствию не угрожает. Хотя судье выделили удобную комнату, он провел ночь без сна, разрываясь между страстным желанием повидать Нефрет и необходимостью продолжать расследование. Увидеть ее – несмотря на то, что он ей безразличен; продолжать расследование – несмотря на то, что дело похоронено и забыто. Переживая от того, что хозяин страдает, Смельчак улегся рядом с ним. Тепло придаст ему сил, ведь они ему так нужны. Судья погладил собаку, вспоминая, как они вместе бродили по берегу Нила, когда он был еще беспечным юношей и собирался тихо-мирно жить в родном селении, наблюдая, как одно время года приходит на смену другому. Судьба подстерегла его, как хищный зверь, ее удары оказались свирепы и жестоки. Может, отречься от безумных мечтаний, от Нефрет, от истины, может, еще не поздно попытаться вернуть безмятежность былых времен? Но обманывать самого себя не имело смысла. Нефрет – его единственная любовь, и это навсегда.
***
Рассвет принес ему надежду. Есть человек, который сможет ему помочь. Пазаир решил отправиться на набережную Фив, где каждый день устраивался большой базар. Продукты выгружали с судов, и мелкие торговцы сразу выставляли их на своих прилавках. Мужчины и женщины торговали под открытым небом, продавая разнообразную снедь, ткани, одежду и всякую всячину. Под тростниковым навесом небольшой лавки матросы пили пиво и глазели на смазливых горожанок, торопившихся разузнать последние новости. Рыбник, выставивший корзину с нильскими окунями, менял две отличные рыбины на баночку благовоний; кондитер отдавал пирожки за ожерелье и пару сандалий, бакалейщик – бобы за метлу. Каждый раз, обсуждая сделку, торгующиеся переходили на повышенные тона, потом примирялись. Если возражения вызывал вес товара, можно было воспользоваться весами, находившимися под присмотром писца. Наконец Пазаир увидел того, кого искал. Как он и предполагал, Кани продавал на базаре нут, огурцы и лук порей. Неожиданно сильно дернув за поводок, павиан бросился на никем не замеченного вора, стянувшего два превосходных пучка салата. Зубы обезьяны впились в ляжку преступнику. Тот, воя от боли, тщетно попытался отпихнуть зверя. Кем подоспел как раз вовремя, не дав павиану разорвать его на куски. Вора передали двум стражникам. – Вы мой неизменный защитник! – воскликнул садовник. – Мне нужна ваша помощь, Кани. – Через два часа, когда я все продам, мы можем пойти ко мне.
***
По краю огорода тянулась полоса из васильков, мандрагор и хризантем. Кани четко разграничил грядки цветочными клумбами; на каждой грядке – свой овощ: нут, бобы, чечевица, огурцы, лук, порей, салат, тригонелла. В глубине виднелась пальмовая роща, заслонявшая участок от ветра; слева – виноградник и фруктовые деревья. Основную часть урожая Кани относил в храм, остальное продавал на базаре. – Вы довольны своим новым положением? – Работа все такая же тяжелая, но теперь она приносит прибыль. Смотритель храма меня ценит. – А вы по-прежнему выращиваете лекарственные растения? – Пойдемте, я вам покажу. Кани показал Пазаиру свое детище, которым гордился больше всего: грядку с целебными травами и растениями, содержащими лекарственные вещества. Плакун-трава, горчица, пиретрум, болотная мята, ромашка – это лишь немногие из росших там драгоценных трав. – Вы знаете, что Нефрет теперь живет в Фивах? – Вы ошибаетесь, судья. У нее важная должность в Мемфисе. – Небамон выгнал ее оттуда. Глаза садовника возмущенно сверкнули. – Он осмелился… этот крокодил осмелился! – Нефрет больше не состоит в корпорации лекарей и не имеет доступа к крупным лечебницам и аптекам. Ей приходится довольствоваться работой в маленьком селении, а тяжелых больных она должна передавать на лечение более сведущим специалистам. Кани в бешенстве топнул ногой. – Это недостойно, несправедливо! – Помогите ей. Садовник вопросительно посмотрел на судью. – Каким образом? – Если вы будете поставлять ей редкие и дорогостоящие целебные растения, она сможет готовить лекарства и лечить своих пациентов. Мы должны побороться, чтобы восстановить ее честное имя. – Где она сейчас? – Не знаю. – Я найду. Это и есть то дело, о котором вы хотели меня попросить? – Нет. – Говорите. – Я ищу воина-ветерана из стражи сфинкса. Он вышел на пенсию и вернулся домой, на западный берег. Он скрывается. – Почему? – Потому что знает один секрет. Из-за меня этому человеку грозит смертельная опасность. Стоило мне попытаться побеседовать с его товарищем, ставшим пекарем, как с ним тотчас же произошел несчастный случай. – Какая помощь вам нужна? – Найдите его. Потом с величайшей осторожностью им займусь я. Кто-то следит за мной; если я сам начну его искать, ветерана убьют, прежде чем я успею с ним поговорить. – Убьют! – Я не хочу скрывать ни серьезности положения, ни связанных с ним опасностей. – Но как судья вы… – У меня пока нет никаких доказательств, и дело, которым я занимаюсь, находится в ведении армии. – А если вы ошибаетесь? – Когда я поговорю с этим ветераном, если, конечно, он еще жив, все сомнения будут рассеяны. – Я знаю много селений на западном берегу. – Вы сильно рискуете, Кани. Кто-то, не колеблясь, убивает свидетелей, губя свою душу. – Позвольте мне действовать на своеусмотрение.
***
В конце недели Денес обычно устраивал прием для капитанов своих транспортных судов и кое-кого из высших чиновников, особенно охотно подписывающих всякого рода разрешения на перевозку, погрузку и разгрузку. Все были в восторге от великолепия огромного сада, водоемов и вольеров с экзотическими птицами. Денес переходил от одного гостя к другому, говорил каждому что-нибудь приятное, справлялся о родных и близких. Госпожа Нанефер щеголяла нарядами. На сей раз атмосфера была не такой веселой, как обычно. Указ Рамсеса Великого привел в смятение правящую элиту. Одни подозревали других, что те располагают какими-то секретными сведениями и не хотят ими делиться. Денес в сопровождении двух судовладельцев, чьи предприятия он собирался прибрать к рукам, перекупив их суда, вышел навстречу редкому гостю – химику Чечи. Большую часть времени ученый проводил в тайных царских подвалах и редко появлялся среди знати. Этот маленький, угрюмый и неприветливый человек слыл необычайно сведущим и скромным. – Ваше присутствие для меня большая честь, дорогой друг! Химик криво улыбнулся. – Как ваши последние опыты? Разумеется, молчок и рот на замок, но об этом говорит весь город! Я слышал, вы получили необыкновенный сплав, который позволит нам ковать мечи и копья, способные выдержать любой удар. Чечи в сомнении покачал головой. – Ну ясное дело, военная тайна! Постарайтесь добиться успеха. При том, что нас ждет… – Расскажите подробнее, – попросил один из гостей. – Судя по указу фараона, впереди настоящая война! Рамсес хочет расправиться с хеттами и избавить нас от азиатских царьков, постоянно готовых взбунтоваться. – Рамсес любит мир, – возразил капитан торгового судна. – Одно дело – официальные речи, а другое – действия. – Это настораживает. – Ни в коей мере! Кого или чего может бояться Египет? – Но ведь поговаривают, что царский указ свидетельствует об ослаблении власти. Денес расхохотался. – Рамсес был и останется самым великим! Не стоит раздувать целую историю из небольшого недоразумения. – И все же следует проверить наши запасы провизии… Тут вмешалась госпожа Нанефер: – Ясно, в чем дело: готовятся новые налоги и реформа налогообложения. – Нужно же оплачивать новое вооружение, – добавил Денес. – Вот Чечи, если бы захотел, мог бы нам его описать, и решение Рамсеса стало бы более понятным. Все взгляды обратились к химику. Нанефер, превосходно усвоившая роль хозяйки дома, поспешила увлечь гостей к шатру, где подавали прохладительные напитки. Верховный страж Монтумес взял Денеса под руку и отвел в сторону. – Надеюсь, ваши проблемы с правосудием улажены? – Пазаир не стал настаивать. Он благоразумнее, чем я предполагал. Конечно, он молод и честолюбив, но разве это не похвально? Мы все через это прошли, прежде чем стать уважаемыми людьми. Монтумес поморщился. – Но его непримиримый нрав… – Исправится со временем. – А вы благожелательно настроены. – Просто реально смотрю на вещи. Пазаир хороший судья. – И неподкупный, по-вашему? – Неподкупный, умный и уважающий тех, кто соблюдает закон. Благодаря таким людям процветает торговля и в стране царит мир. Что может быть лучше? Поверьте, дорогой друг, продвижению Пазаира стоит поспособствовать. – Вы полагаете? – При нем не будет никакого лихоимства. – Да, это следует учесть. – И все же вы в нерешительности? – Его активность меня немного пугает. Похоже, он не особенно разбирается в тонкостях иерархии. – Молодость и недостаток опыта. А что говорит старший судья царского портика? – Он думает так же, как и вы. – Ну вот видите! Новости, полученные верховным стражем почтой из Фив, подтверждали точку зрения Денеса. Монтумес разволновался без всякой причины. Судья озабочен поставками древесины и честностью налогоплательщиков. Может, не стоило раньше времени беспокоить визиря? Но ведь лишняя предосторожность никогда не помешает.
20
Долгие прогулки по сельским тропам в обществе Северного Ветра и Смельчака, знакомство с документами в конторах стражи, уточнение списка поставок древесины, обход селений, официальные переговоры с управителями и землевладельцами – так протекали дни судьи Пазаира в Фивах. Каждый из них непременно завершался заходом к Кани. И всякий раз при виде согбенной спины садовника, всецело поглощенного своими грядками, Пазаир понимал, что ни Нефрет, ни пятого ветерана он пока не нашел. Прошла неделя. Чиновники, подкупленные Монтумесом, одно за другим слали в Мемфис абсолютно бессодержательные донесения о деятельности судьи, Кему ничего не оставалось, кроме как патрулировать рынки и ловить воров. Еще немного, и придется возвращаться в Мемфис. Пазаир пересек пальмовую рощу, прошел по тропе вдоль оросительного канала и спустился по лестнице, ведущей в сад Кани. Обычно, когда солнце начинало клониться к горизонту, он занимался лекарственными растениями, требующими особых забот и повышенного внимания. Спал он в хижине, но, прежде чем лечь, до поздней ночи поливал грядки. Сад казался безлюдным. Недоумевая, Пазаир обошел все вокруг, потом приоткрыл дверь хижины. Пусто. Он сел на каменную оградку и стал любоваться закатом. Взошла луна, и водная гладь засеребрилась в ее лучах. Время шло, и на душе у него с каждой минутой становилось все тревожнее. Что, если Кани обнаружил пятого ветерана, что, если за ним следили, что, если… Пазаир не мог себе простить, что втянул садовника в расследование, которое им не по силам. Если случится несчастье, он первый будет в этом виноват. Посвежело, по телу пробежал озноб, но судья не двинулся с места. Он будет ждать до рассвета, пока не станет ясно, что Кани уже не придет никогда. Пазаир сжал зубы, все тело у него затекло и ныло; он все корил и корил себя за легкомыслие. Реку пересекла лодка. Судья вскочил и побежал к берегу. – Кани! Садовник причалил, привязал лодку к колышку и стал медленно взбираться по склону. – Почему вы так поздно? – Вы дрожите? – Я замерз. – От весеннего ветра и заболеть недолго. Пойдемте в дом. Садовник сел на пенек, прислонившись спиной к доскам, Пазаир – на сундук с инструментами. – Вам удалось отыскать ветерана? – Никаких следов. – Вам грозила опасность? – Ни разу. Я покупаю редкие растения то там, то тут, и всегда могу перемолвиться со старейшинами. Пазаир задал вопрос, который с самого начала готов был сорваться у него с языка: – А Нефрет? – Я не видел ее, но узнал, где она живет.***
Помещение, где Чечи проводил свои изыскания, занимало две большие комнаты в подвале казарменной пристройки. Отряд, который там размещался, состоял из воинов второго эшелона, использовавшихся только на земляных работах. Все думали, что химик работает во дворце, в то время как основные опыты он проводил в этом потайном подземелье. На первый взгляд никакой особой охраны; однако стоило кому-нибудь сделать шаг вниз по лестнице, ведущей в мастерскую, как его бесцеремонно останавливали и подвергали немилосердному допросу. Чечи был принят на службу во дворец благодаря своим незаурядным познаниям в области прочности металлов. Будучи изначально специалистом по бронзе, он постоянно совершенствовал процесс обработки медного сырья, необходимого для изготовления резцов для каменотесов. Успехи в работе и серьезное отношение к делу способствовали его постепенному возвышению; в тот день, когда он изготовил инструменты необычайной прочности для обработки блоков храма «миллионов лет» Рамсеса Великого[805], строившегося на западном берегу Фив, его слава дошла до ушей самого фараона. Чечи вызвал трех своих главных помощников – мужчин в летах и с большим опытом. Подземелье освещали светильники с некоптящими фитилями. Чечи аккуратно и неторопливо раскладывал свитки с последними расчетами. Помощники в нерешительности переминались с ноги на ногу. Химик разговорчивостью не отличался, но его молчание не предвещало ничего хорошего. Обычно он не вызывал людей так внезапно и резко. Маленький человечек стоял к собеседникам спиной. – Кто проболтался? Никто не ответил. – Я не буду повторять свой вопрос. – Он лишен всякого смысла. – Один сановник на приеме рассуждал о сплавах и новом оружии. – Этого не может быть! Вас обманули. – Я при этом присутствовал. Кто проболтался? И снова молчание. – Я не могу вести исследования без твердой уверенности в сохранении тайны. Даже если распространившиеся сведения неполны, а значит, неточны, доверие к вам подорвано. – Иными словами… – Иными словами, вы уволены.
***
Нефрет выбрала самое бедное и самое удаленное селение в фиванском районе. Оно располагалось на краю пустыни, плохо орошалось и насчитывало на удивление много жителей, страдавших от кожных заболеваний. Девушка отнюдь не была расстроена или подавлена; она радовалась, что вырвалась из когтей Небамона, хотя за свободу и пришлось заплатить многообещающей карьерой. Она будет лечить бедняков доступными ей средствами и вести уединенный образ жизни в сельской местности. Когда какое-нибудь санитарное судно пойдет вниз по реке, она съездит в Мемфис повидать своего учителя Беранира. А он достаточно хорошо ее знает, чтобы не пытаться переубедить. Уже на второй день по приезде Нефрет вылечила самого важного человека в селении – специалиста по откорму гусей, страдавшего от сердечной аритмии. Длительный массаж грудной клетки и спины вернул ему здоровье. Он сидел на полу рядом с низким столиком, где лежали смоченные в воде мучные шарики, и держал за шею гуся. Птица вырывалась, но он ее не выпускал и аккуратно запихивал катышки ей в глотку, приговаривая ласковые успокаивающие слова. Перекормленный гусь отходил, шатаясь, как пьяный. Откорм журавлей требовал большей сосредоточенности, так как эти птицы норовили стянуть шарики. Его паштет из печени откормленных птиц считался одним из лучших во всей округе. В результате этого первого исцеления, признанного чудом, Нефрет стала героиней селения. Крестьяне пришли к ней за советом, как бороться с вредителями, угрожающими полям и огородам, а именно кузнечиками и саранчой, но девушка предпочла бороться с другим бедствием, в котором видела причину кожной инфекции у детей и взрослых, – мухами и комарами. Их развелось так много из-за того, что в селении был пруд со стоячей водой, который уже три года никто не чистил. Нефрет велела его осушить, посоветовала всем жителям вычистить жилища и обработала укусы жиром иволги и свежими мазями. Вот только один старик со слабым сердцем вызывал у нее тревогу; если ему станет хуже, придется отправить его в больницу в Фивы. Необходимость в этом отпала бы, будь у нее в распоряжении кое-какие редкие растения. Она как раз сидела у его изголовья, когда прибежал мальчишка и рассказал, что пришел какой-то незнакомец и справляется о ней. Даже здесь Небамон не дает ей покоя! В чем еще он ее обвиняет, чего еще собирается лишить? Придется скрываться. Сельчане ее не выдадут, и посланцу старшего лекаря придется убраться восвояси.
***
Пазаир чувствовал, что ему говорят неправду; собеседники явно знали имя Нефрет, хоть и молчали. Предоставленное само себе, маленькое селеньице с домами, открытыми всем ветрам пустыни, боялось вторжения извне; двери перед ним закрывались одна за другой. Раздосадованный, он уже было собрался уходить, как вдруг увидел женскую фигурку, направлявшуюся к каменистым холмам. – Нефрет! Она в изумлении обернулась, узнала Пазаира и пошла ему навстречу. – Судья Пазаир… что вы здесь делаете? – Я хотел с вами поговорить. Солнце играло в ее глазах. Кожа потемнела от постоянного пребывания на воздухе. Пазаиру хотелось излить ей свои чувства, рассказать, что творится в душе, но никак не удавалось выдавить из себя первое слово признания, – Пойдемте на вершину холма. Он пошел бы за ней на край земли, на дно морское, в самую глубь преисподней. Идти бок о бок, сидеть совсем рядом, слышать ее голос – это были упоительные моменты настоящего счастья. – Беранир мне все рассказал. Вы не хотите подать жалобу на Небамона? – Бесполезно. Многие врачи обязаны ему своим положением и будут свидетельствовать против меня. – Я обвиню их в лжесвидетельстве. – Их слишком много, да и Небамон не позволит вам действовать. Несмотря на теплую весеннюю погоду, Пазаира знобило. Он не удержался и чихнул. – Вы простудились? – Я провел ночь на улице, ждал, когда вернется Кани. – Садовник? – Это он вас нашел. Он живет в Фивах и возделывает собственный сад. Это шанс для вас, Нефрет: он выращивает лекарственные растения, в том числе и самые редкие! – Делать снадобья, здесь? – Почему нет? Ваши познания в фармакологии дают вам на это право. Вы сможете лечить тяжелобольных, и репутация ваша будет восстановлена. – Не хочется мне затевать эту борьбу. Мне вполне достаточно моего нынешнего положения. – Не губите свой талант. Сделайте это ради больных. Пазаир снова чихнул. – Вас, кстати, это касается в первую очередь. Трактаты утверждают, что насморк разрушает кости, проникает в череп и разъедает мозг. Я обязана предотвратить эту катастрофу. Ее улыбка, такая добрая, что просто не оставалось места иронии, привела Пазаира в восхищение. – Так вы примете помощь Кани? – Он упрям. Если он принял решение, как я могу противиться? Ладно, займемся неотложным случаем: насморк – серьезное заболевание. Закапайте в нос пальмовый сок, а если не пройдет – женское молоко и душистую камедь. Насморк не прошел и даже усилился. Нефрет привела судью в свое скромное жилище в самом центре селения. Поскольку появился еще и кашель, она решила применить реальгар – природный сернистый мышьяк, называемый в народе средством, «от которого расцветает сердце». – Попытаемся пресечь развитие болезни. Сядьте на циновку и не шевелитесь. Она давала указания, не повышая голоса, и голос был столь же мягок, как ее взгляд. Судья надеялся, что последствия простуды затянутся и он сможет долго-долго сидеть в этой скромной комнатке. Нефрет смешала реальгар, смолу, листья дезинфицирующих растений, растерла все до пастообразного состояния и подогрела. Потом выложила массу на камень, пододвинула к судье и накрыла перевернутым горшком с отверстием в днище. – Возьмите этот тростниковый стебель, – сказала она пациенту, – вставьте в отверстие и вдыхайте то ртом, то носом. Ингаляция вам поможет. Даже если и не поможет, Пазаир ничего не имел против. Однако лечение оказалось эффективным. Носоглотка прочистилась, дышать стало легче. – Озноба больше нет? – Только усталость. – Несколько дней советую вам побольше есть и желательно жирную пищу: мясо с кровью и растительное масло к любому блюду. И отдохнуть бы немного не помешало. – Вот это мне вряд ли удастся. – Что привело вас в Фивы? Ему захотелось крикнуть: «Вы, Нефрет, только вы одна!», – но слова застряли в горле. Он был уверен, что от нее не ускользнула его страсть, и ждал, что она, быть может, даст повод ее высказать, однако не желал смущать безмятежное спокойствие девушки, боясь, как бы она не осудила его безумие. – Возможно, убийство или несколько убийств. Он почувствовал, как она разволновалась из-за трагедии, не имевшей к ней никакого отношения. Имел ли он право впутывать ее в дело, суть которого не ясна ему самому? – Я вам полностью доверяю, Нефрет, но не хочу докучать своими заботами. – Вы ведь обязаны молчать? – До тех пор, пока не приду к определенному выводу. – Убийства… это и есть ваш вывод? – Мое глубокое убеждение. – Сколько лет уже не совершалось ни одного убийства! – Пять воинов-ветеранов, составлявшие почетную стражу сфинкса, погибли, упав с головы статуи в ходе проверки ее состояния. Несчастный случай – такова официальная версия армейских властей. Между тем один из них скрывался в селении на западном берегу и работал там пекарем. Я собирался допросить его, но ко времени моего прихода он был действительно мертв. Еще один несчастный случай. Верховный страж организовал за мной слежку, словно я виноват в том, что веду расследование. Плохо мое дело, Нефрет. Забудьте о том, что я вам наговорил. – Вы хотите отступить? – Я всей душой люблю истину и справедливость. Отступив, я погубил бы себя. – Чем я могу вам помочь? В глазах Пазаира блеснула лихорадка иного рода. – Если бы мы могли беседовать время от времени, это придало бы мне мужества. – Простуда может дать осложнения, которые нельзя пускать на самотек. Вам наверняка потребуются консультации.
21
Ночь в гостинице оказалась столь же веселой, сколь изнурительной. Куски жареной говядины, баклажаны со сливками, пирожки в изобилии и восхитительная сорокалетняя ливийка, бежавшая из своей страны, чтобы развлекать египетских солдат. Колесничий не обманул: одного мужчины ей было мало. Уж на что непревзойденным любовником считал себя Сути, но даже ему пришлось спустить флаг и передать эстафету своему начальнику. Страстная, жизнерадостная ливийка принимала самые немыслимые позы. Когда колесница снова пустилась в путь, у Сути слипались глаза. – Надо уметь обходиться без сна, мой мальчик! Не забывай, враг атакует, когда ты устал. Да, отличная новость: мы в авангарде авангарда! Первые удары – наши. Если ты собирался стать героем, у тебя есть для этого все возможности. Сути прижал лук к груди. Колесница помчалась вдоль Царских стен[806], грозной цепи крепостей, построенных владыками Среднего царства и постоянно укреплявшихся их преемниками. Эта поистине грандиозная стена, отдельные цитадели которой связывались между собой с помощью костров, была способна предотвратить любые попытки вторжения со стороны бедуинов и азиатов. В Царских стенах, протянувшихся от побережья Средиземного моря до самого Гелиополя, размещались и постоянные гарнизоны, и войска, охранявшие границы, и таможенные службы. Никто не мог ни войти в Египет, ни выйти из него, не назвав здесь своего имени и цели путешествия; торговцы уточняли, какой именно товар они везут, и платили пошлину. Стража отказывала во въезде в страну нежеланным чужестранцам и выдавала пропуск лишь после внимательного изучения документов, должным образом засвидетельствованных столичным чиновником, занимающимся переселенцами. Ибо стела фараона гласила: «Каждый, пересекший эту границу, становится одним из моих сыновей». Колесничий предъявил документы коменданту одной из крепостей с двускатными шестиметровыми стенами, окруженными рвом. На стенах – лучники, на башнях – часовые. – Они даже не подумали выставить стражу, – заметил он. – Явно надеются отсидеться. Десять вооруженных воинов окружили колесницу. – Вылезайте! – скомандовал начальник поста. – Вы что, шутите? – У вас документы не в порядке. Колесничий сжал поводья, готовый пустить лошадей в галоп. На него нацелились копья и стрелы. – Немедленно вылезайте! Колесничий повернулся к Сути. – Что ты об этом думаешь, малыш? – У нас впереди битвы получше. Они сошли на землю. – Не хватает печати первого форта Царских стен, – объяснил начальник поста. – Разворачивайтесь! – Мы опаздываем. – Устав есть устав. – А мы можем где-нибудь поговорить? – У меня в конторе, только ни на что не надейтесь. Разговор был недолгим. Колесничий выбежал из административного помещения, схватил поводья и пустил колесницу во весь опор по дороге, ведущей в Азию. Колеса скрипели, поднимая облака пыли. – К чему такая спешка? Ведь теперь документы в порядке. – Более или менее. Я ударил сильно, но этот идиот может очухаться раньше, чем предусмотрено. У таких упрямцев голова обычно крепкая. Я сам привел документы в порядок. В армии, малыш, надо быть готовым к экспромтам. Первые дни пути прошли мирно. Долгие переезды, забота о лошадях, проверка снаряжения, ночи под открытым небом, пополнение запасов провизии в селениях, где колесничий связывался с армейскими гонцами или представителями секретных служб, призванных удостовериться, что ничто не мешает продвижению основных сил. Ветер поменял направление и начал пробирать насквозь. – Весной в Азии часто бывает холодно, надень плащ. – Кажется, вы взволнованы. – Опасность приближается. Я ее чую, как собака. Как у нас с едой? – Лепешки, мясные шарики, лук и вода на три дня. – Должно хватить. Колесница въехала в обезлюдевшее селение; на главной площади – ни души. У Сути подвело желудок. – Не паникуй, малыш. Может, они все на поле. Колесница медленно продвигалась вперед. Колесничий схватил копье и зорко смотрел по сторонам. Он остановился у казенной постройки, где жил египетский комендант со своим переводчиком. Пусто. – Армейское начальство рапорта не получит. Узнает лишь, что произошло нечто серьезное. Типичный мятеж. – Останемся здесь? – Я предпочитаю двигаться вперед. А ты? – Я не уверен… – В чем дело, малыш? – Где сейчас полководец Ашер? – Кто тебе о нем рассказал? – Его имя в Мемфисе известно всем. Я хотел бы служить под его началом. – А тебе и впрямь везет. К нему-то мы и должны присоединиться. – Это он опустошил селение? – Конечно же, нет. – А кто? – Бедуины[807]. Самые подлые, самые упрямые и самые хитрые существа на свете. Набеги, грабежи, захват пленников – вот их стратегия. Если нам не удастся их истребить, они заполонят всю Азию, полуостров между Египтом и Красным морем и прилегающие провинции. Они готовы присоединиться к любому захватчику, они презирают женщин так же сильно, как любим их мы, они плюют на богов и красоту. Я ничего не боюсь, но эти дикари, с их обкромсанными бородами, намотанными на голову тряпками и длинными одеждами, внушают мне страх. Запомни, малыш, они трусы. Они нападают сзади. – Они что, перебили здесь всех жителей? – Вероятно. – Выходит, полководец Ашер отрезан от основного войска? – Возможно. Длинные черные волосы Сути развевались по ветру. Несмотря на широкие плечи и мощный торс, молодой человек чувствовал себя слабым и уязвимым. – Между Ашером и нами – бедуины. Сколько их? – Десять, сто, тысяча… – Десять – терпимо. Сто – многовато. – Тысяча, малыш, в самый раз для истинного героя. Ты ведь меня не бросишь? Колесничий снова погнал лошадей. Они неслись галопом до начала оврага с отвесными склонами. Густые заросли кустарника, облепившего скалы, оставляли здесь узкий проход. Кони заржали и встали на дыбы; колесничий принялся их успокаивать. – Они чуют ловушку. – Я тоже, малыш. Бедуины притаились в кустах. Они попытаются перебить ноги лошадям топорами, а когда мы упадем, нам перережут глотку и отрежут яйца. – По-моему, слишком высокая плата за героизм. – Благодаря тебе мы почти ничем не рискуем. По стреле в каждый куст, и – во весь опор! Прорвемся. – Вы так уверены в себе? – А ты сомневался? Думать – вредно. Колесничий натянул поводья. Лошади нехотя поскакали через овраг. Сути даже не успел испугаться. Он пускал стрелу за стрелой. Первые две пропали в кустах, где никого не было, третья угодила в глаз бедуину, с воем выскочившему из укрытия. – Продолжай, малыш! У Сути волосы на голове встали дыбом, кровь застыла в жилах; он стрелял в каждый куст, поворачиваясь то вправо, то влево с такой скоростью, какой сам от себя не ожидал. Бедуины падали, пораженные кто в живот, кто в грудь, кто в голову. Камни и колючие заросли преграждали выход из оврага. – Держись, малыш, будем прыгать! Сути перестал стрелять и вцепился в борт колесницы. Двое врагов, которых он не успел сразить, метнули в египтян топоры. На полном ходу обе лошади перепрыгнули через преграду в самом низком месте. Шипы разодрали им ноги, спицы правого колеса поломались о камень, другой камень повредил правый бок колесницы. Мгновение – и экипаж зашатался; но кони последним рывком перетащили его через препятствие. Несколько сот метров колесница пронеслась, не сбавляя ходу. Оглушенный Сути мотался из стороны в сторону, прижимая к себе лук и с трудом сохраняя равновесие. У подножия холма измученные, покрытые потом и пеной кони неожиданно встали. – Господин офицер! Колесничий рухнул на поводья. Между лопаток у него торчал топор. Сути попытался его поднять. – Запомни, малыш… трусы всегда нападают сзади… – Не умирайте, господин офицер! – Теперь ты один будешь героем… Глаза его закатились, дыхание оборвалось. Сути долго прижимал к себе тело. Никогда больше колесничий не пошевелится, не приободрит его, не попытается совершить невозможное. Он один во враждебной стране – герой, о чьей доблести знает только мертвец. Сути похоронил колесничего и постарался как следует запомнить место. Если он выживет, то обязательно вернется и отвезет тело в Египет. Ибо ничего нет страшнее для человека, рожденного в Двух Землях, чем быть погребенным вдали от своей страны. Вернуться назад значило снова попасть в ловушку, продвижение вперед было чревато столкновением с новыми противниками. И все же он склонился ко второму решению, надеясь быстро добраться до воинов полководца Ашера, если, конечно, их еще не перебили. Лошадей удалось заставить продолжить путь. Если впереди их ждала новая западня, Сути не сможет одновременно управлять колесницей и стрелять из лука. С комком в горле он поехал по каменистой дороге, которая привела его к полуразвалившейся лачуге. Молодой человек спрыгнул на землю и обнажил меч. Из допотопной трубы шел дым. – Эй, кто тут есть, выходите! На пороге появилась молодая дикарка в лохмотьях, с немытыми волосами. В руках она держала огромный нож. – Успокойся и брось свой нож. Она была такой хрупкой, совсем не способной сопротивляться. Сути счел осторожность излишней. Но едва он подошел ближе, она кинулась на него и попыталась вонзить лезвие прямо в сердце. Он увернулся, но ощутил жгучую боль в левой руке. Девушка в исступлении нанесла новый удар. Ударом ноги он обезоружил ее, потом бросил на землю. По руке у него текла кровь. – Успокойся, а то я тебя свяжу. Она отбивалась с бешеной силой. Он перевернул ее на живот и оглушил ударом в затылок. Решительно, с тех пор, как он стал героем, его отношения с женщинами складывались не лучшим образом. Он отнес ее в хижину с земляным полом. Убогие, грязные стены, жалкая обстановка, закопченный очаг. Сути положил свою жертву на дырявую циновку и связал ей руки и ноги веревкой. Внезапно на него навалилась неимоверная усталость. Он сел спиной к очагу, вжав голову в плечи, и задрожал всем телом. Из него выходил страх. Грязь вызывала у него отвращение. Он нашел за домом колодец, промыл свою неглубокую рану и вычистил единственную комнату. – Тебя бы тоже следовало отмыть. Он плеснул на девушку воды, она очнулась и заорала. Новый ушат воды заглушил крики. Когда он стал снимать с нее грязную одежду, она завертелась, как змея. – Да не собираюсь я тебя насиловать, дуреха! Догадалась ли она о его намерениях? Во всяком случае, она смирилась. Она стояла посреди комнаты голая и, казалось, радовалась омовению. Когда он стал ее вытирать, на лице у нее промелькнуло подобие улыбки. Его удивило, как светлы были ее волосы. – А ты хорошенькая. Тебя уже кто-нибудь целовал? По тому, как приоткрылись ее губы и зашевелился язык, Сути понял, что он не первый. – Если пообещаешь хорошо себя вести, я тебя развяжу. Глаза смотрели умоляюще. Он снял веревку с ног, погладил икры, бедра и прижался губами к золотистым волоскам на лобке. Она напряглась, словно лук, и обвила его освобожденными руками.***
Сути проспал без сновидений десять часов сряду. Дала о себе знать рана, он вскочил и вышел из лачуги. Она украла все его оружие и перерезала поводья колесницы. Кони убежали. Ни лука, ни ножа, ни меча, ни сапог, ни плаща. Бесполезная колесница увязала в грязи под дождем, зарядившим с самого утра. Герою, превратившемуся в простофилю, одураченному дикой девчонкой, ничего не оставалось, как пешком брести к северу. В бешенстве он расколошматил колесницу камнями, чтобы она не досталась врагу. В одной набедренной повязке, экипированный, как самый настоящий олух, Сути поплелся вперед под проливным дождем. В его сумке лежали черствый хлеб, обломок дышла с иероглифической надписью, хранившей имя колесничего, кувшины со свежей водой и дырявая циновка. Он преодолел перевал, пересек сосновый лес, спустился по склону, круто обрывавшемуся в озеро, и пошел по берегу. Горы становились все более недружелюбными. После ночевки под скалистым уступом, защищавшим от восточного ветра, он взобрался вверх по скользкой тропинке и оказался в пустынной, засушливой местности. Запасы провизии быстро иссякли. Ему все сильнее хотелось пить. Когда Сути утолял жажду, зачерпнув немного солоноватой воды из неприглядной лужицы, в кустах послышался хруст ломающихся веток. Несколько человек шли прямо на него. Он отполз и спрятался за стволом гигантской сосны. Пятеро мужчин толкали перед собой пленника со связанными за спиной руками. Их малорослый предводитель схватил его за волосы и заставил встать на колени. Сути находился слишком далеко, чтобы слышать, что они говорят, но вскоре тишину гор рассекли крики избиваемого. Один против пятерых, безоружный… молодой человек не имел ни малейшего шанса спасти несчастного. Мучитель осыпал пленника ударами, допрашивал, снова бил, потом приказал приспешникам оттащить его к пещере. Еще один, последний допрос, и он перерезал ему горло. После ухода злодеев Сути больше часа просидел в неподвижности. Он думал о Пазаире, о его любви к справедливости, к идеалу. Как бы он поступил, столкнувшись с таким варварством? Он и не знал, что так близко от Египта существует мир без законов, где жизнь человека ничего не стоит. Он заставил себя спуститься к пещере. Ноги у него подкашивались, в ушах все еще раздавались крики умирающего. Несчастный уже испустил дух. Судя по внешности и набедренной повязке, это был египтянин, наверное, воин из отряда Ашера, попавший в руки мятежников. Сути голыми руками вырыл ему могилу внутри пещеры. Потрясенный, изможденный, он продолжил путь, всецело положившись на судьбу. Попадись ему враг, у него не будет сил отбиваться. Когда два воина в шлемах окликнули его, он просто рухнул на мокрую землю.
***
Палатка. Кровать, подушка под головой, одеяло. Сути приподнялся. Острие ножа заставило его лечь обратно. – Кто ты? Вопрос был задан египетским офицером с резкими чертами лица. – Сути, лучник конного отряда. – Откуда ты? Он поведал о своих подвигах. – Можешь ли ты доказать то, что сказал? – У меня в сумке – обломок дышла с именем моего колесничего. – Что с ним стало? – Его убили бедуины, я его похоронил. – А сам убежал? – Нет, конечно! Я их человек пятнадцать своими стрелами уложил. – Когда ты завербовался? – В начале месяца. – Двух недель не прошло, а ты уже первоклассный лучник! – Я способный. – Я верю только в долгие тренировки. А не сказать ли тебе правду? Сути отбросил одеяло. – Это и есть правда. – А что, если ты прикончил колесничего? – Бред какой! – Вот посидишь подольше в подземелье, мозги на место встанут. Сути рванулся к выходу. Двое солдат схватили его за руки, третий ударил в живот и оглушил ударом по голове. – Мы правильно сделали, что вылечили этого лазутчика. Он нам много чего расскажет.
22
Сидя за столом одной из самых людных харчевен Фив, Пазаир завел разговор о Хаттусе, дипломатической супруге Рамсеса Великого. Когда был заключен мир с хеттами, фараон получил в залог чистосердечных отношений одну из дочерей азиатского властителя. Она возглавила фиванский гарем и жила там в неге и роскоши. Невидимая, недосягаемая, Хаттуса не снискала любви египтян. Чего только про нее не говорили: и черной магией она занимается, и с ночными демонами якшается, и на больших праздниках появляться не желает. – Из-за нее, – сказала хозяйка харчевни, – цены на притирания выросли вдвое. – А она-то чем виновата? – Женщины из ее окружения – а их становится все больше и больше – целыми днями только и делают, что красятся. Гарем расходует невероятное количество самых лучших притираний, покупает их за немалые деньги, и цены соответственно растут. И с маслом то же самое. Избавиться бы поскорее от этой чужеземки! Никто не встал на защиту Хаттусы.***
Помещения гарема на восточном берегу утопали в буйной растительности. Сюда был подведен канал. Вода изобильно орошала многочисленные сады, отведенные для придворных дам, вдов и знатных пожилых особ, огромный фруктовый сад и цветочный парк, где отдыхали пряхи и ткачихи. Как и в других египетских гаремах, здесь размещались многочисленные мастерские, школы танцев, музыки и стихосложения, участки для выращивания душистых трав и центр производства косметических средств; мастера обрабатывали дерево и слоновую кость, изготавливали разноцветную эмаль, шили великолепные льняные платья и составляли изощренные цветочные композиции. Бурная деятельность гарема включала в себя и воспитание молодежи: египтян и чужестранцев готовили здесь для высших административных должностей. Помимо элегантных дам, блиставших самыми невероятными драгоценностями, здесь встречались ремесленники, учителя и чиновники, следившие за бесперебойным снабжением знатных особ свежими продуктами. Рано утром судья Пазаир подошел к центральному дворцу гарема. Должность позволила ему беспрепятственно пройти мимо стражи и встретиться с придворным распорядителем Хаттусы. Тот принял прошение судьи и отнес своей госпоже, которая, к великому удивлению чиновника, его не отвергла. Судью провели в зал с четырьмя колоннами и стенами, расписанными изображениями птиц и цветов. Пол был выложен разноцветной плиткой, что делало общую атмосферу еще более привлекательной и уютной. Вокруг Хаттусы, восседавшей на троне из позолоченного дерева, суетились две прислужницы. Они колдовали над баночками и ложечками с румянами и тенями, коробочками с благовониями, а завершала утренний туалет самая ответственная процедура – надевание парика, который подгоняла искуснейшая мастерица, заменяя поврежденные локоны и выправляя новые пряди. Блистательная и горделивая, тридцатилетняя хеттская царевна любовалась собой в зеркале с позолоченной ручкой в форме стебля лотоса. – Судья – у меня в столь ранний час! Очень любопытно узнать, что заставило вас прийти сюда? – Госпожа, я прошу позволения задать вам несколько вопросов. Она отложила зеркало и отослала прислужниц. – Вы хотите поговорить с глазу на глаз? – Да. – Наконец-то хоть какое-то развлечение! В этом дворце так скучно. Очень светлая кожа, длинные и тонкие пальцы, черные глаза – Хаттуса одновременно притягивала к себе и приводила в смятение. Язвительная, своенравная, стремительная, она нимало не щадила собеседников и клеймила их слабости, будь то косноязычие, неловкость в движениях или физические недостатки. Она внимательно разглядывала Пазаира. – Вы не самый красивый мужчина Египта, но женщина может влюбиться в вас и хранить вам верность. Вы нетерпеливы, страстны, одержимы идеалом – прямо целый набор пороков. А уж серьезен-то как, можно даже сказать, степенен – так и молодость сгубить недолго! – Вы позволите допросить вас? – Дерзкий ход! Вы сознаете, сколь нагло себя ведете? Я – супруга великого Рамсеса и могу в любой момент сместить вас с должности. – Вы прекрасно знаете, что не можете. Я буду защищаться перед судом, а вас призовут к ответу за превышение власти. – Странная страна Египет. Люди здесь не только верят в правосудие, но еще и уважают законы и следят за их исполнением. Такое чудо долго длиться не может, Хаттуса снова взяла зеркало и принялась разглядывать один из завитков на своем парике. – Если ваши вопросы меня позабавят, я на них отвечу. – Скажите, кто поставляет вам свежий хлеб? Хеттиянка вытаращила глаза от изумления. – Вас интересует мой хлеб? – Точнее, пекарь с западного берега, который хотел на вас работать. – Все хотят на меня работать! Моя щедрость известна. – Однако народ вас недолюбливает. – Это взаимно. Народ глуп здесь, как и всюду. Я чужестранка и горжусь этим. Десятки слуг ползают у моих ног, потому что царь поставил меня во главе этого гарема, самого роскошного в Египте. – Так что же пекарь? – Поговорите с моим управляющим, он вам все расскажет. Если пекарь поставлял хлеб, вы об этом узнаете. А что, это так важно? – Вам известно о трагедии, произошедшей возле сфинкса в Гизе? – Что у вас на уме, судья Пазаир? – Ничего особенного. – Эта игра наскучила мне, как праздники и придворные! Я хочу лишь одного: вернуться домой. Было бы забавно, если бы хеттское войско разбило ваши отряды и захватило Египет. В самом деле, достойный ответ! Но боюсь, я умру здесь, супругой самого могущественного из царей, владыки, которого я видела всего один раз в день нашей свадьбы, заключенной ради мира и счастья наших народов. А о моем счастье кто-нибудь подумал? – Спасибо за помощь, царевна. – Разговор завершаю я, а не вы! – Я не желал вас оскорбить. – Уходите. Управляющий Хаттусы уточнил, что заказывал хлеб превосходному пекарю с западного берега, но ничего так и не было доставлено. Пазаир в недоумении вышел из гарема. По обыкновению он попытался проверить незначительную улику, у него и в мыслях не было, что это может вызвать раздражение у одной из самых знатных дам царства. А что, если она прямо или косвенно замешана в заговоре? Еще один вопрос без ответа.
***
Помощник градоначальника Мемфиса с опаской открыл рот. – Расслабьтесь, – посоветовал Кадаш. Лекарь не стал скрывать правду: зуб придется удалить. Несмотря на все старания спасти его не удалось. – Откройте рот пошире. Конечно, рука Кадаша была уже не так тверда, как прежде, но сноровки ей хватит еще надолго. После местного обезболивания он приступил к первому этапу удаления и ухватил зуб щипцами. Одно неверное движение – рука дрогнула, и он поранил десну. В раздражении он продолжил операцию, но занервничал, и из-за этого все пошло не так: пока он сражался с корнями, началось кровотечение. Он поспешно схватил трут, поместил его заостренный конец в лунку, проделанную в деревянном бруске, и стал быстро вращать его при помощи лучкового инструмента, пока не появилась искра. Как только пламя разгорелось, он нагрел ланцет и прижег рану пациента. Помощник градоначальника вышел с болезненно распухшей челюстью и не счел нужным поблагодарить зубного лекаря. Кадаш потерял важного клиента, который теперь будет поносить его направо и налево. Лекарь оказался на распутье. Он не хотел ни стареть, ни расставаться со своим ремеслом. Конечно, можно почерпнуть новые силы и недолгий приток энергии в ливийской экстатической пляске, но этого уже недостаточно. Решение, казалось, было совсем рядом, и все же до него не добраться! Кадашу следует прибегнуть к новому средству, усовершенствовать свою технику, доказать, что ему по-прежнему нет равных. Другой металл – вот что ему нужно.
***
Паром отплывал. В последний момент Пазаир успел запрыгнуть на борт плоскодонного судна, где вперемешку толпились люди и животные. Паром постоянно курсировал между нильскими берегами. Хотя путь был недолог, люди успевали обменяться новостями, а иной раз даже заключить сделку. Какой-то бык, желая развернуться, толкнул судью, и тот налетел на женщину, стоявшую к нему спиной. – Извините. Она не ответила и закрыла лицо руками. Пазаир, удивившись, пригляделся получше. – А вы случайно не госпожа Сабабу? – Оставьте меня в покое. Темное платье, коричневая шаль на плечах, небрежная прическа – Сабабу походила на нищенку. – Разве нам не надо кое в чем признаться друг другу? – Я вас не знаю. – Вспомните моего друга Сути. Он уговорил вас не клеветать на меня. В отчаянии она перегнулась через борт, вглядываясь в быстрое речное течение. Пазаир удержал ее за руку. – Нил в этом месте опасен. Вы могли бы утонуть. – Я не умею плавать. Мальчишки спрыгнули на берег, едва паром причалил. За ними последовали ослы, быки и крестьяне. Пазаир и Сабабу сошли последними. Он не отпускал проститутку. – Ну что вы ко мне пристали? Я простая служанка, я… – Ваши попытки оправдаться смешны. Разве вы не говорили Сути, что я один из ваших постоянных клиентов? – Я не понимаю, о чем вы. – Я судья Пазаир, постарайтесь вспомнить. Она попыталась бежать, но пальцы не разжались. – Будьте благоразумны. – Я вас боюсь! – Вы пытались меня опорочить. Она ратрыдалась. Он смутился и отпустил ее. Даже если она враг, такое отчаяние не могло его не тронуть. – Кто велел вам оклеветать меня? – Не знаю. – Вы лжете. – Меня попросил какой-то мелкий чиновник. – Стражник? – Откуда я знаю? Я не задаю вопросов. – А как вам платят? – Оставляют в покое. – Почему вы мне помогаете? На ее лице промелькнула грустная улыбка. – Воспоминания о счастливых днях… Отец был сельским судьей, я его обожала. Когда он умер, я возненавидела свое селение и перебралась в Мемфис. Потом начались разные встречи, одна сомнительнее другой, и довольно скоро я стала шлюхой. Шлюхой богатой и уважаемой. Мне платят за конфиденциальные сведения об известных завсегдатаях моего пивного дома. – Монтумес, да? – Выводы делайте сами. Но мне ни разу не приходилось очернять судью. Из почтения к памяти отца я вас пощадила. Если вы в опасности, тем хуже для вас. – А вы не боитесь, что вам это даром не пройдет? – Я много чего помню – это послужит мне защитой. – А что, если вашему заказчику смешна такаяугроза? Она потупилась. – Поэтому я уехала из Мемфиса и решила скрыться здесь. Из-за вас я потеряла все. – А полководец Ашер приходил к вам? – Нет. – Истина обнаружится, обещаю. – Я больше не верю обещаниям. – А вы поверьте. – Почему вас хотят уничтожить, судья Пазаир ? – Я расследую несчастный случай, произошедший в Гизе. Официально признано, что в нем погибли пять воинов-ветеранов из почетной стражи сфинкса. – Об этом не было никаких слухов. Попытка судьи не удалась. Либо она ничего не знала, либо решила молчать. Вдруг она вскрикнула от боли и схватилась правой рукой за левое плечо. – Что у вас болит? – Острый ревматизм. Иногда я рукой пошевелить не могу. Пазаир недолго колебался. Она помогла ему, он не мог ее бросить.
***
Когда Пазаир привел Сабабу к Нефрет, девушка обрабатывала рану осленку, повредившему ногу. Проститутка обещала судье не раскрывать, кто она такая. – Я встретил эту женщину на пароме. У нее болит плечо, вы не могли бы ей помочь? Нефрет тщательно вымыла руки. – Давно болит? – Больше пяти лет, – с вызовом ответила Сабабу. – А вы знаете, кто я? – Пациентка, которую я попытаюсь вылечить. – Я Сабабу, проститутка и хозяйка пивного дома. Пазаир побелел. – Частые половые сношения и общение с партнерами, не слишком следящими за соблюдением гигиены, возможно, и есть причина вашей болезни. – Осмотрите меня. Сабабу сняла платье и осталась совершенно обнаженной. И что было делать Пазаиру – закрыть глаза, отвернуться или провалиться сквозь землю? Такого оскорбления Нефрет никогда ему не простит. Вот так открытие: он – клиент веселой девицы! Его оправдания будут столь же смешны, сколь бесполезны. Нефрет прощупала плечо, проследила указательным пальцем направление нервных окончаний, нашла чувствительные точки и проверила изгиб лопатки. – Это серьезно, – заключила она. – Ревматизм уже на деформирующей стадии. Если не будете лечиться, вам грозит паралич. Сабабу разом утратила всю спесь. – Что… что вы мне посоветуете? – Прежде всего прекратите пить, затем каждый день принимайте настой коры ивы и, наконец, ежедневно делайте примочки с бальзамом из натрона, белого масла, смолы терпентина, ладана, меда и жира гиппопотама, крокодила, сома и кефали. Это дорогие вещества, у меня их нет. Вам придется обратиться к какому-нибудь лекарю в Фивах. Сабабу оделась. – И не тяните, – посоветовала Нефрет, – мне кажется, болезнь быстро прогрессирует. Совершенно убитый, Пазаир проводил проститутку до выхода из селения. – Я свободна? – Вы не сдержали слова. – Вас это удивит, но иногда я терпеть не могу врать. От такой женщины, как она, невозможно что-то утаить. Пазаир сел в пыль на обочину дороги. Наивность довела его до катастрофы. Самым неожиданным образом Сабабу все-таки выполнила свою задачу. Судья чувствовал себя совершенно разбитым. Он, неподкупный судья, оказался в глазах Нефрет сообщником проститутки, лицемером и развратником! Добрая Сабабу, преисполненная почтения к судьям и памяти отца, эта самая Сабабу, не колеблясь, предала его при первой же возможности. Завтра же она продаст его Монтумесу, если еще не сделала этого. Легенда гласит, что Осирис оказывает снисхождение утопленникам, когда они предстают перед судом загробного мира. Считается, что воды Нила очищают. Любовь потеряна, имя поругано, идеал попран… Ему захотелось покончить с собой. Рука Нефрет легла ему на плечо. – Ваш насморк прошел? Он не осмелился пошевелиться. – Простите. – О чем вы? – Эта женщина… Клянусь, я… – Вы привели ко мне больную, надеюсь, она незамедлительно начнет лечиться. – Она пыталась погубить мою репутацию, но утверждает, что передумала. – Великодушная проститутка? – Я так полагал. – Кто же вас за это осудит? – Я был у Сабабу вместе со своим другом Сути: мы праздновали его поступление на военную службу. Нефрет не убрала руку. – Сути – удивительный человек, с пылким нравом и неистощимой энергией. Он обожает вино и женщин, хочет стать великим героем, ни перед кем и ни перед чем не отступает. Наша дружба крепче гранита, сильнее смерти. Пока Сабабу принимала его в своей комнате, я сидел один, погрузившись в свое расследование. Умоляю, поверьте мне. – Меня беспокоит один старик. Надо помыть его и вычистить жилище. Вы не откажетесь мне помочь?
23
– Встань! Сути выбрался из своей темницы. Грязный, голодный, он все время распевал фривольные песенки и думал об упоительных часах, проведенных в объятиях мемфисских красоток. – Вперед! Солдат, отдававший приказы, был наемником. Бывший морской разбойник[808], он предпочел службу в египетском войске, потому что его ветераны получали вполне приличную пенсию. На голове – остроконечный шлем, в руках – короткий меч, на лице – ни малейших эмоций. – Это ты Сути? Поскольку молодой человек не спешил с ответом, наемник ударил его в живот. Согнувшись пополам, он все же устоял на ногах. – Ты горд и крепок. Говорят, ты сражался с бедуинами. Лично я в это не верю. Когда убивают врага, ему отрубают руку и приносят ее своему начальнику. На мой взгляд, ты удрал, как заяц. – Вместе с обломком дышла от моей колесницы? – Своровал где-то. Говорят, ты стрелял из лука, – сейчас проверим. – Я хочу есть. – Потом разберемся. Истинный воин способен биться, даже когда его силы на исходе. Наемник отвел Сути на опушку леса и дал тяжеленный лук. Спереди деревянная дуга была отделана костяными накладками, с тыльной стороны – корой. Тетива – бычья жила, покрытая льняными волокнами – была закреплена узлами с обеих сторон. – Мишень в шестидесяти метрах, на дубе прямо перед тобой. У тебя две стрелы, чтобы в нее попасть. Натягивая лук, Сути подумал, что мышцы спины вот-вот порвутся. Перед глазами заплясали черные точки. Сохранить натяжение, вставить стрелу, прицелиться, забыть о том, что поставлено на карту, сосредоточиться на мишени, стать луком и стрелой, взлететь в воздух, вонзиться в середину ствола. Он закрыл глаза и выстрелил. Наемник сделал несколько шагов вперед. – Почти в центр. Сути взял вторую стрелу, снова натянул лук и прицелился в солдата. – Ты неосторожен. Наемник выпустил из рук меч. – Я говорю правду, – твердо сказал Сути. – Да ладно, ладно! Молодой человек выпустил вторую стрелу. Она вонзилась в мишень чуть правее предыдущей. Солдат вздохнул. – Кто тебя научил так стрелять? – Это талант. – К речке, солдат! Мыться, одеваться и завтракать. Вооруженный своим любимым луком из акации, снабженный сапогами, шерстяным плащом и ножом, досыта накормленный, умытый и умащенный благовониями, Сути предстал перед офицером, командовавшим сотней пехотинцев. На сей раз его рассказ был выслушан внимательно и на его основе составлен рапорт. – Мы отрезаны от основных сил и от полководца Ашера. Он со своим элитным отрядом стоит лагерем в трех днях ходьбы отсюда. Я пошлю двух гонцов на юг, чтобы основное войско поспешило. – Мятеж? – Объединились два азиатских царька, иранское племя и бедуины. Возглавляет их ливийский изгнанник Адафи. Он мнит себя пророком бога-мстителя и мечтает сокрушить Египет и взойти на трон Рамсеса. Для одних – просто кукла, для других – опасный безумец. Он любит наносить удар внезапно, не считаясь ни с какими соглашениями. Если остаться здесь, нас перебьют: между Ашером и нами – хорошо укрепленная крепость. Придется взять ее приступом. – А колесницы у нас есть? – Нет, зато много лестниц и осадная башня на колесах. Нам как раз недоставало первоклассного лучника.***
Не десять и не сто раз Пазаир порывался заговорить с ней. А на деле лишь поднял старика, отнес его под пальму, где было поменьше ветра и солнца, вычистил его дом и помог Нефрет. Он ждал какого-нибудь знака неодобрения, хоть тени упрека в глазах. Но она была поглощена работой и казалась безучастной ко всему остальному. Накануне судья побывал у Кани и узнал, что его розыски не дали никакого результата. Между тем, соблюдая осторожность, садовник обошел большинство селений и беседовал с десятками крестьян и ремесленников. Никаких следов ветерана, вернувшегося из Мемфиса. Если этот человек и жил на западном берегу, он тщательно скрывался. – Дней через десять Кани принесет вам первую партию лекарственных растений. – Управитель селения предоставил мне заброшенный дом на краю пустыни; сделаем из него лечебницу. – А вода? – В самое ближайшее время подведут канал. – А ваше жилище? – Маленькое, но опрятное и уютное. – Вчера Мемфис, а нынче эта дыра. – Зато здесь у меня нет врагов. А там все время как на войне. – Небамон не вечно будет возглавлять корпорацию лекарей. – Это решит судьба. – Вы вновь займете достойное положение. – Какая разница? Да, забыла вас спросить, как ваш насморк? – Весенний ветер мне не на пользу. – Придется снова сделать ингаляцию. Пазаир подчинился. Ему нравилось смотреть, как она смешивает лекарства, как готовит дезинфицирующую массу, раскладывает ее на камне, а потом накрывает горшком с дыркой. Любое ее движение доставляло ему удовольствие.
***
Комната судьи была перевернута вверх дном. Даже москитные сетки были сорваны, скомканы и брошены на деревянный пол. Все содержимое дорожной сумки высыпано, таблички и свитки разбросаны повсюду, циновки растоптаны, набедренная повязка, туника и плащ порваны. Пазаир встал на колени в поисках какой-нибудь улики. Но взломщик не оставил следов.
***
Судья подал жалобу тучному чиновнику, тот дивился и возмущался. – Есть подозрения? – Не осмеливаюсь их высказать, – Прошу вас! – За мной следили. – Вы определили, кто именно? – Нет. – Описание? – Невозможно. – Жаль. Мне нелегко будет расследовать. – Понимаю. – Как и все остальные управления стражи в нашем районе, я получил адресованное вам послание. Ваш секретарь вас повсюду разыскивает. – Зачем? – Не уточняется. Он просит, чтобы вы как можно скорее вернулись в Мемфис. Когда вы отправитесь в путь? – Ну… завтра. – Вам нужна охрана? – Мне достаточно Кема. – Как пожелаете, но будьте осторожны. – Кто посягнет на судью?
***
Нубиец обзавелся луком, стрелами, мечом, дубиной, копьем и деревянным щитом, обтянутым бычьей кожей, – в общем всем, что составляло вооружение стражника, уполномоченного осуществлять непростые операции. Павиан довольствовался своими клыками. – Кто оплатил все это снаряжение? – Торговцы с базара. Мой павиан одного за другим переловил всех членов воровской шайки, державшей всех в страхе больше года. Торговцы решили меня отблагодарить. – А вы получили разрешение от фиванской стражи? – Мое оружие внесено в списки и пронумеровано, все по закону. – В Мемфисе какие-то неприятности, нам надо возвращаться. Что насчет пятого ветерана? – На базаре – ни слуху ни духу. А у вас? – Ничего. – Он мертв, как все остальные. – Тогда зачем кто-то рылся в моей комнате? – Я больше не отойду от вас ни на шаг. – Вы подчиняетесь моим приказам, не забывайте. – Мой долг – вас охранять. – Если я сочту нужным. Ждите меня здесь и будьте готовы к отъезду. – Скажите, по крайней мере, куда вы уходите? – Я ненадолго.
***
Нефрет превратилась в царицу селения, затерянного на западном берегу Фив. Для маленькой общины постоянный лекарь был несказанной привилегией. Девушка, с ее кроткой улыбкой, пользовалась непререкаемым авторитетом и творила чудеса. Дети и взрослые бегали к ней за советом и больше не боялись заболеть. Нефрет настаивала на строгом соблюдении правил гигиены, которые все знали, но иной раз не прочь были нарушить: частое мытье рук, особенно перед едой, ежедневное омовение, ополаскивание ног перед тем как войти в дом, освежение рта, регулярное бритье и стрижка волос, применение притираний, косметических средств и благовоний на основе цератонии. И богатые, и бедные пользовались пастой из песка с жиром; при добавлении натрона она хорошо очищала и дезинфицировала кожу. По просьбе Пазаира Нефрет согласилась пройтись по берегу Нила. – Вы счастливы? – Мне кажется, я приношу пользу. – Я восхищаюсь вами. – Есть много врачей, достойных вашего уважения. – Я должен уехать из Фив. Меня вызывают в Мемфис. – Опять то странное дело? – Секретарь не уточнил. – Ваше расследование продвинулось? – Пятого ветерана так и не удалось найти. Если бы у него была постоянная работа на западном берегу, я бы узнал. Мое расследование зашло в тупик. Ветер переменился, весна становилась мягкой и теплой. Скоро начнется песчаная буря; несколько дней египтяне будут вынуждены сидеть по домам. Все вокруг цвело. – Вы еще вернетесь сюда? – Как только смогу. – Я чувствую, вы взволнованы. – Кто-то обыскал мою комнату. – Чем не способ вас припугнуть? – Кто-то полагал, что у меня есть важные документы. Теперь им ясно, что это не так. – А вы не слишком рискуете? – Я сам виноват, очень много допускаю ошибок. – Не судите себя так строго; вам не в чем себя упрекнуть. – Я хочу устранить проявленную к вам несправедливость. – Вы меня забудете. – Никогда! Она улыбнулась и мягко промолвила: – Клятвы юности развеет вечерний бриз. – Только не мои. Пазаир остановился, повернулся к ней, взял ее за руки. – Я люблю вас, Нефрет. Если б вы только знали, как я вас люблю… В ее глазах промелькнула тревога: – Моя жизнь здесь, ваша – в Мемфисе. Судьба решила за нас. – Мне наплевать на карьеру. Если вы полюбите меня, остальное неважно! – Ну что за ребячество! – Вы – это счастье, Нефрет. Без вас моя жизнь лишена всякого смысла. Она мягко высвободила руки. – Мне надо подумать, Пазаир. Ему захотелось взять ее на руки и прижать к себе так сильно, чтобы никто никогда не смог их разлучить. Но главное было не спугнуть хрупкую надежду, мелькнувшую в ее ответе.
***
Поглотитель теней наблюдал за отъездом Пазаира. Судья покидал Фивы, не поговорив с пятым ветераном и не раздобыв никаких компрометирующих документов. Обыск его комнаты ничего не дал. Да и сам он не слишком преуспел. Информация более чем скудная: пятый ветеран жил какое-то время в небольшом городке к югу от Фив, собирался там обосноваться и заняться починкой колесниц. После трагической гибели его товарища пекаря он запаниковал и исчез. Ни судье, ни поглотителю теней обнаружить его не удалось. Ветеран чувствовал, что он в опасности. Значит, будет держать язык за зубами. Успокоившись, поглотитель теней решил отплыть в Мемфис ближайшим судном.
24
У визиря Баги болели ноги. Они тяжелели и отекали так, что не видно было щиколоток. Он носил широкие сандалии с распущенными ремешками, думать о лечении ему было некогда. Чем больше времени проводил он, сидя в конторе, тем больше становились отеки; но служба на благо государства не давала возможности отдохнуть или отложить работу. Его супруга Недит отказалась от большой казенной усадьбы, выделенной визирю фараоном. Баги не стал с ней спорить, тем более что городская жизнь была ему ближе. Поэтому они жили в центре Мемфиса в скромном доме, денно и нощно охраняемом стражей. Верховный сановник Двух Земель мог чувствовать себя в полной безопасности; за все время существования Египта ни один визирь не стал жертвой убийства и никогда не подвергался нападению. Находясь на самой вершине административной иерархии, он не помышлял о личном обогащении. Долг был для него превыше благоденствия семьи. Недит тяжело переживала возвышение супруга. Наделенная от природы крупными чертами лица, небольшим ростом и полнотой, с которой никак не удавалось справиться, она избегала светской жизни и никогда не появлялась на официальных пирах. Она тосковала о тех днях, когда Баги занимал скромную должность и не брал на себя большой ответственности. Тогда он рано возвращался домой, помогал ей на кухне и занимался детьми. Направляясь к дворцу, визирь думал о сыне и дочери. Его сын поначалу стал было ремесленником, но мастер заметил, что он ленится. Узнав об этом, визирь добился исключения юноши из мастерской и отправил его на производство сырцового кирпича. Фараон счел решение визиря несправедливым и осудил его за излишнюю суровость по отношению к членам семьи. Визирь не имел права потворствовать своим близким, но и чрезмерная строгость считалась предосудительной[809]. Так что сын Баги начал продвигаться по службе и стал смотрителем на производстве обожженного кирпича. Дальше его честолюбие не простиралось, единственной его страстью была игра в шашки в компании ровесников. Дочь радовала визиря больше. Некрасивую внешность она компенсировала добродетельным поведением и мечтала поступить ткачихой в храм. Помощи от отца ей ждать не приходилось, успеха предстояло добиваться собственными силами. Усталый визирь встал со стула и сел на низкое, слегка вогнутое в середине сиденье из переплетенных веревок. Перед ежедневной встречей с царем он должен был ознакомиться с донесениями различных министерств. Сгорбившись, превозмогая боль в ногах, он заставил себя сосредоточиться. Чтение прервал его личный секретарь. – Извините, что беспокою. – Что случилось? – Гонец из азиатской армии с докладом. – Изложите суть дела. – Элитный отряд полководца Ашера отрезан от основных сил египетского войска. – Мятеж? – Ливиец Адафи, два азиатских царька и бедуины. – Опять они! Наши тайные службы позволили застать себя врасплох. – Пошлем подкрепление? – Сейчас же пойду спрошу совета его величества. Рамсес приказал двум новым отрядам выступить в Азию и велел ускорить продвижение основного войска. Царь отнесся к делу очень серьезно. Ашеру, если ему удастся выбраться из этой переделки, надлежало подавить мятежников. С момента провозглашения указа, повергшего двор в недоумение, визирь буквально разрывался на части, чтобы добиться исполнения распоряжений фараона. Благодаря хорошо налаженной системе управления для инвентаризации сокровищ и запасов Египта требовалось всего несколько месяцев, однако посланцам визиря предстояло опросить главных жрецов всех храмов и управителей всех провинций, составить массу отчетов и исправить неточности. Требования царя порождали скрытую враждебность, поэтому Баги, на которого ложилась вся ответственность за эту административную проверку, изо всех сил старался успокоить особо уязвленных сановников и по возможности погасить общее раздражение. В конце дня Баги получил подтверждение, что все его приказания выполнены. Завтра же он удвоит гарнизон Царских стен, уже приведенный в состояние постоянной боевой готовности.***
Вечер в лагере проходил невесело. Завтра египтяне пойдут на приступ мятежной крепости, чтобы прорвать окружение и постараться установить связь с полководцем Ашером. Штурм предстоял нелегкий. Многим не суждено было вернуться домой. Сути ужинал вместе с самым пожилым солдатом – видавшим виды воякой из Мемфиса. Ему было доверено управление осадной башней на колесах. – Через полгода я выйду на пенсию, – поведал он. – Это, парень, моя последняя азиатская кампания! Давай ешь чеснок. И желудок прочистит, и от простуды убережет. – Сюда бы немного кориандра и розового вина, вкуснее было бы. – Пир – после победы! Обычно в этом отряде хорошо кормят. Говядину, пирожки дают, овощи вполне свежие и пива вволю. Когда-то солдаты подворовывали то тут, то там; Рамсес такую практику пресек и мародеров из войска повыгонял. Я-то никогда не воровал. Мне дадут дом в деревне, клочок земли и служанку. Я буду платить мало налогов и передам свое добро кому пожелаю. Ты правильно сделал, что пошел в солдаты, парень – за будущее можешь не беспокоиться. – Если, конечно, выберусь из этой переделки. – Да сроем мы эту крепость. Ты, главное, берегись удара слева. Смерть в мужском обличий приходит слева, а в женском – справа. – Но ведь у врага нет женщин? – Еще как есть, да такие отчаянные! Сути не забудет ни про право, ни про лево, а в память о колесничем он будет знать еще и про спину.
***
Египетские воины начали дикую пляску, размахивая оружием над головами и воздевая его к небесам, чтобы снискать благосклонность судьбы и обрести мужество сражаться до самой смерти. По общепринятым правилам битва должна была начаться через час после рассвета; только бедуины нападали без предупреждения. Старый солдат воткнул перо в длинные черные волосы Сути. – Это обычай элитных лучников. Перо – символ богини Маат; благодаря ей ты сохранишь твердость духа и будешь стрелять точно в цель. Пехотинцы во главе с бывшим морским разбойником притащили лестницы. Сути поднялся на осадную башню и встал рядом со стариком. Человек десять принялись толкать ее в направлении крепости. Инженерные войска как могли разровняли дорогу, и деревянные колеса катились без особого труда. – Левее, – скомандовал старший по башне. Они выехали на ровное место. Вражеские лучники открыли стрельбу с крепостных стен. Двое египтян упали замертво, одна стрела пронеслась над самой головой Сути. – Ну давай, парень. Сути натянул лук с костяными накладками; если стрелять по параболической траектории, стрелы полетят на расстояние свыше двухсот метров. До предела натянув тетиву, он сосредоточился и на выдохе выстрелил. Бедуин, пораженный в самое сердце, упал со стены. Успех окрылил пехотинцев, и они бросились на врага. Когда до цели оставалось не более ста метров, Сути поменял оружие. Его любимый лук из акации был легче, бил точнее и позволял тщательно прицелиться при каждом выстреле. Вскоре Сути удалось снять со стен половину защитников и египтяне смогли приставить лестницы. Когда осадная башня была всего метрах в двадцати от цели, старший рухнул, пораженный стрелой в живот. Разогнавшись, башня врезалась в стену крепости. Пока товарищи взбирались на стены и проникали внутрь укреплений, Сути склонился над старым солдатом. Рана была смертельной. – Отличная пенсия, парень, вот увидишь… ну а мне не повезло. Голова безжизненно упала на плечо. Тараном египтяне пробили ворота, а старый разбойник окончательно сокрушил их топором. Охваченные паникой, противники вконец потеряли голову. Местный царек вскочил на коня и смял офицера, принуждавшего его сдаться. Египтяне рассвирепели и стали крушить все вокруг, никому не давая пощады. В какой-то момент из объятой пламенем крепости, незамеченный победителями, выскользнул человек в лохмотьях и кинулся бежать по направлению к лесу. Сути догнал его, ухватился за залатанную тунику и разорвал ее. Оказалось, это молодая, сильная женщина. Та самая дикарка, что его обокрала. Она продолжала бежать голышом. Под смех и подначки товарищей по оружию Сути пригвоздил ее к земле. Обезумев от страха, она отбивалась долго и упорно. Сути поднял девушку, связал ей руки и прикрыл остатками жалкой одежды. – Она твоя, – крикнул кто-то из пехотинцев. Несколько уцелевших вражеских солдат стояли, заложив руки за голову, побросав луки, щиты, сандалии и бурдюки. Считалось, что они погубили свою душу, лишились имени и истощили запасы спермы. Победители завладели бронзовой посудой, быками, ослами и козами, сожгли казарму, мебель, ткани. От крепости осталась лишь куча обожженных камней. Бывший разбойник подошел к Сути. – Командир погиб, старший по башне тоже. Ты из нас самый храбрый и к тому же элитный лучник. Тебе и командовать. – Но у меня нет никакого опыта. – Ты – герой. Мы все можем это засвидетельствовать: без тебя мы бы не победили. Веди нас к северу. Молодой человек покорился воле товарищей. Он велел достойно обращаться с пленниками. В ходе коротких допросов те заверили, что подстрекателя к мятежу, Адафи, в крепости не было. Сути с луком в руках выступил во главе колонны. Справа от него шла пленница. – Как твое имя? – Пантера. Сути был очарован ее красотой: дикая, светловолосая, с горящими как угли глазами, великолепным телом и чувственными губами. Голос ее звучал вкрадчиво, завораживающе. – Ты откуда? – Из Ливии. Мой отец был повержен живым. – Как это? – Во время одной стычки египетский меч рассек ему голову. Тогда бы ему и умереть. В качестве пленника он возделывал землю в Дельте. Он позабыл свой язык, свой народ, стал египтянином! Я ненавидела его и не пошла на похороны. Я продолжила борьбу! – Что ты имеешь против нас? Вопрос удивил Пантеру. – Мы враждуем уже две тысячи лет! – воскликнула она. – Так не пора ли заключить перемирие? – Никогда! – Что ж, постараюсь тебя переубедить. Обаяние Сути не могло не подействовать на Пантеру. Она соблаговолила поднять на него глаза. – Я буду твоей рабыней? – В Египте нет рабов. Какой-то солдат издал крик. Все бросились на землю. На гребне холма зашевелились заросли. Из кустов показалась стая волков, которые, окинув путников взглядом, спокойно пошли своей дорогой. Египтяне вздохнули с облегчением и возблагодарили богов. – Меня освободят, – заявила Пантера. – Рассчитывай только на себя. – При первом же удобном случае я тебя предам. – Откровенность – редкая добродетель. Ты начинаешь мне нравиться. Она надулась и продолжала идти молча. Два часа они шли по каменистой местности, потом по руслу пересохшей реки. Не отрывая глаз от скалистых склонов, Сути старался не пропустить ни малейших признаков тревоги. Когда путь им преградил десяток египетских лучников, они поняли, что спасены.
***
Около одиннадцати утра Пазаир пришел к себе в контору, дверь которой была заперта. – Сходите за Ярти, – приказал он Кему. – С павианом? – С павианом. – А если он болен? – Приведите мне его сейчас же, в любом состоянии. Кем поспешил выполнить приказ. Ярти подошел, охая и стеная. Лицо его было красно, веки опухли. – Я отдыхал после несварения желудка, – объяснил он. – Я принял зернышки тмина в молоке, но тошнота не прошла. Лекарь прописал мне настой ягод можжевельника и два дня отдыха. – Зачем вы забросали посланиями фиванскую стражу? – Возникло два срочных дела! Гнев судьи утих. – Что случилось? – Первое неотложное дело: у нас кончился папирус. Второе: проверка содержимого амбаров, вверенных вашему попечению. По донесению технических служб, в главном хранилище недостает половины запаса пшеницы. Ярти понизил голос. – Назревает большой скандал.
***
После того как жрецы поднесли первые зерна урожая Осирису, а первый хлеб – богине жатвы, носильщики цепочкой потянулись к амбарам с корзинами, полными драгоценного жита. «Для нас настал счастливый день», – пели они. По приставным лестницам они поднимались на крышу амбаров прямоугольной или цилиндрической формы и через люки ссыпали содержимое корзин внутрь. Достать зерно можно было через дверь, открывавшуюся внизу. Смотритель амбаров принял судью на редкость холодно. – В соответствии с царским указом я обязан проверить запасы зерна. – За вас уже все проверил чиновник. – И к какому заключению он пришел? – Он мне не сообщил. Его выводы касаются только вас. – Приставьте лестницу к фасаду главного амбара. – Я же, кажется, сказал: чиновник уже все проверил. – Вы хотите воспротивиться закону? Смотритель смягчился. – Я думаю только о вашей безопасности, судья Пазаир. Карабкаться туда наверх опасно. Вы же не привыкли лазить по крышам. – Значит, вам неизвестно, что половина зерна пропала. Казалось, смотритель потрясен. – Какой кошмар! – Как вы это объясните? – Жучок, очевидно. – Разве не это должно вас волновать в первую очередь? – Я полагаюсь на санитарную службу: это они виноваты! – Половина запаса – это очень много. – Ну, знаете, если заведется жучок… – Принесите лестницу. – В этом нет необходимости, уверяю вас. Судье не пристало заниматься такими вещами! – Когда я поставлю печать на официальном отчете, вы будете отвечать перед законом. Двое работников принесли большую лестницу и прислонили ее к фасаду амбара. Пазаир начал подниматься; ему было не по себе, перекладины скрипели, конструкция казалась более чем шаткой. На полпути лестница зашаталась. – Закрепите ее! – потребовал он. Смотритель огляделся, явно подумывая, как бы улизнуть. Кем положил руку ему на плечо, к ноге приблизился павиан. – Давайте послушаемся судью, – посоветовал нубиец. – Вы же не хотите, чтобы произошел несчастный случай? Приспособили противовесы. Пазаир, успокоившись, полез дальше. Добравшись до верха, на высоте восьми метров от земли он отодвинул засов и открыл люк. Амбар был заполнен до краев.
***
– Непостижимо, – воскликнул смотритель. – Проверявший чиновник вам солгал. – А если предположить, что вы заодно? – Меня обманули, уверяю вас! – Что-то не верится. Павиан зарычал и оскалил зубы. – Он терпеть не может, когда врут, – заметил нубиец. – Придержите зверя! – Если свидетель его раздражает, мне с ним не справиться. Смотритель понурился. – Он пообещал мне хорошее вознаграждение за поддержку. Предполагалось, что потом мы ссыплем якобы недостающее зерно. Солидная готовилась махинация. Но раз преступление еще не было совершено, я смогу сохранить свою должность?
***
Пазаир засиделся за работой допоздна. Он подписал отставку смотрителя, привел обоснования и тщетно пытался найти по спискам проверявшего чиновника. Наверное, тот действовал под вымышленным именем. Зерно воровали нередко, но никогда еще преступление не достигало таких масштабов. Что это – отдельная кража в одном из амбаров Мемфиса или глобальный заговор? В последнем случае вполне оправдан поразивший всех указ фараона. А может, царь рассчитывает, что именно судьи помогут восстановить справедливость и вернуть страну в русло закона? Если бы каждый действовал четко и правильно, независимо оттого, насколько важна его должность, пресечь зло не составило бы труда. В пламени светильника возникло лицо Нефрет, ее глаза, губы. В этот час она, наверное, уже спит. Думает ли она о нем?
25
Пазаир в сопровождении Кема и павиана сел на скороходное судно, чтобы добраться до крупнейшей папирусной плантации Дельты, которую с соизволения фараона возделывал Бел-Тран. В илистой, заболоченной почве это драгоценное растение с косматыми цветками в форме зонтика и стеблем треугольного сечения могло достигать шестиметровой высоты и расти так тесно, что получались густые заросли. Из деревянистых корней делали мебель; из волокон и коры – циновки, корзины, сети, канаты, веревки и даже сандалии и набедренные повязки для бедноты. Что же касается пористой мякоти, которую в изобилии извлекали из-под коры стебля, она подвергалась специальной обработке, чтобы превратиться в знаменитый папирус – предмет гордости Египта. Бел-Тран не довольствовался одними лишь дикими зарослями – в своих бескрайних владениях он сам выращивал папирус, поставил его обработку на широкую ногу и продавал готовую продукцию. Для египтянина зеленые стебли олицетворяли жизненную силу и молодость. Облик папируса имели жезлы богинь, да и колонны храмов воспроизводили в камне его форму. Посреди зарослей была проложена широкая дорога. Навстречу Пазаиру шли обнаженные крестьяне с тяжелыми вязанками папирусного стебля на спине. Они жевали молодые побеги и, высосав сок, выплевывали волокнистую зелень. Перед большими складами, где папирус хранился в деревянных ящиках или сосудах из обожженной глины, работники очищали тщательно отобранные волокна и раскладывали их на циновках и досках. Стебли разрезались в длину и получившиеся пластинки накладывались друг на друга в два слоя крест-накрест. Специально обученные работники накрывали все это влажной тканью и долго отбивали деревянным молотком. Потом наступал ответственный момент, когда полоски папируса должны были склеиться при высыхании без добавления каких-либо веществ. – Здорово, не правда ли? У коренастого человека, обратившегося к Пазаиру, была круглая, как луна, голова, черные волосы и подведенные краской глаза. Несмотря на полные руки и ноги и некоторую грузность, он выглядел очень подвижным, чтобы не сказать суетливым. – Ваш приход для меня большая честь, судья Пазаир. Мое имя Бел-Тран, я хозяин этих плантаций. Он поддернул набедренник и оправил рубаху из тонкого льна. Хотя он одевался у лучшей ткачихи Мемфиса, всегда казалось, что одежда ему либо мала, либо велика, либо широка. – Я хотел бы купить у вас папирус. – Пойдемте, я покажу вам мои лучшие образцы. Бел-Тран повел Пазаира в помещение, где хранилась продукция высочайшего качества – свитки, склеенные из двадцати листов первоклассного папируса. Хозяин развернул один такой свиток. – Вы только посмотрите, какая красота, какое тонкое волокно, какой замечательный желтый цвет. Никому больше не удается достичь такого великолепного цвета. А секрет в том, сколько держать папирус на солнце. Впрочем, есть еще много других важных хитростей, которые я держу втайне. Судья потрогал край свитка. – Это само совершенство. Бел-Тран не скрывал своей гордости. – Этот папирус предназначен для писцов, занятых переписыванием и дополнением Поучений[810]. Дворцовая библиотека заказала мне десяток таких свитков на следующий месяц. На моем папирусе пишут также тексты «Книги мертвых», которые кладут в гробницы. – Кажется, вы процветаете. – Так и есть, если, конечно, работать день и ночь не покладая рук! Я не жалуюсь, дело свое я люблю всей душой. Готовить основу для священных письмён – что может быть прекраснее? – Мои средства ограничены, я не могу себе позволить столь замечательный папирус. – У меня есть товар не столь высокого качества, но вполне добротный. Прочность гарантирована. Судью вполне устроила новая партия папируса, но цена все еще оставалась слишком высокой. Бел-Тран почесал затылок. – Вы мне очень симпатичны, судья Пазаир, и надеюсь, это взаимно. Я люблю справедливость, ибо она – ключ к счастью. Вы не откажете мне в удовольствии подарить вам эту партию? – Я очень тронут вашим великодушием, но, к сожалению, вынужден сказать нет. – Позвольте мне проявить настойчивость. – Любой подарок, каким бы он ни был, может расцениваться как подкуп. Если вы разрешите отсрочить платеж, это надо будет должным образом записать и зарегистрировать. – Разумеется, как вам будет угодно! Я хотел лишь выразить вам свое уважение за то, что вы, не колеблясь, привлекаете к ответу крупных предпринимателей, нарушающих закон. Для этого требуется немалое мужество. – Это просто мой долг. – В последнее время в Мемфисе нравы торговцев заметно ухудшились. Полагаю, указ фараона изменит дело к лучшему. – Мы, судьи, делаем все от нас зависящее, хотя я мало знаком с нравами Мемфиса. – Вы быстро привыкнете. В последние годы конкуренция между торговцами весьма ужесточилась, люди стали наносить друг другу серьезные удары. – И вам тоже досталось? – Как и всем, но я не сдаюсь. Вначале я был принят на работу помощником счетовода на одну большую плантацию Дельты, где папирус делали плохо. Крошечное жалованье и много часов кропотливого труда. Я предложил хозяину плантации усовершенстования, и он повысил меня до должности счетовода. Так бы я и жил себе спокойно, если б не несчастье. Собеседники вышли со склада и пошли по усаженной цветами аллее, ведущей к дому Бел-Трана. – Могу я предложить вам выпить? Это не подкуп, уверяю вас! Пазаир улыбнулся. Он чувствовал, что хозяину хочется поговорить. – Что за несчастье? – Малоприятное происшествие, не делающее мне чести. Я женился на женщине старше меня, уроженке Элефантины; мы неплохо ладили, если не считать редких мелких стычек. Я возвращался домой поздно, она не имела ничего против. Однажды днем мне стало нехорошо, наверное, переутомился. Меня отвели домой, и я обнаружил свою супругу в постели с садовником. Поначалу мне захотелось ее убить, потом – засудить за измену… но наказание такое тяжелое![811] Я довольствовался незамедлительным разводом. – Тяжкое испытание. – Я был уязвлен до глубины души и пытался утешиться, работая вдвое больше. Хозяин плантации предложил мне заброшенный участок бесплодной земли. Придуманная мною система орошения сделала его плодородным – отличные урожаи, приемлемые цены, довольные клиенты… и, наконец, одобрение дворца! Став царским поставщиком, я достиг предела мечтаний. Мне выделили болота, через которые вы прошли. – Мои поздравления. – Усилия всегда вознаграждаются. Вы женаты? – Нет. – Я решил вторично попытать счастья, и мне повезло. Бел-Тран проглотил пилюлю из ароматной смолы, сыти[812] и финикийского тростника; такая смесь помогала сохранить свежесть дыхания. – Я вас познакомлю с моей молодой супругой.***
Госпожа Силкет в отчаянии вглядывалась в свое лицо: что, если на нем появилась первая морщинка? На этот случай она запаслась маслом тригонеллы, обладающим свойством сглаживать дефекты кожи. Парфюмер отделил стручки растения от зерен, приготовил пасту и разогрел ее. На поверхности поблескивало масло. Силкет осторожно нанесла косметическую маску, состоящую из меда, красного натрона и северной соли, а потом натерла все тело алебастровой пудрой. Благодаря хирургическому вмешательству Небамона ее лицо и фигура стали тоньше, как того желал муж. Конечно, самой себе она все еще казалась полноватой, но от Бел-Трана никаких нареканий по поводу пышности бедер она больше не слышала. Готовясь приступить вместе с мужем к обильной трапезе, она накрасила губы красной охрой, нанесла нежный крем на щеки и подвела глаза зеленой краской. Потом она натерла кожу под волосами специальным лосьоном, основные ингредиенты которого – пчелиный воск и смола – предотвращали появление седых волос. Сочтя отражение в зеркале вполне удовлетворительным, Силкет надела парик из настоящих волос с благоухающими прядями, подаренный ей мужем по случаю рождения второго ребенка, оказавшегося мальчиком. Служанка предупредила, что пришел Бел-Тран, да не один, а с гостем. Силкет в панике снова кинулась к зеркалу. Удастся ли ей произвести благоприятное впечатление или ей попадет за какой-нибудь изъян, ускользнувший от ее внимания? Но времени нанести другой макияж или переодеться уже не было. Набравшись смелости, она вышла из своей комнаты.
***
– Силкет, дорогая! Познакомься, это судья Пазаир из Мемфиса. Женщина улыбнулась с должной долей застенчивости и смущения. – Мы часто принимаем дома покупателей и грамотных работников, – продолжал Бел-Тран, – но вы – первый судья, посетивший нас! Это для нас большая честь. Новая усадьба торговца папирусом насчитывала около десяти слабо освещенных комнат. Госпожа Силкет боялась солнца, потому что от его лучей краснела ее нежная кожа. Служанка принесла свежего пива, за ней прибежали дети – рыжеволосая девочка и мальчишка, похожий на отца. Они поздоровались с судьей и с криком унеслись прочь. – Ах, дети! Мы обожаем их, но иногда они так утомительны. Силкет кивнула в знак согласия. К счастью, оба раза роды прошли без осложнений и не испортили ее фигуру благодаря долгим периодам отдыха. Некоторые нежелательные округлости она скрывала под просторным платьем из первоклассного льна, скромно украшенного красной бахромой. Серьги из слоновой кости были привезены из Нубии. Пазаиру предложили сесть в папирусное кресло необычной вытянутой формы. – Оригинально, не правда ли? Я люблю всякие новшества, – сказал Бел-Тран. – Если такая форма будет иметь успех, я налажу производство для продажи. Судья удивился планировке дома: приземистое здание было вытянуто в длину и не имело террасы. – Я страдаю головокружениями. Эта покатая крыша оберегает нас от жары. – Вам нравится в Мемфисе? – спросила Силкет. – Свое селение я любил больше. – А где вы сейчас живете? – Над своей конторой. Немного тесновато. С тех пор как я вступил в должность, дел все время невпроворот и архивы быстро накапливаются. Через несколько месяцев, чувствую, мне придется еще потесниться. – Но это так легко уладить, – заметил БелТран. – Один из моих близких знакомых ведает архивами во дворце. Он распределяет места в государственном хранилище. – Я бы не хотел, чтобы мне оказывали предпочтение. – Что вы, никакого предпочтения. Вам все равно придется рано или поздно иметь с ним дело, так лучше пораньше. Я дам вам его имя, а там сами разберетесь. Пиво было восхитительным и разлито оно было по большим кувшинам, сохранявшим напиток прохладным. – Этим летом, – поведал Бел-Тран, – я открою склад папируса возле арсенала. Тогда поставки для административных учреждений будут занимать меньше времени. – Значит, вы попадете в мой округ. – Я очень этому рад. Насколько я знаю, вы все держите под действенным и неусыпным контролем. Это поможет мне утвердить свою репутацию. Хотя иной раз представляется случай сплутовать, я мошенничества не выношу – в один прекрасный день тебя все равно схватят за руку! В Египте плутов не любят. Как гласит пословица, кривда переправы не найдет и реку не перебредет. – Вы что-нибудь слышали о хищениях зерна? – Когда разразится скандал, будут приняты самые жесткие меры. – Кто, по-вашему, может быть в этом замешан? – Поговаривают, что часть урожая, сложенного в амбарах, расхищена частными лицами. Слухи, одни лишь слухи, но, правда, упорные. – А стража пыталась найтивиновных? – Безуспешно. Вы согласитесь отобедать с нами? – Не хотелось бы быть назойливым. – Мы с супругой очень рады принимать вас у себя. Силкет наклонила голову и одарила судью одобряющей улыбкой. Пазаир не мог не оценить изысканность яств: гусиная печень, салат со специями и оливковым маслом, свежий зеленый горошек, гранаты, пирожки, и все это запивалось красным вином из Дельты урожая первого года царствования Рамсеса Великого. Дети ели отдельно, но все время требовали сладких пирожков. – Вы подумываете создать семью? – спросила Силкет. – Меня целиком поглощает работа, – ответил Пазаир. – Жена, дети – это ли не цель жизни? Ничто не может принести большего удовлетворения, – отметил Бел-Тран. Надеясь, что никто не заметит, рыжеволосая девчушка стащила булочку. Отец схватил ее за руку. – За такое поведение не будет тебе ни игр, ни прогулок! Девочка расплакалась и затопала ногами. – Ты слишком строг, – возразила Силкет. – Ничего страшного не произошло. – Иметь все, что душе угодно, и воровать – это никуда не годится! – Разве в детстве ты не поступал точно так же? – Мои родители были бедны, но я ни у кого ничего не крал и не допущу, чтобы так вела себя моя дочь. Девочка заплакала еще громче. – Уведи ее, пожалуйста. Силкет повиновалась. – Превратности воспитания! Благодарение богам, радостей бывает больше, чем огорчений. Бел-Тран показал Пазаиру предназначенную для него партию папируса и предложил обработать края листов и добавить несколько свитков более низкого качества, белесого цвета – для черновиков. Распрощались они тепло и сердечно.
***
Лысая голова Монтумеса покраснела, выдавая с трудом сдерживаемый гнев. – Слухи, судья Пазаир, слухи, и ничего более! – Однако вы провели расследование. – Для проформы. – И никаких результатов? – Никаких! Кто может польститься на зерно, хранящееся в государственных амбарах? Смех, да и только! С какой стати вы вообще занялись этим делом? – Амбар находится в моем округе. Верховный страж сбавил тон. – Правда, я и забыл. У вас есть доказательство? – Самое веское: письменный документ. Монтумес прочел свиток. – Проверявший чиновник написал, что половина запаса изъята… что в этом необычного? – Амбар заполнен до краев, и я лично в этом убедился. Верховный страж встал, повернулся к судье спиной и стал глядеть в окно. – Документ подписан. – Вымышленным именем. Оно не значится в списке уполномоченных чиновников. У вас ведь есть все возможности для того, чтобы отыскать эту странную личность. – Полагаю, вы допросили смотрителя амбаров? – Он утверждает, что не знает настоящего имени человека, с которым имел дело, и видел его только один раз. – Думаете, лжет? – Может быть, и нет. Несмотря на присутствие павиана, смотритель больше ничего не сказал, так что Пазаир был склонен верить в его искренность. – Это же настоящий заговор! – Не исключено. – И зачинщик, по-видимому, смотритель. – Я не доверяю видимости. – Передайте мне этого мошенника, судья Пазаир. Он у меня заговорит. – И речи быть не может. – А вы что предлагаете? – Нужно держать амбар под постоянным тайным наблюдением. Когда вор и его приспешники явятся за зерном, вы схватите их на месте преступления и выясните имена всех виновных. – Их насторожит исчезновение смотрителя. – Поэтому он должен продолжать исполнять свою должность. – План сложный и рискованный. – Отнюдь. Если у вас есть другой, получше, я готов повиноваться. – Я сделаю все, что требуется.
26
Дом Беранира был единственной тихой гаванью, где смирялась буря в душе Пазаира. Он написал длинное письмо Нефрет, где вновь объяснился в любви и умолял ее найти в сердце ответное чувство. Он корил себя за то, что докучает ей, но был не в силах скрывать свою страсть. Отныне вся жизнь его была в руках Нефрет. Беранира он застал за возложением цветов к скульптурным портретам предков в первой комнате его дома. Пазаир погрузился в молитву рядом с ним. Васильки с зелеными чашечками и желтые цветы персей помогали бороться с забвением и продлевали общение с мудрецами, обитавшими в райских полях Осириса. Закончив обряд, учитель и ученик поднялись на террасу. Пазаир любил этот час, когда дневной свет умирает и сменяется светом звезд. – Молодость твоя остается позади, как ненужная старая кожа. Она была счастливой и безмятежной. Пора подумать о том, чтобы жизнь не прошла даром. – Вы все обо мне знаете. – Даже то, что ты не захотел мне поведать? – С вами ни к чему ходить вокруг да около. Как вы думаете, она не отвергнет меня? – Нефрет никогда не притворяется. Она поступит честно. Бывали моменты, когда тревога подступала к самому горлу Пазаира и мешала дышать. – Мне кажется, я обезумел. – О безумии стоит говорить лишь в одном случае: когда человек жаждет заполучить то, что принадлежит другому. – Я забыл ваши уроки: приучать свой ум к прямоте, сохранять уравновешенность и четкость, не заботиться о собственном благе, поступать так, чтобы люди мирно шли своим путем, чтобы строились храмы, а сады цвели во славу богам[813]. Меня сжигает страсть, и я сам поддерживаю ее пламя. – Ну и хорошо. Пройди свой путь до конца, до той точки, откуда не будет возврата. И да угодно будет небесам, чтобы ты не уклонился от праведного пути. – Я не пренебрегаю своими обязанностями. – Как продвигается дело сфинкса? – Зашло в тупик. – Никакой надежды? – Надо или добраться до пятого ветерана, или стараниями Сути что-то разузнать о полководце Ашере. – Маловато зацепок. – Я не отступлю, даже если придется годами ждать новой улики. Не забывайте, ведь у меня есть доказательство того, что армейские власти солгали: пять ветеранов были официально признаны мертвыми, в то время как один из них работал пекарем в Фивах. – Пятый жив, – проговорил Беранир так, словно видел ветерана перед собой. – Не отступай, зло бродит вокруг. Воцарилось долгое молчание. Торжественность тона глубоко взволновала судью. Его учитель обладал даром ясновидения – иной раз ему открывалось то, что было скрыто до поры от глаз простых смертных. – Скоро я покину этот дом, – заявил он. – Пришло время переселяться в храм и там доживать свой век. Молчание богов Карнака будет тешить мой слух, а собеседниками моими станут камни вечности. Каждый новый день будет безмятежнее предыдущего, и так я вступлю в преклонные лета, готовящие человека к тому, чтобы предстать перед судом Осириса. Пазаир возмутился. – Мне нужны ваши наставления. – Что еще я могу тебе посоветовать? Завтра возьму свой старческий посох и отправлюсь в сторону Прекрасного Запада, откуда никто не приходит назад. – Если я обнаружу язву, угрожающую Египту, и буду знать, как с ней бороться, ваша духовная поддержка будет мне необходима. Она может сыграть решающую роль. Повремените, прошу вас. – Как бы там ни было, этот дом станет твоим, как только я удалюсь в храм.***
Чечи разжег огонь с помощью финиковых косточек и древесного угля, поставил на него конусообразный тигель и раздул пламя. В который раз он пытался довести до совершенства новый метод получения сплавов, заливая расплавленный металл в специальные формы. Обладая исключительной памятью, он ничего не записывал, боясь предательства. Его два помощника – здоровые, неутомимые парни – могли часами поддерживать пламя, дуя на него через длинные полые стебли. Скоро несокрушимое оружие будет готово. Вооружившись сверхпрочными мечами и копьями, солдаты фараона смогут разбивать шлемы и пронзать доспехи азиатских воинов. Крики и шум борьбы отвлекли его от размышлений. Чечи открыл дверь мастерской и столкнулся с двумя стражниками, ведущими пожилого седовласого мужчину с красными руками; он сопел, как загнанная лошадь, глаза слезились, набедренная повязка порвалась. – Он проник на склад металлов, – объяснил один из стражников. – Когда мы его окликнули, он попытался сбежать. Чечи сразу же узнал зубного лекаря Кадаша, но не выказал ни малейшего удивления. – Отпустите меня, звери! – требовал лекарь. – Вы – вор, – возразил начальник стражи. Что за безумная мысль взбрела Кадашу в голову? Он уже давно мечтал о небесном железе, чтобы сделать новые хирургические инструменты и стать непревзойденным зубным лекарем. Обуреваемый корыстным замыслом, он потерял голову и забыл о плане заговорщиков. – Я пошлю одного из своих людей в контору старшего судьи царского портика, – заявил офицер стражи. – Нам необходим судья. Из страха возбудить подозрения Чечи никак не мог воспротивиться такому повороту событий.
***
Потревоженный среди ночи, секретарь старшего судьи царского портика не счел нужным будить начальника, весьма ревностно оберегавшего свое право немного поспать. Он справился со списком судей, и его выбор пал на последнего – некоего Пазаира. Он стоит на низшей ступени иерархии, вот и пусть учится ремеслу. Пазаир не спал. Он мечтал о Нефрет, воображал, что она рядом, спокойная, надежная, нежная. Он рассказывал бы ей о своих расследованиях, она – о своих пациентах. Так каждый помогал бы другому нести его ношу, и оба наслаждались бы покоем тихого счастья, возрождавшегося с каждым новым солнцем. Вдруг заревел Северный Ветер, залаял Смельчак. Судья встал и открыл окно. Вооруженный стражник показал ему письменное распоряжение секретаря старшего судьи. Набросив на плечи короткую накидку, Пазаир последовал за стражником в казарму. Перед входом на лестницу, ведущую в подземелье, скрестив копья, стояли два солдата. Они отвели оружие, чтобы пропустить судью, навстречу которому вышел Чечи. – Я ждал старшего судью царского портика. – Извините, вынужден вас разочаровать: дело поручили мне. Что произошло? – Попытка ограбления. – Есть подозреваемый? – Виновник арестован. – Тогда надо лишь изложить факты, выдвинуть обвинение и незамедлительно свершить правосудие. Чечи было явно не по себе. – Я должен его допросить. Где он? – В коридоре, слева от вас. Виновный сидел на наковальне под охраной вооруженного стражника. При виде Пазаира он вскочил. – Кадаш! Что вы здесь делаете? – Я прогуливался возле казармы, вдруг на меня налетели и силой привели сюда. – Неправда, – возразил стражник. – Этот человек проник на склад, там мы его и застали. – Ложь! Я подам жалобу по поводу нанесенных ударов и грубого обращения. – Против вас много свидетелей, – напомнил Чечи. – Что хранится на этом складе? – спросил Пазаир. – Металлы, в основном медь. Пазаир обратился к зубному лекарю. – У вас что, кончилось сырье для инструментов? – Я жертва недоразумения. Чечи подошел к судье и прошептал ему несколько слов на ухо. – Как пожелаете. Они вдвоем ушли в мастерскую. – Я провожу исследования, требующие строжайшей секретности. Вы не могли бы устроить закрытый процесс? – Конечно же, нет. – В исключительных случаях… – Не настаивайте. – Кадаш – уважаемый и состоятельный зубной лекарь. Я не могу объяснить его поступок. – Какого рода исследованиями вы занимаетесь? – Оружие. Понимаете? – Специального закона для вашей деятельности не существует. Если Кадаш будет обвинен в воровстве, он волен защищаться как сочтет нужным, и вам придется давать показания. – То есть я буду обязан отвечать на вопросы. – Естественно. Чечи немного помолчал. – В таком случае я предпочитаю не подавать жалобу. – Это ваше право. – Это прежде всего в интересах Египта. Любопытные уши в суде или где-нибудь еще – и все предприятие окажется под угрозой провала. Предоставляю Кадаша вам; я буду вести себя как ни в чем не бывало. Вы же, судья Пазаир, помните, что обязаны хранить тайну. Пазаир вышел из казармы вместе с зубным лекарем. – Против вас не выдвинуто никакого обвинения. – Зато я собираюсь протестовать! – Неблагоприятные свидетельства, трудно объяснимое присутствие в этом месте в неурочный час, подозрение в краже… дело получается не из простых. Кадаш покашлял, рыгнул и сплюнул. – Ладно, не буду. – Зато я буду. – Простите? – Я согласен вставать среди ночи, вести расследование в любых условиях, но не допущу, чтобы меня дурачили. Объяснитесь, или я обвиню вас в нанесении оскорбления судье. Лекарю вдруг стало трудно говорить. – Медь высочайшего качества, совершенно чистая медь! Я много лет о ней мечтаю. – Как вы узнали о существовании этого склада? – Один офицер из этой казармы оказался… болтливым клиентом. Он похвастался, я решил попытать счастья. Раньше казармы так строго не охранялись. – Вы решились на воровство? – Нет, что вы, я был готов заплатить! Я бы отдал за металл несколько тучных быков. Воины любят мясо. А у меня был бы превосходный материал, легкий, прочный! Но этот бесстрастный усатый человечек… С ним невозможно договориться. – Но не весь же Египет можно подкупить. – Подкупить? Что вы такое вообразили? Если два человека заключают сделку, это еще не значит, что они мошенники. Вы слишком мрачно смотрите на вещи. Кадаш ворча удалился. Пазаир пробродил всю ночь. Объяснения зубного лекаря его не убедили. Запас металлов, казарма… снова армия! Впрочем, вряд ли этот эпизод как-то связан с исчезновением ветеранов; скорее, все дело в отчаянии стареющего лекаря, не желающего признать, что рука его уже не так тверда, как прежде. Было полнолуние. Согласно легенде, на луне жил заяц, который ножом отсекал голову тьме. Судья с радостью взял бы его к себе в секретари. Ночное солнце росло и таяло, наполнялось светом и снова его теряло; воздушная барка несла его мысли к Нефрет.
***
Все знали, что нильская вода чрезвычайно полезна для пищеварения, поскольку выводит из организма вредные жидкости. Некоторые врачи полагали, что своими целебными свойствами она обязана лекарственным травам, росшим по берегам реки. Когда начинался разлив, вода вбирала в себя растительные частицы и минеральные соли. Египтяне наполняли тысячи кувшинов, где драгоценная влага могла долго храниться в неизменном состоянии. Тем не менее Нефрет проверила прошлогодние запасы. Когда содержимое одного из сосудов показалось ей мутноватым, она бросила туда сладкий миндаль. Через сутки вода станет прозрачной и восхитительно свежей. Некоторые кувшины трехлетней давности до сих пор хранили воду в первозданной чистоте. Удостоверившись, что все в порядке, девушка решила последить за работой прачечника. Во дворце на эту должность назначали человека, пользующегося особым доверием, так как чистоте одежды придавалось большое значение – в любом сообществе, большом или малом, дело это считалось чрезвычайно ответственным. Постирав и выжав белье, прачечник должен был выбить его специальной колотушкой, встряхнуть, высоко подняв руки, и лишь потом развесить на веревке, натянутой между двумя шестами. – Вы нездоровы? – Почему вы так думаете? – Потому что вы работаете вполсилы. Вот уже несколько дней выстиранное вами белье все серое. – А что вы хотите? Работа тяжелая. Грязное женское белье – такая мука. – Одной водой тут не обойтись. Возьмите вот это моющее средство и это благовоние. Прачечник, нахмурившись, взял у Нефрет два сосуда, но, увидев ее улыбку, смягчился. Чтобы в зерне не завелись насекомые, Нефрет велела пересыпать запасы древесным пеплом – дешевым и действенным средством. Так зерно удастся сохранить до следующего урожая. Пока она осматривала последний отсек амбара, пришла новая поставка от Кани: петрушка, розмарин, шалфей, тмин и мята. Высушенные и растертые в порошок, эти лекарственные растения служили основой для лекарств, которыми Нефрет лечила больных. Ее снадобья смягчили боли старика, здоровье его заметно улучшилось, он радовался тому, что может оставаться с семьей. Несмотря на скромность Нефрет ее успехи не прошли незамеченными. Молва быстро распространилась по западному берегу, и к ней потянулись крестьяне из соседних селений. Девушка никому не отказывала и каждому уделяла столько времени, сколько требовалось. После изнурительного дня она полночи занималась приготовлением пилюль, мазей и перевязочных средств. Ей помогали две вдовы, выбранные за их добросовестность. Несколько часов сна – и снова с самого рассвета у дверей выстраивался нескончаемый поток пациентов. Не так представляла она свою работу, но лечить людей ей нравилось. Стоило только увидеть, как озабоченное лицо вновь обретает жизнерадостность, и она чувствовала, что ее усилия вознаграждены. Небамон оказал ей услугу, заставив приобрести опыт в общении с самыми бедными пациентами. Здесь от красноречия светского лекаря проку было мало. Пахарь, рыбак, мать семейства желали только одного – вылечиться быстро и дешево. Когда Нефрет одолевала усталость, ее развлекала играми Проказница – зеленая обезьянка, которую она попросила привезти из Мемфиса. Она напоминала ей о первой встрече с Пазаиром, этим строгим, непримиримым человеком, вызывавшим тревогу и привлекавшим одновременно. Какая женщина сможет жить с судьей, для которого его призвание важнее всего на свете? Десяток носильщиков составили корзины к дверям новой аптеки Нефрет. Проказница тотчас же принялась прыгать с одной на другую. В корзинах были кора ивы, натрон, белое масло, ладан, мед, смола терпентина и различные животные жиры в огромном количестве. – Это мне? – Вы целительница Нефрет? – Да. – Значит, это ваше. – Да, но цена этих веществ… – Все оплачено. – Наше дело – доставка. Вот, подпишите. Потрясенная и обрадованная, Нефрет написала свое имя на деревянной табличке. Теперь она сможет готовить сложные снадобья и в одиночку лечить тяжелые болезни.
***
Когда на закате на пороге жилища появилась Сабабу, Нефрет не удивилась. – Я ждала вас. – Вы догадались? – Мазь от ревматизма скоро будет готова. Все составляющие у меня теперь есть. Волосы Сабабу были убраны душистым тростником, на шее красовалось ожерелье из сердоликовых цветков лотоса; теперь она нисколько не походила на нищенку. Льняное платье, просвечивавшее ниже талии, позволяло любоваться длинными, стройными ногами. – Я хочу лечиться у вас и только у вас. Все остальные лекари – воры и шарлатаны. – Вы не преувеличиваете? – Я знаю, что говорю. Можете назначить любую цену. – Вы сделали мне роскошный подарок. Такого количества дорогих веществ хватит на сто человек. – Но я – первая. – Вы что, разбогатели? – Я вернулась к своей деятельности. Фивы – город поменьше, чем Мемфис, люди в нем набожны и не столь открыты, однако состоятельные горожане не меньше ценят пивные дома. Я сняла симпатичный домик в центре города, заплатила сколько следует начальнику местной стражи и распахнула двери заведения. Слава о нем быстро облетела город. Подтверждение тому перед вами! – Вы очень щедры. – Не обольщайтесь. Я хочу, чтобы меня хорошо лечили. – А вы будете следовать моим советам? – Неукоснительно. Я только руковожу заведением, сама я прежней работой не занимаюсь. – Но вас, наверное, одолевают обожатели. – Я соглашаюсь ублажать одного мужчину, но платы не беру. Я стала неприступна. Нефрет слегка покраснела. – Вас задели мои слова? – Нет-нет, что вы. – Вы раздаете людям любовь, а сами-то вы ее получаете? – Бессмысленный вопрос. – Знаю, знаю: вы – девственница. Счастлив тот мужчина, что сумеет вас соблазнить. – Госпожа Сабабу, я… – Госпожа, я? Вы шутите? – Закройте дверь и снимите платье. До полного исцеления вы будете приходить сюда каждый день, и я буду растирать вас бальзамом. Сабабу легла на массажную плиту. – Вы тоже заслуживаете настоящего женского счастья.
27
Из-за сильного течения поток был весьма опасен. Сути поднял Пантеру и понес, перекинув через плечо. – Прекрати брыкаться. Если упадешь – утонешь. – Тебе бы только меня унизить. – Хочешь проверить? Она присмирела. По пояс в воде, Сути тщательно выбирал дорогу, придерживаясь за большие камни. – Переберись ко мне на спину и держись за шею. – Я почти умею плавать. – Учиться будешь не сейчас. Молодой человек оступился, Пантера вскрикнула. Чем дальше он продвигался, ловкий и быстрый, тем крепче она к нему прижималась. – Постарайся расслабить мышцы и подгребай ногами. Споткнувшись, окунулся с головой, но он устоял на ногах и сумел добраться до берега. Он вбил кол, привязал к нему веревку и перекинул конец на другой берег, где ее закрепил один из солдат. Пантера за это время вполне могла бы убежать. Уцелевшие после штурма бойцы и отряд лучников полководца Ашера преодолели препятствие. Последний пехотинец, переоценив свои силы, забавы ради отпустил веревку. Отягченный оружием, он тут же стукнулся о каменную глыбу, потерял сознание и пошел ко дну. Сути нырнул следом. Словно радуясь возможности унести сразу две жертвы, течение усилилось. Сути поплыл под водой и скоро нашел несчастного. Двумя руками он схватил его под мышки и, борясь с течением, попытался поднять на поверхность. Солдат пришел в сознание, толкнул спасателя локтем в грудь и исчез в бурлящем потоке. Сути больше не мог бороться.***
– Ты не виноват, – уверяла Пантера. – Не люблю смерть. – Подумаешь, какой-то глупый египтянин! Он дал ей пощечину. Ошеломленная, она подняла на него глаза, полные ненависти. – Никто никогда так со мной не обращался! – Жаль. – В твоей стране бьют женщин? – У них те же права и обязанности, что и у мужчин. Строго говоря, тебя не мешало бы выпороть. Он встал и угрожающе надвинулся на нее. – Отойди! – Ты берешь свои слова обратно? Губы Пантеры оставались плотно сжатыми. Топот копыт отвлек Сути. Солдаты в спешке выбегали из палаток. Он схватил лук и колчан. – Хочешь уйти – проваливай! – А ты меня найдешь и убьешь. Он пожал плечами. – Да будут прокляты все египтяне! Но это было не вражеское нападение, а прибытие полководца Ашера и его элитного отряда. По лагерю быстро распространялись новости. Бывший разбойник хлопнул Сути по плечу. – Я горжусь тем, что знаком с героем! Ашер выделит тебе по меньшей мере пять ослов, два лука, три бронзовых копья и круглый щит. Недолго тебе оставаться простым солдатом. Ты смел, мой мальчик, а это встретишь не часто, даже в армии. Сути ликовал. Наконец-то он у цели. Теперь надо как можно больше выспросить у людей из окружения полководца и найти в нем слабое звено. Он не ударит лицом в грязь, и Пазаир сможет им гордиться. Его окликнул огромный детина в шлеме. – Ты Сути? – Он, он, – подтвердил бывший разбойник. – Это он обеспечил нам победу над вражеской крепостью, а потом рисковал жизнью, чтобы спасти утопающего. – Полководец Ашер производит тебя в офицеры и назначает колесничим. С завтрашнего дня будешь помогать нам преследовать этого мерзавца Адафи. – Он сбежал? – Да он как угорь! Однако мятеж подавлен и в конце концов мы этого труса схватим. Десятки храбрых воинов полегли в расставленных им ловушках. Он убивает по ночам, как сама похитительница-смерть; он подкупает вождей разных племен и думает только о том, как посеять смуту. Пойдем со мной, Сути. Полководец хочет лично наградить тебя. Хотя Сути терпеть не мог подобных церемоний, когда тщеславие одних подогревает бахвальство других, он согласился. Личная встреча с полководцем была достойной наградой за все пережитые опасности. Герой шествовал между двумя шеренгами возбужденных солдат, стучавших мечами по щитам и выкрикивавших имя славного воина. Издали полководец Ашер отнюдь не походил на великого военачальника: низкорослый, сутулый, он больше напоминал писца, погрязшего в административных интригах. Метрах в десяти от полководца Сути резко остановился. Его тут же подтолкнули в спину. – Иди, полководец ждет! – Не бойся, приятель! Молодой человек пошел вперед, лицо его смертельно побледнело. Ашер выступил ему навстречу. – Счастлив познакомиться с лучником, чьи подвиги прославляет все войско. Боец Сути, награждаю тебя золотой мухой[814] храбрых. Храни этот знак, он послужит доказательством твоей доблести. Сути протянул руку. Товарищи поздравляли его, все хотели разглядеть и потрогать вожделенную награду. Герой смотрел на все невидящим взглядом. Все приписали его поведение смятению. Когда после официально разрешенной полководцем попойки Сути ушел к себе в палатку, ему вслед посыпались соленые шутки, намекавшие на то, что с красавицей Пантерой его ждут битвы иного рода. Сути лег на спину с открытыми глазами. Ее он даже не замечал, она не осмелилась заговорить и свернулась калачиком подальше от него. Он был похож на обессиленного демона, жаждущего крови своих жертв. Полководец Ашер… Перед глазами Сути неотступно стояло лицо главного военачальника – лицо человека, избивавшего и убившего египтянина в нескольких метрах от него. Полководец Ашер – трус, лжец и предатель.
***
Проникнув сквозь высокое окно, утренний свет озарил одну из ста тридцати четырех колонн гигантского крытого зала, насчитывавшего пятьдесят три метра в длину и сто два в ширину. В карнакском храме зодчие создали самый большой в стране каменный лес, украшенный ритуальными сценами, которые изображали фараона, делающего подношения богам. Яркие, переливающиеся краски проступали лишь в определенные часы. Надо было прожить здесь целый год, чтобы проследить за перемещением солнечных лучей, озарявших скрытые от глаз непосвященных ритуалы и по очереди освещавших колонну за колонной, сцену за сценой. По центральной аллее вдоль каменных лотосов с раскрытыми цветочными чашами, беседуя, шли два человека. Один из них был Беранир, другой – верховный жрец Амона, семидесятилетний мужчина, на чьи плечи было возложено управление священной обителью бога, забота о ее богатствах и соблюдение иерархии внутри храма. – До меня дошли слухи о вашем прошении, Беранир. Сколько молодых людей наставили вы на путь мудрости и вдруг решили удалиться от мира и поселиться во внутреннем храме. – Таково мое желание. Глаза слабеют, ноги не слушаются. – По-моему, вы еще не настолько стары. – Видимость обманчива. – Ваша стезя еще отнюдь не оборвана. – Все свои познания я передал Нефрет и больше не принимаю пациентов. А дом в Мемфисе я завещал судье Пазаиру. – Небамон не слишком благоволит к вашей воспитаннице. – Он подверг ее суровому испытанию, но он не ведает, что она за человек. Дух ее настолько же крепок, насколько кроток ее облик. – А Пазаир не из Фив ли родом? – Да, верно. – Вы, кажется, всецело ему доверяете. – В нем живет огонь. – Пламя бывает разрушительным. – Если его обуздать, оно освещает. – Какую роль вы ему пророчите? – Это решит судьба. – Вы чувствуете людей, Беранир; преждевременный уход на покой лишит Египет вашего дара. – Найдется преемник. – Я тоже подумываю об уходе. – Ваша ноша непосильна. – В самом деле, день ото дня все тяжелее. Слишком много административных обязанностей и мало времени для молитвы. Фараон и его совет приняли мое прошение, через несколько недель я переселюсь в небольшой домик на восточном берегу священного озера и посвящу себя изучению древних текстов. – Значит, станем соседями. – Боюсь, что нет. Ваше жилище будет куда более величественным. – Что вы хотите сказать? – Вы назначены моим преемником, Беранир.
***
Денес с супругой приняли приглашение Бел-Трана, хотя состояние свое он сколотил совсем недавно и честолюбием обладал явно непомерным. Госпожа Нанефер полагала, что ему как нельзя более пристало определение выскочка. Однако пренебрегать производителем папируса не следовало; житейская хватка, работоспособность, широкие познания делали его полезным человеком. Ведь получил же он одобрение дворца, да и знакомых при дворе завел весьма влиятельных. Такого человека Денес никак не мог сбросить со счетов, а потому, несмотря на протесты супруги, убедил ее пойти на прием, организованный Бел-Траном по случаю открытия нового склада в Мемфисе. Денес и Нанефер отправились на прием в роскошных носилках с высокой спинкой и специальной скамеечкой для ног. Резные подлокотники позволяли принять изящную, непринужденную позу. Балдахин защищал их от ветра и пыли, а пара опахал – от слепящих лучей заходящего солнца. Сорок носильщиков бодро шествовали мимо изумленных зевак. Носилки были такими длинными, а ног под ними семенило так много, что процессию быстро обозвали сороконожкой. А между тем слуги распевали: «Полные носилки нам милее пустых», думая о высоком вознаграждении, ожидавшем их по окончании небывалого шествия. Всеобщее изумление оправдывало расходы. Денес и Нанефер вызвали зависть собравшихся у Бел-Трана и Силкет. Жители Мемфиса еще не видели таких шикарных носилок. Денес отмел комплименты легким движением кисти, а Нанефер пожалела об отсутствии позолоты. Два виночерпия подали гостям пиво и вино. Весь торговый Мемфис праздновал принятие Бел-Трана в узкий крут людей, наделенных властью. Ему оставалось лишь толкнуть приоткрывшуюся дверь и доказать, чего он стоит, утвердившись окончательно. Суждение Денеса и его супруги обладало солидным весом, никто не мог присоединиться к торговой элите без их одобрения. Бел-Тран, волнуясь, выбежал навстречу гостям и представил им Силкет, которой было приказано не раскрывать рта. Нанефер окинула ее презрительным взглядом. Денес осматривал усадьбу. – Это будет склад или магазин? – И то и другое, – ответил Бел-Тран. – Если все пойдет хорошо, я надеюсь расширить и разделить помещения. – Далеко идущий план. – Вам не нравится? – Чревоугодие не относится к числу добродетелей торговца. Вы не опасаетесь несварения желудка? – У меня отменный аппетит и с пищеварением все в порядке. Нанефер потеряла интерес к разговору, предпочтя беседу со старыми друзьями. Денес понимал, что она свое заключение сделала – Бел-Тран представлялся ей человеком неприятным, напористым и бесхарактерным. Его притязаниям суждено было рассыпаться, как плохому песчанику. Денес в упор посмотрел на хозяина. – Мемфис отнюдь не столь гостеприимный город, как кажется, подумайте об этом. На ваших плантациях в Дельте вы властвовали безраздельно. Здесь вам предстоит столкнуться с трудностями большого города и вы изнурите себя напрасной суетой. – Как мрачно вы смотрите на вещи. – Послушайте моего совета, дорогой друг. У каждого человека свой предел, не стоит его переступать. – Честно говоря, я предела пока не знаю, а потому у меня страсть ко всему новому. – В Мемфисе много производителей и продавцов папируса, которые обосновались давно и полностью удовлетворяют спрос. – А я постараюсь удивить их, предложив продукцию более высокого качества. – Это не хвастовство? – Я верю в свою работу и не вполне понимаю ваши… предостережения. – Я думаю исключительно о ваших интересах. Смиритесь с существующим положением вещей, и вы избавите себя от многих неприятностей. – Своих вам уже недостаточно? Тонкие губы Денеса побледнели. – Что вы хотите сказать? Бел-Тран подтянул пояс длинного передника, начавшего понемногу сползать. – Я что-то слышал о правонарушениях, о суде. Ваше предприятие уже не выглядит так привлекательно, как раньше. Тон разговора изменился. Гости стали прислушиваться. – Ваши обвинения оскорбительны и беспочвенны. Имя Денеса пользуется уважением во всем Египте, а Бел-Трана не знает никто. – Времена меняются. – Все эти сплетни и клеветнические измышления даже не заслуживают ответа. – Если я хочу что-нибудь сказать, я говорю это во всеуслышанье. А намеки и темные дела оставляю другим. – Это что, обвинение? – А вам есть в чем себя упрекнуть? Госпожа Нанефер взяла мужа под руку. – Мы и так здесь слишком задержались. – Будьте осторожны, – посоветовал Денес, глубоко уязвленный. – Один плохой урожай – и вы разорены! – Я принял меры предосторожности. – Ваши планы – пустые мечтания. – Не вы ли станете моим первым клиентом? Я продумаю ассортимент и предложу вам хорошую цену. – Буду иметь в виду. Присутствующие разделились. Выпад Денеса поколебал доверие кое-кого из гостей, но Бел-Тран казался вполне уверенным в себе. Столкновение предстояло захватывающее.
28
Колесница Сути двигалась по труднопроходимой дороге вдоль отвесной скалы. Уже неделю элитный отряд полководца Ашера тщетно преследовал уцелевших мятежников. Сочтя, что в целом край усмирен, полководец дал приказ возвращаться назад. Сути молча стоял рядом с лучником. Мрачно глядя на дорогу, он сосредоточился на управлении лошадьми. Пантера удостоилась особого обращения: она ехала на осле, тогда как другие пленники вынуждены были идти пешком. Это была милость, оказанная Ашером герою завершавшейся кампании, и никто не находил в этом ничего удивительного. Ливийка спала в палатке Сути и все больше поражалась перемене, произошедшей с молодым человеком. Обычно столь пылкий и энергичный, он вдруг замкнулся и пребывал в состоянии необъяснимой тревоги. Наконец девушка не выдержала и захотела узнать причину. – Ты – герой, тебя будут чествовать, ты станешь богат, а выглядишь, как побежденный! Объясни, в чем дело. – Пленница не должна приставать с расспросами. – Я буду сражаться рядом с тобой всю жизнь при условии, что ты сохранишь волю к борьбе. Тебе что, жизнь больше не в радость? – Подавись своими вопросами и замолчи. Пантера сняла тунику. Обнаженная, она откинула назад свои светлые волосы и начала медленный танец, извиваясь так, чтобы обратить внимание на каждый изгиб стана. Руки плавно скользили вдоль тела, поглаживая груди, ягодицы, бедра. В ее движениях ощущалась природная гибкость женщин ее племени. Когда с кошачьей грацией она подобралась к нему поближе, он не отреагировал. Она развязала его набедренную повязку, обвила руками его тело и легла на него. И с радостью убедилась, что герой не утратил боевого пыла. Он желал ее, хотя и не подавал виду. Она скользнула вдоль тела любовника и одарила его жарким поцелуем.***
– Что меня ждет? – В Египте ты будешь свободна. – Ты не оставишь меня при себе? – Одного мужчины тебе будет мало. – Стань богатым, и мне будет в самый раз. – Ты заскучаешь, став уважаемой женщиной. Не забывай, ты же обещала меня предать. – Ты меня покорил, а я покорю тебя. Она продолжала соблазнять голосом, бархатистостью тембра, чарующими модуляциями. Лежа на животе с распущенными волосами и слегка раздвинутыми ногами, она манила его к себе. Сути страстно овладел ею, осознавая, что бесовка наверняка прибегла к колдовству, чтобы так быстро пробудить его желание вновь. – Ты больше не грустишь. – Я пытаюсь заглянуть в свое сердце. – Поговори со мной. – Завтра, когда я остановлю колесницу, слезь с осла, подойди ко мне и слушайся моих указаний.
***
– Что-то правое колесо поскрипывает, – сказал Сути лучнику. – Я ничего не слышу. – У меня тонкий слух. Такой скрип может предвещать поломку – лучше проверить. Сути возглавлял колонну. Он съехал с дороги и повернул колесницу в сторону тропинки, уводящей в глубь леса. – Посмотрим. Лучник послушно сошел на землю. Сути встал на одно колено и занялся изучением подозрительного колеса. – Плохо дело, – заключил он. – Две спицы вот-вот сломаются. – Починить можно? – Подождем, пока подойдут плотники из инженерного отряда. Плотники шли в хвосте колонны, сразу за пленниками. Когда Пантера сошла с осла и направилась к Сути, солдаты не преминули отпустить пару колких замечаний. – Залезай. Сути оттолкнул лучника, схватил поводья и пустил колесницу во весь опор в сторону леса. Никто и опомниться не успел. Остолбеневшие боевые товарищи терялись в догадках, почему дезертировал герой. Пантера тоже не могла скрыть изумления. – Ты что, с ума сошел? – Надо выполнить одно обещание. Час спустя колесница остановилась в том месте, где Сути похоронил убитого бедуинами колесничего. Пантера с ужасом наблюдала, как он выкапывает останки. Сути завернул тело в большой кусок материи и завязал с двух сторон. – Кто это? – Настоящий герой, который будет покоиться в своей земле рядом с предками. Сути не стал добавлять, что полководец Ашер вряд ли одобрил бы этот поступок. Когда мрачный ритуал близился к завершению, ливийка издала душераздирающий вопль. Сути обернулся, но не сумел избежать медвежьих когтей, разодравших ему левое плечо. Он упал, перекатился и попытался спрятаться за камнем. Трехметровый зверь, грузный и ловкий одновременно, стоял на задних лапах и исходил пеной. Разъяренный, он разинул голодную пасть и издал ужасающий рев, распугавший всех птиц в округе. – Лук, скорее! Ливийка бросила Сути лук и колчан. Она не могла заставить себя отойти от колесницы – жалкое, но все же укрытие. В тот момент, когда молодой человек потянулся за оружием, медвежья лапа обрушилась на него второй раз и разодрала спину. Весь в крови, он упал лицом в землю и больше не шевелился. Пантера завопила снова, чем привлекла внимание зверя. Тяжелые шаги направились к ней, бежать было некуда. Сути встал на колени. Глаза застилала кровавая пелена. Собрав последние силы, он натянул лук и выстрелил в сторону огромной коричневой массы. Медведь, пораженный в бок, обернулся. И быстро опустившись на четвереньки, разинув пасть, устремился на нападавшего. На грани беспамятства Сути выстрелил снова.
***
Старший лекарь военного госпиталя Мемфиса уже потерял надежду. Раны Сути были столь глубоки и многочисленны, что непонятно было, как он еще жив. Скоро его страданиям придет конец. По рассказу ливийки, элитный лучник убил медведя выстрелом в глаз, но не смог увернуться от последнего удара когтей. Пантера подтащила окровавленное тело к колеснице и нечеловеческим усилием взвалила его наверх. Потом она подумала о мертвеце. Как ни омерзительно ей было прикасаться к трупу, она помнила, что Сути рисковал жизнью ради того, чтобы доставить его в Египет. К счастью, лошади оказались послушными и инстинктивно двинулись обратно по той же дороге; скорее они везли ливийку, нежели она управляла ими. Труп офицера-колесничего, дезертир при последнем издыхании и беглая чужестранка – таков был странный экипаж колесницы, встреченной арьергардом отряда полководца Ашера. Благодаря объяснениям Пантеры и опознанию колесничего были установлены факты. Офицер, павший на поле брани, был награжден посмертно и мумифицирован в Мемфисе; Пантеру отправили работать на полях большой усадьбы; Сути получил похвалу за доблесть и порицание за нарушение дисциплины.
***
Кем попытался темнить. – Сути в Мемфисе? – удивился Пазаир. – Войско Ашера вернулось с победой, мятеж подавлен. Недостает только зачинщика, Адафи. – Когда прибыл Сути? – Вчера. – А почему он не здесь? Нубиец смущенно отвел взгляд. – Он не может двигаться. Судья вспылил. – Отвечайте по-существу! – Он ранен. – Тяжело? – Его состояние… – Правду! – Его состояние безнадежно. – Где он? – В военном госпитале. Не могу вам обещать, что он еще жив.
***
– Он потерял слишком много крови, – сказал старший лекарь военного госпиталя. – Делать операцию было бы безумием. Надо дать ему спокойно умереть. – И это все, что может предложить ваша наука? – возмутился Пазаир. – Я больше ничего не могу для него сделать. Этот медведь разорвал его в клочья; меня поражает сопротивляемость его организма, но все равно у него нет никаких шансов выжить. – А перевозить его можно? – Конечно, нет. Но судья уже принял решение: Сути не должен угаснуть в общей палате. – Достаньте мне носилки. – Вы же не станете перевозить умирающего. – Я его друг и знаю его желание: прожить последние часы в своем селении. Если вы откажетесь мне помочь, вам придется держать ответ перед ним и перед богами. Лекарь отнесся к угрозе серьезно. Недовольный мертвец становится привидением, а привидения безжалостно изводят своих жертв, даже если это старшие лекари. – Только дайте расписку.
***
За ночь судья привел в порядок два десятка незначительных дел, что обеспечивало секретарю работу недели на три. Если он понадобится Ярти, пусть направляет почту в главный суд Фив. Пазаир с радостью посоветовался бы с Бераниром, но тот был в Карнаке – готовился к окончательному уходу от дел. Рано утром Кем и два санитара вынесли Сути из госпиталя и поместили в удобную каюту легкого судна. Пазаир сидел рядом с ним и держал его правую руку в своей. В какой-то момент ему показалось, что Сути проснулся и пальцы его зашевелились. Но мимолетное ощущение быстро прошло.
***
– Вы – моя последняя надежда, Нефрет. Военный лекарь отказался оперировать Сути. Вы согласитесь его осмотреть? Десятку пациентов, ждавших под пальмами, она объяснила, что вынуждена отлучиться по неотложному вызову. Кем по ее указанию прихватил несколько банок со снадобьями. – Что сказал лекарь? – Что раны, нанесенные медведем, очень глубоки. – Как ваш друг перенес путешествие? – Он не приходил в сознание. Был только один момент, когда я, кажется, почувствовал биение жизни. – Он сильный? – Крепок, как скала. – Серьезные заболевания? – Никаких. Осмотр Нефрет продлился более часа. Выйдя из каюты, она поставила диагноз: «Я буду бороться за его жизнь». – Риск очень велик, – добавила она. – Без моего вмешательства он умрет. Если операция пройдетуспешно, он, может быть, выживет. Она начала оперировать ближе к полудню. Пазаир помогал, подавая требуемые хирургические инструменты. Нефрет применила общую анестезию, использовав кремнистый камень, смешанный с опиумом и корнем мандрагоры; все это она растерла в порошок и давала раненому небольшими дозами. Прежде чем прикоснуться к ране, она разводила порошок в уксусе. Выделялась кислота, которую она собирала в каменный рожок и прикладывала его для местного обезболивания. Длительность действия снадобья она проверяла по своим наручным часам. Обсидиановыми ножами и скальпелями, лезвия которых были острее металлических, она производила надрезы. Движения ее были уверенны и точны. Она перекроила плоть, стянула края каждой раны и сшила их тончайшим шнуром из бычьих кишок; поверх многочисленных швов она для прочности наложила самоклеющиеся повязки, представлявшие собой липкие полоски материи. Пять часов спустя Нефрет вконец обессилела, а Сути был все еще жив. К самым глубоким ранам она приложила сырое мясо, жир и мед. Начиная со следующего утра она будет регулярно менять повязки; мягкие растительные волокна, входившие в состав перевязочного материала, обладали защитными свойствами, предохраняли от проникновения инфекции и ускоряли процесс заживления. Прошло три дня. Сути пришел в сознание и проглотил немного воды и меда. Пазаир не отходил от его изголовья. – Ты спасен, Сути, спасен! – Где я? – На судне неподалеку от нашего селения. – Ты не забыл… здесь-то я и хотел умереть. – Нефрет тебя прооперировала, ты выздоровеешь. – Твоя невеста? – Необыкновенный хирург и лучшая из врачей. Сути попытался приподняться, но тут же застонал от боли и упал обратно. – Главное, не шевелись! – Я – и в неподвижности… – Придется немного потерпеть. – Да, здорово меня искромсал этот медведь! – Нефрет собрала тебя по частям и сшила заново. Силы к тебе вернутся. Глаза Сути закатились. Пазаир перепугался, что он снова теряет сознание, но друг крепко сжал его руку. – Ашер! Я должен был выжить, чтобы рассказать тебе об этом чудовище! – Успокойся. – Ты должен знать правду, судья, ты должен добиться справедливости в этой стране! – Я тебя слушаю, Сути, только, пожалуйста, не волнуйся. Раненый немного успокоился. – Я видел, как полководец Ашер избил и убил египетского солдата. Вместе с ним были азиаты – мятежники, с которыми он якобы борется. Пазаир подумал было, не бредит ли его друг под действием лихорадки, но Сути говорил медленно и отчетливо, чеканя каждое слово. – Ты правильно делал, что подозревал его, я же добыл тебе недостающее доказательство. – Свидетельство, – поправил судья. – Разве этого недостаточно? – Он будет все отрицать. – Мое слово против его! – Как только встанешь на ноги, надо будет продумать, как себя вести. Пока никому ничего не говори. – Я буду жить. Буду жить, чтобы увидеть, как этого негодяя приговорят к смерти. Гримаса боли исказила лицо Сути. – Ты гордишься мною, Пазаир? – Мы с тобой дали слово, однажды и навсегда.
***
Слава Нефрет на западном берегу становилась все громче. Коллеги были потрясены успехом операции. Некоторые стали приглашать молодую целительницу лечить сложных больных. Она не отказывала при условии, что жителей приютившего ее селения она будет пользовать в первую очередь, а Сути будет помещен в Дейр-эль-Бахри[815]. Представители врачебной коллегии согласились. Чудом спасенный воин-герой становился гордостью медицины. В храме Дейр-эль-Бахри почитался Имхотеп – величайший целитель Старого царства, которому было посвящено высеченное в скале святилище. Лекари приходили сюда вознести молитвы и преисполниться мудростью предков, столь необходимой в их ремесле. А еще было несколько больных, набиравшихся сил после тяжелой болезни в этом замечательном месте. Они бродили по колоннадам, любовались рельефами, повествующими о подвигах царицы Хатшепсут, гуляли в садах, вдыхая живительный аромат пахучей смолы деревьев, привезенных из загадочной страны Пунт. Медные трубы связывали водоемы с подземными дренажными системами и подавали наверх целебную воду, которую собирали в специальные сосуды, тоже медные. Сути за день опорожнял двадцать таких сосудов, что помогало ему избежать инфекции и послеоперационных осложнений. Благодаря недюжинной силе своего организма он быстро шел на поправку. Пазаир и Нефрет спускались по длинной цветущей лестнице, соединявшей террасы Дейр-эль-Бахри. – Вы спасли его. – Мне повезло и ему тоже. – Будут ли для него последствия? – Несколько шрамов. – Они сделают его еще привлекательнее. Палящее солнце приближалось к зениту. Они присели в тени акации у подножия лестницы. – Вы подумали, Нефрет? Она молчала. Ее ответ осчастливит его или сделает несчастным. В полуденный зной жизнь остановилась. В полях крестьяне заканчивали обед и готовились к долгому послеобеденному сну под сенью тростниковых шалашей. Нефрет закрыла глаза. – Я люблю вас всем сердцем, Нефрет. Я хотел бы жениться на вас. – Совместная жизнь… а мы на это способны? – Я никогда не полюблю другую женщину. – Как вы можете быть в этом уверены? Такие огорчения быстро забываются. – Если бы вы меня знали… – Я понимаю, как серьезны ваши намерения. Именно это меня и пугает. – Вы увлечены кем-то другим? – Нет. – Я бы этого не вынес. – Ревнуете? – Сверх всякой меры. – Вы воображаете, что я идеальная женщина, без недостатков, воплощение всех добродетелей. – Но вы же не сон. – Вы видите меня, как во сне. Однажды вы проснетесь и будете разочарованы. – Я вижу, как вы двигаетесь, вдыхаю ваш аромат. Вы, живая, сидите рядом со мной – это же не сон? – Мне страшно. Если вы ошибетесь, если мы ошибемся, страдание будет невыносимым. – Вы никогда меня не разочаруете. – Я не богиня. И когда вы это осознаете, вы меня разлюбите. – Вы зря пытаетесь меня разубедить. С самой первой нашей встречи, едва только увидев вас, я понял, что вы – солнце моей жизни. Вы излучаете свет, Нефрет. Вся моя жизнь принадлежит вам, хотите вы того или нет. – Вы заблуждаетесь. Вы должны привыкнуть к мысли, что вам придется жить вдали от меня; ваша работа ждет вас в Мемфисе, моя – здесь, в Фивах. – При чем тут моя работа! – Не отрекайтесь от своего призвания. Разве вы допустили бы, чтобы я бросила лечить людей? – Требуйте чего угодно, я повинуюсь. – Не такой вы человек. – Единственное мое стремление – с каждым днем, с каждым часом сильнее любить вас. – А вы не преувеличиваете? – Если вы откажетесь стать моей женой, я исчезну. – Ставить меня перед таким выбором недостойно вас. – Да нет, я не хотел. Вы будете любить меня, Нефрет? Она открыла глаза и грустно посмотрела на него. – Вводить вас в заблуждение было бы нечестно. Она ушла, легкая и грациозная. Несмотря на зной, Пазаир окоченел.
29
Не такой был Сути человек, чтобы долго наслаждаться покоем и тишиной храмовых садов. Поскольку жрицы, среди которых попадались хорошенькие, больными не занимались и оставались вне досягаемости, он общался только с хмурым санитаром, в чьи обязанности входило менять ему повязки. Меньше чем через месяц после операции он уже бурлил от нетерпения. И даже стоять спокойно не мог, пока его осматривала Нефрет. – Я выздоровел! – Не совсем, но состояние ваше не может не радовать. Ни один шов не разошелся, раны зарубцевались, ни малейших признаков заражения. – Значит, я могу наконец выйти отсюда! – При условии, что будете себя щадить. Он не удержался и расцеловал ее в обе щеки. – Я обязан вам жизнью и не хочу показаться неблагодарным. Если понадоблюсь, только позовите – сразу прибегу. Слово героя! – Возьмите с собой кувшин целебной воды и пейте по три чашки в день. – А пиво больше не возбраняется? – Ни пиво, ни вино, только понемногу. Сути расправил плечи и потянулся. – Как же здорово вернуться к нормальной жизни! Ведь это ж надо промучиться столько времени… Только женщины могут помочь мне забыть об этом. – А вы не думаете жениться на одной из них? – Да упасет меня богиня Хатхор от такого бедствия! Я – да с верной супругой и кучей писклявых малышей, цепляющихся за мой передник? Любовницы – одна, потом другая, третья – вот мой удел. Все разные, и у каждой свои секреты. – Как же вы не похожи на своего друга Пазаира, – заметила она с улыбкой. – Вы не смотрите, что он такой сдержанный: это страстная натура, может, даже более страстная, чем я. Если он осмелился с вами заговорить… – Осмелился. – Отнеситесь к его словам всерьез. – Они меня напугали. – Пазаир полюбит только один раз. Он из той породы людей, что влюбляются до безумия и всю жизнь в себе это безумие лелеют. Женщине их понять трудно, ей надо привыкнуть, освоиться, повременить, прежде чем брать на себя обязательства. Пазаир – это неистовый поток, а не пучок вспыхнувшей соломы. Его страсть не ослабнет. Он неловок, то слишком робок, то слишком тороплив, но всегда абсолютно искренен. Он никогда не шел на любовные интрижки, его не влекли приключения, потому что его удел – великая любовь. – А если он ошибается? – В погоне за своим идеалом он пойдет до конца и не согласится ни на какие уступки. – Но вы понимаете мои опасения? – В любви разумные доводы ни к чему. Я желаю вам счастья, какое бы решение вы ни приняли. Сути понимал Пазаира. Нефрет обладала удивительной, лучезарной красотой.***
Пазаир сидел под пальмой, опустив голову на колени, он давно ничего не ел. Вся его поза выражала скорбь. Даже дети не приставали к нему, настолько он походил на каменную глыбу. – Пазаир! Это я, Сути. Судья не реагировал. – Ты уверен, что она тебя не любит. Сути сел рядом с другом, прислонившись спиной к стволу. – Другой женщины не будет, сам знаю. Пытаться тебя утешать я не стану, а разделить твою боль невозможно. Остается только твой долг. Пазаир молчал. – Не можем же мы с тобой позволить Ашеру восторжествовать. Если мы отступим, суд загробного мира приговорит нас ко второй смерти и трусости нашей не будет никакого оправдания. Судья оставался безучастным. – Ну и пожалуйста, помирай себе от истощения, без конца думая о ней. Я один пойду против Ашера. Пазаир вышел из оцепенения и посмотрел на Сути. – Он тебя уничтожит. – Каждому свое. Тебе невыносимо равнодушие Нефрет, а мне – лицо убийцы, как наваждение преследующее меня во сне. – Я тебе помогу. Пазаир попытался встать, но закружилась голова; Сути взял его за плечи. – Извини, но… – Ты часто советовал мне не говорить лишних слов. Сейчас главное – привести тебя в порядок.
***
Двое друзей поднялись на паром, где, как обычно, было полно народу. Пазаира удалось уговорить съесть немного хлеба и лука. Ветер дул здесь прямо в лицо. – Созерцай Нил, – посоветовал Сути. – Он – само благородство. Рядом с ним все мы ничтожны. Судья уставился на светлую воду. – О чем ты думаешь, Пазаир? – Будто ты не знаешь… – Почему ты так уверен, что Нефрет тебя не любит? Я говорил с ней, и она… – Не надо, Сути. – Может, утопленникам и воздается на том свете, но все равно они – утопленники. А ты обещал свершить суд над Ашером. – Если бы не ты, я бы отступил. – Потому что ты сам не свой. – Наоборот, теперь я как раз свой и ничей более, мой удел – беспросветное одиночество. – Ты забудешь. – Тебе этого не понять. – Время – лучшее лекарство. – Оно не поможет. Едва паром подошел к причалу, шумная толпа повалила на берег, толкая перед собой ослов, овец и быков. Друзья переждали, пока иссякнет людской поток, поднялись по лестнице и направились в контору старшего судьи Фив. Никаких посланий на имя судьи Пазаира не приходило. – Вернемся в Мемфис, – потребовал Сути. – Почему такая спешка? – Мне не терпится увидеть Ашера. А теперь расскажи мне, что ты успел предпринять. Пазаир равнодушно пересказал все этапы своего расследования. Сути внимательно слушал. – Кто за тобой следил? – Понятия не имею. – Это методы верховного стража? – Вполне возможно. – Перед тем как уехать из Фив, давай-ка зайдем к Кани. Пазаир послушно согласился. Ко всему безразличный, он отстранился от реального мира. Отказ Нефрет подтачивал его изнутри. Кани уже не один работал в своем саду, оборудованном несложными приспособлениями для орошения. Там, где росли овощи, кипела бурная деятельность. Сам садовник занимался лекарственными растениями. Этот коренастый, морщинистый, неторопливый человек таскал на себе шест, на обоих концах которого были подвешены два тяжеленных сосуда с водой. Заботу о своих любимцах он не доверял никому. Пазаир познакомил его с Сути. Кани принялся внимательно его разглядывать. – Это ваш друг? – Можете говорить при нем. – Я продолжал поиски ветерана, тщательно продумывая каждый шаг. Столяры, плотники, водоносы, прачечники, землепашцы – ни один вид ремесла не ускользнул от моего внимания. Но нашлась лишь одна ничтожная зацепка: перед тем как исчезнуть, наш подопечный несколько дней занимался починкой колесниц. – Не такая уж и ничтожная, – заметил Сути. – Значит, он жив! – Будем надеяться. – А может, его тоже устранили? – Во всяком случае, найти его невозможно. – Продолжайте, – попросил Пазаир. – Судя по всему, пятый ветеран этот мир еще не покинул.
***
Что может быть сладостнее и безмятежнее фиванских вечеров, когда с севера веет прохладой, а люди устраиваются в утопающих в зелени беседках и, попивая пиво, любуются красками заката? Утомление проходит, волнения души смиряются, красноватое небо запада сияет красотой богини безмолвия. Постепенно сгущаются сумерки, и их прорезают парящие ибисы. – Нефрет, завтра я уезжаю в Мемфис. – Работа? – Сути был свидетелем предательства. Больше я не хочу ничего говорить ради вашей безопасности. – А что, это так опасно? – В этом деле замешаны военные. – Вы о себе подумайте, Пазаир. – Вам небезразлична моя судьба? – Ну не надо так, я всей душой желаю вам счастья. – Оно зависит только от вас. – Вы так прямолинейны, если… – Поедем со мной! – Это невозможно. Во мне нет такого огня, как в вас. Поймите, я другая, и спешка мне чужда. – Все очень просто: я вас люблю, а вы меня – нет. – Нет, все совсем не так просто. День не наступает сразу после ночи, одно время года не сменяет другое в одночасье. – Вы можете дать мне надежду? – Пообещать означало бы солгать. – Вот видите! – Ваши чувства слишком пламенны и безудержны… Не можете же вы требовать, чтобы я отвечала вам столь же пылко. – Вы напрасно оправдываетесь. – Я сама в себе не могу разобраться, а вы хотите, чтобы я обнадежила вас. – Если я уеду, мы больше никогда не увидимся. Пазаир медленно пошел прочь, надеясь услышать слова, которые так и не были произнесены.
***
Секретарь Ярти избежал серьезных ошибок, постаравшись не брать на себя никакой ответственности. Квартал жил спокойно, ни одного преступления совершено не было. Пазаир уладил кое-какие мелочи и отправился к верховному стражу, поскольку тот вызвал его к себе. Монтумес был куда приветливее и предупредительнее, чем обычно. – Дорогой мой судья! – воскликнул он своим гнусавым голосом. – Я так рад вас видеть. Вы уезжали? – Это была вынужденная поездка. – Ваш округ один из самых спокойных; это плоды вашей репутации. Все знают, что вы не шутите с законом. Не хочу вас обидеть, но вид у вас усталый. – Это пройдет. – Ладно, ладно… – Зачем вы меня вызвали? – Дело весьма щекотливое и… неприятное. Я буквально следовал вашему плану, по поводу того подозрительного зернохранилища, помните? И все же я сомневался, что он сработает. Между нами говоря, я не ошибся. – Управитель сбежал? – Да нет… Мне не в чем его упрекнуть. Его не было на месте, когда все это произошло. – Что произошло? – Половина запаса зерна была похищена из амбара ночью. – Вы шутите? – Увы, это не шутка! Это горькая правда. – Но ведь за ним же наблюдали ваши люди! – И да, и нет. Драка, случившаяся неподалеку от зернохранилища, потребовала их незамедлительного вмешательства. Кто их за это упрекнет? А вернувшись к месту наблюдения, они обнаружили хищение. Теперь, как это ни прискорбно, состояние зернохранилища соответствует отчету управителя! – А виновные? – Никаких следов. – Свидетелей тоже нет? – Квартал был безлюден, дело провернули быстро. Найти воров будет нелегко. – Полагаю, вы задействовали свои лучшие силы. – Можете на меня положиться. – Между нами, Монтумес, какого вы обо мне мнения? – Ну… Я считаю вас судьей, осознающим свой долг. – Вы признаете, что у меня есть немного ума? – Дорогой Пазаир, вы себя недооцениваете! – В таком случае вы должны понимать, что я не верю ни единому слову из вашей истории.
***
Госпожу Силкет часто одолевали приступы беспричинной тревоги, и она прибегала к услугам заботливого специалиста по нервным расстройствам и толкователя снов. Стены его кабинета были выкрашены в черный цвет, само помещение погружено во тьму. Каждую неделю она ложилась на циновку, рассказывала ему о своих кошмарах и жадно внимала его советам. Толкователь снов был сириец, уже много лет живший в Мемфисе. С помощью множества колдовских книг и сонников он успокаивал благородных дам и зажиточных горожанок. Соответственно и вознаграждения получал немалые, обеспечивая постоянную поддержку и утешение бедным созданиям с тонкой душевной организацией! Толкователь настаивал на неограниченной продолжительности лечения – впрочем, сны ведь никогда не перестают сниться. Разгадать значение образов и видений, осаждающих спящий мозг, мог лишь он один. Будучи человеком исключительно осторожным, он оставлял без ответа заигрывания большинства пациенток, страдавших от неудовлетворенных чувств, и уступал одним лишь миловидным вдовушкам. Силкет грызла ногти. – Вы поссорились с мужем? – Из-за детей. – Что они натворили? – Они врут. Но это не так уж страшно! Муж сердится, я за них заступаюсь, так и начинается перебранка. – Он вас бьет? – Немножко, но я защищаюсь. – Он доволен переменой в вашей внешности? – О да! Он у меня совсем ручной… иногда удается заставить его делать то, что мне надо, при условии, что я не суюсь в его дела. – А они вас интересуют? – Нисколько. Мы богаты – это главное. – Как вы вели себя после последней ссоры? – Как обычно. Закрылась в своей комнате и ревела в голос. Потом заснула. – Сны видели? – Все те же образы. Сначала я увидела туман, поднимавшийся над рекой. Его прорезало что-то вроде парусной лодки. Потом вышло солнце, туман рассеялся. Тот предмет оказался гигантским фаллосом, стремительно двигавшимся вперед! Я отвернулась, захотела укрыться в хижине на берегу Нила. Но это был не дом, а женский орган, одновременно притягивавший меня и внушавший ужас. У Силкет перехватило дыхание. – Будьте осторожны, – посоветовал толкователь. – По соннику, увидеть во сне фаллос – • к краже. – А женский орган? – К нищете.
****
Госпожа Силкет, растрепанная и неприбранная, тотчас же устремилась на склад. Ее муж что-то раздраженно говорил двум мужчинам, сокрушенно разводившим руками. – Извини, что беспокою, дорогой. Нужно принять меры предосторожности, тебя ограбят и мы можем оказаться в нищете! – Запоздало твое предупреждение. Эти капитаны, как и вся их братия, объясняют, что нет ни одного свободного судна, чтобы доставить мой папирус из Дельты в Мемфис. Наш склад останется пустым.
30
Гнев Бел-Трана обрушился на Пазаира. – Чего вы от меня ждете? – Чтобы вы вмешались и выявили факт нарушения свободы торговли. Заказы накапливаются, а я не могу выполнить ни одной поставки! – Как только появится свободное судно… – Оно не появится. – Злой умысел? – Проведите расследование и получите доказательства. Каждый час промедления ведет меня к разорению. – Приходите завтра. Надеюсь, мне удастся что-нибудь обнаружить. – Я не забуду о том, что вы для меня делаете. – Не для вас, Бел-Тран, а во имя справедливости.***
Поручение пришлось по душе Кему, а еще больше – его павиану. Вооружившись предоставленным Бел-Траном списком судовладельцев, они принялись расспрашивать о причинах отказа. Путаные объяснения, сожаления и откровенная ложь убедили их в том, что торговец папирусом не ошибся. Когда наступил час послеобеденного отдыха, Кем дошел до крайнего причала и обратился к старшине, обычно все про всех знавшему. – Ты знаешь Бел-Трана? – Слышал. – И что, нет ни одного свободного судна для его папируса? – Похоже, что нет. – Твое, однако, стоит на приколе, причем пустое. Павиан, не издав ни звука, открыл пасть. – Убери зверя! – Скажи правду, и мы оставим тебя в покое. – Все суда арендовал на неделю Денес. Под вечер судья Пазаир, строго следуя процедуре, лично допросил судовладельцев, и те вынуждены были показать ему договоры об аренде. Все они были на имя Денеса.
***
Матросы выгружали с баржи продовольствие, кувшины, мебель. Рядом грузовое судно готовилось к отплытию. Гребцов на борту было немного; почти все место занимали складские отсеки, набитые товаром. Рулевой с веслом наготове уже стоял на своем посту. Не хватало только матроса, который должен был, стоя на корме, измерять дно длинным шестом через равные промежутки времени. На берегу посреди оживленного портового гомона Денес беседовал с капитаном. Кто-то что-то напевал, матросы переругивались между собой, плотники чинили парусник, каменотесы укрепляли причал. – Можете уделить мне пару минут? – спросил Пазаир, подходя в сопровождении Кема и павиана. – С удовольствием, только попозже. – Извините, что настаиваю, но я очень спешу. – Но ведь не настолько же, чтобы задерживать отправление судна! – Увы, именно настолько. – В чем дело? Пазаир развернул свиток длиной в метр. – Вот список совершенных вами правонарушений: насильственная аренда, запугивание судовладельцев, притязания на единоличное распоряжение судами, препятствование свободному перемещению товара. Денес взглянул на документ. Обвинения судьи были сформулированы четко, по всем правилам. – Я не согласен с таким изложением фактов: слишком драматично, слишком высокопарно! Я нанял столько судов, потому что мне предстоят незапланированные перевозки. – Какие именно? – Различный товар. – Слишком неопределенно. – В моем деле необходимо предвидеть разные неожиданности. – От ваших действий пострадал Бел-Тран. – Ну вот мы и добрались до сути дела! Я предупреждал, что тщеславие не доведет его до добра. – Чтобы пресечь переход судов в ваше единоличное распоряжение – а он налицо, – я пользуюсь законным правом отчуждения. – В добрый час. Возьмите любую баржу у западного берега. – Меня вполне устроит это судно. Денес преградил вход на мостик. – Я запрещаю вам к нему приближаться! – Лучше я сделаю вид, что ничего не слышал. Препятствовать правосудию – серьезное правонарушение. Судовладелец смягчился. – Будьте благоразумны… В Фивах ждут этот груз. – Бел-Тран понес из-за вас убытки, и правосудие предполагает, что вы должны возместить ущерб. Он согласен не подавать жалобу, чтобы не портить ваших дальнейших отношений. Задержка с транспортом привела к тому, что его склады переполнены. Этого грузового судна едва хватит, чтобы вывезти товар. Пазаир, Кем и павиан поднялись на борт. Судья не только хотел восстановить справедливость по делу Бел-Трана – его настойчиво подталкивала вперед интуиция. В нескольких отсеках, сколоченных из досок с отверстиями для воздуха, разместились лошади, быки, козлы и телята. Некоторые животные свободно перемещались по судну, других привязали к закрепленным на палубе кольцам. Кто не боялся качки, разгуливал в носовой части. В другие отсеки, представлявшие собой простые каркасы из легких деревянных столбиков с навесами, сложили скамейки, стулья и столики. На корме под большим тентом составили около тридцати передвижных амбаров. Пазаир подозвал Денеса. – Откуда это зерно? – Из зернохранилищ. – Кто вам его поставил? – Спросите у старшины. Тот в ответ предъявил официальный документ с неразборчивой печатью. Он и не думал придавать этому значение, ведь товар самый обычный. На протяжении всего года Денес перевозил зерно, удовлетворяя потребности провинций. Государственные запасы исключали возможность голода. – Кто отдал приказ о транспортировке? Старшина этого не знал. Судья перевел взгляд на хозяина, и тот, не колеблясь, повел его в свою портовую контору. – Мне от вас скрывать нечего, – признался Денес, явно нервничая. – Я, конечно, попытался преподать урок Бел-Трану, но это ведь была просто шутка. Почему вы заинтересовались моим грузом? – Это тайна следствия. Архивы были в полном порядке. Денес послушно поспешил достать потребовавшуюся судье глиняную табличку. Приказ о транспортировке исходил от Хаттусы, хеттской принцессы, возглавлявшей фиванский гарем, дипломатической супруги Рамсеса Великого.
***
Благодаря полководцу Ашеру мир снова пришел в азиатские княжества. Уже в который раз он доказал превосходное знание местных условий. Два месяца спустя после возвращения войска, посреди лета, когда благодатный разлив удобрял плодородным илом почву обоих берегов, в честь полководца было организовано грандиозное празднество. Побежденные Ашером народы заплатили Египту дань: тысячу лошадей, пятьсот невольников, десять тысяч овец, восемьсот коз, четыреста быков, сорок боевых колесниц, сотни копий, мечей, кольчуг, щитов и двести тысяч мешков зерна. Перед царским дворцом выстроились элитные отряды, личная стража фараона и стража пустыни, а также представители четырех отрядов Амона, Ра, Птаха и Сета, куда входили конница, пехота и лучники. Офицеры явились на зов все до единого. Египет демонстрировал свою военную мощь и славил заслуженного военачальника. Рамсес должен был вручить ему пять золотых ожерелий и объявить о трехдневных праздниках по всей стране. Ашер становился одним из первых лиц в государстве, вооруженной десницей царя и несокрушимой преградой на пути любого захватчика. Пришел на праздник и Сути. Полководец выделил герою недавней кампании колесницу для участия в парадах, и ему в отличие от большинства офицеров не пришлось думать о покупке экипажа и дышла. За двумя лошадьми ухаживали три солдата. Перед парадом молодой человек принял поздравления полководца. – Продолжай служить родине, Сути. Я уверен, тебя ждет блестящее будущее. – На душе у меня неспокойно, полководец. – Что ты такое говоришь? – Я не смогу спать спокойно, пока мы не поймаем Адафи. – Узнаю героя, отважного и благородного. – Я вот думаю… мы же все прочесали, как ему удалось ускользнуть? – Мерзавец хитер и проворен. – Готов поклясться, он предугадывает все наши планы. На челе полководца Ашера пролегла морщина. – Ты натолкнул меня на мысль… в наших рядах шпион. – Это невероятно. – Что мог, он уже сделал. Но не стоит слишком переживать: мы с моим штабом займемся этой проблемой. Будь уверен, недолго этому гнусному мятежнику разгуливать на свободе. Ашер потрепал Сути по щеке и перешел к другому герою. Намеки, даже весьма прозрачные, его нисколько не смутили. На какой-то миг Сути засомневался, не ошибся ли он. Но жуткая сцена отчетливо стояла перед глазами. По наивности он надеялся, что предатель утратит хладнокровие.
***
Фараон выступил с длинной речью, основное содержание которой гонцы разнесли по городам и весям. Верховный предводитель всего египетского войска, он обеспечивал мир и безопасность границ. Четыре основных отряда, общей численностью в двадцать тысяч воинов, оградят Египет от любой попытки вторжения. Конница и пехота, куда завербовалось множество нубийцев, сирийцев и ливийцев, будут радеть о счастье Обеих Земель и защищать их от любого супостата, даже если наемникам придется воевать против своих бывших соотечественников. Царь не потерпит ни малейшего нарушения дисциплины, визирь же обязуется неукоснительно исполнять его повеления. За честную и непорочную службу военачальник Ашер назначается ответственным за подготовку офицеров, которым предстоит отправиться с войском в Азию для контроля за тамошней ситуацией. Его опыт должен оказать им неоценимую помощь. Как знаменосец по правую руку от царя, полководец будет постоянно участвовать в решении тактических и стратегических вопросов.
***
Пазаир открывал какое-нибудь дело, тут же его закрывал, сортировал уже рассортированные документы, отдавал секретарю противоречивые приказания и забывал погулять с собакой. Ярти больше не смел задавать вопросов, потому что судья отвечал невпопад. Каждый день на Пазаира все более настойчиво наседал Сути – видеть Ашера на свободе становилось просто нестерпимо. Судья ни в коем случае не допускал спешки, но сам ничего конкретного не предлагал и вырвал у друга обещание не предпринимать необдуманных шагов. Действовать против полководца легкомысленно означало заранее обречь себя на провал. Сути видел, что это дело почти не занимает Пазаира – погруженный в горестные мысли, он понемногу угасал. Сначала судья думал, что уйдя с головой в работу, он сможет забыть Нефрет. Но разлука только усугубляла его отчаяние. Поняв, что со временем боль становится все невыносимее, он решил превратиться в тень. Попрощавшись с псом и ослом, он вышел из Мемфиса и направился к западу, в сторону ливийской пустыни. Довериться Сути у него не хватило духа, ибо он заранее мог представить, что скажет друг. Знать, что такое любовь, и не иметь возможности сделать ее своей жизнью – такую нестерпимую муку он больше выносить не мог. Пазаир шел под палящим солнцем по раскаленному песку. Он взобрался на холм и сел на камень, устремив взгляд в пространство. Со временем небо и земля сомкнутся над ним, жара высушит тело, гиены и коршуны уничтожат останки. Не позаботившись о погребении, он оскорблял богов и обрекал себя на вторую смерть, исключавшую возрождение; но можно ли придумать худшее наказание, чем вечность без Нефрет? Ни о чем не думая, не обращая внимания на ветер и колкий песок, Пазаир растворился в пустоте. Слепое солнце, неподвижный свет… Исчезнуть, оказывается, не так-то просто. Судья сидел неподвижно, уверенный, что погружается в последний сон. Когда рука Беранира легла ему на плечо, он не пошевелился. – Утомительная прогулка для моего возраста. Вернувшись в Фивы, я рассчитывал отдохнуть, а пришлось искать тебя по всей пустыне. Даже с моим прутиком это оказалось непросто. На, глотни. Беранир протянул ученику флягу со свежей водой. Тот помедлил, неуверенно поднес горлышко к пересохшим губам и отпил глоток. – Отказаться означало бы вас оскорбить, но больше я ни в чем уступать не намерен. – Ты силен, кожа твоя не сгорела и голос дрожит едва заметно. – Пустыня заберет мою жизнь. – Тебе будет отказано в смерти. Пазаир вздрогнул. – Я наберусь терпения. – Терпение не поможет, ибо ты нарушил клятву. Судья резко выпрямился. – Вы – мой учитель, и вы… – Правда – тяжкая вещь. – Я не нарушал слова! – Тебе изменяет память. Приступая к своей первой должности в Мемфисе, ты дал клятву, и свидетелем тому был камень. Посмотри вокруг, вглядись в пустыню: тот камень превратился в тысячу камней, и все они напоминают тебе о священном обязательстве, принятом в тот день перед богами, перед людьми и перед самим собой. Ты же знал, Пазаир: судья – не обычный человек. Твоя жизнь больше не принадлежит тебе. Можешь губить и коверкать ее сколько хочешь, это все неважно: клятвопреступник обречен блуждать среди злобных теней, раздирающих друг друга на части. Пазаир пристально посмотрел на учителя. – Я не могу жить без нее. – Ты должен исполнять обязанности судьи. – Без радости и надежды? – Правосудию нужны не чувства и настроения, а честность и справедливость. – Забыть Нефрет невозможно. – Расскажи мне о своих расследованиях. Загадка сфинкса, пятый ветеран, полководец Ашер, похищенное зерно… Пазаир изложил факты, не скрывая своих сомнений. – Ты, скромный судья, стоящий в самом низу иерархической лестницы, призван решать дела исключительной важности, вверенные тебе судьбой. Они выше твоего разумения скромного человека, но от них, возможно, зависит будущее Египта. Неужели ты настолько равнодушен, что готов бросить все? – Хорошо, раз вы хотите, буду действовать. – Этого требует твоя должность. Думаешь, моя легче? – Вы скоро будете наслаждаться тишиной храма. – Не только тишиной, Пазаир, но и всей его жизнью в целом. Меня против воли назначили верховным жрецом Карнака. Лицо судьи просияло. – И когда вы получите золотое кольцо? – Через несколько месяцев.
***
Два дня Сути разыскивал Пазаира по всему Мемфису. Он чувствовал, что в таком отчаянии друг вполне способен наложить на себя руки. Судья появился в своей конторе с лицом, потемневшим от солнца. Сути устроил знатную попойку, сдобренную воспоминаниями детства. Утром они искупались в Ниле, но так и не смогли избавиться от мучительной боли в висках. – Где ты прятался? – Предавался размышлениям в пустыне. Меня привел Беранир. – Ну и что ты решил? – Как бы ни был уныл и бесцветен путь, я останусь верен клятве судьи. – Счастье все равно придет. – Ты прекрасно знаешь, что нет. – Будем сражаться вместе. С чего думаешь начать? – С Фив. – Из-за нее? – Ее я больше не увижу. Мне надо разобраться с незаконной торговлей зерном и найти пятого ветерана. Его свидетельство сыграет решающую роль. – А если он мертв? – Благодаря Бераниру я уверен, что он где-то прячется. Прутик лозоходца не ошибается. – Но это может занять немало времени. – Следи за Ашером, изучай, что и как он делает, и постарайся отыскать в его поведении слабое место.
***
Колесница Сути поднимала тучи пыли. Новоиспеченный колесничий распевал озорную песенку, прославлявшую женское непостоянство. Сути не унывал: в каком бы ни был состоянии Пазаир, но слово свое он сдержит. Надо при первом же удобном случае познакомить его с веселенькой девицей, которая поможет ему развеять грусть-печаль. Ашер от правосудия не уйдет, а вот ему, Сути, надо уладить одно дело. Колесница проехала между двумя столбами, обозначавшими въезд в усадьбу. Было так жарко, что большинство крестьян отдыхало в тени. Перед усадьбой приключилось неприятное происшествие: осел опрокинул поклажу. Сути остановился, спрыгнул на землю и отстранил погонщика, замахнувшегося палкой на провинившееся животное. Колесничий остановил обезумевшего осла и успокоил его, ласково потрепав за уши. – Нельзя бить осла. – А как же мой мешок с зерном? Ты что, не видишь, что он его сбросил? – Это не он, – поправил какой-то мальчишка. – А кто же? – Ливийка. Она смеху ради втыкала ему в зад колючки. – Снова она! Вот кого надо бы выдрать хорошенько. – Где она? – У озера. Стоит погнаться за ней, как она забирается на иву. – Я разберусь с ней. Едва он подошел, Пантера влезла на дерево и устроилась на одной из толстых веток. – Слезай. – Уходи! Это из-за тебя я оказалась в рабстве! – Я должен был умереть, помнишь? А вместо этого пришел тебя освободить. Прыгай в мои объятия. Она не заставила просить себя дважды. Сути не устоял на ногах, сильно стукнулся о землю и поморщился от боли. Пантера провела пальцем по шрамам. – Что, другим женщинам ты не нужен? – Мне на некоторое время необходима преданная сиделка. Будешь делать мне массаж. – Ты весь в пыли. – Гнал во весь опор – так не терпелось тебя увидеть. – Врешь! – Ты права, надо было помыться. Он встал и с девушкой на руках побежал к озеру. Не разнимая объятий, они бросились в воду.
***
Небамон примерял парадные парики, приготовленные цирюльником. Ни один из них ему не нравился: слишком тяжелые, слишком замысловатые. Следовать моде становилось все труднее и труднее. Одолеваемый просьбами состоятельных особ, жаждущих перекроить телеса, дабы сохранить свою неотразимость, вынужденный возглавлять административные комиссии и устранять своих наиболее вероятных преемников, он горько сожалел, что рядом с ним нет такой женщины, как Нефрет. Неудачи вызывали у него раздражение. Над ним склонился личный секретарь. – Я раздобыл интересующие вас сведения. – И что же, нищета и отчаяние? – Не совсем. – Она оставила медицину? – Совсем даже наоборот. – Ты что, смеяться надо мной вздумал? – Нефрет основала сельскую лечебницу и аптеку, провела несколько хирургических операций, снискала благоволение фиванских властей. Ее слава растет день ото дня. – Это просто безумие! У нее нет никакого состояния. Как ей удается добывать редкие и дорогие вещества? Личный секретарь улыбнулся. – Вы останетесь мною довольны. – Говори. – Я восстановил весьма странную цепочку. Вы что-нибудь слышали о госпоже Сабабу? – Кажется, она содержала пивной дом в Мемфисе? – Причем самый знаменитый. Потом вдруг ни с того ни с сего бросила свое заведение, хотя оно приносило немалый доход. – А Нефрет-то тут при чем? – Да при том, что Сабабу не только лечится у нее, но и поддерживает материально. Она предоставляет жителям Фив услуги молодых и хорошеньких девиц, получает на этом изрядную прибыль и делит барыши с целительницей. Не правда ли, налицо попрание морали? – Лекарь, существующий на средства проститутки… теперь она у меня в руках.
31
– У вас отменная репутация, – сказал Небамон Пазаиру. – Вас не прельщает богатство, вы не боитесь посягать на привилегии, в общем, правосудие – ваш хлеб насущный, а неподкупность – вторая натура. – Разве это не самое меньшее, что требуется от судьи? – Конечно, конечно… потому-то я вас и выбрал. – Я должен чувствовать себя польщенным? – Я рассчитываю на вашу порядочность. Пазаир с детства плохо переносил обольстителей с деланной улыбкой и заранее просчитанными манерами. Старший лекарь его неимоверно раздражал. – Того и гляди, может разразиться страшный скандал, – прошептал Небамон так, чтобы секретарь его не услышал. – Скандал, способный опозорить мою профессию и бросить тень на всех целителей. – Говорите яснее. Небамон обернулся к Ярти. С одобрения судьи секретарь удалился. – Жалобы, суды, административная волокита… Как бы нам избежать этих нудных формальностей? Пазаир хранил молчание. – Вы хотите узнать больше, это вполне понятно. Я могу рассчитывать на вашу сдержанность? Судье с трудом удавалось оставаться спокойным. – Одна из моих учениц, Нефрет, допустила ошибки, за которые получила от меня взыскание. В Фивах ей надлежало вести себя скромно и осмотрительно, полагаясь на более компетентных собратьев по профессии. Она меня очень разочаровала. – Снова оплошности? – Промах за промахом, все более достойные сожаления. Неконтролируемая деятельность, несвоевременные предписания, собственная аптека. – Разве это противозаконно? – Нет, но у Нефрет не было средств, чтобы так организовать свою работу. – Значит, к ней были благосклонны боги. – Да не боги, судья Пазаир, а женщина легкого поведения, Сабабу, хозяйка пивного дома из Мемфиса. Судя по напряженному голосу и важному тону, Небамон ожидал возмущенной реакции. Пазаир казался безучастным. – Ситуация весьма настораживающая, – продолжал старший лекарь. – Не сегодня завтра кто-нибудь узнает правду и заклеймит достойных целителей. – Вас, например? – Разумеется, я же был учителем Нефрет! Я не могу подвергать себя такому риску. – Сочувствую, но плохо понимаю, чем я могу быть полезен. – Незаметное, но твердое вмешательство могло бы устранить недоразумение. Поскольку пивной дом Сабабу относится к вашему округу, а в Фивах она работает под вымышленным именем, поводов предъявить обвинение у вас предостаточно. А Нефрет можно пригрозить суровыми мерами, если она станет упорствовать в своих неразумных начинаниях. Предостережение должно вернуть ее к обычной деревенской практике, которая ей по плечу. Естественно, я не прошу вас о безвозмездной помощи. Любая карьера строится. Я предоставляю вам великолепную возможность продвинуться по иерархической лестнице. – Я тронут. – Я знал, что мы найдем общий язык. Вы молоды, умны и честолюбивы в отличие от стольких ваших коллег, которые так цепляются за букву закона, что зачастую упускают из виду его смысл. – А если у меня не получится? – Я подам жалобу против Нефрет, вы возглавите суд, мы выберем присяжных. Мне бы не хотелось до этого доводить, постарайтесь быть убедительным. – Приложу все усилия. Небамон расслабился, чувствуя, что поступил правильно. Он не ошибся в судье. – Я рад, что обратился по адресу. Когда имеешь дело с достойным человеком, устранить неприятности нетрудно.***
Божественные Фивы, где познал он счастье и горе. Чарующие Фивы, поражающие великолепием рассветов и фееричностью закатных красок. Неумолимые Фивы, куда судьба приводит его в поисках истины, постоянно ускользающей из его рук, словно обезумевшая ящерица. Он увидел ее на пароме. Она возвращалась с восточного берега; он пересекал реку, чтобы добраться до селения, в котором она жила. Вопреки опасениям она от него не отвернулась. – Мои слова не были пустым обещанием. Этой встречи не должно было быть. – Вы начали понемногу забывать меня? – Ни на миг. – Вы сами себя мучаете. – Вам-то что за дело? – Ваши страдания меня огорчают. Нужно ли растравлять душу, ища новых встреч? – Сейчас к вам обращается судья и только судья. – В чем меня обвиняют? – В том, что вы пользуетесь щедростью проститутки. Небамон требует, чтобы ваша деятельность не выходила за пределы селения и чтобы серьезных больных вы направляли к другим лекарям. – А если я не послушаюсь? – Он попытается признать вас виновной в безнравственном поведении, а значит, вовсе запретить вам практиковать. – Это серьезная угроза? – Небамон – влиятельный человек. – Я не покорилась ему, а сопротивления он не выносит. – Ну и как, намерены отступить? – Что бы вы тогда обо мне подумали? – Небамон рассчитывает, что я смогу вас убедить. – Он плохо вас знает. – И это дает нам шанс. Вы мне доверяете? – Безусловно. Его заворожила прозвучавшая в голосе нежность. Неужели былого равнодушия больше нет, неужели она действительно смотрит на него иным, не столь отстраненным взглядом? – Не волнуйтесь, Нефрет. Я помогу вам. Он проводил ее до селения, надеясь, что дороге не будет конца.
***
Поглотитель теней успокоился. Поездка судьи Пазаира явно была делом сугубо личным. Он и не думал искать пятого ветерана, он ухаживал за красавицей Нефрет. Вынужденный принимать исключительные меры предосторожности из-за присутствия нубийца и его обезьяны, поглотитель теней постепенно убеждался в том, что пятый ветеран умер естественной смертью или же убежал так далеко на юг, что о нем больше никто никогда не услышит. Собственно, необходимо было только его молчание. Однако он продолжал осторожно следить за судьей.
***
Павиан нервничал. Кем пристально посмотрел по сторонам, но ничего необычного не заметил. Крестьяне со своими ослами, рабочие, чинящие плотины, водоносы… И все же павиан чуял опасность. Удвоив бдительность, нубиец подошел поближе к судье и Нефрет. Впервые он восхищался человеком, которому служил. Молодой судья был одержим несбыточным идеалом, одновременно силен и уязвим, практичен и мечтателен, но руководствовался он только порядочностью. В одиночку ему не одолеть злобной человеческой природы, но пошатнуть ее всевластие он может. А это даст надежду людям, страдающим от несправедливости. Кем предпочел бы, чтобы он не ввязывался в столь опасное предприятие, ибо рано или поздно это будет стоить ему головы; но как тут его упрекнешь, когда убиты ни в чем не повинные люди? Доколе не будет попрана память о простых людях, доколе будут существовать судьи, не желающие потакать сильным только потому, что они богаты, – дотоле жить и процветать Египту.
***
Нефрет и Пазаир шли молча. Он мечтал о такой прогулке: они рядом, рука об руку, и этого достаточно. Шагают в одном темпе, словно давно приноровились друг к другу. Он стремился урвать мгновения невозможного счастья, цеплялся за мираж, дорожа им куда более, чем реальной действительностью. Нефрет шла быстро, словно летела; казалось, ноги ее едва касались земли, в движениях – ни малейших признаков усталости. Он наслаждался упоительной возможностью идти с ней рядом, он с радостью стал бы ее слугой, усердным и неприметным, если бы не надо было оставаться судьей, дабы защитить ее от надвигавшейся бури. Он обольщается или она стала держаться с ним менее холодно? А что, если для нее тоже важно побыть вдвоем с ним и ничего не говорить: возможно, она понемногу привыкнет к его страсти, если он будет молчать. Они вошли в помещение аптеки, где Кани сортировал лекарственные растения. – Урожай превосходный. – Только, боюсь, никому не нужный, – посетовала Нефрет. – Небамон вновь чинит мне препятствия. – Если б можно было травить людей… – Ничего у старшего лекаря не выйдет, – заявил Пазаир. – Я этого так не оставлю. – Он опаснее гадюки. Берегитесь, он и вас тоже укусит. – О, новые растения? – Храм выделил мне большой участок земли и сделал меня своим официальным поставщиком. – Вы это заслужили, Кани. – Я не забыл о нашем расследовании. Мне удалось побеседовать с писцом, занимающимся учетом населения: ни один ветеран из Мемфиса не нанимался на работу в мастерские или в усадебные хозяйства за последние полгода. Любой воин, вышедший на пенсию, должен заявить, где он живет, иначе он утратит все свои права. А это означает обречь себя на нищету. – Наш ветеран настолько напуган, что предпочитает нищету привилегиям. – Может, он уехал из страны? – Я уверен, что он скрывается на западном берегу.
* * *
Пазаира одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, на душе было легко, почти весело; с другой – в ней царили мрак и безысходность. Повидав Нефрет, ощугив, что она стала ближе и дружелюбнее, он воспрял духом, но смириться с тем, что она никогда не станет его супругой, значило погрузиться в бездну отчаяния. Борьба ради нее, ради Сути и ради Бел-Трана не давала ему вновь и вновь возвращаться к одним и тем же мыслям. Слова Беранира вернули все на свои места: египетский судья не принадлежит себе. В гареме западных Фив был устроен праздник в честь победоносного завершения азиатской кампании, во славу величия Рамсеса, восстановления мира и в ознаменование доблести полководца Ашера. Ткачихи, музыкантши, танцовщицы, воспитательницы, парикмахерши, создательницы цветочных композиций прогуливались по саду и, вкушая сладости, судачили о всякой всячине. Под навесом, защищавшим от солнечных лучей, подавали соки. Женщины разглядывали, кто как одет, восхищались, завидовали, обсуждали друг друга. Пазаир пришел не вовремя, тем не менее ему удалось пробраться сквозь толпу гостей к хозяйке праздника, затмившей красотой всех своих приближенных. В совершенстве владея искусством макияжа, Хаттуса не скрывала своего презрения по отношению к неумело накрашенным модницам. Все стремились подойти к ней поближе, она же только и делала, что отпускала шпильки в адрес многочисленных льстецов. – А вы случайно не судья из Мемфиса? – Если вы позволите потревожить себя в такой момент, я был бы счастлив поговорить наедине. – Отличная идея! Надоели светские условности. Пойдемте к пруду. Кто такой этот скромный с виду судья, сумевший добиться расположения самой неприступной в мире царевны? Скорее всего Хаттуса решила поиграть с ним, а потом выбросить, как надоевшую куклу. Чужеземка славилась своими причудами. Белые и голубые лотосы плавали по поверхности воды, слегка подернутой мелкой рябью. Хаттуса и Пазаир сели на раскладные стулья под сень опахала. – Сколько будет пересудов, судья Пазаир. Мы ведь нарушили этикет. – Очень вам за это признателен. – Ну как, наслаждаетесь великолепием моего гарема? – Имя Бел-Тран вам о чем-нибудь говорит? – Нет. – А Денес? – Тоже нет. Это что, допрос? – Мне необходимо ваше свидетельство. – Насколько я знаю, эти люди в моей свите не состоят. – Денес, крупнейший судовладелец Мемфиса, получил подписанный вами приказ. – А мне какое дело? Думаете, меня интересуют подобные мелочи? – Направлявшееся сюда судно было нагружено ворованным зерном. – Боюсь, я не совсем понимаю. – Судно, зерно и приказ о перевозке с вашей печатью арестованы. – Вы что, в воровстве меня обвиняете? – Я хотел бы, чтобы вы объяснили происходящее. – Кто вас послал? – Никто. – Вы действуете на свой страх и риск… Я вам не верю. – Напрасно. – Мне снова пытаются навредить и на сей раз прибегают к помощи безмозглого судьишки, пляшущего под чужую дудку! – Оскорбление судьи, отягченное клеветой, карается палочными ударами. – Нет, вы просто безумец! Вы осознаете, с кем говорите? – С очень высокопоставленной дамой, которая, однако, подчиняется закону так же, как последняя крестьянка. Итак, вы замешаны в деле о хищении зерна, принадлежащего государству. – А мне плевать. – Замешаны – не значит виновны. Поэтому я жду, что вы скажете в свое оправдание. – До этого я не унижусь. – Если вы невиновны, чего вам бояться? – Вы осмелились поставить под сомнение мою честность! – Меня вынуждают факты. – Вы слишком далеко зашли, судья Пазаир, слишком далеко. Вне себя от гнева, она встала и пошла вперед. Приближенные расступились, боясь, как бы царевна не сорвала на них раздражение.
***
Спустя три дня Пазаира принял старший судья Фив, обстоятельный мужчина в летах, близко знавший верховного жреца карнакского храма. Он внимательно изучил материалы дела. – Работа выполнена замечательно и по сути, и по форме. – Поскольку дело выходит за рамки моей юрисдикции, предоставляю вам довести его до конца. Если вы сочтете, что необходимо мое участие, я готов созвать суд. – Каково ваше личное убеждение? – Незаконный вывоз зерна доказан. Денес, как мне кажется, ни при чем. – Верховный страж? – Наверное, в курсе дела, но до какой степени? – Царевна Хаттуса? – Она отказалась давать мне какие бы то ни было объяснения. – Очень досадно. – Но ведь ее печать не сотрешь. – Разумеется, но кто ее поставил? – Она и поставила. Это личная печать, вделанная в кольцо. Как и все, кто стоит у власти, она с ним никогда не расстается. – Тут мы ступаем на опасную территорию. Хаттуса не очень популярна в Фивах; слишком надменна, слишком своевластна, слишком всем недовольна. Даже разделяя общее мнение, фараон вынужден ее защищать. – Красть зерно, предназначенное для народа, – серьезное преступление. – Согласен, но мне хотелось бы избежать публичного процесса, способного повредить царю. Впрочем, вы же сами сказали, следствие еще не закончено. Лицо Пазаира помрачнело. – Не волнуйтесь, дорогой коллега. Как старший судья Фив я не позволю вашему делу затеряться в архивной пыли. Просто я хотел бы как следует аргументировать обвинение, ибо истцом здесь выступит само государство. – Спасибо за уточнение. Что же касается публичного процесса… – Он предпочтительнее, знаю. Но вам что важнее – истина или голова царевны Хаттусы? – Я к ней особой враждебности не питаю. – Я попытаюсь уговорить ее сказать правду, официально вызову к себе, если понадобится. Пусть она сама решает свою судьбу. Если она виновна, ей не избежать наказания. Казалось, судья говорит вполне искренне. – Вам нужна моя помощь? – В данный момент нет, тем более что вас срочно вызывают в Мемфис. – Мой секретарь? – Старший судья царского портика.
32
Гнев госпожи Нанефер долго не утихал. Как мог ее муж повести себя настолько глупо? Он никогда не разбирался в людях, вот и сейчас решил, что Бел-Тран покорится без борьбы. В результате – катастрофа: впереди судебное разбирательство, арестовано грузовое судно, нависло обвинение в краже, а этот молодой крокодил торжествует. – Потрясающий итог! Денес не терял присутствия духа. – Скушай еще кусочек жареного гуся, это так вкусно. – Ты ведешь нас к позору и разорению. – Успокойся, удача переменчива. – Удача – да, зато твоя глупость постоянна! – Ну задержали судно на несколько дней, что тут такого? Все товары перегрузили на другое, скоро оно прибудет в Фивы. – А Бел-Тран? Теперь у нас не война, а взаимовыгодное сотрудничество. Ему нас не вытеснить, урок пошел ему на пользу. Мы даже готовы вывезти часть его товара по вполне умеренным ценам. – А обвинение в краже? – Несостоятельно. Документы и свидетели подтвердят мою невиновность. Да я тут и в самом деле ни при чем. Меня подставила Хаттуса. – А претензии Пазаира? – Согласен, это неприятно. – Значит, проигранный процесс, запятнанная репутация и штрафы! – До этого пока не дошло. – Ты что же, веришь в чудеса? – Если хорошенько подготовиться, почему бы и нет?***
Силкет прыгала от радости. Только что она получила алоэ – десятиметровый стебель, увенчанный желтыми, оранжевыми и красными цветами. Сок этого растения содержит масло, которым она натрет гениталии во избежание каких бы то ни было воспалительных процессов. Им же она будет лечить кожную болезнь, из-за которой ноги ее мужа пошли болезненными красными пятнами. Кроме того, Силкет наложит ему мазь из яичного белка и цветов акации. Когда Бел-Тран узнал, что его вызывают во дворец, язвы зачесались с удвоенной силой. Но он решил пренебречь недугом и с тревогой отправился в контору. Бел-Тран вернулся после полудня. – В Дельту мы вернемся не скоро. Придется назначить местного управляющего. – Нас отстраняют от дела? – Наоборот. Меня вовсю хвалили за разумное управление и расширение предприятия. Оказывается, во дворце за моей деятельностью пристально наблюдали уже два года. – Кто же пытается тебе вредить? – Да никто! Старший смотритель амбаров следил за моим возвышением и задавался вопросом, как я поведу себя в случае успеха. Увидев же, что я стал работать еще больше, он предложил мне работать вместе с ним. Силкет пришла в полный восторг. Старший смотритель амбаров устанавливал и собирал налоги продуктами, следил за перераспределением продовольствия в провинциях, руководил работой специально подготовленных писцов, инспектировал провинциальные центры сбора податей, собирал данные о доходах от сельского хозяйства и направлял их в казну, где осуществлялся процесс управления государственными финансами. – Вместе с ним… ты хочешь сказать… – Я назначен старшим казначеем амбаров. – Это замечательно! Она кинулась ему на шею. – Значит, мы станем еще богаче? – Вероятно, но занят я буду еще больше. Придется то и дело ездить в провинции, а также стараться во всем угодить новому начальнику. Тебе придется самой заниматься детьми. – Я так горжусь тобой… можешь на меня положиться.
***
Секретарь Ярти сидел рядом с ослом перед входом в контору Пазаира, дверь была опечатана. – Кто посмел? – Верховный страж собственной персоной по приказу старшего судьи царского портика. – По какой причине? – Он отказался дать мне объяснения. – Это незаконно. – Как я мог помешать? Не драться же с ним! Пазаир тотчас отправился к верховному судье, который целый час продержал его в приемной. – Ну наконец-то, судья Пазаир! Много путешествуете. – Этого требует моя работа. – Ладно, теперь отдохнете! Как вы уже заметили, вы на время отстранены от должности. – В чем же причина? – Беспечность, свойственная молодости! Быть судьей не значит стоять над законами. – Что же я нарушил? Голос старшего судьи стал сердитым. – Закон о налогообложении. Вы не заплатили налогов. – Но я не получал никакого извещения! – Я сам отнес вам его три дня назад, но вас не было. – У меня в распоряжении три месяца. – Да, в провинции, но не в Мемфисе. Здесь у вас только три дня. Срок истек. Пазаир был потрясен. – Почему вы так поступаете? – Просто из уважения к закону. Судья должен быть образцом, а вы подаете дурной пример. Пазаир сдержал закипавшую в нем ярость. Выступить против старшего судьи портика означало еще больше осложнить положение. – Вы преследуете меня. – Не надо громких слов! Я обязан привлекать неплательщиков к ответственности, кем бы они ни были. – Я готов выплатить долг. – Так-так… два мешка зерна. Судья вздохнул с облегчением. – А вот штраф – дело другое. Ну скажем… один тучный бык. Пазаир возмутился. – Но это же несопоставимо! – Ваша должность побуждает меня к особой строгости. – Кто за вами стоит? Старший судья царского портика указал на дверь своей конторы. – Уходите.
***
Сути готов был мчаться в Фивы во весь опор, чтобы проникнуть в гарем и свернуть хеттиянке шею. Пазаир рассудил, что только она одна могла стоять за этой немыслимой санкцией. Обычно уплата налогов не обсуждалась. И жалобы, и уклонения случались весьма редко. Нанеся Пазаиру удар с этой стороны, да еще вспомнив об особых условиях больших городов, она вынуждала зарвавшегося судью замолчать. – Не советую поднимать шум. Ты потеряешь офицерское звание, и на суде тебе никто не поверит. – На каком суде? Ты же больше не можешь никого судить! – Сути… разве я отступил? – Почти. – Почти, ты прав. Но выпад слишком несправедлив. – Как тебе удается сохранять спокойствие? – Мне помогают думать невзгоды и твое гостеприимство. В качестве офицера-колесничего Сути получил дом из четырех комнат с садиком, где теперь мирно спали осел и пес Пазаира. Пантера без особого восторга занималась хозяйством и готовила еду. К счастью, Сути то и дело отвлекал ее от домашних дел, предлагая увеселения более занимательные. Пазаир не выходил из своей комнаты. Он перебирал в памяти разные аспекты главных своих дел, не обращая никакого внимания на любовные игры своего друга и его прекрасной возлюбленной. – Думать, думать… Ну и что ты надумал? – Благодаря тебе нам, возможно, удастся немного продвинуться. Зубной лекарь Кадаш попытался стащить медь из казармы, где химик Чечи занимается своими секретными изысканиями. – Оружие? – Несомненно. – Под покровительством полководца Ашера? – Не знаю. Объяснения Кадаша меня не убедили. Зачем он бродил возле этого места? По его словам, об опытах ему рассказал старший по казарме. Тебе это будет нетрудно проверить. – Ладно, займусь. Пазаир покормил осла, погулял с собакой и сел за стол вместе с Пантерой. – Вы меня пугаете, – призналась она. – Разве я страшный? – Слишком серьезный. А вы, случайно, не влюблены? – Сильнее, чем вы можете себе представить. – Ну и отлично. Вы совсем не такой, как Сути, но он в вас души не чает. Он говорил мне о ваших неприятностях. И как же вы думаете уплатить штраф? – Честно говоря, сам не знаю. Если понадобится, несколько месяцев буду работать в поле. – Судья, и вдруг крестьянин! – Я вырос в маленьком селении. И мне вовсе не претит пахать землю, сеять, собирать урожай. – Я бы лучше пошла воровать. Ведь сборщики податей и есть худшие из воров. – Да, соблазн велик; для этого и существуют судьи. – А вы, стало быть, честный? – Стараюсь. – А почему вас вывели из игры? – Борьба за сферы влияния. – Что, подгнило что-то в Египетском царстве? – Мы не лучше других, но мы отдаем себе в этом отчет. И если заводится гниль, мы ее вычищаем. – В одиночку? – Мы с Сути. Если мы потерпим поражение, нам на смену придут другие. Пантера, надувшись, оперлась подбородком на, руку. – На вашем месте я бы позволила себя подкупить. – Предательство судьи – это шаг к войне. – Мой народ любит сражаться, а ваш – нет. – Разве это признак слабости? Черные глаза сверкнули. – Жизнь – это битва, которую я хочу выиграть – неважно как и неважно, какой ценой.
***
Торжествующий Сути залпом выпил полкружки пива. Он оседлал садовую стену и наслаждался лучами заходящего солнца. Пазаир сидел, скрестив ноги, и гладил Смельчака. – Задание выполнено! Старший по казарме был очень польщен, что к нему заявился герой последней кампании. К тому же он словоохотлив. – А как его зубы? – Прекрасно. Он никогда не лечился у Кадаша. Сути и Пазаир ударили по рукам. Им только что удалось обнаружить чистейшую ложь. – Это еще не все. – Говори, не томи. Сути многозначительно медлил. – Ну что, тебя надо упрашивать? – Герою подобает торжествовать скромно. На складе хранилась высококачественная медь. – Это мне известно. – Зато ты не знаешь, что Чечи сразу же после разговора с тобой велел перенести один неподписанный ящик. Внутри было что-то очень тяжелое, потому что его с трудом вытащили четыре человека. – Солдаты? – Стража, приставленная лично к химику. – А куда унесли ящик? – Неизвестно. Но я найду. – Что нужно Чечи для изготовления сверхпрочного оружия? – Самый редкий и самый дорогой материал – железо. – Я тоже так думаю. Если мы правы, это и есть сокровище, которого так жаждал Кадаш! Зубоврачебные инструменты из железа… С их помощью он надеялся вновь обрести былую сноровку. Остается выяснить, кто ему рассказал о тайнике. – Как вел себя Чечи при вашей встрече? – Сдержанно и осмотрительно. Жалобу подавать не стал. – Странно как-то. Ему следовало бы радоваться, что вор попался. – Что означает… – … что они сообщники! – У нас нет никаких доказательств. – Чечи рассказал Кадашу о существовании железа, а тот решил украсть немножко для собственных целей. А когда у Кадаша ничего не вышло, он не захотел, чтобы его сообщник предстал перед судом, на котором ему самому придется давать показания. – Опыты, железо, оружие… все ведет нас к войску. Но почему Чечи, обычно столь молчаливый, вдруг разоткровенничался с Кадашем? Какое отношение зубной лекарь имеет к военному заговору? Чушь какая-то! – Может, наши размышления и не безупречны, но в них есть доля истины. – А по-моему, мы заблуждаемся. – Не надо отчаиваться! Ключевая фигура здесь Чечи. Я буду следить за ним днем и ночью, расспрошу всех, кто его окружает, и пробью наконец эту стену, которой отгородился от мира наш скрытный и неприметный ученый. – Если б я мог действовать… – Потерпи немного. Пазаир поднял глаза, полные надежды. – Есть выход? – Можно продать мою колесницу. – Тебя выгонят из отряда. Сути стукнул кулаком по стенке. – Но ведь надо же тебя вытащить, и побыстрее! А Сабабу? – Даже не думай. Долг судьи, выплаченный проституткой! Да старший судья портика меня в порошок сотрет. Смельчак вытянул лапы и доверчиво поднял глаза.
33
Смельчак панически боялся воды, поэтому предпочитал держаться от берега на почтительном расстоянии. Он носился во весь опор, потом вдруг возвращался, что-то вынюхивал, подбегал к хозяину и снова мчался прочь. На берегу оросительного канала было безлюдно и тихо. Пазаир мечтал о Нефрет и все пытался истолковать нюансы ее поведения в свою пользу, ведь последний раз она явно показалась ему более благосклонной, по крайней мере, соглашалась его слушать. За тамарисковыми зарослями промелькнула тень. Смельчак ничего не заметил, и судья спокойно продолжал прогулку. Благодаря Сути расследование немного продвинулось, но сумеет ли он сделать что-нибудь еще? Простой неопытный судья всецело находился во власти вышестоящих инстанций. Об этом ему в самой резкой форме напомнил старший судья царского портика. Беранир всячески поддерживал своего ученика. Если потребуется, он готов был продать дом, чтобы Пазаир смог выплатить долг. Разумеется, к вмешательству старшего судьи портика следовало отнестись серьезно – этот упрямый, жесткий человек нередко осложнял жизнь молодым судьям, чтобы закалить их характер. Смельчак резко остановился и стал принюхиваться. Тень вышла из-за укрытия и направилась к Пазаиру. Пес зарычал, хозяин придержал его за ошейник. – Не бойся, мы здесь одни. Смельчак ткнулся носом в хозяйскую руку. Это была женщина. Высокая, стройная, лицо скрыто под темным покрывалом. Уверенным шагом она подошла поближе и остановилась в метре от Пазаира. Смельчак застыл на месте. – Вам нечего опасаться, – заверила она. И откинула покрывало. – Ночь так тиха, царевна Хаттуса, и так располагает к уединенному размышлению. – Мне нужно было застать вас одного, без свидетелей. – Официально вы в Фивах. – Какая прозорливость! – Ваша месть оказалась весьма действенной. – Моя месть? – Меня отстранили, как вы того желали. – Не понимаю. – Не стоит надо мной смеяться. – Именем фараона, я ничего не предпринимала против вас. – Разве я не зашел слишком далеко, по вашим собственным словам? – Вы меня вывели из себя, но я оценила вашу смелость. – Вы признаете обоснованность моего поведения? – В доказательство скажу только одно: я говорила со старшим судьей Фив. – И каков результат? – Он знает правду, инцидент исчерпан. – Только не для меня. – Мнения вышестоящего чиновника вам не достаточно? – В данном случае – нет. – Поэтому я и пришла сюда. Старший судья предполагал – и не зря, – что эта встреча необходима. Я поведаю вам правду, но взамен требую молчания. – Я никакого торга не признаю. – Вы невыносимы. – Вы надеялись, что я сразу соглашусь? – Вы меня не любите, как и большинство ваших соотечественников. – Вам бы следовало сказать: наших соотечественников. Вы же теперь египтянка. – Разве можно забыть, откуда ты родом? Меня волнует судьба хеттов, попавших в Египет в качестве военнопленных. Некоторые осваиваются быстро, другие выживают с трудом. Я обязана им помогать, и поэтому я переправляла им зерно из амбаров моего гарема. Смотритель сказал, что запасов до следующего урожая не хватит, и предложил договориться с одним знакомым чиновником в Мемфисе. Я дала согласие. Поэтому вся ответственность за этот груз лежит на мне. – Верховный страж был в курсе дела? – Естественно. Он не усмотрел ничего преступного в стремлении накормить голодных. Что тут может сделать суд? Разве что обвинить ее в административном правонарушении, да и то виноваты будут оба смотрителя. Монтумес станет все отрицать, судовладелец окажется ни при чем, Хаттуса даже не предстанет перед судом. – Старший судья Фив и его коллега из Мемфиса привели документы в порядок. Если процедура покажется вам незаконной, вы вольны вмешаться. Буква закона соблюдена не была, согласна, но разве дух закона не важнее буквы? Она побила его на его же территории. – Мои несчастные соотечественники не ведают, откуда они получают пищу, и я не хочу, чтобы они узнали. Вы не откажете мне в этой просьбе? – Кажется, дело перешло на рассмотрение в Фивы. Она улыбнулась. – У вас сердце случайно не каменное? – Мне бы очень этого хотелось. Смельчак успокоился и снова принялся резвиться, то и дело нюхая землю. – Последний вопрос, царевна: доводилось ли вам встречаться с полководцем Ашером? Она напряглась, голос зазвучал резко. – В день его смерти я буду предаваться веселью. Да пожрут бестии преисподней мучителя моего народа.***
Сути наслаждался жизнью. Благодаря своим подвигам и полученным ранам он имел право отдохнуть несколько месяцев, прежде чем снова приступить к службе. Пантера играла роль покорной супруги, но, судя по приступам безудержной страсти, темперамент ее нисколько не угас. Каждый вечер схватка возобновлялась с новой силой. Иногда победа оставалась за ней, и она, сияя от восторга, сетовала на вялость партнера. Но на следующий день Сути заставлял ее молить о пощаде. Игра приводила их в восхищение, ибо каждое движение тела возбуждало ответную реакцию, а наслаждение приходило одновременно. Она повторяла, что никогда не влюбится в египтянина. Он утверждал, что ненавидит варваров. Когда он сообщил, что уезжает на неопределенный срок, она рассвирепела и ударила его. Он прижал ее к стене, крепко схватил за руки и запечатлел на ее губах самый долгий поцелуй за всю историю их совместного существования. Она изогнулась, как кошка, прильнула к нему и пробудила столь неодолимое желание, что он овладел ею стоя, так и не выпустив ее из объятий. – Ты никуда не поедешь. – Это секретное поручение. – Если ты уедешь, я тебя убью. – Я вернусь. – Когда? – Не знаю. – Лжешь! Что за поручение? – Секретное. – От меня у тебя нет секретов. – Не обольщайся. – Возьми меня с собой, я буду тебе помогать. Такого варианта Сути не рассматривал. Слежка за Чечи, наверное, будет делом долгим и скучным, да и при некоторых обстоятельствах действительно не мешает быть вдвоем. – Если ты предашь меня, я отрублю тебе ногу. – Не посмеешь. – Ты опять ошибаешься.
***
Напасть на след Чечи удалось всего через несколько дней. Утром он работал в дворцовой мастерской вместе с лучшими химиками царства. Днем отправлялся в удаленную казарму и не выходил оттуда до самого рассвета. Все отзывы, которые смог собрать Сути, оказались самыми лестными: трудолюбивый, знающий свое дело, сдержанный, скромный. В упрек ему ставили лишь чрезмерную молчаливость и постоянное стремление оставаться незаметным. Пантера быстро заскучала. Ни движения, ни опасности – только жди и наблюдай. Задание оказалось неинтересным. У Сути тоже опускались руки. Чечи ни с кем не общался, все время проводил за работой. Полная луна озарила небо над Мемфисом. Пантера спала, свернувшись калачиком возле Сути. Предполагалось, что это будет их последняя ночь на посту. – Вот он, Пантера. – Я спать хочу. – Кажется, он нервничает. Чечи вышел из дверей казармы и забрался на осла, свесив ноги. Животное пошатнулось. – Скоро рассвет, он возвращается в мастерскую. Пантера, казалось, обомлела. – Ну все, с этим делом покончено. Чечи – путь тупиковый. – Где он родился? – спросила она. – В Мемфисе, наверное. – Чечи не египтянин. – Откуда ты знаешь? – Так на осла может сесть только бедуин.
***
Колесница Сути остановилась во дворе пограничного поста города Питом, расположенного у самых болот. Поручив лошадей заботам конюха, он побежал к писцу, ведавшему въездом в страну. Здесь бедуины, желавшие обосноваться в Египте, подвергались долгому и упорному допросу. Были периоды, когда въезжать в страну не разрешалось никому. Во многих случаях прошения, направленные писцами в Мемфис, отклонялись столичными властями. – Офицер-колесничий Сути. – Наслышан о ваших подвигах. – Не могли бы вы сообщить мне сведения об одном бедуине, по-видимому, давно уже ставшем египтянином? – Вообще-то это не совсем по правилам. А в чем дело? Сути смущенно опустил глаза. – Это дело сугубо личное. Если бы мне удалось убедить мою невесту, что он не коренной египтянин, думаю, она бы вернулась ко мне. – Ну ладно… как его зовут? – Чечи. Писец справился с архивами. – Есть у меня один Чечи. Действительно, бедуин из Сирии. Явился на пограничный пост пятнадцать лет назад. Положение тогда было спокойное, и мы разрешили ему въехать в страну. – Ничего подозрительного? – Ничего предосудительного в прошлом, ни в каких военных действиях против Египта не участвовал. Комиссия решила вопрос в его пользу после трех месяцев тщательных проверок. Он принял имя Чечи и устроился в Мемфисе рабочим по металлу. Первые пять лет находился под контролем, но ничего настораживающего выявлено не было. Боюсь, ваш Чечи забыл о своем происхождении.
***
Смельчак спал у ног Пазаира. С тяжелым сердцем судья в который раз отверг предложение Беранира, хотя тот продолжал настаивать. Рука не поднималась продать его дом. – Вы уверены, что пятый ветеран все еще жив? – Если бы он умер, я бы почувствовал. – Раз он отказался от пенсии и предпочел скрываться, ему необходимо работать, чтобы себя прокормить. Кани копал глубоко и методично, но так ничего и не раскопал. Стоя на террасе, Пазаир смотрел на Мемфис. Вдруг ему почудилось, что безмятежность большого города под угрозой, что над ним нависла неведомая опасность. А если дрогнет Мемфис, не устоят ни Фивы, ни вся страна. Внезапно ослабев, он опустился на стул. – А, ты тоже почувствовал. – Какое ужасное ощущение! – И оно нарастает. – Может быть, нам это только кажется? – Ты ощутил зло всем своим существом. Вначале, несколько месяцев назад, я думал, что это кошмар. Но он стал повторяться все чаще, все острее. – Что же это такое? – Бедствие, природа которого нам неизвестна. Судья вздрогнул. Недомогание прошло, но он знал, что тело сохранит память о нем. Возле дома остановилась колесница. С нее спрыгнул Сути и взлетел на второй этаж. – Чечи – по рождению бедуин! Правда, я заслужил кружку пива? Ой, извините, Беранир, я с вами не поздоровался. Пазаир подал другу пиво, и тот долго утолял жажду. – Я все думал по дороге от пограничного поста. Кадаш – ливиец, Чечи – бедуин из Сирии, Хаттуса – хеттиянка! Все трое чужеземцы. Кадаш стал всеми уважаемым зубным лекарем, но участвует в экстатических плясках с соплеменниками; Хаттуса недовольна новой жизнью и горячо привязана к своему народу; молчун Чечи занимается странными исследованиями. Вот тебе и заговор! А за ними – Ашер. Он-то всеми и управляет. Беранир хранил молчание. Пазаир подумал, не содержат ли слова Сути разгадки мучившей их всех тайны. – Ты слишком торопишься. Ну какая может быть связь между Хаттусой и Чечи? Или между ней и Кадашем? – Ненависть к Египту. – Она ненавидит Ашера. – Откуда ты знаешь? – Она сама мне сказала, и я поверил. – Протри глаза, Пазаир, ты возражаешь, как дитя! Взгляни на вещи непредвзято и тут же сам сделаешь вывод. Хаттуса и Ашер – голова всего этого дела, Кадаш и Чечи – исполнители. Оружие, над которым работает химик, предназначается не для египетского войска. – Мятеж? – Хаттуса мечтает о нашествии, Ашер его организует. Сути и Пазаир обратили взор к Бераниру, обоим не терпелось услышать его мнение. – Власть великого Рамсеса не ослабла. Подобная попытка, на мой взгляд, обречена на провал. – Тем не менее она готовится! – воскликнул Сути. – Нужно действовать, нужно задушить заговор в зародыше. Если мы начнем судебную процедуру, они испугаются, поняв, что их козни раскрыты. – Если наше обвинение будет признано необоснованным и клеветническим, нас ждет суровый приговор, а у них будут развязаны руки. Мы должны бить наверняка и сильно. Если бы у нас был пятый ветеран, доверие к полководцу Ашеру было бы подорвано. – Ты что же, собираешься ждать катастрофы? – Дай мне одну ночь на раздумье, Сути. – Думай хоть целый год! Ты все равно не в состоянии созвать суд. – На сей раз, – сказал Беранир, – Пазаир не сможет отказаться от моего дома. Ему нужно заплатить долги и вернуться к исполнению своих обязанностей как можно скорее.
***
Пазаир шагал один в ночи. Жизнь взяла его за горло и заставила сосредоточиться на хитросплетениях заговора, серьезность которого с каждым часом осознавалась все отчетливее, тогда как он хотел думать только об одном – о любимой и недосягаемой женщине. Он отрекался о счастья, но не от справедливости. Страдание закалило его, какая-то сила в самой глубине его существа ни за что не желала сдаваться. И эту силу он заставит служить тем, кто ему дорог. Луна – это нож, рассекавший небеса, или зеркало, отражавшее красоту богов. Он молил, чтобы светило наделило его своей мощью, чтобы его взгляд стал столь же проницательным, как око ночного солнца. Мысли его снова обратились к пятому ветерану. Чем может заниматься человек, желающий остаться незамеченным? Пазаир перебрал все виды деятельности жителей западных Фив и отмел их один за другим. От мясника до сеятеля все постоянно были вынуждены общаться с людьми, а тогда Кани в конце концов нашел бы какую-нибудь зацепку. Все, кроме одного. Да, было одно занятие, при котором человек одновременно был настолько одинок и настолько у всех на виду, что это давало ни с чем не сравнимую возможность не привлекать внимания. Пазаир поднял глаза к небу – своду из темного лазурита со звездообразными отверстиями, через которые струится свет. Ему удалось направить этот свет в нужное русло, и теперь он знал, где искать пятого ветерана.
34
Контора, отведенная новому старшему казначею амбаров, была просторной и светлой; под его началом постоянно трудилось четверо писцов. Бел-Тран, облаченный в новую набедренную повязку и не особо шедшую ему льняную рубаху с короткими рукавами, весь прямо-таки светился от счастья. Успехам в торговле он радовался несказанно, но власть влекла его, с тех пор как он выучился читать и писать. Скромное происхождение и весьма посредственное образование делали мечту практически неосуществимой. Однако администрация сумела оценить, сколь исступленно способен трудиться этот человек, и решила использовать его энергию на государственной службе. Поздоровавшись с сотрудниками и подчеркнув свою любовь к порядку и пунктуальности, он приступил к ознакомлению с первым делом, доверенным ему непосредственным начальником: списком людей, вовремя не заплативших налоги. Сам он платил налоги час в час, а потому, развернув список, ехидно усмехнулся. Землевладелец, войсковой писец, хозяин столярного цеха и… судья Пазаир! Проверявший чиновник указал, насколько просрочен платеж и размер штрафа, верховный страж лично опечатал дверь в контору судьи! В обед Бел-Тран отправился к секретарю Ярти и спросил, где поселился судья. У Сути чиновник застал лишь доблестного воина и его любовницу; оказалось, Пазаир только что отправился в гавань, откуда выходили легкие суда, курсировавшие между Мемфисом и Фивами. Бел-Тран успел нагнать Пазаира. – Я узнал, какая скверная история с вами приключилась. – Я допустил оплошность. – Да это вопиющая несправедливость! Штраф ни в какое сравнение не идет с самим проступком. Обратитесь в суд. – Я ведь не прав. Суд затянется надолго, и что я выиграю? Снижение штрафа и кучу врагов. – Видимо, старшему судье портика вы не особенно нравитесь. – Он имеет обыкновение испытывать молодых людей. – Вы помогли мне в трудную минуту, я хотел бы отплатить вам тем же. Разрешите мне погасить ваш долг. – Ни в коем случае. – А взаймы взять согласитесь? Без процентов, разумеется. Уж позвольте мне хотя бы не наживаться за счет друга! – А как я смогу вернуть вам долг? – Работой. В моей новой должности старшего казначея амбаров мне часто нужна будет ваша помощь. Вы сами посчитаете, сколько консультаций соответствуют двум мешкам зерна и одному тучному быку. – Значит, будем видеться часто. – Вот документ, удостоверяющий ваше право собственности на означенное имущество. Бел-Тран и Пазаир ударили по рукам.***
Старший судья царского портика готовился к завтрашнему заседанию. Кража сандалий, спор о наследстве, возмещение за несчастный случай. Простые, быстро разрешимые дела. Весть о нежданном посетителе его позабавила. – Пазаир! Вы что, сменили профессию или пришли выплатить долг? Судья рассмеялся собственной шутке. – Выплатить долг, конечно. Старший судья спокойно, широко улыбаясь, посмотрел на Пазаира. – Отлично, в чувстве юмора вам не откажешь. Карьера – это не для вас; впоследствии вы еще благодарить меня будете за проявленную суровость. Возвращайтесь к себе в селение, женитесь на доброй крестьянке, сделайте ей пару детишек и забудьте о судьях и правосудии. Слишком уж сложен этот мир. Я разбираюсь в людях, Пазаир. – С чем вас и поздравляю. – Значит, вы вняли голосу разума! – Вот то, что с меня причитается. Старший судья портика ошалело уставился в документ, подтверждающий право собственности. – Два мешка зерна стоят возле вашей двери, тучного быка сейчас кормят в государственном стойле. Вы удовлетворены?
***
Монтумес выглядел как в худшие времена. Покрасневшая кожа на голове, осунувшееся лицо, гнусавый голос, нетерпение, проскальзывающее в каждом действии. – Я принимаю вас просто из вежливости, Пазаир. Ныне вы всего лишь отстраненный от должности бывший судья. – Если бы дело обстояло именно так, я бы не позволил себе вас беспокоить. Верховный страж поднял голову. – То есть? – Вот документ, подписанный старшим судьей царского портика. С налоговой службой все улажено. Он даже счел, что мой бык тучнее, чем следует, и предоставил мне льготы по налогам на будущий год. – Как вам удалось… – Я был бы вам очень благодарен, если бы вы как можно скорее сняли печати с моей двери. – Разумеется, мой дорогой судья, разумеется! Знайте, я всячески старался вас защитить в этой прискорбной истории. – Ни секунды в этом не сомневаюсь. – Наше дальнейшее сотрудничество… – Может стать необычайно плодотворным. Одна маленькая подробность: с хищением зерна все улажено. Я в курсе дела, но вы узнали обо всем раньше меня.
***
Успокоившись и вернувшись к исполнению своих обязанностей, Пазаир сел на быстроходное судно и направился в Фивы. С ним рядом был Кем. Убаюканный качкой павиан спал, привалившись к бухте пенькового каната. – Вы меня поражаете, – сказал нубиец. – Вы уцелели, попав между молотом и наковальней; даже самые крепкие люди, и те ломаются в таких ситуациях. – Мне просто повезло. – Скорее, возникла необходимость. Причем необходимость настолько острая, что перед вами склонились и люди, и обстоятельства. – Вы приписываете мне способности, которыми я не обладаю. Двигаясь вверх по течению, он приближался к Нефрет. Скоро старший лекарь потребует отчета. Выяснится, что молодая целительница свою деятельность не свернула. Столкновение становилось неизбежным. Судно причалило в Фивах ближе к вечеру. Судья уселся на берегу поодаль от прохожих. Солнце спустилось к горизонту, горы на западе порозовели, под печальные звуки флейты возвращались с полей стада. На последнем пароме было всего несколько пассажиров. Кем и павиан устроились у заднего борта. Пазаир подошел к перевозчику. Его лицо было наполовину скрыто старомодным париком. – Двигайтесь помедленнее, – попросил судья. Перевозчик не поднимал головы от весла. – Нам надо поговорить; здесь вы в безопасности. Отвечайте, не глядя на меня. Кому какое дело до перевозчика? Каждый торопится попасть на другой берег, люди беседуют, мечтают, на паромщика никто и не взглянет. Он довольствовался малым, жил особняком, не смешиваясь с населением. – Вы пятый ветеран, единственный выживший из почетной стражи сфинкса. Перевозчик не стал возражать. – Я судья Пазаир, и я желаюзнать правду. Четверо ваших товарищей погибли, вероятно, были убиты. Поэтому вы скрываетесь. За всем этим могут стоять только очень серьезные причины. – Чем вы докажете, что говорите правду? – Если бы я хотел вас уничтожить, вас бы уже не было. Поверьте. – Да, вам легко… – Забудьте об этом. Вам довелось стать свидетелем чудовищного происшествия, верно? – Нас было пятеро… пять ветеранов. Мы охраняли сфинкса по ночам. Задача, не связанная с риском, чисто почетная, чтобы дождаться пенсии. Мы с одним товарищем сидели с внешней стороны ограды, которой обнесена статуя. Как обычно, мы заснули. Он услышал шум и проснулся. Я хотел спать и попытался его успокоить. Но он разволновался, стал настаивать. Мы пошли посмотреть, в чем дело, перелезли через ограду и обнаружили тело одного из наших с правой стороны от сфинкса, и второго – с левой. Он прервался, ему было трудно говорить. – А потом – стоны… они меня до сих пор преследуют! Между лапами сфинкса умирал начальник стражи. Изо рта у него шла кровь, он с трудом выговаривал слова. – Что он сказал? – На него напали, он защищался. – Кто напал? – Обнаженная женщина, несколько мужчин. «Чужая речь в ночи» – это были его последние слова. Мы с товарищем перепугались. Зачем такая жестокость?.. Следует ли звать стражу, охраняющую большую пирамиду? Мой напарник решил, что не надо, уверенный, что это сулит нам неприятности. Того гляди, еще нас же и обвинят. Трое ветеранов погибли… Лучше молчать, сделать вид, что мы ничего не видели и не слышали. Мы вернулись на свой пост. Когда рано утром нам на смену пришла дневная стража, она обнаружила тела. Мы прикинулись потрясенными. – Какие последовали меры? – Никаких. Нас отправили на пенсию в наши родные селения. Мой товарищ стал пекарем, я собирался чинить колесницы. Его убийство заставило меня скрываться. – Убийство? – Он был необычайно осторожен, особенно с огнем. Я абсолютно уверен, что его подтолкнули. Трагедия сфинкса преследует нас. Мы представляем опасность. Кто-то убежден, что мы слишком много знаем. – Кто вас допрашивал в Гизе? – Какой-то старший офицер. – Полководец Ашер с вами не говорил? – Нет. – Ваше свидетельство сыграет на суде решающую роль. – На каком суде? – Полководец утвердил документ, согласно которому вы и четверо ваших товарищей погибли в результате несчастного случая. – Ну и хорошо, значит, меня больше нет. – Если вас нашел я, значит, найдут и другие. Выступите свидетелем и снова будете свободны. Паром подходил к берегу. – Я… я не знаю. Оставьте меня в покое. – Это единственный выход. Вы должны сделать это в память о ваших товарищах и ради себя самого. – Завтра утром на первом пароме я дам вам ответ. Перевозчик выбрался на берег и привязал веревку к колышку. Пазаир, Кем и павиан пошли прочь. – Охраняйте этого человека всю ночь. – А вы? – Я пойду переночую в ближайшей деревне. Вернусь на рассвете. Кем колебался. Полученный приказ ему не нравился. Если перевозчик что-то рассказал Пазаиру, значит, судья в опасности. Он не мог обеспечить безопасность обоих. Кем выбрал Пазаира.
***
Поглотитель теней наблюдал за тем, как паром пересек реку в лучах заходящего солнца. Нубиец и павиан сзади, судья рядом с перевозчиком. Странно. Стоя бок о бок, они оба смотрели на противоположный берег. Между тем пассажиров было мало, каждый занимался своими делами. Почему вдруг такое сближение, не потому ли, что надо поговорить? Перевозчик… Единственный вид деятельности, когда ты все время на виду и абсолютно неприметен. Поглотитель теней бросился в воду и переплыл Нил. Добравшись до противоположного берега, он долго сидел в тростниковых зарослях и наблюдал за окрестностями. Перевозчик спал в своей деревянной хижине. Ни Кема, ни павиана поблизости видно не было. Он выждал еще немного, удостоверился, что хижину никто не охраняет. Быстро пробравшись внутрь, он накинул кожаный шнурок на шею спящему, и тот резко проснулся. – Если дернешься, ты – мертвец. Сопротивляться перевозчику было не по силам. Он поднял правую руку в знак покорности. Поглотитель теней ослабил хватку. – Кто ты? – Пе… перевозчик. – Еще раз солжешь, и я тебя придушу. Ты ветеран? – Да. – К какому войску приписан? – К азиатскому. – Последнее назначение? – Почетная стража сфинкса. – Почему ты скрываешься? – Я боюсь. – Кого? – Я… не знаю. – В чем твоя тайна? – Ни в чем! Шнурок сдавил плоть. – Нападение в Гизе. Побоище. На сфинкса напали, мои товарищи погибли. – Кто напал? – Я ничего не видел. – Судья задавал тебе вопросы? – Да. – Какие? – Те же, что и вы. – Что ты отвечал? – Он пригрозил мне судом, но я ничего не сказал. Я не хочу неприятностей с правосудием. – Что ты ему рассказал? – Что я перевозчик, а не ветеран. – Превосходно. Он убрал шнурок. Пока ветеран с облегчением ощупывал больную шею, поглотитель теней оглушил его ударом кулака в висок. Потом вытащил тело из хижины, подтащил к реке и держал голову перевозчика под водой на протяжении нескольких долгих минут. А затем спустил труп в воду рядом с паромом. Ну просто утонул человек, и все.
***
Нефрет готовила снадобье для Сабабу. Поскольку проститутка отнеслась к лечению серьезно, болезнь понемногу отступала. Сабабу ощущала новый прилив сил, острые приступы артрита больше ее не мучили, и она испросила у своего лекаря позволения заниматься любовью с привратником из пивного дома – молодым, пышущим здоровьем нубийцем. – Можно вас побеспокоить? – спросил Пазаир. – Я как раз закончила работу. Лицо Нефрет осунулось. – Вы слишком много работаете. – Это всего лишь небольшая усталость. Что-нибудь слышно о Небамоне? – Нет, он не проявлялся. – Просто затишье. – Боюсь, что да. – Как ваше расследование? – Продвигается вперед огромными шагами, хотя я и был отстранен от должности старшим судьей царского портика. – Расскажите. Он поведал ей о своих невзгодах, пока она мыла руки. – Вы окружены друзьями. Наш учитель Беранир, Сути, Бел-Тран… Вам сильно повезло. – А вам, наверное, одиноко? – Жители селения облегчают мою работу, но мне не с кем посоветоваться. Иногда это тяжело. Они уселись на циновку лицом к пальмовой роще. – Вы, кажется, взволнованы? – Я только что нашел главного свидетеля. Вы первая, кому я об этом говорю. Нефрет не отвела глаз. В ее взгляде он прочитал внимание, а может быть, даже тепло. – Вам ведь могут помешать двигаться дальше? – Неважно. Я верю в правосудие так же, как вы – в медицину. Их плечи соприкоснулись. Пазаир замер и затаил дыхание. Словно не заметив случайного касания, Нефрет не отстранилась. – Вы готовы пожертвовать жизнью ради истины? – Если потребуется – без колебаний. – А обо мне вы все еще думаете? – Постоянно. Его ладонь коснулась руки Нефрет и тихо, едва ощутимо легла на нее. – Когда я устаю, я думаю о вас. Что бы ни случилось, вы кажетесь несгибаемым и неуклонно идете вперед по избранному пути. – Это только видимость, меня часто одолевают сомнения. Сути винит меня в наивности. Для него главное – приключения. Как только возникает угроза погрязнуть в рутинных привычках, он готов на любое безумство. – А вы тоже боитесь привычек? – Они мне только помогают. – Вы верите, что чувство может длиться долгие годы? – Всю жизнь, если это не просто чувство, если ты вкладываешь в это все свое существо, если уверен, что знаешь, что такое блаженство, если душа твоя причастна свету восходов и закатов. Любовь, способная угаснуть, – это только сиюминутная победа, завоевание. Она склонила голову ему на плечо, ее волосы нежно коснулись его щеки. – Вы обладаете странной силой, Пазаир. Это был всего лишь сон, мимолетный, словно светлячок в фиванской ночи, но он озарил его жизнь.
***
Ночь он провел без сна в пальмовой роще, лежа на спине и уставившись на звезды. Он старался удержать ощущение того мига, когда Нефрет расслабилась, прежде чем отправить его восвояси и закрыть за ним дверь. Значило ли это, что она испытывает к нему какую-то нежность, или же сказалась обычная усталость? При мысли, что она принимает его присутствие и его любовь, пусть даже не разделяя его страсти, он ощущал себя легким, как весеннее облачко, и могучим, как начинающийся разлив. В нескольких шагах грыз финики и сплевывал косточки павиан. – Ты – здесь?! Но… У него за спиной послышался голос Кема. – Я решил позаботиться о вашей безопасности. – К реке, быстро! Занимался рассвет. На берегу собралась толпа. – Расступитесь, – приказал Пазаир. Какой-то рыбак выловил тело перевозчика ниже по течению. – Может, он не умел плавать. – Наверное, поскользнулся. Не обращая внимания на комментарии, судья осмотрел тело. – Это убийство, – заявил он. – На шее следы от шнура, на правом виске след от сильного удара кулаком. Он был задушен и оглушен, прежде чем утонул.
35
Осел, нагруженный папирусом, кисточками и табличками, вел Пазаира по пригородам Мемфиса. Если бы Северный Ветер заплутал, Сути помог бы найти дорогу, но животное оправдывало свою репутацию. Кем и павиан замыкали процессию, направлявшуюся в казарму, где орудовал Чечи. Рано утром химик работал во дворце, так что путь был свободен. Пазаир был вне себя от гнева. Когда тело перевозчика перенесли в ближайшее управление стражи, местный самодур составил заведомо ложное донесение. Он никак не мог допустить мысли об убийстве на вверенном ему участке из страха быть пониженным в должности. Вместо того чтобы подтвердить выводы судьи, он счел нужным заключить, что перевозчик просто утонул. По его мнению, следы на шее и на виске появились случайно и не имели отношения к делу. Пазаир обстоятельно изложил свое особое мнение. Перед возвращением на север он видел Нефрет всего несколько минут. С самого утра к ней потянулось множество пациентов. Пришлось довольствоваться парой ничего не значащих фраз и взглядом, в котором он уловил поддержку и понимание. Сути был в восторге. Наконец-то его друг перешел к решительным действиям. В казарме, расположенной очень далеко от основных пунктов размещения войск в Мемфисе, не наблюдалось ни малейшего оживления. Не было видно ни тренирующихся солдат, ни лошадей. Сути, как человек военный, первым делом стал искать дежурного, призванного охранять вход. Но путь к весьма ветхому сооружению был открыт. Только два старика беседовали, сидя на краю каменного колодца. – Скажите, уважаемые, что за отряд здесь размещен? Тот, что постарше, фыркнул. – Отряд ветеранов и калек, сынок! Нас поместили сюда, прежде чем отправить на пенсию. Прощайте, азиатские пути-дороги, наступательные марши да скудные рационы. Скоро нас ждут сады, служанки, парное молоко, свежие овощи. – А где ваш старший? – В бараке вон там, за колодцем. Судья предстал перед усталым офицером. – Посетители у нас редкость. – Я судья Пазаир, и мне необходимо обыскать ваш склад. – Что еще за склад? – Некто по имени Чечи проводит исследования в вашей казарме. – Чечи? Понятия о нем не имею. Пазаир описал химика. – А-а, этот! Приходит после полудня и проводит здесь ночь, верно. Приказ сверху. Я подчиняюсь. – Откройте мне помещение. – Да у меня и ключа нет. – Тогда проводите нас. Вход в подземное помещение Чечи преграждала массивная деревянная дверь. На глиняную табличку Пазаир занес год, месяц, день и час своего вторжения, а также описание места, – Открывайте. – Я не имею права. – Я беру ответственность на себя. Сути помог офицеру. С помощью копья они взломали деревянный засов. Пазаир и Сути вошли внутрь. Кем с павианом остались на страже. Очаг, печи, запасы древесного угля и пальмовой коры, тигли, медные инструменты – судя по всему, оборудование у Чечи было превосходное. Везде царили чистота и порядок. Быстро обыскав помещение, Сути нашел таинственный ящик, перенесенный из одной казармы в другую. – Я волнуюсь, как мальчишка, первый раз оказавшийся наедине с девушкой. – Погоди. – Нельзя останавливаться, когда ты у цели! – Я составляю отчет: состояние помещения и местоположение подозрительного предмета. Едва Пазаир кончил писать, Сути открыл ящик. – Железо… слитки железа! Да не простого. Сути прикинул на руке вес слитка, пощупал его, смочил слюной, поскреб ногтем. – Оно не из вулканических скал восточной пустыни. Оно из легенды, что рассказывали в селении, – небесное железо! – Да, похоже на то, – подтвердил Пазаир. – Тут целое состояние. – Именно из такого железа жрецы Дома Жизни делают металлический трос, чтобы фараон мог подняться на небо. Как им может владеть простой химик? Сути был потрясен. – Я слышал о нем, но даже мечтать не смел когда-нибудь подержать его в руках. – Оно не наше, – напомнил Пазаир. – Это вещественное доказательство. Чечи придется объяснить, как оно сюда попало. На дне ящика – железное тесло. Этот инструмент служил для отверзания уст и очей мумии, когда смертное тело, воскрешенное ритуалами, превращалось в светлую сущность. Ни Пазаир, ни Сути не дерзнули к нему прикоснуться. Если тесло освящено, в нем таятся сверхъестественные силы. – Мы с тобой просто смешны, – заметил офицер-колесничий. – Это всего лишь металл. – Может быть, ты и прав, но я рисковать не буду. – Что ты предлагаешь? – Подождать подозреваемого.***
Чечи был один. Увидев, что дверь в его подземелье открыта, он тут же развернулся и собрался бежать. Однако наткнулся на нубийца, и тот подтолкнул его обратно к казарме. Павиан безучастно лакомился изюмом. Такое поведение означало, что поблизости не бродит никто из спутников химика. – Весьма рад видеть вас снова, – сказал Пазаир. – Вы, оказывается, любите переезжать. Взгляд Чечи упал на ящик. – Кто вам позволил? – Это обыск. Чечи отлично владел собой. Он оставался невозмутимо спокоен. – Обыск – процедура исключительная, – заметил он, поджав губы. – Как и вся ваша деятельность. – Это дополнение к моим основным исследованиям. – У вас особое пристрастие к казармам. – Я готовлю оружие будущего, поэтому у меня есть все разрешения от армейских властей. Проверьте и убедитесь, что мои мастерские должным образом оформлены, а опыты получают поддержку сверху. – Не сомневаюсь, но вряд ли вы достигнете цели, используя небесное железо. Этот материал предназначен для храма, равно как и тесло, спрятанное на дне ящика. – Ящик мне не принадлежит. – Вы что, не знали о его существовании? – Его поставили здесь против моей воли. – Ложь, – вмешался Сути. – Вы сами приказали перенести его сюда. Думали, что в такой дыре вы в безопасности. – Вы что, за мной шпионили? – Откуда взялось железо? – спросил Пазаир. – Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. – В таком случае вы арестованы за кражу, сокрытие краденого и препятствие нормальному ходу расследования. – Я буду все отрицать, вы ничего не докажете. – Или вы последуете за нами, или я попрошу нубийского стражника связать вам руки. – Я не собираюсь бежать.
***
Из-за допроса Ятри пришлось работать сверхурочно, в то время как его дочь, закончившая танцевальную школу, давала представление на главной площади одного из городских кварталов. Он надулся, тем более что делать все равно было нечего, так как Чечи не отвечал ни на один вопрос, предпочитая вообще не открывать рта. Судья терпеливо настаивал. – Кто ваши сообщники? Похитить железо такого качества одному человеку не под силу. Чечи смотрел на Пазаира из-под полуприкрытых век и казался неприступным как Царские стены. – Кто-то доверил вам этот ценный металл. С какой целью? Когда ваши исследования дали удовлетворительные результаты, вы под предлогом попытки хищения со стороны Кадаша выгнали своих помощников, обвинив их в нерадивости. И таким образом ваша деятельность осталась без всякого контроля. Тесло вы сами изготовили или украли? Сути с удовольствием двинул бы молчуну по скуле, но Пазаир бы этого не допустил. – Вы с Кадашем давние друзья, верно? Он знал о существовании вашего сокровища и попытался его украсть. Если, конечно, вы не разыграли все это, для того чтобы оказаться в роли жертвы и убрать из мастерской всех нежелательных свидетелей. Чечи сидел на циновке, поджав под себя ноги, и упорно молчал. Он знал, что судья не имеет права прибегать к какому бы то ни было насилию. – Как бы вы ни упирались, Чечи, я доберусь до истины. Это обещание химика не смутило. Пазаир попросил Сути связать ему руки и привязать его к кольцу, вмурованному в стену. – Мне очень жаль, Ярти, но я вынужден вас попросить посторожить подозреваемого. – Это надолго? – Мы вернемся засветло.
***
Мемфисский дворец представлял собой административный комплекс, состоявший из десятков контор, где работали множество писцов. Химики находились в ведении смотрителя царских мастерских, высокого сухощавого мужчины лет пятидесяти, который весьма удивился приходу судьи. – Со мной колесничий Сути, свидетель обвинения. – Обвинения? – Один из ваших подчиненных, Чечи, в данный момент находится под арестом. – Чечи? Не может быть! Это ошибка. – Ваши химики используют небесное железо? – Конечно, нет. Это материал настолько редкий, что его используют только в храмах и только в ритуальных целях. – Как могло случиться, что изрядное количество этого металла оказалось у Чечи? – Это недоразумение. – На него была возложена какая-то особая задача? – Он связан непосредственно с армейскими властями и должен следить за качеством меди. Позвольте мне поручиться за честность Чечи, за его техническое мастерство и человеческие качества. – Вам известно, что он работает в тайной мастерской, оборудованной в здании казармы? – Таков приказ армейских властей. – Кем он подписан? – Целым рядом старших офицеров, которые требуют, чтобы некоторые специалисты разрабатывали новые виды оружия. Чечи – один из них. – Однако использование небесного железа явно не было предусмотрено. – Этому должно быть какое-то простое объяснение. – Подозреваемый отказывается говорить. – Чечи никогда болтлив не был, он молчалив по натуре. – Что вам известно о его происхождении? – По-моему, он родился где-то недалеко от Мемфиса. – А вы не могли бы это проверить? – Это так важно? – Да, более чем вы думаете. – Я должен посмотреть в архивах. Поиски заняли больше часа. – Так и есть: Чечи родом из небольшого селения к северу от Мемфиса. – Учитывая его должность, вы, наверное, проверяли эти сведения. – Этим занимались военные, и они ничего необычного не обнаружили. Проверявший поставил печать по всем правилам, и Чечи приняли на службу, ничего не опасаясь. Надеюсь, вы сделаете все возможное, чтобы его отпустили как можно скорее. – Улик против него становится все больше и больше. Воровство он усугубил ложью. – Судья Пазаир! Вы явно перегибаете палку. Если бы вы лучше знали Чечи, вам было бы ясно, что он не способен на бесчестный поступок. – Если он невиновен, суд это докажет.
***
Ярти рыдал, сидя на пороге. Осел грустно смотрел на него. Сути принялся трясти секретаря, между тем как Пазаир убедился, что Чечи исчез. – Что произошло? – Он пришел, потребовал мой протокол, обнаружил, что два пункта неполны и поэтому документ недействителен, пригрозил мне взысканием, освободил задержанного… Поскольку формально он был прав, я вынужден был уступить. – О ком вы говорите? – О верховном страже, Монтумесе. Пазаир прочел протокол. Действительно, Ярти не указал должность Чечи и не уточнил, что судья вел предварительное расследование лично, не прибегая к помощи третьих лиц. Вся процедура была сведена на «нет».
***
Солнечный луч проникал через переплет каменного окна и освещал лоснящуюся голову Монтумеса, умащенную благовониями. Он принял Пазаира, широко улыбаясь, с деланным воодушевлением. – Не правда ли, мы живем в замечательной стране, мой дорогой судья? Здесь никто не боится перегибов закона, ибо мы радеем о благополучии подданых. – Слово «перегибы» явно вошло в моду. Вот и смотритель лабораторий сказал, что я перегибаю палку. – Вряд ли стоит ставить ему это в упрек. Пока он сверялся с архивами, он дал мне знать об аресте Чечи. Я сразу же отправился в вашу контору, уверенный, что произошла досадная ошибка. Так оно и оказалось, поэтому Чечи был незамедлительно освобожден. – Мой секретарь допустил очевидную оплошность, – признал Пазаир, – но почему вас так интересует этот химик? – Он военный специалист. Как и его коллеги, он находится под моим непосредственным наблюдением. Его нельзя задержать без моего согласия. Признаю, что вы этого не знали. – Обвинение в воровстве снимает с Чечи частичную неприкосновенность. – Обвинение необоснованно. – Несоблюдение формы не отменяет сути претензии. Монтумес заговорил надменно. – Чечи – один из лучших специалистов в области вооружения. Неужели вы думаете, что он станет так глупо рисковать своей карьерой? – Вы знаете, что было украдено? – Какая разница! Я этому не верю. И прекратите лезть из кожи вон, лишь бы прослыть поборником справедливости. – Где вы спрятали Чечи? – Там, где до него не сможет добраться судья, выходящий за рамки своих полномочий.
***
Сути поддержал Пазаира: единственный возможный выход из положения – созвать суд, где на карту будет поставлено все. Доказательства и аргументы сыграют решающую роль, если присяжные не окажутся подкуплены противниками, ибо если бы Пазаир дал отвод всем присяжным, его могли отстранить от дела. Оба друга были убеждены, что истина, провозглашенная на открытом процессе, расшевелит даже самые закоснелые умы. Судья поведал о своем решении Бераниру. – Ты сильно рискуешь. – Разве есть другой, лучший путь? – Выбирай тот, по которому ведет тебя твое сердце. – Я считаю, что нужно метить как можно выше, не растрачивая себя на второстепенные мелочи. Если нацелиться на главное, мне будет легче бороться с окружающей ложью и трусостью. – Ты никогда не довольствуешься полумерами, тебе нужен свет во всем его блеске. – Разве я не прав? – Конечно, для предстоящего процесса нужен зрелый, опытный судья, но боги доверили его тебе, и ты согласился. – Кем сторожит ящик с небесным железом; он положил на него доску, на ней сидит павиан. К нему никто не подойдет. – Когда ты созовешь суд? – Самое позднее через неделю. Учитывая исключительный характер дела, я ускорю формальную процедуру. Как вы считаете, мне удалось выявить, где именно сосредоточено зло? – Ты близок к этому. – Могу я вас попросить об одном одолжении? – Кто ж тебе мешает? – Несмотря на ваше скорое назначение, вы согласитесь быть присяжным? Старый учитель устремил взор на свою планету-покровительницу – Сатурн, сиявшую непривычно ярко. – Разве ты в этом сомневался?
36
Смельчак никак не мог привыкнуть к присутствию павиана под его крышей, но, поскольку хозяин это допускал, он не выказывал недовольства. Молчаливый Кем ограничился замечанием, что затевать процесс – безумие. При всей своей дерзости Пазаир имел слишком мало профессионального опыта, чтобы преуспеть в таком деле. Судья чувствовал, что нубиец его не одобряет, и все же продолжал готовиться к бою, между тем как секретарь подносил ему должным образом проверенные реестры и формуляры. Старший судья портика не преминет придраться к любой формальной небрежности. Появление старшего лекаря Небамона пришлось на редкость некстати. Как всегда элегантный, в надушенном парике, он выглядел весьма раздосадованным. – Я бы хотел поговорить с вами с глазу на глаз. – Я очень занят. – Это срочно. Пазаир отложил папирус с протоколом суда над одним знатным человеком, обвиненном в том, что он от царского имени возделывал не принадлежавшие ему земли; несмотря на свое положение при дворе, вернее, как раз из-за него, он был лишен имущества и приговорен к изгнанию. Апелляция ничего не дала. Они пошли по тихой тенистой улочке. Какие-то девочки играли в куклы; мимо прошел осел, нагруженный корзинами с овощами; на пороге одного из домов спал старик. – Мы с вами плохо друг друга поняли, мой дорогой Пазаир. – Мне, как и вам, очень жаль, что госпожа Сабабу продолжает заниматься своей предосудительной профессией, но в законе нет ни одного пункта, позволяющего привлечь ее к ответственности. Она платит налоги и не возмущает общественного спокойствия. Я даже позволю себе заметить, что ее пивной дом посещают некоторые именитые лекари. – А Нефрет? Я просил вас ей пригрозить! – Я обещал, что постараюсь. – Результат восхитительный! Один из моих фиванских коллег едва не дал ей место в лечебнице Дейр-эль-Бахри. К счастью, я вовремя вмешался. Знаете, ведь она оттеснила многих достойных лекарей. – Значит, вы признаете ее способности. – Как бы ни была одарена Нефрет, ей суждено оставаться в тени. – Мне так не кажется. – Ваше мнение меня не интересует. Когда хочешь сделать карьеру, приходится следовать указаниям влиятельных людей. – Вы правы. – Я согласен дать вам последний шанс, но на сей раз потрудитесь не разочаровать меня. – Я этого не заслуживаю. – Забудьте о неудаче и действуйте. – Что-то я сомневаюсь. – В чем? – В своей карьере. – Следуйте моим советам, и у вас не будет проблем. – Пожалуй, я удовольствуюсь положением судьи. – Я не совсем понимаю… – Оставьте Нефрет в покое. – Вы в своем уме? – Отнеситесь к моему предупреждению серьезно. – Вы ведете себя глупо, Пазаир! Зря вы поддерживаете девушку, которая обречена на полное поражение. У Нефрет нет будущего; кто свяжет с ней свою судьбу, поставит крест на своей жизни. – У вас от злобы помутился разум. – Со мной еще никто никогда не говорил таким тоном! Я требую, чтобы вы извинились. – Я стараюсь вам помочь. – Помочь мне? – Вы начинаете сдавать прямо на глазах. – Вы еще пожалеете о своих словах!***
Денес следил за разгрузкой одного из своих судов. Матросы торопились, так как на следующий день им предстояло снова отчалить на юг, чтобы воспользоваться попутным ветром. Груз мебели и зерна надо было переправить на новый склад, недавно приобретенный судовладельцем. Скоро он планировал подмять под себя одного из самых серьезных конкурентов и таким образом расширить дело, в будущем предназначенное двум его сыновьям. Благодаря связям супруги его отношения с высшей администрацией укреплялись с каждым днем, так что никаких препятствий к дальнейшему разрастанию его владений не предвиделось. Старший судья царского портика не имел обыкновения разгуливать по набережным. Тяжело опираясь на посох из-за разыгравшейся подагры, он подошел к Денесу. – Не стойте здесь, вас могут нечаянно толкнуть. Денес взял судью под руку и отвел в тот отсек склада, где товары уже были разложены по местам. – Чему я обязан вашим посещением? – Мы на пороге драматических событий. – Я в этом замешан? – Нет, но вы должны помочь мне предотвратить катастрофу. Завтра Пазаир возглавит судебное заседание. Я не мог запретить ему созвать суд, так как прошение было составлено по всем правилам. – Кого будут судить? – Он держит втайне и обвиняемого, и обвинителя. Судя по слухам, под угрозой государственная безопасность. – Нельзя верить слухам. Как мелкий судья может заниматься делом такого размаха? – При всей внешней сдержанности Пазаир упрям, как баран. Прет напрямую, невзирая ни на какие препятствия. – Вы волнуетесь? – Этот судья опасен. Он относится к своей должности как к священной миссии. – Но вы же и не таких знавали! Все вскоре приутихли. – Этот – крепче гранита. Мне уже довелось его испытать; у него совершенно немыслимая сопротивляемость. На его месте молодой судья, озабоченный своей карьерой, давно бы отступил. Поверьте, от него одни неприятности. – Что-то вы мрачно настроены. – Только не на сей раз. – Чем я могу вам быть полезен? – В моей власти назначить двух присяжных, поскольку я дал согласие, чтобы Пазаир судил под портиком. Я уже выбрал Монтумеса, его здравомыслие нам будет просто необходимо. А с вашей помощью я буду чувствовать себя и вовсе спокойно. – Завтра это невозможно: прибывает груз с ценными сосудами, и я должен лично проверить каждый предмет. Но моя супруга великолепно справится.
***
Пазаир сам понес вызов Монтумесу. – Я бы мог послать к вам моего секретаря, но наши дружеские отношения обязывают меня проявить больше внимания. Верховный страж не предложил судье сесть. – Чечи должен выступить как свидетель, – продолжал Пазаир. – Поскольку вы один знаете, где он находится, приведите его в суд. Иначе придется привлечь к его поискам стражу. – Чечи человек благоразумный. Если бы вы обладали этим качеством, вы бы отказались от процесса. – Старший судья портика счел, что он может состояться. – Вы губите свою карьеру. – В последнее время о ней печется столько народу, что вряд ли мне стоит беспокоиться. – Когда вы потерпите полное и окончательное поражение, над вами будет смеяться весь Мемфис и вам придется уйти в отставку. – Раз вы назначены присяжным, не отказывайтесь слушать правду.
***
– Я – присяжный? – удивился Бел-Тран. – Я и помыслить о таком не мог… – Речь идет об очень важном процессе с непредсказуемыми последствиями. – Я обязан согласиться? – Никоим образом; двоих присяжных назначает старший судья портика, двоих – я и еще четверых выбирают из уважаемых горожан, уже заседавших на процессах. – Не скрою, я очень волнуюсь. Участие в судебном решении представляется мне делом куда более сложным, чем торговля папирусом. – Вам придется решать судьбу человека. Бел-Тран надолго задумался. – Я весьма тронут вашим доверием. Я согласен.
***
Сути предавался любви столь неистово, что поразил Пантеру, давно привыкшую к пылкому нраву своего любовника. Он был поистине ненасытен, не мог от нее оторваться, снова и снова покрывал поцелуями все ее тело. Объятая сладострастной истомой, она после бури была нежна и покорна. – Такое исступление бывает у путника перед долгой и опасной дорогой. Что ты от меня скрываешь? – Завтра – процесс. – Он тебя страшит? – Я бы предпочел драться голыми руками. – Меня пугает твой друг. – Тебе-то зачем бояться Пазаира? – Он никого не пощадит, если так ему повелит закон. – Ты что, предала его и мне не сказала? Она перевернула его на спину и легла сверху. – Когда же ты прекратишь меня подозревать? – Никогда. Ты – самка хищной породы, это самая опасная разновидность, к тому же ты тысячу раз обещала меня убить. – Твой друг куда страшнее меня. – А ты что-то от меня скрываешь. Она перекатилась на бок и отстранилась от любовника. – Может быть. – Плохо я тебя допрашивал. – Но ты умеешь заставить говорить мое тело. – Однако ты хранишь свой секрет. – А иначе чего бы я стоила в твоих глазах? Он бросился на нее и прижал к кровати. – Ты что, забыла, что ты моя пленница? – Думай как хочешь. – Когда ты убежишь? – Как только стану свободной женщиной. – Это в моей власти. Я должен заявить, что ты свободна, в управление по делам чужестранцев. – Так что же ты медлишь? – Бегу. Сути быстро облачился в свою лучшую набедренную повязку и надел на шею ожерелье с золотой мухой.
***
Он вошел в контору как раз в тот момент, когда чиновник собирался ее покинуть, хотя до закрытия было еще долго. – Приходите завтра. – Об этом не может быть и речи. Тон Сути таил в себе угрозу. Золотая муха свидетельствовала о том, что молодой человек могучего телосложения – герой, а герои легко пускали в ход кулаки. – Чего вы хотите? – Положить конец условной свободе ливийки Пантеры, доставшейся мне в ходе последней азиатской кампании. – Вы гарантируете ее благонадежность? – Она ведет себя безупречно. – Чем она предполагает заняться? – Она уже работала в усадьбе. Сути заполнил документ, жалея, что не занялся с Пантерой любовью еще один, последний раз; вряд ли его будущие любовницы смогут с нею сравниться. Рано или поздно это должно было случиться; так лучше порвать сейчас, пока связь не стала слишком крепкой. На обратном пути он перебирал в памяти их любовные баталии, стоившие подвигов величайших завоевателей. Пантера научила его, что женское тело – чарующая бездна, находящаяся в постоянном движении, и что наслаждение от открытия нового не иссякает никогда. Дом был пуст. Сути пожалел о своей поспешности. Ему так хотелось провести с ней ночь перед процессом, забыть о предстоящей схватке, упиваясь ее ароматом. Значит, придется утешиться добрым старым вином. – Налей еще один бокал, – сказала Пантера, обнимая его сзади.
***
Кадаш яростно громил свой зубоврачебный кабинет, швыряя об стену медные инструменты. Получив повестку в суд, он дал волю охватившей его жажде разрушения. Без небесного железа он больше не сможет оперировать. Слишком дрожат руки. Будь у него чудодейственный металл, он лечил бы, как бог, он вновь обрел бы молодость и уверенность в каждом своем движении. Кто теперь станет его уважать, кто вознесет хвалу его заслугам? Можно ли отсрочить крах? Нужно бороться, не поддаваться старению. Прежде всего необходимо бесследно рассеять подозрения судьи Пазаира. Ему бы такую силу, такую убежденность, такую решимость! Сделать его своим союзником не стоит и мечтать. Но молодой судья вместе со всем своим правосудием обречен на провал.
***
Еще несколько часов – и начнется процесс. Пазаир бродил по берегу вместе со Смельчаком и Северным Ветром. На радостях, что после сытного ужина им выдалась неожиданно долгая вечерняя прогулка, пес и осел резвились на природе, не упуская, однако, хозяина из виду. Северный Ветер шел первым и выбирал дорогу. Усталого, издерганного судью одолевали сомнения. Что, если он ошибся, сжег пути к отступлению и ступил на тропу, ведущую в пропасть? Мысли, на самом деле недостойные. Правосудие не остановить, как не остановить течения божественной реки. Он, Пазаир, не вершитель его, а всего лишь слуга. Чем бы ни кончился процесс, истина выйдет на поверхность. А что будет с Нефрет, если его отстранят от должности? Старший лекарь сделает все, чтобы не дать ей лечить людей. К счастью, о ней может позаботиться Беранир. Став верховным жрецом Амона, он даст девушке возможность работать в лечебнице при храме, где она будет вне досягаемости Небамона. Зная, что она ограждена от превратностей судьбы, Пазаир чувствовал в себе решимость бороться хоть со всем Египтом.
37
Процесс начался, как говорится в ритуальной формуле, «перед вратами правосудия, где внемлют жалобе всякого страждущего, дабы отличить истину от лжи, в том великом месте, где защищают слабых, дабы уберечь их от сильных». Отведенный для суда двор перед пилоном храма Птаха был специально расширен, чтобы вместить множество знатных зрителей и простолюдинов, проявивших интерес к событию. Судья Пазаир вместе со своим секретарем восседал в глубине открытого храмового зала. Справа от него – присяжные: верховный страж Монтумес, госпожа Нанефер, Беранир, Бел-Тран, жрец храма Птаха, жрица храма Хатхор, землевладелец и столяр. Присутствие Беранира, которого многие почитали как мудреца, свидетельствовало о значимости дела. Старший судья царского портика сидел слева от Пазаира. Как представитель иерархии он был призван следить за правильным ходом процесса. Оба судьи, облаченные в длинные белые туники и скромные традиционные парики, вместе развернули папирус, воспевавший золотой век безраздельного господства мировой гармонии – Маат. – Я, судья Пазаир, объявляю открытым процесс, где офицер-колесничий Сути выступит с обвинением против полководца Ашера, правого царского знаменосца и наставника офицеров азиатского отряда египетского войска. Поднялся ропот. Если бы не строгая торжественность места, многие сочли бы, что это шутка. – Я вызываю колесничего Сути. Герой произвел впечатление на толпу. Красивый, самоуверенный, он вовсе не походил на мечтателя-визионера или растерянного солдата, поругавшегося с начальством. – Клянетесь ли вы говорить правду перед этим судом? Сути прочел предложенный ему секретарем текст присяги. – Вечной жизнью Амона и вечной жизнью фараона – да продлятся дни его в процветании и гармонии, ибо его могущество сильнее смерти, – клянусь говорить правду. – По какой причине вы подали в суд? – Я обвиняю полководца Ашера в вероломстве, измене родине и убийстве. Присутствующие не могли скрыть удивления, послышались возмущенные возгласы. Вмешался старший судья. – Из почтения к богине Маат я требую тишины во время заседания. Всякий нарушивший ее будет немедленно удален и приговорен к большому штрафу. Предупреждение подействовало. – Колесничий Сути, – продолжал Пазаир, – есть ли у вас доказательства? – Есть. – Согласно закону, – сообщил судья, – я провел расследование. Оно позволило мне обнаружить ряд весьма странных фактов, которые я считаю связанными с основным обвинением. Таким образом, я выдвигаю предположение о заговоре против государства и об угрозе безопасности страны. Напряжение возрастало. Те, кто впервые видел Пазаира, поражались серьезности молодого человека, твердости его поведения и весомости его слов. – Я вызываю полководца Ашера. Как ни знаменит был Ашер, ему пришлось предстать перед судом. Закон не допускал ни замены, ни представительства. Маленький человечек с лицом грызуна вышел вперед и произнес клятву. Одет он был по-военному – короткий передник, поножи, перевязь. – Полководец Ашер, что вы можете сказать в ответ на обвинение? – Офицер-колесничий Сути, которого я же таковым и назначил, – человек храбрый. Я наградил его знаком золотой мухи. В ходе последней азиатской кампании он совершил много громких подвигов и вполне может быть признан героем. Я считаю его первоклассным лучником, одним из лучших во всем нашем войске. Его обвинения необоснованны. Я их отвергаю. Наверное, это какое-то странное заблуждение. – Иными словами, вы считаете себя невиновным? – Да, я невиновен. Сути сел у подножия колонны лицом к судье в нескольких метрах от него. Ашер точно так же устроился с другой стороны, возле присяжных, которые могли легко наблюдать за его поведением и выражением лица. – Задача данного суда, – уточнил Пазаир, – заключается в установлении истины. Если подтвердится факт убийства, дело будет передано на суд визиря. Я вызываю зубного лекаря Кадаша. Кадаш, явно нервничая, произнес клятву. – Признаете ли вы себя виновным в попытке воровства в армейской мастерской, возглавляемой химиком Чечи? – Нет. – Как вы объясните свое присутствие в этом месте? – Я пришел купить высококачественной меди. Сделка не заладилась. – Кто вам сказал, что такой металл в мастерской есть? – Старший по казарме. – Это неправда. – Я утверждаю, что… – Суд располагает письменным свидетельством. По этому пункту вы солгали. Кроме того, вы повторили свою ложь, после того как принесли клятву, совершив тем самым лжесвидетельство. Кадаш вздрогнул. За такое суровые присяжные приговаривают к каторжным работам в рудниках, снисходительные – к сезону полевых работ. – Я ставлю под сомнение ваши предыдущие ответы, – продолжал Пазаир, – и повторяю свой вопрос: кто сообщил вам о существовании и местонахождении ценного металла? Кадаш стоял с открытым ртом, явно потеряв дар речи. – Это был химик Чечи? Зубной лекарь заскулил, ноги его подкосились. По знаку Пазаира, секретарь отвел его на место. – Я вызываю химика Чечи. На мгновение Пазаиру показалось, что ученый с грустным лицом на суд не явится. Но он повел себя благоразумно. Полководец попросил слова. – Позвольте мне выразить удивление. Вам не кажется, что речь идет о совсем другом процессе? – Эти люди, на мой взгляд, имеют отношение к разбираемому нами делу. – Ни Кадаш, ни Чечи под моим началом не служили. – Потерпите немного, полководец. Ашер недовольно взглянул на химика краем глаза. Внешне он держался весьма непринужденно. – Вы работаете для армии в особой мастерской, и ваша задача – совершенствование вооружения? – Да. – На самом деле вы исполняете две должности: одну, официальную – при свете дня, в дворцовой мастерской, другую, куда менее заметную – в тайной мастерской в казарме. Чечи в ответ только кивнул. – Из-за попытки ограбления, произведенной зубным лекарем Кадашем, вы перенесли мастерскую в другое место, но в суд подавать не стали. – Я обязан соблюдать тайну. – Будучи специалистом по металлам и процессу литья, вы получаете сырье от армии, складируете его и переписываете. . – Разумеется. – Почему вы скрывали слитки небесного железа, предназначенные для ритуальных целей, и тесло из того же металла? Вопрос поразил присутствующих. И сам металл, и названный предмет относились исключительно к сакральной деятельности храмов; их хищение каралось смертной казнью. – Я ничего не знаю о существовании этого сокровища. – Как вы объясните его появление в вашей мастерской? – Злой умысел. – У вас есть враги? – Сделав так, чтобы меня осудили, можно положить конец моим исследованиям инанести вред Египту. – По происхождению вы не египтянин, вы – бедуин. – Я забыл об этом. – Вы солгали смотрителю особых мастерских, сказав, что родились в Мемфисе. – Мы просто не поняли друг друга. Я имел в виду, что чувствую себя коренным жителем Мемфиса. – Армейские власти проверили и подтвердили ваше утверждение. Не в вашем ли ведении, полководец Ашер, находилась служба проверки? – Возможно, – пробормотал тот. – Таким образом, вы утвердили ложь. – Не я, а чиновник, работавший под моим началом. – По закону вы в ответе за ошибки своих подчиненных. – Согласен, но кто же станет проверять такие мелочи? Писцы ежедневно ошибаются при составлении донесений. Кроме того, Чечи стал настоящим египтянином. Его деятельность свидетельствует об оказанном ему доверии, которое он вполне оправдал. – Существует, однако, иная версия изложенных фактов. Вы давно знаете Чечи, познакомились с ним во время одной из первых своих азиатских кампаний. Вас заинтересовало его дарование химика; вы облегчили ему путь на территорию Египта, умолчали о его прошлом и обеспечили работу в области разработки оружия. – Чистые домыслы. – Небесное железо – не домысел. Зачем оно вам понадобилось и почему вы передали его Чечи? – Все это выдумки. Пазаир повернулся к присяжным. – Прошу обратить внимание на то, что Кадаш – ливиец, а Чечи – бедуин из Сирии. Я считаю, что эти двое действовали сообща и были связаны с полководцем Ашером. Они давно готовят заговор и рассчитывали перейти к решительным действиям, используя небесное железо. – Это всего лишь ваше убеждение, – возразил полководец. – Вы не располагаете доказательствами. – Признаю, я установил лишь три непреложных факта: лжесвидетельство Кадаша, ложное заявление Чечи и административная небрежность ваших служб. Полководец вызывающе скрестил руки на груди. Пока судья был просто смешон. – Второй аспект моего расследования, – продолжал Пазаир, – происшествие у большого сфинкса в Гизе. Согласно официальному документу, подписанному полководцем Ашером, пятеро ветеранов, составлявшие почетную стражу памятника, погибли в результате несчастного случая. Вы это подтверждаете? – Да, я поставил на этом документе свою печать. – Это изложение событий не соответствует действительности. Ашер встревожился. – Армия оплатила похороны этих несчастных. – Точную причину смерти троих из них, начальника стражи и двух его товарищей, проживавших в Дельте, мне установить не удалось; еще двое были отправлены на пенсию в фиванский район. Следовательно, после предполагаемого несчастного случая они были еще живы. – Это очень странно, – признал Ашер. – А можно их услышать? – Они оба мертвы. Четвертый ветеран стал жертвой несчастного случая в собственной пекарне; если, конечно, его не столкнули в печь. Пятый, испугавшись, скрывался под видом перевозчика. Он утонул, вернее, был убит. – Есть возражение, – заявил старший судья. – Согласно донесению, поступившему в мою контору, начальник местной стражи считает, что это несчастный случай. – Как бы то ни было, по меньшей мере двое из пяти ветеранов не погибли, упав со сфинкса, как пытался убедить меня полководец Ашер. Кроме того, перевозчик успел поговорить со мной перед смертью. Его товарищи подверглись нападению и были убиты вооруженными людьми, среди которых было несколько мужчин и одна женщина. Они общались на чужом языке. Такова правда, скрытая за рапортом полководца. Старший судья портика нахмурился. Не вынося Пазаира, он тем не менее не ставил под сомнение слова судьи, сказанные во всеуслышание и сообщающие о новом, необычайно серьезном и тревожном факте. Даже Монтумес дрогнул; начинался истинный процесс. Полководец рьяно защищался. – Я каждый день подписываю множество рапортов, лично не проверяя факты, а до ветеранов мне дела мало. – Присяжным будет интересно узнать, что мастерская Чечи, где хранился ящик с железом, находилась в казарме для ветеранов. – Какая разница, – раздраженно парировал Ашер. – Несчастный случай был засвидетельствован воинской стражей, я всего лишь подписал административный документ, чтобы можно было организовать похороны. – Вы отрицаете под присягой, что были извещены о нападении на почетную стражу сфинкса? – Да, отрицаю. И я также отрицаю, что прямо или косвенно замешан в гибели этих пятерых несчастных. Я ничего не знал ни о самой трагедии, ни о ее последствиях. Полководец защищался с таким воодушевлением, что расположил к себе большинство присяжных. Конечно, судья обнаружил страшное происшествие, но Ашеру можно вменить в вину лишь незначительную административную оплошность, но никак не соучастие в кровавых убийствах. – Я считаю, – вмешался старший судья, – что, вместо того чтобы перебирать странные обстоятельства этого дела, необходимо провести дополнительное расследование. Но не следует ли поставить под сомнение заявление пятого ветерана? Чтобы произвести впечатление на судью, он вполне мог сочинить невероятную историю. – Несколько часов спустя он умер, – напомнил Пазаир. – Прискорбное стечение обстоятельств. – Если он все же был убит, значит, кто-то хотел помешать ему рассказать больше и выступить здесь, на суде. – Даже если согласиться с вашей версией, – сказал полководец, – каким боком это касается меня? Если бы я проверил, я бы, как и вы, узнал, что почетная стража не погибла в результате несчастного случая. В то время я занимался подготовкой азиатской кампании и эта задача первостепенной важности занимала меня целиком. Пазаир надеялся, хотя и не слишком на это рассчитывал, что полководец будет владеть собой не столь хорошо, однако тот отбивал все нападки и ловко обходил самые острые аргументы. – Я вызываю Сути. Колесничий торжественно поднялся с места. – Вы настаиваете на своих обвинениях? – Да, настаиваю. – Объясните причину. – Когда я воевал в Азии, после гибели моего колесничего, павшего в стычке с врагом, я в одиночку шел по весьма неспокойным землям, надеясь присоединиться к отряду полководца Ашера. Я уже решил, что заблудился, как вдруг мне довелось стать свидетелем ужасной сцены. На расстоянии нескольких локтей от меня истязали, а потом убили египетского солдата; я был слишком изможден, чтобы прийти ему на помощь, да и врагов было слишком много. Я хорошо запомнил человека, который вел допрос, а потом зверски расправился с пленником. Этим преступником, этим предателем был полководец Ашер. Обвиняемый оставался по-прежнему невозмутим. Ошеломленная публика затаила дыхание. Лица присяжных посуровели. – Эти возмутительные речи лишены всякого основания, – заявил Ашер почти беззаботным тоном. – Отрицать недостаточно. Я вас видел, убийца! – Соблюдайте спокойствие, – приказал судья. – Это свидетельство доказывает, что полководец Ашер сотрудничает с врагом. Поэтому-то мятежный ливиец Адафи остается неуловимым. Сообщник заранее предупреждает его о перемещениях войск и вместе с ним готовится к захвату Египта. Виновность полководца позволяет предположить, что он не остался в стороне и в деле сфинкса. Может быть, он приказал убить пятерых ветеранов, чтобы испытать оружие, изготовленное Чечи? Это может выявить дополнительное расследование, которое свяжет между собой изложенные мною факты. – Моя вина абсолютно не доказана, – заявил Ашер. – Вы ставите под сомнение слова колесничего Сути? – Я верю в его искренность, но он заблуждается. Он же сам сказал, что совсем обессилел. Наверное, его подвело зрение. – Черты убийцы врезались мне в память, – настаивал Сути, – и я поклялся его разыскать. Тогда я и помыслить не мог, что это полководец Ашер. Я узнал его во время нашей первой встречи, когда он награждал меня за подвиги. – Вы засылали лазутчиков на вражескую территорию? – спросил Пазаир. – Естественно, – ответил Ашер. – Сколько? – Троих. – Их имена были записаны? – Так положено. – Вернулись ли они живыми из последней кампании? Впервые полководец смутился. – Нет… один из них погиб. – Тот, кого вы убили своими руками, потому что он догадался, что вы ведете двойную игру. – Это неправда. Я не виноват в его смерти. Присяжные отметили, что голос его дрожит. – Вы, человек, увенчанный славой и занимающийся воспитанием офицеров, подло предали свою страну. Пора признаваться, полководец. Взгляд Ашера устремился в пустоту. На сей раз казалось, он вот-вот сдастся. – Сути ошибся. – Пусть меня отправят на место происшествия вместе с воинами и писцами, – предложил колесничий. – Я узнаю место, где наспех похоронил несчастного. Мы привезем его останки, он будет опознан и достойным образом погребен. – Приказываю немедленно снарядить экспедицию, – заявил Пазаир. Полководец Ашер будет взят под стражу и заключен в главной казарме Мемфиса. До возвращения Сути ему не разрешается вступать в какие бы то ни было контакты с внешним миром. После возвращения экспедиции мы возобновим процесс и присяжные вынесут свое решение.38
Эхо процесса громко прокатилось по всему Мемфису. Некоторые уже считали полководца Ашера гнуснейшим из предателей, превозносили мужество Сути и высокий профессионализм судьи Пазаира. Последнему очень хотелось посоветоваться с Бераниром, но закон запрещал ему общаться с присяжными до окончания дела. Он отказался от приглашений многих известных людей и закрылся у себя дома. Не пройдет и недели, как вернется отряд с телом лазутчика, убитого Ашером, полководец будет уличен и приговорен к смерти. Сути получит высокое назначение. Но главное, заговор будет раскрыт и Египет избежит опасности, исходящей одновременно извне и изнутри. Даже если Чечи ускользнет, цель будет достигнута. Пазаир сказал Нефрет правду. Он ни на миг не переставал думать о ней. Даже во время процесса перед его мысленным взором стояло ее лицо. Ему приходилось сосредоточиваться на каждом слове, чтобы не уйти в мир грез, где она царствовала безраздельно. Небесное железо и тесло Пазаир передал старшему судье портика, а тот сразу же вручил верховному жрецу Птаха. Теперь судье вместе с жрецами предстояло выяснить, откуда взялось это сокровище. Одно смущало Пазаира: почему жрецы не заявили о краже? Исключительная ценность предмета и материала сразу наводила на мысль, что храниться все это могло только в очень богатом и могущественном святилище. Пазаир дал три выходных дня Ярти и Кему. Секретарь тут же поспешил домой, где разыгрывалась новая семейная драма: дочь отказывалась есть овощи и питалась одними сладостями. Ярти капризу потакал, супруга была против. Нубиец никуда из конторы не ушел. Отдых ему был ни к чему, а себя он считал в некотором роде ответственным за безопасность судьи. Неприкосновенность неприкосновенностью, но осторожность следовало соблюдать. Когда к судье захотел войти жрец с бритой головой, Кем преградил ему путь. – Я должен передать сообщение судье Пазаиру. – Можете это сделать через меня. – Нет, только ему одному. – Подождите. Хотя мужчина был тщедушный и без оружия, Кему стало не по себе. – С вами хочет поговорить какой-то жрец. Будьте осторожны. – Вам повсюду мерещится опасность! – Пусть хотя бы павиан останется с вами. – Как хотите. Жрец вошел, Кем остался за дверью. Павиан безучастно чистил орех пальмы дум. – Судья Пазаир, вас ждут завтра на рассвете у больших ворот храма Птаха. – Кто хочет меня видеть? – Больше мне нечего вам сообщить. – А по какому поводу? – Повторяю: больше мне нечего вам сообщить. Соблаговолите сбрить волосы по всему телу, воздержитесь от половой жизни и вознесите молитвы предкам. – Я судья и не собираюсь становиться жрецом! – Сделайте все в точности как я сказал. Да хранят вас боги.***
Цирюльник закончил брить Пазаира под наблюдением Кема. – Ну вот, теперь вы совсем гладенький и можете приступить к таинствам! Неужели нам предстоит потерять судью, дабы обрести жреца? – Простая гигиеническая мера. Разве многие именитые люди не проделывают эту процедуру регулярно? – Да, правда, вы же теперь один из них! Я восхищаюсь вами. На улицах Мемфиса только о вас и говорят. Кто решился бы посягнуть на всемогущего Ашера? А теперь все распустили языки. Его никто не любил. Поговаривают, что он истязал будущих офицеров. Вчера его боготворили, ныне попирают ногами – так за несколько часов переменилась судьба Ашера. На его счет ходили самые гнусные слухи. Пазаир усвоил урок: нет границ человеческой низости. – Если вы не намерены становиться жрецом, – предположил цирюльник, – значит, у вас, вероятно, свидание с дамой. Многим нравятся чисто выбритые мужчины, похожие на жрецов… да и сами жрецы! Им не возбраняется любить, а иметь дело с человеком, общающимся с богами лицом к лицу, это же возбуждает, правда? У меня есть лосьон на основе жасмина и лотоса, я купил его у лучшего парфюмера Мемфиса. Ваша кожа будет благоухать несколько дней. Пазаир согласился. Теперь цирюльник разнесет по всему городу необычайно любопытную новость: самый непримиримый судья Мемфиса еще и галантный кавалер. Осталось только разузнать имя избранницы. Когда болтун ушел, Пазаир углубился в чтение текста, посвященного Маат. Она была великой богиней, источником радости и гармонии. Дочь света и сама свет, она благоволила к тем, кто действовал во имя нее. Пазаир молил ее помочь ему не сбиться с прямого пути.
***
Незадолго до рассвета, когда Мемфис понемногу просыпался, Пазаир предстал перед большими бронзовыми вратами храма Птаха. К нему вышел жрец и повел его вдоль стены, со стороны, где еще царила ночная мгла. Кем изо всех сил пытался отговорить судью откликаться на странное приглашение. По своему статусу он не был уполномочен вести расследование в храме. Но что если кто-то из жрецов хотел что-то рассказать ему о краже небесного железа и тесла? Пазаир был взволнован. Ему впервые довелось проникнуть в глубины храма. Высокие стены отделяли от внешнего мира тех, кто призван был поддерживать и распространять божественную силу, чтобы не прервалась связь между богами и человечеством. Конечно, храм был еще и экономическим центром со своими мастерскими, пекарнями, мясными лавками, складами, где работали лучшие ремесленники царства; конечно, первый большой двор под открытым небом был доступен для непосвященных в дни больших праздников. Но дальше начиналась обитель тайны, каменный сад, где говорить следовало тихо, дабы слышать голос богов. Проводник Пазаира обогнул внешнюю стену и дошел до маленькой дверцы с медным колесом, служившим шлюзовым затвором; повернув его, они открыли воду и омыли лицо, руки и ноги. Жрец попросил Пазаира подождать в темноте у начала колоннады.
***
Затворники, облаченные в белые льняные одежды, вышли из своих жилищ, построенных на берегу озера, где они черпали воду для утренних омовений. Выстроившись в процессию, они возложили на алтари овощи и хлеб, между тем как верховный жрец, действуя от имени фараона[816], зажигал светильники, снимал печать с наоса, где обитала статуя бога, воскурял ладан и одновременно с другими верховными жрецами, исполнявшими тот же ритуал в других храмах Египта, произносил заклинание: «Пробудись с миром». В одном из залов внутреннего храма собрались девять человек. Визирь, хранитель Закона, начальник казны, смотритель каналов и водоемов, начальник царских писцов, управитель земельных угодий, начальник тайной службы, писец кадастра и управитель царского дома составляли совет девятерых при Рамсесе Великом. Каждый месяц они совещались в этом тайном месте, вдали от своих контор и подчиненных. В тишине святилища они обретали безмятежное спокойствие, столь необходимое для раздумий. Принятая ими на себя ноша день ото дня казалась все более непосильной, с тех пор как фараон отдал приказы столь необычные, словно царству грозила опасность. Каждый из них должен был проводить систематические проверки в своей области, дабы убедиться в честности самых высокопоставленных своих подчиненных. Рамсес требовал быстрых результатов. Нарушения законности и попустительство необходимо было немилосердно преследовать, а недобросовестных чиновников отстранять от должности. Каждый из девяти советников после встреч с фараоном находил царя озабоченным, а то и встревоженным. Проведя ночь в плодотворных беседах, девять членов совета разошлись. Один из жрецов что-то шепнул на ухо Баги, и тот направился к колонному залу. – Спасибо, что пришли, судья Пазаир. Я – визирь. Пазаир, впечатленный величием места, еще больше разволновался при этой встрече. Он, мелкий мемфисский судья, удостоился невиданной чести беседовать один на один с визирем Баги, чья легендарная строгость повергала в трепет всех египетских чиновников. Баги, который был выше Пазаира ростом, говорил глухим, хрипловатым голосом. Его тон был холоден, почти резок, лицо сохраняло суровое выражение. – Я очень хотел увидеть вас здесь, чтобы наша встреча осталась тайной. Если вы сочтете, что это противозаконно, можете удалиться. – Я вас слушаю. – Вы осознаете важность процесса, который ведете? – Полководец Ашер – фигура значительная, но, мне кажется, я доказал преступный характер его деятельности. – Вы в этом убеждены? – Свидетельство Сути неопровержимо. – Но ведь он ваш лучший друг, верно? – Да, это так, но дружба не влияет на мое суждение. – Ошибиться было бы непростительно. – Мне кажется, факты установлены. – Разве не присяжные должны это решать? – Я склонюсь перед их решением. – Ополчившись на Ашера, вы ставите под сомнение политику обороны в Азии. От этого пострадает моральный дух наших воинов. – Если бы истина не была обнаружена, страна подверглась бы более серьезной опасности. – Вам чинили препятствия в ходе расследования? – Военные всячески пытались мне помешать, и я уверен, что были совершены убийства. – Пятый ветеран? – Все пять ветеранов умерли насильственной смертью: трое – в Гизе, а двое выживших – в своих селениях. Таково мое убеждение. Продолжать расследование надлежит старшему судье царского портика, но… – Что – но? Пазаир колебался. Передним стоял визирь. Необдуманные слова могли обернуться для него полным крахом, но скрыть свои мысли было все равно что солгать. Те, кто пытались обмануть Баги, больше в его администрации не работали. – Но у меня ощущение, что он не проявит должного упорства. – Вы обвиняете в недобросовестности высшего судью Мемфиса? – У меня такое чувство, что борьба с темными силами его уже не слишком привлекает. В силу своего опыта он предвидит столько нежелательных последствий, что предпочитает оставаться в стороне и не ступать на опасную территорию. – Суждение крайне суровое. Вы считаете, что он подкуплен? – Просто связан с влиятельными людьми и не хочет вызывать их недовольство. – Это не слишком вяжется с правосудием. – Я действительно представляю себе его иначе. – Если полководец Ашер будет осужден, он подаст апелляцию. – Это его право. – Каким бы ни был вердикт, старший судья царского портика не отстранит вас от этого дела и попросит продолжать расследование невыясненных обстоятельств. – Позвольте мне в этом усомниться. – Напрасно, ибо я дам ему такой приказ. Я хочу добиться полной ясности в этом деле, судья Пазаир.
***
– Сути вернулся вчера вечером, – сообщил Пазаиру Кем. Судья был поражен. – Почему он не пришел сюда? – Он под стражей, в казарме. – Это противозаконно! Пазаир кинулся в центральную казарму, где его принял писец, возглавлявший отряд. – Я требую объяснений. – Мы отправились на место происшествия. Офицер Сути узнал место, но тела мы там не нашли. Я счел нужным арестовать офицера Сути. – Это решение незаконно, пока не завершился текущий процесс. Писец признал правоту судьи. Сути был сразу же освобожден. Друзья обнялись. – Как с тобой обращались? – Отлично. Мои спутники были убеждены в виновности Ашера, провал операции привел их в отчаяние. Всю пещеру разнесли, лишь бы замести следы. – А ведь мы держали все в тайне. – Ашер и его сторонники приняли меры предосторожности. Я так же наивен, как и ты, Пазаир. Вдвоем нам их не одолеть. – Во-первых, процесс еще не проигран, а во-вторых, мне дана полная свобода действий.
***
Процесс возобновился на следующий день. Пазаир вызвал Сути. – Расскажите об экспедиции на место преступления. – В присутствии свидетелей, находившихся под присягой, я констатировал исчезновение тела. Инженерные войска перевернули там все вверх дном. – Смех, да и только, – отреагировал Ашер. – Офицер сочинил сказку, а теперь ищет себе оправдания. – Вы настаиваете на своих обвинениях, офицер Сути? – Я видел, как полководец Ашер истязал и убил египтянина. – И где же тело? – язвительно спросил обвиняемый. – Вы позаботились, чтобы оно исчезло! – Чтобы я, полководец, стоящий во главе азиатского отряда египетского войска, действовал как последний разбойник?! Да кто в это поверит? Может, все как раз наоборот: это вы в заговоре с бедуинами прикончили своего колесничего? Что, если преступник – вы и вам понадобилось обвинить другого, чтобы выгородить себя? В отсутствие доказательств дело оборачивается против того, кто его затеял. Поэтому я требую, чтобы вы понесли наказание. Сути сжал кулаки. – Вы виновны, и вы это знаете. Как вы смеете выступать наставником лучших наших бойцов, если вы расправились с одним из ваших людей и отправили собственных солдат во вражескую западню? Ашер заговорил вкрадчиво. – Присяжные не преминут заметить, что измышления час от часу становятся все более вопиющими. Скоро меня обвинят в истреблении египетского войска! Насмешливая улыбка полководца покорила аудиторию. – Сути выступает под присягой, – напомнил Пазаир, – а вы признали его воинские заслуги. – Победы вскружили ему в голову. – Исчезновение тела не отменяет свидетельских показаний офицера. – Но согласитесь, судья Пазаир, значительно снижает их весомость! Я тоже даю показания под присягой. Неужели мое слово значит меньше, чем слово Сути? Может, он и стал очевидцем убийства, но насчет убийцы ошибся. Если он согласится сей же час при всех принести мне свои извинения, я согласен забыть о его умопомрачении. Судья обратился к обвинителю. – Офицер Сути, вы принимаете это предложение? – Выйдя из переделки, где я чуть не расстался с жизнью, я поклялся добиться осуждения гнуснейшего из людей. Ашер хитер, знает, как посеять сомнения, вызвать недоверие к суду. Теперь он предлагает мне отречься! До последнего вздоха я буду во всеуслышание говорить правду. – Перед лицом слепой непримиримости утратившего разум воина я, полководец и правый царский знаменосец, заявляю о своей невиновности. Сути готов был броситься на полководца и придушить его. Выразительный взгляд Пазаира заставил его одуматься. – Кто-нибудь из присутствующих хочет взять слово? Все молчали. – Раз так, предлагаю присяжным приступить к совещанию.
***
Присяжные заседали в одном из залов дворца, судья председательствовал на совещании, но не имел права вмешиваться, поддерживая ту или иную сторону. Его роль сводилась к тому, чтобы предоставлять слово, предотвращать столкновения и следить за соблюдением порядка. Монтумес выступил первым объективно и сдержанно. Потом было внесено несколько уточнений, но в целом его выводы были утверждены без особых изменений. Менее двух часов спустя Пазаир зачитал вердикт, а Ярти зафиксировал его в письменной форме. – Зубной лекарь Кадаш признан виновным в лжесвидетельстве. Учитывая незначительный характер произнесенной лжи, его высокие профессиональные заслуги и возраст, Кадаш приговаривается к уплате одного тучного быка в пользу храма и ста мешков зерна в пользу казармы ветеранов, чей покой он потревожил своим неуместным появлением. Зубной лекарь с облегчением стукнул себя по колену. – Признает ли зубной лекарь Кадаш этот приговор или желает подать апелляцию? Лекарь встал. – Признаю, судья Пазаир. – Никакой вины не признано за химиком Чечи. На лице Чечи не отразилось ни малейшей реакции. Он даже не улыбнулся. – Полководец Ашер признан виновным в двух административных нарушениях, не повлекших за собой последствий для азиатского войска. Кроме того, принимаются принесенные им извинения. Ему выносится простое предупреждение, во избежание повторения подобных оплошностей. Присяжные считают, что факт убийства формально и окончательно установлен не был. Следовательно, на данный момент полководец Ашер не считается предателем и преступником, однако свидетельство офицера Сути не квалифицируется как клеветническое. Поскольку присяжные не смогли вынести безоговорочного суждения в силу неясности многих ключевых фактов, суд просит о продлении расследования с целью скорейшего выявления истины.
39
Верховный судья царского портика поливал клумбу, где ирисы росли вперемешку с гибискусами. Пять лет назад он овдовел и теперь жил один в одной из усадеб южного квартала. – Ну что, гордитесь собой, Пазаир? Запятнали репутацию всеми уважаемого полководца, посеяли смуту в умах людей, но все же не добились победы для своего друга Сути. – Я не ставил себе такой цели. – Чего же вы хотели? – Правды. – А-а, правды! Это, знаете ли, вещь скользкая, словно речная рыба. – Разве я не выявил составляющие заговора против Египта? – Перестаньте говорить глупости: Лучше помогите мне встать и полейте вон те нарциссы, только осторожно. Хоть на некоторое время станете мягче, чем обычно. Пазаир повиновался. – Героя нашего угомонили? – Сути вне себя от гнева. – А на что он надеялся? Вот так, с маху, свалить Ашера? – Вы же, как и я, верите, что он виновен. – Вы очень самоуверенны. Еще один ваш серьезный недостаток. – Но ведь вас смутили мои аргументы? – В моем возрасте уже ничто не может смутить. – Я уверен в обратном. – Я устал, долгие расследования уже не для меня. Начали, так продолжайте. – Должен ли я понять вас так, что… – Вы все прекрасно поняли. Я свое решение принял и не передумаю.***
Новость быстро облетела дворец и конторы чиновников: ко всеобщему удивлению, начальство не забрало дело Ашера у судьи Пазаира. Хотя молодой судья и потерпел поражение, многих сановников покорила его неукоснительная добросовестность. Он не оказывал предпочтения ни обвинителю, ни обвиняемому и не скрывал пробелов в расследовании. Некоторые позабыли о его юном возрасте и говорили только о его будущем, отнюдь не безоблачном, если учесть личность обвиняемого. Наверное, судье Пазаиру не следовало слишком полагаться на свидетельство Сути – новоиспеченного офицера и человека весьма взбалмошного. И если большинство по здравому размышлению верило в невиновность полководца, все признавали, что судья выявил тревожные факты. Исчезновение пятерых ветеранов и кража небесного железа, даже не будучи связанными с мифическим заговором, представлялись событиями возмутительными, и предать их забвению было бы недопустимо. Власть, судебная иерархия, сановники, народ – все ждали от судьи Пазаира раскрытия истины. Его назначение усмирило гнев Сути, который пытался забыться в объятиях Пантеры. Судье он пообещал ничего не предпринимать без его ведома. Было решено, что он сохранит звание офицера-колесничего, но не будет участвовать в операциях до вынесения окончательного вердикта.
***
Заходящее солнце позолотило пески пустыни и камень карьеров; смолк стук рабочих инструментов, возвращались домой крестьяне, отдыхали ослы, избавленные наконец от своей ноши. На плоских крышах мемфисских домов горожане ели сыр, пили пиво и наслаждались прохладой. Смельчак растянулся во весь рост на террасе у Беранира, ему снился только что съеденный кусок жареной говядины. Резкие контуры гизехских пирамид вдали определяли границу вечности в надвигающихся сумерках. Каждый вечер в царствование Рамсеса Великого, страна засыпала в мире, уверенная, что солнце одержит победу над змеем преисподней и снова воскреснет на заре. – Ты преодолел серьезное препятствие, – сказал Беранир. – Успех невелик, – возразил Пазаир. – Ты признан неподкупным судьей, знающим свое дело, и получил возможность беспрепятственно продолжать расследование. Чего ж тебе еще надо? – Ашер солгал, хотя и говорил под присягой. Он не только убийца, но и клятвопреступник. – Никто из присяжных не выступил против тебя. Ни верховный страж, ни госпожа Нанефер не пытались выгородить полководца. Они поставили тебя перед лицом твоей судьбы. – Старший судья портика предпочел бы отобрать у меня дело. – Он верит в твои способности, а визирь настаивает на добросовестном ведении дела, чтобы потом вмешаться, имея на то все основания. – Ашер позаботился о том, чтобы уничтожить улики; я боюсь, как бы мое расследование не оказалось бесплодным. – Твой путь будет долог и труден, но ты в силах дойти до цели. Скоро ты получишь поддержку верховного жреца Карнака, которая откроет тебе доступ в храмовые архивы. Как только вступит в силу назначение Беранира, Пазаир займется выяснением обстоятельств кражи небесного железа и тесла. – Теперь ты сам себе хозяин, Пазаир. Умей отличать праведность от беззакония и не слушай советов тех, кто путает и смешивает эти понятия, дабы ввести умы в заблуждение. Этот процесс – всего лишь подготовительная атака, настоящий бой еще впереди. Нефрет тоже будет тобой гордиться. В сиянии звезд струился свет душ мудрецов. Пазаир возблагодарил богов за то, что ему довелось встретить мудреца здесь, на земле.
***
Северный Ветер был ослом молчаливым и задумчивым. Лишь изредка испускал он характерный для его сородичей сиплый вопль, настолько пронзительный, что от него просыпалась вся улица. Пазаир резко пробудился. Это действительно трубил его осел, трубил на рассвете того самого дня, когда они со Смельчаком рассчитывали поспать подольше. Судья отворил окно. Возле дома собралось человек двадцать. Старший лекарь Небамон потрясал кулаком. – Здесь лучшие лекари Мемфиса, судья Пазаир! Мы подаем жалобу на целительницу Нефрет, обвиняем ее в изготовлении опасных снадобий и требуем ее исключения из сословия целителей.
***
Пазаир сошел на западный берег Фив, когда жара была в самом разгаре. Он решил воспользоваться колесницей стражи, разбудил колесничего, спавшего под навесом, и велел ему гнать во весь опор к селению Нефрет. Безраздельно завладев миром, остановив время, солнце опаляло вечнозеленые кроны пальм и обрекало людей на безмолвие и бездействие. Нефрет не было ни дома, ни в аптеке. – Она у канала, – сказал деревенский старик, на мгновение вынырнув из сонного оцепенения. Пазаир сошел с колесницы, обогнул пшеничное поле, пересек тенистый сад и пошел по тропинке, ведущей к каналу, где обычно купались местные жители. Спустившись по крутому склону, он преодолел тростниковые заросли и увидел ее. Он должен был окликнуть ее, закрыть глаза, отвернуться, но слова замерли на языке, и сам он словно окаменел, зачарованный красотой девушки. Обнаженная, она грациозно разгребала воду. Так плавают те, кто не борется с волнами, а отдается на волю течения. Ее волосы были убраны под плетеную тростниковую шапочку, она без всяких усилий уходила под воду и вновь выныривала на поверхность. На шее поблескивала бирюза. Заметив его, она продолжала плавать. – Вода восхитительная, идите купаться. Пазаир снял набедренную повязку и пошел к ней, не ощутив прохлады. Она протянула ему руку, он лихорадочно схватил ее. Волна подтолкнула их друг к другу. Когда ее соски коснулись его груди, она не отступила. Он осмелился потянуться губами к ее губам и прижать ее к себе. – Я люблю вас, Нефрет. – Я научусь вас любить. – Вы моя первая женщина, у меня никогда не было другой. Он неловко поцеловал ее. Обнявшись, они вышли на берег и легли на песок, укрывшись за тростником. – Я тоже девственна. – Я хочу отдать вам свою жизнь. Прошу вас, выходите за меня замуж, завтра же. Она улыбнулась, расслабленно и покорно. – Люби меня, люби меня со всей силой, на которую ты способен. Он лег на нее, его взгляд утонул в ее синих глазах. Их души и тела слились под полуденным солнцем.
***
Нефрет выслушала, что сказали ей отец – мастер по изготовлению дверных засовов, и мать – ткачиха одной из центральных фиванских мастерских. Ни тот, ни другая не противились свадьбе, но хотели познакомиться с будущим зятем, прежде чем высказать свое мнение. Конечно, девушка не нуждалась в согласии родителей, но из почтения не хотела им пренебрегать. Мать выразила кое-какие сомнения: не слишком ли молод Пазаир? Да и насчет его будущего есть некоторые опасения. И потом, что означает это опоздание в день, когда он просит ее руки! Их волнение передалось Нефрет. Ужасная мысль закралась ей в голову: что, если он ее больше не любит? Что, если вопреки его заверениям, ему нужно было лишь мимолетное приключение? Нет, не может быть. Его страсть будет вечной, как фиванские скалы. Наконец он ступил на порог скромного жилища. Нефрет осталась сидеть поодаль, как подобало в столь торжественный момент. – Пожалуйста, извините меня; я заблудился в переулках. Должен признаться, я совершенно не ориентируюсь на местности; обычно меня ведет осел. – Так у вас есть осел? – удивилась мать Нефрет. – Его зовут Северный Ветер. – Молодой и здоровый? – Он никогда не болел. – А чем еще вы владеете? – Через месяц у меня будет дом в Мемфисе. – Судья – хорошая профессия, – заявил отец. – Наша дочь молода, – напомнила мать. – Не могли бы вы подождать? – Я люблю ее и хочу на ней жениться, не мешкая ни секунды. Пазаир выглядел серьезно и решительно. Нефрет смотрела на него влюбленными глазами. Родители уступили.
***
Колесница Сути на полном ходу въехала в ворота главной мемфисской казармы. Стражники побросали копья и бросились врассыпную, чтобы уберечься от стремительно несущегося экипажа. Сути соскочил на землю, хотя лошади еще продолжали лететь вперед по большому двору. Прыгая через три ступеньки, он взбежал наверх, туда, где жили старшие офицеры и полководец Ашер. Ударом в затылок он убрал с дороги первого стражника, тычком в живот – второго, пинком в пах – третьего. Четвертый успел обнажить меч и ранил его в левое плечо; боль удвоила ярость офицера-колесничего, и он, сцепив кулаки, оглушил нападавшего. Сидевший на циновке полководец Ашер оторвался от разложенной перед ним карты Азии и повернул голову к Сути. – Что тебе надо? – Я пришел расправиться с вами. – Успокойся. – Вы ускользнули от правосудия, но не от меня! – Если ты нападешь на меня, живым из этой казармы не выйдешь. – Сколько египтян вы убили собственными руками? – Ты был изможден, тебя подвело зрение. Ты ошибся. – Нет, и вы это знаете не хуже меня! – Тогда пойдем на мировую. – На мировую? – Лучше всего подействует публичное примирение. Я укреплю свое положение, ты получишь повышение. Сути бросился на Ашера и сдавил ему горло. – Сгинь, падаль! Обезумевшего офицера окружили солдаты и, осыпая ударами, оттащили от полководца.
***
Ашер великодушно отказался подавать в суд на Сути. Он понимал состояние нападавшего, хотя тот и принял его за кого-то другого. На его месте он действовал бы точно так же. Такое поведение располагало в пользу полководца. Вернувшись в Мемфис, Пазаир сразу же приложил все усилия, чтобы освободить Сути, содержавшегося в главной казарме. Ашер даже согласился не наказывать его за неподчинение и оскорбление начальника при условии, что герой подаст в отставку. – Соглашайся, – посоветовал Пазаир. – Прости, я забыл о своем обещании. – Вечно я тебе потакаю. – Тебе не одолеть Ашера. – Я упрям. – А он хитер. – Забудь об армии. – Дисциплина не по мне. У меня другие планы. Пазаир боялся даже подумать, какие именно. – Ты поможешь мне приготовиться к празднику? – По какому поводу? – По поводу моей свадьбы.
***
Заговорщики собрались в заброшенной усадьбе. Каждый удостоверился, что за ним не следили. С тех пор как они ограбили великую пирамиду и похитили символы законной власти фараона, они ограничивались наблюдением. Недавние события вынуждали их к действиям. Только Рамсес Великий знал, что его трон стоит на зыбучих песках. Как только силы его начнут иссякать, он должен будет устроить праздник возрождения, и это вынудит его признаться придворным и всей стране в том, что у него больше нет завещания богов. – Царь выдержал удар лучше, чем мы предполагали. – Терпение – наше главное оружие. – Но проходят месяцы. – Чем мы рискуем? Фараон связан по рукам и ногам. Он принимает меры, ужесточает контроль за собственной администрацией, но довериться никому не может. У него сильный характер, но ему не устоять. Он обречен и сам об этом знает. – Мы утратили небесное железо и тесло. – Тактическая ошибка. – Я боюсь… Может, бросим все и вернем украденное? – Глупости! – Как можно отступать, когда цель совсем рядом? – Египет в наших руках; завтра это великое царство со всеми его богатствами будет принадлежать нам. Разве вы забыли о нашем плане? – На пути к победе неизбежны жертвы, а к такой победе – тем более! Никаких сожалений о содеянном не должно быть. Несколько трупов у обочины – ничто по сравнению с тем, что мы намерены совершить. – Судья Пазаир по-настоящему опасен. Ведь именно его действия заставили нас собраться. – Он скоро выдохнется. – Не обольщайтесь, такого неутомимого упрямца еще поискать. – Он ничего не знает. – Он мастерски провел свой первый большой процесс. Некоторые его догадки вызывают опасение. Он собрал ряд важных улик и представляет серьезную угрозу для нашего дела. – Когда он приехал в Мемфис, он был один. Теперь он пользуется поддержкой влиятельных людей. Еще один шаг в нужном направлении – и его уже не остановить. Надо было пресечь его деятельность с самого начала. – Сейчас еще не поздно.
40
Когда судно из Фив причалило в мемфисской гавани, Нефрет встречал Сути. – Вы самая красивая женщина на свете! – Мне, наверное, следует покраснеть перед героем? – Глядя на вас, я бы предпочел быть судьей. Дайте мне вашу дорожную сумку. Думаю, осел обрадуется такой поклаже. Она выглядела взволнованной. – Где Пазаир? – Драит дом, не успел закончить к вашему приезду, поэтому вас встречаю я. Я так рад за вас обоих! – Как ваше здоровье? – Вы самая лучшая целительница на свете. Силы полностью восстановились, и я намерен ими воспользоваться. – Неужели какое-нибудь новое безрассудство? – Не волнуйтесь. Но не стоит заставлять Пазаира ждать. Он со вчерашнего дня только и говорит о встречном ветре, возможной задержке и всякого рода препятствиях, способных помешать вашему приезду. Просто поражаюсь, как можно быть таким влюбленным. Северный Ветер повел их домой. Судья дал своему секретарю выходной, украсил фасад дома цветами и окурил помещения благовониями. В воздухе плавал тонкий аромат ладана и жасмина. Зеленая обезьянка Нефрет и пес Пазаира вызывающе смотрели друг на друга, пока судья сжимал невесту в объятиях. Соседи, жадные до новостей, быстро прознали, что к чему. – Я беспокоюсь о пациентах, оставленных в селении. – Придется им привыкать к другому лекарю: через три дня мы поселимся в доме Беранира. – Ты все еще хочешь на мне жениться? Вместо ответа он подхватил ее на руки и понес в дом, где провел в мечтах о ней столько ночей. На улице раздались радостные крики. По египетскому обычаю, Пазаир и Нефрет становились мужем и женой просто потому, что переходили жить под одну крышу, без всяких формальностей.***
После длившегося всю ночь праздника, в котором принял участие весь квартал, они проспали, обнявшись, почти до полудня. Проснувшись, Пазаир не мог на нее наглядеться. Он и не думал, что можно быть таким счастливым. Не открывая глаз, она взяла его руку и положила себе на сердце. – Поклянись, что мы никогда не расстанемся. – Да будет угодно богам сделать из нас одно существо и вписать нашу любовь в анналы вечности. Их тела были так чутки друг к другу, что желания вибрировали в унисон. Помимо чувственного наслаждения, вкушаемого по-юношески жадно и пылко, они уже ощутили вневременной, непреходящий лик своей любви.
***
– Ну, судья Пазаир, когда же мы начнем процесс? Я слышал, Нефрет вернулась в Мемфис. Значит, готова предстать перед судом. – Нефрет стала моей женой. Старший лекарь поморщился. – Досадно. Ее осуждение бросит на вас тень; если карьера вам дорога, вам стоит немедленно развестись. – Вы настаиваете на своем обвинении? Небамон расхохотался. – Вы что, от любви тронулись рассудком? – Вот список снадобий, которые Нефрет готовила в своей аптеке. Растения ей поставлял Кани, садовник Карнакского храма. Как вы сами можете убедиться, все рецепты соответствуют правилам аптекарского искусства. – Вы не лекарь, Пазаир, и показаний этого Кани будет недостаточно, чтобы убедить присяжных. – А свидетельство Беранира, на ваш взгляд, будет более убедительным? Улыбка старшего лекаря превратилась в гримасу. – Беранир больше не практикует, он… – Он – будущий верховный жрец Карнакского храма и будет свидетельствовать в пользу Нефрет. Со свойственной ему добросовестностью он изучил снадобья, которые вы расценили как опасные, и не нашел в них ничего предосудительного. Небамон был взбешен.Старый лекарь пользовался таким уважением, что его участие прославило бы Нефрет. – Я недооценил вас, Пазаир. Вы ведете тонкую игру. – Я просто противопоставляю истину вашему желанию навредить. – Сегодня вы чувствуете себя победителем, но завтра вас постигнет разочарование.
***
Нефрет спала на втором этаже, Пазаир на первом изучал одно дело. Затрубил осел, предупреждая, что кто-то подходит к дому. Он вышел, но никого не увидел. На земле лежал клочок папируса. Надпись сделана торопливо, но без ошибок: «Беранир в опасности. Приходите скорее». Судья кинулся в темноту. Возле дома Беранира, казалось, все было спокойно, но дверь, несмотря на поздний час, была открыта. Пазаир прошел первую комнату и увидел учителя, сидящего спиной к стене с головой, опущенной на грудь. Из его шеи торчала перламутровая игла с капельками крови. Биение сердца не прослушивалось. Пазаир с ужасом осознал очевидное: Беранира убили. В комнату вошли несколько стражников и окружили судью. Во главе отряда стоял Монтумес. – Что вы здесь делаете? – Мне было доставлено послание, извещавшее о том, что Бераниру грозит опасность. – Покажите. – Я бросил его рядом с моим домом. – Мы это проверим. – А почему вдруг такая подозрительность? – Потому что я обвиняю вас в убийстве.
***
Монтумес разбудил старшего судью портика посреди ночи. Тот, ворча, открыл дверь и был поражен, увидев Пазаира между двумя стражниками. – Перед тем как обнародовать факты, – заявил Монтумес, – я решил посоветоваться с вами. – Вы арестовали судью Пазаира? – Он совершил убийство. – И кого же он убил? – Беранира. – Это нелепо, – вмешался Пазаир. – Он был моим учителем, я глубоко почитал его. – Почему вы так уверены в своем обвинении, Монтумес? – Он был застигнут на месте преступления. Пазаир вонзил перламутровую иглу Бераниру в шею; крови почти не было. Когда я со своими людьми вошел в дом, я сразу понял, что он только что совершил злодеяние. – Неправда, – возразил Пазаир. – Я только что обнаружил тело. – Вы вызвали врача осмотреть тело? – Да, я пригласил Небамона. Как ни тяжело было на душе у Пазаира, он не мог не вмешаться в разговор. – Ваше присутствие в этом месте в такой час, да еще с отрядом – довольно странно, согласитесь. Как вы его объясните, Монтумес? – Ночное патрулирование. Время от времени я присоединяюсь к своим подчиненным. Это самый лучший способ узнать, с какими трудностями им приходится сталкиваться, и их устранить. Нам посчастливилось застать преступника на месте преступления. – Кто вас послал, Монтумес, кто подстроил эту ловушку? Двое стражников схватили Пазаира за руки. Старший судья портика отвел верховного стража в сторону. – Скажите, Монтумес: вы действительно оказались там случайно? – Не совсем. Днем ко мне в контору принесли анонимное послание. Когда стемнело, я стал следить за домом Беранира. Я видел, как Пазаир вошел внутрь и почти сразу же поспешил туда, но было уже поздно. – Его вина не вызывает сомнений? – Я не видел, как он втыкал иглу в тело жертвы, но разве это не очевидно? – Нюанс, однако, немаловажный. После скандала с Ашером такой драматический поворот… Да еще с судьей, находящимся под моей протекцией! – Пусть правосудие делает свое дело, я свой долг выполнил. – Остается один неясный момент – мотив. – Это не так важно. – Еще как важно! Старший судья портика явно был в замешательстве. – Спрячьте Пазаира куда-нибудь подальше. Официально будет объявлено, что он отправился со специальным заданием в Азию по делу Ашера. Места небезопасные, там он легко может стать жертвой несчастного случая, подвернуться под руку какому-нибудь разбойнику. – Монтумес, вы не осмелитесь… – Мы с вами давно знакомы, судья. Мы руководствуемся исключительно государственными интересами. Вам же совсем ни к чему, чтобы я расследовал вопрос о том, кто был автором анонимного послания. Этот судья весьма обременителен, а Мемфис любит покой. Пазаир прервал их диалог. – Вам не следовало покушаться на судью. Я вернусь и доберусь до истины. Именем фараона клянусь, я вернусь! Старший судья царского портика закрыл глаза и заткнул уши.
***
Сходя с ума от волнения, Нефрет кинулась расспрашивать жителей квартала. Кое-кто слышал крик Северного Ветра, но никто понятия не имел, куда мог запропаститься судья. Дали знать Сути, но и он ничего не смог выяснить. Дом Беранира был заперт. Совершенно растерявшейся Нефрет ничего не оставалось, как обратиться с старшему судье царского портика. – Господин судья, сегодня исчез Пазаир. Казалось, новость поразила судью. – Что значит исчез? Успокойтесь: он выполняет секретную миссию в рамках своего расследования. – Где он? – Если бы даже я знал, все равно не имел бы права вам об этом сказать. Но он меня в тонкости не посвящал, и куда он мог направиться, мне неведомо. – Он мне ничего не сказал! – И правильно сделал. В противном случае он был бы достоин осуждения. – Он ушел ночью, не сказав ни слова! – Наверное, хотел избавить вас от тягот прощания. – Послезавтра мы должны были переехать в дом Беранира. Я хотела с ним поговорить, но, кажется, он уже на пути в Карнак. Верховный судья помрачнел. – Бедное дитя… Так вы ничего не знаете? Беранир скончался нынче ночью. Его бывшие коллеги собираются устроить великолепные похороны.
41
Зеленая обезьянка больше не резвилась, пес отказывался от пищи, в больших глазах осла стояли слезы. У Нефрет, сраженной смертью Беранира и исчезновением мужа, не было сил что-либо предпринять. Ей на помощь пришли Сути и Кем. Оба бегали из казармы в казарму, из конторы в контору, от чиновника к чиновнику, чтобы хоть что-нибудь разузнать о порученной Пазаиру секретной миссии. Но двери перед ними закрывались, а уста хранили молчание. Теперь, оставшись одна, Нефрет осознала, как сильно она любила Пазаира. Долгое время она сдерживала свои чувства, боясь поступить легкомысленно. Настойчивость молодого человека день ото дня разжигала их все сильнее. Теперь все ее существо было слито с Пазаиром, друг без друга они были обречены угаснуть. Вдали от него ее жизнь теряла всякий смысл.***
Вместе с Сути Нефрет отнесла лотосы в заупокойную часовню Беранира. Учитель не ушел в небытие, теперь он будет одним из мудрецов, соединившихся с воскресшим солнцем. В нем его душа почерпнет энергию, необходимую для постоянного преодоления пути из потустороннего мира в гробницу, и будет продолжать источать свет. От волнения Сути был не в силах молиться. Он вышел на свет, подобрал камень и швырнул его вдаль. Нефрет положила руку ему на плечо. – Он вернется, я уверена. – Уже раз десять я пытался прижать этого проклятого судью царского портика к стенке! Он ускользает, как змея. «Секретное расследование» – только и знает, что повторять эти два слова. Теперь он отказывается меня принять. – Что ты задумал? – Хочу отправиться в Азию и найти Пазаира. – Не имея ни малейших зацепок? – У меня остались друзья среди военных. – Они тебе помогли? Сути опустил глаза. – Никто ничего не знает: Пазаир как сквозь землю провалился! Представляешь его отчаяние, когда он узнает о смерти учителя? Нефрет стало холодно. С тяжелым сердцем они покинули кладбище
***
Павиан жадно грыз куриную ногу. Обессиленный Кем вылез из чана с теплой водой и надел чистую набедренную повязку. Нефрет принесла ему мяса и овощей. – Я не голоден. – Сколько времени вы не спали? – Дня три, а может, и больше. – Ничего нового? – Ничего. Я лез из кожи вон, но все, к кому я обращался, словно онемели. Я уверен только в одном: Пазаира нет в Мемфисе. – Значит, он отправился в Азию… – Не сказав об этом вам?
***
С крыши большого храма Птаха Рамсес Великий смотрел на город – порой беспокойный, но всегда веселый. За белой стеной простирались зеленые поля, окаймленные пустыней, где обитали мертвые. После десятичасового ритуала властитель захотел побыть один, вкусить живительную вечернюю прохладу. Ни во дворце, ни при дворе, ни в провинциях ничего не изменилось. Казалось, угроза прошла стороной, словно ее унесло течением реки. Но Рамсес помнил пророчества старого мудреца Ипувера, предвещавшие, что свершатся кровавые преступления, что будет осквернена великая пирамида и что секреты власти попадут в руки горстки безумцев, готовых разрушить тысячелетнюю цивилизацию ради достижения своих честолюбивых целей. В детстве, читая знаменитый текст под строгим присмотром наставника, он возмущался столь мрачным взглядом на вещи. Если ему доведется царствовать, он никогда такого не допустит! В своем тщеславии и легкомыслии он упустил из виду, что никто, будь то даже сам фараон, не властен искоренить зло в людских сердцах. Ныне, более одинокий, чем путник, заблудившийся в пустыне, – хотя сотни придворных воскуряли ему фимиам, – он должен был побороть беспросветный мрак, готовый вот-вот закрыть солнце. Рамсес мыслил достаточно здраво, чтобы не тешить себя иллюзиями; борьба была заранее проиграна, поскольку он не знал врага в лицо и был вынужден бездействовать. Пленник в собственной стране, жертва, обреченная на самое страшное поражение, дух, затронутый неизлечимым недугом, – он, самый обожаемый царь Египта, чувствовал, как его тянет ко дну, словно он ступил в мутные воды зловонного болота. Теперь, чтобы сохранить достоинство, оставалось только принять свою судьбу, не издав ни одного трусливого стона.
***
Когда заговорщики встретились, на их лицах играли довольные улыбки. Они вместе воздали должное избранной стратегии, которой сопутствовала удача. Разве победителям не пристало везение? Если и случалось им порой критиковать друг друга или досадовать по поводу чьего-нибудь неосторожного поступка, теперь эти замечания были ни к чему, ибо наступал период торжества, предваряющий рождение нового Египта. Пролитая кровь забыта, последние сомнения улетучились. Каждый сделал свою часть работы, никто не оступился под напором судьи Пазаира; не поддаваясь панике, группа заговорщиков продемонстрировала сплоченность – ценное качество, которое необходимо сохранить при грядущем, уже недалеком распределении власти. Оставалось позаботиться только об одной формальности, чтобы окончательно отогнать призрак судьи Пазаира.
***
Крик осла посреди ночи предупредил Нефрет о приближении чужого. Она зажгла светильник, открыла ставни и выглянула в окно. В дверь стучали двое солдат. Они обернулись к ней. – Вы Нефрет? – Да, но… – Пожалуйста, следуйте за нами. – С какой стати? – Приказ начальства. – А если я откажусь? – Нам придется применить силу. Смельчак зарычал. Нефрет могла бы позвать на помощь, разбудить весь квартал, но она успокоила пса, набросила на плечи платок и вышла из дому. Появление двух солдат скорее всего было как-то связано с миссией Пазаира. До осторожности ли было, если она могла наконец получить хоть какуюто достоверную информацию. Быстрым шагом они прошли через спящий город в направлении главной казармы. Благополучно добравшись до места, солдаты передали Нефрет офицеру, а тот, ни слова не говоря, отвел ее в контору полководца Ашера. Он сидел на циновке в окружении развернутых свитков и был поглощен работой. – Садитесь, Нефрет. – Я лучше постою. – Хотите теплого молока? – Чем вызвано это приглашение в столь неурочный час? В голосе полководца почувствовался напор. – Вам известна причина отъезда Пазаира? – Он не успел со мной об этом поговорить. – Какое упрямство! Не смог смириться с поражением и захотел разыскать то самое несуществующее тело! Почему он преследует меня с такой ненавистью? – Пазаир – судья, ему нужна истина. – Истина была выявлена на процессе, но ему она не понравилась! Для него главное было меня уличить и опозорить. – Ваши эмоции меня мало интересуют, полководец. Больше вы ничего не хотите мне сказать? – Хочу, Нефрет. Ашер развернул свиток. – Это донесение, скрепленное печатью верховного судьи царского портика; факты проверены. Я получил его меньше часа назад. – И что… там написано? – Что Пазаир мертв. Нефрет закрыла глаза. Ей захотелось угаснуть в одно мгновение, закрыться, подобно увядшему цветку лотоса. – Несчастный случай на горной тропе, – объяснил полководец. – Пазаир не знал местности, но со свойственной ему опрометчивостью кинулся в безумную авантюру. Слова застряли в горле, но Нефрет знала, что должна задать вопрос. – Когда будет доставлено тело? – Мы ведем поиски, но это безнадежно; реки в тех краях бурные, а ущелья неприступные. Я склоняюсь перед вашим горем, Нефрет; Пазаир был выдающимся человеком.
***
– Правосудия не существует, – сказал Кем, складывая оружие. – Вы видели Сути? – спросила Нефрет встревоженно. – Он все ноги стопчет, но не успокоится, пока не найдет Пазаира; он убежден, что его друг не умер. – А если… Нубиец покачал головой. – Я продолжу расследование, – заявила она. – Бесполезно. – Зло не должно восторжествовать. – Оно всегда торжествует. – Нет, Кем. Если бы это было так, не было бы Египта. Справедливость – основа этой страны, ее торжества всегда добивался Пазаир. Мы не можем смириться с ложью. – Я буду с вами, Нефрет.
***
Нефрет опустилась на землю на берегу канала, там, где она впервые встретила Пазаира. Приближалась зима, сильный ветер теребил бирюзу у нее на шее. Почему драгоценный талисман не смог ее уберечь? Девушка неуверенно потерла камень между большим и указательным пальцами, думая о богине Хатхор – матери бирюзы и покровительнице любви. Появились первые звезды, на землю заструился свет из иного мира; она вдруг остро ощутила присутствие любимого человека, словно граница смерти постепенно стиралась. Безумная мысль превратилась в надежду: ведь душа Беранира, убиенного учителя, наверняка печется о его ученике. Да, Пазаир вернется. Египетский судья рассеет мрак, чтобы снова воссиял свет.
Йорг Кастнер В тени Нотр-Дама
Посвящается Виктору Гюго и Вольтеру Скотту мастерам… И моей жене Коринне — в благодарность за Гернси и Париж.
Зачем вам нужны священники, если среди вас есть художники?Виктор Гюго
«Виктор Гюго, должно быть, очень разозлился на Бога, когда написал «Собор Парижской Богоматери».Шарль Аогтон
«Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил».Первое соборное послание Св. Апостола Иоанна Богослова
Краткое предисловие
Виктор Гюго вызвал восхищение своим романом «Собор Парижской Богоматери» (в немецком переводе — «Звонарь собора Парижской Богоматери») у многих поколений читателей, а позже — и кинозрителей. Но тут же толпы литературоведов и историков принялись указывать на многочисленные мелкие ошибки и нелепости в книге. Если подсчитать все несоответствия, то их наберется порядочно. Поэтому и возникает подозрение, что Гюго намеренно изменил историю о танцовщице Эсмеральде, архидьяконе Клоде Фролло и горбатом звонаре Квазимодо, умолчав правду о тех, кому дал бессмертие. Рукописи средневекового писаря Армана Сове из Сабле, найденные спустя долгие годы после смерти Гюго в его доме на острове Гернси, без сомнения послужили основой для романа Гюго. Они обосновывают эти подозрения и тут же раскрывают страшную тайну, которую Гюго так и не осмелился сделать всеобщим достоянием. Сейчас рассказ Армана Сове впервые будет опубликован, будет рассказана подлинная история Квазимодо, Фролло и Эсмеральды. Первый свет утренней зари рассеет тень от собора Парижской Богоматери…КНИГА ПЕРВАЯ
Глава 1 Монах-призрак
Она умрет, и я не могу этому помешать. Большая черная птица, посланник смерти, уже покинула свое горное гнездо на Лунной горе и теперь в пути, чтобы раскрыть свои могучие крылья над ней. Она догадывается об этом уже давно. А теперь, когда рок приближается к древним стенам собора Парижской Богоматери, и я чувствую это. Ее решение — остаться и встретить опасность лицом к лицу — незыблемо, и я прочно связал свою судьбу с ее судьбой. Но я ничего не могу больше сделать, кроме как ждать тех, которым суждено ее спасти и принести ей же смерть. Черная птица прилетит. Я знаю это — не разумом, а глубиной моего отчаявшегося сердца. Темная ночь, вечный союзник птицы смерти, опустилась над Парижем, и дома вокруг собора превратились теперь в призрачные создания, в притаившихся на корточках хищников, готовых к прыжку. Сена стала огромной змеей и обвилась вокруг острова подобно загадочному оуроборосу[817] , преграждая всякий путь к бегству. Все сговорились, чтобы украсть ее молодую жизнь. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я прошел в мою келью в Северной башне, зажег лампу на столе, достал бумагу, чернильницу и перья и теперь начинаю записывать мою историю, которая в то же время и ее история. Не знаю, сумею ли я закончить свои записи, прочтут ли их когда-нибудь. Не слышу ли я уже приглушенного грохота, топота нескольких тысяч ног тех, кто пришел со Двора чудес и провозгласил себя исполнителями рока, сами того не подозревая, что выполняют волю Сатаны? Возможно, я все-таки дойду до конца, и мое повествование станет предостережением для людей, чтобы они не примеряли на себя роль Бога, в которой они освободят необузданную, разрушительную мощь. Мощь, которая сильнее, чем любой человек. Место, в котором я пишу эти строки, собор Парижской Богоматери, только кажется мирным приютом для осмысления и внутреннего уединения. Где-то в его бесконечных комнатах и углах, его часовнях и башнях Богоматерь скрывает тайну, чье разглашение решит судьбу человечества. И я проклинаю того, кто избрал именно меня для открытия этого секрета. Не подглядывают ли за мной мрачные существа Собора — горбатое чудовище и его строгий учитель? Они тоже пытаются проникнуть в тайну собора Парижской Богоматери. Удастся ли это им или мне — я не знаю. Для меня очевидно лишь одно: моя судьба решиться здесь, на этом месте, в этом городе. Но я забегаю вперед, лучше начать с начала, вернуться на полгода назад, в ту зиму, когда я, полный надежд, приехал в Париж. Я не подозревал, что неизвестная сила сделала меня мячиком в своей игре, пешкой на необозримой шахматной доске, чьи поля — это запутанные улочки Парижа. Путь, который привел меня к собору, был давно предначертан чужой рукой. Если бы я знал об этом, я бы тут же развернулся и не дал бы вовлечь себя в игру между жизнью и смертью, за небесное счастье или вечное проклятие… Слишком поздно… Я хотел начать в Париже новую жизнь и жадно окунулся в шумное веселье большого города, когда прошел через ворота Сен-Мишель за два дня до Рождества. Я ничуть не ожидал, что уже скоро буду думать о том, чтобы покончить с собой, что стану разыскиваемым убийцей, что мрачное существо — монах-призрак — подкарауливает меня… В темную, облачную ночь на 6 января 1483 года от рождества Христова я проклял этого беса Иоганна Гуттенберга вместе с его пачкающим черной краской печатным прессом. Я решил умереть. Только смерть, как я думал тогда, могла избавить меня от удушающих тисков проклятого цеха печатников с их чудовищными дьявольскими машинами. Казалось, весь Париж находился во власти их беспощадных рук, город сжат грязными, вымазанными маслом пальцами. Вдруг неплотные грозовые тучи еще больше затемняли ночное небо, а черные небесные демоны, посланники нового мрачного времени, которое однажды назовут по имени этого немца, Гутенберга?[818] Меня охватил ужас при этой мысли, а взгляд блуждал по хитросплетению крыш, башен и зубцов стен Парижа — и терялся в бескрайней тьме. Хуже, чем страх перед новым, неизвестным, и смущение перед лицом того, что принесли на белый свет ученики Гутенберга, был только грубый кулак, который сжался в моем желудке, намотал на себя мои кишки — и довел до моего сознания, что кум Голод вознамерился уничтожить мое решение добровольно уйти из этой никчемной жизни. У меня не было даже сухой, заплесневелой крошечки хлеба в желудке и ни соля в кошельке, чтобы выбраться из своего крайне незавидного положения. Если быть честным до конца, у меня и кошелька-то больше не было. Обшитый дорогой парчой кожаный мешочек, воспоминания о лучших днях, послужил платой у скаредного ростовщика на Понт-о-Шанж[819] за кружку анисового вина, каравай хлеба и добрый кусок бри[820]. Два дня прошло с тех пор, и от яств остались только вкусные воспоминания. Я вертелся волчком, как пораженный пляской святого Витта, не находя ни помощи, ни даже хотя бы малейшей надежды. Мрачным и пустынным мне показался остров посреди Сены, омываемый неутомимыми водами большого потока. Колокол напротив Сорбонны[821] уже давно пробил к Angelus[822], призвав к ночному покою. Шорохи из лачуг ремесленников стихли, как и голоса разодетых в лиловые полукафтанья гордо расхаживающих глашатаев, оповестивших о праздниках завтрашнего дня. В честь Каспара, Мельхиора и Бальтазара перед часовней Арнольда де Брак будет высажено майское деревце, во Дворце правосудия будет представлена мистерия молодого поэта Пьера Гренгуара, а на Гревской площади — зажжены потешные огни. Проклятая Гревская площадь! Она лежала на правом берегу реки невдалеке от меня, и была ничем иным, как огромным темным пятном во всепоглощающей черноте. Они собираются завтра там праздновать День Трех волхвов и праздник дураков — с фейерверком. Мне было все равно, я бы с удовольствием не знал об этом и шагу бы не ступил на эту площадь позора. «Приходи рано утром на Гревскую площадь, — посоветовали они мне, — и пара честно заработанных солей тебе обеспечена. Ха-ха!» На трескучем утреннем холоде я ноги сносил до ушей, так и не получив никакой работы. Слишком много других, которые мерзли вместе со мной, хотели того же самого. «Никакого опыта», — высокомерно отвергали меня строители. Слишком у меня изнеженные руки, и подходят они скорее для шитья и вязания, как шутили хозяева барж и возчики. А работать писарем, по своей исконной профессии, как выяснилось, стало совершенно невозможно. Дьявольское изобретение Гутенберга оставило без работы многих писарей в Париже, и они, объединившись, не давали ни одному чужаку перейти им дорогу. «Возвращайся обратно в Сабле», — сказали они. Но вот уж этого я никак не мог сделать. В моем родном городе со мной произошло несчастье незадолго до Рождества. Мой покровитель, многоуважаемый адвокат Донатьен фрондо, вернулся слишком рано домой из поездки по делам в другой город и нашел меня в единственном месте в своем доме, где, по его мнению, мне нечего было искать. Но кто будет меня корить?! Бойкие взгляды и свежие округлые формы его чересчур молодой и слишком красивой супруги Антуанетты завлекли меня в ее большую, теплую кровать… Старый хрыч Донатьен так разошелся, что набросился на меня, как сумасшедший. Чтобы спасти свою глотку от его когтей, я оттолкнул его, и он довольно болезненно ударился почти лысым черепом о комод. Немного крови (много действительно не было) вызвало у него еще больший гнев. Если я тут же не покину Сабле, орал он на меня, то он отправит меня на виселицу за попытку убийства. У него достаточно связей для этого, а у меня слишком мало влиятельных друзей. Итак, я оставил прелестную, молящую о прощении Антуанетту в его карающих руках и отправился по снегу с первыми утренними сумерками, чтобы поспеть во время на праздник Господа в Париж. Там я надеялся найти нового покровителя. Какое глупое решение! У меня за спиной возвышался король острова, да и всего Парижа — собор Парижской Богоматери. Под его бесчисленными темными, как ночь, глазами, в которые днем превращались сияющие богатым разноцветьем витражи, я показался себе слишком маленьким и ничтожным. Гордо и могущественно возносились вверх обе тупые башни, как бы моля о шлемах, так и не завершенных могущественной созидательной силой. И тут же одна мысль привела меня в отчаяние: если даже собор Парижской Богоматери был только нищим просителем перед Богом, как же тогда мог я, бедный, бездомный писарь Арман Сове из Сабле, надеяться на милость? Большинству обездоленных Собор даровал утешение, как того желали его строители, — но странно, что на меня он оказал совершенно другое воздействие. Он предстал предо мной не роскошным и обетованным, как Рай, а мрачным, таинственным и наводящим ужас. Тени от Нотр-Дама сливались с темнотой ночи, переплетались с ней в непроглядное полотно отчаяния и рока. Но возможно, я воображаю это столь мрачно теперь, задним числом, поскольку мне известна тайна Собора… Так в ту мрачную январскую ночь моя надежда и моя жажда жизни угасли навсегда. Старый мост Нотр-Дам отодвинул косые от ветра ряды своих домов в нескольких шагах передо мной к правому берегу Сены. Я ступил на предмостное укрепление — на углу, где ни дома, ни стены не преграждали проход к реке. В этом месте берег необычно круто уходил вниз. Один только шаг, маленький прыжок — и река подхватила бы меня своими утешительными руками и наполнила бы водой мой урчащий, ноющий желудок. Был ли это Господь на небесах, который остановил меня? Послал ли он войско своих ангелов, которые схватили меня за плечи, руки и ноги и удержали меня от смертельного греха; Но едва мои глаза различили оборванные, грязные фигуры, которые, как извержение темноты, возникли из ниоткуда, я понял, что это не были ангелы. Скорее наоборот! Руки, походившие более на лапы, разрывали и раздирали мою изношенную одежду. Лица с запавшими глазами, перекошенные пасти или маски нищеты уставились на меня — с мольбой напополам с приказом. Все больше этих человекообразных крыс выползало из своих нор, отделялось от теней и толпилось вокруг меня, как хищные волки вокруг своей добычи. — Смилуйся, месье! — Господин, сжалься над нами! — Один соль[823] для слепого! — Кусочек хлеба для калеки! — Щедрый дар для хромого, о, достопочтенный! — Всемогущий, сотворите милостыню, мессир! — Гортанные, хрипящие и запинающиеся выкрики умели быть молящими, льстивыми, подталкивающими и жалостливыми. Но со мной эти частично печальные, частично отвратительные создания попали впросак. Напрасно я надрывал голос, пытаясь объяснить толпе попрошаек, что я сам скорее один из них, чем тот, кто может позволить себе творить благо. Мне так и не удалось перекричать громкие крики мольбы. Возможно, грязные существа с обрубками рук и ног не хотели даже слушать такое послание. Мое сопротивление, которое они встретили, подхлестнуло их не на шутку, превратило их скулеж в требования. Похоже, они намеревались забрать силой то, в чем я отказывал им. Уже затрещал мой дырявый плащ, разрываясь в руках нищих. И я, который страстно желал избавления в смерти, испугался. О, человек, как неустойчив дух твой, как обманчива твоя жалость к себе, как сильна искра жизни! Я хотел бежать прочь, но сумел сделать только один шаг. Гнусное существо, похожее больше на паука, нежели на человека, бросилось мне под ноги и сбило наземь. Я упал лицом в жидкую грязь, которую еще не прихватил ночной мороз. Прямо надо мной стояло судьбоносное существо, преградившее в гротескной изворотливости мне путь, хотя у него не было ни ступ, ни ног. Дряхлая голова сидела на иссушенном теле, двигающем непомерно сильными руками и кистями, с тех пор как неизвестная судьба лишила его ног. Он усмехался мне почти беззубой пастью и требовал в качестве платы за проход один соль, а еще лучше — гульден. — Почему же сразу и не два гульдена и не двадцать? — осклабился я в ответ, сам не зная, откуда у меня взялась такая наглость. Она дорого обошлась мне, когда паук залепил мне болезненный удар по черепушке — или в данном случае это следует назвать пинком? Он наскочил на меня, как всадник на скакуна, а шайка одобрительно возликовала. — Вот так, Эскарбо, покажи-ка этому франту, кому принадлежит по ночам власть! — Загоняй-ка лошадку, храбрый Эскарбо[824]! — Возьмем себе, что он не желает нам отдать, клянусь Гермесом! — И Меркурием, если есть какая-то разница! — Сдирайте одежду с этого выскочки! — Вырывайте зубы из пасти! — Кожу — с костей! Кости — из тела! Когда я представил себя четвертованным, в меня вселились невиданные силы. Я вскочил на ноги и сбросил мерзкого паука, которого звали Жучишка-Эскарбо . Изуродованное создание шлепнулось вниз, сломав при падении руку или ногу (если это можно было так называть), и жалобно запищало. Меня это ничуть не тронуло, я, прежде всего, думал о своих костях, коже и зубах. Но едва я встал на ноги, как свора повисла на мне, как репьи — только тяжелые, словно камни. И снова они повалили меня на землю. Колющие кости и острые ногти впились в мою плоть. Угрожающие крики звучали у меня в ушах. Слюни из вонючих пастей текли на меня. Еще немного — и пинки, толчки и подзатыльники выбили бы из меня дух. Смерть показалась мне не только еще более желанной, как незадолго до того, но близкой и почти неизбежной. Мои силы быстро иссякли под напором множества рук и ног, которые пинали и удерживали меня на земле. Это было удивительное множество грязных обрубков, специально изобретенных для демонстрации всевозможного уродства. Порой калека вдруг оказывался вовсе не таковым — и словно по волшебству из ниоткуда появлялась недостающая рука или нога, — чтобы нанести мне удар. Когда моя боль заглушила все остальное, когда удушающие тиски на моем горле уже грозили лишить меня дыхания, что было бы почти милосердным, давление бесчисленных тел заметно спало. Неужели оборванцы затеяли новую игру, чтобы продлить мои страдания и свое удовольствие? Но они отступили от меня назад, как от прокаженного, с ужасом и страхом на своих издевательских рожах — как ворох опавшей листвы, который вмиг разметает налетевший порыв ветра. Это и был черный ветер, ночная тень, врезавшаяся в нищенский сброд — странно неподвижная фигура, которая ничего не делала. Она неподвижно стояла рядом и, вытянув руку в повелительном жесте, указывала в темноту. Но этого оказалось достаточно. Попрошайки и живодеры побледнели, перекрестились и воззвали к Господу, чьи заветы они только что так безудержно нарушали. Почти с облегчением они последовали немому приказу ночного незнакомца в черном и пустились наутек с таким неудержимым страхом, что спотыкались о свои существующие и несуществующие ноги. Только спустя несколько мгновений, после того как я уже видел себя бездыханным куском мяса, плывущим в Сене, последний из моих мучителей исчез в узких и мрачных переулках. Теперь лишь человек в черном стоял возле меня, наполовину сливаясь с тенью, закутанный в темный балахон, низко опущенный капюшон которого скрывал лицо в мрачном проеме. Я лежал на земле — бессильный, как побитый пес, который смиренно смотрит на своего хозяина. Странным образом я не ощущал облегчения, не говоря уже о радости моего удивительного спасения. Банда мошенников была ужасна. Но застывшая фигура казалась ужасом из ужасов, едва ли не еще большей угрозой? Освобожденный от удушающих рук, я вдохнул воздух через нос — дышать всей грудью я не мог. Слишком сомнительным мне показалось то, что эта жуткая ночь в самом сердце Парижа приготовила для меня теперь. Человек в черном подошел ко мне, и мне показалось, что вдруг подул ледяной ветер с острова Сите. Но яблони на берегу стояли, не шелохнувшись, и рябь не появилась на воде. Облака заволокли небо. Ужас охватил мной, и я почувствовал, как у меня зашевелились волосы на затылке. Жутко, почти беззвучно возле моего уха раздался монотонный шепот. — Подберите свои вещи, ночь будет холодной. Кому он говорит это?! Смущенный заботой, которую человек в черном проявил к моему здоровью, я последовал его совету. Или — его приказу? Я ползал по берегу реки и бросал робкие взгляды на таинственного незнакомца в надежде рассмотреть его лицо под капюшоном. Но напрасно — либо он так ловко держался в тени, либо у него вовсе не было лица. Был ли это один из демонов, которые, как всякий знает, рыщут по земле в ночь накануне Дня Трех волхвов? В эту последнюю святочную ночь и на следующий день могут происходить чудеса, вода наделяется целебными свойствами, а животные могут разговаривать на человеческом языке. Но и демоны приходят к человеку, потонувшие колокола звучат из подземных глубин, а дьявол со своим войском выходит на ловлю человеческих душ. Разве не так? — Такой оборванный и побитый, вы никогда не найдете себе достойное место службы, — заключил демон. Для этого ему не понадобилось много ума: плащ, разорванный попрошайками, придавал мне вид пугала огородного. Мой желудок заурчал в подтверждение его слов, словно загнанная в угол бездомная собака. — И, без сомнения, вы голодны. Наешьтесь досыта и приведите свою одежду в порядок, тогда вам подвернется хорошая должность. После этих слов маленький кожаный мешочек упал передо мной с легким звоном на помятую прибрежную траву. Я догадался, каким было его содержимое, но не осмелился тут же прикоснуться к нему. — Ступайте завтра во Дворец правосудия. Там соберутся высокие мужи, чтобы присутствовать на мистерии в Большой зале. Спросите отца Клода Фролло, архидьякона из Нотр-Дама. Он ищет толкового писца. Подайте себя ловко, и вам обеспечен постоянный заработок, Арман Сове! Голос говорил так тихо, что даже плеск Сены грозил заглушить его. Мое имя было едва различимо, и черный человек исчез, прежде чем его слова полностью замерли. Это был самый настоящий демон, но явно расположенный ко мне. Если он — не привидение, то откуда черный человек знал мое имя, откуда у него взялся мой кошелек? Мой — потому что брошенный кошелек, несомненно, был подарком моей возлюбленной Антуанетты к давно прошедшему Рождеству. С благоговением мои пальцы нащупали дорогой бархат, который нежные руки Антуанетты прикрепили к коже кошелька, и на очень краткий миг нежных воспоминаний я снова оказался в объятиях мягких рук возлюбленной. Мои мысли вернулись в грубую, холодную реальность, когда пальцы нащупали под бархатом и кожей что-то твердое, и поспешно я развязал тесьму, чтобы вытряхнуть содержимое кошелька себе в руки. Облака расступились немного, и свет звезд на небе заставил сверкать бледную медь. Среди солей приятно поблескивало серебро трех турских грошей[825]. Черный демон ночи Трех волхвов оказался действительно благодетелем! Опасаясь возвращения нищих, я быстро спрятал неожиданное денежное благословение в кошелек, запрятал под фуфайкой и рубашкой и постарался побыстрее убраться восвояси из этого нелюдимого места. На постоялых дворах на острове Сены, как и во всех кабаках города, необузданно праздновали ночь Трех волхвоа Чревоугодие сегодня было не только разрешено, но и стало неукоснительным требованием. Штраф получал тот, кто слишком мало ел! — до тех пор, пока у него хватало денег, чтобы наполнить свой желудок, как у счастливца-меня. «У оленя» — так называлась ближайшая таверна, чья покосившаяся на ветру обветшалая вывеска изображала животное, давшее название. Охваченный радостью предвкушения, я нажал на ручку скрипучей двери и неуверенно зашагал в упоении полного счастья в плотном чаду из винного и пивного перегара, пота и запаха жаркого. Я нашел свободный стол поблизости и жестом позвал простодушную девушку, которая с однозначным видом предлагала все, что бы я ни пожелал. Я лишь поверхностно погладил дородные, тестообразные шары, которые буквально выпадали из ее корсета. Но это не та плоть, ради которой я оказался здесь, — по крайней мере, сейчас этого не хотелось. Я заказал кружку бургундского вина и буханку белого хлеба, четвертушку бри и большую порцию ягненка, которого поворачивал на вертеле мальчишка, ягненка, набитого душистой начинкой: яблоками, грушами, луком и салом (я учуял эти запахи). — Сперва жирный куриный суп для господина? — спросила полнокровная девица, и я жадно кивнул в ответ. Спустя считанные минуты суп стоял передо мной — такой горячий, что еще дымился. К нему в придачу я получил хлеб, сыр и вино, которое девица налила из глиняного кувшина в захватанный оловянный кубок. Только я хотел схватить бургундское, как волосатая лапа, похожая на медвежью, крепко пригвоздила мою узкую руку к истертому столу. — А может ли знатный господин это оплатить? Вопрос исходил вперемешку с ядреным запахом лука и чеснока из сальной пасти дородного трактирщика. Его почти заплывшие от сала свиные глазки изучали меня недоверчиво, а крепкий захват медвежьих клещей постепенно причинял мне боль. Я прекрасно понимал его колебания — надо ли подавать на стол такому оборванному, измазанному парню столь роскошную трапезу. Я высвободил свою руку из-под веса мяса и костей и показал свинячим глазкам свой приоткрытый кошелек. Они засияли, а жирный рот улыбнулся — приветливо и со знанием дела. — Только самое лучшее для мессира! — приказал он девице и пошел обратно к своей стойке. Дряхлая фигура преградила ему путь и указала истощенной рукой на меня. — Возьмите только деньги, кум Шабер, и велите оплатить ими ваши похороны, если после этой ночи от вас еще останется хоть что-то, что проделает путь на кладбище Невинно убиенных младенцев. — Что я потерял на кладбище, кум Шиар? — Вы похороните себя, если возьмете эти деньги мертвеца, — закаркал высушенный как сухарь человек и окинул меня колючим взглядом, в котором смешались страх и отвращение. — Я был как раз неподалеку от моста Нотр-Дам, когда видел, как этот бродяга получил деньги от монаха-призрака, чтобы купить души для демонов ночи волхвов. Он говорил достаточно громко, чтобы перекрыть пение, смех и шум. Все смолкли, застыли и уставились на меня в ужасе. Мне было это уже знакомо по набережной, где попрошайки вели себя также при появлении человека в черном. Одно слово с благоговением и страхом облетело по кругу: «Монах-призрак!» Когда хозяин хотел выбросить меня из своего дома, я попытался втолковать ему, что духи не дарят деньги. — Если здесь внутри совершенно обычные монеты, они так же хороши или плохи как всякий другой соль или турский ливр! — А откуда они у тебя? — Человек у плота подарил мне их. — Благодетель, значит? Как он выглядел? — Я пожал плечами. — Как выглядит тот, кто одет в темный балахон с капюшоном на голове. Будете ли вы интересоваться внешностью человека, который дарит вам увесистый кошелек с деньгами? Да пусть он выглядит хоть как Аполлон или как Гефест! — Но не как монах-призрак! — захрипел трактирщик, схватил меня за воротник и потащил к двери. — Проваливай немедленно, дьявольский прихвостень, — или я угощу тебя факелом! Так мое посещение «Оленя» вместо желанной трапезы даровало мне истину: полный кошелек еще не означает полного желудка. Обогатившись этой малоутешительной мудростью, я бесцельно шатался по темной улице, когда услышал сзади шаги и тихий оклик. Я обернулся, прижался в углубление входа в дом и хотел было достать свой кинжал, пока не вспомнил, что заложил его в день после Рождества за хлеб и жаркое. Но как выяснилось, оружие вовсе не понадобилось. Простодушная девушка из «Оленя», стуча подошвами деревянных сабо, защищавших ее от уличной грязи, спешила за мной и что-то прижимала к своей колышущейся груди — как молодая мать, несущая на руках своего ребенка. — Что вы хотите? — спросил я грубо, чуя новый подвох. — Мне надо заплатить за вино, которое я не выпил и за суп, который не съел? Подумайте, это дьявольские деньги! Запыхавшись, она остановилась в паре шагов[826] от меня, робкая, какой не казалась в трактире, и протянула мне что-то. Это оказался белый хлеб. — По вам видно, как вы голодны, господин. Возьмите! — Ночь полна сердобольности, но, увы, эта добродетель не компенсирует гнусность, — пробурчал я себе под нос, взял хлеб и дал ей один соль. Ее пальцы с колебанием сжали медь, страх перед духами победило корыстолюбие. — Что поесть у меня теперь есть, даже если не ягненок, бри и суп. Как ни крути, но и белый хлеб хорош и подойдет, чтобы набить мой желудок. Вот чего мне теперь не хватает, так это теплой кровати на ночь. Ваше предложение еще в силе, Афродита? — Вы ошибаетесь, господин, меня зовут Марианна. Она выдала свое имя — но не путь в свою кровать. Его можно было купить только за деньги, за чем внимательно следил кум Шабер. Но не за деньги монаха-призрака, на что жирный хозяин трактира так же обратил внимание. — Проклятый монах-призрак! — вырвалось у меня. — Что кроется за ним! — Вы, наверное, не из Парижа, господин? — Абсолютно верно. И если бы я догадывался, каково мне здесь придется, я бы никогда не пришел сюда. — Уже целый год и один день, а возможно еще дольше, здесь по ночам бродит, как привидение, монах-призрак. — Что же он делает? — Он приносит людям несчастья. — Откуда это известно? — Потому что он монах-призрак. Кто возьмет на себя смелость оспаривать то, что убогая душа считает логикой? Я не сделал этого и просто спросил Марианну о ночлеге. — Любая таверна заполнена до отказа. Они пришли со всей Франции, чтобы отпраздновать в Париже День волхвов. Попытайтесь все же у собора Парижской Богоматери, господин. Там вы, по крайней мере, будете в безопасности от злых духов. Насколько она ошиблась, Марианна не могла знать. И еще меньше мог знать я, последовавший ее совету, когда, жуя, направился к силуэту большого Собора на восточном конце острова. Откуда знать человеку, что Божий дом скрываетсамого большого из всех дьяволов? Если бы я догадался, я бы покинул Париж той же ночью. Но парижский Нотр-Дам в Париже казался мне местом для убежища, но не для зла. Полный доверия к Богу, я шел по улице Святого Христофора, прямо на возносящийся в небо собор впереди меня. Собор Парижской Богоматери величественно возвышался над путаницей узких улочек и тесных домов, которые чуть ли не пугливо теснились в тени Божьего дома В своей могущественности он напоминал Вавилонскую башню — величественное, запутанное сплетение олова и стекла, строительного раствора и камня. Но собор не был безжизненным, как обещал камень. Когда я шел по мрачной площадке перед Собором, я разобрал дыхание и храп, словно все черти из преисподней расположились здесь на ночлег. В каждом углу, под каждым выступом стены лежала или скорчилась оборванная фигура. Воспоминания о ночных нападениях вернулись обратно, и я крепко прижал к телу таким чудесным образом снова приобретенный кошель на поясе. К моему удивлению, главный портал был закрыт, и в его тени оказалось много спящих людей. При моей неудачной попытке занять лестницу и пройти в ворота, я наступил на руку и собрал богохульное проклятие с яростными ругательствами: «Смотри под ноги, болван! Вступай в гильдию слепых, коли не видишь спящих!» — Я всего лишь хочу пройти в церковь. — Приходи утром. — Я охотнее сплю по ночам, нежели днем. — Но не в соборе Парижской Богоматери. — Это же всеобщий обычай во Франции — церкви дают бездомным приют на ночь. — Но не Собор Парижской Богоматери. — Почему же нет? — Спрашивай не меня, брат, а Фролло. — Отца Клода Фролло? — Да, — выдохнул нищий подо мной и неловко перекрестился. Бородатое, шелудивое лицо повернулось ко мне. — Ты, похоже, не из Парижа? Тогда запомни: архидьякон Собора Парижской богоматери не жалует нас, калек. Любит нас так же мало, как египтян, и запирает свой огромный храм от нас. Потому-то мы и лежим здесь перед входом, а не внутри. — Кто такие египтяне? — Цыгане. — Почему ты называешь их египтянами? — Это не я, а Фролло так их прозвал. Я слышал слова, но не понимал их и показал на оба боковых входа: — Почему здесь в каждом углу спит по одному человеку, а там никого? — Потому что боковые входы прокляты еще больше, чем все это здание, — усмехнулся бородач и перевернулся на бок, чтобы спать дальше. Я почувствовал себя таким разбитым и усталым, что любое проклятие мне стало безразличным. Что еще должно меня поразить после того, как я встретил ужасного монаха-призрака не только без потерь, а даже с прибытком?! Итак, я беззаботно направился к южному входу, который был расположен напротив стен Отеля-Дьё[827]. Кто-то крепко схватил меня за плечо, и я был отброшен назад. — Ты что, дьявольское отродье, брат? — прохрипел бородач, который оставил свое место и теперь стоял передо мной с расширенными глазами; они горели в обрамлении его косматой гривы, словно угли, брошенные кем-то в колючий куст. — Почему ты не слушаешь старого Колина? — он дернул меня за руку. — Пойдем, брат. Я потеснюсь, тогда и тебе найдется местечко у главного портала. Там ты будешь в безопасности от Сатаны. Теперь я хотел только спать, послушно последовал за стариком и пристроился рядом с ним. Мне приснился Гутенберг, который бросил меня в грязной печатной комнате на свое дьявольское изобретение, как на ложе пыток. Рядом стояло закутанное, мрачное создание, лицо которого скрывал капюшон. Я подумал о монахе-призраке, который уже однажды помог мне. Но на этот раз черный человек не пошевельнулся, не внял моим громким мольбам. Тигель опустился низко на меня, словно я был листом бумаги. Я хотел спрыгнуть с пресса, но Гутенберг крепко пристегнул меня. В наказание за мое сопротивление он нанес мне по лицу оглушающий удар…Глава 2 Праздник шутов
Я кричал и уворачивался, чтобы избежать новых ударов. Сильные руки схватили меня, и кто-то посмотрел на меня с укором. Это не была та строгая, жестокая физиономия, которую мой сон предписал дьявольскому изобретателю из Майнца[828], но и не безликая тень монаха-призрака. Предо было полное, розовощекое лицо, которое светилось здоровьем и добродушием в розовых лучах восходящего из-за Нотр-Дама солнца. Толстый человек ко всему прочему был облачен в одеяние облата[829] целестинских монахов и производил довольное, округленное впечатление буквы «О». Привычка сравнивать людей с буквами явно была связана с моим ремеслом, однако я частенько находил в этом глубочайшую истину. Разве буквы не возникли из знаков, изображений? А если они изображают на бумаге все вещи, включая человека, то не должны ли буквы олицетворять людей и все вещи в нашем мире? — Эй вы, причетники, не обращайтесь с ним так грубо, — обратился целестинец к обоим церковным служкам, которые схватили меня своими жесткими лапами. — Бедолага, да он всего лишь поспал. Кто спит, тот безгрешен. — Вам хорошо говорить, мэтр Филиппо Аврилло, — заворчал один из причетников возле моей левой руки так громко, что у меня зазвенело в ухе. — Вам не приходится каждое утро гонять со своего порога всяких попрошаек! — И самые бедные — создания божьи, мой друг, — Филиппо Аврилло мягко улыбнулся. — Сжальтесь и подумайте в милостивом настроении, что этот человек просто спал. Вы неожиданно схватили и напугали его, и он защищается еще в полусне. Но ваши крепкие затрещины, без сомнения, не оставили и следа от дремоты. Мирянин был прав. Моя щека болела, бока — не меньше. Если парижане хотели использовать при строительстве Собора только самый лучший камень, то одиннадцать ступеней лестницы перед порталом явно не были предусмотрены как ложе для здорового сна. К боли, онемению в руках и ногах прибавилось еще и смятение. Я услышал музыку и крики и огляделся по сторонам. На краю Соборной площади протянулась процессия ряженых — непристойно кривлявшиеся дьявол, ведьмы и демоны. Они исчезли на улице Нев, вертя обнаженными задами в сторону Собора. Начался праздник шутов. Нищие, с которыми я делил ночное ложе, давно исчезли. Старый Колен — тоже. Добродушный целестинец, спасший меня от церковных служек, приобнял меня рукой и подтолкнул вперед. — Наверняка провернул вчера отличное дела и тут же обратил в вино благотворительные монеты — из чистого сострадания к бедным трактирщикам, не так ли? И сегодня ты устал, как крестьянин после пахоты. Оглушающий грохот смешался с его последними словами. Мэтр Аврилло повернул голову и взглянул вверх на башни Собора. — Красивый бой колоколов устроил этот звонарь, дьявольская бестия. Клянусь всеми настоящими глухими среди нищих Парижа, добрый Квазимодо сегодня разошелся не на шутку! Я не совсем понял смысл его последних слов — речей о дьявольской бестии и о глухих нищих. Поэтому предпочел перейти к первой части и попытался объяснить ему, что я не нищий и только при отвратительных обстоятельствах искал приюта у ступеней Нотр-Дама. — Ну да, ты не беден, у тебя просто нет денег, — мирянин усмехнулся. — Ну, историю я не назову новой, но в праздник шутов твой живот не должен удручать голод. У старого Филиппо Аврилло найдется лишний соль для тебя. Я крепко схватил его руку, которая потянулась к кошельку под одеждой. Человек понравился мне, и я не хотел пользоваться его добротой. — Постойте, мэтр. У меня есть деньги, я просто не нашел место для ночлега. Он недоверчиво уставился на меня и хотел было возразить , но его взгляд отвлекся, скользнул в сторону и остановился на узкой темной улочке у Отеля-Дье. — Прекрасно, если ты обойдешься без моей помощи. Я как раз увидел своего знакомого, — пробормотал он и прибавил прощальный привет. Потом мирянин исчез в кривом переулке, не удостоив меня больше ни единым взглядом. Прежде чем тени плотно стоящих друг к другу домов не проглотили его, мне показалось, что я увидел вторую фигуру — знакомого мэтра Филиппо. То, что он, всего лишь темный силуэт в сумерках, напомнил мне таинственного монаха-призрака, явно не было большим, чем совпадение, — вполне понятно, что он чудился мне после событий прошедшей ночи. Вмиг эти странные события снова встали передо мной, так живо и одновременно нереально, как бросающий в пот ночной кошмар. Охваченный внезапным страхом, я сжался под моим разорванным плащом и вдохнул, кода нащупал свой кошелек. Значит, не только сон! Почти с любовью я достал кожаный мешочек. Но что это было? Веревка развязана, кошелек пуст! Не веря своим глазам, я уставился на уже не туго набитый мешочек. Я был неосторожен и не завязал хорошенько кошелек? Я поспешил обратно к главному порталу Собора, где обыскал место моего ночлега под недоверчивыми взглядами обоих причетников. Там не валялось ни одного соля, не говоря уже о турских ливрах. И тут меня охватило озарение: оборванец Колен не из братского сострадания искал моего соседства, он, должно быть, обворовал меня во сне. Собственно, мне следовало быть начеку, но усталость лишила меня бдительности. Нищий показался мне похожим на меня; таким же типичным человеком «S»: израненный, истощенный, с росчерками и завитками, но причины его закругленных изгибов было трудно понять. Я послал вора в преисподнюю, на особенно горячее место — рядышком с Гутенбергом, — и поспешил к зданию Отеля-Дье, подгоняемый надеждой застать целестинца в еще благодушном настроении. Но я не нашел его — ни в узком переулке, который я прошел до самого конца, ни на соседних дворах. Он словно растворился в воздухе со своим знакомым. Теперь мне мог помочь только совет незнакомца, которого они называли монахом-призраком. И без приведения себя в порядок мне придется постараться получить место. Итак, во Дворец правосудия! Когда я покидал Отель-Дьё, мой желудок заявил о себе не робким урчанием, и тут же, как это уже частенько случалось в последние дни, кулак голода двинул мне по кишкам — как бы посмеиваясь надо мной, именно теперь, когда я снова оказался без соля в кармане. Вполголоса я проклинал свой голод и не обращал внимания на то, что происходило вокруг меня. Предупреждающий возглас, пронзительный крик женщины спас меня в последнюю минуту. Всадник, который появился со стороны отеля, несся прямо на меня, без сомнения ожидая, что нищий оборванец немедленно посторонится. Благодаря окрику я так и поступил и, сделав большой прыжок, потерял равновесие и приземлился прямо в кучу навоза. Буквально рядом со мной проскакал белый в яблоках конь в легком галопе. Всадником был угловатый, мрачно смотрящий исподлобья мужчина в костюме зажиточного горожанина. Не обращая ни на кого внимания, он прокладывал себе дорогу по заполнявшейся улице Нев. Того, что он чуть было не убил человека, казалось, он даже не понял. Либо ему было абсолютно все равно. Охая, я поднялся и поискал мою спасительницу. При этом мои глаза поймали взгляд, только на долю мгновения — слишком краткого, чтобы уловить внешность незнакомки. Было ли оно узким или широким, обрамлено белокурыми или черными локонами, сияющим молодостью или изборожденным морщинами? Не могу сказать, слишком быстро незнакомка исчезла за толпой галдящих крестьян, которые шагали в западном направлении к Дворцу правосудия. Но странно — хотя я видел глаза только на какую-то долю секунды, мне показалось, что я где-то встречал этот взгляд. Теперь я был не только оборванным и голодным, но и источал зловоние, как очаг разврата. Могло ли быть что-то еще более неподходящее для получения достойного места службы? В таком унылом настроении я позволил толпе увлечь себя к старому королевскому дворцу. Здание с оборонительными башнями за мостом Менял и Мельничьим мостом, несмотря на ранний час, было в необозримом количестве заполнено жаждущими удовольствия и зрелищ. — Так много зрителей? — удивился я. — Тогда мистерия явно уже началась. — Как же, — пожаловался маленький белобрысый паренек, чья узкая голова в честь Дня шутов была украшена дьявольскими рожками. — Представление намечено лишь на полдень, когда сюда прибудет фламандское посольство. — К чему же такое столпотворение? — Только одни зеваки, — захихикал маленький дьяволенок, который любовался своими собственными словами. Он показался мне буквой «Т», которая пытается компенсировать постоянно размахивающими руками недостающую прочность своей маленькой ноги. — Так на что же они глазеют? — спросил я. — На других зевак. Разве этого недостаточно? К тому же это значит заблаговременно занять хорошее место. Костер на Гревской площади может и согреет кого-то в эти холодные дни, но больше преимуществ у него нет. И майское деревце, это я вам предсказываю, сгниет на кладбище Бракской часовни скорее, чем мертвецы. Нет, поверьте мне, обедневший друг, здесь, во Дворце, бьется само сердце Парижа. Здесь можно будет восхититься благородными господами и плохими комедиантами. Держитесь меня, мсье оборванец, и вы насладитесь хорошим видом! Было ли это предложено всерьез или в шутку, но я его принял. К моему удивлению, белокурому дьяволенку удавалось протискиваться дальше вперед с помощью всевозможных уверток и пинков, пока он, сопровождаемый тенью по имени Арман Сове, наконец, не пробрался за старые каменные стены и не устремился к тому же месту как все остальные — в Большую залу. Здесь, где в другие дни слушалось толкование законов и вершилось правосудие, сегодня веселился народ Парижа — важные горожане и самый последний сброд. Мой дьяволенок неотступно пробивался к большому окну, стекла которого были открыты двумя молодыми парнями. Они бесстрашно расселись на карнизе, чтобы наблюдать за праздничным действом с этого возвышающегося обзорного пункта и с прибаутками комментировать происходящее. Ловко, как ящерка, белокурый дьяволенок пробрался наверх по богато украшенной стене к развязным школярам, я — вслед за ним. Пока я занимался тем, что искал для себя более-менее надежное местечко на этом до отказа заполненном карнизе, но насторожился, когда один из школяров поприветствовал моего белокурого провожатого. — Клянусь душой, это вы, Жеан Фролло де Молендино! Уже издали я видел ваши проворные руки и ноги, раскидывающие толпу как крылья ветряной мельницы. Недаром вас зовут Жоаннес с мельницы! Мы старались сохранить для вас почетное местечко, а вы притаскиваете с собой в виде довеска вонючего нищего. Это праздничное настроение заставило вас забыть, что вы не можете позволить себе быть милосердным? — Один беден и воняет снаружи, другой богат и гниет изнутри, — проорал мой белокурый знакомец. — Только в День шутов мы все равны, носы заложены от насморка, который не могут вылечить ни медики, ни банщики, а лишь один трактирщик. Взволнованный услышанным именем, я самонадеянно решил не обращать внимания на болтовню о моем потрепанном внешнем виде и спросил своего нового знакомого: — Вас действительно зовут Фролло? — Так зовут меня с тех пор, как я как себя помню. Вам не нравиться имя? Тогда называйте меня Жеан дю Мулен[830] по тому месту, где я наслаждался материнским молоком, даже если оно было молоком кормилицы. — О, нет, мне очень нравиться ваше имя. — Бесенок усмехнулся: — Как мало же нужно, чтобы осчастливить бедную душу! — Я как раз ищу одного Фролло, — пояснил я. — Вы его и нашли. — Едва ли. Для архидьякона Нотр-Дама вы мне кажетесь довольно молодым, и с позволения сказать, чересчур шаловливым. Жеана Фролло, которого так же звали Жеан или Жоаннес дю Мулен, схватил один из зубоскалов и тряхнул так сильно, что он наверняка упал бы с оконного карниза в толпу под нами, если бы я и его друзья не ухватили бесенка в последний момент за поношенную безрукавку. — Вы просто душка, мой друг, просто душка! — захихикал он и стряхнул слезы своего необъяснимого умиления на мой плащ. — Почему? — Потому что я только что представил себе шаловливого отца Клода Фролло. Это то же самое, как если выдумать квадратное колесо, ревущий поток без воды или соблазнительную бабенку без грудей, — после этих слов Жеан дю Мулен снова впал в истерический хохот. — О, если бы мой брат только услышал вашу шутку, возможно, тогда он хоть раз посмеялся бы за всю свою жизнь — печальную и серьезную! — Архидьякон — ваш брат? — Так говорят с тех пор, как я себя помню. Вам что-то не нравиться? — Совсем наоборот, — возразил я, представился и объяснил, зачем я ищу архидьякона. Впрочем, о монахе-призраке я не упомянул, чтобы меня не столкнули при удобном случае с карниза. — Вы правы, месье Арман, мой брат действительно ищет нового писаря, с тех пор как Пьер Гренгуар снова ушел в поэты. Но только мне кажется сомнительным, что вы найдете здесь моего засыпанного пеплом братишку. Поищите его возле Нотр-Дама! — Там я уже провел неприятную ночь, — пробормотал я и попросил блондина показать мне своего брата, если он все же придет во Дворец правосудия. Вместо Клода Фролло здесь появилось огромное число почетных и высоких господ, которых Жеан и его товарищи приветствовали насмешливыми выкриками. Для меня это была прекрасная возможность познакомиться со знатью и уважаемыми горожанами Парижа. Если я потерплю неудачу с архидьяконом, то, возможно, я найду себе кров и хлеб у одного из них. Ватага школяров изливала свое остроумие на дородного господина, который тут же возмутился: — В мое время таких наглых парней за такое отстегали бы прутьями, а потом сожгли бы на костре из этих самых прутьев! Мои сотоварищи разыскали взглядом кричавшего и обрушились на него. — Это кто еще там гавкает? — Да я же знаю его, это месье Андри Мюнье. — Ну, да, Мюнье, один из четырех присяжных библиотекарей Университета. — Эй, книжный червь, не плюйся таким жарким огнем, не то сгоришь вместе со своим бумажным хламом! — Тогда придется все заново написать, и мой друг Арман Сове погреет на этом руки, — захохотал Жеан Фролло громче всех. До нас снова долетел хриплый голос библиотекаря Университета: — Просто конец света. Такая распущенная бесцеремонность школяров неслыханна Все испорчено проклятыми изобретениями, которые уготовил нам наш пагубный век: пушки, фальконеты, мортиры и, прежде всего, печатный станок — новая немецкая чума! Давно нет манускриптов, нет больше книг. Близится конец света! У Жоаннеса с мельницы и его товарищей это вызвало новый град острот, но я промолчал, считая, что месье Андри рассуждает правильно и высказывает разумные мысли. Двенадцатикратный бой колоколов заглушил все крики и вопли. Громкий гул звучал не благодаря мощи, которая обитала в колоколах Нотр-Дама, а объяснялся близким расположением: это были большие часы Дворца правосудия. Наконец, наступил полуденный час, а с ним пришло время, когда ожидали въезд фламандского посольства и начало представления мистерии. Я посмотрел на затянутые бархатом и золотой парчой трибуны, которые воздвигли для фламандских послов, и которые были так же пусты как мой желудок. — Почему все так носятся с этими фламандцами? Можно подумать, что судьба Франции зависит от них. — Возможно, король так и думает и потому рискнул покинуть свою крепость в Плесси-де-Тур[831] и выйти в центр нашего прекрасного, старого, грязного, шумного Парижа, — ответил Жеан Фролло. — По крайней мере, для него речь идет о судьбе Бургундии. Ему очень хочется заключить брак между дофином и Маргаритой Фландрской. Толстосумы с Севера вчера прибыли сюда, чтобы обсудить детали. Король хочет расположить этих дельцов со звонкими гульденами и умасливает их при всяком удобном случае. Если они пожелают, то мистерия начнется лишь в полночь. — Верно, — подтвердил тучный школяр по имени Робен Пуспен. — С тех пор, как в прошлом марте прелестная Мария Бургундская упала с лошади во время прогулки верхом по Брюгге, Людовик точит зубы, чтобы откусить пару сочных кусков от бургундского жаркого. — Или, как поговаривают, ее сбросили с лошади, — глаза Жеана хитро блеснули. — Так или иначе, но королю Людовику пришлось кстати, что Мария последовала в могилу за своим отцом, Карлом Смелым[832]. Она не слишком хорошо относилась к союзу своей дочери с сыном Людовика. — Доченьке Маргарите, наоборот, такие размышления неведомы, — продолжал злословить Пуспен. — Откуда, в ее-то три года? — Мал золотник, да дорог. Она принесет Людовику хороший куш, — пропел Фролло. — Артуа, свободное графство, Мэкон и Аукруа, Сален, Бар-сюр-Сена и Нойе, как поговаривают. Мне бы хватило и одной только доли от этого. — Ага, чтобы проиграть ее в карты или кости за одну ночь! — съязвил Пуспен. — Только этим вы и известны, приятель Фролло. Но перескакивающие с одного на другое мысли Жеана Фролло перенеслись уже далеко, и он выразил свое недовольство громкими криками: — Мистерию — и ко всем чертям фламандцев! Его друзья и заждавшаяся толпа подхватили кличь, чтобы скандировать его хором все громче и громче. Нетерпение грозило перейти в гнев, а гнев — вылиться в незамедлительное неистовство. Высокому белокурому мужчине, у которого, несмотря на его юность, уже был изборожден морщинами лоб, удалось отвлечь толпу от потасовок, объявив пьесу «Праведный суд пречистой девы Марии». — Очень хорошо, месье Чернильные Кляксы, только дайте ж, наконец, своим словам ход! — прорычал Жоаннес Фролло дю Мулен. — Меня очень интересует, разучились ли вы искусству стихоплетства на службе у моего брата? — Этот человек работал у вашего брата, архидьякона[833]? — уточнил я. Фролло утвердительно кивнул: — Месье Пьер Гренгуар, должно быть, написал ему увесистый роман. — О чем? Белокурый бесенок пожал плечами: — Что-то научное, ничего стоящего, что бы заинтересовало молодого школяра. Наконец, хотя высокие мужи из Фландрии все еще не ступили на украшенные трибуны, и правда раздалась громкая музыка Четверо актеров вышли на сцену, чтобы разыграть представление. Их игра и речь актеров не вызвали такого большого интереса, как яркие костюмы. Не было ничего удивительного, что публика тут же отвлеклась, когда сорок восемь фламандских посланников взошли на трибуны, а за ними показался парижский магистрат. Их представил привратник, кричавший изо всех сил во время представления: — Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор в духовном суде! — Жеан де Гарлэ, ротмистр, исполняющий должность начальника ночной стражи города Парижа! — Мессир Галио де Женуалак, рыцарь, сеньор де Брюссак, начальник королевской артиллерии! — Мэтр Дре-Рагье, инспектор королевских лесов, вод и французских земель Шампани и Бри! — Мессир Луи де Гравиль, рыцарь, советник и камергер короля, адмирал Франции, хранитель Венсепского леса! — Мэтр Дени де Мерсье, смотритель убежища для слепых в Париже! Громогласный орган привратника и жалобные голоса актеров отважно боролись за благосклонность публики, которая должна была повернуться снова к сцене, как только последнее место на почетной трибуне будет занято. Так оно и произошло бы, но тут поднялся предводитель фламандских посланников, чулочник из Гента по имени Жак Коппеноль с обращением к собравшейся публике. Он прошелся по бездарной мистерии, польстил парижским горожанам, обращаясь к ним «дворяне» и предложил отметить праздник шутов по гентско-му обычаю и избрать самую отвратительную рожу Папой шутов. Тут же начались оглушительные аплодисменты, а безмолвный Пьер Гренгуар признал свое представление окончательно провалившимся. Горожане так решили — и имели на то право. Ведь это был их спектакль — праздник шутов.Глава 3 Квазимодо
Возмущенные неожиданным и грубым поворотом праздника, многие из высоких мужей покинули Большую залу Дворца правосудия. Но другие, в первую очередь Жак Коппеноль, остались на своих местах, чтобы своим удивлением, криком, смехом и хлопаньем в ладоши или свистом дать оценку бесчисленным рожам и гримасам. Свои физиономии просовывали в обрамленное камнем отверстие красивой дверной розетки все без исключения кандидаты на титул Папы шутов. Местом состязания стала маленькая часовня напротив большого мраморного стола. Претенденты и претендентки — ибо могли избрать и Папессу — должны были просто забраться на две бочки, прислоненные к двери, и продемонстрировать, на какие гримасы и ужимки способны их лица. Громче всего толпа кричала и стонала при явлении, которое словам-то нелегко поддается — как волшебство первой влюбленности или возбуждение голодного нищего, внимательно следящего глазами за тем, как достают из печи дымящийся хлеб. Лица, просовывавшиеся сквозь отверстие розетки, имели меньше общего с человеческими, нежели морды иных из ужасных химер на соборе Парижской Богоматери, насчет которых можно было лишь надеяться, что они действительно сделаны из камня. Искаженная пародия на человеческое лицо создавала впечатление, будто обезумевший скульптор получил удовольствие, обезображивая все, что можно было до неузнаваемости изменить на одной физиономии. Центром этой заросшей путаницы был мощный, расплющенный нос, истинный рычаг, который нависал над подковообразной пастью. Она скрывала в себе редкие криво стоящие зубы различной величины. Один был таким огромным, что нависал над растрескавшимися губами, словно кабаний клык, даже когда дьявольская пасть была закрыта. На первый взгляд складывалось впечатление, что создание располагало только одним глазом: левым, кажущимся совсем крошечным, но зато под косматой рыжей бровью. Лишь после выяснялось, что правый глаз тоже присутствовал, но скрывался за разросшейся гигантской бородавкой, отчего не мог принести своему владельцу никакой пользы, так что тот преспокойно мог быть назван одноглазым. Его подбородок был раздвоен, словно ударом топора, который нанес безумный творец морды демона своему созданию в редкий светлый момент. Бесформенный череп представлял бы собой тоже некое порицание, не будь он сердобольно покрыт плотным слоем свалявшихся от грязи рыжих косм. — О боже! — захрипел я во всеобщем стоне. — Кто или что это! — Это звонарь из Собора Парижской богоматери, — ответил Жоаннес дю Мулен и позабавился моим замешательством. — Воистину, это Квазимодо, мой брат! Его брат? Прежде чем я успел потребовать объяснений у белокурого бесенка, он уже пробрался в залу, сопровождаемый своими друзьями. Они окунулись в толпу, напиравшую на маленькую часовню и славившую громкими криками своего Папу шутов. — Квазимодо, Квазимодо! — Звонарь — самый отвратительный из всех, ужаснее, чем сам дьявол! — Квазимодо — дьявол! — Нет, он Папа! — А есть какая-то разница? Пока я смотрел, как воодушевленный народ стащил это странное существо с бочек, я вспомнил, что уже слышал сие не менее странное имя — «Квазимодо». А слышал я его именно этим утром — от мэтра Филлиппо Аврилло, сердобольного целестинца. Теперь, когда звонарь представил народу все свое существо, он произвел еще более гротескное впечатление. Казалось, сошедший с ума творец в приступе бешенства, из ненависти ко всему человеческому изуродовал не только лицо, но все тело своего создания. Квазимодо таскал горб на своих плечах — да такой большой, что он выпирал из груди. Бедра казались настолько вывихнутыми и сросшимися, что ноги его могли сходиться только в коленях. Обычный способ передвижения не подходил этому невероятному существу, вместо этого оно было обречено на непривычное, раскачивающееся шарканье. Парадоксальным образом в этих беспомощных движениях скрывалась некоторая проворность — на нечеловеческий, звериный манер. К этому добавлялась недюжинная сила, что было видно по мощным рукам и ногам. И тело было почти одинаковых размеров в ширину и высоту. Горбуна едва ли можно было сравнить с какой-нибудь буквой. Будто бы один из этих проклятых печатников собрал вместе все литеры и взял от каждой буквы ее очертания. С кривыми ногами и бесформенным телом он, скорее, походил на громоздкую «W», которая в процессе жизни утратила ясность линий. То, как он силен, звонарь доказал, когда Робен Пуспен вышел перед звонарем и стал передразнивать его, смеяться прямо в отвратительное лицо. Квазимодо схватил наглого школяра за пояс и бросил на десять шагов через залу, что, похоже, не стоило ему ни малейшего усилия. Я не знал, плакать ли мне над чудовищем или смеяться над Папой шутов в красно-фиолетовом, обшитом серебряными колокольчиками камзоле. Затем месье Коппеноль осмелился подойти к нему и положил в восхищении руку ему на плечо. Он похвалил превосходное уродство Квазимодо, с которым он достоин быть Папой не только в Париже, но и в Риме. — Для разнообразия, — смеялся фламандец, — тогда на Святом Престоле посидел бы кто-то, у кого изуродовано тело, а не душа! Когда Квазимодо ничего не ответил на приглашение Коппеноля пропустить с ним стаканчик, а неподвижно стоял, я понял, что имел в виду мэтр Аврилло, говоря о глухих. Возможно, это единственная благодать, которую Творец даровал Квазимодо — не слышать, как другие насмехаются и потешаются над ним. Фламандец сообразил не так быстро и повторил свое приглашение, при этом он попытался увлечь за собой звонаря. Горбун, почувствовавший себя подталкиваемым, впал в ярость и так страшно заскрежетал зубами, что Коппеноль отскочил от него в сторону. Немедленно и все остальные отступили назад, признавая тем самым, что имеют дело не с шутом, а с чудовищем. Они короновали своего Папу картонной тиарой, натянули на него епитрахиль из имитации сусального золота (как и митра), всунули в косолапую руку кривую палку, покрашенную золотой краской, и подтолкнули его занять место в не менее пестро раскрашенном паланкине. Двенадцать членов Братства шутов подняли паланкин, и Квазимодо смотрел вниз на своих подданных с некоторым комично-ужасающим чувством набожности и удовлетворения. Под насмешливое пение, которое на все лады восхваляло бесчисленные уродства Квазимодо, странная процессия двинулась в путь, чтобы по старой традиции прошествовать сперва по галереям и залам Дворца правосудия, а под конец — по улицам и площадям Парижа. Я присоединился к процессии. Возможно, я почувствовал, что появление горбуна что-то значит для меня, возможно, я не хотел терять из виду Жеана Фролло, который возглавлял процессию. С его помощью, как я надеялся, я получу столь желаемое место у архидьякона собора Парижской Богоматери. Мне не давала покоя мысль, что мой будущий патрон — брат горбуна, — но голодный желудок сильнее встревоженной головы. Процессия увеличивалась с каждой минутой, к ней присоединялись цыгане и пройдохи, нищие и горожане, они прибывали по улицам острова Сите. Нищих вел их король, неотесанный Клопен Труйльфу, который полулежал-полусидел в запряженной двумя шелудивыми псами повозке, размахивал винным бурдюком и столь же громко, сколь и фальшиво пел под звуки музыкантов, которые придавали процессии праздничную ноту. Не только публика, но и небольшой оркестр покинул Пьера Гренгуара и предпочел праздничное развлечение назидательной мистерии. Во главе парада маршировал пестрый цыганский народ — под свою собственную своеобразную музыку, иногда дикий, а иногда меланхоличный ритм. Били в балафосы и тамбурины. Предводитель цыган был удалым малым по имени Матиас Хунгади Спикали, которого они величали «герцогом Египта и Богемии» или просто «герцогом Египетским». Морщинистая желтая кожа говорила о многих беспокойных годах, но душа его не казалась слишком уж старой — в темных глазах горел дикий огонь. Он проехал верхом на великолепной белой лошади, украшенной почти так же пестро, как сам всадник, с высоко поднятой головой впереди мужчин, женщин и детей своего маленького шумного народа, окруженный своими баронами, которые придерживали его стремена и вели коня под уздцы. Когда странная праздничная вереница перебралась по мосту Нотр-Дам в Город, уже давно наступили сумерки, и тревожный отсвет огня лежал на правом берегу Сены. Как говорится, в День волхвов небо раскрывается, и Троица становится видна, у того, кто ее увидит, есть три желания. Но не от Бога исходил свет пламени, а с Гревской площади, куда стремилась наша процессия по улице де ла Ваннери. Ограниченная с южной стороны рекой, а трех других — высокими узкими и мрачными домами, которые стояли на сваях для защиты от воды, Гревская площадь образовывала трапецию, чьи очертания расплывались в мерцающем отсвете огня Трех волхвов. Казалось, все было охвачено огненным танцем, даже установленная в центре Гревской площади виселица и ее младший брат, позорный столб. И тем более девушка, приковавшая к себе взоры собравшейся толпы. И мои — да еще как! В чем творец лишил ужасного Квазимодо красоты, тем вдвое и втрое наделил это порхающее создание. Стройная, хрупкая она казалась выше ростом, чем была на самом деле. Черные волосы с вплетенными пестрыми лентами обрамляли лицо, еще находившееся во власти очарования юности, но уже скоро обещавшее жгучую красоту взрослой женщины. Чарующему существу, которое летало по площади быстро, как оса, и воспламеняло взглядами сердца мужчин в толпе, минуло не больше шестнадцати лет. Она была цыганкой, нимфой, богиней! Пока я следил за ее танцем, ритм которого отбивали нежные девичьи руки на тамбурине, воспоминания об Антуанетте Фрондо поблекли со скоростью, граничившей с волшебством. Поистине, цыганка со жгучими глазами излучала свое особенное волшебство. С каждым поворотом обнаженных, бархатных плеч. С каждым движением голых ножек, которые все более соблазнительно выглядывали из-под пестрой пышной юбки. С каждым огненным взглядом ее больших черных глаз, который поражал меня или я воображал себе, что он предназначался мне. С каждым мгновением я увлекался все сильнее незнакомкой, красавицей, чаровницей. Может ли такое быть — любовь, увлечение, страсть, вспыхнувшая всего за считанные секунды от одного взгляда? Да! Да, если это взгляды такого ангельского создания. Так я чувствовал тогда и заметил теперь краем глаза, что сотни мужчин, которые вместе со мной стояли у костра, были точно также возбуждены. Голод и хлопоты о месте у отца Клода Фролло были позабыты. В тот миг существовали только танец, девушка, любовь. Матиас Хунгади Спикали, герцог Египетский[834], давно осадил белого скакуна. И его глаза остановились на танцовщице, но не только с восторгом, как мне показалось. Что-то еще скрывалось в его взгляде, — возможно, гордость. С моих губ, как с сотни других, сорвался вопрос: — Кто эта фея? — Эсмеральда, — услышал я, как кто-то сказал с благоговением. — Это Эсмеральда, египтянка. — Она должна быть королевой Египта, — добавил я, не отрывая свой взгляд от вращающегося сказочного существа. — Новая Клеопатра, не меньше. — А вы бы предпочли быть ее Юлием Цезарем? — с явной иронией обратился ко мне сосед напротив. — Даже ее Марком Антонием! — со страстью подхватил я и обернулся, но только так, чтобы не потерять Эсмеральду из виду. Насмешник оказался никем иным как Пьером Гренгуаром, горемычным поэтом, который волей-неволей присоединился к праздничному шествию. Та крохотная доля разума, которая остается у человека при всем очаровании и увлеченности, помогла мне понять, что эта встреча — единственная возможность узнать подробности о моем патроне. — Вы же работали у отца Клода Фролло, архидьякона собора Парижской Богоматери. Не могли бы вы мне сказать… Неожиданный грохот проглотил мои слова и привлек внимание Гренгуара. Фигура в темной простой рясе духовного лица отделилась от толпы зрителей, сбила танцовщицу с ног со словами «Кощунство! Бесстыдство!», прыгнула к палантину и вырвала у колоритного Папы шутов его сверкающий золотом пастуший посох. Я испугался не столько произошедшего, сколько лица нападавшего: глубоко посаженные глаза сверкали из-под высокого широкого лба, который уже избороздили первые морщины. Хотя человеку не было и сорока, его череп был уже лыс, и лишь на висках росли пряди редких седеющих волос. В свете огня его лицо казалось еще более диким и дьявольским. Оно напомнило мне страшное лицо, которым наделил мой ночной кошмар Иоганна Гутенберга. — Смотри! — воскликнул Гренгуар. — Да это мой учитель герметики, отец Клод Фролло, архидьякон. — Какого черта ему нужно от этого отвратительного кривого? Итак, это был архидьякон собора Парижской Богоматери. Сбитый с толку, я следил, как охваченный гневом Квазимодо спрыгнул с опущенного паланкина и нарисовался перед духовником, словно хотел проглотить его в следующий момент. Уже несколько слабонервных женщин отвернулись, когда другие, — и женщины и мужчины — кровожадно раскрыли глаза пошире. Но Квазимодо опустился перед священником на вывихнутые колени и смиренно опустил бесформенную голову, покорно позволяя, чтобы Клод Фролло сломал и швырнул в огонь кривую палку, сорвал с головы картонную тиару и разорвал епитрахиль из сусального золота. Квазимодо не только терпел все это, он даже сложил руки в мольбе перед Фролло — как просящий прощения. Лишь теперь я припомнил слова Жеана Фролло и понял, почему звонарь пощадил священника. Больше рассуждая вслух, нежели обращаясь к другим, я пробормотал: — Ну, да, архидьякон — брат Квазимодо! — Что вы там говорите? — Гренгуар с отчуждением смотрел на меня в упор. — Отец Клод Фролло вовсе не брат этого создания. Он его отец! Тут я окончательно запутался. То, что между архидьяконом и звонарем имелась особенная связь, было очевидно. Они разговаривали друг с другом без слов, какую пользу слова могли принести глухому? Сдержанным, едва заметным жестом пальца отец сделал строгое замечание сыну — или старший брат младшему. Квазимодо согнул в жалобной позе свое массивное тело и, казалось, хотел провалиться сквозь землю. Клод Фролло даровал ему прощение прикосновением к плечу и велел подняться. Когда Квазимодо захотел последовать за ним как послушный пес, братство шутов очнулось от замешательства. Не желая позволить вот так просто увести своего Папу, разочарованные преградили архидьякону путь с угрожающими жестами. Некоторые занесли сжатые кулаки над священником, чтобы задать ему хорошую трепку. Одно движение пальца архидьякона — и горбун возник перед чернью, выступил вперед и заиграл чудовищными мускулами. Облизал языком кабаний клык. Гневным звериным шипением, дикими взглядами и угрожающими жестами сильных кулаков он быстро разогнал толпу. Затем Квазимодо проследовал за Фролло в маленькую, темную улочку и растаял в вечерних сумерках. Я обернулся и хотел было попросил у Гренгуара объяснения, но поэт так же исчез, как и прекрасная танцовщица. Происшествие отрезвило толпу, и она растаяла как снег в лучах весеннего солнца. Даже Жеана Фролло нигде не было видно. Помня о разъяренном звонаре, я посчитал, что не нужно следовать за архидьяконом, чтобы расспрашивать его о месте. Мне пришлось отложить свои дела на завтрашний день и провести следующую ночь на холодных камнях — вдобавок, еще и с пустым желудком. Париж явно невзлюбил меня.Глава 4 Я — убийца
Костер на Гревской площади потух. Остаток жара, который еще отдавали угли, жадно поглощался холодом наступающей январской ночи. Я побрел к мосту Норт-Дам по площади со стороны берега, где качались на волнах оставленные в холодной воде корабли и лодки, чтобы переночевать еще раз в тени Собора. Мне не удалось ступить на мост. Вооруженные всадники, за которыми следовала длинная вереница музыкантов, оттеснили меня. Под звуки труб, флейт, барабанной дроби и развивающихся на ветру пестрых вымпелов процессия тянулась с острова Сены. Она не уступала толпе Папы шутов ни численностью, ни пестротой и шумом. Это были фламандцы, которые засвидетельствовали свое почтение Университету и Старому Городу и теперь хотели осчастливить этим и Новый Город. Мелькнуло знакомое лицо, когда посланники проходили уже мимо меня. В рядах сопровождающих их парижан я обнаружил дородного целестинца Филиппо Аврилло. Странной переваливающейся походкой он семенил за благородными и поэтому конными парижанами, — почти сопротивляясь, как корова по дороге на бойню. Его круглая голова раскачивалась в стороны, вытаращенные глаза, похоже, искали проход в толпе, но другие братья миряне плотно обступили его. Воспоминание об его сострадательных убеждениях обещало перспективу крова и приличного ужина. Так как он шагал в самом центре толпы, мне не оставалось ничего иного, как присоединиться к процессии; я хотел дождаться удобного случая и вернуться к щедрому предложению, которое целестинец сделал мне утром. Шествие качнулось влево и потянулось по площади Сен-Жак, где плотно друг к другу стояли уже закрытые в это время лавки парижских писарей. Мысль о моих жестокосердных коллегах, у которых сейчас наверняка набит желудок, а во рту — вкус хорошего вина, пронзила меня. И еще сильней я осознал, что совсем недавно у меня была хорошая, беззаботная жизнь, а теперь я борюсь за то, чтобы окончательно не превратиться в нищего. Фламандское посольство обошло мягким полукругом башни и стены Гран-Шатле[835], резиденцию Жака д’Эстутвиля, прево[836] и виконта Парижа, образовало оборонительный плацдарм построенного из камня моста Менял и деревянного Мельничьего моста. Уже три века назад было построено это мощное укрепление, чтобы защищать остров Сите от нападений с правого берега Сены. Оно было тюрьмой и местом заседания суда прево. Последний вышел для приветствия фламандских гостей во двор своего замка. Его рыхлое, несмотря на молодость, тело было с трудом облачено в камзол, шитый золотом и усыпанный драгоценными камнями, и парадным мечом сбоку. Парижане в процессии расступились, чтобы дать дорогу фламандцам. Это был для меня шанс поговорить с мэтром Аврилло. Казалось, он уже и позабыл о нашей встрече. Когда я встал перед ним, его взгляд скользнул по мне. Я испугался того, что прочитал в его глазах: страх, ужас. Лишь когда я положил ему на плечи свои руки, он узнал меня. — Ах, это вы. Вас посылает само небо, возможно… — снова страх, пожалуй, даже паника мелькнула в его глазах, когда она кинулвзгляд мне за плечо. — Нет, слишком поздно, они меня убьют! Целестинец впал в безумство? Громкое и резкое ржание коня сзади отвлекло меня от этой мысли. Он принадлежал французу, горожанину, не благородному человеку. Я знал его, как и его крапчатого рысака. Утром, когда я шел возле Отеля-Адьё, я чуть было не попал под копыта белого в яблоках коня. И снова казалось, будто всадник не мог справиться со своей животиной. Попытка освободить площадь для фламандцев взволновала коня. Он испугался, встал на дыбы и едва (так это выглядело со стороны) не сбросил своего хозяина. Однако, когда скотина снова стояла на всех четырех ногах на земле, опасность не миновала. Животное вырвалось из-под управления, пустилось быстрым галопом и направилось прямиком на меня и мэтра Аврилло. Мне даже показалось, что горожанин намеренно направил своего коня в нашу сторону. Я отпрыгнул влево и хотел потянуть за собой целестинца. Тот же в страхе сделал неловкое движение в другую сторону. При этом избежал моей протянутой руки — но не взбесившегося коня в яблоках. Громко фыркающее животное сбило духовного брата с ног и остановилось лишь перед капитальной стеной Шатле. С тревогой я склонился над мэтром Аврилло, который неподвижно лежал на земле. Я увидел кровь на его одежде, и это не предвещало мне ничего хорошего. Надежда появилась, когда он приоткрыл веки, затем рот. Он хотел что-то сказать, но лишь кровавая пена вырывалась из его рта и окропила меня. Без сомнения, ему было нельзя ничем помочь: копыто раздавило его внутренности. Из последних сил он схватил мою руку и всунул что-то в нее. — Тайна… у вас… — его голос задрожал и затих. С сильно дрожащим лицом он приблизил свои кровавые губы к моему левому уху и прохрипел едва понятно единственное слово. Я ничего не понял: прозвучало что-то похожее на «баранка» или «благодарю». Последнее имело какой-то смысл. Он благодарил за то, что я хотел его спасти. Я растрогался, и горячие волны умиления прошлись по моему телу. Что за доброе сердце было у целестинца, коли даже последнюю минуту перед смертью он посвятил другому! Что он имел в виду под тайной, я так и не понял, это осталось для меня загадкой. Голова Аврилло бессильно откинулась назад и повернулась в сторону. Глаза, широко раскрытые и стеклянные, неподвижно смотрели в пустоту. Его дыхание затихло. — Он… умер! — заключил я, и слово молниеносно облетело по кругу. Хриплый голос заглушил ужасный шум: — Нищий убил целестинца! Я видел своими глазами: он толкнул несчастного прямо под мою лошадь, и я не смог отвернуть! Что делает здесь этот оборванец? Хватайте убийцу! Горлопан был никем иным как всадником на белом в яблоках коне. Животное уже успокоилась, человек же — наоборот. Он встал в седле и указывал вытянутой рукой на меня. — Убийца! — закричал он снова, и пена выступила у него изо рта. — Хватайте убийцу! Лишь когда толпа угрожающе уставилась на меня, я осознал всю меру обвинения. Неудачливый воскресный наездник не только обвинял другого человека, что тот послужил причиной смерти целестинца, он, ко всему прочему, имел в виду меня, Армана Сове из Сабле! Я был крайне удивлен и сбит с толку, но мне также было ясно: какие бы доказательства я бы ни предъявил в свое оправдание, всаднику явно поверят скорее. Он был уважаемым парижским горожанином, я же, напротив — нищим без имени и друзей. Таких, как я, без долгих разбирательств вешают на Гревской площади или на Монфоконе, парижском холме висельников. Обо мне забудут еще раньше, чем вороны выклюют мне глаза. Со всех сторон меня окружали стены Шатле, тюрьмы и штаба городской стражи. Чтобы быть обвиненным в убийстве, более «удачного» и отыскать нельзя. По понятным соображениям я пустился наутек. Между тем, над Парижем опустилась глубокая ночь. Свет падал только из освещенных окон Шатле и от факелов, которые несли несколько участников шествия. Я нырнул в тень ближайшей стены, побежал к арке, через которую процессия попала во внутренний двор, выскочил на улицу, прежде чем вооруженные стражники могли направить на меня свои алебарды. Первая попавшаяся из маленьких улиц, расположенных передо мной, поглотила меня. За собой я слышал крики, бряцание оружия, шаги и цокот копыт. Они искали меня, конечно. Вероятно, в эту минуту прево Парижа предложил всю свою стражу, чтобы поймать меня, а вдобавок — и конную дюжину[837], его личных гвардейцев; городских стрелков, которые маршировали в честь фламандских послов в Шатле, и королевских стрелков, отряд которых сопровождал процессию как почетная свита. Половина Парижа, должно быть, бежала за мной по пятам. И шум, который преследовал меня, подтверждал это. Теперь я мог только одно — бежать прочь. По темным переулкам, похожим друг на друга. Мимо мрачных домов с закрытыми дверями и оконными ставнями, мимо ярко освещенных таверн, из которых доносилось пение и смех, будто в издевательство надо мной. По опустевшим площадям. И по тем площадям, на которых любители выпивки с явным знанием дела спорили до хрипоты, будет ли лучшим снотворным для этого холодного времени года крепкое, сдобренное перцем и медом бургундское — или тягучий портвейн. Мое дыхание свистело и гремело, как целая армия музыкантов. Тысячи крошечных ножей кололи меня в бок и превращали в муку каждый шаг. При других обстоятельствах я бы выдержал дольше, но тот, кто в течение несколько дней не съел ничего, кроме буханки хлеба, не бегает, как тот легендарный герой, что принес в Афины весть о победе под Марафоном. Моим единственным спасением было найти укрытие. Когда я остановился и огляделся по сторонам в поисках убежища, я услышал, как приближаются преследователи. Возможно, они не напали на верный след, но, по крайней мере, придержались направления. Вероятно, знатоки вина на площади позади или другие бродяги видели меня и указали преследователям дорогу. Я должен был поторапливаться. Где же укрытие?! Я стоял в одной из узких ремесленных улочек, становившихся абсолютно темными после того, как погасят огни в домах. Здания стояли так плотно, что фронтоны домов почти касались друг друга над серединой улицы, отчего был едва виден свет луны. Если бы на углу стены в нише не установили статую девы Марии, у ног которой едва тлел слабый огонек из пропитанного маслом куска пакли за железной решеткрй, то я не рассмотрел бы даже свою руку перед глазами. Я сразу подумал о заднем дворе или низком входе в дом. Но именно в таких местах меня бы искали преследователи в первую очередь. При взгляде на небо (а откуда же еще!) на меня снизошло озарение. Я стоял перед участком бондаря. Как знак своего ремесленного искусства он повесил над въездом во двор на двух железных крюках большую, открытую со всех сторон бочку. Я забрался на стену, вполз в бочку и сжался в комочек, отчего мог надеяться, что в темноте меня не было видно с улицы. Тихие шаги стучали по улице. Сейчас и выясним, было ли разумно подражать Диогену Синопскому. Я все еще держал в руках тот предмет, который получил от умирающего целестинца, но осознал это лишь сейчас. Похоже, речь шла о деревянной фигуре, вырезанной из дерева, которую я не сумел внимательно рассмотреть в темноте моего укрытия. Пришлось засунуть дар мэтра Аврилло в кошелек, чтобы разглядеть его потом при удобном случае. Сейчас было разумнее следить за моими преследователями, и я навострил уши. Похоже, только один-единственный человек из возбужденной команды преследователей добрался до моего убежища Может, я ошибся в страхе и спешке? Неужели я давно оторвался от преследователей и меня напугал одинокий ночной прохожий? С любопытством я высунул свою голову — так, чтобы подглядывать из-за края бочки. И правда, это был только один человек, мужчина, который пробирался по улочке. Но он не производил впечатления горожанина, который изрядно напился и теперь идет к долгожданной кровати. Казалось, он что-то искал, при этом свет ладанки Марии упал на его бледное, исхудавшее лицо. Моментально я узнал в высоком белокуром человеке того поэта-неудачника, чья мистерия во Дворце правосудия, вероятно, так и осталась таинством для зрителей. Это был месье Пьер Гренгуар. Я сжался, когда он ускорил свои шаги, словно он что-то заметил. Меня? Но он прошел мимо под бочкой и скрылся в темном углу между домами корзинщика и скобаря, куда не попадал огонек Пресвятой девы. Итак, Гренгуар не был охотником, не расставлял капканы. Но кого он здесь поджидал? И как бы мне теперь незаметно покинуть свое убежище, пока он стоит в углу и смотрит на улицу? Новые шаги пообещали ответы на мои вопросы — на это, по крайней мере, я надеялся. И на сей раз речь, похоже, шла не о ватаге преследователей. Шаги звучали еще тише, чем шаги Гренгуара. Я увидел стройную фигурку, крадущуюся в конце переулка. Она засомневалась, остановилась, немного наклонилась вниз и что-то сказала — так тихо, что я ничего не расслышал. О чем она говорила? И, прежде всего, к кому обращалась? Пока я недоумевал (и кого только не встретишь тихой парижской ночью на улице ремесленников!), фигура вышла на свет огонька девы Марии. Это была молодая женщина, и должно быть она разговаривала с маленькой козочкой, которую вела рядом с собой на веревке. Животное не интересовало меня, а вот его хозяйка — как раз наоборот. Эсмеральда! Цыганка, околдовавшая своим танцем всех мужчин на Гревской площади. Почти под самой моей бочкой белая козочка заупрямилась, не желая идти дальше, и издала резкое, пугливое блеянье. Эсмеральда снова наклонилась над ней и стала тихо уговаривать ее. Я слышал слова, но не понял языка. В этот момент выяснилось, что улица была далеко не самым спокойным местом в ночном Париже. Две другие фигуры отделились из темноты и набросились на танцовщицу. Коза видимо почувствовала их присутствие. По очертаниям и движениям, полных сил, это были мужчины, один из которых скрывался под темным балахоном с натянутым на лицо капюшоном. Но другого я узнал — и сжался. Это был бесформенный, ужасный звонарь собора Парижской Богоматери, который набросился на цыганку и крепко охватил ее своими ручищами. Мое сердце чуть не выскочило из груди, как, пожалуй, и у достойной всякой жалости девушки. И все же я не осмелился вступиться за Эсмеральду. Мог ли я противостоять двум мужчинам, один из которых был монстром из Нотр-Дама? Не рискую ли я тогда попасть в руки преследователей и получить единственную расплату за мой рыцарский поступок — пеньковую веревку, которая грубо обовьет мою шею? Но помощь подоспела с другой стороны. Автор мистерий, о котором я совсем забыл от волнения, выпрыгнул из своего укрытия. Его глаза встретились со взглядом закутанного в плащ человека — насколько это возможно, если лицо скрыто в тени. Как громом пораженный, Гренгуар остановился и не спешил более на помощь девушке, кричавшей и яростно вырывавшейся из рук Квазимодо. Звонарь потащил свою сопротивляющуюся жертву, сопровождаемый человеком в плаще и жалобно блеющей козой, и чудом не попал под копыта вороного коня, который выскочил в галопе из-за ближайшего угла соседней улицы. — Стойте, бездельники, отпустите эту девку! — закричал всадник привыкшим отдавать приказы голосом, который разразился как раскаты грома в темноте. Он был одет в доспехи офицера, капитана королевских стрелков. Я поблагодарил свой инстинкт, который удержал меня от того, чтобы первым поспешить на помощь цыганке. Капитан был лучшим помощником для девушки, а я, вероятно, стал бы теперь его пленником. Ведь наверняка была лишь одна причина его пребывания в этой мрачной местности: он искал предполагаемого убийцу мэтра Филиппе Аврилло. Офицер, рослый мужчина с браво закрученными по-бургундски усами, приостановил вороного и вырвал у озадаченного звонаря верную добычу. Капитан положил Эсмеральду перед собой на лошадь и плашмя ударил шпагой по голове нападавшего звонаря. Квазимодо отшатнулся назад — прямо в руки вооруженной толпы. Это были люди капитана, которые следовали за своим предводителем с обнаженными палашами. В темноте внешность Квазимодо не внушала ужас, и потому королевские стрелки ночного дозора[838] бесстрашно набросились на него, пока он не оказался перед ними — уже связанный. А спутник звонаря, закутанный в плащ? Он, похоже, так же растворился в воздухе, как и Пьер Гренгуар. Париж все больше казался мне городом бесконечных волнений. Или чудес? Эсмеральда выпрямилась в седле и прильнула к сильному туловищу капитана, что последнему было далеко не неприятно. — Как вас зовут, мой храбрый рыцарь? — спросила она на нашем языке, но с чужым произношением. Тщеславный петух выпятил свою грудь, одетую в доспехи: — Капитан Феб де Шатопер — к вашим услугам, моя красавица. Эсмеральда прошептала только нежное: — Благодарю, — и со скоростью выпущенной из лука стрелы соскользнула на землю, схватила маленькую козочку и исчезла в тени. Очевидно, все задействованные в жуткой ночной пьесе испытывали одно жгучее желание — по возможности, поскорее выругаться. Я, впрочем — тоже, но мое парящее убежище не позволяло сделать это без последствий. Капитан посмотрел разочарованно ей вслед, отдал приказ еще крепче связать пойманного, и прорычал: — Пуп дьявола, я предпочел бы оставить девчонку, чем этого ублюдка! — Ничего не поделаешь, господин капитан! — пошутил один из его людей. — Кузнечик ускакал, только летучая мышь осталась у нас. — И не та, которую мы искали, — похоже, офицер разозлился еще больше. — Ну, ничего страшного, похититель женщин — так же хорош, как и убийца. Кто знает, возможно, наша поимка как-то связана с тем парнем, который от нас ушел. Прекратим поиск. Здесь, во всяком случае, убийцы нет. Я поблагодарил ошибку (которая собственно таковой не была — ведь я ни в коем случае не считал себя как убийцу), которая развернула обратно Феба де Шатопера вместе с его ротой и пленником. Когда стих цокот копыт, шаги и голоса, я обождал еще какое-то время в моем укрытии. Ночной шум разбудил бы горожан. Они могли стоять за темными окнами и подсматривать за улицей через щели в закрытых лавках. Поэтому я пережидал, и только болезненно сосущий под ложечкой голод помешал мне заснуть. Лишь спустя добрый час я выполз из моей бочки. Слишком поспешно, как оказалось позже. Бочка раскачалась на крюках, а те вырвались из стены. И еще прежде, чем я сумел проклясть Диогена за его неудачный пример, я приземлился на мостовую головой вниз вместе с разлетевшейся в щепки бочкой. У меня было ощущение, что мой череп треснул. Потом погасла святость огня Марии — и с огнем и весь Париж.Глава 5 Отец Клод Фролло
О, что за счастье, которое возникает при мягком прикосновении нежной женской руки! Дрожь охватывает все тело, наполняет его теплом. И то и другое рождено желанием ощущений и предвосхищением радости того, что еще предстоит. Меня клонило в сон и все перепуталось, поэтому я не мог наслаждаться этим чувством счастья, как подобает. К тому же глаза мои были закрыты, мир вокруг меня — мрачен, как облачная ночь. И все же я знал, что это была женщина, которая обтирала мне лоб и щеки влажным, дарящим приятную прохладу платком. Только женщина могла действовать с такой материнской нежностью. Узкое лицо Антуанетты всплыло предо мной в памяти. Я снова лежал в теплой кровати, которую Донатьен Фрондо ради своих дел в другом городе и с опрометчивым легкомыслием предоставил своей супруге одной. И мне. Прелестная Антуанетта склонилась надо мной, она щекотала меня своими белокурыми локонами и демонстрировала мне два острых холма своей женственности, которые вырывались из тесного декольте. Я прошептал имя возлюбленной и жадно схватил оба розовых яблочка, которые, как спелые фрукты, висели надо мной и, похоже, только того и ждали, чтобы быть сорванными. Прикосновения были сладкими и нежными недолго. Влажная тряпка грубо шлепнула по моим щекам, и Антуанетта вырвалась из моих растопыренных рук — совершенно также, как в тот злополучный вечер, когда ее супруг неожиданно ворвался в спальню и преждевременно погасил факел нашей страсти тумаками и криками. — Ваши дела явно пошли на поправку, месье! Слишком хорошо, что вы с закрытыми глазами хватаете женщин. Поищите себе хотя бы ту, которая не дала обет по уставу святого Августина! Раздраженный голос на пару с мокрой тряпкой, теперь крайне неприятно раскачивающейся, прогнал мой прекрасный сон. Я испуганно открыл глаза, и Антуанетта осталась в прошлом. Я действительно лежал в кровати, но место было мне неизвестным. Большой, залитый солнечным светом зал, в котором в два длинных ряда стояли кровати одна за другой. Большинство занимали больные, как предположил мой постепенно пробуждающийся разум. Некоторые кровати были отгорожены балдахинами и занавесами от любопытных взглядов. Там, видимо, лежали хворающие, которые нуждались в особом покое. Между ними ревностно сновали женщины в одеянии монахинь Августинского ордена. Они подметали пол, перестилали кровати и заботились о больных. Широкое лицо, склонившееся надо мной и не имеющее ничего общего с белокурым ангелом Антуанеттой, тоже было обрамлено черным монашеским покрывалом. Мясистые ноздри дрожали гневом, а надутые губы искривились в выражении упрека. Большие глаза метали на меня неодобрительные взгляды. Сильные руки, при первом взгляде от которых было трудно ожидать таких нежных прикосновений, вызвавших у меня воспоминания, держали маленькую оловянную миску с водой и влажный платок, с которым я познакомился вначале более, а потом — менее приятно. — Где я? — спросил я и повернул голову, чтобы осмотреться. Это имело два последствия. Во-первых, я увидел другие кровати с больными, как и монахинь и послушниц, которые заботились о постельном белье. Во-вторых, сильная боль пронзила мою голову. Я вернулся обратно на ложе, закрыл на короткое время глаза и издал подавленный стон. — Вы в Отеле-Дьё, месье, там, куда вас принес ваш друг. Очень легкомысленно было с вашей стороны присоединиться к толпе сброда в Новом городе, — монахиня глубоко вздохнула. — Если бы волхвы знали, что Париж в день их именин устроит праздник шутов и привлечет так много отбросов на улицы, — отбросов, каких и не сыщешь на всем белом свете! — они бы, возможно, выбрали другой срок для своего посещения у нашего Господа Христа. Когда я спокойно лежал на подушке, головная боль стихла и дала место размышлениям. Я вспомнил ужасные вчерашние события, мое бегство и укрытие в бочке, которая вдруг рухнула на землю. Но я не мог припомнить сброд, с которым я якобы связался, несмотря на все усилия воли. И еще одно было мне неясно. — Вы говорили о моем друге, достопочтенная сестра, — сказал я и снова открыл глаза. — Где теперь он? — Ушел прочь, после того как он разбудил брата Портария и обратил внимание на вас. Я почесал голову, отчаянно пытаясь отыскать утраченные воспоминания. — Было так поздно? Ответ прозвучал укоризненно: — Все молебны были давно отслужены, а до заутрени оставалось еще несколько часов. — Итак, около полуночи. — Можно и так выразиться, месье Сове. — Вам известно мое имя? — с удивлением спросил я. — Ваш друг назвал его брату Портарию. Вы не похожи на переписчика, но такое случается, когда люди попадают к оборванцам. Возможно, вы даже в том и не виноваты, если выбрали себе друзей среди нищих. — С чего вы это взяли? — Потому что попрошайка, который доставил вас сюда, представился как ваш друг. — Каким именем он представился? — Я не была при этом, я не знаю, — теперь все еще строгое лицо монахини-августинки приняло более мягкое выражение, и она продолжила: — Но я не хочу упрекать вас, это позволено только нашему Высшему Судии. Вчера весь Париж превратился в сумасшедший дом. Вы слышали, что мэтр Аврилло, al mosenier ordo sancti benedicti coelestinensis[839], был убит самым бесстыдным образом? Ко всему прочему — еще и во дворе Гран-Шатле, на глазах у прево! Если такое могло произойти, где же тогда христианин должен чувствовать себя в безопасности, спрашиваю я вас? Я не знал ответа, да он мне был безразличен. Совсем другие вопросы, как сильный град, стучали в моем мозгу. Следствием снова стала головная боль. И я чуть не задохнулся от неожиданного приступа страха. В этом холодном, суровом январе мне стало жарко как в солнечный июльский день, и я почувствовал капли пота на своем лбу. Я был убийцей мэтра Аврилло! Нет, конечно, это был не я, Господь мой свидетель! Я же хотел спасти целестинца. Но кто мне поверит? Как друга нищих, очевидного для других и самого догадывающегося об этом, меня подозревали и преследовали. Знали ли преследователи меня в лицо, даже мое имя? Но как это случилось, что я невредимый лежу в Отеле-Дьё, прямо под башнями собора Парижской Богоматери? Я чуть было не спросил об этом монахиню, однако соображение, что отправляю себя сам под нож, заставило меня промолчать. — Что с вами, месье, упадок сил? — монахиня приложила платок к моему лицу и велела одной из послушниц, одетых в белое, принести крепкий куриный бульон. — У меня закружилась голова при мысли, что могло произойти со мной вчера ночью, — объяснил я и ничуть не солгал при этом. — Убийство брата ордена! Убийца известен? — Нет, только человек, который убил мэтра Аврилло. — Я изобразил удивление: — Разве это не одно и тоже? Монахиня покачала массивной головой: — Смерть облата вызвала понесшая лошадь мэтра Жиля Годена, нотариуса в Шатле. Без сомнения, почтенный муж выше всяких подозрений. — Без сомнения, — пробормотал я и подумал, о мрачном всаднике на белом в яблоках коне, который всего лишь сбил с ног мирянина и напоследок обвинил меня в убийстве. — Вина в смерти мэтра Аврилло падает не на него, а на нищего из толпы, которая присоединилась к процессии фламандских послов. Мессир Годен отлично видел, как нищий толкнул бедного Аврилло ему под лошадь. Потом этот сын дьявола скрылся в темной ночи, — при упоминании злодея монахиня-августинка поспешно осенила свою грудь крестом. — И его не смогли поймать? — Нет, месье. Возможно, правы те, кто утверждает, что в День волхвов не только небо, но и ад открывается, чтобы выпустить демонов в мир и закрывается снова в полночь, — она снова перекрестилась. — Убийца остался непойманным. В погоне за ним королевские лучники схватили другого сына Сатаны. Послушница принесла суп и протянула его монахине, которая поставила миску с водой и положила платок на качающуюся скамеечку, чтобы покормить меня с грубой деревянной ложки. Приятное тепло растеклось по моему желудку, давно лишенному еды. И мой рот наслаждался вкусом птичьего мяса, свиного сала, гороха и молока, сдобренным яйцом, инжиром и шафраном. Лишь когда последняя ложка вкусного супа была проглочена, я спросил: — Кто этот сын Сатаны, которого схватили лучники? — Дьявол из собора Парижской Богоматери, горбун! — прошептала она с широко раскрытыми глазами и снова, как я едва мог видеть, осенила себя крестом. — Квазимодо, — пробормотал я и вспомнил странный ночной эпизод, в котором перемешались прекрасная цыганка, поэт Гренгуар, Квазимодо и его закутанный в плащ спутник. — Вы его уже знаете, хотя недавно в Париже? Я прикинулся дураком, однако чуть не выдал себя. Пришлось поспешно ответить: — Я был во Дворце правосудия, когда звонаря выбрали Папой шутов. — Позор! Бесстыдство! — заругалась монахиня. — Такое злое создание выбрать Папой — пусть даже шутов, — это насмешка над нашим святым Папой в Риме. Этот Квазимодо одержим злыми духами. Он доказал это, когда вчера вечером попытался украсть девушку. Мне не хочется даже думать о том, для какого жестокого, бесстыдного ритуала ему была нужна жертва, — ее изборожденный морщинами лоб и глаза, заблестевшие и отведенные в сторону, выдали, что монахиня как раз основательно размышляла над этим. — Собственно откуда вы знаете, достопочтенная сестра, что этот Квазимодо — сын дьявола? — Ну, сами посмотрите на него! — ответила она тоном глубокого убеждения. — Его дикость и его сверхчеловеческая сила свидетельствуют об этом. Вам надо было видеть, как Квазимодо карабкался по фасаду Собора, словно церковь была деревом, а он — обезьяной на ветках. Он играет большими колоколами, словно они котята. И его уже видели во многих местах Собора в одно и то же время! — Да, это действительно доказательство, — сказал я робко, вопреки рассудку. Прошлым вечером я убедился, как легко ложные обвинения могут превратиться в кажущуюся истину. — Если этот Квазимодо такой чертовский парень, почему его тогда терпят в соборе Парижской Богоматери? — Потому что он доверенное лицо архидьякона, — ответила сестра с приглушенным голосом и беспокойным взглядом, словно боялась, что ее могут подслушать. Теперь у меня была третья версия. По словам Жеана Фролло, Квазимодо был братом, по словам Пьера Гренгуара — сыном, по словам августинки — доверенным лицом архидьякона. С недоумением я посмотрел на монахиню. — Как такое почти животное может стать доверенным лицом столь почтенного, образованного клирика? — Тогда зовите Квазимодо слугой Фролло, его преданным псом — это одно и тоже. Вы даже можете назвать отца Клода Фролло отцом Квазимодо. У нашего архидьякона нет супруги, но он вырастил сразу двоих сыновей. — Как же такое возможно? — В молодости, когда Клоду Фролло не было еще и двадцати лет, он изучал после теологии со всем рвением медицину, свободные искусства и языки, когда Господь Бог решил подвергнуть его тяжелому испытанию. Это было жарким летом 1466 года, тогда дыхание чумы опалило весь город Париж и все графство. Черная смерть забрала и родителей Фролло, и на его плечи вдруг легла обязанность заботиться о младшем брате Жоаннесе, который в то время лежал еще в колыбели. Отец Фролло отдал дитя жене мельника, чтобы она выкормила своим молоком и воспитала младенца. И видимо, того было недостаточно, потому что судьба одарила его в тот же год вторым сыном, Квазимодо. Это было… Августинка вдруг замолчала резко. Ее слегка розовая кожа лица побледнела, в глазах отразился ужас и обреченность, словно она заглянула в лицо призрака И действительно аскетические черты лица человека, одетого в темное, который возник позади моей кровати, были довольно близки представлениям о потустороннем существе. Я уже с прошлого вечера знал, когда увидел на Гревской площади этого серьезного скрытного человека, что это отец Клод Фролло, архидьякон собора Парижской Богоматери. Было невозможно сказать, как много он услышал из нашего разговора. Его глаза холодно глядели из запавших глазниц, а черты лица оставались неподвижными, словно окаменевшими. — Простите, если я прервал вас, сестра Виктория, — сказал Клод Фролло голосом, который заставлял пожалеть о всяких чувствах, даже о сожалении. — Но я ищу пациента по имени Арман Сове, мне сказали, что вы взяли его под свою опеку. Августинка проглотила слюну и кивнула, но ее дрожащие губы не произнесли ни слова. Мне показалось, что она чувствовала более чем просто неудобство из-за того, что должна была неодобрительно высказываться об архидьяконе. Я совершенно ничего не понимал, но она производила впечатление очень напуганной — как маленький ребенок, который холодной зимой неожиданно повстречался забредшему в город волку. Возможно, он оказывал на монахиню такое впечатление оттого, что был человеком литеры «G», считающимся таинственным и непростым, иногда внешне открытым, а порой — без особого повода замкнутым. И он наклонился вперед, как если бы кто-то оказался у него на крючке. — Арман Сове — это я, — сказал я с надеждой, что меня не отправят за это к палачу. Едва различимо по лицу Фролло похожему на маску скользнуло подобие улыбки: — Очень хорошо, месье Сове. Вы опытный переписчик и писарь из Сабле, и ищете новое место? — Это так, — ответил я сбитый с толку. — Но откуда Вам это известно, монсеньор? — Ваш друг передал мне это через одного дьякона. — Мой друг? Что-то вроде нищего? — Он самый. — Вы случайно не знаете его имя, отец Фролло? Глаза Фролло сузились от удивления, что я спрашиваю имя собственного друга. Я совершил ошибку? Но архидьякон ответил совершенно спокойно: — Насколько я знаю, он назвался Коленом. — Колен! — ахнул я. — Это такой тощий парень с бородой? — Я бы описал его так же. Вероятно, это было утро сюрпризов. Напрасно я искал причины, почему старый бродяга оказал мне эту добрую услугу. Он случайно нашел меня после падения из бочки и отнес в Отель-Дьё, чтобы компенсировать принесенное мне воровством неудобство? Но как могла произойти такая случайность? И с каких это пор воры обладают столь безукоризненной честью? — Похоже, вы с некоторым трудом припоминаете своего друга, месье Сове, — сказал Фролло с вопросительным тоном. — Возможно, это последствия удара головой, монсеньор, — возразила сестра Виктория, чей взгляд покоился на архидьяконе с некоторой смесью из трепета и страха. — Ах, да, на вас же напали разбойники, — согласился Фролло. — Чтобы быть кратким: я срочно ищу нового писаря. Вы, вероятно, уже слышали, что месье Пьер Гренгуар, который до недавнего времени работал у меня, ушел в сочинители мистерий. Если даже его вчерашний дебют и не закончился однозначным триумфом, не стоит ожидать, что он вернется ко мне на службу. Если ваши раны не так сильны, месье Сове, вы можете стать моим человеком. К тому же, вы прибыли издалека и, вероятно, не столь увлекаетесь женским полом и вином, как здешние писари, слишком испорченные посещением пивных. За вознаграждением дело не встанет. Еду и кров вы получите бесплатно в соборе Парижской Богоматери. Ко всему прочему, мне бы пришлось по душе, если бы вы могли начать прямо сейчас. — Месье Арман отделался только парой ушибов и ссадин, — объяснила августинка. — Еще пара дней головной боли и боли в руках и ногах, но потом все пройдет. — Если вы хотите, я тут же пойду к вам, мэтр Фролло, — сказал я поспешно, так как у меня не было ни денег, ни крова. Архидьякон согласился, и я встал с постели. — Вы выглядите несколько пообтрепавшись, — сказал Фролло. — Вы не обидитесь на мое указание, что к лицу писаря архидьякона подобает новая и, прежде всего, чистая одежда? — Ни в коей мере, монсеньор. К сожалению, я не располагаю средствами, чтобы последовать этому указанию. — Мошенники, которые напали на вас, обобрали вас, не так ли? Я кивнул в знак согласия, потому что это избавляло меня от длительных объяснений. Фролло достал десять солей из кожаного кошелька на поясе и отсчитал их в мою руку. — Этого задатка из вашего жалованья должно хватить на первое время. Идите, оденьтесь заново, и зайдите ко мне сегодня вечером. Я пробормотал пару слов благодарности и схватил мой кисет, чтобы убрать неожиданное богатство. Когда я сунул правую руку под камзол и нащупал наполненный кожаный мешочек, я застыл в недоумении. Дар умершего целестинца! Я чуть было не достал его на свет Божий и не выдал себя. — Что там у вас? — спросил Фролло и посмотрел изучающим взглядом на меня. — Меня только что пронзила мысль, как сильно я должен быть благодарен Всевышнему за милость, которую он ниспослал мне в вашем предложении, мэтр Фролло. — Воистину. Помолитесь перед алтарем и поблагодарите Господа Бога, когда вы ступите на порог Собора. С этими словами он покинул больничный зал. И сестра Виктория тоже явно не была расположена разговаривать со мной дальше. Она поспешно распрощалась и занялась другими больными. Об этом я сожалел, потому что с удовольствием узнал бы, что связывало моего нового патрона с этим таинственным звонарем. Когда я вышел из больницы, мой взгляд упал на Собор. Его башни возносились в безоблачной синеве неба, словно хотели объединиться с солнцем. Несмотря на теплые лучи солнца, я озяб. Отец Клод Фролло вовсе не показался мне чудовищным. Но все же меня тревожила мысль, что мне предстоит жить отныне с этим ужасным Квазимодо под одной крышей.Глава 6 Кровь, песок и вода
Вскоре мне стало ясно, почему я стремился на север и направил свои стопы через мост Нотр-Дам в Новый Город. Толпа людей напирала в этом направлении как сильное течение реки, которая подхватила меня и превратила в крошечную каплю, безвольно плывущую в потоке. Из страха, потерять монеты Фролло так же быстро, как дар монаха-призрака, я переложил их теперь в кошелек, который крепко прижимал к себе под камзолом. Толкотня не позволяла мне бросить взгляд на предмет, который лежал под деньгами. Целью толпы была Гревская площадь. Огромная площадь на северном берегу Сены была забита людьми еще плотнее, чем накануне. Над головами, шляпами и острыми чепцами женщин с лентами, перьями и прочей мишурой неподвижно и почти гордо возвышалась виселица — цель всеобщей толкотни и внимания крикливой толпы. Среди такого окружения от виселицы исходило спокойствие и достоинство. — Что случилось? Что должно произойти? — спросил я пробегающего мимо и схватил его за старомодный, широкий рукав его грубой куртки. По крепким, в трещинах, руках и загорелой, обветренной коже я узнал в нем крестьянина, который явно прибыл в Париж на праздник Трех волхвов и остается в городе еще и на сегодня, чтобы последовать предлагаемой программе. — Не знаю, — рыкнул он, недовольный тем, что ему помешали исполнить свое желание и обеспечить себя местом поближе к месту казни. — Уже спозаранку возле виселицы стоят часовые. Полагаю, сегодня кого-то вздернут. А теперь отпусти меня, чтобы я мог видеть, как несчастливец закатит глаза в предсмертных судорогах! Если я подойду совсем близко, то, возможно, сумею урвать кусок одежды мертвеца. Рассказывают, что боль в руках и ногах проходит за ночь, если их обернуть в него. Крестьянин заработал своими крепкими руками и локтями, чтобы проложить себе дорогу поближе к виселице. Я воспользовался образовавшимся за ним проходом и последовал за ним. Действительно ли я хотел поглазеть на смерть другого человека? Было ли это чистое любопытство, которое двигало мной? Или я догадывался, ощущал глубоко внутри, что предстоящее тесно связано с моей собственной судьбой, с тем, что Париж уготовил мне? Возможно, это просто была радость, что сам избежал палача. Сегодня я не знаю, что и сказать по этому поводу, тогда же я о том не задумывался. Зеваки и мошенники, достопочтенные дамы и проститутки, актеры и карманники напирали со всех сторон, когда под удары литавр и барабанную дробь промаршировал вооруженный отряд стражников с улицы де ла Ваннери. Ударами копыт и нагаек солдаты прево расчистили себе место, которое толпа уступила не очень-то поспешно. В своих роскошных военных мундирах из фиолетового камлота, грудь которых украшал большой белый крест, стражники производили впечатление приводящих в исполнение Страшный суд. Для бедного правонарушителя, привязанного к повозке с мулом, они хотели быть именно таковыми. Связанный и скрученный он был плохо виден с того места, где я стоял. Бесформенная масса из мяса и волос, одежды, веревок и цепей. Я узнал его лишь, когда его имя облетело толпу, передаваемое из уст в уста с возгласами удивления. — Квазимодо! — Это он, верно, звонарь из собора Парижской Богоматери! — Горбун! — Сын дьявола! — Пройдоха! Теперь он заплатит за все сполна! — Да, повесьте это чудовище! Но возьмите веревку толще вдвойне, чтобы его тяжелый горб не оборвал ее! Первоначальный ужас при виде преступника превратился в гнев и насмешку, в иронию и злорадство, чем ближе повозка приближалась к месту казни, тем отчетливее доходило до сознания зевак, что горбун был беспомощен в крепких веревках и цепях. Затянутые так сильно, они врезались в его горбатое тело. Разорванная одежда пропиталась кровью. Отвращение, которое непроизвольно вызывал у меня вид горбуна, исчезло. Я испытывал сострадание к измученному существу, хоть и говорил себе, что его вчерашний проступок, нападение на Эсмеральду, заслуживал наказания. Но сразу ли веревку? Никто не пострадал от действий Квазимодо, если даже нападение благополучно закончилось благодаря появлению стрелков. Если Квазимодо повесят за это, что же они тогда делали в Париже с убийцей? От этой мысли у меня пересохло в горле, словно меня душили. Шепот прошел по толпе, и облегчение охватило меня, когда солдаты повезли повозку не к виселице. Отряд остановился возле позорного столба, около десяти футов высотой, полого внутри куба из грубой кладки камней. Пики и алебарды отогнали народ, пока ярко одетый всадник раскрутил бумагу. — Это Мишель Нуаре! — раздалось где-то за мной, — глашатай его величества короля! Что случилось, месье Нуаре? Почему вы отвели горбуна не на виселицу, а к позорному столбу? — Довольно докладов, лучше повесить! Глашатай заставил замолчать толпу сильным голосом и прочитал приводимый в исполнение приговор: — Квазимодо, также известный как звонарь нашего собора Парижской Богоматери, обвиняется в следующих преступлениях, в чем и признан виновным: во-первых, в нарушении ночного покоя, во-вторых, в насильственном и неприличном нападении на беззащитную женщину, в-третьих, в оказании сопротивления и неподчинения стрелкам нашего достопочтенного господина прево. Для приведения в исполнение приговора в полдень на Гревской площади отводится час у позорного столба, во время которого будет применено рядовое наказание, и осужденного выпорют. По истечении этого часа он будет выставлен на обозрение народу еще на один час. Решено и подписано 7 января в 1483 году от Рождества Христова в королевском суде Гран-Шатле достопочтенным господином Жаком д'Астутвилем, королевским прево города Парижа. Народу понравился приговор. Он обещал приятное зрелище и возмещение того, что собравшиеся понапрасну ждали — хруста шеи повешенного. Под одобрительные крики Квазимодо провели по «приступочку», как называли ступени лестницы из неотесанного камня, на известняковые плиты эшафота позорного столба. Горбуна, похоже, покинула всякая воля, всякое человеческое чувство, он повиновался, как безропотная скотина. Что должно было произойти в существе, которое еще вчера на том же самом месте было почитаемым Папой шутов теми же самыми людьми? Или произошло такое вовсе не с этой бесформенной головой? Может, его разум был так же искалечен, как тело? На эшафоте позорного столба возвышалось большое, стоящее перпендикулярно деревянное колесо для обычного наказания. Квазимодо должен был встать на колени на колесе, и привязан в такой позе за руки за спиной. Когда стражники резкими движениями сорвали кафтан и рубашку с его тела, толпа содрогнулась. В одежде звонарь представлял собой гротескное явление, но его обнаженный торс выглядел несравнимо ужаснее. Люди обязательно отвели бы взгляд, если бы жажда увидеть чудовище во всей его отвратительности не была так велика. А звонарь казался отвратительным! Как вулканическая гора, возвышался у него на спине горб, окруженный холмами поменьше, которые выглядели, как застывшая лава. Теперь вулкан заснул, но разве он не мог проснуться в любую минуту со всей яростью и силой, которые умел извергать чудовищный Квазимодо? Как только ужас от увиденного прошел, стали снова слышны крики насмешек: — Парень таскает на себе целую горную гряду! — Гора, которую можно было бы отнести к пророку! — Если это человек, то тогда мы не люди! В толпе горлопанов я обнаружил продувное лицо под белокурыми локонами, которое тут же узнал: Жеан Фролло де Молендино или Жоаннес дю Мулен, брат моего нового патрона. И брат Квазимодо, если я его правильного понял. Но почему он насмехается над звонарем, родным для него? Коренастый, дюжий мужчина в одежде стражника поднялся к позорному столбу, и его имя с быстротой молнии облетело толпу: мэтр Пьера Тортерю, присяжный палач Шатле. Он поставил в один из углов площадки позорного столба большие черные песочные часы — начался первый час телесного наказания. Красный песок в верхней стеклянной колбе мерно посыпался через тонкое отверстие в нижнюю. Раздались аплодисменты, когда палач снял свое фиолетовое верхнее платье и взял в правую руку толстую плеть, кошку с девятью хвостами. Лоснящиеся, сплетенные из кожи ремни были с узлами и металлическими гвоздями, чтобы оставить на коже преступника и под ней особенно сильные следы. В полной тишине Тортерю засучил левой рукой рукав на правой руке до самого плеча. — Дайте же, наконец, кошке покусаться, мэтр Тортерю! Но не пастью, а хвостами. Там сидят зубы, которые особенно мило кусаются. Нетерпеливым горлопаном, как теперь отчетливо было видно, оказался Жеан Фролло, потому что он поднялся высоко над другими головами. Он сидел на плечах у другого широкоплечего человека, в котором я узнал его друга Робена Пуспена. На лице Жеана было написано злорадство и подлость, его глаза горели от азарта в предвосхищении предстоящего. Если бы я сам не был сиротой, я бы охотно увидел в нем живое доказательство тому, что ничего хорошего не может выйти из ребенка, лишенного материнской ласки и наказывающей руки отца. Меня охватило глубокое отвращение, которое относилось, однако, не к несчастному существу у позорного столба, а к Жоаннесу дю Мулену. Сердечная черствость и подлость исходили от него, как чума. Неужели черная смерть, которая лишила его родителей, оставила ему жизнь только для того, чтоб отравить его сердце? — Пожалуйте сюда, дамы и господа, — продолжал Жеан тоном рыночного зазывалы. — Подойдите и посмотрите, как стегают по велению его величества мэтра Квазимодо, звонаря моего брата отца Клода Фролло. Обратите внимание на этот чудный образчик восточной архитектуры, в который сейчас вопьются разом девять хвостов кошки. Эту роскошную, напоминающую купол спину и ноги — как витые колонны! Всеобщий смех замер, когда мэтр Тортерю топнул ногой, подав знак двум своим помощникам, которые поднялись через узкий проход внутрь площадки позорного столба, чтобы начинать наказание. Они повернули ось тяжелого дубового колеса, на котором сидел Квазимодо. Звонарь начал медленно и равномерно вращаться, так что каждый зевака воспользовался случаем увидеть сгорбленную спину и ту рожу, которую только с большим трудом можно было назвать человеческим лицом. Когда во время одного из поворотовгорбатая спина оказалась перед ним, палач взмахнул рукой. Показалось, что взмах был не очень сильным, но это было ошибочное впечатление. Сила удара заключалась не в использованной силе тела, а в технике, которой Пьера Тортерю владел в совершенстве. Девять тонких ремней просвистели в воздухе и прочно впились своими узлами и гвоздями в кожу горбуна. Вулкан пробудился! Толчок прошел по телу Квазимодо, словно он хотел подняться, и цепи громко забряцали. На долгий момент народ затаил дыхание, ожидая мести чудовища, платы за ругань и насмешки. Никто из плотно прижатых друг к другу зевак, казалось, не избежал бы гнева Квазимодо. Но цепи был достаточно крепки, а веревки удерживали звонаря в скрюченной позе. Беспомощно он вертелся перед снова начавшей ликовать толпой, пока Пьера Тортерю отвешивал удар за ударом. Квазимодо сжимался каждый раз, но он не кричал, не стонал, не просил о пощаде. Только его здоровый глаз был широко раскрыт и сверкал под кустистой бровью. С кем встречался взгляд, для того это было, как удар плеткой палача. Удивление смешалось во взгляде с болью, боль — со злобой, а злоба — с дикой жаждой расплаты. Девять хвостов плетки с узлами и гвоздями прочертили бесчисленные борозды на спине горбуна. Красные царапины расплылись в раны и проступили на горбатой спине, как лава из ручейков. Капля за каплей, ручей за ручьем лилась кровь по разодранной коже Квазимодо, но пытка не заканчивалась. Бесконечно долго сыпался красный песок из верхней колбы в нижнюю. Песчинка за песчинкой с трудом пробивалась через узкий проход — такие же красные, как кровь. В какой-то момент глаз циклопа закрылся, подбородок Квазимодо опустился на грудь, и полумертвый, он смиренно сносил град ударов плетки и подзадоривающие крики. Пока я смотрел на него, не в силах вырваться из толпы или даже закрыть глаза, я беспрестанно спрашивал себя, виновный ли висит на деревянном колесе. Я ясно видел перед собой сцену вчерашнего вечера. Квазимодо был не один во время нападения. Я не знал, какая роль выпала в этой ужасной пьесе Пьеру Гренгуару, но закутанная в плащ фигура, которая сопровождала звонаря, должна, по крайней мере, рассматриваться как соучастник. Кем бы ни был этот соучастник, Квазимодо страдал за него, принимал муки, которых с лихвой хватило бы не одному. Спустя целую вечность пристав Шатле, одетый в черное, верхом на черном коне, поднял свой жезл из черного дерева и указал на песочные часы. Верхний сосуд был пуст, в нижнем — возвышалась острая красная горка. С выражением сожаления на лице, поскольку не заставил кричать преступника от боли и молить о пощаде, мэтр Тортерю опустил свое обагренное кровью орудие пытки и дал стечь крови. Он встряхнул плетку с девятью концами, и я вздрогнул, когда красные капли брызнули мне в лицо. Кровь горбуна, сына дьявола! Палач топнул ногой, и колесо пыток остановилось с тихим поскрипыванием, при этом истерзанный не сделал ни одного движения. Пытка была позади, бичевание тоже — но не мучения звонаря. Прежде, чем Тортерю покинул позорный столб, он перевернул песочные часы, и начался час для зрителей Квазимодо. Сыпался красный песок, и текла красная кровь. Ну, это хотя бы означало немного милосердия для Квазимодо — если не от доброго сердца, то согласно букве закона. Оба помощника палача, которые крутили колесо, вымыли плечи звонаря и намазали толстым слоем желтой пасты исполосованную спину. Я мог наблюдать за тем, как раны перестали кровоточить. Прежде чем помощники Тортерю сошли по «приступочке», они накинули странную рубашку на плечи бедному созданию — она была скроена, как риза, но имела столь же яркий желтый цвет, как платья парижский уличных проституток. Большего сочувствия судьба, видимо, не пожаловала горбуну. Снова поднялся злорадный гам, и громче всех буянил Жеан Фролло. Народ не хотел тратить попусту час, не поизмывавшись вдоволь над беззащитным. Самые изощренные оскорбления посыпались на неподвижную гору мяса и мускулов, затем полетели тухлые яйца, сгнившие фрукты и, наконец, камни. Что не удалось зубам на концах девяти хвостов плетки, смогли, в итоге, сделать бесчисленные укусы ничтожных тварей. Глаз циклопа открылся и метнул гневные молнии в толпу. При других обстоятельствах она бы отступила в страхе назад, но цепи и путы, которые ослабляли впечатление от этих движений, усиливали еще больше трусливое мужество народа. Горбун снова задергался в своих путах. Тяжелое колесо задумчиво покачнулось, но все же остановилось. Квазимодо ничего не оставалось, как терпеливо сносить ругательства и град мусора и камней, при этом оскорбления вовсе не мешали ему из-за глухоты. Казалось, он снова покорился своей судьбе, время от времени издавая глубокий вздох, который заставлял дрожать груду мяса его несуразного тела. Спустя продолжительное время полузакрытый глаз неожиданно раскрылся, но вместо гневных, ненавидящих взглядов он был озарен полным надежды светом. На изуродованном лице появилось что-то вроде улыбки, выражение счастья, упования на лучшее. Я повернул голову, чтобы проследить за взглядом одноглазого, и обнаружил одетого в черное всадника, который ехал на муле со стороны моста Нотр-Дам. Подталкиваемый больше любопытством, человек в черном направил своего мула в толпу, которая с почтением расступалась перед ним. Отец Клод Фролло остановил мула и серьезно встретил счастливый, нежный взгляд звонаря. Вчера Квазимодо защитил на этой площади архидьякона от разъяренной черни, сегодня он ожидал от своего господина расплаты. Но тот грубо подстегнул свое животное и ускакал прочь. Выглядело это, как бегство. Толпа сомкнула за ним ряды, и Клод Фролло исчез среди ближайших домов на улице де ла Таннерьи. Младший брат Фролло издевался над ним, старший — предал. Лицо Квазимодо окаменело, но глубоко внутри у него, видимо, еще сохранилась искра надежды, не совсем погасшая вера в доброту человека, сострадание и милость. Хныкающим голосом маленького ребенка он просил снова и снова дать «что-нибудь попить». Для толпы это стало новым поводом для насмешек. Они били его мокрыми тряпками по ушам и ставили или разбивали перед ним пустые кружки. Иногда кружки были полными, но они стояли слишком далеко от позорного столба — пусть привязанный дотянется! Я хотел подобраться ближе к позорному столбу, чтобы подвинуть Квазимодо полную до краев кружку, которую убого одетая бабенка поставила на краю площадки под дикое хихиканье. Удар палкой разбил сосуд перед самым моим носом, и вода смешалась с высохшей кровью на плите из известняка, оставшейся после этой и предыдущий пыток. — Пить! Бесконечно долго сочился красный песок. Когда море людей снова расступилось, я подумал было, что, к счастью, вернулся отец Фролло. Но это была юная женщина с тамбурином в руке, которая шла к позорному столбу в сопровождении белой козочки и поднялась по «приступочке». — Эсмеральда! — в один голос раздалось над площадью. Толпа отступила перед красотой, перед магией египтянки — или только от удивления? Это было все равно. Цыганка без труда преодолела грубые подмостки, и даже в этом, самом прозаичном движении она была изумительно грациозна. Страх промелькнул на лице Квазимодо. Появление девушки, по его представлением, могло означать только одно: месть за вчерашнее нападение. Но Эсмеральда пришла не для того, чтобы ударить и высмеивать его. Бесстрашно она склонилась над несчастным, затем отвязала тыквенную флягу от своего пояса, откупорила ее и сунула горлышком в его растрескавшиеся губы. Ко всеобщему удивлению, Квазимодо не пил. Его глаз со всей нежностью, которую прежде он отдал Клоду Фролло, остановился на египтянке. Возможно, звонарь не испытывал прежде большего счастья. Я отчетливо видел, как появилась огромная слеза и скатилась по морщинам ужасного лица. Эсмеральда что-то сказала — что именно, я не понял, а горбун — и подавно. Несмотря на это, он был согласен. И потом он пил — долгими жадными глотками, пока тыквенная бутылка не опустела. Его глаз при этом смотрел на свою благодетельницу, и ее взгляд покоился на нем безо всякого отвращения. Картина была столь трогательной, что настроение черни изменилось. Толпа зааплодировала Эсмеральде. Красота женщины была сильнее, чем страдания калеки. Судебный пристав в черном снова указал на песочные часы жезлом из черного дерева Последняя красная песчинка лежала на груде своих подруг, представление окончилось. Пока стражники отвязывали звонаря, толпа разбежалась и затерялась в близлежащих улочках. Над любым другим бедолагой зеваки посмеялись бы еще по его дороге домой, но издеваться над Квазимодо они не отважились. Его ужасная выходка прошлым вечером, когда он заступился за Клода Фролло, хорошо засела в памяти у всех. Кто не присутствовал при этом, слышал рассказы других. Эсмеральда скрылась у меня из виду. Вероятно, ее подхватил поток человеческих тел. Я был одним из последних, задержавшихся на площади, и смотрел отвратительному горбуну вслед. Он ковылял своей странной раскачивающейся походкой к берегу реки и остановился на мосту. Похоже, Квазимодо не намеревался мстить, во всяком случае, не сейчас. Как раненый зверь, он хотел укрыться в своей норе, чтобы зализать раны. Норой был мой новый дом — собор Парижской Богоматери.Глава 7 «Десятка»
Отвратительный образ избитого в кровь, изнывающего от жажды горбуна исчез лишь тогда, когда я опустился в горячую воду, и благотворный пар окутал баню на улице де ла Пеллтерьи. Остроголовый банщик, которого они величали мэтром Обером, стоял с ведром у чана с углями и поливал пламя водой, в которой держал резко, но приятно пахнущую траву. Белые клубы пара подымались, как туман, который по утрам висит над Сеной. В ушате рядом сидел музыкант и извлекал из своего инструмента приятную мелодию. Девушка, которая его мыла, подпевала звонким, чистым голосом — как сирена, которая завлекает в туман своим смертельно красивым призывным пением. Щедрый аванс отца Клода вернул мне возможность запастись новым платьем и другими необходимыми вещами. Однако я не хотел возвращаться в новое состояние, предварительно не смыв грязь и запах нищего — и кровь Квазимодо, которой меня забрызгал мэтр Тортерю. Кроме того, мое щетинистое лицо нуждалось в бритье, а урчащий желудок заслужил хорошую трапезу. Меня обслуживала девушка по имени Туанетта — крепкая молодая штучка с формами, где нужно. Из-за воды и горячего пара она была одета только в легкую рубашку без рукавов. Когда она наклонялась ко мне, чтобы долить горячую воду, ее розовая грудь грозила выпасть ко мне из ткани, как спелые фрукты. С удовольствием я позволил ей намылить себя толстым куском душистого ромашкового мыла и, наконец, натереть щеткой и веником. С той самой ночи, когда мэтр Фрондо бессердечно прогнал меня из объятий прелестной Антуанетты, ни одна женщина не доставляла мне такого удовольствия, от которого опрометчиво отказываются святые братья в монастырях. Сожаление охватило меня, когда Туанетта прекратила мытье, чтобы подстричь мне волосы и бороду. — Какие у вас будут еще пожелания, мессир? — пропела она, пока вытирала о влажную тряпку бритву. — Если кровь давит вам чересчур сильно в венах, мэтр Обер поставит вам банки, — она взглядом указала на банщика. — Мне давит только воздух в пустом желудке. Хорошая трапеза с отменным вином была бы кстати. Может, ты согласишься составить мне кампанию? Туанетта согласилась и вскоре принесла большой поднос из легкого дерева, который плавал на воде в моем чане, заставленный бараньим кострецом, хлебным паштетом, головкой сыра «рошфор», маленьким глиняным графином и двумя деревянными стаканчиками. Пока я потянулся к графину и наполнял стаканчики ярко красным вином, девушка выпрыгнула из своего платья. Совершенно откровенно я окинул взглядом ее роскошные круглые формы и заметил, что к давлению моего пустого желудка добавилось давление одного непростительно забытого в последнее время органа. Туанетта подсела ко мне, ее кожа коснулась меня. Горячее и пахнущее крепкими приправами, вино текло по нашим глоткам. Я блаженно икнул и похвалил выпивку. — Я добавила туда инжир, корицу и зеленый перец, — Туанетта вонзила свои неровные зубы в паштет и продолжила жуя: — Мэтр Обер говорит, эти ингредиенты в горячем красном вине дают силу мужчине. Я понял и усмехнулся, к тому же чувствуя результат, который мог объяснить терпким вином или обнаженными пышными формами Туанетты. Левой рукой я отодвинул в сторону плавающий деревянный поднос, чтобы правой взяться за полные груди. — Приправа мэтра Обера дает слишком быстро о себе знать. — Здесь нас могут увидеть, — захихикала девушка и оттолкнула мою руку. — Вряд ли — в таком-то тумане, — ответил я, бросив быстрый взгляд по сторонам. За толстым занавесом из клубов пара скрывались остальные кадки, в которых сидели другие гости бани, многие из них с девушками. — Кроме того, здесь все заняты собой. Но Туанетта снова ускользнула от меня, забрызгав водой. Потом она смилостивилась и прошептала: — Массаж стоит отдельно, — банщица опустила руки под воду, туда, где никто не мог их видеть, и теперь я брызгался водой. Меня осенило, что банщиц справедливо называют «массажистками». Довольный, я откинулся назад, чтобы насладиться бараниной, сыром и вином. Когда я опустошил деревянный стакан, то снова подумал о бедном черте возле позорного столба. Что бы он отдал за стакан вина, когда он просил дать ему воды, а взамен получил только издевки! Ему не помог Клод Фролло, но мне, незнакомцу, архидьякон дал десять солей! Туанетта посмотрела на меня, наморщив лоб. — Что случилось, мэтр? Вы смотрите так серьезно, как дракон, когда святой Георгий его убил. Вам не нравиться красное вино? Я переложила зеленого перца? Я покачал головой, рассказал о наказании звонаря и сказал: — Этот Квазимодо — странное существо. — Сын дьявола, — добавила Туанетта и осенила свои полные груди крестом, что напомнило мне о сестре Виктории. — Что-то подобное я уже слышал сегодня, — сказал я. — С чего ты взяла, что горбун — сын дьявола? — Ну, все так говорят! У него плохой взгляд. Это значит, если беременная девушка повстречается звонарю, то избавит себя от похода к повивальной бабке, — она тяжело вздохнула. — Клянусь Всевышним, встреча с Квазимодо может быть безболезненным способом избавиться от большого живота. Туанетта выглядела очень серьезно. Я понял, что она говорит, исходя из своего собственного опыта. Чтобы ее растормошить, я захотел подлить вина, но графин был пуст. Как раз в то время мимо нашего чана проходила другая девушка, я поднялся и протянул ей пустую кружку. — Принеси-ка обратно полную, лучше всего — с красным вином! При этом я повернулся к Туанетте спиной. Когда я развернулся и снова сел в воду, ее печаль превратилась в удивление, почти ужас. С широко раскрытыми глазами она уставилась на меня, словно я был Квазимодо или сыном дьявола. — Что случилось? — спросил я. — Раковина! — прошептала она в полном ужасе. — У вас раковина! У меня появилось предчувствие, почему графин так быстро опустел. С ухмылкой я показал на поросший волосами треугольник между ее чреслами. — У тебя тоже раковина, Туанетта. Но я хотел бы получить ее в свое распоряжение. Она резко вскочила — испуганно, а не возмущенно, и выскочила неловко из воды, что расплескала ее на пол. В эту секунду я тоже вылез из чана, чтобы ее удержать. — Не подходите ко мне близко, кокийяр! — прошипела она и побежала прочь, нагая как была. Едва я закутался в полотенце и надел мою новую одежду, передо мной нарисовались мэтр Обер и два крепких помощника. Банщик угрожающе держал нож в руке, другой железный факел. — Это значит, у тебя раковина! — сказал банщик, и я беспомощно пожал плечами. — Я не знаю, что тебе здесь надо, но одно мне известно: если ты еще раз переступишь порог моей бани, то я сотру тебя в порошок. Здесь кокийяры[840] — нежеланные гости! Угрожающе поднятый факел и острый клинок ножа брадобрея, которые рассекли клубы пара буквально перед моим лицом, придали словам мэтра Обера соответствующий вес. Итак, я покинул поспешно баню. Впрочем, гнев банщика по поводу моего присутствия был не настолько велик, чтобы забыть свою долю и долю Туанетты — тем более, за «массаж». На улице я замерз, хотя солнце еще не село. Свежий январский ветер был все же другим чем душный пар в мыльне. Возможно, он ударил в голову мэтру Оберу и его приспешникам. Разве нет мнения, что слишком часто мытье ослабляет тело и дух? Может быть, это распространялось не только на моющихся, но и банщиков. Или они с утра до вечера пили свое красное вино? Я не могу дать никакого объяснения этой истории с раковиной. Но так как Париж высыпал мне на голову всевозможные странности за пару дней моего пребывания здесь, я не придал этому эпизоду большого значения. Возможно, этот Обер просто хотел освободить место для нового гостя. Я зашагал по улице де ла Пеллтерьи в восточном направлении и выбрал кратчайший путь к Собору с той стороны моста Нотр-Дам. Мой новый патрон должен был уже меня ждать. Когда я увидел возвышающийся в темнеющем небе огромный Собор, я остановился в нерешительности, посмотрел направо на здания Отеля-Дьё и изменил свое направление. По какой причине я пошел в госпиталь вместо Собора? Возможно, перспектива спать под одной крышей с мрачным архидьяконом и его изуродованным звонарем не показалось мне особенно привлекательной. Возможно, я хотел наверстать упущенное и использовать часть задатка Фролло как благодарное пожертвование для августинки. Но я наверняка надеялся выведать новые подробности о Клоде Фролло и Квазимодо у разговорчивой сестры Виктории. Хотя всевозможный сброд толпился на Соборной площади, я почувствовал, что меня преследуют: словно тень прицепилась за мной, но она была неуловима. В холоде бодрящего вечернего ветра тайный соглядатай составил мне компанию. Или я все это вообразил? Чтобы это проверить, я быстро нырнул в узкий переулок по правую руку и спрятался за выступ стены. С затаившимся дыханием я обождал и высунул голову над стеной так далеко, что мог подглядывать за входом в переулок. Мои вспотевшие руки приклеились к шаткой каменной кладке. Я уже думал, что ошибся, и выдохнул задержанное дыхание. Как тень, мой тайный преследователь? — мелькнула в проеме переулка, выходящего на Соборную площадь. Я едва верил своим глазам. Тощий парень с бородатым обветренным лицом был Колен. Колен — нищий, Колен — вор! От волнения я, пожалуй, слишком крепко прижался к старой стене. Сухой строительный раствор едва держался на камнях, и глыба величиной с кулак упала на истертый тротуар. Большего и не требовалось, чтобы спугнуть моего преследователя. В один миг он исчез. Я вскочил, выбежал на Соборную площадь и огляделся по сторонам. Колена и след простыл. Исчез ли он в одном из переулков? Скрылся ли он в пестрой толпе, которая наполнила площадь перед Собором? Его невозможно было заметить среди клириков, верующих, торговцев и нищих. Существовал ли он вообще? Или я изрядно злоупотребил горячим красным вином? В сомнениях я продолжил свой путь и постучал в закрытую дверь госпиталя. Привратник с гноящимся глазом открыл дверь и изучил меня как нарушителя спокойствия. — Меня принесли сюда прошлой ночью, — объяснил я. — Теперь я хотел бы отблагодарить сестру Викторию небольшим пожертвованием. Его влажный взгляд хотел пробуравить меня. — Сестру Викторию? — переспросил он, словно был туг на ухо. — Да, она ухаживала за мной. — Итак, это вы, — прорычал человек с гноящимся глазом. Он впустил меня, снова закрыл дверь на засов и провел меня. — Вы ведете меня к сестре Виктории, брат Протария? — Хм? — он ненадолго остановился, почесал свой почти лысый череп и смущенно кивнул. — О, да, конечно, я веду вас к ней. Вопреки ожиданиям мы шли не в больничную залу. Привратник открыл узкую дверь, которая вела в помещение, обставленное столами и скамьями. На столе горел огонек сального дерева и бросал пляшущий свет на четыре лица. Одно лицо принадлежало старой, морщинистой августинке. Трое других присутствующих лица были мужчинами — двое крепких парней и один маленький, узкоплечий, тощий как Колен. — Вот бродяга! — прокаркал брат Портария громогласным голосом и дал мне пинок под зад, так что я влетел в помещение. — Вот он, убийца! Я споткнулся о скамью и ударился лбом о стол. Утренняя резкая головная боль вернулась. В который раз моему черепу приходилось туго. Прежде чем я сумел подняться, двое крепких парней набросились на меня по знаку малыша. Они схватили меня, заломили руки за спину и в таком положении приподняли вверх, словно собирались отправить на небеса одним махом. Лишь теперь я понял, что оба носили фиолетовую форму стражи. Мое сердце упало в глубокую пропасть. Я подумал о бедном мэтре Аврилло, который в действительности умер милостивой смертью. Я же буду болтаться на виселице на Гревской площади, но за убийство, которое я не совершал. — Итак, ты убийца? — спросил маленький человек, которому подчинялись оба стражника, хотя он производил крайне бледное впечатление в своем поношенном плаще. — Нет, я не имею с этим ничего общего! — выкрикнул я. — Что ты здесь делаешь? — спросил коротышка голосом, который привык отдавать приказы и задавать вопросы. — Я шел к сестре Виктории, чтобы дать ей пожертвование для госпиталя. Она заботилась сегодня утром обо мне. Вопросительный взгляд коротышки — и брат Портария подтвердил мои слова. Коротышка провел рукой по темным кудрям и приказал сержантам стражи отпустить меня. — Почему? — спросила пожилая женщина. — Потому что убийца явно не будет приходить к сестре Виктории, достопочтенная матушка настоятельница, — объяснил коротышка. Хоть я ничего не понял, но обрадовался, что он так думает. — Давайте приведем его к сестре Виктории, — продолжил коротышка. — Возможно, мы проясним кое-что. Привратник промямлил: — Я считаю его убийцей, потому что он о сестре Вик… Небольшое движение руки матушки настоятельницы заставило его замолчать, и следующий жест приказал ему возвращаться на место. Вместе с тремя мужчинами и настоятельницей я вошел в больничный зал, где утром ко мне вернулось сознание. Всей душой я надеялся, что разговор с добросердечной сестрой действительно все разъяснит, хоть я и не представлял себе, как августинка должна была освободить меня от подозрения, что я убийца целестинца. Я нигде не мог обнаружить сестру Викторию. Вместо нее я увидел двух других стражников, стоящих возле одной из кроватей с балдахином. Сестры, как и больные, бросали на них робкие, почти испуганные взгляды. Нет, не сержанты, как я узнал, а кровать была нашей целью. — Пожалуйста, месье, здесь сестра Виктория, — сказал маленький человек и распахнул полог сильным рывком. Дородное тело монахини лежало на кровати, неподвижное, словно она спала, хотя глаза были открыты. Моментально я снова узнал округлое лицо, которое, правда, уже не было розовым. Оно было бледным — Смертельно бледным. Глаза смотрели неподвижно вверх, так стеклянно и пусто, как вчера глаза целестинца, после того, как его жизнь погасла у меня на глазах. В резком контрасте с бледным лицом была красная шея. Кровь выступила в большом количестве, вызванная глубоким порезом. Смерть зачесалась у меня в носу сладким запахом, и ужас охватил меня. Я упал на колени, и меня рвало, пока в желудке больше ничего не осталось от баранины и «рошфора» — разве что самая малость красного вина. Матушка настоятельница подозвала послушницу и приказала убрать рвоту. — Кто? — прохрипел я грубым голосом, когда меня подняли. — За что? — Вот именно эти два вопроса я и хочу вам задать, — сказал маленький человек с черным локонами и улыбнулся неподобающим образом. — Ответ на второй вопрос, надеюсь, приведет к прояснению первого. К сожалению, до сих пор оба открыты. Вероятно, вы можете помочь мне, пролить немного света на это дело. — Кто вы? — спросил я отчасти с искренним интересом, отчасти, чтобы выиграть время. Я должен был оценить обстановку. То, что здесь не идет речь об убийстве целестинца, обрадовало меня. Но гибель доброй сестры Виктории — столь жестокая гибель, — омрачала мою радость. — О, простите, — коротышка улыбнулся снова и отвесил явно шутливый поклон. — Меня зовут Пьеро Фальконе. Я лейтенант стражи Шатле и расследую этот случай. — Странное имя, — пробормотал я. Лейтенант изобразил на лице виноватое выражение. — Мой отец родом с Сицилии. А ваш? Как зовут вас? И кто вы, месье? — Арман Сове из Сабле, — ответил я с запинкой, все еще находящийся под впечатлением неслыханного убийства Хотя вид был ужасен, я не мог оторвать глаз от бледного лица и красной шеи августинки. — Из Сабле на Сарте? Я кивнул в знак подтверждения. — А каков род ваших занятий? — Переписчик. — Где вы работаете? — В соборе Парижской Богоматери. — Фальконе бросил на меня удивленный взгляд. — Что же там можно переписывать? — Я еще не знаю. Я как раз шел, чтобы вступить в свою должность у отца Фролло. — Ах, у архидьякона, — казалось, ответ впечатлил Фальконе. — Сегодня утром отец Фролло был в госпитале, — сказала матушка-настоятельница, — Значит, он разговаривал с сестрой Викторией. — Верно, — подтвердил я. — Он пришел, чтобы предложить мне должность переписчика Вскоре после этого я покинул госпиталь, и с тех пор я не видел сестру Викторию. — Она умерла днем, — объяснил лейтенант стражи Шат-ле. — Ее милосердие послужило причиной ее смерти. Я не понял его и сказал об этом. — Убийцей сестры Виктории должен быть нищий, который теперь исчез, — пояснил Фальконе. — Его нашли совсем обессилевшим у ворот госпиталя и положили в кровать. Сестра Виктория заботилась о нем. После ее не видели. Когда послушница хотела проверить нищего и отодвинула полог у его кровати, там лежал не хворый, а… — он показал на мертвую. — Нищий! — вырвалось у меня, и я подумал о загадочном Колене. — Да, — кивнул Фальконе. — Почему? У вас есть подозрения, месье Сове? — Нет. Я только подумал, как много нищих в Париже. Их, должно быть, сотни. — Тысячи, — ответил лейтенант стражи. — До сотни доходят только различные братства, в которые они сбиваются. Было ли это правильно — не рассказать о Колене? Но чему это могло помочь? Схватить бродягу так же трудно, как и тень. Как мне следовало объяснить, какую роль он играл, какого рода связь была между ним и мной — для меня самого все это находилось в потемках. То малое, что я знал сам, звучало так странно, что подозрение упало бы также и на меня. Фальконе подумает, что я пытаюсь выгородить себя. — Вы похоже задумались о чем-то, месье Сове, — тон Фальконе был нейтрален, но взглядом он буравил меня. — Я спрашиваю себя, почему неизвестный нищий убил сестру Викторию. Что можно украсть у монахини? — Ее голос. — Как можно украсть ее голос? — При этом разрезают горло, как это и сделал убийца. Постепенно я понял. — Это значит, он хотел заставить сестру Викторию замолчать? — Похоже на то, на это указывает и следующее. Это торчало во рту умершей, когда ее нашли. Фальконе что-то достал из кармана пальто и протянул мне. Сложенный листок плотной бумаги с простым рисунком решетки на обратной стороне, а на лицевой — украшенный яркой картинкой. Она изображала руку, которая протягивала наверх суковатую палку, и рядом — число «X». — Игральная карта, — постановил я. — «Десятка». И что это должно значить? — А вы разве не знаете, месье Сове? — А стал бы я тогда спрашивать? — Но вы знаете, что означает карта! — закричал Фальконе. — Если карта торчит во рту умершей, то она должна, пожалуй, что-то означать. Теперь лейтенант стражи снова улыбнулся: — Действительно. К счастью, матушка настоятельница хорошо разбирается в тайном значении карт. Объясните это месье Сове, достопочтенная мать. — У карты много значений, — сказала настоятельница с каменным лицом. — У десятки их три: препятствие, предатель, а также начало и конец. — Из чего мы можем следовать, — снова взял слово Фальконе, — что убийца хочет нам сообщить следующее: убийством сестры Виктории он устранил препятствие со своего пути, а именно положил конец предательнице. Мать-настоятельница кивнула: — Именно так. Фальконе бросил быстрый взгляд на нее. — Впрочем, удивительно, что вы так хорошо разбираетесь в картах, достопочтенная матушка. Разве церковь не гласит, что карты дьявольские происки? — Чтобы пресечь козни дьявола, нужно их знать, — бесстрастно возразила старая августинка. — Достойный всякой похвалы взгляд, — сказал лейтенант стражи. — Жаль, что церковь не сделает его повсеместным. — Но что предала сестра Виктория? — вмешался я в их разговор. — И кого? — Хороший вопрос, — с улыбкой ответил Фальконе. — И ответ вам не известен? — Почему мне? — Разве не вы сегодня утром увлеченно беседовали с умершей? — О сущих пустяках. — О каких пустяках шла речь? Мне бы и в голову не пришло очернить моего нового патрона, поэтому я ответил после недолгого колебания: — Мы говорили на совершенно общие темы о Париже. Я еще совсем не знаю город. — Тогда сестра Виктория, видимо, сказала кому-то другому то, что ей следовало оставить при себе. — И чего было достаточно, чтобы навлечь на себя смерть? — испуганно воскликнул я. — Слова уже приносили другим смерть, — тихо сказала матушка настоятельница. — Но зачем игральная карта? — спросил я. — Почему убийца делает этот намек? — Именно это зависит от него, — ответил Фальконе. — Убийство должно напугать других, закрыть их рот на замок. Предатели найдут такой же конец, как и сестра Виктория. Таково послание этого поступка. Или лучше сказать, поступок есть послание. — Простите, если я вмешиваюсь, — сказала матушка настоятельница. — Я бы обмыла сестру Викторию и распорядилась о молебне. Фальконе кивнул: — Само собой разумеется, достопочтенная матушка. Настоятельница велела прийти двум слугам с носилками, на которые положили сестру Викторию с помощью сержанта. Когда слуги унесли труп, сержант указал на сбитую простыню и позвал лейтенанта. Я тоже подошел ближе и увидел нечто, что до сих пор скрывалось под одеждой умершей — красный рисунок на льне. — Это нарисовала сестра Виктория, — заключил Фальконе и, похоже, впервые был удивлен. — В предсмертных судорогах, своей кровью. Рисунок был похож на круг или кольцо. В одном месте очень толстая и обтрепанная линия утончалась и утончалась. — Что здесь изображено? — спросил сержант, который обнаружил находку. — Я не знаю, — Фальконе сперва посмотрел на мать настоятельницу, а потом на меня. — У вас есть объяснения, достопочтенная матушка? Или у вас, месье Сове? — У меня не было таковых, а аббатиса сказала: — Возможно, это ничего не должно обозначать. Оно могло получиться случайно, когда сестра Виктория боролась со смертью и не владела своими движениями. — Возможно, но маловероятно. Тогда не было бы такого замкнутого круга. Как и всегда, мы возьмем с собой простыню. Это может оказаться важным. Фальконе снова повернулся ко мне с хитрым выражением на морщинистом лице. — Так как мы как раз занимаемся важными вещами… месье Сове, где вы провели вечер?Глава 8 Красный дракон
Я остановился на довольно темной площади между отелем и Собором и глубоко вобрал в легкие прохладный воздух. Несмотря на холодный ветер, я весь горел, а мои руки и ноги дрожали. Я еще не оправился от последнего вопроса Фальконе. Как лиса, которая выслеживает свою жертву, маленький лейтенант сыска стоял передо мной, внимательно глядя на меня прищуренными глазами так, чтобы даже малейшее телодвижение или гримаса не утаились от него — подобно Суккубусу[841], который не хочет потратить впустую ни одной капли жизненного сока. Как буква «V» с растопыренными руками, он был готов схватить меня при малейшей ошибке — и больше не отпускать. Хотя я был невиновен в смерти как августинки, так и целестинца, надо было заставить себя успокоиться. Но я уже ощущал грубую пеньку, которая стягивала мое горло. Я назвал Фальконе торговцев, у которых я сделал покупки, помянул о бане. Он открыто улыбнулся и сказал, что должен задать мне вопросы: само собой разумеется, ни в коем случае никто не подозревает меня, переписчика архидьякона из Собора Парижской Богоматери. Потом, наконец, он отпустил меня. Я прошел через больничный зал, хотя и не видя Фальконе, но чувствуя спиной его буравящий взгляд. Шум от Собора доносился до меня. Горстка причетников роилась вокруг, прогоняя народ из божьего храма и тени его порталов. Собор Парижской Богоматери хотел закрыть свои врата и отойти ко сну. В то же время звон колоколов созвал священников, дьяконов и монахов на всенощную. Я посмотрел наверх на высокие башни Собора и спросил себя, в какой из них находиться сейчас страшный звонарь и раскачивает ночной колокол. Я перебежал через площадь, поспешил по ступеням к порталу Страшного Суда и заявил причетнику с лошадиным лицом, что я новый переписчик архидьякона. — Отец Клод Фролло наверняка захочет принять меня после окончания службы. Причетник обнажил зубы, которые были так велики, что гримаса была похожа на ухмылку. — Я не думаю так, месье, о нет. — Почему нет? — Я буквально сейчас видел, как отец Фролло поднялся на Северную башню. Тогда он не спуститься вниз на ночную молитву. — Так отведите меня к нему, — попросил я. Человек с лошадиным лицом покачал головой по сторонам. — Если бы я знал, могу ли я побеспокоить архидьякона, если бы я знал!.. Он, собственно, крайне не любит, чтобы его беспокоили, если он уже наверху у колоколов. О нет, совершенно не любит. С другой стороны… — последнее замечание было процежено сквозь зубы, отчего придало ему что-то пренебрежительное и в тоже время — требовательное и лукавое. — Что вы хотите зтим сказать? — спросил я довольно грубо, озлобленный перспективой снова провести ночь под открытым небом и на холодном камне. — Небольшое вознаграждение за то, что я, возможно, вызову на себя гнев отца Фролло, было бы не лишним. К тому же, есть добрый обычай в соборе Парижской Богоматери: новичок чем-нибудь угощает остальных. Скромный дар, если вам так угодно, монсеньор. Итак, я потянулся за кошельком, чтобы удовлетворить жадно растопыренную клешню одним солем. При этом моя рука натолкнулась на твердый предмет внизу в моем кожаном мешке — дар умирающего облата. Я за все время так и не дошел до того, чтобы рассмотреть его внимательного. По правде говоря, я и не испытывал ни малейшего желания вспоминать ту ужасную ночь. Монета быстро исчезла в складках одежды человека с лошадиным лицом, и он впустил меня внутрь собора Богоматери. С глухим грохотом за мной закрылись тяжелые двери среднего портала. Я оторопел, почти испугался, потому что показался себе пленником, а не гостем. Чувство усилилось при виде бесчисленных фигур, которые наполняли помещения между колоннами хора и нефа. Ангелы и демоны, святые и грешники, люди и чудовища, упорядоченное пространство из камня и мрамора, золота и серебра, бронзы и воска — одновременно полное жизни, как мне показалось. Тысячи глаз смотрели на меня, провожали любопытными взглядами, — как армия стражников, которая не хотела отпускать меня из своих рук-клещей. Возможно, такое живое впечатление создавало пламя многих свечей и масляных светильников. Могло быть и что-то другое — но такого не должно быть в Божьем храме. Я был рад, когда ступил за причетником в сумеречную галерею башни по левую руку и не должен был больше глядеть на эту рать. Влажным и застоявшимся был воздух в узких стенах колокольни. Ступень за ступенью причетник поднимался наверх, я — следом за ним. Иногда свеча в подсвечнике на стене бросала луч света в полутьме — ровно настолько, чтобы я мог различить каменную лестницу. Уже более сотни ступеней было у нас позади, когда мы, наконец, вышли наружу. У меня закружилась голова, когда я взглянул вниз на крыши мрачного города под нами. Казалось, люди на свете исчезли. Здесь, наверху, на башне, царили каменные существа, родственники тех статуй, которые приветствовали меня раньше в церковном нефе. Чудовища с отвратительными мордами, крыльями и когтями примостились на балюстраде, обратив мрачный взгляд или насмешливые ухмылки на Париж. При дневном свете они могли выглядеть безобидными водостоками, но ночь раскрывала их истинную — демоническую — сущность. Мне почти показалось, что те монстры, у которых были крылья, поднялись в воздух, и взмахи каменных перьев заставили его дрожать. В действительности речь должна была идти об отзвуке смолкших колоколов, колебание которых отражали воздух, дерево и камень. Я внимательно посмотрел на очертания башен, в которых следовало находиться клеткам с колоколами. Торчал ли там все еще звонарь, горбун Квазимодо? Видимо я произнес имя вслух, потому что мой проводник кивнул и сказал: — Вы правы, месье, здесь, наверху, царит Квазимодо. Собор — его мир, и эти башни с колоколами — его королевство. Но горбун — только князь. Его сюзерен и король — отец Фролло. Давайте посмотрим, где мы его найдем. Мы проследовали по запутанным путям и подъемам башни в маленькую каморку в самом дальнем углу, почти под самой крышей башни. Лучи света пробивались через щели закрытой двери, за которой раздавались голоса. — Вот здесь он прячется, — пробормотал причетник больше себе под нос. — И у него гости. Когда он обернулся ко мне, страх отразился на грубых чертах его лица: — Будет лучше, если мы придем снова, месье. Отец Фролло не любит, если его беспокоят в этой келье. — Почему? Что он здесь делает? — Никто не знает этого, — прошептал причетник и приложил палец к губам, чтобы я говорил тише. — Дверь постоянно заперта, а единственный ключ Фролло носит всегда при себе. Сам епископ никогда не отваживается войти в это помещение без его разрешения. — Тогда мы просто постучим в дверь и попросим разрешения, — предложил я. — Отец Фролло оценит это еще меньше, когда я досаждаю ему поздно вечером, — глаза под выпуклым лбом причетника расширились, и он задумчиво покачал своей угловатой головой. — Вам не следует будить лихо, месье. Отец Фролло… — Кто, я? — спросил резкий голос, сопровождаемый тихим скрипом двери в келью. Она открылась только на узкую щель, через которую Клод Фролло недовольно выглянул наружу. Когда он узнал причетника, то продолжил грубым тоном: — Почему вы беспокоите меня так поздно, Одон? Разве вам не известно, что я не хочу видеть здесь наверху ни одного человека! — Мне прекрасно известно это, но этот господин не хотел мне верить, — возразил Одон и отступил испуганно на шаг назад, так что луч света из кельи упал на меня. Немедленно черты лица Фролло слегка смягчились. — Ах, это вы, месье Сове. Я уже подумал, вы занялись больше моими деньгами, нежели книгами. Одон, проводите моего нового переписчика в келью Пьера Гренгуара. Отныне она станет ему спальней и рабочим кабинетом. Подождите меня там, месье. Он закрыл дверь, но прежде я успел бросить беглый взгляд на его гостей. Я увидел двоих мужчин, и оба лица показались мне знакомыми. Но в ужасе, от которого у меня кровь застыла в жилах, и вихрем поднялись мысли, определил только имя человека с мясистым лицом. Дважды я уже видел его — и оба раза человек сидел на белом в яблоках коне. В свою очередь, как и причетник Одон, я быстро отступил назад в тень, надеясь, что Жиль Годен, нотариус Шатле, не узнал меня, ибо неизвестно, какими причинами он руководствовался, коли увидел во мне убийцу целестинца. — Что случилось, месье? Вам нехорошо? — спросил Одон, когда я ударился спиной о стену и больно стукнулся затылком. — Оступился в темноте, — пробормотал я. — Лучше, если вы пойдете вперед. Я не летучая мышь, чтобы превосходно ориентироваться в темноте. — И не место здесь для человека из плоти и крови, к тому же ночью, о нет, — пробормотал Одон и взял снова на себя обязанности проводника. По дороге я как бы невзначай спросил: — Вам известны гости архидьякона, Одон? — Я их даже не видел, — ответил причетник к моему удивлению. Я полагал, он поведет меня снова вниз, но келья Пьера Гренгуара располагалась не в монастырских пристройках собора Богоматери, а также не в жилом квартале клириков, а здесь, наверху, в колокольне башни. Когда я вслух удивился по этому поводу, Одон заметил: — Я тоже не захотел бы здесь жить. Отец Фролло и его звонарь — не совсем располагающее общество, не так ли? — он посмотрел по сторонам и добавил шепотом: — Будьте начеку, месье Сове! Прежде чем я еще сумел спросить, чего мне следует опасаться, причетник уже исчез, вероятно, радуясь тому, что смог покинуть башню с колоколами. Так как келья не была заперта, я вошел и оглядел мое новое пристанище. Бронзовая лампа с двумя рожками на большом столе излучала яркий свет; вопреки своим словам, архидьякон рассчитывал на мое позднее появление. Келья была просторной и чистой, и если затопить небольшой камин, то здесь стало бы даже приятно тепло. Два больших окна обеспечивали достаточный дневной свет, что немаловажно при работе переписчика. Рядом с лампой находились все инструменты, необходимые для моей работы: пишущие перья, кисти, чернильницы, щипы, линейки и угольники, скребки и ножи для заточки перьев. Я достал перья из украшенной резьбой деревянной шкатулки и оценивающим жестом провел по их кончикам вдоль указательным и большим пальцами. Инструменты были высшего качества — согласно предписанию, исключительно первые из пяти маховых перьев левого крыла взрослого гуся, закаленные в горячем песке. Рядом лежали три книги в кожаных переплетах, две толстые и одна тонкая. Две из них оказались девственными как Богоматерь, а вот в третьей были исписаны все шестьсот страниц — замысловатым почерком, что стало традицией для рукописей монастырей. Монах как издатель все же исключался, потому что строки были написаны по-французски, а не по латыни. Взгляд назаголовок подтвердил мое предположение: «Размышления и достопримечательности о комете, которая появилась в 1465 году. Собрано и записано Пьером Тренгаром». — Вы уже занимаетесь своей работой, очень похвально, месье Сове, — отец Клод Фролло, возникший будто из ниоткуда, вошел в келью и указал с тонкой улыбкой на раскрытую книгу. — Гренгуар, к сожалению, покинул службу у меня после того, как переписал мне эту книгу о комете. Ему было очень одиноко здесь наверху. Надеюсь, вы находитесь не в такой власти мирских утех, чтобы вцепиться в подол юбки неверующей. — Не знаю, о чем вы говорите, отец. — О Гренгуаре, который поменял, — руки Фролло описали круг, словно он хотел охватить всю колокольню, — небо Парижа на последнее болото сточной канавы. Вы не слышали, о чем растрезвонили уже уличные мальчишки? — Нет, — отвегил я искренне, как и было на самом деле. — Что случилось с Гренгуаром? — Прошлой ночью он отпраздновал свадьбу с египетской танцовщицей. — Вы имеете в виду Эсмеральду, отец Клод? — Да, Эсмеральду, так ее называют, — гнев и презрение появились в голосе Фролло. Как представитель высшего духовенства, он не мог понять, что мужчине показалось привлекательнее провести свою жизнь рядом с жуткой цыганкой, нежели в этой уединенной канцелярии. — Как Гренгуар решился жениться на Эсмеральде? — Спросите лучше, как египтянка решилась выбрать его себе в мужья. Он был настолько глуп, что отправился в королевство нищих и мошенников. Они уже хотели было вздернуть его на веревке, когда Эсмеральда сослалась на старинный закон мошенников, по которому женщина может забрать себе мужа с виселицы. Языческий обычай, который потакает похоти и разврату! — глубокий вздох, и лицо Фролло стало суровым. — Новая метла метет по-новому. Не об этом ли писал мэтр Фрейданк? В этом смысле, возможно, лучше всего, если другой, например, вы продолжите работу Гренгуара, месье Сове. Будьте прилежны и порядочны, тогда вы будете щедро отблагодарены не только божественной платой. — Книга о комете еще не готова? — Готова. Месье Гренгуар добросовестно внес все, что он сумел разузнать об истории комет и, особенно, о комете 1465 года. Ваша работа заключается в том, чтобы переписать книгу. Но только это не все, в маленькую книгу вы должны вносить все, что вам повстречалось странного, противоречивого и загадочного во время работы. — Итак, реестр к книге Гренгуара о комете, — сказал я, и Фролло кивнул. — Эта комета так важна? — Именно это я и хочу выяснить, как человек церкви и слуга науки. Кометы — это бич Божий или посланники зла? Запишите все, что вам придет по этому поводу на ум, месье Сове. Я буду следить за продвижением вашей работы. Здесь наверху вы найдете необходимый покой, чтобы быстро приступить к делу. Если вам что-то потребуется, обратитесь к Одону и другим причетникам. Я распоряжусь, чтобы они во всем помогали вам, — он повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился в дверях и снова обернулся ко мне. — Ах да, еще одна просьба: чтобы не отвлекать меня от занятий: никто не входит без разрешения в келью, которую я устроил для себя здесь наверху! Он назвал это просьбой, но звучала она как приказ, подкрепленный его строгим взглядом. Когда он ушел, я задался вопросом, какой это мог быть род его занятий, что для этого ему потребовался нотариус. Ради юридических исследований мне показалось ненужным запираться в башнях Собора. И все же речь должна идти о правовом вопросе. Это мне стало ясно, когда я вспомнил имя второго посетителя Фролло: Жак Шармолю, королевский прокурор в духовном суде. Я вчера видел во Дворце правосудия этого седовласого мужчину с морщинистым лицом. Страх охватил меня: что, если собрание юристов могло касаться непосредственно предполагаемого убийцы мэтра Аврилло, некоего мсье Сове? Но если бы меня узнали, то давно позвали бы сержантов стражи и велели арестовать. Когда я услышал шаги, затаил дыхание и подошел к двери. В щелочку я увидел Клода Фролло и двух его гостей, идущих к лестнице. Очевидно, архидьякон попрощался с Шармолю и Годеном. Мне это было только на руку. Немного успокоившись, я опустился на мягкую подушку массивного стула писца и задумался, как мне избавиться от подозрения в убийстве. Тут я вспомнил про резную вещицу, дар умершего целестинца. То, что Аврилло принял так близко к сердцу, что он доверил мне это перед смертью, возможно, даст ключ к разгадке тайны, скрывавшейся за странным инцидентом. Я положил на стол кошелек и достал из него тяжелый предмет. Красная шахматная фигура из раскрашенного твердого дерева. Так сперва подумал я, когда поставил на столешницу фигурку на квадратной подставке величиной с ладонь. Но мне не была известна шахматная игра с такими странными фигурами. Статуэтка не была ни королем, ни королевой, ни слоном, ни конем, ни турой и даже ни пешкой. Передо мной стояло сказочное животное кроваво-красного цвета с огромной головой и хилым туловищем. Дракон, который свернулся кольцом и кусал себя за собственный хвост. Что было такого ценного, важнее, чем смерть, в этой отвратительной фигурке? Задумчиво я повернул дракона к свету лампы, пока маленькое тело не показалось мне кругом. Кровавый круг, толстый у головы и тонкий у конца хвоста. Очень похожий на тот, который я видел в Отеле-Дьё, в кровати убитой сестры Виктории. Нарисованный умершей, ее собственной кровью. Она нарисовала содержимое моего кошелька, не зная его! Или она тайно осмотрела мои вещи, прежде чем я снова пришел в себя? Но почему кровавые знаки? Она таким образом обвиняла меня в убийстве? Почему? Поспешно я схватил дракона и спрятал его обратно в парчовый кошелек, который завязал дрожащими пальцами. Несмотря на это, я не почувствовал себя лучше. Мне был нужен свежий воздух, и я выбежал на башню, к балюстраде, где мне ухмылялись каменные демоны. Я посмотрел вниз на бесчисленные перепутанные крыши Парижа и спросил себя, кто управлял кем: люди городом или дома — своими строителями? Этот город вовлек меня в водоворот необъяснимых случаев, словно он был живым существом, а я — лишь безжизненным, безвольным камнем. Но и камни пробуждались к жизни. Так это мне показалось, когда скульптура подо мной зашевелилась на стене колокольной башни. Она карабкалась по отвесной стене, не обращая внимания на опасность оступиться и сорваться в пропасть. Но это была не каменная фигура. Когда свет звезд упал на карабкающегося, я узнал бесформенное тело горбуна. Квазимодо, который, как паук, приклеился к внешней стене башни, посмотрел своим маленьким левым глазом наверх, прямо на меня. Я отшатнулся, думая только о том, как бы исчезнуть из поля зрения звонаря. Когда я убедил себя, что нереальная сцена была лишь плодом моего возбужденного воображения, я снова приблизился к балюстраде и осторожно посмотрел вниз. И действительно, Квазимодо исчез. Но я ни в коей мере не чувствовал себя спокойно. Слишком мрачными были тени собора Парижской Богоматери, которые поглотили меня.КНИГА ВТОРАЯ
Глава 1 Загадка собора Парижской Богоматери
Январские дни в Северной башне собора Парижской Богоматери проходили однообразной чередой, и я совсем не ощущал роковых нитей, которые все плотнее и плотнее стягивались вокруг меня. Во всяком случае, не в дневные часы, когда я бодрствовал и работал. Вероятно, это объяснялось тем, что странная книга Пьера Гренгуара всецело завладела моим вниманием, настолько увлекла своим содержанием, что я забыл почти обо всем вокруг себя — и даже то обстоятельство, что был пленником Собора. Полный рвения, я окунул гусиное перо в чернильницу, чтобы переписать собранные Гренгуаром знания. Первая глава повествовала о различных взглядах, которые ученые высказывали о возникновении, взаимосвязи и значении комет. Возбуждение овладело мной из-за мыслей, в смысл которых я пытался проникнуть, и которые проникали при этом в меня. Набожные братья в Сабле научили меня письму с помощью Святого Писания. Мэтр Фрондо напичкал меня устойчивыми оборотами, формулировками справок и договоров. Помимо этого я подрабатывал еще немного на составлении личных и деловых писем для жителей моего родного городка — это были сухие бухгалтерские отчеты и глупые семейные истории. Сейчас же имелось нечто новое: мнения, которые противоречили друг другу; фразы, которые побуждали меня сделать собственное заключение. Разве не такого занятия я искал себе уже давно, когда работа у адвоката со временем показалась мне унылой? Мысли великих ученых заменили мне общение с людьми, башня с колоколами — окружающий мир. За таким приятным занятием я с удовольствием проводил время, прежде чем снова осмелился спуститься в бурлящий Париж. К тому же, лейтенант сыска и королевская стража наверняка больше не вели слежку за предполагаемым убийцей облата Филиппо Аврилло. Кроме двуногих муравьев, за чьим беспорядочным движением я наблюдал, когда в минуты отдыха смотрел вниз с башни, я едва мог рассмотреть человека. Иногда Клод Фролло интересовался ходом продвижения работы, когда он поднимался на башню, чтобы провести время в своей келье за таинственными занятиями; собственно, его жилые комнаты находились в монастыре собора Парижской Богоматери. В остальном Одон заботился о моем телесном благополучии, приносил мне еду и все необходимое для работы. Причетник не казался больше таким болтливым, как в вечер нашей первой встречи, скорее, он держался замкнуто и изо всех сил стремился поскорее удалиться. Возможно, из страха перед Фролло. Или — перед Квазимодо. Последнего я видел мельком раза два или три, он, словно тень, проскальзывал в клеть с колоколами своей своеобразной раскачивающейся походкой и звонил в колокола. Звонарь, казалось, избегал меня — возможно, по указанию архидьякона, который не желал, чтобы меня отвлекали от работы. Слава Господу, я не придавал большого значения обществу горбатого чудовища. Желудок мой был всегда сыт, жажда при желании утолялась вином, огонь в камине прогонял холодное дыхание января, а для души имелось увлекательное занятие. Я бы мог быть всем доволен, если бы не кошмары, которые порядком замучили меня по ночам. Сны, такие реалистичные, были мне не знакомы, — как и начинающаяся у меня во сне вторая жизнь. …Огромная цитадель в горах владела моими снами, могущественная скала, какую могла воздвигнуть только целая армия ночных кошмаров в беспокойном сознании моего сна. Я научился различать природный камень и обработанный рукой человека. Стены, дома и башни возвышались на горе, горное гнездо для людей, окруженное отвесными скалами: убежище между небом и землей. Люди, которые здесь обитали, были явными беглецами. Я видел мужчин и женщин, а также детей, стариков и больных, рыцарей и солдат. Я испытывал доверие и страх, сомнение и ужас, холод и голод. Я был не наблюдателем, а одним из них — отчаявшихся, храбрых, сильных. Снова и снова меня уносили кошмары в то далекое место, в другое измерение. Я страдал и читал «Отче наш», как и прятавшиеся, верил и надеялся вместе с ними, боялся и негодовал в ярости. И рок приближался, неумолимо, словно смерть, предстоящая заболевшему чумой. Пошел дождь. В той странной местности могли быть только каменные дожди. Его капли были скалами, которые бились о могучие стены, сотрясали их, пробивали в них дыры. Камень падал не только на камень, но и на плоть, кости и кровь. На людей, которые умирали под каменным градом или, придавленные глыбами, превращались в калек. Крики, стоны, проклятья смешались с раскатами грома каменной грозы. Потом пространство вновь оказалось полным мира и надежды, залитым ярким солнечным светом, который сиял чистым зеленым оттенком и проникал своими лучами через все — в самую глубину души собравшихся здесь людей. Мужчины и женщины в простых темных одеждах обступили стол или алтарь, которого как раз коснулся пробивающийся солнечный луч и окрасил его в приятный зеленый свет. Я тоже стоял там и чувствовал себя радостным, как никогда. Моя душа закричала, когда меня вырвали из зеленого света, и я снова должен был вернуться в холод. Ледяной ветер швырнул меня о беспощадные скалы. Огонь прогнал холод, спасение — боль. Это был мощный костер, чьим топливом стали люди. С радостным пением они шли в пламя, смерть совсем не страшила их. Но я закричал при невероятном зрелище — горели мужчины и женщины, с которыми я прежде жил и страдал. Желание быть рядом с ними, вместе с ними петь и чувствовать пламя охватило меня. Но я не мог сделать этого. Невидимая сила оттолкнула меня прочь и затушила пламя. Осталась только благословенная жара… Бледный диск луны светил через большое окно моей кельи и придавал всем предметам расплывчатые, неестественные очертания, будто они тоже относились ко сну. Огонь в камине потух, едва теплился под золой — он был слишком слаб и не мог согреть меня, не говоря о том, чтобы разгореться в пламя. Пот, который выступил у меня на лбу, лице и всем теле, был последствием видений — знаком того, как прочно захватили меня хитросплетения сна. С каждой ночью сны становились навязчивее, беспокойнее, реальнее. Зачем? И почему всегда разыгрывались одни и те же сцены? Я не верил в совпадения. Началось это здесь, наверху, в башне, в комнате Пьера Гренгуара. Была ли связь между Собором и горной крепостью? Существовала ли вообще эта крепость, так реально являвшаяся мне во сне? Или ночные кошмары отравили мое сознание, и граница между сном и реальностью стерлась? Жар, который наполнял комнату несмотря на давно потухший огонь в камине, душил меня. Я не мог ни дышать, ни мыслить ясно, находясь в полудреме. Смутно я почувствовал: мне нужно быстро встать с постели и выйти из кельи! Резким движением я откинул одеяло и спотыкаясь поспешил в угол с умывальником, чтобы вытереть пот одним из больших шерстяных полотенец. Я оделся и пошел к выходу. Близился уже конец января, но ночи еще оставались холодными. Свежий ночной воздух как нельзя лучше подходил для того, чтобы остудить мою разгоряченную голову и собраться с мыслями. Я раскрыл дверь — и отпрянул в ужасе. Я едва не столкнулся с демоном, который выглядел в темноте, как одно из тех чудовищ системы водостоков, которые сидели на фасадах Собора, насмехаясь над всем людским. Что это — очередной ночной кошмар, обрушившийся на меня, чтобы окончательно стереть грань между реальностью и безумием? У меня волосы зашевелились на затылке при неожиданном виде неприкрытого безобразия, а мурашки пробежали по спине. Маленький глаз стоящего напротив меня существа расширился, чтобы охватить меня взглядом. Огромный череп наклонился вперед, и потрескавшиеся губы обнажили два ряда кривых редких зубов, не походящих друг другу ни по форме, ни по расположению. — Впустите меня, мэтр! — он повернул огромный череп направо и налево, и глаз посмотрел в темноту, что-то выискивая, почти со страхом. — Лучше, если никто не увидит меня. Это был первый раз, когда Квазимодо, звонарь Собора, заговорил со мной. Я отступил назад и впустил его вовнутрь — что естественно. Любой, кто, как я, видел, как горбун швырнул в воздух несчастного Робена Пуспена, не осмелился бы возразить Квазимодо. Он закрыл дверь быстрым, неловким и испуганным движением. Потом потерянно остановился в моей келье как вкопанный. В холодном свете луны он действительно был похож ни на что иное, как на бесчисленные статуи Собора — несчастная халтура выбившегося из сил скульптора. Я расшевелил кочергой слабо тлеющий огонь в камине и подложил пару поленьев, которые вскоре были жадно поглощены языками пламени. Дрова приятно потрескивали. Тонкой щепкой, от которой потянулась черная струйка дыма, я зажег бронзовую настольную лампу, и горящее масло буковых орешков наполнило помещение своим терпким запахом. Кидая щепку в камин, я пригласил сесть моего нежданного гостя, но когда я обернулся к нему, он все еще стоял прямой как палка, и его глаз таращился на меня изучающее. Я вспомнил о его глухоте и указал на оба стула возле стола. Квазимодо протащил свою бесформенное массивное тело через комнату и сел на стул — с почти что странным рывком. Деревянный стул заскрипел под его весом, и звонарь тяжело задышал под грузом своего горба. Я с колебанием сел напротив него и заметил робость в изуродованных чертах его лица, которая совсем не вязалась с этим грубым существом. Очевидно, он испытывал не меньшее смущение по отношению ко мне, чем я — при виде его. — Ну, что я могу для вас сделать? — спросил я, и лишь потом осознал, что вопрос задан напрасно. Но Квазимодо открыл свой кривой рот и сказал мне скрипучим, не привыкшим к словам голосом: — Вы что-то сказали, но я ничего не понял, мэтр Сове. Шум колоколов сделал меня глухим для всего, что не так громко и угрожающе, как их пение. Но если вы будете на меня смотреть и при этом медленно и четко говорить, то я смогу вас понять, а еще лучше, если вы при сложных вещах сделаете мне знаки. — Как отец Фролло? — спросил я медленнее и с четким ударением. Квазимодо грустно кивнул и вздохнул: — Да, как Фролло, чьи пальцы разговаривают со мной быстрее, чем на то способен человеческий рот. Я заново спросил, что я могу для него сделать, и на этот раз он понял меня. — Я хочу попросить вас помочь мне, мэтр. Вы умный и добрый человек. Он заставил меня засмеяться. — Как вы до этого дошли, Квазимодо? — Вы умеете читать и писать, значит, вы должны быть очень умны. Как Пьер Гренгуар, который до вас жил здесь наверху. И о вашем добром сердце говорит то, что вы пытались дать мне воду, когда я был у позорного столба. — Вы заметили это? — пробормотал я. Он не понял меня и просто тупо уставился на меня. Я видел перед собой кровавую сцену возле позорного столба и связанное, измученное существо, которое корчилось под ударами плетки — и как ответ на свою отчаянную мольбу о воде получало только тумаки и насмешки. Меня оставил всякий страх перед Квазимодо, вместо этого я почувствовал причастность к нему, которая мне была совершенна непонятна. Он, чужак, возможно, самый ужасный человек на белом свете, показался мне чуть ли не старым другом. Примерно так думал я, пусть даже у меня не было старых друзей и мое сравнение получалось таким же уродливым, как тело Квазимодо. — Я хотел вас спросить, можете ли вы мне помочь, — продолжил с сомнением Квазимодо. — В чем? Он пошарил в складках своего когда-то пестрого, но уже изрядно истрепанного платья и извлек на свет божий книгу, которую положил на стол. По переплету из глянцевой овечьей кожи было видно, что ею почти не пользовались. А когда я раскрыл книгу, то узнал причину ее девственного облика: это была книга нового образца! Издание на французском языке Нового Завета, украшенное гравюрами, отпечатанное в Париже в 1481 году от Рождества Христова. — Что случилось, мэтр, это плохая книга? — спросил Квазимодо, потому что мое неодобрительное выражение лица нельзя было не заметить. — Книга хороша, но вот способ ее создания — плох. Квазимодо наклонил голову набок и вопросительно посмотрел на меня: — В ней нет ничего полезного? — Да нет же, из нее можно извлечь много поучительного. — Книга разговаривает и рассказывает истории. — Такова цель книг и это в свою очередь делает их ценными. — Примерно так сказал и итальянец. — Итальянец? О ком вы говорите? — О человеке, который подарил мне эту книгу. Я так рад, что это хорошая книга. У меня она всего одна, — Квазимодо скорчил лицо в кривую гримасу, что, видимо, должно было означать чувство радости. — Что случилось с этим итальянцем? Где вы встретились с ним? — Внизу, в Соборе. Он часто бывал в последние дни там. чтобы поговорить со мной. — Вы понимали его? — спросил я в недоумении. — Он был очень ловок по части выражения своих слов жестами. Итальянец! Мои догадки не долго вращались вокруг комет и таинственных замков. Мне пришел на ум только один итальянец, и он вихрем поднял мои мысли, как сильный порыв ветра — пожухлую осеннюю листву в лесах вдоль Сарты[842]. Я подумал о маленьком человеке с черными локонами над морщинистым лицом, который в своем поношенном плаще походил скорее на нищего, нежели на лейтенанта сыска Шатле — Пьеро Фальконе. Что подтолкнуло лейтенанта к тому, чтобы бродить по Собору и расспрашивать Квазимодо? Заходила ли речь у Фальконе о звонаре — или обо мне? — О чем итальянец беседовал с вами, Квазимодо? — Он задавал много вопросов о соборе Парижской Богоматери и много рисовал. — Рисовал? Что же? — Собор, скульптуры. И меня! — последнее он сказал с явной гордостью, и его медвежьи лапы застучали по собственной груди. — Почему вас? — Он сказал, я — удивительное явление, которое заслужило того, чтобы быть запечатленным для потомков. Вы так не считаете, мэтр Сове? — Да, конечно же, без сомнения, он совершенно прав, ваш итальянец. — Почему вы спрашиваете о нем, мэтр? Вы его знаете? — Возможно. Он был маленького роста, узок в плечах? — Нет, он высокий и статный. — Его лицо избороздили морщины? — Оно было гладким и красивым как у молодой женщины. — У него вьются волосы, они черны, как смола? — Вьются да, но скорее светлые. — Тогда я его не знаю, — сказал я с облечением и лишь теперь подошел к тому, с чего следовало начать: — Он называл вам свое имя? — Я должен был обращать к нему — «мэтр Леонардо». Я не знал ни одного человека с таким именем и никого, кто бы подходил под описание Квазимодо. Однако оставалась нерешенной загадка, почему этот итальянец интересовался Собором и Квазимодо, но мне было все равно. Явно это не имело ничего общего со мной и двумя убийствами. Это, должно быть, заблуждение, из того, чем было богато это время для меня — заблуждениями и сюрпризами. Возможно, мне стоит еще упомянуть, что моя беседа с Квазимодо не проходила так гладко, как это могло .показаться на первый взгляд читателя. Если бы я захотел в деталях описать все повторные вопросы глухого и те якобы помогающие жесты, к которым я прибегал, то и в целой бочке не хватило бы чернил. К тому же, самого Квазимодо было нелегко понять. Как у многих глухих, лишенных достаточного общения с людьми, его способность говорить атрофировалась, и он редко внятно произносил слова. Расставляя неправильно ударение и проглатывая целые слоги, он говорил, как работают старые несмазанные колеса мельницы — со скрипом и вздохами. — Что же теперь делать с этой книгой? — спросил я и указал на Новый Завет, не касаясь его; я боялся печатных книг как черт ладана. Мне представлялось жутким святотатством распространять Святое Писание с помощью сатанинского искусства Гутенберга. — Она должна говорить со мной, рассказать мне своиистории. — Тогда вы должны прочитать ее. — Этого я как раз и хочу. Вы научите меня читать, мэтр Сове? Стоит ли говорить, что я был удивлен? Это было бы сильным приуменьшением. Оторопев, потеряв дар речи, я уставился на звонаря. Этот грубый чудак, ошибка природы — и святое искусство чтения? Мне это казалось столь же несовместным, как Святое Писание и печатный станок Гутенберга. Представление о том, что сгорбленный парень склонится над книгой и остановит свой глаз под кустистой бровью на строках евангелистов, заключало в себе нечто абсурдное. И потом, существовало еще другое препятствие для учения: его глухота. — У вас раньше никогда не возникала потребность читать? — тут я последовал старому правилу, благодаря которому ловко отказывают, отвечая на вопрос встречным вопросом. — Отец Фролло всегда говорил — Святое Писание только для людей Церкви, только они могут толковать и понимать слово Божье. И ученые книги — для ученых. Книги приведут народ только к глупым мыслям и отвлекут тем самым от служения Господу со смирением. Он не хотел, чтобы я занимался с книгами. И позже, когда колокола лишили меня слуха, мы больше не говорили об этом. Новый порыв сочувствия к Квазимодо пробудился во мне, и я постыдился своих мыслей. Разве Святое Писание не могло стать для него утешением? Я почувствовал гнев на отца Фролло за то, что он отказал своему питомцу в этом утешении. Я решил исправить положение, которое нарушил архидьякон по отношению к Квазимодо, и начал занятие, хотя книга и была печатной. Еще никогда Евангелие от Матфея не казалось мне таким трудным, а родословная Иисуса Христа — таким непреодолимым препятствием. Но в случае Квазимодо, глухого ученика, я должен был образовывать четко каждый звук и дополнительно объяснять ему понятия, а лучше всего — показывать их. Но как я должен был сделать понятными для него имена из родословного дерева спасителя, как объяснить такие имена, как Давид, Авраам, Исаак, Иуда, Иосиф? — Он идет! — взволнованным шепотом проговорил звонарь. — Возможно, он знает, что я нарушил его запрет. Пожалуйста, мэтр, не выдавайте меня! Сделайте так, будто эта книга принадлежит вам! Его мольба напомнила мне жалобный плач непослушного ребенка, который прожужжал все уши матери, чтобы она ничего не рассказала вернувшемуся домой отцу о его проказах. Как свернувшаяся кошка, Квазимодо лежал на полу и не двигался, только бегающий по сторонам глаз выдавал его сильное волнение. Я хотел было спросить о причине его странного поведения, но тут заметил, как тень загородила лунный свет. Тень человеческой фигуры. Страх и растерянность Квазимодо передались и мне. Я склонился над книгой, облокотившись локтями о край стола, и, подперев голову руками, обхватив пальцами лоб и щеки, притворяясь, что занимаюсь по ночам. Но я смотрел не на изуродованные черными литерами страницы, а сквозь пальцы — на следующее окно. Я чуть не убежал в угол к Квазимодо, когда увидел зловещее лицо. Как в богатых домах, в оконные рамы было вставлено хорошее стекло, и оно выдерживало ветер и дождь, поэтому я считал излишним закрывать на ночь ставни. Я предпочитал, чтобы лунный свет, а не полная тьма окружала меня. Но вид лица за окном заставил меня серьезно задуматься о своем отношении. Наблюдатель, вероятно, каждую ночь приходит и заглядывает ко мне в келью, как демон Суккубус в поисках своей жертвы?! Морщины на высоком лбу сдвинулись, словно тяжелые думы беспокоили его хозяина. Это был отец Фролло. Горящие глаза угрожающе кололи ночную темноту, и я был рад, когда он, наконец, отвернулся и исчез в тени каменных закоулков колокольной башни. — Он ушел, — тихо сказал я. — Почему вы так боитесь его, Квазимодо? Квазимодо поднялся, дрожа всем телом, и посмотрел испуганно на окна. Когда он, наконец, почувствовал себя в безопасности, он ответил: — Вы не боитесь его? На этот раз смутился я, сделав вид, словно не услышал вопроса. Почему? Возможно, я не хотел признаваться себе, что архидьякон, мой покровитель, внушал мне страх. Как знать, может, я не желал показаться трусом самому себе. Квазимодо не потребовал ответа. Возможно, он подумал, что мои слова, как и многие другие, миновали его глухие уши. Он подошел к столу и спрятал напечатанный текст снова под свою одежду. — Мне нельзя было приходить, нарушив запрет Фролло. Пожалуйста, не говорите ничего отцу Фролло, мэтр! И он вышел прочь, и как до того архидьякон, скрылся в темноте. Я запер дверь и спросил себя, какой запрет имел в виду Квазимодо. Никогда не заниматься Святым Писанием? Или избегать меня при всякой возможности, что, как мне показалось, было велено и Одону? К этому вопросу присоединилась странная печаль. Мне не хватало Квазимодо, хотя сперва его появление напугало и сбило меня с толку. С тех пор, как я поступил на службу к Фролло, я неделями находился один, и поэтому затосковал даже по общению с горбуном? Было ли это заточением, в котором меня держал Фролло? Так же, как он держал в одиночестве и безутешности Квазимодо, которого и без того избегали люди, отказывая ему даже в чтении Святого Писания. Гнев на Фролло закипел во мне, и я выскочил наружу. Я предположил, что архидьякон ушел в свою келью. Там я хотел разыскать его и поговорить. Как и прежде, когда я впервые стоял перед маленькой кельей, я увидел свет, пробивающийся через щели в двери, и услышал приглушенные голоса. Я переждал в тени рогатого каменного демона и обдумал, кто так поздно может быть у Фролло. У окна моей кельи я не видел никого, кроме него. С осторожностью я подошел ближе. Только голос архидьякона глухо отражался от стен и двери кельи, другого не было. Он разговаривал сам с собой, явно в большом возбуждении. Я слышал крики и проклятия, но не понял ни слова от последних мер я отказался, осмелиться поднести ухо к дереву двери не решился. Что, если Фролло обнаружит меня? Моя ярость улетучилась, усмиренная холодным ночным воздухом. Рассудок подсказал мне, что будет крайне недальновидно злить моего покровителя, к тому же, он без сомнения и так находился в рассерженном состоянии духа. Мне казалось, что я неоднократно разобрал слово «баранка» или «благодарен», сказанное совершенно отчаянным тоном. Какой смысл все это могло иметь? Мне показалось, что я вспомнил последнее слово целестинца и ужаснулся. Нет, это не могло, не должно иметь ничего общего! Дурные сны, недостаток сна и ночная встреча со звонарем явно утомили меня. Лучшее было пойти спать. Ночь поглощала все, и восприятие. Утром, при дневном свете, в Клоде Фролло больше не будет ничего от демона — во всяком случае, не так много. Когда я снова лежал в своей постели, ко мне вернулось сомнение. Опасности нельзя избежать, закрывая от нее глаза. Но мне угрожала опасность? По крайней мере, многое было загадочным. В безопасности теплой постели у меня появился новый порыв храбрости и прочное намерение, разгадать тайну Собора Парижской Богоматери. Действительно остаток ночи я спал крепко и без сновидений. Это явно было бы по-другому, если бы я знал, какими роковыми последствиями обернется мое намерение. И скольких человеческих жизней оно стоило.Глава 2 Почти человек[843]
Я проснулся, только когда солнце поднялось над крышами собора, а мой завтрак — свежий ржаной хлеб и овсяная каша, — стоял на маленькой скамье перед кельей. Это стало обычаем: Одон приносил мне еду сюда, чтобы не отвлекать от работы. Возможно (и к этому я склонялся все больше), он избегал поводов беседовать со мной. Но сегодня-то я разговорил бы его — сотни вопросов одолевали меня после вчерашней ночи. Поначалу голод был сильнее любопытства. Пока я хлебал кашу из деревянной миски и вылизывал остатки корочкой хлеба, я решил подловить в обед Одона Два стакана сладкой вишневой настойки, которую посылал мне отец Фролло, были мною выпиты. Напиток укрепил мое мужество и намерения, заставив сильнее стучать кровь в жилах. Так думал я тогда и забыл, как всякий опьяневший, что мужество и сила — мимолетные обманчивые ощущения, если они подкреплены лишь вином. За работу тем утром я так и не сел. Странные события ночи занимали меня настолько, что в моих размышлениях не нашлось места для комет, путь они состояли только из земных паров или пятой стихии. К тому же, моя голова отяжелела от вина, поэтому едва могла воспринимать глубокие мысли великих ученых. Когда подошло обеденное время, я притаился в засаде. Я сел на полу рядом с дверью, чтобы хорошо слышать Одона. При этом я устроился поудобнее, закрыл глаза и слушал ветер, который монотонно свистел в углах и закоулках Северной башни, стихая и снова усиливаясь. Когда я проснулся, был уже вечер; суп с бобами на маленькой скамеечке давно остыл. Я проклял вишневую настойку и от гнева едва не разбил кувшин. Я был склонен видеть в этом подношении дьявольскую хитрость Клода Фролло, но вино обладало просто отменным вкусом. Однако, тем не менее, я запил водой мой холодный обед и решил: то, что так позорно не вышло днем, наверняка получится вечером. Тени стали длинными, как запреты долгих церковных постов, а солнце — бледным отражением в потоке Сены, когда Одон пришел с ужином. Заслышав его шаги, я снова сидел за дверью, но на сей раз — бодрствовал! Я вытянул довольно далеко голову, чтобы подсматривать через одно из окон. В темноте причетник показался мне весьма странным. Я увидел только его фигуру, закутанную в грубую рясу, которая низко склонилась перед скамьей. Быстро, слишком быстро, я вскочил, распахнул дверь и выбежал наружу. То есть, хотел выбежать, но в спешке споткнулся о дверной порог, упал на причетника и повалил его на пол. С глухим шлепком разбилась глиняная чаша, которая была у него в руках. Что-то горячее ошпарило мне кожу, сильно запахло рыбой, луком и щавелем. — Проклятье, черт побери, да будь ты проклят! — закричал причетник подо мной и столкнул меня с себя. Я ударился затылком о деревянную скамью, резкая боль пронзила голову. Ощупывая ушибленную голову, я застонал: — Простите меня, Одон, я совершенно не хотел нападать на вас. Я просто споткнулся. — Одон с легкостью простит вас, мэтр Сове, его-то вы не окатывали ухой. Хороша благодарность! Человек, который поднялся передо мной и смотрел на залитую супом рясу, был узок в плечах, лицо под жидкими светлыми волосами выглядело плоским как доска, словно после его рождения лоб, нос и подбородок договорились не обременять короткую человеческую жизнь выразительными чертами. — Но …кто вы? — Меня зовут Гонтье, и я причетник собора Парижской Богоматери. Отец Фролло поручил мне заботиться о вас, приносить вам еду и питье и предоставлять все, что вы пожелаете. — Нет, Одону это поручено. — Теперь не ему. — С каких это пор? — С сегодняшнего дня. — Почему? — Потому что архидьякон велел ему очистить от пыли скульптуры Собора. — Разве это не мог сделать точно так же кто-нибудь другой, вы, например? — Верно. — Почему Фролло передал вам обязанности Одона, ему же поручил другое? — Задайте этот вопрос Фролло, мэтр Сове. Я занимаюсь другим. — Чем? — Мне принести вам новый суп? Я отказался от супа, извинился еще раз перед Гонтье и привел себя в порядок, насколько было возможно. При этом я размышлял над тем, какая причина могла быть у Фролло, чтобы дать Одону новое задание? Именно после этой ночи, когда Квазимодо посетил меня! Совпадение? Конечно, я мог бы спросить об этом Фролло, но тогда он почувствовал бы мое недоверие. И при малейшей неудаче я снова стану голодным безработным бродягой на улицах Парижа. Значит, надо смолчать и сделать вид, будто ничего не произошло? Нет! Хотя подзадоривающее воздействие вишневой настойки и ослабло, я браво сохранял свой настрой и стал искать Одона в Соборе. Впервые со Дня Трех волхвов я покинул башню и снова вошел под наводящие страх своды, погруженные в сверхъестественный свет пламени многих сотен свечей. Врата огромной церкви были еще не закрыты, и по Собору передвигалось не меньше народа, чем встретишь на улицах Парижа. Рядом с кающимися, молящимися и церковными служителями Собор наполняли торговцы с лотками и молящие о пожертвовании нищие. Я пробирался сквозь толпу и искал глазами примечательное лицо Одона. Возможно, сейчас как раз был подходящий момент, чтобы поговорить с ним. Толкотня и шум скрыли бы нас от Клода Фролло лучше, чем самые толстые стены. Наконец.я обнаружил его в маленькой часовне, где он очищал от пыли скульптуры Трех волхвов. — Если вы и дальше так ревностно будете полировать головы волхвов, они не смогут носить свои короны, месье Одон. Так как статуи величиной с человеческий рост стояли на метровом постаменте, Одон поднялся на раскачивающуюся табуретку. От моего неожиданного появления он чуть не упал. В последний момент он сумел ухватиться за украшение на голове Каспара, подтверждая тем самым, что не только господину благородных кровей может быть выгодно стремление к короне. Лишенный всякого высокомерия, скорее со страхом в расширенных глазах, причетник глядел на меня сверху вниз. — Вы здесь? — Почему бы нет? Вы забыли, что я гость отца Фролло? Всегда до вчерашнего дня вы занимались тем, что заботились о моем благополучии. — До вчерашнего дня, как вы сказали, мессир. Теперь у меня другое поручение. Одон сказал «другое», а имел в виду — «более важное». Похоже, причетник изо всех сил хотел это продемонстрировать, когда как одержимый чистил корону Каспара, чтобы стереть отпечатки пальцев, оставленные им в поисках спасения. Так как он совсем не обращал внимания на мою персону, я гневно пригрозил: — Один удар по скамейке, и все волхвы, вместе взятые, не спасут вас от падения! — Что вам от меня нужно? — теперь в его взгляде сквозила ярость, напополам с чем-то еще. Со страхом? — Я хочу с вами поговорить. — Вы это как раз и делаете. — Я разговариваю с двучастным очистителем пыли, который состоит из вашего тела и скамейки. С перекошенным лицом Одон спустился вниз и мрачно посмотрел на меня, пока его руки нервно теребили шерстяную тряпку. — Итак? — Вы избегаете меня уже много дней. Почему? — Какие у меня могут быть с вами дела? Вы — переписчик и живете наверху в башне, мои же обязанности внизу. Это два разных мира. — Миры, которые соприкасаются. Вы все это время носили мне еду и питье. — Я нерегулярно выполнял свои обязанности? — Нет, все в порядке. — За остальное мне не платят. Я вспомнил о нашей первой встрече и понял намек. Один раз я засунул руку в свой кошелек, и один соль поменял своего хозяина. Одон не казался больше таким отрешенным. На его губах даже заиграла улыбка, когда он увидел монетку на своей грубой ладони. Нет, его робость передо мной не была разыграна, но один соль купил добрую часть его пугливости. Вдруг, словно он испугался, что я смогу поменять свои намерения, его пальцы сжали медный кружок. — Итак, мэтр Сове, чем могу вам служить? — Расскажите мне о Квазимодо. Он не настоящий сын отца Фролло? — И да, и нет. — За один соль я назову такой ответ довольно неточным. — Следуйте за мной, мэтр, и я расскажу вам. Мы прошли через продольный корабль церкви (неф) и вышли через портал Пресвятой Девы на площадь перед Собором. Тут же я почувствовал себя окрыленным и, раскинув руки, наслаждался свежим вечерним ветром, который дул с левого берега Сены. Я хотел бы подняться в воздух, словно птица, и улететь прочь! Свободным как птица я почувствовал себя впервые с той поры, как поступил на службу к Клоду Фролло. Конечно, там наверху, на башне, я дышал свежим воздухом, но всегда было чувство, что я не частичка мира, а пленник Нотр-Дама. Одон отвел меня к грубо сколоченной деревянной кроватке, перед которой стояла большая медная кружка. — Здесь, если вам это так интересно, колыбель Квазимодо. Сюда добрые парижане кладут своих детей, если потомство нежелательно или они не могут прокормить его. Кто хочет, может подойти и забрать ребенка себе, — Одон показал на кружку. — И пожертвования для бедных сирот тоже всегда приветствуются. — Значит, он подкидыш? — А могло ли быть иначе? Какая мать захочет вырасти такое чудовище, как Квазимодо?! — А Клод Фролло принял его к себе? — Иначе никто бы не захотел взять неуклюжее существо. Подумайте, даже в госпитале Сен-Эспри-а-Грас[844], который должен давать приют всем сиротам, не открыли бы ворота для Квазимодо, а достопочтенные воспитатели сирот нашего города отвернулись бы в ужасе. Нет, нет, мэтр, поверьте мне, Квазимодо повезло, что наш отец Фролло, тогда еще юный капеллан, позаботился о нем. — И он воспитал его? — Он воспитал чудовище. Это было пятнадцать или шестнадцать лет назад, когда черная смерть забрала семью Фролло. Только его младший брат остался в живых. Одон понизил свой голос и приблизил свой рот к моему левому уху: — Поговаривают, архидьякон заключил черный договор, жизнь своего брата — за Квазимодо. Фролло воспитал звереныша, и за это его брат не достался чуме. — С кем Фролло заключил этот договор? — Одон отступил назад. — А я знаю? Это всего слухи, да и только. Но звонаря называют сыном дьявола, не так ли? — Так можно судить по его имени, — размышлял я слух. — Он получил имя, потому что его нашли в Квазимодо, первое воскресенье после Пасхи. — Если бы вы были немного знакомы с латынью, то знали бы, что означает «квазимодо». А именно, ни больше ни меньше, а «примерно» или «почти». — Почти? — переспросил Одон. — Да, почти человек. — Без отца Фролло он бы им никогда не стал, — разве что мертвым чудовищем. — Фролло — очень интересная личность. Расскажите мне о нем побольше, Одон. — О нет, право! Я вам и так достаточно рассказал за ваш соль, правда, достаточно. Теперь мне нужно идти чистить статуи. Не столько время, сколько страх перед архидьяконом подгонял его. Я крепко схватил за рукав спешащего причетника и достал новый соль. — Это плата, если вы пожертвуете мне еще немного времени. — Не следует быть безудержно жадным, — возразил Одон и вырвался, чтобы направить торопливые шаги к порталу Пресвятой Девы. Так я остался стоять там в нерешительности с монеткой в руке. Теперь я знал, почему Квазимодо называют то братом Жеана Фролло, то сыном Клода Фролло. Он был и тем, и другим, и в то же время — никем. Подкидышем. Итак, почти человек. Как и я. Возможно, это было причиной, почему я прошлой ночью при встрече с кривым звонарем почувствовал необъяснимую сопричастность. Огромный храм исчез — как и оживленная площадь перед ним, Отель-Дьё, дворец архиепископа слева от Собора и район каноников справа от него. Оживленный даже в вечерние сумерки Париж превратился в задумчивый Сабле, место моего детства и юности. И обитель моей тайны, которая казалась мне такой же неразрешимой, как загадка Собора… Когда воспоминания прошлого смешались у меня с настоящим, когда большие крестьянские дома в Сабле слились с покосившимися на ветру тавернами на острове Сены, а маленький монастырь бенедиктинцев, которому я обязан своим образованием, поглотила громада парижского Собора, меня как громом поразило. Видение? Или это мне только кажется спустя время? Нет, думаю, уже тогда я чувствовал, догадывался — я знаю, что загадка связана с другим. Судьба послала меня в Париж, в Собор, чтобы я разгадал здесь тайну моего происхождения. Воспоминания о прошлом увлекли меня за собой. Неподвижно я смотрел на простую,без прикрас, деревянную колыбель, и мне казалось, что видел перед собой уродливое дитя, кричащее на неудобном ложе и не вызывающее ничего, кроме любопытства, отвращения и насмешек. Потом оно стало взрослым горбуном, которого я видел на Гревской площади. Тогда, много лет назад, Клод Фролло проявил милосердие, которое не повторил недавно на Гревской площади. Что же произошло за эти годы? Фролло так изменился? Или — Квазимодо? Деревянная доска заскрипела, даже задвигалась, словно там лежало невидимое дитя. Скорее, это был сильный порыв ветра. Я спросил себя, проявил бы я на месте молодого Клода Фролло милосердие к такому чудовищу, как Квазимодо? И не ответил. Я бросил в медную кружку монетку, отвергнутую Одоном, и повернулся к Собору. Тут уголком глаза я заметил на площади перед Собором человека, который вселил в меня страх. Быстро, с колотящимся сердцем и скачущим пульсом, я спрятался в тень от колыбели сирот в надежде, что другой, не заметив меня, пройдет мимо. В противном случае я поплачусь головой.Глава 3 Долой бороду!
Я следил за коренастым человеком из своего ненадежного укрытия. Я тут же узнал его, хотя лицо наполовину было скрыто бортами берета, украшенного перьями. Окрашенные в красный и голубой цвет перья яростно бились на ветру, но Жиль Годен казался серьезным, как всегда. Вдруг, совсем недалеко от меня, он остановился, и я уже поверил, что обнаружен. Но он смотрел не на колыбель для сирот, за которой я сидел на корточках, как играющий в прятки ребенок. Он взглядом следил за одетым в черное человеком, который вышел из дверей портала Страшного Суда и спустился вниз по ступеням на площадь перед Собором. За Клодом Фролло. Их взгляды встретились, и Фролло остановился возле нотариуса. Едва он поравнялся с ним, как Годен согнул слегка колено, склонил голову и тихо сказал: — Простите и благословите меня. Просите Бога, чтобы он даровал мне хороший конец и уберег от дурной смерти. Фролло ответил так же тихо: — Бог благословит вас. Он дарует вам хороший конец и убережет от дурной смерти. Я был изумлен. Выросший среди монахов, вынужденный выслушивать немало благословений, молитв и набожных приветствий, но таких слов я никогда не слышал. Так же и в религиозных писаниях, которые я переписывал у бенедиктинцев в Сабле, они не встречались. До сих пор Жиль Годен не производил на меня впечатление особенно верующего человека. С интересом я прислушивался к приглушенным голосам, ведущим разговор, и забыл совсем о страхе быть обнаруженным. Годен выпрямился: — Я искал вас, монсеньор. — Я как раз собирался выходить. — Ваши исследования касательно Фламеля[845]. Фролло кивнул: — Мы должны торопиться. Наши враги подступают к нам ближе и ближе, я чувствую это. Они уже вышли на наш след, даже в Соборе мы не в безопасности от них. — Вы кого-то конкретно подозреваете? — Здесь не место и не время, чтобы говорить об этом. Я сделаю свое заявление на собрании девяти. — Поэтому я и пришел, монсеньор. Я должен предупредить вас, что собрание перенесено. Оно состоится через пять ночей, когда погаснет день Божий. — Кто распорядился? — Великий магистр. — Тогда для этого должна быть веская причина. — Возможно, у великого магистра есть план уничтожения наших врагов. Подобие улыбки заиграло на тонких губах Фролло; она отражала рассудительность, а не радость или облегчение: — И у наших врагов есть планы, это и затрудняет все дело. Они распрощались и оставили меня полностью растерянным, но, к счастью, не обнаруженным. Их слова были явно предназначены не для чужых ушей и никогда бы не оказались сказанными, если бы меня не скрыла сгущающаяся темнота и деревянная колыбель. Что все должно обозначать, так, впрочем, и осталось неясным. У меня не было и времени, чтобы поразмышлять над этим. Фролло повернул на север и окунулся в квартал каноников, чьи ворота закрывались лишь после боя колокола, зовущего к Angelus. Возможно, он хотел сократить путь к мосту Нотр-Дам, или он хотел посетить свою келью в богадельне. Нотариус исчез в путанице улиц напротив Собора. Может быть, он хотел пройти по мосту Менял к Шатле, возможно, его цель находилась где-то на острове Сены. В свете церкви Сен-Христофора я увидел, как узкая фигура скользнула из темного угла и села на хвост Годену. Только на один миг разноцветный свет из витражей церкви упал на бородатое лицо потрепанной фигуры, но все же этого хватило, чтобы опознать нищего. — Колен! Думаю, от волнения я произнес его имя вслух. К счастью, нищий был слишком далеко от меня, чтобы услышать. Мгновенно я вскочил и поспешил за обоими. Одного Колена было достаточно для моей спешки, но к тому же он преследовал нотариуса, что вдвойне подстегивало мое любопытство. Казалось, я нащупал узелок сети, в которой барахтался уже несколько недель. Сеть из неуверенности, предположений и подозрений. Если мне удастся в этот вечер развязать узел, то я надеялся вырваться из этих тенет. Моя роль, признаюсь, доставляла мне удовольствие. Слишком долго я казался себе беспомощным, как оставленный ребенок, как слепой без поводыря. Теперь я наслаждался тем, что был преследователем своего преследователя — с надеждой разузнать больше о двух темных фигурах: о Жиле Годене, который сделал лживое обвинение против меня, и о Колене, обворовавшем меня и потом выдавшем себя за моего друга Очевидно, он не относился к друзьям Годена. Возможно, он был одним из врагов, о которых говорили Фролло с нотариусом? Переулки петляли, становились все более темными. Уже скоро я больше не знал, где мы находимся. Я старался не терять из виду Колена в случайном свете окна или открытой двери в таверну. Шел ли он еще по следу Годена, я не знал. В одной темной и спокойной улочке, которая предположительно была наполнена складскими амбарами, нищий оторвался от меня. Я не видел и не слышал его больше, а потому остановился и старательно прислушивался в темноте, пока мои глаза присматривались к очертаниям. У улицы было много ответвлений: невозможно было сказать, какое из них выбрал Колен. Протяжный и пронзительный крик о помощи раздался у меня в ушах, крик, заставивший меня похолодеть. Голос женщины. Пока я пытался определить направление, раздался снова резкий, полный страха крик: — Помогите! Грабители, убийцы! Да помоги мне кто-нибудь! Он звучал справа наискосок от меня — и я бросился вперед. Но голоса многих мужчин, крики и проклятья вновь остановили меня. Хотя у меня и висел в кожаном чехле на правом бедре кинжал, который я купил себе на аванс Клода Фролло, но он подходил больше для накалывания поджаренного мяса, нежели для борьбы против целой шайки разбойников. Крики женщины уже затихли, когда мне пришла, как я надеялся, спасительная мысль. Я громко застучал по истертому тротуару и заорал изо всех сил: — Оружие к бою и окружайте банду убийц!.. Сержант Арман налево, сержант Сове направо!.. Вперед, стражники! С обнаженным кинжалом я действительно бросился вперед и побежал в первый переулок справа Я топал так громко, как только мог, выкрикивал короткие команды и проводил лезвием ножа по стенам, так что от него сыпали в стороны искры — все ради надежды, что мой шум спугнет банду. Если нет, они расправятся в два счета с отрядом из одного человека из Сабле. Лунный свет упал на площадь побольше. Там лежала пара брошенных пустых ящиков и бочек. Воздух был влажным: площадь явно находилась недалеко от реки, и здесь воняло крысами и нечистотами. Ни души по сторонам. Но я был уверен, что нашел место разбоя. Быстро удаляющиеся шаги заглушали мое запыхавшееся дыхание и стук крови. Я пришел слишком поздно? Исчезли не только разбойники, но и жертва. Кроме дороги, по которой я пришел, было еще две. Я не мог различить, по какой из них убежали другие. Было невозможно определить, забрали ли они с собой женщину, или бедняжка убежала от своих мучителей. Преследовать разбойников не было моим делом, да и не стоило так поступать. В одиночку я вряд ли сумел бы отбить у них женщину. Даже если незнакомка сама спаслась, то я больше ничего не мог для нее сделать. Мне оставалось лишь искать обратный путь к Собору в путанице переулков. Когда я решил покинуть площадь, то наступил на что-то мягкое и чуть было не поскользнулся. С любопытством я наклонился и увидел лежащий на земле комок волос. Разбойники отрезали женщине волосы в потасовке? Я наклонился. Волосы были седыми, без крови. Когда я поднял пучок, он приклеился к моей руке. Так все-таки кровь? Во внезапном приступе отвращения я захотел стряхнуть волосы. Напрасно — они прицепились к моей правой руке. И тут я разобрал, что это было: борода. Седая борода нищего Колена. Не могу сказать, что это открытие уменьшило мое замешательство. Нищий был таким же фальшивым, как и борода? Даже если так, то, что мне это давало? Я свернул мою находку вовнутрь промазанной клеем поверхностью, и спрятал в камзол за пазуху, чтобы позже внимательно рассмотреть при лучшем освещении. Angelus уже давно отзвучал, когда я нашел дорогу к Собору. И тем больше я удивился, когда увидел портал Страшного Суда открытым в такое время. Свет падал наружу на пару вооруженных людей, который несли там караул. Возможно, они были причиной тому, что только немногие нищие примостились на площади перед Собором. Колена я не сумел обнаружить, но на это и не рассчитывал. Перед лестницей я остановился и обдумал, что должен обозначать весь этот марш-бросок стражи. Узнал ли меня Жиль Годен и созвал по тревоги стражу Шатле? — Вот он! — раздался резкий голос. — Там внизу у лестницы стоит Арман Сове! Молниеносно стражники сбежали вниз, чтобы направить на меня свои пики и мечи. — Не оказывайте сопротивления, тогда с вами ничего не случиться! — прорычал бородатый сержант. — Проследуйте за нами в Собор! — Да, приведите его сюда, убийцу! — послышался тот же самый хрипящий голос. Его владелец прыгал в проходе по сторонам, как бешеный пес. Я узнал непоседливую фигуру Жеана Фролло. Другой человек, не выше школяра, вышел вперед перед Фролло. Он был старше, чем студент и не белокур, а черноволос. Его морщинистое лицо сложилось в извиняющейся, почти смущенной улыбке, и он приказал стражникам опустить их оружие. — Не сердитесь на их горячность, месье Сове, но они ищут убийцу. — Еще один труп? — спросил я. Лейтенант стражи Пьеро Фальконе кивнул с выражением сожаления: — Десятка. Ему не нужно было называть имени. Я уже знал, кто испустил последний вздох.Глава 4 Два немых демона
Фальконе пригласил меня следовать за ним. Два вооруженных стражника и Жеан Фролло присоединись к нам. Мы прошли через Собор, мимо каноников и причетников, которые собрались в небольшие группы и взволнованно шушукались. Показывали пальцем на нас, нет на меня! — и волнение собравшихся росло. Неоднократно произносилось жесткое слово «убийца». — Если он уже когда-то лакал кровь, священник тоже быстро забывает христианскую любовь к ближнему, — хихикал Жеан дю Мулэн. — Некоторые бы сделали работу палача на месте же. Ужас пробежал у меня по спине, и тут же встал комом в горле. Я схватился за шею и издал клокочущий звук. — До этого дело не дойдет, — сказал Фальконе. — Вероятно, нет. — Но если что, мои люди остановят их. .' Жеан Фролло снова захихикал: — Власть короля против власти церкви. Возможно, эта ночь покажет, какая власть сильнее. Охотнее всего я бы заехал ему по лицу кулаком. То, что мы были друзьями в День Трех волхвов, по крайней мере, несколько часов, он, похоже, начисто забыл. Немецкая пословица гласит: «Чтобы распознать друга, нужно съесть с ним пуд соли». Для школяра было достаточно и щепотки. Недалеко от хоров мы поднялись наверх по винтовой лестнице. Я был благодарен, что не должен и дальше видеть обвиняющие лица священников и церковных служек. Младший Фролло был совершенно прав: жажда мести отражалась в их взглядах, жажда крови — на серьезных лицах. Все христианское воспитание, внушалось ли оно годы или десятилетия, было не так сильно, как инстинкты человека. Око за око, зуб за зуб! Но не менее зло, чем его коллеги внизу, на меня смотрел причетник Гонтье. Его узкая фигура прислонилась к тонкой колонне — хворая, написанная полувысохшими чернилами «I». Даже в розоватом отблеске факела в руках стражника его лицо было белым как мел — как у мертвеца. И наоборот — его глаза выглядели полными жизни, казалось, они хотели испепелить меня. Причетника окружило много стражников и скульптурная группа в человеческий рост — Иисус и его ученики, перед ними на полу простерлась другая каменная фигура, скрюченное туловище с искаженным от боли лицом и пеной из полуоткрытого рта. — Немой демон, — сказал я. — Марк пишет, как Иисус излечил парня от демонов немоты и глухоты. — Отличный парень этот Иисус! — прокаркал Жеан Фролло. — Жаль, что его нет больше среди нас. Его искусство врачевания пришлось бы как раз кстати доброму Квазимодо. Я больше не следил за глупой болтовней школяра. Все мое внимание сосредоточилось на мертвом, который, странно скорчившись, лежал на скульптуре схваченного дьяволом юноши. Кровь вытекла из глубокой раны на шее и образовала большую темную лужу — как раз перед лицом каменной скульптуры. Выглядело так, словно парнишка пил оттуда своими поджатыми губами. Глаза мертвеца смотрели наверх с невероятной задумчивостью. Во рту торчала игральная карта — такая же, какую нашли у сестры Виктории. Хотя я тут же понял, кто на этот раз стал жертвой убийцы, меня охватил ужас. Возможно, не столько от горя по мертвому, сколько от ощущения, что невидимая, но крепкая веревка связывает меня с убийством, а убитый прицепился ко мне, как тяжкое бремя. Перед лицом каменного Спасителя я спросил себя, какова моя в том вина? — Два немых демона, — Фальконе указал на юношу из камня и на убитого. — Более знакового места убийца не мог разыскать. Его жертва навсегда обречена на молчание, как и юноша из Нового Завета, если бы милость Иисуса не вылечила его. — Вы считаете, это место усиливает послание десятки? — Ваше молниеносное высказывание предположения делает вам честь, месье Сове. Задетый этой похвалой, я громко стал размышлять: — Убийца обождал, пока Одон поднимется наверх, чтобы почистить эти скульптуры. — Или он сам заманил его сюда, потому что внизу в нефе и хорах слишком много свидетелей. — Тогда Одон должен был знать своего убийцу, — сказал я. — Арман Сове знает, как это делается, — сказал Гонтье с дрожащим от волнения голосом. — В конце концов, он убийца! — Как вы можете такое утверждать! — накинулся я на причетника. — Спросите лейтенанта, я ему уже все рассказал. — Повторите, пожалуйста, — для месье Сове, — сказал Фальконе так четко, что это уже не было просьбой. — Когда я сегодня вечером принес суп Сове, он набросился на меня и повалил на пол. Он вел себя, как дикий зверь. Он надеялся увидеть перед собой Одона, и когда понял свою ошибку, то спросил меня об Одоне. — Я на вас не нападал, я споткнулся! — Какое такое срочное дело было у вас к Одону? — тон Фальконе был нейтрален, лицо беспристрастно. Но я почувствовал расставленную ловушку охотника, чтобы зверь в итоге попал в капкан. — Я чувствовал себя одиноко в башне и хотел немного поговорить с Одоном. — Почему именно с ним? — Как вы, вероятно, знаете, месье Фальконе, Одон до вчерашнего дня заботился обо мне. Мы беседовали, это я и хотел продолжить. — И сегодня вечером вы встречались с Одоном? — Конечно же, это он! — выпалил тут Жоаннес Фролло. — Я же вам рассказывал, господин лейтенант. Я пошел в Собор в поисках моего брата, хотел попросить его о кое-чем, ну, о финансовой поддержке, и увидел, как Арман Сове разговаривал с Одоном в боковой часовне. Потом они вышли на площадь перед Собором. — Это правда? — спросил Фальконе. — Да, это верно. Я расспрашивал о Квазимодо, что, пожалуй, и понятно, поэтому Одон показал мне колыбель для сирот, где нашли горбуна. После этого Одон ушел снова в Собор, чтобы продолжить свою работу. — А вы? — Я совершил прогулку по острову, хотел побыть среди людей, чтобы развеять чувство одиночества в башне, — было бы неразумно рассказывать Фальконе о Колене и Годене. Лейтенант явно и без того подозревал меня, поэтому мне не нужно взваливать на себя еще обвинение нотариуса. — У вас есть тому свидетели, месье Сове? — Нет. — Ни хозяин таверны, ни девушка из таверны, которая бы вас видела? — Я не был в таверне, просто шел по улицам. — Это называют дешевым развлечением, — захохотал школяр. — Не смейся над этим, брат! — раздался резкий голос с лестницы. — Я был бы рад, если бы ваши развлечения оказались хотя бы наполовину дешевле. Отец Клод Фролло вышел из тени винтовой лестницы и подошел к нам. Жеан язвительно ухмыльнулся ему навстречу. — Коли вы уж сами затронули эту тему, милый брат, то я пришел в Собор, чтобы попросить вас о небольшой поддержке моей учебы. Слава Богу, я еще застал вас. Архидьякон смерил его уничтожающим взглядом: — Перед лицом мертвого вы думаете только о своих развлечениях, Жеан? — Развлечениях? Какому студенту учеба доставляет развлечения? Непосильная работа, а учителя хотят хорошей оплаты. — Они ее получили, это вы знаете так же хорошо, как и я. Но ваши счета из таверн и ваши карточные долги, пожалуй, меньше… — Не так громко, мой брат, здесь стража! — Не думаю, что лейтенант Шатле пришел в Собор, чтобы навести справки о запрещенных карточных играх. — Совершенно верно, монсеньор, — Фальконе указал на мертвого Одона. — Это — единственная причина моего присутствия. Я предполагаю взаимосвязь со смертью сестры Виктории. — Тот же самый убийца? — спросил Клод Фролло. — По крайней мере, тот же способ и, пожалуй, даже мотив. — Какой? — Из разговорчивых людей сделать немых демонов. — Зачем? — Хороший вопрос, — вздохнул Фальконе. — Если бы я знал ответ, то у меня был бы и убийца. — Итак, вы не подозреваете месье Сове? — Как вы пришли к этой мысли, монсеньор? — Капеллан рассказал мне только что, что вы подозреваете моего нового переписчика. Я уже опасался потерять еще и прилежного мэтра Сове после причетника. Клод Фролло посмотрел на меня с каким-то почти теплым сердечным взглядом, что я спросил себя, не ошибался ли я в нем? Справедливо ли подозревал я его в том, что он запретил Одону общаться со мной? Но почему Квазимодо боялся своего приемного отца, словно тот был палачом Пьера Тортерю? И почему Одон так упорно не желал говорить со мной о Клоде Фролло? А теперь Одон мертв — как сестра Виктория, которая была так напугана Клодом Фролло, когда хотела рассказать мне о нем. Совпадение? Я выдержал взгляд архидьякона и попытался определить, было ли его сочувствие искренним или льстивым? Напрасно. В его лице было нечто от маски. К тому же, как высокопоставленный священник, он в избытке натренировался изображать чувства от лести до сожаления. — Ваш переписчик остается у вас, отец, — сказал Фальконе не столько Клоду Фролло, но, прежде всего — ради моего успокоения. — Я лишь хотел поговорить с месье Сове, потому что он один из последних, кто видел Одона живым. — Убийство в храме Пресвятой Девы! — Клод Фролло яростно затряс головой и перекрестился. — Где может произойти такое, попираются право и закон, как и Слово Божье. — Аминь, — сказал Жеан Фролло. — Так как вы сказали только самое существенное, дорогой брат, мы, возможно, могли бы поговорить еще о моих финансовых нуждах. — Постыдитесь, перед лицом мертвого думать только о своих деньгах! — зашипел старший брат. — О моих деньгах? — глаза младшего засверкали. — Итак, вы дадите мне их? — Поговорим об этом в другом месте, Жеан. Это не подходящее место. Они поднялись по лестнице. Фальконе так же отпустил и Гонтье, которого явно расспросят каноники и причетники внизу. — Вам я точно больше не нужен, лейтенант Фальконе? — нерешительно спросил я. — О нет, напротив! — Но вы же сказали, что не считаете меня виновным. — Да кто же невинен, за исключением Богоматери? Каким-то образом вы связаны с этим делом. Сперва сестре Виктории перерезают горло вскоре после беседы с вами. А теперь повторяется то же самое с этим беднягой. — Но я ничего не знаю. — Возможно, вы что-то знаете, сами того не подозревая. Давайте побеседуем в спокойной обстановке, лучше всего за бокалом вина. Этого, пожалуй, мы заслужили оба. Что вы об этом думаете, месье Сове? Я не мог отказаться от приглашения, чтобы не навлечь на себя подозрение. Фальконе поручил сержантам унести труп. Прежде чем он спустился со мной вниз по лестнице, он достал смятую карту изо рта Одона и пробормотал: — Препятствие, предатель, начало и конец.Глава 5 «У толстухи Марго»
Хотя лейтенант Фальконе и снял с меня подозрение в убийстве, собравшиеся в Соборе каноники и причетники вовсе не казались мне успокоившимися. Я был рад улизнуть от их застывших взглядов, и последовал за Фальконе на площадь перед Собором, где он повернул направо. Наш путь проходил под самыми стенами монастыря по улицам, которые просматривались ничуть не лучше, чем те, по которым я преследовал Жиля Годена и нищего Колена. Освещенные пивные, гогот и смех, девушки и женщины всех возрастов, одетые скорее легко несмотря на холодный вечер, а часто вообще оголенные на подобающих местах, определяли здешнюю картину. Разбитные бабенки дразнили нас своей грудью с высокой шнуровкой, своими крутыми бедрами и ягодицами и пытались завлечь призывами, которые показались мне по соседству с Собором и монастырем не только бесстыдными, а прямо таки богохульными. Тогда я еще не осознавал, что храмы Бога и слуги Бога, независимо от их обозначения, связаны только с Церковью, а не с Богом. Фальконе остановился перед большой таверной, чье название я с некоторым трудом сумел разобрать на покосившейся от ветра, обветшалой вывеске — «У толстухи Марго». Рядом с выцветшей надписью не менее блеклая мазня изображала лицо и грудь невероятных размеров женщины, между мясистыми холмами (а лучше сказать — горами) которой, рос пышный и явно когда-то пестрый букет цветов. Как говорится, доверяй только хорошей вывеске. Эта же производила совершенно иное впечатление, нежели вызывающее доверие. — Ну, мы пришли, — объявил Фальконе довольно. — Хорошо, по дороге у меня появился крепкий аппетит. У Вас так же, месье? Скептически я осмотрел старое здание, за покосившимися оконными рамами с марийским стеклом[846], за которым мелькали огни и тени, раздавались крики и песни. — Снаружи не так привлекательно, тут вы правы, месье Сове. У «Толстухи Марго» позади ее лучшие дни, но истинный ценитель предпочтет лучше опыт возраста, нежели проходящий блеск юности. — Но само имя не обещает ничего особенного. Каждый второй трактир во Франции будет так называться. Фальконе охотно кивнул: — Верно, но здесь — настоящий. — Что вы хотите этим сказать? — Вы не знаете, что имя снискало себе известность благодаря балладе Вийона[847]? Ну, так вот здесь образец для пользующегося дурной славой стихотворения не менее сомнительного поэта. А теперь заходите, наконец, прежде чем мы здесь не вросли в землю! Когда Фальконе распахнул дверь, нас обдало плотными, теплыми клубами, какие могли подняться снаружи только в холодном вечернем воздухе. Я в буквальном смысле мог доставать кинжал, чтобы разрезать завесу из пота, пива и винного перегара. И помимо запахов нас окружил необузданный шум хорошо посещаемого заведенья. Помещение харчевни оказалось просторным, а почти каждый из грубо сколоченных столов был занят. Рядом со стойкой был проход, как и ведущая наверх лестница. Там достигалось блаженство горячего мяса, расхваленное Фальконе? Лейтенант углядел свободный стол и потянул меня за собой, мимо шпильмана с гривой из локонов, чья песня о суровой жизни в темнице, которую он пел с южным акцентом, совсем не вязалась с радостными звуками его лютни. Я указал Фальконе на это, пока мы усаживались, и он ответил: — Это тоже одна из баллад Вийона. У толстухи Марго можно петь только песни Вийона. Старый кокийяр[848] вел бурную жизнь. Его стихи, правда, не всегда веселые, но он знал, о чем писал. Я, должно быть, ошарашено посмотрел на него, потому что Фальконе спросил, что со мной. Он не мог знать, что его фраза напомнила мне о некоторых словах в бане на улице де ла Пеллетери. Я увидел перед собой миловидную Туанетту, когда она вдруг с ужасом отвернулась от меня и назвала «членом братства раковины». И я почувствовал угрозу мэтра Обера и его грубых помощников, которые вышвырнули предполагаемого члена «братства раковины» из бани. — Я не понимаю ваших слов, месье Фальконе. Кто такие члены «братства раковины»? — О, святая несведущая юность! — вздохнул лейтенант с наигранным пафосом. — Когда вы родились, организация «братьев раковины» уже утратила свое влияние. И даже если они были далеко распространены, то такие удаленные места, как Сабле, остались ими пощажены. Вы действительно ничего не слышали о кокийярах? — О раковине? Нет. — Одна из самых опаснейших и больших банд мошенников во Франции. — Меня воспитали монахи. — Это объясняет кое-что, — задорный блеск сверкнул в глазах Фальконе. — Банда мошенников неохотно рассказывает о другой, не так ли? Я пожал плечами и подозвал жестом девушку, которая едва могла избежать грубых окриков и наглых рук. — Жаркое, сыр и вино, черное морийон[849], — заказал Фальконе. — Жаркое куском, чтобы оно было еще сочным, — тоскливым взглядом он проводил раскачивающее бедрами удаляющееся рыжеволосое создание, прежде чем повернулся ко мне. — Ну, месье Сове из меланхоличного Сабле, так как вы не знаете ничего о кокийярах, начну-ка я лучше свое объяснение от Адама и Евы. Я предполагаю, об экошерах[850] вам тоже не доводилось слышать за вашу молодую жизнь? — О живодерах? Конечно, я слышал о них! — возразил я с некоторой гордостью и возмущением. Кому же понравится, чтоб его представляли глупым мальчишкой? — Во время войны и Сабле не было ими пощажено, почтеннейшие горожане рассказывали настоящие страшные истории. О бандах живодеров, отбросах войны, уволенных или сбежавших наемных солдатах, которые разоряли любую деревню, любой двор на своем пути, пытали людей, надругались над ними и снимали последнюю рубашку. — Часто не только последнюю рубашку. Если крестьяне и жители деревень хорошенько припрятывали свое добро или действительно были бедны как нищие, экошеры сдирали тогда с их живых тел кожу. — Для устрашения? — спросил я вслед, представляя с ужасом яркую картину описываемого. — И для этого тоже. И потому, что подонкам это доставляло удовольствие. — И кокийяры — подобная гнусная банда? — Такой она была, по крайней мере, но вот прошло уже около двадцати лет, когда ее уничтожили, ну, минимум, полностью обезглавили. Говорят, кокийяры вышли из экошеров. Когда страна была опустошена после войны, длившейся свыше ста лет, и бандам наемников, занимающихся мародерством, больше не находилась добычи, они попытали свое счастье за лишь кажущимися надежными стенами городов. Так возникли кокийяры, «братство раковины». — Странное название. Откуда оно происходит? — От раковины, которая служила опознавательным знаком членам этого распространенного по всей Франции союза. Предпочтительным образом они использовали спрятанную под одеждой пилигрима раковину. Такой же точно, как крепко закрытые половинки раковины, долгое время была вся банда. Все больше становилась их сеть, и братство делилось на четкие подразделения: одни срезали кошельки, другие были взломщиками, шулерами и фальшивомонетчиками, разбойниками и убийцами — это если назвать только самые главные подразделения. В 1455 году на след банды вышли в Дижоне, где у нее было одно из укрепленных убежищ. В следующие годы кокийяров все больше загоняли в угол, пока они не утратили своего единства и не распались, наконец. Их короля, впрочем, так и не поймали. — Их короля? Кто это был? — Никто этого не знает. За его выдачу любому бы пришлось несладко. Знаете, что кокийяры делали с предателями? Они прокалывали глотку и засовывали в рот раковину для устрашения других «братьев раковины». Тут же Одон и сестра Виктория встали у меня перед глазами. — Я вижу по вам, что вы думаете, так же как и я, месье Сове. Убийца, за которым я охочусь, действует как прежняя банда кокийяров. Только десятка сменила ракушку. — Вы верите в совпадения, лейтенант Фальконе? — Я вовсе ни во что не верю, иначе я бы стал священником. Моя задача найти взаимосвязи, мотивы и, прежде всего, исполнителей. Рыжеволосая девица принесла большой поднос к нашему столу, на котором стояли два оловянных стакана и глиняная кружка с вином, жаркое, сыр и темный хлеб. Фальконе крепко схватил девушку за руку и спросил, дома ли Марго. — Я не знаю, — вырываясь, ответила рыжеволосая. — Ну, да, — ухмыльнулся лейтенант. — Передай ей, что Фальконе хочет с ней поговорить. Когда девушка снова исчезла в толпе, Фальконе сказал: — Марго захватила время кокийяров. Возможно, она сумеет рассказать вам об их короле. — Вы же говорите, никто не знает ничего о нем. — Но есть целая уйма слухов. Некоторые утверждают, что Вийон — их король. — Франсуа Вийон, поэт? — Он самый. Вийон, ученый и уличный поэт, магистр и мастер ножа. Он какое-то время жил в этом доме, когда толстуха Марго была юной красивой девушкой, а он — ее сутенером. — Вийон — сводник? — Не говорите так громко, месье Сове! — смеясь, Фальконе налил темное вино в бокалы. — Вы можете обидеть тем самым некоторых господ в этом зале. Кроме того, Вийону вменяются обвинения и похуже. Но давайте сперва подкрепимся. Уж Марго сумеет рассказать кое-что о великолепном Франсуа. Он достал острый нож из-под своей куртки, чтобы разрезать хлеб, сыр и жаркое. Так же и мой голод победил ужас, который охватил меня при виде мертвого причетника. Я достал кинжал и вонзил его в хрустящее жаркое. Так ловко и неожиданно, как он прежде схватил девушку, Фальконе взял теперь меня за предплечье. Пока моя рука с кинжалом, остановленная таким образом, зависла над столом, я удивленно посмотрел на лейтенанта. Его глаза изучающее уставились на мой кинжал. — Оружие еще совсем новое, — сделал он заключение. — Но уже имеет следы необычного износа. Клинок здорово поцарапан, — другой рукой он потянулся к моему кинжалу, и, проверяя его заточку, провел большим пальцем по лезвию: — Тупо и грязно, к тому же, — он потер большой палец об указательный палец. — На ощупь как будто старый строительный раствор. Стоило ли мне выдавать ему, что я скреб своим оружием по стене, чтобы изобразить из себя отряд королевских стражников? Едва ли, потому что тогда я должен буду рассказать о Жиле Годене. Так что я изобразил по возможности невинную улыбку и проговорил: — По нему вы можете видеть, что я больше человек пера, нежели холодного оружия. Я недавно чистил кинжалом стык в стене в моей келье и не думал, как это будет губительно для инструмента. — Лучше почистите сталь, прежде, чем приметесь за мясо и сыр. С тупым кинжалом вам явно придется хорошенько покромсать жаркое. Звучало доброжелательно, но по взгляду Фальконе я понял, что мой кинжал заинтересовал его не на шутку. И теперь до меня дошло, почему он пригласил меня и заказал жаркое. Я держал кинжал у него перед носом. — Рассмотрите клинок теперь вблизи, господин лейтенант. Вы не найдете ни капли крови. И тем еще меньше уличите убийцу за этим столом. Наоборот я желаю, чтобы Одон был бы жив! Фальконе отвел мою руку с оружием: — Не горячитесь так, месье Сове. Я уже вижу, Одон был убит не этим кинжалом. Я прекрасно понял намек. — Вы имеете в виду, я мог бы использовать другое оружие? Вы хотите меня обыскать? Едва я выговорил это, я предпочел бы залепить себе пощечину. А что, если Фальконе найдет фальшивую бороду у меня под камзолом? Как мне это следует объяснять? Я еще так плохо разбирался во всем, но одно я знал точно: Фальконе будет думать, что я прокрался за Одоном с накладной бородой, чтобы убить его предательски из-за угла. — С орудием убийства вы едва бы вернулись обратно в Собор, — сказал лейтенант и махнул рукой. — Если вы так думаете, зачем тогда эта история с жарким? — Чистая рутина, месье. Простите закоренелому стражнику его маленькие причуды. Кроме того, я действительно проголодался, — Фальконе жадно впился зубами в мясо и запил его большим глотком вина. Его слова о состоянии моего клинка подтвердились, и мне действительно пришлось повозиться, чтобы отрезать ломоть жаркого. Мясо было сочным и хорошо сдобрено приправами, морийон — крепким. Фальконе и я обедали, словно между нами никогда не существовало недоверия и подозрения. — Чудесно, что соколу Парижа нравиться еда в моем доме. Давненько вы не гостили у нас, лейтенант. Женщине, которая подошла к нашему столу, не приходилось искать себе место в переполненном кабаке. Кто добровольно и с почтением не отстранялся, просто сносился в сторону мощными телесами, которые грозили выскочить из поблескивающего голубого платья при каждом движении. Уложенные башней волосы были окрашены в странную мешанину красного и коричневого цветов. Толстая женщина была в годах, даже если по ее заплывшим чертам лица нельзя было точно определить возраст. Из разреза платья выглядывали две розовые мясистые горы мощных размеров, из центра которых рос пестрый букет цветов. Без сомнения, это и была толстая Марго, впрочем, на несколько десятилетий старше, чем ее выцветшее изображение на вывеске у входа. Эта сверх меры полная баба, целое собрание круглых, крепких «О», уселась за наш стол и оценила меня своими глазами с красными прожилками, словно я был быком, а она — покупательницей скота. Наконец, она повернулась к лейтенанту и сказала, строя глазки: — Ваша новая ищейка — миленький паренек. Только ему следует, как и вам, иметь побольше мяса на костях. — Нам не всегда удается получать такой хороший куш как вам, Марго, — Фальконе усмехнулся и уставился на ее мощные груди. — Кроме того, вы ошибаетесь в месье Сове. Он не относится к Шатле, он новый писец отца Клода Фролло. С такой сноровкой у него были бы неплохие шансы в цехе фальшивомонетчиков у кокийяров, не так ли? Марго сделала внушительный глоток вина, при этом она просто поднесла кувшин к губам. Потом она нагнулась вперед с отрыжкой: — Почему вы опять принимаетесь за старое, лейтенант? Нет новых случаев, которые занимают вас? Вы поймали жнеца из Собора? — Кого? — Ну, того парня, который наградил причетника кровавым ожерельем? — Это произошло буквально сегодня. Откуда вы уже знаете об этом? Она засмеялась так неистово, что ее розовые холмы запрыгали, как бодрые лягушки, грозя в любой момент выпрыгнуть из треугольного разреза. — Марго всегда знает, что происходит в Париже. Не это ли причина, почему вы частенько находите дорогу ко мне, страж закона? Фальконе кивнул: — Итак, вы окрестили убийцу жнецом. — Не я, а мои друзья здесь, — ее толстые как колонны руки описали круг, будто она хотела прижать к груди всех посетителей таверны — и, без сомнения, места оказалось бы достаточно. — Вам это известно? — Фальконе положил на стол игральную карту изо рта Одона и расправил ее. — Десятка, конечно, я знаю ее. Вы имеете в виду, в тавернах Парижа больше не играют в карты, только потому, что высокие мужи из Шатле запретили игру на счастье? Когда это кому-то мешало? — Мне тоже не будет мешать, если эти карты будут использоваться только для игры, — обычно такой дружелюбный, тон Фальконе с этими словами стал жестче. — Эту карту я нашел сегодня во рту мертвого причетника, как и точно такую же три недели назад между губ мертвой августинки из Отеля-Дьё. Ей тоже перерезали горло. — Помоги ей, Боже и Святой Августин, — сказал Марго, подняла глаза на небо и разыграла сочувствие. — Случившееся напомнило мне о кокийярах, — непоколебимо продолжал Фальконе. — Тогда это была раковина, теперь же — десятка. Марго непринужденно улыбнулась и обнажила неполный ряд гнилых зубных пней: — Времена меняются, но люди остаются теми же. — И кокийяры — тоже? — «Братья раковины» больше не существуют, господин лейтенант. Многие из ваших прилежных коллег давно уничтожили банду. — Возможно, рука закона покарала не всех. — Откуда мне знать? — У толстухи Марго «братья раковины» были как у себя дома! — открыл козыри Фальконе. — И здесь проживал Франсуа Вийон, величаемый многими королем кокийяров. — Зачем вы откапываете трупы, которые давно превратились в тлен? — Марго говорила насмешливым тоном, но я думал, что заметил, как ожесточились мясистые черты ее лица. Фальконе изучающим взглядом посмотрел на нее: — Я не знал, что труп Вийона был найден. Просветите меня толком и скажите, когда и где ваш любовник испустил последний вздох? С этой новостью я мог бы предстать перед прево во всей красе. — Вы же знаете сами, что о Вийоне нет уже лет двадцать ни слова, ни духа Многие говорят, он тогда сдох, выплюнул свои легкие из тела. Последние годы парень страдал от легких. Скитания по холодным лесам, долгое время в темнице, все это не пошло ему на пользу, нет. Марго отрезала ножом Фальконе кусок жаркого и с чавканьем жевала его, внешне совершенно забыв обо всем, даже о Вийоне. — Его смерть не доказана, — сказал Фальконе поучительным тоном. — Двадцать лет назад Вийон покинул Париж, после того как он чудом избежал виселицы после своих детских проделок и сослан на десять лет в ссылку. Его следы с тех пор пропали, тут вы правы, Марго. Но о том, как он неоднократно возрождался из пепла, рассказывают с тех пор во всех направлениях самые дикие слухи. Я не могу представить себе, что они не дошли до ваших ушей. — Я слышу столько сплетен, что уже давно не могу запоминать все, — Марго выковыряла мясную прожилку из черных зубов и проглотила ее. — Что за слухи вы имеете в виду? — То, что он примкнул к труппе балагана во Фландрии и играл в мистериях Иуду Искариота и апостола Павла. Две роли, которые имеют так много общего. Один предает Иисуса, другой себя самого, — Фальконе сделал глоток и добавил: — Другие слухи говорят, что Вийон нанялся на службу к султану Ибрагиму Али визирем. Или якобы он уединился в монастыре тайного братства. Марго проглотила вслед за жарким толстый кусок сыра, который теперь перемалывали ее челюсти. Я думал, что заметил, как при последних словах Фальконе она замерла на секунду. Но это была ошибка; она опять уже жевала и спрашивала как бы между прочим: — Разве король Людовик не издал общую амнистию в шестьдесят седьмом, спустя четыре года после ссылки Вийона, чтобы снова наполнить людьми обескровленный город после черной смерти? Разве такой человек, как Вийон, чьим миром были улицы Парижа, не вернулся бы тут же, если бы он был жив? — Возможно, его мир стал другим. Возможно, у него есть причины не возвращаться, — Фальконе наклонился, сокол подкарауливал свою добычу. — Возможно, он уже давно в Париже, но затаился. — Глупости! — Марго засмеялась с такой отдачей, что пара кусочков сыра пролетела возле моих ушей. — После амнистии ему нечего бояться. — Не солдат короля. Но такой человек как Вийон должен явно иметь много врагов. Я чувствовал себя совершенно лишним при всем этом разговоре и злился по этому поводу. Фальконе и Марго спорили о человеке, о котором я ничего не знал, кроме того, что он был сочинителем песен — явно тем, кто был склонен больше к сточным канавам, нежели столам прекрасного общества, и чьи песни распевались не при большой публике, но во всех тавернах Франции. — Почему так много шума вокруг этого парня? — пробормотал я. Марго бросила на меня строгий взгляд: — Никто не сочинял такие песни как он — ни до, ни после. Это песни людей здесь, — и снова она обняла весь кабак. — Не фальшивый миннезанг высоких господ и благородных дам. Песни сутенеров и проституток, о вине и опьянении — и о кокийярах, — при этих последних словах она посмотрела на Фальконе. — Так он писал о том, что знал, — сказал угрюмо я. Фальконе заметил: — Что можно учесть в оправдание малого числа поэтов и потому должно тем более цениться у Вийона. — Но он был большим ученым, магистром в Сорбонне, — горячилась Марго, которая не на шутку разошлась. — Магистр и мастер ножа, как я уже сказал, — Фальконе откусил сыр. — Человек со многими занятиями, многими именами и, если верить слухам, многими жизнями. — Почему так много имен? — поинтересовался я. — Свое настоящее имя знает, пожалуй, вообще только он сам. В актах Сорбонны мы найдем его как Франсуа Монкорбье, Франсуа-С-Холма-Виселицы — явно судьбоносное имя! Позже он выступал, как Франсуа де Ложе, но и назывался еще Мишель Мутон. Этот список я могу продолжать еще долго, но даже наша роскошная Марго потом посмеется тайком, как мало известно в Шатле. — Я никогда не смеюсь над стражей, — возразила Марго. Фальконе отмахнулся: — Никогда, если стража рядом. — А Вийон? — спросил я. — Почему его так зовут, если у него много имен? — Не знают, за кем была замужем его мать, когда он родился, — ответил лейтенант. — Если она была замужем. Она нашла покровителя для маленького Франсуа, уважаемого опекуна, который дал ребенку свое доброе имя, даже если этим не воспользовались. Гийом де Вийон был капелланом в церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне, напротив Сорбонны, и, должно быть, имел, как верят одному из слухов, естественное право дать свое имя маленькому Франсуа. Теперь, возможно, Вийон унаследовал противоречивую душу этого набожного человека. — Что вы там говорите так напыщенно? — спросила Марго между двумя глотками вина из кувшина. — Гийом де Вийон был капелланом, но способствовал жизни, по возможности больше чем своей вере. Из-за распространения своего ошибочного учения его лишили поста, — Фальконеигриво поднес палец ко рту и продолжил шепотом: — Точно ничего не известно, но он явно водился с еретиками. Марго разразилась хохотом, поперхнулась и прыснула через весь стол, так что красный винный дождь пролился на Фальконе и меня: — Лейтенант, вы стражник или сплетница? Клянусь душой моей давно убиенной матери, я еще никогда не слышала так много болтовни за один вечер! — Ваша вина, уважаемая Марго. Так как вы отказываете нам в фактах о Вийоне, нам приходится строить предположения. Марго ударила кулаком по столу и пьяно воскликнула: — Нет никаких фактов! — Не философствуйте, это вам не идет, — иронично произнес Фальконе. — Шпильман! — Марго поманила кудрявую голову к нашему столу; мне бросилась в глаза странная форма его лютни, как голова козы или скорее коня, сверкающая как серебро. — Шпильман, господа хотят послушать факты о Вийоне. Валяй, выкладывай-ка факты для их ушей! Музыкант ударил по струнам — левой рукой, и запел чистым голосом:Глава 6 Каменная смерть
Прямо передо мной стояла девушка и говорила со мной, но я не понимал ее. Неугомонная дробь глухих ударов барабанов поглощала слова, каждый удар был таким мощным, что от него содрогался весь дом. А может, у меня только оттого возникало такое впечатление, что большинство людей сбились в кучи, стоило барабанам загреметь? Мужчины и женщины толпились в большом зале, каменные стены которого обещали им убежище и защиту. Надолго ли? Девушка развернулась и вышла. Я побежал вслед за ней. В тот момент я не знал причины, это было неопределенным предчувствием опасности. Удары барабанов обещали беду, а страх людей красноречиво подтверждал это. В длинном проходе я остановил девушку. Здесь ужасный барабан гудел не так мощно. Крича, мы поняли друг друга. Я спросил девушку, куда она идет. — Мне нужно выйти, продолжить поиск. Я предупредил об опасности, которая при каждом ударе барабанов обрушивается с небес на голову за пределами защитных стен. — Опасность — цена познания. Девушка хотела убежать прочь, но я крепко схватил ее за плечи, не давая ей уйти. Тут меня самого схватили за плечи и дернули с такой силой, что я упал на землю. Надо мной стоял костлявый мужчина с примечательным, похожим на лошадиное, лицом. Я узнал его: Одон. Он ушел, а с ним девушка. Передо мной открылся покинутый ход, кажущийся бесконечно длинным. Я побежал вдоль по нему, натолкнулся на винтовую лестницу и прямо-таки взлетел, а не взбежал вверх по ней. Да, у меня было чувство, будто я лечу, парю над ступеньками. Наконец, я стоял на свежем воздухе. Сильный ветер дул мне прямо в лицо, мешал дышать, колол глаза. И за ветром пришел каменный дождь. Каменные шары, больше головы, летели во все стороны, будто их швыряла рука разгневанного великана. Мощными ударами они разбивали в крошку крепостные стены вокруг меня. Камень за камнем величавой горной крепости вырван из своей ячейки. Тут я увидел девушку. Она стояла перед большим входом и внимательно смотрела на многочисленные скульптуры наверху, полностью забыв про каменный дождь. Но я видел, что каменные глыбы приближались все ближе ко входу. Со страшным треском в воздухе летел камень. Я видел, как он приближался, и знал — он размозжит портал, а с ним и девушку. Я закричал и заметил силуэт, который кинулся к девушке, ища защиты, словно она могла оградить от каменной смерти. Но прежде, чем каменный блок раскололся на части, я побежал. Когда я подоспел, яростный порыв ветра рассеял пыльное облако возле места удара. Под скалой и руинами портала лежало похороненное размозженное тело, я заметил остекленевший взгляд Одона. От девушки не осталось и следа… Я проснулся рано утром и был благодарен тому. Смерть Одона преследовала меня даже во сне, сливалась с вечно возвращающимися картинами горной крепости. Так навязчиво, что сон почти не приносил мне отдыха. Я чувствовал себя усталым и разбитым, словно действительно боролся на той горе со штормовым ветром. Голова трещала, и многочисленные вопросы, которые напирали на меня, не способствовали облегчению. Что должны были найти Одон и девушка в замке? Да и я сам? Кто метал камни? И девушка — что она искала? Кто она? Во сне я был с ней знаком, однако не знал ее имени. Я закрыл глаза и попытался вызвать в воспоминаниях молодое, красивое лицо. Непроизвольно я подумал о малышке, которая прошлым вечером танцевала под песню Вийона. Это она произвела на меня такое впечатление, что я взял ее в мир моих сновидений? Шорохи возле моей двери в келью оторвали меня от воспоминаний. Я вскочил с кровати и подошел к окну рядом с дверью. Я чуть было не выскочил наружу и не обнял мужчину, который там ставил на маленькую скамейку круглый поднос. Одон! Он жив! Я оставил дверь закрытой. С разочарованием я осознал, что мой измученный разум играет со мной шутки: это был Гонтье, и у меня не было повода заводить с ним разговор. К чему слушать обвинения, если он вообще заговорит со мной. Слишком отчетливо у меня в памяти прозвучало его утверждение, что я — убийца Одона. Когда я сидел за утренней трапезой, то догадывался, что Гонтье или даже все остальные причетники продолжали считать меня убийцей Одона Хлеб был черствым и старым. К сожалению, лишь после нескольких ложек я почувствовал отвратительный привкус мучного супа: это было утреннее пожертвование воды от причетника, а, возможно, даже от самого повара. Я с большим трудом приступил к работе над второй главой Пьера Гренгуара «О теориях, которые выражали ученые в новейшее время о состоянии и определении комет». Я едва понимал, что записал Гренгуар. Много раз я делал описки и был вынужден стирать ошибки железным скребком. Виной тому были не только запутанные теории, в которых кометы назывались «хвостатыми звездами», «посланниками небес со шлейфом» и «кровавыми бичами Божьими», — мои мысли витали вокруг других вещей. Все снова передо мной возникал Одон и неподвижно смотрел на меня с белых страниц, причетник появлялся из моего пера, пролитая кровь — из чернил. Но я не был убийцей! Когда Одон умер, я преследовал Жиля Годена и бородатого нищего Колена. Мысль об этом не была способна смягчить мое воспаленное сознание, оно задавало новые вопросы. Куда шли оба? Почему Колен следил за нотариусом? Кем была та женщина, чьи крики я услышал? Что скрывалось за фальшивой бородой? Вероятно, Колен использовал ее. Почему он скрывал свое лицо? И куда, ради всех святых, запропастилась борода? Мои размышления были нарушены стуком в дверь. Отец Клод Фролло вошел и поинтересовался моим самочувствием. — Жестокая смерть Одона поразила нас всех, но, похоже, особенно вас, так как вы были несправедливо заподозрены в убийстве, месье Сове. — Некоторые, кажется, не считали это несправедливым, — возразил я и рассказал ему о мучном супе. — Этого больше не повторится. Я серьезно поговорю с Гонтье. — Коли мы уже заговорили о причетнике, монсеньор, почему вы передали ему обязанности Одона? — Боюсь, вы здесь наверху действительно одиноки. Гонтье — молодой смышленый парень, немного умнее, чем был Одон. Я думал, общение с Гонтье будет для вас разнообразием. Если Гонтье не нравится вам, я заменю его другим причетником. — Нет, этого не нужно, — сказал я. — После вчерашнего случая ни один из них не расположен ко мне. После короткого осмотра моих достижений в работе Клод Фролло покинул меня и отправился в свою удаленную келью. С ним исчезло и необъяснимое давление, которое воцарилось в моей груди с его появлением. Фролло не удавалось рассмотреть насквозь, — также, как нищего Колена, как монаха-призрака, как лейтенанта Фальконе. Я никогда не знал, имел ли архидьякон в виду то, о чем говорил. Окна привлекали больше моего внимания, чем книги. Чем длиннее становились тени колонн и скульптур на башне, тем чаще я смотрел вниз и ждал. Я ждал Клода Фролло. Того момента, когда он покинет свою келью. Похоже, его разговор с Жилем Годеном вовлек интересы архидьякона в странные события, свидетелем которых я стал с момента моего приезда в Париж. Я жил с ним как бы под одной крышей. Если я следил за ним взглядом, то мне едва удавалось выйти на след его тайны. Когда он действительно покинул свою келью, я резко вздрогнул от испуга. Вечерние сумерки давно наступили, и я зажег лампу на своем столе. Но снаружи все-таки было довольно светло, что я заметил тень перед одним из окон. Худой фигурой мог оказаться только Клод Фролло. Какое-то время он стоял там, застыв как вкопанный, и подсматривал за мной. Я притворился, что погружен в каракули Гренгуара и не замечаю наблюдателя. Едва тень исчезла от окна, как я потушил свет, поспешил наружу и остановился у входа на лестницу. Вчера мне мало посчастливилось в преследованиях Колена и нотариуса. Возможно, сегодня мне повезет больше с архидьяконом. На узкой винтовой лестнице выяснилось, насколько я ошибался. Я затаил дыхание, когда услышал шаги, которые не удалялись, а приближались. Клод Фролло вернулся, потому что заметил меня? Мне следует убежать или лучше оправдаться перед ним? Но каким образом? Я слишком долго колебался, чтобы принять решение. Со стучащим сердцем я ждал тень, которая освещалась слабым светом свечи — бесформенный силуэт, который принадлежал не менее неуклюжему существу. За пару ступеней подо мной звонарь остановился и внимательно изучил меня сверкающим глазом. — Мне нужно наверх! — наконец, выдал он на своей нечеткой тарабарщине. — Мне нужно звонить к вечерне. Я прижался к стене, чтобы пропустить его. Когда он протащил свое изуродованное тело мимо меня, я вобрал в себя воздух. Квазимодо не стоило бы и малейшего усилия отправить меня на тот свет вниз по бесконечным ступеням. Бурча себе под нос, что могло означать как благодарность, так и недовольство, звонарь исчез из поля моего зрения. Я прислушивался к его шагам и ждал, пока двери портала закроются с глухим грохотом. Порыв ветра резко обдал меня. Теперь я почувствовал себя в безопасности и продолжил свой путь. Когда я спустился вниз в Собор, Квазимодо уже звонил к вечерне. Каноники[852] стекались вовнутрь через все порталы, но архидьякона я среди молящихся не обнаружил. Я так долго задержался на лестнице, что он разминулся со мной. Чтобы хоть немного забыться и отдохнуть от Собора и его тайн, я поужинал в таверне у Маленького моста. И в надежде на глубокий сон я запил роскошным шатонефом целую сковороду с куриным мясом, салом, яблоками и белым хлебом. …Мне снова приснилась девушка, которая не давала отвлечь себя от таинственного поиска. На этот раз я не вспоминал о танцовщице, которую видел у толстухи Марго. Кожа, волосы и глаза были темными, как у Эсмеральды. И человек, который был убит каменными глыбами, приобрел черты Квазимодо. При виде мертвого я испытал глубокую печаль, почувствовав необходимость страдать от большой, невосполнимой потери. Этот приступ я едва мог бы себе объяснить. Я таращился на труп горбуна и едва дышал, словно это мне давила на грудь принесшая смерть скала Всхлипывая, я сжался, мои слезы капали на лицо, которое в смерти вовсе не было отвратительным — оно производило мирное впечатление. Когда я проснулся, мои глаза были влажными, и я чувствовал ту же печаль, что и во сне.Глава 7 Итальянец
На следующий день я не раз отыскивал взглядом Клода Фролло. Хотя холодный ветер пригнал над крышами неприятный дождь, почти такой же плохой как в моем сне, я неоднократно покидал свою келью и прохаживался по башне, якобы подышать свежим воздухом. В действительности я прохаживался мимо каморки Фролло. В этом дальнем углу все было тихо и мрачно. Мысль о гневе отца Фролло и о силе его горбатого исполнителя удержала меня от соблазна приблизиться к келье и заглянуть туда вовнутрь через единственное окно. Если я не нашел архидьякона здесь, наверху, тогда возможно, найду внизу — в Соборе. Но и в этот вечер он не принял участия в молитве, он остался невидим, будто камнями проглоченный. Мои расследования не были угодны звездам. Как лейтенант сыска из Шатле, я бы стал самым жалким из всех. Я чувствовал себя потерянно, как много лет назад накануне дня Святого Георгия, во время неудачных бегов наперегонки в Сабле… …Жанетта, дочь бургомистра, должна была вручить приз победителю — вырезанную и раскрашенную статуэтку, которая изображала святого на коне в битве с драконом. Каждый парень в городе хотел обладать фигурой, словно тем самым становился сам победителем дракона. И не было ли это равным покорению ужасного дракона — оказаться самым быстрым, победить всех остальных ребят? Со стучащими сердцами и горячей кровью мы выстроились у церкви. Мы едва сдерживали себя, пока священник не осенил нас крестом, дав нам сигнал. Мы побежали — один раз вокруг всего местечка до дома бургомистра, нашей цели. Каждый видел Святого Георгия у себя перед глазами — чудесную статуэтку, которая сделает героем простого мальчишку. Но я думал о другом. Перед моими глазами сверкал только образ Жанетты: локоны цвета каштана, кожа как слоновая кость с парой крошечных капелек веснушек, большие смарагдовые глаза и губы как спелая вишня. Как часто я видел это лицо перед собой, когда лежал по ночам в своей келье аббатства, окруженный только монахами и членами общины. С какой охотой я бы прикоснулся к бархатным щекам, погладил локоны, поцеловал вишневые губы! Но Жанетта была дочерью уважаемого горожанина, а я — всего лишь сирота, бастард. Она даже не догадывалась о моем существовании, а если и знала, то не задумывалась о том. Все должно было измениться в день Георгия. Потому что Жанетта, таков был обычай, вручала победителю не только приз, но дарила победителю еще и поцелуй. Мне! Во все свободное время я упражнялся в беге, уже с Вальпургиевой Ночи. Меня же ожидал самый большой приз, чем всех других. Итак, мы бежали, мальчишки из Сабле. Сыновья многоуважаемых горожан, как и дети крестьян и наемных работников. И я — самый презираемый из бастардов. Как они удивились, когда я вырвался вперед, едва мы только покинули место. Арман, найденыш, задал им всем фору. Я кряхтел и боролся, бежал и бежал, впереди всех. Мимо меня пролетали крытые соломой хижины поденщиков на окраине, огороды, сочная зелень на берегу реки, усыпанная весенними цветами, — и лица зрителей, которые дивились предводителю своры, мне, бастарду. Мы оббежали Сабле по кругу, я был далеко впереди. Другие, казалось, давно отстали, их топот и тяжелое дыхание едва долетали до моих ушей. Передо мной возник высокий каменный дом бургомистра, дом с настоящими стеклами в окнах. Перед ним деревянный подиум с бургомистром, аббатом и другими почетными гостями. И с Жанеттой, которая держала Святого Георгия. Я совершил это, я был горд и счастлив. Еще только пара шагов!.. А другие мальчишки? Ухмыляясь, я повернулся к ним. Первые добрались как раз до кузнеца Лорена и не были опасны для меня. Тут они странным образом резко развернулись, — ас ними дом и деревья — весь мир. Лишь когда я почувствовал глухой удар, то понял, что это я перевернулся; моя правая нога попала в чертополох. Я упал в овраг перед домом бургомистра, ударившись головой о камень величиной с кулак. Возможно, я потерял бы сознание, если бы вода в овраге не омыла мое лицо. Оглушенный и промокший насквозь, я поднялся, пока ухмыляющиеся соперники один за другим пробегали мимо меня. Жанетта наклонилась к Матиасу, прыщавому сыну пекаря, подарила ему статуэтку и поцелуй. Мне же оставалось все как всегда — издевки и насмешливые крики. — Вздулся пузырь, да и лопнул, бастард! — Уехал верхом, а пришел пешком! Спесь никому не идет на пользу! — и тому подобное. Самым худшим было то, что они правы, а Жанетта осталась только мечтой. Вечером я сидел один на берегу Сарты и бил балкой невинные цветы калужницы. В действительности я был в ярости на самого себя. Но тогда я проклинал со всей ненавистью своего отца — чужого, неизвестного, таинственного. Я насылал чуму на его тело или петлю — на шею. Абсолютно все равно как, но он должен был страдать! Как он заставил страдать своего сына, когда обрек на позор сделаться бастардом — тем, о ком его отец желал так мало знать, что не открыл сыну ни разу ни своего лица, ни имени. Бесконечное горе, которое охватило меня в тот вечер и выплеснуло ненависть, только на поверхности относилось к npoигранномy бегу, упущенному поцелую и все такой же далекой Жанетты. Глубоко внутри я печалился об отце, который навсегда останется для меня чужым.„ …Так и сейчас, много лет спустя, я думал об этом, сравнивал горечь того вечера в день Георгия с тем, что была в моем сне. Чувство было одинаково глубоким, и это я не мог объяснить даже себе. Какая связь должна существовать между горбатым звонарем и моим отцом, моими чувствами? Она оставалась загадкой — притом, неизменной. Следующей ночью сон повторился, и снова я оплакивал Квазимодо. День Господа приближался. Отец Фролло и Жиль Годен договорились о таинственном собрании через пять ночей. Две ночи уже прошли, у меня оставалось еще три, чтобы узнать, чем занимается архидьякон. Я чувствовал, предполагал, что это собрание девяти, как Фролло его назвал, было важно для меня. Оно могло помочь мне разузнать больше о связи между Фролло и Годеном. Узнать больше — о сети, в которую я попал. Первая половина дня тянулась невыносимо долго. Я корпел над вторым разделом книги Гренгуара, и, пока сохло перо, предавался своим мыслям. Посетителя я заметил, лишь когда он уже стоял посередине комнаты. — Вы плохо себя чувствуете, монсеньор Сове? Вы держите пишущее перо так далеко от себя, словно его вид доставляет вам глубочайшее страдание, не говоря о его использовании. Гонтье сказал мне, что вы последнее время мало едите и по вечерам охотно выходите поесть. Я хорошенько отчитал его: вам не нужно больше заботиться о вкусе вашей трапезы. Испытующий взгляд отца Фролло тяжелым грузом лег на меня. Было ли это истинное беспокойство? А если да, откуда оно происходит? Охотнее всего я бы открыто расспросил его, но я не мог на это решиться. Если мои темные опасения оправдаются, то я выдам себя врагу. Если же нет, я бы подверг себя самой глубокой насмешке. — Речь не идет о еде, на это у меня нет никаких жалоб, — пробормотал я и попытался справиться со своим удивлением, пока я попеременно смотрел то на Фролло, то на перо с давно высохшими чернилами. — Но исследования Гренгуара о взглядах новых ученых на кометы — действительно жесткий хлеб. Я мало что понимаю в этом. — Если бы каждый разбирался в этом, то ученых едва бы называли учеными, — насмешливая улыбка заиграла на губах Фролло, но снова исчезла на серьезном лице. — Действительно ли только научный диспут — причина тому, что у вас пропал аппетит и желание работать? Я решился на ответ, который был очень близок к истине. Это всегда предполагает лучшие перспективы не быть пойманным на лжи. — Я должен много думать о несчастном Одоне. Я, по-прежнему, последний, кто видел его живым. — Вы упрекаете себя в чем-то? — Стоит ли? — я пожал плечами. — Возможно, убийца уже был в Соборе, когда я говорил с Одоном. Возможно, я даже столкнулся с ним. — Это воистину безбожные времена, в которые может произойти такой кровавый поступок в святых стенах Собора. Вы не опасаетесь нечаянно стать жертвой жнеца? Мысль заставила меня похолодеть внутри. Это был вопрос — или предостережение? Что происходило внутри Фролло, выражение маски не выдавало его. — Если нельзя чувствовать себя в безопасности в Нотр-Даме, то уж снаружи, на улице — и подавно не по себе, — ответил я уклончиво. — О жнеце я не размышляю, так как я не знаю ни его, ни его мотивов. — Верно, гоните мрачные мысли прочь. Они заводят только в темные углы, из которых трудно найди дорогу обратно. Заботьтесь лишь о кометах, и вы скоро забудете о кровавом злодеянии. После такого напутствия (или это был приказ?) архидьякон распрощался. Волк предупредил любопытного гостя в лесу? Или ученый всего лишь нанес побудительный визит своему медлительному переписчику? Прежде чем дверь закрылась за Фролло, я демонстративно опустил кончик пера в чернильницу, но не написал ни слова Я видел, что мой покровитель ушел в свою каморку, и там останется и после полудня. Я подошел к окну и неподвижно смотрел на башню, как я смотрел ребенком на Пасху в окно. …Каждый год, когда приближалась Пасха, я прилипал к стеклам аббатства в Сабле. Не для того, чтобы как все остальные дети подглядывать, как аисты Пасхи прячут яйца. Я больше не верил, что возвращающиеся домой с Востока птицы клали цветные яйца, с тех пор видел, как миряне раскрашивали их. Нет, я ждал таинственного, невидимого… Моего отца! На каждый праздник Пасхи перед аббатством лежал кожаный мешок, наполненный десятью золотыми кронами и маленькой записочкой, всегда с одним и тем же текстом: «На достаточное питание и одежду, как и богоугодное воспитание Армана Сове». Кто приносил кошелек, оставалось неизвестным. Но я чувствовал, что это мог быть только мой отец. Пасхальная мистерия не усилила мой авторитет в этих местах. Многие перешептывались, что я сын дьявола, который веселится оттого, что отдал меня монахам. Разговоры стали постепенно мне безразличны, я хотел, наконец, познакомиться с отцом. Но я ни разу его не видел, и даже набожные братья не знали его в лицо… Когда я незадолго до вечерни увидел появившуюся тень человека между колоннами и скульптурами, то выскочил наружу, на лестничную клетку, и поспешил вниз. На этот раз я оказался в Соборе раньше Фролло, и он от меня не улизнет. Переводя с трудом дыхание, поскольку я быстро бежал и чуть было не потерял равновесие на темной лестнице, я прислонился к колонне, так что был невидим для того, кто спускался по лестнице. Пока я, прижав горячий лоб к холодному камню, ждал Фролло, до моего сознания лишь теперь дошло, что за невыразимым дураком я был. Если архидьякон, как он это часто делал, заглядывал в мою келью по дороге к лестничному входу, он бы заметил мое отсутствие. Я не запер чернильницу, не закрыл книги и не отложил их в сторону. Разве такая разумная голова, как Фролло, не заподозрит сразу что-то недоброе? Как и всегда, теперь было слишком поздно. Если бы я снова поднялся вверх по лестнице, то как раз попал бы ему в руки. Я мог только надеяться, что он не наблюдает за моей кельей, не считает за шпиона, кем я назначил себя сам. Едва Квазимодо пробил к вечерне, его повелитель вышел из полутемноты лестницы и задержался на минуту в Соборе. Он моргнул не один раз, словно его глаза привыкали к свету. Или он что-то искал? Или — кого-то? Меня? Я плотно прижался к холодной колонне, отчего различал архидьякона только по очертаниям, пока он, наконец, не задвигался и не пошел мелкими шагами к хорам. При этом он поприветствовал входящих в Собор каноников, обменялся с ними парой слов. Ничто, казалось, не указывало на то, что он — человек с тайной, с мрачными намерениями. Не является ли эта мысль плодом моей фантазии? Не сочинил ли заговор из безобидных событий мой измученный запутанными кошмарами разум в приступе безумия? Заговор, существующий только в моей голове. Не сделал ли я из уважаемого каноника ужасное привидение? Однако если это было так, то как вязались два убийства с этой картиной? Он не был фантазией. И еще меньше — жнецом Норт-Дама. Ужасная мысль перехватила мне дыхание на миг: мог дух настолько быть сбитым с толку, что сам раздвоился? Могли ли два существа поселиться в одном теле, из которых одно совершало преступления без ведома другого? Или это было окончательным безумием — самого себя подозревать в убийстве… Все больше народа толпилось в продольном нефе, чтобы присутствовать на вечерней службе. Пока я смешался с толпой, чтобы следовать за Фролло в направлении хоров, я с ужасом посмотрел наверх туда, где Одон встретил свой конец. Если бы скульптуры были из плоти и крови, тогда они бы рассказали о злодеянии и могли назвать убийцу! Я оторопел и так резко остановился, что меня подтолкнули резким пинком в спину. То, что я увидел наверху, заставило меня обо всем забыть. Похоже, фигуры ожили, двигались, чтобы выполнить мое немое желание! В замешательстве я вошел в часовню, прислонился неосмотрительно к искусно украшенному настенному ковру и несколько раз зажмурил глаза. Божественные звуки органа перед западной розеткой окна наполнили Собор, они доходили до самых темных уголков. Так они достигли и моего тела и заставили его трепетать. Возможно, я еще и раскачивался, потому что по-прежнему видел движение наверху. Мой взгляд неподвижно завис на странном явлении, пока в хорах раздавалось пение каноников. К разливающемуся «kyrie eleison!» поющих церковных мужей прибавились нежные голоса двенадцати хоровых мальчиков из дома Гайлона. В их светлом, ясном звучании я постиг истину: только одна фигура двигалась наверху, и она не была высечена из камня. Мужчина с кудрявыми волосами до плеч, повернувшись к скульптурам, стоял там и, видимо, чем-то был очень увлеченно занят. Я снова нырнул в текущую толпу и заметил вблизи, что человек с кудрями держит в одной руке блокнот для рисования, а в другой, левой, — карандаш, которым поспешно чертит на бумаге. И когда он слегка развернулся к свету свечи, я узнал его лицо. Я отчетливо видел его перед собой и думал, что слышал гортанный голос, который пел у «Толстухи Марго» рондо Вийона. Итальянец! Мэтр Леонардо! Квазимодо рассказывал мне об этом человеке, который делал рисунки в Соборе. Это должен быть он. Но именно в этом месте, где умер Одон? Меньше двадцати шагов отделяло меня от выхода наверх, когда наши взгляды пересеклись. Короткий миг удивления, — и он быстро пробежал по узким ступеням вниз, чтобы слиться с толпой верующих и нищих. Его высокая фигура возвышалась над другими, и я хорошо видел кудрявую голову, на которой сидел голубой шерстяной берет. Человек передвигался быстро, как будто убегал от меня. Да и на самом деле он убегал. Я прочитал в его глазах, что он не хочет встречаться со мной — ни здесь, в Нотр-Даме, где он — рисовальщик, ни там, где он — шпильман. Было бессмысленно преследовать его, он хорошо выбрал свой путь к бегству. Элегантно, как змея, он протискивался среди плотного человеческого клубка, сжимаемого прибывающим народом, в котором теперь почти не образовывалось ни просвета. Мэтр Леонардо, если он так действительно звался, исчез за спинами людей, скульптурами и колоннами. Мне не удалось заметить, к какому выходу он стремился, так что было бессмысленно поджидать его снаружи. Сопровождаемый ритмичным громом труб органа, я поднялся наверх, следуя больше внутреннему порыву, нежели конкретной мысли. Я чуть было не поскользнулся. Под ногой оказался листок бумаги, который рисовальщик потерял при поспешном бегстве — на рисунке углем была группа статуй, в центре которой лежал труп Одона. Перед свернувшимся юношей даже было обозначено пятно крови. Я приблизился к скульптурам и увидел, что пятно на полу еще можно разобрать. Какую извращенную цель мог преследовать итальянец этим рисунком? Мое замешательство росло. Я сложил рисунок пополам и засунул за пазуху камзола, чтобы он не исчез оттуда ни при каких обстоятельствах. Он был вещественным доказательством, пускай я даже еще и не знал, чего именно. Если от меня ушел жнец, то зачем ему нужен рисунок места своего кровавого злодеяния? Я направил свои мысли в другое русло и посмотрел на хоры, чтобы разыскать Клода Фролло среди других каноников. Снова и снова я скользил взглядом по лицам духовных мужей, но архидьякона среди них не было. Возможно, он оставил меня в дураках, и только изобразил, что пошел в хоры, а сам ускользнул из моего поля зрения. Я был не в состоянии ответить, была ли то случайность, или он знал, что я его преследую. Но, в результате, все оставалось, как прежде: Арман-бастард снова проиграл гонки — дважды за один вечер. Преодолевая разочарование, я покинул хоры, а потом и Собор. Исполняемая то хором, то органом мелодия гудела в моей голове, и мне было душно среди большого скопления людей. На площади перед Собором я смог снова ясно мыслить и принять решение. Странный итальянец ушел от меня, но у меня была ниточка. Я шел тем же самым путем, что три ночи назад с Фальконе, и повернул к «Толстухе Марго». Хотя я засиделся там порядочно после боя колокола к Angelus, я не увидел ни шпильмана, ни танцовщицы, ни даже лейтенанта сыска. Я подумал о сицилийском происхождении Фальконе и задался вопросом, существовала ли связь между ним и светловолосым итальянцем. Когда и сама толстая Марго не появилась после нескольких часов, я справился о ней у рыжеволосой девицы, которую Фальконе усадил себе на колени в тот вечер. — Мадам сегодня нет дома. — А шпильман? — Какой шпильман? — Тот, который пел в тот вечер, когда я здесь был с лейтенантом Фальконе. — Кто вы? И кто этот Фальконе? — Маленький человек с темными кудрявыми волосами, которому ты вскружила голову. Он еще хотел уйти с тобой в комнату. — Я не припоминаю… Девица поспешила дальше и бросила на меня издали робкий взгляд. То, что она лгала, мне было ясно, но я не хотел дальше расспрашивать ее. Хотя я и не признавался в этом себе, но втайне боялся, что потом, после разговора со мной, ее могут найти с перерезанным горлом — и десяткой во рту.Глава 8 Литейщики и весовщики
Разве не говорит житель Востока о пророке, который идет к горе? Фальконе следовал этой мудрости, возможно не догадываясь о ней. Звуки колоколов, сзывающих к мессе, уже отзвучали несколько часов назад, когда он вошел в мою келью, и у меня от удивления выпало на пол из руки перо. — Большинство людей пугаются при виде стражника, если у них есть что скрывать, — он улыбнулся извиняющейся улыбкой и сделал беспомощный жест руками, так что складки его накидки раскрылись, как крылья летучей мыши. Мне была отлично знакома его ненавязчивая приветливость, чтобы распознать за бодро порхающим полевым жаворонком притаившуюся в засаде лису. Был ли это миг, чтобы рассказать ему о мэтре Леонардо и достать рисунок? Но потом он увидел бы красного дракона и спросил меня, почему я храню в тайнике эту фигуру и бумагу. — Не вы — причина моей неловкости, во всяком случае, не так напрямую, — ответил я, поднял перо и положил к другим в резную шкатулку. — Я немного устал и принял вас в первый момент за отца Фролло, который застал меня в момент моей праздности. Надеюсь, вы не выдадите меня. Я, видимо, вчера вечером слишком долго засиделся у толстухи Марго. Я постановил, что ложь мне дается с каждым разом все легче, чем дольше я упражняюсь в ней. Довольный своим ответом, я поклонился и нажал пробку на чернильнице. Мы были похожи на играющих уличных мальчишек. Теперь я снова бросил ему мяч. Если он знал, что я справлялся в кабаке о шпильмане, это заставит его начать разговор об итальянце. — По своему роду занятий я часто указываю на предателей, но это, однако, не значит, что я сам один из них. Кроме того, я могу понять визит к толстухе Марго, как вы, пожалуй, знаете, — пока он говорил, то подходил ближе, параллельно окидывая изучающим взглядом помещение и, наконец, заглянул в раскрытые книги. — Можно спросить, какое поручение дал вам архидьякон — или это большая тайна? — Почему вы решили, что таковая вообще существует? — Фальконе выглянул из окна. — Почему же иначе Фролло держит вас взаперти здесь наверху, как раба, отрезанным от всего мира? К тому же, Пьер Гренгуар не смог долго выдерживать такое и уволился со службы. Его слова прозвучали небрежным замечанием, но были гораздо большим. Лейтенант сыска имел прекрасное информирование, и я сказал ему то же самое. — Во всяком случае, это относиться к моей профессии. Я должен прислушиваться и сохранять многое, что, на первый взгляд, не имеет ничего общего с делом, здесь, внутри, — он постучал по своей голове. — Но даже безобидные мелочи могут вдруг приобрести значение при взаимосвязи с другими кажущимися безобидными вещами. И иногда то, что мне говорят, столь же важно, как то, что от меня скрывают. Не так ли, месье Сове? Он расставил мне ловушки. Мое возражение могло быть неправильным движением, из-за которого я попаду в петлю. Поэтому я решил ответить, ничего не говоря о себе: — В настоящие времена молчание — знак мудрости и часто — лучше, чем слова, как сказал Плутарх. — Кто знает, что кому нужно скрывать, — Фальконе подошел вплотную ко мне и испытывающим взглядом посмотрел на меня. Теперь он снова был соколом, готовым схватить дичь. — Меня, собственно больше интересует, что вы скрываете от меня! Выяснилось, наконец — он нашел след, ведущий ко мне. У него есть что-то в руках… против меня! Беспокойство охватило меня, отчего у меня вспотели руки, задрожали веки. Я с усилием заставил успокоиться себя и даже выдавил на лице невинную улыбку. — Вы говорите со мной как с преступником, господин лейтенант. — А вы разве не таковы? — Мне пока не известно в чем меня обвиняют. Его ответ состоял только из двух слов, единственного имени, и все же меня это заставило дрожать больше, чем, если бы Фальконе зачитал целый акт обвинения: — Филиппо Аврилло. Я потерял самообладание, что Фальконе принял к сведению со вздохом удовлетворения. — Я вижу, вам известен мэтр Аврилло. Вы весь побледнели. — Он был хорошим человеком, который умер ужасной смертью, — сказал я тихо и обдумывая каждое слово. Крепость содрогнулась, но мое сопротивление еще не было сломлено. Мы не играли больше в мяч, а в primero. Каждый хотел выяснить с помощью намеков, какие карты у другого на руках. Кто сделал намеков слишком много, выдавал себя. — Что вам известно о смерти целестинца? — спросил лейтенант. — Ну, только то, что все рассказывают. Он попал под лошадь нотариуса Шатле. Трагическое несчастье. — Никакое не трагическое несчастье, а покушение. Так, по крайней мере, говорит нотариус, Жиль Годен. Неизвестный толкнул Аврилло под его лошадь — совершенно намеренно, как это показалось мэтру Годену. — Но зачем? — Я думаю, вы могли бы мне помочь ответить на этот вопрос, месье Сове. В конечном итоге, вы знали облата. И это вы утаили от меня! — Утаить можно только то, интересует собеседника, что он хотел бы услышать. Мне было неизвестно, что мэтр Аврилло интересует вас, господин лейтенант. Вы уже больше не заняты поиском жнеца? — Нет, нет, я как раз вышел на ваш след. Аврилло умер в ночь на праздник Святых волхвов, сестра Виктория — на следующий день. Оба служили в духовном ведомстве города. Существует ли взаимосвязь между этими двумя разными событиями? — А нашли десятку у целестинца? — Нет, но это не говорит против взаимосвязи. — Я не в силах следовать за вами, но все же: простите, что я не сообщил вам о моем кратком знакомстве с мэтром Аврилло. — Как кратко оно было? — Мы повстречались только утром в День волхвов, внизу под Собором. Я не нашел пристанища на ночь и поэтому спал среди нищих. Когда причетники захотели грубо вышвырнуть меня, Аврилло заступился за меня. — Примерно так рассказали мне и причетники. — Ах, так это — ваш след, — пробормотал я. — Значит, собратья Одона считают меня жнецом и пользуются всякой возможностью облить меня грязью. Испытующий взгляд Фальконе потеплел. — Я должен проверить каждое утверждение, и не всегда люди понимают это. Я ни в коей мере не чувствовал себя успокоенным, но держался приветливо и предложил своему непрошеному гостю вино, сыр и хлеб. Когда я разлил в бокал яблочный сидр, который Гонтье принес мне на обед, я надеялся, что причетник не использовал схожесть цвета с другой жидкостью для обычной проделки. Фальконе выпил сидр. — Вероятно, вы не были рядом, когда умер Аврилло — или?.. — Это произошло возле Гран-Шатле, не так ли? — Да, с наступлением сумерек. — Я был на Гревской площади, пока не погас костер. Потом я пошел по мосту Нотр-Дам обратно на остров, чтобы подкрепиться в трактире. — Где это было? — Я не знаю точно. Тогда я был здесь совсем новичок, и вино ударило мне в голову. — Как этот сидр, — Фальконе опустошил бокал и довольно рыгнул. — Если я выпью еще больше, то не смогу больше задавать разумные вопросы. Я налил ему добавки. — Тогда давайте поменяемся ролями, и я задам один вопрос: это обычно, что у Шатлесовершают убийства с такой решительностью? — Речь идет о двух убийцах, возможно, о троих, которые связаны между собой. — Даже это не будет чем-то чрезвычайным для такого города, как Парижа. Фальконе положил серебряный грош на стол, словно хотел расплатиться за вино. — Узнаете монету, монсеньор Сове? Когда я внимательнее рассмотрел ее, то обнаружил медные царапины. — Фальшивая монета, которой вы хотели разыграть Марго. — Верно, она. Один из многих грошей, которыми наводнен Париж. Как во времена кокийяров… Похоже, литейщики и весовщики снова принялись за старое. — Странное имя для фальшивомонетчиков. — Литейщиками называют бездельников, которые уменьшают у настоящих монет их содержание серебра, а весовщиками — обманщиков с весами для монет. Они обманывают на весе монет или подкручивают весы, чтобы распространять деньги с меньшим весом среди народа. Или же они используют неиспорченные весы, чтобы выявить хорошие монеты, подходящие для литейщиков. — Для того чтобы обманщики не обманывали друг друга? — Фальконе холодно улыбнулся. — Я вижу, вы смотрите в корень дела. Это же совсем не трудно. Трудно будет, пожалуй, там, где необходимо схватить подонков. Я наклонился вперед с любопытством: — Признайтесь, это дело вашей чести. — Теперь вы заглянули даже мне в душу. — Но это бы означало… — Ну, что же? Я снова присел, таким ужасным мне показалось мое заключение: — Это бы означало, что вы предполагаете взаимосвязь между убийствами и фальшивыми монетами?' Он тяжело кивнул головой. — Фальшивомонетчики, шулера, убийцы. Одно ведет к другому, и все находится во взаимосвязи. — Как вы пришли к этому заключению? — Уже около года мы следим за сбытом отлично отчеканенных фальшивых монет. Первые появились в кассе пожертвований Отеля-Дьё, позже мы нашли их и в других духовных организациях, даже у целестинцев. Филлипо Аврилло был ответственным как alraosenier за распределение поступлений. Литейщики и весовщики отмывали свои деньги с помощью набожных братьев и сестер. Я выразил свое возмущение этим постыдным занятием и спросил: — Итак, епископ Парижский попросил у вас помощи? — Король сам имеет интерес в этом деле. Даже в казначействе появились в огромном количестве фальшивые монеты. Если король Людовик не может положиться на стоимость своей собственной казны, то вся Франция в опасности. — Заговор против короля? — выпалил я, не дыша. Уже давно рассуждения Фальконе вогнали в меня страх. — Вероятно. И уже чистая возможность этого опасна, — сказал лейтенант. — Вам говорит что-нибудь имя Марк Сенен? После небольшого обдумывания я покачал головой. — Он — главный казначей в Высшей счетной палате, — Фальконе вздохнул и скривил лицо в кислую мину. — Скажем лучше, Сенен был таковым. Что сейчас с ним, никому в Шатле не известно. Фальшивые монеты всплыли в его особняке, были внесены в его книги как проверенные и находились как полноценные. Когда мы это установили, прево послал отряд лучников его арестовать. Но его дом был уже пуст, Сенен так же исчез, как и его дочь. Когда мы спросили в соседних домах, мы узнали, что только час до нас лучники штурмовали дом, и Сенен был арестован. Его дочь никто не видел. — Этого я не понимаю. Если стража схватила этого Сенена, то он должен находиться у вас под стражей. — Люди назвались стражей и были одеты в фиолетовую одежду оруженосцев, но они не пришли в Шатле. — Странное совпадение, что они пришли с настоящими почти в то же время. — Если это было совпадение. — Иначе говоря, предполагается, что в Шатле есть предатель. — Вы крайне прозорливы, юный друг, — мина Фальконе стала еще кислее, чем прежде. — Вы можете мне поверить, что эта мысль никого не обрадует в Шатле, меньше всего прево. Но судя по положению вещей мессир д'Эстутвиль не может исключать такое предположение, и поэтому он уполномочил меня пролить свет на эту темную историю. — Итак, вам он доверяет. — Я надеюсь на это. — И вы используете убийства как повод, чтобы иметь возможность заниматься вашими собственными расследованиями без помех. — Верно подмечено. Но не думайте, что жнец мне безразличен. Относится ли он к фальшивомонетчикам или нет, его делишкам нужно как можно скорее положить конец! — Точно так же думаю и я, — сказал я, однако не рассказал ему о рисунке шпильмана Это значило сделать себя пособником полиции, подвергнувшись с большей долей вероятности разоблачению со стороны Годена — Вы довольно откровенны в своих высказываниях, лейтенант Фальконе. Могу ли я из этого заключить, что вы не считаете меня соучастником фальшивомонетчиков? — Если вы — один из них, я ничего нового вам не рассказал. Тогда вы должны были бы мне что-нибудь рассказать, и вам следует так поступить. Схваченные с поличным литейщики и весовщики всегда очень неприятно заканчивают свои дни. Их опускают в кипящее масло — само собой разумеется, еще живыми. — Само собой разумеется, — повторил я с трудом, стараясь скрыть волнение. — Считаю правильным ввести вас в курс дела, — сказал Фальконе, прежде чем распрощался. — Хотя я еще и не знаю как, но каким-то странным образом вы вовлечены в эту историю — хотите вы сами того или нет.Глава 9 Танец мертвецов
За холодными стенами кладбища, между гробниц, наполненных выбеленными костями, раздавались крики, смех, обрывки звуков музыки, во все стороны разлетались руки, ноги и целые тела. Мертвецы танцевали, и если это были не они, тогда те, кто когда-то был таковым. Сгнить и превратиться в бледные кости — судьба и нищего, и короля. Разве люди высокомерно не смеялись над этой судьбой — или же из страха перед этим, из ужаса стать следующим, кого похлопает по плечу старуха смерть с ухмылкой на черепе?! Дерзкие люди, которые здесь, перед лицом тысяч и тысяч мертвых, осмелились так громко жить. Или — отчаявшиеся. Призывы остроумных пилигримов и проповеди изнуряющих себя голодом нищих монахов раздавались неслышно. Я был напуган и оглушен, испытывал отвращение и ужас, постоянно находился в опасности заразиться озорством будущих мертвецов. Некоторые выглядели так, словно старуха смерть уже держала их в своих когтях. Пожар сожрал их черное мясо, гной тек из открытых ран, кости выпирали из пожелтевшей кожи. В другом месте — разбившиеся, в третьем — хворые, — все они были долгожданными танцорами и музыкантами. Их подбадривали, ими восхищались, их осмеивали в головокружении безрадостного веселья. На таком спектакле, невообразимом на кладбище в Сабле, я еще никогда прежде не присутствовал. Внезапно я очутился в кругу шумного хоровода, который следовал за пестро одетым флейтистом. Как пойманная лягушка, которую жестокие невинные дети накрыли кувшином, я напрасно прыгал взад и вперед, слева направо и справа налево, чтобы вырваться из орущего круга танцующих в такт флейты танцоров. В экстазе они кидали свои тела взад и вперед, и у многих из женщин, будь то молодая или древняя карга, при этом оголялась грудь. Грубые крики и жесты должны были завлечь меня, жадные когти хватали меня за нижнюю часть тела. Наконец, возле арки я вырвался из водоворота и обессилено прислонился к открытому своду ворот. Мой взгляд внимательно скользил по месту отвратительного народного праздника. Я снова потерял отца Клода Фролло… Это был день Господа и день собрания девяти. Я уже отказался от своего намерения выйти на след дел архидьякона, когда я увидел его молящимся среди других каноников в хорах Нотр-Дама. Собственно, я хотел покинуть башню, чтобы развеяться на улицах Парижа. Но при взгляде на Фролло у меня снова пробудился азарт охотника Когда после молитвы он вышел из Собора, я превратился в тень, которая следовала за ним по улицам острова Сите по мосту Нотр-Дам до кладбища Невинно Убиенных Младенцев. Но здесь, похоже, я не знал, что мне делать дальше. От громких вздохов и стонов я вздрогнул. Я прыгнул в сторону от арки ворот и недоверчиво уставился в полутьму большого колумбария. Здесь лежали сгнившие останки умерших, которых достали из могил, потому что новым трупам не хватало места — Париж выплевывал их в таком огромном количестве с таким верным постоянством, что вокруг кладбища нужно было устраивать все новые колумбарии. Из непроглядных сумерек раздался новый вздох, сопровождаемый тихим, резким криком. Неужели мертвые звали меня, живущего, чтобы завлечь меня в свой мрачный мир? Я хотел уже хватать ноги в руки и бежать из этого ужасного места, как вдруг разобрал движение в тусклом свете. Медленно я подошел к зданию. Возможно это твоя судьба, Арман Сове — твое больное любопытство победило здоровый страх! Невообразимая вонь обдала меня при входе в аркаду. Наполненные мусором и нечистотами улицы Парижа воняли чудовищно, поэтому люди наслаждались свежим воздухом под деревьями и в окрестностях кладбища. Но этот колумбарий пахнул еще ужаснее, чем пользующие самой плохой репутацией улицы, вонял, как испарения нечистот живых. Моя левая рука на ощупь нашла нос и зажала его, пока я осторожно проходил между гор костей дальше вглубь, в темноту, где увидел призрачное движение. Оттуда до меня доносились беспрестанные стоны и вздохи. У меня захватило дух — если и не от запаха, то от картины, увиденной возле обратной стены колумбария. Если все до этого момента было кошмаром, то это должно было стать мигом ужасного пробуждения. Но я не очутился снова в кровати мокрым от пота. Я действительно стоял перед мертвыми, которые танцевали. Перед скелетами, которые трясли своими голыми костями. Совершенно голыми, чтобы быть точным. На некоторых висели еще клочья мяса, на других целая армия мух, жуков и червей сделала свое дело. Лишь когда я увидел железный стенной крюк, на котором висели скелеты, до меня постепенно дошло. Могилы для новых трупов были нужны так быстро, что старые еще не совсем разложились, когда их снова вырыли из земли. Итак, их повесили, чтобы остатки мяса высохли или пали жертвой паразитов. Но зачем, клянусь Святым Иоанном Крестителем, они танцевали? Здесь вовсе не было сквозняка, который мог бы пробудить к жизни мертвых. Но они снова застонали, завыли как раненые звери, закачались и застучали, как прежде. Мои глаза, привыкшие к полутемноте, рассмотрели странный конгломерат — массу человеческих конечностей среди скелетов. Они не истлели, кости были покрыты еще совсем живым мясом. Руки и ноги в большом количестве, сгорбленные спины, головы. Я различил три существа. Все трое кряхтели, стонали, потели и раскачивались. На голой земле на спине лежал человек со спущенными штанами, прижавшись щекой к щеке уже немолодой женщины, чей мясистый голый зад выглядывал из-под задранной юбки и обхватывал чресла мужчины в сильном возбуждении. Грудь выскользнула у нее из корсажа. Время от времени мужчина прикладывал губы к большому темному соску и сосал его с жадным чмоканьем. Второй мужчина вошел в женщину сзади, пристроившись к ней, как находящийся в течке кобель, и причинял ей боль быстрыми, резкими толчками, словно получал свое удовлетворение от величины ее страданий (если она вообще их чувствовала). Я был не в состоянии различить, рождались ли нарастающие крики женщины от удовольствия или боли — возможно, от того и другого поровну. Гниющий запах плесени, казалось, только возбуждал троих. Они так страстно погрузились в свое горячечное занятие, что не восприняли меня всерьез — или же я был им безразличен. Время от времени женщина и пристроившийся за ней мучитель стукались головами о висящие над ними скелеты и приводили их в движение, сопровождаемое громыхающей музыкой еще висящих на связках костей. Отвращение подступило к горлу. Я выбежал прочь сломя голову и споткнулся о большую груду костей. Облако пыли поднялось, окутало меня, и на губах я ощутил вкус гниющей смерти. Перед собой я увидел полукруглый свет арки ворот — спасение от этой пытки. Нетвердой поступью я добрался до робких лучей прячущегося за тучами солнца. Пестрое и шумное движение на кладбище перед лицом бесстыдной сцены в колумбарии мне показалось совсем в ином свете. В месте вечного покоя устраивать любовные игры и танцевать, нарушать заповедь святого воскресенья и все заповеди приличия — это было возмещением за жизнь, которую ведут горожане Парижа? Жизнь, защищенную каменными стенами — но ограниченную. Чем надежнее защищена жизнь, тем несвободнее она становится — пока не закончится в колумбарии, где, не считая неподобающего действа, ничто больше не может столкнуть кости. Там они вечно покоятся — в безопасности, но без всякого проявления жизни, в покое, воняющем до небес. Мой взгляд скользнул по толпе бездельников, которые скопились на лужайках или возле будок торговцев сладостями, пивом и вином. Это было не то место, где я предполагал увидеть вечно угрюмого архидьякона. И действительно, я нигде не смог его обнаружить. Я свернул в мрачный проулок, проросший тисами и конским каштаном, и с облегчением вдохнул воздух, который в сравнении со смрадом в колумбарии показался мне просто райским. Если Клоду Фролло все же удалось намеренно, или нет, вновь избавиться от меня, я хотел, по крайней мере, насладиться днем. И сочная, пышно разросшаяся для Парижа трава напомнила мне о лесах Сабле. В конце аллеи располагались вытянутые поля могил, на которых не царило большого столпотворения. Каменная эпитафия объяснила мне причину. Здесь лежали в братских могилах охраняемые крестами без украшений умершие во время Великой чумы в 1466 году. О черной смерти никто не вспоминал охотно. Возможно, некоторые даже побаивались, что давно сгнившие трупы все еще могли выделять ядовитые пары этой страшной напасти. По-видимому, поэтому их так и не раскопали, а их останки не перенесли в аркады: боялись миазмов мертвых сердец, хотя они давно уже разложились. Я обнаружил одиноких посетителей чумных могил — и среди них оказался Клод Фролло! Его темная фигура стояла тихо перед одной из них, обрамленной живой изгородью из бирючины высотой по пояс. Я быстро отскочил назад и скрылся в тени раскидистого тиса. Очевидно, Фролло навещал свою семью. Моя осторожность была излишней. Архидьякон повернулся ко мне спиной и пошел дальше — до склепа, у которого несли свою службу скульптуры, странными позами отпугивающие демонов. Он склонил голову и сложил руки в молчаливой молитве. Его скорбь показалась мне гораздо сильнее, чем прежде — возле братской могилы. Вероятно, я ошибся, его родственники были похоронены под каменным надгробием. Наконец, он зашевелился и медленно обошел могилу вокруг, не отрывая взгляда от каменных фигур. Какое странное поведение! Он должен был знать могилу своих родителей, по крайней мере, столь же хорошо, как келью на колокольной башне. Трижды он полностью обошел могилу, и мне это показалось чуждым ритуалом. Наконец, он выдавил из себя шипящий звук, похожий на вздох разочарования, обернулся рывком и зашагал быстрыми шагами прочь, так что я с трудом поспевал за ним. Я последовал за ним по той же дороге, задевал листья бирючины и прошел мимо склепа, чьи странные хранители со звериными мордами заставили бы мурашки пробежать у меня по спине, если бы я не привык к большому числу странных скульптур Нотр-Дама. Надпись на большой каменной плите только увеличила загадку, потому что имена здесь похороненных едва ли были именами родителей Фролло: Николай Фламель и Клод Пернель. Имя Фламеля вызвало у меня воспоминания о разговоре между Фролло и Годеном. Не об исследованиях, которые церковный муж проводил касательно Фламеля, говорил нотариус? У меня не оставалось времени на долгие разглядывания, если я не хотел потерять архидьякона из виду. Он окунулся в толчею на лужайках и остановился возле столпившейся кучи народа, который предавался незнакомому мне удовольствию. Я слышал, как толпа ревела и ликовала, выкрикивая цифры. То, что речь шла о состязаниях, я понял лишь потом, когда взобрался на нижний сук каштана, чтобы получше все рассмотреть. Толпа образовала круг около сорока футов диаметром, в котором прыгали четверо бедно одетых мужчин — как в пляске святого Витта. Они набрасывались друг на друга с кулаками, подбадриваемые криками жаждущих зрелища. Движения этих четверых производили странное, неловкое впечатление, будто бы их тела не подчинялись им. Часто тумаки наносились противнику по касательной, хотя можно было легко попасть в голову или тело. К своему удивлению я признался себе, что они вовсе не целились друг в друга. У них под ногами носилось что-то черное — поросенок, которого они стремились ударить палками. Но вместо визжащего животного они попадали только по земле или по одному из своих — как будто они были в чаду опьянения. — Эй, вот так смачный танец. Вперед, вы, бестолковые парни, орудуйте палками с толком! — голос из ветвей внизу так напугал меня, что я чуть не свалился. Маленькое существо ловко взобралось ко мне наверх и уселось рядом на суке слева. Остроносое лицо под шапкой белых волос мне было знакомо, но не приятно. — Не глядите так сердито, месье Арман! Можно подумать, вы хотите меня проглотить! — Чтобы вы меня снова обвинили в убийстве, Жеан Фролло? Премного благодарен, от праздничной трапезы я отказываюсь! — я отмахнулся с презрительным жестом. — Ошибаться может каждый, в заблуждении пребывает только дурак, это знал еще Овидий. — Если он это знал, то узнал от Цицерона. — О! — Фролло шельмовски усмехнулся. — Посмотрите, куда ведет такое долгое учение. Больше не могут вспомнить свои источники, особенно, если собственный брат так прижимист, что отказывает в деньгах даже на книги. — На книги или вино? — Одно нужно, чтобы выдержать другое, — отрезал школяр и разразился непрерываемым смехом. — При епископском тупоумии моего братца из меня еще выйдет настоящий философ. — При таком большом уме вы мне явно можете поведать, какую диковинную игру разыгрывают там внизу. Что-то вроде пляски святого Витта, как мне кажется. Молодой Фролло взглянул на меня с удивлением. — Вы никогда не слышали о танце слепых? Я отрицательно покачал головой и пробормотал: — Но название подходящее. Четыре дурака ведут себя действительно как слепые. — Они — слепые. Теперь пришел мой черед сделать изумленное лицо. — Я вас не понимаю, месье Жеан. Почему именно слепых заставляют убивать поросенка? — Вы действительно не понимаете, — захихикал Фролло. — В этом то и вся соль. Берут пару нищенствующих слепцов, чьи животы пусты, как мой кошелек, и обещают поросенка тому, кто его убьет. — Но по слепоте своей они бьют только себя самих! — Да, верно, теперь и вы поняли шутку. Я и объяснить не сумел, что не нахожу ни капли веселья в злой шутке, он соскользнул на землю, словно вспугнутая белка. — Клянусь душой моего отца, там внизу стоит мрачный Клод! Вот посмеемся, если на это раз мне не перепадет ни одного гроша. Жеан был проворен, но его брат был еще быстрее. С гневным криком и угрожающими жестами архидьякон разогнал толпу. Поросенок нашел спасительную дыру. Клод Фролло заговорил со слепыми и увел их с собой под гневные вопли разочарованных зрителей. Школяр последовал за братом, и я поспешил за Жеаном. Я ненадолго потерял из виду белокурую голову, но обнаружил ее после перед большим домом, стоящим поблизости от кладбища. Жеан нетерпеливо бегал взад и вперед и все бросал нетерпеливые взгляды на здание. — Брат вас застукал? — Школяр кивнул головой: — Он отводит слепых, так что квэнз-вэн будет полным. — Что, квэнз? — Квэнз-вэн. Пятнадцать на двадцать — в итоге триста. Так много слепых живут в приюте, питаются за счет короля и опекаются мэтром Дени Ле-Мерсье. Вы должны были видеть смотрителя убежища для слепых на празднике шутов. Он был среди гостей в Большой зале во Дворце правосудия. Я припомнил мрачного высокого, крепкого телосложения мужчину с таким именем и спросил: — Вы тоже были на кладбище, чтобы нанести визит вашим родителям? — С каких это пор проводят свое время с мертвыми? У Невинных Младенцев развлекаются, а печаль там не почитается. — Ваш брат, наоборот, казалось очень интересовался склепом — впрочем, с именами Николая Фламеля и Клода Пернеля. — Могила герметика и его стариков, которая находится рядом с чумной могилой наших родителей. Если отец Клод последует своим экзальтированным идеям, то он не далек от дурной науки. Фламелю, видимо, удалось создать золото. Трансмутация[853], ха-ха! Если бы из дерьма можно было делать золото, я бы давно уже это делал, — школяр удрученно махнул рукой. — К сожалению, у меня нет благородного металла ни в трансмутационном котле, ни в кошельке. Не могли бы вы мне случайно помочь? Пока мой брат выйдет на улицу, я умру от жажды. К его удивлению, я дал ему соль. Я хотел отправить его восвояси, чтобы без помех наблюдать за архидьяконом. Едва Жеан Фролло скрылся с преувеличенными благодарностями за ближайшим углом, главный вход приюта слепых раскрылся. В тени поросшей мхом стены я увидел, как отец Клод попрощался с человеком в вышитом серебром камзоле — я узнал в нем мэтра Ле-Мерсье. Целеустремленно Клод Фролло поспешил по путанице улиц, и я со стучащим сердцем превратился в его тень. Но если бы я надеялся, что он приведет меня на тайное собрание, я бы был горько разочарован. Маленький дом на углу улицы Писателей и Мариво, в который он вошел при начинающихся вечерних сумерках, был полностью пуст — заброшенные руины, по которым сновали крысы. С противоположной стороны улицы я наблюдал за Фролло, который бродил, как призрак, по мусору и все время наклонялся, словно он что-то искал. Я слышал его глубокие вздохи, как прежде у склепа. В расположенной поблизости кухне, откуда я мог не упускать из виду разрушенный дом, я купил вертел с телятиной и шампиньонов. Как бы невзначай я спросил косолапого содержателя трактира о развалинах. — Почему дом оставили в таком состоянии? — Потому что он слишком непрочен, чтоб там жить. — Тогда нужно его снести и построить новый дом. — Никто не осмеливается. Все бояться духа Фламеля, как говорится. Но если вы хотите знать правду, думаю, некоторые высокопоставленные господа хотят выведать у старой ведьмовской кухни ее тайны. Они копаются в грязи и думают, что там лежит спрятанный философский камень. Даже Его Величество короля Людовика видели в доме Фламеля. — Должно быть, это был неординарный человек, этот Фламель. Свиные глазки повара изучили меня с любопытством. — Вы, похоже, не из Парижа, если ничего не слышали о Николае Фламеле? — Вы отгадали, месье. — Рассказывают, он отправился странствовать по дальним странам за искусством трансмутации. Это значит, он знал тайну получения золота и тайну вечной жизни. Но если это правда — про вечную жизнь, — то я спрашиваю себя: а тогда почему он больше шестидесяти лет тому подох в том доме, как раньше его отец, некий Клод Пернелль, а? У меня не было ни подходящей мысли, ни времени ответить на вопрос. Фролло вышел на улицу, отряхнул грязь с одежды и направил свои стопы в юго-восточном направлении. Разочарованный, я следовал за ним по мосту Менял обратно на остров Сены, уверенный, что он стремиться к Нотр-Даму. Собрание, видимо отменили или передвинули. Но снова я ошибся. Фролло повернул направо, нырнул в переулки вокруг Отеля-Дьё и остановился на поросшем кустарником берегу. И потом он просто исчез. Как привидение. Или как монах-призрак.Глава 10 Союз девяти
Я беспомощно стоял наверху, на прибрежном склоне, и таращился вниз на левый рукав Сены. Садящееся солнце придавало реке бронзовый блеск, словно там шипело бесчисленное количество расплавленного металла, превращенного в промежуточную стадию алхимиком в поиске совершенной трансмутации из воды в золото. Жеан Фролло сказал, что его брат тоже находится в поиске тайны преобразования, и косолапый содержатель трактира подтвердил это. Волшебник реки прикоснулся к архидьякону, бросил в поток, чтобы тот сам стал частью процесса, стремящегося к совершенству… Я посмотрел на другой берег, на квартал Университета на холме — с путаницей улиц, из которых, как по четкому плану, на равномерном расстоянии возвышалось около сорока коллегий. Там сновали магистры и школяры, монахи нищенствующего ордена, но также — толпа легкомысленного и боящегося света отрепья. При этом было не так легко провести границу между серьезными студентами и ничтожеством, примером коего служил Жеан Фролло. На реке, которую стражники преграждали железными цепями по обоим концам города лишь после окончательно захода солнца, было такое же оживленное движение, как и на полных жизни улицах. Узкая полоска берега подо мной не привлекала ни единого человека — слишком отвесным был склон, слишком угрюмо смотрелись острые скалы и густой растрепанный кустарник: столь же негостеприимное место, как и разрушенный дом Николая Фламеля. Медленно, осторожно ставя вперед ногу, я спускался вниз к реке. Все время я крепко держался за ветки, чтобы не потерять равновесие в непроходимой местности. Разросшиеся кусты орешника в рост человека, гусиные лапки и камыш — роскошное место, чтобы скрыться от преследователя. Может, несмотря на все предосторожности, архидьякон заметил меня? Вдруг земля у меня под ногами разверзлась, и падение оборвало все мысли. Больно ударившись плечом о твердый камень, я все же был почти благодарен, когда решил, что падаю по склону вниз — в Сену. Вместо этого я лежал в мрачной норе, которая скрыла от моих глаз кусты и сумерки. Возможно, с архидьяконом произошло что-то подобное? Потом я заметил шахту, которая вела глубоко в подземное царство. Я услышал тихое нашептывание удаленных голосов, и мне подумалось, что, возможно, архидьякон намеренно прыгнул в дыру. Собрание девяти! Мое любопытство было сильнее, чем страх, который заставлял биться мое сердце. Я пошел на голоса и шагнул глубоко в темноту. И пол, и потолок туннель были одинаково холодными и сырыми. Неоднократно я спотыкался и ударялся головой о твердые камни. Ширина хода в скалах была различной. Самое большее двое человек могли пройти здесь рядом, — потом вновь места хватало только одному. Неожиданно раскрывшиеся отверстия в стене сбили меня поначалу с толку, пока я не отгадал загадку: это были ответвления. Куда они вели, я не знал, но я не знал и своего собственного пути. Только одно казалось ясным: так как подземный ход вел от реки, то я должен находиться где-то под Нотр-Дамом, возможно — даже под Оте-лем-Дьё. Лишь когда я различил слабый луч света, я заметил, что форма шахты изменилась; теперь она стала более ровной и состояла из отесанных камней. Я остановился, прислушался и разобрал несколько голосов. Сгорбившись, я тихонько пробирался ближе. Свет становился сильнее. Когда я выглянул из-за угла, то обомлел и непроизвольно затаил дыхание. Тут же, чтобы меня не обнаружили, я прижался лицом к влажной, холодной, как могила, стене. Девять человек стояли в круглом зале, образовав круг возле алтаря, который представлял собой грубую каменную глыбу. И на нем горело много свечей, их свет привел меня. Я не хотел определять, как глубоко я находился под землей. Естественного источника света не было. Я узнал некоторых мужчин — в первую очередь, Клода Фролло, потом Жиля Годена и королевского прокурора Жака Шармолю, которого я видел в мой первый вечер в Нотр-Даме в сопровождении Фролло и Годена, а еще раньше — в День волхвов в Большой зале Дворца правосудия. И смотритель убежища для слепых принадлежал к странному кругу — так же, как двое господ, которых мне нужно было лишь припомнить. Они тоже повстречались мне в день Трех волхвов в Большой зале: ротмистр Жеан де Гарлэ, начальник ночной королевской стражи, и присяжный библиотекарь Университета Андри Мюнье. Странным, как место собрания, был и внешний вид людей. Каждый был одет в белый плащ, закрепленный на шее пряжкой и украшенный на спине кроваво-красным восьмиконечным крестом[854]. Одеяние будило воспоминание, я знал его по иллюстрациям в старых книгах. Но лишь, когда я увидел за алтарем растянутое знамя, которое делилось на верхнее черное и нижнее белое поля, ко мне вернулось понимание реальности. Но это было невозможно — по многим причинам! Эти люди находились на службе епископа Парижского, короля или ректора Сорбонны. Как они могли одновременно принадлежать к ордену? Да еще к тому, который уже сто семьдесят лет запрещен, распущен Папой, уничтожен королем? Но не стоило оспаривать то, что видели мои глаза: белый плащ с крестом цвета крови Христовой, знамя с цветами верных и неверных, добра и зла. Бедные рыцари Христа храма Соломона в Иерусалиме — тамплиеры! Был ли я тайным зрителем того, как благородные господа разыгрывали в своих одеяниях гротескную пьесу, вышедшую из-под пера многостороннего Пьера Гренгуара? Но то, что архидьякон, офицер высокого звания и мужи, занимающие руководящие посты в Шатле, предались подобному, казалось неслыханным. С другой стороны, вся сцена передо мной была не менее возмутительной. Невиданная картина парализовала меня, так что пока я просто не обращал внимания на слова, которые произносились по очереди — видимо, согласно ритуалу. Теперь все девять взяли друг друга за руки и начали петь, при этом Фролло был запевалой. Архидьякон стоял прямо перед черно-белым знаменем и, видимо, занимал статус предводителя в группе. Каждое из его предложений повторялось другими восьмью тамплиерами — так я их, пожалуй, должен называть. — Девять ступеней ведут к Небесному граду. Девять правил расчленяют отряд ангелов. Из девяти сфер состоит бренный мир. На девятый час умер Иисус Христос, наш Пророк. Девять смельчаков потянулись в Иерусалим, чтобы сохранить Храм Святого Сокровища. В девяти трижды содержится полная Троица. Нас девять — и мы почти совершенны. Для полного совершенства нам нужна божественная сила. Так явись нам, Отец Познания, чтобы из нашего союза девяти создать совершенное общество десяти! Приглушенное пение отражалось в подземном храме глухим эхом, словно потустороннее существо отвечало одетым в белые плащи из бездонной глубины. Я вспомнил древние предания о черных обрядах тамплиеров, к которым я прислушивался ребенком с разгоряченными щеками, если набожные братья Сабле были в настроении рассказывать истории. Тогда я узнал о бесстыдных обрядах тамплиеров, во время которых они славили демона Бафомета, — что им и ставилось в упрек[855]. Неудивительно, что я вздрогнул от страха, когда явно живое существо с головой чудовища вышло из тени в расступившийся круг девяти. У него было лицо, словно жидкий огонь, и зеленые пламенные лучи сверкали из глаз. Я не знаю, был ли я ослеплен или напуган до смерти, но отпрянул назад и закрыл глаза, словно так мог избежать чудовища. Я был глупцом, вел себя как маленький ребенок. Это я признал, когда я снова открыл глаза и поднялся на узкий карниз, чтобы лучше все рассмотреть. В середину девятки вошло вовсе не чудовище, а человек — как мы все. И он был одет в плащ с красным крестом, а в правой руке держал жезл из черного дерева. Лицо скрывала маска, которая изображала лицо, но оно то все больше расплывалось в пляшущем свете свечи, то возникало вновь. С металлическим блеском похожим то на медь, то на золото, оно отражало огонь свечи. Из серебра состояла длинная борода, а в глазницы были вставлены смарагды, которые отражали свет зеленым пламенем. С опущенными головами девятеро опустились на колени перед человеком в маске. — Простите и благословите меня. Просите Бога, чтобы он даровал мне хороший конец и уберег от дурной смерти. Фролло набожно проговорил слова, которые Годен сказал ему на площади перед Нотр-Дамом — и восемь остальных в кругу повторили их хором. Человек в маске сперва возложил руку на голову Фролло, а затем — и другим, и каждый раз сказал тем же голосом, который звучал из-под маски глухо, сухо и не по-человечески. — Бог благословит вас Он дарует вам хороший конец и убережет от дурной смерти. Все вместе они помолились Всевышнему Отцу, после чего Клод Фролло посмотрел на человека в маске и сказал: — Templum omnium hominum pacis abbas, Храм всех людей — Отец Мира. Человек с металлическим лицом кивнул и велел остальным подняться. Он, должно быть, был великим магистром, о котором говорили Фролло и Годен. Его жезл из черного дерева был знаком звания мастера всех строителей, как и великого магистра ордена тамплиеров. Где-то я читал об этом. Если целую жизнь проводить за книгами, то когда-нибудь это оправдается, если ты прежде не умер с голоду. Значит, человек в маске созвал собрание. Причину я надеялся узнать, когда он заговорит с остальными. — Тревожные новости дошли до моих ушей. Толпы египтян наводнили Париж, гораздо больше, чем во времена англичан. И «братья раковины» снова должны приняться за работу. Я предчувствую опасность! Огец Фролло посмотрел на него твердым взглядом. — Опасность уже существует, отец познания, но наш союз сильнее. Остатки банды кокийяров снова появляются, не принимая в этом серьезного участия. Они пытаются загрести кроны и соли с помощью своих старых связей. — Итак, совпадение? — Предполагаю, мудрый отец. — И египтяне? Фролло скривил вниз угол рта: — Надеяться на это — значит, считать самого себя дураком. Боюсь, герцог Египетский преследует четкие цели. — Которые пересекаются с нашими? — Да. — Что вы предпримете против этого? — Я обращусь к епископу с просьбой, чтобы права египтян были урезаны, и чтобы они сами держались подальше от Нотр-Дама. — Лучше всего было, если бы их изгнали из Парижа. — Для этого нужно найти уважительный повод. — Если вы не можете найти подходящий, брат Фролло, тогда изобретите его! Фролло хотел что-то возразить, но человек в маске уже продолжил: — Позаботьтесь также о кокийярах. Если число совпадений растет, за ними скрывается большее. На улицах Парижа снова слышны песни Вийона. — Вийон мертв, — голос архидьякона звучал упрямо. — Вам следует помнить, что смерть — начало, но не конец, Фролло. И вам следует учитывать, кем был Вийон. Одного его имени достаточно, чтобы разбудить силы, которые могут стать очень опасными для нас. Я слышу о шпионах, которые крутятся возле Нотр-Дама. — Это еще не точно. Были пара болтливых языков, — да, но теперь они замолчали навсегда. К тому же, у нас есть свои шпионы. Если противоположная сторона окрепнет до невероятной силы, мы узнаем об этом своевременно. — Очень надеюсь на это, брат Фролло, также для спасения вашей души. Прибавили ли вы целестинского облата к этим пустым языкам? — Он повсюду вынюхивал. Но прежде, чем он что-то сумел разузнать, брат Годен избавил его от бренной жизни. — Но кто дал целестинцу это поручение? — спросил человек в маске голосом с раскатами и постучал своим посохом, словно он не получил ответа. — Вы притворяетесь, что не угрожает никакая опасность, и все же у вас больше вопросов, нежели ответов. Каковы новости о Марке Сенене? Он, по крайней мере, заговорил? Шармолю опустил свою седую голову, словно от страха перед карающим ударом, когда ответил: — Нет, достопочтенный великий магистр. Даже под самыми жуткими пытками он остается нем. Если бы мы схватили его дочь, то у нас было бы средство давления на него. — Но вы же схватили ее! — загремел голос великого магистра. Шармолю отступил назад и возразил слегка дрожащим голосом: — Существует надежда, что мы схватим ее! Она сама ищет своего отца и рыщет здесь по острову. Она была уже почти у нас в ловушке, но в последний момент… —…Она снова ускользнула от вас, я знаю уже от брата Годена. Вы хотя бы отвели Сенена в надежное место? Шармолю сильно закивал головой, радуясь, что может, наконец, сообщить человеку в маске что-то радостное. — Он сидит в той же темнице, в которую в свое время бросили сумасшедшего в 1465 году. Того беднягу, который лишился разума из-за кометы, — при последних словах Шармолю усмехнулся, словно это фраза порадовала его. Великий магистр снова повернулся к Фролло: — Как обстоят ваши дела по изучению кометы? И как далеко вы продвинулись в поиске солнечного камня? — Только сегодня я был еще раз у могилы Фламеля и в его доме. Я чувствую, что близок к разгадке. Возможно, список к книге комет, который составляет мой новый переписчик, даст мне разгадку. При условии, что пятое состояние кометы, как мы предполагаем — возбудитель трансмутации. Когда я услышал, что речь идет обо мне, я хотел придвинуться еще ближе. Этот перенос веса стал для меня роковым. Кусок скалы сорвался с узкого карниза, на котором я стоял. Я потерял равновесие и упал на пол, как куль муки. Конечно, тамплиеры услышали шум. Только полная темнота прохода в скалах защитила меня от немедленного обнаружения. То, что это было бы неблагоразумно — быть обнаруженным людьми в белых плащах, — не вызывало возражений, тем более, что они признались в убийстве Аврилло и, пожалуй, в тех кровавых убийствах, в которых лейтенант Фальконе обвинял жнеца Нотр-Дама. Итак, я вскочил и побежал — так быстро, как только позволяла темнота и сужающийся проход, — в том направлении, в котором и пришел. — Her шпионов?! Ничего подобного! — услышал я раскатистый голос великого магистра. — Вон там бежит один из них. Притащите его ко мне, а если не его самого, то хотя бы его голову. В ясности их намерений не было сомнений, и это было стимулом для меня, которым Аид крайне больно подстегивал сзади[856]. Я отчетливо слышал поспешные шаги и короткие крики преследователей. Она давали друг другу указания — или переговаривались. Зачем? Слабый свет впереди дал мне надежду. Воздух, который я жадно втягивал своими легкими, становился все более свежим. Наконец, я выбрался на свободу через ту же дыру, в которую провалился. Уже давно был вечер. Луна и звезды освещали все молочным сиянием, которое, впрочем, после темноты туннеля показалось мне самым ярким летним днем. Я взбирался вверх на откос и не обращал внимания на многочисленные царапины, которые оставляли чертополох и острые листья камыша. Только прочь — от этого ужасного спектакля, в котором восставшие тамплиеры уготовили мне или моей голове крайне неблагодарную роль! Издалека я разобрал голоса и шорох в кустах. Преследователи еще искали меня. Я тихо пробирался дальше вверх по склону и облегченно вздохнул, когда оказался наверху. Моя радость длилась считанные мгновения, так как я обнаружил троих тамплиеров. Они принимали участие в собрании, но были мне неизвестны. Теперь я знал, почему слышал крики, пока бежал под землей. Эти трое отделились от остальных и, очевидно, вышли другим путем из «царства Аида» — тем, который отрезал мне путь к бегству. Они подходили ко мне с трех сторон. Каждый из них достал кинжал. Я схватился за свое оружие, но все же знал, что этот маневр едва может меня спасти. Если я наброшусь на одного из них, двум остальным не составит труда лишить меня жизни. Или головы, что, собственно, одно и тоже. Теперь, чуть не потеряв голову, я обернулся в поисках выхода из окружения. Спасения не было — только трое в белых плащах с окаменевшими лицами приближались ко мне все ближе — шаг за шагом. Напряжение стало невыносимым. Когда на меня набросился рыжеволосый тамплиер, я ощутил чуть ли не облегчение. Я сумел избежать его клинка, — но и он моего. Он повалил меня на землю и тяжело придавил. Странным образом он не двигался, не предпринял больше попыток вонзить кинжал в мое тело. Я заметил застывший, безжизненный взгляд его глаз и, наконец, стрелу, которая глубоко вонзилась ему в спину. Кровь текла из раны, красная, как восьмиконечный крест, с которым она слилась. Второй из моих врагов издал глухой гортанный звук и упал на колени. Кинжал выскользнул у него из рук. Он схватился за шею, которую пронзила стрела, словно у него была еще надежда, что может вытянуть вредоносную стрелу. Потом он повалился в сторону и более не шевельнулся. Дикий страх исказил лицо последнего тамплиера. Таинственный противник ударил быстро и беспощадно, не выдав себя. Я видел в широко раскрытых глазах моего преследователя, как отчаянно он искал лучника. Но, в один миг пронзенный стрелой, и этот человек упал на землю. Мертвый, как надо полагать. Я посмотрел на убитых — одного за другим и заметил, что оперение стрел было стального синего цвета. Я не искал ни своего спасителя, ни возможности его поблагодарить. Во-первых, тамплиеры все еще гнались за мной, во-вторых, лучник, возможно, и был врагом людей в белых плащах, — но не моим другом. Так что, я побежал прочь от реки и почувствовал себя в безопасности лишь когда достиг площади перед Собором — она еще была полна народу, несмотря на поздний час. При свете окна я остановился и уставился на круглый кусок бронзы у меня в ладони. Непреднамеренно я оторвал его у рыжего тамплиера во время борьбы. Это была пряжка, которая стягивала его плащ под подбородком. Она была украшена с обеих сторон изображением. На передней стороне были два рыцаря с копьями, которые делили одного коня: печать ордена храмовников. На обратной стороне — дракон или змей свернулся в кольцо, чтобы укусить себя за собственный хвост. Молниеносно я увидел перед собой умирающего облата и подумал о странной деревянной фигуре.КНИГА ТРЕТЬЯ
Глава 1 Дождь, дым и крысы
Если результат вашей работы так же впечатляющ, как и ваше рвение, я буду очень доволен, — отец Фролло мрачно стоял в открытых дверях моей кельи. Буря, которая бушевала над крышами Парижа и обрушилась на башни Нотр-Дама с молниями и грохотом, развевала черное одеяние священника. Мне это показалось ударом крыла огромного ворона, предвестника несчастья. Горящий взгляд из глубоких глазниц буравил меня, напоминая смарагдовые глаза великого магистра в маске. Я не слышал, как подошел архидьякон. От страха я захлопнул книгу Гренгуара о кометах. Работать с ней, собственно, и было моим заданием, но в тот день я поступил так по другим причинам. Накануне вечером в подслушанном разговоре Жак Шармолю упомянул о человеке, которому комета 1465 года помутила рассудок. Вот я и искал теперь информацию обэтом. Фролло затворил за собой дверь и подошел ближе. Капли дождя сверкали на голом черепе, другие запутались в жидком венке поседевших, разметавшихся на ветру волос. Он, должно быть, провел целую вечность снаружи, на башне. Перед моей кельей? Чтобы подсматривать, наблюдать за мной? Фролло питал ко мне недоверие? Догадывался, знал ли он, за кем напрасно гнались он и его свита? Мой взгляд скользнул по ящику кровати, в котором я хранил свои странные находки — деревянную фигурку Аврилло, рисунок итальянца и пряжку мертвого тамплиера, который чуть не стал моим убийцей. Когда я почувствовал руку Фролло на своем плече, то ужаснулся, и невольная дрожь пробежала по телу. Или это был озноб? Хотя огонь в камине вспыхивал и потрескивал, я мерз с тех пор, как архидьякон вошел в келью — словно он был бурей, дождем и холодом. Отец Клод озабоченно посмотрел на меня сверху вниз: — Вы, кажется, немного не в себе, мой милый. Даже если мне лестно и по душе ваше рвение, вам не следует заниматься только книгами. Вы же, в конце концов, не монах. Пойдите куда-нибудь, побродите по улицам Парижа, насладитесь жизнью! Только ли забота отразилась на его лице? Или это был, скорее, испытующий взгляд? Знал ли он, что лишь вчера вечером я делал именно то, что он мне сейчас посоветовал? Правда, не для того, чтобы развеяться. — Верно, вы правы, монсеньор, — пробормотал я. — Кометы умеют скрывать большие тайны, они так же стары, как этот мир и, возможно, сделаны из того же материала — но они не всё в этом мире. Вам не следует принимать слишком близко к сердцу, что Гренгуар собрал и записал об их гибельном воздействии, месье Сове. — Что вы имеете в виду? — Возможно, кометы приносят беду, черная смерть шестьдесят шестого не случайно пришла после года кометы — но и без нее происходит достаточно плохого. Вы еще не слышали, что опять произошли три убийства в непосредственной близости от Нотр-Дама? Но откуда вам знать, ведь вы занимаетесь только кометами. — Жнец напал снова? — осторожно поинтересовался я. — Полиция, как всегда не знает, кто был этот, убийца. Но на этот раз убийца не перерезал своим жертвам горло, и о картах я ничего не слышал. Говорят, все трое уважаемых господ были заколоты внизу на берегу, между Собором и Отелем~Дьё. Одному Богу известно, что они там искали. Каков лицемер! Он же знал лучше всех, что они сами нашли там только то, что хотели уготовить мне: смерть. Я бы предпочел заявить ему об этом прямо в лицо, но сдержался и подумал, что, возможно, этого и добивался Фролло. Если он не узнал подслушивающего за ними человека, но подозревал меня — это было проверкой, которую я сумел выдержать. — Кем были убитые? — спросил я тоном, не выражающим ничего, кроме любопытства. — Вы едва их знаете. Мэтр Дени, один из четырех присяжных библиотекарей Университета, писарь Шатле, Шарль Мурон, и, наконец, мэтр Овер, который был облатом у целестинцев. — Как покойный мэтр Аврилло, — вырвалось у меня. Фролло кивнул и спросил: — Вы верите во взаимосвязь, месье Сове? — Я не знаю, но это мне бросилось в глаза, — я не хотел давать ему никакого точного ответа, потому что боялся попасть в ловушку. — Спросите лучше лейтенанта Фальконе. — Он тоже этого не знает. Я столкнулся с ним буквально на площади перед Собором, и он поведал мне об ужасных убийствах. — Вот причина, чтобы не следовать вашему совету побродить по улицам, отец Клод. — И стены Нотр-Дама не защищают от страшного конца. Подумайте о бедном Одоне! С этим предостережением Фролло покинул меня, и я спросил себя, должен ли воспринимать его слова, как угрозу. И почему он не упомянул о смертельных стрелах и о белых плащах тамплиеров? Вероятно, другие тамплиеры и Фролло вместе с ними устранили эти следы. Я подложил пару поленьев, но холод не спешил покидать мое тело — как и дрожь, которую я заметил по пальцам рук при листании книги о кометах. Это была та страница, которую я открыл, когда Фролло внезапно вошел. Я начал читать. «Не был беден событиями и год 1465 от Рождества Христова. Граф фон Шароле, названный позже Карл Смелый, заключил союз с изменниками-принцами, который они дерзко назвали „Лигой общественного блага“. Под этим лицемерным знаменем люди объединились против нашего доброго короля Людовика, который славно выдержал их штурм на Поле Слез, недалеко от Менлери и защищал с Божьей помощью стены Парижа. Ему даже удалось провести семьсот бочек муки для голодающих жителей города через ряды осаждавших. Но все это король сумел сделать только благодаря Божьей милости, светящимся знаком коей по небу пролетела комета. Если бы сейчас комета была посланником счастья, то сведенный с ума ею человек должен был быть одержим дьяволом. Ито, что говорит сумасшедший, подтверждает это заключение. Несчастный был Божьим человеком, духовником, исповедовал высоких мужей и первых лиц в Сен-Бену а-ле-Бетурне. Но потом он покинул правильную стезю и предался тому ошибочному учению, чьи последователи называются альбигойцами или же катарами. Уже одно это говорит о его безумии. Но теперь, когда показалась комета, тот духовник изрыгал вокруг себя дикие ругательства, вершиной которых стали подозрения, что верховные мужи церкви, городского управления и даже королевского окружения сговорились погрузить мир в вечный мрак. Чтобы остановить его сбивчивые речи и защитить народ от опасных, соблазнительных мыслей, сумасшедшего схватили и заперли в самой крепкой темнице. Сегодня от человека ничего более не осталось, кроме имени — Гийом де Вийон». Снова я резко захлопнул книгу, словно так мог выгнать из своей головы вертящиеся мысли, вернуть их обратно на бумагу, откуда они выскочили. Теперь я слишком хорошо припоминал свой первый визит «У толстухи Марго», когда Фальконе и хозяйка рассказали мне о поэте Вийоне — якобы короле «братьев раковины». Что, черт побери, потерял его отец в этой истории с кометой? Пока один вопрос сменял другой, я осознал крепнувшее ощущение, которое испытывал при преследовании Клода Фролло. Наконец, я предпринял что-то для проникновения в хитросплетения из тайн. Даже если это чуть не стоило мне головы (в самом прямом значении этого слова), я ощущал себя на верном пути. Я не сидел, как загнанный в безвыходное положение зверь, в своей келье, я не вел себя как маленький Арман в монастыре Сабле, который напрасно ждал своего отца. Я действовал, как мужчина, и хотел продолжать так и дальше. Как только я принял решение, то почувствовал, как кровь приливает у меня в жилах. Больше не было нужды в каминном огне, чтобы прогнать холод из моих костей. Я поднял неприбитую доску кровати и рассмотрел три предмета, связанные туманной историей. Но ни деревянная фигурка змеи, ни рисунок итальянца, ни пряжка тамплиера не хотели принести мне облегчение, дать указание для моих дальнейших действий. Я мог положиться только на свой разум. Для этого у меня был лишь кинжал, который я, между делом, заточил, и не слишком большой, но достаточно полный кошелек. Меня как громом поразило, и я вытянул кошелек, считая себя великаном среди глупцов, поскольку раньше не додумался до этого. Я не случайно попал в Нотр-Дам. Не слепая судьба бросила меня в сеть убийств, предательств и тайн. Я снова увидел себя стоящим на берегу Сены, с пустым животом и потерявшим мужество, потом вспомнил, как на меня напали нищие. И я услышал слова монаха-призрака, который бросил к моим ногам кошелек: «Ступайте завтра во Дворец правосудия. Там будут высокие мужи, чтобы присутствовать на мистерии в Большой зале. Спросите отца Клода Фролло, архидьякона из Нотр-Дама. Он ищет толкового писца. Подайте себя ловко, и вам обеспечен хлеб насущный, Арман Сове!» Монах направил меня. Но с какой целью — это предстояло выяснить. Потому что с этого все и началось. И я хотел всё разузнать, не желая просто отказаться, как от поиска своего отца, от своего происхождения, от себя самого! И часа не прошло, как я стоял в тени Дворца правосудия и смотрел на Сену, на мост Менял и на возвышающиеся по ту сторону Двойного моста кривые стены Гран-Шатле. Порывы сильного ветра обрушивались на реку, и только самые сильные и отважные лодочники неуклюже передвигались на своих баржах по вздыбленной воде. Некоторые связали маленькие гребные лодочки, чтобы их не снесло в сторону. Мост был девственно пуст. Кто отважиться выйти в такую погоду, того должны подгонять исключительно неотложные дела. Как меня. Я сделал над собой усилие и ступил на мост. Не на правый, настоящий мост Менял с роскошными домами преуспевающих менял и ростовщиков, которые в два плотных ряда стояли на пологом пролете моста. Я шел по левому мосточку, который вел прямо через реку и скрывал зерновые мельницы епископа. В народе его назвали Мельничьим мостом. Но теперь огромные колеса мельницы двигались потоком воды наполовину под мостом, и поднятая деревянными лопастями пена смешивалась с дождем. Буквально через считанные секунды я вымок с головы до ног. Досаднее все же был тяжелый давящий воздух, который пах влажным зерном и мукой и склеивал дыхание. Покосившаяся лачуга ростовщика стояла посередине моста, зажатая между каменным домом мельника и деревянным амбаром, которые грозили проглотить маленькое здание с обшарпанными стенами. Только Отец Небесный и епископ Парижский могли знать, что забросило ростовщика именно сюда. Узкое окно, которое почти слепо выглядывало на мост, было затянуто дырявой промасленной бумагой, и я не увидел света за ней. Все же дверь поддалась одному нажатию, сопровождаемым резким звоном бронзового колокольчика. Сумеречный свет и спертый запах обдали меня, и я едва мог пошевелиться. Покрытый пылью штапель одежды возвышался рядом с сундуками в пятнах от сырости и покрытыми паутиной всевозможными предметами, которые только можно себе представить — кожаные поясные сумки и деревянные тыквенные бутылки, пивные кружки и суповые тарелки, вилы и серпы, даже переносной орган. Показалась закоптелая масляная лампа в руке, и седобородый старец, которого я знал еще по своему первому визиту, спустился вниз по узкой крутой лестнице; в его усталых, покрасневших глазах горел деловой огонек. — Воистину, проклятая погода сегодня, мосеньор. Должно быть, очень важное дело привело вас к старому бедному Эбрарду. В такую собачью погоду даже все мои богатые коллеги напротив, на красивом мосту Менял, закрыли свои лавки, не так ли? — Я шел сразу к вам, а не к ним. Он взял у меня из рук кошелек и рассмотрел его в слабом свете своей лампы. — Милая, очень милая работа, вышита нежной женской рукой, верно? Ах, не стройте себе очень больших надежд, много я дать за нее не смогу. Кто заплатит теперь много денег, чтобы сохранить свои деньги? — его блеющий смех замер, и он досконально ощупал мой кошелек. — Но ваш кошелек неплохо наполнен! Зачем же вы хотите его заложить, мессир? — Этого я не хочу. — А что же? — Справку. Недоверие и разочарование нарисовалось на морщинистом и пятнистом лице. — Я отплачу вам за нее звонкой монетой, месье Эбрард. Лицо ростовщика снова прояснилось немного. — Что вы хотите знать? — Вы помните меня или кошелек? Он покачал седой головой, засаленная войлочная шляпа на которой закрывала свалявшиеся седые волосы. — Пару недель назад я был у вас и заложил свой кошелек, потому что мой желудок урчал от голода как целая свора разозленных дворовых псов. — И потом вы снова выкупили свой дорогой сувенир. — В том то и дело, что нет! Я получил его от кого-то другого и хотел бы знать, кто это был. Лицо Эбрарда застыло, снова изобразило недоверие — и страх. Сильное мерцание света передалось в дрожание рук. Я уже испугался, что он уронит масляную лампу. Быстро, словно это был горячий кусок угля, он отдал мне обратно кошелек. — Я ничего не знаю об этом, совершенно ничего, — быстро проговорил он. — Как я могу вспомнить, кто здесь что выкупает? Так много клиентов приходит ко мне — и днем и ночью, — он говорил слишком быстро и слишком категорично, чтобы это звучало правдиво. Его взгляд взволнованно бегал по сторонам, словно он боялся притаившегося шпиона, или еще худшего. — Оно и видно, — сказал я насмешливо и бросил демонстративно взгляд на запыленные вещи. — Но возможно, этот человек, который выкупил кошелек, был особенно запоминающимся клиентом. — Что вы имеете в виду? — Возможно, это был монах-призрак? — Призрак?.. Его голос оборвался, задрожал как все его тело. Коптилка чуть было не выпала из его рук. Хотя масляный свет еще горел, ломбард показался мне намного мрачнее, чем до моего прихода. И стало холоднее — как я ощутил это при приходе Фролло ко мне в келью. Теперь холод исходил от Эбрарда Холод, страх — смертельный страх. И отказ. — Уходите! — выдавил он дрожащим от гнева голосом и подтолкнул меня к двери. — Уходите и никогда не возвращайтесь! Я не могу ответить на ваши вопросы. Я ничего не знаю, вообще ничего! Как я должен помнить, кто приходит ко мне в лавку? Когда на праздник Трех волхвов в Париже собирается больше чужаков, нежели горожан. А теперь уходите же! С легким нажимом он вытолкнул меня на улицу под дождь и тут же захлопнул дверь. Я услышал шум поспешно запираемого засова. Дверь была крепко заперта — что касается меня, навсегда. Я пошел навстречу шквальному ветру и повернул обратно к острову Сите. Ветер резко усиливался, и глухо хлопающие колеса мельницы под мостом перемалывали еще больше воды, чем прежде, и обрызгали меня — словно в насмешку. Я подумал, что заметил неясные тени за собой, но ничего не разглядел, когда снова обернулся. Это были лишь подстегиваемые бурей потоки дождя. Кто был глупцом, чтобы оправиться в такую непогоду на Мельничий мост? Только я. В кабаке возле предмостного укрепления стакан пряного глинтвейна прогнал мой озноб, согрел мое тело и кровь. Я возмутился этим потрепанным ростовщиком, который не только выставил меня, но и лгал мне. Он сказал о дне Трех волхвов, а не я. Как он мог знать, когда я принес ему кошелек, если он даже не мог его вспомнить? Более того, по его словам, он знал, что он выдал мешочек с деньгами снова в день Трех волхвов. И если он помнит об этом, тогда он знал, кто это был! Окрыленный вином, я бросился обратно к мосту и твердо решил — не успокаиваться, пока Эбрард не скажет правду, даже если мне придется сломать запертую дверь! Но делать этого мне не пришлось. Дверь была открыта. Когда я ударил по ней, я увидел, что кто-то пришел раньше меня. Замок был вырван из гнилых петель и лежал на полу. Я вспомнил о тенях, которые неясно заметил, когда покидал ростовщика. То, что я теперь увидел, подтверждало мои худшие подозрения. У Эбрарда были посетители — пять человек, и он находился в крайне неутешительном положении. Настоящий медведь в лице одного из мужчин обхватил его руками и выгнул спину Эбрарда, словно хотел сломать ростовщику позвоночник. Масляная лампа стояла на деревянном прилавке и освещала призрачную сцену. Я четко видел четырех других мужчин с жесткими, решительными лицами. Двое из них держали длинные кинжалы в руках, у одного была шпага, а у четвертого — топор. — Я ничего не знаю, кем он был, и я ничего ему не сказал, — простонал Эбрард с перекошенным от боли лицом. Капли пота выступили на его морщинистом лбе. — Что он точно хотел знать? — резко спросил мужчина со шпагой, которого я принял за предводителя банды. — Говори же, старый болван, или же… Угроза осталась незавершенной, потому что грубые парни заметили меня и бросились ко мне. Тот, что со шпагой, похоже, был опытным фехтовальщиком — об этом говорили шрамы на его лице. Легкая ухмылка, в которую искривились его губы при виде меня, превратилась как бы в еще один шрам. — Да вот он у нас в руках, любопытная чернильная клякса. Пускай он сам нам ответит на вопросы! И он уже пошел на меня, вытянув вперед шпагу. Так как я не испытал никакого желания позволить продырявить себя, я побежал назад, поскользнулся на скользком мосту и растянулся во весь рост. На мое отступление человек со шрамом, похоже, и рассчитывал, — но не на неловкое падение. Он споткнулся об меня и тоже упал. Клинок шпаги разлетелся на куски с пронзительным звоном. Рыча от ярости, больше как зверь, нежели человек, он поднялся, чтобы вонзить в меня обломок клинка. Но и я уже вскочил, собрал все мужество, схватил обеими руками его вооруженную руку и развернул ее. Вероятно, он не ожидал такой храбрости от «чернильной кляксы», и только поэтому мне удался этот трюк. Парень наткнулся на свое собственное оружие, остатки клинка вонзились в левую половину его груди — прямо в сердце. Кровь брызнула, пока человек падал с последними проклятиями на землю. Дрожа, я отпустил его руку и посмотрел сверху вниз на умирающего. Крики и громкий шум погрома вернули меня из оцепенения, и я посмотрел через открытую дверь. Эбрард попытался освободиться, но человек с медвежьими мускулами сумел выполнить до конца свое дело. С погасшим взором ростовщик лежал у его ног. При падении он уронил масляную лампу. Масло разлилось, и вместе с ним пламя охватило лавку, языки огня лизали стопку одежды и вгрызались в дерево старых сундуков — дальше и дальше. Оставшиеся четыре крысы в образе людей бросились от дыма и пламени на мост. Первого я еще сумел сбить с ног, но исполин схватил меня и прижал так крепко к себе, что мне едва хватало воздуха, чтобы дышать. И уже засверкали кинжал и топор перед моими глазами. Занесенный топор обрушился на мое лицо и попал, — я действительно испытал облегчение — в перила моста за моей спиной. Я услышал, как треснуло дерево, и душераздирающий крик раздался в моем ухе. Размахивающий топором издал его, и это было неудивительно — ему по самую рукоятку вонзили кинжал в спину. Мой спаситель, мускулистый черноволосый мужчина с внешностью южанина, довольно обнажил зубы, вытянул клинок из спины убитого и вытер его о камзол своей жертвы. В это время молодой юноша, едва старше меня, уничтожил товарища убитого, вооруженного кинжалом. Рыжеволосый юноша орудовал маленьким кинжалом с такой ловкостью, что его противник после недолгих мгновений был покрыт множеством кровоточащих ран, ослабев, упал на колени и был окончательно повален быстрым глубоким ударом в горло. И второй боец с кинжалом, который относился к клике человека со шрамом, нашел себе противника, которого я разглядел едва только краем глаза. Мне ничего больше не запомнилось, кроме светлых кудрявых волос и короткого тяжелого меча, чей клинок несколько раз быстро разрубил воздух сверху вниз. Победил ли человек с мечом, я даже не хотел узнавать. Медведь, который все еще держал меня в своих лапах, отскочил назад от моих двух спасителей и при этом проломил трухлявые перила моста. Наконец, он ослабил свой захват, и я смог снова глубоко вздохнуть. Но я рухнул в пропасть. Надо мной завертелись в сумасшедшем танце дома на Мельничьем мосту, подо мной — еще более дико — огромные колеса мельницы в клокочущей воде. И я упал прямо на одно из колес… Распорка, деревянная поперечная балка над колесом мельницы! Я схватился, крепко держась, несмотря на сильный толчок, который чуть не разорвал мускулы моих рук. Почти одновременно такой же толчок ударил мне по ногам. Это был «медведь», который схватился за мои бедра, как испуганный ребенок за ноги своего отца, — так предположил я, никогда не знавший родителей. «Медведь» висел на мне и растерянно смотрел вниз. Прямо под ним вертелось деревянное колесо, раскручиваемое еще сильнее, чем прежде, сильным потоком. Оно закручивало воду и хватало тяжеловесного подлеца, било его по сапогам. — Спасите меня, месье! — жалобно воззвал он ко мне. — Помогите мне, иначе меня раздавят! Уж в этом он был прав. Но я не видел никакой возможности ему помочь. Я сам был полностью занят тем, чтобы самому удержаться на горизонтальной распорке. Я, возможно, мог вытянуть только себя одного, но поднять нас двоих было уже невозможно. Ко всему прочему, у меня не было никакого повода помогать парню, который первоначально сам хотел переломать мне все кости. — Спасите меня, да имейте же сострадание! Я собрался с силами, освободил одну ногу и пихнул каблуком сапога прямо в искаженное страхом мясистое лицо. Шумящая вода и стучащее колесо мельницы милостиво проглотили хруст ломающихся костей. «Медведь» зарычал, кровь полилась у него из носа. Он соскользнул ниже. Второй удар — и он окончательно отпустил меня и упал между лопастей, в неестественно скорченной позе его затянуло под воду, а потом он исчез в бурлящей пучине. Я больше не обращал на него внимания, а собрал воедино остатки своих сил и подтянулся на балке. Наконец, я сидел на скользкой распорке, тяжело и глубоко дыша, потом сильно закашлявшись. Запахло дымом. Ничего удивительного: надо мной собирались первые черные клубы из дома ростовщика. — Веревка, эй, хватайте веревку! Это кричал голос сверху — с моста, где у разрушенной ограды стояли три фигуры и смотрели на меня вниз. Мои помощники. После боязливых взглядов я обнаружил веревку, которую они опустили передо мной. В надежде, что это была не гнилая и ветхая веревка из хозяйства ростовщика, я схватился за ее конец обеими руками. Они потянули меня вверх. У меня закружилась голова, и я раскачивался в воздухе, как веревка и люди наверху. Их лица наклонялись все ближе: молодое, усеянное веснушками лицо рыжеволосого, другое — обрамленное черными волосами, и третье — почти по-женски красивое бритое лицо мужчины со светлыми волосами. Теперь я узнал его, шпильмана, рисовальщика — мэтра Леонардо. Он протянул мне навстречу тонкие, женские руки, пока оба других держали веревку. Я схватился, и он вытянул меня на мост. У меня подкосились колени, и я упал перед троими на землю. — Теперь вам нельзя раскисать, месье Арман, — сказала четвертая фигура, которая выступила к остальным. — Дом ростовщика охвачен пламенем, соседи собрались. Мы должны бежать отсюда! С помощью Леонардо я встал и взглянул в бородатое лицо говорящего. Это был нищий Колен. Едва я сумел задать вопрос, как они окружили меня и потащили по мосту к правому берегу Сены. Большое черное облако дыма висело над ломбардом. Крысы, которые населяли дом, метнулись на мост — верный знак, что лачуга безнадежно пропала. Только дождь и вода Сены могли бы спасти соседние дома. Перед нами вырос Шатле со множеством острых башен и крыш в сером небе, и я спросил с беспокойством своих спутников, куда они меня ведут. — Не бойтесь, уж во всяком случае, не туда, — сказал Колен с легкой насмешкой. — Тогда бы нам пришлось объяснять, что мы искали на Мельничьем мосту, а это было бы трудно. Я глубоко вздохнул и проговорил: — Тогда все равно, куда вы меня ведете — да пусть хоть к монаху-призраку. — Вы попали в точку, — ответил нищий. — Именно это мы и намереваемся сделать.Глава 2 Животное из дерева и камня
Промокнув до костей, я замерз и стучал зубами. В то же время внутри меня пылал жар, мой лоб горел, как горн кузнеца. Пелена заволокла мои глаза и покрыла дома Нового Города серой кашей. Как безвольное животное, я следовал за четырьмя людьми по незнакомым улицам, радуясь, что могу удалиться от Мельничьего моста и угрожающего Гран-Шатле. Что-либо другое едва ли оставалось мне, к тому же, в таком ослабленном состоянии. Я был один, их — четверо. Я видел, как клинки троих итальянцев пресекли жизнь бандитам человека со шрамом на лице. То, что оба спутника Леонардо происходили из государства по ту сторону западных Альп, я. слышал по кратким фразам, которыми они обменивались. Впрочем, Колен не знал иного языка, кроме французского, коим также владели и итальянцы, — более или менее сносно, но лучше всех — Леонардо. Я уже давно перестал понимать, где нахожусь. Даже если узкие улицы иногда давали взглянуть на кусочек неба, солнца не было видно, нельзя было даже предположить, где оно. Штормовой ветер стих, поэтому над Парижем висели плотные серо-черные облака, и потоки дождя обрушивались на землю. Все больше я чувствовал себя, как собака, которая верна своему хозяину и следует за ним с полным доверием, или как ягненок, которого ведут на бойню. Наверняка они спасли мне жизнь, но с какой целью? Меня можно было назвать трусом, но лишь теперь: хотя я и пытался найти монаха-призрака, перспектива, что вскоре мне предстоит свидеться с ним лицом к лицу, парализовала меня. Непрерывный, болезненно жесткий дождь бил по земле. Мы шагали по становящейся все более болотистой местности, и один раз у меня чуть было не затянуло в трясину сапог. Обоим спутникам Леонардо, которые звались Аталанте (он был рыжим и кудрявым) и Томмазо (черноволосый), пришлось вытянуть меня из грязной дыры. Я настолько выбился из сил, что меня прислонили к деревянной стене дома, которая с громким скрипом и треском начала рушиться под моим весом. Поспешный прыжок спас меня. Старые здания в незнакомом мне квартале находились в полуразвалившемся состоянии, — и эти слова могли быть слишком большой похвалой. — Потерпите, месье Арман! — крикнул Колен. — Мы уже почти пришли. Вон, посмотрите, уже видны башни Тампля[857]. Мой взгляд последовал по направлению вытянутой руки Колена и обнаружил остроконечные башенные крыши, низкие и высокие, которые плотно стояли подле друг друга и спорили с непогодой. Символы старой крепости выдали мне, где я нахожусь, но это не придало мне уверенности. — Замок тамплиеров! — прошептал я, и полагаю, ужас прозвучал в моем голосе. — Уже давно таковым не является, — сказал Колен. — После того как орден тамплиеров был запрещен, иоанниты получили в свое распоряжение их владения. Но поселение, которое возникло вокруг храма, предается разрухе все больше и больше, как вы только что видели, — он говорил почти поучительно, вовсе не как нищий. И ничего удивительного: чтобы увидеть в нем простого нищего, нужно было оказаться глупцом — большим, чем я. Леонардо поторапливал, и мы снова нырнули глубоко в путаницу старых домов и конюшен, которые когда-то пользовались защитой тамплиеров. Я подумал о собрании девяти, и у меня появилось мрачное предположение: не попаду ли я из огня в полымя? Стены смыкались все плотнее, образуя меньшие и большие чуланы, в которых люди и животные сбивались в кучу возле греющего огня. Через дырявые залатанные крыши капала вода. Упорядоченные улицы теперь больше нельзя было разобрать — только множество стен, вырастающих друг из друга как руки и ноги живого существа, допотопного животного из дерева и камня. Огни в люках стены колыхались, подобно бесчисленным глазам, бодрствующим со всех сторон. Или мое сознание было взбудоражено всеми испытаниями, жар помутнил мой рассудок? Чем дальше мы продвигались по анфиладе соединенных друг с другом строений, тем сильнее я верил в то, что за этим скрывается живой окаменевший дракон. Пар после дождя, который поднимался от болотистой земли и просачивался через дыры в стенах, в действительности был дыханием чудовища. — Что это? — спросил я, наполовину сбитый с толку, наполовину с благоговением. — Где мы? — Вы хотели видеть монаха-призрака, — ответил Колен. — Вот здесь вы его и найдете. Мне все равно, вы можете назвать это место каморкой призраков. Он не остановился, а поднялся наверх по открывшейся тут же лестнице в темный, затхлый желудок чудовища. Мысль развернуться и убежать промелькнула у меня в голове. Трое итальянцев позади меня, на клинках которых запеклась кровь их противников, были для этого плана большим затруднением, чем если бы на их месте оказались каменные стены и железные цепи. Но не только под принуждением я отправился на неизвестную глубину. Тревога укрепила меня, неясное предчувствие, что состоится важная встреча, великое разоблачение. Это было как раньше в Сабле, если все мое тело начинало чесаться на Страстной неделе. Брат Арно, innrmarius, о котором я уже прежде рассказывал, считал это знаком Божьим, выражением моего детского чистого сердца, которое посылает предстоящее воскрешение Господа. Но я скоро пришел к разгадке. Я ожидал не Христа, не Отца Небесного, а моего собственного, телесного создателя. Подобным ожиданием, как в те далекие прошедшие детские дни, я наполнился и сейчас. И в то же время я боялся нового горького разочарования. Осторожно, потому что под моими шагами камень рассыпался, как сухой хлеб, я ступал ступень за ступенью, благодарный каждому желтоватому пятну света, которые бросали одиночные свечи на стене в мрачное подземелье. Было ли это то место, где тамплиеры проводили двести лет назад свои богохульные ритуалы и демонические клятвы? Более подходящего я не мог себе и представить. Колен провел меня в большую залу со столами и скамьями, освещенную и согреваемую огнем камина. Здесь сидело несколько мужчин, они ели, пили и разговаривали друг с другом. Некоторые были одеты, как уважаемые горожане, другие — как нищие. Однако они не знали разницы положения. Они бросали на нас любопытные взгляды, но вопросов не задавали. — Идите к камину и разденьтесь, — приказал мне Колен. — Я принесу вам полотенце и высушу одежду. И горячее вино с пряностями, чтобы вы согрелись изнутри. Когда я нагой стоял перед огнем, ко мне подошли трое итальянцев. Наступил момент принести в жертву ягненка? В испуганном ожидании я смотрел пристально на эфесы их оружия. Тут подошел Леонардо с рукой на боку и протянул что-то. Я отступил назад, но это была всего лишь бутылочка, которую он откупорил. — Выпейте, это еще лучше, чем горячее вино. Резкий запах защекотал мне в носу и заставил чихнуть. Спутники Леонардо захихикали. — Что это? — спросил я осторожно, когда взял в руки маленькую глиняную бутылку. — Aqua vitae, — сказал с улыбкой Леонардо. — Живая вода. У меня на родине врачи дают ее против всевозможных болезней, против слезящихся глаз, гнилого дыхания, водянки, гнойных ран и отравлений. — Но я ничем таким не страдаю, — возразил я, нерешительно держа бутылочку в руках. Возможно, напиток не помогал против отравления, а вызывал его. — И здоровые могут подкрепиться живой водой, она согревает лучше, чем самый горячий огонь, — Леонардо взял сосуд снова к себе, сделал большой глоток и протянул его своим спутникам. Черновололосый Томмазо, наконец, снова протянул его мне. — Ну теперь пейте же! — сказал Леонардо с широкой ухмылкой. — Мои друзья и я живы, как видите. Итак, я выпил, и бутылка чуть не выпала у меня из рук — настолько горячо забурлило у меня в кишках. Как будто раскаленный в огне клинок вонзился мне глубоко в плоть. Жар остался, а острота быстро прошла и оставила после себя благое чувство и приятный вкус во рту. — Глотните еще, сеньор, — засмеялся Леонардо. — Вам будет полезно! При втором глотке я был готов к жидкому огню. Хотя я стоял голым в помещении, я не чувствовал больше даже малейшего холодка. Я протянул Леонардо обратно его Aqua vitae. — У вас на родине врачи знают свое дело, месье. Откуда выродом? — Из Анкиано. Я беспомощно смотрел на него. — Ничего удивительного, что вы не знаете это место, сеньор. Это всего лишь крошечная деревушка недалеко от городка Винчи. — Но я и его не знаю, — признался я. — Он расположен примерно за полдня пути между Флоренцией и Пизой, ближе к Флоренции. Мой отец был мелким деревенским нотариусом, но его разум стремился к большему. Когда я родился, он решил жениться на дочери уважаемого флорентийского нотариуса. А моя мать была простой деревенской девушкой, ей пришлось довольствоваться после выполнения своего долга мешочком серебряных монет, и она исчезла из моей жизни, прежде чем жизнь по-настоящему началась. Странно, не так ли? — Вовсе нет, — возразил я серьезно. — Я не знаю ни матери, ни отца. — Воспринимайте это легко, из вас же получился толк. Я, как бастард, всегда имел преимущество: мне не нужно было совать свой нос в запыленные книги законов. У нас в солнечной Флоренции гильдия не принимает незаконных детей ни в судьи, ни в нотариусы. Ни врачом, ни аптекарем я не мог стать, также и двери Университета были для меня закрыты. — Вы, очевидно, легко отнеслись к делу, — сказал я удивленно. — На свете существует много бастардов. И у гробовщиков, и у священников, даже у преступников одна судьба. Им отказано в почетных профессиях, — итальянец пожал плечами. — Кто жалуется, радует сердца своих врагов. Я всему научился сам и занимался искусством. Колен вернулся обратно со стопкой одежды под мышкой, а в другой руке он держал глиняный кувшин. Пока я растирался и одевался в ношенную, но чистую одежду, нищий налил дымящееся, благоухающее пряное вино в деревянный кубок. Я быстро опустошил его — слишком быстро. Возможно, в этом виновата незадолго до этого выпитая живая вода: пот прошиб меня. Мой череп гудел, я слышал даже звуки колокола. Но Леонардо тут сказал: — Колокол зовет на «Отче наш». Мужчина маленького роста вошел в помещение, звеня в маленький бронзовый колокольчик, похожий на тот, который висел над дверью ломбарда, и монотонно созывал на молитву: — Вы, добрые люди, идите на молитву, поспешите, пока не сядет солнце! — после этого он покинул помещение, продолжая непрерывно звенеть и монотонно петь, что мне здесь, под землей, решительно показалось странным: будто он хотел разбудить своим звоном мертвых. — Один из нас во время «Отче наш» должен быть подле нашего гостя, — сказал Леонардо Колену. Нищий потряс головой: — Месье Арман должен принять участие в собрании. Итальянец сдвинул кустистые брови: — Кто это сказал? — Он. Нажима, с которым Колен ответил, было достаточно, чтобы убедить Леонардо. Итальянцы опять взяли меня под руки, словно они не доверяли мне. Колен не сопровождал нас, а остался один в большом помещении. Подземные ходы, которые показались мне прежде довольно пустынными (там иногда были видны крысы, жуки и пауки), теперь кишели людьми, словно зов действительно манил мертвых из их могил. Из мрачных углов и по крутым лестницам валом валили мужчины и женщины — в большой зал, который тоже был нашей целью. Здесь не было розеток и пестро раскрашенных окон, потому что зал находился глубоко под землей. Не было настенных украшений, скульптур, даже крестов. Лишь свечи без украшений, без которых здесь было бы мрачно, горели на стенах и цоколе алтаря. Перед цоколем толпились длинные ряды скамеек, деревянных и основательно разрушенных, на которые опустились люди. Не пахло ладаном и миртом — скорее холодной и влажной землей, болотом и разложением. Но все же я почувствовал при входе, что речь идет о священном помещении, о церкви. Мы сели на задних скамьях и обождали, пока помещение не заполнилось. Около трехсот-четырехсот человек наполняли его, и половина из них не нашла больше мест. Люди как раз говорили между собой, возможно, немного приглушеннее, чем на улицах Парижа, но все же непринужденно. В один миг все смолкли и направили свои глаза наверх — как и я. То, что они увидели, было тем, что я искал. И все же вид производил ужасающее впечатление. Возможно, потому что далеко натянутый на лицо капюшон рясы скрывал фигуру, которая стояла перед каменным цоколем. Монах-призрак! Так как они сидели, то теперь люди поднялись. Все присутствующие трижды преклонили колена и сказали каждый раз словно в один голос: — Прости нас и благослови нас. На третий раз они остались на коленях и добавили: — Проси Отца Добрых Душ за нас, грешников, чтобы он сделал из нас добрых людей и даровал нам добрый конец. — Отец Добрых Душ благословляет вас, — трижды сказал монах-призрак и трижды продолжил: — Просил Господа, чтобы он сделал из вас добрых людей и даровал вам добрый конец. Во время этой церемонии ужас пробежал у меня по коже. Форма приветствия была очень похожа на те слова, которыми приветствовали друг друга при встрече отец Фролло и Жиль Годен в тот вечер, когда я тайком подслушал их на площади перед собором Богоматери. И что я уже не раз предполагал, снова превратилось в вопрос, наводящий на новые мысли: палантин монаха-призрака скрывает строгие, дьявольские черты архидьякона? Я убежал из его Собора, чтобы попасть со всеми потрохами в его руки здесь, в этом зловещем подземном королевстве? С самого начала я был марионеткой, обезьяной, которая танцевала, если Фролло играл на органе? Напрасно я пытался выяснить, говорит ли монах-призрак голосом архидьякона. Здесь внизу слова звучали глухо, тяжело и влажно, как земля, которая нас всех накрывала. Я должен был так же рассчитывать и на то, что человек под капюшоном мог изменить свой голос. Монах-призрак сказал: — Братья и сестры, мы собрались в мрачном королевстве, потому что сейчас — мрачные времена. Наши общины разбиты, наша вера преследуется, наши имена презираются. Только приложив руку ко рту, брат говорит с братом, сестра с сестрой. Опасность столь реальна, что некоторые из нас даже сейчас имеют при себе оружие. Итак, мало причин для чужака, чтобы присоединятся к нам. И все же сегодня мы собрались, чтобы назвать молодую женщину нашей сестрой. Она выйдет теперь перед нами, чтобы принять святую молитву, которую Иисус Христос дал своим ученикам, чтобы наши просьбы и мольбы были услышаны Господом Богом, как сказал Давид: «Моя молитва дойди до тебя как дым жертвоприношений». Он немного рассыпал порошка над самой большой алтарной свечей. Острое пламя взметнулось вверх и превратилось в облако дыма, которое поднялось к неотесанному каменному потолку. Я следил за всем с комом в горле. Теперь мне стало ясно, почему это богослужение монаха-призрака проводилось под землей, втайне. Слова монаха-призрака были ясны. Собравшиеся здесь были неверующими, еретиками, преследуемыми Церковью, те, кому угрожала смерть перед законом. Они могли встречаться только тайно, и им нельзя было рисковать, иначе их выдадут. Для меня это означало одно: богохульники хорошенько позаботятся о том, чтобы я молчал! Молодая женщина, почти совсем девушка, выступила вперед и встала на колени перед монахом-призраком. Она была одета в широкое черное одеяние, которое полностью скрывало ее тело. Светлые волосы падали мягкими волнами на ее плечи. Когда она повернула немного в сторону свое лицо, меня поразил следующий удар: я знал эту женщину. Она одно мгновение лежала у меня в руках. В тот вечер, когда я сидел с лейтенантом Фальконе «у толстухи Марго» и шпильман Леонардо пел балладу о бедном Вийоне. Она была одета в пестрое платье и танцевала свободно, как того требовала песня. — Прости меня, и благослови меня, — сказала она ясным, звенящим голосом. — Просите Отца Добрых Душ за меня, грешницу, чтобы он сделал меня добрым человеком и даровал добрый конец. Передайте мне святую молитву, чтобы я могла говорить с моим Господом. Монах-призрак наклонился к ней и сказал: — Ты хочешь жить по чистому учению и стать добрым человеком, сестра Колетта. Ты хочешь познать, хочешь принять святую молитву, «Отче наш». Хотя она кратка, но содержит великое. Поэтому следует, кто произносит «Отче наш», почитать ее добрыми деяниями. Ты готова к этому? — Да, я готова. — Если ты примешь эту молитву, ты должна покаяться во всех грехах и простить всех людей, потому что Христос сказал в Евангелии: если ты не простишь людям их грехи, наш Отец на небесах не простит вам ваши грехи. Поэтому ты должна, сестра Колетта, всем сердцем иметь намерение уважать эту святую молитву все время своей жизни с послушанием, чистотой и другими добродетелями, которые Бог хочет тебе дать. Поэтому мы просим доброго Господа, который придал силу ученикам Христа сказать «Отче наш» от чистого сердца, чтобы он вселил в тебя эту силу — себе во славу, тебе во спасение! Монах-призрак взял тоненькую книжечку с алтаря, подержал ее перед девушкой и продолжил: — Сестра Колетта, ты хочешь принять эту святую молитву и все время своей жизни сохранить в чистоте, правде, смирении и других добродетелях, которые Господь хочет дать тебе? После недолгого колебания Колетта ответила: — Да, я хочу. Просите Отца Добрых Душ, чтобы он даровал мне силы! Закутанный в плащ человек передал ей книжечку со словами: — Отец Добрых Душ дарит тебе милость, принять «Отче наш» в свою честь и ради твоего спасения. А теперь произноси молитву вместе со мной, слово за словом. Они вместе проговорили молитву «Отче наш», которую я знал, как воспитанник монастыря, лучше, чем многие. Мне тут же бросилось в глаза, что они не молили о «хлебе насущном», а о «нашем духовном хлебе». И вместо «как мы прощаем должникам нашим» они говорили, «как мы прощаем нашим преследователям и мучителям». Монах-призрак взял женщину за руки и поднял ее наверх, в это время он говорил: — Отец Добрых Душ благословляет тебя. Он молится, чтобы сделать из тебя доброго человека и даровать тебе добрый конец, — он обнял ее. Потом она вернулась обратно и села на одну из передних скамеек. — Братья и сестры, — продолжил монах-призрак, — вы пришли, чтобы очистить свои души. Как и Христос пришел, не только чтобы смыть грязь с плоти, но и грязь с добрых душ, измазанных прикосновением со злыми духами. Потому что плоть есть грязь. Поэтому Всевышнему Отцу понравилось очистить свой народ от грязи грехов через крещение своего Святого Сына Иисуса Христа. Но зло не повержено, грязь не смыта. Она покрывает далекие части земли, приклеивается ко многим заблудшим душам, и мы не обращаем внимания, как она портит все и вся навечно. Поэтому, братья и сестры, давайте вместе позовем Господа! Снова монах-призрак прочитал перед всеми молитву, и на этот раз ему отвечала вся община, которая поднялась со скамеек. Я же стоял там неподвижно и немой, рисовал у себя в воображении, что произойдет, если сейчас стражники ворвутся в подземный храм. Поверят ли они мне, что я не отношусь к еретикам? Пожалуй, вряд ли. Для меня выросло скромное пламя костра еретиков, в центре которого я увидел себя — живое тело привязанное к деревянному столбу. Пугающая картина так живо охватила меня, что я едва воспринимал остатки богослужения. Или лучше говорить о службе истукану? Когда собрание разошлось, монах-призрак исчез в темноте, которая царила залом в задней части по ту сторону алтаря. Меня сопровождали трое итальянцев, и я не заметил даже, что делаю вслух замечания по поводу пережитого. — Что вы там бормочете о богохульстве и еретиках! — набросился Леонардо на меня. — Мы служим и чтим Бога-Отца не хуже чем те, которыеназывают себя христианами, но слушают не слова Христа, а распутного Папу. Чтобы быть точным, мы служим Господу лучше. В действительности мы — наследники Христа, последователи и распространители подлинного учения. — Со своим подлинным учением вы тут не далеко ушли, если вы вашим верующим дарите «Отче наш» как знак вашего посвящения. Молитва, которую знает каждый мальчишка назубок. — Возможно, каждый мальчик из хора и каждый воспитанник монастыря, сеньор Арман, но вряд ли уличные мальчишки, которые выискивают себе хлеб насущный в отходах добрых горожан и сытых попов, которые только проповедуют: возлюби ближнего своего! — Ах, — возразил я насмешливо, — вы цитируете Матфея? Для язычника вы знаете Святое Писание действительно хорошо. — Grazie, — с усмешкой сказал Леонардо, но продолжил в серьезном тоне: — Если Вы хотя бы немного полистали Матфея, то вы нашли бы следующую заповедь: «И если вы молитесь, вам не следует бодро болтать как язычники, потому что они думают, они будут услышаны, если они сделают много слов». А какую молитву, сеньор, предписывает Матфей верующим? — «Отче наш». — «Отче наш» — наша молитва, как по Матвею — молитва истинных верующих. Кто же трещит молитвы о молитвах, не понимая их смысла, тот — язычник. Мы знаем «Отче наш», молимся ежедневно по несколько раз, но передача книги означает больше. Она напоминает нам о том, что мы получаем в молитве милость и надежду. Сбитый с толку, я позволил провести себя по темным переходам в помещение, которое отапливалось маленьким камином. Комната (или, лучше сказать, склеп) была меньше, чем та, в которую я переехал. Очевидно, она служила своему жильцу спальней и рабочим кабинетом. Одна стена сплошь состояла из заполненных книгами полок, на противоположной стороне стояла просто сколоченная кровать. На столе лежали раскрытые книги — рядом с шахматами с грубо вырезанными фигурами. — Подождите здесь, — указал Леонардо мне. — Тот, кого вы искали, сейчас придет к вам. С этим итальянец покинул меня. Мой взгляд скользил по книгам, которые освещались на полках неровным, потрескивающим огнем камина. Рядом со многими изданиями Святого Писания я нашел и работы античных философов и алхимиков. Не хватало только книги Гренгуара о кометах. Шаги отвлекли меня. Тихо, но нацелено они приближались к келье, звучали гулко, нереально. Я попытался уговорить себя, что толстые стены и слои земли приглушают шорохи. Не зверь ли это был — тот, в чьем животе я находился? Он проглотил меня и теперь хотел переварить… Возможно, это были не шаги, которые я здесь услышал, а стук огромного сердца, которое билось быстрее в радостном возбуждении перед предстоящей трапезой? Чудовище пришло, чтобы забрать мою жизнь, кровь? Или разум?Глава 3 Корона Люцифера
Это был монах-призрак, чье лицо по-прежнему скрывал капюшон. Он шел сгорбленно, немного шаркая ногами; нервным движением он закрыл за собой дверь. Словно богослужение, которое было богохульным и тем самым — скорее, дьявольской мессой, — утомило его. С тихим вздохом он опустился на стул с тяжелыми подлокотниками в углу комнаты, расположенном в тени. И в тени его лицо было еще белее. — Присаживайтесь, Арман Сове. Наша беседа будет долгой, у вас появится куча вопросов. Он указал на табурет перед камином, на свету. Я почувствовал себя ребенком, который стоял в углу и таращился с широко раскрытыми глазами на закутанного в плащ человека, полный ожидания, очарованный, но едва ли напуганный. С его появлением мой страх прошел. От него исходило что-то удивительно доверительное, чему я не находил объяснения. Я не знал его, но одно мне теперь казалось ясным: под рясой монаха-призрака не скрывался Клод Фролло — серьезный, железный, хитрый архидьякон. Медленно я сел и сказал неуверенным голосом: — Вы правы, монсеньор, в моей голове кружится так много вопросов, что она грозит лопнуть. И все же я не знаю с чего начать, — я все еще находился под впечатлением произошедшего сегодня, видел мертвого ростовщика на полу, его дом, горящий в пламени, вертящееся подо мной роковое колесо мельницы. Возможно, это была отправной точкой; я достал кошелек с деньгами и подкинул его высоко. — Это я показал месье Эбрарду, он должен был вспомнить, должен был привести меня к вам. Поэтому он должен был умереть. К чему все это? — Это моя вина, — ответил монах-призрак почти беззвучно. — Я выкупил кошелек, потому что он принадлежал вам, а я хотел завоевать ваше доверие. Но это была жестокая ошибка, как потом выяснилось. Я вполне мог бы вам и просто так дать деньги. — Но с какой целью? Вы посылаете меня к Клоду Фролло, в Нотр-Дам, но это не означает сделать мне какое-то добро! Стук в дверь прервал разговор. Это была Колетта, все еще в широком белом одеянии, которое делало из нее послушницу монаха-призрака. Она принесла поднос, с красным вином, хлебом и сыром, поставила его молча на стол и снова покинула помещение. Прежде она бросила на меня долгий взгляд, словно я был хорошим другом. Это сбило меня с толку так же, как и ее красота впечатлила меня. — Широкая рубашка скрывает привлекательность тела Колетты, но изящество лица красноречиво выдает ее, будоража воображение, — слова монаха-призрака удивили меня, и я вопросительно посмотрел на него. — Не бойтесь, я явно не ваш соперник, — продолжил он с тихим смехом, который перешел в сухой кашель. — Очарование женщины не властно над истинными верующими, как и наслаждение плотью. Собственно, также, как сыром и вином, но я не «совершенный»[858] старой школы. Он наполнил вином оба деревянных бокала и отрезал себе кусок сыра большим ножом, который лежал на подносе. Эта картина разбудила мой голод. Я тоже ел и запивал сыр и ржаной хлеб сладковатым на вкус вином. В это время мой хозяин подложил пару свежих поленьев на изогнутую решетку в камине. Я отчетливо видел в луче света его руку, которая напомнила мне лапу демона: костлявая и морщинистая, как высохшая кожа, покрытая шрамами. — Вы хотите знать, Арман, почему я послал вас к отцу Фролло? Ответ лежит на поверхности: чтобы шпионить для меня. — Странный получается шпион — не знает ни своего задания, ни своего заказчика. — Только так вы могли быть убедительны, вне подозрений и внушить доверие. Вас действительно измучил голод, вы были оборваны, как нищий, отчаянно искали работу. Вам мог, должен был поверить даже очень недоверчивый архидьякон, — рука монаха-призрака вытянулась вперед, лапа со шрамами указала на меня. — Поэтому я выбрал вас. — Благодарю, — сказал кисло я. — Уже не раз я чуть не лишился своей жизни, выполняя поручение, о котором я вовсе не знал, хочу ли выполнять его. — Я велел следить за вами, чтобы избежать худшего. Я кивнул: — Нищему Колену. — Ему и другим. И сегодня с вами по дороге к Мельничьему мосту были вооруженные тени. — Ростовщику они не помогли. — Для этого они, к сожалению, подоспели слишком поздно. — И кто же, — спросил я медленно, делая ударение на каждый слог, — жнец Нотр-Дама? — Это я надеялся узнать от вас, Арман. — У меня нет и малейшего представления. Впрочем, я подозревал вашего мэтра Леонардо. — Тут вы сделали ложное заключение. Жнеца явно нужно искать не в наших рядах. Скорее, его послал дьявол Нотр-Дама. — Вы говорите об отце Фролло? — А о ком же еще? — А почему вы называете его дьяволом? — Как вы назовете человека, который молится Сатане и служит злу? — Чтобы быть искренним, месса, на которой я только что присутствовал, на меня произвела тоже не совсем христианское впечатление. Я услышал тяжелое дыхание, почти сопение, словно мой собеседник был задет, даже оскорблен. Наконец, он с болью ответил: — Вам нельзя совершать ошибку, путать власть, которая называется Церковью, с Христианством. Истинные христиане — это мы, мои братья и сестры. — Это уже многие говорили — те, кто всходили на костер. — Кто истинно верит, лучше сожжет свои греховные тела, чем обманет свою добрую душу! — А как вы называете себя, истинно верующие? — Нам дали разные имена: и альбигойцы, и альбанензы, чаще нас называют катарами, и это стало синонимом для еретиков. Но мы не нуждаемся в особенном имени, мы просто называем себя добрыми людьми. — Возможно, вас и вам подобных следует лучше называть сумасшедшими, — вырвалось у меня. — Почему? — спокойно спросил монах-призрак. — Потому что катары изгнаны, уничтожены кровавым Крестовым походом — двести пятьдесят лет назад. — Вы говорите правду, Арман, но не совсем. Что вам известно о нашей вере, о нашем движении? В scriptoriume[859] Сабле я переписывал «Liber Supra Stella», который Сальво Бурсе издал в 1235 году в Пьясенце против всех еретиков. Взволнованный им, я беседовал с монахами о катаризме и узнал немного о сатанинской секте. Они имели свое начало на Балканах, в группе, которую называли богомилами. Лжеучение появилось в южной Франции, возле города Альби, откуда пошло название альбигойцы. Их приверженцы сами обозначали себя как «чистые», «katharoi» по-гречески, отсюда имя катары. Их вера мне показалась такой сбивчивой, что я не совсем ее понял. Это значит, они не признавали в Боге Создателя этого мира, или они возвеличивали Сатану до существа, равного по могуществу наряду с Богом. Но они были достаточно храбрыми, чтобы назвать себя истинными христианами, и не боялись даже публичных диспутов с людьми Церкви. С помощью своей дьявольской практики катары завоевывали заблудшие души одну за другой. Чем сильнее становилась их власть, тем решительнее ополчались против них Церковь и король. Папа Иннокентий III с 1231 года с помощью доминиканцев и францисканцев начал подвергать всем испытаниям инквизиции со всей ее жесткостью безрассудных еретиков. Был начат Крестовый поход, кровавый и несправедливый, как любая война, пока цитадель богоотступников Монсегюр в Аквитании[860] не пала после продолжительной осады в 1244 году. Все это я сообщил человеку, закутанному в плащ — не без гордости за свои обширные знания. Не обращая внимания, он продолжил: — Верно, большинство из нас покорились преследователям, пожертвовали либо своей верой, либо своим телом. Но некоторые избежали этой участи, собрались вместе в укромных уголках, образовали новые общины, выбрали новых епископов, чтобы не дать умереть истинной вере. Во многих хрониках Монсегюр введен как конец нашей веры. Но четверым совершенным удалось выбраться из осады, и они взяли с собой самую большую тайну, которую когда-либо видел этот свет — солнечный камень. — Об этом я никогда не слышал, — признался я. — Иначе это не было бы тайной, по крайней мере, не такой большой. Чтобы было понятно, вы должны обстоятельно заняться верой добрых людей, Арман. Вы готовы к этому? — Да, вполне, — ответил я, немного колеблясь и чувствуя себя как слепой, который идет по незнакомой тропе, опасливо думая о том, чтобы по возможности избежать неправильного судьбоносного шага. — Но почему вы хотите, чтобы именно я был вовлечен в эту тайну? — Потому что, возможно, вы, Арман Сове — ключ к разгадке, — многозначно ответил монах-призрак. — К тому же, вы должны понимать, что не все добрые люди являются добрыми людьми. — Вы хотите загадать мне загадку? — Я хочу разгадать загадку — с вашей помощью. Но вы должны понимать, о чем идет речь! Я приготовился к долгому рассказу, поэтому взял еще сыра, хлеба, вина и сказал: — Расскажите мне вашу тайну. Вы правы, я же должен знать, почему вокруг меня умирают люди, словно мимо идет черная смерть. — Вы говорите, наша вера отрицает, что Бог сотворил мир. Это верно только частично. Все зависит от того, какого Бога вы имеете в виду. — А существуют еще какие-то? — спросил я, не зная, как реагировать при такой очевидной наглости: позабавиться или ужаснуться. — Доброго или злого, чего достаточно, чтобы обрушить мир в хаос. Добрый Бог, любимый Бог, которому молятся все христиане — в действительности, злой. Это Люцифер, Сатана, создатель мира. Он создал землю, на которой мы стоим, плоть, в которую заключены наши души. — Достойная внимания мысль, — заметил я. — Но почему он это сделал? Хотя я не мог видеть его глаза, я почувствовал, что монах-призрак смотрит на меня испытывающим взглядом. — Разве злу требуется причина? Разве оно не находит в себе самом выполнение, так же как и добро? — Тогда я задам вопрос иначе: откуда пришло зло? Вы говорите о Люцифере, которого вы идентифицируете с Сатаной. Разве он не считается павшим ангелом? — Павшим ангелом, повелителем зла И подумайте, что Люцифер называется «приносящий свет» и что создатель мира говорит в Сотворении: «Да будет свет!» — Продолжайте! — сказал я, забыв жевать. Возможно, его история была подобна безумию, возможно, она была искусной ложью, но она увлекла меня. — Люцифер господствовал на стороне Бога над миром добра, где души были без плоти и ее неминуемой греховности. Он был первым из ангелов, по мнению некоторых ученых — даже сыном Божиим. Но он поддался соблазну внешних соблазнов телесного и создал мир по ту сторону духовной чистоты, мир материи. Он населил его телесными оболочками, куда заточил души других ангелов, которые он частично соблазнил, частично просто бросил в беспорядке борьбы. Так возникли мы, люди. — Что за борьбу вы имеет в виду? — Борьбу добра со злом, Бога против его павшего ангела. Конечно, Бог хотел удержать других ангелов, но для многих он уже опоздал. — Бог всемогущ! — запротестовал я. — Бог — добро и всемогущ в добре. Зло же ново для него, и превращения Люцифера вначале были для него загадкой. Когда он понял, то его ангел уже превратился в его противника, Сатану, творца материального мира, нашего мира. — Бог царит надо всем космосом. Если Сатана — его единокровный противник, почему он довольствуется единственным миром? — В небесах царил Люцифер на стороне Бога и носил корону творения, корону Люцифера. В борьбе Бог сумел сорвать с него корону и, таким образом, лишил силы создавать дальнейшие миры. Так Люцифер создал себе не только империю, но, вместе с нею и темницу, в которую запер себя, — как запирал души ангелов в телесную оболочку. — Следуя вашей вере, все материальное — грех. — Это вы верно подметили, Арман. Наши тела — греховны, наше золото, а также наша власть над другими, намерение королей и папства править людьми — греховно. Потому что когда-то мы все были ангелами, творениями Бога, когда-то были равны между собой. Конечно, эти мысли не нравились ни королям, ни папству, поэтому они сделали все, для того чтобы преследовать нас, уничтожить — ас нами и нашу веру, наше столь опасное для них учение. Они действовали, побуждаемые ненавистью, ужасом, из чистого страха потерять свою власть, а с ней и все, что так важно для них. Поэтому самозваные рыцари Христа во главе с их безжалостным предводителем Симоном де Монфором залили огнем и кровью Аквитанскую землю. В 1209 году в Кастри был сожжен лишь один совершенный, который достиг состояния чистоты. Два года позже в Лаворе горели уже четыреста совершенных, а восемьдесят рыцарей, которые встали на нашу сторону, были повешены. Госпожу Лавор, тоже совершенную, сбросили в колодец, потом закидали камнями, пока она не умерла. Кровавый пес Монфор погиб в году 1218 при осаде Тулузы, но год спустя принц Людовик продолжил с двадцатью епископами, тридцатью графами, шестьюстами рыцарями и десятью тысячами лучниками разрушительный крестовый поход. В 1226 году он, к тому времени — уже Людовик VIII, коронованный король Франции, возглавил следующий поход против Юга — только внешне во имя Бога. В действительности же — чтобы добыть новые земли и власть. Монах-призрак начал говорить все быстрее, его возбуждение росло, пока сильный приступ кашля не прервал его и чуть не сбросил со стула. Когда он успокоился, я спросил: — Если добрым людям так отвратительна их греховная телесная оболочка, тогда не является ли смерть спасением для них? Не должны ли они тогда искать добровольной смерти, чтобы освободить свои души? — Некоторые так и поступили. Многие взошли с высоко поднятой головой на костер, пели песни и смеялись. Но это не так просто. Души мертвого не возвращаются непосредственно на небеса. Люцифер был умен, Сатана — хитер. Он создал лучшее средство, чтобы удержать измученные души: продолжение рода человека. С каждым ребенком, который приходит в этот мир, зло создавало новую тюрьму, чтобы взять душу умершего. — Итак, никакого спасения нет? — Нет, почему же! Мы сами должны себя спасти, каждый человек — свою душу. Кто отворачивается от зла и постепенно достигает состояния чистоты, тот возвращается обратно на сторону Бога. — Приятная перспектива для вас, как и для ваших братьев и сестер. Но какое имеют отношение ко всему этому я, отец Фролло и собор Парижской Богоматери? И кто вы, черт побери? — Я всего лишь епископ этой бедной общины, которая собралась в Париже, чтобы сохранить тайну солнечного камня. — Ах, да, этот солнечный камень. Что же за ним кроется? — Когда Бог сорвал у Люцифера корону творения, выпал один камень, смарагд. Кто знает его тайну, может повернуть с помощью силы солнца в обратную сторону создание материального мира, воссоздать дуализм духа и материи. — Это значит…. — Разрушение мира и всех живущих в нем людей — одним махом! — Только Богу это под силу. — Не Богу, а Сатане. — Зачем ему разрушать мир, который он создал? — Таким образом, он освободится из темницы, которая означает для него весь мир. — Но это было бы тогда великолепно для вас тогда бы вы покончили со всеми тревогами о греховной плоти. — Глупец! — закричал монах-призрак и поднялся со своего стула. — Глупый, болтливый дурак! Это было бы не спасением, а разрушением заблудших душ. Вы бы лишились навсегда возможности испытания, возвращения на небеса, — неловким движением, словно он потерял над ними власть, он широко раскинул руки. — Все человечество было бы проклято! Забывшись от возбуждения, он вышел на свет каминного огня, и капюшон сполз с его головы. То, что он обнажил, заставило закрыть меня от ужаса глаза. Этот подземный лабиринт должен быть адом, а мой собеседник — Сатаной во плоти!Глава 4 Солнечный камень
Я должен был выглядеть, как слабоумный, когда сидел с закрытыми глазами на табуретке — как маленький ребенок, который считает настоящим то, что видит. Он закрывает глаза от ужаса и ждет, что напугавшее его видение тут же исчезнет, как кошмарный сон, когда он снова откроет глаза. Мой кошмар не исчезал. Я взглянул не на лицо, а на отвратительную морду. Если Сатана, падший ангел, обладал лицом, то оно должно выглядеть так. Не кривое и косое, утратившее свои формы, как физиономия горбатого звонаря, но не менее неестественное и дьявольское. Монах-призрак ненавидел все плотское так сильно, что изрезал свое лицо? Именно такое впечатление оно производило. Смуглая кожа лица, как и рука, которую я незадолго видел, была изрезана вдоль и поперек шрамами. Тонкая верхняя губа разделена рваным шрамом. Некоторые шрамы пересекались, собирались во вздутые холмы, рядом с которыми глубокие морщины превращались в пропасти. Изуродованная кожа натягивалась на костях так, что она в каждый момент могла быть проколота ими — словно кто-то затянул череп тонкой кожей, совершенно забыв при этом о мышцах. Это впечатление усиливалось полной наготой головы. Ни одного волоса на голове, ни бороды, ни бровей — ничего. Тот, кто отвечал за разрушение этого черепа, не остановился и перед ушами. О левом напоминал только глубокий шрам, но правое было истрепано, как изъеденная молью рубашка; безучастно, словно они были излишни, тряпки из кожи свисали у головы. И действительно, как я позже установил, их владелец, слушая, вытягивал левое ухо вперед, правое ухо так или иначе больше нельзя было использовать. Под морщинистым лбом на меня смотрели печально темные глаза — глаза человека, который повидал на своем веку немало страданий. Тяжело дыша, он отошел назад и снова опустился на стул. Тень сумерек окутала страшное лицо, и я был благодарен тому. — Простите мое волнение, — тихо сказал он. — Я должен был помнить о том, что для вас это все слишком непривычно. Брат Донатус явно не распространялся во время ваших занятий о вере еретиков. Теперь наступила моя очередь подпрыгнуть от волнения. Затаив дыхание я, запинаясь, сказал: — Откуда вы знаете об этом? Почему вам известно имя библиотекаря и учителя аббатства Сабле? Я увидел перед собой постоянно сгорбленного монаха с пшенично желтым венком волос, который годами ревностно старался наставить бастарда Армана Сове на истинную веру и преподать ему trivium грамматики, риторики и диалектики. В quardrium он, впрочем, свел арифметику, геомегрию, астрономию и музыку до ознакомления с общими сведениями. Сабле был маленьким аббатством, и высокообразованные монахи переезжали в большие, престижные монастыри. Сыны выдающихся горожан Сабле, которых обучали в аббатстве, были довольны, что им не приходилось излишне забивать свои головы знаниями. В основе своей они все были крестьянами и, право, не знали, как могут применить семь свободных искусств. Так что и в этом смысле я был постоянно в стороне. Я наседал на занятия, поскольку у меня не было дела, дома и даже возможности получить наследство. Только благодаря знаниям, которые приобрел, я мог добиться в дальнейшем чего-нибудь, пусть у меня даже и не было отца. В этих подземных каменных стенах, вдалеке от Сабле, я чувствовал, что близок к тайне моего происхождения, как никогда. Монах-призрак должен что-то знать, если ему был известен брат Донатус. Я повторил свой вопрос. — Всему свое время, — получил я в ответ. — Брат Донатус должен был вам преподать, что невозможно учиться двум вещам одновременно. Только что мы были еще на небесах и в аду, теперь ваш дух витает в Сабле. Куда вас влечет сильнее? — Уж точно не в ад, — пробормотал я в дурном настроении и снова присел. — Итак, хорошо, расскажите мне подробнее о вашем солнечном камне, прежде чем мы поговорим о Сабле. Смарагд из короны Люцифера, кажется, пришелся вам по сердцу. — Разумеется. Мы должны найти его, и вы должны мне в этом помочь, Арман! — Похоже, это действительно было очень нужно; я слышал, как его гулкий, немного звенящий голос задрожал. — Мы должны разыскать солнечный камень, прежде чем наши враги будут держать его в руках. — Кто ваши враги? Вероятно, представители инквизиции. — И эти тоже, но они не самые опасные. Они хотят сжечь только наши тела, а не весь свет. Те, кто намеревается сотворить такое (и я почти стыжусь этого) — люди нашей веры, люди, которые тоже называют себя добрыми людьми, в действительности же служат злу. — Вы имеете в виду отца Фролло? — Он один из них — и не самый последний. — Почему вы боретесь против ваших собственных людей? — Раскройте уши, Арман! Я объяснил же вам, что они служат злу, даже если многие из них не знают этого, действуют с лучшими побуждениями и нас считают злом. — Очень похоже на запутанное дело. — Зло всегда запутанно, иначе оно не было бы успешно, — вздохнул монах-призрак. — Как Люцифер подавил ангелов на небесах, так Сатана поступает с добрыми людьми на земле. Некоторых из нас он сумел ослепить и даже внушить им, что они сильно верующие люди. Они оспаривали, что Сатана-Люцифер — создание Божье, называли его самостоятельной силой, таким же первичным и могущественным, как сам Бог. Он говорил мрачным тоном, но я не понимал его печали и сказал ему об этом. Украдкой посмеиваясь, я добавил: — Вы воспринимаете как божественную дерзость — поставить Сатану наравне с ним? Куда это заведет, если еретики будут обвинять друг друга в ереси? — Это божественная дерзость, но самое худшее то, какие выводы сделали из своего учения дреговиты, как себя называют представителя этого крайнего дуализма — по их фракийской родине Дреговица. Если Сатана — самостоятельное божество, а его мир независим от мира, созданного добрым Богом, то души созданий из плоти порождены Сатаной, а не Богом. Тогда души не нуждаются в путешествии от тела к телу, чтобы очиститься и быть спасенным. Для них не может существовать превращение в добро, единственное спасение заключается в окончании их существования. К сожалению, проклятому Никите удалось заразить добрую долю «чистых» этой обманчивой верой. — Кто это еще — Никита? — Он был епископом катаров в Константинополе, столь могущественным, что некоторые называли его папой. В 1167 году в замке Сен-Феликс-де-Караман состоялся большой собор катарских церквей для нового порядка нашей церкви. На нем появились Роберт фон Епернон, епископ французской церкви, епископ Маркус из Ломбардии, Бернард Сатала с советом из Каркассона, Сикард Целлерье, епископ из Альби, совет из Аген, а так же Никита, сын Сатаны. Он закрепил свое влияние на церковном соборе и привел «чистых» к тому, чтобы рассматривать Сатану, как божественную силу. Не иначе, Сатана вселился в него, и это относилось к дьявольскому плану навечно увести в сторону души от их спасения. Теперь ученикам Сатаны осталось только завладеть солнечным камнем, чтобы уничтожить мир. — Но тут же противоречие! — вмешался я. — Если эти дреговиты или ученики Сатаны рассматривают Сатану как самостоятельное существо, он не может быть падшим ангелом Люцифером. Тогда же не может существовать короны Люцифера и выпавшего оттуда камня. — Вы уже рассуждаете, как истинно «чистый», — постановил монах-призрак с явным удовольствием; к тому же, необъяснимым образом мне показалось, что я услышал в его голосе налет гордости. — В действительности, Арман, ход ваших мыслей верен и разоблачает учеников Сатаны. Но большинство дреговитов не знают, что они служат злу, и, к сожалению, теологический спор между крайним и относительным дуализмом они познают только урывками. В большинстве своем это простые люди, ведомые и послушные — слуги Сатаны, которые борются с нами, истинно «чистыми», и не знают, что тем самым они способствуют уничтожению своей бесценной души. Моя голова гудела, и я спросил себя, кто больше предался безумию: мой собеседник с его запутанными речами о Сатане и конце света или я, который начал серьезно дискутировать об этом? Замешательство охватило меня. Значит, это так легко — стать еретиком? Я сжал руками мои стучащие виски, потер их, втянул гнилостный воздух и не нашел возможности закончить это безумие. Не было ни одного аргумента, который бы привел речи монаха-призрака ad absurdum. Парень хотел быть безумным, но безумие имело под собой методическую базу. — Вам нехорошо, Арман? Не желаете прервать наш разговор, чтобы вы могли немного отдохнуть? — серьезное беспокойство звучало в его голосе, но это так же могло входить в его планы, чтобы заполучить меня. — Нет, продолжайте! — я налил себе еще вина, — Тем скорее мы подойдем к концу истории. Что произошло потом после церковного собора в… — Сен-Феликс-де-Караман называется место триумфа Сатаны. Ему это удалось легко, потому что у него было много союзников. Рыцари-тамплиеры стояли на стороне дреговитов, побратались с ними. Более того, дреговиты основали орден тамплиеров, потому что предполагали, что камень света находится на Востоке. — Подождите! Теперь вы все перемешали. Тамплиеры были христианским орденом, который был основан, чтобы защищать процессии паломников в Святую Землю. — Ах, — возразил монах-призрак скорее иронично, нежели убежденно, — и поэтому тамплиеры были распущены Папой, преследовались инквизицией? Почему последний великий магистр ордена, Жак де Молэ, был сожжен накануне дня Иосифа в 1314 году на Еврейском острове позади Нотр-Дама? — Потому что тамплиеры молились Сатане, — ответил я, и лишь теперь мне стало ясно, что это подводило базу к словам монаха-призрака. Быстро, словно я мог этим что-то вернуть, я добавил: — Но говорят, король Филипп хотел присвоить сокровища тамплиеров, а слабый Папа Клемент должен был покориться его воле. — Конечно, задолжавшему Филиппу богатства тамплиеров пришлись кстати. Но вы как раз сказали, Арман, что они молились Сатане. И Папа, и король слышали о солнечном камне и хотели заполучить его власть. Отсюда и травля тамплиеров, которые сами даже не все знали, что служили злу. Если вы прочитаете записи о допросах схваченных тамплиеров, вы установите, что во Франции были допрошены только шестьсот бедных рыцарей Христа, хотя их число в этой стране составляло две тысячи. — А их великий магистр, он был приспешником Сатаны? — Думаю, он заблуждался, но действовал с добрыми намерениями. То, что он причислял себя к «чистым», доказывают слова, которые он сказал после объявления приговора, который объявил первоначально вечное замуровывание: «Я радостно отказываюсь от жизни, которая мне теперь глубоко ненавистна». Возможно, король Филипп боялся, что Жак де Молэ может распространить еще больше нежелательной истины о себе, если его замуруют. Король приказал тут же сжечь Молэ и Годфруа де Шарне, командора Нормандии, который сохранил верность своему великому магистру. — Вы переписываете историю! — возмутился я, хотя и догадывался, почти знал, что монах-призрак говорил правду. Не было ли странное собрание тамплиеров, которое я подслушивал вечером накануне несчастья, лучшим тому доказательством? — Хронисты, в большинстве — мужи папского клира, — описывают историю, как скоро они хватаются за перо и чернила. Я расскажу вам, о чем они умолчали. Верите вы или нет, Арман, дреговиты основали орден тамплиеров, чтобы найти солнечный камень, а не для того, чтобы защищать пилигримов. Это произошло лишь позже, когда орден приобрел влияние и многие рыцари примкнули к нему, — те, кто действительно хотел защищать христианство с мечом в руках. Гуго де Пейн, первый великий магистр и архидреговит, был со своими братьями уже около 1119 года в Святой Земле, устав ордена у них появился лишь в Санкт-Хилариусе в году 1128. Что произошло за эти девять лет? Я вопросительно пожал плечами: — Я не был при этом. — Я тоже, зато я знаю правду. Тамплиеры, вначале многочисленные, но еще слишком слабые, чтобы защищать дороги паломников и процессии пилигримов, искали солнечный камень, и нашли его. Все произошло без правил ордена при двойном освещении братства, которое никому не подчинялось, не контролировалось никакой властью, кроме силы зла. Солнечный камень был только одной из тайн, которые оказались обнаруженными на Востоке, в колыбели Иисуса. Чтобы действовать дальше и в большем количестве, тамплиеры разработали правила и для виду защищали Крест Господень и его пилигримов. — Так солнечный камень находился во власти зла, — подытожил я и спросил поспешно: — Почему тогда мир еще не разрушен? Монах-призрак наклонился вперед, и красный отблеск огня затанцевал на его отвратительном лице, придав ему действительно вид демона ада. — Потому что истинно «чистые» сумели прибрать его к своим рукам благодаря ловкости и удаче. Конечно, у нас были шпионы среди тамплиеров. Эти люди украли солнечный камень для нас, и мы спрятали его во время переполоха альбигойских крестовых войн в 1232 году на Монсепоре. Но потом верная королю армия, натравленная дреговитами на церковном соборе в Бециере, осадила в году 1243 горную крепость, чтобы разрушить ее. — И чтобы выкрасть солнечный камень? — Верно. Но сперва все выглядело так, словно осаждающим не улыбалось счастье. Крепость Монсегюр восседает на отвесной скале, чья верхушка, защищалась глубокими пропастями. Вокруг не было ничего, кроме камня и снега, и почти никакого прикрытия для нападения. Запертые «чистые» насчитывали пятьсот человек, их противник же — шесть тысяч или больше. Но все же солдатам короля не удалось полностью окружить крепость. По тайным тропам, между скал и пропастей и под землей добрые люди получали подкрепление, продукты питания и оружие. — Оружие? — удивился я. — Я всегда думал, катарам, презирающим убийство других людей, это было запрещено. — Верно. Но стоит ли придерживаться этого запрета, если угрожает враг? Мы должны были бороться, чтобы защитить солнечный камень. Добрые люди отказались за долгие годы их кровавого преследования от многих священных предписаний, чтобы выстоять перед могущественным врагом. Король и Папа вели войны против них, и войну не выиграть, позволяя убивать себя без сопротивления. Монах-призрак смочил глотком вина свой хриплый, скрипучий голос. — В крепости Монсегюр рыцари и оруженосцы, лучники и арбалетчики заняли оборонительную позицию. Они несли свою священную военную службу достойно. Сперва все выглядело так, будто преобладающая численность осаждавших помогала им, как решето при черпании воды. Но кого нельзя победить внешне, легко победить изнутри. Язва, которая разъела наше сопротивление, состояла из предателей в наших собственных рядах — из дреговитов. Они выдали врагу тайные ходы в скалах. Пьер де Арси, сенешаль Каркасоннский, который командовал королевским войском вместе с архиепископом Нарбонны, завербовал наемных солдат из Гаскони, мужчин, у которых навыки ведения боя в горах были в крови. Они взобрались, подобно горным козам, по давно уже не тайным тропам, одолели часовых и заняли оборону на восточной вершине. Отсюда враги устроили тяжелый обстрел горы, который увенчался тем, что они максимально приблизились к крепости. Так же и мы сделали бросок наверх и защищались изо всех сил. Но каменный дождь, который беспрерывно обрушивался на башни, крыши и людей, сломил и сковал боевой дух. И, кроме того, выданными тайными путями больше нельзя было воспользоваться, прервалось снабжение продуктами питания. К этому прибавилось начало зимы. В стенах Монсегюра голодали, мерзли и умирали. Было ли дело в настойчивости его тона, но я поверил, что видел своими глазами все, о чем он рассказывал. Я чувствовал, как холод касался моей кожи, ощущал боль пустого желудка, который ссохся от лишений, я испытывал глубокое сострадание и боль, которую принес каменный дождь. Все новые остроконечные блоки разбивали здания, разворачивали крыши и крушили целые стены. Кому посчастливилось, умирал тут же. Но многие были ранены, изувечены, и их крики звучали в моих ушах. — Нет! — закричал я и вскочил на ноги. — Довольно этого безумия! Кто-то крепко схватил меня. Близость дала мне тепло. Знание, что я не один, придало мне уверенности. Я взглянул в вопрошающее лицо, но оно больше походило на череп мертвеца. Возбужденный тик мускулов лица заставил дрожать бесчисленные шрамы. Изуродованные губы открылись, и я услышал с трудом переводящего дыхание человека в шрамах: — Клянусь Повелителем Добрых Душ, он вспоминает! У него дар! Я хотел спросить его, о каком даре он говорил, но пристальный взгляд темных глаз, который пронизал меня до самой души, остановил меня — крепче, чем оковы. Глаза увеличивались, и я окунулся в них, как в глубокое, бездонное озеро. Из бесконечной дали я услышал долетавшие до меня слова, словно это шептал осенний ветер в пожухлой листве, но четко и настойчиво: — Вспомни, Арман. Войди в поток времени, который не имеет значения — химера, созданная злом, чтобы позволять гнать людей за богатством и властью. Преодолей цепи твоего тела, взойти над стенами сегодня, плыви по реке воспоминаний. Стань единым с собой, каким ты всегда был! У меня закружилась голова, заставив меня покачнуться. Кровать проломилась, нет, она разошлась по швам, как гнилое дерево, которое превращается в густую кашу. Стены задрожали, их контуры растворились. Пламя в камине окутало все, но я не чувствовал болезненного пожара. Все сжималось в красном пламени, проглатывалось им, последним было усеянное шрамами лицо — и я с ним… …Нас было шестеро, и мы стояли в большом зале, который скудно освещался только несколькими настенными свечами. Но это было неважно, потому что был другой свет. Зеленый теплый свет сиял в центре помещения, он исходил от каменного алтаря, который тяжеловесно вырастал из каменного блока. Зеленый свет вызывал священный трепет и в тоже время — надежность, доверие. Это было сияние власти давать и забирать, сияние становления и завершения. Двое подошли к алтарю. Я знал их имена — Бертран де Марти и Жервэ, епископ и его Filius maior. Свет окрасил их сверхъестественным блеском, пронзил их, словно они не были существами из греховной плоти. Принес ли жар искупление? Я ощутил, как наполняюсь радостью и счастьем и страстно желал также окунуться в теплый зеленый свет, чтобы очистить душу его огнем. — Мы стоим перед тобой, камень света, ты — сила Творца, — сказал Бертран. — Мы хранили тебя для добра, чтобы уберечь от зла. Но зло могущественно, и стены нашей крепости падут. Поэтому ты должен покинуть Монсегюр, должен погасить свой теплый, светлый огонь в холодной, темной ночи. Бертран и Жервэ упали на колени, и мы последовали их примеру. Вместе мы читали молитву «Отче наш». Потом оба поднялись перед алтарем. Жервэ держал маленькую неброскую деревянную шкатулку, пока руки Бертрана окунулись в центр зеленого пламени. Заворожено я следил за каждым движением, ожидая, что руки епископа опалятся и превратятся в пепел. Но они возвратились обратно из огня, который сжался, и потом потух, словно никогда и не горел. Теперь только свечи бросали тусклый свет в темноту, и я неясно увидел камень в руках Бертрана — темный, зеленый. Смарагд, солнечный камень! Но теперь, так как он больше не сиял, то и не производил сверхъестественного или даже божественного впечатления — скорее, обычное, разочаровывающее. Епископ положил его в деревянный ящичек, который был украшен большим металлическим замком. Бертран запер ящичек и спрятал ключ. — Солнечный камень, камень света и смерти, потух, и никто не знает, осветит ли он когда-нибудь еще наши души. Возьмите его себе, братья, и спрячьте в надежном месте. Подойди, брат Амьел-Аикар! Мое сердце забилось сильнее, он имел в виду меня. Я поднялся, подошел к епископу и его filius maior, взял влажными руками ящик. Гордость, страх и счастье двигали мной. Я был горд тем, что избран как хранитель солнечного камня. Я страшился ответственности; соверши я ошибку, — и смарагд из короны Люцифера будет навеки потерян, или еще хуже — попадет в руки зла. Но счастье быть так близко рядом с божественной властью заглушало все, опьянило меня, как аромат дурманящей травы. Едва ли я осознал, как подошли один за другим брат Хуго, брат Пуатвен и брат Удо, чтобы взять такие же закрытые ящички — ниже и длиннее, чем мой. Серьезно и проникновенно епископ Бертран сказал: — Каждый из вас несет часть власти — камень света и разделенный на три части план мировой машины. Вместе вы составляете силу творения и уничтожения. Потому берегите и храните их хорошо, чтобы все четыре дара не попали к дреговитам. По крайней мере, один из вас должен от них уйти! Мы еще раз прочитали «Отче наш» и покинули зал по длинному запутанному переходу без окон и света. Только свеча, которую взял с собой Жервэ, выхватывала у тьмы куски голубого камня. Пол был шероховатым, неровным, идеально созданным для того, чтобы споткнуться. Холодное дыхание сквозняка, сопровождаемое голубоватым блеском ночного неба, сообщило о конце нашего пути. За стенами крепости возле крутого северного склона нас поджидала горсточка людей в доспехах и с оружием, возглавляемая Пьером Роже де Мирпуа, комендантом крепости. Мрачно и молча за нашей спиной вырос замок последней надежды. На один миг я удивился, что не услышал постоянную дробь каменного дождя, уничтожающий жизнь и мужество осажденных. Потом я вспомнил о пятнадцатидневном перемирии, которое выговорил комендант с сенешалем Каркассонским на переговорах. Де Мирпуа дал заложников и выхлопотал, что всем осажденным, которые отреклись от катарской веры, будет сохранена жизнь. Пятнадцать дней требуется им, так он объяснил сенешалю, чтобы очистить их души и таким образом уяснить, хотят ли они жить как христиане или умереть как еретики. Но в действительности нам было нужно лишь время, чтобы разобрать старый, полузасыпанный потайной ход, о котором не знали предатели. С наступлением дня срок истек, и поэтому брата Хуго, брата Пуатвена, брата Удо и меня спустили на веревках в глубину. Острые выступы скал ободрали наши платья и оставили глубокие раны на теле. Наконец, мы приземлились на маленький выступ скалы, и солдаты отпустили веревки; мы могли еще использовать их. Теперь мы четверо были одни с Божественной силой, которая, в неправедных руках, превратится во власть Сатаны. В горной пещере мы спрятались на день. Когда широкое небо смешалось над горой бледно-розовый цвет с ночным черно-синим цветом, мы услышали крики и проклятия над нами, плач и крики. Мы видели длинную колонну побежденных, которая потянулась из крепости, цепь жутких, темных очертаний, которые спускались пешком в долину на фоне светлеющего неба. Все прошли мимо, и мы могли только догадываться о этом, что среди них были епископ Бертран де Марти, его filius maior Жервэ и Пьер Роже де Мирпуа. — Отец Добрых Душ, не покинь их! — сказал брат Хуго шепотом, словно нас могли слышать вражеские солдаты глубоко внизу долины. — Он не покинет их, как и нас! — уверенно возразил брат Удо, который подал нам хороший пример своим несокрушимым мужеством в последующие дни и ночи. Позже мы увидели у подножия горы языки пламени, от которых понимались густые, черные столбы дыма. Дым окутал старую твердыню Монсегюр словно на прощание, прежде чем он рассеивался в беспокойный порывах ветра наверху. Мы надеялись, ветер донесет души в божественное небо, навстречу их спасению. Более двухсот братьев и сестер отказались изменить своей вере и вошли с песнями в раздувающееся пламя костра, впереди всех — епископ, его filius maior и комендант. Это было гибелью Монсегюра, и теперь нас осталось только четверо, хранителей Божественной власти. Солдаты обыскали крепость до последнего уголка в поиске тайны, которую мы унесли с собой. Мы переждали до ночи и совершили трудный спуск по достаточно свободной горной тропе. Неоднократно мы использовали веревки, чтобы преодолеть порой непроходимые отрезки пути. Ночь и последующий день мы провели в горной пещере, и лишь следующей ночью нам удалось покинуть Монсегюр — в изнеможении и с изодранным телом. В лесу Баски мывстретили первого брата, Беренже де Лавлане, который должен был проводить нас. Он доставил нас в Монтэлу, который уже давно был прибежищем гонимых. Оттуда мы пошли в Аудеталь, к замку Уссон, где нас накормил брат Матеус. Мы, наконец, снова поспали в настоящей постели, с полными животами и в надежде, что преодолели самое худшее, даже если впереди у нас была большая часть пути. Каждый из наших помощников называл нам следующего, и никто, похоже, не знал весь путь к новому тайнику солнечного камня. Несмотря на неопределенность нашего пути, я хорошо спал в стенах Уссона, пока что-то не разбудило меня — шум и короткий, резкий крик. Он шел слева, где находились комнаты Хуго и Пуатвена. Хуго лежал в своей постели, но неестественно вытянул свои ноги и руки. На его груди зияла рана, кровь била струей, как из сильного источника, пачкая рубашку Хуго и его одеяло. Я побежал дальше, в комнату к брату Пуатвену — и подоспел слишком поздно. Фигура человека наклонилась над кроватью и вынула кинжал из груди Пуатвена В левой руке нападавший держал маленький ящик, часть плана Пуатвена. Незваный гость услышал меня и повернулся ко мне. Волнение и решительность отражало его лицо, в глазах горел нездоровый огонь: — Чудесно, что вы пожаловали ко мне, брат Амьел-Аикар, это сократит мой путь. — Удо! — с ужасом воскликнул я, и мое «почему?» замерло в жалобном кряхтенье. Шнур сдавил мне горло, мое сердце хотело разорваться, а руки и ноги, похоже, охватила морозная дрожь. Мне не нужно было задавать вопросы, ответ лежал на поверхности. Епископ Бертранд ошибся, когда выбрал четырех самых достойных совершенных. Один был ни достойным доверия, ни совершенным в понимании истинно «чистых». Он поддержал наш побег, чтобы солнечный камень не попал в руки осаждавших врагов. Но, конечно, он хотел получить тайну для себя, в свои руки — в руки дреговитов, злой власти! — Ваш путь заканчивается здесь, брат Амьел-Аикар, — прошептал Удо. — И ваш тоже! — возразил я, более упрямо, нежели мужественно. — Вы не уйдете далеко. Брат Матеус будет гнаться за вами, остановит вас! Удо улыбнулся и покачал головой: — У меня есть помощники здесь в крепости, и лошади уже наготове. Он прыгнул на меня, занеся жаждущий крови кинжал уже в смертельном ударе. Но его еще быстрее предотвратил брат Пуатвен, который еще не умер. Теперь он нетвердо выбрался из кровати, обхватил Удо и повалил его с собой на пол. В животе предателя торчал его собственный кинжал. Я хотел было уже вздохнуть и позаботиться о Пуатвене. Но Удо стряхнул его с себя, поднялся со стоном и выкрикнул имена, которые я не знал — без сомнения, он звал своих помощников. Я не знал, кто это и сколько их. Но если бы они схватили меня, то у них оказались бы и солнечный камень, и план мировой машины — вся тайна. Призывающий голос епископа Бертрана снова зазвучал у меня в ушах: «Потому берегите и храните их хорошо, чтобы все четыре дара не попали к дреговитам. По крайней мере, один из вас должен от них уйти!» Я побежал обратно в мою комнату, прижал коробочку со смарагдом к себе и спасался бегством по проходам неизвестной мне крепости, пугливо надеясь на то, что не повстречаюсь помощникам Удо. В какой-то момент я оказался на свободе, перед маленькой боковой дверью, которая вела за пределы крепости. Лишь мимолетно я подумал о том, чтобы попросить брата Матеуса о помощи. А что, если он тоже был предателем, или я попал бы в руки дреговитов из-за своего промедления? Замок ворот быстро поддался, и я побежал в темную ночь по незнакомой местности. Я неоднократно падал, спотыкаясь о ползущие растения и папоротник. Однажды когда я уже хотел снова торопливо подняться, я услышал голоса и стук копыт. Шум становился громче, отчетливее. — Да где же прячется этот проклятый Амьел-Аикар? — Здесь, вот обломанная ветвь. Он не мог далеко уйти! — Поскачем медленно и рядом, тогда нам наверняка удастся его обнаружить. Я слышал мерный храп медленно приближающийся коней. Между старых вязов уже нарисовались контуры моих преследователей. Я лежал, прижавшись к земле, и едва не умер от страха. Не от страха за свою жизнь, чей конец когда-нибудь должен наступить, и моя душа только один шаг будет пронесена дальше в ее поисках спасения. Нет, я боялся за все души, которые будут потеряны, если дреговиты меня обнаружат. Мой страх был так велик, что у меня закружилась голова, — и кроны деревьев высоко надо мной закружились в диком танце. Было чувство, что я птица, которая парит над лесом, над землей, над миром. Штормовой ветер подхватил птицу и бросил ее навстречу луне и звездам, сквозь пространство и время…Глава 5 Белые против черных
Зайчики света, которые танцевали у меня перед глазами, были не звездами, а бликами каминного огня на моих подрагивающих открытых веках. Вытянувшись во весь рост, я лежал на кровати в подземной келье и увидел совсем рядом со мной ужасную морду монаха-призрака, причем она выражала беспокойство. Пот градом выступил у меня на лбу, который заботливая рука утирала смоченным платком. Постепенно я осознал: ужасный сон прошел, Здесь и Сейчас воцарилось вновь — я снова был я! Мое облегчение было ничтожно. Слишком настойчив, слишком жизненным был мой сон. Мне все еще казалось, будто он по-прежнему не выпускает меня как демон глубокого моря, который вытянул свои мощные лапы из мира сна в мир действительности. Гораздо приятнее мне показались потом мягкие руки моей сиделки Колетты. Пока девушка снова утирала мой лоб влажным платком, она улыбнулась мне ободряюще. Я испытал стыд из-за болезненного впечатления, которое она должна была получить обо мне. И все же я наслаждался, когда ее кожа касалась моей. Словно милый, приятный ливень окатил меня, только охотнее я бы теперь узнал, испытывали ли она подобное. — Как ваши дела, Арман? — с участием спросил стоящий рядом с ней монах-призрак, что противоречило его пугающему лицу. От мысли, что я лежу в кровати этого существа, меня снова прошибло потом. — Я, пожалуй, потребовал от вас слишком многого, когда послал ваш дух в прошлое. — Это сделали вы? — прокряхтел я сухим голосом и был благодарен за то, что Колетта поднесла к моим губам глиняную миску с водой. — Почему? — Чтобы заставить вас сопережить тому, что вам кажется невероятным, если вы слышите это из моих уст. — Постепенно это не показалось бы мне более невероятным. Кроме того, я вижу Монсегюр во сне не впервые. Только я не знал прежде, откуда у меня эти видения возникают во сне. — Что вам снилось? — спросил монах-призрак с неожиданным волнением, которое сменилось приступом кашля. — С каких пор у вас эти сны? — С тех пор как я живу в Северной башне Нотр-Дама, — ответил я и пересказал ему свои сны. — Итак, с тех пор, как вы живете в Нотр-Даме, — он задумчиво закивал головой, и вдруг его пальцы вцепились с болезненной твердостью в мою левую руку. — Нет ли у отца Фролло своей тайной кельи, его ведьмовской кухни, совсем рядом с вашей? Я подтвердил это и сказал немного удивленно: — Вы хорошо информированы. — Может, камень уже в руках Фролло? — вопрос был обращен не ко мне. Монах-призрак смотрел сквозь меня с неподдельным ужасом в глазах. — Или он уже разгадал загадку Фла-меля? — Я едва верю в это, — сказал я и рассказал, как я наблюдал за Фролло у могилы Николая Фламеля и в полуразрушенном доме алхимика. — И потом, на собрании, когда великий магистр спросил Фролло о солнечном камне, архидьякон ответил, что он находиться буквально перед разгадкой тайны. — О чем вы говорите, Арман, о каком великом магистре, о каком собрании? — Об этбм вы должны бы знать, во всяком случае, один из ваших людей, очень хороший лучник, спас меня от тамплиеров. — Я ничего не знаю, о чем вы говорите, — возразил он. — Расскажите мне обо всем по порядку! Я поведал ему о моем полудобровольном проникновении в подземный мир острова Сите и о встрече тамплиеров или как они в действительности себя называли. Здесь в Париже явно ничто не соответствовало тому, за что выдавало себя. Порой я не был уверен даже в самом себе. — Я не имею понятия о собрании и месте, на котором оно состоялось, — тихо сказал мой странный хозяин. — Тем более, о том, кто этот стрелок. Он действовал не по моему поручению. — Вам так же мало известно и о жнеце Нотр-Дама, не так ли? — мой тон был ироничнее, чем я сам того хотел, так неуверен я был. — Вы мне не верите, Арман? — Кому же я должен верить, если никто не является тем, за кого себя выдает? Если вы подвергаете сомнению и Бога и Сатану! — Не Бога и Сатану, а только ошибочную веру, которую распространяют священники. Вмешательство неизвестного стрелка означает, что не долго существовать игре только белых и черных. Я не понял и сказал ему об этом. — Вспомните о знамени тамплиеров, которое вы видели. Черный и белый его цвета, цвета тьмы и света, — он указал на шахматную игру с раскрашенными белыми и черными фигурами. — Белые борются против черных за солнечный камень, и шахматная доска — улицы Парижа. — И себя вы считаете белыми игроками, — предположил я. В моем голосе опять проскользнула насмешка. Что-то в глубине меня подталкивало ранить монаха-призрака. — А Фролло — тот, кто движет черными фигурами на доске. — Последнее вдвойне неправильно. Фролло может быть в одном лице и королем и королевой, так опасны его ходы. Но и он сам фигура на игральной доске. Кто знает, возможно, он даже считает, что относится к белой партии, как и многие из его соратников. Ликвидацией материального они хотят спасти души, и при этом они слепы и не видят, что ими руководит Сатана. Я измученно застонал: — Сатана — черный игрок? — Он управляет ходами, за властной рукой может даже скрываться человеческая личность. К сожалению, вы не могли видеть его лицо, иначе я бы сейчас знал, кто мой главный противник! — Великий магистр? — Да! — монах-призрак тяжело вздохнул. — Он должен быть очень могущественным, не только негласно. Я предполагаю, что он даже находится в ближайшем окружении короля. Только так он сумел заполучить столько союзников в правительстве и Церкви. К тому же Людовик сам пару раз посещал отца Фролло и просил его о совете алхимика. — С какой целью? — Королю постоянно нужны деньги, и он боится, что конец его жизни близок. Как раз те случаи, которые всегда помогали алхимикам соблазнить легковерных. Они обещают золото и эликсир жизни, но до сих пор еще никто не сдержал обещания. Даже Фролло, иначе у дреговитов золота было бы в избытке и им не пришлось ругаться с Марком Сененом. — Ах, да, этот странный пленник. Что же в нем такого? — Он обнаружил, что в королевской казне есть плохие деньги, монеты с недостающим весом, выпущенные дреговитами и обмененные на настоящее золото. Сперва они заставили Сенена молчать. Когда он не смог больше играть по правилам их нечестной игры, они заставили его исчезнуть. Теперь они держат его в неизвестном месте. Вероятно, они хотели выяснить под пытками, что ему известно и кому он еще что-либо рассказал. Что-то передернулось в Колетте. Дрожь прошла по ее руке, и вода выплеснулась из-за краев миски, оставив большое пятно на матраце. Для такой молодой девушки слова монаха-призрака, должно быть, звучали чудовищно. Как и для меня. Я сел на кровати и громко рассмеялся своему собеседнику прямо в ужасное лицо. — Уж не хотите ли вы мне рассказать, — фыркнул я, — что Сатане нужны деньги? — Но именно так оно и есть, — возразил он и указал снова на шахматную доску. — Его шахматные фигуры — люди, которые хотят есть и пить, которые хотят быть вознаграждены за свои услуги — пока они не действуют по идейным соображениям. Когда Сатана создал мир материального, видимый мир, он подчинился его законам. О да, ему нужны деньги, чтобы вести войну, чтобы найти солнечный камень! — Мы с этим опять оказались в Монсегюре. Что произошло с Амьелом-Аикаром? Его обнаружили помощники Удо? — Нет, Господь не покинул его. Амьел-Аикар отправился туда, где преследователи предполагаемых еретиков меньше всего ожидали найти их большее сокровище, в Париж. Сюда пришел, считайте это иронией судьбы, и Удо. — Он выжил? — Как бы он иначе добрался до Парижа? — монах-призрак, казалось, немного разозлился моим вмешательством. Его приступы кашля стали чаще и сильнее. Он явно хотел скорее дойти до конца. — Остановимся пока на Удо, который принес чертежи мировой машины в Париж. Вы явно с интересом выслушаете, что стояло за этим. Итак, чтобы разбудить силу трансмутации, которая телесное превратит снова в духовное, требовался не только солнечный камень. Также важна для осуществления плана и мировая машина, которая придает смарагду лишь раскрытие его силы. В Париже машина была построена где-то тайно. — Она была построена Удо? — Нет, великим ученым, который, к сожалению, посвятил свои способности службе дреговитам. Он приехал из Каталонии, звался Раймон Люлль и был назван Раймондом Лулли-ем, — он указал на стену книг. — Там стоит его важнейший труд «Arc magna et ultima». Конечно, machina mundi, машина мира, осталась тайным предприятием. Знаменит Луллий стал благодаря своей мыслящей машине, инструменту для соединения хода мыслей. С ней мы сейчас работаем. Дреговитам не хватало всего лишь смарагда. Они надеялись найти на Востоке другой осколок из короны Люцифера или, по крайней мере, указание, как можно запустить мировую машину без солнечного камня. Около 1300 года Луллий отправился как миссионер и создал многие миссионерские дома, — в том числе и в Париже, — в первую очередь для обращения жителей Востока в свою веру, в действительности же, чтобы использовать их знания. Но, слава Господу, дреговиты тут не преуспели. Наконец, Луллий сам отправился в путешествие на Восток и зашел там слишком далеко: около 1315 года местные жители забили его камнями. — А Амьел-Аикар, что произошло с ним? — Он нашел в Париже живущих в укрытие истинно «чистых» и передал епископу солнечный камень. Позже смарагд был передан вашему коллеге Николаю Фламелю. — Моему коллеге? — Он был известным писцом, пока не разбогател благодаря своему большому уму. Богатство он использовал не для себя, а для дел истинно «чистых». Он разработал идеальный план, чтобы спрятать солнечный камень. Под знаменем благополучия он жертвовал деньги для многих парижский церквей и сам руководил их строительством. Но в действительности он спрятал наше тайное знание в храмах Божьих, что казалось необходимым, так как дреговиты становились все более могущественными, — монах-призрак скривился. — К сожалению, с его смертью более чем шестьдесят лет назад сведения, где спрятан солнечный камень, пропали. Все, что мы сумели выяснить — он спрятан где-то в соборе Парижской Богоматери. Некоторые полагают, что решение тайны кроется в украшениях портала. — Поэтому портал так часто бывает в моих снах, — вздохнул я и тут же стал гадать, откуда мой разум во сне знал тайну. — Поэтому-то отец Фролло засиживается в Нотр-Даме, и поэтому вы послали меня туда. — Белые делают ход, черные — следующий, белые бьют черных, черные бьют белых — и так идет игра. И иногда важные фигуры уходят с поля — как Филиппо Аврилло. Он был близок к тому, чтобы внедриться в ряды врагов. Деньги целестинца, которые он предложил дреговитам как щедрое пожертвование, были его приманкой. Но, видимо, они разоблачили его. Этот Жиль Годен крутился вокруг Отеля-Дьё в День Трех волхвов, когда я встречался с братом Аврилло. — И теперь они выследили меня, — сказал удрученно я. — Возможно, они еще вчера вечером узнали меня! — Я так не думаю. Фролло не дал бы вам уйти. Может быть, он о чем-то догадывается, однако он ничего не знает о вашей миссии. — Он не отпустил меня, он отослал меня — не больше, не меньше. — Чтобы шпионить за вами, как показывает то нападение на ростовщика. К счастью, Леонардо и его спутники убили всех людей, которые принимали участие в нападении. Никто не может вас выдать, и вы можете продолжать играть вашу роль. В ужасе и гневе я вскочил и ударился головой о балдахин кровати, так сильно, что от боли я был вынужден опуститься обратно на набитый соломой матрац. Пришлось выразить свое возмущение сидя: — Вы не думаете же, что я вернусь в Собор? — Вы должны это сделать, Арман! Будьте уверены, я буду охранять вас, все будет как нельзя хорошо. — От жнеца, которого вы не знаете? От великого магистра, который для вас загадка? От таинственного стрелка? — Этот, по крайней мере, не относиться к нашим противникам. — Но не к вашим союзникам, иначе вы должны были его знать. Монах-призрак рассуждал вслух: — Возможно, он принадлежит к египтянам, что бы означало, что они уже очень далеко продвинулись. — Вы говорите о цыганах? Они тоже ищут этот проклятый солнечный камень? — спросил я и уже знал, что монах-призрак подтвердит. Почему иначе великий магистр тамплиеров в маске побуждал отца Фролло выступать против цыган? — Не египтяне ли ищут смарагд! — выпалил мужчина с лицом мертвеца. — Тамплиеры выкрали его на Востоке, в одном считающимся святым храме. С тех пор хранители поруганной святыни отправились по странам, чтобы вернуть их сокровище, одетые, как самые бедные цыгане, которых можно себе представить. С упорством, хитростью и коварством — они подделали себе даже папские охранные письма — они шли по следу солнечного камня. В 1419 году они добрались до Франции и могли беспрепятственно осуществлять свои планы в разрушенной войной стране. Кого волновала пара бедных цыган, когда англичане воевали против французов, а французы — против бургундцев! Восемь лет спустя египтяне стянулись в занятом проклятыми англичанами Париже. Герцог, граф и десять так называемых рыцарей с их свитой из восьмидесяти человек. Их поставили в Сен-Дени под надзор мертвых королей и прогнали, наконец, из города. — Вероятно, англичане тоже искали в Париже камень из короны Люцифера, — предположил я немного кисло и совершенно несерьезно. Монах-призрак кивнул с очень серьезным выражением лица: — Это также предполагают истинно чистые; поэтому они делали все, чтобы Париж снова оказался в руках французов. Английская оккупация и прибытие цыган помешали бы поискам камня. К сожалению, приступ девственницы в 1429 году потерпел неудачу, и Париж остался на долгие семь лет в руках проклятых англичан. — Ну, теперь вы хотите поведать мне, что и Жанна-Дева была одной из «чистых»? — В некотором роде, да, но, скорее, инструментом, мечом в наших руках. Она была бедной необразованной крестьянской девушкой, которая чуть не сошла с ума от голосов в голове. Мы придали ее бесполезному существованию смысл и внушили ей, что Бог говорит с ней. Воодушевленной верой в свою божественную миссию, юной деве чуть не удалось прогнать проклятых англичан. Но из-за предательства дреговитов бедняжка попала в плен, а в итоге — на костер. Предательство определило и кончину ее брата по оружию, маршала Франции. — Вы говорите о Жиле де Реце? — поинтересовался я с ужасом. Маршал Франции, явно герой в войне против англичан и бургундцев, был казнен в октябре 1440 года в Нанте. Никто не считал наказание несправедливым, Жиль признался, что убил больше, чем сотни детей самым жестоким образом, чтобы понравиться Сатане. Многие из его жертв он изнасиловал, перед тем как убить, некоторых потом. Тюрьмы его замков нашли полными остатками скелетов и пеплом сожженных тел. Я знал эту историю хорошо, в Сабле и сейчас рассказывают каждому ребенку ее, потому что Жиль де Рец командовал там местным гарнизоном с 1427 по 1429 годы. — Господин де Рец стал жертвой дреговитов, — объяснил монах-призрак, словно прочитал мои мысли. — После того как они убили Жанну, они лишили его чести и достоинства. Его разум помешался. Может быть, он слишком много пробовал сок мандрагоры, который должен был давать деве. — Это зачем? — вмешался я. — Мандрагора изменяет сознание, делает его восприимчивее для действительных или только воображаемых воздействий. — Даже если Жиль де Рец принял этот сок, он совершил свои злодеяния в состоянии безумия? — Злодеяния? Чепуха, это был заговор! Герцог Бретани и его канцлер, епископ Жеан де Малетруа, оба коварные дреговиты, лишили Жиля де Реца авторитета и жизни — чтобы прибрать к себе его сокровища. Я взглянул на шахматную доску и тихо сказал: — Вы заявляете — белые против черных и черные против белых, как вам это угодно, а правда расплывается в сплетнях и россказнях. — Не существует правды, есть только правильный взгляд на вещи! И я попытался сообщить его вам. Вы распознаете его, когда вернетесь в Нотр-Дам и серьезнее займетесь отцом Фролло. У меня появился неприятный привкус во рту, и я сплюнул. — Что за причина должна у меня быть, чтобы возвращаться в Нотр-Дам? — Спасение мира, избавление душ от проклятия — не достаточная причина для того? — Покиньте свой подземный мир и расскажите обо всем прево или епископу. Костер быстро просветит ваш запутанный разум! — Это, пожалуй, единственное мучение, которому меня еще не подвергали… Его шрамы подтверждали эти слова, и в тот же момент я испытал сочувствие. — Арман, если вы не хотите это сделать для мира, тогда сделайте это для Колетты, которой вы многим обязаны. — Я благодарен за ее уход, но достаточная ли это причина, чтобы требовать взамен мою жизнь? Едва я сказал это, как показался себе убогим, трусливым червем, который прячется от голодной вороны. Так я явно не расположу к себе красивую Колетту. — Без Колетты вы бы давно распрощались с жизнью. Она была вашим ангелом-хранителем — с тех пор, как вы переступили порог Нотр-Дама. Монах-призрак протянул что-то вперед, тряпку. Нет, это были волосы, борода. Когда он поднес ее к лицу Колетты, я узнал нищего Колена — только моложе, без многочисленных шрамов. Как часто за прошедшие недели я выглядел глупцом! Как глупый ребенок, которому выдают правду маленькими дозами, чтобы не перегрузить. Или чтобы не разозлить, потому что еще в нем нуждаются… Монах-призрак, отец Фролло, итальянец Леонардо, даже Колетта — все они играли со мной, двигали и передвигали меня туда сюда, как это им было угодно. — Это, должно быть, борода, которую я нашел на месте нападения, когда я преследовал нищего и услышал, как кричала женщина, — сказал недовольно я. — Колетта видимо забрала ее снова, когда она якобы случайно упала на меня у толстухи Марго. Колетта улыбнулась мне, но ее черты лица были напряжены: — Вы очень умны, месье Арман. — Нет, я глупец, несказанный чурбан! — выпалил я. — Иначе я бы давно разоблачил этот маскарад! — Колетта обладает многими талантами, — сказал монах-призрак примирительно. — Она умеет притворяться, как актриса, а как карманная воровка она будет половчее многих, кто зарабатывает себе на пропитание на улицах Парижа этим подозрительным искусством ловкости. — Мило для нее, — пробормотал я, окончательно решив не отступать от отказа, порожденного моей задетой гордостью. — Сердитесь на меня, Арман, но не на Колетту. Как я уже сказал, без нее вы бы уже в День Трех волхвов обеднели бы, когда… — Таковым я был в действительности, — прервал я монаха-призрака. — Когда я проснулся утром возле Нотр-Дама, Колен или Колетта исчезли, а мой кошелек был так же пуст, как и желудок. — Это была не я, — тихо сказала Колетта. — Другой нищий применил свое искусство опустошения кошельков против вас. — Ничего об этом не знаю и не хочу говорить, — продолжил монах-призрак. — Не жалуйтесь из-за своих денег, будьте лучше благодарны за вашу жизнь, Арман! Вы бы попали под копыта убийцы Годена, из совпадения ли или потому что нотариус видел вас вместе с Аврилло, если бы Колетта не предупредила вас. — Это были вы? Я взглянул в заботливые глаза Колетты и почувствовал себя плохо, дурно. Мое ли грубое поведение стало причиной этой глубокой боли, которую я прочитал в ее глазах? Тут же я понял, насколько эта мысль возникала из тщеславной самооценки. — Подумайте, не должны ли вы что-нибудь Колетте, Арман! — сказал монах-призрак и следующим махом выложил: — Жизнь ее отца за вашу. Когда я вопросительно взглянул на Колетту, она сказала тихим дрожащим голосом: — Мой отец — Марк Сенен. Когда они схватили его, мне удалось убежать. С тех пор я пытаюсь выяснить, где они держат его. Моя мать умерла рано, как и мои сестры и братья, у меня остался только отец. Если бы я только знала.Сотрясаемая судорогами плача, она упала мне на колени. Я обнял ее и гладил рукой по голове, наслаждаясь ее теплом и ароматом. Сочувствие и симпатия к Колетте овладели мной, посылая теплые волны по всему телу. В этот момент я бы все сделал для этого беспомощного, нежного, теплого, удивительного существа в моих руках. Я бы даже вернулся в Нотр-Дам, но это казалось — и я признаю мое облегчение по этому поводу — ненужным. Марк Сенен должен быть заточен где-то, куда поместили сумасшедшего в 1465 году. Все, что я мог сообщить об этом, я уже прочитал в книге Гренгуара. Я поведал Колетте и монаху-призраку об этом и добавил: — К сожалению, Гренгуар не записал, где находится эта темница безумного. — В Консьержери[861], — сказал монах-призрак. Колетта повернула к нему залитое слезами лицо. — Там держат взаперти моего отца? Мы должны его освободить, немедленно! — Так быстро, как это возможно, но не опрометчиво. Я все подготовлю. Колетта, иди умойся и отдохни немного, это поможет тебе. Послушно, но все же немного колеблясь, она удалилась. Только нехотя я позволил ей уйти. Ее прикосновение и тепло доставляли мне удовольствие. Я желал дольше держать ее в своих руках и ласкать. Колетта, казалось, обещала любовь и склонность, гораздо больше, чем бурная, но чистая страсть, которой я наслаждался в руках Антуанетты. — Как я вижу, вы теперь готовы нам помочь, — сказал монах-призрак. Я попытался больше не думать о Колетте. Мой собеседник был хитрой лисой, он хотел использовать мое примирительное настроение. Поэтому я возразил сухо: — Теперь, когда вам известно, где находиться отец Колетты, я уже помог вам. Для чего я должен подвергать себя опасности, возвращаясь в Нотр-Дам? — Сделайте это ради себя, ради вашей души! И возможно, ради меня. — Радивас? Я не знаю даже вашего имени. Кто вы, чтобы требовать от меня такое? Монах-призрак печально взглянул на меня и сказал: — Вы видите перед собой человека, который в большей степени виноват перед вами. Я — ваш отец, Арман.Глава 6 Логическая машина
Я сидел на краю кровати и, оцепенев, смотрел на него, молча и неподвижно — но лишь внешне. Внутри у меня все бушевало, раздирало мои внутренности, смешало все мои чувства, кровь бешено стучала в моих жилах и в следующий момент застывала, как под порывом ледяного зимнего ветра. Никогда прежде я не испытывал таких противоречивых эмоций, и тут же чувствовал себя опустошенным, сидел, как парализованный, словно тяжелая глыба скалы привалила меня, сковала всякое движение и выдавила жизнь из моего тела. Что я должен сказать, что сделать? Сперва монах-призрак хотел забрать у меня моего Бога и доказать мне, что Сатана создал мир — с деревьями и кустами, животными и людьми. А теперь он разрушает все, что я придумал себе об отце. То, что он благородный, но свергнутый и преследуемый принц, который не может открыться своему сыну, потому что не хочет подвергать его опасности. То, что он мудрец, ищущий путь познания, которого бы только обременяли жена и ребенок. То, что он богатый купец, новый Жак Кёр[862], находящийся постоянно в пути к далеким побережьям со своей флотилией кораблей, нагруженных бесценными товарами. И теперь это безобразное подземное существо хочет разрушить все — честь, мудрость и богатство, — заявляя, что он мой отец! С криком ярости и возмущения я вышел из своего оцепенения, вскочил с кровати и бросился на монаха-призрака. Как хищник, который защищает свою добычу, я был готов повалить человека и разодрать на части. Но он был ловок в движении, как и во лжи. Всего лишь один небольшой шаг в сторону — и мой прыжок попал в пустоту. Я споткнулся о табуретку, на которой сидел вначале, и растянулся животом на холодном твердом полу. Я лежал там как крестьянский рохля, который не способен даже толком пнуть другого ногой. От ярости и отчаяния я был готов рыдать, однако я не доставил такой триумф моему мучителю. Он стоял надо мной и смотрел на меня с сочувствием. — Я понимаю, что вами движет, Арман. Это явно не лучший момент для воссоединения отца с сыном. Но мне это показалось необходимым. — Вы понимаете, что мной движет? — спросил я и, покачиваясь поднялся на ноги. У меня было ощущение, что пол дрожит под ногами, в действительности, дрожали мои ноги. — Испытывали ли вы, отец, хоть долю того, что сейчас движет мной? Или вам это безразлично, потому что вы вовсе не мой отец? Если вы монах, то как вы могли зачать детей? — Это умеют все монахи, большинство из них делают это, и многие даже в том преуспели. Я никогда не называл себя монахом. Моя ответственность гораздо больше, чем у самого простого монастырского брата, и больше чем грех, который я взял на свою душу. Я схватил его за правую руку и затряс. — Не говорите загадками, скажите мне, наконец, кто вы на самом деле! — Это я и сделал. — Ваше имя! — закричал я. — Назовите мне ваше имя! Я так сильно встряхнул его, что он потерял равновесие и упал на колени. Тут он посмотрел на меня и затянул монотонную песню хрипящим, слабым голосом, измученным кашлем: Того Ты упокой навек, Кому послал Ты столько бед, Кто супа не имел в обед, Охапки сена на ночлег, Как репа гол, разут, раздет — Того Ты упокой навек! Того кто его не бил, не сек? Судьба дала по шее, нет, Еще дает — так тридцать лет. Кто жил похуже всех калек — Того Ты упокой навек! Последние звуки перешли в кашель, который окончательно повалил его на пол. Там он вертелся, как червь. Он кашлял кровью, которая выступила на его дрожащем рту, измазала подбородок и образовала под ним розоватую лужу. Я уже было испугался, что с кашлем он выплюнет все свои кишки из нутра. Постепенно он пришел в себя, вытер рукавом лицо и посмотрел на меня снизу вверх. Он все еще стоял передо мной на коленях, словно ждал, что я прочту ему приговор. Я отступил на два шага назад, из страха, — я в том признаюсь, что из страха перед правдой. — Почему вы поете песню об этом висельнике Вийоне? — Вы же поинтересовались мной, Арман, и я рассказал вам мою историю. — Вашу историю? — я спросил бесконечно медленно, словно был глух и непонятлив как Квазимодо. — Тогда вы хотите сказать, вы — Франсуа Вийон, висельник, развратник, сочинитель баллад? — Я был бродягой и подзаборным поэтом, прежде чем я стал другим. И именно поэтому я понимаю ваше возмущение, когда вы слышите, что я ваш отец. Я испытывал точно такие же чувства, когда мой приемный отец Гийом де Вийон объявил однажды, что должен изменить не только мой дух, но и мое тело. И также мне предстояло тогда узнать, что большая ответственность лежит на мне, ответственность, слишком великая для одного человека. Он захотел подняться, но кашель лишил его сил. Если бы я не подхватил его, он бы снова упал. Я подвинул ему стул у камина и принес вина. Мой гнев улегся, его сменило любопытство. И сочувствие. — Проклятая жизнь, которую я веду, — сказал он после долгого глотка. — Во влажных, холодных подземельях или в продуваемых лесах я подорвал свое здоровье. Я давно пережил положенное мне время и рад, что смогу, наконец, исповедоваться перед вами. — Я не священник, — отрезал я. — Я не молю о прощении, я надеюсь только на понимание. Как сказать, и мне тяжело далось поверить моему отцу. Его бросили в Консьержери и хотели заставить молчать, его — епископа добрых людей. К счастью, до меня дошла его весть. Я собрал остатки «братьев раковины», и в рукопашном бою мы освободили тогда Гийома де Вийона в год Великой Чумы. За два года, которые остались ему, он обучил меня всему, что знал сам, чтобы я продолжил поиск солнечного камня. И он поведал мне нашу родословную, что наш предок был тот Амьел-Аикар, который так же ускользнул из смертельной ловушки Удо, как выбрался с отвесной высоты Монсегюра. Мы назначены быть хранителями смарагда. Поэтому, Арман, у вас были видения, и поэтому я смог сделать его воспоминания вашими. Сила смарагда, которой вы подвергались в Нотр-Даме, усилила теперь эту способность. Камень сохраняет воспоминания, мысли и сны, как это не умеет дух человека. — И вы просто так переняли роль своего отца? — Это было моим предопределением. С тех пор я брожу по улицам Парижа, и некоторые называют меня монахом-призраком. О Франсуа Вийоне остались только старые песни. — Когда я появился в этой истории? И если вы мой отец, то кем была моя мать? — Она была красивой девушкой из Реймса, дочерью бродячего певца по имени Гиберто. Помимо привлекательного личика, обрамленного огненно рыжими кудрявыми волосами, она обладала прекрасным голосом, потому ее называли Шантфлери, поющий цветок. Ее настоящее имя было Пакетта. Меня на десять лет сослали из Парижа, и я нашел приют в доме Гиберто, что меня очень обрадовало. В действительности я был рад, когда Пакетта Шантфлери позволила мне прыгнуть в ее кровать. Ее отец скоро умер, и я продолжил его дело. Сочинительство и пение — в этом я знал толк. Я скоро привык к спокойной жизни любимого мужа и патриарха. Да, мое семя пало в красивый цветок, и когда она разрешилась бременем, то родила сразу двоих сыновей — братьев, но очень разных. Когда он рассказывал о Пакетте Шантфлери, лицо Вийона оживилось. Даже казалось, исчезли шрамы, словно чистота и красота заколдовали его лицо. Но это был лишь обманчивый лик его воспоминаний. Теперь, когда он рассказывал о рождении, его лицо приняло прежнее выражение — опустошенное, безжизненное, мертвое. — Было так, словно природа решила дать одному ребенку красоту матери, а другому — уродство отца, приобретенное в боях и от пыток, — продолжал Вийон. — Один сын был безупречен, с нежными чертами лица и чистой кожей, другой же — отвратительный горбун, покоробленный как железо, которое слишком долго пролежало в огне кузнеца. Я хотел сохранить жизнь обоим моим детям, но поползли злые слухи. Горбун, как и сейчас, считался порождением дьявола, и шпильман в глазах людей стоит не Бог весть как высоко. Нам угрожали, за нами подсматривали, над нами насмехались. Уже не на шутку поговаривали, не отправить ли нас на костер. Это, а также осознание, что наш изуродованный сын никогда не будет иметь спокойной жизни, привели меня к решению убить его. — Вашего собственного сына? Вийон печально кивнул головой. — Вы не понимаете, Арман? Я должен был сделать это, чтобы спасти вас и вашу мать! Но Пакетта думала иначе, чем я. Она был слабее или сильнее — считайте, как хотите. Однажды утром она исчезла. Горбуна, которому мы так и не дали имени — такой бесперспективной нам казалась его юная жизнь — она забрала с собой. Ее видели по дороге в Париж, и я боюсь, если это верно, черная смерть забрала их обоих. — Вы больше не искали их? — Это было невозможно, в это время пришел крик моего отца о помощи. Я должен был возвращаться в Париж, что мне было запрещено под страхом смерти. Но кто мог предположить, что я приду именно в чумной город! Вас я оставил у набожных братьев в Сабле, подальше от всех, но все время был в курсе ваших дел. — И все же вы оставили меня в неведении, ничего не сказали мне, кто мой отец и кто моя мать! — Что же я должен был сделать? — Вы могли забрать сына к себе. — Сюда? Как я должен был заботиться о вас, находясь сам в розыске, всеми преследуемый, которому угрожают и день и ночь? — Но сейчас же вы раскрыли себя! — Потому что я нуждаюсь в вашей помощи. Не только я, все добрые души нуждаются в вас. Вы можете стать спасителем, Арман. Я предвидел это с первого дня и назвал вас поэтому Сове[863], спаситель. Когда я почувствовал, что дела в Париже обострились, что победа белого или черного не за горами, я велел прийти вам. — Вы ошибаетесь, — я нагло ухмыльнулся ему. — Я был вынужден покинуть Сабле, потому что мой покровитель застал меня в положении, которое раньше вас явно возбуждало к пошлым балладам. — Нет, вы ошибаетесь, Арман, если верите в совпадение. По моему распоряжению мессир Донатьен Фрондо был вызван на освидетельствование, которое уже давно было выполнено. Поэтому он вернулся неожиданно раньше. Невидимыми духами мои люди следовали за вами по пути в Париж. И правда, Вийон умел мастерски сбить меня с толку. Любой даже такой маленький триумф, который, как я думал, одержан над ним, он превращал в моментальное поражение. Мой гнев вернулся. Если он говорил правду, то он обращался со мной, как с животным или безвольным рабом. Если же он лгал мне, то еще меньше было поводов думать о нем дружелюбно. — У вас есть ответ на любой вопрос, — промямлил я. — Это не доказывает, что я говорю правду? — Это может так же доказывать, что вы хорошо преподносите свои дела, чтобы заставить меня дальше играть в вашу игру. Это была дрожь его шрамов, слабая тень вымученной улыбки — или только отражение огня? Я не хотел думать об этом. — Недоверие хорошо и для нас даже жизненно важно, важно для выживания, но не нужно быть обидчивым. Вам требуется доказательство, что я ваш отец? — Да! Теперь он действительно улыбался, только недолго. Это было как погружение в горячую ванну или в приятные воспоминания. — Когда Пакетта родила вас и вашего брата, я велел пометить вас. Каждому выжгли маленькую раковину, чтобы братья раковины знали, что вы — дети их короля. Найдя в себе новые силы, он поднялся и подошел к двери, которую только приоткрыл. Он что-то крикнул в пространство, и немного погодя пара человек внесли два больших, почти по пояс высотой, зеркала. Они установили их так, чтобы отполированный металл одного отражался в другом. Один из людей положил мою высушенную одежду на кровать. Они снова покинули помещение, и Вийон приказал мне раздеться. — Зачем? — спросил неуверенно я. — Чтобы снова надеть вашу одежду, и чтобы я смог продемонстрировать вам обещанное доказательство. Раковина находиться на вашей правой ягодице. Я разделся, у меня слегка закружилась голова Наконец, подумал я, что понял, почему меня назвали у мэтра Обера «братом раковины». И действительно, когда я стоял нагой между зеркал, я увидел — впервые в моей жизни — маленькую точку, не больше подушечки пальца. При поверхностном взгляде ее можно принять за родинку, но посвященному она открывалась в форме раковины. — Вы верите мне, наконец, Арман? Только ваш отец мог это знать. — А вот и нет! — презрительно пробурчал я в нос, пока надевал одежду, потому что считал, что разгадал Вийона. — Каждый, кто видел меня хоть раз без штанов, мог это знать — любой банщик и любая женщина. — Я не банщик и, видит Бог, не женщина. — Но к вашему союзу относятся трое итальянцев, которые привели меня сюда, когда я переодевался, они видели меня, как и вы сейчас, нагим! Колен или Колета, впрочем — тоже! Вот оно! Наконец, настал мой триумф, последний удар, решающий толчок. Даже такой пронырливой старой лисе нечего возразить. Он обескуражено смотрел на меня, медленно покачал головой и пробормотал: — Тут ничего не поделаешь, вы просто не хотите дать себя убедить. — Я просто не хочу дать провести себя, — возразил я довольно надменно, но не совсем победоносно. Ведь что триумф, который я испытывал, был триумфом обиженного сына над отцом, местью за долгое разочарование тому, кому он, наконец, может отплатить. И это, возможно, не сходилось с доказательствами: что не принимал разум, душа моя давно уже приняла. Поэтому я согласился, когда Вийон предложил из последних сил и доброй воли спросить итальянцев и Колетту, и, если необходимо, поклясться святой клятвой в истине своих слов. — Это очень серьезно, — добавил он. — Нам, чистым, запрещено клясться. Отступления от правила позволены только в крайне исключительных случаях. Он провел меня по своему подземному царству в удаленную комнату, из которой шел отвратительный запах. Многочисленные свечи и масляные лампы компенсировали то обстоятельство, что здесь не было дневного света. Сильный запах масла был гораздо приятнее в сравнении со сладким ароматом, который напоминал мне о колумбариях на кладбище Невинно Убиенных Младенцев. Трое итальянцев в кожаных фартуках стояли вокруг большого деревянного стола. То, что лежало на нем, заставило меня пожелать, чтобы ни один лучик света не освещал это помещение. Леонардо, Аталатне и Томмазо засучили рукава. Их кисти и руки были по локоть измазаны кровью. Как на скотобойне они ковырялись во внутренностях, которые лежали перед ними. Только разрезанная плоть принадлежала не свинье или корове. Это был человек, голый человек — или то, что от него осталось. Я отвернулся и со стоном спросил, что все это значит: — Должна ли меня постигнуть такая же участь, если я не буду шпионить для вас, магистр Вийон? Я не мог заставить себя назвать его отцом, и он, похоже, не ждал этого. — Чепуха! — ответил он. — Мужчина был уже мертв, когда мы забрали его с кладбища. Леонардо вскрыл уже многих людей. Он ищет путь, по которому душа покидает тело. — Ах, — заметил я с судорожной иронией. — Итак, вы хотите сократить путь, по которому должна пойти душа в поиске ее спасения от тела к телу. — Вот над чем мы работаем, — сказал Леонардо, вытер свои руки о тряпку в кровавых пятнах, подошел к стене и сделал углем пару штрихов на находящемся там рисунке. На нем был изображен человека в профиль, нагим, разрезанным как труп на столе. Я увидел спинной хребет, кости и многочисленные внутренности всяческих размеров и форм. Я быстро отвел взгляд, я слишком сильно ощутил, что это напоминает мне наводящее ужас мясо на столе. — У меня вопрос ко всем троим, — сказал Вийон. — Вы заметили, когда Арман переодевался, что-нибудь на его теле, о чем вы должны были сообщить мне? — Я ничего такого не знаю, — ответил Леонардо. И Томмазо также отрицал это. — Che cosa? — спросил Аталанте, и Леонардо перевел ему. — No, — кудрявый юноша затряс своей роскошной гривой. — Я ничего не заметилили мне нечего рассказывать, я только выпил добрый глоток воды жизни с синьором Арманом! С улыбкой или подобием ее, Вийон повернулся ко мне и спросил: — Ну, Арман, вы настаиваете на клятве? Или на визите к Колетте? — Не нужно, — сказал я, потому что хотел покинуть поскорее это воняющее маслом и разложением помещение. К тому же, так подумал я, итальянцы наверняка поклянутся лживой клятвой, если они лгали. Вийон повернулся к троим и попросил сопровождать нас. — Арман сообщил мне много ценных вещей. Возможно, это поможет нам дальше, если мы накормим этим мыслящую машину. Итальянцы вымыли свои руки щетками и мылом в большом чане, и вода окрасилась в розовый цвет как первые лучи нежного девственного рассвета. Мы следовали за Вийоном, который снова натянул свой капюшон, в другое помещение, перед большой дверью в которое стояли в карауле двое, вооруженных пиками и мечами. С готовностью они освободили путь и открыли дверь, чтобы тут же ее снова закрыть за нами. То, что мне открылось, было не менее фантастично, чем в предыдущем помещении. — Это логическая машина Раймонда Луллия? — спросил я, пока боголепно восхищался конструкцией, которая высилась передо мной в полумраке. Несколько свечей на стенах бросали приглушенный свет в большое помещение. — Наша чудо-машина, которую сконструировал Леонардо и построил вместе с Томмазо и Аталанте, базируется на изобретении, которое Луллий назвал с некоторым самолюбованием божественным алфавитом, — сказал Вийон. — Если бы наши братья в Италии не послали Леонардо и его товарищей к нам, то мы бы не продвинулись так далеко вперед. Попытаем наше счастье! Аппарат состоял по большей части из многочисленных цилиндрических дисков из тонкого металла, которые менялись в диаметре, от роста ребенка до взрослого человека. Грифельные доски были прикреплены к металлу, и некоторые из досок были исписаны мелом: греческими и латинскими буквами или даже целыми словами. Опять же на других пластинах были исчерчены только различными символами. Благодаря отличающимся диаметрам отдельных пластин были видны в любое время грифельные доски всех без исключения пластин. Внутри находилось некоторое количество рычагов, винтов и кожаных ремней, которые скользили по роликам. Все было взаимосвязано, как органы в теле человека. Леонардо достал кусок мела из деревянного ящика, подошел к металлическим пластинам и написал понятия, которые Вийон назвал ему, сокращая, оставляя буквы, которые мне показались произвольными, но подчиняющиеся явно системе: Фролло — Нотр-Дам — смарагд — тамплиеры — союз девяти — великий магистр — берег Сите — десятка. Когда он закончил с понятиями, то повернул многие рычаги и отступил назад, к нам. И потом я весь сжался. Металлические пластины начали вращаться, словно их приводила в движение невидимая рука великана. Кожаные ремни скользили по желобам, толстые винты вращались, поршни ходили взад и вперед. Свет свечей отражался на вращающемся металле, выбрасывал крошечные искры в помещение и болезненно колол глаза. Механическое чудовище проснулось с оглушающим визгом, скрипом и скрежетом. Мне почти что казалось, что оно кричало, требуя пищи, — и я был хорошей жертвой, чтобы задобрить божественный алфавит. Только то обстоятельство, что Вийон и итальянцы спокойно смотрели на громкое движение машины, удержало меня от поспешного бегства из этого помещения. Они уже знали спектакль, для меня же все было ново и потому пугало. Кроме того, я ненавидел машины, в чем было виновато изобретение Гутенберга. Постепенно вращающиеся вокруг своей оси диски замедлили ход, остановились ремни и ролики, опустился рычаг, и, наконец, вся конструкция замерла, не издавая больше скрежета и грохота. — Посмотрим-ка! — сказал Вийон. Мои спутники подошли к машине, и я последовал за ними после небольшого колебания. Любопытство было сильнее, чем уважение перед необъяснимым изобретением. Другие стояли пред металлическими дисками и обследовали грифельную доску на предмет послания. Разочарование было написано на лице Леонардо, когда он взглянул на латинские буквы. — Ничего, только ерунда какая-то. — Но здесь, греческими буквами, здесь написано! — закричал Вийон, не обращая внимания на яростный кашель, который сопровождал его слова. Медленно он прочитал вслух слово, которое образовали буквы многих кругов: АЫАГКН, ананке. И этот символ для обозначения собора Парижской Богоматери, — он указал на грифельную доску рядом с греческим словом, картиной которого был просто нарисованный дом с крестом на крыше. — Однозначное указание, что мы не слишком опоздали, что тайна еще скрывается за стенами Собора! — Ананке, — повторил я тихо, погрузившись в мысли. — Что вы имеете в виду? — спросил Леонардо, который ближе всех стоял ко мне. — Когда Филиппо Аврилло умер у меня на руках, он передал мне странный прощальный подарок, при этом он сказал что-то о тайне и потом слово похожее то ли на «баранку» то ли «благодарю», смысл которого я не понял. Ананке[864], так оно могло звучать. — Это греческое слово для обозначения судьбы, рока, — сказал Вийон. — Это понятие стоит в древних рассказах о конце света, о большом огне, который уничтожит все существующее в этом мире, — он мрачно добавил: — Включая навечно проклятые потом души! — Леонардо посмотрел на меня с любопытством. — Что за прощальный подарок, синьор Арман? — Всего лишь деревянная фигурка, — сказал я и описал ее. — Тогда это должно быть слово «ананке», — то, которое сказал вам Аврилло, — предположил Леонардо. — Змея, которая кусает себя за хвост, оуроборос, знак превращающейся материи, трансмутации, которая ведет к концу материального. Змея Оуроборос заменена драконом Страшного Суда в Откровении Иоанна. И дракон — символ Сатаны как и machina mundi, машина мира. Аврилло вышел на верный след. К сожалению, он не сумел нам сооб… Он оборвал себя на полуслове. Мы все тоже услышали громкий шум по ту сторону двери: поспешные шаги многих людей, резкие крики и бряцание оружия. Когда мы притаились и прислушались, то разобрали четче — несомненно, в подземном лабиринте катаров бушевала яростная борьба.Глава 7 «Египтяне пришли!»
Дверь, к которой были прикованы наши взгляды, грубо распахнулась и с громким стуком ударилась о стену. Один из стражников ввалился в помещение, удивленное лицо его было залито кровью, в правой руке окровавленный меч. Он дико посмотрел на нас широко раскрытыми глазами и закричал: — Египтяне пришли! В один миг они оказались повсюду и… Тут за ним в проеме открытой двери появилась яркая фигура. Черноволосый мужчина в пестром вышитом кителе, со сверкающей жемчужной нитью на шее и золотыми серьгами в ушах. Быстрым, ловким движением он поднял правую руку и раскрутил что-то вокруг вытянутого указательного пальца у себя над головой. Это выглядело, как металлическое кольцо величиной с ладонь. Резкий рывок руки, и кольцо с тихим свистом полетело в воздухе, чтобы вонзиться в затылок стражника. Внешний край странного оружия явно был острый как топор палача. Кровь хлынула из зияющей раны, и слова стражника оборвались в глухом бульканье, когда он упал перед нами без сил. Египтянин достал уже второй метательный диск и раскрутил его вокруг пальца. Аталанте метнул свой ушной кинжал. Лезвие глубоко вонзилось в грудь цыгана, который согнулся и с приглушенным криком упал на землю. Все еще кажущийся таким опасным диск покатился с безобидным бряцанием по цементному полу и врезался в каменный цоколь мыслящей машины. Другие египтяне ворвались в помещение, горстка, две, потом три горстки, так же пестро разодетые и блестяще украшены как первый и каждый снабжен смертельным оружием. Некоторые были измазаны кровью. Меня ошеломило, как их много расположились в переходах района Тампля. Должно быть, они целую вечность сражались с людьми Вийона, но шум мыслящей машины заглушил крики. Леонардо достал свой короткий меч, Томмазо кинжал, а Аталанте поднял меч павшего в бою стражника. Даже Вийон достал кинжал из-под своей сутаны. Стенка на стенку стояли они перед машиной, словно хотели отдать свою кровь, чтобы защитить существо из металла, дерева и кожи. Первый штурм нападавших они отбросили назад, все вместе ловкие мастера холодного оружия, но и им нанесли некоторые ранения. Набожные братья Сабле не учили меня скрещивать клинки с вооруженным и к тому же еще превосходящим числом противником, а мои навыки владения перочинным ножом были бесполезны. Поэтому я спрятался в тени логической машины и забрался, когда в комнату вломились новые цыгане, на поршень, который приводил в движение металлические пластины и соединял их между собой. Скудного света свечей едва хватало до путаницы из штанг, колес, ремней и винтов, в тени которых я надеялся раствориться. Когда я лежал на животе на машине, окутанный резким смешанным запахом, теплой кожи, масла и жира, и надеялся, что нашел безопасное место, я прополз немного вперед и осторожно посмотрел вниз, где все еще скрещивались клинки, и мужчины издавали резкие крики. Правая рука Аталанте хлынула кровью, и дальше он фехтовал левой. Томмазо упал на колени и сдерживал с мужеством отчаяния штурм многочисленных нападающих. Вийон и Леонардо теснились спиной к машине и защищались — сколь храбро, столь и безнадежно. Капюшон Вийона сполз назад, и вид его мертвого лица напугал многих египтян. Поверженные на пол цыгане доказывали храбрость и ловкость защищавшихся, но противостоять численному перевесу нападающих они больше не могли. В несколько мгновений, в этом я нисколько не сомневался, итальянцам придет конец — и Франсуа Вийону, моему отцу. Страх и печаль овладели мной. И стыд из-за того, что я не постоял за него. Действительно ли я спрятался на логической машине, потому что был не опытным фехтовальщиком? Или я хотел оставить своего отца одного, как он поступал всю жизнь со мной? Да, верно, мысль о мщении двигала мной. Он должен изведать тоже чувство одиночества, что и я! И теперь, когда я признал свою глупость, было слишком поздно. Я наверняка ничего не мог изменить. Но если я не боролся на его стороне и должен умереть, то, по крайней мере, соединюсь с ним в смерти? Приказ перекрыл шум битвы, отданный высоким голосом, но настойчиво и требующим уважения, сперва на чужеземном языке и потом по-французски: — Опустите оружие! Прекратите битву! В один миг цыгане послушались и отступили от уставших защитников. Через ряды пестро одетых людей прошагал так же рискованно кочующий человек, которого я знал со Дня Трех волхвов. Пестрые тряпки образовывали на его макушке подобие шапки, которая напоминала корону. Будто его осыпанное золотой и серебряной мишурой цыганская одежда не достаточно колола глаза, на бедрах он носил широкую перевязь из пурпурного бархата, откуда торчали рукоятки многочисленного оружия. Матиас Хунгади Спикали, герцог Египта и Богемии, остановился перед своими людьми со скрещенными на груди руками, бросил взгляд на логическую машину и ее четырех защитников и объявил своим совершенно неподходящим фальцетом: — Вы хорошие воины, пролили кровь и забрали жизнь у многих моих людей. У меня достаточно поводов, чтобы приказать разрубить вас на куски. Но я уважаю храбрость. Вы будете жить, если сдадитесь. В помещение вошла новая группа мужчин, украшенных мишурой, графы цыганского герцога. Они сообщили, что подземная крепость взята, сопротивление сломлено. Я не прислушивался к их словам, как и не обратил внимания на самих мужчин. Я был заворожен очарованием их прекрасной спутницы, удивительной танцовщицы Эсмеральды. То, как она, сказочная красавица, стояла среди неподвижно лежавших трупов и стонущих раненых, мне не показалось более сильным контрастом. Кровавая картина не вызвала у цыганки отвращение, она двигалась совершенно естественно по полю боя, словно привыкла к такому виду. Внимательно она осмотрелась и направила свой ищущий взгляд в самые темные углы мрачного помещения. — Что с вами, храбрые гадчо[865]? — спросил цыганский герцог. — Опустите свои клинки. Или мы должны окунуть их в ваши сердца? — Если мы будем биться, то и мы заберем парочку ваших с собой, — возразил Леонардо. — Если мы капитулируем, то вы сможете нас разрубить по вашему усмотрению. Поэтому я предлагаю переговоры о перемирии. — Вы хотите вести переговоры? — Матиас Хунгади Спикали разразился громким смехом, и многие из его людей присоединились к нему. — Да, что же вы можете нам предложить? — Вашу жизнь, — ответил Леонардо совершенно спокойно. — О, как великодушно, — вдруг всякая веселость исчезла с морщинистых черт лица герцога. — Вы в наших руках, и ваше высокомерие не говорит об уме. Если вы хотите войны, то вы ее получите. В конце будет ждать смерть — вас! Едва надежда о спасении отца зародилась во мне, но теперь я снова дрожал от страха. Может, поэтому я сделал необдуманно резкое движение? Непонятным образом я запустил в ход механизм логической машины. Стук колес и громыхание заставило отступить на пару шагов нескольких напуганных цыган. Только Матиас, бароны и Эсмеральда остались стоять на месте. Машина пошла неверно, потому что я торчал в ее механизме. Я чувствовал дрожь всех ее отделов, подобно ярости и волнению живого существа. Металлические пластины прокрутились лишь недолго, помеха приводу затормозила их. В этот момент я почувствовал сильный удар по плечам, железная штанга пришла в движение и задела меня. Меня отбросило в сторону, я упал с машины и повалил на пол пару цыган из группы возле герцога. К счастью я упал на них и, по крайней мере, так имел мягкую посадку. Большинство быстро вскочило, но Эсмеральда осталась лежать. Я сидел на ней и крепко прижал к полу своим весом. Машина, казалось, обрадовалась, что освободилась от нарушителя спокойствия; ее колеса постепенно пришли в состояние покоя. Идущее на убыль оханье движения совпало с криком возмущенного герцога: — Берегитесь, Эсмеральда в руках парня. С ней ничего не должно произойти! Лишь теперь я осознал, что сижу не только на удивительно красивой женщине, но и одновременно сокровище. Даже если я этого не хотел делать, я поднес кинжал к ее шее и крикнул окружившим меня цыганам: — Ни шагу больше, или Эсмеральда умрет! Более властной угрозы я не мог выдумать. Моментально пестро одетые люди застыли, как жена Лота при бегстве из Содома. В глазах герцога, таких же темных как у тяжело дышащей под моим весом девушки и которые только что излучали превосходство и осознание победы, я теперь прочитал лишь страх — еще больше, голый ужас. — Хватайте цыганского герцога! — крикнул я. — Возьмите его в заложники! Леонардо первым взял себя в руки. Он подбежал, схватил Матиаса и приставил острие своей шпаги к его шее. Я осторожно поднялся, держа в правой руке кинжал, а левой потянул Эсмеральду за собой к цоколю логической машины. Так мы стояли друг против друга, и никто не знал, как будут дальше развиваться события. Герцог стал плеваться: — Сатана помогает вам, проклятые дреговиты! Ну, хорошо, я и моя дочь в ваших руках. Чего вы требуете? Его дочь, оказывается. Я спросил себя, как у такого отвратительного верзилы могла родиться такая красивая дочь, как Эсмеральда. Вийон взял слово: — Во-первых, я требую, чтобы вы прекратили обзывать нас дреговитами. Матиас взглянул на него озадаченно: — Почему это вы не хотите называться дреговитами? — Потому что мы таковыми не являемся. — Тогда кто же вы? — Мы — истинно чистые. — Враги дреговитов? — Это вы можете смело сказать, египтянин! — О! — герцог разразился потоком яростных проклятий па своем цыганском языке и, наконец, сказал: — Я должен просить вас о прощении, мессир, все это ужасное заблуждение. Я же думал, что нашел прибежище дреговитов. — Заблуждение? — ахнул Леонардо и указал на мертвых и раненных. — Из-за заблуждения вы начали резню? Матиас ответил беспомощным дрожанием уголка рта. — Это прибежище, в том вы правы, — сказал Вийон. — Но мы прячемся здесь от дреговитов. Герцог закаркал: — Я считал его приютом дреговитов, потому что их союзниками были тамплиеры. — Верно, египтянин, это район Тампля. После роспуска ордена он считался логовом, неприкасаемым для королевской стражи. Поэтому мы сюда и подтянулись. — Тогда мы больше не должны враждовать друг с другом, — предложил Матиас. — Вы не наши враги. — Осторожно, — предупредил Леонардо. — Это может быть хитрость нашего коварного герцога, чтобы мы освободили его и его доченьку. Матиас бросил на него долгий взгляд и отдал пару приказов на цыганском наречии. Колеблясь, его люди, около пятнадцати навскидку, бросили на землю свое оружие. Герцог обратился к Вийону: — Если мне позволят послать одного из моих графов, то он прикажет всем моим людям сдаться. Тогда мы в ваших руках, мессир, и вы можете судить нас. — Судить? Почему? — Не только мои люди пали в битве, но и ваши. Вы вправе требовать от нас любую цену за кровь. Вийон и герцог стояли близко друг против друга и глядели в глаза неподвижно, глубоко, словно хотели заглянуть друг к другу в душу. Мне показалось это немым диалогом. Странная аура окружала обоих мужчин; каждый нес огромную ответственность, и возможно оба увидели в искреннем взгляде глаз, что они в принципе братья и что брат должен помогать брату, а не воевать с ним. Поэтому Вийон приказал Леонардо и мне отпустить Матиаса и Эсмеральду. Моментально пара цыган хотели поднять свое оружие, но резкий приказ герцога остановил их. — Позаботьтесь лучше о раненых, обо всех! Леонардо был уже тут как тут, перевязывая руку Аталанте куском ткани, который он оторвал от рубахи погибшего цыгана. Вдруг он застыл, не закончив до конца перевязку, замер как и все другие. Виной тому была Эсмеральда, которая явно была небольшого мнения о перемирии. Возникший будто из ниоткуда, узкий кинжал появился в ее нежной руке. Рукоять была украшена фигуркой вставшего на задние лапы медведя из пунсованного золота Я мог точно видеть это, потому что клинок беспощадно был направлен в мою шею. — Не смейте мне больше грозить своим оружием, гадчо, или мой чури[866] вопьется в вашу глотку! Я задумался на тем, не стоит ли мне предпочесть нежную Колетту огненной Эсмеральде, потому что такое безукоризненное очарование у женщины, которая к тому умеет обращаться с кинжалом, может доставить мужчине неприятности. С облегчением я выдохнул задержанный воздух, когда цыганка убрала свое оружие и озадачила удивленный круг невинной детской улыбкой. — Простите возбуждение моей дочери, — все еще серьезно Матиас сложил свое лицо в широкую ухмылку. — Но как оказалось, писец отца Фролло упал не только ей на тело, но и на голову. — Вы знаете меня? — спросил удивленно я. Герцог кивнул. — Мы следовали за вами досюда, месье Арман. И так как вы работаете на Фролло, архидреговита, мы подумали, что нашли здесь вход в ад. Леонардо покончил с перевязкой Аталанте и обратился к герцогу: — Если вы хотели повстречать дреговитов, то вы должны были быть на Мельничьем мосту. — Ах, так это были дреговиты? — немного стыдливо Матиас почесал небритый подбородок. — Клянусь всеми пророками, мы явно преследовали не тех. Но кто знает, для чего это было хорошо. Мое почтение впрочем, это был отличный бой на Мельничьем мосту. Леонардо поблагодарил с галантным поклоном и улыбкой. — Нам следует теперь подсчитать урон и раненых, потом мы продолжим наш разговор, — предложил Вийон. Мы осмотрели подземный зал трактира, в котором я переодевался. На каждой стороне было около дюжины мертвых и вдвойне число раненых. — Большая плата человеческими жизнями, — пробурчал Вийон. — И тем больше, если подумать, что причина тому — ошибка. — Много работы для меня, — тяжело вздохнул Леонардо и тоскливо посмотрел на дверь помещения, в котором лежал разрезанный труп. Итальянец, Вийон, цыганский герцог, его дочь и графы подошли обратно в логово с логической машиной. Я, конечно же, был с ними. И Колетта, которая присоединилась к нам. Она подошла ко мне, взяла за руку и прошептала: — Я слышала о вашей бравой проделке, Арман. Пока другие использовали только свое оружие, вы воевали с головой и выждали в засаде, пока не наступил подходящий момент. Геройский поступок, я горжусь вами! Я смущенно пробормотал «спасибо» и не осмелился разрушить ее заблуждение. Было просто приятно, чтобы тобой восхищалась Колетта. Кроме того, результаты моих действий не подвергались сомнениям, пусть даже они произошли благодаря совпадению. Египтяне дивились логической машине, что было понятно лишь мне. Только один герцог оставался равнодушным и сказал, после того, как Вийон объяснил ему результаты предыдущего логического процесса. — То, что стены Нотр-Дама скрывают солнечный камень, вы догадывались и раньше. Итак, это изобретение не принесло вам никаких новых знаний, но лишь подтвердило, что вы задали ему. Эта машина не может думать! Немного оскорблено Леонардо пробурчал: — Это утверждает большинство людей. Но в отличие от них машина может объяснить взаимосвязь вещей, ход мыслей до самой точности, форсировать решения. Матиас тонко улыбнулся. — Я не знаю, что весит больше, ваша низкая оценка людей или ваше глубокое уважение перед этой гротескной машиной, — он посмотрел на Вийона. — Но еще больше меня удивляет, мессир, что вы нас посвятили в ваши тайны. — Так как вы уже выследили наше убежище, больше не может быть тайн между нами, — ответил Вийон. — Вы хотите солнечный камень, и мы хотим его тоже. Так давайте бороться с объединенными силами! — Предложение хорошее, — герцог сделал заключение. — Но доверяете ли вы нам? Мы хотим смарагд для себя, каждый хочет его для себя. — Пусть он лучше попадет к вам, нежели к дреговитам, — объяснил Вийон. — И для вас дреговиты — злейшие враги, потому что они хотят разбудить с силой солнечного камня спящего дракона. Если мы помешаем вместе в этом, то что получится из смарагда, мы посмотрим, если он будет у нас. Если мы его получим. — Согласен, — сказал Матиас. — Что вы планируете предпринять? — Мы сперва займемся тем, что найдем новое убежище, — ответил кисло Вийон. — Ни к чему, мы будем молчать. Моим людям можно многое поставить в упрек, но не болтливость. — Разве вы не в союзе с Клопеном Труильфу, королем оборванцев? Как же вы хотите удержать всю свою ораву в узде? — Труильфу и его оборванцы ничего не знают о вашем убежище. Я собираю банду для своих дел, если в том мне есть польза, и оборванцам достается жирный кусок, но на важные дела я отправляюсь только с моими собственными людьми. Даже суженного моей дочери, этого мастера махать пером, мы оставили, хотя он как репей цепляется за юбку моей красавицы. — Гренгуар действительно ваш супруг? — вырвалось у меня. Я просто не мог поверить в то, что отец Фролло рассказывал мне об этом. — Только по обычаю оборванцев, — ответила Эсмеральда. — Я должна была выбрать его в супруги, потому что никто не сжалился над ним, и Труильфу велел бы его повесить. Человек, который долгое время работал на отца Фролло, показался мне и моему отцу слишком ценным для этой судьбы. Он мог знать нужные вещи. Но ему следовало хоть раз осмелиться подойти ко мне ближе. Я схватился за свою шею. — Я очень хорошо могу себе представить, что его тогда ожидает. На носу Колетты образовалась презрительная морщинка, и ее взгляд как маятник изучающее переходил от меня к цыганке, что мне польстило. Вийон подошел к ней. — Это дочь Марка Сенена. С сегодняшнего дня я знаю место, где его прячут. Вы с вашими людьми хотите помочь освободить его, герцог? Египтяне хотели, и совместно был составлен план на следующий день. — Итак, у каждого своя задача, — удовлетворенно постановил Матиас. — Мы только надеемся, что Фролло не разгадает наших планов! — Надеюсь, тогда нас предупредит об этом Арман! — сказал Вийон и посмотрел на меня. — Это означает, если он согласен, вернуться в пещеру льва. Все глаза устремились ко мне, но я видел только взгляд Вийона и Колетты. Я хотел, чтобы мой отец гордился мной, и чтобы Колетта была благодарна мне. — Конечно, я вернусь! — заявил я, как рыцарь из легенды, который решил убить десятиглавого огнедышащего дракона. И когда я сказал это, мне показалось, что Колетта оставила поцелуй на моей щеке, что стоило любой опасности. Блеск в глазах моего отца довершил остальное, усилив меня в моем решении. Но когда я позже, после полуночи, приближался к башням Нотр-Дама, мои и без того дрожащие ноги спотыкались. Я не был рыцарем, даже солдатом, — лишь маленьким писцом, который вознамерился стать шпионом. Здесь, на острове Сите, обвеваемое свежим ночным воздухом, который дул с реки, мое сознание прояснилось, освободилось от горячечной мечты, которая покорила меня в подземном лабиринте. Я был несчастным малым, который стоял на площади перед Собором и смотрел вверх на обе колокольные башни, которые образовывали с галереей мощную букву «Н», устойчивую — такую уж точно не поколебать писцу. Как я осмелился вырвать тайну у этих крепких стен? Висячие лампы в часовнях посылали пестрые лучи света через окна Огромный зверь открыл глаза, чтобы рассмотреть меня. Действительно ли это был собор Богоматери, построенный во славу Божью? Какого Бога? Пусть даже могущественное, удивительное строение восхваляло Творца Мира, злого Бога, оно состояло на службе у Сатаны. Высеченный из камня Голиаф… А я был Давидом, который даже не владел искусством метания камней. Наверху галереи, несмотря на темноту, я разобрал движение. Дрожь, которая прошла по одному из водостоков. Демон пробудился к жизни и поглядел на меня вниз. Я знал, что у него был горб и один глаз. Но этот глаз был опасен, был глазом демона и одновременно глазом его еще более демонического повелителя. Мысль об отце и о Колетте придала мне силы и уверенность, чтобы войти в тень Нотр-Дама. На темной лестнице, а потом в башне я при каждом шаге был готов повстречаться со звонарем. С облегчением я добрался до моей кельи, даже издали не увидав Квазимодо. Я закрыл за собой дверь и упал в изнеможении на кровать. Нотр-Дам снова получил меня.КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Глава 1 Сладкий аромат смерти
Я вообще не надеялся уснуть. Но мое утомление было так же сильно, как и стремление избавиться от мыслей, которые третировали мою голову с шумной, гудящей пляской святого Витта. Я погрузился в сон так глубоко, что стены Монсегюра, которые многие ночи мучили меня, превратились в бледные призраки. Только одно лицо выступило четко и устрашающе: строгое, непроницаемое, под венцом рано поседевших волос — как лик злого короля. Темные глаза излучали красное пламя, которое окутало меня, грозя сжечь. Я старался избежать огня, вертелся во все стороны и больно ударился левым локтем об пол моей кельи. Сон прошел, болезненное покалывание в левой руке разбудило бы и мертвого. Проклиная свой сон, я хотел подтянуться на правой руке обратно в кровать. Приподнявшись наполовину, я застыл, когда мой взгляд упал на лицо, которое не растаяло вместе с тенями мира сновидений. Моя келья была местом призраков, потому что начинающийся день еще лежал в сумерках, а рассвет едва проникал через окна Одетый в черное одеяние человек, который смотрел на меня сверху, держал в руке бронзовый фонарь, чей красный свет разбудил меня ото сна. Жар окутал черную рясу моего визитера, от чего он выглядел неестественным существом. — Я не хотел напугать вас, Арман, — сказал отец Фролло. — Вы поранились? — Все уже в порядке, — охая, я поднялся на кровать и должно быть производил, ко всему прочему в растрепанном состоянии, довольно смешное впечатление. — Ваш визит такой же ранний, как и необычен, отец. Фролло все еще изображал серьезное лицо, и его взгляд показался мне изучающим. — Существует ли какая-нибудь причина, чтобы стража искала вас? У Собора стоят двое сержантов из Шатле, исполненные настойчивым желанием забрать вас с собой. — Меня? — я сглотнул слюну и подумал о событиях прошлого вечера. Ищут человека, который был вовлечен в потасовку на Мельничьем мосту? Или же — союзника еретиков? Причин достаточно, чтобы пустить преследователей за мной. Я прикинулся ничего не понимающим и скромно спросил: — Чего хотят сержанты? — Они только сказали мне, что этот лейтенант стражи непременно хочет видеть вас в Шатле. — Фальконе? Отец Фролло кивнул: — В чем бы вас не обвиняли, месье Арман, в стенах Нотр-Дама вы в безопасности. Здесь царит священное право убежища, которое должен уважать даже сам король. Если вы пожелаете, то я скажу сержантам, что вы сослались на право защиты. Что это означает, мне тут же стало ясно. Я стану пленником Нотр-Дама и Клода Фролло — еще более, чем прежде. Поэтому я сказал: — Нет, я пойду к ним. Я ни в чем не виноват. — Как вам угодно, — ответил Фролло и проводил меня, после того как я привел себя в порядок, вниз к порталу Страшного Суда. Более подходящее место, чтобы передать меня сержантам, едва ли можно было выдумать. Видя крепкие фигуры в тяжелых кожаных камзолах, вооруженных кинжалами и мечами, я засомневался, правильное ли я принял решение. Может, мне стоило прихватить с собой кинжал, чтобы отвоевать себе, в крайней случае, свободу? Но это возбудило бы любопытство отца Фролло, а сержанты обыскали бы меня и обнаружили запрещенное оружие. И мое положение могло только ухудшиться. На вопрос, что хочет от меня лейтенант Фальконе, один из мужчин пробурчал: — Это он скажет вам сам. Теперь следуйте за нами в Шатле! Они встали у меня по бокам, и мы прошли по площади перед Собором, мирно лежащей в лучах светло-розовой зари. Фролло остался стоять под аркой портала и смотрел нам вслед. Его лицо было непроницаемо, а выражение ни о чем не говорило. Я спросил себя, испытывал ли он триумф. Возможно, его предложение убежища было уловкой, он рассчитывал на мой отрицательный ответ, и осознанно подтолкнуть меня в руки стражи. Небо над Парижем успокоилось. Больше не шел дождь, и сильный ветер превратился в легкий ветерок. Затянутое облаками небо, которое висело, как занавес, над крышами домов, рассеялось. Лучи восходящего солнца выхватывали большие куски в серой паутине и освещали пестрые рулоны ткани и штапели платья, которые раскладывались усердными торговцами сукна на улице де ла Драпери на прилавках. Намеренно ли сержанты выбрали путь по Мельничьему мосту? Дом несчастного ростовщика теперь был только горой обуглившегося мусора, и даже деревянный амбар поглотило пламя. Некоторые бочки, ящики и мешки сумели спасти от огня. Слегка обуглившись, они выстроились возле пожарища, как хоровод скорбящих выживших. Мельница на другой стороне от лавки ростовщика сохранилась благодаря каменным стенам, и только закопченная стена рядом с остатками пожара свидетельствовала о пережитом испытании. Он взглянул на ограду, где я рухнул вниз в глубину с сильным, как медведь, парнем. Колесо мельницы, ставшее его судьбой, перемалывало с невинным усердием воду и обрызгало меня шипящей пеной. — Проходите дальше, месье! Один из сержантов потянул меня за собой и тем самым дал мне понять, что я остановился, охваченный воспоминаниями об ужасном событии. Мрачное строение Гран-Шатле, в которое мы вошли, не было способно развеять эти мысли. И здесь я был свидетелем ужасной смерти, и если я повстречаю нотариуса Жиля Годена, то меня заточат в темницу как убийцу. Впрочем, лейтенант Фальконе и без того мог намереваться это сделать. Возвышающиеся над стенами башни окружали двор и охраняли пленных в темницах. Это последнее, что я разглядел, прежде чем сержант провел меня в мрачный лабиринт подвала из лестниц и узких коридоров. Они ввели меня в подземное помещение, откуда шел сладковатый, вызывающий тошноту запах. Он напомнил мне аромат смерти, который исходил на кладбище Невинно Убиенных Младенцев. Когда я вошел в освещенное масляной лампой помещение, то увидел, откуда веяло дыханием разложения. Пьеро Фальконе стоял перед рядом трупов, которые тщательно выровняли и уложили на голый пол. Другие мертвые были завернуты в грубые льняные саваны и ждали того, чтобы их отвезли на кладбище. — А, вот и вы, наконец! — Фальконе приветствовал меня с деланным дружелюбием отпетого торговца и тут же обратил внимание на пять трупов, которые не были завернуты в сукно и таращились мертвыми глазами в пустоту. — Посмотрите-ка, месье Арман. Прекрасная добыча, не так ли? Я должен был здорово держать себя в руках, чтобы ничем не выдать своего волнения. Ведь я узнал мертвых тут же — минимум, четырех из них. Это были фехтовальщик со шрамами на лице и трое его товарищей, отправленные итальянцами в мир иной. Пятый труп был немного изуродован: рука неестественно выкручена, лицо сдавлено, его едва можно было узнать. Но сильное телосложение выдавало, что речь идет о мужчине, который накинулся на меня на мосту. Колесо мельницы хорошенько отделало его. — Вы проходили по Мельничьему мосту, месье Арман? Ну, тогда вы видели сгоревший дом. Там нашли этих четырех усопших. Пятого, этого верзилу с раздавленным лицом, стража нашла сегодня утром у Лувра[867], когда они доставали из Сены ночную заградительную цепь. Он относится к остальным. — Как вы узнали об этом? — спросил я невинным тоном. Фальконе толкнул носком сапога человека со шрамами. — Это Фронтор-Со-Шрамом, первоклассный фехтовальщик, но отъявленный подлец. За деньги он проколол бы своим кинжалом даже свою беременную сестру. Другие относятся к его банде. Изуродованного толстяка звали Шарль Копченая Колбаса. Со своей медвежьей силой он переломал хребет большему числу людей, чем поместилось бы здесь в покойницкой. — Очень успокаивает, что кто-то положил конец их жизненному пути. — Действительно, месье Арман. Но ябы охотно узнал,кто был этот кто-то. — Понятно, господин лейтенант. Но почему вы рассказываете мне все это? — Потому что я надеюсь, что вы сможете мне помочь в дальнейшем. Вы были вчера ночью на Мельничьем мосту? Сперва я хотел все категорически отрицать. Но что, если меня видели? Какой-нибудь мельник, который в плохую погоду сидел дома и таращился в полуслепое оконце на бурю, мог описать меня страже. — Да, я был на мосту, — в результате, ответил я. — Так как я в последнее время много работал, то по совету отца Фролло пошел подышать немного свежим воздухом. — Подышать свежим воздухом? Вчера? — голос Фальконе почти срывался. Он смотрел на меня, словно не знал, должен ли он высмеять меня за мой глупый ответ или же рассердиться. — Это был не свежий воздух, это был настоящий штормовой ветер! Немало несчастных он сдул с мостов и лодок в Сену, — он указал на упакованные трупы. — А вы, значит, преспокойно гуляете по Мельничьему мосту? — Ну, погода была действительно довольно суровой. Поэтому я передумал, когда стоял где-то посередине моста, там, где позже сгорел дом. Я пошел обратно к острову Сите и согрелся в таверне возле начала моста горячим глинтвейном. — И я должен вам поверить? — Таверна называется «У Мельничьего моста». Спросите хозяина, он сам обслуживал меня. Лейтенант казался недовольным, сомневающимся. Его взгляд скользнул по пяти трупам и надолго остановился на мне. — Ив таверне вы долго оставались? — Нет, я разыскал другую таверну. — Название которой вы, конечно, также можете назвать? Я рассмеялся Фальконе в лицо: — Вы можете запоминать названия, если вино затуманило ваш разум? Разве отличается одна пинта от другой, пусть даже и у толстухи Марго? Я знаю только одно: я вернулся в Нотр-Дам после полуночи с раскалывающимся черепом, и он гудел сегодня все утро. Теперь усмехнулся и лейтенант. — Поэтому-то вы кажитесь таким изнуренным. Жаль, что вы не можете мне больше помочь со сгоревшим домом. Ростовщик, которому он принадлежал, обуглился до костей. Я спрашиваю себя, что хотел от него Фронтор и кто так профессионально отправил на тот свет старика Шрама и его банду. — Вы предполагаете взаимосвязь с действиями жнеца? Или почему иначе вы велели привести меня? — Вчера видели человека перед домом ростовщика, по описаниям на которого вы похожи, месье Арман. И действительно, вы были там. Вы, похоже, притягиваете к себе смерть, словно на вас лежит проклятие. — Действительно, это весьма странный случай, — сказал я вскользь. — Разве не говорит Демокрит, что люди из случая создают обманчивую картину, упрек для их собственной глупости? И не говорит ли он так же, что случай и размышление только редко находятся в противоречии, что рассудительный проницательный взгляд может привести в порядок многие вещи? Удивленно я взглянул на него: — Вы читали Демокрита, господин лейтенант? Фальконе многозначно улыбнулся: — Только случайно. Но я спрашиваю себя, не прав ли он, так же как и эта пословица. — Какая? — На случае строится глупость, мудрость же использует случай. — Итак, вы мне не верите, — заключил я. — Вы думаете, что я говорю о случае, чтобы умолчать о правде. Он сделал беспомощный жест. — Не знаю, должен ли я принимать вас за пронырливого парня или святого глупца. В первом случае вы были бы опасностью для других, во втором случае — для других и себя самого. Осмотритесь хорошо в этом помещении, месье Арман! Ежедневно трупы вылавливают из Сены и приносят сюда, многими не интересуется ни одна душа. Если вы знаете больше, чем сказали мне, то обдумайте для себя хорошенько, уместно ли молчание. Тот, кто здесь лежит, больше не сможет ничего рассказать. — Мне нечего вам больше сказать, лейтенант. Можете спокойно считать меня дураком. Это был единственный ответ, который я мог ему дать. Все другое могло уберечь меня от покойницкой, но незамедлительно приводило в темницы и камеры пыток, находившиеся где-то под этими свободами. К тому же, каждое следующее слово грозило моему отцу и Колетте, которая примкнула вчера к катарам, к еретикам. — Если вы глупец, тогда очень большой, — сказал Фальконе на прощание. — Такой большой, что вас могут выбрать Папой на следующем празднике дураков… Если вы еще доживете до этого дня!Глава 2 В темнице забвения
Я не вернулся обратно на остров Сите через Мельничий или соседний мост Менял. Причина была проста: я столь же мало доверял лейтенанту Фальконе, как и он мне. То, что я не развеял его подозрения относительно меня, он более чем ясно дал понять. Он мог бы попытаться развязать мой язык под пытками, но отпустил меня. Мне было ясно, что он хотел использовать меня как приманку. Возможно, он даже велел следить за мной. Поэтому некоторое время я покрутился в Новом городе, двигаясь по оживленным улицам к Гревской площади, окунулся возле лодочных пристаней в толкотню торговцев, корабельщиков и грузчиков и потом вышел в тень больших торговых домов, которые теснились на берегу к мосту Нотр-Дама. Быстрыми шагами я перешел через реку и двинулся по долгому пути на острове Сите, хотя уже был уверен, что давно оторвался от вероятных преследователей. Близился полдень, и я торопился, чтобы вовремя добраться до Дворца правосудия. Большие часы на восточной стороне квадратной башни ударили двенадцатый раз, когда я взглянул на них. — Консьержери здесь, во дворце Правосудия, Шатле или Бастилия, — темницы Парижа явно скрывают в своих мрачных утробах столько же невиновных как виновных, — сказал тихий голос мне на ухо, и костлявая рука легла мне на плечо. Рядом со мной стояла группа цистерцианцев[868] в их неокрашенных, светлых рясах согласно обету бедности. Все без исключения натянули черные колпаки, — в их числе и тот, кто заговорил со мной. Но он не был цистерцианцем. Сперва я узнал морщинистые худые руки, потом призрачный, ослабленный кашлем голос. Франсуа Вийон поменял темную рясу монаха-призрака на светлую — брата цистерцианца. С ним были шестеро других переодетых братьев, среди них Леонардо и Томмазо. Аталанте пришлось отказаться от участия из-за своей раненой руки. Трое крепких мужчин по имени Хардоин, Клемент и Туасон, катары или кокийяры, или то и другое, несли большие корзины. Колетта замыкала группу; она, как я слышал, несмотря на яростные протесты Вийона, настояла на том, чтобы присутствовать при освобождении своего отца. Как и я. Когда Вийон накануне вечером возражал, что я важнее в качестве его шпиона в Нотр-Даме, чтобы следить за отцом Фролло, определить личность великого магистра и разгадать тайну АЫАГКН, я не позволил принимать это в расчет. Я не хотел больше быть управляемой глупой пешкой в большой игре. Я хотел оказаться подле моего отца и Колетты! — Почему вы пришли так поздно, Арман? — спросил меня Вийон. Я рассказал о своем визите в покойницкую, пока остальные образовали круг возле меня. Хардоин достал одежду цистерцианца из своей корзины, которая в по большей части была наполнена ржаными хлебами, пирогами с кукурузой и паштетом. Я надел светлую ризу из грубой шерсти, потом черный skapulier[869] с капюшоном и затянул, наконец, вокруг талии такой же черный пояс cingulum[870], который были ничем иным, как скрученной веревкой. Тем временем Вийон рассказал вкратце, что он послал еще до рассвета группу разведки к подземному храму на острове Сите. Люди не обнаружили ничего, кроме дырки в земле, через которую попадаешь в туннель. Он, однако, частично завален, перегорожен камнями и грунтом. Вероятно, дреговиты устранили более ненадежный храм и решили встречаться в будущем в другом месте. — Вы вооружены, сеньор Арман? — спросил Леонардо. Я ответил отрицательно, и он дал мне кинжал с местами погнутым в боях клинком, который я засунул за пояс под монашеской рясой. — Так давайте войдем во Дворец справедливости, — сказал Вийон, — с уверенностью, что мы снова покинем его как свободные люди! Пока мы шли по щедро наполненным зеваками и торговцами улицам мимо стен бывшего королевского дворца, я спросил: — Что выдумаете, мессир Вийон, о том, почему Сенена держат в плену именно здесь? Если у дреговитов есть такие доверенные люди в Шатле, как Жиль Годен и Шарль Мурон, небыло бы разумнее заточить его там? Колетта ответила вместо Вийона; — Мой отец состоял на службе в Высшей счетной палате, а она относится ко Дворцу правосудия, которому она подсудна. — Значит он — правомерный пленник? Я думал, его схватили под покровом ночи. — И так и не так, — сказал Вийон. — Руки отца Фролло добрались далеко, не только до Шатле, но даже до Дворца правосудия. Возможно, даже Консьержери относится к дреговитам или, по крайней мере, оплачивается ими. Если спросить, то никто в Консьержери не сможет рассказать что-нибудь о пленнике Марке Сенене, и все же мы знаем, благодаря вам, Арман, что он здесь. И это не удивительно. Остров Сите напичкан одними тайнами, над землей и под ней. Капетинги[871] возвели старый королевский дворец, но уже у римских наместников были резиденции на этом месте. Но еще со времен, когда здесь был дворец королей, имелись потайные проходы и камеры для государственных пленников, которые так же преданы забвению, как и сегодняшние. — Камеры или пленники? — поинтересовался я. — И те, и другие. К счастью я хорошо ориентируюсь здесь. Уже однажды мне пришлось освобождать одну жертву дреговитов из Консьержери. Он говорил о своем отце, Гийоме де Вийоне, моем деде, якобы сошедшем с ума в 1465 году. Возможно, только я расслышал, как его хриплый голос почерствел при этих словах. Двое воинов с алебардами охраняли вход в Консьержери между выступающими круглыми башнями-близнецами, которые глядели на свое искаженное отражение в серо-зеленом потоке протекающей прямо под ними Сены. Стража без проволочек позволила нам пройти, потому что Дворец правосудия был общественным местом. Группа цистерцианцев была не подозрительнее, чем торговцы сукном или скобяными товарами, чем продавцы вина или сладостей, чем балагуры и безмандатные адвокаты, которые все одинаково навязчиво и во все горло зазывали зрителей. В проходах и дворах, на галереях и лестницах раздавались их голоса, а из одного из больших каминов, которыми теперь не пользовались, даже доносился мерный стук молота кузнеца, который установил там кузнечный горн и наковальню. — Возможно, нам следовало бы прийти ночью, — заметил Туасон. — Здесь снует повсюду столько пестрого люда. — Именно на этом и базируется мой план, — возразил Вийон. — В ночное время все двери закрыты, и нам бы с большим трудом удалось незаметно проникнуть вовнутрь. А так мы — часть этой суматохи и никому не бросаемся в глаза. Я восхитился Вийоном за его предосторожность и решительность, когда мне так же было ясно, что действовал он не ради прекрасных глаз Колетты. Он хотел вырвать Марка Сенена у дреговитов, чтобы больше узнать о шашнях литейщиков и весовщиков, чтобы расстроить планы заговорщиков. Запертая дверь в конце длинного прохода, охраняемая двумя другими воинами с алебардами и сержантом, ограничивала шумную толкотню. — За ней находится спуск к темницам, — объяснил Вийон и остановился в пятнадцати шагах от двери. — Теперь все очень серьезно. — Нас пропустят туда? — спросила Колетта с пугливым беспокойством, и сильная дрожь в голосе выдала степень ее волнения. — Пожалуй, — ответил Вийон. — Но время от времени сами набожные братья обыскиваются на предмет оружия. Все зависит от настроения тюремщика. — М-да, чудесно, — проворчал Томмазо на своем ограниченном французском. — И если синьор тюремщик сегодня ночью не наслаждался в объятьях своей любимой, то мы должны его немного подкупить. — Если уже так рано мы привлечем к себе внимание, то никогда не проникнем вовнутрь, не доберемся до таинственной темницы, — призвал Вийон. — Поэтому я позаботился об отвлекающем маневре. — Ага, — издал возглас Томмазо и огляделся в поиске по сторонам. — И где же этот отвлекающий маневр? — Сейчас, они уже идут. Вийон явно имел в виду кричащую во все горло пару, которая прошла мимо нас, осыпая друг друга бесчисленным множеством самых грязных ругательств. Буквально перед закрытой дверью оба остановились, и мужчина зарычал на потеху страже: — Что — я слаб как головастик? Сейчас покажу тебе головастика, если ты не будешь больше закутываться, как монахиня! И он уже дернул за платье женщины так что шнуровка лопнула на груди. Хулиган разорвал красный лен и сорвал белый платок с груди, чтобы презрительно швырнуть его на землю. На всеобщее обозрение показалась пара больших, крепких грудей, два шарика розовой, крепкой плоти, венчаемой огненно-красными вишенками. У тюремщика и стражников с алебардами чуть глаза не вылезли из орбит, и я тоже залюбовался этим видом. — Совсем неплохо! — закричал мужчина с неубывающим и, возможно, как раз вновь вспыхнувшим возбуждением, расстегнул свой пояс и хотел уже было стянуть вниз штаны. — Теперь ты увидишь, что любит мой головастик! Как бы сильно не был захвачен тюремщик этим спектаклем, чувство долга одержало над ним верх. Он вышел вперед, встал между ссорящимися и потребовал объяснений для их бесстыдного поведения. — Готон[872], это моя жена, хочет развестись со мной, — сказал мужчина с расстегнутыми штанами, словно это все объясняло. — Ну, и ничего удивительного, — объявила обнаженная. — Дни в году, когда у Антуана «стоит», однорукий может сосчитать по пальцам. Червяком между его ног рыбак не привлечет даже уклейку. — Что, не привлечет даже уклейку, как же? — с дрожащими пальцами Антуан копошился в явно упрямых штанах. — Сейчас ты увидишь червя. Обожди только, пока он пробуравит твою дырявую шкуру! — Стой! — закричал сержант и был уже готов достать меч из ножен. — Эй вы, отребье, не будете же здесь во Дворце правосудия… — Вот именно будем, и еще как! — заорал разгневанный Антуан. — Это мое священное право еще с древних времен, когда короли здесь правили, да, верно! Если я при свидетелях докажу мою мужскую силу, Готон должна будет отозвать свое требование о разводе. Справьтесь сами, если мне не верите! Вийон понял, что наступил момент, и подошел к тюремщику. — Простите, что мешаю вам, сержант, но мы бы хотели пройти к заключенным. — Не сейчас, — затявкал тюремщик. — Я занят. — Мы тоже, — спокойно ответил Вийон. — Бог не дал нам времени, чтобы мы его тратили попусту. — И что же? — сержант пожал плечами. — Тогда идите к своим братьям молиться. Здесь нечего искать. Никому нельзя к заключенным. — Вы же знаете, что это не распространяется на слуг Божьих, — Вийон указал на носильщиков с корзинами. — Наш приют собрал деньги на еду, которую мы принесли бедным заключенным. — Ах, опять монастырская жратва для этих громыхал цепями! Так бы сразу и сказали! — сержант пошел к двери и открыл ее. — Постучите, когда будете выходить снова. Не у каждого внутри есть такое счастье. Один за другим мы прошли через ворота, пока сержант снова не вернулся к ссорящейся и бранящейся паре. Один из алебардистов закрыл за нами дверь на замок. — Это правда? — спросил я Вийона, — Действительно существует такое удивительное право на предоставление доказательства? — Да. Впрочем, нужно привести доказательство в присутствии пятнадцати свидетелей из сословия врачей. — Пятнадцать наблюдающих знахарей? — заохал я. — Тогда бы я не мог привести и малейшего доказательства. Шум, создаваемый толчеей в общественной части Дворца правосудия, остался за толстой деревянной дверью. Крутая лестница вела нас в сумеречное, холодное и сырое царство несвободы. По голым стенам стекала вниз маленькими ручейками вода. — Пленных хотят затопить? — меня охватил ужас при мысли, оказаться здесь в заточении. — Или таким образом экономят на пытке водой? — Никак нет, — сказал Вийон. — Темница находится под резервуаром с водой, а близость реки довершает остальное. Но это мы используем себе во благо. А теперь тихо! За поворотом трое стражников сидели в огороженном решеткой чулане и кидали костяные кубики на заляпанный стол. Вийон достал пару больших упаковок паштетов и наполненную вином тыквенную бутылку из одной из корзин. — Скромный дар заслуженным стражникам Консьержери, — елейно сказал он. — А ну-ка уберите прочь! — закричал сержант, главный в расчете. — Еще чего не хватало — чтобы мы жили хуже, чем это сборище негодяев! Пока его товарищи уже уплетали паштеты, он провел нас по длинному проходу, который упирался в решетчатые двери клеток. За ними торчали грязные, изнуренные существа на гнилой соломе. Некоторые неподвижно таращились в пустоту, казалось, уже давно безучастно воспринимавшие подземный мир, другие при нашем появлении рвались с цепей. Они кричали и умоляли, чтобы им дали хоть что-нибудь из наших даров. Это был жуткий концерт воющих голосов и звенящих цепей, и я понял, почему привратник говорил о «гро-мыхалах цепями». — Отведите нас, пожалуйста, как можно дальше, сержант, — попросил Вийон. — Там, по моему опыту, заточены несчастнейшие из несчастных. — Вы имеете в виду, там отбывают свое наказание самые подлые отбросы, — недовольно сказал сержант и отвел нас в коридор с клетками, который был еще холоднее и мрачнее, чем прежняя часть. Только пара свечей горела на стенах в подсвечниках, словно лучший свет был транжирством. Кто здесь был заточен, был ближе к смерти, чем к жизни — погребенным заживо. Воздух был влажным, как густой туман, наполненным гнилью, и снова я поверил, что почуял смерть. — Очень хорошо, сержант, — сказал Вийон так же елейно. — А теперь дайте нам, пожалуйста, ключ от прохода. — Что? — стражник косо наклонил свою белокурую голову и посмотрел на Вийона. — О чем вы говорите, брат? — О проходе, который ведет к темнице забвения, — Вийон указал на крутую лестницу, которая исчезала в темной дыре. — Откуда вы знаете… — сержант недоговорил своей фразы. Удивление превратилось в подозрение, и он схватился за короткий меч, висевший на бедрах. — Вы — не набожные братья! Кто вы? Что вы здесь ищите? Он еще не достал свой меч, как Вийон уже поднес свой кинжал к его толстой шее. — Оставьте меч на месте, или это будет ваш последний удар! Сержант заколебался, и Леонардо подтолкнул его к решению. Итальянец, который стоял за ним, достал короткий меч и стукнул с такой силой рукояткой по затылку стражника, что пораженный упал без сознания на пол. Вийон развязал свой cingulum, и скрутил им сержанту руки на спине. Я снял свой пояс и связал ему ноги, чем заслужил признательный кивок моего отца. Он обратился к Леонардо: — Позаботьтесь о двух других! Леонардо и Томмазо повернули обратно с Клементом, Хардоином и Туасоном, которые отставили свои корзины в сторону. Когда они вернулись, пояс остался только на Клементе. — Стражники действительно послушные ребята, — хохотнул Леонардо. — Они также последовали в мир сновидений за своим сержантом. Вийон тем временем открыл ключом на связке сержанта дверь внизу крутой лестницы. К счастью, все произошло в полутьме по ту сторону от клеток темницы. Если бы пленники поняли, что мы устранили их охрану, то устроили бы адский шум, чтобы их освободили. Мы же были здесь только ради одного несчастного. Тьма обволокла нас, если бы Клемент и Туасон не взяли по указанию Вийона свечи из подсвечника на стене. В темнице забвения пленники были отрезаны от солнца и других источников света. Напуганные светом свечи и нашими шагами, опустившиеся создания зашевелились в узких клетках. Зазвенели цепи, и каркающие голоса заскулили о пощаде, о глотке воды, о куске хлеба. Перед каждой клеткой мы останавливались и светили вовнутрь, на покрытые плесенью и грибком стены, кишащие крысами и червями груды из соломы и нечистот и в осунувшиеся, отчаявшиеся, покрытые гноящимися ранами лица. И каждый раз Колетта разочарованно качала головой. Пока в конце хода перед последней клеткой она едва не упала с криком, за которым последовали сильные рыдания. — Отец! Что с вами сделали? Боже, как мог ты это допустить? Отец! Лишь лепет Колетты вдохнул жизнь в это призрачное существо, которое было заковано в цепи там, словно его приковали на целую вечность. Запястья и щиколотки схвачены железными кольцами, еще одно обхватывало шею. Теперь дрожь прошла по всему изнуренному телу, и Марк Сенен поднял голову в нашем направлении. — О, отец! Его волосы поседели! — захлебывалась Колетта. И в самом деле, он выглядел гораздо старше, чем должен — и не только из-за спутанных седых волос на голове и бороде. Его лицо осунулось, кожа стала морщинистой и почти такой же серой, как и волосы, она покрылась язвами и шрамами. Глаза, под которыми лежали глубокие мешки, смотрели сквозь завесу, которая отделяет пленников от мира людей. Пересохшие, потрескавшиеся губы сложились в беззвучные слова. Казалось, даже говорить это жалкое создание, которое когда-то было человеком, было бессильно. Наконец, Вийон нашел верный ключ, и дверь клетки поддалась со ржавым упрямым скрипом. Колетта поднялась, бросилась в клетку, упала на колени возле своего отца и обняла его. Капюшон соскользнул с ее головы, и озарение разорвало завесу перед глазами Сенена. — Колетта… дочь… — это звучало почти как карканье умирающего ворона Печаль ушла из его глаз, сменившись признанием и воспоминаниями. Жалкий комок кожи и костей, утративший всякую надежду, начал снова становиться человеком. Напрасно Вийон искал на связке с ключами сержанта подходящий к кандалам Сенена. — Его здесь нет, — с трудом выговорил пленник. — Он у… палача… — Случай для вас, Томмазо, — сказал Вийон и объяснил Сенену: — Томмазо — мастер по механизмам. Пока Томмазо пытался справиться с замками с помощью малюсенького ножика и своеобразной иглы, Сенен спросил, кто мы. — Друзья, — объяснил Вийон. — Друзья, которые пришли освободить вас, мэтр Сенен. — Но …как? — Восьми цистерцианцам предоставили доступ к темнице, и восемь белых монахов покинут ее снова, спрятав свои лица под капюшоном. Одним из них будете вы. — Тогда… один… должен… остаться! Вийон провел рукой по стене, и сырость засверкала на его коже. — Большой резервуар воды находится над темницей, и подземные каналы скрывают его под Сеной. Наш друг Леонардо — опытный пловец и ныряльщик. Никто из нас не останется здесь! Как сильно ошибся Вийон, доказал в этот же момент Хардоин, который застонал и упал при входе в келью. В его затылке торчала короткая стрела с деревянным опереньем — арбалетный болт. Хардоин хотел что-то сказать, но вместо слов на его дрожащих губах выступила только кровавая пена. Быстрые шаги многих людей раздавались под сводами. Свет фонарей вырезал темноту и делал узнаваемыми очертания наступающих. Кольчуги звенели, оружие бряцало, и кто-то отдал команду: — Поймайте еретиков! Никто не должен уйти! Первый мужчина, который выстрелил в Хардоина, вышел на свет наших свечей — он был из королевских лучников, что выяснилось по синей тунике поверх кольчуги, украшенной крылатым оленем. Окрыленный своим успехом и, возможно, даже жаждой крови, солдат вырвался вперед своих товарищей с поднятым мечом. Разряженный арбалет он держал в левой руке. Леонардо выпрыгнул из клетки и преградил путь нападавшему. Молниеносным приемом он избежал вражеского удара и парировал его быстрее, чем можно было уследить глазом. Клинок его короткого меча впился в шею солдата — прямо под подбородок, где заканчивалась защитная кольчуга. Лучник не сумел даже издать звука — так быстро его настигла смерть. Но его мстители приближались неудержимо. — Мы должны уходить! — крикнул нам Леонардо. — Немедленно! — Нет, не без моего отца! — закричала Колетта и обняла дряхлую фигуру Марка Сенена, чьи руки были освобождены благодаря искусству Томмазо. Но что это давало, если он был прикован за шею и ноги! — Так быстро у меня не получится! — с трудом сказал механик. Вийон наклонился над Хардоином, положил руку на его голову и тихо сказал: — Господин Добрых Душ, позаботьтесь о вашем брате! — Хардоин был мертв. — Вы должны уходить! — с трудом сказал Сенен, обнял свою дочь и оттолкнул ее от себя из последних сил — Уходи, Колетта, ты должна спасать свою жизнь! Я видел, как Вийон кратко кивнул. Он признал, что операция закончилась провалом. Все признали это, как и Сенен, возражала только его дочь. Со слезами на глазах, она хотела снова повиснуть на шее своего отца. Но я просто схватил ее и вытащил из кельи, не обращая вниманием на ее крики и брыкания. Вийон и другие последовали за мной. Сенен остался с мертвым Хардоином. — Налево! — крикнул Вийон и указал на мрачный проход. — Он ведет к резервуару с водой. Леонардо вынул короткую стрелу из колчана мертвого стрелка и зарядил арбалет. Он поднял оружие, уперся прикладом в левое плечо и прицелился в нападающих врагов, которые были четко видны в свете своих фонарей. Левой рукой Леонардо спокойно нажал на спусковой курок на прикладе, и тетива освободилась от зацепа. Со звенящим свистом стрела рассекла воздух и попала в грудь солдата, который как раз сам натягивал тетиву арбалета. Стрела пробила кольчугу и отбросила человека назад, прежде чем он сумел выстрелить. Подоспевшие товарищи столпились возле павшего. Отвратительный ответ не заставил себя должно ждать. Многократный свист, напоминающий стаю шершней, наполнил воздух темницы, и дождь арбалетных болтов пролился над нами. Железные острия пронзительно стукались о голую стену или ударялись с металлическим звоном о прутья решетки кельи Сенена. Туасон с громким ругательством рухнул на землю, накрыв собой свечу и погасив ее пламя. Короткая стрела попала в его левое бедро так глубоко, что окровавленное острие выскочило с другой стороны. Клемент и Томмазо подбежали к нему, подхватили за плечи и подняли. Они потащили его к узкому проходу, в который только что нырнул Вийон. Я последовал за ним и потащил Колетту за собой. Она перестала сопротивляться. Слезы катились по ее щекам. Позади нас шли Томмазо и Клемент, держа раненого Туасона, а последним — Леонардо, который, тяжело переводя дыхание, подбодрял нас: — Быстрее, иначе они схватят нас! В подтверждение его слов стрела из арбалета пролетела мимо его головы и глубоко вонзилась в стену рядом с Томмазо. Коренастый итальянец вобрал голову в плечи, но опоздал бы, если бы выстрел был нацелен в него. Мы прошли за Вийоном пару шатких ступеней наверх. Влажность в воздухе усиливалась. Пол стал слизким, и скоро мы стояли по щиколотку в воде. Вийон забрал у Клемента последнюю оставшуюся у нас свечу и поднял ее высоко. Мы находились на краю подземного пруда, над которым возвышались своды старой стены — вероятно, еще римских времен. — Резервуар с водой! — выдохнул Вийон. — Раньше в этом дворце находилось последнее убежище парижан в случае войны. Если бы их осадили или отрезали от воды, то ее у них всегда было достаточно — благодаря этому резервуару. Никогда не пересыхающий источник, который связан с Сеной потайными каналами, так что уровень воды всегда остается на той же отметке. Эти каналы — наш путь к свободе. Следуйте за мной и плывите ради своей жизни! Он бросил свечу в воду, чтобы пламя не выдало нас, скинул широкую, мешающую при плаванье монашескую рясу, и прыгнул головой вниз в воду. Мы последовали его примеру, и я с облегчением установил, что в Колетте еще присутствовала воля к жизни, — или она плыла чисто механически, так же, как двигался механизм колесиков часов на башне снаружи или механизм удивительной мыслящей машины, если потянуть верные рычаги. Туасону это стоило больше прочих. С каждым гребком его лицо передергивалось от боли, и возможно, он бы не справился, если бы Клемент преданно не оставался возле него. Это я видел в свете фонарей, лучи которых скользили по подземному озеру. Свет помог нам следовать за Вийоном к каналу, который нечетко просматривался перед нами в стене скал. Солдаты короля, пусть даже сами того не желая, очень помогли нам, и свет был куда приятнее, чем стрелы арбалета, которые просвистели в воздухе над нами — приносящие смерть птицы, которые с резкими шлепками одна за другой воткнули в воду свои железные клювы. Дыра в скале, наполненная водой, поглотила нас, и на коротком отрезке не было воздуха. Мы нырнули и вынырнули, наконец, на поверхность. Все глубоко дышали. Здесь стрелы не могли нас достать, и перед нами становилось светлее. Воздух, который я жадно вдыхал своими легкими, был свежим, а не застоявшимся и мертвым, как в темнице. Скоро наши ноги нащупали твердую почву, и мы, шатаясь, вышли на белый дневной свет. Перед нами лежала немного крутая полоска берега, которая переходила в правый рукав Сены. По нему шли паромы и баркасы. Колетта выбилась из сил и едва не утонула, если бы я не держал ее. К сожалению, был неподходящий момент, чтоб наслаждаться этой привилегией. Я сам довольно неплохо перенес это мокрое приключение, потому что имел навык в плавании и нырянии. В детстве я часто переплывал Сарту, чтобы забраться в безопасное место от других мальчишек, которые устраивали охоту на бастарда. Клемент упал передо мной на илистое дно. Две стрелы торчали в его мертвом теле. Казалось, все усилия были напрасны, мы из одного рока попали в другой. Ананке! Как короткие стрелы в темнице, так теперь длинные пронзали воздух и жаждали нашей жизни. Их слабый звон распространялся вниз — как при грозе, которая шла не с неба. Пищальщики стреляли в нас, и тяжелые снаряды взрывались на земле. Позади стены дыма, которую подняли пищали, я увидел голубые мундиры солдат. И они относились к королевским стрелкам. — Ищите прикрытия! — закричал Леонардо. — Сзади скалы и кусты! Другой голос смешался с его кличем, это был приказ военного: — Алебардисты, вперед! В атаку! Во главе сгруппировавшихся солдат с алебардами скакал их капитан на большом вороном, обнажив шпагу и одновременно живописно выгнувшись вперед. Офицер высокого роста с пышными бургундскими усами в великолепно сверкающих доспехах: картина, какую любят прекрасные дамы, и не только они. Во мне пробудилось неопределенное воспоминание. Я увидел всех нас, наколотых на алебарды, пронзенных стрелами, разорванных на куски снарядами пищалей, и твердо решил — защищать Колетту, даже если это будет стоить мне жизни. Тут пестрая процессия отделилась от стен вокруг королевского сада и вклинилась с пением и музыкой между нами и солдатами, которые волей-неволей должны были прекратить свое нападение. — Египтяне! Ну, наконец! В голосе Вийона раздалось облегчение, которое мы испытали при виде их спасительного броска. Матиас Хунгади Спикали сдержал слово. Несмотря на все проклятия и приказы солдат, египтяне продолжали свои танцы и прыжки, словно они не понимали слов. Загорелые женщины кружились под громкие радостные звуки вокруг стрелков короля. И некоторые из бравых воителей захотели попытаться положить конец службе и заняться красавицами с огненными глазами. Эсмеральда вела хоровод, задавая тамбурином быстрый темп соблазнительных поворотов, и поднимала свои стройные ноги выше, чем остальные. Несмотря на наше неудачное положение, я поддался очарованию прекрасной юной египтянки. — Сюда, к лодке! — крикнул звонкий голос, который принадлежал отцу Эсмеральды. Он стоял у реки, яростно размахивая руками с парой других цыган. Они держали большую весельную лодку. Мы бежали к лодке, прыгали, спотыкались. Спешка была необходима. Бросив через плечо взгляд, я увидел, что конный капитан нашел свою тактику. Алебардисты вклинились в цыганский табор, образовали проход из направленного на пеструю толпу оружия, который обеспечил проход лучникам и пищальщикам. Офицер уже послал своих солдат на позицию, стрелки натянули свои луки, пищали были установлены на деревянных треножниках. Цыгане втащили нас в лодку, наполовину вытащенную на береговую гальку, которая вдруг затрещала и заохала под нашим весом. Железный наконечник стрелы впился в древесину внешней стены и остался там дрожа. Другие стрелы ударились о гальку или воду. Потом и пищальщики пальнули из своего оружия, и под грохот взрыва на нас обрушился град свинца. Мы бросились плашмя на дно лодки и втянули головы, пока Сена не проглотила последний снаряд. Если только хотя бы одна пуля попала в лодку, наше бегство закончилось бы тут же. Только цыганский герцог и Томмазо стояли еще на берегу, чтобы помочь Туасону забраться на борт. Леонардо схватил за руки раненного и хотел втянуть его через бортовой леер. Треск заряженной позже пищали заставил нас сжаться. Непроизвольно я закрыл лицо руками. Когда я снова взглянул, у Туасона не хватало полголовы. Его бессильные руки выскользнули из рук Леонардо, и он спиной упал в бурлящую воду берега. Из кровавых останков своего растерзанного лица Туасон смотрел мертвым взглядом на небо. Матиас и Томмазо полностью столкнули лодку в реку и прыгнули на борт. Четверо других цыган уже взялись за весла и быстрыми гребками унесли нас прочь от опасного берега, где упрямо возвышались стены и башни Дворца правосудия. При солнечном свете отсвечивали окна, словно насмехались над нами. И у них были на то все причины. Победоносно мы ворвались в темницу — и все же проиграли всю партию. Освобождение Марка Сенена не удалось, и нам предстояло оплакивать троих погибших. Каково было на душе Колетты? Наверно, она испытывала печаль и беспомощность при виде стен, которые цепко держали ее отца железными когтями. Я повернулся к ней и испугался. С закрытыми глазами она лежала, согнувшись, на коленях Вийона — неподвижно и, казалось, не дыша Стрела королевского стрелка торчала у нее в груди, грозя ее жизни.Глава 3 Двор чудес
Отчаяние накинуло на меня толстый платок, задушило мой рассудок и чувства. Словно окруженный стеной тумана, я слышал тяжелое дыхание рулевого, легкий шлепок при погружении весла и плеск воды о борт лодки. Лица моих спутников и египтян были только круглыми пятнами в сером однообразии бессмысленности. Я не испытывал ни малейшей радости, что убежал от королевских стражников — от смерти — в последний момент. Даже то, что напротив меня сидел мой отец, и он остался в живых, не волновало меня. Как я мог ликовать по поводу того, что после долгих поисков нашел свое прошлое, если я тут же потерял будущее? Мой бесцельно блуждающий взгляд успокоился, когда остановился на нежных чертах лица Колетты. Глаза ее были закрыты, казалось, что она спит мирным сном. Так можно было подумать, если бы не древко стрелы с зеленым опереньем, торчащее у нее из груди. А вокруг древка начало расплываться красное пятно. Напрасно я пытался утешить себя мыслью, что смерть для Колетты была бы спасением — ей больше не нужно будет печалиться о своем потерянном отце. Если Марк Сенен не выжил в темницах забвения, а все говорило об этом, они скоро увидели бы друг друга снова — сразу же, на небе христиан или катаров. Я не мог испытывать от этого никакого облегчения. Лишь теперь, слишком поздно, мне стало ясно, как сильны были мои чувства к Колетте. Пока я раздумывал, словно кинжал вонзился мне в сердце, когда я заметил легкое порхание век. В крайнем возбуждении я вскочил — так резко, что чуть не перевернул лодку. По крайней мере, я сам упал бы в воду, если бы оба итальянца не схватили меня и не потянули назад. — Она жива! — неоднократно крикнул я вне себя от радости. — Колетта жива! — Конечно, она жива, — сказал Вийон. — Но ее дыхание очень слабо, и она теряет много крови. Если она не получит скоро помощи, то она последует за Хардоином, Клементом и Туасоном. — Что это значит? — заворчал цыганский герцог, глядя на раскачивающуюся лодку, и бросил на меня гневный взгляд. — Вы что, с ума сошли? — Нет, он только глубоко обеспокоен и не меньше — влюблен, — объяснил Леонардо. Я почувствовал новую надежду и тут же большой страх снова потерять вновь приобретенную Колетту. — Мы должны что-то предпринять, ей нужен врач! — Сперва мы должны добраться до берега, — возразил Матиас, — прежде чем солдаты сядут в лодки и последуют за нами. К счастью, они больше не обращали внимания на мою дочь. На полоске берега между Дворцом правосудия и королевским садом были видны только лучники, которые между тем перестали пускать в нас свои стрелы и свинцовые пули. Капитан яростно пришпоривал своего вороного и орал какие-то приказы. Эсмеральда и ее люди скрылись, пока внимание солдат было направлено только на нас. Большая, тяжело груженая мешками и, соответственно, низко сидящая на воде баржа прошла между нами и западной стрелкой острова Сите. Солдаты больше не были видны, только башни Дворца возвышались позади грузового судна. Мы почти добрались до правого берега Сены и посмотрели вперед, где между разросшимися кустами появились две пестрые фигуры и делали нам знаки. Матиас тоже подал им знак: — Там Милош и Ярон. Они отвезут нас. С вытянутым, глухим царапаньем наша лодка врезалась в берег, и цыгане натянули ремни. Милош и Ярон помогли вытащить лодку на полоску берега. Я разглядел в кустах четырехколесную арбу с голубым парусиновым верхом. Обе запряженные лошади мирно жевали траву. Мы подняли раненую из лодки и перенесли ее как можно бережнее в повозку, которая пахла потом и чужеземными приправами. Сильным толчком ноги цыганский герцог столкнул лодку обратно в воду, где ее подхватило и унесло течением. — Большое спасибо — и приятного путешествия, кума-лодка! Он взобрался последним в повозку и задраил вход. Теперь свет едва падал через маленькие отверстия спереди и сзади. Милош и Ярон взобрались на козлы, их затылки упирались в отверстия спереди. Седовласый Милош схватил вожжи и, цокая языком, погнал лошадей. Цыганская повозка дернулась и тяжело покатилась по неровной земле берега. Нам пришлось крепко держаться, особенно оберегая Колетту, которая без сознания лежала на запятнанном ковре. Иначе мы были бы безжалостно сбиты в кучу. Пятно крови на платье девушки стало уже больше растопыренной ладони. Озабоченно я переводил взгляд с нее на Матиаса. — Мы должны ехать медленнее, Колетта не выдержит! — Она должна! Если Милош поедет медленнее, нас схватит этот капитан. Если он умен, то скачет сейчас по Мельничьему мосту к Шатле, чтобы позвать подмогу. Скоро всадники прево будут обыскивать берег, разыскивая нас. Снова я посмотрел на неподвижную Колетту и прошептал: — Тебя может спасти только чудо. Матиас бросил на меня трудно определяемый взгляд. — Если чудо происходит в Париже, то во Дворе чудес. — Что это должно значить, я узнал, когда кажущаяся вечно длящейся дорога вдруг все же закончилась. По знаку Матиаса один из цыган выскочил и открыл люк. Мы вошли в убежище — на плохо замощенную площадь, которая была окружена высокими стенами с разрушенными башнями. Между башнями лепились дома, один жалостнее другого. Там, где стекло еще уцелело в рамах, оно ослепло от столетней грязи. Некоторые здания имели больше дыр в крышах, чем проемов для окон и дверей. Еще более странными, чем само место, мне показались его жители. Цыгане, разбившие в углу лагерь, постоянно обзываемые грязным сбродом, были в сравнении с этими существами прямо таки прилично одетыми и такими чистыми, словно все относились к цеху банщиков и брадобреев. По ту сторону цыганского лагеря висели над большими кострами треножные котлы, о дымящемся содержании которых можно было лишь надеяться, что оно окажется более заманчивым, чем оборванные, исхудавшие парни, безучастно махающие поварешками. Пара мужчин, во всех отношениях мрачные ребята, с такими же грязными, сколь и хитрыми рожами, сидели в тени домов и вырезали деревянные ноги и клюки, словно им нужно было снабдить армию безногих. Кричащие дети, орда грязных воробьев, окружила белокурого парня в желто-красном платье скомороха, который с распростертыми руками и закутанной головой в наволочку осторожно шел по двору. Между зубами он зажал ножку табуретки, и пытался более или менее искусно балансировать ею, пока кошка, от злости или озорства, не прыгнула на сиденье табуретки и нарушила с таким трудом удерживаемое равновесие. Табуретка упала на землю и треснула. Напуганная кошка громко зашипела и отпрыгнула в сторону. Дети заликовали и согнулись, хохоча от злорадства, пока человек в желто-красном платье не устроил им нагоняй, поставив руки в боки. Когда он увидел нас, то замолчал и поспешил нам навстречу. Я узнал в нем бывшего писца и поэта мистерий Пьера Гренгуара. Его взгляд выискивал кого-то, скользя по нашей группе, и остановился на Матиасе. — Где вы оставили свою дочь, герцог? — Она придет, — это было всем, чем угодно, только не сердечным тоном, который можно ожидать от тестя. Хотя брачные узы, как мне выдала Эсмеральда, и были крайне условны, если даже не сомнительны, но они были герцогу не по душе. Или он не любил мужчин, которые охотнее считали дураками себя, нежели других. Матиас что-то шепнул одному подданному, и цыган побежал в свой лагерь. Герцог громко сказал: — Отнесем женщину в таверну. Там достаточно места, чтобы позаботиться о ней. Используя ковер как носилки, Леонардо, Томмазо и двое цыган отнесли находящуюся с обмороке Колетту. Я был рад, что больше не должен нести ее вместе с ними; мои руки дрожали от волнения. Вийон натянул платок на свою голову и закутал свое лицо. То ли он не хотел никого напугать своим видом мертвого лица, то ли не хотел быть узнанным — осталось для меня неясным. — Что это за место? — спросил я рядом стоящего герцога. — Двор чудес. Здесь хромой встанет на ноги, а слепой станет зрячим. Однорукий схватит двумя руками, и пятна проказы исчезнут в миг. Кто днем калека, здесь станет ночью мужчиной. Кто умирает при ярком свете, в темноте может здесь возродиться. Я был слишком взволнован и сбит с толку, чтобы понять поэтическое излияние цыгана. Мы остановились у лучше всех сохранившейся башни, и Гренгуар, который бежал впереди, открыл низкую дверь с выцветшей мазней: пятью бледными монетами и забитыми курицами с нацарапанным выше изречением «К черту курочек!» Когда я поинтересовался о его значении, пока мы поднимались по крутой лестнице, Матиас резко рассмеялся. — «Курочками» называют здесь королевских стражников и прочих шпиков. Пять солей платит король каждому, кто вспорет брюхо стражу порядка или шпиону. Это одна из причин, почему ни один такой сильный отряд королевского дозора не осмеливается вторгнуться в это место. — Вы же не говорите о нашем добром короле Людовике! — Конечно, нет. Король, которого я имею в виду, сидит там за кувшином вином с бабами, — он указал на мужчину крепкого телосложения, который сидел на скамье за одним из многочисленных заляпанных вином столов, держа в одной руке кувшин вина, который он опустошил без помощи стакана, другой обнимая рыжеволосую девку с оголенной грудью, которая тихонько гладила его волосы и ворковала с ним, как влюбленная голубка. Я узнал Клопена Труйльфу, короля нищих, — и теперь понял все. Двор чудес был приютом нищих, сердцем их тайного королевства, построенного на собственных законах и со своим собственным королем. Клопен Труйльфу небрежно отодвинул кувшин с вином и девицу с роскошными формами, напялил шляпу, которая была украшена кольцами и напоминала смастеренную для детской игры корону, на свои кудрявые волосы и поднялся, покачиваясь, что не подходило к его королевскому величию. — Ах, это вы, прекрасный герцог, — сказал он и рыгнул. — Уже думал, вы хотите оставить в беде своего короля и поделить один свою добычу. — Где мы были, не было добычи, чтобы унести, только смерть, — Матиас указал на Колетту. — Если малышке не помочь быстро, то она будет так же мертва, как и старая городская стена снаружи. Освободите для нее стол. Никто из толпы нищих не шевельнулся. Как вросшие в землю, мужчины и женщины сидели на скамьях и таращились на нас печальными сивушными глазами. Их король достал из-за пояса плеть с белыми ремнями, какую еще используют королевские стражники, и яростным ударом накинулся на свой инертный народ. Плеть затанцевала по столам и людям, раздирая кожу и разбивая кружки. Лишь когда полились кровь и вино, народ оборванцев зашевелился и освободил большой стол, на который положили Колетту на ковре. Клопен окинул женщину холодным взглядом и положил свою лапу на плечо цыганскому герцогу. — Скажите, действительно нечего было забрать в вашем приключении? Вы устроили переполох во Дворце правосудия, где находится сокровищница Франции. — Вы уже слышали об этом? — Матиас, казалось, совсем забыл, что он находился во Дворе чудес. Король гордо ударил себя в грудь. — Курочки из Шатле вылетают быстро. Но мои шпионы быстрее. Даже если я с удовольствием выпью слишком много из одного кувшина, или даже двух, я остаюсь все такой же лисой, которая поджидает в засаде курочек. — Даю вам слово, Клопен, мы и близко не подходили к сокровищнице. Дело изначально было слишком сложным даже для наших объединенных сил. Именно сначала нам следовало бы знать, что стрелки короля не поскупятся на железо и свинец. Посланный Матиасом к цыганскому лагерю гонец вернулся обратно вместе с существом, которое я лишь при втором взгляде признал как женщину — так сильно была старуха увешана золотом, серебром и жемчугом. Все ее шаги, как и каждое движение головы и рук, сопровождались мелодичным перезвоном и бряцанием. Она остановилась перед большим столом и пристально уставилась на Колетту. — Эту мне нужно вернуть к жизни? — Да, Шари, — сказал Матиас. — К кому она относится? Он указал на Вийона, итальянцев и меня: — К нашим друзьям. Шари обернулась к нам: — Что вы дадите за юную жизнь? — Вы хотите денег? — прошипел я. — Как вы сейчас можететорговаться, когда каждое дыхание дорого! Непоколебимо старуха возразила: — Как раз вы тот, кто торгуется, мой юный рай. — «Рай» означает на нашем языке «господин» и выражение почтения, — раздалось с крутой узкой лестницы, куда Эсмеральда привлекла взгляды всех. — Если эта женщина умрет, умрет также и жизнь в этом юном гадчо, Шари. Уважь его любовь и мою волю, помогая ей! Это звучало как приказ, и старуха, казалось, поняла так же. Она смиренно кивнула и сказала: — Принесите платки и воду, но все чистое! Тут же она достала различные баночки, которые прикреплялись к ее поясу на маленьких крючочках, и поставила их на скамейку перед столом Колетты. Когда пара женщин из таверны принесли платки и миску с водой, Шари потребовала, чтобы мы положили раненую на бок. Это было сделано, и старуха сломала древко стрелы на расстоянии в две ладони над окровавленной грудью Колетты. Та, казалось, ничего не почувствовала, словно она была ближе к смерти, нежели жизни. — Держите девушку крепко! — пробурчала Шари и посмотрела на Матиаса. — Хочешь ты это сделать, герцог? — Кто-то должен это сделать, если это должно быть сделано. Если я хочу принести жизнь, я должен видеть смерть, — с этими помпезными словами Матиас подошел к Колетте, которая лежала на правом боку, ее крепко держали я и итальянцы. Матиас вынул из своего пояса топор и ударил, после едва заметного колебания, тупым концом клинка. Он попал в обломленный конец древка и протолкнул стрелу дальше через тело, так, что сзади брызнула струя крови. — Быстро, гадчо, вытяни одним рывком! Это была Эсмеральда, и я знал, что она имела в виду меня. Я схватил один из платков, обвязал узел вокруг железного наконечника и потянул со всей силой. Это вывело меня из равновесия. Я упал спиной на землю и больно ударился затылком о деревянную скамью. Пара нищих захихикали. Это не задело меня — в руке я держал роковую стрелу! Когда я поднялся, Шари превратилась в танцующего дервиша. Ее руки летали вверх и вниз, пока она смазывала раны Колетты маслом и мазями из своих баночек и бутылочек, напевая монотонные заклинания, которые, если кто и мог понять, так только цыгане. Наконец, она утомленно замолчала и приказала наложить Колетте плотную повязку. Эсмеральда подошла и взяла это на себя. Она стянула перевязку так сильно, что я испугался, как бы она не сломала ребра Колетте или же не сдавила бы дыхания. Молодая цыганка заметила мой напуганный взгляд. — Я знаю, что делаю, гадчо. Уже много раз я перевязывала моего отца, и он до сих пор жив, как вы видите. Когда она и Шари закончили, Колетта не подавала никаких признаков жизни. Только когда я совсем пристально смотрел, то я различал, как легко поднимается и опускается ее нежная грудь и мелко дрожат крылья носа. — Она спит сном, в котором переходит через гору решения, — сказала Шари. — Если она поднимется на одну сторону, то путь отведет ее в царство мертвых. На другой стороне она найдет жизнь. — Когда… — закашлял я и осекся, так и не закончив вопрос. — Вы узнаете об этом, рай, если она откроет глаза, — Шари собрала свои снадобья и засунула их снова за пояс. Прежде чем старуха покинула таверну, она бросила последний взгляд на пациентку. — Оставьте ее здесь, пока не наступит момент решения. Ей нужен покой: Клопен ударил плетью: — Вы слышали это, покончить с пьянством! Заработайте лучше пару грошей. Идите на улицы, протяните руки и ноги, станьте слепыми и глухими и по возможности — богатыми! Только против воли нищие выбрались из сумрачного подвала на дневной свет. Близкое вино было им милее, чем неизвестная перспектива на туго набитый кошелек. Когда их король ушел, он зажал под мышкой винный бурдюк и притянул к себе свою рыжеволосую подругу. — Мы теперь не можем ничего больше сделать для девушки, — сказал цыганский герцог и попросил нас следовать за ним в его лагерь. Двое из его людей остались со спящей, с которой я расстался с тяжелым сердцем.Глава 4 Предатель
Телеги и арбы, которые служили как транспортом, так и местом для сна, выстроились полукругом у старой городской стены и отделили лагерь цыган от остальной части Двора чудес У одних навесы были затянуты тентом, у других сделаны из досок. Проходя по оборонительным укреплениям, я заметил пару вооруженных людей, которые дремали, как бы безучастно прислонившись к повозкам. Но оказалось, что их глаза открыты, чего меньше всего можно было ожидать при стольрасслабленных позах. Их взгляды следили за каждым нашим движением и воспринимали незаметные жесты герцога как немые приказы. Вийон, оба итальянца и я не были опасны, поэтому часовые снова приняли расслабленное положение, пожевывая соломинки и позевывая — больно приятным был день. Движением руки Вийон указал на часовых. — Вы, похоже, не доверяете королю нищих, вашему союзнику, герцог. — Я доверяю ему, так же как он — мне. Ставка в нашей игре слишком высока, чтобы допустить любую оплошность. Кроме того, королевским стражникам может прийти в голову больше не церемониться с убежищем. Ужасное рычание раздалось по всему лагерю и заставило нас оцепенеть. Позади пестрой палатки возникло огромное существо, которое ходило на двух ногах и все же выглядело иначе, чем человек. Медведь, минимум на две головы выше чем рослый мужчина, пошел в нашу сторону на своих коротких, по сравнению с остальным мощным телом, ногах. Железное кольцо с цепью висело на его шее, словно медведь только что вырвался из темницы забвения. Никто не держал крепко цепь, и я не чувствовал себя способным на такое. Мы все посторонились перед бестией, которая издавала глухое рычание и, проходя мимо, задела тяжелый четырехколесный фургон, который стал сильно раскачиваться во все стороны. Медведь стоял прямо перед нами, обдавая нас облаком гнилого дыхания. Непроизвольно я схватился за кинжал, который мне дал Леонардо. Карликовая фигура с телом ребенка и морщинистым лицом старого мужчины проворно, как ласка, метнулась к медведю, поймала болтающуюся цепь и всем своим весом повисла на ней. Я ожидал удара лапой, который отбросит коротышку, словно оторванный бурей лист, но медведь без сопротивления позволил поставить себя на четыре лапы и, похоже, даже испытывал страх перед этим карапузом. Последний усмирил медведя знакомым приемом на цыганском наречии и обратился к нам, когда зверь уже не рыпался: — Простите эту неприятность. Рыба, которой я хотел накормить Золтана, оказалась немного протухшей, вот почему он вырвался от меня. — Тогда это твоя ошибка, что ты дал ему убежать, Рудко, — возразил Матиас. — Все равно, Золтану следует знать, как нужно себя вести. Если он еще раз испугает наших гостей, я сделаю из его шкуры теплую шубу для Эсмеральды, а из его жира — горючее для наших ламп! — Да, герцог, да я скажу ему, — Рудко потянул цепь, и большой медведь послушно потопал за ним. — Рудко легко находит общий язык с животными, — сказала Эсмеральда. — Он даже дрессировал мою козу Джали. Матиас подвел нас к большой телеге с. ярко раскрашенным дощатым строением, которая стояла относительно свободно от других повозок по середине цыганского лагеря. Я тут же отгадал, что это было его прибежище. Эсмеральда поднялась первой по узкой лестнице и открыла низкую дверь. — Заходите, мой союзник, — сказал Матиас Вийону. — Нам нужно покумекать кое о чем важном и непростом. Когда я захотел последовать за Вийоном, рука герцога преградила мне путь. — Это дело с глазу на глаз. — Но она будет присутствовать, — сказал Вийон, указывая взглядом на Эсмеральду. Матиас кивнул: — Она моя дочь. Вийон показал на меня: — А он — мой сын. Теплое чувство, смесь гордости и склонности охватило мной при этих словах. — О, — произнес лишь герцог, пропуская меня. — Возможно, это хорошо, что ваш сын примет участие в совете. Вийон взглянул на итальянцев. — Томмазо, вы раздобудете пару одеял и принесете их Колетте. Вы, Леонардо, идите в фургон, — когда он перехватил удивленный взгляд цыгана, то добавил: — Леонардо имеет не меньше прав, чем Арман, к тому же у него умная голова. Слова смутили меня, и я спрашивал себя, переходил ли Вийон Альпы во время своих ранних странствий. С другой стороны, Леонардо сам рассказывал мне, что его отец был итальянским нотариусом. Матиас захлопнул за нами дверь; Эсмеральда зажгла одиноко тлеющим фитилем пару ламп, которые осветили мягким светом внутреннее убранство фургона, дорогие, украшенные узорами ковры и занавесы. Мы сели на скамьи, укрытые толстыми платками вокруг узкого стола. Цыганка налила фиолетовое переливающееся вино в стеклянные кубки и села рядом с отцом. Герцог поднял бокал. — In vino Veritas — говорили римляне. Возможно, и нам хороший глоток поможет отыскать истину или.хотя бы чуточку приблизиться к ней. Он выпил, и мы последовали его примеру. Вкус вина был, как и его цвет — необычен, но очень приятен. Вино щекотало гортань и язык, не раздражая их мягкой, но настойчивой смесью чужеземных пряностей. Теплое, приятное чувство разлилось у меня в животе, во всем моем теле, не делая меня сонным. Мы говорили о неудавшемся приступе, и Вийон горько сказал: — План был хорош, и дело выгорело бы, если бы нас не предали. — Почему вы думаете про предательство? — спросил Матиас. — Дворец правосудия всегда хорошо охраняется — уже из-за самой сокровищницы. Но весь отряд королевских стрелков из арбалетов явно не несет постоянный караул в темнице. Они поджидали нас. Это подтверждают и солдаты у реки. В конечном итоге, это все — звенья одной цепи. — Никак не меньше, — подтвердила Эсмеральда — Они так злобно преследовали вас, что у нас появились серьезные трудности, чтобы убежать. С мрачным лицом Матиас достал кинжал с загнутой рукоятью и длинным, узким клинком. Он взмахнул клинком над столом. — Если в игре было предательство, то предатель должен быть на вашей стороне, Вийон. — Храброе подозрение, — возразил тот невозмутимо. — Когда мы разрабатывали план, ваши люди также были среди моих. — Но я могу доверять своим людям! — Как и я — своим. — Возможно, предатель вовсе не знает, что он таков, — вставил слово Леонардо. — Кто-то мог случайно выдать план. Синьор Арман, вы были сегодня утром в Шатле. Делали ли вы какие-нибудь необдуманные высказывания при этом Фальконе? Вам они могли показаться незначительными, но не сомневайтесь, сицилийцы — тертые калачи. — Я ничего не выдавал. Мы говорили о борьбе на Мельничьем мосту. Я не упомянул никого из здесь присутствующих. Кончик кинжала уставился в меня, и герцог прорычал: — Тогда за вами просто был хвост от Дворца правосудия! — Определенно нет, я сделал не один круг, чтобы оторваться от всякого предполагаемого преследователя. — Кто поручится за то, что вы не предатель, пусть даже невольный? — Я! — сказал Вийон. — Ах, и почему же? — Матиас наклонил голову и уставился на него. — Потому что вы хотите защитить своего сына? — Нет, потому что это необходимо. Арман пришел лишь около полудня во Дворец правосудия, и лишь спустя короткое время мы уже вошли в Консьержери. Ловушки были приготовлены заранее. Вероятный преследователь никогда бы не смог так быстро созвать роту солдат и привести на место. Королевские стрелки ждали нас, пришли раньше задолго до нас. Матиас наморщил лоб, почесал левой рукой бороду и убрал кинжал. — Хм, здесь что-то есть. Тогда мы так хитры, как никогда прежде, а именно — вовсе не хитры. Что еще хуже, нет ни какой возможности выследить предателя. — Нет! — крикнула Эсмеральда к нашему всеобщему удивлению. — Я расспрошу капитана лучников, кто поднял по тревоге солдат. — Почему ты считаешь, что тебе это удастся, дочь? — Тебе не следует недооценивать мою власть над мужчинами, отец. — Я этого и не делаю, но капитана королевских лучников не так легко обольстить. — Этого — да, во всяком случае — мне. Он уже превращался в огонь и пламя, когда спасал меня от горбуна Его имя Феб де Шатопер, и он наверняка будет счастлив снова увидеть меня. Теперь я знал, почему мне показался знакомым расфранченный офицер. — Он не узнал тебя на плоту? — с сомнением спросил Матиас. — Едва ли. Он был всецело занят, отдавая команды своим людям. — Тогда попытка стоит того, — признал герцог. — Пока мы не знаем предателя, мы подвергаемся опасности, что все наши планы обречены. Если мы будет знать его, то у нас будет преимущество, у мы тоже подсадим блоху в шубу врага, — он сделал глоток и посмотрел на меня поверх края бокала. Эсмеральда подперла рукой подбородок и тоже посмотрела на меня. — Для гадчо может оказаться опасным возвращаться в Собор, прежде всего — после произошедшего сегодня. Отцу Фролло известно о его допросе в Шатле, и возможно, кто-то узнал его во время приключений в Консьержери. Как может быть опасен архидьякон, я поняла на собственной шкуре, когда он и его горбатый помощник преследовали меня. — И все же вы дали Квазимодо пить, — сказал я. — Он тут ни при чем. Звонарь, как слуга, делает то, что ему приказал его хозяин. Кроме того, никогда не помешает иметь друзей в рядах врагов. Я выпрямился, чтобы придать своим словам больший вес. — Такой друг и я. Может быть, отец Фролло подозревает меня и играет со мной. Я же предупрежден и готов к этому. Если я не вернусь обратно в Собор, то стану ненужным, пешкой, которая вышла из игры. И именно этого я и не хотел. Почему? Я не мог бы утверждать к своей чести, что принял судьбу мира близко к сердцу. Скорее, это было внутреннее стремление — дело, которое касалось меня и моего отца. И Колетты. Я хотел ей помочь, хотел быть рядом с ней. — Смелое решение, Арман, — сказал Вийон. — Но будь осторожен. Мы так и не знаем ни предателя, ни жнеца, ни не таинственного стрелка. — Что за стрелок? — спросил Матиас, и я рассказал ему о своем таинственном спасителе. — Похоже, он на нашей стороне, — заметил герцог. — Действительно? — Вийон был полон сомнений. — Сперва я думал, что он — один из вас, египтян, но это оказалось заблуждением. Дреговитом он вряд ли будет, и «братом раковины» — тоже. — Возможно, он относится к королевским стрелкам, — предположила Эсмеральда. — Стрелки выпустили сегодня стрелы с зеленым оперением, — я знал это точно, вид раненной Колетты так горестно отпечатался в моей памяти. — Стрелы моего невидимого помощника были украшены синими перьями. — Может быть, он относится к другой роте, — сказала египтянка, хотя и сама поняла, что это не более чем предположение. — Как раз это, возможно, и выдаст мне капитан Феб. Мы закончили наше совещание. Вийон должен был вернуться к своим людям и сообщить им печальную новость о смерти троих братьев. И мне было уже пора засесть за книги в моей келье, прежде чем отец Фролло удивится, что я так долго делаю в Шатле. Если он удивится.Глава 5 Кум Туранжо
Оставшийся день, как и весь следующий я провел в горячечном напряжении. Виной тому было отсутствие вестей о состоянии Колетты, о том, будет ли она вообще жить. Не раз я должен был буквально сдерживать себя, чтобы не броситься бежать во Двор чудес. Но я твердо обещал Вийону до вечера следующего дня изображать последовательного и прилежного писца, чтобы не заронить подозрений у Фролло. Вопреки ожиданиям, я не виделся лично с моим патроном. Наконец, солнце во второй раз собралось потушить свое пламя в потоке Сены. Я стоял на галерее между башнями и смотрел, как река постепенно поглощала огонь. Красный огонь расплывался в иногда серой, иногда зеленой, а порой голубой переливающейся воде, — чтобы в итоге забрать все цвета, освобождая поле для ночного мира теней. Представление, будничное и не особенно волнующее, потому что на следующее утро солнце с новой силой вернет свет и цвета. Но как будут обстоять дела, если дреговиты уже нашли солнечный камень? В мире воцарится вечный свет или вечная тьма? — Не высовывайтесь слишком далеко, месье Арман, вы можете упасть вниз. И ради чего? Заход солнца вы все равно не сумеете задержать! Голос отца Фролло ударил меня, словно обухом по голове. Я сжался, и действительно, чуть было не потерял на долю секунды равновесие. Когда я обернулся, меня ожидал еще больший ужас. Архидьякон, явно на пути в свою колдовскую кухню, был не один. Рядом с ним стояли двое других мужчин, чьи лица были скрыты полями шляп. Я почувствовал себя, как в первый вечер здесь, наверху, когда повстречал отца Фролло в сопровождении Жака Шармолю и Жиля Годена. Был ли это момент, когда нотариус ложно обвинил меня в убийстве? — Клянусь Богоматерью, вы так бледны! — сказал Фролло и подошел ближе с двумя другими. — Вам нездоровится? Или вчерашний ужас не выходит у вас из головы? Теперь гаснущий свет солнца упал на три лица, и с облегчением я установил, что не знаю спутников Фролло. Но его слова были поводом для нового беспокойства. — Что Вы имеете в виду, отец? — Трупы, которые месье Фальконе показывал вам, только потому, что вы случайно оказались на Мельничьем мосту. Я случайно услышал об этом. Покойницкая может испортить настроение одним упоминанием о ней, не так ли? — Вам она знакома? — Я посещал ее как-то в учебных целях вместе с господином доктором Куактье, личным врачом Его Величества короля. При этом Фролло указал на одного из обоих мужчин, которому было около пятидесяти лет и чье лицо не знало улыбки. Он был одет, как и его спутник, в длиннополый темно-серый, отороченный беличьим мехом плащ и шляпу из того же материала. Фролло представил меня как прилежного писца и потом перешел ко второму спутнику: — Это… — Зовите меня просто кум Туранжо, — сказал незнакомец и очень кратко поклонился. — Я только смиренный ученик перед лицом благородных искусств, которыми обладает магистр Клод. Он был самым старшим среди троих — хворающий старец, возможно, шестидесяти лет. Хотя он был среднего роста, но казался ниже, потому что подагра совсем его скрючила. Серое лицо с заострившимся и торчащим вперед носом покрывали морщины, и, похоже, с возрастом оно утратило когда-то четкие контуры. Все же во властных чертах его лица и его голосе скрывалась большая сила, и лишь внешнее добродушие, похоже, таило остроту и строгость. Под высоким лбом мыслителя горели из глубоких глазниц бодрые глаза, от которых ничто не ускользало. Когда изучающий взгляд остановился на мне, у меня мурашки побежали по коже. Появилось ощущение, что я предстал перед судом или перед врачом, который должен выбирать между жизнью и смертью. — Солнце отдыхает в тени ночи, — сказал Фролло. — И вам отдых тоже пойдет на пользу, Арман. Идите в кабак и выпейте крепкого вина, это придаст вам румянец и крепкий сон, — он сунул пару солей мне в руку и пожелал доброй ночи. Потом удалился с Куактье и Туранжо в самый удаленный угол в северной башне. Одно мгновение я попытался пробраться за ними и подслушать. Личный врач короля! В келье Фролло могли происходить только важные совещания или — возможно еще важнее, тайные эксперименты, опыты в герметических искусствах. Я отказался от этой идеи. Опасность обнаружения была слишком велика, после того, как Фролло повстречал меня здесь, наверху. Я решил воспользоваться случаем, чтобы отправиться в Тампль. Архидьякон был занят и потому не в состоянии преследовать меня. С вечерними сумерками наступил холод. Я застегнул свое платье, когда стоял между разрушенными домами и спрашивал себя, где находиться вход в подземное убежище Вийона. Вдруг из тьмы вынырнули тени, прыгнули на меня и повалили на землю. Грубые руки зажали мне рот, словно они хотели меня задушить. — Ни звука, или мы продырявим твою шею! Упершееся в шею острие клинка придало произнесенной шепотом угрозе большую убедительность. Я раскрыл глаза и уставился на парней, которые напали на меня. Здоровые детины с мечами, кинжалами и топорами. У одного из них даже был шестопёр[873], словно он находился на турнирной площадке. Банда разбойников, — мелькнуло у меня в голове, — или даже убийц? — Это он, молодой господин! — сказал мужчина с шестопёром. — Да отпустите же его! Это пришлось мне по душе, и я был не только успокоен, но и приятно удивлен, когда один из молодцов помог мне подняться. — Простите, мессир, в темноте мы не узнали вас сразу. Вы не ушиблись? — Н-нет, — ответил я, сбитый с толку неожиданной приветливостью. Лишь только потом ко мне пришло сознание, что те, кого я ищу, нашли меня. — Чудесно, — продолжил предводитель этого странного ночного дозора. — Филеберт проведет вас. Филебертом оказался тот воин с шестопёром. Он провел меня по подземному лабиринту и проводил в комнату, где Вийон сидел с итальянцами за свежим пшеничным хлебом и луковым супом. — Ах, а мы уже ждали вас, Арман, — крикнул Вийон и приказал Филеберту принести для меня тарелку и ложку. — Вы выглядите несколько помятым. — Ваш месье Филеберт и его товарищи немного помяли меня, безбожно поваляв в грязи. — Мы должны быть особенно осторожны, пока мы не знаем, кто предатель и что он знает о нашем пристанище. Ну, теперь Арман, что привело вас… — Как здоровье Колетты? — вырвалось у меня. Я бы предпочел перебить его, даже если от этого зависела судьба мира. — Колетта проснулась где-то в полдень. Она еще долго не встанет, но избежала смерти. — Мне нужно к ней, — промямлил я, охваченный счастьем. — Я должен видеть ее! — Возможно, попозже, Арман, — Вийон указал на скамью, на которой он сидел. — Сейчас присядьте, поешьте и поговорите с нами. Дочь Марка Сенена нуждается в покое, а вы сможете обдумать каждое слово, которое вы скажите Колетте. Я не спеша сел и спросил Вийона, как это следует понимать. — О Сенене есть нерадостная новость. Мои шпионы доложили, что вчера вечером из Дворца правосудия выехало несколько фургонов. Вероятно, они увезли Сенена. — Зачем же потребовалось несколько фургонов? — Таким образом дреговиты хотели замести свои следы, и это им, к сожалению, удалось. Приступ кашля затряс Вийона. Он согнулся, выплюнул суп и кровь на весь стол. Его истощенное тело, видимо, отказывалось принимать пищу, словно каждая ложка супа была чистым мотовством для приговоренного к смерти. У меня закололо сердце. Был порыв вскочить, чтобы помочь отцу. Но что я должен был сделать? Наконец, он снова пришел в себя и сказал: — Вчерашнее купание не пошло мне на пользу. Хотя бы у вас, Арман, есть что-нибудь радостного рассказать? Я поставил красного деревянного дракона на стол. — Вы хотели видеть предсмертный подарок мэтра Аврилло. — Оуроборос, — с благоговением сказал Вийон и повернул фигурку, чтобы рассмотреть ее со всех сторон в свете масляной лампы. — Какое послание хотел нам передать Аврилло? — Возможно, этот drago есть в Соборе? — предположил Аталанте, раненая нога которого была забинтована. — Я уже встречал там самые разные странные вещи, но не дракона, — возразил я. — Я имею в виду изображение drago. Вийон кивнул, соглашаясь. — Может быть, хорошая мысль. Скульптура или изображение с этим оуроборосом могла бы скрывать солнечный камень или, по крайней мере, указание на его тайник. Я рассказывал Аврилло о вас, Арман, он должен был присмотреть за вами. Когда он увидел вас в свой смертный час, он знал, что его последняя просьба будет передана мне вами. Но где в Соборе изображен такой оуроборос? Когда никто не смог припомнить о подобном изображении, король «братьев раковины» сказал: — Леонардо, принесите ваши рисунки Собора. Возможно, мы найдем там дракона! Леонардо покачал головой и постучал по голове: — У меня все здесь. То, что я когда-либо рисовал, я никогда не забуду. Этого оуробороса там точно нет. — Вероятно, тайник в Соборе, — предложил Томмасо. — Осмотритесь внимательно в Соборе, — сказал Вийон мне. — Я могу послать своих шпионов в Собор, могу велеть Леонардо нарисовать каждую скульптуру и каждую картину, но вы, Арман, можете, как писец архидьякона, посмотреть еще и на башнях, куда мы не можем проникнуть. Я пообещал сделать все возможное. — Это хорошо, — закашлял Вийон. — Мы должны, наконец, продвинуться хоть на шаг, особенно после неудачи с Марком Сененом. — Он действительно пленник дреговитов? — спросил Леонардо. — Нападение королевских стрелков и обстоятельство, что многие фургоны были использованы, чтобы его провести, указывают на нечто другое. Король Людовик известен тем, что он запирает ему неугодных. Говорят, в Бастилии его враги сидят в железных клетках, как птицы. — Дреговиты имеют большое влияние даже в непосредственном окружении короля, — вздохнул Вийон. — Даже если все выглядит похоже на указ Людовика, за всем могут скрываться дреговиты. — То, что вам говорит о влиянии дреговитов, верно. Похоже, даже королевский врач связан с ними. Я рассказал о моей встрече на галерее башни. Вийон насторожился. — Жак Куактье, старая лиса, он известен тем, что обирает суеверного и обеспокоенного своим здоровьем короля, как только можно. И Людовик, который настолько хитер, что его даже называют Всемирным Пауком, позволяет выуживать у себя золото и титулы за всякое якобы чудодейственное средство. Куактье удалось даже, чтобы его племянник Пьер Берсе получил должность епископа в Амьене. Вполне может статься, что Куактье — посредник между королем и дреговитами. — Великий магистр? — спросил я и вспомнил с ужасом о собрании тамплиеров. Вийон был погружен в глубокое размышление, но вопрос мой расслышал и сказал наконец: — Да, великий магистр! Чем дольше я размышляю, тем более вероятным это кажется мне. Он обладает влиянием, властью, возможностями и необходимой хитростью. Я велю следить за великолепным особняком, который он построил себе на деньги короля на улице Сент-Андре-дез-Арк. Хорошо, что у нас есть Арман в Соборе. Все действительно сходится! — он сжал правую руку в кулак и ударил с громким хлопком о левую. С интересом я наклонился вперед. — Что Вы еще знаете о Куактье? — Он не только личный врач короля, но и одновременно — королевский советник, что не умаляет его влияния на Людовика. И он — начальник Марка Сенена. Семь лет назад Куактье был еще обычным писарем в казначейской палате, но благодаря покровительству Людовика быстро стал вице-президентом, и с прошлой осени он — первый президент палаты, но освобожденный от утомительного долга вести ведомственные дела. Кроме того, милый доктор входит в состав правительства Дворца правосудия и Консьержери. Мы все сошлись на том, что нашли таинственного великого магистра дреговитов. Вийон велел принести кувшин благородного морийона, чтобы отметить приятный успех, как он это назвал. Во время этого серьезного обсуждения сложилось почти дружеское, радостное настроение. Только Леонардо оставался замкнутым. Он поставил локти на стол и подпер свою светлую голову с локонами обеими руками и пренебрег сладко пахнущим морийоном. Наконец Томмазо спросил своего товарища, не зарекся ли он пить вино. Леонардо, казалось, лишь сейчас заметил глиняный стакан с красно-черным содержимым, пригубил его и сказал: — Я все время думаю, кто был тем другим парнем, которого видел наш друг Арман у Фролло. — Я же сказал, он назвался кумом Туранжо. — Глаза Леонардо сверкнули. — Совершенно верно, он назвал себя так. Но каково его настоящее имя? Вы сами, Арман, указали, что заметили в этом человеке что-то странное. — Он вел себя скромно, почти раболепно, но мне он показался волком, притворяющимся овчаркой. Интерес Вийона пробудился, и он попросил меня описать точно этого Туранжо. Внимательно он прислушивался к моим словам, потом послал Леонардо принести лист бумаги и уголь. По моим описаниям Леонардо нарисовал человека, и я поразился, как точно он уловил его черты, не видя его ни разу. — О, я видел его на празднике Трех волхвов, когда он принимал фламандское посольство. И по этому воспоминанию я нарисовал его, — Леонардо указал на изображение вымазанным углем пальцем. — Вот это правитель Франции, наш добрый король Людовик, Всемирный Паук. Вийон ударил себя по лбу, словно он осознал только что свою глупость. — Леонардо прав, это король. Мне следовало бы догадаться раньше, уже когда Арманд упомянул это имя. Кум Туранжо, не смешите меня! Так называют каждого жителя Турени[874] или города Тур. И кто самый известный человек, который там живет? — Людовик Одиннадцатый, — сказал Леонардо. — С прошлого года он похоронил себя в своем замке возле Плесси-де-Тур, словно вдруг испугался всего мира, — продолжал Вийон. — Никто не знает точной причины. Это значит, он боится скорой смерти и сделал свой замок самой неприступной крепостью во Франции. Словно там можно помешать смерти! — Большой паук попался в свои собственные сети, — заметил Леонардо. — Кто так долго и так обширно правит всем, как Людовик, считает себя бессмертным. Возможно, он именно бессмертие ищет у отца Фролло, повелителя черной магии. Я с недоверием уставился на итальянца. — Вы верите, что король поступил на службу к дреговитам? — Мы должны все принимать в расчет. — Возможно, Людовик не знает, какую мрачную игру затеял Фролло, — сказал Вийон. — Власть Куактье над королем может быть так велика, что он рассказывает ему небылицы. Тогда бы король находился под влиянием дреговитов, сам того не подозревая. Это мы должны выяснить, — он отдал мне назад деревянного дракона. — Сохраните завещание целестинца, Арман, и сообщите мне тут же, если вы обнаружите этого дракона в Соборе. Дела принимают другой оборот, в этом нет никакого сомнения. Скоро будет принято решение, и оно может зависеть от вас. Возможно, вы будьте самой важной фигурой в этой партии!Глава 6 Любовь и смерть
В кривых улочках снова отражался шум Двора чудес, который лишь с наступлением сумерек пробудился к настоящей жизни. Костры в лагере бросали свой трепещущий свет на остатки старой, давно слишком узкой городской стены. Мы слышали пение и окрики, еще раньше, чем ступили во дворец нищих и висельников, где копошилось великое множество человеческих и человекоподобных существ под освещенным луной небосводом. Едва мы ступили на неровный грязный тротуар прибежища, как нас тут же окружила толпа калек, и Двор чудес доказал справедливость своего названия. Горбатые и кривые тела распрямились. В печальных глазах засверкал одинаковый огонек. Руки вылезли из пустых рукавов и направили на нас острые клинки. Ноги выросли из штанин, а костыли превратились в угрожающе поднявшиеся дубины. Мой спутник распахнул свой плащ и показал раковину пилигрима, которая были пришита к внутренней бархатной отделке. Нищий сброд признал знак кокийяров и посторонился. Разочарование отразилось на жадных, разрисованных под сыпь мордах. Я хотел было направиться к башне с несколькими освещенными окнами, внизу которой находился в полуподвале кабак, откуда во двор доносилось пение пьяных голосов вперемешку с ясным звоном оловянных стаканов. Но Леонардо повел меня в другом направлении, к лагерю цыган. — Колетта находится под опекой герцога Нищие набросились бы на своего короля, если бы тот еще дольше отказывал им в этом кабаке. Клопен Труйльфу не лучше, чем ваш новый знакомый Людовик. Какой король, запрещающий своим солдатам пьянство и проституток, долго удержит свою корону? Цыгане тоже прогоняли духов ночи музыкой и пением, но вооруженные часовые по границе стана из фургонов внимательно следили за нищими. Они мрачно уставились на нас, и в свете костров клинки их оружия засверкали кровавым блеском. В подземном убежище Вийона я видел дерущихся иноземных мужчин отчасти неизвестным оружием, храбрых и послушных, не задумывающихся о своей жизни. Они, похоже, знали все способы убийства своего противника — молниеносно или бесконечно долго, милостиво или мучительно. Теперь я был очень рад, что Вийон дал мне в попутчики Леонардо. Часовые узнали нас и пропустили. — Зачем искать себе союзника, чтобы потом постоянно не доверять ему и следить за ним пуще, чем за самым лютым врагом? — спросил я шепотом, чтобы цыгане — или египтяне, или как им угодно себя называть, не поняли меня. — Потому что на него надеются, — Леонардо указал на круг, где подданные Матиаса Хунгади Спикали предавались своим вечерним делами, где закутанные в пестрые шали женщины готовили еду и истошно вопили дети, чернобородые мужчины с кольцами в ушах чинили фургоны или оружие. — С тех пор как Матиас два года назад провел свой народ через ворота Жибар Париж, число его людей удивительно выросло. Все больше цыганских таборов просочилось в город, и армия герцога усилилась, и все же его военная сила гораздо меньше в сравнении с сотнями и сотнями нищих, которых сможет поднять в случае крайней опасности ветреный Клопен. Поэтому неудивительно, что Матиас сделал короля нищих своим кровным братом. — Кем? — Матиас и Клопен стали братьями по крови, по старинному священному ритуалу цыган, который связывает обоих мужчин как братьев. При этом каждый делает надрез другому на правом указательном пальце в виде креста рано утром натощак. Этот палец он засовывает другому в рот, который должен выпить эту кровь. Таким образом, счастье и несчастье обоих навечно связано друг с другом, и каждый должен помогать другому. Я представил себе, какова на вкус чужая кровь на моем языке, и сплюнул. — Милое братство, при котором один так недоверчиво приглядывает за другим! — Авель жил бы дольше, если бы он недоверчиво смотрел на своего брата Каина. Но тише, вот идет один из них, по крайней мере, я не знаю, Каин он или Авель. В сопровождении Милоша и Ярона к нам вышел герцог Египта и Богемии. Отсвет костра окрасил его обычно желтую кожу в кирпичный цвет, как старый пергамент, который стал тонким и разъехался от бесчисленных разрывов. Ужасно старым и усталым он показался мне на этот раз, словно уже попробовал перед Эоном, но так и не испытал вкус воздействия эликсира жизни, который так отчаянно искали алхимики как Ной в свое время кусочек суши, плывя в своем ковчеге. Вечная жизнь не могла принести человеку больше ничего, так что теперь он рассматривал смерть как милость? Леонардо засвидетельствовал ему свое почтение и почтение магистра Вийона. Матиас вытянул голову как птица, ищущая добычу. — Есть ли у вас новости для меня? — Нет, — сказал Леонардо быстро, прежде чем я сумел упомянуть о моей встрече со странным кумом Туранжо. — Мы еще не знаем, куда отвезли Марка Сенена. — Зачем тогда Вийон направляет ко мне своих послов? Леонардо улыбнулся и бросил на меня косой взгляд. — Потому что один из послов особенно привязан к дочери Сенена. Пара крошечных морщин еще больше запала среди других складок на лице герцога и выдала его оживление. — Девушка потихонечку поправляется. Пойдемте! Пока Матиас вел нас к одному из стоящих в стороне фургонов, я спросил себя, ради одной ли заботы он взял к себе Колетту в лагерь. Пожалуй, едва ли, если он доверяет своему союзнику Вийону не больше, чем королю нищих. И так же Леонардо, похоже, не доверял цыгану, иначе он бы не умолчал о моей встрече с королем и его лекарем. Чем дольше я думал о запутанной шахматной партии, тем больше мне становилось ясно, что Колетта для Матиаса не только опекаемая, но и заложница. Марк Сенен мог быть ключом к дреговитам, к тайне солнечного камня, и Колетта была, возможно, ключом к ее отцу. Таким образом, она была не больше, чем пешкой в большой игре, имеющей значение только пока Fie исполнит свою роль. А после ею могут и пожертвовать. Эта мысль заставила сильно биться мое сердце. Колетта лежала на матраце из соломы одна внутри фургона. Сильный запах, сладкий и терпкий одновременно, защекотал у меня в носу. Он шел из наполненной водой глиняной мисочки, которая стояла на бронзовом треножнике над свечой. Матиас заметил мой вопросительный взгляд и объяснил: — Шари насыпала в воду травы, которые способствуют выздоровлению. Колета, видимо, спала сном идущего на поправку, — как я надеялся. Ее грудь тихо вздымалась и опускалась, закрытые веки дрожали едва заметно, как травы при легком ветерке. Переполненный чувством заботы, я рассмотрел ее опавшее, бледное лицо. Если бы мне не сообщили других вестей, я бы никогда не поверил в улучшение ее состояния. — Когда она просыпается, то всегда спрашивает об отце, всякий раз, — заявил герцог. — Ответ не понравится ей. Было бы лучше для ее здоровья, если бы Сенен нашел поскорее новую тюрьму. Старый лис говорил с глубоким сочувствием, и все же он использовал Колетту как оружие, как средство давления. Это рассердило меня, и охотнее всего я бы вцепился ему в глотку. Леонардо наклонился над Колеттой, пощупал пульс, послушал ее дыхание и стук сердца. — Что вы делаете? — я спросил, несколько возмущенный этими вольностями. — Вы врач? — О том, что происходит в человеческом теле, я знаю наверняка гораздо больше, чем любой врач. Вас явно обрадует, что Колетта спит здоровым сном. — Если вы так много понимаете в медицине, то почему вы вчера не позаботились сами о Колетте и передали эту работу Шари? — Если хотят преуспеть в искусстве, то всегда хорошо наблюдать других мастеров за работой. Особенно в научных искусствах. Это звучало, словно выздоровление Колетты было для него не потребностью, словно он не видел в ней ничего, кроме одного из трупов, которые он разрезал в той ужасной подземной комнате. С гневом я спросил: — Вы все делаете ради науки, не так ли? — Скажем, многое. Только благодаря прогрессу в науке можно победить нужду человека, пока она еще существует на земле. — Прогресс ничего не стоит, — начал я. — Если он вредит человеку, его надо проклясть. — Из того, что вредит одному, другие могут извлечь пользу. Должно ли это быть оправданием тому, что Леонардо чуть было не дал умереть Колетте? Я не дошел до того, чтобы заявить ему о своем презрении. Наш разговор, видимо, прогнал дух сна Колетта беспокойно заворочалась, подняла руки и вскрикнула: — Нет, оставьте меня! Пожалуйста, пожалуйста, не делайте со мной ничего! Не… Крик превратился в плач, слезы текли из закрытых глаз. Она все еще спала, и ее посетили сновидения, но спокойствие покинуло сон девушки. Страх исказил черты ее лица, и как я видел, она была еще далека от пробуждения. К страху примешались другие волнения, печаль и стыд. Что за кошмар приснился ей, что даже реальные переживания не могли быть ужаснее? — Пойдемте, Арман, лучше мы оставим ее одну. Она должна преодолеть ужасы своих воспоминаний своими силами. Сейчас мы ничего не можем для нее сделать. Леонардо, чьи замечания об ужасных воспоминаниях Колетты сбили меня с толку, мягко, но настойчиво увел меня из фургона. Матиас пригласил нас к столу. Снаружи на огне жарился теленок и источал аппетитные ароматы. Я закрыл дверь фургона, после того как послал спящей долгий, страстный взгляд. Неохотно я оставил ее одну с ужасным сновидением — и все же был рад, что она разминулась со старухой смертью. Итальянец и цыгане уже скрылись между двумя высокими палатками. Когда я поспешно спустился с короткой лестницы, что-то белое и мягкое метнулось мне под ноги, отчего я потерял равновесие и упал. — Вот так досада, вот так позор! — запричитал рядом со мной маленький человечек, ребенок со странно низким голосом. Я вышел из оцепенения и узнал Рудко, карлика. — Не сердитесь, господин, я не хотел вас сбивать. Я поднялся возле лестницы и рассмотрел маленького человечка, который доходил мне как раз до пояса. Войлочная шляпа сидела криво на его слишком большом черепе, отчего из-под нее выбивались черные пряди волос. Его потертая кожаная рубаха и шерстяные брюки были темными — то ли от природы, то ли из-за множества пятен, которыми была заляпана одежда. — Это были не вы. Вы малы, но не настолько. И, прежде, всего не так белы! — Джали уронила вас, но я был тем, от кого она вырвалась, — он скривил гримасу. — Разве же я знал, что она побежит за обоими? — За кем? — Ну, за Эсмеральдой и ее рохлей. — Вы имеете в виду Пьера Гренгуара? — О ком же еще я могу так говорить? Ему следовало присматривать за Джали, потому что Эсмеральда спешила. И что делает это забавный малый? Он просто бежит вслед за своей обвенчанной суженой. И что делает коза? Она бежит за обоими! — Рудко прищурил глаз и как заговорщик посмотрел на меня. — Если вы меня спросите, то у нашей прекрасной Эсмеральды свидание, и рохля хочет за ней проследить. Он все еще думает, что может быть для нее больше, чем просто дураком, который имеет право называться ее супругом. При этом… — карлик замолчал, сделал тревожный прыжок и указал на лагерь нищих. — Там бежит подлая тварь, прочь в мир теней ночи. Клянусь демонами тьмы, мне думается, мы больше никогда не увидим Джали. Вот коварная бестия! Тогда я лучше буду держаться моего Золтана, он всегда приходит к своим хозяевам… Я больше не обращал внимания на его болтовню. Я тоже увидел козу в свете костра. Она бежала по улице, по которой Леонардо и я пришли во Двор чудес. Я погнался за ней, мимо стражников герцога, которые обращали внимание только на приходящих, а не на людей, которые покидали лагерь цыган. Я пробежал мимо своры кутящих нищих, перепрыгнул через мирно спящих одноруких и окунулся в улицу, которая поглотила Джали. Меня воодушевила мысль выследить козу, а с ней и Эсмеральду. Рудко говорил о свидании. Я верил, что знал, кто ждет цыганку. Разве она не сама говорила, что хочет раскрутить этого капитана, Феба де Шатопера? Что произойдет при этой встрече, что ей расскажет капитан, могло быть очень важным. И я не был уверен, поделится ли Матиас с нами, своими союзниками, тем, что поведает ему дочь. Поэтому я хотел лично присутствовать. Возможно, это пригодилось бы в борьбе с дреговитами и помогло бы Колетте. В какой-то момент я уже не знал, как себе помочь. Я не видел ни человека, ни козы. Передо мной и за мной кривились бесформенными тенями старые дома, подобные чудовищам, которые притаились и ждали свою добычу. Ночь стирала различия между мертвым камнем и живой плотью, как мог стирать солнечный камень (если эта безумная история была правдой) разницу между духом и материей, между душой и грехом. После того как я покинул Двор чудес, я вскоре слышал только быстрое стаккато моих шагов и как сопровождающую музыку — мое запыхавшееся, тяжелое дыхание. Теперь, когда я остановился, стихли шаги, но мое прерывистое дыхание показалось мне еще громче — оглушающим, словно оно принадлежало вовсе не мне, а преследующим бестиям вокруг меня, которые брызгали слюной в предвкушении свежей плоти. А потом мне показалось, будто я слышу в тени разговор. Я навострил уши и затаил дыхание. — …Ты меня приняла не за того, ты, пугливая маленькая тварь. Если ты не побежишь дальше, я вздую твою козью задницу, как это не сумеет и самый сильный козел. Вперед, ну же. Да, малышка Джали, беги, ищи свою хозяйку. Беги к Эсмеральде! — хихиканье сопровождало слова. — Имея тебя у себя на хвосте, моя красавица не сможет неслышно пробираться по ночи. Я услышал тихое блеянье козы, а потом — тяжелые шаги мужчины. Без сомнения, это был Пьер Гренгуар. Однако почему, клянусь святым Кристофором и царем Самоса, я мог его слышать, но не видеть? Когда я немного прошел вперед, то раскрыл тайну. Узкая крутая лестница — то ли проход, то ли ступени — шла вверх от улицы и обвивалась змеей вокруг нескольких домов, ровно настолько, чтобы мог пройти один человек. Гренгуар и Джали должны были пойти этой дорогой. Возможно, она и меня приведет к Эсмеральде. В старых, мрачных домах едва горел свет, и луна старалась освещать своими бледными лучами касающиеся друг друга крыши. Больше на ощупь, нежели видя дорогу, я пробирался вперед, осторожно, потому что все снова и снова я поскальзывался на отбросах и нечистотах, которые свалили в кучу жители перед своими бедными лачугами. Если доверять своему носу, то это был тот самый момент, чтобы прекратить поиски. Тяжелый запах сгнившей рыбы и испражнений всяческой природы висел в воздухе, что меня чуть не стошнило. Я зажал одной рукой рот и нос, а другой шарил по стенам домов, продвигаясь вперед на ощупь, пока убогие дома немного не расступились и, наконец, не стало светлее, и свежий воздух не развеял отвратительный запах. Я стоял у Сены, перед натянутыми на берегу сетями и пришвартованными рыбачьими лодками к тяжелым деревянным сваям, которые мягко качались в прибрежной воде. Справа от меня вдали лежал Лувр, различимый только как неясные очертания. Слева в непосредственной близости возвышались острые башни Гран-Шатле в ночном небе. Луна рассматривала его расплывчатое отражение в реке и освещала неукрепленные берега. Недалеко от захода на Мельничий мост Эсмеральда присела на корточки и начала разговаривать с Джали на непонятном языке. Если судить по тону, то Эсмеральда делала животному полагающееся в такой ситуации наставление, что, однако, не тревожило козу. Радостная оттого, что нашла хозяйку, она лизала угрожающе направленную к ней руку. Дочь цыганского герцога со вздохом закончила свою назидательную проповедь и продолжила свой путь к Мельничьему мосту, сопровождаемая по-прежнему Джали. Но ее преследовал и Гренгуар — как отделившаяся тень. Он спрятался за вытащенной на землю и законопаченной лодкой. И я превратился в тень тени, играя сейчас роль более чем просто охотника. Мы перешли на другую сторону Сены по Мельничьему мосту. Сожженный ломбард, закоптелая дыра в плотном ряду домов, воззвала к моему сознанию, что мое смелое мероприятие могло быть связано с непредвиденными опасностями. Я отвернулся и снова взглянул вперед, но перспектива не обрадовала меня. Дворец правосудия, несущий вахту с выстроившимися в ряд башнями как огромными солдатами по ту сторону моста, напомнил мне с новой силой о неудавшемся штурме и море крови, которое он повлек за собой. Путь Эсмеральды шел вдоль восточной стены дворца и потом на мост Сен-Мишель, который связывал находящийся восточнее Пти-Понта, остров Сите с кварталом Университета. По улице де ла Ушет, мимо домов с шумными девками и школярами, путь вел к Пти-Шатле[875]. Крепость на южном конце Пти-Понта показалась мне в ночи головой змеи, чьим телом был мост. Из тени сторожевых башен вышел высокий мужчина в форме королевского офицера, украшенной лилией и крылатым оленем. Его шпага и сверкающие золотом даже в свете луны шпоры тихо зазвенели, когда он подошел к Эсмеральде. Верхняя губа под ухоженными усами искривилась в победоносную улыбку, и Феб де Шатопер приветствовал цыганку сладкими словами, какие так часто шепчут на улицах Латинского квартала[876]. Я оказалсяправ! Чувство триумфа было так сильно, что я чуть было не забыл присесть под защиту низкого сарая, когда Эсмеральда и Джали в сопровождении капитана пошли обратно по улице де ла Ушет. За ними следовал Гренгуар, который теперь уже прятался за бочкой с водой. Знал ли он, что его не особенно преданная супруга хочет только раскрутить прекрасного Феба? Я не мог представить себе, что она доверилась своему заботливому глупцу. Мог ли он осадить свою ревность? А если нет — как мог он серьезно надеяться тягаться с закаленной в боях шпагой офицера?! Феб, который явно лучше разбирался в путанице улиц возле моста Сен-Мишель, взял на себя обязанности проводника. Он остановился перед домом, у которого только была только пара окон с грязными, потрескавшимися стеклами на верхнем этаже. Два из них были слабо освещены. Первый этаж показался совсем нежилым и мрачным, если бы через щели в двери не пробивались наружу скудные лучи света. Капитан постучал, и Гренгуар скрылся за ближайшим углом. Я тоже нашел укрытие и наблюдал из-за края выступа стены, как с противным скрипом открылась дверь. Дверь была низкой, но все же достаточно большой для дряхлого существа, которое держало в сильно дрожащей руке лампу. — Чего надо? — прокряхтел неразборчиво старушечий голос из беззубого, поросшего белыми клоками бороды рта. Несмотря на это волосатое лицо, речь все же шла о женщине, которая была закутана во всякую рвань, словно иначе кожа и кости могли развалиться в разные стороны. — Комнату Святой Марты, — ответил Феб и сунул ей в руку монету. Немедленно недоверчивое лицо преобразилось, льстивое подобострастие выступило на морщинистом обезьяньем лице. — Заходите, монсеньор, и пропустите свою прекрасную невесту. У старой Фалурдель вам ни в чем не будет отказа, — запела она с такими гримасами, что слюна брызнула на бородавчатый подбородок. Пока седая сводня закрывала дверь за мужчиной, женщиной и козой, я испытал возмущение по поводу, что она дала одной из комнат своего притона имя Святой Марты, хозяйки таверны господина! Потом мне пришло в голову, что патронессе служанок и экономок пасторов и самой явно не меньше был известен позорный промысел. Передо мной что-то зашуршало, и тень пробежала в ночи, чтобы раствориться вместе с темнотой. Это был Гренгуар, который так поспешил, словно Сатана гнался за ним. Вероятно, он не мог больше высидеть перед домом, в котором, как он знал, находится его неверная жена со своим любовником. Если в этом случае, когда свадьба была маскарадом, можно вообще говорить о неверности. Влюбленный глупец оказался, к тому же, еще и таким чувствительным! Он исчез, и шум окрестных улиц поглотил его шаги. Гренгуар увидел достаточно, но моя миссия еще не закончилась. Я должен узнать, что выведает Эсмеральда у капитана. Если я смогу это разузнать, то предстоит выяснить, честную ли игру ведут с нами египтяне. С беспокойством я осмотрел притон Фалурдели, пока в верхнем этаже в одном из потрескавшемся окне, выходившем на обратной стороне дома на реку, не загорелся свет. Комната Святой Марты! Верхний этаж находился не очень высоко над землей. Все здание покосилось, словно в беге долгих лет приспосабливалось к сморщенной фигуре его седой владелицы. По куче мусора я взобрался на плоскую, немного косую крышу чердака, который находился над комнатой святой Марты. Я прижался к стене дома и осторожно высунул лицо, пока я рассмотрел неясные фигуры Феба и цыганки через грязное стекло окна с сетью паутинок-трещин. Джали наверняка осталась под присмотром сводни, и, вероятно, оба как раз ссорились из-за самой красивой козлиной бородки. Четче, чем мог видеть обоих, я слышал их голоса, что при узости грязной комнаты порока было не удивительно. В помещении, скупо обставленном деревянным сундуком и простой кроватью, не могло ускользнуть ни одно слово. Феб засыпал Эсмеральду комплиментами, которые не миновали ни одного пятнышка ее красивого тела — от черных как ночь волос, как он выразился, до нежных ножек, на которых она умела так изящно двигаться. Я едва верил своим глазам, когда стыдливый румянец залил лицо цыганки — уж она-то должна была часто слышать подобные слова и особенно — быть готовой к ним в таком месте. Либо она была такой же талантливой актрисой, как и танцовщицей, либо королевский капитан значил для нее больше, чем я ожидал — и, возможно, она сама. Я почувствовал закипающую во мне ревность и удивлялся тому. Во-первых, не был же я несчастным Гренгуаром а, во-вторых, не воспылал ли я страстью к Колетте?! Но кто может измерить заблуждения человеческого сердца! Оба сидели возле лампы, которую Фалурдель поставила на деревянный сундук, и с каждой обольстительной фразой явно опытный в любовных делах солдат сокращал расстояние между собой и возлюбленной. Наконец, он обнял Эсмеральду за плечи своими мощными, но ухоженными руками, чьи запястья были украшены медными браслетами. Там они покоились очень недолго, и затем в строгом порядке начали танец по сладкому телу, которому вторил словесный поток, полный любви. Феб, похоже, сам поддался своему вздору и обращался к цыганке, поставив с ног на голову другую свою любовную связь — девушку по имени Готон. И сам не замечал того. Жадные пальцы уже приблизились к груди, вздымающейся под вышитым корсетом Эсмеральды, как она отскочила на другой конец сундука и спросила: — Вы в бою тоже так горячи, господин капитан? — С возмущением он забил себя в грудь: — Как вы можете такое спрашивать, моя дорогая? Разве я не доказал этого, когда спас вас из когтей этого горбатого чудовища? Ее большие глаза засверкали уважением и мольбой. — О, да, вы действительно это сделали, благородный Феб! И про вас рассказывают еще и другие истории о ваших подвигах. — Ну, сами видите, — он говорил, как нетерпеливый отец со своим капризничающим ребенком, и снова пододвинулся к ней. — Вы можете наверняка знать, что я в любой ситуации не ударю лицом в грязь — ни перед лицом смерти, ни в любви, — и он начал расшнуровывать ее корсет. От ревности у меня пересохло в горле. С усилием я боролся с предательским раздражением в горле. Что бы я отдал за то, чтобы теперь оказаться на месте офицера! Корсет манил к себе, и Феб мог без труда стянуть косынку с груди и с плеч Эсмеральды, так глубоко вниз, что ему открывался свободный вид на крепкую, светящуюся золотом в свете лампы плоть грудей. Когда он захотел схватить ее, она игриво ударила его рукой по пальцам и поспешно встала. — К чему вам жеманиться? Я больше не мил вам? Или все дело в квартире? В вашем цыганском фургоне могло быть уютнее. Эсмеральда низко опустила ресницы и тихо сказала: — Простите, мой герой, я глупая девица. Но я бы с удовольствием послушала бы о ваших подвигах, о крови, которую вы пролили на службе Его Величества короля Людовика Одиннадцатого. Его лицо просветлело. — Ах, я понимаю. Пролитая кровь моих врагов заставит, как я вижу, стучать быстрее вашу, моя маленькая кровожадная бестия? Она кивнула охотно, изображая на своем лице соблазнительную гамму из стыда и экстаза. — Говорят, вчера вы отличились у Дворца правосудия, когда обратили в бегство отъявленную банду негодяев, которые позарились на сокровища короля. — На что позарились парни — вот это вопрос. К сожалению, мы поймали не всех, только в троих из них попали залпы моих стрелков. Цыганка вытянула голову и торс, показывая Фебу снова свою полуобнаженную грудь. — Верно ли, милый Феб, что в вашем подвиге замешано колдовство? Он громко рассмеялся: — С каких это пор королевские стрелки в союзе с темными силами? Именно это и было вопросом, и с напряжением я прислушался к следующему. — Говорят, ваша рота так быстро оказалась у Дворца правосудия, что это невозможно сделать обычным способом. Феб тоже встал, положил свои руки на голые плечи Эсмеральды и запечатлел два легких поцелуя на ее пышной груди. — Если бы я был волшебником, я бы использовал мое искусство на то, чтобы навеки получить вас в свой плен, мой золотой цветок. Она позволила произойти тому, что он обнажил ее грудь и накрыл своими руками, начал их гладить и мять. С прерывающимся дыханием она спросила: — Если вы не волшебник, то как вы сумели так быстро оказаться на месте? Он сильно, но мягко толкнул ее на кровать и подсел к ней так, что уже почти лежал на ней. — К чему такое любопытство? Для разговоров будет потом время. — Нет, скажите мне сперва, иначе я ни о чем ином не могу думать! Его правая рука уже шарила под корсетом, расстегнула его и уже скользила дальше вниз. — Если знать прежде, что должно случиться, не нужно уметь колдовать, чтобы в нужное время оказаться в нужном месте. — Но откуда же вы знаете это, мой Феб? — Он покрыл поцелуями ее плоский живот. — Соловей явно не напел мне это. — У вас есть доверенное лицо среди бандитов? — Вы умный ребенок, Готон, — вздохнул Феб и так крепко вцепился в чресла Эсмеральды запущенной под ее юбку правой рукой, что ее тело непроизвольно забилось, как извивающаяся змея. Его левая рука начала развязывать узел ее юбки. — Но как вы это совершили? — она могла говорить только в прерывистом ритме своего ускоренного дыхания. — Кто оказал вам эту услугу? Вместо ожидаемого ответа комната Святой Марты наполнилась громким треском и следом за ним — блеяньем козы. Гнилая дверь комнаты с треском распахнулась. Джали ворвалась и одним прыжком оказалась на низкой кровати. Пока я еще осмысливал, как это козе удалось раскрыть дверь, огромная тень накрыла всю комнату. Это была закутанная в черное одеяние фигура мужчины, чье лицо скрывалось под широкими полями шляпы. Феб издал проклятие, которое было непривычным даже в этом богохульном месте, — такое можно услышать только среди отбросов и солдат. Он схватился за шпагу и напрасно пытался обнажить ее. Феб полулежал на ножнах и был скован Джали, когда захотел развернуться. Так коза снова пришла на помощь закутанному в черное человеку, которого она заманила в комнату Святой Марты. Эсмеральда оказалась ловчее. Полунагая, одетая как была, она вскочила и вытянула свой кинжал из ножен в складках своей юбки. Тут Феб столкнул Джали с кровати, чтобы, наконец, добраться до своего оружия. То, что капитан считал своим преимуществом, стало его судьбой. Коза упала под ноги своей хозяйке и уронила ее. Оглушенная Эсмеральда лежала на полу, кинжал выскользнул из ее рук. Черный человек поднялся его и без раздумий вонзил узкое лезвие в грудь офицера. Феб застонал, его пальцы потянулись к рукоятке шпаги, и он упал обратно на кровать, где остался недвижно лежать на спине. Черный человек вынул кровавый кинжал из раны и повернулся к Эсмеральде. Я уже готов был распахнуть окно, как раздались громкие голоса и шаги из пещеры сводни. Должно быть, маршировал целый отряд. Преступник уронил оружие и поспешил к окну. При этом луч света упал на мгновение на его лицо, — и я узнал убийцу. Он раскрыл окно. Чтобы не быть увиденным, я отступил назад, и, потеряв в спешке и замешательстве равновесие, рухнул с крыши сарая в узкий двор. Это было бы жесткое падение, если бы я не угодил в кучу навоза. Убийца притаился на сарае, быстро осмотрелся по сторонам и потом тут же спрыгнул во двор. Он заметил меня? Хотел ли он так же беспощадно заставить замолчать свидетеля, как только что обошелся с Фебом? Но, нет, он пробежал мимо навозной кучи, прочь в темноту. В открытом окне показалась голова и туловище королевского стражника. — Здесь, на крыше, ничего нет. Цыганка была одна со своей сатанинской козой и капитаном. Из комнаты Святой Марты раздался другой голос: — Она наверняка ведьма, судя по тому, как она выглядит. — Ведьма, которую ждет виселица, — добавил третий голос. — Она убила капитана королевских стрелков, после того, как соблазнила его своим прекрасным телом. Заметьте это себе, мужчины: любовь и смерть идут рука об руку. Унесите труп и свяжите ведьму! Оглушенный я скатился с навозной кучи, вонь которой сопровождала меня какое-то время. Но теперь это было не важно. Я должен бежать к королевским стражникам, должен был рассказать им, что они ошибаются. Как только я встал на ноги, сильная рука схватила меня за плечо. — Остановитесь, сеньор Арман, стражники не поверят вам, к тому же вы испачканы и дурно пахнете — как один из тех, кто называет Двор чудес своим домом, — Леонардо сморщил нос и продолжил потом шепотом в том же тоне: — Нам нужно поторапливаться! Если стражникам придет в голову обшарить близлежащие улицы, то от нас не должно остаться ни слуху, ни духу. — Но… как вы оказались здесь… — Вы имеете в виду, почему Вийон послал меня с вами во Двор чудес? Мы получили сведения, что Эсмеральда сегодня вечером договорилась с капитаном. Благодаря вашим поспешным действиям вы взяли на себя мою миссию, и мне ничего не оставалось делать, как вместо преследователя преследуемого быть только преследователем преследователя. Неблагодарное поручение, поверьте мне. Я признал, что Леонардо прав. Королевские стражники явно не поверили бы мне и на пару с Эсмеральдой отвели бы на виселицу. Нехотя я следовал за ним к мосту Сен-Мишель и бросил последний взгляд на распахнутое окно комнаты Святой Марты. Лишь теперь, слишком поздно, мне пришло в голову, что Святая Марта была покровительницей умерших. Вийон сидел в своей подземной комнате, склонившись над «Ars Magna ct Ultima» Раймонда Луллия, когда мы появились и сообщили ему об убийстве Феба де Шатопера. Он выслушал нас спокойно и молча, но его лицо заметно ожесточилось. С усталым видом он сказал: — И снова дреговиты переходят нам дорогу. Если бы убийца только на миг опоздал, капитан выдал бы своего поручителя! — Мы можем быть рады, что случайно королевские стражники появились так быстро, — бросил я. — Иначе Эсмеральда оказалась бы в смертельной опасности. — Ей и сейчас не слаще, — ответил Леонардо. — Кроме того, я не верю в совпадения. Дреговиты используют королевских стражников так же, как королевских стрелков, для своих целей. Они сами же позвали стражу, чтобы были обнаружены окровавленные трупы капитана и его любовницы. В противном случае отряд не появился бы так быстро возле лачуги сводницы. Убийство и самоубийство от неразделенной страсти — так это должно выглядеть по замыслу дреговитов. Таким образом, не вызывая подозрения, они бы устранили приманку и возможного предателя настоящего изменника. На этот раз стражники оказались на месте так быстро, что застали врасплох исполнителя дреговитов. Вийон кивнул. — Если бы мы, по крайней мере, его знали… — Но я узнал его! Отвратительное лицо Вийона и красивое лицо итальянца повернулись ко мне как по мановению руки. Их вопрошающие глаза были прикованы к моим губам, будто хотели пробуравить меня. — Кто это был? — прошептал Вийон. Я подумал о строгом лице, которое только на мгновение осветил для меня услужливый луч луны. О взгляде решительных глаз, которые колюче смотрели из-под высокого лба, из глубоких глазниц, как готовый к нападению клинок. Взгляд холодный как лед — и в то же время пламенный, настолько, что мог сжечь человека. Ничего удивительного, что я непроизвольно отступил назад перед этим человеком. — Кто? — настойчиво повторил Вийон. В моей памяти возникла закутанная в плащ фигура, сложившая окровавленный кинжал, и я тихо сказал: — Отец Клод Фролло!КНИГА ПЯТАЯ
Глава 1 Человечки из стекла
Звон полуденного колокола загудел над Нотр-Дамом и островом Сите, чтобы разнестись по теплому апрельскому воздуху над Парижем и вступить в радостное состязание с пением крапивника и возвращающихся с зимовки славок. Внизу по улицам спешил по своим делам народ, пользуясь выдавшейся теплой погодой. Но я пробирался светлым днем, как вор, по мосту между двумя большими башнями, к южной башне, которая возвышалась над крышами Отеля-Дьё, как огромный страж. Несмотря на яркое солнце высоко в небе, башня казалась мрачной, словно скрывала за своими древними стенами ужасную тайну. Внутри башни я прислонился к прохладной стене и глубоко вздохнул. Ничего не произошло, конечно, ничего… И ничего не произойдет со мной, пока я буду острожен. Равномерные удары колокола придали мне уверенности. Я обратил внимание на то, что это был не какой-нибудь причетник, а сам Квазимодо, который поднялся своей тяжелой припадающей походкой на Северную башню, чтобы бить в один из шести колоколов для sext[877]. Но здесь, в просторной клети с колоколами Южной башни, Квазимодо был вездесущ. Большая Мария спокойно висела на своей тяжелой балке и дремала на полуденном солнце, падающим через многочисленные открытые окна, явно понимая, что ее глухой, полный силы голос потребуется лишь через пару дней — на празднование первого мая. Я осторожно обошел помещение, оглядел со всех сторон и установил, что мало было что видно. Мог ли я действительно найти здесь то, что я искал последние недели повсюду в Соборе? Каждая часовня, каждая галерея была обследована мной на предмет свернувшегося в кольцо дракона, оуробороса. Напрасно. Если Нотр-Дам действительно скрывал тайну солнечного камня, то, похоже, вовсе не собирался мне ее открывать. Вдруг что-то метнулось в соломе к моим ногам. В страхе я отпрыгнул и чуть было не потерял равновесие. Если бы в последний момент я не схватился за балку в клети с колоколами, то рухнул бы вниз на расположенный глубоко внизу первый этаж башни, куда были опущены веревки от Большой Марии и ее младшей, но не менее мощной сестры — Жакелины. Этими веревками по особенным праздникам могли воспользоваться причетники, которые помогали Квазимодо звонить в тяжелые колокола. Жирная черная крыса, дневной сон которой я нарушил, прошмыгнула мимо и исчезла в темном углу. Я больше не видел эту тварь, хотя она не убежала ни наружу, ни в меньшее помещение, где покоилась Жакелина. Лишь когда я пошел в направлении, куда убежала крыса, я обнаружил узкий проход в мрачном углу. Через него я вошел в место, которое искал и в которое я до сих пор еще меньше отваживался войти, чем в ведьмовскую кухню отца Фролло: каморку Квазимодо. В отличие от таинственной кельи архидьякона здесь не было двери и замка. Я мог беспрепятственно войти сюда и быть уверенным — пока колокол звонит sext, я не столкнусь с обитателем этого удаленного прибежища. Если я смоюсь, как только замолкнет колокол, то звонарь не заметит моего визита, даже если он сразу же вернется в Южную башню. Между тем, я достаточно хорошо ориентировался в башнях Собора, чтобы спрятаться от него. Я нашел, что искал, и был даже разочарован. Убогая каморка с ее простым убранством не была местом, где хранят тайны, от которых зависит судьба мира. Я признал это с первого взгляда, которым окинул грубо сколоченную кровать, деревянный сундук, стол, скамейку и шатающуюся полку на стене с какой-то едой. Самым примечательным в этой комнатке было ее соседство с колоколами. Ничего удивительного, что Квазимодо так плохо слышал как глухонемой, которого Спаситель излечил во время своего странствия из Тира к морю Галилейскому. Каждый удар мощного колокола должен был здесь восприниматься как толчки землетрясения, как сила, которая рано или поздно должна была разорвать барабанные перепонки, словно лист бумаги. Если здесь вообще что-то и можно было обнаружить, то в сундуке. Крышка без труда поддалась, проржавелый замок, видимо, годами не использовался. Я уже хотел снова закрыть сундук, потому что он явно не содержал ничего, кроме одежды, но потом что-то тихонько заскрипело под моими шарящими руками. Я достал многократно сложенный платок — узелок, который содержал осколки стекла. Нет, не осколки с острыми краями и углами, а округленные кусочки цветного стекла, какие украшают витражи Собора. Возможно, это были выпавшие кусочки, которые Квазимодо тайно набрал у стекольщиков. В большом храме Бога всегда нужно что-то подправлять. Инструменты, как и запасы камня, стекла и других материалов хранились повсюду, — в том числе и здесь, в башнях. Когда я вынул один за другим стеклянные кусочки величиной с ладонь и посмотрел против света, который падал через большой проем окна — я различил человеческие силуэты. Стеклянные человечки были единственными людьми, которые разделяли его уединенную жизнь, предоставленные ему в избытке. Игрушка одинокого ребенка. Я бережно закутал человечков из стекла в платок и положил узелок на дно ящика. При этом я натолкнулся на что-то твердое. Это был Новый Завет, который Леонардо подарил звонарю и с которым Квазимодо пришел ко мне однажды январской ночью, чтобы быть посвященным в искусство чтения. Переплет из овечьей кожи был потрепаннее, чем я его запомнил, и некоторое количество страниц оказались вырванными и заложенными среди остальных. Это объясняло только одно. После появления Фролло той ночью Квазимодо отказался от идеи учиться у меня чтению, но пытался научиться самостоятельно — конечно, безуспешно, и, охваченный яростью и отчаянием, он вырвал напечатанные страницы из Святого Писания. Затем, раскаявшись, он расправил своими неуклюжими руками бумагу и снова вложил в книгу. Сочувствие, которое я испытал еще при его посещении, охватило меня снова. Я почувствовал себя близким этому бедному созданию, почти родственником. Разве не влачили мы одинаковую судьбу, выросли без отца и без матери, чужыми среди чужых? Я укрылся в мире книг, путь, в котором отец Фролло отказал своему воспитаннику. Квазимодо осталась только музыка колоколов, с которой он сливался воедино. Ей отдавал он себя телом и душой, и здесь наверху, так близко около Марии и Жакелины, колокольный звон должен был звучать даже в ушах глухого. Возможно, колокола значили для него больше, чем люди, потому что они никогда не отвергали его, не смеялись над его уродливым телом, над его бесформенным лицом. Они хранили ему верность и разговаривали с ним, когда он просил их об утешительном слове. И если ему не хватало людей, то он раскладывал разноцветные кусочки стекла на полу и создавал семью из человеческих фигурок, которые выносили его, чудовище, молча и покорно. Ох, как я понимал его! И все же ужас и страх схватили меня своими железными когтями, когда я почувствовал щекотание на моем затылке. Ощущение ползло вверх по моей спине как большой паук, медленно, но постоянно, чтобы распространиться по всему моему телу. Предупреждающее щекотание, но все же слишком поздно. Хотя я не слышал ни.звука и ничего не видел, я знал, что за мной кто-то стоит и смотрит на меня сверху вниз, присевшего на корточки на полу возле открытого сундука. Это было так, словно у меня на затылке была пара глаз. Квазимодо! Только что я испытывал сочувствие, теперь один неприкрытый страх. Я представил, как его чудовищное тело наклонится надо мной, и не мог пошевелиться. Теперь мои мысли витали вокруг, как птицы снаружи в весеннем небе. Они щебетали мне, что что-то не так, не совпадает: если Квазимодо стоит за мной, почему же я все время слышу звон колокола, созывающий на sext? Бесконечно долго, измученный страхом перед тем, что предстоит увидеть моим глазам, я повернулся, и нашел не очень утешительным то, что не Квазимодо стоял за мной, войдя в каморку. Его мрачный опекун, едва ли был более приятным обществом — даже задолго до того вечера, когда я подсмотрел, как он заколол капитана королевских стрелков. С тех пор меня грызло ужасное подозрение, что архидьякон и жнец Нотр-Дама — одно и то же лицо. Отец Клод, казалось, тогда не заметил меня, а если нет, то никак не показывал того. Пришел ли он сейчас, чтобы заставить молчать неугодного свидетеля в этой уединенной каморке? Фролло не двигался, стоял, как оцепеневшая тень перед проходом в колокольню. Кинжал, чтобы перерезать мне горло, не блеснул, но его глаза буравили меня не менее болезненно. Подобно моему отцу Вийону архидьякон обладал даром заглядывать человеку в душу. Так мне показалось, по крайней мере, и я почувствовал себя под его взглядом одним из стеклянных человечков Квазимодо — голым, прозрачным, хрупким, беззащитным и безвольным. Невидимый туман окутал мой разум и сделал его вялым. Я чувствовал себя как в тот час, когда Вийон заставил меня пережить конец Монсегюра. Мною овладел страх, что я нахожусь полностью во власти Фролло и выдам ему сведения, которые ни при каких обстоятельствах не должны были сорваться с моих уст. Итак, я стряхнул парализующее чувство и выпрямился за маленьким столом, покачиваясь с дрожащими коленками. Новый Завет выпал у меня из рук на пол, нескрепленные листы разлетелись. Я что-то пробормотал, чтобы объяснить мое пребывание и копошение в покоях звонаря, что-то о непростительном любопытстве. Я не вспомню теперь точные слова, так парализовано в тот момент было мое сознание. Отец Фролло улыбнулся — уж и не знаю, понимающей или ироничной улыбкой. Он склонился над книгой, поднял ее и полистал, при этом угол рта презрительно искривился вниз. — И с помощью этого вы хотите открыть Казвимодо роковое искусство чтения, месье Арман? Фролло, оказывается, знал, он, возможно, подсмотрел за нашим спектаклем ночью, когда Квазимодо спрятался от него в моей келье. — Он… он пришел ко мне, чтобы научиться читать, — сказал я, запинаясь. — Но только один раз, потом ни разу. Он боялся… — Меня? Говорите спокойно, я знаю, что это так. И это хорошо и правильно. Бедное создание нуждается в строгой направляющей руке, чтобы выжить в этом мире. Рука, которая, прежде всего, защищает от зла. Следует ли Квазимодо читать о мире людей, который отверг его, чтобы еще больше скучать по миру? Нотр-Дам — его мир, здесь он нашел успокоение. Зачем сбивать с толку его простой дух мыслями, которые порой и умный не поймет? Полный презрения он бросил книгу на стол. Множество крошечных пылинок взметнулись вверх и забились в свете оконного проема в веселом танце, который не подходил к серьезному тону архидьякона. — Вы, человек пера, сведущие в ars artificialiter scribendi, имеете дело с печатным изданием? В один миг я увидел себя поставленным в роль защитника печатных текстов. — Но все же …. Это же Новый завет. Это плохая книга? — такой же вопрос задавал мне Квазимодо. — Да! — в сердцах выпалил Фролло. — Это плохая книга, потому что напечатана. Благодаря изобретению Гутенберга книг стало так же много как капель воды внизу, в Сене. Их масса ведет к падению цен. Знаете ли вы, что итальянский епископ только спустя три года после того как искусство Гутенберга распространилось в Италии, сообщил о низкой продажной цене книг, которая составляла меньше, чем та, что раньше должны были отдать только за обложку? Вы сами на своем примере узнали, как трудно найти писцу в эти дни постоянный заработок. Но даже самим печатникам это невыгодно — падение цен и их довело до нищенского посоха. Поэтому они вынуждены печатать все, пока требует народ. Так самые дерзкие и глупые мысли находят себе распространение и забивают головы, лишают людей не только способности ушей и силы глаз, но и, прежде всего, взгляда на правдивость! — И что же нужно? — спросил с нетерпением я. Фролло говорил все возбужденнее, и я надеялся вырвать у него пару необдуманных слов. Слов, которые помогли бы мне в моем поиске оуробороса. — Слово Божье — вот и все, что нужно человеку. Его нужно придерживаться, ничего иначе, — ответ звучал разочарованно кратко и, к тому же, невероятно — из уст человека, который занимается даже герметическими искусствами, чтобы расширить свои знания. Я указал ему на Новый Завет: — Здесь написано Слово Божье. Что же тогда говорит против того, чтобы распространять книгу среди народа? — Глупость и любопытство, ограниченность и гордыня мешают людям правильно понять слова Господа. Если каждый сможет читать Святое Писание, то когда-нибудь каждый решит, что он один знает правильное прочтение слов Бога. Не приведет ли это к тому, что каждый создаст своего собственного Бога? При этом существуег здесь это каменное письмо, — он повернулся вокруг себя и хотел обнять с распростертыми руками весь Нотр-Дам. — Соборы показывают народу правильный путь. Они — изображение небесного Иерусалима на земле. Вырезанные в камне и помещенные в стекле истории достаточно просты, чтобы не запутать ограниченный ум. Камень и свет заставляют людей танцевать и ликовать. Что они должны знать, им говорят осведомленные в Святом Писании. — Вы имеете в виду свое сословие, клир. — Разумеется! — задыхаясь от возмущения ответил архидьякон. — Кто же иначе, если не те, кто посвятили изучению Библии свою жизнь, должны уметь понимать ее? — Но именно это и есть! — теперь и я говорил полный рвения. — Именно изучение заостряет ум. Заберите у людей книги — тогда вы заберете у них и возможность понимать, думать! — Именно этого я и хочу. Что может дать размышление человеку — кроме жадности, зависти и убийства? Кто думает, чувствует себя чем-то особенным, уникальным, смотрит на других свысока. — И вы тоже, отец? — Как служитель веры я научился усмирять свою алчность. — Я не служитель веры, но сведущ в чтении, в этом заслуга набожных братьев. — У вас было правильное наставление, Арман. И все же, вы не чувствуете себя порой сбитым с толку многими книгами в библиотеках, которые все больше — одна за другой — противоречат друг другу? Вы не верили во время учебы письму, что потеряли равновесие и окунулись из действительности в мир чужых мыслей? Да, то, что дает вам уверенность — это все здесь: Париж и Нотр-Дам и наш диалог с глазу на глаз, является реальностью, а не только одна из тех ненужных мыслей, которые бедные души печатают на дешевой, плохой бумаге, чтобы предоставить другим бедным душам ненужное чтиво за их тяжело заработанные деньги… — Да если бы не чужие мысли, то я бы не мог думать самостоятельно. — Другой, ваш убогий творец и Бог, думал бы за вас. Новый приступ головокружения заставил меня опуститься на треногую скамейку. Догадывался, даже знал архидьякон, как глубоко он задел меня? С тех пор как я пришел в Париж, меня подхватил и швырял в стороны поток странных, невероятных событий, неуклонно, как избежавшая человеческого влияния мыслящая машина Раймонда Луллия. Было ли это объяснение для всех странностей очень простым: они — только игра воображения? Тогда и Фролло был всего лишь порождением больного сознания — только чужого или моего? Но если я думал о нем или себе самом, то, значит, я был моим собственным богом?.. — Мои слова ввели вас в сомнение, — с триумфом продолжил архидьякон. — Так подумайте, как велико должно быть замешательство среди людей, которые не учились обращаться с множеством чужих мыслей. Кто владеет книгопечатаньем, может владеть народом, может посеять переполох и летаргию — как ему будет угодно. Слово Бога станет лишь пустой материей, напечатанное грязными машинами, преходяще, как тонкая бумага, на которой оно написано. Как стая птиц мысли будут порхать в воздухе и весело распевать ложные песни, а им будет вторить народ — и забудет об истинных заветах Бога. Я немного передохнул и вздохнул: — Многие говорят, что с Гутенбергом началась новая эпоха. — Не новое время, а конец времени! — Фролло прижал руки к стене. — Конец Собора, истинного благовещения. Малое побеждает большое, неважное — главное. Больной зуб разъедает всего человека. Крыса из Нила убивает крокодила, рыба-меч — кита, а книга убьет Собор, веру! — Вера должна быть слабой, если ее может победить изобретение человека. Глаза Фролло, которые и в самом деле все еще искали в камне Собора вечность, повернулись ко мне — печальные, прибитые. — Вы не понимаете, о чем идет речь, мой друг. Вы хвалите изобретение, которое однажды лишит вас постоянного заработка. Разве это не пагубно? Давайте молиться, чтоб настал день Страшного суда, прежде чем мир веры превратится в мир проклятых и ложных мыслей, прежде чем материя одержит свою окончательную победу над душой! Он говорил так горячо, что чуть было не упал на колени для молитвы. Вовремя я понял, что он имел в виду не буквально. И я понял, что никогда прежде не был так близко к истинному Клоду Фролло и тому, что он понимал под истинной верой. К сожалению, он не сказал более ничего. Шаркающие шаги, раздавшиеся в башне, привлекли наше внимание. Лишь теперь мне стало ясно, что колокол Северной башни давно больше не звонит. Когда Квазимодо увидел нас, свой открытый сундук, Новый Завет и рассыпанные листы бумаги на полу, он издал нечеловеческий крик — достаточно громкий, чтобы поспорить с Большой Марией. Его глаз расширился, лицо задрожало, и губы обнажили большие желтые зубы. В лесу вдоль Сарты, когда я искал грибы для монахов, я однажды столкнулся с волком. Когда волк обнажил с угрожающим рычанием свои резцы, он выглядел подобно теперешнему звонарю. Тогда, просто застыв от ужаса, я только смотрел на моего противника, пока волк не успокоился и не убежал прочь. Я сомневался, что с Квазимодо все обойдется так же легко. Неуклюжей походкой он пошел на меня и схватил бы, если бы Фролло не встал между нами. Архидьякон сделал пару быстрых движений руки, которые я едва рассмотрел, и которые сказали звонарю больше, чем слова. Издавая строптивое рычание, он удалился в клеть с колоколами — пес, раб, подчиняющийся беззвучным приказаниям своего господина. — Теперь вам лучше уйти, Арман, сержанты ждут вас. — Сержанты? — повторил я, не предвкушая ничего хорошего. Фролло кивнул: — О, да, поэтому я искал вас. Этот лейтенант Фальконе снова велел позвать вас, его сержанты ждут на площади перед Собором. Когда я покидал каморку, Квазимодо припал к бронзовому телу Марии и ласково похлопывал его, как верного пса или дорогого друга. При моем виде его лицо помрачнело, и взгляд стал злым, отчего у меня на спине выступил обжигающий ледяной пот.Глава 2 Сваренный и повешенный
На ступенях, которые вели от портала к площади перед Собором, меня встретили двое сержантов. Это были те же самые сержанты, которые раньше отвели меня в покойницкую Гран-Шатле. И точно так же несловоохотливы. Да и я не потребовал никаких объяснений, а просто последовал за ними. Но лишь когда мы не пошли в направлении Шатле, а взяли курс прямо на мост Нотр-Дама, во мне зародилось недоверие, и я спросил о цели нашего пути. — Идти на казнь! — пролаял один из сержантов и снова замолчал, словно все объяснил этим. Беспокойство охватило меня, хотя, или потому что по ту сторону моста меня ждала Гревская площадь с виселицей и, возможно, даже с ответом. Я подумал об Эсмеральде, которая уже недели томилась в темнице Гран-Шатле. Ее отец и Вийон отвергли все планы вооруженного проникновения в крепость. После неудавшейся попытки освободить Марка Сенена, местопребывание которого нам до сих пор было не известно, охрану в парижских тюрьмах удвоили и ужесточили меры предосторожности. Нам предстояло не менее кровавое фиаско, чем в Консьержери, и исход был далеко не ясен. В начале мая должны были судить цыганку, и мы надеялись, что ее невиновность будет установлена. Но если казнят не Эсмеральду, то кого тогда палач лишит жизни? Когда мы подошли к большой площади на правом берегу реки, мое замешательство возросло еще сильнее. Виселица устало и одиноко возвышалась над головами людей, которые не обращали на нее ни малейшего внимания. Они окружили лотки с товаром или прислушивались к шуму пестрой толпы фокусников, чья сколоченная из хлипких досок сцена стояла на восточной стороне перед ратушей. Возле набережной разгружали три только что прибывших торговых корабля со съестными продуктами для крытых рынков, и портовые грузчики, радостные, что нашли работу хоть на пару часов, низко сгибались под тяжелыми тюками. Мы оставили позади Гревскую площадь, и скоро нас обдал запах Свиного рынка. С каждой минутой прибывающий народ толпился возле еще пустой виселицы, которая возвышалась над крышами крытых рынков. — Кто будет здесь болтаться? — спросил я, когда сержанты остановились. — Мертвец, — ответ исходил не от обоих стражей в фиолетовой форме, а от Пьеро Фальконе, чья узкая фигура вынырнула из-за пары взволнованных крестьянок, спешащих к месту казни. — С каких это пор вешают мертвых? — спросил я лейтенанта сыска. — И мертвые тоже могут висеть. Здесь, на Свином рынке, это старый обычай. — Я думал, толпа хочет увидеть, как умрет человек. Такое возбуждение из-за одного трупа? — О, человек еще не умер. Пойдемте, месье, я покажу вам. Оба сержанта расчистили нам дорогу криками и грубыми толчками к маленькой деревянной трибуне, которая была предназначена для особенных гостей. Отсюда я четко видел странный помост рядом с виселицей. Огромный чан, в котором могли бы сварить суп для целой роты солдат, стоял на большой железной решетке, под которой как раз раздували огонь двое мужчин, во всю работающими деревянными мехами. Над чаном возвышалась лебедка, похожая на ту, которую я видел в клети Большой Марии. — Вот что ожидает доброго Николя, — ошибся ли я или действительно услышал оттенок сочувствия в словах Фальконе? — Я вам не говорил, месье Арман, что фальшивомонетчиков окунают в кипящее масло? — Что-то припоминаю, — я окинул взглядом наполняющуюся площадь. — Настоящий спектакль с соответствующим количеством зрителей. У вас есть на то особая причина, чтобы меня пригласить сюда? — Ах, да, вы же, конечно, еще не знаете! — лейтенант улыбнулся и захлопал в ладоши. — Николя Маншо признался, что он жнец Нотр-Дама. И теперь, посмотрите, вот его ведут! Мессир Нуаре и мэтр Тортерю руководят процессией. Фальшивомонетчики должны медленно умереть, это случай для мастера пыток. Это была похожая церемония, как тогда на Гревской площади, когда Квазимодо поставили к позорному столбу. Приговоренный, похоже, сидел даже в той же самой повозке, запряженной мулом — худой, изможденный мужчина около тридцати лет, скрюченный и с потухшими, уже мертвыми глазами. — Но значит не только Маншо, у этого же только одна рука! — вырвалось у меня, когда я обнаружил измятую культю под правым плечом. — Его повсюду зовут так. Он работал в одной из типографий и совал свой нос больше в вино, нежели в типографскую черную краску. Так однажды, пять или шесть месяцев, может статься, он положил не только бумагу, но и свою руку под пресс. Осталось немного, как вы видите. С тех пор он с грехом пополам сводит концы с концами, и нужно признать, что он добросовестно заботится о своей супруге и шестерых детях. — Вы это серьезно? — набросился я на Фальконе. — Вы называете человека, который режет другим глотки, добросовестным? И вообще, как однорукому это могло оказаться под силу? С сестрой Викторией, возможно, ему сил и хватило, но Одон не был слабаком! — Вы распознали дилемму, месье Арман. Но рассмотрим спокойно несчастного вблизи, это будет последний раз. Мы спустились с трибуны и подошли к повозке, которая теперь стояла между котлом и виселицей. Поленья под решеткой уже горели, они трещали и вспыхивали, и мне показалось, я услышал доносившееся из котла тихое бульканье. Запах масла ударил мне в нос. Двое стражников стянули Николя Маншо с повозки. Однорукий опустил голову, пока Фальконе не сунул свою руку под щетинистый подбородок и не поднял голову Маншо. Безучастные глаза заморгали, и приговоренный встретился со взглядом стражника. — Ну, Николя, даю тебе последнюю возможность. Откажись от своего признания, и я отменю казнь. — Вы велели меня пытать, лейтенант, — возразил однорукий хриплым голосом привыкшего к выпивке. — Почему вы думаете, что теперь я еще должен отрекаться? — Потому, что при виде этого чана и виселицы до тебя, возможно, еще дойдет осознание, что твоим детям придется по душе пусть даже бестолковый отец, чем вовсе никакой. И твоя жена предпочтет жизнь с одноруким супругом положению вдовы. Внизу, между твоих бедер еще все в порядке. Кстати, куда запропастилась твоя семья? — Я же сказал, что не знаю. Шарлотта покинула Париж с детьми. Больше я ничего не могу сказать. — Не можешь или не хочешь? Маншо молчал со сжатыми губами. Я рассмотрел его разбитое тело, которое было прикрыто белой рубахой и отмечено следами пыток. Ноги были раздроблены в бесформенные мясные сгустки испанским сапогом, а тиски для пальцев сделали подобное же из пальцев. На бедрах зияли кровавые раны, откуда железные щипцы вырвали куски мяса. Пожав плечами, Фальконе отвернулся и потянул меня обратно на трибуну, пока Мишель Нуаре читал приговор: — Николя Маншо, ранее подмастерье в типографии мэтра Гаспара Глэра, а теперь — поденщик, обвиняется в следующих преступлениях и признан виновным: primo — поддержка опасной банды фальшивомонетчиков; secundo — коварное и подлое убийство достопочтенной сестры Виктории из ордена Августинцев; tertio — повторение того же поступка по отношению к мэтру Одону, причетнику собора Парижской Богоматери. Для устрашения всех фальшивомонетчиков, представляющих большую опасность для государственной казны и, тем самым, для нашего доброго короля Людовика, приговоренный должен быть опущен в полдень на Свином рынке в кипящее масло, пока смерть медленно не заберет его. Потом он будет повешен на виселице, где останется его труп, пока не истлеет. Так взвесил и решил двадцать первого апреля 1483 года от рождества Христова в суде Гран-Шатле достопочтенный господин Жак д'Эстутвиль, королевский прево города Парижа. Маншо без посторонней помощи поднялся на деревянный помост высотой в три сажени, который наполовину возвышался над котлом. Мэтр Тортерю и его помощники, сопровождаемые барабанной дробью, завязали крепкую веревку под мышками приговоренного. Веревка была привязана к лебедке. Покорно Маншо подчинился им. Палач отдавал ему приказания, и он тут же слушался и ковылял один-два шага вперед или в сторону на своих кровавых изуродованных ступнях. Я повернулся к Фальконе и сказал с явной робостью: — Вы велели его пытать, чтобы выбить у него признание? — О, нет, я велел пытать Николя, чтобы он отказался от своего признания. К сожалению напрасно. — Чтобы он отказался? — недоверчиво прохрипел я. — Но зачем? — Потому что я считаю его невиновным. Как вы уже сказали, однорукий, еще к тому же пьяница — вряд ли подходящий человек для работы жнеца. — Вы считаете его невиновным и равнодушно смотрите, как его жестоко убьют? — Вы же только что слышали, нашпрево приговорил его. Я никогда не имел права спасти Николя от масла, даже если бы он теперь отказался, но все же, Бог мне свидетель, я это сделал бы! Но слишком поздно: он лучше даст себя сварить. Действительно было уже слишком поздно. Медленно, следуя указаниям Тортерю, помощники палача принялись за лебедку и опускали подвешенного над дымящимся котлом все ниже и ниже. Прежде разорвали власяницу и стянули с его тела. Каждая пядь его измученной кожи должна быть видна. Сопровождаемые криком толпы, ступни опустились в бурлящее масло, потом голени, колени. Было жутко, потому что Николя Маншо не издал ни звука жалобы. — Он не чувствует боли! — сказал я растерянно, когда предполагаемый жнец Нотр-Дама был опущен по икры в масло. — Он не хочет ее чувствовать, — сообщил мне Фальконе. — Но долго он не выдержит. По приказанию Тортерю лебедку завертели в другом направлении и подняли храброго Николя снова вверх. Его ноги были красными как раки и должны были чудовищно болеть. Но он молчал, словно его губы были зашиты. Помощник палача облил его ноги ведром холодной воды, которое он зачерпнул из низкого корыта на помосте. Охлаждение должно было предотвратить скорый обморок и так же быструю смерть, оно могло продлить мучения и спектакль. Горожанки, которых я заметил раньше, напирали ближе к котлу, начали ссориться и чуть было не вцепились друг другу в глотки, если бы происходящее на месте казни не обещало большее удовольствие. Они поправили свои шляпы и жадно вновь уставились на опускаемого в котел Маншо. На этот раз его опустили по грудь. Он начал жалобно стонать, потом кричать, как на вертеле Сатаны. Лишь когда его снова облили водой на помосте, крик перешел в тихий плач. Против его воли губы разжались, он потерял самообладание. При третьем опускании он исчез по плечи в кипящем, покрывшемся пузырями бульоне. И снова он закричал, заглушая возбужденные крики толпы. Каждое новое опускание сопровождалось ударом в барабан и визгом свиней, которые продавались в некотором отдалении, но никто не обращал на них внимания, потому что глаза всех были прикованы к месту казни. И мои тоже. Я испытывал ужас, отвращение, однако не мог оторваться от ужасного спектакля, как при наказании Квазимодо. Если Маншо действительно был жнецом, то он без сомнения, заслужил наказание. Но невинный? Ужасная мысль преследовала меня, подобно хищной птице, чьи острые когти не выпускают больше ничего: вероятно, единственной причиной тому, почему я не мог отвести взгляд от Николя Маншо, было то, что мне нравился этот спектакль. Муки однорукого доставляли мне удовольствие?! Отвращение, которое, как я думал, испытывал — это только отговорка, защитная стена, которую я воздвиг глубоко в своем сознании?! Если это так, то катары правы. Тогда человек был плох, он греховен с головы до ног. От мяса на костях, да вплоть до самой глубины души, он был пронизан злом. И потом было бы хорошо освободить человечество от самого себя. Разве это были дреговиты, которые всегда имели преимущество? Боролся ли я с человеком, настраивая себя против отца Фролло, который хотел справедливости? Голос Тортерю перекрыл крики страдающего и мрачное видение моих мыслей. Оба помощника палача повернули лебедку, подняли наверх превратившееся в покрытую пузырями красную массу мяса сваренного и в очередной раз полили его холодной водой. Потом они опять схватили деревянные рукоятки пускового механизма и опустили Маншо сантиметр за сантиметром в котел. Адская боль прогнала все самообладание. Маншо закричал и задергался, словно так мог спасти свое тело. Лебедка заскрипела, когда он раскачивался над котлом из стороны в сторону. По приказу Тортерю его слуги прекратили опускание. Слишком поздно… Что для невредимого было бы бесполезной попыткой, Маншо удалось по причине его увечья. Веревка соскочила из-под культи его правой руки, так что теперь он криво висел на веревке только с левой стороны и опустился ниже на полсажени. Помощники палача испуганно вытягивали его наверх рывками. Слишком порывисто! Маншо развернулся вокруг оси, закачался еще сильнее, чем прежде и соскользнул уже со второй петли. Он упал вниз, в котел. Кипящее масло брызнуло во все стороны, когда оно сомкнулось над человеком. Зеваки в первых рядах вокруг котла закричали, словно масло обожгло их кожу. Они подались назад — безуспешно, настолько плотно стояли люди, а в задних рядах напирали еще сильнее вперед из-за неожиданного поворота событий, желая получше рассмотреть, что случилось с Маншо в котле. Одна из горожанок, молодая красивая женщина, уже без шляпы, согнулась и закрыла руками лицо. Когда с громким плачем она, наконец, снова отняла руки прочь, ее гладкие щеки покрылись пузырчатой свиной кожей. На нее явно вылилось полведра масла. В это время Тортерю и его люди разыгрывали гротескную пьесу на помосте. Со сжатыми кулаками палач прыгал туда-сюда, так что уже испугались, как бы он не проломил доски и не упал в котел, как Маншо. Его голос срывался, когда он осыпал своих слуг проклятиями, которые отдавались в улицах Парижа. Бедные парни вовсю орудовали двумя длинными шестами с крюками, какие используют рыбаки, чтобы оттолкнуть свои лодки от берега. Они мешали в котле как повара, которые варили огромный горшок супа. Время от времени они доставали кусок Маншо из кипящего масла — иногда ступню, потом его руку или даже голову. Но приговоренный все глубже опускался в бурлящем бульоне, словно черти, обитающие в жидком аду, не хотели его больше возвращать. Между тем мессиру Нуаре пришла в голову идея потушить огонь. Солдаты из королевской стражи, сопровождавшие приговоренного к месту казни, образовали цепочку к плоскому корыту, в котором выставленные на продажу свиньи утоляли жажду, и передавали ведра с водой, которые мессир Нуаре собственноручно выливал на огонь. Плотные клубы пара окутали всю площадь казни и скрыли происходящее от наших глаз. Когда они постепенно развеялись, огонь был потушен. И людям Тортерю удалось выловить Маншо из котла — или, лучше сказать, то, что осталось от бедного парня. Перед котлом на земле лежал его скрюченный труп, потому что жизнь не могла больше сохраниться в груде разваренного мяса. Оно отделялось от костей, пара кусков мяса должна была еще плавать в котле, в супе смерти. Что осталось от лица Маншо, едва ли можно было назвать таковым. Вздувшаяся кожа на прозрачных костях, голова без волос, пустые глазницы. Это напомнило мне о Вийоне. Мессир Нуаре, промокший от пара и собственного пота, добился в некоторой степени с успехом понимания и внимания, когда он объявлял, что теперь будет исполнена вторая часть приговора. И, будто на долю Маншо выпало недостаточно страданий, его развалившийся труп укрепили под конец на виселице. В толпе началось волнение. Некоторые увидели достаточно и вернулись домой или к своим делам на рынке. Другие стремились пробраться из задних рядов вперед, чтобы рассмотреть вблизи сваренного и повешенного. Обрызганные горячим маслом жаловались во все горло и объявляли, что они заявят о своем ущербе. Женщина с обваренным лицом остолбенев шла прочь, поддерживаемая подругой. Ее супруг женился на красавице и должен теперь смотреть на самое уродливое лицо, какое только можно найти в Париже — если не считать звонаря в Нотр-Даме. — Теперь я проголодался, — сказал Фальконе и потянул меня опять за собой. — Я знаю хороший постоялый двор совсем рядом. Пойдемте, месье Арман, я приглашаю вас. Казнь привлекла так много народу на Свиной рынок, что мы нашли буквально одно свободное место за маленьким квадратным столом. Фальконе заказал две миски мясного бульона, что мне было совсем не приятно. Это горячее варево напоминало мне о кипяченом масле, и когда Фальконе окунул корку пшеничного хлеба в бульон, я увидел Николя Маншо перед собой. Хлебные крошки размякли по краям, как мясо на костях Маншо. Я боролся с чувством слабости в желудке и сознательно не притронулся к еде. — Чтотакое, вы не проголодались? — спросил Фальконе, отправляя в рот деревянной ложкой мясную клецку и жуя ее с громким чавканьем. — Аппетит окончательно прошел. — Сочувствие жнецу Нотр-Дама? — Вы же говорите, он невиновен. — Но когда он пришел в Гран-Шатле и сделал признание, вот что он принес с собой, — лейтенант сыска положил кинжал с запачканным кровью клинком и колоду карт на стол. Одним движением руки он смешал карты. Все показали десятку. — Выглядит, как убедительное доказательство, не так ли? — Уж чересчур убедительное, — возразил я и рассмотрел кинжал. — Верится с трудом, что убийца не постарался очистить свое оружие от крови. — И это говорите вы, Арман! — И все же Маншо был осужден? — Он признался. — Почему? — Потому что он не выносил больше угрызений совести и хотел получить искупление своих грехов, — Фальконе громко засмеялся. — Такую, во всяком случае, причину он назвал. — А что, как думаете вы, действительно подтолкнуло его позволить убить себя так жестоко? Фальконе с явным аппетитом кусал размоченный хлеб и ответил жуя: — Его порядочность и, пожалуй, смертельный страх. С тех пор как он признался, его семья бесследно пропала. После рокового несчастного случая Маншо грызли платок голода. Я допускаю, что теперь они живут в каком-нибудь отдаленном месте в деревне — и их хорошо кормят. — Но кто? — Те, кто бы жестоко убили не только Маншо, но и его жену и детей, если бы он не выдал себя за жнеца Нотр-Дама Маншо мог выбирать только между своей собственной смертью и смертью всей своей семьи. Он выбрал меньшее зло — и, тем самым, обеспечил своим выживание. Хорошая сделка, вы так не считаете? — Ни в коем случае, — сказал я тихо и судорожно; мучной суп, съеденный за завтраком, хотел встать у меня в горле комом. — Торговля была ему навязана, а не предложена. Это не того рода милосердие, которое провозглашается в Святом Писании. — Литейщики и весовщики не живут по Святому Писанию. Они хотели поставить мне предполагаемого жнеца, чтобы я прекратил свои поиски. Я задумался и покачал головой: — Это же противоречиво. Сперва фальшивые монеты привлекли ваше внимание к ним, при этом они убили монахиню и причетника привлекающим всеобщее внимание образом. А потом они хотят замести все следы? — Убийства в Отеле-Дьё и Нотр-Даме были должны произвести впечатление не на меня, а на собственных союзников. Фальшивомонетчики хотели показать своим, что пустая болтовня смертельна. Они, пожалуй, не рассчитывали на то, что я буду заниматься этим делом еще много недель спустя. Признание Маншо, в котором он, впрочем, не выдал ни одного предполагаемого сообщника, должно закончить поиски, — Фальконе наклонился вперед и понизил голос до доверительного шепота. — Странные вещи происходят в Париже. Я же рассказывал вам о мэтре Сенене, исчезнувшем казначее. — Я припоминаю, — сказал я по возможности спокойно и спрятал на коленях вдруг вспотевшие ладони. — Несколько недель назад произошло нападение на Консьержери, но королевские стрелки обратили в бегство нападавших. Вскоре после этого несколько повозок выехало из Дворца правосудия. Значит, это были отвлекающие маневры. В действительности только в одной карете кто-то сидел, мужчина, которого напрасно пытались освободить из темницы. И этим человеком должен быть Сенен. Я разыграл удивление и спросил: — Разве вы не знаете точно? Я думаю, начальники Консьержери должны же были вам сказать, кто пленник. — Совершенно наоборот, там ничего не знают. Ничего не слышали ни об исчезнувшем пленнике, ни о таинственных кучерах. Нападение, значит, явно было совершено с целью ограбления государственной казны. Если я пытаюсь разузнать больше, то натыкаюсь на стены молчания. Влиятельные мужи сидят в правлении Консьержери. — И личный врач нашего доброго короля, — пробормотал я. — Ах, вы это знаете? Голова Фальконе пододвинулась еще ближе, так что чуть его нос не уткнулся в мой. Я услышал его дыхание, и острый запах мясного бульона усилил мое тошнотворное состояние. Я вспомнил о посещении у толстухи Марго, когда лейтенант назвал меня своим гостем, а в действительности — допрашивал. Итак, это повторялось снова, я теперь это знал. То, что я был приглашен на казнь Маншо, мясной бульон и разговор, который вовлекал меня Фальконе — все служило одной цели: сбить меня с толку. И в замешательстве я должен выдать себя. Что ему было известно, и о чем он подозревал? — Я немного слышал о мессире Куактье, — сказал я безобидным тоном. — Почему? — Потому что я случайно встречался с ним. — Где? — В Нотр-Даме, где он навещал отца Фролло. Разве это не естественно, что хотят узнать больше о таком уважаемом муже, если знакомятся с ним? Фальконе прослушал мой вопрос из-за своего собственного: — Что хотел Куактье от Фролло? — Это я не осмелился спросить. Так как они шли в келью Фролло в Северной башне, то допускаю, что Куактье придает меньше значения духовному содействию, нежели герметическим знаниям. Похоже, личный врач короля Людовика вас очень занимает. Тому есть особая причина? — Все может быть важным для человека с моим поручением, как я уже говорил вам. Я должен больше выяснить о случае в Консьержери, прежде чем умрут другие невиновные. — Кому же суждено умереть? — Например, маленькой цыганке, которая бедствует у нас в Шатле. Ее называют Эсмеральдой. Вы должны были слышать об этом деле. Попал в точку! Если мне удалось внешне сохранить спокойствие, то только с большим усилием. Внутри я кипел, как смертельное масло в котле. То, что Фальконе упомянул Эсмеральду, было хорошо продумано. — Эта цыганка, видимо, заколола кинжалом человека, офицера, не так ли? — поинтересовался я как можно более небрежно. — Капитана королевских стрелков, а именно того, кто прервал нападение на Консьержери. Теперь скажите, мой умный месье Сове, могло ли это быть совпадением? — Вы, безусловно, не верите в совпадения, — ответил я и попытался усмехнуться. — Итак, вы исходите, пожалуй, из того, что в лице капитана хотели устранить свидетеля. — Да! — А цыганка? Почему вы верите в ее невиновность? — Потому что уличный мальчишка принес записку с вестью об убийстве в Пти-Шатле, еще прежде, чем было совершено убийство. И потому что старая Фалурдель, — в трущобе этой сводницы произошло убийство, — о чем-то умалчивает. Эсмеральда что-то говорила о закутанном в плащ мужчине, который достал кинжал. Фалурдель утверждает, что она никого не видела, и что никто не проходил в дом мимо нее. Но я считаю, что хорошо разбираюсь в людях, чтобы разглядеть в ней лгунью. — Тогда передайте ее мэтру Тортерю. Он-то выдавит из нее правду. — Невозможно, против возраста нет средств. Если в течение нескольких дней не случиться чуда, Эсмеральда закончит так же на веревке, как жалкие остатки Маншо. На следующей неделе она предстанет перед судом. Впрочем, она-то наверняка достанется Тортерю. — Ее… будут пытать? — Конечно. И она признается. Что же еще? Ее единственная надежда высунуть голову из петли заключается в том, что Фалурдель скажет что-нибудь другое во время прений, но на это цыганка не может надеяться. Лжет ли Фалурдель из страха или из-за денег — делает она это в любом случае железно. Эсмеральда на столе пыток и уже скоро — на виселице! Возможно, это открытие окончательно повергло меня в замешательство, и я бы проговорился, если бы полноватая женщина с ведром не подошла к нашему столу. — Молодой человек выглядит нехорошо. Ему плохо? Тогда мое масло поможет наверняка, — и она уже опустила кусочек платка в теплое масло и помазала мне лоб и мои щеки. — Кипяченое масло лечит все зло, вам сейчас же станет лучше. Стоит один соль, мессир. Она протянула свою жирную руку, но я, уставившись на нее в упор, только спросил по слогам: — Ки-пя-че-но-е мас-ло? Фальконе засмеялся и показал на окна без стекол. — Ну, конечно же. Вам разве не известно, месье Арман, что занозам виселицы, костям и определенным частям тела казненного приписывают целебные свойства? То же самое — и кипяченому маслу. Продавцы масла на Свином рынке всегда делают хорошую прибыль на этом, и еще больше это окупается для палача. Только теперь я увидел через открытое окно длинную очередь людей, которая образовалась вокруг котла. Мужчины, женщины и дети давали помощникам палача свои кружки, миски и ведра, чтобы те наполняли их маслом, в котором Николя Маншо нашел свою смерть. И каждый клал свою лепту в протянутую ладонь Тортерю. — Один соль, месье, — настаивала толстуха. — Масло еще теплое. Оно точно поможет! Еще теплое? Мне казалось, что мой лоб и щеки горят! Я подумал о том, что возможно, в ведре плавали остатки мяса Маншо. Тошнота подступила к горлу, я вскочил со своей скамьи, бросился к бочке с водой, в которой гости мыли руки, и опустил голову в грязную, жирную влагу. Все снова и снова я тер руками лицо, но кипяченое масло не хотело смываться. Давящее чувство в животе стало не сдерживаемым, и меня вытошнило в бочку.Глава 3 Притон сводни
Дом сводни лежал передо мной, как спящее чудовище, тихое и мрачное. Хотя солнце давно зашло, глаза чудовища были закрыты, ни в одном окне не горел свет. Было слишком рано. Лишь после пьянящего вина, после которого забывается груз дня, горожане и школяры обращались к свободным бабочкам, если остались еще лишние деньги. Я стоял на том же самом углу, как в тот вечер, когда видел заходящими в дом Эсмеральду и капитана, и хотел выяснить, почему лгала Фалурдель. Потом я мог привлечь Бийона или цыганского герцога, чтобы задать жару сводне. Конечно, я мог бы рассказать правду лейтенанту Фальконе ради освобождения Эсмеральды. Но кто бы поверил моему сумасбродному рассказу? К тому же, я ничего не мог доказать. Многоуважаемый отец Фролло, который имеет дела даже с королем и его личным врачом, у которого друзья в суде вроде Годена и Шармолю, — подлый убийца? Да меня высмеют! Задним числом я должен признаться, что пытался из чувства вины в одиночку помочь Эсмеральде. Если бы я предотвратил убийство капитана Феба, если бы я не только наблюдал за ними?! Это заставляло меня испытывать ответственность за бедную судьбу цыганки. Моя прогулка к мосту Сен-Мишель была попыткой исправить положение, что, по моим представлениям, я был обязан сделать для Эсмеральды. Я надеялся, таким образом заслужить ее милость и уважение. Зачем я хотел это? Ну, цыганка была очаровательной женщиной. Колетта поправилась, и я благодарил Бога за это, но она теперь держалась со мной необычно отстранено — не только равнодушно, а чуть ли не враждебно. У меня не было объяснения тому, и я вряд ли нашел бы таковое, пока она скрывалась в подземном убежище Вийона, куда вернулась после своего выздоровления. Я собрался с духом, подошел к притону сводни и постучал в дверь, которая вся прогнила от влажности вблизи Сены. Ничто не колыхнулось. Но Фалурдель или кто-то другой должен был там быть. Тонкие нити света пробивались через щели. И я слышал запах дыма. Итак, я постучал еще раз, так сильно, что дверь задрожала. — Не рушьте мой дом, проклятье! — прокряхтела старуха — Да иду я уже, иду я уже, — и она подошла, шаркая ногами, отперла дверь, приоткрыла ее на небольшую щель и осветила лампой мне лицо. — Что вы хотите, месье? Гнилостный запах обдал меня, так что я охотнее всего отвернулся бы. Мне стало почти так же дурно, как днем, когда толстуха помазала мне лоб и щеки кипяченым маслом и еще осмелилась потом потребовать за это деньги. Фальконе заплатил ей, и я посчитал возможным, что он даже велел ей специально подойти к нам. — Хороший глоток вы можете мне предложить, конечно, взамен хорошей оплаты, — сказал я. Окруженные многочисленными морщинами глаза взглянули на меня недоверчиво. — Пить вы можете здесь, наверняка, но это не то дело, которым я живу. — Да, я в курсе, мадам Фалурдель. Моя милашка подойдет попозже, я пришел первым. — Может быть, может быть, — захихикала старуха и раскрыла дверь шире. — Ну, тогда заходите, месье, и позвольте вас угостить. Деньги-то есть у вас, скажите? И как само собой разумеется ко мне протянулась лапа, в которую я сунул один соль. Внутри притон сводни был таким же обшарпанным и обветшалым, как и фасад. Заляпанные стены уже целую вечность не красились, потолочные балки почернели как затянутая облаками ночь, камин, в котором потрескивал тлеющий огонь, полностью вышел из строя. По всех углам висела паутина, словно ее кровожадные создатели только и поджидали скорейшей кончины сводни, чтобы потом окончательно занять ее квартиру. Пахло нечистотами и плесенью, смертью и разложением. Единственным живым существом был шелудивый грязный паренек, который сидел на сундуке и стучал голыми ногами по дереву, при этом он напевал медленную мелодию и раскачивал из стороны в сторону головой. — Вина многоуважаемому господину, Фэсан, ну живей! Фалурдель согнала паренька с сундука и поставила мне шатающийся стул. Высохшая, сморщенная женщина выглядела, как согнутая грузом возраста буква «I», которая — недалек тот день — окончательно надломиться и упадет. — Принеси вино не только для меня, но и для мадам Фалурдель! — крикнул я мальчишке, который исчез за стойкой, состоящей из пары досок, положенных на бочки. — Садитесь со мной, мадам, тогда мы сможем скоротать немного времени за болтовней. Она уселась и ухмыльнулась мне ртом с гнилыми неровными зубами. Так показалось мне, пока в свете лампы, которую она поставила на стол, я не узнал истину. Возраст иссушил ее кожу, при этом губы до десен запали и навсегда обнажили жалкие остатки ее челюсти. Теперь всегда казалось, что она будет улыбаться до самой смерти. Фэсан принес два грязных глиняных бокала со сколотыми краями и не лучше сохранившийся кувшин, который источал резкий кисло-сладкий аромат. Мои предположения, что вино уже не далеко к тому, чтобы превратится в уксус, оказалось верным, когда я осторожно пригубил из липкого бокала. Снова недоверие закралось в глазах хозяйки. Я слишком мало выпил этого пойла? Она одним глотком наполовину опустошила свой бокал и издала целый ряд зловонных отрыжек. — Вы уже бывали у меня в гостях, мессир? — Я впервые переступил порог вашего дома, — ответил я правдиво. — Но я много уже слышал о вас. После того ужасного события, произошедшего у вас, мадам Фалурдель у всех на устах. Она подмигнула, задрожала и ее белая борода задрожала: — О чем вы говорите, мессир? — О капитане, которого у вас здесь зарезали. Говорят, это произошло в вашей гостиной. Верно? — Да, это было здесь. Но я не понимаю, что вас в этой истории… — О, это доставило бы мне особую радость — пойти с моим сокровищем именно в ту самую комнату. Вы понимаете, мадам? Я заплатил бы двойную цену. — Двойную цену, говорите вы? — она довольно кивнула. Это был тот язык, который она понимала. — Вы могли бы мне уже сейчас показать комнату? Я наверняка буду возбужден этим зрелищем. — Комната стоит золотую крону. Я положил две кроны на стол, и в следующий миг они исчезли в жадных руках Фалурдель. — Ну, тогда пойдемте, мессир! Я покажу вам чулан, в котором вы можете покормить свою голубку. Она взяла закоптелую лампу и заковыляла к узкой крутой лестнице, похожей больше на приставную лестницу, нежели обычную лестницу в доме, по которой, несмотря на свой возраст, она забралась с удивительной ловкостью. Я последовал за ней на мрачный верхний этаж, где она уперлась в дверь каморки. В дрожащем свете лампы я узнал место, в котором капитан Феб искал любовных утех, а нашел смерть. Тут стоял сундук, на котором он сидел вместе с Эсмеральдой, кровать, на которой он наслаждался ее теплой, сладкой плотью. Слишком недолго для него… и для цыганки тоже? При мысли о двух телах на кровати меня охватила ревность. Я повернулся к затянутому паутиной окну, через которое можно было нечетко разобрать темную реку и мост со скудно освещенными рядами домов. Позади них дома, башни и стены расплывались в ночной темноте, в тумане над Сеной, и любая тень оставалась тайной. Днем Париж был лабиринтом, ночью — мистерией. — Если мессир хочет здесь подождать свое сокровище, то я с удовольствием распоряжусь принести вам вина сюда. — Велите принести вина и подарите мне еще немного вашего волшебного общества, мадам. Я бы охотно послушал еще о том, что здесь разыгралось, — я попытался скривить довольную, наполненную радостью мину. Старуха кивнула и поставила лампу на сундук: — Я принесу вина, мессир. Вскоре после этого она вернулась обратно с кувшином и бокалами. Вольно или невольно я пил ужасное пойло, которое Фалурдель заливала с жадным удовольствием в свое высохшее, морщинистое горло. Мы сидели на кровати, и я страстно молился, чтобы старой карге не пришла на ум похотливая мысль. Представления об ее нагом, морщинистом теле было достаточно, чтобы прогнать обратно винный уксус тем же путем, каким он попадал ко мне в желудок. Гнилой запах, который исторгала ее пасть, мне удавалось переносить все с большим трудом. — Значит, здесь старуха смерть нанесла свой удар, — сказал я, чтобы начать разговор. — Как вы сами видите, мессир. Фалурдель указала костлявым пальцем на темное, больше чем ладонь пятно на матраце. Липкая масса уже застыла и сопротивлялась всем попыткам уборки, если старуха вообще предпринимала такие попытки. Кровь капитана! Мысль, что за последние недели бесчисленное количество пар ворочалось на испачканном кровью матраце, не облегчала мне необходимость переваривать якобы вино в желудке. Я сделал глоток и сказал: — Рана, должно быть, была велика. — Я не смотрела на мертвого. — Меня удивляет, что женщина может обладать такой силой. — Она цыганка, ведьма. С помощью своих колдовских сил Эсмеральда могла бы убить целую роту солдат. Она действительно верила в это — или же хотела уйти в сторону, что она знала настоящие обстоятельства происшествия? Отец Фролло едва мог пройти незамечено мимо нее. Но я так же сильно старался, я не мог определить выражение ее обезьяньего лица. Среди многочисленных складок, бородавок и волосков любое волнение превращалось в несказанные гримасы. И ее глаза, которые, возможно, и могли мне что-то выдать, были скрыты в тени. — Откуда вам известно это, мадам? — Что? — Что она цыганки и ведьма. — Вы что, не распознаете цыганку, если ее увидите? Она должна быть ведьмой, иначе она бы не сумела убить такого бравого мужчину, как Феб де Шатопер. Кроме того, всякая цыганская баба — ведьма, не так ли? Я выдавил из себя улыбку и ответил: — Я думал, вы знакомы с убийцей ближе. — Я? — ее голос звучал возмущенно. — Как вы додумались до этого, мессир? — Вы называете ее по имени, Эсмеральда. — С той самой ночи убийства воробьи чирикают по всему Парижу это имя над крышами. — И капитан вам не знаком ближе? — Да, он часто заходил ко мне пожарить на вертеле цыпленка, — с этими словами она снова захихикала, теперь ее тон стал серьезным, и она немного отодвинулась от меня. — Вы очень любопытны. Почему вы так падки до этой истории? — Я же сказал вам, что такие описания нравятся мне. Итак, расскажите мне побольше и будьте уверены, что вы не потратите без толку ваше время! Следующей кроной я купил, как надеялся, ее благожелательность. Постепенно мой кошелек становился легче. Фалурдель спрятала монету где-то в складках одежды и обнажила еще больше свои черноватые десны, которые я принял за улыбку. Она наклонилась над сундуком и наполнила бокал. Поневоле я выпил вместе и так же улыбался, пока она молола мне всякую чепуху о примечательных событиях в жизни «честной хозяйки таверны». Все снова я пытался перевести разговор об убийстве капитана Феба, но это мне не удавалось. Мой язык отяжелел и как онемевшее инородное тело лежал у меня во рту — разбухший комок, который отказывался подчиняться. Мое сознание заволокло, будто затянутое клубами тумана, которые тянулись с реки, через щели оконных рам, наполняли помещение и ползли через рот, нос и уши в мою голову. Там они улеглись подобно сильным пальцам вокруг моего мозга и давили на него, отчего было больно. Я чувствовал оглушение вместе с болью. Каждое слово, которое формировал мой язык, несмотря на отчаянное сопротивление, и каждый кивок вызывали новое давление в моей голове. У меня было ощущение, что мне потребовались часы, чтобы понять, что меня окутывали не пары Сены, а пойло, называемое вином. Я храбро пил его, чтобы усыпить бдительность Фалурдель, и вместо этого сам напоил себя. Я так неловко отразил новую попытку старухи наполнить мой бокал, что кувшин разбился о пол. Красная жидкость разлилась по замшелому полу и затекла в щели. Осталось всего лишь большое пятно, подобное высохшей крови капитана на матраце. Яростное кряхтение и оханье заставило вздрогнуть меня. Было ли это доски в прихожей, которые требовали еще больше вина и крови? Жило ли это запутанное здание пролитым соком жизни? Была ли ведьмой не Эсмеральда, а Фалурдель? Когда я взглянул на нее — с бородой, бородавками и морщинами, вечной гримасой, ответ стал мне ясен: она заколдовала меня, дала выпить яд и хотела принести меня в жертву своему дьявольскому дому, как это произошло с Фебом! Я вскочил и хотел вырваться из каморки, но резкое движение отдалось болью в голове во сто крат. Невидимые пальцы сомкнулись одним рывком и раздавили мой мозг, как гнилое яблоко. Все расплылось перед моими глазами и растворилось в болезненной колющей боли, которая пронзила мой череп, словно его прокололи со всех сторон клинками. Поскользнулся ли я на пролитом вине или мои ноги просто отказали мне? Я упал, ударился головой о деревянный сундук — и новая волна боли накрыла меня с головой. Когда завеса тумана рассеялась, и мой взгляд прояснился, я узнал, что вызывало кряхтение и оханье: шаги по лестнице. Я увидел грязные сапоги, брюки, верхнюю одежду… Жесткие, обветренные лица, которые мрачно и безжалостно смотрели на меня. Сильные руки, сжимающие рукоять кинжала или палку. И посередине — вечно ухмыляющееся лицо Фалурдель. Одна из палок ударила меня, попала по голове, и я снова погрузился в туман, самый густой из тех, который когда-либо висел над Сеной. Последнее, что я разобрал, было сиплое хихиканье сводни.Глава 4 Месть Гутенберга
Я попал в плен темноты и неподвижности. Вокруг меня была ткань, мешок. Я был слишком оглушен, чтобы разорвать грубый лен, и он бы не поддался этому. Потому что что-то болезненно врезалось мне в кожу — должно быть, тугие путы. Мешок кто-то нес на плече, а потом небрежно сбросил с полной высоты на что-то жесткое, на деревянные доски. Я услышал приглушенные голоса, потом плеск и от нового качания меня стало заново тошнить. «Лодка на реке!» — было моей последней мимолетней мыслью — перед тем как я потерял сознание. Я очнулся снова, лишь когда голоса раздались в моем оглушенном сознании. Я по-прежнему был связан и находился в мешке. Сухая пыль забилась мне в рот и нос, но я сдерживался, чтобы не чихнуть и не закашлять. Я чувствовал, что было важно и дальше разыгрывать обморочное состояние. Возможно, это зависело оттого, что голоса мне казались знакомыми, хотя я и не мог их определить. В моей голове стоял постоянный шум и гул — видимо, последствия жесткого удара, возможно — отравленного вина. Но и двое мужчин говорили тихо, я разобрал только части разговора. —…Наконец, прибыли, — сказал низкий, полнозвучный голос. — Кем бы ни был этот проныра, его появление у старухи Фалурдель доказывает, что на наш след вышли. Более звонкий голос, он показался мне каким-то образом знакомым, возразил: — Не лезьте в бутылку, мэтр Гаспар. Разнюхивающий кусок навоза уже давно сам стал добычей охоты. Возможно, это всего лишь воображала. Возьми хорошенько парня в оборот, вы знаете в этом толк. Тогда он все разболтает… Гул в голове заглушил конец фразы, он становился громче, если я думал напряженнее. Голос мне казался таким знакомым, как и само имя — мэтр Гаспар — но мне никак не приходил ответ на ум. — Собственно я хотел сегодня ночью поработать, — пробормотал низкий голос. — Мне совершенно не с руки заниматься этим прощелыгой. — Если же он больше, чем воображала, об этом следует знать отцу Клоду до Вальпургиевой ночи. — На Вальпургиеву ночь должно что-то случиться? — Отец Клод считает, так будет лучше, и так же великий магистр желает того же. Паук Плесси становится слишком любопытен. Он, похоже, догадывается, что не все в ближайшем окружении заслуживают его доверия. Большой выезд — лучшая возможность отрубить ему голову. Маски скроют не только крестьян, но и исполнителей. Когда звонкий голос разразился блеющим смехом, я знал, кому он принадлежит. Уже упоминание отца Клода должно было мне подсказать. Если мужчина с козлиным смехом увидит меня, все пропало! — Я сообщу отцу Клоду об ищейке и передам вам в случае необходимости его распоряжения, мэтр, — сказал мой старый знакомый и распрощался к моему большому облегчению с человеком по имени Гаспар. Теперь я услышал постукивание дерева и металла, как и тихие голоса, порой только краткие крики. Где я теперь находился, тяжело работали. Пахло маслом и жиром. И пахло сухой бумагой. Это был запах, который я разобрал бы еще в могиле, так я верил и думал, что, возможно, скоро смогу установить, действительно ли это было так. Шаги нескольких мужчин стучали возле моего уха, и я услышал голос мэтра Гаспара, отдающий приказ: — Развяжите мешок! Ищейка уже достаточно поспал. Мешок схватили и швырнули. Я ударился головой обо что-то твердое, пожалуй, о стену, и это был только вопрос времени — лопнет ли мой череп, как оброненное яйцо. Свет ламп и свечей бил в глаза, когда сильные руки вынули меня из мешка. Я быстро зажмурился и упал на пол, в надежде, что меня примут за потерявшего сознание и обождут. Ушат воды смыл надежду. Кашляя и хватая ртом воздух, я не мог притворяться спящим. Итак, я открыл глаза и увидел напротив троих мужчин, которые все были в кожаных фартуках. Двое держали ножи в руках и, похоже, не знали, перерезать мне путы или фитиль моей жизни. Третий мужчина, настоящая бочка в виде коренастого парня, который казался еще шире с упертыми в бока руками, должно быть был мэтр Гаспар. — Разрежьте веревки, — приказал он, и я вздохнул. — Ничтожество никуда от нас не денется. Путы упали с моих рук и щиколоток, и я неловко растер онемевшие руки и ноги. С трудом я поднялся. — Ну что, лучше? — спросил Гаспар без искреннего участия. — Да, получше. — Ах, ты и говорить умеешь? Мило. Тогда выкладывай-ка! Как тебя зовут и почему ты расспрашивал Фалурдель об убийстве? — Почему вы хотите это знать? Один из людей Гаспара ударил локтем мне по левой почке. Я закричал от боли. — Отвечай на мои вопросы, тогда тебе не придется кричать, — вероломная гримаса искривила физиономию Гаспара, казавшуюся блином. — Итак, как твое имя? — Меня зовут Понсе, и я новичок в Париже, — солгал я, чтобы спасти себя от следующих болезненных тычков. — Если я какой-нибудь глупостью вызвал ваше неудовольствие, простите меня. — Явно было глупо, так выпытывать старую Фалурдель, — возразил Гаспар. — Какое тебе дело до убийства, а? — Ах, только любопытство. Я считаю такие истории по-настоящему волнующими и хотел… Дальше я не дошел. Краткий кивок мэтра Гаспара, и на этот раз я получал одновременно два удара — один по каждой почке. Боль пронзила меня, я даже покачнулся. Горький привкус желчи поднялся у меня в горле. Я подавился и сплюнул. Цветные звезды и черные полосы затанцевали у меня перед глазами. — Отнесите его в мастерскую! — приказал Гаспар. — Мы должны действовать немного ловчее, чтобы развязать ему язык. Двое парней подхватили меня под мышки и протащили из чулана в большее помещение, где трое других мужчин в кожаных фартуках занимались своей работой. Они с любопытством взглянули на меня, — но без сочувствия. Тут же мне стало ясно, что мне не от кого ждать помощи. — Если ты попытаешься смыться, это повлечет болезненные последствия, — предупредил меня Гаспар. — Кричать можешь, сколько хочешь — это не поможет тебе. На дворе снаружи никого нет, а стекла толстые и снаружи, как и внутри закрыты на большие замки. — Возможно, нам следует его немного поджарить, — один из тех двоих, что притащили меня, указал на огромную печь, на которой дымилась кастрюля. Третий сидел недалеко от плиты за столом перед весами для монет и сортировал серебряные монеты. Некоторые шли в мешок, другие — в кастрюлю. И тут я понял, каким промыслом занимался мэтр Гаспар и его люди. Они были литейщиками и весовщиками. Фальшивомонетчиками. И то, что они открыли мне свою тайну, означало, что они не отпустят меня живым. — Нет, не огонь, — решил Гаспар. — Месье Ищейка кажется немного неженкой. От огня некоторые быстро лишаются чувств, и потом он не сможет больше говорить. Нужно его так изувечить, чтобы он это видел, но все же оставался в сознании, — он оглянулся и кивнул. — Ах, пресс, прекрасно! Теперь и я увидел его и испугался вдвойне словам Гаспара и при виде машины, которая стояла на тяжелых деревянных подпорках посередине комнаты. Это было дьявольское изобретение Гутенберга — печатный станок! Тут мне пришло в голову, где я слышал имя Гаспара: на Свином рынке. — Вы мэтр Гаспар Глэр, книгопечатник! — выпалил я. — Итак, тебе кое-что известно. Чудесно, сейчас ты расскажешь еще больше. Вперед, его руку! Гаспар Глэр потер свои вымазанные черной краской руки и наблюдал затем, как его подмастерья тащат меня к книгопечатному прессу. При этом мы прошли мимо маленького аппарата, который выглядел точно так же, но служил не для печати на бумаге, а для чеканки монет. Постепенно я собрал все нити воедино, но, похоже, слишком поздно. Оба парня крепко держали меня, и человек, который прежде сидел у весов для монет, сжал мою правую руку под деревянный прямоугольник печатного тигеля. Они явно не впервой проделывают подобное, и в моем воображении всплыл однорукий Николя. Действительно ли он потерял руку во время несчастного случая? Мэтр Гаспар положил свои руки на длинный оловянный рычаг, который был связан деревянным шпинделем с печатным тигелем, и посмотрел требовательно на меня. — Итак, дружок Понсе или как тебя там зовут. Сейчас настало время для правды, если ты не хочешь провести остаток жизни калекой. — Если я буду молчать, вы сделаете меня калекой, если я буду говорить — трупом. Прекрасный выбор оставляете вы мне! — Почему я должен тебя убить? — Потому что я знаю ваше имя и знаю, что вы печатаете не только тексты. Мэтр Гаспар сделал долгий выдох: — Ты чересчур много думаешь, ищейка. Возможно, я буду милостив и отпущу тебя, если ты пообещаешь развернуться к Парижу спиной. Итак, ну как, ты будешь говорить? — Нет! Мой голос звучал не так уж твердо, как было мое решение. И все же это была единственная возможность выжить. С момента прибытия в Париж я видел слишком много жестко убитых, чтобы поверить в милость книгопечатника. Он повернул рычаг в сторону. Шпиндель повернулся и прижал тигель плотнее к тяжелой деревянной пластине, на которой лежала моя рука. Я взглянул на мою дрожащую руку, которую напрасно пытался вытянуть, и на тигель, который приближался все ближе и ближе, пока не коснулся моей кожи. Давление уже усилилось, и подмастерье книгопечатника мог отпустить мою зажатую руку. Гаспар Глэр убрал руку с рычага: — Последняя возможность спасти твою руку! Этот проклятый богом пресс! Я всегда подозревал, что однажды он станет моей смертью. Я еще больше проклинал Иоганна Гутенберга — и а тот же момент приносил извинения. Возможно, я слишком часто ругал его, и это стало его жестокой местью. Недостаточно того, что его машина лишила меня постоянного заработка — теперь она пожирает еще и мое тело, возможно, мою жизнь. Все задрожало у меня перед глазами — от страха или же от действия плохого вина? Лица мужчин превратились в гримасы демонов, как лица каменной армии на Нотр-Даме. Пресс обернулся прожорливым чудовищем, которое держало в своих зубах мою руку, как закуску, а вскоре проглотило бы меня всего. Давление на руку усилилось, стало болезненнее, и предводитель демонов — его звали Гаспар Глэр или Гутенберг? — обращался ко мне. — Иди к черту, Гутенберг! — закричал я, корчась от боли в гримасу демона, и в своем возбуждении не учел, что истинный Гутенберг уже годы пребывал либо в названном месте — либо противоположном. Я приготовился к последней боли, к неизбежному кромсанию меня самого. Никогда больше я не смогу взять в руки перо! Но вместо того, чтобы притянуть к себе на последний дюйм оловянный рычаг, мэтр Гаспар отошел в сторону от пресса и схватился за горло. Что-то длинное, блеснувшее в свете, застряло в нем. Кинжал! Хрипя, он упал на колени, повалился в сторону и после собственных диких судорог остался лежать недвижим. Его помощники бросились врассыпную, как вспугнутые уличные мальчишки. Но запертая мастерская печатников превратилась из крепости в ловушку. Повсюду появились фиолетовые мундиры королевских стражников. И посередине я увидел морщинистое лицо лейтенанта Пьеро Фальконе. Он подошел к прессу и отвел рычаг назад. Шпиндель повернулся и поднял тигель. Я был свободен! Осторожно я вынул руку из-под тигеля. Она была еще невредима и двигалась как прежде. С помощью Фальконе я поднялся, но чувствовал себя еще слабым, так что мне пришлось посидеть на деревянной доске. Я дрожал всем телом, и пот от страха бежал по мне теплым градом. Королевские стражники схватили пятерых и надели на их руки железные наручники. Фальконе приказал отправить их в Шатле и склонился над Гаспаром Глэром. — Этому нельзя больше ничем помочь, — постановил он, вынул свой кинжал из раны и вытер его о кожаный фартук мертвого. — А жаль. — Что же в этом жалкого? — заохал я. — Если бы не вы, лейтенант, он бы расплющил мою руку, как таракана. — И если бы мне не нужно было уберечь вас от такой судьбы, у меня сейчас был бы живой свидетель, а не мертвый фальшивомонетчик. — У вас есть его люди. — Гаспар Глэр явно не был предводителем литейщиков и весовщиков, но он, возможно, мог вывести меня на него. Его люди не должны много знать. Для них мэтр Гаспарбыл покровителем и богом. Если бы только вы доверились мне, месье Арман! — Но я ничего не знаю, клянусь вам, господин лейтенант. Сегодня днем я впервые из ваших уст услышал о книгопечатнике Гаспаре Глэре. — Возможно, это и так, к тому же вас притащили сюда. — Вам это известно? — Что же вы думаете, почему я здесь появился? Я не предполагал, что мэтр Гаспар занимался производством фальшивых монет, даже если появление в деле Николя Маншо озадачило меня. Я велел следить за домом сводни, и мои люди проследили за вашим похищением. — Фалурдель явно натравила мэтра Гаспара на меня, — сказал я и вспомнил, как она покинула комнату Святой Марты, чтобы принести вина. Вероятно, она послала взъерошенного парнишку к Гаспару Глэру. — Это мы сейчас выясним, Арман. Прежде чем мы покинули логово фальшивомонетчиков, я бросил последний взгляд на печатный станок. Гутенберг пощадил меня. Я поклялся никогда больше ничего не говорить против немецкого изобретателя. Мастерская мэтра Гаспара лежала на правом берегу Сены, рядом у реки и не далеко от Двора чудес. Сквозь плотный туман паром доставил Фальконе, меня и обоих сержантов, которые уже дважды заходили за мной в Нотр-Дам, к мосту Сен-Мишель. Фалурдель разыграла скверную комедию и хвалила Господа на небесах, что я остался в живых. Она уверяла, что не знала моих похитителей и еще меньше посылала за ними. — Спросите мальчишку, этого Фэсана! — сказал я Фальконе. — Старуха явно использовала его как посыльного. Но Фэсана нигде нельзя было найти, и Фалурдель объявила: — Иногда он помогает мне за пару солей, потом я снова целыми днями не вижу его. Но даже если вы найдете его, господин лейтенант, он едва ли сможет вам помочь. Его сознание темно, как эта ночь. Фальконе распрощался со сводней, и я спросил егоперед дверью, почему он не забрал ее с собой в Шатле. — Под пытками она бы наверняка призналась. — Ей нечего доказывать. У меня нет причин передавать еемэтру Тортерю. Скорее я мог бы вас отправить в камеру пыток, Арман Сове! — Опять вы за свое? — мой голос осекся. — Почему? — Потому что вы что-то скрываете от меня. Что вы хотели от Фалурдель? Я улыбнулся и вероятно неудачно: — Я еще и мужчина… — Глупости! — Но господин лейтенант! — Вы были один в доме сводни, без бабы. — О, я поджидал милую красотку. — Кого? — Ее имени я не знаю. Я заговорил с девушкой на мосту Сен-Мишель. Она должна была еще закончить свою работу и хотела потом подойти к Фалурдель. — На кого она работает? — Не имею понятия. — Я так и думал, — Фальконе заглянул глубоко мне в глаза. — Вы лжете, это известно вам, и я это тоже знаю. Но зачем? Что вы утаиваете от меня? — С чего вы это решили? — Сегодня днем я рассказал вам, что только Фалурдель может помочь цыганке, и вечером вы идете к старухе. Вот почему я думаю так! — Тогда вы должны предположить связь между мной и цыганкой. — Так оно и есть, — сказал Фальконе к моему удивлению. — Эсмеральду видели довольно часто танцующей перед Нотр-Дамом, хотя епископ запретил это. И кто там работает? — В Нотр-Даме работает дюжина людей. — Но они не появляются всегда именно там, где гостит старуха-смерть! — Я приношу, похоже, несчастье. — И правда! И если бы я сегодня не пришел, вы бы напоролись на острие косы. Не мните ли вы себя невредимым, Арман? Предводитель фальшивомонетчиков вершит свои дела, как раньше подлинный жнец Нотр-Дама. Возможно, это будет даже ради вашей безопасности, если я арестую вас. — На то у вас нет причины. — Вы забываете, что я задержал вас в мастерской фальшивомонетчиков. — А вы забываете, лейтенант, что меня там пытали и угрожали смертью. Это, пожалуй, не повод, подозревать меня в соучастии! — И почему вас пытали? — Путаница, я полагаю. Фальконе поморщил лоб, который и без того был в морщинах, и покачал головой. — Вы кажетесь таким чертовски хитрым, Арман. Но если вы не посмотрите вперед, то ваша хитрость превратится в рок. Сегодня она чуть не стоила вам головы. — Скажем, узкой руки. Фальконе взглянул задумчиво на туман над рекой и, наконец, заметил: — Я мог бы допустить, что вам известны важные сведения о фальшивомонетчиках. Тогда предводитель банды шел бы сразу за вами по пятам. — Вы стражник или убийца? Фальконе кисло усмехнулся: — Я подумаю об этом. И вы сделайте так же. Я даю вам день. Завтра вечером мы увидимся снова, и тогда я хочу, наконец, услышать от вас правду! Лодка доставила меня к восточной стрелке острова Сите и высадили у Отеля-Дьё. Когда я вернулся в Нотр-Дам, то вошел туда с колотящимся сердцем. Правда, соучастник мэтра Гаспара с блеющими смехом не видел меня и не подозревал, что это я был пленником в мешке. Но я теперь знал, что существовал еще другой человек, которого я должен принимать в расчет. Не только отец Клод Фролло — также и его младший брат Жеан был дреговитом.Глава 5 Муха в сетях паука
Легкое прикосновение к щеке пробудило меня от беспокойного сна. В туманном состоянии между сном и пробуждением я принял его за нежные ласки женщины и прошептал имя Колетты. Но это была всего лишь жирная черная муха, которая избрала мое лицо ложем для отдыха, а мое движение спугнуло ее. Раннее утро бросало мягкий матовый ненавязчивый свет в мою комнату, и все призрачно тонуло в нем, словно я еще находился в плену сна. Лишь краткое время я предавался легкой иллюзии, что мое приключение в притоне Фалурдель и типографии Гаспара было всего лишь дурным сном. Потом я увидел черные размазанные пятна на своем матраце, а моя правая рука была отмечена жирными полосами типографской краски. Я поднялся с постели и, пошатываясь, подошел к окну, чтобы найти объяснение такому странному свету, слишком яркому для ночи и слишком сумрачному — для дня. Крыши Парижа были покрыты плотным полупрозрачным покрывалом, которое разрывалось то там, то тут об острую крышу или шпиль башни. Словно покрывало из облаков опустилось с неба и обняло город своими мягкими клубящимися руками. Я открыл дверь и услышал шум начинающего дня гораздо тише, чем обычно, приглушенно и неясно. Влажность наполнила воздух и склеивала дыхание. Туман, поднимающийся плотными клубами от реки, ощупал меня своими холодными пальцами и дал мне понять, что я полностью голый. Поспешно я натянул свою одежду, схватил шерстяное полотенце, в которое я завернул пемзу и кусок мыла, и покинул башню. На пологом берегу возле Отеля-Дьё, где обычно прачки стирали одежду и простыни для госпиталя и соборного капитула, я разделся и вошел в холодную воду. Даже когда ледяные иглы впились в меня, я несколько раз окунулся, чтобы стряхнуть чувство оцепенелости, вызванного дурным вином. Потом я отмыл свою руку от типографской краски Гуттенберга. Туман окутал реку. Приглушенные крики лодочников долетали время от времени до моих ушей, когда тень торгового судна или баржи проплывала мимо серо-желтой массой. Моя ранняя трапеза была уже готова, когда я вернулся обратно в башню. Без аппетита я запихивал в себя пшенную кашу и анисовое печенье и запивал козьим молоком. Потом я раскрыл книги, но мои мысли переместились от кометы к Фалурдель, к мэтру Гаспару — и к лейтенанту Фальконе. У меня только день, чтобы продумать ответы для него, и у меня не было и малейшего понятия, какие это будут вопросы. К тому же я ни в коем случае не знал, насколько я могу доверять Фальконе. Хоть он и спас меня прошлой ночью от жизни калеки, а возможно, даже от смерти, но не мог ли он так же принадлежать к дреговитам? Кровавое деяние Фролло в притоне сводни показало мне, что он и его люди убивают своих союзников, как только они становятся для них опасными. Вполне возможно, что мэтр Гаспар представлял опасность для дреговитов, и появление Фальконе в типографии было не чем иным, как прекрасно разыгранным спектаклем. Чем дольше я думал об этом, тем запутаннее становилось все. «Белые против черных» назвал Вийон эту борьбу, которая разыгралась в стенах Парижа. Но она не соответствовала правилам, не было четких фронтов, как в королевской игре, не определялся четко цвет фигур. Все смешалось в грязно-серый цвет, не просматриваемый, как туман вокруг Нотр-Дама. Во второй половине дня неожиданно пожаловал ко мне в келью Клод Фролло. Он поставил плетеную бутылку на стол и содрогнулся. — Мерзкая погода, так и давит на нервы. Сырость из всех вещей пробирает до костей. Ваш огонь в камине едва тлеет, месье Арман, потому вам не повредит согреться изнутри. Я принес бутылку южного испанского вина, херес де ла Фронтера — хорошее, редкое вино. У вас найдется еще один бокал для меня? Что мне оставалось, как не ухаживать за ним? Не вызывая его недоверия, я едва сумел бы сослаться на последствия винного уксуса Фалурдель, от которого у меня все еще гудела голова. Итак, я наполнил два бокала красноватым напитком и смочил горло вязкой, сладкой жидкостью. Было вкусно, соблазнительно хорошо, и именно это насторожило меня. Слишком часто пытаются развязать мне язык вином. Фролло взглянул на мои книги. — Как обстоят дела с кометами? Вы уже выяснили, могущественные ли они вершители судьбы, или мы просто вверяем им наши собственные желания и страхи? — Мэтр Гренгуар собрал так много материала, что сперва я должен все просмотреть и упорядочить, — ответил я уклончиво, чтобы не признаваться, что в последнее время слишком редко занимался кометами. — Все очень запутанно, и я едва ли смогу объяснить, из-за чего ссорятся великие умы. Кто хочет знать, какими силами управляет судьба нашей участью? Отец Клод глотнул сладкое испанское вино, взглянул на меня поверх края своего бокала и сказал одно единственное слово: — Ананке. Ананке! Мои руки задрожали, и я чуть не выплеснул вино. — Вы правы, отец, здесь действительно холодно. Я позабочусь об огне, — я подложил дров, раздул пламя, пока снова не овладел собой. Тогда я спросил его: — Ананке, это по-гречески, не так ли? Что это значит? — Судьба, но еще и рок, фатум, принуждение, неизбежность. Единственное слово, которое включает в себя все, что определяет жизнь человека: борьбу против четырехкратного рока. — Сразу четырехкратный? — Четыре неизбежности сковывают человека, и все же три из них он преодолел сам, назовем их крайними неприятностями. Они нужны ему, чтобы жить вместе с другими людьми, чтобы не быть простой единичной песчинкой в потоке времени. В этом нуждается сам человек и его судьба. Я говорю о религии, о неизбежности догм, к которым склоняется человек, потому что он не может существовать без веры. Чтобы иметь возможность верить, он ограничивает свое собственное сознание. Тогда это общество, чьим законам принуждения подчиняется человек, потому что он в противном случае был бы животным — диким и беззащитным одновременно. И как догмы ограничивают его мышление, так ограничивают законы его чувства. Не стоит забывать природу, против которой он денно и нощно выступает в борьбе, вырубая деревья, вспахивая землю и пытаясь укротить необузданность моря на кораблях. Природа и стихии ограничивают его волю. В борьбе с этими тремя неизбежностями человек изнуряет себя, чтобы быть человеком. Разве это не смешно? Когда Фролло задал этот вопрос, он казался совсем другим, нежели радостным — скорее, серьезным и чуть ли не отчаявшимся. Сперва он взглянул в свой бокал, словно истина действительно была в вине, потом перевел глаза на меня, но его взгляд прошел сквозь меня в безграничную даль — по ту сторону Нотр-Дама и Парижа. С глубоким вздохом он продолжал: — Высшая ананке внутри нас, в человеческом сердце. Все внешние принуждения человек может преодолеть, но к тому, что велит ему сердце, он привязан навеки, это может быть роковым, и человек может заглянуть в рок. Сердце, этот сырой комок мяса в нашей груди, правит нашей жизнью, как король Людовик Францией. Может ли человек быть благородным и чистым, если он руководствуется этим куском мяса, должен жить по ритму его стука? Не есть ли спасение из этого состояния высшим счастьем, необходимый шаг в небесное царство? — Ваши слова, отец Фролло, еще более запутанны, чем записи Гренгуара о кометах. Вы бичуете догмы веры, а сами при этом — высокопоставленный представитель церкви. Вы ругаете подчинение человека этим законам, а сами же, как подданный короля Людовика, следуете им. Это противоречие! — Конечно, это противоречие правит нашим миром. Как я уже сказал, человек изнуряет себя, чтобы быть человеком. Лишь когда падут эти неизбежности, чистые души смогут снова обратиться к свету. — Тогда мир прекратит свое существование. Фролло тонко улыбнулся. Именно это было заключение, которое он хотел преподать мне. Не он угрожал привнести в мир ананке. Нет, по его словам мир был судьбой человека. И был ли он так уж не прав? Ананке веры привела катаров и многие другие секты на костер. Ананке закона угрожала Эсмеральде пытками и смертью. Ананке природы сделала Квазимодо калекой, лишила навеки возможности быть человеком среди людей. Что касалось ананке сердца, то я сам мог рассказать целую поэму по этому поводу. Не мучился ли я сам постоянно оттого, что был без отца? И теперь я страдал от холодности Колетты. Если Фролло был прав, тогда он был добром, а Вийон, мой отец — злом? Белые и черные перемешались? — Но человек подчиняется не только принуждению, — я попытался найти отговорку, чтобы вырваться из трудного положения, куда пытался увлечь меня своими разговорами Фролло. — Он обладает волей. Бог дал ему свободу принимать решения. — Был ли этот хороший поступок, был ли это добрый Бог? — Изумленно я взглянул в его серьезное лицо: — Отец, как можете вы, архидьякон, спрашивать такое? — Я использую лишь свободу мышления, которая не подавлена догмами. Продумайте ваше предложение, месье Арман. Если Бог дал людям свободу выбирать между добром и злом, не облегчил ли он тем самым создание зла? И не желал ли Бог тогда даже зла, примирясь с ним самым легким способом? И коли так, какому Богу мы молимся — доброму или злому? — Вы все передергиваете! — захрипел я. — Вы отказываете человеку в свободе, и вы превращаете Бога в Сатану! — Кто же свободен? И кто знает, где добро? Посмотрите, вот муха! Насекомое, которое отдыхало сегодня утром на моем лице, сидело на краю его бокала Быстрым движением руки он поймал тварь и зажал в своем кулаке. Я слышал отчаянное жужжание мухи, которое не помогло ей. — И муха стремится к свету, как мы, люди. И именно это стремление, блуждание и подвергает ее опасности, приводит, наконец, к прожорливому пауку. Он встал и бросил свою пленницу в паутину, которая поблескивала в углу кельи. Муха влетела в тонкие, как волосы, паутинки и запутывалась еще больше, чем яростнее она пыталась вырваться. — Ну, теперь Вы видите, Арман, куда приводит стремление к свободе. Это не делает нас свободными, а только сковывает все крепче, потому что не направляет к небесной свободе. — Вы не правы, отец Клод. Муха не сама попала в паутину, а благодаря вашим действиям. — И что же? Знала ли муха, кто я? Возможно, она приняла меня за ананке природы, возможно, даже за своего Бога. — За… своего… Бога? — повторил я, запинаясь, и уставился на своего собеседника изумленно. — Вы берете на себя дерзость сравнивать себя с Творцом? — Ни в коем случае. Я только человек, могу забрать жизнь — но не создать. И это тоже немало! — он резко повернулся к двери. — Крепкое вино и тяжелые мысли не совместимы. Но вероятно, вы подумаете о нашем разговоре, когда ваша голова прояснится. И воистину, когда он оставил меня одного, я собрался с силами, чтобы упорядочить свои мысли. Я долго размышлял над этой беседой. Мне стало ясно, что отец Фролло явно излил свою душу передо мной больше, чем день накануне в южной башне. Непосвященному его слова сказали бы не много, но мне они показались самым глубоким признанием, на какое способен дреговит. Хотел ли он протянуть мне руку, привести к истинному познанию? Или он догадывался, что я стою на другой стороне? Упомянул ли он АNАГКН, чтобы понаблюдать за моей реакцией? Мой взгляд упал на муху, чьи попытки спасения были парализованы. Должна ли ее судьба, вызванная ананке Фролло, стать предостережением мне? Волосатый черный паук полз от края сети к мухе, готовый напасть на свою жертву. Я почувствовал себя, как муха, попавшая в сети всемогущего существа. Но кто был пауком?Глава 6 Глаза кротов
На уровне земли туман был во много раз плотнее, чем наверху возле башен Нотр-Дама. Когда я вышел на площадь перед Собором и взглянул наверх под стенами Собора, то главы обеих могучих колокольных башен парили, как пролетающие надо мной призраки, невероятные, словно привидения сна. Но они-то были реальными, это-то я знал как никто лучше. Я только что был там наверху и разговаривал с отцом Фролло, служителем веры, который клеймил позором веру, служителем Бога, который, хотя он то и оспаривал, сравнивал себя с Богом. Я недолго оставался на башне. Вид растерзанной мухи обещал мрачное будущее — во всяком случае, для такого, как я, который не принял взгляды катаров и не хочет радостно обнять смерть, как спасителя. Моей целью был район Тампля, я хотел к Вийону. Возможно, он знал, как мне следует отвечать лейтенанту Фальконе. И возможно, разговор с Вийоном прольет больше света на мрачную шахматную доску, по которой меня передвигали уже месяцами. Я надеялся, наконец, узнать, кто белые и кто черные фигуры. Сделав пару шагов по площади перед Собором, я остановился. Между лотками двух торговцев я увидел покосившуюся на ветру виселицу, сколоченную на скорую руку из гнилых досок, которую построили болтающиеся здесь дети или другие весельчаки, как пародию на настоящую виселицу напротив, на Гревской площади, приносящей смерть. Соломенная кукла дрябло висела в волокнистой петле. Мои мысли превратили туманные клубы в плотную напирающую толпу людей, и я увидел Эсмеральду висящей над головами, приведенной к смерти двойной ананке — догмами веры и не менее жестких букв закона. — Лишь в тени виселицы жизнь приобретает настоящий блеск, вы не находите, месье Сове? — Фальконе вынырнул из тумана и поприветствовал меня необоснованной улыбкой. Он был заспанный, небритый, с темными кругами под глазами. — Как здорово, что нам обещано бессмертие души, а не тела. Лишь опасность, что можно потерять это, заставляет жизнь быть такой ценной. Я надеюсь, вы готовы, наконец, сказать правду, чтобы сохранить вашу драгоценную жизнь? Украдкой я издал немое проклятие. Разве не мог лейтенант подойти на пару минут позже? Или он уже целый день сидел в засаде, чтобы подловить меня? И эта насмешливая виселица стоит здесь не случайно? Я изобразил невозмутимость и возразил: — Если я подумаю об Одоне или сестре Виктории, то, мне кажется, скорее молчание гарантаруег жизнь. — Итак, вы хотите тоже молчать? — Я не знаю, что нам нужно обсудить. — Не знаете? — прорычал Фальконе, как разозленный пес. — Тогда извольте следовать за мной, пожалуйста. — Я арестован? — Если я арестую вас, то я скажу вам об этом. Мы молча шагали по улицам острова Сены в направлении Дворца правосудия. Фальконе купил у торговца фруктами пару яблок, которые завернул в платок и повесил на пояс. Я отказался от предложенного яблока, он же сочно откусил красно-зеленый плод. — Допрос людей Гаспара Глэра был таким пристрастным, что я не пошел обедать. К сожалению, мой пост был напрасен. Все четверо подлецов молчат так упорно, словно им зашили рты. — Пятеро, — сказал я. — Было пятеро помощников. — Совершенно верно, было пятеро. Теперь их только четверо. Один не выдержал пытки прессом. Бедный мэтр Тортерю совсем подавлен. Такое с ним никогда не случалось, как сказал он. Фальшивомонетчик как раз захотел говорить, но Тортерю переборщил с гирями и поставил слишком много их на пресс. Грудь и живот были размозжены, и вместо того, чтобы спеть нам песню, висельник смог только изрыгать кровь и желчь. Мы пересекли Сену по Мельничьему мосту и повернули налево на другом берегу. Мы шли вдоль причалов к тому месту, где я вчера чуть было не потерял свою руку. Я впервые увидел дом мэтра Гаспара при дневном свете, пусть даже измененном. Это было двухэтажное, со множеством углов здание в стиле фахферка . Цельные стекла окон и покрытая шифером крыша говорили о благосостоянии владельца. Большие арочные ворота определяли проход во внутренний двор, перед ними берег плавно уходил в воду, где пара одиноких свай омывалась волнами реки. Тополя и ветлы росли вдоль причала лодок, как два ряда рослых солдат. Фальконе швырнул огрызок объеденного яблока в реку, где он потонул со звонким бульканьем. — Мэтр Гаспар не нуждался в тумане, чтобы скрывать свои темные делишки. Лодки, которые привязывались к сваям, были скрыты от глаз любопытных деревьями и подходили как нельзя лучше, чтобы принимать и провозить дальше тяжелый груз монет. И если, как сейчас, туман дополнительно укрывает реку, это так же хорошо, как шапка-невидимка. Одна лодка, груженая фальшивыми монетами, исчезает в супе, и никто не может установить, куда она едет. И нам ничего не откроет туман, так что войдемте вовнутрь. — Зачем? — Чтобы вы вспомнили последнюю ночь, месье Сове, и вспомнили о том, что лучше говорить, нежели молчать! Я взглянул на закрытые окна на верхнем этаже. — Разве здесь никто больше не живет? У Глэра не было семьи? — Жена и две дочери. Но сейчас дом пуст. Я велел очистить помещение, чтобы никто не сумел устранить следы и доказательства. Мы, впрочем, установили не только фальшивые монеты, но и клише для карточной игры, к которой относится десятка жнеца. Возможно, предстоит обнаружить еще больше тайн. Ворота во внутренний двор были заперты, но Фальконе достал у себя ключ. Я увидел два четырехколесных фургона стоящих под плоским навесом. Гаспар полагался не только на водный путь. Лейтенант открыл дверь в мастерскую, и я вошел за ним в место моего ночного кошмара. Окна были закрыты, но не как раньше тяжелыми ставнями. В сером свете идущего на убыль пасмурного дня я увидел печатный станок, огромную плиту с котлом, маленькие печи с плавильными тигелями, столы с клише и приставленные под наклоном ящики, в которых лежали оловянные литеры. Между тем я заметил края стены и ящики полные печатных книг. Приятный запах бумаги смешался с вызывающим ужас запахом масла, который исходил от всякой типографии и даже каждого печатного издания. — Вы выглядите так отвратительно, Арман. Это представление, что вы едва не потеряли здесь свою жизнь? — Это представление, что люди моего цеха потеряли свой хлеб насущный из-за этих вонючих, грязных трущоб. — Утешьтесь. Если вы бы теперь лежали в гробу или вас бы выловили в виде трупа из Сены, то вам бы больше не понадобился хлеб. — Вы ясновидящий, лейтенант, что говорите мне о моей смерти? Он коротко рассмеялся. — Не нужно быть ясновидящим, чтобы предсказать вам скорую смерть. Вы просто крупно вляпались. — Во что? Фальконе наклонился вперед и приблизил свое лицо к моему: — Скажите вы мне это, черт побери! Белые против черных? Если да, то на чьей стороне Фальконе? Для меня он был фигурой из тумана там снаружи — серым, не просматриваемым. Поэтому я ему сказал только, что мне нечего сказать. Он сердито отвернулся, подошел к печатному станку и положил яблоко на деревянную пластину. Потом он сильно потянул оловянный рычаг, пока шпиндель не надавил тигелем на яблоко. Плод расплющился под прессом. — Вот что произошло бы с вашей рукой, а, возможно, и с головой! — Фальконе посмотрел на меня испытывающее. — Вы не считаете себя моим должником? Скребущие звуки на дворе освободили меня от ответа. Таинственные фигуры вышли из тумана и вошли с неловкими движениями на ощупь в мастерскую. Они были одеты как нищие. То, что они пришли не ради прошения милостыни, доказывало оружие в их руках: кинжалы, топоры и палки. Еще что-то кроме их неуверенных, ищущих движений придавало мужчинам гротескную черту: их глаза. Они были неподвижны, мертвы. У некоторых были видны только белые, а у других — пустые глазницы. Они напомнили мне кротов с их спрятанными в шкурке глазами. — Кроты! — вырвалось в этот момент у Фальконе, и я припомнил таинственную банду, о которой он мне рассказывал, и о том, что он говорил об их делах: «Убийство, беззвучное убийство в темноте ночи. Они двигаются в полной темноте с уверенностью кротов, которые прорывают себе ходы под землей». Ночь или туман — им все едино. Их должно быть было восемь или десять мужчин, которые двигались в темном мире, мире слепых. Похоже, у них был слух, как у настоящих кротов, их запах и их чувство осязания особенно хорошо развиты, подобно компенсации за утраченное зрение. Тут же на слова Фальконе они обернулись к нему и окружили печатный станок. Исключительно потому, что они не знали мастерской, а столы, скамьи и приборы могли преградить им путь, они удержались от того, чтобы тут же напасть на лейтенанта. Фальконе достал одно яблоко из платка и бросил его в помещение, так что оно с громким звоном разбило оконное стекло. Как по команде слепые обернулись и приблизились в своей ощупывающей манере к разбитому окну, предполагая, что мы хотели использовать его, как путь для бегства. В действительности целью Фальконе была дверь. Он хотел отвлечь кротов от нее, чтобы сделать для нас возможным отступление. Он стоял, как и я, абсолютно тихо. Только его глаза двигались, метались постоянно между убийцами и дверью туда-сюда, чтобы распознать верный момент. Потом, когда шаги впереди идущего крота заскрипели на осколках стекла, он дал мне знак: сейчас! Но я, увалень, споткнулся о глиняный купшин, в котором хранились печатные подушечки для окраски литер. Потеряв равновесие, я ударился о деревянный стеллаж с двумя ящиками литер и с грохотом опрокинул его. Если бы Фальконе не подхватил меня, ему удалось бы бегство. Но он прыгнул ко мне и потянул наверх. Кротам хватило времени, чтобы окружить нас. Они двигались по мастерской уже ловчее. Каждое препятствие, о которое наталкивался один из них, похоже, запечатлялось неизгладимо в памяти всех остальных, словно у всех у них были общие ощущения, общее сознание. В течение нескольких мгновений путь к двери был отрезан. Фальконе потянул меня к крутой лестнице, которая шла наверх в конце мастерской в жилые помещения дома. Наверху он натолкнулся на закрытый люк и старался открыть его. Под нами поднимались ступень за ступенью слепые убийцы. — Поторопитесь! — пришпорил я Фальконе, когда лицо впереди идущего крота вынырнуло из полутемного проема лестницы. Круглая, почти лысая голова, слишком большая и увесистая для тощего тела. Правая рука держала нож мясника с широким лезвием, которое все время разрезало воздух. Расчет слепого был прост: чем ближе он подойдет к нам, тем больше была вероятность, что он поймает одного из нас. Мой крик был бессмысленным и глупым. Бессмысленным, поскольку Фальконе и без меня знал, насколько близка опасность. И глупым, потому что мой голос выдал кроту, где я нахожусь. На один миг он застыл и прислушался. Наверняка это было просто фантазия, когда мне показалось, что мертвые глаза на бесстрастном лице направлены на меня. Это был момент, чтобы действовать. Я прыгнул ему навстречу, крепко схватился за перила и ударил его каблуком в грудь. Крот застонал, и выдавил из своих легких свистящий звук. Он упал на спину, беспомощно замахал руками, рухнул вниз с лестницы и сбил с ног остальных. Надо мной возникло светлое пятно, сопровождаемое протяжным визгом. Фальконе открыл клапан. Я последовал к нему наверх, и снова закрыл люк. — Вперед, помогите мне! — крикнул лейтенант, который принялся за тяжелый сундук. Посуда задребезжала, когда мы подвинули большой ящик из дубового дерева на люк. Улыбка мелькнула на лице Фальконе. — Это немножко задержит паразитов. Возможно, у нас достаточно времени, чтобы убежать через крышу. В просторной спальне с широкой кроватью, которую Гаспар, видимо, делил со своей супругой, мы нашли люк на крышу. К счастью, мы оба были стройны, иначе не смогли бы протиснуться через него. Наверху я чуть было не свалился вниз, но лейтенант подхватил меня и крепко держал. Влажный туманный воздух сделал скользким шифер крыши. И тут мы их увидели! Как огромные жуки они ползли со всех четырех сторон по крыше. Или как кроты, которые медленно, но целеустремленно прорывали ход. Их целью были мы. — Как это им удалось? — спросил я шепотом, глубоко озадаченный. — Видимо они уже до нас были на крыше. Здесь другие, чем в мастерской. Те вернулись обратно во двор. Видите? Оттуда, где мы сидели, мы могли видеть как внутренний двор, так и полосу берега. Вокруг двигались сквозь туман кроты в образе человека — как гончие собаки в поиске дичи. В целом я определил их число от пятнадцати до двадцати. Опаснее тех, что находились внизу, на данный момент были кроты на крыше. Они приближались быстрее, видимо услышали наши голоса. Фальконе показал на выпирающий эркер, а потом — на меня. Я понял, что он хотел, но причина была мне неясна. Его лицо однозначно говорило, что он не потерпит никаких возражений. Тогда, я пробрался на эркер в форме арки и присел на гладкой дуге. — Прыгайте! — крикнул к моему удивлению лейтенант и бросил платок с оставшимися яблоками с крыши; чтобы громким стуком он упал на внутренний двор, совсем рядом с воротами. — Да, хорошо, бегите к берегу, я последую за вами! Фальконе прыгнул с крыши, прежде чем я успел еще что-то понять и помешать. С болезненным стоном он приземлился во дворе, вскочил, но тут же упал. Без сомнения, он подвернул ногу. Он схватился за мертвый сук, который ветер сорвал с дерева на берегу. С ним, как с клюкой, лейтенант ковылял к воротам двора, но кроты с полоски берега преградили ему путь. Четверо или пятеро окружили его. Мое сердце грозило остановиться, когда я увидел, как Фальконе защищал свою жизнь. Он использовал сук как булаву, которой ударил одного из кротов по черепу. С воплем пораженный упал на колени, а второй удар окончательно повалил его. Но другие набросились на Фальконе, подмяли его под себя, что я теперь едва мог видеть его. Это был беспорядочный, постоянно изменяющийся комок рук и ног в тумане — вот и все, что я видел. Потом слепые поднялись снова, — но не лейтенант. Он лежал без движения в грязи. Громкое хлопанье за левой рукой заставило меня обернуться. Один из огромных жуков продвинулся до края крыши и потерял равновесие. Он раскачивал ногами в воздухе, пока его руки напрасно искали опору. Потом кровельная дрань обрушилась и упала вниз. Другой слепой жук поспешил оступившемуся товарищу на помощь. После некоторых усилий ему удалось вытянуть его полностью на крышу. Потом они поползли назад и исчезли через невидимый для меня люк. Обманный маневр Фальконе удался: они поверили, что я спрыгнул с крыши. Я едва осмеливался шелохнуться, пока слепые находились здесь, наверху. Теперь я вздохнул глубоко, но опасность еще не миновала для меня. Внизу, во дворе собрались кроты, и совсем неожиданно застыли, словно окаменели. Инстинктивно я затаил дыхание. Другие люди оглянулись бы, но слепые прислушались. Мое сердце билось так громко, что они просто должны были его слышать! Но потом они двинулись и потянулись со двора. Один из них шел впереди с вытянутой для ощупывания палкой, следующий положил ему руку на плечо, третий — руки на плечи второго человека, и так далее. Тот, кто их видел такими, мог принять за безобидных калек и, не колеблясь, тянулся рукой к кошельку, чтобы облегчить жалостное существование этих слепцов хотя бы малым даром. Я же знал, что они куда опаснее, чем многие зрячие, и подозревал, что им хорошо платили за их злодеяния. Лента кротов исчезла в тумане, как злое привидение, которое растворилось, ибо что час приведений истек. Я остался сидеть на эркере и думал, что, возможно, убийцы еще остаются поблизости. Так я ждал, напряженно и зажато, с постепенно затекающими руками и ногами, пока сумерки не бросили свой становящийся все темнее и темнее плащ на Париж. Не меньше часа должно было пройти с тех пор, как кроты покинули двор типографии. Они не вернулись, и я чувствовал себя в относительной безопасности. Кроме того, я не мог больше находиться наверху. Тогда я соскользнул вниз с эркера и пролез через люк, через который Фальконе и я взобрались на крышу. С некоторым усилием я отодвинул сундук от люка и спустился вниз в мастерскую. В сумеречном свете было таинственно, печатный пресс из массивного дерева казался мне подглядывающим по-настоящему, словно он окончательно хотел потребовать себе пищу — мою руку. Я быстро прошел через двор и склонился над Фальконе. Темная жидкость, которая была разбрызгана вокруг него по глинистой земле, уничтожила всякую надежду. Они хорошенько его отдубасили. Череп был раздроблен, горло разодрано, грудь исколота многочисленными глубокими ранами. Он должен был умереть очень быстро — и это было единственным утешением. И он умер за меня! Если бы он не создал впечатления, что я спрыгнул первым вниз, бросив мешок с яблоками, вероятно, тогда бы ему удалось бегство. Так он спас меня своей дальновидностью, но тут же предупредил кротов. Он понимал, что прыгает прямо в смерть? Я этого не знал. Но я понял, что он стоял на моей стороне. Слишком поздно! Мое сердце сжалось от боли, когда я оставил лежать его труп и убежал в призрачном свете из сумерек и тумана. У меня было чувство, что я потерял хорошего друга.КНИГА ШЕСТАЯ
Глава 1 «Если Всемирный Паук умрет…»
Дождливым утром четверга, который наступил после жуткой смерти лейтенанта сыска Пьеро Фальконе, через ворота Бюси из Парижа выехали две четырехколесных повозки под кожаными тентами. В запряженные двумя сильными мулами повозки загрузили одеяла и мотки сукна, на чем мнимые торговцы собирались сделать хорошую прибыль на майском рынке в Плесси-де-Тур. Так они сказали страже у Южных ворот, а заодно показали свои поддельные документы. В действительности пятеро мужчин и молодая женщина были воодушевлены храброй идеей спасения короля Франции. Леонардо сидел в седле большого жеребенка и скакал в авангарде. На козлах переднего фургона разместилась Колетта, а Томмазо правил упряжкой. Аталанте сидел за вторым фургоном, когда я с Вийоном тяжело шагал возле мулов. Размякшая земля с чавканьем заляпывала наши сапоги. Словно этого было недостаточно, из-под колес впереди едущего фургона на нас беспрестанно летела грязь. Для защиты от грязи и дождя мы натянули платки на головы, как капюшоны. Вийон и я молчали, как двое незнакомых пилигрима, у которых не было ничего общего, кроме дороги в святое место. В какой-то момент, когда башни Парижа превратились в далекие призрачные силуэты, он спросил: — Вас что-то расстраивает, Арман? Или сомнения так глубоки? — Сомнение? — в недоумении спросил я. — В чем я должен сомневаться? — Во мне, Арман, в моих словах. Отец Клод Фролло заронил в вас сомнение, стоите ли вы на верной стороне? — Конечно, я размышлял над этим всю проклятую ночь. После встречи с кротами и убийством Фальконе я не сомкнул глаз. — И? — лицо Вийона обратилось ко мне, и думаю, я распознал под капюшоном его вопросительный взгляд. — Вы нашли ответ? — Я сопровождаю вас в Турень, магистр Вийон. Вам этого недостаточно для ответа? — Я рад, что вы на нашей стороне, сын мой. И я верю, что вы слушаетесь голоса своего разума и своего сердца. Но я чувствую, что есть еще одна причина, — Вийон посмотрел вперед, на первый фургон, — и она сидит на козлах вон там? С недовольно прищуренными глазами я последовал за его взглядом и ответил намеренно осуждающим тоном: — Я, как и прежде, не считаю разумным, что вы взяли с собой Колетту. Она только что оправилась от своего ранения, а вы уже снова подвергаете ее опасности. — Она настояла на том. Мы не можем найти темницу, где сейчас заточен ее отец, и теперь бедняжка надеется узнать больше в Плесси. Если бы я отказал ей в этом, то еще больше темных туч омрачило ее душу. — Кроме того, красивая девушка на козлах отвлечение для слишком любопытной стражи, не так ли? Вийон засмеялся сухим ухающим смехом больного человека. — Вы одинаково хороши в том, чтобы видеть меня насквозь, как и в том, чтобы уходить от вопроса. — Итак, хорошо, если вы обязательно хотите услышать, — вздохнул я. — Колетта стала причиной для того, чтобы сопровождать вас. Это важная причина, но не единственная. Странная шахматная игра, которую Вы разыгрываете с Клодом Фролло и таинственным великим магистром, переместилась из Парижа в Плесси-де-Тур, и я хочу присутствовать там. — Зачем? — Что за вопрос? Вы сами втянули меня в игру, только явно как пешку, но я сыт по горло этой ролью! — Это говорит в вашу пользу, Арман, и я горжусь вами. — Не стройте обманчивых надежд, набожные братья в Сабле не воспитали героя. Собственно, есть еще она важная причина, почему я охотнее иду с вами, нежели остаюсь в Париже. Я не хочу закончить свою жизнь, как Одон и сестра Виктория, не хочу быть заколот, как Фальконе. Литейщики и весовщики, жнец Нотр-Дама и горбун Квазимодо, кроты и «братья раковины» — это, право, чересчур для одного миролюбивого писца! — «Братья раковины» стоят на нашей стороне. — Это знаем мы оба, но знают ли о том они? — Не волнуйтесь! Кокийяры уже давно не обладают той властью, как двадцать-тридцать лет назад, но я — все еще их король. — «Братья раковины» следуют за вами дальше, хотя вы стремитесь больше не к добыче и богатству, а к спасению душ? Я не думал, что пройдохи приписывают своим душам особую цену. — О, тут вы ошибаетесь, Арман. Большинство людей становится пройдохами лишь потому, что они больше не видят никакой надежды для своей души. — А вы дадите кокийярам новую надежду? — Я попытаюсь это сделать. Не переживайте из-за «братьев раковины». Скорее, справедливо ваше беспокойство из-за кротов. Я бы еще раньше должен был догадаться, что эта банда убийц работает на дреговитов! — в словах Вийона зазвучали ноты самоосуждения и раскаяния. — Почему вас это так трогает? — Но, Арман, вы же сами видели мэтра Дени Ле-Мерсье, смотрителя убежища для слепых, на собрании девяти. Это было так, и я рассердился на себя, что не сопоставил связи еще раньше. Было удивительно, что я, находясь в самой гуще тайн и опасностей, просмотрел очевидное. В конце концов, этот досадный случай произошел и с Вийоном. — Поберегите свое раздраженное бормотание, сын мой. Если бы мы знали, то все равно ничего бы не могли изменить. — Возможно, но… возможно, лейтенант Фальконе был бы жив! Вийон покачал головой, и капли дождя полетели с его капюшона во все стороны: — Его смерть была предрешена, он знал слишком много, был слишком любопытен. Фролло заметил, что Маншо не удовлетворил лейтенанта, как пожертвованная пешка. Поэтому он послал кротов. — Вы действительно думаете, что они преследовали не меня? — Вероятно, слепые даже не знали, кто был с Фальконе в типографии. Разве Фролло не мог уже давно устранить вас, коли он того пожелал? — И все же я чувствую, что он что-то подозревает. Все, что он сказал мне в последние два дня, указывает на это. — Возможно, он надеется перетянуть вас на свою сторону. Это относится к той игре — белые превращаются в черных или безобидная пешка — в опасную королеву. — Если он до сих пор ни о чем не догадывался, теперь это произойдет в любом случае, — сказал я. — Лаже если он не знает, что я прошлую ночь и теперь находился с вами, мое отсутствие заставит его призадуматься. — Давайте обождем. Возможно, это путешествие приведет нас к концу пути, и вам больше никогда не придется встречаться с ним лицом к лицу. — Дай-то Бог! — вырвалось у меня от души. О том, что это блаженное желание не исполнится, что мне предстоят еще гибельные встречи с архидьяконом, я еще не знал, когда бросил в тот день взгляд через плечо. Париж теперь превратился в бесформенное серое пятно, которое сливалось с сумрачным небом. Туман затушевал все контуры, даже таинственного повелителя города, собор Парижской Богоматери. Около полудня облака рассеялись. Сияющие солнечные лучи играли на кронах деревьев, протянувшихся лесов. Над пустынным болотом поднимались клубы пара, как бы желая залатать снова прорехи в покрывале облаков. Мы нашли полянку для лагеря и благодаря сухим дровам, которые везли с собой на растянутых под повозками платках, могли разжечь согревающий костер. Колетта сварила крепкий бульон из мяса с приправами. То, что на самом деле «чистые»[878] ели мясо, показало мне — они придерживались запретов своей веры не особо строго, как большая часть христиан — заповедей Святого Престола. Вийон явно сказал бы, кто хочет хорошо драться, должен и хорошо питаться. Жеребец и мулы нашли обильную пищу на пышном лугу. Мы выехали рано и ели с соответствующим аппетитом. Только Леонардо бесстрастно мешал свою похлебку, пока Вийон не спросил его о причине. Итальянец указал деревянной ложкой на свою пасущуюся лошадь. — На жеребце я бы уже, как минимум, ускакал вперед раза в два дальше. Хороший всадник на хорошей лошади мог бы через два-три дня быть уже в Плесси. С тяжелыми фургонами нам крупно повезет, если мы вовремя поспеем к майскому празднику. — Но с фургонами мы не привлекаем внимание, — возразил Вийон. — Торговцы со всех сторон света спешат на майский праздник. — И под их прикрытием всадник был бы не замечен. — И что бы сделал всадник, если бы прибыл в Плесси? Предостерег короля? — А почему бы нет? Вийон снова разразился своим больным смехом. — Простите меня, Леонардо, вы явно зашли уже далеко, но вы наверняка не видели замок короля в лесах Плесси. Иначе вы бы знали, что никто, кто не находится в милости Людовика или его ближайшего окружения, не может проникнуть в него. К тому же, немолодой итальянский ученый с подозрительной миссией, а писец из Сабле услышал в парижской мастерской фальшивомонетчиков о заговоре против короля. — И как же это удастся нам, мнимым торговцам? — Я не знаю этого, — признал Вийон. — Пока еще. Но у меня есть одна отчаянная идея. — А как дела уКлода Фролло? — выпытывал дальше Леонардо. — Наше отсутствие в Париже развязывает ему руки. — Плесси в настоящее время важнее, и у нас надежные люди в Париже. А вам не стоит забывать о Матиасе и его египтянах. Я послал герцогу новость, что он в ближайшее время не может рассчитывать на меня. Он не спустит глаз с Фролло. Аталанте присоединился: — Почему именно мы берем на себя риск пробраться в castello? Разве король Людовик — наш друг? — Если мое подозрение, как должно произойти покушение, верно, то нам вовсе не придется пробираться в замок, — ответил Вийон. — Что касается Людовика, то он не может быть нашим другом. Но если дреговиты уберут его с дороги, то сделают это явно не без причины. Дофин Карл еще очень молод, и пока он не будет крепко сидеть в седле как новый повелитель, дреговитам откроется полная свобода действий. Как, собственно, сказал отец Клод Фролло? Его взгляд упал на меня, и я ответил: — «Паук Плесси становится слишком любопытен. Он, похоже, догадывается, что не все в ближайшем окружении заслуживают его доверия. Большой выезд — лучшая возможность отрубить ему голову». — Вот, слышите, — продолжил Вийон. — Если Всемирный Паук умрет, распадется его искусно сплетенная сеть, и паразит расползется во все стороны. Если Куактье — великий магистр, как мы предполагаем, то ему, как влиятельному советнику короля, может удастся захватить власть в свои руки, пока не наступит ананке. А потом больше не появится необходимости ни в каком короле — править будет больше нечем!Глава 2 Колетта
Вечером третьего дня мы разбили лагерь за Шартром. Вийон отклонил предложение Леонардо пойти на постой в город, и целенаправленно повел нас в маленькую долину недалеко от реки, в которой, кроме нас, не было ни души. Зато там имелась впечатляющая постройка из больших камней, из тех, которые служили храмами нашим языческим предкам. Вийон указал на скалистый холм по ту сторону каменного круга. — Там многочисленные пещеры, которые обеспечат нам сухой и верный лагерь. Я глубоко ошибся в своей надежде поближе подружиться с Колеттой во время путешествия. Похоже, она мужественно старалась держаться от меня подальше, выполняла свою работу, если я отдыхал, и ложилась спать, если я работал. Если мой взгляд встречал ее, она низко опускала глаза, словно стеснялась. В тени древней святыни мы подкрепились. После ужина, который состоял из маисовых лепешек и убитого Леонардо зайца, Колетта пошла к маленькому пруду, который лежал за вершиной. Вероятно, где-то бил источник между скал, и его вода собиралась в пруд, прежде чем снова уйти под землю. Я притворился, что осматриваю окрестности, и удалился в кусты, когда Вийон и итальянцы не смотрели на меня. Небольшой пруд был окружен стеной из камыша и осоки, которая скрывала от моих глаз воду и Колетту. Начинающиеся сумерки довершили остальное. Лишь когда я снова пробрался через войско высоких стеблей и трав, я думал, что вижу Колетту на скале у края воды. Но тут я разобрал, что там лежала только ее одежда, сама же она стояла по горло в воде и мылась. Мои глаза расширились, во рту пересохло. И хотя я видел только ее голову и шею, мысль о ее нагом теле, которое плескалось в зеленовато-синей воде, заставила колотиться мое сердце. Колетга, казалось, не замечала меня, так сильно она была занята своим купанием. Должно быть, оно доставляло ей невероятное удовольствие, что она вовсе не хотела выходить из воды. Но когда она повернула ко мне свое лицо, я, тут же отступив на шаг в камыши, увидел перекошенное выражение ее лица — как будто вода доставляла ей боль, более того — внутреннее мучение! Наконец, когда ночь уже совсем сменила день, Колетта медленно вышла на берег, как будто в духовном отрешении. Конечно, это было недостойно — подглядывать за ней из укрытия в чаще, но ее красота неумолимо притягивала меня к себе. На ее юном упругом теле, которое еще светилось в нежном розовом свете летнего заката, сверкали жемчужинами капли воды — как роса в траве ранним утром. Что я бы только не отдал, чтобы оказаться каплей из пруда, навсегда прильнуть к бархатной коже Колетты! Светлый пушок, покрывающий многообещающий треугольник между ее ног, сверкал влажно и соблазнительно. Когда она наклонилась вперед, чтобы выжать свои мокрые волосы, ее острые груди засверкали в последних лучах вечерней зари, как плоды на запретном древе в раю. Я не желал себе ничего более страстно, чем сорвать эти плоды, слиться с Колеттой воедино, любить и желать ее, и, прежде всего, защищать ее от всего зла и печали. Она вытерлась полотенцем, оделась и крикнула: — Я готова, Арман, вы можете выходить! То, что Колетта знала о моем непозволительном поведении, ударило меня как плеть. Охваченный глубоким чувством стыда, я покинул чащу. — Вам понравилось то, что вы увидели? Ее вопрос напугал меня. Никакой издевки, никакого раздражения и ни намека на упрек не было в ее словах. И именно этого я не понял. Или — не хотел понимать. Потому что предполагаемым объяснением казалось одно — я был ей безразличен так же как камень или камыш. — Мне понравилось, потому что вы нравитесь мне, — ответил я, наконец, обдумывая, как мне следует подобающим образом извиниться за мое поведение. — Вы хотите меня? — спросила Колетта и разрушила неустойчивое здание с трудом построенного извинения. — Я… Вас? Э, как… — я заикался, как дурак, но кто бы на моем месте вел себя иначе? Тысячи слов вертелись у меня в голове, но ни одно так и не сорвалось у меня с губ. — Вы желаете меня? — Да! — с чувством вырвалось у меня. — Значит, вы хотите меня взять, не так ли? — она указала на скалу под ее ногами. — Прямо здесь? Она по-прежнему говорила без всяких эмоций, и ее лицо было бесстрастным, как мертвое. Я не знал, что должен ответить. Конечно, я желал ее, я же сказал ей об этом. Но манера, с которой она говорила, холод, который шел от нее, затушили пламя страсти. — Если вы сейчас возьмете меня здесь, то для вас это будет пройденным этапом, и вы сможете обратиться к другим женщинам. Тогда вы будете знать, каково это — быть с малышкой Колеттой. Этого было достаточно. Я схватил ее за плечи, встряхнул, довольно грубо ругнулся и прорычал: — Клянусь всеми святыми, я люблю вас, а не каких-то других женщин. И если вы тоже испытываете какие-то чувства ко мне, тогда я хочу делить с вами ложе. И никак иначе! — Но я принадлежу к добрым людям. Вы же присутствовали тогда, когда я приняла «Отче наш». Чтобы очистить свою душу, я должна отказаться от удовольствий плоти. — Ага. И поэтому вы предлагаете себя здесь, как поросенка на Свином рынке! — Я хочу дать вам лишь то, что хотят все мужчины, — и после короткой паузы она продолжила: — Что другие уже себе забрали. — Что вы хотите этим сказать, Колетта? Она села на скалу и посмотрела на меня, вдруг превратившись в робкого, пугливого ребенка. — Я рассказывала вам, как моего отца схватили переодетые стражники, и что я убежала от них. Но я не рассказывала вам, как я сумела убежать от них. Потому что они схватили нe только моего отца, — и я попала им в руки. Некоторые их них повели моего отца, меня же потащили в старый сарай, и там… Ее голос осекся. Мог ли я радоваться тому? Если она еще испытывала чувства, то могла испытывать их и ко мне. Но после того, что она мне рассказала, я не мог испытывать радости. — Я не знаю, как долго это продолжалось, — заговорила она снова. — Должно быть, прошли часы. И я не знаю слов для всего, что они со мной сделали. До сих пор я не знала, что такое вообще возможно. Один из них принес пару тыквенных фляг с вином, и они напились, устали, заснули. Тут я убежала и бросилась в Сену. Хотела ли я покончить с собой или смыть грязь этих мужчин — я тоже не знаю. Двое братьев целестинцев вытащили меня из воды и доставили в Отель-Дьё. Позже один из целестинцев отвел меня к епископу. — К епископу? — К мэтру Вийону. — Может, этот целестинец был мэтром Аврилло? И в Отель-Дьё за вами ухаживала сестра Виктория? Она кивнула. — Дреговиты, к которым принадлежал также убитый нашим таинственным стрелком целестинец Овер, уже давно заподозрили обоих, — предположил я. — Шпионы дреговитов должны были видеть меня вместе с Аврилло в День Трех волхвов возле собора Парижской Богоматери. И когда потом сестра Виктория ухаживала за мной, это стало для нее роком. Если она тоже обладала простой душой, Аврилло, должно быть, посвятил ее в некоторые вещи. К тому же, она знала оуробороса, — с ужасом я подумал о свернувшемся кольцом драконе, которого умирающая нарисовала своей кровью. Задумчивое молчание воцарилось среди нас, пока Колетта не сказала тихо: — Теперь вы знаете мою историю, Арман, и знаете, что я была осквернена, я недостойна честного мужчины. — На вас не распространяется никакая вина. То, что вы рассказали мне, не изменило мои чувства к вам, Колетта! С какой готовностью я бы доказал ей это, прижав ее к себе, обняв руками и подарив тепло и безопасность, — но невидимая стена разделяла нас. Так казалось мне, когда я взглянул на нее. Согнув колени и обняв ноги руками, Колетта сидела на скале и тоскливо смотрела вниз на пруд, который теперь лежал перед нами, как жерло ада — мрачный и зловещий. Солнце уже зашло. — Если вы меня все равно любите, это делает мне честь, — сказала она. — Но я приняла решение, когда попросила мэтра Вийона об «Отче наш». Больше никогда я не хочу допустить, чтобы мужчина осквернил меня! — Тогда вы примкнули к катарам не из убеждений. Это было бегством. Возможно, произошло оно из благодарности, потому что они приняли вас. — Разве нельзя быть благодарным из убеждений или бежать из убеждений? — она встала, положила руку на мое плечо и посмотрела мне в глаза. — Простите меня, Арман, но у нас нет будущего. Если я вам взглядом или жестом дала надежду, — мне очень жаль. Пока я раненой лежала прикованная к постели, у меня было много времени подумать обо всем. Мое решение никогда больше не принадлежать мужчине остается непоколебимым. Меня охватило сильное желание обнять ее. Но слишком быстро девушка вырвалась от меня и с легким шорохом исчезла в чаще, которая проглотила ее. Еще долго я сидел у воды и думал о Колетте. Я последовал за ней к пруду, чтобы найти ее любовь. Когда я вернулся в лагерь, то потерял ее.Глава 3 Гнездо Всемирного Паука.
Вот и Плесси-де-Тур! Его еще называют Ле-Плес-си-дю-Парк, потому что охотничьи угодья короля с дикими животными со всех уголков света находится совсем рядом. Посмотрите только на стены, рвы и зубцы, башни! Скажите сами, не достойное ли это гнездо, в которое заполз Всемирный Паук Франсуа Вийон говорил с явным восхищением — или я услышал тайную насмешку в его словах? Как всегда, лишь теперь я узнал, почему он провел нас потайными тропами через густой, кажущийся бесконечным лес, вместо того, чтобы пойти прямой дорогой к местечку Плесси-де-Тур. Мы не теряли времени. Наступил последний день месяца апреля, когда зашло солнце и началась Вальпургиева ночь. Но вид, который открылся перед нашими фургонами, оправдывал объезд. Буквально перед нами заканчивался лес, будто его срезал ножом великан. Голая земля превращалась в небольшой холм, на которой стоял замок короля. Несмотря на мягкие солнечные лучи, которые освещали Турень весенним светом, укрепления замка глядели мрачно, словно они проглатывали любой луч света. Леонардо покачал головой со знанием дела: — Крепость расположена не особенно высоко, но есть свободное место для обстрела. Никто не может приблизиться незамеченным. — Кто же осмелится, тому придется худо, — добавил Вийон. — Четыреста стрелков охраняют замок — самые лучшие из его гвардии, какими располагает Людовик. — Шотландцы? — Да, Леонардо, шотландские лучники, которые преданы Людовику больше, чем некоторые французы. Они стоят на стенах и башнях. По ночам на постах стоят сорок арбалетчиков у рва перед внешней стеной, чтобы стрелять во все, что движется. И кто из посторонних все же доберется до замка, тот попадет под прицел вращающихся башен. — Что это? — спросил Томмазо, которого интересовали любого рода механизмы. — Посмотрите туда внимательно, вот там вы увидите, как что-то сверкает на солнце, брат Томмазо. На четырех углах двора, выстроившись вокруг жилых построек, возвышаются железные сторожевые башни, которые вертятся в обоих направлениях, чтобы стрелки в башнях постоянно держали на мушке и каждый угол внутри стен замка. Так что не рекомендуется проникать в замок без приглашения. Даже если не считать этих приспособлений, я полагал невероятным, что кто-то сумеет это осуществить. Позади рва, который мы не видели из-за насыпанного вала ближней вышки, а поэтому и не могли понять, насколько он глубок, вокруг замка тянулась тройная оборонительная стена. Внешняя стена была самой низкой, самая дальняя — выше всех. Так что враг, которому удался бы штурм стены, очень удобно попал бы под обстрел со следующей стены. Для этой цели были построены во внешних сторонах стен «ласточкины гнезда»: маленькие, защищенные камнем и железом узкие бойницы для стрелков, которые сами находились в безопасности от вражеских выстрелов. Вийон, который так удивительно во всем разбирался, объяснил, что между стен находятся следующий рвы, которые все питаются водой из реки Шер[879]. — Кто пройдет через первые ворота, не попадет прямо в замок. Другие ворота преграждают путь, так что каждый вторгшийся должен выдержать яростную стрельбу, пока доберется до следующих ворот. Если вы посмотрите на валы, то заметите мерцание железных палисадов. Каждый отдельный кончик ствола делится на четыре острых конца. Кто захочет вскарабкаться там, моментально пропорет себе брюхо. — Это не замок, — вырвалось у меня, — это огромная темница. Вийон улыбнулся. — Так уже постановили и другие, — а многие с внутренним удовлетворением. Людовик запер многих людей в своих темницах и клетках. Говорят, это справедливо, что под старость лет его охватил страх, и теперь он запер сам себя. — Но чего он боится? — спросил Леонардо. — Старуху смерть эти стены, рвы и лучники не сумеют задержать. — Против этого врага Людовик держит врачей и святых мужей или тех, которые себя тому посвятили. В сентябре прошлого года он укрепился здесь, словно что-то напугало его до смерти. — В то время вы созвали нас в Париже, — сказал Леонардо, — потому что действия дреговитов стали опасными. — Совершенно верно, — подтвердил Вийон. — И Людовик, как можно видеть, бежал из Парижа. Колетта взглянула на него вопросительно. — От дреговитов? — Мы можем это только предполагать. Они и сейчас угрожают ему смертью. Леонардо развернулся в седле и внимательно посмотрел на лес. — И паук покидает иногда свое гнездо. Если Людовик должен здесь проезжать, леса укроют целую армию нападающих. Тут ему не помогут и его стрелки. — Здесь явно не спрячется ни один заговорщик, — сказал Вийон с уверенностью. Леонардо поднял брови: — Откуда у вас такая уверенность? Вийон достал из фургона зарезанную курицу, которую мы вчера купили на крестьянском дворе, и пошел в лес. Мне бросилось в глаза, что он осторожно ставил одну ногу за другой как больной или как тот, кто чего-то боится. Он осмотрелся по сторонам, а потом забросил курицу с размахом вперед. Когда она достигла земли, из кроны дерева на тушку упала сеть. Раздался громкий щелчок, потом металлический свист — и из куста бузины вылетела стрела, пронизала курицу и прочно пригвоздила к земле. — Весь лес наполнен петлями, ямами-ловушками, капканами и смертельными механизмами, — объяснил Вийон. — Люди из деревни называют его лесом смерти. — Это мне отнюдь не кажется несоответствующим действительности, — заметил Аталанте, глядя на проколотую курицу, чьим единственным счастьем было, что она не могла умереть дважды. Леонардо задумчиво смотрел на мрачные стены позади. — Никто не может защитить себя полностью от нападений, даже Всемирный Паук. В каждой стене есть дыры — а если не дыры, то обвалившиеся места. То же касается и многократного кольца обороны Людовика. Оно бесполезно, если враг не будет ни штурмовать его, ни тайно пробираться через него. — Как же он тогда проникнет вовнутрь? — поинтересовалась Колетта. — Ему и не нужно проникать вовнутрь, если он уже там. — Его собственные охранники? — продолжала спрашивать Колетта. Похоже, она не замечала, как я тоскливо смотрел на нее. — Не шотландцы, эти — явно нет, — сказал Вийон так решительно, словно это был одиннадцатая заповедь. — Они считают это за высокую честь — бороться и умирать за Людовика, к тому же, честь, хорошо оплачиваемую. И никто из них не имеет ничего лично против короля. Ни у одного в темницах Людовика не томится брат или отец. Так же английские происки против Людовика не оставили шотландцев равнодушными, к тому же приверженцы проклятых англичан — их кровные враги. Англичане высосали кровь шотландцев, сделали из благородных знатных мужей нищих. Когда Людовик щедро вознаграждает услуги народа горцев, он возвращает им, таким образом, честь и благосостояние. — Остаются придворные в крепости, — подкинул идею Леонардо. — Только самые важные государственные мужи проводят ночь в замке. Другие живут в деревне и каждое утро при открытии ворот обыскиваются на предмет оружия. — Дворяне? — снова поинтересовался Леонардо. Вийон покачал головой: — Среди людей, которых Людовик терпит рядом с собой ночью, нет тех, кто завидует его правам на земельные притязания. По ночам из его окружения остается только уличная голь, которую он сам возвеличил и которая пользуется своими привилегиями, лишь пока жив Людовик. — Уличная голь? — переспросил я в недоумении. — Так вельможи с истинно голубой кровью называют презрительно его фаворитов, советников, тех, кому он всецело доверяет, прежде всего — мэтра Жака Куактье. Но и есть еще паpa людей, которые относятся туда же. Это, например, мэтр Оливье де Дэн, брадобрей и первый камергер короля, которого они еще называют le diable. — Дьявол? — я смотрел с недоумением на Вийона. — Дьявол — брадобрей? Вийон закашлялся, но это было похоже на смех: — Да, так говорят многие. От брадобрея он поднялся до важнейшего советника и посланника короля с деликатными миссиями. Это значит, мэтр Оливье поступает осторожно во всем с пронырливостью дьявола. Le diable — должно быть, его настоящее имя. Это говорит о хитрости Людовика — он назначил своего брадобрея комендантом замка, палачом и капитаном моста. Кто получил так много привилегий, едва ли польстится на то, чтобы чуть сильнее надавить лезвие при бритье. — Кто еще относится к советникам короля? — поинтересовался Леонардо. — Его сапожник и лудильщик? — Ну, все не так уж плохо. Следовало бы назвать Тристана л'Эрмита, председателя королевского суда. Он не только исполнитель короля, но и его глаза и уши. Мэтра Тристана считают проницательным в высшей степени, он умеет заглянуть человеку в душу. Во всяком случае, до сих пор он казнил всех врагов короля, и в случае сомнений предпочитал казнить на пару больше, чем меньше. — Итак, знахарь, брадобрей и палач, — Леонардо презрительно фыркнул. — Не хватает только предателя родины. Вийон взглянул на него с удивлением. — Вы неплохо разбираетесь во дворе, брат Леонардо? — Почему? — Потому что Вы не могли лучше описать Филиппа де Коммина. Он был приспешником Карла Смелого, пока одиннадцать лет назад не поменял сторону и не поступил на службу к Людовику XI. Но нашему доброму королю он, впрочем, верен. Он — сенешаль Пуату и начальник королевской службы новостей. Что может миновать Тристана, едва ли ускользнет от шпионов де Коммина. — Да, удивительно, — вздохнул Леонардо. — Если король окружен такими превосходными советниками, почему тогда мы предпринимаем дальнее путешествие в Турень? — Не забывайте, что мы считаем одного из этих советников великим магистром дреговитов. Поэтому для Людовика наступил самый худший момент его враг избежит всех мер предосторожности! — Но если знахарь что-то предпримет против Людовика, четыреста шотландцев уничтожат его. — Поэтому Куактье должен отработать нападение вне стен замка, а именно — так, чтобы никто его не заподозрил. Лучшая возможность у него для этого после захода солнца в Вальпургиеву ночь!Глава 4 Вальпургиева ночь
Маски скроют не только крестьян, но и исполнителей. Эта фраза, которую Жеан Фролло сказал мэтру Гаспару Глэру, не оставляла меня в покое. Она вертелась у меня в голове, когда повсюду кружили ведьмы и демоны с их прожорливыми мордами и ужасным пением. Ночь зла началась. Это была ночь, которая принадлежала существам тьмы, посланникам Сатаны, дьявольским союзникам и проклятым. Вальпургиева ночь… Но не маскарад крестьян и деревенских жителей, которые в масках и костюмах вызывали демонов, чтобы их прогнать потом на все лето, заставлял меня нервничать. Куда серьезней было высказывание Жеана и предстоящее нападение на короля Людовика XI. В свете факела я видел бесчисленные прыгающие и танцующие существа, словно им было слишком тесно на маленьком местечке. Со скрытыми под масками лицами мужчины и женщины отказались от всех рамок приличия. Что было запрещено купцу и крестьянской женщине, демоны и ведьмы совершали полностью беспрепятственно. Пары, которым явно не было даровано благословение брака, ломились в арки и входы домов, чтобы предаться похоти, пока она еще была дозволена. Лишь появление короля положило бы конец их бесстыдному поведению и, тем самым — моему напряженному ожиданию. У моих спутников дела обстояли так же. Вийон, Колетта и трое итальянцев стояли вместе со мной возле нашего фургона и осматривали с напряженным взглядом деревенскую площадь, чтобы обнаружить любое указание на заговорщиков. Напрасно. Либо маскарад дреговитов удался на славу, либо они отложили нападение на Людовика. Близилась полночь, а мы все так и не обнаружили ни следа готовящих нападение. Вместо этого теперь трубы и тромбоны заглушили празднично нестройную музыку шпильманов, и Вийон мрачно сказал: — Идет король! Первым на деревенскую площадь вылетел, гарцуя, отряд вооруженных всадников и ударами копий образовал в демонической сутолоке дыру. Офицер отдавал громкие приказы, и всадники выстроились в два ряда, между которыми образовался свободный широкий проход для короля. Бранные крики протеста так небрежно оттесненных ночных существ, похоже, ни в коей мере не трогали конных воинов. С непоколебимыми, угловатыми лицами они серьезно и неподвижно сидели на своих роскошных конях. — Это шотландцы! — сказал Вийон с нескрываемым презрением. — Прикажи им Людовик, и они разрубят народ своими мечами. Толпа успокоилась при въезде короля. Впереди маршировали знаменосцы и трубачи в радостных пестрых одеяниях. Потом шел первоклассный отряд шотландских стрелков в восемьдесят человек, вооруженных через каждый четвертый ряд алебардами, пищалями, арбалетами и их характерными длинными луками. Сам король был одет в широкое длинное роскошное одеяние из пурпурного сатина и скакал на белой лошади, белее которой нельзя было себе и вообразить. Красный и белый были королевскими цветами. Богато вышитое красное платье светилось издалека, словно король добровольно предлагал себя в качестве мишени. Насколько бросался в глаза его эскорт, настолько его лицо скрывалось в тени капюшона и большой, такой же красной шляпы, так что мне осталось только воспоминание о моей встрече с «кумом Туранжо» на башнях Нотр-Дама Белые страусовые перья на шляпе танцевали с каждым кивком, которым Людовик благодарил за крики приветствия и почтения. Грубое обращение конного эскорта было уже забыто. У народа Турена, как и у народа во всем мире, была короткая память, но от помпезности власти у него разбегались глаза. Конец процессии завершали посыльные короля. Они помогли ему слезть с коня перед деревянной трибуной. Людовик уселся в мягкое кресло на трибуне, по периметру которой выстроились факельщики. В дрожащем свете король был хорошо виден — как его ликующим восхищенным подданным, так и тайным заговорщикам, которые себя пока ничем еще не выдали. — Мы должны разделиться, — предложил Вийон. — Колетта и я заберемся на фургоны, чтобы отсюда наблюдать за рыночной площадью. Вы, остальные, подойдите по возможности поближе к трибуне, чтобы прикрыть Людовика. Я протискивался через толпу вместе с итальянцами. Того, что Людовик меня узнает, едва ли стоило опасаться. Он находился в ярком свете, я же был всего лишь одним из тысячи лиц. К тому же я исходил из того, что он уже давно позабыл свою встречу с маленьким писцом Арманом Сове. Мы добрались до трибуны, когда бургомистр Плес-си-де-Тур, очень маленький, но потому еще более толстый человек, вышел к королю и поприветствовал его. Бургомистр представил своему высшему сюзерену украшенную венком и гирляндами из цветов майскую королеву, — пожалуй, не случайно свою собственную дочь. И это в определенной степени oправдывало ее красоту: несмотря на юность, она обладала такими же внушительными размерами. Я прекрасно понял, что ради права стать майской королевой она выполнила неукоснительное требование девственности. Нехотя бургомистр отступил на задний план, потому что последующее было делом короля и майской королевы. — Отец мой, отец мой, — обращалась она визгливым голосом к королю, отчего у последнего явно зазвенело в ушах, — послушайте, что там творится во дворе: там кто-то воет так громко, там кто-то лает и топает, шумит и рычит над кронами деревьев отвратительно и дико! Как плохая актриса (а таковой она и была), она смотрела вверх с широко раскрытыми глазами на украшенное майское дерево, установленное на рыночной площади, словно видела над ним спускающуюся по небу Ликую Охоту. Музыканты танцевали друг с другом, яростно орали и кружились, чтобы придать словам майской королевы подобающий вес. Король встал и распростер руки. И по мановению руки ведьмы и демоны застыли, замолчали даже музыканты. Дуновение ветра затеребило красное королевское одеяние, словно крылья огромной птицы, и Людовик сам показался мне одним из изгоняемых призраков. Он наклонился к пестро разукрашенной девице и сказал: — Дитя мое, это злая ночь, дитя мое, это Дикая Охота. Отче наш, три креста на воротах, благодарим Бога, что мы теперь в безопасности перед этим. Привидение не сможет больше войти к нам, теперь ложись в постель, дитя мое, и засыпай![880] Едва он произнес это, поднялся громкий звон колоколов. Лица обернулись к колокольне, на которой возвышалось деревянное распятие в синем ночном небе. Возглавляемая священником, который громко читал молитву «Отче наш», маленькая процессия вышла из церкви. Причетники в праздничных одеяниях раздавали благовония, другие несли распятие, подобное тому, что было на башне церкви. Процессия останавливалась у каждого дома, и священник рисовал сверкающим белым мелом три креста на входной двери. Под жалобные стоны ряженые дергались, как черви с больным животом. При этом я не сумел определить, испугались ли они молитвы, строгого вида деревянного распятия или кусающего запаха благовония, от которого заслезились и мои глаза. В это время Людовик схватил за руку свое круглолицее «дитя» и отвел к установленной на трибуне кровати, в которую улеглась майская королева. Хлипкая конструкция выдержала ее вес, и возможно, это было самое большое чудо нынешней Вальпургиевой ночи. С девушкой успокоились и демоны и ведьмы, их возня утихла. Король громко сказал собравшимся: — Волшба прошла, исчезли привидения, Господь да щедро воздаст благословением! Сопровождаемые оглушительным ликованием, звезды вспыхнули в небе. Я сжался, мое дыхание замерло. Разлетаясь искрами, остатки от взорвавшихся созвездий медленно падали на землю. Все без исключения кометы, которые указал Пьер Гренгуар в своей книге, казалось, в один миг обрушились вниз в доказательство их божественной разрушительной силы. Потом я заметил фейерверк, который устроили на другой стороне площади возле трибуны. Пиротехники поспешно подожгли фитили, которые выглядывали из нижних клапанов железных трубок. Искусно созданные птицы порхали из направленных в небо труб и с визгом взлетали вверх. Они расправляли свои крылья и парили над крышами, пока не распадались и не разбрызгивали свой сверкающий дождь, да так, что порой мне казалось, что здесь светло, как днем. Свет и пламя преодолели ночь и существ тьмы. Только потому, что было так светло, я разглядел пятерых людей, одетых как демоны в маски. Они поднялись за выступом стены и направили на трибуну металлические трубки, подобные трубкам для фейерверка То, что они держали в руках, выглядело как смесь из трубок для фейерверка и пищалей. Фитили уже горели, и, наконец — слишком поздно? — я осознал, каким коварным образом должен умереть король Людовик. Вспышки фейерверка отвлекут не только толпу, но и преданных шотландцев. Возможно, все примут это даже за несчастный случай, за неудачный фейерверк. Словно я сам был вылетевшим выстрелом из трубы, я бросился к трибуне и закричал королю изо всех своих сил, что ему нужно искать укрытие. Слышал ли он меня? Возможно, его только насторожило поведение его стражи, которая обратила на меня внимание и уставила в меня свое оружие. Каждый раз Людовик прыгал в сторону, и первый выстрел ракеты пролетел мимо, попал в кресло на трибуне. Гром взрыва заглушил весь другой шум. Кресло полностью разлетелось вдребезги, и волна разряда ударила Людовика по ногам. Там, где он как раз стоял, разорвался второй снаряд, и снова загремел оглушающий взрыв. В трибуне зияла соответствующая дыра. Отскочившая в стороны древесина полетела по воздуху в абсолютном беспорядке. Щепки вонзились мне в кожу. Других постигло то же самое, как я понял по общему крику. Короля я больше не видел. То ли он провалился через дырку на трибуне, то ли был скрыт плотным облаком дыма, которое быстро распространилось и воняло хуже, чем благовония? Когда раздался третий взрыв, толпа в дикой панике метнулась прочь от трибуны и поволокла меня с собой. Люди, которые не знали, что произошло, должно быть, приняли это за волшебство. Ад выплюнул свое смертельное дыхание, чтобы одержать победу в эту Вальпургиеву ночь над добрыми силами. На трибуне поднялась из своей постели сбитая с толку майская королева и с ужасом озиралась по сторонам. Четвертый выстрел попал прямо в ее необъятное тело и разорвал его. Если бы у людей нашлось время и желание для сбора реликвий, то явно здесь с лихвой хватило каждому что-нибудь от майского счастья — пусть это было и только фаланга пальца или кусочек кишок. И пятый выстрел нашел свою жертву: бургомистр, который слишком поздно решился поспешить своей дочери на помощь. Однако пуля разорвалась в сажени под ним, но я увидел его качающимся на ногах и падающим. Потом угол дома въехал между мной и трибуной. Чтобы быть точным — я был оттеснен бегущей массой людей, демонов и ведьм за угол большого дома в стиле фахверк[881] и меня бы утащили дальше, если бы я не схватился обеими руками за подпирающую балку навеса и не взобрался наверх. Отсюда я видел выступ стены, который скрывал нападавших. Они исчезли, вероятно, убежали по узкой улице, которая начиналась сразу за их засадой. Женщина бежала, задрав юбку, по улице, и мое сердце забилось быстрее, когда я узнал Колетту. Со своей высокой обзорной позиции на одном из фургонов она обнаружила нападавшего и начала преследование. Но почему одна? С дикими проклятиями я пробежал по крыше и спрыгнул во внутренний двор. По дождевой бочке я взобрался на другую крышу, прыгнул снова вниз и приземлился плашмя на нужную улицу. Я поднялся на ноги и огляделся. Улица была пуста, я подоспел слишком поздно. Подгоняемый беспокойством о Колетте, я помчался в направлении, которое она и предполагаемый преступник тоже выбрали. Мое сердце стучало, словно хотело выскочить из груди, и напоминало мне о том, что я потерял Колетту, но не забыл. Едва у меня промелькнула эта мысль в голове, как я увидел в одиноком луче света вспыхнувшего окна ее засверкавшие светлые волосы. Я позвал ее по имени. Она остановилась, обернулась ко мне и указала в чащу поросшего холма. — Они там наверху, в лесу! — Я последую за ними, — тяжело переводя дыхание, сказал я. — Сообщите об этом Вийону! Колетта затрясла головой и посмотрела на деревню, откуда со многих улиц бежали на открытое место испуганные люди. — Теперь я здесь не проберусь. Я останусь с вами. — Этого я не хочу. Это слишком опасно… — Я не оставляю вам выбора, — она перебила меня с двусмысленной улыбкой и проворно побежала на возвышенность. Я сделал то, чтоделают мужчины во всевремена: побежал за девушкой. Скоро нас окружили деревья и кусты. Чем дальше мы удалялись в лес, тем тише становился шум пришедшей в волнение деревни. — В каком направлении мы теперь бежим? — спросил я, когда догнал Колетту. — Конечно, прочь от деревни! Куда же еще? Тут она оступилась. С ужасом я подумал о ловушках, которые король Людовик расставил вокруг своего замка. Теперь мне слишком хорошо припомнилась проколотая курица. Но почему смертельные ловушки были так близко с деревней? С облегчением я установил, что Колетта споткнулась всего лишь о торчащий из земли корень дерева. Я подал ей руку и поднял ее наверх. Она издала пронзительный крик и упала бы снова, если бы я не подхватил ее. Я чувствовал тепло ее разгоряченного от бега тела, и облако ее сладкого аромата обволокло меня. В союзе с тяжелым запахом леса создалась очаровательная смесь. К сожалению, у меня не было времени им наслаждаться. — У меня болит лодыжка, — застонала она. — Вы должны один продолжить преследование. Я посмотрел в направлении, в котором мы бежали, и тихо сказал: — Едва ли. К чему идти на охоту, если дичь идет к охотнику? Лишь теперь Колетта отвела взгляд от своей ноющей лодыжки и заметила то, что я увидел раньше. Люди, которым мы наступали на пятки, перевернули копье и заманили нас в ловушку. Они выступили из-за высоких вязов и окружили нас. Двое были еще в демонических масках. Теперь лунный свет скудно падал через кроны деревьев, но достаточно, чтобы засверкать на кинжалах в их руках. — Бегите! — крикнула Колетта мне. — Спасайтесь, Арман. Вам это еще удастся! — Без Вас, Колетта? Никогда! — Очень трогательно, — с ухмылкой сказал неотесанный мужик, чьи окладистые усы почти закрывали рот. С обнаженным кинжалом он пошел на нас. — Абеляр[882] не хотел отставлять Элоизу, и за это простофиля должен жестоко поплатиться! Он продемонстрировал свои знания о страданиях бедного Пьера Абеляра, при этом он поднял колено и ударил меня в пах. Я закричал, скорчился и непроизвольно схватился за болящее место. Что-то твердое, пожалуй, рукоять его кинжала, задело мой затылок и свалило на землю. Обжигающая боль боролась с глухим обмороком за первенство в моем черепе. Почти в бессознательном состоянии я лежал на ароматной лесной земле и пришел в себя, лишь когда услышал крики Колетты. Она прижалась спиной к дереву. Ее платье было по бедра разодрано. Четверо мужчин обступили девушку и таращились на нагую плоть ее груди. На лице Колетты не было ни страха, ни стыда или отвращения. Абсолютно неподвижно она стояла под вязом и не сопротивлялась, когда человек в маске сорвал до конца ее изодранное платье и обнажил теперь ее чресла. Только широко раскрытые глаза Колетты и крик, который я услышал, красноречиво говорили о том, что происходило у нее в душе. Я хотел поспешить ей на помощь, хотел вскочить, но только с трудом поднялся на качающихся ногах. Тут тень упала на меня, и костлявый кулак вмазался мне в живот. Я, пошатнувшись, отступил назад и упал снова на землю. Надо мной стоял бородач, который один раз уже отправлял меня на землю. — Не можешь допустить, не так ли? — угрожая, он продемонстрировал мне свой кинжал. — Оставайся-ка лучше здесь валяться и наслаждайся спектаклем, это полезнее для тебя. Один из людей в масках спустил свои штаны и втиснулся между ног Колетты. — Нет! — закричал я. — Не… это! — Если бы птичка не щебетала, ее бы теперь не поймали, — захихикал мужлан с кинжалом. — Или ты хочешь пропеть нам песенку? Мужчина с оголенным задом повернул голову, сдвинул на затылок дьявольскую рожу и обнажил едва ли более достойное лицо. — Рохля может все еще петь, Ландри. Теперь мы хотим повеселиться! — с этими словами он повернулся к Колетте, которую крепко держали трое других. — Ты прав, Огиер, — пробурчал он. — После работы по праву полагается удовольствие… Остаток фразы потонул в глухом стоне, когда моя быстро выкинутая вперед нога ударила его по бедру. Такой удар я часто применял, когда парни из Сабле в большом количестве валили меня на землю. И теперь он оказал свое действие — резкая боль отклонила Ландри. Я снова вскочил на ноги и схватил обеими руками его руку с оружием. Он хотел воспользоваться кинжалом и вырваться. На один миг я притворился, будто сдаюсь, но убаюкал его ложной уверенностью, только чтобы потом жестоко ударить. Я вонзил Ландри в грудь его собственный клинок. Тяжело дыша, он упал и выплюнул кровь. Четверо остальных оставили Колетту, чтобы наброситься на меня. Огиер уже совсем забыл о своих штанах, в которых он запутался и упал. Я достал мой собственный кинжал и уже знал, что я буду повержен тремя противниками. — Беги прочь, Колетта! Беги-и-и! С этим криком на губах я бросился на первого врага, который скрестил со мной свой клинок. Я не мог отпустить его от себя, не обезоружив. Но двое других убийц могли беспрепятственно наброситься на меня. Уже клинок веснушчатого противника направился на меня, как из темноты, из ничего просвистела стрела — и тут же пронзила его сердце. С невероятным выражением лица пораженный неловко развернулся, прежде чем он упал рядом со своим приятелем Ландри. Последний ряженый сорвал свою размалеванную ядовитыми цветами личину из папье-маше и оглядывался по сторонам, ища невидимого стрелка, пока не получил стрелу в шею и не прекратил всякие поиски. Огиер, который, между тем, натянул свои штаны, и мой противник были сыты по горло. Как загнанная дичь, они убежали в темноту. Я заметил, что стрелы были с голубым опереньем. Это не удивило меня. В застывшие глаза Колетты вернулась жизнь. Она отделилась от вяза, и я подхватил ее. Ее спину исцарапала кора дерева. Я ожидал, что ее страх и напряжение перейдут в судорожный плач, но ошибся. Она просто лежала в моих руках и тяжело дышала. Через ее плечо я увидел выходящего из леса стрелка. Это был высокий статный мужчина, перешагнувший уже за тридцать лет, но еще не дошедший до сорока. Он двигался с ловкостью юноши и в то же время — с раскованностью зрелого мужчины. Аккуратно подстриженная борода обрамляла его лицо, на котором даже в темноте светились голубые глаза. Он был одет в кожаный камзол охотника и штаны фламандского покроя. Полусапоги из мягкой оленьей кожи дополняли лесной облик. На спине висел кожаный колчан, на набедренном поясе — большой охотничий нож. В левой руке он свободно держал лук, обладание которым требовало как силы, так и ловкости. Он подошел к погибшим нападавшим и посмотрел на них сверху вниз. — Моя охота прошла успешно, как раз вовремя, — сказал он приятным голосом, и с резким иностранным акцентом. — Опасная дичь, но теперь она убита, — он склонился над троими мужчинам и убедился в их кончине. — Я благодарю вас, незнакомец, — сказал я. — Уже во второй раз вы спасаете мне жизнь. — Верно, — ответил он. — У вас хороший ангел-хранитель, мэтр Сове. — Ангел-хранитель из далекой Англии, как мне кажется. Возмущение отразилось на его лице: — Месье, вы хотите смертельно обидеть меня, вашего спасителя? — Простите, вы из Шотландии? — Само собой разумеется! — он ударил себя в грудь. — Вы верите, что у англичанина мог быть такой лук? — он показал мне украшенное со всех сторон резьбой тяжелое оружие. Я пожал плечами: — Я лучше разбираюсь в перьях для письма. — С кинжалом вы были не так уж и неловки. — Я бы охотно поблагодарил за комплимент, если был я знал, кого. — О, как это непростительно с моей стороны, — лучник поклонился. — Я Квентин Дорвард из Глен-Хулакен и происхожу из рода Аллана Дорварда, Великого Стюарта Шотландского. Если вам больше говорит нынешний фламандский титул, чем прежний шотландский, то вы можете охотно меня называть графом де Круа. Я молча смотрел на него, причиной тому было мое замешательство. Вызвано это было тем, что я видел шотландского дворянина в камзоле простого охотника. К тому, что шотландцы бедны как церковные мыши, уже все привыкли. Но фламандский граф в таком костюме — мог ли он иметь шотландское происхождение? И что побудило его устроить охоту на убийц короля в лесу Плесси? — Ваше лицо говорит о большем числе вопросов,чем вашигубы могли бы задать за один вечер, мэтр Сове.Следуйте за мной, и вы получите ответы. — Куда? — В часовню Святого Хубертуса. — Покровителя охоты? Шотландец наклонился над убитыми мужчинами и забрал обратно свои стрелы, после того как вытер кровь об одежду убитых. — Вы не думаете, что это подходящее укрытие для нас? Мне пришлось улыбнуться и согласиться с ним. Колета привела в порядок свое порванное платье, так что, по крайней мере, были прикрыты голые места, и затем мы последовали за странным графом в лес. Он уверенно шагал в темноте. — Вы не боитесь ловушек короля? — спросил я. — Я здесь очень хорошо ориентируюсь, еще с прежних времен. И вы, Арман, не боитесь меня? — Если вы хотели меня убить, вы бы не старались дважды сохранить мне жизнь. Он коротко рассмеялся и продолжил молча путь. Несмотря на мои уверенные слова, я спрашивал себя, человек ли он или привидение, часть дикой охоты, порождение Вальпургиевой ночи.Глава 5 Братья Всемирного Паука
Когда лес расступился перед поляной, окруженной высокими буками и вязами, горстка стрелков направила свои стрелы на нас. У мужчин небыло оружия королевской стражи, они были одеты в костюмы охотников, как и наш странный провожатый. Как только они узнали шотландца, то опустили свое оружие и убрали стрелы обратно в колчаны. Стрелки стояли перед часовней покровителя охоты, и пара лошадей паслась возле тихо плещущего ручья. Языческие божества приостановили Дикую Охоту, чтобы передохнуть, и совершенно случайно заглянули в освященный дом христианства. Пока Квентин Дорвард быстро переговорил с охотниками, которых я не понял — они беседовали по-шотландски, — я рассмотрел часовню. Она была построена самым простым образом и казалась маленькой рядом с выросшими деревьями, которые, как стражники-великаны, стояли вокруг лужайки. Через цветные, украшенные сценами охоты окна наружу пробивался слабый свет, и я расслышал тихие голоса — не громче журчания ручья. К часовне примыкала деревянная хижина, которая почти совсем обвалилась. — Здесь сперва жил отшельник, который нес свою службу священника в часовне Хубертуса, — объяснил Дорвард и глубоко вздохнул. — Но это было очень давно, это воспоминания о прошедшем, если не о лучшем времени. Войдем, нас уже ждут. В нише над входом в виде арки красовалось изображение Святого Хубертуса с горном на шее и в сопровождении своры собак. Помещение было похоже, скорее, на охотничью лачугу, чем на храм Божий. Ни распятие, ни сцены из Святого Писания не украшали стены, зато были охотничьи горны, луки, колчаны, перья и головы убитых оленей, волков, медведей и кабанов. Вместо ковров у алтаря были раскинуты драгоценные шкуры зверей со всех частей света. Но не странное убранство часовни Хубертуса вызвало мое удивление. Мой взгляд лишь мельком окинул ее, чтобы остановиться на людях, сидевших на скамьях, устланных шкурами. В свете немногих зажженных свечей на стене они казались призраками. Это были Вийон, Леонардо, Аталанте, Томмазо… и король Людовик. То, что король пережил покушение, было малым чудом. То, что от его великолепного красного одеяния мало что осталось, а ободранные страусовые перья украшали только печальные остатки большой шляпы, меня едва ли удивило. Клочья роскошного одежды были покрыты следами огня, грязный черный цвет опалил и лицо. Я увидел это, когда Людовик повернул ко мне голову и посмотрел на нас. Но я увидел и большее и закричал: — Но… Вы же не Людовик! Мужчина был гораздо моложе короля — примерно возраста Дорварда. Черные волосы рассыпались по плечам. Сходство с королем придавали его лицу крупный орлиный нос и угловатость. Лоб подымался не слишком высоко над глазами, как и у короля. И, как и Людовик, мужчина в красном производил впечатление человека волевого, привыкшего отдавать приказания. — Вы распознали меня, месье, — человек в красном подарил мне тонкую улыбку. — Если бы я был Людовиком, то на этом месте никто бы не сидел. Вызванный вами переполох дал мне возможность спастись быстрым прыжком. При всех талантах, которыми располагает мой добрый король Людовик, быстротой убегающей лани он не обладает — по причине возраста. — Да, вам повезло, — подтвердил Вийон. — Гораздо больше, чем бургомистру и его дочери. Я кивнул: — Я успел увидеть, как они умерли, прежде чем толпа снесла меня. — О, бургомистр жив, — ответил человек в красном. — Но чертовы выстрелы оторвали ему ноги. Мне следует отблагодарить вас, мэтр Сове, вы стоите своего имени. Чем могу быть вам полезен? — Возможно, вашим именем и объяснением, почему вы выдаете себя за короля, — ответил я недовольно. Я был расстроен — похоже, снова все, кроме одного меня — и, пожалуй, Колетты — знали, что здесь было разыграно. — Мое имя, конечно. Я — Филипп де Коммин, сешеналь Пуату. — Изменник роди… — вырвалось у меня, и я осекся по призывному знаку Вийона. — Меня называли по-разному, — сказал человек в красном, совершенно не оскорбившись. — Но существует много причин поменять стороны — плохие и хорошие, бесчестные и почетные. Я делал это, потому что влияние «чистых» на короля Людовика мне показалось более многообещающим, чем дальнейшая служба у Карла Смелого. История подтвердила это. — «Чистых»? — мой испытывающий взгляд заметался между сенешалем и Вийоном. — Брат Филипп один из наших, — объяснил мой отец. — До нынешней ночи я не знал этого. — Возможно, «чистым» следует расширить связь между их отдельными общинами, — пробормотал я. — Чтобы нас было еще легче обнаружить и уничтожить! — возразил Леонардо. Я признал свою глупость и смущенно обратился к шотландцу. — Вы тоже? Дорвард покачал головой: — Я — человек войны и охоты, а не веры. Скажем, мои симпатии лежат на стороне сенешаля и короля, а не подлого убийцы, — он рассказал о кровавой встрече в лесу и добавил: — Я не знаю парней. Вероятно, дреговиты отобрали отпетых негодяев, возможно — экошеров. Колетта выдвинулась вперед и посмотрела с умоляющим взглядом на Коммина: — Мессир, вы что-нибудь знаете о моем отце, Марке Сенене? Он покачал головой, и со вздохом отчаяния Колетта опустилась на скамейку. Она спрятала лицо в руках, но и теперь она не плакала. С какой бы охотой я утешил ее, но я не знал утешения. И существовали неотложные вопросы, которые надо было уточнить. — Вы как кажется, рассчитывали на нападение, — сказал я, обращаясь к Коммину и Дорварду. — Но как вам это удалось, сенешаль, выдать себя за Людовика? — Совершенно просто, я получил его одобрение. Потому что я — его брат. — Как? — Не его единоутробный брат, а брат духа и души. Я миньон Людовика. Вы знаете, что это значит? — Его доверенное лицо. — Более чем. Я знаю, как думает король, говорит, двигается, держится. Когда два года назад Людовик так тяжело болел, что он на время потерял речь, мне пришлось лежать в его кровати, стать его ртом, говоря за него. И поэтому я — Людовик, если он должен отправиться на опасную миссию. Как в эту ночь, во время которой я опасался нападения и оказался прав. Я обернулся к шотландцу: — И вы, граф, тоже относитесь к гвардии миньона? — Дорвард рассмеялся от всего сердца: — Обозначение ново для меня, но, во всяком случае, оно попало в самую точку. Мои спутники снаружи и я прежде несли нашу службу королю в шотландской гвардии. Между тем, мы были награждены титулами и леном и отпущены на покой, но если сенешаль нас созывает, мы на его стороне. Я спросил себя, что за героические подвиги в молодости должен был совершить этот шотландец, если он в лучшем возрасте для мужчины уже пребывает на покое. Коммин посмотрел на него. — Граф Круа — самый верный, смелый и ловкий из всех. Поэтому я послал его в Париж, где случилось, что он сумел уже помочь юному господину. Его собственная миссия — сообщить мне о событиях в столице и охранять короля, который самым легкомысленным образом слушает этого пройдоху Куактье. — Куактье и король были у отца Клода Фролло, — сказал я. — Я знаю, — сенешаль кивнул. — Брат Вийон рассказал мне. И все выглядит так, что Куактье — великий магистр дреговитов, хотя я не уверен. — Кем же еще должен он быть? — спросил я. — Возможно, другой из круга королевских советников. Вы подсматривали за великим магистром, мэтр Сове, возможно, вы снова узнаете его. Поэтому вы должны утром быть в замке, когда я буду сообщать Людовику и его советникам о нападении. — Мне нужно идти в замок, в эту крепость? Как же я туда попаду? Коммин спокойно посмотрел на меня. — Святой человек, которого Людовик просил прибыть из Калабрии[883], поможет нам. Людовик ожидает от отшельника облегчения его болезни возраста и продления своей угасающей жизни. Святой действительно невероятно свят. Он отклоняет подарки, спит стоя и строго постится, при этом не ест ни мяса, ни рыбы, ни молока, ни сыра, ни масла, ни яиц. — Как вредно для здоровья! — не удержался я. — Действительно, — кивнул, соглашаясь, Коммин и продолжил свою речь. — Но нам это поможет. Чтобы доставить святому человеку радость, Людовик велит регулярно приносить в замок овощи и коренья. Назавтра выпала следующая поставка. И Вы, Арман, будете ее сопровождать. Мысль о строжайшей охране замка заставила меня испугаться, и я вздохнул: — Если это только пойдет на пользу! Сенешаль улыбнулся, как тот, кто хочет подбодрить другого, невзирая на собственные сомнения: — Это предоставьте моим заботам, мой спаситель. В «благодарность» за то, что я спас его жизнь, Филипп де Коммин подвергал опасности мою жизнь. Так думал я, когда маленькая колонна фургонов покинула защиту леса и направилась через пустынное пространство к гнезду Всемирного Паука. Ночью план сенешаля звучал очень просто. Теперь, в разгоряченном свете дневного солнца, льющегося на крепость Людовика, я показался себе мухой, которую отец Фролло бросил в сети паука. Три фургона шли из Тура, куда корабли привезли питание для набожного отшельника. В деревне Плесси, которая все еще не отошла от Вальпургиевой ночи, я сел на среднюю повозку, словно относился к возчикам. Теперь я взглянул на укрепления и понадеялся, что охрана не раскроет мой розыгрыш. Король не должен узнать, что его миньон — «чистый», еретик. Если Всемирный Паук понял бы это, он предал бы огню костра даже своего брата духа и тела. И потом, для всякого отступления было слишком поздно. Фуры катили с глухим грохотом по подъемному мосту перед внешней стеной, чтобы остановиться перед воротами. Несущий караул солдат отделился от рядов своего вооруженного до зубов отряда, чтобы спросить пароль. Сопровождающие колонну были завербованы доверенными лицами Коммина, и я очень надеялся, что его доверие людям оправдается. — В свете солнца проходит то, что не уходит при свете короля, — ответил один из двоих мужчин на первой фуре, и караульный кивнул. По его знаку подошли пикинеры и обыскали ящики фур, чтобы удостовериться — между коробами и мешками с лимонами, сладкими яблоками, грушами, персиками, арбузами и пастернаком никто не спрятался. В это время караульный велел нам сойти, и шотландские гвардейцы обыскали нас на предмет оружия. Наконец, поступил желанный приказ командующего стражей: мы можем снова взобраться на повозки. Ворота открыли. Через второй подъемный мост и через другие ворота мы попали во двор замка, где над нашими головами угрожающе поднялись вращающиеся железные башни. Мне пришлось по-настоящему преодолеть себя, чтобы вскочить с козел и помочь при разгрузке. Мысль, что стрелки в железных башнях скрупулезно наблюдают за каждым моим движением, похоже, заставляла меня дрожать. Тот, кто примет меня за труса, никогда не был в гнезде Всемирного Паука. Я потащил мешок пастернака в помещение склада, как вдруг Квентин Дорвард предстал передо мной в одежде придворного из блестящей парчи. — Пойдемте, мэтр Сове. Переговоры тайного совета короны сейчас начнутся. Так уверенно, как он шел вчера по лесу со мной и Колеттой, Дорвард провел меня теперь потайными ходами замка к маленькой галерее. Позади ее деревянной балюстрады мы присели. Через щели в балюстраде можно было разглядеть помещение под хорами. Оно было небольшим, без украшений, даже совсем скромным для зала в замке короля, как я представлял его себе. Единственным предметом, который, по крайней мере, выглядел по-королевски, был украшенный искусной резьбой изящный стол. Он был уставлен сверкающими золотом и серебром сосудами. Стол стоял рядом с простым столом побольше, который был накрыт на пять персон. Далее мне бросилось в глаза, что в помещении не было ни одного окна. Снаружи ярко светило солнце, здесь же, внутри, сиял только свет ламп. Один за другим пятеро мужчин вошли в помещение и сели за стол. Трое из них встречались мне: Филипп де Коммин, мэтр Жак Куактье и «кум Туранжо» — король. Он был одет так же просто, как и во время своего визита в Нотр-Дам, ничто не выдавало королевское достоинство. Двое остальных должны были оказаться Оливье Ле-Дэном и Тристаном л'Эрмитом. Последнего я, похоже, видел за ремеслом палача. Его крепкое телосложение производило еще большее впечатление, хотя он был только среднего роста. Его взгляд был действительно испытующим, пронизывающим, как это описывал Вийон. Только этот взгляд редко можно было испытать на себе, потому что королевский прокурор предпочитал смотреть вниз. Словно бы он боялся, что его глаза могут встретиться с упрекающими взглядами многих несчастных, которым по его указанию отрубили голову или разбили затылок. Взгляд брадобрея был напротив чистой радостью, и я не мог себе представить, почему именно его называют «le diable». Он походил ростом и осанкой на Дорварда, и его победоносная улыбка играла на соразмерных чертах лица. Ни один паж не прислуживал, высокие мужи сами наливали себе вино, угощались цыплятами и паштетом. Заседание действительно было исключительно тайным. Что же с нами произойдет, если нас обнаружат? Тот, кто нами займется, как я полагал, сидел за столом короля и назывался Тристан д-Эрмит. Коммин взял слово и подробно поведал о нападении (встречу в часовне Хубертуса он в своем рассказе опустил). Мэтр Куактье возмущенно ударил по столу и посмотрел на короля: — Сир, если вы предполагали нападение, почему вы сообщаете нам об этом лишь сегодня? Людовик одарил своего личного врача холодной улыбкой. — Достаточно, что я посвятил своего миньона. Вы недовольны, что он вместо меня принял на себя удар опасности, друг Жак? Как моему врачу, вам следует радоваться, что Филипп вместо меня избежал ранений. — Да, я рад, я рад, — поспешно сказал Куактье. — Только я имел в виду, что вам следовало вводить в курс дела вашего советника перед важными поступками, а не спустя, Ваше Величество. Мэтр Оливье попытался своей сердечной улыбкой уладить ситуацию. — Эта ссора о пролитом молоке. Давайте все лучше порадуемся, что покушавшиеся оказались успешнее в искусстве изображения из себя пиротехников, нежели в своих собственных намерениях. — Я хочу знать, кто они были, и кто их послал, — прорычал Тристан д'Эрмит. — К сожалению, они скрылись, — сказал Коммин, ни слова не говоря о трех мертвых подлых убийцах из-за угла. — И у вас нет ни одной ниточки, сенешаль? — выпытывал дальше королевский прокурор. — К сожалению, нет, — ответил Коммин. Тристан поднял глаза, они горели, желая прожечь сенешаля вплоть до самой глубины. — Как вы вообще могли рассчитывать на нападение? Что заставило вас облачиться в одеяние короля? У вас-то должно быть на это основание! — Никаких оснований, только слухи. Мои шпионы сообщили мне всевозможные разговоры, ничтожные мелочи, которым никто не придает значения, но я сделал то, что было моей задачей — и попытался свести все воедино. Отсюда получился вывод, что наш король, если он примет участие в майском празднике, поставит свою драгоценную жизнь под удар. — Какая нам польза в этом выводе, коли мы не знаем врага? — спросил Тристан с чувством упрямства и раздражения. — Все же король Людовик жив, — заметил Коммин самодовольно. — Или это — ничто? — Я страшно рад по этому поводу, — сказал Людовик с хитрой улыбкой. — Давайте больше не строить догадки о таинственных заговорщиках, лучше порадуемся хорошему исходу приключения! Он поднял бронзовый винный кубок, и все последовали его примеру. Для одного человека, который еще несколько часов назад должен был быть убит, он казался даже в очень хорошем расположении духа. Отчего так уверенно чувствовал себя Всемирный Паук в своем гнезде? — Ну, мэтр Сове, вы узнали великого магистра? — спросил Филипп де Коммин с надеждой в голосе, когда мы снова встретились в полночь в часовне Святого Хубертуса. После королевской обеденной трапезы я покинул замок тем же путем, что я и пришел: вместе с пустыми фургонами. Я мог ответить сенешалю только то, что уже рассказал Вийону и другим: — Когда я видел великого магистра, он был закутан в плащ и в маске. Его голос делался глухим из-за маски. Мне очень жаль, но если великий магистр принадлежал к кругу королевских советников, то он может быть любым из четырех людей. С удивлением Коммин поднял брови: — Четырех? — Маска, которую носил он на собрании девяти, могла бы скрыть любого. Даже вас, мессир. — Тогда бы я вряд ли провел вас в замок и, тем более, выпустил обратно. — Это произошло потому, что вы хотели снять с себя любое подозрение. Его лоб нахмурился: — Вы очень недоверчивы, юный друг. В кого вы такой? На секунду я встретился взглядом с Вийоном, и потом снова посмотрел на сенешаля и ответил: — Возможно, в моего отца.КНИГА СЕДЬМАЯ
Глава 1 Покаяться и умереть
Я стоял на галерее между башнями Собора, смотрел вниз на город и ждал смерти, которая достигнет к полуденному часу Нотр-Дама. Мой собственный отец послал меня обратно в Нотр-Дам, в самый центр опасности. Если для него смерть могла считаться спасением, то я не разделял таких соображений. Но поскольку произошедшее в Плесси-де-Тур не принесло ожидаемого объяснения, Вийон нуждался в моих глазах и ушах в Соборе, в непосредственной близости от отца Фролло. Как впрочем, и поблизости от солнечного камня. Как выразился Вийон: — С каждый днем ананке приближается, и возможно, только вы, мой сын Арман, стоите между человечеством и его роком. Итак, оборванный и якобы обворованный, я предстал перед архидьяконом и рассказал ему дикую историю, об уличных грабителях, которые напали на меня и утащили к себе. Потом они всё решали, убить меня или продать сарацинам в рабство. После многих дней плена мне удался побег. И так далее — настоящее приключение, которое выдумали Вийон и я. То, на что я едва осмеливался надеяться, произошло: Фролло, казалось, не только поверил мне, он даже восполнил мне «украденные» деньги. Но действительно ли он поверил мне, или догадывался о правде и хотел держать меня поблизости, чтобы следить за мной? Прошло три недели после нашего возвращения в Париж. Три безуспешные, мучительные недели для меня, и трудное время для Эсмеральды. Под пытками она призналась во всем, в чем ее обвиняли: в волшебстве, в колдовстве, в поклонении дьяволу, в распутстве с животными и демонами — даже в убийстве капитана Феба де Шатопера. Она созналась и в сношениях со своей козочкой Джали, которую конечно сразу же объявили реинкарнированным дьяволом, поэтому козу тут же приговорили к смерти. Что, впрочем, не вызвало никакого удивления — в прошлые годы казнили камень и деревянную балку, потому что они убили высокого клирика, когда обрушился мост. С более краткими перерывами я смотрел на небо. Солнце взбиралось все выше и выше, и все неотступнее приближался последний час Эсмеральды. Улицы и переулки вокруг Соборной площади наполнились смехом, криками и пением, музыкой и мошенниками, мужчинами и женщинами. Из моей башни они все виделись только пестрыми пятнами, куклами, которые танцевали бессмысленный танец. Они таращились на смерть человека, чтобы одурманить себя жизнью. Это показалось мне большим роком для человека — он сам всегда продолжает жить, если при этом его братья и сестры идут на смерть. Воюют ли друг с другом люди для того, чтобы жертвами со стороны противника умиротворить смерть? И поэтому ли происходит резня, убийства и казни? Чем тогда генерал лучше, чем висельник? Не это ли — страх людей пред смертью, их ананке? Даже самые низкие крыши были заняты похотливой толпой. В странном контрасте с ними находилась безлюдная площадь перед Собором. Она бы уже давно была наводнена людьми, если бы не стояли плотные цепи охраны вдоль оградительной стены, вооруженные пиками сержанты «одиннадцать на двадцать»[884] и пищальщики с заряженными ружьями. Вход на Соборную площадь был прегражден алебардистами с епископскими гербами. Колокола Собора пробили полдень, и радостный крик пронесся над толпой. Мои руки вцепились в перила, когда я увидел на западе среди крыш и фронтонов процессию, которая медленно продвигалась ко Дворцу правосудия. Там, в Консьержери, держали под стражей Эсмеральду со дня ее обвинения до дня казни. И никто не помог ей. Ни ее отец, ни Вийон. После того как мы проникли в темницу Дворца правосудия, Консьержери переоборудовали в настоящую крепость, вряд ли менее охраняемую, чем чертоги Всемирного Паука в лесу Тура. Вторая попытка освобождения несомненно превратилась бы в кровавую бойню. И Фалурдель, злая сводня из Латинского квартала, не помогла цыганке. Наоборот, старуха только еще глубже спихнула Эсмеральду в пропасть рока, болтая на суде что-то о таинственном колдовстве египтянки. Якобы Эсмеральда превратила награду Феба для сводни в сухой березовый листочек. Так как береза общеизвестна как отворотное средство против колдовства, то ведьма должна быть отъявленно порочной, коли сумела испортить березу. Какое неопровержимое доказательство вины Эсмеральды! Но имел ли право возмущаться этим я, сам ничего не предпринявший для того, чтобы помочь осужденной? Если бы я мог засвидетельствовать ее невиновность! Но все же я не осмелился сделать это из страха оказаться осужденным самому — как друг еретиков. Сопровождаемая конными и пешими повозка палача катилась по улице Сен-Пьер-о-Бёф на Соборную площадь. Так как Эсмеральда якобы нарушила не только мирские законы, но, как ведьма, еще и законы церкви, то она должна покаяться перед лицом Нотр-Дама, — и только потом пойти на смерть. Перед порталом Собора она должна была публично просить о прощении, прежде чем ее отправят на виселицу на Гревской площади. Конная стража пробивала дорогу для телеги палача плетками и ударами пик. В начале процессии скакал мэтр Жак Шар-молю — согласно своей должности королевского прокурора в духовном суде. Как и другие служители суда, он был одет во все черное. К моему облегчению, я нигде не мог обнаружить Жиля Годена. Позади повозки бодро семенила своими копытцами Джали с веревкой на шее, которую затянули поверх ее золотой цепочки и привязали к фургону, связав до самой смерти с ее хозяйкой. Но у меня было впечатление, что козочка последовала бы за девушкой добровольно. Джали двигалась, словно находилась на пути к новому выступлению. Как будто с приветствием она смотрела направо и налево, вытягивала навстречу толпе свою белую шею с кожаным мешочком. В нем она несла буковые дощечки с нарисованными буквами, из которых умела складывать слова по тайным знакам Эсмеральды. Искусство, которое давно служило увеселением народа, теперь тому же самому народу казалось доказательством дьявольской силы. Эсмеральда сидела на повозке со связанными сзади руками. Она была одета в грубую белую рубаху грешника, — больше не было ничего. Черные волосы сверкали на солнце, как вороново крыло, и падали длинными прядями на обнаженные плечи и полуоткрытую грудь. Лишь в тени виселицы грешница должна была лишиться своих роскошных волос. Вокруг шеи ей уже повязали пеньковую веревку, которая должна была разодрать до крови ее нежную кожу. Подобрав под себя босые ноги, девушка сидела на корточках с опущенным взглядом на дно повозки. Это было картиной стыда и отчаяния, при виде которой у иных в толпе осекался голос, готовый выкрикнуть непристойность или грубость, на место насмешки приходило сочувствие. Я перевесился далеко через перила, словно так мог оказаться ближе к осужденной. И все же я боялся, что она может вдруг посмотреть наверх и узнать меня. Хотя она вряд ли могла знать о моем присутствии при том роковом свидании с капитаном Фебом, я опасался немого вопроса: «Почему, Арман, вы молчите? Почему вы не поможете мне?» Процессия остановилась перед главным порталом, который, как и остальные, был закрыт. Сопровождающие заняли позицию по обеим сторонам повозки, и толпа замолчала в напряженном ожидании. Стало так тихо, что я отчетливо слышал скрип дерева и железа, когда обе створки двери главного портала открылись. Радостное пение псалмов раздалось из церкви, и с хором слился отдельный голос в угрюмой молитве мессы offertorium[885]. Пока Эсмеральда вынужденно прислушивалась к своей посмертной мессе, к ней на повозку поднялся палач, освободил ее от пут и помог ей подняться на платформе, прежде чем он так же отвязал Джали. Как свободные существа, женщина и козочка должны были покаяться, прежде чем они снова станут пленницами палача. Пение смолкло, когда большой золотой крест выплыл из портала. Так мне показалось на первый взгляд. Лишь потом я рассмотрел, что священник в одеяниях для мессы вынес крест. За ним из Собора вышла вся остальная процессия покаяния, возглавляемая отцом Клодом Фролло. Я почти не узнал его в сверкающей серебром далматике[886], — как правило, одежда архидьякона была мрачных цветов. Мне это показалось горькой насмешкой: человек, из-за которого на Эсмеральду пало подозрение в убийстве, — истинный убийца! — должен принимать у нее покаяние. Не только люди, но и Бог, казалось, покинул цыганку. Видела ли она в нем истинного виновника, или тогда, в притоне сводни, все произошло слишком быстро? Во всяком случае, она смотрела на него с полным отвращением, и я решил, что заметил ужас в ее глазах с черными кругами. Холодный взгляд Фролло большую часть времени был направлен на нее, но время от времени он обращался к Шармолю. Непосвященному пересекающиеся взгляды архидьякона и прокуратора[887] не могли сказать ничего, я же знал, что здесь происходил молчаливый диалог заговорщиков. Фролло устранил капитана с дороги, и Шармолю позаботился на суде о том, чтобы вся вина пала на Эсмеральду. Священник сунул ей в руки тяжелую свечу из желтого воска, и церковный служка зачитал текст мольбы о прощении. Цыганка казалась отрешенной, уже покинувшей этот мир. Если бы ее не подтолкнул священник, она бы пропустила «Аминь». Но потом она испугалась, когда Фролло простер над ней руку и могильным голосом сказал: — I nunc, anima anceps, et sit tibi Deus misericors! Иди туда, грешная душа, и Бог будет к тебе милосерден! Повелительное движение рукой архидьякона заставило толпу упасть на колени, а священников повторять «купе eleison» как многоголосое эхо. — Аминь, — произнес Клод Фролло и после долгого последнего взгляда на проклятую повернул процессию дьяконов и священников обратно в Собор. Когда он исчез в темной арке, у меня было чувство, что холодок, который я ощутил при его появлении, исчез. Словно солнце утрачивало свою согревающую силу перед лицом архидьякона. Народ поднялся, и молебен тут же превратился в живой галдеж. Где-то раздавался смех. Господу Богу угодили, теперь толпа хотела получить свое зрелище: смерть. Шармолю дал двум одетым в желтое помощникам палача знак, и они подошли к цыганке, чтобы снова связать ей руки за спиной. Свечу покаяния забрал с собой в церковь один из священников. Когда Эсмеральда должна была подняться на повозку с помощью людей палача, случилось то, чего я боялся. Она подняла голову наверх и обвела взглядом фасад и крикнула с широко раскрытыми глазами: — Помогите мне! Спасите меня! Кровь ударила мне в голову, оглушив горячими токами. Охотнее всего я бы отскочил назад, чтобы скрыться от молящего взгляда, но я не мог оторвать взгляд от обреченной на смерть красавицы. Никогда больше я не посмотрю в ее лицо, которое по-прежнему соблазнительно — даже в смертельном страхе. Она повторила свой крик о помощи, и он разрывал мне сердце. Там внизу стояла дюжина вооруженных людей, чьи клинки разорвут меня на части, если я выступлю на защиту Эсмеральды. И все же — не было ли это почетной смертью? Пока я боролся с собой, я заметил движение на фасаде Нотр-Дама. Одна из фигур с. Королевской галереи казалось, вдруг ожила, падая вниз. Судьба несчастной тронула даже мертвый камень? Тут я узнал горбуна, Квазимодо! Он, должно быть, скрывался все это время почти рядом со мной, на Королевской галерее. Оттуда он опустил длинную веревку на Соборную площадь, по которой теперь, ухватив канат руками, коленями и ногами, он проворно соскользнул вниз, как циркач, который ездит с ярмарки на ярмарку со своим номером. Осужденная следила глазами за его быстрыми движениями, и я спросил себя, кому предназначался ее крик о помощи. Я испытывал стыд и ревность, потому что звонарь осмелился сделать то, перед чем я в страхе отступил. С ловкостью, которая противоречила его искривленному телу, он ступил на землю, побежал к повозке и уложил палача двумя ударами кулаков. Он схватил цыганку и поднял ее высоко, словно она была соломенной куклой. А потом он прыгнул к Собору, мимо застивших от удивления алебардистов епископа, и исчез со своей добычей в Главном портале, который стоял открытым после процессии покаяния. Я не мог больше видеть обоих, но слышал запыхавшийся голос Квазимодо, выкрикивающий все время одно и то же слово: — Убежище! Убежище! Убежище! Толпа повторила слово более воодушевлено, чем незадолго до этого «kyrie eleison». Они больше не требовали смерти Эсмеральды. Убежище! Это обещало больший спектакль, который может продлиться на дни или недели. Как все церкви и некоторые иные места, Нотр-Дам пользовался правом убежища. Кто бежал сюда, должен был держать ответ лишь перед Богом. Исполнители мирского суда не имели право донимать его, пока он находился в святых стенах. Если он покидал убежище, правосудие людей действовало со всей строгостью. На Соборной площади воцарился гвалт. Лишь с трудом вооруженные солдаты сумели удержать восхищенную толпу. Множество мужчин и женщин наступали вперед, одобрительно выкрикивая имя Квазимодо и приветствуя его, как героя этого спектакля. И пока внизу Жак Шармолю, служители суда и офицеры стражи еще совещались, Квазимодо и Эсмеральда показались возле меня на башенной галерее. Когда горбун увидел меня, его глаз циклопа засверкал враждебно. Осуждал ли он меня за то, что я не пришел на помощь цыганке? Или он просто презирал меня — как всякого другого, как духуy приговоренной к смерти Эсмеральды? Во всяком случае, я посчитал целесообразным держаться от горбуна подальше. Он встал на перила и поднял Эсмеральду над своей патлатой головой, заорал во все горло «приют!» и «убежище!», и его приветствовали тысячи голосов, словно он таким образом объявил Евангелие. Если не считая его краткого срока на посту Папы шутов, Квазимодо, пожалуй, никогда прежде не получал столько одобрения и восхищения. Он наслаждался этим, и я отступил на задний план. Один раз мой взгляд встретился с взглядом Эсмеральды, и я поверил, что прочитал в ее глазах облегчение, и кое-что еще — триумф! Я еще больше удивился тому, когда Квазимодо исчез с ней в Южной башне. Толпа славила его, и он снова показался — еще выше, на крыше башни. Там он стоял, все еще держа женщину у себя на руках, отвергнутый природой, церковными догмами — и человеческими законами. Монстр и цветущая красота, я и не мог выдумать себе ничего более противоположного. Один раз в своей печальной, одинокой жизни Квазимодо посчастливилось принадлежать к числу других. И Эсмеральда, вокруг шеи которой все еще болталась веревка, едва могла осознать свое счастье. Но у меня было предчувствие, что я переживаю не счастливый исход радостной пьесы, а начало жуткой трагедии, сценой которой был древний собор. Горбун и цыганка казались мне воплощением всякой ананке. Потому что судьба не любит отверженных. Потому что люди не любят их.Глава 2 Белый ангел
Спасение прекрасной цыганки отвратительным звонарем обеспечило темой для разговоров весь Париж. В кабаках острова Сите, в торговых конторах Нового Города и в коллегиях Сорбонны обсуждалось это событие. Уличные певцы воспевали храброе сердце звонаря и невиновность танцовщицы, не подозревая, насколько они близки к истине в своих речах. И еще меньше они предполагали, что Эсмеральда заперта в Нотр-Даме не только своим спасителем, но и своим губителем — Клодом Фролло. Подозревал Квазимодо — или же знал правду? Он охранял танцовщицу, как заботливый отец свое больное дитя. Охранял, как мне казалось, не только от неожиданного нападения королевской стражи в Собор. Так же и внутри Нотр-Дама никому не было позволено приближаться к цыганке. Она ютилась в келье убежища Собора, под косыми балками крыши бокового нефа. Оттуда открывался вид на монастырь, и я спрашивал себя, не подглядывают ли друг за другом отец Фролло и Эсмеральда. На пятый день после героического поступка Квазимодо я увидел его приемного отца после вечерни идущим запутанным путем к приюту и осторожно последовал за ним, скрываясь в тени столбов и выступов стен. С бьющимся сердцем я услышал громкие голоса из убежища. Они принадлежали отцу Фролло и цыганке. Очевидно, они ругались друг с другом, и я чуть было не вмешался. По возможности, Фролло хотел завершить то, чего был лишен палач. Когда я как раз покинул свой тайник и хотел поспешить на помощь Эсмеральде, меня остановили громкие, тяжелые шаги. Квазимодо пробежал мимо, но к счастью меня он не заметил. Он бросился в каморку Эсмеральды и вышвырнул своего приемного отца с такой силой, что Фролло упал на пол в проходе. С чрезвычайно серьезным лицом архидьякон поднялся и молча покинул это место, дрожа от ярости. Так как я видел на День Трех волхвов, как безоговорочно Квазимодо вступился за своего хозяина, этот эпизод показался мне крайне примечательным. Отец Фролло потерял свою власть над звонарем? Более того, Квазимодо оказался под влиянием чар прекрасной цыганки, а возможно, — еще и во власти ее колдовских сил. Как иначе можно объяснить, что он так внезапно появился, словно, будучи глухим, мог услышать крик о помощи? Позже я узнал, что он оставил своей подопечной свисток для экстренных случаев, чей звук только и добирался до его почти мертвых ушей. Он хотел спасти Эсмеральду из благодарности, потому что в свое время она дала ему напиться воды, хотя по приказанию Фролло он пытался похитить ее. Поэтому его самаритянский поступок был ничем иным, как расплатой за долг. Однако теперь, очарованный ее близким соседством, горбун попал под ее очарование — ту самую необъяснимую силу, которая тянет мотылька на свет. Я сам тоже ощущал магическое притяжение и не думал ни о чем другом, кроме этого ослепляющего света. В Южной башне проводились крупные работы по благоустройству. С раннего утра до позднего вечера я слышал стук молотков рабочих и звук пилы. Повсюду на башне и на галерее между двумя башнями стояли их повозки и инструменты, камни и балки. Но не это стало причиной того, что Квазимодо давно уже не спал в своей потайной каморке. Когда я хотел проскочить к Эсмеральде ночью после ее спасения, я чуть было не споткнулся об него. Он лежал поперек перед входом в ее келью и охранял ее даже во сне. Я развернулся обратно к Северной башне. Я был разочарован — общение с союзницей никак не могло наладиться, и, кроме того, я соскучился по ее грациозной фигуре, бронзовой коже, огненным глазам и черным бархатным волосам, по аромату Эсмеральды и ее нежным объятиям. Как пленница Нотр-Дама, она стала недосягаема для меня — как и прежде, когда она была пленницей Гран-Шатле и Консьержери. Каково ей приходилось быть только в обществе горбуна и своей козочки? Животное последовало за своей хозяйкой в Собор, и Квазимодо привел ее к ней — а заодно приносил ей еду, питье и платье. Однажды вечером, когда Эсмеральда уже три недели жила в Соборе, я вышел на площадь перед Собором, чтобы купить себе пару яблок. Когда я стоял у тачки торговца фруктами, то почувствовал руку у себя на плече и обернулся, испугавшись, что карманник хочет срезать мой кошелек. Исхудавший мужчина с белокурыми волосами улыбнулся мне, при этом морщины избороздили его лоб. — Посмотрите-ка, посмотрите-ка, мой последователь на службе его странности, Клода Фролло, — пропел Пьер Гренгуар. — Я искал вас, мой друг. — Меня, почему? — Не только потому, что вы продолжаете мою работу, теперь моя супруга живет рядом с вами под одной крышей. Тогда разве удивительно, что я разыскиваю вас? — Но я предпочитаю делить с ней крышу, а не кровать! Гренгуар поморщил свое бледное лицо в несчастливой гримасе. — Существуют другие объединяющие моменты, возможно, нам следует образовать братство целибатских[888] писцов. — Я думал, вы превратились в мошенника, мэтр Гренгуар. — Да, и сейчас вечером я — посыльный. Герцог послал меня отвести вас к нему. — Зачем? — Вы не можете догадаться, что он беспокоиться о своей дочери? Вы верите, что сердце цыганского отца так же черно, как и его чудеса, которые приписывают его народу? — Я мало что могу ему рассказать. — Я — еще меньше. — Прекрасно, я следую за вами, — вздохнул я, чтобы окончить утомительную дискуссию и к тому же потому, что был рад ненадолго удалиться от Собора. Нити паутины не давали себя разорвать, но они растягивались, даря мне иллюзию свободы, даже если Нотр-Дам и держал меня в поле зрения своих необъяснимых глаз. Двор чудес был наполнен обычным шумом и приготовил для меня сюрприз. За шатающимся деревянным столом, который стоял под еще более обвалившейся кровлей, сидела пара радостно гогочущих парней и резались в карты. Один из них, тощий блондин, вдруг вскочил и побежал нам на встречу. Это был Жеан Фролло. — Я приветствую вас, мастер Поросенок! — крикнул он и усмехнулся мне в лицо. — Наш брат прогнал вас в руки истинной радости? Я посмотрел на него с недоумением и, пожалуй, не очень-то радостно. Слишком хорошо я помнил, как он хотел выдать меня после смерти Одона за предполагаемого убийцу. Кроме того, я знал после встречи с книгопечатником Гаспаром Глэром, что школяр был дреговитом. — Клод — старый скряга, — продолжил он в характерной ему болтливой манере. — У него совсем нет сердца для бедных школяров, и его рука судорожно сжимает каждый соль. Тут я подумал, если он доведет меня до нищенского посоха, то я тут же сразу могу отправиться к нищим. Кости и карты явно не более обманчивы, чем духовные пастыри, которые будут понабожнее, чем братья. Присаживайтесь к нам, если вы хотите это проверить. — У меня другие планы, — холодно возразил я, поскольку от присутствия Жеана Фролло во Дворе чудес мне было не по себе. Он перехватил мой взгляд, направленный к лагерю цыган, и захихикал: — Ах, ваше сердце все еще горит из-за темноокой красавицы? Мэтр Гренгуар, если вы пробуете себя в роли сводника, то я точно воспользуюсь вашей службой. Все еще хихикая, юный Фролло вернулся обратно к игре, пока Гренгуар проводил меня к фургону цыганского герцога. Милош и Ярон стояли на карауле перед маленькой лестницей и пропустили только меня, Гренгуар смешался с пестрым народом. Следующий сюрприз ожидал меня внутри фургона, где рядом с Матиасом Хунгади Спикалли возле узкого стола сидели за вином, хлебом и сыром мой отец и Леонардо. С тех пор, как я вернулся обратно на службу к отцу Фролло, я больше не видел Вийона и итальянца. Мы договорились встречаться только при крайних случаях, чтобы я больше не подвергался подозрениям Фролло. Матиас выглядел совершенно не обеспокоенным, как можно было предположить со слов Гренгуара. Радостно улыбаясь, он налил мне вина и сказал: — Чокнемся за радостное развитие дел, друг Арман! — Вы имеете в виду спасение вашей дочери от виселицы, — сказал я и взял бесценный стеклянный бокал. — Это, а также то обстоятельство, что она у вас в Нотр-Даме. — Какая ей в том польза? — возразил я. — Она не может покинуть Собор, чтобы грубая конопля не поцеловала ее. — Прежде всего, она не должна покидать Нотр-Дам, — сказал спокойно герцог. — Никогда прежде она не была так близко к солнечному камню. Вероятно, ей удастся то, что недоступно вам. Немного в дурном настроении, потому что я ощутил в этих словах скрытый несправедливый упрек, я пробурчал: — Она не может сделать больше, чем я. И я обыскал почти каждый угол в Соборе сверху донизу в поисках оуробороса. — Возможно, мы ошиблись, — сказал Вийон. — Может быть, мы неправильно поняли последнее послание брата Аврилло, и знак змеи увел нас вовсе не к цели. Я вопросительно посмотрел на него: — А куда? — Не раздражайтесь, Армян, но Эсмеральда может добиться там того, в чем вам отказано. Матиас кивнул: — В ней течет сила, которую она унаследовала от матери. — Что за сила? — спросил я измученно, потому что не совсем понял, что они хотели мне этим сказать. — Святая сила! — выкрикнул Матиас, и его глаза засверкали. — Сила, которая живет в солнечном камне. Эсмеральда может чувствовать силу камня, как другие чувствуют ветер, видят свет, слышат голоса. Иначе она не была бы Эсмералъдой. Леонардо перехватил мой недоумевающий взгляд и объяснил: — Эсмеральда — не имя, это титул. Она — смарагд, как отец Фролло — архидьякон, а наш друг Матиас — герцог Египта и Богемии. При последних словах итальянец прыснул от смеха, он-то знал, что титул герцога был состряпан чистой фантазией. — Вы должны помочь Эсмеральде, Арман, — сказал Вийон. — Вы должны защищать ее от Фролло и помочь ей прочесать Нотр-Дам на предмет солнечного камня. — Первым уже занимается Квазимодо, поэтому мне с трудом удастся и второе, — сказал я и поведал, что звонарь охраняет цыганку как наседка свое потомство. — Вы должны убедить Квазимодо в том, что вы — друг Эсмеральды, — настаивал Леонардо. —Объяснить это глухому, чей и без того ограниченный разум полностью запутан очарованием девушки… — заворчал я. — Вы должны попытаться! — сказал Матиас с нажимом. — Я попытаюсь, — вздохнул я смиренно и добавил: — Пока Фролло терпит меня в Нотр-Даме. Я, кстати, только что видел его брата в лагере нищих. Вийон кивнул: — Вы считаете Жеана шпионом, Арман? — Я считаю его человеком, который готов на любой богохульный поступок ради золотой кроны. До определенного времени у меня не сложилось впечатления, что отец Фролло особенно щедр к своему непутевому братцу. Но после того, как я встретил Жеана у мэтра Гаспара или, лучше сказать, услышал его, я с большой вероятностью предполагаю, что все здесь — один только маскарад. Леонардо покачал задумчиво головой: — Брат дреговита может так же быть дреговитом, но это — необязательно. Возможно, они действительно поссорились, и Жеан стремится больше к легкой жизни, нежели к солнечному камню. — Если это так, то он еще может оказаться нам полезен, — заметил Вийон. — Он вчера появился во Дворе чудес, — объяснил Матиас. — Я просил Клопена и Гренгуара присмотреть за ним. — Коли уж герцог заговорил сейчас о своем зяте, — сказал я и получил за это злой взгляд цыгана, — у меня не сложилось впечатления, что Гренгуар особенно скучает по своей суженой. Матиас пробурчал: — Он — поэт и ученый, но его дух — дух дитя. Если он однажды понял, что игрушка для него недостижима, он выкидывает ее из своего сердца и обращается к другим вещам. — Вы называете вашу дочь игрушкой? — спросил я удивленно. — Для меня она таковой не является, — но не для Гренгуара. Возможно, его профессия испортила его. Мой народ не знает никаких писцов. Кто слишком много занимается тем, что переносит на бумагу храбрые мысли, теряется в них. Его дух играет с запутанными привидениями, но его глаза и уши закрываются для жизни и людей. День сменил вечер, вечер — ночь, когда я вернулся в Нотр-Дам. Небо было безоблачным, луна и звезды сверкали над крышами и башнями. Темно-синий небосвод окружал Собор, как бархатный платок, в котором даже тяжелый колосс из камня, который скрывал знания столетий, находил блаженный ночной покой. Но чем дольше я стоял на Соборной площади и смотрел на стены, тем обманчивее казалась мне эта картина. Лишь ночью, когда служители храма отдыхали в своих монастырских кельях, и народ прогнали из Собора, наша Богоматерь могла выдать свои тайны тем, кто был для этого готов. Возможно, требовалась темнота, чтобы раскрыть то, что остается скрытым при дневном свете. Я испытывал необъяснимое беспокойство, томление, чтобы окунуться в ночной мир Нотр-Дама. Камень и строительный раствор, казалось, пробудились к жизни, были готовы открыть мне свои секреты. Три больших портала, выходящие на Соборную площадь, были давно закрыты и заперты на засов. Привратник на улице дю Клуатре знал меня и впустил вовнутрь. Я не поднялся наверх к моей келье. Большой церковный неф, теперь ставший лабиринтом из дрожащего света свечей и бесчисленных танцующих теней, непреодолимо потянул меня. Как в тот день, когда я, впервые сопровождаемый Одоном, вступил в мир камня, меня охватило смешанное чувство благоговения и ужаса перед лицом бесчисленных скульптур. Лица ли святых или морды дьяволов, — их черты были так детальны, так реально проработаны, что речь не могла идти только о мертвом камне. Свет свечи придавал дополнительную жизнь лицам. Они, казалось, поворачивались ко мне, таращились на меня и спрашивали меня, как я смог осмелиться захотеть выведать у них их тайну. Я закрыл глаза перед каменным судом и отвернулся, чтобы больше не выдерживать бесчисленные буравящие взгляды. Когда я снова открыл глаза, я увидел ангела. Он был белым, и я мог видеть его буквально в течение одного удара сердца, прежде чем он растворился в тени крансепта[889]. Это явно не был просто отблеск света. Я был уверен, что что-то увидел, даже если оно не было человеческим существом. Одетое полностью в белое, создание двигалось, хотя при этом не различались ноги, казалось, что оно парит. Что же действительно было странным — у него не было головы. Пожалуй, я все же назвал бы его ангелом, потому что это не мог быть человек. А еще потому, что мысль повстречаться с ангелом была более успокоительной, нежели о встрече с дьяволом. Я шел по среднему нефу до крансепта — и чуть было не схватился за кривой кинжал. Но что мог сделать мой кинжал против потусторонних сил? Кроме того, я убеждал себя, что белый ангел не причинит мне зла. Когда я достиг центра Собора, то остановился и огляделся. Камни и скульптуры, свечи, вычерченные луной окна и непроницаемые острова черноты под сводами потолка, — но ни следа белого ангела. Напротив меня Святой Себастьан и дева Мария охраняли вход на хоры. Но патрон стрелков не послал мне стрелы облегчения, а Божья Матерь не сжалилась над моим обескураженным разумом. Я повернул голову налево, где были ворота в монастырь, потом направо, где были ворота во дворец епископа. Могли эти двери оказаться не запертыми — или нет? Я поймал себя на мысли, что не мешало бы это проверить. Как очаровательно, если я действительно увидел неземное существо! Для ангела двери из дерева и железа не являлись преградой. Он мог раствориться, как свет свечи во всемогущей тени. Но белый ангел не растворился. Я увидел его сверкание слева при входе на хоры. На цыпочках я проскользнул в боковой неф хоров, перед которым нес вахту Святой Мартин. Когда я осторожно подкарауливал возле хоровой балюстрады, то рассмотрел странное существо в белом. Там, где у человека предполагалось быть голове, разверзалось мрачное ничто, словно ангел потерял свою главу под мечом палача. Существо двигалось, отделилось от тени и вышло мне навстречу. Я затаил дыхание и втянул голову, что как раз можно было сделать у скамьи, не перестав подглядывать. Я почти раскаялся в своем намерении преследовать белого ангела, так как узнал истину — у существа была голова, только она оказалась скрытой под черным покрывалом, отчего в тени ее почти не было видно. Белое одеяние под покрывалом опускалось до пола, поэтому я вместо шагов видел парение. Я узнал одеяние из Отеля-Дьё, оно было платьем послушницы. С бесконечным облегчением, что имею дело с человеком, я тут же спросил себя, что ищет в Соборе в ночное время пришлая монахиня-августинка? — Кто вы? — спросил тихий голос, который пытался звучать жестко, но едва заметно дрожал. — Почему вы прячетесь от меня? Я вышел из хорового обхода. — Я спрятался, потому что я не знал, кто здесь бродит по ночам как привидение, прекрасная Эсмеральда, или как вы изволите себя называть, — я узнал голос и вспомнил, что заботливый звонарь принес своей опекаемой одежду послушницы. Ее рубашка грешницы после похищения была так разодрана, что предполагаемая грешница выглядела в ней еще более грешно. — Арман! — Он самый — и глубоко удивленный, что повстречал вас здесь. — Я — не меньше. Когда я стоял от нее на расстоянии вытянутой руки, я четко увидел прекрасное существо с высокими скулами и чувствительными губами, которые особенно соблазнительно смотрелись под покрывалом послушницы. Эсмеральда улыбнулась: — Я полагаю, мы оба ищем одно и тоже, Арман. Тем самым, она ничего не выдала. Я предался откровенности: — Впрочем, хранительница солнечного камня, я пришел как раз от вашего отца. Он просил меня помочь вам. Но вам, кажется, удалось сбежать от бодрствующего ока Квазимодо. — Я улизнула оттуда, когда он звонил к вечерне, как частенько делала в последние вечера… — Чтобы искать солнечный камень? — Она кивнула. — Удачно? Она покачала головой, и черная вуаль надулась. — Возможно, солнечного камня здесь больше нет, — сказал я. — Может быть, его никогда не было здесь. — Нет, он спрятан в Соборе. — Как вы можете говорить с такой уверенностью? — Потому что я чувствую, — она положила руки на свою грудь. — Здесь внутри. — Сила солнечного камня? — Да, Арман. Разве Вы тоже не чувствуете? — Как я-то могу? — Как сын Вийона, вы особым образом связаны с камнем солнца. — Мне это уже говорили. — Но вы же излучаете его. Я как раз чувствую, и лишь у вас я заметила это. — Как я могу что-то излучать, о чем я едва знаю? — Вы должны быть очень близки к солнечному камню. — Тогда, пожалуй, сам не зная того. — Вам ничего не бросилось в глаза во время вашего поиска смарагда? — Нет. — Но вы же должны были максимально приблизиться к камню! Иначе ваше сияние нельзя объяснить, — она близко подошла ко мне и положила руки на голову, словно благословляла меня. Медленно она провела по щекам, плечам и груди. — Да, вы носите силу солнца в себе! Ее последние слова я слушал только вполуха, потому что другой шорох привлек мое внимание: шаркающие шаги, сопровождаемые запыхавшимся дыханием. И цыганка услышала его, на миг замерла и прошептала потом мне на ухо: — Он идет, он, кажется, очень возбужден. Я знал, о ком она говорила. Шаркающая походка выдала приближающегося. — Я не знаю, смогу ли я задобрить его в таком состоянии, — продолжила Эсмеральда. — Быстро, на пол! Она заползла под скамейку на хорах в спасительной тени и потянула меня за собой. Плотно друг к другу мы лежали под защитой фигур, которые высек неизвестный художник в виде каменной ленты ограждений. Лента представляла жизнь Иисуса, и мы спрятались под сценой его рождения. Мария, в одежде, с лицом и локонами уважаемой парижской горожанки, лежала на удобном ложе и оперлась правой щекой на согнутую руку. Левая рука лежала на животе, который прежде скрывал младенца Христа. Он лежал позади Марии в яслях, в углублении, как подобает Спасителю. То, что осел и буйволы стояли еще выше, чем сын Бога, было ловкостью художника, чей замысел я напрасно искал. У изголовья кровати Марии стояли пастухи, маленькие как дети, у ног — опирающийся на посох Иосиф. Хотя Спаситель, Его Мать и Святой Иосиф была нашими стражами, при приближении шаркающих шагов мои волосы на затылке поднялись дыбом. Было ли это умно — вместе с цыганкой спрятаться в этом укрытии? Я видел, как Квазимодо вышвырнул из ее кельи своего приемного отца и хозяина. Что же он сделает со мной? Мне было вполне ясно, что звонарь подстегивается не одним инстинктом охранять пленницу. И даже если при внешней противоположности между Эсмеральдой и им эта мысль казалась абсурдной, я думал, что Квазимодо двигало одно из самых опасных побуждений: ревность. Я хотел предложить Эсмеральде, чтобы мы показались Квазимодо. Я считал это лучшим выходом, чем прятаться здесь, как провинившимся детям. К тому же, мы ни в чем не были виноваты. Рука цыганки закрыла мои губы, едва я успел произнести хоть звук. Другой рукой она мягко гладила меня по волосам, как мать своего ребенка. И точно — этот жест успокоил меня. Я почти наслаждался, лежа в объятиях красавицы, окруженный ее теплом и ароматом. Если бы не было Квазимодо… Шаги и громкие вздохи были совсем близко. Его бесформенная масса тела тянулась в свете свечи, которая горела у ног Святого Мартина. Он остановился и огляделся, похоже, обдумывая, где стоит продолжить поиск желанной. Я молился Иисусу, Марии и Иосифу, чтобы он не захотел войти в хоровую галерею. Возможно, я слишком много общался с еретиками, так что моя молитва не была услышана Как детский мяч, который прыгает от одной стороны улицы к другой, горбун проскочил по хоровой галерее, глядел по всем сторонам и издавал неоднократно тихое, глухое: — Эсмеральда. Я прижался еще сильнее к лежавшей около меня, словно охотнее всего слился бы с ней. Если бы звонарь не был глух, он бы незамедлительно услышал наше испуганное дыхание. К счастью Квазимодо повернулся у венка часовни в другую сторону и заглядывал в каждую отдельную часовню, пока окончательно не исчез в алтарном помещении. Мы лежали на полу, тесно прижавшись друг к другу не осмеливались пошевелиться. Квазимодо исчез из поля зрения, но мы слышали его громыхание на южной стороне хоров. Когда он и там ничего не нашел, я испугался, что он теперь вернется на хоры. Но шаги удалились — похоже, он прекратил свои поиски. Последнее, что я услышал от него, было жалобное всхлипывание. До сих пор ни цыганка, ни я не двигались и так тихо дышали, как это было возможно. Когда напряжение оставило нас, мы в унисон издали громкий вздох, словно хотели подражать Квазимодо. Но мы не поднялись, не освободили тела друг от друга. Вместе мы пережили опасность, вместе и хотели наслаждаться покоем, который перешел в желание. Можно подумать, одеяние послушницы отбило у меня всякую страсть, но наоборот — это был тот самый случай. С головы до пят закутанная, цыганка возбуждала во мне необузданное желание обнажить ее тело, увидеть его, что она предлагала Фебу в притоне сводни. Я поднял подол юбки наверх и застыл при виде кривых, изуродованных, гноящихся ног. — Испанские сапоги! — сказала она. — После этого я призналась во всем, что они хотели услышать. Что же, это потушило твой огонь? — Нет, — ответил я, и это было правдой. — Я только спрашиваю себя, как ты сможешь теперь танцевать? — Время танцев прошло. Она снова привлекла меня к себе, ласкала меня и распустила шнуры на кафтане и штанах. Одетый только в рубаху, я опустился перед ней на колени и поднял белую юбку над ее коленями и дальше — выше над бедрами. Под одеянием она была нагой. Ее тело с черным пушком требовательно тянулось ко мне. Я заколебался, подумав о Колетте. Но что мне ждать от нее? Ничего, если я буду доверять ее словам. Я не был священником, который поклялся в целибате. И я не видел никакой причины отказаться от удовольствия только потому, что мне отказано в счастье. Чтобы не увиливать — я предался соблазну и встал на колени между стройных ног. Руки Эсмеральды схватили знак моего возбуждения и гладили его, нежно и сильно одновременно, приводя мое тело в движение, пока первые капли не упали на ее обнаженную кожу. Я больше не сдерживался, хотел потушить свой огонь и опустился на цыганку. Моя плоть проникла в нее. С каждым толчком я пробивался все глубже. Скромный чепец вокруг ее лица был для меня насмешкой вместо препятствия. Эта послушница никогда не должна забыть свое посвящение. Если бы Квазимодо теперь вернулся, ему бы потребовалась вся его сила, чтобы разлучить нас. Ноги цыганки обхватили меня, ее руки на моем заду прижимали меня к ее влагалищу, почти больно впившись в мою плоть. С каждым движением во мне росло стремление завершить наше единение, я внедрился в ее разгоряченное, мягкое влагалище. Быстрее, жестче, глубже — пока я не услышал ее сладострастный крик и больше не сдерживался. Пока я орошал ее чащу, я посмотрел на заспанное лицо каменной мадонны и пожалел оставшуюся навсегда девой за то, что ее-то при непорочном зачатии миновало.Глава 3 Большая черная птица
Той ночью я спал глубоко и без сновидений, но на следующий день непрерывно мечтал о цыганке. Меня охватило необузданное стремление, вновь слиться с ней в опьяняющем единстве. Когда колокол пробил к вечерне, я не мог больше сдерживать себя и побежал к убежищу. В проходе перед каморкой я осадил свою поспешность и осторожно осмотрелся. Возможно, причетник вместо Квазимодо бил в колокола. Но я нигде не мог обнаружить звонаря и с облегчением постучал в низкую дверь. — Входи, Арман! Ошеломленный, я вошел и увидел спину цыганки, которая выглядывала из маленького окна. Она была одета в платье августинок, но без покрывала. Ее бархатные черные волосы рассыпались по плечам и были абсолютным контрастом с белизной платья. — Откуда ты знала, что это был я? — Квазимодо я бы услышала, а Фролло бы не постучал, — ответила она, не оборачиваясь ко мне. — Кроме того, я почувствовала. — Силу солнечного камня? — Да, еще сильнее, чем вчера вечером. Я подошел сзади и мягко положил руки на ее плечи. — Что там снаружи? — Я не знаю…— она тяжело вздохнула и повернулась ко мне. — Я гляжу вниз на стены Собора и спрашиваю себя снова и снова, где спрятан смарагд. Я едва воспринимал ее слова. Слишком сильно я был занят ее лицом, глубокими морщинами заботы, которые появились на нем. Наверное, я вчера не видел их, потому что в галерее хоров было слишком мрачно… — Что случилось, Арман? По мне видно, что черная птица схватила меня? — Какая птица? — Большая птица смерти. — Ты говоришь загадками, но я чувствую твой страх. — Меньше страх, больше — сожаление и беспокойство. Если я умру, то не смогу подарить миру новую Эсмеральду. Это печалит меня. Но меня удручает то, что мир может больше не нуждаться в хранительнице солнечного камня, — если его силу используют во зло, и мир потухнет. Возможно, птица смерти знает это, и потому она навестила меня. — Не говори постоянно о смерти… — я осекся. — Мы делили нашу страсть, мы хотим вместе разгадать большую тайну, и все же я не знаю до сих пор твоего настоящего имени. — Зита. Я повторил имя, и оно звучало как чужеземная мелодия — таинственно, завораживающее. — Что это значит? — На языке страны, в которой уже много поколений живет мой народ, это — обозначение для борозды в земле, в которую пахарь кидает свое зерно, начало новой жизни. Старики рассказывают о Зите, которая добровольно взошла на костер, чтобы убедить супруга в своей чистоте. И верно — бог огня Агни пощадил ее. Как Зита из древней легенды, Эсмеральда должна выдержать все искушения[890]. Мысль о вчерашней ночи заставила меня покраснеть. — Не бойся, Арман, я не это имела в виду. Наоборот, с кем же иным я могла бы соединиться, чтобы на свет появилась новая Эсмеральда? — Чтобы новая… — я задохнулся и отступил шаг назад. — Ты имеешь в виду, что использовала меня, чтобы… — Чтобы в соединении с тобой во мне возникла новая жизнь. Я же не Святая дева Мария. Что с тобой, ты чувствуешь себя использованным? Если тебя это успокоит, то это доставило мне огромное удовольствие. Ты должен чувствовать себя польщенным, потому что не каждый достоин такого: быть отцом Эсмеральды, — и ничто иное, как тень улыбки, заиграла на ее губах. Но затем ее лицо снова помрачнело. — Но слишком поздно, большая птица расправила свои черные крылья надо мной. Воистину, я бы еще дольше разыгрывал возмущение, но глубокая печаль Эсмеральды-Зиты не оставила место для деланной гордости. Снова я положил руки на ее плечи и настойчиво попросил рассказать мне об этой птице. Мы присели на узкую кровать, и она тихо проговорила, как бы погруженная в свои мысли: — Так это было, так есть и так будет всегда. На лунной горе, высоко наверху, у самых созвездий, обитают две огромные птицы, больше, чем любой человек — белая и черная. Обе летают вниз, в мир людей, чтобы выполнить волю судьбы. Если приходит белая птица и бросает женщине на колени лунный цветок, та знает, что ей даровано счастье плодородия. Если прилетает черная птица, то размахом своих мощных крыльев делает темным небо, отчего человек знает, что должен готовиться к смерти. Потому что черная птица скоро вернется — только один раз, чтобы схватить его своими острыми когтями и вырвать из жизни. Так это было, так есть и так будет всегда. — И ты видела эту черную птицу, Зита? — После того, как мы любили друг друга, я легла спать с очень странным чувством. Я чувствовала, что что-то особенное предстоит, и я была счастлива, потому что ожидала после нашего единения большую белую птицу и цветок плодородия. Но потом я услышала шорох, и что-то тяжелое ударило по оконному стеклу. Что-то темное, как огромное крыло. Черная птица… — Облако делает темнее ночное небо, ветер ударился в твое окно. — Ты возвращался ночью к Нотр-Даму и знаешь, что на небе не было ни одного облака, что ветер спал так же крепко, как медведь зимой в берлоге. — Тогда тебе это приснилось! — Может оно и так, но это ничего не меняет. Потому что смерть — последний сон, а черная птица — ее посланник. Мне не приходило на ум ни одно утешительное слово. К тому же я сомневался, будет ли уместна попытка утешения. Разговор с любым другим человеком я принял бы за суеверие, за языческий бред. Но Зита-Эсмеральда, хранительница солнечного камня с ее таинственными силами, умела видеть вещи, которые скрывались от обычных людей. Я обнял ее за плечи и привлек к себе. Так мы опустились на кровать и остались лежать на соломенном матраце, тесно прижавшись друг к другу. Не вожделение объединяло нас этой ночью. Мы были не как мужчина и женщина, не как двое желающих друг друга. Мы были чужыми, чьи пути только на короткое время свела судьба, и кто знает о том. Даже если бы Зита не видела черную птицу, едва ли пошли одной и той же дорогой дочь египетского герцога и писец из Сабле. Оживит ли мир наша ананке или нет, Зите и мне не было суждено ничего общего. Чем дольше я думал об этом, тем яснее мне становилось, что она любила прошлой ночью мужчину Армана, а не человека. Что отличало меня от ее суженного Пьера Гренгуара, кроме того обстоятельства, что он открыто демонстрировал свою глупость? Так мы лежали, я не знаю как долго, тихо подле друг друга и делили спокойное тепло наших тел, но не наши чувства, не мысли. Пока Зита отдыхала от ее будоражащего сна и положила свою голову мне на плечо, я спрашивал себя снова и снова, действительно ли я любил ее в проходе хоров. Явно, это было разгоряченное, дрожащее тело, которое возбудило мою похоть и удовлетворило. Но не желал ли я себе втайне, чтобы Колетта была на ее месте? Крик совсем рядом с моим ухом заставил меня испуганно очнуться от моих размышлений. — Там, у окна! — тяжело переводя дыхание сказала Зита и указала рукой. Я рассчитывал на то, чтобы увидеть черную птицу смерти, и схватился в замешательстве за кинжал, готовый защищать Зиту даже от смерти. К серому стеклу прилепилось лицо, какое могло возникнуть только однажды. Кривые черты лица и вздутые искривления заставили бы несведущего гадать, человека ли или зверя они видят перед собой. Я же точно знал рожу и посмотрел в глаз, который вчера ночью безрезультатно искал Эсмеральду. Он был раскрыт широко, словно хотел закатиться наверх, спрятаться навечно под косматой бровью, чтобы не приходилось больше выносить эту картину: цыганку в моих объятьях. Дурные черты лица дико дрожали, и я подумал, что увидел в глазу влажную плесень. Потом привидение исчезло, за окном не было ничего кроме неба над Парижем. С кинжалом наготове, зажатым в правой руке, я спрыгнул с кровати и уставился на дверь, ожидая шаркающих шагов горбуна. Мне было ясно, что мой клинок против первобытной силы Квазимодо — жалкое оружие. Но я не хотел без сопротивления дать переломать себе хребет. Все было тихо — ни шагов, ни Квазимодо. Наконец, я убрал обратно кинжал в кожаные ножны и обернулся к Зите, которая озабоченно огляделась. — Я не хотела кричать, — жалобно сказала она. — Но я испугалась, когда вдруг увидела его лицо. — Ничего удивительного, мне не встречалось еще более отвратительного вида. — На языке моего народа нет слова для обозначения отвратительного. — Скажи ему об этом, Зита, может быть, это немного успокоит его. — Да, я так и сделаю, — обещала она. Зите не выпадал случай, чтобы сдержать свое обещание. Квазимодо и дальше заботился о ней и разорвал бы в воздухе каждого королевского стражника, который попытался бы вытащить ее из Нотр-Дама, но он оставался невидимым, как добрый дух. Он ставил вино и воду, хлеб и сыр перед ее дверью, а иногда — даже грубые, сделанные неуклюжими руками глиняные вазы со свежими цветами. Но, похоже, он не желал благодарности, казалось, ни на что больше не надеясь. Он был любящим, чье сердце разбито — и все же не переставало биться, чтобы любить. Но возможно, я несправедлив к нему, и это было еще большим: истинной верностью. Это дало Зите и мне возможность спокойно искать солнечный камень. Вместе нам сопутствовал успех не больше, чем мне одному, и она наконец сказала: — Самое большое излучение силы, которую я чувствую в Нотр-Даме, идет от тебя, Арман. Это должно быть наследство моего предка Амьела-Аикара, который унес камень во время бегства из Монсегюра. Но оно не помогло нам дальше. Так проходили монотонные дни и ночи, которые видели Зиту и меня в поисках камня, но никогда больше — любящих друг друга. Если бы бедный Квазимодо знал о том, возможно, это помогло ему. С тех пор, как предчувствие смерти коснулось ее, все желания этого мира потухли в Зите. Возможно, причина была и во мне — я дал ей почувствовать, что упрекаю себя из-за Колетты. Июнь сменил июль, и я начал привыкать, что один день похож на другой, пока не повстречал снова Пьера Гренгуара.Глава 4 Мудрец и глупец
Я только что закусил на обед супом из тыквы и решил немножко понежиться на солнышке, прежде чем снова углубиться в книгу о кометах. Несмотря на поиски смарагда, я продолжал работу, потому что каждые два дня отец Фролло наведывался и интересовался продвижением моих дел. Чтобы развеяться, я попеременно смотрел на рыночную кутерьму внизу на площади и на строительные работы на Южной башне, которые начались с обновления оловянной крыши. Пара бедных работяг трудились, таща тяжелые рулоны тонко расплющенного олова на башню. Так как я всю первую половину дня занимался записками Гренгуара, я посчитал обманом зрения, когда заметил его тощую фигуру в толпе людей на Соборной площади. Я зажмурил глаза и еще раз посмотрел вниз. Без сомнения, это был писец, поэт и петрушка. Его желто-красное платье дурака сразу выделялось в толпе. Он не стал показывать шутки, а запрокинул голову рядом с лотком кожевника и уставился вверх, на порталы Собора. На меня? Иного и быть не могло. У Матиаса или Вийона была важная новость для меня. Они уже использовали Гренгуара как посыльного. Я побежал к Северной башне и спустился поспешно по лестнице вниз, задыхаясь добрался до нефа Собора и бросился к порталу Святой Девы. Лишь теперь мне пришло в голову, что моя поспешность может выдать меня, и я замедлил свой неподобающе поспешный для этого святого места шаг. Если у Гренгуара для меня важное послание, то он подождет. Мне показалось, что он неотступно ждет меня, но когда я вышел на улицу, я признал свое заблуждение. Вокруг деревянного лотка кожевенника толпились мужчины и женщины, которые осматривали со вниманием ботинки, передники, чаши и бутылки, но Гренгуара среди них не было. Я спрыгнул с лестницы перед порталом, смешался с толкучкой и осматривался по сторонам постоянно, пока не добрался до невысокой ограды, которая ограничивала Соборную площадь. Я уже хотел сдаться, когда заметил желто-красный наряд шута позади телеги, запряженной волом, которая въезжала с улицы Сен-Кристоф. Гренгуар шел к церкви Кристофора, и он был не один. Рядом с ним я увидел фигуру в темной сутане каноника с надвинутым на лицо капюшоном. И я догадывался, кто это был. Если мое предположение не было ошибочным, то эта встреча давала повод для беспокойства. Я прокрался за обоими. Они исчезли в приходской церкви, которая казалась в тени могучего Собора маленькой и незначительной постройкой. Как только я вошел в церковь, я тут же спрятался за толстую колонну, пока мои глаза не привыкли к полутьме. Пара молящихся преклонили колени перед статуями святых и алтарем. Две или три маленьких группы стояли возле портала и говорили о мирских делах. Медленно я прошел через неф, остановился в тени и попытался тут же разглядеть других в тени. Удачно — заметное одеяние Гренгуара было трудно не разглядеть в сумеречном свете церкви. Он стоял со своим спутником позади группы статуй, которые представляли приговор Соломона. Поблизости стояла пара деревянных скамеек. И на одну из них я присел с опущенной якобы в молитве головой. В действительности же весь молебен стоил препирательства вполголоса. Гренгуар Этот простак Клопен действительно нацелился на сокровища Нотр-Дама. Ему уже неймется стать богатым человеком и принести своему кровному брату спасенную дочь. Конечно, Клопен надеется, что Матиас выложит за это сундук с золотыми монетами. Дня через три-четыре шайка мошенников соберется целиком. Второй: Это слишком поздно. Завтра состоится парламент, чтобы отменить право убежища в Нотр-Даме. Наш епископ — член муниципалитета в парламенте, он поддержит отмену. Гренгуар: Странный случай, что церковь сама отменяет свое право убежища. Разве не написано в псалмах, что Бог стоит за нас и для нас в нашем бегстве? Второй: Это показывает, как серьезно король Людовик, епископ и парламент воспринимают дело. Весь Париж все еще говорит об избежавшей виселицы цыганке. Боятся восстания и хотят побыстрее закончить дело. Гренгуар: Но тогда придется штурмовать Собор уже сегодня… Второй: Совершенно верно. Вы и Жеан должны это сделать. Если цыганка попадет в руки солдатам и проболтается, то король сядет нам на шею. Гренгуар: Но она даже под пытками сохранила свою тайну. Второй: Потому что ее об том и не спрашивали. Теперь же король пошлет в Париж отряды, и Тристан д'Эрмит возглавляет их. Гренгуар: Вы полагаете, король что-то подозревает? Тогда было бы лучше всего, если вы вонзите цыганской проститутке нож в ребра. Второй: Каким образом, если Квазимодо сторожит ее? Гренгуар: Вы же — повелитель горбуна. Второй: Уже давно в прошлом, как я с болью вынужден был узнать. Итак, смотрите, чтобы Клопен штурмовал Нотр-Дам уже сегодня! Я удвою сумму золотом, которую обещал вам. Гренгуар: Прекрасно, это удвоит мое рвение. Вы не хотите его утроить? Второй: Мне все равно. Я только надеюсь, что могу на вас положиться! Гренгуар: Долго ждали, а проку не видали, сказал Овидий. Но не сказал ли Софокл, что надеяться нужно всем? Второй вздохнул: Это происходит оттого, если люди читают не только Святое Писание. Гренгуар захихикал: Глупец говорит, мудрец думает. Они вышли из-за каменных скульптур, и я опустил голову еще ниже. Если они меня узнают, то это повлечет за собой суровые последствия. После всего, что я подслушал, им не следует давать мне возможность убежать. Так как я не мог на них смотреть, я прислушался к их шагам и затаил дыхание. Лишь когда я был уверен, что они покинули храм Божий, можно было вздохнуть. Я обождал еще с полчаса, чтобы ни один из них не увидел меня выходящим из церкви, потом поспешил обратно в район Тампля. То, что я только что услышал, вызывало серьезные опасения. — Арман, вы уверены, что это был он? — спросил меня отец, когда я сообщил ему и Леонардо в подземной каморке Вийона, кто был с Гренгуаром. — Абсолютно уверен, — ответил я. — Я слишком часто слышал этот голос, чтобы ошибиться. Кроме того, это объясняет, почему Гренгуар толкался на Соборной площади. Он ждал не меня, а… — Отца Фролло! — загремел Леонардо. — Снова он. Нам давно следовало бы вонзить ему нож под ребра. — Это же посоветовал ему Гренгуар в отношении Зиты, — ответил я. — Ваши методы явно не слишком отличаются от повадок дреговитов. Итальянец метнул на меня осуждающий взгляд: — Важны не методы, а результат. — Верно сказано, брат Леонардо. Если шайка мошенников и нищих действительно будет штурмовать Нотр-Дам, Фролло воспользуется возможностью завладеть цыганкой. — Чтобы она вывела его на солнечный камень? — спросил Леонардо. — Конечно. И она будет сопротивляться… ну, Арман же сказал, что тогда с ней случится, — Вийон сидел перед своей шахматной доской и передвинул две черные пешки через поля, пока они не оказались в лагере белых. — Пьер Гренгуар и Жеан Фролло. Последнего мы подозревали в том, что он шпион своего брата. Но в случае с Гренгуаром я удивлен: он так великолепно разыгрывал роль влюбленного глупца. — Мы чертовски здорово сделали, что не выдали ему наше укрытие, — сказал Леонардо с окаменевшим лицом. — Иначе дреговиты давно бы нас уничтожили. — Фебу де Шатоперу повезло меньше, — заметил я. — Теперь мне ясно, что Гренгуар выслеживал свою возлюбленную не из ревности, когда она встречалась с капитаном. Он выдал обоих отцу Фролло и даже позвал королевскую стражу. Редко такой круглый дурак бывает так опасен. — Теперь мы предупреждены и удвоим часовых, — сказал Вийон. — Важно то, что мы предупредим Матиаса и его дочь. Леонардо немедленно отправится во Двор чудес и поведает обо всем герцогу. Возможно, Матиас сумеет отговорить своего кровного брата Клопена от безумного поступка. Арман должен оповестить Зиту. — Какая ей в том польза? — спросил я. — Она не может покинуть Собор, чтобы ее не схватили королевские стражники. — Она должна попытаться. Если парламент отменит право убежища, она погибла. От палача ей нечего ждать иного, чем от отца Фролло. В чем дело, Арман, почему вы не отвечаете? Я едва слушал его и теперь не ответил. Мои мысли витали вокруг лица Зиты, вокруг черной птицы смерти.Глава 5 Пламя над Нотр-Дамом
После моего возвращения я сразу стал разыскивать Зиту в Нотр-Даме, чтобы найти ее, наконец, в церковном нефе, где, погрузившись в молитву, она преклонила колени. В своем одеянии послушницы она чувствовала себя защищенной от заносчивого вторжения королевских стражников, к тому же черное покрывало достаточно скрывало ее лицо. Она закинула голову и смотрела наверх на высокий свод потолка, где хотели растворить камень в воздухе, а земное притяжение человека — в небесной легкости. Искусство строителей создавать почти парящие столь высоко и храбро конструкции должно иметь божественные корни. Оно возвращало каждую мысль обратно, к ее первоначалу. И все же я спросил себя, не предавалась ли хранительница потерянного солнечного камня совсем другим размышлениям. Было так, словно она почувствовала мое приближение. Она кивнула головой и повернулась ко мне — еще прежде, чем я дошел до нее. Ее лицо было серьезным, и я спросил о причине. — Я видела сон с открытыми глазами, видение, — ответила тихо. Цыганка была погружена в себя, словно она все еще была связана с картинами видения. — Я видела Собор, объятый пламенем, словно разверзлись хляби небесные, и огненный водопад обрушился на здание. И меня смыло из Нотр-Дама извивающимися потоками. — Именно это и произойдет, если мы не найдем путь тебя увезти, — сказал я ей и поведал то, что слышал. — Возможно, нам следует попытаться покинуть Собор после вечерни совершенно открыто. Многие августинские монахини приходят сюда на вечернюю молитву. Если ты смешаешься с ними, тебя примут за одну из них. — Нет, — возразила она после недолгого размышления. — Ты считаешь, что нам не удастся сбить с толку стражу? — Нет, я хочу оставаться в Нотр-Даме. — Но Клопен планирует штурмовать Собор! Это может плохо для тебя кончиться. Видение или что-то еще явно предостерегает тебя. А остаться здесь и ждать рока — это ты называешь все обдумать? Зита улыбнулась моему смятению и мягко положила руку мне на плечо. — Верь мне, Арман, я все обдумала В беспорядке, который устроит нападение Клопена, возможно, появится случай проникнуть в святыню святынь Фролло. — Его ведьмовскую кухню, да? — промямлил я и взглянул вверх на потолок, словно я мог смотреть сквозь него на Северную башню. — Конечно, я тоже думал об этом, но едва ли поверю, что солнечный камень находится именно в башенной комнате Фролло. Тогда бы архидьякон давно натолкнулся на него. — Я согласна с тобой, Арман. Но если келья Фролло уже не скрывает солнечный камень, тогда, возможно, мы получим ответ на другую загадку, которая столь же важна. — Ты думаешь о machina mundi, мировой машине? — Верно, Арман. Одного солнечного камня недостаточно, чтобы осуществить большую трансформацию. Дреговиты должны объединить его силу с той, которая находиться в machina mundi. Указание на ее местонахождение стоило бы риска. — Даже риска потерять жизнь? Твою жизнь, Зита? — Да! — Я не знаю, — сказал я, качая головой. — Келья Фролло всегда закрыта. — Я давно это установила, но я довольно ловка в том, чтобы открыть замки самыми простыми средствами, — она достала бронзовую шпильку из-под покрывала и повертела ею у меня перед носом. — С помощью этого я справлюсь почти с любым замком за считанные минуты. Только с кельей Фролло это длилось немного подольше — слишком долго. Фролло появился, словно его что-то или кто-то предостерег, и я должна была спрятаться. — И именно сегодня вечером ты хочешь снова испытать свое счастье? — Именно сегодня вечером! Нападение оборванцев отвлечет Фролло и предоставит мне достаточно времени. Я не разделял ее намерений, считая, что, вероятно, полученное будет стоить несоразмерно меньше в сравнении с тем, что можно потерять — жизнь Зиты. Отец Фролло мог чем-то заниматься в своей ведьмовской кухне. Даже если он там скрывал указания на машину Раумонда Луллия, это не означало, что Зита сможет их обнаружить. Ее намерение казалось мне глупым, словно она напрямую искала смерти после своего сна о черной птице. Пока я обдумывал, как переубедить ее, она вдруг встала на цыпочки и посмотрела через головы каменных демонов вниз, на главный портал: — Это он, красивый итальянец. Слова разбудили мою ревность. Она имела в виду Леонардо, который прошел через портал и внимательно осмотрелся. Я вышел в проход и махнул ему. Быстрыми шагами он приблизился и сказал с серьезной миной: — Я иду прямо со Двора чудес, от Клопена Труйльфу и Матиаса Хунгади Спикали. Герцогу и мне не удалось переубедить короля пройдох. Клопен разглагольствует о том, чтобы спасти Эсмеральду, если это еще не попробовал сделать ее собственный отец. Его честь мошенника требует того. И его люди уже поделили сокровища церкви, прежде чем вообще увидели их. Мы должны немедленно исчезнуть из Нотр-Дама! Зита настаивала на своем решении и не поддалась уговорам даже говорящего на ангельском языке итальянца. — Тогда вы должны хотя бы сопровождать меня, Арман, — вздохнул Леонардо под конец. — Ваш отец никогда не простит мне, если вы падете жертвой жаждущих наживы оборванцев. — Нет, я остаюсь здесь, — сказал я к большому удивлению обоих. — Я покину Нотр-Дам только вместе с Зитой! Леонардо некоторое время смотрел на меня неподвижно с открытым ртом, а потом сказал: — Арман, Вы — глупец, хотя и очень храбрый. — Разве храбрость может быть без глупости? — спросил я. — Изречение неплохо. Если дело пойдет криво, запомните его для моего надгробного камня. Итальянец кивнул: — Я передам мэтру Вийону, что он может быть горд глупостью своего сына. Да будет Отец Добрых Душ с вами, и конечно, с вами, Зита! Когда он покинул Собор, солнце поблекло, а вместе с ним — и сверкающая сила витражной розы. Церковный неф в один миг померк, стал холодным и угрожающим. Я посмотрел итальянцу вслед в портале Страшного Суда и спросил себя, не произнес ли я также и свой собственный приговор? Они пришли в полночь. Глухой гул их шагов напугал меня, и перо выпало из моей задрожавшей руки. Мои записки о том, что случилось со мной в Париже, я спрятал в ящик для постели. Они были небрежны — скорее черновики, чем подробный доклад. Многое нужно было дописать, добавить, но я не знал, доберусь ли я когда-нибудь до этого. Я вышел на галерею между башнями, где я встретил Зиту. Когда я увидел четырехсотголовую толпу, то пожалел, что не ушел вместе с Леонардо. Но теперь было слишком поздно. На Нотр-Дам напирала мрачная масса, которая текла со всех улиц и углов. Остров Сены казался переполненным мрачными фигурами, которые двигались на восточную стрелку острова — шаркая, волоча ноги, топая, тяжело дыша и свистя, словно только одной массой своих тел хотели пробить стены Нотр-Дама: армия ночи, рожденные в темноте и охраняемые ею. То, что колонны, стекавшиеся по мостам между островом и Новым Городом и собиравшиеся перед Нотр-Дамом, маршировали в темноте, позволило им появиться еще более жутко и грозно. Лишь когда оборванцы, нищие, карманники и воры, головорезы и висельники полностью окружили Нотр-Дам, как по единой команде вспыхнули многочисленные факелы. Рожи, словно выползшие из ада, таращились вверх, на Зиту и меня, будто они могли видеть нас в тени башен. Бородатые и изуродованные шрамами лица, щербатые и мертвенно бледные, беззубые и вооруженные клыками. Неприкрытая жажда наживы была написана на них, страсть к разрушению, что-то животное, что проявляется в человеке в толпе. Толпа раздавливает всякую высокую мысль и оставляет место только для того, что всем понятно и близко: для самых низменных чувств. Это была армия из мужчин, женщин и детей, из стариков и калек, безруких и безногих существ, чьи военные доспехи были далеки от действительной военной силы. Настоящее вооружение сверкало наряду с используемыми не по назначению инструментами — паршивые клешни поднимали вверх мечи, кинжалы, топоры, арбалеты, копья и алебарды, а с ними и кривые деревянные костыли, кочерги, молоты, зубила, широкие ножи, косы и навозные вилы. Даже дети вооружились предметами, которые были гораздо больше их самих. Над рожами, клинками и факелами поднялся важный знак каждой армии — знамя. Оно и в самом деле было выбрано подходяще — вилы, на зубцах которых торчал капающий кровью кусок мертвечины. В свете факела я узнал коренастую фигуру короля оборванцев и на его стороне — украшенного золотой мишурой предводителя пестро разодетой союзной армии. — Мой отец! — вырвалось от удивления у Зиты. — Он… участвует в штурме… — Вероятно, он видит в этом единственную возможность оказать свою помощь, — сказал я. — В этом он прав и, пожалуй, едва имеет перспективы на успех. Отрепья Клопена обладают преимуществом и в боевом настроении — для них золотая крона весит жизнь сотни людей, а жизни писца и цыганки не стоят ничего. Когда Соборная площадь наполнилась существами из армии мошенников, Клопен Труйльфу поднялся на окружающую стену, чтобы произнести речь фельдмаршала, которая предшествует любой битве. Холодное мышление она превращает в пламенное воодушевление, рассудительность — в неистовство, сочувствующих людей — в безжалостных хищников. Его будоражащие слова раздались над всей площадью, они были четко слышны и на башенной галерее. Он обращался к Луи де Бомону, епископу Парижскому, чей дворец находился между Собором и левым рукавом реки, и официально объявил ему войну. К тому же, Клопен считал себя вправе называться королем оборванцев, великим князем и принцем отверженных, епископом шутов. Он бахвалился своей всеми отверженной сестрой, Эсмеральдой, святое право которой епископ нарушил отменой права убежища. Но ни одним словом он не помянул церковные сокровища, которые надеялась раздобыть его братва. Все полководцы подбадривали свою армию перспективой разорения лишь потом, когда всеобщее одичание благодаря войне делает любой призыв к любви к Отечества, к чести и верности бессмысленным. Для подкрепления своих слов Клопен поднял кровавый штандарт — при этом он празднично воткнул его в грязную щель между двумя булыжниками. Епископ Парижский был или слишком горд, или слишком умен, чтобы обратиться с ответной речью к враждебному войску. Ни разу его стража не выступила, и это перед лицом воинственного превосходства было едва лихрабро — но зато гораздо умнее. Вероятно, Луи де Бомон решил, что лучше пожертвовать Собором и защищать свой дворец. Домов во славу Бога было в избытке, а вот дворец епископа Парижского — только один. Так или иначе, но войску оборванцев не было оказано никакого сопротивления. При отблеске факелов и во время обращения Клопена то там, то тут в домах зажигались огни, и некоторые горожане выглядывали из окон. Когда они обнаружили, в какую армию стянулись здесь все отбросы Парижа, огни снова потухли, а окна поспешно захлопнулись. К чему рисковать жизнью ради Собора? Молиться можно и в приходской церкви. Так беспрепятственно Клопен сумел отдать свой приказ: — Вперед, друзья! На Собор, эй вы, задиры! Штурмовая группа из тридцати человек отделилась от толпы и взобралась на ступени Главного портала — неуклюжие парни, вооруженные тяжелыми молотами, щипцами и железными кусачками. Пожалуй, было бы проще попытаться у Малых ворот, но это не казалось важным великому полководцу Клопену Труйльфу. Возможно, он говорил, что большому войску требуется большая площадь для нападения. Во всяком случае, под нами раздался громкий стук и царапанье, сопровождаемое криками и проклятиями напрасно трудящихся задир. Другие оборванцы собрались вокруг них. Их разочарованные лица показывали, как мало поддался Главный портал под стрельчатой аркой. Я обернулся к Зите, хотел ее спросить, не стоит ли нам бежать через боковую дверь, прежде чем ворвутся оборванцы. Но египтянка исчезла. Я догадался, куда она убежала, и хотел последовать за ней, но таинственный шорох и глухое царапанье остановило меня. Деревянный столб, который, казалось, парил на галерее, поднятый волшебной силой, в действительности лежал в руках Квазимодо. Он внимательно следил за штурмом и поднял балку со стройки на Южной башне, чтобы использовать ее как оружие. Тяжело дыша, он взял мощный кусок дерева и перекинул его через перила. Огромный снаряд упал вдоль фасада, оцарапал его, отбил пару рук и ног у каменных фигур и непоколебимо закрутился вокруг себя, словно крылья ветряной мельницы. Он обрушился прямо на лестницу и проломил черепа и кости доброй дюжине разбойников. Затем столб скатился с грохотом залпа фальконета вниз по ступеням на стоящих внизу и кричащих в ужасе людей, разбежавшихся в разные стороны. Некоторые споткнулись о своих товарищей и замешкались. Балка нагнала их и переломила им ноги, как осенний шторм обламывает высохшие ветки. Скуля, раненые остались лежать на опустевшей Соборной площади. Задиры тоже спаслись бегством от невидимого соперника. Клопеи отступил со своей армией за пограничную стену, откуда полностью ошеломленные, они обескуражено таращились на Собор и на небо, откуда рок обрушился на их соратников. Башенная галерея лежала в темноте, по ту сторону света их факелов, и ужасный Квазимодо остался для них скрыт. Клопен сделал так, как поступает полководец, если победа значит больше, чем все остальное. Он снова бросил своих солдат на штурм, крича призывным голосом: — Разграбить! Но армия стояла тихо. Воинственный дух их военачальника, похоже, не передался им. Пока не было иного выбора, кроме как собраться возле портала и ждать обрушившихся балок. Задиры собрались вокруг Клопена и объяснили ему, что если они и не обломают себе зубы о крепкие порталы, то потом их вырвут клещами. Клопен знал ответ и крикнул: — Здесь нужен таран, и небо само послало нам его. Бог с нами, он дал нам в руки ключ от Собора! — с наигранным почтением он наклонился, и в свете факела я видел волчий оскал на лице Клопена. Он победил, сломав лед. Большинство мужчин собрались в кучу возле балки, подняли ее и превратили в могущественную штурмовую сороконожку, которая пробежала по площади, взлетела по ступеням и с тяжелым грохотом обрушилась на Главный портал. Если я скажу, что стены западного фасада задрожали под натиском, это не будет преувеличением. Снова и снова отъявленные негодяи таранили ворота под крики «ура!» Возможно, епископ укрепился в своем дворце, горожане притворились спящими в своих каморках, но у Собора был только один защитник, который отвечал всей компании — Квазимодо. Даже если ему теплая плоть цыганки была больше по сердцу, чем холодные камни храма Божьего, воздействие оказалось одинаковым. То, что король оборванцев прокламировал освобождение Эсмеральды, ускользнуло от ушей глухого. Он видел там внизу свору, бросившуюся на Нотр-Дам, и принял это за нападение на свою подопечную. Для простого сознания звонаря оборванцы были нарушителями права убежища, так что он боролся с ними всеми средствами. Пока ворота дрожали под ударами тарана, Квазимодо прыгал как демон между Южной башней и галереей туда и сюда, чтобы нагромоздить возле перил все, что плохо лежало. Он использовал гору камней для ремонта стен, а заодно — и инструменты, и даже тачку. Когда он собрал достаточно снарядов, то открыл свою канонаду и обрушил ее с непрекращающейся равномерностью часового механизма. Как раскачивающийся маятник он брал снаряд, перевешивался через перила, кидал его, двигался обратно и хватал новый камень или что притащил. Делалось это так быстро, что всегда два снаряда одновременно были в воздухе, и оборванцы, в плотных рядах которых образовались огромные дырки, возомнили об огромном числе защитников, во много раз превышавшем их. Когда некоторые стали предполагать, что Собор сам защищается от нападавших и стряхивает свои камни на них вниз, вмешался Клопен Труйльфу с призывными словами. Бог разозлился из-за предстоящей отмены права убежища и поэтому он — на их стороне. Смертельный град идет от священников, которые будут подняты на копья и поджарены, как только ворота поддадутся. И когда пара мошенников снова захотела отступить, белая плетка Клопена оставила кровавые следы на их лицах. Численное превосходящие осаждающие отошли от ужаса огромной летящей балки и принялось за штурм заново, несмотря на обстрел Квазимодо. Раз за разом таран ударялся в ворота, которые охали и дрожали, как человек в смертельной борьбе. Клопен хлестал своей плеткой и делал это в такт ударам тарана. Матиас держался на заднем плане со своими цыганами. Они расположились лагерем у входов в дома по ту сторону ограничительной стены и были готовы к тому, чтобы поспешить на помощь Зите, пока оборванцы штурмовали Собор. Тяжелые вздохи портала говорили о скором успехе ударов тарана. Квазимодо не падал духом и снова прыгал туда-сюда между Южной башней и галереей. Как одержимый, он складывал штабелями связки хвороста, поверх досок и маленьких балок, а сверку ложились оловянные рулоны, которые целыми днями доставлялись сюда рабочими. Напряженно и одновременно недоуменно я следил за его деятельностью, в которой не мог увидеть ничего осмысленного. Неужели от неистовства он окончательно потерял рассудок? Он вернулся с фонарем из башни и метнул его с воинственной усмешкой в поленницу. Стекло треснуло с легким звоном, и горящее масло вылилось из оловянного стакана на дерево. Тут же вспыхнуло пламя, с жадной поспешностью пожирая все, и залитая маслом поленница оказалась охваченной огнем. Он поднялся выше и перекинулся на перила, словно хотел проглотить весь Нотр-Дам. Дико пылающее пламя пожара осветило еще ужаснее отвратительное лицо Квазимодо. Оно то полыхало красным жаром ада, то снова удалялось в мрачную тень. Олово скукожилось, напузырилось, расплавилось под неудержимым жаром, полилось по крыше галереи, как горячая мокрота Сатаны, желая лизнуть мои ноги. Поспешно я отскочил на большую каменную глыбу, которую установили здесь строители. Олово не распространялось дальше. Оно потекло вниз по двум дождевым водостокам, которые находились под перилами и заканчивались в гневных рожах демонов над главным порталом. Лишь теперь я понял всю изощренность плана Квазимодо. Звонарь ни в коем случае не потерял голову, а замахнулся в ответном ударе, как мог ему подсказать только злой дух. Он научился у других людей быть жестоким, и стал таковым ради Эсмеральды. Я ни в коей мере не забыл о Зите, но был пленником жидкого олова, которое с бульканьем ползло вокруг моего каменного постамента. Я должен был, хотел я того или нет, смотреть на нечеловеческое наказание оборванцев: оба водостока непрерывно извергали кипящее олово на головы плотно сбившихся нищих. Два густых жарких луча, которые объединялись на половине высоты в смертельный каскад, выжигали жизни несчастных, пожирали платье, кожу и кости. Кому повезло в беде, у того жизнь была отнята сразу. Другие, обваренные, кричали громко и жутко, словно я слышал каждого из них. Те, кто мог еще бежать, спасались бегством в распространяющейся всюду панике, как перед падением деревянной балки, которая до этого заставила упасть многих задир. Капли олова величиной с кулак били как огненный град по толпе и валили новых мужчин, женщин и детей, которые считали себя в безопасности. Других роняли наземь их напуганные до смерти товарищи и нагнанные разливающимся потоком олова по ступеням и площадью перед Собором. Прежде чем они снова могли подняться на ноги, оборванцы с душераздирающими криками заканчивали свои дни в вязкой массе, которая не выпускала ничего, что однажды поглотила. Оборванцы должны были поверить, что в Нотр-Дам вселилось возмущенное чудовище, огромный зверь, исчадие ада, которое изрыгало огонь и дым. Ветер разметал огненные лохмотья пламени, разожженного Квазимодо, и разнес их над островом, как летающих духов огня. Черный дым поднялся и распространился надо всей Сеной. Порой я задыхался, отчаянно кашлял, да и горбатому мастеру Преисподней явно было не лучше. В раскачку он подошел к огню — либо ослепленный кусающимся дымом, либо стремясь разжечь пламя и избежать извержения дыма. Вдруг он закричал и повернулся, словно танцующий висельник вокруг собственной оси: его одежда была охвачена огнем. Пламя было ненасытно, теперь оно хотело поглотить даже своего творца. Он бросился на пол, к маленькому возвышению за полыхающим пламенем, и вертелся, воя и визжа. Я не мог помочь ему, я все еще был окружен горячим оловом и не хотел закончить так же, как жалкие создания на площади перед Собором, которые, облитые охладившимся металлом, выглядели, как творения алхимика, напрасно пытавшегося превратить людей в статуи. Квазимодо догадался, в чем может быть его спасение. Он, все еще лежа на полу, сорвал с тела уже горящее платье. Кусок за куском он разоблачал свое отвратительное, покрытое густыми волосами, кажущимися совершенно произвольно соединенным тело. Когда он запутался в куртке и штанах, то разорвал ткань с грубой силой, пока, наконец, не лежал на полу во всем своем вызывающим жалость уродстве. Но он потушил пламя, которое хотело напитаться им. Глухой, первородный крик, который он издал, мог быть триумфальным криком победителя или вздохом облегчения. Если безупречная красота привлекает нас, очаровывает и притягивает к себе так, что мы отдаляемся от мира, то ее противоположность — абсолютное безобразие — должно отпугивать нас, наши глаза должны закрываться сами собой. Но это не так. Человек таращится на уродство точно так же, как и на красоту, любуется уродством и болезнью, как полными формами и цветущей жизнью крепко сбитой девушки. Возможно, вид глубокого, словно пропасть, уродства говорит человеку, насколько далеко он стоит от этого существа. Возможно, еще играет роль и любопытство, которое любит приближаться и изучающее рассматривать все неизвестное. Потому так охотно дают соль, чтобы рассмотреть на ярмарке уродцев и карликов, которых выращивают специально для этих целей. Так же и я уставился на колышущиеся горы плоти прерывисто дышащего горбуна. Медленно он поднялся, и свет большого огня освещал каждый неестественный горб, каждое искривление и грубый нарост — постоянный груз его несчастной жизни. Все это поразило меня не так сильно, как то, что я рассмотрел, когда он повернулся ко мне спиной и посмотрел вниз через перила на Соборную площадь. В центре его ягодицы красовался странный знак. Мои глаза тут же распознали его, даже если мое создание противилось тому. Я уже однажды видел его — как отражение в зеркале на моей собственной ягодице, в подземном убежище Вийона, отца. Это поразило меня как удар кулака — с такой яростью, что мне пришлось замахать руками, чтобы не упасть с каменного постамента. Как вспыхнувший огонь в костре Квазимодо, я почувствовал себя облегченно. Я понял одно, почему Квазимодо играл такую важную роль в моих снах. Было ли это чистым совпадением, насмешливой иронией судьбы? Или это лежало в основе плана, который я не разобрал, было предреченным ходом в запутанной игре вокруг ананке человечества? Квазимодо не оставил мне никакого времени для размышлений. — Они возвращаются! — зарычал он. — Они ползут к королям наверх. Я должен их задержать! Олово остыло, а оборванцы еще не успокоились. Клопен гнал их пламенными речами и ударами своей плетки, заставляя предпринять следующий штурм среди своих мучительно издохших сотоварищей. Где-то они раздобыли большую лестницу, которую прислонили к Главному порталу, чтобы взобраться на Королевскую галерею. Оттуда дверь вела вовнутрь Собора, как я знал по своим многочисленным познавательным экскурсиям. Нагой звонарь поспешно поскакал к ближайшей лестнице, и я последовал за ним, после того как я убедился, что охлажденное, застывшее олово больше не представляло собой опасности. Я хотел сказать Квазимодо, что он больше не одинокий подкидыш, что у него есть семья — отец и брат… Квазимодо оказался быстрее и стоял уже на Королевской галерее, когда я, запыхавшись, прибежал туда. Но он не был достаточно проворен. Первый нападавший перемахнул через перила и стоял напротив звонаря. Большей противоположности не могло и существовать — голый горбун и тяжело вооруженный противник, который был одет в сверкающие доспехи, как рыцарь в битве или на турнире. Ему, должно быть, стоило немало труда поднять по лестнице свой железный панцирь и половину военного арсенала, который висел на нем. В правой руке он держал арбалет. Звонарь прыгнул к лестнице, когда всклокоченная голова оборванца поднялась над перилами. Галерея лежала на высоте шестидесяти футов, — не считая свободной лестницы. И по всей этой длине была лестница с вооруженными нападавшими, подобными воинственной змее, которая неукоснительно ползла вверх. Но Квазимодо остановил их. Прежде чем оборванец со всклокоченной головой сумел перебраться через перила, горбун схватил его за плечи и толкнул в глубину. Тот упал с распростертыми руками — как, птица, чьи крылья отказали — в плотную гроздь людей у основания лестницы. Тут же после Квазимодо схватился за верхние концы лестницы и яростно тряхнул ее, так что нападавшие один за другим непроизвольно отправились в полет. Оборванцам, похоже, не сопутствовала удача: сперва дождь из камней, потом жидкое олово, а теперь — умирающие, которые в муках стонали среди своих товарищей. Скинутая лестница на миг стояла прямо, словно она ничего не могла решить. Наконец, она упала назад и ударилась о площадь перед Собором, где ее перекладины треснули как до этого кости обрушившихся. С криком триумфа Квазимодо обратился к человеку в рыцарских доспехах. Тут железный человек поднял забрало и открыл черты безбородого лица, которое подходило более оруженосцу, нежели рыцарю. — Лучше тебе меня и не трогать, мой неотесанный братец, — крикнул Жеан Фролло де Молендино. — Это совсем не понравится моему старшему брату Клоду! Действительно, Квазимодо замолчал и остановился перед предательским школяром, нерешительно покачиваясь. Жеан относился к армии оборванцев и, по мнению Квазимодо, был врагом. Но как брата отца Фролло его окружала аура неприкосновенности. — Ой, какой же ты отвратительный! — вырвалось у Жеана. — Без одежды это видно совершенно ясно. Творец, должно быть, совсем не взглянул, когда лепил тебя. Как ты сам-то можешь выносить свой вид? Совершенно верно, что у тебя только один глаз, что ты не вдвойне таращишься на всё своим единственным глазом. Этот будет добрый поступок — спасти тебя от глаза и тем самым от твоего собственного вида, старый циклоп! Горбун смотрел на него пристально. Казалось, он понял слова Жеана — по крайней мере, их смысл. На его лице смешались печаль и гнев. Со своим обычным блеющим смехом школяр натянул арбалет и прицелился в голову Квазимодо. Только одна мысль овладела мной: я должен предупредить позорный поступок! Я выскочил из тени, которая до сих пор скрывала меня, и бросился на Жеана, желая вырвать у него оружие. Но короткая стрела с опереньем уже вылетела из арбалета Но все же я изменил первоначальную траекторию, так что она попала не в глаз Квазимодо, а в его левую руку. Звонарь стоял совершенно не шелохнувшись, не издав ни крика боли, не скорчив гримасы. Правой рукой Квазимодо вытащил стрелу из своего тела, сломал ее о колено и небрежно бросил деревяшки на пол. Он пошел на нас, высоко подхватил Жеана и бросил его о стену с такой силой, что латы зло заскрипели, а паренек издал громкий стон. — А у вас, Жеан, отличный голый вид? — усмехнулся Квазимодо, который крепко держал руки школяра своей огромной рукой. Другая рука принялась за ответ на вопрос — она раз за разом освобождала Жеана от доспехов и оружия. Горбун ощипывал школяра, как курицу, он раскидал сперва железо, а потом одежду по галерее, пока Жеан так же не остался столь же обнаженным, как и воспитанник его брата. Огонь на башенной галерее отбрасывал свой красноватый свет вниз и освещал обоих обнаженных, как ожившие скульптуры. — Вы действительно гораздо красивее, чем я, — молвил Квазимодо. — Ваш вид бросает баб в восторг, мой же — в ужас. И все же у меня есть власть убить вас одним ударом руки. Его правая рука легла вокруг шеи Жеана Фролло и медленно сжималась. Школяру было уже нечем дышать, его лицо посинело. Я поднялся и встал рядом с Квазимодо: — Остановитесь! Жеан заслужил наказание. Но это было бы чистым убийством. Квазимодо посмотрел на меня удивленно и отпустил свою жертву. Жеан соскользнул по стене на пол и, глубоко дыша, остался лежать в пыли. — Мы должны помочь Эсмеральде! — сказал звонарь. Даже если он с трудом понимал, то в смысле его слов не было сомнения: кто был против цыганки, был его врагом. Это распространялось на обоих Фролло, а так же на меня, хотя я его только что спас. Я хотел объяснить ему, что его действия не принесли ничего, кроме бесчисленных трупов. Толпа оборванцев уже приготовилась к новому нападению, принесли лестницы и веревки и взяли разбег из близлежащих улиц. Повсюду говорилось, что Клопен Труйльфу предал Нотр-Дам растерзанию, и ни один из двуногих уличных бродяг в Париже не хотел остаться без своей добычи. И если звонарь не признал этого, то он стоял на потерянном посту. Я хотел помешать тому, чтобы в итоге погиб он сам, я не хотел сразу же потерять брата, которого только что нашел. Прежде чем я сумел произнести хоть слово, я потерял почву под ногами, но мой больно ударившийся лоб снова быстро нашел ее. Молния мелькнула в моей голове; я почувствовал колющую боль, которая грозила потушить все вокруг. В полузабытьи я воспринял, как рука обняла меня вокруг груди и потянула вниз. Что-то твердое, острое воткнулось мне в горло, и теплая жидкость заструилась по моей шее и груди. То, что это — моя кровь, я понял, когда смог снова думать яснее. Жеан сидел на корточках возле меня, схватив за руку, и угрожал мне кинжалом, который он держал в другой руке. Клинок был из того оружия, которое Квазимодо отнял у него. Жеан повалил меня, схватив за ноги, и подобрал кинжал. Горячее дыхание билось в возбужденном ритме возле моей щеки. Его возбуждение было не только порождением смертельной опасности, в которой он оказался, но и желанием самому приносить смерть. Я чувствовал это слишком четко. Это было внезапное, ясное осознание, какое часто пронзает нас в самые неожиданные и неподходящие моменты. В один миг я понял, что Жеан — не только шпион и агитатор своего брата С уверенностью, с которой он держал нож, соседствовало чувство удовольствия, что ему достанется и моя кровь. Я видел его во Дворе чудес за карточной игрой, и я вспомнил десятку во рту Одона. Я видел Одона, чье горло было разрезано, как и у сестры Виктории… — Вы не можете перерезать мне глотку, Жеан, — закряхтел я жалобно дрожащим голосом. — Не заблуждайтесь, мастер Поросенок! — захохотал Жеан в мое ухо. — Квазимодо нравится наводить ужас, но с кинжалом в руке я могу отразить его. Итак, что же помешает мне побеспокоиться о сквозняке в вашей пасти? — Вам не хватает десятки, чтобы увенчать ваше дело. — Ах, вы в курсе. С каких пор? — Самым печальным образом — только с этого вот момента. Одно сходится с другим. Вы были не случайно поблизости, когда умер Одон — вы стали его смертью. Такой опытный человек, как Фальконе, раскрыл бы скоро все ваши козни. — У вас скоро появится возможность передать ему ваши похвалы. Когда Квазимодо медленно приблизился, Жеан усилил давление ножа, и снова кровь потекла по моей груди. Приятное тепло, которое распространялось с клейкой жидкостью, было обманчивым, оно соседствовало с пугающей смертью… — Остановись, Полифем! — рявкнул жнец Нотр-Дама на Квазимодо. — Или ты хочешь, чтобы спаситель света твоего глаза умер? С гневным рычанием звонарь остановился. Понял он слова Жеана или нет, но положение было однозначным. С наклоненным вперед туловищем и размахивающими руками Квазимодо походил на обезьяну, которая ждала приказаний своего человеческого хозяина. Он не мог мне помочь. Все, что бы он не предпринял, любое движение, которое не понравилось бы Жеану, могло привести к моей смерти. Все зависело от меня. Я собрал все свои силы и ударил обоими локтями вниз — глубоко в плоть Жеана. Со свистом вырвался воздух из его тела. Давление кинжала ослабло. Я схватил руку, в которой он держал оружие, обеими руками и вывернул ее в противоположном направлении. У Жеана должно было появиться ощущение, словно тысячи иголок вонзились ему в руку. Он закричал и выронил кинжал. Как пикирующий сокол, кинулся на нас Квазимодо, схватил Жеана с пола и поднял его обеими руками в воздухе. Так он подошел к перилам, где он перехватил жнеца одной рукой за щиколотки и размахнулся над пропастью, словно хотел попробовать метание, как Давид. Его снарядом был Жеан, который ни разу не вскрикнул. Я не вмешивался. С тех пор, как я понял, что он был жнецом, я не мог испытывать сочувствия к Жеану Мельнику, даже тогда, когда Квазимодо отпустил его. Я услышал скрипучий шум, треск черепа, глухой удар и четырехсоткратный крик внизу на Соборной площади. Покачиваясь, я встал на ноги, облокотился на перила и посмотрел вниз. Тело Жеана лежало размозженным на выступе стены — между небом и землей. Квазимодо и двадцать восемь каменных королей смотрели на него вниз — безжалостно, как это подобает повелителям. Таращащиеся глаза уважаемых королей приняли все к сведению — и не испугались. Но Квазимодо испугался — и я вместе с ним. То, что разыгралось возле главного фасада, было кошмаром, не оставляющим Нотр-Даму ни малейшей надежды. Оборванцы карабкались наверх в тени к галерее по новым лестницам — по веревочным лестницам или просто по веревкам, которые привязали к скульптурам. Многие использовали только руки и ноги, чтобы подняться по украшениям на стене. Жажда наживы и крови подгоняли их, превращая их лица в алчные морды чудовищ ада. Трудно сказать, кто был ужаснее — ползущие, словно муравьи, оборванцы или каменные фигуры, по которым они поднимались вверх. Последние — демоны Нотр-Дама — предали свой Собор и связались с ночными демонами снаружи. — Мы должны бежать отсюда, прежде чем они достигнут галереи, — крикнул я Квазимодо. Он не слушал меня, хотя не только по причине своей глухоты. С раскрытым от ужаса глазом он опустился на колени, сложил руки и начал молиться. Голову он повернул к каменной группе, которая стояла наверху Королевской галереи перед розой — к Богоматери с младенцем Иисусом на руках, окруженной по бокам ангелами. Он молился Святой деве Марии так самозабвенно, что не воспринимал ничего другого. Я схватил его за руку, хотел утащить его от галереи, но он грубо оттолкнул меня. Моя голова ударилась о стену, что вызвало новую болезненную молнию. Как ни ужасно это показалось, в тот миг я ничего не мог сделать для Квазимодо. Я должен был найти Зиту, предостеречь ее. Возможно, ей удастся освободить звонаря из его столь же блаженного, как и опасного для жизни оцепенения. Я догадывался, где искать Зиту. Возможно, я должен был это уже раньше сделать, но эти стремительно развивающиеся события отвлекли меня. Теперь я торопился к Северной башне — вверх по лестнице и дальше к ведьмовской кухне отца Фролло. Дверь была открыта, мое предположение, похоже, сбылось. Когда я осторожно вошел, то вдохнул резкий запах бесчисленных алхимических экспериментов. Келья была пуста. Опрокинутый стул, лежащая на полу книга и повсюду разбитые пробирки говорили о борьбе. — Зита! Я был настолько охвачен беспокойством о ней, что у меня почти неосознанно вырвалось ее имя. Поэтому меня удивило, как кто-то ответил: — Арман, помоги… Это был ее голос — немного приглушенный, но не изменившийся. То, что Зита оборвала на полуслове, не могло предвещать ничего хорошего. Я выбежал из кельи и огляделся, но ничего не увидел, кроме теней. Темнота ослабляет глаза, но заостряет слух. Я разобрал шорох на лестнице и поспешил в том направлении. Тяжелые шаги раздавались ниже меня по винтовой лестнице. Я побежал вслед, но увидел лишь внизу, кого я преследовал — отца Клода Фролло и Пьера Гренгуара. Они тащили за собой кого-то, чья голова была замотана в платок. Тут же я узнал стройную фигуру Зиты. Платок, который закрывал ее лицо, был черным покрывалом послушницы. Оба мужчины торопились по северной стороне нефа, их пленница была посередине. Один раз Гренгуар споткнулся о белый клубок. Это была Джали, которая и теперь следовала за своей госпожой. Я еще не достиг центра нефа, как другие на высоте Красных ворот исчезли из поля моего зрения. Возможно, ворота на монастырский двор были открыты, или, что еще вероятнее, отец Фролло владел ключом. Ворота стояли действительно нараспашку, когда я добрался до них. Значит, ни один оборванец не ворвался в Собор? Когда я вышел на монастырский двор, то услышал громкий шум боя, выстрелы пищалей и удары фанфар. Итак, войска короля вмешались в битву за Нотр-Дам. Теперь Клопен и его люди были всецело заняты тем, чтобы спасать свою шкуру. Опьяняющая мечта о сокровищах Нотр-Дама рассеялась. Когда я оглянулся в мрачном пустынном дворе монастыря, то обнаружил небольшую калитку в стене, которая была приоткрыта на ладонь. Ее могли открыть лишь недавно. Наверняка набожные братья заперли калитку, когда армия бродяг маршировала к Нотр-Даму. Я побежал через ворота прочь на болотистую пустынную землю, которая покрывала восточную стрелку острова. И увидел отчаливающую лодку, в которой находились отец Фролло, Гренгуар, Зита и коза Джали. Лицо Зиты было еще закрыто вуалью, но казалось, что она в сознании. Она держала свою козу, прижав к себе. Фролло сел за весла и греб мощными гребками по воде, в сторону Нового Города. Челн окончательно превратился в тень на ночной Сене, пока я напрасно искал вторую лодку. Был только один путь, чтобы преследовать похитителей и их жертву, и я решил отправиться по нему, как бы бесперспективно это ни казалось. Атакой солдат Квазимодо был спасен от мести оборванцев и больше не нуждался в моей помощи. Итак, я бежал по территории монастыря вдоль — к мосту Нотр-Дама. Я хотел только одного — попасть в Новый Город, пусть даже мала вероятность, что я там найду след Зиты. Перед Собором я попал в кровавое месиво. Вооруженные копьями всадники скакали на оборванцев и накалывали их. Королевские стрелки заняли позиции в галереях соседних домов, чтобы метать снова и снова приносящие смерть свинец и стрелы в тающие военные силы Клопена. На башенной галерее дико бушевал зажженный Квазимодо огонь, словно ад радовался бесчисленным поступлениям этой ночи. Надо всем разразилась оглушающая гроза из взрывов, сигналов горна, приказов, цокота копыт и многоголосых криков смерти. Конный отряд прогарцевал мне навстречу по мосту и привел подкрепление солдатам к Нотр-Даму. Я прижался в тени домов и беспрепятственно добрался до правого берега Сены, где побежал вверх по течению. Моя голова болела от грубого обращения на Королевской галерее, и напрасно я искал причину для похищения Зиты. Значит, Фролло утащил ее, потому что она вторглась в его ведьмовскую кухню, разгадала ее тайну? Но тогда бы он мог просто ее убить! Нуждался ли он в ней как в заложнице, чтобы сделать сговорчивее цыганского герцога? Столпотворение людей на Гревской площади отвлекло меня от мыслей. Толпа собралась вокруг виселицы, что внушило мне подобающий страх. Одна казнь в середине ночи была крайне необычна, она явно не являлась совпадением. Мой пульс забился быстрее, я побежал. А потом я услышал крики: — Повесить ведьму! Освободите нас от цыганки! — согласие народа было внезапно изменено, так же легко как прежде оттолкнутая лестница Квазимодо, и они требовали крови, крови Зиты! Крик был однозначен: — Ведьма все заколдовала. Из-за нее сброд черни хочет штурмовать Собор! — Цыгане — бродяги, их женщинам нельзя верить! — Вздерните ведьму, чтобы снять с нас ее чары! Я присоединился к толпе и стал через нее пробираться, пока не встал вплотную возле каменного эшафота виселицы, который был окружен целой толпой пеших и конных вооруженных людей. Много солдат с королевскими гербами тащили лестницу и установили ее перед виселицей. Другие охраняли Зиту, которая тихо и неподвижно стояла возле эшафота. Ее лицо, больше не покрытое покрывалом, было бледным и безучастным — без всякой надежды. Темные пряди волос падали на лоб, глаза и щеки, дрожали в пламени факела, как змеи, которые жаждали крови Зиты. Отца Фролло и Гренгуара нигде не было видно. Что произошло, я мог только предполагать. Было две возможности: либо Клод Фролло отдал свою пленницу солдатам, чтобы не запятнать свои руки кровью, либо стражники увидели его и Гренгуара и отняли цыганку. Их предводителем был никто иной, как Тристан д'Эрмит, королевский прокурор. Он сидел на крепкой гнедой лошади и отдавал резким голосом приказы. Даже теперь, когда он стал хозяином положения, его взгляд был опущен. Казалось, он боится смерти, которую чинит сам. Или ему было безразлична смерть, пока она не коснулась его лично? Видел ли я перед собой великого магистра дреговитов? По его знаку палач схватил Зиту и потянул к лестнице, над которой болталась на ветру конопляная веревка. Я бросился вперед и выкрикнул имя Зиты. Ее направленный в далекую даль взгляд ожил, она осмотрела толпу, остановилась на мне. Ее губы открылись, и она крикнула: — Джааалиии! Она помешалась в смертельном страхе? Как иначе можно объяснить то, что она обратилась ко мне по имени своей козы? К тому же, животного не было видно. Я хотел бежать к королевскому прокурору и просить о пощаде для пленницы. Ее разум явно повредился. Ее надо было отвести в госпиталь, а не на виселицу. Это был единственный выход, чтобы спасти жизнь Зиты! Всадник с копьем, который увидел во мне только отъявленного зеваку, впихнул свою клячу между мной и Тристаном и ударил каблуком сапога мне в лоб. Третий удар за эту ночь— и, возможно, самый сильный. Моя голова взорвалась. Тошнота скрутила меня и бросила в вызывающий головокружение фейерверк сотен пестрых цветов, а в конце его меня накрыла глубокая чернота, мрачная пропасть без света и шумов, без жизни…Глава 6 Похоронный звон
Резкая боль в левой руке вырвала меня из состояния оцепенения. Я чувствовал себя слабо и вяло, голова кружилась, мир я увидел сквозь покрывало сумерек, когда, наконец, решился открыть глаза. Снова что-то вонзилось в мою руку. Я отдернул ее, услышал громкое карканье и яростное махание крыльями. Порыв ветра пролетел над лицом, черная птица поднялась надо мной. Я пригляделся и разобрал, что это была всего лишь ворона. Она летела в небо, где гаснущие звезды вели последний безуспешный бой с пробивающимся дневным светом. Утренние сумерки окутали мир покрывалом свого невероятного света сновидений. Прислонившись к чему-то твердому, я лежал на спине. Я поднял мою левую руку и увидел кровавую рану на запястье — рваное мясо, которым ворона хотела подкрепиться. Значит, я кусок мертвечины. На небе кружила целая стая ворон, явно в надежде на отменную добычу. Внизу лежало большое пустынное пространство в центре парижской путаницы домов — Гревская площадь. Постепенно память вернулась ко мне. Несмотря на боль, которая пронизывала мою голову при каждом движении, я с усилием сел и огляделся по сторонам. На площади появились торговцы, рабочие и те несчастные, которые напрасно стояли в очереди за работой и куском хлеба. И все же пара людей остановилась здесь: вооруженные солдаты короля в униформе, которые небрежно и устало прислонились к каменному цоколю, чтобы наблюдать за сумасбродным спектаклем. Свежий утренний ветерок слегка раскачал куклу в человеческий рост над их головами и раздул ее платье — также, как черные волосы. Наконец, я понял происходящее и захотел кричать, но издал только кряхтение, сравнимое лишь с карканьем ворон, отчего оно показалось жалобным… Куклой был человек. Эсмеральда. Зита! Безжизненно, словно кукла, она висела на виселице, конопляная веревка переломила ей шею. Ее широко раскрытые глаза неподвижно смотрели в мир, который недавно принадлежал и ей. Вороны, которые видели в Зите завтрак, не могли испугаться ее. Я сам прислонился к цоколю большого каменного креста в форме ступеней, который, как знак христианской милости, возвышался на площади. Это показалось мне чистой насмешкой, я бы с радостью поверил, что всё мне привиделось. Но и это не могло больше помочь Зите. Этот мир, в котором люди вытесывают милосердие из камня, непоколебимо повернулся к ней спиной — как солдаты, для которых вид казненной стал обыденностью. Мысль, что спасение Зиты Квазимодо и ее убежище в Нотр-Даме были напрасны, доставила мне большее страдание, чем боль, которая распространилась по моей голове и руке. Я не хотел принимать случившееся за правду, внушил себе идею, что египтянка не мертва, а только в обмороке. Разве я сам не лежал на площади, как мертвый, в чем убедил даже опытных падальщиков, которые кружили надо мной? Возможно, я внушил себе, что смогу спасти жизнь Зиты! Я обнял каменный эшафот, как возлюбленную и подтянулся на нем. Мои колени были слабы, словно овсяный кисель. Без опоры на камень я бы снова рухнул на землю. Несмотря на утренний холод, пот выступил у меня на лбу, и полупрозрачные кольца показали странный фокус у меня перед глазами. Я глубоко и спокойно вздохнул, пока танцующие кольца не исчезли, и у меня не появилось чувства, что мои ноги снова слушаются меня. Потом я отпустил цоколь креста и обратился к виселице. Солдат направил острие своего копья мне в грудь. — Эй, куманек, оставь виселицу в покое! Народ должен видеть, что ведьма мертва. Королевский прокурор приказал сделать так, чтобы не возник новый призыв к ее освобождению. Если вы, оборванцы, опять начнете вырывать у нее для ваших колдовских средств волосы и ногти, скоро ничего не останется. И я не хочу иметь дело с Тристаном д'Эрмитом! Второй солдат, который устало прислонился к своему арбалету, усмехнулся во весь рот. — Оборванец совсем не выглядит, как мародеры трупов. Посмотри-ка, друг, как он таращиться на ведьму. Да он влюбленный петух! — Или горячий жеребец, — закаркал с копьем. — А почему бы и нет, ноги изуродованы под пытками, и шея немного вывихнута, но все важные части невредимы. Солдат с арбалетом кивнул и рассмеялся: — У девы и у рыбы средняя часть — самая лучшая. Его товарищ усилил давление острого железа в мою грудь. — Проваливай, бродяга! Трупы для ощупывания в избытке на кладбище Невинно Убиенных Младенцев. Поневоле я отступил на пару шагов назад и оказался в странной процессии, которая выходила с улицы Красильщиков на Гревскую площадь. Это были цыгане в своих роскошных одеяниях и сверкающих украшениях. На тамбуринах и флейтах они играли печальную мелодию, которая совсем не подходила к их пестрой процессии. Я догадался, что они оделись так празднично, чтобы почтить мертвую. Во главе их шел Матиас. Он остановил траурный поезд, как только солдаты по тревоге сгруппировались и подняли свое оружие. — Вам не нужно бояться, — сказал Матиас конвоирам. — Мы хотим забрать только нашу мертвую дочь. Краснолицый сержант выступил вперед и ударил себя в грудь: — Невозможно! Королевский прокурор приказал, чтобы ведьму не трогали. Матиас подошел к нему и сказал доверительным тоном: — Весит слово королевского прокурора так же тяжело, как кисет золотых крон? Сержант вытаращил глаза, и его решительность явно поубавилась: — А… днем это трудно сделать. Но… возможно, ночью пара сердобольных прохожих снимет девушку. Матиас кивнул: — Тогда мы заберем нашу сестру ночью. — Нет, с собой вам нельзя ее забрать. Если Тристан услышит об этом, он велит вздернуть нас. Но ее можно отнести под своды Монфокона, как это делают с другими повешенными. Я думаю, это будет приемлемо. Лучше всего завтра ночью, тогда мертвая надоест всем. — Тогда в Монфокон, — вздохнул Матиас и протянул сержанту туго набитый кожаный мешочек. Тут же солдаты забыли о своем грозном виде и набросились на своего начальника. Едва сержант открыл мешок, как золотые кроны уже были поделены. Я пошел к Матиасу и спросил: — Вы действительно хотите позволить висеть вашей дочери на виселице? Дикий огонь в его глазах, который, казалось, остыл, зажегся вновь. Он грубо схватил меня за руки, обнажил желтые зубы, как бешеный пес, и зашипел: — Вы должны были позаботиться о ней, когда она была еще жива, гадчо! Вы были с Зитой в Нотр-Даме. Почему вы не защитили ее? — По той же самой причине, по которой вы предали ее. Вы были со своими людьми ночью недалеко от Нотр-Дама? — Да, но… — И вы могли вмешаться, когда отец Фролло и Гренгуар утащили ее? — Этого я не знал, — сказал он тихо и отпустил меня. Солдаты недоверчиво поглядывали на нас. Матиас потянул меня в тень улицы Красильщиков, где я сообщил ему печальное приключение последней ночи. — Как Зита попала в руки Тристана, я не знаю, — заключил я. — И я не могу сказать, что она нашла в ведьмовской кухне Фролло. — Но она была еще жива, когда вы прибежали на Гревскую площадь! Она ничего вам не сказала? — Она была в смятении, взглянула на меня и выкрикнула потом имя своей козы. — Джали? — Да, герцог, она крикнула в ночь имя Джали. Коза была с ней в лодке, но на Гревской площади я ее не видел. Матиас резко повернулся ко мне спиной и заговорил на цыганском языке со своим народом. По резкому, но все же четкому произношению я понял, что он отдает приказ. И я дважды услышал имя Джали. Мужчины и женщины бросились врассыпную, разделились по близлежащим улицам, разметались по Гревской площади, растворились в последних тенях ночи. — Вы приказали им искать Джали, не так ли? — Да, — сказал Матиас. — Зита была готова к смерти. Ее дух явно не был замутнен, когда ее вели к виселице. Если она видела вас и при этом сказала имя Джали, это можно рассматривать только как послание. — Но какая нам может быть польза от этой проклятой козы? — Если мы найдем Джали, если мы ее найдем, мы узнаем. Вам следует возвращаться в Нотр-Дам. Возможно, вы обнаружите там указание, даже если люди Тристана не оставили камня на камне. — О чем вы говорите, герцог? — После того как армия Клопена была разогнана, солдаты бушевали в Нотр-Даме, как и не снилось оборванцам. Напрасно они искали средства колдовства Зиты. Но, возможно, Тристан д'Эрмит хотел найти совсем другое. — Матиас остановился в начале улицы Красильщиков, посмотрел на виселицу и попрощался со своей дочерью. Я покинул Гревскую площадь с противоречивыми чувствами. Краткая, но сильная страсть связывала меня с Зитой, и я чувствовал себя ее заступником. С чем я не справился, было больно. Так же больно было оставлять Зиту на виселице. И в то же время я был рад, что больше не должен выносить этого зрелища. Я направился к мосту Нотр-Дама, но остановился перед ним у берега и посмотрел на Сену, которая блестела серебристо-серым цветом в усиливающемся утреннем свете. Темные образы, которых несло течение под мостом и дальше на запад, разбудили у меня воспоминание о детстве. Дровосеки в Сабле скатывали поваленные стволы в Сарту, и река несла их до пилорамы. Однажды я взобрался на плывущее бревно, почти целый день катался на нем и представлял себе, что я рыцарь на своем боевом коне. То, что этот рыцарь вернулся в аббатство с головы до ног мокрым, набожные братья вовсе не нашли полезным, и влепили ему в наказание пару дюжин «Отче наш» и «Аве Мария», а заодно — заставили месяц мести подвал по ночам. То, что плыло в Сене, не было бревнами, даже если так и выглядело на первый взгляд. Чем светлее становилось, тем явственнее я различал одежду, руки, ноги и лица. Мертвые! Напротив, на другом берегу, солдаты очищали Соборную площадь и улицы вокруг Нотр-Дама, освобождали их от павших оборванцев, которых они тащили к реке и бездумно бросали в воду. Дело пошло бы быстрее, если бы они отвозили их на кладбище и оставляли там. Многие трупы еще лежали перед Нотр-Дамом, и падаль-щики нашли роскошную трапезу. Король оборванцев погиб вместе со своими людьми. Заряд из пищали разорвал его живот, и тут же многие вороны питались вывалившимися внутренностями. Белая плетка в руке погибшего не могла их напугать, Клопен Труйльфу никогда больше не щелкнет ремнями. Некоторые мертвые, которые лежали перед главным порталом, не были тронуты птицами. Их залило оловом, которое образовало на лестнице и вокруг нее бесформенную поблескивающую массу — застывшее озеро, которое крепко держало утонувших своими оловянными руками. Ужасно было оказаться свидетелем истребления, но еще страшнее оказалось наблюдать его результат в холодном утреннем воздухе. Собор был похож на огромный выбеленный скелет,контрафорсы с аркбутанами были оттопыренными костями. Вдруг из-за Нотр-Дама взошло солнце, и здание погрузилось, как в огонь, в яркий красный свет. Каждый отдельный камень горел в этом огне, который казался мне божественным наказанием за грехи ночи. Порталы были открыты, и я вбежал в церковь, чтобы скрыться от мертвецов. Я поднялся по винтовой лестнице на Северную башню, и меня схватили крепкие руки, едва я добрался до верха. Он словно поджидал меня — Квазимодо, завернутый в пару бездумно перекинутых тряпок. Он прыгнул из темного угла и затряс меня, как голодный бродяга — грушу. Все снова и снова он бубнил под нос: — Где она? Я подвел его к площадке, показал на реку к Гревской площади. Медленно и четко, чтобы он меня понял, я сказал: — Посмотри на виселицу. Ты узнаешь ее белое платье? Долго он стоял с вытянутым туловищем и криво наклоненной головой возле перил и вглядывался в зарождающийся солнечный свет. Я был готов к приступу самоубийства, к тому, что он схватит меня в своей ярости и метнет в пропасть, как это он сделал вчера с Жеаном Фролло. Поэтому я держал некоторую дистанцию от него. Но когда он повернулся с глубоким вздохом, гнева на его лице не было — только бесконечная печаль. Хотя он никогда не мог строить правомерных надежд на Зиту, похоже, он ощущал ее потерю глубже, чем я. Слезы лились по его лицу, когда он проковылял мимо меня к Южной башне. Напрасно я искал утешительные слова — так и молчал, пока не увидел, наконец, как он исчез в колокольне. Вскоре после этого он изобразил угрожающие звуки, и солдаты на площади перед Собором удивленно взглянули вверх на фасад. Когда я глянул на них вниз, я заметил, что Жеан Фролло лежал на спине на выступе стены. Я увидел его большие черные глаза. Нет, то были не глаза, а пустые глазницы. Вороны полакомились вкусными кусочками и при этом позаботились о божественной справедливости: молодого Фролло постигла та судьба, которую он готовил Квазимодо. Звук становился все громче и громче, пока платформа между башнями не завибрировала. Это, должно быть, была Большая Мария, которая звучала только по особенным праздничным дням или в часы беды. Я побежал к каморке с колоколами Южной башни и убедился в своих предположениях. Квазимодо выполнял один работу, что было под силу только дюжине мужчин. Он бил в Большую Марию с такой мощью, что она грозила слететь с балки. Колокольня тряслась, дрожала, раскачивалась. Беспрерывно раскачивался туда и сюда тяжелый бронзовый колокол — и его звонарь висел на нем! Руками и ногами Квазимодо обхватил язык колокола, как возлюбленный свою невесту в порыве глубокой страсти. Так он танцевал с Марией, ощущал ее вибрацию, которая передавалась ему, рычал и орал с широко раскрытым ртом, что я мог принять за крайнее удовольствие. Похоже, он не заметил меня. Его мир состоял только из Марии и из него, из могучих звуков колокола, которые могли достичь даже его мертвых ушей, и из раскачиваний, которые он воспринимал каждой жилкой. Если бы он захотел, то расплавился бы с колоколом, как те несчастные оборванцы с растопленным оловом. Видимо, это было бы для него высшим счастьем. Зажав руками уши, я стоял на колокольне и с недоверием наблюдал за действом. Неужели Квазимодо потерял рассудок и предавался радости своей дрожащей, гудящей невесты —единственной, которая досталась ему, пока Зита висела там, на площади, на виселице? Лишь постепенно я понял, что это было своего рода прощанием — похоронным звоном по Зите. Я покинул колокольню раньше, чем мои барабанные перепонки лопнули как у звонаря. Даже снаружи, на платформе, звон был достаточно громким. Я подставил лицо ветру, который можно было поймать здесь, наверху, когда внизу на узких улицах царило безветрие. Но вместо ожидаемой свежести я чувствовал отвращение, ветер принес ко мне запах мертвечины. Мертвые преследовали меня. Поспешно я побежал в Северную башню, в ведьмовскую кухню Фролло. Дверь была открыта, как и ночью. Для чего ее запирать, если тайна раскрыта? Кроме того, я не верил, что Клод Фролло вернулся сюда. Он должен был ожидать расплаты Квазимодо за похищение Зиты — и за ее смерть. С сомнением я вошел в когда-то таинственное, а теперь — развенчанное место. Беспорядок был повсюду — больше, чем ночью. Пробирки и кувшины разбиты, жидкости всех цветов — разбрызганы. Они наполнили помещение своими разнообразными запахами, въелись в дерево и камень. Здесь бушевал ищущий или разгневанный. Возможно ищущий, который начал бушевать, потому что не нашел искомое. Но если Тристан д'Эрмит скрывался за тайной отца Фролло, он не мог быть великим магистром. Или Тристан только разыгрывал ищущего, чтобы обмануть короля Людовика? Он бушевал здесь, чтобы замести следы? Одно бросилось мне в глаза: все книги исчезли из кельи. Я уже собирался покинуть опустошенное место, но тут заметил греческий росчерк, который был глубоко процарапан на стене: АЫАГКН. Ананке — рок! Он не оставлял меня, хотел посмеяться надо мной! Фролло нацарапал буквы в полном отчаянии, или они были знаком? Как всегда, мне больше ничто не могло помочь. Во мне возникло осознание, что моя миссия в Нотр-Даме выполнена. Здесь больше не скрывалась для меня тайны, и я не испытывал никакой нужды более оставаться писцом у отца Фролло. Когда я вошел в свою келью, чтобы собрать пожитки, я обнаружил такой же беспорядок, как и в ведьмовской кухне Фролло. Стол и стулья были опрокинуты, матрац распорот, солома рассыпана по полу. И не было книг: книги Гренгуара о кометах, моей переписанной книги и книжечки с моими заметками. Фролло забрал все вещи — или Тристан д'Эрмит? Кто бы это ни был, но мой тайник в кровати он не обнаружил. Я схватил мои записки и свернувшегося дракона Аврилло вместе с моим малым имуществом. Нет, что бы ни было связано с деревянной фигуркой, но если ей приписывается значение, я не имею право ее оставлять. Я хотел отдать ее Вийону — пусть он дальше решает сам. Мария больше не звучала. Квазимодо сидел между башнями на остатке груды камней, которую он создал для обстрела армии оборванцев. Подперев руками голову, он с мрачным взглядом смотрел на крыши, возможно, на Гревскую площадь — неподвижно как каменный демон, на которого он был похож своим собственным уродством. Выглядело это так, словно он служил немую панихиду. Так как я не хотел мешать его молебну, я просто присел рядом с ним и обдумывал иронию судьбы — как оба брата, которые ничто не знали друг о друге, встретились в такой час. В какой-то момент он повернул голову и уставился на меня своим глазом, потом спросил: — Чего вы хотите от меня? — Я хочу тебя забрать. — Меня? — он пробурчал что-то, что было похоже на невероятный смех: — Никто не хочет меня… — Неправда. Я, Квазимодо… — Почему? — Потому мы братья. Он закачал тяжелой головой: — Я не понимаю вас. Многочисленными и трудными при его глухоте словами я объяснил ему все. Я рассказал ему о Вийоне и выжженной раковине, которую видел у него ночью. Наконец, я снял свои штаны сзади и показал мое клеймо. — Мы действительно братья? — он спросил столь недоверчиво, сколь и невероятным было дело само по себе. Я прекрасно понимал его сомнения, но в Париже я научился воспринимать невероятное, как обыденное. — Да, мы — братья. И если ты хочешь, я отведу тебя к нашему отцу. Он снова впал в свое оцепенение, долго думал и, наконец, сказал: — Нет, у меня нет отца. — Да нет же, есть! — крикнул я. — Я же только что объяснил тебе. — Вы не понимаете, Арман. Слишком поздно для отца, для брата, для людей, — он ударил себя в грудь. — Здесь внутри все мертво, как мертвы мои уши. Там позади, на виселице, умерло последнее, ради чего билось мое сердце. — Но что же ты будешь делать, Квазимодо? — Я буду искать отца Фролло. — Ты и дальше хочешь служить предателю? — Ему? — опасные раскаты раздались глухо из его груди. — Если я найду его, он поплатится за все! — Ты хочешь его убить? — Что же еще? Он вскочил. Я схватил его за руку, хотел удержать его. Недолго он смотрел на меня сверху вниз — почти что нежно. Потом он вырвался и убежал прочь — убежал от меня, своего брата, от людей. Уверенно и ловко, как горная коза по отвесным скалам, он прыгнул над крышей церкви. Вдруг он повис в воздухе, и я уже испугался, что он разобьется. Но храбрым прыжком он добрался до крайнего южного аркбутана и соскользнул затем по контрфорсу[891] вниз, как играющий ребенок. Так он исчез из поля моего зрения. Я проклинал судьбу. После такой долгой разлуки вернуть брату брата, теперь чтобы снова потерять его! В этом не было справедливости, ничего милосердного — только чистая жажда страданий людских. Была ли это воля Господа? Не подтверждало ли это многократно идеи дреговитов, которые не видели в этом мире ничего хорошего? С такой горькой мыслью я покинул собор Нотр-Дам. Навсегда, как я надеялся.КНИГА ВОСЬМАЯ
Глава 1 Говорящая коза
Я долго блуждал по улицам и, наконец, завернул в кабак, где напрасно пытался заглушить свою боль из-за смерти Зиты и потери моего брата кувшином плохого вина. В итоге я отправился в район Тампля. Что же мне оставалось еще? Один из посыльных Вийона провел меня в подземное царство, а там — в большое помещение, в котором я увидел некоторых знакомых: Вийона, Леонардо и его двух друзей, а заодно — и Матиаса. И Джали. Коза со скучающим видом пила воду из горшка. Лица склонившихся над низким столом мужчин выражали крайнее напряжение. На столе лежал кусок бумаги, который они с интересом рассматривали. — Ах, вот и вы, наконец, Арман! — кто-нибудь другой не принял бы смертельную ухмылку Вийона как радостную улыбку. — Вы чуть было не пропустили самое любопытное. — Что, Матиас нашел Джали? — спросил я. — Джали нашла нас, — поправил меня цыганский герцог. — Она пришла около полудня в наш лагерь, довольно долго проплутав по улицам. Счастье, что никто не поймал ее. — Да, счастье для Джали, — сказал я без особой заинтересованности. — Иначе она бы теперь оказалась на вертеле. — Счастье для нас! — ответил Вийон. — Джали рассказала нам важную тайну. — При помощи табличек с буквами? — спросил я с недоверием и указал на кожаный мешочек, который всегда висел на шеи Джали. Она все еще носила на шее свое золотое ожерелье, мешочек же лежал на столе, некоторые из букв на табличках были произвольно рассыпаны рядом. — Я думал, это только фокус, которому Зита обучила козу. Или действительно в Джали прячется дьявол? — Игра с буквами — дешевый трюк, — сказал Вийон и удостоился злого взгляда цыганского герцога. — Джали кое-что принесла в своем мешочке, и это сообщение, право, большая удача для нас. Он постучал указательным пальцем по бумаге, которая была расправлена на столе. Это была страница из книги, гравюра на дереве, изображавшая большой комплекс зданий. На переднем плане была видна пара домов, стоящих на свободной территории, некоторые из них были соединены забором, парой деревьев и маленькой круглой башней под маковкой. Позади возвышалась крепость с галереями на широких стенах, башнями и бойницами для стрелков. Ров окружал стены, и только по подъемному мосту слева попадали вовнутрь. Правый угол передней стены защищался круглым донжоном[892]. Все можно было принять за оплот военачальника, если бы внутри не возвышалась роскошная церковь и большой монастырь, который примыкал справа. На верхнем крае картины, кроме оборонительных стен, располагались часовня, ветряная мельница и пара полей, частично огороженных. И надо всем размашистой рукой красными чернилами было написано греческое изречение: АЫАГКН. — Почерк отца Фролло! — вырвалось у меня. Вийон наклонился вперед: — Арман, вы уверены? — А как же! — я рассказал о буквах, которые были выцарапаны на стене в ведьмовской кухне Фролло. — Этот росчерк здесь сделан той же самой рукой. — Это же окончательное подтверждение! — торжествующе крикнул Вийон. Это был один из редких моментов, когда его рябое лицо засияло. — Таким образом, вы оказали нашему делу двойную службу, Арман! Благодаря вам мы узнали, что это изображение принадлежит отцу Фролло. И без вас мы бы едва ли его обнаружили. Если бы вы не рассказали Матиасу, что последние слова Зиты были именем козы, герцог не обыскал бы Джали на предмет послания. Постепенно я понял и сказал вполголоса, больше самому себе: — Тогда Зита нашла этот рисунок в келье Фролло. Он должен быть из книги, которая вчера ночью лежала на полу кельи. Вероятно, Зита засунула листок в мешочек Джали, когда обнимала козу на лодке. Вийон сильно закашлял. — Теперь мы знаем, где должны искать machina mundi. — Вы знаете место? — Конечно, и вы должны его знать. Припомните левый берег Сены, западнее Латинского квартала. Погода была плохой, когда мы отправлялись в Плесси-де-Тур, но за нашей спиной вы должны были разглядеть эти стены. Он был прав. На бумаге были изображены здания с другого угла зрения, но теперь я узнал их. — Сен-Жермен-де-Пре! Вийон кратко кивнул: — Да, церковь Святого Жермена, когда-то — епископа Парижа. Сильно укреплена, потому что она и монастырь бенедиктинцев находятся за пределами городских стен. Норманны, которые пришли к Сене шестьсот лет назад, четырежды нападали на Сен-Жермен. — И почему вы думаете, что там спрятана мировая машина? — Почему иначе Фролло должен дополнить именно эту картину с подписью «АЫАГКН»? Вероятно, он сделал это в порыве чувств, когда дреговиты обнаружили машину. Кроме того, существует еще важный факт, который поддерживает это предположение: согласно непроверенным слухам, Раймонд Луллий находился некоторое время в аббатстве Сен-Жермена. Мы знаем, что Луллий изучал знания Востока. Раньше, когда римские легионы правили страной, на месте аббатства находился храм Изиды. И монах Аббон, от которого мы знаем об осаде норманнами и который жил в Сен-Жермен, писал, что имя «Paris» означает «город Изиды». Я откашлялся и возразил: — Разве название не восходит к галльскому племени паризиев, которое когда-то основало город? Тут Вийон согнулся в судорогах кашля и выплюнул на пол красную мокроту, Леонардо подхватил речь: — Имя не имеет значения. Важен факт, что на лугах Сен-Жермена когда-то почиталась Изида, чьи статуи, как доказательство, стоят в церкви монастыря, — он взглянул на Матиаса. — Я полагаю, вы можете больше рассказать о значении Изиды, герцог Египта. Матиас едва улыбнулся заметно: — Изида почиталась египтянами задолго до ее культа у римлян. Она — преодолевшая смерть богиня, повелительница мира, богиня-мать. Она воплощает всемогущие силы жизни и смерти, но также — жизнь после смерти. Когда Сет, царь подземного царства, убил и расчленил Осириса, супруга Изиды, Изида разыскала отдельные части Осириса, соединила их воедино и вдохнула новую жизнь в своего супруга. — Символ для жизни, которая ожидает нас после смерти, символ бессмертия нашей души, — добавил Вийон с глухим хрипом. Леонардо кивнул поспешно: — Изида всемогущая, воплощение machina mundi. Матиас посмотрел на него строго: — Я бы скорее сказал, machina mundi воплощает могущество богини Изиды. — И то и другое, — сказал Вийон. — философы из свиты Пифагора видели в Изиде воплощение лежащего под солнцем мира, абсолютную причину всех вещей, все порождающую древнюю силу. Machina mundi! Мне показалось, что они хватили все это лихо, но я тоже захотел принять участие в ученом диспуте и возразил: — Не значит ли это, что культ Марии связан с культом Изиды, даже вышел из него? Леонардо одарил меня широкой улыбкой: — Вы становитесь теперь настоящим еретиком; сеньор Арман. Но ваша мысль, без сомнения, верна. Оба раза почитается прародительница бога, Богоматерь. В чем очевидна связь с собором Нотр-Дам. — Чью тайну мы все еще не разгадали, — заметил кисло Томмазо. — Пока солнечный камень там скрыт, а дреговиты не могут воспользоваться его силой, — продолжил Леонардо. — И если мы разрушим machina mundi, опасность ликвидирована. — Даже если дреговиты построят новую мировую машину, — возразил Матиас. — По крайней мере, мы выиграем время. Но где мы должны искать мировую машину — и как? Вот крепость, — он положил руку на план аббатства и посмотрел с сомнением туда. Вийон немного отдохнул и сказал: — К вашему первому вопросу, герцог: я не думаю, что машину стоит искать внутри зданий аббатства. Это было бы слишком ненадежно. Если у дреговитов есть сторонники в Сен-Жермен-де-Пре, то наверняка большинство святых братьев не стоит на их стороне. Морщины на лице цыгана непроизвольно сжались: — Тогда будет еще сложнее, кажущаяся уже разгаданной загадка снова туманна. — Но почему же, герцог? — спокойно заметил Вийон. — Обдумайте же, где бы вы разместили такую машину, если хотите сохранить ее втайне. И учтите, что Изида почитается как богиня земли, как богиня подземного мира. — Да, — растягивая слова, ответил Матиас. — Вы правы, мэтр Вийон, называя меня глупцом. Почему вы один должны быть таким умным, чтобы спрятаться под землей! — К тому же, великий магистр тоже встречался со своими девятью под землей, как подтвердил наш друг Арман, — поддержал его Леонардо. — Итак, давайте исходить из того, что где-то под землей, под аббатством, вероятно, под древними сводами храма Изиды, стоит мировая машина. Теперь остается выяснить один вопрос: как мы беспрепятственно сможем ее искать? — Ответ заключен в «когда», — сказал Вийон. — Ежегодная Сен-Жерменская ярмарка поможет нам. Под защитой ее суеты мы можем беспрепятственно передвигаться на территории. — Ярмарка Сен-Жермена уже давно прошла, — вмешался я. — Она началась в феврале. — Это целая история, — сказал Вийон и снова закашлял. — Филипп Красивый запретил монахам доходный рынок, чтобы создать крытым рынкам больший размах. Это, во всяком случае, та причина, которую отметили хронисты. Но Филипп, который послал тамплиеров на костер, был сам причастен к большой тайне. Он должен был догадываться, что Сен-Жер-мен-де-Пре скрывает сокровища, и не хотел, чтобы поблизости от него болталось слишком много народа. — Да, так должно быть, — сказал Леонардо. — Только Филипп умер вскоре после процесса тамплиеров, и у него не было времени позаботиться о мировой машине. Вийон продолжал: — В прошлом году аббат Сен-Жермена сумел добиться от короля Людовика, чтобы в аббатстве снова можно было проводить ежегодные ярмарки — разумеется, в феврале, чтобы привлекать не слишком много людей из Сен-Дени и рынков Шампани. Это очень неудобное время года для иностранных торговцев, погода — плохая, дни для путешествия слишком коротки. Соответственно, скудными были доходы монахов именно в этом году. Поэтому они сумели задобрить Людовика, и теперь имеют право устраивать летом вторую ярмарку. Она начинается через пять дней. И мы будем там! Изо всех сил, которые еще скрывались в изуродованном, измученном болезнями теле, он ударил кулаком своей правой руки по столу, посередине бумаги с судьбоносным росчерком… После переговоров Матиас распрощался, чтобы вернуться в свой лагерь и подготовить своих людей к большому броску через пять дней. Джали он увел на веревке с собой, — довольно недостойное обращение с вероятной спасительницей мира, как мне показалось. Трое итальянцев ушли восвояси, чтобы, как выразился Леонардо, «выдумать пару милых фокусов, которые, возможно, смогут нам помочь в храме Изиды». Было очень кстати, что я один остался с Вийоном. Теперь я смог без помех рассказать ему о Квазимодо и его клейме. Мой отец сидел на треножном табурете, прислонившись спиной о стол с деревянной резьбой, и слушал меня внешне безучастно. Его глаза были закрыты, словно он спал. Только легкая дрожь его век и едва заметно поднимавшаяся и опускавшаяся грудная клетка выдавали, что жизнь еще теплилась в нем. Он был измотан, или он прислушивался, сосредоточившись на моем повествовании… Когда я закончил свой рассказ бегством Квазимодо из Нотр-Дама, воцарилось недолгое молчание — мне оно казалось вечностью. Я почти собрался слегка толкнуть Вийона, чтобы выяснить, не заснул ли он и в самом деле, когда он открыл глаза и сказал в своей своеобразной шепчущей манере: — Я не верю в иронию судьбы. Вы действительно не перепутали знак раковины, Арман? Я затряс головой: — Он был точно такой же, как и у меня на левой ягодице. — Это не может быть совпадение, нет! — он тяжело вздохнул, красная пена выступила у него на губах. — Возможно, ваша мать и не знала, но невидимая сила управляла ею, когда она оставила своего ребенка, вашего брата, именно у Нотр-Дама. — Сила солнечного камня? Вийон устало кивнул: — Все исходит из одного источника, и все снова сходится воедино. — Или нет, — пробормотал я. — Я едва верю, что мы снова увидим Квазимодо. — Судьба дала вам брата, чтобы снова забрать его у вас. Я же полностью лишен второго сына. — Я сейчас расплачусь, — заворчал я. — Мы должны найти Квазимодо! Вийон наморщил лоб, складки над бесчисленными шрамами нависли, и спросил: — Зачем? — Зачем? — я едва мог его понять. — Мы должны найти его, показать ему, что у него есть отец и брат, дать ему то, чего так долго он был лишен. — Дуб, который уже вырос, вы не сумеете согнуть. — Квазимодо — человек! — Который сам выбрал свою судьбу, когда он покинул Нотр-Дам. Мое непонимание переросло в праведный гнев, и я закричал: — Вам безразлично, что случилось с вашим сыном? — У нас нет времени, чтобы заботиться о Квазимодо. Чего стоит один человек, когда в опасности все человечество? — Возможно, дела человечества пошли бы гораздо лучше, если бы оно больше обращало внимания на отдельного человека, — фыркнул я, вновь увидев в воображении Квазимодо, печально сидящего на башенной галерее Нотр-Дама. И Зиту, безжизненно висевшую на виселице. — Когда страдает один единственный, не могут быть счастливы все остальные! — возразил я так решительно. Я стоял перед ним и замахнулся на него, не зная, хотел ли я его встряхнуть, вылить на него свой гнев или молить о понимании к его уродливому сыну. Он схватил обеими рукам мою правую руку и прижал ее. Его руки были холодными и костлявыми, как у смерти. — Я понимаю ваше волнение, Арман. Вы должны успокоиться, потом вы осознаете, насколько я был прав. Но я не хотел ничего осознавать. Поэтому я разыскал большое помещение, в котором переодевался, когда впервые побывал в убежище катаров. В подземной таверне я добавил к уже выпитой сивухе второй кувшин дешевого красного вина, которое затуманило мне голову. Но моя ярость на Вийона не ослабла. Слова людей вокруг меня размылись, как и контуры помещения, но картина несчастливого горбуна ярко стояла передо мной. Я не понимал решение моего — нашего — отца, считал его жестокосердным. Еще пять дней до ярмарки в Сен-Жермен, вполне достаточно времени, чтобы найти Квазимодо! Действительно ли нужен Вийону каждый человек? Или ему был безразличен горбатый сын, ничем не полезный? Да, должно быть так, внушал я себе. Не был ли я сам безразличен отцу, пока он не мог использовать меня в своих планах? Или — злоупотребить?.. Я много раз стучал кулаком по столу, словно боль в руке могла оглушить боль в душе. Глиняный бокал упал на землю и разбился. Я пил дальше из кувшина, едва замечая, что красная жидкость течет у меня по подбородку, по камзолу и ниже. Потом у меня забрали кувшин — мягко, но сильно, а звонкий голос сказал укоризненно: — Вы хотите напиться или покрасить в красный цвет свой камзол, Арман? — И то и другое, — прорычал я, пока заставил себя смотреть сквозь туман перед глазами. Я узнал красивые, очень серьезные черты лица Колетты. — Вы, как свежеиспеченная катарка, явно не расположены к пороку. — Не все чистые таковы, иначе здесь не было бы вина. Но я и прежде не пила. — Я уже напивался ребенком, когда ко мне в руки случайно попал ключ от винного погреба аббатства Сабле. — И что вам было за это? — Прочесть сто раз «Аве Мария», двести «Отче наш», три месяца службы на кухне — и раскалывающийся череп. — И вы ничему из того не научились? Я хотел снова наполнить свой бокал, но она крепко держала его. — Ваш отец поручил мне позаботиться о вас, Арман. Я отведу вас в вашу келью. Там вы сможете выспаться и подождать дикой головной боли. По ее твердому взгляду я понял, что она не отступит. Было две добрых причины не ссориться с ней: первая — то, что напился, а вторая — она была женщиной и уже благодаря одному этому обладала бесспорной правотой. Итак, я последовал за ней по мрачным переходам, которые показались мне бесконечными и запутанными. Келья была маленькой и без окон, так как находилась глубоко под землей. Рядом с простой кроватью с соломенным матрацем был только маленький стол и качающаяся табуретка. Я разыграл оскорбленного пьяницу, повернулся к Колетте спиной и начал расшнуровывать свой узелок. — Ваш отец хорошо к вам относится, Арман. Утром, когда ваше опьянение пройдет, вы поймете это. Я была бы рада, если у меня тоже был отец, — после небольшой паузы она добавила: — Все вещи, которые случаются с нами, болезненны и запутанны, но это не ведет ни к чему, если вы одурманены. С гневом я бросился к ней и зарычал: — Именно вы должны мне это сказать, Колетта! Вы, одурманившая себя, как никто другой. О, нет, не вином, не им! Вы делаете все совершенно на другой лад. Вы стали «чистой», отреклись от всех земных соблазнов, чтобы вам просто не нужно было этим заниматься. Я одурманил на пару часов мое сознание, вы же — навечно — свою душу! Ее губы задрожали, как если бы она плакала, но слезы ее иссякли. Прерывающимся голосом она сказала: — Вы должны принять мое решение, Арман. Нет смысла ругать меня. — Почему вы тогда так взволнованы? — спросил я, воодушевленный триумфом пьяного, который рассмотрел слабости своего противника. — Но, пожалуй, лишь только потому, что я сказал правду. Ах, к черту — с вашими добрыми душами! Я снова отвернулся прочь от нее, ковырялся в моем узелке с демонстративным презрением к ее персоне и почувствовал что-то твердое в руке. Это был свернувшийся дракон, с которого началась моя судьба. Я захотел, наконец, избавиться от фигурки, которая не принесла мне счастья. Рывком я развернулся и швырнул ее под ноги Колетте в угол кельи. — Вот вам ваша жалкая ананке! За ударом последовал тихий хруст. Дерево треснуло, как сырое яйцо, которое из-за неловкости выскользнуло из рук. Только оуроборос распался нe на мелкие хаотичные кусочки, а на две равные половины. Что-то зеленое выпало и прокатилось немного по неровному полу, пока не осталось лежать в маленькой ямке. Я не мог точно этого видеть. К тому же я думал, что винный перегар затуманил мне глаза. Лишь потом я осознал, что равномерное сияние исходило от предмета — зеленая аура. Я должен был испугаться, но это понравилось мне. Свет не резал глаза, я ощущал его как приятный, почти доверительный, словно внутри него находилось дружелюбно настроенное живое существо. Свет был как старый знакомый из далекого прошлого. Тогда… тогда… в Монсегюрс. — Клянусь Отцом Добрых Душ, это солнечный камень! — тяжело дыша, сказала Колетта. — Смарагд из короны Люцифера! Арман, вы носили его с собой… — Н-да, выглядит очень похоже, — сказал я с тяжелым языком и почувствовал в себе такую слабость, что скорее упал на кровать, нежели присел. — Не смешно ли это? — Вы называете это смешным? Как вы могли… — Ну, все носятся уже несколько месяцев за этим проклятым камнем, а я просто сижу на нем. Спал на нем, потому что вещь все это время лежала под моей кроватью, — мысль в моем оглушенном вином сознании позаботилась о непроизвольном облегчении, и я захихикал истерично. — Целестинец давно разгадал загадку. Вероятно, он шел к Вийону со смарагдом, когда попал в церемонию фламандского посольства и должен был поневоле идти вместе. И Годен что-то заподозрил — не то, что Аврилло нашел камень, а то, что он близок к решению загадки. Я разразился громогласным хохотом. Что мне оставалось? Плакать о пролитой столько бессмысленно крови? Ни Люцифер, ни Бог не были тронуты слезами и судьбой. — Мы должны немедленно отнести камень епископу! — сказала Колетта. Ее голос доставил мне головную боль, как всякий шорох. Проклятое сладкое вино! Я чувствовал себя бесконечно усталым и тяжелым, словно был оловянным. — Отнесите камень моему отцу. Скажите ему, теперь я больше не нужен ему. Я выполнил свою миссию. Колетта колебалась недолго, прежде чем она наклонилась и прикоснулась к смарагду. Свет погас, и она держала зеленый камень в руках. Ничто не указывало на то, что в нем жили особенные силы, могущество творения и разрушения. Я закрыл глаза и последнее, что я еще слышал, как Колетта покинула мою келью и тихонько закрыла за собой дверь. А потом глубокий сон освободил меня от груза, быть ответственным за судьбу человечества, за судьбу моего бедного брата и за судьбу прекрасной Эсмеральды. Я был свободен ото всего хотя бы на пару часов.Глава 2 Болезненное пробуждение
Вино избавило меня от дурных снов, это была его приятная сторона. Но когда-то оно должно было показать и свою неприятную сторону: я пробудился с тысячью звезд в глазах и стуком молота по черепу — такова цена краткого забытья. Я допустил, что уже утро, впрочем, в моей комнатушке без окон все было едино. Маленькая лампа на столе чадила последним остатком масла и отгоняла смерть. Масло ежевики наполнило келью бодрящим, сладким ароматом, и я почувствовал, как болезненно заурчало у меня в пустом животе. Опьяненный вином, он не был наполнен едой. Бесконечно долго я поднимался. Всякое, даже малое движение как молот ударяло с новой силой по моей голове. Неуверенными шагами я пошел к двери, когда споткнулся правой ногой обо что-то и пнул по маленькому помещению. Это была часть деревянного оуробороса. Солнечный камень! Итак, это не был мираж моего затуманенного сознания. Я действительно обнаружил, пусть даже совершенно случайно, смарагд, который так долго искали все. Вийон и его люди, должно быть, находятся в радостном возбуждении, возможно, даже в порыве триумфа. Они опередили дреговитов; теперь они смогут найти мировую машину. Я поднял обе половинки деревянной фигурки и увидел на одной окантовке восемь шипов, а на другой — восемь дырок, предназначенных, чтобы плотно закрыть оуроборос, футляр для солнечного камня. Так плотно, что для меня осталась скрытой его тайна. К моему удивлению, стражник на посту сказал мне, что уже вторая половина дня. Мерзкое вино! Я хотел передать моему отцу расколотый футляр и сообщить ему, что я покину катаров, чтобы искать своего брата. Часовой отвел меня в большое помещение, в котором многие мужчины и женщины под присмотром Вийона и троих итальянцев возились с различным инструментом и другими приборами, цель которых была для меня загадочна. — Засоня проснулся, — крикнул Леонардо и усмехнулся мне в лицо. — In vino spoor, инертность — в вине… Я скривил лицо: — Зато вы вдвойне прилежны. — По хорошей причине, — сказал мрачно Вийон. — Наконец можно найти мировую машину, прежде чем дреговиты обнаружат солнечный камень. — Вы еще беспокоитесь об этом? — удивленно я почесал свой гудящий череп. — Теперь, когда у вас есть такое преимущество перед дреговитами? Вийон и итальянцы посмотрели на меня недоуменно, и Аталанте заметил: — В вине находится причина не только для инертности, но и для беспорядка в голове. — Скорее — для головной боли, — прорычал я. — Но я могу еще ясно мыслить, чтобы вспомнить, что было вчера. — И? — спросил Вийон, который смотрел на меня с некоторой смесью из любопытства и замешательства. — Что было вчера вечером? — Вы делаете такой вид, словно вам совершенно безразлично, что принесла Колетта. — Колетта? — свистящее дыхание, перешедшее в легкий кашель, заставило моего отца задержать дыхание. Потом он продолжил: — Я больше не видел ее со вчерашнего утра. — Вы шутите, — неуверенно заметил я. — Зачем мне это нужно? — он стал нетерпелив, схватил меня за плечи, и потряс. — Проклятье, Арман, что вы хотите мне сказать? Без слов я протянул ему обе половинки оуробороса. Он взял их, взвесил в руках и рассмотрел их внимательно. — Легче, чем был раньше, он пустой, это — чехол. Но как вы это обнаружили, Арман? — Это произошло случайно. Я в ярости на вас швырнул дракона на пол моей кельи. — И что находилось там внутри? Я не осмелился сказать это при столь неприятных обстоятельствах. Но моего потупленного взгляда оказалось достаточно. На какой-то миг Вийон, казалось, потерял самообладание, дикая дрожь пробежала по его высохшему телу. Томмазо подпрыгнул к нему и поддержал, иначе он бы упал. Когда Вийон пришел в себя, он прерывающимся голосом крикнул: — Пожалуйста, Арман, скажите, что это неправда! — Это — правда. Я видел смарагд, чувствовал его сияние. Это было как тогда… в Монсегюре. Как бы самому себе Вийон прошептал: — Когда я встретил брата Аврилло утром в День Трех волхвов на улицах Отеля-Дьё, он сказал мне, что очень близок к решению загадки. Но он даже сам не догадывался, что был так близко к нему, что он нашел смарагд еще в тот день… — вдруг мой отец поднялся и закричал на меня: — Почему вы тут же не принесли мне камень? — Потому что я был усталым и слишком пьяным. Кроме того, я думал, что смарагд у Колетты — в добрых руках. Она хотела передать его вам. — Она явно отнесла его кому-то другому, — сказал Леонардо. Даже если бы он не произнес этого, было понятно, что он имел в виду дреговитов. Несмотря на всё, я спросил вопреки рассудку: — Она приняла «Отче наш», почему же она должна предать своих братьев и сестер? — Чтоб помочь человеку, к которому стоит ближе всего, — тихо сказал Вийон. — За солнечный камень дреговиты сделают все. Если только Марк Сенен еще жив, тогда смарагд — самый лучший выкуп. Я разразился целым потоком ругательств, какие использовали блаженные братья в монастыре, если думали, что их никто не слышит. — Если бы я не был так пьян, я бы возможно что-то заметил. Она говорила о своем отце. — Что она сказала? — пролаял Вийон. — Я не знаю точно. Мой череп… — я схватился за мои стучащие виски, усиленно пытаясь припомнить. Вийон дал итальянцам знак. Томмазо и Аталанте схватили меня и потащили в большой бочке с водой, в которой кузнецы закаливали свое раскаленное железо. Прежде чем я еще что-то понял из того, что со мной произошло, они окунули меня головой в бочку. Вода вокруг меня! Я хотел глотнуть воздух и глотнул сырость. Вийон, старый потаскун, хотел утопить меня в наказание? Наконец, они вытащили меня из бочки, но только, чтобы после краткого перевода духа снова окунуть. Потом, наконец, когда я уже больше не смел надеяться, вернулись свет и воздух, свежее дыхание! Я скорчился на полу, прислонившись спиной к бочке, тяжело переводя дыхание и выплевывая воду. Моя грудная клетка качала воздух, мои легкие дрожали. Волосы и одежда приклеились ко мне. Вийон, итальянцы и другие катары окружили меня, словно держали надо мной суд. — Ваша голова прояснилась? — спросил Вийон, судия. — Что касается вашей, она уже со вчерашнего вечера! — накинулся я на него. — Теперь мы говорим не обо мне, а о Колетте. Что точно она говорила о своем отце? — Это было только одно предложение, — сказал я и вытянул его из моего гудящего затылка: — «Я была бы рада, если у меня был отец». — Больше ничего? — разочарованно спросил Вийон. — Больше ничего. Ванна не помешает любому из нас. — Да нет же! — возразил Аталанте. — Ваш запах, синьор Арман, был немного penetrante. Как говорят здесь во Франции? — Навязчивым, — объяснил Леонардо. Вийон тяжело вздохнул: — По крайней мере, слова Армана подтверждают наши подозрения, что Колетта перебежала к дреговитам. — Может быть, еще не совсем поздно, — заметил Леонардо. — Для девушки не слишком просто связаться с изменниками. После того как отец Фролло бежал из Нотр-Дама, дреговиты должны находиться в волнении. С малой долей счастья мы можем перехватить Колетту. — Мы попытаемся, — сказал Вийон, но его голос был не слишком наполнен надеждой. — Все доступные люди должны искать ее. Мы должны также оповестить и египтян. — Это я возьму на себя, — сказал вяло я. — Мне нужен свежий воздух. Когда я пришел во Двор чудес, цыгане как раз отправлялись в путь. Герцог нетерпеливо слушал мой доклад, потом он, к моему удивлению, сказал: — Мы завтра поищем Колетту. Уже смеркается, и ночью мы едва ли ее найдем. Кроме того, Зита ждет нас. Вы пойдете с нами? Я сопровождал его, потому что чувствовал вину перед Зитой, которую я не мог вынести, но, возможно, немного смягчил бы, если бы отдал ей последние почести. Египтяне потянулись к Гревской площади, где их ожидал вчерашний сержант. Но только за второй мешочек золотых крон он был готов снять повешенную с виселицы. Солдаты, которые теперь вели процессию, запретили всякий шум и похоронные песни. Молча они шли по прибывающей ночи к Монфокону, холму виселиц, который даже в темноте можно было разобрать издалека по ужасной роскоши. За пределами оборонительной стены, между кварталом Тампля и Сен-Мартина, поднимался белесый меловой холм, в лунном свете походивший на гигантский череп. Мощная глыба стены из старого обкрошившегося камня нависала троном на возвышении и несла, как корону на трех сторонах из четырех, шестнадцать широких каменных колонн высотой в тридцать футов. Деревянные балки вели от колонны к колонне, и на каждой балке висели железные цепи, которые издавали в ночном ветре звенящее жуткое пение — единственную похоронную песню, которая предназначалась Зите. На многих цепях висели скелеты или полуразложившиеся трупы, они мягко качались туда-сюда, словно наслаждались покоем, которого не нашли в жизни. Свет мертвых черепов в лунном свете казался радостным приветствием старухи смерти. Когда ветер особенно яростно подхватывал казненных и тряс их выбеленные кости, то это казалось подбадривающим жестом. Мы поднялись на холм, у подножия которого стояли каменный крест и две маленькие виселицы, словно многочисленных цепей было недостаточно, чтобы принять всех мерзавцев, разбойников, убийц и обманщиков в Париже. Под нашими ногами хрустели сгнившие кости. Стена внутри оказалась пуста, это был дом с костями. Сержант вел нас внутрь, и захватывающий дух запах обволок нас Холодное дыхание, которое шло не из этого мира, пробежало по моей коже. В свете наших факелов танцевали бесчисленные скелеты и множество отдельных костей. Для Зиты мы нашли место в маленькой боковой комнате, где бережно положили ее на землю. Матиас торжественно сказал: — Иди теперь, Зита, и шагай по мосту чистой совести в большую богатую страну, где ты найдешь все, что пожелаешь. Выпей из рек кислого и сладкого молока, вкуси яств души, отчего она станет еще чище до новой жизни. Когда мы вышли на воздух, я искал слова, чтобы выразить Матиасу мою печаль, но издал только беспомощное, жалобное бормотание. Герцог посмотрел на меня с глубокой улыбкой и сказал: — Человек — живая земля, которая превращается в мертвую землю. Мы все мертвы, только не знаем, кто когда и где будет похоронен. Колетта исчезла, как отец Фролло и Пьер Гренгуар. Как Квазимодо. И как солнечный камень. В Париже поговаривали, что Клод Фролло погиб во время штурма Нотр-Дама. Демон Квазимодо, который так долго служил архидьякону, забрал его душу той нечистой ночью и отправился с ней в ад. Люди будут недовольны, если они не смогут молоть чепухи. Я остался у катаров. Если солнечный камень попал в руки к дреговитам — это была моя вина. Поэтому я хотел сделать все от меня зависящее, чтобы отвратить рок. К тому же я помогал людям Вийона очистить их тайник в Латинском квартале. После предательства Колетты нельзя было сохранять уверенность. Многое было разрушено, другое — расчищено, самые важные подходы мы засыпали. Для демонтажа логической машины не хватало времени, так что мы разрубили ее вдребезги. Возможно, это лучшее, что можно сделать с такой дьявольской вещью. Мы окунулись в старые убежища «братьев раковины». Вийон, итальянцы и я нашли приют на заднем дворе «Толстухи Марго». Когда мы за два вечера до начала ежегодной ярмарки сидели вместе в задней комнате таверны вместе с хозяйкой, она сказала: — Я не могу поверить, что малышка — предательница. У нее доброе сердце. — То, что она исчезла со смарагдом, говорит само за себя, — возразил Вийон. — У нее может быть доброе сердце, но именно оно и привело ее к фатальному решению. Чтобы спасти своего отца, она жертвует человечеством. Я не принимал участия в разговоре. Кто бы мог понять, что я почти был рад предательству Колетты? Если ее чувства были сильнее, чем верность катарам, для меня, для нас обоих, возможно, еще не все потеряно. Ее клятва непорочности была цепью с хрупкими звеньями, которые могли разорвать два бьющихся друг для друга сердца. Конечно, я знал, что хватаюсь за соломинку. Но таково сердце человека, оно цепляется даже за маленькое счастье, если над всем человечеством навис рок.Глава 3 Тайна аббатства Сен-Жермен-де-Пре
Леонардо и оба его товарища были, без сомнения, сумасшедшими, да и Франсуа Вийон вместе с ними. И, конечно же, я сам, который пускался во все их глупости. Эта мысль жгла с горячей силой полуденного солнца мою голову, пока мы шли через луга вокруг аббатства Сен-Жермен-де-Пре. С самого утра, когда начиналась ежегодная (а на самом деле — полугодовая) ярмарка, мы были в пути — странный отряд оборванцев и коробейников. Леонардо играл на своей серебряной лютне в виде лошадиной головы, а Аталанте подпевал — самозабвенно и хорошим чистым голосом. Что говорить — итальянцы! Вийон, Томмазо и я тащили перед собой на кожаных ремнях переполненные лотки и продавали дешевые ножи, ножницы, шлифовку и ложки для чистки ушей. Мой отец, впрочем, только делал вид, что продавал товар. Он все время держался в центре нашей группы, давая другим прикрывать нас, и рассматривал необычный прибор, который изобрел исконструировал Леонардо с помощью Томмазо. В ящике на животе Вийона была закреплена тонкая металлическая трубка, которая должна задрожать, как только мы подойдем близко к мировой машине. Обоснование тому я не совсем правильно понял, и это казалось мне связанным больше с колдовством, нежели с наукой, даже если Леонардо и утверждал обратное. В остальном это было моей виной, что Леонардо и Томмазо сумели сконструировать только три таких дрожащих палочки, как мы их называли. Изготовление было непростым, и с тех пор, как мы расчистили тайник в квартале Тампля, итальянцы были лишены удобных условий для работы. Если бы я лучше следил за солнечным камнем, то нам бы не пришлось покидать тайник. Проклятому Леонардо вовсе не нужно было говорить об этом мне, чтобы подзадорить мой пыл. Но где мы должны были искать? Мой взгляд скользил по бесконечным рядам лотков, складам, карточным столам и сценам, которые высились на слегка поднимающемся склоне на левом берегу Сены и между которыми толклись торговцы, оборванцы, музыканты, комедианты, артисты, нищие, как и, к тому же, совершенно безвозбранно — мальчишки, проститутки и их кавалеры: здесь продавалось буквально все, вплоть до «парного мяса» обоего пола. Исключением были только оружие и книги: первое — ради безопасности посетителей рынка и всех парижских горожан, последнее — потому что продажа ученых книг якобы оскорбляла честь соседней Сорбонны. При этом именно школяры безо всяких препятствий занимались оскорблением чести: многие — тем, что надели маски животных и демонов, другие — своим собственным сумасшедшим лицом. Часто толкотня людей и животных между палатками была столь плотной, что едва можно было пройти. И только три дрожащих палочки! Если эти штуковины, в чем я сильно сомневаюсь, вообще указывали на machina mundi или на кипящую руду, о чем сообщил Леонардо! Вторая палочка находилась в группе катаров, которые искали ближе к берегу Сены таинственный вход в прибежище дреговитов, третья — у Матиаса и его цыган. Остальные катары и египтяне наудачу обыскивали рынок, раскрыв глаза и уши. Они должны были замечать все, что покажется им подозрительным. Но что должно показаться подозрительным в таком пестром, шаловливом оживлении? Во второй половине дня, когда мы оставили позади палатку горшечников, нам повстречался танцующий медведь. Огромный Золтан под звуки играющего на флейте Рудко выделывал более или менее ловкие повороты на радость публике. Милош и Ярон собирали подаяния собравшейся толпы и относили их Матиасу, который сидел на пне и кидал монеты в деревянный ящик. Но только часть ящика была предназначена для монет — в другой находилась дрожащая палочка, однако, не дрожавшая ни на йоту. Как и у Вийона. — Это бесцельно, — вздохнул герцог. — Эти палочки задрожат именно тогда, когда их от отчаяния бросят о ближайшую стену. — Они забьются, когда почувствуют силу горящей руды, — повторил Леонардо твердым голосом. — Если они до сих пор этого не сделали, значит, мы еще не добрались до мировой машины. — Возможно, так, а возможно и нет, — пробурчал я в сомнении. — Сути истории с горящей рудой я все равно не понял. — Сейчас не время объяснять вам это, — фыркнул Леонардо. — Вы можете мне поверить, у меня было достаточно руды, чтобы испытать дрожащие палочки. — Что это за руда? — спросил я, все еще не убежденный. — Откуда она? Какое воздействие она оказывает? Вийон ответил мне: — Тамплиеры добывали его при своем дреговитском великом магистре Бертране де Бланшфоре поблизости маленькой горной деревушки в Аквитании[893], Ренн-ле-Шато. После Луллия используют эту руду, чтобы разжечь огромный мировой пожар. От руды исходит невидимая сила, опасная и разрушительная. Кто слишком долго находится с ней в контакте, умирает медленной, мучительной смертью. Поэтому Бертран де Бланш-фор вызвал шахтеров и литейщиков из Германии. Они не могли найти общего языка с местным населением и передать им дальше тайну. И когда они умирали, никто не больше не интересовался ими. Наши отряды разделились, чтобы продолжить поиски. Так проходили часы, и мы работали вблизи укрепленного аббатства. Уже близился вечер, а дрожащая палочка не дрожала. Мы устало присели за стоящие на открытом воздухе столы таверны, которая состояла из деревянного каркаса и натянутой поверх парусины. За вином и водой, хлебом и поджаренными яйцами с луковой похлебкой мы собирали новые силы, но не новое мужество. Я рассматривал шумящую толпу вокруг нас и просто не мог себе представить, что здесь отплясывают свой смертельный танец одни только потерянные души. Тоскливо я глядел на группку танцующих школяров и проституток, которые напились и теперь смеялись, довольные собой. Для них не существовала ни machina mundi, ни угроза их вечному веселью. Они не шутили о том, что ожидало их души после смерти. Не живет ли каждый в мире, который сам создает для себя? Прежде чем я предался меланхолии или пришел к слишком глубокому заключению, я подавился ложкой луковой похлебки и закашлял изо всех сил, словно заразился от Вийона. Леонардо похлопал меня по спине, пока мне не стало лучше, и я сумел полностью успокоить раздражение глотком вина. — Не так жадно глотайте, сеньор Арман, — призвал меня итальянец. — Задохнуться от вареного лука — смерть ни почетная, ни приятная. — Проклятье, закройте же, наконец, рот! — накинулся я на него. — Я захлебнулся не от жадности, а от удивления. От ужаса, если вам так угодно. Видите танцоров там, рядом с печью изготовителя паштета? На миг я увидел позади лицо человека, от которого до сих пор сумел прятаться: Жиля Годена. Мы вскочили, и Леонардо бросил пару монет на стол Поспешно мы скрылись в толпе, окруженные шаловливыми танцорами. Мы оглядывались по сторонам. Напрасно, Годена нигде не было видно. Вийон посмотрел на запад, где стояли в тени нескольких тополей пять больший амбарных сараев. — Странно, но прежде это не бросалось мне в глаза Никто не вертится вокруг них. Разве это не удивительно, что тут ни разу не прошмыгнул бродячий пес, что ни одна девка не использует защиту сарая, чтобы осчастливить своего ухажера? Словно место проклято, вокруг него — отталкивающая аура. Мы протиснулись между вытянутыми зданиями, и они показались нам действительно покинутыми. Позади возвышался поросший чертополохом, крапивой и другими сорняками склон. Я толкнул дверь одного из сараев и установил, что она закрыта. Томмазо сумел открыть ее узкой отмычкой, и мы вошли в мрачное помещение, в котором не нашли ничего, кроме длинных рядов больших рулонов сукна, поставленных друг на друга. — Рыночный склад торговцев сукном, — разочарованно сказал я. — Опять ничего! Лишь теперь мне бросилось в глаза, что мой отец не последовал за нами в сарай. Я обнаружил его на склоне. По колено он стоял в крапиве и таращился на свой живот. Он стащил капюшон и посмотрел на нас Старые глаза сверкали, когда он крикнул: — Она движется, палочка дрожит! — он снова взглянул на свой ящик на животе — и мы с ним. Узкая металлическая трубка, которая обоими концами сидела в крепких ячейках, едва заметно дрожала с нерегулярными промежутками. — Я хотел только последовать за вами в сарай, когда заметил это. Чем ближе я подходил к склону, тем сильнее это становилось. Попытаемся на другой стороне склона… Не обращая внимания на болезненные укусы шиповника, чертополоха и крапивы, мы продвигались вперед по склону. Я четко ощущал возбуждение, которое охватило нас всех — охотничий азарт. С каждым шагом металлическая проволока дрожала все сильнее, словно ее магически притягивало таинственной силой. Или — будто бы она боялась места, которое мы искали. Аталанте взял руководство в свои руки, вынул кинжал и рубил снова и снова по стеблям и кустарнику, чтобы хоть немного облегчить нам продвижение вперед. Внизу склона он неожиданно издал сдавленный крик и упал на землю. Его нога утонула в земле. Леонардо протянул ему руку и поставил его снова на ноги. — Дыра в земле, — предположил Томмазо. — Нора лисы или кролика. — Здесь не водятся ни лисы, ни кролики, — возразил Вийон. — Ни птицы, ни бабочки, ни пчелы. Хотя животным ничто не мешает, они бегут из этого места. Теперь это бросилось нам всем в глаза Ни щебетание птиц, ни жужжание пчел не наполняли теплый июльский вечер. Зловещая тишина царила бы здесь, если бы не шум рынка. Нам больше не была видна пестрая суматоха ярмарки, мы только слышали усиливающийся и утихающий шум музыки и голосов людей и крики животных — далеко и все же отчетливо, как шум прибоя скрытого пляжа. У меня было ощущение, что мы перешли невидимую границу и вступили в чужую сферу, в которой шум нашего мира был только эхом, люди — тенями. Хотя солнце сияло на безоблачном небе, меня охватил озноб. Леонардо встал на колени и изучил дыру в земле. Он взял у Аталанте его кинжал, обрезал пару папоротников и побегов шиповника и освободил вторую глубокую яму. Когда мы захотели ему помочь, то обнаружили, что многие побеги крепятся корнями не в грунте. Их уложили так, чтобы скрыть вырубленную в земле лестницу. Никому не нужно было этого говорить — каждый знал, что мы близки к цели. Вийон снял с живота и поставил на землю свою коробку: пружина дрожала так дико, что едва не выскочила из ячеек. — Ессо! — переводя тяжело дыхание, сказал Аталанте, когда перед нами зияла дыра, которая измерялась почти саженью в квадрате. Укрепленные досками ступени образовывали начало крутой лестницы, которая исчезала в мрачной пропасти земли. — Видно не много, — посетовал я. — Не забывайте, что вы носите на себе некоторые из моих открытий, синьор Арман, — Леонардо подошел ко мне, порылся в моем ящике на животе и достал среди прочих товаров бронзовый кубик, который на одной стороне был украшен дыркой. Перед дыркой висело толстое, полукруглой формы стекло. Итальянец открыл крышку бронзового кубика и зажег огнивом фитиль спрятанной там масляной лампы. Потом он снова закрыл кубик и сунул его в дыру в земле. Яркий свет упал толстым лучом на ступени лестницы и две массивные балки. — Я называю это фонарем, — сказал Леонардо не без гордости. — Стеклянная линза усиливает свет масляной лампы во много раз и фокусирует его. — Очень мило, но что это нам дает? — пробурчал я. — Мы увидим в свете то, что мы прежде предполагали — но ничего больше. Куда ведет лестница? Ведет ли она вообще куда-то дальше? — Мы спустимся немного вниз, — приказал Вийон. — Как только мы будем уверены, что нашли путь к machina mundi, мы возвращаемся за подкреплением. Леонардо повесил себе за спину на кожаных ремнях лютню в виде лошадиной головы и пошел со светящимся кубиком вперед. Я последовал за ним, за мной шли Вийон, Томмазо и Аталанте. Все больше нам приходилось наклоняться, чтобы не удариться головой о потолок из грунта и камней. Уже после нескольких шагов Леонардо остановился и направил желтый луч света на ступени под своими ногами. — Здесь повсюду свежий обсыпанный грунт. Лестницей часто пользовались в последнее время. После пары шагов лестница уткнулась в штольню, которая вела с легким наклоном глубже в грунт и была укреплена балками и столбами. Дрожащая палочка подтверждала свое имя и колебалась еще сильнее, чем прежде. — Где-то в конце этого прохода находиться machina mundi, — сказал Вийон чуть ли не со страхом. — Быстрее, мы возвращаемся! Нельзя чувствовать себя слишком сильным, чтобы противостоять злу. Когда мы развернулись, луч света Леонардо выхватил несколько фигур, которые столпились внизу у лестницы. Это были мужчины в простой одежде, но с крайне угрожающего вида арбалетами, которые они направили на нас. Их лица были жесткими, недружелюбными и не внушали и тени сомнения в том, что арбалетчики пришли сюда не для того, чтобы поддержать нас. — Мы глупцы, — Вийон выразил этими словами то, что я уже давно думал. — Как мы могли рассчитывать на то, что дреговиты не охраняют вход к мировой машине! — Как верно вы говорите, — сказал стройный, высокого роста мужчина в благородном платье, который показался из-за арбалетчиков. — Вы умный противник, магистр Вийон, и для меня это честь — взять вас в плен. Итак, отец Фролло не ошибался, когда говорил, что мы должны рано или поздно рассчитывать на ваше появление. Я узнал благородного мужчину с седыми волосами и узким лицом. Уже дважды я видел его — в День Трех волхвов в Большой зале Дворца правосудия и на собрании девяти. Это был ротмистр Жеан де Гарлэ, начальник ночной стражи города Парижа. — Бегите, спасайтесь! — крикнул Аталанте, который ближе всех стоял к врагу и прыгнул на него с обнаженным кинжалом. Леонардо потушил свет фонаря, толкнув клапан перед отверстием между лампой и линзой. Кто-то, Томмазо или Вийон, схватили меня за руку и потащили с собой. Мы могли бежать только в одном направлении: прочь от человека с арбалетом и лестницы, глубже, внутрь подземного королевства. Позади нас мы слышали свист короткой стрелы из арбалета и короткий крик боли. Он был заглушён грубым голосом ротмистра: — За ними! Поймайте их — или убейте!Глава 4 Machina mundi
Была ли тьма нашей союзницей или врагом? Она окутала нас своим черным покрывалом, мешая дреговитам обнаружить нас и защищая от смертельных выстрелов. Но она также уводила нас глубже в штольни, навстречу machina mundi — року. Мы бежали вперед, все чаще бились головами о неровный потолок, спотыкались и падали, вскакивали и спешили дальше, огибая углы, через ответвления, отчаянно стараясь не потерять друг друга и держаться на расстоянии от преследователей. Так как они были невидимыми, то мы воспринимали их только по отзвуку быстрых шагов, громкому тяжелому дыханию и отдельным коротким крикам — от этого они не становились менее опасными. Наоборот, они были как фантомы, союзники или порождение этого подземного мрака, готовые вынырнуть в любое время и отовсюду. Опасность, которую может вообразить себе человек, бесконечно ужаснее, чем та, которую он может увидеть своими глазами. Перед нами появился едва заметный огонек, как бы не совсем родившийся свет, который усиливался, выхватывая в черноте лишь призраки, потом — контуры. Мы снова разобрали в темноте существа, удостоверились, что это были люди, а не бестелесные жители царства теней. Мы все запыхались от бега и были исцарапаны, но самым худшим оказалось другое — нас было только четверо. Аталанте остался позади, попав в руки к людям Гарлэ — или выстрел из арбалета унес его молодую жизнь. Когда отзвук быстрых шагов за нами стал громче, мы снова поспешили навстречу свету. Хотя стихия вернула нам наши тела, мы не приветствовали ее, потому что нас так же окружили охотники. Свет делал нас мишенью для их выстрелов. Тут же осветилась стену из столетних глыб песчаника, здесь и там покрытых письменами, которые мы, пробегая мимо, видели только мельком, чтобы их разобрать. Впрочем, разобрали мы достаточно, чтобы признать, что надписи были римского или греческого происхождения. — Без сомнения, древний храм Изиды, — переводя дыхание, сказал Леонардо. — Пожалуй, второй храм под известным храмом, — добавил Вийон. Его дыхание опасно участилось. Если бы его не тащили попеременно, он бы давно попал в руки преследователям. — Крайне таинственное место для не менее странного собрания и ритуалов. Возможно, здесь проводились запрещенные богослужения, возможно, приносились в жертву люди. Свет стал ощутимо ярче и осветил нам захватывающую дух картину. Я остановился, словно натолкнулся на невидимую стену. То, что предстало перед нами в розовом сиянии, могло быть только адом. Даже без демонов, которые здесь вели свои бесовские дела, огромная пещера, в которую упирался туннель, предстала могущественно, как полная противоположность стремящемуся в небо собору Парижской Богоматери. Она уходила в глубину — не как церковь, созданная в честь Бога, а как храм во славу Сатаны. Каменные иглы росли из пола, потолка и боковых стен, многие отдельно, другие — объединившись в каменные узлы, петли или даже лестницы и мосты, возведенные человеческой рукой. Без перехода эти чудеса природы растворялись в работе рук человеческих, которая была сотворена сотни лет назад почитателями Изиды. От желобов до потолка из скал поднимались вверх вытянутые колонны и скульптуры из античной мифологии, некоторые были достойны удивления и хорошо сохранились, иные — всего лишь жалкие каменные глыбы, которые то тут, то там указывали на свежие следы разрушения. Очевидно, демоны, которые теперь царили в этой пещере, устранили остатки древнего культа, чтобы освободить место для своего чудовища, которое растянулось через всю пещеру. Machina mundil Я представлял ее себе большой, но все же не такой могущественной. Прежде всего, не производящей такого необозримого, сумбурного и живого впечатления. Я думал об увеличенной логической машине, которую Леонардо и его товарищи построили по чертежам Луллия. Но в сравнении с булькающим, бурлящим, глухо стучащим, шипящим и чавкающим чудовищем, которое хотела изрыгнуть пещера под Сен-Жерменом изо всех сил своих могучих легких, логическая машина была не более чем детской игрушкой. Я и не знаю, с чего начинать и чем заканчивать, если должен описать мировую машину. Я видел ее в адском свете пламени, но далеко не всю. Слишком мало было света, чтобы действительно рассмотреть дьявольскую конструкцию. И не должен ли я радоваться тому? Я бы никогда не выдал руководство по строительству мировой машины, даже если бы мог, даже под самыми жуткими пытками, — так я надеюсь. Но я был также не способен на это, всё было слишком запутанным, и мое перо сейчас дрожит. И тогда, и сейчас мне казалось, что это — конструкция из камня, дерева и всевозможных металлов. Котлы и открытые бассейны с водой были связаны между собой переплетенной системой трубок. Рослые люди в темной одежде кидали лопатами уголь в печи, которые располагались на высоте нескольких саженей[894] и были широки, из их открытых пастей вырывался жар красного пламени. Другие люди, одетые в белые плащи тамплиеров — демоны в человеческом обличий — отдавали приказы закутанным в темные одеяния чертенятам. Рычаги, для обслуживания которых требовались два-три человека, были запущены, огромные колеса приведены в движение. Многократное бряцание, словно сюда приближалась целая толпа вооруженных рыцарей, наполнило пещеру, пока колеса двигали бесконечный ряд цепей вверх над головами людей. В цепях были вплетены с равномерным интервалом маленькие, величиной не больше ладони кубики то из голубоватого, то из серебристо-белого сверкающего металла. Быстрый грохот смешался с шорохом. Он шел от дрожащей палочки Вийона, которая яростно вибрировала, ее держатели треснули, пролетели, вибрируя в воздухе, и ударились о скальную стену, где упали со звоном. — Горящая руда! — Вийон уставился на стучащие цепи, как на армию духов. — Кубики отлиты из руды. Рок рядом! — Во всех отношениях, — заворчал Леонардо. — Послушайте только шаги позади нас. Нам нужно поторапливаться. — Слишком поздно, — сказал я и указал вперед, где к нам приближался целый отряд мрачно смотрящих фигур под предводительством отца Клода Фролло. Он был одет в белый плащ с восьмиконечным крестом, в правой руке держал обнаженный меч. Вокруг его бедер висела кожаная военная амуниция с деревянными, обтянутыми кожей ножнами меча. Из служителя церкви он превратился в воина. И другие, одетые частично в плащи тамплиеров, частично — в простую одежду, были вооружены: «белые плащи» — мечами, остальные — пиками и арбалетами. Бежать обратно мы не могли. Оттуда спешил Жеан де Гарлэ со своим вооруженным воинством. Конечно, мы могли бы попытаться погрузиться в путаницу камня, дерева и металла или подняться на ближайший мост из скал. Но вид пленника де Гарлэ остановил нас: Аталанте со смертельно бледным лицом и кровоточащей правой рукой, в которой торчала стрела с оперением. Выстрел потревожил старую рану, которую он получил в битве с египтянами. Двое дреговитов тащили его с собой, и при каждом шаге его лицо передергивалось от боли. Бежать прочь означало оставить его в беде. Более того, кинжал, который один из дреговитов приставил к его груди, ясно показывал нам, что произойдет с нашим товарищем в случае бегства. — Даруйте Аталанте жизнь! — крикнул Леонардо им, после того как он обменялся взглядом с Вийоном. — Мы сдаемся. — Все иное было бы лишь напрасным усилием, — сказал мужчина, которого пол-Парижа считало жертвой Сатаны, в чем добрые горожане не так уж и ошибались. Люди Клода Фролло окружили нас, и мы отдали им наши кинжалы. Архидьякон, если его теперь можно было так назвать, остановился перед Вийоном и внимательно рассмотрел его. В его взгляде было любопытство и даже намек на почтение. — Итак, значит это действительно вы, магистр и поэт, достославный Вийон! — Не забудьте, изменник, что еще и епископ, — возразил Вийон. — Впрочем, я скорее известен дурной, нежели доблестной славой. Фролло испытующе посмотрел на него: — Я вовсе не изменник. Я, в отличие от вас, — тот, кто нашел верный путь. — Путь Сатаны называть верным путем — что за нахальство! — прорычал Вийон. Фролло выставил свой подбородок, почти коснувшись лица Вийона. — Ученики Сатаны посвящают себя тому, чтобы признать, что они поносят правоверных, как приверженцев зла. Уголок рта Вийона дрогнул, его глазя расширились. Показалось, будто он увидел Клода Фролло в новом свете. — Вы… действительно думаете так?! До сих пор я только догадывался об этом. Вы по-настоящему верите, что идете по верному пути. — А как же иначе? — Опомнитесь, Фролло! — сказал Вийон. — Змий соблазнил вас. Разве вы не понимаете, что разыгрываете роль Евы? — Болтовня! Демоны Сатаны известны своим ловким языком. Я отведу вас к великому магистру, чтобы он сорвал для вас маску видимости. — Сделайте милость, — вздохнул Вийон, явно покорный своей судьбе. — Я едва могу дождаться. Фролло обернулся к де Гарлэ: — Отлично сделано, брат. Это все, кто проник в пещеру? — Мы не видели других. — Вы удостоверились в этом, брат де Гарлэ? — Когда мы могли? Мы же должны были преследовать этих. — А кто охраняет теперь вход? — Никто. Мне нужен был для преследования каждый человек. — Вход не охраняется? — лицо Фролло помрачнело. — Пусть великий магистр не узнает об этом. Быстро проследите, чтобы все ваши люди снова отправились по своим постам! Люди Гарлэ отпустили Аталанте и последовали за спешащим ротмистром в сумрачный туннель. Томмазо подошел к своему раненому другу и поддержал его. Он и Леонардо обеспокоено осмотрели Аталанте, почти нежно, как мать, волнующаяся из-за своего сына или дрожащая из-за возлюбленного девушка. Словно потерпевшая поражение армия, мы следовали за Клодом Фролло по комплексу пещеры. Мы несли лотки, а Леонардо — свою лютню, что должно было придать нам смешные черты в глазах дреговитов. В пещере должно было оказаться холодно, гораздо прохладнее, чем снаружи на земле в свете июльского солнца. Но было совсем наоборот. Горящий в печах уголь и кипящая в котлах вода гнали пот из пор. Воздух был влажным, плотным и душным — смесь из запахов потных людей, смолянистого дерева, каленого железа и источающего дыхание столетий камня. Гнетущее дуновение обдало нас подобно морскому чудовищу, чьи выпирающие щупальца закрыли наши рты и носы, лишили нас дыхания. Было ли это предполагаемая нами адская боль? Должны ли мы раствориться в этой клейкой массе, чтобы быть проглоченными жадными пропастями машинного монстра, дверями печей и котлов? У меня было ощущение, что с каждой каплей пота и каждым вздохом, который машина отбирала у нас, она росла. Machina mundi растворяла мир в клейкий чад, чтобы подкрепиться, стать полновластной и единой с ним. Мировая машина раздулась до мира машин. Меня охватил страх стать частью машины, с железом вместо плоти, с горящими углями вместо стучащего сердца, с шипящим паром — вместо человеческого дыхания, с механической денной и нощной работой — вместо жизни, полной противоречивых чувств, полной счастья и страдания. То, что я потом увидел, окончательно перехватило мое дыхание. Я почувствовал укол в сердце и раздраженное ощущение в горле. Такое происходит, если большое удивление и столь же огромный страх встретятся вместе. На этот раз я струсил не за свою собственную жизнь: я испугался за жизнь Колетты! В трех-четырех саженях над нашими головами она парила в воздухе над большим жбаном с бурлящей водой — пленница мировой машины. Два пленника. Ее отец, Марк Сенен, сидел рядом с ней на корточках в железной клетке, которая висела на цепи над бассейном с водой. Он выглядел еще более изнуренным и больным, чем четыре месяца назад в темнице забвения. Чудо, что он вообще еще был жив — если он был жив. С закрытыми глазами он сидел в клетке, погрузившись в себя — оболочка из кожи и костей, которую покинули, похоже, дух и душа. Его мертвый череп, покрытый, к тому же, скатавшимися волосами и бородой, похожий на отражение Вийона, лежал на коленях молящейся Колетты. И она похудела и испачкалась, ее одежда состояла только из изорванных клочьев. Это зрелище разрывало мне сердце, и все же я немедленно почувствовал слабую искорку счастья. По крайней мере, Колетта была жива, и одно это оказалось для меня поводом для радости. Ее глаза смотрели на меня вниз, узнали меня, расширились. Одновременно она открыла растрескавшиеся губы, хотела что-то крикнуть мне. Но либо она не издала никакого звука, либо ее слова поглотились шипением и уханьем машины и непрекращающимся грохотом все еще тянущейся над нами цепи с кубиками. Непроизвольно я остановился под клеткой, даже если это казалось невозможным, чтобы добраться до возлюбленной. Ни лестницы, ни веревок не вело к ней. Клетка висела на цепи, которая по направляющим желобам соединялась с лебедкой. Вся конструкция была прикреплена к поворотной балке. Я должен был бы повернуть ее, чтобы удалить клетку от бассейна с водой. Едва мне пришла в голову такая мысль, как дреговиты уже подтолкнули меня дальше, прочь от любимой, которую я давно уже потерял. По непрочной лестнице римских времен дорога шла вверх — к вырубленной в скалах часовне. Ее поддерживаемый колоннами навес, переходящий в украшенный многочисленными орнаментами фронтон, обнаруживал внушающую опасения расщелину. Оттуда оглядывала свой храм каменная повелительница. Ее взгляд вызывал отвращение и ужас во мне — как, пожалуй, в любом добром христианине. Богоматерь в четыре сажени высотой сидела на каменном блоке и дала свою левую грудь маленькому младенцу Иисусу — нагому, как и она сама. Вокруг Его головы сверкал в свете огня кроваво-красным цветом золотой нимб. Но тем, что делало из знакомого образа самый проклятый идол еретиков, было лицо Святой девы. В нем не было ничего человеческого — это была корова, на голове которой сидели два могучих рога. Какое святотатство! Значит, так еретики насмехались над нашей дорогой мадонной? Я услышал, как кто-то благоговейно прошептал слева: — Изида и Гор… Это был Вийон, и лишь теперь я понял: фигура с черепом коровы была Изидой, богиней плодородия, а ребенок со светящимся нимбом над головой — ее сыном Гором, богом солнца и неба. Но насколько ошеломляюще сильно статуя была похожа на изображения младенца Христа со своей матерью! Если бы не было коровьего черепа, символ плодовитости, то скульптура могла бы стоять и в соборе Нотр-Дама, и я спросил себя, случайно ли это сходство или не указывает ли оно на глубокую связь между богиней Египта и Богоматерью христиан… Четверо столь же старых знакомых, как и Фролло в белом плаще с крестом и мечом на перевязи, ожидали нас перед статуей богини: Андри Мюнье, Дени Ле-Мерсье, Жак Шармолю и Жиль Годен. Когда нотариус узнал меня, он сделал поспешно два шага вперед, изучая меня, как хищник — свою добычу, и крикнул прерывающимся голосом: — Вот этот парень, с которым целестинец Аврилло разговаривал перед смертью! — Это теперь не имеет более значения, — холодно ответил Фролло. — Если бы вы узнали его раньше, брат Годен, то это сэкономило бы нам много усилий. Он, сам того не зная, был хранителем солнечного камня. — Я искал его по всему Парижу. — Вы пару раз совсем рядом проходили мимо него, когда посещали меня в Нотр-Даме. Он, собственно, никто иной, как мой писец Арман Сове. — Вот этот? — Годен чуть было не задохнулся. — Клянусь Отцом Добрых Душ, если бы я мог предположить такое! — Месье Сове всегда был рядом, как выяснилось, — Фролло, похоже, забавлялся; эту черту за ним я едва ли знал. — Не вы ли подглядывали за нами в храме под Нотр-Дамом? Я кивнул и спросил: — Вы знали об этом все время? — Нет, но кое о чем я догадывался. — Собрание старых знакомых, — заметил я. — Не хватает только глупого поэта Гренгуара. — Его вы напрасно будете здесь искать, — сказал слегка презрительно Фролло. — Я больше не нуждаюсь в нем, и потому отпустил его со своей службы. Что он делал — то делал за деньги. Здесь же нужны только те люди, которые готовы умереть за свою веру. — Вы не боялись предательства, если Гренгуар продажен? — спросил я. — Он знает, как мы обращается с предателями. Я полагаю, наш поэт лучше будет спать спокойно, нежели рассчитывать ночь за ночью на визит кротов. К тому же, скоро не будет иметь значения, что делал или позволял себе Гренгуар. Да и поведение каждого отдельного человека утратит значение. — Потому что потом больше не будет людей, — продолжил глухой голос прямо в тот момент, когда цепь кубиков остановилась над бассейном с водой, и ее постоянный грохот затих в легком звоне. Из тени позади статуи Изиды выступило таинственное существо, при виде которого Томмазо и Аталан-те издали громкие крики удивления. Это был повелитель подземного мира.Глава 5 Ананке!
Возможно, и я издал бы крик ужаса, если бы мне не был знаком его вид: лицо из металла, которое казалось в свете огней расплавленным железом. Глаза из смарагдов, которые, как свет, излучали зеленые лучи пламени. Как и прежде, великий магистр был одет в белый плащ тамплиеров и держал в правой руке знак своего достоинства — жезл из черного дерева, наконечник которого венчал восьмиконечный крест. Это была новая встреча, от которой я бы предпочел отказаться. Шепот коснулся моих ушей, он исходил от Леонардо: — Впечатляет Фролло и других сумасшедших! Я уже вырос для этого! Леонардо стоял рядом со мной, и только я, казалось, расслышал его тихие слова. Я знал, что у нас была в запасе еще пара сюрпризов для дреговитов, но сомневался, что Это нам поможет против их численного перевеса. — Кто вы? — крикнул я человеку в маске. — Почему вы скрываете ваше лицо под маской? — Что бы меня не узнали, ты, болван. Что ты себе возомнил? Голос великого магистра звучал скорее обрадовано, нежели рассержено. Из-за глухого, пустого звучания, которое придавала его голосу маска, я ничего не мог точно определить. Поэтому напрасно я пытался соотнести голос с ближайшим советником короля Людовика. Его слова обладали металлическим, механическим звоном, словно великий магистр был частью огромной машины. — Возможно, вы прячетесь, чтобы люди не увидели зло в вашем лице? — возразил я. — Ваши люди могли бы узнать, что они служат соблазнителю и вредителю, а не спасителю! Теперь он громко рассмеялся, хотя не радостно, а презрительно: — С такими речами ты не запутаешь нас, человек. Сатана может вкладывать тебе в рот сколько хочет лжи. Все это напрасный труд. — Ваши слова — от Сатаны! — закричал я. Великий магистр устал от меня, отвернулся и подал знак неизвестному мне человеку в белом плаще, стоявшему в тени. Обеими руками очень худой тамплиер принес сверкающую серебром миску, в которой лежал, видимо, тот самый смарагд, который якобы происходил из короны Люцифера. Солнечный камень! Он не сверкал, не выглядел как нечто особенное. И все же великий магистр склонился перед зеленым камнем и сказал: — Время страданий и сомнений прошло. Еще пара вздохов, — и человечество будет освобождено от проклятия плоти. Брат Фролло, ваши заслуги велики. Вам отдается честь отнести солнечный камень на его место в мировой машине. — Сейчас? — вырвалось у Вийона. — Вы хотите это сделать сейчас? — Почему бы нет, мировая машина уже давно готова, — спокойно ответил великий магистр. — Мы только ждали солнечного камня и годовой ярмарки, чья суматоха отвлекла бы от нас братьев Сен-Жермен-де-Пре. Вы столь же точно появились в это время, Вийон. Возможно, Отец Добрых Душ не оставил вас и ваших отступников. Тогда и ваши души тоже вернутся в рай вечного света. Он дал Фролло знак, и архидьякон, взяв себе миску со смарагдом, прошел мимо нас вниз по лестнице. Вийон пристально следил за ним и тяжело прошептал: — Сила разрушения вырвется, если произойдет трансмутация атома! — Не сила разрушения, а сила спасения, — возразил человек в маске. — Демокрит признавал, что в столкновении атомов живет дыхание одухотворенной силы, и уже Цицерон говорил об этой взаимосвязи с образованием души. — Не хотите ли вы еще назвать Эпикура? — спросил Вийон резко. — Он утверждал, что столкновение атомов создает души, миры и даже богов! — Ах, наконец, и вы осознали это и соглашаетесь со мной, — сказал великий магистр. — Ни в коей мере. Кто внимательно прочитал Эпикура, тот знает, что его представление о силе атомов отрицает Бога и божественное управление миром. Как и вы, я — человек с закрытым лицом. Вы используете силу атомной трансмутации не во имя добра. Вы не хотите спасти души, вы хотите их проклясть, разрушая этот мир. Власть, которая может создать богов, должна освободить одного единственного бога из темницы материи: Сатану! — Вы все также много болтаете, Вийон, вы вещаете все время одну и ту же ложь, — великий магистр обернулся к Фролло, который остановился внизу у лестницы и прислушивался к диспуту. — Не давайте себя обмануть, брат Фролло. Ну же, завершите великий план! Медленно, возможно, немного колеблясь, Фролло шагнул к печам и котлам. Я спросил себя, когда Леонардо сможет хоть что-то предпринять. Как бы невзначай он потрогал ремень на своей лютне, пока Шармолю не крикнул ему: — Чем это ты занимаешься там, парень? — Я хочу спеть песню, если позволите. Это кажется мне правильным способом пойти на смерть. И если это действительно спасение наших душ, то пусть оно произойдет под радостную песню. Прокурор нерешительно заморгал и повернулся к великому магистру. Тот сказал: — Дайте ему спокойно петь. Возможно, отступнику нужно придать мужество, потому что он догадывается, что спасение его души столь же неясно, как и судьба при игре в кости. Я наблюдал за Фролло, который взбирался по деревянной лестнице, и не мог понять, какую пользу нашел Леонардо для пения в этом момент. Но едва его пальцы коснулись струн, я понял его. Он извлекал из инструмента наряду со звуками маленькие выстрелы, стальные гвозди, которые выпрыгивали из морды коня. Первая игла попала в грудь Шармолю. Прокурор раскрыл глаза от удивления, когда схватился мощными руками за грудь, чтобы вытащить стрелу из раны. Но игла была столь малой, что исчезла под плащом. Зато ее действие было велико — благодаря яду, как я позже узнал. Шармолю упал на колени, и кровавая пена выступила на его выпяченной нижней губе. Гортанные звуки, которые он издал, были истинным пением под смертельную мелодию Леонардо. Второй выстрел попал в присяжного библиотекаря Университета Мюнье и повалил его рядом с Шармолю на пол, пока Леонардо крикнул: — Дымовые шары, быстро! Я был настолько сбит с толку, что реагировал крайне медленно — но не Томмазо. Он достал глиняный шар со своего лотка на животе и метнул его под ноги вооруженным дрегови-там. Глиняная скорлупа разбилась, а заодно — и стенки, разделявшие внутренние ячейки. Материалы, которые Леонардо набил в шары, смешались, и тут же дреговитов заволокло плотное серо-черное облако дыма. Кашляя, рыдая и спотыкаясь, они шли на ощупь со слезящимися глазами. Когда другие дреговиты поспешили на помощь к своим братьям по каменной лестнице, я отошел от своего оцепенения и бросил второй из двух дымовых шаров величиной с кулак, которые приготовил Леонардо. С тем же успехом: дреговиты споткнулись и упали с лестницы. Дым вонял еще злее, чем мировая машина, он кусал и наши глаза. Слезы потекли у меня по щекам. Великий магистр, Годен, Ле-Мерсье и тощий тамплиер, который, собственно, и принес солнечный камень, вынули свои мечи и наступали на нас. Еще один выстрел из удивительной лютни Леонардо — и худой тамплиер упал сраженный под ноги своих товарищей. Годен перепрыгнул через упавшего и занес меч над Леонардо. Ядовитые иглы были израсходованы. Итальянец поднял вверх свой инструмент, чтобы отразить удар Годена. Я подпрыгнул к нему, выхватил спрятанный кинжал из тайника в моем ящике на животе и вонзил его в бок Годена по самую рукоять. Это не стоило мне большого труда — достаточно было лишь вспомнить о несчастном целестинце. Дрожь пробежала по жирному лицу нотариуса, и он процедил: — Я должен был убить тебя… — Для этого тебе нужно было его найти, дурак! — прорычал Леонардо и ударил его лютней по затылку. Это окончательно сбило крепкого человека с ног. С дрожью и стоном он лежал перед нами — комок беспомощного, кровоточащего мяса. Наше нападение было неожиданным и имело краткосрочный успех, но оно потерпело поражение при численном перевесе врага, как я того и опасался. Кашляя и плюясь, первые дре-говиты вышли из постепенно рассеивающегося дыма и напали на нас. Один ударил Леонардо древком пики по голове и повалил его на землю рядом с Годеном. Мне кто-то сзади приставил арбалет в спину, готовый прострелить меня при малейшем движении. Так что мне пришлось послушаться его приказа и бросить кинжал. Томмазо и Аталанте, который по причине своего ранения едва мог защищаться, тоже должны были сдаться дреговитам. Только Вийона я нигде не смог обнаружить. — Вы храбры и изобретательны, но также — и глупы, — сказал великий магистр. — Зачем бороться, если уже проиграли? Он прервался и оглянулся. В этот неподходящий момент мне пришла в голову мысль, что он должен видеть мир через свои смарагдовые глаза только зеленым. — Куда подевался король «братьев раковины»? — спросил великий магистр, и в первый раз я заметил в его голосе оттенок неуверенности. — Кто видел Вийона? Крик из многих глоток был ответом. Теперь и я увидел моего отца, который во всей неразберихе следовал за Фролло и вскарабкался за ним на мировую машину. Архидьякон, который стоял на узком деревянном трапе на высоте около трех саженей, оглядел преследователя, поставил миску с солнечным камнем и достал свой меч. Вийон не предпринял никаких попыток для нападения, у него не было с собой никакого оружия. В десяти шагах от Фролло он остановился и сказал: — Не делайте этого, отец Клод! Я знаю, что вы лишь введены в заблуждение. Я видел ваши глаза. Вы сделаете все, чтобы достичь вашей цели, но только потому, что верите, что творите правое дело. Но вы ошибаетесь. Если вы выпустите силу солнечного камня, души не будут спасены. Тогда навеки победит Сатана! — Ложь! — залаял Фролло, и вены на его лбу вздулись. — Вы, отступники, лжете уже столетия, чтобы продолжить господство Сатаны, — он указал на солнечный камень. — Это — сила, которая победит зло! — Вы победите человечество, забирая у бедных душ возможность для очищения, — Вийон говорил печально, подавлено. Он верил в свою правоту столь же сильно, как и Фролло — в свою. Кто мог за считанные минуты повергнуть веру, которая утверждалась столетиями? Взглянув на клетку с Колеттой и ее отцом, я все же сделал попытку и закричал: — Фролло, вспомните о нашем разговоре в келье Квазимодо! Разве не вы рассказывали о машинах, которые вытеснят людей, о победе материи над духом и душой? — Я припоминаю, — проговорил Фролло, — и что же? — Теперь вы делаете себя подручным машины, ее рабом. Машина стоит против человека, и вы помогаете машине! — Это не какая-то любая машина, a machina mundi Раймонда Луллия. — Что же это меняет? Как может машина, груда мертвой материи, помочь спасению души? Для нее возможно лишь сделать людей мертвой материей подобно себе! Я увидел на лице Фролло сомнение, которое я пробудил и которое было последней надеждой человечества. Его взгляд скользнул по бесконечным изгибам и ответвлениям мировой машины, вернулся к солнечному камню, потом обратился к Вийону, ко мне и к великому магистру в маске. Фролло искал ответа, решения, объяснений. — Я ошибся в вас, брат Фролло? — раздался громкий голос великого магистра. — Я доверял вам. То, ради чего столетиями боролись мы и наши братья, лежит в ваших руках, — и вдруг вы сомневаетесь. Ваша вера в истинное дело должна стоять на крепких ногах! — Нет, Отец Познания, — крикнул Фролло, видимо, от радости, что принял решение. — Я знаю, что я должен сделать. Я спасу проклятые души! Левой рукой он взял солнечный камень из миски и повернулся, чтобы продолжить свой путь. Тут Вийон прыгнул на него и крепко ухватил его левую руку. — Нет, Фролло. Прислушайтесь к словам моего сына! Он говорит истину. — Ваш сын? — в глазах Фролло блеснуло что-то, потом он пробормотал: — Ну что же… Отпустите же меня, наконец, старый дурак! Он хотел оттолкнуть Вийона, но тот повис на его руке, как репейник, и попытался вырвать у него солнечный камень. Архидьякон поднял меч на высоту плеча и вонзил его в грудь моего отца. Я думаю, что почувствовал боль с той же силой, что и Вийон. Я никогда в жизни не забуду, как медленно мой отец сползал вниз к полу и остался лежать безжизненно. Мне показалось бесполезным печалиться о потере любимого человека, так как скоро все живые существа этого мира и мир вместе с ними погибнут — и все же я почувствовал бесконечно глубокую боль. — Итак, ты — сын Вийона, — сказал великий магистр. Я почувствовал, как глаза за смарагдами изучали меня. — Возможно, нет ничего удивительного, что Аврилло именно тебе дал солнечный камень, не так ли? Если бы ты только лучше следил за ним. Ты проиграл то, что когда-то Амьел-Аикар добился с большим усилием. Он был прав, и это причиняло боль. Не толькостыд поражения доставлял боль, но и то, что из этого получилось. Словно окаменев, я стоял там и смотрел на подмостки, на которых лежал мой мертвый отец. В конце концов, проиграл и он. Фролло дошел с солнечным камнем до конца подмостков к сверкающей серебром ячейке. Я предположил, что это и была часть machina mundi, которая жадно ждала смарагд. — Никогда больше ни один человек из рода Амьел-Аикара не доберется близко к солнечному камню, — продолжил человек в маске с явным удовлетворением. Как писал великий Иероним, человеку свойственно ошибаться. Догадывался ли он, что также и Сатана может ошибаться? Великий магистр, союзник Сатаны, едва произнес свои последние слова, как они были уже оспорены существом, которое прыгнуло на деревянные подмостки с другой стороны — на половину прикрытое ячейкой для солнечного камня. Оно возникло перед Фролло и оскалило полное ненависти могучие клыки. Последний потомок Амьел-Аикара, не считая меня, стоял перед отцом Фролло — Квазимодо. Знал лишь дьявол — и, вероятно, он один, — как звонарь пришел сюда. Воспользовался ли он моментом, пока Жеан де Гарлэ оставил вход в храм Изиды без присмотра? Преследовал ли он нас тайно? В те дни, когда мы разбирали тайник в квартале Тампля, я неоднократно испытывал чувство, будто кто-то наблюдает за мной. Фролло стоял едва в двух шагах от ячейки, но чтобы до нее добраться, ему нужно было пройти мимо горбуна. И Квазимодо не давал впечатления, что он это позволит. — Ты предал Эсмеральду! — закричал он своему приемному отцу. — Ты виновен в ее смерти! — Это неверно, Квазимодо. Я хотел ее спасти, но судебные приставы короля вырвали ее у меня, — Фролло говорил медленно и четко и сопровождал слова теми жестами руки, которые понимали только он и его воспитанник. — Почему ты не вернулся в Нотр-Дам? — Потому что иначе люди короля арестовали бы меня. — Ты лжешь, — постановил Квазимодо. — Ты всегда обманывал и использовал меня. Архидьякон молча смотрел на Квазимодо. Я знал о его магической способности подчинять другого своей воле. В келье Квазимодо я испытал это на собственной шкуре. Мог ли звонарь, который долгие годы безоговорочно подчинялся ему, противостоять этой силе? Великий магистр обратился к воинам: — Это проклятое чудовище грозит расстроить все наши планы. Все арбалетчики — немедленно к Фролло. Стреляйте в горбуна с моста. Четверо мужчин поспешили вниз по лестнице и почти добрались до низа, когда я прыгнул за ними. Я видел, как умер мой отец, и не хотел быть свидетелем еще и того, как они убьют моего брата Если бы я не набросился на одного из арбалетчиков, то переломал бы себе кости, — но это выпало на долю дреговита, который рухнул подо мной. Рядом со мной застонал другой арбалетчик, когда Леонардо прыгнул ему на крестец. — Хорошая идея, Арман! — крикнул итальянец и хрустнул перекрещенными руками на затылке дреговита. — Делайте, как я. Человек подо мной захотел как раз собраться с силами, когда я схватил его голову и сильно ударил лбом о пол из скал. Раздался ужасный хруст, но я больше не обращал на это внимание. Леонардо и я бежали за двумя другими арбалетчиками. Они добрались до лестницы перед нами и взобрались наверх. Когда я, наконец, взлетел вслед за итальянцем по крутому подъему, уже в воздухе раздались залпы. Оба попали в грудь Квазимодо. Я видел при штурме оборванцами Нотр-Дама, как звонарь был абсолютно невозмутим при виде стрелы, которую Жеан Фролло всадил ему в руку. Но два выстрела, к тому же, в грудь, были совершенно иным. Квазимодо покачнулся назад и упал на край лестницы. Леонардо и я прыгнули на арбалетчиков сзади и столкнули их с моста. Мой противник ударился о каменный пол и остался там лежать в неестественном положении. Другой упал в бассейн с кипящей водой; прежде чем он захлебнуться в бульоне, он издал пронзительный крик. Я бросил пугливый взгляд на клетку с Колеттой и Марком Сененом, которая примерно в двадцати саженях от меня висела над подобным же бассейном. Леонардо спешил по сходням, перескочил через безжизненное тело Вийона и поспешил дальше, к отцу Фролло. Я не мог его больше догнать и опустился на колени возле моего отца. Когда я повернул его голову, то увидел его потухший взор. Даже если мир был потерян, я бы охотно сказал ему еще раз, что я все прощаю ему, что мое сердце билось для него, как только сердце сына может биться для отца. Со слезами я увидел, что усилия Леонардо были напрасны. Фролло вставил смарагд в металлическую ячейку. Тут же великий магистр отдал громогласный приказ через пещеру, и несколько мужчин начали вращать длинную лебедку. Цепи со свинцовыми кубиками опустились в горячую воду. Жидкость взорвалась, словно она больше не противостояла собственному жару. Дым и пар распространились по всей пещере. Мосты закачались и затряслись, как прежде дрожащая палочка Вийона. Речь могла идти буквально о нескольких мгновениях — потом и я упал бы в горячую воду. Но Леонардо не сдавался. Он уклонился от удара меча Фролло и толкнул своей выпяченной головой тело своего противника. Фролло покачнулся, отступил назад с неуверенным шагом — и на него набросился поднявшийся на ноги Квазимодо. Мой брат схватил голову своего приемного отца и одним рывком повернул ее в сторону, пока не сломал шею. Лицо Квазимодо засияло удовлетворением. Солнечный камень излучал чудовищную силу или вбирал ее в себя, — я этого не знаю. Он пылал, но не своим первоначальным зеленым, а ослепляющим белым светом: как платье Зиты, когда она висела наутро после казни на виселице. «Это была трансмутация! — мелькнуло у меня в голове. Рок — ананке!» Леонардо схватил пылающий белый камень обеими руками и с силой вынул его из ячейки. Я ожидал, что его рука обгорит, но с ним произошло что-то другое — жуткое. За короткое время он был окружен сияющей белой аурой, словно сила солнечного камня прошла через него. Он закричал и отпустил камень, так что тот упал в бассейн с водой. С громким шипением поднялось новое облако пара и обволокло нас. — Путь здесь! — закричал я Леонардо и Квазимодо, прежде чем прыгнул с моста и сбросил лестницу, не обращая внимания на ссадины и ушибы. Я слышал грохот все новых взрывов, ощущал, как дрожит вся пещера. Спас ли уже Леонардо мир, я не знал, но было ясно одно — пещера находилась в большой опасности. Даже дреговиты бежали в панике прочь. Так же и я побежал, — но с конкретной целью. Железная клетка с обоими пленниками все еще парила над одним из дымящихся, брызгающих кипящей водой бассейнов. Наконец, я добрался до раскачивающего устройства балки и привел ее в движение — больше на удачу, нежели с умом. Возможно, мне помогла сила отчаяния, которая окрыляет человека, если он знает, что его возлюбленная в смертельной опасности. С ревом и грохотом деревянная балка с клеткой развернулась, и я вращал лебедку, поднимая клетку, пока она резко не ударилась о землю. Колетта и ее отец были сильно встряхнуты, но что это было по сравнению с той опасностью, над которой они парили — в самом прямом значении этого слова! Новое содрогание сотрясло пещеру, и камни величиной с кулак обрушились на нас дождем с крошащегося потолка, пока я отчаянно искал выход, чтобы открыть закрытую дверь клетки. У меня не было ни подходящего инструмента, ни предположений, где находится ключ. Тут из становящего плотнее тумана отделилось привидение. Квазимодо, раскачиваясь, шел ко мне. Он вырвал арбалетные болты из своего тела, как уже сделал в свое время со стрелой Жеана Фролло. Его грудь сделалась еще больше заляпанной кровью, которая без остановки била вверх из раны. Человек с меньшей силой давно бы упал без чувств. Но Квазимодо был достаточно силен, чтобы попытаться сломать дверь клетки, после того, как я показал ему однозначно, о чем идет речь. Он напряг свои могучие мускулы, набрал в себя воздух, пока его щеки не раздулись до размера тыквы. Потом он выпустил в миг всю силу и сорвал дверь клетки с петель. — Быстрее, прочь отсюда! — кричал я. Теперь не было времени для речей. Колетта выбралась наружу и тяжело перевела дыхание. — Отец очень слаб… Я вытянул его из клетки и ужаснулся тому, каким легким он был — действительно, только кожа да кости. Он не мог даже пошевелить рукой, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно выбраться из пещеры. — Я понесу его, — сказал Квазимодо и высоко поднял Сенена. Я подтолкнул Колетту. Так мы пробирались через задымленную, полуразрушенную пещеру к туннелю, который вел наружу, не зная, было ли у мира достаточно времени, чтобы мы могли пробраться по подземному проходу.Глава 6 Лик зла
Возможно, было хорошо, что мы спасались бегством в сплошной темноте. По-прежнему вокруг нас с потолка и из стен рушились камни и грунт. Вероятно, мужество покинуло бы нас, если бы мы все это могли видеть своими глазами. Но так мы лишь слышали треск, шипение и грохот, которые следовали за нами из пещеры, словно рычание дикого зверя, который гнался за своей добычей. Нас подталкивало вперед отчаянное желание избежать встречи с монстром. Когда мы действительно в какой-то момент вырвались из пасти ада на свежий воздух, то это показалось мне таким невероятным, что я с рыданием опустился на землю и начал беспрестанно хвататься за траву, камни и растения. Даже отвратительный чертополох показался мне удивительно прекрасным, потому что он был доказательством сохранения мира. Трансмутация, а с ней и рок — ананке — не состоялись! Леонардо вмешался вовремя, но какой ценой… Все больше дреговитов толпилось на открытом воздухе — сбитых с толку и взъерошенных, но едва ли жаждущих продолжать с нами борьбу. Однако безопасности ради мы спрятались в лощине, которая лежала в тени надвигающихся сумерек. Когда я увидел Леонардо и Томмазо, которые тащили на себе Аталанте, я вскочил и помахал им. Аталанте был ранен в руку и, как Томмазо, получил всевозможные шрамы и небольшие ранения. Леонардо же показался мне привидением, совершенно преобразившимся существом, словно он подвергся трансмутации, от которой он избавил целый мир. Его всегда гладкое, прекрасное лицо было изборождено морщинами, превратилось в лицо старца, и не было больше лицом мужчины, пышущим силой молодости. Прежде белокурые, кудрявые волосы свисали вниз прядями цвета соломы, они поредели столь сильно, что просвечивал лысый череп. Кожа головы, лицо и особенно руки были покрыты волдырями от пожара, одежда оказалась изорванной. Была ли это сила пылающего белым цветом солнечного камня — или Леонардо стал жертвой кипящей воды? Когда я осторожно спросил его об этом, он лишь сказал: — Это — невысокая плата за спасение человечества. Другие отдали за это свою жизнь. — Вы говорите о моем отце. — И о тех двоих, — он указал лютней с лошадиной головой, которую он по какой-то причине спас из обрушивающейся пещеры, на Колетту, Марка Сенена и Квазимодо. Колетта держала голову своего отца на коленях и нежно убаюкивала его. Глаза у него были закрыты, его сердце перестало биться. Мой брат спас мертвого. И сам Квазимодо должен был скоро перейти в мир мертвых. Как смертельно раненый зверь, он лежал в стороне на траве и глядел, как кровь вытекала из его тела, Я наклонился над ним и не выдавил из себя ничего кроме жалобного: — Брат… И впервые я увидел радостную улыбку на его искаженном лице. Я схватил его правую руку и пожал ее. Он тоже назвал меня братом и хотел что-то добавить, но сильные судороги начали трясти его тело. В прошедшие месяцы я часто, слишком часто был свидетелем смерти и точно знал, что теперь пришел черед Квазимодо. Еще раз он открыл свои почерневшие губы, увидел меня мутными глазами и прошептал: — Отнесите меня… Эсмеральда… Его тело забилось в предсмертных судорогах, а голова упала набок — на мою грудь. Я обнял мертвого. Всякая печаль, всякая ненависть, да и всякое уродство исчезли на его лице. В смерги оно производило мирное и счастливое впечатление, как никогда прежде. Он умер на руках своего брата, с именем возлюбленной на устах и с ее образом в сердце. Смерть обошлась с ним лучше, чем жизнь. С мягким нажимом я закрыл маленький глаз и произнес беззвучную молитву об измученной душе моего брата. Под нами полным ходом продолжалась разрушительная работа ада. Подземные взрывы изрыгали до нас огненные пары, каждый раз сотрясая землю. Сила солнечного камня была освобождена на слишком короткий срок, чтобы повергнуть в пропасть мир, — но на достаточно долгий, чтобы разрушить machina mundi. Вероятно, вмешательство Леонардо в ход трансмутации привело к тому, что машина Раймонда Луллия уничтожала себя сама. Томмазо поднялся на откос, чтобы оглядеться. Когда он, слегка хромая, вернулся к нам, то сказал: — Само аббатство расположено достаточно далеко от пещеры, оно осталось невредимым. Но этого нельзя сказать о рынке. Все улицы с ларьками и складами разрушены, руины поранили многих людей. Беспорядок на рынке почти такой же сильный, как и там внизу. Я думаю… Он умолчал о том, что думал, и с открытым ртом пристально посмотрел на вход в туннель, который разверзся перед нашими глазами. Прежде чем machina mundi окончательно была поглощена землей, две грязные фигуры выскочили наружу: Дени Ле-Мерсье и великий магистр в маске. Смотритель убежища для слепых упал на колени и дышал глубоко всей грудью. Великий магистр стоял прямо подле него, внешне полностью не взволнованный. — Зло сильнее своего творения, — прошептал Леонардо. — Настало время заглянуть ему в лицо! Он пошел навстречу к обоим мужчинам, вооруженный только лютней в руке. Разве он забыл, что пустил в ход уже все иглы? Томмазо поднял сук с земли, искривленную палку, и присоединился к своему другу. Аталанте был слишком слаб, чтобы вмешаться. Я удостоверился быстрым взглядом, что Колетте не угрожает опасность, и поднялся. Ничем не вооруженный кроме камня, я подошел к обоим итальянцам. Великий магистр достал свой меч и что-то крикнул своему спутнику. Ле-Мерсье снова встал на ноги и тут же вынул из ножен свой меч. Последние тамплиеры приготовились к бою. Оба были крепкими мужчинами, по ним было видно, что они привыкли обращаться с оружием. В пяти шагах перед ними Леонардо остановился и сказал: — Ваша игра окончилась, великий магистр, и вы проиграли. Смиритесь со своей судьбой и покажите свое лицо! — Почему я должен это делать? — тон великого магистра производил небрежное впечатление, как и его осанка. — Потому что скоро наши друзья появятся здесь. — Ну, мои друзья готовы к этому! Как мы теперь могли забыть о Жеане де Гарлэ, хранителе входа в пещеру! Он давно занял позицию у нас за спиной с горсткой солдат, вооруженных дюжиной пищалей. Я проклинал нашу небрежность, объясняя ее крайним утомлением, которое последовало после преодоления многочисленных опасностей. — Игра закончится лишь после последнего круга, — поучил нас великий магистр. — И последний круг выиграет тот, у кого больший резерв. — Что вы хотите еще выиграть? — спросил Леонардо. — Ваша дьявольская машина разрушена, солнечный камень потерян. — Его можно снова найти и построить новую мировую машину. Я чуть было не ощутил нечто вроде восхищения человеком в маске. Его раскованная поза и уверенность явно заслуживали этого чувства, если бы они служили лучшему делу. Но при виде разрушений и многочисленных смертей, ответственность за которые нес последний великий магистр тамплиеров, чувства глубочайшего ужаса и горького презрения взяли надо мной верх. Я заставил свой разум полностью сконцентрироваться на гибельном положении, искать выход, спасение для Колетты. Но что мы трое могли сделать против арбалетчиков.де Гарлэ — с нашим крайне недостаточным, даже смешным вооружением? Вероятно, отчаянное и для нас наверняка смертельное нападение обеспечит Колетте возможность для бегства. Но оставались ли у нее еще силы и воля на это? Я усомнился, когда увидел ее присевшей на корточки возле своего мертвого отца — погруженную в себя и лишенную всякой надежды. Леонардо непоколебимо продолжал обращаться к великому магистру: — Камень из короны Люцифера больше не обладает властью. Я видел, как он отдал свою силу машине, как он потерял свое зеленое свечение. — Из-за вашего вмешательства солнечный камень только слишком недолго был связан с машиной мира. Вполне возможно, что он потерял не всю свою силу. Возражение Леонардо выразилось в жуткой ругани. Странным образом итальянец выглядел радостным, словно он ожидал именно этого. Когда я увидел чудовище, которое ехало между арбалетами, как летящий бог мести, я понял его. — На землю! — закричал Леонардо и тут же упал навзничь. Томмазо и я сделали, как он — как раз вовремя, прежде чем два-три заряда пищалей пролетели над нами. Другие пищальщики не выстрелили. Разгневанная бестия, Золтан, опрокинул их, пока они не пустились наутек. Карлик Рудко сидел на спине Золтана и управлял животным короткими приказами. Молниеносно лапы медведя заметались в воздухе и повалили двоих дреговитов на землю, пока разъяренный Золтан громко сопел и выл. Позади отважного рыцаря появился Матиас со своими цыганами. Это была короткая битва человека против человека, которую дреговиты, теперь находящиеся в меньшинстве, проиграли. Де Гарлэ пал последним; Милош и Ярон тут же вонзили в его грудь и шею свои кинжалы. Также и оба тамплиера перед нами погибли, поверженные выстрелами арбалета, которые были предназначены нам. Ле-Мерсье получил заряд в сердце, он был мертв. Но не его великий магистр. У того было ранение в левое плечо, и он лежал в полуобмороке на спине. Маска сползла с его головы. Лицо с пропорциональными чертами могло производить располагающее впечатление, если бы не излучало сильную жесткость и жестокость. Мне оно было знакомо иначе, по другой маске, другой обманчиво завоевывающей улыбке. Теперь Оливье Ле-Дэн, цирюльник короля, показал свое истинное лицо. И это был, как сказал Леонардо, истинный лик зла — такой холодный, такой злой, такой жестокий. Глаза сверкали, как ледяные озера, словно они никогда не могли излучать тепла и участия. По праву его называли le diable, дьяволом. Если он не был сам Сатаной, значит, был одержим злом! Леонардо, Томмазо и я стояли над ним и внимательно смотрели на него, зачарованные магией поверженного зла. Какая история стояла за судьбой этого человека? Когда и почему он продал свою душу злу? Слишком долго мы стояли бездейственно. Вдруг Оливье Ле-Дэн вскочил на ноги, словно он совсем не чувствовал своей раны в плече. В правой руке он еще держал меч и размахнулся им в большом круге. Мы отступили назад и присели, чтобы сумасшедший не снес нам головы. Дьявол в человеческом образе воспользовался этим моментом, чтобы развернуться и погрузиться в вечерние сумерки откоса. Леонардо позвал Матиаса, и герцог послал за убегающим добрую дюжину людей. Преследователи вернулись обратно, лишь когда полностью наступила ночь, но они так и не обнаружили даже следа беглеца. — Он продолжит свои дьявольские козни? — спросил я. — Этого следует опасаться, — ответил Леонардо мрачно. — Он по-прежнему — любимец короля. Теперь мы ничего больше не можем сделать, как только дать знать Филиппу де Ком-мину, какую змею Людовик XI согрел у себя на груди. Бегство Оливье Ле-Дэна настроило меня не на столь несчастливый лад, как следовало бы. Я ощущал это как облегчение — больше мне не придется смотреть злу в лицо.Глава 7 Брат Квазимодо
На следующую ночь к холму висельников Монфокону снова потянулась траурная процессия — Матиас и его цыгане, Леонардо и Томмазо, Колетта и я. Раненый Ата-ланте остался за городом в новом цыганском лагере. На носилках мы несли мертвого Квазимодо, которому отдавали последнюю дань. При жизни его только один раз носили на руках люди — в тот день, когда я увидел его впервые, в день его коронации, как Папы шутов. Боль от потери брата и отца смягчало осознание, что оба отдали свою жизнь за правое дело, за спасение душ. Но Квазимодо в смерти ждало совсем особое вознаграждение — бракосочетание с его возлюбленной Эсмеральдой, с Зитой. Мы исполнили его последнюю волю и отнесли его к ней, в маленькую покойницкую, и положили прямо рядом с ней. Я сложил их руки вместе. Было ли это только игрой тени от света наших факелов, или действительно на губах Квазимодо заиграла улыбка? Словно мертвый узнал о своем счастье… На следующее утро Леонардо и Томмазо попрощались с нами, чтобы отправиться в Плесси-де-Тур и поставить Филиппа де Коммина в известность о дьявольском цирюльнике. Аталанте какое-то время должен был оставаться под присмотром цыган. — И что вы потом намереваетесь делать, мэтр Леонардо? — спросил я, когда мы пожимали друг другу руки. — Я отправлюсь в Милан с моими друзьями. Тамошний герцог предложил нам хорошие должности. — В качестве кого? Леонардо пожал плечами: — Я еще не знаю. Я предложил себя как изобретателя, архитектора, фортификатора, конструктора военных машини художника. С улыбкой я сказал: — Так как я познакомился с вашими многочисленными талантами, то уверен, что вы добьетесь своего в жизни. Леонардо и Томмазо оседлали лошадей, которые им одолжил Матиас, и галопом ускакали в забрезжившее утро. Я разыскал Колетту и нашел ее на коленях возле могилы, которую мы выкопали для ее отца, и над которой возвышался простой деревянный крест с надписей: «Добрый христианин и храбрый муж до самой смерти». Глаза Колетты покраснели, и она, видимо, снова плакала. — Все напрасно, — тихо сказала она — Я предала вас всех — и ради чего? — Ради твоего отца, чтобы его спасти. — Я принесла ему не жизнь, а смерть. — Виновата не ты. Дреговиты должны были отпустить твоего отца за солнечный камень. Ты была предана ими. — Плата предательницы, — проговорила она горестно и низко опустила глаза. Я подсел к ней поближе и сказал: — Если бы речь шла о моем отце, я бы не поступил иначе, чем ты. Она удивленно посмотрела на меня. — Это значит, что ты прощаешь меня, Арман? Хотя я виновата в смерти твоего отца и брата? — Каждый встретил свою судьбу. Мой отец уже был отмечен смертью, а для Квазимодо не было среди живущих никакой надежды на счастье. Давай забудем прошлое! — Я встал и протянул ей руку. — Ты пойдешь со мной? — Куда? — спросила с волнением она. — Я еще не знаю. Где-нибудь должно найтись место, где может прокормиться прилежный писец и его супруга. Когда Колетта положила свою руку в мою, вся усталость и напряжение последних дней, а заодно и печаль исчезли, будто их ветром сдуло. Как и брат мой, я нашел свое счастье. Сотрясение земли, которое разрушило рынок Сен-Жер-мен-де-Пре и стоило многим людям жизни и здоровья, вызвало в Париже беспокойство. Аббатство Сен-Дени, которое рассматривало Сен-Жерменскую ярмарку, как неугодного конкурента, распространило слухи, что это было наказанием Божьим за жадность дважды в год проводить торг. И эти слухи дошли до ушей короля. Отныне рынок в Сен-Жермене ограничился февралем. Это было одно из последних решений, которые принял Людовик XI. В понедельник, двадцать второго августа, Всемирный Паук заболел, и в последующую субботу он навсегда закрыл глаза. Имела ли эта кончина естественный исход в связи с возрастом и недугом, или старуха смерть получила поддержку со стороны дреговитов или истинно «чистых», — мне неведомо. За исключением Колетты, я не видел снова никого из тех, кто был вовлечен в эту историю. В битвах за власть, которые развернулись после смерти Людовика, речь шла только о королевском троне на первом плане. В действительности это была последняя битва между истинно «чистыми» и дреговитами, — насколько я могу судить издалека На этот раз Оливье Ле-Дэну пришлось окончательно сдаться. Я не знаю, как Филипп де Коммин довел дело до конца, но сперва он заключил великого магистра в темницу, а потом, спустя год после описанных здесь событий, повесил в Париже. Однако сам Коммин не вышел из дела без осложнений и на некоторое время был вынужден воспользоваться гостеприимством королевских тюрем. Вероятно, сын Людовика, который как Карл VIII взошел на трон и на тот момент был еще ребенком, узнал истину о тайной игре и интриге. Многосторонне одаренный Леонардо действительно поступил на службу к миланскому герцогу и заставил заговорить о себе на этом поприще. О Томмазо я слышал, что он никто иной, как столь часто упоминаемый маг и художник Зороастро да Перетола. Аталанте снискал славу как певец и актер и в 1490 году был приглашен в Мантую. чтобы исполнить главную роль в драматической поэме Анжело Полициано «Орфей». Что стало с парижской общиной истинно «чистых», мне также мало известно, как и о судьбе Матиаса Хунгади Спикали и его маленького храброго народа. Бродят ли египтяне все так же по стране, или они нашли длительный приют, поскольку с потуханием солнечного камня их миссия утратила значение? Я сам поступил на место городского писца в одном захолустном местечке далеко от Парижа, о названии коего я умолчу здесь, как и о том имени, под которым меня знают люди в этом месте. Никогда не знаешь, на какую месть способен Сатана, даже если он побежден. В Париж я никогда больше не возвращался. Вдруг старые стены Нотр-Дама скрывают еще много тайн, а я оказался последним, кто попытался выведать их. Большего, чем спасти души человечества, человек не может сделать. Хотя — особенно, если я слышу об ограблении и убийстве, о войне и разорении во внешнем мире, — я спрашиваю себя, действительно ли я стоял на верной стороне? Действительно ли я оказал услугу человечеству, когда помогал оставить им все на столетия или еще дольше? Или это самый большой рок, истинная ананке — быть человеком на этом свете? Моей работы было достаточно, чтобы обеспечить безбедное существование Колетте, нашему сыну Марку и нашей дочери Пакетте. В свободное время я закончил свои записки о тех событиях, жертвой которых чуть не стало все человечество. Возможно, в последующие времена это когда-нибудь будет иметь значение. Всякий раз, когда в наше местечко приходит странствующий певец и исполняет баллады Франсуа Вийона, он получает от меня особенно щедрое вознаграждение. Иногда ночью, когда Колетта мирно спит рядом со мной, у меня появляется такое чувство, что Вийон и Квазимодо стоят возле нашей кровати и улыбаются мне. Тогда я не знаю, бодрствую ли я — или же мне снится сон. Но счастье и удовлетворенность овладевают мной, и я улыбаюсь им в ответ.Виктор Гюго и тайна собора Парижской Богоматери: послесловие издателя[895]
Роман Виктора Гюго
Когда в 1831 году вышел в свет роман «Собор Парижской Богоматери» («Notre-Dame de Paris») молодого французского писателя Виктора Гюго (1802-1885), восхищенная публика не знала, какой кропотливый творческий труд лежал за плечами автора. Читатель не подозревал, что внушительное двухтомное издание неполно. Существуют два доказательства того, что этот материал для писателя был чем-то особенным. Они же — указание на тайну, которой овеян роман Гюго. Она была рассеяна с обнаружением опубликованных здесь записей Армана Сове из Сабле. Три года Гюго занимался исследованиями, изучал документы о средневековом Париже и посещал здания, которые сохранились из того времени. Без сомнения, он серьезно интересовался историей. Но роман рождался в чрезвычайно тяжелых мучениях. 15 ноября 1828 года Гюго заключил с издателем Шарлем Госселеном договор, в котором он передал ему на один год право издания запланированного романа за вознаграждение в размере четырех тысяч франков — огромную по тому времени сумму. Гюго обязуется сдать рукопись до 15 апреля 1829 года. Но потом без всяких на то причин он откладывает в сторону, сюжет, который первоначально буквально заворожил его. Он пишет вместо этого театральные пьесы и не может ничего предложить Госселену в оговоренные сроки, хотя Гюго — женатый человек и отец троих детей — очень нуждался в гонораре. Целый год издатель пытался привлечь к работе своего нерадивого автора все более настойчивыми письмами, и 5 июня 1830 года заключается, наконец, новый договор. Срок сдачи теперь назначен на 1 декабря того же года, и за каждую неделю просрочки Гюго должен платить договорную неустойку в размере тысячи франков — четверть всего гонорара! 28 июля 1830 года родилась на свет названная в честь матери Гюго дочь Адель (впоследствии ее жизнь была наполнена страданиями), и автору теперь нужно кормить дополнительный голодный рот. Несмотря на это, он до начала сентября не мог решиться приняться за работу. Гюго действительно должен был заставлять себя работать. То, что произошло в сентябре, позже так описала его жена Адель: «Он купил себе флакон чернил и невероятно огромный серый шерстяной плед, который укрывал его с ног до головы, убрал в шкаф свою выходную одежду, чтобы не поддаться искушению выйти в свет, и заперся со своим романом, как в тюрьме. Он был очень несчастлив». Закутавшись в свой гигантский плед, Гюго сидел за работой у открытого окна на холодном осеннем воздухе. Наконец, он мог писать, словно принял некое решение перед уходом в «тюрьму» своего романа, преодолев прежнее отвращение, даже если при этом чувствовал себя «очень несчастным». Но срок сдачи Гюго снова не сумел выдержать, однако, так как рукопись была готова в дальнейшем в январе 1831 года, ему простили договорную неустойку. В начале марта роман, наконец, был предъявлен Госселену, с середины месяца первое двухтомное издание продано. А до апреля роман был напечатан шестикратным дополнительным тиражом. Читатели набросились на книгу и лишь позже выяснили, что несмотря на внушительный объем, это неполный роман. Две следующие главы, дальнейшие теоретические рассуждения о науке и алхимии, архитектуре и книгопечатании, были якобы потеряны. Они появились, как говорит Гюго, лишь в 1832 году в трехтомном издании у нового издателя Рендуэля. Исследователи творчества Гюго считают, что автор намеренно придержал эти главы из-за досады на Госселена, поскольку тот отказался от издания в трех томах и полагающегося повышения гонорара. Но мог ли Гюго, который сам так долго сопротивлялся собственному проекту, просить дополнительных денег? Находка рукописи Арма на Сове позволяет увидеть все в новом свете. Приключения, которые описывает Сове, разворачиваются на том же фоне, что и роман Гюго, но эта история быстро развивается, скрываясь в тени знаменитого произведения Гюго. Поэтому, когда мне было предложено опубликовать эти записи, название «В тени Нотр-Дама» подошло как нельзя лучше. Но кто теперь более правдив — Виктор Гюго или Арман Сове? Возможно — ни тот, ни другой. Ведь Сове сам признается, что умолчит по понятным причинам о некоторых вещах. Все же его записи кажутся более достоверными, чем роман Виктора Гюго — «Собор Парижской Богоматери» подвергался критике за ошибки и анахронизмы. У Гюго прево Парижа выступает Робер д'Эстутвиль, который действительно получил этот титул. Но, поскольку он скончался в 1479 году, он вряд ли мог занимать этот пост в 1482 году — а именно тогда происходит действие романа Гюго. В 1482 году Жак д'Эстутвиль давно пошел по стопам отца, на что совершенно справедливо указывает Сове. Вообще, год 1482, который Гюго упоминает даже в подзаголовке своего романа, — просто неверен. Из рукописей Гюго следует, что он первоначально хотел разместить действие романа годом позже, и многие ссылке в тексте указывают потом на 1483 год. В разговоре двух героев романа упоминается холодная зима 1480 года — «три года назад». И фламандское посольство, которое после смерти Марии Бургундской должно было устроить помолвку дофина Франции с Маргаритой Фландрской, могло состояться лишь в январе 1483 года, а не годом раньше в Париже — хотя бы потому, что Мария Бургундская умерла лишь в марте 1482! После нее в Арраском договоре в декабре 1482 года было принято решение о помолвке, которая подтверждена под присягой в январе 1483 года в присутствии фламандских послов, Людовика XI и его сына в Париже. Но Гюго часто неточен в своих датировках. То, что коронация Людовика XI состоялась в 1461 году, как он пишет, еще верно. Но он потом добавляет — «итак, восемнадцать лет назад». Значит, действие романа перенесено в 1479 год (когда появление Роберта д'Эстутвиля было бы справедливо) — Гюго пишет: 29 марта был днем Святого Евстрахия. Но этот день празднуется по церковным календарям 20 сентября. И это — не единственные оплошности. Следует упомянуть, что Гюго написал роман, а не научный трактат и что даты и факты в произведении не столь важны, как язык, действие, окраска, эмоции. Все это верно, и назойливые перечисления несоответствий были бы как раз мелочами, если бы не одно странное обстоятельство. Гюго провел долгие и подробные исследования для книги, и первоначально он определил верный 1483 год для действия романа. Дату смерти Марии Бургундской можно легко проверить по историческим хроникам, — так же, как дату заключения договора в Аррасе. Итак, Гюго осознанно передвинул действие романа. Из этого приходится заключить, что и многие иные несоответствия ведут… к намеренному запутыванию следов. Теперь, когда мы знакомы с оригинальным манускриптом писца Армана Сове, мы можем, по крайней мере, примерно реконструировать события. Очевидно, что эта рукопись попала в руки Гюго. По ее сюжетам и на ее основе строился роман. Есть указания, что молодой Гюго находился в дружеских отношениях с потомками физика Иосифа Сове (1653-1716, он ввел понятие «акустика»). А тот, в свою очередь, мог быть потомком нашего Армана Сове. Так записи Армана, вероятно, и дошли до Гюго. Автор был слишком молод, когда писал «Собор», но уже считался известным писателем, а в 1825 году стал кавалером Почетного Легиона. Несмотря на свою юность, он был человеком, которому можно доверить тайну Армана Сове. И со всем воодушевлением юности он принялся за работу, изучая общественно-исторический фон невероятного рассказа Армана. Он нашел издателя Госселена. А потом произошло что-то, заставившее его сомневаться. Возможно, он лишь тогда узнал, что материал чрезвычайно актуален? Быть может, его исследования были потревожены поздними наследниками истинно «чистых» или дреговитов? Или же он понял, что опасность для человечества, которая находилась в силе солнечного камня, все еще существовала? Вероятно, ему потребовалось время, чтобы замести следы — и в Париже, и в рукописи Армана. Поэтому последовали многочисленные изменения в датах и ходе действия. Ведь в нем не существует прямой связи ни с солнечным камнем, ни с machina mundi — пожалуй, нет даже скрытого намека. Гюго пишет в своем романе «о монахе-привидении, который бродил по ночному Парижу» и заставляет отца Фролло сказать Эсмеральде немного необоснованно: «Рок схватил тебя и бросил в ужасные колеса машины, которые я построил в темноте». И, словно указание было еще недостаточно четким, Гюго говорит о занятиях Фролло алхимией и надписи «АЫАГКН», которую Гюго якобы или действительно видел еще на стене кельи в Нотр-Даме. Была ли это ведьмовская кухня Фролло? Если Гюго дает такие подробные указания на мрачные коллизии Фролло, почему он делает из Оливье де Дэна подручного короля Людовика, а не столь мрачную фигуру, которую Арман разоблачил как «дьявола»? К чему все эти изменения значимости в романе Гюго, намеки и полуправда? Чтобы запутать следы одних (дреговитов?), но другим (истинно чистым) дать достаточные указания? Мы можем только догадываться обо всем.Бегство Виктора Гюго
В 1851 году Виктор Гюго был вынужден покинуть Францию. На то была всем известная причина, но могла быть и тайная. Известная причина ясна — враждебность к Луи Наполеону Бонапарту, который в декабре 1851 года занял пост президента благодаря государственной интриге, а уже в следующем году провозгласил себя императором Наполеоном III. Через Брюссель в 1852 году Гюго попал на остров Джерси, а в 1855 году отправился в окончательную ссылку на соседний остров Гернси. Этот британский остров на время господства Наполеона III стал на пятнадцать лет убежищем для Гюго. И когда парижский узурпатор предложил ему в 1859 году амнистию, поэт остался на «гостеприимных и свободных скалах», как он однажды назвал Гернси. Остался только из упрямства по отношению к императору Наполеону, из верности делу республиканцев — или также и по другой, скрытой причине? Бежал ли Гюго от темной силы, более ужасной, чем новый режим? В 1856 году Гюго покупает «Отвиль-Хауз», небольшой участок земли в столице Гернси Сент-Питер-Порте. Оттуда он мог видеть не только гавань, но при хорошей погоде наблюдать и море — до самого французского берега С этой целью Гюго построил обзорную площадку на крыше. Можно только гадать, кидал ли он отсюда тоскливые взгляды на свою родину или в ужасе ждал преследователя, который каждый день мог причалить к берегу в Сент-Питер-Порте. Этот преследователь мог оказаться наследником отца Фролло и Оливье Ле-Дэна. Гюго проявил себя как увлеченный декоратор. Он велел перестроить весь дом так, что и сегодня он — аттракцион для туристов. Экскурсия по декорационным курьезам — это кульминация поездки в Сент-Питер-Порт. Нет ни одной стены и ни одного угла, ни одного стол или стула, на которых бы писатель не оставил печати своего своеобразного вкуса. Стены и потолки украшены фарфоровыми тарелками и мисками или дельфским кафелем. Но куда важнее тайники и ходы во всем доме и огромное количество зеркал (их — пятьдесят шесть), которые образуют изощренную систему, предвосхитившую нынешнее видеонаблюдение. С помощью зеркал Гюго мог подглядывать даже за задними углами дома. Сошел Гюго с ума в ссылке? Ожидал ли он врага, который никогда не пришел? Или противник побывал уже там и незаметно вселил ужас в «Отвиль-Хауз»? Существуют рассказы о привидениях и спиритических сеансах, которые Гюго устраивал с посетителями и родственниками. Больше всего бросается в глаза и кажется ужасной судьба его дочери Адели, которая впала в глубокую депрессию уже на Гернси. У нее даже проявились признаки безумия, а позже она полностью поддалась болезни. В 1863 году Адель навсегда покинула остров. Возможно, бегство стало не только итогом ее безнадежной любви к британскому лейтенанту Алберту Пинсону, за которым она последовала в Канаду, где он женился на другой. На первый взгляд, связывать все эти события с романом Гюго «Собор Парижской Богоматери» — несколько самонадеянно. Но одного нельзя забывать (наряду со всеми скрытыми указаниями) — если кто-то хочет войти в «Отвиль-Хауз», ему придется пройти через портал, украшенный терракотовыми фигурами из романа. Выглядит это так, словно Гюго хотел сделать это произведение девизом своего дома, своего бегства Его сын Шарль однажды назвал украшение «Фронтисписом Отвиль-Хауза». Гюго покинул Гернси лишь в 1870 году, после падения Наполеона и установления Третьей Республики. Он неоднократно возвращался в «Отвиль-Хауз». Его наследники отписали имение в 1927 году городу Парижу, а мэрия превратила дом в мемориальный музей Гюго. Несколько лет спустя там нашли спрятанные в одном из многочисленных тайников записки Армана Сове из Сабле.Записки Армана Сове
Как у Виктора Гюго, так и у Армана Сове есть несколько пунктов, которые не совпадают с нашими преданиями. Но кто тут ошибается — заставший Возрождение хронист из позднего Средневековья или же наши иногда прямо-таки сомнительные источники? Я бы хотел указать в связи с этим только на четырех людей, которые встречаются в докладе Сове. Первый — Пьер Гренгуар. Он играет столь же важную роль, как и в романе Гюго. Но актер и автор пьес Пьер Гренгуар, которого мы называем источником, родился лишь в 1475 году, он мог быть в 1482/83 году всего лишь мальчишкой. Второй — Леонардо да Винчи. На самый поверхностный взгляд он уже должен был поступить в 1482 году на службу к Миланскому герцогу. Это противоречит представленной в записках информации? Но тот, кто точнее проведет исследование, наткнется на мрачные завесы над этими указаниями дат, а биограф Леонардо, Кеннет Кларк взял в четкие временные рамки (1482 — переезд в Милан) самым честным образом. Тот, кто знает храброго стрелка Квентина Дорварда только по романам сэра Вальтера Скотта, по праву удивится, увидев его у Сове в качестве исторического персонажа. Но случайно ли Виктор Гюго неоднократно ссылается на Скотта? Возможно, в творениях великого шотландца находятся указания на разрешение всех тайн, которые только здесь могут быть затронуты? Это вопросы, ответы на которые предоставляются историкам и специалистам по Британии. Можно кое на что указать: когда во Франции в 1823 году (в год его первой публикации) появился роман Скотта «Квентин Дорвард», мадам Госселен, супруга будущего издателя «Собора Парижской Богоматери», занималась переводом. И, наконец, Франсуа Вийон, чья жизнь после высылки из Парижа в 1463 году — сплошной фантом. Дата его смерти неизвестна, разными исследователями она предполагается даже на 1460-е гг. Но Вебер и Балдармус четко называют 1484 год как год смерти Вийона в своей «Истории Средневековья» — как и Гуицинг в «Осени Средневековья». К сожалению, они не раскрывают нам источники, но они недалеки от данных, приводимых Сове. Тот, кто вместо поисков ответов на многие загадки на пожелтевшей бумаге сам хочет отправиться в путешествие с открытиями, может, разумеется, посетить сам собор Парижской Богоматери — если только после нескончаемых потоков туристов там хоть что-нибудь осталось. И все же, все же… «Звонарь из Нотр-Дама» лишь в немецкой версии является главным героем. И неслучайно у Виктора Гюго роман назван именно «Собор Парижской Богоматери»…ПРИЛОЖЕНИЕ
Хронология событий
1022 — Клирики из Орлеана предались ереси катаров, нашедшей во Франции большое признание. Около 1119 — Основание ордена тамплиеров Хуго де Пеном. 1128 — принятие устава ордена, составленного Бернаром Клервоским для тамплиеров, Папой Гонорием II на консилиуме в Труа. Около 1140 — Тамплиеры располагаются в Париже. 1156-1169 — Бертран де Бланшфор, происхождение и дата вступления которого в орден тамплиеров не известны, был вплоть до своей смерти в 1169 году великим магистром тамплиеров. Бертран де Бланшфор велит немецким рабочим добывать и плавить руду близ Ренн-ле-Шато, не афишируя причины этой тайной деятельности. 1163 — Начало строительства собораПарижской Богоматери. 1167 — На церковном соборе катарских церквей в Сен-Фе-ликс-де-Караман «папа» Никита провел идею радикального дуализма, по которой Бог и Сатана — равнозначные противники. 1184 — Учреждение инквизиции указом Папы Луки III. 1209 — Начало альбигойских войн — крестовых походов против катаров. Около 1235-1315 — Жизнь и творчество алхимика Раймона Люля (Раймонда Луллия). Он изобретет логическую машину из концентрических окружностей, которые подтолкнут к созданию комбинации понятия двустороннего. Считается, что его изобретение вдохновило Лейбница для создания его счетной машины. 1244 — Падение крепости катаров Монсегюр и конец крестовых походов против катаров. Около 1300 — Раймонд Луллий строит в Риме и Париже миссионерские школы для мусульман. 1302 — Двенадцать (в соответствии с тогдашним числом городских кварталов) подотчетных прево полицейских служащих получили титул «следственных комиссаров». Гран-Шатле как место заседания прево. Приблизительно в конце столетия будет назван первый лейтенант сыска. 1307 — Начало проведенных королем Филиппом IV арестов французских тамплиеров. 1312 — Папа Климент V упразднил орден тамплиеров по настоянию короля Филиппа. 1312 — Жак де Молэ, последний официальный великий магистр ордена Тамплиеров, сожжен на Еврейском острове Сены вместе с Годфруа де Шарне, командором Нормандии. По спорным толкованиям Молэ назначил своим преемником некого Жан-Марка Ларомениуса, который собрал вокруг себя остатки тамплиеров и тайно руководил орденом. Король Филипп IV погибает от смертельного падения на охоте. Пана Климент V умирает. Раймонд Луллий тяжело пострадал от побивания камнями в Северной Африке и умер на следующий год. Около 1330-1418 — Жизнь и творчество алхимика Николая Фламеля, который работал вначале копиистом в Париже. В 1382 году ему и Клоду Пернеллю удалось алхимическое производство золота. Во всяком случае, он располагал в последующее время существенным богатством, учредил четырнадцать госпиталей и три часовни и отремонтировал семь церквей. 1339-1453 — Столетняя война между Англией и Францией (велась с перерывами). 1420 — Париж попадает в руки англичан. 1423 — Рождение будущего короля Людовика XI. 1427 — Группа цыган, которые, по собственным сведениям, пришли из Египта, прибывает в Париж. Они изолированы в Сен-Дени, но вскоре расселяются по всему городу. 1427 — Жанна д'Арк освобождает Орлеан и напрасно пытается отвоевать Париж. 1430 — Жанна д'Арк схвачена бургундскими отрядами и передана англичанам. 1431 — Жанна д'Арк сожжена как еретичка в Руане. Рождение Франсуа Вийона как Франсуа де Монкорбье или де Ложе. 1436 — Париж снова в руках Франции. 1440 — Жиль де Рэц маршал Франции и соратник по оружию Жанны д'Арк, казнен в Нанте — среди прочего, из-за убийств, ереси, клятвоприношения дьяволу и преступлений против природы. Около 1445/50 — Иоганн Гутенберг изобретает печатный станок с подвижными металлическими литерами. Около 1447 — Рождение Филиппа де Коммина. 1452 — Рождение Леонардо да Винчи — незаконнорожденного сына нотариуса Пьеро да Винчи и крестьянской девицы Катерины. 1456 — Жанна д'Арк канонизируется как «дочь церкви» 1461 — Людовик XI после коронации издает генеральную амнистию, на основании которой и Франсуа Вийон более не считается еретиком. 1463 — Франсуа Вийон высылается на десять лет из Парижа, и с тех пор о нем ничего не слышно. 1464 — Коммин поступает на службу к бургундскому герцогу (Карлу Смелому). 1465 — Год кометы. Карл граф Шароле, позже Карл Смелый, заключает «Лигу общественного блага» с другими князьями, настроенными враждебно против короля Людовика XI. Лига ведет войну с Людовиком, это приводит к битве под Менлери. 1465 — На Париж обрушивается чума. 1465 — Людовик XI издает генеральную амнистию, чтобы привлечь людей в опустевший после чумы Париж. 1465 — Умирает Иоганн Гуттенберг. 1465 — Первые парижские печатные листы издаются в Сорбонне. 1472 — Коммин покидает Карла Смелого и бургундский двор, чтобы поступить на службу к королю Людовику XI. 1477 — Карл Смелый погибает под Нанси в битве против лотарингов. Людовик XI присоединяет герцогство Бургундское к французской короне. Мария Бургундская, дочь Карла Смелого, выходит замуж за Максимилиана Австрийского, сына императора Фридриха III. 1482 — Аббатство Сен-Жермен-де-Пре получает снова от короля Людовика XI право торговли. В марте умирает неожиданно Мария Бургундская. В сентябре Людовик XI возвращается снова в Плесси-де-Тур и фактически добровольно заточает себя там. В декабре подписывается договор Аррасе, в котором прописано бракосочетание французского дофина Карла с Маргаритой Фландрской (оно не состоялось). Около 1482/83 — Леонардо да Винчи поступает на службу кмиланскому герцогу со своими учениками Аталанте Миглиоротти и Томмазо Мазини, известному также как Зороастро да Перетола 1483— В январе фламандские посланники посещают Париж, чтобы присутствовать на принесении присяги королю и дофину в Аррасе. В августе заболевает король Людовик XI и впоследствии умирает. На трон восходит его малолетний сын Карл VIII под регентством Анны де Бове. 1484 — Оливье Ле-Дэн, советник и доверительное лицо короля Людовика XI, казнен в Париже. 1488 — Коммин в тюрьме. 1511 — Коммин умирает. 1515 — Томмазо Мазини умирает в Риме. 1519 — Леонардо да Винчи умирает в замкеКлу ипохоронен в Амьене. 1522 — Аталанте Миглиоротти умираетв 1522 годув Риме, где он занимал место смотрителя строительных работ в Ватикане.Йорг Кастнер Смертельная лазурь
Роман, созданный на основе записей живописца и тюремного надзирателя Корнелиса Бартоломеуша Зюйтхофа. Записано в Амстердаме, а также на борту парусника «Тулпенбург» и в Батавии с 1670 по 1673 год.
Пролог Вероломство
Вильгельм не находил себе места. Он чувствовал стеснение в груди, его лихорадило. И, покидая вместе с гостями зал столовой, чтобы показать им парочку новых гобеленов, он вдруг ощутил ледяное дыхание смерти. Нет, не тщеславие руководило принцем Оранским, а искренняя гордость и пьянящая радость, рождаемые произведениями искусства. Во времена нескончаемых войн, интриг и злобы душа как никогда жаждет отдыха, даруемого лишь искусством. Сыновья Вильгельма, Мориц и Юстин, шли во главе небольшой процессии приглашенных, полукругом следовавших за наместником в Нидерландах. Далее, чуть поодаль, шествовала стража. Солдаты знали, что принц не любит, если они без толку мозолят глаза. Вильгельм был и оставался человеком для народа, не обходившим вниманием ни одного просителя, и охранники с алебардами плохо вязались с этим образом. Принц уже собрался было показать гостям очередной гобелен, как вдруг в группе стражников послышался ропот. Капитан, командир небольшого отряда солдат, что-то возбужденно доказывал человеку, пытавшемуся пробиться сквозь охрану. — Этот господин желает с вами говорить, ваше высочество, — пояснил капитан, указав на незнакомца. — И слышать не хочет, что вам сейчас не до него. Приблизившись к охранникам, Вильгельм присмотрелся к виновнику переполоха. Им оказался совсем еще молодой мужчина, почти юноша лет двадцати. Поверх щегольского французского покроя сюртука накинут грубый плащ. Вообще пришелец производил самое благоприятное впечатление. Смуглый цвет лица выдавал в нем иностранца, уроженца юга Франции или Италии. Однако внешнее спокойствие нежданного гостя вводило в заблуждение. Вильгельм не мог не заметить лихорадочный блеск его сузившихся глаз и беспокойный трепет век. Было видно, что человек этот охвачен сильным волнением. Принц Оранский самым дружелюбным тоном осведомился у незнакомца, в чем дело. Вдруг, умолкнув на полуслове, Вильгельм словно окаменел. Взгляд его застыл на руке странного гостя, которую тот вытащил из-под плаща. В руке был зажат увесистый предмет, блеснувший в падавшем из окна свете. Когда Вильгельм наконец сообразил, что молодой человек нацелил на него пистолет, последовала ослепительная вспышка, и тут же прогремел выстрел. Принц Оранский почувствовал, как по щеке его словно полоснули ножом и у самых глаз взметнулось пламя, — от выстрела загорелись складки жабо. Опомнившись, он принялся лихорадочно сбивать огонь. Взгляд принца невольно упал на незнакомца. Тот стоял, чуть подавшись вперед и разглядывая руку, только что сжимавшую пистолет. Пистолета не было, а вместо пальцев болтались окровавленные ошметки. Пороховой заряд разорвал ствол, изуродовав руку незадачливого убийцы. Подбежавшие слуги принялись тушить загоревшееся платье Вильгельма, а разъяренная стража набросилась на нападавшего — солдаты остервенело кромсали его тело алебардами и саблями. Вскоре покушавшийся, неуклюже и смешно дернувшись, осел на пол. Горящую одежду Вильгельма потушили, но боль в шее и во рту была непереносима. Принц Оранский без сил опустился на пол рядом с тем, кто только что пытался лишить его жизни, словно из солидарности с ним.Вильгельм удивленно раскрыл глаза. За окном светало, ночь уходила. Покалывало правую щеку, и это ощущение вновь напомнило ему о неудавшемся покушении. Более двух лет минуло с того дня, когда он уцелел благодаря воистину чудесному стечению обстоятельств. Покушавшийся, как впоследствии выяснилось, испанец по имени Хуан Аурега, испустил дух под ударами алебард разъяренных стражников. В опочивальню раненого наместника в Голландии толпами сбегались лекари и врачеватели, предлагая помощь и в глубине души не веря, что Вильгельм, которому безумный испанец прострелил щеку и небо, встанет на ноги. Даже теперь, по прошествии времени, Вильгельма охватывала дрожь при воспоминании о долгих неделях, проведенных в постели, неделях безмолвия — врачи строго-настрого запретили ему говорить, — когда он, решая не терпевшие отлагательства государственные дела, вынужден был прибегать к жестикуляции или дрожащей рукой выводить на бумаге повеления. Наместник так и не оправился от ранения, однако, не поддаваясь меланхолии, продолжал неутомимую борьбу за освобождение Нидерландов от испанского владычества. Не испытывая страха перед очередным покушением, принц Оранский откликался на каждую просьбу о встрече, от кого бы она ни исходила. Что же до короля Испании Филиппа II, то он по-прежнему не расставался с мыслью о возмездии, страстно желая поскорее устранить стоявшего у него на пути непокорного наместника. Тому, кто осуществил бы коварный замысел, король Испании Филипп II пообещал награду в 25 тысяч золотых — наличными или же в виде поместья. Любому простолюдину, готовому расправиться с Вильгельмом, было обещано дворянское звание. Король Испании Филипп свято верил, что убийство принца Оранского не есть злодеяние, ибо тот в его глазах уже давно был вне закона. Поднявшись с постели и подойдя к окну, Вильгельм невольно улыбнулся. Объявленная за его голову награда в очередной раз убедила принца, что жизнь прожита не зря. Но куда важнее, что могущественный Филипп II страшится его. Будучи наместником Нидерландов, Вильгельм Оранский одновременно был и главнокомандующим семи северных провинций, объединившихся в 1579 году в Утрехтскую унию, а два года спустя торжественно объявивших о выходе из-под власти Испании. Да, испанцам пришлось записать на счет Вильгельма не одно свое поражение. Вильгельм раздвинул тяжелые гардины, полюбоваться на свет нового дня, и неожиданно замер. Снова это стылое дыхание, будто порыв ледяного ветра, напомнившее ему события того трагического дня два года назад в Антверпене. Тряхнув головой, принц Вильгельм отбросил тревожные мысли и решительно распахнул окно. Ведь он не в Антверпене, а в Дельфте, и хлынувший в спальню поток теплого воздуха предвещает еще один погожий летний день. И нечего забивать голову мрачными мыслями, сказал он себе. После легкого завтрака Вильгельм направился к стоявшему неподалеку бюро просмотреть накопившиеся за несколько дней письма. Ему нравилось работать в благоговейной тишине некогда славившегося своим величием монастыря Святой Агаты, в стенах которого ныне расположилась резиденция принца и наместника в Нидерландах. Ближе к полудню, когда теплое утро сменилось жарой летнего дня, у него состоялась беседа с Ромбоутом Ойленбургом, бургомистром Лёйвардена, во время которой они обсудили политические и религиозные вопросы Фрисландии. Оживленная беседа была прервана фанфарами, возвестившими о том, что подошло время обеда. Когда Вильгельм Оранский вместе с Ойленбургом направлялись в столовую, к ним присоединилась жена Вильгельма Луиза вместе с дочерью наместника Анной и его сестрой Катариной, графиней фон Шварцбург. Наместника, как обычно, дожидались просители. Вильгельм, спохватившись, тут же заверил, что непременно примет их, но уже после трапезы. Раскланявшись, Вильгельм знаком подозвал к себе молодого француза, которому покровительствовал и даже помогал деньгами. Франсуа Гийом, время от времени снабжавший принца Оранского ценными сведениями, решил перейти в кальвинизм. Судя по рассказам француза, его оставшийся в Доло отец, также искренний приверженец кальвинизма, был подвергнут пыткам и скончался. — Ну, что нового, Гийом? — поинтересовался Вильгельм. — Есть ли из Франции вести, о которых мне надлежит знать без промедления? Гийом, тщедушный человечек лет двадцати пяти, стащил с головы темно-синюю фетровую шляпу, учтиво поклонился и отрицательно покачал головой: — Нет, ваше высочество, таких новостей нет. Надеюсь, появятся после следующей моей поездки. Но для нее мне необходим паспорт. Голос француза звучал необычно глухо, в нем чувствовалась неуверенность, будто молодого человека ужасно смущала просьба к наместнику выправить ему паспорт. — Потом, потом, после обеда, — довольно сухо ответил Вильгельм, небрежным жестом дав французу понять, чтобы тот дожидался его вместе с другими просителями. Гийом с легкой гримасой разочарования ретировался. Когда Вильгельм вместе с остальными входил в зал столовой, Луиза шепнула ему: — Не нравится мне человек, с которым вы только что разговаривали. И ведет себя как-то непонятно. Вильгельм с улыбкой ответил супруге: — Нет-нет, он добрый малый. Мы уже не раз с ним встречались. Замышляй он дурное, поверь, он уже давно бы действовал. Возможностей для этого у него было сколько угодно. А если сейчас и оробел, так все оттого, что оказался сразу перед столькими высокими особами. После обеда Вильгельм, общаясь с просителями, вновь приметил Гийома. Француз на сей раз терпеливо дожидался своей очереди. Вильгельм, переговорив по одному, касавшемуся армии вопросу с офицером-валлийцем, повернулся к купцу из Италии, который дал понять, что располагает важными сведениями насчет торговли через акваторию Средиземного моря. Обсуждение этого предмета явно не предназначалось для чужих ушей, поэтому Вильгельм, отведя итальянца в сторону, пригласил его к себе в кабинет. Наконец итальянец откланялся, встречи с наместником у дверей его кабинета дожидался английский офицер, седовласый капитан Уильямс. Он преклонил колено, и тут словно ниоткуда вынырнул Франсуа Гийом. В голове Вильгельма молнией пронеслась жуткая мысль: «А ведь все так же, как и тогда в Антверпене!» В правой руке француза был массивный двуствольный пистолет. Гийом неторопливо навел его на наместника в Нидерландах. Вспышка, облако порохового дыма, оглушительный грохот и страшный удар в подбрюшье. Резкая боль мгновенно пронзила тело. Не зря сегодня утром его вновь посетило знакомое предчувствие беды. Только вот теперь смерть крепко сжала Вильгельма ледяными когтями и отпускать не собиралась.
Принц Оранский скончался от полученного ранения еще до прибытия лейб-медика. Покушавшегося тотчас же схватили. Настоящее имя убийцы было Бальтазар Жерар. Он происходил из вольного графства Бургундского и на самом деле был не кальвинистом, а убежденным католиком и верным вассалом короля Испании. Прибыв в Дельфт, Жерар выдал себя за гугенота, вынужденного покинуть родину из-за преследований католиков, и в этой ипостаси сумел войти в доверие к Вильгельму Оранскому. Он бы еще раньше осуществил свой вероломный план, будь у него подходящее оружие. Пистолетом с двумя стволами Жерар смог обзавестись лишь незадолго до покушения. Причем по злой воле судьбы покушавшегося снабдил оружием не кто иной, как начальник личной охраны Вильгельма, которого француз уверил в том, что пистолет ему необходим для самообороны, — дескать, едва стемнеет, как в Дельфте шагу нельзя ступить, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым. Воспользоваться благами, обещанными королем Испании, Бальтазару Жерару не удалось, зато его родителя Филипп II произвел в дворяне, отписав ему в придачу и имение в Бургундии. После жестоких пыток убийцу приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение уже четыре дня спустя после покушения, 14 июля 1584 года, перед ратушей Дельфта. Поглазеть на казнь сбежался почти весь город. Люди скорбели о потере наместника, и скорбь эту не могло умерить даже осознание того, что коварного убийцу постигнет справедливая кара. К великому разочарованию толпы, Жерар проявил незаурядное мужество и стойкость. Ни единого стона не вырвалось из груди убийцы, когда ему на возведенном перед ратушей деревянном помосте отсекли топором правую руку. Лишь когда раскаленные щипцы вонзились в плоть и стали безжалостно кромсать ее, казнимый исторг глухой стон. После этого палачи приступили к четвертованию заживо. И тут Жерар, изогнувшись от нестерпимой боли, вперив в толпу пылающий ненавистью взор, прокричал: — Проклятие всем вам, безбожникам-кальвинистам! Вам, и детям вашим, и внукам. И сотню лет еще будете прокляты и вы, и ваши Богом проклятые Нидерланды, и все здесь живущие! Слова проклятия умолкли, превратившись в невнятный булькающий звук — Жерару вспороли живот и вырвали из груди сердце. И этим же «коварным сердцем», как следовало из текста приговора, Жерара трижды ударили по лицу. В завершение казни французу отрубили голову, а части четвертованного тела водрузили по четырем углам окружавших город стен. Народ с удовлетворением встретил приведение приговора в исполнение, но слова проклятия казненного злодея Бальтазара Жерара омрачили дух народа, и потом в Дельфте, да и повсюду в Нидерландах еще очень долго вспоминали о нем.
Глава 1 Смерть в каторжной тюрьме Распхёйс
Амстердам 7 августа 1669 года — Эй, Корнелис, давай, втыкай свой ножичек мне в брюхо! Оссель Юкен, хрипло рассмеявшись, мотнул головой, отчего его мясистые щеки задрожали. Ободряюще моргнув из-под кустистых бровей, он будто бы поддразнивал меня. Оссель стоял в паре шагов, чуть подавшись вперед мощным торсом и простирая здоровенные лапищи, словно собрался заключить меня в медвежьи объятия. Ведь придушит и дорого не возьмет, подумалось мне, хоть я и сам не из слабосильных. Оссель был на голову выше, а ручищами мог запросто обхватить и пару таких, как я. Однако меня не на шутку раззадорил его призыв воспользоваться испанским клинком — длиннющим ножом с кривым лезвием. Я-то не сомневался в своем умении владеть оружием, выигранным мною в кости у какого-то матроса-англичанина. — Чего тянешь, Корнелис? — ревел Оссель. — Ладно, сам напросился, — буркнул я, сделав молниеносный выпад. Лезвие тут же оказалось в дюйме от его мощной груди. Но и Оссель не мешкал. В мгновение ока он с поразительным для эдакого битюга проворством увернулся. Вместо того чтобы отпрянуть от нацеленного прямо в грудь ножа, он, лихо наклонившись вправо, шагнул ко мне, и в следующую секунду я оказался в его лапах. Правая крепко обхватила затылок, а левая мертвой хваткой вцепилась в предплечье. Не успел я опомниться, как потерял равновесие от неистового рывка Осселя. Теперь он правой рукой стиснул спину, а левой пытался выкрутить мне руку. Черт, ух как больно! Рука, конвульсивно дернувшись, ослабла, из разжавшихся пальцев выпал мой хваленый тесак и зазвенел по давно не мытому полу. Тут Оссель чуть сильнее сжал мне спину, и я, не устояв на ногах, грянулся вниз, едва не вывихнув плечо. Тяжело дыша, я лихорадочно обдумывал, как одолеть этого верзилу. Блеснувшее на полу лезвие придало мне уверенности. Я потянулся было к своему спасителю, но Оссель оказался проворнее. Его сапожище крепко-накрепко припечатал мою ладонь к доскам пола. — Признавайся, что проиграл, — довольно оскалившись, произнес Оссель и нагнулся ко мне. — Если ты настоящий мужик, то разберешь, где смелость, а где глупость. Взглянув на него снизу вверх, как мальчишка на всемогущего отца, я вздохнул: — Признаю себя побежденным, мастер Юкен. Тебя не просто одолеть — ты и силен, и ловкости тебе не занимать. — Сила у меня от природы, а что до ловкости, то ее я сам развил, — ответил Оссель, помогая мне подняться. — И если у тебя хватит прилежания и упорства, ты освоишь все премудрости борьбы. — С таким наставником, как ты, — непременно, — польстил ему я, протирая лезвие от налипших на него опилок красного дерева. Рука болела, но я изо всех сил старался не подавать виду. В конце концов, сам попросил его натаскать меня. Оссель покачал головой: — Какой из меня мастер? Вот тот, у кого я учился, тот действительно был мастер. — А у кого ты учился? — полюбопытствовал я, засовывая нож в ножны из оленьего рога. — У Николауса Петтера, — подчеркнуто равнодушно бросил в ответ Оссель. Он-то прекрасно понимал, что означает это имя. — У самого Николауса Петтера? — пораженно переспросил я. — Так ведь это же знаменитый борец! — Да, у основателя школы борьбы, — подтвердил Юкен. — Правда, сейчас там заправляет его бывший ученик, Роберт Корс. Мне показалось, что имя это мой наставник произнес с еле уловимым оттенком презрения. — Ладно, что было, то прошло, — решил переменить тему Оссель. — Хочешь, чтобы я преподал тебе науку борьбы, милости прошу. Давай, наступай на меня, только не торопись. Я покажу тебе один прием для обороны. Немножко силенок и чуточка ума перетянут и твой испанский кинжал, Корнелис. Кивнув, я изготовился к атаке. В воздухе стоял терпкий запах дерева. Для тренировок мы выбрали просторное складское помещение, где доставленное из Бразилии твердое дерево дожидалось, пока у обитателей Распхёйса дойдут до него руки. Я уже готов был атаковать Юкена, как вдруг послышался чей-то крик: — Оссель! Оссель! Где ты там? — Это Арне Питерс, — пояснил Юкен. Он был явно удивлен. — Мы здесь, в складе, Арне! Раздались торопливые шаги, со скрипом распахнулась тяжелая дверь, и показалась лысая голова Питерса. Выпучив глаза, Арне скороговоркой проверещал: — Оссель, бегом в камеру Мельхерса! Да побыстрее! Случилось ужасное! — А в чем дело? Что с ним? — переспросил Оссель, потянувшись за своим отделанным кожей камзолом, лежавшим у бревен. — Мельхерс… он… это… больше не жилец! — пробормотал в ответ Арне Питерс. Невозмутимость Осселя моментально улетучилась. — Как так? — оторопело спросил он, не попадая в рукава камзола. — Наложил на себя руки. Я как раз принес ему обед, а он… Вся камера в крови! Мы устремились к камере мастера-красильщика Гисберта Мельхерса. Проходя через цех, мы заметили, как работающие там заключенные провожают нас любопытными или злобными взглядами. Во все стороны летели стружки и опилки, крепко пахло потом и струганым деревом. Теперь надо всем этим витал дух смерти. Во всяком случае, так мне почудилось, когда мы вместе с еще двумя надзирателями спешили к камере Мельхерса, того самого Мельхерса, чье преступление несколько дней назад потрясло весь Амстердам. Мастер Гисберт Мельхерс был одним из самых почитаемых специалистов своего дела и уважаемым членом амстердамской гильдии красильщиков. Человеком добросовестным, тем, кто привел принадлежавшее ему предприятие к процветанию. Ничто в его поведении, как утверждали свидетели, не указывало на то, что он способен на подобное злодеяние. В минувшую субботу он зверски убил свою супругу и детей — тринадцатилетнего сына и дочь восьми лет. Заколов несчастных ножом, Мельхерс отрезал им головы и бросил их в красильный чан. Об этом стало известно лишь в понедельник утром, когда работники Мельхерса стали извлекать из чана оставленные для просушки ткани. Один из них, Аэрт Тефзен, случайно достал из чана и головы жертв. В панике рабочие принялись искать хозяина и обнаружили его у себя в доме. Мельхерс сидел, забившись в угол, словно затравленный зверь, и уставившись в одну точку. Он так и не смог толком объяснить произошедшее. Рядом валялся окровавленный топор, руки и платье Мельхерса также были в крови. В гостиной работники красильни обнаружили обезображенные трупы домочадцев. Преступника тут же потащили на допрос в ратушу, и лишь под пытками он стал говорить. Мельхерс признался в содеянном, однако так и не смог сказать, что толкнуло его на этот чудовищный поступок, скупо упомянув лишь о том, что должен был так поступить. Во вторник Мельхерса перевезли к нам в тюрьму Распхёйс, где ему предстояло дожидаться суда. Но и здесь мастер по-прежнему вел себя замкнуто. Пару раз я пытался вызвать Мельхерса на откровенный разговор, однако вскоре, поняв всю тщетность этих попыток, перестал. Начальник тюрьмы определил для мастера камеру-одиночку. В силу подавленности, в которой пребывал Мельхерс, а также особой тяжести совершенного преступления решено было не назначать Мельхерса на работы в распиловочный цех — там, между прочим, приходится иметь дело с пилами и прочим режущим инструментом. Повернув в коридор, ведущий к камере Мельхерса, я еще издали увидел, что дверь камеры приоткрыта. Рядом на полу стояла тюремная миска с кашей — скудный обед заключенного. Оссель резким движением распахнул дверь пошире и первым вошел в крохотное помещение. Пройдя за ним, я встал рядом. Взору моему предстала неописуемая картина. За два года работы в Распхёйсе мне приходилось всякое повидать, но такое… Тут и у человека с нервами покрепче, чем мои, поджилки затряслись бы. Я сделал пару глубоких вдохов, чтобы подавить накативший приступ дурноты. От респектабельного господина, каким был мастер Мельхерс до этого ужасного дня, не осталось и следа. Смерть наложила на его облик жуткий отпечаток. Окровавленные запястья были измочалены, словно побывали в пасти у хищника. Мастер лежал на боку, скрючившись, словно издохший зверь. В неестественно широко раскрытых глазах застыл дикий, животный ужас. На лице, в волосах, даже на зубах виднелась кровь, отчего они напоминали окровавленные клыки хищника. — Как же он умудрился? — недоумевал Арне Питерс, качая головой. — Ничего же острого при нем не было, все отобрали. — Посмотри на его зубы и поймешь — как! — ответил Оссель. Голос его звучал непривычно хрипло. Даже ему, повидавшему многое на своем веку надсмотрщику, видеть подобное раньше явно не приходилось. — Откуда взялось столько крови? Непонятно… — Ничего непонятного, отвратительно — другое дело, — бросил Оссель, поднеся запястье ко рту, словно собравшись вонзить в него зубы. — Вот так он и действовал. Питерс невольно сглотнул. — Неужели человек и на такое способен? — Тот, кто прикончил жену и невинных детишек, и не на такое способен, — вмешался я и стал пробираться мимо стоявшего в дверях Осселя внутрь камеры, чтобы рассмотреть непонятный темный прямоугольник у задней стены. — Видимо, боялся наказания, потому и пошел на самоубийство, — пробормотал Питерс. — А может, сам решил наказать себя, — предположил я. — Или просто свихнулся, — резюмировал Оссель, возложив мне на плечо тяжеленную ручищу, — он явно не желал пускать меня в камеру. — Арне, ты бы сбегал за начальником тюрьмы, что ли! — Хорошо, — согласился Питерс и поспешно удалился. Оссель, дождавшись, пока Арне исчезнет за углом коридора, вполголоса проговорил: — Незачем ему это видеть. Он указал на темный предмет, прислоненный к стенке камеры. — Что это? — не понял я. Оссель прошел в мрачный закуток, стараясь не ступить в лужу крови, в которой лежал почивший в бозе мастер-красильщик, и извлек картину в роскошной резной раме. — Картина? — изумился я. — Она самая. При свете коптящих фитилей ламп, освещавших проход, я рассмотрел написанную маслом картину. На ней был изображен Мельхерс в кругу семьи. Художник запечатлел мастера в его лучшие дни, за богато накрытым столом. Рядом располневшая, но милая женщина наливает ему вино в объемистый, искрящийся серебром кубок. Слева от матери, устремив взгляд на родителей, стоят мальчик и девочка. — Семья Мельхерса, они же его жертвы, — вырвалось у меня. — Верно, Корнелис. Эта картина висела у него в доме. — А как она очутилась здесь? Оссель кивнул на труп: — Он попросил доставить ее сюда. — Попросил? — повторил я. — Но, Оссель… — Да-да, я все понимаю, заключенным не полагается иметь в камере никакой домашней утвари или обстановки. Но этот красильщик в ногах у меня валялся, так ему хотелось видеть ее. К тому же… — Что «к тому же»? — допытывался я. — К тому же и десять гульденов мне карман не оттянут! — Не спорю. Только странно все это! — Что странного? То, что Мельхерс готов был выложить такую сумму, просто чтобы со скуки поглазеть на какую-то мазню? Ну, знаешь, может, он жаждал обрести в ней утешение. Или в последний раз увидеть, тех, чья жизнь у него на совести. А потом не выдержал и покончил с собой. — Все возможно, Оссель. Но не это меня удивляет. Мельхерс как воды в рот набрал, только пытки и развязали ему язык. А тебе он ничего не говорил? — Когда я вечером в среду принес ему еду, он неожиданно разговорился. Не о том, почему лишил жизни жену и детей, нет, об этом он и словом не обмолвился. Речь шла только о картине. Он попросил меня сходить к нему и передать его ученику, Аэрту Тефзену, чтобы тот отдал мне картину и заодно денежки. Я должен был незаметно притащить ее в камеру. Вот как все было. В коридоре раздались чьи-то торопливые шаги. — Пойду спрячу картину, Корнелис. И тут же вернусь. Я оглянуться не успел, как Оссель уже исчез на другом конце коридора. Неудивительно, ведь он знал тюрьму как свои пять пальцев. Будь это иначе, разве смог бы он незаметно пронести такую махину в камеру Мельхерса. На пороге появились Арне Питерс и Ромбертус Бланкарт. Еще пару мгновений спустя возник и Оссель. Бланкарт, тщедушный, низкорослый человечек, всегда какой-то растерянный, просунул голову в камеру и тут же в ужасе отпрянул. — Невероятно… быть этого не может, — пробормотал он и невольно взглянул на надсмотрщика: — Как такое могло произойти? — И мы голову ломаем, господин Бланкарт, — ответил Оссель. — Вряд ли тут что-нибудь можно объяснить, — помог я Осселю. — Самоубийство Мельхерса так же непонятно, как и совершенные им убийства. Наверняка спятил. — Да, похоже, именно так и есть, — со вздохом облегчения, как мне показалось, согласился Бланкарт. А мне, напротив, стало еще муторнее на душе. Странная догадка осенила меня. Мне вдруг подумалось, что за всем этим что-то скрывается, однако мне не хотелось узнавать истинные мотивы и его преступления, и самоубийства.Глава 2 Портрет покойного
По завершении смены мы с Осселем вместе покинули неуютные стены Распхёйса, решив пройтись по Хейлигевег, где царило обычное для погожего вечера оживление. По мостовой громыхали груженые телеги, лавочники наперебой расхваливали свои товары, тянулись разряженные горожане, целыми семьями или парочками вышедшие на вечернюю прогулку насладиться августовским солнцем. В воздухе кружили чайки и цапли, будто дополняя идиллический пейзаж. Ничто не указывало на то, что всего несколько часов назад за толстыми стенами амстердамской тюрьмы некто ужасным способом покончил с собой. Пока что эта новость не вышла за стены Распхёйса, но уже завтрашним утром все жители Амстердама будут обсуждать ее в мельчайших подробностях. Нет, не все, мелькнула мысль, стоило мне мельком взглянуть на неуклюжий пакет под мышкой у Осселя. Он завернул картину в серое тюремное одеяло. Кивком указав на его странную ношу, я осведомился: — Ты что же, собрался ее отнести в дом Мельхерса? — Да, только не сейчас, пару дней побудет у меня, пока суматоха не уляжется. Ни к чему мне лишние заботы. — Ладно. Хотелось как следует ее рассмотреть. — К чему? — Исключительно из любопытства, Оссель. Как ты помнишь, я тоже иногда беру кисть в руки. — Только это не всегда приносит успех, — ухмыльнулся он в ответ, ткнув большим пальцем за спину. — Будь по-другому, ты бы не у нас на хлеб зарабатывал. — Слушай, не сыпь ты соль на рану, — попытался я урезонить своего приятеля и невольно рассмеялся. — Все дело в том, что в этой стране куда больше художников, чем тюремных надзирателей. Оссель дружески похлопал меня по плечу: — Ну, Рубенс, тогда давай завернем ко мне. Что-то нет у меня желания разворачивать ее на глазах у всего города. К тому же я припас отличнейшей можжевеловой настойки. После всего, что выпало увидеть сегодня, мы с тобой вполне заслужили по доброму глотку! Мы отправились в направлении квартала Йордаансфиртель. Мысли мои продолжали вертеться вокруг картины, и я упрекал приятеля за то, что ему пришло в голову притащить ее в камеру к убийце-красильщику. Оссель скорчил недовольную мину: — Ладно, хватит уже тебе пилить меня, Корнелис. Рассуждаешь, точно начальник тюрьмы. Может, метишь на его местечко, а? — Признаюсь честно, от такого жалованья не отказался бы. Хотя стоит лишь представить, что ты всю жизнь обречен провести в Распхёйсе, так ужас берет. — А чем тебе наш Распхёйс не угодил? — чуть обиженно пробормотал Оссель. — Я вот больше десятка лет в его стенах провел, и ничего, как видишь. — Ты ведь еще и воспитатель. — Не в первый день я им стал. Но я не жалуюсь. До того как прийти в Распхёйс, я тоже немало перепробовал, и отовсюду меня выставляли, едва у работодателей кончались денежки. А в Распхёйсе у меня твердое жалованье, хотя, честно признаться, могли бы платить и пощедрее. Я испытующе посмотрел на него, но все-таки удержался от высказываний в адрес его доходов. Их вполне можно было бы считать более чем достаточными, не транжирь Оссель все деньги на спиртное и азартные игры. Причем налицо была любопытная закономерность: чем больше он пил, тем меньше ему везло в игре и, соответственно, тем скорее пустел его кошелек. К тому же его последняя пассия — сожительница по имени, кажется, Геза, тоже была не самым лучшим приобретением Осселя. Приятель не особенно распространялся о ней, но даже то немногое, что он в свое время поведал мне, указывало на то, что и она не прочь заложить за воротник. Геза страдала чахоткой, и Осселю регулярно приходилось оплачивать снадобья и лекарей. Доходный дом, где он снимал жилье, был огромным и мрачным зданием. Стоило нам оказаться на его лестницах, в узеньких коридорчиках, как благостное настроение, дарованное прогулкой летним погожим вечером, как рукой сняло. Дом этот принадлежал владельцу фабрики по изготовлению инструмента, и тот явно не был расположен терпеть лишние убытки, предоставляя своим работягам сносный кров. Каждый штюбер[896], вычитаемый из жалованья рабочих, я уверен, доставался хозяину едва ли не задарма. Квартиры, куда иногда проникали солнце и свежий воздух, сдавались еше и таким людям, как Оссель, зарабатывавшим вполне пристойные деньги, но отнюдь не считавшим себя богатеями. В доме постоянно стоял запах сырости и гниющих отбросов. Одолев пару крутых лестниц, мы вошли в обиталище Осселя, куда я не заглядывал вот уже несколько месяцев — с тех пор, как там обосновалась упомянутая Геза. У меня создавалось впечатление, что Оссель намеренно держал меня от нее подальше, и сейчас Гезы тоже не было дома. Когда я поинтересовался у него, где Геза, Оссель уклончиво ответил, что, дескать, она вот уже несколько дней не показывалась — по его словам, ухаживала за теткой, которая занемогла. Выставив на стол пару захватанных фаянсовых кружек, Оссель наполнил их обещанной можжевеловкой. Я же тем временем убрал покрывало с картины и прислонил ее к изъеденному жучком сундуку, на который падал свет заходящего дня, проникавший сквозь запыленное оконце. Оссель, заметив мое недовольство, зажег керосиновую лампу. — Ну и как? — полюбопытствовал он, дав мне обозреть полотно. — Стоящая картина? Или, может быть, даже ценная? — Не могу сказать, — тихо произнес я и склонился над картиной, чтобы различить подпись художника. — Любопытно, — пробормотал я, — очень любопытно. — Что такое? — Оссель, сделав внушительный глоток можжевеловки, звучно и блаженно рыгнул, после чего отер тыльной стороной ладони рот. — Ну, говори же, говори, мальчик! — Обычно художник оставляет свою фамилию или в крайнем случае какой-то личный знак на полотне. Это объясняется профессиональной гордостью, да и коммерческими соображениями. В конце концов, любой художник заинтересован в будущих заказах. Стало быть, люди должны знать, чьей кисти тот или иной портрет либо пейзаж. Здесь же я не нахожу ничего похожего, хоть убей. — Может, в этом случае художнику как раз нечем гордиться, — скептически заметил Оссель, опускаясь на стул, жалобно скрипнувший под его весом. — Что-то не верится. Картина в самом деле недурна. Взгляни, как удачно выписан свет, падающий на лица детей, просто мастерски! Оссель нагнулся над столом и, широко раскрыв глаза, взглянул на картину. — Ну, знаешь, я бы так не сказал. — То есть? — Центральная фигура картины — сам красильщик. И, делая художнику заказ, он непременно должен был напомнить ему об этом. Так что уместнее было, если бы свет падал бы не на детей, а как раз на него самого. Твой художник — жалкий подмастерье. Не приходится удивляться, что и фамилии своей не накарябал. Я метнул на Осселя полный возмущения взгляд: — Да ты ни черта не смыслишь в живописи, Оссель. Именно этот свет и привлек мое внимание. Я считаю прием очень удачным — он заставляет сначала обратить внимание на детей. Они восхищенно смотрят на отца, и его образ от этого только выигрывает. Будь картина выписана в других красках, я без колебания приписал бы эту работу Рембрандту. — Рембрандту? — Оссель отхлебнул можжевеловки и задумчиво почесал затылок. — Ходят слухи, что он совсем опустился. А разве он еще жив? — Разумеется, жив. Однако последние три года дела у него ни к черту. Многие судят о его работах так же, как и ты, считая, что он не умеет писать. Но если хочешь знать, придет время, и он будет так же ценим, как Рубенс, или даже больше. — И через тысячу лет не будет, могу спорить! — от души расхохотался Оссель. — Рембрандта в грош не ставят, как мне говорили, и вообще он уже несколько лет как обанкротился. Или, может, я ошибаюсь? — Нет, ты не ошибаешься, он действительно остался без гроша. Даже свой особняк на Йоденбреестраат не мог содержать, так что вынужден был распродать все имущество. И перебраться в простой домик у Розенграхт. — И все же жизнь в пусть нанятом, пусть даже маленьком, но все-таки доме ему по карману, а? — Оссель со вздохом обвел взором свои скудно обставленные покои. — Может, и мне стоило податься в художники… — Насколько мне известно, мастер живет сейчас на наследство скончавшейся жены, он назначен управляющим наследством в пользу детей. Оссель вновь наполнил свою кружку доверху можжевеловкой, а мою подвинул мне. — Присядь и выпей глоточек можжевеловки, Корнелис. А то, глядишь, один всю ее вылакаю. Я покорился. — Рембрандту не сладко приходится, поверь, Оссель. Если принять во внимание, какой славы он достиг в свое время, он теперь просто заживо гниет. — Ты говоришь так, будто только вчера с ним расстался. — Вчера не вчера, но однажды мы с ним встречались. Незадолго до того, как наняться в Распхёйс, я просил его стать моим учителем. — Твоим учителем, говоришь. Ну-ну, и что же из этого вышло? — Да ничего путного. Он просто вышвырнул меня, да еще наорал, чтобы ноги моей в его доме не было. Мои слова привели моего приятеля в такой восторг, что он даже поперхнулся можжевеловкой, выплюнув добрую половину на стол. — Я-то думал, что ты художник от Бога, Корнелис. Но если ты так плох, что даже Рембрандт не пожелал с тобой связываться, то сунь лучше свои кисточки сам знаешь куда. — Дело не в моих талантах художника, а в пороке Рембрандта под названием пьянство. Его дочь Корнелия попросила меня приглядывать за ним, чтобы он пил поменьше. И вот когда я однажды вечером попытался отобрать у него бутылку, он взбесился и выгнал меня вон. — И правильно сделал! Его бутылка, хочет — выпьет ее, хочет — нет, и не тебе ему указывать. — Но он уже успел опустошить целых две. — Знаешь, после этого я готов его зауважать, — изрек Оссель, снова взявшись за кружку со спиртным. Не желая продолжать бессмысленную дискуссию, я снова обратил взор на картину и стал рассматривать одежду детей и супруги красильщика. Мне бросилось в глаза, что на этом холсте в различных оттенках доминировала лазурь. Задний план, стена гостиной тоже были выписаны синевой, хоть и потемнее. И вообще, эта насыщенная синева, казалось, пронизывала всю картину, струилась из нее, зачаровывая зрителя. — Не будь здесь столько лазури, я бы мог поклясться, что это Рембрандт. — Почему? Он что, не любит синий цвет? — Не знаю. Но за короткое время, что я общался с ним, не припомню, чтобы он обмакивал кисть в синюю краску. Он предпочитает белый цвет, черный, охряной и темно-красный. — Может, эта картина принадлежит кому-нибудь из его учеников? — предположил Оссель. Я невольно хлопнул себя полбу: — Вполне может быть, ты знаешь, я как-то не подумал. Но какие ученики сейчас? Я был последним, и то исключением. Но раньше, когда его имя что-то значило, у Рембрандта от них отбоя не было. В коридоре раздались неверные шаги, заскрежетал дверной замок. Мой приятель, внезапно сорвавшись с места, распахнул дверь настежь. Да и я поднялся из-за стола, готовый пособить Осселю расправиться с непрошеным визитером. Квартал Йордаансфиртель служил прибежищем всякой нечисти — бездомных бродяг, нищих. Именно этому району был обязан пристанищем один беглыйгугенот-француз, убийца принца Оранского — может, грязные воды Принсенграхт вдруг пробудили в нем ностальгические воспоминания о былой родине. Так что здесь, в этом доме, вполне можно было рассчитывать, что к тебе ввалится какой-нибудь одурелый пьянчуга или один из тех субъектов, для которых ради пары грошей человека прикончить — все равно что муху раздавить. — Геза! Не успел Оссель произнести это имя, как я понял, кто та особа, что, держась за притолоку, стояла в дверях. И тут же отметил, что Геза вдребезги пьяна — она нализалась так, что даже не могла попасть ключом в скважину. Оссель втащил спутницу жизни в каморку и захлопнул за ней дверь. Геза без сил упала на стул, на котором только что сидел Оссель, и не успели мы опомниться, как она, бесцеремонно завладев его кружкой, опрокинула содержимое в свою ненасытную глотку. Едва проглотив можжевеловку, она зашлась нескончаемым оглушительным кашлем. В первый момент мне даже показалось, что настойка оказалась слишком крепка для нее, но по исходившему от Гезы запаху перегара понял, что ошибся — за сегодняшний вечер это был явно не первый глоток. Розоватая от крови слюна и мокрота на столе говорили о том, что дела Гезы плохи. — Чего приперлась? — не очень вежливо осведомился Оссель. — Ты же вроде ухаживаешь за больной теткой на Принсенграхт? — Плевать я на нее хотела! Старая сквалыга вбила себе в башку, что если я унаследую от нее парочку гульденов, так она уже может помыкать мною как хочет. Кем угодно, но не Гезой Тиммерс! Там прибери, тут протри, потом беги за едой на рынок, а после торчи у плиты! И так весь день. И еще скулит, мол, где тебя черти носят. А я всего-то на минутку заглянула в «Золотой якорь» стаканчик пропустить. Вот я и решила послать ее куда подальше. — Стало быть, в «Золотом якоре» околачиваешься! — заключил Оссель. — Лучше бы взяла да приволокла свою кровать в этот притон, и дело с концом! — Ладно тебе! — окрысилась на него Геза. — Если уж кто и знаток всех притонов, так это ты и есть, Оссель Юкен. Я невольно отстранился от стола — смрад изо рта Гезы был просто невыносим. Наверняка в ней сидело пять-шесть стаканов самого дешевого пойла. И я понемногу начинал понимать, отчего Оссель не показывал ее друзьям и сослуживцам. Тут голова Гезы медленно повернулась ко мне. Так поворачивает голову птица, внезапно учуявшая жирного червяка. — Чего уставился? И вообще, кто ты такой? — Это мой друг Корнелис Зюйтхоф, — представил меня Оссель. — Вот, пригласил его на глоточек можжевеловки. — Это хорошо, что ты его надумал пригласить. На глоточек. — Геза подняла опустевшую кружку и ткнула ее под нос Осселю: — Плесни мне еще немного, а? — Хватит с тебя, пожалуй, на сегодня, Геза. Иди-ка приляг и поспи! — Спать! — Геза, подумав секунду или две, решительно тряхнула головой. — Одной — ни за какие блага, — хихикнула она. — Еще, не дай Бог, помру со скуки. Может, ты присоединишься, Оссель? Или твой молоденький дружок? На вид он очень даже ничего, ну а в остальном… С поразительным для такой степени опьянения проворством Геза поднялась, обошла стол и ухватила меня за мое хозяйство. Инстинктивно дернувшись, я все же усидел на месте. Лучше уж в таком положении не двигаться. Мало ли что… Тем более что пальцы Гезы сжимались все сильнее. — На ощупь недурственно. — Она бесстыже осклабилась. — И встает сразу же, едва дотронешься! Хотя чего удивляться, — заплетающимся языком резюмировала она, — ты же молодой! Вон Осселя в постели больше подушка волнует, чем я. Так что, не побрыкаться ли нам с тобой? Она вплотную прислонилась ко мне и уже раскрывала губы для поцелуя. Я невольно отпрянул, от души жалея, что сижу не на табурете, а на стуле со спинкой. Впрочем, в другой обстановке я без колебаний ответил бы на ее зов. Геза была от силы лет на шесть старше меня, то есть тридцати ей явно стукнуть не успело. Осселю под сорок, он был для меня не просто другом, а кем-то вроде отца или старшего брата. Но Гезе можно было дать куда больше — болезни и спиртное сделали свое дело: все лицо ее прорезали глубокие морщины, а под некогда озорными глазами пролегли синеватые круги. Подойдя к Гезе, Оссель оттащил ее от меня. Между ног у меня после ее поползновений побаливало. Женщина, не удержавшись на ногах, грохнулась на пол. И тут же снова страшно закашлялась. У ног Осселя образовалось розоватое пятнышко мокроты. — Я уж лучше пойду, — охрипшим голосом объявил я. Решительно поднявшись из-за стола, я шагнул к двери. — Увидимся в понедельник в Распхёйсе. Пока, Оссель! Я уже выходил в коридор, когда Геза, пошатываясь, поднялась с пола, бросилась мне вслед и вцепилась в рукав. — Я с тобой! — умоляюще прошептала она. — Не оставляй меня с этим старым хряком, который только и знает, что храпеть ночь напролет, как извозчик! — Это ни к чему! — беспомощно пробормотал я, тщетно пытаясь высвободиться из ее цепкой хватки. — Я тебе такое покажу, ты уж не сомневайся! — заверила меня Геза. — И в ротик возьму, если пожелаешь, и… Сгорая от охватившего меня стыда, я продолжал сражаться с ее цепкими, будто когти, пальцами. Конец этому положил Оссель. Он без всяких церемоний сграбастал свою возлюбленную и отшвырнул ее в угол темного прохода. Короткий вскрик, и врассыпную бросились темные твари — крысы. Геза наградила Осселя такой площадной бранью, которой я доселе из уст женщины не слыхал. Стали раскрываться двери, заинтригованные соседи по очереди высовывали головы наружу. Оссель потащил не перестававшую браниться Гезу назад в свою каморку. Я впопыхах попрощался с Юкеном и поспешил убраться подобру-поздорову, оставив приятеля с крысами и чахоточной алкоголичкой. И с картиной, где был изображен тот, кто сегодня угодил в мертвецы.Глава 3 В карцере без окон. Эпизод первый
Хотя я тоже, если уж говорить начистоту, принадлежал к числу обитателей пресловутого квартала Йордаансфиртель, которого все приличные жители Амстердама сторонились, с квартирой мне повезло куда больше, чем моему приятелю Осселю Юкену. Вдова Йессен, добродушная женщина, питавшая граничившую с жалостью симпатию ко всем живописцам без гроша за душой, сдавала мне комнатку в верхнем этаже дома. Жилище мое было просто дворцом в сравнении с каморкой, которую занимал Оссель, тем более за ту же плату. Помещение было просторным и, благодаря самоотверженным хлопотам вдовушки Йессен, опрятным. Два широких окна выходили на север, благодаря чему в комнате всегда господствовал мягкий рассеянный свет, который так ценят художники. В воскресенье, когда стоявшее на безоблачном небе августовское солнце щедро освещало улицы и каналы Амстердама, я вознамерился воспользоваться погожим выходным днем. Сразу же после церковной службы, куда я сопровождал мою квартирную хозяйку, я принялся смешивать краски, чтобы продолжить работу над картиной, начатой несколько дней назад и изображавшей доки Ост-Индской компании. Я рассчитывал, что картину можно будет потом с легкостью всучить какому-нибудь высокопоставленному чиновнику упомянутой компании или вовсе директору. И хотя за прошедшие пару лет мне куда больше времени пришлось провести в Распхёйсе, а не за мольбертом, я по-прежнему не расставался с надеждой в один прекрасный день распроститься с исправительным заведением и всецело посвятить себя живописи. Незаметно миновали часы, но стоило мне окунуть кисть в лазурь, чтобы подцветить воды порта, как я невольно замер — перед моим внутренним взором вновь возникла картина из камеры красильщика Мельхерса. Я продолжал размышлять о том, кто из учеников Рембрандта мог быть автором этого полотна, но ни к какому вразумительному выводу так и не пришел — я просто не был знаком ни с учениками Рембрандта ван Рейна, ни с их работами. Возможно, схожесть стиля этой картины со стилем Рембрандта была чистой случайностью, может, ее автор и в глаза самого Рембрандта не видел, а просто копировал его стиль. Размышления о чужой работе настолько поглотили меня, что я позабыл о своей собственной. Задумчиво водя кистью по холсту, я не раз ошибался, выбрав явно неверный оттенок цвета. К полудню я оставил это самоистязание, решив отправиться на прогулку. Я смешался с толпой гуляющих, невольно подслушивая их разговоры. Главными темами был чудовищный акт преступления, совершенный Гисбертом Мельхерсом, и его самоубийство. Стало быть, инцидент, происшедший позавчера в Распхёйсе, уже успел стать всеобщим достоянием. Прибыв на следующее утро в Распхёйс, я убедился, что Оссель еще не приходил. Во всяком случае, его нигде не было видно. Что ж, по-видимому, и в воскресенье было выпито немало, стало быть, мог и проспать. Но куда любопытнее было другое — товарищи по работе глазели на меня так, словно у меня за эти выходные отросли рога. Не утерпев, я спросил Арне Питерса: — Что все-таки произошло? Чего это они меня разглядывают? Явно смущенный, Питерс теребил воротничок, будто ему воздуха не хватало. — Ты тут ни при чем, Корнелис, — ответил он мне наконец. — Это все из-за Осселя. — Ну и что тут такого? Все мы иногда опаздываем на службу по понедельникам. Питерс посмотрел на меня как на слабоумного: — Опаздываем? При чем тут опоздания? Он никуда не опоздал, а уже давно здесь сидит! — Да? И где же он? Я что-то его не видел? Питерс ткнул пальцем вниз: — А он там, в темном карцере. — Какого дьявола ему там понадобилось? Кого туда посадили? Этот знаменитый карцер снискал репутацию самого ужасного места в Распхёйсе. Кое-кого из преступников сажали туда, пока начальник тюрьмы не решал вопрос об их дальнейшем размещении. А чаще всего там оказывались наиболее буйные наши обитатели. Карцер представлял собой каменный мешок без окон, сырой, холодный. Посидев в нем малость, все сразу становились на удивление покорными и сговорчивыми. Впрочем, находились и такие, кто задерживался там на несколько суток, не общаясь ни с одной живой душой, получая раз в день жбан воды да краюху хлеба. Арне Питерс долго смотрел на меня. Потом, запинаясь, проговорил: — Так ты ничего не знаешь, выходит! Боже мой, так ты на самом деле ничего не знаешь? Я глубоко вздохнул. — Арне, скажи мне наконец, что стряслось? — Оссель вот уже с полуночи сидит здесь, у нас в Распхёйсе, да еще в темном карцере. Он тут с тех пор, как… как его сюда доставили. Случается иногда такое, чего ты осмыслить просто не в состоянии — не желаешь осмыслить, хотя со слухом у тебя все в порядке. Вот примерно так и было в тот момент со мной. Я, не в силах вымолвить ни слова, уставился на Питерса. — Что ты сказал? — наконец смог выдавить я. — Корнелис, Боже праведный! Он убил ее! — Кто кого убил? — так и не понял я. — Оссель убил эту женщину. Как же ее?.. — Гезу? — напомнил ему я. И тут же нахлынули мерзкие воспоминания о недавнем вечере. — Ты имеешь в виду Гезу Тиммерс? Питерс энергично закивал, радуясь, что в конце концов сумел втолковать мне, в чем дело. — Именно ее я и имею в виду. Его сожительницу. Они ведь с Осселем… ну, ты понимаешь… — Да, верно говоришь. Но как это случилось, Арне? Физиономия Питерса сначала вытянулась, потом скривилась. Вероятно, такое выражение лица должно было означать глубокую скорбь или по меньшей мере озабоченность. — Подробности мне неизвестны, — ответил он. — Известны только показания соседей Осселя. Они с этой Ге-зой крупно повздорили, это произошло в субботу вечером. Потом лаялись все воскресенье. И вот вчера несколько соседей, которым уже невмоготу стало через стенку слушать, как они друг друга грязью поливают, вломились в комнату к Осселю. И опоздали — тот уже склонился над Гезой. Мертвой. Оссель несколько раз кряду ударил ее головой о стенку — вот у нее череп и раскололся, будто яичная скорлупа. Он-то вон какой здоровяк! Я попытался представить себе эту сцену — и не смог. Я два года знал Осселя, и этот человек, ставший мне почти что отцом, не мог совершить ничего из того, о чем мне сейчас поведал Питерс. Никто не спорит, Оссель мог и разбушеваться, грохнуть кулачищем по столу, особенно пропустив стаканчик или два, но такое… И силенок у него вполне хватало, чтобы прикончить любого, не говоря уж об этой тщедушной Гезе. Но я дал бы руку на отсечение, что Оссель Юкен ни на что подобное не способен. — А что… сам Оссель по этому поводу рассказал? — осторожно спросил я, страшась ответа на свой вопрос. — Он во всем признался. — И в том, почему ее убил? — Нет, мне об этом ничего не известно. Рассказывают, что, как только его взяли, он рыдал и все бормотал, что убил Гезу. А с тех пор как его сюда привезли, молчит как рыба. Может, палач пытками развяжет ему язык. У меня закружилась голова, я почувствовал, как на меня неудержимо накатывает дурнота. Пройдя с Питерсом в караульную, я без сил опустился на табурет и сделал глоток воды из черпака, который Питерс услужливо предложил мне, видя мое состояние. Потом он плеснул мне воды в лицо. Дурнота чуть отпустила, голова заработала яснее. Мне вспомнился красильщик Гисберт Мельхерс. Зверское убийство им жены и детей точь-в-точь походило на ничуть не менее зверское убийство Осселем своей сожительницы. Черт побери, что же все-таки творится в нашем Амстердаме? Может, все дело в летнем зное, лишившем рассудка наших добропорядочных жителей? Отдав Питерсу черпак, я сказал: — Мне нужно увидеться с ним, Арне. Переговорить с ним. — Нет-нет, Корнелис, ничего не выйдет. Тебе же хорошо известно, что карцер положено открывать лишь раз в сутки во время раздачи пищи. А во всех остальных случаях требуется личное разрешение начальника тюрьмы. — Не стану я дожидаться, пока он соизволит меня впустить к Осселю, да и неизвестно, позволит ли вообще. — Я тоже в этом сомневаюсь. Его подняли сегодня среди ночи, когда доставили Осселя, и он до сих пор не может отойти. Никак не может переварить, что его старший надзиратель отмочил такое. — Вот поэтому будет лучше, если начальник тюрьмы вообще ничего не узнает. Вздохнув, я поднялся и взял ключ от карцера, висевший на особом крюке на стене. Ключ был увесистый, огромный, а пятна ржавчины свидетельствовали о том, что его лишь изредка брали в руки. Тут Питерс схватил меня за рукав: — Повесь его на место, Корнелис, слышишь? Неприятностей на свою голову захотел? — Разве это неприятности? Воту Осселя, у того действительно неприятности. Довольно бесцеремонно отпихнув Питерса, я вышел из караульного помещения в непоколебимой уверенности, что, невзирая ни на какие беды, я увижусь с Осселем. Полуобернувшись, я заметил, что Питерс, прищурившись, смотрит мне вслед. Вероятно, прикидывает, что будет, если о моем визите в карцер станет известно начальству. Еще на крутой лестнице я почувствовал, как меня охватывает промозглая сырость, царившая в этих застенках даже в жаркие летние месяцы. Внизу коридор освещался скудным светом единственной лампы. Я невольно остановился. Происходящее начинало казаться кошмарным сном, мне представлялось, что стоит проснуться, как все исчезнет без следа. Но… это была тем не менее самая что ни на есть явь. Внизу, в конце коридора, располагалась темная, без окон камера. Дверь выступала в полумраке лишь неотчетливым темным пятном. Мне не давала покоя мысль, что Оссель, за все годы работы в Распхёйсе препроводивший в этот жуткий карцер стольких подонков, сам теперь оказался в нем. Меня охватило желание повернуться и убраться из этого подвала. Но я не мог — я должен был довести до конца задуманное. Мне приходилось заставлять себя идти по полутемному коридору. В памяти беспрерывно вертелись сцены злосчастного вечера у Осселя в доме, когда я впервые увидел эту распутную пьянчугу, похотливую тварь, которую мой приятель решил избрать в спутницы жизни. «Неужели Геза своим поведением так замутила разум Осселя, что тот, поправ все законы Божьи и людские, да и свои собственные, отважился на убийство?» — спрашивал я себя. И вынужден был ответить на этот вопрос положительно — так ненавистна была мне мерзкая баба. Но на другой, куда более важный вопрос я не хотел, не желал давать положительного ответа: неужели Оссель изначально был способен на подобное преступление? Набрав в легкие побольше воздуха, я отпер дверь карцера, после чего отодвинул заржавевшую задвижку. Дверь с пронзительным скрипом отворилась. В первые секунды я вообще ничего не мог разобрать. Дождавшись, пока глаза привыкнут к темноте, я наконец различил в углу камеры тень. Оссель! Как же он изменился с момента нашей последней встречи! Лицо прорезали горькие складки, Оссель Юкен показался мне старше лет на десять, а то и больше. Казалось, силы покинули его. Сгорбившись, он сидел на холодном каменном полу, безучастно глядя на пришельца. Я заговорил с ним, сначала вкрадчиво, негромко, затем повторил вопрос громче, однако Оссель продолжал безмолвствовать, сидя в своем углу. На его отупелом лице не проступило ни следа прозрения. Миновала минута, другая. Я тщетно пытался вывести Осселя из ступора, в котором тот пребывал. Потом за моей спиной послышались шаги, гулко отдававшиеся во тьме коридора. Повернувшись, я увидел Арне Питерса и с ним нашего начальника Ромбертуса Бланкарта. У последнего на лице застыла гримаса недовольства, глазки злобно поблескивали. — Что это вам взбрело в голову, Зюйтхоф, общаться с заключенным без моего ведома? — еще не дойдя до карцера, принялся возмущаться начальник тюрьмы. — Кому-кому, а уж вам бы следовало знать, что это вопиющее нарушение правил. — Оссель Юкен — мой друг. И мне хотелось выяснить, что именно побудило его совершить столь тяжкое преступление. При условии, что он в самом деле убийца. — На сей счет нет никаких сомнений. Его соседи в один голос утверждают это. Кроме того, спешно вызванная ночная охрана подтверждает, что рядом с ним был обнаружен труп женщины. Ее кровь была на руках Юкена. — Но почему, почему? — в отчаянии воскликнул я, причем куда громче, чем следовало. — Зачем ему было ее убивать? Начальник тюрьмы смерил меня презрительно-раздраженным взглядом. — Оба пили. Пили часто и помногу. Знай я об этом раньше, я никогда не доверил бы Юкену столь ответственную должность воспитателя. Соседи рассказывают о постоянных ссорах, скандалах. Может быть, Юкен по причине беспробудного пьянства уже просто не соображал, что творит. Может, речь идет о временном помутнении рассудка. В последнем случае остается лишь уповать на пытки. Они ему развяжут язык. — Разрешите мне сначала переговорить с ним, господин Бланкарт! — стал умолять я. — Если вы дадите мне немного времени, увидите, Оссель разговорится! Бланкарт решительно покачал головой. — Это означало бы пойти на нарушение правил. А сейчас будьте добры немедленно покинуть карцер. Во мне поднялась буря противоречивых чувств. В первое мгновение я уже готов был последовать распоряжению моего непосредственного начальника в Распхёйсе. Но, украдкой взглянув на Осселя, понял, что просто не смогу бросить его здесь на растерзание пыточных дел мастерам. — Нет, я не уйду, — со всей решительностью заявил я. — До тех пор, пока не добьюсь от Осселя вразумительных объяснений, я отсюда не уйду. Отвернувшись, Бланкарт отдал короткую команду. Из тьмы выступили две фигуры. Я понял, что начальник тюрьмы явился сюда не один, а со своими верными вассалами — силачами Питером Борсом и Германом Бринком. Эти живо взяли меня в свои объятия. Начальник тюрьмы укоризненно посмотрел на меня: — Вы потеряли доверие, Зюйтхоф, к тому же вы упрямец, каких мало. Таким, как вы, не место в Распхёйсе. Тем более теперь, когда самоубийство красильщика темным пятном легло на репутацию Распхёйса. Так что можете считать себя уволенным. Положенное вам за истекшие недели жалованье вы получите, но ни одним грошом больше. И прошу вас, не пытайтесь втайне установить контакт с Юкеном. Иначе я вас самого упрячу — в Вассерхаус! Он дал знак Бринку и Борсу увести меня. И тут Оссель очнулся. Наши взгляды встретились, и я увидел в его глазах бесконечное страдание. Едва слышно, одними губами он произнес: — Картина… Все дело в этой картине… Эта синева… лазурь… — Что это он мелет? — осведомился Бланкарт. — Вот уж не знаю, — солгал я, мне никак не хотелось топить Осселя. — Кажется, он не в себе. — Наверняка, — вздохнул начальник тюрьмы и снова повернулся к надзирателям: — Уведите его! Оба вытащили меня из камеры. Проходя мимо Арне Питерса, я наградил его испепеляющим взглядом. Именно он настучал на меня Бланкарту, больше некому. Вероятно, Питерс был движим стремлением выйти из всей этой истории чистеньким и вдобавок выслужиться перед начальством — тем более что место воспитателя с арестом Осселя освободилось, а Питерс был не дурак занять его. Бринк и Боре отпустили меня лишь у самых тюремных ворот, где вытолкнули пинком в спину. Я едва устоял на ногах, чуть не шлепнувшись прямо под ноги игравших тут же детей, которые при виде меня покатились со смеху. Да и мои бывшие товарищи тоже рассмеялись, а я, задыхаясь от бессильной злобы, побрел прочь от Распхёйса. Всего лишь час назад я был уважаемым сотрудником амстердамской тюрьмы под названием Распхёйс. А теперь стал никем. Существом без работы и даже без друзей. Единственный человек, на которого я мог положиться, как на самого себя, томился сейчас во тьме карцера, в тюремном подвале. Я с ужасом думал о том, что Осселю грозит камера пыток, а потом и эшафот. А чего еще ожидать в его положении? И на кого уповать? Разве что на безвестного художника по имени Корнелис Зюйтхоф.Глава 4 В поисках
Покинув место кораблекрушения, я направил стопы в квартал Йордаансфиртель. Горечь поражения улетучилась довольно быстро, мысли вернулись к Осселю. Если бы чертов Бланкарт не стал мне поперек дороги! Еще пять минут, и я наверняка разговорил бы Осселя! Ведь именно тогда, когда Боре и Бринк выводили меня из карцера, поведение Юкена изменилось. Что он тогда пробормотал? Картина… Все дело в этой картине… Эта синева… лазурь… Я прекрасно понимал, что за картину имел в виду мой друг. Несомненно, вся загвоздка именно в этом полотне. Но что такого особенного могло быть в нем? Значит, могло. В противном случае Оссель не заикнулся бы о ней. Я решил еще раз изучить картину и, не заходя домой, все-таки повернул к доходному дому, где и разыгралась драма с Осселем Юкеном и Гезой Тиммерс в главных ролях. Я шел узкими переулками мимо закопченных лавчонок и кабаков, приглядываясь к вывескам питейных заведений. Под одной я остановился. Внимание мое привлекла выгоревшая на солнце вывеска над узким входом. Краска облупилась, но я, хоть и не без труда, все же разобрал, что полустершийся якорь некогда был золотым. И тут же вспомнил, что мой друг Оссель ставил в вину сожительнице повышенный интерес именно к «Золотому якорю». Я вошел в убогую забегаловку, полупустую в столь ранний час. Лишь за одним столиком в отдалении от входа сидели двое небогато одетых мужчин. Они вполголоса вели разговор о грошах, которые платят портовым рабочим. Хозяин «Золотого якоря», пузатый лысый человек, пристально изучал меня единственным глазом. Второй был прикрыт кожаным кружком наглазника. Заказав пару кружек пива, одну для себя и вторую для хозяина, я пригласил его составить мне компанию. Лицо кабатчика прояснилось. Его звали Франс, он служил на военном корабле, правого глаза бывший моряк лишился три года назад во время затянувшейся на целых четыре дня баталии с англичанами. Голландской флотилией командовал тогда адмирал де Рюйтер. С каждым глотком пива хозяин становился словоохотливее. — Ветер благоприятствовал нам, когда мы направлялись к британскому побережью, — рассказывал он, и глаз его светился гордостью. — Эти псы-англичане — круглые дураки, что с них взять: взяли да разделили свой флот. И против наших девяноста кораблей выставили всего полсотни своих. Мы бы с ними разделались, как со слепыми котятами, только вот ветер резко переменился, подул с зюйд-веста, да и видимость стала ни к черту. По приказу де Рюйтера мы бросили якорь между Дюнкерком и Дауном. Распроклятые англичане захватили нас врасплох, налетев на нас с попутным ветром. Наш корабль был в составе шедшей впереди эскадры Корнелиса Тромпа. Тромп распорядился рубить канаты, потом мы пристали к побережью Франции. Прямо перед моим носом шлепнулось ядро из пушки, и так разнесло палубу, что только щепки полетели. Вот одна из них и угодила мне в глаз. А четыре дня спустя мы надрали задницу англичанам, как полагается! Из стремления подкрепить чувство симпатии я предложил кабатчику поднять кружки за здоровье адмирала де Рюйтера. Разумеется, я и не думал напоминать ему о том, что голландский флот полутора месяцами позже получил от британцев знатную взбучку, — к чему бередить раны старого моряка? А взбучка британцев была действительно что надо — двадцать голландских кораблей пошли ко дну, не потопив в отместку ни одного британского! Хозяин поведал мне о наследстве, полученном им от кого-то из родственников, которое и позволило открыть этот кабак под названием «Золотой якорь». Я весьма благожелательно отозвался о его заведении, чем окончательно завоевал расположение одноглазого, вскользь упомянув, что рекомендовала его мне одна моя знакомая. — Знакомая, говорите, кто же, если не секрет? — ГезаТиммерс, — ответил я, внимательно наблюдая за обрюзгшей физиономией хозяина. — Геза? — Только что светившееся довольством лицо вмиг помрачнело. — Вы слышали, что с ней стряслось? Я кивнул: — Слышал. Весь город только об этом и говорит. Бедняжка. — Да уж, бедняга, что тут еще скажешь. Этот Юкен заживо порубил ее на куски! — Вам нравилась Геза? Ответом была ухмылка. — Нет, поймите меня верно — она была девчонка как девчонка. Денег у нее было негусто, а выпить она была не дура. И частенько готова была расплатиться единственным своим сокровищем, если вы понимаете, о чем я. — При этих словахлицо Франса приняло похотливо-сочувственное выражение. Меня так и подмывало заехать кулаком прямо в его щекастую морду, но я сдержался. — Вы слышали, что у Юкена с Гезой скандал вышел? — Слышал, конечно, во время этого скандала он ее и прикончил. — Он и накинулся на нее за то, что она была здесь, в «Золотом якоре», в субботу вечером. — Вот оно что! А я и не знал. — Так она заходила сюда или нет? — Заходила, — без особой охоты признался Франс. Я заставил себя улыбнуться до ушей. — И что же, вновь ей пришлось расплачиваться единственным своим сокровищем? — К сожалению, нет. Она тогда была при деньгах, я не знаю, откуда они у нее взялись, да и знать не желаю. Может, перед этим кто из богатеньких на нее позарился, да и одарил. — Так она и этим занималась? — Время от времени, если уж совсем ни гроша не оставалось. — А ее ухажер, с которым она жила, тоже был в курсе? — Юкен? Вот уж не знаю. Но она не для него деньги зарабатывала, это уж точно. Слишком уж была горазда выпить.Отправляясь из «Золотого якоря» на квартиру Осселя, я вновь и вновь перебирал в памяти услышанное от одноглазого хозяина. Неужели она сгоряча выпалила Осселю обо всех своих ухажерах и тот прибил ее из ревности? Нет, тряхнул я головой, глупость, да и только. Если уж я готов видеть в Осселе заурядного убийцу, что тогда говорить о представителях нашего правосудия? Я слишком мало знал о Гезе Тиммерс, чтобы составить себе правдивую картину. Еще меньше я понимал, что все-таки Оссель мог найти в этой особе? Занимая такую должность в Распхёйсе, он вполне мог рассчитывать на более приличную женщину. У дома, где за сутки до этого разыгралась кровавая трагедия, играла детвора. Дети перебрасывали друг другу тряпичный комок, который при большом желании можно было назвать мячом. Подозвав к себе одного из найти управляющего. Молниеносно схоронив монету в лохмотьях, он показал мне дверь в одну из квартир с окнами побольше. «Там и найдете “эту старую чертовку Декен”», — как выразился малый. Хозяйкой оказалась почти беззубая вдовушка, которая, по ее же словам, следила за домом по поручению его владельца. Принимая во внимание царившую вокруг запущенность, она явно не перегружала себя заботами. Я представился одним из приятелей Осселя Юкена, что, в общем, было правдой, который по его поручению пришел сюда присмотреть, все ли здесь в порядке, что не тянуло даже на полуправду. Не знаю, поверила она мне или нет, но после того, как еще один мой штюбер обрел нового владельца, мне с готовностью отперли дверь в жилище Осселя. Взору моему предстали черепки разбитых тарелок и чашек, обломки стула — разбросанные свидетельства скандала с рукоприкладством. Потом я заметил большущее темно-красное пятно на стене: запекшаяся кровь. Невольно приглядевшись, я заметил присохшие волосы. — Вот здесь он ее и приговорил, — изрекла вдова Декен. Впрочем, я и без ее пояснений все понимал. — Бил головой о стену, пока не убил. — Откуда вы знаете, что все именно так и было? — Я?.. Ну, так мне кажется. Откуда тогда взяться этому пятну на стене? Да и голова ее была мягче теста, когда за ним пришли. Я невольно поежился, представив себе эту сцену. Но я шел сюда не за этим. Картина! Она стояла у стены, чуть ниже отвратительного пятна. Обведя пристальным взглядом комнату, я убедился, что картина исчезла. Я поинтересовался у старухи, где она. — Что? Картина, говорите? — Она искренне рассмеялась и покачала головой: — Нет, сударь, ничего подобного у Юкена не было и в помине, никаких картин он не покупал. Здесь, в этом доме, сударь, картины не в ходу. Большинство тех, кто здесь живет, с хлеба на воду перебиваются. — Это была не его картина, он только взял ее на время, — пояснил я, указывая на дверь спальни. — Может, туда ее поставил? Хозяйка ничего не имела против, чтобы я заодно осмотрел и крохотную спальню, но и там мои поиски ничего не дачи. Вернувшись, в комнату, служившую гостиной, я неожиданно обнаружил рядом с вдовой Декен щуплого мужчину, лет тридцати с небольшим, прилично и опрятно одетого. Явно не из здешних жильцов, заключил я. Выдержав паузу, во время которой он обозрел меня с ног до головы, мужчина осведомился: — Кто вы? И что здесь делаете? Я уже раскрыл было рот, чтобы ответить, но старуха опередила меня: — Это друг Юкена, он ищет какую-то картину. Но ее здесь нет. У этого Юкена не было денег картины покупать. — Картина? — удивленно переспросил незнакомец, не отрывая от меня пронзительного взора. — Что за картина? — А с какой стати мне перед вами отчитываться? — вопросом на вопрос ответил я. — Кто вы такой? — Ах, простите, простите мою бесцеремонность! — Улыбнувшись, он стянул с головы шляпу с перьями и вежливо поклонился. — Иеремия Катон, инспектор амстердамского участкового суда, которому поручено вести расследование этого преступления. Имею все надлежащие полномочия. — А что здесь расследовать? По-моему, всем и так ясно, что здесь произошло. — Оссель Юкен занимал должность воспитателя в Распхёйсе, следовательно, принадлежал к числу государственных чиновников. Поэтому участковый судья счел необходимым провести тщательное расследование случившегося. А теперь я был бы весьма признателен вам, если бы вы назвали мне свое имя. Слёдуя примеру судебного инспектора Катона, я снял с головы смятую, всю в пятнах, без перьев или иных украшений шляпу и, тоже вежливо поклонившись, представился. — Стало быть, вы утверждаете, что вас зовут Корнелис Зюйтхоф и что вы приятель Осселя Юкена. При каких обстоятельствах вы познакомились? Волей-неволей я поведал инспектору Катону о своей деятельности в исправительном заведении Распхёйс, не забыв присовокупить и свое недавнее увольнение. Выслушав мой рассказ, Катон погладил ухоженную бородку и едва заметно кивнул. — Если вы готовы были поступиться должностью ради блага Юкена, вы наверняка настоящий товарищ. А какое отношение ко всему этому имеет упомянутая вами картина? Я не стал скрывать того, что узнал от Осселя. Все равно это уже ничего для него не меняло. Снявши голову, по волосам не плачут — если тебе предъявлено обвинение в убийстве, тут уж не до какой-то дурацкой картины, которую ты тайно приволок заключенному в камеру! Смешно! — И теперь вы намерены разыскать эту картину? Вы, случаем, не собираетесь передать ее в карцер вашему другу? — недоверчиво осведомился инспектор Катон. — Нет, не собираюсь, просто мне хочется еще раз взглянуть на нее. — Зачем вам это? — Затем, что мне не дает покоя одна сумасбродная мысль. Катон снова улыбнулся, на сей раз ободряюще. — Возможно, и не такая уж сумасбродная. Может, поделитесь ею, сударь? — Не вызывает сомнения, что картина эта находилась в доме красильщика Гисберта Мельхерса в момент совершения им убийства жены и детей. Она же была при нем и в камере, когда он решил свести счеты с жизнью. В субботу она перекочевала сюда, к Осселю. Вот здесь она стояла, на этом месте у стены. И здесь же, в точности на этом месте Оссель вчера вечером убил свою сожительницу. То есть картина присутствовала во всех трех трагических случаях. Мне кажется, это не может быть случайным совпадением. Катон озадаченно потер подбородок. — Вероятно, вы правы, Зюйтхоф. Но что из этого следует? — А не может быть так, чтобы это полотно каким-то образом провоцировало на убийство? Инспектор участкового суда посмотрел на меня, словно на тронутого, и я тут же поспешил добавить: — Именно это и кажется мне сумасбродным. — Убийство всегда дело рук убийцы, а не тех, кого художнику вздумалось изобразить на холсте, — категорически заявил Катон. — С другой стороны, в вашем утверждении также присутствует определенная доля логики. Вероятно, картина все же играет определенную роль, но другую, не ту, которую вы приписываете ей. Кстати, где она? — Если б я знал! Во всяком случае, здесь ее нет, я все здесь обшарил. Катон внимательно посмотрел на хозяйку: — Вы не знаете, куда подевалась картина? — Нет, мой господин, — скороговоркой ответила она. Голос ее заметно дрожал, вдова Декен всеми силами старалась отвести взгляд. — Вот что, давайте-ка выкладывайте все начистоту, сударыня, а не то вас ждет суровое наказание! — В тоне инспектора звенел металл. — Наказание? За что? — Если надумали обвести меня вокруг пальца, обещаю вам, что вас публично высекут! — Но… но я не собираюсь вас обманывать, мой господин, поверьте. Надо же — публично высекут. Боже всемогущий, разве я такое переживу?! — Если вы сию минуту не скажете мне правду, я не стану докладывать обо всем участковому судье, — заверил инспектор вдову Декен. — Так что расскажите мне все без утайки. Вдова Декен в молитвенном жесте сложила ладони. — Я все, все расскажу вам, мой господин! — Давайте, выкладывайте все, что знаете об этой таинственной картине! — Один господин приходил за ней около часа тому назад. — Кто приходил? Что за господин? Как его звали? — Он себя не назвал, господин судебный инспектор. Только сказал, что пришел забрать картину из квартиры Юкена. Картина стояла вот тут, у стены. Этот господин завернул ее в свой плащ и унес прочь. Больше мне ничего не известно. — А почему вы поверили ему? Почему отдал и ее? — продолжал задавать вопросы Катон. — Он… он дал мне три штюбера. — Больше вы о нем ничего не знаете? Он не сказал, кем послан? — Нет, он вообще был не очень разговорчив. — Как он выглядел? — Он был хорошо одет, вроде вас, мой господин, и у него темная борода. Но я его не разглядывала. Особенно после трех полученных от незнакомца штюберов, мелькнула у меня мысль. Нет, из этой старухи уже ничего выудить не удастся. — В общем, неясностей с картиной все больше и больше, — сделал вывод Катон. — Будете заниматься ею? — полюбопытствовал я. — В рамках своих полномочий и возможностей. Правда, если исходить исключительно из того, что мне стало известно о картине, далеко не продвинуться. Но вы уж не суйте нос в это дело, Зюйтхоф, прошу вас. И еще: мне на всякий случай понадобится ваш адрес. Я назвал Катону адрес и попрощался с ним. Но уже на лестнице до меня донесся его голос. Судебный инспектор вновь настоятельно рекомендовал мне идти домой и выбросить это дело из головы.
Однако вопреки совету господина судебного инспектора я направил стопы совсем не домой. Мне нужно было кое-что еще сделать для Осселя — я не мог полагаться только на усилия представителя правосудия Иеремии Катона, действуй он хоть из самых лучших побуждений. Может быть, мне так и не удастся узнать, куда исчезла картина, но я непременно должен был попытаться отыскать следы ее происхождения. И я отправился к каналу Ферберграхт, его грязноватые воды пестрели передо мной в ярких лучах утреннего солнца. У служанки, подметавшей лестницу у входа в солидный дом, я осведомился о местожительстве красильщика Мельхерса. Оказалось, Мельхерс жил вблизи деревянного моста через Ферберграхт. Ворота во двор были распахнуты, так что пройти не составило труда. За исключением стоявших настежь ворот, все здесь выглядело вполне обычно, что меня немало удивило. После самоубийства владельца мне казалось, что его дело неизбежно развалится. К тому же был понедельник, слывший среди красильщиков «синим понедельником». Дело в том, что заложенные с субботы в чаны для окраски ткани по понедельникам вывешивались на просушку. И поскольку ткань именно после просушки обретала нужный оттенок синего цвета, первый день недели получил такое прозвание. Подмастерья в этот день не особенно перегружены работой, поэтому у Ферберграхт обычного оживления не наблюдалось. Свернув за угол, я заметил огромные деревянные козлы для просушки тканей. Здесь, несмотря на отсутствие зоркого глаза Мельхерса, кипела работа. Медленно миновав вывешенное для просушки полотно, я оказался у открытой двери в уставленный чанами красильный цех. Подойдя ближе, убедился, что они заполнены раствором желтого цвета. И тут же из завешенного большой портьерой угла цеха до меня донеслись мужские голоса. Затем кто-то рассмеялся, и послышались голоса то ли женщин, то ли детей. Отодвинув портьеру, я стал свидетелем не совсем обычной сцены. Трое взрослых мужчин и несколько мальчишек-подмастерьев, спустив штаны, увлеченно мочились в один из деревянных чанов. Меня это не очень поразило, поскольку мне приходилось слышать, что при приготовлении красильного раствора используется моча, но непосредственно процесс ее сбора мне наблюдать не доводилось. Рослый широкоплечий мужчина, не прерывая своего занятия, как ни в чем не бывало обратился ко мне: — Кто вы? Чего здесь потеряли? — Меня зовут Зюйтхоф, — выдавил я, борясь с приступом накатившей тошноты. Вонь здесь стояла несусветная. — Кто сейчас замещает мастера Мельхерса? — Обращайтесь ко мне, если вас что-то интересует. Я мастер-красильщик Аэрт Тефзен. — Тефзен, — повторил я, присматриваясь к мужчине. — Вы… не тот, кто обнаружил в чане головы несчастных? Бородатая физиономия рабочего посерьезнела. — Он самый. Но почему вы спрашиваете? — Мне бы хотелось задать вам парочку вопросов, господин Тефзен. Подтянув перепачканные штаны, он подошел ближе. — Вы из суда или из магистрата? — Нет-нет, я по своей воле. Я и не надеялся здесь кого-нибудь застать. А вы, стало быть, все же продолжаете работать и без мастера Мельхерса? — У нас уже новый мастер, Антонис тер Кёйле. Он приобрел мастерскую мастера Мельхерса. И вот с сегодняшнего дня мы возобновили работу. — А, так вот почему здесь работа кипит, невзирая на «синий понедельник», — констатировал я, невольно поморщившись, когда взгляд мой упал на чан. — В понедельник всегда хорошо подсобрать жидкости — в воскресенье все заливают за воротник. Но что вас привело сюда? — Меня интересует одна картина. Та, что принадлежала вашему прежнему мастеру. Он так был к ней привязан, что даже позаботился о том, чтобы ее тайком доставили к нему в камеру, когда он сидел в Распхёйсе. Наверняка она вам известна. Вы ведь сами притащили ее в Распхёйс. Гефзен еще больше помрачнел. У носа пролегла глубокая складка. — А вам-то какое дело до нее, любезнейший? — Она исчезла, и мне хотелось бы знать почему. Работник красильной шагнул ко мне и схватил за отвороты сюртука. — Может, все же расскажете мне об этой картиночке, а? К чему она тебе понадобилась? Что вы здесь ищете? Кто вас направил сюда? — Никто меня не направлял. Мне всего лишь хочется узнать, что кроется за всеми этими кровавыми преступлениями. — А вот мне хочется знать, что вы здесь вынюхиваете, черт бы вас побрал! Он так рванул меня, что я с трудом устоял на ногах. На помощь ему подоспели еще двое работников и тоже сграбастали меня своими грубыми лапами. Эх, спохватился я, сейчас бы мне здорово пригодился мой испанский ножичек. Но поздно. Меня стиснули так, что и пошевелиться не мог. — Давай, говори! — рявкнул на меня Тефзен. — Чего ты здесь вынюхиваешь? — Я хочу помочь своему другу, — промямлил я. — Другу, говоришь? Кому же? — Осселю Юкену, воспитателю из Распхёйса. — Так он же вчера угробил свою женушку, или кто она ему там. — Все верно, поэтому я и здесь. Когда Юкен убил Гезу — если все так и было на самом деле, — картина находилась в его квартире. — Вот как! — В глазах Тефзена застыло недоверие. — Но ты же только что сказал, что она исчезла. — Могу и повторить — да, исчезла. — Мне кажется, ты заливаешь, любезнейший. Но я вытрясу из тебя правду. — Тефзен мельком взглянул на своих коллег и злорадно улыбнулся. — Пусть-ка он кое-чего хлебнет, может, это развяжет ему язык! Все, дружно загоготав, потащили меня к чану, куда только что справили нужду. Я изо всех сил сопротивлялся, но куда там — разве мог я устоять против этих битюгов? Дотащив меня до чана, они сунули мою голову в отвратительно теплую, зловонную жидкость. Зажмурившись, я задержал дыхание, но сколько я мог так продержаться? Инстинктивно разинув рот, я наглотался мерзкой дряни. И тут же сильные руки подхватили меня и вытащили. Я стал жадно вдыхать воздух, поперхнулся, и меня вырвало. Схватившись за край чана, я опустился на залитый мочой пол. Чтобы довершить акт чудовищного унижения, двое сопляков-подмастерьев, обнажив свои перцы, щедро окропили меня с ног до головы. — Ну так как? Будемговорить или в молчанку играть? — участливо осведомился Тефзен. — А я разве молчу? — кое-как вымолвил я, преодолевая спазмы в глотке. — Говорить-то говоришь, это так, но только ничего пока не сказал. — Я все сказал, что знаю. — Видно, купание плохо на него подействовало. Надо его как следует обмакнуть. Я попытался вырваться, но эта троица свое дело знала. Подтащив меня к чану побольше, они бросили меня в него. Я точно беспомощный котенок барахтался в этой зловонной дряни, отдававшей спиртом и мочой. Стоило мне высунуть голову, чтобы запастись воздухом, как чья-нибудь лапища снова погружала меня в жидкость. И так несколько раз. Я попытался выбраться из чана, но силы мои были уже на исходе. Единственное, что я мог, так это подобраться кое-как к краю чана да выплюнуть дрянь. — Сейчас точно заговорит, — деловито заметил один из красильщиков. — А не заговорит, так вывесим его на улице на просушку, — с угрозой произнес Тефзен. — Вот будет зрелище! — Зрелище будет, когда вы, уважаемые, объясните мне, что здесь происходит. И почему, — раздался уже знакомый мне чуть ироничный голос. Человек приблизился. Синие перья на шляпе. Одежда с иголочки. Судебный инспектор Катон. — Как я вижу, вы не последовали моему совету отправиться домой, господин Зюйтхоф, — констатировал Катон. — Что ж, ладно, но, на ваше счастье, наши планы совпали. — Это уж точно, — пробулькал я в ответ, принимая его руку и выбираясь из чана. Тефзен одарил инспектора злобным взглядом: — Вы бы не вмешивались в наши дела, сударь! Мне, честно говоря, вот где сидят все эти любопытные, которые ходят да всякое вынюхивают. — И я буду здесь, как вы изволили выразиться, вынюхивать, причем столько, сколько пожелаю, — отрезал Катон и тут же по всей форме представился. — Еще одно слово, и вас еще до полудня высекут как следует в Распхёйсе. Уяснили? — добавил он. Угроза быть исполосованным плетью подействовала на строптивую публику. Мгновенно воцарилась тишина, и все как один подмастерья виновато уставились в пол. — Что заставило вас столь безобразным образом обойтись с господином Зюйтхофом? — повысив голос, спросил Катон. — Он уже второй, кто приходит сюда и выясняет, что да к чему. Насчет чертовой картины, — ответил Тефзен. — И нам просто захотелось узнать, в чем дело. — Второй, говорите. Очень, очень любопытно, — пробормотал инспектор. — Кто же в таком случае был первым? — Тот не представлялся. Просто спросил насчет картины. Я сказал, что мастер Мельхерс велел отнести ее в Распхёйс. И незнакомец тут же ушел. — Опишите мне этого человека! — потребовал Катон. Хотя представленное красильщиком описание таинственного человека особыми деталями не отличалось, речь могла идти только о том же самом человеке, который приходил к вдове Декен на квартиру Осселя. — А кто автор картины? — продолжал задавать вопросы Катон. — Это вам известно? Никто из красильщиков не мог ничего сказать. — Дней десять тому я впервые увидел ее в доме Мельхерса, — сказал Тефзен. — Но как она туда попала, не знаю. Катон повернулся ко мне: — Шли бы вы домой и хорошенько выкупались, мой дорогой Зюйтхоф. Горячая ванна явно пойдет вам на пользу. А потом поспите пару часиков. Вид у вас даже хуже, чем вонь, которая исходит от вас. На сей раз я внял его совету. По пути к себе домой, в уютную квартирку хозяюшки Йессен, меня еще пару раз вырвало.
Глава 5 Пятница, 13-е
Вдова Йессен сначала всплеснула в ужасе руками, но потом, опомнившись, согрела воды, вылила ее в деревянный ушат и приказным тоном велела мне раздеться. Я послушно разделся — после событий сегодняшнего дня я уже не в силах был сопротивляться. Горячая вода подействовала на меня как Божья благодать. Вдова проворно намылила меня пахучим мылом, ополоснула, затем пару раз повторила процедуру, пока наконец исходивший от меня смрад не улетучился. После купания, затянувшегося, как мне показалось, часа на два, добрейшая душа Йессен уложила меня в постель. Я провалился в беспокойный, наполненный будоражащими видениями сон. Мне приснился Оссель, он стоял передо мной в складском помещении Распхёйса, как это было в субботу. Но на сей раз он намеревался преподать мне урок единоборства. Руки Осселя были в крови, и стоило ему протянуть их ко мне, как глаза его зажглись кровожадным блеском. Я отвернулся, попытался убежать прочь и угодил к тем самым работягам красильни, которые тут же окатили меня мочой из чана. Сон носил характер сцены, наблюдаемой мною со стороны. Я с ужасом смотрел, как постепенно перекрашиваюсь в ядовито-синий цвет. Мною вновь овладело желание умчаться прочь, но и на сей раз меня схватили и препроводили. Нет-нет, я не был заточен в камеру Распхёйса, не в тамошний карцер, а в картину! Я обратился в запечатленный кистью на полотне, выдержанный в ярко-синих тонах персонаж, и весь мой вновь обретенный мир ограничивался золоченым багетом рамы. Такова была тематика сновидений, изводивших меня ужасающим правдоподобием, обилием фантастических тварей, самых невероятных событий и метаморфоз. Пробудившись от этого кошмара, я был несказанно рад вырваться из плена ночных демонов. Щурясь от яркого света, хлынувшего с улицы, я лежал на узкой кровати в своей комнате. Солнце успело высоко подняться над крышами Амстердама, так что наверняка приближался полдень. Оказывается, я проспал всего-то пару часов, даже не верилось, что за такое короткое время сна можно увидеть столько кошмаров, на мое счастье, начинавших исчезать из памяти. И тут меня осенила догадка, что я мог проспать не пару часов, как мне показалось вначале, а куда дольше. Усаживаясь в постели, я не заметил стоявшей на маленьком столике рядом миски с водой и нечаянно ткнул ее локтем. Миска упала на пол и разлетелась на куски. На полу образовалась лужица. Я невольно тряхнул головой, чтобы прогнать оцепенение. На подушку шлепнулась приложенная ко лбу влажная салфетка. И тут на звук разбившейся миски появилась моя квартирная хозяйка, вдова Йессен. Нагнувшись, она стала тряпкой вытирать пролитую мною воду. — Вы уж простите меня, госпожа Йессен, — еле ворочая языком, пробормотал я. — Я не заметил миски. Откуда она тут взялась? Я ее сюда не ставил. — Разве я могу винить вас, господин Корнелис? Это я поставила ее туда, чтобы было удобнее смачивать салфетки. Доктор велел прикладывать ко лбу холод. — Доктор? — Когда вам стало хуже, я сходила за доктором ван Бийлером. Я поила вас с ложки микстурой, которую он прописал, и прикладывала ко лбу смоченные водой салфетки. Только это и помогло сбить жар. Злую же шутку сыграли с вами, господин Корнелис. Вам надо подать в суд на этих бандитов-красильщиков. — Нет у меня денег на суды, госпожа Йессен. Скоро их у меня вообще не будет — я ведь уже не служу в Распхёйсе. Хозяйка кивнула: — Да-да, я знаю. Из Распхёйса приходил человек и принес полагающееся вам жалованье. Я положила деньги в шкатулку, где вы держите ценные вещи. Ценные вещи! Тоже мне! Будто я владел сокровищами. На самом деле все, что у меня оставалось, так это доставленное из исправительного заведения жалованье за истекший месяц. Я снова посмотрел на лившийся из окна свет и спросил: — Сколько же я проспал? Наверняка больше суток? Вдова Йессен не могла удержаться от смеха. — Вы шутите, господин Корнелис! Ведь шутите, признайтесь! — Не вижу в этом ничего смешного. — В моем голосе звучала обида. — Горячка долго не желала выпускать вас из своих цепких когтей. Доктор ван Бийлер считает, все это из-за той гадости, которой вы наглотались в красильном чане. — Она стала загибать пальцы. — Так, значит, вторник, среда, четверг, пятница. Выходит, четверо суток вы не приходили в себя. Ни часом меньше. Я не сразу осознал услышанное. Неужели вдова Йессен решила подшутить надо мной? Но, видя ее розовую добродушную физиономию, я отбросил подобные подозрения. И все же переспросил: — А что, сегодня и на самом деле пятница? — Ну да, пятница, тринадцатое августа. Этот день сам Господь велит провести в постели. Суеверия, которым была подвержена моя квартирная хозяйка, с трудом увязывались с истовостью прихожанки. Я уже не раз подтрунивал над ней, когда она не желала пройти там, где только что пробежала черная кошка, или под стоящей лестницей. Все эти мысли явно были написаны у меня на лице, ибо я тут же удостоился осуждающего взгляда. — Вижу, вы не верите, молодой человек. Вот доживете до моих лет и поверите, что всеми нами управляют силы, видеть и чувствовать которые нам не дано. Сын моей сестры, да смилостивится Господь над несчастным Хендриком, появился на свет именно 13 числа, вдобавок в пятницу. Когда ему исполнился год, он умер, просто так, внезапно умер. А мой племянник решил назначить на пятницу тринадцатого числа свадьбу. В этот день случилась страшная гроза, и, представьте себе, молния ударила прямо в толпу гостей. Троих убила на месте, и очень многие пострадали. Нет-нет, и не пытайтесь переубедить меня — пятница, тринадцатое, один из самых страшных дней. И для вашего приятеля, между прочим. Тут мою веселость как рукой сняло. — Уж не Осселя ли Юкена вы имеете в виду? — недоуменно переспросил я. Вдова Йессен кивнула. — А что с ним? Вы уж договаривайте! — Еще вчера был приговор, — упавшим голосом продолжила она, потупив взор. — Перед ратушей его удушат на столбе, а голову разобьют. В точности так же, как он разбил голову Гезе. Мне вдруг стало нестерпимо жарко. — То есть вы хотите сказать, что вина его доказана? — прошептал я. — Никаких сомнений в его виновности нет. Все, вероятно, так и было. Наверное, в целом Амстердаме я был единственным, кого терзали на этот счет сомнения. — На какое число назначена казнь? — спросил я, страшась ответа. — Его казнят сегодня в полдень. Вскочив с кровати, я, невзирая на энергичные протесты хозяйки, стал натягивать на себя одежду. Благодаря стараниям вдовы Йессен одежда была выстирана и выглажена и даже отдаленно не пахла той дрянью, в которой меня усердно вымачивали красильщики. Взглянув на себя в стоявшее подле кровати зеркало, я убедился, что лучше было в него не смотреть. На меня уставился измученный, бледный субъект с изрядно отросшей щетиной на впалых щеках. — Вы еще очень слабы, чтобы разгуливать по городу, — попыталась вразумить меня вдова Йессен. — Пропадете совсем, господин Корнелис. Не забывайте — сегодня пятница, тринадцатое число! Оставив вдову наедине с ее причитаниями, я на подгибающихся от слабости ногах сбежал по лестнице. Время неумолимо близилось к полудню — моменту казни моего друга Осселя. Дойдя до дверей на улицу, я остановился отдышаться. Голова страшно кружилась. Может, госпожа Йессен права и мне не стоило покидать постель? Вдохнув и выдохнув несколько раз подряд, я выпрямился и вышел на улицу. Путь мой лежал к городской ратуше. Уже скоро я с трудом пробирался сквозь толпы людей, устремлявшихся к месту казни, — похоже, весь Амстердам, за исключением занятых на работе, жаждал поглазеть на жуткое зрелище. Пестрая толпа заполонила все улицы между ратушей, церковью Ньювекерк, Оуде-Вааль и Купеческой биржей. Передо мной плясали перья на шляпах именитых горожан, степенно возвышались высокие черные головные уборы торговцев и коммерсантов, мелькали вызывающе нахлобученные бесформенные картузы простолюдинов, колыхались широкополые шляпы молодых дам, белели колпаки бесчисленных служанок. Немилосердно расталкивая всех, невзирая ни на сословную принадлежность, ни даже на возраст, я пробирался вперед, и вскоре моему взору открылся эшафот с установленным на нем орудием умерщвления — столбом, у которого предстояло окончить жизнь Осселю Юкену. Я не успел пробраться поближе, как зазвучали фанфары, и толпа утихла. Призыв фанфар сменила барабанная дробь, и со стороны ратуши к месту казни двинулась необычная процессия. Во главе ее выступали стражники. Их каменные лица и угрожающе сверкавшие в лучах солнца алебарды вмиг утихомирили даже самых бесцеремонных зевак. Вот показался трубач, за ним — высокие особы из магистрата, далее приговорившие Осселя к смерти судьи, и, наконец, я увидел его самого. Со связанными за спиной руками он обреченно шагал между двух алебардистов к эшафоту. Некогда упитанная физиономия исхудала, осунулась, голова безжизненно поникла, а пустой взгляд был устремлен в пространство. Как же не походил этот парализованный отчаянием человек на прежнего Осселя Юкена, весельчака, силача, моего единственного друга. Я еле сдерживался, чтобы не позвать его, но к чему? Разве мог я хоть что-то изменить теперь? Ровным счетом ничего. И все же как мне облегчить выпавшую на его долю участь? Ведь должен существовать способ убедить суд в том, что, дескать, этот случай не совсем обычный, что человек, совершивший ужасное преступление, — сам жертва обстоятельств, пусть до сей поры пока неведомых, скрытых для разума. Я попытался протиснуться ближе к процессии, но плотная толпа не позволяла даже шевельнуться. В отчаянии я во весь голос стал молить власти о пощаде, но мой призыв потонул в гомоне толпы. Наоравшись до хрипоты, я прекратил попытки. Я пришел сюда в твердом намерении помочь другу, но мне была уготована роль одного из этих бесчисленных зевак, окруживших эшафот. Судьбе было угодно, чтобы я, не в силах ничего изменить, взирал на то, как моего друга Осселя Юкена сначала привязали спиной к страшному столбу и удушили при помощи толстенной веревки, накинутой на шею палачом. До конца дней своих мне не забыть, как боролся Оссель за каждый глоток воздуха, как задыхался, как его большое, сильное тело, содрогнувшись в предсмертной конвульсии, вдруг враз обмякло, как жутко белели на посиневшем, перекошенном лице закатившиеся, выпученные глаза. Когда голова Осселя бессильно склонилась набок, я даже почувствовал странное, противоестественное облегчение. А когда палач, намереваясь довершить ужас этого акта, поднял тяжеленный молот, я, будучи не в силах видеть, как голова Осселя станет кровавым месивом, зажмурился. Но воображение художника сделало свое черное дело — картина чудовищной расправы еще долго преследовала меня.Толпа медленно продвигалась мимо лавчонок и лотков — только что завершившийся чудовищный спектакль сулил торговому люду недурные барыши. Какой-то, явно лишенный слуха, безголосый крикун, именовавший себя певцом, затянул песню о некоем Осселе Юкене, который из ревности угробил свою подружку. Девчонка, совсем еще ребенок, обходила собравшихся со шляпой в руке, безмолвным взором упрашивая пожертвовать хоть штюбер. Люди изредка бросали в шляпу мелкие монетки. Когда она добралась до меня, я лишь помотал головой в ответ. Но девочка не отставала от меня, бесцеремонно тыкая шляпой мне в грудь. Откуда-то сбоку вдруг возникла изящная мужская рука и бросила монету. Явно довольная попрошайка исчезла. — Понимаю вашу неохоту, господин Зюйтхоф, — примирительно произнес судебный инспектор Иеремия Катон. — Будь это хоть выдающийся оперный тенор, вас он вряд ли утешил бы в такой день. Не говоря уже о словах этой, с позволения сказать, песни. — Вы правы, день и в самом деле такой, что лучше не придумаешь, — согласился я. И тут же вполголоса добавил: — Сегодня ведь пятница, тринадцатое число. — Что вы желаете этим сказать? — Да нет, ничего особенного, — смешавшись, пробормотал я в ответ. Мне ужасно трудно было продолжать этот разговор. — Виду вас, Зюйтхоф, прямо скажем, неважнецкий. Похудели, краше в гроб кладут. Уж не захворали ли вы? Я кивнул: — Все это последствия того самого купания, когда я по милости скотов-красильщиков наглотался божественного нектара из красильного чана. — Тогда вам следовало бы принять внутрь что-нибудь настоящее. Да и поесть явно не помешало бы. Вон там, видите, рядом с церковью есть отличная харчевня. Пойдемте, я вас приглашаю. Я невольно обернулся — бросить прощальный взгляд на эшафот, но Катон взял меня за локоть. — Вы лучше постарайтесь запомнить вашего друга таким, каким он был при жизни! Расквашенный череп, знаете ли, явно не тянет на образ для воспоминаний. Благодаря казни и владелец этой харчевни явно не оставался внакладе. С великим трудом нам удалось устроиться на деревянной скамье у самой стены длинного, словно гроб, зала. Катон велел принести нам пива и рыбный суп, и почти тут же светловолосая упитанная девица поставила перед нами две кружки пива и объемистые миски. Судебный инспектор принялся смаковать суп, я же отхлебнул пива. Не мог я сейчас взяться за еду, когда у меня перед глазами стояла ужасная картина казни. — Вам надо заставить себя поесть, — посоветовал инспектор Катон. — Судя по вашему виду, вам явно не повредит съесть пару ложек супа. — Чего это вдруг вы стали проявлять ко мне такую заботу? Совесть замучила? Катон удивился не на шутку. — При чем здесь совесть? С чего это вы взяли? — Вы палец о палец не ударили, чтобы уберечь от плахи Осселя Юкена. — Этого от меня никто не требовал, да у меня и не было подобных намерений. К тому же я не сомневался, что ваш друг — убийца. Судьи поступили соответственно, так что поделом ему. Пощади убийцу, и другие почувствуют себя вольготно. Вижу, я вас не убедил, Зюйтхоф. Вы что же, до сих пор верите, что Юкен никого не убивал? Мне вспомнился мой визит в карцер, потерянный, полный отчаяния взгляд Осселя. Такого у истинного убийцы не встретишь. Обреченность того, кто стал убийцей не по своей воле. В его взгляде сквозило непонимание произошедшего. И снова эта брошенная им будто в полузабытие фраза: «Картина… Все дело в этой картине… Эта синева… лазурь…» — Я верю, что Оссель своими руками убил сожительницу, — помедлив, признался я. — Ну вот, видите! Я уж было подумал, что ваше расположение к нему перевесило доводы разума. — Но разве не может быть так, что он в этом невиновен? — Вы уж потрудитесь разъяснить. — Вспомните напившегося до безумия. Ведь он не отвечает за свои поступки. В пьяном угаре ему ничего не стоит и убить, и искалечить человека, словом, без колебаний пойти на то, на что никогда не отважился бы в трезвом рассудке. В таком состоянии человек во власти винных паров, и ничего другого. — Ну и ну! В вас явно гибнет адвокат, Зюйтхоф. Если следовать вашей аргументации, в будущем для убийц наступит райская жизнь. Влей в себя побольше, а потом убивай, режь, души! И все тебе с рук сойдет. Вы серьезно так считаете? — Не каждый пьяный начисто теряет разум. Но не будем об этом спорить, это всего лишь пример. И я не знаю, сколько Оссель выпил в субботний вечер. — Ну, во всяком случае, трезвым он явно не был. И он, и эта Геза любили выпить. Я невозмутимо продолжал: — А разве не может человек вдруг оказаться под воздействием чего-то, что действует на него сродни опьянению и заставляет совершать поступки, которые он и не думал совершать? — Убить, например? — В том числе и убить. — И что же это, по-вашему, такое? — Мне вновь приходит на ум картина. Почему Оссель упомянул о ней, когда я пришел к нему в карцер? Ведь он явно не случайно вспомнил и заговорил о ней. Подумав, Катон покачал головой: — Я что-то никакой связи не улавливаю. Не может картина взять да и убить кого-нибудь. И одурманить подобно алкоголю тоже не может. — Вы, как я понимаю, живописью не увлекаетесь? — Ну, есть у меня дома парочка картин. — Но они для вас ничего особенного не представляют, ведь так? — Почему же. Стены ведь надо чем-то заполнять, а не то они выглядят неуютно. — Вашего мнения придерживаются очень и очень многие. И множество художников, выполняя очередной заказ, руководимы сходными мыслями. Но ведь есть и другие картины. Они способны опьянить того, кто на них засматривается, лишить рассудка. Заставить его восторгаться, переживать, восхищаться или даже повергнуть в ужас. — Но не толкнуть на убийство! — Вы высказали довольно любопытную мысль и тут же начисто ее опровергли, уважаемый господин Катон. Может, вам все же следует додумать ее до конца, а уж потом делать окончательные выводы? Сделав глоток пива, судебный инспектор принялся сверлить меня взглядом. — Зюйтхоф, вы правда верите в то, что говорите? Считаете, что эта загадочная картина подтолкнула вашего приятеля на убийство? — Она висела в доме красильщика Мельхерса, когда он убил жену, сына и дочь. Она находилась в камере Мельхерса, когда он покончил жизнь самоубийством. И она же была в доме Осселя, когда погибла Геза Тиммерс. — Все это мне хорошо известно. А где она сейчас? — Как раз это я рассчитывал узнать от вас. — Что ж, должен вас разочаровать. Картина исчезла, будто сквозь землю провалилась. — Вы нашли человека, который был в квартире Осселя и унес ее оттуда? — Обнаружь я этого человека, я заполучил бы и картину, — раздраженно бросил инспектор Катон. — Похоже, вы тоже заинтригованы. И считаете, что во всем этом деле картине отведена определенная роль! — Да, она неизвестная величина в задаче, и это мне очень не нравится. Можно предположить, что картина имеет необычайную ценность, но что за критерии этой ценности? Может, она вовсе и не имеет отношения к убийствам. — На мой взгляд, слишком уж много «может». Я не смогу спокойно спать, пока дело с картиной не прояснится. — Поступайте как знаете, Зюйтхоф, если это дарует вам утешение. Катон отодвинул опустевшую кружку в сторону и поднялся. — Для меня дело закрыто. И у меня масса других, которые еще предстоит распутывать. После того как инспектор попрощался и ушел, я заказал еще кружку пива. Впрочем, одним пивом дело не ограничилось. Чтобы избавиться от кошмарного зрелища, мне потребовалась здоровенная бутылка водки.
Глава 6 Искусство и ремесло
Ослепительный луч солнца вырвал меня из бесконечной вереницы кошмарных сновидений. Оссель вновь и вновь умирал на моих глазах, глядя на меня с немой укоризной. А разве не имел он на то оснований? Разве не я был соучастником его гибели на эшафоте? Кто обязан был помочь ему, если не я? Кто должен был предпринять все возможное, да и невозможное ради его спасения, если не его единственный друг Корнелис Зюйтхоф? И даже проснувшись разбитым, я был несказанно рад освободиться от пут ночного кошмара. Тревожные образы растворились в свете наступившего утра, но вот отделаться от чувства вины было вовсе не так просто. Невольно зажмурившись от яркого света, я не сразу сообразил, что я не дома. Я видел перед собой не широкие окна комнатки вдовы Йессен, через которые по утрам проникал мягкий рассеянный и привычный свет, а четырехугольное, почти квадратное оконце, выходившее на восток. Восходящее солнце нещадно высвечивало все мои еще не осмысленные грехи. Поворачиваясь на бок, я внезапно уперся локтем в чье-то мягкое, грузное тело. И тут же послышалось недовольное мычанье. Мой взор блуждал по розовой плоти — округлому бюсту, полным бедрам, пухлому животу. Да с таким выменем можно целый взвод солдатни молоком опоить. Волнистые светлые волосы спадали на покатые плечи, обрамляя краснощекое круглое личико. Женщина была еще молода, и, лишь сделав над собой усилие, я сообразил, каким образом очутился в ее постели. Звали ее Эльзой, она прислуживала в той самой харчевне, куда меня затащил судебный инспектор Иеремия Катон. Я вспомнил о водке, которую не пил, а хлобыстал после отбытия инспектора. Потом непонятно как я оказался в могучих объятиях Эльзы. Все остальное тонуло в пьяной одури, но, если судить по нашим с ней обнаженным телесам, нетрудно догадаться, чем завершился вчерашний вечер. Вместо милых сердцу воспоминаний о минувшей ночи меня терзало чувство вины — нечего сказать, быстро же ты утешился после потери своего единственного настоящего друга! Напился как свинья, подцепил бабу и… Пытаясь дотянуться до валявшихся на полу штанов, я невольно разбудил Эльзу. Девушка зевнула во весь рот, потянулась, выпятив чересчур пышные груди, словно желая вновь продемонстрировать мне во всей красе свои плотские достоинства. Я застыл, тупо уставившись на розовую кожу, не испытывая ничего, что даже отдаленно напоминало желание, а одно только отвращение. Отвращение к себе. — Ты что, уже собрался уходить? — осведомилась Эльза, смахнув со лба непокорную прядку. — У меня есть парочка часиков перед работой. Так что можем с тобой еще позабавиться, ничуть не хуже, чем ночью. И подкрепила приглашение, улыбнувшись до ушей, поглаживая себя пониже живота. — У меня сегодня дел невпроворот, — попытался отговориться я, надевая штаны. — К тому же по утрам меня обычно на мясцо не тянет. Закрыв за собой дверь, я стал спускаться по узенькой лестнице. Малышка Эльза обрушила на меня на прощание шквал площадной брани. Оказывается, ее каморка располагалась в той же постройке, что и харчевня. При выходе из дома я пересек улицу, где, несмотря на ранний час, многие торговцы разбивали лотки. И хотя я избегал даже смотреть в сторону площади перед городской ратушей — места недавней казни, меня неудержимо тянула туда неведомая сила. К счастью, изувеченное тело Осселя догадались отвязать и увезти — столб одиноким напоминанием торчал над деревянным помостом. Тело скорее всего увезли на другой берег реки Ай, в Волевейк, туда, где трупы казненных привязывали уже к другим столбам для всеобщего устрашения. Там они и стояли, поедаемые червями. Неизвестно отчего я почувствовал облегчение, но ненадолго — домой я направился в премерзком настроении, радоваться было явно нечему. И тут внимание мое привлекли многочисленные лавчонки, выстроившиеся на Дамраке[897]. Вот уже шестой день я пребывал не у дел, и пустой карман становился не столь уж отдаленной перспективой. Необходимо было что-то предпринять. Поэтому я направился к лавке Эммануэля Охтервельта, согласившегося принять мои картины на комиссию. С той поры как я справлялся у торговца об их судьбе, успело миновать две недели. Тогда ему не удалось продать ни одной, но, может быть, сейчас… Подвальчики Дамрака, где расположились харчевни, питейные заведения и лавки, невзирая на зверскую арендную плату, были местом, недурно посещаемым, следовательно, дела Охтервельта шли вполне сносно, коль он до сих пор пребывал здесь. Когда я передавал ему картины, перед моим мысленным взором уже громоздились кучи сверкающих золотых дукатов и талеров, я даже позволил себе помечтать о том, что вскоре распрощаюсь с этой каталажкой и заживу художником на вольных хлебах. Однако судьбе угодно было распорядиться по-своему. Антиквариат Охтервельта, где продавались картины и книги, располагался между пивной и магазинчиком, торговавшим восточными вазами, коврами и экзотической одеждой. Я уже собрался подняться по ступенькам, как дверь лавки отворилась и передо мной показалась Йола, шестнадцатилетняя дочь Охтервельта. Узнав меня, девушка наградила меня улыбкой и осведомилась, как мои дела. Не успел я ответить, как из глубины лавки донесся голос ее отца: — А как могут быть дела у Корнелиса Зюйтхофа, доченька? Премерзко, как мне думается, ибо только вчера того, кто принадлежал к числу его закадычных друзей, прикончили при всем честном народе на площади у ратуши. Так ведь? — О, простите, я этого не знала, — пробормотала явно смущенная Йола, потупив взор и невольно продемонстрировав во всем великолепии свои пушистые темные локоны. — Вы уж простите меня, господин Зюйтхоф! Взяв Йолу за подбородок, я посмотрел ей в лицо. — Вам не за что извиняться, Йола. Откуда вам знать об этом? Сгорбившись, из лавки выбрался на свет дня ее отец. — Вы неважно выглядите, Зюйтхоф, я бы сказал, даже плохо. Будто всю ночь напролет пропьянствовали, пытаясь утопить в вине горе. — Примерно так и обстояло дело, — вынужден был признаться я. — Но сегодня — не вчера, и жизнь продолжается! Как идут дела, господин Охтервельт? Его и без того вытянутое лицо вытянулось еще больше. — Могло быть и лучше, на самом деле, могло быть куда лучше. Охтервельт сподобился даже на вымученную улыбку. — Вы небось пришли что-нибудь купить, сударь? Книгу или картину? Я покачал головой: — Нет, всего лишь разузнать, проданы ли уже мои работы. — Ах вот оно что. — Улыбка вмиг исчезла, и я вновь увидел перед собой угрюмую физиономию. — Увы, похоже, ваши картины никого не интересуют. Может, заберете их, Зюйтхоф? Мой магазин и так битком набит всякой всячиной, и, честно говоря, я не питаю особых надежд на то, что мне удастся продать ваши работы. Может, кто-нибудь из моих коллег окажется удачливее. Я постарался скрыть охватившее меня разочарование. Надо бы поведать этому Охтервельту о постигших меня бедах, о том, что я потерял работу, мелькнула у меня мысль, но вид торговца явно не располагал плакаться ему в жилетку. Вместо этого я, через силу улыбнувшись, произнес как можно великодушнее: — Я питаю к вам безграничное доверие, господин Охтервельт. Кто, если не вы, отыщет приличного покупателя моих картин? К тому же у меня сейчас масса времени для занятия живописью, так что меня не затруднит и впредь подкидывать вам картины для продажи. Охтервельт в ужасе уставился на меня: — Зюйтхоф, если вы собрались еще что-то намалевать, то, простите великодушно, выбирайте сюжеты, которые по нраву людям! Что-нибудь вроде морских прогулок, к примеру. — Но ведь на всех трех моих картинах присутствуют корабли! Взяв меня за рукав, владелец антикварной лавки без единого слова потащил меня в глубь лавки, где в темном углу на полу стояли мои картины. Теперь я понял, почему никто не обращал на них внимания. Две из них представляли собой сценки из жизни Амстердама. Их Охтервельт отставил в сторону и показал три остальных. — Что вы здесь видите, Зюйтхоф? — Разумеется, корабль, рыболовное судно, вылавливающее сельдь. Идет разгрузка. — Ну-ну. А на этой картине? — Корабль, принадлежащий Ост-Индской компании, покидает амстердамский порт. — На третьей? Я мог бы описать ее, даже не взглянув на полотно, в конце концов, я был ее автором. — Здесь мы видим прогулочную яхту, на которой зажиточные граждане совершают воскресную прогулку по реке Ай. Убрав картины, Охтервельт вызывающе посмотрел на меня. — Вам ничего не приходит в голову? — спросил он. — Ведь на всех изображены корабли, не понимаю, что вам не нравится. — Вздор! Вам надо изображать корабли, это верно, но не так, как на этих картинах. — А как? — Если на вашей картине тот же корабль будет покидать не амстердамский, а иностранный порт, это будет совсем другое дело. — Какой, например? Охтервельт снова потащил меня куда-то. На сей раз к книжным полкам у входа в свою лавку. С самодовольной миной возложив руку на одну из полок, он изрек: — Вот мои самые раскупаемые книги, Зюйтхоф. И это не драмы Вонделя, не стихи Гюйгенса и не исторические романы Хоофта. Угадайте-ка, что же это будут за книги? — Книги о морских путешествиях? — Именно так, мой дорогой Зюйтхоф, но что же это за книги! Не сухие отчеты о рыболовных экспедициях, не унылые описания прогулок вдоль берега в окрестностях Амстердама. Книги о приключениях в южных морях и в дальних странах: бури, кораблекрушения, бунты на борту, встречи с представителями диких народов. Дневник Бонтеко или путевые очерки Геррита де Веерса о его поездках на север — вот что нужно людям! — Да, но я все-таки художник, а не литератор. — Одно другому не мешает. Взять хотя бы Гербранда Бреро, он был художником, но и как писатель удостоился славы. Умение обращаться с цветом ощущается и в его языке. Но я не призываю вас податься в писатели. Рисуйте себе на здоровье, но пусть ваши корабли будут не в амстердамском порту, а в бушующем море! У побережья Батавии! — Там я, к сожалению, не бывал. — Так побывайте! — Охтервельт сделал минутную паузу, словно оценивая значимость сказанного им. И тут же решительно кивнул. — Да, это совсем не плохая идея. Вы ведь молоды! Почувствуйте соль океана на губах! Вдохните свежий морской ветер! Поглядите на мир! Нет лучше школы для художника, чем путешествия, разве не так? — Непременно обдумаю ваше предложение, — вяло отмахнулся я, все еще не придя в себя от того, какой неожиданный оборот приняла наша беседа. Я входил в лавку полным надежд молодым художником — уж не суждено ли мне покинуть ее кандидатом в моряки? — Подумайте, подумайте, Зюйтхоф, и избавьте меня от ваших картин. А вот это позвольте вручить вам в подарок. С этими словами Охтервельт снял с самой верхней полки книгу и подал мне; экземпляр был только что от печатника — благоухал клеем и свежей краской. — Вот, только вчера отпечатали, я сам теперь издатель. Надеюсь на успех, какой выпал на долю Коммелина, когда он выпустил в свет записки Бонтеко. Пролистайте между делом, может, это подвигнет вас на поиски нового. Раскрыв книгу, я прочел на титульном листе: «Дневниковые записи капитана, старшего купца и директора Фредрика Йоганнеса де Гааля о его странствиях в Ост-Индию на службе Объединенной Ост-Индской компании». Имя автора было хорошо мне знакомо, как, впрочем, и любому жителю Амстердама, да и не только его. Де Гааль дослужился от простого матроса до капитана парусника, принадлежавшего Ост-Индской компании. За заслуги перед компанией он был произведен в старшие купцы и, по сути, стал фактическим руководителем описываемой им торговой экспедиции, будучи наделен командными полномочиями капитана корабля. Де Гааль занимал и пост директора компании, входил в состав так называемых «Семнадцати», или правления директоров, трижды в году собиравшихся на заседание. В настоящее время он, достигнув весьма преклонного возраста, удалился отдел, во всяком случае, официально, поручив их ведение своему сыну Константину. И хотя я покинул лавочку Охтервельта несолоно хлебавши, настроение мое отчего-то улучшилось. Переплетенный в кожу томик был роскошным подарком. Если уж настанет день, когда я не смогу сводить концы с концами, я спокойно выручу за него сумму, которая позволит мне пережить добрых пару недель. Придя домой, я смиренно выслушал длинную проповедь вдовы Йессен по поводу моего длительного отсутствия, после чего я улегся в приготовленную постель — по настоянию моей хозяйки, справедливо считавшей, что я все еще не окреп в достаточной степени. Едва моя голова коснулась подушки, как я забылся мертвым сном. — Мне очень жаль, господин Корнелис, но этот господин никак не желает уходить. Меня разбудил вкрадчиво-извинительный тон вдовы Йессен, стоявшей в дверях. И тут, посторонившись, она впустила в мою комнату незнакомого мне, элегантно одетого господина. Боже, как же смешон был этот бедняга, демонстрируя явно утрированную учтивость, как комично снимал он шляпу и кланялся! Неужели сам не понимает? Но господин, храня невозмутимость, произнес: — Имею честь видеть Корнелиса Зюйтхофа, не так ли? Меня зовут Мертен ван дер Мейлен, и мне хотелось бы обсудить с вами один весьма важный деловой вопрос. — Ван дер Мейлен, — машинально повторил я осипшим со сна голосом. — Вы торговец предметами искусства ван дер Мейлен? — Именно так и есть, — подтвердил визитер, растянув в обходительной улыбке тонковатые губы в обрамлении бородки. — Я только что от моего товарища по цеховому сообществу Охтервельта, именно он рекомендовал мне вас, — пояснил ван дер Мейлен. Теперь я вспомнил, что торговое заведение ван дер Мейлена тоже располагалось на Дамраке, причем в двух шагах от лавки Охтервельта. Забрезжила надежда. — Вы решили приобрести что-нибудь из моих картин, господин ван дер Мейлен? — Не совсем так, однако меня привлекает ваша манера живописи, и я уверен, мы могли бы успешно сотрудничать. Помявшись, ван дер Мейлен бросил нетерпеливый взгляд на мою квартирную хозяйку. — Мне кажется, лучше обсудить этот вопрос с глазу на глаз, — добавил он. Несколько минут спустя мы с ван дер Мейленом сидели за столиком в кофейне напротив моего дома, куда коммерсант любезно пригласил меня. Раз уж деловой человек готов ради вас на такую жертву, как раскошелиться на кофе, тут поневоле призадумаешься. — Как я уже упоминал, ваша манера живописи весьма меня привлекает, — повторил он мысль, высказанную им еще в моей каморке. — Правда, речь пойдет о несколько иных сюжетах. — Не далее как сегодня господин Охтервельт уже советовал мне сменить сюжет. — Знаю, знаю, он рекомендовал вам изображать корабли в бурю. Я невольно усмехнулся: — Не только, он настаивал, чтобы я сам пошел в моряки. — Охтервельт с годами становится все забавнее. Сами посудите, ему взбрело в голову отправлять за тридевять земель талантливого живописца. И что из этого следует? А то, что все мы не будем иметь возможности насладиться его работами. Вот уж воистину вздорная идея! Да, похоже, этот ван дер Мейлен — дока по части льстивых комплиментов. Вдохновленный откровенной лестью, я осторожно осведомился о его сюжетных предпочтениях. — Господин Зюйтхоф, мне нужны портреты. Что касается натурщиков, это я беру на себя, вы же за каждый портрет будете получать от меня по восемь гульденов. Это была очень неплохая цена. Известные мастера за написанную маслом работу получали и по тысяче гульденов, а кое-кто и по две, но большинству приходилось довольствоваться куда более скромными гонорарами. Иногда картина, даже заключенная в приличную раму, не тянула больше чем на двадцать гульденов. И коль искушенный торговец гарантировал мне — художнику неизвестному и, к великому сожалению, не успевшему до сей поры создать ни одной мало-мальски солидной работы — целых восемь гульденов, я имел все основания распевать от радости. Я возблагодарил Всевышнего и заодно себя за то, что не уступил Охтервельту и не стал забирать у него свои работы. Мой визави представился мне чем-то вроде манны небесной. Похоже, черная полоса на глазах светлела. Тут ван дер Мейлен склонился ко мне: — Что же вы словно воды в рот набрали, дружище Зюйтхоф? Считаете, что восемь гульденов маловато? — Кому-кому, а уж мне как-нибудь известно, что это хорошая цена за картины никому не известного художника. Могу лишь надеяться, что мои работы вас не разочаруют, господин ван дер Мейлен. — Значит, по рукам? — По рукам! — искренне ответил я, пожимая протянутую мне руку. Ван дер Мейлен ловко извлек из кармана парочку монет и выложил их на стол. — Вот вам два гульдена в качестве аванса за первую картину, чтобы вы никуда от меня не делись. — Не имею подобных намерений, — торопливо заверил я своего нежданного благодетеля, забирая деньги. До сих пор мне с подобным великодушием сталкиваться не приходилось — целых два гульдена в качестве аванса. — А что именно так привлекает вас в моей манере писать? — полюбопытствовал я. — То, как вы обходитесь со светом и тенью. В этом вы очень напоминаете мне Рембрандта. Вы, случайно, не учились у него? — Рад был бы, но кое-что этому помешало, — уклончиво ответил я. — Для меня большая честь, что вы, господин ван дер Мейлен, сравниваете меня с самим Рембрандтом, но, как мне кажется, нынче его стиль не в ходу. Узкое лицо ван дер Мейлена посерьезнело. — В художниках вроде вас, к ним можно отнести и Рембрандта, так вот, и в вас, и в нем живут как бы два мастера — ремесленник и настоящий художник. Настоящий художник, стоя у холста, следует замыслу, своему видению. Что до ремесленника, тот перво-наперво старается угодить заказчику. Взять хотя бы, к примеру, картину Рембрандта, где он изображает выступление в поход роты Франса Баннинга Кока, вызвавшую в свое время столько кривотолков. Она, несомненно, настоящее произведение искусства. И ругань, которой удостоился тогда Рембрандт, вполне поделом ему. Ни для кого не секрет, что все, кто желал быть запечатленным на этом полотне, совали ему тайком деньги. И как же поступил Рембрандт? Кое-кого из них он изобразил лишь двумя мазками, в итоге вышло, что какой-нибудь безвестный ребенок с курицей был выписан куда детальнее самих стрелков. И те, кто заплатил за право быть увековеченным на полотне, испытали великое разочарование. — И Рембрандту приходилось подавлять в себе художника? — Не подавлять, нет, усмирять. Принимая заказ, мастер обязан в первую очередь думать о том, как бы угодить заказчику. Вот тогда и приходится подчинять искусство ремеслу, и последнее начинает доминировать. Если же, напротив, художник берется за кисть по своей воле, не будучи скован никакими пожеланиями заказчика, тогда он вправе позволить себе роскошь оставаться самим собой. Весьма благоразумно было со стороны ван дер Мейлена столь ненавязчиво очертить характер наших с ним отношений. Но я и так все понимал. В мои планы явно не входило ни отталкивать от себя своего благодетеля, ни разочаровывать его. В конце концов, именно благодаря ему, а не кому-нибудь мое существование, грозившее уже очень скоро стать полуголодным, обретало некие перспективы. К тому же я, как художник, всегда стремился передать на своих полотнах характер человека во всех его тончайших нюансах. И портреты, которые имел в виду мой собеседник, приведут меня ближе к цели, нежели пейзажи родного Амстердама или застигнутые штормами корабли. — Вы во мне не разочаруетесь, — заверил его я, засовывая два гульдена в жилетный карман. — Был бы вам бесконечно обязан, мой друг, если бы первая натурщица явилась к вам уже сегодня. Едва успело миновать два часа, как в дверь моей комнаты негромко постучали. Это был ван дер Мейлен, с ним прибыла и обещанная натурщица. Ею оказалась молодая женщина, примерно одного со мной возраста; правильное, почти безукоризненное лицо ее несколько портил крупноватый нос. Из-под перевязанной голубой лентой соломенной шляпки выбивались непослушные локоны рыжеватых волос. На шее женщины не было роскошного жабо, столь любимого дамами из состоятельных семей, однако и покрой платья, и материя, из которого оно было пошито, никак не указывали на принадлежность к низшим сословиям. Плечи и грудь прикрывала синяя накидка. — Это госпожа Марион, ваша натурщица, — представил мне женщину ван дер Мейлен, не удосужившись назвать ее фамилию. Я поклонился, красавица в ответ чуть смущенно улыбнулась. — Думаю, лучше всего начать прямо сейчас, — предложил ван дер Мейлен, вопросительно посмотрев на натурщицу. Кивнув, она сняла шляпку. Рыжеватыекудри рассыпались по плечам. Затем женщина сняла синюю накидку, светлая кожа выгодно контрастировала с темно-рыжими волосами. Я не сомневался, что подготовка к позированию этим и исчерпается, но Марион стала снимать верхнее платье. Я оторопело взглянул на ван дер Мейлена: — Извините, но… — Что вас так удивляет? Марион готовится позировать вам. — Да, но для этого вовсе нет нужды снимать верхнее платье. Оно великолепно идет ей. Ни к чему переодеваться. — Марион не переодевается, а раздевается. — Раздевается? — пораженно переспросил я. — А… зачем? Лоб ван дер Мейлена прорезали складки недовольства. — Послушайте, Зюйтхоф, вы на самом деле не понимаете или же просто разыгрываете дурачка? Затем, что мне нужен портрет обнаженной Марион. Пока мы вели этот странный разговор, Марион как ни в чем ни бывало продолжала разоблачаться. Я не без волнения отметил ее небольшие, но изящные груди. Как не похожа эта хрупкая женщина на мясистую груду плоти, какой была Эльза из харчевни, мелькнула мысль. — Она нравится вам, как я вижу, — не без злорадства заключил ван дер Мейлен. — Это не имеет ровным счетом никакого значения, — чуть более резковато, чем следовало, ответил я. Меня не покидало ощущение, что этот человек упивается моей растерянностью. — Вот тут вы ошибаетесь. Как раз это имеет решающее значение, — возразил торговец антиквариатом. — Лишь когда вид натурщицы вызывает наслаждение, художник способен создать настоящий портрет. — Разумеется, она мне нравится, — без особой охоты признался я. — Я же, в конце концов, не слепец. Но это никак не объясняет того, почему натурщица должна позировать мне непременно обнаженной. Ван дер Мейлен очень внимательно посмотрел на меня: — Я плачу вам, Зюйтхоф, как раз за то, чтобы не утруждать себя объяснениями вам своих намерений. Надеюсь, вы помните, что я говорил вам тогда в кофейне об искусстве и ремесле. Мне тогда показалось, что вы поняли меня. Если же нет, в таком случае я сейчас ясно и понятно разъясню вам, что от вас требуется. Так вот, я готов платить вам хорошие деньги и предоставлять натурщиц. Вы же за это изготовляете для меня их портреты в полном соответствии с моими пожеланиями. Все остальное вас не должно касаться, посему не задавайте лишних вопросов. Если вас подобные условия устраивают, тем лучше. Если нет — прошу вернуть мне выданные вам в качестве аванса два гульдена, а я подыщу себе другого художника! Передо мной был иной человек, ничем не напоминавший обходительного господина, всего пару часов назад сидевшего со мной за столиком кофейни. Понятно, там он старался завлечь меня, теперь же бесстрастно продиктовал свои условия. Моя симпатия к этому торговцу антиквариатом испарилась. Теперь я понимал, что передо мной не меценат, не покровитель искусств из числа бессребреников, а холодный и расчетливый делец, всему на свете знающий цену. В том числе и мне. И то, что он остановил выбор именно на мне, а не каком-нибудь еще из моих полунищих со-братьев-художников, было чистой случайностью. Я медленно перевел взгляд на деревянную шкатулку, где лежали полученные от ван дер Мейлена два гульдена. Разумеется, я мог взять да и вернуть ему эти два гульдена, что, бесспорно, лишь укрепило бы мое самоуважение, но тут же возникал другой вопрос: на что жить, когда иссякнут жалкие гроши, полученные мною в Распхёйсе? И сам ван дер Мейлен, судя по всему, без труда угадывал мои мысли. Его самодовольная, снисходительная улыбка стала еще шире, когда я вполголоса согласился на выдвинутые им условия. — Вот и прекрасно, Зюйтхоф. Как по-вашему, сколько времени займет у вас сеанс? — Ну, скажем, три часа. Потому что потом исчезнет выгодное освещение. — Хорошо. Через три часа я приду сюда забрать госпожу Марион. И торговец антиквариатом оставил нас вдвоем. Я постарался отбросить в сторону все неприятные воспоминания и целиком сосредоточиться на работе. Уголь в руке носился над холстом, запечатлевая контуры красавицы Марион. Вот уже эскиз приобретал очертания, и, каждый раз задерживая на девушке взгляд, я подвергался опасности забыть в себе художника, позволив восторжествовать мужчине. Она же, напротив, покорно заняв рекомендованную мною позу, сохраняла полнейшую безучастность, лицо девушки не выражало ничего, это была маска, неподвижная и непроницаемая. Но, приглядевшись, я понял, что именно безучастность и была маской. Все заключалось в выражении ее глаз. Это были глаза глубоко несчастного человека. Мне сразу стало ясно, что явилась она сюда не по доброй воле, что лишь неведомая мне страшная беда вынудила ее пойти на поводу у ван дер Мейлена. Хотя мне не были известны детали их взаимоотношений, я чувствовал, как во мне медленно растет неприязнь к этому торговцу предметами искусства. Марион представлялась мне лишенным крыльев ангелом, которого бросили в ад нашего мира и там сковали незримыми цепями. Позирование в обнаженном виде строго воспрещалось и подвергалось общественному порицанию. Нередко нашему брату художнику приходилось нанимать в натурщицы, по сути, уличных шлюх, которым было не в диковинку взимать плату с мужчин за предоставляемые им немудреные услуги. Но Марион ничем не напоминала опустившихся проституток. Ни ее одежда, ни манеры, ни внешность никак не вязались с привычным образом продажной девки, за пару грошей готовой на что угодно. Выставив на обозрение красивое тело исключительно по принуждению, она в то же время не предлагала себя мне. Между нами встал незримый барьер, которого нет и быть не может между клиентом и падшей женщиной. Тем временем, завершив набросок углем, я, пока смешивал краски, позволил Марион сделать перерыв. И как раз в тот момент, когда она усаживалась на мою кровать, дверь комнаты распахнулась. — Господин Корнелис, я только хотела спросить, не угодно ли вам или вашим гостям горячего шоко… — Увидев Марион, вдова Йессен запнулась на полуслове. Моя квартирная хозяйка в ужасе уставилась на натурщицу. И даже если бы Марион не устроилась на моей кровати, а стояла бы передо мной, это ничуть не умерило бы потрясение бедной госпожи Йессен. Она относилась к типу людей благочестивых, фанатично преданных идеям кальвинизма, и в этом смысле мне было далеко до нее. Присутствие в комнате квартиранта обнаженной особы было для нее чудовищным по непристойности актом, святотатством, даже если речь шла о натурщице. Какой же я идиот, что не подумал об этом заранее! Этот ван дер Мейлен прямо-таки околдовал меня — где уж мне было вспомнить о моей бедной, благочестивой госпоже Йессен. Я попытался объяснить, в чем дело, расписывал выразительно свое финансовое состояние, дескать, именно оно и вынудило меня принять предложение ван дер Мейлена, но она оставалась глуха ко всем моим доводам. С непреклонностью, о которой я и подозревать не мог, она заявила: — Ничего подобного я в своем доме не потерплю. Завтрашний день — ваш, мой господин, но вот послезавтра вы съезжаете, а не то я заявлю о вашем распутстве куда следует! Повернувшись, вдова вышла из комнаты. Глядя ей вслед, я пытался понять столь разительную перемену в поведении. Ведь вдова Йессен относилась ко мне, как к сыну, заботилась обо мне, обстирывала, кормила, ухаживала, когда я лежал в горячке. Может, все дело в заурядной ревности? Нет, скорее в этой кальвинистской непреклонности, нежелании оправдать любой грех, любое действие, которое она считала порочным, безнравственным. Марион успела закутаться в покрывало, которое стащила с кровати. Женщина растерянно смотрела на меня. В этом взгляде я видел и жалость, однако непонятно было, кого она жалеет: то ли меня, то ли себя. — Вам сейчас, пожалуй, лучше уйти, — сказал я. — Если желаете, я провожу вас до дома. — В этом нет необходимости. Это была первая фраза, которую я услышал от Марион. Голос у этой женщины оказался нежным, приятным, но в нем, как и в ее взгляде, чувствовалась запуганность. — Но что скажет господин ван дер Мейлен, когда не застанет меня здесь? — Я все ему объясню. Я отвернулся, чтобы не смущать одевавшуюся Марион. Уходя, она вновь повернулась ко мне. — Мне очень жаль, — произнесла она.Глава 7 Дом на Розенграхт
Амстердам 15 августа 1669 года Чем ближе я подходил к этому дому в южной части Розенграхт, тем сильнее колотилось у меня сердце. В тот воскресный день настроение мое было явно не под стать чудной погоде. По залитым солнцем улицам дефилировали разодетые гуляющие. Большинство их желало попасть в новый Лабиринт, сооруженный на потеху публике одним немцем по имени Лингельбах. Лабиринт этот, где влюбленные без труда могли отыскать укромное местечко, изобиловал всякого рода диковинками вроде фонтанов и механических движущихся картин. Это сооружение мгновенно обрело необычайную популярность, к тому же сегодня погода как нельзя более благоприятствовала прогулкам и развлечениям. Дом, куда Рембрандт вынужден был перебраться после рокового для него банкротства, располагался как раз напротив увеселительного парка. Я спросил себя, как же все-таки престарелый мастер урывает часы для работы — ведь здесь постоянный галдеж и шум! Внезапно из тени каменной стены передо мной возникли две развеселые молодые особы. Пестрые ленты в волосах, туго стянутые корсетом и откровенно выпяченные кверху груди. Парк увеселений — наилучшее место для девиц подобного типа. Обе загородили мне дорогу. Но мне было не до увеселений. Довольно бесцеремонно оттолкнув их, я продолжил путь. Вслед полетели реплики, ставящие под серьезное сомнение мои мужские способности и заодно предрекавшие мне не что иное, как ад. Мне вспомнилась женщина, которую минувшим днем привел ко мне ван дер Мейлен. Эти девчонки, чьи притязания я только что воистину героически отверг, вне всякого сомнения, согласились бы за пару грошей позировать в каком угодно виде. И не только позировать. Причем это происходило бы без малейшей доли стыда или смущения, присущего Марион. Я невольно спросил себя, сколько же платит ей ван дер Мейлен, но на сей счет мог лишь строить догадки. Вспомнился мне и неожиданный афронт моей квартирной хозяйки. После ухода Марион я попытался поговорить по душам с госпожой Йессен, но та и слышать ничего не хотела. А потом возник ван дер Мейлен. Отсутствие Марион, похоже, не на шутку расстроило его, а мои сбивчивые объяснения только подлили масла в огонь. «Если вы в самое ближайшее время не подыщете себе новое, более спокойное жилище, — заявил он, — можете поставить крест на нашем с вами, собственно, и не начавшемся сотрудничестве». И мне не пришло на ум ничего лучшего, как искать решение проблемы на Розенграхт. Впрочем, я отправился туда не только на поиски жилья. Имелась еще одна причина. Бессонной ночью, которую я провел, коря на чем свет стоит и себя, и немилосердную фортуну, я внезапно устыдился. С какой стати я переживаю? Ну, потерял работу, остался без жилья. Но что это в сравнении с участью, постигшей моего друга Осселя? Ему пришлось поплатиться жизнью за преступление, обстоятельства свершения которого таили в себе не одну загадку. Стыд за свое малодушие, за слезы, которые я принялся было проливать по поводу выпавших на мою долю неприятностей, лишь укрепил меня в решении прояснить обстоятельства трагической гибели Гезы Тиммерс. Именно поэтому я и прибыл на Розенграхт. Набрав в легкие побольше воздуха, я ступил на выложенную из тесаного камня лестницу и потянул за шнурок позеленевшего от сырости латунного звонка. После довольного долгого ожидания дверь чуть приоткрылась, и сквозь щель я разглядел помятое лицо Ребекки Виллемс, которая вместе с дочерью Рембрандта Корнелией вела домашнее хозяйство. Домоправительница прищурилась, будто видела меня впервые. Неудивительно — вряд ли она могла запомнить одного из многих учеников Рембрандта, задержавшегося у мастера всего-то на пару дней. — Мне хотелось бы поговорить с вашим хозяином, мастером Рембрандтом ван Рейном. — По какому делу? — в упор спросила она. — Опять какой-нибудь неоплаченный счет? — Нет-нет, я пришел не забирать деньги, а, наоборот, отдать их. Щель в двери стала чуточку шире. — Что за деньги вы принесли? — А вот как раз об этом я и хотел поговорить с вашим хозяином, мастером Рембрандтом. Он дома? Женщина с сомнением посмотрела на меня, будто опасаясь очередной ловушки. — Не знаю. За ее спиной раздался звонкий молодой голосок: — Что такое, Ребекка? Кто там пришел? Домоправительница, обернувшись к невидимой собеседнице, ной не подумав раскрыть дверь пошире, проскрипела: — Вот, он заявляет, что принес какие-то деньги. Шаги приблизились, дверь наконец раскрылась пошире. Передо мной стояла Корнелия. Я поразился, как она изменилась со дня нашей последней встречи. Тогда это был ребенок, сейчас я видел взрослую молодую девушку. Симпатичную, если уж быть точным, со светлыми локонами, обрамлявшими полное, но не круглое личико. Ей наверняка не больше пятнадцати, но на вид можно было дать гораздо больше, что вполне объяснимо, если принять во внимание отнюдь не благоприятствовавшую детству атмосферу, царившую в этом доме. Когда Корнелия увидела меня, ее синие глаза слегка расширились. — Возвращайся в кухню, Ребекка. Я займусь нашим гостем. Домоправительница нехотя удалилась, и дочь Рембрандта обратилась ко мне: — Вы ведь Корнелис Зундхофт, так? Что же вы хотели? — Зюйтхоф, с вашего позволения, — деликатно поправил я. — Я хотел побеседовать с вашим отцом. При этих словах девушка от души расхохоталась: — В самом деле хотели бы, господин Зюйтхоф? Наверное, успели позабыть, как он едва не спустил вас тогда с лестницы? — Он тогда был под хмельком, — примирительно произнес я. — С кем не бывает? Да и мне следовало тогда быть сдержаннее. — Мой отец был вдрызг пьян, а вы ему напрямик об этом сказали. И правильно сделали, между прочим, — решила расставить точки над i Корнелия. — Может, он все-таки согласится выслушать меня. Или он… опять… — Нет, сегодня он трезв. Пока. Он рисует. Хотите вновь попытать счастья, набившись ему в ученики? — Именно за этим я и пришел. Корнелия недоверчиво покачала головой: — Боюсь, и на сей раз у вас ничего не выйдет. — А что, отбою нет от желающих? — Не в том дело. После Арента де Гелдера вы первый. Но у вас тогда сорвалось по моей вине. — С чего вы взяли, что по вашей? — Ведь это я подбила вас поговорить с отцом начистоту по поводу его пьянства, не так ли? Вот видите! Поэтому я теперь должна загладить конфликт. Хотя бы попытаться уговорить отца принять и выслушать вас. — Может, и он меня успел позабыть, как ваша старушка Ребекка, — предположил я, отчаянно надеясь, что Рембрандт действительно не помнит меня. Девушка лукаво улыбнулась: — Это своих почитателей отец не помнит, а тех, с кем скандалил, будьте покойны, запоминает навеки. Пригласив войти, Корнелия повела меня через крытую галерею в вестибюль, потом мы поднялись по лестнице в студию Рембрандта. Еще издали до моих ушей донеслась громкая ругань. Я мгновенно перенесся в прошлое. Девушка исчезла за дверью мастерской отца. К моменту ее возвращения я уже не столь сильно верил в успех своего предприятия всерьез обосноваться на Розенграхт. — Отец готов принять вас, — объявила она. — Судя по тому, что я слышал, все как раз наоборот, — усомнился я. — Ну, это всегда так — стоит на него прикрикнуть, и он тут же успокаивается. Вот сейчас как раз самый подходящий момент. Так что не упускайте возможность! Пообещав, что постараюсь, я стал медленно подниматься по лестнице. Дойдя до дверей в мастерскую, остановился и осторожно постучал. — Входите, не заперто! — чуть раздраженно проскрипел из-за дверей Рембрандт. Он стоял перед мольбертом в извечном расхристанном виде, в заляпанном краской балахоне, первоначальный цвет которого при всем желании определить было нельзя. Вид мастера ужаснул меня. Не спорю, даже тогда, во время нашей первой встречи два года назад, он был человеком в летах, сделали свое дело период лишений, месяцы и годы беспросветной нужды. Но землисто-серое морщинистое лицо, которое я видел сейчас и на котором читалось любопытство и нетерпение, принадлежало вконец одряхлевшему старику. Видимо, потеря горячо любимого сына Титуса в сентябре минувшего года окончательно надломила его. Узковатые губы Рембрандта сложились в беззубое подобие улыбки. — Мне дочь сказала, что вы хотели передать мне деньги, — осведомился он. — Так где же они? Я выразительно хлопнул себя по нагрудному карману сюртука: — Вот здесь. Мастер протянул ко мне узловатую, в пигментных пятнах старческую руку: — Так давайте их! — Дам, дам, не беспокойтесь, но как насчет того, чтобы вместе войти в дело? Улыбка Рембрандта стала еще шире. — Не пойдет, если вы вновь надумаете отучать меня от вина! — Ваша дочь тогда…, — Да-да, как же, помню, — перебил он. — Вам что же, снова захотелось стать моим учеником? — С превеликой охотой. — В таком случае заплатите мне вперед за год. Это будет стоить вам сто гульденов. — В тот раз вы запросили шестьдесят, к тому же не вперед. Рембрандт кивнул: — Тогда я был слишком великодушен. — Сто гульденов — немалые деньги. — Обычная плата за год учебы. Не забывайте, я вам не какой-нибудь маляр! У меня есть имя! Старческие глаза вызывающе сверкнули, а я пока что обдумывал, не выложить ли ему всю правду без остатка. Рембрандт ныне утратил ценность, и времена, когда к нему валом валили те, кто желал чему-то научиться, давным-давно миновали. И требовать авансы означало по меньшей мере необоснованную самонадеянность. Но в мои намерения не входило заставить утратившего чувство реальности старика спуститься с небес на грешную землю, они были совершенно иными, и я решил подобраться к нему с другой стороны. — Сто гульденов, мастер Рембрандт, я не смогу вам выплатить, поскольку у меня просто-напросто нет такой суммы. Половину я мог бы предложить вам, но и то готов выплачивать эти деньги частями, скажем, раз в неделю. А сегодня заплатить вперед за первую неделю. Даже такой вариант по причине моего полупустого кошелька представлялся более чем рискованным. Одна надежда была на сотрудничество с ван дер Мейленом. — Пятьдесят два гульдена, — крякнул старик, дернув себя за поредевшие седые локоны. — Не забудьте, что вы в моем доме как ученик можете рассчитывать на кров и пропитание. А платить за проживание здесь мне тоже приходится немало. — Сколько? — Что-то около двухсот пятидесяти гульденов. — Точнее, если можно. — Двести двадцать пять! — раздраженно бросил он. — Моя часть, то есть пятьдесят два гульдена, тоже не жалкие гроши. Испустив тяжкий вздох, Рембрандт опустился настоявший тут же табурет. — Трудно с вами договариваться, Зюйтхоф, нет, в самом деле трудно. Не знаю… — И вдруг его взгляд прояснился. — Я готов согласиться, но вы мне за это сделаете один хороший подарок. — Какой именно? — Подарок для моей коллекции. Вы еще помните мою коллекцию? Разумеется, я о ней помнил. Страсть Рембрандта к собирательству стала легендой, не один десяток торговцев диковинными безделушками заработали на этом барыши. Он тащил в дом все, что хоть как-то мог использовать потом в своих картинах: экзотическую одежду, чучела зверей и птиц, бюсты, украшения, предметы оружия. Когда его имущество было выставлено на продажу, это гигантское собрание тоже было продано в пользу его заимодавцев. Но миновало совсем немного времени, и Рембрандт вновь отдался своему увлечению. — Какой именно? — переспросил он, снова улыбаясь до ушей. — А что у вас есть с собой? Повинуясь внезапному порыву, я извлек из кармана свой драгоценный нож. — Как вам вот это? Этот нож сделан в Испании. — Гм, покажите-ка! Подойдя ближе, я невольно бросил взгляд на картину, над которой работал Рембрандт. Это был автопортрет художника, улыбавшегося с холста беззубой улыбкой. В этой улыбке мне почудилось что-то шельмовское, с некой сумасшедшинкой. Он показался мне генералом, хоть и проигравшим битву, но втуне знавшим, что победа в войне все равно никуда от него не денется. Интересно, что же поддерживало в этом полунищем дряхлом старике веру в лучшее? Рембрандт долго разглядывал выделанное латунью и оленьим рогом оружие, прежде чем раскрыть изогнутое лезвие. — Лезвие как лезвие, ничего особенного, — фыркнул он. — Я знаю толк в испанских ножах, приходилось видеть и с орнаментом на лезвиях. — На этом, как видите, ничего подобного нет, — слегка задетый, ответил я. — Вот именно. Поэтому он особой ценности не представляет. Я протянул руку за ножом. — Раз вам не подходит, могу и забрать. Пальцы Рембрандта, словно когти хищной птицы, вцепились в рукоять. — Нет, я его возьму, если вы не против. — Вот и хорошо. Но у меня есть еще одно условие, — объявил я. — Условие? — Рембрандт, казалось, был оскорблен до глубины души. Глядя ему прямо в глаза, я сказал: — Я хочу, чтобы вы предоставили мне право принимать в вашем доме натурщиц, с тем чтобы я мог выполнять заказы. Естественно, расходы на краски и все необходимое я буду покрывать сам. Мастер смерил меня скептическим взглядом. — Так что же вам нужно? Бесплатная мастерская или все-таки мастер, у которого вы сможете научиться кое-чему? — И то и другое. Некоторое время Рембрандт безмолвствовал, уставившись на меня из-под сведенных вместе седых бровей, а я тем временем готовился к тому, что он взорвется и, как в первый раз, вышвырнет меня из дома. Но вместо этого старик зашелся блеющим смехом, да так, что по небритым, изборожденным морщинами щекам полились слезы. — А что, может, на сей раз мы поладим, — подвел он итог, отсмеявшись. — Кто знает, может, и понравимся друг другу. Внизу меня дожидалась Корнелия. — Ну, как все прошло? — с волнением в голосе стала расспрашивать меня она. — Давно же мне не приходилось слышать, чтобы мой отец хохотал от души. Я в нескольких словах передал ей нашу беседу. Лицо девушки сияло. — Слава Богу, вы с ним не рассорились, господин Зюйтхоф. Отцу пойдет на пользу, если у него опять появится ученик. А в доме — мужчина. — А ваш отец уже не в счет? — Отец состарился, силы уже не те. Когда был жив Титус, тот хоть что-то делал, что не под силу ни нам, женщинам, ни старику. — Я слышал о смерти вашего брата, но как и почему он умер, не знаю. Он ведь был еще очень молод. — Ему и двадцати семи не исполнилось, — сообщила Корнелия. — В феврале прошлого года он женился. А вот дочь Тиция появилась на свет уже после его смерти. Если б не эта малышка, отец бы совсем сник. Стоит только Магдалене, его невестке, принести девочку к нам, как он буквально расцветает. В ней ведь часть Титуса, это и вселяет жизнь в отца. Корнелия замолкла. Печаль затуманила ее взор. Пару мгновений спустя девушка продолжала: — Чума унесла от нас Титуса. Увы, тут уж ничего нельзя было поделать. Седьмого сентября прошлого года мы схоронили его на Вестеркерке. Он лежит в общей могиле, нам еще предстоит перенести его прах в фамильный склеп ван Лоо, семьи Магдалены. Но мы пока повременим. Я боюсь, что для отца это означало бы повторение трагедии. — Подняв глаза, она улыбнулась мне. — Ох, давайте не будем говорить обо всех этих ужасах. Нынче такой прекрасный день. Вы уже сегодня перевезете к нам вещи, господин Зюйтхоф? — Называйте меня Корнелис, прошу вас. А то я кажусь себе глубоким стариком. Что же касается моего скарба, думаю, этот воскресный день слишком чуден, чтобы транжирить время на канитель с перевозкой. В парк напротив сбежался, наверное, чуть ли не весь Амстердам. Я там еще не был. А вы? — Меня туда водили, но давно, еще в детстве. Тогда мы жили на Йоденбреестраат. А с тех пор как перебрались сюда, я там ни разу не была. С нас и так хватает этого шума, музыки, криков подвыпивших горожан. — Ну, знаете, одно дело веселиться самому, другое — слушать, как веселятся другие, — хитровато подмигнув, не согласился я. — Значит, вы приглашаете меня, Корнелис? — Приглашаю. Это воскресенье без всяких оговорок стало веселым и радостным днем. Мне удалось уговорить Рембрандта взять меня в ученики, а теперь в обществе Корнелии я оценивал хитроумное изобретение немца Лингельбаха. Разумеется, Корнелия была для меня несколько молода, но стоило мне заговорить с ней, как я начисто забывал об этом. Девушка оказалась не по годам взрослой, искушенной в житейских делах, мудрой, да и физически она мало напоминала ребенка, виденного мною два года назад. Не раз я ловил себя на том, что чуть дольше задерживаю взгляд на женственной округлости форм. Однажды, когда взоры наши случайно встретились, Корнелия понимающе улыбнулась. Бродя по Лабиринту, мы шутили, смеялись, останавливались у фонтанов, окроплявших нас свежестью в этот жаркий день. В Кунсткамере мы потешались над разными разностями, любая из которых вполне украсила бы коллекцию диковинок отца Корнелии: над малахитово-зеленым попугаем, изрекавшим сальности, мощным черепом слона, фигурками, приводимыми в движение механизмами и принимавшими самые замысловатые позы. В огромном Лабиринте мы, как и следовало ожидать, заплутали, а когда наконец выбрались из него, съели по доброму куску девентерского пирожного, к которому заказали и шоколад глясе. Ближе к вечеру мы, добредя до виноградников Лингельбаха, без сил опустились на деревянную скамью, велев принести нам графинчик сладкого вишневого вина. — Корнелис, с чего это вы так расщедрились? — игриво спросила Корнелия, когда служанка торопливо поставила на наш стол вино. — Не забудьте, вам ведь еще оплачивать занятия у моего отца. Я нагнулся к ней поближе: — Могу я доверить вам один секрет? — Какой? — Договариваясь с вашим отцом, я произвел на него такое впечатление, что он даже запамятовал взять с меня обещанные деньги за первую неделю. Корнелия улыбнулась. — Рановато радуетесь, господин Зюйтхоф. Дело в том, что за все денежные поступления в этот дом отвечаю я. — Вы? — Разумеется. Вы забыли, что ли? С тех пор как мой отец одиннадцать лет назад был объявлен банкротом, ему ничего не принадлежит. Это для того, чтобы кредиторы не ободрали его как липку, забрав все нажитое до последнего гульдена. — Но ваш отец работает и получает за это деньги. Как же он умудряется обхитрить кредиторов? — Тогда у нотариуса было составлено соглашение, в соответствии с которым отцу предоставили место в лавке художественных изделий, принадлежавшей моей матери и моему брату Титусу. Отец, таким образом, получает крышу над головой и пропитание за свои ценные советы и за работу. — И все это законно? — не поверил я. — Вполне. — И после смерти матери и брата все дела ведете вы? — Можно сказать и так. Я получила от матери в наследство свою часть лавки. Конечно, за все важные вопросы отвечает мой опекун, художник Кристиан Дузарт. Но полагающиеся от вас отцу деньги вы спокойно можете передавать мне, ведь мы с Ребеккой рассчитываем все расходы по дому и делаем покупки. Девушка полушутливо протянула руку за деньгами, и я, шутливо-театрально закатив глаза, вложил ей в ладонь гульден. И тут мы оба рассмеялись — вновь ставший беззаботным художник Корнелис Зюйтхоф и успевшая расстаться с детством Корнелия ван Рейн.Что за сюрпризы преподносит нам порой судьба! В этом мне предстояло убедиться вечером того же дня, когда я проводил Корнелию домой. Еще не наступили сумерки, но у канала Розенграхт, где домики на узеньких улочках жались один к другому, было темно. Весь день меня не покидало чувство, что за мной кто-то тайком следит, причем казалось, будто за мной подглядывали даже во время наших с Корнелией скитаний по Лабиринту. Но там было столько народу — купцов, мушкетеров, моряков, радостно смеявшейся детворы, приличных и не совсем женщин, — что тому, в чьи намерения входило не упускать меня из виду, явно приходилось туго. В конце концов я отнес все мои предчувствия на счет расшатавшихся за последние дни нервов. Но теперь, шагая по узеньким переулкам, я ощущал незримую ледяную руку у себя на спине, словно предостерегавшую от неизвестной опасности. И тут я услышал за спиной шаги. Я несколько раз менял направление, однако шаги не исчезали, то затихая, то снова становясь громче. Все мои попытки украдкой разглядеть преследователя успехом не увенчались. Стоило лишь повернуть голову, как он мгновенно растворялся в тени домов. И вот, проходя мимо пекарни, где громоздились большие ящики, я принял решение. Проворно юркнув за ящики, я съежился в засаде. Если меня на самом деле кто-то преследует, он обязательно пройдет мимо. Я до сих пор пытался убедить себя, что шаги принадлежат какому-нибудь безобидному прохожему, как и я, возвращавшемуся из Лабиринта в город. Снова до меня донесся звук шагов, и тут же кто-то возбужденно зашептал. Нет, случайностью это быть не могло. Вспотевшими от волнения ладонями я стал лихорадочно искать по карманам нож и не сразу понял, что подарил его своему будущему учителю мастеру Рембрандту. Я неистово проклинал свою щедрость и непредусмотрительность. Ту самую непредусмотрительность, если не сказать больше, что погнала меня в засаду выслеживать невидимого преследователя, о физической силе которого я мог лишь предполагать. Но сделанного не воротишь, и надумай я сейчас покинуть свое убежище, меня бы тут же обнаружили. Я разглядел троих мужчин. Вид их мне явно не понравился. Здоровяки с патлатыми бородами, каких полным-полно околачивается в порту или в квартале Йордаансфиртель. И Боже упаси встретиться с ними где-нибудь в темном закоулке. К слабакам меня причислить трудно, не спорю, однако без оружия я при всем желании не смог бы устоять против этой троицы. И когда один из них, широкоплечий, со шрамом через всю правую щеку, заговорил, у меня отпали последние иллюзии. — Куда это он делся? Я же сам видел, как он прошел мимо этой пекарни. — Свернуть здесь некуда, — заключил другой, с красным носом пьянчуги. — Могу поспорить на бочку бренди, что он где-нибудь здесь схоронился! — Тогда ему от нас деться некуда, — отозвался третий, рассеянно проведя ладонью по голому, как колено, черепу. — Если только в один из этих домов не забежал, — усомнился красноносый. — Кто это, скажи на милость, пустит неведомо кого к себе в дом? — возразил лысый. — А черт его ведает, может, к какой зазнобе завалился или к приятелю там, — пробормотал в ответ красноносый. Бородач со шрамом, судя по повадкам, явно вожак, в молчании оглядывал улицу и дома. И как бы я ни съеживался, рассчитывать на то, что я так и отсижусь за ящиками, было вздором — рано или поздно он заметит меня. Так и произошло. Обезображенная физиономия растянулась в улыбке. — Глядите-ка, вот где наш друг! Оказывается, сидит за ящичками! Все трое, неспешно подойдя, обступили меня. Глаза у них светились радостным блеском, словно у охотников, сумевших выследить крупную дичь. Поднявшись, я огляделся в поисках средства обороны, но ничего подходящего вокруг не было. Отчаянность положения усугублялась ножами в руках у человека со шрамом и лысого. Красноносый извлек откуда-то из-под одежды небольшую дубинку. — Чего вам от меня надо? — спросил я, медленно пятясь к стене. — Кто вас подослал? — Незачем было тебе, мазила несчастный, таиться от нас, — произнес вожак. — Мы на тебя обиделись. Вот пойди ты спокойно дальше, тогда ничего бы и не было. А так… Судя по их довольным мордам, они предвкушали радость от осознания того, что сейчас со мной сделают. Негодяи были из тех, кто всегда найдет повод поизмываться над тем, кто слабее. Из тех, по чьему черепу плачет дубина палача. Наткнувшись спиной на стену, я понял, что дальше отступать некуда. Пальцы судорожно пытались нащупать хотя бы камень, с ним все-таки я чувствовал бы себя куда увереннее. Где там! Я уже был готов к самому что ни на есть худшему исходу ночной встречи, как вдруг в темноте раздался чей-то бодрый голос. — Эге-ге! Как же так — трое вооруженных на одного безоружного! Разве это по правилам? Говорящий явно следовал в том же направлении, что и мои недруги. Это был рослый мужчина крепкого телосложения. Сначала мне показалось, что он из той же шайки, что и мои преследователи, но нет. Одежда незнакомца отличалась опрятностью, на голове у него была высокая темная шляпа, что говорило о принадлежности к числу зажиточных, именитых граждан Амстердама, а темная бородка была аккуратно подстрижена. Я чуть воспрянул духом от появления этого человека, но потом, убедившись, что и он без оружия, спросил себя, а способен ли он воспрепятствовать их недобрым намерениям. Явно опешив, верзила со шрамом на щеке повернулся к нему: — Чего тебе здесь надо! Проваливай, куда шел! Тебя это не касается! — Что меня касается, а что нет, позволь уж мне решать, милейший, — с улыбкой отпарировал незнакомец, подходя ближе. — Когда я вижу, что трое оборванцев собираются напасть на порядочного человека, это меня как раз касается. — Ну, а нам тогда ничего другого не остается, как навалять тумаков сразу двум порядочным, — осклабился бандит со шрамом на щеке. — Тебе следовало бы прихватить с собой оружие, прежде чем совать нос в чужие дела! Неизвестный вытянул обе руки. Кулакам его можно было позавидовать. — Вот мое оружие, и не одно, а целых два! — хохотнув, ответил он. — Ладно, сам навязался, — пожал плечами предводитель троицы. И тут этот флегматичный человек молниеносным движением схватил красноносого за правую руку и одновременно как следует врезал ему ногой в правое бедро. Подействовал этот прием в буквальном смысле сногсшибательно. Застигнутый врасплох, бандит выронил дубинку, не устоял на ногах и навзничь свалился на мостовую, крепко ударившись затылком о камни. Под головой у него быстро росла лужица крови. Все произошло настолько быстро, что вызвало замешательство в рядах его дружков. Тут же мой спаситель, воспользовавшись секундной паузой, в два прыжка одолел расстояние, отделявшее его от верзилы с обезображенной щекой, и заломил ему за спину правую руку. Взвыв от боли, вожак выронил нож, но все же сумел вырваться из захвата нападавшего и, рыча от ярости, бросился на него с кулаками. Тот ловко уходил от ударов, и кулаки вожака молотили воздух. Ловким приемом незнакомец ухватил противника за плечи и что было сил швырнул на груду ящиков. Они рухнули, погребая под собой человека со шрамом. Все это было настолько невероятно, что я, увлекшись зрелищем, не заметил набросившегося на меня лысого. Его нож оказался в каком-нибудь дюйме от моей груди. В мгновение ока отреагировав, я упал на землю и при этом невольно подшиб его. Он тоже рухнул вслед за мной. Когда негодяй попытался подняться, подоспел мой союзник и, вывернув ему руку, заставил выронить нож. Тем временем человек со шрамом, с трудом выбравшись из-под завала, недоумевающе уставился на нас. Мой спаситель, недолго раздумывая, подхватил лысого под мышки и швырнул его на предводителя нападавших. — Забирайте своего красноносого пьянчугу и прочь отсюда поскорее, вонючий сброд! — крикнул незадачливым бандитам незнакомец. — А если не уберетесь сию же минуту, вами займется городская стража. Долго уговаривать ему не пришлось. Подхватив своего дружка, лежавшего с пробитой головой на мостовой, бандиты поспешили ретироваться. Уходя, человек со шрамом обернулся и бросил на нас полный ненависти взгляд. Мой спаситель, подняв с земли упавшую шляпу, стал отряхивать одежду от пыли. — Ну и времена! — произнес он. — Не успеет солнце зайти, как эти негодяи вылезают из своих нор. Порядочному человеку и выйти на улицу опасно. Я не стал говорить ему, что эта троица — отнюдь не заурядные уличные грабители. Теперь я уже не сомневался, что они целый день не выпускали меня из поля зрения. Их вожак назвал меня мазилой, выходит, он знал, кто я и чем занимаюсь. Все так, но как объяснить моему спасителю то, в чем я и сам толком разобраться не мог? Смущенно поблагодарив этого человека, я высказал свое недоумение: — Удивительное дело! Ни одной живой души поблизости, и даже никто не вышел нам на подмогу. А ведь все слышали — нашумели мы тут изрядно. — Увы, ничего удивительного я в этом не нахожу. Люди боятся бандитов и убийц. Они безумно рады, что на ночной улице попал в беду кто-нибудь другой, а не они сами. Да и на стражников мало надежды. Эти обычно появляются, когда уже все кончено, да вдобавок заберут того, кто пострадал от нападавших. — Все кончилось благополучно для меня только потому, что вы оказались поблизости. Не подоспей вы… Незнакомец перебил меня: — Чистая случайность, друг мой. Вам следовало бы поучиться, как защитить себя в случае нужды. Вам когда-нибудь приходило в голову освоить навыки борьбы? К сожалению, меня ждут, и я должен идти. Меня ждет одна очень милая девушка. Надеюсь, вы извините меня. Если вы всерьез надумаете заняться борьбой, приходите в школу единоборств Николауса Петтера, там меня и найдете. Я не успел поблагодарить за приглашение, как он повернулся и поспешно стал уходить. Я не был на него в обиде — наверняка та, что ждала его, и в самом деле была красавицей. Ибо мужчина был уже в том возрасте, когда имеют взрослых дочерей, а если ты дожил до таких лет, любая встреча становится еще волнительнее. — Эй, погодите, а как вас зовут? Кого мне спросить? — крикнул я вдогонку незнакомцу. — Я Роберт Корс, руководитель этой школы.
Глава 8 Загадочные женщины
Последняя ночь в доме вдовы Йессен выдалась неспокойной. Лежа без сна, я ломал голову над тем, кто были мои преследователи и чего от меня хотели. Их вожак тогда сказал, мол, незачем тебе было от нас таиться, не будь этого, мы бы тебя не тронули. Что могла означать эта фраза? Какова была их цель? Поскольку вразумительного ответа у меня не было, я стал размышлять о загадочном человеке, вынырнувшем из темноты и как раз вовремя подоспевшем мне на помощь. О Роберте Корсе. Какое странное стечение обстоятельств — ведь не кто-нибудь, а покойный Оссель говорил мне об этом человеке незадолго до трагедии, и вот я по чистой случайности повстречал его в темном переулке. Я твердо решил последовать совету и сходить в школу единоборств. Я не подумывал всерьез о том, стоит ли мне заняться борьбой, но, кто знает, может, мне удастся узнать там что-нибудь любопытное о прошлом моего казненного на площади друга. Хотя мы с Осселем Юкеном были друзьями, что я мог знать о его жизни до Распхёйса? В голове не укладывалось, что наш разговор с Осселем произошел всего лишь восемь дней тому назад и что за это время столько всего случилось: сначала дикое, ничем не объяснимое преступление Осселя, потом мое увольнение из Распхёйса, потом его казнь, потом появление загадочного Мертена ван дер Мейлена, всучившего мне сомнительный заказ, в результате которого я рассорился с вдовой Йессен… Лишь под утро я забылся тяжелым, тревожным сном.Проснувшись, я первым делом отправился к зеленщику, у которого за пару штюберов позаимствовал ручную тележку, и на ней перевез на Розенграхт свои скромные пожитки. И обиталище выпало мне там скромное, куда менее комфортабельное, чем у вдовы Йессен, — каморка в верхнем этаже, где Рембрандт держал свое собрание диковинок. Впрочем, это имело и положительную сторону: в конце концов, не каждый подающий надежды молодой художник мог похвастать тем, что живет в окружении восточных ваз, бюстов античных героев и звериных чучел. Просыпаясь с первыми лучами солнца, первым, кого я видел, был лохматый медведь. Он с таким недовольным видом взирал на меня, будто не я, а он только что пробудился от спячки. В первые дни Рембрандт не давал мне передохнуть, похоже, он собрался перепоручить мне все свои заказы. Может, таким способом он лишний раз хотел напомнить мне, кто учитель, а кто ученик. Мне же приходилось лавировать между ним и ван дер Мейленом, потерять доверие последнего мне явно не хотелось. Будучи весьма удовлетворен завершенным портретом Марион, ван дер Мейлен стал приводить ко мне на Розенграхт и других натурщиц. Всех их надлежало рисовать в обнаженном виде, и все они в чем-то неуловимо походили на Марион. И все как одна вели себя так, будто, повинуясь неотвратимому, совершали некий непристойный акт. Ни одну из женщин после завершения очередной картины встречать мне не доводилось, ни одна из них не пускалась со мной в пространные беседы, ограничиваясь разве что необходимыми фразами, непосредственно относившимися к нашей работе. И стоило натурщице по завершении работы встать, одеться и уйти, как у меня складывалось впечатление, что ее вовсе не существовало. Единственным доказательством ее присутствия в моей мастерской оставался портрет, да и тот вскоре исчезал — его уносил прочь ван дер Мейлен. Вначале я опасался, что такое обилие молодых и красивых женщин не ускользнет от внимания Корнелии и, вполне возможно, даже вызовет ее недовольство, однако ничего подобного не случилось. Напротив, мне даже казалось, что частые визиты ван дер Мейлена радуют ее. Девушка не раз заговаривала с ним, вероятно, надеясь выгодно пристроить работы своего отца. Но торговец вел себя более чем сдержанно, а однажды я, случайно подслушав их разговор, убедился, что ван дер Мейлен без обиняков заявил бедняжке Корнелии, что, дескать, те, с кем ему приходится иметь дело, к Рембрандту, деликатно выражаясь, равнодушны. Как же мне хотелось заехать ему в физиономию после таких слов! Лишь однажды, я тогда как раз завершал портрет Марион, Корнелия поинтересовалась у меня, кто моя натурщица. И когда я растолковал ей, что, мол, всех натурщиц поставляет мне сам ван дер Мейлен и что я даже имен их не знаю, девушка, как мне показалось, хоть и была удивлена, но отнюдь не расстроена. В первые дни я почти не покидал своего нового жилища на Розенграхт, разве что сам Рембрандт отправлял меня купить что-нибудь для него. Я использовал эти выходы в город для пополнения запасов кистей, красок и всего необходимого для работы. По вечерам я был жутко доволен, когда после очередного суматошного и наполненного беспрестанной работой дня наконец добирался до постели. Изредка я под неусыпным взором моего лохматого цербера одолевал пару страничек из книги, подаренной мне Эманнуэлем Охтервельтом. Я не нашел, что «Дневниковые записикапитана, старшего купца и директора Фредрика Йоганнеса де Гааля о его странствиях в Ост-Индию на службе Объединенной Ост-Индской компании» — выдающееся произведение. Но с другой стороны, я не так уж и много прочел изобилующих приключениями путевых заметок, столь обожаемых Охтервельтом, посему авторитетного мнения составить не мог. Напротив, я даже от души желал, чтобы его произведение на самом деле было талантливым, и сулил ему всяческий успех. И хотя Охтервельт, выражаясь весьма и весьма деликатно, не питал особого пристрастия к моим картинам, я питал к нему самые дружеские чувства, а к его темноволосой симпатичной дочурке Йоле был и вовсе неравнодушен. Фредрик де Гааль по поручению Ост-Индской компании совершил четыре дальних похода: два — капитаном корабля и два — старшим купцом. Два последних нашли подробное отражение на страницах его дневника. Четвертая поездка удостоилась лишь общих описаний с некоторыми приведенными данными и цифрами; создавалось впечатление, что он, не мудрствуя лукаво, передрал их из вахтенного журнала. И это при том, что, повествуя о предыдущих трех поездках, де Гааль расписывал, не скупясь на слова, все даже самые незначительные события, очевидцем которых ему выпало стать. В связи с этим мне вспомнился рассказ одного моряка в таверне у порта, который, будучи сильно навеселе, утверждал, что, дескать, последнее плавание де Гааля вызвало столь бурную реакцию еще и потому, что в Амстердам удалось вернуться далеко не всем членам команды. Но я понятия не имел, что в этой истории правда, а что вымысел. Лишь в начале сентября я смог урвать время для посещения школы единоборств под началом Роберта Корса. Рембрандт в тот день отлучился куда-то по своим делам. Это было в порядке вещей, нередко мастер пропадал по полдня, и даже Корнелия понятия не имела, где он. Однажды в разговоре со мной она высказала догадку, что отец, мол, ходит на могилу Титуса скорбеть в одиночестве. В тот сентябрьский вторник Рембрандт ушел из дома, едва миновал полдень. Благоволившая ко мне Корнелия великодушно даровала мне свободу на оставшиеся часы дня. Погода уже мало напоминала августовскую, попахивало осенью, но, несмотря на затянутое тучами небо, дождя все же не было. Я предпринял долгую прогулку в направлении Принсенграхт, настроение мое оставалось хорошим, невзирая даже на злое напоминание: по пути мой взгляд ненароком упал на расположенные в отдалении красильни. Школа единоборств занимала довольно большую постройку, из чего я заключил, что дела господина Роберта Корса идут как нельзя лучше. Привратник отвел меня в просторный зал для занятий, где стоял резкий запах пота и щелока для мытья полов. На матах под надзором наставников упражнялись две группы борцов. Сам Роберт Корс стоял, прислонившись могучей спиной к стене зала и поглядывая на своих питомцев. Как я понял, одна группа состояла сплошь из новичков. Я определил это по характерной для начинающих неповоротливости. Наставник без устали заставлял их отрабатывать один и тот же прием. Зато вторая группа выглядела куда сноровистее, борцы молниеносно делали захваты, я даже не успевал следить за их действиями. Зрелище увлекло меня, и в голову пришла мысль, что в свое время в этом же зале вот также упражнялся и Оссель Юкен. Из раздумий меня вывел Роберт Корс. Подойдя, он вопросительно взглянул на меня: — Чем могу служить, сударь? Решили освоить искусство единоборств? — Пока что, вот, хочу немного понаблюдать, если позволите. Вы ведь сами зазвали меня сюда, господин Корс. — Я? — Корс вперил в меня испытующий взгляд, но явно не мог вспомнить, кто я такой. — Вспоминайте — тихий переулок у канала Розенграхт, — решил я прийти к нему на помощь. — Субботний вечер в августе. Вы тогда спасли меня от трех громил. Если б не вы, они бы меня точно отправили к праотцам. Лицо Корса осветилось улыбкой. — Ах вот оно что! Так это вы? — Да, это я, — улыбнулся я в ответ и назвал ему свое имя. — Вы еще тогда очень спешили на свидание с какой-то красавицей, и я даже толком не успел вас поблагодарить. Вот, как видите, не забыл. — А борьба вас не интересует, так? — напрямик спросил Корс. — Не знаю, смогу ли все это освоить. Я всего лишь бедный художник. Понимающе кивнув, Корс процитировал детский стишок: — «Понедельник, вторник иль среда — мой карман пуст всегда!» Нет, скажите прямо, вы на самом деле без гроша в кармане? — Ну, это слишком сильно сказано, сударь. Однако и богачом назвать себя даже при большом желании не могу. Поэтому и вынужден отказаться от ваших услуг, как наставника, господин Коре. Но поговорить с вами мне было бы очень интересно. — Вот как? И о чем же вы хотите со мной говорить? — Об одном из моих друзей. Об Осселе Юкене. — Об Осселе? — Лицо Корса непроизвольно дрогнуло. — Так вы дружны с Осселем Юкеном? Где он сейчас? И как у него дела? — Никак, к сожалению. Он мертв. Корс был ошеломлен тем, что я сообщил ему. В общих чертах я передал ему историю Осселя. — Так это, выходит, его казнили тогда у ратуши за зверское убийство сожительницы? — недоверчиво протянул Роберт Корс. — Вот это да! Нет-нет, конечно, я знал об этом, весь Амстердам тогда пересказывал эту историю. Но имя виновного ускользнуло от меня. Я ни сном ни духом не подозревал, что им может быть Оссель Юкен. Знай я об этом, может быть, и… — Что стало бы, если бы знали? — сгорая от любопытства, спросил я. Он сделал неопределенный жест: — Ах, так, ничего особенного. Сами посудите — что я мог бы для него сделать? Несчастный старина Оссель! Столько лет. — Хозяин школы единоборств помрачнел. — Жизнь меняет людей и их отношения, и — Бог тому свидетель — отнюдь не всегда к лучшему. Разве не так? — Вряд ли могу с вами поспорить, — помедлив, ответил я. Я все еще не понимал, к чему клонит Роберт Корс. — Нет-нет, тут уж я прав окончательно, поверьте. Но мне не хотелось бы говорить об этом здесь. Давайте-ка лучше пройдем ко мне в контору. Крикнув обоим наставникам, чтобы те продолжали без него, он провел меня в светлое помещение с двумя окнами. На стенах были развешаны гравюры с изображением борцов в различных позициях. — Тут представлены всевозможные приемы борьбы, я заказал эти рисунки для наглядности. Хочу создать книгу об искусстве борьбы. Но мне эти гравюры не нравятся. Уж очень примитивно на них все показано. — Корс призадумался на мгновение. — Вы упомянули, что вы художник, господин Зюйтхоф. Может, найдете способ урвать для меня время и изготовить парочку гравюр на эту же тему? Думаю, у вас получится ничуть не хуже. — Надо подумать, — уклонился я от конкретного ответа. Откуда ему знать, что гравер вовсе не одно и то же, что художник. Видимо, придется обращаться за объяснениями к Рембрандту в надежде, что он поможет мне исполнить заказ Корса. Пока я размышлял, взгляд мой упал на написанную маслом картину, висевшую на противоположной окнам стене. Портрет женщины. Я знал ее! — Что это с вами? Голова закружилась? — обеспокоенно спросил Роберт Коре. С трудом сохраняя невозмутимость, я показал на картину. — Я знаю эту женщину! — Вы никак не можете знать ее — она умерла шестнадцать лет назад. А вы тогда были еще ребенком. — Умерла… шестнадцать лет… — выдавил я. Я был поражен. — А что с ней произошло? Отчего она умерла? — Ее легкие сожрала чума. — Кем она была? — Это Катрин, дочь Николауса Петтера. Именно по ее милости добрые друзья стали непримиримыми врагами или хотя бы теми, кто избегает встреч друг с другом. — Корс горько усмехнулся. — Со времен Евы женщины только и делают, что сеют раздор среди мужчин. И все же куда нам без них? Мы не понимаем их, но они нужны нам как воздух. Вот в чем состоит извечная их загадка. — Вы имеете в виду Осселя и себя, как я понимаю? Не расскажете мне эту историю? — Расскажу, никуда не денусь. Но вы уж сядьте и выпейте со мной кружечку отличного дельфтского пива. Он наполнил две кружки из оловянного кувшина, и мы опустились на стулья с высокими спинками. Роберт Корс поведал мне историю двух молодых борцов, оттачивавших свое искусство в школе мастера Николауса Петтера. Оба проявили себя весьма способными учениками и вскоре уже сами натаскивали начинающих. — Вероятно, кое-кто уже видел в нас преемников Петтера, — добавил Коре. — Потому что мы оба втрескались по уши в молоденькую красавицу Катрин, наперебой предлагая ей свое сердце, как никто в Амстердаме. — И чьему же призыву вняла Катрин? — полюбопытствовал я. — Все шло к тому, что счастливчиком уготовано было стать Осселю. Поговаривали даже о скорой свадьбе. Я к тому времени уже оставил все попытки, но вот один теплый летний вечер перевернул все. Оссель тогда вместе с мастером Николаусом Петтером отправились по делам в Гоуду, и Катрин согласилась пройтись со мной вечером в Лабиринт Лингельбаха. — Тут глаза Корса странно заблестели. — Да, гот вечер изменил все. Нам с ней было весело — мы смеялись, шутили, пели. И как это бывает, вдруг поняли, что жить друг без друга не сможем. Дождавшись, пока вернутся ее отец и Оссель, мы им все и выложили начистоту. Я даже подался вперед через стол — так мне хотелось услышать продолжение истории. — И что же Оссель? Корс поставил опустевшую кружку на узенький столик и беспомощно развел огромными руками. — Словами этого не опишешь. Он в одну секунду стал другим человеком. Из всегда приветливого друга и спутника, с которым мы нередко предпринимали всякие авантюры, он превратился в озлобленного упрямца, не желавшего прислушаться ник каким доводам, замкнутого и злопамятного. Уже на следующий день он решил уйти отсюда, хотя мастер Петтер предложил ему хорошее место. Он хотел поручить нам руководство школой после своей смерти, причем независимо от того, за кого пожелает выйти Катрин. — И Оссель не согласился? — Он даже слушать мастера Петтера не пожелал. И минуты не мог пробыть там, где ему отказала та, кого он любил больше всего на свете. Не мог больше видеть Катрин. — А вы не пытались пойти с ним на мировую? — Пытался, и не раз, но он наотрез отказывался даже говорить со мной. В его глазах я поступил как предатель, как вор. Разве могу я винить его за это? Когда мы оба ухаживали за Катрин, мы ведь понимали, что кому-то из нас ей так или иначе придется отказать. Мне тоже пришлось немало вытерпеть, когда у них с Осселем все было вроде как решено. Иными словами, мы были с ним на равных. А когда мы поменялись ролями, он, видите ли, воспринял это как предательство, как вероломство. А как могло быть иначе? Мы с Катрин были молоды и любили друг друга. Корс, торопливо схватив кружку с пивом, жадно припал к ней. Кадык судорожно дергался, сопровождая глотки, пиво стекало по уголкам рта. Осушив кружку, он отер рот тыльной стороной ладони и устремил пустой взгляд на картину. Я, невольно последовав за его взором, тоже посмотрел на портрет молодой женщины с задумчивыми зелеными глазами. Я отказывался верить тому, что видел. И чем дольше я всматривался в этот портрет, тем больше прояснялся мой разум. Все то, что прежде казалось мне в Осселе необъяснимым, обретало четкие очертания. Я, хоть и с запозданием, начинал понимать моего друга. — Господин Корс, — заговорил я после длительной паузы, — вы сказали, что я слишком молод, чтобы знать изображенную на портрете женщину. Это, конечно, верно, но, с другой стороны, не совсем. Женщина, я имею в виду сожительницу Осселя, которую он, как утверждали, убил… — Да-да, слушаю вас… — Так вот, ее звали Геза Тиммерс, и она вылитая Катрин. Я бы принял обеих за сестер-близнецов. И у Гезы тоже были зеленые глаза. Скажите, а у Катрин не было родной или двоюродной сестры? — Насколько мне известно, нет. И среди ее родственников нет никого по фамилии Тиммерс. — Тогда, выходит, Оссель случайно повстречал женщину, как две капли похожую на свою первую любовь, во всяком случае, внешне похожую. Потому что покойная Геза Тиммерс была женщиной пьющей и распутной, короче говоря, падшей. Вероятно, когда-то раньше, еще до того как они познакомились с Осселем, она могла быть другой. Теперь мне по крайней мере понятно, отчего он так прикипел к этой Гезе Тиммерс, почему прощал все, хотя ей ничего не стоило надерзить ему и вообще вести себя безобразно даже в присутствии посторонних, в частности меня. Не ее душа, а внешность околдовала его, причем настолько, что отодвинула все остальное на задний план. Геза как бы перенесла его в прошлое, предоставила возможность получить то, чего он в свое время лишился, хотя бы частично обрести утешение. — Нечего сказать, утешение! — бросил Коре. — А что еще ему оставалось? Роберт Корс поднялся и приблизился к картине. Он стоял перед ней довольно долго, повернувшись ко мне спиной. И когда он обернулся, я заметил, что в глазах этого уже немолодого сильного человека блеснули слезы. — Чтобы воздать справедливость Осселю, следует вот еще о чем упомянуть, — сдавленным голосом произнес он. — Он ожесточился не только из-за моего, вернее, нашего с Катрин предательства, как он считал. Катрин умерла уже несколько месяцев спустя после нашей с ней свадьбы, унеся с собой в могилу и нашего нерожденного ребенка. После этого я вновь разыскал Осселя и попытался помириться с ним, однако натолкнулся на еще большее непонимание. Он выставил меня за дверь, чуть ли не избил. Почему? Оссель поставил мне в упрек смерть Катрин, я, мол, не уберег ее от чумы. Мне кажется, он и себе простить не мог, что проявил недостаточно настойчивости, сражаясь со мной за Катрин. Оссель наверняка был убежден, что, выйди Катрин за него, она дожила бы до глубокой старости. Эта убежденность порождалась болью утраты, она хоть и оправданна, но неверна. Именно она его и доконала. — Корс тряхнул головой. — Но что заставило его убить эту Гезу? Не могу понять! — Что касается меня, я вовсе не убежден, что это преднамеренное, хладнокровное убийство. Честно говоря, он сам жертва. — То есть? — не понял Корс и снова уселся за стол. Бывший друг Осселя своей обезоруживающей откровенностью вызывал доверие, и я без утайки выложил все свои подозрения, догадки и версии, столько времени не дававшие мне покоя. Борец с сомнением уставился на меня: — Но картина — всего лишь одна сторона медали. Картина — неодушевленный предмет, она не размышляет, ей неведомы чувства, она не в состоянии действовать. — Я знаю художников, которые несколько иначе думают о своих произведениях, — возразил я и тут же добавил: — К сожалению, у меня нет никаких доказательств истинности моей версии. Но я всеми силами постараюсь выяснить, какова роль этой картины. Ее исчезновение вскоре после убийства Гезы Тиммерс должно иметь объяснение. — В целом я согласен с вами. Вам удалось хоть что-то выяснить? — Нет, просто до сих пор не было времени. Я говорил правду. Мое первоначальное предположение, что написанная лазурью картина могла принадлежать кисти Рембрандта или кого-нибудь из его учеников, пока что подтверждения не находила. Я обшарил все комнаты дома на Розенграхт, однако не нашел ни одной картины, колористика которой хотя бы отдаленно напомнила мне о той, что несла смерть. Дело в том, что Рембрандт вообще не пользовался лазурью. Я ни разу не видел, чтобы он готовил краску синего цвета. Если в этом доме и можно было отыскать синюю краску, то она принадлежала мне самому, ее я использовал при написании портретов. — Если что-нибудь разузнаете, уж возьмите на себя труд сообщить мне, господин Зюйтхоф, — попросил Роберт Коре. — Я с удовольствием готов помочь вам в ваших розысках. — Чем объяснить вашу готовность? — вырвалось у меня. — Вероятно, тем, что надо мной тяготеет долг. В свое время мы с Осселем были закадычными друзьями, водой не разольешь, ни дать ни взять — родные братья. Мне следовало помириться с ним, пока он был жив, но теперь я хочу попытаться помочь смыть страшное пятно позора, которое, если судить по тому, что вы мне рассказали, легло на него не совсем заслуженно. — Прищурившись, Корс вперил в меня взгляд. — А те трое подонков тогда, на Розенграхт? Может, они вовсе не случайно выбрали вас своей жертвой? Может, кто-нибудь им посоветовал? — спросил он. — Вы прямо читаете мои мысли. Но точно утверждать не могу. — Короче говоря, остается хорошенько подготовить вас на случай, если на вас вновь нападут. По крайней мере отбиться с грехом пополам. Не возражайте, я посвящу вас в азы борьбы. И не дай Бог, если вы попытаетесь всучить мне за это хоть грош! В тот день я приступил к изучению приемов борьбы, что не стоило мне ничего, если не считать синяков да шишек. Один раз я показал себя настолько способным учеником, что даже исхитрился броском через бедро уложить на ковер своего наставника. Когда я, не на шутку перепугавшись, осведомился, все ли у него в порядке, он в ответ ухмыльнулся: мол, падение на пол есть часть тренировок. Дескать, этим он и займется со мной на следующем занятии. Откровенно говоря, я вовсе не был уверен, что на самом деле подловил его, вполне может быть, что он по доброте душевной поддался мне. Несмотря на синяки, ссадины и прочие «знаки отличия», я покинул школу борьбы в добром настроении. Все же легче, если у тебя есть сподвижник, особенно в таком запутанном деле, как выяснение причин недавних трагических событий. С другой стороны, мне удалось узнать о своем покойном друге нечто такое, что наводило на размышления. Да и погода явно была под стать настроению: тучи понемногу рассеивались, и сентябрьское солнце освещало улицы Амстердама ласковыми, совсем не осенними лучами. Усевшись на деревянную скамейку какой-то забегаловки на Принсенграхт, я заказал кружку пива, велел также принести трубку доброго табака и, созерцая прохожих и воды канала, отдался одолевавшим меня мыслям. Грузовые лодки причаливали у товарных складов, с высоких коньков крыш спускались крючья подъемников, перегружавших прибывавшие товары — тюки с хлопком, бочки с вином, ящики, о содержимом которых мне оставалось лишь догадываться. Это могли быть драгоценные пряности с островов Вест-Индии или кора деревьев из Португалии, в бочках — направлявшееся в Россию или Германию вино из испанской Малаги или же пиво из Брабанта. В мешках обычно перевозили ткани из Англии и табак из Турции. Наблюдая эту картину, я внезапно понял, что совет, поданный Охтервельтом, не так уж и абсурден. Мною овладело странное желание покинуть родные края, убраться за тридевять земель. Воображение рисовало незнакомые города, пестрые восточные базары, синюю гладь бескрайних океанов. Батавия, Суматра, Маврикий, Суринам! Как странно и волнующе звучали эти названия, задевая потаенные струны моей души. Я видел местных жителей этих островов, слышал их говор на непонятном наречии, представлял себе невиданные растения и животных. Разумеется, того, кто отважится на путешествие в далекие страны, всегда подстерегают угрозы — тропическая лихорадка, морские разбойники, хищные звери. Но лишь того, кто, презрев все опасности, отправляется неведомо куда, ждут великие открытия. Здесь, в Амстердаме, меня ничто не удерживало — следовало это признать, — что сулило бы мне блестящее будущее. Здесь было пруд пруди подобных мне начинающих живописцев. Лишь считанные из моих ровесников могли надеяться на то, что дорастут до известных мастеров кисти, но и это не служило гарантией безбедного существования. И лучший пример тому — судьба самого Рембрандта. Нет, я был не хуже многих, даже очень многих молодых художников, но разве мог я причислить себя к Рубенсу, Франсу Халсу и другим знаменитостям? Впервые я подверг сомнению реальность карьеры живописца. Вероятно, потому что впервые всерьез задумался об этом, взвесив все «за» и «против». Я ведь с младых лет грезил о стезе живописца — мои первые детские и юношеские работы удостаивались похвал. Но истинное искусство — это ведь не похвалы друзей, родственников или учителей, знающих тебя с младых ногтей. Вон там, на островке Тексен стояли у причала торговые корабли, готовившиеся отплыть в разные концы мира. Может, и мне следовало попытать счастья на их борту, а уж потом решать, кем стать и чем заняться в жизни? Исхоженный вдоль и поперек Амстердам с его узкими улочками показался мне до ужаса крохотным. Мне почудилось, что его стоящие впритык дома вот-вот обрушатся и навеки погребут меня, отрезав от остального мира. Еще до вечера я принял решение уехать из Амстердама на поиски счастья в тех краях, названия которых напоминали об опасностях и приключениях. Но сперва я должен вернуть доброе имя своему покойному другу Осселю Юкену. Довольный, что у меня наконец появилась настоящая цель, я вытянул ноги и, привалившись спиной к стене харчевни, отдался беззаботному созерцанию мира. В спешивших мимо прохожих я пытался угадать тех, кто уже успел повидать мир. Вдруг внимание мое привлекла молодая женщина, направлявшаяся в сторону одного из торговых складов, расположенного слева от меня. Может, меня прельстили ее озорные рыжие локоны, может, лихо перевязанная голубенькой лентой соломенная шляпка. Где-то я такую уже видел. Резко подавшись вперед, я из-под руки стал смотреть вслед удалявшейся фигурке. — Красавица, каких мало, если желаете знать мое мнение, — проскрипел чуть ли не в ухо мне чей-то незнакомый голос. — Одета весьма пристойно, и в то же время как же она соблазнительна. Жаль вот только, что я староват для этой милашки, да и вдобавок настоящий урод. К тому же беден как церковная мышь. Сей краткий монолог принадлежал пожилому мужчине, сидевшему за соседним столиком перед опустевшим бокалом и посасывающему коротенькую трубку. Обветренное, изборожденное морщинами лицо его говорило о том, что передо мной побывавший в переделках пожилой моряк. Такие морщинки вокруг глаз всегда появляются у тех, кто, зажмурившись на солнце, долгими часами вглядывается в горизонт, стремясь разглядеть порхающих чаек или другие признаки приближающейся суши. — Хенк Роверс, — представился старик. — На всех морях, как у себя дома, но Амстердам — мой настоящий дом. — Корнелис Зюйтхоф, дальше Амстердама не бывал, — ответил я в тон своему новому знакомому, не отрывая взгляда от рыжеволосой девушки. — Но несмотря на это, глаз на красавиц у вас острый! — плутовато усмехнулся старик. — Да, эта малышка ван Рибек — просто очарование. — Так вы ее знаете? Старый моряк кивнул: — Она дочь одного купца, Мельхиора ван Рибека. Если не ошибаюсь, ее зовут Луиза. Ну конечно, это она — видите, как раз собралась войти в дом Рибека! И правда, особа, известная мне под именем Марион, бойко взбежав по ступенькам, исчезла за дверью солидного купеческого дома. — Видит око, да зуб неймет — вот и вся забава для нас, старичков, и для вас, беднячков, — вздохнул моряк. — Не хочу вас задеть, Зюйтхоф, но вы мало походите на того, у кого денег куры не клюют. Я примирительно осклабился: — Ничего-то от вас не скроешь, Хенк Роверс. А вы недурно осведомлены о жизни этого Рибека и его дочурки. Откуда вы о них знаете? — Я почти каждый день сижу здесь, поневоле все обо всех узнаешь. Тем более что о Рибеке последнее время только и говорят. — И что же? Ровере с досадой крякнул, потом многозначительно пощупал себя за кадык и устремил скорбный взгляд в давно опустевший бокал. — Во рту что-то пересохло, так что не очень-то разговоришься. Заказав еще одну кружку, я пересел за столик Роверса и стал дожидаться, пока старик промочит горло. Терпение мое было вознаграждено. Старый моряк рассказал мне о купце Рибеке, попавшем в полосу невезения. Корабль, груженный товарами, часть которых принадлежала Рибеку, незадолго до прибытия в родной порт попал в шторм и потонул. Второй корабль, тоже с грузами, приобретенными на его деньги, между Макассаром и Матарамом был захвачен пиратами, которые разграбили его, а потом сожгли. Чтобы покрыть убытки, Рибек пустился в биржевые спекуляции. Умолкнув, Ровере стал раскуривать трубку. — Так вот, — продолжал он. — Удачи они ему не принесли, он проигрался вчистую. Даже дом потерял. — Но как же так? Ведь мы только что с вами видели, как его дочь входила в этот дом. — Верно. И это самое удивительное во всей истории, — протянул Ровере, отхлебывая из кружки. — Ни один банк не дал бы господину Мельхиору ван Рибеку и гроша, не то что кредит. И вот, представьте себе, за несколько дней до того, как дом был выставлен на продажу, он вдруг разом оплачивает все свои долги. — Ну что же тут такого? Может, какой-то банк все-таки сжалился над ним и дал ему взаймы, — предположил я. Лицо Роверса скривилось. — Банк дает деньги только тому, от кого ожидает получить кругленькие проценты. А уж о Мельхиоре ван Рибеке этого никак не скажешь. Тут поговаривают о каком-то богатеньком заимодавце, дескать, он и поддержал этого купчика. — А с какой стати ему поддерживать Рибека? — Вы задаете такие вопросы, Зюйтхоф, что только сам Господь Бог знает на них ответы. Во всяком случае, Ри-бек вроде снова поднялся на ноги. И соседи, переставшие было здороваться, снова учтиво кланяются ему, и дочь его вроде как помолвлена с Константином де Гаалем. О такой партии дочка едва не разорившегося купца может только мечтать! Допив кружку до последней капли, Роверс поднялся из-за стола и стал прощаться. — Мне еще нужно до порта дойти, там у меня встреча с друзьями. И просоленный морским ветром старик Хенк Роверс неторопливо побрел по Принсенграхт к порту, оставив Корнелиса Зюйтхофа недоумевать. Та, которая еще совсем недавно позировала ему в обнаженном виде, готовилась выйти замуж за богатейшего человека Амстердама! Покачав головой, я оплатил выпитое пиво и направился к дому, который, если верить Хенку Роверсу, принадлежал купцу по имени Мельхиор ван Рибек. За последние недели мне выпало пережить массу странностей и поломать голову над разного рода тайнами. Но сейчас туман загадочности мало-помалу рассеивался. И начать предстояло с молодой женщины, известной мне как Марион. Не удосужившись прислушаться к внутреннему голосу, я стал подниматься по ступенькам к мраморному эркеру и вскоре уже звонил, потянув за шнурок. Мне отперла служанка в белом накрахмаленном колпаке. Я сообщил ей о желании видеть госпожу Луизу ван Рибек. — А что вам угодно от молодой госпожи? — напыщенно вопросила пожилая служанка, мгновенно определив по моему затрапезному виду неугодного визитера. — Мне необходимо поговорить с ней, — ответил я, представившись. — Просто скажите ей, что ее желает видеть господин Зюйтхоф. — Ждите здесь! Массивная дубовая дверь захлопнулась у меня перед носом, но не прошло и двух минут, как служанка возвратилась вместе с моей рыжеволосой натурщицей. Последняя, повернувшись к служительнице, сказала: — Спасибо, Юлия, вы можете идти. Смерив меня на прощание весьма скептическим взглядом, прислуга удалилась. — Так это в самом деле вы! — выдохнул я, все еще не придя в себя от охватившего меня волнения. — Вы сегодня прошли неподалеку от моего столика. Я глазам не поверил, что это вы. Как мне к вам обращаться? — Лучше всего никак, — парировала она и потащила меня подальше от входа в этот роскошный дом. — Вот что, нечего вам было сюда приходить. Опрометчиво с вашей стороны вообще разузнавать, где я живу и кто я! — В мои планы не входило ставить вас в неловкое положение, — заверил я госпожу ван Рибек. — Но мне просто стало любопытно, и все. Не могу понять всей этой истории. — А от вас никто не требует ничего понимать, — отрезала она. — Вам платят не только за рисование, но и за молчание. Так что помните об этом! Выпалив это, госпожа ван Рибек повернулась и снова исчезла за дверями дома. Я продолжал стоять будто вкопанный. Выйдя на улицу, я заметил стоящую невдалеке еще одну молодую женщину с корзинкой для покупок в руках. Она устремила на меня полный изумления и раздражения взгляд. — Корнелия! А вы как здесь оказались? — откровенно изумился я. — Так как я дала вам на сегодня выходной, приходится самой ходить за покупками. Вот уж не знала, что у вас здесь могут быть дела. Разумеется, отчитываться передо мной вас никто не заставляет, но к чему вам понадобилось врать мне, этого я понять не могу. — Что вы имеете в виду? — Когда я вас спросила про этих ваших, гм, натурщиц, вы сказали мне, что в первый и последний раз их видите и даже не знаете, как их зовут. Оказывается, вы умудряетесь бегать к ним в гости! — Как вам это объяснить? — Я был немало смущен таким поворотом. — Просто… просто это странное стечение обстоятельств. Корнелия презрительно махнула рукой: — Вы просто изолгались, вот что я вам скажу! Но, как я уже сказала, отчитываться передо мной вас никто не заставляет. Всего хорошего! Откинув голову, она с независимым видом зашагала прочь. Мнетутже вспомнилась тирада Роберта Корса: «Мы не понимаем их, но они нужны нам как воздух. Вот в чем и состоит извечная их загадка».
Глава 9 Художник и его творчество
20 сентября 1669 года С момента той случайной встречи у дома купца Мельхиора ван Рибека наши отношения с Корнелией заметно охладились. Девушка по возможности избегала меня, а если нам случалось обсудить что-нибудь, старалась покончить с этим как можно скорее. Вечер, проведенный нами в Лабиринте, казался мне недостижимо далеким. Луиза — или Марион, как я продолжал называть ее про себя, — наверняка ни единым словом не обмолвилась ван дер Мейлену о нашем с ней разговоре у ее дома. Во всяком случае, его отношение ко мне оставалось прежним. Я, как и подобало ученику, выполнял все требования наставника, но и не забывал о заказах ван дер Мейлена. В редкие свободные часы я посещал уроки борьбы, на которых Роберт Корс натаскивал меня по части приемов самообороны. После этих занятий я взял привычку, расположившись за столиком в уже знакомой харчевне, наблюдать за входом в дом купца ван Рибека, но увидеть Луизу мне так и не удавалось. В целом, у меня не было особых поводов корить судьбу, однако мне по-прежнему не давала покоя мысль, что я ни на дюйм не продвинулся в расследовании обстоятельств убийства, совершенного Осселем. Не могу сказать, что меня заставило восстановить в памяти исчезнувшую картину. Может, боязнь того, что неумолимое время сотрет из памяти черты смертоносного полотна. А может быть, сыграло роль отчаяние от мысли, что мне уже никогда не удастся отыскать его следы и тайна так и останется неразгаданной. Как и следовало ожидать, копия вышла лишь приблизительная. Слишком уж мало времени у меня было на изучение оригинала, чтобы запечатлеть в памяти детали. В особенности лица. Если лицо самого красильщика Гисберта Мельхерса я еще помнил, то, пытаясь воссоздать лица его супруги и детей, доверился исключительно собственному воображению. И все же, закончив репродукцию, я убедился, что в целом сходство с подлинником было весьма близким. Даже игра света и тени, так напоминавшая мне работы моего учителя мастера Рембрандта, была передана мною достаточно убедительно, что, несомненно, льстило моему самолюбию. А синий цвет — лазурь, которой была выписана одежда изображенных на картине, напротив, не удалась, хотя немало сил ушло на подбор нужного оттенка. Либо автор использовал какую-то неизвестную синюю основу краски, достать которую ни у кого в Амстердаме, даже у самого пронырливого торговца, не представлялось возможным, либо он добился неповторимости оттенка, смешивая другие краски. Но сколько я ни экспериментировал, смешивая их, желаемого результата так и не достиг. Однако вопреки всему я был доволен проделанной работой и ее результатом. Никто и не подозревал об этой копии, ибо я работал над ней втайне от всех. Каждый раз, отправляясь на Принсенграхт, где брал уроки борьбы у Роберта Корса, я прикрывал полотно от любопытных глаз накидкой. В тот день я освоил навык выскальзывать из цепких объятий противника, изучив прием, позволявший молниеносно уложить его на обе лопатки. Наставник по части единоборств был доволен моими успехами, и я невольно задался вопросом: а может, мне на роду написано куда больше преуспеть по части борьбы, нежели в живописи? После занятий мы заворачивали в близлежащую харчевню отведать пива, и Корс рассказывал мне о былых временах, когда они с Осселем были друзьями, свято убежденными в том, что весь мир, стоит его только хорошенько ухватить, непременно станет твоим. И сегодня мы попрощались, как обычно, сердечно, после чего Корс отправился к себе в школу. Я уже собрался встать из-за стола, но тут взгляд мой упал на человека, дожидавшегося кого-то у входа в дом мастера Мельхиора ван Рибека. Его я узнал бы из тысяч и — это был Мертен ван дер Мейлен. Торговец антиквариатом нетерпеливо мерил шагами тротуар. Наконец из дверей дома вышла дочь купца. Из-за ствола вековой липы я видел, как торговец провел девушку к стоящему тут же наемному экипажу. Куда они собрались? Может, ван дер Мейлен предоставлял Луизу в натурщицы и другим художникам? В эту пору дня? Нет, такого быть не могло. Солнце уже садилось, а ни один живописец не станет за мольберт при искусственном освещении. Когда экипаж двинулся с места, я, не раздумывая долго, побежал вдогонку за ним. Движение на улицах Амстердама было довольно оживленным, у перекинутых через каналы мостов была настоящая толчея. Это здорово облегчало мне задачу проследить, куда все-таки направлялся экипаж. А направлялся он, как я вскоре убедился, на оживленную Антонисбреестраат. Расплатившись с извозчиком, Луиза и ван дер Мейлен тут же исчезли за дверями одного из увеселительных заведений, которыми славилась эта улица. Оттуда доносились музыка, пение и смех. Двери охранял швейцар, широкогрудый рослый мужчина, пристально оглядывавший всех входивших. Он сразу же узнал прибывших, и лицо его расплылось в угодливой улыбке. Ван дер Мейлен что-то сказал ему, и они обменялись несколькими фразами. Увы, из своего импровизированного убежища — я хоронился за огромной бочкой для сбора дождевой воды на противоположной стороне улицы — я не мог расслышать, о чем шел разговор. Но что самое любопытное: ван дер Мейлен и его спутница не воспользовались главным входом, а вошли в заведение через заднюю дверь, выходившую в узенький проулок, отделявший этот дом от соседнего. Покинув убежище, я ленивой походкой прошагал к увеселительному заведению. У входа я удостоился пристального взора цербера. Его рыхлое, в оспинах лицо, спутанные волосы и шапочка набекрень придавали ему сходство с бродягой без определенных занятий. Он великолепно вписался бы в троицу, нападавшую на меня в тот памятный вечер неподалеку от Лабиринта. Впрочем, выбор владельца увеселительного заведения нетрудно объяснить: именно такие типы ему и были нужны, чтобы отпугивать всякий сброд. — Весело тут у вас, — с понимающей улыбкой произнес я и хитровато подмигнул охраннику. — Посоветуете зайти? — Вам здесь делать нечего, — без церемоний отрезал он. — Это заведение предназначено для другой клиентуры. Намек был мною понят. — Уж не думаете ли вы, что у меня не хватит денег расплатиться за стаканчик винца? Так вот, ошибаетесь, милейший. Деньги у меня есть, могу и с вами поделиться! Достав из кармана монету в один гульден, я повертел ее у него перед носом. Внимательно посмотрев на зажатый в пальцах гульден, верзила, не скрывая презрения, бросил: — Отправляйся-ка ты лучше в порт. Там полным-полно притонов, где тебе за гроши нальют вина. Убирайся отсюда! Делать было нечего. Спрятав свой несчастный гульден, я удалился, словно побитый пес. До ближайшего угла. Там, спрятавшись за аркой ворот, я стал наблюдать за входом в заведение. Охранник не обманул меня — клиентура здесь была в самом деле не какая-нибудь: зажиточные горожане, купцы, чиновники высокого ранга, как мне показалось. Наметанным глазом швейцар мгновенно определял тех, кто принадлежал к этим кругам. Но я не собирался капитулировать — стремление разобраться в загадке Луизы ван Рибек придавало мне решимости. Когда стемнело, стараясь держаться в тени домов, я пробрался к узкому переулку, в котором исчезли Луиза и ее кавалер. Чтобы отвлечь внимание цербера, я стал кидать камешки в стену дома, противоположного тому, в котором располагалось заведение. Мой расчет оказался верным — швейцар, на время покинув пост, направился к дому посмотреть, в чем дело. Этого мне было достаточно, чтобы незаметно проскользнуть в переулок. Зажатая между домов узкая улочка выглядела зловеще. Небо отсюда можно было разглядеть, лишь задрав голову. Резко пахло мочой и испражнениями. Стараясь дышать ртом, я опасливо продвигался вперед и вскоре обнаружил черный ход в заведение. Интересно, этой ли дверью воспользовались ван дер Мейлен с Луизой? Я мог лишь гадать, так ли это. Дверь, как я и ожидал, была на запоре, я решил пройти еще чуть-чуть, но вскоре уперся в высокую каменную стену. Поскольку еще одного входа я так и не обнаружил, напрашивался вывод о том, что дочь купца ван Рибека и сопровождавший ее торговец могли войти в заведение только через единственный черный ход. Пробравшись к двери, я извлек из кармана сюртука нож, доставшийся мне в неравной схватке с тремя громилами. С того вечера я не расставался с ним. Несмотря на заверения Роберта Корса, что я способный ученик, я куда увереннее чувствовал себя с клинком в руках. Поскольку я не имел опыта взломщика, то не рассчитывал, что быстро справлюсь с дверным замком при помощи ножичка. Так, собственно, и вышло. Замок упорно не желал поддаваться, и я уже был готов оставить попытки совладать с ним. Каково же было мое изумление, когда вскоре дверь черного хода подалась. Я тут же убоялся. Только сейчас я со всей определенностью понял, что действовал как самый настоящий вор, и уже готов был представить себя у позорного столба или — что куда хуже — на исправлении в родном Распхёйсе. Вот уж натешились бы мои бывшие товарищи по работе, да и соседи по камере, для которых я всего месяц назад был надзирателем! Однако время было не рассуждать, а действовать. Справившись с дверью, я уже не мог просто уйти отсюда хотя бы уже потому, что на выходе из проулка охранник непременно заметил бы меня. И я, сунув нож в карман, вошел внутрь, осторожно прикрыв за собой дверь и от души надеясь, что никто, кроме меня, не услышал, как она тихонько скрипнула. В узком закутке без окон было куда мрачнее, чем в тесном, загаженном переулке. Я разобрал в темноте какие-то ящики, бочки, из чего заключил, что попал в склад. Откуда-то доносились музыка и неразборчивые голоса. Выставив вперед руки, я стал осторожно продвигаться, но, не сделав и пары шагов, чертыхнулся, наткнувшись лбом на низкую балку. Несмотря на то что я еле полз в этом мраке, приложился вполне основательно. Нащупав наконец дверь, я чуточку приоткрыл ее. За ней располагалось еще одно помещение; там не было ни души, в глубине я разобрал ступеньки лестницы и вход. Здесь уже можно было ориентироваться, поскольку имелось окно, выходившее на Антонисбреестраат. Тут я разглядел еще одну дверь; подойдя вплотную, я припал к ней ухом. И услышал пение. Хор мужских голосов звучал хоть и вразнобой, но громко. Песня была мне знакома, в ней говорилось о моряке, истосковавшемся в долгом плавании по красавице невесте. Судя по всему, за дверями располагался главный зал, куда я не мог зайти, не нарвавшись на охранника. Я стал подниматься по скрипучим деревянным ступенькам. Пусть себе скрипят на здоровье, в этом гомоне опасаться было нечего. Так я добрался до площадки, завершавшейся длинным коридором, освещенным тусклым светом керосиновых ламп. В коридор выходило несколько дверей, между ними висели картины. Подойдя ближе, чтобы разглядеть их, я обомлел: это были мои работы! Их было много, большей частью портреты, написанные мною по заказу ван дер Мейлена. И работы других художников представляли собой тоже обнаженные натуры — молодых красавиц. Всего я насчитал здесь около дюжины картин. Я в полнейшей растерянности уставился на полотна. Разумеется, я не раз задавался вопросом о дальнейшей судьбе своих работ. Наверняка, если уж ван дер Мейлен готов был столь щедро оплачивать мои услуги, он знал и тех, кому мог выгодно сбыть картины. Мне приходил на ум некий узкий круг любителей пикантной портретной живописи, а тут, оказывается, дело ограничивалось одним-единственным клиентом — владельцем этого сомнительного заведения. Роль картин здесь была ясна — разжечь плотские страсти гостей. Ведь особой разницы между этим увеселительным заведением и заурядным портовым борделем не было, просто здешняя публика была почище, да и цены на услуги, соответственно, выше. Внизу можно выпить, послушать музыку, потанцевать, а потом, поднявшись наверх, вкусить наслаждения в обществе молодой и невзыскательной красавицы. Итак, с этим дело более-менее прояснилось. Но что понуждало молодых женщин из состоятельных семей, взять хотя бы Луизу ван Рибек, подаваться в натурщицы, иными словами, идти на риск оказаться скомпрометированной, а не ровен час, и угодить в Спинхёйс? Спинхёйс был своего рода женским аналогом Распхёйса, где сбившихся с пути женщин возвращали на стезю добродетели, обрекая на тяжкий принудительный труд. Подобная перспектива, тем более для представительниц высшего сословия, по сути, была равнозначна гибели. И для чего ван дер Мейлен притащил Луизу в это блудилище? Может, в его планы входил шантаж? Из бесплодных раздумий меня вырвали голоса двух мужчин, поднимавшихся по лестнице. Быстро пробежав по коридору, я нырнул в нишу с мраморной статуей — тоже обнаженной натурой. То была не просто женщина, а, если судить по луку и колчану со стрелами, богиня Диана. Хвала богине охоты — за ее могучими чреслами я обрел безопасность. Затаив дыхание, я безмолвно взывал к небесам, чтобы дочь Юпитера и Латоны на сей раз не подтвердила свою репутацию богини разрушения и смерти. В одном из идущих по коридору мужчин я узнал Мертена ван дер Мейлена, другой же, с которым торговец предметами искусства оживленно беседовал, был мне незнаком. Мужчина был строен, высок, несмотря на некоторую сутуловатость. Темная одежда с пышным белым жабо свидетельствовала о принадлежности к высокому сословию, а на узком худощавом лице запечатлелась аскеза. Одним словом, человек этот явно не походил на тех, кто ищет утешение в увеселительных заведениях или борделях. Напротив, такие лица бывают у посвятивших жизнь укрощению плоти. Бледная до прозрачности, словно пергамент, кожа говорила о недугах. Глубоко посаженные глаза придавалиголове сходство с черепом. И голос незнакомца звучал странно: чуть хрипловато и в то же время пронзительно. Когда они проходили мимо ниши, где я спрятался, я невольно вжался в стену, представив себе, как этот череп уставится на меня темными глазницами. Но незнакомца явно не захватывали поиски проникших сюда неведомо как незваных гостей, он был поглощен беседой с торговцем ван дер Мейленом. По обрывкам разговора я установил, что речь шла о живописи, красках, их оттенках, о мастерах кисти. Среди прочих ван дер Мейлен назвал имя Рембрандта. Я чуть было не последовал за ними, так был заинтригован, но ни о чем подобном и думать было нечего — меня немедленно раскрыли бы. Я должен был благодарить судьбу за то, что меня не застукали в моем жалком убежище. Едва ван дер Мейлен и его спутник удалились, как на лестнице раздались еще чьи-то шаги и голоса. На сей раз в коридор проследовала женщина в сопровождении мужчины. И эта пара была занята разговором. Мужчина являл полную противоположность собеседнику ван дер Мейлена. Он был невообразимо тучен. Нужно сказать, что он представлял собой законченный тип зажравшегося скоробогача, сколотившего состояние на торговле пряностями. Судя по всему, этот господин влил в себя красного вина соответственно своей комплекции, ибо язык его безнадежно заплетался, лицо раскраснелось, а походка была шаткой. Женщина, шедшая с ним, была уже не первой молодости, что, однако, не мешало ей увешивать себя побрякушками и вплетать в волосы слишком уж пестрые ленточки. Из-под туго затянутого корсета неукротимо дыбились груди. Она напомнила мне потаскух, что осаждают одиноких мужчин в Лабиринте Лингельбаха и в районе Розенграхт, где они устраивали настоящие столпотворения, и обладательница дребезжащего голоса, шествующая под руку с толстяком, явно могла претендовать на статус их предводительницы. У портретов парочка остановилась, мужчина горящими глазами стал всматриваться в изображенных на нихженщин. — И что, любую из них можно будет пригласить? — срывающимся от волнения голосом спросил он. — Если они уже не приглашены кем-нибудь, безусловно, — заверила его спутница. — Вы первый клиент сегодня, поэтому можете выбирать для себя, кого пожелаете. — Кого пожелаю, — невольно повторил толстяк и медленно пошел по коридору, не отрывая взора от картин. Дойдя до моего убежища, он покачнулся, и я уже был готов к тому, что он рухнет на Диану, и тогда прощай мое убежище. Но в последний момент он все же устоял на ногах, ухватившись за стенку, и в довершение всего звучно рыгнул. В нос мне ударила тяжкая вонь винного перегара. Толстяк продолжил осмотр и наконец остановил выбор на полноватой блондинке. Она была третьей по счету моделью, которую привел мне ван дер Мейлен. Торговец еще представил ее мне как Клэртье, но она, вне всякого сомнения, была такая же Клэртье, как и Луиза ван Рибек — Марион. — Мне бы хотелось вот ее. — Это было сказано тоном счастливого ребенка, выбравшего сладость. — Она сейчас здесь? Сводня, а описанная дама, несомненно, была ею, улыбнулась: — Вам везет, мой господин. Могу лишь поздравить вас с таким выбором. Пойдемте со мной! И повела его в комнату, расположенную как раз слева от моего убежища. Я был потрясен. Мои самые мрачные предположения относительно предназначения картин и цели прихода сюда Луизы подтверждались. Я даже пожалел, что разгадал загадку, и едва сдерживался, чтобы не последовать за сводней и этим толстомясым клиентом и не задать обоим знатную трепку. Только осознание собственной причастности к творимым здесь мерзостям удерживало меня от столь отчаянного шага. Вскоре сводня вышла из комнаты и, опустив в разукрашенную жемчужинами кошку-копилку несколько монет, исчезла из моего поля зрения, направившись к лестнице. Я обвел глазами двери этого коридора и представил себе тех, кто за ними дожидается таких вот визитеров. Одной из этих женщин была Луиза, это я знал определенно. Я кипел от бессильной ярости и стыда. Тряхнув головой, я поспешил к лестнице — надо было уходить отсюда. Меня уже куда меньше заботило, останусь я незамеченным или нет, но вот наконец, без осложнений выбравшись из увеселительного заведения, я стал направляться к Антонисбреестраат. — Эй! Кто там? Ах, это опять ты! Я тебя запомнил! Чего ты здесь околачиваешься? Швейцар! А я-то, дурень эдакий, уверовал, что он меня не заметит на выходе из проулка! При других обстоятельствах я нашел бы убедительную отговорку, но у меня по-прежнему не выходило из головы увиденное в этом веселом домике. Остановившись будто вкопанный, я вопросительно уставился на охранника. Он чуть ли не бегом устремился ко мне. — Ты погоди, господин хороший! Я тебе покажу, как шляться, где не положено! Его угрожающе сжатые кулаки не оставляли сомнений, что и как он собирался мне показать. Когда швейцар был в паре метров от меня, я вышел из оцепенения, враз припомнив все, чему учил меня мой наставник Роберт Корс. Пригнувшись, я в мгновение ока забежал охраннику за спину, ухватил его правой рукой за плечо, а левой хорошенько пнул в ногу. Неуклюжий парень, потеряв равновесие, грохнулся лбом о кирпичную стену и стал съезжать вниз. Помотав головой, он, сидя на мостовой, стал ощупывать рану. Рана была не очень глубокой, но кровоточила здорово. Охранник, все еще не веря в случившееся, глуповато уставился на меня. А теперь на самом деле прочь отсюда, и поскорее, велел я себе и стремглав помчался по погруженной в сумерки Антонисбреестраат. Вслед мне раздавались призывы швейцара о помощи. Я свернул с Антонисбреестраат в ближайший переулок и, нырнув в лабиринт узких улочек, петлял по ним до тех пор, пока не убедился, что я в безопасности. Тяжело дыша, я остановился и огляделся. Лабиринт улиц, в котором я очутился, был мне незнаком. Здесь находилось множество харчевен, но они вряд ли могли состязаться с только что покинутым мною заведением. Навстречу мне попадались оборванцы в сильном подпитии, ничуть не трезвее жирного барышника — клиента респектабельного борделя, но эти люди были куда симпатичнее мне. Уже хотя бы потому, что вид их не будил во мне укоров совести. Из темноты ворот возникла женская фигура. — В гордом одиночестве, красавчик? Могу составить компанию, если пожелаешь. Судя по скрипучему, пропитому голосу, приглашение исходило от давным-давно вышедшей в тираж шлюхи. И верно — синие круги под глазами, морщины, более-менее беззубый рот. И вдобавок огромный чирей на лбу. Чтобы окончательно добить меня, она распахнула платье, выставив напоказ уныло свисавшие, дряблые груди. Я с отвращением отвернулся и побрел к первому попавшемуся кабаку. Там уселся за столик и заказал самой крепкой водки. Необходимо было умерить бушевавшую во мне злость. И одной чаркой тут не обойдешься. На Розенграхт я попал только к полуночи. Улицы уже патрулировали ночные блюстители порядка, и я, как мог, избегал встречи с ними, поскольку у меня не было при себе фонаря, положенного каждому приличному гражданину в темное время суток. Уже на подходе к дому на Розенграхт я чудом избежал встречи с патрульными. Меня уберег их фонарь, свет которого мелькнул вдали, и я, спрятавшись за деревом, дождался, пока они продолжат путь. Оба прошли почти вплотную ко мне. Патрульные рассуждали о суматохе в доме какого-то художника. В свете фонаря зловеще сверкнули клинки шпаг. У самых дверей меня перехватила Корнелия. Я не без удивления отметил, что она, несмотря на поздний час, не в ночной сорочке, а в платье. Девушка была вне себя от ярости. — Где вас только носило весь вечер? — набросилась она на меня. — Вам-то какое до этого дело? — отпарировал я, внезапно поняв, что у меня заплетается язык. — Да вы, оказывается, пьяны, Корнелис Зюйтхоф! Неужели у мужчин нет другого развлечения, как только нализаться? — Почему же, — ответил я уже спокойнее и с явным намерением нахамить ей. — Есть. Например, приходить по вечерам домой, не опасаясь, что на тебя наорет какая-нибудь досадливая баба. Кровь ударила Корнелии в лицо. — Как вы вообще осмеливаетесь говорить со мной таким тоном? Тем более после того, как наплевали на свои обязанности? — Обязанности? Я исполнил все, что положено. — Да, но никто не давал вам разрешения болтаться столько времени неизвестно где. Вам не приходило в голову, что вы можете понадобиться здесь? — Это кому же? Уж не вам ли? — Моему отцу! Тон, которым это было сказано, вмиг отрезвил меня. — Он что, захворал? — негромко спросил я. Меня всерьез испугало услышанное от дочери мастера Рембрандта. — Вероятно, это можно и так назвать. Набрался до чертиков и чуть было не утонул. Слава Создателю, он едва шлепнулся в канал, как его заметили постовые и вытащили. Потом… — В канал? — не дал ей договорить я. Пытаясь представить себе это зрелище, я испугался еще больше. Девушка кивнула, и я только теперь заметил, как она бледна. — Упал в воду у самого дома. И один из ночных постовых в последний момент вытащил его. Еще несколько секунд, и он бы утонул. — Это скверно, — произнес я. — И все же в чем моя вина? — Вы еще спрашиваете? Ну-ка пойдемте со мной! Я последовал за ней наверх, в комнату, отведенную Рембрандтом для хранения части его коллекции диковинок и одновременно служившую мне спальней. В слабом свете свечи в руках Корнелии передо мной предстал ужасный разгром. Я замер как вкопанный. На полу в беспорядке валялись безделушки, осколки разбитых вдребезги ваз и бюстов. Мой медведь лежал на боку, он странно напоминал мне швейцара у врат «веселого домика», на котором я удачно опробовал навыки, преподанные мне в школе борьбы. Все выглядело так, словно здесь похозяйничал буйнопомешанный. Не избежал печальной участи и мольберт. От репродукции выдержанной в лазурных тонах, принесшей столько бед картины остались лишь синеватые клочки холста. — Это ваша картина, верно? — спросила Корнелия. — Была. Что здесь произошло? — Когда мой отец вернулся домой, он принес с собой кое-что для пополнения своей коллекции — турецкую шаль, как он сказал. И отправился отнести ее наверх. Не прошло нескольких минут, и мы с Ребеккой услышали, как он вопит в бешенстве. Мы тут же побежали к нему наверх. Я не могу вам передать, как он бушевал и бранил вас за эту картину. — Корнелия кивнула на обрывки холста. — Он будто одержимый рвал на куски холст. После этого ушел из дому, ни слова нам не сказав. Напился он скорее всего в харчевне, куда обычно ходил. А по пути домой свалился в канал. — Говорите, бранил меня? За что? Что именно он говорил? — Да разве разберешь? Он орал о вероломстве, о предательстве, о том, что вы мерзкий шпик, который вечно вынюхивает, повсюду свой нос сует. Что он имел в виду, Корнелис? Что это за картина? Отчего он так на нее напустился? Я покачал головой: — Не могу ничего сказать по этому поводу, Корнелия, потому что мне самому пока что ничего не ясно. Но какая бы тайна ни окружала ее, думаю, лучше будет, если вы не станете вникать во все это. Девушка словно окаменела. В глазах ее был вызов. — Я не собираюсь мириться с вашими тайнами и секретами. Мой отец едва не погиб из-за вас, из-за этой вашей картины! — Как он сейчас? — осведомился я. — У него был жар, но сейчас он спит. Доктор ван Зельден дал ему какие-то порошки, от них он и уснул. — Что за ван Зельден? — Врач, богатый человек, живущий на Кловенирсбургвааль, он вот уже два месяца пользует моего отца. И за все это время гроша не взял, поскольку очень ценит его как художника. Он уже приобрел у нас несколько гравюр и пару картин. Не успела я послать за ним, как он тут же примчался. Последняя фраза прозвучала укором мне, ибо меня в необходимый момент не оказалось в доме. — Вы позволите мне зайти глянуть на вашего отца? — негромко спросил я. — Прошу вас! — Хорошо. Только ведите себя потише, не разбудите его. Я пообещал ей, что буду тише мыши, и мы спустились по лестнице. Корнелия провела меня в комнатку, служившую ей спальней. Теперь на узкой кровати дочери лежал ее отец. Рядом с озабоченным лицом сидела Ребекка. Исхудавшее лицо художника выглядело умиротворенным, но это было не так, сон надел на больного благочестивую маску, на время скрывшую глубоко засевшую в нем ярость. Теперь я уже не сомневался, что Рембрандту что-то известно о картине. Но что? Это еще предстояло выяснить. Постояв немного, мы вышли из комнаты, оставив Ребекку у постели спящего Рембрандта, и прошли в гостиную. Я без сил опустился на стул. Ребекка принесла из кухни еду: сыр и холодный ростбиф. Поскольку в тот вечер я достаточно влил в себя спиртного, то решил довольствоваться кружкой кисловатого молока. Задумчиво пожевывая, я услышал, как колокола Амстердама пробили полночь. Напротив в тревожном ожидании застыла Корнелия. Я в очередной раз подивился ее спокойствию и самообладанию. Девушка была взволнована, это чувствовалось по ее тону, когда она встретила меня у дверей в дом. Но она быстро, куда быстрее, чем можно было ожидать от женщины, взяла себя в руки. В мерцающем свете стоявшей на столе свечи ее волосы отливали золотом. Корнелия сидела передо мной, излучая уверенность зрелой женщины, привыкшей справляться с житейскими невзгодами. И миловидность ее была женской, не девичьей. Большие синие глаза буравили взглядом сидящего перед ней мужчину, казалось, этот небесный взор проникает в самые потаенные закоулки твоей души. Во всех ее жестах усматривалась врожденная грация, привлекательность, действовавшая на меня магически. Я, наверное, мог вот так часами наблюдать за Корнелией, наслаждаясь округлостью ее зрелых форм. Я представлял, как однажды прильну к этим шелковистым локонам, вдохну их аромат, как наши с ней тела сольются в блаженном единении. И тут же проклял себя за эту мечтательность. Разве я, художник без средств к существованию, могу претендовать на такую девушку? Покончив с едой, я отставил тарелку, затем долго смотрел в глаза Корнелии и наконец произнес: — Ваш отец был прав, обозвав меня шпиком, который все вынюхивает. Я и поселился у вас в доме, чтобы выяснить кое-что об одной странной картине. Той самой, которая стоила жизни моему другу. Корнелия не ответила, только продолжала изумленно смотреть на меня. Подобного объяснения она явно не ожидала и была ошеломлена. И я поведал ей всю историю последних недель, начиная с ареста красильщика Мельхерса и помещения его в Распхёйс и до моих тайных открытий минувшего вечера в увеселительном заведении на Антонисбреестраат. — Как видите, жизнь моя не такая уж безоблачная, — не без горечи подытожил я. — Во всяком случае, когда это касается судьбы моих работ. Одни служат греховным целям, другая вызывает припадок бешенства у моего учителя. — Жутковатая история, — вздохнула Корнелия. — Ладно, Корнелия, ладно. Я ведь не в обиде на вас за то, что вы мне не верите. — Я верю вам. — Впервые за этот вечер лицо ее осветила улыбка. — Разве могли вы придумать такое, Корнелис? — И тут же лицо девушки мгновенно посерьезнело. — То, что вы мне сейчас рассказали, вызывает множество вопросов, и среди них тот, который пуще всего меня беспокоит: какое отношение имеет ко всему происходящему мой отец? — Он что-то знает об этом роковом полотне, иначе не бушевал бы так. И не забывайте, речь идет всего лишь об изготовленной мною по памяти репродукции, а не о подлиннике. К тому же, уходя, я всегда прячу ее от любопытных взоров, набросив на мольберт кусок ткани. — Возможно, отец просто снял эту ткань, когда искал, куда бы пристроить свою турецкую шаль. А зачем вам вообще понадобилось делать репродукцию, Корнелис? Я пожал плечами: — Вероятно, затем, чтобы в один прекрасный день показать ее вашему отцу. Вы не допускаете мысли, что именно он мог быть автором подлинника? — Исключено, — твердо ответила девушка. — Мой отец никогда не использует синий цвет. Вы можете перевернуть вверх дном хоть весь дом, и, ручаюсь, не найдете порошка для приготовления синих красок. Ваши личные запасы я в расчет не беру. У меня вдруг возникло непреодолимое желание как следует грохнуть кулаком по столу, и я бы обязательно грохнул, если бы не спящий наверху мастер Рембрандт. — Вся эта история до ужаса напоминает мне Лабиринт Лингельбаха. Чем дальше заходишь, тем больше запутываешься и тем сильнее отдаляется от тебя выход, — процедил я, сжав в бешенстве зубы. — Ну, знаете, коль уж вы заговорили о Лабиринте, там иногда бывает так, что ты, сам того не ведая, находишься в двух шагах от этого самого выхода. — Я его отыщу! Обещаю вам, Корнелия. — Вы намерены сообщить властям о том, что вам удалось обнаружить? — А что я могу им сообщить? Что нарисованные мною портреты развешаны по стенам борделя? Простите, а где еще им истинное место? Что же касается Луизы ван Рибек, то мне как-то не верится, что она жертва шантажа ван дер Мейлена и оказалась в заведении исключительно по его злой воле. Корнелия в порыве чувств вцепилась мне в руку. — Обещайте, что ничего не станете скрывать от меня, Корнелис! Я очень боюсь за своего отца. Мне кажется, он вмешивается в очень опасное дело, слишком опасное даже для всех нас. — Я не брошу ни вас, ни вашего отца, — заверил я Корнелию. — Но боюсь, мои денечки под крышей вашего дома сочтены. Ваш отец наверняка вышвырнет меня отсюда, как и в тот раз. — Вот уж это предоставьте моим заботам. — Как вы понимаете, я не против, хотя и явно не в восторге оттого, что вынужден приумножать их. Пожелав Корнелии доброй ночи, я поднялся к себе. Там, стараясь по возможности не шуметь, навел мало-мальский порядок, снова придал вертикальное положение своему бессловесному часовому. Мне даже показалось, что в медвежьих глазках вспыхнула искра благодарности. Едвая улегся, как с тихим скрипом приоткрылась дверь. От неожиданности я сел в постели и стал вглядываться в темноту. В жидковатом лунном свете, падавшем в комнату с улицы, я разобрал женский силуэт. Корнелия. На девушке была только ночная сорочка. Неторопливо подойдя к моей постели, она робко посмотрела на меня. Теперь я видел перед собой не умудренную житейскими невзгодами рано повзрослевшую дочь своего учителя, а девушку, робкую и нерешительную, искавшую у меня поддержки. Только ли поддержки? Нет, не только, ответил я на свой вопрос, стоило нашим глазам встретиться. — Я не разбудила тебя, Корнелис? — едва слышно спросила она. Вместо ответа я подвинулся и приподнял одеяло, чтобы дать ей лечь. Кровать была узковата для двоих, но мы вполне поместились. Я чувствовал, как дрожит Корнелия. Обняв девушку, я прижал ее к себе и нежно поцеловал в полуоткрытые губы. Корнелия страстно отозвалась на мой поцелуй, и я почувствовал, как во мне горячей волной поднимается жаждущая утоления страсть. Меня переполнило ощущение того безграничного счастья, которое испытывает ребенок в объятиях матери и которое по мере взросления переживаешь все реже.Глава 10 История Луизы
21 сентября 1669 года — Отец хочет говорить с тобой, Корнелис. Когда на следующее утро Корнелия произнесла эти слова, они вмиг ввергли меня в тревогу. Я тогда как раз завтракал, сидя за столом на кухне. — Ему что, лучше? — спросил я. — Во всяком случае, он зол на тебя и не скрывает этого. Так что давай лучше сами к нему поднимемся, а то, не дай Бог, еще встанет да сам отправится тебя разыскивать. Доктор ван Зельден прописал ему на сегодня полный покой и постель. Отложив нож и отодвинув от себя тарелку с окороком, от которого только что собрался отхватить кусочек посочнее, я поднялся из-за стола и проследовал за Корнелией. Едва мы вышли в коридор, как я сжал девушку в объятиях и поцеловал в лоб. Улыбнувшись, она шутливо предостерегла меня: — Поостерегся бы! Вдруг отец увидит. Он ведь ничего не знает. — И хорошо, что не знает. Ни к чему его расстраивать, особенно сейчас. Рембрандт устремил на нас полный беспокойного ожидания и раздражения взгляд. Я уже был готов к тому, что разразится буря. — Ты, Корнелия, можешь идти, — велел он. Но его дочь, похоже, и не собиралась никуда уходить. — Я останусь. Ваш разговор и меня касается. — Нисколько! Зюйтхоф — мой ученик! — Да, но дела в доме веду я. — Ладно, будь по-твоему, — пробурчал старик и уселся в постели поудобнее. — Корнелис Зюйтхоф, вы сегодня же покинете стены этого дома! Почему — вы и сами прекрасно понимаете, так что не будем зря чесать языки, тем более при Корнелии. — Нет уж! — возмущенно отозвалась девушка. — Именно при мне вы все и обсудите. Все дело в той самой картине в синих тонах, папа? Я права? Так кто же ее все-таки нарисовал? Рембрандт, как мне показалось, был ошарашен и даже испуган тем, что его дочь в курсе событий. Почесывая бороду, он соображал, что ответить. — Картину нарисовал Зюйтхоф, и тебе это отлично известно. Она стояла у него на мольберте. — Я не глупый ребенок, отец! Зюйтхоф работал над репродукцией, по памяти восстанавливал подлинник. И я хочу знать, кто был автором этого подлинника. Кто-нибудь из твоих бывших учеников? Корнелис утверждает, что там хоть и сплошная синева, которую ты терпеть не можешь, но манера писать целиком твоя. — Понятия не имею, о какой картине ты говоришь. Подойдя поближе к постели, я спросил: — Если вы понятия не имеете о подлиннике, отчего тогда разволновались при виде жалкой репродукции? Разорвали ее на клочки! — Да потому, что это не картина, а дерьмо, вот почему! Позор для любого художника! И к тому же сплошная синька, от которой в глазах рябит. Мерзость! И если вы, Зюйтхоф, намалевали подобное, в таком случае вашему таланту медный грош цена в базарный день! Жаль, конечно, но никакого смысла не вижу держать вас у себя в учениках. — Стало быть, я бесталанный. И вы это только сейчас заметили, после того, как я месяц проторчал у вас в доме! — Да я и раньше не был чересчур высокого мнения о вас, Зюйтхоф, но мне сперва казалось, что есть в вас искра Божья. Но… уж не обессудьте, — вздохнул он. — Все оказалось впустую. И вчера, поглядев на эту вашу синеву, я окончательно разуверился в вас. Слова Рембрандта задели и возмутили меня. — Торговец антиквариатом Мертен ван дер Мейлен пока что не разуверился во мне, раз готов платить мне восемь гульденов за картину. — Восемь? — презрительно фыркнул Рембрандт. — Приличный художник получает за приличную работу по две тысячи гульденов, а то и больше. — Ну, знаете, разные есть художники. В том числе и банкроты. — Теперь подошла моя очередь подковырнуть его. Корнелия при этих словах вздрогнула, словно от удара. Я тотчас же раскаялся. Незачем было говорить то, что задевало не только отца, но и ее. — Я не намерен пускаться в обсуждение вашей живописи, Зюйтхоф, — заявил в ответ Рембрандт. — Если надеетесь зарабатывать деньги, малюя голых баб, извольте! Мне вы не нужны. — Тогда объясните мне вот что, — сказал я, с великим трудом сдерживая раздражение, вызванное его снисходительным тоном. — С чего это я удостоился прозвища «шпик»? — Я называл вас шпиком? — Рембрандт решительно тряхнул седыми, неопрятными лохмами. — Не могу припомнить ничего подобного. — Давайте оставим это, — вмешалась Корнелия. — Тебе необходимо отдохнуть, отец. Доктор ван Зельден придет в полдень. Ладно, решим так — не хочешь, чтобы Корнелис оставался твоим учеником, так пусть тогда по крайней мере прислуживает нам по дому. — В чем он должен нам прислуживать? — У нас достаточно дел — поднести картину, оправить ее в раму, за покупками сходить, да и мало ли что. Раньше всем этим занимался Титус. — Да-да, конечно, Титус… — Закрыв глаза, Рембрандт откинулся на подушки. — Что-то я устал, в сон меня клонит. Мы вышли из спальни мастера. Я извинился перед Корнелией за свою несдержанность. — И все-таки, наговорить такого по поводу моих способностей — тут уж поневоле не выдержишь. К тому же у меня нет ни малейших сомнений в том, что ему известно о злополучной картине. — Мне тоже так кажется, но у меня не хватает духу заявить родному отцу напрямик, что он лжец. — Никто ничего подобного от тебя не требует. Но ты уж держи меня в курсе, если что-нибудь тебе покажется странным. И пожалуйста, не думай, что этим ты предашь отца. Напротив, я опасаюсь, что ему грозит серьезная опасность. Эта лазурь приносит беды. Может, он просто рад, что картины и след простыл, и не желает ворошить прошлое. — Нет-нет, тебе нужно продолжать поиски, — горячо возразила Корнелия. — Если ты прервешь их, как же тогда твой долг перед покойным Осселем? И еще одно: мы не сможем платить тебе за работу по дому. Нет у нас денег на это. Так что решай сам. — А я и так ни за что бы не взял от тебя ни гроша, Корнелия. — Думаю, мне излишне напоминать, что еда и проживание ничего не будут тебе стоить. — Нет-нет, я заплачу. — А если я не захочу брать от тебя денег? — не без кокетства спросила Корнелия. — Стоит подумать, чем с тобой расплатиться, — в тон ей ответил я и поцеловал ее.Разумеется, я был не настолько глуп, дабы не понять, что Корнелия вполне обошлась бы и без меня. Как обходилась до сих пор. Просто за ее отцом нужен присмотр, а я ради этой девушки был готов на все. Стоило мне вспомнить о ней, как пульс учащался. Мне уже не хотелось покидать ни Амстердам, ни вообще Голландию. Неужели новую жизнь непременно нужно начинать за тридевять земель от родного дома? Неужели та, которую ты всем сердцем любишь, не есть врата в тот самый желанный новый мир? Об этом я размышлял, прибирая хаос, в который поверг Рембрандт весь верхний этаж. Собрав и выбросив черепки, я заварил клей, чтобы привести в порядок выдравшуюся во время падения щетину моего цербера — медведя. Кроме того, надо было подумать и о картине. Как только я принялся складывать словно из кусочков мозаики лазурное полотно, до меня снизу донеслись голоса. Среди них выделялся хрипловатый мужской голос, показавшийся мне знакомым. Подойдя к лестнице, я не стал спускаться, украдкой я наблюдал, как Корнелия провожает сухощавого пожилого господина — обладателя специфического голоса. Но не его голос поразил меня, а странная сутуловатость, бледность и впалые щеки. Мне уже приходилось видеть этого человека, причем совсем недавно. — Кто это был? — спросил я, едва Корнелия распрощалась с визитером. — Антон ван Зельден, лекарь, врачующий отца. Я уже говорила тебе о нем. Корнелия была явно в хорошем настроении. — Знаешь, ван Зельден сказал, что отец скоро поправится. Следует только поберечь себя. Он принес ему еще снадобий и снова не взял с нас ни гроша. — Какое великодушие со стороны вашего ван Зельдена, — не скрывая иронии, произнес я. Корнелия недоуменно наморщила лоб: — Не понимаю, отчего ты так настроен против него? — Знаешь, мне трудно почувствовать симпатию к тому, кто выглядит так, будто его похоронить запамятовали. В этом я еще прошлым вечером убедился, когда увидел его в первый раз. — Прошлым вечером? Что это значит? — Ван Зельден — тот самый человек, которого я видел в увеселительном заведении вместе с ван дер Мейленом. Может, это все же случайность? Может, оба просто ненароком встретились в заведении? В случайные стечения обстоятельств я не верил. И вообще, в последнее время я с большой опаской относился ко всякого рода «случайностям». Все события прошлой недели были связаны между собой. Совсем как моя изодранная в клочья Рембрандтом картина, которую мне еще предстояло складывать. Пока что события напоминали ворох оставшихся от нее лоскутков, хаос. Одним из этих лоскутков был эскулап по имени ван Зельден. Его интерес к Рембрандту явно не ограничивался сферой медицины.
— Корнелис, вы витаете в облаках. Что-то не дает вам покоя. Если вы и дальше будете невнимательны, толку от моих объяснений будет мало! Я удостоился внушения из уст Роберта Корса во второй половине того же дня. Несмотря на все разжевывания, я и с десятой попытки не смог вовремя избавиться от его захвата. — Простите великодушно, мастер Корс, но сегодня, боюсь, вы правы, у меня голова занята совершенно другим. — Уж не Осселем ли Юкеном? — В том числе им. Вообще-то всем сразу. В последнее время произошло множество непонятных вещей. И мне еще во многом предстоит разобраться. Корс направился в угол зала для тренировок, налил себе кружку воды из стоявшего там бочонка и жадными глотками стал пить. — Так вот, Корнелис, как только что-нибудь стоящее надумаете, непременно посвятите меня. Мое обещание по мере возможности помочь вам остается в силе. Поблагодарив его, я тоже решил отведать свежей водички, после чего оделся и вышел на улицу. Светило не яркое, но ласковое сентябрьское солнце. Сидевший за столиком у харчевни старик приветливо махнул мне. Я узнал своего недавнего знакомого Хенка Роверса. Мы с ним пару раз встречались в последние дни. Похоже, он питал ко мне расположение и всегда был рад поболтать о том о сем. Присев к нему, я заказал нам по кружке весперского пива. — Суженый только что препроводил свою рыжеволосую избранницу домой, — объявил старый моряк после первого глотка. — Кого вы имеете в виду? — прикинулся непонимающим я. — Вы разве не помните о нашем с вами разговоре про красавицу дочку купца ван Рибека? — Помню, помню. — Только что проехал роскошный экипаж с фамильным гербом де Гаалей. В нем сидели молодой де Гааль вместе с Луизой ван Рибек. Довезя невесту до дому, он высадил ее и, попрощавшись, тут же укатил. В субботу в доме де Гааль большое торжество — старик де Гааль официально объявит о помолвке своего сына с дочерью ван Рибека. Я поднял кружку за здоровье моего собеседника. — Как я вижу, вы неплохо осведомлены о жизни высшего света, — не удержался я от комплимента. — Тоже мне высший свет! Чванятся от того, что деньги некуда девать, только и всего. А если уж говорить о том, как детей на свет производить, то, уверяю вас, молодой человек, эта Луиза точно так же будет елозить под ним, как те портовые шлюхи, да и Константин де Гааль тоже перед этим должен штанишки снять, как все остальные смертные. — Вряд ли могу с этим поспорить, Хенк, но штанишки-то его не на одну сотню гульденов потянут, небось самые модные, не иначе как французские! Роверс залился своим блеющим смехом, я же тем временем уставился на вход в дом ван Рибека. Я не забыл, как Луиза отчитала меня, не соизволив даже впустить в дом. В конце концов, а чем я ей был обязан? Лишь тем, что пообещал ван дер Мейлену не любопытствовать особо по поводу натурщиц? Но сейчас мне оставалось уповать исключительно на любопытство, ибо без него мне ни за что не разузнать того, что хотел. Достав из кармана куртки записную книжечку и карандаш, я вырвал листок и написал на нем следующее:
Мои искренние поздравления по случаю предстоящей помолвки! Вероятно, некий господин, до недавних пор не знавший Вашего имени, все же вправе рассчитывать на то, что Вы просветите его по части некоторых событий. Если Ваш ответ положительный, прошу о встрече у Башни Чаек. К.З.Башней Чаек называли старую сторожевую башню на Принсенграхт, расположенную в пределах видимости из окон особняка ван Рибека. Эта городская достопримечательность лежала на полпути от дома купца до церкви Ноордеркерк. Над башней постоянно кружили чайки, именно им она и была обязана названием. Еще раз пробежав глазами текст послания, я спросил себя: а не переборщил ли я, взяв подобный тон? Ведь упоминание о помолвке вполне могло быть расценено как скрытая угроза. С другой стороны, как еще я мог склонить строптивую особу встретиться со мной? Решив ничего не менять в тексте, я вырвал листок из записной книжки, сложил его вчетверо и подал своему собеседнику. — Старина Хенк, сделайте одолжение, передайте это Луизе ван Рибек. Причем вы непременно должны передать ей записку лично в руки. И ни в коем случае не говорить, от кого она. Просто скажите, что вас послал человек, вам неизвестный. Физиономия моего знакомца удлинилась почти до неузнаваемости. — Ай да Корнелис! Неужели всерьез надумали волочиться за этой красоткой! Или насмехаетесь над старичком Хенком Роверсом? — Клянусь всеми кораблями под голландским флагом в нашем порту и на всех морях и океанах, что все это серьезнее некуда! Выражение искреннего изумления на обветренном лице вмиг сменилась понимающей ухмылкой, а еще мгновение спустя Хенк Роверс улыбался во все свои тридцать два прокуренных зуба. — До сих пор я считал вас канцелярской крысой, Зюйтхоф, человеком, который только и знает, что в кабак забежать, а оттуда непременно со всех ног домой. Но вижу, что ошибся. Задуманное вами, откровенно говоря, убило меня наповал. Эк куда хватили — увести из-под носа красавицу невесту, и у кого? У богатейшего из женихов Амстердама! Это вам не фунт изюму, клянусь Нептуном! Только все одно — не совладать вам с ним! Ничего, пусть разоряется на здоровье, подумал я. В конце концов, пусть уж лучше верует в то, что я вознамерился крутить шуры-муры с этой рыжеволосой Луизой ван Рибек. И с наигранной наивностью спросил: — А что в этом такого? — И он еще спрашивает? Да вы в сравнении с этим Константином де Гаалем сущий вертопрах без гроша в кармане! Голь перекатная! В ответ на это я загадочно улыбнулся: — А может, я могу ей дать нечто такое, чего даже этот денежный мешок дать не в состоянии. — Ого-го! Нет уж, от скромности вы точно не умрете, дорогой мой Зюйтхоф. Ну, Корнелис, в конце концов, вы парень что надо. А для канцелярской крысы, за которую я вас поначалу принял, вы очень даже здоровенный. Лицо гладкое, молодое, без оспин, без морщин этих проклятых, волосы густые, и ни одного седого в них не обнаружишь, сколько ни ерошь. Словом, загляденье, а не жених. Если уж на такую разруху, как я, и то бабы кидаются, то вам уж сам Бог велел попытать счастья у нее. Но этот Константин де Гааль, хоть и годков ему поболе, да и не такой он видный, все ж побогаче вас будет. Поэтому Луиза подумает, подумает, да спросит себя: а какой прок менять первого в городе богача, хоть имя ему — урод, на молодого парнягу, хоть и видного, но у которого в кармане пусто? — Ну, знаете, палки в колеса я им ставить не намерен — пусть себе женятся! Я и потерпеть могу. — Ах вон вы, значит, о чем, — протянул Хенк Ровере. — Думаете, молодая женушка ради вас муженьку рога наставит? Кто его знает, может, вы и правы. Во всяком случае, попытка не пытка. Три кувшина пива ставлю, если у вас все выгорит! А если нет, то уж милости прошу — три кувшина вы поставите мне! — По рукам!
Час спустя я уже стоял в тени Башни Чаек, подумывая о том, как буду ставить старику Хенку Роверсу три обещанных кувшина пива. Вдоль берега канала тянулись упряжки волов и лошадей, тащившие за собой по водам канала грузовые баржи; дети пугали чаек, и те, с шумом хлопая крыльями, стаями взмывали вверх. Башня Чаек испокон веку служила местом тайных встреч влюбленных. Но та, с кем у меня было назначено свидание, все не появлялась. Я мерил шагами берег канала, то и дело бросая нетерпеливые взгляды на юг, в сторону дома купца ван Рибека. Я прождал уже довольно долго, когда передо мной вдруг возникла служанка в надвинутом на лицо капюшоне и с необъятной корзиной в руках. — Это я, господин Зюйтхоф, — услышал я. — Объясните, почему вы преследуете меня? Под белым капюшоном я разглядел Луизу ван Рибек. Те же рыжеватые локоны, то же милое лицо, но с выражением озабоченности. — Должен признаться, в вас гибнет актриса, — признался я. — Не заговори вы со мной, никогда в жизни не подумал бы, что это вы. — Понятно — вы ведь не служанку дожидались. А я вот решила для надежности принять облик служанки, и моя кухарка Беке страшно удивилась, когда я вдруг решила позаимствовать у нее на время платье. — А она вас не выдаст? — Не думаю. В конце концов, я ее задобрила, дав ей целый гульден. Не такие уж малые деньги для нее. Я не стал спорить. — Пройдемтесь немного, на ходу, знаете, как-то лучше вести разговор, — предложил я. — И дайте мне вашу корзину. — Незачем. — Давайте, давайте, — настаивал я. Но, взяв в руки эту с виду тяжеленную корзину, я с изумлением убедился, что она легка как перышко. Приподняв холщовую ткань, я увидел, что она пуста. — Говорила же, незачем вам таскать ее. — Луиза, вздохнув, взяла у меня свою ношу. — Нет, вы на самом деле талантливая актриса. — Жизнь и не тому научит. — В голосе ее слышалась неподдельная горечь. Прикрываясь деревьями, мы пошли вдоль канала, моя собеседница, невзирая на маскарад, не поднимала головы из боязни быть узнанной. — Простите меня, что я вам доставляю столько хлопот, Луиза, — перешел я к делу. — Но без вашего содействия мне никак не разобраться в этой путанице. Надеюсь, вы не оставите без ответа мои вопросы. — Задавайте ваши вопросы. А там посмотрим, отвечать мне или нет. — Вот и прекрасно. И пусть они не покажутся вам, как бы это деликатнее выразиться, слишком уж бестактными, что ли. Есть нечто такое, что мне просто необходимо знать. Начнем лучше с того, почему вы вчера вечером в компании ван дер Мейлена отправились на Антонисбреестраат. Луиза остановилась как вкопанная. Подняв голову, она гневно посмотрела на меня: — Так, выходит, вы за мной шпионите! — Не стану этого отрицать. Вы не из тех женщин, о которых вмиг забываешь, стоит только распрощаться. Впервые за время нашего разговора на ее губах мелькнуло что-то вроде улыбки. — Неплохой ответ. Тем более если предположить, что сочинено с ходу. У вас недурно подвешен язык, господин Зюйтхоф. И в голове явно не мякина. Что ж, перечисляйте, какие еще тайные грешки за мной водятся? — То, что вы помолвлены с Константином де Гаалем — не грешок, тем более не тайный. Улыбка исчезла с лица Луизы. — Ах вот, оказывается, в чем дело! Я должна купить ваше молчание, не так ли? — Отнюдь. Я упомянул о помолвке лишь для того, чтобы уговорить вас встретиться со мной. Дело в том, что я не был уверен, что вы согласитесь. — Должна сказать, ваша неуверенность была вполне оправданной. Что касается моего жениха, тут уж я вынуждена просить вас о полной секретности. Если семейству де Гааль станет известно то, что известно вам, то ни о какой свадьбе речи быть не может, как вы сами понимаете. А это мне совершенно ни к чему. — Вы так любите того, за кого собрались замуж? — А кто здесь говорит о любви? Нет, речь не о ней. Дело в моей семье. Без денег семейства де Гааль ван Рибекам не протянуть и года — разорятся. — Да-да, я наслышан о неприятностях, выпавших на долю вашего отца. Но говорили и о том, что некто выручил его, предоставив ему кредит. — Кредиты полагается возвращать. С процентами. — Вот оно что! Значит, именно для этого вашему отцу нужны деньги семейства де Гааль. А вы что же? Готовы запродать себя? — Ну, знаете, я не одна такая, — тихо произнесла в ответ Луиза, старательно избегая моего взгляда. Теперь все складывалось в довольно стройную картину. Помедлив, я спросил: — Ради вашего отца вы и оказались в этом заведении, верно? Чтобы он смог получить желанные денежки? Все еще уставившись в землю, Луиза произнесла: — Да, и это лишь часть процентов. Мой отец смог получить кредит исключительно на таких условиях. И не только он один. Есть много дочерей, жен, сестер, чьи отцы… — …вынуждают их отдаваться за деньги в номерах увеселительных заведений богатеньким господам, готовым заплатить за удовольствие, — докончил я за нее. — К чему уточнения? Все, по-моему, и без этого ясно. Если бы наше знакомство с Константином произошло чуть раньше, моему отцу не пришлось бы соглашаться на подобные условия. Но что поделаешь? Мы запоздали. — А кто же ссудил вашему отцу деньги? Какой-нибудь банк? Луиза покачала головой: — Нет, что вы. Банки давно избегают иметь дела с моим отцом. Вот когда все наладится — милости просим. Имена мне неизвестны. Знаю только, что речь идет о группе коммерсантов, купцов, зарабатывающих неплохие деньги на такого рода кредитах. В которых вместо процентов расплачиваются женщинами. Такими, как я. Последние слова Луиза произнесла с отвращением. Отвращением к себе самой. — Как вы решились на это? — А что мне оставалось? Смотреть, как семья окажется без средств к существованию? Моя мать серьезно больна, а лечение стоит денег. Где она его получит? В приюте для неимущих? И потом, как я могла отказаться, если отец сам попросил меня? Что на это ответить, я не знал, и мне не хотелось давать услышанному оценку. Снова вернувшись к теме увеселительных заведений, я поинтересовался, действительно ли выгодны кредиты на подобных условиях для самих заимодавцев. — А с какой стати им заниматься этим, не будь в этом выгоды? — резонно спросила Луиза ван Рибек. — Эти заведения посещают богатейшие люди Амстердама. Купцы, крупные чиновники из магистрата. И, поверьте, затащить к себе в постель дочь или жену кого-нибудь из представителей собственного круга — несказанное удовольствие. Сидят себе где-нибудь, потягивая вино и покуривая трубку, и думают: вот бы переспать с той, муж или отец которой когда-то портил им кровь, будучи их хозяином… Она не договорила. Рыдания сотрясали ее хрупкое тело. Я привлек Луизу к себе и погладил. Мне хотелось утешить девушку, как старший брат утешает плачущую сестренку. И каждый, кто нас видел, наверняка подумал бы: вот, вырвавшаяся служанка из богатого дома тайком встретилась со своим возлюбленным. Так мы простояли довольно долго. Суматошная чайка описывала круги в какой-нибудь паре футов над нашими головами. Луиза плакала, и мне показалось, что эти слезы накапливались давно. Разве мог я в чем-нибудь упрекнуть ее? Напротив, я считал, что она поступила совершенно правильно, высказав то, что накипело на душе. Успокоившись, девушка медленно высвободилась из моих объятий. — Вовсе не хочу доставлять вам боль, Луиза, но могу я еще кое о чем спросить вас? — обратился к ней я. — А все эти титулованные господа не боятся посещать заведение? Кто знает, а может, кому-нибудь из женщин вздумается назвать их имена, рассказать всему свету, чем эти люди занимаются? Согласитесь, ведь это немалый риск — путем шантажа склонять к сожительству женщин своего же круга, разве не так? — Вот тут уж можете быть спокойны. К тому же в заведении наши глаза скрывают повязки из черного бархата. — Какова во всем этом роль Мертена ван дерМейлена? Как нам с вами известно, он занимается изготовлением картин, изображающих обнаженные натуры, разжигающих аппетиты гостей заведения. Но наверняка он ведь не только этим занимается. — Насколько мне известно, он тоже имеет кое-что от заведения. Однако я не знаю, принадлежит ли оно ему целиком, или же он участвует на долевой основе. — И еще одно. Вам что-нибудь говорит такое имя — Антон ван Зельден? — Разумеется. Это известный в городе врач, он пользует самых богатых наших горожан. Однажды Константин говорил мне, что ван Зельден — их семейный доктор. Он специалист в области консервации человеческих органов и имеет богатую коллекцию препаратов — заспиртованных органов человека и животных. А почему вы о нем спросили? — Потому что вчера вечером видел его в заведении вместе с ван дер Мейленом. — Мне об этом ничего не известно. Вероятно, и ван Зельден захаживает туда. Колокол церкви Ноордекерк пробил пять часов. Луиза вздрогнула. — Уже пять часов? Я должна идти. Как бы дома меня не хватились. Надеюсь, что и дальше смогу помогать вам. Хотя толком и не понимаю, для чего вам все это понадобилось. — Мне и самому пока не все ясно. Но со временем обещаю вам во всем разобраться. — Смотрите, не впадайте в гордыню, господин Зюйтхоф. — То есть? — Вы задеваете интересы весьма влиятельных особ. Это небезопасно. — Весьма благодарен за предупреждение, Луиза. Думаю, вы абсолютно правы. Готов биться об заклад, что эти люди не остановятся ни перед чем. В том числе и перед убийством. — Жаль, мы с вами раньше не познакомились, Корнелис Зюйтхоф. И при других обстоятельствах. Слабо улыбнувшись, женщина повернулась и заковыляла в направлении своего дома, согбенная служанка с тяжеленной корзиной в руке. Я невольно спросил себя, неужели и эта согбенность — часть актерской игры. Во всяком случае, талант актрисы, заложенный в этой женщине, сомнений не внушал. Да, нелегко, наверное, приходится, когда папенька самолично толкает тебя на панель. И то, как стоически Луиза восприняла это, внушало мне искреннее уважение. Должен признаться, к этой женщине я испытывал не только уважение, но и более глубокое, сильное чувство. Но… Разве имел я право на подобные мысли? При живой-то Корнелии!
Пропустив Луизу на порядочное расстояние, я направился к харчевне, где меня дожидался Хенк Роверс. Старик восседал за столом, попыхивая неизменной коротенькой трубкой. — Ну, как дела, Зюйтхоф? Давайте-ка, вытрясайте карманы. Время распить первый кувшинчик! — С какой это стати? — Так я же выполнил ваше поручение и передал послание лично в руки дочке купца. И клянусь морской пучиной, поглотившей моего братца Флориса неподалеку от Нового Амстердама[898], что малышка из дома ни ногой. Так что, Зюйтхоф, проиграли вы. Продули наш спор, и нет вам оправданий! — Ваш брат наверняка перевернется в своей океанской могиле из-за того, что вы столь легкомысленно поклялись его именем, — с торжествующей улыбкой ответствовал я. — Так вы говорите, ни на минуту не спускали глаз с дома ван Рибека? Хенк Роверс с готовностью закивал: — Провалиться мне на месте, если не так! — И ни одна живая душа из дома не выходила? — Что значит — ни одна живая душа? Ведь речь идет не о ком-то там, а о самой дочке ван Рибека! — Вы лучше ответьте на мой вопрос. — Служанка выходила с корзиной в руке. Тяжелая, видать, корзина, потому что она еле тащила ее. — И возвратилась эта служанка тоже с корзиной в руке? — Верно. Но откуда вам… — А вас не удивило, что она вышла из дома с тяжелой корзиной и с ней же возвратилась? По идее, корзина на обратном пути должна была быть пустой? Так ведь? Роверс озадаченно почесал затылок. — Ну, корзина и корзина. Чему тут удивляться? Может, вы хотите увильнуть, Зюйтхоф. Не выйдет! Старика Хенка Роверса вам не надуть! — Я не об этом! Подумайте — если с корзинкой что-то не так, может, и сама служанка не служанка вовсе? — Как хотите, — вяло согласился Хенк Роверс. Старик явно не усматривал в моих словах логики. Я помолчал, дав ему время обдумать. И был прав. — Ба! — хлопнул он себя по подбородку. — Теперь я понимаю, к чему вы клоните! Но тогда ведь… значит, вы с ней… И выходит, что я… Ах ты, Господи! — Выходит, вы проспорили пиво. Если бы присмотрелись как следует к этой служанке, разглядели бы рыжие кудри. Недоверчиво взглянув на меня, Хенк хлопнул ладонью по столешнице. — Разрази меня гром! Вот бы уж никогда не подумал, что она, да еще накануне помолвки, побежит с каким-то там… Ай да Зюйтхоф! — С каким-то там приблудой без роду без племени, это вы хотите сказать, Ровере? — Ничего такого я не думал говорить, — буркнул явно смущенный старик. И тут же с хитроватой улыбкой наклонился ко мне. — Ну, выкладывайте, как там у вас все было? Давайте, рассказывайте! — Плутарх когда-то сказал: иногда помолчать куда мудрее, чем говорить без умолку. — Не знаю, я с ним не знаком. Но, как я понимаю, вам не хочется об этом рассказывать. — Да бросьте вы кипятиться, Хенк! Ничего вы мне не должны! Более того, я сейчас закажу для нас еще пива. За мой счет, разумеется. Что скажете? — Скажу, что в глотке пересохло, вот что скажу, — ответил довольный Роверс. Пока мы воздавали должное пиву, я стал выпытывать у Хенка, не было ли переполоха в доме после возвращения Луизы. — Нет-нет, ничего такого не было. И отец ее не дожидался у входа, нет. Не верите, так спросите его самого — вон он как раз выходит. Впервые моим глазам предстал собственной персоной Мельхиор ван Рибек. Седая остренькая бородка, седые, почти белые волосы, выбивающиеся из-под широкополой шляпы. Мне этот человек показался постаревшим раньше времени. Может, оттого, что шел ссутулившись, как старик. Словно его пригнетало к земле неведомое горе. И тут мне невольно вспомнился доктор ван Зельден. Когда я слушал рассказ его дочери, Мельхиор ван Рибек казался мне отпетым негодяем, чудищем в людском обличье, которого я, будь на то моя воля, взял бы за шиворот и, хорошенько встряхнув, бросил в ближайший канал. Но сейчас, видя ван Рибека воочию, я не испытывал к нему ничего, кроме сострадания и жалости. Я чувствовал, что он ненавидит себя за содеянное в отношении собственной дочери. Может, у него и впрямь не оставалось иного выбора? Впрочем, Бог ему судья. Истинными виновниками были другие: люди, подобные ван дер Мейлену, готовые извлечь выгоду из людского горя. Вот их следовало судить и наказать. Но как?
Глава 1 1 Цвет дьявола
22 сентября 1699 года Рембрандт шел на поправку. Сразу же после завтрака он отправился к себе в мастерскую поработать над очередным автопортретом, в последнее время они стали чуть ли не одержимостью старика. До истории с репродукцией он зазывал в мастерскую и меня, и я узнавал от него массу нового и интересного для себя: как подобрать нужный оттенок, смешивая краски, о светотени, о том, как переносить образы на передний план, да и о многом другом. Но так как отныне я перестал для него существовать, деятельность моя в этом доме ограничивалась исполнением мелких поручений по хозяйству, главным образом походами с Корнелией на рынок. В такие дни мы, покончив с покупками, непременно урывали часок, дабы посидеть на солнышке на берегу канала Розенграхт и поглазеть на воду. Говорили мы мало, я был безумно счастлив просто держать ее за руку. В тот день после обеда у меня не было тренировок у Роберта Корса, да и Мертен ван дер Мейлен, хоть и пообещал мне привести очередную натурщицу, что-то тянул. В душе я был даже доволен, ибо представления не имел, как поведу себя с ним при следующей встрече. И, решив воспользоваться свободным временем, я отправился на Дамрак. Там я еще издали заметил, как дочь Эммануэля Охтервельта подметает мостовую перед входом в лавку. Повинуясь сиюминутному порыву, я купил у уличной торговки букетик цветов и торжественно вручил его Йоле. Она с улыбкой поблагодарила меня, при этом смотрела так, что, не обладая даром провидца, можно было понять: надумай я набиться в зятья к владельцу лавки Охтервельту, мои шансы были бы чрезвычайно велики. — Ваш отец в магазине? — осведомился я. — Да, господин Зюйтхоф. Как всегда, весь в работе. — А какое у него настроение? — Лучше некуда. Дневники господина де Гааля идут буквально нарасхват. Как бы нам не пришлось еще один тираж заказывать, так говорит отец. — Каким образом он вообще вышел на этого де Гааля? Не хочу на него наговаривать, но ведь в качестве книгоиздателя он до сих пор не проявлял себя. — Сейчас все меняется, по выражению самого отца. А с господином Фредриком де Гаалем он познакомился через молодого господина де Гааля. Тот частый гость у нас. — Ну, раз ваш отец, как вы говорите, в добром расположении духа, возьму-ка да загляну к нему, — сообщил я и переступил порог всегда полутемной лавки. Охтервельт стоял у конторки, уткнув хрящеватый нос в бумаги, и, орудуя пером, вносил поправки в колонки цифр. Уйдя с головой в работу, он даже не заметил моего появления. — Подбиваете итоги, господин Охтервельт? Небось подсчитываете прибыль последних дней? — дружелюбно осведомился я после приветствия. — Так углубились в арифметику, что и видеть никого не желаете. До меня дошли слухи, будто дневник де Гааля хорошо раскупают. По растерянному взгляду купца я понял, что он не узнает меня. Но уже мгновение спустя рот его растянулся в улыбке. — Ах, вот кто к нам пожаловал! Господин Зюйтхоф! Да, как сами видите, стопка книг куда ниже. Нынче в каждом приличном доме Амстердама принято иметь томик де Гааля, чтобы знать, каково приходилось в дальних странах почтенному гражданину города. Вы уже прочли его книгу? — От корки до корки. — Ну и как вам? Понравилось? — У меня очень маленький опыт чтения путевых заметок, да и вас не хочется разочаровать, но мне сдается, господин де Гааль самое интересное упустил. Лицо Охтервельта помрачнело. — Что значит «упустил»? Что вы хотите этим сказать? — Во всех трех представленных им подробных описаниях поездок нет ничего такого, чего не было бы в описаниях других авторов о рейсах в Ост-Индию: бури, строптивые матросы, столкновения с аборигенами… — Но вам-то лично ничего подобного переживать не приходилось, насколько мне известно, — не дал мне договорить явно задетый за живое Охтервельт. — Так вы снова намерены агитировать меня наняться в матросы? — не скрывая иронии, осведомился я. — Нет-нет, не сочтите меня за критикана, я готов воздать должное де Гаалю, он в самом деле потрудился немало, собирая свои путевые заметки. Но почему последняя его поездка удостоилась лишь краткого упоминания? Мне говорили, все из-за того, что домой вернулась лишь малая часть команды. — Ну… я думаю, господин де Гааль лучше знает, о чем поведать читателям, а о чем умолчать. У вас, Зюйтхоф, как я посмотрю, на все свое мнение. Но советую на всякий случай приберечь эту книгу — вполне возможно, она станет раритетом. Мне даже показалось, что Охтервельт от души каялся, что презентовал мне томик Охтервельта, а не с выгодой для себя продал его. — Что поделываете, Зюйтхоф? Как ваша живопись? — Могу только сказать, что дела мои пошли на поправку с тех пор, как я в последний раз был у вас. Кстати, пользуясь возможностью, хочу выразить вам признательность за то, что свели меня с вашим товарищем по цеху ван дер Мейленом. Я уже выполнил несколько его заказов. — Что же он у вас заказывает? Я пристально посмотрел на Охтервельта: — Будто вы не знаете… — А к чему бы мне тогда спрашивать? — вопросом на вопрос ответил он. — Портреты. И натурщицами обеспечивает меня сам. — Вот оно что, — только и сказал Охтервельт. Похоже, мои слова не произвели на него особого впечатления. — Ван дер Мейлен не ваш компаньон? — напрямик спросил я. — Да нет, такого я сказать не могу. Хотя отношения у нас самые добрые. Впрочем, как и с другими собратьями по цеховому сообществу. Иногда видимся, обсуждаем, что продать и почем. — А чем торгует он? — Примерно тем же, что и я. И покупатели у него в основном те же. Ну, может быть, среди них купцов на два-три человека больше. Атак — ремесленники, служащие, чиновники магистрата. В нынешние времена каждый норовит увешивать картинами стены. Одни могут себе позволить работы подешевле, другие — подороже. — Верно, верно, — согласился я, невольно бросив взгляд в темный угол, где до сих пор пылились мои холсты, целых пять штук. — И все-таки должен признаться, художников в нашем Амстердаме явный переизбыток. — Как бы то ни было, все они в конце концов могут рассчитывать на то, что их работы рано или поздно востребуют. — Криво улыбнувшись, Охтервельт добавил: — Естественно, если речь идет о действительно талантливых мастерах. — И при условии верно выбранной темы, не так ли? — Само собой. Я оглядел стоявшие в лавке Охтервельта картины. Их было много: писанные маслом холсты, большие и поменьше, гравюры, офорты, натюрморты в рамах и без, портреты и огромное количество морских пейзажей. — Может, было бы куда лучше, если бы все рисовали лишь то, что их по-настоящему волнует? — в грустной задумчивости произнес я. — Вот это была бы настоящая живопись. Охтервельт, кисло улыбнувшись, покачал головой: — Тогда в Амстердаме не осталось бы художников — померли бы с голоду. — Вы так считаете? А может, как раз таких картин и жаждут люди. — Чаще всего люди без чьей-либо помощи отлично понимают, что хотят, а что нет. А хотят они то, что висит у соседа на стене. Значит, и мне непременно надо повесить что-то, и это что-то должно быть ничуть не хуже, а чуточку лучше. И у морской баталии куда больше шансов оказаться на стене, чем у сцены отлова сельди. Впрочем, мы с вами уже говорили об этом. — А может, вы просто склонны недооценивать вкусы публики, господин Охтервельт? — Вот уж нет! Не забывайте, я не новичок в этом виде коммерции. Если вы создаете картину, исключительно следуя порыву вдохновения, картину, отражающую ваши собственные потаенные мысли, она скорее всего выйдет у вас особенной, и в силу как раз своей особенности останется недоступной людскому пониманию. И что из этого следует? — Что люди должны приучать себя находить в картинах что-то для себя. — Совершенно верно. Но для этого им необходимо сделать над собой усилие, вглядеться в картину, вникнуть в ее замысел. Вот только никто не хочет ни вглядываться, ни делать над собой усилий. Народ стремится в первую очередь прикрыть голые стены или же увековечить для потомков свои великие дела. Картины служат им для успокоения, для того, чтобы показать им тот Амстердам, который дарует им богатство и сладостный покой. Или убеждает их в том, что флот надежно защищает нас от поползновений врага. Чтобы можно было спокойно откинуться в удобном креслице напротив, раскурить трубочку и перевести дух после суетного дня. А картины, которые вносят сумятицу, — нет, такие им не нужны. Так что можете спокойно создавать их для себя, Зюйтхоф, но уж никак не для того, чтобы заработать на хлеб с маслом. Мой взгляд снова упал на стопку книг у входа в лавку. — Уж не потому ли Фредрик де Гааль так скуп на слова, описывая свою последнюю поездку? А не то она здорово разволновала бы его читателей? Охтервельт, казалось, готов был рвать на себе волосы. — Ну что вам далась эта последняя поездка Фредрика де Гааля? — возмутился он. — Если вам так уж захотелось узнать о ней побольше, расспросите его самого! — Расспрошу при случае, — спокойно ответил я. — Но вернемся к ван дер Мейлену. Кроме торговли предметами искусства, он еще чем-нибудь занимается? — Мы не обсуждаем способы, какими он зарабатывает на жизнь. Но когда вы заговорили, я кое-что припомнил. Примерно год тому назад я узнал, что он вроде бы вложил деньги в игорный дом и в одно увеселительное заведение. Но, может, это не более чем слухи. А чего это вам пришло в голову выведывать у меня про ван дер Мейлена? — Да из чистого любопытства. В конце концов, я на него работаю. — Чтобы оплатить ученичество у Рембрандта. — Вам и об этом известно? — Об этом известно каждому в Амстердаме, кто зарабатывает на жизнь рисованием. Но только никто не верил, что найдется чудак, который пойдет к старику в ученики. Поговаривают, он стал просто невыносим. С ним и раньше было непросто поладить, а теперь и подавно. Если быть честным, кое-кто даже заключал пари — сколько вы продержитесь в этом доме на Розенграхт. — Пока что держусь, — уверил я Охтервельта, естественно, умолчав о том, что я уже не ученик Рембрандта. — Скажите, а вот среди этих работ, — я кивнул на картины, — нет ни одной Рембрандта? — В данный момент нет. Время от времени приносят. Если чье-нибудь имущество идет с молотка. Но что касается меня, я не большой почитатель Рембрандта, если вы уж захотели предложить мне что-нибудь из его работ. Вряд ли на его картинах заработаешь. — Нет-нет, речь не об этом. Продажей работ Рембрандта занимается его дочь. Охтервельт удивленно вскинул брови: — Вот оно что! И находятся желающие купить их? — Конечно. Например, доктор ван Зельден. Вам не приходилось о нем слышать? — Не только слышать, я довольно близко знаком с ним. Он часто бывает на приемах в доме де Гаалей. — Как и вы? — Да-да, конечно, — с напускным равнодушием подтвердил явно польщенный Охтервельт. И поспешил добавить: — С тех пор, как стал издателем книг Фредрика де Гааля. Вот уж не знал, что ван Зельден — такой почитатель Рембрандта. Наверняка у него деньги есть, хоть он и старается это скрыть. Может, и мне следовало бы забежать как-нибудь на Розенграхт да переговорить с дочерью старика насчет парочки его работ. Как выдумаете, Зюйтхоф? Замолвите за меня словечко, а? — Непременно, — заверил его я, с трудом удержавшись от улыбки. Как, однако меняются предпочтения торгашей, стоит им заслышать звон монет! — Но раз уж мы заговорили о Рембрандте, скажите, приходилось ли вам когда-нибудь видеть его работы, где преобладал бы или просто наличествовал синий цвет? Охтервельт с минуту раздумывал. — Нет, не приходилось. А почему вас это вдруг заинтересовало? — Да потому, что мне не так давно попалась одна картина, очень напоминающая кисть мастера Рембрандта. Может, это кто-нибудь из его бывших учеников? — Возможно. Но, насколько мне помнится, я не знаю никого, кто использовал бы этот загадочный синий цвет. — Загадочный, говорите? — насторожился я. — Поясните, прошу вас. — Разве вам не известно, что синий цвет всегда считался божественным? В истории живописи Бог всегда изображался в золотых и синих тонах. Тому полно примеров среди произведений сакральной живописи. — Что на сегодняшний день от нее осталось? — вздохнул я. — Картины на религиозные сюжеты строго-настрого запрещено держать в храмах. — Да уж, одно из последствий нашего кальвинизма. Охтервельт оглядел стоявшие длинными рядами полотна. — Когда живописцам еще дозволялось творить на благо церкви, не было такого обилия натюрмортов, городских пейзажей и увековеченных на холсте рыбачьих лодчонок. — Знаю, знаю вашу нелюбовь к ловцам сельди, — с легким раздражением произнес я. — Но мне так и не ясно, отчего синий цвет относят к числу загадочных. — Потому что лазурь — не только цвет богов или, позднее, королей. Иногда синеве приписывались и демонические силы. Из многих полотен старых мастеров можно понять, что люди суеверные считали синий цвет предвестником бед. Вы не замечали, что нередко чуму изображали в виде голубоватой мглы? Что есть поверье: если пламя свечи вдруг становилось синим, это предвещало чью-либо смерть или гибель? Вот и не приходится удивляться, что синий цвет окрестили цветом дьявола, адским цветом. — Все это, по-моему, бабушкины сказки. — Вне сомнения. Однако не забывайте, во всем, в том числе и в бабушкиных сказках, как вы изволили выразиться, есть зернышко истины. И художнику не мешает побольше знать о красках, с которыми ему приходится работать. Так что задумайтесь над тем, что я вам сказал, Зюйтхоф! Едва выйдя за порог лавки Охтервельта, я и в самом деле призадумался над услышанным от торговца антиквариатом. И крепко. Та самая, таинственным образом исчезнувшая картина никак не связывалась с венценосными особами, тем более — с божественным промыслом. Когда Охтервельт упомянул о том, что синий цвет испокон веку считался цветом дьявола, адским цветом, у меня мурашки по спине побежали. Вот вам и бабушкины сказки. Но торговцу вовсе не обязательно было знать об охватившем меня смятении. После всего, что произошло, я готов был поверить, что сам дьявол хвостом намалевал это полотно, а потом вновь уволок его с собой в преисподнюю. Небо над Амстердамом затянули тучи, ветер с моря приносил с собой тончайшую водяную пыль, оседавшую на лице. Я шел опустив голову, стараясь уберечься от назойливой, всепроникающей влаги. И не сразу заметил, что прямиком направлялся туда, где несчастному Осселю было суждено расстаться с жизнью. Столб, к которому он был прикован, указующим перстом вознесся в хмурое небо. С того дня многое изменилось, благодаря Корнелии я снова обрел веру в будущее. Моя тайная клятва сделать все, чтобы смыть пятно позора с памяти Осселя, была единственным, что связывало меня с прошлым. Я противостоял желанию разорвать это звено и оставить попытки разобраться в этом деле, хотя, решись на такое, я до конца жизни не смог бы спокойно смотреть на себя в зеркало. Выпрямившись, с высоко поднятой головой, я прошагал от ратуши к церкви Ньювекерк, преисполненный уверенности, что не пойду наперекор совести. В тот сентябрьский день я еще не подвергал сомнению возможность сделать выбор. Оказалось же, что олицетворение моего будущего, моя Корнелия напрямую была связана с моим прошлым. И мне предстояло уже очень скоро убедиться в этом.Я перешел через каналы Эренграхт и Кейзерграхт. Ветер крепчал, и налетевший его порыв едва не сбросил меня с моста в воды канала. Когда я, вцепившись в перила, пытался устоять, взор мой упал на Вестеркерк, где лежал похороненный сын Рембрандта Титус. Странно, но только сейчас до меня дошло, что мастер никогда не упоминал в наших беседах о сыне. Как однажды мне сказала мать: человек скорбящий одолевает свою печаль, называя тех, по ком скорбит; отчаявшийся же называть их не в силах. Дождь и ветер усиливались, и я был вынужден ускорить шаг. Я уже собирался вернуться на Розенграхт, однако неведомая сила влекла меня в ближайшую харчевню. Ею оказался «Черный пес», перед которым мы так часто усаживались с Хенком Роверсом. Скамейки и столы на улице были пусты, а обычно распахнутая настежь дверь плотно затворена. Поборовшись с дверью — сильный ветер не давал распахнуть ее, — я ввалился в зал. Народу было довольно много — видимо, ненастье загнало сюда людей. В зале стоял неумолчный гомон, в воздухе плавали клубы табачного дыма. — Эй, Корнелис Зюйтхоф, давайте, присаживайтесь к нам! Я узнал голос Хенка Роверса. Он со своей коротышкой-трубкой во рту над полупустой пивной кружкой устроился за круглым столом, за которым сидели еще несколько человек. По пути к ним я велел подать мне пива и трубку — в этом задымленном логове уж лучше самому коптить, чем дышать чужим смрадом. Роверс взглянул на окна, на нещадно хлеставший по стеклам дождь. — Это еще что! Попомните слова старого моряка: и гроза будет нешуточная. Старый моряк был не против разделить со мной пиво и табак, принесенные мне вместе с трубкой рыжеволосым мальчишкой. — В честь самого щедрого из амстердамских художников! — Старик Роверс поднял в мою честь кружку со свежим пивом и тут же уткнулся носом в ароматную пену. — Ну, как ваши дела? Есть успехи с этой ван Рибек? — поинтересовался он после внушительного глотка. — Разве могу я умыкнуть невесту у одного из самых богатых людей Амстердама? — со смехом задал я свой риторический вопрос. — К тому же, если на то пошло, мне вовсе нет нужды никого похищать, поскольку я в данный момент не горюю от одиночества. Ровере подмигнул мне: — Понятно, понятно — уж не о дочурке ли Рембрандта идет речь? Тут уж настала моя очередь удивляться. — Откуда вам это известно? Роверс воодушевился. — Я всего лишь предположил, и теперь вижу, что не ошибся. А что до Константина де Гааля, то вам печалиться нечего. Ведь он, поверьте, богатство не своими руками наживал. Если б не его отец, этот Константин так и оставался бы городским купчишкой, каких здесь сотни. И уж конечно, не заседал бы в совете правления Ост-Индской компании. — Да-да, если бы не старик де Гааль, — пробормотал я. — Любопытную книгу написал этот де Гааль. — О чем это вы? — недоуменно спросил Ровере, на мгновение оторвав нос от пивной кружки. — Недавно книготорговец Эммануэль Охтервельт пожаловал мне книгу — путевые заметки старого де Гааля. — Я мало смыслю в книжках. Кроме того, что они стоят кучу денег, проку с них ровным счетом никакого. В особенности если прочесть не можешь. — Может, и мне не стоило ее читать, — признал я. — Умнее я от этого не стал. Де Гааль подробнейшим образом расписывает три своих первых путешествия, в которые отправился по делам Ост-Индской компании, а о четвертой от силы пара слов. — А что вас удивляет? Я бы на его месте тоже предпочел не распинаться. — Поясните. Вам что-нибудь известно об этом? — Слышать об этом рейсе мне приходилось, только вот ничего хорошего не рассказывают. Был такой корабль, «Новый Амстердам» — горделиво задранный нос, сто восемьдесят человек команды, рейсы в Ост-Индию. Двадцать пять лет, почитай, минуло с тех пор, когда «Новый Амстердам» вышел из Текселя и направился в Бантам с грузом солонины, гороха и фасоли, собираясь забрать там драгоценный перец. Но возвращение домой затянулось на целых три месяца, и когда корабль снова достиг родных вод, то выглядел, будто после битвы. Досталось ему так крепко, что больше он ни в одно плавание не отправился. От ста восьмидесяти моряков, с которыми он покидал родной порт за два года до этого, на борту осталась всего лишь треть. — А что же произошло? — Я на его борту не был, и хвала Богу! Если вам так интересно, расспросите Яна Поола. Вон там он сидит, за тем столиком. — Роверс кивнул на один из столиков неподалеку. — Его брат участвовал в последнем плавании де Гааля. Роверс указал на неуклюжего человека с почерневшей, будто по ней прошлись сапожной щеткой, правой половиной лица. — Пусть вас не пугает его вид. Все оттого, что, когда они сражались с турками, рядом с ним взорвалась пороховая бочка. Беднягу Поола обожгло, с тех пор он у нас перекрашенный. Даже от злости побагроветь не может. Хенк Роверс говорил во весь голос, его шутку встретили дружным смехом. Человек с закопченным порохом лицом поднялся и угрожающе сжал кулаки. — Придержи свой поганый язык, Хенк Роверс! — проревел он. — А не то я тебя сейчас так перекрашу, что ты у меня будешь бледнее покойника! Роверс без тени страха смотрел на него. — Ладно, ладно, Ян, шуток не понимаешь, что ли? Это мой друг Корнелис Зюйтхоф. Он хочет с тобой поговорить и поставить тебе полкварты пивка. Поол глянул на меня. — Сухопутная крыса? — осведомился он. — Ну, зачем же так, — ухмыльнулся в ответ Роверс. — Все-таки парочку корабликов сподобился намалевать. — Ах, так твой приятель — художник! — протяжно произнес Поол и наградил меня сочувственным взглядом. — Этим беднягам временами приходится куда хуже, чем даже нам. Ты бы спросил у него, по карману ли ему полкварты? Моя честь оказалась под угрозой — шутка ли сказать, сомневались в моей платежеспособности. — По карману, по карману. И не только полкварты, но и целая кварта! — успокоил я Поола. — Заметано! — уже куда добродушнее отозвался Поол, присаживаясь к нам с Роверсом и благодарно подмигивая последнему. Ладно, раз эти два морских волка надумали меня дурачить, пусть дурачат, сказал я себе. Подали заказанное мною пиво, Поол оттаял, однако стоило мне заговорить о «Новом Амстердаме», и настроение опаленного порохом моряка разом переменилось. — Богом проклятое корыто! — пробормотал он. — Лучше бы его спалили пираты, тогда он не возвратился бы из последнего плавания. — Проклятое? — переспросил я. — Этот корабль определенно был проклят. А чем еще, скажите на милость, объяснить, что большая часть команды пропала, в том числе и мой брат Яап? — Разве в диковинку, если кто-нибудь из моряков перекочует на дно морское? И объяснений тому множество — болезни, штормы, пираты или стрела какого-нибудь дикаря из местных. Поол досадливо отмахнулся: — Вот-вот, так и объясняли задержку с возвращением «Нового Амстердама». Дескать, в шторм угодил, от своих отстал, потом его прибило бурей к какому-то острову, где команда и проторчала бог знает сколько дней, приводя корабль в порядок. А там и с пресной водой было плохо, и дикари чуть ли не половину команды перебили. — Но вы в это не верите? — спросил я. — И никогда не поверю! Я случайно оказался в городе, как раз когда «Новый Амстердам» возвращался. Я тут же вскочил на какую-то баржу, направлявшуюся в Тексель для погрузки. И там своими глазами увидел, во что превратился «Новый Амстердам». — И во что же? — Так корабль даже после страшного урагана не выглядит. У него был такой вид, будто он побывал в сражении. Поверь мне, художник, я знаю, что говорю. Желая подкрепить сказанное, он ткнул пальцем в почерневшую от пороха щеку. — Но никто и слыхом не слыхал ни о каком сражении, — продолжал Ян Поол. — И все же у многих, кто уцелел, были раны, как после боя. Когда я расспросил нескольких моряков, они мне рассказали, что, мол, на корабле произошел бунт, и бунтовщиков нужно было обезвредить. И, как мне думается, это больше всего похоже на правду. Подлив пива в его почти пустую кружку, я осведомился, какова же в таком случае правда. — Эх, если б я мог знать! Мне ведь так и не удалось выяснить, что стряслось с моим братишкой Яапом. Матросы, рассказавшие мне о мятеже, поступили отменно честно. А остальные вообще не желали распространяться о том, что же на самом деле случилось в плавании. Потому что боялись до чертиков, а чего боялись — непонятно. Услышанное от бывшего моряка с обожженной порохом физиономией здорово смахивало на морские байки. — И что же, никто не стал доискиваться? — скептически поинтересовался я. — Ост-Индская компания выплатила крупные суммы родственникам погибших, причем на сей раз она оказалась куда щедрее обычного. И Каат тоже получила очень неплохие денежки. — Кто? — Жена моего братишки, вернее сказать, его вдова. У Яапа осталось двое детей, тогда они еще под стол пешком ходили. И Каат достались от компании не только приличные деньги, но и новый муж. Я поинтересовался, сколько в этот день принял на грудь этот Ян Поол. Бывший матрос сразу углядел мое недоверие. — Чего ты лыбишься? — взорвался он. — Думаешь, Ян Поол хочет надуть тебя? — Разумеется, я так не считаю, но тут уж вы явно хватили через край, дружище, а? Что-то не припоминаю, чтобы компания еще и мужей вдовам погибших матросов подбирала. Хенк Ровере, почесав за ухом, хихикнул: — Это и впрямь ни в какие ворота не лезет. Если ты лишился глаза или левой руки, компания пожалует тебе четыре сотни гульденов, если потерял правую руку — получишь целых восемьсот, а если ослепнешь или потеряешь обе руки или ноги — тогда это будет стоить ей уже тысячу двести монет. А это совсем неплохие деньги. Но чтобы в случае гибели женам возмещали еще и мужей, ни о чем таком мне слышать не доводилось. — Это было, было! — рявкнул Поол. — Конечно, ничего такого в бумагах не прописали. И все же один матросик с «Нового Амстердама», которого дьявол пощадил, стал новым мужем Каат. Некто Клас Стег, но он нынче уже не плавает по морям-океанам, а сидит в счетоводах компании. Странно все это очень. Все, кто выжил тогда, очень быстро пошли в гору. Нынче они или кораблями владеют, или получили должности. Кого в компанию пристроили, кто в торговой палате подвизается. Неслыханное дело. Одни, значит, на дне морском, а другим счастье подвалило. Хотите — верьте, хотите — нет, но я вам вот что скажу, уважаемый господин художник: тут дьявол приложил руку, это точно! Что-то часто мне сегодня напоминали о нечистом! То Охтервельт пугает меня, убеждает в том, что синий — дьявольский цвет. А теперь этот моряк рассказывает байки! — По вашим глазам вижу, что вы до сих пор мне верить не хотите, — с досадой бросил Поол. — Не верите, так спросите других, тех, кто тогда видел, как «Новый Амстердам» входил в родной порт. Вы в каждом портовом кабаке отыщете тех, кто своими глазами это видел. Вы их поспрошайте об этом дьявольском кораблике и его нечистом грузе! — Как я могу вам верить, если вы мне то одно чудо преподносите, то другое? Болтаете о каком-то дьявольском корабле, о нечистом грузе! Ну что может быть нечистого в перце из Ост-Индии? Поол с шумом выдохнул, словно собирая в кулак все свое терпение, чтобы убедить сидевшего перед ним Фому неверующего. — «Новый Амстердам» должен был доставить перец домой. И на самом деле взял на борт перец, став на якорь у Бантана. Но я не верю, что перец оставался на борту, когда они прибыл в Тексель. — Почему? Не напускайте туману, Ян Поол! Говорите напрямик! Еще секунду назад мрачная физиономия Яна Поола озарилась иронической улыбкой. — Как же так? Не верите мне, а сами расспрашиваете? — Может, мне хочется, чтобы вы меня и вправду убедили, — с улыбкой ответил я. — Тогда, может, вас убедит то, что разгружали «Новый Амстердам» под покровом ночи. — А что в этом такого странного? — Да все. Едва судно вошло в гавань Текселя, как по распоряжению компании всем зевакам велели разойтись. А перегрузку на баржи разрешили лишь с наступлением ночи. И для погрузки компания отрядила особую группу людей, которых потом рассовали по колониям. Так что никому до сих пор не известно, чем был гружен проклятый корабль. — Но ведь это не исключает того, что на борту действительно находился перец из Ост-Индии, — резонно предположил я. — Не исключает. — Поол, сдвинув брови, вперил в меня заговорщический взгляд. — Однако же к чему вся эта комедия с ночной перегрузкой?
Глава 12 В полночь у башни Чаек
Только к вечеру непогода унялась, и я отважился покинуть гостеприимный кров «Черного пса» и вернуться на Розенграхт. По пути я так углубился в размышления об услышанном от Хенка Роверса и Яна Поола, что чуть было не угодил под колеса ломовой телеги. Даже если события в устах рассказчиков за эти два десятка лет успели обрасти новыми деталями, все равно суть истории оставалась неизменной. Может быть, как раз о ней старательно умалчивал Фредрик де Гааль в своих путевых заметках? Впрочем, встреча с дожидавшейся меня Корнелией оттеснила историю «Нового Амстердама» на задний план. На лице девушки читалась озабоченность. — Где ты так долго был, Корнелис? Я уже стала беспокоиться, не сдуло ли тебя ветром в канал. — Вот этого счастья мне не выпало, просто забрел в «Черного пса», — ответил я, чмокнув ее в щеку. Корнелия понимающе улыбнулась: — И чтобы даром время не терять, распил с друзьями пару кувшинчиков пива. Одарив меня ответным поцелуем, она повела меня в кухню, где дожидался незамысловатый ужин: рыба, сыр, хлеб. И хотя они с отцом уже отужинали, Корнелия посидела со мной и рассказала, как прошел день. — Ах да, чуть не забыла. Тут приходил человек и оставил для тебя вот это. Сунув руку в карман платья, Корнелия достала письмо. — И что мне пишут? Корнелия с наигранным возмущением отпарировала: — Чужими письмами не интересуюсь. Тем более под печатью. Взяв у нее письмо, я с любопытством стал рассматривать незнакомую сургучную печать. На ней был изображен торговый корабль под раздутыми парусами. На бумаге изящным почерком значилось: «К. Зюйтхофу». И больше ничего. — Кто доставил письмо? — Какой-то мальчишка. — А от кого, не сказал? — Он так быстро умчался, что я даже не успела ничего спросить. Наверняка та, что писала это письмо, попросила его не распространяться. — Откуда ты знаешь, что письмо от женщины? Корнелия указала на буквы моего имени. — Проще простого. Это сразу видно по почерку. Вы, мужчины, не пишете с такими завитушками. Мне уйти, чтобы ты мог спокойно прочесть? — Вздор — у меня нет от тебя секретов, — пробурчал я, срывая печать и разворачивая листок. К моему великому разочарованию, послание было коротким, всего пара строчек:Будьте в полночь у Башни Чаек! Мне необходимо сообщить вам нечто важное.Вот уж странное приглашение! В других обстоятельствах оно показалось бы мне в высшей степени подозрительным. Но у меня не было причин не доверять Луизе, и я ни на секунду не усомнился, что письмо на самом деле писала она. Наверняка произошло нечто, не терпящее отлагательств, если она просила меня о встрече в столь позднее время у Башни Чаек. — Что-нибудь важное? — поинтересовалась Корнелия. — Вполне возможно. Во всяком случае, ночью мне придется уйти. Мне необходимо кое с кем увидеться. — Как я понимаю, с той, что писала письмо. — Вот что, Корнелия, прошу понять меня правильно. Пока я не могу рассказать тебе всего — я обещал никому не говорить ни слова. — Но ведь ты только что уверял, что у тебя нет от меня секретов, — холодно напомнила Корнелия. В ее тоне не было ни следа ревности или возмущения, одно лишь разочарование. — Прошу тебя, поверь, это на самом деле так, — умоляюще произнес я. Покончив с ужином, я попрощался с Корнелией и поднялся к себе. Там я заметил, что дверь в комнату Рембрандта приоткрыта. Подойдя поближе, я заглянул внутрь. Рембрандт по-прежнему работал над автопортретом. Временами он отступал от мольберта, прищурившись, придирчиво осматривал холст, после чего мельком смотрелся в зеркальце и вновь вооружался кистью, чтобы подправить детали. Он был так увлечен, что я мог не опасаться, что он заметит, как я за ним подглядываю. В сотый раз я спросил себя, что подвигло его создавать один автопортрет за другим. Может быть, преклонный возраст и отсюда стремление увековечить себя перед скорой смертью? На холсте Рембрандт выглядел куда старше, и все же глаза его излучали юношеский задор, энергию, а на губах застыла многозначительная и загадочная улыбка. Запечатленный на холсте Рембрандт, казалось, торжествовал победу над бренностью людской плоти. Я вновь и вновь подивился уникальному дару правдивого изображения, присущему этому мастеру. И вместе с тем стоило мне вглядеться в лицо на холсте, как мне отчего-то становилось не по себе. Вернувшись в свое обиталище, я отвесил поклон чучелу медведя, взял палитру и стал смешивать краски. Вообще-то время для живописи было самое неподходящее, писать при таком освещении было нельзя, причем не только сейчас, но и вообще на протяжении всего этого непогожего дня. Но мне необходимо было как-нибудь убить время до полуночи. Я размышлял о своем тощем кошельке, о совете Эммануэля Охтервельта всерьез подумать о плавании, и постепенно, мазок за мазком на холсте проступало изображение побитого штормами загадочного «Нового Амстердама».Л.
Мелкий дождь падал мне на лицо, когда я за полчаса до полуночи покинул дом Рембрандта. Все давно спали, погасло и окошко Корнелии. Мне очень хотелось вновь убедить девушку в том, чтобы она не расценивала мое нежелание рассказывать как признак недоверия к ней, но время для подобных бесед было позднее. Плотно затворив дверь, я вышел в темную, безлунную ночь. Окна домов были погружены во тьму, свет моего фонаря желтоватыми бликами отражался на мокром камне мостовой. Я слышал, магистрат Амстердама намеревался установить на улицах города фонари — я был всей душой за это весьма разумное решение. И вновь убедился в его верности, когда, невзирая на фонарь в руке, все же угодил в глубокую лужу. Едва оказавшись на Принсенграхт и миновав церковь Вестеркерк, я услышал издали, как перекликаются ночные патрульные. Разобрать их было невозможно, но мне нечего было их опасаться — я был при фонаре. Между тем зарядивший довольно давно дождь перешел в самый настоящий ливень, и я опасливо глянул вверх, на плывшие над городом низкие облака — на луну рассчитывать было нечего. К счастью, мне оставалось уже недалеко и, различив в темноте очертания Башни Чаек, я невольно, ускорил шаг. Мне не терпелось узнать, что же такого собиралась мне сообщить Луиза ван Рибек. Ни чаек, ни любовных парочек в это время не встретишь. Амстердамцы видели в теплых постелях десятый сон. Мне казалось, что кроме ночных стражников по дождливому городу шлялся один только Корнелис Зюйтхоф — в поисках чего? Я честно спросил себя: а что, собственно, гнало меня на свидание с ней? И вынужден был признать: не только сочувствие к эксплуатируемой девушке, но и ее красота. Оказывается, подозрения Корнелии были не столь уж и безосновательны. Я видел перед собой устремленную в небо громаду Башни Чаек, однако Луизы нигде не было. Часы на здании церкви пробили полночь. Я обошел башню чуть ли не впритык к ее стенам, потом стал ждать. Может, Луиза просто опаздывает. И вот, спустя минуту или две, я разглядел темный силуэт, приближавшийся к башне. Фонаря в руках загадочного пришельца не было, и я не мог определить, кто он. Вскоре я убедился, что это женщина в платье служанки в надвинутом на лицо капюшоне. Стало быть, Луиза и на сей раз избрала прежнее обличье. Я вышел из тени и направился навстречу. Я уже хотел произнести слова приветствия, но они застряли у меня в глотке — возникшая из тьмы особа была явно высоковата для хрупкой Луизы ван Рибек! — Ну что же ты, мазила несчастный? Не ожидал небось? Голос показался мне знакомым, я не сомневался, что мне уже приходилось его слышать. Стоило этому субъекту подойти ближе, как я, разглядев протянувшийся через всю правую щеку шрам, вспомнил августовский субботний вечер, когда на меня напали поблизости от Лабиринта. Передо мной стоял вожак шайки нападавших, переодетый в женское платье. Судя по его довольной физиономии, он был рад этой встрече. — На этот раз на везение и не надейся, мазила! В такую погоду ночью тебе уже никто не придет на выручку. Отбросив капюшон, онмедленно подошел ко мне вплотную. Небритая рожа гротескно контрастировала с одеждой служанки. Он напомнил мне одну из потешных фигур, виденных мной в Лабиринте. Я даже рассмеялся, несмотря на трагизм своего положения. — Давай-давай, веселись! Сейчас тебе будет не до смеха! — угрожающе рыкнул пришелец. — Погляжу, как ты будешь смеяться, когда я твои косточки пересчитаю! Поспешно поставив фонарь, я выхватил нож, тот самый, что достался мне в схватке с ними. Но мой противник оказался проворнее, и вскоре я застонал от удара невесть откуда взявшейся у него короткой дубинки. Удар пришелся в область кисти правой руки, но боль пронзила руку до плеча. Взвыв как пес, я невольно выронил нож. Когда рука бандита с дубинкой поднялась для нового удара, я понял, что нужно действовать. Ну ничего, сейчас я тебе докажу, что уроки Роберта Корса не прошли для меня даром. И применил прием, освоенный мной в школе единоборств. Я хорошо помню, что в свое время убил на него полдня. Превозмогая отчаянную боль в правой кисти, я изо всех сил заехал по руке нападавшего кулаком, лишив его возможности нанести удар. В первое мгновение он растерялся, и я не замедлил воспользоваться этим. Обеими руками схватившись за дубинку, я рванул противника на себя. Дубинка оказалась в моих руках, и я уже размахнулся, чтобы сразить бандита его же оружием, но вдруг у меня за спиной раздался неясный шум. Какой же я идиот, мелькнула мысль, не позаботился о надежном тыле! В следующую секунду затылок взорвался острой болью, и я рухнул наземь. Разумеется, негодяй со шрамом явился сюда не в одиночку. С трудом подняв голову, я увидел прямо перед собой физиономию красноносого. Тот, ухмыльнувшись, взял на изготовку дубинку, такую же, как и у его дружка. Тут в поле зрения появился и третий мой знакомый — лысый. В руках он сжимал пистолет с длиннющим дулом. Теперь я перетрусил по-настоящему. Да, прав был бандит со шрамом — тут уж мне никто не придет на выручку. Меня сцапали трое, их намерений я не знал. Одно не внушало никаких сомнений: речь шла никак не о мести за позорный для них итог прошлой встречи. И уловка с письмом — лишнее тому свидетельство. Нет, инициатива исходила не от них, самим им до такого не додуматься. Вожак поднял упавшую дубинку и хорошенько ткнул ею мне в бок. Я готов был завопить, но сдержался. — Ну что же ты лежишь как мешок и не обороняешься, художник? Я бы с удовольствием поучил тебя уму-разуму. — А может, тебе самому у меня стоит кое-чему поучиться? — прохрипел я в ответ. — Чего? — не понял бандит. — Что ты там мелешь, мазила? — Век живи — век учись! Вот так-то! Негодяю понадобилась секунда-другая, чтобы понять — над ним издеваются. И по его зловещему молчанию стало ясно, что я раззадорил его не на шутку. Я и сам не мог понять, отчего стал провоцировать его. Злость на свое легкомыслие обратилась в холодную ярость. Нет, дружище, если ты считаешь, что я от страха в штаны наделал, то здорово ошибаешься. Рявкнув что-то нечленораздельное, бандит со шрамом на щеке бросился ко мне. Он уже занес ногу для удара, но я, вспомнив уроки Роберта Корса, изловчился схватить его за вытянутую ногу и что было сил крутанул. Бандит, взвыв от боли и изумления, не устоял и упал на землю рядом со мной. Первой мыслью было бежать прочь, воспользовавшись паникой в стане неприятеля, но тут же я понял, что подниматься ни в коем случае нельзя — лысый тут же уложит меня из пистолета. И я, не поднимаясь, покатился по земле, пока не наткнулся на что-то твердое, — это был ствол дерева. Вскочив на ноги, я увидел вспышку, в следующую секунду что-то грохнуло. И тут же в паре дюймов от меня в ствол ударила пуля. От ужаса я застыл на месте. Сердце готово было выскочить из груди, к горлу подобрался отвратительный комок. Но, увидев направлявшегося ко мне красноносого с дубинкой в руке, я мгновенно овладел собой и бросился наутек. Преследователи кинулись за мной. Я чувствовал, что они наступают мне на пятки, и несся вперед так, как еще никогда в жизни. Слишком поздно я сообразил, что в этой темноте утратил ориентировку, и в результате бежал прямо к Принсенграхт. Стоит мне сейчас остановиться, как красноносый тут же сцапает меня. И я, в надежде уйти от преследования, предпринял отчаянную попытку — вскочил в одну из стоявших у берега канала лодок. Я едва не упал — лодка ходуном заходила по воде после моего прыжка. Махая руками, словно безумец, я все-таки устоял на ногах. Но тут лодка внезапно накренилась, и я упал в холодную воду канала Принсенграхт. Наглотавшись воды, я возблагодарил своего родителя, еще в детстве обучившего меня нехитрой премудрости плавания. Благополучно выплыв на поверхность, я убедился, что барахтаюсь в воде неподалеку от берега рядом с лодкой, которой намеревался воспользоваться. Но ее занял некто. Некто в разбитых сапожищах и с дубинкой в руке. Красноносый. Его рука поднялась вверх, чтобы нанести мне удар. Набрав в легкие побольше воздуха, я уже собрался нырнуть, но в этот момент на голову мне обрушился страшный удар. Показалось, будто череп разлетается на тысячу кусочков. И я полетел во тьму.
Глава 13 Ночной кошмар
Я бежал, продираясь сквозь лесную чащобу, огибая корявые стволы вековых деревьев, угрожающе простиравших ко мне суковатые ветки. Иногда мне удавалось увернуться от них, иногда нет, и ветви больно стегали меня полипу, по спине, по ногам. И вот я, не в силах устоять на ногах, растянулся, больно ударившись о неестественно твердую лесную землю. И снова ветки тянулись ко мне, норовя задеть кривыми сучьями, разрывая одежду, и мне мерещилось, что еще немного, и они разорвут меня самого. Ценой нечеловеческих усилий высвободившись из их цепких объятий, я, пошатываясь, поднялся. Затравленно озираясь, я вдруг заметил невдалеке странный свет. Неяркий, какой-то темный даже, но пронзительно-синий! Лазурный! И тут мне почудилось, что синева образует нечто похожее на длинный проход, служивший, как мне отчего-то подумалось, единственным путем из устрашающей чащобы. Я направился к этому непонятному лазурному маяку, и ветви деревьев, еще мгновение назад готовые разорвать меня в клочья, почтительно расступались, словно зачарованные магией синевы. Только потом, уже оказавшись в лазурном туннеле, я понял, что чащоба гнала меня именно в него. Голубизна облекла меня, взяла в плен и готова была поглотить. Меня то окатывало ледяным холодом, то бросало в пот от невыносимого жара, и мне начинало казаться, что плоть моя вот-вот растает подобно воску, душа испарится, а разум сольется с этой грозной синевой, всеохватывающей и всепроникающей. В отчаянной попытке бежать из плена этой ослепляющей, вездесущей лазури я рванулся. Бежать! Но куда? Вокруг не было ничего, лесная чащоба исчезла, осталась одна лишь ядовитая синева. Вскоре до меня, будто из бесконечного далёка, донесся смех, и тут из океана синевы вырисовалось чье-то лицо. Торжествующее, радостное от осознания победы. Изборожденное морщинами, омертвелое лицо принадлежало старику. Но глаза! Эти смотревшие будто сквозь меня глаза! Их насмешливый взор, пронизывая меня, был устремлен в мир. Эта насмешливость показалась мне кощунством, святотатством, и я с отвращением отвернулся. И тут синева наконец померкла, стужа и жара уступили место прежнему мраку.Ощутив под собой холод каменного пола, я вдруг сообразил, что прежний непроглядный мрак беспамятства исчез. Тут мне вспомнились трое громил, дубинка в руках одного из них, ее удар, лишивший меня чувств. Едва очнувшись, я ощутил страшную, пульсирующую боль в левой части головы — там, куда пришелся удар красноносого. Невольно я попытался дотронуться до головы, но не смог — руки оказались связаны за спиной. Секунду спустя я сообразил, что мне связали и ноги. Я беспомощно лежал на холодном полу в каком-то лишенном окон закутке, по кускам восстанавливая в памяти кошмарный сон. Самым ужасным в пережитом кошмаре были не цепкие ветви деревьев и даже не зловещее ядовито-синее свечение, а старческий лик, омерзительный в своем богохульствующем довольстве. Попытавшись вызвать в памяти его черты, я без труда узнал лицо мастера Рембрандта. Не приходилось удивляться тому, что недоступные разуму силы, ведающие нашими сновидениями, напрямую связали смертельную лазурь с обликом мастера. Трудно, почти невозможно уловить логику наших снов. И увиденный мной тоже не был исключением. Меня мучило подсознательное желание постичь непостижимое. Но, тяжело вдохнув, я заключил, что, может, именно мое неведение было как раз мне во благо. Мысли мои вернулись к застенку, в котором я очутился. Перед собой я видел дверь, под ней едва различимую полоску света. В соседнем помещении, должно быть, горела свеча или керосиновая лампа. Во всяком случае, свет не походил на дневной. Это означало, что я здесь не один: раз есть искусственный свет, должны быть и люди. А среди них тот, кто высвободит меня из пут. И тут же я стал корить себя за наивность. Тот, кто бросил меня сюда, связанного, вряд ли будет печься о моем освобождении. Скорее напротив. Чувства обострялись по мере того, как я приходил в себя. Я уже мог слышать голоса. Разговор? Нет, больше походило на пение. Пели под музыку. И песня была мне знакома. Она рассказывала о любви бравого мушкетера к дочери купца, с недавних пор ее горланили во всех амстердамских кабаках. И тут до меня постепенно стало доходить, где я. А если вспомнить о том, что со мной произошло, нетрудно было догадаться, кому я обязан похищением у Башни Чаек. Я, как уже говорил, был связан по рукам и ногам, но вот приковать цепью к стене меня не додумались или же не сочли нужным. И я покатился по полу — необходимо было исследовать застенок. Помещение оказалось небольшим и совершенно пустынным. Вдоль стены с писком прошмыгнул зверек — наверняка крыса. При всей моей нелюбви к ним все же легче было ощутить себя не в полном одиночестве. Подкатившись к двери, я стал что было сил колотить по ней связанными ногами. И вопить во все горло. Я хорошо понимал, что услышат как раз те, кто затащил меня сюда, но это меня не смутило, и я продолжал колотить в дверь ногами и орать. Голова гудела, было противно до тошноты, а пить хотелось так, что я готов был осушить бочонок пива. Уже пару минут спустя полоска света под дверью стала ярче, до меня донесся звук шагов. Лязгнула щеколда, и я чуть откатился от двери. Сердце заколотилось, я как зачарованный смотрел на медленно открывавшуюся дверь. Вошедший в одной руке держал фонарь, в другой — кинжал. Единственное, что отчасти успокоило меня, так это то, что он не входил в уже знакомую мне троицу громил. Что же касалось его внешности, он с успехом вписался бы в эту компанию. Длинные, свисающие клочьями немытые лохмы, неопрятная борода — в общем, полдня работы, и никак не меньше, даже для опытного цирюльника. Глаза настороженно и злобно глядели на меня из-под бугристого, низкого лба. — Чего тебе надо? Чего молотишь в дверь? — рявкнул он. — Потому что одурел от боли и жажды, — ответил я, стараясь говорить дружелюбнее. — И вот еще что — очень был бы обязан, если бы с меня сняли эти путы. А то веревки скоро до костей кожу протрут. Едва различимые в патлатой бородище губы сложились в издевательскую ухмылку. А когда этот субъект захохотал, передо мной во всей красе предстали его отвратительные, почерневшие клыки. — Ах, ах, так мы еще и недовольны! Радуйся, что тебя не прибили на месте, любезный! — Судя по тому, что творится в моей голове, недолго оставалось. — Никто еще не подыхал от головной боли. — Зато от жажды умирают, это уж я тебе определенно скажу. Воды не принесешь? Мне показалось, что просьба поставила его в тупик. — Знаешь… Я тут не решаю… — А кто? Повисла томительная пауза. Музыка и пение звучали отчетливее через открытую дверь. Это был целый хор, теперь пели уже о морячке, обретавшем счастье в долгом плавании. — Этого я не могу сказать, — наконец ответил бородач. Позабыв о своем статусе пленника, я, посмотрев охраннику прямо в глаза, твердо произнес: — Тогда тащи сюда своего ван дер Мейлена! Он-то, надеюсь, не безъязыкий. Было видно, что бородач испугался. — А… откуда… откуда ты знаешь?.. — А я и не знал. Да угадал. Мы ведь на Антонисбреестраат, если не ошибаюсь? Ответа не последовало. Бородатый безмолвно повернулся и вышел, затворив за собой дверь. Резко звякнул задвигаемый запор, и тут же шарканье шагов затихло. Наверняка в зале заведения можно было оглохнуть от этого заливистого пения, но здесь, в моем каземате, оно было едва слышным. Почему-то мне вспомнились колыбельные, которые в детстве пела мне мать, ее круглое лицо, локоны светлых волос, теплые, дорогие руки, так ласково гладившие лоб, когда я не желал засыпать. И несмотря на ужас своего положения, я вдруг ощутил странное умиротворение, погрузившись в полузабытый мир далеких воспоминаний. Даже головная боль немного утихла. Я пролежал, видимо, не так долго, от силы с десяток минут, а может, и целый час. Кто знает? Что-то странное творилось со временем. Из состояния блаженного полузабытья меня вывело шарканье шагов. И тут же боль в голове вернулась, а с ней — и мучительная жажда. Язык шелестел в пересохшем рту, в глотке саднило. Передо мной снова возник бородач с фонарем в руке. Но на сей раз он прибыл в сопровождении еще одного человека. Узкое, бледноватое лицо при виде меня недовольно сморщилось. Мертен ван дер Мейлен шагнул ко мне и, возвышаясь надо мной, сокрушенно, как мне показалось, покачал головой: — Вы ввязались в жуткую неприятность, Зюйтхоф. Я предложил вам неплохие деньги, работу, словом, то, за что любой безработный художник Амстердама до гробовой доски был бы благодарен мне. А вы? Как поступили вы? Принялись шпионить за мной! Встревать в мои дела! Жаль, мне на самом деле искренне жаль вас. Я ведь рассчитывал на вас, строил относительно вас планы. Теперь же мне придется искать другого человека. Впрочем, как мне кажется, это не составит труда. Желающих будет сколько угодно. — Желающих — для чего? — осведомился я. Из-за мучившей меня жажды было невыносимо трудно произнести даже эту краткую фразу. — Рисовать по вашему заказу картины-убийцы в лазурных тонах? Лицо торговца антиквариатом конвульсивно дернулось. Он обратился к бородатому: — Оставь мне фонарь, Бас, и отправляйся. Я сам с ним побеседую. Бородач без слов повиновался. Ван дер Мейлен, дождавшись, когда шаги охранника стихнут, повернулся ко мне: — Что вам известно об этих, как вы выражаетесь, картинах-убийцах? К великому облегчению, я уловил в его голосе нотки растерянности. Я попал в точку. Видимо, есть что-то такое, чего он опасается. И всерьез. Поэтому и стремится выяснить, насколько глубоко я прокрался в его жуткую тайну. Вероятно, если мне удастся его разговорить, это еще на шаг приблизит меня к разгадке. — Кое-что известно, — решил напустить я туману. — Но не исключено, что гораздо больше, чем устроило бы вас. — А может, и ничего, и вы только блефуете? — недоверчиво процедил ван дер Мейлен. — Тогда потрудитесь объяснить, отчего я оказался здесь? — Потому что я вот над чем сейчас раздумываю: а может, мертвый Корнелис Зюйтхоф все же наилучший выход? Может, тогда он уже ничего и никому не разболтает? Я старался не выказать волнения. Необходимо сохранять невозмутимость. Любой ценой. Иначе мне ван дер Мейлена не одолеть. — Я понимаю, что в вашей власти сделать со мной что угодно. В том числе и убить, — ровным голосом произнес я. — При помощи нанятых вами громил это почти удалось там, у Башни Чаек. Но кто может гарантировать, что я ни с кем не поделился своими догадками относительно вас? Ван дер Мейлен ткнул мне фонарем чуть ли не в лицо: — О ком вы тут рассуждаете, Зюйтхоф? Кого еще в это посвятили? — Не торопитесь! У меня к вам тоже парочка вопросов. — Слушаю. — Так вот. Вопрос первый: каким образом вам удалось заманить меня в ловушку у Башни Чаек? — Ну, знаете, для этого не потребовалось никаких особых ухищрений, как только мне стало известно о вашей встрече с Луизой ван Рибек. — Вопрос второй: откуда это стало вам известно? Ван дер Мейлен презрительно усмехнулся: — Не надо принимать меня за наивного простачка. Вы что же, думаете, я махну рукой на тех, кто может представлять для меня опасность? Меня пронзила страшная догадка, и я спросил: — Вы и Луизе устроили ловушку? — В этом не было нужды. Недавно я представил ее папаше весьма любопытную картину. Одного мастера, который питает неизъяснимую страсть к лазури. Надеюсь, понимаете, о чем я? Я с ужасом вспомнил об участи, постигшей семью красильщика Гисберта Мельхерса. О несчастной Гезе Тиммерс. Меня обуял дикий страх. — Вы… не посмеете! — пробормотал я, позабыв об обретенном с таким трудом самообладании. — Ошибаетесь, Зюйтхоф! Вам уже давно следовало догадаться, что посмею. И уже скоро эта картина заявит о себе. Я в отчаянии соображал, что ответить. Попытаться убедить, что Луизы ему опасаться нечего, и уже раскрыл рот, но ван дер Мейлен не желал слушать мой лепет. — Не трудитесь, Зюйтхоф, у меня и так нет времени на болтовню с вами. У меня масса дел поважнее. А что до нашего с вами разговора, то мы его еще продолжим. Так что до скорого свидания. И еще — пока я не ушел, — у вас будут какие-нибудь пожелания? Единственное, что меня в тот момент заботило, — жажда. — Воды.
И снова мучительно потянулись минуты ожидания. Наконец дверь моей кутузки отворилась и на пороге уже в третий раз появился бородатый охранник по имени Бас. Поставив у двери фонарь, он приблизился ко мне. В руках у него я разглядел оловянную кружку. — Пить просил? — Просил, — прошептал я пересохшими губами, глядя на него снизу вверх. — Вот, бери, — сказал он, протягивая мне кружку. — Чем? Чем брать? Забыл, что у меня руки связаны? — напомнил я ему. — Если бы я без рук умудрился напиться с кружки, тогда, знаешь, я вполне мог бы выступать в Лабиринте Лингельбаха. Неплохо бы зарабатывал, я думаю. — Прикажешь мне тебя поить, как дитя малое? — недоумевал мой туповатый цербер. — Руки развяжи, и дело с концом. Недоверчиво прищурившись, бородач смотрел на меня. — Уж не перетрусил ли ты, Бас? Ноги-то у меня связаны. А ты, как я вижу, при кинжале. — Ладно, — без особой охоты согласился Бас. — Но имей в виду, одно неосторожное движение, и я воткну тебе его между ребер. Он развязал веревку, и я смог размять затекшие от неподвижности руки. Кисти болели страшно. Сжимая кинжал, Бас пристально следил за мной. Не подавая вида, я разглядел оружие. Это был самый обычный кинжал с длинным, узким лезвием, угрожающе блестевшим в свете лампы. — У тебя, верно, есть дела поважнее, чем торчать тут, охраняя меня, не так ли, — полуутвердительно обратился я к нему. Невольно сморщившись от боли, я потянулся за стоявшей на полу кружкой. Бас в ответ невнятно хмыкнул. Он явно не был расположен к беседам. — Я бы на твоем месте нашел занятие поинтереснее, — усмехнулся я. — С какой-нибудь толстухой позабавился бы. Завалился бы с ней в постельку — и баста! — мечтательно вымолвил я. Произнося эту тираду, я не спеша поднес кружку к губам, но не сделал ни глотка. С пересохшим от жажды ртом это настоящий подвиг, поверьте. А секунду спустя я выплеснул драгоценную воду в физиономию бородатому Басу. В первое мгновение тот окаменел, явно не ожидая от меня ничего подобного. И этой паузы замешательства вполне хватило, чтобы броситься на него. Сцепившись и рыча, мы катались по каменному полу. Со связанными ногами мне было очень непросто совладать с этим верзилой. Я видел перед собой разъяренное лицо Баса, ощущал его зловонное дыхание. Припечатав лапищу к моему лицу, Бас надавил толстенными пальцами на глаза. Не помня себя от отчаяния, я вцепился зубами в грязную ладонь. Бас, коротко вскрикнув, отдернул руку — я до крови прокусил ему указательный палец. Когда я попытался завладеть его кинжалом, бородач, угадав мои намерения, резко отпрянул и высвободился из моего захвата. Я думал, что он сейчас ткнет меня кинжалом в бок, но охранник отчего-то медлил, застыв в неподвижности в углу каморки и странно хрипя. Помогая себе связанными ногами, я кое-как подполз к нему, в любую секунду готовый к тому, что перед глазами блеснет смертельное лезвие. Но, похоже, Басу уже не суждено было размахивать кинжалом. Оружие почти по рукоятку торчало у него в груди, на грязноватой рубахе расплывалось темное пятно. Видимо, борясь со мной, он по недосмотру напоролся на свой же кинжал. Вряд ли в моем положении уместно было проливать слезы жалости: громила Бас, прикажи ему ван дер Мейлен, изрубил бы меня на куски. Ослабевшими пальцами я попытался распутать узлы веревок на ногах, но так и не смог. Подумав, я выдернул кинжал из груди убитого, отер кровь о его штаны и с помощью этого оружия наконец перерезал веревки. Ноги замлели так, что, поднявшись, я тут же снова сел на пол и смог встать, лишь цепляясь за стену. Ощупав голову, я обнаружил здоровенную шишку, саднившую так, что я и дотронуться до нее не мог. Впрочем, времени для игры в эскулапа не оставалось. Поспешно сунув кинжал в сапог, я поднял с пола фонарь. Потревоженная крыса испуганно шарахнулась прочь. Надо было выбираться из застенка. Стараясь ступать бесшумно, я миновал ведущий к лестнице коридор. Как я и предполагал, заперли меня в подвале дома. Поднимаясь по лестнице, я внезапно понял, что вокруг тишина — ни пения, ни музыки, ни даже голосов. Вероятно, уже была глубокая ночь и заведение закрылось. А может, уже наступило утро? Наверху я оказался в уже знакомом мне коридоре и стал пробираться к задней двери, через которую в прошлый раз проник в заведение. К великому моему облегчению, в здании не было ни души. Дверь оказалась на запоре, но поскольку мне уже приходилось иметь дело с этим замком, я легко справился с ним при помощи кинжала. Выбравшись в проулок, я убедился, что еще не рассвело. Дождь перестал, но было ветрено. Я осторожно прикрыл за собой дверь, проскользнул туда, где проулок выходил на Антонисбреестраат, и повернул за угол. У входа в заведение охранника тоже не было, да и улица была безлюдна. Предстояло обдумать, как действовать дальше. К кому обратиться? Первой мыслью было оповестить власти, но, поразмыслив, я решил пока не делать этого. Кто я? Полунищий художник, человек без связей. А кто Мертен ван дер Мейлен? Уважаемый гражданин Амстердама, человек влиятельный, со средствами. К тому же вполне может обернуться так, что мне припишут убийство охранника Баса. Как я мог доказать, что он не по моей милости угодил в покойники? Я решил не идти пока на Розенграхт, хотя мечтал о теплой ванне и мягкой постели. Не мог я отлеживаться дома после того, что услышал от ван дер Мейлена о Луизе, ее отце и картине в лазурных тонах. Превозмогая усталость и боль, я поспешил на Принсенграхт, к дому купца Мельхиора ван Рибека.
Глава 14 Пожар
Чтобы попасть с Антонисбреестраат на Принсенграхт, мне пришлось пересечь почти весь город, а в моем состоянии это было очень нелегко. Время от времени я останавливался и, держась за стену дома, переводил дух. На подходе к Дамраку я вынужден был отбиваться от какой-то старухи, расписывавшей мне прелести «девочек» в близлежащем борделе. На узком мостике через канал я едва избежал крупной ссоры с неким загулявшим типом, упившимся почти до невменяемого состояния. Я продолжал идти к цели, отчаянно надеясь, что смогу избавить Луизу от грозящей ей беды. Но еще на подходе к Херренграхт я понял, что опоздал. Небо над Принсенграхт полыхало багровым заревом. И тут до меня донеслись сигналы трубачей, стоявших на башнях городских стен, хлопки колотушек ночных дозорных и крики: «Пожар! Пожар!» Отчаянно внушая себе, что горит дом не ван Рибека, а соседний, я прибавил шагу, а потом и побежал. На мосту через Кейзерграхт я увидел группу людей, тащивших пожарный насос, и спросил, куда они направляются. — На Принсенграхт! Там горит дом какого-то купца, — ответил мне один из них, тяжело кряхтя и подтягивая вперед неподатливое приспособление. — А чей дом? — Господина ван Рибека. — Ладно, нечего болтать! — прикрикнул на них другой мужчина постарше. — Некогда нам! Он неодобрительно взглянул на меня. — А вы могли бы и помочь! — рявкнул он. Мне было не до них. Обойдя их, я бросился на Принсенграхт. Голова болела, в боку покалывало, но я не обращал на это внимания. Я видел, что очень многие бегут туда же, куда и я. Одни — поглазеть, другие — помочь одолеть огонь. Власти Амстердама издали насчет пожаров строжайшие предписания: каждый знал, где должен быть в случае пожара и что делать. И уклонившегося от выполнения этих обязанностей ждал крупный денежный штраф, если, конечно, он не представил убедительной причины отсутствия. Увидев дом ван Рибека, я сразу же понял, что тушить поздно — здание было объято пламенем, языки его жадно лизали стены, гудя, вырывались из окон. От канала до дома десятки людей образовали живую цепь — одни зачерпывали кожаными ведрами воду в канале, после чего передавали ведро товарищу и так далее, а последний уже выливал ее в огонь. У объятого пламенем дома приходилось менять людей чуть ли не ежеминутно — жар был такой, что одежда начинала тлеть. Неподалеку группа мужчин приводила в действие брандспойт, струя которого била в верхний этаж дома, недосягаемый для ведер. Обнаженные по пояс пожарные неустанно качали воду, еще два брандспойта люди тащили к месту пожара по соседним улицам. Брандмейстер, которого легко было узнать по длинному багру, отдавал распоряжения группе пожарных, которые завешивали намоченным полотном стены соседних домов, чтобы огонь не перекинулся на них. Подбежав к брандмейстеру, я спросил его о судьбе жильцов дома. — А вы кто им будете? — недоверчиво спросил он, оглядев меня. Мой вид явно не вызывал доверия у пожарного. — Уж не знакомый ли? — Да, я знаком с ними, — быстро ответил я. — Вы их видели? Брандмейстер отрицательно покачал головой: — Пока что нет. Выскочили лишь посыльные. Мысль о том, что Луиза, возможно, гибнет в огне пожара, едва не лишила меня рассудка. Отставив фонарь, я схватил кусок мокрой парусины, быстро завернулся в нее и бросился к пылающему дому. Разъяренный брандмейстер что-то прокричал мне в спину, но я его не слушал. Мой взгляд был прикован к охваченному огнем дому, показавшемуся мне чудищем. Чудищем, не желавшим выпустить Луизу из цепких объятий. Вокруг рассыпались искры, одна обожгла мне щеку. Я понимал, что рискую жизнью ради Луизы. Что мною двигало? Храбрость? Отчаяние? Страх, жуткий страх потерять Луизу. Поднявшись по ступенькам к входу в дом, я подтянул мокрую парусину и, набрав в легкие побольше воздуха, ринулся в огонь. Едва я миновал вход, как позади меня с грохотом рухнула горящая балка. От страшной жары я едва дышал, едкий дым разъедал глаза. Я стал звать Луизу, но, зайдясь кашлем, умолк. С трудом ориентируясь в огне и дыму, я продолжал звать Луизу, и, уже почти расставшись с надеждой обнаружить девушку, я вдруг расслышал крик. По крайней мере так почудилось. Голос показался мне женским, я не знал, кто кричит: то ли это был ответ на мой призыв, то ли просто предсмертный вопль. Протерев слезящиеся глаза парусиной, я огляделся. Среди языков пламени я разобрал два метавшихся в огне силуэта. Их движения до ужаса напоминали гротескный танец. Я узнал Луизу, отчаянно пытавшуюся выбраться из преграждавшего ей путь огня, но кто-то с перекошенным от ужаса или злобы лицом не давал ей убежать, напротив, пытался толкнуть назад в бушевавшее рядом пламя. Это был не кто иной, как отец Луизы, — картина делала свое страшное дело! В два шага одолев расстояние до них, я вырвал Луизу из смертельных объятий отца. На секунду передо мной возникло перекошенное безумной злобой, закопченное лицо, ко мне протянулись руки. В тлевшей, дымящейся одежде этот человек походил на демона. В следующее мгновение вверху затрещало, и едва мы с Луизой успели отскочить, как вниз рухнули горящие стропила потолка, погребая под собой утратившего разум хозяина дома. Стянув с себя защитное покрывало, я накинул его на девушку, не давая загореться платью, и стал хлопать по высыхавшей парусине. Вдруг до меня донесся угрожающий треск, я понял, что некогда импозантный купеческий дом вот-вот рухнет. Времени мешкать не было. Подхватив Луизу на руки, я, кашляя, устремился к выходу, едва различимому в клубах дыма. Пришлось зажмуриться, чтобы не дать вездесущим языкам пламени ослепить меня. И я брел к выходу, пока не ощутил на лице живительные струи — пожарные окатили меня водой из брандспойта. Обессиленный, я осторожно уложил обернутую парусиной девушку на землю и тут же уселся сам подле нее. Подошел брандмейстер. — Что это вы тут таскаете из огня? — строго спросил он у меня, ткнув багром в мокрый сверток. — Забыли, что бывает за мародерство? — Это… это Луиза ван Рибек, — ответил я, тяжело дыша. — Вы уж… помогите ей… прошу вас… — Дочь купца? Брандмейстер, проворно присев на корточки, стал разматывать парусину. — Неужели это она? — не хотел верить пожарный. Огонь не пощадил девушку. Роскошные рыжие волосы обгорели, тело было в ожогах. Луиза неподвижно лежала, закрыв глаза. — Что с ней? Она без сознания? Мельком осмотрев ее, брандмейстер озадаченно почесал подбородок. — Нет, все куда хуже — она мертва. Увы. Я тупо уставился на мокрую, закопченную парусину, на неподвижное тело. Я отказывался верить, что Луиза, красавица Луиза ван Рибек, мертва. Слезы побежали по щекам. Я понимал, что не едкий дым догоравшего дома был их причиной. Темно-красные искры, подхваченные крепким ветром с моря, напомнили мне светлячков. Но это не была безмятежная игра света, на моих глазах разыгрывалась трагедия, несущая смерть. Ценой огромных усилий пожарные не позволяли огню перекинуться на соседние дома, люди сновали между домами и каналом, замачивая огромные куски холстин в воде канала Принсенграхт. Бушующее пламя пытались задушить десятками ведер вылитой в него воды. Уже трудно было поверить, что груда головешек была когда-то величавым особняком купца ван Рибека. Тугие струи воды из брандспойтов сбивали обгоревшие остатки балок, превращая дом в груду черных от копоти развалин. Пожарные длинными баграми обрушивали остатки стропил на раскаленные куски кирпичных стен. Подоспевшие люди спешно засыпали их песком, известкой и камнями, не давая огню распространиться. Я стоял, безучастно созерцая ужасную картину разрушения. Моя попытка вызволить Луизу из огня исчерпала последние силы. Привалившись к стволу липы, я будто издалека следил за апокалиптическим зрелищем. Подошел врач, обратился ко мне с каким-то вопросом и, не получив ответа, молча принялся смазывать саднящую кожу какими-то снадобьями. Я даже не повернулся к нему. Впоследствии я вряд ли узнал бы этого человека. Светало. С неба стали падать капли дождя — манна небесная для измотанных борьбой с огнем пожарных. Дождь, усиливаясь, хлестал струями по стенам домов, уберегая их от разгула огненной стихии. Начавшийся с рассветом дождь придал мне сил. Здесь, на пепелище, мне делать было нечего. Поднявшись, я огляделся в поисках тела Луизы. Ее уже унесли, и я с благодарностью подумал о той праведной душе, которая позаботилась об этом. Незачем ей было после смерти взирать на превращавшийся в руины дом, тот самый, ради которого ее выставил на продажу собственный отец. Я медленно побрел в направлении Розенграхт. Амстердам просыпался. Хлопали двери, улицы и набережные заполнялись трудовым людом. Мой вид, закопченная, местами обожженная физиономия, перемазанная копотью рваная одежда говорили сами за себя — люди спрашивали у меня о ночном пожаре. Я молчал в ответ — слишком уж тяжело было вновь перебирать в памяти детали происшедшего, я физически не мог погружаться в воспоминания о Луизе. У дверей дома Рембрандта я увидел Ребекку Виллемс. Старческое лицо казалось еще морщинистее, а глазки — еще уже, словно и она провела минувшую ночь на ногах, как и я. Ребекка уставилась на меня, словно на привидение. — Вы? — только и выдавила она. — Доброе утро, Ребекка, — негромко приветствовал я старушку, пытаясь изобразить подобие улыбки. — Похоже, и вы не выспались сегодня. — Какое там? Заботы не дали уснуть ни мне, ни Корнелии. — Заботы, говорите? Уж не обо мне ли? — О вас? — Старая женщина испытующе посмотрела на меня. — Да нет, не о вас. О мастере Рембрандте. — А что с ним? Уж не свалился ли он опять, подвыпивши, в канал? — Если бы мы только могли знать! — тяжко вздохнула Ребекка. — Корнелия скоро с горя помрет. Я нетерпеливо спросил: — Ну, говорите же, что там с Рембрандтом? — Он куда-то пропал. Примерно спустя час после полуночи он с криком бросился вон из дома. С тех пор мы его не видели. — Напился старый дурень, только и всего! — вырвалось у меня. Я был взбешен, что меня снова не оказалось дома как раз тогда, когда я больше всего был нужен Корнелии. — Нет-нет, он был трезв как стеклышко. И все же… какой-то прямо сам не свой. Будто пару кувшинов вина в себя влил. Наверное, это можно объяснить только тем, что… — Чем? — не дал ей договорить я. Ребекка покачала головой и потащила меня в дом. — Давайте уж лучше зайдем в дом, господин Зюйтхоф. Чего на улице стоять? И Корнелия обрадуется, что хотя бы вы сыскались. Я последовал за экономкой в дом. Стоило мне увидеть Корнелию, как по ее лицу я понял, что и ей в эту ночь пришлось несладко.Глава 15 Тайна Рембрандта
Корнелия была на кухне. Несмотря на ранний час, она была одета. Судя по всему, девушка вообще еще не ложилась. И по темным кругам под глазами я заключил, что и она провела бессонную ночь. Тревога за отца наложила мрачную маску на ее милое личико. При виде меня лицо девушки прояснилось. Мне захотелось броситься к ней, заключить ее в объятия, но я сдержался. Что-то в ее взгляде удерживало меня. Да, не следовало мне в полночь покидать дом, явно не следовало. Но теперь уже поздно каяться. — У тебя ужасный вид, Корнелис, — негромко произнесла она. — Что опять с тобой приключилось? — Многое, и большей частью неприятное. Но давай потом поговорим об этом. Ты лучше скажи, что с твоим отцом? И где он? — Откуда мне знать? Исчез, убежал куда-то ночью, и с тех пор его нет. — Отчего он убежал из дому? Он ничего не говорил? — Он? Завопил, и мы опомниться не успели, как его уже и след простыл. Он захотел к Титусу. — Ты имеешь в виду — на Вестеркерк? Вы его там искали? — Разумеется, мы с Ребеккой сразу же бросились туда, обыскали весь Вестеркерк, но там его не было. Да я и не ожидала его там увидеть. И тут на Корнелию что-то нашло. Вместо того чтобы досказать мне всю историю, она умолкла и, поджав губы, уселась за стол. Было видно, что она изо всех сил старается быть спокойной. Ребекка, по-матерински погладив девушку по голове, сказала: — Господину Рембрандту померещилось, будто он видел на улице Титуса. — На улице? — машинально повторил я. Я все еще не понимал, о чем шла речь. — Да, у самого дома, — продолжала экономка. — Поэтому он своим криком и переполошил весь дом, а потом бросился неизвестно куда на ночь глядя. Мы даже толком и не сообразили, что произошло. Потом набросили на себя что попало и побежали за ним, но где там — его уже поминай как звали. Я задумчиво почесал затылок, но, задев пальцами здоровенную шишку, тут же перестал. — А каким он увидел сына? Живым? Или его тело? — Нет-нет, живым, Титус, по его словам, стоял, — ответила за экономку Корнелия. — Во всяком случае, именно так мы поняли со слов отца. Титус якобы стоял на улице и махал ему рукой. Я перевел взгляд с Корнелии на старую Ребекку: — Вы точно знаете, что он не пил перед этим? — Нет, ну, может быть, стакан пива за ужином, больше ни капли, — ответила Корнелия. Нащупав позади себя стул, я подвинул его и сел за стол. То, что выпало мне пережить этой ночью, было ужасно, но и услышанное от Корнелии ни в какие рамки не лезло. Мне вдруг вспомнилось ночное видение — злобно усмехавшееся лицо мастера. Узнав об отчаянной выходке старика, я совершенно по-иному воспринимал ночной кошмар. Может, то был знак мне, что со старым мастером произошло нечто невероятное? Мастера окутывала тайна, и, как мне начинало казаться, разгадка ее была мне не по плечу. В голове пульсировала боль, не позволяя сосредоточиться. Страшная усталость сковала члены, но я все же нашел силы сказать: — Надо обязательно заявить властям, на случай если его где-нибудь все же обнаружат. — Я уже заявила, — ответила Корнелия. — Ты ведь считаешь, что он лишился рассудка, не так ли? — Если принимать во внимание все, что я знаю, это самое вероятное. Хотя, честно говоря, я теперь и не знаю, во что верить, а во что нет. Столько всего произошло за последнее время, что я уже не могу судить, что с твоим отцом. Корнелия наклонилась ко мне и погладила мою закопченную руку. — Что случилось, Корнелис? Мой измученный взгляд сказал ей, что, вероятно, сейчас не самый подходящий момент для беседы. — Тебе лучше лечь, Корнелис. Но перед этим надо смыть с себя копоть, грязь и запекшуюся кровь. Корнелия помогла мне вымыться, откуда-то достала мазь и смазала ею обожженные места. Я воспринимал все словно сквозь пелену. Я был безмерно благодарен этой девушке за то, что она на моей стороне. И тут же устыдился, что оставил ее на произвол судьбы сегодняшней ночью. Вскоре я уже лежал в постели. Едва прикрыв глаза, я провалился в глубокий, без сновидений сон.* * *
Проснувшись, я заметил, что мой мохнатый сторож — медведь отбрасывает длинную тень на полу. Как только я открыл глаза, то вновь ощутил головную боль, правда, не такую сильную, как раньше. Крепкий сон освежил меня. Я почувствовал голод и решил пойти на кухню. Необходимо было и узнать, нашелся ли Рембрандт. Подойдя к стоявшему в углу умывальнику, я холодной водой ополоснул лицо, быстро оделся и вышел в коридор. Но вместо кухни я отчего-то направил стопы в мастерскую Рембрандта. Осторожно приоткрыв дверь, я осмотрел помещение. Нет, оно по-прежнему оставалось пустым, Рембрандта не было. Войдя, я остановился у мольберта, желая взглянуть на пригрезившийся мне минувшей ночью автопортрет мастера. И вновь я убедился в непревзойденном мастерстве этого живописца. Его способность воспроизводить детали отличалась непревзойденностью — каждая морщинка, каждый волосок бороды были выписаны с такой тщательностью, что они казались живыми. Но больше всего поражал его талант связывать детали в единое целое, гармонически располагать тона и полутона — в картинах Рембрандта не было ничего лишнего. На автопортрете все внимание мастер уделил лицу, именно оно доминировало, одежда же, напротив, представала размытой, неясной, как бы растворяясь в сумраке заднего плана. Я выдержал взгляд Рембрандта, словно стоял перед живым мастером. Что скрывалось за умным, проницательным взором, за чуть высокомерной усмешкой? Ответа на этот вопрос ожидать не приходилось. Я повернулся, чтобы уйти на кухню и ублажить свой беспокойно бурчавший желудок, но тут увидел стоявшую в распахнутой двери Корнелию. Девушка неотрывно смотрела на меня. — Что ты здесь делаешь, Корнелис? — спросила она. — Вот, пытаюсь выяснить тайну твоего отца. — Тайну? Какую тайну? — Прежде чем я смогу ответить, мне хотелось бы знать, вернулся ли он. — Нет, отца до сих пор нет. Ребекка полчаса назад ушла за покупками. Я попросила ее поспрашивать соседей. — Правильно, — согласился я. Надо было хоть как-то успокоить девушку. На самом же деле я мало верил в то, что соседи смогут помочь напасть на след мастера. Мы спустились в кухню. Корнелия поставила передо мной простой ужин — рыбу и овощи. Утоляя голод, я обо всем рассказал ей: о том, как меня похитили, о разговоре с ван дер Мейленом, о побеге, о пожаре на Принсенграхт и об ужасной гибели Луизы. Не позабыл и о своем ночном кошмаре, высказав предположение, что старый мастер каким-то образом связан с роковыми полотнами в синих тонах. Я рассказал ей все, и Корнелия вдруг задала мне вопрос, которого я ждал: — Корнелис, а что значила для тебя Луиза ван Рибек? Тебя ведь ужасно потрясла ее гибель. — Я и сам все время спрашиваю себя об этом, — не скрывая правды, ответил я. — Луиза была женщина красивая, умная. Разумеется, ее гибель не оставила меня равнодушным. — Ты говоришь о ней с такой нежностью, не всякий мужчина говорит так даже о любимой жене. — Участь Луизы в самом деле оставила глубокий след в моей душе. — Только ее участь? Смахнув непокорную прядку со лба, Корнелия сидела и, испытующе глядя на меня, ждала ответа. Я понимал, что она неспроста допытывается, но мне не хотелось ни разочаровывать ее, ни лгать ей. Эта девушка ничего подобного явно не заслуживала. — Нет, не только участь ее, — не стал кривить душой я. — Такая женщина кому угодно могла вскружить голову. Даже не прилагая для этого особых усилий. — Корнелис, скажи мне, а как бы ты поступил по отношению к ней, не погибни она этой ночью? — Не знаю, что тебе и сказать, но мне кажется, ты для меня важнее. — Ты сказал «мне кажется» ради того, чтобы не расстраивать меня? — Нет, совсем не поэтому. Просто Луиза относилась к тому типу женщин, которые очень многих мужчин лишают разума. Ты же из тех, с кем можно спокойно и счастливо жить всю жизнь. Она долго смотрела на меня, и мне стало не по себе от ее взгляда. Я вдруг показался себе жутким подлецом, предателем. И не по причине моей откровенности. Чувства к Луизе казались мне теперь актом предательства по отношению к Корнелии. И я был достоин наказания. — А как нам с тобой теперь быть? — после долгой паузы спросила Корнелия. — Это… — Я сглотнул застрявший в горле комок. — Это тебе решать. Она кивнула: — Я об этом подумаю. Ответ не удовлетворил, но и не разочаровал меня, и я тут же дал себе клятву никогда больше не расстраивать Корнелию.Глава 16 Под подозрением
Я решил отправиться в ратушу — заявить о похищении, жертвой которого стал, а заодно и о похитителе. Конечно, мои шансы уличить ван дер Мейлена были ничтожны, но Корнелия настояла, чтобы я хотя бы попытался. Я очень рассчитывал на помощь инспектора Катона, поскольку он знал меня имог поверить, что не я убийца охранника Баса. Я уже собирался выйти из дома, как открылась дверь и в дом вошла Ребекка. Вместе с экономкой появились двое мужчин, один из них худощавый, с темной ухоженной бородкой. Инспектор Катон. Иеремия Катон в знак приветствия снял шляпу с голубыми перьями и без тени улыбки посмотрел на меня. Взгляд его спутника, совсем еще молодого человека с выбивавшимися из-под скромной темной шляпы соломенно-желтыми волосами, тоже не сулил ничего хорошего. Катон представил его как своего помощника Деккерта. Я, в свою очередь, представил Катону Корнелию. — Вы словно угадали мои намерения, господин инспектор. Я уже собрался к вам сделать заявление. — Как я вижу, сегодня, день заявлений, — с невозмутимым видом ответил Катон. — На вас сегодня тоже заявили. — То есть как? — недоверчиво переспросил я. — Любопытно, кто же и в чем меня обвиняет. — Вас обвиняют в том, что сегодня ночью вы незаконно проникли в дом купца Мельхиора ван Рибека на Принсенграхт, где, угрожая хозяину расправой, подожгли дом. Все это говорилось таким тоном, словно речь шла о сущей безделице вроде украденного на рынке яблока или выбитого стекла. Однако пол тут же ушел у меня из-под ног. Привалившись к стене, я покрылся холодным потом. Перед глазами вновь встали события ужасной ночи: мокрая парусина, пылающий дом ван Рибека, мои отчаянные попытки спасти Луизу. И страшные слова брандмейстера о смерти Луизы. Как мог я поджечь дом, если в тот момент, связанный по рукам и ногам, валялся в подвале увеселительного заведения на Антонисбреестраат? — Кто? Кто меня в этом обвиняет? — задыхаясь от возмущения, спросил я. — Некая Беке Моленберг, кухарка в доме ван Рибека, ей удалось спастись. Я уже слышал о кухарке по имени Беке. И тут же вспомнил, где и когда. Луиза пришла на нашу с ней первую встречу, переодевшись служанкой, и тогда еще похвасталась, что перехватила наряд у кухарки Беке. И, что еще врезалось мне в память, не бесплатно, а за воистину царское вознаграждение в целый гульден. — Так вы признаете, что минувшей ночью были в упомянутом доме на Принсенграхт? — допытывался Катон. — Признаю, — машинально ответил я, обдумывая, кому и зачем понадобилось предъявлять мне столь чудовищное обвинение. — Потому что, если потом надумаете отпираться, только себе навредите. У вас ожог на щеке, и он говорит сам за себя. К тому же, кроме свидетельства Беке Моленберг, мы располагаем и показаниями двух помощников пожарных, знающих вас по «Черному псу». Они видели вас на месте происшествия. — Место происшествия, по-видимому, не совсем верное определение, — вмешался Деккерт. — В огне погибла вся семья ван Рибек: сам купец Мельхиор ван Рибек, его жена и дочь, кроме них — служанка по имени Юле Бломсед. Так что уместнее будет назвать это местом преступления. — Разумеется, вы правы, Деккерт, — заверил его Катон и снова повернулся ко мне: — Корнелис Зюйтхоф, признаете ли вы, что подожгли дом? — Нет! Я не имею к пожару никакого отношения! На лице инспектора Катона появилось страдальческое выражение. — Но только что вы сами говорили, что были на Принсенграхт. Я уже не говорю об ожогах. Почему же вы сейчас, явно во вред себе, отрицаете только что сказанное? — Я был возле дома во время пожара, но не я этот пожар устроил! Напротив, я прибежал на Принсенграхт, когда дом ван Рибека уже полыхал как свечка. Я хотел предотвратить беду. Катон покачал головой: — Простите, но я что-то вас не понимаю. — Я готов вам все объяснить, но в двух словах об этом не расскажешь. Давайте присядем, и я расскажу вам по порядку все, что приключилось со мной минувшей ночью. Пройдя в гостиную, мы уселись за большим столом. Корнелия принесла нам пива, и я стал рассказывать им свою историю, которая, судя по лицам наших незваных гостей, показалась им до неправдоподобия ошеломляющей. И все же я, не обращая внимания на их скепсис, рассказывал, стараясь не упустить ничего. В конце концов, только это мне и оставалось. — Все это звучит очень и очень странно, — резюмировал Катон, когда я умолк. — Не только странно, а даже, пожалуй, абсурдно, — высказал свое мнение Деккерт. — Не верю ни единому слову, все ложь от начала до конца. — Ну, я воздержался бы от столь категоричных выводов, — не согласился со своим помощником Катон. — Я немного знаю господина Зюйтхофа и его склонность попадать в переделки. Деккерт не без удивления взглянул на своего начальника: — Но у нас есть показания кухарки. Та утверждает, что поджигатель он! — Согласен, с этим трудно поспорить, — согласился Катон. — Кроме того, мне не совсем ясны мотивы господина Зюйтхофа, заставившие его явиться на встречу с госпожой Луизой ван Рибек у Башни Чаек. Как и то, чем вообще объяснить эти встречи. — Все оттого, что судьба этой женщины была небезразлична мне. Впервые за все это время инспектор Катон улыбнулся: — Ну, знаете, такое иногда случается между мужчинами и женщинами. — Как объяснение это сойдет, как доказательство — нет, — настаивал на своем Деккерт. — Зюйтхоф ничем не опроверг показания Беке Моленберг. — Господа, давайте лучше вместе отправимся в увеселительное заведение на Антонисбреестраат, — предложил я. — Тот самый подвал явно на месте, как и нарисованный мной портрет Луизы ван Рибек, известной мне как Марион. Вполне вероятно, что там мы сможем увидеться и с достопочтенным господином ван дер Мейленом. — Что же, разумная идея. — Катон поднялся. — И мы отправимся тотчас же! Спустя полчаса или чуть меньше мы стояли у входа в заведение под названием «Веселый Ганс», как я смог прочесть на вывеске при свете дня. Заведение уже открылось, оттуда доносились переливы флейты. У входа, как обычно, торчал кряжистый вышибала, знакомый мне еще по первому визиту сюда. Я уже поставил в известность Катона и Деккерта, что знаю этого человека, и те решили побеседовать с ним. — Вам знаком этот господин? — спросил судебный инспектор, указав на меня. — Нет, а что случилось? — Он утверждает, что в понедельник вечером вы прогнали его отсюда. — Раз утверждает, значит, так и было. Что, я обязан помнить всех в лицо, что ли? — Не обязаны, конечно, но если бы вы его узнали, возможно, весьма помогли бы нам. А ему в особенности, — ответил Катон и уже собрался зайти в заведение. Вышибала преградил ему путь. — Ничего не поделаешь. Раз я прогнал вашего приятеля, то и вам здесь нечего делать! — Вот так гостеприимство, — вздохнул Катон и извлек из кармана сложенный вчетверо листок. — Как у тебя по части грамотности? — поинтересовался он у привратника. — Да никак. — Неразумно. Если бы ты мог читать, то непременно узнал бы вот из этого документа, что я уполномочен амстердамским судьей входить в любое здание Амстердама, будь то частное жилище или же увеселительное заведение, а также лавка или же учреждение. — Но я не знал, что вы… — Привратник был явно смущен. — Тогда придется вас впустить! Мы с Деккертом последовали за инспектором Катоном. Едва мы вошли, как Деккерт вполголоса сказал Катону: — Я не знал, что у нас есть такой документ. — А у нас нет никакого документа. — Но ведь вы только что показали ему бумагу. — Это письмо моей сестре в Схонховене, которое я не успел отправить. Мы вошли в полупустой в это время зал. За одним из столиков в центре восседал флейтист, развеселые трели которого мы услышали еще с улицы. Кабатчик, костлявый молодой человек с раскрасневшимся лицом, явно из учеников, уже собрался налить нам всем пива, но Катон, не раздумывая долго, отказался, всем своим видом показывая, что мы пришли сюда не развлекаться, и велел позвать кого-нибудь из главных. — Главных, говорите? Каких еще главных? — недоумевал юноша за стойкой. Деккерт, подойдя к нему, спросил: — Чья эта лавочка? — Ах вот что. Понял. Вы имеете в виду Каат Лауренс. Так бы и сказали. Катон нетерпеливо фыркнул. — Так где нам найти госпожу Лауренс? Молодой человек ткнул большим пальцем за спину: — Она там, корпит у себя над бумажками. Запасы французского вина истощились, поэтому нужно распорядиться, чтобы подвезли. Инспектор потребовал отвести его к хозяйке, и юноша, пожав плечами, провел нас к небольшому закутку, служившему здесь конторой, где за столом пролистывала книги с записями грузная особа. Приглядевшись к ней, я узнал в этой женщине ту самую сводню, виденную мною, когда я впервые тайком пробрался в «Веселого Ганса». Сегодня на ней было платье с претензией на строгость покроя, да и на физиономии пудры и румян было куда меньше. Когда инспектор Катон представился, женщина недоуменно сморщила лоб: — Чем вызван ваш визит, инспектор? Какие-нибудь претензии ко мне? Нарушения? — А вот это мы и пытаемся выяснить. — Катон показал на меня. — Вот господин Корнелис Зюйтхоф утверждает, что минувшей ночью его держали здесь против воли под охраной. В подвале вашего дома. Вы знаете этого человека? На лице хозяйки поочередно отразились недовольство, удивление и заинтересованность. — Может, он и заходил сюда. К счастью, мое заведение весьма охотно посещается, так что всех, знаете, не упомнишь. Если он и был здесь, то в подвал его просто так никто не потащил бы. Может, он перепил чуток, вот ему и привиделось бог знает что. Ни следа замешательства. Дама излагала все так, будто и на самом деле верила в это. Может, она и не ведала о том, что меня затащили сюда? Или мы имели дело с прожженной канальей, которой плюй в глаза — Божья роса? — Госпожа Лауренс, вы сказали — «мое заведение», — решил подать голос я, — это значит, что именно вы владелица «Веселого Ганса»? — Именно это я и хотела сказать. — Вы одна им владеете или же еще с кем-нибудь в доле? — Одна. С чего это вы взяли, что еще с кем-нибудь? — Я имел в виду торговца антиквариатом Мертена ван дер Мейлена. — Вы ошибаетесь. Могу предъявить вам заверенный нотариусом документ, согласно которому я единственная владелица заведения. — Но я видел здесь Мертена ван дер Мейлена в ночь с понедельника на вторник. — Господин ван дер Мейлен — частый гость здесь. — Как и господин Антон ван Зельден, врач? — Вы и его здесь видели? — Видел, причем в обществе ван дер Мейлена. Я заметил, как выдающийся подбородок Каат Лауренс агрессивно выдвинулся вперед. — Чего же вы расспрашиваете меня, раз видели? Катон снова взял инициативу в свои руки. — Таким образом, ван дер Мейлен — ваш гость, и только. И у вас с ним никаких общих дел, не так ли? И тут физиономия Каат Лауренс растянулась в сладчайшей улыбке. — Пожалуй, точнее и не выразишься, господин инспектор. Вот уж не пойму, отчего это господина ван дер Мейлена приняли за столь важную особу. — Дело в том, что именно по его милости господин Зюйтхоф был похищен и брошен в подвал, — сказал Катон и, мельком глянув на меня, добавил: — Так, во всяком случае, господин Зюйтхоф заявляет. — Да-да, — сочувственно вздохнув, кивнула Каат Лауренс. — В нашем деле, знаете, всякого насмотришься. Есть мужчины, которые способны напиться буквально до потери рассудка. Я уже раскрыл рот, собравшись возмущенно протестовать, но инспектор Катон сделал предостерегающий жест рукой. — Я предлагаю пройти в подвал и осмотреть его. — Сказано это было вежливым, но не терпящим возражений тоном. — Если уж такая нужда возникла, милости просим. — Каат Лауренс поднялась из-за стола и повела нас вниз. В мерцающем свете керосиновой лампы я не узнавал этот подвал. Трудно было в моем тогдашнем состоянии приглядываться и запоминать. — Давайте обойдем все помещения, — распорядился Катонн. Держа в рукелампу, Каат Лауренс открыла первую дверь. Помещение заполняли какие-то ящики, к тому же оно было куда просторнее закутка, где меня держали. Примерно так же выглядели второе и третье помещения. Четвертое очень походило на мой застенок. Я огляделся. — Ну, и что? — осведомился инспектор Катон. — Узнаете здесь что-нибудь? — Ночью здесь не было ни ящиков, ни бочек, но это то самое помещение, я уверен! Каат Лауренс отрицательно покачала головой: — Не может такого быть. Эти ящики и пустые бочки, наверно, с год здесь стоят. — Гм. — Инспектор Катон пристально оглядел подвальное помещение. — Все это очень похоже на обычное складское помещение, и все же господин Зюйтхоф настаивает, что именно здесь его насильно удерживали прошлой ночью под охраной человека по имени Бас. Причем этот Бас, если верить господину Зюйтхофу, сам по нечаянности заколол себя собственным ножом. И стало быть, сейчас мертв. Вам что-нибудь об этом известно, госпожа Лауренс? Каат Лауренс стойко выдержала буравящий взор Катона. — Да, припоминаю, — ответила она. — Недели три тому я здесь действительно видела труп, — сообщила она наигранно серьезным тоном. — Труп крысы. Ее упавшей бочкой из-под вина придавило. Все это очень напомнило мне игру в кошки-мышки, вот только было не совсем ясно, кто кошка, а кто мышка. Судя по всему, рассказанное мною инспектору о моем пленении по вескости доводов ничуть не превосходило преподнесенное ему Каат Лауренс. Более того, мне казалось, что он готов скорее поверить именно ей, а не мне — меня ведь в отличие от нее подозревали и в убийстве, и в поджоге, и во всех смертных грехах. Ну как тут мне не солгать? Близкий к отчаянию, я опустился на колени и стал дюйм за дюймом ощупывать грязный пол в надежде отыскать хоть какую-то зацепку. — Чего это вы там потеряли? — недоумевающе спросил Деккерт. — Я ищу следы. Может, попадется обрывок веревки, или еще что-нибудь, или… — Или? — не отставал Деккерт. — Или кровь этого Баса. — В лучшем случае можете рассчитывать на крысиную, — бросила Каат Лауренс. — Или пятна от пролитого красного вина. Непринужденность, с которой эта особа излагала свои доводы, не могла вызывать сомнений, да и я не смог обнаружить никаких следов своего недавнего пребывания. Когда мы выбирались из подвала, Катон шепнул мне: — Плохи ваши дела, Зюйтхоф. — Пусть она проведет нас наверх, — вместо ответа предложил я. — Хочу показать вам портрет Луизы ван Рибек, который я рисовал. Вот тогда уж придется мне поверить! Воодушевленный, я впереди всех стал подниматься по лестнице в знакомый мне коридор. Оказавшись там, я бросился к картинам, но… Что это? Городские и морские пейзажи, башни церквей, ветряные мельницы, портрет крестьянки, пасущей гусей, натюрморты с цветами и фруктами и все возможные виды кораблей — в экзотических гаванях, в бушующих морях, — словом, именно то, к чему меня призывал Эммануэль Охтервельт. — Красиво, верно? — услышал я за спиной сладенький голосок Каат Лауренс. — Так что не думайте, что мои гости только и помышляют что о пиве да о разных там удовольствиях по доступной цене. Сюда заходят в основном люди образованные, культурные, способные оценить хорошие картины. Я переминался с ноги на ногу. Глаза отказывались верить тому, что я видел. Куда подевались обнаженные натуры? Ни одной, если не считать мраморного изваяния богини Дианы, хорошо хоть она не исчезла без следа. В конце коридора я повернулся к инспектору Иеремии Катону. — Ну так как, Зюйтхоф? — спросил он. — Где все эти картины, которые вы тут нам расписывали? — Они висели здесь, как раз на месте нынешних. — Всякое утверждение не есть истина в последней инстанции. Оно требует доказательств. — Стало быть, картины убрали, а подвал заставили всякой дребеденью. И это вполне объяснимо: после моего бегства владельцы заведения ждали визита представителей властей. — Такое возможно, но не более того. — Вы мне не верите? Не верите, что ван дер Мейлен привел ко мне Луизу ван Рибек? Что я писал с нее обнаженную натуру? Спросите Корнелию ван Рейн! — Даже если вы и рисовали Луизу ван Рибек… гм… в костюме Евы, так сказать, это никоим образом не доказывает вашу невиновность. Скорее, как раз косвенно подтверждает ее — свидетельствует о том, что у вас были самые близкие отношения. Такие отношения, которые вследствие разницы общественного положения были явно не по душе ее отцу. И это тоже может послужить одним из мотивов поджога вами дома купца ван Рибека. — Почему же я тогда бросился в огонь спасать Луизу? — Не она, а он вам поперек дороги стоял. И вы хоть с запозданием, но все же поняли, что своим поджогом, этим актом отчаяния, поставили под угрозу не только его жизнь, но жизнь своей возлюбленной. — Но… ничего подобного не было! — Тем не менее все говорит именно об этом. Поэтому в силу полномочий участкового инспектора суда Амстердама я вынужден арестовать вас, Корнелис Зюйтхоф!Глава 17 В карцере без окон. Эпизод второй
Я был в таком состоянии, что не нашел даже сил возмутиться диким ходом мыслей Катона и Деккерта и их действиями. И когда представители городских властей препровождали меня через вечерний Амстердам к месту содержания под стражей, голова моя была готова лопнуть от бессвязных мыслей. Никакого внятного объяснения я не находил. Неужели Каат Лауренс и Мертен ван дер Мейлен — сообщники? Или же эта сводня и слыхом не слыхала ни о чем, а лишь пешка в его руках, готовая выполнить все, что угодно, лишь бы платили? Или, может, мне вообще не следовало полагаться на то, что я видел, поскольку я безумец! Погруженный в эти мысли, я не сразу сообразил, куда меня вели эти двое. Во всяком случае, не в ратушу, как я рассчитывал, нет. Мы приближались к родному Распхёйсу. Когда из сумерек выступили мощные стены исправительного учреждения, я невольно остановился. — Чего вы остановились? — невежливо рявкнул Деккерт. — Мы и так с вами целый день провозились. — Зачем вы привели меня в Распхёйс? Деккерт вымученно улыбнулся. — Дело в том, — ответил он, не скрывая издевки, — что это место предназначено для содержания под стражей лиц мужского пола, совершивших противозаконные акты. Кому-кому, а вам это уж следовало бы знать, Корнелис Зюйтхоф. — А вы чего ожидали? — внес свою лепту и Катон. — Я думал, вы поведете меня на допрос в ратушу. — Сегодня уже поздновато для допросов в ратуше, — отрезал участковый инспектор. — Вот с утра я к вам зайду, и поговорим. Может, за ночь что-нибудь существенное и припомните. — Что именно, хотелось бы знать? — озадаченно спросил я. — То, что вначале показалось вам несущественным, но может послужить оправданием. Или же, напротив, за ночь в Распхёйсе вы одумаетесь и во всем признаетесь. И тем самым здорово облегчите работу всем нам. — Значит, по-вашему, чтобы облегчить вам работу, я должен признаться в том, чего не совершал? — Нет, вы должны признаться только в том, что совершали. Нам нужна правда. — Так ведь я вам уже рассказал всю правду. — Это вам так кажется. Ну ладно, нам, пожалуй, самое время продолжить путь. — Господин инспектор Катон! Можете пообещать мне одну вещь? — Слушаю. — Я хочу попросить вас оповестить Корнелию ван Рейн. И выяснить, что стряслось с Рембрандтом и где он. Будучи за крепкими стенами Распхёйса, знаете ли, трудновато будет продолжать его розыски. — Я предприму все, что в моей власти. Но на многое рассчитывать не советую. Не вижу ничего странного в том, что пожилой, сильно пьющий человек со странностями вдруг сбегает из дому неизвестно куда. Может, валяется без чувств в каком-нибудь портовом кабаке. А может, и преставился. — Да, славный из вас утешитель, — вздохнул я. — И все же спасибо вам за участие в этом деле. У ворот Распхёйса нас встретил Арне Питерс, который провел нас в служебные апартаменты начальства. Ромбертус Бланкарт недовольно взирал на участкового инспектора. — Никак нельзя было без этого обойтись, господин Катон? Непременно надо было приводить вашего Зюйтхофа сюда? И держать его тут, где он только что сам надзирал за другими? Это явно не пойдет на пользу Раепхёйсу. Еще Осселя Юкена не успели забыть, столько это вызвало кривотолков. А если и Зюйтхоф здесь окажется, тогда уж, поверьте, я ничего не могу обещать. — В каком смысле — ничего не сможете обещать? — переспросил Катон. — Порядка не могу обещать, вот чего. Что подумают наши заключенные, если вот уже второго человека из их надзирателей сажают сюда по обвинению в убийстве и иных тяжких преступлениях? — Вас так сильно беспокоит мнение ваших заключенных, господин Бланкарт? Или же все-таки престиж Распхёйса, а с ним и ваш авторитет? Боюсь, именно он и есть ваша головная боль. Узкое лицо начальника тюрьмы исказила гримаса недовольства. Я понял, что Катон наступил ему на любимую мозоль. — При чем здесь престиж и авторитет?! — рявкнул Бланкарт. — Что я могу со своим авторитетом, если даже такие люди, как Юкен и Зюйтхоф, и те падшие типы? Моя задача — обеспечение порядка на благо самих же заключенных. Вот поэтому я настаиваю, чтобы вы поместили Зюйтхофа куда-нибудь еще. — Знаете, это не я решаю, — холодно отпарировал Катон. — А кто же в таком случае? — Окружной судья. Но сегодня вы его уже нигде не застанете, поскольку он, как мне сдается, приглашен на прием в Ост-Индскую компанию. Так что уж потерпите до утра. Ну а сейчас я был бы вам весьма обязан, если бы вы обеспечили надлежащий присмотр за господином Зюйтхофом в стенах вверенного вам Распхёйса. — Иного выхода, как я вижу, у меня нет, — пробурчал Бланкарт. Вид у него был, как у побитой собаки. Надлежащий присмотр, как выразился Катон, заключался в том, что меня собирались сунуть в наихудшее из мест Распхёйса — в подвальный карцер без окон. Тот самый, где пребывал в свое время и Оссель. Арне Питерс и надзиратель Герман Бринк препроводили меня вниз. В нос ударил знакомый неистребимый запах сырости и красного дерева. Я в первую минуту едва не задохнулся. Однако не запахи меня волновали, куда сильнее меня тревожило положение, в которое я угодил. Оно и на самом деле было отчаянным. Еще не дойдя до карцера, я ощутил слабость в коленях и головокружение и привалился к стене. Бринк схватил меня за локоть, удержав от падения на осклизлый пол. На лице надзирателя я заметил выражение озабоченности. Что же до Арне Питерса, тот, похоже, злорадствовал по поводу моего прибытия в Распхёйс в статусе заключенного. Во всяком случае, в глазах его не было и следа жалости. — Ну-ну, Зюйтхоф, не раскисай! — пролаял он. — Небось когда таскал сюда арестованных, голова не кружилась, а? — Одно дело, когда ведешь арестованного, другое — когда ты сам арестованный, — негромко отозвался я и сделал пару глубоких вдохов, чтобы побороть приступ дурноты. — Вот теперь и поймешь, каково им тут, — ухмыльнулся он. — Так что не раскисай. Именно поэтому ты и не должен раскисать! Знаешь, мне проблемы ни к чему, тем более если речь идет о моем бывшем товарище. — Ты так говоришь, будто уже в большие начальники угодил! — Место Осселя Юкена до сих пор вакантно. И наш нынешний начальник подумывает, уж не меня ли назначить на него. Пойми меня правильно, мне сейчас совершенно ни к чему всякие хлопоты. Так что имей это в виду, Зюйтхоф, и не накликай на свою голову больше бед, чем есть! Это прозвучало как угроза, но я был гак измотан, что не хватило сил даже ответить. И, словно агнец на заклание, покорно шел в карцер, а оказавшись там, тут же безвольно плюхнулся на каменный пол. Здесь, в этих самых стенах, провел свои последние часы и мой друг Оссель Юкен, дожидаясь казни на площади перед городской ратушей. Подобные мысли мало способствуют успокоению, равно как и лязг закрывшейся двери и наступившая вслед за этим темнота. Часы, проведенные в темном карцере, мне не забыть до гробовой доски. Что я там пережил, описывать не берусь просто из нежелания утомлять читателя. Приступы жалости к себе сменялись тревогой за участь старика Рембрандта. Но если вдуматься, в первую очередь меня беспокоила, конечно же, Корнелия. Отец ее был для меня образцом живописца, творца, человека искусства, она же значила для меня куда больше в аспекте человеческих чувств. Я втуне надеялся, что Корнелия все же отыскала отца. И упрекал себя, что мой арест лишь приумножил ее заботы и тревоги. С другой стороны, я надеялся на то, что она не оставит меня в беде, что по-прежнему любит меня. И все же раскаяние и нечистая совесть перевешивали все остальное. Не пойди я на роковую встречу с Луизой ван Рибек у Башни Чаек, я не сидел бы в темном, вонючем карцере, а был бы с Корнелией. А теперь приходится торчать здесь, теряя драгоценное время. Со мной обошлись будто с ненужной вещью, которую запихивают на дно сундука, а вскоре благополучно о ней забывают. В Распхёйсе с теми, кто был помещен сюда, в темный карцер, особо не церемонились, но все же я не мог не обратить внимания на то, что мне в тот вечер даже не дали ни кружки воды, ни краюхи черствого хлеба. Это все Арне Питерс постарался, со злостью заключил я, он, больше некому. Видимо, желал показать мне, что я теперь завишу исключительно от его благосклонности. И хотя особого аппетита у меня не было, пересохшую глотку я смочил бы с удовольствием. Спал я отвратительно, урывками, всю ночь преследуемый кошмарами, из-за окружавшего меня полнейшего мрака я даже не мог определить, наступило ли утро. И вот наконец до меня донесся звук шагов, и дверь карцера отворилась. Это был Арне Питерс, он принес мне воды и хлеба. Только благодаря этому я определил, что уже начался новый день. Однако когда спросил его, есть ли подвижки в моем деле, когда я смогу увидеть инспектора Катона и нашелся ли Рембрандт, Питерс будто воды в рот набрал. — Тебе хорошо известно, что с теми, кто находится в карцере, разговаривать запрещено. Разве что о самом необходимом, — ядовито напомнил мне Арне Питерс. И хотя на его физиономии это никак не отразилось, по тону нетрудно было понять: он рад, что я пребываю в неведении. Впрочем, может, он и на самом деле ничего не знал. И снова тьма, потом лязг закрываемой двери и скрежет поворачиваемого в замке ключа. Скрип железной задвижки, и в проеме двери возникла чья-то фигура. Зажмурившись от хлынувшего в темную камеру света, я с трудом узнал худощавую стать участкового инспектора Катона. — Добрый день, господин Зюйтхоф! Как вы себя чувствуете? И улыбнулся. Но не злорадно, как Арне Питерс, стоявший у него за спиной, а скорее сочувственно. — Издеваетесь, господин Катон? — с легким раздражением произнес я в ответ. — Но вполне вероятно, что мне станет куда легче на душе, если вы пришли с добрыми новостями. — К сожалению, вынужден буду разочаровать вас, — без промедления отозвался инспектор. — Я был в доме торговца антиквариатом Мертена ван дер Мейлена, однако все без толку. — Что значит — без толку? То есть он напрочь отрицает свою причастность к моему похищению и удержанию в подвале «Веселого Ганса», это вы хотите сказать? — Я хочу сказать, что мне даже не удалось с ним встретиться. Иными словами, вчера утром он отбыл на неопределенное время. — Ага… А куда, простите? — Этого никто не знает. В том числе и я. — Потому что не желаете знать? Инспектор пожал плечами и испустил тяжкий вздох. Пожалуй, даже слишком тяжкий для инспектора участкового суда. — Откуда мне это знать? — Да он просто желает скрыться с глаз! — взорвался я. — Ван дер Мейлен сбежал, чтобы вы его не сцапали, инспектор, неужели вам не ясно?! Отсиживается где-нибудь, дожидается, пока меня вздернут или башку мне снесут за преступление, которого я не совершал. Тогда можно будет вновь вернуться в Амстердам. Ибо единственного свидетеля по имени Корнелис Зюйтхоф уже не будет в живых, так что он сможет спать спокойно. — Вполне возможно, вы верно рассуждаете. Но для внезапного отъезда может быть и тысяча других объяснений. — А вас не наводит на размышления, что ван дер Мейлен надумал именно сейчас убраться из города? — Это вполне может быть и случайностью. — Вы что же, всерьез полагаете, что столь солидный торговец может второпях сорваться неизвестно куда, даже не предупредив подчиненных, не поставив их в известность о том, куда и на сколько уезжает? — Верно, столь спешный отъезд выглядит необычно и действительно наводит меня на кое-какие размышления. С другой стороны, ничего противозаконного тут нет, и только на этом основании я не вправе что-либо поставить в вину ван дер Мейлену. Минуту или две я лихорадочно раздумывал, после чего спросил: — А что по этому поводу думает доктор ван Зельден? Может, он сможет вам помочь. Естественно, если вы его расспросите о ван дер Мейлене. — Мне не составит труда его расспросить. Кстати, мы уже с ним беседовали. Он признает, что время от времени захаживал в «Веселого Ганса» и встречал там ван дер Мейлена. Но ему ничего не известно ни об отъезде последнего, ни о каких-либо общих делах торговца и владелицы заведения Каат Лауренс. К сожалению, у доктора ван Зельдена было мало времени, поскольку его срочно вызвали в дом де Гааля. У Константина де Гааля случился нервный припадок по поводу внезапной гибели невесты — Луизы ван Рибек. Судя по всему, он питал к этой женщине самые искренние и глубокие чувства. Впрочем, как вы можете убедиться, все, что мне удалось выяснить, ни в коей мере не снимает с вас подозрений, — подытожил инспектор Катон. — Посему вплоть до выяснения обстоятельств вам придется оставаться в Распхёйсе, господин Зюйтхоф. Я очень сожалею и, поверьте, искренне вам сочувствую. Я даже готов был ему верить. — Инспектор, скажите, а что все-таки с Рембрандтом ван Рейном? — поинтересовался я на прощание. — Он, случаем, не нашелся? — До сей поры нет, — ответил Катон, как мне показалось, виновато. — Откровенно говоря, у меня до сих пор не было времени вплотную заняться этим. Когда я вчера вечером побывал у него дома — необходимо было сообщить его дочери о том, что произошло с вами, — она пребывала в весьма подавленном состоянии, как мне показалось. И умоляла меня позволить ей увидеться здесь с вами. — И что же вы? — Думаю, мне нет необходимости объяснять вам, каковы правила Распхёйса. А вы что же — в самом деле жаждете, чтобы она увидела вас здесь? — Разумеется, я этого не жажду, — не стал я кривить душой. — И все же от души благодарен вам, господин Катон. — За что? Пока что вам меня благодарить особенно не за что. — По крайней мере вы хотя бы попытались что-то сделать для меня. В вашем положении трудно рассчитывать на большее. — Ладно, ладно. Давайте лучше обсудим ваше положение. Так как — надумали чего-нибудь? — Что вы имеете в виду? — Ваше признание. — Я невиновен, инспектор Катон, неужели вы мне не верите? — Верю я или нет, не суть важно. В счет идет лишь то, что можно доказать. Так что если вам придет что-нибудь в голову, доложите надсмотрщикам. Инспектор Катон кивнул мне на прощание, а Арне Питерс захлопнул дверь карцера. И снова я погрузился в темноту. Последнее, что я видел, — это выражение довольства на птичьем личике Арне Питерса. Опять я был наедине со своими нелегкими мыслями. Вынужденное безделье просто сводило меня с ума. Иногда оно казалось мне даже страшнее и мучительнее предстоящей участи — если моя «вина» в поджоге и убийстве членов семьи ван Рибек будет «доказана». Из темноты возникло лицо Корнелии. Я видел ее отчетливо, будто в белый день. Морщинки озабоченности на милом личике, стоящие в ее пронзительно-синих глазах слезы. Может быть, как раз заточение в этой лишенной света камере и помогло мне осознать, что нет для меня на целом свете другой женщины, кроме Корнелии. Запоздалое, надо сказать, осознание. Сколько же часов или дней миновало, пока вновь я расслышал шаги? Два часа? Два дня? Два года? Этого я сказать не мог. Ужасающее однообразие нарушило восприятие времени. На сей раз я различил, когда глаза мои успели привыкнуть к свету, фигуру Арне Питерса. — Снова к тебе гости, Зюйтхоф. Ты у нас самый популярный из всех, кого приходилось запирать здесь, в карцере. Питерс посторонился, пропуская вошедшего человека, прямо скажем, не из бедных, если судить по платью. Темно-синий бархатный сюртук, голубая сорочка, расшитая золотом, белый воротник из тончайших кружев. Мужчина лет сорока, не высокий и не коротышка, ни малейших признаков полноты, несмотря на принадлежность к явно зажиточным, — редчайшее явление в кругах богатеев Амстердама. Хотя в волосах и бороде была заметна седина, острые черты лица без единой морщины и орлиный нос придавали ему моложавый вид. Человек вперил в меня пристальный взгляд темных, почти черных глаз. Приглядевшись к неожиданному визитеру, я уловил в его взгляде едва сдерживаемую ненависть, от которой я, не будь заточен в этом окаянном карцере, содрогнулся бы. А здесь ты просто превращаешься в равнодушную, тупую скотину. — Вот вы какой! Поглядишь и невольно подумаешь — такой и мухи не обидит, — с плохо скрываемым пренебрежением проговорил он. — Ну, так уж и мухи! Не забывайте, мне ведь приписывают убийство, — ответил я. — Странно получается — вы меня, похоже, знаете, а я вас — нет. — Слышать обо мне вам, несомненно, приходилось. Я Константин де Гааль. Теперь я понял причину его неприязни. Он видел во мне убийцу его невесты. Разве мог я быть в претензии? Как бы повел себя я, окажись на его месте? — Все не так, как вас пытаются убедить, — повысив голос, ответил я. — Я не поджигал дома купца Мельхиора ван Рибека. Я примчался туда, чтобы спасти Луизу. Она очень много значила для меня. — Что касается последнего, охотно вам верю. Тем не менее это не остановило вас, и вы убили ее. Не мне, стало быть, никому — вот ваша логика! Согласны? — Категорически не согласен. Вы заблуждаетесь. Я… — Замолчите! — не дал мне договорить Константин де Гааль. — Наберитесь мужества и признайтесь в содеянном! Подумать только — здоровый взрослый мужчина, а извивается, будто жалкий червь! Сжав кулаки, Константин де Гааль шагнул ко мне с явным намерением ударить меня, но тут вовремя подоспевший Арне Питерс встал между нами: — Прошу простить, господин де Гааль, но у нас не позволено избивать заключенного. Поверьте, я очень хорошо понимаю вас, очень хорошо, в вас кипит желание удушить этого Зюйтхофа, но… Никакого рукоприкладства в стенах Распхёйса, прошу вас! Меня не удивило бы, если бы Питерс сказал «к сожалению». Я выдержал полный ненависти и горести взгляд де Гааля. Этот человек искренне любил Луизу. — Чего же вы пришли сюда, если не желаете выслушать меня? — после паузы спросил я. — У меня нет желания выслушивать ваши жалкие отговорки. Я пришел сюда сказать вам следующее: своим поступком вы обрели в моем лице непримиримого врага на всю жизнь. Я буду молить Бога о скором и справедливом возмездии, о том, чтобы вы кончили жизнь на эшафоте, чего и заслуживаете. Потому что даже если произойдет немыслимое и вы все же покинете стены Распхёйса свободным человеком, не ждите пощады от меня. Я вам торжественно обещаю это! Сказав это, Константин де Гааль повернулся и вышел из камеры. И я даже в этом промозглом каменном мешке ощутил, как меня обдало ледяным холодом. Заиметь врага в лице одного из самых могущественных людей Амстердама означало не подлежащий обжалованию смертный приговор.Глава 1 8 Водокачка
Нет, сидя в карцере без окон, я отнюдь не мог сетовать на невнимание. Обычно тот, кого помещали сюда, видит только своего надзирателя, который приносит ему раз вдень жбан воды да краюху хлеба. А тут не успел уйти Константин де Гааль, как Арне Питерс привел ко мне начальника тюрьмы Распхёйс господина Бланкарта собственной персоной. Гневно поджатые губы и нервно моргающие глаза Ромбертуса Бланкарта говорили о том, что начальник Распхёйса пребывал в крайней взволнованности. Хотя изо всех сил старался спрятать ее под маской самоуверенности, пыжась передо мной, даже поднимаясь на носки, желая казаться выше, что при его росте выглядело донельзя комично. — Я не могу более допустить, чтобы вы здесь баклуши били, Зюйтхоф, — с напыщенной укоризной проговорил он. — Что же мне остается в этом жалком и темном закутке? — откровенно удивился я. — Вы должны признаться в содеянном. Так вы избавите нас от лишних неприятностей. Вы что же, хотите, чтобы позор лег на Распхёйс? — Хотите — верьте мне, господин Бланкарт, хотите — нет, но в данный момент меня меньше всего занимает репутация вашей тюрьмы. Во взгляде Бланкарта сквозило такое отчаяние, что это привело меня еще в большее замешательство, Спору нет, трагическая гибель семьи ван Рибек не могла пройти незамеченной, вызвав куда больший резонанс, чем преступление Осселя Юкена. И все же мне было непонятно, отчего факт моего пребывания в Распхёйсе так тревожит начальника тюрьмы, тем более что на момент прибытия сюда я уже не находился под его началом. — Еще раз требую от вас признаться в содеянном, Зюйтхоф. Поверьте, так вы избавите себя от многих неприятностей. — Как я могу признаться в том, чего не совершал? В ответ Бланкарт лишь беспомощно развел руками. И вообще, у него был такой вид, будто не меня, а его заперли здесь по подозрению в убийстве. — В таком случае мне ничего другого не остается, — произнес он со вздохом и повернулся к надзирателю: — Питерс, выведите арестованного из камеры! Питерс подошел ко мне, на лице его было написано довольство, природу которого мне было столь же трудно объяснить, как и подавленность Бланкарта. — Слышал, Зюйтхоф? Давай-ка, пошли со мной! Если судить по тону фразы Бланкарта, сейчас мне предстояло нечто ужасное. И все же я последовал за Питерсом чуть ли не с радостью — хотя бы на таких условиях, но избавиться от невыносимого мрака. Вскоре мы миновали тюремный цех, где заключенные были заняты распиловкой дерева. Они украдкой бросали на меня взгляды, на лицах некоторых было видно злорадство — мол, бывший надзиратель, да еще в карцере! Впрочем, не только заключенные, взоры надзирателей тоже говорили сами за себя. К моему удивлению, мы не задержались в обширном внутреннем дворе, где заключенные совершали положенную им прогулку. Хотя небо над Амстердамом затянули тучи и накрапывал мелкий дождь, свет этого сумрачного дня показался мне невыносимо ярким, а свежий воздух опьянял. Мы направлялись в особняком стоявшее здание, насколько мне было известно, в последние годы не использовавшееся. Рядом протекал ручей: ответвление от канала. И тут меня внезапно осенило, я понял зловещий смысл фразы Бланкарта. Страх железными тисками сковал мне глотку. Это здание называли «Водокачкой». Раньше сюда помещали тех, кто не желал работать. Здесь имелись две ручные помпы — одна снаружи для закачки воды из ручья в здание. Там и приковывали цепями нерадивых заключенных. И единственный способ не утонуть был непрерывно откачивать воду из помещения наружу в ручей. Метод отлично зарекомендовал себя — тут уж поневоле лентяйничать не будешь. Все шло хорошо до тех пор, пока один из заключенных не захлебнулся во время откачки воды. Дело было нашумевшим, и от водокачки втихомолку отказались. При мне, во всяком случае, ею не пользовались. И вот теперь нежданно-негаданно вновь решили обратиться к ее помощи. У входа я невольно остановился, и Питер втолкнул меня внутрь. Холодный, застоявшийся воздух, мне он показался еще более отвратительным, чем в подвальном карцере. Мы прошли вниз мимо заросших плесенью, покрытых ржавчиной труб к емкости с водой и насосу. Здесь нас уже поджидал Герман Бринк, и оба проворно приковали меня цепью к станине насоса. — Сообразили, куда попали, Зюйтхоф? — тепло, почти по-отечески осведомился для порядка Бланкарт. С трудом проглотив засевший в горле комок, я кивнул. — Тогда мне нет нужды объяснять вам, что и как. Качайте водичку, пусть она себе льется наружу, если вам жизнь дорога. Ну а если нет, тогда… — Что тогда? — выдавил я. — Тогда кричите нам, что желаете во всем признаться. И мы перестанем закачивать воду внутрь. — Он повернулся к Питерсу. — У вас хватает для этого людей? — Питер Боорс как раз отбирает из заключенных кого посильнее. Сейчас подойдут. — Как я уже говорил, Зюйтхоф, все теперь зависит от вас, — с нотками торжественности объявил начальник, прежде чем уйти. Металлический лязг возвестил о том, что Бринк защелкнул замок цепи, и теперь я был прикован к заржавленному насосу, внушавшему ужас не одному десятку моих предшественников-горемык. Только здесь и только сейчас мне стало понятно, каким образом в Распхёйсе добивались повиновения или признания. Неужели подобные водокачке и темному карцеру методы способны исправить сбившихся с пути? Сомнительно. Тем временем начальник тюрьмы и надзиратель вышли. Я собрал в кулак всю свою волю, чтобы не завопить им вслед с мольбой пощадить меня. Впрочем, это все равно не возымело бы действия, зато доставило бы им несказанное удовольствие воочию лицезреть унижение Корнелиса Зюйтхофа. Нет уж, пусть Арне Питерс пока что потерпит. Миновало несколько минут, и шаги их смолкли. Все доходившие до меня звуки я воспринимал странно, как-то приглушенно — тяжеленная кованая дверь гасила шумы. Наступившая тишина давила, и я чуть ли не как избавление воспринял шум накачиваемой воды. И тут же через отверстие в стене ударила струя. Сначала вода показалась мне безобидной, слабенькой, она тихо подбиралась к моим сапогам. Но уровень ее поднимался довольно быстро, и вскоре вода доходила мне почти до середины голени. Я принялся откачивать ее. Не торопиться, экономить силы, велел я себе, работать размеренно. И я откачивал грозившую убить меня воду, которую загоняли сюда снаружи из канала. Боковым зрением я заметил, что уровень ее повышается. Здесь, в этой емкости, было светло — потолка она не имела, и вверху я различал крышу самого здания водокачки. Когда я случайно глянул наверх, то увидел, как трое, перегнувшись через край емкости, следят за мной. Ромбертус Бланкарт наблюдал за мной, явно пребывая в смешанных чувствах — ему было любопытно видеть, как я корячился и, невзирая на это, уровень воды все же неумолимо поднимался. Вода уже давно добралась мне до колен и подползала дальше, будто ненасытный зверь, жаждавший поглотить меня со всеми потрохами. Стоявший рядом с начальником тюрьмы Арне Питерс лыбился во весь рот. Я всегда считал его человеком, в общем, безобидным, но теперь, когда он нацелился на место Осселя, да, собственно, занял его, не дожидаясь официального решения, мне открылась его истинная и подлая личина. Оставалось лишь уповать, что начальствовсе же отыщет на место воспитателя другого. Впрочем, меня не особенно занимало присутствие этих типов, мне было явно не до них — уж слишком проворно подступала вода. Руки болели, но, невзирая на это, я помимо воли действовал быстрее. Вскоре вода уже была мне по грудь. Третьим зрителем был Константин де Гааль. Этот был захвачен зрелищем куда сильнее остальных, этот не снисходил до убогого злорадства Арне Питерса, на лице де Гааля было написано глубокое, искреннее удовлетворение. Теперь я сообразил, отчего Ромбертус Бланкарт решился отпереть проржавевшие за долгие годы бездействия двери водокачки. Нет, сам бы он до такого ни за что не додумался, тут чувствовалось влияние де Гааля. Не исключено, что он и позолотил ручку тюремному начальству. На то, в конце концов, и деньги, чтобы прикупать себе желаемое. Я качал и качал, вода уже достигла плеч, я видел, как Бланкарт что-то возбужденно доказывает де Гаалю. Может, испугался, что я стану вторым в списке погибших в водокачке? Я отнюдь не исключал, что де Гааль именно к этому и стремился. Он жаждал не только моих страданий, нет, их ему было мало, он желал моей гибелью искупить гибель Луизы. В ответ на доводы Бланкарта купец лишь неумолимо качал головой, ни на мгновение не отрывая от меня переполненного злобой взгляда. Бланкарт смалодушничал, умолк и тоже безмолвно и брезгливо созерцал мои адовы муки. Из последних сил я продолжал орудовать рукоятью помпы, пытаясь побороть грозившую изничтожить меня воду. Я уже был близок к тому, чтобы прокричать признание. В чем? И чем бы это для меня обернулось? Разумеется, участь моя вряд ли сильно отличалась бы от судьбы Осселя Юкена — эшафот на площади перед ратушей Амстердама, но я в этом случае смог хотя бы оттянуть час погибели. Как ни странно, но застывшая в темном взоре Константина де Гааля ненависть непонятным образом придавала мне сил. Я словно подпитывался ею. Нет, я не мог, не имел права укрепить его в слепой, безумной убежденности в моей причастности к гибели его невесты. В остервенении сжав зубы, я продолжал качать, вода тем временем добралась мне до шеи. Продолжая спешно откачивать воду, я вдруг задался мыслью, шальной и неуместной: интересно, а потел ли я сейчас? По крайней мере почувствовать это я по вполне объяснимым причинам не мог. Мысль эта развеселила меня. А веселиться особых причин не было — еще чуть-чуть, и я захлебнусь. Нет, Бланкарт, не дождешься ты от меня призывов о пощаде, не дождешься, и все. Сжав губы, чтобы не захлебнуться, я качал, качал, качал… Я уже не поглядывал вверх, взгляд мой застыл нас стене емкости. Станет ли она моей могилой? Передо мной с ужасающей отчетливостью встало лицо Корнелии. Девушка улыбалась мне, и эта милая улыбка придавала мне сил. Хоть на минуту, на секунду оттянуть ужасный, мучительный конец. До конца остаться мужчиной. По-видимому, фортуне было не угодно, чтобы мы с Корнелией были вместе. И все же я был ей благодарен за то, что хотя бы знал ее. Силы уходили, ослабевшие руки с трудом повиновались, но я с удивительным спокойствием воспринимал приближавшуюся гибель. Сколько еще я продержусь? Минуту? Две? Или отсчет шел уже на секунды? И тут мне показалось, что вода начала спадать. Нет, уровень ее на самом деле понижался, причем именно в ту минуту, когда я готов был покориться ей, вода стала уходить, обнажая изъязвленную ржавчиной, покрытую слизью стенку емкости. Не веря себе, я отметил, что и сам постепенно оказываюсь на воздухе. Я прекратил орудовать помпой. Продолжить и тем самым ускорить свое вызволение? Не этого ли дожидался мстительный де Гааль? Может, это очередная его уловка, объясняемая стремлением продлить мои муки? Мне было наплевать. У меня не было сил противостоять пытке, замышленной теми, кто жаждал моей погибели. У меня не было сил даже поднять голову и взглянуть на них. Обессиленно рухнув на станину помпы, я дожидался, что будет дальше. Вода уходила и с бульканьем исчезла в сливном отверстии в полу, неизвестно почему вдруг открывшемся. Лязгнула железная дверь, впуская Питерса и Бринка. Надзиратели без единого слова стали снимать с меня цепь. Питерс и Бринк потащили меня наверх. Именно потащили, поскольку я уже не мог даже пошевелиться, не то что передвигать ногами. Я чуть ли не с блаженством растянулся на каких-то деревянных полусгнивших нарах в каморке водокачки. Закрыв глаза, я старался дышать ровно, подавляя приступы кашля. Видимо, в последние мгновения я все же нахлебался воды, и она добралась до легких, а теперь искала выход наружу. На меня набросили теплое одеяло, но от него было мало толку — насквозь промокшая одежда прилипала к телу. Стоило мне открыть глаза, как все вокруг завертелось, я едва различал лица собравшихся у моего ложа. Я снова закрыл глаза, дожидаясь, пока мне полегчает. Лишь спустя какое-то время я узнал всех: Бланкарта, Питерса, Константина де Гааля и, к великому моему удивлению, инспектора Катона. — Вам, как я посмотрю, ничего не стоит нагнать на людей страху, — высказался последний. На лице представителя власти застыли озабоченность и ирония. — Стоит оставить вас без присмотра на пару часов, как вы уже готовы осушить все амстердамские каналы. — Так это ж не по доброй воле. Да и вы к этому руку приложили, инспектор, если уж быть до конца откровенным. Бланкарт кашлянул. — Не вам упрекать инспектора, Зюйтхоф. Кто знает, может, именно ему вы и обязаны жизнью. — Как так? — не понял я и выплюнул воду, едва не угодив в стоявших. Начальник тюрьмы в ужасе отшатнулся. — Уж не сподобились ли вы счесть меня невиновным? — осведомился я у Катона. — Угадали. За минувшие часы кое-что существенно изменилось. — И этим я обязан вам? Посвятите же меня во все, инспектор! — Не только мне, но и госпоже Моленберг. — Моленберг? — повторил я, отчаянно вспоминая, где мог слышать это имя. — Беке Моленберг, — решил помочь мне инспектор Катон. — Ах да, этой кухарке. — Верно. Я решил еще раз допросить ее, и, надо сказать, допросить как полагается. В конце концов она разрыдалась и призналась, что в первый раз лгала. Не вы подожгли дом, а сам Мельхиор ван Рибек. Он поступил так в припадке безумия, как выразилась кухарка. И я тут же направился сюда — к счастью, успел вовремя. Константин де Гааль, явно разочарованный таким оборотом, выслушал слова инспектора с каменным лицом. — Что именно говорила вам госпожа Моленберг? — не отставал я. — Кто подбил ее на эту ложь? — Какой-то незнакомец. Он предложил ей кругленькую сумму в сто гульденов. — И в самом деле немало! Ей и за год столько не заработать. Вот так нас всех и покупают толстосумы. — Одним подкупом он не ограничился. Незнакомец, по словам Беке Моленберг, еще и угрожал ей — мол, если откажется распространять слухи о вашем поджоге, с ней поступят так же, как и с вами. Нет сомнений, что кому-то очень и очень нужно устранить вас с пути. — И прикрыть тех, у кого действительно руки в крови, — добавил я. — Я имею в виду тех, кто и довел до безумия Мельхиора ван Рибека. Кухарка представила описание этого человека? — Самое приблизительное. — Подождите, дайте я попытаюсь. Так вот: хорошо одетый мужчина средних лет с темной бородкой. — Примерно так она его и описала. А как вы догадались? — Да потому что у вас уже есть одно такое же описание. Речь идет о человеке, который приходил забрать картину из жилища Осселя. Ту самую картину, которая несет смерть. Катон усмехнулся: — Недурно, Зюйтхоф. Я тоже уловил эту связь. — Только теперь незнакомец готов платить вдесятеро больше. Видимо, мне остается гордиться, что я переплюнул картину в цене. Попытавшись вызвать в воображении приметы незнакомца, я спросил: — А вы пытались разузнать у Беке Моленберг о Мерте-не ван дер Мейлене? — Конечно. Она знает этого торговца антиквариатом, он не раз бывал в гостях у ван Рибеков. Но разумеется, не он предлагал ей эту сотню гульденов. — Хотя, вероятно, именно ему в конечном счете и принадлежала указанная сумма. — Не исключено, что это может соответствовать истине, — уклончиво ответил инспектор Катон, явно не желая бросать тень на столь почтенного гражданина Амстердама. — Вы говорите о торговце картинами и книгами ван дер Мейлене? — вышел из оцепенения де Гааль. — Какое он имеет ко всему этому отношение? Но Катон, к моему облегчению, не убоялся явно тенденциозного вопроса Константина де Гааля. — Я пока что на середине расследования, господин де Гааль, посему прошу вас верно понять меня: я не вправе разглашать, что выяснилось, а что нет, и брать кого-либо под подозрение без достаточных на то оснований. Ибо это неизбежно усложняет ход разбирательства и вызывает массу опасных моментов, в чем я уже успел убедиться в стенах Распхёйса. Де Гааль побледнел от гнева. — Вы отдаете себе отчет, с кем вы говорите, уважаемый? Не забывайте, я пользуюсь влиянием в определенных кругах, в том числе и в магистрате. — Допустим, я об этом не забываю. И что же дальше? Желаете доложить обо всем магистрату? Извольте. Только не забудьте упомянуть и о том, что по вашей милости невиновного человека едва не погубили. Катон повернулся к начальнику тюрьмы: — И с вас, господин Бланкарт, никто не снимает вины. Вы что же, решили вернуть к жизни вашу печально известную водокачку? — Простите, дело в том, что… э-э-э… господин де Гааль счел возможным, что… — Я еще раз спрашиваю вас: мне что, дать этому делу официальный ход? В таком случае у господина Зюйтхофа есть все основания для подачи соответствующего судебного иска против всех здесь присутствующих, не считая меня. Хотя подобное мне, откровенно говоря, не пришло в голову, я энергично закивал. Идея инспектора Катона пришлась мне по душе. Бланкарт невольно бросил на де Гааля полный скорбной мольбы взгляд. Купец пробормотал: — Вероятно, вы правы, инспектор. Посему лучше уж не поднимать шум. Если вас это удовлетворит, господин Зюйтхоф, готов признать, что несправедливо обошелся с вами. — Должно ли это означать, что вы готовы взять назад вашу клятву отомстить мне? — спросил я. — Мне ничего иного не остается, коль вы не имеете отношения к гибели Луизы. — Что ж, в таком случае и я готов забыть об этом досадном инциденте, — ответил я и вновь обессиленно опустился на лежанку. Мне было не до выяснения отношений. Полчаса спустя я сидел рядом с Катоном в экипаже, который должен был доставить нас на Розенграхт. На мне были какие-то лохмотья, срочно раздобытые для меня в Распхёйсе, но это мало заботило меня. Самое главное, что хотя бы сухие. А я — на свободе! Правда, я еще не успел привыкнуть к мысли, что свободен. Но недавняя пытка на водокачке уже казалась мне кошмарным сном. Ромбертус Бланкарт, изо всех сил пытаясь загладить вину, буквально расстилался передо мной. А всего час назад и в мыслях допустить такого не мог. Нет, больше я в Распхёйс ни ногой. Ни на какую должность. Ни за какие деньги. Когда экипаж остановился у дома Рембрандта, у меня было такое ощущение, что я вернулся из долгой-долгой поездки. Все здесь казалось мне знакомым и в то же время изменившимся. А между тем всего лишь сутки с небольшим назад я в сопровождении инспектора Катона отправился отсюда в заведение на Антонисбреестраат. — Отправляйтесь к своей Корнелии и хорошенько выспитесь, — велел мне инспектор, при этом многозначительно подмигнув. — Вы вполне заслужили отдых. — Вы не зайдете? Катон отрицательно покачал головой: — Нет-нет. Не хочу вам мешать. Думаю, вы меня правильно поймете. К тому же мне предстоит еще одна беседа с Беке Моленберг, может, она припомнит еще что-нибудь. После двух настойчивых звонков дверь открылась, и я увидел Корнелию. За время пребывания в Распхёйсе я успел расстаться с мыслью, что когда-нибудь вновь увижу ее… Сердце отчаянно колотилось, я и шагу ступить не мог. Я понимал, что у меня нет на это права. По ее измученному лицу я понял, что утешительных вестей об отце по-прежнему не было. Но стоило Корнелии увидеть меня, как печаль на лице сменилась радостью. — Корнелис! — воскликнула она и бросилась обнимать меня. На миг мне показалось, что все сейчас будет так, как тогда, в ту нашу первую ночь.Глава 19 Расхитители гробниц
26 сентября 1669 года До полуночи оставался, может быть, час, когда мы с двумя спутниками прибыли к церкви Вестеркерк. Небо затянули тучи, и ночь выдалась темнее обычного. Что было нам как нельзя на руку. Как и царившее вокруг безлюдье. Я погасил фонарь, который полагалось иметь с собой в темное время суток, и подошел к темной громаде церкви — воспетому многими архитектурному шедевру. Впрочем, меня сейчас занимали отнюдь не скрываемые ночной тьмой зодческие ухищрения, а то, что я надеялся здесь обнаружить или же — увы! — не обнаружить. Мои приятели остались стоять в нескольких шагах от меня, перешептываясь. Повернувшись к ним, я негромко спросил: — Ну, чего вы там ждете? — То, что вы задумали, ни к чему, — боязливо пробормотал Хенк Роверс. — Мы… совершим нечестивое дело по отношению к Господу нашему, если проникнем в церковное здание. — Вот уж не ведал, что с такими святошами придется дело иметь, — не скрывая раздражения, бросил я. — Поплаваешь с мое, тут уж научишься почитать Господа Бога — штормы, пираты, морские чудища! — Верно говорит старик Хенк, — поддержал товарища Ян Поол. — Ну-ну, морские чудища, — скептически повторил я. — Наверное, не стоило мне платить вам вперед, а? Мне кажется, вы уже перевели все денежки на выпивку. Хенк Роверс скорчил горестную мину: — Что поделаешь? Выпить-то всегда хочется! Такие уж мы есть. — Если выпивка перевешивает разум, из этого ничего доброго не выйдет, — поучал я их. — Раз уж взяли денежки, извольте выполнять обещанное. — Тьфу, — презрительно бросил Роверс. — За несчастных десять штюберов на нос — смешно говорить! — И все же это лучше, чем десяток раз по носу? — полушутя-полусерьезно вопросил я, приставив кулак к его физиономии. — Может, все-таки подумаем, а? — Ладно, ладно, идем, — пробурчал старый морской волк, тронувшись с места, за ним потянулся и Ян Поол. Я подошел к необычно маленькому для такого здания порталу. Вдруг до меня донесся тихий свист. Я замер на месте. — Только не через главный портал, — принялся убеждать меня Ян Поол, сняв на минуту с плеча тяжеленный мешок. — Лучше через боковой вход — проще и надежней будет. — Как пожелаете, — отозвался я. — Вы специалист. Обойдя Вестеркерк, Поол остановился у бокового входа в церковь и опять снял мешок с плеча. — Вот здесь и попытаемся, — решил он. Роверс стал озираться, словно ожидал увидеть недоброжелателя в ночном мраке. Поол извлек из кармана куртки видавший виды складной нож и, раскрыв его, стал возиться с замком. Текли минуты, в конце концов терпение мое иссякло. — Ну, что там такое? — нетерпеливо прошептал я. — С чем заминка? Полуобернувшись, Поол глянул на меня. Черное пороховое пятно придавало ему, скажем прямо, угрожающий вид. — А я и не обещал, что разделаюсь с ними в пять минут. Так что лучше уж не мешайте мне сейчас, это дело не ускорит. — Я просто спросил, в чем дело, — буркнул я в ответ. — Помнится, вы били себя в грудь, утверждая, что в этих делах дока. — Утверждал, и могу сейчас повторить. Но не все замки сделаны на один манер. — Спорить не берусь, — только и сказал я, отступая на шаг и оставив его в покое. «Верно ли ты поступаешь, втягивая этих двух проспиртованных морских волков в такие дела?» — спросил я себя. Впрочем, как бы там ни было, спохватываться поздно. Да и время не терпело, так что следовало действовать, а не рассусоливать. С тех пор как я за два дня до описываемых событий вернулся на Розенграхт, ничего существенного не произошло — Рембрандт по-прежнему отсутствовал, и можно было только гадать, где он мог быть. В одном я был уверен, и уверенность эта крепла: Рембрандт на самом деле не был безумцем, как могло показаться на первый взгляд. По его словам, он видел на улице умершего сына Титуса. Естественно, такое можно было приписать лишь безумию старика. А если старик действительно видел его? И вот нынешней ночью мне предстояло убедиться, так это или нет, и, может, каким-то образом набрести на след. Если Рембрандта так и не найдут, Корнелия наверняка лишится рассудка. Вот я и отправился после обеда в «Черного пса», уговорить Роверса и Поола сопровождать меня в ночной вылазке. — Есть! — донеслось до меня радостное восклицание моряка с опаленной порохом щекой, слишком громкое для тайного предприятия, в котором мы участвовали, и едва не заглушившее отвратительный скрип распахиваемой двери. Мне передался непокой старика Хенка. Я казался себе в ту ночь вором. Темнота хоть и была нашей сообщницей, но помогала и тем, кто вознамерился бы сцапать нас. — А теперь быстро внутрь! — торопил я своих приятелей, и мы поспешили внутрь церкви Вестеркерк. Идя последним, я, стараясь не шуметь, затворил за собой дверь. Церковь освещалась слабым светом свечей, их мерцание было заметно снаружи. Но их света было явно мало, поэтому пришлось вновь зажечь фонарь. Я осмотрелся. Мы находились в боковом приделе. Хотя я, побывав здесь в воскресенье перед тем, как направиться в «Черного пса», изучил внутреннее расположение, я входил в церковь с главного входа. Поэтому не сразу сориентировался в царившей здесь полутьме, но уже мгновение спустя вел Роверса к расположенному вблизи колонны захоронению — нашей цели. — Это здесь, — проговорил я, указав на пол. — Давайте, начинайте, но старайтесь не шуметь! Поол развязал принесенный с собой мешок, мы разобрали увесистые кирки и молча стали долбить сплошной пол. Каждый удар гулким эхом отдавался под темными сводами церкви, я от души надеялся, что лишь мое разгоряченное воображение заставляло меня воспринимать его как гром. Сначала казалось, что монолитный пол не желает поддаваться, затем он кусок за куском стал проваливаться, и перед нами разверзлось внушительное отверстие. Внезапно Роверс замер. — Здесь что-то деревянное. Разве вы не видите? Еще раз подивившись зоркости старика Хенка, я, склонившись над дырой, увидел доски — это мог быть только гроб. Расширив отверстие, мы продели под гробом принесенные с собой толстые веревки и медленно дюйм за дюймом стали поднимать его. Наконец гроб стоял перед нами. Расширив от ужаса глаза, Роверс сначала уставился на гроб, потом перевел взгляд на меня. — Вы правда собрались открыть его, Зюйтхоф? — А для чего мы здесь, как вы думаете? Просто так, по-развлекаться? Ну-ка давайте ломик! Поол извлек из мешка небольшой лом, при помощи которого я после нескольких попыток сумел приоткрыть крышку. Совсем снять ее я не решался — Титус умер всего год назад. Интересно, успело ли тело полностью разложиться? В конце концов я решительным движением приподнял крышку. Моему взору открылись останки, но… это не были человеческие останки. Тем более взрослого человека. Мелковаты косточки для мужчины, каким был Титус. Да и формой тоже не походили не человеческие. Удлиненный череп мог принадлежать только животному. — Что это? — прошептал объятый страхом Ровере. Старик еле шевелил губами, я едва расслышал его. — Когда-то была собака, — невозмутимо пояснил Поол. — Или, может, волк. Или кто-нибудь сродни им. — Но, клянусь всеми морскими божествами, кто же станет хоронить зверя в церкви — храме Божьем? — Вот и я многое отдал бы, чтобы знать, — задумчиво ответил я. Не могу сказать, испугала ли меня странная находка, или же, напротив, я почувствовал облегчение. Я понятия не имел, что она должна означать. Жив ли Титус? Если да, то Рембрандт вполне мог видеть его на улице. Но ведь Титус, если верить им, умер от чумы на глазах у всех домочадцев! Как можно было вернуть с того света умершего? И как заменить в гробу тело покойника на издохшего пса? Наша ночная находка вызывала куда больше новых загадок, чем разгадок старых. Одно не внушало сомнений: Рембрандт и его умерший — или живой — сын втянуты в нечто такое, о чем порядочному гражданину вообще лучше не знать, коль он желал спокойно спать по ночам. Чем дольше я вглядывался в собачьи косточки, тем сильнее охватывало меня беспокойство. Даже мурашки по спине побежали. Как рассказать обо всем Корнелии? И стоит ли вообще рассказывать? Мне хотелось хоть как-то успокоить ее, утешить, но как она поведет себя, узнав, что в могиле ее любимого брата в церкви Вестеркерк захоронены собачьи кости? — Ставьте гроб на прежнее место, — распорядился я, прикрывая гроб крышкой. — Нам больше здесь делать нечего. — Днем они все равно заметят, что здесь кто-то похозяйничал, — заметил Поол. — Значит, надо постараться замести следы, — ответил я, помогая им установить гроб в могилу. Покончив с этим, мы постарались уничтожить следы нашего визита. Ян Поол убрал инструмент в мешок, но тут случайно выронил кирку, которая со звоном упала на каменный пол. — Тише ты, Ян! — прошипел Хенк Роверс. — Ладно, ладно, — пробурчал Ян, запихивая кирку в мешок. Завязав мешок, он перебросил его через плечо, и мы стали пробираться к боковому входу, через который вошли в церковь. В этот миг свет фонаря выхватил из темноты чей-то силуэт. Приглядевшись, мы увидели низенького, толстенького человечка с выпученными от страха глазами. Точь-в-точь как Хенк Роверс полчаса назад. — В-вы кто? — запинаясь, пролепетал он. — Рабочие, — поспешил успокоить его я. — Вот, пообещали, что к завтрашнему дню закончим, но… Пришлось ночью доделывать. А вы кто будете? — Я? Я смотритель этой церкви Адриан Веерт. Моя очередь сегодня звонить к заутрене, потому что… Смотритель внезапно умолк, потом отпрянул и присмотрелся к нам. — Я вас не знаю. И ни о каких работах мне тоже неизвестно. А мне непременно сказали бы, если… Ведь именно я… И снова онемел. Пару мгновений спустя он бросился к выходу и завопил во все горло: — Помогите! На помощь! Воры! Грабители! Они осквернили церковь! — Мешки бросьте здесь, и ходу! — крикнул я, и мы побежали к боковому выходу. На улице дождь лил как из ведра, однако это нас ничуть несмущало. Мы были уже довольно далеко, но крики смотрителя доносились и сюда. Он звал на подмогу ночных стражей порядка. И вот перед нами из темноты возникло несколько постовых. — Вот они! Вот они! Хватайте их! Держите! Это они! — не унимался Адриан Веерт. Резко повернув, мы помчались по направлению к Принсенграхт и вскоре, будучи зажаты между этим каналом и Кейзерграхт, поняли, что нам далеко не уйти. Свернув налево, мы оказались в кустах, рассчитывая, что наши преследователи все же отстанут. Но те, судя по всему, отставать не собирались. Едва мы покинули улицу, как позади застучали колотушки — стражники оповещали своих коллег на соседних участках. Прямо перед собой мы увидели еще одну группу постовых, к ним тут же подоспели другие. В конце концов мы оказались в кольце полутора десятков стражников. Обнажив шпаги, они надвигались на нас. Нам ничего не оставалось, как сдаться на их милость. Вскоре нас доставили в ратушу, где всех троих сунули в крохотную камеру. Едва за нами захлопнулась дверь, как Хенк Роверс произнес: — Нет уж, лучше бы мне получить десяток ударов в нос!Глава 20 Смертельные пари
27 сентября 1669 года — Я погляжу, вам сильно полюбились тюремные камеры: едва выйдете на волю, как вас опять тянет туда, господин Зюйтхоф! Мне казалось, что дни в Распхёйсе, включая водокачку, навек отобьют у вас охоту попадать за решетку. Иронично-наставительный тон принадлежал инспектору Катону, с которым мы увиделись много часов спустя после нашего ночного ареста у церкви Вестеркерк. Роверс, Поол и я пережили жуткую ночь, нам до сих пор даже не соизволили дать воды, и мы спорили до хрипоты в тесной камере городской ратуши. Когда заскрипела, открываясь, дверь камеры, мы подумали, что нам принесли поесть. Но вместо надзирателя пришлось лицезреть инспектора участкового суда Катона. — Когда Деккерт сегодня утром сообщил мне о происшествии у церкви Вестеркерк, я сначала отказывался верить ему, — сокрушенно качая головой, продолжал Катон. — Нет, я подумал, что он решил подшутить надо мной. Оказывается, все так и есть — в ратуше сидит неисправимый горемыка Корнелис Зюйтхоф собственной персоной! Мало-помалу я начинаю сомневаться в ясности вашего рассудка. — Полностью солидарен с вами, инспектор, — ответил я. — Все, что со мной происходит в последнее время, и меня наводит на мысль, что разум мой помутился. — Как это вас угораздило? Нет-нет, прошу вас, только не пытайтесь убедить меня, что в Вестеркерк вас приволокли связанного, а кто — не знаете. Я вам помогу — скорее всего ван дер Мейлен. Я прав? — Нет, к этому он отношения не имеет. Но к чему вы его вдруг вспомнили? Уж не отыскался ли он, случаем? — Нет, не отыскался, — коротко бросил инспектор. — Давайте, рассказывайте, что вам понадобилось в церкви! — Прямо здесь? В этой камере? А что, в ратуше уже не найдется места, где мы вдвоем спокойно могли бы все обсудить? — Вы, как я смотрю, даже готовы бросить своих сообщников. — Ну, их как раз можете со спокойной душой отпустить, господин Катон. Имена их известны, так что вам не составит труда выслушать их еще раз, коль в этом возникнет нужда. — Обязательно возникнет, — сурово ответил инспектор, мрачным взглядом одарив моих приятелей. — И штраф наложу вдобавок, да такой, чтобы впредь неповадно было. Убирайтесь отсюда! Роверс и Поол не заставили себя упрашивать, и не успел я оглянуться, как обоих уже след простыл. Катон повернулся ко мне: — Ну, Зюйтхоф, следуйте за мной в кабинет и расскажите мне о том, что же заставило вас, несостоявшегося поджигателя и убийцу, срочно перековаться в расхитители могил. — Ничего я не расхищал. — В таком случае речь пойдет об осквернении могил. И вам нечего возразить против этого. Идемте! Я последовал за ним в кабинет, где мне велели сесть на жутко неудобный стул. В окно был виден утренний Амстердам. Небо до сих пор затягивали тучи, но с моря дул крепкий ветер, гнавший их дальше, не давая пролить свой груз на город. Я увидел проплывавшую по водам Амстеля баржу, над которой кружились в поисках прокорма чайки. Катон отступил к шкафу, извлек оттуда графинчик, два стаканчика и наполнил их. — Вот, выпейте-ка, это взбодрит вас! Я выпил ужасно обжигающий сладковатый напиток. — Чем это вы меня угостили? — закашлявшись, поинтересовался я, невольно взглянув на странно голубевшие на донышке остатки жидкости. — Черничная настойка. Мой дядюшка из Утрехта регулярно снабжает меня ею. — А вы регулярно исчерпываете ее запасы, так? Катон, оценив мой юмор, усмехнулся: — Да нет. Только по случаю знаменательных событий. Например, как цепочка ваших арестов. — Спасибо, — поблагодарил я, ставя стаканчик на заваленный бумагами стол. — Вынужден признать, что здешнее обращение куда предупредительнее, нежели в Распхёйсе. Протерев стаканчики, Катон убрал их вместе с графином на прежнее место. Потом сел против меня, подперев ладонями подбородок. — Вот, раз вам так уютно здесь, давайте выкладывайте, что заставило вас среди ночи вломиться в церковь Вестеркерк. Честно говоря, мне не терпится услышать, что за историю вы мне на сей раз преподнесете. Рассказав ему обо всем, я подытожил: — Но вы скорее всего и теперь мне не поверите. И не без причин. Стоит мне задуматься о нашем визите в заведение, как меня тут же охватывает страх, что и в гробу сына Рембрандта вдруг окажутся не собачьи, а человеческие останки. Пусть даже не Титуса ван Рейна. — Ничего, выясним. Но знаете, Зюйтхоф, эта ваша история с собачьими костями не так уж и невероятна, как вам кажется. К сожалению, в последнее время случаи незаконного вскрытия могил участились. И это доставляет нам массу хлопот. Так что не удивляйтесь, что смотритель церкви тут же увидел в вас осквернителей могил или кладбищенских воров. Это отнюдь не лишено логики. Ну почему, скажите мне, почему вы не подали официальную просьбу о вскрытии могилы Титуса ван Рейна? Тем более что могила сына Рембрандта — временное захоронение до тех пор, пока не будет расширен фамильный склеп ван Лоос в церкви Вестеркерк. — Бюрократическая возня и писанина продлилась бы до второго пришествия. Корнелия на пределе сил, она страшно удручена исчезновением отца. Просто мне хотелось как можно скорее убедиться, что утверждение Рембрандта о том, что он якобы видел своего сына Титуса, не лишено оснований. — А разве теперь вы можете с полной уверенностью утверждать, что он жив? — Нет, но останки собаки в могилеТитуса говорятотом, что здесь дело нечисто. — Не обязательно. Останки Титуса ван Рейна вполне могли стать добычей похитителей. — Все верно. Но как оказались в могиле собачьи кости? — Ничто не мешало похитителям замыслить коварную и жестокую шутку. — Катон постучал пальцем по лбу. — Ведь те, кто шныряет ночью по церквям и кладбищам, желая отрыть покойников, явно не в своем уме. — Но как они могут использовать останки? — В анатомических целях, — со вздохом ответил инспектор участкового суда. — Вскрытие и расчленение трупов в медицинских целях или якобы в медицинских целях становится повсеместным явлением. Врачи вскрывают трупы умерших, извлекают из них органы и заспиртовывают их. А иногда используют их как диковинные безделушки. Что-то вроде картин на стенах. — Не очень-то вы лестного мнения об анатомах. — А как я могу относиться к тем, кто разглагольствует о чисто научных целях на благо человека, но при этом устраивает публичные демонстрации, к тому же за плату. А что вы скажете про врачей, использующих свои знания и умения для завоевания популярности и возможности занять тепленькое местечко где-нибудь в магистрате? Что, по-вашему, им милее — знания, желание поставить их на службу людям, исцелять их от недугов или же толщина кошелька? — Уж не намекаете ли вы на доктора Николаса Тульпа? Доктор Тульп сумел выбиться в члены муниципалитета, а затем и в бургомистры Амстердама. Я вспомнил, что Рембрандт даже запечатлел один из его анатомических сеансов на холсте. — Это всего лишь один пример, хотя и выдающийся. — То есть вы хотите сказать, что доктор Тульп строил свою карьеру не совсем честным путем? — Этого я не утверждаю. Просто мне не по душе, когда мертвецов начинают использовать в угоду здравствующим. Вероятно, во мне говорит профессия, поскольку мне приходится иметь дело чаще с мертвецами. Некоторое время я обдумывал сказанное Катоном. В особенности меня заинтересовал вопрос о консервации человеческих органов. — Доктор Антон ван Зельден тоже светило в области создания препаратов из человеческих органов, — заметил я. — Вы, случаем, не знаете, использует ли он в своих целях и похищенных из могил покойников? Подавшись вперед, инспектор нахмурил лоб: — Значит, вы и до доктора ван Зельдена добрались. А почему, собственно? — Он вхож в дом Рембрандта, он семейный доктор де Гаалей, и к тому же я видел его в заведении в обществе ван дер Мейлена. Этого, думаю, будет достаточно? — Чтобы вменить ему что-нибудь в вину — нет. — Вы упорно не желаете отвечать на мой вопрос, господин Катон. — Ван дер Мейлен, ван Зельден, де Гааль. Вы, Зюйтхоф, все норовите потягаться с нашей городской знатью. — Вы правы, проблемы мне ни к чему, но я настолько глубоко увяз во всем этом деле, что пути назад просто нет. И не только из-за себя, но и… — Из-за Корнелии ван Рейн? Я прав? — Верно. А вы, господин инспектор, тоже изо всех сил стараетесь не испортить отношения со столь влиятельными людьми, так? — В целом да, если такое на самом деле возможно. — И при этом готовы пойти на нарушение закона? — Ни в коем случае. — Тогда расскажите мне о ван Зельдене. Хотелось бы узнать о нем побольше. — Ладно. Вы ведь все равно не отстанете. Но пообещайте, что все останется между нами. — Само собой разумеется. — На самом деле ван Зельден уже давно среди наших подозреваемых. Полагают, что на него работает одна банда, промышляющая разрытием могил. Но до сих пор никаких доказательств у нас не было. — Ну, раз вы уже заговорили об этом, досказывайте до конца. Не такой я круглый дурак, чтобы не разобраться, что к чему. В том числе есть еще и ваше особое отношение ко мне, господин Катон. В какую бы переделку я ни попал, вы всегда в нужный момент приходите мне на помощь. Разве такое может быть случайностью? Вряд ли. Так что уж поведайте мне, чем я обязан таким вниманием к своей персоне! Инспектор Катон улыбнулся: — Вы друг Осселя Юкена и ученик Рембрандта. — Ныне я уже не его ученик, старик вновь решил со мной расстаться. — Но из своего дома не выгнал. — Нет, не выгнал. Но что с того? Поднявшись, Катон взял лежавшую на столе шляпу. — Вы не проголодались, Зюйтхоф? Ладно, приглашаю вас позавтракать. А по пути кое-что вам покажу. В коридоре нам попался Деккерт, с которым Катон обменялся парой фраз — шепотом, так, чтобы я не услышал. Пройдя через уже оживленный Дамрак, мы прибыли к отдельно стоящему зданию, довольно вычурному и увенчанному столь же вычурной башенкой. В этой части города было тихо по сравнению с Дамраком или рыбным рынком, но к полудню и здесь будет полным-полно народу. Тогда улица заполнится разодетыми купцами, спешащими войти сюда, а к двум часам дня, то есть к моменту закрытия, та же публика начнет покидать здание, либо весело смеясь, либо мрачнее тучи, в зависимости от исхода визита. — Вы знаете, где мы сейчас находимся? — Шутите? Кто же из жителей Амстердама не знает Купеческой биржи. Не один здесь разбогател или же, напротив, разорился. Меланхоличная улыбка промелькнула на лице инспектора участкового суда. — Все верно, Зюйтхоф, вы попали в точку, как говорится. На самом деле здесь многие разорились на торговле тем, чего они и в глаза не видели, да и видеть не помышляли. — Ну, таковы правила большой торговли. Одним все, другим ничего, разве что убытки. — Для честной торговли эти правила не самые лучшие, надо сказать. От души надеюсь, что биржевые бесчинства не надолго. — Чего это вы так невзлюбили биржу? — Вот сядем с вами завтракать, я и объясню. Катон потащил меня в какую-то харчевню неподалеку от рыбного рынка, где мы уселись за стоявший в отдаленном углу стол. После того как нам подали хлеб, масло, сельдь крепкого посола и по кружке дельфтского пива, Катон заговорил: — Помните нашу знаменитую «тюльпанную лихорадку», Зюйтхоф? Разумеется, вы знаете о ней лишь понаслышке, поскольку мы с вами слишком молоды, чтобы помнить, опираясь на собственный опыт. Но слышать-то наверняка слышали. Я действительно слышал об этом феномене. — Это было лет эдак тридцать назад. Тогда очень многие купцы потеряли на бирже состояние, ударившись в безрассудные биржевые спекуляции. Катон кивнул: — Это произошло в 1637 году, когда рухнула конструкция, которую пытались возвести на столь ненадежном фундаменте, как купля-продажа-перепродажа. Крах коснулся не только крупных купцов. «Тюльпанная лихорадка» охватила тогда буквально всех — случалось, простые люди лишались враз всех своих кровью и потом добытых сбережений. — Почему вы заговорили об этом? — недоумевал я, собираясь вонзить зубы в ломоть хлеба с селедкой. — Чтобы еще раз убедиться, насколько опасной может стать игра на бирже. И дело не в том, что спекуляции луковицами тюльпанов противозаконны, нет, в целом это не так. Просто жажда наживы толкает людей бог знает на какие поступки. — Вы, оказывается, моралист, — не скрывая иронии, констатировал я. — Не будь я им, я не занимал бы свой пост. Но я избрал биржу, чтобы вам легче было понять то, о чем я сейчас собираюсь говорить. Небывалый размах биржевых спекуляций говорит о том, что люди по непонятным причинам впадают в самое настоящее безумие, если речь вдруг заходит о торговле товарами или же просто о заключении всякого рода пари. По самому ничтожному поводу они готовы поставить на карту все свое состояние. Я помню одного нашего соотечественника, который на спор прошел по заливу Зейдер-Зе от острова Тексельдо самого Вирингена — и на чем, как вы думаете? На корыте, в котором замешивают тесто! Был и владелец харчевни, он жил в Блийсвике — человек вполне достойный, — потерявший дом по причине того, что с кем-то поспорил: к какому стилю относится колонна — к дорическому или же ионическому, — и проиграл! — Но согласитесь, подобных примеров не так уж и много. Катон очень серьезно взглянул на меня: — Заблуждаетесь, это безумие распространяется все больше и больше. В разных ипостасях. И лучшее тому доказательство — пари на жизнь. — На что? — Пари на жизнь, — мрачно повторил Катон. — Вас удивило, что я так нянчусь с вами. Все дело, как нетрудно догадаться, в этой роковой картине, бесследно исчезнувшей. Картине, приносящей смерть, как вы ее окрестили. Мы предполагаем, что она каким-то образом связана с запрещенными законом пари, неофициально заключаемыми на торговой бирже и затрагивающими наиболее известных купцов. — Поясните, что вы имеете в виду! — От волнения я даже перестал жевать. — За минувшие несколько месяцев нам пришлось столкнуться с несколькими случаями гибели. И все они имели место в кругах купечества или мастеров-ремесленников. Вспомните хотя бы о безумном преступлении владельца красильной мастерской Гисберта Мельхерса. У нас есть сведения, что на так называемой черной бирже заключаются странные пари. Пари, ставкой в которых гибель самых именитых горожан, причем людей вполне здоровых, не отягощенных недугами. Нам непонятно, как вообще можно делать ставкой в игре человеческую жизнь — ведь жизнь определена судьбой. До сей поры никакими конкретными доказательствами подобных пари мы не располагали, разве что слухами. Но после случаев с Мельхерсом и Юкеном, после того, как вы поведали нам об этой непонятной и страшной картине, все вдруг стало обретать целостность. — То есть вы верите, что упомянутая картина и подтолкнула и Гисберта Мельхерса, и Осселя Юкена на чудовищные преступления? — По меньшей мере она могла этим преступлениям способствовать, хоть я до сих пор не могу объяснить, как именно. Пока не могу. Но мне предстоит найти объяснение, вот поэтому я, как вы справедливо заметили, прихожу к вам на помощь. Вы наверняка вляпались в такое, что вам самому не совсем понятно. — А как по-вашему, следует опасаться подобных страшных преступлений и в будущем? — Ничего не могу вам на это ответить. Разумеется, моя задача — предотвратить гибель наших именитых горожан, но свою истинную задачу я вижу в другом: уберечь Нидерланды от распада! — Я не совсем понимаю вас. Катон пристально посмотрел на меня: — Вы не позабыли о данном вами обещании хранить молчание? — Я никогда не забываю о данных мною обещаниях. — Нидерланды в настоящее время не так уж неуязвимы, как это может показаться. Вильгельм Оранский не успел довести до конца задуманное. Могущественные внешние враги — Англия или Франция — только и ждут, когда мы обнаружим слабину, и тогда непременно пойдут на нас войной. В последнее время участились случаи проникновения к нам французских шпионов. И не следует исключать возможности того, что Людовик Четырнадцатый готовит против нас войну. Теперь представьте себе: в такой ситуации вдруг выясняется, что люди с безупречной репутацией, богатейшие из богатейших, купцы, занялись тем, что отправляют друг друга на тот свет. И ко всему прочему при этом набивают карманы заработанным на пари золотом. Что тогда? Это может способствовать взаимному доверию? Сплоченности? Стабильности? Напротив, торговля рухнет, если об этом заговорят, рухнет непременно, и страну охватит паралич! — Именно поэтому общественность лучше не тревожить слухами о несчастных жертвах? Инспектор участкового суда кивнул: — Мы, как могли, старались сохранить все в тайне, но то, что произошло с семьей Гисберта Мельхерса, утаить было уже невозможно. Людям ничего не известно о деталях преступлений, но это в любую минуту может измениться. И теперь, после гибели ван Рибека, газеты забросали магистрат вопросами. Я так и не притронулся к хлебу и сельди, слова инспектора отшибли аппетит. Некоторое время я сидел, погрузившись в молчание. Представлявшиеся мне таинственными и необъяснимыми события после разъяснений Катона обретали обоснованность. На какой-то момент мне показалось, что весь Амстердам просто-напросто сбрендил. Я невольно поежился. — Как и чем я могу быть полезен вам? — прервал я наконец молчание. — Продолжайте докапываться. У вас есть возможности, мне, как лицу официальному, недоступные. А я буду вас прикрывать, но прошу вас, вы уж впредь согласовывайте действия со мной! — Значит, инцидент в церкви Вестеркерк я могу считать исчерпанным? — Как бы не так! И не пытайтесь уверить в этом ваших дружков. К тому же подобным типам не мешает время от времени напоминать, что закон для того и существует, чтобы его чтить. Я собрался на Розенграхт, Катон вызвался проводить меня. По пути я поинтересовался, удалось ли ему вытянуть что-нибудь любопытное из Беке Моленберг, но он лишь покачал головой. — Здесь потребуется время, — пояснил он и повлек меня к церкви Вестеркерк, хотя мне, честно говоря, явно не хотелось там задерживаться. — Нас ожидает Деккерт. Еще меньше мне хотелось входить внутрь церкви. Оказавшись там, я сообразил, почему он пожелал меня проводить и о чем они перешептывались с Деккертом. Последний стоял у могилы Титуса вместе со смотрителем церкви Веертом и еще двумя людьми, скорее всего землекопами. За последние несколько часов могилу вскрыли повторно. — Вы как раз вовремя, господин Катон, — сказал Деккерт. — Мы все подготовили. Прикажете поднять крышку? — Мы для этого и пришли, — бросил в ответ Катон. Деккерт дал рабочим знак, и те приподняли крышку гроба — после моих ночных стараний это не составило труда. Мы с Катоном, подойдя поближе, устремили на гроб полные ожидания взоры. — На сей раз я верю вам безоговорочно, Зюйтхоф, — проговорил инспектор участкового суда, брезгливо созерцая собачьи останки.Глава 21 Между жизнью и смертью
Дом былбольшой и выглядел мрачновато. Стены поросли кустарником, казалось, еще немного, и они полностью скроют его от глаз людских. Дома по соседству, расположенные на Кловенирсбургвааль, выглядели куда опрятнее — неудивительно, их хозяева принадлежали к числу самых зажиточных жителей Амстердама. Впрочем, и доктора Антона ван Зельдена к неимущим никак нельзя было отнести, если верить услышанному. Вероятно, он принадлежал к числу эксцентриков, которых не очень-то заботит внешний вид их обиталища. — Так запустить дом! Это совсем не по-здешнему, — невольно вырвалось у меня. Сопровождавшая меня Корнелия пожала плечами. — А ты точно знаешь, что этот дом принадлежит доктору ван Зельдену? — желал уточнить я. — Тут сомневаться не приходится. Я уже была здесь однажды с отцом, он должен был встретиться с ван Зельденом по поводу какого-то заказа. Но внутрь не заходила. После моего второго визита в церковь Вестеркерк успело миновать несколько часов. Я не стал рассказывать Корнелии о пари, предпочел не вводить ее в детали нашего разговора с Катоном, упомянув лишь о том, что ныне инспектор уже не столь скептически расценивает роль злополучного полотна в лазурных тонах. Преодолевая конфуз, я все же рассказал Корнелии об обнаруженных в гробу ее брата собачьих костях. Вопреки моему ожиданию, воспринято это было без истерик. Вероятно, ее состояние достигло известной точки пресыщения — человека уже потрясенного поразить трудно. Но как бы то ни было, выдержка и самообладание этой девушки поражали меня. Мы решили нанести визит доктору ван Зельдену, поскольку рассчитывали, что он, будучи врачом, пользовавшим Рембрандта, может каким-то образом помочь в поисках исчезнувшего мастера. Кроме того, стоило мне увидеть его в заведении под названием «Веселый Ганс» в компании ван дер Мейлена, как в душу мою закралось подозрение. Я сгорал от нетерпения оказаться в стенах его жилища. Нам отворила круглолицая служанка с розовыми, будто наливные яблоки, щеками. Едва завидев нас, девчонка заученной скороговоркой выпалила: — Господин доктор больше не принимает. Зайдите, пожалуйста, завтра, между десятью и двенадцатью часами. И тут же собралась захлопнуть дверь. — Мы не по поводу болезни, — поторопился переубедить ее я. — Это Корнелия ван Рейн, дочь мастера-живописца Рембрандта ван Рейна. Мы пришли по поводу ее отца. Так что, будьте добры, доложите о нашем приходе господину ван Зельдену. Помедлив, служанка все же впустила нас и провела в переднюю. Убранство помещения отражало вкусы и пристрастия хозяина. Две из висевших здесь картин изображали анатомические сеансы. Но куда больше меня поразили многочисленные банки, которыми были уставлены стены. В них плавали помещенные в раствор человеческие органы и части тела. В одной из банок я различил ухо, в другой — кисть руки. Корнелия, поежившись, отвернулась, а я, припомнив сказанное Катоном, невольно спросил себя, имел ли ван Зельден отношение к бандитам, вскрывавшим могилы. Служанка вернулась и проводила нас в гостиную, оказавшуюся гораздо просторнее и богаче прихожей. Там было куда больше картин на стенах. Как, впрочем, и банок с заспиртованными органами. Наше внимание привлекла написанная маслом работа. Это был портрет Титуса ван Рейна. В доме Рембрандта я видел много портретов умершего сына, и лицо его было мне хорошо знакомо. Корнелия невольно протянула руку, будто желая прикоснуться к любимым чертам лица на холсте. — Как удачно он сумел изобразить Титуса! Вылитый брат! Отец любил его больше всего на свете. И как он только дал себя уговорить продать этот портрет? — Мне стоило для этого призвать на помощь весь мой дар убеждения, — раздался у нас за спиной хрипловатый голос. — Пришлось пообещать вашему отцу, что он в любое время волен прийти сюда и взглянуть на эту картину. Бесшумно появившийся здесь доктор ван Зельден отвесил нам поклон. Из-за высокого роста и согбенности складывалось впечатление, что он вот-вот повалится вперед. — Если ли новости о вашем отце? — осведомился он. — Меня весьма беспокоит его исчезновение. — Меня тоже, — ответила Корнелия. — Потому я и решила прийти к вам. У вас найдется для меня немного времени, доктор ван Зельден? — Для вас — непременно. Усаживайтесь. Могу я предложить вам шоколаду? Я откашлялся. — Слушаю вас? — обратился ко мне доктор ван Зельден. — Я сопровождаю госпожу ван Рейн. Полагаю, обсуждаемый вопрос не для моих ушей, господин ван Зельден. Так что, если позволите, я пройду пока в прихожую. Хочется полюбоваться на вашу знаменитую коллекцию. — Пожалуйста, пожалуйста! Как пройти, я думаю, вы знаете. Уже в дверях я снова обернулся. — Как мне кажется, приготовление препаратов из человеческих органов — ваша страсть, доктор? — Пожалуй, вряд ли стану это отрицать, тем более если принять во внимание их количество. — Доктор ван Зельден деревянно рассмеялся, но тут же посерьезнел. — Впрочем, для врача подобное собрание не просто причуда. Наука — вот его главное предназначение. Все эти препараты крайне необходимы в моих исследованиях и весьма полезны при чтении лекций студиозам. Мне удалось изобрести особый спиртовой состав, позволивший существенно усовершенствовать технику приготовления препаратов. — Поразительно! — воскликнул я. — И где вы только берете столько трупов? — Знаете, несчастные случаи и эпидемии отнюдь не редкость для нашего города, к великому сожалению. Так что в чем, в чем, но в трупах недостатка нет. Понимающе кивнув, я отправился в прихожую, где увидел служанку, смахивавшую белой салфеткой пыль с банок. — Ваш хозяин, надо думать, обожает это занятие, — как бы между прочим заметил я. — О да, господин. Вот только во время уборки я всегда боюсь, как бы не опрокинуть чего и не разбить. А к себе в святилище он меня и вовсе не допускает. — В святилище, говорите? Что это за диковина такая? Смущенно хихикнув, девушка опустила глаза. — Ну, это я так называю. Несколько комнат в глубине дома, где господин доктор ставит свои опыты. Там и приготовляет свои препараты. Меня туда ни разу еще не пустили, хотя я в этом доме вот уже два года. Даже и не знаю, кто там прибирает. — Наверное, боится, что вы станете отвлекать его. — Может, и так, — ответила девушка, осторожно водружая протертую банку на место. — И когда вы позвонили у дверей, господин доктор как раз был у себя в святилище. Поэтому я не хотела его беспокоить. Я был безумно благодарен ей за такую откровенность. И продолжал расспрашивать. — Но вам хотелось бы заглянуть в это святилище, правда? Мне можете спокойно признаться, я вас выдавать не собираюсь. Вы никогда не пробовали тайком пробраться туда? — Нет, что вы, господин, разве можно? Конечно, иногда на меня нападало искушение, если случалось подметать там в коридоре у входа, но я ни за что не войду туда без разрешения. — Весьма похвально, — поощрил я розовощекую служанку и тут же откланялся, сославшись на то, что мне необходимо вернуться в гостиную. На деле же я, пройдя через длинный изогнутый коридор, повернул не к гостиной, а решил пробраться в глубь дома, где, по моим расчетам, и расположилось так называемое святилище доктора ван Зельдена. Я не особенно рассчитывал, что дверь в него будет не на запоре. К моему удивлению, она раскрылась, стоило мне надавить на ручку. Ключ торчал изнутри. Судя по всему, наш визит оказался столь внезапным, что доктор даже не успел запереть дверь. Быстро войдя внутрь, я осторожно затворил за собой дверь. Сквозь задернутые портьеры в довольно большое помещение проникал слабый свет. Помещение это очень напоминало кабинет. Здесь на стенах были развешаны не картины, а схемы строения человеческого тела и внутренних органов. На столе лежали раскрытые фолианты на латыни, а в углу свисал с потолка самый настоящий скелет человека. И тут мне невольно вспомнился другой скелет. Виденный мною в могиле Титуса. По спине пробежали мурашки. Имелось и смежное помещение, служившее ван Зельдену для приготовления препаратов. В емкостях с прозрачным раствором плавали различные органы. Наверняка доктор расхваливал нам именно эту смесь, а в шкафах громоздились десятки пустых стеклянных банок различного объема. Здесь была дверь в соседнее, как мне подумалось, помещение, но она оказалась на замке. Обшарив все вокруг, я так и не обнаружил ключа. Вернувшись в кабинет, я обыскал и его, и мне наконец повезло — ключ нашелся под одним из толстенных фолиантов. Я вновь подошел к запертой двери и убедился, что он подходит! Когда я переступал порог комнаты, которую ван Зельден столь тщательно скрывал от людских глаз, сердце мое колотилось от волнения. И увиденное там заставило меня в ужасе отшатнуться. Я отвел взгляд и некоторое время пытался прийти в чувство, чтобы продолжить взятую на себя миссию. Часть стены в угловой части помещения от пола до потолка была стеклянной, напоминая огромный аквариум с раствором для консервации. И раствор этот был не бесцветным, как в обычных банках с препаратами, а отливал голубоватым, оставаясь прозрачным, так что я мог различить плававшего в нем нагого человека. Он уставился на меня безжизненным остекленевшим взором. И я знал его! Это чуть вытянутое лицо было мне знакомо! Естественно, он был мертв, как мертв был и устремленный в пространство пустой взор, но мне вдруг показалось, что я различаю в нем немую мольбу извлечь его отсюда, избавить от столь противоестественного способа погребения, дать возможность обрести вечный покой в земле. Меня охватило непреодолимое желание взять и запустить в прозрачную стену стоявшим поодаль стулом, разнести вдребезги это кошмарное, непотребное узилище. Но разве мог я отважиться на что-либо подобное? Разве мог чем-ни-будь обнаружить свое тайное присутствие здесь? Поспешно покинув комнату, я запер за собой зверь, положил ключ на прежнее место и поторопился покинуть пределы этого «святилища», куда больше напоминавшего средоточие греховности. Отерев пот со лба, я придал лицу безмятежное выражение и направился в гостиную. Корнелия как раз поднималась, прощаясь с доктором ван Зельденом. — Доктор смог быть чем-либо полезным? — стараясь говорить как можно уважительнее, спросил я. — Нет, если речь идет о местопребывании отца. Но для меня было большим облегчением вновь спокойно обсудить все с ним. Доктор ван Зельден проявил ко мне сочувствие, предложив помощь, если в этом будет нужда. Я повернулся к хозяину дома: — Весьма любезно с вашей стороны, доктор ван Зельден. — Не стоит об этом, — ответил он и перевел взгляд на Корнелию: — Госпожа ван Рейн, вы можете полностью рассчитывать на меня и обращайтесь в любое время, как только в этом возникнет необходимость. — Доктор медленно повернулся ко мне: — Это же относится и к вам, господин Зюйтхоф. От взгляда и тона, каким это было сказано, мне стало не по себе. Я невольно подумал, что он каким-то невероятным образом прознал о моем тайном визите в его «святилище», и лихорадочно стал соображать, уж не наследил ли я там. Впрочем, если даже и так, первым подозреваемым стало бы то самое очаровательное розовощекое создание, которое сейчас провожало меня и Корнелию до дверей.Затащив Корнелию в близлежащий винный погребок, я заказал два стаканчика крепкого красного вина. После внушительного глотка я поведал девушке о страшной находке в доме ван Зельдена. Она устремила на меня недоверчивый взор синих глаз: — Человек в растворе, говоришь? Покойник? — Да, да. Плавает в растворе, будто рыба. — Для чего это понадобилось ван Зельдену? — Знаешь, я тоже задаю себе этот вопрос. К тому же этот покойник… Судорожно сглотнув, я понял, что большего сказать ей не в силах. — Что — покойник? Корнелис, ты уж не мучай меня, договаривай, раз уж взялся. — Это твой брат, — с трудом выдавил я. Лицо Корнелии побелело как мел. Она молча смотрела на меня, не в силах поверить в услышанное. — Титус? Этого не может быть! — в ужасе прошептала она. — Это он. Я не лгу, все так и есть. И вполне сочетается с моей первой находкой в церкви Вестеркерк. Так что собачьи кости в гробу Титуса не просто злая шутка тех, кто надумал поживиться, раскапывая чужие могилы. Титуса с самого начала не стали класть в гроб. На теле его ни малейших следов разложения. Так что они и не думали хоронить его. Но в гроб надо было что-то положить, иначе конец их замыслу. — Но… но что ван Зельден задумал делать с телом Титуса? — Я тоже ломаю себе голову над этим. Корнелия, вскочив, стала набрасывать на себя накидку. — Куда ты? — спросил я. — К твоему инспектору участкового суда Катону. Надо сейчас же рассказать ему обо всем. Пусть они приедут в дом ван Зельдена и полюбуются, что там творят с телом несчастного Титуса! Я осторожно удержал девушку и усадил ее на деревянную скамью. — Нельзя этого делать. Ведь ван Зельден наверняка знает, где сейчас твой отец. И под давлением не скажет ни слова. Я сам пойду к Катону и постараюсь убедить его проследить за ван Зельденом. Может, он и выведет нас на след мастера Рембрандта. Корнелия с надеждой посмотрела на меня. И тут все накопившееся прорвалось на волю. Девушка бросилась мне на грудь и разрыдалась. Я нежно поглаживал ее по волосам. Трудно видеть, как дорогое тебе существо заходится от отчаяния. Но необходимо было дать ей выплакаться. Не обращая внимания на любопытные взгляды посетителей погребка, я терпеливо ждал, когда Корнелия успокоится. Несколько минут спустя она вытерла слезы. — Ты веришь, что отец на самом деле мог увидеть на улице живого Титуса? — спросила она. — Вот уж чего не знаю — того не знаю, — признался я. — Но если такое произошло, то наверняка в руках ван Зельдена ужасное и могущественное оружие — способность возвращать к жизни умерших.
Глава 22 Нежданная встреча
28 сентября 1669 года На следующее утро я отыскал Катона в ратуше и рассказал ему о виденном днем раньше в доме ван Зельдена, связав все с обнаруженными в церкви Вестеркерк собачьими останками. Инспектор терпеливо выслушал меня, ни разу не перебив, и полностью был согласен со мной в том, что в данный момент арестовывать ван Зельдена преждевременно. За ним необходимо тщательное наблюдение — таково было мнение инспектора. Простившись с Катоном, я направился на Дамрак нанести визит Охтервельту. Поскольку его симпатичная дочурка на тот момент отсутствовала, мне ничего не оставалось, как вручить прикупленный мною букет тюльпанов папаше. Торговец с неподдельным удивлением взглянул на цветы. — Чего это вас угораздило явиться сюда с цветами, Зюйтхоф? Уж не собрались ли вы посвататься к моей дочери? — Пока что справляюсь с соблазном, — с улыбкой ответил я. — А букет этот передайте вашей дочери, когда она вернется, и скажите, что он от ее тайного воздыхателя. — Почему от тайного? — недоуменно подняв брови, спросил Охтервельт. — Потому что женщины питают слабость к знакам внимания со стороны тайных воздыхателей. Да и вообще, подарок поднимет Йоле настроение, она от этого станет еще симпатичнее, хоть и так очень красива. И кто знает, может, недалек день, когда вам и впрямь придется беседовать с тем, кто явится сюда свататься. — От души надеюсь, что он будет мало походить на вас, — пробурчал Охтервельт, кладя букет поверх стопки книг. — А чем же я вам не угодил? — Тем, что мне в последнее время о вас много дурного довелось услышать. В Распхёйсе побывали по подозрению в поджоге дома ван Рибека. Молодой господин де Гааль на днях зашел ко мне занести корректуру второго издания книги его отца. Так вот, он пышет ненавистью к вам, желает на вашу голову всех напастей. — В это я готов поверить. Я знаком с молодым господином де Гаалем. Мы познакомились в Распхёйсе. Охтервельт уставился на меня, будто увидел перед собой давным-давно вымершую диковинную птицу, но от дальнейших расспросов воздержался. — А сейчас как ваши дела? — Как видите, здравствую, и не в сыром подвале Распхёйса. Вероятно, все потому, что я ни в чем не виновен. — Ни в чем не виновен, говорите? Ха-ха-ха! Кто это в наши времена может считать себя ни в чем не виновным? — Это совершенно иной вопрос, — ответил я и устремил взгляд в окно. — Скажите, господин Охтервельт, а что, ваш знакомец и партнер господин ван дер Мейлен надумал прикрыть свое дело, да? — Вы бы его самого лучше спросили. — И рад бы, да вот только нет его в Амстердаме. Выехал, а куда и зачем, никому не сказал. Может, вы хоть что-нибудь знаете? Охтервельт лишь покачал головой: — А мне откуда знать? Я с ним всего-то пару раз дело имел. Иногда вообще неделями его не вижу. И что мне до его поездок? А вам он так уж и занадобился? — Да, мне очень нужно кое о чем его спросить, — не стал вдаваться в детали я. — А когда он обосновался здесь, на Дамраке? Секунду или две Охтервельт раздумывал. — Недавно, может, лет пять тому, может, года четыре. — А до этого чем занимался? — До этого публика у него была попроще — его лавка располагалась в этом недоброй славы квартале Йордаансфиртель, да и то где-то на задворках. — А где именно, не могли бы вы мне сказать? — настаивал я. И снова лоб Охтервельта наморщился, но после этого он представил мне на удивление толковое и подробное описание, правда, слегка запутавшись в названиях улиц. — Сегодня там вы мало что найдете. Там сплошная ветхость, дома, того и гляди, рухнут. Не один год еще минет, пока магистрат сподобится что-нибудь придумать с этим местом. Поблагодарив владельца антиквариата, я вышел на Дамрак. Ветер гнал по мостовой осенние ярко-желтые листья. Будучи прикован мыслями к Корнелии и ее доброй служанке, дожидавшимся меня на Розенграхт, я направился в описанный Охтервельтом район города. Ветер усиливался, его холодные порывы заставили меня втянуть голову в плечи. Район и впрямь оказался не из лучших. Упадок и запустение. Да, вероятно, ван дер Мейлену пришлось здорово напрячься, или же ему сопутствовало невероятное везение, если он сумел перекочевать отсюда не куда-нибудь, а в главную цитадель торговли — на Дамрак. Я готов был поверить, что он прибег для этого и к не совсем законным средствам. С полчаса проплутав между полуразрушенными от времени домами и складскими зданиями и так и не найдя интересующее меня место, я обратился к шедшему навстречу старику с мешком на спине. — Можно у вас узнать, господин? — задержал я его. — Вот пришел сюда отыскать один дом, который раньше принадлежал торговцу антиквариатом, ван дер Мейлену. А найти его никак не могу. Может, подскажете? Старик неторопливо снял мешок со спины и опустил его на землю. Озабоченно потерев заросший седой щетиной подбородок, он покачал головой: — Боюсь, ничем не смогу вам помочь, господин. И выставил вперед ладонь, словно желая убедиться, не капает ли с неба. Уловив намек, я проворно извлек из кошелька парочку штюберов и сунул в костлявую ладонь. Мельком взглянув на только что полученный гонорар, старик, чуть сдвинув на ухо засаленную шляпу, почесал затылок. — Если подумать да вспомнить хорошенько, я, наверное, скажу вам, господин. Говорите, он торговал антиквариатом — ну там картинами, безделушками разными… Так? Я энергично закивал: — Да-да, лет пять тому назад, может, чуть меньше выехал отсюда. — Вспомнил, вспомнил, куда вам нужно. Этот дом лежит в двух шагах отсюда. Вон там, смотрите, переулок уходит влево. Видите? Вот в этот переулок как войдете, то направо. Там и стоит дом, который ищете. Снова водрузив мешок на спину, он продолжил путь. Если верить старику, я действительно был в двух шагах от цели. Хорошо, охладил я свой пыл исследователя, ну, приду туда, разве могу я с уверенностью рассчитывать напасть там на след этого неуловимого ван дер Мейлена? Наверняка он убрался из этого дома, чтобы не возвращаться сюда уже никогда. Что даст мне визит в эти Богом забытые места? И все же я направил стопы к указанному мне стариком переулку. Ничего иного не оставалось — хоть какая-то зацепка, пусть и ненадежная. В конце концов, тут уж я ничем не рисковал. Последний в этом переулке дом ничем не отличался от остальных — то есть представлял собой самую настоящую развалюху. Непонятно, куда смотрели уважаемые власти нашего города, позволяя вымирать целым городским кварталам. Дом бывшего торговца антиквариатом казался — да и был — необитаемым. Это меня не удивило. Стекла в большинстве окон верхних этажей были выбиты, а окна первого наскоро заколочены досками, как и входная дверь. Попытавшись отодрать одну из таких досок, я вогнал в ладонь правой руки здоровенную занозу. С ней пришлось повозиться, но когда я ее наконец извлек, призвав на помощь терпение и ногти, то обронил на пол две крохотных капельки крови. Выругавшись, я огляделся вокруг в поисках возможности проникнуть в запустелое обиталище. Слева от дома я заметил узкий проход, наверняка огибавший дом. Пройдя по нему, я вновь наткнулся на все те же заколоченные досками окна. Из-за того, что дома стояли впритык друг к другу, здесь царил полумрак. Не приходится удивляться, что я и шагу не успел ступить, как угодил в какую-то небольшую ямку и растянулся. При падении я сильно ссадил руки. Ладони горели, и я уже проклинал ту минуту, когда отважился отправиться на поиски исчезнувшего торговца. Когда я, кряхтя, поднимался, то вдруг услышал тихий голос. — Смотрите под ноги, Зюйтхоф! Это вам не по Дамраку разгуливать, как вы имели возможность убедиться. Сощурившись, я стал вглядываться туда, где впереди словно ниоткуда взялась мужская фигура. Этот скрипучий голос, ссутулившаяся стать. Кто это мог быть? Я стал приближаться и мало-помалу узнал его. — Как?.. Как вы здесь оказались? — пролепетал я. — Это мне бы впору подобные вопросы вам задать, Зюйтхоф, — ответил Рембрандт ван Рейн. — Вот уж никогда бы не подумал вас здесь встретить. Что вам здесь понадобилось? — А вам? Я попытался осмыслить происходящее. Передо мной стоял исчезнувший несколько дней назад мастер Рембрандт и как ни в чем не бывало беседовал со мной. Будто мы с ним не расставались. Мне показалось, что художник похудел, щеки казались еще более впалыми, морщины углубились. Он был с непокрытой головой, седые космы беспорядочно ложились на поникшие старческие плечи. — Зачем вы меня разыскиваете? — все же поинтересовался он. — Потому что ваша дочь чуть не умерла от страха за вас. — Этого не может быть — Корнелия знает, где я. — Вот как? И с каких же пор? — Она все время знала. — Это что-то новенькое. Еще вчера она все глаза выплакала, думая, что вас уже нет на этом свете. — Вы лжете! — злобно прошипел Рембрандт, и лицо его исказилось гневов. — Вы всегда были и останетесь лжецом, гнусным, коварным типом. И как я только пустил вас за порог моего дома?! — Мне совершенно ни к чему лгать вам. И не старайтесь убедить меня в том, чего не было и быть не могло. Кто, скажите мне, мог оповестить Корнелию о вашем местонахождении? — Как кто? Разумеется, Титус. Кто же еще? Он и привел меня сюда. — Ваш сын Титус? Рембрандт от души рассмеялся и энергично закивал: — Титус не умирал ни от какой чумы, представьте себе! Мой сын жив! Он и привел меня сюда, пообещав, что расскажет все Корнелии. Мне на ум пришел скелет собаки в гробу Титуса и заспиртованный труп в доме доктора ван Зельдена. И все же, кто из нас не в своем уме? Рембрандт? Или я? А может, весь Амстердам потихоньку обезумел? — Вы мне не верите, — отметил старик, изучив меня пристальным взором. — Так уж выходит. Вы ведь видели, как ваш сын умирал. Как же теперь вы можете утверждать, что он жив и здоров? — Он жив, жив. И он здесь! Может, отвести вас к нему, Зюйтхоф? — Сделайте любезность. — Ладно, пойдемте. Повернувшись, мастер Рембрандт спустился на пару ступенек. А я и не заметил здесь лестницы. Ступеньки вели, как мне подумалось, ко входу в подвал, единственной двери в этом доме, не заколоченной досками. Я обратил внимание, что для своего возраста Рембрандт двигался на удивление проворно. И уверенно — не успел я оглянуться, как он исчез в темном прямоугольнике входа. Я торопливо последовал за ним и тут же оказался в застоявшемся воздухе дома — вместо Рембрандта передо мной вдруг возникли три хорошо знакомые мне фигуры. Августовский вечер неподалеку от Лабиринта. Башня Чаек и ловушка, в которую я угодил там. Ну вот и третья по счету западня. Тут из-за спин троих показался мой бывший наставник, мастер Рембрандт. — Что, Зюйтхоф? Небось не рассчитывали, что все так повернется? — хихикнув, осведомился он. — Ну, уж теперь вы оставите свои домогательства! Вы хотите занять место моего сына, так ведь? Ревнуете его ко мне! Слова его могли показаться бредом сумасшедшего, да и я особо не старался вникнуть в их смысл. Громилы подошли почти вплотную ко мне, так что нечего было и думать о том, чтобы выбраться отсюда живым. К тому же у всех троих в руках были пистолеты — стоит пошевелиться, и пуля в живот мне обеспечена. Вожак со шрамом на щеке криво улыбнулся. — Ну, живо… писец, вот ты и забрался дальше некуда, — лениво протянул он, ткнув пистолетом в узкую дверь входа в подвал. — Вход бесплатный, выход и за мешок золотых не купишь. И смотри у меня, я тебя знаю, так что не делай глупостей, иначе пуля в голову, и крышка. — Охотно верю, — ответил я, изо всех сил стараясь придать своему голосу оттенок беззаботности. Не берусь описывать, что творилось в ту минуту у меня на душе. Отчаяние — оттого, что снова, уже в третий раз, угодил в лапы этих подонков. Нет уж, на сей раз они мне уйти не позволят. Я недоумевал: стоявшего в двух шагах от меня Рембрандта подобный исход, похоже, забавляет. Как все это объяснить? Как?! Рембрандт и трое вооруженных громил, один из которых следовал во главе нашей маленькой колонны с фонарем в руках, препроводили меня через целый лабиринт подземных ходов, поражавший своими размерами. Наверняка этот гигантский подвал образовали несколько смежных подвалов стоящих рядом друг с другом домов. У развилки мы остановились, и верзила со шрамом сказал Рембрандту: — Вам, наверное, лучше вернуться и продолжить работу, мастер. А уж мы займемся вашим Зюйтхофом. — Как угодно, — ответил старик и исчез в каком-то боковом проходе, на дальнем конце которого тускло мерцала лампа. Меня доставили в подземный застенок, очень напомнивший мне тот, что располагался под заведением на Антонисбреестраат. Вот только побольше, да у стены громоздилось несколько ящиков. Никаких окон здесь, разумеется, не было и быть не могло. Фонарь же громилы унесли с собой. С ужасающим скрипом закрылась дверь, и я в третий раз за минувшую неделю оказался в темном застенке.Глава 23 Дельфтское проклятие
— Вот так-то, Зюйтхоф, торчите в каком-то подвале, дела ваши никудышные, ничуть не лучше, чем два дня назад. Нет, все-таки давайте не будем кривить душой — неужели вся эта непонятная дребедень в самом деле стоила стольких усилий? После нескольких часов, проведенных на деревянных ящиках в полнейшем мраке, дверь наконец отворилась. Свет от лампы в руках вошедшего ослепил меня. И хотя я толком не мог различить, кем был мой гость, но по голосу все же узнал его. — Значит, вы никуда из Амстердама не уезжали, — отметил я. Глаза постепенно привыкали к свету. — По-видимому, даже и не собирались. Ван дер Мейлен подошел поближе и улыбнулся: — Да вы, оказывается, настоящий хитрец, Зюйтхоф. И то, что вы сумели пронюхать место, где я нахожусь, — лишнее тому подтверждение. Так что от души делаю вам комплимент. Чутье у вас незаурядное. Вот только жаль, что нам приходится от него страдать. Можно лишь мечтать о том, чтобы заполучить в наши ряды такого человека, как вы. Я насторожился. Еще в пору начала сотрудничества с ван дер Мейленом я убедился, что тот горазд на медоточивые речи. И тут же сообразил, что сейчас мне куда выгоднее сделать вид, будто я попался на его удочку, поскольку иного способа выбраться отсюда живьем на волю не было. — Вы упомянули некие «ваши ряды». Откуда мне знать, что вы под этим подразумеваете, и вообще, подойдет ли мне то, чем вы занимаетесь? — Скорее всего нет, — вздохнул ван дер Мейлен. — Или вы все же человек религиозный? — Ну, знаете, в церковь меня гонит скорее чувство долга, а не искренняя убежденность. — Что вы вообще знаете о вашей кальвинистской вере? Я насторожился. — О моей, говорите? — Отвечайте на вопрос, Зюйтхоф! — Только то, что заучил в детстве, больше ничего. — О католической, следовательно, вы знаете еще меньше. — А что вас удивляет? Вряд ли можно утверждать, что она так уж сильно распространена у нас. Ван дер Мейлен помрачнел. — С тех пор как кальвинисты почти сто лет назад захватили власть, мы лишились возможности публично отправлять наши ритуалы. А католическая вера между тем единственно истинная! Но мы вынуждены встречаться втайне от всех, не в церквах, а в молельных домах или вот как здесь, в подземелье. Это стыд и позор. Но все скоро изменится! — Скоро, говорите? Когда же? И как это произойдет? — Не стану утомлять вас рассказами на эту тему, Зюйтхоф. В конце концов, вы не католик и тем более не жерардист. — Жерардист? — Имя человека, пострадавшего за нашу истинную веру, было Бальтазар Жерар. Этот мужественный человек пожертвовал собой в тысяча пятьсот восемьдесят четвертом году во имя того, чтобы в Нидерландах утвердилась католическая вера. Он хотел положить конец господству Вильгельма Оранского и кальвинизму. Вам наверняка приходилось о нем слышать. — Да, он убил принца Вильгельма Оранского в Дельфте. Застрелил его из пистолета. А за это его потом повесили, так? — Все верно. Хотя он и убил Вильгельма, это так и не смогло поколебать позиции кальвинистов в Нидерландах. Мы и наши единомышленники поставили целью довести это до конца. На эшафоте, перед тем как палач разрубил его на части, Бальтазар Жерар произнес пророческие слова: «Проклятие всем вам, безбожникам-кальвинистам! Вам, и детям вашим, и внукам. И сотню лет еще будете прокляты и вы, и ваши Богом проклятые Нидерланды, и все здесь живущие!» Постепенно я начинал понимать, куда клонит ван дер Мейлен. И про себя сказал: «Стало быть, жерардисты задумали воплотить в реальность проклятие Жерара, которое тот выкрикнул перед казнью в Дельфте». — Как я уже говорил, Зюйтхоф, вы человек хитрый. Этим утверждением ван дер Мейлен решил пока ограничиться. По его распоряжению мне принесли воды, хлеба, кусок сыра и немного вина. И даже свечу. Несмотря на весь ужас пребывания в подвале, есть мне хотелось зверски. Я немного успокоился. Радоваться было особенно нечему, но положение мое было, судя по всему, отнюдь не безвыходным. Если мое отсутствие затянется, меня хватятся, и инспектору Катону не составит труда отыскать меня здесь — через Эммануэля Охтервельта, тот наверняка сообщит ему, куда я направился. Так что поесть было необходимо — силы мне еще понадобятся, и немалые. К тому же за едой я мог подумать над тем, что сказал мне мой старый знакомый, торговец антиквариатом ван дер Мейлен. Постепенно кусочки мозаики складывались в стройную картину. Но картина эта до боли напоминала полотна Рембрандта — больше тьмы, нежели света.И снова потянулись часы, и снова на пороге моего застенка появилась известная мне троица церберов. На сей раз я должен был следовать за ними. — Куда? — спросил я. — Увидишь, — коротко бросил громила со шрамом на щеке, и толчок в спину обозначил направление — вперед по лабиринту коридоров и переходов. У одного из поворотов нас дожидался ван дер Мейлен. — Что же это за подземелье? Кто и как его создавал? — поинтересовался я. — Оно существует со времен войны Вильгельма Оранского. Тогда этот район города еще не был застроен. А сеть подземных ходов создавалась для того, чтобы на случай осады Амстердама было где хранить провиант, порох и ядра. А на случай захвата города — как место, где могли бы скрываться оборонявшиеся. Но нам надо торопиться — скоро начнется месса. — Месса? — Вы же хотите узнать больше о нашей вере? Тогда милости прошу в наш тайный подземный храм! Слова ван дер Мейлена и правда разожгли во мне любопытство, так что я пошел бы с ним и без сопровождавшей меня троицы. Вскоре проход, по которому мы передвигались, соединился с еще несколькими, и, миновав пару метров, мы очутились в довольно просторном помещении, освещенном множеством свечей и ламп. Со всех сторон сюда тянулись люди — мужчины, женщины, дети. — По воскресеньям здесь бывает куда больше прихожан, — пояснил ван дер Мейлен. — Но месса у нас не только по воскресеньям, а ежедневно. И каждый наш единомышленник, если позволяет время, обязательно приходит сюда. — Но разве не вызывает подозрение, что столько людей одновременно следуют в одном и том же направлении? Ван дер Мейлен отрицательно покачал головой: — Здесь несколько входов, помимо того, через который вы проникли сюда. И торговец провел меня в соседнее помещение — прежнее, оказывается, служило лишь преддверием, — где и располагался, как он выразился, тайный подземный храм. Стены украшали картины и гобелены на религиозные темы — явное отличие от аскетичных церквей кальвинистов. В центре обширного и хорошо освещенного помещения стояли два ряда деревянных скамеек, постепенно заполнявшихся людьми. Мы с ван дер Мейленом уселись позади, вооруженные охранники остались караулить у дверей, припрятав оружие под платьем. У алтаря появился пастор, я стал напряженно вслушиваться в распевную речь на латыни, хотя ни слова из нее не понял. Необычность происходящего, странно-торжественный ритуал — все это не могло не захватить меня. Слова проповеди на непонятном мне, но благозвучном языке, мелодичные хоралы представлялись мне странным, болезненным сном, но это был не сон, а явь. Расскажи мне ван дер Мейлен о жерардистах, об их тайных богослужениях за стаканчиком вина в каком-нибудь кабачке, я бы рассмеялся ему в лицо, не поверив ни единому слову торговца антиквариатом, и счел бы его рассказ плодом буйной фантазии и стремлением выдать желаемое за действительное. Но здесь, в этих катакомбах, самое что ни на есть абсурдное воспринималось ужасающе реально. Возможно, ван дер Мейлен именно этого и добивался, притащив меня на мессу. Он стремился подавить, оглушить меня, и это, бесспорно, ему удалось. После завершения богослужения многие жерардисты подходили к ван дер Мейлену и обращались к нему весьма уважительно. Не приходилось сомневаться, что человек этот явно не пешка в их сообществе. Во время этих кратких бесед он вел себя так, словно меня и рядом не было. Похоже, ван дер Мейлена вовсе не волновало, что я становлюсь невольным свидетелем их разговоров. Иными словами, я для него не представлял угрозы. Может, потому, что он уже считал меня одним из адептов. К нам подошла пара — мужчина постарше и молодая девушка. У меня глаза на лоб полезли от изумления — это были Эммануэль Охтервельт и его дочь Йола. Оба как ни в чем не бывало улыбнулись мне. — Вы… здесь? — с трудом оправившись от изумления, невнятно вымолвил я. — Да, причем не впервые, дружище Зюйтхоф, — ответил Охтервельт. — Я был бы искренне рад видеть здесь почаще и вас. — И я тоже, — пропела Йола, подмигнув мне. — А когда встретите моего тайного воздыхателя, господин Зюйтхоф, то передайте ему от меня сердечный привет и скажите, что мне очень понравились его тюльпаны. Ван дер Мейлен повернулся ко мне: — Завтра мы продолжим беседу. Мне необходимо кое-что обсудить с господином Охтервельтом. Так что доброй ночи, Зюйтхоф. Охранники доставили меня в мою каморку, где меня дожидался не только сытный ужин, но и одеяло и подушка. Хотя у меня, честно говоря, последняя встреча отбила всякую охоту к еде: надежды на то, что инспектор Катон сможет рассчитывать на торговца Охтервельта, рухнули. Более того — наверняка именно Охтервельт и подсказал ван дер Мейлену, что я собрался сюда. Я не сомневался, что старый хитрец и описал мне путь исключительно ради того, чтобы я, угодив в лапы ван дер Мейлена, был лишен возможности продолжать дальнейшие поиски.
Глава 24 Остров Дьявола
29 сентября 1669 года Здесь, под землей, не существовало ни дня, ни ночи, но когда, скрипнув, отворилась дверь моего застенка и мой сон был прерван ироничным утренним приветствием одного из охранников, я понял, что наверху занимается новый день. Стражник принес мне молока, хлеба, сыра и ведро воды для умывания. Наверное, это было самое необычное умывание в моей жизни. Едва я покончил с утренним туалетом, как в каморке возникли охранник со шрамом на щеке и лысый. — Давай-ка выходи, тебя ждут, — объявил охранник со шрамом. Я последовал за ними в полной уверенности, что сейчас встречусь с ван дер Мейленом и узнаю от него еще кое-что о заговорщиках. Меня доставили в помещение, которое без всякого преувеличения можно было назвать подземной гостиной. Удобные стулья, большой стол и даже картины на стенах. На одной был изображен библейский сюжет, и я сразу же распознал кисть Рембрандта. Помещение могло бы показаться даже уютным, будь в нем окна, куда проникал бы дневной свет. Портила впечатление и характерная для подземелий сырость. Пока я разглядывал картину Рембрандта, за моей спиной раздался шум. Обернувшись, я увидел седовласого пожилого мужчину — как мне показалось, лет семидесяти. Несмотря на преклонный возраст, держался он очень прямо, и вообще у него был вид человека деятельного, полного энергии. Даже видя его впервые, я без труда догадался, кто он. — Доброе утро, господин де Гааль, — поздоровался я. Остановившись в нескольких шагах, де Гааль, прищурившись, стал изучать меня темными глазами. — А мы разве знакомы? Что-то не припоминаю вас… — Насколько мне помнится, нет. — Откуда же в таком случае вы меня знаете? — Я познакомился в Распхёйсе с вашим сыном. Причем при весьма схожих со здешними обстоятельствах. Он очень похож на вас. — Ну, внешне, может быть, — довольно угрюмо отозвался Фредрик де Гааль. — Ван дер Мейлен был прав. Ума вам не занимать. Вы вполне подошли бы нам. — Так вы пришли затем, чтобы сделать мне предложение? — Скажем, я пришел, чтобы побеседовать с вами. И я исхожу из того, что у вас вполне могли возникнуть ко мне кое-какие вопросы. Как и у меня к вам. — Верно, вопросов у меня масса, — ответил я, усаживаясь против де Гааля. — Готов выслушать их. Узкие губы Фредрика де Гааля сложились в улыбку, но расположения у меня она не вызвала. В этом надменном, отмеченном резкостью лице было что-то хищное, впечатление усиливал изогнутый, будто клюв грифа, нос. Да, сходство с младшим де Гаалем было несомненное. Я решил про себя держать с этим человеком ухо востро. Слишком уж часто в последнее время доверчивость дорого обходилась мне. — Вчера ван дер Мейлен рассказывал мне о жерардистах, — начал я. — Сколько же членов в вашей группе? Мой собеседник умоляюще воздел руки вверх. — Прошу вас, не начинайте со столь деликатных вещей, а не то я, не дай Бог, еще приму вас за шпиона. Вряд ли их число известно даже самим членам нашей организации. Во всяком случае, будьте покойны — нас вполне достаточно, чтобы осуществить задуманное. — Восстановить утраченные позиции католицизма? — Именно. — Или пойдем дальше — превратить католицизм в главенствующую идею? — И это тоже. — Или вовсе сделать католицизм единственной законной конфессией? — Все будет зависеть оттого, как станут развиваться события. — Почему о жерардистах так мало известно? — Потому что мы вынуждены действовать в подполье, как вы сами убедились. Большинство наших собратьев по вере объединены в сравнительно малочисленные группы, отправляющие молитвы в подпольных церквах. Но ничего такого уж тайного или подпольного в этом нет. Власти знают о существовании этих церквей, как знают и то, на чьей стороне истинная вера. — Вы имеете в виду веру католическую? — Разумеется. И власти, с одной стороны, держат нас под контролем, с другой же препятствуют свободному распространению нашего вероучения. Иначе как бы им вербовать на свою сторону католиков, если не знаешь, что они католики? Мы же предпочли иной путь. Для всех мы кальвинисты, и даже ходим в их богомерзкие храмы. Нов душе мы были и остаемся католиками. Вот поэтому мы и основали здесь нашу подпольную истинную церковь. И стремимся к тому, чтобы она вновь заняла надлежащее место. — И при этом убиваете людей? Тоже в угоду вашей вере? — Мы вынуждены действовать в условиях войны, которую начали уже давно. А на войне, как вам известно, действуют совершенно иные законы. — Но разве могут они оправдать гибель ни в чем не повинных женщин и детей? — возмутился я, вспомнив Луизу ван Рибек, ее мать, семью красильщика Мельхерса, даже неисправимую грешницу Гезу Тиммерс. Старик смерил меня колючим взглядом: — Как я вижу, вы сомневаетесь в правоте нашего дела? — До сих пор я убеждался, что погибали невинные люди. Каким образом вы собираетесь достичь поставленной цели, опираясь на такие методы, мне непонятно. Видимо, вас, жерардистов, все-таки поистине много, если вы вознамерились воевать со всей страной? — Если уж говорить об этом, мы вполне можем рассчитывать на помощь извне. Я тут же вспомнил, что говорил мне инспектор Иеремия Катон, и спросил: — Уж не из Франции ли? По лицу Фредрика де Гааля словно пробежала тень. Есть! Я попал в точку! Старик тут же овладел собой. — Почему именно из Франции? — Англичане вполне положительно относятся к нашей молодой пока нации, но вряд ли они питают особую любовь к католицизму. А вот с королем Франции дело обстоит несколько по-иному. — В таком случае сами можете ответить на свой вопрос, и, я думаю, не ошибетесь, — уклонился от прямого ответа де Гааль. — Как и на вопрос о том, собираетесь ли вы ввергнуть страну в пучину гражданской войны? — Вот-вот, попытайтесь найти ответ и на него. И здесь мне на помощь пришло сказанное Катоном — Вы тайком заключаете с именитыми гражданами Амстердама пари на жизнь, а картины, сеющие смерть, доделывают остальное, обеспечивая вам выигрыш. Причем двойной — вы таким образом еще иполучаете деньги для будущей войны. Вы ждете момента, когда погибнет столько знатных и зажиточных горожан, что впредь уже нельзя будет замалчивать это. И тогда вы отведете душу, растрезвонив о происходящем на весь мир. Одним махом вы скомпрометируете все голландское купечество, подорвете в народе доверие в него. А пока будет разваливаться весь хозяйственный уклад Нидерландов, когда брат перестанет доверять брату, муж — жене и сын — отцу, войска Людовика перейдут нашу границу и оккупируют нас. Ну как, верно я обрисовал ваши планы? В темных глазах де Гааля я увидел уважение. — Да, вы и впрямь хитрец, каких мало. — И вот что меня удивляет: ну почему вы не остановились на одном ван Рибеке? Почему должна была погибнуть и Луиза? Ведь, если не ошибаюсь, она была возлюбленной вашего сына. И, насколько я могу судить, он искренне любил ее. Как он мог допустить такое? — Речь о нем не идет. Он к нам отношения не имеет. Хотя мой сын и удачливый делец, но в вопросах веры не разделяет нашу точку зрения. Он убежденный кальвинист и понятия не имеет о нашем братстве. А Луиза должна была погибнуть, поскольку утратила наше доверие. И Константину повезло — ему в жены не досталась дочь сидевшего по уши в долгах ван Рибека. Значит, Константин де Гааль на самом деле видел во мне лишь козла отпущения и единственного виновника гибели своей возлюбленной! Значит, в Распхёйсе он был движим исключительно чувством мести! — А если взять портреты, изготовленные мною по заказам ван дер Мейлена? — продолжал я. — Какова их роль? — Слушайте, господин проныра, вы действительно столь наивны? — вопросом на вопрос ответил де Гааль. — Проще простого. Дочери самых именитых граждан, почтенных и благопристойных, людей с незапятнанной репутацией, истовых кальвинистов, вдруг отдаются за деньги незнакомым мужчинам! Ну разве утаишь такое? Нет, конечно. Обязательно найдется болван, который станет похваляться победами на любовном фронте, а за ним и остальные. И это тоже средство поколебать устои кальвинизма. — Мне все-таки хотелось бы узнать загадку полотен, приносящих смерть. Что в них такого, что на самом деле влечет за собой гибель одних и толкает других на столь жуткие преступления? — Все вы хотите знать, Зюйтхоф, решительно все. В порыве вдохновения я продолжал: — Может, это каким-то образом связано с последним рейсом «Нового Амстердама»? Последним рейсом, в котором вы лично принимали участие по поручению Ост-Индской компании? Снисходительно-высокомерное выражение на лице де Гааля исчезло в мгновение ока. Передо мной вдруг оказался убитый горем старик. — Что вам об этом известно? — сдавленным голосом спросил он. — Увы, очень и очень немного. Но что мне не дает покоя, так это ответ на один вопрос: что за груз имел на борту «Новый Амстердам» по прибытии в родной порт? Перец из Бантама? Вряд ли. И кроме того, прочитав вашу книгу, я убедился, что вы старательно обошли в ней все, что связано с этим знаменательным четвертым рейсом. Взгляд де Гааля затуманился, и я понял, что он унесся мыслями далеко, на четверть века назад, на борт «Нового Амстердама». Минуту или две Фредрик де Гааль хранил молчание, затем заговорил: — Если уж вам и это каким-то образом стало известно, Зюйтхоф, то, Бог с вами, выслушайте и всю историю. Может, тогда вам будет легче понять и меня, и мое вероисповедание. Наш рейс на Бантам протекал без всяких осложнений и в полном соответствии с намеченным планом. Все было гладко. Даже подозрительно гладко. Ни сильных штормов, ни пиратов, ни эпидемий. Команда доставила груз по назначению, после чего на борт был взят бантамский перец, за который наши сограждане готовы платить любые деньги. И обратный путь, казалось, не сулил никаких осложнений. Но однажды ночью разразился шторм столь ужасный, что не было никакой возможности спастись от него, изменив курс. И «Новый Амстердам», флагманский корабль нашей небольшой флотилии, оказался в центре бури. О том, чтобы спасать другие суда, застигнутые ураганом, и речи быть не могло — тут бы уж самим уцелеть. Лишь к утру шторм утих, но «Новый Амстердам» пребывал в ужасном состоянии, мы были отброшены за десятки миль от остальных судов флотилии. Когда на пушечные залпы никто не откликнулся, стало ясно, что мы остались одни. К полудню мы подошли к какому-то островку, не обозначенному ни на одной из наших карт. Этот остров показался нам благословением Божьим — здесь мы спокойно могли привести корабль в порядок, после чего следовать дальше. С изумлением я отмечал, что все слышанное мною раньше об этом рейсе сущая правда. — Мы стали на якорь у этого островка, — продолжал рассказ старый купец. — Люди, отправленные за пресной водой и дичью, так и не вернулись. После двух дней их отсутствия по моей инициативе была создана еще одна группа, которую я сам и возглавил. Корабль я оставил на попечение капитана Свеелинка — он руководил ремонтом судна. Мы направились в глубь острова по следам первой группы и в конце концов обнаружили пропавших. Нашим глазам предстало ужасное зрелище. Все они были мертвы. Судя по всему, они убивали друг друга, причем убивали зверски, с немыслимой для человеческого существа жестокостью. Трупы были изувечены до неузнаваемости. Мы долго не могли понять, что же все-таки произошло. Может, на этом острове людской рассудок странным образом давал сбой? Предав тела погибших земле, мы разбили лагерь для ночлега. Во избежание всякого рода неожиданностей решено было удвоить посты охранения. И вот, проснувшись ночью от шума, я увидел, как охранявшие бьются друг с другом. Я разбудил оставшихся, и мы сумели разнять дерущихся. Один из них, похоже, был вполне вменяем и рассказал, что его товарищ ни с того ни с сего набросился на него и стал душить. Сначала мы не верили ему — уж очень все казалось невероятным, но потом у его товарища обнаружили эти плоды. — Что за плоды? — не понял я. — Плоды кустарника, которым порос весь остров. Размером примерно с яблоко, но ярко-синего цвета. Наверняка люди из первой группы решили попробовать их, после чего впали в безумие. Второй из ночных постовых на следующее утро постепенно пришел в себя, однако так и не смог вспомнить, что с ним произошло. Обойдя остров, мы обнаружили пресную воду, дичь, но людей не видели — остров оказался необитаемым. На мгновение де Гааль закрыл глаза, словно ему приятно было вспоминать об этих событиях, что мне казалось необъяснимым. — Что же было дальше? — допытывался я. — Этот цвет, этот неповторимый оттенок синевы обнаруженных на острове плодов навел меня на одну мысль. Пусть эти плоды и ядовиты, но, в конце концов, из них можно приготовлять красители, причем невиданных до сих пор оттенков и интенсивности. Таких, в сравнении с которыми даже индиго кажется бесцветным. И вот мы собрали плоды с нескольких кустарников и начали экспериментировать с ними. И тогда мне привиделся Господь. — Господь? Де Гааль откинул голову и возвел очи горе. — Ко мне обратился сам Господь Бог. Он говорил со мной. А чем еще можно объяснить, что я вдруг понял, будто знаю все об этом невиданном растении? Что из него можно получить стойкий краситель, но краситель, способный воздействовать на разум человека. И Господь Бог повелел мне использовать это воздействие в Нидерландах во имя утверждения единственно верного вероучения. Де Гааль снова опустил голову и пристально посмотрел на меня. — Так что я, как вы могли убедиться, действую согласно божественному промыслу. Единственное, в чем я действительно убедился, так это в том, что старик свихнулся окончательно. Впрочем, я не подавал виду. Буднично кивнув, я осведомился, чем же все-таки завершилась история. — Я доставил с корабля несколько человек нам в помощь. Когда я намеревался затребовать еще моряков, капитан Свеелинк отказался выполнить мой приказ, хотя я, как старший купец, был наделен большими, чем он, полномочиями. Капитан мотивировал отказ тем, что, дескать, сам нуждается в моряках для проведения ремонтных работ на корабле. Он не понимал, что я действовал от имени самого Бога. И те, что были со мной, придерживались того же мнения — Дух Божий пронизал нас, окрылил для грядущих деяний. Нам ничего не оставалось, как захватить «Новый Амстердам» силой, что мы и сделали следующей ночью. Пришлось выдержать кровавую битву, в результате которой капитан Свеелинк и его приспешники понесли заслуженную кару — все они погибли. Вот тебе и разгадка трагедии «Нового Амстердама», о которой рассказывал мне Ян Поол. — Следовательно, в Амстердам вы прибыли не с бантамским перцем на борту, а с неизвестным красителем, — заключил я. — И чтобы скрыть это от горожан, разгрузка производилась ночью. Каким же образом вам удалось оправдаться перед директоратом Ост-Индской компании? — Некоторых я сумел при помощи денег переманить на свою сторону. Они и помогли мне замять инцидент и внести соответствующие изменения в бухгалтерские книги. Поверьте, это оказалось куда легче, чем вам представляется. — И вы все эти годы неотступно шли к своей цели? Все эти двадцать пять лет? — Еще древние учили нас — «капля камень точит». Сначала мы работали над созданием разветвленной сети братства, а уж потом перешли к собственно работе. — И в ней вам помогает мастер Рембрандт ван Рейн? Де Гааль, как мне показалось, на мгновение смешался. — Верно. Но вы ведь боготворите его, не так ли? Не желаете ли с ним побеседовать? — Если такое возможно, почему бы и нет. — Я распоряжусь, чтобы вас проводили к нему. А пока серьезно обдумайте все, о чем я вам рассказал. У меня хватило на это времени, пока охранник вел меня по темным закоулкам подземного лабиринта к Рембрандту. Насчет де Гааля сомнений не было — его устами вещал не Бог, а сатана. Дьявол. Посему я так и окрестил далекий таинственный остров, где нашли свой трагический конец моряки и капитан «Нового Амстердама», — остров Дьявола.Глава 25 Улыбка мастера
К своему удивлению, я все же имел счастье увидеть дневной свет, причем на самом деле дневной! Поначалу это было слабое, едва различимое мерцание, возникшее, когда я поднимался вверх по изгибам винтовой лестницы, затем, когда мы одолели вторую лестницу, оно превратилось в свет дня. Здесь имелось окно, через которое можно было обозревать квартал Йордаансфиртель. Я не ожидал ничего подобного, поскольку непонятно отчего уверовал, что мастер Рембрандт способен творить шедевры в лишенном дневного света подземелье. — Где мы? — глуповато спросил я у одного из сопровождавших меня охранников. — В одном домишке, — буркнул в ответ лысый. Одолев еще пару лестниц, я сообразил, что упомянутый «домишко» был немногим ниже амстердамского собора и что это не запущенная развалюха, через которую я проник в катакомбы. В этом доме стекла окон блистали чистотой, хотя, если судить по открывавшемуся сквозь них виду, дом находился неподалеку от вышеупомянутой хибары. Я все больше удивлялся этой отгороженной от остального мира империи, основанной жерардистами на окраине Амстердама. Когда мы добрались до мансарды, человек со шрамом постучал в дверь, не требовательно, как я ожидал, а с величайшим почтением. — Войдите! — раздался изнутри знакомый скрипучий голос, и мы вошли. И тут меня осенило, почему мы оказались не под землей, а над нею. Мастеру Рембрандту необходим был свет дня. Мастер Рембрандт работал в поте лица. Похоже, даже над несколькими картинами одновременно, если судить по составленным в ряд мольбертам с холстами. — К вам гость, — объявил человек со шрамом. Рембрандт окинул меня недовольным взглядом. — Мне гости только во вред. А уж этот в особенности. Уведите его отсюда прочь, оставьте меня одного! — Нет, он должен с вами говорить. А мы пока подождем за дверью, — последовал категоричный ответ человека со шрамом. Нас оставили одних. Охранники даже плотно притворили за собой дверь. А почему бы, собственно, и не притворить? Куда я мог отсюда деться? Разве что выброситься из окна и сломать себе шею о брусчатку лежащей внизу улицы? Приглядевшись к мольбертам, я пережил шок. Каждая картина присутствовала в двух видах. Первая — явно чужой кисти, тона и полутона смягченные, вторая изображала тот же или же весьма схожий пейзаж или портрет, но принадлежала кисти самого Рембрандта, причем доминировала в ней хорошо знакомая мне ядовитая лазурь. Та самая, о которой мы только что мило беседовали с господином де Гаалем-старшим. Некоторые картины представляли собой групповые или одиночные портреты. И опять же, все они по колористике до чрезвычайности напоминали печально известное полотно, изображавшее семейство Гисберта Мельхерса, которое и лишило рассудка моего друга Осселя Юкена. Одежда и задний план полотен были выдержаны в различных по интенсивности оттенках упомянутой лазури, причем при пристальном изучении портрета начинало казаться, что другие цвета не присутствуют в полотне вовсе — безжалостно-ядовитая синева заполняла собой все. Меня осенила ужасная догадка: Рембрандт создавал здесь картины по чужим эскизам, по неведомо чьим наброскам. Орудия убийства в лазурных тонах. Изображенные на картинах обречены на гибель. Те самые люди, на жизнь которых вскоре должны были заключаться пари. Рембрандт уже не смотрел на меня, а вновь углубился в работу над портретом круглолицего купца. Кисть мастера проворно летала по холсту, будто он стоял перед мольбертом не здесь, а в студии своего дома на Розенграхт. Судя по всему, писать пресловутые картины в лазурных тонах было для него не в новинку. Может, именно этим и объяснялись его частые и продолжительные отлучки из дома якобы на могилу своего сына Титуса. Каким образом Рембрандт попал в объятия жерардистов, об этом я мог лишь догадываться. Может, спровоцированный мною интерес к загадочным смертям побудил заговорщиков взять мастера на «вечное хранение»? Чтобы не болтал лишнего? Или же потребность в живописи, выдержанной в синих тонах, возросла настолько, что возникла необходимость заставить мастера малевать днями напролет? Непонятно было и то, почему автором картин жерардисты избрали именно Рембрандта. Если уж их ряды столь многочисленны, на что недвусмысленно намекал ван дер Мейлен, то среди них должны быть и художники. Может, недобрая сила картины зависела не только от использования лазури, но и от особых тонкостей стиля? Манеры и мастерства определенного автора? Последнее объяснение показалось мне наиболее верным. Медленно обойдя ряд мольбертов, я добрался до картины, не имевшей эскиза, которая напугала меня и потрясла до глубины души. На ней были изображены Титус и Корнелия. Брат и сестра рука об руку шли вдоль ручья, с нежностью глядя друг на друга. Умерший — или же не совсем — сын и изнемогающая от дум об исчезнувшем родителе дочь. И сколько бы я ни тщился подыскать этому жесту Рембрандта объяснение или оправдание, их не было и быть не могло — от этого полотна, как и от остальных, исходила смертельная угроза. Я повернулся к мастеру: — Почему вы решили изобразить ваших детей? — От охватившего меня волнения я едва мог говорить. Рука старика с кистью замерла, и он, вздрогнув, повернулся ко мне, словно забыл о моем присутствии. — Так они оба всегда со мной, — пояснил он. — Ван дер Мейлен подсказал мне идею, и я благодарен ему за это. Вот вернусь на Розенграхт и покажу ее моим детям. Вот они порадуются. — Титус уже ничему не порадуется, — безжалостным тоном ответил я. — Ваш сын умер. Вы что, забыли об этом? Рембрандт едва улыбнулся, снисходительно, будто общался со слабоумным. — Ошибаетесь, но я на вас не в обиде. Я тоже считал Титуса умершим, когда мы похоронили его в церкви Вестеркерк. На самом деле он не умер. У него была особая форма чумы, когда покойника трудно отличить от живого. Его вылечил доктор ван Зельден, и теперь благодаря этому человеку Титус выздоравливает. Я уже несколько раз говорил с сыном. Конечно, он еще очень слаб, все время лежит и не переносит света, но уже скоро окончательно поправится. Ван Зельден пообещал мне это, и я его вечный должник. Хотя мне и не были известны детали, я начинал понимать дьявольскую, изощренную игру, в которую Антон ван Зельден и его свита втянули Рембрандта, воспользовавшись явным безумием старика. Стала ли упомянутая невменяемость Рембрандта следствием возраста, либо потери сына, или же коварной лазури, используемой им в работе, — все это было мне пока не известно. Вероятнее всего, роль сыграло и то, и другое, и третье. Во всяком случае, жерардисты мастерски воспользовались умопомешательством живописца в своих целях. Я спрашивал себя и о том, отчего Рембрандт, несмотря на постоянный контакт с дьявольской краской, не впал в полное безумие, как это произошло с Гисбертом Мельхерсом, например, или же Мельхиором ван Рибеком, или моим другом Осселем Юкеном. И на этот вопрос я не находил ответа. — Так вы помогаете жерардистам оттого, что обязаны доктору ван Зельдену возвращением к жизни вашего Титуса? Тем, что получили возможность видеться с ним? Рембрандт почесал затылок деревянным концом кисти. — Жерардисты? О ком вы говорите? Значит, он даже не понимает, во что ввязался. Может, сейчас мне все же удастся привести его в чувство, освободить от заклятия? Я приблизился к мастеру. — Ваши картины, эти полотна в лазурных тонах, несут людям смерть. Вы знаете об этом? Презрительный жест, которым Рембрандт отреагировал на сказанное мною, мог означать, что это обстоятельство мало беспокоило его. — Ну, отправится на тот свет парочка подлецов, и что с того? Все мы в один прекрасный день будем там. Ткнув кистью в лазурь, преобладавшую сейчас на его палитре, он загадочно улыбнулся: — Взгляните, Зюйтхоф, разве вы видели подобный оттенок где-нибудь еще? До сих пор я мало ценил синеву, но эта — нечто особенное, непередаваемое, единственное в своем роде. От нее исходит сияние, оно идет изнутри, проникая в души людей, высвечивая в них самое сокровенное, будь то добро или же зло. Чем больше вы всматриваетесь в этот цвет, тем лучше понимаете, отчего синий цвет всегда считался королевским, божественным. — Его, между прочим, иногда называют и дьявольским. Это мне куда ближе. — Не пойму, что вы имеете в виду, Зюйтхоф. Я схватил старика за плечи и слегка встряхнул, чтобы вернуть его к действительности, вывести из одури, в которой находился мастер. — Вас обманули, мастер Рембрандт! И продолжают обманывать! В краске, которую вы используете, нет ни грана божественного. Она от начала и до конца творение сатаны и подвигает людей на недобрые деяния, разжигая в них стремление навредить себе и своим близким. И вы, поддавшись ее зловредным чарам, вредите и себе, и своей дочери Корнелии! Рембрандт осторожно отстранился от меня, отступил на пару шагов и окинул меня отчужденным взором: — Что за околесицу вы тут несете? Я никогда не делал и не сделаю Корнелии ничего дурного! — Нет, делаете! Уже хотя бы тем, что торчите здесь, тогда как она на Розенграхт убивается из-за вас. — Вздор! — пробурчал он. — Корнелии отлично известно, где я и почему. — Это и есть ложь, которой вас опутали с ног до головы, чтобы притупить вашу бдительность. В глазах старика вспыхнуло беспокойство. Может, мне все же удалось задуманное? Может, Рембрандт наконец опомнится? — Разыщите Корнелию и спросите у нее, — продолжал я. — И я готов отвести вас к ней. — Нет, ничего из этого не выйдет, — помедлив, ответил старый мастер. — Я пообещал ван Зельдену и ван дер Мейлену оставаться здесь до тех пор, пока не завершу всю работу. — Вас ничто не обязывает соблюдать данное обещание. Оно куплено ложью. И потом, просто так ни вас, ни меня отсюда не выпустят. Неужели вы этого не понимаете? — Если, как вы утверждаете, нас отсюда никто не выпустит, какой тогда смысл предлагать мне отправиться на Розенграхт? — резонно возразил мастер. Оказывается, не так уж он и невменяем, мелькнула у меня мысль. — Нам остается только бежать отсюда, мастер Рембрандт. Вы здесь дольше меня, и наверняка вам известен способ, каким отсюда можно выйти. И если мы будем с вами заодно, можете не сомневаться, мы осилим задуманное! — Бежать? Нет, ни в коем случае. Если я нарушу данное доктору ван Зельдену обещание, Титус не поправится. Я не могу подвергать риску здоровье моего сына! Разве способен я пойти на такое?! Тем более во второй раз! — Что вы хотите этим сказать? — не понял я. — В свое время Титус по моей милости уже чуть было не умер от чумы. Я опустил руки, потому что мне показалось, что ему уже ничем не помочь. А доктор ван Зельден вернул его к жизни. Разве могу я допустить, чтобы Титус ждал и не дождался помощи от меня? Снова взяв старика за плечи, я тихо заговорил, чтобы не услышали те, кто сторожил за дверью: — Слушайте меня внимательно, мастер. Здесь вам больше оставаться нельзя. И работать над этими картинами тоже нельзя. Вы убиваете ими людей! На лице мастера появилось странное выражение — такое мне приходилось видеть на его автопортретах. Все та же загадочная улыбка, будто он желал сообщить миру о том, что, мол, хоть его и недооценивают, но ничего, он еще свое возьмет и скажет последнее слово. Эта улыбка напугала меня — в ней было нечто зловещее, темное, она обнажала все злое и нечистое в душе художника. Она весьма походила на его картины, где мирно соседствовали свет и тень, сумрак и сияние дня. Разум этого человека помутился. То ли благодаря, то ли вопреки этому Рембрандт, казалось, понимал, что его картины несут людям беду, смерть. Однако это не тревожило мастера, напротив, даже каким-то образом радовало. То была его месть миру и людям, и только сейчас, в этот жуткий момент я осознал, что означала его страсть к писанию автопортретов, обуявшая художника на склоне лет. — Чем же вам так досадили? — невольно вырвалось у меня, я вновь схватил его за плечи и как следует тряхнул. — Да очнитесь же наконец, Рембрандт! Вам нужно бежать отсюда без оглядки! Ни минуты не медля! — Нет! — продолжал упорствовать старый мастер, вновь отстраняясь от меня. Нет уж! На сей раз я его выпускать не собирался. Сцепившись друг с другом, мы, не устояв на ногах, упали на пол, задевая и опрокидывая мольберты. Тут же распахнулась дверь, и в мастерскую ворвались Фредрик де Гааль и Мертен ван дер Мейлен. Вслед за ними появились и охранники с пистолетами в руках. Пока ван дер Мейлен помогал Рембрандту подняться, охрана держала меня на прицеле. — Вы не ушиблись, мастер Рембрандт? — осведомился он с безупречно разыгранным участием. Еще бы! Куда же ему без Рембрандта? Кто будет заготавливать смертельное оружие, если не обезумевший старик? Рембрандт с пристрастием оглядел себя, словно желая убедиться, что не разлетелся при падении на куски. — Нет-нет, ничего страшного. Но попрошу вас убрать отсюда этого Зюйтхофа! Он лишь досаждает мне своими разговорами. — Сию минуту его уведут отсюда, господин Рембрандт, — заверил мастера ван дер Мейлен и тут же сделал знак охранникам. Я подчинился недвусмысленному жесту верзилы со шрамом и поднялся с пола. Левая рука, та, на которую я упал, побаливала, но это меня мало беспокоило. Чувствуя дула пистолетов, упершиеся в спину, я взглянул на Рембрандта. Тот, похоже, успел позабыть о моем присутствии и обеспокоенным взглядом обводил оказавшиеся на полу картины в лазурных тонах.Глава 26 Лазурь
Созерцая дула двух пистолетов и браня себя на чем свет стоит, я беспокойно дожидался в коридоре. Вместо того чтобы соблюдать осторожность, я снова угодил в ловушку, будто слепой, не разглядел грозившей мне опасности. Фредрик де Гааль потому и предоставил мне возможность общения с Рембрандтом, чтобы разгадать мои намерения. Лишь этим можно было объяснить быстроту, с которой оба жерардиста появились в мастерской живописца. Когда я стал уговаривать Рембрандта бежать, они окончательно убедились, что им ни за что не переманить меня на свою сторону. И стоило им обоим выйти из мастерской, как мое подозрение подтвердилось. Седоголовый купец смерил меня издевательским взглядом. — Что ж, ваши хитроумные уловки потерпели крах, мой дорогой Зюйтхоф. Как и наша попытка привлечь вас в наши ряды. Жаль, конечно, но что поделаешь? Ван дер Мейлен, отведите его обратно! Я заметил, что де Гааль не очень-то церемонится с торговцем антиквариатом. Последний явно был у него на посылках. Теперь уже не приходилось сомневаться, что де Гааль — глава жерардистов. Ван дер Мейлен и один из охранников, как им было велено, повели меня тайными ходами. Нечего и думать о побеге, вынужден был признаться я, следуя подземными коридорами. — Почему вы решили привлечь для написания смертоносных полотен именно Рембрандта? — поинтересовался я у ван дер Мейлена. — Что, нет художников в рядах самих жерардистов? Вам не кажется, что было бы куда проще искать их среди вас самих? Тогда не пришлось бы устраивать всю эту пантомиму с Рембрандтом. — Мы пытались поручить это нескольким молодым художникам из числа наших собратьев, но результаты оказались плачевными. Один, уже почти завершив картину, вскрыл себе вены, другой, вопя как безумный, выскочил из своего дома и, угодив под колеса телеги, умер на месте. Третий чуть не задушил свою молодую жену, после чего бросился в близлежащий канал и утопился. Вот и пришлось прекратить это и искать других. Все трое, о которых я вам рассказал, не смогли на протяжении длительного времени противостоять воздействию краски. Мысль привлечь для работы Рембрандта принадлежит Фредрику де Гаалю. Именно он в момент божественного озарения вспомнил о нем. — Божественного озарения? — недоверчиво переспросил я. — А разве де Гааль не рассказывал вам о таинственном острове у берегов Ост-Индии, где он впервые увидел Бога? И с тех пор Господь наш неизменно помогает ему решать все важные вопросы. — И Бог же навел его на мысль о Рембрандте? — Да-да, именно так. Это произошло как раз в моей лавке на Дамраке. Де Гааль увидел там одну картину Рембрандта, которую я незадолго до этого весьма выгодно приобрел на аукционе. Увидев ее, он вздрогнул, а потом минут пять ничего не видел и не слышал. После этого де Гааль пришел к выводу, что Рембрандт, и только он, может нам помочь. И оказался прав! — Вот только есть одна неувязка: Рембрандт не жерардист, — не удержавшись, съязвил я. Торговец антиквариатом, казалось, пропустил мимо ушей мою иронию. — Верно, будь это так, все было бы куда проще. Но, как вы могли убедиться, нам все же удалось убедить его работать для нас. У меня было множество вопросов к ван дер Мейлену, но мы уже приближались к моему застенку, да и торговец, как мне показалось, не был расположен к пространным беседам. Оказавшись один в камере, скудно освещаемой единственной свечой, я опустился на постель и отдался своим мыслям. При всем желании я не мог отнести Фредрика де Гааля к посланцам Бога. К посланцам дьявола — да. Именно дьявол подсказал решение обратиться за помощью к Рембрандту! Или же купец просто пришел к заключению, что пожилой, видевший-перевидевший все на своем веку мастер сумеет дольше противостоять коварному воздействию лазури. Я молча смотрел на потолок из грубо отесанного камня. Голова болела. Любой ответ вызывал массу других вопросов. Я уже готов был пожалеть о том, что дал себе зарок распутать дело Осселя. Кто я такой, в конце концов, чтобы столь легкомысленно ставить себе подобные задачи? Куда это завело меня? И куда еще заведет? Но совесть не давала мне покоя. Я поклялся разобраться в этом, потому что Оссель Юкен, мой друг, пострадал ни за что. И еще одно. Корнелия. Не пойди я по следам исчезнувшей роковой картины, я не встретился бы с Корнелией. Именно поэтому я и пришел к Рембрандту наниматься в ученики. Корнелия! Увижу ли я тебя вновь? В моем нынешнем положении я и гроша ломаного не поставил бы на себя. Могли я вообще желать подобного после того, как со всей откровенностью рассказал о Луизе? Конечно, в последние перед расставанием дни я пытался загладить свою вину, но не мог с уверенностью утверждать, что ее отношение ко мне оставалось прежним. Может, я просто использовал стремление Корнелии отыскать отца, чтобы заручиться ее расположением? Ответ на этот вопрос пугал меня. Как пугала и беспокоила писанная смертоносной лазурью картина Рембрандта, на которой живописец решил запечатлеть своих детей. Эти картины означали смерть для каждого, кто был изображен на них, и я невольно задавал себе вопрос: каковы планы заговорщиков в отношении дочери мастера? Чтобы отогнать от себя эти будоражащие разум мысли, я уселся на своем жестком ложе. Необходимо было отвлечься. Мой взгляд упал на стоявшие в углу деревянные ящики. Впервые я спросил себя: а что, собственно, в них? Может, нечто такое, что поможет бежать? Мысль эта придала мне сил, и, поспешно вскочив, я приблизился к ящикам. Все они крепко-накрепко были заколочены гвоздями. Сняв несколько ящиков, я убедился, что они довольно тяжелые. А что, если в них оружие? Тогда мне не составит труда вырваться на волю! Чтобы вскрыть ящики, требовался инструмент или хоть что-нибудь, чем я мог бы воспользоваться в качестве инструмента. Я тщательно осмотрел помещение, но так и не см. ог найти ничего подходящего. Взгляд мой беспомощно скользил по скрепленному глиной дикому камню стен. Я обратил внимание на один из камней, продолговатой формы, довольно длинный и, как мне показалось, достаточно острый. Приглядевшись, я понял, что он вполне подойдет мне. Но сначала необходимо было вытащить его из стены. Ногтями я принялся выковыривать глину вокруг него. Спустя некоторое время мне удалось обнажить камень настолько, что я мог ухватиться за него. Я попытался расшатать неподатливый камень и до крови поранил руку об острый край. Рана оказалась небольшой, но болезненной и изрядно кровоточила. Камень же не сдвинулся ни на дюйм. Промыв рану водой из стоявшего тут же ведра, я наскоро перевязал ее носовым платком. И тут мне в голову пришла идея: а что, если обвязать выступающий край камня платком и попытаться таким образом вынуть его? Я так и поступил. Боль в раненой руке была жуткая, пришлось даже стиснуть зубы, чтобы не застонать, но постепенно камень стал поддаваться, и в конце концов я извлек его из стены. Этот кусок гранита с заостренным краем мог служить превосходным оружием, однако в тот момент я об этом не думал — нужно было вскрыть ящики. Помучившись, я все-таки сумел острым краем камня вытащить несколько гвоздей и приподнять доски. Содержимое ящика было завернуто в промасленную ткань. Развернув ткань, я в изумлении уставился на таинственную кладь. И спустя мгновение от души расхохотался. Весь ящик оказался битком набит тонкими, в кожаном переплете молитвенниками для католиков. Видимо, жерардисты решили предусмотреть все, готовясь к грядущему утверждению католицизма в Нидерландах. Безусловно, в качестве оружия духовного роль этих книг было трудно переоценить, но только они мало могли помочь мне выбраться отсюда. И как меня угораздило подумать, что в ящиках могло быть оружие? Я до упаду хохотал над собственной наивностью, и этот хохот отчаявшегося настолько поглотил меня, что я даже не сразу заметил вошедших: ван дер Мейлена и двух охранников — лысого и верзилу со шрамом на щеке. Последний навел на меня пистолет. Ван дер Мейлен окинул меня строгим взором. — Если уж наши молитвенники приводят вас в такой восторг, тогда мы предоставим вам возможность окунуться в вашу стихию. Я имею в виду живопись. Он многозначительно кивнул лысому. Тот, подойдя к стене, поставил принесенную картину так, чтобы она хорошо освещалась свечой. Это была картина в лазурных тонах, изображавшая Титуса и Корнелию на прогулке. — Зачем вы притащили это сюда? — спросил я. — Вы же горели желанием узнать побольше о таинственной лазури, — резонно ответил ван дер Мейлен, указывая на полотно. — Вот вам картина! Можете смотреть на нее без помех сколько угодно. Пока он произносил эти слова, в мою каморку вошел красноносый и принялся высыпать рядом с моей лежанкой содержимое принесенного с собой мешка: моток веревки, железные гвозди и увесистый молоток. — Укладывайтесь на спину, Зюйтхоф, да поудобнее. И не помышляйте о том, как бы вырваться, а не то вместо наслаждения искусством заполучите свинец в голову! Мое положение и в самом деле можно было считать безвыходным. Я прекрасно понимал это. Бросив молитвенник обратно в ящик, я шагнул к лежанке и, как велел ван дер Мейлен, улегся на спину. Лысый вместе с красноносым вбили несколько гвоздей в пол вдоль лежанки, и не прошло и нескольких минут, как я, накрепко связанный, и шевельнуться не мог. После этого по распоряжению ван дер Мейлена лысый поставил свечу поближе к картине. — Вот теперь можете смотреть сколько влезет, — удовлетворенно констатировал торговец антиквариатом. — Уверен, вы испытаете массу занятных ощущений. Они вышли, я слышал, как щелкнул замок, потом шаги постепенно заглохли. Интересно, остался ли охранник у дверей? Этого я сказать не мог. Впрочем, какая разница, остался или нет, — я все равно был намертво приторочен веревками к лежанке. Так что убежать я не смог бы при всем желании. Ни от них, ни от зловещей лазури стоявшей передо мной картины. Впрочем, что касается последнего обстоятельства, здесь я мог кое-что предпринять. Просто не смотреть на нее. Зажмуриться. Так и только так можно было избавить себя от злокозненного излучения лазури. Отлично сознавая, что меня ждет, особых иллюзий насчет собственной участи я не питал — из памяти не изгладились воспоминания о жертвах дьявольской синевы. Я пролежал с закрытыми глазами часа два, а может быть, три или четыре — я потерял счет времени. Но заснуть при моей тогдашней взвинченности я не мог. Потом ужас перед картиной каким-то необъяснимым образом стал исчезать. В один прекрасный миг страхи мои показались мне несусветной глупостью: как я, художник, мог испугаться картины? Увидь меня в таком состоянии Рембрандт, он от души бы посмеялся надо мной. Мне предоставлялась уникальная возможность созерцать воочию одну из этих загадочных картин в лазурных тонах, изучить ее — я же, глупец, закрывал глаза, чтобы не видеть ее. Как такое могло произойти? Почему? В конце концов, если я замечу, что со мной происходит недоброе, я в любой момент могу зажмуриться. И я открыл глаза. Может быть, на меня подействовала неведомая демоническая сила, исходившая от картины.Я смотрел на нее во все глаза, в очередной раз поражаясь мастерству Рембрандта в игре света и тени. Пронзительная синева особенным образом подчеркивала его мастерство, и я сожалел, что никогда раньше не работал с этим цветом. Я видел воду в ручье, вдоль которого прохаживались Титус с Корнелией, казалось, оживавшую на моих глазах, видел развевавшееся на ветру платье Корнелии. И тут брат и сестра стали помахивать мне руками в знак приветствия. Я не верил своим глазам, но это было так. Нет, они больше не были простыми фигурами, запечатленными на холсте кистью и красками, нет, это были живые существа. Люди. Корнелия шагнула из картины прямо в мою каморку и снова махнула мне рукой. И непринужденно улыбнулась мне. Я знал, я помнил эту улыбку. Как мне ее не хватало все это время! Я понял, что Корнелия желала сказать мне этим взмахом руки — она приглашала меня следовать за ней. Но как? Я и сдвинуться с места не мог из-за этих проклятых веревок. Но едва я вспомнил о них, как веревки тут же исчезли неизвестно куда и неизвестно каким образом. Их просто не было, и все. Я поднялся и, подойдя к Корнелии, заключил девушку в объятия. Смеясь, мы странствовали по лугам, вдоль того же ручья, в котором мирно текла пронзительно-голубая, ошеломляющая синь воды. И мы были не одни. С нами шел Титус. Мы с ним держали Корнелию за руки. Так мы и шли втроем. Но какое-то время спустя мне вдруг почудилось, что Корнелию куда больше занимает брат, нежели я. К Титусу она проявляла куда больше знаков нежного внимания. Меня охватило недовольство — как такое может быть? Ведь я, я любил ее больше жизни, я рисковал жизнью ради нее, обегал весь Амстердам, чтобы отыскать ее пропавшего отца, а она… Но Корнелии все мои мысли были, казалось, невдомек. Ее занимал один только Титус. Оба шутили, смеялись и вообще вели себя так, словно меня с ними не было. Так, словно их связывали далеко не братско-сестринские узы. Титус утащил Корнелию прочь от меня, взял на руки и стал кружиться с нею по высокой, странно голубевшей траве. Я хотел было отобрать у него девушку, но что-то удерживало меня от этого. Веревки, которыми я был связан! Я снова оказался в их плену и сам не заметил как. И еще одно смутило меня: какие-то неясные силуэты вдали. Я мучительно всматривался в них, пытаясь разглядеть, но они так и оставались бледными тенями, исчезнувшими столь же внезапно, как и появились. Снова повернувшись к Корнелии и Титусу, я понял, что брат куда-то исчез. На лугу осталась лишь Корнелия. Девушка устремила на меня невинный взор больших глаз. Мое недовольство ее лживостью переросло в гнев, в неукротимую ярость. И я бросился на нее. Теперь уже путы не сдерживали меня, но я о них и не вспомнил. Корнелия, упав на землю, вскрикнула, и то был вскрик удивления, но мне было все равно от переполнявшей меня злобы. Поделом ей! Она заслужила это! Склонившись над Корнелией, я стал избивать ее. Постепенно вопли перешли в стоны, и девушка уже не пыталась оборониться от обрушившегося на нее града ударов. Но я-то понимал, что она всего лишь притворялась, пытаясь перехитрить меня. Нет, тебе не уйти от справедливого возмездия, нет. И эта ее изворотливость лишь распаляла мой гнев. Обхватив пальцами шею Корнелии, я сомкнул их и не разжимал, пока не стихли предсмертные хрипы. И тут неведомая сила оторвала меня от девушки — я и сообразить не мог, как это случилось. Крепко ударившись затылком о каменную стену, я едва не раскроил череп. Лазурный пейзаж, этот поросший синей травой луг расплывался у меня перед глазами словно утренняя дымка. Я вернулся в действительность.
Я по-прежнему находился в подземном лабиринте, которого и не покидал. Все в той же каморке, но на полу и с перерезанными веревками. У стены стоял портрет Титуса и Корнелии. Корнелия! Она представала передо мной в двух ипостасях — на картине во время прогулки с Титусом по лугу, будто ничего и не происходило. И на полу — на полу лежала истинная Корнелия, в разодранном платье, окровавленная, с закрытыми глазами. К ужасу, охватившему меня при виде растерзанной девушки, примешивалось и осознание, что все это моих рук дело. Пока я пребывал под коварными чарами адской лазури, будучи порабощен демонической силой, ко мне в каморку притащили Корнелию, предварительно перерезав сковывавшие меня путы. Результат этой мерзкой уловки был вполне предсказуем и ужасен. Я тупо уставился на свои руки, будто на нечто чужое, мне не принадлежащее. Я готов был отрубить их. Вот этими самыми руками я избивал Корнелию, а потом и задушил. Корнелию, которую всегда старался уберечь от зла! Отвращение к себе сменялось страхом, ужасом, какого испытывать мне в жизни не доводилось. Только теперь мне со всей очевидностью стало понятно, что есть эта смертоносная лазурь. И хотя я изначально сознавал всю исходившую от нее опасность, я так и не сумел противостоять ей, позволив внедриться в меня, завладеть моими помыслами. А завладев ими, она превратила меня в раба, в бессловесное орудие. Содрогаясь от ужаса, я представлял себе, как под власть этой источающей зло силы подпадает Амстердам или же целая страна. Передо мной стояли один из охранников, ван дер Мейлен и доктор ван Зельден. Последний склонился над Корнелией. Я хотел спросить, как все произошло, но голос отказывался повиноваться мне. Мне хотелось броситься на них, невзирая на присутствие вооруженного охранника, но сил не было даже подняться с пола, даже шевельнуться. Я не мог сказать, сколько продолжался припадок ярости, вызванный адской синевой, однако он высосал из меня все силы, и я лишь безучастно взирал, как ван дер Зельден осматривает израненную Корнелию. — Она жива, но очень и очень слаба. Эти слова доктора словно сбросили с меня неимоверный груз непоправимого, однако ничуть не уменьшили чувства вины. — Унесите ее, — велел ван дер Мейлен охраннику. — А я займусь картиной. Я чуть ли не с благодарностью наблюдал, как он взял картину и последовал за остальными, выносившими бесчувственную Корнелию в коридор. Уже в дверях он обернулся. — Теперь вам известна сила божественной лазури, Корнелис Зюйтхоф. И вы наказаны ею за предательство нашего дела — она высветила все дурное и самое мерзкое в вашей натуре. Ведь виной всему произошедшему — именно зло, коренящееся в вас, а не привнесенное извне!
Я по-прежнему валялся на лежанке, обхватив себя руками, дрожа и вновь и вновь вспоминая и переживая череду ужасных событий. Находясь во власти смертоносной лазури, я совершил то, о чем и помыслить не мог: еще немного, и я убил бы Корнелию, лишил бы жизни самое дорогое мне на свете существо! Я пребывал в странном состоянии, витая между смятением и осознанием. И постепенно понимал, что именно подтолкнуло Осселя на зверское преступление. Дьявольская лазурь была наделена способностью вытаскивать из человека самое потаенное, даже то, в чем он и сам себе отчаянно избегал признаться. В случае Осселя то была втуне терзавшая его озлобленность поведением Гезы Тиммерс, которую он любил и которая не гнушалась использовать его доброе отношение к ней в своих, отнюдь не праведных целях, постоянно унижая, позоря его. Любовь Осселя и его готовность поступиться ради нее своими интересами перевешивали упомянутую озлобленность, однако дьявольская синева заставила его позабыть о высоких чувствах, и верх одержало свирепое ожесточение, коренившееся где-то глубоко внутри Осселя, которое и превратило его в убийцу. А как же все-таки обстоит дело со мной? Снова и снова я задавал себе один и тот же вопрос: неужели и во мне таится ненависть к Корнелии? Чем еще объяснить мою агрессивность в отношении ее? Ядовитая лазурь полотна заставила меня приревновать ее к Титусу, но разве имел я хоть малейший повод для такого рода ревности? Титус был родным братом Корнелии, к тому же умершим, и в этом я не сомневался, что бы мне там ни говорил Рембрандт, пытаясь убедить меня в обратном. Что же я мог в таком случае поставитьв вину Корнелии? Может, ее, мягко говоря, негативное отношение к моим встречам с Луизой ван Рибек? Но как раз в этом мне было проще простого понять ее и даже посочувствовать ей. Какая уж тут может быть ненависть? Но как ни копался я в себе, все мои попытки обнаружить хотя бы ростки ненависти к Корнелии оставались тщетными. И все же я зверем набросился на нее. Это доказывали пятна крови там, где лежала девушка. Ее вопли ужаса до сих пор стояли у меня в ушах, доводя почти что до отчаяния. Бесчисленное множество раз я задавал себе этот вопрос — почему? Только один ответ мог быть на него: нет, не потаенная ненависть к Корнелии подвигла меня на бесчеловечный поступок, нет, скорее, речь могла идти о моей ненависти к себе. С тех пор как я из-за отношений, завязавшихся у меня с Луизой, утратил доверие Корнелии, я изводил себя бесчисленными упреками. С большой охотой я оторвал бы от себя и бросил в огонь ту часть своего естества, которая была одержима Луизой. И вот ядовито-синий демон докопался до столь потаенного чувства, вытащил его и обратил против Корнелии. Дьявольская горячка придала ему облик ревности, едва не погубившей меня. Я невольно поежился. Завернувшись в одеяло, я продолжал размышлять о неправедном могуществе цвета под названием «лазурь».
Глава 27 Во всеоружии
30 сентября 1669 года В конце концов изнеможение сделало свое дело, и я провалился в зыбкий, беспокойный сон, переполняемый апокалипсическими видениями, изнурявшими меня отвратительно яркой синевой. Не раз я просыпался в холодном поту, тщетно желая не засыпать больше, но усталость и слабость были сильнее меня. Пробудившись в пятый или шестой раз, я расслышал непонятный и довольно громкий шум. Поначалу я принял его за продолжение кошмарных видений, однако шум не утихал. До меня доносились громкие крики, звуки торопливых шагов и выстрелы. Вскочив с лежанки, я подбежал к двери и прижался к ней ухом. Где-то неподалеку шла схватка, сомнений тому не было. Рванув на себя ручку, я вновь убедился, что дверь заперта. Тогда я, невзирая на совсем еще свежий порез на левой ладони, принялся что было сил барабанить кулаками по толстым доскам. И барабанил до тех пор, пока не расслышал, как кто-то снаружи возится с дверным запором. Перестав стучать, я отошел на пару шагов в глубь каморки. И в ту же минуту готов был в очередной раз проклясть свою горячность. Может, не следовало действовать столь поспешно. В конце концов, я мог привлечь внимание отнюдь не только доброжелателей, но жерардистов. Дверь распахнулась, и вошли трое вооруженных людей. Один, светловолосый и высокий, держал в руке тяжелый двуствольный пистолет. Я с облегчением вздохнул. — Господин Деккерт! — радостно воскликнул я. — Вот уж не ожидал, что так обрадуюсь встрече с вами. — Охотно вам верю, — ответил помощник инспектора Катона, оглядев мою каморку. — В этом и без того не слишком-то уютном месте вы умудрились отыскать воистину убогую нору. Я кивнул: — Хорошо, что вы сумели быстро взломать запор. — К чему же взламывать, если есть ключи? Деккерт показал на мужчину, недвижно лежавшего в коридоре как раз у входа в каморку. Подойдя поближе, я узнал в нем красноносого пьянчугу — моего охранника. Рядом валялся уже ненужный пистолет. В груди красноносого зияла огромная рана, а под ним растекалось темно-красное пятно крови. — Ваша работа? — осведомился я у Деккерта, видя, что ни у кого из его сопровождавших огнестрельного оружия не было. — Моя. Я оказался проворнее, — ответил он без тени хвастовства, заряжая оружие. — Уверенности ради решил пальнуть сразу из двух стволов, вот поэтому все так неаппетитно выглядит. Я не знал, с чего начать. У меня был миллион вопросов к Деккерту. — А Катон здесь? — Вот что интересовало меня в первую очередь. — Где же ему еще быть? Конечно, ведь все мы здесь под его началом. — А что с Рембрандтом и его дочерью? Вы их уже нашли? К моему великому разочарованию, Деккерт отрицательно покачал головой: — Ничего не могу вам сказать. Пока что повсюду здесь дерутся. — Рембрандт и Корнелия не обязательно в подземелье. В этом квартале полным-полно выходов на волю через многие дома. И в верхнем этаже одного из таких домов у Рембрандта мастерская. — Тогда нам надо как можно скорее отправиться на их поиски, — заключил Деккерт. — Здесь, как я понимаю, делать нечего. Я обвел взглядом неуютную каморку, в которой не было ничего любопытного, за исключением разве что составленных у стены ящиков. — Да нет, наверное, ничего, Деккерт. Если вас только не заинтересуют католические молитвенники. Так что можно отправляться! Выйдя из каморки, я нагнулся и подобрал оружие убитого. Пистолет был заряжен. Я почувствовал себя куда увереннее. И уже вскоре похвалил себя за подобную предусмотрительность. Я бросился вперед, остальные последовали за мной. Подземные коридоры заполнял пороховой дым. Отовсюду раздавались крики и выстрелы, но у меня складывалось впечатление, что схватка на излете. Несмотря на проведенное в подземелье время, ориентировался я в нем ничуть не лучше Деккерта и его спутников, поэтому пришлось изрядно поплутать, пока я смог найти выход на лестницу. Вдруг перед нами появились два человека. Ван дер Мейлен и мой лысый охранник. Я отреагировал достаточно быстро и упал на колени, одновременно наводя на противников оружие. Вот только выстрелить не успел — тут же впереди грохнуло, и все заволокло ядовитым пороховым дымом. Пока я, кашляя и протирая глаза, приходил в себя, Деккерт осел на пол. В отчаянии я выстрелил прямо перед собой, не потрудившись даже толком прицелиться. Вместе с его напарником мы бросились к Деккерту. Помощник Катона, сморщившись от боли, обеими ладонями зажимал рану в правом бедре. — Слава Богу, вы живы! — воскликнул я, отрывая клок от своей рубахи. Наскоро перевязав Деккерта и дождавшись, пока рассеется едкий дым, мы разглядели лежавшего на нижней площадке лестницы человека. Это был лысый, но я не сразу узнал его — выпущенная мною пуля снесла ему полголовы. Вид был ужасный — окровавленные осколки черепных костей, разбрызганные остатки мозга… Тут даже изувер ван Зельден поморщился бы, прежде чем забрать сей экземпляр в свою коллекцию. — Да вы, оказывается, еще и стрелок, бьющий без промаха, Зюйтхоф! — уважительно воскликнул Деккерт и, кряхтя, стал подниматься с пола. — Бросьте, Деккерт. Случайность, не более того, — скромно потупился я. — Я и стрелял-то, наверное, первый раз в жизни. Так что управляюсь я с пистолетом наверняка еще хуже, чем вы с кистью художника. Как вы? — Вообще-то лучше, чем могло бы показаться, — вымученно улыбнувшись, процедил Деккерт. — Пуля, к счастью, только полоснула меня по ноге. А второй, как я понимаю, скрылся? Я кивнул. — Ван дер Мейлен либо выбежал наружу, либо забежал к Рембрандту. Если поторопиться, мы схватим его. — Что? Так это был ван дер Мейлен? Ну-ка, живее за ним! Мы поспешили вверх по лестнице, Деккерт, несмотря на полученную рану, старался не отставать. Если мы верно угадали, куда бросился ван дер Мейлен, он опережал нас. Во всяком случае, видно его не было. Или я что-то напутал и повел нашу небольшую группу не туда, куда нужно? Нет, это был тот самый коридор, по которому меня препровождали в мастерскую мастера Рембрандта, расположенную в мансарде. Дверь мастерской была распахнута настежь, что ничего доброго не предвещало.Ворвавшись внутрь, мы увидели, как ван дер Мейлен что-то втолковывает мастеру. Наверняка торговец подбивал старика бежать. При виде нас ван дер Мейлен явно сконфузился — он ведь рассчитывал, что уйдет, — и запаниковал. Пистолет в его руке растерянно сновал между нами и Рембрандтом. Интересно, успел он перезарядить оружие? Этого я знать не мог, да и выяснять не собирался. Я отважно швырнул пистолет в оторопевшего ван дер Мейлена. Увесистое оружие угодило торговцу прямо в висок. Промычав от боли что-то нечленораздельное, он выронил пистолет и, крякнув, инстинктивно отступил на пару шагов, задев стоявшие тут же мольберты, затем с шумом упал прямо на доходившее до пола широкое окно. Раздался звон стекла, и почтенный торговец антиквариатом выпорхнул наружу. Раздался крик, за которым последовал глухой удар тела о брусчатку. Подбежав к окну, я посмотрел вниз. Ван дер Мейлен в неестественной позе неподвижно застыл на камнях мостовой. В том, что он мертв, сомнений не было. Подошел Деккерт. — Нет, Зюйтхоф, вы действительно мастерски владеете пистолетом. Ничего не ответив, я повернулся к Рембрандту. Тот с ошарашенным видом взирал на нас. Я заметил, что с зажатой в пальцах кисти мастера оторвалась ярко-синяя капля и упала на пол. — Что все это значит? Что вы сделали с господином ван дер Мейленом, Зюйтхоф? — Только то, что он заслужил, — с горечью ответил я. — Вы лучше скажите, что ему нужно было от вас! — Я должен был пойти с ним. Он очень спешил. А я пытался ему объяснить, что сначала необходимо закончить вот эту картину. И мастер ткнул кистью в то самое полотно в лазурных тонах, которое мне уже приходилось видеть во время первого визита в эту мастерскую. — А куда вы с ван дер Мейленом должны были пойти? — продолжал я задавать вопросы. — Он вам не сказал? Этого Рембрандт не знал. — Он упоминал о Корнелии? Не говорил, где она сейчас? — А где ей быть, как не в нашем доме на Розенграхт? Судя по всему, дочь Рембрандта доставили сюда тайком даже от него. Мастер и понятия не имел о постигшем ее несчастье. Причем с моей, отнюдь нелегкой, руки. — Ван дер Мейлен действительно ничего о ней не говорил? Рембрандт раздраженно тряхнул седыми локонами. — Какого дьявола вы привязались к Корнелии? Вы на нее не заглядывайтесь! Моя дочь выйдет не за какого-ни-будь оборванца без роду и племени, а за солидного человека с положением, например, за ван дер Мейлена. Я невольно взглянул в сторону окна, через которое минуту назад вывалился сей респектабельный жених, распластавшийся сейчас внизу на брусчатке. И почувствовал не то чтобы жалость, нет. Скорее досаду — ведь он мог бы сообщить нам о местонахождении Корнелии. — Крепитесь, — подбодрил меня Деккерт, заметив выражение отчаяния у меня на лице. — Мы все вверх дном поднимем, но если ваша Корнелия здесь, найдем ее непременно. Я помогал им в поисках. Мы обходили комнату за комнатой. Большинство из них пустовало. Нигде мы не обнаружили ни малейшего следа присутствия девушки. Обойдя почти весь дом, мы встретили инспектора Иеремию Катона, как раз отдававшего распоряжения начальнику охраны, куда направить арестованных. В надежде узнать что-либо о пропавшей дочери Рембрандта я обратился к нему, но и Катон понятия не имел, где Корнелия. Об этом наверняка знали и Фредрик де Гааль, и Антон ван Зельден, но их не было в числе арестованных.
В нижнем этаже дома имелась комната, обставленная запыленной мебелью. Измученные беготней по лестницам, мы с Катоном и Деккертом в изнеможении опустились на потрепанные стулья. Деккерт возложил раненую ногу на низенький столик, на который в лучшие времена ставили посуду после обеда. — Это был сокрушительный удар по заговорщикам, — заявил Катон. — Хотя главарей пока обнаружить не удается. Жаль, что ушел ван Зельден, прямо из-под носа ускользнул. Я спросил, как было дело. — Ван Зельден и привел нас к вам, Зюйтхоф, — к моему удивлению, объявил инспектор. — Я ведь, как и обещал, взял его под наблюдение. Сначала он отправился на Розенграхт забрать дочь Рембрандта. Мои люди шли за ним по пятам до этого заброшенного квартала. Ван Зельден с девушкой вошли в какое-то полуразвалившееся здание, и тут сопровождавшие их потеряли. Осмотрев дом, как полагается, и порасспросив кого надо, мы установили, что здесь и есть гнездо заговорщиков. На протяжении всей ночи мы готовились и к утру смогли встретить их во всеоружии. — А почему же не ночью? — спросил я. — Здесь, в этих катакомбах, что ночь, что день — все темно. — Мы не знали, с чем здесь придется столкнуться. Кроме того, понадобилось время, чтобы собрать достаточное количество людей и оцепить весь район. — Тем не менее кое-кому все же удалось бежать! — Ну что вы меня укоряете, Зюйтхоф? Лучше бы поблагодарили. Судя по тому, что мне рассказал Деккерт, ваше положение было серьезнее некуда. — Прощу прощения, — смутился я. — Вы совершенно правы. Это все тревога за Корнелию. Я просто с ума схожу. Да и ко всему прочему я тут такое натворил. Такое устроил, что и рассказать страшно. Приди вы ночью, ничего бы не произошло. И я поведал инспектору о пережитом минувшей ночью ужасе, не забыв упомянуть и о ставших мне известными планах заговорщиков. — Вот уж воистину невероятная история, — признался Катон. — А я вам так и не верил, Зюйтхоф. Считал все эти россказни про какие-то там подземные ходы досужей выдумкой, пока сам не побывал там. Ваше счастье, Зюйтхоф, что побывал. А не то распорядился бы отправить вас в дом умалишенных. — Как видите, дьявольская краска не плод моих измышлений, — сказал я. — И прошу вас, позаботьтесь о том, чтобы ни одна из этих… картин не покинула пределы мастерской Рембрандта. Вы нашли склад, где хранилась эта окаянная лазурь? — Нет, увы, пока что нет, — ответил Катон, и лицо его помрачнело. И впрямь радоваться было нечему. Кто знает, сколько еще бед принесут дьявольские полотна в синих тонах.
Глава 28 Отец и сын
Два часа спустя мы с Катоном, взяв экипаж, отвезли Рембрандта в дом на Розенграхт. По улицам гулял резкий порывистый ветер, казалось, еще немного, и он перевернет карету. Осень вступала в законные права. Катон не стал подвергать престарелого мастера аресту. Я был рад и благодарен инспектору. Речь не шла о полной невиновности старика — он не хуже своих работодателей понимал, что его картины несут смерть. Но можно ли считать вменяемым старика, впавшего в безумие от свалившихся на его голову несчастий и воздействия коварной лазури? Принимая во внимание время, на протяжении которого Рембрандт сотрудничал с жерардистами, мне вообще казалось непостижимым, как мастер сохранил даже остатки рассудка. Неужели Фредрик де Гааль избрал Рембрандта для воплощения своих коварных замыслов в некоем «озарении»? В сотый раз я ломал себе голову, пытаясь отыскать ответ на вопрос: исходило ли зло от самой краски, либо угнездилось на этом далеком острове? В конце концов я избрал для себя образ некоего демона, тщившегося дотянуться вездесущими щупальцами до всех людей, населявших наш мир. Ребекка Виллемс, издалека заметив наш экипаж, распахнула дверь. Заметив своего хозяина, у которого служила невесть сколько лет, став почти членом его семьи, женщина приветливо улыбнулась. Но в следующее мгновение морщинистое лицо ее омрачилось. — На кого только вы похожи, господин! — всплеснула она руками. — И что с вами только сделали! — Мастеру необходимо отдохнуть, он очень многое пережил, — предупредил я ее уже в прихожей. — Кстати, вам известно, где сейчас Корнелия? — Корнелия? А разве она не с вами? — недоумевающе выпучив глаза, спросила Ребекка. — Будь она с нами, я не стал бы о ней спрашивать. — Ничего не понимаю, — вполголоса произнесла экономка, качая головой. — Когда я увидела, как из экипажа вышел господин Рембрандт, я была уверена, что и Корнелия тоже приехала. Ведь господин доктор ван Зельден заезжал за ней, уверив ее, что отыскал пропавшего хозяина, и велел Корнелии ехать с ним к отцу. Когда она и вечером не вернулась, я уже стала тревожиться за нее. — И не зря тревожились, — заключил Катон. — Ван Зельден больше ничего не говорил? Может, хоть намекнул, куда собирается отвезти Корнелию? — Ни слова не сказал, — ответила Ребекка. — Он очень спешил и торопил Корнелию, мол, пусть накинет на себя что-нибудь и едет с ним. Я спросил себя, что могла подумать Корнелия, увидев на пороге своего дома ван Зельдена. Возможно, она была начеку, ей ведь было известно о заспиртованном Титусе, однако тревога за отца, похоже, перевесила все остальное. Я повернулся к Катону: — Может, в доме ван Зельдена отыщется хоть какой-то след? И кроме того, вам неплохо будет самому убедиться в том, что ван Зельден сотворил с Титусом ван Рейном. — Разумно, — согласился инспектор. В Рембрандта, до сих пор безучастно слушавшего наш разговор, казалось, возвращалась жизнь. — Вы говорите о Титусе? Где он? Не у доктора ли ван Зельдена? — Титус умер, — с нажимом произнес я. — А в доме ван Зельдена всего лишь его труп. Он заспиртовал вашего сына в огромной стеклянной банке. — Тогда и меня с собой возьмите! — дрожащим голосом со слезами на глазах стал умолять старик. — Я хочу видеть сына! Понимал ли он, что Титус действительно умер? Я не знал, но все-таки упросил инспектора участкового суда выполнить желание мастера. Может, увидев собственными глазами, что произошло с Титусом, старик успокоится и поверит в смерть сына. Катон не имел ничего против, и мы снова уселись в поджидавший нас экипаж. Ребекка с тоской смотрела нам вслед. По пути на Кловенирсбургвааль мы видели поваленные ветром торговые лотки. Над Амстердамом бушевал настоящий ураган. Выйдя из экипажа у дома врача, мы едва двигались против ветра. К нам подошел какой-то человек, укутанный в накидку. — Как здесь дела, Кампен? Было что-нибудь любопытное? — Ничего особенного, — ответил сыщик. — Только служанка вышла с час тому назад за покупками и уже вернулась. А еще за это время доктор отказался принять двух пациентов: пожилая женщина, судя по виду, повариха, отправила их несолоно хлебавши. — А сам доктор ван Зельден? — Он не показывался с тех пор, как вчера вышел из дома. Немудрено. Чтобы появиться здесь после налета на осиное гнездо заговорщиков, надо быть распоследним глупцом. Мы позвонили, и дверь отперла та самая, знакомая мне служанка. Краснощекая девушка сразу же узнала меня. — Доктора нет дома. — И все же мы хотели бы войти, — настаивал Катон. — Я уполномоченный амстердамского участкового суда Иеремия Катон, — представился он. Нехотя девушка позволила нам войти. Нас было трое, если считать Кампена. В доме мы увидели и повариху, о которой последний упоминал. Это была седая женщина за пятьдесят с круглой физиономией. Катон осведомился о местопребывании ее хозяина. — Мы не знаем, где он, — ответила женщина, как мне показалось, вполне искренне. — Как ушел вчера вечером, с тех пор ни слуху ни духу. — Раньше подобное случалось? — допытывался Катон. — Ну, бывало, что он не ночевал дома. В конце концов, он мужчина холостой, так что ничего удивительного, если вы понимаете, о чем я. — Повариха довольно фамильярно подмигнула. — Но вот такого, чтобы, не предупредив, прием отменить, такого прежде не было. Так что я уже начинаю тревожиться, не стряслось ли что с нашим доктором. — Может, у доктора есть какие-либо родственники, у которых он сейчас может быть, или же какая-нибудь, скажем, близкая знакомая? — Мне о таких ничего не известно, — ответила повариха и перевела взгляд на служанку: — А тебе? Та отрицательно покачала головой. — Мы хотели бы осмотреть дом, — заявил инспектор. — В частности, нас интересуют задние комнаты. — Туда нельзя! — быстро ответила повариха. — Они на замке. — А у кого ключ? — Ключ наш хозяин всегда носит при себе. — А второй? — Второго нет. Знаете, доктор ван Зельден страшно рассердится, если узнает, что кто-то в его отсутствие заберется в кабинет. Он очень не любит пускать туда посторонних. — Именно поэтому нам и нужно там побывать, — невозмутимо ответил инспектор Катон. Достав из кармана складной нож, он повернулся ко мне: — Вот, возьмите, Зюйтхоф, вы у нас большой любитель по части взлома дверных замков, включая и церковные. Так что давайте, докажите свои умения! Под испуганными взорами поварихи и служанки я стал возиться с замком той самой двери, которая вела, по выражению служанки, в «святилище» ван Зельдена. На сей раз мне что-то не везло, так что Кампен пришел мне на помощь. Спустя пару минут замок, печально лязгнув, поддался. Катон, Кампен, Рембрандт и я вошли в святая святых доктора. Служанка и повариха, не смея переступить порог пресловутого «святилища», безмолвными тенями застыли у входа. Вероятно, они ломали себе голову над тем, что скажут своему хозяину, когда тот, вернувшись, обнаружит, что у него побывали визитеры. Что касается меня, я сильно сомневался, что ван Зельден рискнет вернуться сюда. Самое последнее помещение, как я и ожидал, оказалось на запоре. Катон уже вновь совал мне свой нож, но я без слов вернулся в кабинет доктора, где на том же месте обнаружил заветный ключ. Прежде чем распахнуть дверь, я обратился к Рембрандту: — Подумайте хорошенько, стоит ли вам смотреть на это! Поверьте, зрелище не из приятных! Старик почти умоляюще взглянул на меня: — Если вы говорите о моем сыне Титусе, то я должен видеть его! — Ладно, — не стал протестовать я и раскрыл перед ним дверь. И тут же убоялся собственной дерзости — а что, если и заспиртованное тело Титуса исчезло, как те картины со стен увеселительного заведения? Как тогда Катон сможет поверить мне? Но нет — огромный резервуар с прозрачной стенкой оставался на месте, и в синеватой жидкости плавало тело сына Рембрандта. Зрелище сие проняло не только престарелого мастера. Даже такие стреляные воробьи, как Катон и Кампен, разинув рты, уставились на жуткую невидаль. — Ну и нелюдь же этот ван Зельден! Истинный дьявол, если такое вытворяет! — Либо одержим дьяволом, — добавил я. Рембрандт почти вплотную подошел к стеклянной стенке, отделявшей его от умершего сына. Казалось, старик не видел ничего и никого вокруг. Опустившись на колени и запрокинув голову, он разглядывал помещенное в лазурную жидкость нагое тело. Никто из нас не проронил ни слова. Казалось, сама участь людская, доля живых и мертвых, материализовалась в этом кабинете. Некоторое время мастер молчаливо вглядывался в неподвижные черты Титуса. — Что они с тобой сделали? — едва слышно прошептал Рембрандт. Минуту или две спустя старик поднялся и повернулся к нам. В глазах его блестели слезы. Взор мастера выражал бесконечную усталость. И еще теперь в нем было осознание происходящего. Это был взгляд совершенно нормального человека, не умалишенного. — Что же я наделал? — Вопрос был обращен, казалось, в никуда. — Что я навлек на людей? На что обрекал их? — срывающимся от волнения голосом вопросил мастер. — На погибель, — отчаянно стараясь, чтобы в голосе моем не было ноток укора, ответил я. — И чем скорее мы теперь схватим Фредрика де Гааля и Антона ван Зельдена, тем раньше избавим тысячи людей от верной беды. Я имел в виду смертоносную лазурь, запасами которой до сих пор располагали остававшиеся на свободе жерардисты. — Что только заставило меня пойти на это? — продолжал Рембрандт свой монолог. — Я так любил моего Титуса, так любил его, что готов был поверить, что он все-таки жив. Катон, тем временем осматривавший помещение, извлек из одного шкафчика непонятную вещицу. — Вы видите это, господин ван Рейн? — Инспектор поднял вверх нечто, напоминавшее кусок мягкой, светлой кожи. Стоило Катону чуть растянуть его, как он принял очертания лица Титуса ван Рейна, на котором вместо глаз зияли два отверстия. — Что это? — ошеломленно спросил Рембрандт. Инспектор подал находку мастеру. — Маска, в деталях повторяющая лицо вашего покойного сына. Точная копия его. Ван Зельден дурачил вас, господин ван Рейн. Вот поэтому вам позволяли видеться с сыном только в полумраке. Чтобы вы не заметили обмана. И поэтому он говорил с вами шепотом, разыгрывая тяжелобольного. Это и довершило дело — вы поверили. Да как не поверить? Вот для чего ему и понадобился написанный вами портрет вашего сына, который висит у него в гостиной, как рассказывал Зюйтхоф. — Но для чего он заспиртовал его тело? — едва справляясь с охватившим меня волнением, спросил я. — Ему ведь вполне хватило бы слепка с лица покойного. — Кто знает, возможно, он замышлял кое-что пострашнее, на что способен лишь больной разум мизантропа. Может, собирался каким-то образом оживить его, вернее, заставить двигаться, как безжизненного зомби. Видя все это, я прихожу к выводу, что ван Зельден — гений в своем роде, но направивший гениальность во зло людям. Рембрандт с отвращением отшвырнул маску и повернулся ко мне: — Зюйтхоф, я должен попросить у вас прощения за все. И попросить вас об одном одолжении. — Я слушаю вас. — Прошу вас, позаботьтесь о том, чтобы тело несчастного Титуса было согласно обычаю предано земле. — Старика сотрясали рыдания, но он смог пересилить себя. — И отыщите Корнелию! — заплетающимся языком проговорил он. Катон и я в последний момент сумели подхватить мастера. Рембрандт был без чувств. Мы перенесли его на кресло. Кампен бросился за врачом.Глава 29 Буря над Амстердамом
Пока врач, живший по соседству, оказывал помощь Рембрандту, мы с Катоном и Кампеном подвергли дом ван Зельдена тщательному осмотру. Необходимо было отыскать еще одно убежище жерардистов, место, где были сосредоточены запасы синей краски. Увы, поиски наши так ни к чему и не привели. — Для чего заговорщики захватили дочь Рембрандта? — не мог понять Кампен, когда мы обыскали последний из шкафов в кабинете доктора. — Сначала для того, чтобы оказывать давление на ее отца, — ответил Катон. — Откуда им знать, сколько еще он верил бы в сказочку с ожившим Титусом. А после того как мы взяли штурмом их подземный оплот, тут уже им времени на размышления не оставалось. Мы не дали им похитить самого Рембрандта, а вот Корнелию они захватили и где-то прячут. — Они вполне могли бы отпустить девушку, — предположил Кампен. — Вряд ли они пойдут на подобный шаг, — не согласился Катон. — Корнелия рассказала бы об их последнем местопребывании. Может, они рассчитывают вновь захватить Рембрандта. К тому же… — Катон осекся. — Что вы хотели сказать, инспектор? Откашлявшись, Катон продолжал: — К тому же они могут использовать Корнелию в качестве заложницы на тот случай, если мы нападем на их след. После того как доктор привел Рембрандта в чувство, мы отвезли мастера домой на Розенграхт. Кампен также отправился с нами. Катон придерживался мнения, что ван Зельден уже не появится в своем доме на Кловенирсбургвааль, посему отпадала необходимость в постоянном наблюдении за этим местом. Кампену было велено смотреть за домом Рембрандта на случай, если жерардисты попытаются снова связаться с ним. — Что будем делать? — спросил я Катона, после того как мы отвели старика в спальню и оставили там на попечение Ребекки Виллемс. — Как нам быть дальше? Как разузнать, где скрываются заговорщики? — После взятия их подземного оплота, вы уж простите мне такое сравнение, у нас в руках три десятка заговорщиков. Все они арестованы. Их сейчас допрашивают Деккерт и еще несколько моих помощников. Вполне возможно, что вскоре они разговорят их. — Вот в этом я вовсе не уверен. Жерардисты — члены сообщества, связанного круговой порукой. Если хотите, присягой на верность. Так что вряд ли кто-нибудь из них столь легко пойдет на предательство интересов своей организации. Скажите, а за домом Фредрика де Гааля тоже наблюдают? — Первым делом я распорядился именно об этом, как только узнал от вас, что он один из предводителей, или, кто знает, может, и сам предводитель заговорщиков. Кроме дома, мы взяли под наблюдение и стоящие на якоре в амстердамском порту суда де Гааля. — Это правильно, — согласился я. Подобное не приходило мне в голову. — Жерардисты могут не только удрать из Амстердама на корабле, но и прихватить с собой дьявольское оружие — лазурную краску — для переброски в другое место. — В этом-то и состоит опасность. Я недовольно покачал головой: — Вот потому мне и не улыбается перспектива сидеть сложа руки, дожидаясь указаний. Которых вполне можно и не дождаться. Нам нельзя терять драгоценное время в бездействии! — Что же вы предлагаете? Внезапно меня озарило. — Охтервельт! Он тоже арестован? — Вы имеете в виду того книготорговца с Дамрака? — Да-да, лавка его расположена как раз рядом с лавкой ван дер Мейлена. — Кстати, мы ее обыскали, но пока что безрезультатно. — Эммануэль Охтервельт издавал путевые заметки Фредрика де Гааля. До тех пор, пока я не повстречал книготорговца и его дочь на тайной мессе в катакомбах, я и не думал о существовании тайной связи между ним и жерардистами. — Если жерардисты, как вы утверждаете, Зюйтхоф, на самом деле строго законспирированная организация, мы и от Охтервельта мало что сможем узнать. С другой стороны, мы обязаны проверить все версии. Что ж, на Дамрак!Бушевавшая над Амстердамом буря усиливалась. На одном из мостов ветер набросился на наш экипаж с такой силой, что я уже думал, что возницу сдует в воды канала. — Прощай, лето, — отметил Катон, взглянув из окна кареты на посеревшее, ненастное небо. — В Амстердаме начинается штормовой сезон. Неприветливое время. — Если мы с вами не отыщем хранилище синей краски, жителей Амстердама, да и не только его, ждет беда, по сравнению с которой померкнет даже самый сильный ураган. Не забыли, как сами рисовали мне картину того, что будет, если заговорщики одержат верх? Здесь тут же окажутся солдаты короля Людовика. Катон испустил тяжелый вздох. — Я понимаю, что означает сия лазурь. Меня поразил рассказ де Гааля о загадочном острове. — Я верю ему. У де Гааля не было оснований вводить меня в заблуждение относительно происхождения краски. К тому же все совпадает и с обстоятельствами прибытия «Нового Амстердама» в родной порт. Единственное, что мне до сих пор непонятно: то ли жерардисты, и только они, используют это коварное оружие для осуществления своих коварных замыслов, то ли эти заговорщики — сами орудие в чужих руках. — В чьих же? — В руках коварной силы, цель которой — изничтожить человечество. — Зюйтхоф! — Что? Вы сейчас смотрите на меня так, как тогда, когда я впервые рассказывал вам о картинах, несущих смерть. Вы что же, по-прежнему не хотите верить мне? Сомневаетесь в ясности моего рассудка? — Прислушаешься к тому, что вы говорите, и поневоле усомнишься. Наверное, лазурь и вас не обошла вниманием. — Возможно, однако на ход моих мыслей это никак не повлияло. Кое-что из рассказанного де Гаалем наводит на размышления. Он не раз утверждал, что, дескать, общался с самим Богом. Сначала там, на острове, а потом и в Амстердаме. Здесь Бог якобы внушил ему мысль о том, что картины-убийцы должен создавать не кто иной, как сам Рембрандт. Может, он и на самом деле услышал призыв. Только не Божий, а исходивший от некоей демонической силы. Если верить этому, то катастрофа, уготованная Нидерландам, — всего лишь начальный акт. Отсюда зло должно распространиться на весь мир. — Вы, люди искусства, всегда отличались буйной фантазией, — буркнул в ответ Катон. — Я же думаю, как поскорее разделаться с бандой заговорщиков. Так что меня не очень-то волнуют демоны. — Поймите, инспектор, это всего лишь предположение. Когда я созерцал это полотно в своей каморке в подземелье, мне показалось, что некая таинственная сила обретает надо мной власть. Сила, упивавшаяся моей беспомощностью и муками. И тем, как я обошелся с Корнелией, — негромко добавил я. — Если пресловутая демоническая сила и существует на самом деле, намерения ее, вне сомнения, дьявольские. Она внушила жерардистам, что те действуют во имя исполнения своих намерений, на самом же деле заговорщики во главе с их предводителем — послушный инструмент осуществления планов упомянутой силы. Я безмолвно кивнул в знак согласия со словами инспектора. Мысли мои вновь унеслись к Корнелии. От волнения за любимую у меня перехватывало дыхание. Может, ее давно убили и бросили в какой-нибудь портовый склад, где до сих пор холодеет ее бездыханное тело? А может, жерардисты вообще решили не тащить ее за собой? Может, она и сейчас, связанная, заточена в подземных катакомбах, изнемогая от голода и жажды? В бессильном отчаянии я ударил кулаком по дверце кареты. Инспектор сочувственно взглянул на меня. Заехав по пути в ратушу, где Катону потребовалось срочно уладить пару неотложных вопросов, мы направились в лавку Охтервельта. Обычно оживленный, Дамрак выглядел пустынным. Да-а, подумал я, в такую погоду добрый хозяин и собаку из дома не выгонит. Ветер, завывая, казалось, не желал выпускать нас из экипажа, остервенело давил на дверцу кареты. Когда мы все же выбрались наружу, яростный порыв сдул с головы инспектора шляпу с голубым пером и, подхватив ее, унес неизвестно куда. Мы вошли в лавку, где, кроме ее владельца да его дочери, никого не было. Отец и дочь были заняты тем, что переносили в глубь помещения огромную картину в тяжеленной раме. Эммануэль Охтервельт стоял ко мне спиной, а Йола, едва завидев нас, невольно выпустила картину из рук и уставилась на меня, будто на привидение. По выражению ее лица нетрудно было заключить, что ни она, ни ее отец пока не в курсе произошедшего нынешней ночью в подземелье жерардистов. — Что с тобой, Йола? — ворчливо осведомился Эммануэль Охтервельт. — Давай поворачивайся! — Отец, к нам пришли, — вместо ответа объявила Йола, не отрывая взгляда от меня. — Пришли, так подождут. Они же видят, чем мы заняты. Одну минуту! — крикнул он нам, так и не повернув головы. — Отец… Но это… Корнелис Зюйтхоф… Картина гулко ударилась углом рамы о пол. Охтервельт повернулся, и теперь нас созерцали уже две пары изумленных глаз. — Чего это вы уставились на меня, будто на пугало? — не выдержал я, подходя ближе. — Зюйтхоф? Как же вы?.. Позвольте, позвольте, а?.. То есть я имею в виду… — Понимаю вас. Пару дней назад вы уже подумали, что мы с вами вовек не расстанемся. Но имея в виду не надземный, а подземный мир. Именно там вы рассчитывали встречаться со мной почаще, а не здесь. В вашей подземной молельне, где вы воздаете хвалу дьяволу, но никак не Богу! Охтервельт смотрел на меня, как кролик на удава, отчетливо сознавая, что избавиться от меня будет непросто. Подойдя к отцу, Йола сжала его руку. — Не волнуйся, папа. Господин Зюйтхоф не допустит, чтобы нам доставили неприятности. Он всегда был добр к нам. — Совсем как жерардисты. Они ведь по-доброму отнеслись ко мне, разве не так? — не без издевки спросил я. Йола непонимающе смотрела на меня. — О чем вы говорите? — О пытках дьявольской картиной в лазурных тонах, которым я был подвергнут в вашем подземном лабиринте. О безумии, в которое повергла меня эта лазурь, и о том, что по ее милости я чуть было не прикончил дочь Рембрандта. Йола побелела как мел. — Впервые слышу об этом! А ты, отец? Ты что-нибудь понимаешь? Эммануэль Охтервельт лишь безмолвно покачал головой. — Впрочем, это уже ничего не меняет, — продолжал я. — Если хотите, чтобы с вами и впредь обращались по-человечески, помогите нам предотвратить дальнейшие беды! Катон стал задавать отцу и дочери Охтервельт вопросы о возможном местонахождении хранилищ синей краски. Поинтересовался и тем, где, по их мнению, могла быть сейчас Корнелия. Йола снова умоляюще взглянула на меня: — Поверьте мне, господин Зюйтхоф, я готова помочь вам отыскать Корнелию! Но мне неизвестно, где она сейчас! Я вообще впервые слышу обо всем этом. Катон повернулся к торговцу: — А вы? Что скажете вы, господин Охтервельт? Судорожно глотнув, владелец антикварной лавки произнес: — Понимаю, что многое из того, что мы считаем истинной верой, в ваших глазах преступные деяния. Но мы готовы отвечать за них перед Высшим Судьей, и только перед ним, сколько бы вы ни предавали нас вашему суду. И я прошу вас вот о чем: проявите снисхождение к моей дочери. Это я привел ее к жерардистам. Да, она регулярно посещала наши богослужения, но она молода и не ведает ничего о наших тайных планах. — Помогите нам, и тем самым вы поможете и ей, — убеждал торговца Катон. — Что вам известно о лазури и о том, где жерардисты хранят ее запасы? Где, по вашему мнению, они скрывают дочь Рембрандта Корнелию? Охтервельт перевел взгляд на Йолу, потом снова на нас. Было видно, что он разрывается между любовью к дочери и клятвой, данной жерардистам. Наконец Охтервельт с видимым усилием проговорил: — Мне известно только, что де Гаалю принадлежат здания портовых хранилищ. Он использовал их в наших целях. Но я не могу с определенностью утверждать, что там он хранит и запасы этой краски или оружие для восставших. — Нам, разумеется, известно об этих складах. Мы уже обыскали их, но это ни к чему не привело, — сказал Катон, обращаясь скорее ко мне, чем к Охтервельту. — До сих пор мы не обнаружили ничего, кроме пары ящиков с призывающими к мятежу листовками да молитвенниками. Ну, может, еще пару бочонков пороху в придачу. Внезапно распахнулась дверь в лавку. Мне показалось, что это ветер, но на пороге появились четверо молодых людей. Все они коротко приветствовали Катона. Это, судя по всему, было затребованное инспектором в ратуше подкрепление. Я повернулся к Охтервельту: — Вы в самом деле не знаете, где может быть Корнелия? Хотя бы намекнули, что ли. — Нет. — По несчастной физиономии торговца я видел, что он не лжет. — Да, признаю, я жерардист. Но я никогда не принадлежал к руководящей верхушке, посему в тайны меня не посвящали. Увы, я ничем не могу помочь вам, господин Зюйтхоф. Катон отдавал распоряжения своим людям: — Вы двое сейчас же отведете вот этого господина и его дочь на допрос в ратушу. Деккерт поставлен в известность. А вы обыщете лавку и их жилище. Обращайте внимание на самые на первый взгляд незначительные вещи — они могут нам помочь. Девушка, выходя, повернулась ко мне, и я заметил в ее глазах виноватое выражение. Я кивнул ей, желая хоть как-то приободрить, но меня самого впору было утешать. — А мы? — спросил я инспектора. — Чем мы с вами займемся? — Например, будем присутствовать при обыске у Охтервельтов, — предложил Катон. — Или у вас на сей счет имеются другие идеи? — Вполне может быть, что имеются, — ответил я, подумав. — Не знаю, окажется ли это полезным, но попытаться, я полагаю, следует. — Ну, что там у вас, Зюйтхоф? Выкладывайте уж!
Антонисбреестраат также выглядела пустынной, если не считать нашего экипажа да какого-то бедолагу, который наперекор ветру брел куда-то по своим делам. Ни души не было и у входа в «Веселого Ганса». Да и откуда им взяться в послеполуденный час? Рановато для увеселений. Когда мы выходили из экипажа, возница крикнул нам: — Лошадь от этого урагана совсем спятила. Надо бы поехать да распрячь ее. Пусть малость отдохнет. — Ну и езжайте себе, — ответил Катон. Ветер смешно растрепал шевелюру инспектора. — Как-нибудь уж обойдемся. Благодарно кивнув, кучер поехал в направлении ратуши, а мы двинулись ко входу в заведение. Катон немилосердно замолотил кулаками в толстую дверь, пока уже известный нам кабатчик не приоткрыл ее. — Мы еще не открылись, — рявкнул он и собрался притворить дверь. — Нас это не касается, — холодно ответил Катон. — Вы нас не узнаете? — Ах, так это вы! Опять надумали повидать Каат? — Вы угадали. — Ну, тогда входите, — недовольно наморщив лоб, сквозь зубы процедил кабатчик, впуская нас. Наш визит явно не пришелся ему по душе. Он провел нас на верхний этаж, где я невольно бросил взгляд на висевшие в коридоре картины. Все те же безобидные и бесцветные сюжеты. Я спросил себя, повезет ли нам здесь на этот раз больше, или же вновь придется уходить от Каат Лауренс несолоно хлебавши. Кабатчик позвал владелицу, женщина отозвалась из отдаленной комнаты. Мы вошли в уютное помещение. Серебряные подсвечники на столе, писанная маслом картина на стене. Да, кому вздумается позабавиться здесь с девочками, тот должен выложить пару гульденов в карман Каат Лауренс. Сводня и сегодня была в скромном платье, вместе со служанкой она занималась уборкой постели. — Пусть служанка выйдет, у нас к вам неотложный разговор личного характера! — требовательно произнес инспектор Катон. — Вас он тоже не касается, — бросил он продолжавшему торчать в дверях кабатчику. Каат Лауренс выжидательно смотрела на нас, изо всех сил стараясь скрыть волнение. Я заметил, как сводня пару раз судорожно глотнула, изредка бросая взгляды на дверь. — Наверняка вам понятна цель нашего прихода, — начал Катон. — Совершенно непонятна, но надеюсь, что вы ее мне объясните. — Ваш приятель ван дер Мейлен мертв, — хладнокровно произнес инспектор. — Да что вы говорите! Как же это случилось? Из-за этого урагана? — Ураган тут ни при чем. Он выпал из окна одного из домов в квартале Йордаансфиртель, где раньше у него была антикварная лавка. Вам-то уж точно известно, что у него там было, так сказать, второе пристанище. — Ничего мне об этом не известно, — ответила сводня как-то слишком поспешно. — Я вообще с трудом понимаю, о чем вы говорите. Тут решил вмешаться я. — Сомнительно, чтобы вы не понимали. Напротив, вы прекрасно нас понимаете. — Ах, это снова вы. Художник, если не ошибаюсь. Зачем же вы сегодня явились? Уж не похитили ли вас опять? Вместо меня ответил Катон: — Попытались было. Но теперь, в отличие от прошлого раза, тому есть неоспоримые доказательства. Как и тому, что вы, госпожа Лауренс, также имеете отношение к жерардистам. Какое именно — еще предстоит выяснить. И если вы не будете запираться, суд обязательно примет это во внимание. Так что выкладывайте все, что вам о них известно, тогда, возможно, вообще не будете привлечены к суду. Каат Лауренс некоторое время молчала, глядя перед собой. — Те, о которых вы тут говорите, мне незнакомы. Я даже не слышала ни о каких жерардистах, как вы выражаетесь. Обвинять вы меня можете сколько угодно, но извольте представить доказательства. И суд от вас их потребует. Так что лучше уж оставьте меня в покое! Формально трудно было возразить ей, и мы как побитые собаки покинули заведение. Едва мы оказались за порогом, как я дал волю чувствам, всласть побранившись. — Утихомирьтесь вы, Зюйтхоф, никто ваш план не осуждает. А эта Каат Лауренс — продувная бестия. Наверняка знает куда больше, но начни ядействовать вопреки закону, тут же на ней зубы обломаю. Вот так-то. — То есть? — не понял я. — Я мог бы как следует надавить на нее, может быть, даже при этом и нарушить закон, но… Не предъявив неоспоримых доказательств, я на подобное пойти не могу. Вот если бы кто-нибудь действовал, скажем, по поручению амстердамского участкового суда… Я прекрасно понял инспектора. — Все верно, но в таком случае Каат Лауренс могла бы обратиться за зашитой к властям. Катон, не отвечая, смотрел перед собой на подгоняемые ветром опавшие листья. — Очень некстати эта буря. Теперь у городской стражи будет хлопот полон рот — надо ликвидировать последствия урагана. Так что властям сегодня вечером явно будет не до «Веселого Ганса».
Глава 30 Личина демона
Буря не улеглась и к вечеру, перевернув килем вверх не одну баржу в водах каналов и не один дом оставив без крыши. Повсюду люди заколачивали досками окна, чтобы хоть как-то уберечься от стихии. Словно силы преисподней ополчились на Амстердам, грозя сровнять его с землей. Когда мы направлялись на Антонисбреестраат, на город опустилась необычная для этого времени дня темнота из-за нависшей исполинской тучи. Стоило взглянуть на нее, как мне начинали чудиться демонические лики, готовые растерзать Амстердам из-за того, что их нечестивые планы оказались под угрозой. Ну вот, разве вон там не торчат бесовские рога? А вон там? Да это ведь недобрый прищур дьявола! Я невольно замер на месте от охватившей меня паники, и Роберт Корс наткнулся на меня. — Что это с вами, Зюйтхоф? — недоумевая, спросил он. — Оттого, что вы пялитесь на небеса, буря, знаете ли, не утихнет. — А вы разве не различаете лицо вон там? — показал я рукой вверх. — Где это вы видите лицо? На облаках, что ли? — Ладно, ладно, замнем, — смешался я. Нет уж, хватит распускаться. А то Роберт Корс, чего доброго, подумает, что я перепил. Может, хозяин борцовской школы прав и никакого лица там не было, а все лишь почудилось мне. Вероятно, проклятая синева никак не желала оставить меня в покое, желая затащить в мир иллюзий, из которого я чудом бежал. Мы шли по улицам города и вскоре оказались у входа в «Веселого Ганса». Окна заведения были освещены, но вой ветра заглушал доносившиеся изнутри звуки. Охранник, как обычно, торчал у дверей, на сей раз под защитой навеса над входом. Для пущей важности, а также чтобы уберечься от ветра, он нахлобучил на лоб широкополую шляпу. С нами были пять самых лучших учеников Роберта Корса. Они не знали, что им предстояло, но вопросов не задавали, считая, что обязаны по первому зову прийти на помощь своему наставнику. Да и самого Корса я решил не посвящать в детали предстоящего визита в гнездышко мадам Каат Лауренс. Хотя вполне мог догадываться, что речь шла о возмездии тем, у кого на совести была гибель Осселя Юкена. — Так вы точно знаете, что вблизи ни одного постового? — осведомился Коре, наверное, уже в третий раз. — Поймите меня правильно, мне вовсе ни к чему перспектива учить борьбе в стенах Распхёйса. — Можете об этом не тревожиться, мастер Корс, — заверил его я. — Хорошо. Тогда я, пожалуй, побеседую с этим парнем у входа. И Роберт Корс уверенной походкой важного гостя направился ко входу. Охранник тут же загородил ему дорогу, желая удостовериться, с кем имеет дело. Потом события стали развиваться с молниеносной быстротой: легкое движение Корса, вытянутая вперед нога, надежный захват, и охранник ничком лежит на мостовой. Корс, опустившись на колени, поддал ему еще, как минимум на ближайшие полчаса выведя верзилу из строя. Ученики Корса были тут как тут и проворно связали детину, заткнув ему рот кляпом, а потом отнесли его подальше от глаз людских. — Прекрасно, — отметил Роберт Корс, улыбаясь во весь рот. — Там об него уже никто не споткнется. Мы вошли в зал. Каат Лауренс самозабвенно горланила очередную разухабистую песенку из репертуара заведения. Мощные груди колыхались в такт музыке, грозя разорвать плотную шнуровку платья. Немногие из тех, кого жажда увеселений выгнала в это ненастье из дому, вперили плотоядные взоры в распевающую сводню. Сухонький человечек за клавесином отчаянно пытался попасть в такт с пением Каат, но тщетно — клавесин безнадежно отставал от певицы. Человек за стойкой, заметив нашу компанию, растерянно уставился на нас. Разумеется, он узнал меня и сообразил, что мой повторный визит, да еще в сопровождении шестерых здоровенных парней, не сулит для заведения ничего хорошего. В упор не замечая его, я прошествовал мимо стойки. У клавесина остановился и извлек из-под полы топорик с длинной ручкой. Три-четыре стоящих удара, и от инструмента осталась груда щепок. Музицировавшего мужчину как ветром сдуло. Повернувшись к сцене, я заметил, как он пытается спрятаться за могучей спиной Каат Лауренс. Размахнувшись, я разнес в щепы и скамью, на которой он сидел. Согласно моему сценарию, ни Роберт Корс, ни его ученики не участвовали в этой акции вандализма. Мне не хотелось навлекать на него беду, если вопреки расчетам все же придется иметь дело с представителями властей. Их заботой было обеспечить мою неприкосновенность. — Что вы делаете? Вы с ума сошли! — Каат Лауренс, оборвав пение, завопила на меня: — Прекратите немедленно! Не успела она договорить, как жертвами моего топорика пали два незанятых столика и стоявшие вокруг них стулья. Рассвирепевшая мадам бросилась ко мне, но была остановлена Корсом, который заключил ее в железные объятия. И я без помех осуществлял задуманное: уничтожал стол за столом, стул за стулом. Вскоре на полу зала громоздилась куча обломков, будто после кораблекрушения. — Помогите мне, друзья мои! — завопила перепуганная не на шутку хозяйка заведения. — Вышвырните этих скотов, и я вам обещаю бесплатный вечер с моими лучшими девочками! Второй раз гостей заведения упрашивать не пришлось. Их было восемь, не считая человека из-за стойки, спешно вооружившегося кинжалом. Не только он один был при оружии — почти у всей восьмерки зловеще поблескивали кинжалы или стилеты. Им противостояли невооруженные борцы. Корс отпихнул владелицу заведения прямо на груду деревянных обломков. Белая как мел сводня, нервно мусоля изорванный подол платья, не в силах вымолвить ни слова, в ужасе уставилась на мой топорик. Первым в атаку бросился человек из-за стойки. К своему несчастью, он избрал противником не кого-нибудь, а самого руководителя школы единоборств, норовя всадить ему в грудь кинжал. Корс мгновенно уклонился, и кинжал нападавшего ударил в пустоту. Корс тут же изловил зазевавшегося противника и, обхватив его руками, швырнул об пол с такой силой, что тот уже не поднялся, а кинжал со звоном полетел куда-то под уцелевшие столы. Надо сказать, и ученики Корса не посрамили доброго имени своего наставника. Гости заведения один за другим растягивались на полу или падали на немногие уцелевшие столы и стулья. Борцы же отделывались легкими ссадинами. Самые благоразумные из гостей спешно покинули заведение, так что вскоре нам противостояли разве что кабатчик из-за стойки да сама пышногрудая хозяюшка. Музыкант же испарился еще до начала баталии. Повернувшись к стойке, я методично, удар за ударом стал уничтожать и ее. Потом подошла очередь стенного шкафа с бутылками. Они со звоном разлетались, и вскоре в зале было не продохнуть от спиртного. Я даже невольно опустил топор, убоявшись продолжать разгром — не дай Бог, вышибешь искру, и тогда поминай как звали — все тут полыхнет, не успеешь и опомниться. — Прекратите же наконец и объясните, что вам от меня нужно! — чуть не плача, умоляла меня сводня. Еще бы — каково созерцать, как улетучиваются твои денежки. — Вы отлично знаете что, — бросил я в ответ и в следующую секунду сокрушил еще десяток бутылей с вином. Довершая разгром, я думал только о Корнелии и грозившей ей опасности и ни о чем другом. Только бы Корнелия была жива! Только бы ее не убили! Борцы были на седьмом небе — возложенная на них миссия, судя по всему, здорово развлекла их. Не часто им выпадала возможность продемонстрировать свое умение вне стен школы. — Давайте поговорим! — донесся до меня отчаянный призыв так и сидевшей на полу среди разбитой в щепы мебели Каат Лауренс. — Но только не здесь, а с глазу на глаз. Я опустил топор. — Что ж, будь по-вашему. Пошли в контору. Пошатываясь, мадам поднялась с пола и повела меня в свои апартаменты. Корс и его ученики остались присмотреть за кабатчиком. Плотно прикрыв дверь конторы, я сказал все еще белой как смерть сводне: — Только не рассчитывайте на постовых. Сегодня их днем с огнем не сыщешь. Нет им дела до вашей забегаловки после такого урагана. Мне показалось, что Каат Лауренс еще сильнее побледнела. Она в изнеможении опустилась на стул. Струйки пота сбегали по шее, проворно исчезая в ложбинке между грудей. Молча наблюдая за ними, я поигрывал топориком в руке. — Что вы хотели узнать у меня? — прервала молчание сводня. — Некоторым из сообщников ван дер Мейлена удалось избежать ареста. Где-то в городе у них должен быть тайный склад. Кроме того, у них в руках девушка. Дочь живописца Рембрандта ван Рейна Корнелия. Что вам об этом известно? — Клянусь Богом, ничего. Я к ним отношения не имею. — Я многозначительно поднял топор. — Конечно, у меня были кое-какие дела с ван дер Мейленом, он ведь тоже считается владельцем «Веселого Ганса», но все бумаги оформлены на меня. Ван дер Мейлен считал, что властям незачем знать о том, что и он владелец. Но я ничего не слышала ни о похищенной девушке, ни об их складах. Бывало, ван дер Мейлен привозил сюда на хранение какие-то ящики и бочки с чем-то, но никогда не отчитывался передо мной, что в них. — Что вы знаете о сообщниках ван дер Мейлена? В частности об Антоне ван Зельдене? О Фредрике де Гаале? — Ван дер Мейлен иногда приводил с собой этого ван Зельдена. Но я старалась никак не общаться с этим человеком. Он всегда был мне отвратителен. После проведенной с ним ночи девушек впору было отправлять в лечебницу — так он издевался над ними. Тут я полностью разделял мнение Каат Лауренс. — А де Гааль? — Того я видела здесь лишь один-единственный раз. Тогда ван дер Мейлен и привез партию ящиков и разместил их в подвале. Де Гааль желал взглянуть на их содержимое. — А что это было за содержимое? — Откуда мне знать? Я никогда не лезла в их дела. — То вы что-то знаете, то снова не знаете, — раздраженно бросил я, пристукнув рукоятью топора об пол. — Не знаю, что и думать. И как поступить с вами. — Обождите, обождите, я еще кое-что припомнила. Это потому, что вы хотели что-то там знать насчет склада. Когда де Гааль был здесь, я случайно подслушала часть их разговора с ван дер Мейленом. Ни тот, ни другой меня не видели. Они были в одном из складских помещений в подвале. А там проходит шахта для проветривания, так вот через нее все слышно даже наверху. Я, разумеется, не поверил заверениям Каат Лауренс, что она, мол, случайно подслушала разговор. Но это было не суть важно. — И что же вы услышали? — Они говорили о каких-то ящиках. Эти ящики надо было перегрузить на корабль. Ван дер Мейлен хотел знать, на какой именно корабль. Уж не на тот ли, что принадлежал де Гаалю? А де Гааль лишь усмехнулся в ответ и сказал, что судно записано, разумеется, не на него, а на третье лицо, официально считающееся владельцем. — А название корабля не помните? — Кажется, оно каким-то образом связано с птицей. Ах да, вот — «Чайка», — после довольно продолжительной паузы проговорила Каат Лауренс. Значит, «Чайка». Под таким названием в Амстердаме было, наверное, с десяток судов. Но все лучше, чем ничего. — А как фамилия официального владельца? — продолжал допытываться я. — Ну, ее они не называли. Во всяком случае, я не помню. Задав еще парочку вопросов, я убедился, что больше из этой особы мне ничего не вытянуть. Лишь отчасти удовлетворенный результатами своего импровизированного допроса, я все же не стал вновь прибегать к топорику. Нет, на сей раз она выложила мне все, что ей было известно. Мне не составило труда понять, что Каат Лауренс явно преуменьшала свою роль в тайной организации, с тем чтобы на случай судебного разбирательства выйти сухой из воды, однако разве мог я поставить ей в вину нечто подобное? В зале меня дожидались борцы, стерегшие кабатчика. Тот, усевшись на уцелевший стул, потирал ушибленный лоб. Его еще недавно белоснежная сорочка была замарана в крови. Роберт Корс с надеждой взглянул на меня: — Ну и как? Вытрясли из этой бабенки что-нибудь существенное? — Не берусь утверждать с определенностью, — не стал привирать я. — Но как бы то ни было, огромное спасибо за вашу неоценимую помощь. Вполне вероятно, что она еще понадобится. — Всегда к вашим услугам, — пообещал Корс. Его ученики улыбнулись, бросив прощальный взгляд на поле боя. — Видите, для них это развлечение, — не без гордости отметил руководитель борцовской школы.Втянув головы в плечи, мы шли против ветра по Антонисбреестраат. Я не сразу заметил надвигавшийся на меня странно голубевший смерч. Сгусток воздуха с такой легкостью оторвал меня от земли, будто я был бабочкой, а не взрослым мужчиной. От ужаса я выронил топор. Мои спутники проявили удивительную реакцию, ухватив меня за руки и полы сюртука. Крутанув пару раз, смерч попытался вырвать меня из цепких рук моих спутников, но это ему не удалось. Я отчетливо понимал свою беспомощность перед лицом разбушевавшейся стихии. Но вдруг смерч отстал от меня, убравшись прочь столь же внезапно, как и появился. Я грохнулся на брусчатку. Падение было болезненным, я чувствовал себя растерзанным стаей волков. — Ну, как вы, Зюйтхоф? — осведомился подбежавший ко мне Коре. Я с великим трудом смог встать на колени. — Знаете, даже понять пока что не могу. Все произошло до жути быстро. Корс покачал головой: — Ничего подобного мне видеть до сих пор не приходилось. Будто этот ураган хотел то ли похитить вас, то ли сделать из вас отбивную. Люди считают себя всемогущими, но, знаете, природа иногда такое вытворяете нами. — Вы верно говорите, — согласился я. Мне было явно не до шуток — за те секунды, когда я витал между небом и землей, я успел разглядеть синеватый силуэт, даже не силуэт, а очертания омерзительной бесовской рожи, с ненавистью взиравшей на меня. Если уж и вправду существуют неправедные силы, то я заглянул в лицо самому их властелину.
Глава 31 Корабль в тумане
Залив Зейдер-Зе 1 октября 1669 года Наступил вечер, и бушевавший на море шторм чуть унялся. И все же те на борту «Гольфслага», кто не принадлежал к числу матросов, по-прежнему приносили съеденное в жертву морской стихии. Я смотрел на оба одномачтовых судна, следовавших за нашим двухмачтовиком, убеждаясь, что и на их борту все выглядело примерно так же. Сам я, впервые выйдя в море, не ощущал ни малейших признаков морской болезни. Может, все из-за взвинченности. В сотый раз я вглядывался вперед, туда, где неясно вырисовывались очертания острова Тексель, спрашивая себя, когда же наконец обниму Корнелию. Никто не мог сказать, находилась ли девушка на борту «Чайки». Заговорщики вполне могли держать ее в каком-нибудь тайном убежище в Амстердаме. Либо бежать из Амстердама в глубь страны, взяв ее в заложницы. Все казалось возможным, а чем располагали мы? Лишь указанием Каат Лауренс на то, что название корабля — «Чайка». После вечернего визита в «Веселый Ганс» и знаменательной встречи с вихрем я, как и было договорено, сразу же разыскал Иеремию Катона и представил ему подробный отчет о произошедшем. Инспектор немедленно отправил своих людей на поиски упомянутой «Чайки». И те вернулись не с пустыми руками. То, что им удалось выяснить, звучало по меньшей мере любопытно. В порту Амстердама на якоре стояли четыре корабля под таким названием, но только один из них по величине подходил для осуществления планов жерардистов. Владельцем его был некий Исбрант Винкельхаак, торговец тканями, коммерсант скорее мелкого пошиба, слишком мелкого, чтобы содержать такую громадину, как «Чайка». Мы наведались в его дом, расположенный неподалеку от обиталища ван Зельдена на Кловенирсбургвааль, однако хозяина не застали, ибо он отбыл в неизвестном направлении, причем настолько поспешно и нежданно, что даже его дражайшая супруга не могла сказать по этому поводу ничего определенного. И в довершение всего Исбрант Винкельхаак отдал приказ команде стоявшей на рейде у Текселя «Чайки» готовить судно к отплытию. Срочно собрали матросов, к Текселю из Амстердама устремились парусные лихтеры с запасами провианта пресной воды для «Чайки». Все это веским доказательством служить не могло, однако настораживало, посему казалось нам зацепкой. Иеремия Катон размышлял: — Фредрик де Гааль в свое время доставил в Амстердам на борту корабля запасы дьявольской синей краски. Вполне логично, что теперь, когда у заговорщиков земля под ногами горит, он попытается погрузить эти запасы тоже на борт корабля, с тем чтобы переправить их в другое место. Возможно, запасы краски уже успели погрузить на корабль. В последний раз «Чайка» выходила в море четыре года назад. Возникает вопрос, как столь незаметный купчишка, как Винкельхаак, вообще может позволить себе держать «Чайку» на приколе? Ведь такой корабль должен приносить прибыль! Вероятно, «Чайка» выполняет роль плавучего склада заговорщиков. В минувшую ночь инспектору Катону, да и мне, с трудом удалось выкроить пару часов для сна — мы спешно сколачивали группу для предстоящей операции. Это были лучшие мушкетеры из числа амстердамских охранных отрядов. Кроме того, я вновь обратился за помощью к Роберту Корсу, а вдобавок поднял среди ночи моих старых приятелей Хенка Роверса и Яна Поола. Оба прекрасно вписывались в нашу группу людей надежных, бесстрашных и успевших на своем веку побывать в переделках. И вот, наутро покинув амстердамский порт, три лихтера доставляли наш отряд на Тексель, где стояли на якоре к отплытию крупные корабли, чье водоизмещение не позволяло войти в прибрежное мелководье у Амстердама. Буря за ночь улеглась, но когда мы выходили, задувал довольно крепкий ветер, и море покрывала мелкая зыбь. Сейчас же ветер утих, и наша крохотная флотилия никак не могла подобраться к острову Тексель, словно высшие силы вдруг не захотели этого. Неясные очертания никак не желали обретать четкость. Я обратился к стоявшему рядом со мной Хенку Роверсу, который вместе с Яном Поолом глазел на муки «сухопутных крыс», бессильно повисших на перилах. Судя по всему, эти несчастные были уже не в силах и выблеваться толком. — Скажи-ка, старина Хенк, отчего это островок не торопится показаться? Старый морской волк, прищурившись, стал вглядываться во мглу. — Все дело в чертовом тумане, как мне сдается. Похоже, он заволок весь Тексель. Одному дьяволу известно, откуда его принесло, да вдобавок за считанные минуты. — Это уж точно, что дьяволу, — пробормотал я. — При чем тут дьявол? — взъерепенился Ян Поол. — Ерунда это все, — буркнул он, странно скривив в улыбке свою опаленную порохом физиономию. — Не слушайте вы Хенка, господин Зюйтхоф. Он вам сорок бочек арестантов наболтает. Сейчас межсезонье. В такое время туман завсегда наволакивает на Зейдер-Зе. Так что ничего страшного и необычного. И вот что я вам посоветую. Пусть лучше все разыгрывают слабаков, неумех, словом, сухопутных крыс. Это только на пользу нам выйдет! — То есть как? — не сообразил я. — Вы нацелились на «Чайку», так? Так. Вот пусть там и подумают, что мы слабаки, дурачки и вообще моря в глаза не видели. Стоит им взглянуть, как эти травят в море и они расслабятся. Вот тогда мы их тепленькими и возьмем. Я невольно восхитился изобретательностью Поола и тут же сообщил обо всем инспектору Катону, а тот, в свою очередь, Хендриксу, владельцу нашего скромного парусника. Хендрикс сигнализировал остальным, чтобы те приблизились к «Чайке» на дистанцию слышимости. А Катон тем временем распорядился прекратить травить, когда они ближе подойдут к «Чайке». Оставалось лишь уповать, что все так и будет. — Вон там, глядите! — вскричал я. — Что это? Очертания! Уж не «Чайка» ли? — Может, и она, — ответил Поол. — А может, и нет. Я подбежал к стоявшему у штурвала Хендриксу. — Уже заметил, — довольно равнодушно отозвался владелец и капитан нашего парусника. — Скоро увидите и остальные суда на рейде. — Так это, выходит, не «Чайка»? — разочарованно протянул я. Хендрикс мельком взглянул на пестрые буи, плясавшие на волнах. Таких полно на отрезке от Амстердама до Текселя — чтобы корабли не садились на мель. — Нет, господин, нам понадобится еще с полчаса, если только туман не рассеется. Вы что же, думаете, что здесь, на рейде у Текселя, одна только ваша «Чайка»? Я ничего по этому поводу не думал и, честно говоря, не хотел думать. Охваченный волнением, я вернулся к Поолу и Роверсу и стал вглядываться в выплывавший из мглы темный силуэт огромного торгового корабля по левому борту. Из тумана выныривали и другие суда, тут же исчезая в белесой пелене. Все было в полном соответствии с предсказаниями Хендрикса. А тот, стоя у штурвала, как ни чем не бывало держался избранного курса, словно мог видеть сквозь серовато-белую мглу. Мое возбуждение первых минут постепенно сменялось спокойствием, если не равнодушием — сказывалось вынужденное безделье. Туман сгущался, очертания судов были едва различимы. Внезапно я ощутил дуновение одиночества и пустоты, столь характерное для моря, хорошо знакомое настоящим морякам, таким как Хенк Ровере и Ян Поол, не раз испытавшим это чувство в долгих рейсах. — Прямо по курсу корабль! — негромко, но явственно уже во второй раз объявил стоявший рядом с Хендриксом матрос. Наш парусник не сворачивал, а, напротив, шел прямо на темневший в тумане силуэт. Я заметил, как Иеремия Катон подошел к матросам и что-то сказал им. Висевшие на перилах, оторвавшись от них, выпрямились и всем своим видом показывали, что им морская болезнь нипочем. Мушкетеры, взявшись за шомпола, стали вгонять в стволы заряды. Так же все выглядело и на двух других парусниках, колыхавшихся на волнах неподалеку от нас. Подойдя к нам, Катон сказал: — Мы каждую минуту можем выйти прямо на «Чайку». Действовать, как было договорено. Сначала на борт «Чайки» высаживаются люди Роберта Корса, потому что присутствие мушкетеров насторожило бы заговорщиков. Задача этого авангарда как можно дольше сдерживать противника до подхода наших основных сил — мушкетеров. И нам в эти первые минуты остается лишь уповать на фортуну. Пока что она благоволит к нам — погода, как видите, на нашей стороне. В тумане заговорщики не так скоро заметят, с кем имеют дело. Силуэт судна все увеличивался, и вот уже наши парусники показались в сравнении с ним просто лодчонками. Впрочем, нас это не смущало, поскольку речь шла не о морской баталии, а об абордаже. Катон подумал было заручиться подкреплением в виде двух военных кораблей. На тот случай, если вдруг с борта «Чайки» заговорщики надумали бы открыть огонь, эти военные корабли разнесли бы ее в щепки. Но от этого плана пришлось отказаться, чтобы не ставить под угрозу жизни невинных людей, и в первую очередь заложников, которых заговорщики вполне могли взять на борт. К тому же вовсе не было гарантии, что на борту «Чайки» на самом деле есть орудия — в конце концов, это было обычное торговое судно. Таким образом, было принято решение о рукопашной схватке, иными словами, все зависело теперь от того, на чьей стороне окажется численный перевес. Нас было девяносто человек, включая шестьдесят мушкетеров. Остальные — моряки и борцы. Сколько людей насчитывалось на борту «Чайки», этого мы не могли определить даже приблизительно. Пока судно стояло на рейде, на борту трудилась лишь часть команды. Неясным оставалось, сколько на судне жерардистов и успело ли большинство тайком перебраться на борт. Я смотрел на огромный нос корабля, мерно покачивавшийся на волнах, а наш парусник, носивший имя «Гольфслаг», с правого борта приближался к «Чайке». — Взгляните только на осадку — эта посудина сидит в воде по самую ватерлинию, — отметил Хенк Роверс. — Трюм битком набит. Мне невольно пришла на ум дьявольская синяя краска. А что, если ее там нет? Что, если на борту «Чайки» самый обычный груз — хлопок, табак, вино? В таком случае к чему вся эта невероятная спешка с выходом в море? И ей можно было найти объяснение — Исбрант Винкельхаак решил выйти неожиданно, чтобы обдурить всех своих конкурентов. Чем не версия? Нет, ответил я, такого быть не могло. «Чайка» — наша последняя надежда сокрушить планы жерардистов. И моя последняя надежда…Владелец нашего лихтера «Гольфслаг» Хендрикс перекрикивался с бортом «Чайки». Ее матросы, размотав штормтрап, перебросили его через борт. Я скептически смотрел на раскачивавшуюся из стороны в сторону веревочную лестницу, мне казалось немыслимым, как можно поймать ее при такой качке нашего крохотного парусника. Даже величавую «Чайку», и ту здорово покачивало, нос входил в воду по самые якорные цепи. — Я пойду первым, — объявил Ян Поол, сноровисто ухватив нижний конец штормтрапа. — Стоит им увидеть мою морду, так они сразу окоченеют от страха. Этим мы и воспользуемся. — Ну, тогда и мне стоит пойти, — со вздохом отчаяния сообщил Хенк Ровере, следуя за приятелем. Убедившись, что оба стали взбираться на борт «Чайки», я собрался ухватиться за толстую веревку штормтрапа, но меня опередил Роберт Корс. — Знаете, у меня больше прав отомстить за Осселя. Уже хотя бы потому, что я знал его дольше, — с грустной улыбкой произнес он и с проворством морского волка стал карабкаться по штормтрапу. Ничего удивительного, сказывались умения, выработавшиеся годами систематических занятий борьбой. Я надел затертую чуть ли не до дыр вязаную шапочку, довершив тем самым переодевание в моряка. Затем натянул ее на самый лоб — на тот случай, если на борту «Чайки» окажутся те, кто знает меня в лицо. Набрав в легкие побольше воздуха, я вскоре повис, болтаясь над волнами между двух бортов. — Вы только вниз не смотрите! — крикнул мне Хенк Роверс. И я следовал этому совету, фут за футом одолевая непривычную лестницу. Довольно основательно приложившись к борту «Чайки», я ощутил засунутые за пояс и спрятанные под бушлатом нож и тот самый пистолет, что спас мне жизнь совсем недавно. Как ни мешало оружие, с ним все же было куда спокойнее. Опередивший меня Поол уже перебрасывался шутками на палубе с матросами «Чайки». Темой наверняка стала его опаленная порохом физиономия. Взобрался и Роберт Коре, а вот уже и я видел перед собой лица матросов, дожидавшихся нас. На них не было ни настороженности, ни враждебности. Спрыгнув на палубу, я стал отдуваться, словно после тяжких трудов. Высоченный детина с огненно-рыжими волосами, на целую голову выше даже Роберта Корса, хлопнул меня по плечу так, что я невольно присел. — Недурно же тебя потрепало, дружище. Нелегко, наверное, тащиться через Зейдер-Зе на таком крохотном корыте. Я без слов кивнул, предпочитая не ввязываться в разговор на морские темы из опасения попасть впросак. Вслед за мной на палубу торгового корабля поднимался остальной передовой отряд — частью матросы, частью борцы. Заметив, как неуверенно держатся они на ходившей ходуном палубе, я убедился, что затягивать спектакль ни в коем случае нельзя — их вмиг отличат от бывалых моряков именно по походке. И верно. — Что это за придурки? Да они еле ноги волочат! — изумился рыжеволосый детина. — Эй вы! Вы хоть раз ступали на корабельную палубу? Я быстро переглянулся с Корсом. Хенк Роверс и Ян Поол тоже во все глаза смотрели на нас. Я понял, что больше медлить нельзя. Строго говоря, приказ должен был последовать от Иеремии Катона, но его не было видно на борту «Чайки». — Вперед! — скомандовал я, выхватывая двуствольный пистолет. Одновременно со мной оружие выхватили и мои товарищи. Не успели матросы «Чайки» и глазом моргнуть, как все оказались под прицелом. Не сводя пистолета с рыжеволосого, я произнес: — Стой на месте и не шевелись! Отвечай на наши вопросы! Если ты не виноват, тебе ничего не грозит! — А в чем я должен быть виноват? — злобно рявкнул он в ответ. Этот парень явно был не из пугливых. — В чем, я тебя спрашиваю? — Во всем, что на совести жерардистов! Если у них еще осталась совесть! Упомянув о жерардистах, я пристально наблюдал за выражением лица рыжеволосого. И угадал — детина мгновенно насупился и теперь уже струхнул не на шутку. Сомнений быть не могло — он тоже в рядах заговорщиков. Поскольку их организация по составу своему была весьма пестрой, не следовало исключать, что жерардистов полно и среди простых матросов. Невзирая на пистолет у меня в руке, рыжий верзила завопил во всю глотку: — Тревога! Все наверх! Мы… Его последние слова потонули в грохоте выстрела. Верзила схватился за грудь, куда угодила выпущенная в упор пуля. Я увидел дыру размером в ладонь. Рыжеволосый пару секунд безмолвно глядел на меня выпученными в ужасе глазами, и свалился передо мной как подкошенный. И вокруг разгорелась ожесточенная рукопашная схватка. Роберт Корс вместе со своими учениками бросились на противника, позабыв о выданном им оружии, положившись на опыт борьбы. Какой-то матрос, выхватив кривой тесак, надвигался на Корса, но тут же, отлетев шагов на пять, с размаху грохнулся о перила и застыл в неподвижности. Роберт Корс тут же подбежал к нему и, заехав по голове хорошим ударом обеими кулаками, успокоил его надолго, если не навсегда. Выхватив зажатый в руке матроса нож, он швырнул его за борт. А вот Яну Поолу и Хенку Роверсу, похоже, не везло. На моих приятелей наступала четверка крепких с виду моряков, оттесняя их к перилам. Я заметил у Роверса свежую рану на лбу, но он бесстрашно схватился с каким-то громилой раза в два выше его и шире в плечах. Ян Поол, который был посильнее, взял на себя троих оставшихся. В руках у Поола я разглядел кусок каната, которым он, размахивая, словно плетью, отгонял нападавших. Я собрался было выстрелом из второго ствола вызволить Роверса, но раздумал. Мало того что я был, как нетрудно догадаться, никудышным стрелком, хоть Деккерт и хвалил меня за сообразительность по части обращения с пистолетом. Но о какой меткости можно говорить при такой качке? Вдобавок Роверс и его противник, сцепившись, катались по скользким доскам палубы — того и гляди, угодишь в своего. Тем временем все больше моряков из команды «Чайки» высыпали на палубу и вступали в схватку. Но мне было не до них — надо было срочно выручать своих. Я бросился на корму. Там противнику Роверса все-таки удалось повалить старика на палубу. Матрос уже занес руку с деревянной дубиной, явно намереваясь размозжить голову моему приятелю. Одним прыжком одолев несколько футов, я рукояткой пистолета ударил неприятеля по затылку. Конечно, моему оружию было далеко до дубины, но удара вполне хватило, чтобы утихомирить жирного матроса, и через мгновение тот лежал, растянувшись на палубе. Роверс, проворно поднявшись, схватил выпавший нож и виртуозным жестом перерезал противнику глотку. Ярко-алый фонтан ударил на полфута вверх, едва не окатив нас. — Да не смотрите вы с таким ужасом на это, Зюйтхоф! — прохрипел Роверс, указывая окровавленным клинком на умиравшего матроса. — Тут уж либо ты его, либо он тебя. Другого не дано. Вот так-то! Кивнув, я повернулся к Яну Поолу. Судя по всему, моя помощь не понадобилась. Двоих он уже уложил, а третьему накинул на шею удавку из толстенной веревки. Удавка сработала — несколько секунд спустя морячок с «Чайки», выпучив глаза и посинев, словно баклажан, испустил дух, судорожно дрыгнув на прощание ногами. — Если б не вы, уж и не знаю! — выкрикнул Поол. — От души благодарю! Вот только не успел прийти на помощь Хенку. Да, стареет Роверс для таких забав! Услышав это, Ровере лишь презрительно фыркнул. А палубу «Чайки» уже заполняли мушкетеры. Загремели выстрелы. Ряды матросов корабля постепенно редели, оставшихся в живых оттесняли с палубы. К густому туману добавился вонючий пороховой дым. Одни мушкетеры спешно перезаряжали мушкеты, другие, выхватив шпаги, нападали на оставшихся матросов. В толпе мушкетеров я заметил и Катона. Инспектор выкрикивал команды своим людям. Вдруг я заметил, как на полубаке двое наших противников колдуют у пушки на вращающемся лафете. Торопливо зарядив орудие, они направили его как раз туда, где стоял Катон. Не тратя драгоценные секунды на раздумья, я, как обычно, почти наугад выстрелил. И, как и следовало ожидать, промахнулся — пуля прошла мимо, попав в деревянные перила. И до смерти напугала обоих незадачливых канониров — они тоже промахнулись: ядро просвистело в футе от Катона и угодило в грот-мачту. Инспектор, поняв это как предостережение, тут же скомандовал мушкетерам, и те открыли огонь по полубаку. Матрос, еще мгновение назад подносивший фитиль к пушке, судорожно взмахнув руками, сверзился в море, ударившись по пути о массивные перила. Его товарищ, видя такое, моментально ускользнул с палубы. Я повернулся к Роверсу и Поолу: — Ну, здесь, наверху, похоже, чисто. Пошли вниз! Роверс кивнул: — Клянусь Нептуном — мы найдем вашу девчонку! Мы стали спускаться на нижнюю палубу, где рядами стояли бочки и ящики с провиантом. Тут послышался странный звук, напоминавший хрипловатый смех. Я в ужасе стал озираться вокруг, но оказалось, это были всего лишь запертые в курятнике куры — экипаж намеревался подкармливать себя в плавании свежими яйцами. — Куда теперь? — спросил Ян Поол. — На левый борт, — решил я. Именно там и располагались каюты. Именно там и следовало искать тех, кто распоряжался на «Чайке». — А вы двое дожидайтесь мушкетеров. Не могу и не желаю подвергать ваши жизни опасности… — Ха! Ха! Ха! — раздельно и громко произнес Поол, не дав мне договорить. — Вместе начали, вместе и подохнем. Или есть возражения? Вперед, не будем терять времени! Благодарно кивнув, я перезарядил пистолет и возглавил нашу маленькую группу. Сверху доносились сухие щелчки выстрелов мушкетов, крики раненых; я от души надеялся, что и мы вскоре сможем рассчитывать здесь, внизу, на подкрепление. Пробравшись через заставленную тарой с припасами палубу, мы оказались в кают-компании. Через все помещение уныло протянулся длинный стол с двумя рядами мягких кресел. У стены я разглядел оружейную стойку. Новенькие мушкеты стояли аккуратным рядком. Их готовили на случай внезапного нападения или мятежа команды. Я ощутил нечто, похожее на удовлетворение, — захваченные врасплох жерардисты так и не успели воспользоваться оружием. Миновав несколько кают поменьше, тоже пустых, мы прошли в царство капитана. Едва переступив порог капитанской каюты, я увидел и самого капитана. Рослый мужчина в морской форме целился в нас из длинноствольного пистолета. Повинуясь скорее инстинкту, я рухнул на колени, одновременно выстрелив из обоих стволов. За спиной у меня раздался крик, а я с поразительной отчетливостью увидел, как обе мои пули вошли капитану в грудь. Силой выстрела его отшвырнуло назад, и он, проломив рамы, вывалился наружу. Громкий всплеск возвестил о том, что капитан «Чайки» отправился кормить рыб. Обернувшись к друзьям, я увидел склонившегося над Хенком Роверсом Яна Поола. В глазах Яна стояли слезы. — Он… Что?.. — Засевший в горле комок не дал мне договорить. В оцепенении я уставился на огромную рану, зиявшую в животе старика Хенка. — Да, — ответил Поол. — И лучше уж так. По крайней мере сразу. Мне приходилось видеть, как мучаются перед смертью раненные в живот, — лучше не вспоминать. — Что я могу сказать? Бедный Хенк! Останьтесь с ним! — Мне было невероятно трудно говорить. — К чему? Ему уже ничем не помочь, а вот вам — дело другое. — Спасибо! — поблагодарил я Поола и стал лихорадочно перезаряжать пистолет. — Надо попытать счастья в трюме, там, где грузы. Ян, вы, как матрос, куда лучше знаете корабль, так что ведите меня в трюм.
Покинув шканцы с каютами, мы все глубже опускались в чрево корабля. В неверном свете, проникавшем сюда с верхней палубы, мы разглядели множество ящиков и бочек. Волны с силой ударяли в борт, заглушая даже звуки кипевшего наверху боя. Вооружившись валявшимся рядом ломиком, Поол вскрыл пару ящиков и бочку. В них тоже оказался провиант — солонина, сухари, ром, пресная вода. Ян Поол выжидающе смотрел на меня. — На нос! — распорядился я. — Может, там нам повезет. И тут же про себя воззвал к небесам, чтобы так и произошло. По пути в носовую часть судна мы должны были миновать другой участок трюма. Здесь было темнее, чем в кормовом трюме, и поэтому я не успел вовремя разглядеть нападавших. Несколько человек метнулись к нам, но я вовремя успел отскочить в сторону. Яну повезло меньше — глухой удар, стон, и обмякшее тело товарища с глухим звуком упало к моим ногам. Нападавшие засветили фонарь. Первое, что я увидел, — это застывшего в неподвижности на полу Поола. Боже мой! Неужели и второму товарищу суждено умереть из-за меня? Я даже не сумел вовремя помочь ему! Я перевел взгляд на нападавших. Довольно большая группа, человек десять, обступила меня, угрожающе поигрывая дубинками в руках. Пятясь, я уперся спиной в ящики. Только пистолет у меня в руке чуточку охладил пыл моих недругов. Не будь я вооружен, меня бы наверняка ожидала участь Яна Поола. — Положите-ка пушечку! — требовательно произнес хрипловатый и в то же время пронзительно-вездесущий голос. Я мгновенно узнал того, кому он принадлежал. — Не положите, так обещаю, что ваша пассия превратится в ничто, как и ее братец! Из полутьмы показались три силуэта. У меня перехватило дыхание. Антон ван Зельден и Фредрик де Гааль вытолкнули перед собой еле живую Корнелию. Руки девушки были связаны за спиной, платье изорвано в клочья, лицо перепачкано, в глазах застыло выражение безысходности и боли. Но стоило ей увидеть меня, как лицо ее осветила радость. — Корнелис! — дрожащими губами пробормотала она. — Что с отцом? — Он очень тревожится за тебя, а вообще ему уже лучше с тех пор, как мы его вырвали из рук этих безумцев. Он видел тело Титуса и теперь уже не считает его живым. Он понял, какую дьявольскую игру затеял с ним ван Зельден и… — Еще раз повторяю, Зюйтхоф, — бросьте оружие! — оборвал меня на полуслове доктор-изувер. В его руке зловеще блеснул нож. Ван Зельден медленно приставил его к горлу Корнелии. — Надеюсь, вам известно, что я неплохо обращаюсь с ножами. Так что малоприятно было бы для девушки, если… Я тут же положил пистолет на один из ящиков. — Так-то лучше, — уже спокойнее произнес врач, не убирая ножа от горла Корнелии. — И почему я только с вами обоими церемонюсь? — раздумчиво произнес он. — Ну, это понять как раз нетрудно, — ответил я. — Вам необходимы заложники, чтобы обеспечить бегство из западни, в которой вы по собственной воле очутились. Ведь «Чайка», по сути говоря, уже в наших руках. — Что значит «по собственной воле»? — вмешался Фредрик де Гааль. — Вас ведь никто силком не тащил на борт этого корабля. Он казался вам вполне надежным убежищем, кроме того, давал возможность уйти от ответственности. А теперь вы вынуждены признать, что все пути к отступлению отрезаны. Вот поэтому вам срочно понадобились мы с Корнелией. Впрочем, девушка нужна вам еще по одной причине. — Снова разыгрываете умника, Зюйтхоф? — Отнюдь. Это не больше чем предположение. — Что же это за предположение? Понимая, что время работает на нас, я решил представить весьма обстоятельный ответ. Рано или поздно битва за корабль подойдет к концу, и сюда явятся наши люди. Разумеется, появление здесь инспектора Катона со свитой вооруженных людей вполне могло возыметь и драматические последствия, но парочка мушкетеров с заряженными мушкетами здорово подняла бы мне настроение. И я стал излагать: — Вначале я думал, что Корнелия понадобилась вам, чтобы оказывать давление на ее отца. Вероятно, это и была основная причина ее похищения. Но не единственная. Выяснилось, что Рембрандт оказался на удивление стойким к воздействию лазури. Это просто чудо, что, нарисовав столько картин и проведя за мольбертом уйму времени, он не свихнулся окончательно. Вполне вероятно, что вы пришли к мысли подвергнуть аналогичному испытанию и его дочь, выявить ее незаурядную способность противостоять демоническим козням смертоносной синевы. — Как же мне все-таки жаль, что нам так и не удалось перетянуть вас на свою сторону, Зюйтхоф! — В голосе де Гааля звучало неподдельное сожаление. — И чего это вы все время болтаете о каких-то там демонических силах? — Я много думал и о вас, и о произрастающих на островах Вест-Индии растениях, плоды которых содержат неизвестные до сих пор смертоносные вещества. И пришел к заключению, что не вы используете эту синюю краску в своих целях, а, напротив, она подчинила и вас, и ваших единомышленников-жерардистов себе. Речь идет не столько о жерардистах или о господстве католицизма либо кальвинизма в Нидерландах, сколько о борьбе, которую ведете вы, причем не по своей воле, в угоду силам зла. И насаждаете не истинно христианскую веру, как вы наивно полагаете, а власть сатаны! Я уловил в глазах тех, кто слушал меня, растерянность. Моряки, напавшие на нас с Поолом, неуверенно поглядывали на ван Зельдена и де Гааля. Да и у самого Антона ван Зельдена был озадаченный вид. Один только де Гааль хранил невозмутимость. Лицо его исказила издевательская ухмылка. — Я вижу, вы куда сильнее повредились в уме, чем Рембрандт. Иначе вы бы не стали кормить нас подобным вздором. Впрочем, это далеко не вздор. Это богохульство! Приписывать сатане Божьи помыслы есть богохульство! Я покачал головой: — Вы просто не сознаете поразившей вас слепоты, ибо зло овладело вами. Нет, не Бог руководит вашими деяниями, а сатана! Де Гааль рассвирепел: — Хватит выслушивать ваши бредни! Сейчас вы узнаете, на чье могущество замахнулись! По знаку предводителя жерардистов один из моряков вскрыл стоявший поблизости ящик. Де Гааль, зачерпнув что-то из него, медленно приблизился ко мне. В его раскрытой ладони зловеще искрился синий порошок. Дьявольская лазурь. Смертоносная синева. Сложив трубочкой губы, де Гааль аккуратно сдунул порошок мне в лицо. Я затаил дыхание,но было уже поздно. Я почувствовал головокружение, все перед глазами расплывалось, подернулось рябью, словно превращаясь в морскую воду. Лица стоявших обращались в мерзкие рожи, а вместо страдания во взгляде Корнелии застыл немой упрек. За что она упрекает меня? Меня раздражал, бесил этот взгляд. — Вы ведь обозлены на эту женщину, Зюйтхоф? — вкрадчиво осведомился де Гааль. — Тогда отплатите ей за все сразу! Никто вас от этого не удерживает! Вы свободны в этом! На меня накатила тьма, и я вспомнил, что однажды уже хотел наказать Корнелию. За неверность. За благоволение к другому. Тогда ей каким-то образом удалось бежать от меня. Но на сей раз не удастся! Медленно подойдя к Корнелии, я протянул руки к ее шее. — Нет, Корнелис, нет! — прокричала она. — Перестань, перестань, пожалуйста! Не слушай их! Прислушайся к себе! Ее страх будил во мне противоречивые чувства. Какая-то часть меня упивалась ее страхом. Но во мне жила и другая, болезненно воспринимавшая страх Корнелии, протестовавшая против него, жаждавшая раз и навсегда избавить девушку от этого страха. Это мое второе «я» стыдилось и страшилось первого, понимая, что то, первое «я» оказалось во власти неправедных сил. Нет! На этот раз — нет! Эти непрерывно повторявшиеся слова грохотом отдавались в моем мозгу. Я сумел пробить брешь в сковавшей мой разум броне. На мгновение передо мной возникла призрачно-голубая зловредная морда, разочарованно и гневно взиравшая на меня. Но я не поддался ее чарам. Руки мои сомкнулись не на шее Корнелии, а мертвой хваткой сжали глотку Фредрика де Гааля. Отвратительно хрипя, первый богач Амстердама пал на колени. — Сейчас же пустите его, Зюйтхоф! Это завопил Антон ван Зельден. Корнелия невольно запрокинула голову, пытаясь уклониться от острого клинка в его руке. Я вынужден был выпустить де Гааля из смертельных объятий. И в этот момент я услышал шум и возню за спиной. Ян Поол, очнувшись, выждал благоприятный момент и теперь, вскочив на ноги, повалил на пол сразу троих матросов. Разъяренная четверка каталась по полу. Несмотря на явное превосходство, он сражался как тигр. Гибель лучшего друга утроила, учетверила его силы. Я бросился на Антона ван Зельдена. Это был, конечно, рискованный шаг, принимая во внимание приставленный к горлу Корнелии нож. Но я рассчитывал, что затеянная Яном Поолом схватка отвлечет внимание доктора, и не ошибся. Лезвие его ножа лишь чиркнуло по горлу девушки, а ван Зельден повалился прямо на стоявшего с фонарем в руке матроса. Тот не устоял на ногах и выронил фонарь. Пытаясь совладать с отчаянно обороняющимся ван Зельденом, я краем глаза видел, как загорелось вылившееся из разбитого фонаря масло. Вскоре языки пламени лизали стенки трюма и ящики с грузом. Огонь распространялся молниеносно, и минуту спустя весь трюм был охвачен пламенем. — Пожар! Пожар! — в страхе заверещал матрос, выронивший фонарь. Вскочив, он метнулся к проходу, через который мы с Поолом вошли сюда. И там налетел на Роберта Корса, который не долго думая схватил его за шиворот и отшвырнул в сторону. За спиной наставника я разглядел двоих его учеников. — Мы, как всегда, вовремя! — воскликнул Корс и набросился на одного из тех, кто вцепился в Поола. Мне удалось прижать ван Зельдена к стоявшим друг на друге ящикам и вывернуть руку с ножом. Его глубоко посаженные глаза полыхали ненавистью и презрением. В багровых отсветах этот щуплый человечек с черепом вместо головы показался мне порождением ада, существом из глубин преисподней, являющих нам подобное лишь в кошмарных снах или порожденных недугами видениях. Надсадно, по-звериному вопя, он, обхватив костлявыми руками, тащил меня за собой в огонь. В своем безумном, слепом фанатизме он готов был пожертвовать собой ради того, чтобы уничтожить меня. Из последних сил я ухватил его руку с зажатым в ней ножом и всадил стальное лезвие ему в грудь. Раз, другой, третий… Кровь брызнула мне прямо в лицо. Захлебываясь предсмертным хрипом, ван Зельден выпустил меня и повалился прямо в огонь. Языки пламени жадно лизали его, пожирая одежду, и я мог бы поклясться, что они в соприкосновении с этим монстром приобретали странно голубоватый оттенок! Мгновение спустя охваченные огнем ящики обрушились, погребая под собой ван Зельдена. Я огляделся. Корс и его ученики добивали последних противников. Корнелия, дрожа, стояла неподалеку от боровшихся. По шее девушки тоненькой струйкой бежала кровь. Подбежав к ней, я доставшимся мне от ван Зельдена ножом разрезал веревки на руках. Корнелия наградила меня благодарным взглядом. Только сейчас я понял, что Фредрик де Гааль исчез. — Куда делся де Гааль? — спросил я Корнелию. — Ты его не видела? — Исчез вон там, за теми ящиками. — Девушка показала в направлении кормы. По-видимому, там имелся выход, и я бросился в указанном Корнелией направлении. В отсветах огня я различил человека, торопливо взбиравшегося по трапу. Это был Фредрик де Гааль. Стоя на верхней ступеньке трапа, он пытался открыть расположенный сверху люк. Увидев меня, де Гааль стал изо всех сил давить на неподатливую крышку. Но я оказался проворнее. Одним махом одолев лестницу, я ухватил его за ноги и стал тащить вниз. Несмотря на яростное сопротивление, предводитель жерардистов спустя несколько мгновений распластался на полу у трапа. Приставив к его горлу нож, я, задыхаясь, произнес: — Все, де Гааль! Это конец! Вы будете отвечать перед судом за ваши нечестивые деяния! Легенде об уважаемом гражданине Амстердама купце Фредрике де Гаале пришел конец. С поразительным хладнокровием этот человек покачал головой: — Вы заблуждаетесь, Зюйтхоф, как неоднократно заблуждались на мой счет. Я никогда не стану отвечать перед судом. И это еще далеко не конец истории. По крайней мере для вас. Наших братьев еще очень и очень много. Так что не надейтесь, что вас оставят в покое, будь то в Амстердаме или еще где-нибудь в Нидерландах! Глаза его сверкнули победным фейерверком. Усевшись, купец железной хваткой сковал мои запястья и, резко подавшись вперед, напоролся грудью на зажатый в моей руке нож ван Зельдена. Де Гааль не ошибся в расчетах — нож доктора вошел прямо в сердце. Я брезгливо оттолкнул от себя обмякшее тело к трапу. Привалившись спиной к ступеням, де Гааль устремил остекленевший взор в пространство.
— Кор-не-лис! Это была Корнелия. Протяжный, полный отчаяния крик девушки вернул меня к действительности. Она в опасности! Охвативший почти весь трюм огонь грозил отрезать меня и остальных от входа. Можно было, конечно, воспользоваться и люком, который пытался открыть де Гааль, но что, если он и в самом деле заперт? Я решил не рисковать и, невзирая на бушевавшее пламя, побежал к Корнелии и остальным. И тут мне вспомнилась кошмарная ночь, когда я пытался вызволить из огня Луизу. Что, если и Корнелию постигнет та же участь? Подбежав к ней, я схватил девушку за руку и потянул ее к выходу из трюма. За мной последовали Ян Поол, Роберт Корес и его борцы. К нам присоединились и двое моряков «Чайки». Грех было в подобной обстановке считать их пленными — бедняги, едва не обезумев, спасались от пожара. — А что будет с ними? — Я указал Роберту Корсу на валявшихся без сознания недавних противников. — Огонь ведь в считанные минуты доберется и до них! — Именно потому нам и следует поторопиться — посудина пылает как свечка. Тут о себе бы подумать! А эти… — Корс махнул рукой. Бешено гудящее пламя убедило меня в верности доводов Роберта Корса. Выбежав из трюма, мы не мешкая вскарабкались по трапу. Я никуда не отпускал от себя Корнелию, преследуемый навязчивой мыслью: стоит мне хоть на миг потерять ее из виду, как девушку поглотит разбушевавшаяся огненная стихия. По пути к нижней, жилой, палубе мы увидели Катона и группу мушкетеров. — Боже мой! Зюйтхоф! Откуда вы тут взялись? — невольно воскликнул инспектор при виде меня. Он в ужасе уставился на мою опаленную огнем, изорванную, перепачканную кровью одежду. — Возвращаюсь после визита к Фредрику де Гаалю и Антону ван Зельдену, — выпалил я в ответ. — Где эта неразлучная парочка? — Там, — лаконично ответил я, показав пальцем вниз. — На том свете. И мы там окажемся, если хотя бы еще минуту проторчим здесь. В трюме пожарище, каких свет не видывал. — А синяя краска? — В трюме, — ответил я. — Объята огнем. Катон рассеянно глянул вниз. Трап уже занимался огнем. — Может, оно и к лучшему, — пробормотал он и приказал мушкетерам без промедления следовать наверх. Солдаты пропустили нас, за что я был им несказанно благодарен — Корнелию нужно было срочно выводить на воздух. Меня неотвязно преследовала мысль, что огонь каким-то образом все же настигнет и поглотит нас. Свежий воздух на верхней палубе чуть взбодрил меня. Теперь оставалось успеть воспользоваться штормтрапом. Поначалу на подходах к нему возникла страшная давка. Все только мешали друг другу, вместо того чтобы помогать. Впрочем, грозный окрик Катона быстро восстановил порядок. Вскоре с правого борта «Чайки» свешивалось, наверное, с десяток штормтрапов, и нашим людям удалось организовать спуск взятых в плен сразу по трем из них. Тяжелораненых спускали на канатах. Катон строжайше предписал не оставлять на борту гибнущей «Чайки» никого из живых. Мне пришлось помогать Корнелии взбираться по веревочной лестнице: онемевшие из-за веревок руки с трудом повиновались ей. И мы с Яном Поолом буквально втащили ее на борт нашего «Гольфслага», где мы увидели Катона и Роберта Корса. Наконец капитан парусника Хендрикс отдал приказ поднять якорь. Наш двухмачтовик медленно тронулся с места, за ним и остальные лихтеры. Мы убрались с борта «Чайки» как раз вовремя. Не успели мы отойти, как огонь охватил все судно, и вскоре последовали мощные взрывы. — Крюйт-камера приказала долго жить, — констатировал Поол, невольно коснувшись черных пятен, оставленных въевшимися в кожу порошинами. — Вот этого я и боялся больше всего. Нет, ребята, нам вправду жутко повезло. Всем, кроме Хенка. Глядя на пылающие обломки «Чайки», с шипением падавшие в воду, я тоже вспомнил Хенка Роверса, своего погибшего друга. Казалось, злобные демоны тщились вновь навести на нас порчу. Но наши лихтеры стремительно удалялись от «Чайки». Туман плотной пеленой отделил нас от пылавшего судна, и вскоре было различимо лишь бесформенное багровое пятно, непрерывно менявшее очертания. И цвет — багровые отсветы постепенно начинали отливать синеватым. Что это было? Краска? Или не только она? Мне даже привиделось, что пятно принимает вид перекошенного от злобы и бессильной ярости вражьего лица.
Глава 32 Под маской
За это долгое странствие от Текселя к Амстердаму мой донельзя умаявшийся, измученный-перемученный организм все-таки заявил о себе. Корнелия — следовало отдать должное этой отважной девушке — на излете сил пристроила меня поудобнее, насколько позволяла жуткая теснота. И я, возложив голову ей на колени, уснул на твердокаменных досках палубы лихтера, словно на мягчайшем матрасе. Разбудил меня непонятного происхождения шум, напоминавший треск. К тому же мне показалось, что наше суденышко как-то уж очень беспокойно пляшет на волнах. Неба над нами не было — матросы натянули над палубой лихтера брезент, чтобы уберечь нас от непогоды. Я увидел перед собой лицо Корнелии. Она улыбнулась мне, словно желая успокоить. — Ну как ты, Корнелис? — Лучше всех, — сонно пробормотал я. — Спал без задних ног. — И долго. — Сколько? — Всю ночь и еще полдня. Сейчас уже близится полдень. Зато выспался как надо. На брезент сверху словно горошинами посыпали. — Что это там за молотьба? — не мог понять я. — Ранним утром сильно похолодало. Пошел дождь, а потом и град. Но твой приятель Ян Поол убеждает, что еще немного потерпеть — и мы прибудем в Амстердам. Повернув голову, я увидел покрытую пороховыми пятнами добродушную физиономию: Ян Поол улыбался до ушей. — С добрым утром, господин Зюйтхоф. Я уж подумал, вы и этот славный шторм проспите. Несмотря на непогоду, капитан нашего парусника-лихтера Хендрикс ни на румб не отклонился от курса, направляя и два других судна. Дул студеный ветер, я видел, как Корнелия дрожит от холода. Я же нежился под хоть и благоухавшим сыростью, но зато теплым шерстяным пледом, который она набросила на меня. Усевшись, я набросил плед ей на плечи. Корнелия прижалась ко мне, отчего мне стало еще теплее, чем под одеялом. До Амстердама мы добрались уже ближе к вечеру. Встретить нас собралось довольно много народу. Иеремия Катон распорядился, чтобы на причал прислали побольше конного транспорта — перевезти раненых. Он предложил ехать в лечебницу и мне с Корнелией, но девушка спешила увидеть отца. По настоянию инспектора нас отвезли на Розенграхт. Улицы города были пустынны — прошедший над Амстердамом град разогнал людей по домам. Прибыв на Розенграхт, мы чуть ли не бегом устремились в дом. Нам отперла Ребекка Виллемс. Экономка была явно чем-то взволнована. — Наверху сидит незнакомый господин, — дрожащим голосом сообщила она. — Сидит себе и переписывает все, что намеревается забрать из дома. — А что он хочет забрать? — поинтересовалась Корнелия. — Всю коллекцию мастера. Говорит, многое ему подойдет. — А что отец? — А твоему отцу, похоже, все равно. Он впустил этого незнакомца, и тот расхаживал по дому, где хотел. Мастер Рембрандт сидит у себя в мастерской да глазеет на свои портреты. Вчера так весь день и просидел. Выпавшие на мою долю приключения здорово обострили чутье. Кем был этот незнакомец? Тайным сторонником жерардистов, присланным сюда уничтожить все доказательства, а может, и свидетелей? — Оставайтесь внизу и будьте начеку! — распорядился я. — Если почувствуете опасность, сразу же бегите за стражниками! Я пойду наверх, поговорю с этим типом. Едва я занес ногу над ступенькой, ведущей наверх лестницы, как почувствовал руку Корнелии у себя на локте. В синих глазах девушки была мольба. — Будь осторожен, Корнелис! Прошу тебя — будь осторожен! Пообещав ей не рисковать без нужды, я поторопился наверх. Едва поднявшись, я услышал донесшийся из каморки, служившей мне спальней и мастерской, грохот. Только сейчас я сообразил, что не вооружен. Невзирая на это, я поторопился войти в свое бывшее обиталище, где моему взору предстала странная картина. Медвежье чучело, мой верный приятель в те нелегкие для меня дни, лежало на полу, как и в тот день, когда Рембрандт подверг дом разгрому. Какой-то мужчина с всклокоченными длинными волосами с трудом водружал зверя на место. Придав моему благодетелю вертикальное положение, он в изнеможении смахнул пот со лба. Только после этого он заметил мое присутствие. В его глазах мелькнули изумление и испуг. С момента схватки на борту «Чайки» у меня не было даже возможности как следует умыться. В изорванном платье и с почерневшей от копоти физиономией я здорово смахивал на грабителя с большой дороги, тайком пробравшегося в дом живописца. Но в роли грабителя выступал явно не я. — Кто вы такой? — неуверенно произнес незнакомец. — Тот, кто проживает в первом этаже этого дома. А вы кто, позвольте спросить? — Ох, извините меня. — Незнакомец поклонился. — Питер ван Бредероде, собиратель диковинок и произведений искусства. Как я и предполагал, этот дом прямо-таки переполнен ими. Представьте себе, я обнаружил здесь шлем, принадлежавший самому Герарду ван Вельзену, доблестному рыцарю! — Понятно, — только и мог сказать я в ответ. Никаким жерардистом визитер, разумеется, не был, но наверняка являлся почитателем рыцаря Герарда, жившего примерно эдак четыре сотни лет тому назад. И конечно же, мошенником, решившим воспользоваться отчаянием одряхлевшего живописца и выкупить за бесценок всю его коллекцию. Ему не повезло — мы с Корнелией явились как раз вовремя. Ван Бредероде потряс томиком в кожаном переплете: — Вот, сюда я переписал все, что представляет для меня интерес. Мастеру Рембрандту осталось только поставить свою подпись. Я готов забрать вещицы в ближайшие дни. — Не заплатив ни гроша? — Помилуйте! — искренне возмутился визитер. — Ну разумеется, я готов заплатить. Мастер Рембрандт великодушно позволил мне самому оценить каждую вещицу. Вот это уж совсем непонятно для скряги, каким был Рембрандт. Вероятно, мастер просто не понимал, ради чего притащился сюда этот коллекционер. А ведь еще совсем недавно старик трясся над каждой безделицей. Деликатно взяв из рук ван Бредероде книгу, я столь же деликатно засунул ее ему в карман сюртука. — Выслушайте меня, господин ван Бредероде. Очень внимательно выслушайте. Рембрандт ван Рейн ничего не будет ни подписывать, ни продавать. Дело в том, что ему в этом доме не принадлежит ровным счетом ничего. Все записано на его детей. — Детей, говорите? Но ведь его сын умер, а дочери не было дома, когда я пришел. — Зато сейчас она вернулась. — Тогда я готов говорить с ней и предложить ей… — Руку и сердце? — не дал ему договорить я. — Припоздали, любезнейший. Без особых церемоний я схватил мошенника за шиворот и выпихнул из каморки. Не обращая внимания на его причитания, я едва не спустил его с лестницы и выпроводил на улицу. Там он упал, поскользнувшись на обледенелой мостовой, и наградил меня полным ненависти взглядом. Я же, не вступая с ним в перебранку, захлопнул дверь. — Кто это был? — хотела знать Корнелия. — Может, какой-нибудь вполне безобидный делец, — предположил я. — А может, и обманщик, пожелавший за бесценок выудить у твоего отца его коллекцию. Не было у меня настроения выяснять. И без того голова раскалывается. Ребекка хотела было вставить реплику, но тут я расслышал характерное потрескивание. Спутать его нельзя было ни с чем. — Вы ничего не чувствуете? — спросил я, втянув носом воздух. В доме стоял отчетливый запах гари. На какую-то долю секунды мне показалось, что я снова на борту многострадальной «Чайки», в охваченном пожаром трюме судна. — Это там, наверху! — крикнула Корнелия, бросившись к лестнице. — В мастерской отца! Мы с Ребеккой Виллемс последовали за ней. Добежав до двери в мастерскую Рембрандта, Корнелия распахнула дверь. Нас обдало жаром. В помещении пылал настоящий костер из опрокинутых мольбертов и писанных маслом холстов. Огонь пожирал лики Рембрандта. За считанные минуты он расправился со всеми автопортретами художника. За ними стояли месяцы вдохновенной работы. Рембрандт, стоя над этим кострищем, равнодушно взирал на погибавшие в пламени произведения. Корнелия подошла к нему, но старик, казалось, не замечал дочери. Сбегав вниз, я принес толстое покрывало и набросил его на огонь. Пламя удалось быстро сбить, после чего мы, не обращая внимания на дождь со снегом, распахнули окна, чтобы проветрить задымленное помещение. От автопортретов живописца осталась лишь кучка пепла на прокопченном полу. Пустой взор мастера постепенно оживал, а когда он осознал присутствие Корнелии, глаза его засветились радостью. Обняв дочь, он всхлипнул, словно ребенок. — Не могу себе этого простить, — не сразу произнес он. — По моей вине тебе пришлось столько пережить, дочь моя. Я поставил под удар даже твою жизнь. Из-за меня погибло столько людей, хоть я сам и не желал ничего подобного. Это все по милости того злобного духа, поселившегося в моем одряхлевшем теле, не по моей! — Я знаю это, отец, — ответила Корнелия, ласково проведя ладонью по его взлохмаченным волосам. — Знаю. Но отчего ты решил уничтожить свои картины? — Да потому что на них я другой, злобный. Тот, каким я был еще недавно. Тот, который улыбался с портретов недоброй улыбкой. И я не хотел, чтобы люди запомнили меня таким. В особенности теперь, когда близится мой конец. — Ты не должен говорить такие вещи, отец! Ты просто утомился, вот отдохнешь — и все снова будет хорошо. — Нет, скоро я буду с Титусом, — ответил он. По его лицу я понял, что он искренне верит в свои слова. Это не было продуктом недужного духа, так и не примирившегося с потерей любимого сына. За маской ослепленного злобой человека, вознамерившегося сквитаться с миром за все выпавшие на его долю невзгоды, скрывался подлинный Рембрандт ван Рейн: человек посвященный, искушенный, с прежней, некогда присущей этому живописцу ясностью сознающий неотвратимость своего близкого конца. — Меня знобит, я устал, — надтреснутым голосом произнес мастер. — Я хочу прилечь. Корнелия отвела отца вниз и приготовила ему постель, а мы с Ребеккой стали наводить в мастерской художника мало-мальский порядок. У стены оставалось несколько картин, над которыми Рембрандт трудился в минувшие недели. Одна из незавершенных работ изображала Симеона в храме. Меня не покидало предчувствие, что картине уготована участь так и остаться незавершенной. Что же до автопортретов мастера, то ни один из них не сумел избежать позорного аутодафе.Корнелия тревожилась за отца, и я отправился за лекарем. Врач не стал обнадеживать дочь мастера. — Ваш отец считает, что дни его сочтены, — изрек лекарь. — Боюсь, в этом я вынужден согласиться с ним. Я дал ему успокоительное, чтобы он спокойно спал этой ночью. Снадобье подействовало, и на следующее утро Рембрандт вызвал меня к себе. Сидя в постели, он бодро поедал приготовленный для него Ребеккой рыбный суп. Выглядел мастер лучше, чем в предыдущие дни. — Подойдите поближе, Зюйтхоф, — пригласил он меня, ставя на столик рядом с постелью опустевшую тарелку. — Корнелия рассказала мне, что вы сделали для нее. Хочу поблагодарить вас за это. И за все остальное. — Я поступал так не ради похвал или благодарностей, а ради Корнелии. Рембрандт посмотрел в окно. Бури минувших дней улеглись, но порывистый ветер срывал с деревьев последние пожелтевшие листочки. — Вот и меня скоро подхватит и унесет прочь осенний листодер, — негромко произнес Рембрандт. — И это будет справедливо. Как художник, я сказал свое слово, так что людям больше не нужен. — Вот уж вздор, — вырвалось у меня. — Вы нужны Корнелии. На губах мастера мелькнула грустная улыбка. Не та, высокомерная и хитрая, что я видел на его автопортрете и которую поглотило пламя, а благосклонная. — Моя дочь рано превратилась в женщину. Наверное, потому, что отец ее раньше времени впал в детство. Я стал ребенком, вместо игрушек собирающим разное старое барахло и нередко клянчившим деньги у собственной дочери, отложенные ею на черный день, с тем чтобы покрыть долги. Теперь, когда я вновь обрел ясное видение, я горько каюсь. Мне следовало больше внимания уделять людям, а не разным безделушкам. Впрочем, их скоро заберет этот ван Бредероде. Или уже забрал? — М-м-м, — промычал я в явном смущении. — Боюсь, я несколько переусердствовал. Мне этот человек показался пронырой и мошенником, посему я указал ему на дверь. — Вы особенно не обольщайтесь на его счет, Зюйтхоф. Он снова явится сюда, забрать то, что ему приглянулось. Нагнувшись ко мне, старик обеими руками вцепился в мой рукав. — Вообще-то я не за этим позвал вас. Мне надо поговорить с вами о Корнелии. Как я говорил, она уже не ребенок, а зрелая разумная женщина. И молодой женщине не к лицу возиться со старым отцом. Ей куда больше нужен молодой, сильный мужчина. Муж. И вы, Зюйтхоф, должны поклясться мне самым дорогим для вас на свете, что никогда не дадите в обиду мою дочь! — Не могу! — негромко произнес я в ответ. — Как это — не можете? Я рассказал ему о припадке ярости, чуть было не стоившем жизни Корнелии, о том, что происходило на борту «Чайки», когда я вновь оказался во власти злокозненных чар. — Кто знает, может, эти дьявольские силы не оставили меня в покое? Может, я в любую минуту могу вновь осатанеть, как тогда? И вновь подвергнуть Корнелию смертельной опасности. Нет, единственное, что здесь можно сделать, — это вместе с Корнелией покинуть пределы Амстердама. И как можно скорее. Рембрандт, все еще не выпуская мой рукав, ответил: — Раньше мне случалось говорить вам нехорошие вещи, Зюйтхоф. Вам многое пришлось от меня выслушать. Но я никогда не назвал вас трусом. Потому что не считал таковым. Может, я ошибся в вас? — Я всего лишь стремлюсь уберечь Корнелию от бед. — Вы себе внушили это. На самом же деле вы стремитесь бежать от ответственности за любимого человека, разочаровать ту, которая доверилась вам. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я не раз предавал тех, кто доверился мне. Использовал их в своих целях. Разочаровывал. Разве вы от подобного застрахованы? Душа человеческая — сплошная загадка. Она подчиняется рассудку и даже сердцу очень и очень нехотя и далеко не всегда. Но, имея перед глазами меня в качестве примера, как не надо поступать, вы, несомненно, станете для Корнелии хорошим мужем. Или вы ее не любите? — Разумеется, я люблю ее! — Тогда не бросайте ее! Если вы с ней расстанетесь, вовек вам не видать счастья, поверьте. И вам, и ей. После этого напутствия Рембрандт позвал к себе Корнелию. Они долго беседовали. Когда Корнелия вышла от отца, я по ее глазам понял, что отец передал ей содержание нашего с ним разговора. Прижавшись ко мне, она сказала: — Я понимаю, что ты был не властен над своей волей, когда набросился на меня. И потому не склонна винить тебя за случившееся. Как и отца, смертоносной лазурью писавшего дьявольские картины. Тот Корнелис Зюйтхоф, которого я знаю и люблю, никогда не сделает мне плохого. Обняв ее, я крепко прижал девушку к себе. И когда мы, всласть нацеловавшись, посмотрели друг другу в глаза, я понял, что она простила меня. На сердце у меня было легко, как никогда, и в душе я пообещал Рембрандту, что выполню то, о чем он просил меня.
Рембрандт ван Рейн скончался на следующий день, четвертого октября. Восьмого октября его тело было предано земле в церкви Вестеркерк, неподалеку от могилы его сына Титуса, за два дня до этого ставшей действительно его могилой. Инспектор Катон распорядился, чтобы тело сына Рембрандта без излишней огласки было захоронено как полагается. Без особой помпы проходили и похороны самого Рембрандта. От славы былых дней оставались лишь воспоминания, и официальный Амстердам, похоже, почти не заметил кончины художника. Лишь немногие следовали за простым гробом от дома на Розенграхт до церкви Вестеркерк. Среди пришедших почтить память живописца были Роберт Корс и Ян Поол. Когда гроб опустили в могилу, Корс обратился ко мне: — Как вы думаете, господин Зюйтхоф, Оссель Юкен тоже обрел теперь вечный покой? — От души надеюсь, — ответил я. — Мы предприняли все, что в наших силах, чтобы смыть с него позорное пятно убийцы. Пусть кто-нибудь и считает его преступником, но не мы, его друзья. Вышедший из-за колонны человек объявил: — То, что произошло, не предназначено для огласки. Слишком уж страшно во всеуслышание заявить о том, что наша молодая нация вдруг оказалась на краю пропасти. Это был инспектор участкового суда Амстердама Катон. Его сопровождал припадающий на раненую ногу Деккерт. — А орудия убийств, хотя, по сути, они такие же жертвы, как и погибшие от их рук, с позором арестованы, — с горечью произнес я. Катон кивнул: — Ничего не поделаешь. Только так мы сможем помешать жерардистам в осуществлении их преступных планов подорвать доверие граждан Нидерландов к своему правительству, потрясти основы страны. — Так что с жерардистами? — поинтересовался я. — Дали что-нибудь их допросы? — Дело продвигается крайне медленно. Многие из арестованных запираются, другие признаются, называют имена сообщников, которых мы также арестовываем. Должно пройти время, пока мы сможем взять всех заговорщиков. Вряд ли удастся переловить всех до одного. Мы уже задержали человека, приходившего за картиной на квартиру к Осселю Юкену и за вознаграждение склонившего Беке Моленбергкдаче ложных показаний. Это некий купец с Лейдсеграхт, тесно сотрудничавший с ван дер Мейленом. Арестован и Исбрант Винкельхаак. — Владелец потонувшей «Чайки»? — Верно. Глупец захотел получить страховку за погибшее судно. Это и позволило заняться им. — Какова судьба обломков «Чайки»? — Что не сгорело и не взорвалось, отправилось на дно морское. — И груз, как я понимаю, пропал! — с удовлетворением отметил я. — Мы исходим из этого, — подтвердил инспектор Катон. — К счастью. — Я уже собрался прощаться с ним, и тут вспомнил еще об одном. — Какова будет судьба Охтервельта? Ему грозит суровое наказание? — Самому Эммануэлю Охтервельту — вне сомнения. Уже одно то, что он предал вас, говорит о том, что Охтервельт по самые уши сидит в деле заговорщиков. Скорее всего остаток жизни ему придется провести в тюрьме Распхёйс. Что же касается его дочери, она отделается легким испугом. Ей почти ничего не было известно, а участие в католических богослужениях само по себе не есть преступное деяние. К тому же наши законы воспрещают католикам открытые богослужения. — Как же Йола будет обходиться без своего отца? Катон мельком взглянул на стоявшую в молчании у могилы отца Корнелию. — Похоже, участь молодых женщин не оставляет равнодушным ваше сердце, Зюйтхоф. На допросе дочь Охтервельта упомянула о своей тетке, живущей в Оудеватере. Я позабочусь о том, чтобы девушку доставили туда. Подошедшая Корнелия тронула меня за локоть. — Господа снова заняты обсуждением важных дел? — Не совсем так, — попытался защититься Катон. — Мы просто говорили о молодых дамах. Я сказал Зюйтхофу, что в отношении их у него безупречный вкус.
Глава 33 Еще далеко не конец…
Амстердам 9 января 1670 года Недели после смерти Рембрандта оказались нелегкими для Корнелии. Магдалена ван Лоо, вдова Титуса, похоже, была полна решимости проследить, чтобы все полагавшееся ей и ее дочери Тиции наследство было выплачено до последнего гроша. И теперь, после всего, что выпало на долю Корнелии, ей предстояло сражаться и с толстокожей Магдаленой. Последняя постаралась убедить всех и вся, что Корнелия, согласно закону, внебрачная дочь Рембрандта. На счастье, почти по всем спорным вопросам между опекуном Корнелии, живописцем Кристианом Дузартом, и опекуном Тиции, ювелиром Франсом ван Бейертом, царило единство мнений. Однако не успел подойти к концу тяжкий 1669 год, как и Магдалена последовала за своим скончавшимся супругом Титусом. Столь ранняя смерть не являлась в Амстердаме чем-то необычным даже и без содействия заговорщиков. Опекун Корнелии счел наиболее разумным упразднить хозяйство на Розенграхт, поскольку большая часть имущества все равно должна была пойти с молотка в счет выплат по задолженностям. Поэтому почти все покои Рембрандта были после его смерти опечатаны, в том числе и облюбованное мною помещение. Коллекцию раритетов мастера также должны были продать на аукционе. Так что мне пришлось распрощаться с моим безмолвным другом — набитым опилками медведем. Как и с самим домиком на Розенграхт. С легкой руки Корса я подыскал себе небольшую и доступную по цене квартирку в мансарде дома у Ботермаркт, где имелись все условия для занятий живописью, в последнее время порядком запущенных мною. Меня переполняли воспоминания недавних месяцев, возможно, именно поэтому мне удалась парочка картин, которые удостоились похвал по части выразительности и даже принесли мне некую сумму, превышавшую ожидаемую. С Корнелией мы виделись в эти дни лишь от случая к случаю. Девушка почти все время проводила в обществе Дузарта, желавшего досконально проверить все имущественные вопросы перед вступлением Корнелии в брак. Когда в один прекрасный день Корнелия стала добиваться от него согласия на нашу свадьбу, Дузарт предложил нам дождаться весны: мол, весна самое подходящее время для подобных торжеств, как он выразился. На деле же он просто не был в курсе относительно моей особы, посему намеревался подвергнуть наши чувства испытанию. Наши встречи с Корнелией происходили чаще всего по воскресеньям после церковной службы, и вскоре Дузарт доверял нам настолько, что даже отказался выступать в роли нашей с ней дуэньи. Во второе воскресенье нового, 1670 года, когда Амстердам покрыл снег, а замерзшие каналы и речки поблескивали в лучах солнца серебристым льдом, мы отправились за городские ворота прокатиться на коньках — там просторнее, да и лед замерзшей реки прочнее. Впрочем, и здесь мы увидели множество тех, кто пожелал развлечься в это холодное зимнее воскресенье. А мы жаждали уединения. На берегу покрытой льдом речки был лоток, где мы угостились жареными каштанами и грогом, после чего продолжили пируэты по льду на стальных коньках. Когда солнце уже клонилось к закату, мы, отыскав укромное местечко у причала, опустились на вмерзшую в лед лодку и стали обсуждать наше будущее. Стемнело. Мне почудилось, что я вижу на берегу силуэт затаившегося у ствола дерева человека. Лишь когда мы собрались в обратный путь, я разглядел, что это и впрямь человек. Будто изваяние, стоял он, явно поджидая нас. Приблизившись, я оторопел — широкоплечий верзила со шрамом во всю правую щеку. Я в ужасе сжал локоть Корнелии, и мы, не устояв, упали на лед. В другое время мы бы вволю посмеялись над собственной неловкостью, однако сейчас нам было не до смеха. Стоявший в отдалении человек со шрамом чувствовал себя на коньках уверенно. Не успели мы подняться, как он приблизился. Теперь отпали малейшие сомнения — это мой давний знакомый. Сколько раз он становился мне поперек дороги! Физиономия его выдавала решимость раз и навсегда покончить со мной, с тем чтобы эта воскресная встреча была последней. Выхватив из-под зимней куртки пистолет, негодяй направил его на меня. — Добрейший вечерок, мазальщик несчастный. Что, не ждал встречи со мной? Наверное, думал, что я вместе с обломками «Чайки» давным-давно на дне у Текселя? — Разве тебя не было на «Чайке»? — глуповато спросил я, стараясь выиграть время и лихорадочно соображая, что предпринять. — Был, конечно. Куда мне деться? Но в нужный момент я спрыгнул в воду и доплыл до острова. Кто-то ведь должен остаться в живых, чтобы исполнить наш завет. — Завет? — А разве Фредрик де Гааль не поклялся отомстить тебе? Не предупредил, что тебе не будет покоя? Об этом как раз я помнил. Слово в слово. «И это еще далеко не конец истории. По крайней мере для вас. Наших братьев еще очень и очень много. Так что не надейтесь, что вас оставят в покое, будь то в Амстердаме или еще где-нибудь в Нидерландах!» — Клятва одного из нас — клятва всех. Ты с твоей зазнобой уже давно у нас на крючке. Мы лишь подыскивали тихое место, чтобы воздать тебе по заслугам. А здесь очень удобно. И я рад от души, что именно мне выпала честь отправить тебя в ад. Я должен расквитаться с тобой за Рулофа и Трууса. — Рулофа и Трууса? — За обоих моих друзей! Забыл их? Им повезло меньше, чем мне. И лысого я помнил, и красноносого пьянчугу тоже. Отлично помнил. Оба насолили мне по самую завязку. — Что ж ты молчишь, художничек? Неужто онемел? — продолжал жерардист со шрамом. — Или тебя обуял страх за свою шкуру или же за твою славненькую девчонку? Не волнуйся особо — ты будешь первым, кого я прикончу. А ее… Еще подумаю, может, она еще на что сгодится. А после — фьють! Медленно, до ужаса медленно взвел он курок неуклюжего пистолета. Оттолкнув Корнелию, я рванулся по льду прямо к негодяю. Прогремел выстрел, резкая боль обожгла левую руку. Пахнуло порохом. Ни секунды не раздумывая, я бросился под ноги верзиле и сшиб его. Боль в руке разливалась по всему телу, почти парализовав меня. Лед окрасился кровью. Моей кровью. Кряхтя, заговорщик со шрамом стал подниматься. Размахнувшись, он швырнул в меня разряженный пистолет. Я пригнулся. И вовремя. Упавшее оружие заскользило по льду прочь. Человек со шрамом оскалился по-звериному: — Ловкий же ты, однако, мазила. Но это тебе не поможет. Не хочешь скорой и легкой смерти от моей пули, я придушу тебя своими руками! Я не сомневался, что он меня придушит. Левая рука свисала плетью, а одной мне с этим великаном ни за что не справиться. Наш самозваный инквизитор не спеша поднялся, но вдруг странно, даже гротескно зашатался. Раздался треск — под детиной, не выдержав его веса, подломился лед. У ног мерзавца пролегли толстые трещины. — Корнелия! К берегу! Беги к берегу! Быстрее! — крикнул я. Помедлив пару мгновений, девушка заскользила на коньках к берегу едва не стоившей нам жизни речки. Ноги мои пока что мне повиновались. Пошатываясь — давала знать страшная боль в плече, — я неуклюже заскользил по льду вслед за Корнелией. Жерардист хотел было последовать за мной, нет, не вдогонку, а из страха оказаться в ледяной воде, но не успел — лед проломился, и он осел в образовавшуюся полынью. Вместо того чтобы двигаться к спасительному берегу, Корнелия внезапно повернула ко мне, чтобы помочь преодолеть последние остававшиеся до берега футы. Капли крови на льду отмечали мой путь, но мне было не до этого. Когда мы стояли на берегу, над темной водой торчала одна только голова человека со шрамом. Жерардист в панике пытался зацепиться за край льда, выкарабкаться из полыньи, но всякий раз безрезультатно. — Помогите! — не своим голосом вопил он. — Помогите же мне! Вы что — не христиане? Мы, стоя на берегу, безмолвно взирали, как человек, едва не ставший нашим убийцей, медленно уходит под лед. Наконец он исчез. — Он… он утонул? — неуверенно спросила Корнелия. — Куда ему деться? Надеюсь. Но это не означает, что мы можем жить спокойно. Ты что, не слышала, что он сказал? Он ведь не один. Пока мы в Амстердаме, ни в чем нельзя быть уверенным. — Как же нам быть, Корнелис? — А ты никогда не думала о дальних странах? Тех, куда отправляются корабли, стоящие на рейде у Текселя? Ты никогда не задумывалась, что это за страны? Какого цвета там небо? На каком языке говорят тамошние жители? Как пахнут там цветы? Ей-богу, мне бы хотелось получить ответы на все эти вопросы. Ничего не говоря, Корнелия стала разрывать теплую блузку, чтобы перевязать мне рану. Пуля засела в плече. Как ни старалась девушка быть осторожной, я не мог удержаться, чтобы не застонать. — Ничего, ничего, Корнелис Зюйтхоф! — с наигранной строгостью заключила моя подруга. — До свадьбы заживет. До нашей с тобой. Думаешь, я пойду замуж за калеку? Как бы не так! Что я с ним буду делать там, в дальних странах?Эпилог Новая жизнь
Батавия 6 декабря 1673 года Мы с Корнелией поженились весной 1670 года и вскоре после этого на паруснике «Тульпенбург» отправились в далекий путь. Целью нашей поездки была Батавия, что на острове Ява, — крупный торговый город, о котором мы были столько наслышаны. Здесь можно было скоро и значительно разбогатеть, не то что на родине. Я вновь убедился в верности принятого тогда решения уехать, ибо Нидерланды в минувшем году снова вступили в войну. Моей стране приходилось терпеть суровые испытания: с моря — англичане, на суше — французы. Войска короля Франции Людовика XIV оккупировали Нидерланды и опустошили страну. Какова была роль жерардистов в создании почвы для этой оккупации, мне не ясно. Честно говоря, сейчас это мало заботит меня. Отсюда, из Батавии, война кажется далекой-далекой. Так оно и есть. Иногда, если позволяет время, я усаживаюсь в порту и всматриваюсь в безбрежную синеву моря, смыкающуюся на горизонте с небом. Небо и море — вот пределы нашего маленького мира. Теперь, по прошествии лет, я не могу поверить, что когда-то этот цвет повергал меня в ужас и безумие. Заметки мои я начал еще в Амстердаме, движимый желанием запечатлеть на бумаге необычайные события года одна тысяча шестьсот шестьдесят девятого ради и во имя потомков. Во время томительного, долгого плавания у меня была масса времени продолжать записки, но за первые месяцы в Батавии возможность вооружиться пером выпадала до крайности редко. Оказалось, что почет и зажиточность и здесь сами в руки не идут, так что приходится работать в поте лица, дабы содержать наш домик, что у ворот Роттер-дамер-Тор. Должен сообщить и вот еще что: молодой, не снискавший известности живописец и здесь не самый ходкий товар, как и в Амстердаме. Так что я вынужден довольствоваться местом тюремного надзирателя здешнего исправительного дома, поскольку имею за плечами некоторый опыт, посему и был взят начальством без проволочек. О том, по какой причине мне было отказано от места в амстердамском Распхёйсе, как и о том, что мне и самому выпало провести в его стенах некоторое время арестантом, я благоразумно умолчал. Место надзирателя да изредка продажа картин дают возможность вести жизнь в целом беззаботную и Корнелии, и мне, и нашему сыночку, окрещенному не далее как вчера в церкви Святого Креста Рембрандтом. И вот, с появлением малолетнего Рембрандта, я завершаю записки о его дедушке, Рембрандте-старшем. Корнелия все предостерегает меня: дескать, испортишь глаза своей писаниной. — Не бойся, не испорчу, потому что заканчиваю ее, — отвечаю ей. Ее личико омрачается. — Ты все там подробно описал? Я имею в виду — о моем отце? — Иначе и быть не могло. Может, грядущие поколения и оценят мои труды по достоинству. — И о том, как отец сжег все свои автопортреты, дабы никто не разглядел в нем безумца? — И об этом. Но не только он один обезумел. Обезумели и все вокруг. Да я и сам в свое время всерьез полагал, что не жерардисты, а демоны ввергают нас в пучину зла. — А сейчас ты перестал в это верить? Я вздохнул: — В ту пору творились страшные, непостижимые вещи. Я словно пребывал в горячке. А когда ты в горячке, то смотришь на, казалось бы, обыденные вещи по-иному. С какой стати верить в каких-то демонов, если сам человек — демон, накликающий беды и на себя, и на своих ближних? Неужели зло, засевшее в нас, не есть демон? Корнелия, подумав, кивнула: — Возможно, ты и прав. Все теперь кажется таким далеким, что уж и не знаешь, что было наяву, а что ты сам себе внушил. Я рада, что мы смогли начать здесь новую жизнь. Но мне очень не хотелось бы, чтобы наш маленький Рембрандт, когда подрастет, прочел о том, что его дед спятил, да ко всему еще и прослыл убийцей. Я согласна, мой отец достаточно наделал бед. Но тут не он виноват, а эта дьявольская лазурь, а еще раньше безвременная смерть Титуса. Именно они и лишили его рассудка.Только этим я могу объяснить то, что он спутался с жерардистами. Прошу тебя, Корнелис, не замарай его имя! — Ладно, не замараю. Выходит, я дал ей слово. По настоянию моей супруги Корнелии настоящие записки не могут быть опубликованы без нашего с ней ведома при нашей жизни и далее, не ранее конца этого века, да и этого тысячелетия. Так распорядился я, Корнелис Бартоломеус Зюйтхоф, в День святого Николая года 1673 в Батавии, на острове Ява, завершая свое повествование.Хронологическая таблица
1581 год
Семь северных провинций Испанских Нидерландов объявили себя Республикой Объединенных Нидерландов, независимой от Испании.1584 год
10 июля в Дельфте зверски убит принц Вильгельм Оранский, генеральный наместник Объединенных Нидерландов.1595 год
В Амстердаме основан исправительный дом Распхёйс. Создание первого в истории страны торгового флота, состоявшего из четырех небольших судов. Первый их рейс — в Ост-Индию.1602 год
В целях совершенствования торговли создана Объединенная Ост-Индская компания.1606 год
15 июля в Лейдене родился Рембрандт Харменсзоон ван Рейн.1619 год
Учреждение в Батавии на острове Ява конторы Ост-Индской компании. (Батавия — ныне Джакарта, Индонезия. — Примеч. авт.)1631–1632 годы
Переезд Рембрандта в Амстердам.1637 год
«Тюльпанная лихорадка». Биржевой кризис в Нидерландах.1646 год
В Амстердаме родился Корнелис Бартоломеус Зюйтхоф.1648 год
Тридцатилетняя война заканчивается подписанием Вестфальского мира. В рамках соглашения Испания официально отказывается от притязаний на Нидерланды, признанные суверенным государством кальвинистского вероисповедания.1654 год
В Амстердаме родилась дочь Рембрандта Корнелия. Окрещена 30 октября в церкви Оудекерк.1658 год
Продажа Рембрандтом роскошного дома на Йоденбреестраат и переезд в более скромное жилище на Розенграхт.1660 год
Заключение между Рембрандтом, его сыном Титусом и спутницей жизни Рембрандта, Хендрикье Стоффельс, матерью Корнелии, договора, предусматривающего наем Рембрандта в их предприятие.1663 год
Кончина Хендрикье Стоффельс.1668 год
Женитьба 10 февраля сына Рембрандта Титуса на Магдалене ван Лоо. Смерть Титуса. Титус ван Рейн похоронен 7 сентября в церкви Вестеркерк.1669 год
22 марта окрещена внучка Рембрандта, Тиция, дочьТитуса и Магдалены. 2 октября. Визит коллекционера антиквариата Питера ван Бредероде в дом на Розенграхт. 4 октября. Смерть Рембрандта. Похоронен 8 октября в церкви Вестеркерк. Заключение Англией сепаратного Вестминстерского мира с Нидерландами. Выход в свет в Амстердаме книги «Подробное описание искусства борьбы». Авторство приписывается известному основателю школы единоборств Николаусу Петтеру. В действительности же написал книгу Роберт Корс, ученик и последователь умершего Петтера.1678 год
Рождение в семье Корнелиса и Корнелии Зюйтхоф второго сына, Хендрика. 10 июля — завершение франко-нидерландской войны подписанием мира в Ниймвегене.После 1689 года
…более не удается обнаружить каких-либо записей касательно судьбы Корнелиса и Корнелии Зюйтхоф, а также их детей. Посему не представляется возможным установить точные даты их смерти.Рита Мональди, Франческо Сорти Veritas
Примечание авторов
Каждая ссылка на места, личности и события – как бы поразительно это ни звучало – не является продуктом нашей фантазии, а взята из современных источников. Когда бы ни усомнился благосклонный читатель в прочитанном, пусть обратится к примечаниям и библиографии в конце книги. Там он найдет все документальные подтверждения. Нам доставляет величайшее удовольствие копаться в архивах и находить те странности истории, которые казались бы совершенно невероятными, если бы не произошли на самом деле.
Ныне уже не троян и ахеян свирепствует битва, Ныне с богами сражаются гордые мужи данаи.
Отец Зевс создал третий род и третий век – век медный. Не похож он на серебряный. Из древка копья создал Зевс людей – страшных и могучих. Возлюбили люди медного века гордость и войну, обильную стонами. Не знали они земледелия и не ели плодов земли, которые дают сады и пашни. Зевс дал им громадный рост и несокрушимую силу. Неукротимо, мужественно было их сердце и неодолимы их руки.Гомер. Илиада; Гесиод. Труды и дни (цит. по: Дж. А. Боргезе. Раб)[899]
Париж Январь 1714 года
Большой зал вспыхивает сверканием бронзовых завитков обстановки, ярко блестят свечи.Аббат Мелани заставляет себя ждать. Впервые за более чем тридцать лет. Я всегда находил его в том месте, в котором мы уславливались, где он обычно подолгу ждал меня, нервно покачивая ногой, преисполненный нетерпения. Теперь же это я то и дело бросаю взгляд на монументальный рельефный портал, порог которого я переступил вот уже более тридцати минут назад. Не обращая внимания на ледяной ветер, влетающий через открытую створку ворот, я тщетно пытаюсь уловить приметы предстоящего появления аббата: цокот подков квадриги, возникающей в свете факелов, украшенные перьями головы лошадей, которых кучер в парадной черной одежде подведет прямо к большому крыльцу. Там уже ждут четверо старых лакеев, укутанных в зимние, покрытые снегом пальто, принадлежавшие еще их прежним господам, чтобы открыть дверцу кареты и помочь выйти из нее. Чтобы как-то скрасить ожидание, я обвел взглядом помещение. Вокруг – множество ценнейших украшений. Вышитые различными золотыми надписями драпировки свисают с аркад, парчовые занавеси скрывают стены, а галерею славы образуют вуали с серебряными каплями. Колонны, арки и пилястры из искусственного мрамора ведут к балдахину в центре зала, представляющему собой нечто вроде пирамиды без верхушки, покоящейся на возвышающемся над полом на шесть или даже семь ступеней пьедестале, который окружен тройным рядом канделябров. У внешнего края несут стражу два крылатых существа из серебра, каждое из них опустилось на одно колено и широко раскинуло руки, обращенные к небу. Усики мирты и плюща украшают балдахин с четырех сторон, и каждую венчает созданный из свежих цветов, которые, вероятно, родом прямо из теплиц Версаля, герб венецианской аристократии со свинкой на зеленом фоне. По углам пылают большие факелы в высоких серебряных треножниках, тоже украшенных таким же гербом. Несмотря на роскошь castrum'a[900] и помпезное убранство, в комнате находится очень мало людей: не считая музыкантов (уже занявших места и разложивших свои инструменты) и в черных, красных и позолоченных ливреях пажей (аккуратно подстриженных, стоящих навытяжку, словно статуи, и держащих в руках факелы), я вижу только разорившуюся, завистливо глядящую кругом аристократку, испытывающую денежные затруднения, и горстку рабочих, слуг и служанок из народа, которые, невзирая на поздний час и лютый мороз, восторженно оглядываются по сторонам в ожидании свиты.
Ко мне приходят воспоминания. Они покидают свинцово-серую парижскую зиму по безлюдной площади Побед, где сердитый северный ветер обдувает конную статую старого короля, и возвращаются назад, далеко-далеко, скользят по мягким холмам Вечного города, поднимаются к высочайшей точке Яникула,[901] в тот самый день, когда я, ослепленный жарой уходящего римского лета, в окружении родственников некоего аристократа и прелестных построек из папье-маше, когда некий оркестр репетировал музыкальный фон для некоего события, а пажи учились носить факелы, которые станут освещать другую историю, украдкой наблюдал за прибытием кареты, подъезжающей к вилле Спада. Удивительная прихоть судьбы: тогда я даже не подозревал, что та карета вернет мне аббата Мелани, после того как я не слышал о нем ничего на протяжении восемнадцати лет; сегодня же я совершенно уверен, что Атто прибудет сюда в кратчайшие сроки. Но карета, которая должна привезти его ко мне, еще даже не показалась на горизонте.
Грохот и шум, произведенный оркестровым музыкантом, на миг нарушил ход моих мыслей. Я поднимаю взгляд:
Obsequio erga Regem[902] -
вышито золотыми буквами на черном бархатном знамени с серебряными нитями, украшающем высокую простую колонну из эфемерного порфира. Есть еще одна, точь-в-точь такая же колонна стоит с другой стороны, но надпись на ней находится слишком далеко, чтобы я мог ее прочесть. За всю свою жизнь мне только однажды доводилось принимать участие в мероприятии подобного рода. Тогда тоже была ночь, холодно, и шел снег, или нет, кажется, шел дождь. В любом случае, в душе моей царили гнетущий холод, дождь и мрак.Тогда в гробу лежало другое тело. Ложь, предательство и дерзость сколотили ему гроб. Его отравили, оставили истекать кровью, растерзали. Кровь капала из его глаз, а мозг вытекал из носа. Ничего не осталось от него, кроме жалкой груды разлагающейся плоти. Равнодушно хохотали во тьме убийцы.
* * *
Тогда я тоже сопровождал Атто. Мы находились в самом центре кишащего муравейника: со всех сторон мимо нас текли потоки людей. Каждый закоулок комнаты был настолько переполнен, что мы с аббатом Мелани за четверть часа смогли сделать только два шага; нельзя было двинуться ни вперед, ни назад, видны были лишь украшения на потолке и надписи на аркадах и капителях колонн.Ob Hispaniam assertam
Ob Italiam liberatam
Ob Galliam triumphatam
Ob Belgium restitutum[903]
Четыре колонны было там с лозунгами; дорические колонны, символы героев. И они были очень высокими, футов пятьдесят в высоту, повторявшие великие исторические примеры Рима, колонны Антония и колонны Траяна. Между ними над castrum'омвисело искусственное ночное небо, усеянное позолоченными языками пламени вуалей, которые поднимались вверх на золотых веревках и там натягивались, образуя в центре корону. Держали веревки четыре огромные пряжки в образе величественных аристократов, опустивших головы на грудь. Рядом с ними находилась аллегория славы с головой, украшенной венком из лучей (она была копией с монет императора Константина), в левой руке она держала венок из лавровых листьев, а в правой – корону из звезд. Позади нас, прямо перед широким порогом двадцать четыре камердинера ожидали своих господ. Внезапно бормотание в толпе стихло. Все умолкли, и яркий свет осветил ночной час: то был свет белых факелов, которые несли пажи. Он прибыл.* * *
Цокот копыт, прозвучавший по мостовой на улице, прервал поток воспоминаний. Четверо лакеев, в покрытых снегом и светящихся в ночи пальто, сдвинулись с места. Атто прибыл.Пламя свечей трепетало и исчезало перед моим взглядом, настолько широко распахнулись створки дверей церкви, где я ждал его: Нотр-Дам де Виктуар, базилика босоногих августинцев. На фоне черной кареты в свете факелов блеснул красный бархат носилок: Атто Мелани, аббат Бобек, жантильом короля, урожденный горожанин Серениссимы, многократный конклавист, должен был вот-вот торжественно прибыть. Старые слуги несли гроб на своих спинах, на которых был изображен герб Атто – свинка на зеленом фоне. Под почетной галереей из черных вуалей с серебряными каплями они прокладывали себе дорогу среди присутствующих, заставляя расступиться тех немногих, для кого некогда известное имя Атто Мелани, последнего свидетеля унесенного войной времени, еще, быть может, о чем-то говорит. Четверо лакеев прошли до середины castrum doloris, где возвышался катафалк, поднялись по ступеням усеченной пирамиды и передали тело своего бывшего господина в распростертые объятия двух серебряных ангелов, поднятые к небу руки которых наконец-то приняли то, чего так долго ждали. С катафалка свисал траурный платок из черного бархата с серебряными нитями, на котором золотыми буквами было вышито:
Hic lacet
Abbas Atto Melani Pistoriensis in Etruńa,
Pietate erga Deum
Obsequio erga Regem
Illustria
CL Die 4. Ianuarii 1714. JEtatis suae octuagesimo octavo
Patruo Dilectiss imo
Dominicus Melani nepos mestissimus posuit[904]
Те же самые слова будут выгравированы в камне, который племянник Атто уже заказал у флорентийского скульптора Растрелли. Монахи-августинцы согласились, чтобы его выставили в расположенной неподалеку от алтаря боковой капелле, прямо напротив двери в ризницу. Значит, здесь и будет похоронен Атто, согласно своему желанию, в церкви, где покоятся также бренные останки некого тосканского музыканта: великого Джанбаттиста Лулли. «Pietate erga Deum / Obsequio erga Regem / Illustris»: надпись повторяется на обеих боковых колоннах, на которых я недавно читал только самые близкие ко мне надписи. «Удостоенный славы благодаря благочестию пред Господом и преданности королю». На самом же деле первая добродетель противостоит второй, и никто не знает этого лучше меня.Оркестр начинает играть панихиду. Слышен голос кастрата:
* * *
– Останься со мной, – сказал он и почил. Да, я останусь с вами, синьор Атто: мы заключили союз, я дал вам обещание и буду верен вам. Уже неважно, сколько раз вы не выполняли свои обещания, сколько раз вы обманывали двадцатилетнего коридорного, а позднее отца семейства. На этот раз я не удивлюсь: свой долг по отношению ко мне вы уже выполнили. Сейчас, когда мне почти столько же лет, сколько было вам в то время, когда мы познакомились, когда ваши воспоминания стали моими, а ваши старые страсти вспыхнули в моем сердце, ваша жизнь стала моей. Благодаря одному путешествию я снова обрел вас три года назад, и теперь другое путешествие, путешествие смерти, ведет вас к другим берегам. Счастливого пути, синьор Атто. Вы получите то, о чем просили меня.Рим Январь 1711 года
Вена? Что мы, ради всего святого, забыли в Вене? – В ожидании ответа моя жена Клоридия смотрела на меня широко раскрытыми глазами. – Дорогая, ты выросла в Голландии, твоя мать была турчанкой, тебе не было даже двадцати лет, когда ты приехала сюда, в Рим, совершенно одна, и теперь ты боишься маленького путешествия в Империю? Что же говорить тогда мне, который никогда не бывал дальше Перуджи? – Но ты говоришь не о маленьком путешествии; ты говоришь мне, что мы поедем в Вену и будем там жить! Может быть, ты знаешь немецкий язык? – Ну, гм, нет… пока еще нет. – А ну-ка, дай это сюда, – сказала она, в раздражении вырывая бумагу из моих рук. Она снова прочла ее, уже в который раз. – И какого черта это все значит, этот дар? Земельный участок? Магазин? Место слуги при дворе? Здесь вообще ничего не объясняется! – Ты ведь сама слышала, что сказал нотариус: мы узнаем обо всем по прибытии, однако, несомненно, речь идет о даре большой ценности. – О да, конечно. Мы переберемся через Альпы только для того, чтобы испытать на собственной шкуре очередной обман твоего аббата, этого мошенника, который воспользуется тобой для очередного безумного предприятия и в конце концов вышвырнет, словно ненужную тряпку! – Клоридия, пожалуйста, подумай хорошенько; Атто сейчас восемьдесят пять лет. На какие такие безумные предприятия у него еще могут быть силы? Я долгое время думал даже, что он уже мертв. Многое значит уже только то, что он нанял нотариуса, чтобы рассчитаться со своими долгами по отношению ко мне. Наверняка он почувствовал, что конец близок, и хочет прийти к согласию с самим собой. Нам следует быть благодарными Господу Богу, что в трудный момент нам подвернулась такая возможность. Моя супруга закрыла глаза.* * *
Вот уже два года, как для нас наступили трудные времена, а зима 1709 года выдалась крайне тяжелой: вслед за холодом и снегом пришел страшный голод, – кровопролитная война за испанский трон, длившаяся семь лет, ввергла римский народ в пучину бедствий. Моя семья, увеличившаяся на шестилетнего сына, не сумела избегнуть тяжкой участи: год непогоды и сильные морозы, каких не видывали никогда прежде в Риме, сделали бесплодным наш скромный земельный участок и уничтожили плоды моего крестьянского труда. Упадок семьи Спада и последовавшее за этим разрушение виллы у ворот Сан-Панкрацио, где я долгие годы оказывал весьма прибыльные услуги, многократно ухудшили наше положение. Недостаточными оказались и старания моей жены Клоридии, надеявшейся, что от разорения нас спасут ее акушерские умения и услуги, которые она на протяжении десятилетий выполняла с завидным успехом и немалой помощью двух девушек, наших дочерей двадцати трех и девятнадцати лет от роду. Из-за голода возросло число рожениц без гроша в кармане, и им моя супруга помогала так же самоотверженно, как и благородным дамам. Долги росли, и в конце концов мы, исключительно ради того, чтобы выжить, не смогли избежать весьма болезненного шага: поскольку необходимо было платить кредиторам, мы продали свой домик и земельный участок, приобретенный на сбережения моего покойного тестя. Мы нашли пристанище в городе. Квартира в подвале, которую мы, правда, были вынуждены делить с семьей из Истрии, обладала по крайней мере одним преимуществом: в ней не сыро и даже зимой нам удавалось сохранять постоянную температуру, державшуюся и в самый лютый мороз, так как комнаты были построены из известкового туфа. Мы ели хлеб из темной муки, а по вечерам – суп из крапивы с кореньями. Днем перебивались желудями или бобовыми, которые подбирали, где только могли, и перемалывали в муку, чтобы готовить из нее нечто вроде каши, к которой мы подавали маленькие корнеплоды. Ботинки вскоре стали роскошью, и даже зимой приходилось довольствоваться сабо и чулками, которые мы мастерили себе сами из старых тряпок и пеньковых веревок. Работы я найти не смог, во всяком случае такой, которая заслуживала бы этого названия. Мой невысокий рост лишал меня многих возможностей, например подвизаться грузчиком или носильщиком. И наконец, я пал так низко, что взялся за самую грязную работу, которую не хотел выполнять ни один римлянин, однако единственную, на которой я по сравнению с крупными отцами семейств имел преимущество: я стал трубочистом.Тем самым я стал исключением: трубочистами и кровельщиками работали обычно люди из альпийских долин, с берегов озера Комо и Лаго-Маджоре, из долины Камоника, Брембана, а также из Пьемонта – то есть из очень бедных регионов, где голод вынуждал семьи к тому, чтобы заставлять заниматься чисткой труб своих шести– и семилетних детей: они без угрозы для жизни могли пролезть даже в самые узкие дымоходы. Одаренный детским ростом, но обладающий при этом силой взрослого человека, я мог как никто другой выполнять работу по всем правилам искусства: я проворно протискивался в самые узкие шахты и ловко вскарабкивался по покрытым сажей дымоходам, да и скоблил я лучше любого ребенка, очищая черные стены вытяжного колпака и дымовой трубы. Кроме того, мой небольшой вес предохранял черепицу от повреждений, когда я взбирался на крышу, чтобы прочистить или отремонтировать трубу, в то же время я меньше опасался упасть и разбиться, как это, к сожалению, слишком часто случалось с юными чистильщиками каминов. И потом, будучи местным трубочистом, я мог работать круглый год, тогда как мои коллеги со склонов Альп возвращались в Рим только в начале ноября. Честно говоря, я тоже был вынужден брать с собой своего бойкого сынишку, однако я никогда не заставлял его взбираться на трубу; я довольствовался тем, чтобы использовать его в качестве подмастерья и помощника, поскольку это такая работа, которую выполнять должны как минимум двое. Чтобы заверить клиентов в своей ловкости, я хвастался тем, что долгое время учился в Абруццо (ибо там, как и в Альпах, существует старинная традиция искусства чистки дымоходов). На самом же деле опытом я толком не обладал. Азы этого искусства я постиг когда-то на вилле Спада, когда меня просили подняться по дымоходу, чтобы устранить неожиданную поломку или починить крышу.
Так, ночь за ночью я грузил на тележку свои инструменты – скребок, шпатель, длинный канат с небольшим ершом и тяжелым шариком на конце, ершик, шарик, веревку, фонарик и гирьки – и отправлялся в путь, впрочем, только после того, как меня печально обнимала моя супруга. Клоридия ненавидела мое полное опасностей занятие, проводила бессонные ночи в молитвах о том, чтобы со мной ничего не случилось. Плотно укутавшись в короткое черное пальто, я с первыми лучами солнца попадал в самые отдаленные кварталы города или даже окрестные деревеньки. Здесь с криком «Трубочист! Трубочи-и-и-ист!» я предлагал свои услуги. Нередко ответом мне было злобное ворчание или даже грозные жесты, которые должны были отвратить несчастье: трубочист приходит зимой, с ним начинается плохая погода, поэтому считается, что он приносит несчастье. Но если нам все же открывали дверь, мой малыш, если нам везло, частенько получал от сердобольной хозяйки чашку горячего бульона и хлеб. Черное пальто (кнопки на нем находились под левой рукой, чтобы не цепляться ими за камин), застегнутое аж до самой шеи, рукава стянуты на запястьях лентами, чтобы туда не попадала сажа, брюки из гладкого, простого бархата, на которых не оседала грязь, с заплатами для укрепления на коленях, локтях и седалище – тех местах, которыми мы пользовались чаще всего, когда пробирались в узкие шахты, – такова была моя униформа. Поскольку она сидела ва мне плотно и была совершенно черной, я казался почти таким же маленьким и худощавым, как мой мальчик, и многие принимали меня за его старшего на несколько лет брата. Когда я пробирался по дымоходу вверх, то опускал голову в тесно прилегающий к шее полотняный мешок, чтобы хоть немного защититься от вдыхания копоти. Закутавшись так, я рисковал умереть от того, что веревка затянется. Я был абсолютно слеп, но в трубе наверх смотреть не нужно: продвигаешься вперед на ощупь, с помощью рук и плеч – так и работаешь. Малыш оставался внизу и каждый раз дрожал от страха, что со мной может что-то случиться и я оставлю его совсем одного, далеко от любимой мамы и сестер. Конечно, я был босиком, когда поднимался через камин на крышу, чтобы лучше упираться и отталкиваться. Проблема заключалась в том, что в результате мои ноги покрывались кровоподтеками и ранами, и всю зиму, то есть тогда, когда работы было больше всего, я мог двигаться очень неуверенно, всегда хромая. Работа на крышах была очень опасной, и все-таки это была мелочь для того, кто, как я когда-то, поднимался в купол собора Святого Петра.
* * *
Но самой мучительной главой нашей бедности была даже не моя жалкая работа, а судьба обеих наших девочек. Мои дочери были, к сожалению, все еще незамужними девушками, и приходилось опасаться, что это надолго. Благодарение Господу Богу за то, что Он одарил их железным здоровьем: несмотря на лишения, они остались красивыми, розовощекими и свежими («Исключительно заслуга трехлетнего кормления материнским молоком!» – всегда гордо заявляла Клоридия). Их волосы были такими роскошными и блестящими, что каждую субботу они получали на рынке пару геллеров за волосинки, оставшиеся на гребешке во время утреннего туалета. Их здоровье было воистину чудом, потому что вокруг нас мороз и голод собрали множество жертв. У моих двух дочерей, милых, здоровых, красивых и добродетельных, был только один недостаток: у них не было ни геллера на приданое. Уже не раз приходили к нам монахини из монастыря Санта-Катерина Софра Минерва: каждый год они давали приличную сумму семьям бедных девушек, которые должны были дать обет. Они пытались уговорить меня, чтобы я отдал своих дочерей в монастырь за какую-то кучку денег. Крепкое сложение и здоровье обеих девушек вызывало зависть у сестер, ведь им нужны были сильные сестры низкого происхождения для выполнения в монастырях той работы, за которую не хотели браться девушки из благородных семей. Но даже в самые горькие минуты я всегда вежливо отказывал просительницам (менее приветливой была Клоридия, кричавшая на монахинь, яростно сотрясая грудью: «Неужели я кормила их грудью по три года ради того, чтобы они окончили свои дни вот так?»), да и девочки моя не выказывали ни малейшей склонности к пострижению. Вместо этого они обе, поскольку благодаря своему опыту помощниц акушерки смогли узреть радость материнства, страстно желали как можно скорее найти себе мужей.Холода, а вместе с ними и голод закончились, но горести просто не желали оставлять нас. Спустя два года мои дочери все еще ждали. Меня охватывала ярость, когда я видел, как точеное личико старшей внезапно принимало отсутствующий и печальный вид, хотя она ничего не говорила (ей было уже двадцать пять!). Однако гнев мой был направлен не на слепую и безжалостную судьбу. Я слишком хорошо знал, кто виноват в нашем несчастье: не холод и не голод, поразивший всю Европу. О нет. То был аббат Мелани.
Хитрый интриган, ловкий шпион, человек, совершивший сотни обманов; знаменосец лжи, пророк подлости, оракул обмана и подлога: все это и многое другое сочетал в себе аббат Мелани, известный певец давно прошедших времен, но в первую очередь – шпион. Одиннадцать лет назад он подло воспользовался мной и даже поставил на карту мою жизнь, и все за обещание обеспечить приданое моим дочерям. – Не только деньги: дома. Собственность. Земельные участки. Я дам твоим дочерям приданое. И когда я говорю это, я не преувеличиваю, – так он опутывал меня сетями. Эти слова неизгладимо отпечатались в моей памяти, словно на обнаженной плоти. Он говорил мне, что владеет несколькими поместьями в Тосканском герцогстве: все исключительно ценные имения с отличными доходами, пояснял он, и даже написал письменное обязательство, в котором обещал собрать для моих дочерей приданое – либо из «более чем приличных имений», либо из доходов с них – и которое было составлено в присутствии нотариуса города Рима. Но он никогда не водил меня к этому нотариусу. Получив мои услуги, он в полнейшей тайне вернулся в Париж, а я бегал от нотариуса к нотариусу, от адвоката к адвокату в поисках того, кто мог бы дать мне хоть небольшую надежду. Однако это ни к чему не привело. Мне нужно было затевать против него очень дорогостоящий процесс во Франции. Короче говоря, бумага с его обещаниями ничего не стоила.
И сейчас он наслаждался своим богатством, в то время как я отчаянно пытался вытащить себя и свою семью из цепких пут нищеты.
А теперь, смотри-ка, я неожиданно получил извещение от римского нотариуса. Ему якобы его коллега из Вены поручил найти меня и передать мне подписанную аббатом Атто Мелани дарственную. О чем в точности идет речь, для меня, честно говоря, было загадкой. Причитающееся мне нечто, по мнению нотариуса, очень ценное («земельный участок или дом», предположил он), было описано сокращениями и цифрами, которые, возможно, указывали на венский реестр, однако же были мне совершенно непонятны. Кроме того, аббат Мелани учредил на мое имя в учетном банке неограниченный заем, чтобы я мог пуститься в путь безо всяких проблем и тревог. Со своей стороны я должен был лишь появиться по определенному адресу в императорской столице, где я все узнаю и получу то, что мне причитается. Должен признаться, я был несколько разочарован, поскольку речь шла не о дарении в великом герцогстве Тоскана, как в свое время обещал мне аббат, а о чем-то гораздо более отдаленном, находящемся аж по ту сторону Альп. Однако в той нужде, в которой мы жили, даже это означало манну небесную. Кто смог бы отказаться?
Вена: Столица и резиденция Императора Февраль 1711 года
Над заснеженной голой мостовой большой площади перед городской стеной громко грохотали барабаны. Их мощный рокот соединялся с серебристыми причудливыми мелодиями праздничных труб, поперечных флейт и духовых рожков. Военный марш усиливало эхо, отражавшееся от циклопических стен между укреплениями, кронверками, передовыми укреплениями и земляными валами, так что казалось, будто играет не одна – три, четыре, а то и все десять групп музыкантов. В то время как полк занимался строевой подготовкой под стенами города, над бастионами величаво выступали острия высоких домов и церковных башен с крестами, увенчанные зубцами сторожевые башни, миролюбивые крыши и широкие террасы, словно говорившие путникам: ты попал не просто в безобразное нагромождение вещей и людей, а в ласковую колыбель добрых душ, сильную крепость, благословенный Господом укрепленный замок для торговли и занятий ремеслами. Наша карета уже подъезжала к Каринтийским воротам, через которые попадали в Вену путешественники с юга, когда я увидел гордые и величественные купола и крыши, одна за другой появившиеся на фоне свинцово-серого неба. Самая высокая из всех, пояснил нам кучер, это стройная фиала на башне собора Святого Стефана, смело увитая готическими элементами, которую теперь к тому же украшало блестящее на солнце снежное покрывало. Совсем рядом находилась мощная восьмиугольная башня доминиканской церкви. Далее благородная колокольня церкви Святого Петра, посвященная Пресвятой Троице, и колокольня церкви Святого Михаила, отца варнавитов, башня Святого Иеронима, из монахов-францисканцев, фиала монастыря хористок в Химмельпфорте и многие другие, все с луковичными куполами, что характерно для этой местности – увенчиваться позолоченными куполами со святым крестом. Наконец я увидел воплощение высочайшей императорской власти – оборонную башню резиденции императора, откуда Иосиф I, из дома австрийских Габсбургов, блестящий правитель Священной Римской империи, вот уже шесть лет руководил войной. В то время как полковая музыка призывала нас к дисциплине, грандиозные, укрепленные стены города – к скромности, а огромное количество городских церквей – к страху Господнему, я начал мысленно представлять себе многочисленные изгибы Дуная, который, как я знал по изученным перед поездкой книгам, протекал через другую часть Вены. Однако прежде всего я вызвал в памяти название пышной темной массы, появившейся на горизонте между двумя тучами. Красива была она, с ее мягкими, округлыми склонами, и в то же время величественна, отвесно спускаясь к воде и молча глядя на восток, – немой героический страж города. То была гора Каленберг, славная высота, спасительница Запада; двадцать восемь лет назад, двигаясь из густо покрытого лесом предгорья, христианские войска освободили город от турецкой осады и спасли всю Европу от Мохаммеда. Не случайно я так хорошо запомнил те события. Тогда, много лет назад, в сентябре 1683 года, когда жители Рима и всей Европы, дрожа, ожидали исхода битвы при Вене, я был молодым слугой-коридорным в небольшой гостинице, где подавал обеды и ужины. Тогда же я познакомился с одним из клиентов гостиницы – неким аббатом Мелани… Пока колеса кареты со скрипом выбирались из очередной ямы, я напряг зрение и увидел, как солнечный луч осветил маленькое здание на вершине Каленберга, возможно церковь, да, капеллу, ту самую, где на рассвете 12 сентября 1683 года отец-капуцин (так говорила мне моя память) провел мессу перед решающей атакой и обращался с речью к христианским полководцам, чтобы те повели войска к кровавой, но благословенной победе над неверными. Погрузившись в воспоминания о прошлом, я словно бы сам поднялся на близкий пологий холм Нусдорф, где пехота христианских армий теснит отвратительных выродков Мохаммеда от дома к дому, от сарая к сараю, от виноградника к винограднику, все дальше и дальше от города. Восторженный, я обернулся к Клоридии. Моя супруга, державшая на руках нашего спящего мальчика, не произнесла ни слова. Но я знал, что она разделяет мои мысли. И были то мысли не радостные.Позади у нас было тяжкое путешествие, длившееся почти целый месяц. Мы покинули Рим в конце января, не забыв, конечно же, смиренно склониться перед достойным почитания телом святого Филиппо Нери, защитником нашего города. Аббат Мелани позаботился о том, чтобы мы всегда могли позволить себе места на задних местах кареты и не сидеть рядом с дверцами, где ехать было значительно менее удобно. После того как мы сменили лошадей в Чивита-Кастеллана и переночевали в Отриколи, мы поехали через умбрийский Нарни, затем через Терни и, наконец, в полночь, попали в старый Фолиньо. После этого я, никогда не забредавший дальше Перуджи, день за днем ночевал в новых местах: от Толентино, Лорето и Сенигаллии, расположившейся в живописной долине на берегу Адриатического моря, до Римини и Чезены в Романье, затем в Болонье и Ферраре, затем выше к Кьодже в дельте реки По, в Местре перед воротами Венеции, также в Сачиле и Удине, столице республики Венеция. Видел я и ночи в Гориции и Адельберге, чтобы счастливо добраться до Лайбаха, где все еще падал снег, сопровождавший нас повсюду, с момента отъезда и до прибытия. Спал я и в Цилле, в Мариборе, в Граце, столице Штирии, в Прухе и, наконец, в Штуппахе. Мы проезжали Фано, Пезаро и Каттолику, маленький городок в Романье, а оттуда мы ехали в Форли и Фаэнцу. Мы пересекли По, проезжали Корзолу и Каванеллу на Адидже, во время поездки через Бренту видели прелестную Миру и заехали в Фузину, куда попадают воды большой венецианской лагуны. А от Линца мы уже плыли по реке, на одной из лодок, которые там по праву называют «деревянными домиками», поскольку на них есть все домашние удобства. На веслах сидело двенадцать мужчин, и благодаря им лодка быстро продвигалась вперед, так что в течение нескольких часов панорама берега разительно менялась: скалы переходили в леса, виноградники в поля пшеницы, а большие города – в развалины замков. Казалось, холод и снег не хотят сдаваться. Мы наконец стояли перед воротами Вены, со страхом ожидая будущего. Город, собиравшийся принять нас, о котором я так часто мечтал, по праву назывался «вторым Римом»: он был столицей необъятной Священной Римской империи. Под его властью находились в первую очередь Верхняя и Нижняя Австрия, Каринтия, Тироль, Штирия, Форарльберг и Бургенланд, коренные владения дома Габсбургов, равно как и так называемое эрцгерцогство Австрийское выше и ниже Энса, которыми они долгое время, до того, как их короновали, правили в качестве эрцгерцогов. Однако Священная Римская империя охватывала также множество других стран и регионов с побережьями и горами. Сюда относились Крайна, Истрия, Далмация, Банат, Буковина, Хорватия, Босния, Герцеговина, Славония, Венгрия, Богемия и Моравия, Галиция и Лодомерия, Шлезия и Трансильвания. Кроме того, она обладала суверенным правом над немецкими княжествами, включая Саксонию, а значит, и Польшу. А со времен Средневековья к империи относились Швейцария, Швабия, Эльзас, Бургундия, Фландрия, Артуа, Франш-Конте, Испания, Нидерланды, Сардиния, Ломбардия, Тоскана, великое герцогство Сполето, Венеция и Неаполь, – или будут принадлежать ей в ближайшем будущем. Миллионы миллионов подданных насчитывала Alma Urbe Caesarea,[905] а также дюжины дюжин различных культур и языков. Немцы, итальянцы, мадьяры, славяне, поляки, рутенийцы, швабские ремесленники и богемские кухарки, адъютанты и камердинеры с Балкан, бедные беженцы, спасавшиеся от турок, но в первую очередь толпы слуг из Моравии, напали на Вену, словно жужжащий рой пчел. Для всех этих народов город, лежавший перед нашим взором, был столицей. Найдем ли мы здесь то, что обещал нам Атто Мелани? Благодаря его займу, мы смогли доверить все наши жалкие сбережения обеим дочерям, которых мы предпочли оставить в Риме, под строгим присмотром наших добрых соседей-истрийцев, чтобы они и дальше продолжали заниматься своим ремеслом повитух. Со слезами на глазах, с обещаниями вернуться как можно скорее с долгожданным приданым, чтобы они могли наконец выйти замуж, мы в глубокой печали попрощались с ними. Однако, если в Вене нам не улыбнется счастье, у нас не останется ни геллера и мы не сможем ни покинуть город, ни выжить в нем. Мы сможем только просить милостыню и ждать смерти лютой зимой. Вот что делает жестокая бедность: она заставляет смертных в крайней спешке нестись через полмира, затем втискивает их в безнадежные обстоятельства и связывает крылья. Короче говоря, мы совершили поистине прыжок в неизвестность. Клоридия все-таки согласилась на путешествие. – Все что угодно, только бы никогда больше не видеть твое лицо, испачканное сажей, – сказала она. Одна лишь мысль о том, что я наконец перестану заниматься ремеслом, которое так часто пугало и беспокоило ее, заставила ее принять предложение аббата Мелани. Я невольно взглянул на свои руки: даже после многих дней без работы они по-прежнему были черны – между пальцами, в порах и под ногтями. Отличительный признак жалкого трубочиста.
Клоридия и ребенок натужно кашляли, вот уже много дней. Меня тоже мучили признаки болезни легких. Приступы лихорадки, начавшиеся на середине пути, все сильнее и сильнее ослабляли нас. Карета переехала маленький мост, переброшенный через защитный вал, и въехала в город через Каринтийские ворота. Вдалеке я видел, как вспыхнули зеленым хвойные леса Каленберга. Дневное светило убирало кончики своих пальцев с холма и сердобольно коснулось ими моей жалкой личности: неожиданно на мое лицо опустился теплый луч солнца. Я улыбнулся Клоридии. Воздух был холодным, ясным и чистым. Мы прибыли в Вену.
* * *
Я невольно дотронулся до кармана своей тяжелой, новой, с иголочки, пелерины, приобретения на средства из займа аббата, где хранил все необходимые для путешествия документы. Из бумаг, которые нам передал римский нотариус, следовало, что нас примут по определенному адресу, куда мы должны направиться сразу же по прибытии. Название улицы сулило добро: Химмельпфортгассе.[906] Окруженная невероятной тишиной, которую приносит с собой снег, карета медленно ехала по Кернтнерштрассе, которая вела от одноименных ворот к центру города. Клоридия оглядывалась по сторонам с широко раскрытым от удивления ртом: меж роскошных, укутанных в аристократическое белое пальто домов и карет, выезжавших из переулков, беззаботно сновали толпы тепло одетых служанок, словно было воскресенье, а не середина рабочей недели. Она с удовольствием расспросила бы кучера, но отказалась от этой мысли из-за языковых трудностей. Я же смотрел только на башню собора Святого Стефана, который поднимался над крышами по правую руку от нас, все более и более величественный. Я полагал, что именно это и был священный шпиль, который османы обстреливали день за днем летом 1683 года, в то время как осажденные горожане храбро оказывали сопротивление, хотя им приходилось сражаться не только против вражеских снарядов, но и против голода и недостатка боеприпасов. Кучер, которому я показал бумагу с нужным нам адресом, высадил нас на одной из грязных улочек, перпендикулярных Кернтнерштрассе. Мы были у цели.Когда он указал нам на веревку колокольчика, чтобы мы могли сообщить о своем прибытии, я несколько удивился: мы стояли перед воротами монастыря.
* * *
– Минуточку, минуточку, – произнесла на ломаном итальянском тень, появившаяся у густой решетки рядом с колокольчиком.Услышав наши имена, она согласно кивнула. Нас ждали. Два дня назад во время остановки кучер отправил посланника, чтобы тот доложил о нашем скором прибытии. Кучер помог мне сгрузить багаж, и от него я услышал, что мы собирались войти в один из самых крупных, более того, вероятно, в самый влиятельный женский монастырь города. Нас приняли в большом мрачном холле, из которого мы спустя несколько минут снова вышли на яркий дневной свет, в крестовый ход внутреннего двора монастыря, под длинную колоннаду из белого камня, украшенную статуями тех монахинь, которые доказали свою величайшую степень добродетели. В сопровождении старой монахини, которая, похоже, была немой, а быть может, просто не знала нашего языка, мы быстро шли вперед под аркадами и оказались в домике для гостей. Нам указали на две находившиеся рядом комнатки. В то время как Клоридия и мальчик, истощенные, упали на постель, я занялся тем, что отнес багаж в наше пристанище, в чем мне помогал молодой идиот, которого сестры взяли для уборки и чистки подвальных помещений. Идиот, сгорбленный и неуклюжий человек, однако высокий и мускулистый, был очень болтлив, и по тону его болтовни мне показалось, что он спрашивает меня о путешествии или о чем-то подобном. Жаль только, что я не понял ни единого слова.
Широко улыбнувшись идиоту, отпустив его и закрыв за собой дверь, я огляделся. Комната была обставлена довольно скромно, однако недостатка в жизненно необходимых вещах не было. В любом случае, это показалось мне лучше, чем подвал из известкового туфа – то жилище в Риме, где нам приходилось ютиться последние два года и где мы с тяжелым сердцем оставили своих девочек. Я перевел взгляд на Клоридию. Я ожидал жалоб, упреков и сомнений в обещании аббата Мелани: оказаться у монахинь было для нее самым страшным, это мне было известно. Невесты Христовы – единственные женщины, которых не переносила моя благоверная. Но с ее губ не слетело ни слова. Лежа на постели и крепко прижимая к себе кашляющего во сне ребенка, Клоридия с удивлением оглядывалась по сторонам, и взгляд у нее был как у человека, который вот-вот готов провалиться в мрачное полузабытье от сильного истощения. Я вздрогнул, когда ребенка сотряс самый сильный приступ кашля из тех, что с ним были. Похоже, его состояние ухудшилось. Через некоторое время в дверь постучали. – Козий жир и муку двузернянки смешать с каплей полынного масла и растереть грудь. А головку положить на этуподушку из спельты. С этими словами, произнесенными на безупречном итальянском, в наше обиталище вошла молодая монахиня с вежливыми, но решительными манерами. – Я Камилла, хормейстер монастыря августинок, – представилась она и тут же, не спросив у Клоридии разрешения, устроила головку мальчика на подушке и, расстегнув на его груди рубашечку, принялась втирать мазь. – Хор… мейстер? – запнулся я, опускаясь на колени, чтобы поцеловать ее одежду и поблагодарить за оказанное гостеприимство. – Да, я руковожу хором, – приветливо подтвердила она. – Я удивлен тем, что слышу здесь, в Вене, столь безупречный итальянский, почтенная матушка. – Я римлянка, как и вы; из Трастевере, если быть более точной. Мое мирское имя – Камилла де Росси. И не называйте меня матушкой: я всего лишь послушница. Клоридия не встала с постели. Я видел, что она краем глаза рассматривает нашу гостью. – Две недели ему не нужно есть ничего, кроме жидкого супа, – закончила хормейстер, наклоняясь над ребенком и пристально разглядывая его. – Я так и знала. Как всегда, великодушны… Внезапное резкое замечание Клоридии заставило меня покраснеть от стыда; я уже начал опасаться, что нас немедленно прогонят, но жертва отреагировала на слова моей супруги смехом. – Вижу, вы хорошо знаете нас, – ответила она, ни капельки не обидевшись, – но я заверяю вас, что общеизвестная скупость моих сестер тут ни при чем. Суп из двузернянки с размолотыми сливовыми косточками излечит любую болезнь легких. – Вы тоже лечите двузернянкой, – немного помолчав, бесцветным голосом заметила Клоридия, – как и моя мать. – Так, как завещала нам в давние времена сестра наша Хильдегарда, аббатиса фон Бинген, – с обворожительной улыбкой уточнила Камилла. – Но я искренне рада, что ваша матушка тоже ценила двузернянку; может быть, однажды вы мне о ней расскажете, если, конечно, захотите? Клоридия враждебно молчала. Эта Камилла де Росси воистину мила, подумал я, невзирая на недоверие своей жены. Она была одета в белое платье, рукава которого были обшиты тонким белоснежным индийским льном, капюшон из такой же материи, а позади – накидка из черного крепона. Лицо, там, где оно не было скрыто от нас капюшоном и накидкой, пожалуй, нельзя было отнести ни к одной из двух категорий, обычно присущих молодым сестрам (или послушницам, разницы тут, пожалуй, не было никакой): у Камиллы не было ни водянистых глупых глаз в обрамлении жирных, лоснящихся от сала щек, не было у нее и жестоких, злобных глаз, спрятанных на желтоватом худощавом лице. Она была здоровой прелестной девушкой, ее большие темные глаза в сочетании с гордым и бархатным взглядом и подвижными губами напоминали мне черты лица, которые были у моей супруги всего лишь несколько лет назад. В дверь снова постучали. – Это принесли ваш обед, – объявила хормейстер, открывая дверь двум служанкам с подносами. Удивительно, но обед был тоже приготовлен на основе двузернянки: лепешки из двузернянки и каштанов, компот из яблок и двузернянки, пудинг из зерен спельты и фенхеля. – А теперь вам следует поторопиться, – напомнила Камилла, после того как мы подкрепились, – через полчаса вас ожидают у нотариуса. – Значит, вы знаете?… – удивился я. – Я все знаю, – коротко заметила она. – Я уже позаботилась о том, чтобы нотариусу сообщили о вашем прибытии. Ну же, поторопитесь, а я позабочусь о малыше. – Вы ведь не думаете всерьез, что я оставлю сына в ваших руках? – возмутилась Клоридия. – Все мы в руках Божьих, дочь моя, – заявила хормейстер, которая по возрасту годилась нам в дочери, тоном матушки-наставницы. И произнеся эти слова, она мягко, но решительно подтолкнула нас к двери. Я взглядами умолял Клоридию перестать сопротивляться и не отпускать невежливых замечаний по поводу поведения невест Христовых. – Все, что угодно, только бы не видеть больше сажи, – сказала она. Я возблагодарил Господа за то, что моя супруга наконец уступила, пусть и из-за ненависти к профессии трубочиста. Возможно, девушка, которой, похоже, было дорого здоровье нашего мальчика, все же смогла пробить небольшую брешь в стене недоверия, которой окружала себя Клоридия. У выхода мы обнаружили монастырского идиота, который стоял, прислонившись к стене, и ждал нас. Хормейстер бросила на него быстрый взгляд. – Это Симонис. Он отведет вас к нотариусу. – Прошу прощения, досточтимая матушка, – попытался возразить я, – я не очень силен в немецком и не понимаю того, что говорит мне этот человек. Еще прежде, когда мы только прибыли… – Вы слышали не немецкий: Симонис грек. И если захочет, он сможет заставить себя понять, – с улыбкой пояснила она и без дальнейших разговоров закрыла ворота за нашей спиной.
* * *
– Очень великодушно, я имею в виду этот дар аббата Милани, не так ли? Сверкая глазками за стеклами маленьких очков, старательно выговаривая итальянские слова и сделав ошибку только в имени аббата Мелани, в своей конторе нас встретил нотариус, однако, к сожалению, было совершенно неясно, утверждает он или же спрашивает. За время непродолжительной прогулки пешком по снегу у нас заледенели руки и ноги. Ужасная зима 1709 года, поставившая мою семью в Риме на колени, была мелочью по сравнению с этим холодом, и я понял, что тяжелые пелерины, которые я приобрел перед отъездом, защищают не лучше луковой шелухи. Клоридию мучили приступы кашля. – О да, не так ли, – снова повторил нотариус. После того как мы сняли пелерины, он вынудил нас еще и разуться, а затем сесть напротив него. Симонис остался ждать нас в прихожей. Пока мы наслаждались теплом от большой роскошной печи из украшенного майоликой чугуна, подобной которой я не видел никогда в жизни, он принялся перелистывать папку, подписанную готическим шрифтом. Мы с Клоридией напряженно наблюдали за тем, как его пальцы торопливо перебирают страницы. Моя бедная жена приложила руку к виску: я понял, что у нее снова началась ужасная головная боль, которая мучила ее с тех пор, как мы стали жить в нищете. Какое же известие могут таить эти листки бумаги? Написано ли там о конце нашим мучениям или же опять – всего лишь злая шутка? Я чувствовал, как от страха мой желудок сжался в комок. – Документы все: письмо о рождении, договор о покупке и в первую очередь привилегия, – наконец сказал нотариус, наполовину на немецком, наполовину на итальянском. – Прошу господ очень проверить, правильно ли поставлены даты, – добавил он, протягивая мне документы, значение которых я, честно говоря, еще не понял. – Синьор аббат Милани, ваш благодетель… – Мелани, – поправил я его, хорошо зная, что подпись Атто является вполне достаточным поводом для подобных ошибок. – Ага, правильно, – сказал он, внимательно изучив бумагу. – Как я уже говорил, синьор аббат Мелани и его уполномоченные сделали все тщательно и точно. Однако двор крайне строг: во всем должен быть свой порядок. – Двор? – с надеждой переспросил я. – Если двор вас отвергнет, дарственная не может считаться действительной, – добавил нотариус, – однако теперь прочтите же это письмо о рождении и скажите, все ли данные верны. С этими словами он протянул мне первый из двух документов, который, к моему немалому удивлению, оказался свидетельством о рождении на мое имя, где указывались день, месяц, год и место, а также отец и мать. Это было действительно странно, потому что я, будучи сиротой, и сам не знал, когда, где и кто меня родил. – Вот это – свидетельство о присвоении ученику мастера ремесленной квалификации, – настоятельно произнес наш собеседник, который, выглянув в окно, внезапно заторопился. – Двор крайне строг, повторю вам снова. Особенно в том, что касается вашей квалификации; в противном случае гильдия может создать вам трудности. – Гильдия? – спросил я, не имея ни малейшего понятия, о чем идет речь. – А теперь продолжим, ибо время не терпит. Вопросы зададите потом. Я бы охотно сказал ему, что я еще не понял, зачем нужны эти, очевидно, поддельные документы. И потом, речь нотариуса ни капельки не объясняла, в чем именно заключается дар аббата Мелани. Но я повиновался и удержался от дальнейших расспросов. Клоридия тоже молчала, взгляд ее был затуманен пеленой боли и легочного нездоровья. – Привилегия же менее спешна: я лично могу выступить гарантом вашей законности. Поскольку время поджимает, вы сможете рассмотреть документ в карете. – В карете? – удивилась Клоридия. – Куда мы едем? – Проверить правильность того, что содержится в договоре купли-продажи, а куда же еще? – ответил нотариус, словно это было само собой разумеющимся, поднимаясь и веля нам следовать за ним. Вот так и случилось, что мы вышли из конторы нотариуса, куда вступали с тысячей надежд, с таким же количеством незаданных вопросов.* * *
Мы немало удивились, когда карета с Клоридией, Симонисом, нотариусом и мною выехала за пределы центра города. Вскоре она добралась до ограждающей город стены и через ворота покинула столицу, оказавшись на заснеженной равнине. Во время поездки моя жена от холода забилась в угол, а Симонис смотрел в окно с ничего не выражающим взглядом. Я задумчиво рассматривал нотариуса. Похоже было, что он спешит; однако, что именно он собирается делать, было совершенно непонятно. Очевидно, что те два документа, которые он мне вручил, были подделаны по всем правилам, и сделал это аббат Мелани. Атто – я хорошо помнил это – был весьма искушен в подделке бумаг, даже таких важных, как эти… Признаю, здесь его намерения не были странны: он просто хотел, чтобы дарственная была действительной. Нотариус ответил на мой взгляд: – О да, я знаю, какие вопросы вы себе задаете, и прошу прощения, что не подумал об этом раньше. Теперь самое время объяснить вам, куда мы направляемся. «Ну, наконец-то», – подумал я, а Клоридия, тут же пришедшая в себя, употребила остатки сил на то, чтобы выпрямиться на сиденье и послушать, что нам сейчас скажет нотариус. – Прежде всего, следовало бы немного избавить вашу супругу от тягот дороги, рассказав ей о внешней стороне и сути столицы империи, – помпезно начал нотариус, очевидно, гордясь своей родиной. – Окруженная кольцом стены полностью, здесь находится большая свободная местность из выровненной почвы и безо всякой растительности, которая в случае нападения позволяет обстреливать войска осаждающих. К востоку от города протекает река Дунай, которая, извиваясь, течет с севера на юг и с запада на восток, образуя при этом множество островков, топей и болот. Дальше на восток, за влажными лагуноподобными областями начинается равнина, простирающаяся беспрепятственно до королевства Польского и до империи русского царя. Item[907] на юге простирается ровная полоса, которая приведет нас в Каринтию, тот регион, который граничит с Италией, откуда вы сами и прибыли. На западе же и на севере город окружен поросшими лесом горами, самой высокой из которых является гора Каленберг, самый дальний отрог Альп, отвесно возвышающийся над Дунаем, бастион Запада, глядящий на восточную равнину Паннонии.Речь нотариуса была очень милой, вот только лицо Клоридии все больше и больше мрачнело, да и я со все возрастающим страхом размышлял о величине и роде дара. Ах, если бы этот чудной нотариус наконец решился поведать нам, в чем он заключается! – Я знаю, о чем вы думаете, – сказал он в этот миг, прерывая орографическую лекцию о Вене и обращаясь ко мне. – Вы задаетесь вопросом, какого рода дар вашего благодетеля и какова его ценность. Что ж: как вы сами можете прочесть в привилегии, – пояснил он, очень осторожно протягивая нам один из документов, – аббат Мелани устроил вам – с местожительством в Жозефине, пригороде неподалеку от Михаэлеркирхе, куда мы в данный момент направляемся, – должность привилегированного мастера. – Что это означает? – одновременно спросили мы с Клоридией. – Это ясно как божий день: привилегированный. С позволения двора или, если вам будет угодно, декретом императора, вы вольны стать мастером. Мы вопросительно смотрели на него. – Это необходимо, поскольку вы не являетесь гражданином Вены, – продолжал нотариус. – Поскольку императору срочно, очень срочно нужны ваши услуги, ваш благодетель великодушно испросил для вас при дворе ремесленную привилегию и получил ее, – заключил он, не замечая, что все еще не ответил на самый главный вопрос. – И на что же? – настаивала Клоридия, скептично, но с надеждой ожидая дальнейших слов нотариуса. – На право заниматься ремеслом, конечно же! А также право быть принятым в гильдию, – нетерпеливо пояснил нотариус, глядя на нас так, словно мы дикари, которые, невзирая на всю его предупредительность, почему-то не торопятся с благодарностями. Как я со временем узнал, жители Вены, когда дело касается чужаков, часто путают недостаточное знание языка с недостатком воспитания и сообразительности. Резкая реакция нотариуса заставила мою ослабшую жену умолкнуть. Она и без того опасалась рассердить его и тем самым вызвать ненужные трудности, которые осложнят нам доступ к желанному, загадочному и находящемуся уже в пределах досягаемости подарку Атто. Каким же мастером я стал? В чем заключается ремесло, занятие которым милостиво разрешил мне император, хотя я не был гражданином Вены? И прежде всего, какие услуги нужны доброму правителю столь поспешно? – Вы должны вести добродетельную, непорочную жизнь, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности и подавать хороший пример подмастерьям, – таинственно продолжал он. – И это еще не все: как вы можете прочесть в договоре купли-продажи, который аббат Мелани великодушно заключил от вашего имени, здесь перечислены дом, двор и виноградник! Какая невероятная щедрость! Но стойте, мы наконец прибьши. Как раз успели до сумерек! И действительно, на дворе быстро темнело. Хотя день не так давно перевалил за полдень, в северных широтах темнота наступает очень рано и почти без предупреждения, особенно зимой. Так вот в чем причина спешки, которую проявил в своей конторе нотариус. Я хотел спросить, в чем же заключаются дары, перечисленные в договоре купли-продажи, когда карета остановилась. Мы вышли. Перед нами стоял двухэтажный дом, похоже, нежилой. На двери висела блестящая новая вывеска, на которой было что-то написано готическим шрифтом. – Ремесло IV, – прочел нам нотариус. – Ах да, я забыл уточнить: вам принадлежит ремесло номер четыре из двадцати семи уже концессионированных в императорской столице и ее окрестностях, и одно из пяти, которое недавно, по желанию его императорского величества Иосифа I, привилегией от 19 апреля 1707 года, было возведено в почетный ранг городского ремесла. Вашей задачей остается, конечно же, в качестве придворного адъюнкта удовлетворять срочные потребности императора: вам доверен уход и ответственность за императорским домом, который наш добрый повелитель намеревается восстановить в своем изначальном блеске. После этого замечания нотариуса к Клоридии, с мрачным лицом шедшей позади нас, вернулась ее горделивая осанка и она пошла быстрее. Во мне тоже снова вспыхнула надежда: если ремесло, которое купил для нас Атто и мастером которого я должен стать, было учреждено не кем иным, как лично императором, и в городе их существует всего несколько, оговоренных декретом, мне же, кроме того – причем крайне срочно, – доверен уход ни много ни мало за домом императора, речь наверняка идет не о какой-то безделице. – Что ж, господин нотариус, – медовым голоском спросила моя супруга, впервые за день улыбнувшись, – может быть, вы наконец скажете нам, о чем идет речь? В чем заключается деятельность, которой мой муж, благодаря щедрости аббата Мелани и доброте нашего императора, будет заниматься в этом прекрасном городе Вена? – О, пардон, дорогая дама, я думал, вы уже поняли: подметальщик дымоходов. – Прошу прощения? – Да как же это по-итальянски? Мастер дымоходов… нет… трубоподметалыцик… Ах да – трубочист.
Мы услышали глухой стук. Клоридия упала наземь без памяти.
Вена: Столица и резиденция Императора Четверг, 9 апреля 1711 года День первый
Одиннадцатый час, когда ремесленники, секретари, преподаватели языка, подмастерья торговцев, лакеи и кучера обычно обедают
Я жадно прихлебывал горячий травяной настой, время от времени поглядывая на играющего мальчика, и листал ежедневник «Ноер Кракауер Календер» на 1711 год, случайно попавший мне в руки. Вскоре должно было пробить полдень, и я только что получил в трактире за скромную плату в восемь крейцеров плотный обед из семи тщательно сдобренных мясом блюд, которого хватило бы на десятерых мужчин (а с учетом моей комплекции и на двадцать). Здесь, в Вене, его подавали в любой день недели любому ремесленнику, в то время как в Риме это было доступно только князьям Церкви. Еще каких-то пару месяцев назад я и представить себе не мог, что мой желудок можно так набить. И я, ощущая, как обычно, целебное влияние улучшающего пищеварение настоя Клоридии, сонно опустился в свое красивое новенькое кресло из светло-зеленой полупарчи. О да, в этом 1711 году после Рождества Христова, нашего Спасителя, или – как напоминал «Кракауер Календер» – в 5660 году от сотворения мира, 3707 году от первого праздника Пасхи, 2727 году со строительства храма Соломонова, 2302 году от пленения вавилонского, 2463 году от основания Рима Ромулом, 1757 году от основания Римской империи Юлием Цезарем, 1678 году от Воскресения Иисуса Христа, 1641 году от разрушения Иерусалима при Тите Веспасиане, 1582 году со времени введения сорокадневного поста и распоряжения святых отцов Церкви касательно того, что всех христиан должно крестить, 1122 году от основания Османской империи, 919 году от коронации Карла Великого, 612 году от захвата Иерусалима Готфридом Бульонским, 468 году с тех пор, как немецкий язык стал употребляться в официальных канцелярских записях вместо латыни, 340 году с изобретения ружья, 258 году с завоевания Константинополя неверными, 278 году с изобретения книгопечатания благодаря дарованию Иоганна Гутенберга из Майнца и 214 году с изобретения папье-маше Антоном и Михаилом Галицкими, 220 году с тех пор, как Христофор Колумб из Генуи открыл Новый Свет, 182 году с первой осады Вены турками и 28-м – со второй и последней, 129 году с момента корректировки григорианского календаря, 54 году с изобретения маятниковых часов, 61 году со дня рождения Климента XI, нашего папы, 33 году со дня рождения их императорского величества Иосифа I и 6 лет с тех пор, как он взошел на императорский престол, что ж, в этот блестящий год от Рождества Христова, который мы описываем, у нас с Клоридией наконец появилось кресло, даже два.Они не были подарены нам доброй душой, мы купили их на выручку с нашего небольшого семейного предприятия и наслаждались ими в своем домике при монастыре августинок, где мы и продолжали жить, до тех пор пока не будут завершены работы по пристройке к дому в Жозефине. В этот день, первый четверг после Пасхи, прошло почти два месяца со дня нашего прибытия в императорскую столицу, и в нашей жизни уже не было призрака голода, так сильно мучившего нас в Риме.
И все это благодаря моей работе трубочистом, точнее, привилегированного чистильщика дымоходов, как говорят здесь, где даже простонародье не отказывает себе в возможности украшать себя различными маленькими и большими титулами. То, что в Италии, как я уже говорил, считалось одним из самых низких и позорных занятий, здесь, в эрцгерцогстве Австрийском выше и ниже Энса, ценилось как искусство и имело немалый почет. Если там нас называли вестниками беды, то здесь все на улице соперничали за право воспользоваться нашими услугами, поскольку считалось, что это приносит счастье. И кроме того, работая мастером-трубочистом, можно было заслужить высокоуважаемое общественное положение и получать завидные доходы. Поэтому могу сказать, что я не знаю другого такого занятия, которое бы, в зависимости от страны, так высоко ценилось бы или же, напротив, презиралось. Здесь не было оборванных трубочистов, бродивших по городам в поисках хоть какой-нибудь работы и выпрашивавших теплого супа. Не использовался труд маленьких детей, которых забирали из самых бедных семей; никаких «fam, füm, frecc», то есть «голода, дыма, холода», трех черных кондотьеров, сопровождавших это несчастное ремесло в бедных альпийских долинах Северной Италии. Нет, достаточно было просто оставить эти долины позади и попасть сюда, в город императора, чтобы узнать, что дела обстоят с точностью до наоборот: в Вене существовали исключительно оседлые трубочисты с солидными промысловыми свидетельствами, членством в гильдии, твердыми тарифами (двенадцать пфеннигов за обычную чистку), точно урегулированными степенями услуг (мастер, подмастерье или ученик) и домом с мастерской, часто даже, как вот в моем случае, с присовокупленным к нему двором и виноградником. И, к моему немалому удивлению, трубочисты в Вене были исключительно итальянцами.
Первые пришли два столетия назад, вместе с архитекторами, распространявшими в Вене достижения итальянской архитектуры. Все более плотная застройка, впрочем, вела ко все возрастающему количеству пожаров, поэтому император Максимилиан I решил нанять трубочистов на постоянной основе. В главном здании нашей гильдии на стене висел документ, датированный 1512 годом, почитавшийся почти как реликвия: приказ императора нанять трубочистом некоего «Ганса Майланда», Джованни из Милана, первого нашего товарища по цеху. Полтора столетия спустя мы завоевали здесь, в столице, настолько прочное место, что нам было даровано право заниматься ремеслом с позволения императора. Поскольку мы, итальянцы, привезли в империю искусство подметания каминов, то на протяжении вот уже двух сотен лет старались, чтобы все оставалось в наших руках. Мартини, Минети, Совинчо, Перфетта, Мартинолли, Имини, Цоппо, Тоскано, Тонду, Монфрина, Бисторта, Фрицци, де Цури, Гаттон, Кешетти, Альберини, Чекола, Коделли, Гарабано, Сартори, Цимара, Викари, Фазати, Феррари, Тошини, Сенестри, Николадони, Мацци, Буллоне, Поллони – вот имена, то и дело возникавшие на предприятиях чистильщиков дымоходов: все итальянцы, все в родстве друг с другом. Таким образом, ремесло трубочиста даже стало передаваться по наследству; оно переходило от отца к сыну, от тестя к зятю или к другому ближайшему родственнику или же, если не было родственников, ко второму мужу вдовы. Более того, ремесло можно было даже продать. Такая редкая и очень выгодная сделка стоила не менее двух тысяч гульденов, сумма, которую могли заработать лишь немногие ремесленники. Не проходило и дня, чтобы я не вспоминал о великодушном жесте аббата Мелани. Если бы только мои соотечественники, трубочисты на итальянском полуострове, знали, в каком аду они живут и какой рай открывается здесь, по другую сторону Альп!
Я зарабатывал более чем достаточно. Каждому из трубочистов выделялся квартал или пригород. Мне, в свою очередь, повезло получить то предприятие, которое отвечало за район Жозефина, или же Йозефштадт, по имени нашего императора. Этот квартал, где жили скромные ремесленники, был расположен очень близко ко внутреннему городу, но также охватывал некоторые резиденции высшего дворянства, которые приносили за месяц больше, чем я заработал у себя на родине за всю свою жизнь. Поскольку я был итальянцем, у аббата Мелани не возникло никаких трудностей с тем, чтобы найти для меня занятие. И деньгами он добился всего. Пришлось подделать для меня необходимые документы – свидетельство о рождении, биографию etc., – чтобы гильдия трубочистов при дворе не протестовала. Когда я представлялся своим собратьям по цеху, они, честно говоря, встретили меня довольно прохладно, но я не мог их винить: мое назначение «привилегированным» трубочистом обидело моих коллег, ведь им приходилось зарабатывать в поте лица то, что мне преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой. Кроме того, они не доверяли мне, потому что никто никогда не слышал о том, что в Риме существуют трубочисты. Мои собратья по цеху все были родом из альпийских долин или даже из Тичино и Граубюндена. Они сопровождали меня во время моих первых чисток дымоходов, чтобы удостовериться в том, что я умею выполнять свою работу хорошо. Конечно, деньги Атто могли сделать многое в Вене, но сделать из дилетанта трубочиста, который однажды, возможно, поджег бы город, они были не в силах.
* * *
Итак, у меня и моей семьи началась новая жизнь, в благородном городе-резиденции императора, где, как некогда с удивлением отметил кардинал Пикколомини, даже входя в скромный дом, можно подумать, что очутился в княжеском дворце, и где день за днем через массивные оборонительные стены в город въезжает просто невероятное количество грузовых телег: телеги, полные яиц, раков, хлеба и муки, мяса, рыбы, птицы без числа, более трех телег, до краев груженных вином. А когда наступал вечер, все исчезало. Мы с Клоридией, затаив дыхание, смотрели на жадный, предающийся плотским утехам народ, каждое воскресенье поглощавший то, на что мы в Риме вынуждены были зарабатывать полгода. И вот в такой роскоши, на этом вечно пышном банкете и оказались мы теперь. Щедрость Атто Мелани объяснялась, в общем-то, счастливым поворотом судьбы: их императорское величество хотел, чтобы отреставрировали старый дом, находившийся за воротами Вены, и ему был нужен трубочист для обновления дымоходов, а также для повышения безопасности от пожаров, количество которых, очевидно, возрастало. Вскоре после моего назначения, впрочем, снова начались сильные снегопады, что отсрочило начало моей работы, и кроме того, часть здания обрушилась и нужно было ее восстановить. Сегодня я впервые должен был осмотреть императорский дом. Оставалось неясным только одно: почему император не поручил это дело одному из множества других придворных трубочистов, которые уже заботились о королевских резиденциях? Аббат Мелани купил от нашего имени двухэтажный домик неподалеку от Михаэлеркирхе в Йозефштадте и даже поручил вести те самые строительные работы, завершения которых мы ожидали. Вскоре я и моя семья должны были наслаждаться большой роскошью: владением собственным домом, где первый этаж был отведен под цех, а второй – под жилые комнаты. Для нас это было настоящей мечтой, после того как в Риме мы пали настолько низко, что вынуждены были ютиться в подвале из туфового известняка вместе с другой семьей… Теперь же мы даже могли послать нашим двум дочерям, которые остались там, внизу, приличную сумму денег и планировали вызвать их в Вену, как только будут закончены работы в нашем новом доме. В своей дарственной Атто предусмотрел также плату для домашнего учителя, который должен был научить моего мальчика читать и писать по-итальянски, «ибо итальянский язык», – как писал он в сопроводительном письме, – «является широко распространенным языком и даже является официальным диалектом при императорском дворе, где ни на каком другом языке почти не говорят. Как и отец его, и дед, император слушает проповеди на итальянском, а господа из этой страны испытывают такую глубокую склонность к нашей нации, что пытаются перещеголять друг друга в стремлении съездить в Рим и там изучить наш язык. И тот, кто знает его, пользуется большим почетом в империи и не имеет надобности учить местные диалекты». Я был бесконечно благодарен Мелани, хотя меня несколько уязвило то, что в его письме не было ни единого слова о чем-то личном, ни весточки о его состоянии, да и привязанность выражения тоже не нашла. Однако, наверное, подумал я, письмо было составлено его секретарем, поскольку Атто слишком стар и, вероятно, слишком болен, чтобы самому заниматься такими мелочами. Я же в свою очередь, конечно же, написал ему полное благодарностей письмо с заверениями в верности. Даже Клоридия преодолела многолетнее недоверие к Атто и послала ему пару трогательных строчек благодарности, приложив к ним свое исключительное вязанье, которым занималась несколько недель: теплый мягкий платок на плечи, что-то вроде фландрского gambellotto,[908] желтого и красного цветов – любимых цветов аббата, с вышитыми на нем его инициалами. Мы не получили ответа на свое выражение благодарности, но с учетом его преклонного возраста нас это не удивило. Наш малыш теперь занимался тем, что писал в тетрадке простые слова на германском диалекте. Их нужно было писать особым, очень трудным для понимания франкфуртским шрифтом, который здесь называли «готическим курсивом». В принципе все было так, как сказал аббат Мелани: итальянский язык в Вене был языком двора, и даже правители других стран писали письма императору на итальянском, а не на немецком. Однако простым людям из народа немецкий язык был ближе; поэтому трубочисту было очень полезно ради лучшего занятия своим ремеслом получить хотя бы самые поверхностные знания. Памятуя об этом, я использовал жалованье, которое назначил Атто для учителя итальянского языка, на то, чтобы оплатить домашнего учителя по местному языку, а выучить своего сына родному языку я намеревался сам, как уже с успехом сделал это для двух его сестер. Поэтому Клоридия, малыш и я каждый второй вечер принимали учителя, который в течение двух часов пытался наставить наши бедные души на тропы необъятной вселенной тевтонского языка. Поскольку он был очень труден и не имел практически ничего общего с другими языками, о чем уже жаловался кардинал Пикколомини и что доказал Джованни да Капистрано во время своего пребывания в Вене, читая проповеди против турок с кафедры на площади Кармелиток на латыни. Когда он закончил и передал слово переводчику, тому потребовалось три часа, чтобы повторить все это на немецком языке. В отличие от нашего мальчика, который быстро делал успехи, мы с женой очень мучились. К счастью, нам лучше удавалось чтение, поэтому я, как уже было сказано ранее, мог днем того самого 9 апреля 1711 года (почти) безо всяких усилий пролистать «Ноер Кракауер Календер», написанный Маттиасом Джентилли, графом Родари из Триента. Тем временем мой сынок что-то царапал у моих ног и ждал, когда мы вместе с ним вернемся к работе. Как у каждого мастера-трубочиста в Вене, у меня тоже был свой ученик, и им, конечно же, был мой малыш, который в свои восемь лет очень много страдал, но и научился большему, чем ребенок в два раза старше его.Вскоре за мной пришла Клоридия. – Вставай, бегом, посмотри на это! Они вот-вот въедут на улицу. А мне нужно назад, во дворец. Благодаря успешным переговорам хормейстера, моя жена получила весьма почетную должность неподалеку от монастыря. На Химмельпфортгассе находилось здание особого значения: зимний дворец его светлости принца Евгения Савойского, главы императорского придворного военного совета, славного полководца в войне против Франции и триумфального победителя турок. Сегодня же в его дворце должно было произойти важное событие: в обеденный час ожидалось прибытие османского посольства из Константинополя. Это была хорошая возможность проявить себя для моей супруги, которая родилась в Риме, однако от матери-турчанки, попавшей в руки врагов бедной рабыни. Два дня назад, во вторник, на остров Леопольдина, находящийся на том отрезке Дуная, который протекает неподалеку от укреплений, на пяти кораблях, со свитой из двадцати человек, в Вену прибыл турецкий ага Цефула Капичипаша, и ему было предоставлено достойное жилище на указанном острове. Чего хотел посланник Блистательной Порты в Вене, было совершенно неясно. Мир с османами длился вот уже много лет, с тех пор как 11 сентября далекого 1697 года принц Евгений разбил их в битве при Зенте и заставил впоследствии подписать мир в Карловиче. В настоящее время войны с неверными не велось, только с католической Францией, против испанского наследника престола. Волны бурных отношений с Портой, казалось, улеглись. Даже в беспокойной Венгрии, где на протяжении столетий войска императора бились с войсками Мохаммеда, всеми любимый Иосиф I, не зря прозванный «победоносным», наконец-то приструнил враждебных императору князей, всегда готовых поднять восстание. Тем не менее во второй половине марта из Константинополя прибыл посол и уведомил его светлость принца Евгения о чрезвычайном посольстве турецкого аги, который должен был прибыть в Вену уже в конце месяца. Решение, судя по всему, великий визирь Мехмет-паша принял в последний момент, потому что у него даже не было возможности послать вестника заблаговременно. Все это несколько спутало планы принца Савойского: он с середины месяца был готов к отъезду в Гаагу, к театру военных действий. Решение, кстати, наверняка далось великому визирю нелегко: как замечалось в одной из листовок, на которую я нечаянно наткнулся, для поездки из Константинополя в Вену зимой требуется до четырех месяцев, и это крайне трудное и тяжелое путешествие, поскольку нужно пересечь не только такие города, как Адрианополис, Филиппополис и Никополис, но и столь грязное место, как София, где на всех улицах лошади идут по колено в грязи, или же ехать по необжитым местам, таким как османская Селиврея или Кинигли, болгарский Изардшик, Драгоман и Калькали, мимо таких укрепленных палисадов, как Паша Планка, Лексинца и Рашин, и запустевшего местечка Кастелла на границе, где султан бросил на произвол судьбы полки турецких солдат, о которых в мире давным-давно забыли. Однако истинная трудность путешествия заключалась в том, чтобы преодолеть ущелья болгарских гор, самые узкие ущелья, где может проехать только одна карета; затем преодолеть не менее жуткий перевал Красная Башня, мучиться, пробираясь по очень плохой дороге, полной вязкой, часто перемешанной с камнями, грязи, устоять против снега, льда и сильных ветров, которые могут опрокинуть даже большую карету. А еще необходимо было пересечь реки Сава и Морава, которые в восьми часах пути к югу от Белграда впадают в Дунай у Семендрии. Реки, на которых зимой нет мостов, ни из дерева, ни из лодок, потому что они, как правило, становятся жертвами осенних паводков. В конце концов, утомленному путешественнику нужно было решиться подняться на борт турецкой шлюпки в ледяных водах Дуная, где лодка постоянно подвергается опасности быть раздавленной льдами, в худшем случае – в ужасно узком месте Железных ворот, особенно страшных при отливе. Неслучайно первые османские посольства обычно пускались в это длительное путешествие в теплое время года и зимовали в Вене, чтобы отправиться обратно только следующей весной. Никогда с османской стороны не возникало исключений из этого правила. При этом в Вене все еще с ужасом вспоминали обиды, которые пришлось вынести миссии государственного советника, камергера и президента Имперского надворного совета графа Вольфганга Эттинген-Валлерштейнского, который, после заключения мира 26 января 1699 года, был отправлен его императорским величеством Леопольдом I в качестве посла в Блистательную Порту. Эттинген-Валлерштейн слишком долго тянул с приготовлениями к отъезду и только 20 октября решил отправиться в Константинополь со своей свитой из 280 человек по Дунаю. Когда же он на Рождество прибыл в негостеприимные горы Болгарии, то хорошо понял, что значит пережить неприятный сюрприз.
Невзирая на это и вопреки всем традициям, турецкий ага отправился в путешествие посреди зимы. У великого визиря, должно быть, было действительно важное послание для принца Евгения, что привело императорский двор и всех жителей Вены в немалый трепет. Каждый день все бросали обеспокоенные взгляды на берег Дуная в ожидании, когда вдалеке раздадутся фанфары янычаров и покажутся шестьдесят, а то и семьдесят кораблей, на которых прибудут ага и его многочисленная свита. Все были готовы к прибытию около полутысячи человек, в крайнем случае не менее трехсот, как обычно бывало вот уже на протяжении целого столетия.
Турецкий ага оказался у цели только 7 апреля, с недельным опозданием. В этот день напряжение достигло наивысшей точки: даже император Иосиф I счел политически разумным подать туркам неявный знак своей доброжелательности и вместе со своей семьей посетил церковь босоногих кармелиток, которая находилась на острове Святого Леопольда, как раз в том самом квартале, где должны были разместить турок. Каково же было всеобщее изумление, когда ага в сопровождении трепещущих на ветру знамен, звона литавр и пения флейт ступил на берег острова и стало ясно, что в свите его не более двадцати человек! Как я прочел позднее, кроме переводчика с ним были только ближайшие слуги: гофмаршал, казначей, секретарь, первый камердинер, шталмейстер, шеф-повар, кофевар и имам, по поводу которого в листовке выражали удивление, поскольку он был не турком, а индийским дервишем. Простые слуги, повара и конюхи были наняты османами по пути, в Белграде, равно как и двое янычаров, которые должны были выполнять службу по несению знамени и боеприпасов аги. Именно это уменьшение свиты и позволило are достичь Вены всего лишь за два месяца пути, ибо он действительно отправился из Константинополя 7 февраля. Сегодня утром ага со свитой должен был – войдя в город через опускной мост, затем пройдя под Красной Башней, по площади, которая называется Лугек, мимо собора Святого Стефана, – посетить дворец его светлости принца, пославшего для этой цели вперед карету, запряженную шестеркой лошадей, а также четырех оседланных, в украшенных серебром и золотом сбруях лошадей для сопровождения посланника.
Я в спешке бросился на улицу и успел как раз вовремя: под любопытными взглядами толпы свита уже повернула с Кернтнерштрассе в наш переулок. Возглавлял шествие конный обер-лейтенант гвардии, офицер Герлицка, в сопровождении двадцати солдат городской стражи, которые обеспечивали безопасность посольства на протяжении всего времени пребывания. Из-за клубов пыли, которые поднял конвой, большого наплыва народа и стремительности приближающихся лошадей мне пришлось остановиться и прижаться к стене углового дома между Химмельпфортгассе и Кернтнерштрассе. Сначала мимо пронеслась карета императорского комиссара по вопросам довольствия, который встречал турецкое посольство на границе с церемонией так называемой смены караула и сопровождал его до самой столицы. За ним следовал – ко всеобщему удивлению – странный всадник пожилого, хотя и неопределенного возраста, который, как я услышал в толпе, был тем самым индийским дервишем. Затем трое чавушей, иными словами, турецких судебных исполнителей, один из которых ехал справа, а лошадь его вели двое слуг, шедших пешком. Этот чавуш, держащий обеими руками верительную грамоту великого визиря, был укутан в зеленую, вышитую серебряными цветами тафту и восседал на атласе цвета красной киновари, на котором красным лаком была изображена печать великого визиря с тиснением из чистого золота. По левую сторону ехал переводчик Блистательной Порты. Наконец мы увидели посланную принцем Евгением карету, запряженную шестеркой лошадей, внутри которой бормочущая, исполненная любопытства толпа увидела турецкого агу, закутанного в одежды из желтого атласа и накидку из красного, подбитого соболем сукна. Голова его была покрыта большим тюрбаном. Напротив него сидел, как я понял из разговора двух женщин, императорский переводчик. По обе стороны от кареты бежали, сопя и прокладывая себе дорогу локтями, два лакея Савойского и четверо слуг аги, сопровождаемые еще одним турецким всадником, о котором говорили, будто бы он – первый камергер. Замыкали шествие слуги аги, а также солдаты городской гвардии.
Я тоже приблизился ко дворцу принца. Как и ожидалось, я, едва войдя под портал здания, наткнулся на Клоридию, которая о чем-то оживленно беседовала с турецким лакеем. Как я уже отмечал, моя жена Клоридия при посредстве хормейстера Камиллы де Росси получила хоть и временную, однако хорошо оплачиваемую и почетную работу: благодаря своему происхождению она довольно неплохо владела турецким языком, а также lingua franca – тем не очень похожим на итальянский язык говором, который был введен много столетий назад генуэзцами и венецианцами в Константинополе и которым часто пользовались османы. Поэтому Клоридию и наняли посредницей между персоналом посольства и слугами принца Евгения. Оба переводчика, которым необходимо было переводить официальные переговоры обеих сторон, этим воистину заниматься не могли.
– Ну, хорошо, но не больше одного графина! – наконец сказала лакею Клоридия. Я вопросительно посмотрел на нее: хотя последние слова она произнесла по-итальянски, слуга-турок улыбнулся ей хитрой понимающей улыбкой. – Его взяли в плен при Зенте, и во время плена он немного научился итальянскому языку, – пояснила мне Клоридия, в то время как мужчина исчез за большим порталом дворца. – Вино, вино, им только и нужно, что выпивка! Я пообещала, что тайком дам ему и его друзьям один графин, я уж попрошу сестер из Химмельпфорте. Но только один! Иначе ага узнает и укоротит им всем рост ровно на голову. И при этом комиссар по довольствию каждый день выдает три окки вина, две окки пива и пол-окки кухонного вина армянам, грекам и евреям из свиты аги. Почему эти турки не признают нашего Бога? Он даже священникам позволяет пить вино! Произнеся это, Клоридия собралась идти к монастырю. – Принести вино? – спросил я. – О да, если не трудно. Скажи сестре-кладовщице, пусть велит принести мне графин самого плохого вина, из Лизинга или Штокерау, которым они промывают раны больным. Его лакеи особо не распробуют. Прежде чем портал во дворец закрыли, Клоридия вбежала внутрь, бросила на меня последний взгляд улыбающихся глаз и исчезла за створками дверей. Как расцвела моя жена, когда у нас опять дела пошли на лад, подумал я, стоя перед закрытыми воротами. Последние два года ослабили ее и омрачили ее такой прежде веселый нрав. А теперь ее красота вернулась: полные губы, игра красок на щеках, выразительный лоб, светящаяся кожа, пышные волнистые волосы – все снова стало как прежде, до голода. Хотя маленькие морщинки, появившиеся от возраста и страданий, не исчезли с ее нежного лица и уже появились на моем, они лишились былой горечи, более того, они даже гармонировали теперь со счастливыми чертами лица Клоридии. И этим я был обязан не кому иному, как аббату Мелани.
У тойзапутанной, неразрешимой нити судьбы, которая свела нас с женой и Атто в Вене, – так думал я по пути в кладовую монастыря – в принципе был и третий конец: Османская империя. Действительно, тень Блистательной Порты простиралась над всей моей жизнью. И не только потому, что мы, слуги на римской вилле кардинала Спады одиннадцать лет назад во время ужина в саду подавали на стол, переодевшись в янычаров, для того чтобы повеселить собравшихся, среди которых был и аббат Мелани. Нет, началом всего было происхождение Клоридии, которая родилась дочерью рабыни-турчанки в Риме и была крещена Марией. Едва она переступила порог детства, как ее похитили и увезли в Амстердам, где она созрела под новым именем – Клоридия – и запятнала себя, к величайшему сожалению, продажей своего тела, прежде чем вернулась в Рим в поисках отца и там, благодарение Богу, обрела любовь и вступила со мною в брак. Мы познакомились в гостинице «Оруженосец», где я в то время работал, и было это в сентябре 1683 года, как раз тогда, когда состоялась славная битва между христианами и неверными перед воротами Вены, во время которой, слава Господу, возобладали силы истинной веры. И было это в те дни, когда я свел знакомство с аббатом Мелани, который тоже жил в «Оруженосце». Клоридия просто рассказала мне, что с ней приключилось, после того как ее украли у отца. Однако никогда ничего не говорила мне о своей матери. – Я ее не знала, – солгала она мне в начале нашего знакомства, чтобы потом время от времени понемногу, мимолетными замечаниями, рассказывать о ней, например, что аромат кофе очень напоминает ей мать. Но в конце концов она пресекла мое любопытство, заявив, что о матери она «не помнит ничего, даже лица». Вместо того чтобы узнать от Клоридии все о ее матери, я узнал в «Оруженосце», что та была рабыней влиятельного семейства Одескальки, семьи, где служил также и отец Клоридии, и за несколько дней до похищения самой Клоридии была продана неизвестно кому, а отец ее ничего не мог сделать по закону, ибо они не были женаты. Однако о проведенном вместе с матерью детстве моей супруги я не знал ничего. Ее лицо мрачнело, как только я или наши дочери начинали задавать праздные вопросы. К моему огромному удивлению, несколько недель назад Клоридия приняла предложение хормейстера подрядиться в качестве посредницы между персоналом принца Савойского и персоналом аги. Впрочем, один злобный взгляд супруга на меня бросила, ведь было совершенно очевидно, от кого Камилла узнала о ее османской крови… Очень удивился я и теперь, ведь до настоящего момента не подозревал, что моя жена так хорошо говорит по-турецки! Проницательная хормейстер же, как только получила известие о прибытии османского посольства, сразу же подумала о Клоридии. Похоже, о языковых познаниях Клоридии она уже знала – что поразительно, потому что я ведь рассказывал ей, что моя жена была разлучена с матерью в очень раннем возрасте.
Оказавшись в крестовом ходе монастыря, я едва увернулся от двух грузчиков, покачивавшихся под весом тяжелого ящика и к немалому неудовольствию старой сестры-привратницы угрожавших испортить штукатурку на стенах. – Похоже, ваш господин взял с собой платья на десять лет, – бормотала сестра, очевидно, имея в виду только что прибывшего гостя.
13 часов: в Вене обедают дворяне (в то время как в Риме они только просыпаются), придворные устремляются в кофейни, а в театрах начинаются представления
Этот день вдвойне примечателен. Не только Клоридия вступила в должность во дворце принца, блестящего полководца и советника императора; я тоже намеревался исполнить свои обязанности на службе у его величества Иосифа I. После суровых зимних месяцев и такого же прохладного начала весны повеяли первые мягкие ветра. В окрестностях Вены тоже растаял лед, и пришло время заняться каминами и дымоходами заброшенного дома, принадлежащего императору, то есть той самой задачей, благодаря которой у меня было столь почетное звание: привилегированный трубочист. Как я уже имел возможность упомянуть, погодные условия прошедших месяцев до сих пор препятствовали проведению работ в столь большом доме, как тот, который ожидал меня. Кроме того, таяние снега в верховьях Дуная разрушило все мосты и выбросило в реку огромное количество льда, вследствие чего уровень воды сильно поднялся и нанес значительный ущерб садам предместий. Поэтому некоторые не очень завистливые товарищи по цеху трубочистов настоятельно отсоветовали мне браться за работу раньше начала более теплого времени года. В этот прекрасный день в начале апреля с неба светило солнце – хотя температура была все еще низкой, по крайней мере, по моим ощущениям, – поэтому я решил, что время настало: я начну разбираться с покинутым имуществом его величества. Пользуясь моей поездкой в Зиммеринг, хормейстер дружелюбно попросила меня об услуге: сестра-кладовщица Химмельпфорте хотела, чтобы я по возможности заглянул в винный погребок, которым владели сестры в принадлежащем монастырю винограднике в Симмеринге, неподалеку от того места, куда я направлялся. Этот погреб был очень велик, и к нему примыкал зал с камином, дымоход которого мог, наверное, требовать чистки. Я получил ключ от подвала и пообещал Камилле, что позабочусь о камине, как только будет возможность. Помощникам я уже велел взнуздать мула и положить в повозку все необходимое. Когда я вышел на улицу, то обнаружил, что сынок мой уже сидит на козлах и ждет меня, как обычно, широко улыбаясь.У мастера-трубочиста, кроме ученика, должен быть еще подмастерье, работник, или мастеровой, или как там их еще называют. Мой был греком, и впервые я встретился с ним в монастыре в Химмельпфортгассе, где он служил факторумом: слугой, поденщиком и посыльным. То был Симонис, молодой говорливый идиот, который сопровождал нас с Клоридией два месяца назад на встречу с нотариусом. Едва узнав, что моя скромная особа является по профессии трубочистом, он спросил меня, не нужен ли мне помощник. Его временная работа в Химмельпфортгассе, где он убирал подвал, должна была скоро закончиться, и Камилла сама тепло рекомендовала мне его, уверив, что он гораздо меньший идиот, чем хочет казаться. Поэтому я его и взял. За ним должна была сохраниться комнатка в монастыре Химмельпфорте, пока не будет готов мой дом в Жозефине, а потом он будет жить с моей семьей, как положено мастеру и помощнику. Проходили дни, и время от времени мы вели короткие разговоры, если так можно назвать общение между ним – человеком, который не владел нормальной речью, и мною, знающим язык еще хуже. Будучи всегда в хорошем настроении, Симонис задавал мне бесчисленное множество более или менее глупых вопросов и иногда делал забавные, даже остроумные замечания, которые, когда я понимал их, вероятно, и объясняли то, что мне было хорошо в обществе этого чудаковатого приветливого грека, которого, как и меня, занесло к по-северному грубым венцам. Когда он устремлял взгляд своих сине-зеленых глаз прямо на собеседника, а его черные, как вороново крыло, волосы падали ему на лоб, лицо его могло внезапно стать столь серьезным, что я никогда толком не понимал: то ли Симонис внимательно следит за тем, что я отвечаю на его вопросы, то ли его разум таки большей частью замутнен. Верхние зубы, торчащие, словно у кролика, вперед и все время подставленные всем ветрам, поскольку они почти полностью закрывали нижнюю губу, постоянно вытянутое вперед правое предплечье с вывернутым суставом, отчего ладонь безвольно свисала вниз, будто сустав был парализован ударом меча, – все это заставляло меня предполагать, что Симонис – парень добрый, но разума у него поистине маловато. Мои подозрения подтвердились в тот день, когда я обнаружил, что молодой подмастерье понимает мой родной язык. Мы как раз чистили очень загрязненный дымоотвод, и я едва не оступился, а поскольку мне поднадоело выдавать неуклюжие предложения на немецком языке, особенно в таких опасных ситуациях, я крикнул ему по-итальянски, чтобы он помог и поднял канат, державший меня. – Не переживайте, господин мастер, я сейчас вас вытащу! – тут же успокоил он меня на моем языке. – Ты говоришь по-итальянски? – Ну да, – лаконично ответил тот. – А почему ты никогда мне об этом не говорил? – Потому что вы никогда меня об этом не спрашивали, господин мастер.
Так я узнал, что Симонис приехал в Вену не затем, чтобы влачить жалкое существование, а по гораздо более благородной причине: он был студентом. Студентом медицины, если точнее. Симонис Риманопоулос, так звучала его фамилия, начинал учиться в университете Болонья, что, очевидно, объясняло его безупречное владение итальянским языком. Однако затем голод 1709 года и надежда на менее обреченную жизнь – что вполне справедливо – привели его в богатую Вену и ее старинный университет, Alma Mater Rudolphina, где собрались студенты из Венгрии, Польши, Восточной Германии и многих других стран. Впрочем, Симонис принадлежал к хорошо известной категории нищих студентов, тех бедных студентов без семейной поддержки, которые хоть как-то существовали благодаря тому, что брались за различного рода работу, включая попрошайничество, если в этом была необходимость. Симонису невероятно повезло, что я его нанял: нищим студентам жилось в Вене несладко. Невзирая на множество официальных указов очень часто бродячие студенты – а также те, кто к ним присоединялся, не будучи студентом, – попрошайничали днем и ночью, даже во время лекций, на улицах, перед церквями и домами. Делая вид, что учатся, эти молодые люди предавались лени, кражам и воровству, хотя очень хорошо помнили волнения в ночь с 17 на 18 января 1706 года в городе и за его пределами, и даже в Нусдорфе, следствием которых были очень тщательные (равно как и тщетные) и все еще продолжающиеся дознания, в попытках строго наказать виновников. Такие студенты бросали тень на доброе имя других, законопослушных, и их императорское величество издал многочисленные указы, чтобы раз и навсегда покончить с попрошайничеством. После тех волнений, которые случились пять лет назад, декану, императорским старшим надзирателям и консистории старинного Венского университета было приказано предупредить в последний раз: нищие студенты должны в течение двух недель покинуть город императора. В противном случае они будут взяты под стражу и отправлены в carceros academicos, то есть в темницу университета, где подвергнутся ощутимым наказаниям. Те же бедные студенты, которые каждый день усердно будут заниматься учебой, должны получить у alumnates[909] стипендию или подыскать себе другой вид материальной поддержки. И только тот, кто не мог сделать этого, поскольку не было рабочих мест или поскольку он выбрал себе особенно трудную специальность и был все-таки вынужден просить милостыню во время лекций, мог продолжать заниматься этим как и раньше, но должен был просить только на самое необходимое, до дальнейших распоряжений. Кроме того, он должен был всегда носить на груди знак истинного нищего студента и ежемесячно обновлять его в университете. В противном случае он не признавался истинным нищим студентом и его немедленно запирали в карцер как бродягу.
Это объясняло, что подвигло Симониса подрядиться подмастерьем к трубочисту: опасность попасть в темницу из-за попрошайничества угрожала ему ежечасно. Однако как этому общительному простодушному парню удалось так хорошо выучить мой язык и как, черт побери, он вообще попал в университет, оставалось для меня поистине загадкой.
– Господин мастер, не хотите ли, чтобы я правил телегой, поскольку хорошо знаю дорогу? Я действительно очень смутно представлял себе точное местонахождение императорской резиденции: в Зиммерингер Хайде, к юго-востоку от Вены, неподалеку от Эберсдорфа. В назначении это место вообще было описано довольно непонятно: «Место Без Имени, называемое Нойгебау». Я пытался расспросить своих собратьев по цеху, но получил только расплывчатые ответы, что, вероятно, объяснялось тем, что из-за императорского назначения ко мне плохо относились. Никто не мог мне толком рассказать, какого рода это здание, которое мне предстояло проверить. – Никогда там не был, – сказал один, – но думаю, что это что-то вроде виллы. – Хотя я никогда его не видел, но знаю, что речь идет о саде, – сказал другой. – Это охотничий замок, – клялся третий, в то время как четвертый обозначил его «питомником для птицы». Одно было ясно: никто из моих собратьев-трубочистов никогда не был в том месте и, похоже, туда особенно и не стремился.
Дорога до Места Без Имени была долгой. Я с удовольствием отдал Симонису поводья мула. Малыш тоже просил, чтобы ему позволили посидеть на козлах, и получил разрешение. Теперь он сидел рядом с греком, который время от времени давал ему в руки поводья, чтобы поучить править телегой. Я сидел сзади, среди инструментов. Постепенно дитя задремало, и я привязал его веревкой к телеге, чтобы он не упал. Симонис правил уверенной, твердой рукой. Удивительно, но он молчал. Казалось, он был погружен в свои мысли. По пути через просторные пахотные угодья к Зиммерингер Хайде я слышал только поскрипывание колес и топот подков. Строго говоря, с улыбкой подумалось мне, когда я время от времени поглядывал на однообразный ландшафт и предавался послеполуденной дремоте, сидят в этой телеге трое детей: мой сыночек, я со своим детским телосложением и Симонис, оставшийся в душе ребенком.
– Мы прибыли, господин мастер. Я проснулся с негнущимися, разболевшимися от того, что лежал на инструментах, конечностями. Мы находились на огромном заброшенном дворе. В то время как Симонис и малыш слезли с козел и принялись выгружать инструменты, я оглядывался по сторонам. Мы въехали через большие ворота, за ними я рассмотрел идущую через просторные поля дорогу, по которой мы, должно быть, и ехали. – Мы в месте без названия, – пояснил грек, увидев мой затуманенный взгляд. – По ту сторону арки расположен вход в главное здание. И точно – за низким подсобным строением, разделенным проходом в форме арки, виднелся обширный двор. По правую руку от нас в стене открылась маленькая дверь, за ней обнаружилась винтовая лестница. Когда я поднял взгляд, то слева увидел стены с зубцами и, к моему удивлению, шестиугольную башню с покрытой причудливыми фиалами крышей. Все: башня, ворота, стены и зубцы были из белоснежного камня, подобного которому я никогда прежде не видел – он слепил мои заспанные глаза. – Отсюда можно попасть в подвал, – объявил мой юный подмастерье. Он побежал на разведку и остановился перед белой полукруглой сторожевой башней, тоже непривычной формы – что-то вроде апсиды, с которой начиналось видневшееся за аркой длинное строение, вполне годившееся на роль главного здания. – Хорошо, – сказал я, потому что как раз с подвалов и следует начинать чистку дымоходов. Я слез с телеги и пошел вместе с Симонисом, неся инструменты, к моему сыну. Мы переступили через порог, который действительно, похоже, вел в подвал, и спустились по лестнице. Потолок с цилиндрическим сводом был низким, стены – мощными, а в дальней стене виднелась дверь, которая вела дальше вниз. Большая комната была совершенно пустой, но казалась не заброшенной, а незаконченной, словно ее не достроили. Пока оба моих помощника ощупывали стены на предмет вывода дымохода, я продолжал изучать комнату. Ослепленные дневным светом глаза сначала должны были привыкнуть к темноте, и я нечаянно ткнулся носом во что-то холодное, тяжелое и жирное. Я машинально провел рукой по лицу и посмотрел на кончики своих пальцев; они были красны. Затем я сосредоточил взгляд на том, что висело передо мной. Оно свисало с потолка на веревке, и теперь, после того как я наткнулся на него, слегка покачивалось: труп без ног, головы и рук истекал кровью – она была темной и капала на пол. Тело висело на толстом ржавом крюке, проткнувшем его насквозь и не дававшем ему упасть. Должно быть, с него живьем сняли кожу, со страхом подумал я, поскольку даже там, где не было крови, все было ярко-красным, виднелись нервы и белые сухожилия. Ужас охватил меня от этого проклятого места, и, со звоном уронив на пол свой инструмент, я что есть мочи позвал Симониса, сказал ему, что надо бежать и унести малыша в безопасное место, не дожидаясь меня. Я увидел, что Симонис повиновался молниеносно. Хотя он не знал, что произошло, выполнил приказ немедленно: взял малыша на плечи и со всех ног бросился прочь. Я тоже надеялся убежать, хотя ноги у меня были не такие длинные, но тщетно. Едва я почувствовал на своем лице солнечный свет и увидел, как Симонис изо всех сил стегает мула и исчезает за горизонтом, я услышал его.
Все было в точности так, как я представлял себе сотни раз: жуткий рев, от которого дрожат и люди, и звери, и вообще все. Слишком мало времени было на то, чтобы понять, откуда он пришел – удар плетки, тяжелой и грязной, который свалил меня с ног. Я полетел на пол, к счастью, далеко и, перекатившись, снова услышал рев. Затем я услышал, как он бежит ко мне, князь ужаса, мучитель, разглядел его демонические глаза, грязную гриву, окровавленные клыки и побежал как сумасшедший, спотыкаясь на каждом шагу, задыхаясь от страха, не веря своим собственным глазам. В этом одиноком месте за вратами Вены, в этот морозный ясный весенний день далеко на севере, по ту сторону Альп, меня преследовал лев. Я неуклюже выбрался через дверцу и побежал с быстротой молнии, вниз по винтовой лестнице. Меня встретило маленькое помещение. Когда я услышал, что чудовище на миг остановилось в нерешительности, чтобы затем с ревом приблизиться, я скользнул в поисках выхода в большое здание без крыши. Однако увидев то, что открылось моему взору, я решил, что кошмар продолжается. То было… парусное судно.
Размеры оно имело небольшие, но ошибиться было невозможно. У него была форма хищной птицы со всем, что ей причитается: голова и клюв, крылья и хвостовое оперенье, откуда торчал флаг. Снова уверившись, что я стал жертвой завистливого демона и его смертоносных иллюзий, я прыгнул на оперенный хвост этого странного корабля и в отчаянии стал пытаться повалить флагшток, чтобы он послужил мне в качестве оружия от нападения льва, беспрестанный рев которого заставлял дрожать все мое тело и все вокруг меня. К сожалению, ловкости трубочиста и легкости моего тела не хватило для того, чтобы победить мой почтенный возраст. Чудовище было проворнее: в несколько прыжков оно настигло меня и, оттолкнувшись от пола, сделало последний прыжок на свою жертву.
Но у него не вышло. Он не смог прыгнуть достаточно высоко для того, чтобы достать меня своими когтями. Оперенный парусник стал раскачиваться под его ударами и качался все сильнее и сильнее. Лев снова попытался достать меня прыжком. Да, чем чаще он прыгал, тем меньше, казалось, становился. Я отчаянно цеплялся за деревянные перья, потому что фрегат раскачивался теперь настолько сильно, что у меня кружилась голова, а его причудливый парус – образовывавший на спине птицы что-то вроде купола – изгибался и надувался под порывами ветра. С ревом кружился мир вокруг меня, в то время как мои истерзанные страхом смерти чувства говорили мне, что эта причудливо вырезанная хищная птица начинает подниматься в воздух. В этот момент я услышал, как кто-то с угрозой в голосе произнес на тевтонском наречии: – Мустафа, негодник ты этакий! Дождешься ты у меня, без еды останешься!
Его звали Фрош, и от него воняло вином. Лев мирно улегся у его ног. Он объяснил мне, что хищник любит общество людей, поэтому имеет дурную привычку приветствовать тех несчастных, кто забрел сюда, радостным ревом, стараясь прыгнуть на него и облизать. Место Без Имени, называемое Нойгебау, это не какое-нибудь место, тут же объяснил он. Оно было построено примерно полтора столетия назад его покойным императорским величеством, императором Максимилианом II, и от его былого блеска сегодня остался только императорский зверинец со множеством чужеземных животных, особенно хищников. Говоря так, он поглаживал огромного, к счастью, истощенного, старого льва, который всего несколько мгновений назад казался мне непобедимым чудовищем. – Плохой Мустафа, негодное животное! – снова принялся ругать его Фрош, в то время как лев послушно позволил надеть на себя цепь и украдкой посматривал на меня. – Мне очень жаль, что он так напугал вас, – наконец извинился он передо мной. Фрош был сторожем зверинца в этом Месте Без Имени. Он заботился о льве, а также о других животных. Когда он представлялся, ноги мои еще дрожали, как лист на осеннем ветру. Он предложил мне сделать глоток из своей бутылки, к которой сам постоянно прикладывался. Я отказался: когда я вспоминал об истекающем кровью трупе, у меня желудок начинало выворачивать наизнанку. Фрош разгадал мои мысли и успокоил меня: там был подвешен к потолку всего лишь кусок баранины. Он хотел приманить им льва, который от него убежал. К сожалению, все эти объяснения предоставлялись на единственном языке, которым владел смотритель, а именно на гортанном, искаженном немецком наречии без половины звуков, на котором говорит чернь Вены. Я буду передавать его здесь так, словно это был нормальный разговор, а не вавилонская несуразица. На самом же деле мне приходилось просить его повторять каждое второе предложение, что вызывало у Фроша нетерпеливое сопение и, после того как он как следует приложился к своей бутылке шнапса – того крепкого алкогольного напитка, благодаря которому он поддерживал себе настроение, – множество недовольных отрыжек. – Итальянец. Трубочист, – представился я на своем зачаточном немецком. – Я… чистить камины замок. Фрош воспринял причину моего появления с удовлетворением. Самое время, мол, чтобы какой-нибудь император позаботился о Нойгебау. Сейчас здесь живут только животные, заключил он, указывая на Мустафу, который с большим аппетитом доедал остатки баранины.
Время от времени смотритель бросал на льва сердитый взгляд, после чего Мустафа (его имя должно было служить насмешкой над неверными турками) очень пристыженно сворачивался клубком. Очевидно, мрачный сторож пользовался у зверя непререкаемым авторитетом. Он заверял, что опасность мне уже совершенно не угрожает: все звери Фрошу слепо повиновались. Конечно, бывали редкие исключения, негромко добавил он, ведь лев все-таки убежал из-под его надзора и до недавних пор бродил на свободе. Итак, я нахожусь не в плену кошмара, с облегчением вздохнув, подумал я, собираясь слезть со своего конька. И стал рассматривать его, резонно полагая, что теперь он предстанет передо мной не в таком причудливом виде хищной птицы, как всего несколько мгновений назад, в секунды пережитого ужаса.
Но нет. Передо мной было крайне таинственное судно, которое можно описать как смесь чудовища и машины. То было нечто среднее между кораблем и каретой, хищной птицей и китом. У него была устойчивая форма кареты, очень просторный корпус баржи и безупречный парус судна. На носу красовалась гордая голова грифа с опасным крючковатым клювом, на корме – хвостовое оперение большого коршуна, а по бокам – мощные крылья орла. Оно было длиной в две кареты и шириной с фелуку. Сделано из старого, потрескавшегося, но не гнилого дерева. На борту, посреди свободной палубы, похожей на бочку, рядом со штурманом могли поместиться три или четыре человека. На носу и на корме находились два примитивных глобуса, наполовину источенные зубами времени, один из которых представлял небесный свод, а второй – землю, словно они должны были указывать воздухоплавателю курс. Весь корабль (если его можно так назвать) был накрыт большим парусом, натяжение которого придавало ему форму полусферы. На корме трепетал флаг, который я совсем недавно пытался выдернуть. На нем – герб с крестом. – Это флаг Португальской империи, – пояснил Фрош. Только одно мне действительно причудилось: парусник не поднимался в воздух, он прочно стоял на земле. От удивления я спросил его, что это, ради всего святого, за транспортное средство и откуда оно здесь взялось. Словно опасаясь, что его объяснениям не поверят, Фрош некоторое время покопался в углу двора и сунул мне под нос вместо ответа пачку листов. Они были исписаны старым готическим шрифтом.

Даже на самых сложных языках читать проще, чем разговаривать. Поэтому я уселся на пол, и мне удалось разобрать, что написано в брошюре, которой было около двух лет:
Известие о Летающем корабле, счастливо прибывшем из Португалии в Вену 24 июня вместе со своим изобретателем. Перепечатанное с уже готового экземпляра, посланного на Наумбургскую ярмарку. Год 1709 Р. X.
Вена, 24 июня 1709 года
1709 год. Вчера утром около девяти часов все в этом городе переполошились и взволновались, все улицы были полны народу, a me, кто не был на улице, высовывались из окон, спрашивая, что произошло; однако почти никто ничего не мог объяснить. Люди сновали туда сюда и кричали, что вот-вот начнется Страшный суд, другие говорили, что случилось землетрясение, а третьи – что перед воротами стоит целая армия турок. Наконец все увидели в небе неописуемое множество маленьких и больших птиц, которые, как сначала всем показалось, летели вокруг очень крупной птицы и ссорились с ней. Вся эта стая вдруг начала снижаться, приближаясь к земле, и стало видно, что то, что выглядело похожим на птицу, было машиной в образе корабля с надутым парусом, трепетавшим на ветру, и со держало в себе человека, одетого как монах, который возвестил о своем прибытии с помощью различных выстрелов. После множества кругов, описанных этим воздушным наездником, стало ясно, что он намеревается приземлиться на площади города. Однако внезапно налетел ветер, который не только помешал ему исполнить задуманное, но и отнес к верхушке башни собора Св. Стефана, где ее опутал парус, так что машина повисла на соборе. Это событие вызвало новый шум среди всего народа, который бросился к соборной площади, вследствие чего в толпе было растоптано порядка двадцати человек. Оказавшемуся в воздухе человеку никак не могли помочь все те зеваки, что таращились на него. Он требовал, чтобы его сняли при помощи рук, которые, однако, были чересчур коротки, чтобы оказать такого рода помощь. Когда же через пару часов ситуация в городе ничуть не изменилась и никто не помог чужестранцу, тот стал проявлять нетерпение, взял лежавшие в машине молоток и лом и принялся работать. В результате верхняя часть шпиля, поймавшего его, упала вниз, а он снова смог летать и после недолгого планирования опустил свой воз душный корабль, приземлившись неподалеку от замка императора. Туда немедленно были посланы солдаты городского гарнизона, чтобы защитить этого гостя, не то его разорвала бы на части любопытная чернь. После этого его разместили в трактире «У Черного Орла», где он отдыхал несколько часов, затем же передал имевшиеся при нем письма всем находящимся в городе португальским посланникам и другим важным господам, которые приходилик нему с визитом, и рассказал, как позавчера, 22 июня, в 6 часов утра он отправился из Лиссабона на своем новом изобретении, по пути постоянно будучи вынужден сталкиваться с орлами, аистами, райскими птицами и другими неизвестными на земле пернатыми, и без двух двойных колунов и четырех ружей, которые у него были при себе, он распростился бы с жизнью и не прибыл бы сюда. Пролетая мимо луны, сказал он, он осознал, что его с нее видно, ибо возникло сильное волнение. И поскольку он пролетал мимо и мог все видеть и прекрасно различать, в спешке он не успел рассмотреть многого, а только то, что на ней есть горы и долины, моря, реки и поля, также живые существа и люди, у которых хотя и есть руки, как у здешних людей, однако нет ног, они передвигаются по грунту как улитки. Также, подобно черепахе, каждый человек носит на спине большую крышку, под которую он может прятаться целиком. И поскольку таким существам не нужны иные квартиры, он сделал вывод, что в лунном мире нет ни единого дома или замка. По его подсчетам, можно было бы захватить лунное королевство с помощью 40 или 50 изобретенных им кораблей, на каждом из которых должен быть экипаж из 4–5 вооруженных людей, ибо им не было бы оказано большого сопротивления. Сделает ли их величество, король Португальский, какие-либо выводы, станет ясно в дальнейшем. Что еще я узнал от этого Тесея, будет рассказано в следующей статье. Машину разместили в городском арсенале.Я спросил Фроша, действительно ли этот парусник с перьями, стоящий, всеми забытый здесь, в Месте Без Имени, является тем самым Летающим кораблем, о котором говорится в статье. Вместо ответа Фрош протянул мне еще один лист. На этот раз это была иллюстрация из другого старого издания «Венского дневника».
P. S. Только что узнал, что этот якобы воздухоплаватель арестован как ведьмак и в ближайшие дни будет сожжен вместе со своим Пегасом, вероятно, затем, что это искусство, попади оно в нехорошие руки, могло бы вызвать в мире сильные волнения, и чтобы оно осталось никому неизвестным.

Сомнений не было: речь шла о точном рисунке корабля. Под ним было короткое сообщение, датированное 1 июня 1709 года:
В Вену, к императорскому двору, прибыл курьер из Португалии с письмами, датированными 4 мая и с изображениями летающей машины, которая якобы пролетает 200 миль за 24 часа и посредством этого сделала возможным посылать войскам письма, подкрепление, провиант и деньги даже в самые отдаленные страны, а также передавать продукты и все необходимые товары в осажденные крепости. Также было представлено письмо, которое было отправлено их королевскому величеству, королю Португальскому, хитроумным человеком из Бразилии, изобретателем летательного аппарата. В скором времени, 24 июня, будет сделан пробный полет в Лиссабон.Мое сердце забилось быстрее: получается, этот корабль действительно летал, как мне показалось ранее, в состоянии наивысшего душевного волнения? Не случайно, что корабль прилетел из Португалии, принялся тут же объяснять Фрош: всего за год до этого, в 1708 году, король той страны, Иоанн V, женился на сестре Иосифа по имени Анна-Мария. Корабль несколько месяцев стоял в арсенале, пока волнения, вызванные его прибытием, окончательно не улеглись: тем временем городские власти, как можно прочесть в газете, старались замолчать всю эту историю. Ничего из этого не было сообщено императору: Иосиф был очень юн и предприимчив, он обладал живым умом, и уже один вид рисунка, принесенного ему португальским послом, привел бы его в невероятное возбуждение. Он, без сомнения, захотел бы увидеть и обследовать то дьявольское открытие, что, по мнению всех министров, необходимо было непременно предотвратить. Никто ничего не должен был узнать. Летающий корабль был опасен и мог вызвать волнения. Услышав эти слова, я удивился: разве на протяжении столетий человек не мечтал о том, чтобы кружить в небе, подобно птице? Не зря ведь в газете Фроша Летающий корабль сравнивали с Пегасом, крылатой лошадью из античных легенд, а его штурмана – с героем Тесеем, победившим Минотавра. Невзирая на это повелителя ветров проклинали, даже бросили в темницу. Я же отдал бы душу, чтобы узнать, как ему удалось полететь и каким образом он овладел этим искусством. Я спросил смотрителя, знает ли он что-то об этом. Тот покачал головой. Воздушная каравелла была тайно вывезена из города и доставлена в заброшенный замок, продолжал он свой рассказ. Сюда никто не станет совать нос. И если однажды он понадобится, то его всегда можно будет вернуть. Я еще раз обошел корабль, затем влез в него, взобравшись по крылу, которое, как голова и хвост хищной птицы, было вырезано из дерева и позволяло подняться на борт. Над головами тех, кто находился на борту корабля, высилось несколько шестов, поддерживаемых опорами, двумя на носу и двумя на корме, подобных тем сооружениям, на которых развешивают на улице белье. Только висели на них не простыни, а камни. Это были маленькие блестящие образования желтоватого цвета, и они были прикреплены к шестам с помощью шнуров. Поскольку рукой их было не достать, я попытался на глаз определить, из какого материала они сделаны, когда внезапно понял: – Янтарь, это прекрасный янтарь. Стоит, наверное, целое состояние. Зачем, черт возьми, они нужны там, наверху?… Я снова посмотрел на Фроша, но его взгляд свидетельствовал о полном незнании того, что касалось функции этих камней. Я опять спустился на землю и продолжил исследовать таинственное транспортное средство. Честно говоря, оно находилось не в столь плачевном состоянии, в которое его могли привести дождь, ветер и солнце. Дерево сохранилось очень даже хорошо; казалось, что кто-то время от времени покрывал его защитным масляным слоем, как – я часто это видел – делали римские рыбаки на Тибре. Затем я заметил, что поверхность корпуса не была отшлифована, как у рыбацких лодок. Она состояла из трубок, проходивших от носа к корме по всей длине корабля, словно корабль был сделан из пучка труб. Я постучал костяшками пальцев по одной из трубок. Звук получился пустым, пустыми оказались и другие трубы, которые я проверил таким же образом. Отверстия трубок были профилированы к носу. На корме же, на другом, так сказать, конце трубок, виднелись отверстия, из которых все, что собиралось на корме, казалось, направлялось вверх, прямо в сторону паруса, накрывавшего весь корабль. Я бросил взгляд на ровную мачту, гордый нос и маленькую изящную верхнюю палубу. Кое-где заменили шесты, подлатали пробоины, обновили гвозди. Если присмотреться внимательнее, корабль не был ни поврежден, ни развален. Его просто пришвартовали, словно в Месте Без Имени он обрел укромную гавань и, быть может, прилежного юнгу, который за ним присматривал. – В любом случае это ухоженный маленький кораблик, – заметил я, задумчиво поглаживая киль, выглядевший каким угодно, но не потрепанным. – Да это же настоящий корабль дураков! – грубо рассмеявшись, объявил смотритель. Услышав эти слова, я вздрогнул.
* * *
Я хотел домой. События дня утомили меня. Кроме того, мне предстояло идти пешком: Симонис бежал вместе с телегой, чтобы увезти малыша в безопасное место. Меня ожидала многочасовая прогулка. Завтра я вернусь, чтобы заняться своей работой. Об этом я сообщил Фрошу и попросил его присмотреть до тех пор за инструментом, который я во время бегства оставил в подвале. Прежде чем уйти, я бросил еще один взгляд на здание. Как я уже говорил, у него не было крыши. Но только теперь я осознал, насколько бесконечно велико было сооружение, в ширину, длину и высоту – не меньше, чем дворец. – Что… что это такое? – удивленно спросил я. – П'ща'ка д'игры вм'ч, – ответил Фрош. Площадка для игры в мяч? Смотритель просветил меня (хотя у меня снова возникли сложности с пониманием его диалектных выражений), что во времена императора Максимилиана, который основал Место Без Имени, среди господ из высшего света произвела фурор игра, завезенная из Италии, Игроки, оснащенные чем-то вроде деревянного доспеха, пытались отобрать друг у друга кожаный мяч. Они ударяли по нему похожими на пушечные выстрелы ударами, стараясь таким образом получить преимущество над противником. Фрош со смехом добавил, что повреждать себе легкие для того, чтобы отнять у кого-то мяч, глупо и является занятием, которое уж точно не годится для императорского двора, и, конечно же, эта игра должна быть навеки предана забвению, что и случилось. В те давно прошедшие времена эта забава, похоже, имела немало приверженцев, в противном случае для нее не выстроили бы такой роскошной площадки.Этот Фрош был берсеркером с грушеподобным, широким лицом, серым до носа и ярко-красным начиная от щек, с коричневой с проседью бородой и светлыми глазами. Его живот был толст, а руки грубы, точно лопаты. Он не был особенно приветливым, думалось мне, но и злобным тоже не был; человек, с которым нужно быть настороже, как и с его животными: звери по своей природе капризны, человек становится таким из-за пристрастия к алкоголю. Фрош был способен укротить льва, но не свою жажду. Во время нашего разговора я не спускал глаз с Мустафы, но не мог понять, как этому хищнику, каким бы дряхлым он ни был, позволено гулять вне клетки. Он с наслаждением рвал мясо и работал своими страшными клыками и когтями. Только приглядевшись внимательно, можно было угадать его возраст и недостаток силы, которая, если бы сохранилась, означала бы мой конец в течение нескольких минут. Волоча за собой льва на цепи, смотритель повел меня к выходу с площадки. Прежде чем я приступлю к работе, сказал он, будет разумным показать мне окрестности и других животных. Он предложил мне тут же устроить небольшую экскурсию, чтобы завтра меня не подстерегли другие неприятные неожиданности. Я согласился, хотя и с недобрым предчувствием в груди. – Т'к в'дь н'кто не прих'дит сюда для осм'тра, – с грустным видом поведал он. К сожалению, сюда только изредка приходит императорский комиссар, чтобы осмотреть коллекцию экзотических животных в Месте Без Имени. При дворе, горько заявлял Фрош, все забыли об этом некогда столь роскошном месте, по крайней мере, до прихода возлюбленного Иосифа I. Теперь деньги, на которые обеспечивается корм для Мустафы и его товарищей, а также заработная плата их смотрителя поступают гораздо регулярнее, и это дает ему надежду на будущее Нойгебау. Еще больше надежды почувствовал он, когда три года назад император – это было 18 марта 1708 года, в воскресенье после полудня, Фрош хорошо это помнил, – привез сюда, в Место Без Имени, свою невестку, принцессу Элизабет-Кристину фон Брауншвейг-Вольфенбюттель, с большой свитой из дам и кавалеров. Поскольку его брат Карл находился в Барселоне, предъявляя претензии на испанский трон, Иосиф представлял его в Вене во время заочного венчания Карла с немецкой принцессой. Незадолго до того, как она отправится в Испанию, к своему супругу, Иосиф хотел оказать невестке честь и лично показать ей содержащихся в Нойгебау диких животных, особенно же двух недавно прибывших львов и пантеру. То было знаменательное событие в жизни всеми забытого смотрителя зверей: он своими глазами видел их императорское величество, который ходил по аллеям сада, и своими ушами слышал, как Иосиф с юношеским весельем провозглашал, что скоро возродит это место для новой жизни. Однако прошло много времени: шесть лет назад взошел на трон Иосиф I, а замок по-прежнему находится в жалком состоянии. – Тут уж ничего не поделаешь, – опечаленно произнес Фрош на своем диалекте. Эти времена остались в прошлом, заверил я его: теперь император Иосиф желает снова привести все в порядок; меня ведь самого позвали затем, чтобы я проверил дымоходы и камины. А вскоре начнутся и работы по реставрации. В глазах Фроша вспыхнуло что-то вроде радости; но мгновением позже он уже смотрел на меня все тем же пустым взглядом. – Ну, бу'м надеяться, – печально заключил он. И не добавив больше ничего, он перевернул свою бутылку, из которой упало на землю несколько капель, и с неудовольствием заметил, что она опустела. Он проворчал что-то вроде того, что ему нужно вернуться к господину по имени Слибовиц или что-то в этом духе, чтобы тот наполнил ее. Таков пессимистичный характер венцев: находясь столетиями под одним и тем же правлением императора, они постоянно с недоверием относятся к хорошим известиям, хотя и очень ждут их. Они предпочитают отказаться от надежды и с философским равнодушием приспосабливаются к неудобствам, которые считают неизбежными.
Мы пошли вперед, и в нос мне ударила отвратительная вонь, а также я услышал низкое враждебное рычание. Путь нам преградила широкая решетка, а за ней моему взгляду открылся ров. Фрош велел остановиться. Он со львом пошел вперед, вынул из кармана брюк ключ, открыл в решетке калитку и втолкнул Мустафу. Затем запер дверцу, вернулся и повел меня по правой стороне к огражденной рядом рвов крытой галерее, откуда и доносились уже упоминавшиеся вонь и рычание. Я вздрогнул, только бросив туда взгляд: во рвах, кроме Мустафы, жили другие львы, тигры, рыси и медведи, которых я видел прежде только на гравюрах. Фрош с удовлетворением изучал мое выражение лица, на котором удивление сменялось ужасом и наоборот. Я никогда не предполагал, что увижу сразу столько животных таких размеров. Из одного рва на меня недоверчивым жадным взглядом смотрел тигр. Я невольно отступил на шаг, словно собираясь спрятаться в галерее, защищавшей посетителей от пропасти с челюстями, клыками и когтистыми лапами. – Мн'го мяса, а как же, кажд' день нужно. Не то имп'ратора слопает, ха-ха! – сердечно рассмеялся Фрош и с такой силой хлопнул меня по плечу, что я пошатнулся. Пара медведей тем временем дралась за старую кость. И только Мустафа сидел в своей яме один-одинешенек. Он был болен и терпеть не мог общество себе подобных, предпочитая иногда гулять со смотрителем, пояснил мне Фрош. Мы вернулись назад. Из одного здания неподалеку от винтовой лестницы слышался постоянный громкий писк. Едва я вошел, как писк превратился в оглушительный крик. Там были клетки с птицами, которых я сразу узнал по шуму, поскольку сам ухаживал за подобными существами в Риме, в вольерах виллы Спада, в те счастливые годы, когда я еще находился на службе ватиканского кардинала, государственного секретаря Святого Престола. Виды птиц я знал хорошо, и у меня кольнуло сердце, когда я увидел, как Фрош содержит несчастных пернатых в Месте Без Имени. Вместо просторных вольеров, которыми я заведовал на вилле Спада, здесь были лишь узкие вонючие клетки, подходившие в лучшем случае для куриц или индюков. Дневной свет попадал в помещение только через дверь и несколько окон; будучи запертыми по дюжине в каждой клетке, они могли все умереть от удушья. Я увидел знакомых мне птиц, но были здесь и такие, которых я никогда не видел: роскошные райские птицы, попугаи различных видов, бакланы, похожие на летучих мышей, птицы, подобные бабочкам, с золотыми, джутовыми, шелковыми перьями. Один только передний двор, где жили пернатые певцы,заслуживал внимания и восхищения: то была большая конюшня, как объяснил мне Фрош, которую кто-то захотел украсить, поставив там высокие тосканские колонны. Верхние капители соединялись под потолком поперечными арками, перекрещивавшимися друг с другом, образуя тем самым ряд сводов, где тьма и свет встречались в искусственном споре высочайшей чистоты и искусной красы. Эти крайне чувствительные существа (так же, как и сильные хищные птицы в неволе), должно быть, даже без сомнения, страдали в таких тесных домах. Фрош пояснил мне, что здесь изначально были конюшни Места Без Имени и после того, как вольеры разрушились, никто не позаботился о том, чтобы построить новые. Однако там, в конюшне, пернатые, по крайней мере, были защищены от зимнего холода, а благодаря двери, которую можно было плотно закрыть, и от нашествия куниц.
* * *
Фрош спросил меня, не хочу ли я осмотреть остальной замок, раз уж я здесь, но солнце было уже слишком низко, и я вспомнил, что мне придется идти домой пешком. Кроме того, мне очень хотелось вернуться к Клоридии, которая в этот час – если Симонис рассказал ей, что произошло, – по меньшей мере, должна была упасть в обморок. Я поднялся по винтовой лестнице, быстро попрощался и пообещал вернуться завтра в первой половине дня.Едва оказавшись на улице, я дал волю мыслям, которые с тех пор, как мы покинули Летающий корабль, томились в дальнем уголке моей головы. Действительно ли этот странный ящик летал несколько лет назад? Конечно, в брошюре писали о совершенно фантастических подробностях, как, к примеру, о существовании лунных жителей. Хотя трудно поверить, что выдуманным было абсолютно все. Писатель мог безнаказанно кое-что придумать по поводу событий, происходивших в отдаленных местах (а все газетчики делают это с большой охотой!), но только не прибытие корабля в столицу империи, где газеты читают очень многие. Было и кое-что еще. Фрош назвал эту штуку «кораблем дураков». Эти слова внезапно растворили пробку на сосуде моих воспоминаний. Это было одиннадцать лет назад, в Риме, с аббатом Мелани. Заброшенная, как и Место Без Имени, вилла, имевшая причудливую форму корабля (и называвшаяся тоже «Корабль»), приютила удивительное существо: он появился перед нами, одетый, как монах, во все черное (в точности так, как штурман Летающего корабля), как бы паря над зубцами виллы. Он наигрывал португальскую мелодию, называемую folia, то есть «глупость», и читал стихи из поэмы под названием «Корабль дураков». Позднее мы узнали, что он вовсе не летал. Он был скрипачом и звали его Альбикастро. Однажды он ушел, собираясь наняться на военную службу. Больше я никогда о нем не слышал, хотя поначалу часто вспоминал о том человеке и спрашивал себя, что с ним стало. Теперь же корабль в форме хищной птицы и его штурман, который, похоже, знал тайну полета, всколыхнули мою память. В сообщении «Виннерише Диариум», впрочем, шла речь о бразильском ученом, но кто знает…
17 часов, конец рабочего дня: закрываются мастерские и конторы Ремесленники, секретари, преподаватели языка, священники, подмастерья, лакеи и кучера ужинают (в то время как в Риме только приступают к полднику)
Вопреки своим опасениям, Клоридию я застал не в обмороке. Моя сладкая супруга уведомляла меня лежащей под дверью запиской, что ей пришлось остаться во дворце его светлости принца Евгения по службе. Это может означать только то, подумал я, что работа турецкого посольства исключительно сложна или, что более вероятно, османские солдаты из свиты аги требуют от моей Клоридии более или менее приличных услуг, например доставки вина. Верный Симонис уже ждал меня. На его лице, имевшем всегда одно и то же выражение, я не заметил ни обеспокоенности, ни облегчения от того, что он видит меня живым и здоровым. Я был готов к тому, что он разразится потоком слов, которые в этот день еще не находили выхода, к шквалу вопросов; однако ничего не произошло. Он всего лишь сообщил мне, что только что вернулся из трактира, куда водил моего маленького помощника на обычный ужин из семи блюд. – Спасибо, Симонис. Тебе не интересно узнать, что случилось? – Очень интересно, господин мастер, но я никогда не позволил бы себе быть настолько дерзким, чтобы спросить об этом. Потеряв дар речи от его обезоруживающей логики, я взял малыша за руку и велел Симонису сопровождать меня в гостиницу, где собирался рассказать ему о случившемся. – Давайте поторопимся, господин мастер. Не забывайте, что цена за ужин через несколько минут поднимется на семнадцать крейцеров; после шести, или, как говорите вы, римляне, восемнадцати часов он будет стоить двадцать четыре крейцера, а после семи – добрых двадцать семь крейцеров. А в восемь гостиница закроет двери.Действительно, в Вене все работает точно по часам. Они были отличительным признаком дворянства от бедных людей, ремесленников от мелких служащих. Как только что напомнил мне Симонис, один и тот же (княжеский) ужин днем и вечером в зависимости от часа имел разную цену, чтобы различные слои населения могли спокойно поесть. Таким же образом были урегулированы и другие моменты дня, так что можно было сказать, пожалуй, что солнце в Вене по-разному светило для каждого. Город императора функционировал подобно авансцене балетного театра, где артисты появлялись строго в зависимости от важности распределенных ярусов и новый ряд танцоров выходил на сцену только тогда, когда другой ее уже покинул. Чтобы все слои населения свободно нашли себе место в распорядке дня, власти решили начинать день для низшего сословия не с восходом солнца, как на всем остальном земном шаре, а глубокой ночью. Два месяца назад, в день нашего прибытия в Вену, я испуганно подскочил на постели, когда услышал громкий крик ночного сторожа, от которого задрожали стекла: – Домашняя прислуга, поднимайся, во имя Господа, уже день занимается! На самом же деле день и не думал заниматься: дорожные часы, приобретенные мною перед отъездом на заем аббата Мелани, показывали три часа ночи. И это не было дурным сном. Вскоре главный колокол собора Святого Стефана возвестил о начале дня. Как мне пришлось потом узнать, после того как человек услышал его повелительный звон, покоя больше не было: часовая стража била каждые четверть часа, дергая за проволоку, привязанную вместе с молоточком к колоколу, прямо из окон своих домов. Они отбивали каждую первую, вторую и третью четверть часа; от боя четвертой они были освобождены: из опасения вызвать путаницу во времени, поскольку было почти невозможно осуществить одномоментность боя с боем собора Святого Стефана. Короче говоря, измерение времени в Вене поистине не было делом личным. Поскольку день начинался ночью и солнце не могло помочь в отсчете времени, на улицах и площадях императорской столицы рябило в глазах от часов: они красовались не только на ратуше и всех общественных заведениях, но и на монастырях, резиденциях дворянства и домах зажиточных людей. В помещениях металлические часы вешали на стены. То была сущая мания, вследствие которой здесь не было простых часовщиков, как в Риме, а существовало точное разделение на крупных часовщиков и мелких, в зависимости от того, изготовляли они башенные часы или карманные; затем были еще производители циферблатов, которые, опять же, отличались от производителей корпусов, так же как и изготовители стрелок для часов отличались от тех людей, кто изготавливал часовые пружины. По поводу карманных часов устраивали дискуссии даже вездесущие иезуиты и – после продолжительных споров, дозволены ли они и необходимы ли, – как и положено иезуитам, пришли к соломонову решению: карманные часы позволительны в пути, а в доме для всех должно быть достаточно настенных часов. Итак, согласно этому неумолимому закону, в три часа ночи начинается трудовой день. В это время огородники, садовники и цветоводы уже несут на рынок овощи и растения в корзинах. В половине четвертого открываются водочные и трактиры у городских ворот, где завтракают поденщики, каменщики, дровосеки и кучера. В четыре часа начинают работу ремесленники и слуги. Открываются городские ворота: молочницы, крестьяне и торговцы с фруктами, маслом и яйцами устремляются на рыночные площади. Мы, трубочисты, а также кровельщики можем считать себя счастливчиками: зимой из-за темноты мы начинаем работу не ранее шести часов. Если в Риме я отправлялся в путь до восхода солнца, чтобы вовремя добраться до отдаленных деревень, бродил по темному, страшному городу, населенному тенями, то в Вене уже в четыре часа утра царит такое оживленное столпотворение, что можно подумать, будто сейчас солнечное затмение, от которого чернеет небо, а вовсе не ранний предрассветный час. В пять часов можно уже купить любые продукты; в половине шестого открываются кабаки и пивные. Садовники и крестьяне уже принесли свой товар в город и теперь толпами сидят в кофейнях, наслаждаясь первым перерывом, в то время как кухарки, слуги и кулинары устремлялись на рыночные площади. В этот же час читали первую мессу: теперь колокола будут звонить постоянно, возвещая о богослужениях и других религиозных собраниях, которых здесь больше, чем в Риме. В шесть часов жены и дочери низших чиновников, художников и домашних врачей идут за покупками, это те сословия, кто не может позволить себе иметь слуг. В семь часов звучит Турецкий (который называют так со времен осады 1683 года), или же Молитвенный колокол, призывающий всех, кто находится в доме или на улице, опуститься на колени и провести первую дневную молитву вне церкви. В половине восьмого начинают работу низшие чиновники. Женщины наносят первые визиты знакомым. Четверть часа спустя приходят просители помощи в резиденции дворян, которые всегда завтракают около восьми. Также в восемь часов начинается рабочий день высших чиновников. В этот же час первые дворяне выходят из дома. До этого времени на улицах не видно карет, не считая карет семейств зажиточных бюргеров или домашних служащих, возвращающихся после непродолжительного отдыха в предместьях. Дамы из аристократии любят спать долго и вообще очень ленивы. Умерший не далее как два года назад известный придворный проповедник отец Абрахам а Санта-Клара бушевал с церковной кафедры, обрушивая свой гнев на тех благородных дам, которые осмеливаются в половине десятого валяться в постели. Некоторые дамы, не зашнуровав корсета, прямо из постели бежали в церковь к причастию. Немалое число проповедников поэтому проповедовали с амвона о женских прелестях, которые виднелись во время мессы из-под мантилий и угрожали выпасть из декольте дам. Между девятым и десятым часом, после окончания туалета, дворянки толпами устремлялись из домов: они гуляли по бастионам, где задерживались на пару часов, особенно весной и осенью. Иностранцев нередко сердит, когда они бегают от дома к дому, нанося визиты, чтобы никого не застать. С одиннадцатого часа начинается время приема пищи, и последний обед во дворцах дворянства совпадает с ужином низших сословий. В двенадцать обедают дворцовые слуги, а в час – знать, которые затем, между вторым и третьим часом принимают друзей и знакомых или наносят им же визиты. В три часа рабочие возвращаются с работы, а школьники – из школы. В пять часов заканчивается рабочий день и народ, как я уже говорил, в основном отправляется ужинать. Час спустя ужинают дворцовые служащие, в то время как театры закрывают двери. В половине седьмого закрываются городские ворота, по крайней мере, так бывает до середины апреля, затем закрытие ворот смещается на четверть часа. Кто опаздывает, должен уплатить шесть крейцеров штрафа. Теперь звонит Пивной колокол, и после того, как он пробил, никто не имеет права пить в таверне. Также нельзя выходить на улицу невооруженным или без фонаря. В семь часов простой люд ложится спать, в то время как знать принимается за ужин – вот уж поистине отличие от резиденций римских князей, которые в полночь еще кутят! В восемь часов трактиры закрываются. До девяти или, в худшем случае, до десяти часов рабочие должны вернуться в дом мастера, где они живут. За опоздание с них взимается денежный штраф. До сих пор у меня с Симонисом таких проблем не было: мы оба были гостями монастыря, и насколько я знал, грек никогда не доставлял монахиням неприятностей. Даже самый большой кутила среди знати ложится в постель не позднее полуночи. Между этим часом и тремя часами ночи, таким образом, царит краткая ночь, одна для всех сословий венцев.
Чтобы преодолеть темноту и сделать возможным начало нормальной работы в столь неблагодарный час, городская управа еще двадцать лет назад оснастила улицы фонарями. Подобного я, пожалуй, не видел никогда. Эта мера, как мне сказали, была принята также для того, чтобы сократить число ночных разбойников, поскольку ремесленники и слуги, невзирая на запреты, часто выходили из дома без оружия. Однако, к сожалению, освещение возлагалось на домовладельцев, которые не всегда заботились о том, чтобы фонари, после того как их зажгут, горели каждый вечер долго, оставались чищеными, а потому фонари иногда становились жертвами слепой ярости. Повсюду с иронией говорили о том, что городское освещение в Вене сделано для того, чтобы лучше было видно темноту. С восхождением на престол нашего любимого Иосифа Победоносного все это, к счастью, урегулировалось. И в то время как в Риме на те немногие повозки, которые осмеливались выезжать ночью и прогонять тьму факелами, нападал разбойный люд, в Вене молодые крестьянки, служанки и дети весело бегали по улицам с корзинами, полными продуктов и товаров для дома, и не боялись заходить даже в самые узкие и бедные переулки. Как я уже читал в «Коррьере Ординарно», весьма информативной газете, выходящей на итальянском языке, в прошедшем 1710 году, из 4742 умерших только шестьдесят три погибли насильственной смертью, при этом убиты из них были лишь тринадцать (среди них студенты, весьма задиристые ребята) и пятеро были казнены: из убитых же десять человек было зарублено мечом, двух застрелили из ружья, а одного отравили ядом; из пяти казненных трое умерли, будучи обезглавленными, двое – через повешение и один был колесован. Остальные сорок пять погибших стали жертвами несчастных случаев: двадцать два упали с лестниц, окон, крыш или других возвышений и разбились насмерть; двое были убиты опорными балками, еще двое попали под бочонки с вином и один под карету; четверо оказались погребены под завалом; шестеро утонули, двое были растоптаны лошадьми, один умер от неправильного лекарства, один сам перерезал себе горло, двое упали в горящие печи и одна дама утонула на болоте. Как же сильно все отличается от Рима, где каждая ночь завершается по меньшей мере одной ссорой со смертельным исходом, не говоря уже о кражах, взломах и поджогах! Когда я вспоминал лишь прошедший год, на ум мне приходило множество ужасных случаев: старый медик в доме Фальконьери убил домашнего учителя из-за любовной интриги; на вилле Боргонья какой-то сборщик податей заколол свою бедную служанку; у одного продавца спиртного, торговавшего водкой, силой отняли те немногие гроши, которые у него были, затем его с презрением, а еще потому, что он сильно сопротивлялся, избили палками. Бедного брата Чикко, старого отшельника у ворот Порта Ангелика, ударили по голове киркой. А как можно забыть драку в два часа ночи между сбирами аудитора Апостольской палаты и личными слугами кардинала Аквавива у ворот ди Борго? То, что сбиры подняли фонари, дабы посмотреть на лица слуг, те восприняли слишком плохо, и тут же вспыхнула драка, в ход были пущены кулаки и ножи. Даже старшему полицейскому угрожали, но он спасся, перепрыгнув через заградительные цепи замка Святого Ангела. А тот случай с пьяным молодым виноградарем, который, вооружившись, вломился в людную церковь на пьяцца дель Пополо? Он ранил двух человек и вызвал такую давку и пронзительные женские крики, что монахи принялись звонить в пожарные колокола, вследствие чего туда примчались солдаты из квартала Рипетта. Что уж говорить о том бедном экспедиторе из Льежа по имени Паска, которому во время ссоры в час ночи на пьяцца ди Спанья неподалеку от палаццо Конгрегации распространения веры перерезал горло именно каноник из Лорето? Мало помогали казни на виселице, равно как и более страшные казни молотом или четвертование при всем честном народе на пьяцца дель Пополо. Ни полицейские, каждый раз приводившие в темницы дюжины и дюжины воров, ни предписание его святейшества о том, что папские кирасиры должны ходить по городу небольшими отрядами, ничего не могли сделать. Всем известна была ночная ловушка, которую устроили при поддержке солдат прихода Сан-Сальваторе в Лауро папские гвардейцы против тех бандитов, которые каждую ночь подстерегали добычу на ступеньках часовни Сан-Лоренцо. Эти преступники, между прочим, причиняли зло прохожим, отнимая деньги, а часто и жизни; затем они вместе с другими скрывающимися убийцами шли по городу, но стража не решалась напасть на них, потому что эта шайка ходила всегда вооруженная и большими группами. Все они были приговорены, но в течение месяца образовались другие банды, еще более опасные, чем прежние. Издалека, из спокойной Вены, волнующийся Вечный город напоминал мне зверинец с дикими зверями в Месте Без Имени. А душа и сердце с благодарностью устремлялись к образу Атто Мелани, который вытащил меня оттуда.
18 часов, когда ужинают дворцовые работники
Я закончил свой ужин в трактире. Миски и тарелки, оставшиеся после семи блюд, стояли стопкой в углу стола, хозяин забыл о них. Дневной суп, каждый день разный; тарелка телятины с соусом и редькой; овощи, «приправленные» то свининой, то колбасками, телячьей печенкой или телячьими ножками; паштет; улитки и раки со спаржевым рагу; жаркое, которое сегодня было из ягнятины, в другие дни могло быть из каплуна, курицы, утки, гуся или дичи; и наконец, салат. Такой набор блюд, подобный которому я видел только много лет назад на столе у государственного секретаря кардинала Спады, действительно, как я уже говорил, подавали за весьма скромную цену в восемь крейцеров и весь год был одинаково обильным, кроме поста и других церковных праздников, когда он хотя и оставался обедом из семи блюд, однако мясные блюда заменялись горами рыбы, яичных запеканок и различной сдобы. Все это было, как обычно, съедено сегодня вечером, правда, не мной, я съел совсем чуть-чуть, а Симонисом. Грек же, хотя и поел с малышом незадолго до моего возвращения, но, несмотря на свою худощавость, похоже, постоянно хотел есть. Сегодня вечером он счел своим долгом помешать тарелкам вернуться на кухню под сердобольным взглядом трактирщика, поскольку я, утомленный дневными приключениями, оставил их практически нетронутыми. У подмастерьев-ремесленников были свои столы для завсегдатаев, хотя их гильдия не имела питейных, у нее были постоялые дворы, где они часто собирались на обед, вместо того чтобы обедать с мастером. Так, существовали пивные портных, трубочистов, рыборезов, перчаточников и комедиантов. Обычно объединения людей от искусства и ремесленников имели свои собственные «питейные уголки» в трактирах, где столы для мастера и для помощников стояли раздельно. Мы же с моим помощником разлучаться не любили, и завистливые взгляды, которыми меня всегда встречали мои собратья по цеху, заставили нас с Симонисом стать завсегдатаями трактира неподалеку от монастыря, вместо того чтобы ходить в те трактиры, куда обычно ходят представители нашего цеха.В то время как мой помощник был занят оказанием помощи моим тарелкам, я заканчивал непростой отчет о событиях в Нойгебау, причем я многое опустил из того, что было очень сложно понять. Рассказ о львах развеселил его; гораздо сложнее оказалось ему понять, что такое есть Летающий корабль, по крайней мере, до тех пор, пока я не сунул ему под нос брошюру с точным описанием событий двухлетней давности. После этого он впал в задумчивость и, когда закончил чтение лаконичным «ага», вопросов больше не задавал. Мы вернулись в монастырь; грек отправился спать, а мы с сыном – на вечернюю встречу с напитком для улучшения пищеварения. Когда мы пересекали крестовый ход, я с любовью пояснил малышу, спрашивавшему, где мама, что Клоридии пришлось задержаться во дворце принца Евгения. Однако внезапно мое лицо скривилось, как тогда, когда я пил горькое лекарство. – Мне думается, что это очень хорошее занятие, практика итальянского языка, который пользуется в наше время большой популярностью. Господин делает совершенно верно, что говорит со своим ребенком на этом языке, самом благочестивом, самом нужном в этой стране! Через несколько секунд паники (что совершенно естественно для новичков) мне с трудом удалось расшифровать смысл обращенной ко мне речи. Я слабо улыбнулся старому доброму Оллендорфу: пришел страшный час урока немецкого языка. С тевтонской пунктуальностью наш учитель уже стоял на пороге и ждал нас.
20 часов, кабаки и пивные закрывают двери
Пытка уроком немецкого языка, когда мой сынок по обыкновению блистал, а я только страдал, была позади, и мы покинули монастырь, чтобы отправиться на вечернюю репетицию оратории. У меня еще не было возможности объяснить, что нам пришлось оказать услугу Камилле де Росси. Руководительница хора в Химмельпфортгассе была опытным композитором и в последние годы по поручению императора написала некоторое количество ораторий, которые были поставлены в Вене, по одной каждый год, и снискали щедрые овации. В конце прошлого года, однако, она попросила разрешения у Иосифа I отойти от дел и вступить послушницей в орден. Его императорское величество определил ее в монастырь августинок на Химмельпфортгассе и поручил руководить тамошним хором. Вопреки ожиданиям Камиллы, несколько недель назад из императорского двора ей сообщили («срочным курьерским поручением», как с плохо скрываемым удовольствием рассказывала Камилла), что его императорское величество поручил ей и в этом году как можно скорее написать итальянскую ораторию. На скромные возражения, которые высказывала Камилла, посол императора ответил, что если она ни в коем случае не склонна написать новое произведение, его императорское величество нисколько не почувствует пренебрежения, если снова послушает прошлогоднюю ораторию, «Святого Алексия», от которой получил бесконечное удовольствие. Причина его настойчивости заключалась в крайней спешке. В последние годы отношения между империей и Церковью достигли низшей точки за все прошедшие столетия. Противоречия между императором и папой были теми же, что и в средние века, когда тевтонские императоры вторглись на государственную территорию Церкви, и папы, у которых не было пушек в достаточном количестве, отстреливались отлучениями от Церкви. Подобное же произошло три года назад, в 1708 году, когда войска Иосифа I – который в горячей атмосфере тогдашних военных лет обвинял папу в излишней благосклонности к французам – вошли в Италию, в Церковный город и заняли область Комаччио, предъявив древнее право императоров на эти земли. На этот раз папа решил тоже взяться за пушки, и таким образом дело дошло до печальной войны между Иосифом Победоносным и Его Святейшеством Климентом XI, которая, само собой разумеется, окончилась победой первого. После того как орудия в неравной битве замолчали, конфликт продолжался еще два года, и только теперь, весной 1711 года, благодаря дипломатическим ухищрениям, наметилось его мирное разрешение: император был готов добровольно вернуть земли вокруг Комаччио. В рамках окончательного, полноценного мирного договора, конечно же, должен был быть принят ряд взаимных уступок, как того требует политическая стратегия. Итак, Иосиф I, пять дней назад, в субботу 4 апреля, вечером предпасхальной субботы, в сопровождении апостольского нунция в Вене, кардинала Давиа, и большой свиты высшего дворянства пешком отправился посетить венские церкви и капеллы. В последовавшее за этим воскресенье, на Пасху, нунций вместе с Иосифом I направились к утренней и обеденной священной мессе в церковь досточтимого босоногого отца Августина в резиденции императора, как с тщанием сообщали газеты. На следующий вечер они оба вместе слушали пятерых важнейших проповедников (к числу которых до недавнего времени относился и известный дворцовый проповедник, Абрахам а Санта-Клара), а на выходе их приветствовали троекратным мушкетным залпом. Все это привлекло к себе немалое внимание: никогда прежде его величество не проводил Пасху вместе с нунцием. И теперь, чтобы закрепить возобновление отношений со Святым Престолом и окончание конфликта по поводу Комаччио, было решено поставить сразу после Пасхи ораторию по римскому обычаю – с декорациями, костюмами, сценическим действом, как в мистерии Страстей Господних, – что означало разрыв с традициями императорского двора, где оратории ставили только во время поста и без какого-либо сценического исполнения. Соответственно, Камилле было поручено написать итальянскую ораторию, на исполнении которой в символическом единстве будут присутствовать Иосиф и нунций Давиа, представитель его святейшества. Хотя никто из придворных чиновников не давал четкого указания, Камилла хорошо знала, что ее работа служит скорее политическим, чем музыкальным целям. «Святой Алексий», который произвел такой фурор в 1710 году среди множества дворян и тонко чувствующих натур, должен был быть повторен в достойной уважения придворной капелле его императорского величества лично для нунция. Все глаза были устремлены на нее, и хормейстер рьяно принялась за работу, поспешно задействовав певцов и музыкантов прошлого года и отыскав замену для тех, кого не смогла заангажировать снова. Она уверилась, что капелла будет украшена приличествующим образом, что музыкальные инструменты будут наилучшего качества, более того, она даже переписала поблекшие или истрепанные оркестровые партии. Верите или нет, но в этом важном мероприятии даже у меня, скромного трубочиста, была своя роль. В постановке были задействованы несколько детей, но в городе мало нашлось семей, готовых выпускать детей из дому в столь поздний вечерний час. Поэтому Камилла попросила нас помочь ей. Мы с удовольствием согласились, и ввиду моего маленького роста хормейстер в лице нашего семейства получила не одного актера, а сразу двоих. Поэтому почти каждый вечер мы проводили на репетициях «Святого Алексия» в императорской капелле и, когда это было необходимо, принимали участие в сценическом действии или тихо слушали упражнения музыкантов и певцов. У меня было такое чувство, будто я родился во второй раз – для пения: за всю свою жизнь я никогда не слышал ничего иного, кроме голоса Атто Мелани, когда он пел произведения своего старого мастера, синьора Росси. А теперь по прихоти судьбы я вместо арий Луиджи Росси слушал арии синьорины де Росси; почти та же самая фамилия с настоящего момента связывала меня с пением. Хотя я стеснялся наших скромных познаний в сценическом искусстве, мы с малышом уже могли считать, что нам повезло свести несколько знакомств в пестрой труппе оркестровых музыкантов, которые были приняты не где-нибудь, а при дворе. Каждый вечер они приветливо здоровались с нами и перебрасывались несколькими словами: теорбист Франческо Конти, у которого было немало сольных партий в «Святом Алексии»; супруга Конти, сопранистка Мария Ландини, именуемая «та самая Ландина», которая играла роль невесты Алексия; тенор Карло Коста, воплощавший в оратории роль отца Алексия; и наконец, Карло Агостино Циани, заместитель капельмейстера императорской придворной капеллы, и придворный поэт Сильвио Стампилья. Оба высоко ценили музыку Камиллы де Росси и часто приходили послушать репетиции оратории. Впрочем, с такими высокопоставленными личностями, которые милостиво удостаивали нас своим расположением, поскольку знали, что мы друзья хормейстера, мы сталкивались только мельком, Единственный, кто вел с нами более-менее продолжительные разговоры, был певец, итальянец, как и большая часть музыкантов в Вене. Звали его Гаэтано Орсини, и он исполнял в оратории главную роль. Я дорожил тем дружелюбием, не позволительным вообще-то по его рангу, с каким он относится к нам. Ведь он был лично знаком с императором, тот крайне высоко ценил его искусство и держал среди своих музыкантов. С первого же мгновения мне показалось, что я знаком с ним целую вечность. А потом понял почему: у Орсини было одно поистине важное сходство с Атто Мелани – он был кастратом. Я пришел на репетицию с небольшим опозданием. Приблизившись к дверям императорской капеллы, я услышал, что Камилла уже дала задание оркестру. Встретило меня пение Орсини. В оратории рассказывалось о трогательной истории Алексия, юного римского дворянина, который собирался вступить в брак. Однако в самый день бракосочетания он получил Божественную весть, повелевшую ему отречься от всего земного: после этого он покинул свою нареченную, сел на корабль и уехал в дальние страны, где провел жизнь в бедности и одиночестве. Переодевшись нищим, он вернулся в Рим, его приютили в отцовском доме, и он оставался там, живя в каморке под лестницей, добрых семнадцать лет, не будучи никем узнанным. И только на смертном одре он открылся своим родителям и бывшей нареченной. Репетировали арию с драматичным диалогом между Алексием и его нареченной в день неудавшейся свадьбы. Я как раз затесался среди других актеров, когда услышал полные отчаяния слова, сопровождаемые аккомпанементом теорб и цимбал, поддерживаемых точными звуками скрипки, с которыми Алексий расставался со своей невестой:Вена: столица и резиденция Императора Пятница. 10 апреля 1711 года День второй
3 часа, когда слышится крик ночного сторожа: «Работники, вставайте во имя Господа, ясный день уже занимается!»
Проснувшись на следующее утро, я был преисполнен оптимизма и жаждал вернуться в Место Без Имени, чтобы наконец приступить к выполнению своей работы. Уже слишком давно мне хотелось ее сделать. Когда главный колокол возвестил начало нового дня для всего народа, я вместе со своим маленьким помощником и Симонисом уже сидел на повозке. – На этот раз, господин мастер, я поеду по южной дороге. Мы заедем со стороны парка, подальше от льва! – с улыбкой заявил грек, который вчера вечером как следует повеселился над описанием моего бегства. Пока мы ехали, занялся день. Оставив позади большую церковь, мы наконец увидели вдалеке белоснежное здание, от которого на ярком солнце слепило глаза. Когда мои глаза привыкли к блеску, то сначала я увидел очень длинное кольцо стены, увенчанной зубцами, вперемежку с башенками, покрытыми крышами в форме фиалов. Они могли бы показаться военными сооружениями, охранными башнями или еще чем-либо подобным, если бы не были такими маленькими и изящными, кроме того, на них было необычайно много украшений, выдававших неопределенное восточное влияние. На заднем плане еще с трудом различимые виднелись другие стремящиеся вверх здания. Чем ближе мы подъезжали к кольцу стены, тем яснее я видел, что оно было прямоугольной формы и поистине циклопических размеров. Со стороны, обращенной к дороге на Вену, по которой мы только что приехали, в стене были массивные ворота, над ними возвышалась тройная сторожевая башня. Мы остановились и слезли с телеги. За воротами мы снова оказались под открытым небом. Малыш, который вчера вечером, раскрыв рот, слушал рассказы о льве и Летающем корабле, то и дело спрашивал, где же все эти удивительные вещи, и настаивал на том, чтобы немедленно посмотреть их. Симонис шел за нами с расстроенным выражением лица. Я был удивлен тем, что оказался в огромном парке, полном деревьев и кустов, где было еще одно кольцо стен, тоже увенчанных башнями, однако только на четырех углах. Эти башни были гораздо больше тех, что во внешнем кольце, по крайней мере вдвое выше, они были похожи на колокольни, но не круглые, а шестиугольные. Крышей служил гигантский купол, покоившийся на барабане с окнами. Над ним возвышался шестиугольный фиал, оканчивавшийся большим, тоже шестиугольным металлическим наконечником. Вокруг купола, в согласии с боковыми сторонами башни, высилось еще шесть стройных башенок, таких же, как и та, что наверху. С каждой стороны башни было видно два этажа с окнами, что позволяло предположить, что башни предназначены для жилья. Чужестранные формы фиалов, их острия и купол напомнили мне изящный минарет и крыши Константинополя, о котором я читал в книгах, оставленных мне покойным тестем. Теперь мне вспомнилось, что еще вчера, сразу после прибытия в Место Без Имени, я видел эти башни и что они удивили меня еще тогда; но я никогда не мог предположить, что за зубчатой стеной, окружавшей сад, может скрываться такая красота. Почему же, начал рассуждать я, это место оказалось заброшенным? Наш дорогой император Иосиф I теперь собирался восстановить его в былом великолепии, конечно, но почему, ради всего святого, его предшественники так позорно запустили его? Я уже хотел поделиться своими размышлениями с Симонисом, когда мне вдруг показалось странным, что я давно не слышал голоса своего болтливого помощника.Маленькая, окруженная двумя рядами деревьев аллея вела от ворот во внутренний четырехугольный двор. Едва я вошел туда, как застыл с раскрытым от изумления ртом. Моему взору открылся поразительный средиземноморский сад, охраняемый по углам громадными, похожими на турецкие, башнями. Сад был разделен грядками и лужайками на четыре равных квадранта, каждый из которых, в свою очередь, был разбит на множество более мелких секторов. Там, где квадранты встречались, стоял роскошный фонтан в форме кубка с большим украшенным пьедесталом. Ограда, внешне простая стена, изнутри оказалась великолепной лоджией из ослепительно-белоснежного камня с импозантными, крайне искусно изготовленными колоннами. Однако взгляд мой бежал дальше, к другому концу кольца стены. Там, прямо напротив меня, виднелась арка, открывая неподвижный и величественный княжеский замок.
Мне, оглушенному видом столь диковинных чудес, понадобилось немного времени для того, чтобы точнее осмотреть важные детали. За первой оградой, через которую я вошел, был пышный, хотя и неухоженный парк. Сад за второй оградой, той, что с аркой, хотя формы чудесных грядок и лужаек еще легко угадывались, тоже находился в совершенно заброшенном состоянии. На грядках больше не было цветов, ни травинки не росло на когда-то прекрасных лужайках. Роскошный фонтан не выбрасывал ни единой капли воды; стены и своды лоджии несли на себе жестокие следы времени. Я пошел к замку. Приближаясь, я думал о названии, точнее, не-названии этого места: Нойгебау, «Новое здание», странное название для годами, быть может, десятилетиями не использовавшегося дворцового комплекса. Вчера, когда мы заехали с севера, я даже не предполагал всей роскоши, которую скрывало это место. Мои собратья-трубочисты были правы: что такое, собственно говоря, Место Без Имени? Вилла? Сад? Охотничий замок? Птичий заповедник? Я рассматривал замок, если его можно было так назвать. То было поистине творение фантазии: бесконечные фасады длиной в множество саженей, обращенные к садам в восточном стиле; однако здание было очень невысоким, то есть отнюдь не таким высоким, как мне показалось вначале, а длинным, словно каменная змея.
Я остановился. Прежде всего я решил осмотреть башни и начал с северо-востока. Внутри башни я увидел остатки искуснейших мраморных статуй, чужеземные мозаики и осколки больших ванн, свидетельствовавших о том, что когда-то здесь должны были находиться термы, возможно с целебной водой из трав, или медицинские паровые ванны. Потрясенный этим очередным чудесным открытием, я решил зайти в остальные башни позднее и опять пошел к замку. Удивительно, но в здании не было ничего восточного, кроме двускатной крыши, излучавшей необычное сияние, при виде которого мне вспомнились позолоченные облицовки турецких павильонов. Я заметил, что крыша покрыта черепицей странного цвета, в отличие от привычного темно-коричневого цвета венских крыш. Пока я разглядывал ее, мои зрачки вдруг словно стрела поразила, затем еще одна и еще. Я закрыл глаза рукой, глянул в щель между пальцами и поразился: крыша замка сверкала под лучами солнца, словно золотая. Да, черепица на крыше была не из терракоты, а из дорогой позолоченной меди! Внимательному взгляду, впрочем, было заметно, что от былых одежд осталось мало, они пострадали, возможно, от времени, возможно, от человеческой жадности. Но тех немногих пластинок, что остались, оказалось достаточно для того, чтобы преломить прямые яркие лучи солнца в острые стрелы. С двух концов здание завершалось полукруглыми башенками, очень напоминавшими апсиды наших церквей. Какие неожиданные формы в этом месте со столькими турецкими намеками! От восточной башни, находившейся справа от меня, мы вчера и двинулись в подвал, где я наткнулся на кровоточащую баранью тушу. Перед входом в замок начиналась широкая наружная лестница, которая вела через небольшой ров в сердце здания. Над ним возвышалась каменная балюстрада, смотровая терраса, как я предположил. Эта средняя зона занимала примерно пятую часть всего здания, и в нее входили через огромный, обрамленный окнами портал, украшенный с двух сторон изящными парами колонн с капителями.
Своими классицистскими формами и христианскими реминисценциями замок был, похоже, обращен на север, как нерушимая граница, противостоящая остроконечным минаретам башен, поднимавшихся из сада на юге. Я огляделся: как же возможно, что никто не рассказывал мне об этом великолепном комплексе? Разве он не достоин того, чтобы принадлежать к числу красот Вены? Бесчисленное множество раз, проходя мимо Хофбурга, зимней резиденции их императорского величества, я поражался исключительной скромности и простоте здания. Не лучше были и три летние резиденции: Фаворита, Лаксенбург и Эберсдорф. Не говоря уже об охотничьем павильоне Шенбрунн, который стал походить на виллу только благодаря работам по расширению, заказанным Иосифом I. Как часто я с удивлением замечал, что архитектура маленьких прелестных домов в итальянском стиле, принадлежавших аристократии, которыми можно было восхищаться в городе Иосифа – казино Строцци, дворец Шенборн или вилла «Траутсон», – сильно превосходила императорские резиденции! Возникало ощущение, что императоры выбрали строгость знаком своего величия и передали роскошь дворянству. И тем не менее были времена, когда Габсбурги восхищались красотами Места Без Имени, когда император Максимилиан II создавал эту восточную сказку на тевтонской земле. Краткий сон, настолько краткий, что он не оказался удостоен даже имени; и его не стало. Я с удивлением заметил обращенный на меня задумчивый взгляд Симониса. Не разгадал ли грек моих мыслей? Может быть, он знал ответы на мои вопросы? – Господин мастер, мне нужно пописать и покакать. Срочно. Можно? – Да, но не прямо здесь, передо мной, – разочарованно ответил я. – Само собой разумеется, господин мастер.
7 часов: звонит Турецкий колокол, также именуемый Молитвенным
Когда Симонис удалился, занятый своими естественными потребностями, я услышал неподалеку церковный колокол, отвечавший Турецкому колоколу собора Святого Стефана, чтобы жители самых отдаленных предместий Вены тоже присоединялись к утренней молитве. Какой бы случай ни обрек бы Место Без Имени на забвение до сегодняшнего дня, думал я, осеняя себя крестным знамением, их императорское величество Иосиф I не разделял воззрений своих предшественников и собирался восстановить комплекс в его былом блеске. Это поистине счастье, не только для Нойгебау, но и для меня и моей семьи, с довольной улыбкой сказал себе я, тут же обращая свои мысли в пылкую благодарственную молитву Всевышнему.Когда вернулся грек, нас обнаружил Фрош. Смотритель приветствовал нас бурчанием, которое было лишь чуть более приветливым, чем его обычное мрачное faciès. Мы сообщили ему, что приступаем к работе, и я выразил желание начать с подсобных зданий, потому что если император действительно желает сделать это место пригодным для использования, то именно они понадобятся ему раньше замка. Фрош велел нам следовать за ним, взяв с собой повозку с инструментами трубочиста, за которой немедленно отправился Симонис. Держа руки над глазами козырьком, чтобы защититься от блеска меди, мы замедлили шаг перед этой столь же захватывающей, сколь и ослепительной игрой света, а повозка с инструментами со скрипом двигалась за нами. Из-за башен, кольца стен, окружавших сад, и из-за самого замка, угрожающе сминая утреннюю умиротворенность, послышался глухой львиный рык. Мы повернули направо и пересекли подсобное здание, которое, как нам объяснили, некогда было домиком управляющего, или же, по-латыни maior domus. Этот маленькийдомик тоже находился в совершенно запущенном состоянии: через наполовину сорванные с петель окна виднелись сорняки, выросшие внутри крыша частично обвалилась. Пройдя под аркой, мы оказались во дворе, через который прошли вчера. Слева я увидел дверцу, за ней скрывалась винтовая лестница. На заднем плане виднелись крыши зданий, расположенных в глубине двора. Я снова задумался о необычной структуре этого комплекса, который со своими оградами, аллеями и садами, множеством совершенно отдельных, очень разных зданий почти напоминал маленький город. Это было нечто гораздо большее, чем просто вилла с парком. Фрош проводил нас вниз по винтовой лестнице. Тут я заметил, что она проходит между еще двумя зданиями, расположенными на небольшом возвышении, как, собственно, и сам замок, и моему взору открылись окрестности. Из окон, выходивших с лестницы наружу, я наконец увидел обращенную на север заднюю часть Места Без Имени, милый итальянский садик. Небольшая аллея, проходившая посредине, вела к огромному прямоугольному пруду для разведения рыбы, по которому мирно плавали водоплавающие и болотные птицы. В этом саду не было ничего восточного, по другую сторону пруда даже виднелся тевтонский луг, радость для охотника, а еще дальше – северные леса, молчаливые зеленые соборы, пронизанные криками птиц, богатые дичью, грибами, смолой и пахучими мхами. И у самого горизонта виднелась Вена, величавая и неподвижная, с ее непобежденными стенами.
Пробормотав слова прощания, смотритель оставил нас. Мы начали со здания, которое Фрош отрекомендовал нам как бывшую кухню. Без труда отыскали старые дымоходы. «Сколько великих противоположностей скрывалось за стенами Места Без Имени!» – думал я, закрывая голову полотняным мешком и карабкаясь вверх по первому дымоходу. Кто мог придумать все это? Тот самый император Максимилиан II, о котором я ничего не знал, или талантливый архитектор, находившийся у него на службе? Что означало это объединение столь противоречивых элементов? Или это была просто прихоть вкуса? И почему, в который раз задавался я вопросом, было покинуто это таинственное Место? Завершив первый поверхностный осмотр, я быстро спустился обратно, к своим двум помощникам. – Нам придется как следует поработать; наверху в дымоходе полно трещин, – сообщил я Симонису и малышу. – Если здесь все в таком же состоянии, то прежде всего нам нужно составить карту со всеми дымоходами и рапорт об их состоянии. Так мы сможем рассчитать, сколько человек нам потребуется дополнительно для восстановления. Давайте перекусим, а затем продолжим осмотр! И, произнеся это, я послал малыша к телеге, чтобы он принес котомку с провизией. – Месть. – Прошу прощения, Симонис? – Месть – вот ответ на ваши вопросы, господин мастер. Место Без Имени было построено из мести, и месть же разрушила его. Неистощимая ненависть пронизывает эти строения, господин мастер. По спине у меня пробежал холодок. Я никогда не рассчитывал на то, что Симонис ответит на мои невысказанные вопросы. – Он был последователем Христа, все очень просто, и imitation Christi[913] было его жизненным принципом. Однако судьба пожелала, чтобы он правил в эпоху, когда ложное учение Лютера раздробило христиан и народы, – продолжал Симонис. – О ком ты говоришь? – Христос сражался против христиан, оба были вооружены словом Божьим, – продолжал грек, не обращая на меня внимания, – и жадность обеих сторон была подобна маслу на пламя войны. К вящей радости неверных, алеманские и фламандские страны оказались раздроблены из-за вражды между католиками и протестантами, в то время как святейшее императорское величество – власть которого на протяжении столетий опиралась на собрание князей, а также на инвеституру папства – с большим трудом пытался защитить истинность христианского вероучения. Я открыл котомку, которую принес мне малыш, и достал завтрак. Постепенно я начинал понимать, что имеет в виду Симонис. – Ему не следовало всходить на императорский престол. Император Карл V, брат его отца, Фердинанда I, разделил земли, прежде чем уйти в монастырь: Фердинанду I отдал испанские территории, а своему сыну, Филиппу II, Австрию и корону императора. Но немецкие курфюрсты не хотели такого католического императора, и они громко призвали юного Максимилиана, потому что хотели короновать его. У них были честолюбивые планы, и они полагали, что он – именно тот, кто им нужен. Симонис прочел на моем лице сумятицу вопросов, и пока мы поглощали небольшой, но очень питательный яузе[914] из ржаного хлеба, вареных яиц, квашеной капусты и колбасок, он рассказывал мне об императоре Максимилиане II, который полтора века назад приказал построить Место Без Имени, именуемое Нойгебау. Еще в юности Максимилиан, которому противна была испорченность римской церкви, открыл для себя учение протестантизма. Он приблизил ко двору проповедников-лютеран, советников, медиков и ученых, и все начали опасаться, что рано или поздно он перебежит под их знамена. Разногласия с отцом, Фердинандом I, убежденным католиком, были настолько ожесточенными, что августейший отец стал угрожать лишить его права наследования императорского трона, В конце концов Максимилиан, из-за сильного давления глубоко католической Испании и Священного Престола, был вынужден публично поклясться, что навеки останется верен официальной римской вере. Что, однако, не помешало ему продолжать общаться со сторонниками Лютера. Все это внушило князьям-протестантам и всем тем, кто ненавидел Церковь Петра, надежду: не воплотит ли наконец Максимилиан их мечту об императоре, который не будет слушаться папу? – Война, которую они развязали, позорнее, чем сама ересь, – так думал Максимилиан, любивший мир. Ибо коварнее, чем предательство религии, может быть только предательство близких; страшнее меча рана, которую они наносят. А потому, взойдя на престол, он пошел новым путем: вместо того чтобы храбро сражаться на стороне Церкви против еретиков, он решил служить миру и взаимопониманию. Его предшественники были католиками, в то время как большая часть князей в империи были близки к протестантизму. Он не станет брататься ни с теми, ни с другими, item он будет просто христианином, ни католиком, ни протестантом. В лукавое и бессердечное столетие Макиавелли он решил быть хитрым по-своему: вместо того чтобы давать обещания, он станет молчать; вместо того чтобы действовать, он будет проявлять пассивность. Так Максимилиан Справедливый стал Максимилианом Загадочным: в обоих лагерях никто не мог разобраться в его сердце, никто не мог считать себя его другом. Он хорошо знал, что князья-протестанты назовут его предателем, трусом и подхалимом. Он разочаровал всех тех, кто надеялся, что католицизм наконец-то будет ослаблен. И тем не менее он не сдавался и служил только своему желанию мира. – Он удивил всех своих сторонников, – закончил Симонис. Я тоже был немало удивлен: мой слегка придурковатый помощник мог, когда хотел, проявить ясность ума, причем в избытке. Было довольно забавно слушать такие остроумные речи, произнесенные его чуть заикающимся голосом! Подобно императору, о котором он говорил, с Симонисом никогда не знаешь, на чьей он стороне, принадлежит ли к числу здоровых или же идиотов. А еще я не понимал, к чему он клонит всей этой своей речью. – Симонис, изначально ты говорил о мести, – напомнил я ему. – Все в свое время, господин мастер, – непочтительно ответил он и откусил кусок хлеба. Восхождение на престол Максимилиана, продолжал грек, вызвало много ожиданий во всей Европе. Венецианские послы, давно уже слывшие лучшими тайными шпионами среди своих соотечественников, заверяли, что он статен и хорошо сложен, выглядит как настоящий король, даже императорское величество, поскольку лицо его крайне важное, хотя и смягчается его великой любезностью, но всем своим видом он повергает того, кто его увидит, в величайшее почтение. Кто приближался к нему, утверждал, что у него очень живой ум и справедливый характер. Когда он принимал кого-то впервые, то тут же понимал его натуру; а едва к нему обращались с каким-либо словом, он мгновенно оценивал, к чему клонит собеседник. Его гений соединялся с прекрасной памятью: если кто-то спустя продолжительное количество времени снова бывал представлен ему, даже если это был какой-нибудь подданный, он сразу же узнавал его. Все его чувства и мысли были устремлены к великому, и было очевидно, что его не устраивает империя в нынешнем ее состоянии. Глубоко осведомленный о государственных делах, обсуждал он их с крайней осторожностью. Кроме немецкого языка он знал латынь, итальянский, испанский, богемский, венгерский и даже немного французский. Двор, образовавшийся вокруг него, был блистателен; особенно же его открытый, радушный характер и прозорливость, с которой он следил за общественными событиями, с самого начала снискали ему большое расположение. – Все ожидали от него долгого правления, исполненного успеха, – заметил Симонис. Максимилиан Загадочный любил прекрасное, возвышенные плоды ума и образования. Его доверенный советник Каспар фон Нидбрук, поддерживаемый большой группой ученых, собирал по всей Европе дорогие книги и манускрипты, с помощью которых центуриаторы[915] Магдебурга позднее должны были создать монументальную историю Церкви. Он спас Венский университет от упадка, когда пригласил значимые в образованной Европе имена: ботаника Клусия, к примеру, или же медика Крата из Краффтхайма, немаловажно было и то, поддерживали они папу или еретика Лютера. Хотя он предпочитал мир и согласие, Максимилиану Загадочному пришлось иметь дело с войной. Во второй половине шестнадцатого столетия на востоке всерьез обозначилась турецкая опасность. Защищать границы христианства было для императора тяжким бременем, а еще большим для Вены, столь близкого к Востоку города. Он один, казалось, осознавал невероятную задачу, которая предстояла Западу, ибо друзья и союзники оказались упрямы: Испания колебалась, папа обещал деньги, которые не поступили, а Венеция, памятуя о своих сделках и владениях на Востоке, даже заключила сепаратный мир с турками. В 1566 году христианские и османские войска наконец встретились. Максимилиан был разбит, но он и не сражался. – Его отец, Фердинанд I, заключил с султаном Сулейманом Великолепным перемирие сроком на восемь лет. В качестве ответа на отказ от военных действий Блистательная Порта должна была, однако, платить приношение в тридцать тысяч дукатов ежегодно. После смерти Фердинанда у Максимилиана не оставалось иного выбора, кроме как предложить Сулейману продлить соглашение. Однако в 1565 году в Венгрии снова вспыхнуло опасное пламя войны. Войско Сулеймана начало вооружаться.
Подкрепившись, мы продолжили осмотр кухни. Затем мы поднялись наверх и осмотрели maiordomus. Поскольку эти комнаты были покинуты давным-давно, мы собирались провести предусмотренное в таких случаях практическое обследование: разжечь небольшой огонь в камине, чтобы проверить, выходит ли из дымохода на крыше хоть струйка дыма. – В этот момент Максимилиан выбрал свою судьбу, – с горькой миной на лице продолжал Симонис, пока мы, сопя и потея, выгребали из камина обломки штукатурки, чтобы сделать возможным проведение опыта. – Один из его дипломатов, Давид Унгнад, сообщил ему, что в Константинополе собирается войско в сотню тысяч солдат. После этого император приказал своему придворному казначею, то есть хранителю финансовых резервов, не жалея средств, оснастить равносильную армию. Некоторое время спустя заместитель императорского казначея Георг Илзунг лично предстал перед Максимилианом и представил ему внушительный результат: благодаря тесным связям с влиятельнейшими немецкими банками, такими как Футгерн, и не в последнюю очередь с его, Илзунга, персональным участием, собрано войско в восемьдесят тысяч солдат, состоящее из пятидесяти тысяч пехотинцев и тридцати тысяч конных. Также он заручился поддержкой Медичи из Флоренции, Филиберта Савойского, Альфонео из Феррары, герцога Гизского и немецких курфюрстов. В Германии Илзунг раздобыл немалые суммы денег, чтобы оплатить обмундирование, обозы и оружие. Инсбрук обещал поставить защитные и боевые шлемы собственного изготовления, к тому же савойских лошадей и итальянскую инфантерию. С герцогом фон Вюртемберг он договорился о поставке пороха; из Аугсбурга и Ульма получил ружья и другое оружие. Кроме того, Илзунг заявил, что получит приличные суммы от папы и испанского короля. – Максимилиан лучился от счастья, – рассказывал грек, – более того, он повысил Илзунга в звании до главного имперского казначея, недолго думая, сместив с поста его предшественника. Георг Илзунг, занимавший важные посты еще при Фердинанде I, отце Максимилиана, стал ключевой фигурой финансов империи. Императорское войско покинуло Вену 12 августа 1566 года и двенадцать дней спустя разбило лагерь у городка Рааб на берегу Дуная. Максимилиан был мирным человеком, но не боялся сражения за правое дело и решил лично возглавить войска, так же, как это сделал Сулейман, хотя у султана это был семнадцатый поход, а у Максимилиана – первый. После того как был разбит лагерь, войско императора стало ожидать событий. Максимилиан не хотел двигаться вперед. Он запирается в своей палатке, не хочет ни с кем говорить. Его жажда действий улетучилась, и все задаются вопросом: почему? Солдаты и офицеры рвутся в бой; ожидание может только умерить пыл и дать свободу инфекциям, как часто бывает в крупных полевых лагерях. Вскоре заболели первые солдаты. Сулейман, напротив, времени не теряет и нападает на крепость Сигетвар, на которую замахивался уже давно. Сначала войска императора устремляются на помощь осажденному городу. Затем, непонятно почему, их отзывают. Сигетвар пал 9 сентября, вскоре после этого – крепость Дьюла. Настоящая катастрофа. Все глаза устремлены на императора: очень удобная возможность для того, чтобы восторжествовать над турками и вернуть венгерские области, не была использована, огромные суммы денег на обмундирование войск были потрачены впустую, две важные крепости разрушены. Поскольку турки, очевидно, не хотели продолжать бои, не оставалось ничего иного, кроме как вернуться домой, что вскоре сделали и враги. Кто был виновен в поражении, если не император, который не хотел идти вперед? Раньше его называли Максимилианом Загадочным, теперь, казалось, за тайной скрывалась только неспособность к действиям.
Тем временем мы почти закончили опыт с огнем в maior domus: в большей части дымоходов результат был положительный, ни один не был серьезно закупорен, в дальнейшем нам придется только почистить их. Рассказ продолжался. Вернувшись в Вену, Максимилиан наконец нарушил молчание. Он решил оправдаться публично – неслыханный поступок для императора. И открыл тайну: когда он осмотрел имеющиеся у него войска в христианском полевом лагере, то выяснил, что Илзунг обманул его – восемьдесят тысяч человек, которые были обещаны ему перед походом, оказались на самом деле не более чем двадцатью пятью тысячами, меньше третьей части того, что было нужно. Да и обмундирование было жалким, ни в коей мере не сопоставимым с тем, каковое было заявлено. Не говоря уже о якобы подкреплениях – ни тени тех войск он не увидел. Двадцать пять тысяч против ста тысяч – это была бы бойня, кроме того, сопряженная с опасностью, что османы, уничтожив христианское войско, устремятся на Вену. Они обнаружили бы город беззащитным и заняли бы его в мгновение ока. Но были и еще сюрпризы. Унгнад тоже солгал: некоторые османские солдаты, которых взяли в плен императорские войска по пути домой, сообщили, что османское войско вовсе не сильно и вооружено плохо. Среди турок есть множество невооруженных солдат и, в первую очередь, полно юношей, дрожащих от страха перед христианским врагом. Вот чем объяснялось молчание Максимилиана: Илзунг предал его, Унгнад тоже. Кому же еще он мог доверять?
– Преданный своими собственными людьми, – озадаченно произнес я, совершенно захваченный этой странной историей. Я не обращал внимания на сажу, оседавшую на мне крупными комьями, когда я совал нос внутрь дымоходов, чтобы проверить, сколько мусора придется вывезти. – Но почему? – Подождите, господин мастер, история на этом не заканчивается, – остановил меня Симонис. – Было еще кое-что, что коварно скрыли от Максимилиана. Это было важнейшее событие войны. Еще до падения Сигетвара, 5 сентября Сулейман Великолепный, пятидесяти семи лет от роду, страдающий от тяжкой подагры, неожиданно бросил своих на произвол судьбы посреди похода: он умер. – Умер? И император ничего об этом не узнал? – Совершенно ничего. И не знал добрых два месяца. И это при том, что Давид Унгнад постоянно мотался от императора к туркам и обратно… Известие о смерти султана держалось в строжайшей тайне, и Максимилиан узнал об этом только в конце октября. И, если быть точным, скорее это определило его конец, чем падение Сигетвара. Вовремя узнав о смерти султана, христианское войско получило бы преимущество в разгроме врага и, прежде чем враг успел бы оправиться, могло бы нанести точно нацеленный удар, что, вероятнее всего, привело бы к победе. Но информанты Максимилиана молчали. В известность о смерти Сулеймана его поставил чужестранец: посол республики Венеция. Даже в далекий Инсбрук известие пришло на три дня раньше, чем в лагерь императора, который отделяли от османского всего несколько миль. Сулейман выступил из Константинополя уже будучи смертельно больным; но этого Давид Унгнад тоже не сообщил императору… – При этом проделка, которую задумывали турки, была не чем иным, как глупой мальчишеской выходкой: они положили в постель Сулеймана старика, который подражал его голосу и отдавал приказы, на самом же деле следовал указаниям министров, – саркастично рассмеялся Симонис.
Грек вошел в раж от этой истории двухсотлетней давности; с выражением лица как у идиота, но с живым умом и горящим сердцем, он возмущался предательством императора, произошедшим в давние времена. Тем не менее он еще не объяснил мне, почему все это произошло и, в первую очередь, какое отношение это все имеет к Месту Без Имени. – Я так полагаю, – вставил я, – что людей, предавших его, после публичной речи Максимилиана постиг ужасный конец. – Совсем наоборот, господин мастер, совсем наоборот. Его оправдания просто не были приняты во внимание. Илзунг, Унгнад и их сторонники остались у власти. Все было так, словно император ничего не говорил. Его продолжали обвинять в поражении. Хотя злобные замечания произносили только шепотом, но Максимилиан видел, что они словно отпечатались на лицах его друзей. – Это невероятно, – сказал я. – Сердца простых людей и придворных были слишком наполнены яростью и разочарованием, чтобы разумно взвешивать правду и неправду или хотя бы прислушиваться к фактам. Враги Максимилиана знали об этом и использовали в своих целях. То была ловкая игра подстрекательства. – Но кто запустил ее? И зачем? – Кто? Все те люди, которым он доверял больше всего. Почему? Из мести, это был первый из множества ударов отмщения, которые привели к постройке этих зданий и их немедленному забвению, а самого императора свели в могилу. Максимилиан, продолжал Симонис, стал императором только благодаря тем силам, которые были настроены враждебно по отношению к римской церкви, в первую очередь имперским князьям-еретикам. Он окружил себя лютеранскими мыслителями и учеными, но только из-за духовного интереса, который испытывал к их свободным и свежим идеям, а не для того, чтобы сразить или ослабить представителя Христа. К сожалению, устремления тех людей, которых император почтил своим доверием, были иными: все только и ждали от него указания вторгнуться в Рим или чего-то еще, что провозгласило бы упадок папства. Так и случилось, что драгоценное для Максимилиана imitatio Christi сыграло с его намерениями злую шутку: его предали и покинули, в точности так, как евреи позволили распять Христа, когда поняли, что он не пойдет с мечом на Рим. – То есть война против турок дала еретикам возможность отомстить и устранить его, – заключили, чихнув, в облаке грязной пыли, поднятой падением больших комков сажи. – Задача оказалась для них даже слишком легкой: как и многие князья-еретики, только из ненависти к римской церкви они финансировали и поддерживали Блистательную Порту!. Что-то подобное я уже однажды слышал, много лет назад, когда кое-кто из клиентов небольшой гостиницы, где я тогда работал, просвещал меня по поводу тайного союза «короля-солнце» Людовика XIV с Османской империей. Хотя тот случай был еще хуже: речь ведь шла не о протестантских князьях, а о наихристианнейшем повелителе Франции, урожденном сыне Церкви. Папа, со своей стороны, был, правда, не лучше и поддержал еретиков чисто из личного корыстолюбия. Так что опыт научил меня тому, что, когда речь идет о монархах, нужно быть готовым ко всему.
– После поражения все стало по-другому, – продолжал свой рассказ Симонис, – начиная с самого Максимилиана. Ему казалось, что его окружают шпионы, враги, которые всеми силами пытаются ускорить его конец. Однако Георг Илзунг на протяжении многих лет был его советником, а до этого – советником его отца. Он был очень могуществен: его карьера началась, когда он работал на Фуггеров в Аугсбурге, ту самую купеческую семью, которая помогла взойти на трон Карлу V. Они предоставили ему денежные средства, чтобы подкупить курфюрстов. Фуггеры стояли за каждым шагом, который делал Илзунг. Они давали не только деньги, они платили императору наперед обещанные, но еще не поступившие взносы курфюрстов, с процентной ставкой, стремившейся к нулю… Габсбурги были по горло в долгах у Фуггеров. Так что Максимилиану было отнюдь непросто избавиться от Илзунга. – Георг Илзунг был тем источником, из которого к императору устремлялось золото, – совершенно четко произнес Симонис. – Когда были нужны деньги для турецких войн, именно он доставал их. Когда в Венгрии поднимались восстания и нужны были оружие или деньги, чтобы умилостивить предводителей восставших, меры принимал он. Если нужно было договориться с Фуггерами о займе, а в качестве залога предоставить таможенные пошлины или доход с императорских ртутных месторождений в Идрии, спрашивали его. Если нужно было оплатить долги, Илзунг пользовался услугами других заимодавцев, чтобы распределить задолженность по процентам. Если он никого не находил, то платил из своего кармана и терпеливо ждал, пока император и его казначей найдут возможность возместить ему затраты. – То есть император был у него в руках? – Он мог с ним делать все, что хотел. Тем временем второй влиятельный советник, Давид Унгнад, под предлогом посольств ездил туда-сюда между Константинополем и Веной. – Шпион Блистательной Порты, – угадал я, что было очень легко. – В близком контакте с кредиторами Сулеймана, – добавил мой помощник. Максимилиан, продолжал рассказывать он, чувствовал себя беспомощным перед этими двумя и задавался вопросом, когда они захотят окончательно устранить его, с беспокойством отмечал, как они все больше и больше прибирают к рукам его сына Рудольфа. Он хотел что-нибудь сделать, но уже никому не мог доверять. Он был лишен власти, труп на троне. Он был блестящим собеседником, приятным сотрапезником, искрил идеями и остроумием, у него были тысячи планов. Те же надежды, которые возлагали на него империя и мир, он питал на будущее сам. Теперь он стал замкнутым, нетерпимым, вел себя загадочно. Разговоры оставляли его безразличным, горящий, пронзительный взгляд стал затуманенным, голос потускнел. Послы иных держав сообщали своим повелителям, что император уже не тот, удар Сулеймана отразился на нем навеки. Мертвец, турецкий султан, победил живого и сделал его равным мертвым. Мужественное решение – не преследовать протестантских еретиков, даже выбрать многих из них в качестве советников, сделало этого непостижимого человека предметом ненависти в народе. Уже появлялись те, кто предполагал, что за его истерзанным характером и труднопредсказуемой политикой скрывается не что иное, как поврежденный рассудок. Максимилиан никогда не отличался особым здоровьем; теперь же, похоже, должен был вот-вот сломаться. Еще когда он возвращался из похода в Вену, вернулась его старая хворь – пальпитация, учащенное сердцебиение. Он потерял интерес к большинству вещей, казалось, его волнует только одно-единственное место. – Он мечтал о новом доме, – пояснил Симонис. – И мы стоим посреди его мечты: в Месте Без Имени. Он был слишком щепетилен, чтобы забросить дела управлением страной. Но с этого момента каждая свободная минута посвящалась планированию нового замка. С течением времени он тратил на него все большие и большие суммы денег, и стали поговаривать о том, что это стало идеей фикс, чем-то вроде сладкой муки: использовать этот камень или же тот мрамор? Этот карниз или тот фриз? Что лучше подходит для фасада: венецианское окно или портик? И какие деревья, какие изгороди, какие редкие сорта роз для сада? Нерешительность, которую он проявил в войне против Сулеймана, стала его любимой спутницей. Посол Венеции написал своим соотечественникам, что у императора теперь одна забота, которой он предается постоянно, сущая одержимость: строительство сада и виллы в полумиле от Вены, и когда она будет готова, то станет королевской и императорской резиденцией. Странно, но в расчетах его поддерживали те же самые итальянские архитекторы, которые укрепляли Вену в преддверии предстоящей войны с турками. Для Места Без Имени, однако, итальянские зодчие строили не бастионы, не внешние охранные сооружения и контрэскарпы, а похожие на минареты башенки, восточные полумесяцы и зверинцы в османском стиле. Двор и народ были в ужасе. Что, ради всего святого, заставляет императора оказывать сооружениям Мохаммеда такое почтение? Но то была не прихоть и не несбыточные мечты помутненного рассудка. – В 1529 году, за тридцать лет до поражения Максимилиана, Сулейман осаждал роскошную Вену. То была первая из двух крупных и неудавшихся осад, во время которых неверные пытались занять город императоров. Сулейман выступил из Константинополя с огромным войском, у него было очень много денег от тех, кто из жадности, несправедливости или личной ненависти надеялся, что мощный Петров Престол наконец падет. Состояния всех семейств, собранные на протяжении поколений, текли в сундуки султана, чтобы финансировать поход против гяуров, так они называют христиан. Сулейман не жалел средств: во время осады он хотел жить не в солдатской палатке, а в громадном дорогом лагере-городе, в некотором роде реконструкции его дворца в Константинополе – с фонтанами, колодцами, музыкантами, животными и гаремом. Запять Вену, а с ней и весь христианский мир, казалось тогда делом вполне достижимым, пояснил грек. Разве почти столетие назад сам Константинополь, Второй Рим, Византия – город глубоко верующей императрицы Теодоры, возлюбленной супруги Юстиниана, не оказался в руках турок? – Эта «сладострастная танцовщица» – как называл ее за спиной неверный, лживый писака из Кесарии, – благодаря своей ревностной и осторожной монофилии, обрела вечное блаженство и оставила, несмотря на преждевременную кончину, значительное политическое и религиозное наследие: единственное непобедимое прибежище христианской веры в Азии, против которого неверные ничего не могли сделать многие годы. Но даже Теодоре не удалось спасти свою Византию от Мохаммеда, пророка, который родился спустя почти тридцать лет после ее смерти. И вот базилика Святой Софии, которую велела построить Теодора, была осквернена минаретами Аллаха. Не могла ли такая же судьба постигнуть и Вену, «Рим Священной Римской империи»? А потом, быть может, и сам Рим? С горечью продолжал рассказ мой помощник, пытаясь одновременно неловкими (но не бессильными) движениями поджечь связку влажной древесины, которая никак не хотела загораться. И в его голосе звучало все то страдание, которое причинили грекам османские завоеватели. – Однако ничего не вышло, – закончил Симонис. – Сулейману не удалось сломить сопротивление осажденных, когда Господь послал настолько холодную зиму, какой не бывало никогда прежде, и Сулейману пришлось уйти с пустыми руками, более того, для него существовала даже опасность расстаться с жизнью в буранах и наводнениях, предвещавших, казалось, Судный день. Для его кредиторов это было крахом. Мечта растаяла. Уже не так гордо и самоуверенно звучало теперь предложение «Увидимся у Золотого яблока!» – которое произносил султан в завершение церемонии вступления на престол, как обещание командующему янычарами. – Золотое яблоко? – Так османы с начала времен называют четыре столицы гяуров: Константинополь святой Теодоры, Буду Маттиаса Корвинуса, Вену императора Священной Римской империи и Рим наследника Петра. Золотое яблоко – аллегорическое обозначение четырех запретных плодов османского властолюбия: оно обозначало позолоченные купола Константинополя, сверкающие капители на остриях крыш Буды, увенчанный крестом Христа шар, возвышающийся над Веной на крепкой башне собора Святого Стефана и, наконец, огромный шар из чистого золота на куполе базилики Святого Петра в Риме, сияние которого видят моряки даже с берегов Лация. – Едва взойдя на престол, – с сарказмом заметил грек, – и произнося это предложение, султаны торжественно обещают янычарам как можно скорее повести их на завоевание тех четырех городов, словно смысл ислама заключается только в том, чтобы победить христианский мир. Первое Золотое яблоко, Константинополь, был захвачен сторонниками Мохаммеда; теперь же, в Вене, судьба решила иначе. – И как все повернулось! – с улыбкой сказал я. – На самом деле Блистательной Порте потребовалось полтора столетия, пока они насобирали достаточную сумму, чтобы снова угрожать Вене. И на этот раз все тоже оказалось напрасно. Я знаю историю осады Бены Сулейманом в 1529 году: в прошлый понедельник я наблюдал за ежегодной демонстрацией гильдии булочников, которые прошли по городу е развевающимися знаменами и под музыку, в напоминание об услугах, которые они оказали городу во время той осады. Но какое отношение имеет осада 1529 года к твоему рассказу? Может быть, семьи разоренных кредиторов были теми же самыми, из-за которых Унгнад впоследствии предал императора Максимилиана? – Вы угадали, по крайней мере частично. Потому что есть еще кое-что. Знаете, где находился палаточный городок Сулеймана с колодцами, фонтанами, музыкантами, животными и другими развлечениями, которые он взял с собой? В ожидании ответа я смотрел на Симониса. – Здесь, в Зиммерингер Хайде, как раз там, где теперь стоит Место Без Имени. Услышав эти слова, я невольно вспомнил о восточных формах фиалов и куполов, о фонтане, башне с термами и средиземноморском саде. Все еще крепко сжимая в руке полено для огня, я оставил помощника и подмастерья и вышел на улицу. Оказавшись под открытым небом, я поднял глаза. Рассказ о жизненной трагедии Максимилиана еще звучал у меня в ушах, взгляд мой скользил по высоким крышам Места Без Имени, когда я обнаружил то, что все время было у меня перед глазами, но чего я по-настоящему не замечал: эти крыши подражали великолепному сиянию павильона Сулеймана. Глаза мои опять кольнуло светом от позолоченной меди черепиц, и мне показалось, что я стою, пораженный безжалостно ярким светом Босфора и сверкающей сталью кривой сабли, которая снесла голову графу Зрини; мне даже казалось, что я вижу отражения золотых куполов Сан-Марко, глядящие со своей восточной роскошью на вероломную Венецию, которая бросила Максимилиана в беде во время его сражения с неверными. Так вот оно какое, Место Без Имени, называемое Нойгебау: не охотничий замок, не птичий заповедник, не сад и не вилла, нет, это османский сераль. Во время экскурсии мы натыкались на сокровищницу, кладовую, малый и большой залы, внутренний зал, стены из белого мрамора и колонны из порфира, на комнаты для пажей и придворной гвардии. В каждой из башен были построены помещения, из которых состоял большой палаточный городок Сулеймана, включая и турецкие бани. Можно было восхищаться залом для аудиенций, судебным павильоном и огромным залом дивана. Казалось, Максимилиан этой грандиозной тайной пародией на султанский дворец хотел не только создать произведение искусства, но и с печальной улыбкой отомстить врагам с Востока. В Сигетваре его победил мертвый султан. В Нойгебау он отомстил. Только теперь я полностью познал место, в котором находился: замок со сверкающими крышами, как павильон Сулеймана, был заточен в клетку классицистских аркад и заперт с двух сторон полукруглыми охранными башнями, напоминавшими христианские апсиды, которые охраняли своего пленника подобно жандармам. В главном здании Места Без Имени объединялись оба основных звена Европы: наследие классического мира и христианская вера. Их символы окружали павильон Сулеймана не только как осадное кольцо, они также строго следили за садами и турецкими башенками в южной части. А еще они перекрывали путь на север, дабы неверные никогда не смогли покорить христианский Запад. Лужайки и леса, находившиеся в северной части Места Без Имени, отражения северного мира, не оставляли места для намеков на Восток, напротив, они многозначительно открывали вид на панораму императорского города и его укрепления, которые так и не удалось победить неверным.
– То была месть его врагу, Сулейману, – услышал я слова Симониса, который вместе с малышом встал за моей спиной, – но еще больше она предназначалась тем, кто наполнил его золотом, чтобы он поднял руку на Европу; тем самым людям, которые сделали Максимилиана императором из ненависти к Церкви, а потом избавились от него. То была утонченная месть лишенного власти императора, который сделал единственное, что еще было в его силах: построил вечный памятник в память о своем первом поражении, о ране, которая не затянется никогда. Илзунг всеми средствами пытался отказать Максимилиану в финансировании Нойгебау. Уже в 1564 году он сделал придворным казначеем одного из своих любимчиков, Давида Хага, который еще и состоял в родстве с Унгнадом. Хаг стал непредсказуемым мракобесом, через его руки должен был пройти каждый пфенниг, предназначенный для императора, а значит, и для Нойгебау. На любую попытку финансирования работ он отвечал, что денег недостаточно, или отговаривался другими трудностями. Когда Максимилиану наконец удалось хитростью продолжить строительство, Хаг принялся подстрекать ремесленников, угрожая, что им никогда не заплатят. Тех же, кто не поддался на уговоры, он стравливал друг с другом из-за куска хлеба. Кроме того, он мог поставить материал худшего качества, чем тот, который хотел император, так что уже во время строительства возникли проблемы, поскольку некоторые части зданий обрушались. После его смерти в 1599 году, через двадцать лет после отречения Максимилиана, выяснилось, что Хаг записывал в счетные книги только расходы императора и никогда – поступления, предназначавшиеся для него. – Не особо надежное управление деньгами своего повелителя, – иронично заметил я. – Вероятнее всего, крупные части состояния Максимилиана были отняты у него, – согласился грек. – Тем не менее он всегда находил какие-нибудь средства, позволявшие продолжить строительство, однако работа продвигалась вперед очень медленно, встречая на своем пути тысячи препятствий. И хотя оно осталось незаконченным, Место Без Имени, Нойгебау стало восьмым чудом света, при виде которого у каждого посетителя захватывает дух. Турки, не понимавшие тонких аллегорий, любили и почитали Место Без Имени. Для них это было не что иное, как точная копия палаточного городка славного султана. Кода они снова осадили Вену в 1683 году, то очень старались, чтобы Место осталось нетронутым. Ни один турецкий посол, прибывавший в Вену, не упускал случая хоть раз побывать в Месте Без Имени. Некоторые даже разбивали лагерь на равнине перед замком за день до прибытия, в знак почтения к этому святому месту, стены которого они целовали, обливаясь слезами, словно это какая-нибудь реликвия. Когда они любуются сералем длиной в четыре тысячи шагов и его шестнадцатью углами, охраняемыми башнями, все теряют дар речи, видя столь точную копию палаточного лагеря Сулеймана. Однако европейские союзники Блистательной Порты, к сожалению, относятся к Месту Без Имени совершенно иначе. Куруцы, гнусные венгерские повстанцы, шесть или семь лет назад набросились на эти несчастные стены во время одного из своих разбойничьих набегов. Замок был разорен, обезображен, подожжен. То, что устояло перед столетием запустения, было разрушено за несколько минут. – Спустя столько лет! Не думаешь ли ты, что это была скорее случайность? Неужели ты действительно считаешь, что куруцы разрушили Место Без Имени из-за его символического значения? – спросил я. – Пока существуют враги христианства, будут существовать и враги этого места, господин мастер. Ненависть к Месту Без Имени еще жива. Я с удовольствием расспросил бы его, в какой форме и через кого она сейчас проявляется, но в этот миг появился Фрош, чтобы проверить, насколько далеко мы продвинулись. Мы сообщили ему, что дымоходы maior domus находятся в не настолько ужасном состоянии, как мы опасались, и некоторые можно было бы использовать прямо сейчас. Но чтобы составить список всех дымоходов Нойгебау, нам нужно время, но завтра, сообщил я, мы прийти не сможем, поскольку в городе нужно провести срочные ремонтные работы. После maior domus мы обследовали некоторые подсобные строения. Вооружившись шпателем, длинным канатом с небольшим ершом и тяжелым шариком на конце, фонариком и гирьками, мы работали целый день не покладая рук, прочищая дымоходы Нойгебау, и под конец оказалось, что совершенно вымотались и испачкались. Но я еще чувствовал в ногах достаточно силы, чтобы выполнить свое обязательство. Мне даже почудилось, что то существо, самое странное во всем замке, ждет моего прихода (если неживой предмет вообще может ждать). Я огляделся по сторонам, но Фроша нигде поблизости не было. И мы направились к площадке для игры в мяч. Оно по-прежнему было там, гордое и неподвижное, но его клюв опасно сверкал, словно в надежде на то, что однажды снова сможет почувствовать холодный воздух неба над Веной. Летающий корабль с его устрашающей внешностью большой хищной птицы покоился на своем широком брюхе из деревянных балок и тщетно расправлял крылья. Симонис несколько раз обошел его, а затем залез внутрь вместе с моим малышом, которого снедало любопытство. Теперь, когда рассказ о Месте Без Имени и его строителе был окончен, грек стал таким же, как обычно, и внезапно забросал меня бесчисленным количеством неумных вопросов, которые даже ответа не заслуживали. Может ли корабль подняться в воздух благодаря своей форме птицы? Почему именно хищная птица? А если предположить, что он полетит, он не напугает львов и других диких животных, живущих в Нойгебау? А может ли он еще и плавать? Или для этой цели ему нужно придать форму водоплавающей птицы либо, что еще лучше, рыбы? Я если и отвечал на это, то односложно. Открытие многозначительной символики Места Без Имени и рассказ грека вызвали у меня множество вопросов и привели в весьма тревожное состояние души, измотавшее меня во время работы. В этот день в моем сердце не было места для следующей загадки, которую представлял собой пернатый корабль.
Пока я работал с ершом и гирьками в стенах площадки для игры в мяч, прочищая один из наполовину забитых каминов, я думал о том, что рассказал Симонис о Месте Без Имени. Он говорил, что усадьба была в запустении. Значит, ее забросили еще до истребительного нападения куруцев. Неужели Илзунг и Хаг таки победили Максимилиана? И каким образом? И почему ни один император так и не вступил во владение Местом? Я спросил об этом у грека. – Честно говоря, некоторые императоры, среди которых можно назвать и Леопольда, мир его праху, отца нашего возлюбленного Иосифа I, более или менее планировали заняться восстановлением. Но в конце концов никто ничего не сделал или, скажем, почти ничего. – А почему? – удивился я. – Нехватка денег, – подмигнув, ответил мне помощник, снова очнувшийся и ставший остроумным. – Их казначеи и счетоводы всегда находили тысячи предлогов, чтобы не оплачивать проведение работ в Месте Без Имени, потому что… – …потому что семьи крупных кредиторов, стоявшие за казначеями, по-прежнему остались теми же самыми, – опередил я его. – Угадали, господин мастер. Хотите доказательств? Даже опекун Леопольда I, когда тот был еще ребенком, происходил из семьи Фуггеров. Они все те же. И на протяжении столетий ненавидят Место Без Имени. – Неужели они действительно настолько влиятельнее императоров? – Тут в игру вступает страх, господин мастер. Все покойные императоры между Максимилианом и его императорским величеством Иосифом I всегда обходили Место Без Имени стороной, потому что боялись кончить так же, как Максимилиан. – Почему, что с ним сталось? Однако, похоже, Симонис не услышал меня. Он бросился на улицу, чтобы посмотреть на заходящее солнце. – Поспешим, господин мастер, – с трудом переводя дух, крикнул он, когда вернулся. – Уже поздно, скоро закроют городские ворота!
18.30, опоздавшие должны платить 6 крейцеров Звонит Пивной колокол: закрываются трактиры, и никто более не имеет права выходить на улицу без оружия или без фонаря
Мы до крови стегали бедных мулов и успели вовремя въехать в городские ворота, чтобы не платить шесть крейцеров. Впрочем, сэкономили мы немного, поскольку ужин в таверне стоил для нас из-за опоздания двадцать четыре крейцера с носа, вместо обычных восьми. По дороге домой Симонис и малыш сидели на козлах, а я, как всегда, сидел в телеге, где от стука колес у меня внутри все переворачивалось, и размышлял об удивительном рассказе грека. Теперь, когда я узнал историю Места Без Имени, решение его императорского величества Иосифа Iпредставлялось мне в новом свете. Почему же Иосиф решил разорвать пелену забытья, которую набросили на Нойгебау его предшественники? Ему наверняка была известна печальная история его предка Максимилиана II и те враждебность и мстительность, которые вызвали к жизни пародию на полевой лагерь Сулеймана, а затем разрушили ее. Наверняка он легко мог догадаться, если не слышал своими собственными ушами, что именно эта мрачная аура заставляла его осторожных предшественников держаться подальше от Места Без Имени. Что могло заставить Иосифа переворошить историю распрей вековой давности, пожарище которой, судя по словам Симониса, еще далеко не прогорело? Я думал о нашем любимом императоре: что я вообще о нем знаю? Со времени прибытия в Вену я пытался раздобыть сведения о характере, славе и поступках своего нового господина, а также о том, чего ждет от него народ. Потому что после жизни подданного более или менее престарелого папы для меня было новым опытом служить молодому монарху без сутаны и посоха. Написано об Иосифе I, именуемом Победоносным, было много. Все это хвалебные гимны или истории о его детстве, воспитании, доверенном князю Зальм (он был первым императором, которого воспитали не иезуиты – его отец Леопольд разделял ненависть своих подданных к «Обществу Иисуса»), а также подробные описания его брака с Амалией Вильгельминой фон Брауншвейг-Люнебург и его триумфального становления королем Римским, этим титулом называют в империи кронпринцев. Не говоря уже о записях его походов, больше всего об осаде и завоевании крепости Ландау в Пфальце: Иосиф, которому было всего двадцать четыре года, лично вырвал ее у французов в 1702 и 1704 годах. В 1703-м, однако, Франции удалось отвоевать ее, поскольку император Леопольд, по неизвестным мне причинам, не захотел послать в битву своего сына. Что ж, вот и все, что я смог сразу вспомнить из того, что читал о своем повелителе, а также слышал от своих собратьев по цеху, трубочистов. Они с большой охотой и очень подробно отвечали на мои жадные вопросы, вызывая у меня глубокое почтение к новому суверену. Но я не мог припомнить ни одной мелкой детали, которая была бы связана с Местом Без Имени и его историей. Или мог? Броская красота. молодого императора (поистине удивительно в несчастливом роду Габсбургов), бывшая отражением его порывистого, властного характера (это тоже крайне редко в его роду); а также стремление Иосифа порвать с фамильными традициями и следующие за этим размолвки с отцом, воспитанным иезуитами parvus animus,[916] а также ссоры с братом Карлом, высокомерным нерешительным человеком, тоже воспитанником иезуитов… Я пообещал себе, что позднее почитаю об императоре в книгах и свитках, которые приобрел после прибытия в Вену. Там я найду ответ на свои вопросы.Возвращаясь в монастырь после наскоро проглоченного лукуллова ужина, я уже предвкушал наслаждение от того момента, когда углублюсь в чтение, чтобы утолить свою жажду знаний по поводу Места Без Имени. – Здравы будьте. Сегодня у нас будет урок о прогулке и о еде и питье. Это предложение свалилось мне на голову, словно кирпич. Заговоривший сомной таким образом, когда я ступил в коридор домика для гостей, был не кто иной, как Оллендорф, преподаватель немецкого языка. Я совершенно забыл о нем: нам предстоял страшный час урока языка. Я неохотно попрощался со своими исследованиями об Иосифе I и Месте Без Имени. Мой ничтожный талант к иноязычным идиомам каждый раз с постыдной яркостью проявлялся на фоне усталости, с которой я приступал к занятиям. Сегодня же я опасался, что буду выглядеть перед Оллендорфом еще более жалко, чем в прошлый раз. В попытке описать, как лучше всего оказать почтение даме, то есть поцеловать ей руку, я сказал «раку» вместо «руку», что вызвало бурный приступ веселья у моей жены и сына, а у Оллендорфа – глубокое разочарование. Клоридии еще нужно было вернуться во дворец принца Евгения. Я же так стремился скорее приняться за чтение, что извинился перед учителем и под предлогом сильной усталости попросил позаниматься только с малышом. Запершись в спальне, я налил воды в стоявший на камине котел, чтобы нагреть ее и помыться. При этом я с радостью слушал, какие заметные успехи делает в немецком мой сын. – Господин слуга, мой господин, как дела у господина? – спрашивал учитель, играя со своим маленьким учеником и обращаясь к нему, как к благородному господину. – Хорошо, слава Богу, готов служить господину, какие хорошие газеты принес мне господин? – старательно отвечал малыш. Я только вымылся и вознамерился прочесть стопку различных бумаг – брошюр и других печатных изданий о жизни и деяниях нашего светлейшего императора, – когда услышал, как поворачивается в замке ключ. Моя супруга вернулась.
– Сокровище мое! – встретил я ее и пошел к ней навстречу, втайне вздыхая о том, что придется отложить свои изыскания. Вот уже два дня у нас с супругой не было возможности поговорить, и я горел желанием услышать новости по поводу аудиенции, которую предоставил принц Евгений are. Но тут я заметил мрачное лицо своей жены – безошибочный признак тревоги и подавленности. Она поцеловала меня, сняла плащ и бросилась на постель. – Ну, как у тебя дела? – Ах, да какие тут дела… Эти турецкие солдаты только и могут, что пить. И предаваться распутству. Окрыленные приветливостью, с которой относились к are, даже самые низшие слуги османов решили, что могут требовать такого же отношения к себе, и завалили Клоридию неслыханными требованиями. – Из всех христианских добродетелей, – вздыхала моя жена, – турки чувствуют себя обязанными пользоваться только гостеприимством. Входя в чужой дом, они считают, что имеют право на все, потому что они muzafir, гости. В соответствии с их религией их послал сам Господь, поэтому, что бы они ни делали, их должны встречать хорошо. Однако, продолжала Клоридия, эта добродетель, которой они для виду прикрываются, приводит к быстрому упадку. Под предлогом закона гостеприимства османы, рассерженные плохим вином из Штокерау, опустошили кладовые, истребили запасы кофе и водки, побросали в кучу ковры, матрасы и подушки, разбили даже посуду во время своего кутежа, и все за счет великодушия принца Евгения и императорской казны. – А как от них воняет! – воскликнула моя жена. – В Османской империи перед сном не раздеваются, а здесь они из-за холода носят меха, в которых путешествовали на протяжении нескольких месяцев. Не говоря уже о том, что для турок нет ничего приятнее меха, поэтому они подумали, что в таком виде просто неотразимы. Поскольку в Константинополе люди ничего так не боятся, как холода, добавила Клоридия, и пытаются защититься от него всеми средствами, даже в такие моменты, когда мы, европейцы, страдаем от жары, османы сидят в хорошо протопленных комнатах дворца Савойского, плотно завернувшись в свои вонючие меха, они не успокаиваются, пока не заткнут вощеной бумагой малейшие трещинки на окнах и дверях, так чтобы воздух не проникал в комнату. Таким образом, пока агу торжественно принимал принц Евгений, вокруг царил хаос от появляющихся и уходящих деловых османов, которые вызвали недовольство в среде дворцовых слуг, и обе эти группы, словно молот и наковальня, свели с ума мою бедную Клоридию, единственного человека, кто мог служить посредником между ними. Верхом всего этого безобразия стало то, что некоторые армяне из свиты потребовали зажечь тандур, вокруг которого хотели посидеть, несмотря на опасность пожара или, как минимум, сильных повреждений домашней обстановки светлейшего принца. – Тандур! – Печь, полную горящих угольев. Ее ставят под стол, на котором лежат достающие до пола шерстяные одеяла. Каждый натягивает на себя уголок, прячет под него руки и голову и таким образом нагревает свое тело до температуры, которую мы можем принять за горячку. Тебе не нужно объяснять, что следствием такого обычая могут стать ужаснейшие пожары. И невзирая ни на что, они хотели зажечь такой огонь во дворце, они постоянно повторяли, что они muzafir и так далее. – И это еще не все, – продолжала Клоридия. – Во время визита обер-гофмаршала некоторые турки, чтобы показать, что знакомы с обычаями гяуров, пили из бутылки, постоянно отрыгивали и распутно откидывались на диваны, поскольку думали, что нам это приятно. Когда же обер-гофмаршал плюнул в один из стоявших на полу горшков, османы закатили глаза и принялись отчаянно жестикулировать, пытаясь передать свое возмущение подобным варварским поведением. – Но ведь эта идея, что гостей посылает Господь, делает честь неверным, – вставил я, пытаясь успокоить ее. – Все это только для отвода глаз, дорогой: если ты придешь в трактир к одному из них и, прощаясь, не заплатишь в двадцать раз больше, чем стоила съеденная тобой еда, он дождется, пока ты уйдешь, и тем самым потеряешь титул muzafir, а потом забросает тебя камнями, – закончила она. – Бедная моя женушка, – с сожалением произнес я, обнимая ее. – Я еще не рассказала тебе, что случилось, когда они узнали, что моя мать была турчанкой. Тут же принесли тамбурин, барабан и флейту, начали выбивать какой-то дикий ритм и требовать, чтобы я станцевала им танец деревянных ложек. При этом они покачивали бедрами и животами – не знаю, что в этом красивого. Однако же сразу видно, где разврат. – Надеюсь, они, по крайней мере, относились к тебе с уважением. – Не беспокойся, несмотря на все вино, которое я им принесла, они не забыли, чем грозил султан тому, кто посмеет обидеть женщину. И потом, этот Кицебер, их дервиш, напомнил им об этом, – улыбнулась Клоридия, увидев тревожный блеск в моих глазах. – Я видел его в процессии. Но что он делает в свите аги? – Он имам, то есть священник. Мне вот только непонятно, почему он не турок. – Я читал, что он индиец. – Так говорят. В любом случае, он не такой, как остальные, ведет себя очень достойно. Я спросил ее, как выглядит дворец изнутри, и присутствовала ли она на официальных переговорах или, может быть, хоть раз встречалась с принцем Евгением. На это она рассказала мне, что, после того как ага вошел во дворец его сиятельства принца Евгения, дворецкий провел его к большой лестнице, а затем на верхний этаж. Окруженного плотной толпой дворян, высокопоставленных людей и придворных императора, османского посла встретили два офицера из Военного министерства, которые сопроводили его через известный, разукрашенный фресками зал славы, а затем через приемную – в зал для аудиенций. Должно быть, на агу произвело впечатление такое большое скопление народу, заметила Клоридия, а также количество красных бархатных штор с золотыми надписями, покрывавших стены и кресла. Праздничность зала славы, роскошь церковной парчи и дрожь зрителей от предвкушения предстоящего были доведены до апогея у приоткрытой двери зала для аудиенций, за которой наконец показалось строгое лицо его императорского величества господина придворного главы военного совета, их высококняжеской светлости принца Евгения Савойского. Вся его одежда была вышита золотом, шляпа украшена кокардой из бесценных бриллиантов, на груди был орден Золотого руна, в руке – меч. Он ожидал агу в кресле под балдахином из красного бархата, по бокам от него стояли граф фон Герберштейн, вице-президент придворного военного совета, тайный референдарий и множество генералов. Большая толпа дворян, фаворитов и уважаемых людей устремилась в зал, и теперь все вытягивали шеи, чтобы увидеть подробности аудиенции. – На самом деле Евгений отнюдь не красивый мужчина, – улыбнулась Клоридия. – В лице нет привлекательных черт, тело слишком худощаво. Но выражение лица внушает глубокое уважение. Едва представ перед принцем Евгением, ага приветствовал его на турецкий манер, трижды коснувшись своего тюрбана, затем опустился в кресло, поспешно придвинутое одним из господ. Сначала осман вручил свои верительные грамоты, принц взял их и тут же передал тайному референдарию. После этого состоялся разговор, не требовавший ни от кого уступок: ага говорил по-турецки, Евгений – по-итальянски, ведь итальянский представляет собой не только официальный язык двора, но и является для него, герцога Савойского, родным. Императорский переводчик переводил, переводчик Блистательной Порты отвечал перед агой за правильность перевода. Только вначале, рассказывала Клоридия, ага произнес одно предложение на латыни в честь Священной Римской империи: «Soli soli soli ad pomum venimus aureum!», или «Мы прибыли в Золотое яблоко совершенно одни», – торжественно произнес он, читая по бумаге. Это предложение следовало понимать не буквально – на самом деле свита аги составляла около двадцати человек, – а в качестве свидетельства мирных намерений. То есть как то, что турок прибыл без всяких задних мыслей. Лист бумаги, с которого читал, ага затем лично вручил светлейшему принцу. Во время переговоров можно было видеть, как Евгений играет странным металлическим предметом величиной с два больших пальца, который постоянно перекладывает из руки в руку. После церемонного прощания ага поднялся, повернулся и пошел к двери. Только в этот миг Евгений встал, поскольку все время сидел, и слегка приподнял шляпу на прощание, при этом он старался, оборачиваясь к своим генералам, повернуться к are спиной, чтобы подчеркнуть свое превосходство. На обратном пути турка сопровождали те же офицеры городской гвардии, что и на пути в зал для аудиенций. Он сел в карету и в окружении толпы направился к месту своего размещения в пригороде. Все это происходило только для того, чтобы удовлетворить любопытство подданных, потому что на самом деле ага вместе со свитой в тот же вечер вернулся во дворец его светлости принца Евгения, где собирается оставаться три дня, наслаждаясь великодушнейшим и благороднейшим обращением, на которое только может рассчитывать гость. – Короче говоря, пользоваться гостеприимством Савойского турки будут три дня. – Так хочет принц, чтобы оказать им почтение. – А в понедельник они вернутся в свое обиталище в гостинице «У Золотого Тельца», – заключил я. – Ты не слышал новости? Посольство расположилось не в «Золотом Тельце», как и все турецкие делегации на протяжении вот уже ста лет. – Вот как? – удивился я. – Они поселились хотя и на Леопольдинзель, в иудейском квартале, но у вдовы Лейксенринг, во дворце из одиннадцати комнат, с большой кухней и амбаром. – В частном доме? Почему же? – Это тайна. Я знаю только то, что плата за постой, как обычно, взимается из императорской казны. Ребята из «Золотого Тельца» обижены, тем более что свободные места были. И все любопытные, которые ожидали процессию перед «Золотым Тельцом», пришли напрасно. Однако самое странное то, что охраняется дворец вдовы Лейксенринг как маленькая крепость: мне рассказывали, что даже вблизи ничего нельзя увидеть через окна. – Значит, правда, что за этим посольством таится что-то серьезное. Они наконец назвали причину своего прибытия? – спросил я, опасаясь, что в этой Вене, куда я бежал от римских злыдней, стану жертвой новой осады турок. Пока я уже мысленно представлял себя заколотым, мою жену – похищенной (счастливая, она хоть понимает речь неверных!), а своего сына – в казармах Константинополя, где из него делают янычара, или, что хуже, в султанском гареме евнухом, Клоридия подошла к двери в соседнюю комнату. Тайком прислушивалась она к диалогу, который происходил между нашим малышом и Оллендорфом. – Сохрани вас Господь за вашу доброту, – вежливо декламировал ученик. Клоридия улыбнулась, тронутая звучанием его голоска. – Люди говорят, что это посольство совсем не такое, как предыдущие, – подтвердила она и вернулась ко мне, но уже без улыбки. – Знаешь, сколько человек было раньше, когда турки прибывали в Вену с официальным визитом? До четырех сотен. Последний раз они были здесь одиннадцать лет назад, в 1700 году, и привели с собой четыреста пятьдесят лошадей, сто восемьдесят верблюдов и сто двадцать мулов. Добавь к тому столь поспешное прибытие, почти без предупреждения, посреди зимы… – Однако известно ли, по какой причине они пришли? – спросил я, на этот раз очень обеспокоенно. – Конечно, известно. Официально они прибыли для того, чтобы подтвердить мирный договор, подписанный в Карловиче. Это то, о чем говорил ага с принцем Евгением в присутствии остальных. – Договор, который был подписан с императором двенадцать лет назад, когда окончилась последняя война против турок? – Именно. – Неужели было необходимо отправлять из Константинополя посольство, чтобы подтвердить уже подписанный договор? Не выдвигали ли они каких-нибудь требований или не высказывали враждебных намерений по отношению к империи? – Напротив. У османов в данный момент совсем иные заботы: они вовлечены в конфликт с царем. – Все это выеденного яйца не стоит. Думаешь, они прибыли совсем по другой причине? Клоридия посмотрела на меня и ответила беспомощным взглядом. – Я всех спрашивала, поверь мне, даже этих пьяниц из свиты аги, – сказала она. – Но знаешь, что они ответили? Soli soli soli ad ротит venimus aureum! A потом рассмеялись и продолжили выпивать. Они подражают своему господину, даже не понимая, что говорят. – А дворцовые слуги? Может быть, они что-то прознали из личных разговоров между Евгением и агой? – Ах, только не думай, пожалуйста, что был какой-нибудь личный разговор! – Как это? – Ты не ослышался. Евгений и ага не встречались наедине ни разу, они беседовали только в присутствии слушателей. – То есть они действительно не говорили ни о чем другом, кроме как о старом Карловицком договоре? – Совершенно необъяснимо, ты тоже так считаешь? – задумчиво сказала она. – Ты только подумай, – негромким голосом добавила моя жена, – даже в дневнике принца о посольстве нет ничего, кроме того листка, который дал ему ara. A на нем лишь это предложение: Soli soli soli adpomum venimus aureum. – Все это очень запутанно, – заметил я. – Может быть, за этим предложением кроется что-то такое, чего мы не знаем, – размышляла моя супруга. – Мне объяснили, что pomum aureum – это Золотое яблоко, имя, которое турки дали Вене. – Да, я знаю, Симонис как раз сегодня мне об этом рассказывал, – подтвердил я и в общих чертах рассказал ей то, что слышал о Месте Без Имени, Максимилиане II и Сулеймане. – Невероятно. Но откуда могло пойти название «Золотое яблоко»? – К сожалению, понятия не имею. – Может быть, именно в этом названии и находится ключ к пониманию всего предложения? – предположила Клоридия. Действительно, все это было очень загадочно. Вероятно, все опасались, что османы придут в Вену вооруженными или, по меньшей мере, замышляют что-то ужасное. Они же, напротив, уверяли императора в честности своих намерений, официально заявив, что пришли одни. Впрочем, это не объясняло того факта, что они прибыли столь поспешно. Более всего другого, однако, их якобы мирным намерениям противоречило то, что они именовали город императора не вызывающим доверия названием «Золотое яблоко», то есть тем самым апеллятивом, который подчеркивал, что Вена по-прежнему стоит в планах завоевания Блистательной Порты. Не случайно оказывает им принц Евгений столь необычайную честь, приглашая погостить в своем дворце на протяжении трех дней… – А откуда тебе вообще известно, что написано в личном дневнике твоего господина? – спросил я с широко раскрытыми от удивления глазами, внезапно вспомнив слова Клоридии. – Ну, это же просто: мне сказала жена его личного камергера. Это та, которой я пообещала помочь разрешиться от бремени бесплатно. Хотя моя супруга и не имела права работать акушеркой в Вене, это занятие (как, впрочем, и почти все в этом городе) требовало официального разрешения, тем не менее она никогда не прекращала помогать беременным и роженицам. Эту помощь принимали с охотой, поскольку лучшие повитухи в городе, конечно же, равные Клоридии, стоили целое состояние. – А теперь поторапливайся, – сказала она, – потому что нас ждет Камилла.
20 часов: трактиры закрываются
– До брака в моей жизни не было ничего интересного, – начала хормейстер. Мы находились в великой императорской придворной капелле на репетиции «Святого Алексия», в которой как раз наметился перерыв. Поскольку из числа статистов были только мы с нашим сынишкой, присутствие Клоридии в принципе не было необходимо, однако Камилла де Росси сумела настолько хорошо развеять изначальное недоверие моей жены, что теперь Клоридия с удовольствием ходила на репетиции вместе с нами и даже часто беседовала с хормейстером во время перерывов. В то время это была единственная возможность для обеих женщин поболтать, и хормейстер, похоже, очень дорожила ею. Мы с Клоридией были так заняты нашей дневной работой, что не могли пользоваться кухней монастыря, кроме тех случаев, когда были больны. Кроме того, правила ордена монахинь запрещали садиться за один стол с чужими. На Камиллу, которая была всего лишь послушницей, этот запрет не распространялся, и она была очень разочарована тем, что мы перестали делить с ней трапезы из двузернянки. Она утешалась тем, что совала малышу вкусные сладости из двузернянки, которые обладали и целебными свойствами, помогавшими ему поправить здоровье. Все это настроило мою супругу значительно дружелюбнее по отношению к приветливой хозяйке. Камилла обладала даром вплетать в разговор темы, особенно приятные Клоридии, inprimis, то есть в первую очередь, конечно же, состояние беременных и уход за роженицами и их малышами, а также искусство толкования снов и чисел или же горящего волшебного жезла, также именуемого предвидящей палочкой, – темы, в которых Клоридия была очень сведущей, ведь она занималась этим в юности. Одаренная почти пророческим даром, хормейстер, похоже, знала предпочтения Клоридии и осторожно, но уверенно направляла беседу именно на эти предметы. Такая милая предупредительность смогла развязать язык моей сладчайшей супруге, и Клоридия, когда бы Камилла ни спросила ее о прошлом, не впадала в неистовство, как обычно, а послушно старалась удовлетворить ее любопытство.В этот вечер разговор двух женщин оживился настолько, что Клоридия впервые задала несколько вопросов хормейстеру: что, ради всего святого, заставило римлянку, кроме того, жившую в квартале Трастевере, отправиться в Вену? Не тоскует ли она по своему кварталу? В каком именно доме она родилась и выросла? Клоридия, которая, будучи повитухой, знала половину Рима, внезапно вспомнила некую Камиллу де Росси, зажиточную торговку с Трастевере, дочь некоего Доменико де Пезаро и мать некоей Лукреции Елизаветты, которой моя дражайшая супруга помогала произвести на свет сыночка Чинтио. Клоридии доставило невероятную радость узнать, что она знакома с родственниками своей собеседницы. Ведь всем известно, как тесен мир… – До замужества в моей жизни не было ничего интересного, – ответила ей скромно Камилла, выказывая мало желания ворошить свое прошлое, в котором, вероятно, были некоторые темные моменты для женщины, пользовавшейся сейчас доверием их императорского величества. – До замужества? – удивленно переспросила Клоридия. – Да, прежде чем вступить в орден, я была замужем. Но теперь извини меня, нужно продолжать репетицию, – сказала она и заторопилась к оркестру. Так мы узнали, что Камилла, несмотря на свои двадцать девять лет, была вдовой.
Зазвучала музыка. Сладкие звуки ударов смычка по струнам скрипок мягко поднимались к куполу императорской капеллы, уносимые теплым дыханием органа, серебряным звучанием лютни и темными тонами контрабаса. Из уст сопранистки, только что покинутой Алексием нареченной, слышались печальные жалобы:
– Когда вы видели Мелани? – спросили мы с Клоридией в один голос, желая услышать хоть что-нибудь о своем благодетеле. – Это было одиннадцать лет назад, в 1700 году. Почтенный аббат принял нас как отец, даже сердечнее, он относился к нам во время нашего пребывания в Париже с неповторимой добротой и щедростью. Его благородство и любезность очень тронули меня. Когда мы рассказали ему свою историю, он проявил такую чуткость, что полностью покорил меня. Я не знаю никого, кто был бы подобен аббату Мелани в его душевном благородстве! Камилла воспевала хвалу Атто. Тем лучше для нее, сказал я себе, что она познакомилась с аббатом только с самой его лучшей стороны… – Мелани рассказал нам, что только что вернулся из Рима, где участвовал в свадьбе племянника кардинала Спады, государственного секретаря. Он хотел остаться на конклав, однако рана на руке заставила его вернуться в Париж. Мы с Клоридией на ходу переглянулись, не сказав при этом ни слова. Мы слишком хорошо знали эту историю, поскольку участвовали в ней вместе с Атто, точнее сказать, страдали. Он был ранен в руку ножом, это верно, но совершенно иная причина заставила его бежать из Рима! Однако мы промолчали. Мы вовсе не собирались открывать Камилле не столь прекрасное лицо того, кто не однажды обманул и использовал нас, а теперь стал нашим благодетелем.
– Итак, аббат рассказал нам о своем учителе Луиджи Росси, предке Франца. Мелани с волнующей точностью описал им с Францем образ синьора Луиджи. Несколько раз на глаза Атто грозили навернуться слезы, и только внимание Камиллы, молодой прелестной дамы, удерживало его от этого. Он рассказал о славе, которую заслужил Луиджи Росси много лет назад, в Риме, на службе у Барбарини, затем о его успехах при дворе короля Франции. Он поведал о том, как известная кантата Росси по поводу смерти короля Густава Адольфа Шведского вызвала восхищение во всей Европе и как его «Орфей», где арии впервые были длиннее речитативов, навсегда изменил лицо оперы. Луиджи Росси был приветливым, вежливым человеком, с острым умом, с его пера стекала вечно свежая поэзия, вдохновляя музыку; а в Риме и Париже ему аплодировали так, как ни одному итальянскому музыканту прежде. Атто, продолжала хормейстер, вновь пережил вместе с ними не только успехи Росси и моменты радости, но и горе, случившееся полстолетия назад. Он рассказал о том, как известие о болезни юной Констанцы, прекрасной супруги его синьора Луиджи и арфистки Барбарини, пришло как раз тогда, когда оба мужчины находились во Франции и состояли на службе у кардинала Мазарини. Не помогло и поспешное путешествие обратно в Рим, когда Росси написал эти исключительно благородные строки: «Speranza, al tuopallore / so che non speripiù, / eppur non lasci tu/ di lusingarmi il core»1.
Еще в пути настигло его известие о смерти жены, и случилось это, когда он написал элегическую пассакалью «Poi che manco la speranza».[918] – Несчастье, которое свело в могилу его самого, – печально заключила хормейстер. Еще она добавила, что Атто даже показал ей написанные собственной рукой табулатуры арий своего маэстро. – Затем Франц сказал аббату, что мы планировали остаться в Риме или Париже, именно в одном из тех городов, где жил Луиджи Росси. Но Мелани стал нас категорически отговаривать. Напротив, он посоветовал нам вернуться в Вену, сказав, что там теперь столица итальянской музыки, потому что в Риме и Париже музыкальное искусство умирает. В Риме папа Иннокентий XI убил его уже много лет назад, когда закрыл театры и запретил карнавалы, кроме того, папство приходит в упадок. А в Париже теперь, когда «король-солнце» проводит время с мадам де Ментенон, этой старой ханжой из черни, все, даже музыка, стало серым и лицемерным. Аббат Мелани, подумал я, услышав слова хормейстера, знал, давая эти советы, очень хорошо знал, какие события развернутся через несколько месяцев. Король Испании, Карл II, лежал на смертном одре, и после его смерти было оглашено его завещание (содержание которого – о Боже! – Атто уже знал). Он прекрасно понимал, что из-за этого завещания тут же разгорится борьба за испанский трон, ужасная война, которая охватит всю Европу, особенно Италию, главный театр военных действий, и Францию, которую утопит в крови ее собственный король. Совет аббата, таким образом, был очень предусмотрительным: Вена, возвышенный, обласканный богиней изобилия город императора, была самым надежным убежищем. И, насколько я знал старого шпиона «короля-солнце», тут не обошлось и без размышлений по поводу того, что во время войны может оказаться полезным иметь во вражеской столице верных друзей в лице Камиллы и Франца… – Однако как раз в это время Франц заболел, – говорила Камилла. – Он страдал от продолжительных приступов легочной болезни. Возвращение назад в Вену могло стать для него губительным. Поэтому мы вернулись в Италию, где кочевали от одного двора к другому. Мой бедный супруг боялся не только за себя, но и за мою судьбу. Поэтому, когда в 1702 году разразилась война за наследство, он решил наконец последовать совету аббата Мелани, и мы прибыли сюда, в Вену, где мне было бы легче жить, даже если бы несчастье обрекло меня на одиночество. Франц де Росси, продолжала она свой рассказ, сразу же поступил на службу к Иосифу I, где познакомил супругу с придворными музыкантами, и она вскоре завоевала доверие будущего императора. – Императора? – удивленно спросил я. – Общеизвестно, что их императорское величество является человеком с тонким музыкальным вкусом и высоко ценит всех тех, кто служит ему усердно и с любовью и может удовлетворить его страсть к искусству звуков, – ответила Камилла. – Timoré et amore. – Прошу прощения? – Это его девиз. Он объясняет, с помощью какого оружия он хочет править: страха и любви. Timoré et amore, – повторила хормейстер, давая тем самым понять, что больше ничего говорить не намерена. Затем она снова вернулась к истории своего брака. Франц де Росси, потомок синьора Луиджи, почил туманным утром 7 ноября 1703 года в доме на Волльцайле, прямо за собором Святого Стефана. Ему было всего сорок лет. – Я осталась одна па целом свете. Отца своего я, к сожалению, не знала, а моя верная матушка, – добавила она изменившимся голосом, – которую я так хотела обнять по возвращении и по которой горячо скучала, умерла, пока я путешествовала. – Моя мать тоже умерла на чужбине, – сказала Клоридия. Мы с Камиллой одновременно вздрогнули: Клоридия по собственному почину заговорила о своей матери. – По крайней мере, я думаю, что она уже умерла. Кто знает, когда и где она умерла, – мрачным голосом закончила она. Хормейстер взяла Клоридию за руку. – У меня был медальон на цепочке, – медленно произнесла Камилла, – маленькое сердечко в золотом обрамлении с миниатюрами меня и моей сестры, когда мы были еще маленькими девочками, но, к сожалению, он остался в доме, где умерла моя мать, и ах, я так никогда его больше и не видела. – Ваша сестра? А где она теперь? – спросил я. – Я никогда ее не знала.
Хотя шли мы медленно и всевозможными обходными путями, мы все же оказались перед вратами монастыря на Химмельпфортгассе. – Прошу вас, не горюйте из-за грустных воспоминаний, – подбодрила нас Камилла улыбкой, прежде чем мы расстались. – В ближайшие дни вас ждет много радостных часов. Когда Камилла исчезла в направлении дормитория, из вечерней полутьмы появились две фигуры: благородный молодой человек и его слуга. Они шли к тому крылу монастыря, где находилась вторая квартира для гостей. Благородный господин говорил своему слуге: – Всегда помни: вороны летают стаями, орел всегда один. Я вздрогнул. Это высказывание было мне знакомо. Много лет назад я услышал его от Атто. Весь вечер я думал о кастрате, а теперь он, казалось, ответил мне. Кто знает, может быть, Мелани слышал эти слова от кардинала Мазарини, и поэтому оно столь распространено. Может быть, этот благородный молодой человек знаком с Камиллой и слышал эту фразу от нее, а она в свою очередь слыхала ее от Атто. Короче говоря, Слишком много фантазий. Впрочем, нужно признать: то была одна из тех максим, которые никогда не забывают и с удовольствием повторяют.
* * *
В нашей комнате Клоридия стала укладываться спать, а я наконец сделал то, о чем мечтал со времени возвращения из Места Без Имени: почитал об Иосифе I в книгах и других трудах, которые приобрел по прибытии в Вену. Здесь искал я ответы на свои вопросы. Почему сиятельный император решил реставрировать Место Без Имени, несмотря на цепочку актов мести, окружавшую этот замок? Печальная судьба его предшественника Максимилиана II и разгоревшиеся вокруг Нойгебау споры между христианами и противниками христианства привели к тому, что Габсбурги вот уже полтора столетия склоняются под сильным давлением тех, кто хочет разрушить монумент поражения в бою против Сулеймана. Но не Иосиф Победоносный. Почему? Что им движет?Отложив для начала труды, написанные на рычащем немецком, я вскоре обнаружил целый ряд итальянских панегириков. Я открыл первый из них: Дифирамбы Фамы и Дуная в день славных именин величайшего императора Иосифа. Поэма на музыку, посвященная его превосходительству, господину графу Иосифу фон Паару, великому придворному гофмейстеру их императорского величества, написанная подписавшимся, академистом Аччезо Гелато по поводу дня именин правителя в 1706 году. Я начал наугад читать эти дифирамбы, диалог между Дунаем и Фамой.
Пока я блуждал в своих мыслях, во двор въехала длинная процессия саней с сотнями факелов, освещающих внутренний двор резиденции, и принялась описывать торжественные круги от одной стороны площади до другой, а народ аплодировал и восторженно ликовал. Радость от новой жизни в богатой столице по другую сторону Альп, тихое волшебство падающего снега, в свите которого здесь, в отличие от Рима, не было печальных плакальщиц – бедности и голода; восторг от роскоши императорского двора, который здесь – в отличие от Версаля и папского двора – не был пощечиной страдающему от нужды народу, поскольку каждый бедняк в Вене еженедельно получал два фунта (два фунта!) мяса, да, все это подвигло нас с женой заключить друг друга в счастливые объятия.
Я позволил милым воспоминаниям отвлечь себя. В расстроенных чувствах вернулся к чтению хвалебного гимна:
Я взял второй панегирик, написанный неким Жаном Батистом Анчиони: «Иосиф I, король Германии и Рима. Император, напечатано в Вене, Австрии у Гио. Ван Гелен, итальянский придворный печатник его императорского величества, год 1709 Р. X.». Под гравюрой с красивым бюстом Иосифа было написано: Tibi Militât Aether («Небо сражается на твоей стороне»). Я поспешно пролистал его и вскоре нашел перечень военных деяний Иосифа, а также его генералов и союзников. Автор обращался непосредственно к императору:
На одной ступени с античными стоят ныне великие победы, которые одержали Ваши непобедимые войска и войска союзников, возглавляемые двумя молниями Марса, Евгением и герцогом фон Марлебурго, на полях акрополя над французами. Благодаря этим непобедимым героям из Великобритании во время крупного сражения при Гвидонии была завоевана большая часть Фландрии, а благородный дух Карла Третьего, с особым бесстрашием и храбростью перенесшего серьезные и исключительные опасности осады Барселоны, привел к победе, благодаря которой была сразу же освобождена Каталония из-за поспешного бегства до смерти напуганного врага. Но в чудесном освобождении Турина, где проявилось неповторимое достоинство Ваших армад и ярко сияла слава Вашего счастья, памятная непоколебимость Сагонтини была равна стойкой защите того города, который на протяжении многих месяцев противился французским орудиям. Не только дикая сила постоянных атак, большое количество войска, окружавшего город, но и недостаток амуниции защитников и трудность в обеспечении какой бы то ни было помощи извне истощили оборону этого столь выдающегося города. Когда же умудренный опытом Евгений вместе с Вашими неустрашимыми легионами отправился на юг, чтобы отомстить вместе с осажденным Турином и всей свободной Италией, подобно второму Велизарию, и пересек не только ужасные горы Германии и Италии, но и прошел в течение долгого пути Адидже, По, Дору, полные множества опасностей долины Италии, и все же с невероятной быстротой оказался у Турина, то, объединившись с храбрым герцогом Савойским, оба со страшной силой обрушились на окопавшиеся армии французов, которые, казалось, видели в безудержной атаке немцев не битву, а резню, и настолько велико было их замешательство, столь огромен страх и столь ужасна смерть в этой великой битве, что не возникло у врагов ни единой другой мысли кроме рассеивания и бегства; после того как Турин был освобожден в результате кровавой бани и пленения французов, выжившие разбежались за несколько месяцев во французские отряды, разбросанные по всей итальянской земле, а с захватом Милана императорское войско получило всю Ломбардию, в то же время Ваше оружие с невероятной скоростью захватило цветущую империю Неаполя, и Италия вернулась к такой долгожданной свободе.Я закрыл брошюру с панегириком. Что говорили мне эти, хотя и довольно помпезные, строки о великом императоре? Что Иосиф Победоносный очень сильно отличался от Максимилиана Загадочного. В одном мягкость, в другом – раскаленная солдатчина, в предках задумчивый характер, в потомках – решительная натура. Жизнь Иосифа, казалось, до сих пор исчерпывалась историей его походов и победоносных сражений. И тем не менее кое-что роднило обоих властителей: молодой император решил вывести своего предка и Место Без Имени из столетнего забытья, словно это был новый поход, только производимый с архитекторами вместо генералов. Устремляя свой благосклонный взгляд на творение Максимилиана II, Иосиф с обнаженным мечом шел на вневременных врагов и бросал вызов былой неприязни к империи христиан. Неутоленной неприязни, как показал недавний набег куруцев на Нойгебау. Я почти видел его перед собой, как он, подстегиваемый малодушием своих предшественников, сообщает смущенному архитектору, что после расширения охотничьего замка Шенбрунн он намеревается восстановить в былом великолепии Место Без Имени. Кто знает, может быть, он наконец даже даст ему имя? И только в этот миг мне пришло в голову, что во время обоих своих визитов в Место Без Имени я не видел и следа других людей, которым были бы поручены восстановительные работы. Даже Фрош ничего об этом не говорил, напротив, казалось, он ничего не знал о планах императора. Может быть, архитекторы и плотники решили дождаться, пока стает снег, сказал я себе. Может быть, они прибудут со дня на день, чтобы начать работу. На меня накатилась сильная усталость, поскольку было уже поздно. Поэтому я решил закончить свое чтение об Иосифе I на днях. Я еще не знал, но предчувствовал, что в этих старых газетах, никому ненужной макулатуре скрывался ответ на мои вопросы о Месте Без Имени.
23 часа, когда в Вене спят (в то время как в Риме совершаются самые позорные поступки)
Я уже несколько часов лежал на перине без сна. Мне не удалось отрешиться от мыслей о Месте Без Имени и великом правителе; от них мой усталый разум переметнулся к Летающему кораблю и его таинственному штурману, и затем вернулся к синьору Луиджи, пропетым Атто ариям Луиджи Росси, которые я никогда не забывал и теперь словно дичь догонял их, одну за другой, в лесу своих воспоминаний. Как звенело это арпеджио, та тонкая модуляция, как звучал тот стих?Местом собрания оказалась старая квартира неподалеку от Шотландского монастыря. По словам Симониса, ее снимали его товарищи по учебе. Едва мы вошли, как у меня возникло ощущение, будто колдун времени забросил меня в иное столетие. В комнате было полно молодых людей, все они были одеты как древние римляне. На них были тоги и палии, лавровые венки, а на ногах – кожаные сандалии. Некоторые держали в руках свитки, изображавшие древние пергаменты. Единственное, что объединяло все это собрание с сегодняшним днем, было множество пивных кружек, ходивших по кругу и наполнявшихся до краев. Пивной колокол, возвестивший, что пить больше нельзя, отзвенел уже давно, но это, похоже, абсолютно не волновало странное тайное братство. Симонис вытряхнул содержимое принесенного мешка, протянул мне какую-то одежду, что-то оставил себе. В этот миг его заметили, и я услышал возбужденное бормотание, перемещавшееся из одного конца комнаты в другой. – Шорист, шорист пришел! – говорили все друг другу, толкая локтем и показывая на Симониса. Некоторые студенты пошли нам навстречу и принялись обнимать моего спутника. Симонис приветствовал собравшихся широким жестом, на который они ответили аплодисментами. В окружении всех этих развевающихся тог можно было подумать, что ты оказался посреди римского Сената после речи Цицерона. Внезапно я показался себе несколько потерянным: Симонис, грек, мой помощник, мой подчиненный, был королем вечера. Я подумал о его рассказе сегодня утром: об истории Места Без Имени и его создателе, императоре Максимилиане II. Было совершенно очевидно, что мой странный помощник обладает множеством скрытых достоинств. Едва он тоже переоделся в римского сенатора, как его повели к небольшой деревянной трибуне, стоявшей посреди зала. Тем временем я тоже надел тогу и сандалии, которые, впрочем, были мне чересчур велики. Снова раздалось возбужденное бормотание: открылась дверь в смежную комнату, и оттуда вышла группа молодых людей, которые, похоже, вели пленника. Это было довольно необычное существо, казавшееся таковым большей частью из-за своей одежды. На испуганном тщедушном молодом человеке, нерешительно оглядывавшемся по сторонам, была шляпа, из которой торчали два огромных ослиных уха и еще пара больших коровьих рогов. Из уголков рта виднелись два здоровенных клыка дикого кабана, которые, очевидно, прикрепили к его зубам с помощью клея. На юноше была широкая черная накидка, придававшая ему несколько печальный и в то же время комичный вид. Его загнали в зал палкой и продолжали охаживать по спине, словно вьючное животное. – Беанус, беанус![922] – возликовала толпа, стоявшая в зале, когда молодой человек появился на пороге. И тут же раздалось пение хора, нестройное, но громкое:
Несколько мгновений спустя я наконец смог приблизиться к несчастному мученику этой причудливой игры. То был худощавый юноша, улыбавшийся озадаченной, обезоруживающей улыбкой. За его небольшими очками, стекла которых запотели от стоявшей в комнате жары, скрывались быстрые смышленые глаза, лишь слегка затуманенные из-за всего того шума, что устроили вокруг него. Только увидев, как он встает и ходит, я разглядел свойство, отличавшее его особенно сильно: несчастный хромал. В этот миг меня отвлекли громкие крики, которыми студенты прощались с человеком, пришедшим для того, чтобы присутствовать на торжественном заключении церемонии снятия. – И это был настоящий декан? – спросил я Христо, снова оказавшегося рядом со мной. – Конечно, настоящий. В конце концов, мы ведь не на философском факультете Болоньи! В Вене все более непринужденно. – Непринужденно в данном случае означает, – вставил Драгомир Популеску, беря под руку Христо, – что здешний университет устроен не лучше, чем семья этого сукиного сына, ха-ха-ха! – Молчите, слабоумные! Мастурбация сегодня лишила вас последних мозгов, – перебил его Коломан Супан. – Я объясню нашему другу, как все происходит в Вене. Университет императорского города был основан великим императором Рудольфом IV в году от рождения Спасителя нашего 1365; отсюда и имя его – Alma Mater Rudolphina. То были славные времена зари университетов, когда толпы студентов со всей Европы устремились в Париж и Болонью, преисполненные жажды знаний и готовые на любые жертвы, чтобы только послушать лекции великих ученых, преподававших там. Alma Mater Rudolphina была не такой: здесь читали лекции выдающиеся и одухотворенные личности, такие как Генрих фон Гессен, Николаус Динкельсбюль и Томас Хассельбах (последнего, однако, некоторые обвиняют в том, что он комментировал Первую книгу Исайи более двадцати лет, так и не поняв ее). К сожалению, в середине шестнадцатого века во всей Европе наступает упадок: из-за протестантской схимы любимым занятием в университетах стало образовывать партии, выступавшие в защиту или обвинявшие римскую католическую церковь, и наносить взаимные удары теологическими трактатами. – На стороне Лютера, – возобновил свой рассказ Коломан, – если я правильно помню, выступили солидные университеты Альтдорф во Франкии, Эрфурт и Ена в Тюрингии, Гиссен и Ринтельн в Гессене, Грипсвальде в Померании, Галле в герцогстве Магдебург, Гельмштадт в Брауншвейге, Киль в Голштинии, Кенигсберг в Пруссии, Лейпциг в Мейсене и Росток в Мекленбурге. – Ты забыл упомянуть Страсбург в Эльзасе, Тюбинген в Вюртемберге и Виттенберг в Саксонии, простофиля ты этакий, – с укором произнес Популеску. – А еще Лоден и Уппсала в Швеции и Копенгаген в Дании, – добавил Христо. – Вы такие мелочные, как две старые девы, – ответил Коломан, взял полупустую кружку пива со стола и жадно припал к ней. – Кальвина же, – продолжал он, – поддерживали Дуйсбург, Франкфурт-на-Одере, Гейдельберг в Пфальце, Марбург в Гессене, Кантабригум и Оксфорд в Англии, Дови, Лейден и Утрехт в Голландии, Франекер и Гронинген в Фрисландии и Базель в Швейцарии. – Ты забыл Дол в Бургундии, идиот, – сказал Популеску. – Папе остались верны только несколько высших школ в Германии: Бреслау в Шлезии, Кельн в Рейне, Диллинга в Швабии, Фрейбург в Брайсгау, Ингольштадт в Баварии, Майнц-на-Рейне, Мольцгейм, Падерборн и Вюрцбург во Франконии. Во Франции, однако же, то были Аквы Секстиевы, Анжио, Авиньон, Бордо, Бурже, Кадрусиенсис, Кан, Кахортана, Гренобль, Монпелье, Нант, Орлеан, Париж, Пуатье, Реймс, Сомюр, Тулуза и Валенс. В Португалии – Коимбра; в Испании – Комплутум, Гранада, Севилья, Саламанка и Тарако; в Италии – Болонья, Феррара, Флоренция, Неаполь, Падуя, Павия, Перуджа и Пиза. – Ты забыл Краков в Польше. – И Прагу в Богемии. – И Лованио в Брабанте, – добавил Христо. – Я умолчал о них из чувства сострадания, ибо в Лованио такие же импотенты и ханжи, как и вы оба. Мои бедные маленькие девушки, вас давно никто не обслуживал, поэтому вы и стали такими брюзгливыми, – ответил Коломан, хватая Популеску, расстегивая ему ремень и выливая остатки пива из кружки прямо тому в брюки. Последовала бурная потасовка между обоими, которая, однако, вскоре прекратилась, поскольку все слишком сильно смеялись. В те времена религиозных разногласий, продолжал свой рассказ Коломан, когда вся троица вернулась к приличному поведению, Вена уже не принадлежала к местам Sapientia Universalis.[928] Императорской столице приходилось сражаться с иными врагами: постоянной угрозой чумы, турецкой опасностью, все время стоявшей на пороге, и, в первую очередь, хронической нехваткой денег в казне, что отражалось на жалком оснащении университета. Профессорам платили с опозданием, иногда па несколько месяцев, кроме того, векселями вместо наличных денег. Лучшие преподаватели начали забрасывать венский Атеней, оставляя поле деятельности коллегам средней руки и даже почти не квалифицированным. Многих и титул профессора не украшал, они оставались просто doctores.[929] Бесконечная смена кадров, которые все время искали себе местечко получше, с годами еще больше ухудшила ситуацию. Уровень обучения упал, учебники с каждым годом становились все хуже, повсюду царило чувство бесполезности знания. Во время Тридцатилетней войны, за менее чем половину столетия повергнувшей на колени весь континент, пришли в упадок и образ жизни, и добрые традиции студенчества. В 1648 году наследник престола Фердинанд, сын императора Фердинанда III и очень образованный молодой человек, решил поступить в Alma Mater Rudolphina, чтобы подать всем хороший пример. Пятнадцатилетний молодой человек был первым из Габсбургов, кто записался в университет. Но это продолжалось недолго: шесть лет спустя Фердинанд внезапно умер от оспы и оставил трон императору Леопольду, своему младшему брату, который, к сожалению, был гораздо менее одарен, чем он.Студенты вскоре снова стали грубыми, они предпочитали предаваться чревоугодию и радостям жизни, а не учебе. Потасовки и дуэли были повседневностью, безо всякого страха Божьего молодые studiosi[930] устраивали кавардак в трактирах, избивали стражников, нападали на безоружных прохожих и грабили их, не говоря уже о преследованиях евреев. Университет и его учащиеся обладали ведь множеством привилегий, которые империя предоставила им еще в давние времена, и так получилось, что студенты, которых признавали виновными в убийстве или другом тяжком преступлении, были помилованы или с легкостью уходили от процессов. И даже в спокойной Вене уже не было ничего примечательного, когда обнаруживали труп студента. Мало помог и добрый пример, поданный императором Иосифом I, когда десять лет назад он – одаренный талантами и знаниями не менее своего предшественника Фердинанда, покойного брата его отца, – решил поступить в Alma Mater Rudolphina. В университете императорской столицы ценилось только одно: наслаждение. – Когда мы устраиваем снятия или другие праздники, все получается великолепно. Декан приходит всегда, потому что уважает старые традиции, – заключил Коломан, едва стоящий на ногах. – Великий человек, декан, честный и искренний. – Ты забыл, что он еще и симпатичный, – укорил его Популеску, в который раз поднимая свою кружку с пивом. – И что он поистине знающий парень, – добавил Христо, с трудом подавив сильную хмельную отрыжку.
Вена: столица и резиденция Императора Суббота, 11 апреля 1711 года День третий
7 часов; бьет Турецкий колокол, именуемый также Молитвенным
Головная боль, вялость в членах, во рту словно шерсть какая-то. Бурная ночь со студентами лишила меня сил, которые так нужны в начале дня. Причудливая церемония окончилась около двух часов ночи; вернувшись в конвент Химмельпфорте (конечно же, у меня был ключ от ворот), я находился в состоянии лихорадочного возбуждения, которое не давало мне уснуть почти до рассвета. Следуя приветливым требованиям друзей Симониса, я тоже во время церемонии выпил добрую кружку пива, за которой последовали вторая, а затем и третья. Против последствий пьянства Симонис и его друзья выпили по стакану уксуса и положили себе на срамные места намоченный ледяной водой платок. Безотказное средство, по их словам, однако я от него решил воздержаться. И был не прав: хотя я толком не опьянел, проснувшись, ощутил все полагающиеся последствия. Когда я, пробужденный Турецким колоколом, открыл глаза, оказалось, что Клоридия уже ушла во дворец принца. Наш малыш, должно быть, тоже был на работе вместе с Симонисом. Этим утром нам нужно было срочно выполнить два заказа в районе Йозефштадт, где требовалось прочистить несколько дымоходов, Симонис и сынок мой ждали меня с инструментами прямо на месте. Мы должны были вместе поработать некоторое время, затем я собрался дать им завершить начатое и отправиться в наш находящийся совсем неподалеку новый дом, где архитектор вот уже несколько дней хотел со мной поговорить. Еще было не слишком поздно, и после молитвы у меня осталось время позавтракать. Как обычно, моя супруга оставила у кровати немного хлеба и варенья, а также кое-что интересное почитать. В отличие от моих римских привычек, когда (всегда пестрящие убийствами и кровавыми злодеяниями) новости вызывали в основном испуг и потрясения, теперь я часто читал венские газеты, занимаясь тем, что мне очень рекомендовал добрый Оллендорф, наш учитель немецкого, для того, чтобы устранить мой трагичный дефицит прилежания. Однако в Вене было только две газеты, и одна из них выходила на итальянском языке. Она называлась «Коррьере Ординарио», выходила каждые четыре дня и была основана итальянцами около двадцати лет назад: то есть совершенно не служила той цели, которую предполагал Оллендорф, зато читать ее было гораздо приятнее. Я вспомнил проведенный со студентами вечер, когда говорил почти только по-итальянски. Все друзья Симониса учились в Болонье и все еще тосковали по тем временам. Если хочешь почувствовать себя в Вене как дома, довольный, сказал я себе, достаточно всего лишь говорить по-итальянски. Преисполнившись гордости за свое происхождение, я взял в руки «Коррьере Ординарио». С удовольствием перелистывая газету, я представлял себе, какой должна была быть жизнь в Париже для аббата Мелани. По его рассказам и благодаря voxpopuli1, я знал, что итальянцев во Франции всегда ненавидели и преследовали. Известный Кончино Кончини, итальянский фаворит Людовика XIII, едва успел испытать его расположение, как парижане злодейски убили его и разорвали тело на куски. Затем пришел кардинал Мазарини, итальянский интриган до мозга костей. Он принес в Париж музыку и театр нашей страны. Благодаря огромной власти, которую он собрал в своих руках, и произволу, который он учинил, он настроил против себя всех. Во времена Фронды итальянские художники вынуждены были терпеть всевозможные каверзы: Джакопо Торелли, декоратора «Орфея», едва не линчевала толпа, хотя он и произносил свое имя на французский манер: Торель. Атто и его маэстро Луиджи Росси тоже были вынуждены бежать из Парижа. После смерти кардинала итальянских музыкантов с позором уволили и отослали домой. После этого их сделали друзьями французов благодаря Жану-Батисту Люлли (хотя все забыли, что на самом деле его звали Джованни Баттиста Лулли и он был родом из Флоренции). Интересно, что сказали бы французы, узнав, как обстоят дела в Вене? Здесь было не только множество итальянцев, пользовавшихся большим влиянием и почетом: в Вене просто возникало ощущение, что находишься в Италии. Еще по прибытии я с радостью отметил, что гильдия, к которой я принадлежал – а именно гильдия трубочистов, – находится полностью в руках моих соотечественников. Но это было еще не все. Все, кто не был чернью, казалось, говорили по-итальянски. Высшее венское общество носило итальянские платья, разговаривало, ухаживало, заключало сделки, проповедовало, писало и читало по-итальянски; на языке Данте и Петрарки диктовали письма, покупали и продавали, любили и ненавидели, заводили друзей. Нами восхищались и, если и не любили, то в должной мере уважали. При дворе итальянский язык даже был официальным; император Иосиф владел им в совершенстве (да, он великолепно говорил на диалектах Рима, Тосканы и Венеции), равно как и его отец Леопольд, и его дед Фердинанд III, писавший стихи по-итальянски, кроме того, великие князья, посланники и все остальные высокопоставленные лица. Пятнадцать лет назад Леопольд основал школу для облагораживания отпрысков австрийских дворян, поскольку они казались ему менее образованными, чем заграничная молодежь: директор и учителя этой школы почти все были из наших. Легион было имя итальянцам, занятым на службе в качестве секретарей, учителей, маэстро музыки или фехтовального искусства, танцоров, канцеляристов, врачей, библиотекарей, проповедников, писак и лакеев, особенно же поэтов. Ибо где было венское поэтическое творчество? «Нет такого», – говорили все. И если кто-то в Вене хотел занять деньги, то не было никакой необходимости идти к евреям: можно было обратиться к нашим Бьери, Больза, Зангони или Бретано, и они не оставили бы вас сидеть на мели. Даже те, кто хотел отыскать дорогу, вынужден был обращаться за помощью к нам: обновленный план города Вены и ее окрестностей был разработан итальянцами Ангиссола и Мариони менее пяти лет назад. В венских оркестрах скрипки мяукали по-венециански, флейты посвистывали по-тоскански, цимбалы стрекотали на римском диалекте, а если певец пел свои итальянские арии не с безупречным произношением, то раздавались возгласы неодобрения. Два итальянца, композитор Чести и декоратор Бурначичи, поставили самую успешную мелодраму, которую когда-либо ставили в Вене, «Il pomo d'oro», в которой участвовал даже сам император Леопольд, и воспоминания об этой блестящей постановке пережили десятилетия. Драги, Бертали, Кальдара, Бонончини (последний из любимчиков императора) – целые толпы либреттистов, оркестровых музыкантов, певцов и композиторов были итальянцами. А откуда, кстати, родом Камилла де Росси и все музыканты из ее окружения, такие как Циани и Конти, сопранистка Ландини, тенор Коста, кастрат Орсини и многие другие? Повсюду были итальянские актеры, и даже театры марионеток, изображавшие традиционные венские фигуры, щедро пользовались услугами комедии дель арте, Пульчинеллы и Арлекино. Художники, портные и императорские золотых дел мастера устремлялись из Милана, Болоньи и Венеции в Вену, все по следам знаменитого Арчимбольдо, который два столетия назад был нанят Максимилианом II, Максимилианом Загадочным, о котором так много рассказал мне Симонис. И Место Без Имени тоже было плодом итальянского гения – архитектора, нанятого его строителем. Кто проектировал раньше великолепные дворцы города, строил, ваял, разрисовывал, украшал фресками, декорировал и штукатурил, если не итальянцы? Обладателей роскошных дворянских резиденций звали Лихтенштейн, Моллард, Дитрихштейн и Гаррах; но воплощали в реальность их своенравные причуды Мартинелли, Пакасси, Поццо, Нобиле, Ганьола, Дориньи, Бартоли, Аллио, Риччи или Коррадини. Даже императорская резиденция была делом рук одного из моих соотечественников, Лучези; а в большом внутреннем дворе возвышались ворота Пьетро Феррабоско, построенные в XVI столетии. Если еще посчитать полуитальянцев и их потомков, можно было бы сказать, что вся Вена построена итальянцами. А мой соотечественник Евгений Савойский, уже на протяжении восьми лет возглавлявший придворный военный совет, – разве он не самый славный полководец императорских армий, достойный наследник храбрых Пикколомини и Монтекукколи? Когда в 1683 году город был освобожден от турецкой осады, то в принципе в этом была заслуга поляка, короля Яна Собеского, и француза, коменданта императорских войск Карла Лотарингского, но и не в меньшей мере – двух итальянцев: погибшего папы Иннокентия XI, который созвал и финансировал альянс христианских правителей против турок, и его верного помощника, монаха-капуцина Марко д'Авиано. Пока я, суетно радуясь своему происхождению, предавался этим размышлениям, в ногах постели я увидел немецко-итальянскую фразеологию, которую подарил мне Атто Мелани: она была напечатана в Вене, но ее составитель, домашний воспитатель императорской семьи, был итальянским священником Стефано Барнабе. Даже немецкоязычные труды придворного проповедника, монаха босоногих августинцев Абрахама а Санта-Клара, были изданы итальянским печатником Вивиани. У нас был святой Франциск, Данте и Колумб, первооткрыватель Америки; мы были народом святых, поэтов и моряков. Почему же нужно удивляться, что первая газета в Вене была делом наших рук? Я начал читать.Первая заметка была из Лиссабона, и в ней сообщалось о волнениях в королевстве Португалия. Несмотря на войну, новости добирались довольно быстро: статья была датирована 23 февраля, то есть вышла всего полтора месяца назад. Далее следовал рапорт о заседании парламента в Лондоне и о войне в Сарагосе в Испании, где Карл, брат Иосифа I, оспаривал трон у француза Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV. Я пробежал глазами печальные военные новости из Аслана в Крыму и Данцига, пролистнул сразу две страницы и наконец-то нашел кое-что интересное:
Во вторник, 7 апреля, в третий из пасхальных праздничных дней, великая императорская чета вместе со светлейшей эрцгерцогиней, их дочерьми и остальными сопровождающими после обеда направилась в церковь отца босоногих кармелитов в пригороде на Леопольдинзель и слушала там вечерню и литании. В тот же день прибыл турецкий ага со свитой из двадцати человек, и ему было предоставлено жилище в пригороде св. Леопольда, на берегу ближайшего притока Дуная. В день позавчерашний, в полуденный час он получил аудиенцию у их светлости принца Евгения Савойского, который послал ему с этой целью карету с шестью и четырьмя лошадьми…Далее следовало описание аудиенции вплоть до прощания Евгения и аги. Все это было мне хорошо известно, поскольку я отчасти лично, отчасти благодаря рассказам Клоридии принимал в этом участие. Только одну новость преподнес мне неведомый хронист:
Нынче говорят, что упомянутый принц Евгений собирается отправиться в Нидерланды, чтобы начать подготовку кампании против Франции.Как я уже имел возможность упомянуть, принц Евгений не мог дождаться возможности снова отправиться на фронт; теперь же, когда он со всеми почестями принял агу, казалось, пришел час выступать. За этим следовали новости из Мадрида по поводу назначения генералов, майоров и унтер-офицеров, а под конец – второстепенные сообщения из Парижа и Нидерландов. Когда я уже собирался отложить «Коррьере Ординарно» в сторону, из него выпал листок. Клоридия, памятуя о моих занятиях немецким, купила кроме прочего «Виннерише Диариум», венскую газету на немецком языке, которая каждые три дня информировала о последних событиях – именно то чтиво, которое рекомендовал добрый Оллендорф. Как и издание «Коррьере Ординарно», «Виннерише Диариум» была за сегодняшнее число; наверное, Клоридия приобрела ее, как обычно, в «Красном Еже», в домике в районе Тухлаубен, где продавались газеты. Я с трудом принялся изучать первую новость. Только задействовав все свои жалкие познания, мне удалось разобрать, что три дня назад, в среду, император назначил графа фон Шенборн, урожденного Хуго Дамиана, имперского барона Рейхельсперг и Гепенгейм, графа фон Визентхайд и Альт Бизен тайным советником. Полностью удовлетворившись тем, что понял, по крайней мере, суть статьи, я перешел ко второй странице. Здесь сообщалось о прибытии турецкого аги. Чтобы не придавать слишком большого значения страшным османам, сообщение ограничилось восемью строчками, в то время как назначение графа Шенборна тайным советником расписывалось на двадцать пять. Далее следовали смешанные сообщения из Венгрии, Польши и России (царь готовился к войне против татар), из Неаполя (землетрясение в городе Реджио), из Рима (кардинал Гоззадини благословляет епископа Перуджи). Потом я прочел сообщение о войне в Испании (французский генерал Вандом отступает с четырьмя тысячами пехоты и тысячью пятьюстами всадников в направлении Дофине) и другие новости из всех частей Европы. Поскольку время начало поджимать, я быстро продрался сквозь последние страницы. Здесь всегда печатались объявления, которые жители Вены читали особенно жадно: список лиц всех рангов, прибывших в Вену и покинувших город, крещения, свадьбы и смерти. Мне доставляло огромное удовольствие читать эту рубрику и искать имена, которые были мне знакомы, например имена моих клиентов. Однако сегодня на это не было времени. Я как раз хотел отложить «Виннерише Диариум» в сторону, рядом с «Коррьере Ординарно», когда взгляд мой упал на уведомление о вновь прибывших в город, особенно на одно имя:

Мои глаза в буквальном смысле слова прилипли к странице газеты. «Господин Милан». Милани? У меня было такое ощущение, словно все колокола города разом забили пожарную тревогу. К удивлению примешивалось некоторое разочарование: после того как я изо всех сил расписывал триумф итальянцев в Вене, такое событие величайшей важности я обнаружил в немецкой газете, а не итальянской. Я молниеносно оделся, выбежал из дома, громко хлопнув дверью, и бросился к выходу из монастыря. Где же почта? Наверное, на Волльцайле, по крайней мере, мне так кажется. Внутренне я подготовился к тому, чтобы спросить первого встречного, и уже заранее проклинал свой неуклюжий немецкий язык: «Простите, я искать станция почты…» Я поспешил на улицу, где дыхание мое на холодном утреннем воздухе превратилось в беленькие облачка, и тут же свернул направо, на Рауенштайнштрассе. Возможно, все дело было в жгучем морозе, но в голове у меня все сложилось мгновенно: как мы вчера вечером встретили в монастыре молодого человека, разговаривавшего со слугой; девиз об орлах и воронах; а еще раньше – два носильщика, которые несли в монастырь тяжелый дорожный сундук, полный одежды; затем мысль о том, что у монастыря Химмельпфорте был второй дом для гостей, прямо на углу Рауенштайнгассе; сообщение в «Виннерише Диариум»; и наконец, когда я сломя голову поворачивал в боковую улочку, мысль, подобно лучу солнца пронизывающая туман, рожденная этим голосом: – …а позже мы разыщем мальчика. Я усмехнулся этому «мальчику», которым я уже давным-давно перестал быть, заторопившись, споткнулся о камень мостовой, возможно также, из-за головокружения, овладевшего мной, и поднял голову. Два смешных темных стекла очков на большом, напудренном белилами носу, смотрели прямо на меня, в то время как остальное лицо было наполовину скрыто под широкой зеленой накидкой и черной шляпой. Я не узнал его, но знал, что это он. Стоявший рядом с ним вчерашний молодой человек с удивлением глядел на меня. – Я… я здесь, господин аббат, – пролепетал я.
11 часов, когда ремесленники, секретари, преподаватели языка, священники, прислуга, лакеи и кучера обедают
За внезапной встречей с аббатом Мелани последовали сердечные, братские проявления чувств. – Дай обнять тебя, мальчик, – сказал он, отечески ущипнул меня в бок и коснулся кончиками пальцев моего лица. – Поверить не могу, что нашел тебя. – И я поверить не могу, синьор Атто, – ответил я, сдерживая дрожь в груди и слезы радости. Между нашей первой и второй встречей прошло семнадцать лет, между второй и этой, теперешней – одиннадцать. Долгое время я был уверен, что никогда больше не увижу его. А вот теперь Атто Мелани, князь шпионов, тайная ключевая фигура интриг половины Европы, а так же мой проводник по жизни и своим приключениям, снова стоял передо мной, из плоти и крови. При каждой встрече он приходил ко мне, и каждый раз он приезжал издалека, из своего Парижа. Одиннадцать лет назад он застал меня врасплох в Риме. Его темная тень внезапно появилась из ниоткуда, в то время как я перекапывал клумбы виллы Спада. Я был в растерянности, и он чертовски этому обрадовался. Теперь он нашел меня здесь, в далекой Вене, на морозе габсбургской зимы, где я благодаря его щедрости возродился к новой жизни. – Признайся честно, – сказал он, маскируя свою растроганность иронией, – ты не ожидал, что старик аббат Мелани появится здесь. – Нет, синьор Атто, хотя знаю, что от вас всего можно ожидать.После короткого, но теплого приветствия нам пришлось проститься. Я объяснил аббату, что мои заказы в Йозефштадте, к сожалению, не могут ждать; однако мы договорились встретиться вечером в районе собора Святого Стефана.
Аббат Мелани очень хорошо знал, каким ремеслом я занимаюсь в Вене, он ведь сам мне это устроил. Когда мы снова встретились спустя несколько часов, он, однако, не смог удержаться от того, чтобы не поднести к носу платок, едва почувствовал запах сажи, исходивший от моей одежды трубочиста. – Нет худших шпионов, чем монахини, – мрачно заявил он, – давай будем избегать Химмельпфорте и подыщем себе спокойный уголок, где мы могли бы поболтать и чтобы нам никто не мешал. Я знал, какое место подойдет лучше всего. Поскольку я знал аббата, я догадался о его желании и быстренько сбегал в монастырь, чтобы оставить для Клоридии и Симониса записку с адресом. Совсем неподалеку, в Шлоссергасль, была кофейня под названием «У Голубой Бутылки». Хотя здесь не бывали дворяне, но не приходили сюда и грубые подмастерья из простонародья, кроме того, здесь было запрещено услаждаться карточной игрой или игрой в кости, этим занятием для бездельников. Сюда приходило среднее сословие, всегда после обеда, поэтому здесь можно было встретить почтенного придворного сановника, усы которого были еще пропитаны кабаньим соусом, или почтенную гувернантку на тайном свидании с возлюбленным, когда было слишком холодно для того, чтобы встретиться между деревьями в Пратере. Ибо в кофейни ходят вовсе не затем, чтобы побыть в обществе! Каждый столик, каждая ниша, каждый укромный уголок – уже само по себе место, зарезервированное для встречи с друзьями, доверенными лицами и возлюбленными или же просто для того, чтобы почитать. В кофейнях не разговаривают; все шепчутся, ибо венцы знают толк в искусстве сдержанности, и никогда не встретишь на себе бесстыдного взгляда, как это часто бывает в Риме. Появление за столиком двоих или троих людей не мешает даже ворчливому одиночке. Я был там и могу заявить с полной ответственностью: тот, кто никогда не был в венской кофейне, не знает, что такое настоящий покой. В любом случае, среднее сословие не обедало в этот час, и поэтому заведение пустовало. Едва мы вошли, как по одежде аббата Мелани распознали, что он – клиент, к которому надлежит относиться с почтением, и когда мы уселись, нас обслужила прелестная юная девушка с кожей оливкового цвета и волосами цвета воронова крыла. Она тут же подала нам кофе, но я даже не сознавал, что пью, настолько сильные бури бушевали в моей душе. Мы сидели за столиком на четверых; по-прежнему скрываясь за черными очками, аббат Мелани представил мне молодого человека, сопровождавшего его: то был его племянник Доменико. – А теперь… расскажи-ка, хорошо ли ты устроился в этом городе? – спросил Мелани с чуть заметной гримасой, выражавшей не только вежливое любопытство, но и безусловное знание моих новых жизненных обстоятельств зажиточного человека, понимание моего желания отблагодарить его за великодушный дар и, наконец, тайное намерение скромно отказаться от благодарности. Мы сняли пелерины и накидки, и теперь я смог спокойно рассмотреть человека, которого хотел увидеть последние одиннадцать лет. Невзирая на свои, хорошо мне известные, предпочтения в одежде и цветах (красные и желтые ленты и кисти на всех углах и кончиках), аббат Мелани прибыл, одетый в строгие зеленые и черные тона. Под его темными очками, скрывавшими глаза, – странное новшество на лице Атто – я увидел еще более дряблую кожу и более запавшие черты лица, морщины времени, которые он тщетно пытался скрыть под милосердным саваном толстого слоя свинцовых белил. В Риме, в гостинице «Оруженосец», двадцать восемь лет назад, я познакомился с аббатом, когда он был зрелым мужчиной; на вилле Спада он предстал передо мною бодрым стариком; теперь, в городе императора, он показался мне хрупким старцем. Только ямочка на подбородке была такой же, как и всегда; остальное оказалось безвозвратно утраченным под топором прошлого, и если бы кожа не была высохшей, можно было бы сказать, что она слегка привяла, как часто бывает в природе со старыми сливами или опавшими листьями. И только о его глазах, которые, как я хорошо запомнил, имели форму треугольника, из-за темных очков я ничего не мог сказать. Я нерешительно разглядывал его с широкой улыбкой на губах. Мое сердце громко билось от благодарности, и я не знал, с чего начать. – Доменико, возьми ее, пожалуйста, – сказал Атто, отдавая своему племяннику палку. В этот миг я вспомнил, что, входя в кафе, аббат Мелани протянул руку племяннику, чтобы не споткнуться на ступеньках, и что потом позволил вести себя шаг за шагом, чтобы не натолкнуться на столы или стулья. – Могу сказать, – наконец ответил я на его вопрос, – что мы живы, синьор Атто, благодаря вашему великодушию – и только благодаря ему. Я не успел еще договорить свой столь предсказуемый ответ, как скаковая лошадь моих воспоминаний галопом понесла меня прочь: разве не видел я незадолго до того, как мы вошли в кофейню, как Атто обходил препятствия, проводя палкой над землей то вправо, то влево? – Это радует. И я надеюсь, у твоих детей все хорошо, равно как и у твоей жены, – приветливо ответил он. – О, конечно, у всех все в порядке, у малыша, которого мы взяли с собой, и у обеих дочерей, которых мы пока что оставили в Риме, но надеемся вскоре… – начал я, но мысли уже теснились в моей голове, хотя спросить я не осмеливался. – Благодарение Богу, я на это надеялся. И передай мои наилучшие пожелания мальчику, который во время нашей последней встречи еще не появился на свет, – дружелюбно сказал он. Тем временем к нам снова приблизилась служанка, предлагая газеты, поскольку услышала, что мы итальянцы. – Leggete il «Коррьере Ординарно», signori![931] Или лучше предложить вам «Виннерише Диариум»? – воскликнула она, жеманно произнося это на разных языках и протягивая нам экземпляры газет. Доменико отказался от предложения жестом. А у Атто вырвалось негромкое печальное замечание: – Эх, жаль. Тут я бросил последний взгляд на его маленькие очки и удостоверился: Атто ослеп.
– Однако покончим с изъявлениями благодарности, – тут же, обращаясь ко мне, заявил он, хотя я почти ничего не успел сказать. – Я должен тебе кое-что объяснить. – Объяснить? – с отсутствующим видом повторил я, еще не оправившись от своего печального открытия. – Ты наверняка задаешься вопросом, как это аббату Мелани, этому пройдохе, удалось в военные времена попасть из Франции в Вену, в то время как все враги-французы вместе с их товарами изгнаны из империи. – Что ж, по правде говоря… Мне кажется, я знаю, как вы это устроили. – Ах, вот как? – Об этом было написано в газете, синьор Атто. Вам помогло то, что вы – итальянец. Вы, если я правильно понял, выдали себя за чиновника императорской почты и подписались Милани вместо Мелани, как вы обычно делаете. Вероятно, вы дали понять, что прибыли из Италии, воспользовавшись паспортом, который… – Именно таким образом, браво, – перебил он меня, не давая произнести компрометирующие слова. – Я попросил хормейстера монастыря Химмельпфорте, эту добрую женщину, ничего не сообщать о моем прибытии. Я хотел сделать тебе сюрприз. Однако вижу, что ты, вопреки своим прежним привычкам, читаешь в Вене газеты, или, по крайней мере, «Виннерише Диариум», очень информативный журнал. Таковы австрийцы, они любят быть в курсе дел, – добавил он тоном, в котором слышалась смесь страха перед врагами Франции, удивления их порядками и раздражения от их шпионского таланта. – Так вы читали ту рубрику, где?… – Мой верный Доменико, который знает немецкий язык, – сказал он, указывая на своего племянника, по-прежнему сидевшего молча, – время от времени развеивает мрак, в который угодно было обрушить меня нашему дорогому Господу, – произнес Атто взволнованным голосом, что должно было означать, что теперь читает ему Доменико. И действительно, прибытие Атто в город было чем-то из ряда вон: как ему удалось беспрепятственно попасть в столицу империи? При этом стражники Вены всегда славились своей строгостью! Все присутствующие в городе люди, и в первую очередь опасные индивидуумы, были под постоянным наблюдением: чужестранцы, шпионы, саботажники, больные, цыгане, попрошайки, бездомные, распутники, игроки и тунеядцы. С тех пор как от турок стала исходить постоянная угроза, особенно после последней осады 1683 года, Леопольд I, отец нынешнего императора, ужесточил мероприятия по безопасности. Регулярно производился учет всех людей, живших в пределах городских стен, исключая только солдат и их семьи. Дополнительно контролировали тех, кто имел дело с путешественниками и принимал гостей. Владельцы квартир, домовладельцы, хозяева отелей, трактирщики и кучера: никто не должен был кого бы то ни было укрывать, кормить или перевозить с одного места на другое, не передав его данные ландмаршалу, бургомистру, уличному или квартальному комиссару, комиссии по безопасности и, наконец, страшной инквизиции. Тот, кто втайне принимал у себя чужестранцев, даже на одну ночь, подлежал суровым штрафам, начинавшимся с немалой суммы в шесть имперских талеров. Чтобы помешать чужестранцам проезжать через городские ворота неузнанными, просто пересев из дилижанса в колымагу перед воротами, контролировали также ломовых извозчиков, кучеров почтовых карет и фиакров. И это было еще не все: нарушителей запугивали, организовав два тайных пункта, где можно было анонимно указать на подозрительных путешественников или их сообщников, один в ратуше на Випплингерштрассе, второй на площади Хоэр Маркт. И, несмотря на все это, аббат Мелани спокойно прибыл в Вену. – Как, ради всего святого, вы обошли контроль? – Очень просто: они велели мне подписать «записку» – так они называют бумагу, где записывают данные, – и я смог въехать. И поверь мне, я подписался совершенно нормально, я не намеревался изменять свое имя на Милани. Я знаю, что иногда пишу неразборчиво, но они сами неправильно прочли его. В таких случаях лучшая стратегия – это совершенно не скрываться. – И никто ничего не заподозрил? – Ну, посмотри на меня. Кому стоит опасаться восьмидесятипятилетнего слепого итальянца, который вынужден путешествовать в паланкине? – Восьмидесятипятилетний слепой никак не может быть императорским почтмейстером! – Ну почему же, вполне, если он на пенсии. Разве ты не знаешь, что здесь, в империи, их поддерживают до самой смерти? Затем он принялся ощупывать мое лицо, как делал это во время нашей первой встречи, чтобы освежить его в памяти с помощью кончиков пальцев. – Ты многое испытал, мой мальчик, – заметил он, обнаружив морщины у меня на лбу и щеках. Он сжал мои руки, огрубевшие, с мозолями и шишками, оставшимися еще из Рима, и промолчал. – Мне так жаль, господин аббат, – отважился произнести я, не отводя взгляда от его лица, но все слова благодарности и, более того, детское почтение перед этим хрупким кастратом, застряли у меня в горле при виде безжалостных темных очков. Он перестал ощупывать меня, сжал губы, словно был вынужден сдерживать выражение глубокой печали, которое, однако, тут же скрылось за поднесенной ко рту чашкой кофе и изящным жестом, которым он поправил на носу свои очки. – Ты, наверное, спрашиваешь себя о причинах моего появления, исключая, конечно, желание повидать тебя снова; удовольствие, которого в моем возрасте и с учетом тяжких недугов, терзающих меня, честно говоря, не хватило бы для того, чтобы воспротивиться советам моих врачей. До последнего они пытались помешать мне покинуть Париж и предпринять столь длительное и преисполненное опасностей путешествие. – В таком случае… вы прибыли по иной причине, – сказал я. – По другой причине, да. Ради мира, если быть точным. И когда он начал говорить, в нос мне ударил аромат немного подслащенного лукумом (липкая турецкая сладость, которая, в отличие от меда, не влияет на вкус напитка) кофе, и я наконец предался теплому ощущению счастья от того, что снова обрел этого пройдоху, лжеца, шпиона, обманщика и, быть может, даже убийцу, которому был обязан теперешним богатством и разнообразными уроками. Уроками, которые угрожали моей жизни, потому что я следовал им или – что бывало чаще – отказывался от них. Рассказ Мелани начался с 1709 года, с событий двухлетней давности: не только в Италии была ужасная зима, но и во Франции, это был самый ужасный год за все правление Людовика XIV. В январе льдом покрылись все улицы и берега рек; смерть безжалостно косила население, даже богатых людей. Многие из тех, кто отваживался выйти на дорогу пешком или верхом, умирал от холода, Церкви полнились трупами, король потерял больше подданных от мороза, чем от страшной войны. Даже исповедник короля, отец Ла Шез, умер во время очень короткого путешествия из Парижа в Версаль. Атто целый месяц лежал в постели с простудой. Войскам платили плохо, и если офицеров не поддерживали их семьи, то сражались те с большой неохотой. Банковские дома платили уже не золотыми и серебряными монетами, а бумагами государственного монетного двора, которые именовались банкнотами; в качестве векселей и для всех других оплат впредь должны были действовать только эти бумаги, однако если кто-то хотел их продать, то есть обменять на золото или серебро («настоящие деньги, не какие-то жалкие бумажки!» – воскликнул Мелани), получал по распоряжению короля только половину их номинальной стоимости. В апреле начался голод. Города осаждали толпы бедных изголодавшихся крестьян; тот, кто покидал Париж, подвергал себя опасности быть ограбленным или даже убитым. Народ был на пределе сил. В конце месяца едва удалось сдержать восстание: нищий, просивший милостыню у церкви Сен-Роше, был взят под стражу. Поскольку он, безоружный, оказал сопротивление, стражники забили его до смерти на глазах у потрясенной толпы верующих. Народ тут же набросился на стражников, чтобы линчевать их; они спаслись только тем, что спрятались в доме неподалеку. Тем временем огонь мятежа разгорался: со всего Парижа устремились толпы возмущенных людей к церкви Сен-Роше, волнения продолжались несколько часов, пока не были подавлены. В мае бунты участились, по причине голода; хлеб был только черный, как чернила, а стоил он один луидор и более за фунт! В любой базарный день это грозило закончиться всенародным восстанием. В июне казна короны опустела, больше не было денег для продолжения военных действий, солдаты не получали платы и вынуждены были просить поддержки у своих семей. Когда вернулась зима, мороз убил все оливковые деревья, самый важный источник дохода для юга Франции, плодовые деревья не плодоносили. Урожай погиб, закрома остались пусты. Корабли, которые везли дешевое зерно из восточных и африканских гаваней, были разграблены вражескими флотами, а Франция почти ничего не могла им противопоставить. Королю пришлось продать свою золотую посуду за четыреста тысяч франков; а самые богатые из благородных господ велели перелить свое серебро в монеты. В то время как в Париже ели только черный как смоль хлеб, в Версале на стол королю подавали простой овсяный хлеб. И обо всем этом безобразии ни слова не писали в газетах, возмущался Атто, в новостях, которые печатались, были только ошибки и ложь. – Должно быть, ты иногда задавался вопросом, что поделывает в Париже твой любимый аббат, – печально произнес он. – Что ж, я голодал, как и все остальные. «Король-солнце» понял, что должен заключить любой ценой мир с голландскими, английскими, немецкими и австрийскими врагами. Но его предложения были отвергнуты со всех сторон. – Никто не должен этого знать, но даже маркиз де Торси унизился до того, что стал просить мира. Торси, считавшийся за границей важнейшим министром Франции, отбыл из Версаля в Амстердам под вымышленным именем и неожиданно появился во дворце государственного секретаря. Тот с удивлением выслушал, что враг униженно ожидает в прихожей, чтобы просить мира. И отказал. После этого Торси направил ту же просьбу к принцу Евгению, главнокомандующему императорскими войсками, и к герцогу Мальборо, предводителю английского войска. Он тоже отверг его предложение. Затем французы предприняли попытку подкупить Мальборо, и снова безуспешно. Наконец «король-солнце» унизился до того, чтобы сделать невероятное: он написал письмо губернаторам своих городов и всему народу, в котором пытался оправдать свое поведение и ту ужасную войну, из-за которой его страна истекала кровью. – Правда? – поразился я этим словам Атто, ибо не слышал о наихристианнейшем короле ничего, кроме сообщений о его дерзком, несгибаемом и жестоком характере. – Эта война многое изменила, мой мальчик, – ответил аббат. – Даже величайшего короля в мире? – спросил я, цитируя слова о наихристианнейшем короле, услышанные от Атто почти тридцать лет назад. – Да, даже le plus grand roi du monde,[932] – произнес он тоном, которого я от него никогда не слышал, ибо к медовому звучанию его голоса примешивался скепсис. – Кто величайший король в мире? Гордое солнце или расчетливый, терпеливый Юпитер? Кровожадный полководец варваров или лучший император Священной Римской империи? И поистине, кто не удивится, если вспомнит о солдатских кострах Цезаря, искусстве управления Августа, глубоком, непостижимом остроумии Тиберия, скромности Веспасиана, милых добродетелях Тита, героической доброте Траяна? – помпезно распалялся Атто. – Кто не почитал их, образованность Адриана, мягкость и справедливость Антония, мудрость Марка Аврелия, строгую самодисциплину Пертинакса, умелое лицемерие Септимия Севера? Что я должен сказать о широте души Диоклетиана, возвышенной набожности и победоносной судьбе Константина Великого, об остром уме Юлиана, терпеливости и страхе Божием Феодосия и о множестве иных добродетелей, отмечавших других римских императоров? Именно такие качества обессмертили их в воспоминаниях людей, а уж конечно не кровь, проливавшаяся в походах! Я не понимал, к чему клонит аббат Мелани. – Можно было бы долго прославлять их, величие законодательства, достоинство Сената, блеск рыцарства, роскошь публичных построек, полноту государственной казны, храбрость капитанов, множество легионов, военные флоты, королевские подати и тот факт, что Африка, Европа и Азия управляются волей одного-единственного человека. Но суверенитет римских императоров просуществовал тысячи лет не благодаря пролитой крови и насилию, он был основан на разуме и мудрости, на свободе и настоящих жизненных устоях, дарованных порабощенным народам. Пожалуй, в политику наихристианнейшего короля не входило даровать порабощенным народам свободу и настоящие жизненные устои: ему скорее не терпелось покорить все огнем и мечом, как он и поступил в Пфальце, хотя там была родина его невестки. Еще никогда не доводилось мне слышать от Атто Мелани такой пышной похвалы добродетелям регентов, столь непохожим на добродетели его повелителя; более того, я всегда видел, как он оправдывает сомнительное поведение французов. – Подобным образом был возведен индийцами на троп Дейок, – продолжал аббат, – ибо после того, как он завоевал себе уважение в качестве судьи за свою порядочность, он с истинным чувством справедливости устранил между ними раскол. Item[933] Рим, некогда дикий и беззаконный, призвал из Сабинских гор Нуму Помпилия на правление, хотя не украшен он был иными добродетелями, кроме того, что был строг, набожен и высоконравствен. И разве Римская республика преследовала когда-либо иные цели, кроме мира между всеми народами и искоренение варварства и слепой силы, тех вечных источников греха и противников человеческого единства и нравственной жизни? Значит, верно, что империя, основанная на разуме и истинных ценностях, устроенная по справедливости, служащая миру между народами, дающая доступ к достоинству и почитанию, по-прежнему считается повсюду истинной и священной, и что правитель такой империи признается всеми оракулом разума и истинных добродетелей. Полноправный наследник древней Римской империи – это Священная Римская империя немецкого народа и твой великий император Иосиф I, Победоносный. – Ваши слова удивляют меня, синьор Атто; но могу только согласиться с вами. Мудрость императора из дома Габсбургов уберегла Вену от позора голода, бушевавшего во всей Европе. – Всегда помни об этом, мой мальчик: ни одна похвала не чествует императора больше, чем похвала его добродетелей: истинное благородство – не что иное, как нравственность, глубоко укоренившаяся в семье и передающаяся по наследству от отца к сыну. Габсбурги будут сидеть на троне в Хофбурге гораздо дольше, чем род наихристианнейшего короля во Франции. Я ушам своим не верил. Это говорил Атто Мелани, верный слуга их наихристианнейшего величества, тайный агент французской короны, всегда слепо преданный своему королю, даже ценой того, что покрыл себя позором и позволил обвинить себя в тягчайших преступлениях? – Французам важно только сияние, в этом они мастера, – горячился он. – Его наихристианнейшее величество создал себе самый грандиозный, дорогой и блестящий фасад, который можно только придумать. Роскошь его двора превысила роскошь всех монархов, тромбоны славы поют для него каждый день. Его пушки стреляли в половину Европы, его деньги подкупали всех иностранных министров. Щупальца Франции тянутся повсюду – но зачем? Теперь ее тело похоже на выброшенную на берег каракатицу: пустое, вялое, загнивающее. Он поправил маленькие очки на носу, словно ему нужна была пауза, но с учетом его нетерпения далась она ему нелегко. – Чего стоила вся эта слава Франции? Сколько крестьян умерло от голода, чтобы можно было оплатить пушки и балеты короля? Франция тратит на двор двести пятьдесят тысяч серебряных скудо, треть государственного бюджета, в то время как в Европе эта сумма не достигает и пятидесяти тысяч. Они прогнали из министерства финансов моего друга Фуке и оклеветали его; но только после этого наступил крах государственных финансов и траты государства теперь втрое выше, чем во времена Людовика III. Империя на коленях! И кто же вор? Он помолчал и промокнул губы платком. Затем с сердитой поспешностью спрятал платок обратно в карман. – Ах, дорогой мой! Я хотел бы сложить Францию как ковер и расстелить тут, перед тобой, нищету Парижа. Ты увидел бы людей, умирающих от голода, булочников, некоторых нападали из-за куска хлеба, утопленные в крови восстания. Ты увидел бы, как семьи продают свой жалкий скарб, чтобы выжить, как вдовы продают свои тела, чтобы прокормить семью, узрел бы детей, просящих милостыню, и новорожденных, умирающих от холода. Это слава? Все рушится в империи Людовика. Есть четыре всадника Апокалипсиса, но только тот, кто на белом коне войны, скачет так быстро. Однажды ты приедешь ко мне, в Париж, в Версаль. И только тогда поймешь все величие Вены. – Величие Вены? – Французы поклоняются красивому сиянию, а все сияние – в Версале, – вздохнул Атто. – В этой обманчивой вселенной все вращается вокруг «короля-солнце». Каждый простой смертный может свободно попасть в сады, королевский дворец и даже в королевские покои, только личная обеденная комната его величества всегда закрыта. Можешь увидеть, как он обедает, или присутствовать при его утреннем lever,[934] когда он открывает глаза и его дыхание еще пахнет соусом из куропаток, съеденных за ужином. Когда он возвращается с мессы, его ждут столько людей, что можно подумать, будто находишься на одной из крупнейших площадей Парижа. В Тюильри и Лувре имеют право быть только некоторыепридворные с особого разрешения. Но там царит такое столпотворение от карет, гуляющих и слуг, что кажется, словно ты на рыбном рынке. Движение в королевском дворце столь оживленное, а поведение всех этих людей настолько бесстыдное, что, дабы положить конец кражам в королевской капелле, пришлось ввести наказание за это преступление – смерть. Фарс, потому что никого к ней не присуждают. В обеденное время любой паразит может прокрасться в залы, поговорить со внуком его величества и сесть за стол великого придворного гофмейстера, камергера, духовника, придворного проповедника или исповедника короля. В этой пьяной суматохе, где царят болтовня и расточительство, пока к столу его величества несут золотые солонки, вокруг сплетничают о любовниках и содомных приключениях того или иного человека. Если ты болен, король может коснуться тебя. Он toucher[935] больных той же самой рукой, которой всю жизнь подписывал приказы о завоевании и походах для уничтожения целых народов. Если у тебя есть влиятельный друг, то ты можешь принять участие в débotté,[936] и его величество грациозно позволит снять с себя сапоги – глупый ритуал, за который он велит теперь восхвалять себя, хотя ритуалу сотни лет и восходит он к эпохе Валуа. И в то время как придворные все эти годы не делали ничего, кроме как ссорились из-за лучшего места или большего жалования и насмехались над сувереном, Франция гибла из-за расходов на войну и опускалась в ад, где сейчас и находится. В Вене же… – В Вене? – повторил я, все еще не веря, что слышу от Атто хвалебную песнь врагам Франции. – Разве ты не видишь своими глазами? Во Франции царит расточительство, в Австрии – бережливость. Там для каждого правителя супружеская измена – правило, здесь норма – верность супруге. В спальню императора входят только камердинеры, а не любые подхалимы. Он не приказывает писать свой портрет на карете, которой раздавит всех несогласных, он не приказывает писать мелодрамы этому лизоблюду Лулли, где он в образе Персея убивает дракона и спасает принцессу. Леопольд, отец нынешнего императора, велел увековечить себя в скульптуре: она показывает, как он преклоняется перед властью Господней и благодарит Его за то, что Он освободил Вену от чумы. В преклонном возрасте Атто пережил глубокое крушение высокомерных идеалов своего короля и вместе с тем разочарование всей своей жизни, своей собственной жизни, которую он принес в жертву тяжелой (и нередко унизительной) службе Франции. Французы, посещавшие императорскую сокровищницу в Хофбурге, продолжал Мелани, вернулись во Францию, злорадствуя, чтобы сообщить наихристианнейшему королю, как мало стоят камни короны Габсбургов по сравнению с сокровищами Версаля. – Они смеются и говорят, что в галерее и пяти кабинетах лежит только рухлядь. Среди картин есть только парочка Корреджо которые чего-то стоят. Смешон и кабинет драгоценностей, не считая большого кубка, выполненного из целого изумруда, который настолько дорог, что прикасаться к нему может только император; также беден якобы и кабинет часов, где, как мне сказали, есть только одна стоящая вещь: механический рак, движения которого кажутся такими естественными, что его можно с трудом отличить от настоящего; приличен кабинет с большим черным агатом и вазами из ляпис-лазури, в то время как монетный кабинет просто жалок: ни единой стоящей монеты, все разбросано в беспорядке. А в последнем кабинете вроде бы выставлены совсем ничтожные предметы, такие как статуэтки из воска и игрушки из слоновой кости, которые годятся в лучшем случае на то, чтобы давать их пятилетнему ребенку! – воскликнул аббат, недоверчиво и высоко подняв брови. Но французы, отеческим тоном заметил он, поступили бы умнее, если бы вели себя не столь презрительно, ибо скромность этого великого императора идет на пользу народу, в то время как во Франции люди умирают от голода. – В Вене никогда не было места для фаворитов и авантюристов вроде Кончини, злобных душ вроде Ришелье, барышников как Мазарини, предателей вроде Конде, хитрых конкубин как мадам де Ментенон. При дворе императора решения принимают только избранные самим императором министры. Крупные дворянские семьи служат им на протяжении столетий, они не какие-нибудь скользкие змеи. Не только сокровищница, нет, вся резиденция обставлена очень скромно, и слуг вполовину меньше, чем в Версале: роскошь и большие дворцы оставляют дворянству, императору же приличествуют достоинство, традиция и вера. Он доверяет управление провинциями крупным семьям, за это они уважают его главенство. Здесь нет заговоров, отравлений, разврата, подозрительных магических ритуалов и других непристойностей, которые порочат Версаль. Если бы я рассказал тебе об этом… – Точно, – кивнул я, – много лет назад вы говорили мне об этом, и еще вы рассказывали о клевете на бедного суперинтенданта Фуке и черных мессах Монтеспан, возлюбленной короля… – Ах, и о них тоже… Неужели я и вправду уже рассказывал тебе об этом? Память аббата Мелани начала слабеть. Кого бы это удивило, в восемьдесят пять-то лет? – Да, синьор Атто, и в «Оруженосце», и на вилле Спада. – Какая у тебя память! Ну, хорошо. Я уже ни на что не годен. – Но, дядя, вы не должны так говорить, – впервые вмешался племянник Доменико. – Не слушайте его, – добавил он, обращаясь ко мне, – он любит жаловаться. К счастью, дела обстоят гораздо лучше, чем кажется. – Ах, если бы наихристианнейший король только дал мне возможность покинуть Париж! Я бы немедленно вернулся домой, в Тоскану, – печально произнес Атто. – Да, там мне было бы лучше, в Пистойе, у моих родственников, в моем поместье, в Кастель-Нуово. Я приобрел его много лет назад и до сих пор ни разу не видел. Я устроил там даже портретную галерею: в ней есть портреты короля, супруги коннетабля, обоих кардиналов, дофина, дофинессы, между ними – король на лошади… А еще четыре небольшие эллиптические картины с Галатеей из виллы «Корабль», которые завещал мне аббат Бенедетти; я послал их туда и велел повесить, слегка наклонив, над четырьмя маленькими оконцами галереи, чтобы лучше было видно. Однако я вынужден довольствоваться тем, чтобы представлять себе их прелесть лишь с помощью писем своего племянника! Если я останусь в Париже, то прежде всего скоро стану совсем беден, с этими бумажками вместо настоящих денег, они ведь стоят не больше, чем макулатура! Весь город полон ими, их должно быть 150 миллионов ливров, и в остальной части империи они никому не нужны! Они – создание дьявола и крах Франции. Если менять их в Италии, тебе дадут не более половины, поэтому даже самые небольшие расходы на мое поместье выливаются для меня в целое состояние – я не могу даже велеть обить бочонки для воды железными обручами… – Атто вздохнул. – Я унизился настолько, что стал надеяться на лотерею короля, которая проходит каждый год в день святого Иоанна Крестителя, и молю Бога, чтобы он даровал мне хороший выигрыш, дабы я мог потратить его целиком и полностью на Кастель-Нуово. Но король не отпускает меня, он говорит, что вырос со мной и не может отказаться от аббата Мелани, а когда я настаиваю, он злится и гонит меня. Каждый раз, когда я проделываю это ужасное путешествие в Версаль, чтобы выпросить разрешение на возвращение в Италию, оказывается, что все было напрасно, а я стал еще более слабым… – Переезд из Парижа в Тоскану? В вашем-то возрасте? – удивился я. – А что я вам говорил? – подмигнул мне племянник. – Тяготы путешествия из Франции в Вену он перенес как двадцатилетний. – Пожалуйста, не преувеличивай, Доменико, – проворчал аббат. Может быть, племянник и преувеличивал, однако старый кастрат совершенно преспокойно сидел передо мной, после того как преодолел продуваемые всеми ветрами равнины, замерзшие реки и заснеженные горы и перевалы, отделяющие холодный Париж от ледяной Вены! Все это без драгоценного дара зрения, и потом, после пересечения границы ему пришлось переодеться в чиновника императорской почты. Чтобы не быть обнаруженным, ему, конечно же, приходилось скрывать, что он слеп, и отказаться не только от паланкина, но и от излишнего комфорта, который мог бы вызвать подозрения. Искусство притворства, подумал я, будет последним даром, который оставит утомленный дух аббата Мелани. И едва сумел сдержать улыбку. И все-таки я был озадачен, услышав о таких финансовых трудностях: вероятно, аббату Мелани пришлось пойти набольшие жертвы, чтобы устроить мне место трубочиста, да еще и с домом с виноградником! – Синьор Атто, чего же вам стоило, должно быть, послать меня сюда, я ведь и не подозревал, что вы… – Оставим это, – отмахнулся Атто. – Вернемся к разговору: как я тебе уже намекал, я прибыл в Вену с миссией мира. А теперь давай расплатимся и пойдем отсюда. И он сделал головой жест, который должен был означать, что такие вещи лучше обсуждать вне стен этой кофейни. – Мы немного прогуляемся по окрестностям, и ты послушаешь то, что я скажу тебе. Только на ходу можно быть уверенным в том, что нас не слушает пара лишних ушей. Доменико подозвал служанку, тут же подбежавшую, чтобы помочь Атто подняться и надеть пальто; затем, приветливо улыбнувшись, она вложила ему в руку красивую, украшенную марципаном шоколадную конфету, которую старый аббат сразу же принялся жевать. – Исключительное обслуживание, – похвалил Мелани, охотно опираясь на руку девушки и одаривая ее за внимание щедрыми чаевыми. Сначала мы направились к собору Святого Стефана, а затем – к Ротентурмштрассе. Одиннадцатого сентября 1709 года, продолжал свой рассказ Атто, состоялась ужасная битва при Мальплаке. На поле боя французы оставили восемь тысяч погибших; войска союзников под предводительством Мальборо и Евгения Савойского потеряли двадцать одну тысячу человек, и тем не менее победа осталась за ними. Сразу после этого они захватили город Монс и смогли удерживать позиции в Турне и Лилле. Следующий год, 1710-й, начался для Франции с очередных военных поражений. Враг уже посягал на сердце королевства, даже появился второй фронт на юге, где вражеские войска маршала Мерси с помощью герцога Савойского, кузена принца Евгения и правителя Пьемонта, угрожали вторгнуться во Францию. В июне пали Дуэ, Бетюн, Эр и Сен-Венан. Союзники начали готовиться к вступлению в Париж. Французов побеждали по всем фронтам. В августе в Сарагосе, в Испании, они потерпели сокрушительное поражение. В Германии Бавария, несчастный союзник Франции, была разбита австрийским императором и разделена на лены между его родственниками. Курфюршество Кельн, еще один союзник Людовика, уже уничтожено. В Венгрии все восставшие земельные князья, которых поддерживает Франция, ради того чтобы они подтачивали силы Австрии на востоке, побеждены Иосифом I; их предводитель Ракоци навеки разбит, его войска разбросаны. Две короны, как называл Атто Францию и Испанию, на пределе. У Франции нет денег, нет войска и уже нет продовольствия, она стоит на пороге окончательного краха и полностью предоставлена опустошительным набегам своих врагов. Королевство Испания, которое Людовик XIV, вопреки воле всей Европы, доверил своему внуку, Филиппу Анжуйскому (в этом и заключалась причина войны), тоже повержено: торговля угасла, поля опустели, население изнурено, а братоубийственная война между приверженцами Франции и приверженцами ее врагов разделила страну на два враждующих лагеря. – Настал момент, когда Людовик XIV уже не требует мира: он умоляет о нем, – сказал Атто, когда мы сворачивали на Волльцайле. В нидерландском городке Гертруденберг наихристианнейший король Франции снова возобновляет тайные переговоры с вражескими войсками, однако его посланников повсюду встречают презрением. Поставленные союзниками условия намеренно невыполнимы: в течение двух месяцев наихристианнейший король должен силой прогнать с испанского трона своего собственного внука Филиппа. Поэтому война продолжается. Новые надежды на мир пробуждают события в Англии: борьба за власть между министрами и короной ослабляет партию герцога Мальборо и усиливает партию приверженцев мира, поскольку им жаль тратить общественные деньги на войну. – В январе, чуть более трех месяцев назад, – осторожно прошептал Атто, – некий мошенник, священник и посланник англичан предстал перед маркизом де Торси с очень тайной миссией, чтобы просить сепаратного мира. С тех пор ведутся тайные переговоры с графом Оксфордом и государственным секретарем Сент-Джоном. – Но разве вы не говорили о том, что англичане вместе с империей и Голландией ведут переговоры с Францией, в этом городке… в Гертруденберге? – Чш-ш-ш! Ты хочешь, чтобы нас все услышали? – зашипел на меня Атто, а затем ответил почти неслышным голосом: – Мирные переговоры в Гертруденберге провалились. Теперь англичане ведут переговоры, а Австрия и Голландия ничего об этом не знают. На войне можно все, и это в том числе. Но пользы от этого не будет. – Почему? Он остановился и повернулся ко мне, словно мог меня видеть. – Потому что в Вене есть человек, который мешает миру. Его зовут Евгением Савойским. Из личных интересов он хочет продолжать войну любой ценой, а император прислушивается к нему. Но я смогу переубедить его императорское величество изменить свое мнение. – Светлейший принц Евгений мешает заключить мир? – удивленно воскликнул я. – А что останется Савойскому, когда закончится война? Он снова станет тем, кем был до сих пор: итальянцем-полукровкой, рожденным и воспитанным на французской земле, где над ним так насмехались и оскорбляли, что он вынужден был бежать, к тому же переодетым женщиной. Здесь, в империи, его приняли только потому, что в вопросах войны австрийцы – сущие ослы. Я удивился. В адрес Евгения я до сих пор слышал только восхваления. В Австрии он был национальным героем, выше которого был только наш возлюбленный император Иосиф Победоносный. Мы пошли дальше. – Счастливым днем для него было 11 сентября: день, когда его мать была принята при королевском дворе в Париже, где должна была познакомиться со своим мужем. Как раз на этот день выпадает битва при Зенте, где Евгений одерживает свою первую крупную победу над турками. И это день битвы при Мальплаке, когда наш герой победил французские армии под командованием маршала де Виллара. Я не понял, почему Атто хотел так много рассказать мне о Евгении Савойском. Признаю, хотя его почитали во всей империи, знал я о нем по-настоящему мало. Мне было известно – впрочем, только потому, что я слышал об этом от самого Атто, – что его мать была жестокой женщиной: Олимпия Манчини, племянница кардинала Мазарини, который устроил ей очень выгодный брак с отпрыском пьемонтских герцогов Савойских. Я хорошо помню характеристику, данную Атто коварной Олимпии: она интриговала даже против своей мягкой сестры Марии, первой любви наихристианнейшего короля, с которой мне выпала честь познакомиться благодаря Атто одиннадцать лет назад. Кроме того, я знал, что Евгения презирал Людовик XIV, и что поэтому он бежал из Парижа, еще будучи юношей; но не считая этого, о человеке, считавшемся в империи величайшим генералом всех времен, я знал очень мало. Он сделал войну своим единственным занятием и готов был пожертвовать ради этого всем. – От Евгения этот народ трусов не может отказаться точно так же, как стадо от собаки. Назови мне хоть одного человека из этой страны, не считая императора Иосифа I, который заслужил звание солдата! Кто изгнал турок из Вены в 1683 году? – продолжал Атто еще более мрачным тоном. – Я тебе скажу: великий польский король Ян Собеский, баварец Максимилиан Эмануэль, француз Карл Лотарингский, уроженец Пфальца Людвиг Баденский и итальянский папа. Евгений Савойский, хотя ему было всего двадцать лет, тоже участвовал в этом. Короче говоря: все, кроме покойного императора Леопольда… Мы медленно пересекли Кернтнерштрассе и опять пришли к «Голубой Бутылке». – Я знаю, знаю, синьор Атто, вы мне это уже рассказывали, когда мы познакомились. Император покинул Вену. – Покинул? Скажи лучше, бежал сломя голову… но вернемся к нашему разговору. Эта проклятая война закончилась бы давным-давно, если бы Евгений Савойский не препятствовал миру. Она бы даже не начиналась, хотел ответить я, если бы не кто-то, кто подменил завещание последнего испанского короля… Но то была старая история, а прошлого изменить нельзя. – Вы действительно обвиняете его светлость принца Савойского в столь низменных намерениях? – спросил я вместо этого. – Вы действительно думаете, что он обращает в пепел всю Европу и постоянно ставит на кон свою жизнь только лишь ради личной славы? – Собачий Нос… пардон, я хотел сказать: Евгений родился в 1663 году, мой мальчик, он одного с тобой возраста, сорока восьми лет. Я видел, как он рос, и поверь мне: у него нет иной жизни, кроме войны. Он и есть война. И я даже не могу считать его неправым. – Почему вы назвали его «собачьим носом»? – О, это всего лишь забавная кличка, которую дали ему его товарищи по играм; невоспитанные сорванцы. Ты должен знать, что Евгений, скажем так, воспитывался очень неподобающим образом, – произнес Атто странно смущенным тоном. – Будучи мальчиком, он окружал себя невоспитанными товарищами, и солдатская жизнь была лучшим лечением от этого. Когда ему исполнилось пятнадцать, ему даже выстригли монашескую тонзуру, но он уже решил стать солдатом. Когда его наихристианнейшее величество отказался предоставить ему полк, он бежал из Франции, переодевшись женщиной, чтобы воплотить свою мечту о войне здесь, в империи. Атто Мелани говорил, не переставая, но я все еще не понимал, почему он хочет говорить именно о принце Евгении, и почти пе слушал. Вместо этого я размышлял о последних событиях; когда Атто прибыл в Вену? Два дня назад, восьмого, если быть точным. А турецкий ага? Седьмого. Какое совпадение: между их прибытиями всего один день. Атто Мелани был тайным агентом наихристианнейшего короля, турки с давних времен были союзниками Франции. Оба были в Вене из-за принца Евгения. Какое стечение обстоятельств! Я знал Мелани вот уже около тридцати лет и хорошо понимал: если случаются важные события и он в это время находится поблизости, то наверняка за этим стоит он. Может быть, таинственное посольство аги тоже было обязано своим появлением какому-нибудь темному маневру аббата? Мне было всего лишь почти полвека, как правильно заметил Атто, ему же – восемьдесят пять. Но ему не удастся легко обмануть меня; я буду начеку. А пока что мне стало ясно, почему Атто внезапно вспомнил о своем старом долге передо мной и послал меня в Вену… Я снова нужен ему, бедный, наивный, но верный простофиля, чтобы он мог плести свои интриги. Каков благодетель! Но я разрывался между разочарованием и благодарностью. Каким великодушным оказался аббат Мелани! Вместо того чтобы навеки исчезнуть из моей жизни, он сделал меня зажиточным человеком. Каким бессовестным кровопийцей был аббат Мелани! Вместо того чтобы посылать меня в Вену, он мог великодушно подарить мне кусок земли у себя на родине, в Тоскане, как и обещал! Тогда мои девочки давным-давно были бы замужем и мне не пришлось бы начинать новую жизнь в столице империи. И если бы я не был нужен ему в Вене, он так и оставил бы меня прозябать в подвале из туфа? Лицо мое под гнетом мрачных мыслей превратилось в мрачную маску, шаги потяжелели, когда аббат Мелани наконец снова привлек к себе мое внимание. – О чем, кстати, не вспоминает никто, так это о том, что Савойские всегда были величайшими предателями. – Предателями? – вздрогнул я. – Они правят не особенно крупным герцогством у подножия Альп, которое, однако, крайне важно со стратегической точки зрения. Для обеих корон, французской и испанской, это врата в Италию. И на этом они самым бесстыжим образом наживаются, то и дело меняя союзников. Как часто я тщетно ждал писем из Италии, потому что господину герцогу Савойскому пришло в голову арестовать всех курьеров! И не было средства против этого своевольного, продиктованного только вымогательством решения, и нельзя было остановить неслыханное предательство этого рода! Тем временем мы снова вернулись к «Голубой Бутылке». Атто мерз, он хотел продолжить разговор в тепле. Мы вошли в кофейню и заняли столик. За почти пятнадцать лет его регентства, продолжал он рассказ, прадеду Евгения, герцогу Карлу Эммануилу Савойскому удалось трижды сменить флаг: сначала он женился на дочери Филиппа II Испанского; затем переметнулся на сторону французов – в надежде, что французы помогут ему расширить свои территории; в Италии; наконец, он вернулся к Испании, Его сын, Виктор Амадей I женился на французской принцессе Кристине. Когда он умер, его жене ради удержания власти пришлось сражаться не с чужеземными войсками, а с братьями своего мужа, которые вели войну против нее. Один из этих братьев, Томас Франц, был дедом славного Евгения. Он тоже женился на французской принцессе и, казалось, помышлял только о защите Франции, более того, он даже некоторое время жил в Париже. – Затем произошел обычный поворот: он отправился во Фландрию, поступил на службу к испанским врагам и объявил своим родственникам, что хочет посвятить свое тело и душу борьбе против Франции, – сказал Атто со смесью иронии и презрения в голосе. Да и другие прямые родственники Евгения не блистали моральными достоинствами, не говоря уже о телесных. Его дядя, Эммануил Филиберт, первенец, а значит, и наследник герцогства, был глухонемым. Его тетя, Луиза Кристина, вышедшая в Париже замуж за маркграфа Людвига Фердинанда Баденского, ко всеобщему удивлению, отказалась последовать за своим супругом в его земли в Германии, потому что ее единственный сын мог получить во Франции гораздо лучшее воспитание (после чего ее муж, кузен Евгения, недолго думая, похитил ребенка и увез к себе на родину). Отец Евгения, наконец, хотя и не был предателем, и мог и слышать, и говорить, женился на Олимпии Манчини, матери Евгения, жестокой интриганке, которую подозревают во многих отравлениях. – Чудесный род, эти Савойские и их жены, – заключил Атто, – тщеславные предатели, глухонемые и отравители. – Этого я не понимаю: как может такой человек, как принц Евгений, происходить из такой семьи? – озадаченно спросил я. – Он снискал себе славу справедливого человека, неутомимого полководца и верноподданного нашего императора. – Это то, что говорят люди. Потому что они не знают того, что знаю я. И что позволит мне покончить с войной. Он сделал непроизвольное движение головой, словно хотел осторожно оглянуться. Затем сказал, обращаясь к своему племяннику: – Доменико, есть здесь поблизости какие-нибудь шпики? – Не думаю, дядя, – ответил молодой человек, бросив взгляд на соседние столики и на всю кофейню. – Хорошо. Тогда слушай, – снова обратился ко мне Атто. – О том, что ты сейчас услышишь, ты не должен ничего никому говорить. Ни слова. Ни-ко-му. Понял? Хотя эта внезапная смена тона беспокоила меня, я кивнул. Атто вынул из жакета сложенный вчетверо листок бумаги, в котором оказалось письмо. Он открыл его и протянул мне. Письмо было написано по-итальянски.
Следуя горячему желанию организовать Вашему Величеству интереснейшую капитуляцию, а также заявить о нашем живейшем старании, о том, что мы хотим приложить все силы к тому, чтобы закончить ту войну, которая столь долгое время и крайне прискорбным образом сотрясает всю Европу, мы передаем это послание надежному человеку, чтобы Ваше Величество получило известие о нашем предложении и могло принять решение, которое покажется Вам подходящим и необходимым. Поскольку испанская Фландрия, как всем известно, вот уже на протяжении многих лет находится в постоянном волнении из-за войн и восстаний, вследствие чего ей требуется крепкая и уверенная рука, нам думается, что передача этих земель дому Савойских в нашем лице было бы поистине подходящим средством для того, чтобы освободить эти земли и этот народ от тяжких страданий. Подобное решение привело бы войну немедленно и неотвратимо к тем самым результатам, которые более близки Вашему Величеству и наихристианнейшему королю Франции, вследствие благодарности, вызванной необходимостью. Мы рекомендуем себя Вашему Величеству как верного и преданного слугу и выражаем горячее желание способствовать восстановлению мира и оказать драгоценную услугу Вашему Величеству.– Конечно, это копия. Оригинал находится в руках короля Испании, Филиппа V, к которому и обращено это письмо, – прошептал Атто. Он сложил письмо и снова молниеносно спрятал его в тайник, бросив мне при этом довольную улыбку. Даже не видя меня, он наверняка догадывался о моем озадаченном выражении лица. – Все это случилось в начале этого года, – еле слышным голосом продолжал он. Неизвестный офицер привез это письмо к испанскому двору, где правил Филипп Анжуйский, внук «короля-солнце». Ему удалось лично вручить это письмо Филиппу, затем он исчез. Молодой король Испании был в растерянности, когда прочел эти строки. – В этом письме Евгений предлагает сделку, – сказал я. – Если Испания свои владения во Фландрии… – Ты называешь это сделкой, – перебил меня Атто, – однако на самом деле это предательство. Евгений говорит: если Испания пообещает передать мне во владение и правление свои территории во Фландрии, то из благодарности я уйду с поста австрийского полководца. Лишившись своего верховного главнокомандующего, император наверняка согласится на перемирие, которого так сильно желает Франция, и дорога для мирных переговоров будет открыта. Я молчал, огорошенный таким открытием. Поворот, который принимал наш разговор, мне не нравился. Филипп, продолжал Атто, тайными путями немедленно послал копию письма в Париж, где его прочли только два человека: «король-солнце» и его министр Торси. – Ты должен знать, – заявил Атто, – что моей скромной персоне была оказана честь передавать Торси все те сообщения, которые иноземные дипломаты хотят переправить по неофициальным источникам. Короче говоря, при дворе мои услуги ценят очень высоко. Что ж, его величество и министр Торси решили доверить эту миссию мне. – Вы говорите о своей мирной миссии? – Именно. Молодой католический король Испании и его дед, наихристианнейший король Франции, конечно лее, не могут принять столь дерзкого предательства. Однако могут воспользоваться ситуацией и достичь тех же результатов: мира. Поэтому они решили послать меня в Вену, чтобы, как и подобает, проинформировать о предательстве Евгения того, кого оно касается. – Кого оно касается? – запинаясь, пробормотал я, уже догадываясь, к чему он клонит. – Конечно, императора. И ты мне поможешь.Евгений Савойский
Должно быть, ужас настолько драматично отразился на моем лице, что племянник Атто спросил меня, не желаю ли я стакан воды. Теперь мне было совершенно ясно, почему Атто заставил меня выслушать эту преамбулу о Евгении Савойском. Я вытер несколько капель пота у себя на лбу, холодных, словно потоки Дуная под зимней ледяной коркой. В той сумятице, что творилась у меня в голове, связывавшей в загадочном танце турецкого агу то с аббатом Мелани, то с Савойским, воцарялось тяжелое, будто мельничный жернов, понимание: Атто опять впутал меня в одну из своих интриг. Что делать? Сразу отказаться помогать ему и, возможно, вызвать его гнев, что было сопряжено с опасностью того, что он отменит свою дарственную или совершит неосторожный поступок, а меня схватят как его сообщника? Или же пойти на риск и попытаться выполнить его пожелания, конечно же, принимая как можно меньше участия и надеясь, что он вскоре покинет Вену? Одно было ясно: дар, сделавший меня зажиточным человеком, был платой не за услуги, оказанные мною ему в прошлом, а за те, которых он ждал от меня в совсем скором будущем. – Боже милосердный, – сдавленно вздохнул я и в свою очередь принялся оглядываться по сторонам, проверяя, не слушает ли нас кто. – И в чем же, как вы полагаете, я могу быть вам полезен? – Все очень просто. Мой маскарад императорского почтмейстера не может долго оставаться незамеченным в этом городе. Если я попытаюсь попасть ко двору, меня разоблачат как врага-француза и сделают из меня котлету. Для того чтобы попасть к императору, придется пойти коротким путем. Он снова склонился ко мне, чтобы иметь возможность говорить еще тише: – Как раз на той улице, где находится монастырь Химмельпфорте, живет человек, который очень дорог императору. Речь идет о девушке двадцати лет по имени Марианна Пальфи. Она – дочь верного императору венгерского дворянина и возлюбленная Иосифа. – Возлюбленная? А я об этом ничего не знал… – озадаченно произнес я. – Конечно, ты ничего не знал. Это сочные сплетни, которые венцы не доверяют чужеземцам. Но живущие здесь французские шпионы заботятся о том, чтобы они попадали в Париж. По совету Евгения Иосиф устроил здесь, на Химмельпфортгассе квартиру, прямо рядом с его дворцом. Она живет, если быть точным, в том домике, который принадлежит служительнице ордена Химмельпфорте, сестре Анне Елене Страссольдо, дворянке итальянского происхождения, которая в настоящее время является первой сестрой монастыря. Кстати, этот человек тоже мог бы послужить хорошим способом, чтобы попасть к Пальфи, – преспокойно заключил он. У меня словно пелена с глаз упала: так вот зачем Атто устроил мне жилье в монастыре Химмельпфорте! Конвент находился в самом центре интриги, которую он намеревался разыграть, как раз между дворцом Евгения и квартирой возлюбленной Иосифа Победоносного. Я едва не сказал ему, что вижу его план насквозь, но времени на то, чтобы открыть рот, мне не хватило. Атто велел своему племяннику передать ему палку и поднялся. – Хочу немного пройтись. Мы выйдем на улицу не вместе, это может вызвать подозрение, Ты спокойно посиди здесь, если хочешь еще немного побыть в тепле. Я велю позвать тебя, когда придет время действовать. И я таки остался бы за столиком один, если бы вдруг двери кофейни не открылись и на пороге не возник посетитель, удививший своим появлением Атто и его племянника. На пороге «Голубой Бутылки» стояла Клоридия. – Я нашла в монастыре твою записку, – произнесла она, обращаясь ко мне, а потом заметила того, кто стоял рядом со мной. В первое мгновение она не поверила своим глазам. – Господин аббат Мелани… Господин аббат! Вы – здесь?
* * *
В отличие от всех прочих встреч, когда они виделись, губы Клоридии при виде Атто приоткрылись только затем, чтобы изобразить ослепительную улыбку. Она казалась приветливой и не жалела слов благодарности за щедрый дар, который наконец дал нам возможность найти выход из трудной ситуации, да что там, принес благосостояние! Аббат отвечал на излияния Клоридии со множеством декорума и такой, же приветливостью, а когда она выразила сочувствие по поводу того, что он лишился зрения, казался даже тронутым. Время оставило следы на лицах обоих, но сгладило трудные черты их характеров. Клоридия стояла перед хрупким, поблекшим восьмидесятипятилетним стариком, Атто – перед зрелой женщиной. Пока они обменивались любезностями, дверь опять открылась. На пороге показался Симонис. Он почтительно приветствовал Клоридию, Атто и Доменико; когда же аббат Мелани почувствовал исходящий от него неприятный запах копоти, он снова поднял к носу платочек. – Нам нужно торопиться, – напомнила мне жена, – скоро он выйдет из дворца принца Евгения. Мы сможем пойти за ним. – За кем? – Этим Кицебером, дервишем. Я видела во дворце странные вещи. А после того что ага сказал принцу Евгению, нам нужно непременно выяснить, что он замышляет. – А что ага сказал Евгению? – вмешался Атто. – Странное предложение, – ответила Клоридия. – Он сказал, что турки пришли совсем одни, pomum aureum… – Это запутанная история, – быстро вставил я, пытаясь перебить супругу, которая еще ничего не знала о моем знании и предположении по поводу турок и Атто. – Я вам потом об этом расскажу. – Pomum aureum? – спросил Атто, который, конечно же, живо интересовался всем, что происходит во дворце Евгения. – И что же это может означать? – Город Вену или, быть может, всю империю в целом, – ответила Клоридия, хотя я постоянно бросал на нее злобные взгляды, призывая к молчанию. – Очень интересно, – заметил Атто. – Я полагаю, нечасто бывает, что можно услышать столь оригинальный способ выражения от турецкого посланника. Здесь могло бы заключаться почти зашифрованное послание. – Точно! – ответила Клоридия. – Выражение pomum aureum относится наверняка к Вене, но зачем здесь пояснение, что турки прибыли одни? Кто мог их сопровождать? Чтобы понять это, наверное, нужно знать, откуда происходит это выражение «Золотое яблоко» в отношении Вены. – Если хотите, – вмешался Симонис, – я мог бы помочь вам решить эту проблему. – Каким же образом? – спросил Атто. – Я могу попросить парочку своих однокурсников заняться этим вопросом! Все они очень смышленые молодые люди, как вы знаете, – сказал он, обращаясь ко мне. – Будет достаточно, если за это последует соответствующая плата. Это обойдется дешево: они нетребовательны. – Очень хорошо. Великолепная идея! – решила Клоридия. На это я ничего возразить не мог, поскольку денег у нас действительно хватало. Ситуация окончательно вышла у меня из-под контроля. – А теперь идем, скорее, – потянула меня жена, – не то дервиш уйдет от нас. Мы поспешили на улицу и оставили Атто Мелани вместе с Доменико в кофейне, вместо того чтобы, как было запланировано, они оставили там нас. Торопливо и взволнованно прощаясь с ними, я видел их удивленные и несколько беспомощные лица. На улице в лицо нам ударил порыв ветра. Мы почти добрались до Химмельпфортгассе, когда Клоридия остановила меня. – Вот он, должно быть, только что вышел из дворца, – сказала она, указав на незнакомую мне фигуру. – Симонис, возвращайся в Химмельпфорте и сегодня во второй половине дня продолжай работать с малышом. Когда мы с Клоридией вернемся, сказать я тебе не могу. Преследование началось.На Кицебере был широкий белый плащ, поверх которого он носил белую овечью шкуру. Борода у него была длинная и неухоженная, на голове – остроконечная шляпа из серого фетра, обмотанная зеленым тюрбаном. Через плечо висел охотничий рог и саквояж, а в руке была палка с большим железным крюком на конце. Несмотря на преклонный возраст, внешность у старика была дикая. Если бы я повстречал его в безлюдном месте, он напугал бы меня. Его изорванные одежды, бледное, изборожденное глубокими морщинами чело, истощенное тело и грубость, почти животная, его лица напоминали помесь священника и бродяги. Казалось, он не обращал ни малейшего внимания на прохожих, которые оборачивались на него на каждом углу и потешались над ним. Он поспешно покинул Химмельпфортгассе и направился к Августинеркирхе. – Проклятие, Клоридия, – сказал я, пока мы шли за ним, – как ты могла в присутствии Атто говорить о турках и аге? Ты не подумала о том, что он мог прибыть в Вену из-за одной из своих обычных грязных махинаций? Я объяснил ей, что Мелани прибыл в Вену почти одновременно с турками, и что это, вероятно, не случайно. – Ты прав, – признала она, подумав некоторое время, – мне нужно было быть внимательнее. Первый раз за всю нашу жизнь моя умная, осторожная супруга, которая была способна все точно предвидеть и взвесить, которая могла объяснить каждое событие и связать его с другими, вынуждена была признать свою ошибку. Может быть, ее проницательность притупилась с возрастом? – Знаешь что? – радостно добавила она. – С тех пор как невзгоды остались позади и мы наслаждаемся здесь, в Вене, даром твоего аббата Мелани, я, похоже, начала учиться быть иногда рассеянной. Между тем Кицебер спустился по всей Кернтнерштрассе и теперь собирался пройти одноименные ворота: Каринтийские ворота, южный вход и выход из города, через которые проезжали и мы с Клоридией во время нашего прибытия в Вену. Преследование оказалось непростым. С одной стороны, благодаря головному убору и одежде Кицебера было хорошо видно издалека. С другой стороны, равнины предместий к северу от Вены усложняли наше положение, поскольку постоянно возникала опасность быть обнаруженными. Проходя Каринтийские ворота, дервиш вызвал немало веселья у прогуливающихся прохожих и торговцев, проезжавших там со своими повозками, однако остался совершенно спокоен и сохранял быстрый шаг. Но дороге Клоридия объясняла мне особенности одеяния Кицебера. – В этот рог, который он носит с собой, дервиши дуют в определенные часы, чтобы возвестить о начале молитвы; палка служит в качестве инструмента для духовных упражнений: дервиши обычно опираются на нее подбородком, а затем закрывают глаза. Но палка держит только до тех пор, пока не сдвинется с места крюк. Если дервиш засыпает, крюк шатается, палка падает, и он просыпается. – Да это же почти орудие пытки! – Можно сказать и так, – улыбнулась моя жена. – В любом случае, дервиши обладают крайне необычайными способностями, как рассказывала мне моя мать. За Каринтийскими воротами мы перешли через гласис, ту пыльную равнину, которая окружает защитные укрепления столицы, и пересекли Вену, меньшую из городских рек, в честь которой, как утверждали многие, и был назван город императора. Дервиш удалялся по направлению к Видену, предместью, по одну сторону которого, насколько хватало глаз, словно мягкая зеленая равнина расстилались неисчислимые виноградники. Мы оставили позади Нильсдорф и Матцельдорф и оказались у внешнего кольца укреплений, так называемых Линейных валов, построенных несколько лет назад итальянскими архитекторами. Наступая дервишу на пятки, мы прошли ворота в защитных стенах и теперь окончательно покинули область города. Преследование продолжалось в открытом поле, по дороге, ведущей из Вены в Нойштадт. Вокруг нас простирались возделанные поля, изредка можно было увидеть несколько домов. Еще час шли мы за этим человеком, часто подвергаясь опасности потерять его из виду: поскольку вне городских стен не было улиц и дворцов, нам приходилось держаться на порядочном расстоянии, чтобы не быть обнаруженными. Нам повезло, что я знал эту дорогу: именно по ней мы ехали в Нойгебау с Симонисом и малышом. Тем временем Клоридия рассказала мне, что видела сегодня во дворце принца Евгения. – К Кицеберу приходило загадочное создание. Речь шла о каком-то очень темном деле. – Загадочное создание? – Никто не смог разглядеть, кто это был такой. Он пришел через боковой вход, через него же потом и исчез. Правда, мне повезло: я заметила не только его присутствие, но и поняла, что это не венец, быть может, даже не христианин. События развивались следующим образом: Клоридия сопровождала во дворец девушку, у которой двое мужчин из свиты аги хотели купить ткани. Во время торговых переговоров, проходивших в одной из комнат на втором этаже, Клоридия в щелку двери увидела, как странная, дурно пахнущая фигура проскользнула по наружной лестнице. Она была закутана в грязное пальто, лицо тщательно скрыто, и сопровождал ее османский солдат из обычного эскорта дервиша. Поскольку во время переговоров девушка, похоже, отлично справлялась сама (один из двух турок, которые интересовались тканями, немного говорил по-немецки, а самое главное, умел считать и знал достоинство монет), Клоридия под каким-то предлогом удалилась и вычислила комнату, в которую повели таинственную личность. Едва девушка договорилась с обоими турками, моя хитрая женушка встала у той двери, чтобы послушать, что происходит в комнате. – Голос Кицебера я узнала сразу. Кроме него там присутствовало по меньшей мере еще двое турок. Конечно, говорили они на своем языке. Там же находился и этот грязный, вонючий человек, таинственный посетитель, но он изъяснялся на незнакомом мне языке, я даже не могу сказать, европейском или азиатском. У него был низкий хриплый голос, может быть, все дело в возрасте или в плохом произношении, не знаю. Самое странное, что, хотя отдельных слов было не разобрать, смысл я, тем не менее, поняла. – И о чем он говорил с дервишем? – О голове человека. Дервиш хочет получить ее любой ценой. – Боже праведный! – воскликнул я. – Они планируют убийство! Кого же они хотят убить? – К сожалению, я не поняла. Может быть, они уже сказали это до того, как я подошла. Вероятно, речь идет о высокопоставленной особе, по крайней мере, мне показалось, что дервиш и его товарищи считают именно так. – А голова? Когда они надеются ее… получить? – Именно это и спросил Кицебер у посетителя. Тот пообещал заняться этим делом и принести новости уже сегодня вечером или завтра утром. Моя душа, достаточно сильно отягощенная сознанием того, что я в очередной раз становлюсь инструментом заговора аббата Мелани, была потрясена. Мы с Клоридией оказались правы: турецкое посольство прибыло в Вену не с дипломатической миссией, а из-за мрачного, кровавого плана. Давно уже прошли мы Линейный вал и Матцельдорф с его идиллическими домиками, внутри которых скрывались замечательные трактиры. Мы повернули на дорогу к Зиммерингу, и когда холмы сменялись холмиками, вдалеке мы могли разглядеть величественную панораму оцепленного поясом крепких стен города. Кицебер спокойно придерживался своего ритма, на развилках нисколько не колебался; казалось, он ни капли не сомневается в цели своей экспедиции. – Поначалу ты говорила, что знаешь, куда он идет, – напомнил я Клоридии. – В конце его разговора с загадочным гостем я услышала, как Кицебер заявил, что отправится в отдаленное и пустынное место. А значит, наверное, в лес, потому что этого добра в Вене хватает. Мы переглянулись: один из лесов, к примеру, находился в районе Места Без Имени. К которому мы, как становилось ясно, прямиком и направлялись.
Вскоре поля уступили место зеленым вкраплениям дубов и лиственниц, елей и буков, окружавших Место Без Имени. Мы шли по тропе, которая вела к небольшому возвышению неподалеку от замка Максимилиана и откуда можно было окинуть взглядом весь дворцовый комплекс. С каждым шагом растительности становилось все больше, а сама она – все пышнее. Тот, кто никогда не видел его, не сможет представить себе, насколько плодороден и благословен венский лес. Когда засаженные виноградниками и овощами холмы остаются за спиной и можно наконец нырнуть под манящую сень широких лиственных крон Венского бассейна, кажется, словно ты оказался на коленях у любящей матери. Она снимает усталость шелестом листьев и пением птиц, облегчает шаги по мягкой листве и покрытым росой папоротникам. Стояла ранняя весна, когда лесной грунт ласкает взгляд изумрудно-зеленым цветом, а удивительные кухонные запахи будоражат воображение. Вызывает такие ощущения трава, названия которой я не знаю, но которая в апреле наполняет каждый уголок венского леса и сводит с ума своим пряным ароматом, рождая призрачные иллюзии того, что уже за ближайшим деревом скрывается голец в бульоне с приправами или фаршированная свиная ножка.
Итак, мы пробирались через лес, следуя за дервишем, который все еще ничего не подозревал о нашем присутствии. Мы прошли еще полчаса и оказались в самом низком месте леса, где Кицебер наконец остановился. Позади него на горизонте виднелся огромный силуэт Места Без Имени. Похоже было, что дервиш выбрал это место именно из-за его близости к творению Максимилиана, разве Место Без Имени и без того не является милым и драгоценным для сердца турок? Мы спрятались за большим поваленным стволом дерева и принялись наблюдать. Он положил свой мешок на траву и вынул оттуда забавные приспособления, которые расставил на небольшом коврике. Ни разу он не поднял головы: похоже было, что он совершенно уверен в том, что поблизости никого нет. С серьезным, непроницаемым лицом он упал на колени лицом па восток; затем опустился на землю и закрыл глаза. Через некоторое время поднялся, встал на колени перед ковриком, на котором лежали предметы, и поцеловал землю. При этом он держал руки над своими принадлежностями, словно хотел благословить их, негромко произнося какие-то неразборчивые слова. Наконец он снова поднялся, снял с себя плащ с овечьим мехом и теперь, невзирая на холод, стоял с обнаженным торсом, оказавшимся худым, но сильным. Он вынул из мешка два браслета с бубенчиками и надел их себе на лодыжки. После этого достал из плаща длинный, украшенный колокольчиками кинжал и встал босыми ногами на коврик, посреди предметов. До сих пор он был спокойным и умиротворенным. Теперь же он постепенно начинал оживать, словно подогреваемый внутренним огнем: грудная клетка стала шире, ноздри затрепетали, а глаза с невообразимой скоростью начали вращаться в глазницах. Это превращение сопровождалось его собственным пением и танцем. Начал он с монотонного речитатива, вскоре заговорил громче и, наконец, все это перешло в ритмичные восклицания и крики, которые регулярно подкреплялись быстрым притопыванием и лихорадочным звоном браслетов на лодыжках и колокольчиков на кинжале. Когда ритм достиг наивысшей точки, дервиш снова поднял и опустил, словно движимый невидимой силой, рукус кинжалом, как будто не осознавая своих собственных действий. Все члены его пробрала дрожь, и он уже кричал так громко, что браслетов и колокольчиков было почти не слышно. Затем он принялся скакать, не прерывая громкого пения, выполняя настолько дикие прыжки, что пот ручьями стекал по его обнаженной груди. То было мгновение вдохновения. Сначала он, казалось, бросил полный экстаза взгляд на далекое строение из белого камня. Затем дрогнул кинжал, который он не выпускал из руки и малейшее движение которого заставляло множество колокольчиков заходиться в лихорадочной дрожи, дервиш вытянул руку перед собой, после внезапным рывком отвел его назад и вонзил клинок себе в щеку, так что острие прошло сквозь плоть и вышло внутри открытого рта. Кровь тут же выступила с обеих сторон раны, и я не смог удержаться, чтобы не заслониться рукой от ужасающего зрелища. Дервиш опустился на колени, вынул клинок и, смочив ладонь слюной, вытер раненую щеку. Операция продолжалась всего несколько секунд, однако когда он поднялся и повернулся, так что мы могли его видеть, ранения и след простыл. Затем Кицебер снова на несколько мгновений опустился на землю с закрытыми глазами. Едва он поднялся, спектакль повторился: он нанес себе рану в руку, которую излечил таким же образом. И на этот раз следы ранения тоже полностью исчезли. Третий ритуал вызвал у меня еще больший ужас. Кицебер вооружился кривой саблей. Он схватил ее за оба конца, вонзил загнутым концом себе в живот и, слегка качнув, позволил ей войти в плоть. На его смуглой блестящей коже тут же появилась пурпурно-красная линия, темная кровь потекла на ноги и окрасила бубенцы на лодыжках. Подвергая себя таким мучениям, дервиш улыбался. Мы с Клоридией недоуменно переглянулись. Слегка покачиваясь, Кицебер снова наклонился над своими инструментами. Он взял шкатулку с раскрашенной крышкой и открыл ее. В руке у него появился лоскут темной материи, цветом похожей на корку хлеба. Затем из кучи принадлежностей он вынул что-то вроде маленького острого ножа и поднял его в странной негромкой молитве. – Можно подумать, что он читает псалмы, – прошептал я, обращаясь к Клоридии. – Но только индийские, – ответила она. Чтение псалмов продолжалось довольно долго. Время от времени Кицебер умолкал, открывал глаза, бросал на оба предмета, которые держал в руке, непонятные нежные взгляды и опять возвращался к чтению псалмов. Наконец причудливый ритуал завершился. Дервиш обработал длинный порез у себя на животе слюной, и, подобно тому, как след страдания стерся с его лица и руки, эта рана, казалось, тоже мгновенно затянулась. Он спрятал кинжал, снял браслеты, кучка предметов отправилась в мешок, коврик был свернут, дервиш снова оделся и преспокойно отправился назад в город.
Мы вылезли из укрытия. Я пошел туда, где этот человек проводил свой жуткий ритуал. На траве виднелись красные капли, которые упали рядом с ковриком. Я наклонился, чтобы коснуться их, и макнул в них палец. Все еще не веря своим глазам, я лизнул. То действительно была кровь. Что же, ради всего святого, здесь произошло? Разве я не видел этого своими собственными глазами? Разве не выступала кровь? Разве мои пальцы не касались ее, а губы – не попробовали? Я думал о представлениях известных мошенников, стекавшихся в Вену во время ярмарок, но, порывшись в памяти, не обнаружил ничего, что походило бы на то, что только что случилось. Мы наблюдали за очень скромной личностью, которая полагала, что находится в одиночестве. Так что обмана быть не могло.
Все еще пребывая в состоянии озадаченности, я безучастно слушал то, что рассказывала мне Клоридия о чудесах, на которые способны дервиши. – Моя мать неоднократно говорила мне: они могут отрезать себе любую часть тела, даже голову, и тут же исцелиться, словно ничего и не было. Говорят, что они владеют природными и сверхъестественными тайнами, которые восходят корнями к египетским жрецам. – Только почему дервиш, прибывший в Вену с агой, является индийцем? – Этого я тебе сказать не могу. Может быть, его позвали, чтобы он выполнил важное задание, которое нельзя доверить турецкому дервишу. – Неужели турки – плохие дервиши? – А что такое, по-твоему, дервиш? – с улыбкой спросила меня Клоридия. – Гм, когда я читал книги о Блистательной Порте и обычаях тамошних дервишей, я представлял себе, что речь идет о монахах, которые дают обет бедности. О благочестивых мусульманских нищих, придерживающихся более-менее строгих орденских правил и подчиняющихся какой-то монашеской иерархии. Их ордены выполняют благотворительные обязательства или проводят жертвенные ритуалы. – Ничто не походит на турецкого дервиша меньше, чем придуманные тобой образы, – саркастично ответила моя жена. – Да будет тебе известно, что каждый турок может мгновенно превратиться в дервиша, если повесит себе на шею какой-нибудь талисман или же заткнет его за пояс. Это может быть камешек, подобранный неподалеку от Мекки, высушенный листок, упавший с дерева, дающего тень могиле святого, или еще какая-нибудь вещь. Есть дервиши, которые носят на голове козий мех, словно остроконечную шляпу, и этого своеобразного украшения достаточно для того, чтобы доказать, что носитель его имеет право на титул дервиша и почтение верующих. Турецкие дервиши, продолжала моя супруга, живут подаянием, что не исключает, однако, их превращения в воров, как только щедрость населения несколько угаснет. Как у любого доброго турка, у них есть жены, которых они, правда, оставляют в родной деревне, тогда как сами продолжают свои вечные паломничества. Каждый раз, когда одиночество становится нестерпимым, они берут себе новую жену, которую опять покидают, лишь только в них вновь просыпается жажда бродячей жизни. Иногда бывает так, что спустя несколько лет дервиш возвращается к той жене, о которой сохранил наилучшие воспоминания. Если она ждала его, то эта пара на некоторое время остается вместе; но если она нашла кого-то получше или же у нее не хватило терпения дождаться, она извиняется и уже может не опасаться недовольства со стороны дервиша. – Турецкий дервиш, – заключила Клоридия, – это бездельник и лжец, который иногда превращается в разбойника с большой дороги, если к тому ведут обстоятельства. И совершенно иначе обстоит дело с дервишами, которые заслуживают этого названия, то есть индийскими, как Кицебер. Эта разновидность дервишей, пояснила Клоридия, пока мы возвращались в Вену, пользуется большой популярностью: они проводят чудесные исцеления людей и животных, могут помочь женщине, самке лошака и корове избавиться от бесплодия, находят спрятанные в земле сокровища и изгоняют злых духов, докучающих стадам или девицам. Они могут все, для чего требуется магическая сила. – Их мистицизм способен на чудеса, подобные тем, что мы видели, – заключила она, – но это не имеет ничего общего с верой в Пророка. Напротив, их правоверность очень сомнительна и их подозревают в равнодушии к Корану. Я еще больше запутался из-за рассказов Клоридии, и с губ моих срывались только глупые вопросы: – Что это могли быть за предметы, которые он держал в руках во время чтения псалмов? И как это Кицебер творит все эти чудеса? – Сокровище мое, – терпеливо ответила она, – я кое-что знаю о дервишах, но тайны их ритуалов объяснить тебе не могу. – Я не понимаю, какое все это имеет отношение к голове, которую Кицебер хочет получить любой ценой, и к посольству аги. И не знаю, пришел ли дервиш именно сюда, к Месту Без Имени, потому, что у него была для этого какая-то причина: ведь это священное место для турок, – сказал я, вспоминая рассказ Симониса о палаточном городке Сулеймана. – Я удовольствуюсь тем, что не буду иметь мнения. В некоторых случаях это – единственная возможность не ошибиться, – коротко заявила мне Клоридия, пока мы шли к Вене, окруженные аппетитным чесночным ароматом травы, которая росла в подлеске.
17 часов, конец рабочего дня: закрываются мастерские и конторы Ремесленники, секретари, преподаватели языка, священники, слуги, лакеи и кучера ужинают (в то время как в Риме как раз приходит время полдника.)
По возвращении на Химмельпфортгассе Клоридия отправилась во дворец принца Евгения, чтобы сделать кое-что, что она отложила из-за нашего преследования. В монастыре я встретил Симониса, он только что тщательно очистил малыша от копоти и намеревался отправиться на ужин в ближайший трактир. Я присоединился к ним и за едой рассказал своему помощнику о жестоких ритуалах, которые проводил в лесу Кицебер. Однако мне трудно было донести до Симониса то, что я видел, и глупые вопросы, которые он очень быстро задавал, вскоре заставили меня пожалеть о том, что я вообще открыл рот. Я снова подивился тому, что грек то очень остроумен, то, как вот сейчас, крайне туго соображает. – Завтра мы продолжим работу в Нойгебау, – объявил я ему, чтобы сменить тему. – Если мне позволено будет заметить, господин мастер, я хотел бы напомнить вам, что завтра воскресенье. Если хотите, то, конечно, можете работать; однако, кроме всего прочего, это dominica in albis, то есть Белое воскресенье, и я думаю, что если нас увидит стражник… Симонис был прав. Следующий день был воскресеньем, кроме того. Белым воскресеньем, а кто попадется за opera servilla et mercenaria,[937] того по закону наказывают денежным штрафом, даже телесным наказанием и изъятием имущества, поскольку работа в праздники – согласно эдикту императора – вызывает Божественный гнев и, таким образом, навлекает опасность бедствий, войны, голода и чумы. – Благодарю, Симонис, об этом я позабыл. Значит, в понедельник. – Мне очень жаль, но должен вам напомнить, господин мастер, что в понедельник начинаются лекции в университете, поскольку пасхальные каникулы уже закончились. – Точно. Надеюсь, на этот раз у тебя есть кто-то, кто послушает лекции за тебя. – Конечно, господин мастер: мой младшекурсник. – Твой… кто? Ах да, этот Пеничек, – сказал я, вспомнив церемонию снятия, на которой присутствовал. – Именно он, господин мастер. Я – его шорист, и он подчиняется моим решениям во всем. Но боюсь, мне придется лично присутствовать, по крайней мере, на открытии университета. Однако я сделаю все, чтобы не доставлять вам неудобств, господин мастер. Я кивнул. Обрести в лице Симониса помощника трубочиста было сущим везением. С утра и до вечера он работал за меня и обычно не обращал внимания на время, праздники и другие поводы отлынивать от работы. С удивлением и некоторой озадаченностью я вскоре по прибытии в Вену узнал, что в императорской столице насчитывается не более двухсот пятидесяти рабочих дней в году, которые прерываются настолько же регулярными, насколько нелепыми праздниками. Прежде всего, существовали так называемые «синие понедельники», то есть такие понедельники, которые под религиозными или еще какими-нибудь предлогами продлевали воскресную праздность. Сюда же относились такие занятия, как ярмарки, часто длившиеся неделями и позволявшие бездельничать; затем еще крестные ходы, которые могли продолжаться всю неделю. Все это были выходные дни, за которые, однако, нужно было платить в обязательном порядке! В Вене никогда не работали долго: всегда был какой-нибудь повод, нарушавший ритм, что сильно влияло на выполнение крупных заказов, которые именно из-за этого занимали очень много времени и могли быть завершены только после бесконечных дебатов между мастером и работниками мастерской. Пунктуальное появление на рабочем месте тоже было неведомой добродетелью: уже успел сформироваться обычай, что мастер лично будит своих работников и принуждает их приступить к работе вовремя. В общем, много такого, от чего меня, к счастью, избавил Симонис. Однако рассказы своих собратьев по цеху я знал хорошо, о да! Если мастеру наконец удалось достигнуть того, что его подмастерья сидят, склонившись над работой, чтобы сделать хоть самую малость для того, чтобы она была выполнена, то они тут же принимались громко требовать дополнительную плату. В Вене, кстати сказать, вот уже несколько столетий действовал закон, согласно которому месячная зарплата покрывала лишь малую часть объема работы, а в Риме это сошло бы за половину каникул. Усложняли ситуацию, кроме того, еще и религиозные предписания. Гильдии ремесленников требовали права присутствовать на похоронах члена гильдии, к тому же в Вене в ходу был удивительный обычай поминок по усопшему. Кстати, банкет этот мог быть каким угодно, только не скромным: дикий, необузданный кутеж до позднего вечера. В прошлом некоторые главы нашего цеха пытались сдерживать этот позорный феномен, объявляя, что на похоронах будет присутствовать только «часть» членов гильдии. Однако поскольку они забывали уточнить число, туда шли почти все, и только некоторые были готовы к тому, чтобы почтить почившего собрата по цеху работой вместо упражнения своих жевательных мускулов. Не лучше подмастерьев вели себя и слуги. Неутомимо негодовал с кафедры и в своих книгах отец Абрахам а Санта-Клара на нерадивых слуг: «Потеть не за едой, а за работой, ну-ка, ну-ка!» Слуги имели право не выполнять работу, чтобы принимать участие в торжественной мессе. Наибольшим же бельмом в глазу господ была заутреня в половине шестого утра, поскольку служила излюбленным поводом для того, чтобы приступить к работе позднее… Если госпожа ссорилась со своей служанкой из-за того, что та каждое утро просила позволения пойти к заутрене, она восстанавливала против себя всех соседей. На самом же деле служанки шли на богослужение только затем, чтобы их там видели, а как только церковь наполнялась, убегали и встречались с очередными возлюбленными, чтобы пойти с ними на танцы, в кофейню или в кусты сада Аугартен. А если потом опаздывали, то обвиняли во всем несчастного священника. Именно поэтому во время нашего прибытия в Вену мы видели на улицах столько служанок, словно то был праздник! Утренняя прогулка на базар тоже была поводом для праздного времяпрепровождения, а у кухарок было излюбленной привычкой «обменяться новостями у бассены[938]» дома пекаря или молочника, и эти встречи даже стали называть «утренними воссоединениями».Отец Абрахам а Санта-Клара сетовал еще и на то, что с такой работой те немногие заработанные деньги легко было прокутить в ближайший же праздник или во время выходных, поэтому нужно говорить не столько о «праздниках», сколько о «жратьниках». На протяжении вот уже двух сотен лет то и дело выходили предписания, которые должны были сделать воскресенье вновь священным днем и положить конец пьянкам и пирушкам. Например, вышел запрет на то, чтобы по воскресеньям ходить в трактир или играть в боччи, однако никто его не придерживался. Процессии и крестные ходы стали ареной прискорбного смешения полов: мужчины и женщины танцевали и играли друг с другом, безудержно предавались простейшим радостям, вследствие чего часто – но безуспешно – предлагалось проводить мужские и женские процессии отдельно. Хотя отец Абрахам проповедовал, что верующие не должны слишком много времени проводить в молитвах (каждый день по часу), но только для того, чтобы у них было больше времени для работы, а не для того, чтобы предаваться праздности: «Молитва должна чередоваться с работой, как солнце и луна в небе; молитва должна сопутствовать работе, как мотыга на рукояти». Совету этому почти никто не следовал, особенно с учетом множества выходных дней. Одних только национальных религиозных праздников было тридцать шесть; не проходило и месяца без нескольких праздников. Кроме священного праздника Рождества, Крещения и Пасхи были еще: в январе – обрезание Иисуса и обращение святого Навла; в феврале – Сретенье Господне и праздник святого Матфея; в марте – Благовещение Пресвятой Богородицы, не говоря уже о том, что кроме пасхального понедельника и вторника, следующего за Пасхой, на работу не ходили вообще; в апреле наступал черед Георгия Победоносца и святого Марка. В мае благочестивые праздники просто градом сыпались: именины святого Филиппа и Иакова, Вознесение Господне, день Святой Троицы и вторник после него, праздник Тела Господня; в июне – Иванов день и праздник Петра и Павла; в июле – встреча Марии и Елизаветы и праздники святой Марии Магдалины и Иакова; в августе – праздник святого Лаврентия и Варфоломея, кроме того – Успение Богородицы; в сентябре – Рождество Пресвятой Богородицы, праздник Левия Матфея и святого Михаила; в октябре – святого Симона и Иуды; в ноябре – День всех святых, день святого Мартина и праздники святой Екатерины и Андрее; в ноябре – день святого Николая, Непорочное зачатие Девы Марии и в декабре, кроме Рождества и святого Стефана, есть еще праздник Иоанна Богослова, который, поскольку приходится на 27 декабря, может замечательно продлить Рождество. Это всеpteta austriaca.…[939] В свой первый месяц в Вене я сам насчитал пять дней, на которые приходился какой-нибудь праздник – во все остальные дни всегда находился какой-нибудь повод, чтобы в рабочее время отправиться в церковь. Но настоящие столпы праздности основывали религиозные братства. И были они крайне многочисленны и могущественны. Братство Святой Троицы при церкви Святого Петра, к примеру, насчитывало порядка восьмидесяти тысяч приверженцев. В одной только Вене существовало около сорока различных братств. Вступавшие в их ряды пользовались многочисленными преимуществами: бесплатное медицинское обслуживание, postmortem денежное пособие вдове и пятьдесят бесплатных месс, далее – право покидать рабочее место, чтобы принимать участие в различных религиозных собраниях конгрегации. Хотя встречи проходили преимущественно по воскресеньям, они часто растягивались на целую неделю. К примеру, если случалось так называемое «кватемберное воскресенье», то пять следующих за ним дней в восемь утра проводились мессы, с целью почтения «благодетелей процессии». В конце года оказывалось, что каждое братство провело мессы в количестве между ста пятьюдесятью и двумястами, около шестидесяти раз повторяло молитвы, перебирая четки, а также отслужило около двадцати месс за живых членов братства и столько же за усопших. Сюда добавлялись похороны, выборы ректора и дни, когда состоялись совещания или непредвиденные обстоятельства требовали того, чтобы срочно созвать всех членов. Я подсчитал, что по всем этим поводам каждый год теряется около месяца рабочего времени. То есть двести пятьдесят рабочих дней уменьшались до двухсот двадцати.
Однако были люди, которые работали еще меньше, чем ремесленники и посыльные, и то были служащие и адвокаты из среднего класса. Они праздновали дополнительные праздники 18 июля и 2 августа (которые по неизвестной причине именовались «укосные каникулы») и 1 октября и 15 ноября («винные каникулы»). И на этом не успокаивались: по случаю Пасхи у них бывало добрых две недели каникул! Впрочем, это излишество не удержало их от того, чтобы мелочно уточнять, что dominica in albis уже сам по себе является праздником и поэтому должен считаться отдельно, из-за чего у них получалось все пятнадцать каникулярных дней. Такой подсчет привел к беспокойству в конторах и в первую очередь в судах, поскольку в следующий за Фоминым воскресеньем понедельник катастрофически не хватало персонала. Императору пришлось лично вмешаться и издать закон, где было установлено, что dominica in albis входит в число двухнедельных каникул и поэтому не может считаться отдельным праздником.
– Симонис, я хотел сказать тебе, что я доволен тобой и твоей работой, – сказал я, отвечая своим мыслям. – Спасибо, господин мастер, я очень польщен, – вежливо ответил мне грек полным от лукового соуса и мяса серны ртом. И у меня поистине была причина благодарить своего помощника! Во всей этой сумятице бесчисленных празднеств Симонис использовал несметное количество свободных от посещения университета дней для того, чтобы беспрепятственно заниматься работой трубочиста у меня на службе. Было очень мало дней, когда мне приходилось действительно отказываться от него, и это никогда не длилось дольше нескольких часов. К примеру, его вызвали 2 апреля: «Зеленый четверг приходится на второе число месяца, и господа студенты славного императорского конвикта св. Иосифа присутствуют на омовении ног в своих капеллах». Кроме того, 25 апреля, в праздник святого Марка, я буду вынужден обойтись без него, поскольку «господа студенты должны сопровождать большую процессию от церквей собора Св. Стефана к Св. Марку и обратно». А именно студенческие каникулы образовывали довольно внушительное число: сто четырнадцать дней без учебы и присутствия на лекциях. Сюда еще добавлялись праздники отдельных факультетов, поскольку у каждого был свой заступник с соответствующим праздником. Кроме того, существовали праздники каждой из четырех наций, на которые делился университет (австрийскую, рейнскую, венгерскую и саксонскую); затем – годовщины, к примеру День всех святых посвящался всем умершим сотрудникам университета. Не следовало забывать также и праздники при дворе: каждый день, когда почтенные члены Alma Mater Rudolphina допускались на аудиенцию к императору или по какой-либо причине отправлялись ко двору, был выходным, конечно же, это касалось и дней, когда проводились коронации, королевские свадьбы, прибытие послов или супруг императоров или же их родственников. И, напоследок, был еще праздник восстановления, когда обновлялись привилегии, предоставленные императором университету с незапамятных времен. Еще больше везло школьникам: наряду со ста семьюдесятью восьмью положенными праздниками они год за годом отмечали огромное количество «чрезвычайных праздников» (по требованию епископов или отдельных князей, желавших отметить определенное событие), и получалось, что здесь, по моим подсчетам, в школу ходили только каждый третий день! Мой малыш, которого я по вечерам и выходным сам учил чтению, письму и счету, был в свои годы гораздо образованнее, чем большинство детей Вены.
О, мудрая Вена! – сказал я себе и с восхищением посмотрел на своего сыночка, своего маленького ученика трубочиста, который как раз занимался тем, что вылизывал опустошенную до дна тарелку. Поистине, ты знаешь путь к здоровью и счастью, тебе ведомо искусство наслаждаться жизнью! В начале своих размышлений я обозначил избыток праздников и леность венцев как наказание, но я ошибался. В Риме студенты стонут от учения, рабочие – от угнетения, семьи (и в первую очередь женщины) тоскуют дома в одиночестве, в то время как их мужья с утра до вечера батрачат на улицах или в мастерских. В Вене же только приступали к обучению или работе, как какой-нибудь колокол возвещал о том, что пришло время остановиться и принять участие в ярмарке, празднестве, мессе или процессии. Разве тяжкий труд приносит лучшие результаты? Ни в коем случае! В колыбели империи работали очень мало, но все получалось (хотя и требовалось на это больше времени). В городе пап люди трудились до изнеможения, но ничего не работало. В Вене еды было вдосталь для всех, семьи были зажиточными, улицы – чистыми, преступления случались изредка, а свободного времени было сколько угодно. В Риме люди голодали, грабеж и убийство подстерегали за каждым углом, город был грязен, а все вкалывали без остановки с утра и до ночи. Когда я сообщал нашим немногим знакомым о том, что мы переезжаем в Вену, на меня смотрели как на несчастного сумасшедшего: ты едешь в холод, к этим глупцам-немцам? Не прожив здесь и месяца, я сильно заподозрил, нет, уверился, что это мы, римляне, глупцы.
– Господин мастер, – сказал Симонис, прерывая внутренний хвалебный гимн, звеневший в моем сердце, – я уведомил своих сокурсников по поводу вашего интереса касательно pomum aureum. Кроме того, я позволил себе пригласить их сюда на краткую встречу, так вы сами сможете объяснить, что именно вы хотите знать. Данило Данилович только что прислал мне записку, что в полночь он хочет встретиться с нами: может быть, у него уже есть какие-то новости.
На обратном пути с работы во дворце Клоридия зашла к нам в трактир. Выражение ее лица свидетельствовало о глубочайшем расстройстве. – О, мой супруг, если бы ты знал, что со мной сегодня приключилось! – начала она, сев за наш стол и в несколько глотков опустошив мой стакан вина. Она улыбнулась ребенку, сидевшему напротив и обеспокоенно смотревшему на нее, поцеловала его и погладила по голове. После этого попросила Симониса, который уже поел, отвести нашего малыша в монастырь, чтобы он вовремя пришел на урок немецкого языка, сказав, что мы подойдем позже. Клоридия намеревалась сообщить нечто очень важное и опасалась реакции нашего сына. Когда Симонис с мальчиком удалились, ее материнская улыбка погасла, она взяла мою руку в свои, покрытые холодным потом. – Что? – в тревоге спросил я ее. – Благодарение Богу, что моя служба во дворце заканчивается завтра утром: принц Евгений предоставит are еще одну аудиенцию, а затем тот вернется в свое жилище на Леопольдинзель. Во вторник Евгений уезжает в Гаагу. С работой закончится и оплата, но так даже лучше. Если бы со мной еще раз случилось что-то подобное тому, что было сегодня, все могло бы кончиться плохо. – Кончиться плохо? Да говори же, наконец, что случилось? – Это отвратительное существо… тот, который пообещал дервишу голову. – И что? – Он опять был во дворце. Я дважды встретилась с ним. Сначала на лестнице для посыльных, в обществе его товарищей-турок. Если бы ты знал, как он на меня глазел! Наконец-то я увидела его лицо, если это месиво из клочков кожи вообще можно назвать лицом. Он таращился на меня своими налитыми кровью глазами, и его серые недоверчивые зрачки впились меня, словно крюки. Я ушла со всей возможной поспешностью, но все равно меня не покидало чувство, что он провожал меня взглядом. Боюсь, он что-то подозревает; будем надеяться, что во второй раз он не заметил, как я тайком за ним наблюдаю. – А зачем тебе понадобилось шпионить еще и за ним? – в ужасе воскликнул я, ибо мне стало дурно при мысли о том, что моя сладкая женушка могла попасть в когти головореза. После первой встречи с человеком в капюшоне моя жена выступала в качестве переводчика между мажордомом аги и одним из поваров принца, когда краем глаза снова увидела, как этот монстр поднимается по ступенькам, на этот раз по большой лестнице дворца. Он наверняка пробрался бы незамеченным, если бы Клоридия именно в тот миг, когда этот человек проскользнул на третий этаж, не открыла двери на лестничный пролет. Его настороженное поведение возбудило любопытство Клоридии, поэтому она оставила поле переговоров и неслышно последовала за ним. – Мне было страшно, но риск того стоил. Может быть, у этого в капюшоне снова была встреча с Кицебером, – пояснила моя мужественная возлюбленная. Но незнакомец продолжал совершенно спокойно идти дальше по дворцу, Казалось, он хорошо ориентируется в нем: в это время весь персонал находится на нижних этажах между кухней и комнатами для посыльных и в холлах второго и третьего этажей не было ни души. Молниеносно обследовав некоторые комнаты третьего этажа, он вернулся на нижний. Там, пояснила Клоридия, находится зал с видом на Химмельпфортгассе, гдедолжны были поставить несколько книжных шкафов. – Говорят, Евгений намеревается основать большую библиотеку и для этой цели собирается приобрести множество печатных изданий и манускриптов. Поскольку столярам еще только предстояло сделать шкафы, в зале стояло несколько деревянных ящиков, содержимое которых не было известно никому, кроме Евгения и его слуг. Закутанное в плащ существо быстро вломилось в будущую библиотеку. Клоридия, которая не могла войти в зал (да и не хотела), удовольствовалась тем, что приложила ухо к двери, чтобы подслушать. Сначала она услышала странные звуки слева. Затем последовал звон монет, словно кто-то набирал их пригоршнями и ссыпал в мешок; наконец раздался звук шагов, приближавшихся к двери. Существо вышло из будущей библиотеки принца Евгения и исчезло в направлении холлов дворца, вероятно, чтобы выйти на улицу через лестницу для посыльных. Оставшись одна, Клоридия вошла в библиотеку. На полках стояли деревянные ящики различных размеров и форм. Человек, должно быть, копался в некоторых из них, но только один, крышка которого была плохо закрыта, а быть может, повреждена, и открывала взору то, что находилось внутри, привлек ее внимание. Подняв крышку, Клоридия увидела лежащие в беспорядке и покрытые пылью старые газеты, военные карты и черновики писем. Все это, казалось, были предметы небольшой ценности, которые Евгений, вероятно, велел сложить временно, до тех пор пока они не обретут свое место в библиотеке. Хотя времени у нее было мало, Клоридия пролезла даже на самое дно ящика и наткнулась пальцами на холодные металлические предметы, которые издавали слышанный ею прежде звон монет. Она склонилась над ящиком и обнаружила небольшую горку металлических штучек неровной формы. – Я взяла одну, вот, посмотри .
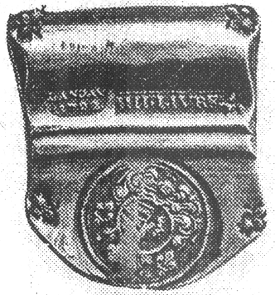
Моя драгоценная супруга долго колебалась, прежде чем взять странный предмет; ведь он принадлежал его светлости принцу; однако поскольку странных металлических предметов, напоминавших монеты, было очень много, ей показалось, что ничего не случится, если она возьмет один, к тому же всего лишь на время. Возможностей вернуть этот предмет довольно много, а пока мы должны выяснить, в чем тут, черт побери, дело и почему таинственное существо, похоже, присвоило себе их в значительном количестве. Я вертел «монету» в руках, рассматривая то одну, то другую сторону. – Она, конечно, потемнела от времени, но это, вне всякого сомнения, серебро, – заметил я. – Вот именно. А если ты посмотришь на верхний край, то увидишь, что она напоминает серебряную тарелку. В центре находилась круглая гравюра, в которой можно было узнать дворянский герб: манжетка и полосатое поле. Над ним, рядом с сильно выгнутым краем, было написано:
LANDAV 1702 IIII LIVRE
По углам с четырех сторон были выбиты французские лилии. – Что же это, черт побери, такое? – озадаченно спросил я. – О, меня можешь не спрашивать. Я знаю только одно, что это тот самый странный предмет, который не выпускал из рук принц Евгений во время аудиенции. – В любом случае это, кажется, монета, здесь написано «4 ливра», а ливр – это французская лира. Не случайно тут изображены лилии Франции. Однако, кажется, это не настоящая монета, а сделанная на каком-то примитивном станке. – Может быть, это поддельная французская монета? – предположила Клоридия. – Немногих французов она сможет обмануть, доложу я тебе. – Ландау – немецкий город, где император Иосиф выиграл две битвы, если я не ошибаюсь, – сказала Клоридия. – Да, в 1702 и в 1704 годах. Но эта штука – точно не памятная медаль. Во-первых, для этого она сделана слишком плохо, а во-вторых, поскольку на ней изображены лилии, то это символ Франции, и уж никак не империи. В этот момент нас прервали, поскольку вернулся Симонис. Мы показали ему странную монету и попросили высказать свое мнение. – Ничего подобного я никогда не видел. Я знаю, что Ландау – важная немецкая крепость в Пфальце и что наш возлюбленный император добрых два раза осаждал и штурмовал ее. Но при чем тут этот кусок серебра, сказать не могу. Наш разговор продолжался совсем недолго, поскольку вскоре подошли студенты, друзья Симониса. Все были в сборе: «барон» Коломан Супан, румынский «князь» Драгомир Популеску, поляк Ян Яницкий, граф Опалинский, болгарин Христо Христов Хаджи-Танев и, наконец, беанус, после церемонии снятия ставший младшекурсником, хромой богемец Пеничек, почтительно державшийся позади своего шориста, то есть Симониса. – Благодарю вас, что пришли, чтобы помочь нам, – приветствовал их я и пригласил всю группу присесть за наш стол. – Всегда к вашим услугам, – сразу же ответил Христо Христов Хаджи-Танев, болгарин. – Не обманывайтесь, господин мастер, – сказал грек, словно меня нужно было успокаивать. – Но на нас вы можете положиться, не так ли, Христо? – Конечно же, мой дорогой Симонис, – сказал Христо, глубоко вздохнув, будто подготавливаясь к речи. – Студенты – самый благородный народ среди людей! Мы – чудеснейшее сокровище, экстракт человечества, золото среди металлов, драгоценный камень в золотой оправе. Мы среди идиотов – словно человек среди неразумных животных. Мы – украшение города, почетная корона родителей, посвященные Господу и мудрости сыны, столпы науки и страны! Тут же разразился первый из целого ряда шквалов аплодисментов и восторженного свиста. – И только у этого ненормального, этого Популеску, нет столпа, – заметил Коломан Супан, что вызвало взрыв хохота. – Зато у тебя целых два, один внутри, второй снаружи, – ответил Популеску. – Прекратите свое свинство, невежи, среди нас дама, – напомнил Симонис, вежливо указывая на Клоридию, которая, однако, похоже, искренне веселилась глупой шутке. Христо продолжил свою речь: – Ну, что же еще? Мы – принцы и звезды мира, и пусть у некоторых животы полопаются. Я не сомневаюсь, что многие враги наморщат носы, но господа анатомы сообщают, что конечности, вены, плоть и внутренности одинаковые у всех людей: настоящее благородство находится в мозгу, а не в так называемой дворянской крови. В Египте только ученые управляли благородным сословием. Просвещенный и набожный император Антоний Пий предпочел отдать свою дочь Фаустину нищему философу, чем богатому и благородному дураку. – Однако мог существовать и Коломан, который беден и, кроме того, еще и глуп, – пошутил Популеску. – Или ты, потому что ты педераст и тоже глуп, – ответил Коломан. – Не обращай внимания, Драгомир, сохраняй спокойствие… – пробормотал Популеску себе под нос. – Спокойствие, дорогие друзья, дайте же мне закончить! Я скажу, что большой палец на руке – это студенчество в городе. Не стоит ли величать нас ангелами за наше Дружелюбие? Ибо дружелюбие – ангельская добродетель. А где процветает цивилизованность и гуманность больше, чем в университете? Даже больше, чем при дворах, ибо там вежливость неучей приправлена заметной порцией лести. Мы же, студенты, настоящий карбункул, сверкающий пуще других драгоценных камней. Мы – изумруд и сапфир города, поскольку ярким светом красоты укрепляем глаза всех смотрящих. Как замечательно вместо грубых и нескромных бездельников видеть такую усладу для глаз, сынов муз, прогуливающихся взад-вперед по улицам! То, что приходится вынести студенту с начала юности и до конца своей жизни, просто не поддается описанию, ибо это страшно, трудно, тяжело и приходится поломать себе голову. Короче говоря, я называю нас драгоценнейшими господами, короной contextam splendidissimis virtutibus, gemmis longe pretiosioribus![940] – Слушай, да говори уже по-человечески! – охладил его пыл Опалинский. – Я сказал, что мы обладаем наилучшими добродетелями и представляем собой корону, украшенную самыми драгоценными камнями! Теперь тебя все устраивает, козел невежественный? – огрызнулся Христо. – И я закончил. Вступительная речь болгарина и его последнее замечание вызвали у его товарищей оглушительные аплодисменты, к которым из вежливости присоединились и мы с Клоридией. «Будем надеяться, что он прав», – подумал я про себя, оглядывая эту разгульную банду. Я коротко сообщил им о загадочном высказывании «Soli soli soli adpomum venimus aureum!», которое произнес ага во время аудиенции у принца Евгения, и предложил студентам приличное вознаграждение. По совету Симониса, который был посвящен во все, я, впрочем, умолчал о том, что дервиш аги планирует заговор, намереваясь отрезать кому-то голову. Мой помощник полагал, что, если я открою это, их не остановят никакие деньги в мире: они бросятся бежать прочь. Еще я скрыл, что светлейший принц Евгений хранит бумажку с этим предложением не где-нибудь, а в своем дневнике – мне было стыдно, что Клоридия рылась в его личных бумагах. И хотя Савойский заслуживал худшего, ведь в том письме, которое показал мне аббат Мелани, он выставил себя предателем, в столь опасную тайну посвящать весь цвет студенчества я, конечно же, не собирался. Эти молодые люди с бурными темпераментами все были родом из стран, расположенных к востоку от Вены. Они страдали под гнетом османов и страстно их ненавидели. – Турки – это звери в человеческом обличий, – с отвращением прошептал Популеску. – Младшекурсник, сделай лицо как у турка! – приказал Симонис. Бедный Пеничек изобразил идиотское и дикое выражение лица. – Нет, младшекурсник, это Ян Яницкий, граф Опалинский, – рассмеялся Христо и преувеличенно согнулся. – Пусть турки оближут тебе зад, Христо Христов Хаджи-Танев, – принялся защищаться Опалинский, – они же обожествляют таких евнухов, как ты. Насмешки и издевки в адрес Блистательной Порты и грубой культуры ее подданных продолжались еще какое-то время. Я видел, как омрачается лицо Клоридии. Товарищи Симониса ведь не подозревали, что моя сладкая женушка была ребенком матери-турчанки. По возвращении со своей работы во дворце Евгения она сама рассказывала мне о грубости турок. Но никому ведь не нравится, когда другие пренебрежительно отзываются о его народе. Чтобы отвлечь студентов, я рассказал им о таинственном незнакомце в капюшоне, который столь угрожающе смотрел на Клоридию. – Это тоже наверняка был турок! – усмехнулся Драгомир. – Их женщины настолько ужасны, что блеск вашей красоты наверняка ослепил его, мадонна Клоридия. От столь неожиданного комплимента лицо моей жены несколько посветлело. – Как это так? Об их гаремах рассказывают столько сказок… – вставил хромой Пеничек, который, должно быть, за всю свою жизнь почти не видел женщин. – Конечно, если бы ты послушал, как хвалят османы сами себя, да они мастера в этом деле, рассказывать лживые сказки о якобы чудесах своей страны. Ты когда-нибудь бывал в гареме? – Гм, пока нет… – Это не что иное, как страшное, мрачное место, зачумленное, задымленное, где царит хаос. Представь себе почерневшие стены, с которых осыпается штукатурка, деревянные потолки со множеством трещин, покрытые пылью и паутиной, грязные диваны, изорванные занавески, повсюду воск от свечей и масляные пятна. У женщин-турчанок, продолжал Драгомир, нет зеркал, они очень редки в Турции, поэтому опи обвешиваются безделушками наудачу. Пользуются красящими порошками без меры, например подводя себе синим глаза и носы. Красясь, помогают друг другу, но поскольку они все соперницы, то дают друг другу наихудшие советы. Для окраски бровей используют столько черного, что рисуют себе две большие дуги от переносицы и до висков или, того хуже, одну широкую линию через весь лоб. – Результат в сочетании с ленью и неряшливостью турецких женщин получается поистине отталкивающим, поверь мне, – с гримасой на лице провозгласил Популеску. – С каких это пор ты стал специалистом по османским гаремам? – удивился Коломан Супан. И, словно этого было недостаточно, нимало не смутившись, Популеску продолжал: каждое женское лицо накрашено столь замысловато, что считается произведением искусства, разрушать котороеумыванием и восстанавливать каждое утро очень сложно. Idem с руками и ногами, которые они любят красить в оранжевый цвет. Поэтому они никогда не моются, опасаясь, что вода может разрушить весь марафет. Еще больше усугубляют ситуацию в гареме множество детей и служанок, чаще всего, к сожалению, негритянок, которые живут с женщинами. – Негритянки возлежат на диванах и креслах, как их госпожи, ставят ноги на те же ковры и прислоняются спинами к тем же обоям. Боже мой! – воскликнул Драгомир. – Тебе негритянки внушают такой ужас? – принялся подтрунивать над ним Коломан. – Я удивлен, что у тебя столь тонкий вкус… – Не все ведь, как ты, готовы пойти даже за обезьяной, – огрызнулся в ответ румын. Популеску продолжал свой рассказ о том, что стекло в Азии еще в новинку, поэтому окна закрывают вощеной бумагой, а там, где мало известна и бумага, довольствуются тем, что живут вообще без окон, только при свете камина. Этого света вполне достаточно для того, чтобы курить, пить и стегать плеткой непослушных детей, потому что это единственное, чем занимаются весь день турчанки. – Короче говоря, гаремы – это герметично закупоренные искусственные пещеры, натопленные железными печами так, что дышать невозможно! – заключил Попу леску с грубым смешком и положил руки на шею, имитируя удушение. – Смешного тут ничего нет, – вдруг, к моему удивлению, произнесла Клоридия, молчавшая во время всего рассказа Популеску. – Воздуха в гаремах действительно нет, это правда, но бедные женщины совершенно этого не чувствуют, напротив, они целыми часами сидят у огня. Потому что они, бедняги, весь день взаперти, почти не могут двигаться и из-за этого постоянно мерзнут. Моя мать была турчанкой, – спокойно сообщила она. Неожиданное открытие заставило всю эту небольшую веселую компанию мгновенно умолкнуть. – В любом случае я выражаю вам свое искреннее сочувствие: я не знала, что вы – евнух, – добавила моя жена, с широкой улыбкой обращаясь к Драгомиру. – Потому что – вы же знаете об этом, не так ли? – вход в гарем мужчинам строжайше запрещен, по крайней мере тем, кто заслуживает этого названия… И с этими словами она поднялась и вышла.Когда все разошлись, я вернулся в монастырь к Клоридии и малышу, где подвергся пыткам урока немецкого языка, который был перенесен вследствие завтрашнего воскресенья. Бились мы очень даже неплохо, хотя мысли мои были заняты совершенно иными вещами. Сегодня вечером настал черед разговора о путешествии: – Мой господин, мне хотелось бы извиниться, поскольку, уезжая, я не взял отпуска у своего господина. – Мой господин, где нет обиды, там нет нужды в извинениях. – Поистине, мой господин, и тем не менее я остаюсь вашим должником. Итак далее. Оллендорф заставлял нас повторять множество вежливых оборотов, которые были столь же элегантны, сколь и бесполезны для трубочиста и его семьи.
20 часов: пивные и кабаки закрываются
Оркестр начал с вступления к арии Алексия. Главная часть исполнялась на лютне Франческо Конти, доброго друга Камиллы де Росси, который теперь сплетал свои арпеджио на фоне мрачного бормотания смычков. Мы находились внутри Хофбурга, в славной императорской капелле, на репетиции «Святого Алексия». Звукам уже удалось привести мою дорогую супругу в расслабленное состояние и смягчить ее ужас от пережитой во дворце Савойского встречи. Несколькими выразительными движениями локтем хормейстер усмирила массу контрабасов, успокоила скрипки и дала дорогу скромной лютне. Теперь Алексий пел страстные стихи, которыми пытался ослабить боль своей бывшей невесты. Много лет назад он покинул ее, и теперь, когда они встретились снова, она не узнала его:* * *
Вернувшись в монастырь, до смерти устав от волнений, которые принес этот день, мы вскоре уже лежали под одеялом. Клоридия уснула в моих объятиях, я же, несмотря на усталость, не мог сомкнуть глаз. Тысячи вопросов проносились в моей голове, каждый переплетался с последующим, словно бусины загадочного ожерелья. Почему Камилла де Росси никогда не говорила нам, что она – подруга императора? Допустим, из-за скромности. Однако почему она отказывалась от платы за композиции? Почему она ушла в монастырь? И потом: сегодня Камилла выглядела подавленной, но по какой причине? Я мог понять, что она, вопреки обыкновению, не захотела потратить полчаса на разговор с нами. Но почему она и словом не обмолвилась? А ведь ей было, что нам рассказать! В конце концов, Атто Мелани вчера вечером заходил в монастырь. Камилла уже давно знала о том, что аббат приедет в Вену, как мне признался сам Атто. Но по его просьбе она хранила тайну; наверное, поэтому несколько дней назад она с улыбкой Сивиллы сказала, что нас ожидают «очень радостные часы». Что же было известно Камилле о намерениях, приведших Атто в столицу императора? Об этом аббат мне вообще ничего не сказал. Не должен ли был показаться хормейстеру странным визит старого кастрата, прибывшего, кроме всего прочего, из враждебной Франции? Знала ли она, что Мелани – профессиональный шпион? Нет, наверное, не знала, сказал я себе. Атто просто рассказал ей красивую сказку. Возможно, он сказал ей, что хочет перед смертью поглядеть, что да как. Вероятно, он прибегнул к театральному тону, который так умело использовал в своих целях… А Камилла попалась на это. Вопросы множились в моей голове, словно в зеркальном кабинете. Почему Атто не воспользовался Камиллой для того, чтобы передать императору письмо Евгения? Не знал, что хормейстер – подруга Иосифа? Вероятно, не знал. В противном случае он не вышел бы на Марианну Пальфи, вообще не упомянув Камиллу. Я сам ведь узнал о дружбе Иосифа с нашим хормейстером совершенно случайно, благодаря болтливости Гаэтано Орсини. Что же мне делать? Передать эту драгоценную информацию Атто или умолчать? Для Камиллы будет легче легкого передать письмо Евгения Савойского императору. Но что случится, если Атто, как я подозревал, был заодно с турками? Разве не оказался бы тогда его императорское величество под ударом опасного заговора? Разве не могли меня обвинить в пособничестве? Нет, лучше ничего не говорить Атто. Напротив, я буду тщательно следить за ним (что будет не так трудно, как когда-то, теперь, когда он совсем старик). Но в первую очередь я скрою от него, что связь с императором, которой он так желал, совсем рядом, за углом, точнее, в самом монастыре, где он квартирует. Если бы Атто знал, как легко может встретиться с императором! Из болтовни своих собратьев по цеху, клиентов и посетителей трактиров и кофеен я узнал, хотя и был очень глубоко предан ему, что молодой император, невзирая на свои блестящие подвиги, носил в душе глубокие раны, зарубцевавшиеся и превратившиеся в нечто вроде наивности. Именно на этом мог сыграть аббат Мелани. Если бы ему удалось получить аудиенцию у императора через Камиллу, его наверняка выслушали бы и, вероятно, ему удалось бы достичь желаемого. И это было бы хорошо, если в намерения Атто действительно входит мир, как он утверждает. Но это было бы плохо, если на самом деле он заодно с турками и преследует их мутные цели. Иосиф Победоносный родился с огнем, достоинством и душевным благородством истинного монарха. Он был способен на широкие жесты, мог увлечь нерешительного, тронуть бесчувственного. Он был нетерпелив, энергичен, скор на решения, пылкий импровизатор. Но прислушивался даже к ничтожным жалобам, давал обещания, далеко превосходящие его возможности, и никому ни в чем не мог отказать. Причиной этой скрытой и коварной слабости была ирония судьбы: он был сыном человека, представлявшего собой его полную противоположность. Отец Иосифа, Леопольд, был набожен, стеснителен и мелочен, он же – смел, безудержен, обходителен. Леопольд был осторожен, флегматичен, нерешителен и массивен; Иосиф искрился жизнерадостностью. Уже в двадцать четыре года он отправился в бой против французов, лично командовал войсками и захватил известную крепость Ландау. С тех пор его называли «победоносным». Отец же его, когда в 1683 году турки двигались к Вене, бежал сломя голову. Молодой Иосиф – первенец, а значит, претендент на престол – изначально чувствовал себя призванным править. Он любил свой народ, а народ любил его. Но он требовал еще и повиновения от своих подданных, а потому выбрал себе латинский девиз «Timoré et amore». Он собирался использовать для правления «любовь и страх», два самых сильных чувства. А его отец стал императором случайно: в молодости его готовили к монашеству, поскольку для трона был предназначен его старший брат. Когда же тот умер от болезни, правление стало для Леопольда тяжкой повинностью, с которой лучше всего было справляться с помощью терпения. Не случайно его девизом было «Consilio et industrie»: «Размышлением и усердием». Его воспитали могущественные иезуиты, завладевшие его легко управляемой душой. Вместо того чтобы позволить религии направлять себя, Леопольд использовал ее в качестве щита. Трусливый характер заставлял его колебаться в вопросах веры, он был одержим суевериями и колдовством, боялся магии. Убежденный в том, что должен быть терпеливым, он даже просителям позволял обращаться плохо по отношению к себе. Иосиф был набожен, конечно, но презирал интриганов-иезуитов. Он поклялся себе, что прогонит их с королевского двора, как только взойдет на трон. Из лени, а также чтобы не потерять своих лизоблюдов, отец Иосифа на протяжении десятилетий поддерживал двор и правительство как цветущий аппарат ненужных, праздных, склочных министров, которым к тому же еще и переплачивал. Иосиф не мог дождаться, когда наконец сможет выставить их всех за дверь и заменить молодыми, деятельными и знающими людьми, которым доверял. Министры знали об этом (Иосиф основал даже нечто вроде параллельного правительства, так называемый «молодой двор») и ненавидели его. Постоянные нравоучения отца, попрекавшего его завоеваниями женских сердец, только ухудшали ситуацию. В итоге отец запретил ему заниматься государственными делами. Он не понимал и не выносил сына, который был так не похож на него и так похож на его величайшего врага, «короля-солнце»: тот тоже был выдающимся человеком с располагающим к себе характером, любимцем женщин. Леопольд предпочитал блестящим победителям заурядных людей, молодым – стариков, специалистам – неумех, бесстрашным – трусов. Как он мог любить своего первенца? В действительности он любил Карла, своего младшего сына. Карл был идеальным воплощением той заурядности, которую так ценил Леопольд. Иосиф был пылок, а Карл, воспитанник иезуитов, сдержан. Первый обладал привлекательной внешностью, второй выглядел всего лишь терпимо. Иосиф был скор на суждения, красноречив, Карл же колебался и поэтому молчал. Иосиф смеялся и заражал всех своим смехом, а Карл опасался, что смеяться будут над ним. Они вышли из чрева одной матери, только первый родился правителем, второй – спутником. Карл, возможно, смог бы уживаться со своим братом без особых ссор, но зерно раздора посеял их собственный отец, поскольку никогда не скрывал, что предпочитает младшего. На смертном одре он поспешно добавил в завещание несколько пунктов не в пользу Иосифа, согласно которым именно в тот момент Карл был предпочтительнее, поскольку закон отказывал ему в престолонаследии. Иосиф был смертельно оскорблен, а Карл ненавидел его, так как думал, что сам заслужил трон. Разве отец не говорил, что он – лучший? Младший сын, человек мрачного и злопамятного характера, воспитывался не как второй сын, а как будущий король: король Испании. И теперь он не мог смириться с судьбой, согласиться, что останется без короны на голове. Оба брата не виделись вот уже восемь лет: Карл уехал в Испанию в 1 703 году, чтобы оспорить корону у Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV, и больше не вернулся в Вену. Слишком много было камней преткновения: сначала из-за владычества над Миланом и Финале, затем из-за управления Ломбардией, наконец, из-за Неаполя, где схлестнулись протеже обоих. Даже если братьев разделяли народы, войска, моря и горы, расположенные между Австрией и Испанией, Карл каждый день, каждый час, каждый миг с завистью думал о брате. Хорошенькое наследство оставил отец Иосифу, думал я: недоброжелательность министров, соперничество с братом и ту странную юношескую наивность, из-за которой он подвергался множеству опасностей, к примеру маневрам аббата Мелани.Размышляя таким образом, я встал с кровати и на цыпочках пошел к своим старым бумагам. Поскольку сон полностью оставил меня, мне захотелось продолжить чтение тех брошюр о моем дорогом Иосифе, которые я несколько дней назад собирался прочесть как можно скорее. Однако теперь я не искал ответов на вопросы по поводу Места Без Имени. Нет, теперь, когда аббат Мелани планировал с моей помощью передать Иосифу I доказательства измены Савойского, сам император завладел моими мыслями больше, чем раньше. Я принялся перелистывать бумаги на немецком языке. В руки мне попало сообщение о его свадьбе:
Пышный въезд в город Его Королевского Величества Иосифа, короля Рима и короля Венгрии/ и т. д. с Ее Величеством Вильгельминой Амалией, королевой Рима /супругой Его Величества/ и т. д. 24 февраля 1699 года между 4-м и 5-м часом.Пробегая глазами по строкам, по обычаю тевтонских газет изобиловавшим скучными подробностями, я вспоминал другие голоса, которые слышал в городе по поводу Иосифа. Сколько милого прямодушия было в его поведении, сколько юношеской непосредственности, сколько благородных мыслей! Для хитрого аббата Мелани было бы легче легкого завоевать доверие молодого владыки, если бы он говорил на чистом итальянском языке и умолчал, что является французским посланником. Но если Атто все же заодно с турками? Только после того, как Иосиф сочетался браком (он женился на немецкой принцессе Вильгельмине Амалии Брауншвейг-Люнебургской), Леопольд позволил ему снова заниматься государственными делами. Но молодой человек уже успел снискать ненависть отцовских министров. 5 мая 1705 года Леопольд почил после полувекового правления. Ситуация в империи была крайне серьезной: бушевала ужасная война против Франции и ее союзников, целые армии были готовы в любой миг вторгнуться на австрийские земли. Система налогообложения практически уничтожена, финансовое положение шаткое, императорская сокровищница стояла пуста. В войсках царила сумятица, солдаты были плохо вооружены, недисциплинированны. Императорские территории (восставшая Венгрия, неспокойные регионы Италии, вечно враждебная Богемия) угрожали отколоться. Во время поминок по Леопольду один иезуит, придворный проповедник, отважился предостеречь Иосифа: только принц, воспитанный иезуитами, может надеяться править успешно и счастливо. Иосиф не позволил запугать себя: он изгнал иезуита из страны и приказал изъять две сотни печатных экземпляров его речи. Остальным иезуитам, оставшимся при дворе, он объявил, что отныне они не имеют права голоса в вопросах политики. После этого уволил одного за другим бездарных министров и государственных деятелей, которые были столь дороги его отцу, и призвал новых молодых людей, желавших служить ему. Единственным, кто не был отправлен домой, был Евгений Савойский. Новые министры, которых выбрал Иосиф, не были невинными ягнятами. Были меж ними ссоры и соперничество. Но благодаря своему воздействию он справлялся с ними и разрешал все споры. Молодой император вскоре принялся за скучную и сложную задачу лечения государственных финансов, впрочем, не забыв о тех реформах, которые могли улучшить, пусть и незначительно, жизнь его подданных. Начиная с Вены, он ввел, наряду с множеством других инициатив, регулярную уборку улиц; заложил сеть канализации; распространил предписание каждый день записывать умерших в городе и в пригородах и приказал построить неподалеку от Каринтийских ворот театр для народа, где ставились старые добрые венские комедии, черпавшие в свою очередь вдохновение в еще более старых комедиях итальянского искусства. Наконец, он приказал вывезти сто восемьдесят турецких пушек, оставшихся в городском арсенале после осады 1683 года в качестве военного трофея: литейные цеха должны были переплавить их в новый роскошный колокол для собора Святого Стефана, самый красивый и большой колокол, который когда-либо видели в Вене, столице и резиденции императора; и работа должна была быть представлена и торжественно освящена в июле 1711 года, к тридцать третьему дню рождения Иосифа Победоносного.
Затем я добрался до «Прототипического каббалистического прогностикона», иными словами, гороскопа Иосифа: Horoscopus gloriae, felicitates, et perennitatis, Josephi Primi, Romanorum Impe ratoris, semper Augusti, Germaniae, Bohemiae, Hungariae, с. с Regis.[945] Он был составлен с помощью арифметических расчетов на основании Священного Писания, причем в 1709 году доктором saluberrimae medicinae[946] из Падуи Иосефом Валлихом, olim Хертцваллих, на еврейском, латыни, греческом, халдейском, сирийском, каббалистическом, раввинском, иерусалимском, польском, итальянском, французском и немецком языках и с великолепнейшей ясностью сообщал:
В конце прошлого года, однако, опять случилось кое-что, внушившее беспокойство верным подданным. Альманах «Энглишер Варзагер» объявил свои рифмованные предсказания на грядущий 1711 год:
Я вернулся обратно в постель, размышляя о словах хормейстера. Предвидение, сказала она, Божественный дар мудрых.
23 часа, когда в Вене спят (а в Риме совершаются самые страшные злодеяния)
Я наконец уснул и вдруг услышал легкий стук в дверь. – Кто там? Кому я понадобился? – крикнул я по-немецки и вскочил с постели. Мне приснилось, что я сижу на уроке немецкого у Оллендорфа, и от испуга и внезапного пробуждения я как попугай повторил слова, которые он мне втолковывал. – Господин мастер, это я. Симонис: я совершенно забыл о нашей договоренности на полночь с Данило Даниловичем, его товарищем из Понтеведро. Через несколько минут мы были уже на улице. Из-за усталости я сильнее чувствовал холод, и больше всего мне хотелось вернуться в свою теплую мягкую постель. К счастью, в переулке стояла карета, призванная облегчить тяготы полуночной вылазки. На самом деле это была открытая повозка, или, проще говоря, коляска. Скромное средство передвижения, предназначенное для перевозки людей на небольшие от города расстояния. На козлах сидел Пеничек, с которым я поздоровался удивленно и в то же время весело. Когда мы устроились в коляске, Симонис пояснил мне его неожиданное присутствие. – Наш Пеничек подрабатывает кучером, чтобы оплачивать занятия. Тут я припомнил, что нищие студенты из-за изданного деканом эдикта могли попасть в темницу университета, если их заставали за попрошайничеством без месячного разрешения, которое было довольно сложно получить. Симонис добавил, что коляска, в которой мы ехали, была экземпляром старой «зашиты от мух», то есть открытой каретой с сеткой от насекомых. – Значит, твой Пеничек работает на кого-то, у кого есть лицензия, как и ты? – Нет, господин мастер, не всегда удается найти постоянное место, как то, которое вы были так добры предоставить мне. Скажем так, Пеничек… не связан обязательствами. – Что ты хочешь этим сказать? У него нет разрешения перевозить людей или товары? – обеспокоенно спросил я. – М-м, официально – нет. – Незаконно работает? Как это возможно? Я знаю, что каждого, кто водит в Вене транспортное средство, проверяют строжайшим образом. Все кучера подлежат контролю и даже обязаны записывать данные всех людей, которых перевозят! – Да, к сожалению, это так, – согласился младшекурсник, – моим ремеслом занимается множество шпионов, но есть инспекторы, которые, скажем так… толерантны! – закончил он, заговорщицки подмигивая нам. – Пеничека, – добавил Симонис, – власти терпят, как и других. Достаточно заплатить небольшой «вклад»… и вот уже такого рода деятельность обретает целый ряд преимуществ. Поясни ему, младшекурсник. – О да, конечно, господин мастер, – подтвердил Пеничек, пока коляска ехала по пустынным улицам города. – В первую очередь, не нужно платить налоги, поскольку мы не относимся ни к мелким перевозчикам, которые перевозят по нескольку пассажиров, ни к грузоперевозчикам, которые перевозят тяжелые предметы. Кроме того, коляску и лошадь у меня не отнимут для путешествия придворных или для транспортировки пушек, когда начнется война. Я не обязан принимать участия в расчистке улиц от отходов или, когда настает зима, уборке снега. Если я не хочу, я даже могу не возить уголь и не мучиться перевозками между Веной и Линцем. Я езжу между городом и пригородами, мне этого вполне достаточно. С недавнего времени грузо-перевозчики обязаны иметь по меньшей мере восемь лошадей и четыре кареты. В прошлом году гильдия прокатчиков лошадей объединилась с гильдией мелких перевозчиков. Так что теперь нужно решить, чьи правила будут действовать. Все становится настолько запутанным, зачем мне в это вмешиваться? У меня есть моя лошадка, четыре колеса и каретный сарай в районе Россау. Все это стоило мне недорого. Если я захочу покончить с этим, то просто снова все продам. Конечно, нужно быть начеку: если со мной что-то случится и кто-то обнаружит, что я был пьян, с меня сдерут хороший штраф и у меня возникнут серьезные трудности. Всегда нужно держать ухо востро. Несмотря на его подобострастные манеры, подумал я, похоже, этот Пеничек умеет здорово лавировать по жизни. – Симонис, – снова обратился я к своему помощнику, – ты поступил ко мне на службу, чтобы заработать немного денег. Пеничек работает кучером. А учебу Даниловича, поскольку он граф, наверное, оплачивает его семья, или как? – Да, он граф, происходит из одной из самых известных в Понтеведро семей, но это маленькое государство – полный банкрот. Чтобы поправить дела своего народа, Данило даже пытался подцепить себе здесь богатую вдову, но его постигла неудача. – Сплошные святоши! – покачал головой Пеничек, натягивая поводья. – В Париже можно было бы попытаться, там есть веселые вдовушки… – Но тут проклятая война все ему испортила, – пояснил грек. – И чтобы как-то прожить, он вынужден унизиться до того, чтобы заняться не слишком почетным ремеслом: он шпион. Я вздрогнул: после Атто – опять тайный агент? – Не такой, как вы опасаетесь, – тут же добавил Симонис, – он легальный шпион, так сказать, уполномоченный. Он пояснил мне, что прошлый император Леопольд, отец Иосифа I, был набожным и справедливым человеком. Он страшился каких бы то ни было эксцессов и в высшей степени ценил осторожность, терпение и бережливость. И поскольку Австрию, как мне было, наверное, известно, поцеловала богиня изобилия, и даже последний подданный обладал достаточным имуществом для того, чтобы жить как король, Леопольд, дабы не путать дворянина с поденщиком, князя со столяром, даму со служанкой, разделил общество на пять классов. И каждому подробно расписал, сколько ему роскоши положено и что запрещено. В классификацию не входили только дворяне и кавалеры орденов, поскольку обладали особыми привилегиями. – Действительно, я слышал об этих пяти классах. Однако с тех пор, как я здесь, никто никогда не спрашивал, к какому из них я принадлежу, – вставил я. – Может быть, потому, что вы – чужестранец и никто не подумал о том, что вас нужно контролировать. А для венцев это очень серьезный вопрос. Симонис кратко описал мне пять классов. К первому принадлежали уважаемые императорские и княжеские чиновники: вицедоны, придворные и военные казначеи, императорский управитель соляного ведомства, главный лесничий и управитель железного ведомства, придворные квартирмейстеры etc. Второй класс охватывал представителей несколько более скромных занятий: советников бухгалтерии, придворных музыкантов, контролеров, гардеробщиков, цирюльников, поваров и так далее. В третьем мы спускались еще ниже: бухгалтеры, канцеляристы, управляющие винными погребами, обойщики. К четвертому классу принадлежали сокольничьи, охотники, носильщики, сторожа, школьные учителя, повара и низшие служащие. К пятому, последнему классу относился простой народ помощников и поденщиков. Для каждого класса было точно установлено, сколько денег можно тратить на то, чтобы одеться, поесть, выйти в свет, жениться и даже умереть. Граждане первого класса и их родственники, к примеру, не могли носить украшения из золота и серебра, настоящего и фальшивого жемчуга, броши, кнопки с украшениями, позументы, пряжки, кинжалы и мечи, парчовые ткани, кружева, меха горностая, рыси, лисы или бобра, страусиные перья и парики. Запрещены были также духи. Рукава: без крылышек. Женщинам: ни локонов, ни юбок или платьев изысканного покроя. Было запрещено пользоваться элегантными каретами, сани тоже должны были быть скромными, без излишней резьбы. На улице только мужчин мог сопровождать слуга, при этом не более одного. Даже дома граждане первого класса не могли чувствовать себя свободно: были запрещены красивые столовые приборы, обивка мебели, скатерти, стулья, дорогие шторы и предметы из красного дерева. Даже ткани балдахина, скрывавшего интим супружеского ложа от посторонних глаз, должны были быть простыми. Во время свадьбы нельзя было потратить более сотни гульденов на банкет, вино, цветы и музыку, если же речь шла об обычном ужине с гостями, то не более двадцати. Даже к лошадям и похоронам граждан первого класса предъявлялись строгие требования: не слишком дорогая повозка, для мертвецов – двенадцать подсвечников с белыми свечами и ничего более. Излишним будет упоминать, что представителям второго класса было запрещено еще множество других вещей, третьего – еще больше и так далее, так что то, что бедным гражданам пятого класса было разрешено дышать, граничило с чудом. – Я не понимаю: кто же следит за тем, чтобы все эти запреты не нарушались? – Но это же ясно как божий день: сами жители Вены. И в первую очередь студенты. Леопольд организовал что-то вроде полиции нравов: отряд шпионов, тайно присутствующих на свадьбах, праздниках и даже в частных домах, для слежки за тем, чтобы никто из граждан не нарушал закон. Данило Данилович был одним из них. – Студенты, всегда стесненные в средствах и обладающие острым умом, самые лучшие шпионы, – заметил Симонис. Уполномоченным шпионам причиталась треть штрафа, который платили нарушители закона, поэтому можно было предположить, что они очень тщательно выполняли свой долг. Впрочем, это было не всегда легко: откуда им, к примеру, было знать, стоит платье тридцать, пятьдесят или двести гульденов? Поэтому портных, меховщиков и вышивальщиц заставляли (под угрозой того, что им самим придется платить штраф) доносить на клиентов, которые заказывали платья, не соответствующие их классу. Аналогично были наняты легионы поваров и поварят (которых называли «надсмотрщиками за кастрюлями»), чтобы они доносили на излишне прожорливых хозяев. Столяры сообщали о заказах роскошной мебели, торговцы тканями уведомляли о покупке дорогихтканей, а художники доносили властям на клиентов, которые заказывали слишком большой портрет. За доносы об излишней роскоши в каретах заботились извозчики, кучера и ямщики. Со временем в Вене не осталось ни одного места, где за прохожими не наблюдал бы шпион: их сапоги (не слишком ли высокие каблуки?), их лица (французская пудра?) или мушки у дам (слишком много на левой щеке?). Из-за большого количества шпионов в кухнях царило недоверие, в портняжных мастерских люди быстро оглядывались, в карете изучали ямщика, словно ожидая от него ножа под ребра. Тот, на кого доносили (и кто, конечно же, мстил, донося в свою очередь), вынужден был запирать кладовую, чтобы скрыть лишнего поросенка, обитые кресла прятать в подвале, а золотое колечко младшей дочери закапывать в саду. Но кто мог упомнить все запреты? В праздничные дни украшения и прически не должны были стоить более шести сотен гульденов в первом, трех сотен во втором, двадцати-тридцати в третьем, пятнадцати-двадцати в четвертом и четырех крейцеров в пятом классе. Бедный поденщик и безграмотный человек из пятого класса должен был следить за тем, чтобы у него не было платков на более чем один гульден и тридцать крейцеров, ботинки и шляпы не стоили бы более одного гульдена и чтобы он не заказывал блюда или банкеты за цену более пятнадцати или, если они предназначались для детей, пяти гульденов. Выходит, каждому в жизни нужно было заводить заполненную цифрами книжечку и отрываться от нее только затем, чтобы проконтролировать соседа. Жизнь превратилась в ад, что, конечно же, не входило в планы Леопольда. Однако жители Вены, обладавшие природной мудростью и ценившие мирную жизнь, скоро сами поняли: то, что они зарабатывают шпионажем, стоит гораздо меньше, чем утерянная свобода. Тем более что дворяне, министры и высшее духовенство, которых не касались запреты Леопольда, продолжали кутить, праздновать и наряжаться, как им угодно. В их среде стало модным иметь животик (знак уважения и зажиточности), на который спадали любимые тогда алонжевые парики, придавая власть имущим неповторимое сходство с грушей. – Как же ты тогда объяснишь, – вставил я, – что в домах крестьян, где мы с тобой чистим камины, на столе лежат столовые приборы из резной слоновой кости, можно увидеть тарелки из чудеснейшей керамики, гардины и скатерти с великолепными кружевами, красивые бокалы, мягкие кресла и причудливо украшенные печи? Даже в домах за городом кладовые всегда полны, а из кухни доносится аромат, от которого слюнки текут? – Обстоятельства с тех пор очень сильно улучшились, – сказал Симонис. Утомившись от вечного шпионажа, жители Вены наконец начали закрывать глаза на нарушение законов соседями. Леопольд, издавший первое предписание в 1659 году, вынужден был повторить его в 1671, 1686, 1687, да и потом тоже, потому что жители временами словно глохли и многие хитрецы находили пути, чтобы обходить предписания, продавая предметы роскоши под названием скромных товаров. – Поэтому вы наверняка поймете, господин мастер, что жители Вены вздохнули с облегчением, когда старый император Леопольд умер, после пятидесяти лет правления. А шпионы, такие как Данило, зарабатывают меньше, чем раньше, поскольку толерантность таки пробила себе дорогу, особенно с учетом Иосифа, который представляет собой полную противоположность своего отца. Он любит роскошь, красоту и помпезность. – Откуда же ты знаешь, что Данило – шпион? Разве это не должно быть тайным занятием? – Господин мастер, от тренированного взгляда студента не ускользнет ничего. И нас, товарищей Данило, слишком много, чтобы он мог заниматься этим у нас под носом незаметно. – То, чем занимается Данило Данилович, не делает студенту чести; тем более графу, путь даже он и нищий. – Но Данило – граф из Понтеведро, господин мастер, а Понтеведро расположен посреди полу-Азии, помните? – ответил он мне с заговорщицкой улыбкой. – Точно так же, как и эта бестия, мой младшекурсник. Ведь правда же, Пеничек, что ты – полуазиатская бестия? Кивни, младшекурсник! Бедный Пеничек повернулся и кивнул. – Еще, младшекурсник! И покажи, что ты доволен, – упрекнул его грек. Пеничек повиновался, несколько раз кивнул головой в знак согласия и глупо улыбнулся. – Да, Симонис, я припоминаю, что на церемонии снятия ты что-то говорил мне о полу-Азии, – сказал я, без удовольствия наблюдая за этой сценой, впрочем, не желая вмешиваться, поскольку речь шла о студенческих обычаях. – Ты говорил, что страны на границе Азии, такие как вот это Понтеведро, в корне отличаются от наших. – В них встречаются европейское образование и азиатское варварство, – ответил Симонис, внезапно посерьезнев, – западное стремление вперед и восточная инертность, европейская гуманность и дикий, жестокий раздор между народами и религиями, господин мастер, которые должны казаться нам с вами, поскольку мы – европейцы, не просто чуждыми, а неслыханными. Этих людей нужно остерегаться. Но теперь нам следует прерваться, господин мастер: мы на месте.Мы вышли из коляски Пеничека, поднялись по каменной лестнице и оказались на открытом пространстве, на краю кольца стен, откуда открывался вид на гласис – широкую равнину вокруг города, которая отделяет его от пригорода Жозефина. – Мы часто встречались здесь, все товарищи Данило и… странно, но я его еще не вижу. – Симонис огляделся по сторонам. – Обычно он очень пунктуален. Подождите, я пойду поищу его. Данило Данилович выбрал в качестве места встречи очень отдаленную часть городских бастионов. К укрепленным стенам почти всюду можно было подойти, однако из-за темных сделок, совершавшихся здесь ночью, они были слишком известны. Солдаты городского гарнизона пользовались именно темнотой, чтобы втайне торговать вином и развлекаться с девушками, молодыми красотками, во множестве предлагавшими свои тела на бастионах. Однако в этот вечер из-за холода и ледяного ветра, безжалостно проносившегося над бастионом, не было видно ни солдат, ни проституток. Симонис исчез вот уже добрых четверть часа назад. Что, черт возьми, произошло? Я собирался пойти поискать его, когда увидел, как из темноты вынырнула его тень. – Господин мастер! Господин мастер, бегите, скорее! – прошептал он сдавленным голосом. Я побежал со своим помощником на террасу расположенного неподалеку бруствера, где лежал черный ком непонятных очертаний. – О боже мой, – простонал я, разглядев в этом коме человеческое тело и увидев лицо крупного, сильного человека: Данило Даниловича. – Что с ним случилось? – спросил я, с трудом переводя дух. – Его закололи, господин мастер, вот, смотрите, – сказал Симонис и распахнул его пелерину, – все в крови. Они нанесли по меньшей мере двадцать ударов. – О боже мой, мы должны увезти его отсюда… Но что ты делаешь? Симонис вынул из кармана ампулу с какой-то жидкостью и поднес ее к носу Данило. – Я проверяю, не чихнет ли он. Это сок руты: если он чихнет, то раны не смертельны, если не отреагирует, то уже ничего не поделаешь. Молодой гражданин Понтеведро не шевелился. – О, мой бог, – всхлипнул я. – Чш-ш-ш! – перебил меня грек. Данило хотел что-то сказать. То был тихий хрип, и с дыханием, вырывавшимся из его рта из-за холода белыми облачками, казалось, уходила его душа. – Zivio… Zivio… – прошептал он. – Это он здоровается по-понтеведрийски, – пояснил Симонис, – он бредит. – Яблоко, Золотое яблоко… сорок тысяч Касыма… – бормотал студент. – Кто на тебя напал, Данило? – спросил я. – Пусть говорит, господин мастер, – снова перебил меня Симонис. – …крик сорока тысяч мучеников… – продолжал бормотать Данило. Мы с Симонисом озадаченно переглянулись. Похоже было на то, что жить Данило оставалось считанные мгновения. – Яблоко… Симонис, Золотое яблоко… о Вене и папе… Мы увидимся снова у Золотого яблока… Это звучало совсем похоже на прощание. Тут грек обрушился на умирающего: – Данило, послушай! Держись, проклятье! С кем ты говорил по поводу Золотого яблока? И кто эти сорок тысяч Касыма? Он не ответил. Дыхание его внезапно ускорилось. – Крик… сорока тысяч, каждую пятницу… Золотое яблоко в Константинополе… в Вене… в Риме… Айууб нашел его. Затем дыхание его прервалось. Он поднял голову и открыл глаза, словно его посетило видение. Наконец он задрожал, и голова, которую я поддерживал ему скорее из милосердия, чем из практической необходимости, запрокинулась назад. Симонис благоговейно закрыл ему глаза. – О боже мой, – застонал я, – как же мы унесем его отсюда? – Мы оставим его здесь, господин мастер. Если мы возьмем его с собой, нас задержит стража и тогда у нас будут большие неприятности. – Симонис поднялся. – Но мы не можем… его похороны… – в ужасе запротестовал я. – Завтра гарнизон позаботится об этом, господин мастер. Студенты много пьют по ночам и вызывают друг друга на дуэли. Часто бывает, что утром находят трупы, – сказал Симонис, оттягивая меня за рукав. Ветер на защитных сооружениях стал сильнее и буквально завывал в ушах. – Но нужно сообщить родственникам… – У него их не было, господин мастер. Данило мертв, и никто больше ничего не может для него сделать, – сказал Симонис. Пока он подталкивал меня вниз по лестнице, которая вела прочь от бастиона, то, что только что было ветром, превратилось в шторм, и внезапно на всю Вену начало падать белое благословение снега.
Вена: столица и резиденция Императора Воскресенье, 12 апреля 1711 года День четвертый
Подобно спящему великану покоилось Место Без Имени под одеялом из снега. Белые хлопья исполняли в воздухе прелестный танец, когда я шел по большому саду с восьмиугольными башнями. Воздух был чист и неподвижен. Фиалы башен, напоминавших минареты, украшал фантастический узор с белыми вкраплениями. Перед фасадом замка мне пришлось поднести руку к глазам, чтобы не ослепнуть от сверкающего алебастрового камня, воздействие которого многократно усиливалось отражением в снегу и молочно-белом небе. Хлопья падали на мою голову, словно благословение, все сверкало, будто в раю. Даже деревья со своими голыми, искривленными, словно лапы, ветвями, казались приветливее под таким количеством невинного белого цвета. Я повернул направо, прошел мимо maior domus и оказался во дворе за главным входом; оттуда я спустился по винтовой лестнице, ведущей к клеткам с дикими зверями. Спускаясь вниз, я увидел через окно пруд для рыбок с северной стороны Места Без Имени. Он был покрыт тонкой коркой льда. Когда я оказался у ямы со львами, меня уже ждал Фрош. – Мустафа потерялся. На площадке для игры в мяч он побежал, а потом исчез. Как это возможно? Я позволил Фрошу отвести себя в дом для игры в мяч, втайне подозревая, что он опять просто-напросто надрался и забыл, где оставил своего любимого льва. – Вот здесь все и произошло! Он указал на Летающий корабль, по-прежнему стоявший посреди площадки для игры в мяч. В суете последних дней я почти совсем позабыл о нем. Бросив на Фроша недоверчивый взгляд, я дал ему почувствовать свое сомнение. Лев не может раствориться в воздухе. Однако поскольку сторож Места Без Имени продолжал упорно указывать на старый воздушный корабль (если он и впрямь когда-либо летал), я решил посмотреть на него. – Если Мустафа приблизится, немедленно спешите мне на помощь! – велел я ему. Для начала я обошел вокруг Летающий корабль. Ничего. В снегу действительно были видны следы льва, но они исчезали буквально в том самом месте, где я стоял, рядом с одним из больших крыльев. Поэтому я взобрался на крыло, поднялся на борт и принялся обыскивать внутреннее пространство корабля. И вдруг это началось. Сначала чувствовались только легкие рывки, затем настоящий топот, становившийся все сильнее и сильнее. Казалось, от хвоста и крыльев исходят мощные толчки, передававшиеся корпусу корабля и заставляющие его трещать и стонать. Затем все внезапно стихло. Фрош внимательно наблюдал за мной, однако удивленным не казался. Корабль поднимался. Вцепившись в один из деревянных поручней, я увидел, как мощные стены площадки для игры в мяч с головокружительной скоростью ушли вниз, горизонт растворился, и крыша Места Вез Имени устремилась мне навстречу. Размытое великолепие зимнего ландшафта широко раскинулось подо мной, и благословенный свет неба лился на меня сверху, и снизу, и отовсюду, в общем, все было в точности так, как я представлял себе прибытие в рай. Летающий корабль наконец снова поднялся в воздух. Я услышал скрип руля, обернулся и увидел его: черный штурман смотрел прямо вперед, уверенной рукой направляя корабль сквозь воздушные потоки. Но вскоре он отпустил руль, а тот, словно одержимый какими-то невидимыми духами, продолжал поворачиваться сам собой; штурман наклонился, а когда выпрямился, в руках у него была скрипка. Умело орудуя смычком, он вызвал несколько звуков какой-то мелодии, смутно знакомой мне. В этот миг я узнал его: то был Альбикастро, скрипач, с которым я много лет назад встречался на вилле «Корабль», а эта музыка была португальской фолией, которую он обычно играл. Значит, это было правдой: газета, которую Фрош давал мне почитать, не лгала, два года назад эта старая посудина еще летала и едва не повисла на башне собора Святого Стефана, когда коснулась фиалы, из которой поднималось Золотое яблоко. И его таинственный штурман – вовсе не бразильский ученый! – был не кем иным, как Джованни Энрико Альбикастро, летучим голландцем на своем призрачном корабле. Так назвал его Атто Мелани, застыв от ужаса, когда мы впервые увидели его и нам показалось, что благодаря своему плащу из черной кисеи он парит над зубцами виллы Корабль. Я обвел взглядом сады Места Без Имени и покрытый снегом ландшафт Зиммеринга, разглядел вдалеке крыши Вены и башни собора Святого Стефана. Все ближе и ближе придвигался ко мне Альбикастро, наигрывая свою фолию и улыбаясь мне, однако когда я решил обнять его, все закончилось. Позади себя я снова услышал дрожь и глухое, недружелюбное ворчание. – Так я и думал: он спрятался здесь, – со внезапно накатившей на меня обреченностью произнес я, уже оборачиваясь и слыша тот дьявольский голос с его теплым нечеловеческим дыханием. Мустафа зарычал раз, другой, третий, затем наступил на меня правой лапой и вонзил когти в мою щеку. Прежде чем умереть, я услышал крик отчаяния, принадлежавший мне самому. Я проснулся.От кошмара, на который я обрек себя, я мог освободиться исключительно сам, что я и сделал. Простыня была мокрой от пота, лицо горячим, словно дыхание Мустафы, руки и ноги ледяные, как снег в моем сне. Месту Без Имени было не достаточно владеть всеми моими мыслями днем, теперь оно решило захватить и мои ночи. Казалось, Нойгебау таило в себе слишком много загадок, чтобы разгадать их с помощью одного только разума. Клоридия и малыш уже встали. Наверняка они ждали меня к мессе. Благодарение Богу, подумал я, молитва и причастие полностью избавят меня от миражей ночной темноты.
5:30 утра: заутреня С этого момента непрестанно звонит колокол, целый день возвещая о мессах, молебнах в шествиях. Открываются трактиры и пивные
Одеваясь, я услышал глухой стук. Чья-то скромная рука просунула под дверь записку: Атто срочно звал меня к себе, мы вместе должны были посетить утреннюю мессу в церкви Святой Агнес при монастыре Химмельпфорте. Внезапный снегопад в апреле, редкий, но случающийся в Вене, покрыл город толстым красивым покрывалом, точно таким же, как в моем сне. Я вместе с Клоридией и нашим сыночком направился на Рауенштайнгассе, улицу, проходившую перпендикулярно монастырю, где находился главный вход в церковь. На входе в средний неф мы наткнулись на Атто и Доменико. Я с удивлением отметил, что хотя аббат и надел другую одежду, она, как и вчера, вся была выполнена тоже в зеленых и черных тонах, словно он обновил свой гардероб только этими цветами. Вздрагивая от холода, мы сели на скамью с левой стороны. – Сегодня мы празднуем первое воскресенье после Святой Пасхи, еще именуемое Антипасхой или Quasi Modo Geniti,[948] – начал священник, служащий мессу. – Евангелие, которое мы услышим, будет двадцатой главой от Иоанна, о Фоме неверующем. Но мысли мои по-прежнему кружились вокруг смерти Данило, которую я ночью по возвращении в Химмельпфорте подробно описал Клоридии. Вряд ли стоит упоминать о том, что это событие привело нас обоих в состояние сильнейшего волнения. Последние слова заставляли предположить, что убийство было совершено турками. Кроме того, Данило ведь собирался встретиться с нами, чтобы сообщить о первых результатах исследования, касавшегося Золотого яблока. – Сегодня, – продолжал священник, – заканчиваются празднования святых страстей, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, начавшиеся три недели назад, в Черное воскресенье, иначе именуемое Judlca, когда иудеи побили Иисуса камнями, как сообщается в восьмой главе Евангелия от Иоанна. Затем был Вход Господень в Иерусалим, о котором рассказывается в двадцать первой главе Евангелия от Матфея. В прошлое воскресенье, Святую Пасху, мы читали сообщение о воскресении Господа нашего, записанное евангелистом Марком, в пасхальный понедельник – двадцать четвертую главу от Луки, о походе в Эммаус; во вторник idem, благословение Иисусом детей. Все это вести радостные и благие. Что же означали те мрачные слова, сказанные умирающим Данило? Просто какие-то воспоминания о том, что он узнал? Или страшные угрозы, которые высказывали ему убийцы, прежде чем прикончить его? Мы с Клоридией, кроме того, были очень обеспокоены тем, что кто-то может связать смерть Данило со мной и Симонисом и мы окажемся замешанными в процессе. – По этой причине четыре последующих воскресенья обозначаются словами ликования и надежды: misericordia, jubilate, cantate и rogate. И не забывайте о чуде любви и прощения, случившемся в этом монастыре сотни лет назад, из-за чего он и получил свое имя Химмельпфорте, по-латыни porta coeli: случилось так, что сестра привратница сбилась с пути истинного и сбежала со своим исповедником. И тогда Богоматерь заняла ее место и воплотилась в образе той заблудшей. И только когда грешница вернулась с раскаянием, аббатиса обнаружила замену, а Святая Дева открылась и благословила грешницу, чтобы затем исчезнуть на глазах озадаченных монахинь. Возрадуйтесь же и надейтесь на милость Всевышнего, – заключил священник. О да, надеяться было на что, сказал я себе, услышав слова, доносившиеся с кафедры. Пока что никто не пришел. Если все пройдет хорошо, как предсказывал мой помощник, смерть Данило Даниловича спишут на несчастный исход ссоры между пьяными или объявят мелким преступлением. О погребальной литургии позаботится сочувствующее благотворительное братство.Во время мессы Атто заставлял своего племянника смотреть то в одну, то в другую сторону. Он искал кого-то, и я точно знал кого. Наконец он спросил меня об этом человеке прямо. – Она пришла? – Кто? – Я притворился, что ничего не понимаю. – Как кто? Пальфи, черт побери. Доменико под каким-то предлогом попросил одну из монахинь описать ее. Говорят, она часто приходит в церковь к заутрене. Но здесь нет никого, кто соответствовал бы описанию. – В этом я не могу вам помочь, синьор Атто, – ответил я, а с задней скамьи кто-то попросил нас замолчать и буркнул что-то неприятное в адрес вечно болтливых итальянцев. Я посмотрел наверх. На хорах сидели монахини, в то время как послушницы собрались впереди, в боковом продольном нефе. Нашел я и хормейстера: склонившись на скамеечке для коленопреклонения, она страстно молилась, поднимая лицо то к распятию, то к статуе Пресвятой Девы. Я присмотрелся внимательнее: плечи Камиллы вздрагивали, мне даже почудилось, что она плачет. Еще вчера вечером она показалась мне напряженной. Теперь и Клоридия заметила ее, бросила на меня вопросительный взгляд, и я ответил ей молчаливым удивлением. Я понятия не имел, что могло так огорчить нашу добрую подругу.
На выходе Атто и Доменико ждали, не покажется ли молодая дама, соответствующая описанию, однако все было тщетно. Есть еще одна возможность, пояснил Доменико, а именно: графиня Марианна Пальфи придет на богослужение в половине десятого, на мессу для дворянства, в собор Святого Стефана. Так что нам не оставалось ничего другого, кроме как присутствовать еще на одном богослужении в надежде, что там нам повезет больше. Поскольку до начала этой мессы оставалось немного времени, мы провели его в церкви монастыря. Клоридия взглядом искала Камиллу: она хотела выяснить, что тревожит ее душу. Атто же велел Доменико отвести себя к наставнице конвента, надеясь, что она отведет его к Пальфи. Я последовал за ними. – Сестра Страссольдо? – вежливым тоном по-итальянски поинтересовался Атто, поскольку фамилия сестры была итальянской. – Фон Страссольдо, прошу вас! – грубо ответила сестра. Она была среднего возраста, худощавой, а еще у нее были маленькие, голубые, сердито сверкающие глаза. Атто смутился: забыть о приставке «фон», подтверждавшей благородное происхождение семьи Страссольдо, вряд ли было хорошим началом беседы. – Вы позволите мне извиниться, я… – Вы прощены, однако я тоже прошу меня извинить. У меня множество дел, и я не говорю по-итальянски. Хормейстер поможет вам в вашем деле, – коротко отрезала фон Страссольдо, поворачиваясь спиной к Мелани и Доменико. Они остались стоять пораженные, униженные, поскольку свидетелями их разговора стали некоторые другие монахини. Даже по отношению к слепому ворчливая матушка-игуменья не смогла вести себя ласковее. – Господин аббат, – прошептал я ему на ухо, когда другие монахини удалились, – здесь люди не такие, как в Италии и, может быть, во Франции. Если они не хотят разговаривать, то не церемонятся. – О, оставь, – тоже раздраженно перебил меня Мелани, – я очень хорошо понял: эта старая гусыня итальянского происхождения, похоже, не хочет иметь ничего общего со своими земляками. Все всегда одно и то же: только потому, что они отстоят от корней на одно-два поколения, они делают вид, что забыли о своих предках. Точно так же, как и Габсбурги, и Пьерлеони. Второе имя было мне совершенно незнакомым. Что общего у этого итальянского рода с блестящими Габсбургами, семьей императора? – Ты не знаешь, кто такие Пьерлеони? – со злобной улыбкой спросил Атто. Согласно официальной истории, пояснил он, империя Габсбургов возродилась из пепла Римской империи, которая развалилась из-за переселения народов готов и лангобардов. С героическим мужеством Карл Великий изгнал лангобардов из Италии и был провозглашен Римским императором. Благодаря всемогущей добродетели немца Отто Великого имя, регалии и власть Римской империи перешли к немецкой нации и теперь покоятся на плечах австрийского рода Габсбургов, семьи, в которой воистину возродились античные цезари. – Но это ложь, сказки, которые рассказывают историки, – прошипел Атто, бросая взгляд исподтишка в ту сторону, куда удалилась Страссольдо, – потому что истина о происхождении Габсбургов – это вопрос, который никто не любит затрагивать. Началась история габсбургских императоров с Рудольфа I, который в 1273 году от Рождества Христова взошел на трон. В этом пункте все сходятся. – Но что было до этого дня, – сказал аббат Мелани, – не знает никто. Согласно исследованиям некоторых ученых происхождение габсбургской крови восходит к некому Гунтраму, сын которого в 1000 году построил замок под названием Габсбург. Другие ссылаются на некоего Оттоберта в 654 году, который был не кем иным, как Эганусом, мажордомом короля Франции, женившимся на Гербере, дочери святой Гертруды. Однако были и такие ученые, которые возмущенно отвечали, что Габсбургам и во сне не снилась королевская кровь Меровингов. Князь Зигберт, сын Дитриха Австразийского, получил в 630году от короля Франции графство Алеманское, а его наследник Зигберт II взял себе титул графа фон Габсбурга. От его сына Пабо Эльзасского девятнадцать поколений спустя произошел Рудольф I. Совершенно неверно, возмущались ученые, еще более образованные, чем предыдущие: Габсбурги восходят к Адаму. Династическая линия (она включала королей Вавилона и Трои, короля сикамбров, королей и графов франков, королей Галлии и Австразии, герцогов из Эльзаса и Алемании и графов Габсбургских и Эргау) была, по мнению этих экспертов, кристально ясной, впрочем, требовалось некоторое терпение, чтобы прочесть ее от начала до конца: Адам, Сет, Енос, Кейнан, Малелеил, Еред, Енох, Метушелах, Ламех, Ной, Хуш, Нимрод, Крез, Коелий, Сатурн, Юпитер, Дардан I, Эрихтоний, Трои, Ил, Лаомедон, Антенор I, Маркомир, Антенор II, Приам I, Гелен, Диокл, Бассан, Клодомир I, Никанор, Маркомир II, Клодий, Антенор III, Эстомир II, Меродак, Кассандр, Антарий, Франк, Хлодий, Маркомир III, Хлодомир, Антенор IV, Ратерий, Рихимер, Одемар, Маркомир IV, Хлодомир IV, Фараберт, Гунн, Гильдерих, Кватерий, еще один Хлодий, Дагоберт, Генебальд, еще один Дагоберт, Фаремунд, еще один Клодий, Меровех, Хильдерих, Хлодвиг Великий, Хлотарий, Сигисберт или Зигберт, Хильдеберт, Теодоберт, еще один Сигисберт, еще один Сигисберт, Отберт, Бебо, Роберт, Геттоберт, Рамперт, Гунтрам, Луитхард, Луитфрид, Гунфрид, еще один Гунтрам или, может быть, Густрам, Бетцо, Радпот, Вернер, Отто, еще один Вернер, Альберт Божественный, Альберт Мудрый и, наконец, Рудольф I. Конечно, в этой реконструкции возникали имена многих королей по нескольку раз, к тому же с хромающей орфографией (Бебо или Пабо? Густрам или Гунтрам? Сигисберт или Зигберт?), и все это было не до конца ясно. Однако преимущество заключалось в том, что эксперты не спорили по этому поводу, потому что это было для них просто слишком утомительно. Тем временем появились другие, самые умные и настойчивые из ученых, которые утверждали, что Рудольф I происходил от Альберта Мудрого. Ну, хорошо, Альберт Мудрый был потомком Альберто Пьерлеони, графом Монте-Авентино и членом древней знаменитой римской семьи. Уехав из Рима в Швейцарию, Альберто Пьерлеони женился на дочери Вернера, последнего графа Габсбурга, и таким образом основал династическую линию Габсбургов-Пьерлеони. Римская семья восходила к Леоне Аницио Пьерлеони, умершему в 1111, человеку исключительно благородных кровей, поскольку он происходил от самого римского императора Флавия Аниция Лео Цельпия Олибрия. – К сожалению, теория происхождения от Пьерлеони, которая была в моде при Леопольде I, отце Иосифа I, превратилась в нечто вроде самоубийства, – с ненавистью произнес Атто, все еще возмущенный унижением, которое ему пришлось снести от Страссольдо. Пьерлеони, богатая и влиятельная семья, запятнали свое имя, как замечали другие эксперты, довольно скверными деяниями. Среди них были кардиналы и епископы, а также жадные торговцы и бессовестные банкиры, финансировавшие Святой Престол с дурными намерениями, чтобы обвинить его в симонии и, шантажируя, возделывать свой собственный садик. Один из Пьерлеони в 1045 году был избран папой Григорием VI, однако затем было обнаружено, что он бессовестно купил папское достоинство у своего предшественника Бенедикта IX. Дело дошло до ушей императора Фридриха, который после этого прибыл в Италию и заставил Григория VI отречься и отправиться в изгнание в Германию, где бывший папа и умер, всеми презираемый. Еще один Пьерлеони был избран папой в 1130 году под именем Анаклета II, однако в день его избрания Папой Иннокентием II уже назначили другого кардинала, что привело к очередному тяжкому расколу, на протяжении многих столетий доставлявшему неприятности всему христианству (Анаклет был вынужден соперничать с еще пятью палами). Согласно мнению некоторых, Пьерлеони (которые, как и многие семьи в Средневековье, обладали личным войском и укрепленными замками в городе и регулярно вели войны с враждебными семьями) кроме всего прочего были иудейского происхождения: их прародитель, некий Барух, был обращенным в христианство иудеем, а известная легенда, согласно которой некоторые папы были тайными иудеями, берет свои истоки в истории Пьерлеони. Однако к иудеям император Леопольд I испытывал все что угодно, только не симпатию, он даже загнал их в Вене в гетто на другом берегу Дуная, на Леопольдинзель, как раз туда, где во время осады 1683 года турки разбили лагерь. – Короче говоря, – заключил Атто, смеясь и беря меня под руку, – славная римская семья, к которой пытаются возвести императорскую кровь Габсбургов, состояла из пап, которые здесь, в Вене, уже очень давно многим встали поперек горла, из иудеев, которые были для императора Леопольда I бельмом на глазу, и из итальянцев, которых и так не жалуют, – ты только посмотри, как ведет себя эта гусыня Страссольдо. Тем временем мы наткнулись на Камиллу де Росси. Клоридия отвела ее в сторону, и теперь они обе стояли, занятые взволнованным разговором, перед небольшой группой воспитанниц. Мы приблизились к группе в тот самый миг, когда моя жена отвечала на вопросы послушниц, которым всегда были интересны итальянки из далекого города папы. Камилла переводила с немецкого на итальянский и обратно. Молодые девушки (все из лучших семей и поистине идеальных форм) спрашивали о Риме и его достопримечательностях, о папе и римском дворе и о нашем прошлом. Я несколько обеспокоенно прислушался, потому что Клоридии приходилось скрывать позорное пятно профессии, которой она, жертва неудачно сложившихся обстоятельств, занималась в юности. – О детстве у меня сохранилось не очень много воспоминаний, – ответила она, – кроме того, моя мать была ту… В то мгновение, когда она собиралась сказать, что ее мать была турчанкой, я почувствовал, как Атто слегка вздрогнул и его морщинистая рука сжала мой локоть. Камилла де Росси открыла глаза и резко оборвала речь Клоридии: – Хорошо, мои дорогие, а теперь настало время заняться работой, мы и так болтали уже слишком долго. Едва группа послушниц удалилась, Камилла взяла мою жену под руку и пояснила нам, почему столь внезапно оборвала разговор. – Несколько лет назад кардинал Коллонич в церкви Святой Урсулы на Иоганнесгассе, что неподалеку отсюда, крестил молодую рабыню-турчанку, принадлежавшую капитану, испанцу Джироламо Джиудичи, а затем передал ее в пансион при Химмельпфорте. Монахини, которые были все исключительно из благородных семей, тут же запротестовали, поскольку опасались, что Химмельпфорте может утратить свое доброе имя. Джиудичи настаивал на своем решении, спор дошел до императора и консистории. Те признали правоту монахинь: молодой турчанке отказали. Бедняга вообще-то очень боялась оказаться запертой в монастыре, продолжала Камилла. Поскольку она опасалась, что рано или поздно Джиудичи найдет того, кто ее приютит, однажды ночью она бежала. Несмотря на долгие поиски, никому не удалось узнать, куда она бежала или же с кем. – Теперь вы понимаете, друзья, – заключила Камилла, – что некоторые темы здесь обсуждать нельзя. Коллонич. Это имя показалось мне знакомым. Где же я его слышал? Но ответа на свой вопрос я не знал. Одно было ясно: если кто-нибудь в Химмельпфорте узнает, что Клоридия была дочерью рабыни-турчанки, мы, скорее всего, будем вынуждены немедленно покинуть этот дом.
Четверть часа спустя мы с Атто и Доменико стояли в соборе Святого Стефана. Клоридия тем временем отправилась во дворец Евгения. Во время мессы в соборе царила совершенно иная атмосфера, нежели в церкви Святой Агнес. Кроме того, я должен сказать, что среди недели на вечерне можно было встретить только кучку пожилых дам и парочку нищих, а воскресные дневные мессы были столь многолюдны, что приходилось бегать от церкви к церкви, чтобы вообще найти место. На соборной площади, сверкавшей от свежевыпавшего снега, стоял один из тех монахов-попрошаек, которых можно ежедневно видеть перед венскими церквями: одетый в светло-синюю сутану, опоясанный ремешком, он протягивал всем входящим в церковь кружку для подаяний, шумно тряся ее при этом. Как раз в тот момент, когда мы приблизились, он вскочил, словно одержимый, и крикнул в толпу: – Идите на благословение! Идите на благословение1 – Аббат Мелани и Доменико были немало напуганы этим. Молитва с четками в девять часов как раз закончилась, и теперь священник благословлял всех. Толпа людей поспешно устремилась в собор, многие даже споткнулись и упали в снег, нас тоже потянуло потоком в собор. Тем немногим, кому не удалось войти, нищий кричал вслед свои проклятия. – Здесь, в Вене, воскресенья поистине благословенны, – заметил Атто, когда мы оказались в соборе. Он отряхнул снег с ботинок, в то время как его племянник поправлял сбившуюся в толпе шляпу и накидку. – Не только воскресенья, – с улыбкой пояснил я, тоже расправляя одежду. – Только здесь, в соборе Святого Стефана, каждый день проходит восемьдесят месс и три молитвы с четками. Кроме того, францисканцы проводят тридцать три мессы в день с равными временными промежутками, а в Михаэлькирхе служат мессу каждые четверть часа. – Каждый день? – удивленно в один голос воскликнули Атто и его сопровождающий. – Я сам как-то раз ради развлечения подсчитал, – добавил я, – и получилось, что только в соборе Святого Стефана в год служат более четырех сотен литургий, совершаемых епископом, почти шестьдесят тысяч месс и более тысячи молитв с четками, плюс к тому же около ста тридцати тысяч исповедей и причастий. И это не считая благословений, уточнил я, глядя на озадаченные лица своих собеседников. В одной из более сотни церквей и капелл города как раз таковое проходит; да, городские власти часто просили духовенство выбрать себе одно время, чтобы народу не приходилось в отчаянии бегать от церкви к церкви в поисках благословения.
Когда мы прошли дальше в собор, то увидели, что уже проходит торжественная месса и мессу читают одновременно у дюжины алтарей. Интересно, куда направится графиня Марианна Пальфи, если предположить, что она здесь? Поиски ее оказывались труднее, чем предполагалось вначале. Пока мы продвигались вперед по среднему продольному нефу, я бросал взгляды то в одну, то в другую сторону. Дворяне и министры в напудренных париках стояли спинами к алтарю, предлагали друг другу табак, читали письма и рассказывали о прочитанных в газетах событиях. Прислонившись к колоннам боковых нефов, они комментировали новейшую моду или провожали взглядами красивых женщин… Гигантские размеры собора Святого Стефана гарантировали спокойствие и защиту от шпионов. Некоторые алтари служили поистине местом встреч, и по этому поводу было придумано для них особое название: можно было услышать фразу «встретимся у блудилища», или же «у цыпочки», или «на Гульденплатц», «в Девичьем переулке» или «в сверкающем доме», Все это были похабные намеки на тот факт, что эти алтари очень любили посещать женщины с дурной репутацией, против неприятного присутствия которых бедные священники ничего не могли поделать и из-за чего над ними частенько насмехались. Безнравственность укоренилась настолько сильно, что некоторые богослужения получили из-за этого малоприятные прозвища: так, месса в 10.30 в Капуцинеркирхе называлась «мессой блудниц», а одиннадцатичасовая в соборе Святого Стефана «мессой бездельников». Однако развратницы и их клиенты были не единственным бедствием собора. В это утро (несмотря на то, что на дворе стояло dominica in albis![949]) повсюду можно было увидеть прогуливающихся по церкви крестьян и баб из простого народа с молочными поросятами под мышкой или с корзинами кудахчущих кур, гусей и уток; некоторые дворяне велели нести себя к алтарю в паланкинах, после чего слуги просто ставили паланкины в церкви, потому что были слишком ленивы для того, чтобы ждать снаружи. Короче говоря, торжественная месса была сродни ярмарке: пестрое столпотворение людей и товаров, сопровождаемое постоянным гулом голосов. Хотя его императорское величество назначил чиновников, которые должны были ходить по церквям и налагать на тех, кто болтает или ведет себя неподобающим образом, мешая проведению мессы, штрафы или даже арестовывать, эти мероприятия помогли мало. Циркуляры епископской консистории жаловались, что «снова набрало размах бедствие, когда простые люди ругаются и бранятся, а также напиваются и, нимало не стесняясь, болтают в церквях». Всеобщая привычка «ходить туда-сюда, при этом вести различные беседы, обсуждать мировую торговлю… поскольку те, кто предостерегает от этого, бывают осмеяны и оскорблены бесчестными словами, да еще и подвергаются угрозам…»
Месса закончилась. Мы опять стояли перед собором и смотрели на верующих, которые выходили из церкви и постепенно смешивались с проходящей мимо воскресной толпой. – Доменико, – сказал Атто, – хотя сейчас довольно прохладно, я хотел бы немного пройтись в… – Минуточку, дорогой дядя. Племянник Атто Мелани поднялся на цыпочки. Он наблюдал за группой из трех девушек, из которых выделялась одна: она была особенно высокой и с рыжими волосами. На ней была шляпа, слишком легкая для этого снежного дня. – Вот она, дядя! Она как раз собирается направиться домой. – Идем за ней! Мальчик, ты пойдешь с нами, – сказал Мелани, обращаясь ко мне.
Три юные особы повернули против течения толпы на Кернтнерштрассе и теперь проталкивались сквозь оживленную воскресную толпу, стекавшуюся к центру города. Мы следовали за девушками на небольшом расстоянии, впрочем, не подходя слишком близко. Мы не хотели создать впечатление, что наша причудливая троица (слепой старик, низкорослый мужчина и молодой человек в полном расцвете сил, то есть Доменико) собирается приударить за прелестными молодыми дамами.
– Как только они пойдут медленнее, ты приблизишься к ним и представишься, – приказал Атто племяннику. – Затем дашь им письмо. – Какое письмо? – всполошился я, потому что подумал о том документе, где Евгений предлагает французам свое предательство императора. – Всего лишь записку с нижайшей просьбой двух итальянских кавалеров о чести быть принятыми графиней и предложить ей свои услуги. Возможность представилась уже через несколько шагов. Три девушки остановились, чтобы приветствовать старую монахиню, которая вскоре продолжила свой путь, а девушки остались стоять. Доменико приблизился к ним и с грациозным поклоном исполнил поручение. Он был красивым и вежливым молодым человеком, с мягким и приятным голосом. Очевидно, он выбрал самые лучшие слова для того, чтобы представиться, поскольку мы увидели, как от его лести озарилось лицо Пальфи, как ушла с него тень печали. «Тайная грусть?» – подумалось мне. Группа несколько мгновений вежливо переговаривалась. Доменико опустил руку в карман своей жилетки: похоже, записка была уже у него в руках. Но вот уже несколько минут был слышен знакомый громкий звук. Карета, красивая двуколка, с грохотом неслась прямо, к Пальфи, ее подругам и Доменико. Ямщик приветствовал графиню кивком, который тут же отвлек ее внимание от племянника Атто, заставив ответить на приветствие. Карета остановилась, двери распахнулись и три девушки стали в нее садиться. – Записка, он передал записку? – спросил Мелани, негодуя и вытягивая голову, словно необузданный боевой скакун. Как раз в этот момент из кареты вышли два лакея, которые помогли возлюбленной императора подняться. Когда она была уже на подножке, Доменико передал ей записку. Она взяла ее, однако тут же вежливо вернула, не открывая. Тем временем мы с Атто, державшимся за мою руку, подошли ближе. Перед тем как она исчезла в карете, я увидел, что лицо Пальфи скривилось и она едва не расплакалась. Карета тронулась с места, Доменико несколько нерешительно помахал рукой ей вслед, но ему не ответили. – Проклятье, – выругался Атто, сжав зубы, когда лично узнал от племянника, как прошел маневр. – У этих влюбленных двадцатилетних дурочек глаза па мокром месте, и они ничего не понимают. Такой возможности нам уже не представится
13 часов: дворяне обедают Среднее сословие отправляется в кофейни, в театрах начинаются представления
Прощаясь, Атто Мелани договорился о встрече со мной на обеденный час: мы хотели пообедать вместе в общественном заведении. Я пояснил ему, что лучше приходить до тринадцати часов, поскольку позже в Вене обедает только дворянство и цены взлетают до небес. – Спасибо, что сказал, – ответил он, – значит, мы не встретимся до тринадцати часов. Я люблю делить трапезу исключительно с людьми своего круга. В назначенное время я повел его и Доменико в заведение неподалеку от Хофбурга. Мы пришли как раз вовремя, поскольку на улице уже начинал падать снег. Я сразу попросил хозяина посадить нас за дальний столик. Трактирщик подошел к нам, чтобы предложить богатый выбор блюд, где не было недостатка в штирийских, польских, венгерских, богемских и моравских яствах, а за дополнительную плату можно было заказать даже экзотические мелочи: горькие апельсины, устрицы, миндаль, каштаны, фисташки, рис, крупный изюм, испанское вино, голландский сыр, мортаделлу из Кремоны, венецианские сладости и индийские пряности. Мы сделали заказ, и вскоре нам принесли нежное телячье филе, приготовленную на древесном угле розовую форель и вкусный омлет с фруктовым фаршем и кремом. Как обычно, количество предложенного сильно превосходило потребности человека. Атто и его племянник были приятно удивлены. – А я и не знал, что в Вене можно так хорошо поесть! Может быть, это какой-то особый трактир? – спросил Доменико. – Мы в обычном заведении, каких в Вене много. Впрочем, должен сказать, что в этом городе даже в беднейших забегаловках можно поесть вкуснейшие супы, хрустящую сдобу и сочнейшее жаркое, – с гордостью похвалил я свою вторую родину. – Все продукты питания не просто хорошего, они превосходного качества, порции всегда щедры, каждое блюдо – свежее. И все это по доступным ценам. – А в Париже можно найти только испорченные торты, твердый, как камень, хлеб и рыбу, которая плавала еще при Аврааме! – с горечью воскликнул аббат. Втайне ликуя из-за восторга Мелани, я пространно описал ему гастрономические особенности райской земли, по которой имел честь ходить. В принципе же я надеялся отвлечь Атто, ослабить егобдительность и таким образом подготовить к вопросам, которые вскоре хотел ему задать – касательно смерти Данило Даниловича. Я знал Мелани: если я спрошу его о своем деле прямо, то получу только хитрые, изворотливые ответы.Если богатство нации можно измерять по питанию, то я выгодно отличался от своих сотрапезников, поскольку в Австрии всегда так, словно здесь побывал король Мидас, чтобы превратить все в золото. Нормальная семья из трех человек съедает в день полкило мяса, что в Риме просто неслыханно; бедняки получают каждую неделю два фунта превосходной говядины на человека, и даже путешественники из Германии, где тоже довольно часто едят хорошие ребрышки, просто озадачены количеством венгерских коров и быков, которых каждый год съедают жители Вены: их много тысяч. – В одном только монастыре босоногих августинцев в год съедают двадцать коров, сотню баранов и овец, двадцать пять свиней, шестьдесят уток и более четырех сотен кур, каплунов и цыплят в чугунке, – бегло перечислял я. – Богачи, как и бедняки, могут покупать одно и то же мясо, потому что средняя цена за кусок примерно одинаковая, чтобы те, у кого мало денег, не вынуждены были довольствоваться худшими частями. – А в Париже мясо быков стоит 9 – 10 луидоров за фунт, этого себе не может позволить уже даже король! – вздохнул Доменико. Расточительных банкетов я видел немало, когда состоял на службе еще у ватиканского государственного секретаря кардинала Фабрицио Спады. На его вилле на холме Джианиколо, в Риме, я сам носил к столу изысканнейшие блюда, огромные количества вина и обильные кушанья. Но это изобилие выпадало только на долю избранных, то есть было ничем по сравнению с буйной роскошью, которая имеется на столе любого австрийца: на именинах и свадьбах, поминках и приемах, а также при заключении договоров, вынесении приговора или вступлении в наследство. Представители каждой профессии, кроме того, собираются сами по себе: торговцы и писари, ремесленники и ростовщики, стражники и садовники, быть может, даже воры. Повсюду столы ломятся от яств: дома, на рабочем месте, в любом кабаке, во время кавалькады, даже в больнице или в суде. И ни один регион Австрии не составляет в этом случае исключения: в одном только Тироле существует семьсот пятьдесят трактиров, о Вене и ее окрестностях ходит поговорка: «Вена – один сплошной байсль», в Штирии рассказывают о тамошних свадьбах, где за один вечер поглощают восемь быков, сотню баранов, пятьдесят телят, пятьдесят ягнят, сотню боровов, восемьдесят молочных поросят, шесть диких кабанов, сотню фазанов, сотню индюков, сто шестьдесят куропаток, двести каплунов, восемьсот курей, триста перепелов, четыреста голубей, четыреста фунтов сала, тысячу двести лимонов, тысячу двести апельсинов и сто гранатов. Из-за голода во Франции, заключил я, даже наихристианнейший король почувствовал бы аппетит на кухне ненавистных венцев.
Пока я таким образом проповедовал перед пораженными лицами Атто и его племянника, шум за соседним столиком усилился настолько, что оба немедленно отвлеклись. Дело в том, что гастрономические радости столицы императора имели и менее поэтичную сторону. Доменико обернулся, и его удивленный взгляд остановился на других посетителях трактира: один пользовался салфеткой для того, чтобы высморкаться, чесать ею затылок и вытирать пот; второй вливал в рот вино и полоскал им горло, отчего жидкость текла по подбородку и шее; кто-то постоянно подливал соседу вино и дружелюбно, хотя и сильно, толкал в живот, если тот тут же не опорожнял кружку; еще один вилкой брал самый толстый кусок жаркого с подноса, стоявшего в центре стола, и тащил его на свою тарелку, из-за чего на столе оставался некрасивый жирный след; другой облизывал тарелку или ногтем соскабливал с нее остатки; некоторые так сильно чихали и кашляли, что забрызгивали соседей; кто-то плевался; один, обжегший себе язык горячим куском, с ревом открывал рот; а некто, когда с едой было покончено, завернул особо привлекательные оставшиеся кусочки в салфетку, чтобы тайком унести все это с собой. Вскоре на лице Доменико обозначилась озадаченность. Ов бросил на меня вопросительный взгляд, но я притворился, что не заметил его. Он ведь не знал, как плотно занимались дурными застольными манерами венцев великий проповедник Абрахам а Санта-Клара, да и другие известные священники, как часто терпеливо напоминали верующим о том, чтобы они вели себя за столом менее по-скотски! – Доменико, я слышу крики. Что случилось? – спросил Атто, накалывая на вилку форель. За одним из центральных столов разыгралась довольно неприятная сцена. Большой компании был подан вертел с кусками жаркого, только что из печи. Чтобы очистить свиные ножки от пепла, один из сотрапезников сильно дунул на вертел, и горячие угольки полетели прямо в глаза сидевшей напротив даме. Ее супруг тут же потребовал от обидчика возмещения за случившееся. Между подогретыми винными парами мужчинами завязалась небольшая потасовка, которую персоналу с трудом удалось унять. К сожалению, супруг оскорбленной дамы нашел время всадить раскаленный вертел в седалище своего противника, и тому пришлось немедленно оказывать врачебную помощь. – О, ничего, дорогой дядя, всего лишь небольшая дискуссия, – ответил Доменико, пытаясь скрыть от него менее благородную сторону столь недавно восхваленного мною образа жизни венцев. – Обмен мнениями между друзьями, – попытался подкрепить я ложь Доменико, но Атто не позволил себя обмануть. – Эти венцы и их город такие же вульгарные, какими их изображают в Париже, – высокомерным тоном произнес он, с трудом скрывая удовольствие от того, что наконец может говорить о них плохо. – Они могут быть сколь угодно богаты, но улицы, к примеру, у них такие же запутанные, как моток шерсти, и такие узкие, что фасады, заслуживающие, однако, величайшего восхищения, остаются совершенно незаметными… хотя мне, вообще-то, абсолютно все равно, поскольку я утратил драгоценный дар зрения и поэтому предпочитаю площади Вены, где можно свободно двигаться, не будучи побеспокоенным. Они, наверное, вымощены очень твердыми камнями, не так ли? – Да, они не трескаются даже под большим весом колес крестьянских повозок, – сказал я. – Так я и думал. Однако неприятно то, что комнаты в домах из-за узких улиц получаются очень темными, и, самое ужасное, что нет зданий, где живут всего пять-шесть семей. Самые благородные дамы, да даже придворные министры живут бок о бок с сапожниками или портными; нет никого, кто жил бы более чем на двух этажах: один для себя и один для слуг. Остальное владельцы домов сдают кому угодно; поэтому каменные лестницы в домах вечно грязны и находятся в плохом состоянии, равно как и улицы. Но какая разница, все равно ничего ведь не видно: здания слишком высоки, на улицах темно, а через окна попадает слишком мало света. Хотя я ничего и не вижу, но так, по крайней мере, говорят о Вене в Париже. Ты можешь это подтвердить? – Зачастую это действительно так, синьор Атто, – подтвердил я, обиженный его внезапной злобой. – Однако позвольте сказать вам, что внутри квартир, напротив… – Знаю, знаю, – опередил меня кастрат, – я слышал, что нет ничего более потрясающего, чем квартиры высшего общества Вены: анфилада из восьми-десяти просторных залов; двери и окна щедро украшены резьбой и позолотой; мебель и домашняя утварь, какую редко встретишь в остальной части Европы, даже во дворцах высокородных князей; гобелены из Брюсселя, огромные зеркала в серебряных рамах, кровати и балдахины из изысканнейшей камки и бархата, большие картины, японский фарфор, люстры из горного хрусталя… Пока Атто выуживал на свет божий свои познания, я думал об обстоятельствах, которые привели меня по работе в дом одного богача. Сила парижских сплетен! Атто был слеп, но казалось, что он видел все это своими собственными глазами. В его душе сражались восхищение и зависть к врагам Франции: вчера, когда он только прибыл, он в изобилии пел мне хвалебные оды Вене, императору и их бережливости и возмущался высокомерной манией расточительства французов, которая увела страну на дно. Теперь же его снедала зависть к столь видимому благосостоянию, приводя к раздраженным охаиваниям. Он противоречил самому себе, старый аббат Мелани, с улыбкой подумал я. Вот только… Меня обуяли сомнения: а если вчера Атто был неискренен? Если он столь выразительно восхвалял благоразумие императора и пышность его столицы только затем, чтобы отвлечь внимание от себя, если прибыл в Вену ради заговора с турками? Я решил отважиться на первый вопрос: – Синьор Атто, как вы полагаете, чего пытается добиться ага у его императорского величества? – Я сам хотел бы это знать. Это могло бы оказаться очень полезным для моей, для нашей миссии. Но что я хотел сказать? Предместья Вены же… – вернулся он к своей прерванной речи, откусив кусок омлета с фруктовым фаршем, – как твоя Жозефина, очень милы. Кто знает, как часто ты останавливался, чтобы полюбоваться снаружи этим украшением, летней резиденцией вице-канцлера Шенборн. Вчера мы немного прогулялись вокруг этой виллы, прежде чем отправиться в театр. Даже в Версале говорят о ней – если бы ты знал, какой там сад! А апельсиновые и лимонные деревья, все сплошь в золотых вазонах! По крайней мере, так описал мне это мой племянник. Доменико вежливо кивнул. Я снова перешел в атаку, на этот раз я попытался выманить Атто с помощью довольно прозрачной провокации. – Франции было бы только на руку, – сказал я, – если бы между империей и турками снова развязалась война. Тогда его императорскому величеству пришлось бы оттянуть войска на восток. Наихристианнейший король смог бы вздохнуть с некоторым облегчением. – Я вообще даже представить себе не могу, что произойдет нечто подобное, – нейтральным тоном ответил Атто. – Со времен заключения мирного договора в Карловиче на востоке все спокойно. У недавно прибывшего турецкого посольства только одна цель: напомнить о том, что султан еще жив, и мне кажется, что этот маневр – не что иное, как чистейшей воды погоня за эффектом. Он противоречил самому себе. Совсем недавно он утверждал, что понятия не имеет о намерениях османского посольства и что было бы неплохо разузнать об этом побольше. – Кстати, – снова начал он, меняя тему, – как я уже упоминал, вчера вечером мы были в театре. Мне сказали, что Марианна Пальфи любит комедии, и я надеялся встретиться с ней. Мы взяли ложу на четыре персоны, входной билет стоил недорого, один дукат. Дерево было слишком темным, потолок слишком низким, но я за всю свою жизнь никогда еще так не смеялся! Благодаря моему племяннику, конечно же. Я не ответил на эту пустую, бессмысленную болтовню, но Атто, нимало не смутившись, продолжал: – То была комедия, в которой Юпитер принимает образ Амфитриона, чтобы пробраться в постель к его супруге Алкмене. Однако, прежде всего, он делает множество долгов вместо него, и большую часть времени можно наблюдать, как настоящий Амфитрион, бедолага, спасается от своих кредиторов. Сущая глупость, эта пьеса, полная вульгарных шуток, которых в Париже не простили бы даже торговцу рыбой! Атто упрямо игнорировал мои вопросы о посольстве аги, одном из самых главных событий в Вене за последнее время. Его поведение было настолько очевидным, что вызывало подозрения. – И здешняя мода тоже отвратительна, не правда ли, Доменико? – продолжал он свои отступления от темы. – Вот именно, дорогой дядя. – К сожалению, дневной свет утерян для меня, дорогой племянник. Даже в столь большом городе я не могу наблюдать за привычками его жителей, но ускользает от меня немногое. Благодаря парижским газетам, которые ты мне читаешь, я точно знаю, сколь ужасна мода при императорском дворе по сравнению с французской или английской. То, что дамы носят юбки, является единственным сходством. Все остальное в венской моде ужасно и противоречит здравому смыслу во всех его проявлениях. Здесь плотно вышивают золотом самые дорогие ткани, и, чтобы тобой восхищались, достаточно только заказать себе дорогое платье, при этом неважно, насколько изысканным оно будет. В будние же дни набрасывают на плечи лишь простой плащ и надевают под него все, что заблагорассудится. Не так ли, племянник мой? – Именно так, дорогой дядя, – повторил Доменико. Я постепенно начинал проявлять нетерпение. – К примеру, здесь, в Вене, считается особенно красивым иметь столько волос, сколько не влезет в средних размеров сосуд. Поэтому дамы велят изготовлять себе огромные сооружения из накрахмаленной газы и прикрепляют их лентами к голове. После чего их подпирают с помощью тех железных колец, на которые у нас надевают ведра молочницы. Наконец, они покрывают эту дьявольскую выдумку искусственными волосами, что кажется всем здешним женщинам исключительно элегантным. – Синьор Атто, – тщетно пытался я прервать его. – Чтобы скрыть отличие от настоящих волос, – непоколебимо продолжал он, – они высыпают на все это сооружение тонны пудры и вплетают в него три-четыре бриллиантовые цепочки, которые крепятся огромными пряжками из жемчужин или красных, зеленых и желтых камней. С этой конструкцией на голове они вообще с трудом двигаются! Можете себе представить, как сильно столь рискованные привычки одеваться подчеркивают некрасивость, которой одарила природа местных дам. Не говоря уже о том, какие они угрюмые и мрачные. В Париже мне рассказывали, что никто и ничто здесь не оживленно, все пронизано флегмой, никто никогда по-настоящему не волнуется, кроме моментов, касающихся церемониала. И вот тут венцы дают волю своим самым необузданным страстям. Так ли это? – По этому поводу ничего не могу сказать, – ответил я, раздраженный количеством злобных слухов о моей второй родине. Если вы так плохо думаете о Вене, хотел я сказать ему, зачем же вы меня сюда послали? – Конечно, я тоже расспрашивал, а на почтовой станции слышал, что недавно ночью столкнулись две кареты и ни одна из дам, сидевших в них, не хотела уступить – то есть отъехать назад и пропустить вперед вторую, – поскольку обе они были одного ранга. Почти всю ночь они перечисляли друг другу свои заслуги и общественное положение, чтобы переубедить соперницу в том, что она должна уступить. Дело дошло до того, что их крики были слышны на близлежащих улочках. Вроде бы они даже императора разбудили, и ему пришлось послать свою личную гвардию, чтобы заставить их замолчать, причем солдатам удалось завладеть положением только после того, как им пришло в голову одновременно вывезти обе кареты назад из переулка, а затем заставить их ехать разными дорогами… – дерзко рассмеявшись, закончил он. Мне осталось только предпринять последнюю попытку защититься. – Синьор Атто, произошло убийство, – прямо заявил я. Тут болтовня Мелани оборвалась. – Убийство? Что ты такое говоришь, мальчик мой? – Вчера ночью. Приятель Симониса, моего подмастерья. Симонис пообещал, что попросит некоторых своих товарищей, с которыми я тоже познакомился, взять след этого загадочного Золотого яблока, о котором говорил турецкий ага во время аудиенции у принца Евгения. – Помню, хорошо помню. А потом? – Вчера ночью мы с Симонисом и одним из этих студентов договорились встретиться на бастионе. Его звали Данило, граф Данило Данилович. Когда мы нашли его, он был при смерти. Его закололи, он умер у нас на руках. Аббат Мелани отвел от меня взгляд своих незрячих глаз, лицо его было обеспокоенным и расстроенным одновременно. – Это действительно печально, – произнес он, помолчав некоторое время. – У него была семья? – Не в Вене. – Кто-нибудь видел вас, когда вы были рядом с этим графом Данило? – Мы полагаем, что нет. – Хорошо. В таком случае вы не окажетесь впутанными в это дело, – с ноткой облегчения в голосе сказал он. Наверное, на миг он обеспокоился о своем благополучии… – Данилович его звали, так ты сказал? Не немецкое имя. Откуда он родом? – Из Понтеведро. – Ага, они не цивилизованные люди. Какой там граф! Понтеведро! Это народы грубые и невежественные… Похоже, аббат Мелани придерживался того же мнения, что и Симонис, который изобрел для них понятие «полу-Азия». – Спорим, он занимался какой-нибудь грязной работой, чтобы оплатить свое обучение, – предположил Атто. – Шпион. За плату доносил на людей, которые нарушали законы о нравах и обычаях. – Профессиональный шпион! И ты удивляешься, что его, будь он трижды из Понтеведро, закололи? Мальчик мой, хоть, это и очень прискорбно, но в этой смерти нет ничего удивительного. Забудь о нем и точка, – отчеканил Мелани, очевидно забыв, что тоже является оплачиваемым шпионом. – А если это было из-за турок? Данило собирал информации о Золотом яблоке. Перед смертью он прошептал странные вещи. Атто с интересом выслушал, что бормотал бедный студент, прежде чем жизнь покинула его тело. – Крик сорока тысяч мучеников, – задумчиво повторил он, – а потом этот загадочный Айууб… Это кажется мне бредом несчастного умирающего. Данило Данилович мог, конечно, собирать информацию о Золотом яблоке, но для меня дело яснее ясного. Турки не имеют никакого отношения к кончине вашего товарища, которую следовало ожидать для понтеведрийского шпиона.
Обед с аббатом Мелани обеспокоил меня по двум причинам: нимало не смущаясь, аббат ушел от ответов на мои вопросы о турецком посольстве, словно это событие было совершенно неважным, чтобы обрушить на меня нескончаемую череду бестолковых суждений о венском образе жизни. Слишком холодно он реагировал, сказал я себе, для такого прожженного дипломата, как Атто, который жаждал каждой интриги, каждой закулисной игры, каждой мельчайшей новости на политической сцене. Второй причиной для беспокойства стало то, как он отнесся к смерти несчастного Данило Даниловича. Почему он, с одной стороны, с интересом выслушал последние слова, которые произнес Данило перед своей кончиной, а с другой – отклонял какое бы то ни было подозрение относительно турок? Теперь Атто заявил мне, что во второй половине дня снова попытается подобраться к Пальфи. Я промолчал. Пусть попробует справиться сам, подумал я. У меня была важная договоренность с Симонисом: его товарищи-студенты должны были собраться и сообщить мне, что они узнали о Золотом яблоке.
* * *
Несколько позже я уже сидел в коляске Пеничека, рядом с Симонисом. Я постепенно учился ценить то, что у моего помощника есть такой послушный, пусть и хромой, младшекурсник с транспортным средством. У Симониса был раб, этим не мог похвастаться даже я, хотя и был его работодателем. Вначале царило молчание: воспоминания о смерти Данило давили на нас. Легко говорить о том, сколь опасное это занятие – доносы, как сразу заключил Мелани. Однако подозрение, что бедняга был убит из-за полученной информации о Золотом яблоке, не оставляло нас, хотя у нас не было ни единой зацепки, и капли раскаяния, подобно серной кислоте, падали на наши сердца. Я встретился взглядом с Симонисом, который задумчиво смотрел на меня. – Господин мастер, вы меня еще не спрашивали, – начал он, заставляя себя улыбнуться, – какими ремеслами занимаются мои товарищи, чтобы оплачивать обучение. Грек попытался приподнять завесу неприятного молчания. – Точно, – согласился я, – я о них почти ничего не знаю. Памятуя о сомнительном ремесле бедного Данило и противозаконном – Пеничека, мне было любопытно, и в то же время я испытывал недоверие. – Коломан Супан. – самый богатый из всех, – поведал мне Симонис, – потому что работает старшим официантом. То, что присутствующий здесь младшекурсник – кучер, вы уже знаете. У Драгомира Популеску мало времени на то, чтобы зарабатывать свой хлеб насущный: он почти постоянно занят женщинами. Вернее, он постоянно пытается, но ему никогда не везет. Коломан же почти не прикладывает усилий, но всегда пользуется успехом. – Ах вот как? И как же это у него получается? – У него… как бы это сказать… необычные способности, – с улыбкой сказал Симонис. – Весть об этом разнеслась среди юных венок, которые именно это и ценят, они всегда довольны Коломаном. Если вам повезет, господин мастер, скоро мы получим подтверждение его умения. – Подтверждение? – Сейчас три часа пополудни, и в это время Коломан всегда на работе. У него просто слишком много энергии; каждый день в это время он должен дать волю своим страстям, иначе он загрустит. Если у него нет под рукой голубки, то где бы он ни находился, он способен забраться в первое попавшееся окно, через крышу и камин, чтобы попасть к готовой на все красавице. Я видел это своими собственными глазами. Мы подъехали к скромному домику у бастиона. Приказав Пеничеку ждать снаружи, грек постучал в двери. Нам открыл молодой человек, который сразу же предостерег: – Он наверху и занят. Симонис ответил ему заговорщицкой улыбкой. Мы вошли, и он пояснил мне, что весь этот дом, небольшое трехэтажное здание, снимает группа студентов, которые хорошо знают привычки своих соседей. Мы сели на скамью в узкой прихожей, из которой вела лестница на верхний этаж. Едва я успел отряхнуть снег с пелерины, как до нас донесся сверху крик. – А-а-а-а! Да, хорошо, еще! – слышался женский стон. – Это продлится недолго, Коломан знает, что мы не можем опоздать, – подмигнув мне, прошептал Симонис. – Ты – животное, бык… еще раз, еще, прошу тебя! – продолжала немка. Однако Коломан, похоже, понял, что мы пришли. Мы услышали, как он вежливо отказывается. Дискуссия затянулась становясь все более и более оживленной. Внезапно я услышал как хлопнула дверь и раздались шаги на лестнице. Мы увидели молодую женщину (довольно милую, светловолосую, с собранными на затылке волосами, в простом, но новом платье), которая прошла мимо нас, кипя от ярости. Прежде чем покинуть дом, она еще раз обернулась и выкрикнула, нимало не смущаясь нашим присутствием, последнее оскорбление в адрес Коломана: – Да ты всего лишь жалкий лакей, венгр, грязный крот! Затем она хлопнула дверью с такой силой, что задрожал пол. – Обычное поведение венок, – с успокаивающей улыбкой сказал Симонис. Вскоре после этого наш товарищ спустился по лестнице и со смесью смущения и веселости на лице принялся застегивать рубашку. – Вообще-то я барон, двадцать седьмой Коломан Супан в нашей семье, если быть точным, а официантом работаю только для того, чтобы оплатить обучение, – сказал он, словно девушка еще была здесь. – Пожалуйста, простите за столь неприятную сцену, но таковы уж они есть, венки: если взял на себя обязательства и вынужден несколько ускорить процесс, они приходят в ярость. А вот в Италии… – …женщины терпеливее? – осмелился спросить я, в то время как Коломан надевал плащ. – В Италии я никогда не тороплюсь, – ухмыльнулся Коломан, хлопнул Симониса по спине и пошел к двери.Коляска младшекурсника медленно пришла в движение и покатилась по мягкому снежному покрывалу по направлению к квартире Популеску, где два дня назад проходила церемония снятия. Здесь должна была состояться встреча. Каждый собрал сведения о Золотом яблоке, и им наверняка будет что рассказать друг другу. Однако внезапная смерть Данило бросит тень на встречу, потому что сильнее всего она коснулась, конечно же, его друзей. Коломан Супан тоже был печален, отбросив первоначальную веселость. Чтобы прогнать грустные мысли, я попытался завязать разговор, как раньше Симонис сделал по отношению ко мне. Я спросил, доволен ли он своей работой. – Доволен? В данный момент я благодарю небо за то, что пост закончился, – сказал Коломан, касаясь рукой лба, словно вытирая пот. – Но почему? Я думал, что в пост старшие официанты трактиров работают меньше, поскольку никто не ест мясо и блюда готовить легче. – Легче? – рассмеялся Коломан. – Вы не представляете, как нам приходится попотеть во время поста, чтобы приготовить все эти сложные рыбные блюда! Жареный угорь в шпике, селедка в сметане, запеченные в печи раки с корнями петрушки, тушенные в масле с лимонным соком и устрицами, жареная треска с редькой, горчицей и маслом, не говоря уже о жареном бобре… – Жареном бобре? Но ведь это же не рыба. – Объясните это венцам! Мы еще и ловить их должны, этих проклятых мохнатых тварей. К счастью, существуют еще яйца Лютера. – Лютера? – Да, те, которые никогда не ел Лютер. Это постные яйца. Их называют так в шутку, потому что католики едят их, чтобы тренироваться в воздержании от мяса, в то время как протестанты смеются втихомолку и едят все, что им заблагорассудится. Но в основном готовим рыбу. Во время австрийского воздержания, пояснил Коломан, в кухнях венских трактиров можно найти невообразимо огромное количество рыбы, кроме того, такое разнообразие, которого не встретишь даже в Италии. Даже в горах Тироля были люди, к примеру известный врач Гуаринони (опять же итальянец), которые советовали осторожно подходить к большому выбору: рыбы из горных ручьев, рек, прудов или далеких морей, таких как венгерское озеро Балатон, из Богемии, Моравии, Галиции, Боснии или с итальянского побережья неподалеку от Триста. Из Венеции срочной почтой приходят горы устриц, морские змеи, мидии, раки и морские ежи, лягушки и морские черепахи, и другие национальные блюда привозят в Вену особым транспортом отовсюду, даже из далекой Голландии или еще более далекого Северного моря. – Предположим, их кладут под лед, но не спрашивайте меня, как, черт возьми, они могут быть свежими после долгого путешествия, потому что я этого тоже никогда не понимал, – добавил Коломан. Поскольку большинству венцев тяжело отказаться от наслаждения мясом до самой Пасхи, а водяные животные – это все-таки водяные животные, в меню во время поста наряду с рыбой и ракообразными появляются выдры и бобры! Абрахам из Санта-Клары, пожалуй, был прав, подумал я, когда говорил, что в Вене ни одно животное, живущее на земле, в воде или в воздухе, не может полагать себя в безопасности и не рисковать угодить в кастрюлю. – Эти венцы, – добавил Коломан, – не страдали от отсутствия аппетита даже тогда, когда турки стояли у их двери. – А при чем тут турки? Он пояснил мне, что даже во время знаменитой осады 1683 года, уже вошедшей в историю, у венцев не пропало желание есть вкусную пищу. Город вот-вот могли завоевать турки и сравнять его с землей, а толпы венцев, среди которых были женщины и дети, подвергаясь большой опасности, покидали ночью крепость и шли покупать у турок хлеб. – Турки продавали им хлеб? – Среди них были очень бедные солдаты, которым были нужны деньги. А в турецком лагере хлеба всегда было вдоволь. Тот, кого обвиняли в подобных вещах, нес наказание в обоих лагерях, как у христиан (три сотни ударов плетью), так и у османов. И тем не менее подобные наказания ничему не могли помешать, пояснял Коломан. Кроме того, проблемой в Вене была жажда. – Да, конечно, вода… – кивнул я. – Нет, воды было в достатке. Не хватало вина. Поскольку в душе жителя Вены гурман всегда преобладает над солдатом, часто перехватывали целые подводы с вином из окрестностей и с наступлением темноты транспортировали в город. Иногда случались и вовсе невероятные вещи. К примеру, осажденным во время жаркого сражения удавалось отхватить себе за линией турок (как такое возможно, осталось тайной) целое стадо из более чем сотни коров. С неприкрытым разочарованием я слушал об этих событиях, происходивших на фоне великой осады. Как часто я думал о героическом сопротивлении венцев! А теперь вынужден был узнать, что все было совсем иначе. – Тоже мне, герои без страха и упрека! – в ужасе заметил я. – Они не испытывали страха. А вот упрекнуть их было за что: за все пятна от вина и жира на воротничках и рукавах, – рассмеялся Коломан. Только представьте себе, рассказал он напоследок, что во время осады 1683 года был даже один предатель, который передал туркам очень ценную информацию об осажденном городе: в крепости поколеблено единство между гражданским населением и солдатами; венцы утомлены и хотят сдаться. – Было 5 сентября. Почти никто не знает об этом обстоятельстве, которое могло изменить ход истории. По неизвестным причинам турки, к счастью, атаковали не сразу! Шесть дней спустя прибыло подкрепление и христианские армии победили. А я знал, почему турки не атаковали Вену сразу. Я выяснил это двадцать лет назад, в Риме, у аббата Мелани. Но это настолько запутанная история, что если бы я даже рассказал ее Коломану, то он не поверил бы мне. Тем временем мы прибыли. После того как мы отряхнули с себя снег, Драгомир Популеску пригласил нас в дом, где он ждал нас с Яном Яницким Опалинским. Они встретили нас с испуганными лицами. На этот раз вошел также и Пеничек, приветствовал всех, неуклюже и неловко, как обычно. Из-за своих некрасивых маленьких глаз он напоминал хорька в очках. – У меня есть новости, – сразу сказал Опалинский. – У меня тоже, – добавил Популеску. – А где Христо? – спросил Коломан. – Он занят. Придет немного позже, так он мне сказал, – ответил Симонис. – Так что можем начинать. – А ты, Коломан, ты уже здесь, в такое время! Неужели венки сегодня оставили тебя ни с чем? – с горечью в голосе рассмеялся Драгомир. – Напротив. Ты со своей воробьиной палочкой всегда оставляешь их мне такими возбужденными, что с каждой достаточно трех минут, чтобы удовлетворить их. – Не волнуйся, Драгомир, соблюдай спокойствие… – сжав кулаки, пробормотал Популеску. – Заканчивайте с шутками, – напомнил Симонис. – Данило мертв, и мы должны держать ухо востро. На миг стало очень тихо. – Друзья, – взял я слово, – я благодарен вам за помощь, которую вы оказываете мне в вопросе по поводу Золотого яблока. Однако теперь, когда ват товарищ мертв, я не могу ставить вам в вину, если вы захотите держаться от этого дела подальше. – Но, может быть, Данило укокошил кто-то, кто решил посчитаться с ним за шпионаж? – задумчиво пробормотал Опалинский. – Может быть, это были его соотечественники из Понтеведро, – присоединился к товарищу Популеску, – они сущие дьяволы, даже не сравнить с румынами. – Кроме того, он отнюдь не первый студент, который должен был в это поверить. И они тут же принялись забрасывать друг друга воспоминаниями о печальных случаях, во время которых студенты по различным причинам умирали насильственной смертью: кто на дуэли, кто будучи пойманным на месте кражи, кто из-за контрабанды etc. – И все они были из полу-Азии, – прошептал мне со значительным видом Симонис, словно желая подчеркнуть особую склонность тех народов к грубому образу жизни. – Может быть, туркам совсем нечего скрывать, – наконец отважился сказать Опалинский. – На самом деле я не могу себе даже представить, что ага произнес эту фразу публично, если за ней что-то кроется, – заметил Популеску. – Может быть, они хотели передать кому-то зашифрованное послание и были уверены, что это не вызовет подозрений, – предположил Коломан. – Мне кажется это не особенно умным, – ответил Популеску. – Ну, это же турки… – рассмеялся Симонис. Услышав это замечание, рассмеялись и остальные. Я едва не рассказал им, что наблюдал за тем, как дервиш аги проводил жуткий ритуал, что даже Клоридия заметила, что он что-то скрывает, чтобы получить чью-то голову, что именно в этом кроется причина того, что мы исследуем историю о Золотом яблоке. Ведь все, кто присутствовали на аудиенции аги, абсолютно ничего не заподозрили и расценили предложение «Soli soli soli ad pomum venimus aureum» как объявление о своих мирных намерениях. Я предположил, что оптимизм молодых людей кроется в вознаграждении, которое я им предложил. Однако теперь Данило мертв, игра стала опасной, и, вероятнее всего, будет правильным рассказать им правду. Симонис, угадав мои мысли, взглядом попросил меня молчать. И я снова трусливо смолчал. Когда о печальной кончине товарища было все сказано, студенты заговорили о Золотом яблоке. Популеску рассказал нам, что в одной кофейне познакомился с красивой брюнеткой-официанткой. Сначала он просто раскидывал сети, однако затем ему пришло в голову задать ей пару вопросов о Золотом яблоке, потому что владелец кафе, ее работодатель, был родом с Востока. – Знакомство с дамой в кофейне? – удивился я. – А я думал, что вы, студенты, ищете в библиотеках и архивах! Теперь друзьям Симониса пришлось объяснить мне, что из книг ничего полезного не узнаешь, кроме информации о державных символах и сферах, отдаленных родственниках Золотого яблока. – Державный символ, – пояснил Опалинский, который был очень образованным молодым человеком, – состоит, как всем вам известно, из земного шара, из которого торчит крест Христов. Архангел Михаил держит в одной руке яблоко, а другой поднимает крест, словно меч, и повергает Люцифера, восставшего против Всевышнего и запятнавшего себя завистью, высокомерием и тщеславием, в ад. Не случайно имя «Михаил» на еврейском означает «равный, подобный Богу». Поэтому это стало державным символом императорских инсигний и передается императору Священной Римской империи во время коронации как знак того, что Бог выбрал его, чтобы он правил христианским светом и защищал его ото зла. Державный символ происходит от сферы, изображения неба, окружающего земной шар. Сфера тоже представляет собой символ власти: у греков и римлян ее соотносили с Юпитером, верховным богом. – Что за чушь ты несешь! – возмутился Популеску. – Какой еще земной шар! Каждый ведь знает: в древности верили, что земля представляет собой диск! – Ну вот, пожалуйста. Конечно же, тебе обязательно нужно напомнить, какой ты невежа, – попрекнул его Коломан Супан. – Так говорят, чтобы мы казались умнее и развитее, чем люди в древности. А ты попался на эту удочку. – Правильно, Коломан, – похвалил Опалинский, – греки и римляне точно знали, что земля круглая, достаточно вспомнить Парменида и миф об Атласе, который держал небо на своих плечах. И в Средние века все это тоже знали. Разве святой Августин не говорил, что земля – это moles globosa, то есть шар? Кроме Козьмы Индикоплевста и Севериана Габальского только Латтанцио рассказывал всем, что земля плоская, но в его время ему уже никто не верил. Позднее, к сожалению, некоторые кафедральные ослы наткнулись на фантазии Латтанцио и провозгласили их самым передовым учением Средневековья. – Эти проклятые историки! – сплюнул на пол венгр. – Как бы там ни было, – продолжал Популеску, – это дело с Золотым яблоком – исключительно турецкая история, и она передается только устным путем. Я хотел рассказать, что моя брюнетка… – Да, из уст в уста… – усмехнулся Коломан. – Наш умница Драгомир позволил брюнетке просветить себя орально! – Ты завидуешь, что тебе не пришло в голову ничего лучше, чем спросить монахов, этих теплых братьев? – огрызнулся румын. – Ах, кстати, они передали тебе привет. Они сохранили о тебе самые незабываемые воспоминания, сказали они мне. – Не волнуйся, Драгомир… сохраняй полное спокойствие! – проворчал Популеску, которому действовала на нервы болтовня Коломана и Опалинского. Наконец Популеску рассказал нам, что поведала ему брюнетка по поводу истории о Золотом яблоке. – Когда в Константинополе коронуют нового султана, его ведут к святыне за пределами города. То могила знаменосца Мохаммеда II, того полководца, который завоевал Константинополь и отнял город у христиан. Здесь нового повелителя подпоясывают священной саблей. Затем он возвращается в Константинополь и едет верхом к казармам янычар, отборной султанской гвардии, где командир 61-й роты, это одна из частей лучников, вручает ему наполненный шербетом кубок. Новый султан выпивает все содержимое кубка, затем наполняет его золотыми монетами и возвращает, воскликнув при этом «Emalda görüsürüz!», что означает «Увидимся у Золотого яблока!». Это вызов, обещание завоевать христианский мир, на церквях которого возвышается державный символ архангела Михаила, то есть позолоченный шар с торчащим из него крестом Христовым, и самый важный из них – золотой шар собора Святого Петра. Поэтому Данило и говорил о Риме. – Но в общих чертах мы об этом уже знали, – напомнил я ему. – Что нам хотелось бы узнать, так это происхождение названия «Золотое яблоко». В противном случае мы не поймем, по какой причине турки говорили об этом с Евгением Савойским и почему они сказали, что прибыли «soli soli soli», то есть совсем одни. И мы не поймем, что хотел сказать нам Данило перед смертью. – Минуточку, – сказал Популеску, – я еще не закончил. На самом деле, пояснил он, история начинается в 1529 году, во время великой осады Вены турками. Мне эта дата уже была знакома: в этот год войска Сулеймана Великолепного разбили штаб в Зиммерингер Хайде, где позднее Максимилиан приказал построить Место Без Имени. – Известно, – сказал Популеску, – что армия Сулеймана после продолжительной осады вынуждена была отказаться от штурма города и вернуться на родину, поскольку настала очень ранняя и суровая зима и османы не вытерпели холода в своих палатках. Тут Сулейман указал на башню собора Святого Стефана, которую было хорошо видно из лагеря турок. Он мог бы отдать приказ обстрелять его из пушек, но вместо этого он сказал своим людям: – На этот раз мы вынуждены отказаться от завоевания Вены. Но однажды нам это удастся! В тот день башня, которую вы видите, станет минаретом для мусульманской молитвы, а рядом будет стоять мечеть. Поэтому я желаю, чтобы на башне был и мой символ! Итак, Сулейман приказал отлить большую пулю из золота, настолько большую, что в ней могло бы поместиться три ведра зерна, и послал ее жителям Вены с таким предложением: если они установят пулю на вершине колокольни собора Святого Стефана, то он, Сулейман, не станет разрушать башню выстрелами из пушек. Император согласился, и с тех пор на вершине башни и возвышается пуля. – Поэтому с тех пор Вену называют Золотым яблоком Германии и Венгрии, – заключил Популеску. – А я выяснил еще больше, – вставил Опалинский. – Я допросил неверующего конюха из венгерского города Буда, а он говорил с Юсуфом, переводчиком из пограничья, из свиты аги, который тоже из Офена.[950] Поднялся уважительный, но в то же время испуганный шум: одному из их группы удалось получить информацию от самих страшных турок. – Это было непросто, – пояснил Яницкий, – поначалу он проявил сильное недоверие. Он не говорил ни по-итальянски, ни по-немецки. Только на языке франков, османской тарабарщине, которую ввели в Константинополе венецианские и генуэзские торговцы, и то немного. Опалинский приблизился к неверующему конюху и в качестве приветствия несколько раз выкрикнул «Аллах», чтобы не вызвать подозрения. Затем начал задавать вопросы, но его визави не дал себя обмануть и тут же спросил: – Турок, говорить, кто там? Анабаптиста? Цвинглиста? Коффита? Гусита? Мориста? Фрониста? Быть язычник? Лютерана? Пуритана? Брамина? Морина? Зурина? – Магометана, магометана! – ответил Ян на взволнованный вопрос своего собеседника, опасавшегося, что он иной веры. – Ili valla! Ili valla! – облегченно воскликнул конюх. – Как твой имя? – Шордина, – солгал Опалинский. – Быть хороший турок, Шордина? – спросил тот, поднимая палец, чтобы удостовериться в верности поляка султану. – Да, да! – успокоил его наш товарищ. – Не есть интригана? Не злодея? – Нет, нет, нет! После этого неверный запел:
17 часов: заканчиваются воскресные представления в театре Ремесленники, секретари, преподаватели языка, священники, слуги, лакеи и кучера ужинают (в то время как в Риме только приступают к вечернему полднику)
Попрощавшись с Коломаном и Опалинским, оплатив первый взнос за их старание, мы с Симонисом, Пеничеком и Драгомиром торопливо подкрепились в находившемся неподалеку трактире (куриный суп, жареная рыба, различные булочки, вареное мясо, каплун и куропатка). После этого я собирался вернуться в Химмельпфорте. Но тут Симонис удивил меня неожиданным сообщением. – Нам нужно поторопиться, господин мастер, нас уже может ждать Христо, – сказал он, зовя меня снова сесть в коляску Пеничека, которому он уже приказал ехать к большим охотничьим угодьям, именуемым Пратер. – Ах да, Христо. Разве ты не говорил, что он подойдет поздне? – Я вынужден просить прощения за эту небольшую ложь, господин мастер. Как видите, он вообще не пришел. Не то чтобы он не смог прийти. Он просто не хотел говорить при всех. – Почему же? – Не знаю. Сегодня утром я видел его, и он сказал мне, что для него лучше так. Есть что-то, что вызывает его недоверие. – И что же? – Этого он не сказал. Впрочем, он поведал мне, что, по его мнению, значение послания аги заключается исключительна в словах «soli soli soli». – А почему он так решил? – Он сказал, что дело тут в мате. – В мате? – удивленно переспросил я. – Это каким же образом? – Понятия не имею. Но на вашем месте я бы положился на его чутье. Христо – мастер игры в шахматы. Христо Христов Хаджи-Танев, пояснил Симонис, зарабатывал на жизнь, позволяя бросить себе вызов в оплачиваемой партии в шахматы, которые он обычно выигрывал. Ночью Вена превращалась в неприкосновенную территорию игроков. На каждом углу города – в трактирах, кофейнях, заведениях для богачей и самых жутких трущобах – играя, бросали вызов судьбе. Внезапно коляска подпрыгнула, Пеничек тут же повернул. – Что случилось, младшекурсник? – спросил Симонис. – Как обычно: шествие. То были отцы-ораторианцы святого Филиппа Нери. Поэтому Пеничек быстро изменил направление и повернул на перпендикулярную улицу. Если бы нас увидели из процессии, нам пришлось бы остановиться, опуститься на колени и терпеливо ждать, рискуя опоздать на встречу с болгарином, пока святыню медленно пронесут мимо. – Обычно Христо играет в трактире «У Зеленого Дерева» на Вальнерштрассе, – сказал Симонис, – милое заведение, всегда много людей. Здесь встречались не только ремесленники, купцы и простой народ, пояснил он, но и почтенные аристократы со звучными именами, и клирики с безупречной репутацией, и все были готовы позволить обобрать себя профессиональным игрокам, будь то кости или карты, в фараона, в «тридцать и сорок», в триктрак и даже в шахматы. – Большинство из них родом с вашей родины, Италии, и они – лучшие, включая и шахматистов. Христо часто говорит мне о Джоакино Греко, Калабрийце, который, по его мнению, является лучшим игроком всех времен. Они тоже играют на деньги, большие деньги, – добавил Симонис. Нас снова прервали. Повозка Пеничека опять сделала резкий рывок в сторону. – А что теперь случилось? – строго спросил мой помощник. – Еще одна процессия. – Опять? Да что сегодня такое? – Понятия не имею, господин шорист, – ответил Пеничек с величайшим почтением. – На этот раз это валашское братство непорочного зачатия Марии. Все они идут к собору Святого Стефана. Я выглянул из коляски, и прежде чем наш транспорт удалился в боковую улицу, я успел увидеть огорченные лица участников процессии и услышать их необычайно страстное пение. Каждую ночь, продолжал тем временем свой рассказ Симонис, целые состояния меняли своих владельцев и оказывались, оставляя за собой слезы, отчаяние и мысли о самоубийстве, в карманах какого-нибудь итальянского рыцаря удачи: золото, поместья, дома, драгоценности, а у тех, кто ничего больше предложить не мог, даже руки и глаза. – Глаза в качестве ставки в игре? – Такие вещи даже не придут в голову человеку, который зарабатывает деньги честным трудом и ночью спит дома, господин мастер. Что ж, для того чтобы ограничить количество некоторых эксцессов, все еще остается в силе городской приказ 1350 года, который запрещает тем, у кого уже нет денег, но кто хочет сделать ставку, использовать в игре глаза, руки, ноги или носы. Однако есть люди, которые сделали это – и потеряли. По этой причине император Леопольд лет пятнадцать назад был вынужден обновить общественный запрет на азартные игры, поскольку они толкают людей в пучину нищеты и отчаяния. Пока Симонис раскрывал мне тайны ночной жизни Вены, коляска остановилась из-за людской толпы. – Младшекурсник, что, черт побери, опять творится? – спросил Симонис. – Простите, господин шорист, – произнес тот смиренным голосом, – но этой процессии я не мог избежать при всем моем желании. – Да что же сегодня такое? – удивился я, поскольку чересчур большое количество процессий одновременно обычно не случалось даже в столь религиозном городе, как Вена. – На этот раз это гильдия ножовщиков. И они тоже идут к собору Святого Стефана, – поведал нам Пеничек. – Похоже, сегодня там состоится крупное молитвенное собрание. Ты об этом что-нибудь знаешь, младшекурсник? – К сожалению, нет, господин шорист. И действительно, из-за процессии, возвестившей о себе пронзительным колокольным звоном, улица оказалась перекрыта. Во главе ее шли два подметальщика, разгребавшие в стороны снег, чтобы дать место «святым дарам». По венскому обычаю мы все должны были выйти из коляски и минуту стоять на коленях, осенять себя крестным знамением и бить себя кулаками в грудь, idem все прохожие вокруг. – Проклятье, мы опоздаем, – причитал Симонис, а холод тем временем пронизывал нас до костей. Процессия приблизилась, во главе ее шел священник, неся в высоко поднятых руках святыню. В толпе я заметил много плачущих. Рядом с нами группа молодых людей схватила своего одногодка и швырнула его наземь, заставляя встать на колени. В императорской столице протестанты (несчастный был, должно быть, одним из них) вообще-то должны были всего лишь приподнять шляпу, но их зачастую силой вынуждали опуститься на колени, как и все остальные. Говорили, что такой случай произошел даже с прусским послом, у которого императорскому двору потом пришлось прилюдно просить прощения. Опоздание между тем становилось все более существенным, другие кареты тоже вынуждены были остановиться из-за процессии. Их пассажиры опустились на колени прямо внутри карет. Народ на улице бросал на них враждебные взгляды. Если бы мы были в предместье, где нравы всегда несколько круче, чем в городе, их, вероятно, силой заставили бы выйти и броситься на колена. По звуку колокольчика (это я знал по собственному опыту) все жители окрестных домов прекратили работу, чтобы присоединиться к ритуалу. Даже труппа театра марионеток, только что дававшая смешное представление, окаменела словно по волшебству: когда мимо проходила святая святых, мошенники превращались в примерных верующих.Едва набожное шествие скрылось за углом, все вернулись к своим прежним занятиям, словно ничего и не произошло. – Нет, я понимаю, что при игре в карты или кости рискуешь всем и теряешь все. Эти игры тем и славятся, что ведут к разорению, – сказал я Симонису, когда коляска снова пришла в движение. – Но шахматы? Кто же позволит добровольно обобрать себя шахматисту? – Думаю, Христо мог бы рассказать вам по этому поводу гораздо больше. Хотя все знают, что шахматы – самый возвышенный и благородный из всех видов времяпровождений. Многие утверждают, что шахматы по причине своей утонченности являются единственной игрой, которая годится для князей и королей. Вы наверняка слышали, что среди венской знати существует мода брать уроки игры в шахматы, так же, как прежде музыки, философии или медицины. И действительно, во время проверок дымоходов в домах богатых людей всегда можно было увидеть, что в салоне стоит шахматная доска из искусно инкрустированного дерева или из красивых камней. – Лучшие шахматные фигуры сегодня делают в Лионе, Париже или Мюнхене, – добавил мой помощник. – А до войны самые красивые даже импортировали в Вену. В любом случае шахматы все больше превращаются в игру для богатых. Христо даже дает уроки, если, конечно, ученики хорошо платят. Если же он играет на деньги, его партнером часто является зажиточный молодой господин. Поэтому Христо в принципе очень хорошо зарабатывает. – Однако такие люди, как Христо, то есть профессиональные игроки, должны иногда и проигрывать. – Нас, студентов, защищает особое законодательство. В древней привилегии герцога Альбрехта от 1267 года записано, что студент во время игры может проиграть только те деньги, которые есть у него с собой, и не имеет права ставить ни свои книги, ни одежду. Кроме того, выигрыш в игре считается действительным только тогда, когда присутствует кто-то, кто регистрирует ставки игроков. А поскольку Христо играет без него, то в тех немногих случаях, когда проигрывает, он приводит в свое оправдание это обстоятельство, о котором его партнеры по игре не знают. И не платит. Если проигравший – не благородный человек и возмущается по поводу того, что его обманули, то может случиться и так, что он станет мстить. Мы уже достигли Леопольдинзель на другом берегу одного из рукавов Дуная, то есть того квартала, где с завтрашнего дня будет размещаться посольство аги. Проехав по длинной алее, мы пересекли по мосту реку Донауканал, которая отделяет Леопольдинзель от обширных охотничьих угодий Пратер. Должно быть, Христо собирался сказать нам что-то очень таинственное и срочное, подумал я, если велел приехать сюда, к лесу. Мы пересекли мост, проехали мимо виллы благородной семьи Гекельберг по правую руку от нас и мимо владений благородного семейства фон Левентурм, расположившихся по левую руку, и приблизились к обширным землям Пратера. Сразу за мостом мы остановились, мы были одни. Мы с Симонисом вышли из коляски. Пеничек остался сидеть на козлах и кивнул, когда мой помощник приказал ему не двигаться с места до нашего возвращения. Зимняя погода заставила улицы опустеть, особенно эти, расположенные неподалеку от холодных лесов и мокрых лугов. – Ворота заперты, – указал я на большую дверь. – Конечно, господин мастер, это императорские охотничьи угодья. Следуйте за мной, пожалуйста, – сказал он и пошел вдоль правой стороны забора. – Мы с Клоридией когда-то проходили через эти ворота и провели здесь почти целый день, – заметил я. – На пары почтенного возраста лесничие закрывают глаза. Но в целом вход для простого народа запрещен. Только его императорское величество, дамы и кавалеры, императорские советники, канцеляристы и придворные чиновники имеют прав входа на эту территорию. Кстати, именно Максимилиан II превратил Пратер в большие охотничьи угодья, которыми он теперь и является. Он просто приказал объединить земельные участки, которые прежде были сами по себе. Раньше, к примеру, некоторые участки принадлежали монастырю Химмельпфорте. Монахини владели половиной Вены. – Точно, они владеют и виноградником в Зиммеринге, неподалеку от Места Без Имени. – Здесь, в Пратере, – продолжал рассказ мой помощник, – Максимилиан велел заложить большую алею, которую вы наверняка видели во время своего визита. Итак, мы снова шли по следам Максимилиана II, хозяина Места Без Имени, подумал я. Кто знает, быть может, это знак судьбы. Наконец Симонис остановился и указал мне на место в палисаде, где через широкое, скрытое за кустом отверстие, можно было попасть внутрь. – Дети, живущие на Леопольдинзель, пользуются этими отверстиями, когда хотят поиграть или покататься на санках в Пратере. Вынужден признать, что мы с друзьями тоже так поступаем, – скромно заметил Симонис. Едва мы пролезли в щель, как нас встретил невероятный, просто идиллический пейзаж. Все угодья были покрыты толстым слоем снега. Верхушки деревьев пронзали молочную необозримую небесную даль, все, казалось, растворялось в снегу, и то, что летом было зеленой землей и синим небом, объединилось теперь под снежно-белым сверкающим покровом. В этом сказочном мире скрывались фазаны, косули и олени, добыча охотничьего общества императора. – Странно, – сказал Симонис, – оглядываясь по сторонам, – Христо уже давно должен был быть здесь. Из-за проклятой процессии я теперь не знаю, это мы опоздали или он. – Вот следы, – заметил я, когда прошло несколько минут тщетного ожидания. И действительно, в мозаике следов и полос, видневшихся за потайным входом, отчетливо проглядывали свежие человеческие следы. Пока мы исследовали их, снег пошел гуще. – Как думаешь, Симонис, это могут быть его следы? – Судя по величине стопы, господин мастер, вполне. И мы пошли по следам, хотя из-за все гуще и гуще падавшим снежинок это становилось все труднее и труднее. У нас оставалось очень мало времени, скоро следы должно было замести совсем. Они вели направо к длинной, обрамленной двойным рядом деревьев аллее, которая, насколько я знал, тянулась через весь Пратер к Дунаю. Но в самом начале аллеи виднелось ответвление влево. – Он не повернул ни направо, ни налево, – пояснил Симонис, разглядывая следы, – он пошел между этими двумя путями. Видите, расстояние между следами становится больше? – Значит, он побежал. – Похоже на то, господин мастер. Ни одно место под снежным покрывалом не может казаться прекраснее, чем известный венский парк. Деревья, холмы, кустарники, поросшие лесом равнины, покрытые мхами скалы – Пратер был единой, безупречно белой поверхностью. Вдалеке, куда не хватало силы наших глаз, текли небольшие рукава Дуная, пенясь на поворотах. Еще в древности Дунай был воспет как король всех европейских рек и один из самых важных потоков мира. Не случайно Овидий сравнивал его с египетским Нилом, и примечательно, что он, как и небольшая река По в Италии и Темза в Англии, вопреки природе всех водных потоков Земли несет свои воды на восток: только в Венгрии он ненадолго поворачивает на запад а в Мезии[951] немного отклоняется на север, что, как часто замечали – благодарение Господу! – затрудняет марш османских народов на Запад. Дунай всегда был крайне важной жизненной артерией для императорского города Урбе. Было множество причалов для торговли вином и продуктами питания, наряду с огромным количеством мелких гаваней для высадки пассажи ров и для рыболовства. Даже на той небольшой реке Донаука нал, которая отделяет Пратер от островка под названием Мель существовал такой причал. Там мы с Клоридией вели несколько затрудненный диалог на немецком языке с прокатчиками лодок во время воскресной прогулки. Снег и ветер все усиливались. Jupiter pluvis[952] и все ветра Земли, казалось, играли в догонялки, чтобы в апреле еще раз вернуть январь. Ветер дул нам прямо в глаза, и приходилось закрывать их руками, чтобы иметь возможность продвигаться вперед, не спотыкаясь. – Ты что-нибудь видишь? – спросил я Симониса, почти крича из-за завывания ветра. – Там, впереди, на земле! Сумка. Старая котомка, наполовину заметенная снегом. В ней был квадратный предмет размером с тарелку. Мы смели снег, открыли котомку и увидели завернутую в красный платок большую шахматную доску из массивного дерева, дно которой было подбито пластинкой из украшенного железа, и мешочек маленьких фигурок величиной с палец. – Господин мастер, это шахматная доска Христо. – Ты уверен? Он открыл мешочек, вынул черную пешку, затем белого, наполовину поблекшего коня: словно уменьшенная копия вселенной, казалось, фигуры представляли белизну снега и черноту сухих кустов, украшавших весь Пратер двуцветным узором кружев. – Это его шахматные фигуры. Когда он играет на деньги, он всегда пользуется именно этими, – сказал Симонис, а я взял в руки печальный, покинутый мешок и его содержимое. – Идем дальше, – настаивал я, а сам испуганно озирался назад. Последний отрезок пути, среди леса припорошенных снегом деревьев, вел почти все время в гору. Пыхтя от напряжения и замерзая, мы шли дальше, пока не выяснили, что следы Христо (если они действительно принадлежали ему) практически полностью исчезли под слоем падающего снега. Последние отпечатки ног потерялись перед небольшой возвышенностью, возникшей перед нами, чтобы сделать трудный путь, с тяготами которого мы до сих пор боролись, еще более безрадостным. За этим возвышением наконец должен был показаться Дунай. – Давай повернем, – предложил я, – я не хочу, чтобы… Звук, донесшийся издалека, однако отчетливый, заставил меня умолкнуть. Мы с Симонисом переглянулись: то был скрип шагов по снегу. Густой снегопад сокращал видимость до нескольких метров. Не говоря ни слова, Симонис велел мне следовать за ним на вершину холма. Опустив голову и согнувшись, словно прячась на поле кукурузы, мы со всей возможной поспешностью взбирались на холм. Когда мы оказались наверху, нашим глазам открылся вид на тысячи островов в петле Дуная, и я вспомнил книгу, которую читал перед отъездом из Рима в Вену. Оттуда я узнал, что славная река берет свое начало в Дунайской петле, где ее воды, кристально чистые и тихие, выступают из таинственных глубин Шварцвальда, называемого древними Sylva Martiana,[953] a затем объединяются с источником на кладбище, принадлежащем землям графа фон Фюрстенберг. И пока мой взгляд покоился на этих славных водах, прошедших добрых четыреста миль по Германии, прежде чем попасть к нам, я почти забыл о том, что мы делаем здесь, наверху, и поэтому едва расслышал голос Симониса, кричавшего: – Господин мастер, господин мастер, идите сюда, скорее!
Тело Христо лежало животом вниз под деревом. Нам пришлось потянуть изо всех сил, чтобы освободить его голову, которую с неслыханной жестокостью вдавили почти до самого дна вырытой в снегу ямы. Чуть ниже шеи мы обнаружили глубокую ножевую рану, из-за которой одежда на его спине пропиталась кровью. Вероятно, этого оказалось недостаточно, поэтому его голову и засунули в яму, пока не отказали сердце и легкие. Когда мы перевернули тело, то увидели, что лицо было покрыто белыми и голубыми пятнами. Похоже, он умер совсем недавно. – Проклятье! Бедный Христо, несчастный товарищ, что они с тобой сделали? – кричал Симонис; ужас, гнев и боль в равных частях присутствовали в его голосе. Христо Хаджи-Танев, студент-шахматист, окончил свою юную жизнь на покрытых снегом просторах Пратера. Своей родины, Болгарии, он не увидит уже никогда. Я поднялся. Неподалеку мне открылась совсем другая картина: трое маленьких санок, привязанных к дереву, оставленных там, наверное, группой детворы. Симонис тихо молился, и, перекрестившись, я спросил себя, не показал ли Господь нам эти трое саней, невинный знак детской радости, чтобы утешить нас в земной скорби. – Что нам теперь делать? – наконец спросил Симонис. Христо был по меньшей мере вдвое выше меня и в полтора раза шире. Унести его было просто невозможно. – Нам нужно как-то похоронить его, – размышлял я, – или… минутку. Я кое-что заметил. Когда его душили, Христо зарыл руку в снег, рука была вытянута, а ладонь почти замерзла. Вторая рука была плотно прижата к животу. Вероятно, у него уже не было времени на то, чтобы вырваться, когда его прижали к земле. В вытянутой руке я увидел какой-то предмет. Я подошел ближе, дрожа от волнения, и силой раскрыл ладонь. Симонис уже стоял рядом со мной. – Шахматный король. Белый, – заметил он. – Значит, убегая от преследователей, Христо бросил шахматную доску вместе с фигурами. А этого белого короля зажал в руке. По какой причине? – Не знаю, – ответил Симонис. – Нет, подождите, теперь, призадумавшись, я кое-что вспомнил: когда он играл важную партию и не знал, какой сделать ход, он всегда держал в руке фигуры, которые забрал у противника. Я часто видел, как его товарищи играли друг против друга. Есть шахматисты, которые чешут затылок, есть те, которые болтают ногами под столом, еще кто-то ковыряется в носу. А он вертел в руках вышедшие из игры фигуры. Однажды я наблюдал за ним, как он во время партии почти целый час играл с конем, словно одержимый перекладывая его из одной руки в другую. – Значит, сегодня, прежде чем его начали преследовать, он уже держал в руках белого короля, – заключил я. – Убегая, он наверняка не стал тратить времени на то, чтобы положить его обратно в мешочек. Но почему король был у него в руке? Он ведь не играл в шахматы. В этот миг мы снова услышали знакомый звук: тот же скрип шагов, как и прежде. Затем мы услышали выстрел: пуля просвистела рядом и потерялась в снегу. Две тени выпрыгнули из-за дерева. Не глядя друг на друга, мы бросились бежать. Симонис уже кинулся в сторону Дуная, когда мне в голову кое-что пришло. – Сюда! – крикнул я ему, зовя его к саням.
Несколько секунд спустя мы неслись вниз по склону холма, а за нами раздавались шаги преследователей. Мои сани были едва ли больше игрушки, но именно потому, что им нужна была маленькая площадь для скольжения, они неслись в долину, словно снаряд. Перед собой я видел Симониса, который благодаря своему большому весу несся вниз еще быстрее. Внезапно передо мной оказалось дерево, шириной вдвое больше моих саней. Я повернул вправо и слегка притормозил ногами, чтобы не упасть в снег, но я уже ехал в кустарник, от которого смог увернуться только чудом, перенеся вес на левую сторону. И только когда я снова набрал скорость, я оглянулся. Осторожно, огибая стволы деревьев, оба незнакомца продолжали преследовать нас, хотя с трудом продвигались вперед по покрытому снегом каменистому склону. Когда мои сани налетели на большой камень, торчавший из земли, и я, выругавшись, опять поставил их на лыжню, бросив быстрый взгляд назад, я увидел, что расстояние до преследователей сильно сократилось. Вскоре мои сани вновь застряли, на этот раз на том месте, где снега было слишком мало, я встал и побежал. Симониса я потерял из виду, потому что он поехал дальше в долину. Позади я слышал голоса преследователей, и когда я обернулся, то увидел, что они тоже разделились: один продолжал бежать за мной, а второй отправился на поиски Симониса. Моля небо, чтобы оба они не знали итальянского, но чтобы грек услышал меня, я закричал изо всех сил: – Симонис, беги вправо, к Донауканалу! Я тоже мог повернуть вправо и разделить судьбу с Симонисом. Вместо этого я решил продолжать бежать прямо: передо мной был немалый отрезок отвесного склона, и в соревновании со своим преследователем на пересеченной местности я был в выигрыше. И действительно, я перестал слышать его шаги у себя за спиной. Но тут тишину Пратера прорезал треск: он выстрелил снова. Кора дерева по правую руку от меня брызнула в разные стороны тысячами осколков. Мой враг, наверняка утомленный преследованием, очевидно, решил не состязаться со мной, а просто убрать с дороги. Я побежал зигзагами, пытаясь сделать так, чтобы между мной и моим преследователем оказалось как можно больше деревьев. Сколько еще вынесут меня мои ноги? Пальцев я уже не чувствовал, я вообще уже ничего не чувствовал, я даже не мог поклясться, что на ногах у меня еще есть ботинки. Опять прозвучал выстрел над моей головой, ветка хрустнула и сломалась. Парень перезаряжал свой пистолет чертовски быстро. Каждый раз, когда он готовил оружие к выстрелу, он терял в расстоянии, но, к сожалению, недостаточно. Тем временем я достиг тропы, которая вела обратно на Леопольдинзель. Деревья стали реже, и я оказался на незащищенном, открытом пространстве. Ни я, ни мой преследователь уже не бежали: до смерти измученные напряжением, мы брели вперед на едва гнущихся ногах. В этот миг раздался последний, решающий выстрел. Как раз в тот самый момент, когда я поворачивал на дорогу, которая должна была вывести меня из Пратера, я почувствовал удар в спину и сразу же упал лицом в снег. Вскоре мой преследователь нагнал меня. Я пытался подняться, однако он всем весом прижимал меня к земле. Придавив коленом мне правую руку, левую он держал своей рукой. Свободной рукой он достал из кармана нож. Я извивался как угорь и мог бы нанести ему парочку ударов коленом по почкам, если бы мне удалось освободиться. Вот только его движения были слишком быстры и одного удара его острого ножа оказалось бы Достаточно, чтобы покончить со мной. Кто знает, спросил я себя с поразительной скоростью, какой обладают мысли в последние моменты жизни, не постиг ли Симониса в это же время в другой части Пратера такой же конец. Краем глаза я видел, как кроваво-красное пятно, растекавшееся вокруг моей раны на спине, расплывалось на снегу. Его лицо скрывал платок, только два черных, глубоко посаженных глаза следили за мной, а остальное, ниже носа, было тщательно замаскировано. Его глаза неотрывно смотрели в мои, а нож взмыл в воздух и приготовил меня к смерти. И тут, словно во сне, прозвучал голос: – Стоп! В нескольких шагах от нас стоял Пеничек.
Мой палач колебался мгновение, затем отпустил добычу и бросился бежать в том направлении, откуда мы пришли. Мы даже не пытались преследовать его, поскольку были безоружны. Злоумышленник решил избежать неравной борьбы несмотря на то что в руке он по-прежнему сжимал пистолет. Если у него будет время и возможность перезарядить его и если к тому же он обнаружит, что Пеничек не вооружен, дело закончится для нас плачевно. – Все в порядке? – с озадаченным выражением лица поинтересовался Пеничек и, хромая, подошел ко мне. – Спина, рана в спине, – автоматически ответил я, поднимаясь. Он посмотрел на меня, тщательно ощупал мою спину. – Какая рана? – Выстрел из пистолета. Он попал в меня! А затем я посмотрел на землю. Ярко-красным пятном на снегу, которое я принял за свою кровь, оказался тот красный платок, в который была завернута шахматная доска Христо Хаджи-Танева. Драгоценный рабочий инструмент бедного болгарина во время поединка выпал из котомки на землю. Я коснулся своей спины: она была целой. И тут я все понял. Снял котомку со спины. Она была действительно пробита пулей. Я наклонился к земле и взял красный платок с его содержимым. Ткань тоже была пробита. Я вынул шахматную доску. На металлическом дне были только вмятины. Пулю остановила украшенная железная пластина. Шахматная доска Христо Хаджи-Танева спасла мне жизнь. – А где господин шорист? – обеспокоенно спросил Пеничек. – Он бежал по направлению к Дунаю, – ответил я и попросил сопровождать меня. – Мы должны как можно скорее поспешить ему на помощь. Его преследовал другой человек. Как ты нас нашел? – Я услышал выстрелы из пистолета и понял, что вы в опасности. А потом пошел по вашим следам в снегу, – сказал он, когда мы продолжили путь. – Но где же Христо?
Когда я рассказал ему все, Пеничек побледнел от ужаса. Мы шли к тому месту, где я расстался с Симонисом. Мы не обнаружили следов моего помощника. Потратив на поиски некоторое время и сильно переживая, поскольку ничего не нашли, мы, кроме того, вынуждены были опасаться, что убийцы Христо могут опять сесть нам на пятки. Я почти совсем замерз и молился, чтобы не отморозить пальцы на ногах. Наконец мы добрались до небольшого причала на реке Донауканал, что протекает между Пратером и островом Мель. Несколько лодок для перевозки людей и животных лежали в прибрежном песке, в двух шагах от воды. Симониса не было и следа. Едва мы собрались повернуть обратно, как услышали приглушенный крик: – Господин мастер! – Симонис! – Я бросился ему навстречу. Он спрятался под перевернутой лодкой и использовал ее как панцирь черепахи. – Этот жалкий тип преследовал меня до последнего, – рассказывал он, с трудом переводя дух от страха и усталости. – Я уже был уверен в том, что он вот-вот найдет меня, но затем он, должно быть, увидел вас. Он пошел туда, – указал он примерно в том же направлении, где скрылся и мой преследователь. – Они опять объединились, чтобы вместе выйти из Пратера, – заключил младшекурсник. – Конечно же, они не станут идти в ту щель, которой пользовались мы. Я сообщил Симонису о том, как Пеничек спас мне жизнь. – Вы ранены, господин мастер? – спросил мой помощник. Я подробно поведал ему о том, что произошло, и показал шахматную доску несчастного Христо и погнутую пулей железную пластинку. – А теперь идемте обратно, пока те двое не передумали и не объявились снова, – настоял я. И опять наши тени промелькнули по снежным лужайкам Пратера, оставив только три пары следов. Ботинки бедного Христо, которые должны были мерить снег вместе с нашими, уже безжалостно терзал клювом ворон.
20 часов, трактиры и пивные закрывают двери
– Насколько важен Ландау, можно понять, если взглянуть на карту, – сказал Атто, рисуя в воздухе своими старыми костлявыми пальцами силуэт Европы. Вернувшись на Химмельпфортгассе, я испытал жгучую потребность поговорить с аббатом Мелани, рассказать ему о событиях, получить утешение и совет, но больше всего мне хотелось посмотреть ему в глаза, чтобы увидеть его реакцию на мои слова. Я хотел понять, не стоит ли Атто за смертью Христо или же шахматист, как и его товарищ Данило, был вынужден поплатиться жизнью за свое опасное занятие. Поэтому я, с забрызганным грязью лицом, наполовину замерзшими конечностями и мыслями все еще о молодом болгарине, в смерти которого, возможно, был виновен исключительно я, постучал в двери Атто. Мне открыл племянник. Лицо его было опухшим, голос хриплым, его сотрясали приступы сильного чихания. Его постигла жестокая простуда. Он с удивлением отметил мой странный вид, а также поздний час. Мелани уже был в постели. – Простите, пожалуйста, синьор Атто, – начал я, – я же не знал, что… – Не беспокойся. Я лег только из скуки. Что еще остается старому слепому человеку, живущему в монастыре, кроме как ложиться спать с петухами? – Если вы желаете отдохнуть, то я уйду… – Напротив. Я уже велел искать тебя. Эта проклятая графиня Пальфи: я приказал весь день следить за ее дверью, но все напрасно. Может быть, она и любовница императора, но ведет жизнь монахини. Не сравнить с Монтеспан… Поистине добродетельны эти австрийцы, даже прелюбодеи! Добродетельны и скучны. – Синьор Атто, у меня плохие новости. Христо Хаджи-Танев, еще один товарищ Симониса, мертв. Его ударили ножом, а потом утопили в снегу. Я рассказал ему об ужасных событиях в Пратере, а также о том, как сам едва избежал смерти. Он слушал меня молча. Ничего не понимая, Доменико крестился, слушая мой рассказ, и бормотал что-то вроде того, где они оказались: в Вене или в аду. В конце Атто спросил меня: – Как была фамилия у этого Христо? – Хаджи-Танев. – Ха… как? – Произносится Хаджитанев, он был болгарином. Мелани иронично поднял брови, словно желая сказать: «Так я и думал». – Значит, наполовину турок, – презрительно заметил он. – Как это? – удивился я. – Вижу, ты настолько же несведущ в географии, как и в истории. Болгария на протяжении четырехсот лет живет под османским игом, она является частью Румелии, как называют турки европейскую часть своей империи. От удивления я замолчал. Получается, Христо был подданным Блистательной Порты. – А как он зарабатывал себе на жизнь? Случаем, не испытывал склонности к опасным занятиям? Заданный столь предвзятым тоном вопрос сбил меня с толку. – Он был шахматистом. Играл на деньги. Атто Мелани молчал. – Я знаю, что профессиональные игроки рискуют, – добавил я, – но снова был убит товарищ моего помощника, и – какое совпадение – тоже как раз в тот миг, когда мы собирались с ним встретиться. Кроме того, его убийцы стреляли в меня. Зачем им Делать это, если смерть Христо не связана с турецким агой? – Все очень просто. Потому что они опасались, что ты их видел. Может быть, они были из тех кругов, кто играл с Христо в шахматы, и хотели остаться неузнанными. Почему ты задаешь столь глупые вопросы? – Может быть, у меня и глупые вопросы, но вы кажетесь не очень потрясенным смертельной опасностью, которой я совсем недавно подвергался. – Послушай, что касается смерти человека из Понтеведро, то здесь, полагаю, нет никаких сомнений в том, что это было сведение счетов. И Хаджи-Танев умер потому, что сделал неверный шаг, или, точнее сказать, неверный ход. Смотри, не делай и ты неверных ходов. О тебе я горевал бы совершенно искренне, но тот, кто сам виновен в своем несчастье, пусть оплакивает себя сам. – Вам действительно больше нечего мне сказать? – Мне – нет. Но если ты непременно хочешь найти виновного, то посмотри в зеркало: все, кто встречаются с тобой, умирают, – подытожил он со злобной ухмылкой. Я не стал спорить. Новость о том, что Христо был османом, наполнила мою грудь сомнениями. Кроме того, этот злобный аббат продолжал отказываться воспринимать смерть молодого студента всерьез, и в результате моей настойчивости он еще больше замыкался в себе. Однако я слишком устал, чтобы думать об этом. Пока Атто с помощью Доменико и слуги сел на постели, я вынул из сумки платок, чтобы вытереть им лицо. При этом на пол упала серебряная монета, которую Клоридия взяла во дворце принца Евгения. – Что это такое? – тут же спросил Атто, нахмурив брови и глядя в моем направлении. Я с удивлением рассматривал его странный взгляд. – Моя слепота ночью несколько отступает. Заслуга терминалии, отвара, который называют hicra picra,[954] и того обстоятельства, что я в любую погоду сплю с босыми ногами, – оправдывался он. – Как бы там ни было, что это только что был за звон? Он ощупью пытался найти на ночном столике свои черные очки, которые ему торопливо подал племянник, и сел. Я рассказал о тех обстоятельствах, при которых Клоридия обнаружила этот предмет, и положил его ему на ладонь. – Интересно. – Он взял его и, казалось, принялся старательно изучать монету кончиками пальцев. – Но садись же рядом со мной, на постель. И опиши как можно точнее, что здесь выгравировано, – попросил он. Я описал ему обе стороны монеты и прочел надпись. – Ландау 1702, 4 ливра? – с улыбкой повторил он. – И Савойский держал ее в руках во время аудиенции аги? Так, так. – Похоже на примитивную памятную монету в честь первого завоевания Ландау его величеством императором в 1702 году, – предположил я. – Это больше, чем ты думаешь, сын мой, гораздо больше. Ландау, начал Атто, был самой слабой, болезненной точкой Европы, он находится прямо в сердце континента, на равном расстоянии от Берлина, Гамбурга, Вены, Милана и Парижа. Хотя город принадлежал к территории Пфальца в Южной Германии, выше Италии и в непосредственной близости от Австрии, однако на протяжении столетий это была территория «короля-солнце»: Ландау был кинжалом, который направляла Франция в тело Германии и в бок Австрии. С учетом важнейшего стратегического значения города Людовик XIV еще двадцать лет назад поручил своему самому гениальному военному инженеру, известному Вобану, укрепить бастионы. И вскоре необъяснимый пожар уничтожил три четверти жилых домов города, после чего Вобан спокойно мог превращать его в крепость, которую можно защищать. Это было в начале 1702 года, война за испанское наследство уже бушевала в Северной Италии, и все ждали, что бои скоро будут вестись и на немецкой земле. И действительно, австрийские войска начали окружать Ландау в конце апреля и заняли все подъезды к городу. 19 июня императорские войска заложили стрелковый окоп. Восемь дней спустя, 27 июня, послышался колоссальный раскат грома: императорские войска приветствуют пушечными выстрелами прибытие Иосифа, в то время – двадцатичетырехлетнего короля Германии и Рима и кронпринца империи. Мелак, французский комендант крепости, послал во вражеский лагерь герольда, впереди которого шел трубач. Герольд передал королю сообщение: комендант почтительно приветствует его с прибытием и просит указать место, где он планирует поставить свою палатку, чтобы оградить ее от пушечных выстрелов. – Что это значит? – удивился я. – Неужели французы действительно собирались пощадить именно предводителя вражеской армии? – Ты умеешь играть в шахматы? – Нет. – Что ж, тогда знай, что в шахматах короля, главу вражеских войск, не убивают никогда. Если фигуры противника поставили его в безвыходное положение и он не может двинуться с места, то говорят «мат» и партия заканчивается. Побежденный король должен капитулировать, но он не умирает. Так и с настоящими властителями: их не убивают. Равные им по рангу люди и генералы знают и уважают эти древние военные обычаи. Однако Иосиф, продолжал он рассказ, героическим образом отклонил предложение Мелака: – Моя палатка повсюду, можете стрелять, куда вам будет угодно. А ты, вежливый герольд, не трудись возвращаться обратно. Скажи своему коменданту, что никакого другого ответа он от меня не получит, только мои останки. Это не принесет его людям, если они будут вести себя так,как я полагаю, абсолютно ничего. Затем он оборачивается к своим солдатам, повергнутым в ужас из-за опасности, которой собирается подвергнуть себя их предводитель: – Когда я сажусь на коня, то я летаю, словно сокол. Моя лошадь – ветер и огонь. И никто, даже французы, не может попасть в сокола. В следующие дни Иосиф посещает окопы, а в воздухе свистят мушкетные пули. Почетный камергер упрашивал его не ставить на кон свою драгоценную жизнь. Иосиф ответил ему кратко: – Кто боится, может идти домой. 28 июля он приказывает построить войска в боевом порядке, после того как лично осмотрел вооружение. Ночью с 16 на 17 августа они атакуют цитадель. Французы трижды смогли храбро отразить натиск. Однако тем временем кассы гарнизона Ландау опустели. Мелак не колеблется: он намеревается платить из собственного кармана. – Что это значит? Атто протянул мне странный, почерневший кусок серебра, который я ранее давал ему. – Это тоже касается добрых военных традиций, о которых я говорил. Ни один истинный комендант не потерпит, чтобы его люди сражались без оплаты. Доменико, ты не подвинешь мне подушку под спину? – Конечно, дядя. Итак, Мелак приказал разбить серебряные тарелки из своих столовых приборов, и с помощью наспех сделанного клейма на них отчеканили монеты Ландау. Это грубые, жалкие монеты, ни одна не похожа на другую, одна прямоугольная, вторая квадратная, еще есть треугольные, почти как игрушечные деньги. – Даже клейма, наполовину изготовленные французским, а на вторую половину – немецким кузнецом, не были похожи одно на другое. И тем не менее каждая из этих монет и без курса компенсируется золотом, мальчик мой, – с торжественной серьезностью произнес Атто, – ибо они были рождены в благородных законах войны. – Значит, эти странные монеты были деньгами солдат Мелака. Обломок серебряной тарелки! – сказал я, поражаясь находчивости изобретения. – Поэтому она такая неровная. Получается, это воспоминание о войне, и теперь я понимаю, почему у принца Евгения таких целая коллекция. Они должны очень много значить для него, если он все еще носит в кармане одну из них. Во время осады 1702 года Иосиф принимал участие в самых опасных атаках, был примером для всех, показал себя великодушным человеком. Он жалеет раненых, утешает сирот павших, горюет со вдовами. Солдаты не верят своим глазам, когда видят его сверкающую, молниеносную фигуру посреди пушечных выстрелов, со всегда поднятым мечом в руке, длинные огненно-рыжие волосы без парика сверкают в пыли схватки; когда он, король Германии и Рима, не обращал внимания на усталость, опасность, кровопролитие, всегда сражаясь в первом ряду. Движения императорских войск координировал маркграф Людвиг Баденский. К числу его подданных принадлежит также один итальянец, граф Марсили. – Граф Луиджи Фердинандо Марсили? Мне знакомо это имя, – сказал я. – Мне кажется, некоторое время назад я приобрел парочку его трактатов, один – о кофе, а второй о фосфоре, если я ничего не путаю. – Именно он. Великий итальянец, – провозгласил Атто. Маркграф оказался медлительным и неуклюжим в командовании войсками, тонкости окопной войны, использование взрывчатых веществ, техника инженерных войск были ему незнакомы в отличие от Марсили. Вот уже два месяца у него не было никакого прогресса, потери людей очень велики, сопротивление французов казалось непреодолимым. Французское войско под предводительством генерала Катина уже на подходе; если Ландау не будет взят в срок, войска могут быть смяты. Марсили, который терпеть не может, когда его люди гибнут один за другим, доводит до сведения Иосифа ошибки маркграфа. В первую очередь нужно укрепить пушки и мортиры, говорит он, и улучшить обстрел. Иосиф лично инспектирует боевые позиции и доверяется Марсили: он будет следовать его советам. Людвиг Баденский кипит от ярости. А Марсили обещает, что Ландау будет взят в течение недели. Затем Иосиф обнаруживает то, что объяснил ему генерал Maрсили: войска устали, они напуганы, в отчаянии. Завоевание Ландау уже кажется невообразимо далеким; если же подоспеет армия Катина, то случится катастрофа. Нужно больше людей, слышит Иосиф шепот то там, то тут, нас слишком мало. В день перед решающим боем король римлян оставляет своих генералов и затесывается среди солдат, обычных пехотинцев. Он снова слышит жалобы солдат: французы – крепкий орешек; если мы хотим выиграть, нам нужно подкрепление. И тут Иосиф взбирается на пушку и говорит со своими солдатами так, словно он – один из них. – Солдаты, подданные императора, слушайте меня! Неужели же нам хочется, чтобы нас было больше? О нет, если судьба такова, что приходится умереть, то нас и так больше, чем достаточно. А если мы выживем, то наша доля славы будет тем больше, чем нас меньше. Во имя Господа я прошу вас, не ждите подмоги. Напротив, если кто не желает сегодня сражаться, пусть идет домой. Мы дадим ему пропуск и дадим достаточно денег на дорогу! Мы ни в коем случае не должны умирать в обществе тех, кто боится стать нашим спутником в смерти. Завтра – день битвы при Ландау. Тот, кто выживет и вернется домой, будет гордо поднимать голову, когда будут называть Ландау и говорить об этом дне. Если он достигнет преклонного возраста, то каждый год накануне этого дня он будет праздновать и говорить: завтра – день битвы при Ландау. Всем будет он показывать свои шрамы и говорить: эти раны я получил в день битвы за Ландау. С возрастом все становятся забывчивы, но о славных подвигах этого дня мы будем помнить с гордостью. И наши имена, имена полководцев, которые ему родные, словно семья – Иосиф, король Германии и Рима, Фюрстенберг, Бибра, Марсили, – будут звучать в памятных тостах и пробуждать к новой жизни. Каждый порядочный человек расскажет эту историю своему сыну, и с завтрашнего дня и до конца всех времен не пройдет ни единого дня Ландау, чтобы при этом не вспомнили о нас: наш маленький полк, наш счастливый маленький полк, нас, горстку братьев, ибо тот, кто завтра прольет свою кровь вместе со мной, будет моим братом. Как бы низок ни был мой ранг, с этого дня он будет высок, и многие мужчины, лежащие в этот час в постели на родине, будут чувствовать себя проклятыми, потому что в день завтрашний они не будут с нами, и униженными в своем мужестве, когда будут слушать того, кто сражался с нами здесь, в ЛАНДАААУУУ! Его слова все больше и больше походили на крик, вокруг короля и его поднятого меча все хлопали в ладоши, смеялись и плакали растроганные солдаты. А Иосиф с улыбкой повернулся к пехотинцу, который не так давно жаловался на отсутствие подкрепления: – Ну что, солдат, ты все еще жаждешь подкрепления? – Черт возьми, Ваше Величество, – ответил тот, поднимая со слезами на глазах сжатые в кулаки руки, – мне хотелось бы, чтобы я мог один сражаться бок о бок с вами против войск французов, только вы и я!– А принц Евгений, его там не было? – взволнованно спросил я аббата, который, утомленный долгим рассказом, на миг умолк и отпил из стакана воды. Атто поставил стакан на ночной столик, но не ответил на мой вопрос. – В ночь перед последней битвой не спал никто, ни императорские войска, ни французы, – продолжал он. – Представь себе, как той ночью мрачное бормотание наполнило вселенную. В лагерях обоих войск царила такая тишина, что дозорные слышали перешептывание вражеских стражников. По обе стороны горели костры, в отблесках пламени каждый солдат мог видеть лица врагов, как здесь, так и там ржание боевых коней оглашало ночь. А в палатках кузнецы обслуживали всадников, деловитые молоты укрепляли суставы доспехов, угрожающе звучала подготовка к битве. Гордые своим преимуществом, совершенно без страха самозабвенно и кровожадно играли французы в кости, сердясь, что ночь, эта ужасная ведьма-калека, так медленно тянется. Иосиф тоже не спал. Офицеры предложили ему свое общество, но он отказался и вышел из палатки: – Мне еще нужно кое-что обсудить со своей совестью, иного утешения мне не требуется. Он приказал своему адъютанту подать плащ с капюшоном, который бы скрывал его лицо, и безымянным командиром прошел по лагерю. Солдаты обессилели. Их печальные лица, впалые щеки, изорванная войной униформа превратили их в массу жутких призраков. Но королевский капитан этого истощенного полка, тот, кого скоро назовут Иосифом Победоносным, ходит от одного костра к другому, от одной палатки к другой, для каждого у него находится доброе слово и приветливая улыбка. Всех называет он братьями, друзьями, земляками. Его теплый взгляд согревает душу, страх улетучивается. Этой ночью все, сами того не зная, прикасаются к ауре своего молодого короля. Скрытый капюшоном, он разговаривает с группой пехотинцев. Один из них говорит: – Может быть, завтра мы умрем, но королю нечего бояться. Он наверняка мирно спит в своей палатке. Хотя он тоже сражается, но не так, как мы. На это Иосиф возразил: – А я вот думаю, что король, если его лишить помпы, которая его окружает, окажется таким же человеком, как ты и я. Фиалка пахнет для него точно так же и у страха такой же вкус, как и для нас. Перед рассветом он остался один. – Наша жизнь, наша вина, наши грехи – все давит меня, – бормочет он. – Какая тяжкая доля – быть близнецом великого и слушать бормотание глупцов! Каким бесконечным покоем, которого лишен король, наслаждается простой крестьянин! И чем владеют короли, чего нет у других, кроме роскоши? Что ты такое, королевская пышность, ненужный идол? Как часто вместо искреннего почтения ты встречаешь пустую лесть? Бог войск, выкуй моих солдат в своем горне! Прогони их страх, отними у них способность считать, если преимущество противника пугает их. Не вспоминай хоть завтра о подкупе, которым мой предок, Карл V, добыл себе священную корону империи! Он ведь уже поплатился за это, отрекшись и став монахом. Каждый день я велю читать мессы за его душу, чтобы смыть с нашей короны презренное золото заимодавцев! Ах, почему же никак не наступит день? Все и всё вокруг только и ждут моего знака. Завтра я проеду милю в долину и оставлю после себя вымощенную французами дорогу! У аббата Мелани, этого нового Гомера, отказал голос. Заря занимается, наконец начинается сражение. Вновь отбита атака на крепость. Однако становится очевидно, что Ландау вот-вот падет. Солдаты устали, они хотят покончить со сражениями и вцепиться врагам-французам прямо в глотку, раздавить их, изнасиловать их женщин, разграбить их дома и поджечь их. Как и в любой войне, человек превратился в чудовище. И тут появляется Иосиф – один на коне, перед стенами крепости, в такой близости от бастионов, чтобы в него не могли попасть, вынимает меч и кричит: – Мужчины Ландау! Пожалейте свой город и своих жителей, пока я еще могу удержать своих солдат, пока прохладный воздух милосердия еще сдерживает ядовитые тучи резни, грабежа и прочих ужасов войны. В противном случае пройдет только миг и вы. Увидите, как императорский солдат, опьяненный запахом крови, орошает волосы ваших плачущих дочерей, хватает за бороды ваших отцов и нанизывает ваших обнаженных детей на свои, пики, в то время как беснующиеся от боли матери разрывают своими отчаянными криками облака! С высоты защитных сооружений, сидя на своем коне, вниз, смотрел комендант Мелак. Он молча слушал. От ужаса лицо его пронизали глубокие морщины. – Так что же вы скажете, – заключил король Германии и Рима, – не желаете ли вы сдаться? Или хотите, чтобы вас обвинили в сопротивлении и уничтожили? 9 сентября Мелак приказал поднять белый флаг, на следующий день состоялась капитуляция, после которой последовал обмен пленными. 11 сентября все было кончено.
Как и было обещано, Иосиф сдержал своих солдат: с головы осажденных не упало ни волоска. Солдат императорского войска, который украл в церкви чашу для причастия, был казнен по личному приказу короля. Он хладнокровно взирает на казнь, хотя приговоренный был одним из его любимых солдат. Матери, которые прошлой ночью еще прятались в темноте своих жилищ и, прижимая к груди новорожденных, застыв от ужаса, слушали угрожающие слова Иосифа, теперь опустились на колени, чтобы поцеловать его императорские регалии. На следующий день французы отступили; Мелак вынужден признать себя побежденным королем Германии и Рима. – Великий король, – обратился к нему французский комендант, благодарный за то, что Иосиф пощадил город от ужасающего произвола солдат, который обычно следует за осадой. Марсили предсказал, что благодаря его военному искусстве Ландау падет в течение недели. Но гению итальянца, объединенному с геройством его юного монарха, потребовалось еще меньше: оказалось достаточно четырех дней.
Атто сделал паузу. Он с трудом переводил дух. В моей коллекции книг об императоре Иосифе I были различные сообщения и хвалебные гимны его деяниям в Ландау, но, к сожалению, все они были на немецком, причем написаны в тевтонском стиле: переполнены скучными рассказами и без забавных эпизодов. Рассказ же аббата Мелани перенес меня прямо в жаркую битву, более того, слил меня воедино с душой моего повелителя. Я удивился, насколько сильное восхищение, если не любовь к молодому цезарю, сквозили в словах кастрата. Именно он, который до сих пор не прославлял никакого иного монарха, кроме «короля-солнце»! – Дорогой дядя, в это время вам уже нужно спать, – напомнил ему Доменико. По возвращении в Вену, продолжал Атто, не обращая внимания на совет племянника, ликованию не было границ: в городе тут же сформировалось большое шествие по направлению к собору Святого Стефана, где было торжественно прочитано «Те Deum». С причитающейся церемонией на Новом рынке была воздвигнута колонна, посвященная святому Иосифу, покровителю Австрии. Даже Леопольд и его супруга, августейшие родители, с которыми у молодого короля никогда не было особенно сердечных отношений, радовались триумфу императорских войск. Со дня этой победы Иосиф становится многообещающим наследником престола. После Ландау и благодаря помощи Марсили он стал героем. – Однако один герой уже был, – заметил Атто. – Его звали Евгением Савойским, победитель в великих битвах при Зенте, гроза турок. Но теперь в соревновании за славу у него появился соперник с решающим преимуществом: он был красив, и на голове у него была корона. В Вене министры Леопольда кипели от ярости. Они точно знали, что Иосиф ждет не дождется, когда можно будет прогнать их и заменить своими доверенными лицами. Единственной возможностью задержать его, было усилить давление на его отца Леопольда. Когда в следующем году Иосиф просит позволения вернуться на фронт, отец отказывает ему в исполнении этого желания. Давление министров подействовало. Евгений, который никак не может пережить то, что в прошлом году оказался в тени славных деяний Иосифа, втайне препятствует возвращению короля Германии и Рима к театру военных действий. Бои за рейнские земли тем временем продолжаются, и вскоре приходит плохая весть: французы осадили Ландау и отвоевали крепость. – Значит, за этим стоял принц Евгений! Но ведь это нелепо, – размышлял я, – разве для него и других не позорнее проиграть войну, чем предоставить Иосифу возможность завоевать честь и славу? – Власть имущие способны разрушить весь мир, только чтобы сохранить свое место, – ответил Атто. – И в тот момент, при таком слабом императоре, как Леопольд, не было никого могущественнее его министров, начиная с Савойского. Итак, мы добрались до 1704 года. Время военных действий почти прошло, на пороге стояла осень. Войска империи и союзников жаждали непременно закончить год важной победой. Все сходятся на том, что нужно сконцентрироваться на Ландау и снова отнять его у врага. 1 сентября прибывает юный король. Только после долгого сопротивления отец Леопольд сдался и отпустил его на фронт. На поле сражения его встретили Евгений Савойский и комендант союзных английских и нидерландских войск, известный Мальборо, близкий друг Евгения. Теперь, когда герой первой осады, случившейся два года назад, выступил на передний план, им пришлось очистить поле. Их послали к реке Лаутер, чтобы прикрыть операцию с тыла, в то время как маркграф Ваденский встретил Иосифа с двадцатью семью батальонами и сорока четырьмя эскадронами возле Ландау. И на этот раз полководец осажденного французского гарнизона, Лобанье, предлагает Иосифу не направлять пушечные выстрелы туда, где будет ночевать или останавливаться король, и снова отвечает Иосиф, что он защищен наилучшим образом и будет ходить туда, куда ему вздумается, никого не ставя об этом в известность. – Наверное, Иосиф Победоносный не знал того, что и в этой, второй осаде Ландау было использовано правило мата, – сказал Атто, – причем самым благородным образом. – Что вы хотите этим сказать? – Некий граф Роскот, спутник Иосифа во время охоты, был представлен в Версале и пояснил, что во время подготовки к битве Иосиф обычно ходит на охоту без сопровождения неподалеку от французской линии. И что было бы легче легкого захватить его при этом. Что ж, его величество возмущенно отказался от этого предложения и тут же изгнал предателя из Франции, да, он даже донес до сведения императорских войск о предательстве Роскота. Не забывай об этом, мальчик: мат – да, но убивать повелителя или равного по рангу князя – никогда. Битва начинается, еще более суровая, чем те, которые предшествовали ей. Зима тогда настала рано, приходилось сражаться в холоде, под дождем и в грязи. 27 сентября французы предприняли вылазку, однако безуспешно. Четыре дня спустя тяжелая артиллерия императора, доставленная к Ландау с огромными человеческими жертвами, начала обстреливать крепость. Поток огня обрушивается на Ландау, но сопротивление французов крепко. Евгений Савойский бушует: нужно было занять Ландау за пять или шесть недель, пишет он в Вену из своей палатки, вместо этого операция затягивается, а французы тем временем получили полную свободу действий в Италии. – Может быть, была и более веская причина его возмущения, – предположил Атто. – И его, и Мальборо Иосиф отстранил. И они потеряли свою долю славы. Спустя девять недель ужасных канонад и атак крепость Ландау наконец пала. Комендант Лобанье потерял оба глаза и умер спустя два года от неизлечимых ран. Французский гарнизон сдается, солдаты снова бросают оружие под ноги Иосифу. Молодой наследник престола доказал, что он может повернуть удачу на свою сторону одним только своим присутствием. Благодаря первой победе он стал молодым героем, со второй – он становится блестящим примером для всех солдат. На дворе стоит зима, 1704 год завершен важной победой, английские и голландские союзники могут возвращаться домой довольными. В Вене звонят колокола праздничным звоном, в сердце Савойского зреет мрачная досада. А что, если Иосиф станет новой иконой войны, а легенда о принце Евгении, распространившаяся уже на пол-Европы, угаснет? Но спустя год после повторного завоевания Ландау ситуация меняется. Император Леопольд умирает. Теперь было бы неразумным позволять молодому правителю, у которого еще нет наследника-мальчика (его маленький сын, Леопольд Иосиф, умер совсем ребенком), участвовать в военных действиях. Евгений остается главнокомандующим всех военных операций и управляет судьбами войны на протяжении следующих трех лет. Бессловесный спор между правителем и его генералом снова проявился в 1708 году: королева Англии потребовала, чтобы Евгений принимал участие во всех битвах в Испании, где Карлу, брату Иосифа, никак не удавалось утвердиться на испанском троне против французских армий Филиппа Анжуйского, внука «короля-солнце». Расположенные в Испании императорские войска находились под командованием Гвидо фон Штаремберга, которому не всегда улыбалась удача. Евгений сжимает кулаки: он знает, что он лучше Штаремберга и может вместо него стяжать славу и почет. Начинается постоянная дипломатическая беготня между английскими союзниками и императорским двором, но император стоит на своем: принц Евгений Савойский не должен далеко отлучаться от Австрии. Евгению приходится принять это и смолчать. В 1710 году снова речь заходит о том, чтобы послать Евгения в Испанию, но его императорское величество по-прежнему против, и ничего не происходит. В кругу друзей Евгений дает воли своему гневу. – Может быть, Штаремберг сделал не все, чего от него ждали? – иронично вопрошает он. И заявляет, что своими глазами видел, как Иосиф на собрании министров размахивал бумагой с назначением Евгения командующим в Испании, однако затем император бойкотировал план, не сказав ему ни слова. Иосиф не ошибается: он думает о безопасности империи. Дважды в Ландау и снова дважды в Испании Иосиф попрал ногами гордость и тщеславие Евгения. Проигравший смолчал и повиновался; ничего другого ему не оставалось. Но что, если бы тайное соревнование, о котором знали только два соперника? каждый раз решалось бы в пользу только одной из сторон? И какую роль играла во всем этом странная монета, которую Клоридия вынесла из дворца Евгения при загадочных обстоятельствах? – Эта монета – символ Ландау, – заключил Атто, – первое тяжелое поражение, с которым вынужден был смириться Евгений. И она показывает, что принц Савойский не забыл ни одно из унижений, которые он вытерпел от Иосифа. Атто улыбнулся и провел по монете рукой. Когда Иосиф прочтет предательское письмо Евгения, до мира останется всего один маленький шаг. – Если бы эта малютка Пальфи только заглотила наживку, – проворчал он, с трудом сдерживая сильную зевоту и заползая под одеяло, в объятия Морфея.
* * *
На обратном пути в свои комнаты, расположенные в другом крыле монастыря, я наткнулся на Клоридию. – Любимый, – сказала она, раскрывая объятия, – это был ужасный день. – Ты даже не подозреваешь насколько, – ответил я. – Что ты хочешь этим сказать? Я рассказал ей о случившемся. По окончании рассказа мы стояли друг напротив друга, потрясенные насилием, во второй раз произошедшим в кругу наших знакомых. Я рассказал и об истории монетки из Ландау. – Слава Богу, что ты со мной! – сказала она. – Почему? Что стряслось? – Ты не единственный, с кем произошло сегодня ужасное событие. Меня преследовали во дворце принца. – Преследовали? Кто? – То чудовище, которое украло монетки из Ландау. Он то и дело появлялся рядом. Когда я шла в кухню, то увидела, что он идет за мной на довольно большом расстоянии. Когда возвращалась с третьего этажа, он вынырнул из-за какого-то угла. Я поспешно удалилась, но вскоре он снова оказался у меня за спиной: я ухожу, а он тут как тут, я прочь, а он опять за мной. Это было сумасшествие какое-то. Если бы ты его только видел… Напоследок он даже описал вокруг меня полукруг, а потом обнажил в страшной ухмылке свои острые черные зубы, бррр! И тогда я бежала сюда. – Но кто это и чего он хочет? – возмущенно воскликнул я. – Он обещает дервишу отрезанную голову, затем таращится на тебя, преследует, крадет монеты принца Евгения… Какая между всем этим связь? – Я знаю только одно: человек с таким лицом способен на все. Даже на то, что случилось с Хаджи-Таневым.Но самое печальное известие этого дня нам только предстояло услышать. Чтобы немного развеяться, мы пошли по крестовому ходу, наблюдая за тем, как играет наш малыш. Наконец мы направились в монастырскую церковь. Сломленные всеми неприятностями, которые окружали нас, мы чувствовали потребность в молитве, чтобы просить Всевышнего о защите и милосердии. Однако когда мы вошли в холодный, пропитанный запахов ладана полумрак, то увидели, что вся церковь наполнена сестрами монастыря Химмельпфорте. Они собрались полным составом на молитву с четками. Это очень удивило нас: слишком необычно в столь поздний час для монастыря. Мы осенили себя крестным знамением, встали на колени в дальнем уголке и страстно присоединились к молитве, о милости Божией для душ двух бедных убиенных студентов. После молитвы с четками последовала молитва к Пресвятой Деве Химмельпфорте. Мы слышали, как к литаниям монахинь, похожим на контрапункт, то и дело примешивалось неясное бормотание, в котором мы вскоре распознали всхлипывания. Кто-то плакал. Когда мы обернулись, то увидели слева от алтаря, под статуей Пресвятой Девы Химмельпфорте, хормейстера. Грудь ее дрожала. В тот же миг вопросительный взгляд, которым обменялись мы с Клоридией, превратился в недоверчивое оцепенение. – Pro vita nostri aegerrimi Cesaris, oramus, – услышали мы слова чтицы. «Мы молимся за жизнь нашего тяжело больного императора». Эти слова хлестнули нас, словно ледяной ветер. Мгновение я надеялся, что ослышался, но обеспокоенное, испуганное выражение лица, с которым Клоридия ударила себя по лбу, подтвердило мое печальное открытие. Императору плохо? Жизнь нашего августейшего императора, нашего горячо любимого блистательного, юного Иосифа Первого в опасности? Что же произошло? Но задавать вопросы в такой миг было невозможно, нам нужно было дождаться окончания молитвы. А им, казалось, конца-края не было, этим минутам, которые отделяли нас от объяснения столь неожиданного известия. Наконец церковь опустела, Камилла поднялась и обернулась к нам. Едва Клоридия увидела ее, как подошла к ней и обняла. – Камилла… – пробормотала моя жена при виде молодого, искаженного болью и горечью лица. Хормейстер велела нам следовать за собой, ей нужно было погасить свечи. Пламя отражалось в ее залитых слезами щеках, она тщетно пыталась сдержать всхлипывания, крепко сжимая руку Клоридии.
С самого раннего утра об этом говорил весь город. Сначала весть бродила, как слух, затем информации стало больше, и наконец, как гром среди ясного неба сверху спустили приказ каждый полный час читать публичные молитвы с выносом святых даров как в императорской капелле, так и в соборе Святого Стефана. В императорской капелле час за часом собирались все придворные: трибуналы, министры, гранды, кавалеры, придворные дамы и другие придворные. Также в соборе во второй половине дня читали молитвы под руководством лично монсеньора архиепископа и всего соборного капитула, к процессиям присоединялись религиозные ордены, братства, школы искусства и ремесла, а также персонал госпиталей, всегда при участии простолюдинов, которые обеспокоенно и благочинно молили ходатайства у Господа. Затем молитвы продолжились во всех остальных приходах города и пригорода. Были даже посланы особые курьеры во все эрцгерцогство Австрийское вверх и вниз по течению реки Энс, в сорокачасовой зоне, чтобы – как можно было прочесть в воззвании – молить Господа ниспослать нашему всемилостивому и августейшему монарху долгие годы жизни и счастливого правления, в утешение верноподданному его народу и на благо всего христианства, особенно в столь опасной и тяжелой ситуации войны, в которую втянута вся Европа. Даже живущие в императорской столице османы и иудеи назначили особые дни молитв и поста, а также раздавали милостыню. Император был болен. Вот уже на протяжении нескольких дней он лежал в постели, отделенный ото всех, никто не имел права приближаться к нему. Но не потому, что Иосиф Победоносный не был в состоянии поддерживать разговор или председательствовать в совете министров, а потому что болезнь его была заразной. И смертельной. Ибо диагноз был однозначен: оспа. – Как Фердинанд IV, в точности как он, – всхлипнула Камилла. В груди моей бились дурные предчувствия. Мои мысли возвращались к Фердинанду IV, молодому королю немцев и римлян, которого пятьдесят лет назад унесла оспа. Первенец императора Фердинанда III и старший брат Леопольда внезапно умер в возрасте почти двадцати одного года. Я знал историю вундеркинда Фердинанда по книгам, которые приобрел по прибытии в Вену: на его необычайные таланты возлагал все надежды его отец, надеясь вернуть империи былое величие после Тридцатилетней войны. Трагедия произошла в столь затруднительный момент, что дом Габсбургов рисковал вообще потерять корону. Потому что Франция тут же воспользовалась ситуацией, чтобы помешать Леопольду быть избранным императором, и тот вынужден был передать курфюрстам-протестантам огромные суммы денег за то, что те выберут его, более того, ему даже пришлось поклясться перед ними торжественной клятвой и отказаться поддержать испанских Габсбургов в войне против Франции. Так французско-испанская война закончилась поражением, и король Филипп IV был вынужден отдать свою дочь Марию Терезию Людовику XIV вместо Леопольда. Именно из этого брака и родилось право французов на испанский престол, который представлял собой причину текущей войны за наследство. Короче говоря, если бы Фердинанд не умер столь рано и столь неожиданно, французские Бурбоны не породнились бы с испанскими Габсбургами и война за испанское наследство никогда не началась бы. Хотя молодой Фердинанд, необычайный, красивый мужчина, обладал отменным здоровьем, он быстро слег от оспы. Когда самые старые люди в народе вспоминали о тогдашнем печальном событии в императорской семье, повлекшем за собой еще много печальных событий, они содрогались от страха. А теперь и Иосиф заболел оспой.
– Первые симптомы появились пять дней назад. До сегодняшнего дня болезнь держали в тайне. Я сама узнала только вчера вечером, – сказала хормейстер надтреснутым от слез голосом. Так мы узнали, что Иосиф Победоносный во вторник, 7 апреля, ужинал у своей матери, и вскоре у него возникла легкая головная боль. Незначительная неприятность исчезла уже на другой день, и молодой император решил в среду утром отправиться на привычную охоту. По возвращении он пожаловался на сильное давление в груди, удушье и странные боли во всем теле. Внезапно его стошнило, вследствие чего наступило сильное обезвоживание. Позвали лейб-медика, объяснившего недомогание чрезмерным питанием во время пасхальных празднеств, он прописал на вечер порошок из толченого гиацинта и различных драгоценных камней. Ночь прошла беспокойно. Утром следующего дня, в четверг, 9 апреля, Иосифа снова сотряс очень сильный приступ рвоты, во время которого он выплюнул слизкую, плохо переваренную субстанцию, за ней последовала желчь в больших количествах. Небольшая головная боль вернулась, но особенно его мучила невыносимая перемещающаяся боль в груди и животе, перешедшая затем в бедра. Иосиф Победоносный, молодой человек, сильный и смелый, в прошлом – храбрый солдат, кричал как ребенок. Моча и пульс, к счастью, были в норме, поэтому поставили клистир, или инсуффляцию воды с солью, которая оказала похвальное, смягчающее действие. Боли, впрочем, продолжались до вечера, крики тоже. Клистир повторили, что привело к трем приступам рвоты с желчью. Кроме того (по известному указанию Аристотеля), ему прописали порошок из почек и качественной киновари. К вечеру участился пульс, и в час ночи у него решительно поднялась температура. Пока Камилла говорила, в моей голове, словно погребальный колокол, била дата: 7 апреля. В этот день началась болезнь Иосифа, а также в Вену прибыл турецкий ага. Более того: через день в городе появился аббат Мелани… – А это точно, что у него оспа? – спросил я Камиллу. – По крайней мере, так говорят. – А каково состояние императора на данный момент? – Ничего не известно. К сожалению, последние события держатся в строжайшей тайне. Но… куда же вы бежите?
* * *
– Ну? Что ты такое говоришь? – бормотал аббат Мелани из-под своего одеяла, с трудом ворочая языком ото сна. – Вы притворяетесь, что ничего не понимаете? Этого я и ожидал! – кричал я, вне себя от гнева. Подобно одной из Эриний ворвался я в спальню Атто. Я громко стучал в двери (кельи монахинь располагались довольно далеко), и Доменико, испуганно поднявшийся с постели, открыл мне, убежденный в том, что город объят огнем или ему угрожает какая-нибудь другая катастрофа. – Турецкий ага прибыл в Вену всего за день до вас, и не делайте вид, что вы этого не знали! На этот раз вы очень хитро все придумали, со своим дервишем! – Дервиш? Понятия не имею, о чем ты говоришь, – ответив Атто, садясь в постели. – Дорогой дядя… – предпринял попытку вмешаться Доменико. – Да, дервиш из свиты турок, этот Кицебер, который во время своих противоестественных ритуалов режет себя на куски и исцеляется, словно ничего и не было. Хорошими людьми вы окружили себя, аббат Мелани! И вы заодно с дервишем, чтобы заполучить голову императора. Ха, удивились, да? Не думали, что я все разгадаю! Дядя и племянник замолчали. Это придало мне мужества, и я продолжал: – Вы утверждаете, аббат Мелани, что прибыли в Вену ради мира. Вы сунули мне под нос письмо предателя Евгения, который хочет продаться Франции, но о другом шахматном ходе вы умолчали, о самом важном, а именно, что необходимо убрать с дороги императора! У его императорского величества Иосифа I нет наследников мужского пола. Если он умрет, то наследником престола станет его брат Карл, который вот уже десять лет с оружием в руках оспаривает право на трон у Филиппа Анжуйского, внука «короля-солнце». Если Иосиф умрет, Карл должен будет немедленно прибыть в Вену, чтобы стать императором, и тогда конец войне! Евгений уже совершил предательство: даже если бы Австрия того хотела, она не смогла бы послать в Испанию ни короля, ни генерала. На троне Мадрида навеки будет внук вашего повелителя. Превосходный план! Вот почему заболел император. Какая там оспа: вы, французы, испокон веков были союзниками турок, и вы отравили его. – Император болен? Что ты такое говоришь, мальчик! – И болезнь, какое совпадение, начинается с головы… как раз с той самой головы, вокруг которой дервиш выстроил свой заговор! Или все это только совпадение? Кто же вам в этом поверит? Уж точно не я, я-то, к сожалению, вас знаю! Как вы могли это сделать? В вашем возрасте! Разве у вас не осталось ни капли страха Божьего? – спросил я, и голос мой дрогнул. – Я не понимаю, откуда ты… – возмущался Атто, держась рукой за живот. – И не думайте, будто я забыл, что Филипп Анжуйский был провозглашен королем Испании благодаря поддельному завещанию. Это вы, вы подделали завещание, одиннадцать лет назад, прямо у меня под носом! – Дорогой дядя, вы не должны позволять… – произнес Доменико. – Какое там великодушие и вознаграждение! – с разгоревшимся негодованием перебил я племянника. – Жилье и работу здесь, в Вене, вы предоставили мне только затем, чтобы снова воспользоваться моими услугами, а потом в самый подходящий момент исчезнуть, как вы это проделывали уже дважды в Риме! Но на этот раз вам нужно было совершить еще один позорный поступок: убить императора, молодого человека, которому и тридцати трех лет не исполнилось! Вот зачем вы сделали меня богатым человеком. Вы хотите купить меня. Но вам это не удастся, о нет! На этот раз вы меня не получите. Нет цены за жизнь моего короля! Я вернусь в Рим и буду снова жить в подвале из туфа, но прежде я нарушу ваши гнусные планы. Вам придется переступить через мой труп! – Милосердное Небо, мальчик мой, не нужно… Доменико, прошу тебя! – умолял Атто, по-прежнему прижимая руку к животу и с искаженным от боли лицом пытаясь подняться. – Дорогой дядя, я здесь, – сочувственно воскликнул племянник, спеша поддержать его и увести за занавеску, где стоял ночной горшок для телесных потребностей. У аббата Мелани возникла сильная колика, вызванная так называемым песком в почках и сопровождаемая диареей и болезненным взрывом геморроя. Внезапно я остался без противника, причем в сильнейшем смущении. Я предложил свою помощь, которую Доменико отклонил мрачным ворчанием из-за полога. – Император… яд… – слышал я хрип Атто. – Дорогой дядя, вы теряете слишком много крови, вы должны непременно выпить кедрового соку. – Да, да, сделай поскорее, прошу тебя… Доменико отодвинул полог в сторону и кивком попросил меня немного поддержать старого аббата, который скрючившись сидел на стуле. Впервые увидел я его кастрированное срамное место. Не обращая на меня внимания, Атто продолжал причитать, в то время как вулканическая деятельность у него во внутренностях все никак не заканчивалась и геморрой по-прежнему кровоточил. Племянник выбежал из комнаты, налил пару капель из бутылочки в большой стакан свежей воды и торопливо протянул напиток своему дяде. – Что ж, я думаю… – пробормотал я, собираясь попрощаться, чтобы более не мешать. Но Доменико решил, что я намереваюсь продолжить обвинения, и крикнул из-за занавески: – Вы что, совсем не испытываете ни капли сочувствия к старику? Хотите убить его? Довольно уже. Уходите, уходите прочь.* * *
После того как меня таким образом выставили за дверь, я, обессиленный, пересек монастырский двор и потащился в постель, где обнаружил, что Клоридия, хотя и сидела на постели, уже задремала. Она хотела подождать меня, однако усталость сморила ее. Так я остался один, борясь с безутешностью и сомнениями. Я сел за стол и закрыл лицо руками. С тех пор как я услышал в церкви печальную новость, у меня не было ни секунды на размышления. Жизнь императора в опасности? Это казалось жутким кошмаром, но слишком уж много признаков доказывало то, что я, к сожалению, не спал. Разве мы с помощником не встретили три процессии, направлявшиеся к собору Святого Стефана, когда коляска Пеничека везла нас на встречу с бедным Хаджи-Таневым? На столе лежала шахматная доска Христо. Я провел кончиками пальцев по вмятинам, которые остановили пули и спасли мне жизнь. Накануне вечером, вспомнил я, мы втроем заметили необъяснимое волнение хормейстера. С необычайной резкостью она возразила во время репетиции «Святого Алексия» бедному Гаэтано Орсини. Кроме того, Камилла выбрала мрачную, меланхоличную арию, а затем говорила о предсказаниях. Теперь я понимал, что печальное предчувствие смерти отягощало ее душу. Она думала об императоре, стоявшем на могиле своего друга Ламберга, о зловещем пророчестве альманаха «Энглишер Варзагер», о предупреждении того коварного иезуита Видеманна и кто знает, о чем еще, потому что было немало тех, кто желал смерти его императорскому величеству. Кто мог бы осуждать ее? Двадцать восемь лет назад, когда я был слугой в Риме, в гостинице «Оруженосец», я своими собственными глазами читал в астрологической газете очень точное предсказание смерти одной правительницы: несчастной супруги наихристианнейшего короля. Ах, к сожалению, это не дурной сон, вздохнул я, открывая Шахматную доску. Однако один вопрос мучил меня теперь сильнее других: какие планы на самом деле строил аббат Мелани? Он прибыл в Вену всего лишь через день после прибытия аги и после начала болезни императора. Атто прибыл, чтобы сыграть партию Франции за двумя столами. С одной стороны, он намеревался вскрыть предательство Евгения и тем самым навеки вывести его из игры, не передавая принцу Нидерланды, как он того хотел. В этом мне Мелани сам признался. С другой стороны, для Франции было еще более выгодное решение: смерть Иосифа I. Каким образом связаны эти два обстоятельства, мне, честно говоря, было не совсем ясно, но какая разница? Аббат сам учил меня много лет назад: не нужно знать все; важно только понимать значение происходящего. А значение я понял, о да, к сожалению, это так. Со всем опытом, которым я обзавелся рядом с кастратом-интриганом, мне было достаточно сложить два и два. На этот раз мне не нужно было ждать исхода жутких событий, чтобы понять; я разгадал игру Мелани по прошествии менее двадцати четырех часов после того, как мы встретились снова. Ты делаешь успехи, с горькой иронией сказал я себе. Впрочем, следовало допустить, что мои обвинения смутили Атто. Но не стоило обманываться: он всегда притворялся передо мной, даже в самые трагичные моменты. Я видел, как он оплакивал смерть одного из самых близких своих друзей, чтобы позднее обнаружить, что он сам был завязан в этом по самую шею. Мне нельзя было забывать о том, что Атто прибыл в Вену именно в тот день, когда император почувствовал признаки болезни. Точно так же уже было однажды в прошлом: двадцати восемь лет назад Мелани появился в гостинице «Оруженосец» как раз в тот самый день, когда необъяснимым образом умер тот старый постоялец-француз… Злобный кастрат всегда пользовался мной как шахматной фигурой, но я уже не был жалкой белой пешкой, которую сам теперь держал в руках, беззащитной добычей такого хитрого черного слона, как этот подлый аббат. Бедный я, бедный, ставший только благодаря Атто Мелани мастером-трубочистом и владельцем домика с виноградников на Йозефинзель! Если его заговор выплывет на свет божий, я отправлюсь с ним прямо на эшафот. Теперь он поставил на кон мою жизнь и содержание моей семьи, и старый кастрат грозился увести меня за собой в смерть! Вот только он был восьмидесяти пятилетним стариком, и в принципе палач сделает только то, чем вскоре должна заняться сама смерть. А я был в самом расцвете сил и должен был содержать семью! От страха у меня кружилась голова, все тело мое дрожало. Я крепко сжимал в руке черного слона, словно мог таким образом удушить аббата Мелани, раздавить, будто по волшебству изгнать его из моей жизни. Посмотрев на мирно спящего малыша и милое лицо своей жены Клоридии, я проклинал кастрата и его интриги, которые мешали спать моим близким! А обе мои дочери, оставшиеся в Риме и с нетерпением ждавшие, когда можно будет приехать к нам? Какая жалкая судьба ждет их, если придет известие о том, что их отец обвинен в государственной измене, а затем был казнен, словно обычный преступник, или, быть может (тут дрожь становилась невыносимой), колесован и четвертован? Со жгучим раскаянием я признался себе, что сам виновен во всех бедах своей семьи. Каким недостойным супругом и отцом я был! Жалкий, подлый ландскнехт, столь же незначительный, как белая пешка в моей руке, которой от ярости я готов был оторвать голову. О, моя Клоридия, смелая, обворожительная и искусная куртизанка, от вида которой у маленького юного слуги начинали дрожать колени! Какой печальный конец уготован ее бархатному, сверкающему, смуглому цвету лица, представлявшему собой милую противоположность пышным локонам, обрамлявшим ее большие карие глаза, и жемчужным зубкам ротика, округлому гордому носу, пухлым губам с оттенком красного, которого было достаточного для того, чтобы лишить их излишней бледности, и маленькой, но точеной фигурке, со снежнойгрудью, нетронутой и целованной двумя солнцами, плечам, достойным бюста Бернини.[955] Я знал ее, когда она казалась возвышеннее, чем Мадонна Рафаэля, более упоенной, чем сентенции Терезы Авильской,[956] чудеснее, чем стихотворение кавалера Марино,[957] мелодичнее, чем мадригал Монтеверди,[958] сладострастнее, чем двустишие Овидия, и приносящее исцеление скорее, чем целый сонм Фракасторо.[959] Что я сделал с ней? Превратил ее во вдову маятника на виселице! Поначалу я был неплохим супругом, сказал я себе: чтобы соединиться со мной, она отказалась от прибыльного ремесла, заниматься которым ее заставили позорные, тайные обстоятельства. Об этом я узнал, когда мы познакомились в гостинице «Оруженосец». Да, но потом? Мы жили в домике, который купил нам мой тесть, не я, вплоть до последних двух лет мы жили на доходы с нашего маленького поместья, которым мы тоже были обязаны ему. Я тяжело работал на вилле Спада, конечно, но чего это стоило по сравнению со славой исключительной акушерки, ремеслом которой Клоридия занялась к вящему процветанию всей нашей семьи! Каким же ничтожным оборванцем был я, за почти три десятилетия не сумевший обеспечить своей супруге достойную жизнь, я даже не смог уберечь ее от позора бедности и потери унаследованного состояния ее отца! И тем не менее она никогда не щадила себя: она доверяла мне всем своим существом, всегда была верной и нежной, родила мне троих детей, даровав им бытие своим телом и благополучие своей грудью. В конце этих размышлений процесс, на который я сам себя вызвал, завершился приговором. Я снова посмотрел на черного шахматного слона. Нужно было признать: если бы он не появился, черный аббат Мелани, чтобы спасти нас от бедности, мы все еще сидели бы в Риме, голодали, малыш, быть может, уже умер бы, замерз во время очередного похолодания, я умер бы, упав с крыши или камина, либо, хуже того, сгорел бы в дымоходе, охваченный огнем. Кто знает? Хотя Атто, передавая нам свой дар, выполнял обещание, размышлял я, терзаемый противоречивыми чувствами; но если бы я никогда не знал его, разве не потерпел бы я поражения тогда, в голодный 1709 год, когда пришла в упадок семья Спада, мои работодатели? Вена и Рим, Рим и Вена: внезапно перед моим мысленным взором размоталась красная нить всей моей жизни. Двадцать восемь лет назад, когда в Вене решалось будущее Европы, встреча с аббатом Мелани в небольшой гостинице, расположенной в двух шагах от пьяцца Навона, навсегда изменила мою жизнь. Он научил меня тайнам и хитростям политики, государственной интриги, темному faciès[960] человеческого существования. Он вовремя спас, меня от слепого простодушия, на которое я тогда, казалось, был обречен. Научив меня злу в мире, он, наконец, подвел меня к тому (хотя и не собирался делать этого), чтобы искать спасения от этого зла, бросить тщетные юношеские мечты стать газетчиком и вместо этого задуматься о важных вещах: семье, любви к близким, скромном, добродетельном существовании, определенном страхом Божиим. Однако по прошествии некоторого времени он снова использовал меня в своих целях и обманул. Я всегда был его послушным слепым орудием, потому что помогал ему проворачивать махинации в пользу короля Франции. Он получил от меня то, что ему причиталось: поддержку, совет, даже приязнь. Все теперь, казалось, изменилось, причем до полной противоположности. Я уже не был тем простодушным юношей, каким предстал перед ним во время нашей первой встречи, и не тем молодым отцом семейства, которого он встретил, вернувшись в Рим. Я стал зрелым мужчиной сорока восьми лет, закаленным тяготами жизни. В Вене, которая играла столь большую роль во время наших первых приключений почти три десятилетия тому назад, я наконец получил возмещение за все то, что отнял у меня аббат Мелани или что он обещал мне, не задумываясь. О боже, неужели же все это действительно должно кончиться трагически, на виселице?После того как я дал волю отчаянию и гневу, угрызениям совести и душевным страданиям, я стряхнул, словно гусь, выходящий из воды и машущий крыльями, чтобы обсушиться, с себя все воспоминания и снова задумался о настоящем. Недуг, который только что обнаружился у кастрата, казалось, не был притворным: своими собственными глазами (и не в последнюю очередь носом…) я мог убедиться в его достойном жалости состоянии, в которое его повергло известие о болезни августейшего императора. И разве не слышал я, как Атто страстно описывал геройские поступки Иосифа? Да, еще накануне, в тот день, когда мы встретились в кофейне «Голубая Бутылка», разве не описывал он в мрачных тонах позорное падение Франции и неудачу самовлюбленного правления Людовика XIV, чтобы вместо этого хвалить Вену, и Габсбургов, и Небо? Нет, то были, бесспорно, речи не врага Австрии. Если только… Если только он не читал мне все эти лекции нарочно, чтобы обмануть меня и отвлечь от себя подозрения.
Я провалился не в сон, я почти потерял сознание, когда шахматная доска Христо выпала у меня из рук и из двойного дна показалась записка:
ШАХМАТЫ
ШАХМАТ
КОРОЛЬ ПОВЕРЖЕН
Вена: столица и резиденция Императора Понедельник, 13 апреля 1711 День пятый
Уже пробило полночь, когда я побежал к Симонису. Я ворвался в комнату своего подмастерья, прервав его безмятежный сон. – Нам нужно найти твоих товарищей, – сказал я ему, – и как можно скорее. Я заплачу им и прикажу прекратить расследование: это слишком опасно. Я рассказал ему о внезапной болезни императора, о своих подозрениях по поводу того, что его могли отравить (о возможном участии Атто я при этом умолчал), и показал ему записку, написанную почерком Хаджи-Танева. – «Король повержен», – медленно прочел грек, механически или задумчиво, понять я не мог. – Ты понимаешь, Симонис? – спросил я, не зная, с кем говорю в этот миг: с привычным идиотом или со смышленым, проницательным студентом, которого открыл в нем не так давно. – Христо говорил тебе, что ключ к пониманию предложения кроется в словах «soli soli soli», что в свою очередь связано с матом. Благодаря этой записке мы наконец поняли, что имел в виду Христо: слово «шахматы» происходит от слов «шах» и «мат», и это наверняка по-персидски, поскольку сама игра, если я не ошибаюсь, возникла именно в той местности. – И судя по тому, что написал Христо, «шах мат» дословно означает «король повержен», – добавил грек. – Вот именно. Должно быть, Христо во время игры понял, что высказывание аги связано с императором. – Не делаете ли вы слишком скоропалительных выводов? Откуда мы знаем, что «король повержен» действительно относится к. его императорскому величеству? – А к кому же еще? – нетерпеливо воскликнул я. – Ага прибыл в Вену, произнес это странное предложение, его дервишу нужна чья-то голова, и совершенно случайно именно теперь Иосиф I заболевает… – Как вы можете быть так уверены, что его отравили? А если это действительно оспа? – Поверь мне, – только и сказал я. Вообще-то я хотел сказать ему: «Если в деле замешан аббат Мелани, то ничего не происходит просто так, причем обычно кто-нибудь умирает насильственной смертью». – А какая связь может быть между «soli soli soli» и «король повержен»? – Что ж, это еще неясно, – согласился я, – но я уже знаю достаточно, чтобы больше не желать иметь на своей совести смерть еще одного студента. Поэтому я расскажу твоим товарищам, что Клоридия слышала от Кицебера. Я хочу быть уверенным, что они оставят это дело и никто больше не будет им заниматься, даже из чистого любопытства. Симонис задумался. – Ну, хорошо, господин мастер, – наконец сказал он, – мы сделаем так, как вы говорите. Эта история задевает вас. Завтра я пойду к своим друзьям и скажу им, что вы… – Нет, ты найдешь их сейчас. Немедленно. Не зная этого, они каждый миг рискуют кончить так же, как Христо или Данило. Кого мы предупредим первым, сейчас же? – Драгомира Популеску, – после короткого размышления ответил мне мой помощник. – С учетом того, чем он занимается, ночь – его жизнь.* * *
Мы быстро обыскали все места в пригороде, где музицировали или танцевали: св. Ульрих, Нойштифт, Егерцайле, Лихтенталь и Домкапительгрюнде. Симонис поднял с постели Пеничека и заставил его немедленно сопровождать нас с коляской. Благо даря загадочным привилегиям младшекурсника мы выехали через городские ворота, просто заплатив стражникам «обол» как называл это Пеничек. Симонис уже намекал мне, что Популеску ведет очень опасны образ жизни – этой ночью он перечислил мне все его занятия. – Мошенничество в бильярде и с краплеными картами, манипулирование ставками в игре в кости, боччи и так далее. В свободное время он – нелегальный скрипач. – Нелегальный скрипач? Грек пояснил мне, что танцы и музыка в городе императора вовсе не являются само собой разумеющимся и невинным занятием, как кажется. Отец Абрахам а Санта-Клара тоже возмущался в своих проповедях: «Нет ничего нового в том, чтобы искажать хорошие стороны добрых традиций. Особенно же в танцах, когда нередко попирается честь». И действительно, власти на протяжении вот уже десятилетия пытались как можно строже ограничить танцевальные мероприятия. Два года назад городской совет даже просил императора упразднить их. Исключение составляли свадьбы, где скрипачам было позволено играть до девяти-десяти часов вечера. Предписание, однако, не соблюдалось, напротив, возникла сущая танцемания под веселые звуки скрипки, особенно в предместьях. Тем временем мы обыскали уже дюжину трактиров с оркестрами и танцующими, а Популеску ни слуху ни духу. В пивных, продолжал Симонис, когда мы приближались к следующему кабаку, городской совет запретил танцы вообще, поскольку инструменты, на которых играли в подобных заведениях – «волынки, лиры или другие распутные скрипки», – не достойны называться инструментами. Посетители, люди vilioris conditionis, то есть низшие слои населения в перерывах между кружками пива, игрой на скрипке и танцами ведут себя слишком свободно и даже отвратительно распутно. Однако поскольку запретами удалось добиться немногого (даже император требовал большей свободы для трактирщиков, танцоров и музыкантов), на танцы был поднят налог: раз уж что-то нельзя запретить, это нужно обложить налогами, как Учили мудрые австрийцы. Все должны были платить налог, кроме аристократов, при условии, что они давали бесплатные балы и не брали плату за вход. Свадьбы, крестины, церковные праздники и различные праздники городских районов подлежали налогообложению. Владельцы трактиров и подобных им заведений должны были платить пять гульденов в год, заведения, расположенные за городской чертой, за общественные праздники платили тридцать крейцеров за музыканта, во время частных праздников – целый гульден! В результате музицировали и танцевали втайне, а во время проверки признавались в наличии меньшего количества музыкантов, чем было на самом деле. Бюро императорской придворной казны посылало инспекторов для контроля, но хозяева не впускали их, более того, им даже угрожали. Приходилось платить и музыкантам: им нужна была лицензия, чтобы играть. Штраф за музыканта без лицензии составлял пять гульденов. – И вот, это музицирование без бумажки и есть одно из многочисленных занятий нашего Драгомира, – сказал Симонис, за своей болтовней, очевидно, позабыв, насколько срочны наши поиски. Пока мой помощник посвящал меня в тайны ночной жизни Популеску, за спиной у нас осталось уже больше десятка заведений, и по-прежнему ни следа Популеску. В одном из кабаков, где около двух десятков посетителей и небольшой оркестр предавались танцевальным удовольствиям, мы увидели, что хозяин занят разговором с двумя людьми, по виду – чиновниками или секретарями. Посреди разговора хозяин, человек в теле, довольно грубый, внезапно плюнул одному из них в лицо, отвесил пару оплеух, а затем позвал откуда-то несколько крепких молодых ребят, при появлении которых чиновники бросились наутек. – Вот очередная безрезультатная инспекция, – с улыбкой заключил Симонис. Мы уже обыскали все танцевальные заведения в округе, однако Популеску нигде не было. – Странно, – лицо Симониса омрачилось. – Я был уверен, что мы найдем его в одном из этих мест. А потом я увидел, как он хлопнул ладонью себя по лбу. – Где была моя голова! Конечно же! В это время он в «Трех Пауэрах»! Поторапливайся, младшекурсник! – приказал он. – К «Трем Пауэрам» в предместье Нойбау? – переспросил Пеничек. – Да, именно туда, – ответил грек. – Что это такое? – Там играют в боччи. – В такое время? – удивленно спросил я. – Нельзя же играть в боччи ночью! – Вы совершенно правы, господин мастер, но темнота необходима для того, чтобы тайком удлинить дорожку, – искренне ответил мой помощник. – И наш дорогой Драгомир или человек чести, которому он дал поручение, утром идет туда и выигрывает игру, а с ним и его сообщники, зарабатывая обманом деньги. – В мире пари все знают Драгомира, ха-ха! – рассмеялся Пеничек, оборачиваясь к нам, сидя на козлах и направляя коляску к небольшому мосту. – Молчи, младшекурсник! Кто разрешал тебе открывать рот? – набросился на него грек. Подавленный Пеничек снова уставился на темную дорогу. – Но что можно заработать таким образом? – с сомнением в голосе спросил я. – Хотя я видел в садах аристократов дорожки для боччи, однако, если я не ошибаюсь, игра эта считается времяпровождением простых людей. А играть на свадьбах простонародья на скрипке, думаю, тоже особо много не приносит. – В этом-то все и дело. Популеску повышает свои доходы, время от времени донося стражникам, кто без разрешения танцует, музицирует или играет, не платя налоги. – Он продается врагам? – удивился я. – Конечно, только когда не играет сам или не организует пари… – подмигнув, поведал мне Симонис. Поскольку официально игорные заведения были запрещены, пояснил грек, отдельные игры были разделены на легальные и нелегальные. Игры на умение, такие как, к примеру, шахматы, всегда были разрешены, запреты распространяются лишь на те игры, где роль играет случай, и становятся тем строже, чем больше эта роль. – Запреты не имеют ничего общего с моралью, а служат исключительно для того, чтобы разделить общество на слои, – иронично заметил Симонис. – Особо много в игре не выиграешь, так нуворишем не станешь. Одного везения недостаточно, чтобы делать деньги. Важнее заслуги. Или богатство: аристократы, кстати, вообще не платят налоги за игру. Кости часто запрещают, боччи и игра в карты требуют изменяющихся условий. Следить за запретами трудно, поскольку игроки, чтобы избежать контроля, то и дело меняют названия игр и иногда даже правила. Или же разрешенные игры, то есть те, в которые не играют на деньги, превращают в игры со ставками. Список запрещенных игр, таким образом, становится все длиннее и длиннее, и возникло бесконечное соревнование между законодателями и игроками, смеясь, рассказывал Симонис. У меня снова возникло ощущение, что моему помощнику важнее рассказать мне о ночной жизни венцев, чем найти Популеску. Однако, возможно, я ошибался. Как и с танцами, продолжал он, законодатели наконец признали свое поражение и решили тоже зарабатывать, вместо того чтобы запрещать. Около сорока лет назад был введен обширный «налог на развлечения», сборы от которого должны быть использованы на благо городских исправительных домов. – Легче всего обложить налогами боччи, – сказал Симонис. – Драгомиру приходится каждый раз быть начеку: как вы уже видели, хозяева довольно злопамятны. Если они поймают предателя, то да поможет ему Господь. А вот ввести налоги на карточные игры было практически невозможно. – Поэтому в прошлом году была предпринята очередная серьезная попытка обложить налогами все игры. После продолжительной волокиты, продолжал Симонис, были принято следующее решение: десятая часть выигрыша должна течь в государственную казну. Банкир должен купить в главном управлении так называемые управленческие фишки, то есть фишки из слоновой кости, которые он меняет победителю на наличные деньги, после того, как он выплатит десятую часть выигрыша. Деньги перечисляются в кассу, и в течение месяца они возвращаются в главное управление, которое возвращает банкиру половину в качестве премии. Чем больше рассказывал Симонис, тем вдохновеннее казался его рассказы даже напоминали мне статьи в газетах на немецком языке с излишним множеством подробностей. – Неудивительно, что столь сложная процедура потерпела поражение уже через несколько месяцев. «Ведь игра в карты – это не как музыка: в карты можно играть тихо», – улыбаясь, комментировал народ Вены. И снова вернулись к проверенным друзьям венцев – шпионам. – Вот это и приносит прибыль Драгомиру, – сказал мой помощник, – организовывать тайные партии, мошенничество в пари, запрещенные балы или прыжки в Дунай, чтобы затем донести на участников и получить вознаграждение. – Прыжки в Дунай? – Да. Этого вы не можете знать, господин мастер, поскольку прибыли в Вену всего несколько месяцев назад и еще не видели Вену летом… Купание на каникулах вошло в моду в городе императора около десяти лет назад, хотя оно было запрещено еще в прошлом столетии, продолжал Симонис. Каждый день можно видеть, как дети и взрослые обоих полов, совершенно обнаженные, плавают в рукавах Дуная и в Вене, второй реке города. И не только в глухих местах, а посреди города, между домами и вдоль самых оживленных улиц города. В городской суматохе можно в любой миг увидеть человека, который раздевается, оставляет одежду на берегу и радостно прыгает в воду, за ним вскоре следуют другие прохожие, жаждущие освежиться. Столь позорное поведение происходит под визг благородных дам, к возмущению благородных господ и к стыду невинных юношей, вынужденных смотреть на это малопоучительное представление. – Летом Драгомир идет к реке, раздевается, прыгает в воду, кричит: «О, как чудесно!» – и едва ему удается привлечь неизбежное внимание прохожих, как он быстро выходит из воды и бежит предупреждать стражников, за что получает свою плату. – Еще один шпион, как Данило. Нет, хуже, – удивился я. – Полу-Азия… – прошептал мне на ухо Симонис. – У Популеску наверняка мало друзей, с таким-то занятием. – О, как раз напротив: у него море друзей. Это те, кто ничего не знает о его двойной игре: курочки, которых он общиплет. Тем временем мы достигли своей цели в пригороде Нойбау. Мы оставили Пеничека на козлах и пошли ко входу в «Три ПаУэра». Трактир был погружен во мрак. – Закрыто, – заметил я. – Конечно. Занятия, которые устраивает Драгомир, они… неофициальные. Мы перелезем через ворота. То было заведение с красивым садом, в котором были две длинные дорожки для боччи. Нигде не было ни души. Грек нахмурился. – В «Семь Хуторов»! – велел он Пеничеку, когда мы снова сидели в коляске, а затем повернулся ко мне. – Это городское стрельбище у Альса, сразу за западным бастионом. – Найти Популеску, похоже, не так просто, как ты думал, – сказал я. Грек промолчал. И в «Семи Хуторах» не было ни намека на нашего товарища. – Мы поищем его в другом месте, – объявил Симонис, когда мы возвращались к коляске Пеничека. – Мы прочешем все заведения для игры в боччи, в которых он бывает. – Потому что ты уверен, что мы найдем его там? – скептично спросил я. – После снега погода, похоже, снова улучшается. С первыми лучами солнца играть повалит множество венцев. А Драгомир встретит их с распростертыми объятиями… – рассмеялся тот. Грек был прав. Во многих странах игра в боччи в теплое время года была излюбленным времяпрепровождением простого народа, да, она была даже слишком популярна, как жаловался отец Абрахам с кафедры Санта-Клары: – Простые люди бегут летом в сады, Брентен и площадки для игры в кегли, где можно найти ругань и клятвы, а за ними драки и побои. – Сколько площадок для игры в боччи существует в Вене и ее окрестностях? – спросил я, желая составить представление о продолжительности предстоявшей нам поездки. Я устал как собака и уже немного жалел о том, что не захотел ждать до утра, как предлагал мой помощник. – Шестьсот пятьдесят восемь коротких и круглых и сорок три длинных. – Боже мой! И как ты собираешься его найти? – воскликнул я, опасаясь, что грек обезумел. – Не беспокойтесь, господин мастер. Кроме тех двух, где мы уже побывали, есть еще только одна площадка, которую регулярно посещает Популеску. Там мы наверняка найдем его. Однако если вы устали, можем отложить это на завтра. – Нет. Поехали дальше. – Младшекурсник, двигай свой тарантас и поехали в этот золотой… как там он называется? Ах да, «У Золотого Ангела», – приказал Симонис. – В «Золотого Ангела»? Который на востоке, у ворот Штубентор, где высаживают коморцев, штульвейсенбуржцев, нойхойслеров, бруггерцев и альтенбуржцев? – спросил Пеничек, перечисляя список кучеров, которые приезжали из разных городов эрцгерцогства Австрийского, империи и из других мест и, очевидно, заканчивали свое путешествие в Вену в том трактире. – Нет, другой «Золотой Ангел», который на севере, в Веринге. – А, в переулке Альстергассе, да? – Именно он.Мы проинспектировали четырнадцать коротких и одну длинную дорожку «Золотого Ангела», но тщетно: все было погружено в одиночество ночи. – А я готов был поспорить, что он здесь, – возмущался мой помощник, когда мы после короткого визита снова перелезали через изгородь, чтобы вернуться в коляску. – Боже мой, – в отчаянии воскликнул я, – сначала мы нашли мертвым Драгомира, потом Христо! А теперь, сохрани нас Господь… – Минуточку! Может ли быть такое, чтобы я что-то перепутал? – размышлял Симонис, когда мы садились в коляску. – Может быть, место, где постоянно бывает Драгомир, называется «Золотой Луной» или что-то в этом роде?… Младшекурсник, думай, думай! – Может быть, господин шорист имеет в виду «Золотой Лунный Свет» в Видене? – почтительно пробормотал Пеничек. – Да, именно его! – воскликнул мой помощник. Мы заставили несчастную лошадь Пеничека скакать галопом и обследовали еще семнадцать коротких дорожек «Золотого Лунного Света», пятнадцать коротких и одну длинную «Золотого Оленя» на Леопольдинзель за мостом Шлагбрюке, куда прибывали путешественники из Лейпцига и Нюрнберга; затем трактир «У Золотого Быка», где останавливались нюрнбержцы, шлаквальтерцы, планнерцы и нойгаузцы; «Золотого Орла», конечную остановку почтальонов из Шлезии; «Золотой Букет», цель фиакров из Бреслау, а также Нойзер и Инглауер; дом «У Золотого Павлина», постоялый двор поляков; даже «Золотого Ягненка», где останавливались земляки младшекурсника, то есть кучера из Праги, а также неопределенное количество других дорожек с золотыми названиями. Пеничек тоже исчерпал свои знания ямщика, повозив нас по всем известным местам: на юге, в предместьях Вены за Каринтийскими воротами мы посетили трактир «У Золотого Каплуна», куда прибывали дрожки из Венеции, и «Золотой Берн», цель кучеров из Виллаха. Все тщетно: название правильного заведения, очевидно, потерялось в памяти Симониса и просто не желало выходить на поверхность. Сердце у меня словно свинцом налилось, я дрожал от страха за жизнь Популеску. Если его убили, то это будет уже третий труп на моей совести. Я ведь был уверен в том, что Данило Данилович и Христо Хаджи-Танев вынуждены были распроститься с жизнью из-за того, что проводили расследование о Золотом яблоке. Наконец усталость взяла верх над мрачными мыслями. Я закрыл глаза. К счастью, я мог спать во время переезда из одного места в другое. После того как мы обыскали все места, которые пришли на ум Пеничеку, мы поехали в другие гостиницы, где останавливались приезжие путешественники, поскольку чужестранцы всегда были самой легкой добычей для Популеску. Поэтому мы вернулись в Виден, чтобы обследовать «Угольный Крестик», где останавливались кучера из Граца, Марбурга и Нойштадта; затем поехали по тракту в «Черного Козла», место встречи торговцев быками из Венгрии; потом поискали в Россау, предместье, начинавшемся за воротами Шоттентор, где был каретный сарай у самого Пеничека, в «Черный Берн», конечную цель кучеров из Нижней Австрии, из Пассау, Кремса, долины Вахау и других мест; затем в «Белого Ягненка», где останавливались ямщики из Святого Йохана и Грейфенштейна, etc. На последних остановках я даже предоставил поиски одному Симонису, а сам продолжал дремать в коляске. – Ты что, совсем не устал? – спросил я своего помощника, поскольку даже Пеничек мирно посапывал на козлах. – Со мной моя летучая мышь, господин мастер, – ответил он, указывая рукой на небольшую котомку. – Как? Ах да, – вспомнил я о чудесном средстве против усталости, которым мой помощник пользовался еще на церемонии снятия. – Она не задохнется, ты ведь ее не выпускаешь? – Она привыкла. И, кроме того, она сейчас спит. – Ага.
* * *
– Lupus in fabula![961] – воскликнул Драгомир, увидев нас. Я вздохнул с облегчением. В «Золотой Кроне» на Леопольдинзель мы наконец нашли румына. Он препарировал шары и пол дорожки и как раз собирался все убрать. Я хотел сообщить ему об опасности, которой он подвергается, но Популеску опередил меня: у него есть важные известия о Золотом яблоке. Единственная проблема: его информатор не пришел на встречу в указанное время. Драгомир вскочил в коляску Пеничека и потребовал, чтобы мы поехали с ним по адресу, совсем недалеко от того места, где мы находились. – Мы поедем в Дом травли, младшекурсник. И торопись, черт побери! – радостно приказал он, а затем обернулся к нам. – Не беспокойтесь, в прошлый раз я нашел его сразу. Мальчик родом из Румынии, равно как и я, но из бедной местности в горах, не сравнить с моим регионом, – и он поднял ладонь, чтобы показать, что происходит из гораздо более цивилизованных мест. – Существует Румыния такая и такая. Я родился у Черного моря, и я – принц! – О да, конечно, твоя светлость, – заявил Симонис, подмигивая мне и забавляясь высказываниями своего «полуазиатского» сокурсника… – Отец этого мальчика был военнопленным у турок, – продолжал тем временем Популеску, – и знает много османских легенд. Он обещал передать мне кое-какую полезную информацию. – Насколько полезную? – с сомнением переспросил я. – Он утверждает, что знает, откуда взялось Золотое яблоко и куда ушло. – Послушай, Драгомир, – перебил я его, – мне нужно поговорить с тобой. Ты должен прекратить… Однако румын не слышал меня, поскольку мы уже приехали. на место. Популеску выбрался из коляски Пеничека и велел нам с Симонисом подождать его. Мой помощник обратился ко мне и обеспокоенным тоном произнес: – Если позволите, господин мастер… Прежде чем вы поговорите с Драгомиром и скажете ему, что он должен прекратить расследования, было бы, наверное, лучше выслушать то, что скажет нам его информатор по поводу Золотого яблока. Мы ведь почти у цели. Я не хочу рисковать: мой товарищ, если услышит о том, что дервиш планирует кого-то убить, убежит без оглядки. Я немного помолчал. – Ты не совсем прав, – произнес я затем. – В конце концов, нас в данный момент четверо. Не думаю, что Популеску угрожает опасность. Симонис молча смотрел на меня, ожидая моего окончательного решения. – Ну, хорошо, я поговорю с ним после, – сказал я. Симонис промолчал. Казалось, он испытывал облегчение.Была глубокая ночь, а мы все еще находились на Леопольдинзель перед «Табор Шантц». Младшекурсник остановил коляску неподалеку от странного здания, о котором я никогда прежде не слышал: Доме травли. То был высокий деревянный дом с круглым фасадом, из которого, несмотря на столь поздний час, доносился адский гул голосов, наполовину человеческих, наполовину животных. – Что там происходит? – спросил я Симониса. – Вы что, никогда не слышали о питомнике, господин мастер! – Вынужден признать, что нет. Как раз в этот самый миг вернулся Популеску. – Нынче вечером что-то очень много народу. Идемте со мной, вместе мы найдем его быстрее.
Младшекурсник, как обычно, остался ждать нас снаружи. Мы пошли ко входу в дом, где стоял огромный колосс. – Зрители или хозяева? – Ты что, не узнаешь меня, Гельмут? – ответил Популеску. – Я ищу Киприана. Гигант ответил, что видел этого человека около часа назад, но не знает, там ли он еще. А затем пропустил нас. Я вопросительно посмотрел на Симониса. – Скоро вы все поймете, господин мастер. В заведение вел низкий и узкий коридор, выходивший в самое сердце здания. Чем дальше мы продвигались, тем громче становился шум, я уже различал два типа звуков: крики мужчин и пронзительные крики кур. Наконец мы оказались в просторном амфитеатре, освещенном множеством факелов. На первом этаже находились клетки, в которых были заперты дикие животные. Как только поднималась дверь, их выпускали на арену. Рядом с клетками находился вход для зрителей и стояли большие конуры для собак. Вокруг арены, крича и жестикулируя, толпилось множество людей. Шум был почти оглушительным, сюда еще примешивалась одурманивающая вонь от диких животных, пота и мочи. Масса, все без исключения мужчины, состояла из грубых толстых крестьян, а также черни и сомнительного люда. – Добро пожаловать в Дом травли, – сказал Симонис, указывая мне на сцену, находившуюся в центре амфитеатра. Популеску тем временем опрашивал соседей. Мы приблизились к сцене. Группа огромных ребят с манерами драчунов прошла мимо нас и с грубой сердечностью приветствовала Драгомира. В просвете между людьми я наконец увидел сцену, которая притягивала столь пристальное внимание. На арене жестоко расправлялись друг с другом, нанося удары клювами, два крупных петуха, подзадориваемые дикими криками зрителей, стократно усиленными эхом большой пустой комнаты. Как раз в этот миг петух, что был крупнее, крепко схватил второго за шею когтем, прижал его голову к полу и безжалостно принялся колотить клювом. Толпа аплодировала и подзадоривала животных жестами: одного – убивать, второго – умирать. – Ну, Симонис, – вспомнил я о своем вопросе, – так что означает «зрители или хозяева»? – Зрители – это те, кто приходит сюда с целью заключить пари, – сказал Симонис, в то время как я озадаченно наблюдал за жестоким представлением. – А хозяева – это владельцы животных, на которых делаются ставки. К нам приблизился Популеску. – Ничего не поделаешь, я не пойму, здесь ли этот парень. Нужно искать его. Его очень легко узнать, потому что у него только один глаз, второй закрыт повязкой. Ему тринадцать лет, он худой как зубочистка и ростом примерно с меня. Когда Популеску снова удалился, приветствуя знакомых направо и налево, я спросил Симониса: – Чем Популеску здесь занимается? – Наскребает немного грошей, обманывая простаков с помощью мошеннических пари. Дом травли был открыт несколько лет назад двумя голландскими купцами и с тех пор пользуется невероятным успехом. Бои животных очень популярны в Вене на протяжении вот уже более ста лет, и есть много людей, которые благодаря ставкам ухитряются держаться на плаву. Мальчик, которого мы ищем, наверняка один из мошенников, вертящихся в местах, подобных этому, хотя Популеску и не говорит этого открыто. А теперь мы разделимся. Кто первым увидит маленького одноглазого, подаст другим знак. Оставшись один, я огляделся. Вокруг во множестве клеток держали различных животных: не только петухов, но и собак, быков, волов, волков, кабанов и гиен, превращавших это место своим заунывным воем в истинный круг ада. Из расположенных в форме лучей клеток каждое животное могло попасть прямо на место схватки. Было такое ощущение, словно какой-то злой волшебник превратил Ноев ковчег в дорогу смерти. Не обращая внимания на вонь, крик, кровь и стоны, жизнерадостный торговец продавал на входе хлеб, сосиски и дешевое вино из Швехата. Тем временем крупный петух победил соперника, которого вынесли с арены полумертвым. Владелец победителя поднял своего любимца вверх и наслаждался ликованием публики. Я увидел, как из руки в руку переходят золотые и серебряные монеты, а глаза победителя блестят от радости, глаза проигравшего – от ярости. И тут сквозь шум спорщиков я услышал крик: – Вот он! Я поднял взгляд: Популеску показывал мне на фигуру, быстро двигавшуюся через лес ног, рук и грубых лиц. Теперь и я увидел его: бледное изможденное лицо, правый глаз перевязан. Я попытался поймать его, однако мальчик воспользовался тем, что передо мной стоит препятствие в виде группы людей, чтобы увернуться и рвануть к выходу. Все втроем мы бросились за ним, едва не раздирая окружающих, и вскоре оказались на улице. Однако темнота тут же поглотила мальчишку. Массивный Гельмут только и увидел, как его фигурка исчезла. – Проклятье, – прошипел Популеску. Дыхание наше образовывало облачка в ночном морозном воздухе. – Что теперь? – Киприан живет далеко отсюда, в предместьях Вены, – ответил он. – До восхода солнца он домой не попадет. Вероятнее всего, он ищет место, где может спрятаться. Я знаю, что он часто проводит время в заведении неподалеку, там он подрабатывает сутенером. Но он не подозревает, что я знаю об этом, мне сказала одна из его девок. Младшекурсник, проклятье, чего ты еще ждешь? Немедленно двигай свою телегу!
Это заведение выглядело совершенно иначе. Мы находились на благородном Новом рынке. Посреди площади в полутьме виднелся монумент в честь Иосифа I, победителя Ландау. Свет из окон второго и третьего этажей большого роскошного бального зала падал на улицу. Рядом со входом на стене дома был нарисован турок в тюрбане высотой в человеческий рост, в одной руке державший чашку ароматного кофе, а другой приглашая войти – кофейни были очень популярны в Вене. На улице стояли элегантные экипажи, владельцы которых, аристократы или высшие чиновники, как раз развлекались в заведении за очень большие деньги. – Это «Мельгрубе», самое приличное место для ночных развлечений, – сказал Популеску. – Здесь самые лучшие столы для бильярда, самые прожженные картежники, самая лучшая музыка и самые лучшие проститутки города. В это время здесь еще пьют и танцуют, несмотря на запрет. Чем лучше идут дела заведения, тем больше нарушений законов терпят: у них ведь больше денег, чтобы подкупить судей. С верхнего этажа доносились звуки оркестра, который заглушали смех и шум танцующих. Как раз закончилось какое-то произведение с тактом в три четверти, после чего последовал шквал аплодисментов. – Вы слышали? – проворчал Популеску. – Вот уже некоторое время людям не достаточно танцевать лендлер или лангаус. Все чаще они требуют этот странный танец, о котором никто точно не может сказать, откуда он взялся, вальс или как-то так. При этом врачи говорят, что он слишком быстрый и безнравственный, может привести к перегреву и болезни и даже к ранней смерти. Готов спорить, что через пару лет о нем никто и не вспомнит. Популеску отправился на поиски Киприана и на этот pal вернулся с ликующим выражением лица. – Я нашел его. Его берегут для нас. Через небольшую дверь, выходившую на улицу, он повел нас по крошечной лестнице вниз, в подвал заведения. Маленькая комната, полная бочонков с вином и пивом, освещалась слабым светом. Здесь мы обнаружили одноглазого мальчишку сидящим за столом. Его охранял мужчина с большим животом с тупыми, наполовину закрытыми глазами. Этот парень был еще сильнее, чем Гельмут, охранявший вход в Дом травли. Его руки были толщиной с мои лодыжки. – Он помогает мне выбивать платежи из клиентов, – пояснил Популеску и с заговорщической улыбкой указал на находившегося в комнате мужчину, наливая себе в кружку пива из одного из бочонков. Киприан казался скорее разъяренным, чем испуганным и смотрел на нас, словно пойманный в клетку зверь. Он тут же обрушил на Популеску шквал ругани, на которую тот живо ответил ему на том же языке. – Он заявляет, что не хочет говорить и ничего не помнит, – пояснил Популеску и выпил пива. – Сначала он пообещал помочь мне. Теперь вдруг говорит, что эти вещи священны для турок и нельзя задавать слишком много вопросов, иначе Бог может разозлиться и наказать. Но я дал ему понять, что нужно держать свои обещания. Иначе придется вмешаться Клаусу, – и он указал на берсерка за спиной Киприана. – По отношению к своим собственным соотечественникам, – прошептал мне на ухо Симонис, – эти люди из полу-Азии особенно жестоки. Киприан в знак презрения сплюнул на пол. Популеску подал знак Клаусу, после чего великан отвесил Киприану такой удар по левой щеке, что мальчик зашатался на стуле. – Иди к черту! – крикнул он по-немецки. – Не волнуйся, Драгомир, сохраняй спокойствие, – пробормотал Популеску себе под нос. – Клаус, еще раз! – приказал он затем. Теперь последовали три оплеухи тыльной стороной ладони. От первой жертва снова содрогнулась, вторая вывела мальчишку из равновесия, а от третьей он упал со стула. Клаус бил просто, но действенно. Киприан не сдавался. – Вы лучше погуляйте немного, – сказал Популеску. – Нам придется применить более суровые меры. Я потрясенно взглянул на Симониса, который, кивнув головой, посоветовал мне последовать совету Драгомира. Мы сели в углу. Несколько мгновений спустя послышались первые крики, за которыми последовала отрыжка Популеску. Очевидно, он собирался опрокинуть в горло следующую кружку. – Полу-Азия, – покачав головой, сказал грек. – Не думаю, что тут дело в этом, – заметил я. – Ты говоришь так, словно они ссыльные из Вест-Индии. Вот то настоящие дикари. – Эти не лучше, господин мастер. Существует старая шутка из Понтеведро: стоит крестьянин у врат рая и может пожелать что-нибудь, только при условии, что его сосед, который еще жив, получит вдвое больше. «Тогда отнимите у меня один глаз», – со злой улыбкой сказал крестьянин. Видите, так относятся друг к другу эти люди из полу-Азии. Судя по крикам Киприана, можно было предположить, что Популеску велел выколоть ему второй глаз. – Поверьте мне, господин мастер, в тех землях человек живет! еще в естественном состоянии, – горячился грек. – Не обманывайтесь: в дикости стран, подобных Понтеведро, нет ничего райского или идиллического, это состояние глубочайшей темноты, душной, туманной, животной злобы, вечная холодная ночь, в которую не попадает ни луча образования, ни теплого дыхания человеческой любви. Там не царит ни ясный день, ни темная ночь, а только странные сумерки, которым не хватает ни нашей нравственности, ни варварства Турана, а есть только смешение того и другого: полу-Азия! – Пока достаточно, – услышали мы слова Драгомира, обращенные к палачу. Когда мы приблизились, то увидели, что он поставил колено на живот паренька и собирался снова нанести удар. Я был потрясен хладнокровием, с которым Драгомир Популеску, этот на вид невинный студент с двойной жизнью, натравил на бедного юношу берсерка. Было очевидно, что наш спутник не впервые приказывает избить кого-то. Только тот, кто принадлежит к миру преступности, подумал я, может так спокойно применять грубую силу. Мошенники, обманщики, сводники, шпионы и распутники. Симонис был не совсем прав: его товарищи могли называть себя студентами, но на самом деле они были не кем иным, как лишь любовниками высоких искусств и наук. Казалось, сопротивление Киприана сломлено. Мальчик ла жал на полу, с нижней губы его стекала кровь, глаз заметно опух. Он что-то бормотал.. – Громче, – приказал Популеску и вылил пиво ему на голова Киприан молчал. По новому знаку Популеску Клаус как следует ударил его по ребрам. Мальчик захныкал и перевернулся на бок. – Не перегибаешь ли ты палку? – вмешался я. – Ч-ш-ш! – зашипел на меня Популеску. – Итак, Киприан, что ты можешь сказать нам по поводу Золотого яблока? Мои друзья пришли сюда из-за тебя. Киприан снова заговорил на своем языке, на этот раз чуть более громким голосом. Чтобы мы понимали, о чем он бормочет, Драгомир переводил. Время от времени он умолкал и требовал, чтобы мальчик повторил слова, которые из-за опухшей губы получались у него несколько нечетко. – Все говорят о Золотом яблоке, оно является тайной любой власти. Все ищут его, но никто не знает, где оно находится. Однажды шейху Акшемседдину было видение в Константинополе: он узнал место, где похоронен Айууб, знаменосец пророка Мохаммеда, который умер во время победоносной осады города. – Айууб! – понял Популеску и повернулся к нам, выражение лица у него было ликующим. – Это же то имя, которое упоминал Данило перед смертью! Значит, он знаменосец Мохаммеда, о котором мне рассказывала красавица брюнетка из кофейни… Вместе с султаном Мехмедом и тремя мужчинами Акшемседдин три дня копал яму в том месте, которое явилось ему во сне. Наконец на глубине трех локтей они нашли большой зеленый камень, надпись на котором гласила: это могила Абу-Айууба аль-Ансари. Под камнем они обнаружили труп Айууба, завернутый в шафрановую плащаницу. Лицо его было так прекрасно, что казалось, он умер только что. В своей благословенной правой руке он держал мюру. – Что? – перебил Симонис. – Для обычных людей, – пояснил Киприан, – это всего лишь маленький круглый предмет, вроде печатей, которыми пользуются, чтобы выправить бумагу. Однако для того, кто благословен мудростью, она значит бесконечно больше: камень божественного происхождения с магическими свойствами. – Может быть, эта печать и есть Золотое яблоко? – спросил я. – Она образуется в голове змеи королевской крови, – продолжалось бормотание Киприана в переводе Популеску, – и на самом деле это солнечная материя. Ее защищают семь слоев кожи, которые опадают один за другим. Поэтому ее нужно хранить в темном месте и покрывать золотом. Если на нее падет хоть один луч солнца, она улетит в небесные сферы, навстречу родственной ей материи. И это было еще не все. По рассказу несчастного мальчика, который то и дело хватался за больную голову, прежниеимператоры Византии, или Константинополя, как властители мира, носили в короне светящийся камень, взятый из сокровищницы Навуходоносора, основателя Вавилона. А тому этот камень передали святые Три Царя. Чтобы сохранить драгоценность с помощью магии, Навуходоносор велел нанести по всей своей империи множество знаков в форме змеи. – Ибо космический город тоже был окружен змеей, подобием той, которая окружает весь мир, – пояснил Киприан. Он рассказал, что Александр Великий, будучи в поисках источника жизни в стране вечного мрака, увидел на острие копья сверкающий камень. На Западе говорят, что этот камень привел его к вратам земного рая: на Востоке же мудрецы утверждают, что Александр и его визирь Сури попали в Медный город, который построил Соломон. А камень превратился потом в Золото яблоко. – Минуточку, Драгомир, минуточку, я уже ничего не понимаю, – запротестовал я. Я чувствовал себя так, словно на меня обрушилась сильнейшая головная боль. – Я ни слова не изменил в том, что сказал этот зеленый юнец, – принялся оправдываться Популеску, снова наливая себе кружку пива. Мальчик, казалось, оправившийся от побоев, пояснил, что Хюма, райская птица, открыла Соломону источник драгоценного камня, именуемого мюра. – В четвертом небе возвышается гора из золотого песка, на вершине которой расположен величавый дворец. Купол этого дворца состоит из каменных колец всех властителей, правивших миром после Адама. После того как они подчинили себе землю, они подверглись искушению завоевать и небо и захотели стать богами. И тогда пришел к ним ангел смерти и потребовал у них кольца назад. В куполе небесного дворца не хватает только последнего кольца, завершающего купол. Из него образовалась мюра. Мы с Симонисом озадаченно смотрели на него. Рассказ Киприана был довольно запутанным, он противоречил сам себе. – Мне кажется, что мюра – это гранат из статуи Мадонны в соборе Святой Софии, о которой рассказывал нам Коломан, – заметил Симонис. – Но она может быть и золотым шаром, который Сулейман велел поставить на башню собора Святого Стефана, как говорил Ян Яницкий, – добавил Популеску. – Давайте спросим его, как мюра попала к Айуубу, – предложил я. – Она находилась в центре мира. Айууб украл ее, чтобы передать будущему султану и завоевателю, – последовал ответ Киприана. – Центр мира – это, должно быть, Константинополь, – предположил Популеску, – поскольку речь идет о турецкой легенде. – А где мюра теперь? – спросил я. – Этого никто не знает. – А сорок тысяч Касыма? Спроси его, знает ли он что-то о сорока тысячах. Допрашиваемый неохотно пробормотал несколько слов. – Он сказал: сорок тысяч мучеников кричат в пятницу, – перевел Драгомир. – Но это нам и Данило говорил перед смертью, – вставил я. Киприана снова стали допрашивать. – Точнее, они кричат в пятницу вечером. Больше он ничего не знает. Последний ответ граничил почти что с глупостью и поверг нас в совершенное уныние. – Спроси его, говорят ли ему что-либо слова «soli soli soli», – вдруг предложил я. Тем временем Киприан снова сел прямо и вытер кровь с губы. Услышав вопрос, он покачал головой и несколько раз сплюнул на пол. Клаус уже сжал было кулаки и вопросительно взглянул на Драгомира Популеску, однако тот подал ему знак оставить мальчика в покое.
– Я уже ничего не понимаю, – пожаловался Симонис, когда мы покидали подвал и возвращались в коляску Пеничека. – Отдельные обрывки информации вроде стыкуются, но все вместе не имеет никакого смысла. Неясно, является ли Золотое яблоко этой мюрой, или же мюра – это шар из статуи Девы Марии, или Юстиниана, или Константина, или он на вершине собора Святого Стефана. Киприан говорит, что мюра происходит из центра мира или даже от Александра Великого, с четвертого неба или из кольца Соломона. Как бы там ни было, но если этот шар – это солнечная материя, как он называет ее, и хранилась в могиле Айууба, то высказывание аги «мы пришли к Золотому яблоку совершенно одни» вообще теряет какой бы то ни было смысл. – Я тоже не понимаю, – поддержал его Популеску, и голос его звучал так, словно в жилах его течет уже больше пива, чем крови, – но должна быть причина, почему турки говорили нашему принцу в Золотом яблоке. – Я думаю, Драгомиру стоит разузнать об этом Айуубе, знаменосце пророка Мохаммеда. В конце концов, Данило не просто так назвал его имя перед своей смертью, – предложил грек когда мы садились в коляску. – О нет, наш Драгомир с этого момента ничего не должен разузнавать, – возразил я, бросая на помощника сердитый взгляд, и достал деньги, чтобы заплатить Популеску. – И ваши товарищи тоже, потому что… – Хорошо сказано! – воскликнул румын, лицо которого просветлело при виде монет. – Я совершенно с вами согласен. Для начала мы узнали достаточно. Сегодня вечером у меня встреча с моей милой на богослужении на Калвариенберге, деньги будут очень кстати, огромное спасибо! – Будь осторожен, Драгомир, – попытался я объяснить ему, вручая деньги, – тебе следовало бы знать, что… – Я буду осторожен, как рысь! Потому что она утверждаем что еще девушка, – рассмеялся он, – однако с помощью пары трюков я проверю, так ли это. Он был пьян. Не самое идеальное состояние, чтобы слушать то, что следовало сказать ему. Мы помогли ему подняться к нам в коляску. – Так, а теперь послушай меня: дервиш аги… – снова начал я. – Дервиш? Один из этих рычащих волчков в белых юбочках? – усмехнулся он и отрыгнул. – О, это совсем не те юбочки, которые я задеру сегодня вечером! А девица ли еще дервиш, нисколько меня не интересует, ха-ха! А вот своей курочке-брюнетке из кофейни, хо-хо, слушайте внимательно, я дам напиться Sal armoniacum[962] с ключевой водой, и если она не девушка, она обмочится, ха-ха! Кроме того, у меня есть обугленные корни одуванчика, их я поднесу к ее носу: если она не девушка, то снова обмочится! Представьте себе, как неприятно, ха-ха! Я был в отчаянии. К грубому смеху Драгомира вскоре присоединился и мой помощник, который, словно этого было не довольно, приказал смеяться еще и младшекурснику. – Конечно, было бы по-настоящему жаль, если она не девушка… – заявил Драгомир, надувая губы, – но, по крайней мере, я смогу быть уверенным, что она рано или поздно даст себя уложить и не придется долго ее обхаживать! Ха-ха! Коляска остановилась. Мы были у дома Популеску. Прежде чем я успел что-либо сказать, он открыл дверцу и вышел. – Погоди минутку, Драгомир, – крикнул я ему вслед, – есть кое-что, о чем ты должен знать!.. – Тысяча благодарностей, господин мастер! – пьяно рассмеялся тот, несколько раз кланяясь, а затем, взмахнув мешочком с монетами, вошел в дом. – Поезжай дальше, младшекурсник! – приказал Симонис. – Нет, подожди! – запротестовал я. – Но правда, Симонис, я ведь не успел ему почти ничего сказать! – Он слишком много выпил и все равно ничего бы не понял. Если хотите, поговорите с ним вечером. Он ведь сказал, что у него встреча с этой девушкой на Калвариенберге. – Конечно, теперь мне ничего другого не остается, – покорно вздохнул я. – Я совершенно обессилел, а мы не сумели предупредить никого из твоих товарищей. Я спрашиваю себя, не лучше ли было бы сначала отыскать Коломана или Опалинского – вместо Драгомира. – Оба они были дома и спали. – Что-то? – изумился я. – А почему ты посоветовал мне начать с Драгомира? – Было бы невежливо разбудить их обоих. Они ведь не подчиняются мне, как младшекурсник. Я удивленно промолчал. Слишком идиотский ответ даже для полуидиота, подумал я.
5.30: заутреня С этого момента постоянно раздается колокольный звон, возвещающий о мессах, богослужениях и процессиях в течение дня. Открываются трактиры и пивные
Когда мы возвращались в Химмельпфорте, на улицах было ужа гораздо более людно. Лотки с хлебом, трактиры и продавцы сдобы источали тот аромат шоколада, который (подобного ему я не встречал ни в одном другом городе) время от времени щекотал носы прохожим посреди улицы, сада или оживленной аллеи, словно они внезапно повстречались с потусторонними духами. Молочницы, пекари, музыканты и лакеи выходили из домов и пополняли ряды измученных рабочих, в то время как аристократы еще лежали в постелях. Осторожно, стараясь не переехать сонного ремесленника, коляска Пеничека свернула с Кернтнерштрассе на Химмельпфортгассе, и как раз в тот самый миг, когда я увидел перед воротами монастыря свою Клоридию, я внезапно заметил кое-что странное. Я знал, что она тревожилась из-за моего долгого отсутствия, поэтому живо помахал ей, выходя из коляски. Но тут я увидел, как рядом с ней из ниоткуда возникла тень и схватила ее за руку. Клоридия вскрикнула. Воспоминания о том, что произошло в следующие мгновения, сохранились в моей памяти довольно смутно. Тем не менее я попытаюсь точно описать события, разворачивавшиеся молниеносно. Мы находились не далее, чем в двадцати шагах от Химмельпфорте. Симонис выскочил из коляски Пеничека и бросился на помощь моей супруге; я собрался последовать за ним, хотя знал, что ноги мои гораздо короче его. Однако тут лошаденка, которая тащила коляску Пеничека, понесла, поскольку, вероятно, почуяла опасность. Коляска дернулась, я, выпрыгнув из нее, потерял равновесие и упал на землю. Однако тут же поднял глаза и точно разглядел тень, которая напала на Клоридию и теперь отступала: то был человек в капюшоне, приятель дервиша Кицебера, который неоднократно угрожающе смотрел на Клоридию во дворце принца Евгения. Я узнал его по одежде. Симонис почти догнал его, но тот, подгоняемый громкой руганью Клоридии, уже обратился в бегство и слился с серостью надвигающегося дня. Моя жена лежала на земле, до смерти напуганная, и плакала. Симонис упустил драгоценный миг, чтобы удостовериться, что ей не было причинено вреда. Затем, когда я, хромая, приблизился, мой помощник снова бросился в погоню, а я в свою очередь последовал за ним. Человек в капюшоне не должен был уйти от нас. Прохожие недоверчиво взирали на эту охоту на человека в столь ранний час. Из окон кричали: «Держи вора», – хотя он вовсе не был вором, а некоторые еще сонные мужчины даже пытались присоединиться к погоне, впрочем, только для того, чтобы тут же сдаться. Пробежав по всей Химмельпфортгассе, человек в капюшоне сначала выбежал к бастионам, затем повернул налево к Зайлерштетте и исчез в переулке за монастырем августинок святого Иакова. Симонис гнался за ним по пятам, но мне пришел в голову гораздо лучший маневр: я побежал по параллельной улице, Римергассе, которая, в отличие от первой, кривой и неровной, была проложена прямо. Несмотря на небольшую скорость, я достиг перекрестка одновременно с Симонисом и человеком в капюшоне. Поэтому, когда они оба выбежали из переулка, я оказался прямо напротив человека в капюшоне. Сколь же велико было мое удивление, когда я увидел его отвратительное лицо: я знал его, а он знал меня.Он широко открыл глаза, и по его животному лицу пробежала широкая улыбка. Затем он раскрыл объятия, чтобы встретить меня всем своим грязным обличьем, напоминавшим отчасти крота, а отчасти куницу. Но Симонис прыгнул на него сзади, и мы втроем упали на повозку с фруктами и овощами, перевернув ее вместе с хозяином и вызвав лавину из яблок, кочанов капусты и редиса. Словно шарики ртути раскатились они во все стороны по мостовой. Удар в висок заставил мою голову завибрировать в резонанс с деревянным настилом. В то время как крики стоявших вокруг рабочих и причитающего из-за своего товара зеленщика огласили всю улицу, я, хотя и почти потерял сознание, все еще намеревался понять происходящее и увидел над собой лицо человека в капюшоне, которого держали двое крепких прохожих, а он улыбался, оскалив желтые зубы, и смотрел на меня своим беспокойным взглядом. – Я поражен, увидев вашу светлость здесь, в Виндобоне,[963] весьма живым и невредимым. – Угонио? – с трудом воскликнул я, прежде чем лишиться чувств от полученного удара.
Охотник за святыми сокровищами, палач на службе у секты попрошаек, знакомый со всем преступным миром Священного города обманщик – не в первый раз появлялся в моей жизни Угонио. Наша первая встреча двадцать восемь лет тому назад состоялась в Риме, когда я свел знакомство с аббатом Мелани. Угонио был осквернителем святынь, или же охотником за священными реликвиями. Одиннадцать лет назад мы снова столкнулись удивительным образом, и тоже во время пребывания Атто в Риме. Тогда он работал на тайную конгрегацию попрошаек. Не то чтобы между Мелани и им была прямая связь: гнусные делишки аббата просто пересекались с подземным, отвратительным миром, стихией Угонио. – Как глупое моей стороны, я должен был догадаться, – пробормотал я, снова приходя в себя. – Угонио же из Вены. И действительно, осквернитель святынь был родом из столицы империи, и именно поэтому он так плохо владел моим языком. Теперь меня подняли четыре крепкие руки и отнесли в конвент Химмельпфорте. Удар, опрокинувший меня навзничь, был нанесен телегой с овощами. Когда она опрокинулась, то всем своим весом угодила мне в висок. Я услышал, как мои помощники обсуждали происшествие и ругали Угонио. По обе стороны улицы два ряда зрителей наблюдали за тем, как меня несут, а во главе шествия Симонис с группой людей, окруживших осквернителя святынь и грубыми тычками погонявших его вперед Вероятнее всего, они намеревались немедленно заставить Клоридию давать показания, чтобы затем передать Угонио властям Я рассматривал его. Его омерзительная внешность, которую описала мне Клоридия была хорошо мне известна. Его кожа была по-прежнему бледной морщинистой и вялой, глаза – серые и налитые кровью, руки – искореженные, нос – чем-то изъеден, и все это накрывал грязный капюшон. Хотя возраст его определить было трудно, годы не прошли бесследно и для него: Угонио и раньше был отвратителен, теперь же он, кроме всего прочего, еще и постарел. Однако, несмотря на это, сохранил хорошую физическую форму: нам пришлось преследовать его вдвоем, и нам удалось с трудом догнать его. Одиннадцать лет назад осквернитель святынь нажил себе врагов в лице очень влиятельных римских попрошаек, чтобы помочь нам с аббатом, и поэтому был вынужден бежать из Рима, да и из Италии вообще. Я до сих пор помню его лицо со следами запекшейся крови и перевязанную руку, когда он пришел на виллу Спада, чтобы попрощаться со мной и Атто. Тогда он сообщил нам, что вернется сюда, в свой родной город.
Я попросил, чтобы меня поставили на ноги, поскольку уже мог держаться вертикально самостоятельно. Затем позвал Симониса. После того как мой помощник удостоверился, что я нахожусь в нормальном состоянии, я пояснил ему, что знаю пленника. Кроме того, я мог гарантировать, что это запутанное существо не имело никаких дурных намерений по отношению к моей жене. – Вы действительно уверены в этом, господин мастер? – Просто поверь мне. И отошли прочь этих людей. Ты хорошо говоришь по-немецки, объясни им, что была ссора и что теперь все уляжется мирным образом. Я не намерен заявлять на него. – Я на вашем месте сделал бы это… Но хорошо, как скажете, господин мастер. Симонису потребовалось немало усилий, чтобы убедить присутствующих, однако он добился того, что нас оставили одних, и таким образом нам удалось избежать вмешательства городской жандармерии. Теперь предстояло самое сложное: объяснить все моей жене.
* * *
– Он все еще здесь? Почему вы не отвели его сразу в темницу? Мы были в нашей комнате в Химмельпфорте. Клоридия испуганно смотрела на Угонио, крепко обнимая нашего малыша, подобно тому, как поступают наседки со своими цыплятами. – Дело в том, что ты не знаешь его, а он тебя знает, – пояснил я, предлагая присесть Симонису и Угонио. Мой помощник смотрел на осквернителя святынь со смесью удивления, отвращения и недоверия на лице, а когда уселся, то внимательно следил за тем, чтобы расстояние между ними было как можно больше. Время от времени он, не спуская глаз с Угонио, украдкой втягивал воздух через нос, чтобы удостовериться в том, что прогорклый запах, быстро распространившийся по всей комнате, действительно исходит от накидки гостя (а это было и в самом деле так). – Он меня знает? С каких это пор? – раздраженно спросили моя сладкая женушка. Я объяснил ей, кто такой Угонио, что он хотя и мошенник, но в трудную минуту оказался надежным человеком и привел неопровержимые доказательства его верности. Когда одиннадцать лет назад мы с Клоридией работали на вилле Спада, он несколько раз приходил тайком; поэтому он знал Клоридию и знал, что она – моя жена, в то время как она не видела его ни разу. Во дворце принца Евгения он смотрел на нее столь пристально, потому что не был уверен в том, что действительно узнал ее. Наконец удостоверившись в том, что она и правда моя жена, сегодня утром он решил рискнуть приблизиться к ней перед воротами монастыря Химмельпфорте, с тем чтобы объясниться, однако Клоридия отреагировала слишком испуганно. Он попытался удержать ее, и те, кто присутствовали при этой сцене, включая меня, расценили это как нападение. – Понимаю, – сказала Клоридия, пытаясь улыбнуться. – Угонио можно доверять, – повторил я, – если знать, как с ним обращаться. – А почему он занимается торговлей человеческими головами? И почему он украл у принца Евгения монеты Ландау? – спросила моя супруга, и выражение ее лица вновь стало сердитым. – Это он сам нам расскажет, если не хочет, чтобы я заявил на него, что могу сделать с полным правом, – ответил я, бросая на Угонио многозначительный взгляд. Осквернитель святынь вздрогнул. – Во-первых, монеты из Ландау, я думаю, ты украл по привычке, верно? – спросил я. В бесформенной массе черт лица Угонио показались острые желтые зубы. Это было свидетельством удивления, неловкости и детской радости по поводу удачной кражи монет. – Я не противоречу обвинению вашей высокорождености, – ответил он своим неприятным грудным голосом, – однако, чтобы избежать неточностей, чтобы не умножать сомнения, я желаю заверить присутствующую здесь замужнюю даму, супружескую и в браке состоящую супругу вашей светлейшей высокорождености, что нижайший, то есть это присутствующая здесь моя личность, почти никогда, даже за многие столетия, не намеревалась, чтобы с головы ее упал волос. – Что он сказал? – озадаченно спросил Симонис, с трудом следивший за голосовыми витками речи Угонио, поскольку итальянский не был для него родным языком. – Что я монетки утщил, так эт я признаю. Хотя к милоствой госпже я пальцем не тронулся. Ни в жизнь, – быстро перевел осквернитель могил, выросший в стране немецкого языка. – Да, это я понял, – кивнул я. – Ты просто хотел представиться Клоридии, хотя, вероятно, мог воспользоваться более галантными методами. А теперь скажи мне: ты работаешь у аббата Мелани? Казалось, Угонио застали врасплох. – Я полностью и целиком игноризирую, что аббат Мелани отправился в Виндобону, – ответил он, помолчав некоторое время. – Однако дабы быть скорее отцом, чем отцеубийцей, я могу, искренне отрицая истину, доверить, что я не осмысливаю тяжкий труд, который ваша помпезность на меня возлагает. Симонис снова озадаченно поднял глаза. – Мелани, о нем я ничего не знаю, – с ухмылкой перевел ему Угонио. – Ах, нет? – возмутился я. – А почему тогда ты планировал заговор с дервишем, чтобы отрезать голову какому-то невинному человеку? Кто ваша жертва? Кто-то высокопоставленный, очень, слишком высокопоставленный? Тишина в комнате стала свинцовой. Возможно, вскоре мне предстояло узнать, обоснованы ли мои подозрения, касающиеся путешествия аббата Мелани. Угонио замер и долго молчал. Я начал следующую атаку. – Императору плохо. Очень плохо. Говорят, это оспа. Однако я предполагаю, что за этим стоит кое-что особенное. Не случайно недуг его начался с головы, с головы, слышишь? Тебе об этом что-нибудь известно? – угрожающе вопрошал я. Угонио поднялся. Кровь прилила к его серому лицу, оно стало почти что пурпурным (насколько это было возможно с учетом землистого цвета его лица). – Я могу оттолкнуть от вашей эмфазы мою крайнюю нездешнесть. Да, чтобы быть скорее святым, чем мошенником, я клятвопреступаю все свое зеленеющее сердце. Однако должен снова тщательно ударить молотом: я знаю вообще ничего о его императорском величестве и его патогенном неудобстве. В противном случае я не могу выболтать о дервишеце ни единой молекулы, поскольку… – Тут он умолк. Мы с Симонисом переглянулись. На этот раз мой помощник, очевидно, все понял. Лицо Угонио покраснело еще сильнее. Он сглотнул и закончил предложение по-немецки: – …инче он прклянет мня! – Ты ведь не думаешь, что я удовлетворюсь этими россказнями, – строгим тоном ответил я. Лицо осквернителя святынь, казалось, вот-вот лопнет. Он познакомился со мной в Риме, когда я был скромным слугой в третьесортной гостинице. Теперь я был зрелым мужчиной, я знал жизнь и ее суровость. Старый осквернитель святынь, который только что во время преследования доказал, что еще обладает достаточной силой, похоже, не был готов к тому, чтобы его как следует допрашивали. – Голова, о которой ты говорил с Кицебером, – угрожающе повторил я и подошел к нему ближе. – Сейчас ты мне скажешь, кому она принадлежит. Вместо ответа Угонио с воплем ужаса, от которого разрывая лось сердце, вскочил на ноги и попытался броситься к выходу, чтобы бежать. Конечно же, его тут же схватил Симонис. Студент потянул его за пальто, у осквернителя святынь что-то странно зазвенело. По моему знаку грек распахнул его накидку, и мы увидели, что на внутренней стороне находилось кое-что хорошо мне знакомое: огромное железное кольцо, на котором висели дюжины, нет, сотни ключей различных форм и размеров. То был тайный арсенал Угонио, его драгоценная связка ключей. Осквернитель святынь, который в силу рода своей деятельности больше времени проводил под землей, чем над ней, часто вынужден был проходить через подвалы, склады или же запертые на засовы двери. Чтобы решать эту проблему («и чтобы избежать неточностей, чтобы не умножать сомнения», как любил подчеркивать Угонио), он с юности занимался подкупом бесчисленного множества слуг, горничных и конюших. Хорошо понимая, что владельцы вилл и домов ни за какие деньги не позволят взять копию своего ключа, он заключал сделки по обмену со слугами. В качестве платы за дубликаты ключей он всучивал им некоторые из своих драгоценных реликвий. Конечно, Угонио отдавал не самые лучшие экземпляры, но время от времени ему приходилось приносить очень болезненные жертвы, как, например, обломок ключицы святого Петра. Наконец, он дошел до того, что ему принадлежали ключи от подвалов и строений почти всех дворцов Рима. Те немногие замки, от которых у него не было ключа, открывались с помощью других ключей из его коллекции. Однако теперь связка, по сравнению с последним разом, когда я видел Угонио, увеличилась почти вдвое: к римским ключам, очевидно, присоединились ключи от всех подвалов Вены. А было их немало. Как выяснил более трех столетий назад кардинал Пикколомини, подземные комнаты города настолько глубоки и просторны, что под Веной должно быть не меньше зданий, чем над землей. – Если ты немедленно не признаешься, то я отберу у тебя твои драгоценные ключи и выброшу их! – пригрозил я. Угонио захныкал и сказал, что если дело обстоит так, то он может сказать мне об этом немного больше, впрочем не ранее чем завтра. Он скорее согласится окончить свои дни в аду, чем заговорит теперь, а оказаться в страшных императорских казематах, где – как он хорошо знал – его ждали пытки и увечья, было бы гораздо более приятной судьбой, чем та беда, которая ждет его, если он откроет нам свои тайные соглашения с дервишем. Страх Угонио был почти равносилен признанию. Я уже не сомневался: это Атто выследил и нанял его; он был связующим звеном между турецким посольством и аббатом. Осквернителя святынь тот знал вот уже почти тридцать лет, понимая, насколько полезным он может быть, когда речь идет о неких грязных делах. А еще аббат умел самым наилучшим образом пользоваться его услугами, не вызывая подозрений. Неужели жестокий кастрат надеялся, с улыбкой подумал я, что я никогда его не выслежу? – Согласен. Встречаемся завтра утром здесь. Скажем, в девять часов, мне нужно выполнить прочистку неподалеку от Химмельпфорте, после можем встретиться. А это я на всякий случай возьму, – сказал я Угонио и взял его связку ключей. – Верну, когда ты придешь сюда снова. Угонио в отчаянии протянул свои жадные пальцы к связке ключей. Затем повесил голову: если он и лелеял мысль о побеге, то теперь понял, что это возможно только без его драгоценных ключей. – Итак, Угонио, теперь послушай меня. Мы видели, как Кицебер проводил в лесу странные ритуалы, – начал я, бросая на Клоридию, гладившую по голове нашего напутанного сыночка, многозначительный взгляд. Моя жена все поняла и пошла с сыном в крестовый ход, чтобы он не присутствовал при серьезном разговоре. Теперь я продолжил рассказ о таинственном ритуале, за которым мы застали дервиша, и достиг момента, когда Кицебер вынул из кучки своих принадлежностей нож и комок какой-то черной массы. Я сверлил Угонио вопросительным взглядом. Он был очень рассержен и барабанил по столу желтыми, похожими на когти ногтями. А затем произнес: – Я могу снабдить ваше высокомерие несколькими известиями. С дервишцем у меня только деловые связи, и совершенно легитимные исчезновелния. Однако я изнаружил ножик и черный объектат, которые Кицебер применял в лесистой заросли и которые вы привели в своих подкладках. – Значит, ты знаешь, о чем я говорю? – снова воодушевился я. – Знаемо. Я уже заприметил интересность объектатов дервишца. – Да, и что? Ты понял, зачем нужны эти вещи? – Дабы быть скорее отцом, чем отцеубийцей, я могу информировать вас, что после внимательного изучения речь идет о железе для болезненных целей. – Они имеют что-то общее с болезнями? – спросил Симонис. – Слушай, ты дервишец? – раздраженно ответил Угонио, бросая горящий взгляд на связку ключей, которую я все еще держал в руках. – Ага, это медицинские инструменты, – разочарованно пробормотал я. – Я подтверждаю. Конечно же, как я раньше об этом не подумал? Клоридия ведь рассказывала мне, что некоторые дервиши являются и целителями. А то, что мы видели в лесу неподалеку от Места Без Имени, похоже, было мистическим ритуалом, служившим для улучшения его целительских способностей. Я искал в действиях дервиша указание на яд, который должен был убить императора, но теперь я узнал, что дело было совершенно в противоположном: все это творилось в терапевтических целях. Я блуждал в потемках. До сих пор я не нашел доказательства моих подозрений относительно аббата Мелани и османского посольства или же тайного отравления Иосифа I. Но, черт возьми, я должен найти их, я должен сделать хоть что-то, сказал я себе, наблюдая за Угонио. Если Атто Мелани, вражеский агент, будет обнаружен, я окончу свои дни на виселице, вместе с ним. И тайна о голове, в которой – это уже было ясно – содержался ключ ко всему, останется нераскрытой. Однако мне еще предстояло найти возможность вытрясти правду из осквернителя святынь. Я попытался подойти к делу с другой стороны: – Угонио, ты слышал что-нибудь о Золотом яблоке? Он задержал дыхание. Такого вопроса он не ожидал. – Это сложная и страшнейшая история, – произнес он наконец и начал рассказывать. По сообщению Угонио, история началась три года назад. Как мы уже знали, в 1708 году сестра Иосифа Победоносного, Анна Мария, была выдана замуж за короля Португалии, Иоганна V. Несколько месяцев спустя юная королева через своих придворных дам узнала о странном предсказании. Война за испанское наследство, бушевавшая в Европе, могла быть выиграна Австрией только в том случае, если изначальное Золотое яблоко Юстиниана, обеспечивающее владычество над христианским Западом, будет воздвигнуто на самой высокой башне самой священной церкви императорской столицы, то есть на колокольне собора Святого Стефана, причем на месте богохульного шара, который велел поставить на вершине колокольни Сулейман. Однако теперь Золотое яблоко Юстиниана загадочными путями попало в Испанию, а оттуда – в Португалию. Более того, император Фердинанд I приказал поставить на шар Сулеймана священный христианский крест, а подвигло его на это событие, которое назвать ошеломляющим будет мало: едва султан отказался от осады, как среди белого дня в небе показался не кто иной, как архангел Михаил и выцарапал сверкающим острием своего обнаженного меча таинственное послание светящимися буквами на пьедестале, где лежал богохульный шар. – По слухам, как раз архангел Михаил держал в руках державный символ, когда изгонял Люцифера мечом в форме священного креста, – удивился я, вспомнив слова Коломана Супана. – Совршенно точно! – подтвердил Угонио. Осквернитель святынь продолжил свой рассказ. Семь раз опускал архангел свой меч на пьедестал, и семь слов начертал он на нем. Появившиеся под мечом слова видела большая толпа верующих, собравшаяся на площади перед собором Святого Стефана. Все они без тени сомнения свидетельствовали истинность чудесного события, и император тут же послал двух поденщиков на вершину башни, чтобы они точно скопировали то, что начертал там архангел. Оба они были тщательно отобраны из неграмотных, чтобы никто, кроме императора, не был посвящен в тайну. То, что ему потом передали, потрясло его настолько, что он целую ночь молился, распростершись на полу в императорской капелле. На следующий день он приказал немедленно воздвигнуть священный крест Спасителя на кощунственный шар и таким образом превратить его в державный символ архангела. Однако Фердинанд I никому никогда не сказал, что написал архангел. Он унес тайну с собой в могилу. После его смерти предпринимались неоднократные попытки послать кого-нибудь наверх, чтобы прочесть надпись на вершине храма, однако все они были обречены: один упал, другой внезапно был ослеплен вспышкой в небе и тоже упал, etc. Говорили даже, что духовенство соборного капитула однажды отважилось забраться туда в полнолуние, но больше ничего не известно. Говорят, впрочем, что послание архангела завершается однозначным приказом хранить молчание. Эти истории о Золотом яблоке и архангеле Михаиле были переданы сестре Иосифа I, молодой невесте короля Португалии. И вскоре после этого из Лиссабона в путь отправился Летающий корабль, оснащенный тайным двигателем, управляемый загадочной личностью, которую никто не знал. Ему было поручено водрузить Золотое яблоко на место на самой вершине собора Святого Стефана и прочесть таинственное послание архангела. Мы с Симонисом переглянулись: рассказ Угонио совпадал с рассказами студентов. Христо, Популеску, Коломан и их друзья тоже выяснили, что, согласно легенде, Золотое яблоко – это символ (а быть может, и больше) власти над Западом. Они разузнали, что окруженный ореолом тайны предмет имеет отношение к Юстиниану; что он был погребен в Константинополе вместе с Айуубом, знаменосцем пророка Мохаммеда; что позднее он попал в Испанию; и что Сулейман приказал изготовить новое яблоко во время первой осады Вены. И наконец, то, что Фердинанд I велел поставить на шар Сулеймана крест Христа, что вызвало гнев Сулеймана. Важно и то, что я сам прочел в брошюре Фроша: Летающий корабль действительно прибыл в 1709 году из Португалии, ведомый человеком, которого не знал никто, и он, кроме всего прочего, зацепился за острие башни именно собора Святого Стефана. Все эти совпадения не могли быть случайными. Существовало и еще одно ошеломительное совпадение, о котором знал только я: неизвестный летчик, которого в «Виннерише Диариум» представили как бразильского ученого, во всем был похож на то удивительное создание, с которым я встречался одиннадцать лет назад в Риме, во время своего второго приключения с аббатом Мелани, скрипача Альбикастро, который постоянно наигрывал мелодию, именуемую фолией, танец из Португалии. – Давайте подведем итоги, – сказал я. – В то время как в Португалии происходили все эти странные события, принц Евгений принимает агу и тот говорит ему «soli soli soli ad pomum venimus aureum». A твой Кицебер планирует, что голова… – Моментик, пожалуйста. Угонио попросил, чтобы я повторил предложение, которое сказал турецкий посланник Евгению Савойскому. – Это сигнификативная, тенденциальная и истинная фразеология. – Что-что? – переспросил Симонис. – Он говорит, что послание турок совершенно ясно, – перевел я. Нет никакого сомнения, уверенно подтвердил осквернитель святынь: османы тоже предприняли поездку в Вену, чтобы заполучить обратно Золотое яблоко. Только ради этого они прибыли «к Золотому яблоку», как дословно переводилось латинское высказывание аги. – Может быть, – согласился я, – но почему они объявили об этом Евгению? – Это я совсем не знаю, – пожав плечами, ответил Угонио. – А где сейчас Золотое яблоко? – Я выследивал его с крайне тщательной настойчивостью и очень упрямым педантизмом. Некоторые предположивают что управитель кораблем спрятал его на Летучем корабле, прежде чем его бросили в темницу. К сожалению, там я тоже ничего не смог загарпунить. Насмотровщик и его кошачьи пантеры слишком сильно вынюхивают, но я его еще отругаю. – Так где же яблоко? – Дабы быть скорее отцом, чем отцеубийцей, я подожду, пока не смогу выследывать более основательно. А еще я обустрою, чтобы заставить говорить диакона собора: он страстный собиратель сакрантных мелочей. Завтра, быть может, он выдаст предложение арцангелуса в обмен на corpus santus.[964] – Очень хорошо, браво. Подари ему огрызок от яблока, которое съел Адам, – принялся насмехаться над ним Симонис.У нас с помощником не осталось времени на обмен впечатлениями после встречи с осквернителем святынь. Через несколько минут после того, как он ушел, в нашу дверь постучала сама хормейстер. Сначала она осведомилась о последних событиях, поскольку сестры рассказали ей о нападении на Клоридию, о нашем преследовании и, наконец, о суматохе на улице. Я поведал о том, что произошло, при этом умолчав о своих связях с осквернителем святынь. Я сказал ей, что это мелкий грабитель, с которым я познакомился давным-давно в Риме, и решил пощадить его, потому что он – мой земляк. Впрочем, новости, которые принесла нам сама Камилла, были гораздо более важными. – Возблагодарим все Господа, – со вздохом произнесла она. – Императору лучше. Похоже, болезнь протекает благоприятно, врачи считают, что через несколько дней его величество будет не только вне опасности, но и снова здоров. Общественные молитвы, начавшиеся вчера по всему городу, особенно же в соборе Святого Стефана, помогли. Поэтому теперь священные молитвы продлятся еще шесть дней, чтобы Небо прислушалось к мольбам подданных императора. На данный момент начата сорокачасовая молитва, учрежденная несколько лет назад во время опасной болезни эрцгерцога Карла, младшего брата Иосифа, которая при Божественной поддержке окончилась счастливым исходом. Молитву могли читать только мужчины, и длилась она неделю. Нужно было молиться шесть часов в день, каждый цикл (об этом вряд ли стоит напоминать) разделен по слоям общества. В первый день, то есть вчера, в воскресенье, молилась императорская семья, сегодня настала очередь дворянства, затем будут молиться пять слоев общества, конечно, в рабочее время: с восьми до одиннадцати и с пятнадцати до восемнадцати. На седьмой день закончим молитву мы, ремесленники и торговцы. Женщинам на протяжении этих дней предписывалось молиться в церквях с наибольшей страстью. Мы возликовали, услышав эту чудесную новость. Мы с Симонисом обняли несчастную Камиллу, которая так страдала и была готова к долгим бдениям и молитвам. Мы не спали и даже не завтракали, но эта новость пробудила в нас чувства. – Сегодня понедельник, Симонис. – За работу, господин мастер, – ответил мой помощник со своей глуповатой улыбкой, всегда вызывавшей доверие. Конечно, пора приниматься за работу. Но мы оба знали, что на самом деле нами владела тайна Золотого яблока. И ответ на наши вопросы ожидал нас там, за стенами города, в Нойгебау, в месте Без Имени.
7 часов: звонит Турецкий колокол, также именуемый Молитвенным
Улица наконец очистилась от снега. Очень своевременно, подумал я, пришла новость о вероятном выздоровлении несчастного императора. Однако черная паутина из смертей и несчастья, опутавшая нас всех, ни в коей мере не развеялась: во время поездки я снова думал об ужасном конце Христо и Данило Даниловича, о причинах болезни Иосифа Победоносного и о неожиданном известии о том, что Хаджи-Танев был османским подданным. А как понять загадочные намеки бедного болгарского студента о взаимосвязанности «soli soli soli» с шахматным матом? Ночную ссору с аббатом Мелани тоже еще нужно будет уладить, поскольку мои подозрения нисколько не улеглись и рано или поздно мы с Атто снова поговорим, и тогда я, вероятно, лучше пойму его странное поведение. Признаю, на него напал серьезный недуг, когда я обвинил его в том, что он планирует убийство императора. Однако это могло быть и испугом пойманного с поличным виновного, а не несправедливо обвиненного невиновного. Да, возможно, это было искусное притворство, чтобы выпутаться из затруднительного положения и обернуться невинным ягненочком, – разве я недостаточно знал о поразительной изворотливости этого мошенника, лжеца и обманщика? Сегодня в Нойгебау нас ждало не только расследование, касающееся Летающего корабля, но еще и куча работы. Кроме того, я опасался, что мне придется частично отказаться от помощи Симониса, поскольку он должен был присутствовать на церемонии возобновления учебы после пасхальных каникул. – Не волнуйтесь, господин мастер, – успокаивал он меня, – праздник начнется во второй половине дня. – Во второй половине дня? А лекции? – Они начнутся только завтра. В противном случае было бы больше отсутствующих, чем присутствующих. – А почему? – Студенты здесь обычно используют свои каникулы до последнего момента. Они всю ночь, до рассвета, праздновали, ели и пили. Сегодня студенчество Alma Mater Rudolphina преспокойно спит, чтобы проспаться. Поэтому сочли, что будет разумнее перенести церемонию возобновления занятий на вторую половину дня, а лекции начать только со вторника.Мы остановились на виноградниках монастыря Химмельпфорте в Зиммеринге, где обследовали подвал и почистили дымоход, как и обещали хормейстеру. Здание было очень просторным, и мы не смогли устоять перед искушением налить себе немного вина и выпить его в уютной комнате перед камином. На обратном пути мне внезапно пришло в голову, что во время двух моих посещений Места Без Имени я не видел ни малейшего намека на присутствие других рабочих. Да и Фрош, угрюмый сторож Нойгебау, ничего не сказал мне по поводу того, что в замке и его садах находятся другие рабочие или же архитектор. Наоборот, казалось, он совершенно не знает ничего о реставрации, желаемой императором. Предположительно, сказал я себе, архитекторы и столяры тоже решили подождать, пока сойдет снег. Кто знает, может быть, они появятся уже на днях, чтобы приступить к работе. Тем не менее все это показалось мне странным, и я решил спросить об этом у Фроша. После неожиданного снегопада, случившегося на днях, природа, казалось, с опаской возвещала о приходе прекрасного времени года. Все уже таяло, но колючий морозный воздух и мрачный утренний туман разогнали лучи дневного светила и прохладный, кристально-чистый эфир венской весны. На горизонте уже показалось Место Без Имени, когда розовые пальцы зари еще несмело касались его стен. Только-только огненный луч, взмахнув невидимой кистью, окрасил башни в розовые и золотые цвета, заставляя вспыхнуть ослепительной белизной первые участки патины. Едва последняя полоса тумана растаяла на горизонте, как сильные радостные лучи солнца дотронулись до крыш замка, фиал башенок на внешних стенах и верхушек больших шестиугольных башен, на которых сверкали отблески медных черепиц, отбрасываемые в тысячи направлений. Так, остро и мощно, преломленный крышами Места Без Имени, справедливый, благословенный свет солнца проливался на весь Зиммерингер Хайде. Мы удивленно прикрыли глаза руками, чтобы не ослепнуть от этого света. Ибо каждый куст, каждая травинка, каждый камень, казалось, был озарен этим великолепным, почти невыносимым видением. Казалось, замок, объятый пламенем, каждый миг снова возрождается из огня, укутанный в фиолетовую тишь пышно заросшей равнины. Какая злая ирония, подумал я, по этой же дороге мы следовали за мрачным Кицебером, а теперь оказались перед таким великолепием. – Вы только посмотрите! – воскликнул мой малыш, показывая на солнце. Борясь с ослепительным светом, я несколько секунд смотрел на дневное светило. – Оно кроваво-красное, оно опять кроваво-красное! – озадаченно заметил я. Симонис ничего не сказал по поводу этого странного феномена, который повторялся не раз за последние несколько недель и трактовался как признак близкой беды. Снова прикрыв глаза руками, мы поехали медленнее, а разворачивавшееся действо одновременно очаровывало и слепило нас. Поскрипывая, за нами катилась тележка с инструментом, как вдруг издалека до нас донесся знакомый звук. Он слышался из самого замка, словно из реальности, принадлежавшей только Месту Без Имени: мирное начало дня мощно взорвал львиный рык. Сейчас мы въехали через западные ворота, через которые уходили в прошлый раз. Пересекая главный двор перед фасадом замка, я сторожко оглядывался по сторонам, поскольку воспоминания о приключении с Мустафой все еще приводили меня в дрожь. Первая мысль, конечно же, была о Летающем корабле. Однако мы были разочарованы. Придя на площадку для игры в мяч, мы наткнулись на Фроша, который неутомимо носился туда-сюда: он разносил корм в птичьи клетки и время от времени бросал куски мяса в ямы с дикими животными. Воспользовавшись моментом, сторож указал нам на лаз,находившийся в стене одного из рвов: то был небольшой туннель, перекрытый обычной дверью Штольня была остатком подземных ходов, которые в случае необходимости позволяли бежать из Места Без Имени. Ибо пройдя по ним совсем немного, можно было выйти в окрестные поля. Пока Фрош объяснял нам это, мы с Симонисом переглянулись: лучше дождаться более благоприятного момента, чтобы осмотреть корабль. Поэтому мы вынули из повозки инструменты и принялись за работу. Когда появился Фрош, я вспомнил о своем намерении и спросил его, действительно ли мы единственные из ремесленников, кто на сегодняшний день приступил к реставрационным работам в Нойгебау. – Ну, ясн', что вы ед'нственные; кто ж еще за'мется этим? Я ответил, что его императорское величество очень щедро оплачивает эту работу и нет никакой причины столярам, художникам, каменщикам или декораторам отказываться почтить столь великолепный монумент своим трудом. – Да, почтить они хотят, – с ухмылкой ответил Фрош, – вот т'лько боятся. – Чего боятся? Львов? – удивленно спросил я. Фрош громко расхохотался и спросил меня, кто же, ради всего святого, станет бояться несчастного Мустафы, единственного дикого животного, которое время от времени может гулять по территории. Я покраснел от гнева. Меня Мустафа напугал изрядно, когда я столкнулся с ним впервые: его лапы и клыки были созданы поистине не из пуха. Фрош тут же посерьезнел и почти неслышным голосом произнес: – Не-ет, все свеем не так: они боятся пр'видений. Теперь я улыбнулся и скорчил недоверчивую физиономию. Однако Фрош не обратил на это внимания и пояснил мне, что в Нойгебау, как болтают люди, вот уже многие десятилетия показываются странные существа, из-за которых это место кажется негостеприимным и жутким. – Все знают о пр'видениях, – добавил он, – но д'лают вид, б'дто ничего не знают. А если кто спросит, то п'ворчиваются и уход'т. Он ушел поискать пшена для птиц. Из клеток в старых конюшнях доносился радостный щебет крылатых певцов. Теперь я вспомнил, что ни один из моих собратьев по цеху, трубочистов, когда я спрашивал о Месте Без Имени, не предложил проводить меня туда, напротив, все делали вид, что не знают о замке, хотя о его существовании было известно всем в Вене. Другое воспоминание, из далекого прошлого, заставило меня призадуматься еще сильнее. Одиннадцать лет назад, во время Моего последнего приключения с аббатом Мелани в Риме, мне самому на заброшенной вилле, похожей на корабль, являлось бестелесное существо, природу которого я так и не смог объяснить. Сегодня утром я еще подумал об этом, слушая рассказ Угонио: не напоминает ли загадочный, одетый в черные монашеские одежды штурман Летающего корабля из Португалии, о котором я читал в брошюре Фроша, того черного скрипача по имени Альбикастро, который, казалось, летал над зубцами виллы «Корабль» и наигрывал португальскую фолию? Так, из Нойгебау, заброшенного замка, снова пришло неожиданное указание на заброшенную римскую виллу в форме корабля. Но что означает этот намек, это созвучие между двумя строениями, двумя переживаниями, отделенных друг от друга временем и пространством? Тут вернулся Фрош. Конечно, я не мог посвятить его во все свои размышления, поэтому удовлетворился тем, что спросил, не расскажет ли он подробнее о привидениях в Месте Без Имени. Тут вернулся Фрош. Конечно, я не мог посвятить его во все свои размышления, поэтому удовлетворился тем, что спросил, не расскажет ли он подробнее о привидениях в Месте Без Имени. По моей просьбе он рассказал, что сын и наследник Максимилиана II, несчастный император Рудольф, был фанатичным оккультистом. Постоянно окруженный астрологами и алхимиками, он ежегодно тратил огромные суммы на то, чтобы приобретать редкие субстанции, реторты и колбы и вознаграждать сведущих! в волшебстве советников, и все это делалось в попытке (легиону алхимиков это не удалось) создать знаменитый таинственный камень мудрости. Я спросил его, почему он назвал Рудольфа «несчастным». – Усе это знают! – воскликнул он. – Несчастен был тот, потому что отец умер. Может быть, все дело было в тишине, царившей в Зиммерингер Хайде. В любом случае сын Максимилиана избрал Место Без Имени в качестве своей лаборатории и устроил там тайный, очень хорошо оснащенный алхимический кабинет. – Вон тама, в южной части, – сказал Фрош и показал мне вход в круглую башенку, расположенную в восточной части замка, где во время своего первого посещения Места Без Имени я наткнулся на подвешенную к потолку тушу барана. Когда Рудольф проводил свои ночные эксперименты, в единственном круглом окошке его алхимической кухни из окрестностей Зиммерингер Хайде было видно переливающееся всеми цветами пламя над колбами, над которыми наследник Максимилиана размышлял о тайных силах стихий. – Вот это и есть пр'видения, но некторые наз'вают их «ведьмовскими котлами», – с ироничной улыбкой пояснил Фрош, давая понять, что страх, гонящий всех людей от этого места, настолько же велик, насколько мимолетны эти привидения. – Господин мастер, мы с малышом закончили, – перебил нас Симонис, который как следует экипировался и подготовил все инструменты, необходимые для работы. Для малыша у меня было особое задание. Я приказал ему не спускать глаз с Фроша и дать нам знать, как только тот удалится. Мы должны были воспользоваться его отсутствием, чтобы наведаться на Летающий корабль.
По рассказам Фроша, Место Без Имени обзавелось еще одной тайной. Пока мы трудились, разгребая пыль в каминах и дымоходах, чтобы закончить начатую в прошлый раз работу, его слова не шли у меня из головы. Надсмотрщик за львами говорил о смерти Максимилиана и сыне, который ему наследовал, несчастном Рудольфе II. Странно, однако рассказ Симониса, который он вел во время нашего прошлого посещения замка в Зиммеринге, оборвался как раз на смерти Максимилиана: мой помощник внезапно вспомнил, что ворота Вены вскоре закроют, и нам пришлось срочно возвращаться в город. Поэтому я рассказал Симонису о том, что поведал о Максимилиане и его сыне Фрош. Сначала он молчал и продолжал отскабливать куски сажи большим железным шпателем. Затем отложил орудие труда в сторону, и мне показалось, что с лица его вместе с частичками угля и зернами пыли спал тонкий слой кожи. Мой помощник Симонис, безденежный молодой человек с улыбкой слабоумного, невеселый и довольно ленивый студент, снова превратился в того самого знатока истории империи, каким он показал себя несколько дней назад. – Надсмотрщик за львами не солгал вам, господин мастер; жители Вены действительно полагают, что в этом месте водятся привидения. Верно также и то, что Рудольф, сын Максимилиана, был алхимиком, оккультистом, и был очень несчастен. Однако Фрош не пояснил вам почему. Как вы знаете, у этого места нет имени. – Действительно. Поэтому оно и называется Место Без Имени. – Вы также наверняка знаете, что у него есть прозвище Нойгебау, что означает «новое здание». – Да, знаю. – А вам не кажется это странным? Такое впечатляющее место, и два не-имени: «Место Без Имени» и «Новое Здание»? – Я думал, Максимилиан умер, прежде чем успел подобрать окончательное название, – ответил я. – Нет, господин мастер. Есть резиденции, к примеру Шенбрунн, которые получили свое название еще до того, как был заложен первый камень в их фундаменте. Нойгебау никогда не был крещен, его нужно было разгадать. – Разгадать? Студент снова вытер пот со лба и принялся чистить шпатель, который выпал из его руки. Изменчивая история Места Без Имени, пояснил Симонис, была загадкой, разгадка которой должна была открыться по мере продвижения строительных работ. И только по завершении замок и его сады должны были открыть свою истинную природу тем, кто мог это увидеть. Тогда его имя спонтанно сорвалось бы с губ всех, кто разгадал бы символику. И vox populi, вероятно, назвал бы его «Палаткой Сулеймана», или «Гибель турок», или «Месть Максимилиана», или «Триумф Христа», в зависимости от склонностей и остроумия посетителей. Но Максимилиан умер слишком рано. Его жемчужина осталась незавершенной, а потому осталась безымянной, просто зданием, то есть Местом Без Имени. – «Смерть Максимилиана», господин мастер: все, что произошло после, началось здесь.
В 1576 году, в год смерти императора, Нойгебау еще не был готов. В основном не хватало внутренней отделки главного здания: в длинной галерее на первом этаже по планам должен был находиться антиквариум, то есть собрание диковинок, которые должны были удивить весь мир. В нем будут статуи, прицелы орудий, картины, гобелены, монеты, золотые украшения и дорогая посуда, и все это соберет Джакопо Страда, гениальный итальянский антиквар, которого Максимилиан нанял за высокую плату. Он известен потому, что придал блеска и прославил величайшие дворцы Мюнхена. Когда последняя часть будет завершена, Нойгебау сможет предстать перед миром. Но имея за спиной Илзунга и Хага, императору было очень трудно раздобыть деньги. В прошлом году Унгнад вернулся после двухлетнего пребывания в Константинополе, и смотри-ка, турки снова начали атаковать границы империи. Теперь нужно непременно созывать в Регенсбурге рейхстаг, собрание всех имперских князей. Первого июня Максимилиан выезжает из Вены, чтобы председательствовать на собрании. Как и первое заседание, которое он возглавлял десять лет назад, этот имперский сейм имеет решающее значение: князья, будь они католиками или лютеранами, должны прийти к соглашению, в противном случае турки победят. Максимилиан сообщает своим людям, что хочет присутствовать любой ценой, даже если во время этого путешествия ему придется распроститься с жизнью. Пророческие слова. Императорский обоз едет вниз по Дунаю, погода стоит плохая, настроение у императора не лучше. Он признается своим советникам, что он, наверное, никуда бы не поехал, если бы не нашел в себе силы для путешествия сейчас. Он чувствует себя плохо, все слабее и слабее. 25 июня он открывает работу рейхстага, после нескольких вступительных речей сам берет слово. Он производит на слушателей огромное впечатление силой слов, которыми описывает турецкую угрозу, она все ближе и все ужаснее. Нужно прийти к соглашению, чтобы не оказалось сломленным все христианство. Непосредственно после этого начинаются переговоры между князьями-протестантами и католиками, а также папскими легатами. То были долгие, коварные и утомительные дебаты. Максимилиан кажется очень усталым, воздух Регенсбурга не идет ему на пользу, жалуется он, и хочется вернуться в Вену. В конце июля у него неожиданно появляется геморрой. Август проходит без проблем, однако в ночь с 29 на 30 у него обостряется мочекаменная болезнь, сопровождаемая ускоренным сердцебиением, и продолжается эта болезнь аж до 5 сентября. В этот день он с сильными болями выталкивает из себя камень величиной с оливковую косточку. – Впрочем, 5 сентября – это судьбоносная дата для Максимилиана, господин мастер. Если вы помните, я вам рассказывал: именно в этот день десять лет назад умер Сулейман, а Максимилиан не узнал об этом. И в последующие дни он потерпел военное поражение от турок, что навеки разрушило его авторитет. С 5 сентября состояние Максимилиана резко ухудшается. Пульс остается ускоренным, дыхание затруднено, аппетита нет. Приступ сердцебиения продолжается девяносто часов. Всем, кроме врачей и советников императора, занрещено приближаться к дому епископа Регенсбургского, гостем которого является Максимилиан. Запрещен даже колокольный звон. Император стоит на пороге пятидесятилетия, критический возраст, как говорят врачи. В течение следующих дней у него колики, одышка и желудочная слабость. Он плохо спит, и это затрудняет выздоровление. Тем временем вызван его старый лейб-медик, итальянец Джулио Алессандрино, вышедший в отставку по причине пожилого возраста и уехавший в Италию. И в этот же период те, кто ухаживает за Максимилианом, начинают говорить о довольно странной женщине. Она родом из Ульма, и зовут ее Магдалена Штрайхер. – Она была целительницей, говорят одни. Другие, однако, считали ее шарлатанкой, – со строгой ноткой в голосе сказал Симонис. – Поначалу никто не возражал против того, чтобы позволять ей приходить. Быть может, потому, что идея эта принадлежала очень влиятельному человеку: Георгу Илзунгу. – Илзунгу? – озадаченно переспросил я. – Илузнгу? Предателю? Да, повторил Симонис, это он посоветовал нанять шарлатанку. Он уверял, что эта женщина способна разобраться в самых тяжелых случаях, в таких, где официальная медицина вынуждена капитулировать. Князья и придворные сановники старательно кивали головами: да, они уже слышали хорошие отзывы об этой женщине, и некоторые утверждали даже, что она успешно вылечила их. Работа на кухнях была завершена. Симонис поднялся, при этом шпатель опять выскользнул у него из рук и упал прямо мне на правую ногу. Мой помощник извинился, и пока мы собирали инструменты, намереваясь отправиться на осмотр замковых комнат, я снова обратил внимание на то, как неуклюже двигается Симонис и как сильно противоречит его неловкость ясности его рассказов и той легкости, с которой он передвигается ночью. Существует три Симониса, думал я, когда мы направлялись к замку. Первый – это Симонис повседневный: слегка глуповатый студент с идиотским видом, глаза немного скошены, улыбка глупая, движения непроизвольные. Затем появляется второй Симонис: идиотское выражение лица еще остается, однако за полуприкрытыми веками беспрепятственно несется продуктивный поток мыслей (как, например, во время его рассказов о Максимилиане), со множеством поворотов. И наконец, существовал решительный, мужественный, даже жестокий Симонис, который мучил несчастного младшекурсника и возил меня в маленькой коляске Пеничека по ночной Вене, невзирая на смертельную опасность. Впрочем, глуповатое выражение появлялось и на лице последнего, третьего Симониса. Я же сам все еще дрожал при мысли о пуле, которая попала мне в спину в Пратере, и как я чудом спасся, благодаря шахматной доске Христо. А какие воспоминания сохранились у него о тех ужасных опасностях, которым мы подвергались вместе, о последних словах, которые прохрипел Данило, о замерзшем теле несчастного Христо? Ничего этого нельзя было прочесть по его лицу. Может быть, есть еще один Симонис, который притворяется идиотом и словно марионеток дергает за ниточки остальных троих? Этого я сказать не мог. Только однажды, с тех пор как я узнал его, мне показалось, что я на краткий миг увидел четвертого Симониса: вчера ночью, после того как мы попрощались с Популеску. Но поскольку причина такого обмана была мне неведома, я оставил свои подозрения при себе.
Из кухонных помещений, расположенных вне главного здания, мы пошли к замку. Когда мы подошли ближе, нас встретила мрачная атмосфера этих стен, своеобразно контрастировавшая с белым камнем, полными воздуха и света садами и стройными, высокими башенками. Пересекая двор с восточной стороны и оставляя по левую руку maior domus, Симонис продолжал свой рассказ. Едва прибыв в Регенсбург, Магдалена Штрайхер, таинственная целительница, сразу отправилась поговорить с Максимилианом, который, однако, отказался от ее лечения – он по-прежнему ждет своего верного итальянского лейб-медика, Джулио Алессандрино. 14 сентября состояние больного стало внушать надежду. На протяжении последних недель, правда, было допущено слишком много ошибок в его питании: он ел кислые фрукты и пил ледяную воду. Он снова жалуется на нарушение работы сердца, а упорный кашель не оставляет его больше, чем на два часа. Пульс слабый и неровный. Максимилиан не дает аудиенций, однако у него достаточно сил для того, чтобы работать: каждый день он созывает тайный императорский совет и выполняет важнейшие обязанности правителя. 26 сентября наконец прибывает Джулио Алессандрино, на него одна надежда. Но до того как прибыл итальянец, шарлатанке дали полную свободу действий. Она начала давать Максимилиану собственные лекарства. Сразу же по прибытии Джулио Алессандрино берет на себя лечение больного, однако потом по непонятным причинам лечение императора снова передают Штрайхер. Метание между лекарями приводит к губительным последствиям. В начале октября лечением занималась шарлатанка, состояние Максимилиана ухудшилось настолько, что все стали ждать его смерти. Те, кто подходил к его постели, слышали, как он бормочет душераздирающие слова: – О Боже, никто не знает, как сильно я страдаю. Молю Тебя. пусть пробьет мой час. После обеда 6 октября он потерял сознание, на миг все испугались, что он почил. Вместо этого, однако, он снова приходит в себя и его стошнило большим количеством слизи. В течение последующих часов он, вопреки всем ожиданиям, уснул спокойным и долгим сном. Тем временем из Праги вызвали его сына Рудольфа, чтобы он вместо отца присутствовал на заключительном заседании имперского сейма. После благословенного ночного сна с 6 на 7 октября Максимилиан почувствовал себя лучше, благодаря лечению Джулио Алессандрино. Он принимает посольство великого герцога Тосканского и республики Венеция, и они свидетельствуют о том, что ему стало значительно лучше. На протяжении всей аудиенции он говорит громким голосом, только затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение еще напоминают о себе. Кашляет редко. Выздоровление кажется стабильным. Уже планируют перевезти больного 20 октября в Австрию. Однако 10 октября у Максимилиана наступает рецидив, и Илзунг снова призывает шарлатанку. Император испытывает боли в левом боку выше живота; женщина диагностирует плеврит и использует большое количество лекарств, плачевный результат которых скажется уже очень скоро. Наконец прислушались к бывшему лейб-медику Максимилиана, Крато фон Краффтхаиму, которого отстранили от должности не потому, что он был стар и болен, а потому, что был протестантом. – До сих пор было сделано много, – шипит Крато и указывает всем придворным на женщину из Ульма, – однако ничего верного. В час ночи зовут Рудольфа, высших сановников и придворных. Стало ясно, что конец Максимилиана близок. Императрицу, которая на протяжении последних трех дней не отходила от постели супруга, в пять утра разбудила герцогиня Баварская, сестра Максимилиана, сменившая ее возле больного. Та хотела отправиться на мессу, однако в слезах вернулась к супругу, на которого напал очередной приступ сердечной болезни. Императрица падает в обморок, ее уносят. Медику Крато снова позволяют обследовать Максимилиана, он измеряет пульс, но повелитель перебивает его: – Крато, нет уже никакого пульса. Тем не менее старый врач продолжает осмотр и обнаруживает очень слабое, неравномерное биение сердца. Уходя, он сообщает присутствующим: – Здесь заканчивается человеческая помощь. Теперь можем уповать только на Божественную. Шарлатанка же словно сквозь землю провалилась. И никто о ней никогда больше не слышал. Я перебил его: – Ты хочешь сказать, что Штрайхер отравила его по поручению Илзунга? – Не ядом. Чтобы убить больного, достаточно допустить ошибку в лечении, – с улыбкой ответил Симонис. Смерть уже на пороге. Остается важный вопрос: должен ли Максимилиан Загадочный, который так и не смог выбрать между римской церковью и церковью Лютера, умереть как католик или как протестант? – Как бы он ни решил, – пояснил Симонис, – это был смертный приговор христианскому единству, которого он так желал. Родственники, духовники и послы толпятся у постели. Они мучают императора до последнего мгновения, заклинают его принять католическое таинство исповеди или последнее помазание. Он ведь не хочет объявить себя протестантом? Максимилиан противится, все слабее и слабее, и отказывается отвечать. Последним к его постели подвели епископа Нойштадтского. Церковник настаивает, он возбужден, повышает голос. – Не так громко, я очень хорошо слышу, – отвечает умирающий. Однако епископ продолжает неистовствовать, под конец он почти кричит. – Не так громко, – в последний раз повторяет Максимилиан. А потом склоняет голову и испускает последний вздох. Без пятнадцати девять утра 12 октября, в день его именин. – Он был мертв, однако выиграл свою последнюю битву, потому что победил всех тех, кто хотел воспользоваться его концом в своих целях. Максимилиан клеймил позором коррупцию римской церкви, однако к князьям-протестантам, которые поддерживали турок и требовали, чтобы его империя навеки отказалась от католической религии, он тоже не переметнулся. Его враги-лютеране, те, кто выбрал его, а теперь, поддерживаемые Илзунгом и Унгнадом, приблизили его конец, остались ни с чем. – Но почему они решили убить его именно теперь? – Потому что уже не оставалось сомнений в том, что Максимилиан не подчинится их планам. Он отказался отречься от католической веры, и против турок он тоже сражался, сколько мог. Он уже не годился для их целей. Может быть, его преемником манипулировать будет легче. Когда Максимилиан отправился в путь и прибыл в протестантские земли, более удобной возможности для нанесения смертельного удара представиться просто не могло. Тем временем мы начали искать дымоходы на первом этаже. Мы вошли через главный вход, который Фрош открыл специально для нас, и добрались до большого зала высотой в три этажа, от которого наши голоса отражались словно в церковном нефе. Когда-то по этим камням ступали сапоги Максимилиана, здесь он внутренне ликовал, когда колонна наконец вставала на свое место, покрывали штукатуркой стену или наносили поверх нее фреску. Через большое окно на противоположной стороне открывался вид на северные сады. В стенах по правую и левую руку были две двери, ведущие в соседние залы. Все в этой огромной квадратной комнате было голым: стены, пол, потолок. Для этих печальных стен Максимилиан Загадочный хотел больших картин, трофеев, статуй и настенных ковров. – Видите, господин мастер? Здесь ничего нет. Все его желания были раздавлены в когтях заговоров Илзунга, Унгнада и Хата. Когда мы обернулись, то через открытую дверь увидели фиалы шестиугольных башен, возвышавшиеся над стенами, которые отделяли замок от садов. Именно с того места, где мы сейчас стояли, должно быть, смотрел Максимилиан на свой жуткий проект, пока рабочие занимались своими делами. Рассказ продолжался.
Когда Максимилиан лежал при смерти, его юный сын Рудольф держал заключительную речь имперского сейма в ратуше Регенсбурга. Текст был подготовлен поспешно, умирающим отцом, это было последним деянием Максимилиана. На протяжении последних лет ему пришлось наблюдать, как его сын то и дело сдавался соблазнам воспитателей, которых навязали ему его враги. И наследник императорского трона теперь стал слабым существом в руках Илзунга и его сторонников. Вот он стоит перед имперскими князьями и папскими легатами, держа в руках речь отца, и тут к Рудольфу ненадолго обращается посланник. Он шепчет ему на ухо, что Максимилиан почил в бозе. По его лицу ничего нельзя понять, словно это ничего не значащее известие. Затем он продолжает читать, уже с осознанием того, что теперь император – он, и на миг его голос дрогнул. Если сейчас он утратит контроль, он знает это, враждебно настроенные по отношению к его отцу князья поднимут бурю и саботируют его выборы на императорский трон. Заседание протекает спокойно, Рудольф выиграл борьбу со своими чувствами. Однако потрясение того мгновения и ужасные события, ожидающие его, не останутся без последствий. Рудольф просит князей не покидать Регенсбург и созывает их на следующий день. Он должен сообщить о смерти своего отца, до тех пор императорский двор будет хранить молчание. Труп вскроют; внутренние органы будут погребены в медном сосуде в соборе Регенсбурга. В то время как Унгнад преспокойно отбывает в Константинополь, где снова проведет два года, начинается последнее путешествие Максимилиана: самое грустное, самое мучительное, самое мрачное.
На момент его смерти еще не было решено, где должен быть похоронен император. Он выбрал Вену, однако в конце концов остановились на Праге. – Почему же это? – удивился я. – Дважды Максимилиан не пустил великого Сулеймана а вместе с ним и врагов христианства за священные стены Вены. Из мести теперь самого Максимилиана имперские князья решили навсегда изгнать с любимой родины, которую он охранил от попрания Мохаммедом. – Месть даже post mortem?[965] – Ненависть некоторых людей не знает границ. Я вздрогнул, а грек продолжил свой рассказ. Похоронный кортеж, возглавляемый Рудольфом, повезет труп через сотни миль о Регенсбурга в Прагу, по землям империи, где властвовал жгучий мороз. На каждой остановке носилки торжественно встречают местные сановники. Эта похоронная процессия была помпезной и ужасной. Императорская семья, придворные, пажи, лакеи, трубачи, органисты, барабанщики, придворные сановники, повара подавальщики, императорские советники и канцеляристы, даже кучера и моряки, перевозившие обоз, – все они шли с пепельно бледными лицами, обрамленными белыми воротниками, закутанные в темные плащи и черную церковную парчу. Одежду они по спешно покупали на рынках Аугсбурга и Нюрнберга, откуда поставляли также огромные запасы свечей, столовых приборов, одеял, императорских инсигний, знамен, штандартов и лошадей, а кроме того обеспечивали подвоз священников и певчих. Однако уже в момент выступления процессии судьба настроилась к ним враждебно: протестантский городской совет отказался сопровождать процессию при выходе из города и освещать им дорогу. Враг мертв и пусть отправляется к чертям один. Процессия тронулась в путь, гроб погрузили на баржу и спустили в Дунай. Дождь, ветер и снег сделали дороги непроходимыми, затрудняли передвижение, изнуряли лошадей. Процессия движется очень медленно; от города к городу из домов выходят немногие подданные, чтобы оказать последнюю честь этому слишком загадочному императору. Суровой немецкой зимой процессия то и дело сбивается с пути, еле-еле продвигаясь вперед. Посреди бушующей бури, в гробу, холодном, как камень, движимый повозкой со скрипящими колесами, с презрением принимаемой встречающим комитетом, перевозимый то туда, то сюда, словно ничейный узелок, Максимилиан Мудрый теперь – всего лишь тело без любви, без крыши над головой, без мира: он – покойник без родины. Январь 1577 года: три месяца потребовалось эскорту, чтобы прибыть в австрийский Линц. Все надеются, что до Праги удастся добраться уже за восемь дней. Однако снова начинается снежная буря, дорога становится непроходимой. Нужно выбрать другой путь, ночевать в одиноких замках, и процессия сбивается с пути. Когда похоронный кортеж прибывает в Богемию, тех немногих, кто еще выходит встречать его, не хватает даже на то, чтобы нести гроб. Они прибывают в Прагу лишь 6 февраля, спустя четыре месяца после смерти Максимилиана. Однако несчастья на этом не заканчиваются. Castrum doloris, катафалк, строящийся в церкви Святого Вита, еще не готов. Торжество приходится отложить; многие объявляют, что не смогут присутствовать, среди них – оба эрцгерцога из дома Габсбургов. Наконец ритуал погребения проведен. Когда похоронная процессия проходит по улицам Праги, образуется небольшая толпа: в ней можно увидеть папского легата, посла Испании, посла короля Франции, венгерского магната, посланника Фердинанда, эрцгерцога Тирольского, брата Максимилиана, затем – князья империи, посланники из Австрии, Шлезии и Моравии, духовные и светские лица, кроме того, множество кавалеров, епископов, аббатов и иезуитов, прибывших отовсюду в большом количестве. Катафалк, на котором установлен саркофаг, сделан из узловатого дерева цвета тьмы; темно-красный с позолоченным фоном саван, ярко сверкают на нем шесть императорских гербов. За гробом идет Рудольф, лицо его бледно. Он одет в черный плащ до пят, рука нервно сжимает рукоять меча. За ним следуют братья Маттиас и Максимилиан, тоже закутанные в плащи и вооруженные мечами; затем – папский легат в широкополой шляпе, с которой свисают крупные кисточки; руки, согретые расшитыми жемчугом перчатками, несут большую белую свечу. Имперские князья, завершающие похоронную процессию, тоже несут свечи, они отмечают путь светящимися точками. Время от времени кто-то проливает слезу, которую тут же смывает дождь. Кто-то в темной толпе держит на руках Священную корону Австрии, Венгрии и других земель империи; дрожа, сверкают камни, подобные зимней ночи. За проходящими людьми следует другая процессия: лошади. Впереди всех – боевой скакун Максимилиана, покрытый траурной, черной попоной с императорским гербом. Затем – конь империи, украшенный больше остальных, окруженный знаменами и штандартами; наконец, берберы Шлезии, Испании Тироля и Франции. Кажется, все идут с прикрытыми глазами неуверенным шагом и с прижатыми ушами, словно желая внести свой вклад в траур. Похоронная процессия достигает церкви Святого Иакова в ста ром городе Праги, которая находится сразу за ратушей. Катафалк пересекает улицу между двумя магазинами при мастерских, место куда с давних времен стекаются пилигримы, чтобы почтить реликвию тела святого Хризостома. Однако внезапно кто-то, чтобы смутить народ, бросает в горюющую толпу монеты. Задуманное удалось: громко крича, плебс устремляется за монетами, возникает потасовка. Солдаты из эскорта бегут в боковые улочки для усиления головы процессии; драка и звон оружия вызывают тревогу. – Предательство! Предательство! Как в Антверпене! – кричат зрители, наблюдающие за происходящим из окон, с водосточных желобов и карнизов. Они вспоминают резню католиков на протестантской земле. Несущие гроб впадают в панику, катафалк качается, тленные кости Максимилиана вот-вот упадут на землю. Тех, кто устоял, охватывают дурные предчувствия: из-под саркофага выходит огромная отвратительная свинья. Носильщики пытаются прогнать ее факелами, но тщетно; и все бегут в смертельном страхе, убежденные в том, что это явление дьявола, а животное тем временем исчезает так же быстро, как и появилось. Бледный и дрожащий, возле саркофага остался один Рудольф. Все покинули его, молодой человек хочет вынуть из ножен меч, однако один из придворных, вероятно, призрак, взявшийся неизвестно откуда, берет его за руку и мешает ему применить оружие. Оборачиваясь, Рудольф никого не обнаруживает, каждый миг он ждет предательского удара ножом. И только теперь на помощь ему приходят несколько конных лучников. Обезумев, носятся участники похоронной процессии по переулкам, покрытым снегом и грязью. На улицах начинается безостановочная потасовка: безумие грозит поглотить Прагу, всплывает ненависть народа к клиру, всех облаченных в духовные одежды травят, словно собак. Все бегут, и быстрее всех епископы, аббаты и иезуиты. Они прыгают с мостов в ледяную воду реки, прячутся в домах, подвалах; владельцы домов находят их, отвешивают пощечины, гонят прочь пинками. Декан Градчан падает в подвал и ломает себе ногу, на него падают два каноника и два аббата, которых тут же прогоняет хозяйка дома ударами палки. Один находит убежище в кабаке неподалеку, однако его с руганью выгоняют. Во всеобщем безумии все натыкаются друг на друга, падают, кого-то утаскивают прочь, перемазывают грязью и экскрементами лошадей, убивают. – Предатели закрепили свою сеть повсюду, – рассказывал Симонис. – Безумие в тогдашней Праге было ядом, который они влили в тело империи. То была генеральная репетиция случившегося потом. И то был знак проклятия, которое они выпустили на Максимилиана… На улицах Праги духовные лица, будто обезумев, снимали с себя одежду, чтобы бежать быстрее, и полуголыми пытались спастись от протестантов. Приор монастыря нашей дорогой бабушки умирает от удара алебардой в лицо, венского иезуита обнаруживают с проломленным черепом. Ужасно испачканный, в порванной на клочки одежде, епископ Ельмуцкий вбегает в лавку и на коленях умоляет хозяйку не выдавать его, он даже предлагает ей сотню гульденов, но та выгоняет его пинками. Солдат нападает на епископа Венского, крадет у него богатый, украшенный драгоценными камнями и жемчугом посох, до крови избивает его слугу, в то время как епископ бросает на произвол судьбы священное епископское облачение и пускается наутек. Даже архиепископ Пражский, который прежде и ходил-то с трудом, бежит, словно заяц. Проходит более двух часов до воцарения порядка. Беглецы медленно выходят на улицы и вновь образуют небольшую процессию за катафалком Максимилиана. Однако этот эскорт грязен, оборван, дрожит, посерел, словно свинцовое небо над городом. На плечах идущих за гробом уже не покоятся драгоценные столы, на руках уже нет вышитых жемчугом перчаток, расшитые золотом и серебром береты лежат, затоптанные в грязь, или же в карманах шакалов. Духовенство уменьшилось наполовину, певцы исчезли, процессия продвигается вперед в глубоком молчании. Некоторые хромают, большинство испуганно озирается по сторонам; никто не отваживается прокомментировать пережитый только что позор; каждый тщетно вопрошает себя, что вызвало этот ад и почему он закончился так же внезапно, как и начался. Проповедь в церкви Вита в Градчанах длится всего полчаса. После мессы юный Рудольф идет к алтарю, чтобы возложить милостыню, в руках он торжественно держит большую белую свечу. Все взгляды устремлены на него, все ждут ответа. Какой же глубокий след могли оставить в его душе события в Регенсбурге и Праге? Народ, с надеждой глядящий на него, еще не знает об этом, однако пережитый кошмар нанес его душе, уже похищенной врагами его отца, последний удар: отныне он будет Рудольфом Мизантропом, Рудольфом Безумным, Рудольфом Сумасшедшим. – После первых лет правления, – декламировал Симонис, – все поняли, что дух его окутан мраком. Он одержим магией и алхимией, его мучают кошмары и страхи. Со временем Рудольф все чаще закрывался в тайных комнатах для занятий чернокнижием, впал в зависимость от самых низших своих слуг. И это место, Нойгебау, он замарал своими несбыточными фантазиями. – Значит, правда, что в Месте Без Имени был алхимический кабинет? Симонис подтвердил. – Рудольф был безумен, однако, прежде всего, и для императора это беда, он был трагикомической фигурой. В юности он повидал слишком много ужасного. Поэтому предпочитал проводить вечера за тем, что изучал влияние планет, вместо того, чтобы пользоваться своим зрением и обо всем судить самому. Вопреки воле отца Рудольф переносит столицу империи: из милой Вены он переезжает в пропитанную магией, мрачную, дьявольскую Прагу. Здесь случилось позорное происшествие во время погребения Максимилиана, здесь же Рудольфу предстояло потерять рассудок. В августе 1584 года в город приезжают два английских мага: Ян Девус (который называет себя Джоном Ди) и Эдвард Келли. О Девусе, астрологе королевы Елизаветы, ходит слава мудреца. Он говорит с духами, предварительно призвав их с помощью магического зеркала или кварцевого шара, якобы полученного им от архангела Уриила. Трудно сказать, кто он – обманщик или одержимый. Келли называет себя Англичанином (его настоящая фамилия Талбот), и он кажется обычным мошенником: у него изуродованные уши (в Англии так наказывают фальсификаторов), которые он прикрывает длинными сальными волосами. Нос острый, словно вороний клюв, глаза маленькие, точно у мыши, взгляд трусливый и жадный. Оба проводят спиритические сеансы и даже ворожат. С помощью различных хитростей они выуживают деньги из карманов людей: астрологические предсказания, лекарства от болезней, мутные намеки на философский камень. Ходят слухи, что они шпионы и подстрекатели, подосланные королевой Елизаветой, дабы помешать владычеству Габсбургов в этих землях. Возможно, и нет, отвратительная внешность бывает обманчива, возможно, они действительно волшебники. Однако какая разница? Дьявол – англичанин, так говорят. Подобно магнитам Девус и Англичанин притягивают легионы ведьм, чародеев, мастеров черной магии, алхимиков и травников. Прага открывает свое мягкое черное лоно, приветствуя силы тьмы, слабый дух императора распахивает двери, и туда, ликуя, врывается грязный ветер магических искусств. Народ смущен, аристократы опутаны сетями, английская парочка быстро наживается и, наконец, втирается в доверие к Рудольфу. Император тоже одержим астрологией; каждый, кто приходит к нему, должен принести свой собственный гороскоп, и если астрологи выносят отрицательный приговор, то посетителя отправляют прочь. Рудольф тратит невероятные суммы на талисманы, эликсиры, амулеты и чудодейственные средства. Он не делает ни шагу, даже в отношениях с женщинами, если подозревает, что они родились под несчастливой звездой. Все пользуются этой ситуацией и подкупают его советников, чтобы иметь полную свободу действий. Императора может обмануть кто угодно. Сын благочестивого Максимилиана сначала дарит Девусу свое расположение, затем прогоняет его прочь, поскольку папский нунций чует черную магию. У него остается Англичанин, худший из двоих, который проводит время в кутежах, злоупотреблениях властью и попойках и покупает дом рядом с неким доктором Фаустом, экспертом черных искусств (черной магии и книгопечатания). Говорят, что он летал над Прагой на лошади с драконьими крыльями, а затем отправился из своей деревни Кутна Гора (по-немецки Гутенберг) в Германию, чтобы изобрести книгопечатание. Англичанин вспыльчив, он убивает дворянина на дуэли. Рудольф воспользовался этим, чтобы запереть его в башне, поскольку на1 деется посредством сурового содержания под стражей выпытали у него тайну философского камня. Англичанин пытается бежать, падает в крепостной ров и ломает ногу, которую ему заменяют на деревянную. Так из Безухого он превращается в Деревянную Ногу, доверчивые люди полностью возмещают ему убытки. Для Рудольфа он уже не желанен, но он по-прежнему верит, что Англичанин является кладезем неоценимых тайн, а потому любит и ненавидит его одновременно. Снова заточенный в темницу, Англичанин опять пытается бежать, ломает вторую ногу и погибает. В Праге, этом дьявольском городе, целиком и полностью воплотились планы мести Илзунга и его сподвижников: Рудольф стал жертвой галлюцинаций и приступов ярости, повсюду ему чудятся заговоры и покушения, более того, он сам неоднократно ищет смерти. Что еще хуже, его безумие переживет его: его внебрачный сын, кровожадный Дон Юлий, который, будучи одержим охотой, постоянно окружает себя сворами собак – сам настоящий зверь среди зверей, который часто бывал пьян и от которого часто воняло шкурами, ведь он предпочитал дубить лично, перейдет от страсти к охоте к страсти к мучению животных, а затем начнет пытать мужчин и женщин. Во время безумной ночи любви и убийств он убил беззащитных дочерей банщика в одной деревне, где жил в уединении, и изрубил их на куски. Его объявят безумным и запрут. Он умер, а вероятнее всего, был убит в замке Крумау.
Я молчал, потрясенный этой ужасной историей. До сих пор я ловил каждое слово Симониса, теперь же посмотрел на бесконечные сады Места Без Имени. – Как вы наверняка хорошо себе представляете, господин мастер, – заключил Симонис, – вместе с Максимилианом погиб не только дух его сына, но и Нойгебау. С тех пор никто больше не работал в этих садах, на этой вилле, в зверинце. Однако без ухода растения гибнут, стены рушатся, животных больше не покупают. Сколько еще это может продолжаться? Иосиф – первый император, у которого возникло желание спасти это место. Да поможет ему Господь.
Из большого входного зала мы пошли в комнату слева. Здесь тоже были голые стены, огромные окна, открывавшие вид на небо, а высокие потолки, казалось, пытались напомнить посетителям о великолепии Места Без Имени и о его незавершенной прелести, все еще ждавшей избавления. Пока мы осматривали стены в поисках дымоходов, у меня не шла из головы дата: 5 сентября, день, с которого Максимилиан начал приближаться к смерти. По дороге на собрание студентов Коломан Супан рассказывал нам, что именно в этот день, во время великой осады Вены турками в 1683 году, один предатель из города открыл османам, что силы венцев на исходе и они сдадутся. Однако этот день всплывал и в моих воспоминаниях о приключениях с Атто, имевших место двадцать восемь лет назад: 5 сентября 1661 года Николя Фуке, министр финансов Франции и друг Атто Мелани, был арестован, и судьбаего трагически завершилась в Риме, в гостинице, где я в то время работал и познакомился с Атто. День ареста Фуке был также днем рождения «короля-солнце»: величайший и могущественнейший правитель Европы родился 5 сентября. И, наконец, смерть Сулеймана: снова 5 сентября. Эта дата, пятый день девятого месяца в году, казалось, была подобна повторяющемуся судьбоносному бою часов не только в истории Европы, но и в моей собственной жизни. «Король-солнце», император Максимилиан и султан Сулейман, Фуке, Вена, Рим, Париж: мне чудилось, будто эти имена и названия водят хоровод вокруг меня, крошечного ничто в театре человеческих судеб, словно моя судьба таинственным образом связана с ними. Или это были всего лишь выдумки бедного трубочиста?
Закончив работу в левом, а затем и в зеркально отраженном правом зале, мы вышли в большую лоджию, из которой открывался вид на северный сад. В лицо нам тут же ударил холодный, чистый, зимний воздух. Бесконечная панорама Зиммерингер Хайде, окружавших замок просторных полей, городских стен Вены вдалеке, а за ними – зеленые высоты горы Каленберг. Лоджию подпирали циклопические колонны из монолитного камня, дорогая работа искусных камнетесов. Очень высокий свод лоджии над нашими головами казался созданным для того, чтобы принять на себя огромные фрески, которые Максимилиан наверняка представлял себе, быть может, даже проектировал, быть может, даже делал наброски вместе с итальянскими художниками, и которые, однако, так никогда и не были написаны. Из стен выступал горизонтальный ряд искуснейшим образов высеченных из камня бычьих голов. Эти устрашающие, исполненные достоинства животные вызвали у меня какие-то смутные воспоминания. О чем это я вспомнил? А потом понял: это было в Риме, двадцать восемь лет назад, во время моего первого приключения с аббатом Мелани. В подземных ходах Святого города мы наткнулись настранный остров, где находились драгоценные остатки древнеримских времен. Среди них Атто, великолепный знаток античности, узнал тавробола: языческую картину, которую почитали приверженцы культа Митры,[966] с изображением скорпиона и быка. Снова совпадение, подумал я, снова связь между прошлым и настоящим. Место Без Имени не переставая бросало мне под ноги тонкие намеки, похожие на запутанный клубок, чтобы я размотал нить и разгадал загадку. Я вновь обвел взглядом большую лоджию и открывавшуюся отсюда панораму. – Все здесь так грандиозно, – вздохнул я, – невиданный размах. Это как вилла Медичи в Риме, или же как венецианские виллы, и даже… да, Версаль я представляю себе тоже именно таким, – сказал я, указывая на сады и фонтаны, простиравшиеся к северу и югу от замка, перед нами и позади нас. – Не знаю, похоже ли это на Версаль, – ответил Симонис, – но каждый понимает, какой прекрасной жемчужиной мог стать Нойгебау, если бы не был обречен на забвение. В этот миг мы услышали странный звук, доносившийся из западного крыла замка. То было похоже на смесь звучания бучины[967] и раската грома, и я не мог сказать, был ли он механического или человеческого происхождения, доносился ли он снизу или сверху. Я невольно обернулся к Симонису, однако мой помощник прошел вперед, внутрь замка, и ничего не слышал. Из большого зала нас звал малыш. Он искал нас повсюду, поскольку увидел, как Фрош вышел через восточный выход. Очевидно, старый смотритель направился в дом, находившийся на некотором отдалении от замка. Этим моментом нам нужно было воспользоваться.
* * *
Казалось, Летающий корабль терпеливо ждет прихода весны. Он по-прежнему лениво лежал на замерзшей земле. Я взобрался по большому крылу хищной птицы, быстро перелез в переднюю часть корабля, а затем снова спустился. – Нужно искать планомерно, – сказал я Симонису, – я начну с киля, а ты поищешь на борту. Пока Симонис прочесывал внутреннее пространство корабля надо мной, я обследовал корпус начиная с днища. Однако поскольку я устал от работы и беспокоился по поводу того, что Фрош скоро вернется, я начал охоту за Золотым яблоком в прескверном расположении духа. Посольство турецкого аги, непрозрачность позиции Евгения Савойского, продолжение войны, смерть Данило и Христо, прибытие аббата Мелани, дервиш Кицебер, болезнь императора, странные маневры Угонио и сам Летающий корабль – все, казалось, каким-то образом вращается вокруг этого символа, и мы должны были докопаться до сути дела. Если мы не разгадаем эту тайну, все останется окутанным густым туманом и я, вероятно, задохнусь в махинациях аббата Мелани, сам того не заметив. У меня просто не было выбора. Я с трудом скреб покрытыми сажей пальцами ледяное дерево корабля в поисках отверстия, потайного ящика, полки, которые наконец открыли бы моему взору символ власти над Западом. – Если бы мы только могли узнать, где эта проклятая штуковина… – прошептал я себе под нос, не зная, обратиться ли с молитвой ко Всевышнему или же остановиться на проклятиях. В этот миг Летающий корабль вздрогнул. Затем последовала сотрясение, похожее на слабую вибрацию, охватившую чудесное средство передвижения от хвоста до кончика клюва. Пребывая в полнейшей уверенности, что это движения Симониса вызывают колебания, я поднял взгляд. Однако грек в этот момент как раз сидел и ощупывал стулья, проверяя, не отыщется ли у них двойное дно. Если бы это было не бездушное творение, я бы захотел пристально взглянуть в глаза корабля, чтобы проверить, не движутся ли они. А потом все же сделал это: оба погасших деревянных глаза обладали выражением всякого порядочного чучела. Я тоже поднялся на борт. Едва взойдя на корабль, я снова ощутил эту необъяснимую вибрацию. – Господин мастер, вы почувствовали это? – спросил Симонис, когда я подошел к нему. Я не ответил. Мое внимание привлекло нечто другое, нечто необычное. Я выглянул наружу: земля внезапно оказалась… слишком далеко внизу. Если бы я сейчас спрыгнул, то сломал бы себе ногу. Возможно ли это? Вместо неподвижного воздуха вокруг себя я ощущал, как мои щеки овевает ветер Зиммерингер Хайде, словно они сами стали маленькими дрожащими кораблями. Меня обуяла безумная необъяснимая уверенность: под Летающим кораблем находилась жуткая волна, нечто вроде сильного вулкана, извергающего ввысь стрелы, и мы оказались прямо над ним. – Что здесь происходит, Симонис? – наконец обернулся я к нему, смутно подозревая, что нам обоим пришла в голову одна и та же совершенно безрассудная идея. Теперь смешалось все: ощущение бушующего вулкана под ногами; наши щеки, которые, казалось, что-то тащит назад; уносящаяся вниз земля. Мое сердце забилось быстрее, и я вспомнил сон, приснившийся мне несколько дней назад, в котором меня сожрал Мустафа и где случилось именно то, за чем я сейчас беспомощно наблюдал: Летающий корабль поднимался в воздух.* * *
Как объясню я однажды своим внукам те мгновения? Правда, одно ощущение было совершенно отчетливым: казалось, что законы природы решили выполнить наше желание относительно Золотого яблока, и жуткая древняя сила, способная сдвинуть с места весь мир, стала поднимать Летающий корабль все выше и выше, все выше и выше. Мой малыш смотрел на нас снизу, ничего не понимая: возможно ли, чтобы его папа взлетел в небо? – Симонис, я… я уже однажды чувствовал, как дрожит подо мной корабль, когда был здесь в первый раз, убегая от Мустафы, однако не захотел поверить в это! – крикнул я своему помощнику, словно эти слова могли объяснить случившееся чудо. Пока мы взлетали, лоджия Места Без Имени, казалось, провалилась под нами, однако это мы поднимались, и теперь мой малыш смеялся, кричал и плакал одновременно. Несколько раз вскрикнув от ужаса, замолчал Симонис. Я смотрел вниз, оценивая вероятность смерти при падении, которое вскоре ожидало нас, и молился. Но мы не упали. Словно молодая пчела, возжелавшая меда, мы поднимались вверх; мы уже достигли двойной высоты террасы на крыше Нойгебау и полагали, что выше нас ничего уже нет, мы выше холмов, выше гор, быть может, даже выше облаков. Дерево старого судна скрипело под нашими ногами, легко и сухо, будто кости каракатицы, у меня начала кружиться голова, от удивления и страха сдавило горло. Я сложил руки в молитве, ибо Deus Caritasest[968] (об этом Господь в своих чудесах дает нам поистине ошеломляющее представление!); и если Господь на этом самом милосердии создал мир, то древние силы, даровавшие нам в своей освобожденной мощи опьянение полета, возможно, на несколько мгновения решили освободить нас от власти материи, чтобы поучить нас и наконец поднять в своей любящей самоотверженности. – Господин мастер, мы… мы летим! Словно птица, нет, словно ангел, – наконец приглушенным голосом воскликнул Симонис, непрестанно крестясь. В то время как ветер хлестал мои волосы, я поражался виду бесконечного леса Зиммерингер Хайде и тому, как словно на чертеже архитектора вдали появились очертания предместья Виден, Дунай, Леопольдинзель, даже Йозефштадт с его невидимыми жителями. Я ликовал и плакал одновременно от страха и безумия – должно быть, такое же состояние охватывает человека высоко в горах, где воздух слишком разрежен. Между молитвами я бормотал те известные строки из божественного поэта, в которых речь идет о магическом воздушном корабле: я делал это ради Клоридии и наших детей. И, наблюдав за тем, как сады Места Без Имени становятся маленькими, словно грядки, башни сжимаются в детские кубики, большие пруды высыхают и превращаются в жалкие лужицы, а львы Фроша становятся подобны мышам, я молил поэта о защите и негромко декламировал:* * *
В то время как под нами проносились поля, дома и виноградники, я заметил, что дрожу всем телом. Здесь, наверху, температура была такой низкой, словно мы поднялись на гору. Сильные порывы ветра трепали наши рабочие брюки, а с ними и корабль, совершенно не защищавший нас. Время от времени корабль качался и поскрипывал. – Как это возможно, господин мастер? Что держит нас в воздухе? – не переставая, вопрошал Симонис, а я отвечал ему молчаливым удивлением. Затем, когда улеглось безумное волнение первых минут полета, мы заметили странный феномен. Над нашими головами возвышались четыре шатуна, которые я обнаружил во время своего первого визита на Летающий корабль. Драгоценные камни янтаря, висевшие на них, внезапно изменились. Они уже не были безжизненной материей, они вибрировали, словно побуждаемые к этому неведомой силой. Из них доносился негромкий звук, похожий на робкую поэму. Я коснулся одного из камней и сразу же почувствовал, как он задрожал. Через некоторое время это повторилось. Затем я тронул шатун указательным пальцем; он был совершенно неподвижен. Казалось, он проводит невидимую силу, поднимающуюся с кормы Летающего корабля и передающуюся в камни янтаря, которые благодаря сильному импульсу издавали небесную музыку. Не эта ли сила заставляет корабль летать? А если да, то каким образом? Какой возвышенный homo faber и музыкант поработал над этим? Он должен быть более великим, чем знаменитый Леонардо, сильнее Бернини и даже Герона,[969] который был способен открыть двери храма, зажигая огонь совсем в ином месте. Однако неясным было и другое. Как я уже рассказывал, корпус Летающего корабля был сделан не из простых досок с ровной поверхностью, а из отшлифованных трубок. Вместе они образовывали большую связку, концы которой составляли на корме кончик хвоста, а на носу – голову птицы. И вот, эти деревянные трубки, которые во время прошлого обследования Летающего корабля показались мне пустыми и ни к чему не пригодными, теперь, очевидно, были наполнены потоком воздуха, силой, которая так же, как сила янтаря, текла с хвоста нашего летучего транспорта к носу. Содержали ли они воздух или какой другой флюид, понять было нельзя: из трубок доносился только шум, похожий на тот, который бывает, если скрутить в трубочку листок бумаги и дунуть в него. На корме деревянная голова хищной птицы бороздила небо над Веной, подобно истинным пернатым. Над шатунами, где были закреплены камни янтаря, под порывами ветра радостно потрескивал круглый парус, придававший нашему кораблю почти форму шара. Гордо реял на корме флаг королевства Португалия и, казалось, спешил достичь неведомой цели. – Почему? – громким голосом спросил я парусник, ощупывая его старые, немного почерневшие балки. – Почему из всех дней ты выбрал именно этот? Почему с нами на борту? Голова хищной птицы, расположенная на носу, нимало не смутившись, продолжала держаться своего курса. – Может быть, господин мастер, я не знаю… но… – прокричал Симонис в попытке заглушить шум, доносившийся из трубок. – Говори! – приказал я ему, в то время как Летающий корабль описал странную дугу и повернул направо, очевидно, намереваясь отправиться к Дунайской петле. Затем он скорректировал направление, повернув налево; на мгновение мы потеряли равновесие и вынуждены были вцепиться в сиденья. Сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди. – Мне кажется, что корабль поднялся в воздух, чтобы выполнить наше желание! – Честно говоря, я предпочел бы остаться на земле! – крикнул я ему в ответ. Однако я был не совсем искренним: под плащом страха я чувствовал безрассудное воодушевление от того, что стал одним из немногих людей (а кто же были тогда те, другие?), которые когда-либо летали. – Я имею в виду другое желание! – ответил мне Симонис. – Найти Золотое яблоко. Разве не этого мы желали, когда корабль поднялся в воздух? Я промолчал и опустил голову, отчасти из-за сильного ветра, отчасти от стыда, что я разделял столь неразумную мысль с Симонисом, глуповатым студентом – если он им, конечно, был. Также мне показалось, точнее сказать, я почувствовал, что Летающий корабль поднялся в воздух из-за нашего желания найти Золотое яблоко, забрать его и определить его окончательную судьбу. Словно наше желание привело в движение таинственный механизм, древнюю силу, неизвестно где прятавшуюся и ждавшую лишь того, чтобы ее разбудили, впрочем, ради некой определенной цели: ибо разве не было Золотое яблоко, если верить рассказу Угонио, причиной, по которой был создан этот корабль? Разгадать тайну Золотого яблока значило бы, вероятно, найти ответ и на множество других вопросов: исход войны, судьба императора, а значит, и Европы, и всего мира. Может быть, Летающий корабль хочет что-то сказать нам по этому поводу? Я был потрясен. – О, величественный парусник небесного эфира, – тихо, сложив руки, словно в молитве, произнес я, а ледяной ветер тем временем обжигал мой лоб и шею, – не знаю, выберусь ли я живым из твоего чрева. Однако если это случится и ты действительно хочешь того же, что и мы, то используй свою силу правильно и стань для нас ковчегом истины, избавления и справедливости. Сделай так, чтобы Золотое яблоко вывело нас из того лабиринта, в котором мы находимся.Теперь мы летели над Дунайской петлей. Я обнаружил Пратер (и с болью в сердце вспомнилось мне утопленное в снегу бледное лицо Христо) и ряд заиленных островов со смешными названиями, меж которых вилась река: Могильный Камень, Проносс, Охотников Толпа, В Старой Комнате, Долина Табор и, наконец, Мель, находящийся неподалеку от той дороги в Пратер, где мою жизнь спасла болгарская шахматная доска. Мы с Симонисом обращали внимание друг друга на районы и кварталы Вены и, словно склоняясь над планом города, соревновались в том, кто быстрее обнаружит то монастырь Химмельпфорте, то мой дом в Йозефштадте, то стены императорской резиденции, ту или иную часть внешних городских стен, ворота Вены, сады и виллы предместий, огромную равнину гласиса или крошечную деревушку Шпиттельберг. Можно было четко и ясно различить даже далекие ворота Мариахильф в Линейном валу и дорогу на Хитцинг. Стена Линейного вала была видна настолько отчетливо, что ее можно было бы увидеть, наверное, и с большего расстояния, сказал Симонис, быть может, даже с Луны. – О, ковчег избавления и справедливости, – со слезами на глазах произнес я, рассматривая каждый из садов в Лихтентале, виллы Россау и ворота Верингер Тор, – о ковчег истины, если ты заслуживаешь этого имени: какая из моих ничтожных заслуг убедила тебя в том, что нужно избрать для этого чуда именно меня? – По моим щекам бежали теплые слезы, а я улыбался Симонису, и тот тоже плакал и улыбался мне, и даже на его глуповатом лице, с неровно подстриженной челкой и выступающими вперед зубами, отразилось переживаемое им потрясение. Мы готовы были преклонить колена перед божеством воздуха, однако принимали участие только в мистерии. – Господин мастер, а если нас увидят снизу? – Надеюсь, что не увидят, не то мы попадем в темницу, так же как и человек, который привел сюда этот корабль из Португалии. Если нас действительно кто-то увидит, то надо надеяться, что он примет нас за стаю уток или решит, что ему почудилось. – Если нас примут за уток, то станут стрелять. Рагу с утятиной очень популярно в Вене, – с напряженной улыбкой заметил Симонис. А потом воскликнул: – Смотрите, господин мастер, к нам идет облако! Мы невольно закрыли лица руками, словно этот воздушный комок ваты мог причинить нам какой-то вред. Конечно же, ничего не произошло, кроме того, что мы погрузились в невероятную белизну облака. В Риме небо золотое с голубым, словно ляпис-лазурь, слегка выгнутое, и облака всегда находятся очень высоко. В Вене свет и краски эфира выражают простоту, прямолинейность и любовь к благородному: все качества этого народа. Облака движутся обычно очень низко, небосвод имеет оттенок фиолетового с голубым. Теперь корабль немного наклонился и описал широкую дугу влево. – Мы облетаем город, – заключил я. Летающий корабль медленно повернул нос в направлении Места Без Имени.
Короткий обратный перелет к Нойгебау мы проделали в молчании. Когда наш корабль начал спускаться к площадке для игры в мяч, нам было почти жаль, что тайные божества этого парусника решили попрощаться с нами. Все закончилось с величайшим спокойствием и точностью, словно невидимый пилот, управлявший штурвалом рядом с нами, решил завершить день тщательно проделанной работой. Издалека мы видели, как мыши Фроша снова превращаются в тигров и львов, лужи Места Без Имени – в пруды, а замок, перестав быть игрушечным, возвращает себе свои величественные размеры. Без особой помпы, будто это было многократно повторенным действием, Летающий корабль сел посреди площадки для игры в мяч, почти в том же самом месте, с которого поднялся. Корпус лег на землю с легким ударом, словно жизненная энергия корабля внезапно иссякла. Мой малыш увидел, что мы возвращаемся, еще издалека, и едва мы ступили на землю, как он сквозь слезы разразился ликованием. От напряжения у нас дрожали колени, словно после недели поста, и, спрыгивая с корабля, я чуть не упал. Не зная, что сказать, я обнял своего сыночка и произнес, будто возвратился с обычной ежедневной поездки на осле: – А вот и я.
* * *
Фрош еще не вернулся с прогулки. Кто знает, видел ли он, как поднимался в воздух Летающий корабль. Лучше всего было сразу отправиться домой, чтобы он не узнал, что это мы были на борту корабля. – Никто не гарантирует, – сказал я, поторапливая Симониса и малыша как можно скорее покинуть Нойгебау, – что Фрош – не шпион. В этом месте я уже дважды рисковал своей жизнью: первый раз из-за Мустафы, и еще раз – из-за корабля. Мне хотелось бы, по крайней мере, избежать попадания в темницу.За несколько минут мы собрали инструменты и отправились домой, в Химмельпфорте. Я был все еще опьянен полетом и огорошен вопросами малыша, и можно было считать чудом, что, покидая Место Без Имени, снова услышал тот странный звук, издаваемый то ли трубой, то ли барабаном, который прозвучал в большом зале Нойгебау. Однако я был слишком поглощен недавними событиями, чтобы обращать на это особое внимание.
17 часов, конец рабочего дня: мастерские и канцелярии закрываются. Ремесленники, секретари, преподаватели языка, священники, торговцы, лакеи и кучера ужинают (в то время как в Риме как раз приступают к вечернему полднику)
По возвращении в Химмельпфорте оказалось, что Симонису уже слишком поздно идти в университет, чтобы принять участие в празднике по случаю возобновления занятий. – Сегодня вечером все равно состоится еще один, неофициальный праздник, который устраиваем мы, студенты, – сообщил он мне, – и там уж я, если того захочет Господь, присутствовать буду. – Я могу проводить тебя, чтобы поговорить с Популеску и остальными. – Конечно, господин мастер, как пожелаете. Несмотря на волнительные события, я не забыл, что хотел предупредить живых товарищей Симониса об опасности, сопряженной с поисками Золотого яблока, и хотел посоветовать им пока что не продолжать расследование. С Драгомиром я уже пытался поговорить вчера ночью, однако румын был слишком пьян, чтобы понять хоть слово. Поэтому сегодня мы разыщем его снова в надежде на то, что встретим его трезвым, или же найдем по крайней мере Коломана Супана или Яна Яницкого Опалинского. По дороге домой мы не стали говорить о пережитом приключении в присутствии моего мальчика. Затем я попросил своего подмастерья пойти с малышом ужинать. Желудок мой после воздушного путешествия, казалось, словно затянули на узел, и я поспешил к Клоридии. С тех пор как вчера вечером мы узнали о болезни императора, у меня не было времени поговорить с ней. Столько всего случилось: моя вспышка гнева по отношению к Атто, посещение Симониса, блуждания в поисках Популеску, встреча с Угонио, радостное известие о том, что Иосифу I лучше и, наконец, в то время как Клоридия была на работе, мой безумный полет на крылатом португальском паруснике. Теперь я поистине имел право немного побыть с женой и рассказать ей обо всем! Я уже думал о том, чтобы взять ее с собой в Место Без Имени, показать ей Летающий корабль и спросить у нее, никогда не терявшей присутствия духа перед сверхъестественными вещами, совета. Может быть, Клоридия помогла бы мне отыскать объяснение. Наконец-то жена моя будет только для меня, ликовал я. Ибо ее служба во дворце его светлости, принца Евгения, заканчивалась сегодня утром: после повторной аудиенции ага и его свита должны были вернуться во дворец вдовы Лейксенринг на Леопольдинзель. А Савойский на днях намеревался отправиться на фронт, под Гаагу, что в Нидерландах.– Любимая! – воскликнул я, открывая двери. Нет ответа. Я поискал ее в спальне, тщетно. Клоридии не было. Может быть, ее задержали во дворце принца, сказал я себе. Выйдя обратно в крестовый ход и направившись к воротам, чтобы спросить сестру-привратницу, не видела ли она, как приходила Клоридия, я услышал голос: – Уже очень давно я не чувствовал недомогания, не считая слабости в бедрах и ногах. И вот вчера ночью случилось поистине чудо – у меня были сильные колики, продолжавшиеся несколько часов, от которых я оправился только после того, как выпил большой стакан свежей воды с кедровым соком, мое обычное лекарство, его я принимаю вот уже тридцать лет. Пожалуй, нет более неприятной болезни, чем мочекаменная: уролиты и задержка при мочеиспускании. Это такая ужасная боль, что я, если бы она настигла меня в дороге, наверняка умер бы в какой-нибудь гостинице. Особенно же если ее сопровождает необычайно болезненное опорожнение кишечника. То был голос аббата Мелани. Он рассказывал кому-то о своем вчерашнем недомогании, когда я в приступе ярости ворвался в его комнату. Он направлялся прямо ко мне, быть может, он решил немного прогуляться со своим племянником по галерее. Поскольку я не хотел подвергаться опасности быть задержанным им и вовлеченным в его махинации, я спрятался за колонной. – …почему я предположил, – продолжал Атто, – что это несчастье приключилось со мной нынче оттого, что позавчера я выпил две чашки шоколада, который прислала мне из Мадрида мадам Коннетабль. Хормейстер, которой я показал его, сказала, что шоколад этот очень хорошего качества. Однако я, ax, я ведь, к сожалению, слеп, а на вкус ничего особенного не заметил. Я клянусь, что никогда больше не буду таким невнимательным и, пока жив, не стану пить шоколада! Я побледнел. Значит, Атто все еще общается с мадам Коннетабль Колонна! Ее имя было мне очень хорошо знакомо: эта женщина была теткой принца Евгения, сестрой его матери Олимпии Манчини. Мария звали ее, и одиннадцать лет назад она была сообщницей Мелани в интригах, которые привели к тому, что разразилась война за испанское наследство. Странно, что Мелани в разговоре с неизвестным приписал свое вчерашнее недомогание не известию о болезни императора, а – двум чашкам шоколада. Это наверняка не было отговоркой: никому не придется стыдиться, если ему станет дурно из-за печального известия, которое потрясло всю Вену. Однако если это был всего лишь расстройство желудка, то невольное признание своей вины Мелани становилось важным. – Я все еще испытываю сильную головную боль, мне кажется, что мне необходим покой и я не должен так утомляться, как делал это до сегодняшнего дня. Месяц март всегда был для меня роковым, и я допустил неосторожность, отправившись в путешествие именно теперь, особенно же в такое место, где царит холод, в то время как во всем остальном мире уже наступила весна! Под грузом своих восьмидесяти пяти весен Атто проклинал долгую венскую зиму. – Bon,[970] моя дорогая, я очень рад, что вы приняли мое предложение. Лишенный драгоценного зрения, с прикованным из-за жесточайшей простуды к постели Доменико, вы – мое единственное спасение. – Это мне в радость, господин аббат, и я еще раз благодарю вас за щедрое вознаграждение. Я застыл от изумления. То был голос моей жены.
Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы разобраться в ситуации. Племянник Атто заболел, и старый кастрат внезапно оказался беспомощен. Он был на чужбине, инкогнито, более того, во вражеской стране – к кому ему еще обратиться, если не к моей надежной супруге? Кроме того, по счастливой случайности Клоридия как раз завершила свою службу во дворце принца Евгения. Моя супруга, конечно же, с радостью приняла предложение аббата Мелани, поскольку, как я сам слышал, тот собирался расплатиться с ней по-княжески. «Прощай, привычное уединение с женой!» – пробормотал я про себя. Проклятый Мелани! Нам не нужны его деньги, я зарабатывал уже достаточно, даже кое-что оставалось, и мы могли посылать деньги в Рим, нашим цыпочкам. Вот я решил, наконец, провести немного времени с Клоридией, а ее тут же увел старый кастрат. Злость из-за этой неприятной неожиданности еще сильнее подогрела мое недоверие к аббату Мелани. Обиженный, я ушел в трактир, где повстречал Симониса и своего малыша. Я договорился с греком, что зайду за ним после репетиции «Святого Алексия», чтобы затем вместе пойти на послепасхальный студенческий праздник. На обратном пути в конвент мой мальчик срочно попросился помочиться. Детей нельзя заставлять терпеть, поскольку они могут наделать в штаны. Поэтому я счел возможным отпустить его в маленькую темную улочку, перпендикулярную Химмельпфортгассе. Пока малыш облегчался, я услышал следующее: – Ну что, как все прошло? – спросил по-итальянски первый голос, который я узнал сразу же. – Как вы, наверное, догадываетесь, эфенди, это было нелегко, – ответил второй с ярко выраженным иностранным акцентом. – Однако в конце концов у нас получилось. Увидев вашу деньги, они уступили. – И сколько это стоило? – Все, что вы мне дали. – Простите? – Они продали сердце своего господина. Это имеет свою цену, эфенди. Говоривший был одет по-армянски, в классическом тюрбане и плаще. А его собеседником был Атто Мелани. Клоридии с ним не было. Аббат стоял, опираясь на палку, в нише дома на темной улице. Я видел, как он взял из рук армянина небольшой ящик, открыл и тщательно ощупал его содержимое. Затем Атто передал ему мешочек. – Вот твоя награда. Прощай! – сказал он и поспешно пошел по направлению к монастырю. – Благослови вас Бог, эфенди, – ответил второй, непрестанно кланяясь аббатовой спине, впрочем, предварительно проверив мешочек. Атто медленно шел к монастырю, держась вплотную к стенам и стуча перед собой палкой. А он смел, этот аббат Мелани, подумал я, слепой отважился выйти вечером на улицу, должно быть, сделка с тем армянином была очень важной! Сердце господина: не нужно было быть гением, чтобы понять, что было предметом темной сделки и кому принадлежало это сердце! Достаточно было сложить два и два. Атто Мелани не только прибыл в Вену почти одновременно с загадочным турецким посольством, тогда, когда заболел император. Теперь я его застал за тайной встречей с армянином, то есть подданным Блистательной Порты! Ничего не стоило предположить, что он был из числа свиты аги, может быть, охранник этого дервиша Кицебера, который охотился за головой императора. Чудесные метафоры у этих восточных людей для своих чудовищных поступков! Если убрать прочь поэтические арабески, то намерения предельно ясны: его императорское величество должны были убрать с дороги. Этот сумасшедший кастрат, возмущался я, приведет меня на виселицу! И слабоумного Угонио в придачу. Мне нужно было немедленно пойти к Клоридии и рассказать ей о том, что я только что слышал. Она должна была отказаться от своей новой работы на аббата.
Придя домой, я увидел, что моя жена возвратилась прежде нас с сыном. – Ну что ж! – приветствовал нас Оллендорф, когда я открыл дверь дома. Этим вечером был назначен урок немецкого языка, и Клоридия уже начала заниматься. При виде нас ее лицо озарила улыбка. Она попросила Оллендорфа продолжать занятие с нашим малышом и повела меня в соседнюю комнату. – Если б ты только знал, какие у меня новости! – сияя, воскликнула она, закрывая за собой дверь. Она подробно рассказала мне о своей новой работе у аббата Мелани. – Ты только представь себе, таким образом мы сможем чаще бывать вместе! Я с трудом улыбнулся. Внезапно все мое мужество улетучилось. Бедная Клоридия! Каждый раз, когда в моей жизни появлялся Мелани, из-за его проделок и махинаций я совершенно забывал о жене. Теперь же, когда ее услуги были нужны аббату, я должен был просить ее держаться от него подальше. Однако при мысли о том, что мне придется выносить общество старого шпиона, если я захочу побыть с женой, мне стало дурно. – Сокровище мое, к сожалению, это невозможно, – начал я, обнимая ее. – Что невозможно? – спросила она со строгой ноткой в голосе. Она еще не знала обо всей серьезности положения, и я испортил ей настроение. Поэтому мне пришлось начать издалека, Я рассказал о подозрении, которое у меня возникло по отношению к Атто в связи с болезнью императора, об обвинениях, которые я в гневе бросил ему в лицо, и о последовавшем за этим его недомогании. Закончил я разговором, свидетелем которой только что стал. – Поэтому, любимая моя, ты не должна связываться с аббатом Мелани. Завтра ты скажешь ему, что не сможешь работав на него, – произнес я. – Тебе следовало спросить меня, прежде чем принимать его предложение: ты ведь знала о том, что еж внезапное прибытие в Вену вызывает у меня подозрения. – Это все? – удивленно спросила она. – То, что ты мне только что сказал, наоборот, является существенным поводом длятого, чтобы не отходить от него ни на шаг и не спускать с него глаз. – Но мы можем оказаться втянуты… И, кроме того, – несколько нетерпеливо добавил я, – разве все эти годы ты не упрекала меня, что я ввязываюсь из-за Атто в опасные ситуации Теперь, когда пришла твоя очередь, ты, похоже, совершен! не принимаешь в расчет опасности. – Любимый, еще до того, как мы переехали в Вену, я говорила тебе, что аббат снова воспользуется нами, но ты меня не слушал. Что, впрочем, оказалось правдой лишь отчасти: наконец-то нам хорошо, и я ни за что на свете не хочу возвращаться в Рим. Что же касается маневров твоего аббата, то удовольствуйся тем, что мы и так уже увязли в этом по уши. Лучше радуйся, что теперь за ним буду следить именно я: ты ведь никогда ничего не замечаешь и постоянно попадаешь в его ловушки. Доверься мне. К сожалению, она была права. Мне не оставалось ничего другого, кроме как положиться на острый ум своей жены. Счастливая, она так мужественна. – Ты слышишь, какой у нас сын ученый? – спросила о затем, прикладывая ухо к двери. Юный ученик действительно занимался с большим усердием: – Встав утром, я одеваюсь, причесываюсь и умываюсь, обращаюсь к Господу Богу, а после обычной молитвы я… Моя жена обняла меня, и я почувствовал, как от нежных супружеских ласк спадает напряжение. Наконец я открыл свое сердце, переполненное, словно река в половодье. Я рассказал ей о полете на борту Летающего корабля, а также о Золотом яблоке, которое якобы везли в Вену из Португалии, чтобы водрузить его на вершину собора Святого Стефана, вплетая в свой рассказ жутковато-сладкие подробности. Как обычно, когда речь шла о сверхъестественных событиях, Клоридия реагировала совершенно непредвзято. – Почему ты не попытался использовать Летающий корабль? – Каким же образом? – К примеру, чтобы последить за турками. Сегодня они покинули дворец принца Евгения и вернулись под кров вдовы Лейксенринг на Леопольдинзель. Было бы интересно приподнять завесу мрака. – Но я же не моряк, я не могу управлять кораблем, а уж тем более Летающим! – запротестовал я, хотя мысль о такой возможности уже посещала меня. – Кстати, сегодня ведь состоялась прощальная аудиенция аги. – Да, принц Евгений завтра отправляется в Гаагу, – подтвердила Клоридия. – Ага опять сказал что-нибудь странное? – Нет. Я не заметила ничего такого, что могло бы вызвать подозрения. Дервиш не показывался.
* * *
У меня еще было время до того момента, как в мою дверь постучит Симонис, чтобы отправиться на студенческий праздник. Поэтому я начал разбирать свои бумаги, при этом в руки мне попали два трактата графа Луиджи Фердинандо Марсили. Речь шла о том итальянце, который привез в Европу рецепт, как из растения кофе сделать любимый всеми пряный напиток. Однако еще более значительным он был как человек, который предпочел Иосифа I слабому маркграфу Баденскому во время первой осады Ландау и благодаря помощи которого император смог взять крепость за четыре дня. С тех пор как я приобрел эти трактаты, я, честно говоря, туда не заглядывал ни разу. Теперь же, после трогательного рассказа Мелани о Ландау, я испытывал любопытство и хотел посвятить себя более внимательному чтению трудов своего ретивого земляка, которые – в тех изданиях, что находились у меня, – были дополнительно снабжены подробными данными о его персоне. Так я обнаружил, с немалой патриотической гордостью, что граф Марсили был весьма находчивым и сообразительным человеком, а кроме того, очень умным, всегда готовым встретить духовные и физические трудности. В юности он жадно изучал математику, философию и естественные науки, был учеником нескольких известных людей своего времени, к примеру Марчелло Мальпиги. Во время путешествий в Венецию, Падую, Флоренцию, Рим и Неаполь он собрал много знаний: великий тур, возможный только для отпрыска просвещенных и зажиточных семей. В свите посла республики Венеция он посетил славный далекий Константинополь и создал трактат о своеобразии и организации турецкого войска, которое он тщательно изучил. Во время путешествия на Восток он наблюдал очертание берегов, а также флору и фауну тех стран, через которые проезжал, и плодом этой работы стали новые ученые публикации. Впрочем, за свою предприимчивость ему пришлось дорого заплатить: он заразился возбудителем чумы и вынужден был вернуться в Венецию, чтобы вылечиться от недуга и по причине частых визитов, которые наносил ему отец, тот тоже пал жертвой болезни, отчего и умер. В 1682 году, в возрасте всего лишь двадцати четырех лет, однако будучи уже зрелым мужчиной, он решил сделать военную карьеру на службе империи. Он начал скромно, с нижней ступени, и оказался наверху: от простого солдата, через ефрейтора и сержанта до капитана. Идет 1683 год, и турки угрожают воротам Вены. Марсили – в числе защитников города; будучи раненым и взятым в плен османами, он избегает верной петли только потому, что избавляется от униформы и выдает себя за слугу венецианского купца – благодаря своим прежним путешествиям он немного говорит по-турецки и ему удается обмануть пленителей. Его лечат бычьим пометом и солью, он становится рабом в турецком лагере перед вратами Вены, где не обходится без насилия и пыток. Его определяют в кофейню, где он должен молоть зерна и подавать посетителям (в османском лагере есть множество различных диковинок, в том числе и искусственные фонтаны). Как обычного раба, его продают двум проезжающим мимо боснийцам, надеющимся, что они смогут продать его за большую цену тому торговцу, за слугу которого выдал себя Марсили. Начинаются переговоры с Италией; наконец, родственники и друзья выплачивают две сотни гульденов и освобождают его. Он пешком возвращается из Вены в Болонью. В два часа ночи он приходит в свой родной город, левая половина его тела почти парализована, ноги опухли, раненая правая рука висит вдоль тела, один глаз подбит и слезится, кожа сожжена солнцем. Он лишился волос, парик по необходимости прикрывает его лысую голову. Однако едва набравшись немного сил, он возвращается в Вену к императору Леопольду, чтобы доложить о том, что узнал о турецком войске. Его делают президентом императорской пушечной литейной. Он углубляется в изучение военной техники и возводит оборонительные сооружения перед Эстергомом и Вышеградом, настоящие шедевры. Затем возвращается на войну и принимает участие в осаде Буды, где полностью открывается его неутомимый дар военного изобретателя: он рисует план города, разрабатывает проведение осады, находит строительные материалы и лично решает вопрос снабжения инженеров. Едва взята Буда, солдаты грабят город; однако он, хотя и был ранен в руку, бегает по дымящимся развалинам в поисках знаменитой библиотеки короля Венгрии, о которой так давно мечтал. К сожалению, отыщет он всего несколько томов. Он не просто человек войны: для Марсили всегда важны знания и мораль. Войну он рассматривает не столько в качестве упражнения в жестокости, сколько как возможность делать наблюдения и получать знания. Он изучает течение Дуная, открывает его до сих пор не известные особенности и превращает это в большую научную работу. Он обнаруживает древний мост, построенный Траяном, на который дотоле никто не обращал внимания, и много других останков древнеримского периода. Каждый раз, когда у него остается время после военных операций, он посвящает себя наблюдению природы: движение волн, морской грунт, ветра. Он открывает и записывает бесчисленное множество видов рыб, водяных птиц и минералов. Свои знания он собирает в иллюстрированные таблицы и тетради. Он знает, что военное искусство неуклонно развивается; тот, кто хочет идти с ним в ногу, должен расширять свой кругозор всесторонне: география, медицина, архитектура, дипломатия и экономика. – Среди идиотов, – возмущается он, – бытует мнение, что солдаты – разрушители тонких искусств, враги литературы и вообще люди, занимающиеся таким варварским делом, потому что они только поджигают, грабят и убивают, не задумываясь о том, какие искусства, какие учения необходимы, какие являются выгодными и от каких человек получает пользу. Многие из тех, у кого есть сын или брат, не склонные к учебе, говорят: этого мы пошлем на войну. Однако это несправедливо по отношению к благородному достоинству войны. Когда императорские войска в 1699 году подписывают с османами мир в Карловиче, он принимает участие в переговорах: он единственный, кто может точно перечислить новые границы, указанные в мирном договоре. Во время перерывов в перегово pax он осматривает местности в Хорватии и Венгрии, которые выбраны для разделения с турками, не забывая при этом о своих научных изысканиях: он приказывает солдатам собирать местные виды грибов вместе с землей, в которой они растут, и позд нее публикует о них труд. По возвращении в Вену его награждают званием генерал майора. Но вскоре разгорается новая война, за испанский трон когда король Карл II умирает, не оставив наследника. Первым театром военных действий, куда его посылают, становится оса да Ландау, из которой он выходит победителем вместе со своим императором.В этом месте я вынужден был прервать чтение, поскольку в дверь кто-то постучал.
* * *
– Сколь много сказано о том, что за благородное существо – студент. Однако чем более он благороден, тем большему количе ству неприятностей, болезней и опасностей он подвержен! Мы с Симонисом находились на студенческом празднике по поводу возобновления учебного процесса. Постучав в двери, мой подмастерье оторвал меня от размышлений о геройских поступках храброго графа Луиджи Фердинандо Марсили.Мы вошли посреди вступительной речи Яна Яницкого Опалинского, стоявшего в сыром подвале на старом столе. – В юности ему приходится вынести много неприятностей и побоев от неразумных учителей, которые временами обучают столь хрупкие растения больше при помощи ненужных ударов, чем разума и доброго слова, и делают их неспособными расцвести в полную силу. Здесь стоит упомянуть «Orbłlios plagosos»[971] Горация, а еще лучше – «Anitympanistas» Дорнау, которые угощали нежных детей просто как палачи, и часто нежнейшие дарования теряли всяческую надежду, то есть либо из страха, либо от необузданности их тонкое искусство просто засыпало. Раздался шквал аплодисментов. – Можно сказать, в общем – и сегодня, на церемонии, мы услышали это из уст ректора, – что существует шесть носильщиков для гроба студента: пьянство, грех, безделье, похоть и распутство, которые сразу погребают душу и тело, ослабляют разум и память, затуманивают взор и заставляют трястись конечности; и, наконец, послеобеденный сон, который якобы является смертью для жизнелюбия. Ложь, все ложь! Ибо тот, кто так говорит, не любит нас и столь же мало понимает тонкую нашу природу! Мы находились в подвальном помещении, переполненном студентами, нищими студентами. У некоторых еще был на груди вожделенный знак университета, который позволял ему оплачивать свое обучение с помощью сбора подаяний. В углу стоял кривой стол с жалкими ломтями черного хлеба и небольшим собранием маленьких стаканов – иллюстрация нужды, в которой живут присутствующие. Единственное, чего здесь было в достатке, это буйной веселости. – Оцалинский здесь и держит речь. Но как нам найти остальных? Тут довольно много народу, –растерянно спросил я Симониса. – С этим нам, пожалуй, придется смириться. Кстати, Ян Яницкий Опалинский, наряду с бедным Христо, самый ученый студент из всех, кого я знаю. Не случайно он – поляк, и родина его возвышается путеводным маяком христианской цивилизации надо всеми странами полу-Азии. Ян, наверное, лучший оратор во всем университете Alma Mater Rudolphina: когда он говорит, все студенты в восхищении, – ответил мой помощник. – Можете поговорить с ним, когда он закончит речь. Мы спросим его и о двух остальных. По крайней мере, он может знать, где Коломан, они очень дружат. Вероломны и смертельны для здоровья студентов, продолжал поляк, в то время как мы прокладывали себе локтями дорогу в толпе, совершенно иные вещи, которые несправедливо почитаются как добродетели. В первую очередь, долгое изучение и размышление, которые вытягивают из организма все соки, высушивают конечности и органы и, по Гиппократу, не дают желудку переваривать блюда и напитки. Из-за этого тело переживает истощение, именуемое маразмом, дыхание становится укороченным, все это грозит чахоткой. Учение – тиран здоровья, особенно ночью, когда чад масляных ламп сгущает воздух. Нет необходимости читать много, чтобы быть хорошим студентом, гораздо лучше читать то, что полезно, да и то не все время, а в меру. В противном случае будешь бледен, по всему телу пойдет зуд, глаза будет печь, а взгляд станет дурным и отсутствующим. – Смотри-ка, там, сзади, Популеску! – воскликнул я, с удивлением обнаружив массивную фигуру румына. – Где? – спросил Симонис, становясь передо мной. Когда он отошел в сторону, Популеску уже исчез. – Проклятье, мы потеряли его, – проворчал я. – Господин мастер, позвольте я поищу его. Я сделаю круг, а потом вернусь и доложу вам. Он был прав, я почти ничего не видел. С его высоким ростом я не мог соперничать, поэтому уселся на лесенку у стены подвала и стал ждать, когда вернется грек вместе с обнаруженными товарищами. – Вредно для нашего студенческого здоровья, – продолжал оратор, – кроме того, постоянное сидение, ибо из-за этого закупориваются сосуды кишечника и сплющиваются внутренности. Сдавленный желчный пузырь, однако, выталкивает желчь не вовремя и чаще, из-за чего тело прокисает. Отсюда проистекают боли в селезенке, item камни в чреслах и почках и черно-желтый цвет лица. По словам Опалинского, для драгоценного здоровья студентов также очень опасно пропускать из-за учебы приемы пищи. Желудок становится слишком жаден, и в свете нехватки другой пищи он начинает поедать сам себя. Тело питается своей собственной субстанцией, что вызывает головокружение, обмороки и сердечную недостаточность. Поэтому горячие темпераменты, у которых кровь и желчь вскипают сверх меры, должны избегать постов. Не говоря уже о нехватке порядочного общения: если студент всегда один, страдает его природа. Филантропия или общительность – суть прекрасные добродетели, похвальные для каждого. Общение высвобождает фантазию из пут и направляет ее в нужное русло, подбадривает человеческий дух и роднит человека с миром идей. Из-за одиночества же человеческая природа омрачается, ибо оно вызывает печаль и меланхолию. Душа из-за такого обращения устает в первую очередь, а с ней и все тело. Exercitii[972] в университете, наконец, в случае слишком большого количества, являются причиной тяжелых недугов, поскольку потрясают внутренности. – Чрезмерное учение, дорогие мои господа студенты, сводит нашу нежную натуру в могилу. Деградация начинается с памяти, которая становится слабой и недолговечной: дворец богини мудрости построен не из камня и мрамора, и не из дерева, как египетские храмы, а из нежнейших маленьких желез и кровеносных сосудов, и здесь я имею в виду мозг, престол Минервы и священнейший трон души. Столь тонкая материя, однако, celeriter[973] повреждается от чрезмерного учения, особенно ночью, поскольку это время проводят в одиночестве и сидя; дух опустошается и теряется, лишаясь своего первоначального порядка, и заканчивается это все с возрастом слепотой и детским нравом. Оскверненный учением студент страдает от головокружения, бессонницы, ослабленного слуха, опухших глаз, голода и одышки, кашля, туберкулеза или hectic,[974] колющих болей в боку, плохого пищеварения, malum hypocondriacum, камней и dysuria,[975] подагры, усталости, чесотки и пристунов лихорадки. Как же избежать преждевременного попадания в могилу, вопрошал Яницкий. Есть немного простых, но, по его мнению, безошибочных лекарств, которые спасут студенту жизнь. Inprimis, танец, который очень важен для того, чтобы снискать в обществе не только славу ученого, но и ловкого человека. Впрочем, нельзя танцевать сразу после приема пищи, в противном случае блюда лягут в желудок тяжелым комком. Полезны также фехтование и езда верхом, лучший спорт для студентов, и лошадь нужна хорошая. Также укрепляют прыжки и езда в санях, при условии что для защиты от холода студент позволит обнять себя молодой горячей женщине… Да здравствует тяга к знаниям, подумал я. – Однако крайне необходимо также и плавание в прекрасных речках города, – под конец посоветовал Ян, – а также табакокурение и распивание спиртного, именуемое чревоугодничеством: оно безвредно для жизненной силы, если не злоупотреблять. Можно пить до трех раз: первый раз за здоровье, второй – за дружбу, а третий – для улучшения сна. Последние слова вызвали еще более громкие, чем прежде аплодисменты, сопровождаемые возгласами одобрения, свистками и время от времени отрыжками. Закончив речь, Опалинский слез с шаткого стола, служившего ему трибуной, и подошел к нам. – Вы хотите узнать, не добрался ли ваш старый добрый Ян до Золотого яблока, не так ли? – прямо сказал он. – Не бойтесь, я не забыл. Напротив, есть важные новости. – И какие же? – заинтересованно спросил Симонис. – Я узнал, кто такие сорок тысяч мучеников Касыма, о которых говорил бедный Данило, прежде чем душа его предстала перед Господом. И Яницкий начал рассказывать, что он выяснил. Когда султан Сулейман приказал атаковать Вену и был разбит, спустя не более двух часов пал знаменитый дворянин по имени Касым Бег. Он был родом из Войводы, области неподалеку от Венгрии, однако, как и многие тамошние повстанцы, не нашел ничего лучшего, чтобы избавиться от своей ненависти к империи, как перейти в веру Аллаха. У Касыма было задание отвлечь христианское войско, преследовавшее султана. Приказ Сулеймана звучал так: все земли по ту сторону Дуная предать огню и мечу, города и деревни сжигать, а их жителей – уничтожать. Шахматный ход удался. Пытаясь спасти жизни хотя бы женщин и детей, которых зверски убивали солдаты Касыма, христианские войска потеряли из виду Сулеймана. Он сумел бежать с остатками войска. Однако Касым заплатил высокую цену. Он и сорок тысяч мучеников были забиты христианами, обозлившимися из-за ужасной резни. С тех пор мусульмане считают сорок тысяч людей Касыма мучениками веры. – Говорят, на месте битвы вечером каждой пятницы можно услышать их воинственные крики: «Горе вам! Аллах! Аллах!» – закончил Опалинский. – И сегодня в той местности можно обнаружить остатки статуй молодых солдат, которые поставлены в память о сорока тысячах мучеников. – Значит, последние слова Данило Даниловича имеют отношение к этой истории, – разочарованно произнес я. – Так и есть, – подтвердил Опалинский. – Боюсь, наш бедный товарищ повторял в борьбе со смертью то, что узнал незадолго до этого. Ничего тайного, по крайней мере, так кажется. Однако мои изыскания еще не окончены… – Нет, Ян, – остановил я его, – довольно. История о Золотом яблоке постепенно становится слишком опасной. – Опасной? – с недоверчивым выражением лица повторил тот. И я рассказал ему о тревожных махинациях дервиша, однако на поляка это не произвело никакого впечатления. – Вот награда за твои труды, – сказал я, протягивая ему мешочек с деньгами. – Я хочу как можно скорее предупредить остальных. Ты не знаешь, где их найти? – Коломан сегодня вечером работает официантом, но я не знаю, в каком заведении, – ответил Опалинский, с довольным видом взвешивая на ладони мешочек. – Драгомир ушел почти сразу же. – А младшекурсник? – спросил Симонис. – Не показывался.
* * *
Нам не оставалось ничего иного, кроме как проверить наличие Популеску на горе Кальвариенберг, где у него было назначено свидание с брюнеткой. После этого мы собирались приняться за поиски Коломана Супана. Я попрощался с Симонисом, договорившись встретить «с ним в условленном месте в девять часов. Грек даст мне знать где: ему нужно было найти Пеничека, чтобы он отвез нас туда в своей коляске. Несмотря на волнения последних часов, я не переставая да мал о недавних событиях. Перед моим внутренним взором постоянно всплывали картинки полета над Веной. А еще более настойчиво крутилась в моей голове идея Клоридии о том, чтобы воспользоваться возможностями Летающего корабля. Если бы мы научились управлять им, то смогли бы извлечь из этого не малую выгоду. Мы могли наблюдать за турками через окна их жилища на Леопольдинзель, как предложила моя воинственная супруга; однако мы могли полететь и к Хофбургу, где лежал больной император, жертва мрачного заговора… Нет, сказал я себе, это все несбыточные мечты. Однако навести некоторые справки было полезно. И я решил воспользоваться правом Симониса приказывать младшекурснику и доверить ему небольшое задание: как можно быстрее собрать информацию по поводу попыток человека летать. Причину этого открывать студенту из Богемии было нельзя. Если бы мы рассказали о том, что произошло в Месте Без Имени, он наверняка счел бы нас безумцами. – Согласен, господин мастер, – кивнул Симонис, – я ничего не буду ему рассказывать и прикажу принести нам результаты своих поисков завтра утром. Мы расстались. Теперь меня ожидали иные обязанности.20 часов, пивные и трактиры закрывают двери
Императорскую капеллу наполняли оглушительные звуки труб и грохот барабанов, а контрабас издавал мелодичные звуки:Когда Орсини откланялся, А вдруг заметил, что рядом со мной появился опирающийся на руку Клоридии Мелани. – Ничего не поделаешь, он не захотел сидеть, – прошептала моя жена и снова закатила глаза. Я втайне проклял аббата и даже собственную жену. – Синьор Атто, вы как раз вовремя. Я хотел представить вас Гаэтано Орсини, тенору, который исполняет роль Алексия. Идемте со мной, – сказал я. Если навязать его присутствие болтливому Орсини, то, возможно, мне удалось бы от него избавиться, ибо Орсини, как и сам аббат, был кастратом. – Ради всего святого, нет! – испугался аббат. – Конечно же, я представлю вас как Милани, чиновника имперской почты, – шепотом успокоил его я. – Наша дорогая хормейстер наверняка не упрекнет вас во лжи, не так ли? Кроме того, Орсини не самый умный… – Вижу, что за тридцать лет мне так ничему и не удалось научить тебя! Как же это возможно, что ты всегда обманываешься тем, что видишь? – вспыхнул нетерпением Атто. – Вместо того чтобы ломать себе голову над низкими подозрениями по отношению к моей ничтожной персоне, – язвительно добавил он, – ты бы лучше внимательнее присмотрелся к своему окружению. Конечно, Камилла сохранит тайну, пояснил Атто, но разве он не говорил мне уже много лет назад, что среди музыкантов скрываются самые ужасные шпионы? Разве манипуляции с нотами и пентаграммами не являются прямым синонимом шпионажа и тайных посланий? Имя Мелани широко известно среди музыкантов: в свое время он был одним из самых знаменитых кастратов Европы. Если представить его как Милани, он убежден, это не защитит его от подозрений тех, для кого ложь – хлеб насущный. Разве он не говорил со мной тогда, когда мы познакомились, о гитаристе Франческо Корбетте, который под предлогом своих концертов даже работал тайным курьером между Парижем и Лондоном? Тогда мы наткнулись и на тайны музыкальной криптографии, средство, которым пользовался известный ученый и иезуит Атанасиус Кирхер, пряча крайне важные государственные секреты в партитурах и табулатурах. Кроме того, мне следует знать, что известный Джамбаттиста делла Порта описал в своем труде «De furtivis litterarum notice»[979] множество методик, с помощью которых можно скрыть послание любого рода и длины в музыкальной записи. Он был прав. Аббат точно описывал мне, насколько искусны музыканты в качестве шпионов, к примеру известный Джон Доуленд, лютнист королевы Англии Елизаветы, который обычно прятал зашифрованные послания в записях своих композиций. Разве не занимался этим же юный кастрат Атто Мелани, причем по всей Европе? Я всегда смотрел на оркестр Камиллы де Росси простодушным, доверчивым взглядом. А ведь за каждой скрипкой, каждой флейтой, каждым барабаном мог скрываться шпион. – Что же, черт побери, вы тогда забыли на репетиции оратории? – приглушенным голосом ответил я, оглядываясь по сторонам. Внезапно меня охватил страх того, что нас подслушивают. – Я должен поговорить с тобой. После того как вчера ночью ты обрушил на меня целый каскад этих ужасных обвинений, нам нужно объясниться. Если ты, конечно, дашь мне такую возможность. – Сейчас у меня нет времени, – грубо ответил я. Я посмотрел на Клоридию. На ее лице я не увидел ни согласия, ни укора, а только ироничную улыбку.
Снова повернувшись на каблуках и оставив мою жену с аббатом Мелани, я пошел к Камилле. Черты лица хормейстера выражали усталость и напряжение. – Добрый вечер, мой друг, – приветствовала она меня. Обменявшись парой ничего не значащих фраз, я решил спросить ее: – Мне тут говорили о некоем Антоне де Росси, камергере кардинала Коллонича. Он, случайно, не родственник вашего покойного супруга? – Да нет же! Мое имя очень распространено в Италии. Мир полон Росси, – приветливым тоном сказала она, прежде чем трижды хлопнуть в ладоши, давая музыкантам понять, что перерыв окончен. Она права, подумал я, возвращаясь на свое место, мир полон Росси. Однако какое странное совпадение.
* * *
По окончании оратории я попрощался с Клоридией. Я получил записку от Симониса, где он назвал место встречи: кофейню «Голубая Бутылка». Я пояснил супруге, что должен поехать на Кальвариенберг, чтобы найти Популеску. – Этого румына, который хвастает, будто знает турецкие гаремы? – спросила моя жена. Она помнила, как угомонила Драгомира, назвав его евнухом. – Именно. Я хотел сказать тебе, что… – Ты идешь в «Голубую Бутылку», мальчик? Хорошо. Это всего в двух шагах. Барышня Клоридия, вы ведь проводите меня туда? Горячий кофе придаст мне сил. Аббат Мелани оставил свое место, чтобы снова увязаться за мной. Я не стал ничего говорить, заметил только, что слепота нисколько не мешает, когда ему что-то нужно. Клоридия попросила хормейстера заняться нашим сыном и уложить его спать. Мы отправились в путь. По дороге я объяснил супруге, почему ищу Популеску: я опасался за жизнь товарищей Симониса и хотел попросить их прекратить расследование по поводу Золотого яблока. – Значит, ты действительно думаешь, – хихикая, вмешался Атто, когда мы как раз входили в кофейню, – что эти славянские бездельники в опасности из-за каких-то турецких легенд? Симонис уже сидел за столиком в кофейне и ждал Пеничека. Увидев, что я с сопровождением, он несколько удивился. Я пояснил ему, что аббат пришел только затем, чтобы выпить кофе, а затем вернется с Клоридией в монастырь. Атто не возражал. – На горе Кальвариенберг мы найдем и Коломана Супана, – сообщил мне грек. – Я встретил его, когда он шел с работы, и сказал ему, что мы хотим поговорить с ним и рассчитаться. Он обещал прийти в любом случае.Когда несколько дней назад я сидел в этой кофейне с аббатом Мелани, она была почти пуста, теперь же народу было много. Кавалеры мило беседовали небольшими группками, в укромном уголке можно было увидеть пожилого аристократа с книгой в руке, официанты торопливо сновали между столиками, подавали заказы и убирали со столов после ухода посетителей. – Цените, что молоды и счастливы. По крайней мере, так можно судить по вашему голосу, – начал Атто, садясь рядом с греком. – Мое здоровье сильно пошатнулось из-за смены времен года. – Мне очень жаль. Надеюсь, вы скоро поправитесь, – лаконично ответил мой помощник. – Однако еще большим грузом лежит на мне возраст, – добавил Атто, – и геморрой, который мучит меня без остановки. Вчера ночью я уж было подумал, что умираю. Бедный Симонис, подумал я, теперь настал его черед выносить нытье Атто. Поскорее бы пришел Пеничек. – И вот несколько лет назад тоже, – продолжал Атто, – перемена погоды и таяние снега вызвали сильный бунт моих телесных соков. Я отправился утром нанести визит своему дорогому другу, жившему ля городом, однако вскоре вынужден был вернуться, так и не увидев его. Атто повторил для Симониса то, что не так давно рассказывал мне во время репетиции «Святого Алексия», однако на этот раз он не стал упоминать имени министра Торси, что выдало бы его как французского шпиона. Полная мрачноватая женщина, обычно сидевшая за кассой, подошла, чтобы принять наш заказ. – Жаль, – прошептал Атто, когда та ушла, – это была не та восхитительная девушка, которая в прошлый раз подала мне шоколадный шарик с марципаном, я прав, мальчик? – Да, господин Атто. Сегодня ее, очевидно, здесь нет, – ответил я, тщетно осмотрев кофейню на предмет черных, как вороново крыло, волос молодой девушки. Поистине, с улыбкой подумал я, старики как дети. Десять лет назад Атто не тронул бы жест официантки. Брюзгливая кассирша вернулась к нашему столику и с мрачным видом поставила перед нами кофе, сливки и классический венский рогалик. – Кровотечение из геморроидальных узлов привязало меня к туалетному стулу на весь остаток дня, – продолжал Атто, попивая горячий кофе и грызя розовый лукум, чтобы подсластить горький азиатский напиток, – и я едва не задохнулся, если бы не успел вовремя на стул и не получил бы таким образом удобство и свободу полностью отдаться делу, которым занялась природа, чтобы исцелить меня. А когда она взяла у меня столько крови, сколько посчитала нужным, она снова сделала меня здоровым. Врач назвал это почти чудом и приписал это моей хорошей конституции. Вы не можете знать этого, однако хотя я не могу теперь читать и собственноручно писать, Господь даровал мне возможность сохранять юной свою душу, невзирая на восемьдесят пять лет, которые мне исполнились 30 числа прошлого месяца. Пока Атто разглагольствовал о геморрое и чуде долголетия, я прошептал Клоридии: – Прошу тебя, попытайся уговорить аббата лечь в постель как можно скорее. Я не хочу, чтобы он сидел у меня на шее. – Ты боишься, что снова попадешь в его сети? – улыбнулась она. – Не волнуйся, на этот раз можешь быть спокоен: я рядом! Меня он не пленяет, старый добрый аббат. Важно, чтобы ты никогда не оставался с ним наедине. Это раздосадовало меня. Похоже, жена мне не очень-то доверяет! Хотя у нее были все основания, ее неловкие материнские попытки напомнить о моей ограниченности всегда действовали мне на нервы. Я скривился и не произнес больше ни слова. – Что это такое? Круассан? – спросил Атто, касаясь рогалика на подносе, лежавшего рядом с его чашкой. – Здесь, в эрцгерцогстве Австрийском, выше и ниже Энса, это называется рогалик, – вежливо пояснил Симонис. – Говорят, их изобрел около тридцати лет назад армянин, владелец этой кофейни «Голубая Бутылка», некий Кольчицкий, чтобы отпраздновать освобождение Вены от османского полумесяца. Поэтому они в форме лунного серпа. – Мы в кофейне армянина? – спросил аббат. – Все заведения, где подают кофе, находятся в руках армян, – ответил грек. – Это они открыли первые кофейни, и они обладают исключительно императорской привилегией. – А вы когда-нибудь были лично знакомы с одним из них? Очень интересный народец, как мне кажется, – попытался я спровоцировать Мелани, вспоминая о его тайной встрече с армянином. – Я. слышал о них, – торопливо ответил он, опуская нос в чашку с горячим напитком. Армянин и кофе: разглядывая орлиный профиль аббата Мелани, черные очки, придававшие ему сходство со старым филином в парике, я вспоминал прошлое. Вот снова город Габсбургов выпустил стрелу, вонзившуюся в мою память и вызвавшую к жизни воспоминания о времени двадцативосьмилетней давности. Все возвращало меня к молодости, в ту гостиницу на пьяцца Навона, где я, скромный слуга, познакомился с аббатом Мелани и моей Клоридией. В этой гостинице часто собирались маленькие группки армян, сопровождавшие своих епископов в визитах в Вечный город. Скромный и почтительный, каким я был тогда, я наблюдал за этими экзотическими прелатами и их свитой, однако не отваживался задавать вопросы, хотя мне все было любопытно. Я знал, что во время своего путешествия в Рим они останавливались в Вене. Я все еще видел перед собой их черные одежды, недоверчивое и в то же время раболепное поведение, оливкового цвета кожу, серые, словно пепел, глаза, и вспоминал странный запах, окружавший их, крепкую смесь из пряностей и кофе. А затем в Вене я обнаружил, что черный восточный напиток и армянский народ суть одно целое. Я с удовольствием время от времени совал свой нос в одну из этих темных, но очень уютных комнат, где читали газеты, курили и играли в шахматы или бильярд. И себе время от времени я тоже разрешал выпить чашечку горячего кофе, благодаря Господа за благосостояние, которым наслаждался в Вене. При этом я рассеянно почитывал свои – итальянские – газеты, в надежде, что никто не заговорит со мной и не вынудит меня использовать свои жалкие познания в немецком языке. А когда я иногда поднимал голову, мой преисполненный удовлетворения взгляд падал на этих армян, людей с турецкими чертами лица, однако сдержанных, работящих и тихих, и радовался, что они изобрели кофейню, эту своеобразную, неповторимую славу почтенного города Вены.
Пеничек все не появлялся. Постепенно я начинал проявлять нетерпение. – Вот это колечко, – услышал я слова Мелани, когда очнулся от размышлений и увидел, что тот показывает Симонису свою руку, – говорят, является чудодейственным средством против геморроя, если надеть его на мизинец правой руки и то и дело накрывать его другой рукой. Мне дала его одна из моих племянниц. Какая там племянница, с улыбкой подумал я. Во время репетиции «Святого Алексия» он сказал мне, что ему подарил это кольцо великий герцог Тосканский. Как всегда осторожен, господин аббат… – Надеюсь, оно поможет, – продолжал тем временем Атто. – А если его надеть на мизинец левой руки, то оно чудодейственно против зубной и головной боли. – Мегаллех текуфот. Мы обернулись. Произнесший эти слова был стариком, маленьким и согбенным, с растерянным взглядом. Он сидел за соседним столиком. – Вас поразил мегаллех текуфот, вредная кровь геморроя, – повторил он, обращаясь к Мелани. – Вы – существо проклятое. Мы озадаченно смотрели на него. Атто вздрогнул. – «Текуфа» означает кровоток, как шар, который поворачивается, или же как солнце, которое с утра до вечера проходит свой круг, прежде чем вернуться на следующий день. Мы обменялись многозначительными взглядами, в которых читалось почти облегчение: наш собеседник, кажется, слегка безумен. – «Его кровь на нас и на детях наших», – говорится в Евангелии от Матфея. Иисус Христос был распят; чтобы прибить его к кресту, было использовано четыре гвоздя, и кровь текуфы есть не что иное, как кровь Господа нашего, которая текла из его священных ран: она будет течь, кстати, четыре раза в год. – Ради всего святого, этот человек богохульствует, – приглушенным голосом воскликнул аббат и перекрестился. Пока Клоридия наливала Атто в стакан воды, чтобы он немного успокоился, мы отвернулись от безумного оратора и попытались продолжить беседу. Вот только никому ничего не приходило в голову. Я поискал глазами другой свободный столик, однако вся кофейня была занята. В году существует четыре текуфы, нимало не смутившись, продолжал старик, одна на каждые четыре месяца. Первая – в месяц тишрей, когда Авраам по воле Господней должен был принести на горе в жертву своего сына Исаака. В руке его был нож, и он собирался уже перерезать горло Исааку. И увидел Господь, что Авраам готов на все, чтобы повиноваться ему, и с небес тут же спустился ангел и сказал: «Не трогай ребенка, не причиняй ему зла». Авраам не убил своего сына, однако уже сделал надрез, из которого упало несколько капель крови. – Поэтому каждый год в этот месяц капли крови, упавшие из шеи Исаака, распространяются на весь мир, и каждый должен следить за тем, чтобы не пить воду, не опустив в нее предварительно железный гвоздь. Следующая текуфа попадает на месяц, в который Йеффай должен был принести в жертву свою единственную дочь, и поэтому каждый год в это время все воды наполняются кровью. Однако если прежде бросить в сосуд железный гвоздь, то текуфа не принесет вреда. Третья текуфа приходит в месяц нисан, когда воды Египта превратились в кровь, как об этом рассказывается в Священном Писании. Поэтому верят, что каждый год в этот месяц вся вода на земле превращается в кровь, однако если опять же бросить в воду железный гвоздь, то ничего плохого не будет. Четвертая текуфа случается в месяц таммуз. В то время Господь приказал Моисею поговорить со скалой, чтобы из нее излилась вода. Скала не повиновалась, и Моисей ударил по ней посохом. Когда после этого из скалы выступило несколько капель крови, Моисей ударил второй раз – и пошла вода. – Поэтому каждый год в это время вся вода обращается в кровь, – заключил старик. – Однако это – самая опасная текуфа, и некоторые считают, что против нее бессилен даже железный гвоздь. – Ну, довольно уже! – пригрозил я старику, когда увидел застывшее лицо аббата Мелани и обеспокоенное выражение на личике своей жены. Я снова поискал взглядом официантку, которая обслуживала нас несколько дней назад, но тщетно. Я увидел хозяина кофейни и знаком дал ему понять, что старик досаждает нам. Однако тот сделал вид, что не замечает меня, и продолжил заниматься своими делами. – Никогда не забывайте о том, что нужно положить железный гвоздь в припасы и между тарелками, которые вы используете для еды, – тем временем напоминал нам безумец, – не то кровь текуфы внезапно может проявиться самым неожиданным образом: в горшочке с топленым жиром, как случилось с моими родителями в Праге, после чего они, до смерти перепугавшись, выбросили весь горшочек в реку; в сосуде с водой или даже в масленке. И оттуда потечет она к вам и по вашему заду прямо на пол! – Все чушь, какое еще проклятие. Геморрой – естественная болезнь, – закашлялся Атто и улыбнулся вымученной улыбкой, а руки его между тем сильно затряслись. – И причина ее, признаю, в слишком обильной пище, которую я ел в молодости. – Ты бродишь в потемках заблуждения! – грозно произнес странный старик. – Евреи не едят нездоровой пищи, им запретны блюда, из которых течет кровь. Поэтому они запрещают божественным законом свинину и зайчатину, мясо которых вредно для здоровья, закупоривает сердце и затуманивает разум. И все же именно евреи больше всего страдают от текуфы, потому что распяли они Сына Божьего и кровь его на них. У моего отца кровотечение было каждые четыре недели. У меня – нет, и только потому, что обратился я в истинную веру и всегда ношу с собой железный гвоздь. После этих слов он широко улыбнулся и вынул из своей чашки кофе гвоздь, демонстрируя его озадаченным слушателям. Наконец, словно спаситель небесный, пришел Пеничек.
– Ужасная текуфа скоро падет на вас, и глаза ваши зальет кровь, – прошипел нам старик, когда мы расплатились и поднялись со своих мест.
* * *
Изображение сидящего на троне заступника стояло в углу двора дома. Его освещали десятки свечей, и украшено оно было зелеными ветками. Двор был полон верующих: чиновники, матери и множество стариков; жители из окрестных домов, которые то громко пели церковные песни, то глухо бормотали себе под нос молитвы и перебирали четки. Мы огляделись. Ни Драгомира, ни Коломана видно не было. Мы нашли места, где могли присесть Клоридия и аббат Мелани, который еще не совсем пришел в себя после страшной речи безумного старика и ни при каких обстоятельствах не желал возвращаться обратно в монастырь. Тогда мы с Симонисом немного отошли от статуи святого. Повсюду в большом дворе, даже там, куда почти не доставал свет свечей, стояли верующие, здесь это были в основном люди молодые, отмечавшие праздник святого иным образом. Не литургические пения, а вздохи наполняли эфир, и вместо бормотания литаний можно было слышать, как кто-то тяжело дышит. – Здесь мы и отыщем обоих, – ухмыльнулся Симонис. В каждом углу двора творились несказанные вещи, которые – хотя и исполнялись со страстью – имели мало общего с верой, не говоря уже о богослужении. Я уже слышал об этом. Район вокруг Кальвариенберг в предместье Гернальс слыл местом, где мужчины и женщины завоевывали друг друга под прикрытием вечерних молитв, и было очень популярно. Церковь даже называли «маленьким маскарадом», как театральное фойе, где тайно развлекались молодые пары. Говорили, что на Кальвариенберг во время поста творилось то же самое, что и летом в саду Аугартен, известном месте сладострастия на берегу Дуная. – О, пардон, – извинился грек, который в поисках своих товарищей наткнулся в укромном уголке на полуголую пару и подошел к ним слишком близко. – Популеску говорил, что придет сюда со своей брюнеткой, – размышлял я, – а Коломан Супан – нет. Может быть, его стоит поискать на улице внизу? – Такой человек, как Коломан, не пропустит богослужения, – ответил мой помощник с заговорщической улыбкой. Он был прав. Вскоре мы обнаружили венгерского студента в уголке между деревьев, и был он занят: – Аааааххх! Да, хорошо, не останавливайся! Ты скот, животное… еще раз, слышишь, прошу тебя! – Вот он, – убежденно решил Симонис. – Не знаю, как у него так получается, однако Коломан всех приводит в одинаковое состояние. Если слышал одну, то всегда узнаешь, когда за работой Коломан. – Вот так и узнают своих друзей, – иронично и несколько смущенно заметил я.– Нет, Драгомира мы здесь не найдем, – сказал Коломан, заправляя рубашку в брюки. – Он наверняка в одной из часовен на виа Круцис. Только там достаточно темно, чтобы никто не увидел его слишком маленький член, ха-ха! Итак, мы вместе с Клоридией и аббатом Мелани снова вернулись на Кальвариенбергштрассе. По обе стороны стояли маленькие часовенки, представлявшие мистерию страстей. Эти места тоже давали обоим полам возможность удовлетворить свои низменные желания. Особую пользу из популярной практики осквернения извлекали имевшиеся там в огромном количестве лавочки с горячими сосисками, сладостями и гернальскими рогаликами с горячим кремом, все они стояли у подножия Кальвариенберг. После богослужения парочки устремлялись в местные трактиры или шли дальше на юг, в предместье Нойлерхенфельд. Первые часовни, в угольную черноту которых мы заглянули, конечно же, были все заняты. – Он, должно быть, очень набожная душа, тот приятель, которого вы ищете, – невинно заметил Атто, когда услышал, что мы обыскиваем часовню за часовней. Клоридия повела его немного дальше по наклонной улице, чтобы он не услышал стоны парочек. Я видел, как они оба вошли в незанятую часовню, чтобы посидеть там. – Ну, вот он, наконец-то! – воскликнул Коломан, острым взором пронзая темноту очередной эдикулы, после того как мы обошли все остальные, стоявшие пустыми. Мы застали Популеску в самый прекрасный момент. К счастью, с нами не было Клоридии: Драгомир, наклонившись, со спущенными штанами, стоял спиной к нам. А под ним, как можно было наверняка предположить, его любовное завоевание. – Он спрятался, чтобы никто не увидел, какой у него крошечный конец. Ничего не поделаешь, Драгомир, твоя подружка все равно это заметит! – ухмыльнулся Коломан. И тут мы услышали крики. То была Клоридия, и она звала на помощь. Мы бросились к ней. Аббат Мелани лежал спиной на лестнице часовни, в которую только что вошел вместе с моей женой, и плавал в черной луже. – Синьор Атто, синьор Атто! – воскликнул я, беря его под мышки. – Текуфа, проклятие… – хрипел он, хватаясь за грудь. К счастью, он был жив. Однако в темноте мы увидели, что его голова и лицо были залиты кровью. Следующие мгновения, мягко говоря, были запутанными. Что произошло, кто его ранил, как это могло случиться, несмотря на присутствие Клоридии? В то время как Коломан и Симонис помогали мне положить Атто на пол часовни, я смотрел на свою жену, которую словно парализовало от страха. – Я… я не знаю… внезапно появилась эта кровь… – бормотала она. У нас обоих на лице читалось воспоминание о пророчестве старого безумца из кофейни. По голове моей и плечам прошла дрожь, похожая на горячее покалывание. Быть может, от страха у меня закружилась голова? Я провел рукой по волосам. Они были липкими и влажными. Я посмотрел на свою ладонь: кровь. Я чувствовал, что вот-вот упаду в обморок. – Минуточку, – вмешался грек. Он решительно оттолкнул меня в сторону и вытянул руку над тем местом, где я только что стоял, чтобы проверить, не капает ли сверху. И действительно: густые капли темной жидкости падали на нас с потолка часовни. – Вот она, кровь. Сверху капает, – сказал Симонис, рассматривая свои испачканные жуткими каплями ладони. А затем велел Коломану, который был худее его, встать ему на плечи. – Там, наверху, что-то лежит, – сказал венгр, ощупывая в темноте рамку орнамента над нашими головами, тянувшуюся через все внутреннее пространство небольшого храма. – Что-то, похожее на… клетку. Затем он вынул из-за рамы что-то вроде шкатулки из железа, в стенках которой были проделаны отверстия. Мы открыли ее. В отвратительной кровавой луже лежал бедный, увядший конец, который никто не решился бы показать женщине в таком жалком состоянии. Только два шарика, созданные Господом для размножения, казалось, сохранили немного достоинства. Остальное же – сморщенная кожа, истекшая кровью плоть, грубо отрубленная саблей, изувеченная и неузнаваемая, словно посмертная маска. Коломан тут же отвернулся, с трудом сдерживая отвращение. А мы с Симонисом, словно загипнотизированные, смотрели на этот результат бессмысленной жестокости. Кому только могло прийти в голову так гротескно изувечить мужской член?
Аббат Мелани, которого Клоридия постоянно заклинала не волноваться, потому что это не его кровь и с ним все в порядке, тем временем постепенно отходил от пережитого ужаса. – Проклятье, – заметил Коломан, возвращаясь к своей шутке, – я всегда знал, что с тевтонскими бабами шутить нельзя. Это нужно непременно показать Драгомиру. – И он пошел обратно в часовню, где Популеску, как и все остальные парочки, был, очевидно, слишком занят, чтобы отвлекаться на испуганные крики Клоридии. Мы остались стоять возле маленькой клетки с ее омерзительным содержимым. Все были слишком потрясены, чтобы разговаривать. Клоридия не могла отвести взгляда от зловещего сосуда с отрезанным срамным местом; казалось, она задумалась. К нашему всеобщему удивлению, она внезапно коснулась клетки, нашла дверцу и открыла ее. Затем подняла сосуд и принялась ощупывать его дно, словно для того, чтобы кончики пальцев подсказали ей то, что скрывала от глаз темнота. Венгр вернулся почти сразу, лицо его было смертельно бледно, взгляд безумен. – Нам нужно немедленно уходить отсюда, всем, – приглушенным голосом произнес он. – Что случилось, Коломан? – поинтересовался я. – Драгомир не был… Мы-то думали, что он… с ним не было никого, никого, никого… – сказал он, а по лицу его уже бежалипервые слезы.
Объяснение продолжалось несколько мгновений. Клоридия очистила голову аббата Мелани, насколько это было возможно, теперь он стоял, опираясь на трость и ее руку, над трупом. Я мрачно рассматривал старого кастрата. Ничто не могло отвлечь меня от мысли, что он знает больше, чем хочет показать. – Прочь, прочь отсюда, – сказал я потом, оглядываясь по сторонам, беря за руку Клоридию, а Мелани – под руку, в то время как Симонис схватил за руку Коломана и приказал ему перестать плакать, потому что в противном случае на нас сразу же обратят внимание. Мы шли вниз по Кальвариенштрассе, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Кроме того, мы пытались скрыть свои лица, проходя мимо немногих прохожих. Тело Драгомира Популеску останется там, где мы его обнаружили, до тех пор, пока его не найдет какая-нибудь влюбленная парочка: спущенные штаны, наклоненный торс. Однако не конкубину, а три острых канделябра, на которые обычно насаживают пасхальные свечи, нашли мы под его страстным телом. Сильная рука по всем правилам искусства вонзила их в грудь и сердце бедного студента с берегов Черного моря. Темная кровь пропитала его брюки. Она текла из той части истерзанной плоти, где когда-то был его член.
* * *
Мы вернулись к Пеничеку, ожидавшему нас в конце улицы. Когда коляска тронулась с места, Симонис вкратце рассказал ему о случившемся. – Полу-Азия! – пробормотал под конец грек. – А если это были турки? – спросил я. – Азия, полу-Азия, какая разница. – Господин шорист, если позволите: мы должны избавиться от тела Популеску. Городской страже эта история может показаться слишком ужасной. Так не умирают нищие студенты. Они могут затеять серьезное расследование. – Ты прав, младшекурсник, – согласился с ним Симонис, – мы не можем рисковать тем, что окажемся втянутыми в это дело. Мы и Данило видели, как он умирал. – Вы говорите так, словно это вы – убийцы, – заметила Клоридия. Симонис ничего не сказал и уставился на нас своим глуповатым взглядом. Разве это не он натравил своих друзей на след Золотого яблока? И, размышлял я, разве не мы с Клоридией начали всю эту историю, потому что нас беспокоило странное посольство аги? Кроме того, мы ничего не рассказывали друзьям Симониса о заговоре Кицебера. Если бы они вовремя узнали, что туркам нужна чья-то голова и что в первую очередь они, вероятно, охотятся за самим императором, быть может, они были бы еще живы. Я решил, что настало время рассказать Коломану Супану о дервише. Конечно же, я умолчал о том, что знаю об этом давно, только им не говорил. Венгр ужасно испугался. Еще у себя на родине ему довелось узнать, на что способны неверные. Нас перебил Пеничек, предложивший убрать останки Популеску с помощью двух коллег, таких же нелегальных кучеров, как и он, достойных доверия людей. – Вы уже не успеете. Какая-нибудь парочка наверняка найдет его раньше и позовет стражу, – покачав головой, ответил я. – Однако они живут тут, в двух шагах, – настаивал Пеничек. – Поверьте мне. Едва сказав это, он остановил коляску, не дожидаясь утвердительного кивка от меня или своего шориста, слез с козел и быстро, насколько позволяла ему хромая нога, скользнул в дверь какого-то дома. Когда он вернулся, с ним было еще две тени, поспешно направившиеся к Кальвариенберг. – Не волнуйся, Драгомир, сохраняй спокойствие! Спокойствие и… хладнокровие! – рассмеялся Пеничек в приступе совершенно неуместного проявления чувства юмора, в то время как его коллеги отправились выполнять печальное поручение. – Замолчи, младшекурсник, ты, животное! – возмутился Симонис, нанося тому удар по спине. Управляемая умолкнувшим Пеничеком коляска поехала дальше, и теперь настал черед разнообразных предположений. – Мне кажется ясным, – начал мой помощник, – что та девушка, с которой договорился Популеску, стала для него роковой. – Это ведь та самая, от которой Драгомир получил информацию о Золотом яблоке. Но это не могла быть она, – заметил Коломан. – У нее не хватило бы сил насадить его на острие подсвечника. Я посмотрел на аббата Мелани. Он сидел рядом со мной, запрокинув голову, хорошо укрытый Клоридией. Она негромко говорила с ним, подбадривая, интересуясь его самочувствием, впрочем, не получая ответов. Аббат сидел с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Однако я знал кастрата, эту хитрую лису: я знал, что он все слышит и взвешивает про себя. – Ответьте, если достаточно мужественны, – прошипел я ему на ухо, – вы и эту смерть считаете случайной? Атто слегка вздрогнул, но промолчал. Тем временем Коломан продолжал: – Я бы сказал, что в этом замешаны по меньшей мере двое мужчин, быть может, ее родственники, да и спрятать эту клетку так высоко… – Это тандур, – перебила его Клоридия. – Как-как? – спросил я, не припоминая, где уже слышал это слово. – Я тщательно осмотрела его. Сосуд с отрезанным срамным местом вашего товарища – это армянский тандур. – Армянский? – подскочил я. – Да, это что-то вроде печки. Теперь я вспомнил. Клоридия рассказывала мне о нем по возвращении с аудиенции аги. Речь шла о печурке, наполненной горячими углями. Ее ставят под стол, до пола укрытый шерстяным одеялом. Армяне обычно натягивают одеяло на себя, чтобы спрятать под него руки и ноги, и таким образом греются. – Значит, это действительно были османы! – воскликнул, я. – Ты сама говорила мне, Клоридия, что некоторые армяне из свиты аги требовали разжечь тандур, что, вполне возможно, могло вызвать пожар во дворце. Снова услышав имя аги, Коломан Супан побледнел, стал потирать руки и спросил Клоридию, уверена ли она в том, что это тандур, и как, черт побери, он функционирует. Пока моя жена отвечала на его вопрос, я вспомнил об армянине, с которым встречался аббат Мелани, и о мешочке с монетами, который вручил ему кастрат перед расставанием. – Это были армяне, господин Атто, – негромко сказал я ему, чтобы не услышали остальные. Я мрачно смотрел на него. – Армяне аги, если быть точнее. Вам это ни о чем не говорит? Может быть, у них есть сообщник, кто-то, кто дал им деньги за это убийство, много денег? Аббат молчал. – Наконец-то у нас есть доказательство того, что это были проклятые османы. И если они убили Драгомира, то, значит, они и есть убийцы Данило и Христо, – продолжал я, стараясь загнать его в угол. На лице Мелани не дрогнул ни единый мускул. Казалось, он спал. Я начал снова: – Вы хотели поговорить со мной, чтобы пояснить, что не виноваты. Целый вечер вы преследовали меня. Теперь я здесь и слушаю вас, ну же! Почему вам вдруг стало нечего сказать? Атто повернулся ко мне, и за черными стеклами очков я разглядел, как его брови сошлись на переносице, словно он пытался пронзить меня своим слепым взглядом. Он сжал губы, быть может, для того, чтобы сдержать слова, готовые уже вот-вот сорваться с его языка. Он был поистине упрям, этот старый кастрат. Он закрывал глаза на тот факт, что я уже не был тем простодушным остолопом, с которым он расстался на вилле Спада одиннадцать лет назад и которого снова нашел, как ему казалось, здесь, в Вене. Однако труднее всего ему было выносить то, что он потерял навыки риторики и острословия, которые раньше позволяли ему обмануть меня. И поэтому теперь он предпочитал ледяное молчание. – Этот Популеску был румыном, – зашипел он наконец. – Если бы ты не был так наивен в отношении того, что касается этих стран, то знал бы, что румыны тоже являются подданными Блистательной Порты. Как бы там ни было: турки, армяне или румыны – для меня нет никакой разницы: я здесь ни при чем. – Мы все мертвы, мы все мертвы! Неприятный ответ Мелани заставил меня умолкнуть, и я задумался о своем невежестве и неожиданной игре, представшей перед моим взором: широко раскрыв глаза, Коломан то и дело повторял эти ужасные слова. При этом он обеими руками прикрывал свое мужское достоинство, словно опасался, что неведомые чары могут отнять его и положить в какой-нибудь тандур в виде обрезков. – Минуточку, – перебила его Клоридия, – совсем не обязательно, что это были именно армяне аги. Девушка Популеску тоже была армянкой. Произнесенное без тени сомнения утверждение моей супруги оторвало меня от размышлений и удивило всех нас. – Как ты можешь быть так уверена? – спросил я. – Потому что Популеску хвастал, будто знает турецкие гаремы. – Верно, и ты назвала его евнухом, – вспомнил я, с содроганием понимая, что слова Клоридии были пророческими: на Кальвариенберг Драгомир лишился своего мужского достоинства. Если хорошо подумать, то речи Популеску о гаремах могли быть почерпнуты только из рассказов женщины, и в первую очередь турчанки. – Драгомир не мог видеть гарема, потому что мужчины, как я уже говорила, не имеют туда доступа, кроме вот разве что евнухов. Однако его слова выдали его знания о гаремах, которые могут быть только у того, кто там жил. Не достаточно побывать там пару раз. – Кроме того, – добавила Клоридия, – поскольку армяне – порабощенный турками народ, то многие должны работать слугами, а поскольку они ненавидят своих хозяев, то говорят о гаремах неприкрытую правду. Да и подробности о том, как там красятся, заставляют предположить, что источником Драгомира была женщина, а презрение по отношению к черным служанкам говорит о том, что рассказывала армянка. Потому что армяне презирают негров, которых считают нелюдьми, и ненавидят работать вместе с ними. – Срам Популеску, – заключила Клоридия, – могли положить в тандур в качестве предупреждения, чтобы армянских женщин оставили в покое. – Это невозможно, – запротестовал я. – Данило, Христо, а теперь и Драгомир. Они были друзьями, и вот теперь умерли, один за другим. Это не случайно. – Однако факт остается фактом, – заметил Симонис, – Драгомир заявлял нам, что собирается проверить, невинна ли его девушка. – И как он собирался это сделать? – спросила Клоридия. – Он хотел напоить ее водой с Sal armoniacum и дать понюхать порошок из корней одуванчика. Если она уже не девушка, то не сдержит мочу. – В таком случае ваш друг сам натворил дел! – возмущенно воскликнула моя жена. – Теперь я верю, что красавица оскопила его! – Очевидное доказательство того, что девушка, кроме всего прочего, не была невинна, – заметил Пеничек. – Молчи, младшекурсник! – раздраженно прикрикнул на него Симонис. – Каким же идиотом был Драгомир! Как можно было связаться с армянкой? – хрипел Коломан, с трудом ворочая языком от страха. – Почему? – удивился я. – С этими людьми шутить нельзя. Не рассказывайте мне, что не знаете об этом: кофеен нужно избегать, как чумы, всех. Каждый дурак знает, что армяне – самые ненадежные, самые подлые люди вообще. Они не считаются ни с кем и ни с чем, это отродье сатаны, эти змеи в человеческом облике! Коломан напомнил мне об историческом событии, о котором уже когда-то говорил: во время большой осады Вены турками в 1683 году за неделю до решающей битвы было совершено ужасное предательство. Кто-то из города информировал османов о том, что силы Вены на исходе и ее можно взять очень легко. Народное ополчение сражалось бы, но там оставалось всего пять тысяч солдат. А жители были готовы к перемирию с турками, чтобы не выносить более невзгоды осады и избежать опасности быть убитыми в случае поражения. Противостояние между военными и народом еще не было окончательным, и 5 сентября оно находилось в очень щекотливой стадии, победить могла как одна, так и другая сторона. Во всеобщем замешательстве, царившем в городе, охрана крепости была ослаблена. И именно в эти часы предатель сделал свое черное дело: он передал туркам пачку конфиденциальных бумаг, где описывался раскол между мирными гражданами и военными, из чего турки могли ясно понять, что настал наилучший момент для атаки. Гнусный шпион (имя которого никто не знает) был слугой купца, известного гражданам Вены под именем доктора Шахина. К счастью, турки, несмотря на столь ценную информацию, решили подождать. Тем временем подошло подкрепление христианских армий, которые затем принесли славную победу в битве 12 сентября. – А дальше? – Предатели, Шахин и его безымянный слуга, те, кто впрыснул в страдающее тело осажденного города смертельный яд предательства, оба были армянами. После этого он жарким, возмущенным тоном заявил, что армяне изначально были жителями далекой империи между Турцией и Персией, которую подчинили себе османы. Они начали продвигаться на Запад, то из Крыма, то даже из Константинополя, столицы Османской империи, через Польшу и Галицию и, наконец, явились в Вену. Они ненавидят турок, которые подавили их небольшую, но древнюю империю, и от ига которых они мечтают освободиться. Поэтому многие курсируют в качестве шпионов между Веной и Блистательной Портой. При первой же возможности они пользуются доверием, с которым относится к ним придворный военный совет, и продаются врагу. Они способны на самые отчаянные поступки и терпят невероятнейшие тяготы; переодеваясь торговцами, переводчиками и курьерами, помогают своим хозяевам в саботаже, клевете и убийствах. Они неделями водят по пустыням караваны, не боясь голода, жажды и усталости, и до преклонного возраста просто неутомимы. Они умеют обращаться со взрывчатыми веществами, им ведомы тайны целительства и алхимии. Яд – их самое проверенное средство. В качестве платы за свои услуги они получили императорским декретом лицензию на открытие кофеен, или места придворных курьеров, что позволяет им перемещаться по своему усмотрению между империей и странами Востока. В землях, расположенных между Польшей и Австрией, появляются места, где живут только армяне, где они, освобожденные от налогов, правят при помощи своих законов и судей и, кроме того, обладая официальной монополией на переводческую деятельность, могут контролировать весь поток товаров, идущий не только с востока на запад, но и с юга на север. Благодаря таким преимуществам они обогащаются за счет самых гнусных сделок. Вот и армянин по имени Йоханнес Диодато, большой приятель того Шахина, который предал город во время осады 1683 года, вскоре после освобождения Вены поспешил к остаткам турецкого лагеря, чтобы продать оружие, которое оставили побежденные, а после завоевания Буды он промышлял работорговлей. – О пользующемся дурной славой Георге Кольчицком, том самом основателе кофейни «Голубая Бутылка», – взволнованно продолжал Коломан, – говорят, что во время осады он спокойно курсировал между вражескими позициями, передавая депеши. Он работал в качестве императорского шпиона против турок, однако наверняка бывало и наоборот. На османской территории они крали серебряные монеты и потом контрабандой перевозили их в империю. Благодаря протестам венских купцов около тридцати лет назад удалось добиться высылки почти всех этих жутких людей. – Однако военному совету они были по-прежнему необходимы, и в конце концов им было разрешено вернуться, – пояснил студент-венгр. – А кофейни? – спросил я. Они – не что иное, как места, где наглый армянский народ торгует тайными посланиями, доносами, подкупает людей и плетет интриги. При этом они сами оказываются почти неприкосновенными: если они вызывают недовольство и поднимают слишком большой шум, то отправляются в Константинополь, чтобы через некоторое время снова вернуться, совершенно безнаказанными. Они женятся только на своих, чтобы упрочить деловые связи. Однако поскольку существа они ужасные, то время от времени разоряют друг друга, донося императору на друзей и родственников. Я слушал, охваченный безграничным удивлением. Те красивые кофейни, их возвышенный мир, аромат кофе – за всем этим скрывались, по словам Коломана, обманы и подлость, в которых никогда не давала себя заподозрить милая моему сердцу Вена. – Если речь идет об интригах, – продолжал Коломан, – то армян ничто не сможет остановить. Мало того что этих скользких как угри армян нельзя было поймать, их еще и распознать трудно: вот как с этим Шахином, предателем осажденного города в 1683 году, внезапно оказалось, что его зовут Калуст Нервели, или Каликст, или Бонавентура; а его друг Диодато еще отзывался на имя Ована Аствацатура. У других даже фамилий не было, как, например, у загадочного Габриэля из Анатолии, который в 1686 году с грохотом поднял в воздух пороховой погреб в замке города Офен, или, как его еще называют, Буды, так что императорские войска спустя более чем столетие смогли снова отнять его у турок. – И дураками были мы, – заключил Коломан Супан. – Драгомир сказал нам, что девушка работает в кофейне. А все эти заведения в руках армян. Конечно же, она тоже армянка. Мы должны были подумать об этом и предостеречь его. – Действительно, Популеску описывал ее нам как женщине со смуглой кожей, – подтвердил Симонис. – А еще он говорил, что брюнетка получила информация о Золотом яблоке от своего работодателя, – добавил я, – который, судя по всему, должен быть армянином, хозяином кофейни… Я умолк. Я машинально повторил мысленно слова «брюнетка» и «кофейня», словно в поисках скрытого смысла. Наконец я понял. Открыв рот, я уставился на Клоридию. – О чем ты подумал? – спросила она. – О «Голубой Бутылке», о предпоследнем разе, когда мы там были. Помните, господин Атто? Нас обслуживала брюнетка, которая подала вам тогда шоколадный шарик. – Если венские кофейни все в руках армян, как ты мне говорил, – заметил Атто в приступе внезапной недоверчивости, – то в них полно официанток-брюнеток. – Если все так, как я говорю, если та женщина, которая обслуживала нас, та же самая, которая договорилась с Популеску встретиться на Кальвариенберг, то и речь о текуфе, которую мы выслушали в «Голубой Бутылке», тоже могла быть нарочно подстроенной угрозой. – Точно, – согласился со мной Симонис, – может быть, он был родственником девушки и знал, кто мы такие. – И та толстуха, которая подавала нам кофе, тоже смотрела на нас злобно, – добавил я. – Что, безумные речи старого идиота – предупреждение? Да никогда в жизни! – резко отчеканил Мелани. Атто притворялся равнодушным, однако я хорошо видел, как он едва не умер от страха, когда проклятие текуфы в довершение всего пролилось на его голову кровью несчастного Популеску. Теперь он просто хотел отвлечь мое внимание от своих крайне подозрительных дел с армянами.* * *
В Химмельпфорте я помог Камилле уложить старого кастрата в постель. В соседней комнате тяжело храпел Доменико, простуда не оставляла его. Прежде чем пожелать Атто доброй ночи, я не смог удержаться и сказал: – Вы по-прежнему убеждены, что Данило, Христо и Драгомир умерли один за другим, в течение очень короткого промежутка времени, совершенно случайно? – Я не изменил своего мнения. Я по-прежнему не думаю, что они были убиты из-за расспросов о Золотом яблоке. Однако я никогда не утверждал, что их смерти не связаны между собой.Вена: столица и резиденция Императора Вторник, 14 апреля 1711 года День шестой
7 часов: звонит Турецкий колокол, также именуемый Молитвенным
С давних пор человек мечтает подняться в светлый эфир и избавиться от вечного клейма смертного существа, которое может подняться в небо только распрощавшись с земной оболочкой. – Ближе к делу, младшекурсник. Нам нельзя терять времени, идиот ты этакий. Правда, господин мастер? Я с удовольствием отправился бы еще в Хафнерштайг, чтобы поправить дымоход Антона де Росси, бывшего камергера кардинала Коллонича и друга Гаэтано Орсини. Однако вместо этого я едва успел выполнить обязательную дневную норму, ибо после того, как я поработал всего три часа, меня позвала Клоридия. Ей нужна была моя помощь. Жена камергера из слуг принца Евгения вот-вот должна была разродиться, и моя супруга, будучи хорошей повитухой, старалась проверять ее состояние как можно чаще. Поскольку она, конечно же, не могла взять с собой аббата Мелани, то ненадолго поручила его моим заботам. И вот Симонис, мой маленький сынок и я в этот ранний утренний час сидели в обществе Атто и Пеничека в «Желтом Орле», пивной в греческом квартале, неподалеку от Химмельпфорте. Бедный хромоножка как раз представлял нам результаты своей работы: по вчерашнему поручению моего помощника студент из Богемии еще ночью попросил у других студентов материалы и утром, как только открылись библиотеки, неустанно искал книги, которые могли прояснить нам тайну полета. Мы с Симонисом были совершенно уверены, что все это нам не приснилось. Летающий корабль действительно поднимал нас в воздух и носил высоко в небе над Веной. Теперь нам хотелось знать, можем ли мы использовать полет так, как предложила Клоридия. Я надеялся, что собранная Пеничеком информация даст нам на это ответ. Мы скрыли свое приключение на Летающем корабле не только от богемца, но и от аббата Мелани. Слишком велика была опасность того, что нас объявят сумасшедшими. Кроме того, я не доверял Атто. Чтобы избежать посторонних ушей, Симонис выбрал «Желтого Орла» в греческом квартале, что неподалеку от мясного рынка. Поскольку там часто бывали соотечественники моего помощника, пивная называлась «греческим трактиром». Несмотря на слепоту, аббат Мелани заметил, что мы находимся в довольно необычном для его положения заведении. – В пивные, – пояснил я, – ходит только простой народ, и никто больше. – А почему? – Граждане Вены ничто не ценят так, как разделение общественных слоев. Поэтому здесь нет и бильярда. И на столах можно увидеть только игральные кости и немецкие карты. Я рассказал ему, что каждая игра – как и все в Вене – демонстрировала богатство того, кто в нее играет. Бильярд считается очень почетной игрой, поэтому в домах богатых людей для него даже выделяется отдельная комната. Также в кофейнях, куда ходят только зажиточные господа, существуют столы для бильярда и там запрещено играть в карты и кости, которые считаются типичной игрой плебса и всегда сопровождаются руганью и проклятиями. В этой же пивной (это слышал и Атто) играют в карты и кости: времяпровождение для грубых подмастерьев. – А в Париже в карты играет даже король! – с улыбкой заметил Атто. – В Вене тоже, честно говоря, – сказал Симонис. – Однако французские карты – для дворян и состоятельных людей, немецкие же карты – для простого народа. Чтобы сделать французские карты более ценными, их производство было даже запрещено. Их нужно было завозить, а рисовальщики Вены могли создавать только немецкие карты, с помощью которых можно было, впрочем, заработать очень мало. Из-за войны с наихристианнейшим королем французских карт теперь вообще было не достать. – Если бы я знал, то привез бы с собой целую кучу карт, чтобы продать их здесь! – рассмеялся Атто. – Хорошо, давайте вернемся к теме полета, – сказал я, обращаясь к Пеничеку. – Не понимаю, почему вы попросили этого славного молодого человека преподать вам урок касательно такой забавной вещи? – спросил Атто. – О, гм… тут ничего особенного нет, господин аббат, – ответил Симонис. – Мне нужна эта информация, чтобы подготовиться к экзамену. Продолжай, младшекурсник.Сладкая тоска по полету, снова начал Пеничек, присуща ужа эпическим сказаниям древних греков: кто не знает мифа о Дедале и сыне его Икаре? Во время своего бегства из Миноса они воспользовались крыльями, сделанными из дерева, на которые воском приклеили перья. А кто не помнит легенду о Симоне волхве, который в Древнем Риме пытался полететь на глазах у Нерона с помощью очень неуклюжего снаряжения? К несчастью, Икар подлетел слишком близко к солнцу и рухнул на землю, потому что жар растопил воск на его крыльях. И едва Симон-волхв поднялся в воздух, как уже лежал на земле, разбившись насмерть. В мрачные столетия Средневековья попытки продолжались. Некий Армен Фирман построил в испанском городе Кордова гениальный механизм в виде крыла, для которого он использовал свой собственный плащ и еще кое-что. Быть может, сооружение было чересчур рудиментарным: Армен Фирман спрыгнул с башни, упал, переломал все кости и только чудом остался жив. Однако священный огонь попыток взлететь не угас. В той же Кордове несколько лет спустя некий ибн Фирнас, очень ученый химик, физик и астроном, спроектировал летающую машину которая могла подниматься в воздух с человеком на борту. Лет чик, понятное дело, большой оптимист, решил организовать торжества по случаю успеха своего эксперимента еще до его про ведения и попросил всех жителей Кордовы выйти на улицу чтобы присутствовать при сем событии. В трепетном предвкушении жители Кордовы заполнили каждый уголок города и терпеливо смотрели, подняв головы вверх, на расположенный неподалеку холм, с которого Фирнас храбро поднялся в воздух за штурвалом своего летательного аппарата. В первые мгновения планирование протекало спокойно и уверенно. Однако когда Фирнас стал опускаться, то потерял контроль над судном и при посадке сломал себе позвоночник. Завистникам, которые отпускали замечания вроде «я так и знал», «это было ясно с самого начала», «опять сумасшедший», он отвечал, что на самом деле он кое о чем забыл: у птиц, повелителей воздуха, есть хвосты. Он пообещал немедленно заняться этим. К сожалению, времени у него уже не осталось: он вскоре умер из-за полученных ран. – И что ты будешь делать со всеми этими историями? – снова вмешался аббат Мелани. – Подождите, синьор Атто, подождите, – торопливо перебил его я, – рассказывай дальше, Пеничек. В Османской империи тоже, продолжал Пеничек, уже давно можно отметить блестящие успехи на поприще полетов. К примеру, там был известный и уважаемый Лагари Хасан Челеби, который первым храбро поднялся в воздух в ракете. Заряд состоял из просторной клетки с крышей в форме конуса – с целью облегчения прохождения эфира, – по краям наполненной порохом. Эксперимент, проводившийся во время свадебных торжеств дочери султана Мурада IV, был памятным, очень шумным и эффектным. Лагари Хасан Челеби с ужасным грохотом приземлился в воды Босфора, что сильно напугало большую часть публики и вынудило к беспорядочному бегству; пилот чудом остался в живых. Султан же Мурад IV нашел посадку очень элегантной, смеялся от всего сердца, аплодировал Лагари Хаса-ну Челеби и вознаградил его хорошо оплачиваемым местом в османском войске. Мужественный пионер, возможно, получил бы еще что-нибудь, если бы султан прожил дольше. Вот только вскорости он умер, поскольку на протяжении многих лет злоупотреблял алкоголем (что, по мнению некоторых, объясняло, почему Мурад IV и многие его подданные, присутствовавшие при спектакле, оценили посадку настолько по-разному). Прошло несколько столетий, прежде чем была предпринята новая попытка: то был человек из Тосканы, некий Леонардо да Винчи, который спроектировал несколько предназначенных для полетов аппаратов. – К сожалению, ни одна из его машин так и не оторвалась от земли ни на волосок, и поэтому Леонардо да Винчи в отличие от Лагари Хасана Челеби, ибн Фирнаса и Армена Фирмана будет предан забвению, – заметил Пеничек. В той же Тоскане, в милом городке Аквилея, в начале шестнадцатого столетия другой Леонардо да Винчи приобрел большое уважение, поскольку намного превзошел других пионеров – Теобальдо Скапестри, соотечественники называли его Толстоголовом из-за настойчивости и невероятной прочности черепа. Теобальдо даже работал вместе с Леонардо и сопровождал его в нескольких учебных поездках. Однако довольно скоро он понял, что многого может добиться сам, и, благодаря кстати подвернувшемуся наследству, которое случайно сделало его богатым человеком, он с непоколебимой уверенностью вернулся в Аквилею: если использовать полученные от Леонардо знания, то он наконец сможет сконструировать летающую машину. В два счета он соединил смолой пару свай и натянул парус из грубого сукна. Итак, в одно прекрасное утро 1514 года он взобрался на местную башню и взревел: – Я лечу-у-у-у-у! А затем бросился вниз, дико размахивая крыльями. Он камнем упал между рыночными лотками на телегу продавца яиц, который не оценил научного значения происшедшего и немедленно потащил незадачливого ученого к судье, чтобы заставить его оплатить убытки. Однако Толстоголов был не тем человеком, который сдастся при первой же трудности, и уже вскоре он повторил свой эксперимент: на этот раз он четко нацелился на несколько мешков с семенами, а в следующий раз – на навозную кучу. Только вот Аквилея воспротивилась его занятиям, и бургомистр вынужден был запретить храброму Теобальдо какие бы то ни было опыты. Впрочем, этот смелый человек не сдался, а попросил разрешения проводить свои упражнения в ночное время, так как темнота была на его стороне. План получил одобрение жителей города и бургомистра, поскольку таким образом никто не подвергался опасности, что в него попадет Теобальдо. С того дня каждую ночь аквилейцы слышали знакомый крик «Я лечу-у-у-у!» и вскоре после этого – удар тела Теобальдо о мостовую. Так продолжалось несколько лет. В городке уже привыкли встречать Теобальдо на улице с перевязанной головой, в сопровождении толпы детишек, которые насмехались над ним и забрасывали камнями. Однажды ночью 1522 года снова послышалось привычное «Я лечу-у-у!», а затем только далекий смех. С того дня никто больше не слышал о Теобальдо Скапестри. Некоторые полагали, что ему наконец удалось подняться вверх и он улетел, словно орел, неведомо куда. Другие же говорили, что своими противоестественными занятиями Толстоголов разозлил дьявола, после чего тот явился в Аквилею и забрал его. Пьяница, который в ту ночь спал на площади, рассказывал странную историю: Теобальдо поднялся на башню, прокричал свое «Я лечу-у-у!», затем положил правую руку на левый локоть, а средний палец левой руки показал всему городку; затем спустился по лестнице и, смеясь от всего сердца, уехал прочь на муле. – По легенде призрак этого пионера воздухоплавания все еще бродит по Аквилее, – закончил Пеничек. – Некоторые утверждают, что время от времени можно услышать печально известный крик «Я лечу-у-у!», а затем удар о мостовую. Суеверные торговцы избегают ставить свои повозки под башней, чтобы утром не обнаружить их разбитыми. Увидев наши разочарованные лица после своих историй, которым было по меньшей мере две сотни лет, Пеничек быстро добавил, что, к счастью, ему удалось найти кое-что поновее. Кроме того, это самая интересная часть доклада, и в центре ее, как обычно, оказался итальянец: отец-иезуит. Его звали Франческо Лана, он родился в 1631 году вБрешии, в семье благородных родителей, в шестнадцать лет вступил в орден иезуитов, где серьезно занялся штудиями в области математики и естественных наук. Его легендарный гений и неутомимое усердие привели его во многие города Италии и, наконец, к решению заняться педагогической деятельностью, и вскоре он привлек к себе внимание исследователей со всего света. В возрасте тридцати девяти лет он опубликовал в Брешии свой главный труд: трактат под названием «Продром, или Обращение с разнообразными открытиями», в котором с неповторимым остроумием описывал многочисленные научные вопросы и, среди прочего, план летательного аппарата. В этом месте мы очнулись от полудремы, в которой пребывали во время всего предыдущего доклада Пеничека. Проект Ланы, пояснил он, базируется на простом утверждении: воздух обладает определенным собственным весом, который, впрочем, намного меньше, чем у других вещей, однако если тело легче того воздуха, который вытесняет, то оно сможет подняться вверх. Соответственно, если с помощью обычного насоса из пары больших и очень легких шаров, которые, к примеру, сделаны из очень тонкого листа меди, высосать воздух, то они станут легче окружающего воздуха, вследствие чего сами поднимутся ввысь и при этом смогут поднять даже небольшое судно. – Что-то вроде… Летающего корабля! – заметил я. – Иезуит действительно назвал свою идею именно так, – сказал Пеничек, показывая нам копию проекта Ланы, которую срисовал с одного из экземпляров трактата.
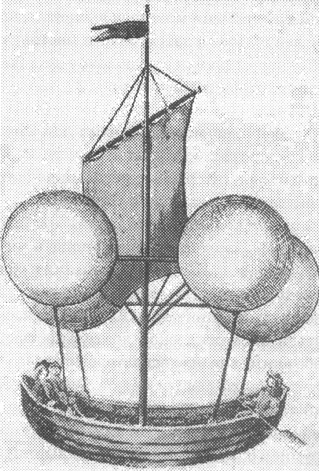
– И… этот корабль когда-нибудь летал? – спросил Симонис. На самом деле, пояснил младшекурсник, описанный в «Продроме» корабль никогда так и не был построен. Некоторые полагают, что иезуит добровольно отказался от этого, поскольку опасался, что тот, кто будет управлять кораблем, подвергнет опасности свою жизнь и жизнь других людей. Лана удовольствовался тем, что представил проект на основании небольшой модели во дворе флорентийского палаццо иезуитов. Однако никто не знает, летала ли эта модель в действительности. Итальянский ученый в любом случае не был склонен к тому, чтобы строить свой корабль, поскольку был убежден, что им тут же воспользуются в военных целях. К сожалению, никому не удалось переубедить его. Из-за болезни сердца иезуит скончался в 1687 году в возрасте всего лишь пятидесяти шести лет, а открытие его так никогда и не было воплощено в жизнь.
Мы с Симонисом разочарованно переглянулись. В сообщении Пеничека была пятая доля бесполезных анекдотов и давно минувших событий, в то время как о единственном свидетельстве, которое было близко к тому, что пережили мы, он смог предоставить только общую информацию. – Ну, надо же, чтобы мне попался именно такой глупый младшекурсник из Праги! – раздраженно проворчал грек и с наигранным отчаянием схватился за волосы. – Последний вопрос, – сказал я, толкая локтем своего подмастерья, чтобы он не мучил бедного Пеничека без нужды. – Каким образом корабль Франческо Ланы мог повернуть в каком-либо направлении, после того как поднялся в воздух? – Об этом в «Продроме» не написано. Говорят, Лана размышлял о системе шатунов, которые могли влиять на управление кораблем. Если он ими вообще пользовался, то только во время своего эксперимента у иезуитов во Флоренции. Однако это только разговоры – доподлинно ничего не известно. Симонис негромко выругался, проклиная себя самого, младшекурсника и даже благородный ритуал снятия, который навесил ему глупого пражанина, словно колодку на ногу.
Студенты попрощались. Пеничек получил от Симониса приказ еще раз просмотреть собранные документы, чтобы найти в них более полезные вещи, а затем отправляться в Alma Mater Rudolphina, чтобы посетить там вместо Симониса несколько лекций, и сразу же принести ему записи в монастырь. Мой подмастерье собирался снова приступить к работе вместе с малышом: нам нужно было срочно произвести некоторые работы по прочистке дымоходов в предместьях. К сожалению, путь был слишком далек, чтобы брать с собой аббата на повозке. И мне пришлось остаться одному с Атто. – Ну что ж, может быть, теперь мы поговорим о более серьезных вещах? – начал старик, едва остальные ушли. Я готов был отдать все, чтобы этого разговора не было, мне и так вчера вечером пришлось бежать от аббата Мелани сначала во время репетиции «Святого Алексия», а затем в «Голубую Бутылку». Смерть Популеску тоже отвлекла нас, однако сейчас никакой возможности избежать этого не было. Я был преисполнен решимости не дать себя вновь вовлечь в эти дела. Тысячу раз злобному кастрату обманом удавалось получить от меня то, что ему было нужно, после чего он гнал меня на все четыре стороны. На этот раз я не поддамся, его извинения не тронут меня и не убедят. – Мальчик, мне нужно выполнить миссию. – Это меня не касается. Это ваша миссия, не моя. Вы вознаградили меня за услуги, оказанные в Риме. Счет покрыт. Я ничего вам не должен. И я не намерен ввязываться в политические интриги. Вы – подданный наихристианнейшего короля, я – подданный императора. Я не хочу иметь ничего общего с Францией, врагом Австрии. Если я могу сделать что-то для его императорского величества, я это сделаю. Но не вместе с вами. – Ты не доверяешь мне, – ответил аббат. – Я давно это пенял. Но разве ты не видишь, что нужен мне? И не только потому, что я стар и слеп и ни на что уже не гожусь. С твоей помощью раньше мне удавались и более сложные вещи. – Конечно, – с сардонической ухмылкой ответил я, – однако только с помощью лжи. Вы лжете. Вы всегда лжете. Каждый раз вы действовали по своему усмотрению. Вы хорошо хранили себя и свой тайный план, не говоря мне правды. Вы всегда использовали меня как раба. – Это неправда, я никогда не собирался делать ничего подобного! – живо возразил он. – Однако факты утверждают обратное, синьор Атто: когда мы познакомились, я был еще мальчиком, а вы своими бесстыдными речами… – Ты хочешь, чтобы мне опять стало плохо? – перебил меня Атто, делая трагичное лицо. – Ах, да оставьте же вы этот пафос! – гневно ответил я, поднимаясь. – Лучше следите за тем, чтобы не пить слишком много шоколаду! – Теперь ты за мной еще и шпионишь? – Прекратите, оба!
То был голос Клоридии. Она, запыхавшись, прибежала к нам, держа в руках листок бумаги. – Клоридия, не вмешивайся, пожалуйста. Аббату и мне… – Сначала прочтите это. Она развернула лист бумаги и протянула его мне. Это была так называемая листовка, одна из тех сложенных вдвое газет, которые появлялись нерегулярно и печатались только в исключительных случаях. Я прочел ее на одном дыхании и побледнел. Затем перевел ее для аббата Мелани. Он схватился за спинку стула, словно груз прожитых лет внезапно стал для него неподъемным. Великий дофин, старший сын наихристианнейшего короля, был тяжело болен. В листовке не говорилось об этом прямо, однако болезнь могла представлять такую же угрозу для его жизни, как и для Иосифа I.
У наследника французского трона была оспа.
* * *
Весь мир на моих глазах перевернулся с ног на голову. Какая-то загадочная сила сделала так, что обоих главных противников в войне за испанское наследство, Австрию и Францию, одновременно постигла одна и та же смертельная болезнь. С одной стороны она обрушилась на молодого правителя, а с другой – на наследника старого короля, которому наверняка жить оставалось немного. Говорили об оспе, но название не имело значения: смертоносные когти вцепились в важнейшего противника в войне за Испанию. Или же это случайно, что австрийский император и наследник французского трона одновременно заболели болезнью с одинаковыми симптомами, причем посреди ужасной войны, сотрясавшей всю Европу? Конечно же, нет. Теперь я был уверен как никогда, что неизлечимый яд в этот миг выполнял свое медленное коварное действие. Какой же план был при этом у аббата Мелани? Атто прибыл в Вену, чтобы вместе с турками устроить заговор против императора; не случайно ведь он появился через день после прибытия аги и начала болезни Иосифа. Однако великого дофина Франции аббат наверняка не собирался травить: в восемьдесят пять лет не меняют кормящую длань.Я смотрел на Атто, и он, словно почувствовав это, повернулся ко мне. То было уже не лицо старика, которое я видел только что, а маска, будто Атто был уже трупом. Кожа приобрела пепельный оттенок, рот приоткрылся, зубы едва не выступали из впалых щек, губы и глазницы посинели. Франция вот-вот готовилась потерять своего первого наследника престола, и кто знает, кого еще. Быть может, все кончится так же, как в Испании, которую сейчас раздирали те, кто оспаривал право на ее останки… Все мыслимые опасения отчетливо мелькали на его желтом, пергаментном лице, просвечивавшемся сквозь тщательно нанесенный слой белил. И мои подозрения рассыпались, словно карточный домик. Атто никого не отравлял, и если он случайно прибыл в город одновременно с посольством турецкого аги, то все мое раздражение по отношению к нему основано просто ни на чем… Кем или чем бы ни была та темная сила, которая теперь решала вопросы жизни и смерти в Вене и Версале, аббат Мелани был ни при чем. Клоридия смотрела на меня с серьезным выражением лица и гладила меня по руке: она прочла мои мысли. Мелани попросил меня увести его из трактира. Моя супруга кивнула и сказала, что будет ждать нас в Химмельпфорте. Мы с аббатом немного прошлись к расположенному неподалеку мясному рынку. На улице было полно народу, иногда мимо проезжали кареты: достаточно было слегка понизить голос, чтобы прохожие ничего не слышали. Он молчал. Я наблюдал, как он с трудом идет, опираясь на меня, как тяжело дышит. По быстрой пульсации вены на его морщинистой шее я понял, как часто бьется его сердце и мешает ему дышать. Я опасался, что ему снова станет плохо. – Синьор Атто, быть может, нам стоит вернуться в монастырь? Он остановился. Дрожащей рукой он потер прикрытые веки за черными стеклами очков, словно очнувшись от кошмарного сна. Затем выпрямил свою согнутую спину и глубоко вздохнул. Теперь лоб его был нахмурен, однако, казалось, что силы понемногу возвращались к нему. – Давным-давно, – мрачным голосом произнес он, – я тебе как-то говорил, что есть два типа поддельных документов. Первые, и это настоящие подделки, просто-напросто представляют собой ложь и ничего более. А другие – это подделки, в которых говорится правда. – Я помню, синьор Атто, – кивнул я. Неужели он хотел сказать, что листовка с известиями из Парижа может быть подделкой? – Подделки, в которых говорится правда, создаются с наилучшими намерениями: они, хотя и с искажением настоящих доказательств, должны служить распространению правды. А вот подделки первого рода суть ложь. Однако я не утверждаю, что их создают с дурными намерениями. Эта двусмысленная речь удивила меня. К чему клонит аббат Мелани? – Что ж, – сказал он, – на днях ты наткнулся на документ первого типа. Я вздрогнул. – Подделку, которая, тем не менее, была создана с похвальными намерениями, – пояснил он, – во имя мира. Услышав эти слова, я открыл рот и остановился. Я начинал понимать. – Проклятье, я никогда не должен был тебе этого говорить, – раздраженно прошипел он и ударил кончиком своей трости об мостовую. – Письмо, из которого вытекает, что Евгений хотел предать империю… то есть то письмо, которое находится в центре вашей миссии. Оно поддельное, да? – спросил я. От невероятного удивления голос мой прозвучал надтреснуто. – Позволь мне объяснить, мой мальчик, – сказал он и сжал мою руку немного сильнее.
Большая часть истории,которую рассказал мне Атто, была чистой правдой. Действительно, в начале года неизвестный офицер явился к испанскому двору в Мадриде, где правил Филипп Анжуйский, внук Людовика XIV. И офицер действительно, прежде чем исчезнуть в неизвестном направлении, смог вручить Филиппу то письмо, в котором можно было прочесть, что Евгений Савойский готов продаться врагам-французам за соответствующее вознаграждение. Верно было и то, что молодой католический король Испании был словно громом пораженный, когда прочел эти строки. Однако теперь Атто рассказал мне, что было дальше на самом деле. Филипп отослал копию письма своему деду, «королю-солнце». Правитель Франции тоже был в растерянности. Письмо проверил и министр де Торси, и вот он отреагировал совершенно иначе. – Торси утверждал, что Евгений никогда не писал такого письма. Принц Савойский никогда не допустил бы подобной глупости: предлагать себя врагу и тем самым ставить на кон все, что он завоевал на службе империи – славу, власть и богатство. Министр наихристианнейшего короля был убежден, что речи шла о поставленной самим Евгением ловушке – хитрости, которая, по его мнению, полностью соответствовала неискреннему характеру полководца. Получив утвердительный ответ от французов на свое предложение, он объявил бы о заговоре против себя, затеянном заговорщиком из Вены, который был заодно с врагом. – И Торси был прав? – И да и нет. Письмо действительно было поддельным, как он и утверждал. Однако Евгений никогда не поручал писать его, напротив, он ничего не знал обо всей этой истории. – Так кто же… Я остановился и задержал дыхание. Мгновение царила тишина. Я удивленно выпучил глаза. Молчание Атто было признанием, которое трудно было расценить неправильно. – Я надеялся, – продолжал он, опустив голову, – что тайный агент Франции передаст письмо императору. Да, я даже устроил так, чтобы приехать сюда лично и руководить операцией. Однако затем все застопорилось. К сожалению, Торси удалось убедить его величество ничего не предпринимать. Я никогда не ладил с этим министром: он слишком осторожен. И ему не оставалось ничего другого, пояснил Атто, как отправиться в Вену и передать письмо Иосифу I или посреднику вроде Пальфи. – Франция хочет мира. Я пытаюсь обеспечить его, – сказал он, – и если никто не поможет мне в этом, хорошо, я устрою все сам. За этими словами снова последовала тишина, нарушаемая только звуком наших шагов по мостовой, криками группы играющих в догонялки ребят, приглушенным смехом прогуливающихся дам, грохотом телеги, заворачивавшей за угол. Это молчание между мной и Атто говорило все: оно свидетельствовало о закате аббата Мелани, о его отчаянной попытке повлиять на ход политических событий, о равнодушии короля (который вопреки всему уделял внимание предложениям своих министров), об одиночестве старого советника короны, его бессилии и жгучем нежелании признавать себя побежденным. – Конечно, иностранные министры еще интересуются моим посредничеством для получения тайной аудиенции у короля, где хотят говорить об особенно конфиденциальных делах. Надежного посредника, которого ценили бы при дворе, не так-то легко найти, – произнес Мелани со вспыхнувшей вновь гордостью. – Однако совсем другое давать королю советы и убеждать его совершать нужные поступки. Все было ясно: Атто, верный слуга короля, был еще хорошим связным, когда нужно было получить аудиенцию у короля или его министров. Но его мнение при дворе уже ничего не стоило. Он пытался снова написать главу истории Европы, как ему удавалось это в прошлом. Правда, на этот раз ему приходилось действовать на свой страх и риск: в Версале никто больше не слушал старого кастрата. С этой целью он сначала нанял искусного каллиграфа, чтобы он написал поддельное письмо от имени Евгения (одиннадцать лет назад я сталкивался с таким на службе у Атто), а затем нужно было переправить его к испанскому двору. Я знал методы аббата Мелани, они были теми же, которые он использовал одиннадцать лет назад, когда велел подделать завещание умирающего короля Карла II, последнего испанского Габсбурга. Эта подделка позволила французскому Бурбону взойти на испанский трон. Кто в свое время передал листок с поддельной подписью в Испанию? С ней я тоже встречался: старая приятельница Атто Мелани, мадам Коннетабль Мария Манчини, тетя Евгения Савойского, бывшая возлюбленная Людовика XIV, долгое время была французской шпионкой при испанском дворе. Своими руками я мог коснуться их с Атто тайных махинаций в пользу Франции (да, я сам был тогда их ничего не подозревающим орудием) и был втянут в сомнительную смесь из романов, политики и шпионажа, которая связывала Марию Манчини, Атто и наихристианнейшего короля. Уже тогда я видел, с какой непринужденностью Атто и его друзья обращаются с подделками. И когда Атто вчера говорил с Клоридией о чашке испорченного шоколада, вызвавшего его недомогание, он дал понять, что все еще поддерживает связь с Марией Манчини.
Ирония судьбы. Одиннадцать лет назад эти трое – аббат, мадам Коннетабль и каллиграф – были инициаторами подделки. Подделанное ими завещание испанского короля стало искрой, от которой загорелся запальный шнур. Теперь именно эти же три человека хотели исправить ту колоссальную ошибку, и ничего лучшего в головы им не пришло, как шаг за шагом повторить то же самое: создать вторую подделку, письмо Евгения, и отвезти его в Испанию, чтобы покончить с войной, опустошавшей Европу и, что хуже, повергнувшей, вопреки всем ожиданиям, на колени саму Францию. Однако на этот раз ничего не вышло: горящий запальный шнур не хотел потухать; ход событий, приобретших со временем апокалиптический размах, нельзя было остановить во второй раз. И дряхлый кастрат вынужден был тряхнуть стариной и лично отправиться в Вену, чтобы передать императору копию поддельного письма, в надежде вызвать этим самым скандал, который лишил бы Евгения, противника мира, власти. – Некогда великие министры, мои друзья, все мертвы, даже те, кто был моложе меня, – с горечью говорил он, чтобы доказать мне, что при дворе его никто уже не слушает. – Такие люди, как Помпон, Шамильяр, де Лионн, Летеллье, – их больше нет. Да, с ними у меня были доверительные отношения. Остался только этот недоверчивый Торси, не случайно он сын этой змеи, Кольбера. Через Торси я не могу передать королю даже самой маленькой записки, не говоря уже о меморандумах, которые он получал от меня всю свою жизнь. Тот, кто сегодня хочет чего-то добиться для Франции, должен делать это сам. Именно это я и сделал, мой мальчик. Как по-твоему, слава Савойского стоит больше, чем мир? Вопрос был риторическим, и я не стал отвечать на него. Меня заставляло задуматься кое-что другое. Прежде именно я (правда, слишком поздно) обнаруживал ложь и тайные игры Атто, которые он проворачивал с моей помощью. Впервые за почти тридцать лет нашего знакомства я имел честь услышать из собственных уст Мелани признание в своих махинациях. Знак того, что времена изменились, подумал я, и что старый аббат уже не совсем соответствует эпохе. Он был единственным, кто остался в живых из минувшей эры, и его долголетие, вместо того чтобы принести ему покой и вознаграждение за труды, обрекло его на то, чтобы отпить из горького кубка поражения и забвения. Хуже того, судьба еще и сыграла с ним злую шутку. Он вошел в ворота Вены спустя почти сутки после прибытия турок и начала болезни императора. Случайность? Нет: насмешливая гримаса судьбы. Новому времени он уже не нужен. Существовал Атто или нет, не имело значения. В огромной фреске мира уже нигде не найти портрета аббата.
Я с сочувствием разглядывал несчастного старика. Он повернул ко мне лицо. И мне показалось, что я вижу раненую гордость, словно его слепые глаза угадали мое сочувствие. – И при этом я наизусть выучил все чертовы даты прибытия и отбытия официальной венской почты! Целый месяц мне потребовался на то, чтобы без ошибок оттараторить свою речь, поскольку я опасался, что на границе меня задержат и станут допрашивать, – пожаловался аббат. – Утром понедельника прибывает постоянная почта из Берлина, Бреслау, Нойса, Глатца, Ольмюца и Брунна, а кроме того, из Польши, – внезапно визгливым голосом поведал он. – Вечером ее доставляют из Брюсселя, Голландии и всех Нидерландов, из Англии и Испании только раз в две недели; затем приходит почта из Франции, Кельна, Франкфурта, Вюрцбурга, Нюрнберга, Мюнхена, Аугсбурга, Иншпруха, Тринта, Мантуи, Флоренции, Рима, Милана и Турина, а также из Зальцбурга, Пассау и Линца. Во вторник утром ее привозят из Праги, Дрездена, Лейпцига, Гамбурга, Нижней Саксонии, Хильдесхайма, Брауншвейга, Ганновера и Хальберштадта; затем – из Эдинбурга, Вараждина, Аграма и из Хорватии. С этой почтой путешествуют также денежные переводы и письма из Петервардейна. После полудня прибывают акции из Граца, Клагенфурта и Виллаха, а также из Венгрии и Зибенбюргена. В пятницу на восходе солнца то же самое, что и в понедельник утром, добавляется только Хорватия; вечером прибывают те же, что в понедельник, письма из городов империи, кроме Зальцбурга, Иншпруха и Тринта. Дополнительно еще из Праги, Венгрии и Зибенбюргена, как и во вторник. Ну, что ты на это скажешь? Неплохо для восьмидесятипятилетнего, а? – с вымученной улыбкой заметил он. Старый аббат хотел произвести на меня впечатление своей памятью, даром, который уже никто во Франции не ценил. Я ответил словами восхищения, которые наверняка прозвучали для моего собеседника несколько неискренне, поскольку он помрачнел еще сильнее, чем раньше. – Синьор Атто, я вправду хотел… – попытался я подбодрить его, подыскивая слова утешения, которые так и не сорвались с моих уст. Мелани остановил меня печальным жестом, словно говоря: «Ладно, ладно». Мы некоторое время шли молча, я поддерживал его за руку.
– Теперь, когда жизнь дофина в опасности, все стало яснее, – наконец продолжал он. – Что-то или кто-то интригует в равной степени против Франции и Австрии. Кто-то или что-то, кто выше всего, поскольку «король-солнце» и Победоносный – заклятые враги в войне, взаимно ослабляющей всю Европу. – Значит, вы сомневаетесь, что дофин действительно болен оспой? – А ты думаешь, что император болен? – с горьким сарказмом спросил он меня. Больше сказать было нечего. Теперь, когда великий дофин слег, Атто открыл свои истинные мысли: он никогда не верил, что у Иосифа Победоносного оспа. – Выдать яд за заразную болезнь легче легкого. Не только придворный лейб-медик, монсеньор Фагон, но и никто иной из врачей королевской семьи понятия не имеют, как лечить такой вид болезни, – заявил Атто. – Ибо, как только обнаруживают дом, где поселилась оспа или какая другая заразная хворь, медикам запрещается даже приближаться к больному. Чтобы ни один из членов королевской семьи не заразился. В таких случаях здравый смысл требует консультации с теми парижскими медиками, которые занимаются такими болезнями каждый день. – Может быть, они сделали это. – Они никогда этого не сделают, – с многозначительной улыбкой сказал он. – Это же могло случиться и здесь, при императорском дворе! – От испуга глаза у меня широко раскрылись. – Врачи императора могут столь же мало знать об оспе, как врачи великого дофина. Я сразу предположил, что за болезнью Иосифа I может скрываться неизлечимое действие яда, но осознав, что это подозрение подкрепляется словами Атто, я вздрогнул. Теперь я хорошо понимал, отчего на аббата на днях напали колики. Какой там шоколад и мадам Коннетабль! Нездоровье имело причиной болезнь императора: старый опытный шпион сразу понял, что в игру вступили злые неизвестные силы и что Франция в такой же опасности, поскольку не относится к этим силам. В некоторых играх, это понял даже я, нужно быть в числе убийц, если не хочешь оказаться жертвой. – Мальчик, – прошептал он, внезапно останавливаясь и хватая меня за плечо, – мне почти удалось в одиночку остановить войну в Европе, которая длится уже одиннадцать лет! Хорошо организованная группа заговорщиков может добиться многого, причем без усилий. – Турки! – воскликнул я и рассказал Атто о проделках дервиша с Угонио. – Угонио? – вздрогнул Атто, услышав имя осквернителя святынь. Я поведал ему о тех обстоятельствах, при которых обнаружил его. – Точно, теперь я вспомнил: это грязное создание ведь родом из Вены. Мир действительно тесен, – он почти недоверчиво покачал головой. – Спустя столько лет я и впрямь с удовольствием повидал бы его… или, скажем, снова встретился с ним, – печально поправился он, намекая на свою слепоту. То удивление, которое вызвали мои слова у Атто, уверило меня в том (если после его признания мне это и в самом деле было нужно), что он действительно ни при чем. Я сильно ошибался. Я пояснил ему, что Клоридия подслушала разговор Угонио и Кицебера, когда они планировали добыть чью-то голову. Аббат напряженно слушал меня. Я, рассказывая, внимательно изучал его лицо, однако черные стекла очков мешали мне разглядеть тайные движения его души. Я напомнил ему и о таинственном предложении, которое произнес ага в присутствии принца Евгения, и, наконец, подытожил все удивительными османскими легендами о Золотом яблоке. – Только одно мне неясно, – заключил я, – имеют ли отношение турки к болезни великого дофина? Блистательная Порта всегда была союзником Франции… – Это не важно. Важна методика. – Что вы имеете в виду? – Сами по себе османы – ничто. С течением столетий он всегда были вооруженной рукой Запада, которая сама восставала против Запада же. Двести лет назад король Франции, Франц I, предложил Сулейману Великолепному напасть на империю в Венгрии; предложение, которое было принято и успешно реализовано. В Италии город Флоренция попросил у Мохаммеда II помощи против Фердинанда I, короля Неапольского. Венеция пользовалась войсками султана Египта, чтобы прогнать португальцев с восточных берегов Средиземного моря, поскольку они мешали венецианцам заключать торговые сделки. Существует и множество итальянских военных техников, которые предлагали султану свои услуги, если их хорошо оплачивали. Когда Филипп II Испанский собирался захватить Португалию, он подарил королю Марокко территории, чтобы настроить его на мирный лад, и тем самым передал христианские земли в руки неверных – лишь для того, чтобы ограбить короля-католика! Даже папы Павел III, Александр VI и Юлий II искали поддержки у турок, когда это казалось им своевременным. И тридцать лет назад, в 1683 году, я слышал большую часть этих неславных примеров из уст Мелани. Только одного эпизода не хватало в рассказе Атто, и я понял, почему он умолчал о нем: в том же самом 1683 году наихристианнейший король тайно поддерживал турок, когда они осаждали Вену. – Османы – идеальный инструмент. За свою долгую жизнь я видел очень многих, и были среди них бандиты и злодеи. Мне было трудно поверить в это. Кто знает, сколько грязных сделок с неверными провернул Атто по приказу своего короля… – Среди этих бандитов были лица с живым выражением врожденной жестокости, – продолжал Мелани, – и раскаяние было неведомо им. Ибо не достаточно иметь душу, нужно ее наполнить еще и присутствием Божьим, чтобы страдать от своего падения, чтобы испытывать стыд. Христианские преступники, слава Господу, наоборот, носят на челе своем признаки борьбы со злом, пусть даже они и проигрывали бои. А среди османов преступники точно такие же люди, как мудрецы. Когда я смотрел на них, взгляд турецких бандитов был увереннее, чем мой. Я не мог не видеть в них людей с другой природой, отличной от нашей, людей, которые в действительности не понимали христианских значений слов «грех» и «добродетель». Тот, кто их не понимает, вне христианства, даже вне самой человеческой природы. Когда я имел дело с османами, мне довелось узнать, что в культуре, почти столь же древней, как христианская, все основано на совершенно иных устоях, что действительно существует такой феномен: люди без совести! Слова Атто озадачили меня. Теперь я всем своим существом испытывал страх по отношению к туркам, подобный тому, какой чувствуешь по отношению к урагану, который уничтожает людей и предметы, однако не знает всего этого, поскольку не имеет совести. Аббат, конечно, был прав: турки всегда были орудием в руках Запада. Разве Симонис не рассказывал мне, что и несчастный Максимилиан II, создатель Места Без Имени, стал жертвой предательства князей-протестантов, которые натравили османские войска на империю? И что сделал тот советник Максимилиана, Унгнад, когда путешествовал между Веной и Константинополем, чтобы манипулировать турками в своей интриге против императора? – Однако именно потому, что османы – кровожадная раса и всегда готовы к завоевательным войнам, – вставил я, – легко понять также, что они хотят напасть на Европу. – Кровожадная раса, всегда готовая к завоеваниям? – повторил, задав риторический вопрос, Мелани и снова сделал несколько шагов. – Я мог бы рассказать тебе такие вещи об Османской империи, которые ты себе даже представить не можешь. Знаешь ли ты, кто такие деребеи? – Дере… Кто? Как и каждая империя, пояснил Атто, Османская базируется на феодальной системе. Великого султана, абсолютного повелителя, представляет в провинциях сеть местных феодалов, которые при этом вовсе не преданы ему: деребеи. – Это маленькие жестокие властители, которые постоянно восстают против султана. Они присваивают себе собранные налоги, которые должны выплачивать султану, отказываются выполнять приказ о призыве центрального правительства и вместо этого нанимают войска для своего собственного войска; у них свой собственный флаг, своя униформа, часто они даже идут войной на султана. Почти вся Малая Азия разделена между горсткой таких вот деребеев. Не говоря уже о горных местностях, продолжал Атто, где не повинуются даже призыву к оружию. В гяурских областях ни один житель гор не носит униформу и не платит в казну султана ни пара, так называется сороковая часть пиастра. Если султан пытался заставить их повиноваться, они бежали в горы, оставляя войска блуждать по их брошенным поселениям. Или обрушивались массами на солдат султана в соотношении двадцать пять тысяч к тысяче, чего в целом достаточно для того, чтобы закончить войну и вернуть мир Константинополю. По крайней мере, до следующей кампании по набору рекрутов или до следующего срока сдачи налогов, когда война неизбежно разгорится снова. В Османской империи множество таких народов. Теперь ты понимаешь, сколь абсурдно утверждать, что турки только и ждут, чтобы напасть на соседние нации. Все совсем наоборот: у них огромные проблемы внутри страны, из-за которых внешние военные акции кажутся совершенно неразумными. То, что они желают любой ценой расширить свои владения за счет Европы, как они сделали, угрожая Вене, Венеции или же Венгрии, в то время как их собственная империя уже всего в нескольких милях от Константинополя абсолютно неуправляема, означает, что для них важнее не сохранить Османскую империю, а уничтожить христиан и их страны. – А разве вы не считаете это неизбежным? Речь идет о людях, которые совершенно отличны от нас, которые с рождения положительно не переносят христианскую религию. – И это тоже неверно. В Константинополе живет очень много христиан, и они свободно занимаются своими делами. Скажу тебе даже больше. Как и его предшественники, Сулейман Великолепный выбирал высших османских сановников через dev irme, так называемый «отбор мальчиков». Это нечто вроде инкубатора из пятнадцати тысяч мальчиков-христиан, которых каждый год султан велит похитить из Румелии, европейской части Османской империи, к примеру из Венгрии, а затем вырастить в Константинополе, потому что втайне он верит, что они превосходят турок по умственным способностям. Из вот этого «отбора мальчиков» затем выбирают тех, кто будет в числе янычар, элитного отряда, возглавляющего войско. У янычар, таким образом, нет ничего общего с турецкой кровью, тем более что они живут в целибате, значит, и потомства у них нет. Год за годом выпускающихся подростков заменяют новыми похищенными мальчиками. По прибытии в Османскую империю мальчиков тщательно осматривают по законам физиогномии: в зависимости от наклонностей, которые выдает та или иная черта лица, из них воспитывают слуг в личном дворце султана, работников в управлении или янычар в армии. – Высшие сановники, наиболее приближенные к султану, наверное, все же турки? – заметил я. – Наоборот. Великий визирь, то есть первый министр, который подчиняется только султану, почти никогда не бывает турком и мусульманином. Из сорока семи великих визирей, которые следовали один за другим в Блистательной Порте с 1453 по 1623 год, только пятеро были турецкого происхождения. Среди остальных одиннадцать были албанцами, шестеро – греками, один черкес, один армянин, один грузин, десять халдеев и даже один итальянец. И Ибрагим-паша, знаменитый великий визирь Сулеймана Великолепного был не турком, а венецианцем. – Как так, венецианцем? – Ну конечно! Он родился на территории республики Венеция. Поэтому я говорю тебе: разрушительной силы Мохаммеда на самом деле совершенно не существует, она – создание Запада, направленное против самого Запада. Эти слова заставили меня задуматься: разъяснения Атто col впадали с тем, что рассказал мне Симонис о Максимилиане и его борьбе против Сулеймана Великолепного. Огонь османской агрессии, направленной против императора, по словам моего подмастерья, разожгли князья-протестанты и их тайные партнеры, Илзунг, Унгнад и Хаг. После тщетной попытки обратить Максимилиана в лютеранство они отомстили ему, натравив на него турецкие армии. – Однако кредиторы сулеймановской осады Вены сидели в Константинополе, – заметил я. – Как ты думаешь, откуда они взялись, если не из Европы? Купеческие семьи, которые переехали в Константинополь из-за того, что там существует большая свобода для торговых сделок Никогда не было турок, которые были бы настолько богаты, чтобы пойти на финансовое разорение только ради удовольствия посмотреть на то, как султан будет сражаться против Священной Римской империи. Я удивился. Я по-прежнему не мог себе представить, что среди турецких тюрбанов, опознавательных знаков сторонников Мохаммеда, скрывалось больше европейцев, чем собственно турок. – В случае с Иосифом и великим дофином, – вернулся Атто к изначальной теме нашего разговора, – мы имеем дело с двумя покушениями, во время которых жертвы, к счастью, пока что остались живы. Чтобы найти решение, нам нужно подумать о манданте, который направляет турок по своему усмотрению и способен нанести удар на высшем уровне. Однако кто же это?
Внезапно аббат, казалось, утомился. Я предложил вернуться в «Желтого Орла». – Лучше присядем здесь, на краю дороги. Старого шпиона никогда не оставлял страх, что его подслушают, подумал я. Я повел его к лестнице стоящего немного в стороне от дороги здания, которое, видимо, было заколоченным уже не один год, кое-как почистил ступени от уличной пыли и помог аббату присесть. – Их могут быть тысячи, тех, кто хотел бы видеть мертвыми обоих правителей, – негромким голосом начал Атто, – и у всех на то свои причины. Морские державы, Голландия и Англия очень заинтересованы в том, чтобы ослабить Австрию и Францию, обоих главных противников в этой войне. Поскольку кто бы из них ни выиграл войну, он приобретет главенствующее положение, а этому они хотели бы помешать. Если выиграет антифранцузский альянс и Карл, брат Иосифа, взойдет на престол Испании, то в руках у Габсбургов будет Европа от востока до запада, от Вены и до Мадрида, и они станут очень сильными правителями. – Именно этому хотят помешать англичане и голландцы, воюя с Францией, – заметил я. – Все верно, и спустя одиннадцать лет они своего мнения не меняют. Они практически достигли своей цели – обезвредили Францию. С экономической точки зрения страна почти уничтожена. Кроме того, внук наихристианнейшего короля не так охотно поддается руководству своего деда, как предполагалось. Поговаривают, что он даже подумывает о формальном отказе от трона, чтобы покончить с войной. Теперь в мозаике не хватает только последнего элемента: лишить Людовика XIV наследника, который мог бы перечеркнуть план по обезвреживанию Франции. – А каким образом великий дофин может помешать их замыслам? – удивился я. – В газетах совершенно ясно пишут, что у него не настолько сильный характер, как у его отца. – Внешность обманчива, как и в случае с его матерью, покойной королевой Марией Терезией Габсбургской, упокой, Господи, ее душу. Он не любит громких слов и сознательно не вмешивается в политические и военные дела. Однако не потому, что ему не хватает опыта, а из-за большого уважения к его величеству. Франция и вся Европа очень много потеряют, если великий дофин умрет, потому что если он когда-либо станет королем, то для его собственного народа и для других стран настанет Золотой век. Кстати, в отличие от его отца, – и эти слова аббат подчеркнул особо, – если бы тщеславие не подстегивало его к реформам, которые могут помешать государственному миру, то он был бы поистине справедливым, рассудительным и добросовестным правителем, очень милосердным по отношению к беднякам. – А почему же такой миролюбивый король настроил против себя морские державы? – Власть Голландии и Англии основывается на всемирной торговле, и самые пышные барыши получаются только в войне. – Я думал, война вредит сделкам. – Маленьким – да, и очень. А крупные трансакции приносят прибыль благодаря ослаблению стран. Господь Бог дал людям для жизни плодородную землю. Но если поля становятся неплодородными из-за грабежей, пожаров и разорения войной, народ оказывается бессилен против спекулянтов и ростовщиков, которые заставляют их платить за товары в пятьдесят раз больше, чем они стоят! Проворство рук уже ни к чему крестьянам, если нужно выжить, нужны деньги, много денег, чтобы покупать то, что в мирные времена они безо всяких усилий производили сами. Без денег вообще ничего нет, даже в самой отдаленной деревне. Ты и представить себе не можешь, сколько людей бесконечно обогатилось за время войны. Возьми Тридцатилетнюю войну, которая разразилась менее столетия тому назад. Тогдашние ростовщики – сильные мира сего сейчас. И когда короли вынуждены были влезать у них в долги, то эти гарпии принимали в качестве вознаграждения даже дворянские титулы. «От пронырливого кастрата и до седого моралиста – как все меняется с течением времени!» – думал я, слушая Атто. Теперь аббат возмущается даже аристократией. Его рассуждения отличаются от тех, которые я слышал от него двадцать восемь лет назад; они казались мне совершенно идентичными речам моего покойного тестя, который был янсенистом. – С таким королем, как великий дофин, – продолжал Мелани, – Франция наконец отошла бы от наглости и разрушения; однако Англия и Голландия хотят, чтобы произошло совсем иное. Франция должна продолжать приходить в упадок, народ должен ненавидеть двор. Врагам Франции досадно, что у наихристианнейшего короля есть взрослые сыновья и внуки; идеально было бы, если бы у него вообще не было наследников или только младенец, что равнозначно. Потому что сегодня все не так, как тогда, когда наихристианнейший король взошел на трон в нежном возрасте, в четырнадцать лет: в то время королева-мать, Анна Австрийская и премьер-министр, кардинал Ришелье, а позднее кардинал Мазарини заботились о том, чтобы защитить страну от других претендентов. Теперь нет королевы и нет премьер-министра. Людовик XIV сосредоточил всю власть в своих руках. Если умрет он, то при регенте страна будет все равно что без руководителя, оставленная на растерзание первому попавшемуся интригану, быть может, даже кому-то из Англии или Голландии, кто придет, чтобы разрушить Францию. Однако существуют и другие проблемы, продолжал Атто. – Еще в феврале начали говорить о том, что Иосиф I вынашивает мысль предложить Франции разделение Испании, чтобы его брату Карлу досталась, к примеру, Каталония и ее столица Барселона. – Правда? Будет ли это хорошим решением для Испании? – Пожалуй, да. Однако знаешь, что это будет означать на самом деле: что оба главных противника, Франция и Австрия, будут управлять процессом мира, и судьба Европы, как и на протяжении столетий, останется в их руках. Именно этого не хотят ни Англия, ни Голландия. Морские державы хотят разрушить старый миропорядок и возвести новый, под своей эгидой. Нет, Франция и Австрия не могут сами заключить мир, им придется его выстрадать. На условиях Англии в основном и Голландии. – По вашему мнению, Иосиф I нежелателен для Англии и Голландии, что бы он ни сделал? – Вот именно. Война, мир – неважно: Австрия, Франция и Испания уже не могут сами распоряжаться своими судьбами. Англичане и голландцы хотят покончить с национально-государственным суверенитетом. Поэтому они приняли участие в войне и ждут не дождутся, чтобы разделить владения испанской короны в Новом Свете. Девственная земля, огромная, без права и закона. Все хитрые торговцы, которые были всегда, точно знают: тот, кто владеет этими территориями, тот держит в своих руках мир. И они нисколько не собираются отдавать его испанцам, французам или немцам. – Значит, по этой причине, – подытожил я, когда Атто закончил свою речь, – вы убеждены, что обе морские державы что-то предприняли против его императорского величества? – Это одна возможность. Но не единственная. Существовала и вторая гипотеза: причина внутри империи. – Ты знаешь, конечно же, что Карл и Иосиф презирают друг друга, – сказал Атто. – Они всегда ненавидели друг друга, с тех пор как отец настроил их таким образом, предпочтя младшего старшему. Природа одарила их слишком по-разному, семья сделала их врагами. С момента, как Иосиф стал императором, Карл ненавидит его до глубины души, будучи вынужденным сражаться за трон. Если бы Иосиф умер, то Карл поменял бы корону ненадежную, то есть испанскую, на верную и лучшую: императорскую корону в Вене. – У Иосифа только две дочери, единственный сын умер во младенчестве. Если он умрет, то ему наследует Карл. Разве это кажется тебе плохим поводом для убийства? Однако и это еще не все. За свою недолгую жизнь Иосиф нажил себе множество завистников. – Иезуиты ненавидят его. Когда он взошел на трон, он сразу же в грубой форме отстранил их от правления. Быть может, ты тоже слышал об угрозах, которые высказывают иезуиты по отношению к нему, все то время, как он сидит на троне. Иосиф приказал изгнать их. Но и старые министры его отца тоже ненавидят его: еще в юном возрасте Иосиф сражался против них, пока наконец не стал императором, потом он просто прогнал их всех. Всех, кроме одного. Но и он теперь ненавидит Иосифа. Я знал, о ком он говорит. – Господин аббат, вы мне уже показывали письмо принца Евгения, и оно было подделкой. – Да. Но все остальное, что я тебе рассказывал – Ландау, Евгений, его зависть по отношению к императору, страх оказаться не у дел, когда кончится война, – все это правда. – И если Иосиф действительно договорится с Францией о разделении Испании и передаче его брату Карлу Каталонии, мир будет заключен. – Именно так. Евгению никогда не удастся заставить своего молодого, но непреклонного императора изменить свое мнение. И нашему Савойскому, которому сорок восемь лет, приходится склониться перед всего лишь тридцатилетним императором. Если Евгений действительно стоит за попыткой отравить его императорское величество, то вынужден признать, что он хорошо рассчитал этот удар: в отличие от Иосифа, Карл обладает слабым характером, он не станет мешать ему продолжать войну, даже без поддержки Голландии и Англии. И если этот очаг войны затухнет, он найдет другой. Для Савойского любая война хороша; важно только, чтобы были лавры, которые можно стяжать, и власть, по крайней мере, пока ему не придется уйти в тень по причине возраста. Однако это игра, в которую Иосиф уже не играет. – Это верно, – согласился я, – император заключает мир со всеми, даже с папой, который на стороне французов. – Точно. Поверь же, наконец, в то, что я тебе говорю! Теперь я даже сказал тебе правду по поводу этого письма. Настал момент, когда все мы вынуждены играть в открытую. – Я всегда поступал так по отношению к вам. – Ты – да. Однако Евгений – такой человек, который не знает прямых путей. Он фальшив, искусственен, скользок. Как и все ему подобные. – Кто ему подобен? Он возвел глаза к небу, словно прося у Всевышнего сил молчать. – Это неважно, – отмахнулся он. – Главное, что я пытаюсь донести до тебя, это то, что воинская зависть Евгения – как, кстати, и его стремление к славе и власти – ужасное чудовище. Оно старше, много старше Евгения и погибнет только вместе с последним солдатом. – Но никто не убивает из зависти, и уж точно не правителя! – запротестовал я. – Похоже, ты совсем не разбираешься в истории. Я могу привести тебе примеры, начиная с древних Афин, где эта подлая страсть беспричинно посылала на смерть лучших командующих флотами, – сказал аббат, поднимая ладони к небу, чтобы подчеркнуть совершенство тех капитанов. – Она нанесла поражение городу в Пелопоннесской войне, привела к падению стен Пирея и затем привела город к упадку. В этот миг мимо нас прошла группа людей, очевидно, принявшая нас за нищих и рассеянно бросившая нам монету. – Что это было? – спросил Атто, услышав звон. – Ничего. У меня монета из кармана выпала, – задетый, солгал я. – Так о чем это я говорил? Ах да. Будь внимателен, мы только высказываем предположения, чтобы среди множества подозреваемых найти того, кто действительно плетет интригу против императора: Англия или Голландия, Карл или иезуиты, старые министры или же Евгений. Что же касается зависти, то оставим пока что в стороне огромное количество exempla, подобных примеров в истории. Я хотел бы рассказать тебе об одном случае, который гораздо ближе к нашему времени: граф Марсили, помнишь его? Странно, что Атто упомянул Марсили, о славных деяниях которого я читал всего только несколько часов назад, пока Симонис не помешал мне стуком в дверь. – Конечно, помню, – ответил я. – Итальянец, посоветовавший Иосифу правильную стратегию для того, чтобы победить, и указавший ему на ошибки маркграфа Людвига Баденского. – Верно. Продолжение той истории прояснит для тебя, какую роль могла сыграть зависть в смертельной болезни Иосифа. Потому что она убивает почти всегда. – За несколько лет до осады Ландау, – рассказал Атто, – Марсили принимал участие в освобождении Белграда от турецких захватчиков. Там и произошел первый случай. Чтобы продвинуть свою собственную стратегию, генерал Гвидо Штаремберг вынуждает императорские войска понести тяжелые потери. 59-й полк пехоты под командованием Марсили сильно сократился. На протяжении вот уже слишком многих дней императорские войска тщетно бьются об стены крепости. Марсили в открытую критикует стратегию Штаремберга, хотя тот имеет гораздо более высокое военное звание. Да и со своими подчиненными он не церемонится: требует быстроты, дисциплины, бережливости (немало офицеров пользуются имеющимися в наличии военными финансами, чтобы тайком выделять себе «чаевые»). Он сажает под замок своего подполковника за неповиновение, после чего тот подает на него жалобу за придирки и его временно отстраняют от должности. Правоту Марсили признают только позже. – В битве граф Марсили всегда требовал от солдат верности, честности и мужества. Однако мог и указать вышестоящим чинам на то, что они совершают ошибку, которая стоит человеческих жизней. – Это смело, – заметил я. – Это крайне опасно. К счастью, его враги ничего или почти ничего не могли сделать против столь ценного офицера: никто не знал местность, на которой велась война против турок, лучше, чем он. Когда французский гарнизон после взятия Ландау сложил оружие у его ног, зажглась военная звезда Иосифа Победоносного, продолжал аббат Мелани. Однако и на долю Марсили выпала немалая слава. При императорской армии он считался теперь величайшим экспертом по крепостям и осадам. Он знает тайны всех военных школ, будь то французских, немецких или итальянских. Даже симпатии войск, с которыми он обращался по всей строгости, были на его стороне, а равные ему по званию признают его верность и самоотверженность. Ибо неискренность, равно как и невежество, несправедливы по отношению к достоинству войны. Однако где-то на заднем плане маркграф Баденский кипит от ярости. Марсили раскрыл его некомпетентность, прямо обратившись к королю Германии и Рима. Этот итальянец не только опозорил его, он еще и невыносимо образован, честен и добродетелен. Чего он собирается еще добиться? Вскоре маркграф отыскал возможность отомстить. В декабре того же 1702 года французы осадили австрийский город-крепость Брайзахна-Рейне, являющийся очень важным пунктом для контроля региона Брайсгау. Принц Евгений приказал Марсили отправляться в Брайзах, чтобы поддержать там другого итальянца, маршала Делл'Арко, в случае если тот (странное, двусмысленное основание) заболеет. Маркграф Баденский точно знает, что Марсили и Делл'Арко враждуют, и поэтому вместе смогут сделать очень мало. Осаждающих французов насчитывалось двадцать четыре тысячи человек. Гарнизон Брайзаха же располагал чуть более чем тремя с половиной тысячами людей. Так сказали Марсили, на самом же деле обороняющихся еще меньше. Его ожидают плохо вооруженные солдаты и небоеспособные пушки, нет инженеров и минеров (а они необходимы для защиты крепости), в крепостных рвах нет ни капли воды, чтобы удержать неприятеля на расстоянии. Он тут же пишет маркграфу Баденскому о том, что ситуация безвыходная, однако ответа не получает. Поэтому принимается за работу, занимается усилением укреплений. Тут же начинаются споры с Делл'Арко, и Марсили заточают на шесть месяцев. Деньги заканчиваются, войска не получают плату и жалуются. Он пытается занять деньги в ближайшей крепости Фрайбурге, но ничего не выходит. И он отдает приказ печатать свинцовые монеты, чтобы раздать солдатам, гарантируя их своим собственным состоянием. – Так поступил и Мелак, французский комендант Ландау! – вмешался я. – Так поступает каждый настоящий комендант в такой ситуации, так он должен поступать, – с серьезным выражением лица ответил Мелани. – Это также объясняет, почему офицеры должны происходить из благородных и зажиточных семей: дворяне располагают большими средствами, чем остальные. Наступила вторая половина августа 1703 года. Маленький императорский гарнизон героически сопротивляется, однако превосходство французов под предводительством герцога Бургундского очевидно, в первую очередь благодаря способностям маршала Вобана, великого архитектора крепостей «короля-солнце». – Того самого, который укреплял Ландау? – Именно его. И Брайзах он тоже укреплял, когда тот был в руках французов, он знает его как свои пять пальцев. Императорские офицеры уже утратили какую бы то ни была надежду. Однако Марсили неутомим: он своими собственными руками ремонтирует части артиллерии, рисует минные подкопы и поперечные рвы, сплотив всех, кто еще хочет сражаться, вокруг себя. Делл'Арко созывает военный совет; офицеры уже не верят в поддержку и единогласно решают сдаться. Только Марсили еще печется о спасении чести. Французы должны оказать его гарнизону военную честь, бушует он перед собравшимися, с барабанным боем и развевающимися знаменами. Все должны знать, что Брайзах был проигран с честью. Когда императорские войска 8 сентября 1703 года, обессиленные и заляпанные кровью, с гордо поднятыми головами выходят из ворот крепости, французы не верят своим глазам: неужели эта горстка оборванцев так долго держала их здесь? Кто-то шепчет победителям, что душой этих одержимых был он, этот Марсили, он измучен и ранен, как и остальные, но в его покрасневших глазах читается горечь поражения. Очевидно, что он сражался бы и дальше, если бы у него были верные соратники. Проклятье! Потому что трусость, как и невежество, позорит честь войны. Однако самое страшное еще впереди. Его отпускают вместе с остальными офицерами, он возвращается в ряды императорской армии и тут же предстает перед трибуналом. – Трибуналом? – вздрогнул я. – Но почему? – На Делл'Арко, Марсили и других офицеров была подана жалоба на то, что они сдались. – Но что же им было делать? У французов солдат было в десять раз больше, чем у них! – Слушай. Совсем скоро, 15 февраля, последовали приговоры: Делл'Арко приговорен к обезглавливанию, Марсили – к понижению в звании и лишению всех воинских наград. Три дня спустя Делл'Арко казнили в Брегенце как какого-то обычного преступника, при всем честном народе; саблю Марсили преломили символически. Он выжил, но навеки обесчещен. Ярость толпы удовлетворена, но в первую очередь доволен местью маркграф Баденский: исполнение приговора над остальными офицерами отложили. Только теперь, в этот миг, храбрый Марсили, выживший в аду турецкого плена, после пыток и ранений, окровавленный, приползший в Болонью, не желавший ничего иного, кроме как поскорее вернуться на службу императору; Марсили, встречавший зависть, подлость и тупость с гордо поднятой головой; Марсили, который снискал на поле боя уважение и благодарность короля Германии и Рима и будущего императора Иосифа I; Марсили, ученый, уроженец Болоньи, дворянских кровей, друживший с простыми солдатами, офицер, в отчаянии считавший каждый день мертвецов, в то время как другие офицеры пили и смеялись, проигрывали в карты деньги, украденные у гарнизона, теперь, только теперь понял Марсили: чтобы уничтожить его, сохранявшего на протяжении нескольких месяцев патовую ситуацию с французами, потребовалась зависть всего лишь одного человека, бывшего, кроме того, рангом выше его – маркграфа Баденского. – О, зависть, на какие только ужасы ты способна! – мрачно воскликнул Атто. – О, зависть солдата, как жестоки твои преступления! О, обида офицера, как подлы твои деяния, как трусливы и коварны! Сколько невинных бойцов послала ты на смерть обманом! Сколько храбрых полководцев ты привела в военную тюрьму, чтобы заменить их лентяями ималодушными! Скольких сержантов ты предательски погубила во рвах Ломбардии, в снегах Баварии, в холодных бродах венгерской реки, чтобы обвешать медалями их врагов! Настоящий преступник – вовсе не маркграф Баденский. Это ты, зависть, чудовище без лица, покончившее с карьерой и жизнью графа Луиджи Фердинандо Марсили, сделав из него бесчестного ренегата. Ты чудовище, убивающее выстрелом в спину, клевещущее на правых, поддерживающее ничтожеств, из-за которого исчезает провиант, распространяется неверная информация о враге, посылается на фронт негодное оружие, отказывающее осажденным в помощи, передающее ложь комендантам. Битва за битвой, война за войной растаптываешь ты героев и поглощаешь даже самую память о них, с любовью укрепляя тылы их завистников, малодушных, трусов: они призывают тебя и с твоей помощью стремятся к уничтожению добра. Атто умолк. Старый кастрат, конечно, никогда не сражался сам, однако голос его дрожал от возмущения тех, кто представляет собой жестокость войны. А вопросы уже вертелись у меня на языке. – Вы сказали, что Марсили был ренегатом. Почему? – Так называли его, потому что позднее он возглавил войско папы, хотя на процессе в Брегенце и клялся, что никогда не станет сражаться на стороне врага. Однако та клятва была вырвана у него силой: как она могла быть действительной? И, кроме того, он принял предложение папы потому, что был из Болоньи, а значит, подданным папы. Французы и голландцы тоже манили его к себе званием генерала, но он отказался сражаться на стороне врага, убившего столь многих его товарищей. И, несмотря на это, его наихристианнейшее величество призвал его в Париж и со всеми почестями представил ко двору: граф Марсили, который так верно служил австрийскому дому и из-за дела в Брайзахе был так несправедливо унижен; а я хорошо знаю, насколько несправедливо это было. Мои щеки покраснели от гнева, когда я услышал о бессмысленной, жестокой судьбе Марсили. Так вот как была вознаграждена верность империи? Тем временем аббат Мелани с трудом поднялся с нашей импровизированной скамьи. У него затекли ноги. Я протянул ему палку и помог выпрямиться. – Однако вы, синьор Атто, – заметил я, когда мы медленно пошли дальше, – обвиняете его светлость принца Савойского в столь же низких эмоциях, как и маркграфа Баденского. Но кроме одного поддельного письма до сих пор вы не привели ни единого доказательства. Монета из Ландау, которую держал в руках Евгений во время аудиенции аги, – что это доказывает? Ничего. Разве не может быть, что она напоминает принцу о величайшей победе его повелителя, вместо собственного позора? Все знают о примерной верности, с которой до сих пор служил империи Евгений. Может быть, его и разочаровало то, что его дважды оттеснили от Ландау и что Иосиф I отказывается послать его в Испанию, но в то же время очень трудно поверить, что принц Савойский плетет заговор из зависти или из страха лишиться власти. – Тебе не хватает знания истории, не знаешь ты и тип людей, к которому принадлежат такие люди, как Евгений. – Ну, все, довольно, – запротестовал я, – только что вы очень красочно обрисовали этот особенный тип людей. Почему же вы, наконец, не скажете ясно, что думаете? – Уфф! Именно этой темы я и хотел избежать. Однако поскольку на кону более важные интересы, будет только справедливо, чтобы ты об этом узнал. Ведь не наша вина, если Евгений… как бы это выразить? – Атто проявлял нерешительность. Я молча ждал слов. – Женоподобный мужчина, – с тихим вздохом произнес наконец он, словно избавившись от тяжкого груза.
– Женоподобный мужчина? – озадаченно повторил я. – Вы хотите сказать, что ему тоже отрезали… ну… – Нет! Как тебе только в голову пришло? – воскликнул Атто. – Короче говоря, он… любит мужчин. Испытывая нетерпение из-за недопонимания, аббат Мелани наконец заговорил ясно. Он хотел сказать, что его светлость принц Евгений Савойский был содомитом. – Военный министр? Самый храбрый генерал императорского войска? – Здесь, в Австрии, это осталось более-менее в тайне, – продолжал он, не отвечая на мой вопрос, – а вот в Париже об этом знают все. – Вы лжете, – попытался защититься я. – Быть может Евгений Савойский и тщеславный человек, как вы утверждаете и завидует императору, но не… А потом я засомневался. Передо мной стоял аббат Мелани известный кастрат. Бедное, бесполое существо, лишенное мужественности жестоким решением родителей. В ранней юности, когда он был успешным певцом, он наверняка тоже познал позор содомии, горе насмешек, презрения, одиночества и тоски. Казалось, он уже заметил мое смущение и сжалился надо мной, продолжив свою речь. Как уже намекал Атто в первый раз, когда говорил со мной о Евгении, у принца было трудное детство. Он вырос в Отель-де-Суассон, парижской резиденции отцовской семьи, роскошном дворце, где не было недостатка в развлечениях и разного рода играх. Однако родители оставили его на воспитание гувернерам, не уделяя ему внимания и не даря любви. Мать была известной интриганкой, одержимой придворными рангами и играми во власть в Версале, ее подозревали в отравительстве, а потому в конце концов изгнали из Франции. Конечно же, у нее не было времени на маленького Евгения, последнего из множества ее детей. Отец был чересчур слабохарактерным, чтобы устранить ошибки своей супруги, да и умер рано (предполагали даже, что она отравила его). Мальчик рос под влиянием старших братьев и целой орды других отпрысков, все они были безалаберными, наглыми и порочными, без должного руководства, которое могло бы вырастить их почтительными и порядочными. Эти мальчики полагали, что им позволено все, и им действительно ничего не запрещали. Вместо того чтобы иметь дело с воспитателями и домашними учителями, они общались только с лакеями и слугами. Учебы не было, только дивертисмент, игры и детские шалости. И не знали они ни границ, ни страха Божьего. – Когда нянечки или домашние учителя отваживались грозить им, в ответ слышался смех, оскорбления и даже плевки, – сказал Атто. Прошли первые беззаботные отроческие годы, и Евгений с остальными юными негодяями вступил в пору полового созревания. Все изменилось, шутки и игры приобрели другой образ. – Мальчики начали желать девочек, а девочки высматривали приличных поклонников, – пояснил аббат Мелани. С той же разнузданностью детских лет теперь они играли в другие игры. Уже не из-за отнятой игрушки, удара деревянным мечом или подножки дрожали теперь их тела, а совсем по иной причине. Уста, которые до сих пор лишь пели или кричали, теперь могли целоваться. Безделье сработало как горючее. И если смиренные служанки сначала пытались помешать детям вступать в телесный контакт, чтобы они не ранили друг друга, то теперь они отворачивались, увидев подобное, поскольку им не хватало подходящих слов, а главное, мужества. То были встречи вдвоем, иногда даже втроем или вчетвером. Всегда была публика; зрители и актеры охотно менялись ролями. Для большего разнообразия спаривания были свободными и не знали границ – ни в выборе пола, ни в способе соединения. Дни были долгими, силы еще необузданными, сожалений не было. – Скука из-за бесконечного богатства иногда приводит на странные пути, нет смысла описывать тебе это в подробностях. Это такие вещи, которые известны всем нам. Понаслышке, конечно же, – серьезным голосом уточнил Атто. Когда было прохладно, играли в доме. Тяжелой портьеры было довольно, темного уголка, лестничной площадки, и они удовлетворяли друг друга вдвоем или больше, как получалось, не особо задумываясь. Были женщины – хорошо. В противном случае обходились и без них. – Бессмысленно, что французы называют это «итальянским пороком», – произнес аббат Мелани со внезапно пробудившимся рвением. – Это такое же притворство, как и когда итальянцы называют сифилис «французской болезнью». Глупая попытка приписать другим свои собственные слабости. Будем говорить прямо: разве Франция – не отчизна пороков? Там возник вид муже-женщин, в стране Верцингеторига.[980] Разве символом Франции не является петух? Ну, хорошо, я имею в виду, какое животное может лучше выразить самодовольную дерзость французских содомитов? Аббат Мелани возмущался Францией и гомосексуализмом – он, самый настоящий француз и гомосексуалист из-за кастрации (хотя я точно знал, что любовью всей его жизни была женщина, более того, что он до сих пор продолжал ее любить). Казалось, с возрастом Атто начал презирать все, чему был верен всю жизнь: правление Людовика XIV, при котором он стал зажиточным и влиятельным человеком, и кастрацию, которая открыла ему двери певческого искусства и большой мир (Атто родился в семье бедного звонаря). Величайшие клеветники на содомитов, думал я, это сами содомиты, знающие их суть лучше, чем кто бы то ни было. Теперь он внезапно начал цитировать Золотую книгу теплый братьев, словно только и ждал этого на протяжении многих лет. – О Генрихе III Валуа знают все. И о Людовике XIII, отце наихристианнейшего короля, известны все подробности. Гастон Орлеанский, дядя его величества, страдал тем же пороком. И монсеньор, брат его высочества, собирал mignons, то есть маленьких мальчиков. Я потерял дар речи. Дед, дядя, брат: наихристианнейший король Франции был, если послушать Атто, окружен гомосексуалистами. Он продолжал перечислять личности, которые, как он утверждал, были очень известны во Франции: Великий Конде, шевалье Лотарингский, Гиш, д'Эффа, Маникам, Шатильон… И многие из родственников Евгения: его старший брат Филипп, кузены Луи и Филипп Вандом, князь Тюренн и молодой Франсуа Луи де Ла-Рош-сюр-Йон. Атто только перечислял имена, таким образом предоставляя мне делать выводы, что здесь к содомии добавлялся еще и инцест. Все эти блестящие имена постоянно окружали себя непристойным хороводом юных амурчиков мужского пола, в насмешку над природой, религией и моралью. Дурманные ночи проводили эти парижские сластолюбцы, бессонные ночи, опьяненные ароматом масел, которыми они натирали друг друга, прежде чем лечь вместе, ночи, которые они проводили за тем, что примеряли перед зеркалом ту или иную деталь женского туалета: юбки, браслеты, серьги… – Они называют это «итальянским пороком!» – возмущенно повторил он, словно это сердило его сильнее всего. – При каком итальянском дворе найдешь такие непристойные занятия? Да что там, при каком европейском дворе? В Англии было только два случая, оба всем известны: Эдуард II Плантагенет и Вильгельм III Оранский, которые, кстати, были голландцами. Первый напрямую происходил от прекрасной грешной француженки Элеоноры Аквитанской, а бабушка его по материнской линии была Генриетта Французская, сестра Людовика XIII, – то есть исключения, где взяла верх французская кровь. Если же пересчитать всех гомосексуалистов при французском дворе, то и запутаться можно. Мадам Пфальц права, когда говорит, что мужчины, которые любят женщин, во Франции остались только в народе! И оставим в стороне нелепости, различающие женоподобных мужчин и содомитов, как делают это парижане. В грязи вода и земля превращаются в одно месиво. Пока Атто предавался этим оскорблениям, на меня сыпались удары один за другим: даже Вильгельм Оранский, полководец, о деяниях которого я узнал во время своего приключения с Атто, тоже принадлежал к типу женоподобных мужчин! Лет сорок назад, продолжался рассказ, шевалье Лотарингский, печально известный содомит, и его такие же дружки Таллар и Биран основали настоящую тайную противоестественную секту. Ее члены должны были принести клятву в том, что никогда не коснутся женщины, а если они уже были женаты, то даже супруги. Новые адепты были обязаны «принимать» четверых гроссмейстеров, которые руководили братством, и должны были поклясться хранить в строжайшей тайне как секту, так и ее ритуалы. Конгрегация имела такой успех, что почти каждый день появлялись новые кандидаты, среди которых были и очень влиятельные имена. К примеру, граф де Вермандуа, внебрачный сын Людовика XIV, получил привилегию выбирать, кто из четверых гроссмейстеров «нанесет ему визит». – Остальные трое были обижены, поскольку Вермандуа был поистине очень привлекателен, – сказал Атто, и налет смущения в его голосе выдал невольные пристрастия, которым он предавался много лет назад, став молодым кастратом. Пока Атто говорил, я все больше и больше заглядывал в его душу. И увидел, с каким облегчением проживал он последнюю эпоху своей жизни: старость. Теперь он наконец был свободен от последствий увечья, лишившего его любви женщин. Возраст, в котором полностью затухает огонь плоти, стер все следы женственности в морщинах старого кастрата точно так же, как у его ровесников стирается мужественность. И свинцовые белила на лице, темно-красные щеки и мушки уже не были настолько броскими, как когда-то; теперь на аббате было столько краски, сколько у любого аристократа. Исчезло и множество красных и желтых кистей и лент. Мелани всегда был одет в темные цвета, как и положено пожилым людям. Короче говоря, в восемьдесят пять лет Атто стал таким же стариком, как и многие другие. И он полной грудью вдыхал возможность обрушиться на мужеложцев, таких же, какие был он сам. – Значит, вы утверждаете, что отец, дядя, брат и сын его величества короля Франции – мужеложцы… – недоверчиво произнес я. – Вот именно. Его брат годами требовал себе одного мальчика за другим, и король ничего против этого не имел. Словно это было для него само собой разумеющимся. Теперь вопрос просто напрашивался сам собой. Атто опередил меня. – Да, да, – обеспокоенным голосом сказал он, – о его величестве, да простит меня Господь, шепчут такие же постыдные вещи. Однако это были только попытки обратить его, пардон, извратить. К счастью, попытки тщетные. Содомия, заметил Атто, суть дочь красоты. Ведь родилась она в Греции, где философы считали общество молодых мужчин возвышенным, поскольку те были красивее молодых девушек. Что ж, в этих запретных играх, тайных страстях и несказанных экспериментах, на которые шел весь Париж, Евгений всегда оставался один. Потому что был уродлив. То был возраст, когда молодые люди расцветают: глаза открываются, губы напухают, груди наливаются и начинают выступать, плечи становятся крепче, бедра округляются у девушек и укрепляются у юношей. Поэзия становится телесной, и она жаждет других тел. Однако же лицо Евгения, и без того не особо милое, открылось как засохшая, взорвавшаяся грязь. Нос устремился к небу, а рот, наоборот, загнулся книзу; щеки, шея и тело выглядели, словно кусок черствого хлеба; глаза остались круглыми и черными, вместо того, чтобы стать уже. Среди красивых светлых шевелюр его друзей его волосы неприятно выделялись, потому что были ровными, тусклыми и черными, словно вороново крыло. Кроме того, он был невысок: самый низкорослый из всей банды. – Ты когда-нибудь видел Евгения вблизи? – спросил аббат Мелани. – Нет. Клоридия говорила мне, что его лицо выглядит несколько странно, не очень привлекательно. – Не очень привлекательно? У него остался такой короткий детский нос, что оба резца все время на виду, как у кролика. Он дышит через приоткрытые губы, потому что не может закрыть рот. Когда Евгений вырос, для него нашлось и новое имя. С этого момента из-за своего деформированного лица друзья стали звать его не иначе, как Собачий Нос. И тем тяжелее было унижение, когда они пользовались тем, что он слаб, и извращали его в кухне или на черной лестнице, а служанки делали вид, что не замечают этого. Потом вся группа убегала и дразнила его этой жестокой кличкой. Теперь он тоже принадлежал к числу мужеложцев. – Присмотрись внимательнее к портрету Евгения, его можно найти везде. Конечно, они приукрашены. Это не его глаза, не его нос и не его рот. Однако художники и гравировщики ничего не знали о его пороке, поэтому не убрали выражение его лица, как у истеричной старой клуши: высоко поднятые брови, на лице написано отвращение, слишком сильно выпяченная грудь. Все типичные признаки мужеложца, – произнес аббат Мелани с показным презрением. – Как и у многих мужеложцев, его характер из-за смеси стыда и вины стал двуличным, как у женщины. Он научился женскому искусству притворства и намеков. Он недоверчив и на протяжении долгого времени питает тайную злобу. Доказательство ты видел сам: старая монета времен осады Ландау. Наверняка он достал ее у кого-то, кто участвовал в осаде, поскольку сам он вынужден был уступить поле боя Иосифу и не принимал участия в решающей атаке. Он тайно хранит монету, словно напитанный ядом кинжал. Она напоминает ему о дне, когда юный Иосиф отнял у него воинскую славу. Единичный случай, однако он всегда свидетельствует о том, что его слава полководца в опасности, что она зависит от прихоти и успеха его повелителя. Я с ужасом слушал его рассказ и думал: Евгений, бич турок в Зенте; Евгений, завоеватель Северной Италии; Евгений, победитель в резне у Хехштадта… Из какой бездны порока восстал величайший воин Европы? Теперь я понимал, почему во время нашего первого разговора, состоявшегося несколько дней назад, у Атто вырвалась эта злая кличка: Собачий Нос. Аббат всегда помнит о темном прошлом его светлости принца Савойского. – Чтобы освободить нашего героя из силков дурного общества, было принято решение, как я тебе уже рассказывал, привести его на церковную стезю. Во время путешествия в Турин мать приказала вырезать ему тонзуру. То был официальный акт, знак того, что впредь он отрекается от мирских радостей. Однако когда Собачий Нос возвращается в Париж и снова встречается с друзьями, то продолжает совершать старые ошибки. Планы о духовной карьере летят к чертям. – В это время он заработал новую кличку, – со злобной улыбкой продолжал рассказывать Атто, – впрочем, довольно смешную: Мадам Симона или Мадам Л'Ансьен,[981] быть может, оттого, что его морщинистое лицо делало его похожим на отвратительную старуху, когда он переодевался женщиной. – Он переодевался женщиной? – пробормотал я. – Ну конечно! Разве ты забыл, о чем я рассказывал на днях? Он делал это даже тогда, когда бежал из Франции, чтобы поступить на службу империи, – рассмеялся Атто. – А его мать и тетка скрывались под мужской одеждой, когда бежали из Рима, чтобы бросить своих мужей. Правда, переодетая мужчиной женщина выглядит далеко не так смешно и неприятно, как мужчина в нижних юбках. – Я не понимаю этого. Если Евгений действительно мужеложец, то как же вы объясните, что он сумел стать великим генералом, каким и является сейчас? Война не для женщин. Принц проводил самые трудные, самые кровавые походы, он был в гуще сражения, стрельбы, штурма кавалерии. Он командовал осадами, атаками, отступлениями… Вовсе не удивительно, ответил Атто, что известный генерал принадлежит к числу извращенцев. Среди великих французских полководцев подобных им полным-полно: Тюренн, Вандом, Гуксель, Конде и многие другие. В их случае мужские, солдатские добродетели превращаются зачастую в грубое поведение, когда они любят относиться к мужчинам как к женщинам, потому что только в них (в их бородах, их мышцах, их вони) извращенные солдаты находят взаимность и удовлетворение своих собственных грубых наклонностей. Маршал де Вандом, потомок французского короля Генриха IV, герой войны, великий пьяница и курильщик, грязный и крупный, находил удовлетворение в различных грубостях, он делил постель с собаками и писал туда. Разговаривая со своими подчиненными и отдавая приказы, он преспокойно испражнялся в ведро у них на глазах, которое потом, сунув под нос своему адъютанту, опорожнял и использовал для бритья. Грубость и жестокость войны были для него естественным венцом его животной природы. Мужчины, обладающие подобными качествами, пояснил Атто, становятся любовниками мужчин именно потому, что являются солдатами. Однако случай Евгения совершенно иной. – Собачий Нос порочен не потому, что он солдат. Наоборот, он стал солдатом, потому что порочен. Затем он откашлялся, словно собираясь затронуть настолько щекотливую тему, что страшно делается даже его голосовым связкам. – Он принадлежит к числу тех содомитов, которые не добровольно выбрали это нездоровое занятие. Если бы он мог, он с удовольствием отказался бы от этого. Однако было кое-что, что еще в нежном возрасте безоговорочно перевело Евгения в ряды мужеложцев. Теперь говорить аббату стало трудно. До сих пор он рассуждал с высоты своих восьмидесяти пяти лет и хотел забыть о том, что сам когда-то принадлежал к этому отродью. Но сейчас, когда он заговорил об изнасилованиях, которым подвергся Евгений в детстве, притворяться он уже больше не мог: слишком сильно походили они на болезненную кастрацию, которая была устроена телу маленького Атто Мелани. И от воспоминаний об этом у него дрожал голос.
На пороге своего двадцатого дня рождения Собачий Нос чувствовал себя ненужным и пустым. Товарищи детских лет осмеяли его, унизили, изнасиловали. Единственные друзья, которые были у него на всем белом сйете, любили использовать его, потому что он был самым низеньким и самым уродливым в их группе. У Собачьего Носа была только одна возможность: нужно было повернуть острие копья против обидчиков. Он был низшим извращенцем – чтобы спастись, ему нужно было превратить это в величайшую добродетель. В самую трудную, самую опасную. – Он перестал переодеваться женщиной и перешел к переодеванию в солдата. Так он становился другим, тем, кем он, вероятно, никогда не хотел быть. Однако он был вынужден сделать это, чтобы больше не быть Собачьим Носом и Мадам Л'Ансьен. Он не захотел принести духовную присягу? Что ж, он принесет воинскую: Собачий Нос стал жрецом войны. Он попросил Людовика XIV позволить ему командовать полком. Король, который презирал его, отказал. Тогда Евгений бежал из Франции и перешел к врагу. Он поступил на службу Австрии, где получил командование и солдат, которых так хотел. С этого момента война стала его религией, причем единственной. Он хотел стать безжалостным и жестоким – более мужественным, чем настоящий мужчина. Никто не должен был узнать, каков он на самом деле. Он перестал писать личные письма, совершенно. – Многие перехватывали его письма, но все были разочарованы. Его корреспонденция касалась исключительно политических и военных вопросов. Евгению неведомы чувства, человеческие отношения, страсти. Ведом ему только долг. И долг, в его понимании, был прост: убить как можно больше врагов. С этого момента он отвергал в войне какие бы то ни было перемирия, в мире он искал сражения. Чтобы добиться перевода на самый опасный фронт, чтобы получить достаточно оружия и денег для своих армий, он не боялся вступать в жаркие споры с императором: сначала с Леопольдом, затем с его сыном, Иосифом Победоносным. И так со временем произошло превращение. Жрец войны стал капитаном смерти. Когда он командовал, сражение продолжалось до последней капли крови. И уже никто, а меньше всего он сам, не связывал его имя с любовью и миром. Он познакомился с миром в Отель-де-Суассон и на собственном теле узнал, что он ведет к пороку. Любовниц женского пола у него не было; если они и появлялись, то он пользовался этим для того, чтобы пустить пыль в глаза. На самом деле он совершенно не испытывал отвращения к женщинам, однако у капитана смерти в голове было другое. Тем временем его юношеские склонности были забыты. Старым товарищам по извращенным играм это было только на руку. Годы шли, и тысячи раз свистели над его головой пушечные ядра, он видел, как солдаты мерли, словно мухи, горели соратники, матери и отцы оплакивали смерть своих сыновей, видел, как гибли целые народы. Однако если появлялась возможность заключить мир или, по меньшей мере, установить перемирие, он противился изо всех сил. Капитан смерти должен был удушить остатки Мадам Л'Ансьен в грязи окопов. Иногда ему удавалось заманить в свою палатку молодого солдата, несшего ночную вахту, и насладиться мимолетным интимом. Только в такие краткие мгновения Евгений уже не знал, кто он: капитан смерти, жрец войны, Собачий Нос или Мадам Л'Ансьен? Однако едва на следующий день он снова надевал начищенные до блеска сапоги, как все возвращалось на круги своя. – Теперь тебе известна истинная причина, почему Евгений Савойский до конца будет противиться миру, – заключил Атто, которого неприятное объяснение почти полностью лишило сил. – В определенном смысле я пытался объяснить тебе это еще в первый день, когда мы только встретились. Теперь перед тобой действительно полная картина. Евгений не знает, как обращаться с миром. Что он может делать без своего обшитого галунами камзола? В одночасье он снова станет тем, кем был: Мадам Л'Ансьен. Он ненавидит мир, потому что боится его. Он сражается не против Людовика XIV, а против себя самого. И эта войнам еще идет полным ходом. – Значит, новая стратегия Иосифа, то есть мир с папой и венгерскими повстанцами, разделение Испании с Францией… – …могла толкнуть Евгения на радикальные меры, – опередил меня аббат. – Собачий Нос принимает решение убить молодого полководца, который вытеснил его со сцены в Ландау. Кроме того, император помешал ему стяжать военную славу в Испании, и, наконец, именно он может однажды вынудить его остаться в Вене и перестать сражаться, то есть снова стать Мадам Л'Ансьен. – Однако кое-чего я по-прежнему не понимаю: у нас слишком много виновных. Англия и Голландия, брат Карл, иезуиты, бывшие министры и Евгений. Кто из них нанес удар? – Я тоже не вижу этого отчетливо. Потому что только Англия и Голландия точно заинтересованы в смерти великого дофина. Какой прок от этого остальным, я не понимаю. Нужно не спускать глаз с турок и выяснить, какие цели на самом деле преследует дервиш, когда играет с головами своих ближних. – О, кстати! Полчаса назад я должен был встретиться с Угонио! – воскликнул я, когда взгляд мой упал на богато украшенный фасад дома напротив, на вершине которого красовались роскошные золотые с синим часы. Они показывали девять часов тридцать минут.
* * *
Сестра обеспокоенно стучала в дверь моей квартиры: человек, который спрашивал меня у ворот, уже приходил ровно в девять часов. Она никогда прежде не видела его и была крайне взволнована: Клоридии не было, ее срочно вызвали во дворец принца Евгения. У жены камергера начались схватки. Поэтому молодая монахиня попросила странного посетителя прийти позднее. Поскольку тот и во второй раз отказался назвать себя, я спросил монахиню, как он выглядит, и краткого описания оказалось достаточно, чтобы понять, о ком идет речь. Тщетно пытаясь изъясниться на своем жалком немецком языке, я попросил Симониса, который как раз вернулся с малышом с работы, объяснить сестре, что нет никаких причин волноваться. Она может спокойно впустить страшное существо, потому что речь идет об известной мне и совершенно безвредной личности, несмотря на его необычную внешность. Затем я послал малыша поиграть в крестовом ходе. – Я представляю вашей грандиозности мои нижайшие восхваления, наряду с причмокиваниями и прочей галантереей. – Угонио подошел ко мне с раболепными жестами, голос его был приглушенным и прокуренным. Тут он увидел, что здесь еще и Атто, и продолжил рассыпаться в помпезных приветствиях: – Я с удовольствием визирую, что господин аббатус пребывает в превосходнейшем отдохновении. И дабы быть скорее лекарем, чем лицемером, перегружаю я вашей возвышенности с достойнейшими признаниями за такую магнитудость. Он увидел, что Атто слеп, и выразил сожаление, изобразив на своем лице крайнюю обеспокоенность. – Я тоже сразу узнал тебя, – ответил аббат и тут же поднес к носу платок, чтобы защититься от ужасной вони, исходившей от плаща осквернителя святынь. Через плечо у Угонио висел грязный и древний джутовый мешок, в котором, как можно было предположить, находилось что-то отвратительное. – Покончим с болтовней, – строго приказал я ему. – Какие новости ты принес? Новости очень положительные, заявил осквернитель святынь. Как он и обещал во время нашей прошлой встречи, теперь он свободен и волен объяснить мне природу его таинственных взаимоотношений с Кицебером. – Так говори же. – Я должен был передать ему обман бесконечной редкости и ценности. – Это мы уже знаем, – ледяным тоном ответил я, – это человеческая голова. Казалось, осквернитель святынь замер: как мы узнали об этом? А потом негромко хрюкнул, словно в подтверждение моих слов. Обстоятельства, которые он изложил и которые я в дальнейшем вынужден передать с максимальной точностью, звучали весьма странно и невероятно, хотя позднее, когда я провел некоторое расследование, полностью подтвердились. Рассказ его начался с 1683 года, времени последней, самой знаменитой осады Вены турками. Жил тогда в Турции великий визирь, Кара-Мустафа-паша. который желал напасть на столицу империи. Он предложил этот поход султану, сам возглавил войска и потерпел сокрушительное поражение. На нем лежала вся ответственность; утром после поражения судьба его была решена. Прежде чем отправиться на войну, Кара-Мустафа, уверенный в победе, пообещал султану в подарок голову кардинала Коллонича, который в те времена был в Вене одним из самых влиятельных сторонников войны с турками. Чтобы заручиться божественной поддержкой Мохаммеда, великий визирь, кроме всего прочего, перед началом кампании приказал построить в Белграде роскошную мечеть. После поражения оказалось, что султан не забыл об обещании своего подданного и счел очень забавным повернуть это против него с поистине варварским сарказмом. – Он влил ему злую, очень отвратительную и омерзительную шутку, – злорадно ликовал Угонио. 25 декабря, в день рождения нашей Святой земли, а значит, в очень важный для кардинала Коллонича день (и это была лишь первая из ужасных насмешек судьбы), в час пополудни высокие сановники из придворного совета султана вошли в дом Кара-Мустафы в Белграде. Впереди шел ага янычар в сопровождении нескольких сильных мужчин. Кара-Мустафа удивленно спросил, почему они утруждаются, посещая его в такой час, и не случилось ли чего серьезного. Посреди группы сановников он увидел строгое лицо Капигибачи, церемониймейстера султана, и заключил, что сановники принесли приказ от его повелителя. И действительно, ага янычар объявил ему, что султан издал декрет. Когда он показал его, на Кара-Мустафу обрушились четверо берсерков. Великого визиря связали веревкой, а затем обезглавили – ему был уготован тот самый конец (вот и вторая насмешка), который предназначался кардиналу Коллоничу. Согласно древнему турецкому обычаю с головы потом содрали кожу и плоть. Султану принесли начиненную ватой и травами кожу лица, чтобы тот убедился в смерти своего визиря. Череп без плоти, но вместе с телом и веревкой был похоронен (а вот вам и третья насмешка злой судьбы) в построенной по приказу Кара-Мустафы мечети – в назидание подданным Блистательной Порты, которые не справились с выполнением своих обещаний. – А потом султан настоял на очень странной и досадной непредусмотрительности, – заявил вонючий плут. Султан, конечно, не мог предугадать, что в 1688 году, пятью годами позже, Белград попадет в руки христиан. После ожесточенных боев под командованием курфюрста Баварского и герцога Лотарингского императорские войска смогли наконец взять город штурмом и подчинить себе. Поскольку отцы-иезуиты были первыми, кто после победы затянул «Те Deum», мечеть Кара-Мустафы передали двум иезуитам, чтобы те превратили ее в католическую церковь. То были исповедник герцога Лотарингского, отец Алоизий Браун, и отец-миссионер Франц Саверий Берингсхофен. Однажды ночью из мечети раздались жуткие звуки, словно кто-то бил киркой по стене или разбивал предметы. Браун и Берингсхофен поспешно вызвали группу вооруженных мужчин, чтобы те выяснили, кто это в такое время ходит по зданию и не привидения ли это. Размахивая перед собой кадилами и фонарями, оба отца, дрожа от страха, вошли вместе с солдатами в мечеть, сопровождаемые другими вооруженными людьми, и обнаружили, что вовсе не привидения потревожили ночной покой, а люди из плоти и крови. То были семеро мушкетеров, они добровольно вступили в христианскую армию, только что отвоевавшую Белград. Мушкетеры испуганно пояснили, что храбро сражались во время нападения на город, некоторые из них даже были ранены, однако при разделе добычи им ничего не досталось. Зима на пороге, а у них не было достаточно денег, чтобы купить себе даже теплую одежду. От одного приятеля они узнали, что в этой мечети погребен Кара-Мустафа, вместе с множеством очень дорогих предметов, среди которых была и роскошная зимняя одежда, которая пришлась бы очень кстати семерым мушкетерам. Поэтому они, не колеблясь, вломились в мечеть, где вскрыли гроб великого визиря. Опасаясь, что оба иезуита могут рассердиться на них из-за тайного проникновения в мечеть, которая теперь по праву принадлежала обществу Иисуса, семеро мушкетеров предложили отдать иезуитам все, что нашли в гробу Кара-Мустафы, включая странный предмет: его голову. С этими словами Угонио покопался в своем грязном джутовой мешке и вынул оттуда нечто размером с дыню, завернутое в серый платок. Когда он снял платок, мы все невольно отступили, даже аббат. То была человеческая голова, покрытая слоем серебра. Однако черты лица проступали отчетливо: высокий лоб, длинный крючковатый нос, как у некоторых евреев, узкие глаза, следы бороды на щеках и мрачное турецкое выражение лица, которое насильственная смерть превратила в отчаянное. – Так значит, это… – с сомнением пробормотал я. – …голова Кара-Мустафы, – с ужасом произнес Атто, догадавшийся, что именно вынул из мешка осквернитель святынь. – Так это и есть та голова, которую хотел от тебя Кицебер! – воскликнул я. Угонио протянул мне находку, которую я осмотрел со смесью любопытства, отвращения и трепета, втайне благодарный осквернителю святынь за то, что тот не захотел выпускать ее из рук. В этом лице под серебряной оболочкой, в этом выражении страдания, в этих измученных, искаженных чертах была заключена вся трагедия последней осады Вены: безрассудный план завоевания Кара-Мустафы, кровавая битва, окончательное поражение османов, трагическая смерть великого визиря, жаждавшего поставить христианство на колени. Сколько убитых таилось за одной-единственной морщиной этого искаженного лица? Сколько тысяч миль марша к полю битвы видело оно? Сколько слез вдов, раненых и сирот сгустилось в одной слезе умирающего Кара-Мустафы? Серебряная патина, которая должна была защитить остатки человеческой плоти, превратила его в памятник бренности земной. Краем глаза я украдкой глядел на Атто, который, потрясенный, как и я, слушал рассказ, впрочем, защищенный щитом своих очков для слепых. Я видел, как подобные допросы проводил он много лет назад! А теперь я задавал вопросы: я был не только человеком зажиточным, но и отмеченным определенным житейским опытом. Старый Атто, подумал я со сладко-горькой смесью гордости, мстительности и сочувствия, был в том возрасте, когда даже самые храбрые солдаты авангарда становятся обычными вояками. Однако я отбросил в сторону размышления и вернулся к реальности. – Почему ты так боялся рассказать нам эту историю? – спросил я Угонио. – С чего ты взял, что Кицебер может причинить тебе вред? – Чтобы уменьшить размышления, чтобы не умножать сомнения, я торжественно поклялся ничего не разбалтывать о делишке, которое поручил мне дервиш. Османцы желают голову великого визионара очень ярким и страстным образом. Они вверяют, что он прогоняет всяческие ненапасти. Он должен помочь им собрать сильное, упрямое и жестокое войско и разрушить Вену в разнообычных монстричествах и позорствах. Так я с удивлением узнал, что турки, очевидно, полагают, что смогут получить от головы мертвеца то, с чем не справился живой. Что поразило меня еще больше, так это новая картина, образовавшаяся после разоблачений Угонио. Когда моя Клоридия подслушала во дворце Евгения, как Кицебер требовал чью-то голову, речь шла не о преступлении, а о том, чтобы достать голову Кара-Мустафы. Дервиш поручил это задание Угонио, поскольку осквернитель святынь обладал многолетним опытом в торговле реликвиями и предметами, опускаемыми в могилу с покойниками, однако убийства от него он никогда не требовал. А я-то полагал, что в опасности самая жизнь императора!Тем временем осквернитель святынь закончил свою историю. Оба иезуита привезли голову Кара-Мустафы в Вену, где она была передана кардиналу Коллоничу. 17 сентября 1689 года кардинал приказал положить голову в гражданский арсенал. С тех пор прошло двадцать два года. – И как, черт возьми, ты добрался до головы Кара-Мустафы Откуда ты узнал, где ее искать? – спросил Атто. – Сначала я устроил подробнейшие изыскания, а затем – самое мошенническое и пронырливое изъятие, – пояснил Угонио. Значит, осквернителю святынь не только удалось узнать, что голова Кара-Мустафы находится в гражданском арсенале, он еще и сумел украсть ее. Но разве я не видел, как он проводил в Риме несколько подобных поразительных операций? Угонио, как он сам признался с плохо скрываемой гордостью заработал себе в Вене что-то вроде доброго имени среди коллекционеров в этой области. Так же, как и в Риме, городе папы, торговля реликвиями святых представляла собой оживленный рынок, здесь, в городе императора, все, связанное с обеими осадами, пользовалось огромной популярностью, особенно снаряды османских пушек. Осквернитель святынь перечислил ряд популярных маленьких трофеев, которых все так страстно желали, а также камень весом в семьдесят девять фунтов, которым выстрелили в 1683 году с Леопольдинзель и который, украшенный соответствующей памятной надписью, находился в фасаде Нойштадтского двора, пассаже неподалеку, он вел из Прессгассе к Кребсгассе. Или же три пушечных ядра диаметром почти в полклафтера,[982] тоже вмурованные в стены дома с памятным камнем в местечке неподалеку, Зиверинге, и теперь его называют Дом с тремя пулями. Или известный Золотой шар, которым выстрелили турки 6 августа 1683 года и который до сих пор находится во фронтоне углового здания на маленькой площади Ам Хоф, гостинице, принадлежащей советнику по внешним делам и урегулированию беспорядков Михаэлю Мотцу. Он приказал позолотить шар и дал гостинице имя «У Золотого Шара». Еще одно турецкое ядро можно видеть в стене зала пивной «У Золотого Дракона» в Штайндльгассе. И подвал Эстерхази[983] в Хаархофе полон реликвий времен турецкой войны, а люди, защищавшие город в 1683 году, по вечерам любили пропустить там стаканчик доброго вина. Не говоря уже о драгоценных памятках, оставленных великим польским королем Собеским, который 13 сентября 1683 года в честь победы над турками лично прочел «Те Deum» в часовне Святого Лорето. И наконец, заключил Угонио, у которого от жадности текли слюни изо рта, реликвия всех реликвий: в романской часовне Шоттенкирхе находится самая старая статуя Девы Марии Вены, ей добрых четыре сотни лет, и говорят, что она в первые дни осады 1683 года чудесным образом потушила вспыхнувший пожар. Все это, как легко было догадаться, может стать следующими жертвами жадности осквернителя святынь. Слушая страстный перечень Угонио, я только вздыхал про себя. Ведь я снова блуждал в потемках. Голова, выходит, принадлежала Кара-Мустафе; ритуалы Кицебера служили для исцеления; аббат Мелани, несчастный старик, казался жалкой копией себя самого, жить которой осталось недолго. А император был болен, и великий дофин тоже! Если это имело значение для Атто, то и меня это тоже тревожило. Теперь, когда аббат исповедался мне в том, что уже не играет роли на шахматной доске Европы, я мог наконец вздохнуть с облегчением. Я уже не опасался, что меня потащат на эшафот из-за обвинения в государственной измене. Или нет, напротив, вдруг сказал я себе, снова оказавшись в затруднительном положении: кто-то ведь убил Данило, Христо и Драгомира, товарищей Симониса по университету! Хотя болгарин и румын, как сказал аббат, были подданными Блистательной Порты, но даже он сам вчера вечером не хотел исключать того, что между тремя убийствами может быть связь.
Очевидно для меня было одно: мы все еще не выяснили, что скрывалось за произнесенными на латыни словами аги. Предложение могло быть не таким незначительным, как предполагалось во время аудиенции во дворце принца. С тех пор умерла трое, и все жертвы занимались поиском информации о Золотом яблоке. Более того, Христо успел поведать своему товарищу Симонису, что, по его мнению, разгадка кроется в словах «soli soli soli» и это имеет какое-то отношение к шахматному мату: «шах и мат, король повержен» – эти слова были в записке, спрятанной в шахматной доске. Но что это означает? Может быть, стоит начать поиски сначала, оттолкнувшись на этот раз от шахмат? Уже умерли три студента, императору плохо – времени у нас почти не было. Путь, который указал нам болгарин, похоже, на самом деле был тупиком. Хотя аббат считал удивительные рассказы о Золотом яблоке легендами, не имевшими под собой никаких оснований (а как можно было доказать, что он не прав?), они были единственным следом, который мог помочь нам расшифровать слова аги. Нам нужна была идея. Я принес драгоценную связку ключей Угонио, и тот тут же невольно попытался схватить ее своей когтистой рукой, а из уст его вырвалась ругань, смешанная со злобным смехом. – Пока нет, – заявил я, убирая звенящую связку. Осквернитель святынь уставился на меня своими кроваво-красными глазами. – Скажи мне, что ты собираешься делать ближайшие несколько часов. – Я должен втереться во дворецех Евгения, – ответил он, не отводя глаз от связки ключей, – чтобы передать дервишцу голову великого визионара. – Как только ты отдашь дервишу голову Кара-Мустафы, тебе будет уже нечего бояться? Осквернитель святынь ничего не ответил, что можно было расценить как согласие. – Хорошо. Если ты действительно хочешь вернуть эти ключи, то тебе остается сделать один маленький шаг. Совершенно ясно, что произошло досадное недоразумение. Нашего прежнего соглашения больше нет. Мы полагали, что имеем дело с приготовлениями к убийству,вместо этого речь шла об обычной археологической миссии: поиски головы Кара-Мустафы. Понимаешь, нам пришлось очень долго ждать, чтобы узнать, что ты не можешь нам сказать ничего важного. Это заблуждение требует серьезной компенсации. Я верну тебе ключи, если ты выяснишь, что говорится в надписи на вершине собора Святого Стефана, где когда-то было Золотое яблоко! – сказал я, поскольку вспомнил, что Угонио уже обрабатывал дьякона собора, дабы получить у него соответствующую информацию. – Мне очень жаль, но только тогда счет будет покрыт. Сначала Угонио отреагировал очень бурным протестом («Это неверная, предательская и грязная ложь!» – кричал он, аж подпрыгивая), однако осознав, что мы с Атто непреклонны, а Симонис силен, он постепенно угомонился и издавал только глухое ворчание. У него не было выбора – мы пустили в ход все средства. На самом деле мы никогда не донесли бы на него. После всех убийств, которые произошли в нашем окружении, мы с Атто боялись городской стражи не меньше, чем он. Но этого он знать не мог, он лишь хотел, чтобы его оставили в покое. – Я знаю слова дословно и со всеми подробностями! – вдруг воскликнул Угонио, с решительным выражением лица поднимая голову, чтобы уставиться на свои любимые ключи. – Ах, вот как? – недоверчиво переспросил я. – Нам только это и нужно, – присоединился к разговору молчавший до сих пор Мелани. – Скажи, от кого тебе это известно? – Я… меня информатировали. Переврал мне слова… э… секретариус бургомисла. – Секретарь бургомистра? Когда же это, скажи на милость? – Будучи скорее отцом, чем отцеубийцей, было это два года назад, шесть четвертей, тринадцать дюймов и полпятилетия, и это была очень достойнейшая и очень доверительная тайна, – быстро ответил он, положив руку на сердце, словно для клятвы. – Ну, если ты так говоришь… Вчера, правда, ты этих слов еще не знал. Так как же они звучат? – Э… хм… Quis ротит аигеит, – начал осквернитель святынь, вытянув вперед указательный палец и приняв серьезный вид, будто декламируя речь Цицерона, – de mulłiis cognorauisti… etiam Viennam multorum turcarum… talis melamangiaturpater nosteramen. Прежде чем слова превратились в несвязное бормотание, Угонио запнулся, словно не мог точно вспомнить. – Можешь повторить? – спросил аббат Мелани, озадаченный этим бестолковым набором слов. Угонио глубоко вздохнул, словно вынужден был задерживать дыхание три дня. – Quis ротит аигеит, de multiis ignoravisti… – начал он. – Сначала ты говорил cognoravisti, a не ignoravisti. Угонио обнажил желтые зубы в скабрезной ухмылке, молившей о снисхождении и капле чувства юмора. – Если я слишком истомляюсь, то перепамятовываю иногда. – Наверное, ты забыл также, что архангел Михаил написал всего семь слов. Ты сам говорил мне, помнишь? – сказал я. – Хм… да… – Довольно, Угонио, – перебил я его, – я вижу, что с тобой иначе нельзя. Я поднялся и открыл шкаф, где держал некоторые из своих инструментов для чистки труб. Я взял большие щипцы и сделал вид, что ломаю связку ключей. – Не-е-ет! – закричал осквернитель святынь и хотел броситься на меня, но его тут же удержали сильные руки Симониса. – Оставь свою смешную ложь при себе, – заявил я Угонио. – Я должен знать, написано ли там, наверху, где когда-то находилось Золотое яблоко, что-то или нет, и если да, то что. Если ты мне не поможешь, я выброшу твои драгоценные ключи в Дунай, один за другим. – Ну, как угодно. Как насчет сегодня вечером? – Так быстро? Смотри, если ты опять решишь обмануть меня. После того как он доставит голову дервишу, с жадной ухмылкой заявил Угонио, у него еще есть «срочнейшие и деликатнейшие» дела. Наверное, опять его грязные делишки. Но потом, со значением подчеркнул он, он целиком и полностью посвятит себя посланию архангела Михаила. У него назначена встреча с дьяконом из собора Святого Стефана, и он полагает, что сразу после нее сможет вернуться к нам с новостями. – Ах да, – вспомнил я, – собиратель реликвий. Не надувай его слишком сильно, иначе не видать нам откровения архангела. – А тебе – твоих ключей, – рассмеялся Симонис. Мы договорились встретиться в монастыре в час вечери, то есть в семь часов. Потому что позже, заявил я Угонио, я буду находиться на репетиции оратории «Святой Алексий» в императорской капелле. Угонио тысячекратно заверил нас в том, что будет на месте вовремя: своими «делами» он и минуты не может заниматься без любимой связки ключей, в противном случае ему грозит финансовое разорение. Он стар и устал, жаловался он, и нужно позаботиться о достаточном количестве средств на последние дни. Он немного успокоился, когда я торжественно поклялся на Библии, что буду хранить его ключи как зеницу ока. Спрятав отрезанную голову в свой отвратительный джутовый мешок, Угонио покинул наши покои. В качестве последнего привета он оставил все тот же прогорклый запах плесени, который распространял еще тогда, когда я наткнулся на его серую, как пепел, фигуру, в мрачных катакомбах подземного Рима двадцать восемь лет назад.
Когда комната освободилась от его омерзительно пахнущего присутствия, я отпер шкаф, который использовал в качестве тайника для связки ключей. Я как раз собирался положить ее на место, когда увидел, что на пол упала записка с причудливыми каракулями. Я поднял ее. То был кусок бумаги, которая, очевидно, была прикреплена к связке ключей, и я, должно быть, нечаянно оторвал ее. Я развернул записку. – Вы только посмотрите, – прошептал я. – Что там такое? – спросил Атто. То была памятка. Первые строки касались прошедших дней:
Четрг – купечк вымогат Пятца – молодая бослжнца надув Субота – вдреча в суде: врть бзазрния свести Воскресе – фльшивмонет принести Понеделк – врнуть слепому сиротинушке отнтые вщи, тлько за мнеты Вторк – прйтись в церкв: свщеника пдкупитьПо записям легко было догадаться о предосудительных деяниях осквернителя святынь: вымогательство у купцов, обман молодой послушницы, лжесвидетельство в суде, фальшивомонетничество, возвращение предметов, которые он когда-то отнял у слепого сироты, с требованием за них выкупа, ограбление церкви, ради которого он подкупил священника. То есть обычные гнусности, которыми занималось это существо из подземного мира. А что же написано в записке на сегодняшний день?
Срда – отрзаня глва Хюсейн-паши для дервишаТак я и думал! Голова, которую Угонио собирался подсунуть дервишу, была (по крайней мере, для османов) не драгоценной головой Кара-Мустафы, а головой некоего Хусейн-паши. О ком бы ни шла речь, это была явно не та голова, которую хотел дервиш. Значит, несмотря на свои магические искусства, Кицебер станет жертвой обмана простого осквернителя святынь. Когда я прочел записку Мелани, тот изумился не меньше моего. Но как же велико было его удивление, когда в конце этого перечня я громким голосом прочел еще две записи (первая из них была на латыни), которые, вне всякого сомнения, относились к одной хорошо известной нам особе:
Срда псле плудня – Al. Ursinum. Двое пвешных Потом: дьякон из ШтеффльЭто было уже слишком. Я бросил записку в руки Мелани, словно тот мог разгадать ее (и действительно, он, быть может, из-за невыполнимого, но сильного желания прочесть ее, с удивительным проворством поймал листок). Затем я бросился к двери и на улицу, чтобы нагнать осквернителя святынь. Слишком поздно: выбежав на Химмельпфортгассе, я обнаружил, что Угонио и след простыл. Я побежал до Кернтнерштрассе, вернулся и обежал прилегающие к ней улицы: ничего. Вернувшись в монастырь, я пояснил аббату Мелани, что должна была означать та запись. – Al. Ursinum? Конечно, это же очевидно. Угонио очень разнервничался, когда я отнял у него связку ключей. Потому что вместе с ней он потерял и свой ежедневник, из которого становилось ясно, что голова, которую он собирался передать Кицеберу, принадлежала не Кара-Мустафе, а другой личности. Дервиш грозился отомстить Угонио, если он не сохранит его поручение в тайне. Страшно подумать даже, что будет, если он обнаружит обман.
Однако именно слово «Ursinum» вызвало у нас наибольшие опасения. Оно могло означать не что иное, как латинизированное имя кастрата Гаэтано Орсини. А буквы «AI.» были наверняка сокращением «Святого Алексия», названия оратории, в которой Орсини исполнял роль протагониста. Не столь однозначными, но вовсе не несущественными были личности обоих повешенных. Что, черт побери, у Угонио за дела с Орсини? Что общего у пронырливого мошенника и известного тенора, друга Камиллы де Росси, более того, близкого друга императора? Неужели у них тайная договоренность? Может быть, Орсини тоже всего лишь коллекционирует реликвии, сказал я себе, а Угонио должен был с ним встретиться, чтобы продать несколько «редких экземпляров». Но если это так, то почему же осквернитель святынь так ломался, лишь бы не сказать нам этого? С жадным выражением лица он описал нам свое следующее, после доставки головы Кицеберу, дело как «срочнейшее и деликатнейшее». Если ему нечего было скрывать, то он сказал бы нам, с кем у него встреча. А незадолго до этого я сказал ему, что каждый вечер отправляюсь в императорскую капеллу на репетицию «Святого Алексия» – значит, он знает, что я знаком с Орсини! Нет, Орсини и Угонио что-то скрывают. Казалось, смешались черт и ладан, свет и тьма, ничто и все. Или это все же было предсказуемо – разве не были музыканты всегда удобны для шпионажа? Разве не очевидно, что шпионы тянутся к обманщикам? Так и есть. Но кто же эти оба повешенных? Только мы вздохнули с облегчением, узнав о голове для дервиша, и вот возникают два новых трупа!
– Значит, Угонио общается с Гаэтано Орсини, этим вторым святым Алексием, – воскликнул Атто. – Проклятье! И ведь осквернитель святынь только что был у нас в руках! – Но он от своих ключей не откажется, синьор Атто, – утешил я его. – Как только он вернется, мы тщательно допросим его. Атто еще сильнее поник в кресле с удрученным выражением лица. Я тоже сел. Из-за этих новостей все так резко изменилось, что мы были огорошены. Осквернитель святынь объяснил все очень убедительно: дервиш не был заинтересован в смерти кого бы то ни было, всего лишь в голове Кара-Мустафы. Но если не было и следа турецкого заговора, то кто же тогда убил Данило, Христо и Популеску? Факт налицо: мы не нашли никаких доказательств против турок. Оставались только последние слова Данило, сказанные им незадолго до смерти. Молодой понтеведриец отчетливо произнес имя загадочного Айууба и упомянул о не менее загадочных сорока тысячах мучеников Касыма. Впрочем, было вполне возможно, сказал я себе, что несчастный умирающий просто бредил и механически повторял результаты своих изысканий по поводу Золотого яблока. Быть может, Данило узнал, что Золотое яблоко лежит в могиле Айууба, как позднее рассказал нам Киприан. Может быть, подобно лучу солнца, отражающемуся от поверхности воды и разбегающемуся во все стороны, теряя при этом свою суть и целостность, загадка османского посольства связана еще и с тайными отношениями между Орсини и Угонио? А это, в свою очередь, с болезнью императора? Атто недвусмысленно говорил мне, что все музыканты – шпионы, и сам он – живое тому подтверждение! Верно ли это для хормейстера?
В этот момент в двери постучали. То был Пеничек. Привратница монастыря знала богемского кучера и пропустила его беспрепятственно. Он ищет Симониса, пробормотал тот. Бедный младшекурсник пришел, чтобы, как и обещал, сообщить нам дополнительную информацию по поводу полетов и, кроме того, передать записи лекций. С ним был поляк, Опалинский.
* * *
– Бронтология… Стильбология… Нефология? – озадаченно пробормотал я. – Речь идет о философских учениях, которые исследовали загадочные природные феномены, – сказал Симонис немного автоматически, словно попугай повторяя университетскую лекцию. Особенно же нефология занималась нашим вопросом, провозгласил Пеничек. Я обратился к Атто, чтобы спросить его, слышал ли он что-нибудь об этом, но старый аббат, очевидно, утомившись, уснул в кресле. – А о чем идет речь? – спросил я Симониса. – Это наука, которая, как бы это сказать… которая исследует, как воздух заставляет тело выполнять определенные движения, которые потом, не знаю… Давай, объясняй ты, младшекурсник! – приказал мой помощник. Хромая, как обычно, богемец приблизился, открыл мешок, полный книг, и свалил их на стол такой грудой, что они вот-вот могли рухнуть на пол. – Следи за тем, как пользуешься своими лапами! – отругал его Симонис. Младшекурсник был единственным существом, на котором он мог выместить пережитые в последнее время страхи. – Мне действительно очень жаль, господин шорист, – униженно извинился тот. Потом Пеничек признался нам, что в своих исследованиях полетов ни капельки не продвинулся и поэтому обратился к Яну Яницкому. Тот с удовольствием согласился помочь ему. – Хотя я не знаю, почему это вас так живо заинтересовало, может ли корабль из дерева подняться в воздух, – начал Сталинский, – но этот вопрос действительно вызывает очень много разговоров. Существовал некий профессор естественных наук, продолжал поляк, который ответил на этот вопрос. Как обычно в Вене, когда нужно решить проблемы технического характера, на помощь нам приходят итальянцы. Его звали Овидио Монтальбани, и он долгое время учился в университете Болонья. В академических кругах он очень известен, поскольку публиковал книги невероятного остроумия, в которых описывал самые запутанные и неизвестные области знания: калопилогию, харагмаскопию, диалогологию, атенографию, филавтологию, бронтологию, кефалогию, стильбологию, афродитологию, но в первую очередь нефологию. Я бросил взгляд на первую из книг, которые выложил на стоял младшекурсник. Несколько страниц были отделены закладками. Я открыл книгу в отмеченном месте и прочел:«Те аристотелевские «анафимасис», которые по Плинию являются не чем иным, как поднявшимися в воздух мутными испарениями, и теми водными парами, о которых говорит Метродор, тот же сгущенный воздух Анаксимандра, когда превращается в облака, хотя еще в жидком состоянии, но уже становится видимым и внутри пронзающего воздух тела, поэтому под влиянием неспокойной тургесценции набухает сам…»Брови мои взлетели вверх от недоверия. Похоже, это не столько книга по естественным наукам, сколько загадка. Я пролистал дальше, до другой закладки, и предпринял новую попытку:
«Обобщенный образ мутных тел, круглых или эллиптических, каковыми они и являются, сгущенный воздух обладает, значит, как видим, способностью проявляться в бесконечных, частичных, в высшей степени различных и разнообразных очертаниях. После всего вышесказанного он должен полностью адаптироваться к форме локального пространства и сохранять ее, будь она круглой или эллиптической…»

– Проклятье, да здесь же вообще ничего не понятно, – нетерпеливо воскликнул я, протягивая богемцу книгу. Пеничек взял в руки том, еще открытый на той странице, где' я прочел последний отрывок, поправил очки на носу, пробежался глазами по строкам и с беспомощным выражением лица передал книгу Опалинскому. Тот, быстро прочтя страницу, провозгласил: – Все ясно как божий день. – Что ясно как божий день? – Примерно то, что облака состоят не из особой субстанции, а из сгущенного пара. Поскольку воздух очень подвижен, этот пар может подниматься и двигаться. – Но это я тоже знаю! – возмутился я. – Что ж, господин мастер, – ответил Опалинский, не давая сбить себя с толку, – здесь нам мог бы помочь другой труд Монтальбани, «Бронтология», где с завидной проницательностью исследуются все тайны грома, молнии и зарницы. Однако поскольку время поджимает, разумно сразу же рассмотреть работу другого автора, соотечественника Монтальбани. Этот мастер невероятной учености и образования – великолепный доктор Джеминиано Монтанари. Он взял из стопки книгу со странным названием и протянул мне:
СИЛЛЫ
ЭОЛУСА
ДИАЛОГУС
ФИЗИКУС-МАТЕМАТИКУС
Я повертел ее в руках. – Итак? – спросил я, сразу отказавшись от чтения. Опалинский снова взял книгу и открыл ее на месте закладки. Затем вернул мне. – Это один из самых ученых трудов мастера, – провозгласил он. Я посмотрел на страницу. Там было две иллюстрации, которые наконец-то можно было понять.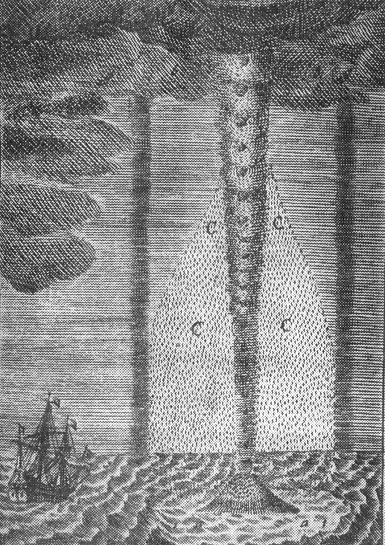
– Видите? Здесь корабль, и к нему движется кружащийся поток воздуха. Такие вихри, еще именуемые смерчами, могут опрокидывать дома, церкви и башни, более того, даже поднимать в воздух целые здания вместе с их обитателями. Затем он показал мне второй рисунок.

– Видите? Здесь парусник захвачен и – раз! – он уже в воздухе. Симонис смотрел на меня с огромным удивлением. – Да, смерчи мне тоже знакомы. Их разрушительного влияния боятся повсюду. Опалинский и Пеничек кивнули. – Тысяча благодарностей, Ян, за твою неоценимую помощь, – удовлетворенно произнес грек. – Господин мастер, можно мне отлучиться на минутку? – спросил он потом. – Я отведу друзей в свою комнату и сразу вернусь. Я кивнул. – А ты сними шляпу, животное младшекурсное! И поздоровайся как следует с господином мастером! – принялся браниться Симонис, давая несчастному хромому полагающийся подзатыльник, после чего тот, покачиваясь на хромой ноге, несколько раз пристыженно поклонился.
Вскоре после этого мой помощник вернулся. – Итак, господин мастер, – начал он, сияя от радости, – получается, что могло быть так, что Летающий корабль был подхвачен и поднят вверх одним из этих вихрей, или смерчей, или как они там называются. Ведь эти ветра могут поднять в воздух и целые флоты, отнести их в другое место и потом поставить на землю, не причинив команде ни малейшего вреда. – Кроме того, Летающий корабль гораздо меньше и легче, чем те корабли, которые иногда поднимают смерчи, – задумчиво согласился с ним я. Грек обрадованно кивнул. – Впрочем… – добавил я, – разве дул ветер, когда мы поднялись над площадкой для игры в мяч? Симонис молчал. – Мне думается, что нет, – ответил я сам. – Нет, ветра не было, – подтвердил он уже не так весело. – Был вихрь или какие-нибудь другие сильные потоки воздуха? – продолжал допытываться я. – Э, нет. Нет, этих точно не было, – подытожил он. – Значит, крайне маловероятно, что Летающий корабль поднялся в воздух с помощью смерча, – заключил я. – Крайне маловероятно – очень точное выражение, господин мастер, – похвалил меня Симонис. Я немного помолчал, чтобы удостовериться, что у моего помощника не найдется других доказательств. Не нашлось. Я разочарованно смотрел на груду книг, которые собрал Опалинский. Мой помощник начал складывать их в мешок. – Один вопрос, Симонис: почему Ян Яницкий понимает, что! написано в этих книгах, а ты – нет? – Все просто, господин мастер: он учится. Я хотел спросить его, чем же он занимается в университете, но удержался. Он и так уже достаточно рассказывал мне о том, чем на самом деле занимаются венские студенты. Когда мой помощник закрыл за собой дверь, я повернулся к Атто: тот по-прежнему дремал, склонив голову набок и неудобно сидя в кресле. Счастливец! Старость лишила его сил сталкиваться с различными трудностями и передала его вместо этого в объятия Морфея, даровавшего забвение. Раньше он неутомимо искал разгадки и ломал себе голову, вот как я сейчас. Да, я был в замешательстве. Казалось, нигде нет понятной логики, но в то же время я не мог оставить в стороне ни единой подробности, если не хотел подвергнуться опасности потерять нить собственных действий и кончить свои дни просто катастрофически: избежав приговора по обвинению в шпионаже в пользу Франции, теперь я рисковал быть обвиненным в пособничестве серии убийств или в подозрительных маневрах с целью навредить принцу Евгению и его османским гостям… А еще я подумал: мы с Клоридией приехали в Вену, чтобы в жизни нашей произошел поворот. Мы оставили за спиной город пап и их лжи: непроницаемый Рим с двойным дном, хладнокровную мачеху, которая не заботится о своих детях. Нам казалось, что в императорской столице мы дышим другим воз духом. Однако теперь, похоже, колесница нашей жизни снова застряла в грязи подозрений и лжи. Даже дьявольский, окопавшийся за стеклами своих очков аббат пытался идти в ногу с событиями. – О, Летающий корабль, – невольно вырвалось у меня, – о, ковчег истины, неужели ты поднял меня в небо только затем, чтобы обмануть? Я бежал из трясины Рима, теперь я снова брожу по мрачным, серым болотам вероятного.
11 часов, когда ремесленники, секретари, преподаватели языка, слуги, лакеи и кучера обедают
– Начинают в три часа с супа из трех яиц и пряностей. В пять – паста из трех яиц и куриный суп. В семь – два сырых яйца. В девять – суп из яичного желтка с кореньями и хорошая порция омлета, и к тому же стакан вина «Траминер». В двенадцать часов – каплун и жареная птица, куропатка и вино с различными сортами хлеба. В час – печеная сладость и вино. В три часа ужинают жареным каплуном, тарелкой жареной рыбы, запивая вином, едят хлеб и различные булочки. В пять часов едят сладкое яичное блюдо с вином. На ночь пять-шесть блюд, среди которых должны быть вареное мясо, жаркое и пресноводная рыба. В семь опять съедают миску сдобы, к тому же хлеб, вино и булочки. В полночь – опять суп с яичным желтком и пряностями. Ты можешь себе это представить? – воскликнула Клоридия. Жена камергера разрешилась от бремени, родив красивого мальчика. Моя сладкая женушка только что вернулась из дворца принца Евгения; теперь она снова могла приступить к своей службе у аббата Мелани и освободить меня от замещения ее на этом посту. Поскольку Атто продолжал храпеть, Клоридия рассказывала мне о родах. Едва разродившись, роженица начала, как это принято в Вене, от души набивать живот различными вкусностями. – Я спросила ее: «Ты действительно собираешься все это проглотить? Тебе ведь не теленка накормить нужно!» И знаешь, что она мне ответила? Что у нее на родине, в Нижней Австрии, роженицы едят еще больше! Сразу же после родов они лопают, начиная с завтрака, продолжая полдниками, до обеда, а потом и до ужина – и так на протяжении двадцати четырех часов, не переставая. Не говоря уже о празднествах после родов: на банкете по случаю рождения ребенка гости обидятся, если съедят менее ста десяти фунтов топленого сала, шестидесяти фунтов масла, тысячи или двух тысяч яиц, ста двадцати фунтов крупчатки и выпьют не целый бочонок пряного вина гевюрцтраминер. Пока Клоридия щебетала без умолку, как всегда, взволнованная после удачно прошедших родов, я уже думал о другом. Жена камергера – это она сказала Клоридии, что принц Евгений хранит записку с загадочными словами аги в своем личном дневнике. Хотя казалось, что турки не имеют ничего общего с болезнью императора, нам, если мы действительно хотели наконец понять, что, черт побери, скрывается за словами аги, не оставалось ничего другого, кроме как посмотреть на листок самим. В нашей ситуации любая попытка была кстати. Я подождал, пока моя жена наговорится, затем приглушенным голосом, чтобы не разбудить Атто, рассказал ей о событиях последних часов: о признании аббата, о голове Кара-Мустафы и остальных происшествиях. – Об этом я тоже уже подумала, – призналась Клоридия. – Может быть, эти слова нужно трактовать иначе, или на той бумаге, которую прочел и передал Евгению ага, есть еще что-то. – Как думаешь, ты могла бы попросить свою роженицу дать тебе этот листок, всего на пару часов? – Я же говорю тебе, что уже подумала об этом! – ответила она и вынула листок из кармана. Я поостерегся спрашивать, благодаря чему и подвергаясь какой опасности Клоридия получила этот листок от камергера или его жены. – Я должна вернуть его сегодня вечером. Принц Евгений каждый день после еды пишет в дневник. – Кстати, разве он не собирался отправиться сегодня в Гаагу? – Он отложил отъезд. – А почему? – Этого никто не знает. – Может быть, из-за болезни императора? – предположил я. – Возможно. Хотя его величеству значительно лучше. Как бы там ни было, когда Евгений отправляется на войну, он всегда берет с собой дневник. Она протянула мне листок. Посреди страницы нетвердой рукой турка были написаны знаменитые слова: «Soli soli soli ad pomum venimus aureum». И ничего больше.– Можно войти? – спросил в этот самый миг Симонис. Он внимательно осмотрел листок, поднес его к окну, чтобы тщательнее разглядеть на свету. – Господин мастер, если на сегодня у вас больше нет для меня заданий, то я мог бы, наверное, помочь вам выяснить, скрывает ли этот листок бумаги еще что-нибудь. – В Место Без Имени мы все равно едем только завтра. Это дело важнее. Но как ты собираешься это устроить? – удивленно спросил я. – У меня в комнате есть все необходимое для этого случая. И вскоре мы уже стояли в комнате Симониса. Там мы обнаружили Пеничека, склонившегося над тетрадями грека, в которых он что-то старательно писал, и Опалинского, который тоже списывал конспект. – Ты закончил, младшекурсник? – грубо спросил Симонис. – Как раз да, господин шорист, – пробормотал Пеничек. – Вот, пожалуйста, я все переписал начисто. – Хорошо, – заметил мой помощник, быстро взглянув на работу хромого богемца, – и никогда больше не смей приносить мне только черновик конспекта, дошло? – упрекнул он юношу. – Да, конечно, господин шорист; простите уж меня, – богемец склонил голову. – И почему мне достался именно младшекурсник из Праги, – пробормотал мой помощник, копаясь в ящике со своими книгами. Он достал оттуда крошечный томик, затем принес стул Клоридии. Я взял книгу в руки. Фронтиспис был несколько невзрачным:
Доктор Генрих Каспар Абелий
Студенческое искусство
Не были указаны ни место, ни время, ни имя издателя. В томике было самое большее сорок страниц. Я открыл его. Не было ни предисловия, ни обращения к драгоценным читателям и даже посвящения. Все разделено на очень краткие главы. Я прочел первое, что бросилось в глаза. – Секрет против ранения оружием, – медленно, буквально по буквам прочел я на своем неуклюжем немецком. – Смотрите, господин мастер, – торопливо произнес Симонис, взял у меня томик из рук и открыл его в другом месте. – Вот часть, которая нам нужна: «Написать надпись, которая вскоре исчезнет». – Это потрясающе! – воскликнула Клоридия. – Как раз то, что нам нужно. А как это сделать? Опалинский заинтересованно поднял голову. Симонис объяснил ему, что мы собираемся делать. Я боялся, что поляк испугается и бросится наутек. Но этого не произошло. Как я заметил еще вчера вечером, Яницкий, похоже, был не очень шокирован смертью своих товарищей. – У нас наконец появилась возможность узнать, таят ли слова аги в себе тайну или нет, – сказал Симонис. – Если мы ничего не найдем на этом листке бумаги, то это будет значить, что турки ни при чем. И тогда трое наших товарищей умерли не из-за Золотого яблока. – Можете рассчитывать на мою помощь, – сказал Опалинский. – Итак… – грек продолжил читать, – здесь говорится о том, что нужно сделать, чтобы написанное стало невидимым: «Это произойдет, если добавить в чернила азотной кислоты, но потом остаются желтые пятна». По книге доктора Абелия, продолжал Симонис, некоторые пишут крепким самогоном, смешанным с пеплом сожженной соломы, о чем можно прочесть подробнее в «Weckeri Secretis».[984] Но этой книги у нас не было. – Если нужно, пошлем младшекурсника, и он принесет ее, – великодушно объявил грек. – Э, а что это такое? – смущенно переспросил Пеничек. – Это книга «De secretis»[985] Алессио Педемонтано, которую Якоб Векер перевел с итальянского на латынь, ее ведь всякий знает! – принялся насмехаться над ним Опалинский, снова пришедший в доброе расположение духа. – Осел! – возмутился Симонис и отвесил младшекурснику пару звонких затрещин. Как сказал мне Симонис и как я сам смог понять на основании его вчерашней речи, польский студент был чрезвычайно образован. Бедный Пеничек по сравнению с ним был совершенным неучем. Тем временем мой подмастерье продолжал читать книгу: – «Сделать так, чтобы можно было прочесть старый, поблекший шрифт. Взять чернильные орешки/ грубо истолочь их/ положить на день в самогон/ затем добавить туда дистиллированной воды/ намочить в получившейся настойке хлопковую ткань/ и провести по надписи». – Хорошо, можем начать с этого, – предложил Пеничек. – Может быть, у тебя есть чернильные орешки, дубовая твоя голова? – обругал его Симонис. – У меня нет, но я знаю, что Коломан Супан – настоящий художник в таких делах. – Правда? Этого он мне никогда не рассказывал, – удивился Опалинский, который был близким другом Коломана. – Коломан – венгр. В нем течет кровь Аттилы, вождя гуннов, который в свое время был гораздо известнее благодаря проворству, с которым он зашифровывал и расшифровывал послания, владея, к примеру, невидимыми шрифтами, чем благодаря тому, что был Бичом Божьим. Он был великим дипломатом, – нравоучительно произнес Пеничек. – Аттила? – озадаченно в один голос переспросили мы все. – Аттила. Венгрия получила свое название от гуннов, пояснил Пеничек. Эти страшные варвары владели ею в глубокой древности. То была часть древней Паннонии, которая во время правления Цезаря Августа была подчинена Риму и славилась своими постоянными восстаниями. И вот в Паннонии был народ, живший на берегах болотистой реки Меотия. Он был настолько диким и неотесанным, а отношения их друг с другом были настолько лишены признаков человеческой цивилизации, что существа те, когда научились изъясняться произносимыми звуками, издавали что-то вроде рычания, и каждый звук, казалось, заканчивался на «унум», поэтому позднее их назвали гуннами, а еще позже – венграми. – Я тут подумал, – обратился к моему подмастерью Ян, – а ты знаешь, куда подевался Коломан? – Нет. – Его не видели, – заметил Пеничек. – Жаль. Именно он знает трюки Баламбера.[986] – Что все это значит? – снова переспросили мы хором. Гунны, пояснил богемец, так закатывая глаза, словно осматривал ими свою память, жили до 370 года изолированными от всех и вся. Тогда церковью Христовой правили папа Дамасий, Римской империей – император Валент, а царем ближней империи шиитов был Баламбер. Во время охоты на оленя бегущий зверь заманил Баламбера из его родных земель в Меотийские болота, которые в то время были замерзшими. Баламбер не знал того, но он был первым чужестранцем, который тогда попал в Венгрию. Осматривая окрестности, Баламбер забыл об олене и начал исследовать неизвестные земли, простиравшиеся перед ним. Вернувшись на родину, он с воодушевлением, в ярких красках рассказал об этой стране, и желание захватить ее распространилось и стало настолько сильным, что вскоре началось наступление на венгерские земли: Баламбер перешел Танаис, подчинил себе принадлежавший таврам Херсонес и готов, которые занимали его, и, объединившись с аланами, прошел до провинций Мезия и Дакия. – Никто не мог остановить его. Своим послам он давал белую бумагу, и только его союзники смогли проявить послание шиитского короля. Однако во время своих завоевательных походов по этим землям Баламбер умер. Его преемником был назван Мундзук, принц из того же народа, который и подчинил земли Венгрии; а сыновьями его были Аттила и Бледа. – Бледа прожил немного: Аттила, обладавший дурным характером, вскоре убил его. Из-за жестокости его называли Бичом Божьим. Однако он унаследовал тайну своего деда, Баламбера, и именно этому – а не своей силе – он обязан тем, что с сотней тысяч человек целым и невредимым дошел до Италии и сумел предать ее огню и мечу. Затем он основал красивый, возвышенный город Венеция, не случайно ставший столицей шпионажа. Говорят, что дожи под большим секретом передают друг другу тайну Баламбера, которую оставил им Аттила. Мы ведь все знаем о темных делишках, которые проворачивает Серениссима вместе с Блистательной Портой. Пеничек был прав. Теперь я вспомнил о том, что говорил мне двадцать восемь лет назад аббат Мелани: когда папа призвал всю Европу защитить Вену от турок, кроме Франции отказалась только одна держава: Венеция. – Значит, этот листок может содержать тайное послание, которое было записано с помощью тайного письма Баламбера! – воскликнул я. – Вполне вероятно, – согласился младшекурсник, – и в этом случае на Коломана вся наша надежда. – Давайте для начала дочитаем, – предложил Опалинский, возвращаясь к рецептам доктора Абелия. – Может быть, мы найдем не такие тайные методы. – Согласен, – поддержал его Симонис, – а если это не поможет, то будем искать Коломана. Если же нужно снова сделать написанное невидимым, говорилось в справочнике, то некоторые пользуются соком лимона, spirtu vini[987] и sal armoniacum.[988] Но если затем полить все alumine plumoso, которую следует дистиллировать в колбах, надпись опять появится. Конечно, убогая комнатка моего подмастерья была чем угодно, только не алхимической лабораторией, у нас не было под рукой alumine plumoso и даже обычных колб для дистилляции. – Стоп, может быть, я нашел то, что нужно, – воскликнул Симонис. – Здесь идет речь о том, чтобы целыми словами написать что-то тайное. Это достигается, говорилось в книге, «если слова / которые должны иметь значение / пометить определенными символами или крючочками; но при определенном количестве слов, идущих друг за другом / считается седьмое или восьмое / однако чтобы оба искусно раскрыли явный и скрытый смысл в контексте / чтобы в них обоих не было видно тайны / и, тем не менее, все было понято». Мы тщательно проверили предложение, но не нашли ни следа даже самого крошечного знака. Поэтому мы решили испробовать другой метод. Однако слов было очень мало, и они были слишком короткими, в одном из них – «ad» – было всего две буквы. – Sssapva, ooodoeu, solaone… – стали пробовать мы все вместе, один брал только первые буквы, другой – вторые, еще один добавлял первые, вторые и третьи, чтобы затем снова начать все сначала. Вскоре в комнате Симониса стали раздаваться весьма странные! звуки, продолжавшиеся до тех пор, пока мы не исчерпали все возможные ходы. К сожалению, все было тщетно. Грек снова полистал свою забавную книжицу. – Послушайте, вот, здесь написано: «Сделать тайный шрифт / который нельзя прочесть иначе, кроме как пронести письмо сквозь воду», или: «Тайные письмена, которые проявляются при помощи огня». Это, кстати, гораздо проще. – Что-что? – возмутилась Клоридия. – Я должна вернуть листок во дворец в целости и сохранности! – Дай сюда, – сказал я Симонису, взял книгу у него из рук и начал читать: – «Взять купорос или кальций, растворить в во де/ растолочь чернильные орешки в порошок и добавить туда же/ через 24 часа процедить через чистый платок/ и этим писать/ таким образом ты / когда все высохнет / на бумаге не сможешь увидеть ничего. Но если захочешь прочесть написанное / положи письмо в чистую воду / через час белые буквы проявятся». Но если невидимое письмо обработать соком лука или чеснока тот, кто захочет прочесть его, должен подержать письмо над огнем, и сразу проступят красноватые буквы. Другие методы, которые приводил доктор Абелий, были еще более рискованными. Если для письма использовался лимонный сок, то нужно было выварить в уксусе перетертый lithargyrium[989] также именуемый «серебряной пеной», чтобы затем опустит туда листок бумаги, что заставит белый текст проявиться. Однако если вместо чернил использовался растолченный и растворенный в воде купорос, то тот, кто захочет прочесть это, должен растереть лот чернильных орешков, налить сверху полмеры чистой воды, перемешать, отфильтровать через платок и окропить бумагу этой водой, после чего станет видимым черный шрифт. Другой способ сделать невидимый шрифт и затем проявить его был следующим: «Растворить купорос в самогоне / процедить через льняной платок / и отстоять / пока жидкость не станет прозрачной / написать ею / на бумаге ее не будет видно. Возьми овсяную солому / сожги ее до пепла / и отнеси мельнику, чтобы тот перетер ее с чистой водой на красильном камне / чтобы та приняла желаемый цвет / ею пиши на предыдущей бумаге / между высохших строк изначального письма, в котором не содержится ничего тайного / и никто ничего не заподозрит. Если же ты хочешь прочесть скрытые строки / то свари чернильные орешки в вине / намочи в этом губку / и проведи ею по письму / до тех пор, пока от такого мытья не пропадут видимые буквы / а нанесенные перед этим невидимые появятся на их месте». Короче говоря, та жидкость, которая должна была проявить, вероятно, наличествующее на бумаге, переданной агой, послание, была на самом деле сложным варевом из ингредиентов, добыть которые можно было только в бакалее. Но это была даже не самая рискованная возможность: если надпись была сделана смесью из толченой «серебряной пены», крепкого винного уксуса и яичного желтка, то нам, чтобы прочесть ее, нужно было жечь бумагу аги до тех пор, пока та не почернеет. Тогда проявились бы белые буквы. – Вы что, с ума сошли? – то и дело восклицала моя супруга в процессе чтения, прижимая руки к груди. Наконец она дала уговорить себя попробовать, по крайней мере, не такое опасное предприятие: быстрое опускание в воду. Впрочем, присутствовать при эксперименте она не захотела, поскольку страшилась последствий. Она воспользовалась возможностью вернуться в наши комнаты, где собиралась сторожить сон аббата Мелани и заниматься малышом.К счастью, послание аги было написано на самой лучшей и крепкой бумаге, той, что используют только для посланий, которые курьерам приходится нести сквозь снег, дождь, реки или моря. Ее сделали когда-то для того, чтобы иметь возможность противостоять непогодам во время путешествий, и я был уверен, что она выдержит. И словно то была священная церемония, Симонис принес миску с водой, в то время как Опалинский расстелил чистейший платок, на который мы должны были положить послание аги. С бьющимся сердцем я на миг опустил бумагу в миску с водой, конечно же, стараясь не намочить ту часть, где содержались слова аги, поскольку опасался, что чернила могут потечь. Ничего не произошло, однако бумага, к счастью, выдержала испытание. Мы стали ждать, пока она высохнет, и пододвинули к ней небольшую жаровню. После этого попытались проявить возможные скрытые надписи с помощью пламени церковной свечи. Ничего. Поскольку от метода подпаливания мы по понятным причинам были вынуждены отказаться, я удовольствовался тем, что опробовал оставшиеся методики. Поэтому я поручил Симонису написать список с необходимыми ингредиентами: олеум, колбы, белый алюминит etc. Список я передал Пеничеку. – Вот деньги, – сказал я. – Поезжай на своей коляске в бакалею «У Красного Рака» на площади Хоэр Маркт и купи там все. – Поистине жаль, что с нами нет доброго Коломана Супана, – вздохнул Пеничек, изучая список через свои маленькие очки, – он бы знал, как заставить заговорить этот листок аги. – Я бы тоже с удовольствием узнал, куда он запропастился, – сказал Симонис. – Может быть… – несмело произнес младшекурсник, – у Опалинского есть идея… – Я действительно не знаю, где его искать, – ответил ему поляк. – Жаль, – повторил Пеничек. – Может быть, Коломан прячется, из страха. После того как они таким жутким образом избавились от Драгомира… Опалинский опустил глаза. – Если он исчез потому, что боится, – размышлял богемец, продвигаясь к двери на своей хромой ноге, – то его наверняка успокоит, если он узнает, что ничья голова дервишу на самом деле не нужна. Очень жаль, что ему нельзя этого сказать. – Сегодня вечером я пройдусь и попытаюсь разыскать его в одном из кабаков. – Сегодня вечером будет уже поздно, – настаивал Пеничек. – Господин шорист прав: это наша единственная возможность узнать наконец, скрывается что-то за словами аги или нет. Господин шорист говорит правильно: если мы ничего не найдем на этой бумаге, это значит, что Блистательная Порта не имеет никакого отношения к этой истории. И тогда – как верно подметил господин шорист – у нас будет доказательство того, что Данило, Христо и Драгомир были убиты не из-за Золотого яблока. – Браво, младшекурсник! Невероятно, но в твоем животном мозгу действительно есть капля разума! – воскликнул Симонис, радуясь тому, что его похвалили. – Но если Коломан на самом деле прячется, – заметил я, – то мы можем бегать по городу совершенно бессмысленно. – Он в «Хаймбоке».
* * *
Опалинский знал, где найти венгра: Коломан доверился другу. Он прятался на чердаке бушеншанка[990] в предместье Оттакринг, который назывался «У Хаймбока». Пеничек предположил верно. После смерти Популеску Супан испугался. Поэтому он залег на дно и заставил Яна поклясться, что о его тайнике не узнает ни одна живая душа. Но поляк таки выдал его. Ведь речь шла о том, чтобы передать Коломану свежие новости по поводу дервиша и в то же время попросить его помочь разгадать загадку турецкой записки. Однако Опалинский тут же, похоже, пожалел о том, что позволил вырвать у себя тайну, потому что лицо его омрачилось. – Ну же, идемте, – нетерпеливо настаивал я. – Если позволите… Не лучше ли будет, если я сначала поеду в бакалею, чтобы купить необходимое, прежде чем лавка закроется? – предложил богемец. – Я вернусь, возьму вас, и мы все вместе поедем к Коломану. – Если мы выйдем теперь же все вместе, это будет быстрее, – возразил я. – Как только мы будем у Коломана, мы проведем эксперимент с егопомощью. – Если господин мастер позволит, я осмелился бы сделать замечание, – несмело произнес Пеничек. – Не кажется ли господину мастеру опасным выносить листок аги из этих молчаливых монастырских стен и брать с собой столь уникальное вещественное доказательство в общественное место? – Проклятье, я об этом не подумал, – признался я. – Должно быть, очень устал. Ты прав: мы должны съездить за Супаном и привезти его сюда. – Если хорошо подумать, – вмешался Опалинский, – можете пройти не один час, прежде чем нам удастся уговорить Коломана помочь нам. И я повторю еще раз: хотя мы действительно очень дружны, он никогда не рассказывал мне о Баламбере, Аттиле, зашифрованных посланиях и тому подобном. Если он не согласится, мы рискуем, что у нас не останется времени на то, чтобы провести эксперимент самим. После продолжительной дискуссии мы решили сначала попробовать добиться чего-нибудь без Коломана. Лицо Опалинского прояснилось: если попытка увенчается успехом, его друг венгр никогда не узнает, что он выдал его убежище. Поэтому мы послали младшекурсника в бакалею. – И поспеши! – прорычал грек, а несчастный хромоножка вздрогнул.Богемский студент вернулся только более чем через час, запыхавшийся и вспотевший из-за поспешной езды и долгого спора с бакалейщиком, который не хотел продавать ему потенциально ядовитые препараты, задавал тысячи вопросов и, наконец, заставил его долго ждать обстоятельной и длительной подготовки remédia, то есть компонентов. И вскоре комната моего подмастерья превратилась в алхимическую лабораторию, где над камином висел котел, в котором дымили и исходили пеной дистиллировочные колбы, а воздух пропитался едкими запахами. – Проклятье, – раздосадованно засопел Симонис. Единственное, чего мы добились всем этим мероприятием, так это того, что теперь бумага пошла какими-то совсем невеселыми волнами и обуглилась по краям. – Мы ни в коем случае не можем положить ее в таком cостоянии обратно в дневник принца Евгения! – безутешно воскликнул я. – Если Клоридия увидит это, она меня убьет. Уже было два часа пополудни. Вот уже почти три часа мы дистиллировали свои собственные мозги, размышляя над этим листком, который никак не хотел открывать свою тайну, если таковая, конечно, была. К огромному сожалению Опалинского, нам действительно не оставалось ничего, кроме как уповать на Коломана Супана.
* * *
Во время поездки Опалинский выглядел напряженным. Может быть, он думал о том, что скажет Коломан, когда увидит, что мы пришли? Я тоже был мрачен. Если и Коломану не удастся вырвать у бумаги тайну, то это будет, с одной стороны, хорошей новостью, потому что мы будем избавлены от страха перед турками. А с другой – мы снова очутимся в потемках: три студента умерли один за другим, а убийцы (или убийца) были все еще безымянными. Я наблюдал за Симонисом: он сидел напротив меня и не отводил взгляда от проносившихся мимо виноградников, простиравшихся по обе стороны от дороги. Прежде чем покинуть монастырь, он набросил на плечи небольшой мешок, который теперь задумчиво расправлял, вероятно, погруженный в столь же мрачные мысли, как я. – Почему Коломан спрятался именно в «Хаймбоке»? – спросил я поляка. – Туда отвел его итальянский монах. Коломан вообще-то просил прибежища в монастыре, но там его не пожелали прятать. – Разве не обращался ваш товарищ уже к итальянскому монаху по поводу Золотого яблока? – снова спросил я. – Я что-то такое тоже помню, – подтвердил Симонис, – он был августинцем, который исповедовал турецких военнопленных, желающих принять крещение. – Да, это верно, но я не знаю, тот ли это самый, – ответил Опалинский. – Что-что? – в ужасе воскликнул Пеничек. – Неужели Коломан сошел с ума? – Почему это? – в один голос спросили мы. – Разве вы не слышали, что сегодня утром арестовали одного монаха-августинца? Он итальянец, и его, очевидно, обвиняют в нескольких изнасилованиях и убийствах. Мы сидели словно громом пораженные. А наш хромой кучер зато, казалось, пришел в лихорадочное возбуждение. – Боже мой, неужели Коломану обязательно было доверяться именно итальянскому монаху? Я считал его более осторожным человеком! – качая головой, ворчал он, сидя на козлах и направляя коляску к предместью Оттакринг. – Ты чертов бык рогатый, а не пражский младшекурсник! – взвился Симонис. – Как ты осмелился? Проси прощения и заткнись немедленно! Быть может, из-за похвалы, полученной прежде от шориста, быть может, потому, что страх придал ему смелости, – но Пеничек, похоже, не собирался затыкаться. Напротив, он сбросил с себя личину почтительного, подавленного человека и лихорадочно продолжал: – Разве Коломан не знает, что это монашеское отродье – самые бессовестные и опасные преступники? И в первую очередь итальянцы! – Это еще почему, скажи на милость? – возмутился я, поскольку этот жалкий хромой младшекурсник, слуга и посмешище своих товарищей, осмелился в таком наглом тоне говорить о моих соотечественниках. – Ты, омерзительное богемское отродье! – вскипел Симонис, поднимаясь с сиденья и ударяя кучера в спину. – Что это на тебя нашло? Немедленно проси у господина мастера прощения! – Да ладно, ладно, – успокоил я своего подмастерья. – Но ты, – теперь я обращался к младшекурснику, потому что уже успел привыкнуть обращаться с ним грубо. – Я тебя кое о чем спросил. Что не так с итальянскими монахами? В середине шестнадцатого столетия, несмело начал Пеничек, напуганный ударом, полученным от своего шориста, пришел великий Мартин Лютер, чтобы найти среди беленых камней монастырских змеиные гнезда. И пролился свет на то, что прежде оставалось сокрытым. Многие монахи сняли рясы, взяли себе жен и приняли лютеранство. Число отцов-католиков уменьшалось с катастрофической скоростью. – Что ты такое говоришь, младшекурсник? – возмутился теперь Опалинский. – Ты что же, принимаешь ересь Лютера? – Как можно ждать чего-то иного от человека из Праги? – усмехнулся Симонис. – Говори дальше, Пеничек, – приказал я. – Старый монастырь августинцев-иеремитов Вены, прежде расположенный неподалеку от императорской резиденции, вот-вот должны были закрыть, поскольку он опустел и был заброшен. Орден вынужден был просить помощи у своих собратьев из других стран. И тогда пришло подкрепление из монастыря в Италии, не захваченной ветром реформации. – Богопротивным поветрием, – презрительно уточнил Опалинский. К сожалению, отцы-итальянцы (особенно высших санов) считали себя, скорее всего по причине близости к Риму, в некотором смысле выше остальных. Они презирали и истязали венских братьев, более того, они даже плели дипломатические интриги в императорской столице с зарубежными посланниками. – Ты хочешь этим сказать, что отцы-итальянцы занимались шпионажем? – с сомнением поинтересовался я. – Императорские ведомства были в этом более чем уверены. Во время нескольких обысков в крестном ходе монастыря были обнаружены самые разные подозрительные личности: бандиты, разбойники и тому подобный сброд. Всем итальянским монахам были предъявлены обвинения в том, что те воспользовались близостью к резиденции и связями с императорским двором, чтобы шпионить в пользу Франции или других иноземных держав, и в конце концов было приказано изгнать их и запретить когда-либо возвращаться. Кроме того, вышло постановление, что в будущем все главы орденов должны говорить на немецком языке. Немцы, хотя и были более честными, обладали другим недостатком. Они были несколько холодны в вере, и потом, им не хватало теплого, человеческого чувства, которое, хоть и в извращенной форме, было присуще их итальянским братьям. Эти отцы с юга умели квасить души и держать в повиновении народ, и при этом они были настоящими остряками, а при необходимости – проворными и хитрыми. Тем временем Рим и главы ордена августинцев продолжали оказывать давление, поскольку хотели, чтобы на местах у них были свои люди, и в результате им это удалось. Итальянцев снова приняли, затем снова изгнали, вернули, опять изгнали и так далее, а народ озадаченно наблюдал за этим и спрашивал себя, в чем, собственно говоря, заключается проблема: в нечестности итальянцев или неясных предпочтениях немцев. Между тем продолжалась обратная католическая реформация, принципы которой диктовал Рим. Главы ордена послали очередных достойных доверия своих соотечественников в Вену. Двор не мог отказаться, поскольку приор августинского монастыря, который не был итальянцем, прямо перед обыском бежал в Прагу, где был схвачен. Его обвинили в серьезных растратах, из-за которых конвент оказался по уши в долгах и которые шли вразрез даже с императорскими эдиктами, после чего монахам было запрещено продавать монастырское добро, заниматься торговлей вином, заключать сельскохозяйственные сделки etc. Короче говоря, за святыми стенами никак не хотел воцаряться мир. Едва итальянцы вернулись, как тут же снова начались ссоры и торговля. Все взаимоотношения с императорским двором разбивались теперь о стену обоюдного презрения и подозрения. Монахи продолжали спорить с мирскими властями; верхушка ордена ссорилась со своими подчиненными и друг с другом: если один покупал виноградник или клочок земли для монастыря, то его последователь продавал это, и они опять принимались обвинять друг друга в разбазаривании денег ордена. Подобные случаи в итоге оказывались на столе у светских судей, которые потом обвиняли не только поссорившихся, но и вообще всех духовников ордена. Поскольку же совесть была нечиста у всех, то итальянцы легко притворялись самыми главными. Вражда, ссоры, злословие, зависть и клевета снова и снова подогревали ненависть между тевтонскими и итальянскими монахами, и если новый приор пытался сделать так, чтобы воцарился мир, то вдруг оказывалось, что немцы его ругают, а сам он запутался в интригах итальянцев. – В конце концов в дело вступили иезуиты, которые благодаря булле папы Урбана VIII получили разрешение выселять за стены города всех августинцев-иеремитов, будь они итальянцами или не итальянцами, без предупреждения, в предместье Ландштрассе, где они находятся и по сей день. Они заменили его на «импортированный» из Праги орден босоногих августинцев, очень добродетельный орден. – Орден отца Абрахама а Санта-Клара, – сказал я. – Именно. И насколько я знаю, в нем нет ни единого итальянца, – хихикнул Пеничек. – И что ты доказал своей тирадой? – проворчал Симонис. – Что отцы из Праги порядочнее? – Или что иезуиты, как обычно, самые хитрые? – добавил поляк. – Кроме того, история об изгнании августинцев стара как мир. – Но известие об августинце, который убивал… – Он был августинцем-иеремитом или босоногим августинцем? – быстро спросил мой подмастерье. – Гм… иеремитом. – Отец, с которым дружит Коломан, является босоногим августинцем, – ответил Симонис. – В таком случае нет никаких причин для беспокойства, – со вздохом облегчения заключил я, когда коляска остановилась перед воротами виноградаря.Мы прибыли к «Хаймбоку». Это был один из тех венских бушеншанков, которыми управляют виноградари и их семьи и где пьют хойригер, молодое вино из растущего в хозяйстве винограда. Бушеншанк, еще именуемый разливным павильоном, уже самим своим названием дает понять, что здесь пьют вино на свежем воздухе, и не случайно этот тип пивной так похож на римскую остерию за городскими воротами, которая с давних времен была сценой для дружеских пьянок и пиршеств на фоне виноградной зелени. Знаком того, что разливной павильон открыт, виноградарь здесь, в императорской столице, равно как и в Вечном городе, ставит над дверью большой пучок хвороста. В Вену виноградную лозу завезли римские солдаты – как Габсбурги музыку и роскошные дома – гордость венцев, корни которой остались в Италии. Бушеншанк «У Хаймбока» считался одним из лучших разливных павильонов, хотя в случае с хойригером разочароваться просто невозможно: белое или красное вино, отжатое в фамильном подвале, всегда сносное или даже лучше, панированный индюк жены или матери хозяина всегда вкусно похрустывает, свинина с тмином отлично пахнет и очень нежная, жареный цыпленок свеж и сочен, словно круглые щечки служанки с белыми косами, которая всегда подает горячего цыпленка. Обычно все входят через садовые ворота и садятся под деревьями в небольшом внутреннем дворе, где у гостей достает такта общаться шепотом (в Риме в подобном месте приходится закрывать уши из-за громкой болтовни и смеха, грохота тарелок, скрипа стульев и столов); а если нет места для стола, то можно присесть в одной из ниш, сделанной в столетних деревьях, или поесть за временным прилавком из грубых деревянных досок, лежащих на заборчике. Если идет дождь, все пересаживаются в отверстие старого чана, красиво уставленного столиками под кружевными скатерками и стульчиками, словно у белки из сказки. Только войдя внутрь, испытываешь завораживающее влияние веселой, свободной атмосферы, которая так окутывает тебя, что если вместо вина подать уксус, а вместо индюка – сухие хлебные крошки, то все равно съешь с удовольствием, под шум листвы, щебетание птиц, смех хозяйской дочки, в мире, исходящем от этой благословенной земли. Здесь покоится мудрая Вена. И пока держишь в руках стакан хойригера цвета рубина и теряешься в его карминовых глубинах, квохтанье, доносящееся из недалекого птичьего двора, кажется похожим на хор эгейских дев, а крики осла из соседнего двора напоминают строки Софокла; и неудивительно, если вам, как это однажды случилось со мной, вспомнится вдруг описание Австрии Энеа Сильвио Пикколомини.[991] Я читал его перед тем, как поехать в Вену, и в воспоминаниях оно превратилось для меня почти в поэзию. Эрцгерцогство Австрийское выше и ниже Энса поставляет вино в Баварию, Богемию, Моравию и Шлезию, отсюда и произрастает все богатство Австрии. Сбор винограда растягивается у жителей Вены до сорока дней, но не проходит и дня, когда бы трисотни груженных молодым вином телег два или три раза не въехали в Вену из предместий, а во время сбора этим занимаются без остановки тысяча двести лошадей. Если кто продает дома вино, того не презирают. И не найдешь ни одного жителя, который не занимался бы этим ремеслом, они натапливают комнаты, устраивают кухни и готовят восхитительные блюда…
Мы с моей сладкой женушкой мечтали о том, чтобы однажды самим открыть в том винограднике в предместье Жозефина, что подарил нам Атто, свой бушеншанк. И вот теперь я предавался мечтаниям, сидя на скамье в на удивление пустом заведении и тоскуя, Пеничек ждал на козлах, а двое остальных искали Коломана. Я продолжал бы со своим малышом и дальше заниматься ремеслом трубочиста, которое должен был унаследовать мой сын; а Клоридия обрела бы в нашем бушеншанке верное занятие хозяйки. Мы забрали бы в Вену обеих наших дочерей, которые могли бы помогать матери на кухне, в то время как для виноградника мы нашли бы пару крепких старательных ребят из местных. Кто знает, быть может, однажды они попросили бы у меня благословения на союз с моими дочерьми, и так вся семья, включая внуков (если Богу будет угодно), росла бы и процветала… – Господин мастер, господин мастер, скорее! Голос доносился издалека и сверху. Я поискал взглядом, но ничего не увидел. Я встал со скамьи и сделал пару шагов. Симонис звал меня с чердака подсобного дома, выходившего на хозяйственный двор и соединенного с домом хозяина низкой пристройкой, возможно стойлом. Он стоял у чердачного окна в нижней части дома и сильно размахивал руками, пытаясь привлечь к себе мое внимание. Так он вырвал меня из сладкого голода, в который повергли меня идиллия и глоток красного вина.
Не нужно было подниматься по лестнице наверх. Когда я стал искать вход, то наткнулся на посетителей бушеншанка (так вот где они были), с ними были и хозяин дома с семьей. Все они окружили птичий двор. И тут я увидел… Сначала я принял это за пугало, одну из тех кукол из старых платьев и соломы, которыми отпугивают птиц от полей. Но что делает пугало в птичьем дворе? Нет, то был Коломан. Он выглядел почти точно так же, как Популеску, когда мы нашли его: он тоже был насажен, только на деревянные колья, а не на подсвечники. Забор из заостренных кольев, глубоко вогнанных в землю, защищал птицу от набегов лис, куниц и диких кошек. Насаженный на колья, Коломан, великий любовник, Коломан, бедный венгерский официант, Коломан, мнимый барон из Вараждина, смотрел на восток, в сторону широких равнин своей Венгрии. Куры, утки и индюки ничего не замечали. Они спокойно расхаживали, поквохтывая, в своей ограде, и наше присутствие мешало им не больше, чем пугало из плоти и крови.
– Убийцы! Твари! Это не люди! – бормотал Опалинский, сдерживая рыдания. Теперь мы стояли в небольшой комнатке на чердаке, откуда выглядывал Симонис, чтобы позвать меня. – Убийцы? Кто? Это, не отводя взгляда от тела, произнес мой помощник. – Люди, которые убили Коломана, – ответил я, опасаясь, что шок лишил его рассудка. Грек ничего не сказал. Он продолжал сидеть у небольшого чердачного окна и смотрел вверх, на крышу, вниз, на Коломана и колья; затем поднял взгляд и перевел его на конюшни, соединявшие это здание с хозяйским домом. Я проследил за его взглядом и увидел у противоположного окна расстроенные лица двух цветущих молодых девушек, вероятно дочерей хозяина. Рядом с ними, у стены дома, солнечные часы показывали половину четвертого дня. В этот миг Симонис повернулся к нам: – А если это был несчастный случай?
* * *
Спешно покинув «Хаймбок», мы бесцельно ехали по склону близлежащего холма, называемого Ам Предигтштуль. С обрывистой вершины открывался вид на панораму императорской столицы. Вена простиралась перед нашими глазами, и пока по небу над городом плыли тени черных дождевых облаков, там, где мы находились, так некстати пригревало солнышко. Многое произошло с момента нашего расставания с телом несчастного Коломана, начиная с ссоры между Опалинским и Пеничеком. А события развивались следующим образом.В обмен на щедрые чаевые хозяин согласился отложить на час вызов городской стражи. Прямой как свеча, стоял он, хозяин, наблюдал за нами и ждал, когда мы наконец уйдем. Он даже наших имен не спросил. Его интересовали только деньги, за которые мы купили себе несколько минут на спокойное прощание с нашим другом. Вероятно, он думал, что мы родственники или друзья Коломана, пришедшие навестить его. Городской страже он только покажет тело молодого человека и скажет, что тот упал с крыши. Он никогда прежде не видел его и не знает, скажет он. На самом же деле они очень хорошо познакомились за день до этого, когда Коломана привел в «Хаймбок» итальянский монах и попросил его спрятать. Что произошло потом, хозяин не знал и знать не хотел. Ему было достаточно денег, которые он получил от монаха, говорил он, что, впрочем, не помешало ему взять и то, что предложили мы. У нас оставалось несколько мгновений, прежде чем мы вынуждены были уйти. Смерть Коломана, четвертая, оставила от группы друзей, с которой я познакомился несколько дней назад во время церемонии снятия, только Симониса и Опалинского. Было слишком ясно, что смерти взаимосвязаны и я в какой-то мере причастен к этому. Тем не менее нам никак не удавалось определить мотив этих ужасных поступков. Расследование по поводу турок зашло в тупик. Дервишу Кицеберу скрывать было нечего, в словах аги о Золотом яблоке idem ничего не скрывалось, и, вероятно, ничего необычного не было и в бумаге, на которой они были записаны. Так что и намеки Атто Мелани на то, что Христо и Драгомир были османскими подданными, тоже теряли всякий смысл. Значит, в случае с каждым из четверых умерших была совершенно особая причина, по которой они вынуждены были расстаться с жизнью. Ловушкой для Данило и Христо стало, похоже, опасное ремесло, для Драгомира – армянка, а для Коломана что? – Он умер в три часа, в это время он всегда был с женщиной. – Точно, – кивнул я, думая о времени, которое показывали солнечные часы, – а у противоположного окна стояли две красивые дочери хозяина. Думаешь, он упал, когда пытался добраться до них? – Коломан, как я уже говорил вам, был настоящим артистом в том, что касается лазания по крышам и карнизам. Может быть, на этот раз он сделал неверный шаг? Впрочем… – Что? – Мне кажется очень маловероятным, что с учетом тех страхов, которые он испытывал, ему захотелось женщину. Короче говоря, в случае с Коломаном Супаном невозможно было понять, убит он или нет. Хотя я сам тщательно осмотрел место происшествия, положение трупа, траекторию падения тела, затем исследовал все мелочи в крохотной комнатке, где провел последние часы Супан, я пришел к тому же выводу, что и Симонис: совершенно ясно было одно – венгр выпал из окна. Толкал ли его кто-нибудь при этом, ведомо одному Богу. И только безутешный Опалинский, в отчаянии горько сожалевший о том, что выдал тайник Коломана, казалось, абсолютно точно знал, что его друг был убит. И обвинял он Пеничека. – О нет, здесь убивал не монах-августинец! Отвратительный демон из Праги, я вырву твои глаза! – рычал он, когда мы покинули «Хаймбок» и сели в коляску богемца. С большим трудом нам удалось спасти несчастного хромого, поскольку Опалинский представлял из себя гору мышц и уже крепко сжал горло Пеничека. Когда мы рассказали ему о происшедшем, Пеничек снова принялся за свою историю об итальянском монахе и о том, что Коломану не следовало доверять ему, etc. Но Опалинский бросился на него, не давая говорить, и вынудил нас с Симонисом силой помешать ему удавить богемца. – Но ты допустил ошибку, жалкая тварь! Ты толкнул Коломана из окна! На это вы, пражцы, мастаки! – прокричал Ян, но ослабил хватку. После этих загадочных слов Опалинского Симонис быстро пояснил мне, что убивать, выталкивая из окон, – это жуткий обычай, действующий в Праге уже на протяжении многих столетий. Первое такое убийство случилось 30 июля 1419 года, когда группа недовольных богемских дворян ворвалась в ратушу и выбросила из окна бургомистра и членов городского совета. С тех пор список стал очень длинным. Сто лет назад делегация протестантов выкинула из окна двух католических посланников императора, которые, правда, упали на навозную кучу и остались в живых. Одна же известная дефенестрация[992] в конце концов вызвала Тридцатилетнюю войну. – Когда ты поехал в бакалею, ты уже знал, где найти Коломана! – всхлипывал Опалинский. – Ты сделал все, чтобы поехать с нами туда, где он прятался. А я, идиот, попался! Младшекурсник отсутствовал больше часа. Если верить Опалинскому, у него было достаточно времени для того, чтобы поехать в «Хаймбок», выбросить венгерского студента из окна и вернуться к нам, в монастырь Химмельпфорте. – Историю о ссоре с бакалейщиком ты выдумал, ну же, признавайся! Поляк бредил. Пеничек спас мне жизнь в Пратере после смерти Христо. В обвинениях Яницкого не было никакого смысла. Я сказал об этом, ища поддержки в глазах Симониса. – Ян, успокойся. То, что ты утверждаешь, бессмысленно. Скажи ему, Симонис. Грек был со мной в Пратере, он точно знал, что я обязан жизнью его младшекурснику. Но взгляд моего помощника, по бледному лбу которого струились капли пота, не выражал ничего. Было невозможно понять, непроницаем он или просто пуст. Поляк тем временем слез с коляски. Он больше не хотел ни минуты находиться в обществе младшекурсника и собирался вернуться в город пешком. – Пойдите в «Красного Рака» и поговорите с бакалейщиком! – крикнул он нам, удаляясь. – Посмотрим, подтвердит ли он сказки этого богемского дьявола! – К «Красному Раку», младшекурсник! – приказал Симонис. Пеничек не шелохнулся. – Поворачивайся и вперед! – зарычал тот на него и схватил его за шею сзади. Хромоногий студент отвернулся от нас и снова посмотрел на дорогу, словно собираясь послушаться своего шориста. Но коляска не тронулась с места. – Я… я… – наконец заговорил он. – Яницкий прав, я не все время был в бакалее. Я озадаченно уставился на него, а Симонис сильнее сжал пальцы. – Я… мне кажется, я разгадал загадку слов аги, – сдавленно произнес он. И несчастный хромой поведал нам, что когда он покинул Химмельпфорте, чтобы поехать в бакалею, то проезжал на коляске мимо дворца Цум Хайденшусс. – Я поднял голову, и что же я увидел? На фасаде здания находится статуя конного турка, вынимающего из ножен саблю. – Ну и что? – спросил Симонис. – Эта статуя знаменита, все ее знают. – Да, я тоже уже видел ее, – подтвердил я. – А… а вы знаете историю этой статуи? – спросил младшекурсник, язык которого от страха еще не отлип от гортани. – Нет, – ответили мы в унисон. После того как Симонис приказал ему отвезти нас к находившемуся неподалеку холму Цум Предигерштуль, чтобы стоящая на месте коляска не вызывала подозрений у прохожих, Пеничек начал свой рассказ. Предание Блистательной Порты гласит, что османа того звали Дайи Черкес или Дайи Чиркассо, и он участвовал в первой осаде Вены. Едва мины Сулеймана пробили брешь в стене, как он верхом на лошади, с саблей наголо ворвался в город. Если бы за ним последовали другие турки, то спасения столице Священной Римской империи ждать было бы неоткуда. Однако товарищи его были не такими мужественными, как он, и не последовали за ним. Поэтому Черкес Дайи остался один и был убит христианами. Однако император Фердинанд I почтил мужество мертвого героя: он приказал мумифицировать его и его лошадь и поставить в нише одного из домов. Расположенная напротив дома площадь стала называться Черкесской. Даже сегодня можно увидеть там Дайи Черкеса с обнаженной саблей на коне. А гяур, то есть христианин, который выстрелил турку в спину из аркебузы, был по приказу императора живым замурован в стену противоположного дома, и надпись на нем гласила: «Почему ты выстрелил в спину солдату, вооруженному только кривой саблей? Ты должен был встретиться с ним лицом к лицу, с булавой и мечом, вместо того чтобы подло стрелять из засады». Там гяур умер мучительной смертью. Спустя несколько лет мумия всадника рассыпалась и ее заменили статуей. – И что это доказывает? – спросил Симонис. – Дайи Черкес пришел к Золотому яблоку совсем один. За его мужество его почитают как святого. Если бы Вена стала мусульманской, то он стал бы заступником города, – заключил богемец. – Поэтому, значит, ага сказал, что он пришел к Золотому яблоку совсем один: он хотел напомнить о мужестве и героизме Черкеса… Но почему? – спросил я. – Хм, может быть… – пробормотал Пеничек, – может быть, это такой оборот, подчеркивающий их честность как врагов, таких же как Дайи Черкес, когда он среди бела дня вошел в город, вооруженный лишь своей кривой саблей. – Значит, вот что обнаружил Хаджи-Танев! – вспомнил я. – Он сказал, что значение всего высказывания заключается в словах «soli soli soli». Теперь ясно: он нашел историю Черкеса. Значит, больше никакой тайны в словах аги нет; равно как и в голове Кара-Мустафы, и в ритуалах дервиша! – разочарованно воскликнул я. – Но кто-то же убил Данило, Христо и Драгомира, а быть может, и Коломана, – возразил Симонис. – А в записке, которая лежала в его шахматной доске, Христо написал «король повержен». Что это могло… – Ну и ну! – громко вскрикнув, перебил меня Симонис, а Пеничек аж подскочил. Мы достигли наивысшей точки холма. Я собрался было вылезти из коляски, но грек удержал меня. – А теперь поезжай по кругу, – приказал он Пеничеку, продолжая одной рукой сжимать его шею, а вторую по-прежнему держа в мешке. – Что это тебе в голову пришло? – с любопытством спросил я. – Я задаюсь вопросом: как ага мог быть уверен в том, что принц Евгений поймет смысл его слов? – Вероятно… – начал я, отмечая, что мой помощник находится как раз в счастливой фазе душевного пробуждения. – Э… о… – промямлил Пеничек, не отводя расширенных от ужаса глаз от заплечного мешка Симониса. И тут лицо его просветлело. – Все просто: дворец Цум Хайденшусс находится во владении его светлости принца! – Поедем туда, – предложил я, – может быть, жители расскажут нам больше об истории Черкеса. – Боюсь, что нет, – ответил хромой студент, глядя прямо на холм, который Симонис приказал ему объехать по кругу. То, что я сейчас рассказал вам, пояснил Пеничек, это турецкая версия появления статуи на фасаде. А венская версия звучит совершенно иначе. Как известно, штольни, которые копали турки во время осады с помощью взрывов, простирались за городские стены. Чтобы вовремя предупредить о подземном нашествии турок, в венских подвалах повсюду стояла система оповещения, вроде, к примеру, заполненных водой ведер (если мины взрывались, то вода в ведрах дрожала, даже находясь далеко от эпицентра) или барабанная кожа, на которой лежали горох или кости, начинавшие громко стучать при взрыве. Для слежения за системой, конечно же, день и ночь кто-нибудь дежурил. Во время первой осады в 1529 году в доме, о котором идет речь, жил булочник. У него было два подвала. Внимание подмастерья, работавшего в более глубоком подвале, некоего Иосифа Шульца, родившегося в городе Болькенхайн в Шлезии, привлекли запрыгавшие от взрыва турецких мин кости. Он тут же отправил сообщение коменданту города и спас Вену. Император Фердинанд после этого дал гильдии пекарей привилегию, в память об этих событиях: каждый год на Пасху они могли устраивать процессию с развевающимися знаменами и под турецкую музыку. Позже подвал превратился в кабак и получил название «Турецкого Погребка». Статуя – символ турок, которых удалось остановить благодаря бдительности подмастерья. – О да, процессию булочников я сам видел неделю назад. Вот, значит, в каком эпизоде истории берет она начало, – сказал я. – Если жители дома не знают турецкую версию истории, то я предполагаю, что ты узнал ее не от них, – набросился Симонис на своего младшекурсника. – Так откуда же? И почему тебе потребовалось так много времени, чтобы вернуться к нам, в Химмельпфорте? Младшекурсник отважился несмело улыбнуться. – Я знал эту легенду давно, но только сегодня, когда взгляд мой упал на эту проклятую статую, я все понял. Поэтому я вышел из коляски, чтобы опросить жителей дома, и потерял время. Но они знали не больше моего, то, что я вам сейчас рассказал. И почему я не подумал об этом раньше! Мы бы уже давно забросили эту бессмысленную историю о Золотом яблоке! Пеничек принялся всхлипывать, давая наконец волю напряжению и страху. Он безудержно плакал и не остановился даже тогда, когда Симонис приказал ему вести коляску к монастырю Химмельпфорте. На обратном пути мой подмастерье не сводил с него стеклянного взгляда совиных глаз идиота, в которых я, как обычно, не мог ничего прочесть.
17 часов, конец рабочего дня: мастерские и канцелярии закрываются Ремесленники, секретари, преподаватели языка, священники, слуги, лакеи и кучера ужинают (в то время как в Риме как раз полдничают)
Усталый и измученный я вернулся на встречу с Угонио в Химмельпфорте. Мой малыш играл в крестовом ходе; я послал его вместе с Симонисом ужинать в трактир. Клоридию я обнаружил в покоях аббата Мелани. – Ну что? – Дрожа от волнения, она открыла мне, когда я постучал в двери Атто. Она хотела узнать, удалось ли нам прочесть что-то еще на листке аги, потому что срочно должна была вернуть драгоценную бумагу личному камергеру Евгения. Я рассказал ей и аббату о смерти Коломана, о реакции Опалинского и его обвинениях в адрес младшекурсника. Моя супруга, обессилев, опустилась на стул. Мелани, как обычно прятавшийся за стеклами черных очков, провел рукой по рукояти своей трости, погруженный в какие-то неясные размышления. – А если это был несчастный случай? – А если это был монах? – А если… Много вопросов возникало по ходу моего отчета перед Клоридией. Мы оба знали: только последняя из трех возможностей, та, что крыла в себе имя Пеничека, связывала смерть всех четверых студентов. И если предположить это, то оставался другой вопрос: почему? Под конец я рассказал ей, как богемец открыл нам завесу тайны слов аги, которой вовсе и не было. Турки, произнеся эти слова перед Евгением, хотели подчеркнуть, что они пришли в Вену с честностью Дайи Черкеса: совсем одни. То есть речь шла о метафоре, значение которой должно было быть совершенно ясно для его светлости принца, поскольку дом со статуей принадлежал ему. – Турки здесь ни при чем, это хорошо, и я этому рада. Смерть Коломана могла быть и несчастным случаем. Но троих остальных студентов кто-то убил, одного за другим. И мне не нравится этот Пеничек, – произнесла Клоридия, и голос у нее был мрачный. – Но он спас мне жизнь, – заметил я. – Не будем преувеличивать. Скажем, он появился в нужный момент. Мне тоже Пеничек не нравился. Я никогда не задумывался над этим, но за прошедшие дни я временами ловил себя на том, что отвожу взгляд от этого кривого, похожего на мышь создания, с глазами хорька в очках, поскольку от него, казалось, исходит что-то темное и неприятное. Хотя его появление в Пратере спасло меня от смертельного удара ножом и теперь он своей историей с Черкесом наконец разгадал загадку слов аги, мне никогда не приходило в голову вложить ему в руку хотя бы скудо, причем я, даже не отдавая себе отчета, использовал его роль младшекурсника. Ах, я позволил себе поддаться влиянию Симониса, который дурно обращался с ним, быть может, исходя из мудрости своей родной Греции, где возникла идея о том, что красота – это добро, в то время как то, что некрасиво, таит в себе зло. А Пеничек красивым не был, это точно. Кроме того, он хромал, как дьявол. Вряд ли существовал человек, менее подходящий для того, чтобы высказывать подобные соображения, чем я, которого по росту скоро должен был обогнать его собственный восьмилетний сын. – А Симонис, что он думает об этой истории? – спросила моя жена. – Ведь богемец, похоже, подчиняется его приказам. – Да, сначала он загнал его в угол. Но потом, когда Пеничек раскрыл нам смысл слов аги… Ты знаешь, Симонис иногда… как бы это сказать? Его трудно понять. – Да, несчастный, – согласилась Клоридия, всегда относившаяся хорошо к моему помощнику, этому большому ребенку. – Очень удобно притворяться идиотом, – вмешался Атто. – Что вы хотите этим сказать? – спросил я. – Пока ничего. Но госпожа Клоридия верно заметила: хромой получает приказы от грека. – И что это доказывает? Речь ведь идет о студенческом обычае, согласно которому… – Форма меня не интересует. Я обращаю внимание на факты, – резко перебил меня аббат. – Кстати, Клоридия рассказала мне об этой бумаге. Можно посмотреть на нее? – Посмотреть? – удивился я. – Ну, в руках подержать. Было бы слишком хорошо, если бы мои несчастные глаза могли действительно увидеть бумагу! Я вынул из кармана несколько потрепанный листок, протянул аббату, и тот развернул его. Мне показалось, что он пытается разглядеть содержимое в свете свечи, стоявшей на столике возле его кресла. Однако едва Клоридия увидела, что сделали наши эксперименты под руководством небольшого справочника доктора Абелия с несчастным клочком бумаги, она отняла у него записку. – Боже мой! И что теперь? Я не могу вернуть листок в таком состоянии! – Ну, если его немного обрезать по краям и прогладить… – пробормотал я. Положив бумагу в карман своего передника, Клоридия словно фурия вылетела из покоев Атто и оставила нас, не сказав ни слова. В этот миг вошла сестра кладовщица с ужином для Атто и по-прежнему лежащего в постели Доменико. Атто не хотел выходить из своей комнаты: мы ждали Угонио. А он опаздывал.Под предлогом того, что не хочу мешать дяде и племяннику ужинать, я отправился к Клоридии, в наши комнаты. Мы жили в нескольких шагах друг от друга: если мы понадобимся Атто, он велит позвать нас. Я застал Клоридию за тем, что она с величайшей осторожностью обрезала обуглившиеся края листочка. Затем она собиралась прогладить бумагу, которая из-за испытания водой пошла волнами. Аббат Мелани сообщил ей, что утром случилось с Угонио, поведала мне Клоридия, занимаясь бумагой. Голова, которая так срочно нужна была дервишу Кицеберу, оказалась высохшей головой Кара-Мустафы, а не молодой живой головой его императорского величества. Рассказал он ей и о договоренности осквернителя святынь с Гаэтано Орсини, которая каким-то образом была связана с не указанными точно двумя повешенными. Теперь, когда мы остались одни, я поведал ей, что случилось сегодня утром, после того как она принесла нам листовку с известием о том, что, вероятнее всего, великий дофин заболел оспой: о признании Атто и обо всем остальном, что я узнал от него, включая зависть Евгения к его императорскому величеству. Когда я перешел к потрясающим разоблачениям интимных пристрастий его светлости, моя сладкая женушка оказалась менее удивленной, чем я ожидал; она даже сделала несколько двусмысленных замечаний, которые я повторить здесь не в состоянии. – Н-да, – наконец скептично произнесла она, – как бы плохо мы ни думали о Савойском, знаешь, что я скажу тебе? Я не считаю возможным, что он желает смерти императора. То, что он – продувная бестия, я подозревала уже давно, – с улыбкой заключила она. – Спорим, именно он поселил Пальфи здесь, на Химмельпфортгассе, почти напротив своего дворца. – Гаэтано Орсини говорил, что это сделал сам император из-за близости к монастырю, где живет Камилла. – Ну, может быть, они оба. В любом случае я не стала бы доверять Орсини, пока Угонио не объяснит тебе, какого рода отношения их связывают. Кстати, который час? Разве он не должен был прийти сюда в пять?
Было шесть часов; осквернитель святынь заставлял себя ждать. А Клоридии опаздывать было нельзя: наступил момент вернуть листок с посланием аги. Она попросила меня присмотреть за аббатом Мелани и покинула комнату, чтобы отправиться во дворец принца Евгения. Вскоре Симонис с малышом вернулись из трактира, где ужинали. Слова Клоридии по поводу Орсини натолкнули меня на мысль: я послал обоих на Хафнерштайг. Они должны были постучаться к Антону де Росси. Бывший почетный камергер кардинала Коллонича просил Гаэтано Орсини поручить мне ремонт его дымохода. Я ждал Угонио и не мог уйти, однако Симонис сам должен был суметь навести справки о молодом кастрате. Отпустив подмастерья и сына с соответствующими инструкциями, я только собрался было устроиться в кресле, как из-за пояса у меня выскользнул справочник доктора Абелия. Я поднял его, и взгляд мой упал на открывшуюся страницу. Это была не та часть, которую мы читали в поисках секретов послания аги. Страницы были густо усеяны пометками на полях; я узнал трудно поддающийся расшифровке почерк Симониса. К сожалению, заметки ко всему прочему были написаны прописью, которая римлянам напоминает скорее арабскую вязь. Заинтересовавшись, я бросил взгляд на абзацы, которым, очевидно, уделил наибольшее внимание мой подмастерье:
Хочешь видеть / может ли выздороветь от раны, возьми сок руты / сунь его под нос больному / если он чихнет / то поправится / если же нет / то умрет.Именно этот способ пробовал Симонис с Данило, когда мы нашли его умирающим на бастионе. Значит, мой помощник отыскал этот рецепт в. книге доктора Абелия. Далее приводилась еще одна техника, благодаря которой можно было узнать, обречен ли раненый на смерть или нет. Следовали средства для быстрого и безвредного опьянения, и сразу же за этим другие remédia, которые быстро превращали пьяного обратно в трезвого, как, например, дать ему много уксуса или положить мокрый платок на срамное место. Это я тоже уже слышал от Симониса, равно как и о средстве против сна: нужно всегда носить с собой летучую мышь, и я видел ее у Симониса в ночь церемонии снятия и тогда, когда мы прочесали все дорожки для игры в боччи в поисках Популеску. Когда я наткнулся на методики, касающиеся проверки девственности девушек, я снова вспомнил о несчастном Драгомире… Я продолжил читать там, где грек сделал особенно много пометок:
Чтобы проспать три дня. Возьми заячью желчь / дай выпить ее вместе с вином / и он вскоре уснет / а если захочешь / чтобы он снова проснулся / влей ему в рот уксус в достаточном количестве. Или возьми молоко от свиньи / и положи его на спящего. Или возьми желчь угря/ смешай с напитком / дай выпить / и он уснет на 36-й час / если дашь ему розовой воды / он снова очнется. Чтобы животному нравилось у тебя. Возьми кусочек хлеба / и положи его под мышку: чтобы он как следует пропитался потом / и дай его съесть собаке. Чтобы животное бегало за тобой / куда бы ты ни пошел: дай собаке съесть кошачье сердце / и она последует за тобой / куда пожелаешь.Поистине, этот доктор Абелий написал Евангелие для студентов!
Чтобы шпага/ меч/ или нож резал другой нож, меч, клинок: возьми благородную траву вербены, коровяк и мочу / провари все вместе как следует / в получившееся опусти железо / пусть оно полежит в этом / и увидишь, что это искусство вскоре станет тебе доступно. Сделать пару пистолетов / которые совершенно такие же как другие / по дулу, подгонке и нраву / чтобы ими можно было стрелять намного дальше / с одинаковым зарядом одинакового пороха и пуль: пусть твои пистолеты там, где отдача, укрепят железом/ в остальном они будут такими же / приковать к хвостовым болтам железный штатив/ который будет входить в дуло и будет иметь дырочку в центре / чтобы порох мог по пасть к запальному отверстию / заряди пистолеты одинаковыми зарядами / и ты наверняка будешь стрелять дальше и точнее / причина заключается в том / что пороховой заряд поджигается в центре / и таким образом загорается больше пороха.Следующие главы были еще более густо усеяны замечаниями и комментариями, написанными рукой Симониса:
Камзол / который нельзя ни прострелить / ни прорубить, ни проколоть: взять 2 фунтамелко нарезанного рыбьего клея / и положить на ночь в крепкий самогон; после этого слить самогон / и налить вместо него свежей колодезнойводы/ сварить густую кашу или клей/ добавить 5 унциймелко толченного каучука / растворить его в теплом клее. Далее добавить 4 унциипорошкообразного наждака / 2 унции старого скипидара / еще раз все вместе вскипятить / и покрасить этим толстый холст / (он должен быть натянут на хорошо обструганную доску и прибит к ней) / положить сверху другой холст / и снова покрасить / и продолжать это до тех пор / пока друг поверх друга не будут лежать десять или двенадцать слоев холста; последний слой обтягивается материей. Затем нужно дать высохнуть / летом это может произойти за 8 дней. Из такой ткани можно делать камзол / жилет / рубашку с подкладкой / и даже шляпы и тому подобное / Сделанный таким образом камзол можно увидеть у господина барона К. цу Лабаха / а также в королевской кунсткамере.Мечи, пистолеты, боевые костюмы. Что мой греческий подмастерье делал со всеми этими вещами?
Еще одна материя / которую нельзя ни разрубить, ни проколоть, ни прострелить из пистолета. Возьми рыбьего клея, растолки его и просей дочиста; затем вари до conslstentiam melleam,[993] вымочи в полученном ткань/ затем высуши на солнце. Когда она потом высохнет / то снова следует намазать полученным клеем / с помощью кисточки. Сушить и намазывать, сколько будет нужно. Одежда / которую не проткнуть шпагой. Взять новый / или очень крепкий холст / сложить его вдвое / и намазать рыбьимклеем / растворенным в обычной воде; затем дать высохнуть на доске. Когда это произойдет / взять желтый воск / смолу и древесину / каждого по 2 унции / растопить все с одной унцией скипидара / все хорошенько перемешать / и нанести на холст / пока все не впитается.А дальше:
Сделать жилет / который не пробьет мушкетная пуля. Нужно взять кожу только что забитого быка / тщательно снять шерсть / и вырезать из этого жилет, приложить к телу и сшить / затем на 24 часа продубить уксусом / а потом просушить на свежем воздухе.Все это Симонис тщательно подчеркнул и на полях прокомментировал своим неразборчивым почерком. Я вспомнил о скептичном замечании Атто, касающемся придурковатости Симониса. Абсолютно ясно: аббат не доверял ему. Какая чушь! Больше Мелани ничего не сказал. Может быть, потому, что было совсем мало данных и он ни в чем не был уверен. А как же, с другой стороны, не подозревать всех? Мы бродили в совершенных потемках. В прошлом если я вместе с аббатом Мелани шел неверными путями, то рано или поздно открывался другой путь, который вел к истине. Однако на этот раз мы, оставив первую, обманчивую тропу, оказались в крайне запутанных зарослях предположений, где все менялось и в конце концов превращалось в противоположное. Все были подозрительными: сначала Атто и Кицебер, затем Пеничек и даже Симонис, не говоря уже об Угонио и Орсини, отношения которых еще следовало прояснить. Все остальные были мертвы: Данило Данилович, Христо Хаджи-Танев, Драгомир Популеску, Коломан Супан и оба загадочных повешенных из записки Угонио. Все, кроме Опалинского. Может быть, его тоже следует подозревать? Какова бы ни была правда, вопрос оставался тот же самый: почему были убиты студенты? В тени болезни, постигшей императора (и великого дофина), было слишком много убитых, слишком много возможных виновников и никакой истины. Среди подозреваемых не хватало только нас с Клоридией: кто знает, так ли это… При этой мысли, какой бы безумной она ни была, у меня перехватило дыхание от изумления. Серия убийств началась, как только товарищи Симониса приступили к поискам информации о Золотом яблоке. А потом мы поняли, что эти поиски не имели ничего общего с убийствами. Единственным связующим звеном, значит, были именно мы, точнее, я, и об этом я тоже уже думал, но лишь теперь сложил вместе два и два: я был единственным наиболее вероятным подозреваемым. Именно после знакомства со мной эти несчастные студенты были убиты. И не только это: их всегда убивали именно тогда, когда у них была назначена встреча со мной и Симонисом или если мы их искали. Правда, всякий раз, когда мы обнаруживали труп, грек был рядом со мной. Но он уже давно знал своих товарищей; это он представил их мне и даже предложил поручить им исследования. Почему же ему могла понадобиться их смерть именно сейчас? Атто был прав. Если ты ищешь виновного, сказал он несколько дней назад, то посмотри в зеркало: все, кто договаривается встретиться с тобой, умирают. Теперь ко мне должен был прийти Угонио, но он все еще не появлялся. Все, кто договаривается со мной о встрече, умирают…
20 часов, пивные и трактиры закрываются
Подобно своре запыхавшихся гончих, преследующих лису, оркестр с трудом, используя всю силу извилистых колоратур, настигал сопрано. В продолжение действия оратории теперь свою арию исполняла мать Алексия, высказывая горестное возмущение жестокой судьбой. Для нее хормейстер создала восхитительное здание гибких вокализов, которые своими извивами лучше всякой картины и какой бы то ни было поэмы могли объяснить, как велик был праведный гнев огорченной матери по поводу неудавшейся свадьбы сына:В этот вечер за «Святым Алексием» последовала краткая репетиция другой композиции, которую также должны были ставить на днях. Ее исполнял мальчик с очень нежным голосом, невинность которого, подумалось мне, так контрастирует с мрачными душами этих музыкантов. Пьеса была написана Франческо Конти, который играл на теорбе, и латинские слова, исполняемые мальчиком, казалось мне, словно созданы для того, чтобы пробудить мою жажду справедливости. В начале прозвучала обеспокоенная молитва, обращенная к Спасителю:
– Четверо уже умерли, и, если с Угонио что-то случилось, ты будешь следующим! – Четверо умерли? Угонио? Да о ком вы говорите? После репетиции Симонис, Пеничек и Опалинский подстерегли идущего домой Орсини. Когда я рассказал Симонису об исчезновении Угонио и сказал ему, что необходимо срочно допросить Орсини, мой помощник сразу же помчался на квартиру к Опалинскому и уговорил его заключить мир с Пеничеком. – Мы должны держаться вместе. Если мы начнем высказывать друг другу обвинения, все будет кончено, – сказал он ему. Да и ярость поляка уже поутихла: он тоже понял, что в отчаянии из-за смерти Коломана Супана, которая могла быть и вовсе несчастным случаем, слишком поспешно решил обвинить младшекурсника. Готовые на все, трое студентов окружили молодого кастрата. Орсини до смерти испугался, когда увидел, что ему угрожают гора мышц в виде статного поляка, каланча Симонис и хромой очкарик Пеничек. Последний в темноте мог сойти за чудище из преисподней, со своей хромой ногой. Я удовольствовался тем, что показал им жертву, а затем спрятался за углом. В вечерней тишине я хорошо слышал вопросы и ответы. – Неважно, если ты не захочешь называть имена остальных, мы их и так знаем. Коломана уже не спасешь, но ты должен сказать, где осквернитель святынь, иначе распрощаешься кое с чем другим: со своей душой! – пригрозил грек. – Осквернитель святынь? Заверяю вас, что вы ошибаетесь, я не тот, кого вы ищете, я ничего не знаю о том, о чем вы меня спрашиваете, прошу вас! – умолял Орсини. По знаку Симониса Опалинский нанес ему удар в области живота. Орсини согнулся пополам. Затем поляк ударил его тыльной стороной ладони по правой щеке, в то время как Пеничек с моим помощником схватили его сзади. Младшекурсник запрокинул голову кастрата назад, а Симонис заломил ему руку за спину. Несчастный певец, наверняка слабо знакомый с такими техниками преступного мира, завизжал, словно собака, но Пеничек зажал ему рот. – Забирайте, забирайте все деньги, какие найдете… Их не много, но и не мало. Прошу вас, не убивайте меня! – Похоже, мы друг друга неправильно поняли, – настаивал Симонис, – мы хотим знать, где Угонио, осквернитель святынь. Он ведь должен был прийти к тебе? Или вы договаривались встретиться где-нибудь за городом? И что ты мне скажешь по поводу двух повешенных? – Какое это имеет отношение ко мне? Я ненавижу леса! Я почти никогда не покидаю города. Повторяю, – дрожащим голосом говорил он, – я даже не знаю, о ком… Опалинский нанес ему еще пару ударов в живот. – С нас довольно твоего бессмысленного нытья, понятно тебе? – прошипел грек, пока Ян продолжал мучить его. – Угонио – это тип в вонючем плаще. Ворует реликвии. Не надо рассказывать мне, что ты уже забыл о нем… Для порядка Яницкий еще несколько раз сильно ударил еги по щекам. Орсини вскрикнул и получил град ударов, при этом в рот ему затолкали кусок куртки. Борьба была до смешного неравной. – У меня есть с собой немного денег, забирайте все, – еще раз предложил Орсини. – Еще одна попытка, – повторил Симонис, оставаясь глухим к просьбе, – Угонио, я имею в виду того человека, который говорит несколько странно… ну же, вспоминай! – Я отведу вас к себе домой, если хотите, там у меня есть еще деньги… – ответил кастрат, что принесло ему только шесть или семь ударов по голове. – Спроси его, знает ли он, по крайней мере, где живет Угонио, – предложил Опалинский. – Верно. Ты слышал, что сказал мой друг? Молчание. Орсини плакал. На всякий случай Ян отвесил ему парочку оплеух, которые, однако, не принесли желаемого результата: кастрат, теперь, очевидно, совершенно растерявшись, принялся негромко молиться. Эта реакция казалась слишком непроизвольной, чтобы быть наигранной. – На сегодня мы тебя отпустим. Но если узнаем, что ты лжешь, и тем более если ты расскажешь кому-нибудь о нашем разговоре, то тебе сильно не поздоровится. Орсини, согнувшись, сел на землю. Мне стало больно оттого, что несчастный музыкант оказался беспомощен перед силой троих студентов, словно масло перед горячим ножом. Но потом я вспомнил о мертвых студентах и Угонио, и сочувствие к Орсини исчезло. Трое удалились по направлению ко мне и, махнув мне рукой, пробежали мимо. Я последовал за ними почти сразу, изо всех сил стараясь не топать по мостовой, чтобы Орсини не заметил, что при его искусном избиении присутствовал четвертый (и очень хорошо известный ему!) человек.
– Есть три варианта: либо он хитрец, либо крепкий орешек, или же вы ошиблись, – заметил перед уходом Ян Яницкий-Опалинский. Отпустили мы и Пеничека. Затем мы с помощником направились домой, в монастырь Химмельпфорте. – Давай подождем до завтра, – сказал я, прежде чем мы расстались, чтобы отправиться на боковую. – Если Угонио не появится до завтрашнего вечера, мы пойдем в собор Святого Стефана. Найдем дьякона, с которым у него сегодня была встреча по поводу послания архангела Михаила. Угонио говорил, что он коллекционирует реликвии, вдруг он поможет нам найти его. Ах да, вот, возьми свою книжицу. Я снова нашел у себя в кармане справочник доктора Абелия. Грек взял его без единого слова.
Вена: столица и резиденция Императора Среда, 15 апреля 1711 года День седьмой
5.30: заутреня С этого момента постоянно звучат колокола, на протяжении целого дня возвещающие о мессах, богослужениях и процессиях. Открываются пивные и трактиры
– Завтра ночью, понимаешь? Завтра ночью они сделают это, – сказала Клоридия дрожащим от волнения голосом. – Ну и что? Клоридию снова позвали во дворец принца Евгения Савойского: этим утром ага опять должен был явиться на аудиенцию, но не в обеденное время, как обычно, а на восходе солнца. Вскоре после этого моя любимая жена вернулась ко мне. Она решила воспользоваться несколькими свободными минутами, чтобы принести мне самые свежие новости, которые узнала только что. Как нам уже было известно, его светлость принц Евгений еще вчера, во вторник, должен был отправиться на фронт. Однако поскольку состояние его императорского величества, очевидно, снова улучшилось, полководец решил отправиться завтра, в четверг, 16 апреля. В одном из своих писем он официально заявил императору, что собирается оставить Вену. Эта, последняя, новость исходила от писаря Евгения и была наверняка правдивой. Но не это так взволновало Клоридию. Перед отъездом Евгений снова собирался встретиться с агой. Что они имели сказать друг другу (особенно в такой час, когда все дворянство спит), было более чем загадочно, поскольку виделись они всего два дня назад. Но и не это стало причиной беспокойства Клоридии. Этим утром у нее было очень много дел. Сначала она должна была сопровождать двух солдат из свиты аги на кухню и кроме всего прочего продать им алкогольные напитки. Затем она должна была держать ответ перед парой турецких вояк: они заметили фривольное поведение нескольких парочек во время богослужения и теперь пожелали узнать подробнее о нравах здешних женщин. Клоридия, конечно, предупредила их, чтобы они не приставали к венкам, – это могло привести к дипломатическому скандалу. После этого ей нужно было купить для другого османа, созерцательного молодого человека, бумагу и уголь, поскольку он желал сделать эскиз дворца Евгения и увезти его на родину. Потом ей пришлось уладить ссору на кухне: двое солдат повздорили с одним из поваров его светлости принца по поводу слишком высокой цены. Наконец, обслуживающий персонал дворца поручил Клоридии напомнить некоторым гостям о том, что запрещено брать на память из резиденции его высочества мебель, занавески, канделябры и какие-либо другие предметы, включая драгоценную дамасскую обивку кресел, и снимать со стен лепные работы. Все это Клоридия выполнила, в то время как во дворец прибыл ага и отправился на совещание с Евгением, сопровождаемый только официальным переводчиком и ближайшими советниками. Когда вскоре после этого моя дорогая женушка шла по коридору, она услышала разговор небольшой группы турок (сложно сказать, сколько их было, быть может, трое или четверо, был среди них и дервиш) с кем-то говорящим на немецком языке. Один из присутствующих выполнял роль переводчика – но почему не позвали для этой цели Клоридию? Похоже, дело было крайне конфиденциальным. И действительно, так и оказалось. Осторожно прислонив ухо к двери, она услышала, что человек, говорящий на немецком, был не кто иной, как императорский протомедик, господин доктор Матиас фон Гертод. – Императорский протомедик! – воскликнул я. – Но что он делал во дворце с турками, да еще до восхода солнца? Клоридия пояснила, что это был не первый разговор между Кицебером и протомедиком Иосифа I. Они оба, да и остальные присутствующие ссылались на предыдущие разговоры. – Конечно, я смогла понять не все, но самое важное я уловила совершенно отчетливо: завтра вечером дервиш излечит Иосифа. – Излечит? – Да, он проведет ему лечение. – Значит, улучшение здоровья Иосифа связано с дервишем! – удивился я. – То, что он сделает завтра, будет только повторением уже проделанной терапии, и сеанс станет решающим. Фон Гертод сообщил, что состояние императора постоянно улучшается и что лечение нужно в любом случае завершить завтра утром. Если народ узнает, что неверные оказывают влияние на здоровье императора, могут возникнуть сильные возмущения. Самая важная часть лечения возлагалась на Кицебера. Во время совещания во дворце Евгения вообще-то говорили об инструментах дервиша, о подробностях терапии и о подходящем часе, в который может произойти вмешательство. – Интересно, понял ли императорский протомедик, что существует заговор, ставящий своей целью смерть императора? – В этом я уверена, если принять во внимание время, на которое они договорились, и всю секретность. Протомедик сказал, что, судя по тому, как сейчас обстоят дела, доверять он может только Кицеберу. – Так вот в чем заключался смысл ритуалов, которые проводил дервиш в лесу, неподалеку от Места Без Имени, – произнес I я. – Угонио сказал нам, что они служат для терапевтических целей, но я никогда не подумал бы, для кого они предназначены! С другой стороны, – задумчиво заявил затем я, – это действительно очень странная история. Поначалу мы подозревали турок в том, что они хотят отравить императора, а теперь выясняется, что они его лечат… – Да это же очень просто, – ответила мне Клоридия. – Если император умрет, то на трон взойдет его брат Карл и война закончится. На первый взгляд это кажется противоречивым, но если как следует подумать, то султан заинтересован в том, чтобы Иосиф оставался в добром здравии. Война продолжится, и империя будет уничтожать другие христианские государства. Разве не великолепная возможность для османов? – Аббат Мелани сказал мне, что Карл очень слабохарактерный и принц Евгений сможет убедить его продолжать войну. Кроме того, Иосиф I помышляет о соглашении с Францией, в котором Испания будет передана французской короне, а брату Карлу останется Каталония. Если дела действительно обстоят так, то гораздо вероятнее, что война закончится при Иосифе, чем при Карле. – Может быть, турки этого не знают? – В это мне трудно поверить. По крайней мере, по поводу мирных намерений императора они должны быть в курсе. – Значит, они не верят в успех подобного предприятия. Все же знают, каковы эти французы: они хотят все, иначе быть войне, – сказала Клоридия и жестом продемонстрировала непреклонность Франции. – Возможно, – согласился я. – Но если дела обстоят так, то как же тогда быть с теорией Атто, согласно которой принц Евгений плетет интриги против императора, чтобы посадить на его место Карла, поскольку тот имеет нерешительный характер и позволит ему, принцу Евгению, продолжать вести войну? Было бы странно, если бы именно во дворце Савойского скрывался спаситель Иосифа I! – Точно. Поэтому стоит предположить, что Евгений ничего не знает об этом. Клоридия была права. Я привык считать теории Атто верными; но на этот раз он допустил ошибку, причем кардинальную! Разве его убеждение в том, что турки – коварные убийцы на службе у внутренних европейских тяжб, не было самым жалким образом опровергнуто фактами?Клоридия вернулась во дворец, не забыв, впрочем, тысячу раз напомнить мне о том, чтобы я хорошенько присматривал вместо нее за аббатом Мелани. После этого, как мы и уславливались, в мою дверь постучал Симонис. Теперь, когда императору скоро должно было стать гораздо лучше, я мог целиком и полностью посвятить себя самой важной работе, которую поручил мне его императорское величество: нас ждало Место Без Имени.
* * *
Я сидел за завтраком в нашем обычном трактире, вместе с малышом и Симонисом. Был с нами и аббат Мелани. Он не привык вставать так рано, и теперь, сидя на своем стуле, безрадостно ковырялся в обильном завтраке из сосисок с горчицей. В кофейне ему наверняка подали бы завтрак, больше удовлетворяющий его предпочтения. Но после того, что случилось о Драгомиром Популеску, и того, что я услышал об армянах, мысль о том, чтобы войти в кофейню, приводила меня в некоторое волнение. Я подумал было рассказать аббату новости, которые принесла мне Клоридия, но удержался. Атто дал мне понять, что не совсем доверяет Симонису. Поэтому я решил молчать и вместо этого рассказал ему о бесплодной попытке допроса Гаэтано Орсини. – Ты не мог бы попросить хозяина принести мне свежую газету? – обратился Атто к моему помощнику, когда я закончил свой отчет. – Это не кофейня, господин аббат, здесь нет газет. Однако у меня совершенно случайно есть с собой «Виннерише Диариум», совсем свежий, – ответил Симонис: когда мы пришли в трактир, грек положил на стол только что купленную в «Красном Еже» газету. – Выпуск, освещающий события последних трех дней. Интересно, что будет делать слепой аббат с газетой на немецком языке, подумал я, заказывая воды для сына. – Хорошо. Полагаю, что это газета, где публикуются городские некрологи, – сказал Мелани. – Пожалуй, да. – Ты не мог бы прочесть их мне? Грек вопросительно взглянул на меня. Я кивком головы дал ему понять, что просьбу нужно выполнить. Симонис открыл газету. – Список умерших в городе и за его пределами, – несколько неуклюже начал он. – 11 апреля умерла доченька… – Нет, пожалуйста, только мужчин, взрослых. – Где тут… ага, вот: Кристоф Ланг, 65 лет, и Маттиас Кох, 76 лет, оба в богадельне; Франц Цинтель, 32 года, пивовар в Шпиттельберге; Георг Шрауб, 48 лет, портной на Виндмюль; Адам Куглер, 40 лет, ефрейтор гвардии; Михаэль Вайсхоффер, 40 лет, каменщик из Лихтенталь. – Похоже, эти венцы наедаются, словно свиньи, – с отвращением перебил его Атто. – Только двое, из приюта для бедных, умерли в приличном возрасте. Остальные все подохли в молодости, и я готов спорить, что они просто обожрались. – Продолжать? – спросил Симонис. Атто кивнул. – 12-го того же месяца умерли Франц Йоганнес, 74 года, Каспар Вольфф, 40 лет и Иоганн Грасбергер, 58 лет, оба в больнице. 13 апреля… Пока Симонис старательно прочитывал список умерших, я с огромным удивлением наблюдал за Атто, который сидел, вытянув шею, словно ищейка. – …Карл Демент, студент, на проселочной дороге, 30 лет; Андре Требериц, 45 лет, солдат в отставке, на пастбище; Филипп Брикснер, 58 лет, продавец рыбы из третьего сословия… – Вы ищете кого-то конкретного? – спросил я. – Ш-ш-ш! Минуточку! – набросился он на меня. – 14 апреля, – продолжал читать Симонис, – умерли Мельхиор Плашки, 54 года, в Леопольдштадт; Риттер Блази, 38 лет, портной, их Мюних-Пасти; Леопольд Леффлер, ефрейтор гвардии, в Кертнер-Пасти; Лоренц Кинаст, 36 лет, красильщик в Леопольдштадт… – Так я и думал. Их здесь нет, – заметил Мелани, когда Симонис закончил читать. – Кого? – спросил я. – Разве не понимаешь? Ваших убитых друзей. И это не случайность, а сознательное решение – не заметить их: с давних пор студенты умирают толпами из-за своих попоек, и почти всегда о них пишут некрологи. – Верно, – подтвердил Симонис, бросив очередной взгляд в газету, – здесь вот написано о смерти этого Карла Демента, который тоже был студентом. – Труп Популеску убрали друзья вашего кучера, этого… как его зовут… Пеничека. Ну ладно. Но Коломан и остальные двое? – Вы правы, проклятье, – кивнул я, в то время как челюсть у меня отвисла от удивления, а Симонис задумчиво наморщил лоб. Труп Коломана хозяин разливочного павильона передал прямо городской гвардии; Данило Данилович был заколот в ночь на 11 апреля: мертвого на бастионах солдаты проглядеть просто не могли. Христо Хаджи-Танев умер 13-го, то есть два дня назад, в Пратере: снег уже совсем растаял, и стражники наверняка нашли его. – Но как же это возможно? – спросил я. – Очень просто. Кто-то позаботился о том, чтобы их смерть не была зарегистрирована. – Я не знаю, как это может быть: гвардия всегда зовет окружного врача, и… – Вот именно, – грубо перебил он меня, давая тем самым понять, что не хочет говорить в присутствии моего подмастерья. – Мне нужно обратиться к логике, я кое-что подзабыл. – Вы думаете, что… – продолжал нарочно настаивать я. – Я думаю, ты меня понимаешь, – коротко отрезал он. – Ну что, ты меня проводишь или мне идти одному? Покидая трактир, оставив малыша в обществе Симониса, чтобы они могли спокойно закончить завтрак, я заметил, что на плече у моего подмастерья опять тот же мешок, который я уже видел у него на днях.Мы с Атто возвращались на Химмельпфортгассе. Он возобновил разговор: – Кто бы ни устроил эту маленькую чистку, назовем это так: он очень могущественен. И тот, кто ее провел, не обязательно самый маленький винтик в механизме. Знаешь, что это означает? Я покачал головой. – Это значит, что за смертью этих мальчиков стоит что-то большое, что-то очень большое. – Так почему же вы смеялись всякий раз, когда я пытался заговорить с вами на эту тему? – спросил я, с трудом сдерживая горечь. – Я говорил тебе неоднократно за последние дни, но, очевидно, этого недостаточно: я по-прежнему не думаю, что они умерли из-за расследования, связанного с Золотым яблоком, но я никогда не говорил, что эти смерти не связаны между собой. – Не нужно искажать факты, синьор Атто. Я очень хорошо помню: вы сказали мне, что Христо – османский подданный, и Драгомир тоже, и косвенно дали мне понять, что с этим связана их смерть. – Признаю, я позволил себе допустить неточность. На самом деле болгары, с тех пор как их завоевала Блистательная Порта, бежали в высокие непроходимые горы, где практически не имели контакта с завоевателями. И Румыния не вся принадлежит Османской империи. – Что? И вы вспомнили об этом только теперь? – взревел я. – Ш-ш-ш! Говори тише, черт побери! – одернул меня Атто, невольно поворачивая голову вправо и влево, словно его слепые глаза могли обнаружить тайного шпиона. – Ты был нужен мне, чтобы заигрывать с Пальфи. Ты не должен был разгадывать причины смерти этих сорвиголов, это отвлекло бы тебя, – без обиняков заявил старый кастрат. Придя в монастырь Химмельпфорте, Атто постучал набалдашником трости по двери своих покоев. Доменико открыл и, ослабленный температурой и легочной болезнью, не прекращавшейся вот уже несколько дней, тут же вернулся в постель, чтобы продолжать кашлять там. – Я должен попросить у тебя прощения, мальчик, – голос Атто внезапно стал мрачным. Он взял меня за руку. – Я думал, что эти убийства касаются только империи, тогда как я здесь затем, чтобы служить Франции. Если бы мое письмо достигло Иосифа I, я опередил бы всех остальных. А вместо этого… – Он остановился. О да, подумал я, когда он впустил меня в свои комнаты, никогда аббат Мелани не представлял себе, что интересы Франции и Австрии могут совпасть. На фронте они казались враждующими сторонами. А вот теперь император и великий дофин лежат на жертвенном алтаре, в то время как неизвестная рука заносит кинжал над их сердцами… их сердцами? – Я тут кое-что вспомнил, синьор Атто, – произнес я. – А что это вы делали вечером в переулке за монастырем с тем армянином? Мелани вздрогнул. – Ты что же, шпионишь за мной? – Я поостерегся бы совершать подобные поступки. Я случайно услышал вас, когда возвращался домой. Армянин говорил о неких людях, которые продали вам сердце своего господина за очень большие деньги. – Неужели он действительно сказал это? Не знаю… – пробормотал Атто. – Слово в слово, я очень хорошо помню. Он передал вам небольшой ларец, а вы вручили ему мешочек с деньгами. – О, ничего важного, всего лишь… – Нет, синьор Атто. Не начинайте опять изворачиваться, как делаете всегда, когда хотите, чтобы я вам поверил. Не то я повернусь и уйду, и идите вы к черту со своим великим дофином. – Ладно, ладно, ты прав, – отмахнулся он, помолчав некоторое время. Ощупав руками ящик комода, он открыл его и достал оттуда маленький ларец, который получил от армянина. – Вот он. Я даю его тебе, в доказательство того, что твое доверие ко мне взаимно, – сказал он, передавая мне ящичек. Я попытался открыть его, однако тщетно. Он был закрыт. – Я дам тебе ключ перед отъездом. Клянусь. – Знаю я ваши клятвы, – скептичным тоном произнес я. – Да ты ведь можешь открыть его в любой момент! Его легко взломать. Я просто прошу тебя не делать этого сейчас. Я тебе, кстати говоря, доверяю, – торжественным тоном добавил он, – доверяй и ты мне. Он законченный софист, этот аббат Мелани, если уж говорить! о доверии. Впрочем, я вынужден был признать, что на сей раз в руках у него было нечто конкретное. – Согласен, – сказал я. – Чего вы хотите в обмен на ларец? – Чтобы ты до того момента, когда откроешь его, перестал задавать мне вопросы по поводу армянина. – Когда вы планируете уехать? – спросил я, спрятав ларец в карман брюк. – Как только узнаю, кто кукловод. – Кукловод? – Человек, который является связующим звеном между убийствами его императорского величества и великого дофина, а также их заказчиком. – Тайный агент? – Здесь, в Вене, есть человек, который следит за действиями убийц и направляет их. Иначе быть просто не может. Кукловод: эта роль была слишком хорошо известна Атто Мелани! Разве сам он не играл ее достаточно часто на протяжении всей своей долгой жизни? Кто одиннадцать лет назад организовал заговор, который привел к тому, что разразилась война за наследство? Атто Мелани не был ни заказчиком (им была Франция), ни исполнителем (им был простой писарь). Но именно он придумал эту дьявольскую комбинацию, в ходе которой было подделано завещание короля, три кардинала предали папу и одного из этих троих даже выбрали папой. Теперь я впервые осознал, что некий новый Атто Мелани оттеснил моего аббата в сторону. Человек, который был наверняка гораздо моложе и состоял на службе других держав – Голландии, Англии или бог знает кого еще, – занял место старого кастрата и теперь запустил колесо смерти, направив его на императора. – Этот кукловод, – принялся размышлять я, – вероятно, наблюдает за нашими действиями. Вероятно, он стоит и за убийствами Данило, Христо, Драгомира, быть может, даже за смертью Коломана. – Если это так, то нам нужно поторопиться с разоблачением, пока он не ударил нам в спину.
* * *
На этот раз мы позволили себе некоторую роскошь. Аббат Мелани, конечно, не смог бы отправиться в Нойгебау пешком или на нашей жалкой телеге трубочистов. Поэтому Симонис приказал явиться младшекурснику, который мог доставить нас туда гораздо быстрее. Мрачное предчувствие заставило меня оставить сына в конвенте, под покровительством Камиллы, которая великодушно согласилась присмотреть за ним до моего или Клоридии возвращения. Пока коляска Пеничека, подпрыгивая на кочках, везла нас к цели, перед моим внутренним взором вставали мертвые тела несчастных студентов: похожее на маску лицо Данило, распухшее лицо Христо, растерзанное срамное место Драгомира и, наконец, острия кольев, пронзивших бедного Коломана. Я зажмурился и мотнул головой, пытаясь отогнать отвращение и ужас. Со страшной силой лютовала смерть в узком кругу студентов. Кто на очереди? Пеничек? Быть может, даже Симонис? Или Опалинский? Я глядел на своего подмастерья, сидевшего напротив меня. Его глуповатые глаза смотрели вдаль, на горизонт, взгляд был безучастным, словно его не терзали никакие тревоги. Но внешность обманчива: я знал, что выражение его лица, даже если бы на него обрушились все тяготы жизни, осталось бы прежним. Пеничек сидел на козлах, спиной к нам; никто не расспрашивал его, и поэтому он молчал, запершись в клетке своего бытия младшекурсником, которое обрекало его на то, чтобы служить своему шористу один год, шесть месяцев, шесть недель, шесть дней и шесть минут. Потом я подумал об Опалинском: он тоже дрожал при виде жуткого зрелища – растерзанного тела друга, притом что до недавнего времени Ян Яницкий не обнаруживал страха. В свете последних событий – необъяснимое поведение. Я спросил об этом Симониса. – Тут, господин мастер, дело в его занятии. Я имею в виду помимо учебы. – Что за занятие? – Это несколько сложно, господин мастер. Вы знаете, какой здесь, в Вене, квартирное право? С незапамятных времен, пояснил Симонис, император имел право требовать для себя и придворных съемные квартиры: еще давным-давно, когда императоры путешествовали по стране, их гофмаршалы получали задание реквизировать необходимые квартиры для ночлега. Этот обычай, получивший свое название от права на квартиру, со временем распространился и на Вену, когда город стал резиденцией все увеличивавшегося и приобретавшего влияние двора, где число чиновников, канцеляристов, музыкантов, копиистов, танцоров, солдат, стольников, певцов, поэтов, слуг, поваров, лакеев, камердинеров, помощников, помощников помощников и разного рода паразитов стало просто невероятным. – Многие полагают, что сдавать квартиры императорским чиновникам – это почетно и достойно. Однако дело обстоит совсем наоборот. Императорский чиновник с декретом в руке может однажды постучаться в любую дверь и объявить владельцу, что с этого момента квартира переходит в его распоряжение. Владелец и его семья должны либо смириться с совместным проживанием, либо выехать в кратчайшие сроки. Если владелец откажется, то его квартира, или мастерская, или же вообще весь дом, принадлежащий ему, изымается в приказном порядке. В таком случае ему без переговоров с императорской казной выплачивается до смешного мизерная арендная плата. Если же придворный сановник не будет доволен, то он может не использовать изъятую квартиру сам, а продолжать сдавать ее другим людям. – И это позволено? – спросил аббат Мелани. – Конечно, нет. Однако при императорском дворе все возможно, – ухмыльнулся Симонис. Несчастный владелец квартиры, таким образом, вынужден будет наблюдать за тем, как неизвестные вламываются в его комнаты, забирают мебель, выбивают двери и окна, а потом сдают их ничтожной черни. Наконец, красивая квартира превращается в вонючую дыру, где совершаются самые различные сделки, включая проституцию, и иногда даже происходят убийства. Бывали случаи, когда владельцы, поскольку они были слишком неряшливы, чтобы пользоваться камином, разжигали костер на деревянном полу, и квартира сгорала дотла. А вечно погрязшая в долгах императорская казна тем временем забывала выплачивать арендную плату. А если владелец протестовал? Тогда придворный чиновник, согласно древнему обычаю, мог закидать его камнями. – Этот скверный обычай распространился до такой степени, – добавил мой подмастерье, – что иногда сами императоры вмешиваются и вышвыривают «оккупантов». Фердинанд I приказал очистить целый дом рядом со своей резиденцией, поскольку чиновники, которые жили там, вечно были пьяны и кричали так громко, что мешали заседанию придворного совета, они были настолько небрежны в обращении с печами и каминами, что могли спалить дом, а вместе с ним и резиденцию. – И какое все это имеет отношение к Опалинскому? – спросил я, когда выслушал все объяснение. – Все очень просто: он подрабатывает маклером для поднайма. – Ты же сказал, что это противозаконно? – Конечно. Дело не совсем безопасное: к примеру, если у владельца квартиры есть друг при дворе и он решает отомстить чиновнику, который лишил его собственности, или, допустим, маклеру. Опалинский привык к риску. Нужно признать, он действительно мужественный поляк. Только теперь, когда такое случилось с Коломаном, я впервые видел его таким расстроенным. Когда мы прибыли в Нойгебау, нас встретило яркое сверкание камня, из которого он был выложен. Словно добрый сын хотел бы я показать Атто, если бы он не лишился зрения, величественное творение Максимилиана II, его сады, большие пруды, башни, сераль диких животных, бескрайние просторы, которыми можно наслаждаться, и лоджии на северной стороне дворца. Прежде чем отправиться в Место Без Имени, я в общих чертах описал аббату Мелани его сокровища и историю, чтобы он имел хоть какое-то представление о том месте, в котором окажется, об этом саде воспоминаний, где время застыло между трагическим прошлым Максимилиана и не менее мрачным настоящим молодого Иосифа. Я кратко обрисовал ему борьбу Максимилиана с турками, о возникновении Нойгебау как пародии на палаточный городок Сулеймана Великолепного, о трагической смерти императора и заговорах против него. Конечно, я умолчал о мелочи, которой все равно никто не поверил бы: о Летающем корабле и его волшебной силе, свидетелями которой стали мы с Симонисом. Атто с величайшим интересом выслушал мой рассказ об истории Места Без Имени, кивал, когда речь шла об известных ему вещах, а по поводу нового для него молчал. Великолепие этого места, узреть которое мешали ему слепы J глаза, описать я, к сожалению, в своем убогом рассказе был не в силах, и я знал – или, по крайней мере, мне так казалось, – что это очень печалит его, поскольку является еще одним доказательством его окончательного поражения. Двадцать восемь лет назад я познакомился с ним как с любознательным и любопытным человеком, которого манит любая тайна и который в свободное время даже занимался сочинением путеводителя по Риму, чтобы удовлетворить свою жажду творчества и новых знаний. А теперь тело подвело его, все его внутреннее достояние стало рабом обстоятельств; любопытство вынуждено было уступить место отчаянию, поспешность – терпению, знания – невежеству. Атто никогда не увидеть Нойгебау. Оказавшись у цели, мы отпустили младшекурсника (он должен был заехать за нами позднее) и отправились сначала к Фрошу, чтобы представить ему нашего спутника. Поскольку смотритель Места Без Имени и без того немало удивился, когда увидел, что мы приехали на коляске Пеничека, он бросал скептичные взгляды на аббата Мелани. – Эт вш ноый пдмастерье? Пменяли на малыша? – грубо рассмеялсяон, показывая на Атто. Фрош не задавал вопросов по поводу нашего последнего рабочего дня в Нойгебау. Если он не был искусным притворщиком (а пьяницы обычно не такие), то это, пожалуй, должно было означать, что он не видел, ни как мы поднимались на Летающем корабле, ни как садились. Я вздохнул с облегчением: мне поистине не хотелось делить невероятную тайну полета, совершенного мной и Симонисом, с этим пропитым Цербером. Мы проходили мимо площадки для игры в мяч, и я бросил молчаливый взгляд на Летающий корабль. Мягко прислонившись к земле, он лежал там, где мы его оставили. Никогда бы его неуклюжая и причудливая внешность не заставила предположить, что он может с легкостью парить в облаках. Я украдкой взглянул на Симониса: при виде корабля и его, казалось, безучастные глаза расширились и наполнились слезами. Даже аббат Мелани, проходя мимо площадки, незаметно повернул голову в направлении Летающего корабля, словно тот оказывал на него невидимое магическое воздействие. «Сила слепоты! – подумал я. – Тот, кто не видит, наверняка может воспринимать то, что невидимо для нас». Единственное изменение постигло площадку: в дальней части большого прямоугольного пространства стояли клетки со своими шумными обитателями. Атто тоже услышал гомон маленьких летунов и спросил меня об этом. А я в свою очередь попросил объяснения у Фроша. – Куница. Прошлой нчью утщила с полдюжины куропатушек. Смотритель пояснил, что сложил клетки на площадке, поскольку дверь в конюшни сломана, чем и воспользовалась маленькая охотница. Этой ночью, однако, птицы Места Без Имени могли спать спокойно, так как двери площадки находятся в хорошем состоянии. Как только починят дверь конюшни, клетки вернутся на место. Поскольку погода стала теплее, птицы могут пока поспать и на улице. Рев львов и пантер явно произвел впечатление на Атто. Как раз в это время их обычно кормили. Я описал Атто внешность и привычки каждого из этих плотоядных и рассказал, как они хватают и рвут на части красные куски мяса, которые бросает им смотритель. Он спросил меня, существует ли опасность того, что они убегут. В качестве ответа на этот вопрос я поведал ему о своей встрече с Мустафой во время первого визита в Место Без Имени. – Такого слепого, как я, лев настиг бы сразу! Но тогда мои косточки застряли бы у него в зубах! – сказал он и злобно рассмеялся.В первые часы работы все шло хорошо. Аббат Мелани держался от нас на почтительном расстоянии. Сидя на стульчике, он старательно следил за тем, чтобы не испачкаться в угольной пыли. Едва в нос ему попадала черная тучка пыли, как он, чихая и ругаясь, начинал просить переместить себя подальше, чтобы его одежда, как обычно, выдержанная в черных и зеленых тонах, не испачкалась. Удивительно, подумал я, как много значит для аббата внешний вид, хотя он не может видеть себя в зеркале. Мы принялись за работу в том месте, где остановились в прошлый раз. Войдя в замок через главный вход, мы посвятили себя большим залам на первом этаже. Поскольку с холлом в центре и двумя прилегающими к нему залами мы уже закончили, то решили пойти налево и прошли через огромную лоджию к западной башне. Но дверь была заперта. – Нужно попросить Фроша дать нам ключи, – сказал я, – однако для начала попробуем с противоположной стороны. Пока мы шли на противоположную сторону, мне показалось, что я слышу протяжный трубный звук, который уже слышал однажды. Понять, с какой стороны он доносится, было невозможно, более того, восприятие было настолько нечетким, что я даже не мог попросить остальных подтвердить то, что я слышал. Поэтому мы снова пересекли три первых зала и затем вышли на улицу, на лоджию с противоположной стороны, к которой примыкала восточная башня. Здесь дверь была открыта. Внутри башни нас встретила комната, напомнившая нам большую капеллу. – Я тоже думаю, что эта комната предназначалась бы для богослужений, – подтвердил мое замечание Симонис, – если бы несчастному Максимилиану удалось закончить ее. Мы быстро сделали свою работу, затем опять вышли во двор и снова вошли в замок через восточную башню, поскольку оттуда можно было попасть в подвал. По словам Фроша, Рудольф Безумный проводил здесь свои эксперименты по алхимии. Но мы не нашли никаких признаков печей, колб или других дьявольских предметов. Если это действительно было то самое место, где Рудольф занимался своими глупостями, то время милосердно стерло все следы. Не было ни малейшего намека на призраков, о которых болтали венцы (а также мои коллеги по цеху, трубочисты). По центру замка проходила длинная галерея с куполообразным потолком, освещенная низкими широкими окнами, выходившими на северную сторону. – Здесь Максимилиан хотел устроить антикварий, свое собрание диковинных вещей. Стены он хотел украсить вазами, статуями, гобеленами и оружием, – пояснил Симонис. Но то, что предстало перед нашим взором, было всего лишь каменным коридором с голыми стенами, приветливый вид которому придавал только куполообразный потолок. Казалось, от каждого камня исходит печаль по несбывшейся судьбе этого места. – Вы слышали это? – голос аббата Мелани оторвал меня от размышлений. – Что? – спросил Симонис. – Четыре раза. Это повторилось четыре раза. – Странный звук, не правда ли? – сказал я, вспоминая своеобразный звук, нечто среднее между звонкой трубой и барабаном, который слышал в лоджии. – Не звук, вибрация. Похоже на пушечный выстрел, только без звука. Мы с Симонисом переглянулись. Нас не удивило то, что Атто услышал что-то, что не слышали мы. У слепых очень острый слух, это всем известно. Однако с тем же успехом это можно было принять за странности восприятия взбалмошного старика.
Мы оказались в центре подвального этажа. Точно над нашими головами находился главный вход в замок. Там, где стояли мы, разделялись две лестницы, которые вели наверх. В конце их находились двери, выходившие на заднюю сторону Нойгебау. Оттуда можно было увидеть сады и большой пруд для рыбы на севере и почти бесконечную панораму расположенных за замком лесов и полей. Когда этот краткий осмотр был завершен, мы опять вернулись в центр подвального этажа. Однако едва мы начали осмотр западного крыла, с его южной стены, как странный феномен проявился снова. – Вы слышали? – обеспокоенно спросил Атто. На этот раз я что-то услышал. Глухой гул над нами и вокруг нас, словно заглушённый грохот огромных литавр. Симонис не услышал ничего. – Мы должны закончить работу, – несколько раздраженно сказал мой помощник, потому что недостаточно сильно навострил уши. – Ты прав, – поддержал я его, в надежде, что ошибся. Я хотел как можно скорее стереть из памяти этот таинственный сигнал. Когда я искал в нашем мешке с инструментами шпатель, мои пальцы наткнулись на какой-то квадратный предмет. То оказалась шахматная доска Христо, все еще закутанная в мешочек, выбранный для нее ее несчастным владельцем. Чтобы не потерять доску, я положил ее в наши инструменты, которые всегда хранил в надежном месте. Я вынул ее из мешка, вытер пыль с предмета, три дня назад спасшего жизнь мне вместо своего владельца. Мы с Симонисом обменялись удрученными взглядами. – Бедный друг, – прошептал Симонис. – Он задолго до Пеничека понял, что значение сказанного агой заключается в словах «soli soli soli», – сказал я. – Что ты сказал? – вскинулся Атто. И я объяснил ему, что наш игравший в шахматы друг полагал, что вся тайна слов аги заключается в повторении загадочных слов «soli soli soli». Когда мы нашли труп Христо, в руке у несчастного была шахматная фигура, белый король. И наконец, в шахматной доске я нашел записку, где речь шла о шахматном мате. – Да, в день своей смерти Христо намекал мне, что слова «solil soli soli», то есть «совсем один», имеют какое-то отношение к мату, – уточнил Симонис. Аббат Мелани вздрогнул, как будто его ужалила оса, и подскочил: – Минуточку. Я правильно понял? В день аудиенции ага сказал Евгению, что турки пришли «soli soli soli»? – Конечно, а что в этом нового? – И ты никогда мне этого не говорил? – Чего я никогда не говорил? – Что в высказывании аги есть слова «soli soli soli»! Атто пробормотал себе под нос целый ряд ругательств, которые не стоит повторять здесь, словно хотел уберечь меня от прямого оскорбления. Затем заговорил громче. – Что на тебя нашло? Ты хоть понимаешь, что натворил? – строгим тоном поинтересовался он. Я по-прежнему не понимал, молчал и пристыженный Симонис. – Право, синьор Атто, мне кажется, что я говорил вам это, причем весьма отчетливо. Разве не объяснял я вам, что ага сказал: «Мы пришли к Золотому яблоку совсем одни»? – Минуточку: он ведь говорил на латыни? – Да. – Скажи мне это. – Soli soli soli adpomum venimus aureum. – И ты, осел, перевел «soli soli soli» как «совсем одни»? Слова аги имеют совершенно иное значение, черт побери!
То был простительный грех, однако тяжкий. Что ж, поскольку первая часть работы была закончена, мы отправились обратно к площадке для игры в мяч, где собирались немного перекусить. А по дороге выясняли, почему не сказали Атто, как сказанное агой звучит по-латыни. Мы с Клоридией думали, что «soli soli soli» является усиливающей конструкцией одного и того же слова, означающего «одни», поэтому и передали Атто перевод: «совсем одни» или «вправду одни». Мелани был вне себя. Он дрожал от гнева. – Вы, молодые люди… кучка безответственных ребят, вот вы кто! Единственное, что вы можете, так это терять голову и поднимать панику! О, если бы вы обладали хотя бы десятой долей присутствия духа, который требуется для того, чтобы заниматься такими вещами! А я-то переселил тебя сюда, в Вену, чтобы ты мне помогал! – Осторожнее, синьор Атто. – Я едва удержал его за руку в последний миг. Пока старый кастрат так возмущался, мы сошли с винтовой лестницы, которая вела к площадке и диким животным, и наткнулись на кое-что странное. В большом восточном дворе красовалась вонючая куча дерьма. – Милосердное небо, это, должно быть, Мустафа, – заметил я и заткнул нос. – Я не думал, что львы делают такие большие кучи, – рассмеялся Симонис. Атто постепенно успокаивался. Мы уговорили его сесть на ступеньку лестницы. Хотя руки его еще тряслись от ярости, он наконец решился просветить нас. – «Soli soli soli» – это не повторение слова «soli»! Наоборот: речь идет об известном латинском девизе. Я зачарованно слушал. – Если бы ты по правилам хорошего тона передал мне слова аги на латыни, – ругался аббат Мелани, – вместо того, чтобы кормить меня глупыми интерпретациями, мы избавили бы себя от нескольких дней напрасных усилий. – Так что же означает «soli soli soli»? – спросил я. – Первое «soli» – это дательный падеж единственного числа прилагательного «solus», единственный, и, соответственно, означает «единственному». Второе – дательный падеж существительного «sol», то есть солнце. Третье – родительный от «solum», земля, и обозначает, таким образом, «земли». – Значит, «soli soli soli» – это… «единственному солнцу на земле». – Вот именно. Или же «единственному солнцу земли», если тебе так больше нравится. Во Франции это известное выражение, поскольку его величество приказал выгравировать его на пушках своего войска. «Король-солнце» любит напоминать всем о своей власти. Но слова эти придумал не он; Нострадамус, к примеру, использовал их в одном из своих запутанных пророчеств. А он, в свою очередь, должно быть, украл его у древних римлян. – Почему? – «Soli soli soli» – эта надпись часто встречается на солнечных часах, которые показывают время, когда тень от железной палочки перемещается по схеме. Предположительно, это был древний латинский обычай, который перешел дальше. Однако происхождение его нам не интересно. Существует множество подобных девизов, как, например «sol solus solo salo», что означает «только солнце царит над землей и небом», или «sol solus non soli», то есть «для всех есть только одно солнце», или «solus soles solari» – «только солнце утешает без устали». Говоря, Атто снова поднялся, и мы принялись выглядывать Фроша, чтобы попросить у него немного воды или вина. Атто после своей канонады ругательств испытывал сильную жажду. Но смотрителя нигде не было. Он оставил железо и доски, которыми собирался ремонтировать двери, рядом со входом в конюшню. Внезапно мы услышали доносящийся с площадки звук, оттуда, где стояли клетки. Птицы взволновались, и площадка заполнилась щебетом. – Значит, история с Черкесом тут ни при чем. Но почему ага выбрал себе такой девиз? – принялся рассуждать я вслух, когда мы все вместе шли к площадке для игры в мяч. – Может быть, он хотел оказать этим честь Евгению, – предположил Симонис. – Может быть, ага хотел сказать «Мы пришли к единственному солнцу земли». – Крайне маловероятно, – ответил Атто. – Евгений никакое не солнце. Он верховный главнокомандующий императорскими войсками, не более. «Soli soli soli» наверняка означает повелителя. – Значит, императора, – заключил я. – Но почему тогда они произнесли эти слова на аудиенции у Евгения, вместо того чтобы сделать это в присутствии Иосифа? Атто задумчиво молчал. – Может быть, эти слова имеют двойное значение? – заметил Симонис. – Какое? – Дайте подумать… вместо «к единственному солнцу земли» можно, наверное, перевести «к солнцу, которое одно на земле». – Разве это не то же самое? – Нет, эта вторая формулировка означала бы «к одинокому солнцу земли», то есть к императору, – пояснил Симонис. – А почему это он одинокий? – удивился я. Но ответа не получил. Мы вошли на площадку. На большой арене с ее высокими, устремленными к небу стенами звучали пронзительные крики птиц. Попугаи кричали во все горло и наполняли пространство своим шумом. – Почему птицы подняли такой гам, мальчик? – удивленно спросил меня аббат Мелани, причем говорить ему приходилось громко, чтобы я его услышал. Мы снова услышали несколько ударов, словно наносимых молотом, которым крушат деревянные доски. Я пояснил Атто, что Фрош, вероятно, находится среди клеток и прибивает планку для новой двери конюшни (хотя на самом деле было не совсем ясно, почему он делает это среди птиц). Пронзительный крик птиц из-за громкого эха от новой порции ударов стал почти оглушительным. – Проклятье, эти ужасные птицы практически невыносимы, – воскликнул Атто, пытаясь зажать уши. Тоже закрыв барабанные перепонки руками, я пошел к маленьким вольерам и вскоре заметил, что они стоят вплотную к стене, то есть за ними никого не может быть, в том числе и Фроша, который мог бы вызывать этот шум. – Симонис! – крикнул я своему подмастерью, оставшемуся в обществе Атто. – Вы только посмотрите, господин мастер, только посмотрите! – словно эхо ответил он мне, чтобы в свою очередь привлечь мое внимание. Он стоял, повернувшись к противоположной стороне большой площадки, глядя на вход, через который можно было попасть на стадион, куда мы вошли совсем недавно. Мы были уже не одни. Огромное, мохнатое, двуногое существо, высотой по меньшей мере в два человеческих роста, показывало нам свои клыки, с которых капала слюна, и злобно рычало, хотя я и не слышал этого из-за невообразимого шума птиц. Затем оно опустилось на передние лапы и двинулось к нам, готовое атаковать. Хотя я не очень разбирался в хищниках, инстинкт подсказал мне, что существо это голодно. Застыв от ужаса, я наблюдал за приближающимся животным, слушая тем временем последними проблесками сознания, как невидимый кузнец очереднымударом молота вызывает новый всплеск хаоса среди птиц, затем услышал звук закрывающейся двери и только в этот миг понял, что есть еще и другой вход на площадку, прямо напротив того, через который вошел медведь, собиравшийся нас атаковать. В моих ушах по-прежнему звучали крики попугаев, когда я вдруг осознал, что птичьи клетки, которые Фрош поставил у стены одну на другую, скрывали эту вторую дверь и что именно этой дверью занимался невидимый столяр. Невольно уворачиваясь от вышедшего на финишную прямую медведя, который недвусмысленно направлялся ко мне, я потерял из виду Мелани и Симониса. А они прятались за Летающим кораблем. – Господин мастер! – услышал я слова Симониса. Затем раздался громкий треск, и на площадку обрушилось наводнение.
* * *
Словно в безумном сне, со скоростью взрыва различные создания устремились из двери позади клеток, будто капризный бог собирал за этой дверью животную жизнь всех времен и стран. Хаотическая масса из плоти, крови, мышц, когтей, грив, шерсти и зубов с ревом обрушилась на площадку и мгновенно распространилась по ней, как гипс, вылитый в чистую воду. Земля дрожала под ногами топочущих быков, пантер, своей темной шерстью вбиравших в себя весь свет, словно демонические черные звезды, тигров, веером бежавших навстречу друг другу, как щупальца одной-единственной полипообразной дикой кошки, рысей, казалось, взвивавшихся в воздух от силы, с которой взрыв живого выбросил их на площадку для игры в мяч. Птичьи клетки сломались, словно деревянные домики в бурю; те крылатые создания, которые не были убиты сразу рухнувшей дверью и не были растоптаны ворвавшимися на площадку зверями, взлетели вверх и заполнили воздушное пространство, будто причудливое пестрое облако. Однако гигантского медведя, который только что собирался атаковать нас, вдруг не стало. Откуда взялся слон, сломавший дверь и приведший сюда всю толпу зверей? Почему хищники разгуливали на свободе? Как они оказались за второй дверью площадки? Ни один из этих вопросов не имел значения. Потому что в то время, как весь этот яростный рев разрывал мне голову и уши, я увидел, что вся свора хищников несется на меня, и мои ноги сами собой побежали по направлению к единственной, хотя и странной возможности убраться отсюда. – Симонис! – кричал я, не слыша своего собственного голоса, поскольку его заглушал трубный рев слона. Тот бегал вокруг Летающего корабля, окруженный густой стаей птиц, а львы вступили в битву с медведем, и стены площадки для игры в мяч дрожали от их исполненного ярости рева.Я никогда не узнаю, как попал на корабль, потому что паника и память несовместимы. Однако мне кажется, что с того момента, когда слон и его животная свита вломились на площадку, и до тех пор, когда я, с обезьяньей ловкостью и больным горлом взобрался на борт Летающего корабля, я кричал без умолку. Настолько силен был мой ужас, что только увидев, как Симонис и аббат тоже пытаются попасть на корабль, я снова немного пришел в себя. Совсем рядом медведь разорвал нечто похожее на крупного фазана, сразу после этого на него кинулись два льва, отпугнули медведя угрожающим ревом и набросились на добычу. – Я здесь! – крикнул я, обращаясь к своему помощнику. Пытаясь взобраться на корабль, Атто упал, и теперь Симонису приходилось помогать ему встать, чтобы подняться на борт. Конечно, животные могли последовать за нами и на корабль, однако это было лучше, чем ничего. Тем временем запах крови убитых медведем и львами животных, должно быть, ударил в голову остальным: повсюду разгорались сражения между агрессивными хищниками. Как раз в этот миг смутное нечто, состоящее из голов, клыков, когтей и сопящих ноздрей, разорвало живот и пах несчастному быку, который рухнул на задние ноги и поднял глаза к небу на последнем вздохе своей битвы со смертью. С огромным трудом мы с Симонисом медленно подняли аббата на корабль. Я видел, как бледные губы Атто шевелятся в безмолвной молитве – в нескольких шагах от нас на него зло рычала львица, которую слон только что загнал в угол в своей безумной гонке вокруг Летающего корабля. Нам почти удалось затащить аббата на крыло, когда я почувствовал сильный, жестокий удар по голове, а затем тысячу уколов, которые вонзились мне в кожу на шее и висках. Небольшое облако обезумевших птиц обрушилось на нас, и молодая хищная птица долбила мою голову. Я вынужден был отпустить Атто, чтобы защититься. В то время как я, прикрыв глаза, словно безумец, отмахивался от птиц, опасаясь ослепнуть, мне показалось, что вокруг меня летают коршун, несколько попугаев и другие пернатые неизвестных видов. А львица тем временем подбиралась все ближе, рыча и скаля зубы. Внезапно корабль содрогнулся, словно его толкнула невидимая волна, и начал раскачиваться. Слон покончил со своей дурацкой беготней и теперь принялся ритмично стучать хоботом по другому крылу. Рядом с ним львица, быть может, та же самая, что смотрела на меня, прежде чем я бросился к Летающему кораблю, похоже, собиралась запрыгнуть на корабль, и только его постоянное раскачивание заставляло ее колебаться. Наконец неумолкающие птицы оставили меня в покое. Я провел руками по голове и с удивлением уставился на собственные ладони: они были ярко-красными. Из огромного множества маленьких ранок, которые нанесли мне птицы, выступила кровь, покрывая всю голову и заливая лоб. Нам все же удалось поднять на крыло корабля бледного как смерть, дрожащего всем телом аббата Мелани, но тут он снова едва не потерял равновесие и не рухнул вниз. Потому что корабль раскачивался настолько сильно, что мы с трудом держались на ногах, когда пытались перебраться через парапет во внутреннее пространство корабля. – Слон… – прохрипел я, указывая Симонису на огромное чудище, пытаясь объяснить ему, почему корабль так сильно качается. Между тем на гиганта тоже напали птицы, и он перестал раскачивать корабль, а вместо этого вновь принялся безумно бегать по кругу, отгоняя птиц от глаз хоботом и распугивая своими громкими криками львов, пантер и рысей. Озадаченная этим демоническим зрелищем, львица отбросила свое намерение атаковать нас и предпочла присоединиться к группе себе подобных, которые разрывали быка. Но на корабле уже появился гость: пантера. – Господь всемогущий, защити нас, – дрожа, бормотал аббат Мелани. Бестия запрыгнула на противоположное крыло и стала приближаться к нам маленькими шагами. Не оставалось времени на то, чтобы взвешивать все за и против. Симонис выхватил из недр корабля единственное оружие, которое у нас было: метлу трубочиста. – Я забыл ее в прошлый раз, господин мастер. Тем временем хорошо организованная группа плотоядных завершила свою смертоносную работу над быком, который уже лежал в луже крови и внутренностей. Неподалеку от него два вола устроили зрелищную борьбу со львом, вспоров ему брюхо рогами; у катающейся по земле хищной кошки из живота вывалились кишки, и она с отчаянным ревом слабыми ударами лап тщетно пыталась отмахнуться от мучителей. Вокруг не было ничего, кроме ужаса, крови и безумия. Немногим зверям уда лось бежать с площадки через обе двери, но большая часть, похоже, была захвачена царившим на арене сумасшествием. Сладковатый запах крови, казалось, привел в сильное возбуждение пантеру, запрыгнувшую на крыло корабля, поскольку она рассматривала нас с голодной яростью. Мы сидели втроем, вплотную прижавшись друг к другу, внутри корабля. Однако едва хищная кошка попыталась прыгнуть на нас, как мой помощник нанес ей сильный удар по голове. Удивление пантеры было велико: похоже, она совершенно не была готова к сопротивлению. Корабль несколько раз качнулся. Крики птиц, оглушавшие поначалу, стихли. Многие улетели прочь, другие попрятались куда-то, еще кого-то раздавили или разорвали лапы диких животных. Теперь громче всего слышался утробный рев зверей, которые из-за нехватки иных жертв (быки достались самым сильным и уверенным в себе животным) с ревом бродили вокруг корабля. Первое опьянение прошло, сейчас они чуяли новую жертву – нас. Даже слон перестал бегать по кругу и приблизился к кораблю, чтобы угрожать нам оглушительными звуками бучины, которые он издавал своим хоботом. Так вот что это был за звук, который я слышал в Нойгебау два дня назад! Теперь стало ясно и кому принадлежал топот, который мы слышали в замке несколько часов назад. В предвкушении атаки пантера с удовольствием занялась рукояткой метлы, которую протянул ей Симонис, кусая ее и пытаясь поймать лапами. Однако моему помощнику удалось вырвать метлу из пасти твари и вновь нанести сильный удар по голове. Пантера в ярости отступила. А Симонис пошел на нее, держа теперь метлу другой стороной, и ткнул ее щетиной в морду. Пантера отпрыгнула и удивленно зарычала, затем начала тереть лапой правый глаз. Должно быть, ей туда попала щетинка. Она встряхнулась и бросила на нас ледяной взгляд: животное готовилось к прыжку. Сначала она собиралась растерзать Симониса, который дразнил ее, затем меня, поскольку из-за ран на голове от меня пахло кровью, и, наконец, Атто. Летающий корабль дрожал. Я обернулся. Новая угроза появилась на другом крыле. Крупный лев, гораздо более страшный, чем Мустафа, приближался к нам с явным намерением убить. Мы были окружены, я готовился к концу. Тут корпус корабля снова содрогнулся. В то время как лев раскачивался на одном крыле деревянной птицы, на противоположной его стороне пантера напрягла мышцы, облизнулась, взревела и прыгнула. У меня не оставалось времени даже на то, чтобы обратить безмолвную молитву к Деве Марии, и, когда зверь оказался почти рядом, я громко вскрикнул от отчаяния. Симонис держал перед собой в вытянутых руках бесполезную смешную метлу.
* * *
Наверняка те же самые милосердные боги, что и в прошлый раз, решили нашу судьбу. Корабль снова сотрясла сильная дрожь, и он поднялся вверх, поворачиваясь при этом вокруг своей оси. Центробежная сила бросила нас троих в разные концы корабля, а краем глаза я увидел, как черный силуэт пантеры полетел вперед и ударился мордой об киль. Животное издало мрачный, хриплый и жалобный рев, но ярость его была тщетна: Летающий корабль произвел ряд быстрых движений, с помощью которых стряхнул с себя пантеру. Как я вскоре увидел, наш парусник таким же образом избавил нас и ото льва, подобно ленивой корове, которая равнодушными взмахами хвоста отгоняет от себя комаров. – Что… что произошло? – услышал я бормотание Атто Мелани. Полумертвый от страха, он сидел, опустив лицо к полу, на брусьях корабля, в то время как мы ощутили (я был уверен, что мне не показалось), как страшная древняя сила принялась выдувать нас из утробы самой природы и так легко подняла в воздух, словно весенний ветер в виноградниках Нусдорфа развеивает прелестные споры одуванчиков. А потом возник тот звук, нежный перезвон камней янтаря, что висели у нас над головами на шатунах и наигрывали нечто вроде изначального гимна, с помощью которого Летающий корабль праздновал наш подъем к небу. Он наполнял корабль и превращал наш жалкий тайник в возвышенный сад гармонии. Теперь было возможно все: это был тот же самый звук, что и в первый раз, и в то же время другой, он был повсюду и нигде, я слышал его и не слышал. Он был сладким, словно флейта, и острым, как цимбалы, если бы я был поэтом, я окрестил бы его «гимном полета», поскольку человеческая слабость обычно называет все непонятное красивыми именами. Она окунает обманчивую кисть воспоминаний в яркие цвета, чтобы наколдовать на полотне никогда не существовавший пейзаж, подобно мечтательному пьянице, который подносит к губам пустой бокал и пробует в воспоминаниях химерное вино, которого никогда не пил. Контрапунктом небесного звучания камней янтаря было, как и во время прошлого полета, приглушенное жужжание: то был воздух, проходивший по трубочкам в корпусе корабля. На корме начал весело трепетать на ветру флаг с регалиями королевства Португалия. – Симонис! – воскликнул я и наконец поднялся с досок корабельного дна, где лежал пластом, чтобы спастись от смертоносного прыжка пантеры. – Господин мастер! – ответил он мне, тоже поднимаясь. Лицо его посветлело от восхищения. – Он снова летит, Симонис, он снова летит! – крикнул я застывшему аббату и обнял, радуясь тому, что избежал опасности, помощника, а внизу мы слышали рев животных, с которыми своим взлетом мы сыграли такую злую шутку. Я смотрел на Атто: на нем больше не было очков с черными стеклами. Вероятно, он потерял их в том ведьмином котле, из которого мы только что бежали таким чудесным образом. Он тоже стоял на ногах, прикрыв левой рукой ухо, словно защищаясь от гимна корабля. Другой рукой он держался за один из вертикальных шатунов, служивших опорой для веревок с камнями янтаря над нашими головами. Лицо аббата Мелани, за исключением фиолетовых отпечатков от очков, было восковым, невероятно бледным. Казалось, будто безумный художник в шутку выкрасил его лицо белилами, пеплом – глазницы и кривой нос, превратив в копию Пульчинеллы. Выкатив глаза, он смотрел наружу. – Но я… мы… мы летим! – беспомощно пробормотал он, затем лишился чувств и рухнул, словно сброшенная змеей кожа, на дно корабля. Тут я понял то, что, наверное, подозревал всегда: Атто не был слеп.* * *
Мой помощник – как бы там ни было, а он был студентом-медиком – нащупал у него пульс, осмотрел его закатившиеся зрачки и, наконец, привел Атто в чувство с помощью нескольких звонких оплеух. Парик сбился, немногие оставшиеся волосы трепал безжалостный ветер, аббат Мелани смотрел на меня опухшими глазами, с искривленными губами трагической маски. Он произнес глухое, монотонное «О-о-о-о!», нечто среднее между хрипом и выражением удивления. Опираясь на Симониса, он подошел к поручням, затем вернулся, тут же сразу согнулся, и так он проделал два или три раза, озадаченный высотой, на которой мы находились. Внизу в бессильной ярости вслед нам рычали львы, тигры и медведи; словно угрожая, поднимал вверх хобот слон; птицы, все еще жаждущие суматохи, окружали нас, привлеченные нашим судном, легко держащимся в воздухе, хотя крылья его оставались неподвижными. Быть может, это было галлюцинацией (да, так оно, наверное, и было), но когда я напряг зрение, то увидел внизу пантеру, которую Симонис загнал в угол метлой, и мне показалось, будто в ее далеких глазах сверкает молчаливое обещание жгучей ненависти. – Да, синьор Атто, мы летим, – подтвердил я, обращаясь к нему, – а вы, похоже, отлично видите. – Мои глаза видят, это так, – признался он, окидывая взглядом горизонт, не обращая внимания на то, что говорит, настолько поражен он был потрясающим видом, открывавшимся повсюду под нами. Застывший неподвижно нос Мелани рассекал воздух, подобный деревянной орлиной голове Летающего корабля, загадочно несшегося в бесконечность. – А мы… мы не могли бы лететь несколько пониже? – попросил он. Мы с Симонисом переглянулись. – Да, синьор Атто, попытайтесь нашептать ему это на ушко, – сказал я, указывая на орлиную голову, размещенную на носу судна, и невероятное напряжение, разрывавшее меня на части, вылилось в смех с издевкой. – Может быть, он хоть вас послушается. Симонис присоединился к разряжающему смеху, а успокоим шись, мы пояснили Атто, что это не первый наш полет, поскольку два дня назад мы уже познакомились с невероятными возможностями Летающего корабля. – Ты все скрывал от меня, мальчик… – А вы притворялись слепым, – ответил я. – Все не так, как ты думаешь. Я сделал это для того, чтобы защититься, – лаконично поправил он меня и, выглянув из-за борта судна, посмотрел вниз. Взгляд его скользнул по горе Каленберг, крышам и церковным башенкам Вены, городским стенам, перешел на широкую равнину гласиса, Дунай с его рукавами, равнину на другом берегу реки, простиравшуюся насколько хватало глаз, до самых королевства Польского и царских земель; а затем на здания, мосты, аллеи, виллы, сады, холмы с виноградниками, возделанные и опрятные поля, дороги, тянувшиеся от Вены в предместья и дальше по стране, речки и ручьи, склоны и ущелья: все это сжалось до крошечного муравейника, и мы могли считать себя его гордыми всемогущими богами. – Скажите мне: как управлять этим кораблем? Как он летает? – Мы не знаем, синьор Атто, – ответил Симонис. – Что? Разве не вы подняли его в воздух? – воскликнул он, и я увидел, что на лице его отразился ужас. Бедный аббат полагал, что мы с Симонисом являемся причиной подъема в воздух и поэтому можем, словно повелители, управлять этим кораблем. Я попытался объяснить Мелани, что Летающий корабль и в прошлый раз поднялся в воздух не потому, что мы его каким-то образом заставили сделать это, но исключительно потому, что он – по крайней мере, так казалось – угадывал наши желания и хотел их исполнить: в первый раз – намерение разгадать тайну Золотого яблока; во второй – отчаянное желание убежать от хищников Нойгебау. – Желание? Одной воли не достаточно для того, чтобы сдвинуть с места вилку, не говоря уже о полете. Скажите мне, что я сплю, – ответил Мелани. Как раз в этот самый миг Летающий корабль, мягко дрогнув, изменил курс. – Что здесь происходит? – обеспокоенно спросил Атто. – Кто управляет кораблем сейчас? – Это сложно понять, синьор Атто, но он управляет собой сам. – Управляет собой сам… – озадаченно повторил Мелани, снова бросил удивленный взгляд вниз и слегка покачнулся. Симонис поспешил к нему, чтобы поддержать. – Боже мой, – с дрожью в голосе произнес Атто, в то время как грек растирал ему руки и корпус, – здесь, наверху, ужасно холодно, хуже, чем на вершине горы. А как мы спустимся обратно? Мы не разобьемся о землю? – В прошлый раз корабль вернулся на площадку для игры в мяч. – Но мы не можем возвращаться туда, – пробормотал Атто, снова побелев как мел, – там эти… Помогите! Боже милосердный! Пресвятая Дева! Корабль вдруг повернул. Мягко, но решительно качнувшись, судно повернуло влево, и центробежная сила швырнула Атто на дно. К счастью, Симонис, остававшийся рядом с ним, успел схватить его за краешек одежды. Я тоже, чтобы сохранить равновесие, вынужден был ухватиться за одну из балок. Несколько минут мы молчали, только неземной звон янтаря заполнял пустоту. Взгляд Атто теперь был устремлен в пропасть; словно в церкви шептали его губы слабые, не наполненные верой молитвы ко Всевышнему, Пресвятой Богородице, ко всем святым. По мере необходимости корректируя свой курс, корабль постепенно облетел все воздушное пространство над городом. Во время каждого нового внезапного поворота воздушного корабля Атто, вцепившись в Симониса, с трудом шевеля губами, ругаясь от потрясения, комментировал наш полет. – Жизни… целой жизни… – лепетал он, – целой жизни не хватило мне, чтобы понять мир. А теперь, когда пора подыхать, со мной еще и такое случилось… Тем временем корабль закончил свой полет над Веной. И тут я услышал это. Гармоничное перешептывание камней янтаря расширилось и украсилось причудливыми, неописуемыми вибрациями, создавая в самом себе контрапункт из шепота, перезвона, переходящего в непрекращающееся крещендо. Наконец светящиеся камни одарили нас, словно приветливый оркестр, золотисто-голубыми звуками, и весь корабль окутала сладость, которой просто невозможно было противостоять. Сродни чудесным симфониям, которые слышишь незадолго перед тем, как уснуть, теперь невероятное концертное блаженство звучало на Летающем корабле, и я знал, что Симонис и Атто разделяют его со мной и что они так же, как и я, опьянены им. Мне даже не нужно было спрашивать: «Вы тоже слышите это?» – поскольку это было вокруг нас и в нас самих. – Soli soli soli… Vae soli, – бормотал Атто. – Эти камни… Я знаю этот мотив. Это соната для соло баса, Грегорио Строцци. Но как они… Он вдруг остановился, затем к нашему величайшему удивлению выпрямился, словно свеча, и перед тем, как упасть навзничь, воскликнул: – Vae soli, quia cum ceciderit, non habet sublevantem se![995] Аббат продекламировал это громким голосом, обращаясь к камням, отбрасывавшим на его лицо причудливые арабески света. – О боже, ему плохо! – крикнул я своему помощнику, опасаясь самого страшного, в то время как мы оба подбежали, чтобы поддержать его, дабы он не упал на пол. – Экклезиаст. Он цитирует Экклезиаста! – сказал Симонис, тоже чувствовавший себя не совсем хорошо, впрочем, как мне показалось, скорее из-за слов, которые произнес Атто, чем из-за телесного недомогания.Мы положили аббата на доски корабельного днища. Он не потерял сознания, но, похоже, был несколько не в себе. Прежде чем упасть, он коснулся своими старческими пальцами одного из янтарей, и музыка мгновенно прекратилась, остался только первоначальный шум. Симонис растирал старику виски, грудь и ноги. – Как он? – испуганно спросил я. – Не беспокойтесь, господин мастер. Он потрясен, но уже отходит. Я облегченно вздохнул, но втайне проклял агу и вечно больного Доменико. Строго говоря, было безумием брать аббата с собой на работу. Конечно, если бы мы знали, что нас ждет в Месте Без Имени… – Мы возвращаемся, – заметил грек, – уже теряем высоту. Летающий корабль опускался. Орлиная голова корабля, пустые деревянные глаза которой глядели в бесконечность, уже смотрела носом на поля Эберсдорфа и Зиммеринга. Неужели мы снова приземлимся на площадке для игры в мяч? Если да, то выберемся ли мы оттуда целыми? Тем временем Атто снова пришел в себя. – Мы должны изменить курс! – воскликнул я. Первые попытки были абсолютно бесплодными. Мы начали с того, что все втроем осторожно встали на одну сторону корабля, затем на другую в надежде вызвать тем самым изменение направление полета, однако тщетно. – Он падает совершенно прямо, не сбиваясь с курса, как камень, – заметил мой помощник. – Единственное отличие: медленнее. Когда мы все вместе столпились на корме, а затем на носу, это тоже ничего особого не дало. И тут мне в голову пришла идея. Что рассказывал Пеничек о том иезуите, Франческо Лана и его экспериментах? Чтобы направить свой корабль по тому или иному курсу, он выдумал систему тяговых рычагов. В нашем случае приходилось действовать наобум, однако попытаться все равно стоило. Я потянулся вверх и дернул за один из канатов, на которых висели камни янтаря. Желтоватые камешки беспорядочно подпрыгивали, не прекращая своего непонятного небесного жужжания, а канат вибрировал, словно струна лютни. Разрушать эту тихую, невнятную мелодию было все равно что вмешиваться в существующий порядок вещей. Меня осенило божественное прозрение, что Летающий корабль, музыка и камни янтаря – одно и то же, и мне показалось, что так было всегда и иначе просто быть не может. И насколько я мог предполагать, это мрачное ощущение не было иллюзией: к моему огромному удивлению, спустя несколько мгновений корабль сделал поворот налево, затем вправо и затем снова налево. – Спаси, Иисусе! Что же теперь будет? – воскликнул аббат Мелани, внезапно вцепившись в руку Симониса. Значит, действительно, подумал я, кусочки янтаря неким образом связаны с управлением кораблем. Какого рода эта связь, понять я еще не мог (да и не думал, что смогу), но для начала мне было довольно и того, что я смог повлиять на движение корабля. Тут я заметил, что небо, бывшее с утра ясным, быстро омрачилось. В Вене смена солнца на тучи происходила иначе, чем в Риме: в городе пап это словно диалог двух ученых, в Вене – похоже на ссору двух не доверяющих друг другу возлюбленных: каждые три минуты меняются фронты, правда и неправда меняются местами без меры и порядка. – Держитесь крепче, – предупредил я обоих своих спутников и повторил эксперимент, причем на этот раз потянул за рычаги с янтарем немного сильнее. И перестарался. Воздушный парусник яростно задрожал, нов начал мотаться из стороны в сторону, словно голова хищной птицы пыталась вернуться к своему изначальному курсу. Удержаться на ногах стало очень трудной задачей. – Не слишком ли далеко мы зашли, господин мастер? – обеспокоенно запротестовал Симонис, тогда как аббат Мелани крепко вцепился в него своими костлявыми руками. Дав товарищам по несчастью достаточно времени для того, чтобы удержаться, я стал предпринимать более осторожные и направленные попытки, стараясь уменьшить опасность быть сброшенными раскачиванием корабля в пропасть. Мне удалось значительно уменьшить высоту нашего полета, а вместе с ней и расстояние между нами и Местом Без Имени, которое выразилось уже отчетливее в просторной равнине Зиммерингер Хайде. Упали первые капли дождя. – Господин мастер, мне кажется, что корабль возвращается в свою гавань, – сообщил мне Симонис. Я проконтролировал положение: мы направлялись прямо к площадке. Я еще не видел, ждут ли нас внутри огромного прямоугольника дикие животные; в любом случае было очень вероятно, что некоторые бестии остались голодными, если и не на площадке, то, без сомнения, где-то неподалеку. По крайней мере одно из животных наверняка хотело снова повидаться с нами: пантера, которой Симонис нанес удар метлой в глаз. Капли с неба стали крупными и более частыми. Больше времени терять было нельзя. – Что, черт побери, ты собираешься делать с этими канатами, мальчик? – с обеспокоенным лицом спросил аббат Мелани. – Помешать нам приземлиться прямо в пасть большой кошке. Ни Симонису, ни Атто возразить было нечего. Было совершенно очевидно, что решение проблемы нужно искать как можно скорее. Летели мы уже не очень высоко; поэтому я потянул сразу за несколько шатунов одновременно и отпустил, словно тетиву лука. Корабль сотрясла настолько мощная вибрация, что я наверняка упал бы, если бы не держался изо всех сил. Атто и Симонис сидели на полу. Мы по-прежнему направлялись к площадке для игры в мяч. Какого недостойного штурмана обрел в моем лице Летающий корабль! Возвышенный ковчег истины, благородный парусник, пришедший с Крайнего запада, чтобы сделать Австрию победителем в войне, судно, которое должно было вместе с Золотым яблоком украшать высочайшую башню собора Святого Стефана, теперь пало жертвой моих неуклюжих попыток саботажа. После того как корабль спас нас, мы предали его, пытаясь изменить естественное направление полета и опустить его на землю. Промокший от дождя, я потянул за канаты снова. Теперь раскачивание стало настолько сильным, что я тоже потерял равновесие, упал и в ужасе приготовился к тому, что мы рухнем прямо сейчас. Атто и Симонис дружно ругались. У меня не хватало мужества даже на то, чтобы проконтролировать наш курс, поскольку я опасался, что следующий толчок корабля вышвырнет меня за борт. Поднявшись, я вцепился в шатуны и еще раз потянул что есть мочи. Наконец это произошло.
* * *
Жужжание камней прекратилось. Я посмотрел вверх: желто-коричневые камни янтаря вибрировали уже не сами по себе; казалось, теперь ими движет нечто вроде остаточной энергии. Весь Летающий корабль дрожал, словно огромная птица, которую кто-то подстрелил и попал при этом в жизненно важный I орган. То была болезненная, лихорадочная дрожь, предвестие катастрофы. Если бы на борту у нас был порох, я мог бы поклясться, что мы совсем скоро взлетим на воздух. – Боже мой, мы все погибнем! – услышал я шепот аббата Мелани, которого, словно маленького ребенка, обнимал Симонис. Я выпрямился и, качаясь, подошел к борту, чтобы бросить взгляд наружу. Наконец мы изменили направление. Сперва поднявшись немного выше, Летающий корабль начал заваливаться на левый бок; теперь он нацелился на край Зиммерингер Хайде, пустой, поросшей травой пустоши к северо-востоку от Места Без Имени. Там, в этом я был уверен, мы и должны были упасть.Готовясь к удару, мы заметили, что дождь перешел в сильную бурю. На несколько секунд молния превратила наш парус в серебряный полумесяц, упавший с неба и теперь опускавшийся на единственную вершину земли, которая была готова приютить его. – Держитесь крепко! – крикнул я, когда днище Летающего корабля уже коснулось верхушек деревьев и судно приготовилось упасть. Как раз в тот миг, когда прозвучал громкий раскат грома, я почувствовал первый контакт с землей и осенил себя крестным знамением.
* * *
– Зачем нужны эти камни янтаря? Как получается, что они звучат таким образом? Кто-нибудь из вас может мне это объяснить? Промокшие до нитки, уставшие, но живые, мы приземлились. К нашему удивлению, прибытие на землю заключалось в легком подпрыгивании; Летающий корабль коснулся земли, не разбившись и не перевернувшись, и оказалось, что, дабы не вывалиться наружу, довольно как следует держаться. Едва опустившись на землю, пернатый парусник снова поднялся вверх и взял курс на Место Без Имени. – Может быть, он возвращается на площадку? – предположил Симонис. Корабль удалялся, а я в последний момент посмотрел ему вслед: увижу ли я его еще? Наша посадочная площадка располагалась невдалеке от винного погреба монастыря Химмельпфорте. По пути туда наши ноги по щиколотку погружались в полевую грязь. Что случилось в Месте Без Имени после нашего бегства, мы не знали. По-прежнему ли на свободе тигры и львы? Мы сушили одежду в маленькой гостиной погреба, у огня. К счастью, во время нашего пешего перехода нам никто не встретился, поскольку два трубочиста посреди поля выглядели довольно странно в обществе слабого лысого старика (аббат потерял свой парик) с белилами на лице и карминово-красными щеками. В действительности же Атто, лицо которого было еще искажено от ужаса пережитых событий, темная одежда испачкалась и порвалась, спина согнулась, а походка стала тяжелой, походил на несчастного, сбежавшего из мира сказок эльфа. Однако теперь мы сидели у теплого очага, положив руки на красивые бокалы с горячим вином, полуголые, поскольку одежда наша сушилась над камином, и обсуждали ситуацию. Аббат Мелани снова обрел присутствие духа и обрушил на нас целый град вопросов. Какие функции имеют трубы, образующие корпус, по которым течет воздух? Может быть, это они дают необходимую для полета энергию? И почему корабль летает под португальским флагом? На все эти вопросы ответить нам было нечего, кроме как признаться в своем прискорбном невежестве, которое смягчало только воображение. Трубы действительно, скорее всего, служили движущей силой, хотя доказательств этому у нас не было. Флаг королевства Португалия имел отношение к происхождению корабля. Старая брошюрка двухлетней давности, которую показывал мне Фрош, повествовала о том, что воздушный корабль прибыл из Португалии. Это совпадало с информацией Угонио: Летающий корабль по желанию королевы Португалии, сестры императора Иосифа I, был послан в Вену с поручением: установить Золотое яблоко, которое непонятными путями попало в Португалию из стран Востока, на вершину башни собора Святого Стефана. Только таким образом империя могла выиграть войну у Франции и Людовика XIV.Однако больше всего интересовало Атто, как, черт побери, камням янтаря удалось сыграть сонату для соло баса Грегорио Строцци? – Почему вас так это интересует? – спросил Симонис. – Какое тебе дело? – невежливо ответил аббат Мелани. Постоянное присутствие моего подмастерья раздражало его. Грек сохранял спокойствие. – А почему вы теперь не слепой? – задал он самый глупый вопрос на свете.» – Послушай, мальчик, – сказал мне Атто, с трудом сдерживая раздражение, – я советую тебе отослать своего подмастерья, чтобы он посмотрел с безопасного расстояния на этот заброшенный дом, как там он называется? Нойгебау, точно. Мы должны выяснить, успокоилось ли там все. Аббат хотел избавиться от моего подмастерья, потому что тот действовал ему на нервы. – На улице льет как из ведра, синьор Атто, – заметил я. – И я предпочел бы побольше узнать о вашем чудесном обретении дара зрения на борту Летающего корабля. Атто опустил взгляд. Я обрушил на него шквал вопросов. Почему он все время носил эти черные очки? Может быть, он хотел таким образом легче пересечь границу и не подвергаться надзору в столице императора? – Ну а что мне еще делать с этими пиявками, моими родственниками? – спросил Атто. – Вашими родственниками? – удивленно переспросил я. – Мои племянники, да, эти рвачи. Не думай, что я хорошо вижу. Все совсем не так, катаракта доставляет все больше и больше хлопот. Поэтому мой медик в Париже посоветовал мне все время одеваться в зеленое и черное, это два цвета, которые лечат глаза, так он говорит. И по этой же причине я сплю с босыми ногами, даже зимой – кажется, это тоже способствует зрению. Что же касается остального, то у меня, Deo gratias,[996] все хорошо. Не считая геморроя и мочекаменной болезни, заявил Атто, он, несмотря на свой преклонный возраст, здоров и телом, и душой. Единственная проблема – это его племянники из Пистойи. Они ничего не делают, только денег требуют. – Деньги, деньги, одни только деньги! Они хотят, чтобы я купил два небольших поместья в Пистойе, которые им хочется, и чтобы я снял вклад, которым обладаю в Монте дель Сале. Но мне дадут самое большее три процента! И они хотят, чтобы я обил железом бочонки в поместье Кастель-Нуово. Боже мой, какая роскошь, неужели они действительно думают, что у меня денег куры не клюют? Удивительно, Атто, казалось, совершенно забыл о потрясающих возможностях Летающего корабля и вместо этого обрушился на своих родственников: очевидно, его племянники не особенно ценили то, что сделал для семьи их старый дядя, потому что каждый искал только свою выгоду. – Они даже имели наглость попросить у меня денег на приобретение целой библиотеки! На это я ответил, что, быть может, это им придется в скором времени посылать мне деньги! Результат: о них теперь ничего не слышно. Какая трогательная благодарность. А если вспомнить о том, что я целых четыре года платил посреднику, чтобы тот подыскал жену для брата Доменико, Луиджи, которая была бы достойна его по происхождению и приданому! Они вспомнили обо мне только тогда, когда нашли подходящую девушку. Потому что они имели наглость попросить меня прислать для нее подвенечное платье из Парижа, скряги этакие! Я ответил, что платье наверняка не успеет к свадьбе, и предложил, чтобы они наняли ту же портниху, что и ее светлость княгиня Тосканская и ее придворные дамы. Затем я позволил им взять бриллианты в моей галерее, чтобы сделать из них две ушные подвески и небольшой крестик для цепочки из черного шелка. Но и этого было им не достаточно, о нет! Слова лились из аббата водопадом. У меня было такое ощущение, что на самом деле он хотел поговорить со мной о других вещах, но ждал, когда Симонис скроется с глаз. – Но нет же, они настаивали на подвенечном платье, – тем временем продолжал Атто, – и совершенно забыли о том, что галиот, который доставил бы курьера из Лиона в Геную, наверняка был бы ограблен искателями кораллов и вооруженными судами Финале и что посылать невесте платье из Парижа – то же самое, что выбросить деньги в окно, как сделала одна дама, которая послала племяннице папы два платья. Я покончил с дискуссией, пообещав, что если мои доходы во Франции стабилизируются, то, быть может, они увидят меня в Пистойе еще до Иванова дня. В этом случае я мог привезти невесте платье лично. Однако после того, как невеста согласилась пойти к алтари в тосканском платье и вскоре испытала радость материнства, продолжал свой рассказ Атто, племянники перешли в наступление. – Ребенок очень красив, как писала мне мадам Коннетабль, которая видела его. И я позволил себе пообещать послать молодой матери нити жемчуга и другие украшения. Я только ждал подходящей возможности, чтобы послать все это, не опасаясь быть обворованным, но возможности не представилось; и мне жаль, что события уже не позволяют сделать все то, что хочется, однако, как я уже говорил тебе, в Париже теперь больше банкнот, чем монет, и если кто-то хочет избавиться от них, то теряет половину. Эти бумажки были и остаются крахом Франции. Единственное, на что они способны, это просить денег, возмущался Атто, в памяти которого воспоминания о хищниках поблекли перед волной гнева на своих родственников. Богатства, которые нажили они сами, они хранили для себя, равно как и все хорошее, что с ними случалось. – Они все молчали, лисы этакие, когда великий герцог в прошлом году передал нашей семье дворянский патент второго уровня и провозгласил, что через пять лет переведет в истинное дворянское положение. Мне пришлось узнавать об этом от своих соотечественников. Тем временем племянники в Пистойе продолжали создавать проблемы: сначала они непременно хотели послать Доменико в Париж, чтобы он следил за его имуществом, затем стали завидовать и подозревать друг друга. – Доменико – адвокат, и его светлость великий герцог Тосканы устроил ему место секретаря консула Сиены. Я не хотел, чтобы он приезжал в Париж, мне никто не нужен. Я сказал, что сейчас не время предпринимать такие поездки, слишком много убийств случается в стране, по причине нищенского, жалкого положения маленьких людей; кроме того, столько болезней ходит, с лихорадкой и петехиями. Нас осталось так мало, нужно заботиться о том, чтобы сохранить хоть это! Так я и написал этим кровопийцам, в надежде что они оставят меня в покое. Но нет: они обратились к великому герцогу, и его королевское высочество написал мне, что он считает весьма целесообразным, чтобы Доменико, самый юный отпрыск семейства, отправился в Париж, ибо он не обязан, как старшие, заботиться об интересах нашего дома; и я не должен беспокоиться по поводу его места, потому что он сохранит его на время его отсутствия. Однако Доменико не должен был возвращаться в Пистойю со мной или один, прежде – слушайте! – чем получит представление обо всех моих процентах. И после этого я даже должен был вежливо ответить его светлости великому герцогу, что я верноподданнейше благодарю его за величайшую доброту, которую он оказал мне, etc. Симонис посмотрел на меня. Я понял, что он предпочитает снова вымокнуть под дождем, чем слушать эту нелепую болтовню. Однако снаружи был просто потоп, и я приказал своему подмастерью еще немного подождать. Итак, Доменико, продолжал Мелани, год назад поселился у своего дяди. Рекомендации Атто, чтобы племянник взял с собой поменьше вещей, «поскольку одежды, которая на нем, и дюжины рубашек будет достаточно», не сработали: спустя месяц он не уехал, и старому дядюшке пришлось, кроме всего прочего, покупать ему новый гардероб. Более того, Мелани еще вынужден был послать ему деньги на путешествие, а поскольку тридцати дублонов родственникам показалось мало, они отправили Доменико в Париж даже без слуги. – Как я хотел, чтобы он привез с собой слугу, который умел, бы немного готовить, чтобы я не забыл вкус итальянских блюд. Эгоисты и скряги, вот кто они такие. И я знаю, о чем говорю, потому что хорошо осведомлен о крупных событиях в их семье. Когда Доменико получил место секретаря консульства в Сиене, великий герцог известил меня обо всех связях и почестях, которыми теперь пользовался племянник. Однажды мне надоест, и я напишу этим воронам, чтобы они перестали играть в прятки со своим старым дядей, потому что великий герцог все равно мне все рассказывает, с пылу с жару. Правда, со временем старый аббат привык к племяннику и даже сделал ему французское гражданство. – Но тут все и началось. Остальные племянники начали завидовать, поскольку стали опасаться, что теперь я буду оказывать ему предпочтение. Атто объяснил нам с Симонисом, молча и устало слушавший его болтовню, что все его родственники должны были быть благодарны ему за это решение, потому что если бы он умер, то вся мебель и все доходы, которые он имеет с дома неподалеку от Парижа, достались бы первому, кто потребовал бы их себе. – Таково право короны, во Франции оно называется aubaine, и поэтому большинство иностранцев выписывает своих родственников к себе, чтобы они приняли гражданство. В действительности это был не первый племянник, которого принимал аббат Мелани. – Три года назад я потерял своего племянника Леопольдо. У него были светлые волосы, и вообще он был красив. Я был безутешен, когда он умер в возрасте всего тридцати четырех лет. Он умер после более чем двадцати дней постоянной температуры и головных болей с поносами. Господь Бог, в милосердии своем, хотел, чтобы он вовремя принял все таинства, и он умер как святой, и это единственное утешение, которое мне остается. Он стал таким старательным молодым человеком, с ангельскими манерами, все, кто был с ним знаком, любили и ценили его. В то время, когда он лежал больным, я и сам заболел, но Господь милосердный пощадил меня, чтобы плоды моих стараний не пропали втуне. Тут Атто сделал трогательную паузу, при этом навострив уши, чтобы услышать, идет ли еще дождь. Дождь шел. Бросив на Симониса, который и бровью не повел, полный отчаяния взгляд, Мелани снова заговорил. Благодаря зависти между родственниками, рассказывал он, он смог, когда настали холода, отправить Доменико домой. Но когда его племянник вернулся, он воспользовался этим, чтобы просить его сопровождать себя в Вену в качестве секретаря. – Я хотел, по крайней мере, возместить себе часть того, чего лишили меня родственники. Но теперь Доменико заболел. Как только мы уедем из Вены, я тот же час отправлю его обратно в Пистойю, вместе с мортаделлой. – Мортаделлой? – удивленно спросил я. – Прежде чем отправиться в путешествие в Вену, я попросил племянников прислать мне засахаренных апельсинов, а также две мортаделлы, которые делают в Пистойе. Они должны были положить их в винные ящики, которыми оказывает мне почтение его королевское высочество, великий герцог. Я хотел съесть их на завтрак, а поскольку мне все равно приходилось совершать путешествие в паланкине, я мог взять с собой и пару бутылок вина. Но эти скупердяи послали мне совершенно несъедобную мортаделлу, жесткую и слишком перченую, а засахаренных апельсинов вообще не было! Требовать – вот и все, что могут эти племянники, метал громы и молнии Мелани, уже не напоминавший дрожащего старика с Летающего корабля. Если бы не он, они по-прежнему были бы бедными внучатыми племянниками звонаря, а не потомками венецианских дворян, пояснил он, чтобы подчеркнуть, что в ранг дворянина его возвела республика Венеция. – Это мне благодаря геральдическим исследованиям удалось узнать, что Макиавелли в своей истории республики упоминает место Рокка дель Мелано. Там правил некий Бьяджо дель Мелано, и именно от него происходит наша фамилия, которой теперь так гордятся эти ничтожества! Тем временем дождь постепенно стихал. Симонис ощупал свою одежду, и хотя все было еще влажным, он принялся одеваться под преисполненным надежды взглядом Мелани. – Прежде чем претендовать на место капитана, нужно научиться выполнять обязанности заместителя! Вот что я написал им в своем письме. Они должны научиться справляться сами, как это сделал я, зарабатывать хлеб насущный в поте лица, – пафосно произнес он, совершенно забывая о том, что удача улыбнулась ему после не очень желанного события: кастрации. Однако в последнее время, заключил аббат, стало практически невозможно уклоняться от беспрестанных требований этих гиен. – И я, чтобы помешать выпить себя до дна, вынужден был сделать вид, что ослеп, больше не могу служить его величеству и поэтому живу в весьма стесненных обстоятельствах. Должен сказать, что постепенно я начал находить удовольствие в этом: слепота избавляет меня от кучи неприятностей, в том числе и с великим герцогом. – С великим герцогом? – удивился я. – Да, во Франции у него есть несколько абсолютно бесталанных подопечных, они не годятся ни в солдаты, ни в придворные, и поскольку им недостает приличного руководства, действуют они неразумно. Поэтому он хочет, чтобы я, раз уж нахожусь там, дал им взаймы. А кто может гарантировать мне, что я когда-либо увижу эти деньги снова? Тем более когда во всей Европе война и повсюду шатаются бандиты и пираты? Что мне делать с воспитанниками великого герцога? Такие создания, по моему мнению, годятся только на то, чтобы быть монахами, при условии, что никогда не будут претендовать на места певчих, а всегда будут заниматься столами или постелями. Короче говоря, послушать Атто, так все пытались его использовать. – И, как ты знаешь, эта уловка с глазами помогла мне свободно попасть в Вену. Я заметил Атто, что его племянник Доменико, похоже, верил в слепоту дяди. Вот только если он, подумал я про себя, как и его дядя, не отличный актер. И потом, в последнее время Атто признался мне во многих вещах, даже в том, что письмо, в котором принц Евгений предает своего императора, было сделанной по его наущению фальшивкой (при Симонисе он, конечно же, стал бы это отрицать), так почему же он не открыл мне, что вовсе не слеп? – Доменико знает, что я вижу, по крайней мере немного, что, впрочем, абсолютная правда. А с учетом зависти братьев ему совершенно не интересно выдавать меня. Что же касается твоего второго вопроса, то я никогда ничего не открываю, если меня к тому не вынуждают. Пожалуй, так и есть. После ужасной новости, касающейся вероятной болезни великого дофина, у Атто просто не было другого выхода. Он должен был сказать мне, что письмо Евгения поддельное, потому что как иначе он мог заручиться моей поддержкой? Если бы он еще и поведал мне, что отнюдь не слеп, то потерял бы мое доверие целиком.
Между тем Симонис был готов вернуться в Место Без Имени. Он забросил на плечо свой мешок, с которым не расставался в последнее время, накрыл голову клеенкой, найденной в подвале, и вышел на улицу. – Мы непременно должны выяснить, как летает этот чертов корабль! – резко сменил тему Атто, едва грек скрылся из виду. – Это величайшее открытие всех времен! Войско, обладающее таким кораблем, может выиграть любую войну. Можно сбрасывать с него бомбы, которые будут попадать гораздо лучше пушек. Можно выяснить расположение вражеских батальонов, их силу, рельеф местности, все! Более того, можно заранее знать, приближается ли буря или же пересохла ли река – все, что полезно при ведении войны. Совершенно типично для аббата Мелани – хвалить корабль только за его вероятное применение в войне. Он оставался все тем же интриганом. Чем больше его что-то потрясало, вот как этот загадочный аппарат, ставивший под сомнение все знание мира, тем больше он уходил в практическое, твердое зерно своей шпионской деятельности. – Если бы я только мог рассказать об этом наихристианнейшему королю… – вздохнул он. – Это было бы триумфальное возвращение! Все бы сказали: аббат Мелани снова советует его величеству в важных военных вопросах. – Я действительно понятия не имею, синьор Атто, как летает этот корабль… – покачал я головой. – Мы поговорим об этом позже, – перебил он меня. – Теперь, когда этот идиот ушел, я должен рассказать тебе кое-что важное. Речь шла о мелодии Грегорио Строцци, которую, как показалось Атто, он слышал в музыке янтаря. Мелани пояснил, что на рукописных копиях сонаты Строцци на полях была цитата из Экклезиаста: «Vae soli, quia cum ceciderit, non habet sublevantem se». Что означает: горе солнцу, ибо если оно упадет, то никто его не поддержит. Эта фраза внезапно пришла в голову Атто, когда он услышал, что камни янтаря наигрывают сонату Строцци (если так можно сказать). – Значит, Симонис был прав, – сказал я. – Что ты имеешь в виду? – тут же насторожился Атто. – Вам стало плохо, поэтому вы не слышали этого, но он сразу понял, что ваши слова из трудов Экклезиаста. – Смотри-ка, смотри-ка, – заметил Атто, – ученость, достойная богослова! Тебе не кажется это несколько странным для подмастерья трубочиста? – Симонис – нищий студент, синьор Атто, а они могут быть очень образованными. – Ну да ладно, – раздраженно отмахнулся он. – Может быть, ты сможешь объяснить мне, почему камни янтаря наигрывали эту сонату Строцци? – Не имею ни малейшего понятия. Я бы сказал, что корабль хотел подсказать нам разгадку «soli soli soli». Атто опять раздраженно отмахнулся. Как я уже отмечал ранее, он не придерживался того мнения, что в игру вступили некие таинственные силы. Необъяснимые события он предпочитал объяснять тем, что просто не хватает человеческого, включая и его собственного, знания. Не обращая внимания на мое замечание, Мелани продолжал: как и слова аги, цитату из Экклезиаста можно перевести иначе, играя с различными значениями слова «soli». – Не «горе солнцу», а «горе одинокому». Горе тому, кто одинок, как Иосиф, потому что если он упадет, то не будет никого, кто поддержал бы его, – заключил Атто. – Тогда «soli soli soli» в высказывании аги тоже имеют двойное значение, – таков был мой вывод. – Значит, Христо был прав! – Ах да, этот студент из Болгарии. Скажи мне точно, что он написал в той предсмертной записке. – Записочке, которая была спрятана в шахматной доске? Он написал: «шахматы, шах мат, король повержен». А когда мы нашли его тело, в руке он сжимал белого короля. – Точно, – удовлетворенно заметил Мелани, но лицо его тут же омрачилось. – Если бы ты рассказал мне все это раньше… Он помолчал. Вероятно, он понял, что я не рассказывал ему подробности смерти Христо потому, что в то время еще не доверял. Впрочем, и теперь, когда раздражение мое улеглось, у меня не было желания снова затрагивать эту тему. А он опять заговорил: – Я рассказывал тебе историю о двух осадах, которыми командовал Иосиф в Ландау? – Конечно, синьор Атто. – И рассказывал о французском коменданте Мелаке, который рыцарски предложил Иосифу не стрелять в него? – Да, я помню об этом. – Хорошо. Тогда ты вспомнишь и мое объяснение его поведению: старые добрые военные правила напоминают правила шахмат, где короля противника никогда не убивают. «Шахи мат» означает «король побежден», «у короля больше нет выхода», но не «король убит». Ваш друг-болгарин, должно быть, мучился этой мыслью, мыслью о короле и его судьбе. – И что это означает? – Это означает, что записка вашего болгарского друга и «soli soli soli»… что ж, это одно и то же. – Как это? – «Soli soli soli» можно еще перевести иначе, – продолжал Атто, – если первое и третье «soli» использовать в том же значении, что и в том предложении, которое выгравировано на пушках французского короля, а второе – не как дательный падеж единственного числа от «солнце», а переводить равнозначно первому «sol», то есть как «одинокий» или «человек, который один». – Тогда вышло бы… «к единственному человеку, который одинок на земле»? – Вот именно. – К единственному человеку, который одинок на земле… Звучит несколько странно, – заметил я. – Но это подходит. Если это объяснение правильно, то ваш друг перед смертью понял истинный смысл послания турок: «Мы пришли к Золотому яблоку, то есть в Вену, к единственному человеку, который одинок на земле». Одинокий человек, как король, когда тот становится жертвой шаха и мата: король повержен, король один. – А почему Иосиф должен был стать жертвой шаха и мата? – Это тоже можно понять из того, что я рассказывал тебе на днях, – ответил Мелани. Я помолчал, собираясь с мыслями. – Да, я понимаю, что вы имеете в виду, – наконец произнес я в тишине, возникшей в комнате. – Иосиф один, и он это знает. Поэтому он и пытается заключить мир со всеми старыми врагами: на западе – с Францией, на востоке – с османами и венгерскими повстанцами, на юге, в Италии, с папой, против которого он три года назад даже посылал в бой войска. Союзники его императорского величества – голландцы и англичане, но на самом деле они – его заклятые враги. Они тайно ведут переговоры с Францией и опасаются, что, если Иосиф выйдет из войны победителем или заключит мир с «королем-солнце», может не сработать их план занять достойное место среди европейских держав. В Испании против французов сражается его брат Карл, однако он с детства ненавидит Иосифа. И Евгений, верховный главнокомандующий его войском, тоже ненавидит его, потому что Иосиф отнял у него часть славы в битве при Ландау. Император одинок. Так одинок, как никто более на свете. – И, кроме того, его жизнь в опасности, – добавил Атто. – А почему турки предстали перед Евгением именно с этим девизом? Что они хотели этим сказать? – Это единственный вопрос, на который я не знаю ответа. Пока не знаю. И мы погрузились в молчание, задумчиво глядя на огонь, я время от времени ворошил угли, стараясь не разбрасывать искры, которые могли бы повредить наши развешенные для просушки вещи. Вскоре Атто задремал. Волнения последних часов оказались слишком сильными для человека, которому уже за восемьдесят; удивительным было то, что он не лишился чувств еще тогда, когда звери ворвались на площадку. Я подумал о его мнимой слепоте и улыбнулся: аббат Мелани на старости лет стал скрягой, которого донимают родственники. Расслабившись, я почувствовал, как на меня накатывает усталость. В полусне я снова вспомнил о Христо, о словах аги и новом значении, которое только что открыл мне Атто. И в тот миг, когда разум уступил место сну, на меня снизошло прозрение. Я наконец понял, почему ага сказал эти слова Евгению.
Довольно было сложить два и два и принять во внимание то, что поведала мне сегодня утром Клоридия о Кицебере. Османское посольство прибыло из Константинополя в крайней спешке, в их свите был дервиш, необходимый для того, чтобы спасти жизнь его императорского величества. Они прибыли как раз вовремя, в тот самый день, когда Иосиф I слег. Может быть, кто-то из приближенных к императору узнал, что на жизнь Иосифа совершается покушение и – а почему бы и нет? – попросил помощи у султана. Поскольку в Османской империи обладают такими медицинскими знаниями, о которых в Европе можно только мечтать. И султан, которому доброе здравие Иосифа было только на руку (как разузнала Клоридия), послал Кицебера. Кто позвал турок? Ответ был однозначным: это мог быть не кто иной, как Евгений. Наверняка не было случайностью, что турецкое посольство было принято именно в его дворце и там состоялись тайные встречи между дервишем и императорским медиком. Однако и здесь Клоридия предположила верно: Евгений не принадлежал к числу врагов императора, как полагал Атто, а к числу немногих его друзей, да, быть может, он был даже единственным. В этот миг звук шагов за дверью пробудил Атто от полудремы. Симонис вернулся с разведки. Я вынужден был подождать с сообщением Атто новейших открытий, потому что он отчетливо дал мне понять, что не доверяет моему подмастерью.
– Судя по реву слона, мне кажется, что ситуация нисколько не улучшилась, – провозгласил грек. И мы стали обсуждать, как могло случиться то, что произошло несколько часов назад. То, что звери ворвались на площадку для игры в мяч, могло произойти потому, что они содержались в небольшом пространстве за стенами площадки: что-то вроде тупика, ограниченного внешней стеной площадки, восточной башней замка и еще одной стеной. Туда животные попали по подземному ходу, который, как я предполагал, вел к их вольерам. Но откуда взялся слон? Как удалось спрятать такого гиганта? Во рвах, где жили другие животные, мы не видели ни единого следа его присутствия. – В восточной башне тоже было отверстие, господин мастер, – сообщил мне Симонис. И я стал перебирать в памяти события. Я дважды слышал присутствие слона: сначала услышал, как он трубит, с лоджии верхнего этажа замка, звук, похожий на бучину, затем, когда мы находились в западной части галереи подвального этажа здания. Очевидно, огромное животное содержалось в западной башне, во внешнем конце лоджии, прямо над галереей. Это была та самая башня, куда мы не смогли войти, потому что Фрош не дал нам ключа. Оттуда животное через лоджию попало в холл и затем убежало из замка, чтобы перейти под сенью maior domus на левую сторону. Оказавшись в восточном дворе, где находится главный вход, он испражнился – должно быть, это ему принадлежала та необычайно крупная навозная куча, на которую мы наткнулись! За неимением лучшего варианта, слон ворвался в восточную башню, выход из которой во двор, как я мог убедиться лично, был всегда открыт. Внутри башни он сразу повернул направо, в узкий коридор, который вел к тупику за площадкой, где затем встретил других зверей, которые вышли из своих ям по подземному ходу. В этом месте собрание животных всех возможных видов, в особенности же агрессивных, диких плотоядных, привело к невыносимой давке. Тигры, львы и медведи посмотрели в глаза слону в сильной толчее, в душной толпе, о которой они понятия не имели в спокойствии своего мирного плена. Паника затуманила их хищный дух и лишила возможности прийти к единственно правильному решению, а именно: по порядку, друг за дружкой бежать в восточную башню, из которой пришел слон, чтобы оттуда попасть в главный двор. Слон разрешил создавшуюся ситуацию, сломав дверь на площадку, в итоге взрывная волна животных оказалась на арене, где лежал Летающий корабль. От ударов в дверь, произведенных слоном и другими его товарищами, сломались птичьи клетки, и возник жуткий хаос. До сих пор все было понятно – но кто освободил диких животных из их вольеров и выпустил слона из убежища в башне? Куда подевался Фрош? Почему он скрыл от нас существование слона? И как, черт побери, этот колосс очутился в одной из башен Нойгебау?
17 часов, конец рабочего дня: мастерские и канцелярии закрываются Ремесленники, секретари, преподаватели языка, священники, слуги, лакеи и кучера ужинают (в то время как в Риме как раз наступает время полдника)
Полчаса спустя мы сидели в коляске Пеничека, которого перехватили по дороге к условленному месту встречи. Мы непременно хотели избежать приближения к стенам Места Без Имени. Нас удивила приятная неожиданность: для защиты от дождя Пеничек натянул над своим транспортным средством прочный холст. Казалось, он был несколько удивлен, встретив нас на дороге, с до смерти уставшим аббатом без парика. После того как он помог нам сесть в коляску, на нас обрушился град вопросов. Симонис как обычно грубо заткнул ему рот. Когда коляска пришла в движение, я спросил себя, где может быть Фрош. У него будут трудности, если он не сможет оправдать свое отсутствие как раз в тот момент, когда звери выбрались на свободу. – Я буду вынужден сообщить о том, что случилось, в императорской палате, – сказал я Симонису. – Завтра они придут осмотреть место, и мы должны будем присутствовать. Наверняка они станут задавать мне уйму вопросов, но как привилегированный трубочист, я не могу утаить от властей того, что произошло. – Я пойду с вами, – поспешно произнес Атто. Я догадывался почему. Аббат не собирался покидать Вену, не разузнав как можно больше о Летающем корабле. Если бы он смог сообщить наихристианнейшему королю подробности, то его путешествие в столицу императора, так или иначе, увенчается успехом. Я не возражал: все равно бесполезно противостоять упрямству аббата. И никто не станет подозревать слепого слабого старика; просто одетого, без краски и парика, я представлю его как родственника, за которым должен присматривать. – Согласен, синьор Атто, – только и сказал я.Коляска младшекурсника медленно двигалась по грязной дороге. Когда снова разразилась гроза, мы подобрали на дороге крестьянина. Едва крестьянин сел в коляску, как тут же, отчаянно жестикулируя, на сильном диалекте, принялся рассказывать, что только что видел льва. Конечно же, мы притворились, что невероятно удивлены: этого ведь не может быть, львы в этой местности? На это человек возразил, что это, должно быть, одно из диких животных i Нойгебау, которых держат в качестве развлечения для посетителей, и оно, похоже, убежало от смотрителя. На известие о том, что в Нойгебау не один, а много диких зверей, мы ответили еще большим удивлением; а крестьянин заявил, что в близлежащих деревнях поговаривают даже о том, что в Нойгебау есть слон. Мы дружно широко раскрыли глаза и попросили объяснений. И он рассказал нам, что император Максимилиан II, основатель Нойгебау, получил как-то в подарок слона из Африки. Максимилиан приказал доставить его сухопутным путем из Испании в Вену и таким образом дал возможность немецкому народу впервые познакомиться с этим видом толстокожих. Огромное животное произвело на всех такое впечатление, что любая из гостиниц, где останавливался зверь во время своего путешествия, позднее была переименована в «Гостиницу У Слона». С простодушием, свойственным обычным людям из народа, крестьянин поведал, с каким воодушевлением реагировали венцы на прибытие слона: в толпе, бежавшей за ним, была молодая мать, у которой от удивления выпала из рук ее новорожденная дочка. Однако под крики толпы слон поймал малышку хоботом и положил обратно на руки матери. Сначала Максимилиан приказал разместить слона в одном из построенных для этих целей сералей неподалеку от Места Без Имени. Однако потом, в декабре 1533 года, животное умерло, и единственное, что осталось от него, это стул, вырезанный из костей его левой передней ноги. Все? Нет, не все, поправился крестьянин. Перед смертью слон оказался слонихой, родив (что очень редко случается с этими громадными животными с хоботом) пару симпатичных слонят. Смотритель госпожи слонихи, прадедушка теперешнего смотрителя Нойгебау, был убежден в том, что смерть слонихи была вызвана чрезмерными тяготами, которым та была подвержена из-за церемониала императорского двора. Поскольку он опасался, что рано или поздно кто-то придет и заберет обоих слонят из уютного помещения в Эберсдорфе, он сохранил известие об их рождении в секрете и разместил малышей в конюшне неподалеку, где тайно вырастил при помощи своих родственников. Когда Максимилиан умер, животных переселили в замок Нойгебау, который после смерти своего создателя оказался заброшенным и никому не нужным. Судьба их, казалось, была предрешена: как жертва сокрытия они были обречены погибнуть в одиночестве и мраке Места Без Имени. Однако поскольку милосердие матушки-природы не знает границ, среди животных дозволена и плодородна даже любовь-инцест: слонята были братом и сестрой, но уже после первых всходов юношеской страсти у них родился красивый слоненок, тот самый, которого и сегодня хранят в Нойгебау, здоровый, подвижный зверь буйного характера. Хотя он уже постарел, необузданный нрав его хорошо сохранился. «Это мы заметили!» – едва не вырвалось у меня при воспоминаниях об ужасном шуме, с которым слон ворвался на площадку. Но я сумел промолчать. – А родители его? Умерли? – спросил Симонис. – Кр'дены во вр'мя Тр'дц'тилетней войны. С'жрали их. Г'лодал' все, – лаконично ответил крестьянин. Атто, Симонис и я вздрогнули. Отец Абрахам а Санта-Клара поистине был прав: с учетом аппетита венцев ни одно животное в этом городе не могло чувствовать себя в безопасности. – А-а, покойник! – вдруг сказал крестьянин. – Сегодня его нашли в лесу. – Ах, вот как? И где же? – спросил я. – У Двух пвешнных. От удивления у меня захватило дух. Крестьянин заметил это. – Ваша м'л'сть не знает, где эт'? Сраз' за Сальманнсдорф. Ссадив своего пассажира на перекрестке, мы не долго раздумывали. Еще раз попросив его объяснить, что это за поляна такая в северной части Венского леса – Двое повешенных, мы узнали, что она так называется, потому что когда-то там нашли два качающихся на веревках трупа, вероятно, грабителей. Мы добрались до этого места после почти двух часов дороги, сначала в коляске, а потом пешком, окруженные милыми пейзажами Сальманнсдорфа. Мы достигли цели, следуя за любопытными, бродившими по лесу. Впрочем, объезд сильно удлинил дорогу: сначала мы отвезли Атто, слишком уставшего для дальнейших приключений, в монастырь Химмельпфорте. По возвращении я собирался рассказать ему, что узнала Клоридия во дворце Евгения.
Тело Угонио лежало лицом вверх на еще мокрой после дождя траве. Причем лицо его было не хуже, чем обычно (да этого и быть не могло). Капюшон прикрывал те немногие седые волосы, которые еще оставались у него на голове; из-под грязного плаща торчала смуглая шея и кривые, покрытые пятнами руки; его окружал неодолимый знакомый запах конюшни. Только тонкая струйка зеленоватой слизи, сбегавшая по подбородку, свидетельствовала о том, что произошло. Если бы мы не знали наверняка, то могли бы решить, что он спит. Тем временем небо посветлело. Солнечный луч пронизал кроны деревьев и упал на корзину, которую брал с собой Угонио и которая все еще лежала рядом с ним. Из нее выглядывало несколько предметов: две маленькие стеклянные ампулы и коробка. Солнечный луч коснулся ампул, и жидкость в них вспыхнула сначала золотым, а потом рубиново-красным светом. Мы с Симонисом проложили себе дорогу среди любопытствующих, которые непринужденно обсуждали обнаружение мертвого. Нет ничего более непохожего в Вене и Риме, чем отношения между живыми и мертвыми. В Риме все уверены, что даже разговоры о смерти приносят несчастье; а в Вене она является главным освободителем и все, что ей сопутствует (причины и обстоятельства кончины, похороны, наследство, поминки), является предметом обычных бесед. В Риме насмехаются над венцами: как, черт возьми, они могут весело говорить о таких грустных вещах? Но римляне забывают, что смерть в городе пап, в основном насильственная, хотя обсуждается меньше, но случается чаще. Угонио жил в Риме и Вене и соединил в себе итальянские и австрийские обычаи: он умер в Венском лесу от руки итальянца. Да, я мог назвать имя убийцы, это было слишком однозначно: Al. Ursinum, как было написано в заметке Угонио, или же Alessium Ursinum, кастрат Гаэтано Орсини, исполнявший партию святого Алексия. Покойся с миром, Угонио, адью навеки, мой добрый друг; тайну, которая связывала тебя с Орсини, ты унес с собой в могилу. А также фраза, написанная архангелом Михаилом: теперь, когда мы с Атто наконец поняли, что означают слова аги, она мало помогла бы нам, хотя я с удовольствием узнал бы, какое же послание выцарапал архангел мечом на верхушке собора Святого Стефана, на том самом месте, где когда-то находилось богохульное яблоко Сулеймана Великолепного и в соответствии с пророчеством только и ждало того, чтобы вместить в себя настоящее Золотое яблоко. Я украдкой наблюдал за лицом Симониса, которое от страха стало пепельно-серым. Снова умер один из наших, сделав клубок событий еще более запутанным. Мысленно вспоминая о тысячах убийств, ежегодно орошавших кровью Вечный город, я разглядывал безжизненное лицо Угонио и снова думал о его странной судьбе. «Подвергаясь тысячам опасностей в Риме, – думал я про себя, – именно здесь, в Вене, ты встретил страшную смерть». – Бдняга! – заметила пожилая пара, стоявшая неподалеку. – Непрльную трву сел! – Дрная история. Но что пделш… – произнес другой. Неправильная трава? Не обращая внимания на возмущенное бормотание стоявших вокруг людей (в основном пожилых, которые любили совать свой нос повсюду), я подошел к умершему. Затем взял ампулу с золотой жидкостью и осмотрел ее на свет. – Похоже, это масло, – сказал последовавший за мной Симонис. Я вынул из ампулы маленькую пробку, капнул немного себе на палец и попробовал. Он был прав. Мы тут же проверили, не находится ли во второй ампуле, как можно было предположить, уксус. Так и оказалось. В корзине было полно свежесрезанных листьев салата. В этот миг наше обследование содержимого корзины был прервано появлением трех членов городской гвардии, которые пришли осмотреть тело. Они бесцеремонно вырвали у нас из рук ампулы и салат, чтобы внимательнее осмотреть их. При этом они качали головами, словно подтверждая, что случилось несчастье, которое можно было предотвратить. – Вот опять перепутал человек… – сказал самый высокий из троих, пристально осматривая зеленые листья. – Ландыши собрал вместо черемши. – Черемша? – спросил я у жандармов. Эти трое посмотрели на меня, затем разразились неудержимым смехом, не обращая никакого внимания на труп, лежавший у их ног. – Слуш', итальяшка, смотри внимательно, а то яд б'деи в с'лате! – насмешливо ответил мне один из них. Теперь все стало ясно. Получив от жандармов некоторые пояснения на венском диалекте (к сожалению, представители городских властей Вены говорят на ярко выраженном диалекте), на обратном пути к коляске Симонис подробно мне все объяснил. Allium ursinum – это научное латинское название черемши, иными словами, дикого чеснока, травы с длинными листьями и острым вкусом, которая каждый год в эти весенние дни густо покрывает землю Венского леса и наполняет воздух своим чесночным ароматом. В Вене бытовал обычай собирать эту дикорастущую траву и есть в салате или с другими блюдами; привычка, которая давно уже исчезла в Риме. Угонио, похоже, предпочитал есть эту траву сырой, поэтому он взял с собой немного масла и уксуса. Вот, значит, что должна была означать запись «Al. Ursinum» в заметках Угонио: не святого Алексия и Гаэтано Орсини, а дикий чеснок. Он просто собирался нарвать свежей зелени! Это и было «срочнейшее и деликатнейшее дело», на которое намекал осквернительсвятынь своими последними словами, а вовсе не на заговор с Орсини! Дополнение к заметке Угонио, то есть название «Два повешенных», означало место, где, насколько было известно осквернителю святынь, росло много черемши. И где вместо этого он нашел свою смерть. Потому что, как объяснили нам жандармы, черемша почти полностью совпадала по виду с другим растением, ландышем, в листьях которого содержался быстродействующий смертельный яд. Даже опытным собирателям трав уже случалось их путать, и они платили за это жизнью, как Угонио. Ах, какое же все-таки слабое существо человек, подумал я, если жизнь прожженного, готового к любым тяготам и опасностям собирателя реликвий может унести простое дикорастущее растение! Так вот почему Гаэтано Орсини, когда Симонис и двое его друзей допрашивали его, с удивлением ответил, что он почти никогда не выходит за пределы городских стен! Он знал название места и не понимал, почему его об этом спрашивают. Итак, все было тщетно. Последняя тоненькая нить, которая связывала нас с ответом на загадку, оборвалась прямо у нас в руках. Если Угонио не имел никаких дел с Гаэтано Орсини, то наше подозрение относительно музыкантов Камиллы де Росси основывалось на чистой воды предположениях, нет, чистейшей выдумке, поскольку ничего конкретного у нас не было. Угонио не делал ничего предосудительного, кроме как передал Кицеберу фальшивую голову Кара-Мустафы, то есть просто занимался привычной торговлей поддельными реликвиями. Для меня смерть осквернителя святынь означала очередную болезненную рану. Двадцать восемь лет назад я встретил Угонио в Риме, в то же самое время, когда я, еще неопытный слуга римской гостиницы, познакомился с Атто Мелани и благодаря ему – с большим, запутанным миром и дурацким колесом Фортуны, которое определяет ход событий. Уже тогда я посмотрел в лицо смерти. Теперь смерть Угонио замкнула круг, начавшийся в Риме в те далекие времена. Ощущение завершения (не завершенности), которым события в Вене, подобно немым реставраторам, раскрашивали мои прежние переживания, обогатилось новым оттенком. Печальным, жестоким нюансом.
По крайней мере, у меня оставалось одно утешение: Угонио умер не насильственной смертью; наоборот, он даже набил себе брюхо. Я бросил последний взгляд на его оставленное душой тело. При жизни тень подземного мира и чумное дыхание римских клоак сделали его лицо похожим на мордочку куницы. Теперь же, в смерти, его милосердно ласкал свежий венский воздух, а апрельское солнце, неуверенно пробивавшееся сквозь кроны деревьев, по-матерински касалось его лица, словно хотело открыть мне спрятанную от глаз Божественную искру, живущую в каждом человеке. Вот так и случилось, что смерть старого, усталого осквернителя святынь показалась мне не столько кончиной, сколько возвышением от человека к сверхчеловеку. Так думал я, уходя, и, перекрестившись, я произнес короткую молитву о его удивительной душе.
* * *
На обратном пути я заехал в императорскую палату, чтобы оставить там сообщение о бегстве диких животных из Места Без Имени. Чиновник принял мое заявление и глазом не моргнув. Вернувшись в Химмельпфорте, я узнал, что все попытки отчитаться Атто обречены на провал: тот лежал пластом в постели – настолько сильно повлияли на него перипетии этого дня. Доменико, который наконец-то набрался сил, попросил меня не будить его и сказал, что будет лучше дать ему поспать до завтра.– Сегодня мы займемся четвертым разговором: о продажах и покупках, – приветствовал меня со своей обычной тевтонской улыбкой Оллендорф, от которой у нас, итальянцев, частенько бегут мурашки по коже. Поскольку мысленно я был занят совершенно другими вещами, урок немецкого языка прошел мимо меня. К счастью, сын и жена следовали указаниям нашего учителя гораздо прилежнее. – Какие товары желают получить господа? Пусть войдут в магазин и посмотрят, что им понравится, – старательно выговаривала моя жена. Вскоре в дверь постучали. Это был Симонис. Он нашел у себя в комнате записку от Опалинского. Ян хотел поговорить с нами на следующий день и назначал встречу в семь часов утра в доме у южных бастионов. Еще более безрадостно, чем до этого, я вернулся к уроку, и только когда Оллендорф ушел, я смог сообщить Клоридии новости, inprimis[997] по поводу смерти Угонио. Известие это опечалило ее, хотя, что вполне понятно, гораздо меньше, чем меня. Для нее осквернитель святынь представлял собой угрозу, он был не тем существом, которому можно выказать приязнь. Мы коротко поговорили об этом, чтобы не пугать малыша. После этого я принялся за чтение газеты и, конечно же, взялся за «Коррьере Ординарно». Я должен был признаться себе, что с тех пор, как начались проблемы, я испытывал все меньше желания следить за тем, что происходит на моей второй родине, и немецкий язык пал первой жертвой. Тем временем Клоридия принесла кое-что из монастырской кухни, поскольку я еще не ужинал и в животе у меня урчало. – Малыш мой, – сказала она нашему сыночку, возвращаясь с подносом в руке, – идем, поможешь маме накрыть стол для папы. – Я повинуюсь, – весело ответил сорванец на немецком языке и тут же старательно положил для меня столовый прибор, салфетку и поставил стакан. И вот опять весь ужин был приготовлен на основе двузернянки, и, конечно же, я понимал, кому обязан этим. Но как я мог отказаться? Идею фикс хормейстера относительно того, что нет ничего более здорового, чем двузернянка, моя Клоридия вполне разделяла, поскольку унаследовала ее от матери. В былые годы, в Риме, моя жена довольно редко пользовалась материнскими рецептами; однако теперь, заразившись от Камиллы, тоже стала фанатичным приверженцем этой диеты. Поначалу я не возражал, тем более что дарующий жизнь злак, любимое блюдо древних римлян, в мгновение ока избавил моего малыша от всех недугов. Однако с течением времени он надоел мне. Безрадостно ковыряясь в этом блюде для жвачных животных, я принялся за чтение газеты, которую Клоридия, как обычно, купила мне в типографии ван Гелене. Депеши из Мадрида, высланные 9 марта, сообщали, что в Португалии (где королевой была сестра Иосифа) готовится кампания против герцога Анжуйского. Так я снова вспомнил о Золотом яблоке и Летающем корабле, который послала в Вену королева Португалии. Затем я прочел о ссоре между герцогом Вандомским и княгиней Орсини, «которая с каждым днем становится все более сильной, поскольку герцог злится и не может понять, почему прислушиваются к советам женщины в делах, которые даже не должны доходить до ушей существа ее пола». То, что герцог Вандомский борется против прекрасного пола, было очень даже понятно, подумал я: вспоминая о том, что рассказывал Атто, я гадал, а не принадлежит ли и он к числу мужеложцев? Фамилия Орсини, знаменитой, известной интриганки, напомнила мне, в свою очередь, о ее неблагородном тезке, кастрате, которого я какое-то время считал убийцей несчастного Угонио… Какие странные вещи можно прочесть в «Коррьере» сегодня вечером, раздраженно сказал я себе: вместо того чтобы отвлечь меня, каждая новость напоминает о том, что я только что пережил. Если такие совпадения не случайны, то что они хотят мне сообщить? Я перешел к депешам из Рима, которые тоже были не самыми свежими, от 28 марта, но здесь первым именем, за которое зацепился мой взгляд, была фамилия коннетабля Колонна. Он принимал участие в празднике Благовещения Пресвятой Богородицы вместе с его святейшеством, папой Климентом XI. Коннетабль был сыном Марии Манчини. Короче говоря, куда бы я ни взглянул, газета повсюду напоминала мне обо мне самом. Я раздраженно бросил газету на пол и взял в руки приложенную листовку, которая, впрочем, повествовала о местах очень далеких и мне совершенно незнакомых, таких как Миату, столице некоего герцогства Курляндского. Внизу страницы наконец-то можно было прочесть свежие венские новости:
Поскольку его императорское величество со среды болеет оспой, до воскресенья проводятся публичные и общие молитвы…Так, это я уже слышал. Я продолжал читать:
Императорский генерал и придворный советник Гундакер Людвиг граф Алтан на днях уехал почтовой каретой в Нидерланды.Значит, граф Алтан уже уехал из Вены. Тем более странно, что принц Евгений не торопится. Кто знает, уедет ли он завтра, как сообщал? Вот и все новости Вены. Я еще раз просмотрел все, потому что было что-то такое, что не давало мне покоя, точнее, чего-то не хватало. Не хватало? Конечно! Новости о монахе-августинце, которого арестовали за убийство и изнасилование! В итальянской газете об этом ничего не говорилось. – Клоридия, «Виннерише Диариум»! Где «Виннерише Диариум»? – воскликнул я, вскакивая с кресла. – Вот, вот же он! – Моя жена указала на стоявший рядом со мной столик, где и лежала газета, которую она, как обычно, купила мне в «Красном Еже». Но этой новости не было и в немецкой газете. Пеничек сказал нам вчера, что об этом говорят повсюду. Он был весьма удивлен тем, что мы не знаем этого. Однако в газетах ничего не сообщалось. Я подошел к Клоридии, занятой чисткой моей рабочей одежды, и спросил ее, слышала ли она что-нибудь об этом деле, но она только головой покачала и даже была очень удивлена: обычно во дворце его светлости принца можно было услышать любую сплетню – и уж точно об аресте монаха! И о тяжких преступлениях, которые он якобы совершил, она тоже ничего не слыхала. – Странно, – заметила моя жена, – а от кого ты об этом слышал? – От Пеничека. – Ага. – Думаешь, он выдумал это, чтобы… В этот момент из кармана моих брюк, которые Клоридия держала в руках, выпала шкатулочка. Та самая, которую дал мне аббат. – Что это такое? – спросила Клоридия, поднимая ее. Я рассказал ей, что эта шкатулочка, по словам аббата Мелани, содержит в себе объяснение его встречи с армянином; однако он взял с меня обещание, что я не открою ее прежде, чем он уедет. – А если там пусто? – заметила моя жена. Я почувствовал, что бледнею. Затем встряхнул шкатулку. Услышав, как внутри что-то стукнуло, я перевел дух. – Хорошо, аббат что-то туда все же положил, – признала она. – Но действительно ли ты уверен, что оно объясняет его встречу с армянином? Может быть, там всего лишь камень или что-то в этом роде. Я снова почувствовал себя как на иголках. – Мне почти хочется открыть ее, – признался я. – Но тогда ты нарушишь слово. – И что мне делать? – запричитал я. – Мне кажется, что на этот раз аббат сказал правду. Как только ты что-нибудь заподозришь, то сможешь открыть шкатулку в любой момент.
20 часов, трактиры и пивные закрываются
Я сидел на своем привычном месте в императорской капелле, на репетиции «Святого Алексия». В этот вечер оркестр играл с большим усердием, чем обычно, поскольку представление оратории было уже на носу. После смерти Угонио – да покоится он с миром – музыканты снова превратились в невинных творцов. Однако я задавал себе некоторые вопросы, наблюдая сзади за Камиллой де Росси. Она сильно размахивала руками, чтобы заставить скрипки сыграть более интенсивное вибрато, а у контрабасов вызвать более приветливые басы. Почему она солгала по поводу Антона де Росси? Не обязательно ведь всем Росси быть в родстве друг с другом, сказала она мне. Но бывший камердинер кардинала Коллонича действительно был в родстве с ее покойным мужем. Кардинал Коллонич: это тот самый кардинал, который много лет назад крестил девочку-турчанку, отвергнутую потом сестрами из Химмельпфорте, как рассказывала нам сама Камилла. Франц и Антон де Росси, Франц и Камилла, Антон де Росси и Коллонич, а также Коллонич и Химмельпфорте, и, наконец, Химмельпфорте и Камилла: какая логика, если она есть, скрывается во всей этой путанице? И почему хормейстер никогда не берет плату за работу, которую выполняет для императора? Об этом рассказывал мне Гаэтано Орсини, который, как я теперь узнал, был невиновен, а значит, достоин доверия. Тот, кто не работает за деньги, размышлял я, в любом случае получает какого-то рода компенсацию. Какую же получает она? Когда Иосиф потребовал от нее отказаться от деятельности в качестве врачевательницы двузернянкой, она потеряла средства к существованию. Но вместо того чтобы брать плату за свои музыкальные композиции, она попросила у его императорского величества право жить в монастыре Химмельпфорте, то есть то, что больше походило на наказание, чем на вознаграждение. Много лет назад Камилла и ее муж Франц ездили аж в далекую столицу Франции, чтобы навестить Атто Мелани. Хотели ли они познакомиться с учеником синьора Луиджи или со шпионом наихристианнейшего короля? Можно ли предполагать, что Камилла не имеет ничего общего с темными делишками, в которых с давних времен запутался Атто? Я заметил, что Клоридия печально смотрит на меня: она знала о моих размышлениях и разделяла их, но сердце ее колебалось между недоверием и приязнью, которую она испытывала к хормейстеру. Устами сопранистки, полной Марии Ландини, которую я вчера считал способной на самые позорные поступки, теперь сладко пела невеста святого Алексия о ранах любви:Вена: столица и резиденция Императора Четверг, 16 апреля 1711 года День восьмой
5.30: заутреня С этого момента постоянно раздается колокольный звон, который на протяжении целого дия возвещает о мессах и богослужениях. Открываются трактиры и пивные
Но и на следующий день оказалось, что нельзя тревожить сон Хаббата Мелани. На рассвете я снова отправился к нему, и Доменико, опасавшийся за здоровье своего дяди, не захотел даже впустить меня. Однако я не сдался, и после некоторой перепалки он позволил мне войти. К сожалению, племянник Атто был прав: вследствие переживаний прошедшего дня, особенно же из-за душевных потрясений, аббат находился в почти кататоническом состоянии. Мне удалось заставить его бодрствовать в течение нескольких минут, но, заговорив с ним, я получил в ответ только замутненный взгляд и бормотание. Зная, что Доменико слушает, я все же передал Атто суть моего последнего разговора с Клоридией: вероятнее всего, турки прибыли в Вену не с дурными намерениями, а наоборот: они хотели поспособствовать выздоровлению императора, поэтому его теория неверна и подозрения относительно Евгения безосновательны. Однако все было напрасно. Через некоторое время Атто закрыл глаза и перевернулся на другой бок. А рассерженный Доменико выставил меня за дверь. Вернувшись в свою квартиру, я обнаружил, как и ожидал, повестку от императорской палаты. Сегодня во второй половине дня меня и моего подмастерья ожидало начальство в Месте Без Имени, чтобы составить там протокол происшествия. Клоридия в величайшем волнении как раз вернулась с небольшой прогулки по окрестностям. – Карета его светлости принца выехала из дворца! Он отправляется в путешествие на фронт, – с серьезным лицом объявила она. Человек, который занимал наши мысли на протяжении более чем недели, возвращался к своим обычным занятиям: внешним военным действиям против врагов-французов и внутренним – против Собачьего Носа и Мадам Л'Ансьен. Однако у нас были и другие дела. Скоро семь – нам предстояла встреча с Опалинским.* * *
Едва мы отправились в путь, как нас неожиданно задержали. – Слуш, трубочиста, итальяшка! Остановись, стой! – крикнул мне вслед знакомый голос. Я его не сразу узнал. Голова его была забинтована, он опирался на палку. Когда он пошел нам навстречу в таком виде, мне показалось, что я вижу призрак. – Фрош! – воскликнул я.Хотя смотритель Места Без Имени и не был призраком, но он едва не стал одним из них. То и дело потирая перевязанную голову, он рассказывал нам о том, что случилось в Нойгебау. Когда мы были заняты работой в замке, Фрош находился неподалеку от ограды. Как это обычно бывает в случае внезапных нападений, он почти ничего не помнил. Знал только, что кто-то (невозможно сказать, был то один или несколько мужчин) напал на него сзади и уложил на землю ударом палки; после этого он некоторое неопределенное время пролежал без сознания. Очнулся он только тогда, когда Мальчик вымыл ему хоботом все лицо. – Мальчик? – Малыш, – ответил Фрош, словно это ласкательное прозвище для слона было самой естественной вещью на свете. Вероятно, он надеялся, что мы не будем задавать ему вопросы по поводу тайны, которую он столько лет хранил за стенами замка. Придя в себя, Фрош увидел весь масштаб разрушений, которые могли быть устроены только намеренно. Чудом ему удалось пробраться сквозь толпу обезумевших животных, и после того, как он, невзирая на кровоточащие ссадины на голове, забаррикадировал все выходы из Места Без Имени, он отправился просить помощи в ближайшую деревню. Фрош подробно описал нам случившееся, речь его была обстоятельной, прерываемой множеством проклятий: он по-прежнему испытывал боль и, похоже, кроме этого выпил еще бутылку в качестве утешения. Мы опаздывали, однако было практически невозможно уговорить смотрителя Места Без Имени сократить рассказ. Поначалу местные крестьяне отказывались помогать ему, продолжал говорить Фрош, и утверждали, что в замок вернулся дух Рудольфа, что Нойгебау проклят и неспроста недавно в небе видели корабль. Произнеся эти слова, смотритель вопросительно взглянул на нас, однако, поскольку мы промолчали по поводу слона, он не стал спрашивать нас о Летающем корабле. Несмотря на приложенные им усилия, некоторые животные уже успели покинуть Место Без Имени, и охота на беглецов, которые в конце концов разбежались по всей округе, продлится еще не один день. Я сказал Фрошу, что мы тоже понятия не имеем, кто мог освободить диких животных, и еще меньше, кто мог на него напасть. Мы тут же бежали из Нойгебау, когда увидели, что дикие звери бродят на свободе. По прибытии в Вену я уведомил власти о происшедшем и уже сегодня утром получил повестку. – Нчево, но я нмогу рньше врмени ути оттда, – сказал он, массируя себе голову и указывая на госпиталь «Бюргершпиталь», из которого только что вышел для небольшой прогулки. Затем он начал перечислять свои раны и соответствующие процедуры, которые ему пришлось пережить. Сказал, что надеется, что после выхода отсюда ему никогда больше не придется обращаться в больницу, потому что он увидел столько несчастных случаев, а ведь он человек впечатлительный и просто не выносит некоторых вещей etc. И так продолжал он до тех пор, пока чрезмерное количество сливовицы, которая текла в его крови, не вылилась в виде слез. Как это часто бывает с алкоголиками, рассказ Фроша плавно перетек в детские всхлипывания. Мы успокоили его и, поскольку опасались, что он может упасть в обморок, отвели обратно в госпиталь, где передали милосердной опеке молодой монахини.
* * *
Мы следовали указаниям, которые оставил нам Опалинский, чтобы найти жилой дом у южных бастионов. Из-за встречи с Фрошем мы опоздали более чем на час. Едва повернув на указанную улицу, Симонис удержал меня движением руки. – Давайте лучше вернемся, – сказал он. – Почему? – Нам следует попытаться найти другой вход в дом. Чрезмерная осторожность никому не мешает. – Но Опалинский написал, что мы должны следовать его указаниям. – Мы все равно найдем его, господин мастер, доверьтесь мне. Иным путем было несложно попасть в условленное место. В Вене все дома соединены друг с другом. Мы проскользнули через входную дверь дома на соседней улице и через несколько коридоров и внутренних дворов быстро достигли цели. – Пстая квартира? Нверху, на чтвртом этаже, там живут Цвитковиц. То есть жили, – мрачным голосом произнесла пожилая женщина с первого этажа, прежде чем снова быстро захлопнуть дверь. – Эт еднственая, где пселилисьчновнки. Остлнные квртиры все запрты, и нкто не знает скльк. Ехали все. Я вт ккк раз сбираю сви пжитки. Голос старухи был полон злобы на императорских чиновников, которые вынудили выехать всех жителей дома. Так мы воочию столкнулись с проявлениями квартирного права, о котором рассказывал Симонис: жильцы вынуждены были отдать свой дом придворному паразиту, который начал пересдавать их квартиры внаем нелегально. А Опалинский теперь собирал плату с новых жильцов. Мы поспешно поднялись вверх по лестнице, не встретив ни одной живой души.Мы сразу увидели квартиру, потому что дверь была открыта. Мы вошли, она оказалась полупустой. Большая часть мебели и картин была вывезена совсем недавно: на полу еще виднелись следы и белые пятна на стенах, где прежде, должно быть, висели картины, распятия и часы. Благодаря проведенным осмотрам, я уже успел хорошо познакомиться с домами венцев. Внутренняя обстановка квартир и их планировка означали бы у меня на родине счастье и достаток для любого. Скромная венская семья имеет примерно столько же, сколько пять зажиточных семей в Риме. Стены толстые и крепкие, окна большие, крыши высокие, покрытые черепицей и увенчанные массивными, солидными трубами. В квартирах по большей части есть прихожая и хорошо обустроенная кухня. Входная дверь широкая, равно как и та, через порог которой мы только что переступили. – Ян, ты здесь? – крикнул Симонис. Нет ответа. – Он, наверное, уже ушел, – сказал я. Из первой комнаты можно было пойти направо или налево. Мы выбрали правую сторону и попали в кухню. Как обычно в Вене, здесь была красивая печь и большой выбор кухонных принадлежностей, какие в Риме можно обнаружить только в самых богатых, изысканно обставленных домах. В эрцгерцогстве выше и ниже Энса посуда всегда была самого лучшего качества, а у вилок – три, а иногда даже четыре зубчика. Семья Цвитковиц взяла с собой кое-что из кухонной мебели, но не ее содержимое: медные столовые приборы, металлические чайники, жестяные сковороды, миски из цинка, стаканы самой разной величины и вида лежали стопками на полу или были свалены в кучу. Рядом со стопкой тарелок, ожидавшей в уголке, когда ее унесут, я заметил несколько красных капель. Я обратил на них внимание Симониса. – Кровь, – глухим голосом произнес он. Большое количество тряпок, салфеток, скатертей из тонкой ткани, украшенных красивым кружевом, – это совершенно нормальное явление венских буфетов. Потому что в кухнях этого города масло льется рекой. На одном из столов я заметил красивую скатерть с подходящими салфетками, все были аккуратно сложены одна поверх другой. Кое-что бросилось мне в глаза, когда я пересчитал салфетки: их было три, а не шесть или двенадцать, как обычно. В Вене кухарки пользуются особыми вертелами. Три или четыре с насаженным на них мясом они закладывают в печь, один поверх другого, чтобы сок с верхних кусков мяса капал на нижние. Однако поскольку никому не хочется тратить часы на то, чтобы сидеть у очага, переворачивая вертела, венцы изобрели гениальный автоматический механизм вращения, который, подобно часам, управляется весами, шариками и цепочками и приводится в действие горячим паром из печи. Благодаря этому механизму мясо на вертеле поворачивается равномерно и попадает на стол хозяев дома хорошо прожаренным. На полу кухни я увидел стекатель с шестью вертелами. Как всегда, они были сделаны великолепно: длинное, очень остро заточенное острие с зубчиками, которые задерживаются в мясе и препятствуют тому, чтобы его можно было легко снять, было съемным. Но здесь лежало только четыре вертела. Двух не хватало. – Опалинский, где ты, черт побери? – снова крикнул Симонис, впрочем, без особой уверенности. Из кухни мы попали в другую комнату, так называемую гостиную, которая широко распространена в Австрии и напоминает нашу столовую. Здесь проводят большую часть времени, поскольку в комнате есть закрытая печь особого типа, ее можно встретить только в северных странах. Она дает приятное, равномерное тепло и служит для защиты от зимней стужи лучше всякого камина. В гостиной венцы любят держать множество певчих птиц и разные украшения (шелковые вышитые ширмы, облицовка стен, фарфор, картины, стулья, зеркала, настенные часы и тарелки), которые обычно мешают гостям. Очень трудно пройти по комнате, не наткнувшись на один из этих предметов обстановки, после чего он немедленно падает и разбивается на тысячу осколков – все это издержки роскоши, которую так не ценит отец Абрахам а Санта-Клара. – Вот еще пятна крови, – сказал я, с притворным спокойствием глядя на пол. – Да, и их много, – расстроенно заметил Симонис, словно мы говорили о трещине в потолке или о цветочной вазе. Несколько пятен были размазаны, словно кто-то по ним катался. Когда мы вернулись к выходу из квартиры, то обнаружили, что здесь тоже есть пятна крови. Мы не заметили их, когда входили, потому что они были прямо на пороге со стороны левой створки двери, а мы пошли направо. Поэтому теперь мы приняли решение идти налево. В зависимости от размеров семьи в Вене в каждой квартире была по меньшей мере одна спальня. На кроватях можно было утонуть в удобных, набитых перьями матрасах (которые, ах, настолько мягче римских!), удобство, которое порицает отец Абрахам а Санта-Клара, поскольку рано или поздно оно приводит к ослаблению духа и тела. Итак, мы вошли в спальню. Мебель здесь была уже давно вошедшего в моду стиля ормушль: украшенная изобилием бесформенных несимметричных орнаментов, но очень привлекательная. Спинки и сиденья стульев были, как обычно, обиты кожей, прикрепленной к дереву гвоздями. Слева у стены стоял красивый складной стол, справа – трехдверный шкаф с нишей, в которой стояла статуэтка. Рядом находился небольшой шкафчик, вырезанный в виде табернакля,[1000] увенчанный двумя фигурками, а в центре были часы. На стенах висели маленькие часы с маятником и зеркало. И наконец, посреди комнаты стояла огромная двойная кровать. В воздухе чувствовался странный железный запах. Перед кроватью, повернутое к нам спиной, стояло кресло, в котором кто-то сидел. Он повернулся. – Ты! – воскликнул Симонис. И тут я заметил, что грек достает что-то из небольшого мешка, который он таскал с собой на протяжении нескольких дней: пистолет. Он направил его на того, кто встретил нас здесь, – на Пеничека.
* * *
– Что это вам в голову пришло? Не стреляйте! Я… я ранен! – воскликнул младшекурсник при виде оружия. Он с трудом поднялся, ноги его дрожали. Правой рукой он сжимал другую руку, между пальцами текла кровь. С левого виска тоже бежала тонкая красная струйка крови. Мы с Симонисом замерли неподвижно, в трех шагах от него. – Это был Опалинский, – продолжал он, – он сказал мне, что мы должны встретиться здесь. – Нам тоже, – сказал я, – он прислал записку. – Когда я пришел, он спросил меня, не знаю ли я, где вы. Он ждал вас и очень нервничал. А время все шло и шло, и он подумал, что вы уже не придете. Я сказал ему, что вы, наверное, заняты, потому что вы ведь собирались сегодня в Нойгебау. – А ты, младшекурсник? Что ты знаешь о том, что мы собирались или не собирались делать? – недоверчиво спросил Симонис, по-прежнему не опуская пистолета. – Вы говорили об этом вчера, разве не помните? И зачем я сказал это! Это стало моей погибелью. Он достал нож. Юноша умолк и рухнул в кресло. – Ян заманил вас и меня на эту встречу, чтобы убить нас всех, – снова поднимаясь, заговорил Пеничек, очевидно сильно измотанный поединком, крепко прижимая к себе раненую руку. – Два сообщника ждали на улице вашего прибытия. Как только они увидели бы, что вы вошли в дом, они тайком поднялись бы наверх и помогли бы своему предводителю порешить вас. С трудом сохраняя равновесие на своей хромой ноге, он смотрел на нас широко раскрытыми глазами и ждал нашей реакции. Мы были невозмутимы. – Внезапно он напал на меня, я защищался, мы оба упали на пол и стали драться. Наконец… – Что наконец? – холодно спросил мой подмастерье. – …он ударил меня чем-то по голове, – сказал он, указывая на кровь, которая текла по виску. – Потом он, наверное, подумал, что я умер, и бежал. – Когда это случилось? – Я не знаю… несколько минут назад, – еле переводя дыхание, сказал он, затем испуганно посмотрел на дверь. – Если кто-то вас слышал и сейчас придет, то что… что мы тогда будем делать, господин шорист? – сдавленным голосом спросил он. – Идем скорее, – сказал Симонис. – Куда? – поинтересовался я. – В какое-нибудь спокойное место, где мы сможем немного поговорить, – сказал он, схватил младшекурсника за шиворот и, не обращая внимания на его раны и хромоту, потащил к выходу.* * *
Весна отступила на шаг, день был прохладным и необычайно туманным, на улицах было очень мало людей, лишь черная карета медленно двигалась в ту же сторону, что и мы. И действительно, нельзя было найти более уединенного места, чем то, в которое привел нас Симонис: маленькое кладбище госпиталя «Бюргершпиталь» неподалеку от Кернтнерштрассе, где лечился Фрош. Во внутреннем дворике больницы, в который мы беспрепятственно смогли войти, между больничной часовней и крепостными стенами было небольшое кладбище. Шел мелкий дождь, меж могильных плит не было ни души. – Опалинский расставил нам ловушку, и я аккурат попался в нее, – начал Пеничек, прижимая руку к ране. – Я имею в виду, если мы хотим продолжать называть его Опалинским. Он замер на миг, взгляд его был устремлен на могилы. Взгляд его маленьких, жалобно смотревших глаз лихорадочно метался от одной могилы к другой. – Что ты хочешь этим сказать? – Опалинского не существует, его и не было никогда. Его настоящее имя… Главари.* * *
– Андреас Главари, если быть точным, – продолжал он после небольшой паузы, – и он из Понтеведро, он не поляк. Он признался мне в этом, когда собирался убить. Он ведь не мог знать, что я выживу. И ему нравилось рассказывать мне все. И я повторю вам все так, как услышал сам. Все. С Данило было легче всего. Тот неосторожно выдал Главари время и место нашей встречи, и таким образом он смог прийти раньше, чтобы беспрепятственно сделать свое дело. Жертва пришла прямо к своему убийце и даже не узнала его. Только когда нож уже вонзился в его тело, Данило удивился. – Когда вы нашли его умирающим, единственное, что он смог сказать вам, это имя Айууба и упомянуть сорок тысяч мучеников Касыма, то есть одну из тех турецких легенд о Золотом яблоке. Она была результатом поисков Данило. Он подумал, что его закололи из-за этого, и, поскольку решил, что это важно, использовал для этого последние минуты своей жизни. Но Золотое яблоко не имело ничего общего с убийством. В случае с Христо Хаджи-Таневым, шахматистом, дело оказалось несколько сложнее. Упрямый болгарин почуял, что лучше не говорить об этом при всех. Точно, подумал я, слушая младшекурсника, бедный Христо тайно договорился встретиться со мной и Симонисом в безлюдном Пратере. – Главари, который приказал следить за всеми нами, еще во время собрания в квартире Популеску знал о том, что Христо не придет: его сообщники сказали ему, что Христо находится на пути в Пратер. Так он понял, что болгарин уже не доверяет своим друзьям. – И был прав, – сказал я ему. – Но Главари должен был пойти с нами на собрание, поэтому он поручил это преступление двум наемным убийцам, венграм. Он даже сказал мне, как их звали: Бела и Терек. Если, конечно, полагать, что это их настоящие имена. В любом случае они были из сети его шпионов. Когда убивали Христо, существовала опасность, что услышат стражники или играющие в Пратере дети. Поэтому оба венгра должны были воспользоваться ножами. К счастью, в конце концов все закончилось хорошо, с ухмылкой говорил мне он. Конечно, его люди едва не сотворили непоправимого, когда стреляли в вас. Ваше появление не было предусмотрено. Главари дал указание убрать любых возможных свидетелей, но не знал, что Христо договорился встретиться именно с вами. Когда убийцы увидели, как внимательно вы осматриваете труп, они сразу решили убрать вас с дороги. Правда, мое появление помешало им сделать это. И представьте себе, Главари даже поблагодарил меня: вы двое еще были нужны ему, так он сказал. Рассказывая мне все это, он смеялся, – перевел дух Пеничек, – и он точно описал мне, как они сначала вонзили Христо нож в шею, потом ткнули его лицом в снег и стали ждать, пока он перестанет шевелиться. А потом настал черед Драгомира Популеску. Здесь дело достигло вершины ловкости, с ухмылкой рассказывал Главари. Главари знал, что румыну все женщины постоянно дают отставку, и заплатил армянке, чтобы та очаровала парня. Его было очень просто заманить в ловушку, поскольку оказалось довольно пригласить его на чашку кофе в «Голубую Бутылку», где работала девушка. Несчастный Драгомир ничего не заподозрил. – Она была брюнеткой, и звали ее вроде как Марица. По указанию Главари она договорилась с ним встретиться во время богослужения на Кальвариенберг. – Значит, это была именно та девушка, которая за пару дней до этого обслуживала нас с Атто! Как глупо с моей стороны было вести Атто прямо в пасть ко льву! – воскликнул я, вспоминая, сколько тайн доверил мне Мелани в кофейне. Как хорошо, что самое важное он сказал мне во время прогулки на улице. – Все ходят в «Голубую Бутылку», и такие люди, как Главари, знают это. Там всегда есть кто-то, кто подслушивает. Неудивительно, там ведь армяне: они готовы шпионить за всяким, главное, чтобы платили хорошо. – Значит, в тот вечер, когда был убит Драгомир, этот старик в «Голубой Бутылке», который напугал аббата своими разговорами о текуфе и проклятой крови… – Все было организовано специально для вас. И жестокость, с которой убили Популеску, а затем находка армянского тандура с его растерзанным мужеским достоинством: всему этому была причина. Вы должны были предположить, что семья молодой армянки отомстила Драгомиру за его излишний интерес к женскому полу. Армяне – народ странный, с жестокими обычаями, которые превосходят самые смелые фантазии. Вы должны были взять ложный след, который заставил бы вас вести расследование дальше. И вы действительно клюнули на это. Младшекурсник немного помолчал, а потом заговорил, стеная от боли: – Делишки армян, Золотое яблоко, турки, опасное ремесло каждого умершего: все это служило для того, чтобы держать вас в постоянном неведении. Так вы и искали бы дальше, пока в какой-нибудь момент не сделали бы неверный шаг, благодаря которому Главари смог бы узнать, кто отдает вам приказы. – Приказы? Какие еще приказы? – удивился я. – Ну, кто вам приказал вмешаться в дела, которые вас совершенно не касаются. – Значит ли это, что Опалинский, я имею в виду Главари, думал, что мы не станем действовать по личной инициативе? – спросил я, раскрыв рот от изумления. – Вот именно, – ответил богемец. Тут Главари ошибся. Мы с Клоридией по своей собственной инициативе заинтересовались значением слов аги, и все закрутилось потому, что Симонис предложил поручить поиски своим товарищам. – Итак, все эти преступления служили только лишь для того, чтобы занять вас, – подытожил Пеничек. – Варварский ход, чтобы просто посмотреть, как мы будем реагировать, – потрясенно произнес я. – Словно кошка с мышью, – подтвердил Пеничек, застонав от боли. – И последний – Коломан, тут ему невероятно повезло… – Минуточку. Опалинский не мог убить Коломана: он был с нами в Химмельпфорте! – перебил его Симонис, лицо которого было искажено от ужаса и с трудом сдерживаемого гнева. – Да, конечно, – сразу закивал Пеничек, запуганный своим шористом, – Опалинский, или, точнее, Главари, убил Коломана до того, как отправиться к вам в Химмельпфорте. Он прибыл в монастырь вместе со мной, потому что твердо намеревался впутать в это дело меня. Не случайно он выбросил его из окна, как поступают пражане. Как я уже говорил, ему невероятно повезло, что вы поручили мне пойти к бакалейщику. А перед этим он притворялся, что ни за что не хочет выдавать тайник Коломана. Однако с того момента, как я покинул Химмельпфорте, у меня уже не было алиби и я не мог доказать свою невиновность. Хотя мы все изучаем медицину, Главари хитрее меня: он знал, что приготовление всех ингредиентов займет много времени и что длинный перечень эссенций, которые я должен был купить, вызовет недоверие в «Красном Раке». Ах, если бы я только мог догадаться! Я сразу вернулся бы и не стал бы так долго спорить с бакалейщиком, более того – я не стал бы тратить время на размышления о глупой статуе Черкеса! – Тогда… – пробормотал я, – значит, все горе Опалинского из-за смерти Коломана… – В истине всегда есть что-то невероятное, знаю, – сказал Пеничек. – Этот черт – хладнокровный актер! Но однажды его настигнет кара Господня. Сердце останавливается, когда того захочет Господь. – Поэтому Ян, или Андреас, или как, черт побери, он себя называет, поначалу не выказывал испуга перед преступлениями! – воскликнул я. – Как же, мужественный поляк! – Главари точно знал, – добавил Пеничек, – что ваше подозрение в случае четвертого трупа обязательно падет на выживших. То есть на него или на меня. И он принял все необходимые меры. Когда же вы определили время смерти Коломана – около трех часов назад, господин шорист предположил, что он мог случайно выпасть из окна. Это непредвиденное обстоятельство сбило Главари с толку, поэтому он был вынужден сам обвинить меня. Однако подумайте: он был единственным из нас, кто все это время знал, где прячется Коломан. – Господь Всемогущий, но почему? – озадаченно спросил я. – Я ведь вам уже говорил: он хотел знать, кто стоит за вами. Поэтому он убил всех товарищей, которых особенно любил господин шорист. Только Христо что-то заподозрил. Он понял, что будет неосторожным говорить при всех! – Молодой богемец рассмеялся истеричным смехом, а потом вздохнул: – О Христо! Из жизни нашей ты ушел, но в наших сердцах ты остался! Мы с Симонисом быстро переглянулись, а потом младшекурсник продолжил: – След, который ведет к туркам, был пустой тратой времени. За Золотым яблоком совершенно ничего не кроется, это просто турецкое название Вены и ничего более! Эти слова потрясли меня, и в то же время меня осенило. Я был прав в своих предположениях: между преступлениями и мною действительно существовала связь! Я схватился за голову. По глупой прихоти судьбы череда преступлений началась с ошибочного решения Главари: он не хотел верить, что расследования, касавшиеся Золотого яблока, велись в моих собственных интересах; нет, он был убежден, что я выполняю чье-то поручение. Пеничек закончил: – И наконец, был еще я. Главари выбрал меня в качестве последней жертвы, потому что я не дорог никому из вас. Вы все презираете меня, я не принадлежу к вашему обществу. Вы просто терпите меня, потому что я – несчастный младшекурсник и служу вам в качестве раба. Так что я был гораздо полезнее в качестве вероятного убийцы, чем в качестве жертвы. Если бы он со мной разделался, вы не особенно горевали бы. Наоборот, вы охотно поверили бы в мою вину, как только Главари обвинил бы меня. Эти слова вызвали у меня сожаление, которое я слишком долго скрывал: как я мог так обманываться! И с моей стороны было неправильно никак не реагировать на жестокость, с которой другие относились к младшекурснику! – Когда он расправился со мной, там, наверху, – заключил Пеничек, – прошло время, и у Главари загорелась под ногами земля. Вы все не шли, поэтому он стал опасаться, что вы почуяли неладное и теперь вас ищи-свищи. – Минуточку, я пока не понимаю, – удержал я его. – Главари знал Симониса и остальных еще со времен учебы в Болонье, то есть задолго до моего прибытия в Вену. Это случайно, или же он уже тогда шпионил за Симонисом? И если да, то почему? Младшекурсник ответил не сразу. Казалось, он и дышит с трудом. Рана причиняла ему сильную боль. Затем он заговорил: – Главари жил в другом мире, мире одиночества, лжи и грязных игр. Он – тайный агент. Его используют для того, чтобы прикрывать темные делишки. Большего он мне не сказал. Много лет назад его выбрали для того, чтобы шпионить за Симонисом. Поэтому его послали в Болонью. Симонис ничего не сказал на это. Пистолет он по-прежнему держал под пальто. – Но Симонис и остальные перебрались в Вену из-за голода еще два года назад! – заметил я. – А я здесь всего несколько месяцев. Как это возможно, чтобы… В этот момент Пеничек посмотрел на моего подмастерья ши| роко раскрытыми глазами. – …нищий студент-медик и подмастерье трубочиста мог заинтересовать Главари? Все очень просто, потому что он не тот, кем кажется. Потому что он не Симонис Риманопоулос, а Симон Риманович, и он поляк, а мать его – гречанка. – Ты? – воскликнул я и посмотрел на Симониса. – Но не думайте, что он – простой шпион, – удержал меня Пеничек. А потом, обращаясь к моему подмастерью, сказал, хватая ртом воздух: – Вы, господин шорист, на самом деле один из самых усердных и верных слуг Священной Римской империи. Бескорыстный защитник дела Христа,не так ли? Симонис побелел как мел, но не ответил. Он медленно опустил пистолет. Я смотрел на него как громом пораженный. Казалось, слова Пеничека окутали его и его оружие невидимым саваном, который сделал его безоружным, – саваном истины.– А теперь извините меня, пожалуйста, господин шорист, – прохрипел младшекурсник, поднимаясь. – Я больше не могу терпеть боль, я пойду в госпиталь. Силы мои на исходе, в руки твои, Боже, я вручаю себя. Потирая раны, он, хромая, приблизился к одной из дверей у нас за спиной, которая вела в больницу. Я хотел посмотреть ему вслед и повернулся. В этот миг взгляд мой случайно упал на одну из могильных плит:
АНДРЕАС ГЛАВАРИ 1615 – 1687
И рядом – еще одна плита:БЕЛА ТЕРЕК
1663–1707
И следующая, еще большая насмешка, чем остальные:Покойся с миром, бабушка.
МАРИЦА
1623–1701
Слишком поздно. Мы с Симонисом сорвались с места, пытаясь догнать Пеничека. И успели как раз вовремя для того, чтобы заметить, как он быстрыми шагами (куда подевалась его хромота?) дошел до черной кареты, которая следовала за нами к госпиталю. Он удостоил нас последнего, равнодушного взгляда, закрыл дверцу и что-то выбросил из окна. А потом исчез под цокот подков. Мы остановились только тогда, когда добежали до того места, где стояла черная карета. На земле мы увидели то, что только что выбросил Пеничек: маленькие очки, которые до сих пор служили ему для того, чтобы играть роль скромного неуклюжего младшекурсника. Было ясно, что мы больше никогда его не увидим.* * *
Несколько минут спустя мы снова были в той спальне, где нашли Пеничека. В ее задней стене находилась дверь, которая вела в единственную комнату, которую мы не видели, вероятно кабинет. Запах железа, который мы почувствовали во время нашего первого посещения, стал более плотным. Симонис подошел к двери. Она была закрыта, ключа не было. После нескольких ударов плечом обе створки двери открылись одновременно, словно занавес театра. Они отскочили от стен и закрылись за нашими спинами. Теперь нас стало трое.Он был похож на нечто среднее между человеком и жуком. Два длинных черных щупальца торчали у него из лица, голова и туловище были залиты кровью. Кровь текла с его тела на пол. Кто-то, ловкий, словно метатель ножей, вонзил ему оба вертела из кухни прямо в глаза, настолько внезапно, что он не мог защититься. А потом его вспороли. Три вышитые салфетки с кухонного стола были глубоко затолканы ему в горло и веревка дважды обмотана вокруг шеи, чтобы он наверняка уже не смог позвать на помощь. Кто знает, истек ли он кровью (десять-двадцать ножевых ранений – это будет слишком для любого) или задохнулся. Мы оба вынуждены были сдаться. – На этот раз у нас действительно неприятности, – начал я, когда снова смог разговаривать. – Нас видели в доме. Нас будут искать. – Это еще не известно. Нам поможет неверный мотив для убийства, – холодно сказал Симонис. – Что это значит? – Все это будет выглядеть как месть господина Цвитковиц или как ссора между студентами. – Из-за ссоры никто не вонзает в глазницы ближнего своего два вертела. – Из-за выселения все может быть. – Только не в Вене, – ответил я. – Здесь живут люди из полу-Азии, которые могут сделать это и за меньшее. – А фамилия Цвитковиц звучит так, словно они родом из тех стран. – Вот именно. Мы вышли. На первом этаже старушки не обнаружилось. На улице у меня еще дрожали ноги, но ледяной воздух приятно охлаждал лицо. Все окрестные дома были четко видны, и в то же время они казались необычайно далекими. Не говоря ни слова, мы пошли к монастырю. Я ждал, что Симонис скажет что-то, что он объяснит мне все или, по меньшей мере, попытается. Но он молчал. Кем бы он ни был на самом деле, ужас от убийства Опалинского охватил и его. Я чувствовал себя выброшенным в другую вселенную. Все изменилось с этой проклятой войной за испанское наследство, все. Время людей закончилось, началась длительная агония мира: последние дни человечества. – Он состоял на службе у сильных. Это люди, которые работают скрытно и могут все обратить в его противоположность: они меняют луну на солнце. Поэтому и имена студентов не появлялись среди некрологов в газетах. Когда я ни живой ни мертвый ввалился в комнату Атто и рассказал ему о происшедшем, тот под каким-то предлогом отослал Доменико на улицу. Аббат был одет в новые одежды и, очевидно, готов к действиям. Пока он комментировал бегство Пеничека, я слушал его с отсутствующим взглядом. Мы были одни и могли поговорить о моем подмастерье. – Не случайно Симонис, – сказал он, – посоветовал тебе ничего не говорить о дервише и его заинтересованности в отрубленных головах. Он не хотел слишком рано пугать их, они ему были еще нужны. Потому что в этом пункте Пеничек действительно не солгал: Симонис тоже шпион. Какой там идиот! Я же тебе говорил. Он притворялся. Так бывает, когда живешь жизнью, которая не твоя, а принадлежит твоему господину. – Боже мой, – пролепетал я, – неужели я никогда никому не смогу доверять? Кто такой Симонис Риманопоулос, или, точнее, Симон Риманович? – А кем он должен быть? – резко спросил аббат. – Может быть, он сам этого не знает. Спроси себя, кем он был для тебя до этого! То же самое касается и меня: важно только, кто я для тебя, все остальное – пустое. Только Господь Бог знает все обо всех нас. Когда речь заходила о шпионах, аббат Мелани никогда не упускал возможности плеснуть воду на свою мельницу. Как хорошо для него сложилось, что я никогда не задумывался над тем, кто он на самом деле! – Я поговорю с ним. Он должен объяснить мне все, – объявил я, не будучи особо уверенным в своих словах. – Оставь это. Все и так уже слишком сложно. В таких случаях, как этот, когда все так запутано и за следующим углом тебя подстерегает смерть, тебе достаточно знать только, на кого работает человек рядом с тобой: на Бога или мамона. Все остальное только мешает. А Симонису можешь доверять. Теперь, после моего рассказа, Атто изменил свое мнение относительно Симониса. Как животные узнают друг друга с помощью обоняния, так шпион Мелани узнал шпиона Симониса и решил для себя, что Симонис – ему не соперник. Как и мы все, они оба тоже были обмануты Пеничеком, и силы, о которых говорил Мелани, казалось, одинаковым образом атаковали две империи, подданными которых были Атто и Симонис: загадочной оспой Иосифа в Вене и оспой великого дофина в Париже.
Теперь мы с Атто вместе размышляли о том, что могло произойти. В вечер прибытия аги в Вену темные силы, которые должны были принимать участие в заговорах против императора, объявили полную боевую готовность. Такие люди, как Симонис, оказались под надзором. Для грека был выбран Пеничек. Поэтому младшекурсник выбрал его своим шористом! Заказчик Пеничека, вероятно, определил его к Симонису, потому что их обоих объединяло образование: Пеничек тоже был студентом медицины и учился в Италии, в Падуе. Иногда Пеничек не мог подслушать наши планы или предугадать их, потому что мы не всегда ездили в его коляске. Он контролировал нас день за днем, когда возил на своей странной телеге, которая в любое время могла проехать всюду, в самые разные места. Посеяв за нами смерть и погибель, ему с помощью тончайшей интриги удалось выдать предварительно убитого им Опалинского за того, кем на самом деле был он: хладнокровным шпионом. В квартире, где он убил несчастного Опалинского, мы смогли застать его врасплох, потому что он не знал, что у его жертвы была назначена там встреча с нами. Затем последовала его реконструкция событий. Все было правдой, только вместо имени Опалинского в ней должно было фигурировать имя Пеничека! Это он, а не Опалинский, заманил нас всех на встречу в ту квартиру. Он нашел реквизированный императорскими чиновниками дом, чтобы мы поверили, что это Ян устроил засаду. Но мы опоздали на час. Решив, что мы что-то заподозрили, он казнил несчастного поляка. Едва закончив со своим произведением жестокости, он услышал наши шаги на лестнице. Мой помощник, видимо, еще раньше заметил что-то, быть может, черную карету. Поэтому он вдруг решил повернуть. Поскольку мы пришли через соседний дом, сообщник Пеничека не увидел нас. Когда богемец понял, что его люди не придут ему на помощь, он запер изувеченное тело Яницкого в кабинете, выбросил ключ и, сев в кресло, принялся ждать нас. Он был в ловушке, однако он, убийца, хладнокровно притворился жертвой. Запах крови, который наполнял комнату, мы объяснили для себя поединком, о котором рассказал младшекурсник (как смешно звучал теперь этот титул для убийцы и лжеца!). Конечно, у него был с собой пистолет, но он попытался обойтись без крови: объявив, что скоро придут привлеченные криками прохожие, он заставил нас поспешно покинуть квартиру и таким образом помешал нам обнаружить труп Опалинского. В противном случае ему пришлось бы сразиться с Симонисом на дуэли, которая кончилась бы смертью для них обоих. Черная карета, ждавшая его на улице, последовала за нами, вероятно, по тайному знаку Пеничека. Его рассказ на кладбище на самом деле был признанием. Выдавая Опалинского за актера, он описал все убийства, которые совершил сам. Он выбрал самую лучшую форму лжи: описывать реальные события, подменив лишь действующих лиц. Всегда, когда ему нужно было вымышленное имя, то ли для украшения своего рассказа подробностями, то ли для придания мрачной атмосферы, чтобы все выглядело еще более правдоподобным, он пользовался могильными плитами Главари, Марицы, Белы Терека и соответствующими эпитафиями. А потом он бежал в черную карету, которая ждала неподалеку. За городом его встретят другие представители его кровожадной расы, другие представители невидимой сети, опутавшей Европу. Богемец (или понтеведриец?) обманул нас всех. Однако постепенно каждый кусочек мозаики становился на свое место. Когда мы с Симонисом ехали в его коляске на встречу с Христо, Пеничек под предлогом процессий выбирал самые окольные дороги, чтобы помешать нам прибыть в Пратер вовремя. Наверное, он опасался, что нанятые им убийцы убьют и нас тоже, как он сам признался на кладбище больницы «Бюргершпиталь». Вот почему нападавший на меня сразу скрылся, как только увидел Пеничека: он узнал своего заказчика. После убийства Драгомира Популеску Пеничек настоял на том, чтобы труп убрать сразу же, более того, он буквально вынудил нас сделать это. Он знал, что третий труп не останется незамеченным и что мы рано или поздно зададимся вопросом, почему не было ни малейшего намека на расследование со стороны властей. Поэтому он сделал вид, будто собирается попросить помочь спрятать тело румына, и поручил это дело двум своим сообщникам прямо у нас на глазах. Разве могли мы предположить, что они – кто угодно, только не безобидные кучера? В случае с Коломаном мнимый пражанин полностью раскрыл свои умения. Хитрость Баламбера была чистой воды выдумкой, равно как и криптографические таланты Аттилы, и страсть Супана к тайнописи. Благодаря сомнениям, возникшим к месту, метким замечаниям в нужный момент, выдуманным ad hoc[1001] историям, он заставил нас делать то, чего хочет он. Тем не менее иногда, когда он рассказывал нам сказки, я видел, что он колебался и поднимал глаза к небу, словно в поисках хорошей идеи. И как только мы все могли ему поверить? Хотя надо было признать, что Пеничеку хватало и изобретательности, и присутствия духа. А потом еще и совершенно на пустом месте сотворенный монах-августинец и дворец с Черкесом, который на самом деле (это нужно было еще проверить) вовсе не принадлежал принцу Евгению!
* * *
Я заявил аббату, что это еще не все новости. Я хотел поставить его в известность еще вчера вечером, однако это оказалось невозможно, поскольку он лежал в постели, до смерти уставший: во дворце Евгения Савойского Клоридия узнала, что турки и дервиш должны были принять участие в лечении императора, и это произошло с разрешения императорского протомедика, фон Гертода, которого Клоридия видела торопящимся на встречу с Кицебером. Еще сегодня должно было произойти решающее вмешательство в ход болезни Иосифа, если это уже не случилось. – Что-о-о? И ты поверил в эту чушь? – Услышав мои последние слова, Атто изменился в лице. – Но, синьор Атто, мне показалось вероятным, что османы… – Это совершенно невероятно! Как тебе пришло в голову, что индийский дервиш османской веры займется здоровьем императора, представляющего истинную веру? Менее изъеденный червями мозг, чем твой, сразу исключил бы такую нелепую возможность! Меня вот только госпожа Клоридия поражает. Ты и она, вы вообще ничего не поняли! Это же смертельный приговор для императора!* * *
Времени на разговоры не оставалось. Полчаса спустя мы уже сидели в нанятой карете, похожей на коляску Пеничека, и направлялись в Место Без Имени. Мне нельзя было опаздывать: жандармерия ожидала меня и моего подмастерья, чтобы мы изложили события вчерашнего дня для протокола. Я мог бы поехать в Нойгебау на нашей телеге трубочистов, однако Атто хотел, как уже говорил об этом вчера, любой ценой сопровождать нас. Я позаботился о том, чтобы он надел простое платье, и запретил надевать парик, приклеивать мушки и румянить щеки. Я собирался выдать его за престарелого родственника, за которым мне приходится временно присматривать. Он не возражал. Итак, в коляске мы сидели втроем: аббат Мелани – в естественном состоянии его было почти не узнать, – Симонис и я. Малыша я брать с собой не захотел и оставил его под бдительным присмотром Клоридии в монастыре Химмельпфорте. Уже совсем не отсутствующий взгляд моего подмастерья был устремлен к горизонту. Я догадывался, что он совершенно не намерен разговаривать, и, следуя совету аббата, не стал вынуждать его к этому. Атто сидел на своем месте, надув губы и нахмурившись. Известие о тайной операции, которой должны были подвергнуть императора, привело его в столь мрачное состояние, что можно было подумать, будто он состоит на службе у его императорского величества, а вовсе не у наихристианнейшего короля. Я все еще чувствовал запах крови. Меня мучили образы и события последних часов. Младшекурсник оставил в моей душе глубокий след страха и отчужденности от всего, что меня окружает. Он был с нами, но не одним из нас. На вид он был человеком, однако принадлежал к другой расе: он был штурманом нового порядка, упадка человечества. Он воспользовался университетскими обычаями, чтобы с помощью церемонии снятия затесаться в наши ряды, и после этого стал тенью Симониса. «Как же неверно я оценивал Пеничека!» – в который раз за сегодняшний день сказал я себе. Теперь я знал: если хочешь судить о человеке, посмотри ему в глаза! Такие злобные взгляды, как у младшекурсника, выглядевшего похожим на хорька в очках, могут быть только у человека, в душе которого нет ничего хорошего. Никогда не нужно руководствоваться логикой, этим столь нелепым человеческим искусством, которое соблазняет нас ценить ближних наших по их словам. Глаза – вот зеркало, которое никогда не лжет! У Симониса, размышлял я, нет таких злобных взглядов. Ни на секунду не видел я в его глазах этого чуждого мерцания, от которого невольно вздрагиваешь. В его глазах было что-то чистое, однако они запрещали мне проникать в его душу. Внезапно меня охватило отвращение: поддельный хромой очкарик против мнимого идиота – какая парочка! Все это время я старался не дать аббату Мелани одурачить меня снова и ничего не заподозрил о махинациях этих двоих. Один лгал во имя доброй, другой – во имя злой цели, но мог ли я действительно быть уверенным в том, что Симонис, если бы того потребовала его миссия, не принес бы в жертву меня или даже моего маленького сына за то, что он считал «правым делом»? Все ведь знают, каковы на самом деле шпионы, внутренне содрогнувшись, подумал я. – Какой смысл ломать себе голову? – прошептал мне на ухо Атто, словно угадав в моем молчании то, о чем я размышлял. – Каждый сам отвечает за свои поступки. В день Страшного суда все мы предстанем перед Господом в одиночестве. Никто не сможет скрыть свои преступления за маской повиновения, потому что ему ответят: ты не должен был повиноваться и мог отдать за это жизнь, тогда ты получил бы вечную жизнь на небесах. Аббат говорил и для самого себя. Я очень хорошо помнил о том, что повиновение своему королю толкало на преступления и его. – Однако никогда не забывай, – громким голосом добавил он. – Господь пользуется каждым из нас, когда он того хочет; даже этим Пеничеком, хотя сам он уверен в обратном. Нас и пальцем не тронут, если на то не будет воля Всевышнего. Равнины его любви настолько широки, что нам, смертным, не дано понять их. Я мрачно посмотрел на аббата Мелани. Теперь, на склоне лет, ему хорошо проповедовать; но как часто в прошлом он пользовался мной ради своих постыдных махинаций и жизнь моя оказывалась в опасности? В этот миг Симонис, удивленный словами Атто, поднял глаза, и взгляды их встретились. И тут я понял. Мое сердце увидело все то, что оба шпиона, молодой и старый, хотели сказать в эту секунду. В первый и единственный раз они разговаривали друг с другом без масок. Я видел иллюзии, тайную грусть, возмущение, готовность к битве, хладнокровие и страсть, и, наконец, знание – родившееся в мнимом греческом студенте и созревшее в старом кастрате – о Божественном порядке вещей. Жизнь одного отразилась в зрачках другого. Все это продолжалось не более мгновения, но мне этого оказалось достаточно, чтобы понять. Тридцать лет назад они наверняка не были бы на одной стороне, а сражались бы друг против друга, шпион «короля-солнце» и верный слуга Священной Римской империи. Однако теперь оба отступили перед лицом падения мира во тьму. И наконец познакомились! Поэтому Мелани и произнес эти слова в присутствии Симониса.Подобно желудочной рвоте, внезапно перед моим внутренним взором предстало видение несчастного Опалинского. – К чему такая жестокость? – покачав головой, спросил я. – В этом ведь не было необходимости! Пеничек пришел, чтобы убить нас, он не собирался запутывать никого дальше. Тандур Драгомира служил для того, чтобы ввести нас в заблуждение, но зачем теперь понадобилось вонзать Яницкому в глаза вертела и запихивать в глотку салфетки, обрекая его тем самым на такую ужасную смерть? – Для щуплого младшекурсника в этом заключалась единственная возможность разделаться с массивным Опалинским, – ответил Симонис. – Его люди не подошли, потому что ждали внизу нас. Поэтому он напал на Опалинского в одиночку; они сражались, и Пеничек был ранен. Он победил, когда обнаружил вертела. Должно быть, он искусный метатель ножей. Глазницы – одно из немногих мест на теле, которые мягки у всех людей: если их пронзить, попадаешь прямо в мозг. Боль будет невыносимая. Пистолетом он воспользоваться не мог, потому что нельзя было поднимать шум. Может быть, он и подготовился всесторонне, но выстрел мог быть услышан огромным количеством людей и ситуация вышла бы из-под контроля. По той же причине он в конце концов заткнул своей жертве рот салфетками: поляк не должен был кричать. Остальное довершил нож. Ловкость, с которой мой помощник описал ход совершения преступления, произвела на меня еще более удручающее впечатление. Я старею, подумал я, вот я снова оказался самым наивным из группы, и на этот раз передо мной был не один шпион, а два! – Прости, мальчик мой, – вмешался Атто. – Как ты сказал? Пеничек пришел, чтобы убить вас?… – Да, синьор Атто, я ведь вам уже говорил. – Да, да, но только теперь мне пришло в голову, что… Боже мой! Как я раньше об этом не подумал! Вот только уже не было времени спросить у Мелани, что он хотел сказать. Мы прибыли в Место Без Имени и стояли перед небольшой группой ожидавших нас гвардейцев.
Едва мы ступили на землю, как всех нас повели к замку. Атмосфера царила невероятная: ни единого зверя уже не было на свободе, все погружено в тишину. Грустно было сознавать, что здесь нет даже грубого Фроша и его старого Мустафы. – А львы? Вы всех поймали? – спросил я, чтобы нарушить молчание. – Вперед, не останавливаться! – сказал один из гвардейцев, который, похоже, отдавал приказы, он велел идти с нами даже аббату Мелани. – Вообще-то я не имею ничего общего со вчерашней суматохой, это он будет свидетельствовать для протокола, – возмутился Атто, – можно мне подождать снаружи? Но гвардейцы были неумолимы. Нас повели в замок, а оттуда – в подвал. Один из сопровождавших нас людей показался мне знакомым. Мы остановились в западной галерее, там, где вчера слышали шаги Мальчика, спрятанного в Нойгебау слона. Человек, одетый как чиновник, которого мы приняли за судебного нотариуса, взял слово. Он начал читать документ на немецком языке, из которого я почти ничего не понял. Я вопросительно посмотрел на Симониса, а нотариус продолжал читать. – Я тоже ничего не понимаю, – прошептал мне задумчивый Симонис. Нотариус остановился, и вдруг ситуация изменилась. Жандарм (если это был один из них), который показался мне знакомым, достал цепи, и по тону голоса, которым кричал на нас мнимый нотариус, я понял, что они предназначены для наших запястий. Мы были арестованы. Однако операция была прервана еще одной неожиданностью. В этот момент произошло нечто настолько безумное, что могло быть бредом пьяного ума. В комнату вошел Кицебер и приветствовал нас по-итальянски.
* * *
– Дервиш! – негромко шепнул я Симонису, застывшему от удивления. Кицебер продолжал приветливо улыбаться. На несколько мгновений в подвале замка воцарилась невероятная тишина. – Что здесь происходит? – Наверное, вы уже поняли, что прочел вам нотариус. Декрет императорской палаты. Вы арестованы по причине заговора против империи и потому, что планировали покушение на посла Блистательной Османской Порты, Кефула аги Капичи-паши. – Заговор? Это какая-то ошибка, – запротестовал Атто, – я из Италии и… – Помолчите, аббат Мелани, – перебил его дервиш, – мы уже знаем, каким образом вы проникли в Вену. И довольно разыгрывать из себя слепого! Маскарад Атто был раскрыт. Дервиш и окружавшие его странные люди (гвардейцы они или нет) знали, что Атто Мелани – не чиновник императорской почты Милани. И тут я понял. Все произошло слишком быстро, чтобы мы могли отреагировать своевременно. Всего несколько минут назад на Атто снизошло озарение, но мы уже прибыли в Нойгебау. Кое о чем Пеничек на кладбище умолчал: он не сказал нам, кто наш предводитель, потому что думал, что он у нас был. Он хотел убить нас – знак того, что он узнал, кто та большая рыба, от которой мы с Симонисом, по его мнению, получали приказы. Значит, он был уверен, что наконец понял, кто это. А кого еще он мог заподозрить, кроме Атто Мелани? Он действительно думал, что Атто – глава заговора, а мы с Симонисом подчиняемся его приказам. Он познакомился с Атто в своей коляске. Навести о нем справки и выяснить, кто на самом деле этот Милани, было для него детской игрой. Если бы он знал, что все началось с моих собственных размышлений и домыслов моей супруги и что это не Мелани поручил мне вести расследование по поводу слов аги (напротив, Атто был занят исключительно своим поддельным письмом и преследованием Пальфи), он никогда не поверил бы нам! Такова типичная ошибка всех второсортных шпионов: они полагают, что их злоба распространяется на все человечество, однако решений, принимающихся без принуждения, обязанных своим появлением лишь чувству справедливости или жажде знаний, они не понимают. Короче говоря, они не терпят в своих ближних тех чувств, которые изгнали из собственного сердца. Как любила поговаривать добрая монахиня из Умбрии: «Тот, кто дурно пускает в ход свое тело, думает, что другие тоже так думают». Если убрать анаколуф, то получится «тот, кто дурно использует свое тело, то есть живет недобросовестно, думает, что остальные мыслят столь же дурно, как и он». Люди этого типа оказываются под ударами судьбы, которая играет с ними гораздо чаще, чем они полагают возможным. Однако ошибка Пеничека стала для него роковой. Он планировал убить нас и Опалинского, а затем, вероятно, собирался похитить Атто и пытать его, чтобы вырвать у него всю информацию. Этот его план провалился, но как же мы могли поверить, что мнимый калека оставит поле боя, не завершив начатого? Во время последней поездки от Места Без Имени в город он понял, что Симонис, аббат и я должны вернуться туда, чтобы составить протокол. Значит, он знал, когда и где он сможет захватить всех нас. Впрочем, сейчас он не мог убрать нас с дороги сразу: присутствовали чиновники императорской палаты, и дело нужно было провернуть с хотя бы видимостью соблюдения предписаний. За спектаклем нашего взятия под стражу стояла хорошо спланированная уловка, и в этот момент я узнал того гвардейца, который показался мне знакомым: у него были черные, глубоко посаженные глаза замаскированного платком существа, которое убило бы меня в Пратере, если бы сначала меня не спасла шахматная доска Христо, а потом – ирония судьбы – появление Пеничека. Мы пропали. – Мы ничего не сделали, вы не можете арестовать нас, – спокойным голосом произнес мой подмастерье, внимательно изучив всю команду: двух чиновников с напряженными лицами, дервиша и пятерых стражников, наверняка его людей. Теперь, когда мы были арестованы, императорские чиновники собрались уходить. Вопросов по поводу бегства животных они, конечно же, не задавали. Сейчас речь шла о большем. – Молчи, собака, – презрительно ответил ему Кицебер. – Ни один из моих людей не понимает языка, на котором ты говоришь, да и не станут они слушать, что болтают червяки. – А как так вышло, – спросил Атто, в котором боролись страх и любопытство, – что дервиш так хорошо говорит на моем языке? Кицебер, стоявший к нему вполоборота, медленно обернулся на лице его промелькнула злобная ухмылка. Похоже, кто-то из нас впервые произнес что-то осмысленное. Потом он ответил. – Я принадлежу к числу тех людей, которые говорят на всея языках, которые совершенно разного возраста и родом из совершенно разных стран, – сказал он и сделал знак своим людям разоружить нас. Тщеславие дервиша, который благодаря этим словам потратил драгоценные мгновения, дало нам последнюю возможность спастись. Еще одна секунда – и было бы поздно. Когда Симонис бросился вперед, ни один из наших врагов не понял, что произошло. Удар ногой в голову стражника, стоявшего ближе всех к нему, – и челюсть у того жутко хрустнула; но еще перед нападением Симонис успел достать из своего мешка уже, вероятно, заряженный пистолет и бросить его мне. Буквально секундой позже один из пятерых выстрелил в меня, промахнувшись совсем чуть-чуть, и тем не менее я почувствовал, как жгучая искра опалила мне левый висок. Я мог только надеяться на то, что не произошло ничего серьезного. В течение следующих трех секунд случилось сразу много всего: аббат Мелани упал в обморок; лицо стражника, в которого попал Симонис, опасно напухло, он покачивался, закрывая руками рот, и, похоже, выбыл из игры; я выстрелил в голову стражника, стоявшего слева от меня, но не понял, попал ли, и, кроме того, выпустил пистолет; после первого успешного удара мой помощник, вытянувшись вдруг во весь свой рост и распрямив спину, которая оказалась вовсе не горбатой, произвел быстрый поворот вокруг своей оси, нанося ближайшему к себе противнику удар ножом. Тот даже не успел вынуть из ножен меч, и хотя он сумел помешать Симонису вспороть себе брюхо, что явно входило в намерения моего помощника, он получил немаленькую рану в живот, вследствие чего нельзя было быть уверенным в том, что он не подохнет в течение ближайшего времени. Двое других стражников спрятались за спиной дервиша, с ужасом наблюдавшего за битвой, которую он считал невозможной. Однако прежде один из них выстрелил Симонису в грудь и попал. Тем временем аббат Мелани исчез, никто не заметил, в какой именно момент. Несколько мгновений я стоял напротив одного из раненых стражников, как и я, безоружного: это был тот самый человек, который хотел убить меня в Пратере. А потом я побежал, и никто меня не преследовал. На бегу я обернулся: Симонис, которому совсем недавно попали в грудь, подняв с пола предназначенные для нас оковы и раскрутив их, несколько раз нанес удары одному или нескольким стражникам. Но все это я видел только мельком, потому что уже выскочил из подвала и побежал во двор maior domus. Потом мне показалось, что позади себя я слышу крики помощника. Кто знает, сколько ему еще оставалось жить.* * *
Двое (мнимых) стражников, вероятно, выбыли из игры. Оставалось трое, не считая дервиша. Выбравшись во двор, я увидел хромающего Атто. Наверное, он только притворился, что упал в обморок, чтобы потом в подходящий момент исчезнуть, однако ушел он недалеко и, казалось, совершенно обессилел. Из подвала доносились крики, затем раздался еще один выстрел. Кто-то смог зарядить пистолет, подумал я, и либо застрелили Симониса, либо он убил одного из пятерых и таким образом получил драгоценную отсрочку. Когда мы, запыхавшиеся, добрались до главного двора, через который и попали в замок, то оказалось, что ворота (которые всегда стояли открытыми) заперты на засов. Поворачивать назад и пытаться бежать через другие ворота замка означало попасться прямо в руки дервишу. Следующие мгновения остались в моей памяти как пустой черный провал. Уверенность, что я скоро умру, и маленький, но жгучий очаг боли, которую я чувствовал в бедре, мешали мне сопоставить свои восприятия с реальными событиями. Я почти не помню аббата Мелани: мне кажется, что я его то подталкивал, то тянул за собой (ничего другого быть не могло, потому что к тому моменту его совершенно оставили силы), – так мы спустились по винтовой лестнице, которая вела к загородке для животных, а потом дальше, к Летающему кораблю, в любой момент готовые к тому, что рано или поздно получим пулю в спину. Потом я помню, что мы очень долго ждали: Атто на корабле! куда я с трудом поднял его, а я – спрятавшись среди досок птичьих клеток. Вчера они сломались под ударами слона, да так и остались лежать на площадке для игры в мяч. Наступил вечер. Не знаю, сколько часов мы провели в свои J укрытиях. Время от времени мы слышали выстрелы из пистолета – верный признак того, что Симонис и стражники по-прежнему гоняются друг за другом по садам Нойгебау. То была позиционная война: попасть в противника, не подвергая при этом опасности свою жизнь. Симонис не мог бежать, с другой стороны, наши враги, похоже, не могли рассчитывать на подкрепление. Я спрашивал себя, как Симонису удается все еще держаться на ногах: перед тем, как я бежал из подвала, ему попали прямо в грудь, и с очень небольшого расстояния. При каждом новом выстреле мы слышали раздраженный рев львов в черном небе над Зиммерингер Хайде. Значит, хищники Места Без Имени снова на своих местах, подумал я. Трупы, должно быть, убрали недавно. Я не боялся: пару раз я слышал разъяренные крики наших врагов. Можно было предположить, что Симонис попал в одного из них. Мы с Атто время от времени что-то кричали друг другу, но только для того, чтобы удостовериться в присутствии друг друга. Мы были в ловушке: невооруженные, не в состоянии ввязаться в поединок (я – из-за небольшого роста, аббат – по причине преклонного возраста). В той темноте, которая окружала все, было бессмысленно пытаться бежать через стены Нойгебау. Я отважился на вылазку в основной двор, чтобы проверить, нельзя ли открыть ворота. Однако раздавшиеся рядом со мной выстрелы заставили меня снова отойти в свое укрытие. Когда я, возвращаясь на площадку, проходил мимо Летающего корабля, то услышал, как аббат Мелани шепчет «Ave Maria» и молит о помощи. Прошло много времени, а потом что-то изменилось. Несколько выстрелов, раздавшихся прямо у меня за спиной, заставили меня вздрогнуть: поле битвы, похоже, переместилось в узкий коридор, из которого вчера вышли Мальчик, то есть слон, и другие животные. Оттуда, насколько я знал, можно было попасть к ямам, в которых жили дикие хищники. Некоторое время я не слышал ничего. Я знал, что Атто будет терпеливо ждать на Летающем корабле, даже не шевельнувшись. Поэтому я встал и вышел с площадки. Луна была благосклонна ко мне, и, пригибаясь к земле, я подошел достаточно близко, чтобы видеть происходящее. У меня были кое-какие опасения, и они, к сожалению, подтвердились.Бледный, словно трагичная Пульчинелла, кривясь от боли (сколько же раз они в него попали?), Симонис стоял на невысокой стене между ямами, где содержались хищники, пытаясь удержать равновесие. Он походил на циркового акробата, который вдруг понял, что выбрал слишком трудную задачу, и не знает, как извиниться перед публикой. Под его ногами справа и слева бушевала свора рычащих диких кошек. Слабый лунный свет мог обманывать, однако мне показалось, что среди кровожадных тварей в ямах я различил черную пантеру, которую Симонис победил с помощью метлы во время нашего второго полета на Летающем корабле. Пытаясь скрыться от своих противников, мой героический подмастерье отошел за площадку и оттуда проскользнул в галерею, проходящую вдоль загонов. И вот здесь и должен был быть сыгран решающий акт. Потому что приспешники Кицебера окружили его: они стояли по одному с каждого конца галереи. Чтобы уйти от них, Симонис, словно акробат на канате, принялся балансировать на стене, которая отделяла загон для львов от клеток других животных. Он надеялся дойти до противоположной стороны. Лунный свет только частично рассеивал темноту. Я сразу оценил ситуацию: оружия не было больше ни у кого. Теперь все решало численное преимущество, а Симонис был один. Когда он, подобно акробату, покачиваясь, шел по стене между рвами с животными, он, вероятно, надеялся, что таким образом сможет пересечь пропасть. Но оказался в тупике: в конце стены его ждал ряд железных прутьев решетки, которые должны были помешать посетителям нечаянно свалиться в ров. Приближаться к месту развития событий оказалось очень неразумным с моей стороны: если я теперь попытаюсь уйти, то приспешники дервиша сразу же услышат меня. Я заметил, что Кицебер стоит в конце стены, на которую в приступе мужества вскарабкался Симонис. Кицебер подался вперед, словно хотел поговорить с беглецом. Я почти не видел Симониса – настолько было темно, и полагал, что он не видит меня. Но вдруг понял, что он меня заметил. И в этот самый миг заговорил дервиш. – Остановись, – приказал он Симонису сухим, строгим голосом. – Даже если бы я хотел, к сожалению, не могу, – иронично ответил мой подмастерье. – Ты пропал. – Я знаю, Кицебер. Дервиш перевел дух, а затем сказал: – Ты знаешь меня как Кицебера, индийца; другие называют меня Палатино Кальдеорум. Кто-то – Аммон. Однако мне безразлично мое имя. Я один, я никто, меня сотни тысяч. Мне ничего не нужно, я не ищу никого, я делаю добро бедным и пленным. На вид мне сорок пять, однако я путешествовал по свету изменить черты своего лица, разгладить морщины, вырастить новые зубы взамен выпадающих. Мое царство повсюду. Я прошел по дорогам Турции и Персии, я был гостем Великого Могола в Сиаме, Пегу, Кандагаре, в Китае. В пустыне Тартар я учился переносить голод, в Москве дрожал от холода, я был пиратом в Индийском океане. Я чудом выжил после семи кораблекрушений, восемь раз меня бросали в темницу, даже в темницу Римской инквизиции. И я всегда выходил на свободу благодаря своему могущественному покровителю, однако и темница мне безразлична. По чистой прихоти однажды я освободил всех остальных пленников, а сам остался в камере. Симонис молчал. А дервиш тем временем продолжал: – Мне было тридцать лет, когда я оставил родину. Тогда меня называли Исаак Аммон, я был перворожденным сыном Авраама Аммона, несторианского патриарха Халдеи. На протяжении многих поколений в нашей семье передается и сан патриарха, но для меня он ничего не значил. Только один человек вызывал у меня восхищение: брат моей матери, который жил уединенно на горе в Халдее. Он был таким же, как я или ты: не обычным человеком. Большой мудрец и астролог, который вел жизнь отшельника и относился к остальным людям, как к зверям. Он воспитывал меня плетью и учил тайным свойствам трав и звезд, их соединению с камнями, животными, живущими в воздухе и в воде, четвероногими и рептилиями. Он научил меня согласно циклам и часам дня влиять на людей и их темперамент. Симонис продолжал молчать. Но Кицеберу это, похоже, не мешало. – Ты можешь подумать: и чего бы тебе не замолчать, дервиш? Зачем ты мне все это рассказываешь? Почему не убьешь меня и не покончишь с этим? Но я говорю не затем, чтобы хвастаться. Тот, кто проигрывает, должен понимать и страдать. Мы, победители, питаемся вашей болью, она – наша лимфа и смысл жизни. Затем Кицебер (или Палатино, как утверждал он сам) спокойно продолжал, словно уже сказал все самое важное: – Именно брат моей матери открыл для меня свет истинной мудрости. Она ничто, когда обладаешь ею, и все, если ею не обладаешь. С ее помощью здоровый почтенный человек может жить тысячу лет, как во времена Авраама и Ноя. Довольно держаться подальше от женщин и скандалов. Моему мастеру, моему дяде, было семьсот лет. Я слушал речи безумца, и Симонис, видимо, думал точно так же. – В таком случае ему, похоже, было что рассказать, – скептичным тоном произнес мой подмастерье. – Наверное, он и сказал тебе, какой яд подложить в тарелку императору. Дервиш не заметил иронии. – Да что ты знаешь о ядах? – спокойно ответил он. – Существует семьдесят два различных вида, и самые тонкие из них даже в рот не нужно брать. Пара обуви, одежда, парик, цветок, палатка, дверь, скальпель, письмо: отравить может множество вещей. Впрочем, для всех для них в природе существует противоядие. Некоторые действуют лишь несколько часов или в определенные дни, недели или месяцы; но они все безотказны. Нужно только знать ранг и темперамент человека, которого надо отравить. Что касается Иосифа, то ты думаешь, что в этом случае дело в яде, а не в болезни. Что ж, болезнь – это яд, а яд – это болезнь. Это не альтернативы, а одно и то же: заболевание, вызванное медицинским путем. Оспа искусственным путем инфицировала молодое тело императора, равно как и тело великого дофина Франции, конечно же, при помощи предателей, которые всегда есть среди вас, христиан. В обоих случаях все будет выглядеть как естественная смерть. Я задержал дыхание: теперь у нас был ответ на все наши вопросы. Оспа, которая поразила его императорское величество и наследника Людовика XIV, хотя и была болезнью, но вызванной искусственным путем, с помощью яда! Хотя Угонио говорил мне, что инструменты, которыми пользуется Кицебер в своих ритуалах, служат для прививки, но я не понял истинного смысла слов «болезненные цели» и подумал, что назначение у предметов этих целительное, не преступное. – Для вас это идеальное решение, – заметил Симонис. – Никто ничего не заподозрит. Еще Фердинанда, старшего брата императора Леопольда I, полвека назад унесла оспа, и Габсбурги едва не лишились императорской короны. Может быть, вы и теперь хотите… – Леопольд должен был заплатить деньги князьям-протестантам, чтобы они выбрали его, и торжественно поклялся им, что не придет на помощь испанским Габсбургам в войне против Франции, – рассмеялся дервиш. – И, кроме того, Фердинанд в двадцать один год был слишком усерден, слишком образован, слишком умен, – саркастичным тоном продолжал Симонис, – все это слишком много для представителя Габсбургов, которые стали императорами именно по причине слабости и послушания. Едва один из них начинает доставлять неприятности, как его устраняют! Пожалуйста, следующий! И если он будет трусом, как Леопольд, тем лучше. – Благодаря своей мягкости Леопольд правил почти полвека, – загадочно произнес Палатино. – Но все равно устроил вам некоторые неприятности. То, что его посадили на место брата, помогло мало. Хотя он и бежал из Вены, словно тать в ночи, в 1683 году, когда пришли турки. Но христианские армии все равно победили. Несмотря на все ваши усилия, Палатино, ваши желания исполняются не полностью. Такова ваша судьба. – Молчи! – Зачем все это? – резко спросил Симонис. – Вот это правильный вопрос, – ответил дервиш. – Но это знают только такие люди, как я и ты. Зачем. Как и кто – это отвлекающие маневры для простого народа. Быть может, однажды кто-то заподозрит, что Иосиф Победоносный был убит, и спросит себя: кому это было нужно? Кто обладал такой силой, чтобы все замаскировать? Была ли это оспа или яд?… Все время кто и как. Словно в игре, мы займем людей этими вопросами и помешаем им спросить самое главное: зачем? – А это не так сложно понять, – сказал Симонис. – В первую очередь, война: император Иосиф собирается поделить Испанию с французами, а своему брату Карлу оставить только Каталонию. Я вздрогнул. Это совпадало с тем, что рассказывал мне Атто: император хотел разделить полуостров Испания и предполагал, что брату останутся только Барселона и окружающий ее регион. – Так будет урегулирован испанский вопрос, – продолжал Симонис, – и наступит мир. Но вы хотите, чтобы война продолжалась, вы хотите окончательно поставить Европу на колени, чтобы навязать ей перемирие на ваших условиях и спокойно в ней распоряжаться. Кицебер молчал, словно соглашаясь. – Потом торговля, – добавил мой подмастерье. – Война вредит сделкам, но только мелким. А среди вас есть люди, которые продают оружие, строят корабли, проектируют крепости. Вы как раз и обогащаетесь за счет войны. Это означает большие деньги. Во время мира денежный поток иссякнет. Кицебер-Палатино весело взвизгнул. – И наконец, вы хотите убрать с дороги опасного правителя, чтобы заменить его другим, более послушным. У вас всегда одна и та же стратегия, только теперь вы ее улучшили. На протяжении столетий вы мучитесь, пытаясь испортить этот мир, завоевывая один святой город за другим.Вы использовали неверных, чтобы завоевать Иерусалим. Позднее вы пошли на север, пока в 1453 году не заняли Константинополь, а затем и Будапешт… Вам потребовались столетия, чтобы достичь этого: огромные суммы денег были потрачены, войска посылали на смерть, уничтожали целые народы. Только Вена устояла перед вами: хотя вы придумали лютеранское разделение, с помощью которого погрузили Европу в пучину Тридцатилетней войны, ваши османы во время осады 1529 и 1683 годов оказались побеждены. Вена – последний святой город, не считая Рима, конечной цели. И вам пришлось изменить свои планы. Вместо того чтобы нападать на христианские империи, вы сконцентрировались на внутренних операциях: напрямую убирать королей. Затем вы завладеваете душами и разумами их сыновей, выбирая для них придворных учителей: палачей духа, годных только на то, чтобы разрушать характеры юных принцев и искоренять в них все добрые качества. Практика, которую вы успешно применяете уже на протяжении многих столетий: здесь, в империи, от этого пришлось пострадать еще Рудольфу, сыну Максимилиана II. Но теперь это станет вашим самым надежным оружием! И я вспомнил: разве не рассказывал мне мой подмастерье о том, как Рудольф Безумный, сын строителя Нойгебау, подвергся чему-то вроде промывания мозгов со стороны своих воспитателей? Симонис и Кицебер говорили о невидимой войне, действующими лицами в которой являются такие люди, как Илзунг, Унгнад и Хаг, те конспираторы, которые устроили заговор против Максимилиана. Сначала Симонис посмотрел на небо, потом бросил молниеносный незаметный взгляд на меня и наконец опустил глаза, чтобы взглянуть на львов, которые с пеной у рта бегали взад и вперед, приходя в бешенство из-за такой близкой, но недосягаемой добычи. – Хорошо. Ты много знаешь и страдаешь, потому что ничего не можешь сделать, – произнес дервиш. – Поэтому слушай меня: я скажу тебе, что и Людовик XIV, король Франции, умрет от яда. Это будет похожим на гангрену на ноге, но будет искусственно привитой болезнью. Врачи, самые глупые из людей, не поймут ничего. Прежде «короля-солнце» во Франции таким же образом умрут великий дофин, герцог и герцогиня Бургундские, равно как и их сын, герцог де Берри. Все они умрут одинаковым образом, от специально введенной им болезни. И прежний король Испании, Карл II, из-за наследства которого так дерется вся Европа, был отравлен таким же образом, хотя ему и так жить оставалось недолго. Теперь ты знаешь: Иосиф Победоносный умрет. Сегодня вечером ему будет сделана решающая прививка. Я вздрогнул: Кицебер говорил о лечении, о котором утром узнала во дворце принца Евгения Клоридия. Однако вместо того, чтобы исцелить его, оно окажется смертельным. Значит, Иосифа предал его собственный протомедик! И кто знает, кто еще. Аббат Мелани был не прав. – Император будет… как бы так выразиться? Отравлен оспой, – продолжал дервиш. – Он заслужил такой конец, потому что считал себя очень могущественным и думал, что сможет действовать без нас: единственный человек, который одинок на земле. – Я знаю, «soli soli soli», – процитировал Симонис. – Совершенно верно. Этими словами ага объявил Савойскому, как обстоят дела: или с нами, или против нас. Император думал, что может действовать так, как ему вздумается: заканчивать войну по-своему, разделить Испанию с французами, словно нас и не существует. О нет, война закончится на наших условиях, так и тогда, когда захотим мы! Потому что Иосиф думает, что правит империей, однако он всего лишь одинокий человек, который не может распоряжаться даже самим собой. «Soli soli soli» прибыли турки, «к единственному одинокому человеку на земле». Этот Савойский, знакомый с зашифрованной речью, понял все очень хорошо. И он решил оставить своего правителя, чтобы присоединиться к нам. Вот вам ваш храбрый генерал, ваш герой: он тоже предатель, как и все остальные. Я в ужасе слушал разглагольствования Кицебера. С помощью Атто мы таки выяснили истинное значение «soli soli soli», теперь же мы узнали, почему ага адресовал эти слова Евгению Савойскому. – Ты говоришь «мы». Но кто вы? Османы? Англичане? Голландцы? Иезуиты? – Ты настолько наивен? Нет, не думаю! Ты просто хочешь, чтобы я подтвердил то, что ты и так уже знаешь. Мы повсюду, и мы все. Я огляделся: застыв, два убийцы слушали речь своего господина на языке, которого не понимали. – Мы – истинная власть, – продолжал Палатино. – Он, император, не менее презираем и одинок, чем любой голодающий. Турецкий ага сказал Евгению правду в глаза, правду, которая у всех на виду, но которую никто не видит. В этом наша сила: мы повсюду, вездесущи, но невидимы. Мы едим с вашего стола, мы спим в ваших постелях, мы копаемся в ваших сумках, а вы нас не видите. Кажется, что нас мало, мы одиночки, на самом же деле имя нам – легион. Вы думаете, вас много, но вы всего лишь один человек: человек, который одинок. – Вы мните себя всесильными, поэтому заставили агу произнести эти слова в присутствии всех. – Мы никогда ничего не скрываем. Это у вас нет глаз, чтобы увидеть. – Нет, Кицебер, у народа есть глаза, но пред лицом вашей бесчеловечности никто не может поверить в то, что видит. И в этом ваша истинная сила. – А теперь молчи! – пригрозил ему тот. – Дому Габсбургов скоро придет конец. Из-за смерти Иосифа в Италии рано или поздно появится свой король, а в Германии – свой. – Вы поэтому убили того несчастного годовалого ребенка, сына императора, руками своих врачей? – Я знаю, что это кажется тебе невозможным, – продолжал дервиш, не отвечая, – потому что в Италии на протяжении многих столетий существует множество княжеств, а в Германии курфюршества имеют многолетнюю историю. Однако обе страны станут великими, в то время как Габсбурги непременно должны умереть, потому что этого хотим мы, и история в наших руках. – О да, убив королей и их сыновей, вы посадите на трон новых наследников, еще совсем детей, которыми руководят воспитатели, служащие вам, и превратите молодых людей в слабоумные и жестокие фигуры, – повторил Симонис. – Народ с полным правом будет ненавидеть их, их головы падут под секирой толпы, которая думает, что производит революцию, а на самом деле делает не что иное, как претворяет в жизнь наши планы, – добавил дервиш. – Новый порядок заменит старый мир. За каждое новое право, предоставленное народу, мы отнимем у него десять других. Законы улучшатся, жизнь ухудшится. Мы перепишем историю: старое будет выглядеть смешным, и человечество будет убеждено в том, что живет в лучшем из миров. Мы распространим искусственные заболевания, чтобы ослабить целые народы. В принципе мы это уже делаем, ты только посмотри, что творится с Иосифом! Лекарства, которые мы будем поставлять, будут хуже всякой болезни. Потому что медики и пропаганда практически полностью в наших руках. Мы отнимем малышей от груди матери. Народы не смогут этого даже заметить, и их слабость передастся их потомкам. Войны, которые мы развяжем, разрушат документы прошлого, чтобы память о нем стерлась и мир превратился в серую темницу, где человек будет печален и покорен. – Быть покорным иногда трудно, – сказал Симонис, кивком головы указывая на бестий, рычавших на него из рвов. Дервиш продолжал говорить, радуясь тому, что унижает Симониса видениями мрачного и такого, казалось, неизбежного будущего. – Все будут считать страдания нормой, а счастливых будут презирать. О, как страстно надеюсь я, что зависть нанесет свой отпечаток и осветит грядущие столетия! Массы будут жить в невежестве, таким же людям, как ты, тем, которые понимают, нам придется, по крайней мере, дать немного побунтовать. Мы убьем не всех вас, мы просто позаботимся о том, чтобы преподнести вам ложных проповедников, которыми мы будем управлять и держать под контролем. Да, они будут знать каждого из вас, если мы решим уничтожить вас. Вашими страданиями мы питаемся, это подстегивает нас, придает нашей задаче оттенок веселья. Разве почетно было бы восторжествовать над стадом слепых и глухих животных? Нет ничего великого в том, чтобы действовать в гармонии с законами природы. Истинная власть заключается в том, чтобы суметь направить течение воды вспять, позволить средним подняться над храбрыми, вознаградить несправедливость, похвалить уродство. Мы отделим людей от природы и поселим их в большие ульи без окон. В конце концов они забудут, как получается куриное яйцо, что такое копна сена, как выглядит обычный цветок одуванчика. Наш триумф наступит, когда мы отделим народы даже от Бога и займем его место. Вот что уготовила вам судьба: судьба – это мы. – Может быть, вы и есть судьба, но без денег, без оружия и лжи вы ничто, – со странным спокойствием ответил Симонис, словно проповедь дервиша была ему хорошо известна и ему нужно было вставить последнее замечание, которое, однако, ничего не даст. Он был похож на солдата, который выпускает последний выстрел из своего ружья против превосходящего численностью противника. – Деньги и оружие полезны, это верно, – согласился Кицебер-Палатино. – Но мы уже очень богаты, и нам скучно. Более того: богатства больше не существует. Уже сейчас мы заменяем золото на бумажные деньги, оплату на обещания. Богатство – это только идея. А самое могущественное оружие – это власть над идеями. Ложь тоже имеет значение в игре, она делает ее интереснее. Ибо мы… – Вы все сумасшедшие, – перебил его Симонис, вкладывая в эти немногие слова весь отеческий сарказм, которого заслуживают глупые шутки детей, глупцов и душевнобольных. – Ни одно человеческое существо не готово принести в жертву свою собственную жизнь только ради того, чтобы причинить боль близким и передать эту миссию потомкам. Вы – да. Если мир падет перед вашей подлостью, то только благодаря одному-единственному истинному оружию, которым вы обладаете: оружию безумия. Казалось, Кицебер удивлен, на миг он замер. А затем сделал знак обоим своим приспешникам. Один из двоих пошел к выходу из туннеля, который вел к загонам. Второму тем временем удалось перезарядить пистолет, и теперь он целился Симонису в ноги. Было ясно, что произойдет: первый палач очистит одну из двух ям, второй ранит Симониса выстрелом, но не убьет. Так мой подмастерье упадет в одну из ям, конечно же, он выберет пустую. И там он будет беспомощен перед своими врагами. Под пытками они выведают у него некоторую небезынтересную информацию. – Ты будешь с нами только какое-то время, – сказал дервиш, – потом снова будешь свободен. Конечно, ты станешь повсюду рассказывать о том, что произошло, но никто тебе не поверит, даже твои люди. Мы оклевещем тебя и распространим слух о том, что ты продался нам. Скоро заподозрят, что тебе уже нельзя доверять. Все станут задаваться вопросом: почему Симониса пощадили? Ты будешь один, без чести, без родины. Но живой. – Ты слишком торопишься. Даже кажется, что тебе уже все удалось. Это ваших рук дело – то, что мир становится все хуже, конечно, но если бы все шло по вашему плану, то он испортился бы гораздо раньше! Истина заключается в том, что вы в отчаянии, потому что на протяжении столетий вы пытаетесь искоренить веру в Христа, но результат ваших усилий каждый раз, вопреки ожиданиям, оказывается намного меньше желаемого. Ваша проблема всегда одна и та же: «Камень, отвергнутый строителями, становится во главе угла», – так говорится в псалме. Игра еще не доиграна, и счет не в вашу пользу. И поэтому я спрашиваю тебя: действительно ли вы уверены в том, что правите миром? Вам никогда не приходило в голову, что Господь терпит вас, более того, что он избрал вас для своих непостижимых целей? Это были те самые размышления, которые мы услышали от Атто незадолго до того, как оказались в Месте Без Имени. Я горько усмехнулся: аббат и Симонис были действительно на одной стороне – на стороне людей. – Мир – это пробный камень для душ, Кицебер, – продолжал Симонис, – и вы – не что иное, как инструменты Божественного плана. Все мы часть Божественных намерений, даже такие проклятые души, как ты. Или ты не знаешь Библии? Разве не знаешь, что написано в Книге Иова? Первым произвел прививку не кто иной, как Сатана, и он был послан Богом, чтобы испытать Иова страшной болезнью, от которой тот с ног до головы покрылся гнойниками. Дервиш задрожал. Быть может, от холода. А может быть, из-за слов Симониса. – И, возвращаясь к нам двоим, – продолжал мой подмастерье. – Почему ты так уверен, что все произойдет именно так, как ты предсказываешь? Не думаешь, что кто-то может в последний миг испортить тебе всю игру? С этими словами Симонис поискал меня в темноте взглядом: он был уверен в том, что я тоже за ним наблюдаю. Несмотря на полумрак, я разглядел на его лице слабую улыбку, быть может, это был привет. Я понял, что он был готов к тому, чтобы действовать, и ждал от меня того же. – И кто же это сделает? – презрительно ответил Кицебер. – Друзья твои, что ли? Карлик, на которого ты работаешь, или аббат Мелани, эта высохшая мумия? Тетива лука вероятностей натянулась до предела, вскоре стрела событий должна была отправиться в полет. И то был миг, когда раздался звук, сильный и оглушительный.
Вена: столица и резиденция Императора Пятница, 17 апреля 1711 года День девятый
Полночь: еще три часа до первого крика ночного сторожа Город спит
Пронзительной силы жалобная песня, исполняемая невидимым хором мужских голосов, зазвучала над Зиммерингер Хайде. Она раздавалась отовсюду и распространялась по всей округе, каждый комочек земли, каждый колос, каждый камень, каждая звезда на небосводе задрожала. Она жестоко ворвалась в мои уши, и я был вынужден закрыть их руками, чтобы барабанные перепонки не лопнули от этого крика. Казалось, само мироздание кричит во все горло, словно земля, небо и вода довели пение до контрапункта и стали петь псалмы по-турецки: да-да, литания раздавалась на турецком языке, и в тот миг, когда Кицебер торжествовал над Симонисом, невидимый хор выкрикнул имя Аллаха, словно новый Мохаммед-титан кричал от радости, прежде чем стереть Вену и окрестности с лица земли. И тут я вспомнил, что узнал от студентов о Золотом яблоке: должно быть, это тот хор, о котором рассказывал нам Драгомир Популеску, хор, обреченный на то, чтобы каждую пятницу кричать: «Горе вам, Аллах, Аллах!» – как тогда, в ту ночь, когда сорок тысяч воинов Касыма умерли в бою. Теперь кровавая баня повторялась, и сорок тысяч кричали о мести. Пока над нами, казалось, смыкалась вселенная, я понял, что в эту ночь решится судьба мира. Затем мне показалось, что треснул горизонт и звук стал настолько мучительно оглушительным, что закрывать уши было уже недостаточно. Покачиваясь от боли, разрывавшей мне голову и уши, я поднялся и увидел: мой подмастерье упал в клетку со львами.Чтобы не попасть в лапы Кицеберу, он пожертвовал своей жизнью. Симонис, простой трубочист, студент с глуповатым выражением лица, Симонис, грек, решил кончить жизнь как герой. Он предпочел быть растерзанным дикими кошками, чем выдать свою тайну под пытками. Я в ужасе смотрел в темноту, и мое воображение рисовало жуткую картину, как черпая пантера, памятуя об ударах, которыми унизил ее Симонис вчера, вонзает свои когти в грудь и шею моего подмастерья. Она положила начало вакханалии: Симониса терзали и раздирали, высасывали из него силу, пили его человеческую кровь, ломали его суставы и рвали мышцы. Казалось, природа хочет удовлетворить свое желание битвы, во время которой меняются роли, словно за кровь сорока тысяч солдат должен был заплатить один Симонис, над его несчастным телом бушевала ярость двух войск: войска прошлого, которым командовал Касым, и войска настоящего – под предводительством турецкой пантеры из Места Без Имени. Тем временем дервиш, тоже зажавший руками уши, неловкими движениями пытался подозвать своих людей, чтобы те прикрыли его отступление из Места Без Имени. Уши у меня еще болели, но настало время действовать. Пока, продолжалась неразбериха между Кицебером и его палачами, я вернулся к Летающему кораблю. Я был настолько потрясен смертью Симониса, что почти забыл об аббате Мелани. Хотя движения мои были неуклюжими, мне удалось вовремя подняться на борт воздушного корабля, до того, как я услышал неровную вибрацию его деревянных внутренностей. Это было именно то, на что я надеялся: единственное спасение. Атто тоже зажимал уши руками, но опустил их, когда почувствовал уже почти привычный нам феномен – мы поднимались в воздух.
* * *
Однако корабль впервые взлетал с трудом. Он поднялся как раз настолько, чтобы преодолеть стены площадки и вынести нас из Места Без Имени. Но сейчас полет не был мягким покачиванием. Сильные порывы ветра натягивали паруса, поднимая корабль вверх, а шатуны снова опускали его вниз. Камни янтаря не создавали привычного гармоничного звучания, раздавался какой-то нестройный концерт, кроме того, появился металлический шум, подобный гулу битвы древних времен. Свет от камней был временами серым и слабым, как лицо человека, который видит ужасные вещи. Может быть, дело действительно в этом, подумал я. Слишком много ужасного случилось вокруг корабля: смерть Симониса, дерзость Палатино и его провозглашение эпохи презрения человека… Смерть тяжким грузом, будто балласт, лежала на его киле. Некоторое время он неуклюже раскачивался из стороны в сторону, а затем, словно обессилев, опустился на темные поля Зиммеринга. Мы с Атто, изнуренные криком сорока тысяч, продолжали сидеть в корабле. А крик мучеников Касыма смолк так же внезапно, как и начался. Должно быть, за время моего долгого отсутствия Атто давно понял, в чем дело, и на его худощавом лице отпечатались беспомощность и удивление. То, что рассказывали нам Данило Данилович и Драгомир Популеску, похоже, не было выдумкой: турецкая легенда о сорока тысячах была чистой правдой, по крайней мере, она стала ею в эту ночь. Быть может, и история о Золотом яблоке тоже не совсем выдумана. Но аббат Мелани сохранял гордость того, кто владеет ключами от лабиринта бытия. Пытаясь собраться с мыслями, я рассказал ему, что случилось с Симонисом. Я надеялся, что чрезмерные волнения, которым снова подвергся аббат, не будут представлять опасности для его жизни – я еще не понимал, что это моей душе были нанесены самые жестокие раны. – Не случайно я прибыл в Вену всего лишь через день после появления турок и заболевания императора, – вдруг произнес он. – Что вы сказали? – Я побледнел. Атто горько усмехнулся: – Нет, я ничего не знал, не переживай! Истина заключается в том, что мы стоим на перепутье истории, и в такие моменты случаются невероятнейшие вещи. – Это верно, человечество стоит на пороге решающих перемен. – Я думал, что это я могу произвести эти перемены. А вместо этого меня отогнали, словно муху. – Новые силы… – Новые? Да они старые. Они просто изменили стратегию. И она оправдается скорее. Хочешь, назовем имена прошлого? К примеру, Фуггеры, которые финансировали становление императором сначала Карла V, а потом Максимилиана при помощи своего покорного слуги Илзунга. Но это неважно. Важна их новая методика: кодекс их поведения не тот, который мы так хорошо знаем – правила королей и их министров, дипломатии, старых конвенций, – а другой, которого не знает никто, кроме них. Ни один генерал больше не предложит императору противника не обстреливать его палатку в полевом лагере, как сделал это Мелак во время осады Ландау. С этим покончено навеки. Шах и мат упразднены. С этого момента короля противника будут убивать, дервиш это отчетливо объяснил Симонису. Услышав имя своего подмастерья, я снова вспомнил о том, как он смотрел на меня в последние секунды своей жизни. Я задрожал. – Растерзанный дикими животными… он умер, как христианский мученик, – вдруг пробормотал себе под нос Атто. – Простите? – Симонис. Ты ведь думаешь о нем, не так ли? Я тоже. Его героическая кончина подтверждает: он противостоял новому порядку, который намеревается выйти победителем из этой войны. Твой подмастерье, говоря словами Пеничека, был на стороне Христа. И, как и один из первых христиан, был растерзан. Но и ты понял теперь, что он работал на сеть, о которой ты не знал ничего и никогда ничего не узнаешь. Как и эти новые правители без лица, твой Симонис – тоже фигура времен грядущих. Знаем ли мы, кем он был на самом деле? Нет. Пеничек? Тоже нет. А Кицебер-Палатино-Аммон? Еще меньше. И все-таки они и другие, такие же анонимные существа, уже играют в кости на мир. Будущее в руках этих тайных организаций, их члены не имеют имени, не имеют личности, не имеют лица. Какое счастье, что я закончил свою карьеру, мальчик: для таких людей, как я, места уже не осталось. Я был советником короля, и его величество прислушивался ко мне, чтобы потом принять решение отдать свои поступки на суд своих подданных и истории. До сих пор мир состоял из людей. Однако скоро им будут управлять правительства, которые функционируют подобно этому кораблю: если будет нужно, то даже без людей на борту. Я только теперь это понял, представляешь? Кукловода, которого я так долго искал, не существует. Нет нового аббата Мелани. Там, наверху, существует группа, коллективный разум, подобный муравейнику. Это не индивидуумы с независимым духом. Каждый негодяй сам по себе ничего не значит. Только в стае страшны они, подобно гиенам. Мы сражались против ничто. – Время людей закончилось, началась агония мира, последние дни человечества, – сказал я, повторяя то, о чем думал тогда, когда мы нашли труп Опалинского. – Им не удалось поджечь мир, этим дьяволам в человеческом обличье, – продолжал Атто, и в голосе его звучало возмущение. – А я прибыл в Вену с мирной миссией – как наивно! Какой там мир! Эта война – не что иное, как прибыльная сделка с кровью, призванная утолить жажду Вельзевула. И она закончится не возрождением, которое обещали нам, а самым великим банкротством, когда-либо случавшимся в мире. Его слова ошеломили меня. У меня возникла отчаянная потребность надеяться на что-нибудь. Иначе я не мог жить дальше. Все это было слишком для меня. – Но когда снова воцарится мир… – начал я. – Тогда война начнется снова, – перебил меня Атто. – Но до сих пор войны заканчивались миром! – воскликнул я. – Но не эта, – запальчиво возразил аббат Мелани. – Потому что война эта велась не на поверхности, она бушевала внутри самой жизни. Мир рушится, а никто не хочет этого замечать! Все, что было вчера, будет забыто. Забудут, что проиграли эту войну, что начали ее, забудут, что сражались. Поэтому эта война НИ-КОГ-ДА НЕ ЗА-КОН-ЧИТ-СЯ! – Но если все же воцарится мир? – Война начнется сначала. – Но народы учатся на своих ошибках… – Они разучиваются. Более того: ОНИ ОПУСТОШАЮТСЯ! – пронзительно воскликнул кастрат, заканчивая свою речь, чтобы предаться плачу. Он сидел в углу корабля и бил себя в грудь, словно грешная душа в чистилище. Одиннадцать лет назад Атто внес решающий вклад в начало этой бесконечной войны. Он, веривший в то, что может управлять историей мира, был не более чем шахматной фигурой в руках таких людей, как Кицебер. Именно это он и понял теперь целиком и полностью, и это обрекало его на отчаяние.Только слабая луна, которую почти совсем закрывали тучи, освещала купол неба. Дрожа от холода, я сидел рядом с Атто. Я должен был взять его за руку и вместе с ним уйти с корабля, но я чувствовал себя внутренне разбитым. Чернота ночи отняла у меня все силы. Мне казалось, будто я вернулся в Рим, где мы с Атто и Угонио пересекали подземную реку священного города в хрупкой лодчонке, вооруженные только веслом и инстинктом. Но это была, как выяснилось позднее, всего лишь одна из множества параллелей между нынешней ситуацией и теми опасностями, которыми я подвергался ранее с аббатом Мелани: как и теперь, двадцать восемь лет назад в гостинице был больной, который, вероятно, был отравлен, и тогда тоже покушение на жизнь человека было замаскировано под заражение. Меня снова охватило чувство, что круг замкнулся. И мне почти казалось, что повторением одних и тех же событий мне давали понять, что истинное значение всех этих событий вскоре откроется. Тем временем аббат Мелани впал в тяжелый сон без сновидений, это было видно по его лицу. Я обнял его, чтобы передать ему тепло своего тела. Так я и лежал на жестких досках корабля и, наблюдая за звездами, вспомнил последние слова Симониса и связанную с этим задачу. Я чувствовал, что обязан попытаться, ради своего героического подмастерья. Я судорожно старался забыть тот миг, когда он слабо улыбнулся мне, чтобы затем рухнуть к диким животным в яму и умереть. Если мы захотим раскрыть перед слугами резиденции императора заговор против Иосифа, нас сочтут опасными безумцами. Нужно действовать иначе. О, если бы только корабль снова полетел! В мечтах я направлял его к императорской резиденции, где я, воспользовавшись своей изворотливостью трубочиста, спустился бы по железным ступеням и вошел бы в покои Иосифа Победоносного. Там я положил бы на видное место, быть может, на диван в проходной комнате, точный отчет о заговоре против его императорского величества и настойчиво отсоветовал бы подвергать его злонамеренном лечению Кицебера. Или попытался бы добиться того, чтобы меня выслушал один из камергеров Иосифа; или… ну, я толком и сам не знал, что именно, но что-то нужно было делать. И в этот миг корабль из последних сил поднялся (по крайней мере, так показалось моей измученной душе) в воздух. Я тут же вскочил и занялся шатунами, чтобы направить корабль к императорской резиденции. Однако едва коснувшись их, я почувствовал, как они затрещали под моими пальцами, а корабль упрямо вздрогнул. Внезапный рывок заставил меня выпустить поводья (назовем их так) моего крылатого жеребца, и я предоставил ему свободу, как во время первого полета, лететь, как ему хочется. Мне тут же показалось, что он полетел ровнее, и это утешило меня. Правда, ненадолго, поскольку Летающий корабль, как я увидел в темно-фиолетовом тумане, летел прямо к верхушке собора Святого Стефана. И пока под нами проносились крыши и площади города, я смотрел, как неумолимо к нам приближается башня. Я взмолился, чтобы никто из городских пожарных, следивших за собором днем и ночью, не увидел наш парусник и не поднял тревогу. – Не туда, проклятый корабль! – закричал я, вне себя от отчаяния. – Ты же знаешь, куда нужно лететь! В то время как наше транспортное средство приближалось к церковной башне, я вновь вспомнил о том, как умирал Симонис. Снова в ушах зазвучал перекрывший яростный рев зверей крик сорока тысяч мучеников. Последние дни человечества, предвещенные смертью Опалинского, поглотили Симониса, подобно львам, и теперь я чувствовал затылком их дыхание. Несколько мгновений я стоял, парализованный страхом. А потом увидел. Поначалу я подумал, что это галлюцинация. Казалось, его структура не принадлежит этому миру, но предмет, который я увидел, выглядел именно так, каким лицезрел его теперь и Атто: аббат проснулся, поднялся и, открыв от изумления рот, встал рядом со мной. То был золотой шар, размером с яблоко, висевший в воздухе. Ни одно описание не могло бы точно передать его внешний вид; еще сегодня у меня сохранились очень слабые отголоски воспоминаний. Некоторые сны вспоминаются с трудом, но не по причине слабости памяти, а потому, что они могут жить лишь в определенном, отчужденном состоянии души. Подобно выброшенным на берег медузам, они растворяются, как только человек пытается овладеть ими с помощью сознания. Точно так же мое отчаянное состояние души в те часы позволило мне испытать то, что я и сегодня не могу точно передать. Могу сказать только, что субстанция золотого шара, парившего прямо над носовой частью Летающего корабля, напоминала нечто среднее между паром и металлом. Охваченный изумлением, я внезапно вспомнил об одном из множества пророчеств по поводу Золотого яблока, услышанных за последние дни, то был рассказ Угонио. Война за испанское наследство, бушевавшая во всей Европе, будет выиграна Австрией только тогда, когда Золотое яблоко Юстиниана, то самое, которое обеспечит господство над христианским Западом, снова будет красоваться на вершине самой священной церкви Вены, то есть собора Святого Стефана. Именно там однажды появился архангел Михаил, и по легенде он держал в руке державный символ, изгоняя Люцифера мечом в форме священного креста. Корабль тряхнуло: порыв ветра отнес покачивающееся судно к фиале башни. Краем глаза я, хотя и был захвачен видением золотого шара, увидел каменные завитки и волюты, украшавшие славный собор. – Что здесь происходит? Сначала этот крик… а теперь яблоко… – дрожащим голосом пробормотал аббат Мелани, опираясь на мою руку. Он тоже понял, что это за золотой шар. Однако я уже не слушал его. Потому что теперь я вспомнил, что на фиале собора Святого Стефана, если верить рассказу Угонио, должны быть начертаны таинственные слова, оставленные архангелом Михаилом. И в этот миг тени прошлого окутали мои воспоминания, все слилось в непонятную магму: я попытался выглянуть из корабля, чтобы найти надпись на башне; корабль качнулся от сильного порыва ветра; я потерял равновесие; аббат Мелани, стоявший рядом со мной, снова сел на палубу корабля; я оперся на локоть и только благодаря этому не вывалился наружу. Бесконечны были эти секунды, когда я смотрел вниз, подо мной – нереальное видение собора Святого Стефана, огромный вал камней, выпирающий из-под крыши храма. Потом сияние Золотого яблока стало ярче, и пока я прикладывал все усилия к тому, чтобы не упасть и удержаться на борту корабля, яблоко исчезло, оставив после себя лишь шлейф светящейся пыли. Видение пропало, Золотое яблоко не вернулось на собор Святого Стефана. Испания необратимо окажется в руках французов. Ночь, когда открылась судьба мира, заканчивалась: исход войны уже был предрешен, а с ним и события грядущих лет. Вот что хотел сказать нам Летающий корабль. Теперь оставалось только вверить себя его молчаливому упорству: сдаться и удалиться, в то время как гром в небе возвещал о начале утренней грозы. Подобным большому плачу всего мира будет преддверие новой эпохи: последние дни человечества.
* * *
И, словно желая оказать нам последнюю помощь, корабль снова приземлился на виноградниках Зиммеринга, в нескольких шагах от монастырского винного погреба. Едва мы вышли из него, как пернатый парусник поднялся в эфир и удалился, впрочем, не по направлению к Месту Без Имени, а на запад. Я смотрел, как он улетал, бестелесный и тихий, пока не скрылся за горизонтом. Корабль летел на запад, обратно в королевство Португалия, откуда прибыл два года назад. Из последних сил я потащил аббата к расположенному неподалеку погребу. Не знаю, как короткие конечности homunculus'a, которым я являюсь, смогли выдержать вес тела аббата. Когда я прислонился к двери, она в тот же миг распахнулась. – Любимый! – услышал я чей-то голос. Я увидел Клоридию, а с ней – Камиллу де Росси. Хормейстер сразу же занялась оказанием помощи Атто, Клоридия же с заплаканным лицом улыбалась мне, а потом крепко обняла. Что моя жена здесь делает? Почему здесь Камилла де Росси? Они искали нас? Откуда они узнали, что нас можно найти именно здесь? После Пеничека и Палатино у меня совершенно не было сил выносить еще и тайны хормейстера! Я нахмурился, но Клоридия крепче сжала мои руки и покачала головой. – Я знаю, о чем ты думаешь, но не беспокойся. Камилла мне все объяснила. Однако сил и на то, чтобы выслушать ее, у меня не осталось. Усталость одолела меня, и я потерял сознание прямо на руках у жены.* * *
– Но… это же портреты обеих наших курочек! – Это были первые слова, которые я смог произнести. Я только что проснулся, лежа на ложе у камина. Когда я открыл глаза, меня охватило сильное головокружение, тело мучилось от жестокой боли. Клоридия достала что-то из небольшой шкатулочки и вложила мне в руки. То была цепочка, на которой висела золотая филигранная подвеска в форме сердечка. Она открывалась. Внутри я увидел миниатюры двух красивых девичьих лиц: мои дочери, совсем маленькие! Откуда взялись портреты? Я никогда прежде не видел их. Или я опять сплю? – Нет, любимый. Это не курочки. Не совсем, – улыбнулась моя супруга. С трудом собираясь с мыслями, потрясенная все нарастающей внутренней бурей, Клоридия рассказала мне все.Когда она закончила, я повернул голову в поисках аббата Мелани: завернутый в шерстяное одеяло, он сидел перед камином и оживленно болтал с Камиллой. Наши взгляды встретились. Как он себе представлял, этот миг должен был быть счастливым. Но это было невозможно, пока невозможно.
* * *
Возвращаясь обратно в Вену, лошадь неслась сквозь ночь стрелой, таща за собой небольшую повозку. Каждый раз, когда нас подбрасывало на кочке, аббат Мелани начинал причитать. Мы должны были спешить, очень спешить – нужно было остановить руку, которая намеревалась предательски убить императора. Но как нам попасть в Хофбург? Я не мог собраться с мыслями. От всего, что я пережил за последние часы, остался только громкий крик сорока тысяч солдат Касыма. Его больше не было, но он остался во мне, подобно ноге, оставляющей свой отпечаток, и временами вибрация становилась просто невыносимой. Мне было трудно различать звуки, я с трудом слышал даже свой собственный голос. Я не оглох, но был оглушен. Прибыв в Химмельпфорте, мы услышали, еще не выйдя из коляски, громкий стук колес кареты. Прямо перед нами остановилась двуколка. На ней были императорские инсигнии. Из нее вышли два пажа с факелами. – Открывайте, скорее! – закричали оба, принимаясь сильно барабанить в двери монастыря. – Вы меня ищете? – спросила, подходя к воротам, Камилла, которая уже все поняла. – Я хормейстер. – Это вы? Тогда скорее! – сказал один из пажей, передавая ей конверт с императорской печатью. Камилла тут же вскрыла его. – Это письмо его величества, – сказала нам Камилла, прочитав записку, и голос ее надломился от страха. – Он зовет меня. Немедленно.Вот он, ответ на мои чаяния: я буду сопровождать Камиллу в Хофбург, и с ней попаду прямо к императору. Клоридию и Атто мы оставили в монастыре.
Окутанная чернотой ночи, решавшей судьбу мира, перед нами медленно проявлялась резиденция императора. Мы постучали в дверь бокового входа. Несмотря на ранний час, нам открыли сразу же. Я догадался, что Камилла очень часто пользуется этим входом, потому что слуга, открывший нам, не стал задавать вопросов по поводу наших личностей. Он попросил нас подождать в комнате, куда спустя несколько минут пришел лакей с заспанным лицом. Он тут же обнял Камиллу, и они по-братски поцеловались. – Как он? – спросила хормейстер. Тот ответил лишь серьезным взглядом и не сказал ни слова. – Представляю вам Винсента Росси, кузена моего покойного мужа, – сказала мне Камилла. – Он сейчас принесет нам то, что нужно. Спустя некоторое время Винсент вернулся с одеждой для пажа небольшого размера, как раз на меня. Я переоделся, и мы отправились долгим путем по коридорам, сопровождаемые лакеем и слабым светом его свечи. Кроме темноты, заполнявшей залы Хофбурга, я помню только анфиладу коридоров, лестниц и снова коридоров. Наконец, большой холл, затем еще один. Безмолвное, призрачное появление и исчезновение лакеев, медиков и священников. Напряжение, опущенные взгляды, чувство бессильного ожидания. Я увидел даму, наполовину скрытую вуалью, в сопровождении двух фрейлин, опиравшуюся на чью-то руку. Сотрясаемая с трудом сдерживаемыми рыданиями, она удалилась, потом я услышал: «Господин граф фон Паар». Была ли то императрица? Я не отважился спросить. Нас поспешно пропустили, сдержанно, запросто. Похоже, Камиллу знали все слуги. И вот открылась последняя большая дверь – мы вошли.
* * *
Хормейстер говорила приглушенным спокойным голосом. В свете стоявшего за его головой канделябра отчетливо прорисовывался профиль больного, и я видел, как он, задыхаясь, борется со смертью. Когда Камилла подошла к постели, никто не отважился посоветовать ей быть осторожнее. Иосиф повернулся к вошедшей, однако ему не хватило сил ответить на ее приветствие. Свора медиков вынуждена была отойти в дальний конец комнаты, равно как и исповедник, прижимавший к груди сосуд со святыми дарами, из которого причастился его императорское величество. В самом дальнем углу ждал и апостольский протонотарий, в руках он еще держал елей для соборования, которым только что помазал императора в присутствии папского нунция. Того самого нунция, для которого Камилла до сих пор работала над «Святым Алексием» и который теперь, вопреки всем ожиданиям, должен был в последний раз благословить умирающего императора от имени папы. Камилла что-то шептала на ухо Иосифу I, а тот молча слушал. Вокруг было настолько тихо, что казалось, все затаили дыхание. Камилла могла заразиться смертельной болезнью, однако она стояла на коленях у кровати, словно у колыбели младенца. Затем она поднялась, и мне почудилось (не могу утверждать этого, поскольку в комнате царил полумрак), что она отважилась приласкать Иосифа Победоносного. Я догадывался, что никогда не узнаю, что именно она ему сказала. И был прав.10 часов 15 минут
* * *
Покаяние, покаяние. Я твердил только это слово. Я уже был наполовину обнажен – мне было нечего сорвать с груди. И я начал вонзать ногти в руки, в плечи, шею, в раскрасневшиеся от крика щеки, живот, пуп, связывавший меня с матерью, которой я никогда не знал. Я бежал с обнаженным торсом и срывал с себя куски собственной плоти, даже с ушей, чтобы более не слышать, с языка, чтобы более не говорить, с век, чтобы более не видеть, с носа, чтобы перестать дышать, кусал себе пальцы, чтобы ничего не касаться. Я бежал по полям, по отвесным склонам и ущельям, и мой одинокий беспрерывный крик пробегал вместе со мной каждую пядь земли. Глаза мои были широко раскрыты, но я бежал вслепую, я смотрел и не видел, слушал и не слышал. Неожиданно меня окутала далекая мелодия, окружила меня, запутала мои стопы, но ноги узнали ее и сначала замедлили свой безумный бег, а потом принялись танцевать под ее нежный ритм. Не останавливаясь, мои стопы выписывали бесконечные круги, а мои руки послушно следовали за ними, рисуя в воздухе фигуры, в такт этой (теперь я узнал ее) скрипке, этой скрипке. А потом я увидел это: я был в Нойгебау. Крик, раздававшийся из моей груди, постепенно превращался в напевание знакомого мотива, которому я дал имя: португальская мелодия под названием фолия, безумие. Мои босые ступни бежали теперь по садам Места Без Имени, но они уже не были заброшенными и неухоженными: их украшала чудная мозаика, голубая с золотым. Фонтаны чистой воды выбрасывал роскошный алебастровый источник в центре, благословляя все вокруг приятной прохладой. Она падала и на мои плечи, чтобы смыть бегущую из ран кровь. И только в этот миг я впервые увидел Место Без Имени – словно мои раны открыли передо мной царство справедливости, мои глаза стали новыми, сверхчеловеческими. И будто во внезапном взрыве исторической правды они показали мне истинное, живое изображение творения Максимилиана, райскую жизнь, для которой оно было задумано и которая никогда не была ему дана: сверкающие золотые крыши; врата сада, возвышающиеся своенравно, как турецкие минареты; пышные клумбы и изгороди, с плотно покрытыми почками редкими растениями, с апельсинами, лимонами и другими экзотическими фруктами, с избранными цветами; великодушные высокие фонтаны с серебряной водой, льющейся на светлый, прекрасно инкрустированный мрамор; фасады замка, украшенные тысячами антаблементов, скульптур и капителей, все тонкой работы, из филигранного золота; ограда с ее гордыми зубцами; и повсюду – постоянная беготня кучеров, слуг, рабочих, секретарей и лакеев, все они в бархатных одеждах, которые носили двести лет назад; а на заднем плане – фоном – приглушенное рычание диких животных. И все это мощное творение – плод изобретательского дара, Нойгебау, представляло собой столь гармоничное сооружение, что даже его военная символика (сторожевые башни, зубцы, львы), казалось, провозглашает мир, как и его создатель, Максимилиан Загадочный, человек мира. Я всхлипнул при мысли о том, что это безвременное видение даровано мне только один раз. Потом я вспомнил Рим, виллу «Корабль», где от ее прежней жизни многое сохранилось и покрытые изречениями стены повествовали о блеске эпохи, которая уже не вернется. Вилла делилась своей мудростью со всяким, кто хоть на миг останавливался взглядом на тех изречениях. А Нойгебау, дитя без имени, вместе с замком, который его породил, было вырвано из мира еще до того, как началась его жизнь. Его время никогда не наступало; ненависть вытравила плод. Только сады могли ненадолго несмело строить глазки жизни, но там, где могла бы жить не природа, а человеческий дух, именно там, тщетно ждало жизни Место Без Имени. Ничего не мог поведать замок Нойгебау любопытному посетителю, кроме: «Мое царство не от мира сего». Так чем же было мое существование до сих пор? Какое значение имели для меня преждевременно унесенная жизнь Иосифа I и Максимилиана II, неисполнившаяся судьба наихристианнейшего короля и его возлюбленной Марии, одиннадцать лет назад на вилле «Корабль» и почти тридцать лет тому в гостинице «Оруженосец» в Риме, мученичество суперинтенданта Фуке и ненависть, разграбившая его замок в Во-ле-Виконт, то огромное сооружение из камня, жившее только одну ночь, ночь 17 августа 1661 года? Кто были они, если не все вместе существа и места без имени, без истории, потому что их вывели из истории, которая принадлежала им по праву? Были ли они прелюдией к Нойгебау? О чем они говорили со мной? Почему они пошли мне навстречу, почему отыскали мою ничтожную, мрачную жизнь и мучительно ослепили ее своим печальным блеском?* * *
Не знаю, как нашла меня Клоридия и отвела обратно в монастырь. Я неподвижно лежал на кровати. Я видел свою жену и малыша, которые склонялись надо мной. У изголовья моей кровати, в кресле из зеленой полупарчи сидел, согнувшись, аббат Мелани, превратившийся в собственную тень. Был здесь и его племянник. Я блуждал взглядом по их лицам, мои зрачки останавливались на их губах. Все говорили со мной. Доменико хотел встряхнуть меня; Атто причитал, винил во всем себя и предлагал позвать врача; Клоридия, до смерти обеспокоенная моим состоянием, в котором она непременно хотела видеть нечто вроде проявления геройства, умоляла меня, раз уж я не могу ничего сказать, хотя бы мимикой дать понять, что я слышу ее и малыша. А я вновь вернулся в воспоминаниях к временам одиннадцатилетней давности, в Рим, в ту блестящую виллу, имевшую форму корабля и заброшенную, подобно Месту Без Имени. И не знаю, в который уже раз я вспомнил Джованни Энрико Альбикастро, чудесного голландского скрипача, который, всегда одетый в черное, казалось, парил над зубцами стен виллы, наигрывая португальскую мелодию, именуемую фолия, «глупость». Он читал строки из поэмы под названием «Корабль дураков», которой он учил меня жизни. Никогда не узнать мне, был ли он и неизвестный штурман Летающего корабля одним и тем же человеком, но дело было в другом: пришло время принять во внимание предостережения Альбикастро. Я снова начал кричать – про себя, и этот крик уже не должен был прекращаться, а потому губы мои, повинуясь тем старым предостережениям, умолкли. Я стал немым. Моя жена плакала, и я с удовольствием сказал бы ей: как я могу говорить с тобой, если крик звучит в моих ушах? Разве ты не слышишь его? Иногда, правда, этот крик превращался в мелодию фолия, и я начинал скулить: я хотел сказать Клоридии, что люблю ее, но крик возвращался, мой внутренний крик. И так вот я, на своем ложе страданий снова стал жертвой Эриний. Я страдал от своего молчания, в которое мог войти всякий, словно в место, где ему было гарантировано гостеприимство. Я отчаянно желал, чтобы меня сразу же отнесли в дом для служения панихиды, а вместе со мной и все человечество. «Ах, если бы я мог передать последним родившимся детям голос этой эпохи!» – мучился я в пропитанных потом подушках. Но не опровергнет ли тогда внешняя истина внутреннюю, и сумеют ли уши наших потомков различить и то и другое? Потому что таким образом время делает неузнаваемым свою собственную суть и готовит нас к тому, чтобы простить величайшие преступления, которые когда-либо совершались под солнцем и звездами. Только в архиве Господа это существо будет в сохранности. Нет, не из-за вашей смерти, друзья мои, – вы все, которые пали в войне и во время мира, вы, умершие вчера, сегодня и завтра, а за то, что вам пришлось пережить, Господь отомстит тем, кто сделал это с вами. В тени превратит их Господь, в те тени, которыми они на самом деле и являются, тени, которые лживо одеваются в человеческое обличье. Он отнимет у них плоть, в которой прячут они свои пустые души. Только воспоминаниям об их глупости, ощущению их злобы, страшному ритму их ничтожества даст Он плоть и, словно марионеток, приведет на Страшный суд, чтобы показать праведникам, что уничтожено Его рукою.Я прошел долгий путь молчания в ожидании дня, когда, как учил меня Альбикастро, «натянется лук». Но одиннадцать лет назад голландский скрипач сказал также: не в атом мире будет натянута тетива. И сам Христос учил нас: «Царство мое не в этом мире». Так куда же мне было бежать в ожидании Царства Божьего? Альбикастро, вилла «Корабль», Место Без Имени: казалось, пережитое мной рядом с Атто одно за другим собирается в одну большую картину, которая теперь, в эти дни, нашла свое толкование. До сих пор жизнь многому научила меня, часто удивляя: в ней было много неожиданностей и болезненных для меня ударов, и всегда я был по отношению к ней подобен пустой кружке, которая только принимает, ничего не давая взамен, и наполняется все больше и больше. Казалось, эта жизнь теперь опомнилась и вернулась в прошлое, чтобы снова предложить мне старые темы так часто слышанных учений, словно не собиралась учить меня ничему новому. Но почему?
Вена: столица и резиденция Императора Суббота, 18 апреля 1711 года День десятый
Погруженный в свой новый тихий мир, лежал я в своей постели. Я только что узнал от Клоридии, что вчера солнце взошло краснее обычного, будто пророча, что сегодня Иосиф прольет свою последнюю кровь. Венцы были правы, расценивая этот феномен как предвестник грядущего несчастья. Немедленно отбыли послы с особой миссией в рейхстаг в Регенсбурге, чтобы объявить курфюрстам о смерти императора. Появилось множество листовок, особенно много на итальянском:* * *
Теперь, когда все было кончено, я видел не только свое поражение, но и поражение Атто. Его план (положить конец войне) был совершенно несостоятелен в свете последних событий. Ему удалось только одно: свести Клоридию с ее сестрой Камиллой. Два дня назад, в винном погребке монастыря, моя супруга рассказала мне обо всем, и все части мозаики наконец-то встали на место. Моя жена начала рассказ со своей матери-турчанки, о которой до тех пор я не мог от нее почти ничего узнать. Она была дочерью военного хирурга янычаров, рассказывала Клоридия, и выросла в Константинополе. Отец научил ее основам восточной медицины, лечению болезней двузернянкой. Однако во время нападения пиратов девушку похитили и продали как рабыню. Затем последовала та часть истории, которую я хорошо знал. Мать Клоридии купили Одескальки, семья кредиторов, на которую работал и мой покойный тесть. Чресла шестнадцатилетней турчанки родили мою жену. Когда Клоридии было двенадцать лет, ее мать снова продали, а Клоридию увезли в Голландию. Здесь началось то, о чем я еще не знал. Я жестами попросил свою супругу рассказать мне эту историю с хорошим концом снова, чтобы пролить бальзам на мрачные мысли, найти в ней пристанище от печальных событий прошедших дней. Клоридия сжала мою руку, ее красивое лицо было залито слезами, и в ожидании очередного врача для меня она согласилась. Уже приходили три медика, и все они объявили, что я совершенно здоров; вероятно (не «наверняка»), голос вернется, убежденно говорили они. Одескальки, в который раз, с любовью гладя меня по голове, рассказывала Клоридия, продал ее мать Коллоничу, тому кардиналу, который был в числе героев осады Вены. От него она в 1682 году родила вторую дочь. Коллонич велел втайне вырастить ребенка своему испанскому наместнику Джироламо Джиудичи, доверив ему также и мать. Джиудичи держал обеих как служанок в своем доме, где мать научила свою дочь целительству и преподала ей великолепные знания турецкого и итальянского языков. Когда девочке было тринадцать лет, в 1695 году, она уже могла похвастаться приличным образованием, особенно в музыке. Она даже сочиняла музыку, совершенно же прелестным было ее пение. Когда молодой король Германии и Рима услышал, как она поет, то сразу влюбился в нее. Из-за этого Коллонич решил ее обезопасить: он лично крестил дочь в церкви Святой Урсулы на Йоганнесштрассе и посредством Джиудичи определил в монастырь на Химмельпфортгассе. Короче говоря, это была та самая история отвергнутой монахинями монастыря молодой турчанки, которую Камилла рассказала нам несколько дней назад. Сестры взбунтовались против вступления в орден османки, поскольку принимали только девушек из дворянских семей, а новенькая была рабыней. Опасаясь, что ее запрут под замок (другой монастырь, вероятно, принял бы ее), девочка убежала. Никто не знал, куда и с кем. – Она бежала со своим учителем музыки Францем де Росси, – пояснила мне жена. Придворный музыкант императора Иосифа и внук Луиджи Росси дал ей имя Камилла, потому что так звали его римскую кузину из района Трастевере, которую помнила и Клоридия. – Но наша мать называла ее Мария, как и я, – с улыбкой произнесла Клоридия, вытирая мои слезы, капавшие на подушку. Нет, я не был тронут историей, которая столь бесстыдно дышала жизнью на фоне противоестественной смерти императора, великого дофина, Симониса и его друзей. Я плакал совсем по другой причине: убежища, которого я искал в рассказе Клоридии, найти мне не удалось. Облегчение от того, что она наконец нашла могилу, над которой могла оплакать свою мать, не смягчало моего отчаяния; ее радость от обретения в Камилле кровной сестры не служила мне утешением за пролитую кровь. И в безутешности мне пришла мысль о том, что Клоридия за почти тридцать лет нашего брака никогда не ошибалась: всякий раз, когда я, растерянный, бродил в потемках, она уже все понимала и у нее находился для меня совет. Но даже она полагала, что дервиш хочет способствовать здоровью императора, и ввела себя и меня в фатальное заблуждение. Как и Атто, ее смела новая эпоха. А я понял, что больше не смогу просить свою сладкую умную женушку спасти меня от ощущения гекатомбы, наполнявшего мою душу.Пока я размышлял так, умываясь слезами, Клоридия, ничего не подозревая, продолжала свой рассказ. Франц и Камилла поженились, а о том, что было дальше, нам рассказывала сама хормейстер: когда началась война за испанское наследство, они вернулись в Вену и узнали, что мать Клоридии и Камиллы уже умерла. Франц снова поступил на службу к Иосифу, а с ним и его жена. Однако молодой король Германии и Рима не узнал в ней рабыню-турчанку, в которую когда-то влюбился. Год спустя Франц умер. Даже не зная, кто она, Иосиф почувствовал притяжение к Камилле, более того, теперь он удостоил ее своей дружбы (об этом мы уже знали от Гаэтано Орсини) и своего доверия. Чтобы отблагодарить Иосифа за привязанность, молодая женщина четыре года подряд писала для него оратории, не принимая платы, и это вызвало у меня подозрения. Камилла объяснила нам все: она опасалась, что ее имя станет известно казначеям, которые управляли личными кассами Иосифа, а также кассами придворных расходов. И тогда возникли бы вопросы по поводу ее личности, а с учетом любви венцев к точности при записях рано или поздно стало бы известно, кто она на самом деле. И она предпочла зарабатывать себе на жизнь, путешествуя по Австрии и излечивая людей с помощью двузернянки, как учила ее мать. К счастью, эта методика имела те же корни, которыми руководствовалась много столетий назад святая аббатиса Хильдегарда фон Бинген, обстоятельство, позволившее Камилле объявить себя ученицей Хильдегарды и сохранить в тайне свое восточное происхождение. В Вене практиковать она не могла, поскольку нужно было бы сдать экзамен и пройти апробацию, то есть требовалась лицензия университета. Кроме того, кардинал Коллонич прожил аж до 1707 года, то есть для нее было лучше появляться в столице как можно реже. В конце 1710 года Иосиф попросил ее поселиться в столице, поскольку ему нужен был ее совет, но она опять отказалась принять от него деньги, объявив, что больше не хочет сочинять музыку. Вместо этого она изъявила желание уйти в монастырь. Его величество указал ей монастырь на Химмельпфортгассе, расположенный напротив квартиры молодой Пальфи, которую Евгений Савойский разместил в доме неподалеку от своего дворца. Когда потом император попросил ее разучить ораторию в честь папского нунция, она выбрала для этой цели свою последнюю композицию «Святой Алексий». О чем я еще не знал, так это о том, что в этой оратории скрывался особый смысл: Камилла представила в ней саму себя, она вернулась так же, как Алексий, никем не узнанная. Кто знает, не открылась ли Камилла императору во время их последней встречи, как и Алексий родителям и невесте, уже на смертном одре? Клоридия рассказала мне, что ее сестра не хочет об этом говорить, что она молится день и ночь, чтобы справиться со своим отчаянием. Итак, на портретах в подвеске в форме сердца были изображены не мои дочери, а Клоридия и Камилла в юном возрасте. Цепочка принадлежала их матери – она смягчала боль от столь ранней утраты дочерей – и после смерти осталась в доме Джироламо Джиудичи, наместника Коллонича.
Когда вчера мы с Атто и Симонисом не вернулись из Места Без Имени, обеспокоенная Клоридия обратилась к хормейстеру. Они тут же поехали в маленькой монастырской карете по дороге к Нойгебау. Камилла догадывалась, что происходит что-то необычное, и предложила расположиться в винном погребке, принадлежавшем сестрам Химмельпфорте и расположенном неподалеку. Во время поездки Клоридия, опасаясь махинаций аббата Мелани, решилась открыть ларец, который он доверил мне и который она спрятала. И нашла в нем то, чего никак не ожидала: ее собственный портрет, сделанный, когда она была еще девочкой, а рядом такой же – Камиллы, которая тоже сразу же узнала себя. Тут хормейстер все ей рассказала. Она узнала обо всем, конечно же, от Атто. На этом рассказ моей жены заканчивался. После того как я четыре раза попросил ее поведать мне его, я отпустил супругу. Молчание, в которое я впал, высушило мои слезы и оставило пространство для холодных размышлений, во время которых все постепенно становилось на свои места. К примеру, знакомство Атто с Камиллой. В сентябре 1700 года Камилла рассказала аббату Мелани свою историю и историю своей матери. Зная о прошлом моей жены, Атто сразу понял, что будущая хормейстер и Клоридия – дочери одной матери. Он сообщил Камилле о своих догадках, однако сделал вид, что не знает, где искать Клоридию… хотя сам только что вернулся из Рима, где почти десять дней подряд виделся с моей женой. Как обычно, Мелани руководствовался только своими собственными интересами. Он не хотел, чтобы Франц де Росси и Камилла ехали в Рим, как они наверняка поступили бы, если бы узнали, что там живет сестра Камиллы. После всех интриг, в которых он использовал меня, ему хотелось помешать Клоридии рассказать сестре о его поступках. Кроме того, он был гораздо более заинтересован в том, чтобы Франц и Камилла вернулись в Вену. Там они могли быть ему очень полезны, поскольку вот-вот должна была вспыхнуть война за испанское наследство. И ему с легкостью удалось убедить пару не покидать империю: он утверждал, что Вена – настоящий центр итальянской музыки, в то время как папство приходит в упадок, Франция страдает от безумных расходов на войну и балеты, а золотая эпоха кардинала Мазарини давно закончилась. Он приправил свои размышления полуправдой: он кое-что должен мне и Клоридии (это была правда), поэтому он попытается отыскать нас (это было ложью, он очень хорошо знал, где нас искать, ведь не так давно он позорно бросил нас на произвол судьбы на вилле Спада). Пообещав Камилле держать ее в курсе относительно результатов своих поисков, он обеспечил себе повод поддерживать связь с Камиллой и Францем, если в Вене ему понадобится от них услуга… И это была одна из множества причин, заставивших Атто наконец расплатиться со своими долгами и оставить мне наследство через венского нотариуса: он хотел свести Камиллу и Клоридию. Но потом он поставил еще одно условие: Камилла могла открыться моей жене только тогда, когда сам он уедет из Вены. «Я не хочу благодарности», – с ложной скромностью объявил он Камилле. На самом деле причина была иной: он опасался гнева моей жены, узнавшей, что Атто держал их с сестрой на расстоянии целых одиннадцать лет… Старый аббат надеялся, что сможет уехать из Вены до того, как все откроется. Но события помешали ему улизнуть, как он сделал одиннадцать лет назад в Риме, и еще раньше, во время нашей первой встречи. Еще совсем недавно я стал бы обвинять его, забрасывать множеством вопросов и упреков, теперь – нет. Даже если бы я хотел, лишенный голоса я не мог ничего. И так было даже лучше: Клоридия, тронутая прозрачными увертками старого кастрата, простила его сразу же. К тому же рассказ Клоридии развеял последнюю тень, еще лежащую на Атто. Слова, которые произнес армянин, обращаясь к нему, а именно о том, что слуги дома «продали сердце своего господина», означали лишь то, что Атто за большие деньги нанял армянина в качестве посредника для кражи подвески в форме сердца! Все это не имело никакого отношения ни к императору, ни к армянам аги. Про себя я горько посмеялся над подозрениями, заставлявшими меня бегать по кругу, тогда как за моей спиной весь мир переворачивался с ног на голову: земля станет водой, вода – землей, а небо – огнем.
* * *
Звук, мешавший мне размышлять, смолк, и теперь я слышал только его отдаленное эхо. Я уснул. Проснувшись, я увидел Атто, сидевшего в кресле у меня в изголовье. Отныне наши судьбы были связаны теснее, чем когда бы то ни было. Вене больше нечего было нам предложить, и Атто собирался взять нас с собой в Париж. Великодушный жест, которого он не позволял себе никогда в былое время. Теперь же, на склоне своих дней, он с удовольствием покровительствовал нам, как все, кто хочет умереть в мире с Господом. Он убедил Клоридию принять его предложение. У него на службе мы будем вознаграждены по-королевски, и он собирался позаботиться о том, чтобы наш малыш получил достойное образование. – Я уверен, что наихристианнейший король скоро отпустит меня в Пистойю; тогда ты и твоя семья поедете со мной, – объявил он.Камиллу я больше не видел. Где она была? Я снова смотрел на Клоридию и гладил залитые слезами щеки жены, не зная, как ее утешить. Она обрела сестру, плоть от плоти, но потеряла мужа, которого знала. Ее супруг стал другим, не таким веселым, менее способным выказать ей свою любовь. Но он был очень решительным человеком. Я уже чувствовал, как во мне зреет желание взяться за меч, совершенно особый меч. Время для этого должно было настать очень скоро.
* * *
Пока в душе моей толпились воспоминания о прошлом, Вена погрузилась в траур. Если бы Иосиф был еще жив, то в эту субботу ремесленники и купцы вместе со своими подмастерьями должны были бы читать сорокачасовую молитву. Однако теперь предстояло другое. Вместо того чтобы собраться на молитву, мы выстроимся в очередь, чтобы отдать последний долг его телу: набальзамированное лейб-брадобреями, наряженное для почетного караула, несчастное, поруганное тело его императорского величества лежало на главной сцене рыцарского зала резиденции. Сегодня вечером начнется почетный караул, впрочем, только для родственников из высших слоев знати, которые целую ночь и весь следующий день будут заходить по двое и прощаться с императором. С завтрашнего дня народ тоже сможет войти в рыцарский зал и нести почетный караул у одного из четырех установленных там алтарей до 20 апреля – дня, на который была назначена погребальная литургия. Я наконец узнал, где Камилла. Каждый день между десятью и одиннадцатью, а также между восемнадцатью и девятнадцатью придворные музыканты должны были петь над телом императора пятидесятый псалом на латыни. Перед смертью Иосиф, до последнего момента сохранявший трезвый рассудок, повелел, чтобы дирижировала ими хормейстер. Атто попросил Камиллу взять его с собой, и она только что зашла за ним. Аббат уже хотел попрощаться со мной, однако я стал отчаянно жестикулировать, выражая свой протест: как я мог не пойти попрощаться с императором, при смерти которого присутствовал? Я встал с постели, увернулся от заботливых рук Камиллы, надел свои лучшие одежды и, несмотря на предостережения, присоединился к ним.Пока мы ждали на улице, чтобы Камилла подогнала карету (она не хотела, чтобы мы шли пешком), Атто опередил мой вопрос, который я хотел задать ему и который он, очевидно, прочел в моих глазах: – Нет, я совершенно не рискую, приходя туда. План этих проклятых удался, император мертв. А после совершения государственного преступления убийцы и их заказчики обычно исчезают без следа. Некоторые уезжают, как Евгений, другие остаются, но прячутся, чтобы контролировать ситуацию, но в целом они придерживаются правила: два-четыре дня ничего не предпринимать. Они увидят, что мы несем почетный караул у гроба, но не станут вмешиваться. Они знают, что теперь мы ничего не можем сделать.
В освещенном множеством свечей рыцарском зале перед катафалком несли почетный караул стрелки лейб-гвардии и телохранители. Гроб стоял на возвышении, к которому вели три ступени, был украшен червленым золотом ручной работы, над ним красовался балдахин из черного бархата с шелковыми кисточками. Его императорское величество выглядел безупречно. Тело лежало на том самом месте, где Иосиф много раз принимал посетителей и послов, где за свою короткую жизнь председательствовал на множестве собраний и церемоний. Одежда и плащ были из черного шелка, с кружевом такого же цвета; на голове – светло-рыжий парик и черная шляпа; шпага на боку и маленький герб с Золотым руном на шее. Гроб, в котором он лежал, был обит темно-красным бархатом и тоже украшен золотой вышивкой; голова покоилась на двух подушках. Бальзамировщики постарались на славу. Меня удивило отсутствие оспинок на лице – результат мумифицирования или же признак насильственной смерти? Перед императором висело большое серебряное распятие, рядом стояла чаша со святой водой. Справа были выставлены императорские регалии: корона, скипетр и Золотое руно на позолоченной подушке; по левую руку – короны Венгрии и Богемии. Рядом, прикрытые черной тафтой, стояли серебряный котелок и кубок. Согласно обычаям дома Габсбургов в одном из них лежали сердце и язык Иосифа, во втором – мозг, глаза и внутренности. На двух обтянутых черным скамеечках для коленопреклонения сидели придворный капеллан и четверо босоногих августинцев, бормотавших полагающиеся молитвы. А потом я снова увидел издалека их всех: кастрата Гаэтано Орсини (еще со следами синяков), Ландину, сопранистку и супругу игравшего на теорбе Франческо Конти, и остальных. Я не показывался – как я мог приветствовать их без голоса? Я наблюдал за ними: лица осунувшиеся, взгляды отсутствующие. Им приходилось прощаться со «Святым Алексием»; постановка в честь нунция была отменена. Что станет с ними – теперь, когда любимый всеми Иосиф мертв, теперь, когда их молодого покровителя нет в живых? Оставит ли их его брат Карл, который прибудет из Барселоны, чтобы сесть на опустевший императорский трон, или выгонит всех? К нам подошел Винсент Росси, обменялся с Камиллой жестами утешения, и пока хормейстер приступала к руководству певцами, он указал нам место в уголке, где мы могли пробыть до конца представления. Я знал пятидесятый псалом и мысленно повторял слова:
В рыцарском зале тем временем снова зазвучало пение хора, просьбы которого я присваивал себе:
В комнате было жарко, из-под париков струился пот, по телам растекалась усталость. Быть может, размышлял я, Иосиф Победоносный хотел отреставрировать Место Без Имени, поскольку полагал себя достаточно сильным для того, чтобы повернуться спиной к противникам Нойгебау и Максимилиана. А вместо этого… Я снова посмотрел на Атто. На этот раз он ответил мне взглядом, и на миг мне показалось, что его печальные глаза говорят со мной. Однако то, что я слышал, наверняка было сном:
«Хорошо запомни восковое лицо Иосифа, мальчик. Таких правителей, как он, ты не увидишь больше никогда. Короли будущего будут всего лишь марионетками в руках группировок без предводителя, чудовищ без головы, которые не слушают никого из тех, кто не принадлежит к их кругу. А тот, кто входит туда, становится пленником. Наступит день, когда народ выйдет на улицы, и не будут они знать, откуда он взялся, как во время Фронды в день таинственных баррикад, когда ничто изрыгало во все стороны толпы фанатиков, готовых разорвать все, любой авторитет, любой символ, любую человеческую границу. Как в Праге во время похорон Максимилиана II. Однако на сей раз это продлится не один-два дня. Нет, настанет день, когда террор будет носиться по улицам годами, вооруженный топорами и косами, чтобы отрезать язык правде, а справедливым – голову. Они назовут его "свобода, равенство, братство", но то будет только резня и тирания».Я оторвался от глаз Атто. Группа монахинь вошла в церемониальный зал и начала молитву с четками. Затем мы с Атто снова переглянулись:
«Ты больше не услышишь от меня поучений. Со своим теперешним знанием ты поймешь грядущие события. Будущие союзы, войны и кризисы – все это будет планомерно инсценировано сыновьями, внуками и правнуками убийц Иосифа».Я вспомнил, как мой покойный тесть почти тридцать лет назад выступал против брака между кровными родственниками среди монархов всех стран, этого вечного инцеста правящих домов. Внезапная вспышка в глазах Атто сказала мне, что речь шла о чем-то совершенно ином:
«С этого дня брачные союзы, родовые линии, кровное родство будут держаться в строжайшей тайне. Ничто не будет происходить при свете солнца, чтобы никто не мог указать на правду. А тот, кто тем не менее попытается, будет немедленно объявлен сумасшедшим».И я вспомнил об Альбикастро, чудесном скрипаче, с которым повстречался одиннадцать лет назад во время своего второго приключения с Атто. Он тоже делал подобное странное пророчество, но только теперь я понял весь его смысл: то было необходимое учение, для того чтобы выступить против этого мира. Загадочный штурман Летающего корабля, который прибыл из Португалии, как и фолия, был тайно казнен. Но покинутый воздушный корабль, который все-таки умел летать, был небесным знаком того, что повсюду бушуют силы, противоречащие тем учениям. И я молчал. Но верно ли этобыло?
Париж События с 1711 по 1713 год
Поездка в Париж вышла долгой и утомительной. Нам постоянно приходилось делать остановки. Хотя Доменико, Клоридия и я, снова набравшийся сил, помогали Атто, он все путешествие провел на носилках. Мое ремесло трубочиста мы в огромной спешке продали одной итальянской семье. Переговоры более чем успешно вела Камилла как представитель влиятельного монастыря Химмельпфорте – монахини, как известно, очень хорошо умеют вести дела. Вырученные деньги мы послали двум нашим дочерям в Рим – то было их долгожданное приданое. Мне пришлось бы продать и виноградник, и дом в Жозефине, потому что мысль о том, чтобы оставить это имущество неизвестно на какое время, нам не понравилась. Была вероятность, что кто-то присвоит его себе. Однако Клоридия не согласилась и попросила сестер о помощи. Камилла успокоила нас, пообещав лично заботиться о доме. Аббат Мелани похвалил это решение: – Купцы хотят украсть у нас наши земли, давая за них смешные деньги, которые в любое время могут обесцениться. Земля не имеет цены, мальчик мой: она дает пропитание и поэтому делает нас свободными.В Париже Атто, и мы вместе с ним, жили на рю де Вье Огастин в съемной квартире, принадлежавшей некоему монсеньору Монтолону. Странно, думал я, мы оставили монастырь августинок на Химмельпфортгассе, чтобы жить на улице, которая названа в честь этого ордена. Поначалу я думал, что стану слугой Атто, пажом или кем-то вроде этого. Но по прибытии мне сразу же стало ясно, что я ему не нужен. У старого кастрата была целая толпа слуг. И хотя так совпало, что пожилая гувернантка ушла на пенсию и Клоридия заняла ее место в доме, я поистине не понимал, что я могу здесь делать, да еще и без голоса. Я еще не знал, что у Атто были на меня совершенно особенные планы, причем довольно давно. Не впервые он просил меня жить у него. Он предлагал мне это еще в 1683 году, двадцать восемь лет назад, но я отказался, возмущенный интригами и ложью, в которые он меня впутал. Теперь я наконец осуществил его желание. Дабы я не чувствовал себя лишним, он давал мне небольшие поручения и платил жалованье, которое подошло бы и секретарю кардинала. Большую часть времени я проводил, слушая его. Однажды он, словно невзначай, начал рассказывать мне о своем происхождении, о детстве, юношеских мечтах. Рассказ становился все более доверительным, он не упустил даже того страшного дня, когда цирюльник с ножом в руке появился в доме его отца, чтобы кастрировать его. Он рассказывал день и ночь, во время обеда, с полным ртом, выставив за дверь всех остальных, и далее, до позднего вечера, когда его мучила бессонница, и даже поднимал меня с супружеского ложа, чтобы побыть в моем обществе. Клоридия относилась с пониманием к прихотям кастрата и запасалась терпением. Ведь она по-настоящему полюбила беспомощного старика. Все, абсолютно все рассказывал мне аббат Мелани: о махинациях и тайнах, от которых захватывало дух, о непростительных грехах, в которых ему скоро придется отчитаться перед Всевышним. Он снова переживал свое прошлое, и иногда его охватывала печаль, а иногда он униженно соглашался заплатить положенную цену за свои грехи. Так, за три года, что я прожил у него, перед моими глазами пронеслась вся его долгая жизнь, пока не настало время уделить внимание его преклонному возрасту. А потом он рассказал мне и то, что я уже знал, точнее, думал, что знал: те истории, которые мы пережили вместе с ним, и тайны, которые я, как мне казалось, постиг, однако на самом деле…
* * *
Впрочем, наша с Клоридией жизнь у старого кастрата шла по своей колее. Мы регулярно получали письма из Рима, от наших девочек, которые наконец были помолвлены с умными молодыми людьми скромного достатка (в Риме, столице ростовщичества, иначе и быть не могло), но с доброй волей. Правда, с первого же дня пребывания в Париже наше существование омрачали стычки Атто с родственниками. Доменико, как и говорил Атто, вскоре вернулся в Тоскану. Вместо него в доме теперь часто бывал некий Шампиньи, служивший у него секретарем. Атто диктовал ему все письма, которые посылал родственникам в Италию, чтобы те продолжали верить в его слепоту. Он знал, что Доменико не предаст его: в качестве вознаграждения его ожидает приличное наследство. И эта постоянная возня была похожа на перебранку между упрямыми детьми. В июне аббат тщетно напоминал племянникам о том, что те все еще не прислали ему засахаренных апельсинов! Потом он начал жаловаться на лесок, находившийся в его владениях, который мог погибнуть из-за недостаточного ухода. В августе же он таки сообщил племянникам, что точно знает, сколько денег поступает семье Мелани, потому что, когда Доменико получил в свое время место секретаря консула Сиены, ему из Флоренции прислали известие обо всех доходах и почестях. Проглотив этот удар, племянники, чтобы настроить дядю на мирный лад, пообещали послать к нему соотечественника, чтобы тот передал ему сухую колбасу наилучшего качества и мортаделлу, лучше той твердой и переперченной, которую они подсунули ему незадолго до его путешествия в Вену. Но не только неутешительные новости поступали из родной Тосканы. В его собственном доме в то время гостила мадам Коннетабль, Мария Манчини, его старая любимая подруга, которая одиннадцать лет назад на моих глазах сплела вместе с Атто интригу, решившую судьбу Европы. Когда приходили письма от мадам Коннетабль, с лица Атто исчезали все тени. Он тут же принимался готовиться к тому, чтобы отправиться на аудиенцию к его величеству, дабы испросить разрешения повидать Марию у себя на родине, в Пистойе. Эта история повторялась каждый год: едва наступало прекрасное время года, как Мария появлялась на вилле Атто в Тоскане. Получив известие об этом, Атто поспешно требовал запрягать коляску и мчался к королю, чтобы попросить у него разрешения вернуться в Италию. Всякий раз, получая отказ, он возмущался безмерно. Однако аббат не отчаивался и, несмотря на жаркую погоду, часто курсировал между Парижем и Версалем, не уставая и не жалуясь, словно молодой человек – столько сил приливало к его старым членам при одной только мысли о мадам Коннетабль, единственной женщине, которую когда-либо любил старый кастрат. Они не виделись пятьдесят лет. Великий герцог тоже не прекращал утруждать аббата просьбами из-за его опекаемых. Осенью того года Атто упал в своей комнате, которую не покидал почти целую зиму, хотя здоровье у него было хорошим. Засахаренные апельсины, хорошая мортаделла и колбаса, к которым присоединилась просьба о помаде и варенье из цветков апельсина, еще не прибыли. Тем временем Атто посылал послов в Пистойю, чтобы они сообщили о состоянии его дома и внешности его внучатого племянника, и не в последнюю очередь затем, чтобы они привезли долгожданные лакомства (аббат был поистине упрям), а также объявить племянникам о том, что он сам, если к весне война закончится, приедет в Пистойю и пробудет там год. Однако год спустя, в марте 1712 года, мир еще не наступил, и, к огромному своему удивлению, я услышал из уст Атто слова раскаяния по поводу того, что двенадцать лет назад он способствовал избранию папой Альбани. Теперь он горевал о своем добром друге, покойном кардинале Буонвизи и даже попросил скопировать в Пистойе некоторые его письма и переслать ему, чтобы они сохранились для потомков. – Если бы папой стал Буонвизи, – причитал он, – алеманы не угнетали бы Тоскану, а мир заключили бы еще несколько лет назад. Однако поскольку Господь решил покарать христианский мир, он призвал этого великого человека к себе за два месяца до избрания правящего понтифика, потому что будь Буонвизи тогда жив, папой наверняка стал бы он, а не Альбани, и я, вероятно, провел бы закат своей жизни в Риме, а не во Франции!Как и обещал Палатино, война продолжала бушевать, народы беднели. И так будет продолжаться, пока разрушенная Европа не созреет для подготовленного дельцами мира. В их тисках оказался и аббат: выплаты его пенсии, как от короля, так и от Отель-де-Вилль, прекратились, и Атто вынужден был выплачивать тысячу франков за квартиру каждый месяц из своих сбережений. Но такая возможность имелась не у всех. Бедность была настолько велика, что даже те люди, которых рекомендовала ему мадам Коннетабль, начали в конце концов вести себя как обманщики, к примеру некий месье Жамаль, внезапно выехавший из Парижа под фальшивым именем, чтобы не возвращать аббату занятые у него двести франков. К счастью, в дело тут же вмешалась мадам Колонна и выплатила долг. И среди всего этого безобразия оказалось, что засахаренные апельсины, которые наконец-то выслали племянники, были украдены по дороге. Единственным утешением для Атто служило то, что его недавно родившийся внучатый племянник, крестником которого стал великий герцог, очень понравился мадам Коннетабль, более того, напомнил ей одну из гипсовых кукол, которых делают в Лукке. И едва он получил новости от Марии Манчини, как на следующее же утро сидел в карете, направлявшейся в Версаль, чтобы в который раз умолять короля отпустить его в Пистойю. В 1713 году у Атто было уже два внучатых племянника, однако его здоровье к тому времени не позволяло ему сделать даже одного-единственного шага по комнате, ни на что не опираясь, более того, он уже не мог даже пойти на мессу. Кроме того, он по-настоящему ослеп. И он неосторожно написал племяннику: «В конце концов меня постигло несчастье: я не могу ни читать, ни писать», что крайне возмутило и удивило родственников и даже великого герцога, которые полагали, что он слеп уже давно. Он возлагал большие надежды на своего друга, монсеньора Гаагского, который возвратил себе зрение в восемьдесят лет. Но с глазами Атто чуда так и не произошло. Поскольку великий герцог догадывался о том, что Атто жить осталось недолго, он послал Доменико летом в Париж. Атто был очень слаб, но по-прежнему надеялся на чудо, которое позволит ему вернуться в Пистойю. В этот, 1713 год, Франция достигла самой низкой точки своего развития: государственные финансы были в таком состоянии, что, по словам Мелани, и ста лет мира не хватит на то, чтобы оплатить долги короля. Все доходы империи были заложены, и опасались, что доходы Отель-де-Вилль приукрашены. Уже добрых два года не выплачивали пенсии, хотя на эти выплаты жила половина Франции. Тем временем Атто перевел все свое имущество в наличные деньги, не зная, чем платить за квартиру. И возвращение в Пистойю приобрело значение спасения in extremis,[1007] поскольку, к счастью, у него еще были земли и дома. В ноябре 1713 года стало известно, что Мария все еще находится в его доме в Пистойе и надеется, что король наконец отпустит его. Мир был почти подписан: принц Евгений и маршал де Виллар провели переговоры в Раштатте, и предполагалось, что соглашение о перемирии будет подписано еще до Рождества. Европа была повержена. Атто планировал поехать в Версаль, как только закончится зима, в апреле. Он снова собирался просить короля отпустить его на родину. Гонди, секретарь Медичи, подыскивал ему квартиру во Флоренции, в квартале Борго Санто-Спирито. Он хотел известить его, когда подберет ему подходящую резиденцию. Атто ни в коем случае не намеревался уходить из политической жизни, нет, он планировал, несмотря на свой преклонный возраст, курсировать между Флоренцией и Пистойей. Он верил в то, что король все-таки позволит ему уехать, когда наступит мир. В радостном предвкушении он писал в Пистойю. Он не мог знать, что это будет его последнее письмо племянникам.
* * *
В ту очень суровую зиму, на которую пришлись последние месяцы жизни Атто, я однажды отправился в магазин торговца книгами из Понтеведро, у которого регулярно делал покупки. Другой клиент, очевидно, следовавший за мной, протолкался в магазине вперед, чтобы его обслужили раньше. Лицо его было скрыто большим шерстяным шарфом. Он спросил книготорговца, нет ли у него сборника рассказов под названием «Из Полу-Азии». Тот удивленно ответил, что никогда прежде не слышал о такой книге. После этого клиент повернулся на каблуках и раздраженно пробормотал себе под нос: – Ах, эти потеведрийцы… Полу-Азия! Я поднял голову и словно во сне увидел, как синие с зеленью глаза сгорбленного великана, которого я хорошо знал, озорно подмигнули мне из-за шарфа… Он вложил мне что-то в руку и быстро вышел на улицу. Я хотел броситься за ним, но он был выше, моложе и быстрее меня, я хотел закричать, но я был нем, я хотел заплакать, но это ничем не помогло бы. И я стал смеяться, все громче и громче, потому что внезапно почувствовал себя легким, как перышко, а потом склонился над тем, что вложил мне в руку ушедший великан. То была тоненькая брошюрка:Доктор Генрих Каспар Абелий
Студенческие искусства
В ней лежала небольшая закладка. Я открыл книгу в заложенном месте, уже твердо зная, что именно найду. На памятной странице были описаны приемы, с помощью которых можно сделать непробиваемую одежду, заставить кого-то проспать три дня и подчинить себе собак. Я тут же увидел все словно воочию: пантера и другие хищники усыплены или приручены, а мой подмастерье бежит по подземному тоннелю под Зиммерингер Хайде. Нам его, точно, показывал Фрош. Я и забыл. А Симонис – нет. На полях страницы рукой Симониса, или Симона, или как там его по-настоящему зовут, было написано «Спасибо». И я был счастлив.* * *
Однажды ночью мне приснилось таинственное, укрытое белоснежным ароматным плащом существо, прибывшее на Летающем корабле и поднявшее меня к вершине собора Святого Стефана. Там я увидел пьедестал, давным-давно предназначенный для Золотого яблока. На его месте теперь возвышался государственный символ, изображение архангела Михаила, защитника рабов Божьих. Существо показало мне надпись – семь слов, начертанных архангелом Михаилом. Я начал читать:Imprimatur
Secretum
Veritas
Mysterium
Затем, немного ниже, было написано «unicum»… А как же два последних слова, которые написал архангел? Словно подхваченный вихрем, уносился вдаль Летающий корабль с раскачивающимся носом. Я в отчаянии размахивал руками в поисках опоры, все еще пытаясь прочесть последние слова послания, но тщетно. – Imprimatur et secretum, Veritas mysteriumst, – произнесло тем временем неземное существо очень громким голосом, используя обычную краткую древнюю форму латинских надписей, при которой выпускались глаголы и наречия. – Можно спокойно открывать тайну, истина останется загадкой! – перевел я. А нечто продолжало: – Unicum… То есть: – Остается только… Что остается? И существо открылось. Оно сняло капюшон и показало свое смеющееся лицо: то был Угонио. Тут я проснулся и поэтому не узнал, чем же заканчивается предложение. Но стоит ли слишком углубляться в это? Кто знает, не является ли фраза одним из тех безумных посланий осквернителя святынь, вроде Allium ursinum или Великий легатор и Albanum[1008] времен событий на вилле Спада, которые так сбили с толку Атто и меня много лет тому назад…Париж 6 января 1714 года
Кто-то рассеянно толкает меня, возвращая к реальности. Немногие зрители поднимаются: панихида по аббату Мелани закончилась. Серебряные ангелы, которые милосердно несли его смертную оболочку во время церемонии, отдают носилки обратно старым слугам. А те отправляются в боковую часовню рядом с главным алтарем напротив ризницы, где будет похоронен аббат. Место готово, ждет только гроба. И скоро надгробный памятник флорентийца Растрелли украсит капеллу почтенным бюстом аббата, на память французским подданным, которые будут проходить мимо этого места.Потребовалась эпидемия гриппа, которая занимает ведущее место в медицинских анналах и так выразительно описана в известном трактате доктора Вити, чтобы победить крепкую натуру старого аббата. Первые симптомы появились в декабре: температура, кашель, небольшое воспаление горла, слабый пульс, обильная, густая мокрота с кровью. Атто шутил: – Это текуфа, – и смеялся, пытаясь отогнать страх того, что на самом деле настал его конец. Мы лечили его растираниями и ячменным отваром, от которого он потел, и состояние улучшалось. Мокрота была по-прежнему обильной, хотя и белой. Медики объявили: – Лимфатический pleuritis spuria,[1009] – криптические слова, за которыми я заподозрил Угонио. Ему прописали мирру, смешанную с камфарой, слабительное, эмоленты и даже китовую сперму, очень дорогое лекарство, сильно замедлившее выздоровление аббата, когда дело дошло до оплаты. Когда худшее было позади, к Атто вернулось его обычное присутствие духа. Я часто видел, как он задумчиво стоит у окна и, прикрыв глаза, смотрит на покатые крыши, снова насвистывая себе под нос одну из тех арий, что написал для него Луиджи Росси. Я уверен, что при этом он вспоминал короля, когда тот был маленьким мальчиком и шестьдесят лет назад слушал арию в замке Сен-Жермен. И, быть может, он думал о причудливых переплетениях счастья и несчастья в его жизни, о зависти, дружбе, предательстве, невозможной любви, о причиненном ему насилии, особенно о том, самом главном, и об особенной судьбе, которая неумолимо решила все за него. Наблюдая за ним, мне нравилось думать о том, что, возможно, как раз в этот самый миг он взвешивает на хрупких весах воспоминаний вину и заслуги, зная, что он верно служил музыке и наихристианнейшему королю и что скоро наступит время, когда ему придется послужить более великому господину. Доменико, Шампиньи и я беспокоились из-за сильного катара в его груди и небольшой лихорадки, которая случалась у него днем. Мы молились о том, чтобы он пережил зиму, а он, в свою очередь, выказывал полную покорность перед волей Господа; он был готов к великому шагу и хотел его совершить, да, он говорил о своей смерти решительно и часто, поручая Доменико множество вещей, которые должны были быть выполнены после его смерти, и в первую очередь, чтобы тот позаботился обо всех его рукописях и книгах: их следовало упаковать в ящики и вручить графу Барди, парижскому послу Медичи, для отправки в Пистойю. Слишком много тайн хранили в себе письма и мемуары аббата Мелани, чтобы он мог отважиться оставить их в своем доме после смерти!
Примерно через неделю, в день святого Стефана, 26 декабря, я услышал, как он бормочет: – Время года для моего выздоровления не могло быть менее благоприятным, – однако тут же добавил с оттенком тщеславия: – Но оно и на крепкие натуры нападает. Неисправимый оптимист, аббат Мелани! Он говорил о своей смерти, но совершенно не верил в нее. То, что он называл выздоровлением, на самом деле было агонией. Четыре дня спустя, то есть 30 декабря, он захотел встать с постели, поскольку, как ему казалось, он задыхался. Однако и этого ему показалось недостаточно: он захотел сделать несколько шагов по комнате, опираясь на меня и Доменико. Но только он попытался двинуться с места, как воскликнул: – Ой-ой, я больше не могу! – И нам пришлось снова посадить его. Но он потерял сознание, и мы уложили его в постель. На наши крики прибежала Клоридия, которая обтерла его царской водкой, ее каждый год заботливо присылал Гонди, секретарь великого герцога, и аббат вскоре снова пришел в себя. Правда, уже через четверть часа ему опять стало плохо. – Не оставляйте меня, – сказал он, а потом лишился чувств, и так, в молчании и недвижении, прошло почти четыре дня, к огромному удивлению медиков, которым прежде не доводилось наблюдать, чтобы сердце восьмидесятивосьмилетнего старика так долго сопротивлялось. Позавчера, 4 января, в два часа пополуночи, он открыл глаза и сел. Я сидел у него в изголовье, я никогда не оставлял его одного, как и он поступал по отношению ко мне три года назад. Я взял его холодные костлявые руки в свои. Он пробормотал: – Побудь со мной. – А потом, устало, протяжно вздохнув, скончался.
* * *
Пока я вместе с остальными посетителями шел по церкви босоногих августинцев, мне казалось, что Атто по-прежнему рядом со мной; как в тот ледяной день, 20 апреля, три года назад, в другой церкви, тоже – какая ирония судьбы – в доме Божьем босоногих августинцев. Там проходила погребальная литургия по его императорскому величеству Иосифу Победоносному. Я хотел присутствовать любой ценой: то были единственные похороны, в которых я принимал участие. Теперь я не мог идти за гробом аббата Мелани, не будучи унесенным ледяным ветром воспоминаний.В рыцарском зале императора, после того как его благословил епископ Венский, переложили в другой, обитый золотым бархатом, гроб, навеки заколоченный позолоченными гвоздями. Носилки повсюду украшало золото: замки, рукоятки, ключи и инициалы I. I, что означало Иосиф I, выгравированные посредине. Босоногие кармелитки из церкви Святого Иосифа накрыли гроб саваном, предназначенным для императорских похорон. Затем они положили в ноги короны Богемии и Венгрии, в изголовье – императорские регалии вкупе с Золотым руном, а посредине, закутанные в полотнище флага с императорским орлом, кинжал и шпагу. Урну с сердцем и языком покойного в полной тишине, как того требовала церемония, отнесли в капеллу Лорето при церкви босоногих августинцев и там поставили среди других урн с сердцами его предшественников. Непосредственным предшественником Иосифа был юный Фердинанд IV, который основал эту традицию в честь Лоретской Божьей Матери. После этого ларец, в котором покоились мозг, глаза и внутренности, был перевезен шестеркой лошадей и в сопровождении эскорта, несущего свечи, в собор Святого Стефана и поставлен там в крипту эрцгерцога. Там его тихо встретили двадцать два ларца с серым веществом и внутренностями, принадлежавшими прежним австрийским Габсбургам. Пока шла церемония, наступила ночь, и с ней пришло страшное прощание. Все вернулись в рыцарский зал, куда уже прибыли королева-мать и другие члены императорской семьи, кроме вдовы императора, которая из-за сильных болей решила остаться в резиденции вместе с младшей дочерью. В сопровождении целого двора и папского нунция гроб пронесли по низким коридорам резиденции до церкви босоногих августинцев и поставили его там на черные носилки. И там между восьмью и девятью часами состоялся печальный похоронный ритуал. За августинцами последовали капуцины, которым надлежало провести захоронение. И тогда настал час народа. Отовсюду в церковь капуцинов стекались верные подданные, оповещенные громким колокольным звоном со всех церквей эрцгерцогства Австрийского, когда в девять часов освещенное светом тысяч свечей, защищенных стеклами фонарей, поставленных повсюду в башне, чтобы прогонять безрадостную тьму, безжизненное тело императора обрело покой. Его окружали две дюжины белых факелов, которые несли пажи, и пламя их нещадно трепал ветер. Его ожидала городская стража в полном составе, опустившая флаги к земле, в то время как из темного нутра барабанов во все стороны разносился удручающий рокот смерти. Пока мы с Атто ожидали умершего, нас едва не задушила толпа. Мне с трудом удалось увидеть похоронную процессию: сразу за гробом шла королева-мать, непроницаемо спокойная, окруженная камергерами, освещенная факелами, которые несли семеро пажей. Ибо ее величество Элеонора Магдалена Тереза была только что назначена регентшей. Как я позднее узнал, аббату Мелани удалось при помощи Камиллы и Винсента Росси передать ей поддельное письмо принца Евгения, чтобы умерить боевой пыл Савойского и помешать ему возвыситься также и при будущем императоре, Карле. Атто слишком хорошо знал, что Евгений будет вести войну с Францией даже без поддержки союзников, Англии и Голландии. Кто знает, не принесет ли это письмо в конце концов пользу? За королевой-матерью шли сестры и старшая дочь Иосифа, их тоже освещало множество факелов, пламя которых безжалостно трепал сердитый ветер. Придворные музыканты затянули Libera те Domini, и Иосифа отнесли к последнему приюту: в склеп капуцинов. Еще совсем недавно, в этом же году, император, словно предчувствуя, приказал расширить его, почти удвоив число комнат. Теперь его положили в большой саркофаг, стоявший в центре. Золотой ключ от него будет вечно храниться в императорской сокровищнице, где находятся также ключи от гробниц других австрийских Габсбургов. Так закончились тридцать три года земного существования его императорского величества Иосифа Победоносного, первого императора с таким именем.
Вена: столица и резиденция Императора Декабрь 1720 года
После смерти аббата Мелани я покинул Париж, также поступил и Доменико.Война за испанское наследство закончилась. Долгих тринадцать лет длились голод, разрушение и смерть. В 1713 году был подписан Утрехтский мирный договор, в 1714 – Раштаттский и Баденский. Все случилось так, как и предсказывал Атто: больше всего на войне нажились английские торговцы. Они добились получения испанского королевства Гибралтар, монополии на работорговлю и отняли у Франции североамериканские колонии. Однако не только те, кто придумал новые времена, но и те, кто поддерживал падение старого миропорядка, получили свою награду. Императору Карлу VI, брату и наследнику Иосифа, были подарены испанские Нидерланды, Милан, Мантуя, Неаполь и Сардиния. 11 сентября 1714 года французско-испанские войска Филиппа Анжуйского, теперешнего короля Филиппа V Бурбона, ворвались в Барселону и утопили в крови независимость города, который Карл бросил на произвол судьбы, чтобы сесть на столь желанный императорский трон. Савойские из мелких оппортунистских герцогов, которым описывал мне Атто, возвысились до королей, и им была передана Сицилия – во всем этом была заслуга Евгения. Таким образом, испанский полуостров оказался в тисках Савойских: на севере – Пьемонт, на юге – Сицилия. Отличная предпосылка для следующего проекта друзей дервиша: чтобы однажды в Италии появился король. В 1713 году вновь был осажден Ландау. Теперь французами, потому что с 1704 года, когда Иосиф во второй раз завоевал крепость, она оставалась во владении империи. Коменданту гарнизона, герцогу Карлу Александру Вюртембергскому, снова пришлось чеканить монеты из своей золотой и серебряной посуды. Судьба на этот раз повторилась с точностью до наоборот, ибо победили французы. Виноват был принц Евгений: если бы он не продолжал войну до последнего, то империя сохранила бы Ландау за собой. Прогнозы Атто относительно Евгения оправдались: Карл VI предоставил ему полную свободу действий и, похоже, намеревался поступать так и впредь. Передача поддельного письма Евгения королеве-матери не помогла. Над императорской резиденцией сгущались черные тучи. Как и пророчил дервиш, дом Габсбургов был на последнем издыхании и в Германии должен был появиться собственный король. У Карла VI не было сыновей, только две дочери. А преемником на императорском троне мог быть только наследник мужского пола. Первенец Карла был мальчиком, он родился в 1716 году, четыре года назад, но через несколько месяцев умер, точно так же, как и сын Иосифа. Какое совпадение! Наследниками Карла VI должны были по праву стать дочери Иосифа. Однако это, конечно же, Карлу было не по нраву. И он в 1713 году, по-прежнему остававшийся без наследника, издает sanctio pragmatica:[1010] после его смерти на трон должны взойти его дети, а не дети Иосифа. Таким образом, ему будет наследовать его старшая дочь Мария Терезия, которая родилась три года назад. Конечно, это был произвол. Страны Европы были не согласны, и Карл несколько лет умоляет и заклинает их признать Прагматическую санкцию. В качестве ответной услуги он обещает им золотые горы, даже передачу государственных территорий. Все что угодно, лишь бы только ни одна из дочерей ненавистного брата не села на императорский трон. Однако злоба Карла ослабляет империю. Немецкие земельные князья уже бьют копытом. Приближается момент, когда Германия (как и предсказывал Палатино) отделится от империи и ею больше не будет править католическая Вена. Короче говоря, как и опасался Атто, эта война означала конец старого миропорядка, однако она не заменила его на новый, вместо этого началась агония человечества. Теперь олигархи за зеленым столом решают судьбы стран, находящихся на расстоянии тысяч миль друг от друга: начиная с Утрехта стали распродавать колонии Нового Света и итальянские земли. Политические альянсы уже не представляют собой центр международной дипломатии, теперь они создаются только для вида, потому что все решают кредиторы королевских домов. А тот, кто не позволит управлять собой, как наихристианнейший король или Иосиф Победоносный, будет выведен из битвы вместе со своими потомками. Династические привилегии или военные завоевания уже ничего не значат, важны только деньги, точнее, финансы: разве не во время войны за испанское наследство монеты начали заменять бумажками?
* * *
От друзей, которые появились у нас с Клоридией в Париже, я узнал, что жизнь там стала еще тяжелее, даже хуже, чем в Риме, и этим все сказано. В 1715 году, пять лет назад, умер «король-солнце», от гангрены, в точности так, как предсказывал Палатино. И он почти не оставил наследников: в промежутке между 1711 и І712 годами у него умерли все родившиеся в браке дети и внуки (это тоже предсказал дервиш). Остался только один двухлетний внук Луи, которого спасли няньки, заперев его в одном из крыльев дворца и запретив медикам не только прикасаться к нему, но даже видеть его. Они были убеждены, что остальные члены королевской семьи умерли не от болезней, а от лечения… Атто Мелани верно говорил мне в Вене: – С таким королем, как великий дофин, Франция наконец вырвалась бы из порочного круга дерзости и разрушения; однако Англия и Голландия хотят, чтобы произошло совершенно противоположное. Страна должна все больше и больше дегенерировать, народ должен ненавидеть двор. Им не нравится, что у наихристианнейшего короля есть взрослые дети и внуки; в идеальном случае у него не должно было быть наследников, или только младенцы, что, в общем-то, равнозначно. Прошли те времена, когда наихристианнейший король мог взойти на трон в возрасте всего лишь четырех лет. Тогда королева-мать, Анна Австрийская, и премьер-министр, кардинал Мазарини, заботились о том, чтобы в дела страны не вмешивались другие державы. Теперь нет ни королевы, ни премьер-министра. – Людовик XIV сосредоточил всю власть в своих руках. Если он умрет, то его наместник или регент отдаст страну первому попавшемуся интригану, быть может, даже человеку из Англии или Голландии, чтобы разрушить Францию.Так и случилось. Смерть наихристианнейшего короля была именно тем, чего ждали друзья Палатино. Всего несколькими месяцами позднее на сцену вышел их человек из Голландии. То был англичанин Джон Ло со своей финансовой теорией, которая обеспечила Франции финансовый крах, подобного которому не было на протяжении веков. Недавно вышел трактат этого обманщика: «Money and Trade Considered», то есть «Размышления о деньгах и торговле». Был еще и французский перевод, но я не нашел его. Я не понимаю «по-английски, а вот мой сын – да: Атто знал, что Англия будет истинным победителем в этой воине, и скрепя сердце велел обучать его наряду с итальянским, латынью, греческим, немецким и французским еще и языку купцов. Так я благодаря своему малышу (который уже стал красивым молодым человеком) наконец черным по белому смог прочесть, с помощью какой ереси Ло нанес Франции смертельный удар: ибо, по его мнению, лучшим стимулом для повышения продуктивности страны являются кредиты и владение бумажными деньгами! То есть не старыми добрыми монетами, которые стоили своего веса в золоте. Короче говоря, приятель ростовщиков. И с помощью таких сказок этим лжецам удалось убедить регента Филиппа II Орлеанского в том, чтобы тот позволил им в 1716 году основать Всеобщий банк. Последствия войны за наследство поставили Францию с финансовой точки зрения на колени, и регент надеялся, что Ло станет для страны спасением. Под новым именем Королевского банка денежный институт выпустил в 1718 году невероятное количество банкнот, давая обещания, в которые мог поверить только простофиля, и раздал их французам, чтобы в ответ получить все, что они имели из золота, серебра и земли. Если это добро стоило сотню, то Ло давал за него бумагу, на которой было написано «это соответствует пяти сотням», и обещал людям, что они могут потребовать свое добро обратно в любой момент. Подданные королевства Франция все поспешили к нему, чтобы доверить свои сокровища в обмен на бумаги. Эта ситуация показывает, сколь наивны французы. Они чувствуют свое превосходство над всеми остальными и всегда готовы восхвалять друг друга, а потом попадаются на удочку первого же шарлатана. В январе этого года регент отдал этому Ло даже пост генерального министра финансов, то есть ту самую должность, которую занимал сначала суперинтендант Фуке, а затем – министр Кольбер! Продолжалось это недолго. В марте друзья Палатино провели смертельный для Франции удар: они посеяли сомнения в том, что Ло можно доверять, и смотри-ка, вот уже все французы бросились в Королевский банк, чтобы потребовать обратно золото, серебро и земельные участки, которые они давали в залог своих банкнот. В результате регент сначала уменьшил стоимость банкнот вполовину, а затем вообще приостановил все платежи. – У нас больше ничего нет, – чистосердечно признался банк французским подданным. Банк был закрыт, Джон Ло бежал в Венецию, французы обеднели. Атто предвидел это, дервиш это пророчил: ураган из финансового краха и народного возмущения поднялся во Франции и распространился оттуда по всей Европе, и без того обессиленной войной за наследство. Деньги, которые на протяжении столетий имели одну и ту же стоимость, теперь, когда они состоят из бумаги – ведь нет ни золота, ни серебра, – с каждым днем стоят все меньше. Я принадлежу к тем немногим избранным, которые могут спать спокойно: у меня есть свой виноградник в предместье Жозефина.
* * *
И я вернулся в Вену. Однако город уже не тот, что раньше. На башне собора Святого Стефана висит величественный колокол, который Иосиф приказал отлить из турецких пушек и который народ окрестил вскоре Пуммерином. Он не прозвонил, как предполагалось, на тридцать третий день рождения императора. Смерть наступила раньше. И Пуммерин повесили в октябре. Освятили его в январе 1712 года, чтобы отпраздновать прибытие нового императора Карла VI. Однако несколько месяцев спустя, в декабре, гнев Господень поразил узурпатора: разразилась чума, и бушевала она на протяжении всего 1713 года, унеся с собой восемь тысяч невинных жизней. И снова я обнаружил указание на прошлое, снова замкнулся круг: secretumpestis,[1011] тридцать лет назад спасший Вену от чумы, которую нарочно посеяли в городе турецкие осаждающие, на этот раз ничем не помог против кары Господней.Я узнал о скверном конце графини Марианны Пальфи, возлюбленной Иосифа, с которой Мелани пытался установить контакт. Едва Иосиф преставился, как на нее набросились королева-мать, министры и вообще весь двор, вынудив ее вернуть подарки своего покойного поклонника. Впав в немилость, изгнанная со двора, она была вынуждена вступить в брак с человеком низшего сословия, что повергло в глубокое отчаяние ее отца, несчастного графа Иоганна Пальфи аб Эрдед, одного из самых верных и храбрых командиров, служивших императорской семье.
С того дня, как умер Иосиф I, солнце больше не всходило кроваво-красным. То было действительно знамение, и в городе оно стало настолько известным, что о нем говорят до сих пор. После того как альманах английского предсказателя со своим пророчеством смерти Иосифа I попал в точку, по всей Вене его в буквальном смысле слова вырывают у продавцов из рук. Можно сказать, что для англичан настали золотые времена.
Итальянцы же, которых так любил дом Габсбургов вплоть до Иосифа I, уже не пользуются симпатией. Теперь приезжают французы, призванные именно тем, кто был их самым заклятым врагом в Испании: Карлом VI. И выпестованный Иосифом итальянский язык постепенно стал вытесняться французским, ставшим языком двора. Едва прибыв в Вену, Карл немедленно уволил весь дворцовый персонал, когда-то служивший его брату. Первыми, кто вынужден был уйти, оказались любимые придворные музыканты Иосифа. Вместо них наняли других, среди которых было очень мало итальянцев. Конечно же, услуги Камиллы тоже оказались нежелательны, и ни одну из ее ораторий никогда больше не ставили. Сестру Клоридии так сильно мучили воспоминания, что она попросила разрешения сменить монастырь. Ее просьба была удовлетворена. Теперь она пытается обрести мир в монастыре Святого Лоренцо. Туда часто приходят добрые музыканты, чтобы навестить ее, но она не хочет видеть никого, кроме моей жены. Несмотря на все, Вена, столица и резиденция императора, по-прежнему остается лучшим местом, где можно сейчас жить. Ни в одном другом городе нельзя жить так хорошо, если хочешь жить уединенно. Я наконец поселился в своем доме с виноградником в Жозефине, когда-то завещанном мне Атто, который питал в сердцах моих любимых так много мечтаний и надежд. Наши девочки теперь тоже в Вене; проэкзаменованные и проверенные на практике акушерки, они получили лицензию и сами тоже стали матерями. Клоридия делает хойригер, в этом ей помогают наш мальчик и оба зятя. Они – молодые умные римляне – счастливы, что оставили столицу ростовщиков, дабы вести жизнь, достойную этого слова. Чтобы обрабатывать виноградник, нужны сильные руки, да и моему сыну полезнее трудиться на свежем воздухе, чем дышать копотью. Кроме того, зимой лучше сидеть в теплом доме, чем мерзнуть на крышах. Хотя трубочистам в Вене платят хорошо, однако здоровье не купишь. Своей привилегией трубочиста я все равно больше не пользуюсь. Я сохранил все бумаги, я даже могу пойти к императорскому казначею и потребовать такой же привилегии для своего сына. Но воспоминания о том, как нас пытались арестовать в Месте Без Имени, удерживают меня от этого шага. Конечно, я не думаю, что сохранились какие-либо следы тех событий – такие вещи не оставляют документальных следов. Все-таки лучше быть осторожным, потому что могут найтись люди, которые знают. Кроме того, уже никто не нужен, чтобы чистить камины Нойгебау, поскольку новый император реставрировать его не собирается. Признаю, с тем воспитанием, которое мой сын получил в доме аббата Мелани, он мог бы стремиться к большему, продолжать образование, добывать знания и становиться мудрее. Однако знать – значит страдать. А вот земля, как говорил аббат Мелани, дает возможность прокормиться и делает свободным. И самым лучшим всегда останется выбор Цинцинната.[1012]
* * *
Наконец я нашел ответ на свой вопрос. Крика я больше не слышал, мелодию фолии – тоже. Я продолжаю жить в благоговейном молчании. Но я слышу, как перешептываются между собой все те, чьи призраки явились мне в Месте Без Имени. Они образовали вокруг меня круг. Я вижу не незнакомые мне места и лица: французский замок Во-ле-Виконт сменяют римская вилла «Корабль» и Нойгебау, а суперинтенданта Фуке – Максимилиан II и Иосиф I. И мне снова приходят на ум две даты, которые встречались мне слишком часто: 5 и 11 сентября. 5 сентября – день рождения наихристианнейшего короля, и в этот же день был отдан приказ об аресте суперинтенданта Фуке; в этот день умер Сулейман, и в этот же день десять лет спустя у Максимилиана началась битва со смертью. Столетием позже именно в этот день осажденная Вена едва не попала в руки неверных из-за предателя-армянина. Моя жена Клоридия, которая время от времени занимается нумерологией, проинформировала меня, что сумма чисел даты рождения Людовика составляет пять, то же самое касается и даты смерти Сулеймана, в то время как дата задержания Фуке составляет десять, то есть дважды по пять. 11 сентября 1683 года подошли христианские войска, чтобы с боем, случившимся на рассвете следующего дня, освободить Вену. И как раз 11 сентября 1683 года я познакомился с аббатом Мелани. В 1697 году в этот день принц Евгений сразился с турками в знаменитой битве при Зенте, и в 1709 году, опять же, 11 сентября, с французами при Мальплаке. 11 сентября 1702 года Иосиф в первый раз завоевал Ландау. В тот же день в 1714 году пали Барселона и Каталония, после того как были оставлены Карлом, утопленные в кровавой бане руками Филиппа V.Только теперь я понял: я вернулся туда, откуда вышел. Ты все получил, больше ничего уже не будет, слышал я шепот голосов. Теперь ты должен давать. Ты научился, теперь ты должен учить. Ты жил, теперь должен дать жизнь.
Со дня нашего прибытия в Вену в 1711 году прошлое все больше и больше открывалось мне. Сначала то были беглые замечания вроде слов Камиллы, благодаря которой снова появилась мать Клоридии. Когда я впервые отправился в Место Без Имени, настоящее и прошлое переплелись еще теснее: от Летающего корабля и до смерти Угонио, с которым я впервые повстречался двадцать восемь лет назад, и до новостей в «Коррьере Ординарио» и «Виннерише Диариум» – все тем или иным способом говорило со мной о прошлом. Жизнь преподала мне свой урок, повторяя старые мелодии прежних дней. Теперь настало время отдать то, что я получил в подарок. Из зрителя, которым я был, я должен был стать актером для новых зрителей; из ученика стать учителем для других учеников; из кувшина, которым я был, превратиться в источник, проливающийся в другие кувшины. Из равных талантов я был призван не зарыть монеты, доверенные мне господином, в землю, а сделать ставку, чтобы приумножить их. Как? Ответ я уже получил: с помощью прошлого. С помощью того, что рассказал мне аббат Мелани за три года, которые я прожил у него в Париже. Жизнь Атто станет моей, его воспоминания – моими. Искусство станет моим прибежищем и моей мастерской.
Вот так и стало то, что тридцать лет назад было не более чем времяпрепровождением молодого слуги, а семнадцать лет назад – одноразовой работой для Атто, решением всей моей жизни. Я писал о прошлом веке, последнем веке человечества. В книгах я соединил все то, что пережил вместе с Атто, с тем, что услышал от него в рассказах. Скучно выносить на бумагу так много прошлого! Иногда я спрашиваю себя: «Успею ли я вовремя? В состоянии ли я это сделать?» Я поглаживаю монетку из Ландау, которую Клоридиятак и не положила обратно в сундук принца Евгения, и опасаюсь, что мне не хватит сил долго сохранять эти такие далекие времена. В основном я работаю тогда, когда все вокруг спит. Мне потребуется много ночей, чтобы на бумаге остался слепок времени. В нашем восприятии так много ошибок, которые искажают настоящую жизнь, если таковая вообще существует. В как можно более точной транскрипции, которую я пытаюсь записать, не изменяется происхождение красок и звуков, потому что я отказался от того, чтобы отделять их от причины. Я описываю сотню масок, которыми обладает каждое лицо; некоторых людей я описываю с каждым ничтожным жестом, который был причиной смертельного потрясения и поколебал нашу уверенность, поскольку изменил цвет морального неба. В записи вселенной, которую нужно срисовать, я не забываю выпустить на сцену и читателя, однако не телесное его проявление, а образ его лет, которые он, сам того не сознавая, тащит за собой, когда ступает по жизни. Усилие, которое дается ему все труднее и труднее и в конце концов его побеждает. У нас у всех не одно только место в пространстве, но и во времени. Вот оно: идея, что время воплощается в нас, что прожитые годы не отделяются от нас, – это истина, которую все чувствуют и которую я пытаюсь подчеркнуть. И в тот день, когда Господь «натянет тетиву» моей жизни и зерна будут отделены от плевел, Он потребует от меня отчета и я отдам в Его руки плоды своих трудов.
* * *
Чернильница и лист бумаги: других способов общаться с людьми у меня не осталось. Голос ко мне не вернулся, я навеки остался немым. Где-то в этих записях написано нечто вроде: «Я страдал от своего молчания, в которое мог войти каждый, словно в место гарантированного гостеприимства. Я так хочу, чтобы мое молчание полностью сомкнулось вокруг меня». Что ж, оно сомкнулось. Поэтому я не могу послужить ему лучше, этому черному штриху на белом фоне, который напоминает мне шахматную доску Христо, моего спасителя. Перья – вот мой голос. Хотя я время от времени помогаю своим зятьям на винограднике, письмо – единственное занятие, которым может заниматься немой. Печатник из Амстердама очень добр и согласился напечатать и продавать мои книги. Туда я отсылаю свои рукописи, в свободную Голландию «Трудолюбивой пчеле» – так звучит адрес, и мысль о том, что это – образ моей скромной, но неутомимой работы, нравится мне.Иногда меня снова охватывает старая тоска. У меня были глаза, чтобы увидеть мир взглядом, который становился таким, каким представлялся моему пророческому зрению. Если так должно быть по небесной справедливости, то было несправедливо не уничтожить меня раньше. И это я повторяю себе все время из глубины души. Разве я заслужил это умиротворение моего смертельного страха? Что это, что растет в мои ночи? Почему мне не дана была сила искоренить грехи этого мира ударом топора? Достигнут ли мои книги совести человеческой? Почему я не обладаю силой, чтобы заставить кричать обесчещенное человечество? Почему мой ответный крик, который я доверяю перу и бумаге, не сильнее громких команд, которые властвуют душами на всем земном шаре? Я сохраню документы для времени, которое уже не будет понимать их, чтобы не сказали, что это подделки. Но нет, время, когда так скажут, не наступит. В своих книгах я пишу о трагедии, побежденным противником в которой оказалось человечество, его конфликт с миром и природой заканчивается смертью. Ах, у меня нет иных героев, кроме людей, поэтому и нет у этой драмы других зрителей. Но от чего умирает мой трагический герой? Он погибает в ситуации, которая засасывала его, как болото, пьянила, заставляла возвращаться к себе вновь и вновь? Но… что, если люди однажды выберутся из этого приключения благодаря милости Божьей – захирев, обеднев, постарев, конечно же, – и высшим законом воздаяния их привлекут к ответу, одного за другим, руководителей универсального преступления, которые выживают всегда: Палатино, Пеничек и другие слуги, палачи и сатрапы, рабы Вельзевула? Ах, если бы мы могли запереть их в храмах и по жребию приговорить к смерти каждого десятого, чтобы потом не убить их, а дать пощечину! И сказать им: как, разве вы не знали? Вы не думали, что после объявления войны среди множества вероятностей горя и позора существует еще несчастье, что детям будет не хватать материнского молока? Как, вы не измерили безутешность одного-единственного страшного часа за время многолетнего плена? Вы не взвесили страдание тоскливого вздоха, замаранной, израненной, убитой любви? И вы не заметили, как трагедия превратилась в фарс – ведь вездесущий ужас навсегда соединился с древним безумием формально вполне корректно, – преобразившись в комическую оперу? Поистине, это будет одна из тех противоестественных комических опер, написанных сегодня, текст которой – оскорбление, а музыка – мучение.
В тени нового демона из Англии, финансового монстра, природа была изнасилована истеричным старанием. На вооружении у него бумага. Газеты за последние годы пережили настоящий взрыв, и ничто не указывает на то, что он вскоре закончится. А я в молодости хотел стать газетчиком! К счастью, в тот далекий 1683 год аббат Мелани позаботился о том, чтобы у меня исчезло желание заниматься этой деятельностью. Газеты – это машины, и жизнь людей бросают им на поругание. Жизнь, конечно же, это только то, чем она может быть в такую эпоху, как эта, эпоху машин; и так возникают глупые, дурацкие порождения, и все они несут на себе клеймо вульгарности. Бумага командует оружием и превратила нас в инвалидов еще до того, как пушки нашли свои первые жертвы. Разве не были уже разорены все царства фантазии, когда втиснутый в клише листок объявил войну населенному миру? Нет, не печатный станок привел в действие машины смерти. Но он опустошил наши сердца, чтобы мы уже не могли себе представить, как выглядит мир без войны и газет. Вы опьянили ими народы, и короли земные блудили с ними, и мы все пали от вины вавилонской блудницы, которая – напечатанная и распространенная на всех языках мира – убедила нас в том, что мы враги друг другу и что должна быть война.
* * *
Сделано. Я написал. Я выполнил свой долг, до последнего. Мои книги сражаются с газетами. Ну и хорошо. Никто не может больше отрицать, что теперь я достиг совершенства. «Камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным камнем», – говорится в псалме, и Симонис сказал это дервишу в ту ночь в Месте Без Имени. Подобно солнечной колеснице, которая галопом несется по небу, в голове у меня всплывают другие слова, которые произносил Симонис: игра никогда не закончится полностью, потому что мы все – часть Божественного плана, даже его враги. Слишком рано забыл я эти слова, которые потрясли даже Палатино. Мне очень жаль, Симонис, мое отчаяние – выпущенная Кассандра последних дней человечества – мешает твоим словам созреть во мне, по крайней мере, теперь. Сейчас я спасаюсь, я один, в своем молчании, своим молчанием, которое сделало меня настолько совершенным, как того требует время. Только Клоридия постепенно стала это понимать: она весело улыбается мне, и наши объятия такие же благословенные, как когда-то. А вот мои храбрые зятья не хотят понимать этого. Они приходят каждый день, пытаясь вытрясти меня из молчания, в которое я, вещь среди людей, погружен полностью. Они хотят, чтобы я плакал над своей судьбой, чтобы в моих глазах промелькнула хотя бы тень гнева или горя, они хотят, чтобы я, как и они, поверил, что жизнь там, снаружи, в избытке жизни. Я и глазом не моргнув опускаю перо обратно в чернильницу и смотрю на своих зятьев неподвижным, застывшим взглядом. И обращаю их в бегство. Мои дочери ради меня занимаются изучением новых трактатов о нервных болезнях, которые так популярны среди молодых врачей – врачей, которые не могут ничего, кроме как держать в руках скальпель и препарировать трупы. Они уже не могут написать ни единого стихотворения. Как будто наука может существовать без искусства… Мои девочки предлагают мне пункции и бальзамы, они настаивают, пытаются уговорить меня, чтобы я дал обследовать свои голосовые связки какому-то известному медику. Нет, благодарю. Я благодарен вам всем. Довольно теперь. Я хочу, чтобы все оставалось как есть. Время такое, жизнь такая; а в том смысле, который я придаю своему занятию, я хочу только так и никак иначе – немой и непоколебимый – быть писателем. Сцена готова? Поднять занавес!Пистойя Год 1644 от Р. X
Карета скрипит, лошади в мыле, а пыль, попадающая в карету, покрывает нас, словно слой пудры. До прибытия в Рим мы наглотаемся ее более чем достаточно. Мы едем всего четверть часа, но мое несчастное тело скрипит уже точно так же, как оси нашей коляски. Я высовываюсь из окна, чтобы посмотреть назад, и в утренней дымке вижу, как постепенно исчезают крыши Пистойи; скоро они совсем скроются из виду. Затем я смотрю вперед, на невидимый, далекий зенит, где нас ожидают объятия Священного города. Мой молодой господин, восемнадцатилетний Атто Мелани, сидит рядом со мной. Глаза его закрыты, время от времени он открывает их, оглядывается по сторонам, а потом снова закрывает. Можно даже подумать, что все это путешествие ему безразлично, но я знаю, что это не так. Прежде чем доверить его мне, крестный Атто, мессир Соццифианти всячески напутствовал меня: – Он – натура импульсивная. Тебе придется присматривать за ним, давать советы, удерживать его. Такие выдающиеся таланты должны приносить плоды. Он должен во всем повиноваться мастеру, которого мы нашли для него, великому Луиджи Росси, и завоевать его благосклонность. Пусть избегает дурного общества, ведет себя похвально и никогда не вызывает раздражения, так он достигнет почестей. Рим – это змеиное гнездо, где горячие головы терпят крах. Я кивал и благодарил, прежде чем, не задавая вопросов, поклониться. Я ведь и сам знал то, что не было сказано, самое главное. Мне поручили талантливейшего кастрата, которого когда-либо рождала тосканская земля. В Риме мастер сделает из него величайшего сопраниста нашего века. Он станет богатым, и все будут восхищаться им. Вполне понятно, что будет непросто заставить его сохранять трезвость рассудка. Он происходит из бедной семьи (его отец – простой звонарь Пистойского собора), но брат великого герцога, могущественный Маттиас де Медичи, уже на руках его носит. Я украдкой смотрю на него, на молодого Атто, вижу, как ямочка, красующаяся посреди его подбородка, слегка дрожит, и понимаю все. Хотя он прикрыл глаза и притворяется, будто спит, я вижу, как гордо вздымается его грудь от протекции, которой одарили его сильные мира сего. Вижу даже, как глаза его бегают под прикрытыми веками, пытаясь ухватить сны о славе, которые пляшут перед ним, словно рой взволнованных мотыльков. Вместо того чтобы думать о юбках, как все мальчики его возраста, в голове у него слава, почести и карьера в обществе. Нет, удержать его в узде будет нелегко. И, кроме того: с чего молодому кастрату быть мудрым и вести себя сдержанно, если то, что привело его на дорогу в Рим, случилось ужасной, варварской ночью, когда его, ребенка, положили в ванну и ножницами отрезали мужское достоинство? Ведь в то время как вода окрашивалась пурпуром и звучали громкие крики, из ванны вышел не мужчина, а жестокая шутка природы! Нет, непросто будет обуздать юного Атто Мелани. В Риме меня ждут интересные дни, в этом я уверен.«Veritas написано на титульном листе этой книги. […] В этом утешительном убеждении я заканчиваю свою книгу, состоящую на службе истины. Мне пришлось поведать о мрачных и безотрадных вещах, ложь и предрассудки, подобно густым туманам, нависают над землей моей родины, но мы не остановимся, и не покинет нас мужество… Vincit Veritas![1013]»Карл-Эмиль Францоз. Из Полу-Азии
Город Ватикан 14 февраля 2042 года
Дону Алессио Танари, Centrul Salesian Констанца – РУМЫНИЯ
Дорогой Алессио,
этим письмом я хочу снова напомнить Вам о себе. Вы сразу поймете, как только откроете посылку: я послал Вам копию новой книги, которую получил от своих друзей Риты и Франческо. Следуя привычке, которая уже стала для нас традицией, они прислали мне и свой третий труд прежде, чем он был опубликован. Я уверен, что этот роман доставит Вам большое удовольствие, Вы ведь сумели оценить две предыдущие книги. Кстати, Вы видели? После «Imprimatur» была выпущена и вторая их книга, которая носит название «Secretum». И не кто иной, как я послал Вам рукопись аккурат год назад. Тогда я жил в Румынии, в Констанце, античном Томисе, куда император Август отправил в ссылку латинского поэта Овидия и где сейчас находитесь Вы сами. Кто бы мог подумать, что все изменится за такое короткое время? Со смертью прежнего папы и выбором немецкого понтифика все стало по-другому. Его святейшество был так добр, что назначил меня кардиналом и указал мне место в Конгрегации доктрины веры. Когда я случайно прохожу мимо зеркала и вижу в нем свое незаслуженно украшенное пурпуром отражение, я невольно улыбаюсь, вспоминая, как всего лишь год назад, находясь в изгнании в Румынии, я полагал, что мне остался совсем другой пурпур – пурпур мученика. А Вы, как Вы чувствуете себя в новом качестве – миссионера в Румынии? Что испытываешь, когда складываешь с себя облачение монсеньора и снова надеваешь одежды простого священника? Это может казаться Вам деградацией, однако для души не обязательно оценивать вещи только таким образом, какими они кажутся, Вы не находите? Святой отец (который принял решение о Вашем немедленном переводе и моем столь же неотложном возвращении вскоре после конклава) несколько дней назад сказал мне, что он хорошо помнит Вас, когда Вы были моим учеником в духовной семинарии. Миссия в Констанце на неограниченное время, по его мнению, это именно то, что соответствует честолюбивым целям, которые Вы ставили себе еще будучи молодым человеком. Конечно же, я говорю о целях духовных.Однако вернемся к прилагаемому манускрипту и к моим добрым друзьям Рите и Франческо. Его святейшество уже читал его, и поскольку сам он родом из тевтонских земель, в которых разворачиваются события, ему доставило большое удовольствие наблюдать за тем, как этот рассказ танцует вальс между историей и литературой, как объединяет цитаты из исторических источников с намеками на Шекспира, Пруста и Карла Крауса, а под конец предлагает читателю шутовские анахронизмы из известных венских оперетт вроде, к примеру, «Веселой вдовы» Франца Легара (из которой и появляются выдуманное небольшое государство Понтеведро и многое другое), «Летучая мышь» Иоганна Штрауса младшего (где Фрош является тюремщиком), «Графиня Марица» Имре Кальмана и, конечно же, «Нищий студент» Карла Миллекера.
Кроме этого, я посылаю Вам запись хора, который поет средневековую мелодию «Quem queritis». Я услышал эту музыку случайно, на днях, когда читал третью книгу моих друзей. Прежде чем объяснить, почему Вы получили эту рукопись, мне нужно Вам кое-что рассказать. Imprimatur Secretum Veritas Mysterium: так, судя по рукописи двух моих друзей, звучит послание, выгравированное архангелом Михаилом на вершине собора Святого Стефана. Или же это просто бред осквернителя святынь Угонио? Когда я прочел эти слова, то сразу предположил, что они могут быть взяты из «Flos sententiarium»,[1014] одного из тех сборников латинских девизов, вроде in vino Veritas или же est modus in rebus. Как правильно отмечает рассказчик, надпись следует эпиграфическому узусу, когда опускаются глаголы и наречия, и полное предложение должно было бы звучать так: imprimatur et secretum, Veritas mysteriumst, причем mysteriumst в данном случае заменяет mysterium. Использование союза et в значении «также» или «даже» и задуманный в двух частях предложения глагол est в значении «есть» имеет давнюю традицию. Но все это восходит не к Сенеке или Марциалу, и даже не к Цицерону и не к Плинию. Использование понятия imprimatur, иными словами, «можно печатать», что, кроме прочего, означает дозволение церковных властей на публикацию книги, однозначно относится к печати текста и исключает датировку древними классиками. Значит, речь идет не о словах римского писателя из позднеримской империи или времени раннего христианства, а принадлежат они одному из современных авторов. Я искал в различных антологиях латинских крылатых выражений, даже в несколько устаревшем, но превосходном сборнике Де Маури, который выпустил Хепли. Ничего, ни малейшего намека. Я то и дело повторял эти слова, словно тайную, еретическую молитву, или слова, обладающие таинственной силой, которые, как говорят, на протяжении всей жизни монотонно повторяют тибетские монахи. А потом это слово unicum… это искаженное завершение, которое намекает на что-то, что еще не сказано. Но что остается в лесу неизвестностей, в который гонит нас непознаваемость истины? Ответ, вот только я не сразу заметил, уже витал в воздухе. Это было пение монахинь, музыка, которая постоянно доносится из проигрывателя рядом с моим письменным столом: Quem queritis из репертуара средневековых литургических песнопений, исполняемый русским певцом, воспоминание о моем изгнании в Томисе, сувенир, как говорил святой отец. Это название – Quem queritis – не утверждение. Это вопрос. Латинский текст, диалог, звучит так:
– Quem queritis in sepulchro, christicole? – JESVM Nazarenum crueifixum, оcelicole. – Non est hic, resurrexit sicut predixerat, ite nunciate quia surrexit de sepulchro.Quem queritis? JESVM. Jesum, Иисус. Это сладкое имя что-то шептало мне. Что-то, что я уже знал, сам того не понимая. Но что? После многих часов напрасных сосредоточенных размышлений я почувствовал желание записать это: JESVM, по-латыни, с V вместо U. Следующий шаг получился сам собой. Я записал слова загадочного послания в столбик:
– Кого вы ищете в могиле? – Распятого Иисуса из Назарета, о ангел. – Его здесь нет, Он воскрес, как и предсказывал. Так идите же и объявите, что Он восстал из мертвых.IESVM – винительный падеж, поскольку является предметом, потому что отвечает на вопрос: кого вы ищете? Мы ищем Иисуса. Получается, что слово отвечает на вопрос, единственный истинный вопрос для того, кто верит. Кого мы ищем на самом деле, кого мы должны искать, если не Иисуса? Кто остается, если не Он?
Quem queritis? Ответ – Jesum, которого на некоторых могильных плитах (в память об эпизоде с ангелом, провозглашающим воскресение Иисуса) периода раннего христианства обозначали как ISVM, с «V» вместо «U» и без «Е», а иногда и как I'SVM, то есть с выпущенным «Е». Рядом на тех же могильных плитах можно обнаружить символ ATTQ, означающий, что альфа и омега жизни, то есть ее начало и конец, находятся в храме Господнем, который обозначается двумя буквами ТТ. Но можно прочесть эту надпись и как «Атто». Атто – или, лучше, ATTQ – это мы все: хотим мы того или нет, мы все под дланью Господней.
Я знаю, что вообще-то не хватает еще двух слов из семи, которые и составляют послание. Будем надеяться, что оно и в самом деле не просто плод страшной фантазии Угонио…
Да пребудет с Вами мир. Кардинал Лоренцо дель'Аджио.
Комментарии
Содержание:
Оспа Иосифа I – Летающий корабль и его изобретатель – Место Без Имени и его враги – Евгений Савойский – Иосиф Победоносный – Цензурованная биография Карла и его тайны – Атто Мелани – Камилла де Росси – Турецкое посольство и легенды – Илзунг, Хаг, Унгнад, Марсили – Нищие студенты и трубочисты – Досуг, пивные, пирушки и другие особенности – Венцы и их история
Оспа императора Иосифа I
Император Иосиф І умер в пятницу, 17 апреля 1711 года, в 10 часов 15 минут, на тридцать третьем году жизни. Официальный диагноз: оспа. Примечание: оспа, ужасное, сегодня (практически полностью) исчезнувшее заболевание, еще ни разу не было вылечено успешно. Лекарства от оспы не существует. В известном справочнике Гаррисона по внутренним болезням (М. Дитель. Терапия Гаррисона. Берлин, 2005,16-е изд., 1377 с), настольной книге каждого студента медицины, можно прочесть, что вирус оспы наряду с бактерией сибирской язвы входит в десятку самых опасных возбудителей болезней класса А, за которыми особенно пристально следят в эпоху борьбы с биологическим терроризмом. В 1996 году представители 190 стран утвердили резолюцию: 30 июня 1999 года все еще сохранившиеся в мире возбудители оспы должны быть уничтожены. Но этого не произошло. В CDC (Центре по контролю и профилактике заболеваний США) в Атланте сохранились вирулентные штаммы вируса оспы.Когда 7 апреля Иосиф заболел, при дворе ни у кого не было оспы. Более поздние исторические исследования (к примеру: Б. Ц. Инграо. Иосиф I, «забытый император». Грац/Вена/Кельн, 1982) сообщают, что в то время эпидемия оспы свирепствовала во всей Вене. Это не подтверждается. Рассматривая все эпидемии, которые случались в Вене с 1224 года (История болезней Вены. Вена, 1817), историк Герман Иосиф Фенгер ни словом не упоминает эпидемию оспы 1711 года. Равно как и Эрих Цельнер (История Австрии, с. 275–278). Однако мы решили перепроверить лично. В городском архиве Вены мы просмотрели так называемые протоколы осмотра трупа, где здравоохранительные органы записывали каждый случай смерти. Мы просмотрели март, апрель и май 1711 года и не нашли ни следа эпидемии оспы. И не только это: количество смертей держалось все это время на обычном, среднем уровне. До того дня, как он заболел, чтобы через десять дней умереть, Иосиф I был молодым человеком в полном расцвете сил, отличался отменным здоровьем, занимался спортом и был прекрасным охотником. В медицинском заключении написано, что лицо мертвого было покрыто множеством пустул. Однако об этом ничего не говорится в напечатанной и распроданной сразу же после этого события газете, которая описывает смерть и выставленное на всеобщее обозрение тело покойного (Обстоятельное описание кончины Его Величества / ИОСИФА, / первого с таким именем / римского императора, / а также короля Венгрии и Богемии, / а также эрцгерцогства Австрийского, / славной памяти, испытавшего болезнь / и почившего, / u последовавшего за этим роскошного погребения, / собранное и записанное Иоганном Батистом Шенветтером, Вена, 1711 год). Кроме того, искаженное пустулами лицо наверняка не стали бы показывать подданным. Неужели все дело в искусном бальзамировщике?
Из написанного на латинском языке дневника доктора Франца Холлера фон Доблгофа (Государственный архив, Вена, Акты семейных состояний, 67-я коробка) следует, что император плевался кровью и слизью еще при первых симптомах. Непосредственно после его смерти, пишется в этом дневнике, «из обеих ноздрей и изо рта долго текла кровь». Будто бы шея опухла и была «atro livore soffuso», то есть темно-синей из-за внутренних кровоизлияний. Во время аутопсии, которую проводил сам Холлер, печень и легкие тоже описываются им как «синие и воспаленные, лишенные своего естественного цвета»: то есть кровоизлияния были и здесь. Из-за невыносимого запаха аутопсия была остановлена, череп не вскрывали. Такое медицинское описание сегодня было бы классифицировано как геморрагическая оспа, особо заразный вариант с высоким шансом смертности. Однако такая разновидность оспы существовала не всегда.
До смерти Иосифа I ни в одной медицинской записи не идет речь о геморрагическом протекании оспы. Первыми медиками, которые говорили об оспе, были, во-первых, Гален, а затем – врачи X века: перс Разес, Али Бен эль Аббас и Авиценна, кроме того – в XI веке – Константино л'Африкано, писарь Роберта Гвискара. Все они (см. полные названия их трудов в библиографии) занимаются пространными, подробными описаниями оспы, вероятных осложнений и протеканий болезни, однако никто не упоминает возможности кровотечений. Напротив: протекание оспы в большинстве случаев описывается доброкачественно; только в нескольких случаях она приводит ослабевшего пациента к смерти. Та же картина наблюдается в XVI–XVII столетиях: Амбруаз Паре, Никколо Масса, Джироламо Фракасторо, Альпинус, Очи Ризетти, Сципионе Меркурио и Сиденхем – и это только некоторые из известных имен – посвятили оспе пространные главы своих трудов, но о геморрагической оспе нет ни слова. Все эти врачи тоже описывают болезнь как широко распространенную и не опасную: смертью она заканчивается только в случае внезапно возникающих пандемий, которые вызывают война и голод. Медицинские трактаты обычно описывают оспу в главах, касающихся детских болезней, и часто объединяют ее с корью. В своей книге «Трактат об оспе и кори» Разес приводит очень точное различие между двумя этими болезнями: «Беспокойство, тошнота и приступы страха чаще возникают при кори, чем при оспе; боли в спине более характерны для оспы». Также и Амбруаз Паре (Труды. Лион, 1664,10-я книга, главы 1–2) пишет об оспе в общей главе наряду с корью, где уделяет большое внимание признакам, по которым можно отличить одну болезнь от другой. Для нас такие уточнения звучат совершенно непонятно: сегодня оспа, к сожалению, сильно отличается от почти всегда безобидной кори. Ужасные оспенные пустулы и вся тяжелая картина болезни не имеют ничего общего с красными точечками кори и сопровождающими ее симптомами. Сиденхем тоже сравнивал оспу и корь, признак того, что оспа с X по XVII век оставалась в целом неизменной, то есть это значит, что она была заразной болезнью, похожей на корь. Даже дочь Иосифа, Мария Жозефа заразилась оспой в январе 1711 года, за три месяца до отца, и выздоровела. Все обошлось без каких бы то ни было кровотечений.
Первым свидетельством геморрагической оспы, которое дошло до нас, является не что иное, как результат медицинского осмотра Иосифа I. Два года спустя, в 1713 году, греческий врач (другие полагают, что он был родом из Болоньи) Эмануэль Тимони в своем трактате под названием «Historia variolarum quae per insitionem excitantur» (История выздоровевших после прививки оспы) впервые говорит о новой, используемой в Константинополе практике: инокуляции под кожу. Следует заранее сказать: инокуляция означает не что иное, как традиционную, старую форму иммунизации, которую практиковали до того, как английский врач Эдвард Дженнер в конце XVIII века изобрел известную сегодня методику прививки. При инокуляции из пустул больного оспой со слабыми, доброкачественными симптомами брали сукровицу и вводили ее здоровому человеку через надрез в коже, чтобы вызвать такую же легкую форму болезни. Обработанный таким образом пациент должен был заболеть легко и ненадолго, чтобы навсегда избавиться от угрозы заражения тяжелой формой оспы. Всем было известно, что оспа никогда не поражает дважды одного и того же человека. Конечно же, подкожная инокуляция могла служить как превентивным, так и преступным целям, если передавалась со смертельной формой вируса. Тимони сообщает о двух старых греческих прорицательницах, именуемых Фессалийка и Филиппийка, которые на рубеже XVII и XVIII веков находились в Константинополе и занимались инокуляциями в столице Османской империи среди «свободного», то есть немусульманского народа, поскольку мусульмане отказывались инокулироваться. В 1701 и 1709 годах, то есть после того, как эта практика несколько распространилась в городе, в Константинополе случилась первая эпидемия оспы со множеством умерших. Обе прорицательницы, тем не менее, не были линчеваны, а наоборот, услышали в свой адрес восхваления. Поскольку некоторые признанные врачи утверждали, что без вмешательства обеих гречанок эпидемия могла быть еще более ужасной. И вскоре местное духовенство поручилось за женщин, что окончательно открыло двери инокуляции. Год спустя после описанных Тимони событий, в 1714 году, венецианский посол в Константинополе в своих записках «Nova et tuta variolas excitandi per transplantationem methodus nuper inventa» (Недавно открытый новый и безопасный метод лечения оспы с помощью инокуляции) тоже сообщает о практике инокуляции.
Два года спустя, между 1716 и 1718 годами, подкожная инокуляция получила широчайшее распространение по всей Европе. Началось все с супруги английского посланника в Константинополе, леди Мэри Уортли Монтегю, которая официально привезла этот способ из Турции в Венецию. Во время своего путешествия английская леди горячо пропагандировала инокуляцию при всех европейских дворах, более того, она даже привила своих детей. В 1716 году она находилась в Вене, где, как можно прочесть в ее дневнике, познакомилась с вдовой и дочерью Иосифа. В 1720 году она уговорила английского короля привить нескольких каторжников, прикованных к галере. С 1723 года инокуляция стала массово применяемой методикой. Однако именно в этот промежуток времени оспа изменилась, и вместо того чтобы стать слабее, превратилась из доброкачественной болезни в инфекцию, которая почти всегда протекает со смертельным исходом. Теперь оспа не считается детской болезнью: ее симптомы стали гораздо более тяжелыми, чем описанные в прошлых столетиях, и, в первую очередь, ужасные пустулы уже стало совершенно невозможно сравнивать с пузырьками ветрянки и еще менее с сыпью из красных точек при кори. В сочинении Марко Чезаре Наннини «La storia del vaiolo» (История оспы), изданном в Модене в 1963 году, мы видим ужасающие цифры: за первые 25 лет после введения инокуляции умирает 10 % мирового населения. Крайне многочисленны случаи геморрагической оспы. Вскоре инокуляция оказывается отличным методом для колониальных завоевательных походов: число аборигенов Америки, индейцев Северной и Южной Америки, было уменьшено с ее помощью. Е. Бертарелли (Дженнер и изобретение прививки. Милан, 1932) сообщает, что в одном только Санто-Доминго за несколько месяцев умерло 60 % жителей, что оспа на Гаити, куда она была привезена в 1767 году, быстро убила две трети жителей и что в 1733 году четверть населения Гренландии была уничтожена оспой. В Европе со времени введения подкожной инокуляции до конца XVIII века от оспы умерло 60 миллионов человек (Х.-Дж. Периш. История иммунизации. Лондон, 1965, с. 21). В современных источниках конца XVIII столетия можно отыскать похожие оценки (Д. Фауст. Сообщение на Раштадтском конгрессе по поводу искоренения оспы, 1798, Национальный архив Франции, F8 124). В 1716 году оспа вызвала в Париже 14 000 смертельных исходов и 20 000 в 1723 году; в 1756 году в России случилась крупная эпидемия оспы, в 1730-м таковая случилась в Англии, где за четыре десятилетия от оспы умерло 80 505 людей. В Неаполе в 1768 году за несколько недель умерло 6000 человек; в 1762 году в Риме тоже 6000; в Модене после нескольких подкожных инокуляций разразилась эпидемия, продолжавшаяся восемь месяцев и истребившая население города; 2000 умерших было в 1728 году в Амстердаме и 42 379 в 1798 году в Германии, в то время как в 1766 году только в одном Берлине умерло от оспы 1077 и 3528 – в Лондоне. Тем временем Англия хорошо наживалась на инокуляции: Даниэль Саттон основал процветающее предприятие по инокуляции, филиалы которого находились во второй половине XVIII столетия в таких удаленных регионах, как Новая Англия и Ямайка. Как часто умирали от оспы до того, как появилась инокуляция? Возьмем, к примеру, Лондон: 38 умерших в 1660-м, 60 – в 1684-м, 82 – в 1636-м. Короче говоря, почти не умирали. При венском дворе до Иосифа заболел оспой только Фердинанд IV. А после Иосифа болезнь начала распространяться со скоростью взрыва и до конца XVIII столетия убила еще девять Габсбургов. Случаи геморрагической оспы в те годы были уже просто бесчисленны, и во всех без исключения случаях заканчивались смертью больного.
Здесь для сравнения приведены два описания заболевания. Первое принадлежит Сципионе Меркурио, известному римскому врачу, жившему с 1540 по 1615 год (La commare (Костлявая). Венеция, 1676, третья книга, гл. XXIV, с. 276, Delle Varole e cura loro (Об оспе и ее лечении)), то есть до того, как была введена инокуляция. Необходимо обратить внимание на то, что Меркурио тоже указывает на схожесть оспы с корью (он подробно описывает оба заболевания в книге «De morbis puerorum», lib. 1, «De varolis et de morbilis». Венеция, 1588). Второе описание оспы принадлежит доктору Фаусту и взято из уже цитированного нами труда, датируемого 1798 годом, когда прививочная эйфория достигла первого апогея. Меркурио пишет:
«А теперь я опишу общие внешние признаки заболевания, и в первую очередь того, которое называется оспой, как именуют в этой стране «вариолу». Между оспой и корью существуют некоторые различия, невзирая на них я буду рассматривать сразу обе болезни. При оспе возникают маленькие пустулы или пузырьки, появляющиеся на всех частях тела, причем внезапно, сопровождаемые болью, зудом и высокой температурой, лопаясь, они превращаются в гнойники. (…) Признаком начала заболевания являются боль в теле, хрипота, покраснение лица, головная боль и частое чиханье. Признаками прорыва заболевания являются горячечный бред, пустулы и пузырьки на всем теле, то белые, то красные, то более, то менее крупные, в зависимости от степени поражения тела пациента. Оспа не смертельна, за исключением некоторых случаев, когда либо из-за зараженного воздуха, либо из-за ошибок врачей умирает много людей, как во время чумы».А вот описание Фауста, датированное 1798 годом:
«При оспе по всему телу выступает множество пустул, покрывая больного с ног до головы. Тело словно окунули в кипящее масло, боли жесточайшие. По мере нагноения лицо опухает и искажается; глаза закрыты, горло воспалено и не в состоянии проглатывать воду, которая просто необходима при хрипах. Больной, таким образом, лишается одновременно света, воздуха и воды; его глаза выделяют гной и слезы; из легких поднимается неприятныйзапах, слюна становится кислой и течет непроизвольно; экскременты словно протухшие, с гноем, часто то же самое касается и мочи. На теле множество гноя и пустул, человек не может двигаться, к нему нельзя прикасаться; больной стонет и лежит неподвижно, в то время как та область, на которой он лежит, становится гангренозной».Ужасно также описание больных оспой в стихах, которое приводит аббат Жан-Жозеф Роман в 1773 году в своем стихотворении «L'inoculation» (Инокуляция):
* * *
Описание кровотечений Иосифа имеет заметное сходство с «purpura variolosa»,[1015] как назвал ее почти девяностолетний врач доктор Герхард Бухвальд в своей книге «Прививки: сделка со страхом» (Мюнхен, 2000). Доктор Бухвальд – один из немногих живых врачей, которые лично наблюдали и изучали случаи оспы. В 2004 году мы послали ему документацию по поводу заболевания Иосифа I. Спустя некоторое время у нас с ним состоялся долгий телефонный разговор. На основании своего опыта Бухвальд пришел к убеждению, что повреждение кровеносных сосудов возникает только в случае оспенной инфекции, когда вирус вводится именно в эти сосуды. Подобное заключение можно прочесть на с. 50 его книги:«Подобные протекания относятся на счет проведенной незадолго до этого прививки, и они всегда заканчиваются смертельным исходом».Короче говоря: по мнению Бухвальда, естественной формы геморрагической оспы не существовало никогда. Эта разновидность болезни является следствием введения прививных частиц.
* * *
Современная литература об оспе содержит множество исследований, где утверждается, что подкожная инокуляция была известна в Китае и Индии еще тысячелетия назад. Эта пропаганда распространялась в XVIII веке, чтобы установить доверие по отношению к практике инокуляции. Что же касается Китая, то в качестве первоисточника часто называют отца-иезуита Дантреколя, который был миссионером в Пекине. Однако его записи датируются только маем 1726 года, не раньше, и он просто цитирует абзац из китайской книги, где описывается метод иммунизации против оспы посредством ингаляции, а не инокуляции. То есть этот метод профилактики оспы не имеет ничего общего с прививками, напротив: иезуит даже поясняет, что, по мнению китайских врачей, болезнь в любом случае смертельна, если оспа попадает в организм не естественным путем (например, через нос), а через надрез на коже. Известный труд по истории китайской медицины, написанный Химин Вонгом и By Лен-Тэ («History of Chinese Medicine» (История китайской медицины). Шанхай, 1936), говорит о том же, в нем указывается, что некоторые историки медицины ссылаются на Индию, как на первую страну, где стали применять инокуляцию. Известный индийский медик и преподаватель университета Калькутты Гириндранат Мухопадхайя в своей книге «History of Indian Medicine» (История индийской медицины. Дели, 1922–1929, т. 1, с. 113–133) исследует все источники, которые утверждают, что инокуляцию практиковали в Индии с незапамятных времен. Мухопадхайя приходит к тому же выводу, что и мы: доказательств нет. Некоторые врачи (почти все англичане) пишут, что они слышали в Индии легенды об этом обычае, уходящем корнями в Средневековье. Один из них, некий доктор Гиллман, даже обнаружил написанный на санскрите медицинский трактат, где упоминается инокуляция. Мухопадхайя отдал его на анализ двум исследователям санскрита, которые обнаружили в нем интерполяции. То есть это подделка. В древних индийских трудах по медицине Чараки, Сушрута, Вагбхата, Мадхава, Винда Мадхава, Чакрадатта, Бхава Мишра и других Мухопадхайя не нашел никаких указаний на практику инокуляции с возбудителем оспы. Более того: в хвалебных песнопениях богине Шитале, которые изъял Кашинканда из Скандапураны, ясно говорится о том, что против оспы нет лекарства, кроме молитв богине. Тем не менее, подчеркивает Мухопадхайя, «по-прежнему никто не сомневается, что в Индии часто практиковали инокуляцию». Мухопадхайя предполагает, как и мы, что все было сконструировано, дабы создать безупречную историю возникновения сначала инокуляции, а там и прививки, которая заставит массы доверять этим методикам и позволять применять их на детях. В истории оспы можно найти не только подделки, но и прискорбные замалчивания. Изобретатель прививки – того способа, который последовал за инокуляцией, – известный английский врач Эдвард Дженнер, привил своего десятимесячного сына сукровицей из пустул больного оспой. Сын Дженнера стал душевнобольным и умер в 21 год. В 1798 году Дженнер привил пятилетнего ребенка, который умер сразу после этого, и женщину на восьмом месяце беременности. Примерно месяц спустя она родила мертвого ребенка, тело которого было покрыто похожими на оспины пустулами. Несмотря на эти результаты, Дженнер послал ту же самую сукровицу, которую использовал для своих экспериментов, правящим европейским домам. Они применяли ее в широкомасштабных опытах на детях-сиротах, чтобы вызвать новые случаи болезни и потом иметь возможность взять новые пробы зараженной материи. Справочники по истории медицины избегают упоминать об этих событиях.* * *
Однако вернемся в XVIII век. Вскоре против инокуляции стали выступать многие. Напоминали о трагическом случае мадам де Севинье, которая заболела оспой и тоже умерла в 1711 году – впрочем, не от болезни, а в сильнейших мучениях из-за предписаний врачей (см.: Ж. Шамбон «Traité des métaux et des minéraux» (Трактат о металлах и минералах). Париж, 1714, с. 408 и далее). В середине XVIII века Луиджи Гатти, итальянский врач, практиковавший в Париже, лечил оспу мадам Гельвеций, исполняя в присутствии больной веселые танцы. Он был глубоко убежден в том, что веселье – единственное дозволенное лекарство и причиной смертельного исхода оспы является не что иное, как методики врачевания. Свое мнение Гатти, впрочем, позднее изменил на полностью противоположное: он внезапно стал одним из самых активных (и богатых) инокуляторов. Еще в XIX веке Герард ван Свитен сообщал, что дворяне и зажиточные люди, заболевавшие оспой, почти все умирали, в то время как простонародье, не лечившееся ничем, выживало (см.: Rapport de l'Académie de Medicine sur les vaccinations pour l'année (Заключение Медицинской академии по отношению к ежегодной вакцинации), 1856, с. 35). И не только это: громко заговорили о том, что инокуляция если и не убивает, то все равно ничего не дает. Были люди, которые, несмотря на то что сделали себе инокуляцию и заболели вызванной таким образом оспой – впрочем, не умерев, – позднее все равно заболевали оспой, даже спустя несколько лет после инокуляции. Журнал «Меркюр де Франс» от января 1765 года (том II, с. 148) сообщает, к примеру, о случае герцогини фон Буффлер. Однако самые страшные подозрения были еще впереди: вызывает ли инокуляция оспу у тех, у кого она уже была? Как известно, «оспа бывает только раз в жизни», как говорил еще Авиценна, и таким образом навсегда вырабатывается иммунитет против болезни. По мнению многих медиков, которые являются противниками инокуляции, этот естественный закон нарушен искусственно вызванной оспой. Доказательства? Известный случай: Людовик XV Французский, заболевший оспой в возрасте 18 лет, умер в 1774 году в возрасте 64 лет. При обстоятельствах, очень сходных с обстоятельствамисмерти Иосифа I.В случае Людовика XV есть одна особенность: он был единственным ребенком, пережившим невероятную смертность среди детей и внуков «короля-солнце», своего деда, которая сильно проредила ряды французских Бурбонов в период с 1711 по 1712 год. Граф де Мероде-Вестерлоо (Mémoires (Мемуары). Брюссель, 1840) сообщает, что Палатино предсказал ему эти смерти в 1706 году и утверждал, что во всех случаях за этим будут стоять преступники. В 1712 году маленькому Людовику было два года, он был вторым ребенком герцога Бургундского. Родители и старший брат умерли от оспы. Но Людовик спасся, потому что, когда появились первые признаки болезни, его няньки в буквальном смысле слова забаррикадировались с ним в комнате и запретили врачам даже приближаться к нему. Няньки были убеждены в том, что именно врачи убили королевскую семью. Таким образом Людовик избежал пророчества Палатино и после совершеннолетия взошел на престол Франции как наследник своего деда, Людовика XIV. На протяжении долгих лет регентства Франция сильно страдала. Злокозненный Джон Ло, изобретший банкноты, о которых рассказывает трубочист, толкнул империю в пропасть неизведанного дотоле финансового краха.
Однако рано или поздно некоторые «пророчества» все равно сбываются… В 64 года у Людовика уже не было храбрых нянек, которые могли бы защитить его. Его смерть сильно напоминает кончину Иосифа I: оба они были врагами иезуитов (Людовик XV даже подавлял «Общество Иисуса»), и Людовик XV тоже был вынужден, как и Иосиф I, спустить проповеднику, к сожалению, сбывшееся предсказание смерти. 1 апреля 1774 года, в Чистый четверг епископ Сенезский с кафедры указал на короля и воскликнул: «Еще сорок дней и падет Ниневия!» Ровно сорок дней спустя, 10 мая, Людовик XV испустил дух (Пьер Дармон. La variole, les nobles et les princes (Оспа, дворянская знать и князья). Брюссель, 1898, с. 93–94). Еще неделю назад он с удивлением разглядывал пустулы и то и дело повторял: – Если бы ее у меня уже не было, я мог бы поклясться, что это оспа. Третьего мая он понял: – Это оспа… Но это же оспа! – И под молчаливое согласие присутствующих он отвернулся и сказал: – Это поистине невероятно. Многие аспекты превращают эту смерть в злой фарс, и не в последнюю очередь тот факт, что Людовик XV всегда упорно сопротивлялся инокуляции.
* * *
Когда наши исторические расследования по поводу оспы были окончены и мы выслушали мнение доктора Бухвальда по поводу смерти Иосифа I, мы перешли в последнюю фазу: поиски специалиста по патологической медицине, который поддержал бы наше требование по эксгумации тела императора и был бы готов исследовать его. Сначала мы отбросили врачей, известных проведенными эксгумациями. Когда они эксгумируют тело исторической личности, главный интерес для них представляет поиск новых вакцин, и чаще всего их спонсирует фармацевтическая промышленность. Поэтому мы обратились к некоторым университетским преподавателям из Италии и Австрии. Но этот вопрос никого не интересовал; напротив, некоторых даже рассердило наше предложение. С этим мы уже сталкивались: когда в 2003 году речь шла о том, чтобы найти консультанта по графологии для исследования подписи под завещанием испанского короля Карла II Габсбурга, большая часть экспертов сразу же обратилась в бегство, потому что они боялись вызвать недовольство тогдашнего короля Испании Хуана Карлоса I. Можно было себе представить, как будет выглядеть реакция теперь, когда речь идет об оспе… Тем временем мы отправили заказным письмом запрос в Ведомство архитектурных памятников в Вене с просьбой начать подготовку необходимых формальностей для эксгумации тела Иосифа I. Мы знали, что делается это не быстро, и не хотели терять времени.В надежде на то, что удастся найти кого-нибудь, кто окажется достаточно мужественным, мы обратились к знакомым и в итоге попали к профессору Андреа Аморози, патологу, который родом из того же региона, что и оба автора. Аморози работает в отделении экспериментальной и клинической медицины университета «Великая Греция» города Кантазаро в Южной Италии. Первые контакты прошли более чем успешно. Профессор Аморози оказался добросовестным и отзывчивым человеком. Проверив все документы, которые мы ему послали, он загорелся идеей эксгумации тела Иосифа I. От него мы также узнали, что возбудитель оспы относится к возбудителям класса А, которые находятся под «особым надзором» в рамках борьбы с биологическим терроризмом. Так что наша инициатива могла вызвать в научном мире целую сенсацию. Мы спросили его, возможно ли спустя столько времени доказать, что Иосиф был отравлен или искусственным образом инфицирован смертельным вирусом оспы или что он действительно умер от естественного заболевания оспой. Если был применен яд, ответил он, не должно быть очень трудно, поскольку в то время использовали преимущественно металлы, которые с помощью современных методик исследования можно распознать. Яды, которые используют сегодня, следов не оставляют, пояснил он. В случае смерти от инокуляции, продолжал свои пояснения профессор, задача усложняется, но не становится невозможной. Нужно эксгумировать несколько тел, не только тело Иосифа. В идеале нужно иметь в своем распоряжении тела людей, которые умерли от оспы задолго до Иосифа, когда оспа не всегда заканчивалась смертельным исходом – то есть в случаях, где существует повод полагать, что смерть наступила вследствие естественного заражения оспой, и тела умерших от оспы в том же веке, но позднее, то есть в эпоху инокуляции. У всех этих тел нужно взять пробу ДНК и сравнить их с ДНК Иосифа. Во время телефонного разговора профессор Аморози подробно, используя множество научных терминов, объяснил нам все возможные способы, с помощью которых можно доказать вероятность насильственной смерти императора. На основании наших дилетантских познаний нам, к сожалению, не представляется возможным передать здесь идеи и намерения профессора Аморози с необходимым соблюдением точной терминологии. Мы сошлись с Аморози на том, что он сначала перешлет нам почтой страницы из справочника Гаррисона по внутренним болезням, где речь идет о биологическом терроризме, чтобы тем временем расспросить своих коллег и сделать все для того, чтобы эксгумация и обследование тела проводила по возможности команда медиков. Больше мы о нем никогда не слышали.
Мы так никогда и не получили фотокопии из книги Гаррисона, и нам так и не удалось больше поговорить с профессором Аморози. На наши письма по электронной почте он перестал отвечать, и на протяжении нескольких месяцев наши бесконечные телефонные разговоры заканчивались на дежурной секретарше, медсестре или ассистентке. Они спрашивали наши фамилии и просили подождать, чтобы затем сообщить, что профессора Аморози нет на месте. Пока однажды, не удовольствовавшись очередным отказом, мы буквально сели на телефон и звонили по пять раз в день, и так продолжалось неделю. Каждый раз мы начинали рассказывать суть дела с самого начала, хотя понимали, что на том конце провода это никому не нужно. Со временем мы стали различать голоса, а голоса узнавали нас. Мы ловили своих собеседников на противоречиях, иногда трубку бросали сразу после короткого «здравствуйте». На другом конце телефонной линии запаслись большим количеством терпения, с нами могли обращаться и более неприветливо. В июне 2006 года, когда мы в сотый раз произнесли слова «эксгумация», «оспа» и «инокуляция», монотонный, усталый голос прошептал: – Сколько вам вообще лет? Разве вы не понимаете, что творите? Откажитесь от этого. И профессора тоже оставьте в покое. Больше мы не звонили. В первый раз, с тех пор как мы занялись исследованиями, которые противоречат официальной истории, мы испугались. Голос звучал не угрожающе, напротив – он казался честным. Все было ясно: профессора Аморози запугали, причем настолько сильно, что он отказался от какого бы то ни было контакта с нами, будь то даже телефонный разговор. Может быть, мы действительно играли с огнем? Мы опять открыли главу по биотерроризму в справочнике Гаррисона по внутренним болезням и принялись снова и снова перечитывать раздел, словно только теперь осознали всю его серьезность: несмотря на постоянные рекомендации Всемирной организации здоровья уничтожить все находящиеся в пробирках пробы вируса оспы, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, расположенном в Атланте, все еще находятся в законсервированном состоянии вирулентные штаммы, на которых проводятся самые разнообразные эксперименты. Справочник утверждает, что перекомбинированный генетически, то есть искусственно созданный вирус оспы гораздо опаснее естественного. Мы вновь взялись за книгу профессора Бухвальда. Он сообщает о различных незаконных действиях, которые еще несколько столетий назад прикрывали смертельные случаи из-за прививок оспы и выдавали их за естественные заражения оспой: подменялись больничные листы, исчезали медицинские заключения, и многое другое. При виде ужасных фотографий (с. 49 и 50) Вальтраут Б., маленькой девочки, заболевшей оспой из-за прививки, тело которой усеяно пустулами и кровоточащими струпьями, и тела молодой медсестры, у которой текла кровь из глаз и открытого рта (она умерла в 70-е годы в Висбадене от геморрагической оспы, тоже вызванной прививкой), у нас в буквальном смысле слова ручки выпали из рук.
К тому моменту, как эта книга вышла из печати, Ведомство архитектурных памятников в Вене по-прежнему не ответило на заказное письмо с заявкой на эксгумацию тела Иосифа I и на последовавшее за ним напоминание.
Летающий корабль и его изобретатель
Сохраненная Фрошем газета от 24 июня 1709 года с сообщением о прибытии в Вену Летающего корабля подлинна. Этот экземпляр можно увидеть в Венской городской и земельной библиотеке. И это не единственное свидетельство о Летающем корабле. Другие газеты тоже сообщают о полете необычного аппарата. Современные историки точно знают, кто был его изобретателем и штурманом: не загадочный скрипач Альбикастро, как предполагает трубочист, а Бартоломеуде Гусман (1685–1724), личность необычайная: иезуит, ученый, авантюрист, изобретатель, быть может, даже шарлатан, однако в любом случае гениальный человек, который вошел в историю, поскольку, вероятно, заставил взлететь в воздух первый привязной аэростат, за несколько десятилетий до братьев Монгольфьеров. Полет деревянного корабля (если он действительно состоялся) вызвал огромный резонанс во всей Европе. Кроме венской газеты с новостью об этом вышли из печати газеты в Лондоне и Португалии. Действительно ли поднимался в воздух изобретенный Гусманом корабль? Мнения по этому поводу расходятся. Специалист по истории полетов Бернд Лукаш ни в коем случае не исключает этого. По мнению историка Фернандо Райса, «Пассарола» (так назвал свой корабль Гусман) является всего лишь сказкой, с помощью которой изобретатель привлек к себе внимание любопытных и хотел отвлечь внимание клеветников от своих настоящих экспериментов, которые были сосредоточены на воздушных шарах с горячим воздухом. Но как же тогда быть с газетами? Современники утверждают, что авторами заметок являются сам Гусман и его товарищ, граф вон Пенагвилан, а помогли им обоим провернуть эту авантюру друзья. Однако проверенной информации по этому поводу нет. Кроме того, в жизни и смерти Гусмана есть свои тайны. В период между 1713 и 1716 годами эксцентричный португалец путешествовал по Европе и получил признание благодаря самым различным изобретениям: система линз, которые жарили мясо с помощью солнечного света; мельница, работавшая гораздо быстрее, чем все уже существующие; машина для исследования торфяных ям и другие необычайные вещи. Он поселяется в Париже, где зарабатывает на жизнь, сначала продавая лекарственные растения, а затем став с помощью своего брата секретарем португальского посольства при «короле-солнце». По возвращении в Португалию благодаря выдающимся способностям ученого и оратора его принимают в Королевскую историческую академию, а позднее он вступает в должность придворного капеллана. Но затем начинаются трудности: инквизиция обвиняет его в том, что он симпатизирует криптоиудеям. Кроме того, его вовлекают – об этом упоминает Сарамаго в своей книге «Мемориал» – в скандальный процесс, где на скамье подсудимых оказываются даже король Португалии и братья короля, а также их возлюбленные, наряду с ведьмами и проститутками. Некоторые полагают, что за усердием, с которым церковные власти занимались Гусманом, стояла попытка саботировать его исследования летательных аппаратов. Один из его братьев объявляет Гусмана безумцем, быть может, для того, чтобы вырвать его из лап инквизиции. Дабы избежать возможного обвинения, иезуит тайно покидает Португалию и бежит в Испанию, откуда пытается добраться до Парижа. Однако в Толедо из-за начавшейся лихорадки его отвозят в больницу, где через месяц он скончался в возрасте всего лишь 39 лет. До последнего вздоха он неутомимо работал, незадолго до смерти перешел в иудаизм. Правда о Летающем корабле навеки упокоилась в могиле Гусмана. Никто не удивился тому, что пилот, прибывший в Вену на Летающем корабле в 1709 году, как сообщалось в газете, которую показывал трубочисту Фрош, был арестован и брошен в темницу, вместо того чтобы наслаждаться почетом и славой первого полетевшего человека в истории. Душа австрийца живет по традициям и не доверяет ничему новому. Еще в начале XX века император Франц Иосиф был категорически против введения электричества и лифтов. Также и эксперименты и теории Франческо Лана, Овидио Монтальбани и Людовико Монтанари базируются на их собственных трудах, которые были опубликованы во второй половине XVII века (см. библиографию).Кицебер-Палатино
Из темного угла истории несколько раз появляется загадочная фигура дервиша, похожая на ту, которую описывает трубочист. В листовке (нечто вроде небольшой газеты, которую раздают на улицах) с сообщением об аудиенции турок у принца Евгения (Описание аудиенции посланного турецким великим султаном в Вену и прибывшего Цефулы аги Капичи-паши. Вена, 9 апреля 1711 года) упоминается свита посланника, в которую входил индийский дервиш по имени Кицебер. В рассказе трубочиста он затем оказывается Исааком Аммоном, которого еще называют Палатино. Что ж, и здесь речь идет о человеке, который жил на самом деле. И его политические предсказания, касающиеся будущего Европы, в которых речь идет о последующих столетиях, на удивление точны. Как уже упоминалось, в книге «Mémoires du feldmaréchal comte de Mérode-Westerloo» (Мемуары фельдмаршала, графа де Мероде-Вестерлоо. Брюссель, 1840, т. 2, с. 150–185 и 293) сообщается о необычайной фигуре колдуна, о его заговорах и пророчествах. Автор этих мемуаров, которые долгое время существовали только в рукописной форме, до тех пор пока в XIX веке они не были напечатаны одним из потомков, был бельгийским солдатом и дипломатом, состоявшим на службе Австрии, часто контактировавшим с Евгением Савойским. Действительно, де Мероде-Вестерлоо обрисовывает не очень лестный портрет Евгения, заслужив упреки со стороны современных историков (см. к примеру: Г. Олер. Принц Евгений в приговоре Европы. Мюнхен, 1944, с. 369–375). Хотя Палатино (на самом деле его зовут Исаак Аммон, как сообщает трубочист) – первый сын влиятельной семьи несторианского патриарха, которая была в близких отношениях с дервишами и вавилонянами (Воспоминания, с. 159 и далее). Как опытный целитель и знаток ядов он лечил де Мероде-Вестерлоо от тяжелой болезни. Де Мероде общался с ним на протяжении восьми лет и собирал его прогнозы относительно грядущих убийств с помощью ядов различных влиятельных личностей: Людовика XIV, дофина, герцога и герцогини Бургундских, а также их сына, кроме того, герцога де Берри, короля Испании Карла II и, в первую очередь, Иосифа I. О пем Палатино говорил только как об «Императоре», однако не остается и тени сомнений в том, что речь идет именно об Иосифе I, поскольку де Мероде-Вестерлоо датирует свое знакомство и разговоры с Кицебером-Палатино (с. 150, 160 и далее) 1708 годом, когда Иосиф I был императором. Также Палатино поддерживал контакты с Евгением Савойским: де Мероде-Вестерлоо рассказывает (с. 293), что он обеспокоился, когда в 1722 году, то есть через много лет после того, как потерял его из виду, узнал, что эта странная личность вела разговоры с Евгением и осведомлялась о нем. К предсказаниям, которые необъяснимым образом сбылись, принадлежит и предсказание, касающееся Людовика XIV, который действительно умер от гангрены ноги в 1714 году, через три года после предсказания Палатино. Об этом говорит дервиш в рассказе трубочиста и в мемуарах де Мероде-Вестерлоо. Она следует за смертью герцога де Берри, который умер в мае 1714 года. Герцог был внуком Людовика XIV и третьим ребенком великого дофина, он умер от болезни, как и предсказывал дервиш. Великий дофин умер еще 14 апреля 1711 года, за три дня до Иосифа I. За ним следуют герцог и герцогиня Бургундские, в 1712 году. Невероятная череда смертей, которую историки называют гекатомбой.Место Без Имени и его враги
Вся информация и описания трубочистом «Замка без имени, именуемого Нойгебау» (как следует из архивных документов), подтверждаются историками и различными документами. Соответствующие публикации можно найти в прилагаемой библиографии. Сейчас замок называется Нойгебойде. То, что Максимилиан II в последние годы был буквально одержим постройкой Нойгебау, как рассказывает Симонис, сообщает венецианский посланник Джиакомо Соранцо (см.: Иосиф Фидлер (Изд.). Рассказы венецианских послов о Германии и Австрии в XVI веке. Вена, 1870, с. 217). И дикая черная пантера тоже существовала на самом деле. Об этом сообщает «Виннерише Диариум» (сегодня «Винер Цайтунг»), № 483 от 17–20 марта 1708 года. После полудня 18 марта Иосиф с супругой и свитой из благородных дам и кавалеров водил свою невестку, принцессу Елизавету Кристину Брауншвейгскую в Нойгебау. Поскольку его брат Карл находился в Барселоне, чтобы предъявить претензию на испанский трон, Иосиф заменял его на заочном венчании. Незадолго до того, как она собиралась ехать в Испанию к своему мужу, Иосиф решил оказать ей честь и лично показать содержавшихся в Нойгебау диких животных, особенно же двух недавно приобретенных львов и черную пантеру. После смерти Иосифа I разрушение замка стало неудержимым. Не только потому, что там перестали проводить реставрационные работы, – творение Максимилиана II пало жертвой ряда непостижимых упущений, нерешительностей, ошибок и злых намерений, за которыми можно почти предположить деяние темных сил. После того как на трон взошел брат Иосифа Карл, он отказался от реставрационных планов своего предшественника и допустил дальнейшее разрушение замка. Сады дичали, со временем исчезли последние следы великолепных цветочных грядок, горшечных растений и живых изгородей. При дочери Карла, знаменитой императрице Марии Терезии, упадок замка ускорился. Так, например, императрица вняла просьбе императорской артиллерии и разрешила использовать Нойгебау в качестве порохового погреба. По ее недвусмысленному приказанию были убраны дорогие колонны, роскошная лоджия, откуда открывался панорамный обзор на север. Башни внешних стен вокруг сада были перестроены в пороховые склады, четыре главные башни – разрушены, ограда сильно изменена. Стадион, площадку для игры в мяч (откуда, по словам трубочиста, поднимался Летающий корабль), закрыли крышей и с помощью деревянных конструкций разделили на несколько этажей. Вместе с крышей они затем стали жертвой огненной стихии. Кроме колонн солдаты Марии Терезии сняли фонтаны, гипсовые фигуры, быть может, даже фрагменты стен и кирпичи, и перенесли их в Шенбрунн. Так часть роскошных тосканских колонн из дворца Максимилиана используют в средней части колонн Шенбрунна, той его стороны, которая выходит в знаменитый сад. После того как выходящую на север лоджию лишают колонн, ее замуровывают, отчего замок превращается в нечто вроде бесформенной шкатулки. Другие, увезенные из Нойгебау колонны, образовали каркас глориетты, той элегантной, похожей на триумфальную арку конструкции, которая поднимается с двумя протяженными аркадными крылами над зеленым холмом за Шенбрунном и изображается на тысячах открыток и путеводителях по Вене. Другие части, использованные для постройки массивных стен, вероятно, вставлены в стены боковых крыльев резиденции, возведение которых началось после смерти Иосифа I. Архивы Вены умалчивают об этих систематических обширных разделках и использованиях древностей по-новому; никто никогда не узнает, в каких местах стен Шенбрунна скрываются немые свидетели его неисполнившихся планов. Другие руины, которым не нашли применения, были на скорую руку переделаны в так называемые «римские руины» Шенбрунна. Речь идет о неуклюжем печальном скоплении капителей, карнизов, орнаментальных статуй и перекрытий, похожих на псевдоантичные или ренессансные, собранных вместе по типу ведуты Пиранези и так поставленных в одном из уголков большого парка Шенбрунна, что они кажутся разрушенным римским храмом. Таким образом, многие тысячи туристов, которые каждый год отправляются в Шенбрунн и восхищаются мощным фасадом садовой стороны, глориеттой или мнимыми римскими руинами, не знают, что видят перед собой Нойгебау. Однако почему Мария Терезия предпочла выпотрошить замок и тайно погрузить его архитектурные элементы в другое архитектурное творение, вместо того чтобы почтить шедевр в Зиммеринге и сохранить его? Драгоценные колонны Места Без Имени, созданные еще в XVI веке, якобы не должны были истлеть под ветром и дождем. Прекрасно, но почему же тогда предусмотрительная Мария-Терезия потратила на небольшой салон в восточном стиле на втором этаже Шенбрунна невероятную сумму в миллион гульденов (гиды Шенбрунна, подмигивая, рассказывают посетителям, что успешный врач или адвокат зарабатывал тогда 500 гульденов в год)? Если она действительно хотела сократить расходы, то такая славная властительница могла бы, пожалуй, отказаться и от того, чтобы заказывать огромную, обтянутую золотой и серебряной парчой императорскую кровать, единственную в своем роде вещь невообразимой стоимости, которой теперь, после недавней реставрации, снова можно восхищаться в большой венской резиденции. Тайная вина Шенбрунна по отношению к Нойгебау на этом не исчерпывается. Так, было отмечено (Леопольд Урбан. Оранжерея Шенбрунна. Копия докторской диссертации. Вена, 1992), что комплекс в Зиммеринге даже является «матерью Шенбрунна». Со многих точек зрения, архитектурное сравнение обоих шедевров выявляет «поразительные сходства» (там же, с. 62), к примеру, при оформлении ниш, арок и стен в оранжерее резиденции и в тех частях замка, которые были предназначены для животных. Эти сходства можно еще сегодня найти в подземной галерее западного крыла Нойгебойде (где в конце рассказа происходит ложный арест в исполнении дервиша и его сообщников). Даже в украшающих масках Шенбрунна отчетливо прослеживаются маски фонтанов Нойгебау. Можно еще добавить, что мотив колоннад, несущих длинную, прерванную центральным корпусом смотровую террасу, так же возникает в глориетте, как и в замке в Зиммеринге, и что важнейшие элементы архитектурного ансамбля (пруд, фонтан с тыльной стороны, большой внутренний двор, обнесенный стенами сад) в Нойгебау и в Шенбрунне сопоставимы. Если предположить, что однажды Нойгебау отреставрировали бы, то было бы неудивительно, если бы туристы предпочли его замку Шенбрунн. Однако до сих пор никто ничего не предпринял для спасения Места Без Имени, даже напротив. После обезображивания его Марией Терезией ее наследники тоже предаются необъяснимой жажде разрушения. В последующие века начались грабежи, запустение и разрушение пожарами, сюда же относится и разорительное пребывание там военных частей во время боев между императорским войском и войсками Наполеона. В 1922 году город Вена принял решение построить внутри стен верхнего сада городской крематорий, что нанесло непоправимый ущерб внешнему виду всего комплекса. Там, где когда-то красивыми рядами росли цветы и фруктовые деревья, где возвышались похожие на минареты из слоновой кости башенки, где маленькие аллеи сменялись грядками с зелеными растениями, теперь стоят трубы и печи крематория и виднеются надгробные камни кладбища. Странно: большая часть озелененной площади крематория совершенно не используется. Так неужели его обязательно было строить в этом месте? В 1952-м творение скульптора Александра Колина, ценнейший ренессансный фонтан, который Мария Терезия приказала перевезти из Нойгебау в Шенбрунн и выставить во дворе оранжереи (Урбан, с. 711 и далее), был снесен, чтобы во дворе появилось место для проезда автомобилей. Фонтан перестали использовать, он стоял на открытом воздухе и начал разрушаться. С течением времени исчезало все больше частей от него, вероятно, они попали в частные сады. В 1962 году часовня, служившая складом для пленок кинофильмов, была неисправимо испорчена во время большого пожара в восточном крыле Нойгебойде. То и дело возникают предложения по его восстановлению, однако какие-то невидимые силы, похоже, пытаются помешать этой инициативе любой ценой. Никто, кроме простых жителей Вены, которые любят свой город, видимо, не заботится о сохранении единственной виллы в стиле эпохи Возрождения, которая существует к северу от Альп. В 1974 году было объявлено о крупном проекте по восстановлению, который так и не был осуществлен. В 1982 году появилось предложение использовать замок для исторической коллекции оружия города Вены; два года спустя снова заговорили о реставрации. В 1986 году газеты восхищенно заговорили о том, что в той местности были произведены археологические раскопки, благодаря которым удалось получить важные сведения по постройке и истории комплекса. Однако в 1993-м сильный пожар обрушил большую часть крыши. Среди жителей Вены ходят слухи о том, что станция метро линии УЗ Штубентор была построена из камней Нойгебау (вместо использования материалов, найденных на том месте, как сообщается на табличке внутри станции). Несколько лет назад было высказано даже невероятное предложение снести весь замок. Однако разве не именно это происходит на протяжении вот уже стольких лет? К счастью, у Нойгебау наконец-то появился сторонник: Отмар Брикс, председатель II района Вены, в зоне ответственности которого находится замок Максимилиана, все время собирает и поддерживает инициативы, касающиеся его восстановления. Правда, временами кажется, что его, как заступника, преследуют загадочные враги, поскольку в 2003 году Брикс внезапно умирает в возрасте всего лишь 59 лет, не дожив до воплощения своих планов. Сегодня улица, которая ведет к старому замку, носит его имя. Только в наше время наконец начались работы по реставрации Места Без Имени, хотя до сих пор не решено, в качестве чего будут его использовать (культурный центр, музей или еще что-либо другое). Финансирование, однако, зависит от непонятной логики политики, и на заднем плане всегда маячит призрак сноса. Поэтому несколько лет назад объединение горожан, сплоченных благородным духом добровольных обязательств, начало защищать древние стены, устраивая в большом внутреннем дворе проведение летнего фестиваля музыки и кино. Быть может, только так удастся удержать таинственные силы, которые, очевидно, на протяжении нескольких столетий пытаются обречь на забытье мечту Максимилиана II и славную историю, которая его окружает. Однако мифы, витающие над Местом Без Имени, – отнюдь не выдумка авторов. В венских газетах то и дело появляются свидетели, сообщающие о призраках Нойгебойде и алхимических экспериментах Рудольфа II, о чем рассказывает Симонис. Так, к примеру, в «Ноен Винер Тагеблатт» от 4 апреля 1940 года на с. 6 («В гости в венский замок с привидениями») и в «Фольксцайтунг» от 28 января 1940 года на с. 7, или в «Ноен Фраен Прессе» от 7 сентября 1937 нас. 6. Случаи, когда призраки пугают солдат ночной стражи (замок тогда был армейским складом), регистрировались вплоть до XIX века. Жители окружающей местности Зиммерингер Хайде избегали Нойгебойде из страха перед нежелательными встречами аж до 30-х годов XX столетия. А слон? Известно, что Максимилиан II действительно заказывал привезти слона из Испании в Вену. В честь него, кстати, был назван известный трактир на Грабен (это одна из улиц, составляющих старейшие районы Вены). Трактир сохранялся на протяжении почти трех сотен лет, а затем, к сожалению, был снесен. Так что вполне вероятно, что толстокожее животное, как сообщает наш трубочист, на самом деле поселили в месте, которое Максимилиан выбрал для своего драгоценного зверинца.Евгений Савойский
Сначала о записке аги. В актах, касающихся походов Евгения, содержится отчет, который принц писал Карлу (Походы принца Евгения Савойского. По полевым актам и другим аутентичным источникам, издано отделом военной истории императорско-королевского военного архива. Вена, 1876^1892, т. XIII, дополнение, с. 14, гл. 7, Вена, 11 апреля 1711 года):«Наконец-то прибыл делегированный ко мне турецкий ага, 7 числа, после полудня, которому я 9-го давал аудиенцию и прилагаю Вашему королевскому величеству копию переданного мне письма».А оригинал письма? Читатель, конечно же, ожидает, что найдет его в приложении к письму Евгения. Те, кто знаком с приложением исторических документов к «Imprimatur» и «Secretum», уже наверняка догадывается: письмо аги в актах отсутствует. Определенные операции всегда проводятся одним и тем же образом, идет ли речь только о том, чтобы прикрыть преступления папы, подделать завещание короля или заставить исчезнуть доказательства заговора против императора. Что было написано в этом письме аги и почему Евгений посылал его Карлу? Вообще-то он должен был проинформировать об этом Иосифа I, конечно, если в нем не содержалось того, что не должен был узнать Иосиф, а Карл, напротив, был в курсе…
Интрига Атто Мелани. Аббат Мелани ловко устроил засаду с поддельным письмом Евгения Савойского. И он подошел к своей цели довольно близко. Действительно, как рассказывает сам аббат, подложное письмо, приписывавшее Евгению план предательства Австрии, было передано испанскому королю Филиппу V, а от него Людовику XIV через его министра Торси. Министр помешал распространению письма, на что Атто и жалуется трубочисту. Только в мае 1711 года (то есть спустя месяц после событий, о которых рассказывает трубочист) Евгений, как раз по прибытии в Турне во Фландрии, узнал о письме, однако ему удалось доказать свою невиновность. Прочесть обо всей этой истории можно в корреспонденции Евгения, которая находится в Государственном архиве в Вене. Также она передается в актах походов Евгения, а именно в письме, в котором граф Бергейк сообщает Евгению о том, что Филипп V поручил ему спросить у Савойского, подлинно ли то предательское письмо (если да, то может ли он вести переговоры с Евгением (Государственный архив, военные акты 262, 22.3.1711; военные акты 263, 3.5.1711)); в возмущенном ответе Евгения (Государственный архив, Большая корреспонденция 93 а, 18.5.1711); в своих письмах королеве-матери и регентше Элеоноре Магдалене Терезе, а также Карлу (Походы принца Евгения XIII, дополнение, с. 32–33, 13.И 17.5.1711), а кроме того, в письме к Синцендорфу (Государственный архив, Большая корреспонденция, 73 а, 18.5.1711). Во всех этих письмах Евгений выражает свое недоумение и прилагает копию письма Бергейка. В ответах регентша, Карл и Синцендорф подтверждают, что он не имеет с этим делом ничего общего (Государственный архив, Большая корреспонденция, 90 б, 3.6.1711; 31.7.1711; Большая корреспонденция, 145. 21.5.1711).
Проведенный Атто анализ отношений между Евгением, Иосифом и Карлом на удивление точно отображает исторические реалии. К примеру, правдой является то, что Евгений, как утверждает Атто, при дворе Карла мог иметь больше влияния, чем при правлении несчастного Иосифа. Евгению действительно удалось убедить Карла в том, чтобы продолжать войну за испанское наследство в одиночку, в то время как союзники уже подписали мир с Францией. Позднее Евгений, который никогда не мог насытиться войной, отправился на фронт сражаться с турками. Однако в первую очередь зависть Евгения по отношению к Иосифу, о которой рассказывает Атто Мелани, имеет множество доказательств. Историческим фактом является то, что в 1702 году Евгений был исключен из битвы при Ландау, чтобы освободить пространство для Иосифа, как сообщает Отто Клопп (Падение дома Стюартов. Т. И. Вена, 1885, с. 196). Кроме того, верно и то, что Иосиф не позволял Евгению сражаться в Испании против французов, хотя Евгений питал обоснованные надежды на то, что сможет совершить там великие деяния (там же, т. XXIV, с. 2 и далее). Также и рассуждения Атто Мелани относительно личности Евгения Савойского совпадают с историческими источниками. Впрочем, нельзя удивляться тому, что официальная история уделяет так мало внимания темным сторонам жизни великих полководцев. В потоке книг и сочинений (до сих пор их насчитывалось 1800), которые славили Евгения на протяжении последних трех столетий, нет ни малейшего указания на личную жизнь знаменитого полководца. Тому есть одна очень простая причина: после Евгения не осталось ни одного личного письма. Его корреспонденция касается исключительно войны, дипломатии и политики. Даже в архивах известных современников, которые переписывались с ним, нельзя обнаружить ни следа личных сообщений. Кажется, что личной, интимной стороны жизни Евгения просто не существовало. Нам осталось только железное лицо солдата, дипломата и государственного деятеля. Практически нечеловеческий образ героя, не оставляющий ни капли места для чувств, слабостей или же сомнений. Женщины? Похоже, этот воинственный монолит никогда не прикасался ни к одной из них. Евгений, который был одним из самых богатых и уважаемых людей своего времени, никогда не был женат. Хотя некоторых женщин связывают с ним, в первую очередь графиню Элеонору Баттьяни, которая считалась его «официальной любовницей» с 1715 года, однако то, что осталось из ее переписки с Евгением, не дает ни малейших намеков на интимную связь. Быть может, женский пол был скорее нужен Евгению, чем приятен: похоже, существуют документальные подтверждения тому, что он, как пишет трубочист в декабре 1720 года, поселил графиню Пальфи, возлюбленную Иосифа, на Химмельпфортгассе (то есть неподалеку от своего собственного дворца) для того, чтобы иметь возможность контролировать ее (см.: Макс Браубах. Принц Евгений Савойский. Вена, 1964, т. 3, с. 21 и далее). При этом точно известно, что детство и юность Евгения, проходившие во Франции, протекали неупорядоченно, его воспитанием занимались мало, более того, он рос практически без надзора. Английский историк Николас Хендерсон пишет: «Точно известно, что в ранней юности Евгения были темные стороны. Он общался с небольшой группой женоподобных мужчин, к которой принадлежали такие опустившиеся субъекты, как молодой аббат де Шуаси. Он всегда ходил в женской одежде и время от времени надевал экстравагантные серьги и парики для пожилых женщин» (Н. Хендерсон. Принц Евгений Савойский. Лондон, 1964, с. 21). Из писем невестки Людовика XIV, Лизелотты Пфальцской, графини Орлеанской, следует, что гомосексуальные приключения Евгения, о которых говорит аббат Мелани, соответствуют этому времени. Лизелотта лично знала Евгения, когда он еще жил в Париже. Ее тетка, курфюрстша София Ганноверская, рассказывала ей, что у Евгения были прозвища вроде Симона или Мадам Л'Ансьен; что молодой Савойский по отношению к ровесникам «действовал как дама»; что во время его эротических похождений его сопровождал принц Туреннский; что обоих звали «всеобщими шлюхами»; что Евгений никогда не увивался за дамами, поскольку молодые пажи «были ему милее»; что церковная карьера, которую он начал, оказалась для него закрыта из-за его «испорченности» и что, вероятно, он забудет в Германии «искусство», которому выучился в Париже. Хотя объемный труд о жизни и деяниях великого полководца насчитывает пять томов, Макс Браубах, самый важный из библиографов Евгения, отводит мало места письмам Лизелотты. Другой историк, Гельмут Олер, приводит щекотливые выражения из этих писем, основывая их, впрочем, исключительно на личной неприязни Лизелотты к Евгению: в период написания писем (1708–1710) итальянский полководец противился миру между европейскими державами и Францией, миру, которого Лизелотта – в силу драматической ситуации, в которой находился Людовик XIV, – желала всей душой. На самом деле все было немного иначе: Лизелотта даже спустя годы после окончания войны недвусмысленно выражается относительно гомосексуальности Евгения. Однако возникает подозрение, что Олер и сам не совсем беспристрастен. Когда он упоминает другого критика Евгения, голландского графа де Мероде-Вестерлоо, отпустившего несколько едких замечаний по поводу полководца, он говорит совершенно иным языком, называет де Мероде-Вестерлоо «всезнайкой», «шарлатаном», «салонным сплетником», «паразитом», «порочным типом», «который вел ненужную жизнь» и утверждает, что его мемуары свидетельствуют не о чем ином, кроме как о старческом слабоумии. Наконец, Олер объявляет о том, что он сознательно упустил некоторые пассажи из мемуаров голландского дипломата, потому что распространять «глупости» де Мероде-Вестерлоо – просто «отвратительная» задача. В принципе неудивительно, что в случае Евгения Савойского перевешивает славное описание его деяний. В биографии полководца не должно быть изъянов, и меньше всего – в сексуальной части его жизни. Фигура образцового генерала, сформированная по принципу идеала, пользовалась большой популярностью во времена нацизма, к примеру, в написанной Виктором Библем биографии Евгения «Принц Евгений. Жизнь героя» (Вена/Лейпциг, 1941), которую он посвятил «вооруженным силам Великой Германской империи». Первое из писем, в которых Лизелотта говорит о гомосексуальности Евгения, напечатано Вильгельмом Людвигом Холландом (отв. ред.) в «Письмах герцогини Елизаветты Шарлотты Орлеанской» (Штутгарт, 1867), находятся в Библиотеке Литературного объединения в Штутгарте, т. CXLIV, с. 316:
«Мадам Луизе, графине Пфальцской – Франкфурт Сен-Клу, 30 октября 1720Другой отрывок (письмо Лизелотты от 9 июня 1708 года к тетке) цитирует Гельмут Олер (Принц Евгений в приговоре Европы. Мюнхен, 1944, с. 108):
[…] Принца Евгения я не знала в его безобразии, потому что когда он был здесь, у него был короткий вздернутый нос, а награвюрах ему делают длинный острый нос; нос был настолько поднят, что рот у него всегда был открыт, и было полностью видно два больших передних зуба. Я очень хорошо знаю его, он часто докучал мне еще ребенком; потом решили, что он должен стать духовником, он был одет как аббат. Однако я всегда уверяла его, что он не задержится там, и так и случилось. Когда он покончил с духовной карьерой, молодые люди стали называть его только Симона или Мадам Лансьен; поскольку он часто притворялся и вел себя по отношению к молодым людям как дама. На это Вы, дорогая Луиза, наверняка скажете, что я очень хорошо знаю принца Евгения; я знала всю его семью, господина отца, госпожу матушку, братьев, сестер, дядьев и теток, то есть довольно многих, но длинного острого носа он не мог заработать никак».
«Принц Евгений слишком умен, чтобы не обожать Э. Л. В то время как Э. Л. хочет знать истинную причину того, почему принца Евгения называют мад. Симона и мад. Лансьен, а также принца де Туренна, это было потому, что эти двое были общими шлюхами всего двора и все делали вид, что этих двоих использовали, и для этого в любое время давали всем и каждому, и вели они себя как дамы; быть может, принц Евгений забудет в Германии это искусство».Из другого письма от 1710 года (там же, с. 109):
«Он не утруждает себя дамами, парочка прелестных пажей ему милее».Из письма от 1712 года (там же):
«Если храбрость и разум превращают в героя, то принц Евгений наверняка герой, но если нужны добродетели, то этого ему, пожалуй, не хватает. Так как он был Мадам Симона и Мадам Лансьен, то его считают в некотором роде шлюхой, [он] и тогда хотел только 2000 талеров, в которых ему было отказано из-за его отвратительных похождений; поэтому он отправился к императорскому двору, где ему повезло».Другая информация, которую дает Атто по поводу гомосексуальности при дворе французского короля, вся подтверждается и все можно проверить у Дитера Годара (Le goût de Monsieur – L'homosexualité masculine au XVII siècle (Вкус к мужчинам – мужская гомосексуальность в XVII веке). Париж, 2002) и у Клода Пастера (Le beau vice, ou les homosexuels à la cour de France (Прекрасный порок, или Гомосексуальность при французском дворе). Париж, 1999). Описания дворца Евгения на Химмельпфортгассе, где находилась бывшая резиденция принца, а сегодня – Министерство финансов, во всех частях являются подлинными, включая размещение запланированной библиотеки на втором этаже. В этих комнатах находилась самая обширная библиотека принца, которая затем была включена в Императорскую библиотеку, а позднее – в Венскую национальную библиотеку.
Описания осад Ландау под руководством Иосифа достоверны во всех подробностях, включая историю о монетах, которую французский комендант крепости Мелак приказал отлить из своей посуды (см.: Г. Хейзер. Осады Ландау. 2 тома, 1894–1896). Процессия, которая заставляет ехать Пеничека в объезд во второй половине четвертого дня, действительно существовала. В уже упоминавшемся томе о смерти Иосифа I (Подробное описание, с. 6) находится список орденов и братств, которые принимали участие в сорокачасовой молитве: 12 апреля вскоре после 16 часов отцы-ораторианцы, Братство непорочного зачатия и Цех ножовщиков действительно устремились к собору Святого Стефана, поскольку между 16 и 17 часами наступила их очередь вступать в молитву. Имя императорского протомедика фон Гертода подтверждает уже цитированный выше труд «Подробное описание», который в деталях сообщает о смерти Иосифа и длительной траурной церемонии. Отделка гроба полностью совпадаете описанием в «Apparatus funebris quem JOSEPHI I. Gloriosum. Memoriae…» (Погребальная церемония памяти Иосифа Первого Победоносного. Вена, 1711). Аббат Мелани с полным правом утверждает, что иезуитыпринадлежали к числу врагов Иосифа I. Известие об изгнании иезуита Видемана молодым императором, на которое трубочист натыкается во время чтения трудов об Иосифе, соответствует фактам (см.: Эдуард Винтер. Эпоха раннего Просвещения. Восточный Берлин, 1966, с. 177). Ни один из хвалебных газетных гимнов, которые рассказчик приводит как цитаты, не является выдумкой: читатели, которые разбираются в истории периодических изданий, к примеру, узнали известный альманах «Энглишер Варзагер», тот календарь, в котором трубочист обнаруживает мрачное пророчество на 1711 год. И восходы солнца необычайного, кроваво-красного цвета – тоже не выдумка: об этом сообщает граф Зигмунд Фридрих Кевенфюллер-Метч, и его свидетельство повторяется в дневнике князя Иоганна Иосифа Кевенфюллер-Метча (Во времена Марии Терезии. Дневник 1742–1776 годы. Вена/Лейпциг, 1907, с. 71):
«Этот «прискорбный смертельный случай» предсказывает не только английский предсказатель в своем календаре, но и само солнце прогнозировало его своими временами наблюдаемыми красными или кровавыми восходами».Странный феномен, который, быть может, случайно напоминает событие в 1936 году и появляется в начале фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем».
По рассказам трубочиста, «Энглишер Варзагер» в буквальном смысле слова вырывали из рук торговцев, после того как он верно предсказал смерть Иосифа. Судя по сохранившимся на сегодняшний день экземплярам, он вплоть до конца XVIII века был распространен больше любого другого альманаха. Что же касается рассказанной Атто Мелани истории о том, что предатель Роско предлагал королю Людовику XIV похитить Иосифа, а Людовик отказался, см.: Шарль В. Инграо. Иосиф I, «забытый император». Грац/Вена/Кельн, 1982, с. 2443, № 98; Филипп Редер фон Дирсбург. Фрайгерр, военные и государственные записи маркграфа Людвига Вильгельма фон Баденского о войне за испанское наследство из архивов Карлсруэ, Вены и Парижа. Карлсруэ, 1850, т. 3, с. 97.
Цензурированная биография и тайны Карла
Зависть Евгения, соперничество Карла – почему никто из историков не проводил исследования по поводу их враждебности по отношению к Иосифу Победоносному? Почему он должен был так дорого заплатить за полученную при Ландау славу, как рассказывает Атто Мелани своему другу, трубочисту? Если верить Сюзанне и Теофилу Антоничек («Три документа о музыке и театре при императоре Иосифе I» в «Юбилейном сборнике Отмара Весели к 60-му дню рождения». Тутцинг, 1966, с. 11–12), еще при жизни Иосифа между молодым императором и его братом (равно как и между их советниками) разгорелась тайная, подспудная война за музыку: Карл совершенно в открытую обвинял Иосифа в растратах. После смерти Иосифа суперинтендант музыки, Сципионе Публикола ди Санта-Кроче, был вынужден представить отчет о расходах за время его нахождения в должности, и многие любимые музыканты покойного императора (и среди них сам Санта-Кроче) были уволены. После чистки принудительно начатый Карлом экономный режим вскоре смягчился, и золотое для придворной музыки время продолжилось так же, как и при Иосифе. Между двумя братьями всегда царили ревность и раздор. Вероятно, Иосифа окружали и другие враждебно настроенные люди. Тем не менее историки вынуждены были сообщить о его великих победах при Ландау и рассказать потомкам не только о славе, которую снискал себе там молодой император, но и о тайной неприязни, которую он вызывал в людях из своего окружения. Такая работа, очевидно, помешала бы забвению, которое вскоре постигло трагичную фигуру Иосифа. Что ж, эта работа была написана, и масштабы ее поистине монументальные: 12 больших томов, написанных от руки. Судьба, или, точнее, император Карл VI, брат Иосифа, обрек ее на то, чтобы пылиться ненапечатанной в архиве. Если восстановить ее, как сделали это мы, то можно лучше понять, как определенные нити истории, за которые дергали в давно ушедшие времена, могут действовать до сих пор. Вена 1738 года. Двадцать семь лет прошло со дня смерти Иосифа, два года назад умер Евгений. На императорском троне сидит Карл, брат Иосифа. Готфрид Филипп Шпаннагель, образованный Homme de Lettres,[1016] пишет ряд срочных писем одной благородной даме, графине фон Кленк (Венская национальная библиотека, собрание рукописей, манускрипт, код 8434). Шпаннагель является обер-интендантом Императорской библиотеки, занимая место, которое он получил благодаря своей большой образованности в юридической и генеалогической областях, а также познаниям в истории. Он провел несколько лет в Италии, бегло писал не только на латыни, немецком и французском языках, но и по-итальянски. Одиннадцать лет назад, в 1727 году, он занимал должность историка при дворе, а затем немецкого хранителя Императорской библиотеки. Сверх того, Шпаннагель выполняет особо щекотливое поручение: два года он обучает истории Марию Терезию, дочь Карла. Благодаря Прагматической санкции, о которой рассказывает трубочист, она будет наследовать на троне своему отцу и таким образом перекроет естественное право на престол дочерей Иосифа. Мария Терезия, гораздо более добродетельная, чем ее отец, войдет в историю как великий реформатор австрийской монархии. Шпаннагель, ученый и воспитатель императорской семьи, пишет графине фон Кленк, чтобы попросить ее устроить ему личную встречу с Карлом. Графиня, похоже, имеет отличные контакты с императором и его супругой. Шпаннагель как раз заканчивает интереснейший труд по истории в 12 томах, который может заинтересовать императора. Работа написана на итальянском языке, который очень дорог ее создателю. Название звучит так: «Delia vita e del regno di Josefo il vittorioso, Re et Imperatore dei Romani, Re di Ungheria e di Boemia e Arciduca d'Austria» (О жизни и правлении Иосифа Победоносного, короля и императора Рима, короля Венгрии и Богемии, эрцгерцога Австрийского. Венская национальная библиотека, собрание рукописей, код 8431–8435 и 7713–7722). Это первая биография Иосифа, в которой подробно описываются его героические поступки и которая охватывает большой отрезок жизни, от его детства и до смерти. Для публикации нужно не только разрешение, но и финансовая поддержка императора. Поэтому Шпаннагель снова и снова просит графиню фон Кленк устроить встречу с Карлом или, по крайней мере, рекомендацию его супруги. Однако проходит год, и весной 1739 года библиотекарь все еще ждет знака, что ему, наконец, дано необходимое разрешение сверху на публикацию его объемного труда. От графини он получил только записку, в которой она успокаивает Шпаннагеля ничего не значащими фразами и назначает встречу, чтобы передать ему долгожданный ответ. Каким он был – о том свидетельствуют факты. «Delia vita e del regno di Josef о il vittorioso» – живое свидетельство искреннего почитателя, который в прилагаемой переписке неоднократно обращается к Иосифу I (код 8434, карт. 272 и далее) как «мой герой». Не впадая в апологию, биография Шпаннагеля представляет живой портрет и достоверно выводит на первый план духовные, моральные и солдатские добродетели. Три эпизода выделены особенно тщательно: обе победоносные осады Ландау 1702 и 1704 годов и пропущенное участие в битвах 1703 года, во время которых баварская крепость снова была завоевана французами, как рассказывает Атто Мелани. Шпаннагель задается вопросом: почему Иосиф не мог принять участие в походе 1703 года? Ответ может быть только один: при императорском дворе существовали люди, которые хотели, чтобы он оставался дома, и не из-за искреннего беспокойства. Официальными причинами отказа (ср. код. 7713, с. 105 = карт. 239 на лицевой стороне и далее) были, конечно же, «недостаток необходимого обмундирования» и «нехватка государственных финансов», кроме того «значительное количество врагов» и «излишки, в которых есть все для хорошего ведения войны». Но этого недостаточно для объяснения, говорит Шпаннагель. Нужно проверить, действительно ли люди, которые решали политические и военные вопросы, делали все возможное. Впрочем, он понимает, что «проведенное таким образом расследование и сравнение является смелым, неприятным и сложным занятием», поскольку оно также означает «точное выяснение намерений душ и сердец, которым известны сотни и сотни неизведанных путей». Они настолько необъятны, что честные друзья Иосифа сомневаются, «что его противники действительно верой и правдой служили императору и Римскому королю, и нельзя ли было с их помощью избежать многих трудностей и несчастий». Значит, кто-то лгал или, по меньшей мере, не выполнял свои обязательства как следует. Почему? В первую очередь потому, что не хватало «полной гармонии» во взаимоотношениях Иосифа с министрами его отца, кроме того, из-за «некоторой доли зависти», заставлявшей министров Леопольда «относиться с недоверием к министрам старшего сына», то есть министрам Иосифа. Последние же были убеждены, что единственная возможность «спасти Австрийский дом от окончательного упадка» заключается в том, чтобы «дать Римскому королю проявить свои выдающиеся способности и таланты». Если бы отношения изменились, то последовало бы решающее для страны изменение курса, а для этого было необходимо, чтобы звезда Иосифа засияла по-настоящему, так, как это было после взятия Ландау в 1702 году. Шпаннагель, год рождения которого неизвестен, но умер он, вероятнее всего, в 1746 году (Иг. Фр. В. Мослер. История королевской и императорской придворной библиотеки в Вене. Вена, 1835, с. 148), был современником Иосифа. Будучи свидетелем большинства событий, о которых сообщает, он мог цитировать их по рассказам очевидцев или устным свидетельствам. Однако с наибольшей точностью он цитирует (код. 7713, с. 124–126; приложение к 5-й книге – письмо Z) первоисточники, которые он сам передавал императору: письма, которые адресует князь Зальм, старый воспитатель Иосифа, в первые месяцы 1703 года графу Синцендорфу. Здесь в открытую говорится о «дурных планах правительства», указывается на «крайнюю необходимость» смены министров и на то, как важно заменить их «способными, достойными доверия людьми с незапятнанной репутацией», «которые изменят ситуацию и положат конец злоупотреблениям». Зальм недвусмысленно добавляет: «С учетом коварства нынешнего правительства по отношению к Римскому королю я не могу, и говорю Вам это совершенно откровенно, советовать королю присоединяться к кампании». Итак, это правда, что Иосиф, как говорит воспитатель семьи Карла VI, стал жертвой «дурных планов» или, попросту говоря, зависти. Поэтому ему было отказано в том, чтобы отправиться на войну, то есть снова завоевать славу. Карлу не понравилась биография «Иосифа Победоносного, короля и императора Рима, короля Венгрии и Богемии и эрцгерцога Австрийского». Уже вскоре начались переговоры: Карл предлагает Шпаннагелю через своего канцлера сокращения (код. 8483, карт. 280–286), причем в той части, где приведены причины того, почему Иосифу помешали лично отправиться на фронт во время кампании 1703 года. Шпаннагель смог реконструировать эту историю не в последнюю очередь благодаря предоставленным императором документам, которые он приводит в приложении. Он мужественно отклоняет исправления своего текста императором, поскольку полагает, что это нанесет ущерб полноте текста. Советам он будет следовать только тогда, когда его работа будет закончена. Однако императору мешают и другие детали. Историк должен извиниться зато, что «двусмысленно» описал воспитание Карла (код. 8434, карт. 297 лицевая сторона – 298 лицевая сторона). Причем обвинение не соответствует действительности, он назвал его «скромным», но абзац подлежит немедленному исправлению. И, пользуясь случаем, Шпаннагель напоминает о том, что все еще ждет документов, которые запрашивал для того, чтобы иметь возможность описать юность нынешнего императора. Быть может, Шпаннагель слишком смел, слишком торопится заняться неудобными темами, и, быть может, он действительно нечаянно оскорбил его величество. Зерно зависти всегда приносит всходы: все заканчивается тем, что император так и не примет историка и его биография так и останется неопубликованной. Рукопись все еще ждет своего издателя; возможно, однажды в Италии кто-нибудь примет в печать итальянский текст. Шпаннагель начинает писать на латыни также историю правления Карла, вероятно, чтобы угодить нынешнему императору. Однако работа остается незаконченной, при этом число страниц, посвященных брату Иосифа (см.: Сюзанна Пум. Биография Карла VI. Написанная Готфридом Филиппом Шпаннагелем. Ее ценность как исторического источника. Неопубликованная диссертация. Вена, 1980), до смешного мало. Историку, любившему Иосифа, трудно оценить Карла. Цензурная деятельность наследника Иосифа Победоносного на этом не закончилась. Уже в 1715 году, спустя четыре года после смерти Иосифа, Карл сделал необычный шаг: он поручил двум придворным чиновникам просмотреть всю корреспонденцию своего отца Леопольда и своего покойного брата, которая хранилась в письменных столах и другой мебели. Тщательный осмотр продолжался почти четыре месяца (с 28 января по 20 апреля и с 26 августа по 19 сентября). Получив наконец список всех документов, Карл приказал большую часть из них сжечь. Страница за страницей он лично отметил, какие бумаги не должны сохраниться, и в первую очередь все, что представляет личный и семейный интерес. В Венском государственном архиве еще хранится точный протокол сортировки с замечаниями Карла (Австрийский государственный архив, записи семейных состояний, коробка 105, № 239). Среди личных бумаг Иосифа, которые внесли в список чиновники, встречается довольно большое количество писем и мемуаров, касающихся Ландау: ictu oculi[1017] можно видеть, насколько важен был для молодого повелителя двойной баварский триумф. К числу сожженных документов принадлежат дюжины писем, которыми обменивались Иосиф и Карл, братья и отец, а также их супруги, кроме того, в списке присутствует множество других писем, содержание которых не оговаривается. В личной корреспонденции на полях можно даже встретить такое замечание: «Сжечь, чтобы ничто подобное не стало достоянием общественности». Почему такое количество документов никому не было нужно на протяжении четырех лет? (Это тем более странно, что в протоколе даже упоминается существование драгоценностей, обнаруженных среди забытых писем.) Какая таинственная сила подвигла Карла на то, чтобы уничтожить такое количество уникальных семейных воспоминаний? Скрывалась ли в письмах правда о взаимоотношениях между двумя братьями? Или, быть может, предательская информация, касающаяся смерти Иосифа? Приказ Карла о сожжении навсегда делает ответ на этот вопрос невозможным.Атто Мелани
Известие о прибытии в Вену в начале апреля некоего Милани, которое трубочист с удивлением обнаруживает в газете, ни в коем случае не является выдумкой. На странице 4 «Виннерише Диариум» от 8 – 10 апреля 1711 года пишет: «Шоттентор… господин Милани / императ. почтмейстер / прибыл из Италии / направляется в почтамт». Любой может проверить это в Венской национальной библиотеке в ратуше, точно так же, как и все остальные цитаты из газет того времени. По случайному совпадению Атто Мелани и Иосиф I оба похоронены в церкви босоногих августинцев: в Вене это Августинеркирхе, в Париже – церковь босоногих августинцев Нотр-Дам-де-Виктуар. Надгробный памятник Атто в Париже (работа флорентийца Растрелли, как верно отмечает трубочист) увидеть уже нельзя, вероятно, он был разрушен во время революции 1789 года. Бренные останки Мелани, таким образом, потеряны навеки, быть может, во время революционных волнений их выбросили в Сену, как и многие королевские головы Франции, включая трупы Мазарини и Ришелье. В Пистойе, в капелле Мелани внутри церкви Сан-Доменико, тем не менее, можно увидеть копию надгробного камня. На кенотафе в Пистойе находится единственный сохранившийся портрет Мелани, хотя их было много: бюст в одеждах аббата, гордый взгляд, на подбородке – дерзкая ямочка. Авторы публиковали его в первый раз в изданном ими первом томе «Secreti dei conclavi» (Амстердам, 2004; рус: Тайны конклавов. Штутгарт, 2005). Все подробности отношений Атто с его родственниками (включая пересылку засахаренных апельсинов и мортаделлы), его возрастная подагра, склонность в деталях рассказывать о своем геморрое, обстоятельства его смерти, контакты с мадам Коннетабль, рассказ о великом голоде 1709 года во Франции и финансовом кризисе 1713-го, последние слова на смертном одре, похороны и другие детали подтверждаются его письмами, которые находятся в Государственном архиве во Флоренции (Государственный архив Флоренции 4812, письма, адресованные великому герцогу Тосканы и его секретарю, аббату Гонди), а также в библиотеке Маручеллиана (рукописи Мелани, 9 томов, письма родственникам из Тосканы). По поводу отношений между Атто Мелани и мадам Коннетабль Марией Манчини Колонна см. исторические примечания к книге Мональди и Сорти «Secretum» (Берлин, 2005), где было впервые опубликовано много отрывков из писем Мелани. Из корреспонденции Атто можно узнать, что в 1711 году он действительно все еще принадлежал к числу сотрудников Торси, сильного министра Людовика XIV, как гордо объявляет Атто в третий день. Однако в письмах, которые были в те годы посланы из Франции в Тоскану, проглядывает правда: к мнению Атто при французском дворе прислушиваться перестали. И с учетом его почтенного возраста это неудивительно. В одном из писем из Парижа от 23 февраля 1711 года, адресованном Гонди, к примеру, Атто признает, что он ездил в Версаль, а Торси его не принял. Соответствует истине и то, что, несмотря на преклонный возраст, Атто не оставляло желание закончить свою жизнь в Тоскане (см.: примечания к «Secretum», там же). 17 декабря 1713 года, за восемнадцать дней до смерти, он пишет:«Я уже принял решение отправиться в Версаль, чтобы попросить короля предоставить мне разрешение провести два года в Тоскане, где я собираюсь выяснить, не восстановит ли воздух родных мест мои силы и, что было бы гораздо приятнее, мое зрение; ибо, поскольку я уже не могу собственноручно писать, я считаю себя непригодным для службы Его Величеству и его министрам; тем более что самых старших из них, как то месье ди Лиона, Телье и Помпона, с которыми меня связывали доверительные отношения, уже нет в живых, а ведь они некогда были моими поручителями перед королем, тогда как сейчас, если я не пойду лично сам, никто не побеспокоится о том, чтобы поговорить с ним вместо меня. Впрочем, я мог бы надеяться, что таким человеком мог бы быть монсеньор маркиз де Торси, который стал бы покровительствовать мне, вот только он настолько недоверчив, что я даже не смог подвигнуть его на то, чтобы передать от меня письмо месье де Марецу, чтобы мне выплатили пенсию».В остальном же Атто значил мало уже и во Флоренции. 30 марта того же года Гонди пишет великому герцогу Тосканы:
«[Аббат Мелани] осмеливается сообщать мне свое мнение… полагая, что я имел желание быть просвещенным по этому вопросу».Гонди прощает ему это, впрочем, только потому, что не хочет сердить родственников Атто в Тоскане. Из внутрисемейной переписки можно узнать, что Атто 12 апреля 1711 года страдал от колики, о которой рассказывает трубочист. И мнимая слепота, которой он прикрывается, словно щитом, чтобы иметь возможность отказывать родственникам в просьбах, подтверждается в письмах, которые он посылал в те годы из Парижа в Тоскану. 23 марта он пишет Гонди:
«Мое здоровье продолжает ухудшаться по причине частой смены погоды, которая бывает здесь, у нас, однако гораздо больше страдаю я от своего преклонного возраста, при этом не стоит забывать, что хотя я не могу уже сам читать и собственноручно писать, Господь в бесконечной милости своей сохранил незамутненным мой рассудок, и это в 85 лет, которые исполнятся мне 30 числа этого месяца».Потеря зрения, которая в 1711 году якобы была уже очень сильной, началась только два года спустя: 6 февраля 1713, когда он действительно не смог видеть. Атто написал Луиджи Мелани, брату Доменико: «И в довершение всего я не могу ни читать, ни писать. А ведь, тем не менее, мой друг монсеньор Гаагский вернул себе зрение в 85 лет!» Страдая от потери памяти, как и все старые люди, аббат Мелани совершенно забыл, что уже долгое время притворялся слепым…
Камилла де Росси
В квартале Трастевере в Риме действительно жила некая Камилла де Росси, землевладелица, имя которой Франц де Росси дал своей жене. Ее завещание сохранилось (Римский капитолийский архив, 6 декабря 1708 года, акты нотариуса Франческо Мадесцирио). Франц де Росси был, как и рассказывала Камилла, музыкантом при венском дворе и действительно умер в возрасте 40 лет 7 ноября 1703 года, в Ниффском доме со съемными квартирами в центре города, от воспаления легких. В Венском городском и земельном архиве сохранился протокол осмотра трупа с заключением о смерти Франца де Росси, в соответствии с обычным написанием иностранных имен в официальных документах:«Господин Франц де Росси, королевский музыкант в Ниффском доме, осмотрен после воспаления легких. Возраст 40 лет».Франц де Росси обозначен как «королевский музыкант», то есть он действительно состоял на прямой службе у Иосифа I, который в 1703 году был еще Римским королем, а не на службе у его отца, императора Леопольда I. Кроме того, о его смерти сообщается в «Виннерише Диариум», № 28 от 7 – 10 ноября 1703 года:
«7 ноября умер господин Франц Росий / королевский музыкант в Ниффском доме на Вольцайле / возраст 40 лет».Следов хормейстера же практически нет, кроме партитур к либретто для ее ораторий. Верно и то, что говорит трубочисту Гаэтано Орсини: этому композитору никогда не платили за ее музыкальную службу. Поскольку Камилла не упоминается в книгах императорского учета, она становится практически неуловимой особой. К счастью, «Виннерише Диариум» сообщает о проведении ораторий каждый год в Страстную пятницу, когда появлялись оратории Камиллы Де Росси (1707–1710). Не без причины Иосиф I ходил на эти представления, ведь он действительно заказывал Камилле оратории. Не считая косвенного доказательства деятельности и присутствия композитора в Вене, все проведенные авторами в архивах расследования результатов не дали: Венский архив придворной палаты, трактат о должности верховного гофмаршала, том 643 (индекс 1611–1749); том 180 (Описи имущества 1611–1749); том 181 (здесь появляется камердинер Винсент Росси, вероятно, двоюродный брат Франца, о котором говорит также и трубочист); трактат о должности верховного гофмаршала, протоколы 6 и 7; коробка 654, статьи 1703–1704; Архив придворной палаты, жалованные грамоты Нижней Австрии, W-61/A, 32/В, 1635–1749, тома 455–929: список различных трудов музыкантов, которые ставились в придворной капелле, камерной музыки и придворных опер (то и дело не хватает отдельных дат, кроме того, как раз между 1691 и 1711 годами имеется большой промежуток); памятные книги, 1700–1712. И в свидетельствах о рождении, венчании и смерти, которые начинаются во второй половине XVIII века, нет ни одного следа Камиллы; точно так же и в призывном опроснике (нечто вроде реестра жилых домов и их жителей), который, однако, ведет свои записи только начиная с 1805 года. В первую очередь, не существует каких бы то ни было отметок о выплатах Камилле из личной кассы Иосифа I, из которой оплачивались денежные переводы некоторым музыкантам. Сюзанна и Теофил Антоничек (Три документа, там же) опубликовали список музыкантов, которым в 1707–1711 годах Марчезе Сципионе Публикола ди Санта-Кроче в качестве «суперинтенданта музыки» Иосифа I выплачивал жалование. В этих документах тоже нигде не упоминается Камилла де Росси. Данные по другим венским музыкантам получены из Венских архивов и из: Л. Риттер фон Кехель. Императорская придворная музыкальная капелла в Вене 1543–1867 ходах. Вена, 1869; Б. Гарви Джексон. Оратории по приказу императора: музыка Камиллы де Росси, в «Current musicology», 42 (1986), с. 7. Гаэтано Орсини действительно пел в ораториях Камиллы и принадлежал к числу музыкантов, которые получали выплаты из тайных касс Иосифа (см.: Венский государственный архив, тайные счета казны 1705–1713, в разных местах). Монастырь Химмельпфорте действительно существовал. Как и многие другие монастыри города, в 1785 году он, к сожалению, был снесен по приказу императора Иосифа II. Архив Химмельпфорте избежал разрушения, он находится в Венском земельном архиве. Подлинна и история о рабыне-турчанке, которая должна была поступить в девичий пансион монастыря Химмельпфорте и которой отказали монахини, как рассказывает на четвертый день Камилла (см.: П. Альфонс Жак. Женский монастырь Химмельпфорте в Вене//Страноведческий ежедневник Нижней Австрии. Новый выпуск, 6 год (1907). Вена, 1908, с. 164):
«В 1695 году в Вене была крещена кардиналом Леопольдом графом Коллоничем турецкая рабыня испанского капитана Иеронима Джиудичи и должна была поступить в монастырь Химмельпфорте. Хористки, однако, протестовали против принятия девочки, поскольку у них были только воспитанницы благородных кровей, а эта была рабыней. Сам император признал их правоту 3 сентября 1695 года, и когда капитан обратился 12 сентября 1695 года в венскую консисторию с просьбой заставить принять рабыню в монастырскую школу при Химмельпфорте, 16 сентября, однако, ему было отказано».Не должно удивлять также внезапное появление Камиллы де Росси в винном погребе неподалеку от Нойгебау: как следует из документов монастыря в Венском городском и земельном архиве, монастырь Химмельпфорте и правда владел некоторым количеством земли в окрестностях Места Без Имени. Весьма вероятно, что Камилла действительно в конце концов удалилась в монастырь Сан-Лоренц. В пользу этого свидетельствует не только тот факт, что после 1711 года не видно больше никаких признаков жизни музыкантши, ни в Вене, ни в ее родном городе – Риме. Существует удивительное свидетельство леди Монтегю, знаменитой английской писательницы и путешественницы, которая в 1716 году во время своего визита в столицу империи пишет:
«Я была крайне удивлена тем, что нашла здесь единственную красивую женщину во всей Вене: Не только красивую, но и веселую, умную, с великолепным образованием. Я не могла на нее насмотреться. Она ответила на мое поклонение тысячами вежливых слов и попросила меня навестить ее еще. "Это будет для меня самым лучшим развлечением (вздохнув, сказала она), поскольку я изо всех сил избегаю встречаться с людьми из моей прежней жизни. И если кто-то из них приходит в монастырь, то я запираюсь в своей келье". Я заметила, как на глазах у нее выступили слезы, что тронуло меня до самого сердца. Я попросила ее довериться мне, но она не хотела признавать, что в глубине души она не совсем счастлива. После этого я всюду в Вене искала истинную причину ее ухода отмира, впрочем, не узнав ничего, кроме всеобщего удивления и того, что никто не догадывается об истинных причинах ее отречения. Я часто приходила к ней, однако мне было слишком грустно видеть замурованной там такую красивую молодую женщину». (Письма леди Мари Уортли Монтегю во время ее путешествий по Европе, Азии и Африке. Лейпциг, 1724, с. 19–55).Методики лечения Камиллы де Росси, которые основываются на искусстве лечения святой Хильдегарды фон Бинген, подтверждаются. Неудивительно, что хормейстер научилась этому искусству от своей матери-турчанки: как сообщает Карл Хайнц Регер (Медицина Хильдегарды. Мюнхен, 1989), по мнению некоторых исследователей, в трудах Хильдегарды есть отчетливые следы влияния исламской культуры.
Турецкие посланники и легенды
Турецкие легенды, которые разыскивали студенты (в первую очередь легенда о Золотом яблоке и сорока тысячах солдат Касыма), все являются подлинными. К примеру, их подтверждает Рихард Ф. Крейтель (изд.) (В стране Золотого яблока. Памятное путешествие турецкого путешественника Евлии Челеби в страну гяуров и в город-крепость Вену, Р. X. 1665. Грац/Вена/ Кельн, 1957). Сказание о Дайи Черкесе, или Дайи Чиркассо, которое рассказывает Пеничек, во всех отношениях сходно с версией Керстин Томенендаль (Турецкое лицо Вены. Вена/Кельн/Веймар, 1999, с. 187 и далее). Турецкая версия легенды рассказывается по уже цитированному выше отчету о путешествии турка Евлии Челеби, который приезжал в Вену в 1665 году. Статую и сегодня можно увидеть на фасаде дома по адресу: Хайденшусс, № 3. Бесчеловечный обычай османов похищать христианских детей, который описывает Атто Мелани, соответствует исторической правде. Об этом, к примеру, сообщает Роберт Мантран (La vita quotidiana a Costantinopoli ai tempi di Solimano il Magnifico (Повседневная жизнь в Константинополе во времена Сулеймана Великолепного). Милан, 1985 (Оригинальное издание: Париж, 1965), с. 104–105):«Во второй половине XIV столетия, то есть после завоевания части европейских Балкан, османы ввели методику регулярного пополнения рекрутов для возрастающего по численности и силе войска, которая до глубины души потрясла христиан, а туркам сослужила отличную службу на протяжении длительного промежутка времени: мы говоримо «девширме» – отборе мальчиков. Эта система заключалась в том, что раз или два в год из каждой христианской семьи на Балканах забирали сыновей в возрасте младше пяти лет. Детей навсегда забирали у родителей и посылали в Анатолию, где в мусульманских семьях из них воспитывали мусульман. Они учили турецкий язык, их приучали к турецким и исламским обычаям. В десять-одиннадцать лет они поступали в учебные заведения: дворцы Адрианополиса[1018] и Галлиполиса, а после – в Стамбул. С этого момента мальчиков называли «ачеми о глан».[1019] И в зависимости от их склонностей из них готовили воинов или же слуг для дворца, где они становились пажами, «ич о лан». Там они проходили долгий путь, позволявший им подниматься выше и выше, ступень за ступенью, и если им удавалось привлечь внимание султана, или султанши, или же какого-нибудь придворного фаворита, им уже ничто не мешало подняться до самых высоких позиций, даже стать великим визирем. Поскольку они не совсем забывали о своем происхождении и были обязаны своими успехами исключительно султану, они хранили ему необычайную верность и не имели иных желаний, кроме как служить ему верой и правдой».По поводу происхождения высших слоев общества из «отбора мальчиков» см.: Джиорджио Верчеллин. Сулейман Великолепный. Флоренция, 1997, с. 11–12:
«Нельзя представить себе полностью, как присутствие османов в Европе в годы непосредственно после Реформации повлияло на ход истории нашего континента, начиная со стран, расположенных между Рейном и Дунаем. Протестанты получили наибольшую выгоду от войны Карла V и Фердинанда I против «неверных». Крупный специалист по отношениям между османским и христианским миром Кеннет Сеттон («Лютеранство и турецкая угроза» в «Балканские студии», III, 1962) даже писал: «Без турок Реформацию могла бы легко постигнуть та же судьба, что и восстание альбигойцев» […] Сила Турецкой империи зиждилась на решающей роли янычаров, высокоспециализированного пехотного корпуса, созданного султаном Мурадом I (1362–1398) почти за целое столетие до первых регулярных войск во Франции. Янычаров воспитывали в единственном в своем роде учреждении «девширме» […] и отличительным их признаком служил белый колпак. В XIV веке их было около тысячи, в следующем – пять тысяч, а в эпоху Сулеймана войско насчитывало 12000 человек».Описание прохода турецкого посольства по Химмельпфортгассе во всех подробностях соответствует отчетам об их визите, которые были напечатаны и распространены в тот день: «Описание аудиенции…», Вена, 9 апреля 1711 год. Обе последующие аудиенции аги во дворце Евгения, состоявшиеся 13 и 15 апреля, подтверждает А. Арнет (Принц Евгений Савойский. Вена, 1864, т. 2, с. 159). Однако Арнет допускает ошибку: он пишет, что 19 апреля ага уже отбыл на родину. А это неверно. Прощальная церемония с заместителем Евгения, графом фон Герберштейном, вице-президентом придворного военного совета, состоялась 16 мая и описывается в брошюре, которая носит название «Прощальная аудиенция для турецкого посла Цефулааги, Капичи-паши, с описанием всех происходивших при этом церемоний» (Вена, 16 мая 1711). Кроме того, «Коррьере Ординарно» от 3 июня 1711 года (приложение, с. 91, года 1711) сообщает, что ага только 2 июня «отбыл в Константинополь, на пяти судах, предоставленных ему. Он вез с собой самые различные вещи, купленные им здесь, среди них несколько бочонков с ножами, косами и серпами, а также другие предметы». Дальнейшие подробности, касающиеся турецких посольств, прибывавших в Вену в те годы, описываются Р. Пергером и Э. Д. Петричем (Таверна «У Золотого Тельца» в квартале Леопольдштадт и ее постояльцы-турки//Хроники общества по истории города Вены. 55 (1999), с. 147 и далее). Во время турецкой осады Вены в городе действительно был предатель, армянин Шахин, как рассказывает трубочисту на пятый день Коломан (см.: К. Тепли. «Появление кофе в Вене. Вена, 1980, с. 35 и далее). История об исчезнувшей голове Кара-Мустафы тоже является подлинной во всех деталях (см.: Рихард Ф. Крейтель. Голова Кара-Мустафы-паши//Хроники общества по истории города Вены. 32/33 (1976–1977), с. 63–77). Была и еще одна голова турка в городском арсенале Вены на улице Ам Хоф, № 10: голова Абаца-Кер-Хюсейн-паши, который погиб 24 августа 1683 года неподалеку от Вены в битве при Бизамберге (см.: Керстин Томенендаль. Турецкое лицо Вены. По следам турок в Вене. Вена/Кельн/Веймар, 2000, с. 186). Голова этого забытого героя войны хранилась в качестве пандана известной головы Кара-Мустафы и упоминается в каталогах вплоть до 1790 года. Вероятно, она исчезла со склада еще раньше, быть может, намного раньше, а именно тогда, когда ее украл Угонио…
Илзунг, Хаг, Унгнад, Марсили
Вся важная информация об Илзунге подтверждается Стефаном Дворжаком (см.: Георг Илзунг фон Тратцберг. Машинописная диссертация. Вена, 1954). Как рассказывает Симонис, Давид Хаг был назначен придворным казначеем по совету Георга Илзунга (см.: Домовой, придворный и государственный архив, акты семейных состояний, коробка 99, рекомендательное письмо Илзунга Максимилиану II от 3 октября 1563 года). И действительно, Илзунг посоветовал нанять загадочную знахарку Магдалену Штрейхер, чтобы она лечила умирающего Максимилиана (или же убила?). Об этом сообщается в письме врача Крато фон Краффтгейм, адресованном Иоанну Самбуку, перепечатанном М. А. Бекером в книге «Последние дни и смерть Максимилиана II» (Вена, 1877, с. 41). По поводу Давида Унгнада см.: Хильда Литцманн. Нойгебойде в Вене. Палатка султана Сулеймана – замок-прихоть императора Максимилиана И. Мюнхен/ Берлин, 1987. Луиджи Марсили (все, что о нем говорится, подтверждается историческими документами) действительно был человеком, который научил венцев варить кофе, как рассказывает трубочист. В своем труде «Bevandaasiatica, brindataaU'Eminentissimo Bonvisi, Nunzio apostolico appresso la Maestà del'Imperatore etc.» (Азиатский напиток, пьющийся за благополучие почтеннейшего Буонвизи, апостольского нунция при его величестве императоре, Вена, 1685) итальянский командир впервые объясняет, как жарить зерна, молоть их в порошок и заливать кипящей водой. Подтверждения всей остальной информации, касающейся Марсили, которая появляется в рассказах Атто Мелани, можно найти во множестве трудов, указанных в прилагаемой библиографии.В газете «Виннерише Диариум» № 280 с новостями за 7–9 апреля 1706 года, которая хранится в городской библиотеке Вены, мы нашли редкое свидетельство по поводу нищих студентов в Вене того времени, не обработанное до сих пор ни одним историком:
«Среда, 7 апреля. Поскольку вот уже на протяжении длительного времени с неудовольствием ощущается, что / несмотря на часто издающиеся в Саксонии эдикты многие бродячие студенты / и другие / выдающие себя за них / й к ним присоединяющиеся / в то же время не являющиеся ими / проводят дни и ночи в попрошайничестве I на улицах, перед церквями и домами / даже в учебное время; в то же время / под видом учебы / предаются праздности / и вытекающим из нее грабежам и разбою; что, впрочем, одно и то же / дрались 17 и 18 января сего года / в городе и за его пределами / даже в Нусдорфе возникли беспорядки (по поводу чего ведутся строгие расследования / с целью обвинения и заслуженного наказания виновных) / из-за чего доброе имя остальных, славных студентов оказалось объектом пристального внимания вышестоящих властей; важно общее существо дела: поскольку необходимо прекратить данное утомительное попрошайничество / и в первую очередь праздность, которой предаются под видом учения / и другие пороки, исполнить настоящим принятое всемилостивейшее решение Его Императорского Величества; Rettore Magnifico,[1020] императорскому суперинтенданту и Consistorio[1021] святейшего и древнейшего, славного университета сих дней всем бродячим студентам и другим, которые за них себя выдают / однако не занимаются учением / особым эдиктом издать последнее предупреждение и всерьез приказать: чтобы те в 14 дней ушли от ближних домов и других мест; в противном случае они будут схвачены стражей и / препровождены в Carceros Academicos[1022]/ и в зависимости от состояния их дел / будут переданы вербовщикам / или же на них будет наложено другое существенное наказание; те же бедные студенты / которые ежедневно хорошо занимаются / либо получат стипендию у властей университета / либо должны подыскать себе занятие; в случае же если они не найдут такового / или вследствие своей учебы не могут жить иначе / чем на милостыню / в неучебное время / вплоть до следующего распоряжения / им дозволяется / продолжать попрошайничать; однако же им должен быть выдан соответствующий значок / который необходимо обновлять ежемесячно / и всегда носить с собой / он будет указывать на их особые обстоятельства: что они не кто иные / как истинные бродячие студенты / и обращаться с ними следует соответственно».То, что трубочист ничего не выдумывает, можно проверить на основании множества источников, которые описывают жизнь студентов в начале XVIII столетия, к примеру, у Рудольфа Кинка (История императорского университета Вены. Вена, 1854), или у Петера Краузе (О, былое великолепие буршей. Студенты и их обычаи. Вена, 1987), или у Уты Чернут (Студенты Каринтии в Венском университете 1365–1900. Неопубликованная диссертация. Вена, 1984). Также и причудливая студенческая церемония снятия, во время которой Пеничека назначают младшкекурсником Симониса, следует древней, многократно документированной традиции, как поясняет Вольфганг Карл Рост в «Кратком изложении академического снятия» (год издания не указан). Трюки, вспомогательные средства, суеверия и приемы, которыми пользуются Симонис и его друзья-студенты, взяты из весьма занимательной книженции Генриха Каспара Абелия «Лейб-медик студентов и студенческие искусства» (Лейпциг, 1700).
Вся информация о жалкой жизни трубочистов в Италии является подлинной (см., к примеру: Бенито Мацци. Fam, füm, frecc, il grande romanzo degli spazzacamini (Голод, дым, холод, великий роман трубочистов), в книге: Quaderni di cultura alpine (Книга об альпийской культуре), 2000). Столь же подлинно и описание благоприятных условий, которые были созданы для итальянских трубочистов в Вене, и множества императорских привилегий, предоставленных их гильдии (см.: Эльзе Рекецки. Ремесло трубочиста в Вене. Его развитие начиная с конца XVI века до XIX века, с учетом остальных земель Австрии. Диссертация. Вена, 1952). Подробности IV ремесла, которое подарил своему другу Атто Мелани, включая виноградник и дом «неподалеку от Михаэлеркирхе» в пригороде Жозефина, превратившийся сегодня в красивый центральный квартал Йозефштадт, можно проверить по актам чистки дымоходов в Венском городском и земельном музее.
Свободное время, трактиры, пиршества и другие подробности
Все, что касается невероятного количества праздников и процессий или же постоянного отлынивания от работы по причине различных религиозных обязанностей, все данные по благосостоянию даже нижних слоев населения, начало рабочего дня еще до восхода солнца, включая крик ночного сторожа («Вставай, слуга, во имя Господа, день уже начинается!»), а также трактиры, игры, налоги, шпионская деятельность, развлечения и все остальное, что характеризует жизнь в Вене, начиная с Дома травли и боев животных до мельчайших подробностей, подтверждается документально. Как пишет Герхард Танцер в своей достойной внимания диссертации о свободном времени в Вене XVIII столетия (Быть в Вене – уже само по себе развлечение! Об изменении свободного времени в XVIII столетии. Диссертация на соискание степени доктора философии. Вена, 1988) и в вышедшей на ее основании книге (Спектакли должны быть. Свободное время венцев в XVIII столетии. Вена/Кельн/Веймар, 1992), в промежутке между 1707 и 1717 годами среди трактирщиков случались крупные выступления против обложения налогами дорожек для боччи, о чем рассказывает трубочисту Симонис во время их поисков Популеску. Людей, доносивших на нарушителей закона, таких как румынский студент, было как песка в море. Оплата их услуг превышала доходы с налогов, однако все довольствовались этим и видели в этой ситуации позитивную сторону: выигранные в игре суммы, как бы там ни было, были деньгами, имевшими хождение, главное, что они не переправлялись за границу! В последующие годы наблюдалось взрывоподобное развитие игр, равно как и танцевальных мероприятий. Традиционалисты сетовали на то, что повсюду танцевали и играли, даже если на улице в это время процессия несла святые дары.Число трактиров в Австрии и список блюд, поглощаемых на свадебных банкетах, взяты из книги Франциска Гуаринония «Ужас разорения рода человеческого» (Вена, 1610). Сцена с гостями, которые предавались за столом разнообразному распутству, свидетелями которой стали Атто, Доменико и трубочист на третий день, ни в коем случае не является преувеличением со стороны авторов. Подобное поведение (плевать на горячие блюда, чтобы в глаза соседям летели брызги жира; лить себе за воротник вино; использовать салфетку в качестве носового платка; тянуть на себя скатерть, чтобы добраться до жаркого и так далее) подробноописывается во множестве – указанных в библиографии – трудов известного придворного проповедника босоногого августинца Абрахама а Санта-Клара – чтобы обличить его (см. также: Э. М. Шпильман. Женщина и круг ее общения у Абрахама из Санта-Клары. Машинописная диссертация, 1944, с. 125–126). И невероятно тайные сделки с обменом хлебом и вином, которые описывают турки и венцы во время осады 1683 года, подтверждаются историческими документами (см.: К. Тепли, там же, с. 30). Однако Тепли также сообщает (с. 35), что историк Отто Клопп (1683 год и последующая великая турецкая война до мира в Карловице, подписанного в 1699 году. Грац, 1882) осмелился поставить под сомнение действенность участия гражданского населения в защите осажденного города, и возмущенный хор журналистов, политиков и университетских преподавателей заставил его замолчать, более того, по этому поводу было даже подано заявление в городской парламент. Не является выдумкой и рассказ Коломана о большом разнообразии рыб, которые попали тогда в Вену. Ситуация изменилась только в восьмидесятые годы XVIII столетия, когда император Иосиф II приказал закрыть много монастырей – они принадлежали к числу крупнейших поставщиков рыбы – и отменил целый ряд религиозных праздников с полагающимся к ним постом: рецепты приготовления рыбы, которые возникли для того, чтобы обходить запрет на пост, были преданы забвению. Вскоре среди венцев стала популярной поговорка о елизаветинских временах, в которой протестанты косвенно смеялись над католиками: «Он почтенный человек, рыбы не ест». Пивную «У Желтого Орла», куда Симонис ведет Атто и трубочиста утром шестого дня, еще называли «греческим кабаком», она располагалась прямо на рыбном рынке, в честь которого названа теперь улица. По-прежнему работающее заведение стало известно благодаря легенде, согласно которой уличный певец Августин во время чумы 1679 года написал здесь свою знаменитую песню «О, du Heber Augustin, alles ist hin».[1023] Кофейня «Голубая Бутылка» действительно существует, и это было первое заведение, где официально разрешили продавать кофе. Трактир «У Хаймбока» все еще стоит. В очень любимом венцами бушеншанке, который сегодня называется «Центер Мари», можно хорошо поесть. Новое название, которое объединило номер дома с именем прекрасной дочери хозяина, он получил в середине XVIII столетия. К сожалению, сегодня его окружает не виноградник, как когда-то, а ужасные дома со съемными квартирами. Если есть желание насладиться природой, описанной трубочистом, то нужно, как он и поступает на шестой день, отправиться на холм Цум Предигтерштуль, который сегодня называется Вильгельминенберг. То, что вина из Штокерау плохого качества, как говорит Клоридия, можно узнать из альманаха за 1711 год, а именно из «Кракауер Календер» за год MCCXI от Рождества Христова, составленного М. Иоганном Гостумиовски в благородной Краковской академии ординарным профессором астрологии, доктором философии и королевским математиком (Краковия, 1710).
Теория, излагаемая Атто трубочисту, согласно которой Габсбурги происходят от римских Пьерлеони, по каждому пункту соответствует древним трактатам по геральдике, они были в моде в Вене в XVIII столетии. То же касается и не особенно славных деяний римской семьи (см.: Евхарий Готтлиб Ринк. Чудесная жизнь и деяния римского императора Леопольда Великого, поднятая из тайных сообщений и разделенная на четыре части. Лейпциг, 1709, I, с. 9 и далее). Застрявшие в стенах домов Вены турецкие пушечные ядра, которые собирался украсть и перепродать Угонио, еще и сегодня можно наблюдать в городе, на перечисленных осквернителем святынь местах. «Ноер Кракауер Календер», составленный Маттиасом Джентилли, графом Родари, из Триента (Краков, 1710), то есть альманах на 1711 год, из которого трубочист вычитал данные о прошедших от Рождества Христова годах, находится в Венской городской и земельной библиотеке. Легенда о текуфе подлинная. Прочесть ее полностью можно у В. Хирша (Открытие текуфы, или Вредная кровь. Берлин, 1717). Соответствует фактам также и квартирное право, которое описывает Симонис (см.: Иосиф Карлбруннер (изд.). Квартиры в старой Вене. Документы по венскому квартирному вопросу в XVII и XVIII столетиях. Вена/ Лейпциг, 1926). Перечень умерших за день, по просьбе Атто прочитанный ему из «Виннерише Диариум», в точности совпадает со списком, действительно появившимся в газете № 803 от 11–14 апреля. Статистика по смертям 1710 года, о которой рассказывает трубочист, подтверждается венской газетой «Коррьере Ординарио» от 7 января 1711 года, дополнительный лист. То же касается и статистики смертельных случаев в Риме за тот же год (см.: Франческо Валезио. Diario di Roma, том IV, 1710, с. 386 и далее). Известие о заболевании великого дофина Франции поступило 14 апреля 1711 года – в тот же день, когда Клоридия передала трубочисту и Атто газету с этой новостью. И в описании Пеничеком Венгрии нет ничего выдуманного. Его рассказ отражается во всех подробностях в современных источниках, датированных XVII и XVIII веками (см.: Казимир Фрешот. Idea generale del regno d'Ungheria, sua descrittione. costumi, regni, e guerra» (Общее представление о королевстве Венгрия, его описание, его обычаи, правительства и войны). Венеция, 1684). Информацию о распространенности итальянского языка в Вене подтверждает Стефано Барнабе (Немецкие и итальянские беседы. Вена, 1660; Наставления по итальянскому языку. Вена, 1675). А также по этому вопросу можно посмотреть великолепную работу Михаэля Риттера «Звезды блестят королями» (Вена, 1999, с. 9). Риттер подтверждает, что итальянский язык был не только официальным придворным языком, как рассказывает трубочист, но и ведущим языком tout court.[1024] Кардинал Коллонич действительно принадлежал к числу столпов венского сопротивления против турок, как сообщает Гаэтано Орсини, и он на самом деле тесно общался с семьей Римского папы Иннокентия XI Одескальки, финансировавшего христианские войска, которые победили в битве 12сентября 1683 года (см. исторические примечания в приложении к: Мональди и Сорти. Imprimatur. Мюнхен, 2003). Подробности по поводу забегаловки, где Христо Хаджи-Танев играл в шахматы, подтверждают Михаэль Эн и Эрнст Штроугаль в книге «Луфтменшен.[1025] Шахматисты Вены 1700–1938 годов» (Вена, 1998). «Виннерише Диариум» действительно, как и рассказывает трубочист, продавался в домике, именуемом «Красный Еж». Согласно «Историческому справочнику Вены» Феликса Чейке (Вена, 2004, III, с. 300) редакция «Виннерише Диариум» находилась в «Красном Еже» только с 1721 года. Впрочем, на изданиях «Виннерише Диариум» 1711 года уже можно прочесть: «Можно найти в "Красном Еже"».
Венцы и их история
Венцы – не только историки, ученые, профессора, но и простые люди и жители окрестностей Вены – очень чувствительны относительно всего того, что касается Габсбургов: горе тому, кто хоть в малейшей степени примется критиковать благородную императорскую семью! Иосиф и Карл любили друг друга всей душой, о принце Евгении нужно говорить, как о святом, противостояние осажденных в 1683 году было со всех точек зрения героическим. И хотя Отто Клопп, как мы видели, отступает от этого главенствующего мнения, тем не менее считается великим историком, а Арнет часто ненадежен. К примеру, он берет информацию, касающуюся смерти Иосифа I, из биографии Вагнера – иезуита! – и ошибается в дате отъезда аги из Вены (см. выше), постоянно пытается убедить читателя в том, что Иосиф I вызывал только любовь и почтение. Соответственно, Арнет описывает якобы испытываемую Карлом боль по поводу смерти брата и сообщает, что Иосиф, умирая, якобы прощался с «горячо любимой супругой», однако умалчивает о придирках, которым подвергалась графиня Марианна Пальфи, его молодая любовница. В Вене и сегодня каждому, кто осмеливается возразить окрашенной в розовые цвета Вульгате, грубо заткнут рот, словно речь идет о нынешней политике, а не о давно минувшей истории. Это маленькая слабость венцев, но и самое ценное качество их характера: у них всегда все в порядке, и горе тому, кто осмелится утверждать иное, особенно если он иностранец. Положительный и важный аспект этого качества заключается в том, что благодаря этому убеждению и неутомимой рекламе венцам в некотором смысле удалось сохранить свой священный мир. Результатом является то, что ни в одном другом большом городе в нынешнее время не живется так хорошо, как в Вене. И это тот аспект, на который следует обратить больше внимания писателям, столь резко критикующим Австрию, как, к примеру, Эльфриде Елинек. Это слова двух авторов, которых изгнали из их любимой родной Италии. Мы благодарны вам, венцы.Архивы, из которых взяты использованные документы
1. Архив придворной палаты, Вена. 2. Австрийский государственный архив, Вена. 3. Коллекция рукописей Австрийской национальной библиотеки, Вена. 4. Земельный архив Вены. 5. Венская библиотека в ратуше, коллекция рукописей. 6. Архив Паулуччи де'Кальболи, Форли. 7. Капитолийский исторический архив, Рим. 8. Государственный архив Флоренции. 9. Архив министерства иностранных дел, Париж. 10. Библиотека Маручеллиана, фонд Мелани, Флоренция. 11. Центральная национальная библиотека Флоренции, фонд рукописей. 12. Библиотека Фортегрвериана, рукописи Мелани, рукописи Соццифанти, Пистойя.Библиография
• Aavv. Smallpox and its eradication, World Health Organization, Switzerland, 1988. • Aavv. Memorie intorno a Luigi Ferdinando Marsili, Bologna, 1930. • Abelii, Henrici Casparis, Leib=Medicus der Studenten und Studenten=Künste, Leipzig, 1707. • Abraham a Sancta Clara, Pater, Huy! Und Pfuy! Der Welt Huy Oder Auf ri-schung Zu allen schönen Tugenden: Pfuy Oder Abschreckung, von allen schändlichen Lastern (etc.), Würtzburg 1707. • Abraham a Sancta Clara, Pater, Mercks Wienn / Das ist deß wütenden Todts ein vmbständige Beschreibung… zusammen getragen… Von-, Wienn 1680. • Abraham a Sancta Clara, Pater, Etwas für Alle, das ist: Eine kurtze Beschreibung allerley Stand-Ambts-und-Gewerbs-Persohnen (etc.), Würtzburg 1699. • Abraham a Sancta Clara, Pater, Etwas für Alle, Dresden, 1905. Idem, 1960. • Abraham a Sancta Clara, Gack/Gack/Gack/Gack, a Ga einer wunderseltzamen Hennen in dem Hertzogthumb Bayern. Beschreibung der berühmbten Wallfahrt Maria-Stern in Taxa etc., Wienn, 1687. • Ackerl, Isabella, Die Chronik Wiens, Vienna, 1988. • Aichholzer, Doris, Klosterleid, Fehlgeburten und Türkengefahr. Das Themenspektrum in Briefen adeliger Frauen vom 16. zum 18. Jh., in «Wiener Geschichtsblätter», 54, 1999, 117–133. • Alpinus, Prosperus, De Medicina Aegytiorum Libri IV, Venetijs, 1591. • Altfahrt, Margit, «Den prof essionisten ist wider ihrer Störer alle Assistenz zu leisten». Unbefugte Schneider in Wien des späten 18. Jh., «Studien zur Wiener Geschichte, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien» 52/53 (1996/1997), 9ss. • Ancioni, Gian Battista, Panegirico a Gioseppe I re di Germania e imperatore romano, trionfatore augusto, Vienna d'Austria, van Ghelen, 1708. • Andrée, Hilda, Geschichte rund um ein Büro, über die Rauhenstein-, Ball-, und Himmelpfortgasse, ihre Häuser u. prominente Bewohner, Wien, 1943. • Antonicek, Susanne u. Theophil, Drei Dokumente zu Musik und Theater unter Kaiser Josef I., in «Festschrift Othmar Wessely zum 60. Geburtstag, Wien, 1982. • Apparatus Funebris quem JOSEPHI I. Gloriosissim. Memoriae…, Viennae, van Ghelen, 1711. • Aretin, Karl Otmar, Freiherr von, Kaiser Joseph I. zwischen Keisertraditi-on und österreichischer Grossmachtpolitik, «Historische Zetischrift», 215. Band, 529–606. • Arneth, Alf red, Ritter von, Maria Theresia's erste Regierungsjahre, Wien, 1863. • Arneth, Alfred, Ritter von, Prinz Eugen von Savoyen aus den handschriftlichen Quellen der kaiserlichen Archive, Bd. II, 1708–1718, Wien, 1864. • Arneth, Alfred, Ritter von, Die Relationen der Botschafter Venedigs über Österreich im achtzehnten Jahrhundert, Wien, 1863. • Arrazi (Razes), über die Pocken und die Masern (ca. 900 n. Chr.), Leipzig, 1911. • Außzug und Vormerkung deren Kays Leopoldinisch– und Josephinischen • Briefschaften und Schriften Verfasst 1715, 28. Jänn. – 20. Sept., mss. • Baechtold, Jacob, Des Minoriten Georg König von Solothurn Wiener-Reise. • Wienerische Reiss-beschreibung, Ms. Nro. 32, 326 carte, in quarto. • Baltzarek, Franz, Die Wiener Stadtbibliotek 1690–1780, in.Wiener Geschichtsblätter», 25–27, 1970 – 72, 69–71. • Baltzarek, Franz, Das Steueramt der Stadt Wien und die Entwicklung der städtischen Rechnungskontrolle bis zur Mitte des 18. Jh., in «Wiener Geschichtsblätter», 21–24, 1966 – 69, 163–169. • Bankl, Hans, Die kranken Habsburger, München-Zürich, 2001. • Barnabe, Stephanum, Unterweisung Der Italienischen Sprach, Wienn, 1675. • Barnabe, Stephanum, Teutsche und Italianisuhe Diseurs, Wienn, 1660. • Basti, Beatrix, Feuerwerk und Schlittenfahrt, in «Wiener Geschichtsblätter», 51, 1996, 197–228. • Basti, Beatrix; Heiss, Gernot, Tafeln bei Hof: die Hochzeitsbankette Leopolds I., in «Wiener Geschichtsblätter», 50, 1995, 181–206. • Baudrillart, Alfred, Philippe V et la Cour de France d'après des documents inédits tirés des archives espagnoles et des archives du ministère des affairesétrangères à Paris, Paris, 1890. • Bauer, Wilhelm, Josef I., Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs, 4 (1955), 261–175. • Becker, M. A., Die letzten Tage und der Tod Maximilians IL, Wien, 1877. • Belgioioso, Cristina, di, La vie intime et la vie nomade en Orient, «Revue des Deux Mondes», 1855. • Benedik, Christian, Zeremonielle Abläufe in habsburgischen residenzen um 1700. Die Wiener Hofburg und die Favorita auf der Wieden, in «Wiener Geschichtsblätter», 46, 1991, 171–178. • Benedik, Christian, Die herrschaftlichen Appartements. Funktion und Lage während der Regierungen von Kaiser Leopold I. bis Kaiser Josef I., in «österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege», 51, 1997, Heft 3–4, 552–569. • Benedik, Christian, Die Wiener Hofburg unter Kaiser Karl VI. – Probleme herrschaftlichen Bauens im Barock, Dissertation, Wien, 1989. • Benedikt, Heinrich, «Der erste Kafeeschank Wiens und der Mann, der die Wiener Kaffee kochen lehrte», in «Bustan», 5, 1964, 20–22. • Berg, Heinrich; fischer, Karl, Vom Bürgerspital zum Stadtbräu. Zur Geschichte des Bieres in Wien, «Wiener Geschichtsblätter», Beiheft 3/1992. • Berney, Arnold, Die Hochzeit Josephs. L, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 42 (1927), 65–83. • Berney, Arnold, «Die Hochzeit Josefs I». Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, XLII, 1867. • Bersohn, Mathias, Studenci Polacy (Die polnischen Studenten auf der Bologneser Universität im 16.U.17. Jh.), Krakau, Czas, 1890. • Bertarelli, E., Jenner e la scoperta della vaccinazione, Milano, 1932. • Beschreibung Der Audientz / Deß von dem Türckischen Großsultan Aus Constantinopel nach Wien gesandten und aida ankommenden Cefulah Aga /capichi Pascia/ Wien den 9. April 1711. • Bibl, Viktor, Maximilian IL, der rätselhafte Kaiser, Lipsia, 1929. • Bibl, Viktor, Prinz Eugen. Ein Heldenleben, Vienna-Lipsia, 1941. • Bibliotheca Eugeniana. Die Sammlungen des Prinzen Eugen von Savoyen, Ausstellung der österreichischen Nationalbibliothek und der Graphischen Sammlung Albertina, Wien 1986. • Bilinski, Bronislaw, Le glorie di Giovanni III Söbieski vincitore di Vienna 1683 nella poesia italiana, Varsavia-Cracovia, 1990. • Böhm, Bruno, Die <Sammlung der [unterlassenen politischen Schriften des Prinzen Eugens von Savoyem. Eine Fälschung des 19. Jh., Freiburg im Breisgau, 1900. • Botto Micca, A., Razes e Avicenna: i due primi descrittori del vaiolo e del morbillo, «II Dermosifilopatico», fasc. 8, 1930. • Braubach, Max, Prinz Eugen von Savoyen, Wien, 1964. • Braubach, Max, Geschichte und Abenteuer. Gestalten um den Prinzen Eugen, München, 1950. • Braubach, Max, Die Geheimdiplomatie des Prinzen Eugen von Savoyen, Köln und Opladen, 1962. • Bräuer, Helmut, «…und hat seithero gebetlet». Bettler und Bettlerwesen in Wien und Niederösterreich während der Zeit Kaiser Leopolds I., Wien, 1996. • Briefe der Lady Marie Worthley Montague während ihrer Reisen in Europa, Asia und Afrika, Leipzig, 1724, 19–55. • Broucek, Peter; hillbrand, Erich; vesely, Fritz, Historischer Atlas zur zweiten Türkenbelagerung, Wien, 1683, Wien, 1983. • Brown, Edward, An Account of several travels through a great part of Germany: in four journeys. III. From Vienna to Hamburg, London, 1677. • Buchberger, Reinhard, Lebl Höschl von Wien und Ofen: Kauffmann, Hofjude und Spion des Kaisers, in aavv. Hofjuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit, 217–395. • Buchwald, Gerhard, Impfen. Das Geschäft mit der Angst, München, 2000. • Buchwald, Gerhard, Vaccinazioni. II business della paura, Milano, 2003. • Celoni, Toti, Le grandi famiglie d'Europa: gli Asburgo (I), Milano, 1972. • Chambon, J., Traité des métaux et des minéraux, Paris, 1714. • Chandler, David, a cura di, Robert Parker and Comte de Merode-Westerlöo, The Marlborough Wars, North Haven, 1968. • Chimin wong, К.; Lien-The, Wu, History of Chinese medicine, Shanghai, 1936. • Codex Austriacus, Wien, 1777. • Copia, Rom. Käyserl. Majestät allergnädigster Verordnung / Den neu aufgerichten Banco in Wienn betreffend. • Coreth, Anna, österreichische Geschitschreibung in der Barockzeit (1620–1740), Wien, 1950. • «Corriere Ordinario», anni 1700–1720. • Crackauer Schreib=Calender, auff das Jahr… 1711… durch M. Joannem Gostumiowsky, Wienn, 1710. • Czeike, Felix, Die Apotheke «Zum Roten Krebs», in «Wiener Geschichtsblätter», 43, 1988, 15–18. • Czeike, Felix, Historisches Lexikon Wien, Wien, 2004. • Darmon, Pierre, La variole, les nobles et les princes. La petite vérole mortelle de Louis XV, Bruxelles, 1989. • De Bin, Umberto, Leopoldo I e la sua corte nella letteratura italiana, Trieste, 1910. • De Freitas, Divaldo Gaspar, A vida e as obras de Bartolomeu Lourenço de Gusmâo, San Paolo del Brasile, 1967. • Delia bianca, Luca, Manuale di caffeomanzia, Roma, 2003. • De Mérode-Westerloo, conte, Mémoires, Bruxelles, 1840. • Der Baum des Erkäntnüsses Guten und Bösens / Bepflantzet gey der Grufft des Aller Durchlauchtigsten / Großmächtigsten Fürsten und Herrn / Herrn JOSEPHI Erweihten… Breslau, 1711. • Der Schmertzliche Erfolg des unverhofften Absterbens Ihro Rom. Käyserl. Majestät JOSEPHI, wie solches den 17. dieses Monats April 1711 mit allgemeiner Bestürtzung vorgefallen / und darauf die solenne Beerdigung geschehen ist, Wienn, 1711. • Des Grossen Feld=Herrns Eugenii Herzogs von Savoyen, Kayserl. Und des Reichs general=Lieutenants Felden=Thaten, Nürnberg, 1739. • Diario délia villeggiatura fatta dalla Santità di N. ro S. re PP. Clemente XI in Castel Gandolfo l'anno 1710, Ms. • Die an dem Türckischen Abgesandten Cefulah Aga, Capihi Pascia, erteilte Abschieds=Audientz, Mit Beschreibung aller Ceremonien so darbey ergangen, Zu Wien den 16. May 1711. • Die Presse», Freitag, 12. Februar 1982, 5. • Dini, Giuseppe, Diario pieno e distinto del viaggio fatto a Vienna dal Sommo Potefi ce Pio Papa Sesto, Roma, 1782. • Dolch, Oskar, Geschichte des deutschen Studententumff, Graz, 1968. • Donin, Richard Kurt, Das Neugebäude in Wien und die venezianische villa suburbana, in «Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung in Wien», 11. Jg., Dez. 1958, Nr. 2, 61–69. • Dubost, Jean-François, La France Italienne XVIe – XVIe siècle, Paris, 1997. • Duindam, Jeroen, Vienna and Versailles. The Courts of Europe's Dynastie Rivals, 1550–1780, Cambridge, 2003. • Dworzak, Stephan, Georg Ilsung von Tratzberg, Dissertation, Wien, 1954. • Ehalt, Hubert Christian, Ausdrucksformen absolutistischen Herrschaft, dargestellt vor allem am Beispiel des Wiener Hofes unter Leopold I., Josef I. und Karl VI., Dissertation, Wien, 1978. • Ehn, Michael; strouhal, Ernst, Luftmenschen. Die Schachspieler von Wien. Materialien und Topographien zu einer städtischen Randfigur 1700–1938, Wien, 1998. • Eilenstein Arno, a cura di, Abt Maximilian Pagl von Lambach und sein Tagebuch (1705–1725), Salzburg, 1920. • Einige genealogische Auszüge aus zwischen 1566 und 1783 bei der niederö-stereichischen Regierung publizierten, derzeit im Archive des к. к. Landesgerichtes Wien befindlichen Testamenten adeliger oder für adelig gehaltener Personen, in «Monatsblatt der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft <Adler>», Nr. 274, Wien, Oktober 1903, V. Bd., Nr. 34. • Eisler, Max, a cura di. Historischer Atlas des Wiener Stadtbildes, Wien, 1919. • Eisler, Max, Historischer Atlas der Wiener Ansichten, Das barocke Wien, Wien und Leipzig, 1925. • Ecker, Ludwig Viktor, 1683–1933: 250 Jahre Wiener Kaffeehaus: Festschrift des Gremiums der Kaffeehausbesitzer, in «österreichische Kaffee-sieder-Zeitung», 1933. • Erasmo da Rotterdam, II lamento della pace, Milano, 2005. • Ernstberger, Anton, Europas Widerstand gegen Hollands erste Gesandschaft bei der Pforte (1612), München, 1956. • Faber, Elfriede M., 300 Jahre Kunst, Kultur amp; Architektur in der Josefstadt, Wien, 2000. • Fadda, Bianca, L'innesto del vaiolo: un dibattito scientifico e culturale nell'Italia del Settecento, Milano, 1983. • Fantuzzi, Giovanni, Memoria della vita del conte Marsigli, Bologna, 1770. • Faust, D., Communication au congrès de Rastadt sur l'extirpation de la petite vérole, 1798, Archives Nationaux de France, F8 124.| • Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Nach den Feld-Acten u. anderen authentischen Quellen hrsg. von der Abtheilung für Kriegsgeschichte des к. к. Kriegs-Archives, Wien, 1876–1892. • Fenger, Hermanus Josephus, Historiam Pestilentiarum Vindobonensis, Vindobonae, 1817. • Ferriol, Wahreste und neueste Abbildung des Türckischen Hofes… 1708, 1709…, Nürnberg, 1719. • Fiedler, Joseph (a cura di), Relationen venetianischer Botschafter über Deutschland und Österreich im 16. Jahrhundert, Vienna, 1870 • Feuchtmüller, Rupert, Das Neugebäude, Wien-Hamburg, 1976. • Fischer, Karl, Der Wienerwald, 44, 1989, Heft 1. • Fischer, Karl, Brände im Bereich der Wiener Hofburg, in «Wiener Geschichtsblätter», 48, 1993, 45–52. • Fondra, Lorenzo, Del maneggio alla Corte Cesarea, Ms. • Fracastoro, Girolamo, De sympathie et antipathie rerum liber unum, De contagione et contagiosis morbis et curatione libri III, Venetiis, 1546. • Franzos, Karl Emil, Aus Halb-Asien. Culturbilder aus Galizien, der Bucowina, Südrussland und Rumänien, Leipzig, 1876. • Freschot, Casimiro, Idea generale del Regno d'Ungheria, Bologna, 1684. • Freschot, Casimiro, Mémoires de la Cour de Vienne, Cologne, 1706. • Gründliche Wiederlegung des ietzo regierenden Türckischen Käysers Mahomet des Vierdten… Nativität, Wienn, 1694. • Fritsch, Susanne, Essen im Augustinerkloster in Wien, in «Fundort Wien», 6, 2003, 188–197. • Fuhrmann, Mathia, Pater, Alt= und Neues Wien, Wien, 1739. • Furlani, Silvio; wandruszka, Adam, Österreich und Italien. Ein bilaterales Geschichtsbuch, Wien, 2002. • Garvey jackson, Barbara, Oratorios by Command of the Emperor: The Music of Camilla de Rossi, «Current Musicology», 42, 1986, 7 – 19. • Gherardi, Raffaella, Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. И «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili, Bologna, 1980. Giese, Ursula, Wiener Menagerien. Ebersdorf / Neugebäude / Belvedere / Schönbrunn, Wien, 1962. • Gladt, Karl, Almanache und Taschenbücher aus Wien, Vienna-Monaco, 1971. • Godard, Didier, Le Goût de Monsieur. L'homosexualité masculine au XVIIe siècle, Béziers, 2002. • Goldmann, Artur, Die Wiener Universität 1519–1740, Wien, 1917. • Görlich, Ernst Josef, Graubündner in Wien, in «Wiener Geschichtsblätter», 26, 1971, 211ss. • Greuel, Veronika, Oratorien am Wiener Hof. Die Komponistin Camilla de Rossi, in: aavv. Frauen in der Aufklärung, Frankfurt am Main, 1995, 426–447. • Gschliesser, Oswald, «Die Bekämpfung der Fremdenwörter durch den Reichsvizekanzler Grafen Schönborn im 18. Jahrhundert». Innsbruck. Beiträge zur Kultur und Wissenschaft, III, 1955. • Guarinonius, Die Greuel der Verwüstung menschlichen Geschlechts, 1610 • Gugitz, Aus den Totenbeschauprotokollen, M – Z, XVIII Jh., dattiloscritto, pag619. • Gugitz, Aus den Totenbeschauprotokollen, 1648–1699, dattiloscritto, 120 e437. • Gutierrez, David, Storiadell'ordinediSant'Agostino, vol. II, Gli Agostiniani dal protestantesimo alla riforma cattolica (1518–1648), Roma, 1972. • Hadamowsky, Franz, Magdalena. Wiener Marionettenspiel, in JbGStW, Bd. 32–33 (1976–1977), 17–31. • Haintz, Otto, König Karl II. von Schweden, Berlin, 1958. • Harl, Ortolf, Die Ausgrabungen im ehemaligen Himmelpfortkloster, in JbGStW, Bd. 34 (1978), 9 – 23. • Harrer, Paul, Wien. Seine Häuser, Menschen und Kultur, Wien, dattiloscritto. • Harrisons Innere Medizin, XVI ed., Berlin, 2005 (ediz. orig.: Dennis L. Kasper, a cura di, Harrison's manual of medicine, XVI ed., New York, 2005) • Henderson Nicholas, Prince Eugen of Savoy, London, 1964. • Herchenhahn, Johann Christian, Geschichte der Regierung Kaiser Josefs I. 2 Bde. Leipzig, 1786–1789. • Heuser, G., Die Belagerungen von Landau, Landau (2 voll.) 1894–1896. • Hilscher, Elisabeth Theresia, Mit Leier und Schwert. Die Habsburger und die Musik, Wien, 2000. • Hirsch, W., Pater, Entdeckung derer Tekuphot, oder Das schädliche Blut, Berlin, 1717. • Histoire anecdote de la Cour de Rome. La part qu'elle a eu dans l'affaire de la Succession d'Espagne. La situation des autres Cours d'Italie et beaucoup de particularités de la dernière et de la présente Guère de ce Pais-là, Cologne, chez Jacques Le Jeune, 1704. • Historisch=Politische Gedancken über den durch das unvermuthete und höchtstschmertzlichste Absterben Sr. ömischen Käyserliche Majestät Josephi Veränderten Zustand in Europa, Franckfurth, 1711. • Historisches Museum der Stadt Wien, Das Barocke Wien. Stadtbild und Straßenleben, 20. Sonderausstellung, Juni – September 1966. • Hofmann von wellenhof, Viktor, Der Winterpalast des Prinzen Eugen von Savoyen, Wien, 1905. • Holland, Wilhelm Ludwig, a cura di, Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans, Stuttgart, 1867. • Horn, Sonia, Wiener Hebammen 1643–1753, «Studien zur Wiener Geschichte, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien» 59 (2003), 35 – 102. • Horn, Sonia, Examiniert und Approbiert. Die Wiener medizinische Fakultät und nicht-akademische Heilkundige in Spätmittelalter und früher Neuzeit, Disstertation, Wien, 2001. • Huard, Pierre; Wong, Ming, La médecine chinoise au cours des siècles, Paris, 1959. • Hummelberger, Walter; Peball, Kurt, Die Befestigungen Wiens, «Wiener Geschichtsbücher», Bd. 14. • Ingrao, Charles W., Josef I., der «vergessene Kaiser», Graz-Wien-Köln, 1982. • Jedlicska Pal, Grôf Pâllfy-Csalâd, Budapest, 1910. • Jelusich, Mirko, Prinz Eugen. Der Feldherr Europas. Der Traum von Kaiser und Reich, Graz-Stuttgart, 1941. • Josepho Primo Augusto Rom. Et Hungariae Regi, In expeditione ad Rhenum Landavia reeepta triumphatori, in urbem reduci Applausus Emblematicus, Wien, bey J. B. Schönwetter Universitätischen Buchhändler im Rothen Igel, 1702. • Kallbrunner, Josef, a cura di, Wohnungssorgen im alten Wien. Dokumente zur Wiener Wohnungsfrage im 17. und 18. Jh, Wien, 1926. • Khevenhüller-Metsch, Johann Josef, Fürst, Tagebuch 1742–1775, Wien, 1907–1925. • Kink, Rudolf, Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien, Wien, 1854. • Kinz, Maria, Zauberhafte Josefstadt, Wien, 1990. • Klausgraber, Andrea, Afrikaner in Wien im 18. Jh., Diplomarbeit, Wien, 1998. • Klopp, Onno, Der Fall des Hauses Stuart und die Succession des Hauses Hannover in Groß-Britannien und Irland im Zusammenhange der europäischen Angelegenheiten von 1660–1714, Wien, 1875–1888. • Klopp, Onno, Das Jahr 1683 und der folgende große Türkenkrieg bis zum Frieden con Carlowitz 1699, Graz, 1882. • Kluge, Heidelore, Hildegard von Bingen – Frauenheilkunde, Rastatt, 1999. • Klusacek, Christine; Stimmer, Kurt, Josefstadt, Wien, 1991. • Knöbl, Herbert, Das Neugebäude und sein baulicher Zusammenhang mit Schloss Schönbrunn, Wien, 1988. • Koch, Herbert, Wohnhaft in Wien. Geschichte und Bedeutung des Meldewesens, «Wiener Geschichtsblätter», Beiheft 3/1986. • Köchel, Ludwig, Ritter von, Die Kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543 bis 1867, Wien, 1869. • Kölbl, Anita, Die Ursulinen in Wien 1660–1820, Wien, 1997. • Kramer, Hans, Habsburg und Rom in den Jahren 1708–1709, Innsbruck, 1936. • Krause, Peter, «O alte Burschenherrlichkeit». Die Studenten und ihr Brauchtum, Wien, 5. Auflage, 1987. Kretschmer, Helmut; Tschulk, Herbert, Brände und Natur; Katastrophen in Wien, «Wiener Geschichtsblätter», Beiheft 1/1995. • Kretschmer, Sigrid, Wiener Handwerkerfrauen, Wien, 2000. • Kreutel, Richard F. Der Schädel des Kara Mustafa Pascha, «Studien zur Wiener Geschichte, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien» 32–33 (1976–1977), 63–77. • Kreutel, Richard F.; Spies, Otto, a cura di, Leben und Abenteuer des Dolmetschers Osman Aga, Bonn, 1954. • Kreutel, Richard F., a cura di, Im Reiche des Goldenen Apfels. Des türkischen Weltenbummlers Evliyâ Çelebi denkwürdige Reise in das Giaurenland und in die Stadt und Festung Wien anno 1665, Graz-Wien-Köln, 1957. • Kreutel, Richard F., a cura di, Kara Mustafa vor Wien: Das türkische Tagebuch der Belagerung Wien 1683 vom Zeremonienmeister der Hohen Pforte, Wien, 1955. • Kubier, P. Geschichte der Pocken und der Impfung, Berlin, 1901. • L'acceso gelato (pseudonimo), Applausi della Fama e del Danubio al Giorno dal Glorioso Nome dell'Augustissimo Imperadore Giuseppe. Poesia per musics etc., Vienna, Anna Francesca Voitin, 1706. • Lana Terzi, Francesco, S. J., Prodromo ouero saggio di alcune inuentioni nuoue premesso all'arte maestra opera che prépara il p. Francesco Lana… Per mostrare li piu reconditi principij della naturale fllosofla, in Brescia per li Rizzardi, 1670. • Lana Terzi, Francesco, S. J., Magisterium Naturae et Artis, Brescia, 1684. • Landau, Marcus, Geschichte Kaiser Karls VI. als König von Spanien, Stuttgart, 1889. • La schiavitù del generale Marsigli sotto i tartari e i turchi da lui stesso narrate, a cura di Emilio Lovarini, Bologna, 1931. • Law, John, Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money, Paris, 1720. • Lettre de SS. le Pape Clement XI. AS. M. I. l'Impératrice Régente du 3. May 1711, avec les refl exions, qu'une personne de qualité a faites pour un de ses amis, s. 1., s. d. • Levinson, Arthur, Nunziaturberichte vom Kaiserhofe Leopolds I. 1670–1679, in «Archiv für österreichische Geschichte», 106, 1918. • Lietzmann, Hilda, Das Neugebäude in Wien, Sultan Süleymans Zelt – Kaiser Maximilians II. Lustschloß, München-Berlin, 1987. • Lorenzi, Ernst, Kaiser Leopold I. Seine Familie und seine Zeit, Diplomarbeit, Wien, 1986. L'origine del Danubio, Venetia, 1684. • Ma, Klaralinda; Psarakis, Brigitte, Akkreditiert in Wien. Zum Gesandschafts-wesen in unserer Stadt, «Wiener Geschichtsblätter», Beiheft 1/1996. • Ma, Klaralinda; Psarakis, Brigitte, «…ein ungeheurer herrlicher Garten…». WienausderSicht ausländischer Besucher vom 15. bis zum 19. Jh., «Wiener Geschichtsblätter», Beiheft 3/1988. • Maccari, Diario del mio viaggio di Costantinopoli presentato alla Maestà dell'Imperatore Leopoldo I, Ms., 67 ce. • Maier-Bruck, Franz, Klassische österreichische Küche, Wien, 2003. • Major, Ralph H., A history of medicine, Illinois, 1954. • Manzi, Leonello, Vaiolo, vaiolizzazione, vaccinazione a Bologna dai primi del Settecento ai primi dell'Ottocento. Con documenti inediti, Bologna, 1968. • Mancusi sorrentino, Lejla, Manuale del perfetto amatore di caf fè, Napoli, 2003. • Mantran, Robert, La vie quotidienne à Costantinople au temps de Soliman le Magnifique et de ses successeurs (XVIe et XVIIe siècle), Paris, 1965. • Marsigli, Luigi Ferdinando, conte, Bevanda Asiatica, Vienna d'Austria, van Ghelen, 1685. • Marsigli, Luigi Ferdinando, conte, Dissertazione epistolare del Fosforo minérale ô sia délia pietra illuminabile bolognese, Leipzig, 1698. • Marsigli, Luigi Ferdinando, conte, Relation deßen, das ihm bey Anlaß der übergab Breysachs begegnet, 1703. • Marsili, Luigi Ferdinando, Autobiografl a, Bologna, 1930. • Massa, Niccolö, Liber de febre Pestilentiali, ac de Pesticijs, Morbillis, Variolis etc. Venetijs, 1556. • Masson, Frédéric, a cura di, Journal inédit de Jean Baptiste Colbert marquis de Torcy, ministre et secrétaire d'état des affairesétrangères pendant les années 1709, 1710 et 1711, publiés d'après 1rs manuscrits autographes, Paris, 1884. • Mattioli, Nicola, padre agostiniano, Fra Giovanni da Salerno, Roma, 1901. • Mattl-Wurm, Sylvia, Wien vom Barock zur Aufklärung, Wien, 1999. • Mausoleum Josephi I. des Heiligen Römischen Reichs Kayser…, welchen die frühzeitige Todt… am 17. April 1711… in die Ewigkeit versetzt hat, Wienn, Lercher, 1711. • Mazzi, Benito, Farn, füm, frecc, il grande romanzo degli spazzacamini, «Quaderni di culture alpina», 2000. • Mckay, Derek, Prince Eugene of Savoy, London, 1977. • Memorie della vita del generale conte Luigi Ferdinando Marsigli, Bologna, 1770. • «Mercure de France», Paris, 1765. • Mercuriale, Girolamo (pseud. di Scipione Mercuri), La commare, Venetia, 1676. • Mercuriale, Girolamo (pseud. di Scipione Mercuri), De morbis puerorum, Lib. I, De variolis et de morbillis, Venetiis, 1588. • Merlo, Valerio, La foresta come chiostro, Milano, 1997. • Millöcker, Karl, Der Bettelstudent, Stuttgart, 1958. • Montanari, Geminiano, Le forze d'Eolo, dialogo fi sico-matematico sopra gli ef fetti del Vortice, ö sia Turbine, detto negli Stati Veneti la Bisciabuova, che il giorno 29 luglio 1686 hà scorso e flagellato. moite Ville, e Luoghi de' Ter-ritori di Mantova, amp;c. opera postuma del Sig. Dottore Geminiano Montanari Modenese, astronomo e meteorista dello studio di Padova, Parma, 1694. • Mukhopadhyaya, Girindranath, History of Indian medicine, Delhi, 1922–1929. • Müller, Klaus, Das kaiserliche Gesandtschaftswesen im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden (1648–1740), Bonn, 1976. • Musikgeschichte und Gegenwart (MGG), Kassel-Basel-London, 1963. • Nachricht von dem Fliegenden Schiffe / So aus Portugal / Den 24. Junii in Wien mit seinem Erfinder / Glücklich ankommen. Von neuen nach dem allbereit gedruckten Exemplar in die Naumberger Meß gesandt. Anno 1709. • Nannini, Marco Cesare, La storia del vaiolo, Modena, 1963. • Natter, Martina, Die vier Oratorien con Camilla de Rossi Romana, Diplomarbeit, Innsbruck, 2003. • Neuer CrackauerSchreib=Calender… auff das Jahr… 1711… Durch Matthias Gentilli, conte Rodari, von Trient, Wienn, 1710. • Neuer und sehr bequemer Wand31 und Sack= Calender / Auff M.DCC.XIII… von dem Warschauer Authorn, Wien, 1712. • Neues Wiener Tagblatt, Donnerstag 4. April 1940, 6. • Neufeld, Hans, Studien zum Tode Maximilians II., Dissertation, Wien, 1931. • Neu Wiennerisches Studenten=Calenderl, Wienn, 1715. • Niderst, Alain, Les français vus par eux-mêmes: Le siècle de Louis XIV. Anthologie des mémorialistes du siècle de Louis XIV, Paris, 1997. • Ochi Rizetti, Heronimus, De Pestilentibus, ac venenosis morbis etc. Brixiae, 1650. • Oberhummer, Eugen, Ein Jagdatlas Kaiser Karl VI., in «Unsere Heimat», nuova série, VI, 1933, nr. 5, 152–158. • Oehler, Helmut, Prinz Eugen im Urteil Europas. Ein Mythus und sein Niederschlag in Dichtung und Geschichtsschreibung, München, 1944. • Opll, Ferdinand, Italiener in Wien, «Wiener Geschichtsblätter», Beiheft 3/1987. • Opll, Ferdinand, Markt im alten Wien, «Wiener Geschichtsblätter», 34, 1979, 49ss. • Opll, Ferdinand, Innensicht und Außensicht. Überlegungen zum Selbst– und Fremdverständnis Wiens im 16. Jh., in «Wiener Geschichtsblätter», 59, 2004, 188–208. • Opll, Ferdinand, Wien im Bild historischer Karten, Wien-Köln-Graz, 1983. österreichische Kunsttopographie, Band XIV, Baugeschichte der к. к. Hofburg in Wien bis zum XIX. Jh., Wien, 1914. • Otruba, Gustav, Wiens Gewerbe, Zünfte und Manufakturen an der Wende vom 17. zum 18. Jh., in «Wiener Geschichtsblätter», 12, 1987, 113–148. • Otruba, Gustav, Die Wiener Rotschilds. Aufstieg und Untergang einer Familie, in «Wiener Geschichtsblätter», 42, 1987, 148–168. • Paré, Ambroise, Les Oeuvres, Lyon, 1664. • Parish, H.-J., A History of Immunization, London, 1965. • Pasteur, Claude, Le beau vice, ou les homosexuelles à la Cour de France, Paris, 1999. • Paulucci de' Calboli, Fabrizio, Cenni biografici dei Cardinali délia fam. P.d.C, Forli, 1925. • Perger. Richard; petrisch, Ernst Dieter, Der Gasthof «Zum Goldenen Lamm» in der Leopoldstadt und seine türkischen Gäste, «Studien zur Wiener Geschichte, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien» 55 (1999), 147–172. • Perger, Richard, Die ungarische Herrschaft über Wien 1485–1490 und ihre Vorgeschichte. Zum 500. Todestag des ungarischen Königs Matthias Corvinus (gestorben 6. April 1490 in der Burg zu Wien), in «Wiener Geschichtsblätter», 45, 1990, 53 – 102. • Perger, Richard, Die Haus– und Grundstückskäufe des Prinzen Eugen in Wien, in «Wiener Geschichtsblätter», 41, 1986, 41–84. • Peter des Großen, Czar, Tagebuch vom Jahre 1698 bis zum Schlüsse des Neustädte Friedens, Berlin – Leipzig, 1773. • Piccolomini, Enea Silvio, Historia Friderici III Imperatoris, Cap. I, De Urbe Vienna, 1426–1429, trad. it. Vienna net 400, a cura di Baccio Ziliotto, Trieste, 1958. • Pils, Susanne Claudine, «daz er mih nit halb so lieb hadt alß wie ich ihm…». Liebe und Sexualität im ehelischen Nicht-Alltag von Johanna Theresia und Ferdinand Bonaventura Harrach, «Studien zur Wiener Geschichte, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien» 52/53 (1996/1997), 397–414. • Pils, Susanne Claudine, Bestimmte Männlichkeit. Überlegungen zur Erziehung adeliger Knaben im 17. und 18. Jh., «Studien zur Wiener Geschichte, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien» 60 (2004), 275–285. • Pils, Susanne Claudine, Hof/Tratsch. Alltag bei Hof im ausgehenden 17. Jh., «Wiener Geschichtsblätter», 42, 1987, 77–99. • Pipers, Enzyklopädie des Musiktheaters, München, 1997. • Pompöser Einzug Ihro Königl. Majest. Josephi I. Römisc: und Hungarischen Königs / u. Mit Ihro Majestätt Wilhelmina Amalia Rom. Königin / Königl. Geapons. / u. So Den 24. febraurii 1699 zwischen 4. und 5, Uhr… • Praesagium Josephi propriae mortis, Leipzig, 1711. • Pum, Susanne, Die Biographie Karls VI. von Gottfried Philipp Spannagel. Ihr Wert als Geschichtsquelle, Hausaufgabe, Wien, 1980. • Quincy, Louis-Dominique, Mémoires sur la vie du Comte de Marsigli, 2 Bände, Zürich, 1741. • Ramazzinus, Bernardinus, Rede von der Ansteckenden Seuche des Rindviehes im 1711 Jahre, Hannoverund Lüneburg, 1746. • Rapport de l'Académie de Médecine sur les vaccinations pour l'année 1856, Paris, 1857. • Raschauer, Oskar, Schönbrunn, der Schlossbau Kaiser Josephs I., Wien, 1960. • Rauscher, Peter, Zwischen Ständen und Gläubigern. Die kaiserlichen Finanzen unter Ferdinand I. und Maximilian II. (1556–1576), Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Band 41, München, 2004. • Razzell, Peter, The conquest of smallpox: the impact of inoculaiton on smallpox mortality in eighteenth century Britain, Sussex, 1977. • Reger, Karl Heinz, Hildegard Medizin, München, 1989. • Regola di S. to Agostino con l'espositione di Ugone da S. Vittore et consitu-tioni della religione del divoto Giovanni di Dio, Roma, 1617. • Reketzki, Else, Das Rauchfangkehrergewerbe in Wien. Seine Entwicklung vom Ende des 16. Jh. Bis ins 19. Jh., unter Berücksichtigung der übrigen österreichischen Länder, Dissertation, Wien, 1952. • Rennhofer, Friedrich, Die Augustiner-Eremiten in Wien, Würzburg, 1956. • Ricaldone, Luisa, Italienisches Wien, Wien, 1986. • Riedling, Gabriele, Kaiser Karl VI., Diplomarbeit, Wien, 1986. • Riemann, Musik Lexikon, Mainz, 1961. • Rigele, Brigitte, Sardellendragoner und Fliegenschutz. Von Pferde im Alltag Wiens, «Wiener Geschichtsblätter», 50, 1995, Heft 45. • Rigele, Brigitte, Mit der Stadt aufs Land. Die Anfänge der Sommerfrische in den Wiener Vororten, «Wiener Geschichtsblätter», Beiheft 2/1994. • Rinck, Eucharius Gottlieb, Joseph des Sieghafften Rom. Käysers Leben und Thaten, Colin, 1712. • Rinck, Eucharius Gottlieb, Leopolds des Grossen / Rom. Käysers / wunderwürdiges Leben und Thaten aus geheimen Nachrichten eröffnet und in vier Theile getheilet, Leipzig, 1709. • Ripellino, Angelo Maria, Praga magica, Torino, 1973. • Ritter, Michael, «Man sieht der Sternen König glantzen». Der Kaiserhof im barocken Wien als Zentrum deutsch-italienischer Literaturbestrebungen (1653 bis 1718), Wien, 1999. • Röder von Diersburg, Philipp, Freiherr, Kriegs– und Staatsschriften des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden über den spanischen Erbfolgekrieg aus den Archiven von Karlsruhe, Wien und Paris, Karlsruhe, 1850. • Roman, Jean-Joseph, L'inoculation, Paris, 1773. • Roselka, Rosemarie, Die Begräbnisfeierlichkeiten für Kaiser Maximilian II. 1576/77, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 84 (1976), 105–136. • Rost, Wolff gang Karl, Kurtze Nachricht von der Academischen Deposition, Jena, s. d. • Rota, Ettore, Il problème politico d'ltalia durante la guerra di successione spagnuola, «Nuova Rivista Storica», anno XVIII., gennaio-febbraio 1934, fasc. I, 1 – 167. • Rotter, Hans, Die Josefstadt, Wien, 1918. • Rummel, Friedrich, von, Franz Ferdinand von Rummel, Lehrer Kaiser Josephs I. und Fürstbischof von Wien (1644–1716), Wien, 1980. • Sant'agostino, La Regola, Roma, 1986. Von Sartori, Josef, Sammlung der hinterlassenen politischen Schriften des Prinzen Eugens von Savoyen, Tübingen, 1811. • Schlöss, Erich, über die Begegnungen des Zaren Peter I. mit Kaiser Leopold I., in «WienerGeschichtsblätter», 49, 1994, 149–162. • Schmidt, Irmgard, Josef I. und Wien (zum 250. Todestag des Kaisers), in «Wiener Geschichtsblätter», 13–16, 1958–1961, 311–316. • Schöpfer, Gerald, Die «Erste Hilfe» im 18. Jh., in «Wiener Geschichtsblätter», 30, 1975, 143–144. • Schulte, Aloys, Die Jugend Prinz Eugens, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 13(1892), 470–521. • Schwabe von Waisenfreund, Carl, Versuch einer Geschicte des österreichischen Staats– Credits– und Schuldewesens, Wien, 1860. • Schwerdfeger, Josef, Eine Beschreibung Wiens aus der Zeit Kaiser Karls VI., Wien, 1906. • Scritti inediti di Luigi Ferdinando Marsili, raccolti e pubblicati nel II cente-nario délia morte, a cura del Comitato Marsiliano, Bologna, 1930. Slanec, Hans-Christian, Wien und die Wiener in Reiseberichten und Beschrei bungen deutscher Reisender des 16. – 18. Jh., Diplomarbeit, Wien, 1994. • Söltl, J., Von dem Römischen Papst. Ein Vortrag für den römischen König Josef I. «Historische Zeitschrift», VI, 1861. • Sommer-Mathis A., Theatrum und Cerimoniale. Rang– und Sitzordnungen bei theatralischen Veranstaltungen am Wiener Kaiserhof im 17. und 18. Jahrhundert, in Zeremoniell als Höfische ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, acuradi J. J. Berns eTh. Rahn Tubingen 1995, pp. 511 – 33. • Spannagel, Gottfried Philipp, Delia vita e del Regno di Josefo il Vittorioso Re ed Imperadore de' Romani, Re di Ungheria e di Boemia nonché Arciduca d'Austria, mss. in 12 tomi. • Spielman, Elisabeth Marie, Die Frau und ihre Lebenskreis bei Abraham a Sancta Clara, Dissertation, Wien, 1944. • Spielman, John P., The City amp; The Crown. Vienna and the Imperial Court 1600–1740, West Lafayette, 1993. • Spielman, John P., Leopold I of Austria, New Brunswick, New Jersey, 1977. Edizione tedesca: Leopold I. Zur Macht nicht geboren. Verlag Styria, Graz, 1981. • Steidl, Annemarie, Auf nach Wien! Die Mobilität des mitteleuropäischen Handwerks im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Haupt– und Residenzstadt, «Sozial– und Wirtschaftshistorische Studien», Bd. 30, Institut für Wirtschafts– und Sozialgeschichte, Universität Wien, Wien, 2003. • Straub, E., Representatio Maiestatis oder Churbayerische Freudenfeste. Die höfischen Feste in der Münchner Residenz vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Miscellanea Mavarica Monacensia 14, München, 1969, pp. 117 – 46. • Strehlow, Wighard, Hildegard-Medizin, Freiburg im Breisgau, 1997. • Strehlow, Wighard, Hildegard-Heikunde von A – Z, München, 2000. • Timoni, Emanuele, Historie Variolarum quae per insitionem excitantur, Venetia, 1713. • Spuler, Bertold, Die europäische Diplomatie in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad (1739), in «Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven», Neue Folge, XI, HeftIII/IV, 1935. • Srbik, Heinrich, Ritter von, Der staatliche Exporthandel Österreichs von Leopold I. bis Maria Theresia, Wien und Leipzig, 1907. • Suttner, Gustav, Freiherr von, Die Garelli, Wien, 1888. • Tanzveranstaltungen und Tanzformen am Hofe, in «Innsbrucker Historische Studien», 14/15 (1994), 65–76. • Tanzer, Gerhard, «In Wienn zu seyn ist schon Unterhaltung genug!» Zum Wandel der Freizeit im 18. Jh., Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie, Wien, 1988. • Tanzer, Gerhard, Spectacle müssen seyn. Die Freizeit dr Wiener im 18. Jh., Wien-Köln-Weimar, 1992. • Till, Rudolf, Woher und wie die Kipfel nach Wien kamen, in «Wiener Geschichtsblätter», 25–27, 66–69, 1970 – 72. • Teply, Karl, Karl Eugen Leopoldstätter alias Mehmed Efendi – ein hofbefreiter Kaffesieder im Wien Kaiser Karls VI., in «Wiener Geschichtsblätter», 25–27, 1970 – 72, 374–384. • Teply, Karl, Die erste armenische Kolonie in Wien, in «Wiener Geschichtsblätter», 28, 1973, 105–118. • Teply, Karl, Türkische Gesandtschaften nach Wien (1488–1792), in «Österreich in Geschichte und Gegenwart», 20, 1976, 14–32. • Teply, Karl, Die Einführung des Kafees in Wien: Georg Franz Kolschitzky, Johannes Diodato, Isaak de Luca, Wien, 1980. • Teply, Karl, Türkische Sagen und Legenden um die Kaiserstadt Wien, Graz, 1980. • Thiriet, Jean-Michel, über die Herkunft der Italiener in Wien vom Ende des 16. Jh. Bis zur Mitte des 18. Jh., «Studien zur Wiener Geschichte, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien» 52/53 (1996/1997), 156–165. • Thiriet, Jean-Michel, Mourir à Vienne aux XVII'. XVIII' Siècles. Le cas des Welsches, in «Studien zur Wiener Geschichte, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien» 52/53(1996/1997), 205–217. • Timoni, Emanuele, Historie Variolarum quae per insitionem excitantur, Venetia, 1713. • Tomenendal, Kerstin, Das türkische Gesicht Wiens, Wien-Köln-Weimar, 2000. • Topka, Rosina, Der Hofstaat Kaiser Karls VI., Dissertiation, Wien, 1954. • Trawnicek, Peter, Wien 1716. Die Stadt im Spiegel ihrer Totebeschauprotokolle, in «WienerGeschichtsblätter», 58, 2003, 104–129. • Treiber, Johannes Philippus, De excussione fenestrarum, Halae Salicae, Hilliger, 1737. • Tschernuth, Uta, Die kärntner Studenten an der Wiener Universität 1365–1900, Dissertation, Wien, 1984. • Tschol, Helmut, Gottfried Philipp Spannagel und der Geschichtsunterricht Maria Theresias, «Zeitschrift für katholische Theologie», 83, 1961, Heft 2, Sonderabdruck, 208–221. • Turba, Gustav, a cura di, Die pragmatische Sanktion, Wien, 1913. • Umständliche Beschreibung von Weyland Ihrer Mayestät / JOSEPH / Dieses Namens des Ersten / Römischen Kayser / Auch zu Ungarn und Böheim Könih / u. Erz^Herzogen zu Oesterreich / u. u. Glorwürdigsten Angedenkkens Ausgestandener Kranckheit / Höchst=seeligstem Ableiben / Und dann erfolgter Prächtigsten Leich=Begängnuß / zusammengetragen / und verlegt durch Johann Baptist Schönwetter, Wienn, 1711. • Urban, Leopold, Die Orangerie von Schönbrunn, Diplomarbeit, Wien, 1992. • Urban, Leopold, Die Orangerie von Schönbrunn, Wien, 1999. • Valesio, Francesco, DiariodiRoma 1700–1742, Milano, 1978. • Vandano, Vittoria, Le grandi famiglie d'Europa: gli Asburgo (II), Milano, 1972. • Vercellin, Giorgio, Solimano il Magnifi со, Firenze, 1997. • Vienna Gloriosa, id est Peraccurata amp; Ordinate Decriptio Toto Orbe Celeber-rimae Cesareae nee non Archiducalis Residentiae Viennae, Viennae Austriae, Anno 1703. • Viti, Ludovico, Chi cerca, truova. Dialoghi d'un Romano, e d'un Bolognese Professori Celebri di Medicina sopra la Cura de'Vaiuoli oecorsi in perugia L'Anno 1712…aggiugnendo in fine un breve Discorso delPInfluenza Catar-raledel 1713, Perugia, Pe'l Costantini Stamp. Camer. 1713. • «Volkszeitung», 212, Dienstag 3. August 1937, 3. • «Volkszeitung», 13, Sonntag 14 Jänner 1940, 7. • Voltaire, Le siècle de Louis XIV, Paris, 1751. • Wagner, Franciscus, S. J., Historia Josephi Caesaris, Wien, 1745. • Wagner, Michael, Zwischen zwei Staatsbankrotten. Der Wiener Finanzmarkt im 18. Jh., in «Wiener Geschichtsblätter», 32, 1977, 113–143. • Wandruszka, Adam, Österreich und Italien im 18. Jh., Wien, 1963. • Weaver, Robert Lamar, Materiali per una biografia dei f ratelli Melani, «Rivista italiana di musicologia» 12 (1977), 252–295. • Wehdorn, Manfred, Das Neugebäude. Ein Renaissance-Schloss in Wien, «Perspektiven», 2004, 2. • Werner, Christian Ludwig, Allerschmertzlichste Trauer-Gedancken, bei des Rom. Kaysers JOSEPHI I. allzufrühzeitigen Todes-Fall… bezeugt und dargelegt, Wienn, Lercher, 1711. • Wessely, Othmar, Josef I., in MGG (1958), Sp. 181–185. • Wiener Stadt-und Landesarchiv Wien, Historischer Atlas von Wien, 1980–2005. • «Wiennerisches Diarium», anni 1700–1720. • William Haanemanns Verwunderlich Englischer Wahrsager oder ausführliches Prognosticon, Augsburg, 1710. • Wyklicky, Helmut, Die Beschreibung und Beurteilung einer Blatternerkrankung im Jahre 1711, in «Wiener Klinische Wochenschrift, Heft 27, 5. Juli 1957, 69 Jg.,971–973. • Zâk, Alfons, Das Frauenkloster Himmelpforte in Wien, Wien, 1906. • Zambrini Francesco, Volgarizzamento del Trattato délia cura degli occhi di Pietro Spano, codice Laurenziano citato dagli accademici della Crusca, ora per la prima volta stampato, Bologna, 1873. • Zöllner, Erich, Geschichte Österreichs, München, 1990. • Zöllner, Erich; gutkas, Karl, Österreich und die Osmanen, Prinz Eugen und seine Zeit, «Schriften des Institutes für Österreichkunde», Wien, 1988. • Zschackwitz, Johann Ehrenfried, Leben und Thaten Josephi I. Römischen Käysers, sambt der unter Sr. Majestät glorwürdigsten Regierung vorgefallenen ReichsHistorie. Alles mit behörigen Documenten bekräfftiget (etc.), Leipzig, 1712.Музыкальные произведения, упоминающиеся в книге
«Crucifixus et sepultus est» (с. 11): Джоаккино Россини. «Petite messe solemiielle». Да простит благосклонный читатель эту ошибку (Россини жил в середине XIX века), однако это произведение исполнял в 1902 году Алессандро Морески, последний кастрат из хора Сикстинской капеллы и единственный лишенный мужского достоинства певец, которого когда-либо записывали. Оригинал хранится в Государственном звуковом архиве Рима. «Прибытие в Вену» (с. 20): Иоганн Йозеф Фукс. «Серенада в тональности си мажор» К. 352: «Фанфары из маршей в тональности си». «Парад турок» (с. 45): Жан-Батист Люлли. «La cérémonie des Turcs» из: Мольер. «Мещанин во дворянстве». «Поверь мне, красавица, что я преклоняюсь перед тобой» (с. 84): Камилла де Росси. Оратория «Святой Алексий». «Небо, о милосердное небо» (с. 126): Камилла де Росси. Оратория «Святой Алексий». «Resurrexit» (с. 136): Иосиф I. «Regina coeli». «Страдания от любви» (с. 219): Камилла де Росси. Оратория «Святой Алексий». «Гармонические звуки» (с. 413): Камилла де Росси. Оратория «Святой Алексий». «Нечеловеческая жестокость» (с. 541): Камилла де Росси. Оратория «Святой Алексий». «Languet anima mea» и «О vulnera, vita coelestis» (с. 544): Франческо Конти. Кантата «Languet anima mea». «Vae Soli» (с. 579): Грегорио Строцци. «Sonata di basso solo». «День гнева» (с. 666): Иоганн Йозеф Фукс. «Императорский реквием», К. 51–53: «Dieslrae». «Почетный караул» (с. 683): Иоганн Йозеф Фукс. «Media vita in morte sumus». «Прощание» (с. 699): Иоганн Йозеф Фукс. «Императорский реквием»: Kyrie Eleison.Действующие лица
Аббат Атто Мелани: когда-то признанному певцу-кастрату и шпиону Людовика XIV приходится смириться с тем, что в новом времени для него нет места. Рассказчик: кормит свою семью тем, что чистит трубы и камины, однако к концу книги осознает свое истинное предназначение. Клоридия: супруга рассказчика, находит хорошее применение своим познаниям в турецком языке во дворце принца Евгения. Камилла: хормейстер монастыря на Химмельпфортгассе, пишет оратории для императора Иосифа I. Симонис Риманопоулос: грек, студент-медик. Работает подмастерьем у рассказчика, у него есть некая тайна. Пеничек: из Праги, вынужден служить Симонису в качестве младшекурсника. В свободное от лекций время водит коляску по улицам Вены. Христо Христов Хаджи-Танев: болгарин, нищий студент, как и его друзья, однако кроме всего прочего он – искусный шахматист, который выигрывает любую партию на деньги. Ян Яницкий, «граф» Опалинский: мужественный студент родом из Польши, очень образованный, оплачивает учебу благодаря нелегальной аренде квартир. «Барон» Коломан Супан: родом из Венгрии, параллельно с учебой работает официантом, пользуется большим успехом у женщин. «Князь» Драгомир Популеску: студент из Румынии. Пополняет свой кошелек с помощью различных мошеннических сделок, являющихся частью ночной жизни Вены. Фрош: преданный напитку сливовица венец, смотритель зверинца в замке Нойгебау, также именуемом Местом Без Имени. Угонио: даже в своем родном городе Вене занимается прибыльным ремеслом торговца фальшивыми реликвиями. Кицебер: индийский дервиш из свиты турецкого Цефула аги Капичи-паши, прибывшего в Вену с неясной миссией. Доменико: любимый племянник Атто Мелани, всецело преданный своему дяде. Гаэтано Орсини: приветливый тенор, поет в оркестре Камиллы, в оратории «Святой Алексий» исполняет роль главного героя. Мустафа: самый старый лев из зверинца Места Без Имени, полностью слушается Фроша. Летающий корабль: ждет в Месте Без Имени своих пассажиров, чтобы выполнить некое задание.И на заднем плане: Принц Евгений Савойский: австрийский полководец, президент придворного военного совета, принимает в своем дворце турецкое посольство. Иосиф I: из рода Габсбургов, император Австрии, правил с 1705 года до момента внезапной смерти 17 апреля 1711года. Максимилиан II: предок Иосифа, был императором до 1576 года. Он начал строительство роскошного замка Нойгебау, который приходил в запустение до тех пор, пока Иосиф I не решил вырвать его из плена забытья.
…и многие другие.
Рита Мональди, Франческо Сорти Imprimatur: В печать
Комо, 14 февраля 2040 Его Превосходительству Монсеньору Алессио Танари Секретарю Конгрегации по Делам Святых Город Ватикан In nomine Domini Ego, Lorenzo Dell' Agio, Episcopus Comi, in processu canonizationis beati Innocentii Papae XI, iuro mefideliter diligenterque impleturum munus mihi commissum, atque secretum servaturum in ii ex quorum revelatione preiudicium causae vel infamiam beato afferre posset. Si me Deus adiuvet. Дражайший Алессио, соблаговолите извинить меня за то, что в первых строках моего обращения к Вам звучит установленная для подобных случаев клятва: хранить в тайне все, что станет известно о чем-либо порочащем в отношении репутации причисленного к лику Блаженных. Думаю, Вы простите своего бывшего преподавателя духовной семинарии и за использование менее ортодоксальной манеры изложения своих мыслей на письме, чем та, к коей Вы привыкли. Три года назад по поручению Его Святейшества Вы написали мне, прося пролить свет на так называемое чудесное исцеление, якобы имевшее место в моей епархии более сорока лет тому назад благодаря вмешательству блаженного папы Иннокентия XI, Бенедетто Одескальски из Комо, о котором Вы впервые услышали из моих уст, будучи ребенком. Как Вы, конечно, помните, в деле о mira sanatia[1026] главным действующим лицом был сирота из окрестной Комо, которому собака откусила палец. Жалкий кровоточащий кусок плоти был тут же подобран бабушкой мальчика, свято почитающей папу Иннокентия, завернут ею в изображение понтифика и передан врачам «скорой помощи». После того как хирург и его ассистенты пришили палец, он тут же обрел чувствительность и присущую ему двигательную функцию, что вызвано немалое удивление. Согласно Вашим указаниям и пожеланию Его Святейшества я затеял процесс super mira sanatione, который мой предшественник не посчитал необходимым. Не стану задерживать Ваше внимание на самом процессе, который я довел до конца, невзирая на то что почти все свидетели чуда отошли в мир иной, медицинская карта по истечении десятилетнего срока была уничтожена, а сам исцеленный, которому теперь пятьдесят лет, давно уже осел в США. Документы, касающиеся этого дела, посланы Вам отдельной бандеролью. Я знаю, что, следуя официальной процедуре, Вы представите их на Суд конгрегации, а затем составите отчет для Его Святейшества. Мне известно, как наш дорогой понтифик стремится к канонизации папы Иннокентия XI век спустя после причисления того к лику блаженных, дабы наконец провозгласить его святым. И поскольку я всем сердцем желаю помочь Его Святейшеству в его начинании, перехожу к делу. Вы наверняка обратили внимание на внушительное приложение к моему письму: это рукопись неопубликованной книги. Я затрудняюсь объяснить вам во всех подробностях ее происхождение: прислав мне один экземпляр, авторы растворились в небытии. Убежден, что по прочтении сего труда Господь внушит Святому отцу и Вам самое верное решение дилеммы: secretum servare aut поп? Умолчать или сделать тайну достоянием гласности. Это решение, каким бы оно ни было, для меня свято. После трех лет, отданных изысканиям, мое перо позволяет себе порой слишком много вольностей. Прошу Вас заранее извинить меня. С авторами рукописи я познакомился лет эдак около сорока трех назад. Тогда это были молодые люди, жених и невеста, а я только-только получил назначение в Рим, куда и переехал из родного Комо, чтобы впоследствии милостию Божией вернуться обратно епископом. Рита и Франческо были журналистами и моими прихожанами. Они обратились ко мне с просьбой подготовить их к таинству брака. Очень скоро наши беседы переросли рамки учитель – ученики, а со временем общение приобрело более тесный и откровенный характер. Случаю было угодно, чтобы за две недели до их свадьбысвященник, назначенный для свершения обряда, тяжко занемог. Ничего удивительного в том, что Рита и Франческо обратились ко мне с просьбой подменить его. Обряд бракосочетания был свершен солнечным июньским днем в почтенных стенах церкви Сан-Джорджио-ин-Велабро, в нескольких шагах от прославленных руин римского Форума и Капитолия. Церемония отличалась какой-то особой прочувствованностью. Я горячо просил Всевышнего даровать молодым долгую безмятежную жизнь вдвоем. Позже мы в течение нескольких лет навещали друг друга. Несмотря на большую занятость, Рита и Франческо продолжали учиться. Устремившись после получения филологического образования в мир прессы – куда более динамичный и циничный, чем мир науки, они не предали прежних идеалов. Даже напротив, по мере возможности, культивировали их, читая хорошие книги, посещая музеи и библиотеки. Раз в месяц я принимал приглашение к ним на ужин или на чашку кофе. Частенько, чтобы усадить меня, им приходилось в последнюю минуту освобождать стул, погребенный под стопами фотокопий, микрофильмов, репродукций старинных гравюр и книг: с каждым разом всего этого становилось все больше. Заинтригованный, я наконец поинтересовался, над чем они трудятся с таким воодушевлением. Оказывается, они раскопали в личной коллекции одного римского аристократа библиофила собрание из восьми рукописных томов, относящееся к началу XVIII века. Благодаря общим знакомым владелец собрания, маркиз ***, дал им разрешение на изучение этих томов. Для любителей истории, каковыми являлись мои друзья, рукописи представляли подлинную ценность. В них содержалась переписка аббата Атто Мелани, представителя древнего и благородного тосканского рода, давшего миру музыкантов и дипломатов. Ждало их и открытие: внутри одного из восьми томов они обнаружили обширные рукописные мемуары, датированные 1699 годом. Написанные убористым почерком и другой рукой, они принадлежали явно не аббату, а кому-то иному. Анонимный автор этих мемуаров утверждал, что служил прежде мальчиком на побегушках на одном римском постоялом дворе и от первого лица рассказывал о поразительных событиях, развернувшихся в 1683 году между Парижем, Римом и Веной. Мемуары предварялись кратким обращением загадочного содержания без даты и без имен. Вот и все, что мне удалось узнать. Рита и Франческо старались как можно меньше говорить на эту тему. Я лишь догадывался, что эта находка подвигла их на активные поиски. Окончательно расставшись с университетскими кругами и не имея возможности облечь свое исследование в строго научную форму, они стали подумывать о написании романа. В наших разговорах эта мысль проскальзывала пока лишь в виде шутки: мол, не переписать ли нам мемуары, придав им романную форму? Первое время я был слегка разочарован, считая это намерение поверхностным, не стоящим, поскольку имел притязания причислять себя к страстным исследователям. Но от посещения к посещению проникался серьезностью их замысла. Со дня их свадьбы истекло меньше года, все свободное время они посвящали своему увлечению, а позже признались, что и свадебное путешествие провели в архивах и библиотеках Вены. Я никогда ни о чем не спрашивал, превратившись в молчаливого и скромного хранителя их замысла. Не более того. Увы, в то время я не следил с должным вниманием за тем, как продвигается их работа. А между тем, подстегиваемые появлением на свет дочки и уставшие возводить замки на зыбучих песках нашей бедной страны, они в одночасье решились ехать в Вену, к которой привязались душой, отчасти благодаря воспоминаниям о проведенном там медовом месяце. Было это в начале нового века. Прежде чем окончательно покинуть Рим, они пригласили меня на прощальный ужин, тогда же пообещали писать и навещать всякий раз, как будут в Италии. Однако этого не произошло, и я совершенно потерял их из виду. Пока одним прекрасным днем несколько месяцев тому назад не получил из Вены бандероль… с рукописью долгожданного романа, которую и направляю Вам. Я был счастлив узнать, что они довели задуманное до завершения, и хотел поблагодарить их. Но с удивлением обнаружил, что они не прислали мне своего адреса, не черкнули ни строчки. Только на фронтисписе стояло: «Побежденным». А в конце имелась подпись, сделанная фломастером: «Рита & Франческо». Что мне оставалось делать? Я прочел роман. Возможно, было бы правильнее назвать это воспоминаниями? Действительно ли это воспоминания, написанные в XVII веке и приспособленные ко вкусам современного читателя, или же современный роман, чье действие разворачивается в ту эпоху? Или и то и другое? Эти вопросы не дают мне покоя. Иные страницы будто бы прямиком вышли из XVII века: персонажи разглагольствуют, используя лексику трактатов той поры. Однако когда предпочтение отдается действию, лексика внезапно меняется, те же самые персонажи изъясняются современным языком, а их поступки словно воспроизводят в нарочитой манере topos[1027]романа расследования наподобие романов с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном, для большей ясности. Авторы как будто задались целью оставить печать своего вторжения в эти пассажи. А что, если они мне солгали? Что, если история с рукописью, которую они нашли, – выдумка? Я задавался и такими вопросами. Сама повествовательная манера наводит на мысль о средствах, к коим прибегали Манцони и Дюма в своих шедеврах «Обрученные» и «Три мушкетера», также являющихся – вот так совпадение! – историческими романами, действие которых разворачивается в XVII веке… Увы, я так и не решил для себя этого вопроса, которому, возможно, предназначено оставаться тайной. Я не смог ознакомиться с восемью томами писем аббата Мелани, имеющих непосредственное отношение к сюжету. Библиотека маркиза *** десять лет назад была по частям распродана наследниками. Задействовав кое-какие связи, я получил от фирмы, занимавшейся распродажей, сведения о покупателях. Мне показалось, я чего-то добился и Господь воздает мне за труды, но тут прочел имена новых владельцев: Рита и Франческо. Их адрес был, разумеется, недоступен. Последние три года я посвятил исследованию рукописи. Результаты моей работы Вы найдете на страницах, прилагаемых к роману, я прошу Вас самым внимательным образом ознакомиться с ними. Вы узнаете, что я долго держал произведение своих друзей у себя, не давая ему ходу, и очень переживал по этому поводу. В приложении Вы найдете детальный анализ исторических событий, о которых идет речь в рукописи, а также отчет о трудоемких изысканиях, предпринятых мною в архивах и библиотеках доброй части Европы с целью установления истины. Вы сможете убедиться, что факты, о которых идет речь, столь значительны, что им и впрямь было под силу резко и навеки изменить ход Истории. Ныне, поставив точку в своих трудах, я берусь утверждать, что события и персонажи этой истории подлинные. В тех случаях, когда не было получено достоверных доказательств, я установил, что они весьма и весьма правдоподобны. Если история, рассказанная моими двумя бывшими прихожанами, и не сосредоточена на фигуре папы Иннокентия XI (он даже не является персонажем данного повествования), она все же описывает обстоятельства, которые бросают еще одну тень на чистоту помыслов понтифика и честность его намерений. Я говорю «еще одну», поскольку процесс причисления к лику блаженных папы Одескальски, начатый 3 сентября 1714 года Климентом XI, был тотчас приостановлен соображениями super virtutibus[1028], кои изложил главный докладчик Конгрегации на стадии подготовительной работы. Истекло три десятка лет, прежде чем Бенедикт XIV Ламбертини наложил запрет на сомнения духовных лиц относительно героического характера добродетелей Иннокентия XI. Однако процесс вновь застопорился, и на этот раз чуть не на двести лет: только в 1943 году в правление папы Пия XII по этому делу снова был назначен докладчик. Беатификации пришлось ждать еще тринадцать лет. Она состоялась 7 октября 1956 года. С тех пор имя папы Одескальски окружено молчанием. Никогда вплоть до наших дней вопрос о его провозглашении святым не поднимался. Благодаря энциклике папы Иоанна-Павла II пятидесятилетней давности я мог бы и сам предпринять дополнительное расследование. Но тогда мне было бы невозможно secretum servare in Us ex quorum revelatione preiudicium causae vel infamiam beato afferre posset[1029]. Мне пришлось бы открыть содержание рукописи, хотя бы тем же ревнителям справедливости и ходатаю по этому делу (которых в прессе именуют «адвокатами обвинения и защиты святых»). Этим я бы пробудил серьезные и необратимые по своему характеру сомнения в добропорядочности блаженного: такое мог взвалить на себя лишь понтифик, но не я. В том случае, если бы к тому времени произведение моих двух друзей было издано, я был бы освобожден от необходимости хранить тайну. Я питал надежду, что оно нашло издателей, и поручил своим коллегам из числа тех, что помоложе и поневежественнее, разузнать, нет ли в продаже чего подобного. Однако они ничего не обнаружили. Пытался я и разыскать своих друзей. Выяснил, что они обосновались в Вене, в доме номер семь по улице Ауэршперг-штрассе. В ответ на свой запрос я получил ответ от директора университетского пансиона, он ничем не мог быть мне полезен. Тогда я обратился в мэрию Вены – там тоже никаких следов, в посольства, консульские отделы, зарубежные епархии – все напрасно. Я стал бояться худшего и списался с настоятелем Миноритенкирхе, итальянской церкви Вены. Никто, в том числе, к счастью, и в администрации кладбища, не знал Риту и Франческо. Наконец я сам отправился в Вену в надежде отыскать хотя бы их дочь, пусть по истечении сорока лет и не помнил ее имени. И эта последняя попытка, как и следовало ожидать, обернулась ничем. От моих давних друзей у меня остался лишь текст и старая фотография, когда-то подаренная ими. Вручаю Вам ее со всем остальным. Вот уже три года я повсюду разыскиваю их. Порой ловлю себя на том, что разглядываю молодых рыжеволосых женщин, похожих на Риту, забыв, что ее волосы теперь так же убелены сединой, как и мои. Ныне ей исполнилось бы семьдесят четыре, а Франческо семьдесят шесть. На том прощаюсь с Вами и Его Святейшеством. Да вдохновит Вас Господь на чтение сей рукописи. Монсеньор Лоренцо дель Аджио Епископ епархии Комо Побежденным Сударь, направляя Вам эти Воспоминания, кои я наконец отыскал, смею надеяться, что Ваше Превосходительство воспримет усилия, приложенные мною Во исполнение Его пожелания, как проявление пламенной любви, составлявшей мое счастье всякий раз, когда у меня имелась возможность выказать ее Его Превосходительству.Воспоминания о многочисленных и необыкновенных событиях, имевших место на постоялом дворе «Оруженосец», что на улице Орсо, с 11 по 25 сентября 1683 года; с упоминанием ряда иных происшествий, случившихся до и после указанных дней.
Писано в Риме, 1699 А.[1030]D.День первый 11 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Присланные Барджелло[1031] стражи порядка появились на нашей улице ближе к вечеру, я как раз приноравливался запалить факел для освещения вывески постоялого двора, где служил. Они кричали, размахивали руками, давая понять прохожим и зевакам, что тем надлежит разойтись по домам. С собой у них были доски, молотки, цепи, огромные гвозди и все, что полагается для подобных случаев. В общем, вели себя так, что не приведи Господь. Поравнявшись со мной, капитан гаркнул: – Марш в помещение! Никого не выпускать! Только я соскочил с табурета, на который взгромоздился, как чьи-то руки грубо втолкнули меня в дом, уже оцепленный мрачными сбирами. Я вконец растерялся, а опамятовался, лишь когда увидел собравшихся вместе постояльцев нашего заведения, известного как постоялый двор «Оруженосец» с улицы Орсо. Что-то сверкнуло, словно вспышка молнии, озарив все вокруг, и привело меня в чувство. Как всегда ввечеру, наши постояльцы числом девять прохаживались по сеням и двум столовым первого этажа, делая вид, что чем-то заняты, а на самом деле ожидая ужина и прислушиваясь к игре на гитаре молодого француза Робера Девизе. – Пустите меня! Как вы смеете! Не прикасайтесь ко мне! Я не могу находиться взаперти! Мое здоровье в отменном состоянии! В отменном! Вам ясно? Дайте пройти, черт возьми! Испускавший эти крики человек (я едва мог разглядеть его за лесом пик, выросшим на его пути) был не кто иной, как отец Робледа, испанский иезуит. Судя по виду, он был охвачен паникой: задыхался, шея покраснела и раздулась, а вопли напоминали поросячий визг. Шум перебранки наверняка был слышен не только на нашей улице, но и на прилегающей к ней небольшой площади, которая вмиг опустела. Заметив это, я обратился к торговцу рыбой и двум прислужникам из соседнего трактира, наблюдавшим за происходящим: – Нас заточают! Я старался привлечь их внимание, но они остались безучастны. Из-за угла выглядывали торговец уксусом и продавец прессованного снега, окруженные детворой, чьи голоса за мгновение до этого звенели на всю улицу. Тем временем мой хозяин г-н Пеллегрино де Грандис установил на пороге нашего заведения столик, а капитан, затребовавший до того список постояльцев, приступил к перекличке. – Отец Хуан де Робледа из Гранады. Поскольку мне еще не доводилось присутствовать при закрытии на карантин – я не имел о нем ни малейшего понятия, – поначалу мне пришло в голову, что нас всех собираются задержать и препроводить в тюремный дом. Рядом со мной раздался шепот Бреноцци, уроженца Венеции: – Н-да, вот так переплет! – Отец Робледа, – нетерпеливо повторил капитан. Схватившись с вооруженными стражниками, иезуит упал. Поднявшись и удостоверившись, что все выходы перекрыты, он поднял было свою волосатую руку, но его тут же оттеснили. Святой отец прибыл к нам из Испании несколько дней назад и с тех пор не переставал подвергать наш слух тяжелым испытаниям. – Аббат Мелани из Пистойи, – уткнувшись носом в список, выкрикнул капитан. Словно белые птицы, в темноте взметнулись вверх кружева, согласно французской моде выпущенные из-под обшлагов самого недавнего нашего постояльца, стоило ему заслышать свое имя, а его маленькие треугольные глазки сверкнули подобно стилетам. Иезуит ни на йоту не посторонился, когда Мелани спокойным шагом прошествовал в нашу сторону. Надо сказать, что именно аббат заварил всю эту кашу, подняв тревогу. А дело было так. Утром со второго этажа донеслись его крики, услышанные всеми. Мой хозяин, быстро-быстро перебирая своими длинными ногами, бросился наверх. Но на пороге большой комнаты, обращенной окнами на Орсо, замер. В ней проживали два наших постояльца: г-н де Муре, пожилой французский дворянин, и сопровождавший его Помпео Дульчибени, уроженец Марша. Г-н де Муре, имевший привычку к ножным ваннам, сидел в кресле, опустив ноги в лохань, однако на этот раз поза его была не совсем обычной: он как-то криво откинулся на спинку, а руки бессильно свесились вниз. Аббат Мелани был рядом и придерживал верхнюю часть его туловища, судя по всему, пытаясь вернуть его к жизни. Пока он расстегивал ворот сюртука француза, тот неподвижно уставился на что-то за спиной своего спасителя и как будто буравил Пеллегрино своими большими удивленными глазами, издавая нечленораздельные звуки. Пеллегрино обратил внимание на то, что аббат вовсе не звал на помощь, а громко и горячо о чем-то допытывался. Он говорил по-французски, и поэтому мой хозяин ничего не понял, однако у него сложилось впечатление (позднее он поделился им с нами), что, помогая старику, Мелани как-то очень уж энергично тряс его, и потому Пеллегрино устремился к несчастному, дабы спасти его от чрезмерного приложения сил. Тогда-то г-н де Муре и пролепетал предсмертные слова, давшиеся ему с таким трудом: «Ах! Так это правда!» Он простонал их по-итальянски, после чего навеки умолк. Взгляд его все еще был прикован к содержателю постоялого двора, а изо рта уже вытекала струйка зеленой слюны. Так он и отошел в мир иной. – Старик, es el viejo [1032], – прошептал на смеси итальянского и испанского отец Робледа, исполнившись ужаса и задыхаясь, стоило нам услышать из уст двух переговаривающихся между собой вполголоса стражей порядка «чума» и «запереть». – Кристофано, лекарь и хирург из Сиены! – выкрикнул капитан. Наш тосканский постоялец медленно, с достоинством шагнул вперед, держа в руках кожаный сундучок с инструментами, с которым он никогда не расставался. – Это я, – тихо произнес он после того, как открыл сундучок, порылся в нем и с чопорным и холодным видом откашлялся. Лекарь был упитанным, очень гладким и ладным человеком среднего роста, чей неизменно веселый нрав настраивал на доброе расположение духа и окружающих. В этот вечер его бледное лицо со струящимся по нему потом, который он не отирал, неподвижно устремленные в пространство зрачки и жест, которым он погладил свою черную бородку, прежде чем ответить, опровергли укрепившуюся за ним репутацию флегматика, указывая на состояние чрезвычайного волнения. – Я бы желал уточнить, что после первичного, но внимательного осмотра тела господина де Муре я никоим образом не могу подтвердить, что речь идет о чуме, – заговорил Кристофано, – в то время как врач из магистратуры, без тени сомнения заявивший о заразе, задержался возле тела умершего лишь на краткий миг. Вот здесь я письменно изложил свои соображения. – Он указал на бумаги. – Мне кажется, они позволят вам не принимать скоропалительных решений. Присланные из Барджелло стражи не имели ни полномочий, ни охоты вступать в спор. – Магистратура приказала немедля закрыть этот постоялый двор, – прервал его капитан, добавив, что речь пока не идет о карантине, заведение закрывается на двадцать дней, переселение жителей соседних домов не предусмотрено, разумеется, если за это время не будут выявлены другие случаи заболевания либо смерти. – Поскольку я также подпадаю под эти меры и желаю составить собственное суждение, могу ли я хотя бы поинтересоваться, что ел новопреставленный, учитывая, что у него было заведено принимать пищу в одиночестве в своей комнате? – слегка надломленным голосом настаивал Кристофано. – Его мог просто хватить удар. Эти слова привели сбиров в замешательство, они повернулись в сторону Пеллегрино. Но тот уже ничего не слышал: рухнув на стул, он предался отчаянию, что у него обычно выражалось в стенаниях, перемежающихся бранью в адрес бесконечных испытаний, посылаемых ему немилосердной судьбой. Последний ее удар обрушился на него не далее как неделю назад – одна из стен дома дала трещину, что в общем-то не было такой уж редкостью для старой римской постройки. Как нас заверили, дому ничто не угрожало, однако этого было довольно, чтобы мой хозяин пал духом и вышел из себя. Перекличка меж тем продолжалась. Заметно стемнело, тени удлинились, и посланникам магистратуры не было никакого резона медлить с выполнением приказа. – Доменико Стилоне Приазо из Неаполя! Анджьоло Бреноцци из Венеции! Молодые люди, один поэт, другой стекольщик, вышли вперед, поглядывая друг на друга и как будто утешаясь тем, что их вызвали вместе: не так страшно. Бреноцци, стекольщик, с мелко вьющимися блестящими и черными как смоль волосами, со вздернутым носом, торчащим меж двух горящих щек, напоминал фарфорового Христа. С перепугу он ущипнул себя за причинное место непристойным жестом, слегка напоминающим игру на щипковом инструменте. Эта его всегдашняя манера справляться подобным образом с охватившим его волнением была знакома мне лучше, чем кому-либо другому. – Да приидет Всевышний, да поможет нам, – простонал отец Робледа в ответ то ли на этот жест, то ли на все происходящее и с побагровевшим лицом рухнул на табурет. – И все святые иже с Ним, – подхватил поэт. – Стоило ли ехать из Неаполя, чтобы заразиться чумой. – И то верно, ни к чему было пускаться в путь, у вас там этого добра навалом. – Возможно. Однако думалось, что здесь проще получить милость небес теперь, когда у нас такой замечательный папа. Не мешает знать, что о нем думают те, кто, как говорится, находится по ту сторону Порты[1033], – процедил сквозь зубы Стилоне Приазо. Этими словами поэт из Неаполя попал в самое больное место всех присутствующих. Вот уже несколько недель турецкая армия Блистательной Порты, жаждущая крови, стояла под Веной. Все воинские соединения неверных неумолимо стягивались (во всяком случае, так следовало из тех немногих сводок новостей, что достигали наших ушей) к столице Священной Римской империи и угрожали смести ее бастионы. Христианские воины, находясь в преддверии капитуляции, сопротивлялись лишь силой веры. При нехватке оружия и довольствия, истощенные голодом и дизентерией, они к тому же были напуганы предвестниками вспышки чумы. Никто не заблуждался: если Вена падет, армии Кара Мустафы получат свободный доступ в Европу и распространятся по ней со слепой и убийственной радостью. Чтобы противостоять нависшей над Европой угрозе, множество прославленных государей и командующих армиями выступили единым фронтом: король Польши Ян Собеский, герцог Карл Лотарингский, князь Максимиллиан Баварский, Людвиг-Вильгельм Баденский и многие другие. Но все они были убеждены, что единственная подлинная крепость христиан – папа Иннокентий XI. Да и то правда, немалые усилия предпринимал понтифик, укрепляя и собирая христианское воинство. И речь шла не только о политических мерах, но и финансовых средствах. Огромные суммы постоянно отправлялись из Рима: более двух миллионов экю императору, пятьсот тысяч флоринов польскому королю. Сто тысяч экю предложил на эти цели племянник Его Святейшества, его примеру последовали кардиналы. Были произведены чрезвычайные удержания в больших размерах из церковной десятины, собираемой церковью и клиром в Испании. Священная миссия, которую безнадежно пытался исполнить понтифик, сочеталась с бесчисленными богоугодными делами, свершенными им за семь лет пребывания на престоле Святого Петра. Семидесятидвухлетний Бенедетто Одескальки служил примером другим. Рослый, сухопарый, широколобый, с орлиным носом, грозным оком, выдающимся подбородком, усами и бородкой клинышком, он слыл аскетом. Будучи от природы сурового и сдержанного нрава, он старательно избегая народных излияний чувств и редко появлялся в карете на римских улицах и площадях. Всем было известно, что под личные покои им были выбраны самые тесные, мало приспособленные для жилья апартаменты, в которых не поселился бы ни один другой понтифик, и что он очень редко выходил в Квиринальский и Ватиканский сады. Он был столь непритязателен в своих личных запросах и столь бережлив, что папское облачение выбирал из гардероба своих предшественников. Со дня восшествия на престол носил он все то же белое одеяние, довольно-таки поношенное, которое сменил лишь тогда, когда ему заметили, что негоже предстоятелю Христа на земле одеваться столь бедно. В управлении церковным достоянием он также много преуспел: пополнил папскую казну, опустевшую со времен Урбана VIII[1034] и Иннокентия X[1035], покончил с непотизмом: едва его избрали, как он призвал к себе племянника Ливио и предупредил, что тому не бывать кардиналом, более того, вообще лучше подальше держаться от государственных дел. И наконец он призвал свою паству соблюдать строгие правила поведения и вести возможно более скромный образ жизни. Были закрыты театры, другие места развлечений. Практически прекратили свое существование карнавалы, еще десятью годами раньше привлекавшие любителей увеселений со всей Европы. Праздники и музыкальные представления были сведены к минимуму. Женской части населения запретили слишком открытые и декольтированные на французский манер наряды. Дошло даже до того, что понтифик высылал отряды сбиров инспектировать исподнее, развешанное на окнах, с указанием конфисковать нижнее белье слишком откровенного покроя. Благодаря таким порядкам, заведенным Иннокентием XI как в финансовой области, так и в области нравственности, он сумел набрать суммы, необходимые для борьбы с турками, и оказать неоценимую помощь христианским армиям. И вот в войне наступил решающий час. Весь христианский мир знал, чего ему ждать от Вены: пан или пропал. Простой люд находился в тревожном ожидании: стоило заняться заре, все взоры обращались на восток, вопрошая, что несет с собой новый день, не орды ли кровожадных янычар. Еще в июле понтифик заявил о своем намерении провозгласить день всеобщего молебна и всем миром испросить помощи от Бога и собрать средства на войну. Он торжественно призвал светские и религиозные круги обратиться к молитве, повелел устроить грандиозную процессию с участием лиц папской Курии. А в середине августа заказал во всех храмах Рима колокольный благовест. И наконец в начале сентября в соборе Святого Петра со всей торжественностью, под музыку, отслужили молебен. При огромном скопления народа притч торжественно исполнил мессу contra paganos [1036], самолично выбранную Его Святейшеством. Вот отчего словесное пререкание между иезуитом и поэтом напомнило всем об ужасе, проникающем во все уголки Рима наподобие вышедшей из своего русла подземной реки. Ответ Стилоне Приазо подлил масла в огонь. Круглое лицо отца Робледы, этого холерика, и без того уже натерпевшегося страху, насупилось и стало подергиваться. Второй подбородок так и заходил ходуном. – Неужто здесь есть кто-то, выступающий на стороне турок? – зашипел он, давясь словами. Все присутствующие как по команде повернулись к поэту, который мог сойти для бдительного ока за эмиссара Порты: темная кожа лица в рябинах, глазки-угольки – ни дать ни взять разгневанная сова. Всем своим чернявым обликом он напоминал тех разбойников с всклокоченными волосами, которых, увы, нередко встретишь на дороге, ведущей в Неаполитанское королевство. Однако Стилоне Приазо не успел ответить: Капитан продолжил перекличку: – Господин де Муре, француз, и господин Помпео Дульчи-бени из Фермо, а также Робер Девизе, французский музыкант. Мой хозяин г-н Пеллегрино поспешил уточнить, что первый из названных господ и был тем самым старым французом, поселившимся в «Оруженосце» в конце июля, что ныне преставился. Он также добавил, что, по всему видать, это был знатный господин, чье здоровье оставляло желать лучшего, и прибыл он в сопровождении двух других господ – Девизе и Дуль-чибени: почти слепому, ему было не обойтись без провожатых. О г-не Муре мало что было известно: с первого дня своего пребывания у нас он заявил, что по причине чрезвычайного утомления просит доставлять ему пищу в комнату, которую почти не покидал, разве что ради краткой прогулки в окрестностях постоялого двора. Капитан занес все эти сведения на бумагу. – Невероятно, господа, чтобы его унесла чума! У него были такие превосходные манеры, он так изысканно одевался. Следует отнести его кончину на счет старости, и дело с концом, – завершил свой рассказ о новопреставленном Пеллегрино. У него развязался язык, и он вступил в переговоры со стражами порядка. Задушевный тон, столь несвойственный для него, все же порой давал неплохие результаты. Надобно заметить, хозяин мой отличался благородством осанки и черт лица – высокого роста, тонкокостный, сутуловатый, с изящными руками, легкий на подъем в свои пятьдесят лет, с белыми мягкими волосами, стянутыми на затылке лентой, и томным взором. Но, увы, он был жертвой своего гневливого, взрывного темперамента, и чаще всего его речь представляла собой поток брани. Только близкая опасность мешала ему на этот раз отдаться присущей ему склонности сквернословить. Но его уже никто не слушал. Девизе и Дульчибени, заслыша свои имена, без задержки выступили вперед. При виде французского музыканта, еще несколько минут назад услаждавшего слух постояльцев игрой на музыкальном инструменте, взгляды всех присутствующих умильно засветились. Наряд из Барджелло спешил покончить с перекличкой, и потому молодых людей невежливо подтолкнули в нашу сторону, а капитан уже выкрикивал следующих: – Господин Эдуардус де Бедфорд, англичанин, и дама… Клоридия. Запинка и ухмылка, появившаяся на лице капитана, яснее ясного говорили о том, каков был род занятий единственной среди нас представительницы противоположного пола. По правде сказать, мне мало что было известно на ее счет, поскольку хозяин поместил ее отдельно от других, в башенке, венчавшей здание постоялого двора и имевшей отдельный вход с крыши. За тот неполный месяц, что она провела у нас, в мои обязанности входило приносить ей пищу и вино, а также поступавшие с удивительной регулярностью записки в запечатанных конвертах, на которых почти никогда не стояло имя отправителя. Клоридия была совсем юной, одних лет со мной. Мне случалось видеть, как она спускалась вниз из своей башенки и вела с иными постояльцами весьма любезные речи. Если судить по тому, о чем у нее шел разговор с Пеллегрино, она избрала наш постоялый двор в качестве места жительства. Г-н де Бедфорд был человеком выдающейся внешности: огненная копна волос, нос и щеки в россыпи мелких золотистых пятнышек, голубые глаза с косинкой – о последнем я знал лишь понаслышке. Он явился к нам с далеких британских островов и вроде бы, по слухам, уже не в первый раз останавливался в «Оруженосце»: как и Бреноцци, и Стилоне Приазо, он живал здесь при прежней хозяйке, покойной кузине моего хозяина. Последним прозвучало мое имя. – Ему двадцать лет, он недавно работает у меня. Это мой единственный помощник, поскольку постояльцев сейчас немного. Я ничего о нем не знаю, взял к себе, потому как у него никого нет, – скороговоркой выпалил мой хозяин, давая понять, что ни за что, в том числе за чуму, ответственности не несет. – Давай покажи его, пора закрывать, – перебил его капитан, не в силах самостоятельно разглядеть меня. Пеллегрино схватил меня за руку и чуть приподнял. – Молодой человек, а не больше птенчика! – рассмеялся капитан, а вслед за ним и все остальные. Из окон соседних домов робко выглядывали головы. Весть о чуме уже разнеслась по нашему околотку, и мало кто осмелился бы приблизиться к нам. Поставленную перед ними задачу стражи порядка выполнили. В «Оруженосце» было четыре входа. Два с Орсо: главный и дополнительный, открытый в летние вечера, через который можно было попасть в первую из двух столовых, боковой служебный – из переулка в кухню, и еще один – из двора в коридор. Все они были старательно заделаны буковыми досками, приколоченными гвоздями в полпяди. То же проделали и с дверцей, ведущей из башни Клоридии на крышу. Окна первых двух этажей, как и подвальные на уровне мостовой, были изначально зарешечены. Если бы кому-то пришло в голову выпрыгнуть с третьего этажа, это было бы чревато риском свернуть себе шею либо быть замеченным и задержанным. Капитан, дородный малый с наполовину отсеченным ухом, огласил правила поведения, предусмотренные для подобных обстоятельств. Тело несчастного г-на Муре надлежало на рассвете передать через окно его комнаты членам братства «Отходная молитва и Смерть», на которое возлагались его похороны. Покидать здание гостиного двора нам запрещалось до тех пор, пока минует опасность для здоровья окружающих, в любом случае в ближайшие двадцать дней. В этот период следовало по первому зову являться на перекличку к окну, открывающемуся на Орсо. Напоследок нам передали огромные бурдюки с водой, прессованный снег, несколько караваев дешевого хлеба, сыр, сало, оливки, немного трав и корзину желтых яблок, а также пообещали небольшую сумму для оплаты воды, снега и продуктов питания. Нашей тягловой силе было предписано впредь до особых распоряжений оставаться в стойле у возницы, проживавшего по соседству. Осмелившимся выйти в город или тем паче бежать грозило сорок ударов плетью и привод в магистратуру с последующим присуждением наказания. На дверь была водружена табличка с позорной надписью «Зараза». Уже отрезанные от всего мира, мы молча выслушали все это. – Считай, мы все мертвецы, – проговорил кто-то голосом, в котором сквозил страх. Мы стояли в длинных и тесных сенях, ставших вдруг совсем темными оттого, что дверь заколотили, и растерянно переглядывались. Никто не решался пройти в столовую, где ждал остывший ужин. Уронив голову на стойку и обхватив ее руками, мой хозяин клял всех и вся. Повторить то, что срывалось с его уст, невозможно. Он сперва угрожал тем, кто отважится приблизиться к нему, а потом вдруг принялся колотить кулаками по стойке, отчего книга для записи постояльцев полетела на пол. Мало этого, схватил стол, намереваясь швырнуть им в стену; некоторым из нас пришлось вмешаться и повиснуть на нем, удерживая от этого шага. Он стал было отбиваться, но потерял равновесие да так и грянулся об пол вместе с повисшими на нем смельчаками. Образовалась свалка. Я едва успел отскочить, не то пострадал бы более других. Пеллегрино же оказался самым шустрым – вывернувшись, он быстрее всех поднялся на ноги и вновь забарабанил кулаками по стойке. Я почел за лучшее покинуть это узкое и ставшее опасным пространство и поспешил к лестнице, однако, одолев один пролет, уперся в живот аббата Мелани, который не спеша, осторожно спускался вниз. – Итак, юноша, нас заперли, – обратился он ко мне, грассируя на французский манер. – Что ж теперь делать? – отозвался я. – Да ничего. – Но ведь мы все поумираем от чумы. – Это мы еще посмотрим, – проговорил он с необычными переливами в голосе, к которым мне предстояло привыкнуть. После чего изменил направление своего движения и повлек меня за собой на второй этаж. Пройдя весь коридор, мы оказались у большой комнаты, которую занимал скончавшийся г-н де Муре со своим компаньоном Помпео Дульчибени. Занавеска разделяла комнату надвое. За ней обнаружились тело усопшего, а рядом с ним лекарь Кристофано со своим сундучком, стоящим на полу. Г-н де Муре наполовину раздетый лежал в кресле в той позе, в которой его оставили утром Кристофано и присланный магистратурой врач. Поскольку нам запретили что-либо менять здесь до конца переклички, ноги г-на Муре по-прежнему находились в воде, и за этот жаркий сентябрьский день в комнате уже появился характерный запах. – Молодой человек, я ведь просил сегодня утром подтереть эту вонючую лужу на полу! Будь любезен! – бросил мне с нетерпением Кристофано. Только я собрался ответить, что тогда же исполнил его просьбу, как заметил, что и впрямь вокруг лохани натекло несколько лужиц. Я тотчас без пререканий бросился к венику и тряпке, проклиная свою нерадивость. Вероятно, утром я находился под впечатлением от смерти, не виданной мною доселе. Муре казался еще более бестелесным и бескровным, чем в момент своего появления у нас. С его слегка приоткрытых губ стекала струйка зеленоватой слюны, которую Кристофано принялся вытирать, после чего раскрыл ему челюсти, предварительно обмотав руку куском материи. Как и утром, он внимательно оглядел горло Муре и понюхал его слюну. После чего попросил аббата Мелани помочь – уложить тело на постель. Когда его приподняли и ноги оказались вне воды, от них пошел такой дух, что у нас у всех перехватило дыхание. Кристофано натянул на руки рыжие перчатки, извлеченные из сундучка, и еще раз исследовал рот, потрогал за ушами, подмышками, а затем грудь и пах покойного, несколько раз нажав на него кончиками пальцев. После этого задумчиво снял перчатки и положил их в одно из закрывающихся отделений ящичка, перегороженного пополам. В другом отделении стояла емкость, в которую он плеснул коричневатой жидкости, после чего закрыл отделение с перчатками. – Это уксус, – пояснил он. – Очищает чумные испарения. На всякий случай. Хотя я своего мнения не изменил: это не похоже на чуму. Пока нам нечего бояться. – Вы сказали стражам, что, возможно, это удар, – напомнил я. – Это я так, к примеру, чтобы выиграть время. Я знал от Пеллегрино, что Муре питался исключительно овощными супами и бульонами. – Верно. И сегодня спозаранку он просил меня приготовить ему бульон. – Вот как? Продолжай, – с выражением неподдельного интереса на лице попросил лекарь. – Особенно-то и рассказывать не о чем. Попросил бульон с молоком у моего хозяина, тот по утрам будил его и господина из Марша, с которым он делил комнату. Поскольку господин Пеллегрино был занят, то поручил это мне. Я спустился в кухню, приготовил бульон и отнес ему. – Ты был один? – Да. – Кто-нибудь заходил в кухню? – Никто. – А сам ты не отлучался, пока готовился бульон? – Ни на секунду. – Ты уверен? – Если вы думаете, что господину де Муре стало плохо от этого бульона, так знайте: я лично подал ему его, поскольку господин Дульчибени уже вышел. Да я и сам выпил чашку этого бульона. Больше лекарь ни о чем не спросил. – Произвести вскрытие здесь и теперь я не могу, да и никто на это не отважится, ведь подозревают, что у нас чума. Как бы то ни было, повторяю: нам нечего бояться, – проговорил он, глядя на труп. – Отчего тогда нас закрыли? – осмелился я задать ему вопрос. – Из чрезмерного рвения. Ты молод. Воспоминание о последней эпидемии чумы еще слишком свежо в здешних местах. Если больше ничего не случится, они быстро поймут, что опасности нет. Этот пожилой господин на мой взгляд не отличался молодецким здоровьем, но и чумы у него не было. Как и у вас, и у меня. Однако делать нечего – придется передать тело и одежду бедняги, как приказано. Кроме того, каждому следует занять отдельную комнату. Здесь их предостаточно, если я не ошибаюсь? – проговорил он, бросив на меня вопросительный взгляд. Я подтвердил. На каждом этаже имелось по четыре комнаты: первая, довольно просторная, ближе всех располагалась к лестнице, вторая была маленькая, третья имела форму буквы «L», а четвертая, в глубине коридора, была самая просторная, и ее окна выходили не только в переулок, но и на Орсо. «Значит, – подумал я, – будут заняты весь второй и третий этажи, и вряд ли это огорчит моего хозяина, ведь он не может рассчитывать сейчас на других постояльцев». – Дульчибени переведем пока в мою комнату, – добавил Кристофано, – не может же он находиться здесь, с трупом. Если не будет других случаев заболевания, подлинных или ложных, нас выпустят по прошествии нескольких дней. – Через сколько точно? – спросил Атто Мелани. – Кто знает? Если с кем-нибудь из соседей приключится какая-нибудь беда от плохого вина или протухшей рыбы, непременно подумают на нас. – Значит, мы можем остаться здесь навсегда, – сделал я вывод, уже ощущая, как давят на меня массивные стены постоялого двора. – Отнюдь. Успокойся, да разве ты и без того не проводишь здесь безвыходно все дни и ночи? Я редко видел, чтобы ты отлучался, так, верно, привык уж. Оно конечно. Мой хозяин взял меня к себе из сострадания, поскольку я был один-одинешенек на всем белом свете. Ну я и трудился на него от зари до зари. Вот как это произошло. В начале весны Пеллегрино покинул Болонью, где служил поваром, и отправился в Рим, где после кончины его кузины г-жи Луиджии де Грандис Бонетти ему достался «Оруженосец». Бедняжка отдала душу Господу вследствие нападения двух цыган, покушавшихся на ее кошелек. Тридцать лет содержала она постоялый двор, сперва с мужем Лоренцо и сыном Франческо, потом одна, и все шло хорошо, заведение было на прекрасном счету, путешественники со всего света останавливались в нем. Почитание, с коим Луиджия относилась к герцогу Орсини, владельцу особняка, в чьих стенах располагался «Оруженосец», подвигло ее назначить его своим единственным наследником. Однако герцог не имел ничего против того, чтобы Пеллегрино (имевший на содержании жену, незамужнюю взрослую и малолетнюю дочерей) продолжил дело своей кузины. Это было пределом его мечтаний, он умолял герцога довериться ему. Однажды ему уже представилась такая возможность, но он ее упустил: дослужившись на кухне у одного богатого кардинала до стольника, резавшего мясо, был уволен по причине своей горячности и несдержанности на язык. Как только Пеллегрино устроился неподалеку от «Оруженосца» в ожидании, когда его покинут несколько временных постояльцев, я явился к нему, запасшись рекомендацией священника ближайшей к постоялому двору церкви Санта-Мария-ин-Постерула. С наступлением знойного римского лета его жена, ничуть не обрадованная перспективой стать содержательницей постоялого двора, отправилась с дочерьми в Апеннины, к родне. Их возвращение намечалось на конец месяца, и подсобить Пеллегрино, кроме меня, было некому. Разумеется, я был не лучшим помощником на свете, но старался как мог угодить. И даже когда все дневные труды были окончены, я и тогда искал повода быть полезным. Появляться одному на улице мне было боязно (жестокие шутки моих сверстников были тому причиной), и потому я с головой уходил в работу, как верно подметил Кристофано. И все же мысль, что придется провести много дней взаперти, показалась мне невыносимой. Шум на первом этаже затих, Пеллегрино с постояльцами поднялись к нам. Вспышка гнева ни к чему бы все равно не привела, лишь вымотала его, а заодно и тех, кто пытался его обуздать. Кристофано повторил свое заключение, и постояльцы немного успокоились, все, кроме моего хозяина. – Я их всех поубиваю! – взревел он, вновь теряя самообладание. И добавил, что в результате этой истории он разорится, поскольку никто больше не пожелает останавливаться в «Оруженосце», как, впрочем, и выкупить у него постоялый двор, чья цена и так понизилась из-за проклятой трещины; что ему придется погасить все долги, чтобы приобрести другое заведение; что он впадет в нищету, но что сперва он расскажет обо всем этом в палате держателей постоялых дворов, пусть это и бесполезная затея. Его мысли стали путаться, он сам себе противоречил, нес околесицу, из чего я и вывел, что он улучил минутку и приложился к бутыли греческого вина, которое очень уважал. – Следует собрать постельные принадлежности и личные веши старика, с тем чтобы передать похоронной команде, – продолжал отдавать между тем распоряжения Кристофано. И, обернувшись к Помпео Дульчибени, спросил: – По дороге изНеаполя приходилось ли вам встречаться со случаями заболевания чумой, слышали ли вы о чем-нибудь таком? – Ни разу. Было видно, что компаньон усопшего с большим трудом справляется с потрясением, тем более что смерть случилась в его отсутствие. На лбу и скулах у него выступила испарина. Лекарь расспросил его о многом, касавшемся того, кого он знал лучше нас: регулярно ли тот питался, каковы были его самочувствие и нрав, случались ли приступы недомогания, вызванные возрастом. Ответ на последний вопрос прозвучал отрицательно. Дульчибени был человеком внушительной комплекции, всегда облаченный во все черное, с огромным кружевным воротником по фламандской моде (бывшей в ходу, думаю, много-много лет назад). Вкупе с багровым цветом лица большой живот, стеснявший его движения, свидетельствовал о склонности покушать, по всей видимости, не меньшей, чем склонность моего хозяина выпить. Его совершенно седая пышная шевелюра, мрачный нрав и манера вести себя и говорить, как бы преодолевая бесконечное утомление, задумчивый и серьезный вид – все выдавало в нем человека умеренного и благонадежного. Только со временем, повнимательнее приглядевшись к нему, я замечу в его суровых сине-зеленых глазах и в тонких, всегда нахмуренных бровях отблеск тайной и неистребимой ожесточенности. Дульчибени поведал нам, что познакомился с г-ном де Муре случайно, в дороге, и потому мало что о нем знает. Вместе с г-ном Девизе он сопровождал его от Неаполя, поскольку старик, почти слепой, нуждался в помощи. Г-н Девизе, музыкант и гитарист, прибыл в Италию, дабы приобрести новый инструмент у неаполитанского скрипичного мастера. Стоявший рядом Девизе это подтвердил. Как и то, что впоследствии выказал желание побывать в Риме, чтобы изучить последние направления в музыке, а уж затем вернуться в Париж. – Что случилось бы, если б мы выбрались на улицу до окончания срока карантина? – прервал я его. – Бежать – самое неприемлемое в нашем положении, – взялся ответить мне Кристофано, – учитывая, что все выходы заколочены, даже тот, что ведет из башни дамы Клоридии на крышу. Кроме того, окна забраны решетками или расположены высоко над землей, а под ними денно и нощно ходят часовые. Словом, если тебя схватят, то подвергнут еще более тяжкому наказанию и изолируют уже не на месяцы, а на годы. Ажители квартала не преминут помочь властям в поимке беглеца. Наступил вечер, и я разнес по комнатам масляные лампы. – Постараемся сохранить здравый рассудок, – продолжил тосканец, бросив красноречивый взгляд в сторону моего хозяина. – Надо дать понять, что у нас все чин-чином. Если ничего не изменится, я даже не стану вас обследовать, разве что вы сами меня об этом попросите. В случае же, если кто-то занеможет, я буду вынужден осмотреть каждого. Это в наших общих интересах. Предупредите меня, если ощутите слабость, пусть и не придадите ей большого значения. Как бы то ни было, лучше не расстраиваться заранее, поскольку этот человек, – он указал на недвижное тело г-на де Муре, – умер не от чумы. – От чего же тогда? – тут же поинтересовался аббат Ме-лани. – Повторяю, не от чумы. – Откуда тебе знать? – с недоверием спросил аббат. – Лето еще в разгаре, стоит довольно-таки теплая погода. Будь это чума, мы бы столкнулись с ее летней формой, вызванной повышенной температурой воздуха, то есть она сопровождалась бы головной болью и горячкой. В этом случае трупы чернеют и нагреваются, лимфатические узлы также чернеют и быстро разлагаются. Но у данного трупа и в помине нет ганглиев, флегмон, фурункулов или абсцессов – называй как хочешь, – ни под мышками, ни за ушами, ни в паху. Температура тела не повышена, нет и излишней сухости. И наконец, судя по тому, о чем поведали его спутники, он хорошо себя чувствовал за несколько часов до смерти. Этого довольно, чтобы я исключил заражение чумой. – Значит, дело в чем-то ином? – продолжал допытываться Мелани. – Повторяю. Следовало бы прибегнуть к вскрытию, ну, то есть вскрыть тело и изучить его изнутри, как делают голландские медики. Это могло бы дать нам картину молниеносного воздействия гнилостных очагов, которую не удается обнаружить раньше, чем это приведет к непоправимым последствиям. Однако я не заметил на трупе следов разложения, не почувствовал зловония, кроме того, что характерно для смерти и возраста. Я мог бы предположить, что покойный стал жертвой болезни Мазукко, или Модоро, как ее называют испанцы: провоцируя появление флегмоны или абсцесса внутри черепа, она невидима и неизбежно приводит к смерти. В самом начале своего развития болезнь поддается лечению. Словом, знай я о чем-либо подобном заранее, я был бы в состоянии спасти господина де Муре. Было бы достаточно открыть одну из двух вен, расположенных под языком, подмешать в питье несколько капель купоросного масла и наконец помазать живот и голову миррой. Однако складывается впечатление, что у господина де Муре не было признаков какой-либо болезни. Иначе… – Что иначе? – все не отставал Мелани. – От болезни Мазукко не распухает язык, – с выразительной миной на лице заключил доктор. – Подобный симптом возможен при… чем-то, подобном воздействию яда. Яд. Кристофано отправился к себе, а все присутствующие молча воззрились на труп. Тут я впервые увидел, как иезуит осенил себя крестным знамением. Пеллегрино опять прорвало, и он принялся клясть судьбу-злодейку, одарившую его ко всему прочему трупом, да еще, возможно, отравленного человека. Что скажет по возвращении его жена? Постояльцы тотчас пустились вспоминать знаменитые дела об отравлениях, замелькали имена правителей прошлых времен, Карла Лысого, Лотаря, короля франков и его сына Людовика, и имена тех, кто правил недавно, таких как Борджиа, Валуа, Гизы, а также названия ядов – акватофана, кантарель. Стыдливое содрогание охватило всех, ведь страх и яд неотделимы друг от друга: вспомнили, что, прежде чем взойти на французский престол под именем Генриха IV, Генрих Наваррский самолично спускался к Сене, дабы набрать воды для питья, боясь пасть жертвой отравления. Дон Хуан Австрийский погиб, натянув отравленные сапоги. Стилоне Приазо напомнил, что Екатерина Медичи травила Жанну д'Альбре, мать Генриха Наваррского, с помощью перчаток и надушенных воротников и пыталась еще раз проделать это, предложив сыну Генриха IV роскошную книгу об охоте, чьи страницы были пропитаны смертельным ядом, доставленным из Италии. Кто-то заметил, что губительные составы часто готовились астрологами и парфюмерами. Кто-то привел пример кардинала Лотарингского, отправленного на тот свет в Варфоломеевскую ночь слугой печально известного настоятеля аббатства Клюни с помощью отравленных золотых монет. Не был забыт и Генрих де Лютзельбург, скончавшийся от яда, заложенного в облатку. Вот уж поистине святотатственная смерть! Стилоне Приазо оживленно переговаривался то с одним, то с другим, убеждая, что поэтам и вообще людям искусства всегда приписывают бог знает что, а вот он – лишь поэт, рожденный таковым, и более ничего, да простит Господь его нескромность. Затем постояльцы набросились на меня с расспросами о бульоне, который я подал утром r-ну де Муре, и мне пришлось снова и снова повторять, что никто, кроме меня, к нему не притрагивался. В конце концов интерес ко мне иссяк, и меня оставили в покое. В какой-то момент я заметил, что аббата Мелани уже нет с нами. Было поздно, пришла пора прибраться в кухне. В коридоре я столкнулся с молодым англичанином г-ном де Бедфордом, переносившим вещи в другую комнату и не присутствовавшим при уточнении Кристофано своего диагноза. Он медленно брел по коридору, чем-то сильно расстроенный, а увидев меня, даже вздрогнул. – Это всего лишь я, господин Бедфорд, – успокоил я его. Он молча уставился на лампу в моей руке, на лице его было написано потрясение. Впервые он преодолел свою пренебрежительную манеру общения, проистекавшую из его флегматичного характера. Ему претила моя простая натура, и он часто давал мне это понять, тем более что это было нетрудно сделать в отношении слуги. Сын итальянки, он прекрасно владел нашим языком, а его словоохотливость даже развлекала за ужином сотрапезников. Молчаливость, присущая ему в этот вечер, произвела на меня впечатление. Я передал ему мнение Кристофано относительно того, что у нас нет чумы и бояться нечего, а также что Муре скорее всего был отравлен. Он открыл рот и, потрясенно глядя на меня, стал отступать назад, а затем вдруг резко повернулся и кинулся к себе. Я услышал, как в замке повернулся ключ.Первая ночь С 11 НА 12 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
– Не обращай внимания, мой мальчик. На этот раз вздрогнул я. Передо мной стоял аббат Мелани, видимо, как раз в этот момент спустившийся с третьего этажа. – Я проголодался. Не заглянуть ли нам на кухню? – Сперва нужно поставить в известность господина Пеллегрина. Он запрещает мне в неурочные часы брать в кладовке еду. – Не беспокойся, твой хозяин пребывает в обществе любезной его сердцу бутылки. – А как быть с распоряжениями доктора Кристофано? – Это вовсе не распоряжения, а советы. Которые мне представляются излишними, – изрек он и двинулся на первый этаж. Я за ним. В кухне я отыскал для него немного хлеба, сыра и подал со стаканом красного вина. Мы сели за большой кухонный стол, за которым мы с Пеллегрино обычно принимали пищу. – Расскажи мне, откуда ты родом, – попросил он, подкрепившись. Польщенный его интересом к моей скромной особе, я вкратце поведал ему историю своей несчастной жизни. Когда мне было несколько месяцев, я был подброшен в монастырь под Перузой. Монахини поручили меня заботам одной милосердной женщины, жившей неподалеку. Когда я подрос, меня отвезли в Рим, там меня взял под свое крылышко брат этой женщины, священник из церкви Санта-Мария-ин-Постерула. Я прислуживал ему, а перед тем как покинуть Рим, он отдал меня на попечение г-на Пеллегрино, чье заведение рядом с этой церковью. – Теперь ты его ученик, – подвел итог аббат. – Да, но надеюсь, так будет не всегда. – Тебе бы хотелось иметь свой постоялый двор? – О нет, господин аббат, я бы хотел стать газетчиком. – Черт подери! – воскликнул он, лукаво улыбаясь. Я рассказал ему, что милосердная и дальновидная женщина, у которой я проживал в нежном возрасте, поручила престарелой служанке заботиться о моем образовании. А та, бывшая монашка, поднатаскала меня в семи свободных науках тривиума и квадривиума[1037], а кроме того, в науках de vegetalibus, de animalibus, de mineralibus, как и в humanae litterae [1038], философии и теологии. Она снабдила меня книгами историков, грамматиков, итальянских поэтов, испанских, французских авторов. Однако арифметика, геометрия, музыка, астрономия, грамматика, логика и риторика влекли меня меньше, чем живая история, в частности, я загорался, читая или слыша о подвигах и успехах государей, как стародавних, так и нынешних, о войнах и других чудесных вещах, которые… – Так-так, – перебил меня аббат, – стало быть, тебе охота стать газетчиком или писакой. Это участь тонких умов. Как это тебе пришло в голову? – Меня часто посылали с поручениями в Перузу. Там, если повезет, можно было услышать публичное чтение газет и за гроши (как и в Риме) приобрести летучие листки с интереснейшими описаниями недавних европейских событий… – Дьявол! Впервые встречаю такого парнишку, как ты. – Благодарю, сударь. – А не слишком ли ты образован для поваренка? Обычно простолюдины и пера-то в руках держать не умеют, – с гримасой на лице заметил он. Его замечание задело меня. – Ты не лишен здравого смысла, – добавил он, смягчившись. – Я тебя понимаю: в твои годы я тоже был зачарован ремеслом писак. Но передо мной стояли другие задачи. Ловко сочинять статейки – большое искусство, и уж точно это лучше, чем гнуть спину. Кроме того, быть газетчиком в Риме – увлекательное дело. Думаю, ты в состоянии передать все, что касается проблем отмены посольского права убежища[1039], галликанских свобод[1040] и квиетизма[1041]… – Ну, думаю, что… да, – важно проговорил я, пытаясь скрыть свое невежество. – Чтобы быть газетчиком, нужно кое-что знать, мой мальчик. А иначе о чем ты будешь писать? Ну да ты еще очень молод. Да и что теперь можно написать об этом утратившем былое величие городе? Видел бы ты, каким был Рим прежде, еще несколько лет назад. Музыка, театры, академии, представление послов, процессии, балы, все сверкало, роскошь была такая, что ты и вообразить себе не можешь. – А почему теперь не то? – Величие и звезда Рима закатились с восшествием на престол нынешнего папы и вернутся обратно лишь с его смертью. Театральные постановки запрещены, карнавал тоже. Да разве ты сам этого не видишь? Храмы приходят в упадок, дворцы ветшают, мостовые – дрянь, акведуки разваливаются. Мастеровые, архитекторы и рабочие, оставшись без работы, возвращаются по домам в свои провинции. Печатные объявления и газеты – то, что так тебя увлекает – под запретом, за нарушение коего – наказание еще более строгое, чем когда-либо. Ни празднеств во дворце Барберини, ни спектаклей в театре Тор-ди-Нона для шведской королевы Кристины, отрекшейся от лютеранства и прибывшей в Рим. С восшествием на апостольский престол Иннокентия XI королева Кристина носа не кажет из своего дворца[1042]. – А вы случаем не жили в Риме прежде? – Да, одно время, – ответил он и тут же поправился: – Вернее, несколько раз. Я прибыл в Рим в 1644 году в возрасте восемнадцати лет и учился у лучших музыкантов. Имел честь быть учеником несравненного Луиджи Росси[1043], величайшего из европейских композиторов всех времен. Барберини владели театром на три тысячи мест, расположенном в их дворце на площади Четырех фонтанов, а театр Колонна во дворце Борго вызывал зависть всех правящих домов. А какие декораторы оформляли постановки! Кавалер Бернини, к примеру! Театральные представления завораживали, бередили душу. Было все: и дождь, и закат солнца, и вспышки молний, и живые представители фауны, и дуэли с настоящими ранами и кровью, и дворцы такие, что не отличишь от городских, и сады с фонтанами, откуда били струи воды. Тут я спохватился, что до сих пор не поинтересовался у собеседника, кем он был – композитором, органистом или регентом хора. Однако судьбе было угодно, чтобы я удержался от вопроса. Его особенное, гладкое лицо, необыкновенно мягкие, вкрадчивые, чуть ли не женские движения, а более всего необычайно чистый голос, напоминающий голос ребенка, – все это привело меня к мысли, что он оскопленный певец. Видно, аббат подметил мелькнувшую в моем взгляде догадку. Однако продолжал как ни в чем не бывало: – В прежние времена певцов было меньше, это теперь их развелось… И немалое их число было ничем не связано и могло достичь многого. Лично я был не только наделен свыше талантом, но и усердно трудился. Лет тридцать тому назад великий герцог Тосканский, чьим подданным я являюсь, послал меня в Париж с моим учителем Луиджи Росси. «Вот откуда странное „р“, которое он с таким удовольствием произносит», – подумалось мне, а вслух я сказал: – Вы отправились в Париж для продолжения учебы? – Ты что же, полагаешь, что обладатель рекомендательного письма, адресованного кардиналу Мазарини и Ее Королевскому Величеству, нуждается в учебе? – В таком случае, господин аббат, выходит, вы пели для Их Королевских Величеств! – Королева Анна любила слушать, как я пою, у нее были свои предпочтения. Ей нравились меланхолические арии в итальянском духе, и я мог сполна удовлетворить ее запросы. И двух вечеров не проходило, чтобы меня не призвали во дворец. Всякий раз в течение четырех часов в ее покоях царила одна музыка. – Он прервал свой рассказ и с отсутствующим выражением лица уставился в окно. – Ты ведь никогда не был при дворе французского короля. Как же мне объяснить тебе? Все эти шевалье и знатные дамы оказывали мне уйму почестей, а когда я пел для королевы, мне казалось, я в раю, а вокруг меня целый сонм ангелов. В конце концов королева попросила великого герцога не отзывать меня в Италию, чтобы продолжать наслаждаться моим пением. Мой государь – ее двоюродный брат по материнской линии – пошел ей навстречу. Несколько недель спустя королева, одарив меня сладчайшей улыбкой, показала мне письмо моего герцога, который позволил мне задержаться в Париже. Я чуть не умер от радости, читая его. Я часто наведывался в Париж и позже, в частности со своим учителем Луиджи Росси. При упоминании о нем взор Атто всякий раз загорался едва сдерживаемой радостью. – Ныне его имя забыто. Но тогда он воспринимался не иначе как великий или даже величайший из мастеров. Он дал мне заглавную партию в «Орфее», самой великолепной постановке при французском дворе. Успех был незабываемый. Мне был тогда двадцать один год. После двух месяцев, в течение которых шли представления, я вернулся во Флоренцию, но Мазарини вновь упросил великого герцога прислать меня во Францию, поскольку королева не могла обойтись без моего голоса. Так по возвращении в Париж с сеньором Луиджи мы угодили в гущу событий Фронды[1044] и вынуждены были бежать вместе с королевой, кардиналом и несовершеннолетним королем. – Вы знали Наихристианнейшего короля еще ребенком! – И притом довольно близко. В эти ужасные месяцы, проведенные в замке Сен-Жермен, он никогда не расставался с матерью и слушал мое пение. Случалось, в перерывах между пением я придумывал разные игры, чтобы развеселить его. И тогда Его Величество начинал улыбаться. Я находился под сильным впечатлением от своего открытия. Необычный постоялец в прошлом не только был прославленным певцом, но и вхож к Их Королевским Величествам! Кроме того, он принадлежал к тем чудесам природы, в которых мужские черты сочетаются с музыкальным даром и особенностями женского ума. Необычный серебристый тембр его голоса сразу обратил на себя мое внимание. Но другие детали выпали из моего поля зрения, почему я и решил сперва, что он простой содомит. И вот только теперь обнаружилось, что он кастрат. По правде сказать, мне было известно, что для обретения исключительных вокальных данных певцы подвергаются болезненной необратимой операции. Я был знаком с печальной историей благочестивого Оригена, который по собственной воле лишился мужских частей тела ради достижения высшей духовной добродетели, а также слышал, что христианское учение с самого начала осуждало кастрацию. И все же услуги кастратов были востребованы в Риме. Ни для кого не было секретом, что ватиканская капелла прибегала к услугам таких певчих. Пожилые люди из нашего квартала, желая похвалить распевающих прачек, бросали им нередко: «Поешь, как Розини», «Ты превзошла самого Фолиньято». Речь шла о кастратах эпохи Климента VIII[1045], прославившихся несколькими десятилетиями раньше. Часто с чьих-нибудь уст срывалось и имя Лорето Виттори. Его голос обладал такой чарующей магией, что папа Урбан VIII, несмотря на двойственную природу певца, назначил его кавалером Христова воинства. Что с того, что Святой Престол грозил отлучением от церкви тем, кто занимался оскоплением, а женская красота кастратов производила смятение в рядах зрителей? Из болтовни своих сверстников я знал, что достаточно отойти от постоялого двора на несколько десятков канн[1046], чтобы найти цирюльника, готового совершить ужасную операцию, лишь бы ему были гарантированы сохранение тайны и вознаграждение. – Что ж тут удивительного! – отвечал Мелани, прервав мои раздумья. – Ничего особенного в том, что королева предпочитает мой голос голосу какой-нибудь певички, да простит меня Господь. В те времена в Париже выступала итальянка Ленора Барони, не щадившая себя. Теперь ее имя никому не известно. Не забывай, мой мальчик: если нынче женщинам запрещено петь на публике, согласно пожеланию святого Павла, это не случайно. Он поднял чарку, словно желал чокнуться, и торжественно продекламировал:День второй 12 СЕНТЯБРЯ 16S3 ГОДА
Утро приготовило мне сюрприз. Когда я проснулся, г-н Пеллегрино еще спал (мы делили с ним чердачное помещение) и не приготовил завтрака для постояльцев, хотя это входило в его обязанность, невзирая на исключительность положения, в котором мы оказались. Лежа поверх одеяла в одежде, он спал как убитый, видать, сраженный наповал горячительным. С трудом растолкав его, я поспешил на кухню. Еще на лестнице моих ушей коснулись приятные звуки музыки. Чем ближе я подходил к столовой, тем слышнее она становилась. Это г-н Девизе, сидя на деревянном табурете, упражнялся в игре на своем инструменте. Странное очарование исходило от него во время исполнения музыкальной пьесы. При этом удовольствие слышать соединялось с удовольствием видеть. Его полукафтан из тонкой шерсти бланжевого цвета, простая рубашка под ним, не то зеленые, не то серые глаза, негустые пепельно-русые волосы – все в его облике, казалось, по собственной воле отступало перед яркими насыщенными звуками, которые он извлекал из своего шестиструнного инструмента. Его игра была построена на полутонах. Вот что было удивительно – стоило последней ноте раствориться в воздухе, и колдовства как не бывало, перед глазами снова оказывался тучный и мрачный человечек, не совсем здоровый на вид и даже слегка зачуханный, с тонкими чертами лица, отвислым будто слива носом, мясистыми неприятными губами, бычьей короткой шеей древнего германца, воинственной повадкой и резкими движениями. Он вряд ли заметил мое появление и после небольшой паузы вновь ударил по струнам. И тут словно что-то случилось. Из-под его пальцев стало возникать некое чудесное здание из звуков, будто он был не музыкантом, а зодчим; я мог бы и сейчас безошибочно воспроизвести оное на бумаге, будь в моем распоряжении слова, а не только воспоминания. Сперва прозвучал бесхитростный и простенький мотив, что, как бы танцуя, вразбивку прошелся по тонам, начиная с нижнего и достигая доминанты (так опытный музыкант объяснил бы профану, коим был я, свой способ исполнения), а затем, после поразительного по красоте скачка пропущенной каденции повторился. Это был лишь первый из драгоценных каменьев богатейшей и изумительной россыпи, которая, как объяснит мне позже Девизе, называлась рондо и строилась на заявленной в первой строфе главной теме – простеньком мотивчике, – повторяемой еще несколько раз, но непременно в сопровождении нового украшения, никак не чаемого и сверкающего одному ему присущим блеском. Как и положено, это рондо (мне не раз еще доведется его услышать) было увенчано рефреном, который, казалось, придавал смысл и завершенность всему целому. Но простота и безыскусность главной темы, как раз и составлявшие ее прелесть, не были бы столь разительны, если бы не обрамление из все новых и новых побочных тем, которые от рефрена к рефрену взбирались по этому чудесному зданию из звуков непринужденно и непредсказуемо, с какими-то все крепнущими красотой и отвагой. Так что последняя из них представляла собой вызов слуху, отличающийся особенной нежностью и сравнимый с тем, который рыцари бросают друг другу, когда дело идет об их чести. С опаской и чуть ли не боязливо добравшись до низких нот, финальное арпеджио совершало резкий подъем, а затем и прыжок к самым высоким нотам, превращая свое изломанное и робкое продвижение в поток чистейшей красоты, в который бросало охапки созвучий, отпуская их на волю стремнины. Канув в какой-то омут с колосящимися там загадочными и непознаваемыми (а более всего недоступными выражению посредством человеческого языка) темами, созвучия выныривали и против собственного желания наконец успокаивались, сходя на нет перед конечным повторением первоначально заданной темы. Околдованный, я затих и замер до тех пор, пока не угас последний звук. Девизе бросил взгляд в мою сторону. – Как вы хорошо играете на лютне, – робея, произнес я. – Прежде всего это не лютня, а гитара, – отвечал он. – И потом, тебя ведь заинтересовала не манера исполнения, а сама музыка. То, как ты ее слушал, подтверждает это. И ты прав: я особенно горжусь этим рондо. И он принялся объяснять мне, как сочиняют рондо и чем это рондо отличается от прочих. – Ты выслушал рондо, сочиненное в стиле brise[1049], который на итальянском называется кажется спецато. Он имитирует игру на лютне: звуки аккордов звучат не одновременно, а вразбивку, арпеджио. – Ах вот оно что, – только и мог я сказать. По моей растерянной физиономии Девизе, видно, догадался, что я нуждаюсь в дополнительном пояснении, и продолжил свой рассказ о рондо. Оказывается, оно оттого было таким приятным на слух, что его рефрен строился по древним канонам благозвучия, тогда как побочные темы представляли собой попытки достичь гармонии, отличающиеся неожиданным характером, будто бы даже чуждым устоявшимся музыкальным нормам. Достигнув вершины, рондо резко обрывалось. Я спросил, как случилось, что он с такой легкостью владеет моим языком, умолчав о довольно-таки заметном французском акценте. – Я много странствовал, знал немало итальянцев, которых считаю лучшими музыкантами в мире. Музыкальность заложена в них природой, они великолепные исполнители. Увы, папа велел закрыть римский театр Тор ди Нона, находящийся в двух шагах отсюда. А вот в Болонье в часовне Сан-Петронио можно послушать прекрасных исполнителей и познакомиться со множеством новых произведений. Наш великий композитор Жан-Батист Люлли, слава Версаля, – флорентиец. Более всего я знаком с Венецией, музыка там в таком почете, как нигде в Италии. Обожаю тамошние театры: Сан-Кассиано, Сан-Сальваторе, знаменитый театр Кокомеро, где я присутствовал на чудном представлении до отъезда в Неаполь. – Как долго рассчитываете вы пробыть в Риме? – Увы, отныне это не имеет значения. Неизвестно, выйдем ли мы отсюда живыми, – ответил он и принялся исполнять отрывок из чаконы Люлли. Выйдя из кухни, где я после разговора с Девизе готовил завтрак, я нос к носу столкнулся с Бреноцци, венецианским стекольщиком. – Если желаете откушать, милости прошу, – возвестил я ему. Но он почему-то схватил меня за руку и, не произнося ни слова, потащил на лестницу, ведущую в погреб. Поскольку я возражал против такого обращения, он закрыл мне рот рукой. – Не горячись, выслушай меня, не бойся, я всего лишь хочу узнать у тебя кое-что, – заговорил он, остановившись на ведущих вниз ступенях, каким-то задушенным голосом, не давая мне возможности ответить. Его интересовало, что сказали другие постояльцы по поводу кончины г-на де Муре, не ожидается ли еще чья-нибудь смерть от отравления или по какой другой причине и кто из постояльцев больше других опасается этого, а также есть ли такие, кто вообще не испытывает страха, и сколько времени на мой взгляд может продлиться карантин – установленные магистратурой двадцать дней или больше, не подозреваю ли я кого в хранении ядов, считаю ли я, что действительно кто-то прибег к оным, и наконец, кто из постояльцев остался необъяснимым образом спокоен после объявления карантина. – По правде сказать, я… – Турки! Шла ли речь о турках? О чуме в Вене? – Но я не знаю, я… – А теперь слушай и отвечай, – перебил он меня, нервно теребя свой сельдерей между ног. – Маргаритки. Это тебе о чем-нибудь говорит? – Как вы сказали, сударь? – Маргаритки. – Если желаете, в погребе есть высушенные маргаритки для настойки. Вам нездоровится? Он выдохнул и возвел глаза к небу. – Веди себя так, будто я тебе ничего не говорил. У меня тебе один наказ: если станут расспрашивать обо мне, ты ничего не знаешь, ясно? – При этом он так сжал мои руки, что чуть не покалечил их. Я испуганно глядел на него. – Ну, понял? – нетерпеливо спросил он. – Как? Тебе этого недостаточно? Не понимая смысла его последнего вопроса, я решил, что он спятил. Я высвободился из его цепких рук и опрометью бросился вверх по лестнице, он же попытался снова схватить меня. Когда я вынырнул из темноты, в столовой звучала все та же восхитительная и берущая за душу мелодия. Но я не стал задерживаться и пронесся мимо, одним махом преодолев ступени, ведущие на второй этаж. Нападение стекольщика так меня напугало, что я все еще не разжимал кулаков, отчего и не замечал, что там что-то было. Когда же я разжал их, то увидел на ладони три маленькие сверкающие жемчужины. Я сунул их в карман и поплелся в комнату усопшего. Несколько постояльцев были заняты печальным делом. Кристофано, Пеллегрино и в отсутствие волонтеров помоложе Дульчибени с Атто Мелани переносили тело, завернутое в белую простыню, служившую саваном. Аббат был без парика и свинцовых белил на лице. Меня очень удивило его светское платье – штаны из тафты и рубашка с кисейным галстуком, – слишком изысканное для столь печального случая. Только огненно-красные чулки свидетельствовали о его сане. Тело уложили в продолговатую корзину, днище которой было выстлано одеялами. Сверху водрузили узел с пожитками, собранный заботами Дульчибени. – Это все, что у него было? – спросил Мелани, заметив, что дворянин из Фермо положил туда только одежду. Кристофано ответил, что этого достаточно, остальное Дульчибени может оставить себе с тем, чтобы позже передать родным. С помощью толстой веревки они переправили корзину за окно и опустили на мостовую, где уже дожидались представители братства «Отходная молитва и Смерть». – А что с ним сделают, сударь? – обратился я к Кристофано. – Верно, сожгут? – Нас это теперь не касается. Мы же не имели возможности похоронить его, – чуть отдышавшись, отвечал он. Тут послышалось легкое позвякивание. Кристофано нагнулся. – Ты что-то потерял… что у тебя в руке? Одна жемчужина выпала у меня и покатилась по полу. Доктор поднял ее и поднес к глазам. – Великолепный жемчуг. Откуда он у тебя? – Один из постояльцев отдал мне его на хранение, – соврал я. Пеллегрино как раз покидал комнату. Вид у него был утомленный и вялый. Вышел и Атто. – Не стоит расставаться с жемчугом, а особенно при нынешних обстоятельствах. – Почему? – Среди прочих свойств жемчуга – способность предохранять от яда. – Как это возможно? – бледнея, спросил я. – Да так. Жемчужины ведь siccae etfrigidae [1050] во второй степени, – отвечал Кристофано. – Если в них не делать дырок и хранить в горшке, habent detergentem facultatem [1051] и могут помогать при горячке и нагноении. Также они прочищают и осветляют кровь (уменьшают срок месячных), а согласно Авиценне, излечивают от cor crassatum [1052], сердцебиения и сердечных обмороков. Пока эскулап демонстрировал свои познания в области медицины, в мозгу у меня свершалась работа: дар Бреноцци что-то означает, но что именно? Нужно непременно обсудить это с аббатом Мелани, но прежде отделаться от доктора. – Черт подери! – воскликнул Кристофано, внимательно разглядывая жемчужины. – Их форма указывает на то, что их достали со дна моря в вечерний час, до полной луны. – И что же? – А то, что они лечат от ложных умозаключений. Если их растворить в уксусе, излечивают от omni imbecillitate et animi deliquio [1053], а еще от летаргического сна. Вновь завладев своим сокровищем, я распрощался с Кристофано и поспешил к Атто Мелани. Его комната располагалась на третьем этаже, прямо над комнатой, которую занимали Муре и Дульчибени. Это были два самых просторных и светлых помещения на нашем постоялом дворе, и в каждом было по три окна – два выходили на Орсо, а одно – в переулок. Во времена прежней хозяйки в них останавливались важные господа со своими слугами. На четвертом и последнем этаже, который мы именовали чердачным, была точно такая же комната. Прежде там жила хозяйка, а теперь мы с моим хозяином делили ее, несмотря на запрет Кристофано. Увы, с этой привилегией мне предстояло расстаться тотчас по возвращении г-жи Пеллегрино, которая пожелала сохранить за собой весь этаж и потому наверняка сошлет меня на кухню. Войдя к аббату, я прежде всего был поражен, сколько там было книг и бумаг всякого рода. Аббат был явно любителем древностей и красот Рима, во всяком случае, если судить по названиям томов, чинно стоящих на полке. Я только мельком взглянул на них, позже мне предстояло поближе познакомиться с ними. Вот названия некоторых из них: «Великолепие античного и современного Рима, с его главными храмами, театрами, амфитеатрами, аренами, водоемами для морских сражений, триумфальными арками, обелисками, дворцами, банями, куриями и базиликами» Лаури, «Chemnicensis Roma» Фабрициуса и «Древности Рима, собрание, составленное из описаний как древних, так и современных авторов» Андреа Палладио. По стенам его комнаты было развешано девять больших географических карт, снабженных указками из индийского тростника с позолоченными набалдашниками. Когда я вошел, Мелани держал в руках стопу рукописных страниц. Он пригласил меня сесть. – Я как раз собирался поговорить с тобой. Скажи-ка, у тебя есть знакомые? Друзья? Люди, которым ты доверяешь? – Думаю… э-э… нет. Можно сказать, никого, господин аббат Мелани. – Зови меня господином Атто. Жаль. Хотелось узнать, что говорят о нашем положении. На тебя была моя последняя надежда. Подойдя к окну, он принялся напевать:* * *
Я поостерегся расспрашивать Мелани, отчего его рассказ содержал в себе столько неприязни по отношению к Кольберу, а не к Мазарини, также тесно связанному с Кольбером. Ответ был мне заранее известен, поскольку я слышал, как Девизе, Кристофано и Стилоне Приазо обсуждали тот факт, что кардинал принял участие в судьбе молодого Атто Мелани. Зато задал другой вопрос: – А водили ли дружбу Кольбер и Фуке? – Они свели знакомство в то время, когда разразилась Фронда, и первое время были не разлей вода, – поколебавшись, отвечал аббат. – В смуту Фуке вел себя как лучший из подданных, и Кольбер заискивал перед ним, оказывал услуги, когда тот стал прокурором кассационного суда, судебной палаты и государственного контроля, да и после, когда к этой должности он добавил другую. Но срок этой дружбы был недолог. Кольбер не мог вынести того, что звезда Фуке воссияла так высоко и ясно в небе. Как простить белке ее известность, богатство, обаяние, то, что у нее так спорится дело, такой скорый ум (тогда как змея вымучивала каждую хоть сколько-нибудь удачную мысль), и наконец, его роскошную библиотеку, которой змея по своей необразованности и воспользоваться-то не смогла бы? Змея превратилась в паука и принялась плести сеть. Результаты происков Кольбера не замедлили сказаться. Для начала он влил по капле отраву недоверия в мозг Мазарини, а затем и короля. Королевство только-только оправлялось от десятилетней войны и всевозможных бед и не составляло труда подделать бумаги, чтобы обвинить суперинтенданта финансов в обогащении за счет государя и казны. – А Фуке был очень богат? – Вовсе нет, но должен был выглядеть таким по государственным соображениям: для него это был единственный способ получать новые займы и удовлетворять настоятельные требования со стороны Мазарини. Кардинал – вот тот был богат. Хотя король ознакомился с его завещанием незадолго до его смерти и не нашел, что возразить. Однако не это было важно для Кольбера, – пояснил Атто. – Как только кардинала не стало, возник вопрос: кто займет его место. Фуке прославил королевство, украсил его, день и ночь стараясь удовлетворять все новые и новые запросы короля, и потому не без основания считалось, что эта должность должна по праву оставаться за ним. Однако когда у короля спросили, кто наследник Мазарини, он ответил: «C'est moi»[1070]. Лишь один герой первого плана имел право на существование – сам государь. Фуке же был создан из слишком тонкой материи, чтобы удовольствоваться второстепенной ролью. Чего не скажешь о Кольбере – тот, предназначенный природой на роль льстеца, жаждал власти, всерьез относился к собственной персоне, копируя в этом короля, отчего и не совершал никогда неверных шагов. Людовик угодил в западню. – Так, значит, Фуке поплатился из-за ревности не короля, а Кольбера? – Верно. Во время процесса по делу Фуке змея покрыла себя позором: подкуп судейских, подложные документы, угрозы и шантаж. Лафонтен героически защищал Фуке, Корнель выступил с речью в его защиту, друзья посылали королю бесстрашные письма, на его стороне были многие представительницы дворянского сословия, в народе он снискал репутацию героя. Один Мольер трусливо промолчал. – А вы? – Меня не было в Париже, я мало что мог. Но теперь оставь меня и отправляйся по своим делам. Слышу, как постояльцы спускаются к ужину, и не хочу привлекать внимание похитителя: пусть себе думает, что никто ни о чем не догадывается и все идет своим чередом. Был уже довольно поздний час, постояльцы заждались ужина, пришлось раздать им то, что осталось от обеда, добавив яйца и немного белого салата. Нечего и говорить, я был лишь учеником повара и не мог идти ни в какое сравнение со своим хозяином, в чем они уже начали убеждаться. За ужином не произошло ничего примечательного. Бреноцци с его личиком херувима продолжал щипать свой рапунцель между ног, лекарь невозмутимо поглаживал бородку. Стилоне Приазо с его густыми и черными бровями, как всегда, производил множество непроизвольных жестов:тер горбинку носа, чистил ногти, тряс рукой, как делают, чтобы спустился рукав, высвобождал шею из слишком тесного воротника, проводил ладонями по скулам. Девизе, как обычно, шумно принимал пищу, так что чуть ли не заглушал словоохотливого Бедфорда, пытающегося разговорить Дульчибени, бесстрастно внимающего всему, и отца Робледу, поддакивающего одними глазами. Аббат Мелани поглощал пищу молча, время от времени поднимая глаза от тарелки. Дважды, одолеваемый чихом, он поднимался из-за стола и подносил к носу кружевной платок. Когда ужин подходил к концу и постояльцы собирались разбрестись по своим комнатам, Стилоне Приазо напомнил лекарю о его обещании просветить нас относительно надежд на благополучный исход карантина. Кристофано не заставил просить себя дважды. И стал держать перед нами весьма ученую речь, в которой, опираясь на многие примеры из античных и современных авторов, объяснил, как происходит заражение чумой: – Те, кто полагает, что первая причина, по которой возникает чума, – божественная воля и что нет лучшего лекарства от нее как молитва, знайте: чума проистекает из порчи четырех элементов – воздуха, воды, огня и земли, миазмы которых проникают в человека через нос и рот, ведь как иначе может чума проникнуть в тело? Летом, как в нашем с вами случае, речь идет о порче огня или природной жаре: болезнь сопровождается горячкой, головной болью и всеми теми симптомами, которые я назвал вам у одра Пеллегрино. Покойник тотчас же чернеет и пышет жаром. Дабы избежать этого, требуется надрезать созревшие бубоны и наложить на раны пластыри. Зимой, напротив, есть риск подцепить чуму, происходящую от порчи земли, порождающую ганглии, схожие с туберкулами, которые в холодное время года таятся в недрах земли. Необходимо дать им вызреть с помощью наложения горячих мазей. Весной и осенью, когда воды стоят ближе к поверхности земли и наполняют до краев водоемы, чума проистекает из порчи воды, причиной чего порой становятся небесные светила и планеты, порождающие водяные ганглии, которые, лопнув, тут же проходят. Лечение заключается в том, чтобы извлечь ядовитую студенистую жидкость с помощью очищения, сиропов и бальзамов. Как бы то ни было, дурной воздух всегда более всего повинен в распространении чумы. Воздух проникает повсюду, ибо поп datur vacuum in natura [1071]. Оттого-то рекомендуется помещать на улицах факелы. Пламя очищает золото, серебро, железо, с его помощью плавят металл, обжигают камни, а прочие вещества подвергают варению, подогреву и высушиванию. Пламя очищает воздух от вредоносности. Этот метод прежде всего показан в городах, больше подверженных порче, чем сельская местность, хорошо продуваемая и не столь загрязненная. – Значит, нет худшего места, чем то, где мы находимся, в самом центре города, – с ужасом произнес я. – Увы. Согласно моим скромным познаниям, – весьма уверенно начал Кристофано, – пагубный воздух, царящий в иных городах, таких как Рим, главным образом возникает при сокращении в них населения. Посудите сами, Рим, этот святой город, в античные времена владыка всего мира, был наполнен лучшей, менее тлетворной атмосферой, ведь Рим одерживал победы и вбирал в себя выходцев со всего света. Сегодня в этом опустевшем городе воздух испорчен. То же и в Террачине, и в Романа Черветро, и в Неттуно, городе у воды, то же и в бухте Неаполитанского королевства, и в Авернии, и в Дигнано, и в большом городе Комо – последние некогда особенно прославились, а их население достигало невероятных размеров. Ныне эти города стоят в руинах, и в них распространился такой гибельный воздух, что никто уже не может там жить. А вот Неаполь и Трапани, в которых прежде нельзя было проживать из-за дурной атмосферы, заново наполнились превосходным воздухом, с тех пор как стали процветать и содержаться в отменном состоянии. На пустырях ведь произрастают ядовитые травы, водятся вредные животные, переносящие заразу. Словом, нелишне было бы принять кое-какие меры и в Риме, даже если последняя эпидемия случилась в 1656 году, более двадцати семи лет назад. Если речь и впрямь идет о чуме, то поздравляю вас, именно мы имели несчастье на сей раз распахнуть перед ней двери. Некоторое время после этих слов в столовой царило гробовое молчание, все обдумывали блестящую речь Кристофано. Первым пришел в себя Атто: – Как она передается? – С помощью запахов, facillime. Но также с помощью ворсистых вещей, таких, как одеяла и меха, и потому их следует сжигать. Некоторые авторы считают, что смертоносные атомы вцепляются в ворсинки, чтобы позднее отпасть, – с само собой разумеющимся видом отвечал Кристофано. – В таком случае одежда господина Пеллегрино содержит заразу, – прошептал я в приступе панического страха. – Если быть более точным, – слегка меняя тон на менее безапелляционный, – я не совсем уверен, что это так. В сущности, никому не ведомо, как распространяется эта болезнь. Я знавал одного палермского аптекаря, восьмидесятисемилетнего Джаннуккьо Спатафоро, человека большой учености и опыта, так вот он утверждал, что эпидемии чумы, осаждающие город, непостижимы: в Палермо чудный воздух, город недоступен ветрам из Остро и сирокко, которые чрезвычайно вредят здоровью и растительности, понижают урожайность, раздувают людей, порождая в них нечто вроде нескончаемой лихорадки, которая буквально косит их. И несмотря на это, чума, свирепствовавшая в Палермо, вела себя такой злодейкой, что набрасывалась на людей, и они, испытав головокружение, замертво падали. Трупы делались черными и горячими. – Словом, никому не ведомо, как распространяется чума, – подвел итог Атто. – Могу сказать, что многие эпидемии разразились после того, как зараза заносилась из других областей. Так, последняя эпидемия, поразившая Рим менее трех десятков лет назад, – родом из Неаполя, ее завез один безграмотный рыбак. Мой отец, который был проведитором, ответственным за здоровье во время великой чумы в Прато в 1630 году, и который лечил больных чумой, многие годы спустя поведал мне, что природа этой болезни загадочна и что античным целителям так и не удалось распознать ее. – И был прав, – сурово и резко, как отрезал, изрек Помпео Дульчибени, чем немало удивил нас. – Одно умнейшее духовное лицо, одновременно человек ученый, указало путь, по которому следует идти. Увы, его не послушали. – Духовное лицо, ученый… Позвольте, позвольте – уж не отец ли это Атаназиус Кирхер[1072]? – высказал предположение Кристофано. Дульчибени удержался от каких-либо слов в ответ, подтвердив этим правильность догадки, а затем отчеканил: – Aerem, acquam, terram innumerabilibus insectis scatere, adeo certum est. – Он говорит: земля, воздух и вода кишат крошечными существами, невидимыми невооруженным глазом, – перевел для нас Кристофано. – Так вот, – продолжал Дульчибени, – эти крошечные существа порождаются разлагающимися организмами, но разглядеть их удалось лишь после изобретения микроскопа, значит… – Этот немецкий иезуит, кажется, столь известен, – перебил его Кристофано с легким презрением в голосе, – что господин Дульчибени цитирует его по памяти. Мне имя Кирхера не говорило ни о чем. Однако оно, должно быть, и впрямь было известно: заслышав его, присутствующие закачали головами в знак того, что это так. – И все же идеям Кирхера пока еще не удалось заслонить собой идей великих авторов трудов по медицине, которые… – гнул свое наш эскулап. – Учение Кирхера, возможно, имеет право на существование, но лишь ощущение может составлять прочную базу для наших познаний. На сей раз в беседу вступил Бедфорд. Молодой англичанин, накануне от ужаса потерявший дар речи, вроде бы немного оправился. – Одна и та же причина в различных случаях приводит к противоположным последствиям. Разве не верно, что кипящая вода делает яйцо вареным и твердым, а мясо размягчает? – продолжал он. – Мне прекрасно известно, кто распространяет софизмы, – едко заметил Кристофано. – Локк[1073] и его друг Сиденхем[1074], которые, возможно, досконально разбираются в ощущениях и уме, но практикуют в Лондоне, не являясь врачами! – И что ж из того? Ими движет лишь одно: врачевать, а не пичкать пациентов болтовней, как делают иные, – парировал Бедфорд. – Двадцать лет назад, когда чума косила по двадцать тысяч душ в день в Неаполе, неаполитанские врачи и аптекари наведывались в Лондон, чтобы торговать своими тайными формулами от чумы. Как вам это нравится? Подвешивали на грудь бумажки со знаком иезуитов I.H.S.[1075], начертанном внутри креста. А то еще лучше: торговали табличками, которые следовало носить на шее, с надписью: ABRACADABRA ABRACADABR ABRACADAB ABRACADA ABRACAD ABRACA ABRAC ABRA ABR АВ А Пригладив свои рыжие вихры и нацелившись на присутствующих (за исключением моей персоны, которую он ни во что не ставил) своими косыми глазками цвета морской волны, англичанин встал и оперся о стену, заговорив более миролюбиво. Оказалось, он был свидетелем того, как шарлатаны оклеили весь город объявлениями, в которых людям предлагалось приобретать «безотказные пилюли», «несравненные микстуры», «королевские противоядия» и «универсальную воду» от чумы. – Когда же они не обманывали людей, предлагая им всю эту несуразицу, то предлагали снадобья, приготовленные на основе меркурия, которые отравляли кровь и убивали быстрее чумы. Последнее высказывание подействовало на Кристофано подобно фитилю, и диспут вспыхнул с новой силой. К обсуждению присоединился и отец Робледа. Для начала пробормотав нечто нечленораздельное, иезуит вступился за своего собрата, отца Кирхера. Завязавшийся спор спровоцировал недостойную свару, в ходе которой каждая из трех сторон пыталась навязать собственные доводы в большей степени силой голосовых связок, нежели разума. Впервые в жизни довелось мне, бедному ученику, присутствовать при битве умов. Однако я был весьма удивлен и разочарован теми формами, которые она приняла. И все же мне посчастливилось извлечь из горячего обмена мнениями начатки знаний об учении загадочного Кирхера, способного в ком угодно пробудить любопытство. За полвека неустанных исследований этот выдающийся иезуит распространил свое многообразное по форме учение с помощью трех десятков трудов по различным отраслям знания, в том числе и одного трактата о чуме «Scmtinium phisico-medicum contagiosae luis quae pestis dicitur», опубликованного двадцать пять лет назад. В нем утверждалось, что автор с помощью микроскопа сделал ряд крупных открытий, которые могут не вызвать у читателей доверия (так и случилось), но которые доказывают существование крошечных невидимых существ, являющихся причиной чумы. Согласно Робледе, научное открытие Кирхера опиралось на способности автора сродни ясновидению или на некое вдохновение, посланное ему свыше. «А если этот отец Кирхер, наделенный необычным даром, и впрямь способен исцелять от чумы?» – подумал я, но ввиду накалившейся обстановки не осмелился задать вопрос. Все это время аббат Мелани не менее внимательно, чем я, если не более, слушал все, что касалось отца Кирхера. Вынужденный то и дело потирать нос, дабы подавить чиханье, сам он в разговор не вмешивался, но его глазки-буравчики так и перебегали с одного спорящего на другого. О себе же могу сказать: я был, с одной стороны, в ужасе от угрожающего характера болезни, а с другой стороны – заворожен всеми этими теориями о происхождении чумы, о существовании которых дотоле мне не приходилось слышать. Вот отчего тот факт, что Дульчибени был так хорошо осве-домлен о полузабытой теории Кирхера, не заронил во мне никакого подозрения, а следовало бы. Не заметил я и того, что, заслыша имя Кирхера, Атто весь обратился в слух. После нескольких часов, в продолжение которых дебаты не утихали, постояльцы, лишенные иных развлечений, стали расходиться по своим комнатам. Вскоре всем нам пришлось лечь спать, без надежды на замирение сторон.Вторая ночь С 12 НА 13 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Оказавшись в своей комнате, я свесился из окна и с помощью палки спустил к окну Атто конец веревки, которую мы договорились использовать в случае тревоги. Оставив дверь приоткрытой, я вытянулся на постели и чутко прислушивался к звукам, хотя и опасался, что сон сморит меня. Внутренне я готовил себя к долгому бодрствованию, ведь на моем попечении был так и не опамятовавшийся Пеллегрино, приглядывать за которым я обязался перед Кристофано. Напихав в его штаны старых тряпок, дабы они впитывали естественные выделения его тела, я стал бдеть. Рассказ аббата Мелани меня отчасти обнадежил. Я узнал о дружеских отношениях, связывавших его с Фуке, о том, почему тот впал в немилость: зависть Кольбера явно была в том более повинна, чем разочарование, испытанное Наихристианнейшим королем у него в гостях. Кому не известна злокозненная сила зависти? Однако не были ли следствием того же чувства и суждения Девизе, Приазо и Кристофано об аббате? Столь головокружительное восхождение сына простого звонаря к роли советчика короля-Солнца не могло не породить недобрых поползновений в людях, знавших Атто. По всей видимости, все трое были прекрасно осведомлены о нем и их речи не являлись плодом воображения. Правда, враждебность Кристофано могла иметь под собой и иные основания, ведь он был земляком Атто, а как известно, пето propheta in patria [1076]. А как относиться ко лжи Девизе? К тому, что он побывал якобы в театре Кокомеро в Венеции, тогда как на самом деле этот театр находится во Флоренции? Не стоит ли и его опасаться? Что ни говори, а рассказ Атто был не только правдоподобным, но и грандиозным и захватывающим. Я ощутил в душе горькое раскаяние при мысли, что принял Атто за каналью, лжеца и предателя. Это я предал чувство дружбы, возникшее в нашу первую встречу с ним и тогда расцененное мною как подлинное и настоящее. Я бросил взгляд на своего хозяина: казалось, его одолел тяжелый морок, от которого он никак не очнется. Тайн было непочатый край. Что довело до крайности моего хозяина? Отчего умер г-н де Муре? Что побудило Бреноцци подарить мне дорогие жемчужины, и отчего их у меня украли? Мой ум все еще был во власти этих и подобных им мыслей, когда я открыл глаза: оказывается, я все же задремал. А проснулся оттого, что услышал какой-то звук: то ли скрип, то ли скрежет. Я вскочил, но неведомая сила тут же уложила меня на пол. Хорошо еще, что не ударился. Ба! Да ведь моя правая щиколотка привязана к щиколотке аббата Мелани, а я и забыл! А когда резко встал, веревка натянулась, я и упал, да еще с таким грохотом, от которого даже Пеллегрино застонал. Ох и рассердился же я на себя! В довершение всего вокруг было темно как в преисподней, не иначе как в лампе кончилось масло. Я прислушался: из коридора не доносилось теперь ни звука. Нащупав край постели, я вскочил на ноги и тут снова услышал скрежещущий звук, затем глухой удар и металлическое звяканье. Сердце бешено забилось: это он, похититель моих сокровищ. Я выпростал ногу из веревки, стал шарить по столу в поисках лампы, отчего-то не нашел ее и, умирая от страха, решился на поимку злоумышленника. Однако, очутившись в кромешной тьме коридора, растерялся: как взяться за дело? Как поступить, если придется столкнуться с неведомым злодеем, – броситься на него, позвать на помощь? Не без труда одолел я ступени, ведущие к чулану, размахивая перед лицом руками – то ли чтобы защитить себя, то ли чтобы не налететь на кого-то. И в эту минуту получил удар по физиономии страшной силы. Кто-то заехал мне по носу. Душа ушла в пятки; пытаясь увернуться от следующего удара, я вжался в стену и закричал. Каково же было мое изумление, когда я убедился, что из моего рта не доносится ни единого звука. Видно, панический страх сковал все мои внутренности и глотку. Когда же, замычав, что телец на заклании, я готов был броситься на пол, чтобы ползком улепетнуть от преследования, чья-то рука вцепилась мне в плечо, и я услышал: – Что ты делаешь, дурачок? Сомнений быть не могло: Атто прибежал, стоило натянуться веревке, когда я резко встал, разбуженный странными звуками. Я объяснил ему, что случилось, жалуясь на удар, который он мне нанес. – Да не ударял я тебя. Я мчался на помощь, а ты, скатываясь по ступеням, налетел на меня, – пояснил он. – Где похититель? – Но, кроме вас, я никого не застал, – прошептал я, не переставая трястись от страха. – Поднимаясь, я слышал, как он гремел ключами. Не иначе как он в чулане, – предположил он, засвечивая лампу, которую догадался прихватить с собой. С нашего места нам была видна полоса света под дверью Стилоне Приазо на третьем этаже. Аббат попросил меня говорить тише и указал на дверь чулана, где, как он полагал, укрылся злоумышленник. Дверь была приоткрыта, внутри темно. Затаив дыхание, мы переглянулись. Тот, кто переполошил нас, должен быть там и знать, что угодил в ловушку. Прежде чем взяться за дверь и открыть ее, аббат несколько мгновений колебался. Но вот мы вошли: внутри никого не было. – Невероятно, – выдохнул Мелани, явно разочарованный. – Если б он бросился вниз по лестнице, то налетел бы на меня. Если предположить, что он успел спуститься сверху до того, как ты ступил на лестницу, тоже не получается: дверь, ведущая из башни Клоридии на крышу, запечатана снаружи. Если б он вошел в одну из комнат, мы наверняка услышали бы, в какую. Мы не знали, что и думать, и уже положили разойтись восвояси, когда Атто сделал мне знак замереть на месте, а сам спустился на один лестничный пролет, до третьего этажа. Я проследил взглядом за его масляной лампой – он задержался у окна, выходящего во внутренний двор. Поставив лампу на пол, он перегнулся через раму окна и некоторое время оставался в таком положении, что-то высматривая. Не понимая, что могло так заинтересовать его во дворе, я тоже подошел к зарешеченному окошку, через которое днем в чулан проникал свет. Но оно располагалось слишком высоко для меня и единственное, что я увидел, было темное небо. Вернувшись в чулан, аббат нагнулся и принялся измерять пол, для чего ему пришлось даже подлезть под полки с утварью. Некоторое время он раздумывал, а затем повторил измерение, на этот раз приняв во внимание толщину стен. Рассчитав расстояние, отделявшее окошко чулана от внешней стены, он определил ширину оконного проема. После чего отряхнул руки, ни слова не говоря схватил меня, поставил на табурет перед оконной решеткой, водрузил мне на голову лампу и погрозил пальцем: – Держи хорошенько и не двигайся! Было слышно, как он на ощупь спустился вновь к окну на площадке третьего этажа. Мне не терпелось узнать, что пришло ему в голову, и тоже принять участие в разгадывании загадки исчезновения похитителя. – Следи за ходом моих размышлений, – велел он, вернувшись. – Длина чулана чуть более восьми пядей, он невелик. Прибавив толщину стен, получим около десяти пядей. Со двора видно, что небольшое крыло, в котором находится этот чулан, возведено позже, чем само здание. Извне оно представляет собой как бы мощный пилястр, идущий от основания до крыши и пристроенный к задней части западной стены «Оруженосца». Однако что-то здесь не так: пилястр вдвое шире чулана. Когда я выглянул из окна пролета третьего этажа, я увидел, что окошко чулана, освещенное лампой, стоящей у тебя на голове, весьма удалено от внешней стены. Аббат умолк, давая мне возможность самому прийти к какому-нибудь заключению. Но я ни бельмеса не понял в том, что услышал, слишком уж много всего обрушилось на мою бедную голову – и удар, и арифметические расчеты. – К чему было терять столько пространства? – продолжал он, видя, что ждать от меня озарений не приходится. – Почему было не сделать чулан попросторнее? Нам тут и вдвоем-то тесно. Я, в свою очередь, спустился на площадку третьего этажа, с наслаждением вдыхая вольный воздух, вливающийся в открытое окно. И от изумления разинул рот. Так и есть: свет масляной лампы, проникающий из зарешеченного окна чулана наружу был удален от внешней стены, ясно вырисовывавшейся в лунном свете. Дотоле я никогда не обращал на это внимания, слишком занятый днем и слишком усталый в ночное время, чтобы позволить себе праздно торчать у окна. – А знаешь, как это объясняется, мой мальчик? – спросил аббат, стоило мне вернуться в чулан. И, не дождавшись ответа, просунул руку между полками с утварью, жадно ощупывая стену, на которой они висели. Пыхтя, он попросил меня подсобить ему передвинуть кое-что из мебели. Это было не таким уж сложным делом. Когда же нашим глазам предстали контуры двери, сколоченной из досок и закопченной от грязи, аббат, сдается мне, ничуть не удивился. – Ну, что я говорил! – довольно крякнул он и без страха толкнул обветшалую дверь, которая заскрипела на петлях. Первое, что я ощутил, было дуновение влажного и холодного воздуха. Под нами зиял черный провал. – Вот куда он, оказывается, делся, – промолвил я. – Я тоже так думаю, – с недоверием поводя носом, отозвался аббат. – Проклятый чулан не без двойного дна. Пойдешь первым? Ответом ему было мое красноречивое молчание. – Что ж, все всегда приходится брать на себя, – потрясая лампой и готовясь переступить порог, проворчал Атто. Не успел он окончить фразы, как уже повис в черной дыре, Ухватившись за ветхую дверь. – На помощь, скорее! Мелани чуть не свалился в колодец, что могло закончиться весьма плачевно. Только благодаря невероятному проворству удалось ему ухватиться за дверь и повиснуть на ней над черной бездонной дырой. Когда же с моей помощью он выкарабкался, случилось новое несчастье – из рук аббата выскользнула и улетела в темное жерло лампа. Что было делать? Не оставаться же в кромешной тьме. Я отправился за лампой в свою комнату, которую предусмотрительно запер на ключ. Пеллегрино спокойно похрапывал, на свое счастье не догадываясь, что творится в его заведении. Атто едва дождался моего возвращения, горя нетерпением спуститься в колодец. Для своих лет он проявил поразительную ловкость. Мне еще предстояло удостовериться, какой силой духа, лишь временами прорывающейся наружу, он обладает. Собственно, этот разверзшийся под нами провал не был колодцем, в чем мы незамедлительно убедились, осветив его лампой. В его каменные стены было вделано несколько металлических скоб, которые можно было использовать как ступени. Не без опаски спустились мы по ним и очень скоро достигли дна – выложенной кирпичом площадки. Перво-наперво оглядевшись, мы обнаружили, что с этой площадки берет начало спуск под землю в виде каменной, с широкими ступенями лестницы. Склонившись над ней, мы попробовали определить, как далеко она ведет. – Мы все еще находимся под чуланом, мой мальчик, – обнадежил меня мой спутник. Я подал голос, но он больше напоминал писк: я был бы рад воспрянуть духом, но что-то не получалось. Мы молча двинулись вперед. Спуску не было видно конца, стены, ступени, свод – все покрывал тонкий налет грязи, что делало наше продвижение вперед рискованным. Потом лестница изменилась: вырубленная в известковом туфе, она стала очень узкой и опасной. Мы тяжело дышали – верный признак того, что находились под землей. Вскоре мы оказались у входа в мрачную и враждебно пахнувшую на нас галерею, прорытую во влажной почве. Нашими единственными спутниками были гнетущая тишина и спертый воздух. Сердце захолонуло от страха. – Вот куда провалился наш похититель, – пробурчал себе под нос Мелани. – Отчего вы говорите так тихо? – А вдруг он где-то поблизости. Я хочу схватить его, а не самому попасть в его лапы. Но ни поблизости, ни дальше мы никого не встретили. Идя по галерее, аббату приходилось пригибать голову из-за низкого и неровного потолка, если его можно было так назвать. Глядя на то, как легко я вышагиваю впереди него, он бросил: – Впервые завидую тебе, мой мальчик. Идти было неудобно из-за попадавшихся под ноги камней и кирпичей. На протяжении тех нескольких десятков канн, которые мы миновали, аббат не переставал удовлетворять мое любопытство. – Этот ход был сооружен для того, чтобы можно было тайно добраться до отдаленных уголков города. – Не во время ли эпидемий чумы? – Думаю, задолго до них. Подобные ходы всегда полезны в городе. Возможно, он послужил какому-нибудь римскому патрицию для неожиданного нападения на противника. Римские рода всегда ненавидели друг друга и бились не на жизнь, а на смерть. Когда ландскнехты разорили Рим[1077], некоторые княжеские рода помогли им добить поверженный город, чтобы разделаться с соперниками. В начале наш постоялый двор был притоном для убийц и разбойников, содержавшимся на средства Орсини, которым в округе принадлежали многие здания. – А кто проделал этот ход? – Взгляни на стены. – Аббат поднес лампу к стене. – Они из камня и, судя по кладке, очень древние. – Такие же древние, как катакомбы? – Отчего бы и нет. Мне известно, что в последние десятилетия один ученый священнослужитель исследовал подземный Рим и обнаружил и зарисовал множество могил, останков святых и мучеников. Вне всяких сомнений, под зданиями и площадями иных кварталов проложены подземные галереи, относящиеся частично к временам древнего Рима, а частично и к более поздним временам. Пока мы шли узкими галереями, аббат не отказался от своей страсти к повествованию, несмотря на то что ни время, ни место к тому не располагали. Своим мелодичным голосом он поведал мне, что с незапамятных времен в Италии в изобилии имеются тайные ходы, проделанные в скалах или земле, задуманные для того, чтобы можно было выбраться из осажденного города, или для того, чтобы служить местом встреч для членов тайных обществ, заговорщиков и даже любовных свиданий, таких, например, как свидания Лукреции Борджии и ее брата Чезаре с их многочисленными возлюбленными. Следовало massime [1078] опасаться потайных галерей, ибо залогом их безопасности было соблюдение тайны, которая порой стоила жизни тем, кто был с ней знаком; кроме того, они были напичканы ловушками: чтобы обмануть чужаков, делались дополнительные ходы, не имевшие выходов, заградительные приспособления, управляемые скрытыми механизмами. – Мне рассказывали об одном подземном механизме, который император Фридрих велел прорыть на Сицилии, так вот, в его галереях имеются скрытые в стенах рычаги, при нажатии на которые с потолка падают металлические решетки, образуя клетки, из которых не выбраться, или выкидываются из невидимых гнезд тонкие лезвия, или вдруг под ногами разверзаются глубокие колодцы. Существуют довольно-таки четкие планы некоторых катакомб. Подземелье под Неаполем насчитывает несметное количество ходов, но их я не знаю, а вот парижские мне посещать приходилось, те очень протяженные. В прошлом веке сотни пьемонтских солдат, преследуемых французскими солдатами в местечке Ровазенда, были вынуждены прятаться в пещерах у реки. Рассказывают, будто бы никто так никогда и не вышел наружу – ни преследователи, ни их жертвы. – Мэтр Пеллегрино никогда не рассказывал мне об этом подземном ходе. – Надо думать. О таких вещах без особой нужды не говорят. Да и потом, он может и не знать о нем, ведь он недавно стал управляющим. – Но как же в таком случае похититель обнаружил ход? – Очень может быть, твой добрый хозяин не устоял перед предложенным ему вознаграждением. Или перед партией мускатного вина, – рассмеялся аббат. По мере нашего продвижения меня мало-помалу охватывало неприятное ощущение в груди и голове – не то удушья, не то гнета. Путь, на который мы ступили, вел неизвестно куда и таил в себе опасности. Кромешная тьма, которую лишь слегка разгонял свет масляной лампы, поднятой аббатом на уровень лба, была пугающей и зловещей. По причине извилистости хода мы не могли видеть, что впереди, и всякую минуту были готовы столкнуться с чем-то неожиданным и неприятным. А что, если заметив издали свет нашей лампы, злодей поджидал нас за первым же выступом? Я с дрожью вспомнил те западни в подземельях, о которых услышал от аббата. И ведь никто никогда не отыщет наши тела, постояльцы подумают, что мы с аббатом удрали ночью через окно, да еще и сбиров в том убедят. И посейчас мне трудно сказать, сколько длилась та наша ночная прогулка. Однако в какой-то момент мы заметили, что тропа, все время шедшая вниз, стала медленно подниматься. – Ну вот, возможно, теперь мы куда-нибудь и выйдем, – проговорил Мелани. У меня разболелись ноги, да и промозглая сырость стала уж очень досаждать. Мы уже давно перестали обсуждать что-либо, желая одного – поскорее узнать, куда же ведет этот подземный ход. Меня мороз продрал по коже, когда аббат, вскрикнув, покачнулся и чуть не грохнулся наземь: ведь если что-нибудь случится с нашей лампой – единственным источником света в этом жутком месте, наше пребывание в нем превратится в кошмарный сон. Я бросился к нему. Раздосадованный тем, что чуть было не совершил непоправимой оплошности, Мелани с облегчением вздохнул и осветил встретившееся на его пути препятствие: каменные ступени, столь же крутые, сколь и узкие. Мы чуть не ползком вскарабкались по ним, страшась опрокинуться назад. Во время этого, если можно так выразиться, восхождения из-за множества поворотов, которые делала лестница, Атто пришлось сложиться в три погибели. Мне было куда как легче. Оглянувшись, Атто бросил: «Как я тебе завидую, мой мальчик», не подумав о том, что мне это могло быть неприятно. Мы знатно перемазались в грязи, по нашим лицам текли омерзительные струйки пота. И вдруг аббат как завопит. Какое-то бесформенное и юркое существо вспрыгнуло мне на спину, неловко скатилось по моей правой ноге и кануло во мрак. В ужасе стал я отбиваться, защищая голову руками, готовый молить о пощаде и вступить в бой. Поняв, что опасность, если таковая вообще существовала, миновала, Атто сказал: – Странно, что мы до сих пор с ними не повстречались. Вот уж поистине мы вдали от исхоженных троп. Побеспокоенная нашим появлением огромная водяная крыса предпочла скорее перелезть через нас, чем отклониться со своего пути. В своем безумном порыве вперед она уцепилась за руку, которой аббат опирался на стену, и всем своим весом прыгнула мне на спину, преисполнив меня ужасом. Мы остановились перевести дух. Постояв молча, двинулись дальше. Вскоре ступени стали чередоваться с площадками, выложенными обломками кирпичей, которые становились все шире. К счастью, в лампе было достаточно масла: к тому же идя вразрез с настойчивыми пожеланиями камерлингов[1079], я заправлял лампы только лучшим маслом. Тропа кончилась, теперь мы поднимались по пологому склону, не затрачивая уже прежних усилий и не испытывая страха. Как вдруг вышли к мощеной площадке правильной четырехугольной формы, отличавшейся от тех, что попадались нам раньше, и походившей то ли на амбар, то ли на складское помещение какого-нибудь дворца. – Ну вот мы и снова среди людей! – воскликнул аббат. Еще одна крутая лестница, но уже с веревочными перилами, укрепленными в стене железными кольцами, вела наверх. Мы поднялись по ней. – Тьфу ты пропасть! – вырвалось у аббата. Я тотчас понял, что он имел в виду. Как и следовало ожидать, лестница оканчивалась дверью. Очень крепкой и закрытой. Нам ничего не оставалось, как передохнуть и пораскинуть мозгами, несмотря на неприветливость места. Деревянная дверь была закрыта на заржавленный засов. Судя по доносящемуся из-за нее шуму ветра, она вела в город. – Ну что ж, теперь твоя очередь объяснять, – проговорил, усаживаясь на ступени, аббат. – Дверь закрыта изнутри. Стало быть, похититель не покидал подземелье, – пытался я рассуждать. – Но поскольку мы не встретились с ним по дороге, а никаких иных поперечных дорог нам не встретилось, можно сделать вывод, что он отправился другим путем. – Недурно. Так куда же он делся? – Не исключено, что он и не спускался в колодец, – выдвинул я предположение, в которое и сам не верил. – Гм! – буркнул Атто. – В таком случае, где бы он мог быть? С этими словами он сбежал по ступням и обошел замощенную площадку. В одном углу гнила старая барка, что подтверждало мою догадку: мы неподалеку от берега Тибра. Не без труда справившись с засовом, я открыл дверь. Слабый лунный свет освещал тропинку. Ниже текла река. Подо мной был обрыв. Я инстинктивно отпрянул. Свежий влажный воздух проник в подземелье, стало легче дышать. Еще одна тропа отклонялась вправо, теряясь в прибрежной илистой почве. – Если мы выйдем, нас наверняка схватят, – поспешил предупредить меня аббат. – В общем, мы зря проделали весь этот путь, – жалобно простонал я. – Вовсе нет, – бесстрастно отвечал Атто. – Теперь мы знаем, где находится выход. Мало ли чего. Напасть на след похитителя нам не удалось, что ж, значит, он пошел другим путем. Мы что-то где-то упустили по ошибке ли, по неразумению ли. А теперь вернемся, пока нас не хватились. Обратный путь был не менее тяжелым и вдвое более утомительным. Не подгоняемые охотничьим инстинктом, как по пути туда (во всяком случае, это было справедливо в отношении аббата), мы едва-едва доплелись до постоялого двора, хотя мой спутник ни за что бы в этом не сознался. С облегчением выбравшись из адского подземного хода, мы вновь оказались в чулане. Заметно разочарованный тем, что наша вылазка не дала никаких результатов, аббат отпустил меня на все четыре стороны, дав напоследок поспешные наставления на следующий день. – Если хочешь, можешь объявить завтра, что был похищен или потерян дубликат ключей. О нашем открытии, равно как и о попытке поймать вора, – молчок. Как только представится случай, поговорим обо всем в каком-нибудь укромном уголке, чтобы ничего не упустить. Я вяло согласился, падая от усталости, да и сомнения по поводу аббата у меня еще до конца не рассеялись. Когда мы возвращались, меня вновь взяло раздумье о нем, и мое отношение к нему коренным образом поменялось: все, что я услышал из чужих уст, показалось мне преувеличенным и недоброжелательным, хотя и было ясно, что в его прошлом немало темных мест; однако теперь, когда погоня за злоумышленником не дала ничего, я не был намерен служить ему ни слугой, ни осведомителем, поскольку это могло ввергнуть меня в гущу непонятных и даже гибельных дел. Если предположить, что суперинтендант Фуке и впрямь был лишь неподражаемым, в своем роде единственным покровителем искусств, как утверждал его друг, а также жертвой ревности Людовика XIV и зависти Кольбера, все же нельзя было отрицать, что я оказался в компании человека, привычного к хитростям, двойной игре и козням парижского двора. Я был наслышан о серьезных разногласиях между нашим благословенным папой Иннокентием XI и французским королем. Прежде мне было невдомек, в чем причина такого холода между Парижем и Римом. Но позже из разговоров обывателей и людей, знающих толк в политике, я понял, что преданным сторонникам понтифика не след ни при каких обстоятельствах вступать в отношения с галлами. Такие мысли роились в моей голове, пока мы, с трудом передвигая ноги в темноте, как кроты, пробирались под землей к лазу в здании «Оруженосца». Вызывала у меня подозрения и та ярость, с которой аббат кинулся преследовать похитителя. К чему было вот так очертя голову бросаться в опасное предприятие вместо того, чтобы дождаться, как будут дальше развиваться события, и тотчас объявить постояльцам, что украдены ключи. А что, если аббату известно больше того, что он мне поведал? Может, он уже знал, где были спрятаны ключи? А не вор ли он сам? А что, если он отвлекал мое внимание, чтобы иметь возможность действовать не спеша, возможно даже в эту самую минуту, после того как мы с ним расстались? Мой горячо любимый хозяин – и тот скрыл от меня существование подземного хода. С чего бы тогда совершенно постороннему человеку, каким был для меня аббат Мелани, открыться мне? Не слишком определенно пообещав аббату исполнять его наказы, я постарался поскорее отделаться от него, забрав свою лампу и поспешив к себе, решительно настроенный записать в дневник события этого дня. Пеллегрино сладко спал, ровно посапывая во сне. Больше двух часов истекло с момента нашего спуска в подземный ход, будь он неладен, столько же оставалось и до рассвета. Силы мои были на исходе. По чистой случайности я бросил взгляд на штаны своего хозяина перед тем, как потушить свет, и что же я увидел! Ключи были на своем месте, на самом виду.День третий 13 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Благотворные лучи солнца заливали комнату чистым светом, в котором каким-то особенно страдальческим представало выражение лица Пеллегрино. Отворилась дверь, и показалась сияющая физиономия аббата Мелани. – Пора спускаться, мой мальчик. – Где все? – В кухне, слушают, как Девизе играет на горне. Надо же, а я и не знал, что Девизе столь разнообразно одарен, к тому же меня поразило, что мощный звук медного инструмента не достигал чердачного помещения. – Куда мы идем? – Надобно снова туда спуститься, ночью мы были недостаточно внимательны. Вновь оказавшись в чулане, я открыл дверь за полками, в лицо тут же пахнуло влажным воздухом. Помимо воли я шагнул вперед, осветив спуск в колодец. – Почему бы не дождаться ночи? Постояльцы могут переполошиться, – слабо возразил я. Оставив мой вопрос без ответа, аббат вынул из кармана перстень и положил мне его в ладонь, старательно загнув мои пальцы, словно для того, чтобы подчеркнуть важность своего дара. Я кивнул и стал спускаться. В ту самую минуту, когда мы достигли мощенного кирпичом дна колодца, я вздрогнул. В темноте на мое правое плечо легла чья-то рука. Ужас сковал меня, лишив способности кричать или двигаться. Аббат просил меня сохранять спокойствие. Справившись с собой, я обернулся и увидел лицо третьего персонажа. – Не забудь о почитании усопших. Г-н Пеллегрино со страдальческим выражением лица напутствовал меня. У меня не было слов, чтобы выразить охватившее меня смятение. Но кто же был тот, кого я оставил спящим? Как могло случиться, что Пеллегрино перенесся из нашей солнечной комнаты в это мрачное подземелье? Пока я ломал голову, Пеллегрино заговорил снова: – Дайте мне больше света. И тут я почувствовал, что падаю: кирпичи были скользкими, я, видно, потерял равновесие. Во всяком случае, только это и пришло мне в голову, когда я обернулся к Пеллегрино. Я медленно брякнулся ногами вверх, к небу, которое оттуда казалось несуществующим вовсе. Чудом не встретив никаких препятствий, проехался на спине, при этом у меня возникло ощущение, что весу во мне больше, чем в глыбе вулканического туфа. Последнее, что предстало перед моими глазами, – это Атто и Пеллегрино, флегматично взирающие на мое исчезновение с таким видом, словно для них все едино – что жить, что умирать. Я летел как падший ангел, наконец осознающий предначертанное ему проклятие, и меня накрыло волной отчаяния. Спас меня вопль, доносящийся как будто из неведомых глубин мироздания, – я вырвался из цепких объятий кошмарного сна. Я кричал во сне. А проснувшись, увидел, что лежу в своей собственной постели, повернувшись лицом к своему хозяину, который и не думал никуда уходить. В окна вливался не яркий солнечный свет, который мне привиделся, а розовато-голубоватый, предвещающий зарю. Я продрог от колкого предрассветного воздуха и натянул на себя одеяло, уже зная, что уснуть снова мне будет нелегко. С лестницы доносился звук шагов, я стал прислушиваться – не приближается ли кто к чулану. Но потом понял, что это постояльцы, как обычно, спускаются вниз. Вот голос Стилоне Приазо, а это – отца Робледы, он справлялся о состоянии здоровья Пеллегрино у Кристофано. Предвидя, что скоро пожалует лекарь, я встал. Но первый в дверь постучал Бедфорд. Открыв ему, я поразился, до чего бледным и измученным было его лицо, с залегшими под глазами тенями. На плечи было наброшено что-то теплое. Его трясло, ему не удавалось справиться с ознобом. Он попросил впустить его, видимо, не желая попадаться на глаза другим обитателям «Оруженосца». Я предложил ему воды и пилюли, розданные Кристофано. Он решительно отклонил их, заявив, что иные пилюли способны свести в могилу. Этот ответ застал меня врасплох, но я все же продолжал настаивать. – Скажу тебе больше, – голос чуть было не изменил ему, – опиум и очищение от мокроты может вызвать смерть. Не забывай, негры закладывают себе под ногти яд, который убивает, коли есть хоть одна царапина. Не считая гремучих змей, да-да, я даже где-то вычитал о пауке, который выпустил на нападавшего яд такой силы, что тот надолго лишился зрения… Я перестал что-либо понимать. По всей видимости, у него начался бред. – Но Кристофано не станет прибегать к столь сильнодействующим средствам, – только и мог я выдавить из себя. – …эти субстанции действуют посредством оккультной силы, – продолжал он, словно не слыша меня, – а оккультная сила – не что иное, как зеркало нашего невежества. Я еще обратил внимание, что ноги у него подкашивались и что ему пришлось опереться о дверной косяк, чтобы держаться на них. От него исходило впечатление невменяемого человека. Сев на постель, он грустно улыбнулся. – Помет высушивает роговую оболочку, – провозгласил он вдруг, подняв палец, словно для острастки непослушных учеников. – Если носить на шее крестовник, излечишься от трехдневной лихорадки. А чтобы справиться с припадком истерии, следует наложить на ступни соляные повязки. А вообще чтобы обучиться искусству врачевания, надобно читать не Гальена или Парацельса, а «Дон Кихота». И передай это нашему лекарю, когда увидишь его. С этими словами он улегся на мою постель, закрыл глаза, скрестил руки на груди и перестал двигаться, только еще сотрясался от мелкой дрожи. Я бросился на лестницу за подмогой. Здоровенный бубон в паху и еще один, чуть меньше, под мышкой: увы, теперь уже сомнений быть не могло, речь шла о чуме, и это бросало зловещий отсвет и на смерть г-на де Муре, и на странное оцепенение, в которое впал мой благодетель. У меня уже ум стал заходить за разум от невеселых дум: действует ли среди нас ловкий убийца или это все же чума? Новость о болезни Бедфорда повергла всех в глубочайшее уныние. До следующей переклички оставался всего день. Я обратил внимание, что некоторые постояльцы стали меня избегать: конечно, ведь я общался сБедфордом, когда его настигла болезнь. В «Оруженосце» вновь воцарилась подозрительность. Кристофано не преминул отметить, что еще вчера мы все вместе ели-пили, болтали, а кое-кто и перебрасывался с англичанином в карты. И потому никто не мог чувствовать себя в полной безопасности. Я был единственным – видимо, в силу доброй дозы юношеского безрассудства, – кто не поддался тотчас страху. Самые боязливые же, а именно отец Робледа и Стилоне Приазо, бросились на кухню за теми немногими съестными припасами, которые я достал из кладовки, а затем забились в свои комнаты, как в норы. Пришлось встать на пути отца Робледы и напомнить ему, что Бедфорд также нуждается в елеопомазании. Но на сей раз ученый иезуит не пожелал внять голосу разума: – Бедфорд – англичанин, принадлежит к реформатской церкви, он отлучен, – оживившись, ответил он, добавив, что елеопомазание полагается крещеным взрослым, но отнюдь не детям, не умалишенным, не отлученным, не нераскаявшимся грешникам, равно как и не воинам на поле битвы и не тем, кому грозит кораблекрушение. Тут на меня накинулся и Стилоне Приазо: – Неужто ты не знаешь, что освященное масло ускоряет смерть, способствует выпадению волос, делает роды более болезненными, награждает новорожденных желтухой и убивает пчел, которые кружат вокруг дома больного. А что те, над кем это таинство свершилось, умрут, если пустятся в пляс до окончания текущего года? Что они должны очень долго ждать, прежде чем снова вымыть ноги? Что грешно прясть в помещении, где лежит больной, ибо он погибнет, если оставить это занятие или если порвется нить? Что он умрет, если не оставить в его комнате до конца болезни зажженной свечи? На этом они оставили меня в покое и разбрелись по своим комнатам. Полчаса спустя я зашел в комнату на втором этаже, куда перенесли Бедфорда, чтобы взглянуть, как он. Сначала я подумал, что Кристофано с ним, поскольку несчастный англичанин с кем-то разговаривал. Но оказалось, он один и бредит. Без кровинки в лице, с прилипшей ко лбу прядью потных волос, с потрескавшимися губами, он метался в жару. – В башне… в башне, – бормотал он, истомленно взирая на меня. В общем, нес всякую чепуху, без какой-либо видимой причины перечислял имена незнакомых мне людей, которые запечатлелись в моей памяти оттого, что он по нескольку раз произносил их, и они были единственными, что различил мой слух из его речи на родном языке. Особенно часто мелькало имя некоего Вильгельма, вроде бы уроженца города Оранжа, судя по всему, одного из его друзей. Перепугавшись, как бы ему не стало совсем худо и дело не кончилось печальным исходом, я бросился за Кристофано. Но он уже сам входил в комнату, а за ним, держась чуть поодаль, Бреноцци и Девизе. В эту минуту Бедфорд продолжал нести галиматью, на сей раз упоминая какого-то Карла, который оказался не кем иным, как королем Англии Карлом II, как о том догадался Бреноцци. Этим венецианец подтвердил, что неплохо владеет английским языком. Во всяком случае, ему удалось понять, что недавно Бедфорд побывал в Соединенных провинциях[1080]. – А зачем он туда ездил? – поинтересовался я. – Вот уж не знаю, – ответил Бреноцци, сделав мне знак молчать, чтобы не пропустить ничего из бреда больного. – А вы неплохо владеете английским, – заметил лекарь. – Один дальний кузен из Лондона часто пишет мне, излагая семейные обстоятельства. Да и память у меня цепкая, я много разъезжал по коммерческим делам. Смотрите-ка, ему вроде полегчало. Больной притих. Кристофано знаками предложил нам всем выйти в коридор. Там собралось большинство наших постояльцев, которым не терпелось узнать новости. Выйдя, Кристофано без обиняков заявил: события развиваются так неудержимо, что ему приходится усомниться в своей способности справиться со всеми свалившимися на нас бедами. Сперва необъяснимая гибель г-на де Муре, затем несчастье, приключившееся с мэтром Пеллегрино, которого никак не удается вывести из беспамятства, и, наконец, чума – в этом не приходится сомневаться, поразившая Бедфорда… Все это ввергло нашего тосканского эскулапа в полное смятение. Перепуганные, бледные, мы несколько долгих минут прямо смотрели в глаза друг другу. Кое-кто из нас тут же предался отчаянию, другие тихо разошлись по комнатам. А кто-то накинулся на лекаря, требуя успокоить их страхи. Были и такие, что пали на пол, стеная и закрыв лицо руками. Кристофано же поспешил в свою комнату, заперся на ключ, прося нас оставить его на некоторое время в покое, дабы он мог спокойно почитать кое-какие труды и поразмыслить. Этим своим шагом он, казалось, в большей степени хотел обезопасить себя от всех нас, чем подстрекать к бунту. Наше вынужденное сидение взаперти из комедии превращалось в трагедию. Аббат Мелани со смертельно бледным лицом также присутствовал при сцене всеобщего отчаяния. Но более других был подавлен я. Заливаясь безутешными слезами, я мысленно обращался к своему попечителю: «На кого ты нас оставил, во что превратилось твое любимое детище „Оруженосец“, кладбище, Да и только». Мне уже чудились душераздирающие сцены, которые последуют за приездом его жены, когда она своими глазами узреет дела жестокого рока, не пощадившего никого и ничего. Так я сидел перед комнатой Кристофано и горько-горько плакал, закрыв лицо руками. Там меня и нашел аббат. Погладив меня по голове, он пропел мне на ухо: Я плачу, плачу и вздыхаю, Ничто меня не развлечет… Убедившись, что ему меня не утешить, как ни старайся, он поднял меня и прислонил к стене. – Я не желаю вас слушать, – простонал я. И повторил ему слова Кристофано, к которым добавил, что нам, возможно, предстоят жестокие страдания не далее чем через несколько дней или даже часов, достаточно взглянуть на Бедфорда. Аббат сгреб меня в охапку и потащил в свою комнату. Но ничто на свете не могло вернуть моей душе утерянного ею покоя. Аббату пришлось даже ударить меня по щеке, чтобы привести в чувство. Мало-помалу я затих. Атто дружески обнял меня за плечи и стал терпеливо убеждать не поддаваться унынию. Главное, говорил он, повторить ловкий трюк, позволивший нам скрыть, в каком состоянии находится Пеллегрино. Обнаружить присутствие среди нас больного чумой (на сей раз настоящего) – значит способствовать усилению контроля за нами со стороны властей, самим обречь себя на изоляцию на каком-нибудь острове, да хоть на Сан-Бартоломео, где тремя десятками лет ранее во время большой чумы обустроили лазарет. Да и потом, у нас есть запасной выход, тот, что мы обнаружили прошлой ночью. Ускользнуть от погони в подобных обстоятельствах конечно нелегко, но все же такая возможность есть, и в случае, ежели события примут малоприятный оборот, можно отважиться и на это. Когда я почти совсем успокоился, аббат еще раз изложил мне, что мы имеем на сегодняшний день: если Муре был отравлен, атак называемые бубоны Пеллегрино были не более чем кровоподтеками, а проще говоря, синяками, в данный момент у нас лишь один заболевший чумой – Бедфорд. В дверь постучали: Кристофано объявил общий сбор на первом этаже ввиду какого-то срочного дела. Когда мы спустились, все уже стояли под лестницей, держась на некотором расстоянии друг от друга. Девизе пристроился в уголке и своим тревожным божественным рондо слегка развеивал всеобщее напряжение. – Скончался ли молодой английский джентльмен? – поинтересовался Бреиоцци, как всегда, занятый пощипыванием своей сурепки. Кристофано отрицательно мотнул головой и пригласил всех занять места. Его насупленный вид погасил последнюю ноту, вырвавшуюся из-под виртуозных пальцев француза. Я прошел на кухню и вступил в решительный бой с немытыми кастрюлями и печами, с тем, чтобы приготовить ужин. Когда все расселись, лекарь открыл свой сундучок, вынул оттуда чистый лоскут, тщательно отер лицо (как всегда, перед тем как произнести речь) и откашлялся. – Почтенные господа, прежде всего позвольте мне извиниться за желание уединиться незадолго перед этим. Мне было необходимо обдумать наше положение. Так вот, я пришел к выводу, – среди присутствующих установилась такая тишина, что слышно было, как жужжит муха, – пришел к выводу, – повторил он, смяв лоскут в комочек, – что если мы не хотим помереть, то должны заживо похоронить себя. – И пояснил: – Кончилось время, когда мы могли свободно расхаживать по «Оруженосцу», как будто ничего не происходит. Пора с этим покончить, скажем «нет» приятным беседам друг с другом, которые мы вели, невзирая на мои предостережения. До сих пор судьба была почти милостива по отношению к нам, и злоключения, жертвой которых пали престарелый господин де Муре и уважаемый мэтр Пеллегрино, ничего общего не имеют с чумой. Однако с этого дня все осложнилось, и чума, вотще поминаемая нами прежде, теперь и вправду объявилась в «Оруженосце». Считать, кто сколько минут провел рядом с бедным Бедфордом, ни к чему: это лишь посеет недоверие в наших рядах. Единственная надежда на спасение – в добровольном заточении в комнатах, чтобы не дышать одним воздухом, не соприкасаться друг с другом, etcetera etcetera. Далее. Следует умащивать себя маслами и очищающими бальзамами, которые я берусь взбить, собираться вместе лишь на переклички, одна из которых, кстати, намечена на завтрашнее утро. – Господи Иисусе! – взвился вдруг отец Робледа. – Неужто согласимся принять смерть взаперти, рядом с собственными нечистотами? Если позволите, – иезуит сбавил тон, – я слышал, что мой собрат Диего Гузман де Заморра чудесным образом уберег иезуитов-миссионеров и себя самого в Перпиньянскую чуму в Каталонском королевстве с помощью весьма приятного на вкус превосходного белого вина, потребляемого без ограничений когда захочется. В этом вине была растворена драхма купороса и полдрахмы белого ясенца. Кроме того, он заставлял братьев натираться скорпионьим маслом и хорошо питаться. Никто не заболел. Не стоит ли и нам использовать этот remedium [1081], прежде нежели заживо замуровать себя? Пока Робледа говорил, аббат Мелани, чье расследование требовало активных действий и никак не согласовывалось с каким бы то ни было заточением, энергично тряс головой в его поддержку. – Да-да, я тоже знаю, что отменное белое вино является прекрасным средством против чумы и воспалений, даже если водка и мальвазия еще лучше. Водка, которую мэтр Ансельмо Ригуччи весьма успешно применил в Пистойе для предохранения ее жителей от чумы, прославилась. Мой отец рассказывал мне и моим братьям, что епископы, в течение веков чередовавшиеся в приходе, в большом количестве потребляли ее, и не только для лечения. Речь шла о пяти фунтах водки, настоянной на целебных травах, которые на сутки оставляли в соборе в плотно закрытом сосуде. Затем к ней добавляли шесть фунтов отборной мальвазии. Получался первоклассный ликер, которым Его Высокопреосвященство епископ Пистойи потчевал себя каждое утро – по две унции натощак за главным алтарем, заедая одной унцией меда. Иезуит красноречиво прищелкнул языком, а Кристофано со скептической миной качал головой и пытался взять слово. Но Дульчибени опередил его: – Мне кажется неоспоримым тот факт, что подобные средства способны добавить веселья, но чтобы с их помощью можно было добиться чего-то большего… Я и сам знавал один вкуснейший электуарий, изобретенный Лудовико Джилио да Кремоной во время Ломбардской чумы. Он представлял собой некий состав, четыре драхмы которого следовало намазывать на горячий хлеб по утрам натощак: розоватый мед, капля уксусно-кисловатого сиропа, мухомор, выжимки из песьей смерти, болотный молочай и шафран. Правда, все погибли, а если Джилио и выжил, то лишь благодаря своим собственным внутренним ресурсам, – мрачно закончил уроженец Марша, давая понять, что у нас шансов выжить гораздо меньше. – Это напоминает желудочное средство крепительного свойства, так расхваленное Тиберио Гариотто да Фаэнцей. Прихоть кондитера да и только: светло-розовый сахар, ароматизированная водка, корица, шафран, сандал, красные кораллы, все это смешать с четырьмя унциями сока цедры и дать настояться в течение четырнадцати часов. Затем продлить кипящего, пенящегося меду и добавить для запаха мускус. Сам-то он умер от насильственной смерти. Послушайте меня, у нас нет иного выбора, как тот, о котором я говорил выше… Девизе не дал ему закончить: – Господин Помпео и наш лекарь правы. Джован Гутиеро, лекарь Карла II Французского, считал, что вкусное не способно очищать организм. И тем не менее составил электуарий, который следовало бы опробовать. Вы только задумайтесь, в благодарность за эту лекарственную кашку король наградил его имением в Лотарингском герцогстве, дающим немалый доход. Гутиеро подмешивал в электуарий такие приятные на вкус добавки, как вареный пенящийся мед, два десятка орехов и полтора десятка фиг, а также большое количество руты, абсента, печатной глины и каменной соли: принимать по пол-унции утром и вечером, запивая унцией крепчайшего белого уксуса. Тут же завязалась оживленная дискуссия между сторонниками приятного на вкус лечения во главе с Робледой и их противниками. Я слушал их и, несмотря на серьезность переживаемого нами момента, забавлялся, отмечая про себя, что, судя по всему, у каждого из наших постояльцев была в запасе пара Рецептов против чумы. И лишь Кристофано скептически качал головой. – Да испробуйте хоть все ваши рецепты, только не обращайтесь ко мне, когда заболеете! – Нельзя ли нам ограничиться частичным замуровыванием себя? – робко поинтересовался Бреноцци. – В 1556 году во время чумы можно было спокойно разгуливать по Венеции при одном условии – держать в руках пахучие шарики, до которых додумался философ и поэт Джироламо Рушелли. Да и то верно, не в пример желудку нос наслаждается запахами, даже если вокруг зараза. Левантский мускус, горная мята, гвоздика, мускатный орех, лаванда и росной ладан – из этой смеси Рушелли изготавливал шарики величиной с орех в кожуре, которые следовало носить при себе в разгар эпидемии днем и ночью. О, это было верное средство, но при условии ни на секунду не выпускать шарики из рук. Не знаю, скольким это удалось. Тут терпение Кристофано лопнуло, он встал и с нотками металла в голосе заявил, что ему мало дела до того, как мы относимся к его наказу, однако это единственный способ избежать повального заболевания, и если мы от него откажемся, он сам запрется у себя в комнате, где будет принимать пищу, которую попросит доставлять ему, и выйдет оттуда только после того, как узнает, что все остальные поумирали, чего не придется долго ждать. В столовой установилась гробовая тишина, в которой Кристофано изрек, что если мы решим следовать его предписаниям, ему одному будет позволено свободно передвигаться по постоялому двору, лечить больных и регулярно осматривать прочих. Ему понадобится помощник, который будет следить за питанием и гигиеной присутствующих, а также, согласно его указаниям, втирать им защитные мази и бальзамы. Он не осмеливается просить одного из нас подвергать себя подобному риску, но нам очень повезло, поскольку среди нас имеется кое-кто, – в этот момент я вошел в столовую, – кто весьма устойчив к заболеваниям, ему это, мол, доподлинно известно из его долгой врачебной практики. Все выпялились на меня, Кристофано схватил меня за руку. – Особое физическое строение этого юноши делает его, как и всех ему подобных, устойчивым к заболеванию чумой, – провозгласил сиенский эскулап. На лицах присутствующих появилось изумление. Кристофано перечислил случаи, имеющие отношение к тому, как переносят убогие люди эпидемию. Случаи эти он почерпнул из трудов самых крупных авторитетов в области медицины. Mirabilia[1082]свершались одно за другим и доказывали, что живое существо моего типа могло даже позволить себе отсасывать гной из нарыва и не почувствовать ничего, кроме легкого покалывания в желудке (такой случай отмечался во время эпидемии черной чумы тремя веками ранее). – Фортунио Личето сравнивает их поразительные свойства со свойствами моноподов, кинокефалов, сатиров, циклопов, тритонов и сирен. Согласно разрядам, определенным отцом Гаспаром Скоттом, чем более пропорциональны конечности этих существ, тем больше у них шансов спастись от чумы. Так вот, все мы видим, что этот юноша в своем роде довольно неплохо сложен: крепкие плечи, прямые ноги, правильные черты лица, здоровые зубы. Судьбе было угодно занести его в разряд mediocres[1083]ему подобных, а не несчастных minores[1084]или, Боже упаси, горемычных minimi[1085]. И потому мы можем быть покойны. Согласно Нирембергиусу, он один из тех, кто рождается с зубами, волосами и гениталиями взрослых особей. В семь лет они уже бородаты, в десять наделены огромной силой и в состоянии давать потомство. Джованни Эузебио утверждает, что ему попадался экземпляр, который уже в четыре года обладал весьма импозантной шевелюрой и бородой. Не говоря уж о легендарном Попобаве с его непомерно развитыми срамными частями, нападавшим на спящих крупных мужских особей небольшого африканского острова и жестоко насиловавшего их, так что те после безуспешного сопротивления оставались калеками. Первым в стан эскулапа из Сиены переметнулся задрожавший всем телом и покрывшийся потом отец Робледа. Отсутствие иного выхода, столь же серьезно обоснованного, вкупе со страхом потерять заботу Кристофано заставили и прочих согласиться с его предложением сидеть по своим комнатам. Один аббат Мелани молчал, словно воды в рот набрал.* * *
Собравшиеся стали было расходиться, но Кристофано задержал всех, сказав, что можно получить в кухне горячую пищу и поджаренный хлеб. Мне он велел разбавить вино водой, дабы оно легче впитывалось стенками желудков постояльцев. Я отдавал себе отчет, как бы всем хотелось, чтобы в подобных печальных обстоятельствах пищу готовил сам мэтр Пеллегрино. Но теперь все было на мне одном, и, несмотря на мои потуги угодить, приходилось довольствоваться тем, что мне удавалось сварганить из размягченных бобов и того, что еще оставалось в старом дощатом шкафу в кухне. К богатым запасам двухуровневых закомар я не притрагивался. Обычно я готовил блюдо из фруктов, овощей и грошового хлеба, который нам передавали вместе с водой, и меня утешало, что я не расходую провизию, запасенную хозяином, хотя понемногу содержимое кладовых все же истощалось из-за того, что Кристофано то и дело черпал там материал для своих электуариев, бальзамов, притираний, пластырей, эликсиров, лечебных шариков и лепешек. Вечером этого дня, для того чтобы хоть как-то помочь постояльцам перенести невзгоды, я все же изощрился и приготовил суп со сваренными на пару яйцами и луговым горошком, а к супу подал фаршированные рулетики из хлеба и соленые сардины, порубленные с травами и изюмом, а кроме того, корни цикория, сваренные в сусле и уксусе. И все это я сдобрил щепоткой корицы, подумав, что эта пряность, ценимая на вес золота, которую могут себе позволить только богачи, приятно поразит нёбо и улучшит настроение едоков. – Осторожно, не обожгитесь! – с улыбкой предупредил я Дульчибени и отца Робледу, которые с каменными лицами разглядывали корни цикория. Увы, благодарности, как и изменения к лучшему, в их настроении не последовало. Мысль о том, что какое-то особенное строение моего тела могло, судя по словам Кристофано, являться защитой от эпидемии, впервые в жизни сопровождалось пьянящим ум и сердце чувством сродни гордости. И если некоторые из перечисленных эскулапом деталей и озадачили меня (в возрасте семи лет я отнюдь не был бородат, как и не родился с зубами и гигантскими причиндалами), я вдруг ощутил свое превосходство над обычными смертными. Снова и снова обдумывая решение, принятое Кристофано относительно меня, я думал: «Ну да, могло ли быть иначе? Теперь все зависят от меня. Вот отчего он так легко позволил мне оставаться в одной комнате с хозяином, хотя тот и был при смерти!» Хорошее настроение вернулось ко мне, но я все же старался не выставлять его напоказ.ТРИЖДЫ ПОСТУЧУ В ДВЕРЬ – БУДЬ НАГОТОВЕ.
Третья ночь С 13 НА 14 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Прошел час с тех пор, как Кристофано закончил осматривать моего хозяина, я был у себя и писал в своем дневнике, а когда раздался стук в дверь, спрятал его под тюфяк. – Капля масла, – загадочно проговорил аббат, чуть только вошел. И тут я вспомнил, что, когда мы виделись в последний раз, он заметил у меня на лбу каплю масла, вытер ее пальцем и попробовал на вкус. – Скажи-ка, какое масло ты заливаешь в лампы и фонари? – Камерлинги рекомендуют употреблять для этих целей только масло с осадком, которое… – Я тебя не спрашиваю, кто что рекомендует, а что ты заливаешь в лампы, пока твой хозяин, – он указал на Пеллегрино, – находится в забытьи. – Аббат Мелани не удержался от лукавой улыбки. – Ну а теперь не лги. Сколько всего у тебя фонарей? – Сперва было три, один мы разбили, когда спускались в подземный ход. Осталось два, причем один неисправен… – Что ж, возьми исправный и следуй за мной. И захвати вот это. Он указал мне на удочку, стоящую в углу комнаты, с которой г-н Пеллегрино ходил в редкие свободные часы рыбачить на берег Тибра за церковь Санта-Мария-ин-Постерула. Через некоторое время мы уже спускались в подземелье. Железные скобы в стене, кирпичное основание, каменные ступени – все как в предыдущую ночь, – даже слой грязи повсюду, стоило углубиться в галерею, проделанную в известняковом туфе. Только дышалось на этот раз труднее. И вот наконец сам подземный ход, такой же мрачный, как и накануне, когда мы его обнаружили. Аббат, судя по всему, разгадал мои мысли, потому как проронил: – Наконец-то ты узнаешь, что задумал этот странный аббат Мелани. С этими словами он остановился. – Дай-ка мне удочку. Положив ее на колено, он резким движением переломил ее пополам и, не дав мне и слова вымолвить, сказал: – Не беспокойся. Доложишь об этом своему хозяину, он поймет, что дело не требовало отлагательства. А теперь делай, что я скажу. И пропустил меня вперед, сам же понес половинку удочки в вертикальном положении, ведя ее концом по своду, словно пером по бумаге. Так мы прошли несколько десятков канн. Аббат все время задавал мне странные вопросы. – Масло с осадком, оно что, какое-то особенное на вкус? – Я бы не смог описать его, – отвечал я, хотя прекрасно знал этот вкус, поскольку мне доводилось украдкой поливать им ломоть хлеба, когда ужин был очень уж несытным. Разумеется, я делал это тайком, когда г-н Пеллегрино спал. – И все же какой он: прогорклый, горький, кислый? – Наверно… думаю, да. – Ясно. Через несколько метров аббат велел мне остановиться. – Пришли! Я в замешательстве смотрел на него. – Так ты еще не понял? – На его губах появилась усмешка. – Может, это тебе поможет. Он вырвал у меня из рук удочку и с силой ткнул ее в свод. Раздался скрип петель, ужасающий грохот, а затем шуршание посыпавшихся сверху камешков и комочков земли. И тут я увидел нечто, отчего кровь застыла у меня в жилах: толстая черная змея бросилась на меня, желая задушить, но отчего-то повисла, так и не оторвавшись от свода. Я невольно отскочил в сторону, весь сжавшись от ужаса, а аббат разразился хохотом. – Подойди и подними фонарь, – с победным выражением лица проговорил он. В своде зияла дыра, по ширине почти равная диаметру подземного хода, и оттуда свешивалась толстая веревка. Она-то и напугала меня, будучи выброшенной вниз при открытии люка. – Ты перепугался при том, что опасности никакой не было. За это тебе полагается небольшое наказание: поднимешься первым и подсобишь мне. К счастью, мне не составило труда подняться наверх, ухватившись за веревку и вскарабкавшись с ее помощью по стене. После этого я помог Мелани, которому пришлось пустить в ход все свои силы. Дважды он чуть не уронил на землю наш единственный фонарь. Мы оказались посередине другого, верхнего туннеля, который, судя по всему, шел в ином направлении, вкось по сравнению с нижним. – Тебе решать: вправо или влево? Я стал вяло отнекиваться, никак еще не придя в себя после пережитого ужаса. «Было бы неплохо узнать, как Мелани догадался», – мелькнуло в голове. – Ладно, тогда выбор за мной. Итак, налево. Мне было известно – и я подтвердил это аббату Мелани, – что растительное масло с осадком отличается худшим вкусом по сравнению с тем, на котором готовят пищу. Капля, замеченная аббатом на моем лбу наутро после нашего первого спуска в подземный ход (когда я спал, она каким-то чудом умудрилась не быть стертой с него), не могла, судя по ее вкусу, иметь отношение к Фонарям нашего постоялого двора, которые я заправлял хорошим маслом. Не принадлежала она и к числу того, что включалось Кристофано в его снадобья. Она была неизвестного происхождения и каким-то загадочным образом попала на мой лоб. С присущей ему догадливостью аббат рассудил, что в своде подземного туннеля имелось отверстие. Через него вор и ускользнул от нас, а нам показалось – растворился в воздухе. – Масло, оказавшееся у тебя на лбу, вытекло из его фонаря и просочилось в щель крышки люка. – А при чем тут удочка? – Если люк существовал, он должен был быть надежно спрятан. А удочки сделаны из такого материала, который очень чувствителен ко всякого рода неровностям, вот я и подумал, что мы непременно услышим, как изменится звук, когда удочка с каменного свода перейдет на деревянный. Так и произошло. Я был втайне признателен аббату за то, что заслугу этого открытия он приписал нам обоим. – Механизм открытия люка и поднятия в него очень прост. Веревка, так напугавшая тебя, просто лежит на крышке люка, когда он закрыт. Когда люк открывают, толкая его крышку вверх, веревка падает. Однако для того чтобы всегда иметь возможность воспользоваться ею, очень важно точно так же уложить ее, закрывая на обратном пути люк. – Так вы считаете, что похититель скрылся в этом, верхнем туннеле? – Я могу лишь предполагать это, как и то, что туннель куда-то ведет. – И вы также вот предполагали, что с помощью удочки мы отыщем люк? – Предполагать – это полдела, главное, чтобы фортуна была на твоей стороне, – важно изрек аббат. И двинулся вперед, освещая себе фонарем путь. В этом туннеле, как и в нижнем, который мы покинули, человеку среднего роста приходилось идти слегка наклонившись из-за низкого свода. Он был, как и предыдущий, выложен ромбовидным кирпичом. Первый отрезок пути представлял собой длинную прямую, которая плавно шла под уклон. – Если похититель пошел этой дорогой, сил ему не занимать. Подтянуться на веревке не так-то просто, а здесь еще и ноги скользят, – подметил аббат. Вдруг нас обоих обуял страх. Послышались легкие, но очень отчетливые шаги, они становились все ближе, но понять, откуда они доносились, было невозможно. Атто сильно сжал мне плечо, заставив остановиться в знак того, что тут нужна предельная осторожность. В эту минуту раздался грохот, подобный тому, которым сопровождался подъем крышки люка. Чуть только переведя дух, мы взглянули друг на друга полными испуга глазами. – Как думаешь, сверху или снизу? – прошептал аббат. – Скорее сверху, чем снизу. – Мне тоже так почудилось. Значит, это не крышка люка. – Сколько, по-вашему, здесь люков? – Как знать? Зря мы не продолжили обследование свода, может, наткнулись бы еще на один. Кто-то засек нас и поспешил преградить нам путь. Эхо было оглушительное, вот только откуда оно донеслось – сзади нас или спереди? – Это похититель ключей? – Ты мне задаешь вопросы, на которые я не в силах ответить. Может, ему тоже вздумалось прогуляться этой ночью? Ты случаем не следил за чуланом? Я признался, что у меня были более насущные дела. – Чудно, значит мы спустились, плохо себе представляя, мы ли кого ловим или наоборот. К тому же… – стал оскорбительным тоном выговаривать мне Мелани. – Смотри!.. Мы стояли наверху небольшой лестницы. Опустив фонарь, можно было разглядеть, что ее ступени очень аккуратно выдолблены в камне. После минутного раздумья аббат вздохнул: – Не имею ни малейшего понятия, что нас ждет там. Ступени ведут прямо вниз. А если кто-то уже знает, что мы здесь? Не так ли? – прокричал он, склонившись. Темнота ответила громогласным эхом. Я вздрогнул. Мы стали спускаться. Лестница закончилась выложенной плиткой площадкой. Судя по тому, каким эхом отзывались наши шаги, мы оказались в неком просторном подземном зале вроде грота. Аббат поднял фонарь и поводил им из стороны в сторону. В свете прорисовались две большие кирпичные арки в стене, верхняя часть которой терялась во мраке, а между ними проход, к которому мы и устремились, хотя и против своей воли, на шорох. Стоило нам остановиться, и вновь вокруг воцарялась тишина, которую нарушало лишь многократное чиханье Атто, от которого чуть было не погас огонь в лампе, служившей нам светильником. И тут я снова уловил шорох слева от нас. – Слышал? – тревожно спросил Мелани. На этот раз какое-то шуршание чуть дальше. Атто знаком велел мне застыть на месте, после чего, вместо того чтобы шагнуть в проход, зиявший перед нами, метнулся на цыпочках к правой арке, куда не достигал свет фонаря. Я держался начеку, страх продирал по коже. Вновь все затихло. Как вдруг снова шорох, все ближе, ближе и вот уже прямо у меня за спиной. Я резко обернулся. Слева от меня метнулась тень. Я бросился к Мелани, скорее ища защиты, чем желая предостеречь его. – Не-е-ет, – простонал он, чуть только свет вырвал его из темноты. Из чего я заключил, что он затаился в засаде, а я его выдал. Бесшумно пробежав несколько пядей влево, он присел на корточки. Серый силуэт подскочил и оказался между нами, пытаясь прорваться и очутиться подальше от стены с арками. – Держи его! – крикнул аббат и стремглав бросился вдогонку. Тот, кого он имел в виду, вдруг покачнулся и как будто упал. Я наугад бросился вперед, моля Бога, чтобы Атто повезло больше меня и он первым настиг его. И вот тогда-то на меня с оглушительным грохотом обрушился град из каких-то больно ударяющих предметов. Я был буквально сбит с ног и погребен под ними. Тут-то и удалось разглядеть поближе, из чего состояла вся эта вонючая мерзость, завалившая меня, которая к тому же издавала гнуснейшие звуки: скрежет, треск, скрип. Это были черепа и человеческие кости – челюсти, ключицы, ребра вперемешку с нечистотами. Я был скорее мертв, чем жив, но тут ко всем этим звукам примешался еще один – какое-то адское не то мычание, не то завывание, – разгадать природу которого у меня уже не хватало духу. Да и что-то мешало мне как следует видеть. Как я теперь понимаю, это был скелет, словно подвешенный в пустоте и взиравший на меня с угрожающим видом. Я пытался кричать, но из моей глотки не доносилось ни звука. Силы покинули меня, и в ту минуту, когда я в последнем усилии мысленно обратился к Господу с молитвой о спасении своей души, словно во сне послышался твердый голос аббата: – Довольно, я тебя вижу. Не двигайся или я стреляю. Мне показалось, что истекло немало времени (на самом деле всего несколько минут), прежде чем зычный голос вырвал меня из лап бесформенного кошмара, в который погрузился мой помутившийся рассудок. Не без тени тревоги и как бы со стороны наблюдал я за тем, как чья-то рука приподняла мою голову, пока кто-то еще (третий?) освобождал мое бедное бренное тело из-под жуткого завала. Я невольно дернулся, устраняясь от услуг неизвестного, но поскользнулся и стукнулся головой об одну из частей скелета, источающую смрад. Желудок мой перестал мне повиноваться, и весь мой ужин в два счета был выблеван. Незнакомец чертыхнулся: насколько я мог заметить, язык, на котором он изъяснялся, напоминал мой родной, итальянский. Я все еще плохо соображал, когда милосердные руки аббата Мелани подхватили меня под мышки. – Держись, мой мальчик. Он помог мне встать на ноги. В слабом свете фонаря я различил незнакомца, одетого во что-то, напоминающее монашескую рясу, и склонившегося над моими кишечными извержениями, смешавшимися с человеческими останками. – У каждого свои сокровища, – усмехнулся Атто. В руках он держал небольшое орудие, насколько я мог видеть, полированный деревянный ствол со сверкающим металлическим наконечником. Оно было направлено еще на одного персонажа, одетого так же, как первый, и сидящего на обломке то ли изваяния, то ли колонны. Приглядевшись, я был немало поражен его лицом, если вообще слово «лицо» применимо к этой симфонии кожных складок, этому концерту наростов и напластований, этому мадригалу морщин, которые были согласны меж собой лишь оттого, что очень уж замшели и утомились, чтобы восстать против принудительного сожительства. Серые недоверчивые зрачки плавали в красных белках глаз, придавая целому один из самых устрашающих видов, которые мне доводилось когда-либо лицезреть. Острые каштанового цвета резцы, достойные адских видений Мелоццо да Форли[1111], довершали картину. – Знакомься, мастера по добыванию мощей из склепов, знатоки катакомбных реликвий, виртуозы могильного промысла, – с отвращением произнес аббат. – Могли быть чуточку повнимательнее и не пугать приличных людей, – бросил он им, опустив пистолет, с помощью которого удерживал на месте одного из незнакомцев, а затем в знак добронамеренности и вовсе убрав его в карман. Пока я отряхивался, пытаясь подавить вновь подкатившую к горлу тошноту, мне представилась возможность разглядеть и второго субъекта: он как раз поднял голову. Разглядеть – громко сказано, поскольку на нем был грязный балахон с необъятными и длиннющими рукавами и капюшоном, почти полностью скрывавшим лицо. В щель, образовавшуюся между краями капюшона, было видно немногое и то лишь когда мрак слегка редел. Да так оно было и к лучшему, поскольку в результате пытливого вглядывания я различил наличие, во-первых, одного глаза, наполовину закрытого бельмом, и другого – с непомерно раздувшимся и вылезающим из орбиты глазным яблоком; во-вторых, носа, обтянутого желтоватой лоснящейся кожей и очень напоминающего огурец; и в-третьих, рта, чье местонахождение можно было установить разве что по нечленораздельным звукам, изредка оттуда доносившимся. Две крючкообразные кисти с длинными ногтями, столь же дряхлые, сколь и сильные, поочередно выступали из рукавов балахона. Аббат обернулся ко мне и перехватил мой испуганный и исполненный вопрошания взгляд. Знаком указав одному из двоих, которому страх как хотелось обрести свободу, что он может присоединиться ко второму, роющемуся в зловонной куче, аббат промолвил: – Ну не диво ли, на постоялом дворе я то и дело чихаю, тогда как здесь, среди этой грязи и пыли, чихнул всего-то раз или два – Атто тщательно отряхнул рукава и плечи и принялся пояснять мне: – Два любопытных существа, с которыми мы столкнулись, принадлежат к жалкой и, увы, пополняющей свои ряды ораве тех, кто по ночам проникает в бесчисленные римские подземелья в поисках сокровищ. Но не драгоценностей и не античных статуй, а реликвий святых и мучеников, которыми кишели некогда, да и сейчас еще катакомбы и могилы, рассеянные по всему городу. – Что-то я никак не возьму в толк, разве позволено выкапывать из могил что бы то ни было? – прервал я его. – Не только позволено, но и поощряется, – с иронией в голосе отвечал аббат. – Поселения первых христиан рассматриваются как богатая в духовном отношении почва и место охоты ut ita dicam [1112] для возвышенных душ. В свое время святой Филипп Нери[1113] и святой Карло Борромео[1114] имели обыкновение предаваться в катакомбах молитве, – напомнил мне аббат. – А в конце прошлого века один отважный иезуит, некий Антонио Бозио, забрался в самые потаенные уголки Рима и исследовал все подземелья, сделав массу открытий и описав их в книге «Roma Subterranea»[1115], принесшей ему заслуженную известность. Примерно в 1620 году папа Григорий XV постановил, что надлежит извлечь из катакомб бесценные останки святых и разместить их в храмах всего христианского мира, возложив эту священную задачу на кардинала Крещенци. Я обернулся к этим так сказать не совсем обычным представителям рода человеческого, которые колдовали над костями и черепами и издавали какие-то непристойные звуки. – Знаю, тебе представляется удивительным, что исполненная великой духовности миссия находится в руках подобных типов, – догадался Атто. – Дело в том, что спуск в катакомбы и искусственные гроты, которыми изобилует Рим, не всякому по плечу. Приходится без счету подвергаться опасности: водные препятствия, осыпи, обвалы. Не мешает также иметь крепкий желудок, чтобы рыться среди всех этих останков и отбросов. – Но речь ведь о старинных костях? – Так-то оно так. Но посуди сам – как, к примеру, повел себя ты? Наши новые знакомцы завершили осмотр некоего участка – они рассказали мне об этом, пока ты находился в беспамятстве, – перетащили все свои трофеи в одно место – катакомбы не близко, конкурентам сюда не добраться – и думали, что здесь-то точно никого не встретят. Когда мы нагрянули, они в панике бросились врассыпную, ты налетел на их заветную кучу, и она рухнула, погребя тебя под собой. Я снова взглянул на двух старателей, служащих великой цели, и присмотрелся, чем они занимались – чистили кости, соскабливая с них остатки плоти. Куча, в которую я угодил, судя по всему, первоначально намного превосходила меня по высоте. На самом деле человеческие останки, как то: черепа, длинные кости, позвонки – составляли лишь малую часть той груды, которая покрывала теперь несколько пядей подземного зала, остальное было: земля, черепки, камешки, осколки, корни, мох, тряпье, нечистоты всякого рода. То, что при пособничестве страха предстало мне чуть ли не как потоп из преисподней, могло бы поместиться в крестьянской суме. – Для подобного неблагодарного труда просто необходимы такие личности. Если их поиски окажутся неплодотворны, с них станется впарить какому-нибудь простаку всякий хлам. Да ты верно и сам видел, как на улице, да хотя бы и перед вашим заведением, торгуют ключицей святого Иоанна или челюстью святой Екатерины, а то и перьями из крыльев ангелов, и щепой от единственного креста, который нес наш Господь на Голгофу. Эта парочка и их сотоварищи как раз и являются поставщиками подобного товара. Если повезет, можно напасть и на захоронение мученика. Но всю славу присваивают себе кардиналы вроде этого старого бахвала отца Фабретти, которого Иннокентий X назначил, если мне не изменяет память, custos reliquiarum aс coemeteriorum [1116], они же объявляют о переносе мощей такого-то в испанскую церковь такую-то. – Господин аббат, где мы? – поинтересовался я, совершенно утратив чувство пространства в этих неприветливых и сумрачных местах. – Я мысленно заново прошел наш путь и расспросил этих двоих. Они называют сей грот «Архивами», поскольку накапливают здесь находки. Сообразив все, я пришел к выводу, что это руины стадиона Домициана[1117], где в эпоху Римской империи происходили морские ристалища. Чтобы как-то приободрить тебя, могу добавить, что мы находимся под площадью Навона, а именно под той ее частью, которая ближе всего подходит к Тибру. Если бы мы покрыли расстояние от «Оруженосца» до этого места по верху, нам потребовалось бы чуть более трех минут неспешной ходьбы. – Так, значит, эти руины остались от римлян? – Ну да, это римские руины. Вот, к примеру, эти арки. Ведь это не иначе как постройки стадиона, где разыгрывались морские сражения. Позже на них возвели дворцы, обрамляющие площадь Навона, оттого она и имеет форму овала. – Ту же, что была и у Цирка Массимо. – Точно. Только тогда все это было на поверхности, а теперь погребено под вековыми напластованиями. Но вот увидишь, однажды в этих местах начнутся раскопки. Не всему суждено лежать под землей мертвым грузом. Покуда аббат Мелани рассказывал о том, чего я и не чаял узнать когда-либо, я с удивлением подметил загоревшийся в его взоре огонек непобедимого влечения ко всякого рода старине и искусству, даже если в эту минуту на уме у него и было совершенно иное. Впервые я ощутил в нем эту страсть тогда, когда увидел в его комнате труды, описывающие древности и художественные сокровища Рима. Но тогда я не мог еще знать, какое немаловажное значение будет иметь в этой истории его увлечение. – Что ж, было бы любопытно вспомнитьоднажды имена наших ночных знакомцев, – немного погодя молвил аббат, обращаясь к искателям реликвий. – Меня звать Угонио, – ответил тот, что был выше ростом. Мелани перевел взгляд на его спутника. – Гр-бр-мр-фр, – донеслось из-под капюшона. – А это Джакконио, – поспешил перевести Угонио, заглушая бурчание дружка. – Он что, не умеет говорить? – удивился аббат. – Гр-бр-мр-фр, – послышалось вновь. – Понял. – Атто подавил свое нетерпение. – Сожалеем, что прервали ваше приятное времяпрепровождение. Но раз уж так вышло, не соблаговолите ли вы сказать, не проходил ли здесь кто незадолго до нас? – Гр-бр-мр-фр! – вскричал Джакконио. – Он кого-то заприметил, – перевел Угонио. – Скажи ему, что мы хотим все об этом знать, – вставил свое слово и я. – Гр-бр-мр-фр, – как заведенный твердил Джакконио. Мы уже привычно перевели взгляд на Угонио. – Джакконио спустился в ту самую галерейку, откуда изволили затем повыскочить милостивые государи, а один тип с фонарем его пронаблюдал, тогда Джакконио поворотил назад, а тот, с фонарем, воспользовался люком, как пить дать, потому как испарился, запоминай как назвали, а Джакконио, испугавшись-то, и прискакал сюда. – А что ж сам-то он не расскажет? – опешив, вопросил мой спутник. – Дак он же вам только что все и доложил самолично, – не менее удивленно отвечал Угонио. – Гр-бр-мр-фр! – поддакнул Джакконио, явно задетый за живое. Мы с аббатом озадаченно переглянулись. – Гр-бр-мр-фр! – оживленно гнул свое Джакконио, судя по всему, гордо заверяя нас, что и такой, как он, может на что-нибудь сгодиться. После встречи с тем типом, как следовало из перевода, Джакконио в котором любопытство пересилило страх, предпринял повторную вылазку. – О, это пребольшой сователь своего носа, – заверил нас Угонио, как будто повторял ставший уже привычным упрек, – от него вся проблематика, все неприятности. – Гр-бр-мр-фр! – вскинулся на него Джакконио, роясь в балахоне. На лице Угонио появилось выражение нерешительности. – Что он сказал? – спросил я. – Пустяковину, вот токмо… И тут Джакконио победно потряс над головой клочком бумаги. Угонио схватил его за руку и мигом отобрал его у приятеля. – А ну дай сюда, не то снесу тебе башку, – вдруг спокойно проговорил аббат Мелани, сунув руку в правый карман, где у него была та штуковина, которой он угрожал до этого. Угонио медленно протянул ему бумажный комочек, а сам вдруг как накинется на своего дружка, и ну его дубасить и пинать, и ну его честить и награждать разными причудливыми прозвищами: грязным тулупом, вшивым балахоном, безмозглым дуралеем, хромым увальнем, шарлатаном со бзиком, сырной башкой, умом, заходящим за разум, типом типическим, сколопендрой, сколиозником, пыльным набитым варваризмами мешком, гайморовой полостью, мучнистой росой, тыквообразным пестиком, мычащим фанфароном, облезшим насекомым, вздорной коровой, больным ликантропией, вальтрапом, в задний проход засунутым, бородавочником, каких свет не видывал, хромоножкой прямостоящей, вралем апоплексическим, промокательной бумагой, тварью, ног не таскающей, оксюмороном безбожным, языком, не к тому месту пришитым, скупердяем простоволосым, бутоном несрезанным, сикомором соперничающим, волдырем расплющенным, прыщом на ровном месте и козявкой дрожащей… Отродясь не приходилось мне слышать такого. Аббат же и бровью не повел ввиду столь темпераментного изъявления чувств, а положив клочок бумаги на землю, попытался расправить его. Я вытянул шею и вместе с ним стал разбирать, что там написано. К сожалению, листок с двух сторон был сильно поврежден. Зато сохранилось все остальное.
– Это страница из Библии, – уверенно заявил я. – Таково и мое мнение, – крутя в руках листок, раздумчиво произнес аббат. – Думаю, речь идет о… – Малахии, – докончил я за него, не сомневаясь в том, что прав особенно после того, как увидел обрывок имени наверху страницы, пощаженного обстоятельствами. На обороте листка не было ничего, кроме пятнышка крови, которое я заметил на просвет. Кровью был залит и заголовок. – Кажется, я понимаю, – пробормотал аббат, взглянув на Угонио, как ни в чем не бывало колошматившего своего приятеля. – Что понимаете? – Наши два урода думают, что им страшно повезло. И пояснил мне, что пределом мечтаний для людей, посвятивших себя поискам реликвий, являются мощи, извлеченные не из захоронений первых христиан, а из могил прославленных святых и мучеников. Однако на них не так легко напасть. Признак, позволяющий отличить эти захоронения от прочих, стал предметом застарелой распри, повлекшей за собой соперничество в среде богословов. Согласно Бозио, отважному иезуиту, исследовавшему подземный Рим, такие признаки, как пальмовые ветви, короны, сосуды, наполненные зерном и пеплом, выгравированные на могилах, могут являться свидетельством признательности по отношению к мученикам. А вот стеклянные либо керамические сосуды, вмурованные в ниши склепов с внутренней стороны и содержащие красноватую жидкость, почитаемую за священную кровь мучеников, являются massime доказательством подлинности. Этот животрепещущий вопрос долго обсуждался, покуда наконец некая комиссия не положила конец неуверенности, постановив, что palman et vas illorum sanguine tinctum pro signis certissimis habendas esse. – Что означает: изображение пальмовой ветви равно как сосуд с красной жидкостью суть доказательства того, что в данном захоронении покоится мученик, принявший смерть за веру, – перевел Атто. – Стало быть, это стоит немалых денег. – Разумеется, не все находки попадают в руки высшего духовенства. Любой римлянин может посвятить себя поиску реликвий: стоит лишь заручиться разрешением папы, как, к примеру, сделал Сципион Боргезе, племянник папы, а найдя, просить какого-нибудь снисходительного ученого объявить найденное подлинным. После чего продать. И все же надежных критериев отличить подлинник от подделки нету. Нашедший непременно станет утверждать, что напал на настоящую реликвию. И если б только все сводилось к деньгам. Ведь мощи затем благословляются, становятся объектом поклонения, к ним устремляются паломники, ну и все такое. – Неужто так никогда и не пытались разобраться в этом вопросе? – недоумевал я. – Общество Иисуса всегда пользовалось привилегиями, когда речь шла о раскопках в катакомбах, и озаботилось тем, чтобы доставлять мощи и реликвии в Испанию, где их принимают с помпой, поскольку больше нигде, в том числе в Индии, не принимают. Но последователи святого Игнатия в конце концов признались понтифику: ничто не дает оснований утверждать, что останки подлинные. В некоторых случаях, как в случае с детскими скелетами, и впрямь трудно что-либо утверждать. Иезуитам пришлось попросить введения принципа adoramus quod scimus [1118], a именно – только те останки, о которых с математической точностью или хотя бы большой долей вероятности известно, чьи они, являются мощами святого или мученика. И потому было решено, что одни лишь сосуды с кровью являются безоговорочным доказательством. А отсюда вытекает, что это источник доходов для любителей порыться в могилах и склепах, через которых реликвии, ложные либо подлинные, попадают в комнаты чудес или в дома доверчивых горожан с достатком. – Доверчивых? – Ну да, никто ведь не станет утверждать, что в них содержится кровь мучеников или даже просто кровь. Лично я питаю на этот счет большие сомнения. Содержимое одной такой склянки, купленной по цене золота у одного отвратительного субъекта, похожего на этого, как бишь его звать, Джакконио, я подверг анализу. – И что же вы выяснили? – Растворив в воде красноватую жидкость, я обнаружил, что она состоит из земли и мух. Суть их ссоры в том, что, столкнувшись с похитителем, Джакконио напал на обрывок Библии, запачканный чем-то, очень похожим на кровь. – Аббат вернулся к настоящему. – Incipit [1119] одной из глав Библии со следами крови святого Каллиста, к примеру, стоит денег. Оттого-то один любезно упрекает другого в том, что тот сообщил нам о существовании этого обрывка. – Но как кровь, возраст которой исчисляется веками, может попасть на современную книгу? – Вместо ответа я расскажу тебе одну историю, услышанную в прошлом году в Версале. Один человек пытался продать череп, заявляя, что тот принадлежал знаменитому Кромвелю. Кто-то из присутствующих заметил ему, что череп слишком мал, чтобы принадлежать взрослому, да еще воину, к тому же известно, что у Кромвеля была большая голова. – И что же ответил продавец черепа? – Он ответил: все это верно, да только это ведь череп Кромвеля, когда тот был ребенком! И представь себе, череп ушел за большие деньги. Вот и подумай, с какой легкостью Угонио и Джакконио могли бы продать обрывок из Библии, запачканный кровью святого Каллиста. – Не стоит ли вернуть им его, господин Атто? – Всему свое время, мой мальчик, пока оставим его у себя. – Аббат повысил голос, чтобы его услышали те двое: – А вернем в обмен на кое-какие услуги. – И объяснил им, что от них требуется. – Гр-бр-мр-фр! – согласился Джакконио. Отдав распоряжения кладбищенских дел мастерам, которые тут же растворились в темноте, Атто предложил вернуться на постоялый двор. Я спросил у него, не кажется ли ему необычным, что в таком месте вдруг сыскалась страница из Библии, запачканная в крови. – На мой взгляд, этот листок обронил похититель твоих жемчужин. – Откуда у вас такая уверенность? – Я не говорил, что уверен в этом. Но подумай сам: этот обрывок выглядит как новый. Кровь на нем (если это действительно кровь, как я думаю) слишком ярка, чтобы быть давней. Джакконио сказал, pardon, прохрюкал, что нашел его тотчас после встречи с незнакомцем, там, где тот испарился. Мне этого достаточно. Когда речь идет о Библии, кто из постояльцев приходит на ум прежде всего? – Отец Робледа. – Точно. Где Библия, там и святой отец. – И все-таки кое-что требует разъяснений. – Что именно? – Первая – это то, что осталось от Глава первая, это ясно. Тогда как Малах – это Малахии. Это наводит меня на мысль, что кровью залито слово Пророчество. Речь идет о главе из Библии, содержащей пророчество Малахии, – делился я с аббатом знаниями, полученными в детские годы, проведенные чуть ли не в монастырском уединении. – Но что могло бы значить нда первой строки? Что вы думаете по этому поводу, господин Атто? Я ума не приложу. Аббат Мелани пожал плечами: – Ну какой из меня знаток. Подобный ответ из уст аббата показался мне более чем странным. А заявление «Где Библия, там и святой отец» и вовсе грубым. Что же это был за аббат? На обратном пути Мелани вновь принялся рассуждать вслух: – Любой, не только Робледа, может иметь при себе Библию. Да и в «Оруженосце» один экземпляр, наверное, имеется? – Даже два, если быть точным. Но я их хорошо знаю и могу утверждать, что страница, которую вы держите в руках, не из них. – Что ж, пусть так. Но она могла быть вырвана из экземпляра Библии, принадлежащего любому из постояльцев, захватившему ее с собой в дорогу. Жаль, что буквица осталась на другой части страницы, она бы нам очень помогла. Я думал так же. Было и кое-что еще странное, на что я ему указал: – Приходилось ли вам видеть, чтобы Библия печаталась только с одной стороны страницы? – Это наверняка конец главы. – Но ведь она только началась! – Возможно, пророчество Малахии отличается краткостью. Откуда нам знать, ведь последних строк тоже не хватает. Если только это не какой-то типографский трюк или ошибка. Как бы то ни было, Угонио и Джакконио помогут нам: очень уж они испугались, что им больше не увидеть их засаленного клочка бумаги. – Кстати, по поводу их испуга, я и не знал, что у вас имеется пистолет. – Я тоже ничего об этом не знал, – ответил Мелани и как-то сбоку с усмешкой взглянул на меня, после чего вынул из кармана деревянный предмет с металлическим наконечником, которым потрясал перед Угонио. – Трубка! – поразился я. – Но как же они не догадались? – Света было мало, а выражение моего лица было угрожающим. К тому же этим двоим вовсе не хотелось познакомиться с пулей. Простота этого трюка, та естественность, с какой аббат применил его, а также успех, увенчавший его, восхитили меня. – Однажды, как знать, может, и тебе это пригодится, мой мальчик. – А если противники заподозрят что-то не то? – Бери пример с меня. Однажды ночью я повстречался в Париже с двумя бандитами. Положение было аховое, я что есть мочи крикнул: «Ceci n'est pas une pipe!» [1120] – смеясь, отвечал аббат.
День четвертый 14 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Когда я проснулся на следующее утро, все тело у меня ломило, и в голове был полный сумбур, а все потому, что из-за событий предыдущего дня я мало и беспокойно спал. Долгое блуждание под землей, спуски, подъемы, лестницы, люки, потребовавшие немалых сил, не говоря уже о схватке врукопашную с тем жутким, что нежданно-негаданно свалилось на меня в «Архивном» зале, – все это сказалось как на моем физическом, так и умственном состоянии. Было однако кое-что, что утешало, а заодно и немало удивляло меня: несмотря на страшные впечатления, которые я вынес от встречи с Угонио и Джакконио, эти несколько часов сна не были омрачены кошмарами. При том, что малоприятные (хотя куда от них денешься) поиски того, кто украл у меня единственные ценные предметы, когда-либо водившиеся у меня, продолжались и во сне. Зато теперь я отдался сладостным смутным воспоминаниям, атаковавшим меня, чуть только я открыл глаза: они были вызваны к жизни мыслью о Клоридии и ее томной красоте. Я был не в состоянии собрать воедино эти блаженные и такие реальные при всей их призрачности ощущения, рожденные во мне божественным ликом моей Клоридии (я уже называл ее так!), ее волнующим контральто, чувственными и нежными руками, пространными наивными рассуждениями… Слава Богу, я был отвлечен от меланхолических грез до того, как истома окончательно одолела меня и лишила последних сил. Справа от меня раздался стон. Я повернул голову и увидел Пеллегрино сидящим на постели – оперевшись о стену, обхватив голову руками, он раскачивался и стонал. Чрезвычайно обрадованный тем, что ему стало лучше (с самого начала болезни он впервые оторвал голову от подушки), я кинулся к нему и забросал вопросами. Но, увы, вместо ответа он тяжело съехал на край постели, так что его подбородок уперся в грудь, оборотил на меня отсутствующий взгляд и замер, не издав более ни звука. Встревожившись и огорчившись его необъяснимым молчанием, я бросился за Кристофано. Тот сей же час последовал за мной и принялся лихорадочно осматривать Пеллегрино. Когда тосканец изучал его зрачки, мой хозяин пустил трескучий flatusventris [1121], вслед за тем срыгнул, заворчал желудком и снова пустил ветер. Этого было вполне достаточно, чтобы понять, что с ним происходит. – Он находится в состоянии сна, инертен, о бодрствовании речи пока не идет. Цвет лица – мертвенно-бледный. Не откликается, но я не теряю надежды, что вскоре он очнется. Гематома на голове вроде бы рассасывается, во всяком случае, она не внушает мне опасений. Словом, Пеллегрино находился в сильном оцепенении, горячка хоть и прошла, но успокаиваться было рано. – Но что с ним? – приступил я к Кристофано, заподозрив, что он не склонен сообщать мне всего. – Твой хозяин страдает газами. Он темпераментен и легко впадает в горячность, к тому же сегодня немного жарко. В любом случае следует соблюдать осторожность. Придется сделать промывание желудка, как я и опасался… Тут он добавил, что в связи с тем лечением очищающего характера, которое он вынужден ему назначить, Пеллегрино нужно оставить в комнате одного. И потому было решено, что я перенесу свою постель в соседнюю комнату, одну из тех трех, что стояли пустыми со дня смерти бывшей хозяйки г-жи Луиджии. Пока я собирал свои пожитки, Кристофано вынул из кожаного чехла диковинное устройство с мехами величиной с мое предплечье и ввел в него длинную и веретенообразную трубку которая перпендикулярно крепилась к другой трубке, оканчивающейся небольшим отверстием. После чего несколько раз опробовал его, дабы удостовериться, что меха подают воздух в трубки и он выходит через отверстие. Пеллегрино тупо следил за приготовлениями. Я со смешанным чувством взирал на него, радуясь тому, что он наконец открыл глаза, и опасаясь за его здоровье. – Готово, – с довольным видом заявил Кристофано и послал меня за водой, растительным маслом и капелькой меда. Вернувшись, я с удивлением обнаружил, что Пеллегрино уже наполовину раздет и лекарь вовсю суетится вокруг него. – От него никакого толку. Пособи мне держать его. Я был вынужден помочь лекарю заголить заднюю часть моего хозяина, который в штыки принял подобное начинание. В ходе дальнейшего противостояния, выражавшегося скорее в пассивности со стороны Пеллегрино, чем собственно сопротивлении, я расспросил Кристофано о том, каковы его намерения. – Да очень просто: добиться, чтобы он выпустил лишние газы, от которых его пучит. Данное устройство позволяло благодаря трубкам, расположенным под прямым углом друг к другу, пользоваться им самостоятельно, без посторонней помощи, щадя свою стыдливость. Однако перед нами был тот случай, когда больной был не в состоянии сам о себе позаботиться, оттого этим приходилось заниматься нам. – А пойдет ли это ему на пользу? Удивившись моему вопросу, лекарь ответил, что клистир (таково было название устройства) может принести только пользу и никогда вред. По мнению Реди, он выводит телесные мокроты очень щадящим образом, способствуя испражнению на низ, не ослабляя внутренних органов и не старя их, как это бывает, когда лекарство вводится через рот. Наполняя меха промывательным раствором, Кристофано не переставал нахваливать действие прочих процедур, также осуществляемых с помощью клистира, как-то: вызывающих жажду болеутоляющих, глистовыводящих, ветрогонных, заживляющих, очистительных и даже вяжущих. Лечебных же составов было великое множество: цветочные, лиственные, фруктовые, травяные и еще настои на бараньих рогах, кишках животных, вплоть до того, что в дело мог быть пущен и отвар из старого петуха, скончавшегося естественной смертью. – Надо же, – выдавил я из себя, пытаясь не выказать гадливости. – Кстати, – добавил он, закончив очередной экскурс в медицину, – в ближайшие дни выздоравливающему предписан особый режим питания, основу которого составляют бульоны, молочные жидкие кушанья и супы, дабы он оправился от истощения. Посему назначаю ему сегодня полчашки шоколада, вареную курятину и вымоченное в вине медовое печенье. Завтра – чашка кофе, суп из бурачника и шесть пар петушиных яиц. Подкачав промывательной жидкости, Кристофано наконец оставил Пеллегрино с оголенным задом на мое попечение, наказав дождаться результатов лечения, сам же предусмотрительно вышел. Все произошло так скоро и с таким невиданным размахом, что я наконец уразумел, отчего мне было велено перебраться с пожитками в соседнюю комнату. Позже я спустился в кухню, чтобы соорудить легкий, но питательный завтрак, подсказанный мне эскулапом: полба, сваренная во вкуснейшем миндальном молоке с сахаром и корицей, похлебка из барбариса на основе отвара из постной рыбы со сливочным маслом, травами и взбитыми яйцами, к которой полагались ломтики хлеба, нарезанные в виде кубиков и посыпанные корицей. Разнося обед по комнатам, я попросил Дульчибени, Бреноцци, Девизе и Стилоне Приазо назначить время, когда им будет удобно принять меня и получить из моих рук лечение, назначенное им Кристофано. Они отчего-то с раздражением выхватывали у меня из рук пищу, принюхивались к ней, и все, словно сговорившись, просили оставить их в покое. Мне пришло в голосу, а не связаны ли их лень и дурное расположение духа с моей неопытностью в поварском деле. А вдруг и впрямь аромат корицы не слишком-то облагораживал приготовленные мной блюда? Я положил обильнее сдабривать их в дальнейшем заморской приправой. От Кристофано я узнал, что меня требует к себе отец Робледа, ему-де понадобилась питьевая вода. Наполнив графин, я отправился к нему. – Входи, мой милый, – с неожиданной учтивостью пригласил он меня. Вдоволь напившись, он предложил мне сесть. Немало удивившись тому приему, который был мне оказан, я поинтересовался, здоровится ли ему и как он провел ночь. – О, столько усилий, мой милый, столько усилий, – лаконично ответил он, отчего я еще пуще насторожился. – Понятно, – недоверчиво протянул я. Робледа был необыкновенно бледен, веки у него набухли, под глазами залегли мешки. Он явно провел эту ночь без сна. Но о каких усилиях шла речь? – Вчера мы с тобой беседовали кое о чем, – приступил он наконец к делу, – но прошу тебя не придавать большого значения моим речам, возможно, излишне свободным. Пасторская миссия частенько приневоливает нас прибегать к несвойственным нам изначально риторическим фигурам, к чрезмерной концептуальной выхолощенности, неупорядоченному синтаксису, дабы облегчить юным умам доступ к новым и более плодоносным пластам. К тому же юношество не всегда готово воспринять эти благотворные поощрения ума и сердца. Да и положение, в коем все мы оказались, невольно способствует неверному истолкованию мыслей другого человека и не совсем удачному формулированию собственных. Я только прошу тебя, мой милый, об одном: забыть о нашем разговоре, а в особенности о том, что было сказано о Его Святейшестве, драгоценном папе Иннокентии XI. И еще – и это самое главное – я бы очень тебя просил не передавать моих ничтожных и мимолетных умозаключений другим постояльцам. То физическое разделение, которое мы вынуждены соблюдать, чревато неверным истолкованием, ну ты понимаешь… – Да не печальтесь вы, я и не помню, о чем мы говорили, – солгал я. – Ах вот что! – воскликнул Робледа, явно задетый за живое но тут же взял себя в руки. – Так-то оно лучше. Заново передумывая сказанное, я ощутил некий гнет, какой бывает, когда спускаешься под землю, в катакомбы, и нечем дышать. – С этими словами он двинулся к двери, чтобы выпустить меня. Я же стоял как громом пораженный последней фразой, показавшейся мне разоблачительной. Робледа выдал себя. Нужно было немедля возобновить разговор и заставить его еще больше раскрыться. – Я сдержу обещание молчать, но у меня к вам вопрос по поводу Его Святейшества Иннокентия XI или скорее по поводу папства вообще, – успел я выговорить до того, как он распахнул дверь. – Я слушаю. – Так вот… стало быть, – забормотал я, стараясь что-нибудь выдумать, – я вот размышлял, а существует ли способ различать понтификов – этот хорош, тот лучше некуда или вовсе святой. – Любопытно, что ты задал именно этот вопрос. О том же думалось ночью и мне, – отвечал он, как мне показалось, скорее самому себе. – В таком случае вы, я уверен, сможете объяснить мне, – проговорил я, стараясь затянуть нашу беседу. Иезуит снова предложил мне сесть и стал приводить доводы того, что за века, на протяжении которых существует папство, накопилось немалое количество рассуждений и предвидений относительно понтификов прошлого, настоящего и будущего. – Причина в том, что все люди, и в частности жители этого города, знают или полагают, что знают, каков папа, в данный момент восседающий на троне. Но они также сожалеют о папах былых времен и надеются, что следующий будет лучше и даже что это будет ангельский папа. – Ангельский папа? – То бишь тот, кто вернет Римскую Католическую Церковь ее первоначальной святости. – Не понимаю, – прикинулся я дурачком. – Ежели всякий раз сожалеют о прежнем папе, который, в свою очередь, заставлял сожалеть о тех, которые были до него, значит, папы все хуже и хуже. Как же в таком случае можно надеяться на появление лучшего? – В том-то и состоит порочная суть пророчеств. Рим издавна был мишенью для идейного воздействия со стороны еретиков. Так, Super Hieremiam и Oraculum Cyrilli [1122] давно предсказали падение города. Томмазо да Павиа предвещал крушение Латеранского дворца, якобы представшее ему в видениях, Робер д'Юзес и Джованни Рупешисса заявляли, что город, заложенный Петром, превратился в город двух колонн, место пребывания Антихриста. Тут вдруг на меня что-то нашло, и я ощутил себя способным поддерживать разговоры подобного рода, правда, лишь когда передо мной была определенная цель – в данном случае побольше разузнать о похитителе ключей и жемчужин. Отец Робледа основательно приступил к рассмотрению вопроса, поведя его от второго пророчества Карла Великого, исполненного загадочной силы, согласно которому император якобы совершит в день Страшного суда славное путешествие в Святую Землю, где будет коронован ангельским папой. А согласно видениям святой Бригитты, Рим будет разрушен германским потомством. Но все эти мрачные видения о крушении и очищении Рима, развращенного алчностью и сластолюбием, были лишь бледными измышлениями по сравнению с Apocalipsis nova [1123] Амедео Блаженного, из которого следовало, что Господь изберет для своей паствы такого пастыря, который освободит Церковь от всех грехов, разъяснит все тайны и внемлет всем пожеланиям. Владыки мира явятся к нему на поклон, Восточная и Западная церкви составят одно целое, над неверными будет одержан верх усилиями одной лишь веры, и придут наконец unum ovile et unus pastor [1124]. – И этот папа будет ангельским, – вставил я, желая упорядочить свои мысли и предчувствуя, что иезуит клонит к чему-то иному. – Вот именно. – И вы в это верите? – Но, сын мой, можно ли задавать подобные вопросы? Многие из этих, так сказать, ясновидящих преступили грань и оказались в стане еретиков. – Стало быть, вы не верите в ангельского папу? – разумеется, нет. Те, кто намеревался создать атмосферу всеобщего ожидания его, были еретиками, если не сказать хуже. На самом деле их целью было по капле вводить мысль о необходимости разрушить институт церкви и о недостойности папы. – Которого из них? – Увы, богопротивным нападкам подверглись все понтифики. И Его Святейшество папа Иннокентий XI? У Робледы вытянулась физиономия, а в глазах мелькнула тень подозрения. – Иные предсказания претендовали на то, чтобы объять все времена, и прошлые, и грядущие, вплоть до конца света. И потому в них упоминаются все папы, и в том числе Иннокентий XI. – А каково содержание этих предсказаний? Я подметил, что эта тема вызывает в отце Робледе некое сладострастие и в то же время принуждает давать сдержанные оценки. Чуть более густым голосом он принялся излагать мне суть одного из многочисленных предсказаний, претендующего на всеобъемлющий охват преемников святого Петра, начиная с 1100 года и до скончания веков. Он затянул такую долгую литанию, что, ей-богу, создавалось впечатление, что ничем иным он долгие годы не занимался: «Ex castro Tiberis, Inimicus expulsus, Ex magnitudine montis, Abbas subburranus, De rure albo, Ex tetro carcere, Via transtiberina, De Pannonia Tusciae, Ex ansere custode, Lux in ostio, Sus in cribro, Ensis Laurentii, Ex schola exiet, De rure bovensi, Comes signatus, Canonicus ex latere, Avis ostiensis, Leosabinus, Comes laurentius, Jerusalem Campaniae, Draco depressus, Anguineus vir, Concionator gallus, Bonus comes...» – Но ведь это не имена пап, – прервал я его. – А вот и нет. Пророчество вырвало их из будущего, до того, как они явились в мир, и назвало их с помощью зашифрованных выражений, которые я только что произнес. К примеру, первый в этом ряду Ex castro Tiberis, что означает «из замка на Тибре». Речь идет о Целестине II, появившемся на свет в Читта ди Кастелло, то есть в городе замка, на берегах Тибра. – Смотри-ка, прямо в точку. – Ну да. Как и следующий Inimicus expulsus – не кто иной, как Луций II из рода Каччанемичи, если перевести с латыни – Изгоняющий врагов. Третий в этом ряду Ex magnitudine montis – это Евгений III, родом из замка Граммон, Большая гора. Четвертый… – Видать, это все папы очень давних веков. Впервые слышу такие имена. – Верно. Но с такой же точностью предсказаны и нынешние папы. Jucunditas crucis, идущий в пророчестве под номером 82, не кто иной, как Иннокентий X, был возведен на престол 14 сентября в праздник Крестовоздвижения. Montium custos – хранитель гор, номер 83, Александр VII, основатель ссудной казны, ломбарда. Sydus olorum – созвездие лебедя, номер 84, Климент IX, проживавший в Лебяжьих покоях Ватикана. Климент X, номер 85, зашифрован в выражении De flumine magno, то есть «на большой воде». Родился в доме, стоящем на берегу Тибра как раз в том месте, где река всегда выходила из берегов. – Надо же, прямо не верится, – изумился я. – Кое-кто считает себя последователем этого предсказателя. И, по правде сказать, таких немало. Тут отец Робледа мигнул и прикусил язык, явно ожидая вопроса с моей стороны. Перечисляя пап, он остановился на 85-м номере и понял, что мне не устоять перед искушением расспросить его по поводу номера 86. – А под каким названием идет номер 86? – не в силах удержаться, поинтересовался я. – Ну раз ты сам об этом спрашиваешь… – вздохнул иезуит. – Довольно любопытное название. – И какое же? – Belua insatiabilis, ненасытный дикий зверь, – бесцветным голосом произнес он. Я с трудом скрыл свое удивление и испуг. Если все другие папы получили вполне безобидные имена, то наш горячо любимый понтифик был награжден столь жутким и угрожающим. – Возможно, это не имеет отношения к его нравственным качествам! – возмутился я, не столько возражая, сколько желая не струхнуть, не дать себя напугать. – Вполне возможно, – мирно согласился Робледа. – И в самом деле это скорее относится к гербу его рода: лев с леопардовой раскраской и орел. Два диких представителя фауны. Да-да, вполне, даже наверняка так оно и есть, – совершенно флегматично заверил меня иезуит, в устах которого это выглядело большим глумлением, чем любая насмешка. – Как бы то ни было, не бери в голову, а то не будешь спать, ведь согласно предсказанию будет всего сто одиннадцать пап, а сегодня у нас лишь восемьдесят шестой. – А кто же будет последним? – не унимался я. Робледа снова сделался задумчивым и мрачным. – В перечисление входит сто одиннадцать пап, начиная с Целестина II. Под конец придет Pastor angelicus, о котором мы с тобой уже толковали, но он не последний. За ним следуют еще пять пап in extrema persecutione Sacrae Romanae Ecclesiae sedebit Petrus romanus, quipascet oves in multis tribulationibus; quibus transactis, civitas septicollis diruetur, etjudex tremendus judicabit populum. – Что означает: вернется святой Петр, Рим будет разрушен и грянет час Страшного суда. – Все точно. – И когда все это случится? – Я тебе уже говорил, очень не скоро. Но теперь оставь меня: я не желаю, чтобы ты забросил все свои дела из-за подобных побасенок. Разочарованный таким неожиданным поворотом в разговоре, я двинулся к порогу, сожалея, что так и не добился от отца Робледы ничего существенного. И тут меня забрало искреннее непритворное любопытство. – А кстати, кто автор этого предсказания о папах? – Один святой монах, живший в Ирландии, – поспешно бросил иезуит, закрывая дверь. – Кажется, его звали Малахия[1125]. От всех этих сногсшибательных и неожиданных открытий я пришел в такое возбуждение, что стремглав припустил к Атто Мелани, чья комната была на том же этаже, только в самом конце. Мне тут же бросилось в глаза, что у него все – и пол, и постель, и мебель – завалено бумагами, книгами, старинными гравюрами и связками писем. – Я работал, – пояснил он, впуская меня. – Это он, – запыхавшись, выпалил я. И пересказал ему свой разговор с Робледой, в котором без всякой видимой причины были помянуты римские катакомбы, не без подстрекательства с моей стороны прозвучали размышления о пророчествах, предвещающих пришествие ангельского папы, а также конец света вслед за сто одиннадцатым понтификом, и именем «ненасытного дикого зверя» наделен не кто иной, как ныне здравствующий папа. Наконец дошел я и до ирландского пророка Малахии… – Спокойно, – прервал меня Атто. – Боюсь, ты все путаешь. Святой Малахия – ирландский монах, живший тысячу лет спустя после Христа, он не имеет ничего общего с библейским Малахией[1126]. Я заверил его, что мне это прекрасно известно, что я ничего не путаю, и еще раз более подробно передал разговор с Робледой. – Занятно, – согласился тут Атто. – Два Малахии, оба пророчествовали и оба с разрывом в несколько часов возникают на нашем пути. Назвать это простым совпадением, право, трудно. Выходит, отец Робледа размышлял о пророчестве святого Малахии этой ночью, как раз тогда, когда мы нашли страницу с пророчеством библейского Малахии в подземной галерее. Да еще сделал вид, что не очень хорошо помнит, как звать святого, известного всем. Упоминает к тому же катакомбы. Я не удивлюсь, если он и есть похититель ключей. Иезуиты еще и не на такое способны. Надобно, однако, понять, что он забыл под землей. Это куда интереснее. – Чтоб уж знать наверняка, что это он, не мешает проверить его Библию – все ли в ней страницы, – предложил я. – Правильно, и для этого у нас есть только одна возможность. Кристофано объявил о скорой перекличке. Когда Робледа выйдет, воспользуйся этим и поищи Библию. Сдается мне, учить тебя, как найти в Ветхом Завете книгу пророка Малахии, не надо. – После книг Царств, среди двенадцати малых пророков. – Что ж, действуй. Я же буду связан по рукам и ногам. Критофано меня выслеживает. Видать, что-то учуял: спросил, не отлучался ли я из комнаты этой ночью. Именно в эту минуту раздался голос нашего лекаря, выкрикивающего мое имя. Я спешно спустился в кухню, где он известил меня, что представители власти только что прибыли для проведения второй переклички. Надежда, которую все мы питали – что внимание Барджелло переключится на битву под Веной, чей исход повсеместно ожидался, – улетучилась. Кристофано был озабочен: если не предъявить Бедфорда, нас ждет неминуемый перевод в иное место, с более суровыми условиями. Те из нас, кто владеет какими-то ценностями, будут обязаны сдать их для очищения от злотворных миазмов с помощью паров уксуса. Как объяснил Кристофано, в этом случае стоит заранее распрощаться с тремя четвертями своего имущества, изъятого под предлогом чумы. Следуя распоряжениям Кристофано, все сошлись на втором этаже, перед комнатой Помпео Дульчибени. На лицах была написана тревога. У меня екнуло сердце, стоило мне завидеть прелестную Клоридию, взиравшую на меня (по крайней мере так мне казалось) с грустью, от того, что никакое общение, ни словесное, ни иное, в предстоящие минуты не было нам доступно. Последними подошли Кристофано, Девизе и Атто Мелани. В противоположность моим ожиданиям, они не вели с собой Бедфорда: по всей вероятности, англичанин был неспособен ни держаться на ногах, ни откликаться (это можно было прочесть на сосредоточенном лице доктора). Я заметил, что Атто и гитарист подали друг другу какие-то знаки, словно заключили некое соглашение. Кристофано первым вошел в комнату и тут же предстал перед блюстителями порядка, уже тянущими шеи, чтобы разглядеть нас. Рядом с ним встал молодой и цветущий Девизе. Затем были вызваны аббат Мелани, Помпео Дульчибени и отец Робледа, что не заняло много времени. А после наступила короткая пауза, во время которой сбиры о чем-то совещались. Кристофано и отец Робледа, казалось, совсем струхнули. Дульчибени был невозмутим. Девизе из комнаты исчез. Те, в чьих руках были наши судьбы и кто, на мой взгляд профана, ничего не смыслил в медицине, задали Кристофано несколько формальных вопросов. Мало погодя он представил меня. Когда же пришел черед Клоридии, посланцы Барджелло принялись зубоскалить и намекать на какие-то болезни, переносчицей коих якобы могла стать куртизанка. Когда же прозвучало имя Пеллегрино, наши страхи достигли предела. Однако Кристофано твердой рукой подвел его к окну, не подгоняя, не понукая и никаким другим образом не торопя. Мы все знали, каким трудом дался Кристофано этот поступок – во время переклички подвести к окну больного и при этом не дрогнуть и никак не выдать истинного положения вещей, тем самым взвалив на себя огромную ответственность. Пеллегрино даже слегка улыбнулся стражникам. Двое из них вопросительно переглянулись. От моего хозяина и лекаря их отделяло всего несколько канн. И вдруг Пеллегрино покачнулся. – Я тебя предупреждал! – гневно набросился на него Кристофано, вытаскивая из его штанов пустую бутыль. – Перебрал греческого! – пошутил один из трех посланцев Барджелло, намекая на чрезмерное пристрастие моего хозяина к красному вину. Словом, болезнь Пеллегрино пусть так, но удалось скрыть. И тут (мне никогда этого не забыть) среди нас появился Бедфорд. Размашистой походкой подошел он к окну и предстал перед неумолимым триумвиратом. Как и все прочие, я перепугался и был потрясен, словно на наших глазах произошло воскресение из мертвых. Казалось, он настолько освободился от телесных страданий, что превратился в бесплотный дух. За окном же не наблюдалось никакого удивления, а тем паче потрясения, поскольку там ничего не ведали о постигшем англичанина недуге. Бедфорд выговорил несколько фраз на родном языке, заставив стражников пожалеть о том, что они им не владеют. – Он повторяет, что хочет выйти отсюда, – перевел Кристофано. Сбиры, в которых еще свежо было воспоминание о том, как англичанин вел себя в первый раз, и полагая, что он их не понимает, самым грубым образом подняли его на смех. Бедфорд, или его чудесный двойник, ответил на их глумление длинным рядом ругательств, после чего был уведен Кристофано. Когда все закончилось, постояльцы стали переглядываться, не веря в выздоровление англичанина. Оказавшись в коридоре, я бросился за Атто в надежде получить объяснение и настиг его как раз в ту минуту, когда он собирался подняться по лестнице на свой этаж. Он метнул в меня задорный взгляд и, догадавшись, что мне страх как хочется все знать, принялся напевать, посмеиваясь надо мной. Мысли битву затевают, Гордо сердце осаждают. Ах, воительницы злые, С сердцем битву затевают… – Ну, как тебе воскрешение Бедфорда? – Но разве это возможно?! Атто задержался, ступив на лестницу, и с лукавым выражением лица зашептал: – Ты что же, думаешь, агент по особым поручениям французского короля даст провести себя как мальчишку? Бедфорд молод, невысок и белокур. Тот, кого ты видел, в точности такой же. У англичанина голубые глаза, и у нашего сине-зеленые. В ту перекличку он роптал, рвался на свободу, тоже и сегодня. Тогда он лопотал что-то непонятное, и сейчас было также. В чем же дело? – Но ведь это не мог быть он… – Ну разумеется. Бедфорд распростерт на постели и дышит на ладан, мы молим Бога, чтобы он поправился. Но будь у тебя хорошая память (а это ой как необходимо газетчику), ты бы вспомнил, какой беспорядок царил в первую перекличку. Когда выкликнули меня, Кристофано подвел к окну Стилоне Приазо, вместо Дульчибени – Робледу и так далее, делая вид, что ошибается. Как ты думаешь, после такой неразберихи могли ли стражи порядка быть уверенными, что узнают всех? Заруби себе на носу: в Барджелло нет наших изображений, ведь среди нас нет ни папы, ни короля Франции. – Мое молчание было красноречивее всяких слов. – Они и не могли никого узнать, за исключением разве что молодого белокурого джентльмена, возмущающегося на непонятном языке. – Так Бедфорд… – осенило меня, стоило в памяти ожить воспоминанию о Девизе, куда-то исчезнувшем. – …играет на гитаре, говорит по-французски, иногда делает вид, что знает английский, – закончил Атто вместо меня сообщнически взглянув на Девизе. – Сегодня он только то и сделал, что облачился в платье, напоминающее наряд англичанина. Он мог позаимствовать его у Бедфорда, но тогда дружище Кристофано послал бы нас в лазарет: пользоваться одеждой и постельным бельем больных чумой нельзя ни под каким предлогом. – В таком случае Девизе дважды предстал перед проверяющими, а я и не заметил. – А все оттого, что это нелепо, а как известно, нелепость, какой бы правдоподобной она ни была, воспринимается с трудом. – Но ведь люди Барджелло нас уже однажды вызывали по одному, когда закрывали на карантин. – Да, но та первая перекличка была сумбурная, им приходилось еще и перекрывать улицу, и заколачивать выходы. И потом истекло ведь несколько дней с тех пор. Сыграли свою роль и решетки на окнах второго этажа, как-никак, а все-таки они мешают видеть. Да я и сам не ручаюсь, что опознал бы наших тюремщиков из-за этих решеток. Кстати, что ты скажешь о глазах Бедфорда? Я задумался и, не в силах подавить улыбку, ответил: – Они косят. – Точно. Если как следует подумать, так косоглазие – самая характерная черта его облика. Когда доблестные стражи порядка увидели косоглазого и голубоглазого молодого человека (тут Девизе не подкачал, молодчина!), у них и не могло возникнуть никаких подозрений. Я с удивлением обдумывал его слова. – Ну, теперь не мешкая отправляйся к Кристофано, ты ему наверняка нужен. Не говори с ним об ухищрениях, которые нам с ним пришлось пустить в ход: ему стыдно за то, что он нарушает свой врачебный долг. Он не прав, но тут уж ничего не поделаешь. От Кристофано я узнал обнадеживающие новости: он говорил с представителями властей и заверил их в том, что мы все в добром здравии. А также обещал доводить до их сведения любые происшествия через посланца, который будет являться по утрам и справляться о нашем положении. Это освобождало нас в дальнейшем от перекличек, которые до этих пор благодаря чуду сходили нам с рук. – Подобная легковерность властей была бы невозможна в других обстоятельствах. – Что вы имеете в виду? – Я знаю, что делалось в Риме во время чумы 1656 года. Стоило разнестись слухам о первых случаях заражения в Неаполе, все дороги между двумя городами были перекрыты, любое сообщение с пограничными областями, в том числе торговля, было запрещено. Повсюду были разосланы легаты с наказом следить за исполнением мер предосторожности, усилен контроль за побережьем в целях ограничения и запрета приема судов, закрыто большое количество римских ворот, а на прочих оборудованы опускные решетки. – И все равно эпидемия не былаостановлена? – Опоздали, – грустно пояснил Кристофано. – Один неаполитанский рыбак – Антонио Чьоти – прибыл в марте в Рим, спасаясь от правосудия, преследовавшего его за убийство. Остановился в одном гостином дворе в Трастевере возле Монтефиори, там и слег. Жена хозяина (Кристофано узнал все эти подробности от старожилов) отвела его в больницу Сан-Джованни, где он и умер несколько часов спустя. Вскрытие не показало ничего особенного. Но несколькими днями позже умерла эта женщина, а вслед за ней ее мать и сестра. Врачи и тут не увидели причин для беспокойства, но все же решили отправить хозяина и всех его работников в лазарет. Трастевере отделили стального города решеткой, собрали всех членов Конгрегации здоровья для рассмотрения ситуации. В каждом околотке была создана комиссия из прелатов, представителей дворянства врачей и нотариусов, она переписала всех жителей с указанием рода занятий, состояния здоровья, потребностей, дабы представить отчет Конгрегации. Но теперь весь город просто помешался на осаде Вены. Сбиры рассказали мне, что недавно видели папу, распростертого перед распятием и плачущего от страха и тревоги за судьбу всего христианского мира. А римляне знают – если папа плачет, нам и подавно пристало трепетать от ужаса. Ответственность, взятая мной на себя, – добавил он, – чрезвычайной важности. Частично она ложится и на твои плечи. Отныне нам предстоит с повышенным вниманием следить за здоровьем постояльцев. Одна ошибка, и санкций не миновать. Следует смотреть в оба, чтобы никто не покидал «Оруженосец» до окончания карантина. В любом случае возле постоялого двора установили два поста сторожевых, которые воспрепятствуют и побегу через окно, и срыву досок с дверей. – Я во всем буду вам служить, – заверил я Кристофано, с нетерпением ожидая наступления ночи. Новость об отмене перекличек хотя и была приятной во всех отношениях, но все же она поставила под вопрос согласованную с Атто проверку Библии отца Робледы. Я дал знать об этом Мелани запиской, подсунув ее под дверь, и отправился в кухню, опасаясь, как бы наш лекарь (совершающий обход всех пациентов) не застал меня беседующим с Мелани. Кристофано сам окликнул меня из комнаты Помпео Дульчибени на втором этаже. Оказалось, что у уроженца Фермо случился приступ воспаления седалищного нерва. Мучимый болью, он лежал на боку в постели и умолял доктора поскорее поставить его на ноги. С задумчивым выражением лица Кристофано возился с его ногами: приподнимал одну, приказывал согнуть другую, наблюдая, как это сказывается на больном. Тот начинал вопить, а Кристофано торжествующе покачивал головой. – Мне все ясно. Необходим компресс со шпанской мухой. Мой мальчик, пока я буду его готовить, натри ему левый бок бальзамом. – С этими словами Кристофано протянул мне баночку а Дульчибени известил, что компресс придется носить восемь дней кряду. – Целая неделя! Не хотите ли вы сказать, что мне придется так долго оставаться в постели? – Разумеется, нет. Боль утихнет раньше. Бегать вы, конечно, не сможете. Но что из того, пока длится карантин, вам все равно нечем заниматься. Дульчибени, явно не в духе, пробурчал что-то в ответ. – Не стоит так отчаиваться. Иные, гораздо моложе вас, и те скручены болью. Отец Робледа уже несколько дней страдает от приступов ревматизма, хотя и не показывает этого. Видно, он очень деликатного сложения, ведь в «Оруженосце» вовсе не сыро. Да и погода установилась сухая и теплая. Я вздрогнул. Подозрения в отношении отца Робледы получали подтверждение. Не без гадливости увидел я, как наш лекарь извлек из своей сумки пузырек с дохлыми жуками. – Шпанские мухи, высушенные, – выхватив двух золотых с зеленью жуков, провозгласил он, размахивая ими у меня перед носом. – Не менее чудодейственны, чем пиявки. А кроме того, возбуждают половое влечение. Он принялся толочь их над куском влажной марли, приготовленной для компресса. – Ах вот как, у иезуита ревматизм! – по прошествии некоторого времени воскликнул Дульчибени. – Тем лучше, перестанет повсюду совать свой нос. – О чем это вы? – спросил Кристофано, измельчая жуков с помощью небольшого ножа. – Вы что же, не знаете, что орден иезуитов – рассадник шпионов? Я задохнулся. Сейчас я узнаю что-то очень важное. Но поскольку Кристофано эта тема не заинтересовала, Дульчибени не стал ее развивать. Пришлось вмешаться мне. – Это вы серьезно? – Уж куда серьезнее! – убежденно отвечал Дульчибени. Его послушать, так иезуиты были не только мастерами слежки, но и требовали, чтобы эта привилегия оставалась за их орденом, а любой, занявшийся тем же без их позволения, нес наказание. Прежде, до появления иезуитов, в интригах вокруг апостольского престола участвовали представители других орденов. Но после того как этим занялись последователи святого Игнатия, они сумели отвратить прочих. А все потому, что у понтификов всегда была надоба знать о самых потаенных делах государей. Когда стало ясно, что никому не превзойти иезуитов в этой области, папы провозгласили их героями: посылали в самые важные точки европейской политики, поддерживали их издавая буллы и даруя привилегии, отдавали им предпочтение перед всеми другими орденами. – Простите, – возразил Кристофано, – но как они могут преуспеть в этом, если им запрещено посещать женщин, все всегда выбалтывающих, находиться рядом с преступниками либо просто ведущими неправедный образ жизни, да и… По словам Дульчибени, все было просто: понтифики отдали в руки иезуитов таинство исповеди, и не только в Риме, но и по всей Европе. Исповедь позволяла им знать об умонастроениях как богатых, так и бедных, как королей, так и простолюдинов. А главное – проникать в замыслы советников и министров, состоящих на государевой службе: с помощью отработанной риторики они выпытывали у своих подопечных тайно вынашиваемые намерения. Дабы целиком посвятить себя этой задаче и извлекать все большую выгоду, иезуиты добились от Святого Престола освобождения от иных обязанностей. А их жертвы тем временем попадали в расставленные сети. К примеру, представители королевской семьи Испании всегда пользовались услугами иезуитов в качестве исповедников и потребовали того же от министров на всех подчиненных испанской короне территориях. Иные государи, которые до того жили не тужили и знать не знали о хитрости иезуитов, стали думать, что эти отцы обладают каким-то особым даром, необходимым для таинства исповеди, и последовали примеру испанских правителей. – Но должны же были их разоблачить, – вставил тосканец, в то время как панцири жуков трещали под его бистуреем. – Оно, конечно, так, да только когда их хитрость бывала раскрыта, они переходили на службу к другому государю, всегда готовые предать и его. Вот отчего их любят и ненавидят в одно и то же время, – продолжал Дульчибени, – ненавидят за шпионство и предательство и любят за то же; презирают за то, что они добиваются наибольших выгод для своего ордена и губят множество народу, и любят за то, что лучших шпионов не найти. В сущности иезуиты заслуживают этой привилегии, ведь другие терпят поражение, не успев приступить к делу. Если иезуиты за кого взялись, они прилипают к нему что смола, ни за что не отделаешься. Во время восстания в Неаполе было забавно наблюдать, как они мертвой хваткой вцепились в Мазаньелло[1127] по поручению вице-короля Испании и в вице-короля Испании по поручению Мазаньелло. А действовали так ловко, что никто в обоих станах ничего не заподозрил, в общем, не щадили ни волков, ни овец… Кристофано наложил Дульчибени компресс, после чего мы удалились. Он целого вороха мыслей у меня гудела голова: подозрительные ревматические боли отца Робледы, открытие того, что этот испанец с младых ногтей научился не столько молиться, сколько идти по следу. Мои догадки все больше подтверждались. Только я собрался подняться к себе (я так уходился, что нуждался в отдыхе), как заметил, что подозрительный иезуит покинул свою комнату и отправился к соседствующему с кухней нужнику. Упустить такой случай я не мог: потихоньку поднявшись по лестнице на последний этаж, я толкнул дверь комнаты иезуита. Но было поздно, он уже возвращался. Пришлось уйти ни с чем. Прежде я заглянул к своему хозяину, возлежавшему на постели, и помог ему освободить кишечник. Он задал мне ряд сбивчивых вопросов относительно своего здоровья и пожаловался на сиенца, обращавшегося с ним как с мальчишкой и скрывавшего от него правду. Я как мог успокоил его, напоил, поправил подушки и долго гладил по голове до тех пор, пока его не сморило. Наконец-то я мог запереться у себя в комнате, достать дневник и записать в него – правда, довольно сбивчиво – события последнего дня. После чего рухнул без сил на постель. Однако я и тут не сдался без боя и ушел в мысли, теснящиеся в мозгу, пытаясь придать им хоть какую-то стройность. Страница библии, подобранная Угонио и Джакконио, возможно, принадлежала Робледе пока он не потерял ее в подземной галерее, пролегавшей под площадью Навона, – значит, он и был похитителем ключей и имел доступ к подземелью. Помощь, оказанная мною аббату Мелани, стоила мне нескольких минут неописуемого ужаса, а также схватки с двумя зловонными существами. Разрешилось же все с помощью трубки, использованной Атто для их устрашения вместо пистолета. Второй раз он преуспел, обманув посланцев Барджелло. Благодаря ему чума не подтвердилась и контроль за нами впредь будет менее строгим. Чувство признательности и восхищение, внушаемые мне аббатом Мелани, значительно уменьшили недоверие, которое я к нему питал, и я даже с некоторым душевным подъемом ожидал той минуты, когда мы вновь пустимся по следу злоумышленника. Было ли нам невыгодно то, что аббат подозревался в причастности к политическим интригам? Скорее наоборот: благодаря его уловке мы были спасены от перевода в лазарет. Кроме того, он открылся мне, что свидетельствовало о его доверии. Он присвоил себе незаконным образом бумаги Кольбера, однако, как он сам объяснил, это было прямым и неизбежным следствием его преданности французскому королю, и не имелось никаких фактов, доказывающих обратное. Внезапно перед глазами вновь возникла картина человеческих останков, обрушившихся на меня, и я с содроганием прогнал ее прочь. Волна благодарности к аббату накатила на меня: рано или поздно я не удержусь и поведаю другим постояльцам о той ловкости, с какой он приручил двух страшных бродяг и, перемежая угрозы с посулами, поставил их на службу собственным интересам. Именно таким и рисовался моему воображению тайный агент французского короля, оставалось лишь сожалеть, что не хватает ни знаний, ни опыта, необходимых, дабы должным образом воспроизвести на бумаге его чудесные деяния. Сколько всего свалилось на мою бедную голову – и сеть потайных ходов, и погоня, и смерть при загадочных обстоятельствах одного из постояльцев, и наконец, история Фуке, считавшегося мертвым и обнаруженного доносителями Кольбера на улицах Рима! Я просил у Неба лишь об одном – чтобы однажды мне было позволено описать все это в качестве газетчика. Тут со скрипом открылась дверь (видимо, я недостаточно плотно закрыл ее), я успел увидеть чью-то тень, вскочил и бросился к двери. Выглянув в коридор, приметил силуэт Девизе с гитарой в руках. – В чем дело? Вы не даете мне спать! – возмутился я. – Да и Кристофано запретил расхаживать повсюду. – Взгляни сюда, – проговорил он, указав на пол. Только тогда я заметил, что ступаю по дорожке из крошечных кристалликов, чье поскрипывание сопровождало меня с тех пор, как я встал. Я дотронулся до пола. – Вроде бы соль, – высказал предположение Девизе. Я поднес кристаллик ко рту. – И правда соль, – опечалился я, – но кто ее рассыпал? – А не… В тот же миг он протянул мне свою гитару, и его последние слова потерялись в ночной тиши. – Что вы сказали? – Дарю ее тебе, – хохотнув, произнес он, – раз уж тебе нравится, как я играю. Я был тронут. И вообразил, что способен извлекать приятные звуки и даже нежные мелодии, коснувшись тугих струн. «Почему бы не приступить сразу к исполнению того незабываемого рондо? Стоит попробовать прямо в его присутствии, пусть я и навлеку на себя его насмешки», – подумал я. Левой рукой я взялся за гриф, а правой испытал упругость струн инструмента, так ценимого самим королем Франции. И тут кто-то стал трясти меня за плечо. – Он пришел проведать тебя, – проговорил Девизе. Роскошный кот тигровой окраски с зелеными глазами терся о мою щиколотку, выпрашивая пищи. Это отчего-то еще больше расстроило меня. Если кот проник на наш постоялый двор, подумалось мне, значит, существует какое-то сообщение с внешним миром, о котором мы с аббатом пока не знаем. Я поднял глаза, чтобы поделиться мыслями с Девизе, но он исчез. Кто-то легко тряс меня за плечо. – Тебе следовало бы запираться. Открыв глаза, я увидел, что лежу на своей постели, а надо мной стоит Кристофано и, как всегда, просит заняться приготовлением ужина. Я с сожалением встал и поплелся в кухню. На скорую руку прибравшись, я сварил суп: сердцевинки артишоков и горошек в бульоне из сушеной рыбы, заправил его лучшим растительным маслом, а кроме того, соорудил рулеты из тунца, начиненные салатом-латуком, отрезал добрый ломоть сыра и наполнил кувшин вином, разбавленным водой. Как я себе и обещал, обильно сдобрил все это корицей. Пока я разносил ужин по комнатам, Кристофано из ложечки кормил Бедфорда. Своего дорогого хозяина я потчевал собственноручно, после чего у меня возникла непреодолимая потребность вдохнуть свежего воздуха. От долгих дней, проведенных взаперти, по преимуществу в кухне, где дверь была заколочена, окна забраны решеткой, а воздух наполнен чадом, у меня теснило в груди. Я поднялся к себе и, приоткрыв окно, выглянул наружу: был конец лета, день выдался солнечный, на улице ни души. Приставленный к нам часовой мирно спал. Я оперся о подоконник и сделал глубокий вдох. – Рано или поздно туркам придется столкнуться с самыми могущественными государями Европы. – Ой ли? С кем же? – Ну, к примеру, с тем же Наихристианнейшим королем. – В таком случае им представится возможность, ни от кого не таясь, пожать друг другу руки. Оживленные, хотя из предосторожности и приглушенные голоса, принадлежали Бреноцци и Стилоне Приазо, соседям по комнатам третьего этажа, простенок между которыми был весьма невелик. Я выглянул: новоиспеченные Пирам и Фисба[1128] изобрели простой способ общения в обход нашего строгого лекаря. Наделенные неспокойным и пытливым нравом, любители поболтать как могли удовлетворяли свою непобедимую потребность обменяться мнениями по поводу того, что не давало им покоя. Я задумался, будет ли прилично воспользоваться неожиданной возможностью разузнать побольше об этих необычных личностях, одна из которых была к тому же беглецом. Может, что-то пригодится и для того непростого расследования, которое с моей помощью ведет аббат Мелани. – Людовик XIV – заклятый враг христианского мира. Вот я вам задам турок! – прогремел вдруг Бреноцци. – Ведь известно, что в Вене решается судьба христиан. Все государи обязаны помогать городу. Так нет же, король Франции заартачился. И, уверяю вас, это не случайно, о нет! Далеко не случайно. За последние месяцы мне в общих чертах довелось узнать – из болтовни на улицах, от постояльцев, – что наш понтифик Иннокентий XI приложил огромные усилия для создания Священной лиги, чьей целью была борьба с турками. На его призыв тотчас откликнулся польский король и послал сорок тысяч солдат на подмогу тем шестидесяти тысячам, которые император собрал в Вене перед тем, как самому позорно покинуть город. Доблестный герцог Лотарингский также присоединился к крестовому походу против неверных с одиннадцатью тысячами баварских солдат. На стороне турок выступили куруцы – венгерские еретики, нарушившие перемирие с императором и державшие в страхе безоружное население долины между Будапештом и Веной. И это не считая услуги, которую османам могла оказать чума, уже объявившаяся среди осажденных, и без того ослабленных красной дизентерией. Помощь Парижа решающим образом сказалась бы на соотношении сил. Но, увы, Людовик XIV не пожелал предпринять что-либо в этом направлении. – Позор да и только, – согласился с собеседником Стилоне Приазо. – Самый могущественный властитель Европы, а Думает только о себе: что ни день, то новая вылазка в Лотарингию, в Эльзас… – А когда недостает силы, пускает в ход подкуп. Это всем естно – он покупает других королей, к примеру, увальня Карла Английского. – Какая низость! Вероятно, вы правы: христианские государи больше боятся Францию, чем турок. – Вот именно! Лучше уж Магомет, чем французы. Эти вы пустили тысячу пушечных ядер по Генуе только за то, что она не приветствовала их суда, – молвил Бреноцци, наверняка наслаждаясь безутешным выражением лица, которое, я думаю появилось у неаполитанца. Стилоне, со своей стороны, высказал ряд интересных замечаний. Я осторожно свесился из окна, пытаясь разглядеть их. Увлекшись животрепещущей темой, оба обрели былую жизненную силу, утраченную в одиноком сидении по своим комнатам, а страсть к политике заставила их забыть об угрозе чумы. Да ведь то же происходило и с прочими постояльцами, когда мой к ним визит или визит Кристофано развязывал им языки, вызывая на откровения. – Вильгельм Оранский, хотя и постоянно нуждается в деньгах, – единственный из европейских монархов, кто дал окорот французам, у которых много денег, и навязал им Нимвегенский мир[1129], – произнес Стилоне Приазо. И снова всплыло имя Вильгельма Оранского, уже слышанное мною в бредовых речах Бедфорда и растолкованное вслед за тем Атто Мелани. Этот благородный неимущий Давид, чья слава рука об руку шла с молвой о его долгах, как магнит притягивал меня к себе. – До тех пор, покуда не будет удовлетворено желание Наихристианнейшего короля одержать верх над всем и вся, мира в Европе не жди. А знаете, когда это произойдет? Когда императорская корона засияет на голове француза. – Вы хотите сказать, корона Священной Римской империи? – Это же очевидно! Стать императором – вот его цель. Заполучить корону, которую Карл из династии Габсбургов похитил у Франциска I, своего предка, благодаря финансовым махинациям. – Кажется, подкупив курфюрстов… – Память вас не подводит. Не подкупи их тогда Карл, ныне императором был бы француз. Людовик намерен отобрать корону и тем самым отомстить Габсбургам. Оттого-то нашествие турок и на руку Франции: пока те осаждают Вену, империя ослабевает на Востоке, а Франция простирается далее на запад. – Верно подмечено! Политика выкручивания рук. – Вот именно. Далее Бреноцци пояснил, что, когда Иннокентий XI призвал европейские державы объединиться против турок, Людовик XIV, старший сын католической церкви, отказался войти в этот союз, невзирая на уговоры других христианских королей. Хуже того: он навязал императору гнусный договор, по которому гарантировал сохранение нейтралитета в обмен на признание всех несправедливо добытых им территорий французскими. – У него даже хватило наглости назвать свои требования «умеренными». Однако император, даром что к его горлу приставили нож, не согласился на этот торг. Теперь француз воздерживается от того, чтобы враждовать с императором. Думаете, совесть заела? О нет! Просто он сделал важный стратегический выбор: ждет, когда у Вены иссякнут силы. Тогда уж ему никто не указ. В конце августа поговаривали, будто французские войска снова готовы выступить против Нидерланд. О, если бы только Бреноцци мог видеть в эту минуту мое лицо, написанные на нем мрачные мысли, вызванные его рассуждениями! Подслушивая этот разговор, я весь пылал от негодования: государь, на службе которого состоял Атто Мелани, был поистине ужасен! К чему отрицать – я привязался к аббату и, видя как его положительные, так и отрицательные стороны, тем не менее не отказался рассматривать его в качестве своего наставника. И вот опять, идя на поводу своего желания побольше разузнать, быть в курсе всего, я помимо воли столкнулся с фактами, о которых предпочел бы ничего не знать. – Это еще что, – зашипел Бреноции, – а слыхали ли новость? Отныне турки взяли под свою защиту торговый флот Франции, так что пираты им не помеха. Таким образом, и Левантийская торговля перешла к французам. – А что получили за это турки? – спросил Стилоне. – Да так, самую малость, – зло рассмеялся Бреноцци, – разве что… победу над Веной. Стоило жителям Вены забаррикадироваться в городе, турки бросились рыть подкопы под стены города, затем подвели туда мины и пробили бреши. А ведь это техника, которой в совершенстве владели французские инженеры и фейерверкеры. – Словом, вы хотите сказать, что французы снюхались с турками, – подвел итог Приазо. – Это не я хочу, таково мнение всех знатоков военного дела христианского лагеря в Вене. Солдаты французского короля обучались искусству подкопов у двух венецианцев состоящих на службе Республики. Это было во время обороны Кандии. Далее сей секрет достиг ушей Вобана[1130], военного инженера, который кое-что усовершенствовал: горизонтально расположенные траншеи позволяли войскам перемещаться из одной точки в другую, а вертикально расположенные траншеи – доставлять мины и боеприпасы. Действует безотказно: стоит пробить брешь, путь в осажденный город открыт. Теперь этому обучены и турки под Веной. Спрашивается, случайное ли это совпадение? – Говорите тише, аббат Мелани не дремлет, – предостерег его Приазо. – Ах да, этот французский шпион, такой же аббат, как и граф Донхофф. Вы правы, прервем на этом нашу беседу. Они попрощались и отошли от окон. И в другой раз образ Атто заволокло туманом. Что означало последнее замечание, сделанное в его адрес, где он сравнивался с каким-то незнакомым мне лицом? Закрывая окно, я вспомнил о невежестве Мелани в области всего связанного со Священным Писанием. «Какой же он, право, аббат?» – как-то само собой подумалось и мне. – Гитара, кот и соль, – со смешком выговорила Клоридия. – У нас есть нечто понадежнее, чем в прошлый раз. Хлопоча на кухне, я только о том и думал, как бы еще раз повидать ее. Новые тяжкие подозрения, зародившиеся у меня Под влиянием слов Бреноцци относительно аббата Мелани, требовали, конечно же, выяснения отношений, что могло иметь место лишь ночью, когда он постучится ко мне. Я разнес пищу по комнатам, ловко улизнув от тех, кто пытался под различными предлогами удержать меня (Робледа и Девизе). Потребность еще раз поболтать с красоткой Клоридией была столь настоятельна, что я и не думал ей перечить. В качестве же предлога у меня был мой необычный сон, кстати сказать, второй с тех пор, как «Оруженосец» закрылся на карантин. – Начнем с рассыпанной соли. Предупреждаю, знак этот недобрый, означает убийство или противодействие намерениям, – проговорила Клоридия и с интересом взглянула на меня. Думаю, на моем лице были написаны обманутые надежды. – Однако каждый случай требует отдельного рассмотрения, поскольку такое значение может относиться не только к тому, кто видел сон. В данном случае это могло бы касаться Девизе. – А гитара? – Большая печаль либо труд без признания. Как у крестьянина, что весь свой век гнет спину, а удовлетворения никакого. Или как у превосходного художника, архитектора, музыканта, чьи творения остаются в безвестности. Словом, гитара – к меланхолии. Я поник головой: в моем сне было два плохих знака. А Клоридия между тем приступила к разъяснению третьего: – Ну кот – это проще простого: прелюбодеяние и сластолюбие. – Но у меня нет супруги. – Для сластолюбия вовсе не обязательно состоять в браке, – молвила Клоридия, с хитрым видом накручивая прядь волос на палец. – Что до прелюбодеяния – каждый знак должен быть внимательно рассмотрен и взвешен. – Но как? Я не женат! Я холост, и все тут! – Ты ровным счетом ничего не знаешь! – пожурила она меня. – А ведь сны можно истолковывать диаметрально противоположным образом, как в положительном, так и отрицательном смысле. – Стало быть, в отношении одного и того же сна можно утверждать как одно, так и другое? – удивился я. – Ты так думаешь? – вопросила она, двумя руками отбрасывая назад свои волосы и вслед за этим широким жестом выставляя вперед свои округлые и твердые груди. После чего присела на табурет. Я остался стоять. – Сделай одолжение, – проговорила тут она, развязывая бархатную ленту, украшенную камелией, которую носила на шее, – завяжи ее покрепче, самой мне не справиться. Спусти ее чуть ниже, но не слишком. О, не так рьяно. Моя кожа такая чувствительная. Словно для того чтобы облегчить мне задачу, она развела руки в стороны, выставив на обозрение свою грудь, в сотни раз более цветущую, чем лужайки у Квиринальского дворца, и в тысячу раз более совершенную, чем свод собора Святого Петра. Подметив, что цвет моего лица при виде этого неожиданного зрелища изменился, Клоридия предпочла не отвечать на мое возражение. И пока я сражался с лентой, вела себя так, словно ровным счетом ничего не происходило. – Иные толкователи снов считают, что видения, предвосхищающие восход солнца, имеют отношение к грядущему, протекающие одновременно с восходом – к настоящему, а следующие за восходом – к былому. Сны более вещие летом, зимой и на восходе, чем осенью, весной и в любое другое время суток. Кое-кто утверждает, что сны на Рождество и Благовещение предсказывают долгосрочные и надежные события, а те, что снятся на праздники, чья дата год от года меняется (такие, как Пасха), означают нечто переменчивое, на что не стоит возлагать больших надежд. Есть и такие, кто… Ай, нет, так не годится, слишком туго. Да у тебя руки дрожат, – с лукавой улыбкой заметила она. – Да я, почитай, закончил, я не хотел… – Не волнуйся, мы не спешим, – подмигнула она мне, видя, что мне никак не справиться с ее поручением. – Так вот, есть такие, кто утверждает: якобы в Бактрии есть камень Эвметрис, который, если положить его на голову во время сна, превращают сны в надежные предсказания. Кое-кто использует пахучие и жидкие составы: ароматы мандрагоры, мирта, вербеновую воду, лавровый лист, измельченный и приложенный к затылку. Кто-то рекомендует кошачьи мозги вперемешку с пометом летучих мышей, выдержанным в красной коже, или фиги, нашпигованные голубиным пометом и коралловой мукой. Поверь мне, все эти рекомендации весьма действенны… И тут вдруг она схватила меня за руки и задорно заглянула мне в глаза. Ленту я так и не завязал; мои пальцы, неловко запутавшиеся в ней, были ледяными, а пальцы Клоридии – огненными. Лента скользнула за корсаж и пропала из виду. Предстояло как-то достать ее. – Словом, важно научиться видеть ясные, надежные, правдивые сны, а уж разгадать их – дело нехитрое. Если снится, что ты уже не женат, это может означать прямо противоположное: скоро женишься. Или же: не женат и дело с концом. Понял? – Нельзя ли разгадать, какой из смыслов – прямой или противоположный – подразумевается в моем случае? – тоненьким дискантом выдавил я из себя, чувствуя, как пылают мои щеки. – Разумеется. – Но отчего вы не говорите этого? – умоляюще простонал я, невольно буравя глазами благоухающую пропасть, поглотившую ленту. – Очень просто, мой милый. Ты не заплатил. Улыбка на ее лице погасла, она резко отвела мои руки от своей груди, выловила ленту из корсажа и молниеносно повязала ее вокруг шеи, словно никакая помощь ей никогда и не требовалась. Я выскочил вон, во власти дум, печальнее которых не может породить человеческая душа, проклиная все сущее, отказывающее мне в повиновении моим желаниям, и призывая смерть, раз уж мне не дано постичь этот свет. «Несчастный, угодивший в сети, расставленные куртизанкой, – думал я о себе. – Как я мог запамятовать это? Каким надо быть глупцом, чтобы вообразить себя за здорово живешь одаренным ее милостями? Простофиля я эдакий, надеявшийся, что она liberaliter[1131] откроет свой ум мне, а не кому-либо другому, более дерзкому, достойному и прекрасному? Как могло случиться, что ее приглашение прилечь на постель якобы для разгадывания снов не пробудило во мне подозрений? И вот теперь эта последняя встреча, наполненная каким-то непонятным содержанием, окончилась тем, что мне ясно дали понять, какова только и может быть природа подобных встреч» В таких невеселых думах я столкнулся у своей двери с аббатом Мелани, который, не застав меня, уже проявлял признаки нетерпения. Надо признать, мне было отрадно видеть его и отвлечься от всего тяжелого, что легло на душу. Он встретил меня громким чихом, рискуя выдать нас Кристофано.Четвертая ночь С 14 НА 15 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
На сей раз мы с большим проворством и уверенностью преодолели подземный ход, протянувшийся от «Оруженосца». Я прихватил с собой сломанную надвое удочку Пеллегрино, однако Мелани не спешил обследовать своды галереи, так как нас ждала важная встреча, а обстоятельства были таковы, что опаздывать не стоило. Подметив, что я совсем повесил нос, и вспомнив, что я спускался от Клоридии, он принялся тихонько напевать: Истаиваю я, томим Надеждой, блекнущей всечасно. Но для чего, плющом увив, Терзаешь сердце ты напрасно… Не хватало еще, чтобы меня высмеяли. И кто? Решение заткнуть ему рот созрело молниеносно, и вопрос, не дававший мне покоя с тех пор, как я подслушал разговор двух приятелей, вылетел из моих уст сам собой. – Аббат ли я? Да в своем ли ты уме? – застыв на месте в позе фертиком проговорил аббат. Я тут же просил его принять мои извинения и пояснил, что самому бы мне и в голову не пришло задавать ему столь наглые вопросы, кабы я не слышал разговоров господ Бреноцци и Приазо, касающихся множества тем и среди прочего поведения Наи-наихристианнейшего из королей по отношению к Блистательной Порте и Святому Престолу, а также того, что, мол, из него, Мелани, такой же аббат, как из графа Донхоффа. – Граф Донхофф… а что, недурная находка! – сардонически зашипел Атто, спеша объясниться: – Откуда тебе знать, кто таков этот Донхофф. Впрочем, с тебя будет довольно того, что это дипломатический представитель Польши в Риме. И все эти месяцы, покуда идет война с турком, он весьма и весьма занят. Ну да ладно, ради твоего просвещения скажу тебе: средства посылаемые Иннокентием XI в Польшу на военные действия против Турции, проходят и через его руки. – В каких вы с ним отношениях? – Злостное клеветническое измышление, и ничего более. Граф Ян Казимьерц Донхофф ни в малой степени не аббат, он – командор Ордена Святого Духа, епископ Чезены и кардинал церкви Сан-Джованни в Порта Латина. А вот я – аббат Бобека, согласно воле Его Величества Людовика XIV, выраженной в указе и подтвержденной королевским советом. Другими словами, я получил эту регалию из рук короля, а не папы. А как они заговорили об аббатах? – спросил он, двинувшись с места. Я вкратце пересказал ему то, что нечаянно подслушал, высунувшись из окна: и то, в каком свете Бреноцци преподнес возрастающее могущество французского государя, и как поведал о его союзе с Портой, дабы поставить императора в трудное положение и развязать себе руки для дальнейших завоеваний, и о том, как эти намерения лишили его уважения святого отца. – Вот как! Интересно! – комментировал аббат мой рассказ. – А наш стекольщик прямо-таки неровно дышит по отношению к французской короне и, судя по его враждебным высказываниям, и к моей персоне тоже. Что ж, возьмем это на заметку. – И тут он бросил на меня прищуренный и явно обиженный взгляд, помня, что должен ответить на мой вопрос. – Знакомо ли тебе, что такое право регалии[1132]? – Нет, сударь. – Это право жаловать назначением в епископы и аббаты и распоряжаться церковным состоянием. – Но это право понтифика? – Нет, нет и нет! Ни малейшим образом! Да открой же ты уши наконец, тебе это пригодится позднее, когда подашься в газетчики. Это непростой вопрос: в чьем распоряжении церковное достояние, коль скоро речь идет о территории Франции? Папы или короля? Но чу! Речь не только о праве назначать, оделять бенефициями и пребендами, но еще и о владении самими аббатствами, монастырями, землями. – Так сразу и не скажешь. – То-то и оно. Уже четыре столетия идет спор по этому поводу между понтификами и королями Франции, ведь кому это понравится: делиться своей территорией, хотя бы и с папой. – И что же, было найдено какое-то решение? – Было, но достигнутые договоренности нарушены с восшествием на престол святого Петра нынешнего папы. За последний век юристы наконец выработали решение, по которому право регалии принадлежит королю. И никто более не подвергал этого сомнению. Как вдруг два французских епископа, и оба янсенисты (какое совпадение!), вновь открыли дебаты по этому вопросу и были тут же поддержаны Иннокентием XI. Спор вспыхнул с новой силой. – Вот ведь как, без нашего дорогого папы эта тема была бы навсегда закрыта. – Ну разумеется! Кому другому могло прийти в голову столь неловким образом нарушить отношения, сложившиеся между Святым Престолом и старшим сыном Церкви? – Уф! Ну кажется, я понял, господин Атто, это король назначил вас аббатом, а вовсе не папа, – с трудом пряча свое удивление, подытожил я. Он что-то пробормотал и прибавил шагу. У меня осталось четкое ощущение, что Атто не желал углубляться в этот вопрос. Одновременно я испытал облегчение, освободившись наконец от подозрения, терзавшего меня еще со времени кухонных переговоров Кристофано, Приазо и Девизе, в которых речь шла о темном прошлом моего наставника. Подозрение это усилилось, когда мы с ним разглядывали страницу из Библии, найденную нашими новыми знакомцами. Теперь же все разъяснилось: то, что он был на «вы» со Священным Писанием, вполне согласовывалось с правом французского короля одаривать кого угодно чем угодно. Рядом со мной шагал не настоящий священнослужитель, а обычный певец, кастрат, пожалованный саном и пенсией своим покровителем. – Не слишком доверяйся венецианцам, – вновь обратился ко мне Атто, по своему обыкновению наставляя меня. – Достаточно увидеть, как они ведут себя в отношении турок, чтобы понять их натуру. – Что именно вы имеете в виду? – Да то, что со всеми их галерами, набитыми пряностями, тканями и всякого рода товарами, венецианцы всегда поддерживали тесные связи с турками. Вот в чем дело. С появлением конкурентов, среди которых числятся и французы, их процветанию пришел конец. Нетрудно вообразить, что еще сказал Бреноцци: мол, король надеется на падение Вены для того, чтобы беспрепятственно завоевывать немецкие курфюршества, дабы после поделиться с Портой. Упомянув же Донхоффа, Бреноцци выразился в том смысле, что я якобы нахожусь в Риме с единственной целью – пособить французам как заводчикам смуты. Да, из этого города текут в Вену по воле Иннокентия XI средства на поддержание осажденных. – А на самом деле это не так? – почти утвердительно спросил я, требуя прямого ответа. – Мой мальчик, я здесь не для того, чтобы строить ковы христианам. А Наихристианнейший из королей вовсе не заигрывает с Диваном, – важно ответил он. – Каким еще диваном? – Так называют Блистательную Порту и турок вообще. И помни: вороны летают стаями, орел парит в одиночку. – Как это? – А так! Для чего тебе голова на плечах? Если все советуют тебе идти направо, иди налево. – Но ваше-то какое мнение: законно ли объединяться с турками? Прошло довольно много времени, прежде чем Мелани, по-прежнему не поднимая глаз, заявил: – Никакое угрызение не вправе помешать Его Величеству возобновить ныне союзнические отношения, завязанные с Портой до него другими христианскими королями. – И пустился в пояснения: – Можно насчитать десятки христианских государей, заключавших с османами пакты. Флоренция призвала Мехмеда II на подмогу против Фердинанда I, короля Неаполитанского. Дабы изгнать из Леванта португальцев, путающихся под ногами у венецианских торговцев, Венеция воспользовалась услугами египетского султана. Император Фердинанд из Габсбургов состоял не только в союзниках, но и был вассалом и данником Сулеймана, которого униженно просил о пожаловании ему венгерского трона. Когда Филипп II отправился на завоевание Португалии, то предложил королю Марокко свои владения, дабы умилостивить его, предав таким образом христианские земли в руки неверных с единственной целью – ободрать как липку одного из католических королей. Папы Павел III, Александр VI и Юлий II также не брезговали помощью неверных, когда что-то очень уж подпирало. Всякие там казуисты и схоласты ставили на обсуждение вопрос, а не совершали ли христианские государи грех, действуя подобным образом. Но почти все ученые мужи – итальянцы, германцы, испанцы – приходили к выводу, что нет. И даже полагали, что христианский государь вправе оказать поддержку неверным в войне против другого христианского государя. Их мнение, – изрекал аббат, – покоится на авторитетах и разуме. Авторитеты же берутся из Священного Писания: Авраам сражался за царя Содома, Давид против сынов Израилевых. Не говоря уж о союзах Соломона с царем Херамом и Маккавеев с лакедемонянами и римлянами, в то время язычниками. «Как, однако, хорошо знает Атто Библию, чуть только речь заходит о политике», – мелькнуло у меня. – Разум же, – с убежденной миной вещал Мелани, – зиждется на том факте, что создатель природы и религии – Бог. И потому невозможно сказать, что то, что верно для природы, не верно для религии, если только какое-нибудь божье установление не заставляет нас думать иначе. В данном случае никакое божественное установление не запрещает подобных союзов, особенно коль скоро в них есть нужда, а природное право делает честными все разумные способы, от коих зависит наше спасение. Завершив свою ученую речь, аббат Мелани наконец поднял на меня глаза, назидательно сдвинув брови. – Значит ли это, что король Франции может вступить в союз с Диваном на законных основаниях? – не совсем еще освоившись в данном вопросе, спросил я. – О да! Ради зашиты своих территорий и католической веры от императора Леопольда I, чьи мелочные намерения попирают все установления, как божеские, так и человеческие. Ну посуди сам. Леопольд вошел в союз с еретической Голландией первым предав веру. Никто тогда и словом не обмолвился. Зато всем миром кто во что горазд поносят Францию, а она всего-то и виновата в том, что воспротивилась Габсбургам и иным европейским монархам. С начала своего правления Людовик ХIV как лев сражается, чтобы не позволить раздавить себя. – Раздавить? Но кому? – Прежде всего Габсбургам, которые со всех сторон окружили его. С одной стороны, империя с центром в Вене, с другой – Мадрид, Фландрия, испанские владения в Италии. С севера угрожают Англия и Голландия, еретические страны, в чьих руках моря. Мало этого, папа и тот против него. – Но раз такое множество государей считают, что Наихристианнейший из королей представляет опасность для европейской свободы, должна же в этом быть хоть капля истины. Вот ведь вы мне тоже сказали… – То, что я сказал тебе о короле, не имеет никакого отношения к тому, что занимает нас в данную минуту. Не решай раз и навсегда, каждый случай рассматривай, будто это впервые. И запомни: в отношениях между государствами понятие абсолютного зла отсутствует. И прежде всего не суди о порядочности одних, исходя из непорядочности других: как правило, виноваты обе стороны. Стоит жертвам заступить на место палачей, они свершают те же беззакония. Помни это, не то будешь служить Маммоне[1133]. – Тут аббат умолк, словно желая собраться с мыслями, и печально вздохнул. – Не гонись за обманчивым солнцем человеческого правосудия, – с горькой усмешкой продолжил он чуть погодя, – ибо когда ты его догонишь, обнаружишь там лишь то, от чего бежал. Один Господь Бог справедлив. Опасайся тех, кто провозглашает себя милостивыми и справедливыми, когда они кажут на демона в рядах своего противника. Этот для них не король, а тиран, тот не суверен, а деспот, третий не верен заповедям Христа. – Как сложно во всем этом разобраться! – вырвалось у меня из глубины сердца. – Не так сложно, как тебе кажется. Я уже говорил тебе: вороны летают стаями, орел парит в одиночку. – А знание всего этого поможет мне стать газетчиком? – Нет. Только создаст препятствия. Далее мы продвигались храня молчание. Сентенции аббата мало сказать изумили меня, вот я молча и переваривал их. Особенно поразило меня, как рьяно бросался он на защиту короля-Солнца, чей мрачный и надменный лик был явлен мне, когда речь шла о Фуке. И все же я восхищался Атто, пусть мои младые лета и не позволяли мне в полной мере понять и воспринять те ценные знания, которые он мне расточал. – И еще одно. Знай, королю Франции нет нужды затевать что-либо против Вены: если империя рухнет, в ответе будет трусость императора Леопольда. Когда турки подошли к Вене, тот бежал под покровом темноты, как какой-нибудь воришка, а народ в бешенстве колотил кулаками по его карете. Нашему Бреноцци следовало бы об этом знать, ведь венецианский посол в Вене присутствовал при сей жалкой сцене. Коли хочешь, так слушай Бреноцци, но не забудь: когда папа призвал Европу на борьбу с турками, лишь одна держава помимо Франции уклонилась: Венеция. Тут уж я и вовсе прикусил язык. Атто не только блистательно разбил все обвинения Бреноцци в адрес Франции, поворотив их против Леопольда I и Венеции, но и раскрыл мне подоплеку подозрений стекольщика в свой адрес. Обдумать последнее доказательство феноменальной прозорливости Атто у меня, однако, не хватило времени: мы добрались до того мрачного места под названием «Архивы», где накануне попались в сети, расраставленные Угонио и Джакконио. Согласно договоренности несколько минут спустя появились и они сами. Никогда нельзя было с точностью установить, откуда но из-под земли перед вами вырастут эти мрачные личности, и в дальнейшем мне не раз пришлось в этом убедиться. Как правило, их появление предварялось резким запахом козла, тухлятины, гнилого сена, проще говоря, специфическим набором ароматов, сопровождающих римских бродяг. После чеговозникали и их силуэты, на первый взгляд похожие на выходцев с того света. – И ты называешь это планом? – истошно завопил аббат Мелани. – Два обалдуя и больше ничего. Прими это, мой мальчик, пригодится подтирать Пеллегрино задницу. Не успели мы рассесться вокруг фонаря, дабы обделать дельце, о котором договорились в ходе предыдущей встречи, как Мелани буквально взорвался. Приняв из его рук обрывок бумаги, переданный ему Джакконио, я тоже не мог удержаться от возгласа удивления.
Мы условились с искателями реликвий о следующем: они получают свою страницу из Библии, за которую так держатся, лишь в обмен на тщательно разработанный план подземных галерей, протянувшихся в утробе города, начиная от «Оруженосца». Мы были твердо намерены оставаться верными взятым на себя обязательствам (Атто считал, что эта парочка еще понадобится нам) и принесли с собой закапанный кровью клочок бумаги. В обмен же получили грязную бумажонку, которую и бумагой-то можно было назвать лишь с большой натяжкой. Сотни дрожащих, переплетающихся между собой в каком-то безумном пароксизме линий были нанесены на нее. Если иные и имели начало, то конец их терялся в естественных складках этой обветшавшей, видавшей виды и, по правде сказать, вот-вот готовой распасться материи. Атто впал в ярость и обращался ко мне так, словно эти два существа уже прекратили свое существование, сметенные ураганом его презрения: – Этого следовало ожидать. День-деньской копающиеся в дерьме под землей, словно кроты, просто не могут быть оделены разумом. Подумать только: мы вынуждены прибегнуть к их помощи, чтобы продвигаться по подземному Риму! – Гр-бр-мр-фр! – явно задетый за живое воспротивился Джакконио. – Молчи, презренный! Лучше послушай, что я скажу. Страницу получите, когда я этого захочу, не раньше. Имена ваши мне известны, я друг кардинала Чибо, государственного секретаря Курии. Могу сделать так, что ваши реликвии никогда не будут признаны подлинными и никто больше не купит у вас хлам, который вы здесь прикапливаете. И потому вы окажете нам свои услуги, с Малахией или без оного. А теперь живо показывайте, как отсюда выбраться. Трепет охватил грозных расхитителей древних захоронений, осле чего Джакконио печально поместился во главе нашего отряда и махнул рукой в неопределенном направлении. – Уж не знаю, как им это удается, но они всегда находят в темноте дорогу, без фонаря, как крысы. Ступай за мной, ничего не бойся, – заметив мое беспокойство, проговорил Атто. Выход, к которому вели нас наши провожатые, был в противоположном «Оруженосцу» направлении. Чтобы воспользоваться им, нужно было протиснуться в такую узкую дыру, что это едва было под силу Угонио и Джакконио: для этого им пришлось чуть ли не распластаться. Атто тут же стал чертыхаться, и не только из-за узости прохода, но еще и потому, что запачкал кружева манжет и красные чулки. Странно, что аббат постоянно был одет в самое дорогое и изысканное платье – и когда находился в своих покоях, и когда по ночам спускался под землю. Наряд его был непременно из самого дорогого материала: генуэзского атласа, саржи, испанского ратина, клетчатого поплина, фландрского камлота, дрогета, ирландского драпа, и неизменно отделан шитьем, металлическими пластинами, канителью, лентами, волнами кружев, наложенных друг на друга рядами, и галуном. И все это великолепие он обрек на печальный и бесславный конец только потому, что не имел в своем гардеробе повседневной одежды. Выбравшись из узкого и вытянутого, как горлышко бутылки, прохода, мы оказались в галерее, напоминающей ту, что вела от «Оруженосца». И пока я проще остальных преодолевал тесное пространство, меня взяло раздумье: до сих пор аббат Мелани выражал горячее желание поймать проходимца-вора, возможно, имеющего отношение к смерти Муре, но позже раскрыл мне подлинную цель своего приезда в Рим – разгадать тайну местонахождения Фуке. Вот я и подумал, а достаточно ли было первого побуждения, чтобы оправдать ту поспешность, с которой он ринулся в наши ночные блуждания? И чуть было не засомневался во втором. Восхищаясь общением с этим человеком, столь же незаурядным, как и обстоятельства, при которых произошло наше знакомство, я отмахнулся от этих вопросов, решив, что еще не пришло время давать на них ответы. Мы двинулись вперед, мрак слегка редел от света нашего фонаря. Преодолев несколько десятков канн, мы оказались сперва на развилке: галерея раздваивалась, налево уходила еще одна ей подобная – а потом чуть ли не сразу и на перепутье. Кроме того, справа возникло что-то вроде пещеры. – Гр-бр-мр-фр, – проклокотал Джакконио, нарушив тишину, з которой совершалось наше шествие. – Что сие означает? – строго поинтересовался Атто у Угонио. – Джакконио поговаривает, мол, можно выскочить через эту лазейку. – Отчего же мы этого не делаем? – Джакконио задается вопросом, будете ли вы прямо здесь выскакивать на свет божеский либо же отдадите предпочтение более безопаснейшему поднятию наверх? Как говорится, скрупулом больше, скрупулом меньше, а скрупулезность не помешает ни при каких обстоятельствах. Аббата аж передернуло. – Ты спрашиваешь, где бы мы хотели подняться на поверхность? Но откуда мне знать? Сперва нужно оглядеться, а уж потом понять, что делать дальше. Не думаю, что так уж сложно представить расположение этих ходов, будь они неладны. – Гр-бр-мр-фр? – полюбопытствовал Джакконио у своего компаньона. – Джакконио берет сомнение, так ли уж правильно он вас понял? – перевел Угонио. – Я сказал следующее: исследуем по-быстрому все эти ходы, ведь это, кажется, не так уж трудно. Согласны? И тут случилось нечто неожиданное: наши вожатые разразились животным, нечеловеческим хохотом, и ну хвататься за бока и надсаживать живот со смеху, и ну кататься по грязи, бывшей у нас под ногами, дрыгать ногами и издавать диковинные гортанные звуки и выхлопы с обратной стороны тела. На глазах у них выступили слезы, и они никак не могли остановиться. – Ну и дела! – только и пробурчал аббат Мелани, понимая, конечно, как и я, что этим безудержным смехом они мстили нам за тот холодный прием, который был оказан составленному ими плану подземного Рима. Когда они угомонились и перестали выкобениваться, мы потребовали объяснений. Со свойственным ему многоглаголением Угонио заявил, что мысль breviter et commoditer[1134]исследовать подземный город показалась им в высшей степени дерзкой, ведь, как и многие другие люди их профессии, они давно уже пытались понять, имелись ли вообще начало, середина и конец у дорог, по которым они рыскали, и был ли человеческий разум в состоянии познать это погребенное под многочисленными напластованиями место обитания или хотя бы способствовать тому, чтобы выбраться из него в случае потери ориентировки. Вот отчего предложенный ими план должен был нам понравиться. До сей поры, пояснил Угонио, никто еще не отваживался на беспримерное дело представления подземного Рима во всей его целостности, и чрезвычайно немногочисленны были те, кто, как они с Джакконио, могли похвастаться углубленным знанием сети галерей и залов. Однако драгоценная жатва, собранная с поля познания (разумеется, не– доступная никому иному, подчеркнул оратор), увы, пришлась нам не по душе… Мы с Атто переглянулись и дружно спросили: – Где план? – Гр-бр-мр-фр, – безутешно пробасил Джакконио. – Джакконио с превеликим уважением отнесся к холерическому отказу вашего непреклонного превосходительства, наделенного столь высочайшими полномочиями, – отчеканил Угонио бесстрастным голосом. А в это время его компаньон отрыгнул в ладонь кашицу, в которой можно было признать то, на чем был начертан план. Однако никому и в голову не пришло броситься на его спасение. – Скорее отец, нежели отцеубийца, Джакконио всегда кончает поеданием того, что не по нем. Так что ежели что, извините, господа хорошие, – с достоинством прокомментировал Угонио произошедшее на наших глазах. Мы были убиты. План, чье значение только что открылось нам, был безвозвратно утерян, побывав в желудке Джакконио и вернувшись оттуда в непереваренном виде. Могли ли мы знать, что он, подобно мифологическому персонажу, поглощает свои I собственные творения, не пришедшиеся по нраву ему либо кому-то из окружающих. – А питается ли он чем-нибудь еще? – задал я вопрос, имеющий непосредственное отношение к тому, чем я сам занимайся в жизни. – Гр-бр-мр-фр, – пожав плечами, молвил Джакконио, из чего можно было заключить, что он не придавал большого значения тому, что попадало ему на зуб. Джакконио сообщил нам, что из второго перепутья, там, где находился небольшой подземный зал, был ход на поверхность, но это далеко не близкий и притом кружной путь. Атто постановил: лучше исследовать отклонение влево, которое начиналось у развилки. Мы повернули вспять и не успели преодолеть нескольких канн, как Угонио потребовал внимания Атто, приступив к тому и дергая его за рукав. – Джакконио унюхал представителя в галерее. – Эти бестии думают, что поблизости кто-то есть, – шепнул мне Атто. – Гр-бр-мр-фр, – подтвердил Джакконио, кивком указав на галерею, с которой начался наш путь. – Как знать, возможно, кто-то и следует за нами. Мы с Джакконио останемся здесь, в темноте. А вы ступайте вперед с двумя фонарями. Он последует за светом, и мы его засечем, – постановил Атто. Перспектива остаться один на один с грозой могил и склепов вовсе мне не улыбалась, но я не смел ослушаться, как, впрочем, и остальные. Мелани с Джакконио затаились во мраке. И вдруг я почувствовал, как сильно забилось мое сердце. Стало нечем дышать. Продвинувшись пядей на двадцать вперед, мы остановились, вслушиваясь в тишину. Ни звука. – Джакконио учуял представителя и запах листьев, – шепнул Угонио. – Ты имеешь в виду листья какого-то растения? Он кивнул. Чей-то силуэт мелькнул в галерее. Я весь напрягся, плохо понимая, что делать дальше – напасть самому, отбиваться или бежать. Последнее было предпочтительнее. Оказалось, это Атто взмахом руки подзывал нас с себе. – Незнакомец не следовал за нами, – объяснил он, когда мы приблизились. – Он сам по себе. Углубился в главную галерею, что берет начало от узкого прохода. Скорее всего мы следуем за ним. Однако стоит поспешить, не то мы его упустим. Мы дошли до того места, где нас поджидал неподвижный, похожий на большеносое изваяние Джакконио. – Гр-бр-мр-фр, – издал он. – Мужской представитель, моложав, здоровущ, пужлив, – привычно перевел Угонио. – Мужского пола, молод, отменного здоровья и напуган, – буркнул Атто себе под нос. – Как они мне осточертели! Мы повернули налево и побрели вперед, потушив один из фонарей. Чуть погодя вдали забрезжил свет. Это был тот, за кем мы гонялись все это время. Атто попросил загасить огонь и второго фонаря. Далее мы двигались крадучись, на цыпочках, стараясь не шуметь. Так мы следовали за незнакомцем в продолжение довольно долгого времени, пытаясь разглядеть его, но безуспешно, поскольку галерея все время заворачивала вправо. Прибавь мы шагу – он бы нас приметил и был таков. И тут что-то заскрипело у меня под ногами: я слегка поскользнулся на попавшем под ноги листочке. Мы окаменели и задержали дыхание. Тот тип впереди тоже остановился. А вслед за тем шум шагов стал приближаться. Замаячила чья-то тень. Мы изготовились к отражению удара. Гробокопатели тут же превратились в две мумии в капюшонах. В руках Атто что-то блеснуло. «Ага! – отрадно отозвалось у меня где-то в пятках, куда ушла душа, – Атто при своей трубке». За поворотом все прояснилось. Оказывается, впереди нас находилось некое чудовище. Свет его фонаря выхватил сначала отраженную на стене галереи страшную крючковатую руку, затем продолговатый тыквообразный череп, покрытый густой растительностью, и бесформенное непропорциональное тело. И это адское существо направлялось к нам, угрожающе скребя когтями. Ужас объял нас и приковал к месту. Еще один, два, три шага, и мы бы встретились с ним. – Изыди! Я вздрогнул, силы покинули меня. Кто-то закричал. Тень на стене приобрела угрожающие размеры, запредельно деформировавшись и теряя вообще какие-либо очертания. А затем уменьшилась до обычных размеров, и тот, кто так напугал нас, предстал пред нами во плоти. Это была крыса размером с небольшую собаку, передвигавшаяся неловкими перебежками. Вместо того чтобы, завидя нас, совершить прыжок (как та крыса, на которую мы с Атто наткнулись во время первой прогулки по подземному Риму), она еле плелась, безразличная к чьему-либо присутствию. Сдавалось, она не совсем здорова. На стене появился ее профиль, увеличенный до гигантских размеров. – Ах ты паскудина, как же ты меня напугала, – произнес чей-то голос. После чего свет фонаря снова стал удаляться, но до того, как темнота окутала нас полностью, мы с Атто успели переглянуться. Мы оба узнали голос Стилоне Приазо. Оставив позади агонизирующую крысу, мы продолжили путь. Вихрь предположений и догадок вызвал во мне голос неаполитанца. Я почти ничего не знал о нем, разве что то немногое, о чем он сам упомянул в разговоре со мной. Он выдавал себя за поэта, но жил явно не только сочинением виршей. Сколько я мог заметить, одет он был не богато, но все же лучше, чем мог себе позволить рифмоплет, подвизающийся на случайных заработках. С самого начала мне пришло в голову, что источник его доходов может быть отличным от того, который он указал. Теперь, при встрече с ним в подземной галерее все мои сомнения ожили. Мы еще какое-то время следовали за ним и вскоре наткнулись на ступени узкой и удушливой лесенки, ведущей наверх. Продвигались мы в полной темноте, друг за другом, под предводительством опытного следопыта Джакконио. Ему не составляло труда разбирать дорогу и о малейших изменениях и препятствиях сообщать мне, идущему вслед за ним, похлопыванием по плечу. Когда ступени кончились, Джакконио на краткий миг остановился. Вдруг завеяло совершенно иным воздухом. Судя по вкрадчивому эху, производимому нашими сторожкими шагами, мы оказались в просторном зале. Джакконио явно колебался. Атто попросил меня засветить фонарь. Каково же было мое удивление, когда наполовину ослепленный я огляделся. Мы находились в огромном зале искусственного происхождения со стенами, целиком покрытыми фресками. В центре вырисовывались очертания некоего громоздкого тяжелого предмета, определить назначение которого мне пока не удавалось. Для наших проводников эти места тоже, судя по всему, были малознакомыми. – Гр-бр-мр-фр, – пожаловался Джакконио. – Запашок мешает учуять представителя. Имелось в виду, что сильный застоявшийся запах мочи, царивший в этом месте, не позволял Джакконио продолжать преследование. Атто завороженно разглядывал фрески с изображенными на них птицами, атлетами, женскими головками, цветочным орнаментом и рассеянными там и сям забавными звездочками. С трудом оторвав от них взгляд, он молвил: – У нас нет времени. Мы не можем дать ему уйти. Вскоре мы освоились, разобрались, что к чему, и обнаружили два выхода из зала. Джакконио ожил, принюхался получше и указал нам на один из них, твердым шагом поведя нас далее по лабиринту других залов, которых мы уже не могли рассмотреть по причине спешки и слишком тощего освещения. Отсутствие окон, вольного воздуха и человеческого присутствия явственно указывало, что мы все еще находимся под землей. – Это древнеримские руины, – каким-то особенно приподнятым тоном произнес Атто. – Возможно, мы сейчас под дворцом Канцелярии. – Почему вы так считаете? – Мы очутились внутри довольно большого лабиринта помещений, что свидетельствует о том, что над нами крупное сооружение. Часть Колизея и арка Джордано были разрушены, чтобы было из чего возвести этот дворец. – Вы там бывали? – Вестимо. Я знавал вице-канцлера, кардинала Барберини, нуждавшегося в моих услугах. Дворец великолепен, залы его грандиозны, фасад из травертинового известнякового туфа также не лишен приятности, даром что… Ему пришлось прерваться, поскольку Джакконио предлагал нам одолеть крутую лестницу без перил, на вид парящую в воздухе. Чтобы не свалиться, пришлось всем взяться за руки. Подъему, казалось, не будет конца. – Гр-бр-мр-фр! – победно вскричал Джакконио, упершись в дверь. Толкнув ее, мы оказались на улице. После пяти дней, проведенных взаперти, я невольно набрал побольше воздуху в легкие, обрадовавшись ночной прохладе. Наконец сгодился и я, тут же признав часть города, в которой мы оказались: я не раз бывал здесь с Пеллегрино, сопровождая его в походе за съестным, предназначенным для нашего постоялого двора. Это была Арко дельи Ачетари, соседствующая с Кампо ди Фьоре и площадью Фарнезе. Поведя носом, Джакконио повлек нас на просторную площадь, где располагался цветочный рынок. С неба тихо сыпал мелкий дождик. На площади было безлюдно, если не считать двух нищих с их скарбом, примостившихся на мостовой, да мальчика с тележкой. Джакконио указал нам на небольшое здание в переулке на другой стороне площади. Переулок был мне знаком, только вот название его я запамятовал. Ни единого проблеска света не пробивалось из окон этого здания, а дверь между тем оставалась приоткрытой. Хотя вокруг не было ни души, наши знакомцы жались из предосторожности поближе к нам с аббатом. Приблизившись к двери, мы услышали чей-то приглушенный голос. Я осторожно толкнул дверь. Несколько ступеней вели на верхний этаж, из-за приоткрытой двери которого выбивалась полоска света. Оттуда и доносился тот голос, который мы слышали. Теперь ему отвечал еще один. Атто первым шагнул на лестницу, за ним – мы. И тут мы заметили, что ступаем по настоящему ковру из разбросанных бумажных листков. Атто подобрал один из них. Голоса стали ближе. Те, кому они принадлежали, стояли теперь у самой двери. – Вот вам сорок экю, – говорил один. Мы поспешили спуститься и выйти из здания, позаботившись о том, чтобы оставить дверь приоткрытой, как это было начале. После чего все четверо спрятались за углом. Мы вовремя убрались: вскоре входная дверь распахнулась, и на пороге показался силуэт Стилоне Приазо. Он огляделся и быстро зашагал по направлению к Арко дельи Ачетари. – Куда теперь? – А теперь откроем ларчик! – последовал ответ Атто. Он что-то шепнул нашим бесстрашным сопровождающим лицам, ответом ему была их кривая ухмылка. После чего они устремились за Стилоне. – А мы? – замирая от ужаса, выдавил я. – Возвращаемся, но не спеша. Наши друзья будут ждать нас под землей после выполнения небольшого задания. В другой раз пересекать площадь Кампо ди Фьоре мы не стали. Неподалеку располагалось здание французского посольства, как было известно Атто, и мы подвергались риску быть задержанными. Благодаря своим связям Атто наверняка мог попросить там убежища. Однако в это время суток корсиканцы, что несли службу на дверях посольского особняка скорее предпочли бы ограбить нас и зарезать, чем задержать. – Как тебе возможно известно, в Риме существует так называемая свобода околотка: папские сбиры и Барджелло не имеют права брать под стражу кого бы то ни было в тех кварталах, где расположены посольства. Но поскольку этим стали пользоваться грабители и беглые преступники, корсиканские гвардейцы не утруждают себя разбирательством, кто перед ними. Увы, мой брат Алессандро, регент хора кардинала Памфили, несколько дней назад покинул Рим. Он мог бы обеспечить нам охрану. И вот мы снова спустились под землю. Благодарение Богу, фонари наши исправно светили. Углубившись в лабиринт в поисках зала с фресками, мы чуть было не заблудились, как вдруг перед нами опять словно из-под земли выросли наши проводники. – Ну что, беседа прошла в теплой дружеской обстановке? – поинтересовался Атто. – Гр-бр-мр-фр! – довольно хмыкнул Джакконио. – Что вы сделали? – предчувствуя недоброе, спросил я. – Гр-бр-мр-фр. Это меня успокоило. У меня появилось любопытное ощущение, что я стал схватывать общий смысл монотонных высказываний Джакконио. – Джакконио только и сделал делов, что напужал представителя, – заверил нас Угонио. – Вообрази, – обратился ко мне Атто, – что никогда прежде не видел наших друзей, и вдруг они в темноте с воплем набрасываются на тебя в одном из подземных ходов. Каково? Да еще просят тебя об услуге в ответ на жизнь. Что бы ты сделал? – Я бы без колебаний оказал им ее! – Вот они и спросили у Стилоне, чем он был занят этой ночью. Из рассказа Угонио следовало: бедняга Приазо наведался к некоему Комареку, который время от времени подрабатывал в печатне Конгрегации распространения вероучения, а по ночам нелегально закрывал еще и бреши в своем бюджете, издавая газеты, подметные письма и даже, возможно, труды, вошедшие в Index[1135], словом, всякую запрещенную литературу, за что ему хорошо платили. Стилоне Приазо заказал ему письма с политическими прогнозами для одного неаполитанского друга. В обмен предполагалось поделить прибыль пополам. Такова была истинная цель его приезда в Рим. – А при чем тут Библия? – спросил Атто. Оказалось, что ни при чем. Он ушел от Комарека с пустыми руками. – Значит, не он обронил страницу из Библии. Вы уверены, что он сказал вам правду? – Гр-бр-мр-фр, – пустил густой смех Джакконио. – Представитель-то того, с перепугу обмочился, – весело пояснил Угонио. В довершение закадычные приятели обыскали Приазо и нашли при нем крошечное потрепанное издание, с которым он, по-видимому, не расставался. Перед тем как пуститься в обратный путь, Атто поднес находку к фонарю:
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ О ВЛИЯНИИ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ, как положительном, так и отрицательном, на земные дела на протяжении 1683 года, исчислен по долготе и широте Светлейшего города Флоренции Бартоломео Альбиццини Флорентийцем и посвященным им Прославленному и досточтимому синьору ДЖИО: КЛАУДИО БУОНВИЗИ Послу несравненной Республики Лукка при светлейшем Великом герцоге Тосканском Козиомо III– Кто бы мог подумать, книжка астрологических прогнозов! – обрадовался Атто и запел: Светила – факелы Так пышут жаром… Выводимые им мелодические рулады вызвали восхищение Джакконио. – О-о-о! Певец-кастрат! – подобострастно зааплодировал Угонио. – Я еще раньше догадался, что Стилоне – газетчик, – продолжал Атто, не удостаивая даже толикой внимания двух новых почитателей его таланта. – Но вот чего бы никогда не подумал, так это того, что он занимается предсказаниями. – А как вы догадались, что он – газетчик? – Внутреннее чутье. Куда ему в поэты. Поэты – народ меланхолического склада: лиши их покровительства, и на них это тотчас скажется. Ищут любого предлога, чтобы прочесть вам свои вирши, скверно одеваются, стремятся поживиться за чужой счет. Стилоне же и выражается, и смотрит не «на пустое брюхо», как говорят у него на родине. Правда, он скрытен от природы, как и Помпео Дульчибени, не любит нести бог весть что в отличие от Робледы. – А что такое астрология? – Ты ведь в общих чертах представляешь себе, чем занимаются астрологи? – Более или менее. Пытаются предугадать будущее с помощью звезд. – В целом это так. Но это не все. Заруби себе на носу то, что я тебе скажу, если собираешься стать газетчиком. Есть два типа астрологов: просто астрологи, то есть звездочеты, и астрологи-предсказатели. Последние утверждают, что звезды и планеты не только излучают свет и тепло, но и обладают оккультными свойствами, благодаря чему оказывают влияние на все, что находится под небом. В это время мы в обратном направлении шли по той самой галерее, где нас напугала издыхающая крыса. – Астрологи ввязались в опасную игру. Не довольствуясь влиянием звезд и планет на природу, они распространяют его и на людей. Основываясь единственно на месте и времени рождения, пытаются предвидеть, как небо влияет на жизнь, характер, здоровье, состояние и уход из жизни человека. – А при чем тут газетчики? – А вот при чем. Кое-кто из астрологов является еще и газетчиком, то есть строит политические предвидения. Таков и наш Стилоне Приазо, безбоязненно разгуливающий днем с книжицей гороскопов, а ночью печатающий прогнозы. – А разве это запрещено? – Еще бы! Сколько примеров, когда наказания понесли сами астрологи и их друзья, в том числе и люди духовного звания. Несколько лет тому назад я интересовался этим вопросом и узнал, что папа Александр III[1136] на три года отрешил от сана одного священника, который прибегал к астрологии с совершенно невинной целью – отыскивать похищенные из его церкви предметы культа. Я крутил в руках книжицу, изъятую у Стилоне Приазо. Атто между тем продолжал: – Я повидал десятки подобных книжонок. Иные назывались «Астрологические шутки», другие «Астрологические фантазии», чтобы отвести от них подозрения в более серьезных намерениях, ведь астрология способна влиять на политические решения. Все это невинные пособия с советами на будущий год. Однако наш Стилоне не такая уж продувная бестия, если навещает подпольные печатни с такого рода пособиями! Я испуганно протянул книжку Атто. – Оставь ее себе. Я сунул ее за пояс и прикрыл курткой. – А верите ли вы, что астрология способна помочь страждущим? – Нет. Но многие врачи придают ей немалое значение. Так, Гален оставил труд «De diebus chriticis»[1137]– о лечении больных согласно положению светил. Я не астролог, но знаю, что желчекаменную болезнь следует лечить, когда Луна… – В Раке, – в нашу беседу неожиданно встрял Угонио, чем нимало поразил нас. – Луна в Раке, третной аспект, Меркурий… – забурчал он себе под нос, – приступай к очищению организма больного от желчи; сикстиль, или третной аспект в Солнце – лечи флегму; аспект в Юпитере – меланхолию. А вот если Луна в знаках Дракона, Козерога, Тельца, то есть жвачных животных, – возможны необратимые последствия, и тем большие, чем ближе к северу, ибо испорченные мокроты удаляются из тела попарно, а борей своим могучим воздействием еще более способствует выгонке жидкостей. Необходимо принимать во внимание означенные третные аспекты, дабы не навредить, принести больше benefice [1138], чем malefice [1139], стать скорее отцом, нежели отцеубийцей, и состоять в ладу со своей совестью, ибо сказано: в скрупулезном исполнении своих обязанностей черпает верующий свою радость, и потому так важен каждый недоданный скрупул снадобья. К примеру, при завалах в кишечнике, если применять метод Скьялаппы… Мы с Атто так и застыли с разинутыми ртами. – Я вижу, среди нас завелся подлинный знаток медицинской астрологии, – придя в себя, заключил Мелани. – И откуда у тебя все эти познания? – Гр-бр-мр-фр, – вставил Джакконио. – Да уж приумножаем знания, почитываем летучие изданьица. – Летучие издания? Джакконио указал на книжицу у меня в руках. – Ах это… Держись, мой мальчик. Вперед, а то, боюсь, как бы Кристофано не заподозрил чего. Не так-то просто будет объяснить, куда мы запропастились. – Стилоне тоже не было. – Думаю, он уже у себя. После встречи с нашими неотразимыми уродами он, надо думать, припустил во все лопатки. Занятия астрологией и привели Стилоне Приазо, по мнению Атто, в Рим. Для обделывания своих темных делишек ему нужна была возможность незаметно исчезать по ночам. А поскольку он уже не в первый раз останавливался в «Оруженосце», то, стало быть, знал о подземных ходах. – Как по-вашему, имеет ли он отношение к смерти господина де Муре и исчезновению моих жемчужин? – Слишком мало оснований утверждать подобное, мой мальчик. Надобно понаблюдать за ним. Он уж верно не раз пользовался тайными ходами. Чего не скажешь о нас. Проклятие! Будь у нас план наших приятелей, пусть и грязный и запутанный, у нас было бы громадное преимущество! К счастью, небольшое преимущество у нас все же было: мы теперь знали кое-что о Стилоне, а он о нас – нет. – Как бы то ни было, загляни к нему перед тем как лечь, я не очень-то доверяю этим двум типам. Так мы добрались до того узкого прохода, что вел к стадиону Домициана под площадью Навона. Атто отпустил было наших провожатых, назначив встречу на следующую ночь, через час после захода солнца, обещая вознаградить за усердие. – Гр-бр-мр-фр, – взъерепенился вдруг Джакконио. Приятели отказывались уходить, не получив свою страницу из Библии, в этом им было отказано, поскольку мы так и не установили, что это было. Атто протянул ее мне, наказав беречь, а дружкам предложил денежное вознаграждение. – Что сделано, то сделано, тут уж ничего не попишешь, – доставая кошелек, умиротворенно приговаривал он. – Что ни говори, а вы его нарисо… И вдруг замер на полуслове с выражением крайнего изумления на лице. После чего наклонился, зачерпнул горсть земли и посыпал ею плечо Джакконио, который от удивления остолбенел. Взяв страницу из Библии, Атто развернул ее и приложил к хламиде Джакконио в том месте, которое было выпачкано землей. Словно по волшебству лабиринт со знакомыми очертаниями вновь отпечатался на бумаге.

– Паршивцы, – завопил Атто благим матом, испепеляя их взором. Те неподвижно и приниженно ждали кары. – Никогда так не поступайте, слышите, никогда! – добавил он и сунул кошелек обратно в карман. После их ухода он обратился ко мне: – Ты понял? Они хотели провести нас, как мальчишек. Просто прижали лист бумаги к козлиной шкуре, из которой сделаны их балахоны, добавили несколько штрихов и voila, план готов! Но нет, шалишь, я не позволю так с собой обращаться. Я узнал закорючку в центре плана, она точь-в-точь как штопка на плече у Джакконио. Попались, голубчики! Падая от усталости, глубокой ночью вернулись мы в «Оруженосец». Простившись с Атто, я стал подниматься по лестнице, когда приметил слабый свет, выбивающийся из-под двери одной из комнат третьего этажа. Это была комната Стилоне Приазо. Аббат просил меня приглядеть за ним, и я решил не откладывать этого в долгий ящик. – Кто там? – донесся из-за двери дрожащий голос, когда я попытался заглянуть внутрь. Я назвался и вошел. Бледный, перепачканный грязью неаполитанец забился в постель, словно затравленный зверь. Я сделал вид, что не замечаю, в каком он состоянии, благо помещение было скверно освещено. – Что это ты на ногах в такой час, юноша? – Подавал хозяину урыльник, – солгал я. – А вы? – Я… мне приснился кошмар. Как будто бы два монстра напали на меня в темноте и отобрали все деньги и книги, которые были при мне. – Как, у вас были и деньги? – спросил я, не ожидая услышать эту подробность, скрытую от нас шельмами. – Да, они расспрашивали… словом, мучили меня, не давая передышки. – Какой ужас. Вам следует отдохнуть. – Это не в моих силах. Они все еще стоят у меня перед глазами, – дрожа всем телом, говорил он, уставившись в одну точку. – Я тоже в последние дни вижу странные сны, смысл которых мне не ясен, – чтобы ободрить его, признался я. – Смысл… – повторил вслед за мной Стилоне с каким-то оторопелым выражением лица, – сновидений не разгадать, коли ты не настоящий толкователь, а шарлатан или какая-нибудь прости-господи, которая пытается выманить у тебя денежки. Тут я покраснел и попытался перевести разговор на другую тему. – Если вы не хотите спать, я могу с вами немного посидеть. Мне тоже что-то не спится, – солгал я, в надежде вызнать у него что-нибудь, могущее пригодиться Мелани. – Я не прочь. Если бы ты еще почистил мое платье, пока я стану мыться… Он встал, разделся и направился к лохани, где стал отмываться от грязи. Подойдя к постели, чтобы забрать его вещи и щетку, приготовленные им для меня, я увидел записную книжку со странными знаками. А рядом, на полке, стояли старинные фолианты, на корешках которых были названия: Myrotecium, Protolume chimico echeggiante, Antilucerna fisica oroscopante. [1140] – Вы интересуетесь алхимией и предсказаниями? – спросил я, немало пораженный непонятными названиями. – Вовсе нет, – резко обернувшись, отвечал Стилоне. – Видишь ли, эти книги написаны стихами, и я заглядываю в них, чтобы почерпнуть немного вдохновения. Тебе ведь известно, что я поэт? – О да, – прикинулся я простодушным дурачком и принялся чистить одежду. – Да и кроме того, астрология запрещена. – А вот и нет, – обиженно возразил он. – Запрещено лишь составление гороскопов. Чтобы не огорчать его еще больше, я сделал вид, что впервые слышу обо всем этом. И тогда он менторским тоном повторил мне все то, что я и без него уже знал от Атто. – Лет пятьдесят назад папа Урбан VIII весь свой гнев обрушил на предсказателей человеческих судеб, хотя предыдущие тридцать лет отношение к ним было сносным. Их слава даже росла у охочих до благоприятных прогнозов кардиналов, государей, прелатов. Тогда это было как гром среди ясного неба, и сегодня еще те, кто читает судьбы по звездам, подвергаются серьезной опасности. – Жаль, а как было бы хорошо узнать, что уготовано нам судьбой в ходе того переплета, в который мы угодили: то ли нас переведут в лечебницу, то ли мы выйдем из «Оруженосца» живыми и невредимыми. Я нарочно провоцировал Стилоне, но где уж ему было об этом догадаться. – Как знать, может статься, с помощью астролога мы поняли бы, стал ли господин де Муре жертвой чумы или был отравлен, как предполагает Кристофано, – пошел я еще дальше. – И в случае чего защитились бы от убийцы. – Нечего и думать. Более любого другого смертного оружия яд избегает бдительного ока небесных светил. Никакой попытке разгадать и предвидеть не расстроить его планов. Если б мне приспичило кого убить, я бы выбрал яд. Я побледнел. Оправдывались мои подозрения. Астрологи и яд. И тут я вспомнил о том разговоре, что затеяли наши постояльцы у трупа бедного г-на де Муре в первый день карантина. Уже тогда прозвучало, что мастеров в приготовлении отравы следует искать именно среди астрологов и парфюмеров. «Стилоне Приазо, – с содроганием подумал я, – газетчик и астролог в одном лице, и аббат Мелани раскусил его». – А вы в этом уверены? Приходилось ли вам слышать об отравлениях, не предсказанных по звездам? – лицемерно выспрашивал я. – Есть один пример: аббат Моранди. Пожалуй, это самый знаменитый случай. – А кем он был, этот аббат Моранди? – со все большим нетерпением расспрашивал я. – Монахом. А еще величайшим из римских астрологов. – Монах-астролог? Возможно ли это? – Скажу тебе больше. В конце прошлого века епископ Лука Гаурико официально состоял астрологом при дворе четырех пап, ни больше ни меньше. Золотое было времечко! Увы, утраченное навсегда, – вздохнул он. Он все больше втягивался в разговор. – После истории с отцом Моранди? – подлил я масла в огонь. – Вот-вот. Надобно тебе знать, отец Орацио Моранди, настоятель монастыря Санта-Прасседе, владел, тому уж шестьдесят лет, лучшей астрологической библиотекой в Риме, для астрологов той поры она была просто путеводной звездой. Состоял он и в переписке с блистательными умами Рима, Милана, Флоренции, Неаполя и других городов Италии, и не только Италии. Многие писатели и ученые спрашивали его мнения относительно звезд. Бедняга Галилей был даже его гостем во время своего пребывания в Риме. В те времена, – продолжал Стилоне, – аббату Моранди едва перевалило за пятьдесят, он был речист, всегда в добром расположении духа, довольно высокий, с окладистой бородой каштанового цвета и начинающими седеть волосами. Тогда еще к астрологии относились терпимо. Были законы, запрещающие предсказания по звездам, но на них не обращали внимания. По поводу Моранди ходили кое-какие нелицеприятные слухи: будто бы он занимается выпуском астрологических изданий, пользуясь своими многочисленными связями вне Рима. И впрямь, в околопапских кругах имели хождение многочисленные анонимные брошюрки, напечатанные вдали от столицы и содержащие тайные сведения о жизни при дворе. По общему мнению, собирал и распространял эти злоязычные суждения Моранди, чей интерес к политическим и придворным интригам был общеизвестен. Но доказать это никому не удавалось. И не только потому, что было не просто установить, кто автор этих печатных изданий, но и потому, что к газетчикам и редакторам, невзирая на различные запреты, отношение было сносное. Редко когда удавалось напасть на след авторов памфлетов. В остальном, учитывая характер сообщений, содержащихся в этих летучих изданиях, было очевидно, что источники находились в самых утонченных кругах, это были секретари – княжеские, герцогские и кардинальские, но в еще большей степени сами их хозяева. Слава Орацио Моранди достигла высшей точки, когда (шел 1630 год) аббат счел своевременным заявить, основываясь на астрологических расчетах, что папа Урбан VIII Барберини до конца года уйдет из жизни. Перед тем как распространить это пророчество, аббат сверил свои данные с данными других астрологов: результаты совпали. В этом хоре предсказателей по-своему пел только один – отец Рафаэлло Висконти, преподаватель математики в Риме. Согласно его расчетам, выходило: если папа будет избегать опасностей, он умрет не прежде тринадцати лет, то есть в 1643 или 1644 году. Но мнение профессора не убедило его собратьев, которые все как один стояли на неминуемой и скорой кончине папы Барберини. Предсказание настоятеля Санта-Прасседе распространилось в Риме и других столицах со скоростью молнии. Как астролог он пользовался такой известностью, что некоторые испанские кардиналы поспешили в Рим, чтобы принять участие в конклаве который, согласно общему мнению, должен был незамедлительно собраться. Слухи долетели и до Франции, и кардиналу Ришелье пришлось просить римский двор принять срочные меры и положить конец столь неловкой ситуации. И вот слух этот достиг ушей самой заинтересованной персоны. Святому отцу не доставило никакого удовольствия узнать, да еще таким образом, что грядет его последний час. Тринадцатого июля он велел затеять судебный процесс против Моранди и его сообщников. Два дня спустя Моранди был препровожден в тюрьму Тор ди Нона, а его дом и библиотека после обыска опечатаны. И вот что интересно. Само собой разумеется, были найдены астрологические трактаты, но ни печатных изданий, ни астрологических предсказаний как таковых – единственных доказательств злоумышлении аббата, найдено не было. Моранди и его приспешники все предусмотрели. Папе было нанесено еще одно оскорбление, он стал посмешищем всей Европы. – Стилоне Приазо ухмыльнулся. – А что дальше? – поторапливал я его, горя желанием услышать конец этой истории и надеясь получить хоть какую-то зацепку для наших с Мелани поисков. – Тогда на сцену вышел его адвокат. Кто способен предать и разорить самого осторожного и умнейшего из людей, как ты думаешь, мой мальчик? Его адвокат. Так было всегда, и не вижу причины, почему это должно измениться. – В голосе Приазо появился сарказм. – Прославленный мэтр Теодоро Амеден, адвокат монастыря Санта-Прасседе переметнулся на сторону папы. Несколько дней спустя после задержания Моранди он заглянул в книжную лавку Луны на площади Паскино и с самым простодушным видом поведал нескольким находящимся там людям, что во время обыска ничего не нашли по той простой причине, что монахи проникли в кабинет аббата через потайной ход, попасть в который можно было, сломав перегородку (он в деталях описал, какую именно), и через него вынесли все труды, которые могли погубить их настоятеля. Часть трудов сожгли, часть перепрятали. Все эти подробности, добавил адвокат, якобы были ему переданы слугой Моранди. Перепугав присутствующих подобной безрассудной манерой проявлять свою осведомленность, Амеден преспокойно вернулся домой. Разумеется, новость тут же достигла ушей судьи, тот послал задержать дюжину монахов Санта-Прасседе и вызвал Амедена. Эта змея подколодная, – с яростью в голосе рассказывал Стилоне, – имел дьявольскую смелость подтвердить в ходе разбирательства, что принародно раскрыл тайну разобранной перегородки. Вот что он сказал. – Тут Стилоне загнусавил, желая передать манеру говорить Амедена: – «Два дня спустя после заключения под стражу аббата Моранди его слуга Алессандро явился ко мне и рассказал, что монахи вынесли часть бумаг из кабинета и сожгли их. С радостным выражением лица он заверил меня, что судье ничего не найти, поскольку все сгорело». Это был конец. Вскоре вся братия дала признательные показания. Моранди также сознался, что составил гороскоп папы и занимался изданием астрологических книг. На допросе он выдал друзей и соратников, а те, в свою очередь, выдали других. В общем, многие угодили в эту ловушку. – Так все и закончилось? – спросил я. – Отнюдь, только тогда все и началось. В деле зазвучали имена высокопоставленных лиц. Узнав о скорой кончине Урбана VIII, кардиналы и их окружение обратились к звездам, желая узнать, кому предназначен Святой Престол. Моранди с самого начала процесса кинул своим обвинителям для затравки несколько звонких имен: книжечка сатир, которую секретарь консистории передал ему, попала в руки нынешнего хозяина Святейшего Ватиканского дворца; кроме того, Моранди передал библиотекарю кардинала Медичи речь в форме письма с генеалогией папы, которую он позаимствовал у отца Рафаэлло Висконти. Эта речь была прочитана многими, в том числе Антонио Барберини, племянником папы… Урбан VIII вовремя сообразил, что замаячило на горизонте: скандал, способный бросить тень на всю консисторию, и в первую голову на его собственное семейство. И принял срочные меры, велел судьям вычеркнуть имена понтификов, кардиналов, прелатов и даже светских лиц из материалов следствия. Он оставил за собой право в зашифрованном виде вписать их на поля документов или в оставленные для этого пробелы. Стоило допросителям зайти чуть дальше положенного, omissis [1141], наложенные папой, вступали в действие. Признания Моранди выглядели отныне так: «Мне знакомы многие, интересующиеся астрологией. Учителем моим был Винченцо Боттели. От него я узнал, что немало духовных лиц обладало основательнымипознаниями в этой области, а именно: кардиналы *** и ***, а также *** и ***». Словом, кругом, куда ни кинь, одни кардиналы! – рассмеялся Стилоне. – При каждом громком имени судья вздрагивал, хотя прекрасно знал, что печатаются гороскопы на деньги прелатов. Стоило слуге одного из них сболтнуть, и прощай надежда занять однажды папский престол: – Но как же все это завершилось? – спросил я, все не улавливая связи этой истории с ядом. – Да… провидение позаботилось, – с многозначительной гримасой на лице отвечал Стилоне. – Седьмого ноября 1630 года аббат Моранди был найден мертвым в своей камере. Он лежал на скудном тюремном ложе в простой рясе и сандалиях, прослуживших ему чуть не всю жизнь. – Убили! – Его кончина была засвидетельствована одним из собратьев, заявившим, что признаков насилия не обнаружено и смерть наступила в результате естественных причин, далее цитирую: «Он стал жертвой горячки, я это знаю, потому как всегда прислуживал ему в заключении». Еще он добавил, что горячка длилась несколько дней. Неделю спустя дал свое заключение и лекарь тюремного дома: Моранди угас якобы после хвори вирусного характера, промучившей его двенадцать дней и приведшей к летальному исходу. «Следов отравления обнаружено не было», – заявил лекарь, что подтвердили двое других докторов. О том, что двумя днями раньше в таких же муках скончался сокамерник Моранди после того, как их попотчевали неизвестно откуда взявшимся пирогом, не было сказано ни слова. Но слухи об отравлении еще долго не стихали. Что далее? Отца Моранди не стало, он ушел, взвалив на свои плечи весь груз пороков папского двора. Ко всеобщему облегчению, неосторожно приподнятая завеса была срочно опущена. Урбан VIII в коротком письменном послании предписал судье прекратить расследование, оставив в покое астрологов, монахов, переписчиков, вообще всех причастных к тому времени к этому делу. Стилоне замолчал и прямо взглянул мне в глаза. Затем лег в постель, дожидаясь, что я скажу. «Вот значит как, – рассуждал я меж тем про себя, развешивая вычищенное платье Стилоне, – и в случае с аббатом Моранди, и в случае с господином де Муре яд прикрывался болезнями». Захваченный рассказом Стилоне, я спросил: – А что, все эти люди не были виновными? – Если хорошенько подумать, так все приложили руку: переписчики переписали крамольный текст, монахи скрыли доказательства, астрологи спекулировали на смерти папы. А кардиналы брали на себя издержки. Стоило бы наказать их всех, но для этого пришлось бы вынести приговор, а это обернулось бы скандалом. Папа же любой ценой желал избежать его. – И что, Урбан VIII так-таки и не помер в том году? – Нет. Моранди допустил грубый просчет. – А когда он умер? – В 1644-м. – Это год, взятый из расчетов отца Висконти? – Ну да, уделяй настоятель Санта-Прасседе больше внимания своему другу профессору, он бы правильно предсказал кончину папы. А так он умер сам. – Что было с астрологией после смерти Моранди? – спросил я, удрученный столь мрачным поворотом событий. – Отречение Галилея, ссылка Арголи[1142], бегство Кампанеллы, костер, на котором сожгли Чентини[1143]. И все это в течение нескольких лет. – Стилоне умолк, словно чтя память названных ученых. – Папские указы доконали астрологию. – А мог бы Моранди спрятаться, знай он, что конец его близок? – Я уже и забыл о своих намерениях доискаться до чего либо и спрашивал из чистого любопытства. – Ты хочешь знать, можно ли уклониться от влияния звезд. Животрепещущий вопрос! Один доминиканский монах, Томмазо Кампанелла, человек больших знаний и выдающегося ума, написал «De Fato Siderali vitando»[1144], в котором учит как раз тому, как избежать судьбы, уготовленной нам небесными телами. И все же по прочтении сего труда создается такое впечатление, что автор все время пытается внушить: в крайних ситуациях выхода нет, даже для астрологов. – Даже для тех, кто читает по звездам раньше и лучше других? В таком случае противостоять воле небесных светил невозможно, – исторгнулось у меня с содроганием. – Быть может, это и так, – с двусмысленной улыбкой подтвердил он. – Зачем тогда на землю пришел Спаситель? Если власть небес простирается надо всем, – тут я задрожал, – искупления нет. – А как бы ты посмотрел на то, что был составлен гороскоп для нашего Спасителя? – нимало не смущаясь, продолжал Стилоне. И поведал мне, что армия прославленных ученых, таких как Альберт Великий[1145], Пьер д'Айи[1146], Альбумазар[1147], трудились над его составлением. Затем этому святотатственному занятию стали предаваться все более низкие умы, и среди них Джироламо Кардано, впрочем, блестящий астролог, а также малоизвестные прелаты. – И что же в этом гороскопе? – Многое, поверь мне. Это один из самых поразительных гороскопов. Согласно Джироламо Кардано, комета, появившаяся в небе при рождении Христа, – символ вечной славы, присутствием в гороскопе Юпитера объясняется его приверженность к мягкому обхождению, его миролюбие и чувство справедливости; холм Венеры наделяет грацией, красноречием и провидческим даром; и наконец, его асцендент, в котором сошлись крайности Весов восьмой и десятой сфер, и точка осеннего Равноденствия, делают его существом исключительным, из разряда божественных. Кампанелла, однако, считал, что гороскоп Мессии не столь уникален и что его собственный гороскоп более удивителен. – Его собственный? Неужели Кампанелла ставил себя выше Христа? – Ну, в общем, да. Инквизиция обвинила его в том, что он ставит себя на одну доску с Мессией на том основании, что якобы в момент его рождения звезды были расположены на небосводе не менее необычно, чем при рождении Христа. – И что же, это обвинение обоснованно? – Не совсем. Насколько мне известно, Кампанелла никогда не мнил себя равным Христу, он лишь думал, что обладает пророческим даром. В то же время какие-то основания для подобного обвинения все же были – будучи в тюрьме, он совершил ошибку, заявив, что присутствие семи планет в асценденте (большинство королей и императоров имели не больше трех) настолько уникально, что ему предстоит возвыситься – и в том его якобы заверили еврейские и германские астрологи – до ранга владыки мира. Смело, не правда ли? – И что же дальше? – А дальше случилось совсем не то, чего он ожидал. Долгие годы томился он в тюрьме из-за своих утверждений. Урбан VIII освободил его, дабы использовать в качестве астролога. Папа испугался возможного шума в связи с распространением предсказаний о его скорой смерти. – В таком случае выходит, Урбан VIII верил в астрологию, которой сам же объявил бой! – Ну да! Я тебе ведь уже говорил – кто только не отдал дань даме по имени Астрология во все эпохи. Галилей – и тот, испытывая денежные затруднения, опускался до асцендентов, – рассмеялся Стилоне. – Когда предсказание о его кончине стало переходить из уст в уста, папу Барберини охватил ужас, – продолжал Стилоне. – На людях он всем своим видом выказывал презрение к басням Моранди, а тайно вызволил Кампанеллу из тюрьмы и просил его отвести от себя угрозу. Доминиканец из кожи вон лез, старясь оградить папу от заразы, – и окуривал, и окроплял ароматическими веществами, и просил облачаться только в белое, что препятствует помрачению ума, и жег факелы, символизирующие семь планет, и много чего еще делал. Сперва удача сопутствовала Кампанелле в его начинаниях, понтифик был здоров и благодарен ему. Но злой дух в другой раз ударил по нему – его предали, и в этом он и впрямь сравнялся с Христом. Одно из его тайных сочинений «De Fato Siderali vitando» было помимо его воли передано французскому печатнику, который и прежде выпускал его труды. А предали его два доминиканских монаха, воспылавших к нему завистью при появлении слухов о том, что их собрат скоро будет возведен в ранг советника Святого Престола. Французский печатник заглотнул наживку, подумав, что Кампанелла, почти не покидающий тюрем в последние годы, просто не смог приложить письма к своему трактату. И тот вышел в свет. – Но разве этот труд не учит тому, как избегать неблагоприятного воздействия светил? – Вот именно. Кампанелле был нанесен смертельный удар. Он изложил в своем труде способы, которыми отвращал от папы это воздействие. Об этом в Риме давно уже поговаривали, но не было доказательств. Кое-кто считал эти ухищрения дьявольскими. Труд Кампанеллы словно нарочно был сочинен с одной-единственной целью – полностью подорвать авторитет Святого Престола. Чтобы прекратить разгоревшийся скандал и утишить гнев папы, Кампанелле пришлось в срочном порядке издать другую книжку, в которой он пытался доказать, что применяемая им практика не имеет отношения ни к суевериям, ни к сделкам с дьяволом, что она объяснима с точки зрения критериев естественной философии и чувственного опыта. Но был вынужден бежать во Францию, где нашел убежище и стал преподавать в Сорбонне. Королева даже обратилась к нему с просьбой составить гороскоп дофина, которого только что произвела на свет. – Людовика XIV? – Да. К счастью, Кампанелла не наделал ошибок в том, что стало последним великим предсказанием в его жизни. Он предрек, что будущий король будет долго, твердой рукой и успешно править. Так и случилось. Но пора и честь знать. Слава Богу, меня потянуло в сон.
* * *
Светало. Я с облегчением покинул Стилоне, коря себя за то, что сам подначивал его к долгому рассказу. Я не только не узнал ничего нового об отравлении Муре и похищении жемчужин, но и еще сильнее поколебался в своих воззрениях после этой долгой беседы. И взяло меня тут раздумье: а не сопряжено ли мое желание поступить в газетчики со множеством опасностей: чрезмерная близость к людям, подобным аббату Моранди, доверявшим свои предвидения газетам и объявлениям, подвергала газетчика риску быть отождествленным с астрологом, а то и колдуном, и еретиком. Кроме того, праведный гнев переполнял меня: да где это видано, чтобы человек нес наказание за грех, которому с одинаковым успехом предавались и кардиналы, и сам понтифик? Если астрология – не более чем невинное времяпрепровождение, плод праздного ума, откуда же такое ожесточение против Моранди и Кампанеллы? Если же речь идет о грехе, достойном серьезного наказания, как мог он поразить большую часть людей духовного звания в Риме? Самому испытать на себе, что такое влияние планет и звезд на людскую судьбу, мне было затруднительно. Для гороскопа требовалось то, чего не мог знать подкидыш вроде меня, – день и час своего рождения.День пятый 15 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Когда я наконец добрался до своей комнаты, не знаю, откуда у меня взялись силы засесть за дневник, и все же я перечел написанное ранее, подводя итог своим скромным усилиям разузнать что-либо от постояльцев. Итак: что мне стало известно? Ровным счетом ничего. Каждый раз дело заканчивалось ничем. Все, что происходило, не имело никакого отношения к печальному концу г-на де Муре и вносило все больший беспорядок в мои собственные мысли. «Что известно мне о Муре?» – медленно клонясь головой к столу, задумался я. В голове уже все перепуталось, но я еще сопротивлялся сну. Муре был французом, пожилым, хворым, почти слепым. Ему было между шестьюдесятью и семьюдесятью. Сопровождали его молодой французский музыкант Девизе и пожилой господин Помпео Дульчибени. Он производил впечатление человека состоятельного и занимающего высокое общественное положение, что не вязалось с его скверным состоянием здоровья. Сдавалось мне, на его долю выпало немало испытаний и страданий. И потом: в силу каких обстоятельств человек его положения оказался в «Оруженосце»? Пеллегрино как-то вскользь упомянул при мне, что в нашем околотке когда-то находились дорогие гостиные дворы, но это было давно, теперь же они все располагались вокруг площади Испании. Те, кто останавливался на постой в «Оруженосце», были людьми небогатыми либо намеренно избегали встреч с высокопоставленными и родовитыми особами. Но отчего? А вот еще: Муре покидал постоялый двор лишь под покровом темноты, и только для небольших прогулок, не дальше площади Навона и площади Фьяметта… Навона, Фьяметта… Когда я мысленно произносил эти названия, у меня вдруг резко заломило виски. Огромным усилием воли переместился я со стула на постель и рухнул на нее как подкошенный. Очнулся я уже днем, причем лежа в том же положении, в каком меня сразил Морфей. В дверь постучали: недовольным голосом Кристофано упрекал меня за небрежение своими обязанностями. Несколько часов сна освежили меня. Сунув руку в штаны, я обнаружил там книжонку с гороскопами, отобранную у Стилоне Приазо нашими новыми знакомцами. Я был все еще под впечатлением от из ряда вон выходящих событий, случившихся прошлой ночью: полный неожиданностей путь по подземным галереям, преследование Стилоне и, наконец, страшные истории о Моранди и Кампанелле, рассказанные мне неаполитанцем при первых проблесках зари. Эта щедрая жатва впечатлений как для ума, так и для сердца все еще заставляла меня испытывать волнение, невзирая на усталость. Из-за головной боли я не устоял перед желанием снова прилечь, хотя ненадолго, и принялся перелистывать книжицу. Вначале шло длинное и ученое посвящение некоему посланнику Буонвизи, затем предуведомление читателю. За ним следовала таблица «Астрологический календарь», на которой я не стал задерживаться. И наконец, «Общий прогноз на 1683 год»: Согласно принятому Римской Католической Церковью обычаю, год начнется в пятницу, первого января, по старому астрономическому стилю, когда Солнце, завершив прохождение по двенадцати знакам Зодиака, вернется к началу знака Овна, ибо Fundamentum principale in revolutionibus annorum mundi et introitus Solis in primum punctum Arietis. С помощью тиконовской [1148] системы… Тут терпение мое лопнуло, слишком уж мудрено было изложено. Из дальнейшего я узнал, что в течение этого года намечается четыре затмения (но ни одного нельзя будет наблюдать с территории Италии), рассмотрел полную таинственных цифр таблицу «Прямое восхождение небесного лика Зимы». И впал в отчаяние. Все это показалось мне такой галиматьей! Мне ведь только и нужно было предсказание на текущий момент, а времени было в обрез. Наконец мелькнуло нечто более удобоваримое: «Лунные месяцы, сочетания и прочие аспекты планет на весь 1683 год». Это были развернутые предсказания, поделенные по временам года и месяцам на весь год. Я стал листать дальше, пока не дошел до сентября. Восьмой дом управляется Сатурном, угрожающим старикам смертельным исходом. Я был в смятении. Это предсказание относилось к первой неделе месяца, а Муре умер чуть позже, 11 сентября. Я стал читать дальше: Что касается болезней, шестой дом управляется Юпитером, который принесет улучшение здоровья многим больным; однако Марс, в знаке Огня противостоящий Луне, словно бы желает подвергнуть определенное количество людей горячкам и ядоносным болезням, ибо на этой позиции написано Lunam opposite Martis morbos venenatos inducit, sicut in signis igneis, terminaturque cito, eraro ad vitam. Восьмой дом управляется Сатурном, угрожающим в большой степени пожилому возрасту. Автор данного прогноза не только указал, что Сатурн вновь угрожает пожилым людям – это подтвердилось примером г-на де Муре, – но и предвидел болезни, которые одолели моего хозяина и Бедфорда. Кроме того, предсказание содержало прямой намек на отравление. Я вернулся к первой неделе сентября и твердо решил дочитать до конца, как бы ни звал меня Кристофано. Неожиданные опасности проистекают в эту неделю от Юпитера, являющегося хозяином королевского дома, находящегося в четвертом доме с Солнцем и Меркурием и пытающегося отыскать спрятанное сокровище, призвав на помощь свое хитроумие; этот же самый Меркурий не без подспорья Юпитера в знаке Земли означает взрыв подземных огней, страшные сотрясения земли, напасти рода человеческого; вот почему было написано: Ео item in terrae cardine, e in signo tetreo fortunatis ab eodem cadentibus dum Mercurius investigat eumdem, terraemotus nunciat, ignes de terra producit, terrores, e turbationes exauget, minerias e terrae sulphura corrumpit. Сатурн в третьем доме, хозяин седьмого, обещает большую жатву на поле брани и осаду Городов; подпираемый сбоку Марсом, он обещает сдачу крупного укрепленного места, как считают астрологи Али и Леопольд Австрийский. Несмотря на некоторые трудности (в частности, высоконаучные термины), мне все же удалось разобраться что к чему. И я снова ужаснулся. Да и как было не ужаснуться тому, что и впрямь имело место: «спрятанное сокровище, взрыв подземных огней, страшные сотрясения земли, напасти рода человеческого». Что могло крыться за «спрятанным сокровищем», которое должно было отыскаться в начале месяца, если не загадочные письма, обнаруженные Атто в кабинете Кольбера до того, как тот скончался 6 сентября? Куда уж яснее – и страшнее в своей неизбежности. Особенно пугала дата кончины Кольбера, так точно предсказанная в прогнозе. «Сотрясения земли и подземные огни» также о многом говорили мне. В начале месяца со стороны подвала донесся грохот, заслыша который, мы все испугались землетрясения, но все, слава Богу, ограничилось лишь трещиной на лестничной клеткой на уровне второго этажа. Правда, Пеллегрино при этом чуть было с горя не повесился. Что же и говорить о «большой жатве на поле брани и осаде Городов», об «Али и Леопольде Австрийском»? Можно ли было не задуматься о пугающем совпадении этих имен с именами императора Леопольда[1149] и последователя пророка Магомета. Меня вдруг охватил страх читать дальше, я и давай перелистывать предыдущие страницы. Внимание мое привлек июль, где, как я и ожидал, предвиделось продвижение османских войск в глубь Европы и начало осады: Солнце в десятом доме означает… согласно Али, народы, республики, отдельные люди подчинятся воле превосходящего их по силам соседа. Тут в мою дверь забарабанил Кристофано. Я сунул книжицу под тюфяк и кинулся на его зов, который в эту минуту оказался для меня спасительным: очень уж глубоко взволновала меня точность предсказаний (в особенности печальных событий). Кубарем скатившись по лестнице, я с удовольствием предался хлопотам, потихоньку осмысливая все, что мне пришлось узнать за последнее время. Не терпелось понять, неужто мы все являемся заложниками планет и все, что с нами происходит, как на нашем постоялом дворе, так и в Вене, не более чем бессмысленное трепыхание в неком глухом тупике или фатальной воронке, невидимой для глаз, и что хотим мы того или нет, все равно окажемся там, где предначертано, и ни к чему все наши доверчивые молитвы, обращенные к пустому черному небу. – У тебя сегодня такие глаза, мой мальчик… Хорошо ли ты спишь? – забеспокоился Кристофано. – Опасно совсем не спать: если уму и сердцу не дать отдыха, поры не откроются и испорченные усилиями дня испарения не смогут выйти из тела. Я не стал отрицать того, что сплю недостаточно. Кристофано пожурил меня и сказал, что ему не обойтись без моих услуг, ведь благодаря нашим сложенным вместе силам постояльцы худо-бедно живы и все весьма похвально отзываются обо мне. Судя по всему, он не знал, что я до сих пор не предложил предписанных им процедур ни Помпео Дульчибени, ни Девизе, ни Стилоне Приазо, даром что с последним мы не расставались, можно сказать, всю ночь. Отсюда следовало, что своим отменным здоровьем по крайней мере эти трое были обязаны матушке-Природе, а не его методам лечения. Теперь у него появился повод заняться и моим здоровьем, которое могло пострадать в результате бессонницы. – Это снадобье бесчисленное число раз было опробовано в Европе. Оно лечит не только от бессонницы, но и от многих других хворей, а также заживляет раны. Если я пущусь перечислять тебе все чудеса, которых добился благодаря ему, ты мне не поверишь. Называется оно большой ликер, его производят в Венеции, в Медвежьей бакалейной лавке, что на площади Сан-та-Мария-Формоза. Изготовление требует немалого времени и должно быть закончено не позднее сентября. – Он с нежной улыбкой на устах вытащил из своих бесчисленных котомок, чье содержимое и без того уже превратило кухню в лавку фармацевта, глиняный сосуд необычной формы. – Начинают его готовить весной, с кипячения двадцати фунтов обычного растительного масла с двумя фунтами белого выдержанного вина… Пока Кристофано с присущим ему тщанием перечислял ингредиенты своего зелья, не забывая распространиться о чудодейственных качествах каждого из них, мой мозг продолжал лихорадочно работать. Периодически до меня продолжали долетать отдельные фразы нашего беззаветного эскулапа. – …и вот теперь, когда наступил сентябрь, мы добавили в него бальзамину, а также побольше изысканной виноградной водки из камор мэтра Пеллегрино… Новость о том, что Кристофано вновь попользовался закромами моего хозяина в лечебных целях, пробилась-таки к моему сознанию и прервала поток дум, одолевавших меня с утра. Моя рассеянность бросилась Кристофано в глаза: – Что занимает твой ум и сердце? Я поведал ему, в каких невеселых мыслях проснулся сегодня: если, как утверждают астрологи, наше существование управляется планетами и звездами, значит, все бессмысленно, в том числе и чудодейственные микстуры, припарки и мази вместе взятые, над которыми он столько корпит. Подметив его озадаченный взгляд, я поспешил извиниться, сославшись на переутомление. – То-то я смотрю, ты какой-то не такой. И откуда только у тебя эдакие мысли? Надо признать, ты недалек от истины. Сам я придаю астрологии немалое значение. Многие мои коллеги посмеиваются над этой наукой, я же отвечаю им словами Галена: Astrologiam ignorantes sunt peiores spiculatoribus et homicidis. Что означает: врачи, игнорирующие астрологию, хуже мошенников и убийц. Можно вспомнить, что говорили и писали по этому поводу Гиппократ, Скот[1150] и другие опытные эскулапы, к которым я присоединяюсь, чтобы, в свою очередь, посмеяться над скептиками из числа собратьев. Завершая приготовление большого ликера, Кристофано довел до моего сведения, что, согласно мнению иных, чума – результат совместного воздействия на Землю Сатурна, Юпитера и Марса, сошедшихся вместе 24 марта 1345 года. Точно так же первая вспышка французской болезни была вызвана взаимодействием Марса и Сатурна. – Membrum ferro ne percutito, cum Luna signum tenuerit, quod membro illi dominatur, – продекламировал он. – Да воздержится хирург отсечь член, соответствующий знаку Зодиака, в котором пребывает в этот день Луна, особенно если ей угрожает Сатурн или Марс, чье воздействие на человеческое здоровье чревато последствиями. Так, если гороскоп больного указывает на негативный результат для той или иной болезни, врачу пристало попытаться спасти его, применяя лечение в те дни, которые указаны как наиболее благоприятные. – Выходит, каждому созвездию соответствует определенная часть тела? – Именно так. Когда Луна в Овне, а Марс с Сатурном ей противостоят, следует избегать оперативного вмешательства на черепе, лице и глазах; когда Луна в Тельце – операций на шее, затылке и горле; Луна в Близнецах – операций на плечах, руках и кистях; Луна в Раке – на груди, легких и желудке; Луна во Льве – на сердце, спине, печени; в Деве – на животе; в Весах – на берцовых костях, почках, пупке и кишках; в Скорпионе – на мочевом пузыре, лобке, хребте, гениталиях и в заду; в Стрельце – на бедрах; в Козероге – на коленях; в Водолее – на ногах; в Рыбах – на ступнях и пятках. Уф! И добавлю, что нет более подходящего момента для очищения организма, как тот, когда Луна находится в Скорпионе или Рыбах. Зато когда Луна в знаках жвачных животных вкупе с возвратными планетами, следует воздержаться от применения какого-либо медикаментозного лечения, ибо пациент подвержен риску отдать его обратно, попросту говоря, блевануть, и все пойдет насмарку. «Луна в жвачных – жди ухудшений у больных», – так учил несравненный Гермес[1151]. А в этом году так и было: весной и зимой четыре возвратные планеты, три из которых – в жвачных знаках. – Что ж это получается, наши жизни – это бесконечные сражения планет? – Вовсе нет. Это лишь доказывает, что с помощью светил, как и с помощью всего остального, созданного Творцом, человек может выстроить свое счастье или несчастье. Ему предстоит хорошенько распорядиться интуицией, умом и мудростью, которыми наградил его Господь. Что же касается влияния планет на состояние больного, то к этому нужно скорее относиться как к подсказке, а не указанию к действию. Кристофано не отрицал влияния звезд на человеческую судьбу, но отдавал первенство способности человека использовать свой разум, а также божественной воле. Я почувствовал облегчение. С кухонными хлопотами было покончено. На завтрак я приготовил хлебную похлебку с рисовой мукой, кусочки копченого осетра, отжал сок из лимона и сдобрил все щепотью корицы. Кристофано освободил меня, снабдив бутылкой большого ликера от бессонницы: принимать по капле внутрь и растирать грудь перед сном. – Помни, это снадобье применяется также для залечивания ран и против боли. За исключением язв, появляющихся при французской болезни. Поднимаясь к себе, я услышал звуки гитары: Девизе вновь исполнял полонившее меня рондо, производящее и на остальных постояльцев успокаивающее действие. Поравнявшись с третьим этажом, я услышал свое имя, произнесенное шепотом. Перегнувшись через перила и заглянув в коридор, я увидел красные чулки аббата Мелани. – Твой сироп принес мне большое облегчение. Не принесешь ли ты мне еще? – громко проговорил он, опасаясь присутствия поблизости Кристофано, а сам принялся неистово махать руками, зазывая к себе, где меня, видимо, ожидали какие-то важные новости. Прежде чем закрыть за мной дверь, он еще раз зачарованно прислушался к звукам рондо. – О целительная сила музыки! – вздохнул он и решительно двинулся к столу. – Итак, приступим к нашим делам, мой милый. Видишь эти бумаги? В них столько труда, что ты и вообразить не можешь. Связка испещренных мелким убористым почерком листков, прежде при моем появлении закрываемая аббатом рукой, теперь лежала передо мной на самом виду. Он рассказал, что уже давно занят составлением путеводителя по Риму для французских путешественников, поскольку, на его взгляд, существующие труды подобного рода не отвечают запросам чужестранцев и не отдают должного античным памятникам и произведениям искусства, которыми изобилует этот город. Он показал мне последнюю главу, написанную им в Париже и посвященную церкви Сант-Атаназио-деи-Гречи. – И что же? – присаживаясь, спросил я. – А вот что. Я надеялся на досуге завершить сей труд и только собрался утром засесть за него, как меня осенило. Четырьмя годами ранее, в 1679 году, с Атто Мелани приключилась одна странная и неожиданная история… И именно в церкви Сант-Атаназио. Отдав должное благородному фасаду творения Мартино Лонги, он вошел внутрь. Любуясь полотном Трабальдези в боковом приделе, он вдруг невольно отшатнулся, не сразу заметив, что не один. В полумраке храма он различил пожилого священника, судя по шапочке, принадлежавшего к ордену иезуитов. Сгорбленный, с трясущимися руками и верхней половиной туловища, он опирался на палочку, мало этого – передвигаться ему помогали две молодые девушки. Его седая борода отличалась необыкновенной ухоженностью, довольно благообразное лицо напоминало сморщенное яблоко, однако два голубых, похожих на буравчики глаза жили своей жизнью и наводили на мысль о том, что в прошлом он не был лишен ни красноречия, ни ума. Заглянув этими своими пронзительными глазами в самую душу Атто, старец вдруг заявил: – Ваши глаза… не лишены магнетизма. Слегка забеспокоившись, Мелани вопросительно уставился на сопровождавших прелата девиц, по-видимому, служанок. Но те хранили молчание, словно без позволения не осмеливались заговорить. – Искусство магнетизма – весьма важно для этого мира, сын мой, и ежели ты превзойдешь Катоптрическую Гномонику[1152] или Новую Горологиографию, ты без труда опередишь всех коптских предшественников. Служанки словно в рот воды набрали, видно, подобное не раз уже случалось в их присутствии. – Если ты уже следуешь по Небесному Восхитительному Пути, – заговорил вновь старец надтреснутым голосом, – тебе ни к чему мальтийские астрономические обсерватории, физические и медицинские споры, ибо великое искусство света и тени, переплавленное в диатрибу Дивных Крестов и Новой Полиграфии, даст тебе всю Арифмологию, Музургию и Фонургию, которые станут необходимы тебе. Аббат Мелани лишился дара речи и прирос к месту. – Однако вопрос в том, можно ли изучать Искусство магнетизма, являющееся неотъемлемой частью человека? – добавил старый прелат. – Магнит обладает магнетизмом, о да! Но Vis Magnetica[1153]исходит и от человека, и от музыки. Это тебе известно. – Вы меня знаете? – справившись с оторопью, спросил Мелани, которому пришло в голову, что старик мог знать его как певца. – Магнетическая Сила музыки воздействует, к примеру, на тарантулов, – продолжал тот между тем, словно Атто ни о чем его не спрашивал. – Ею можно лечить от ужаления тарантула и много чего еще. Понятна ли моя мысль? Не успел Атто ответить, как старик зашелся в клокочущем глухом смехе, казалось, бившем его изнутри. По его членам распространилась сильнейшая дрожь, и спутницам пришлось удерживать его с двух сторон, предупреждая от падения. Приступ веселости был сродни мучительной судороге, чудовищно исказившей черты его благообразного лица; на глазах выступили слезы. – Но чу! – задыхаясь, продолжал он. – Магнит имеет свойство затаиваться в Эросе, и отсюда может проистекать грех. У тебя магнетический взгляд, но Господь отвергает грех. Господь не приемлет греха! – Тут он поднял палку и замахнулся на аббата. Однако служанки остановили его, и одна из них повела его к выходу. Кое-кто из прихожан удивленно наблюдал за происходящим. Мелани спросил у второй девушки: «Почему он ко мне подошел?» Одолев робость, она пояснила, что старик часто пристает к незнакомцам, обрушивая на них поток ученых слов. – Он из Германии, автор многих трудов. Но ныне, когда разум оставил его, то и дело повторяет названия своих сочинений. Монахи обители стыдятся его и редко дозволяют выходить в город, он часто путает живых и мертвых. Однако он не всегда в таком состоянии. Мы с сестрой сопровождаем его на прогулках и порой становимся свидетельницами того, как к нему возвращается разум. Он даже пишет письма и поручает нам отправлять их. Когда аббат выслушал эту трогательную историю, раздражение его как рукой сняло. – Как звать его? – Он человек известный. Отец Атаназиус Кирхер[1154]. Удивлению моему не было предела. – Как? Кирхер? Тот самый, который раскрыл тайну чумы?! – воскликнул я, вспомнив, как оживленно обсуждали постояльцы эту тему в самом начале карантина. – Он самый, – подтвердил Атто. – Видно, пора тебе узнать, кто такой на самом деле Кирхер. Без этого многого не понять. Звезда Кирхера с его беспредельной ученостью взошла некогда на научном небосклоне, и долгие годы к каждому его слову относились как к откровению. Отец Атаназиус обосновался в Риме по приглашению папы Урбана VIII Барберини, наслышанного о его выдающейся эрудиции от тех, кто посещал университеты Вюрцбурга, Вены и Авиньона. Он говорил на двадцати четырех языках, изученных им за время продолжительных путешествий по Востоку. Он явился в Рим с многочисленными арабскими и халдейскими рукописями, а также огромным собранием иероглифических надписей. Преуспел во многих науках: теологии, метафизике, физике, логике, медицине, математике, этике, юриспруденции, политике, толковании Писания, науке ведения полемики, нравственной теологии, риторике и в искусстве логики. «Нет ничего прекраснее, чем знать Все», – говаривал он, и смиренно ad majorem Dei gloriam [1155] познал тайны гномоники, полиграфии, магнетизма, арифмологии, музургии и фонургии, благодаря применению понятий символа и аналогии пролил свет на загадки каббалы и герметизма, сведя их до уровня пранаук. Он ставил поразительные опыты с помощью механизмов собственного изобретения. В основанном им при Римском колледже музее собрал: часы, приводимые в действие корневищем растения, следующего за солнцем, механизм, преобразующий свет свечи в человеческие фигуры и фигурки животных, а также невероятное множество катоптрических инструментов, спагирических печей, механических органов и солнечных часов. Ученейший иезуит прославился также изобретением универсального языка, с помощью которого можно было бы общаться людям всего мира, притом столь прозрачного и совершенного, что епископ Виджевано послал ему восторженное письмо, в котором извещал, что выучился этому языку менее чем за час. Почтенный профессор Римского коллежа разгадал также, какова в действительности была форма Ноева Ковчега, что за животные на него попали и в каком количестве, как были расположены клетки, насесты, кормушки, корыта, точное расположение дверей и окон. Также он geomelrice et mathematici [1156] доказал, что если бы Вавилонская башня была возведена, тяжесть ее была бы такова, что сместилась бы земная ось. Но более всего Кирхер преуспел в изучении древних и забытых языков, которым посвятил ряд трудов, разрешивших вековечные тайны, и в числе прочих – корни верований древних народов. Он первым сделал понятными европейцам китайский, японский, коптский и египетский. Именно он расшифровал иероглифы на обелиске Александра, установленном кавалером Бернини на площади Навона. История обелиска, отреставрированного тем же Бернини по указаниям Кирхера, была из числа необыкновенных легенд, ходивших по поводу иезуита. Когда каменная глыба была найдена среди развалин Колизея, Кирхера тут же призвали. Несмотря на то что лишь три из четырех граней обелиска предстали взору исследователя, он описал и те символы, что были начертаны на еще покоящейся в земле грани. И оказался прав вплоть до мелочей. – Когда вы с ним встретились, он был… как бы это сказать… – замялся я. – Так и скажи: стариком. Великий гений к концу своего жизненного пути лишился разума, а вскоре и бренной оболочки: он умер год спустя. Для безумия нет различия между королем и простолюдином, – заявил Мелани. – В последующие дни мне подтвердили, что состояние отца Кирхера, несмотря на усилия иезуитов скрыть это, стало достоянием гласности. А теперь о главном. Если память тебя не подводит, ты должен помнить мой рассказ о письмах из кабинета Кольбера, присланных из Рима на имя Фуке и написанных явно священнослужителем. Речь в них шла о какой-то тайне, но о какой именно – не говорилось. – Да, я помню. – Так вот, это были письма Кирхера. – Откуда у вас такая уверенность? – Ты прав, подвергая сомнению любые утверждения, ведь я еще не рассказал тебе о своем сегодняшнем озарении. Я до сих пор испытываю волнение. А волнение – дитя хаоса, нам же нужны лишь упорядоченные факты. Как ты, конечно, помнишь, изучая послания, я обратил внимание на то, что одно из них начиналось необычным выражением mumiarum domine, которого я сразу не понял. – Да-да. – Так вот, mumiarum domine означает «хозяину мумий» и, безусловно, относится к Фуке. – А что это за мумии? – Это останки древних египтян, лежащие в саркофагах и предохраняемые от тлена с помощью древних способов бальзамирования. – Я что-то никак не возьму в толк. Почему Фуке «хозяин мумий»? Аббат взял в руки какую-то книгу и протянул ее мне. Это был сборник стихов г-на де Лафонтена, того самого, что восхищался в стихах гением Атто Мелани. Он раскрыл страницу, заложенную закладкой, с подчеркнутыми строками: Загляну к вам на часок. Коль увижу, что другой завернул на огонек, обожду в сенях роскошных, где гробы да саркофаги, что с заморских берегов к вам (не без больших трудов) доставляют. Бедолаги – доставляют. Бедолаги – фараоны да цари – прахом возлежат в тенетах, хоть смотри, хоть не смотри. Покидая ваш чертог я, прождавши сколько мог, зело счастлив, ей-же-ей, подивившись на царей, и скорблю, как о родных, о Сефриме, о Кьяпесе, об Орусе и других. – Это стихотворение, посвященное Фуке. Ну теперь ты понял? – Да не то чтобы уж очень, – протянул я с досадой от того, что поэма показалась мне такой непонятной. – Да ведь это просто. Сефрим и Кьяпес – две египетские мумии, приобретенные Фуке. Лафонтен, один из его почитателей, говорит о них в этом небольшом остроумном стихотворении. А теперь ответь мне: кто в Риме интересовался Древним Египтом? – Вестимо кто: Кирхер. – То-то же. Кирхер лично изучил мумии Фуке, наведавшись в Марсель, куда их доставили по морю. А результаты изучения изложил в трактате «OEdipus AEgiptiacus» [1157]. – Так, значит, Фуке и Кирхер были знакомы? – Разумеется. Помню, я держал трактат в руках и любовался прекрасным изображением двух саркофагов, которое Кирхер затребовал у одного из собратьев-иезуитов. Автор писем и Кирхер – одно лицо. Но только сегодня я наконец это осознал. – Я вроде тоже. В одном из писем Фуке назван dominus mumiarum, то есть «хозяин мумий», поскольку он приобрел два саркофага, о которых писал Кирхер. – Вот мы и подошли к главному. На самом деле все было запутано. Аббат Мелани удостоверился, что Кирхера с Фуке связывал интерес к мумиям, которые им были приобретены в Марселе и доставлены в Париж. Встретившись с ним лично, а возможно, и через кого-то, Кирхер доверил Фуке тайну. Но переписка их, похищенная Мелани у Кольбера, лишь содержала тайну, не называя ее. – Так вы, значит, прибыли в Рим не только для того, чтобы разузнать что-то о Фуке, но и для того, чтобы отгадать, о какой тайне идет речь в переписке? Аббат напустил на себя задумчивый вид, словно некая докучная мысль пронзила его. – Не все сразу, мой друг. Однако теперь нет смысла отрицать, что дело принимает необычный оборот. – Вы ведь не случайно остановились в «Оруженосце»? – Браво. Как ты догадался? – Просто пораскинул мозгами. Да и вспомнилось, что в письмах, найденных вами, речь о том, что шпионы Кольбера выследили суперинтенданта на площади Фьяметта, неподалеку от церкви Сант-Аполлинаре, что на площади Навона, в двух шагах отсюда. – Еще раз браво. Я тотчас распознал в тебе задатки умника. Тут-то, ободренный им, я и рискнул: – Господин де Муре был не кем иным, как Фуке, верно? – Голос мой дрогнул. Атто воздержался от ответа, да он был и лишним, все было написано на его лице. А вслед за этим стал выяснять: как я догадался? Я и сам не знал. Стечение обстоятельств, казавшихся незначительными, постепенно навело меня на эту мысль. Фуке был французом – Муре тоже. Муре был старым и больным, почти слепым. После двух десятков лет, проведенных в темнице, здоровье узника не могло не пошатнуться. Оба были в возрасте: лет за шестьдесят, под семьдесят. Муре прибыл в сопро – вождении Девизе, не знавшего Италии, как и своей родины, и не вооруженного ничем, кроме музыкальных инструментов. Беглец нуждался в более опытном сопровождающем лице, каким, возможно, и был Помпео Дульчибени. Замечания пожилого г-на (о цене на ткани в Риме, на помол, о доставке продуктов питания из окрестностей Рима) выдавали в нем человека, неплохо осведомленного в торговых сделках. И это еще не все. Если бы Фуке прятали или он был проездом в Риме, он вряд ли стал бы удаляться от места проживания. Куда бы он в качестве нашего постояльца отправлялся на прогулку под покровом ночи? На площадь Навона либо площадь Фьяметта с собором Сант-Аполлинаре. Помимо всего прочего, как я о том догадался сегодня утром, хотя еще не вполне ясно отдавая себе в том отчет, «Оруженосец» выбирали те, кто не располагал крупными средствами, наш околоток, прежде славившийся лучшими постоялыми и гостиными дворами, теперь безвозвратно пришел в упадок. Однако Муре отнюдь не был стеснен в деньгах, даже напротив. Следовательно, он не желал встреч с людьми своего круга и земляками, несмотря на истекшие годы способными узнать знаменитого в свое время государственного деятеля. – Отчего вы скрыли от меня правду? – не своим голосом поинтересовался я, пытаясь справиться с обуревавшими меня чувствами. – Еще не пришло время открыть тебе всего. Если я стану рассказывать все, что знаю, пожалуй, голове твоей несдобровать, – заметил он мне в ответ. Вскоре, однако, настроение его переменилось, он снова весь зажегся. – Мне еще столькому нужно научить тебя, помимо искусства строить логические умозаключения. Впервые я был уверен в его искренности, ведь он признался мне в том горе, которое испытывает, потеряв своего друга. Едва сдерживая слезы, рассказал, что явился в Рим не только ради проверки слухов относительно присутствия Фуке в городе и установления, не ложные ли они и не распространяются ли с целью досадить королю-Солнцу и всей Франции. На самом деле из его рассказа следовало, что он предпринял это долгое путешествие с тем, чтобы свидеться со старым другом, с которым были связаны давние и горькие воспоминания. Находиться в Риме для Фуке было, безусловно, небезопасно: доноситель, известивший о том, где он, Кольбера, рано или поздно мог получить из Парижа определенные указания: задержать Фуке либо в случае неуспеха – убить. Вот отчего аббат Мелани, как он сам объяснил, явился в Рим во власти перечащих друг другу чувств: надежды свидеться с другом, которого он считал давно умершим, желания сослужить королю верную службу и боязни быть замешанным в какую-либо историю. – Что вы хотите этим сказать? – Всем известно, что король никогда ни к кому не питал такой ненависти, как к Фуке. Стоило ему узнать, что Фуке не умер в Пинероло, а жив и на свободе, гнев его непременно вспыхнул бы с новой силой. Атто поведал мне, как один преданный человек помог ему незаметно покинуть Париж. – Это копиист, обладающий редким даром подделывать почерк. Добрый малый по фамилии Бюва. Всякий раз, как мне нужно тайно выехать из Парижа, он берет на себя мою переписку. Придворные со всей Европы сообщаются со мной, чтобы получить последние известия, а государи – так темвынь да положь немедленный ответ, – хвастливо проговорил он. – А как ваш Бюва узнает, что надо писать? – Перед отъездом я оставляю ему четкие указания, ведь в политике все предсказуемо. Что до мелочей, связанных с придворной жизнью, – он добывает их сам, оплачивая штат из нескольких осведомителей, и это лучшая система сбора сведений во всей Франции. Любопытно было узнать, как Атто удается скрывать свой отъезд еще и от короля, но не хотелось его прерывать. Он как раз повествовал о том, что, оказавшись в Риме, напал на след Фуке, но в то самое утро, как переступил порог «Оруженосца», человек, которого мы называли г-ном де Муре, скончался при трагических обстоятельствах. Аббату только и довелось, что присутствовать при последнем вздохе своего благодетеля. – Узнал ли он вас? – Увы, нет. Когда я вошел к нему, он уже с трудом дышал, бормоча что-то бессвязное. Я пытался помочь, схватил его за плечи, стал трясти, взывать к нему, но было слишком поздно. На твоем гостином дворе обрел последнее пристанище великий человек. – Мелани отвернулся, будто желая скрыть навернувшуюся слезу. И вдруг завел дрожащим голосом трогательный романс:Шрифт Текст Парагон Курсив КНИГА ИИСУСА НАВИНА Глава первая По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказалъ Иисусу, сыну На-вину, служителю Моисееву: Моисей, рабъ Мой, умеръ; итакъ встань, перейди черезъ 1орданъ сей, ты и весь народъ сей, въ землю, которую Я даю имъ, сынамъ Израилевымъ. Всякое место, на которое ступятъ стопы ногъ вашихъ, Я даю вамъ, как Я сказалъ Моисею: Отъ пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеевъ; и до великого моря къ западу солнца будутъ пределы ваши. Никто неустоитъ предъ тобою во ecе дни жизни твоей; и какъ Я былъ съ Моисеемъ, так буду и съ тобою; не отступлю отъ тебя и не оставлю тебя. Будь твердъ и мужественъ; ибо ты народу сему передашь во владение землю.– Вроде бы начало еще одного библейского текста. – А что еще скажешь? Я повертел листок в руках. – Этот тоже запечатан только с одной стороны! – Верно. Следующий вопрос: что это, новая римская мода – печатать Библию только на лицевой стороне страниц? Вряд ли, ведь тогда потребовалось бы вдвое больше бумаги, книги стали бы вдвое тяжелее и вдвое дороже. – Что же тогда? – А то, что это вовсе не страница будущей книги. – Как так? – Это пробный оттиск. – Вы хотите сказать: правочный лист? – Не только. Это пример того, что печатник может предложить заказчику. Ну-ка вспомни, что рассказал Стилоне Приазо нашим опустошителям гробниц. Комарек нуждается в деньгах. У него кот наплакал работы в типографии Конгрегации распространения вероучения и он выполняет кое-какие заказы тайно. Оттого вынужден заниматься поиском, так сказать, постоянных заказчиков. Возможно, он даже обзавелся собственным делом и приготовил пробный оттиск, чтобы было что показывать будущим заказчикам, ну на что способен. А для этого достаточно печати с лицевой стороны. – Думаю, вы правы. – Я тоже так думаю. И вот тебе доказательство: что стоит в заголовке? «Шрифт Текст Парагон Курсив». Я в этом не большой знаток, но думаю, что Парагон – название типографского шрифта, использованного для напечатания этого отрывка. На той странице, помнишь, было нда? Возможно, речь также идет о выбранном шрифте и нда – это конец слова, к примеру, ротонда. – Означает ли все это, что мы вновь должны сосредоточить свое внимание на Столоне Приазо? – горя нетерпением, спросил я. – Может, да, а может, нет. Но одно неоспоримо: чтобы отыскать похитителя, следует искать заказчика Комарека. А Стилоне Приазо – один из них. Кроме того, похититель твоих жемчужин – человек не богатый, как и наш газетчик, который к тому же уроженец Неаполя, города, из которого в Рим явился Фуке. Странно все это, не правда ли? Но… – Что «но»? – Да то, что все это слишком уж очевидно, а тот, кто отравил моего бедного друга, хитер и ловок и уж как пить дать сумел поставить себя вне всяких подозрений и не привлекать к себе внимание. Можно ли представить в этой роли столь неуравновешенную личность, как Стилоне Приазо? Как думаешь, будь он убийцей, стал бы он прогуливаться с астрологической книжонкой под мышкой? Объявить себя астрологом не слишком удачное прикрытие для убийцы. Кража твоих margaritae – вообще достойна лишь какого-нибудь жалкого воришки. Было похоже на то. Стилоне, верно, и впрямь был всего лишь астрологом. Я рассказал Атто, с какой болью и участием поведал он мне об аббате Моранди. Не хотелось покидать аббата, не задав ему вопроса, давно беспокоившего меня: – Господин Атто, как вы думаете, есть ли связь между таинственным похитителем и смертью суперинтенданта Фуке? – Не знаю. Я как-то сразу понял, что Мелани солгал. Разнеся по комнатам ужин, я прилег, пытаясь внутренне собраться. Холодная и тяжелая завеса стала опускаться между мною и аббатом. Он явно умолчал по крайней мере еще об одной тайне, как до того скрыл от меня, что Муре – это Фуке, а еще раньше – содержание писем, обнаруженных им в кабинете Кольбера. И ведь с какой беззастенчивостью поведал он мне историю Фуке! Послушать его, так он много лет не виделся с другом до того, как поспел аккурат к его смерти (я мысленно взвешивал это роковое стечение обстоятельств). Он имел наглость вменить Дульчибени и Девизе в вину то, что они что-то скрывали о Муре, alias[1158]Фуке. И это говорил он! Он, лжепастырь, виртуозный притворщик! Я проклинал себя за легкомыслие, с каким воспринял услышанное на его счет из уст Кристофано, Девизе и Стилоне Приазо. А также за тщеславную гордость, переполнявшую меня всякий раз, как он хвалил меня за проницательность. Крайнее раздражение охватило меня, а еще больше – желание померяться с аббатом силами, чтобы испытать собственную способность предвидеть его поступки, разоблачать его намерения, разгадывать его тайные помышления и разогнать туман его многословия. Преисполненный завистливой злости к Мелани, я тихо погружался в сон, измотанный постоянным недосыпанием. Перед глазами возникла сребролюбивая Клоридия – пришлось прогнать непрошеное видение. Второй раз за этот день будил меня Кристофано. Я проспал четыре часа кряду и чувствовал себя бодро, хотя, возможно, это было связано с действием целительного ликера, которым я не забыл окропить грудь перед тем, как уснуть. Убедившись, что я окончательно пришел в себя, Кристофано преспокойно удалился. Тут только я спохватился, что не все наши постояльцы получили предписанные процедуры. Одевшись и подхватив котомку с микстурами, травами и мазями, я мысленно прикинул, что предстояло сделать: перво-наперво навестить Бреноцци и дать ему укрепляющего желудок терияка и взвара дубровки трилистной, затем к Девизе и Дульчибени. Оставалось только спуститься в кухню и подогреть немного воды. Я постарался не задерживаться у венецианца – невмоготу было выносить ту настойчивость, с какой он расспрашивал меня и при этом сам же и отвечал на свои вопросы, не давая мне открыть рта. К тому же приходилось постоянно отворачиваться, чтобы не видеть его игры на своих причиндалах, расположенных как раз на уровне моих глаз, – неровный контрапункт этой игры напоминал мне те вопросительные самопощипывания, коим предаются молодые люди, только-только утерявшие невинность и еще не поднаторевшие в искусстве получения удовольствия. Я заметил, что он не притронулся к пище, но поостерегся расспрашивать о чем-либо, боясь его невоздержанности на язык. И вот я уже стучался к неаполитанцу. Войдя к нему, я принялся раскладывать все необходимое для окуривания его в целях борьбы с болезненными миазмами, как вдруг заметил, что и он не притронулся к еде. Поинтересовался его самочувствием, но он оставил мой вопрос без ответа и, в свою очередь, спросил, знаю ли я, откуда он родом. – Да, сударь, – в замешательстве ответил я. – Из Неаполитанского королевства. – А бывал ли ты там? – Увы, нет. Я отродясь нигде не бывал. – Так знай же, никогда и никого Небо не одаривало так щедро в любое время года, как этот благословенный край, – начал он приподнятым тоном. – А вместе с ним и дюжину провинций королевства. Любезная сердцу столица с видом на величавое море, в окружении пологих холмов и бархатных долов, основанная сиреной по имени Парфенона[1159], пользуется в несметных количествах дарами Поджо Реале: чистейшими источниками, фруктами, травами, достигающими в этих краях невиданной высоты. Чего стоит один знаменитый укроп! На морском берегу Киайа, на холмах Позиллипо собирают урожай цветной капусты, зеленого горошка, испанских артишоков, редиса, салата и сладчайшие в мире плоды. Не думаю, что где-либо еще в мире существуют столь плодородные и милые глазу места, обладающие таким очарованием, как высокие берега Мерджеллины, чей покой нарушается лишь легким и приятным ветерком, по праву заслуживающие того, чтобы именно здесь упокоились бессмертные останки великого Марона[1160] и несравненного Саннадзаро[1161]. «Вовсе не столь уж опрометчиво заявил Стилоне о себе как о поэте», – невольно подумалось мне. Его вдохновенный голос продолжал доноситься и из-под простыни, которую я накинул ему на голову: – А дальше раскинулся древний Поцуоли, прямо-таки ломяшийся от спаржи, артишоков, гороха и тыквы, причем, заметь, не только в теплое время года. Лишь минул февраль, глядь, а уже в марте, на удивление людей, новый сок из недозрелого винограда. А там и фрукты Прочиды, и белые и красные розы, и прекрасное вино и фазаны Искии, и чудесные телочки и нежнейшие перепела Капри, и свинина Сорренто, и дичь Вико, и сладкий лук-порей Кастелламаре, и кефаль Торре дель Греко, и краснобородка Гранатьелло, и виноградники лакримы[1162] на Монте ди Сомма, прежде носившего имя Везувий, и дыни и паштеты Орты, и вино Вернотико в Ноле, и мягчайшая нуга Аверсы, и дыни Кардито, и ягнята Арьенцо, и свежекопченый сыр Асерры, и артишоки Джулиано, и морские миноги Капуи, и оливки Гаэты, и бобы Венафро, и форель, вино, растительное масло и дичь Соры… И тут до меня дошло. – Сударь, не желаете ли вы сказать, что ваш желудок не принимает моей стряпни? Он встал и в замешательстве взглянул на меня. – Э-э-э, что и говорить, здесь одни супы да похлебки. Но не в этом дело. – Он с трудом подыскивал слова. – Словом, у тебя просто мания какая-то посыпать свою бурду корицей. В конце концов, она доконает нас скорее, чем чума. – И тут на него ни с того ни с сего напал смех. Я расстроился, почувствовал себя униженным и попросил его выражать свои чувства не так громко, чтобы другие постояльцы не услышали. Но было уже поздно. Бреноцци за стеной успел уловить суть протеста Стилоне и вскоре раздался его исступленный хохот, который перекинулся на отца Робледу, шедшего по коридору. Стилоне Приазо, в свою очередь, также выглянул в коридор, желая принять участие во всеобщем веселье. Напрасно уговаривал я его не делать этого. На меня со всех сторон обрушился град издевок и насмешек над якобы отвратительным вкусом моих блюд, которые, видите ли, были бы вообще несъедобны без музыкального сопровождения Девизе. Отец Робледа – и тот с большим с трудом подавил свой смех. Как следовало из слов неаполитанца, они потому только умалчивали до сих пор правду, что Кристофано известил их о том, что Пеллегрино очухался, и они надеялись, что вскоре он вернется к своим обязанностям, а кроме того, у них были дела и поважнее. Однако недавнее увеличение доз корицы сделало положение невыносимым. Увидя мое оскорбленное и униженное лицо, Приазо замолчал. Другие ретировались в свои комнаты. Неаполитанец положил мне руку на плечо: – Ну-ну, мой мальчик, не принимай так близко к сердцу, карантин не придает манерам изысканности. Я попросил у него прощения за то, что измучил его корицей, подхватил котомку и был таков. Я был поистине несчастен, но положил себе не показывать этого. Дальше мой путь лежал к Девизе, но дойдя до его двери, я заколебался. Из-за двери доносились нестройные звуки гитары: он настраивал инструмент. После чего приступил к плясовой, похожей на вилланель, а затем и к тому, что сегодня, не боясь ошибиться, я бы назвал гавотом. Я постоял-постоял, да и постучался к Помпео Дульчибени: если он не против, чтобы его растерли и умастили, можно будет еще какое-то время наслаждаться игрой Девизе. Дульчибени согласился впустить меня. Как всегда, когда он со мной разговаривал, выражение его лица было суровым и утомленным, голос тихим, но твердым, а взгляд проникающим в самое нутро. – Сделай одолжение, любезный. Клади сюда свою ношу. Он всегда обращался со мной так, как обыкновенно обращаются с теми, кто прислуживает. Ни один другой постоялец не вгонял меня в такую робость, как он. Тон, взятый им с теми, кто стоит ниже по своему положению, спокойный и начисто лишенный теплоты, был как бы на грани терпения и всякую минуту грозил сорваться на презрение, чего, однако, не происходило. Это вынуждало вести себя с ним чрезвычайно сдержанно и по большей части помалкивать. Он также никогда не заговаривал со мной за едой. Оттого-то ему наверняка более, чем кому-либо из нас, было одиноко. Хотя внешне это никак не проявлялось, даже напротив. И все же я подмечал то на его узком лбу, то на его щеках в сеточке красных прожилок глубокую горькую складку, придававшую лицу выражение душевного угнетения, характерное для тех, кто вынужден нести груз одиночества. Единственным, что его радовало, были кушанья, приготовленные моим хозяином, только это одно и могло вызвать у него редкую, но искреннюю улыбку и шутливое замечание. Меня вдруг стукнуло: а не было ли и для него камнем преткновения мое пристрастие к сдабриванию пищи корицей, но я тут же прогнал эту мысль. Впервые предстояло мне провести с ним час, а может, и более, и я чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Открыв котомку, я достал все необходимое. Дульчибени поинтересовался содержимым пузырьков, способом их применения и любезно выслушал мои объяснения. Я попросил его обнажить спину и сесть верхом на низенький стул. Пока он расстегивал свой черный камзол и снимал свои странные брыжи, я успел заметить длинный шрам, что шел у него поперек шеи: вот, оказывается, почему он никогда не появлялся на людях без вышедшего из моды пышного кружевного воротника. Он сел так, как я просил его, и я принялся втирать ему в спину масляный бальзам, предписанный Кристофано. Первое время мы перекидывались ничего не значащими фразами и наслаждались игрой Девизе: сначала звучал аллеманд, затем джига, чакона и менуэт en rondeau [1163]. Мне пришли на память слова Робледы по поводу янсенистского учения, к последователям которого он относил Дульчибени. Все шло хорошо, как вдруг Дульчибени забеспокоился, побледнел и пожелал встать. – Вам дурно? Запах мази доставляет вам беспокойство? – Нет-нет, милейший. Я только хочу взять щепоть табаку. Он повернул ключ в скважине комода и вынул оттуда три книги небольшого формата в красивом алом переплете с золотыми арабесками, причем все три совершенно одинаковые, и отложил их, затем достал табакерку из вишневого дерева с инкрустацией, открыл ее, взял щепоть порошка и угостил им ноздри, сделав три затяжки. Замер, глубоко задышал и уж тогда только взглянул на меня поприветливее. Он как будто успокоился и стал участливо расспрашивать о других постояльцах. Далее беседа не пошла. Время от времени он вздыхал, закрывал глаза и проводил рукой по своим седым, прежде, видимо, светлым волосам. Наблюдая за ним, я все думал, что ему известно о подлинной истории его соседа по комнате, недавно убравшегося на тот свет. Мои мысли сосредоточились на сведениях, полученных от Атто насчет Муре – Фуке, и я ничего не мог с этим поделать. Так и подмывало задать ему вопрос-другой по поводу старика-француза, которого он (возможно, даже не подозревая, кто это) сопровождал из Неаполя. Как знать, может, они неплохо знали друг друга, даром что в присутствии врача и представителей магистратуры он заявил об обратном. Раз так, значит, вытащить из него признание – задача не из легких, оставалось одно: разговорить его на любую тему, глядишь, что-нибудь да узнается. Так я поступал с другими, добиваясь, правда, весьма скромных результатов. Мне пришло в голову испросить мнения Дульчибени в отношении того или иного важного события, как и приличествует в разговоре со старшими, внушающими вам робость. Я спросил, что он думает по поводу осады Вены, где на карту поставлена судьба всего христианского мира, и верит ли он, что император побьет турок. – Император Леопольд Австрийский не может никого побить, поскольку задал стрекача, – сухо ответил он и замолчал, давая понять, что беседа окончена. Я не терял надежды услышать его доводы, отчаянно подыскивая хоть какие-то слова, могущие продлить разговор, но так ничего и не нашел. В комнате вновь повисла тяжелая тишина. Делать было нечего, я поскорее покончил с заданием Кристофано и попрощался. Дульчибени молчал. Я уже был на пороге, когда один вопрос все же пришел мне на ум: я не мог удержаться от искушения узнать, оценивает ли и он мои поварские способности опрокинутым вниз большим пальцем. – Нет, милейший, вовсе нет. – В голосе его вновь промелькнула усталость. – Я бы даже сказал, что ты небезнадежен на избранном поприще. Я поблагодарил его. На сердце у меня отлегло. Но пока я закрывал дверь, он успел прибавить еще кое-что, произнося слова каким-то странным, утробным голосом и, видимо, думая, что я уже вышел. – Кабы ты не готовил помоев с плавающими в них кусками дерьма и не налегал так на эту чертову корицу. Pomilione несчастный! С меня было довольно. Никогда еще я не испытывал такого унижения. То, что он говорил, было правдой. Но что же делать? Биться в истерике не поспособствует тому, чтобы восстановить свое достоинство во мнении окружающих, в том числе Клоридии. Меня охватила ярость, во мне взыграла гордыня. Мог ли я лелеять такие большие надежды (стать однажды газетчиком!), не будучи способным взять столь малую планку – выучиться на повара. Буря поднялась в моей душе. Из комнаты Дульчибени тем временем донеслось бормотание. Я приник ухом к двери: каково же было мое удивление, когда я понял, что он с кем-то разговаривает! – Вам дурно? Запах мази доставляет вам беспокойство? Меня взяла оторопь: разве не я задал ему этот вопрос некоторое время назад? Кто мог прятаться в его комнате и подслушивать нас? И почему этот кто-то повторял мои слова? Но самым поразительным было то, что это был женский голос. И отнюдь не Клоридии. Какое-то время в комнате Дульчибени царила тишина. – Император Леопольд Австрийский не может никого побить, поскольку задал стрекача! – воскликнул вдруг Дульчибени. Но ведь я уже слышал от него эту фразу, и произносил он ее, обращаясь ко мне! Я продолжал прислушиваться, разрываясь между крайним изумлением и страхом быть застигнутым врасплох. – Вы несправедливы, вам не следовало бы… – робко возражал женский голосок, отличавшийся чуть хрипловатым тембром. – Молчи! – повелел Дульчибени. – Если Европа затрещит по швам, мы будем этому только рады. – Надеюсь, вы шутите. – Так выслушай же меня, – более миролюбиво заговорил Дульчибени. – Наши земли ныне составляют один большой дом. Дом, в котором проживает одна большая семья. Но что произойдет, если братьев станет слишком много? Если их жены будут состоять в родстве между собой, а их сыновья – приходиться друг другу двоюродными братьями? Спорам и ненависти не будет конца. Порой они будут образовывать недолговечные союзы. Их дети станут предаваться непристойному соитию и порождать слабых и порочных безумцев. На что надеяться такому несчастливому семейству? – Не знаю, может быть… это принесет мир, а их дети не станут совокупляться? – неуверенно предположил женский голос. – Так вот, если турки овладеют Веной, – зло смеясь, отвечал Дульчибени, – в жилы европейских монархов вольется хоть капля свежей крови. Разумеется, этому будет предшествовать пролитие старой. – Простите, я ничего в этом не смыслю, – вставила гостья. – Это проще простого. Все христианские короли связаны между собой кровными узами. – Как так? – удивилась собеседница. – Тебе нужны примеры? Пожалуй. Людовик XIV, Наихристианнейший из королей, – дважды кузен по отношению к своей супруге Марии-Терезии, инфанте Испанской. Их родители были братьями и сестрами. Мать короля-Солнца Анна Австрийская – сестра отца Марии-Терезии, Филиппа IV, короля Испании. Отец короля-Солнца Людовик XIII – брат матери Марии-Терезии, Елизаветы Французской, первой жены Филиппа IV. – Дульчибени, по-видимому, взял табакерку, поскольку до меня донеслись звуки тщательного перемешивания ее содержимого, и продолжил: – Следовательно, родственники со стороны жены и родственники со стороны мужа короля и королевы Франции – в то же время их дяди и тети. Вот я и спрашиваю: каково это быть племянником или племянницей родственников своей жены или своего мужа? Или, ежели предпочитаешь, зятем и невесткой своих родных дяди и тети? Больше пребывать к неведении я не мог, это было сильнее меня: как, черт побери, в «Оруженосец» в разгар карантина пробралась женщина? И почему Дульчибени весь кипел, разговаривая с ней? Я попытался приоткрыть дверь, не слишком плотно прилегавшую к косякам. Мне это удалось, образовалась щель, к которой я приник, затаив дыхание. Дульчибени стоял, облокотившись о комод, и вертел в руках свою табакерку. Взгляд его был устремлен к стене справа от него, там, видимо, и находилась таинственная незнакомка. Увы, эта часть комнаты никак не попадала в поле моего зрения. Разве что открыть дверь пошире? Но тогда он увидит меня. С силой втянув в себя порошок, Дульчибени принялся раскачиваться и набирать в легкие воздух, будто готовясь задержать на некоторое время дыхание. – Возьмем английского короля Карла II из династии Стюартов, – продолжал он, вновь задышав. – Его отец женился на Генриетте Французской, сестре отца Людовика XIV. Выходит, король Англии – дважды кузен: короля Франции и его супруги – испанки. Которые, как тебе известно, дважды кузены друг по отношению к другу. А что уж говорить о Голландии! Генриетта Французская, мать короля Карла II, была не только теткой по отцовской линии короля-Солнца, но и бабкой по материнской линии юного голландского принца Вильгельма Оранского. Суди сама. Сестра короля Карла и герцога Якова, Мария, стала женой Вильгельма Оранского, от их брака родился Вильгельм III, который, ко всеобщему удивлению, шесть лет назад женился на старшей дочери Якова, своей двоюродной сестре. Четыре монарха восемь раз перемешали свою кровь. Вновь запустив пальцы в табакерку, он стал любовно переминать ее содержимое, после чего, достав понюшку, поднес ее к ноздрям и втянул в себя с таким исступлением, словно долгое время был лишен этой возможности. Страшно побледнев, он продолжал осипшим вдруг голосом: – Другая сестра Карла II вышла за одного из его кузенов, брата Людовика XIV. Еще одно кровосмешение. Приступ кашля мешал ему продолжать. Он поднес ко рту платок, словно его тошнило, и оперся о комод. – Однако же обратимся к Вене, – задыхаясь, вновь заговорил он. – Французские Бурбоны и Испанские Габсбурги – кузены Австрийских Габсбургов, первые четырежды, вторые – шесть раз. Мать императора Леопольда I Австрийского – сестра Людовика XIV. Но она также и сестра короля Филиппа IV Испанского, отца Марии-Терезии, то есть тестя короля-Солнца. Кроме того, она дочь сестры скончавшегося императора Фердинанда III, отца своего супруга. Сестра Леопольда I вышла за своего дядю по материнской линии, все того же Филиппа IV Испанского. А Леопольд I женился на своей племяннице Маргарите-Терезии, дочери все того же Филиппа IV и сестре жены Людовика XIV. Таким образом, король Испании – дядя, шурин и тесть императора Леопольда. Пересчитай-ка, какое бесчисленное количество раз три семейства перемешали свою кровь! Голос Дульчибени зазвучал более резко, а взгляд остекленел. И вдруг он перешел на крик: – Ну что? Хотелось бы тебе быть тетей и свояченицей своего зятя? В приступе гнева он смел с комода попавшиеся ему под руку предметы (книгу, свечу), и те полетели в стену, а потом упали на пол. В комнате установилась тишина. – Но всегда ли так было? – едва слышно вымолвил женский голосок. Дульчибени вновь напустил на себя неприступный вид, характерный для него, и скроил гримасу горечи. – Нет, дорогуша, – наставительно начал он. – В давние времена пеклись о своем потомстве, стремясь породниться с лучшими представителями феодальной знати. Каждый новый король был сосудом с самой чистой и благородной кровью, какая только имелась в его землях: во Франции государь был большим французом, чем его подданные, в Англии – большим англичанином, чем все остальные жители страны. Не в силах более сдерживать любопытство, я сунул голову в щель и, не удержавшись, толкнул дверь. Одно лишь чудо позволило мне удержаться от падения и не влететь головой вперед в комнату Дульчибени. Я вовремя вцепился руками в косяк. Щель хоть и увеличилась, но не намного. Покрывшись холодным потом и задрожав от страха, я взглянул вправо от него, где должна была находиться его собеседница. Потребовалось несколько минут, прежде чем я пришел в себя от оторопи: там никого не было, но висело зеркало. Дульчибени разговаривал сам с собой. В следующие секунды мне далось еще большим трудом осознать суть того неподдельного душевного излияния, которому он предался, перебрав родственные связи правящих династий. Помутился ли его рассудок? С кем, по его представлению, он беседовал? Был ли он одержим воспоминанием о дорогом существе (сестре, жене), которого уже не было на свете, воспоминанием настолько душераздирающим и сильным, что ему приходилось устраивать подобный спектакль, чтобы хоть как-то совладать со своей тоской? Я испытал стеснение и умиление при виде глубоко личного переживания, невзначай и ненадолго приоткрывшегося мне, словно заглянул в замочную скважину. Когда я пытался завести с ним разговор на эту тему, он уклонился, судя по всему, предпочтя мое общество обществу кого-то несуществующего. – И что же? – вновь невинным и смущенным девичьим голоском заговорил уроженец Марша. – И что же, и что же? – передразнил сам себя Дульчибени. – А то, что все они поддались одолевавшей их жажде власти, потому и вступали в близкие родственные связи. Возьми, к примеру, австрийский правящий дом. Ныне его смердящая кровь оскверняет могилы храбрых предков: Альбрехта Мудрого, Рудольфа Великодушного, Леопольда Храброго и его сына Эрнста I Неумолимого, вплоть до Альбрехта Терпеливого и Альбрехта Прославленного. Кровь эта начала гнить три столетия назад, когда появился на свет несчастный Фридрих Пустые Карманы, Фридрих с Висячей Губой, а затем его сын Максимиллиан I, почивший в бозе, объевшись дыней, от этих двоих и пошло нездоровое желание объединить все владения Габсбургов, когда-то мудро разделенные Леопольдом Храбрым с братом. Эти владения могли существовать вместе лишь как некое тулово, которому спятивший хирург пришил бы вдруг три головы, четыре ноги и восемь рук. Дабы утолить свою жажду, Максимиллиан I трижды женился, и жены принесли ему в качестве приданого Нидерланды и Франш-Конте, а также выступающий и загнутый кверху подбородок, напоминающий калошу, обезобразивший лица его потомков. За свою короткую жизнь (двадцать восемь лет) его сын Филипп Красивый успел занести длань над Испанией, женившись на Иоанне Безумной, дочери и наследнице Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, матери Карла V и Фердинанда I. Карл V и увенчал и похоронил мечту своего деда Максимиллиана I: отрекшись от престола, он поделил королевство, над которым никогда не заходило солнце, между своим сыном Филиппом II и братом Фердинандом I. Он поделил земли, но не свою кровь. Безумие неумолимо овладело его потомками: брат вожделеет к сестре, и оба – к своим собственным детям. Сын Фердинанда I, Максимиллиан II, император Австрийский, женится на сестре своего отца – от этого брака с теткой у него рождается дочь, Анна-Мария Австрийская, ставшая женой Филиппа II, короля Испании, своего дяди и кузена (он был сыном Карла V). От этого гибельного для рода брака родился Филипп III, король Испании, который женился на Маргарите Австрийской, дочери брата своего деда Максимиллиана II, – от этого брака на свет появились король Филипп IV и Мария-Анна Испанская, которая вышла за Фердинанда III, императора Австрийского, своего двоюродного брата, поскольку он приходился брату ее матери сыном, – от этого брака родились нынешний император Леопольд I Австрийский и его сестра Мария-Анна… Меня вдруг взяла гадливость. Эта оргия инцестов между дядьями, племянниками, свояками, шуринами и кузенами была настолько отвратительна, что у меня просто закружилась голова. Осознав, что Дульчибени разговаривает с зеркалом, я стал слушать вполуха, его мрачный перечень был мне не только в тягость, но и в новинку. Лицо Дульчибени из мертвенного стало багровым, взгляд потерянно всматривался в пустоту, голос не слушался: вот до чего довел его избыток гнева. – Не забудь и того, – выдавил он наконец из себя каким-то жалким дискантом, – что Франция, Испания, Австрия, Англия и Голландия, земли, веками вызывавшие зависть членов противоположных родовых кланов, ныне управляются одним родом, лишенным чувства родства и клятвы. Эта кровь именуется autadelphos – кровь дважды брата самого себя, каковой была кровь детей Эдипа и Иокасты[1164]. Она чужая истории каждого из этих народов, но от нее зависит история их всех. Эта кровь лишена чувства родины и клятвы в верности подданных, это предательская кровь. Помои с кусками дерьма… Так были оценены мои усилия заменить хозяина, и это при том, что я допустил страшный перерасход драгоценной корицы. Оправившись от чувства отвращения, вызванного во мне пространными рассуждениями Дульчибени с самим собой, я вновь мысленно вернулся к тому неприятию, которое помимо моего желания вызвала моя стряпня у постояльцев, и вознамерился поправить дело. С этой целью я перво-наперво спустился в закомары постоялого двора, в самую нижнюю их часть, оборудованную глубоко под землей, где было так свежо и промозгло, что я чуть не превратился в сосульку, исследуя их содержимое, за тот час с небольшим, который ушел у меня на это. Я заглянул в самые потаенные уголки этого помещения с низким потолком, пробрался туда, куда ранее не ступала моя нога, дотянулся до самых высоких полок, до донышка прощупал все лари и кадушки, наполненные прессованным снегом. За несметным количеством различного вида бочек с вином и кувшинов с растительным маслом, горшков с зерном, сушеными овощами, вареньями, соленьями, за мешками с макаронными изделиями, лазаньями и всякой диковинной непортящейся снедью было устроено широкое углубление, в котором я обнаружил немалое разнообразие мяса – присоленного, подкопченного, подсушенного, потушенного. Оно хранилось в снегу – либо просто под мешковиной, либо в жбанах. Подобно ревнивому любовнику мой хозяин скрывал здесь от посторонних глаз языки в желе, молочных поросят, куски сладкого мяса оленины и козлятины, требуху, ножки, почки и мозг дикобраза, вымя коровье и козье, языки бараньи и кабаньи, окорочка лани и серны, медвежьи печень, лапы, лопатки и пасть, а также хребтовую и филейную часть косули. Там были также и тушки кроликов, горных петухов, индийских пулярок, каплунов, голубей, как диких, так и домашних, бекасов, куликов, павлинов, гоголей, дроф, уток, водяных кур, гусят, гусей, цесарок, кроншнепов, гаршнепов, перепелов, горлиц, дроздов-ореховиков, кавказских рябчиков, ортоланов, ласточек, иволг, воробьев, древесных щевриц из Кипра и Кандии. Сердце у меня забилось и сжалось при мысли о том, что бы сотворил из всего этого мой бедный хозяин, как бы он отварил, потушил, запек, подкоптил, приготовил в виде паштета, котлет, филе, рагу, фрикасе, мусса, рулончиков, обжарил «с кровинкой», в пергаменте, на решетке, на вертеле, в тесте, на противне, на рашпере, обернув тушку тонкими ломтиками шпика, припустив, протерев через сито, нафаршировав, вымочив, отбив, выдержав в маринаде, приправив пряностями, перевязав бечевой, нашинковав, нашпиговав, обмазав яичным желтком и подав, к примеру, с зеленью петрушки, растолченной вместе с чесноком и луком-шалот, либо с инжиром. От сильного запаха копченой дичи и даров моря у меня потекли слюнки; как я и думал, вскоре под слоем снега и мешковины отыскалось великое множество представителей подводного царства: иглицы, гребешки, черенки, мулы, окуни, улитки вырезубы, креветки, устрицы, крабы, железницы, морские миноги, плоскуши, мурены, сиги-песочницы, гольцы, мелюзга, камбала, щуки, мерланы, умбрии, морские блюдца, меченосы и султанки в виде филе, палтусы, скорпены, сардины, макрель, осетры, черепахи, раковины песчанки и лини, не считая всякой мелочи. До этой поры я преимущественно имел дело со свежими продуктами. Я сам открывал поставщикам служебный вход. Запасы же если и приходилось видеть, то лишь мельком, когда хозяин поручал мне принести что-нибудь из погреба (что, увы, случалось редко) или когда я сопровождал Кристофано, черпавшего там материал для снадобий и зельев. Раздумье напало тут на меня: когда и кому собирался скормить все эти припасы Пеллегрино? Может, он лелеял надежду принять у себя одну из тех роскошных делегаций армянских патриархов, которыми гордился «Оруженосец» времен г-жи Луиджии, о чем до сих пор еще в округе ходила молва. Сам не знаю отчего мне пришло в голову, что Пеллегрино, вылетев со своего места стольника, резавшего мясо, в доме кардинала, позаимствовал там всю эту уйму невиданных богатств. Выбор мой пал на коровье вымя. Вернувшись в кухню, я обмыл его, очистил от соли, обвалял в муке и слегка припустил. Одну его часть нарезал тонкими ломтиками, посыпал мукой, обжарил до золотистой корочки и приготовил в виде фрикасе под соусом. Другая часть пошла на рагу с подливой из пряных трав, жирного бульона и яичных желтков. Третью часть я проварил в печи с белым вином, виноградными косточками, лимонным соком, фруктами, изюмом, ядрами сосновых шишек и столбиками ветчины. Четвертая часть пошла на начинку для пирожков из теста, состряпанного мною из хлебного мякиша, муки, пряной смеси, бульона и сахара. Оставшееся нашпиговал ветчиной и гвоздикой, обернул сеточкой и надел на вертел. После чего силы изменили мне, и я опустился на пол возле камина. Там меня в поту, в полуобморочном состоянии и нашел Кристофано. Он проинспектировал выставленные в ряд блюда и бросил на меня по-отечески нежный взгляд. – Пойди отдохни, мой мальчик. Я сам займусь разноской. Поскольку во время готовки я много раз пробовал, что у меня получается, и в какой оно стадии готовности, я был, можно сказать сыт по горло и потому побрел к лестнице, не прикоснувшись ни к одному из приготовленных мною кушаний. Но сразу к себе я не пошел. Пристроившись на ступенях так, что меня никто не мог видеть, я позволил себе насладиться триумфом: добрые полчаса слушал, как весь «Оруженосец» довольно уплетал за обе щеки, чавкал, прищелкивал языком и постанывал от удовольствия. Когда же наконец хор вырвавшихся из желудков постояльцев звуков – веселых, ворчливых, трубных – возвестил о том, что пора собирать посуду, у меня на глазах выступили слезы. Не желая отказать себе в удовольствии самолично собрать букет комплиментов в свой адрес, я уже вознамерился обойти комнаты, как вдруг замер у дверей аббата, заслыша его пение, исполненное неизбывной тоски:
Пятая ночь С 15 НА 16 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Когда аббат в очередной раз зашел за мной, предлагая спуститься в подземный город, я пребывал в подавленном состоянии. Ужин из коровьего вымени внес разнообразие в умы постояльцев. Чего нельзя было сказать обо мне, удрученном чередой открытий относительно Муре-Фуке и мрачными раздумьями, навеянными речью Дульчибени. Не помогли мне даже записи, сделанные в дневнике. Аббат не мог не заметить моего дурного расположения духа, оттого, видимо, и не пытался заговаривать ни о чем, пока мы спускались и шли уже привычным путем. Да он и сам был в скверном настроении, правда, уже не в таком отчаянии, как тогда, когда изливал его в пении. Казалось, его гнетет нечто, в чем он не может признаться и оттого хранит молчание. Угонио и Джакконио несколько скрасили наш путь. Как мы и договаривались, они дожидались нас под площадью Навона. – Этой ночью нам предстоит разобраться в устройстве подземного Рима, – объявил Мелани и достал из кармана лист бумаги, на котором было начертано несколько линий. – Вот чего я безнадежно добивался от наших двух молодцев. Что ж, придется разбираться самим.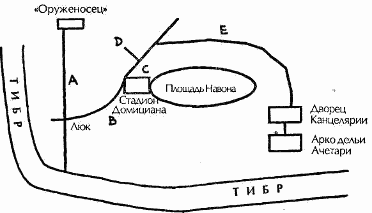
Атто в общих чертах изобразил то, что нам было известно. В первую ночь мы покинули «Оруженосец» и добрались до Тибра по галерее, указанной на плане буквой А. В своде этой галереи мы впоследствии обнаружили люк, через который проникли вдругую галерею, ведущую к развалинам стадиона Домициана, расположенным под площадью Навона. Эта галерея была обозначена буквой В. Через узкий проход от площади Навона можно было попасть в галерею С, а из нее в галерею Е, изображенную в виде кривой линии, – по ней мы преследовали Стилоне Приазо и оказались в подземных залах с расписанными фресками стенами под дворцом Канцелярии. Мы тогда еще добрались до Арко дельи Ачетари. И наконец, небольшое ответвление влево D, берущее начало от галереи С. – Что нам известно? Где берут начало три галереи В, С и D. Но мы не знаем, где они кончаются. Было бы разумно исследовать их прежде, нежели пуститься по неизведанным. К примеру, вот это продолжение галереи А, оно тянется от люка к Тибру, но это все, что мы знаем. Галерея В от площади Навона берет куда-то вперед и вверх. Галерея D ответвляется влево. С нее и начнем. С большими предосторожностями добрались мы до того места, где в предыдущую ночь нам с Угонио выпало переждать во время погони за Стилоне Приазо. Здесь Атто велел нам остановиться, чтобы иметь возможность сообразиться с планом. – Гр-бр-мр-фр! – рек Джакконио, взывая к нашему вниманию. В нескольких шагах от нас что-то валялось. Запретив нам двигаться, аббат пошел взглянуть, а затем уж позвал и нас. Это был глиняный сосуд, из которого вылилась кровь. На земле имелись теперь уже высохшие потеки и капли. – Чудо, говоришь… – задыхаясь и чуть дыша, вымолвил Мелани. Пришлось пустить в ход всю силу убеждения, чтобы отвратить наших неутомимых следопытов от намерения счесть найденный предмет священной реликвией. Джакконио совсем потерял разум и принялся бегать вокруг обычного горшка, истошно вопя. Угонио попытался унять его своими методами, но Атто не допустил этого, не поскупившись на тычки и подзатыльники. В конце концов приятели угомонились, и мы смогли собраться с мыслями. Разумеется, и речи не могло идти о том, чтоб принять кровь под ногами за священную лимфу какого-нибудь мученика, принявшего смерть на заре христианства: галерея D, в коей она растеклась, не имела ни малейшего отношения к катакомбам либо крипте; кроме того, растекшаяся по земле бурая жидкость высохла и принадлежала по всей видимости кому-то из ныне здравствующих либо недавно преставившихся. Только с помощью подобных доводов аббату и удалось поумерить пыл ревнителей старины. Атто завернул находку в тряпицу и сунул в карман, затерев ногой пятна крови на земле. Решено было продолжать исследование галереи – как знать, не ждала ли нас далее разгадка. Мелани шел молча, но догадаться, о чем его мысли, труда не составляло: нам снова подвернулось нечто нечаянное-негаданное, снова требовалось во что бы то ни стало разгадать, что бы это значило, и снова речь шла о крови. Как и накануне ночью, галерея стала отклоняться влево. – Странно, я этого не ожидал, – задумчиво протянул аббат. А некоторое время спустя тропинка полого поползла вверх. Вскоре нашим глазам предстала винтовая лестница с искусно вырубленными в туфе ступенями. Угонио с Джакконио были явно не в восторге от того, что предстояло карабкаться. Их настроение вообще окончательно испортилось: мало того что они так и не увидели больше своей страницы из библии, так теперь еще лишились и ценной реликвии. – Ладно, ждите нас здесь, – нехотя согласился Атто. Мы с Атто стали подниматься по лестнице, я спросил у него, отчего его так удивило, что галерея D отклоняется влево. – Что ж тут мудреного? Если ты хорошенько вглядишься в мой план, то заметишь, что мы возвращаемся к тому месту, с которого начали, то есть к нашему постоялому двору. Мы медленно одолевали ступень за ступенью, и вскоре послышался глухой удар, а вслед за ним раздались жалобы Мелани. Оказывается, он ударился головой о крышку люка. Она подалась, стоило нам посильнее надавить на нее. Подъем закончился, и мы очутились в каком-то закрытом пространстве, где царил едкий запах мочи и испражнений животных. Это был каретный сарай. На скорую руку обследовав его, мы обнаружили небольшую коляску о двух колесах с крытым кожаным верхом. Над ней был устроен навес из клеенки, утвержденный на металлических столбиках с вычурною обточкою и шишечками. Изнутри коляску украшал розовый свод, на сиденьях лежали подушки. Была там еще и карета попроще и попросторнее, на четырех колесах, с верхом из телячьей кожи. Тут же стояли и две старые неухоженные клячи, которые испуганно шарахнулись от нас. Я приподнял фонарь, чтобы получше разглядеть коляску изнутри, и на спинке заднего сиденья увидел тяжелое распятие. К деревянному кресту было подвешено что-то вроде небольшой клетки со стеклянной колбой внутри, наполненной чем-то бурым. – Вот это уж точно реликвия, – произнес присоединившийся ко мне со своим фонарем Атто. – Однако не будем терять время. Вокруг карет было разбросано немало ведер, предназначавшихся для мытья карет, гребней для расчесывания лошадиных грив, скребниц и разнокалиберных щеток. Мы, не задерживаясь, устремились к двери, ведущей, судя по всему, в дом. Я попытался открыть ее, но не тут-то было. Я разочарованно обернулся к Мелани. Он явно колебался. Взломать дверь мы не могли, это грозило нам двойным наказанием: за попытку ограбления и бегство из-под карантина. Только я подумал, что нам и так уже сказочно повезло тем, что мы никого не встретили в сарае, как вдруг увидал чудовищную руку с длинными когтями, легшую на плечо Атто. Чудом сдержал я крик ужаса, а Атто весь напрягся, готовясь дать отпор. Я кинулся было схватить какой-нибудь предмет – палку либо ведро, чтобы было чем защищаться, – но поздно: неизвестный оказался между нами. Это был Угонио. Я увидел, как побледнел и чуть не лишился чувств Атто. Чтобы оправиться от потрясения, ему пришлось присесть. – Дуралей. Чуть не укокошил меня на месте. Я же велел дожидаться нас внизу. – Джакконио унюхал представителя. Подумывает, не тот ли это умник. – Хорошо, мы спускаемся… что у тебя в руке? Угонио вытянул обе руки и с удивленным видом, словно и понятия не имел, о чем идет речь, стал разглядывать их. При этом в правой руке у него был зажат крест с подвешенной к нему реликвией, который минуту назад находился внутри коляски. – Немедленно верни на место, пакостник, – угрожающе проговорил Мелани. – Никто не должен знать, что здесь кто-то был. – Отправляйся к Джакконио и передай ему, что мы скоро. Здесь нам, видно, делать нечего, – вставил словцо и я, кивнув на дверь. Неохотно вернув распятие на место, Угонио подошел к двери и склонился над замочной скважиной. – Что попусту терять время, дубина стоеросовая! – накинулся на него Атто. – Не видишь разве, она закрыта и даже свет с той стороны не пробивается? – А что, если гипотетически дверца может быть отворена? Как вы на это посмотрите: как на benefice или malefice – пользу али вред? – ничуть не смутившись невежливым обхождением, ответил Угонио, словно по волшебству извлекая из своей хламиды огромное железное кольцо с несколькими десятками, если не больше ключей различных конфигураций и размеров. Мы с Атто оторопело взирали на него. С быстротой, скорее напоминающей движение какого-нибудь животного, он принялся перебирать позвякивающее кольцо. Несколько мгновений спустя его когти остановились на старом заржавленном ключе. – Сию минуту Угонио отопрет дверь, а поскольку лекарь он хоть куда… Тщательно исполняя свои обязанности, христианин умножает радость, – поворачивая ключ в замочной скважине, поучал он нас. Что-то щелкнуло, дверь открылась. Позже потрошители колумбариев и погостов объяснят нам, откуда в их руках оказалось столько всевозможных ключей. Иметь доступ к римским подземным ходам во всем их объеме означало преодолевать пропасть всяких дверей, закрытых на ключ и заложенных на засовы. Это были двери подвалов, погребов, амбаров. Для беспрепятственного проникновения повсюду (как подчеркнул Угонио, «во имя скрупулезности, не терпящей ни единого лишнего скрупула») они взялись за методический подкуп десятков слуг по всему городу, зная, что с домовладельцами вести речь о предоставлении дубликатов ключей бесполезно. Взамен они поставляли тем часть своих драгоценных находок, разумеется, не из числа самых что ни на есть подлинных. Правда, порой приходилось идти и на довольно ощутимые жертвы. Так, часть ключицы святого Петра была выменяна на ключ от ворот сада, ведущего к катакомбам Аппиевой дороги. Трудно было понять, как столь сложный обмен свершался при полном косноязычии одного и словесном поносе другого. Однако результат был налицо: они обладали ключами от подвальных и служебных помещений большинства римских домов и накопили их столько, что им не составляло труда отпереть и все прочие двери города.
* * *
Мы оказались в жилом доме, это было ясно по доносившимся с верхних этажей голосам и звукам, слегка приглушенным расстоянием. Прежде чем затушить свет фонарей, мы огляделись по сторонам. Это была просторная кухня, полная посуды, котлов, корыт, чугунков, ухватов, лоханей, медных кастрюль, мельниц и ступок. И, как я тут же подметил опытным глазом, вся эта домашняя утварь, развешанная по стенам либо хранящаяся в небольшом посудном шкафу и в сундуке белого дерева, была отменного качества, не в пример той, которой пользовались в «Оруженосце». Мы миновали кухню, стараясь ни за что не задеть – ни за форму для выпечки кондитерских изделий ни за длинный сковородник. Ступив на порог следующего помещения, нам пришлось вновь засветить фонарь, чтобы оглядеться. Я прикрыл пламя рукой. Прямо перед нами возвышалось ложе под балдахином, покрытое атласным одеялом в желтую и красную полоску. С обеих сторон от него стояло по ночному столику из дерева; в углу – стул об одном подлокотнике с потертым кожаным сиденьем. Судя по состоянию меблировки и затхлому воздуху, в этой комнате никто не жил. Мы знаком велели Угонио вернуться и дождаться нас внизу – в случае, если бы пришлось быстро уходить, двоим это было бы сделать проще, чем троим. Эта комната была проходная, мы вышли в противоположную дверь, предварительно погасив свет и убедившись, что голоса по-прежнему доносятся издалека. Далее сени. Несмотря на царивший в них мрак, мы догадались, что дверь с улицы находится слева от нас. А перед нами был небольшой коридорчик, заканчивающийся винтообразной лестницей в стене, слабо освещенной падавшим сверху светом, что позволило нам сориентироваться. Передвигались мы с чрезвычайной осторожностью. Голоса и звуки, которые мы слышали вначале, теперь почти стихли. Хотя мне до сих пор непонятно, как у нас хватило духу на такой безрассудный и отчаянный шаг, но тем не менее факт остается фактом: первым на лестницу ступил Атто, за ним я. На полпути между первым и вторым этажами располагалась небольшая гостиная, освещенная канделябром и богато обставленная. Мы ненадолго задержались перед ней. Никогда еще не приходилось мне видеть подобной роскоши: тот, кому принадлежал дом, был, без сомнений, человеком состоятельным. Аббат направился к ажурному столику из орехового дерева, покрытому зеленым сукном. Подняв глаза, он обнаружил развешанные по стенам полотна: Благовещение, Пьета, святой Франциск в окружении ангелов в ореховой золоченой раме, святой Иоанн Креститель – небольшое полотно, написанное на бумаге и вставленное в раму из черепахового панциря, и наконец, гипсовый барельеф восьмиугольной формы, изображающий Марию-Магдалину. Пока аббат разглядывал все это, я заметил умывальник на искусно отделанном треножнике из грушевого дерева, а над ним распятие из меди и золота с крестом из черного дерева, а также столик из светлого дерева с двумя хорошенькими ящичками и два стула. Поднявшись еще на несколько ступеней, мы оказались на втором этаже. Он показался нам пустынным и мрачным. Атто молча указал мне на висевший чуть выше по лестнице светильник с четырьмя большими свечами, там располагался этаж, предназначенный для хозяев дома. Мы постояли, прислушиваясь. Сверху не доносилось более ни единого звука. Мы двинулись дальше. Как вдруг раздался усиленный эхом стук, заставивший нас вздрогнуть. Это открылась и закрылась входная дверь, вслед за чем послышались мужские голоса. Разобрать, о чем говорилось, было невозможно. Кто-то ходил в сенях. Мы с Атто обеспокоенно переглянулись и мигом преодолели остававшиеся до следующей лестничной площадки четыре или пять ступеней. Миновав светильник с зажженными свечами, мы очутились в комнатенке, зажатой между этажами, где и вознамерились переждать. Фортуна была к нам благосклонна: сперва закрылась одна дверь, затем другая, шум голосов затих, голоса смолкли. Мы с Атто облегченно вздохнули. Комнатка освещалась канделябром. Слегка оправившись от страха и отдышавшись, мы огляделись по сторонам. Все стены были сплошь заставлены книжными шкафами, в которых в большом порядке стояли тома. Мелани взял наугад один из них. Это было «Житие благочестивой Маргариты Кортонской» неизвестного автора. Атто тут же захлопнул том и поставил его на место. После чего стал поочередно вынимать другие книги: первый том восьмитомного издания «Theatrum Vitae Humanae», «Жизнь Святого Филиппа Нерийского», «Fundamentum Doctrinae motus gravium Vitali Iordani», «Tractatus de Ordine Iudiciorum», очень изящное издание «Institutiones ас meditationes in Graecam linguam» и, наконец, французскую грамматику и книгу под названием «Искусство достойно умирать». Полистав это издание, имевшее темой столь необычный предмет нравственного порядка, аббат с раздражением тряхнул головой. – Что вы ищете? – как можно тише спросил я. – Неужели непонятно: имя хозяина дома. Нынче все подписывают на книгах свои имена, в особенности на ценных изданиях. Я бросился помогать Атто, и через мои руки прошли таким образом «De arte Gymnastica» Джероламо Меркуриале, «Vocabularium Ecclesiasticum» и «Pharetra divini Amoris», а Атто тем временем, вздыхая, раскрывал одно за другим «Сочинения» Платона, «Театр человека» Гаспара да Вилла-Лобоса, а затем, не без удивления, и «Бахус в Тоскане» своего дорогого Франческо Реди. – Не понимаю, – недовольно зашептал он. – Чего здесь только нет: история, философия, теология, древние и современные языки, требники, всякая любопытная всячина и даже несколько книг по астрологии. Вот взгляни: «Арканы звезд» некоего Антонио Карневале, «Ephemerides Andreae Argoli». Но нигде не надписано имя хозяина. И вот в ту минуту, когда я собрался предложить Атто поскорее покинуть этот дом, учитывая, что до сих пор нам все сходило с рук и нас не обнаружили, я как раз и наткнулся на первую книгу по медицине. На одной из полок стояли: том Валлезиуса, «Medicina Septentrionalis» и «Anatomia pratica» Бонетуса, «Римский сборник противоядий», «Liber observationum medicarum Ioannes Chenchi», «De Mali Ipocondriaci» Паоло Таккьи, «Commentarium Ioannis Casimiri in Hippocratis Aphorismos», «Enciclopedia Chirurgica Rationalis» Джованни Долео, а также другие труды по медицине, хирургии и анатомии. Меня особенно поразило семитомное издание трудов Галена в очень красивом переплете из алого сафьяна с золотыми арабесками, необыкновенно приятного на ощупь. В наличии имелось лишь четыре тома, трех других недоставало. Я взял в руки один из томиков. На фронтисписе, внизу имелась небольшая надпись: Ioannis Tiracordae. Вскоре я убедился, что точно такая же надпись стояла и на всех других книгах по медицине. – Я знаю! Знаю, где мы! – обрадованно прошептал я. И только собрался поведать о своем открытии Атто, как на втором этаже открылась дверь и чей-то немолодой голос позвал: – Парадиза! Спустись к нам! Наш друг уходит. С третьего этажа ему отвечал женский голос. Вот мы и попались: с одной стороны – спускающаяся с третьего этажа женщина, с другой – хозяин дома, дожидающийся ее на втором. Комната, в которой мы оказались, была лишена дверей и слишком мала, чтобы в ней можно было спрятаться. Словно какие-нибудь грызуны, преследуемые хищной птицей, мы бросились к лестнице, надеясь оказаться на первом этаже быстрее хозяина дома и его гостя. В противном случае не миновать нам поимки. Однако самое драматичное было впереди: стоило нам одолеть несколько ступеней, как вновь послышался голос хозяина. – Не забудьте завтра ваш ликер! – произнес он тихо, но весьма игриво, по-видимому, обращаясь к гостю. Они стояли прямо у лестницы. Все пропало! Всякий раз, заново переживая эти отчаянные секунды, я повторяю про себя, что одно лишь бесконечное милосердие Божье спасло нас от заслуженной кары. А еще мне приходит в голову, что не приведи аббат Мелани в действие одну из своих Уловок, все могло сложиться совершенно иначе. Атто пришла в голову сногсшибательная мысль задуть свечи, освещавшие этот отрезок лестницы. После чего, набрав в книжными шкафами, в которых в большом порядке стояли тома. Мелани взял наугад один из них. Это было «Житие благочестивой Маргариты Кортонской» неизвестного автора. Атто тут же захлопнул том и поставил его на место. После чего стал поочередно вынимать другие книги: первый том восьмитомного издания «Theatrum Vitae Humanae», «Жизнь Святого Филиппа Нерийского», «Fundamentum Doctrinae motus gravium Vitali Iordani», «Tractatus de Ordine Iudiciorum», очень изящное издание «Institutiones ас meditationes in Graecam linguam» и, наконец, французскую грамматику и книгу под названием «Искусство достойно умирать». Полистав это издание, имевшее темой столь необычный предмет нравственного порядка, аббат с раздражением тряхнул головой. – Что вы ищете? – как можно тише спросил я. – Неужели непонятно: имя хозяина дома. Нынче все подписывают на книгах свои имена, в особенности на ценных изданиях. Я бросился помогать Атто, и через мои руки прошли таким образом «De arte Gymnastica» Джероламо Меркуриале, «Vocabularium Ecclesiasticum» и «Pharetra divini Amoris», а Атто тем временем, вздыхая, раскрывал одно за другим «Сочинения» Платона, «Театр человека» Гаспара да Вилла-Лобоса, а затем, не без удивления, и «Бахус в Тоскане» своего дорогого Франческо Реди. – Не понимаю, – недовольно зашептал он. – Чего здесь только нет: история, философия, теология, древние и современные языки, требники, всякая любопытная всячина и даже несколько книг по астрологии. Вот взгляни: «Арканы звезд» некоего Антонио Карневале, «Ephemerides Andreae Argoli». Но нигде не надписано имя хозяина. И вот в ту минуту, когда я собрался предложить Атто поскорее покинуть этот дом, учитывая, что до сих пор нам все сходило с рук и нас не обнаружили, я как раз и наткнулся на первую книгу по медицине. На одной из полок стояли: том Валлезиуса, «Medicina Septentrionalis» и «Anatomia pratica» Бонетуса, «Римский сборник противоядий», «LiberobservationummedicarumIoannesChenchi», «De Mali Ipocondriaci» Паоло Таккьи, «Commentarium Ioannis Casimiri in Hippocratis Aphorismos», «Enciclopedia Chirargica Rationalis» Джованни Долео, а также другие труды по медицине, хирургии и анатомии. Меня особенно поразило семитомное издание трудов Галена в очень красивом переплете из алого сафьяна с золотыми арабесками, необыкновенно приятного на ощупь. В наличии имелось лишь четыре тома, трех других недоставало. Я взял в руки один из томиков. На фронтисписе, внизу имелась небольшая надпись: Ioannis Tiracordae. Вскоре я убедился, что точно такая же надпись стояла и на всех других книгах по медицине. – Я знаю! Знаю, где мы! – обрадованно прошептал я. И только собрался поведать о своем открытии Атто, как на втором этаже открылась дверь и чей-то немолодой голос позвал: – Парадиза! Спустись к нам! Наш друг уходит. С третьего этажа ему отвечал женский голос. Вот мы и попались: с одной стороны – спускающаяся с третьего этажа женщина, с другой – хозяин дома, дожидающийся ее на втором. Комната, в которой мы оказались, была лишена дверей и слишком мала, чтобы в ней можно было спрятаться. Словно какие-нибудь грызуны, преследуемые хищной птицей, мы бросились к лестнице, надеясь оказаться на первом этаже быстрее хозяина дома и его гостя. В противном случае не миновать нам поимки. Однако самое драматичное было впереди: стоило нам одолеть несколько ступеней, как вновь послышался голос хозяина. – Не забудьте завтра ваш ликер! – произнес он тихо, но весьма игриво, по-видимому, обращаясь к гостю. Они стояли прямо у лестницы. Все пропало! Всякий раз, заново переживая эти отчаянные секунды, я повторяю про себя, что одно лишь бесконечное милосердие Божье спасло нас от заслуженной кары. А еще мне приходит в голову, что не приведи аббат Мелани в действие одну из своих Уловок, все могло сложиться совершенно иначе. Атто пришла в голову сногсшибательная мысль задуть свечи, освещавшие этот отрезок лестницы. После чего, набрав в легкие побольше воздуху, мы укрылись в библиотеке, задув свечи и там. В результате чего лестница встретила хозяина полнейшей темнотой, а также женским голосом, сетующим на темноту. Эта уловка позволила нам выгадать время, а после, воспользовавшись тем, что мужчины отправились за свечой, прошмыгнуть вниз. Отступление осуществлялось в обратном порядке: первый этаж, нежилая комната, кухня, каретный сарай. В спешке я обо что-то споткнулся и, к величайшему неудовольствию одной из кляч, полетел головой в сено. Атто притворил дверь, а Угонио ловко запер ее на ключ. Тяжело дыша, мы застыли у двери, приникнув к ней ухом. Как будто бы двое вышли во двор и проследовали к калитке, ведущей на улицу. Вот заскрежетал, а некоторое время спустя с грохотом опустился тяжелый засов. Один из двоих вернулся и поднялся по лестнице. На несколько мгновений мы превратились в каменные изваяния. Опасность миновала. Тогда мы засветили фонарь и полезли в люк. Когда за нами закрылась его тяжелая деревянная крышка, я смог наконец поведать аббату о своем открытии. Мы побывали в доме Джованни Тиракорды, бывшего главного лекаря папы. – Ты уверен? – засомневался Атто. – Чтоб мне провалиться на этом месте! – Надо же! – усмехнулся Атто. – Вы с ним знакомы? – Поразительно. Тиракорда был врачом на том самом конклаве, на котором мой земляк Роспильози избрался папой под именем Климента XI. Я тоже там присутствовал. Сам я никогда с Тиракордой не разговаривал. Будучи врачом двух пап, он пользовался уважением жителей нашего околотка, которые продолжали числить его главным папским лекарем, хотя к этому времени он и занимал уже должность его заместителя. Проживал он в небольшом особняке, принадлежащем герцогу Сальвиати, стоявшем на пересечении улиц Орсо и Стуфа делле Донне, через каких-нибудь два дома от «Оруженосца». Начертанный Атто план оказался верным: мы почти вернулись туда, откуда пустились в путь. О самом Тиракорде мне было мало что известно: у него была жена (возможно, та самая Парадиза, которую он кликал), в доме прислуживали две-три девушки, сам хозяин занимался врачеванием страждущих в божьем доме Санто-Спирито-ин-Сассия. Внешне он напоминал шар: маленький, горбатенький, почти без шеи, с круглым животиком, на котором держал сложенные руки – и казался олицетворением христианских добродетелей долготерпения и сострадания, будучи на самом деле человеком флегматического склада и трусоватым. Сколько раз видел я из окна постоялого двора, как он семенит по Орсо в своем платье до пят, по пути перекидывается парой слов с лавочниками, поглаживая усики и эспаньолку. Даром что лысый, он не признавал париков, а шляпу всегда держал в руке, и потому его шишковатый череп блестел на солнце. Низкий перерезанный морщинами лоб, острые маленькие уши, румяные скулы, добродушный взгляд, глубоко посаженные глазки с нависающими над ними бровями, утомленно приспущенные веки того, кто привык иметь дело со страданиями ближнего, но не свыкся с ними, дополняли его портрет. Встречаясь с ним, я обычно засматривался на него. Когда самая трудная часть пути осталось позади, аббат Мелани спросил Угонио, не может ли он достать для него дубликат ключа от двери, ведущей из каретного сарая в дом. – Будет исполнено в наилучшем виде, не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Хотя, сказать по правде, что вам мешало озаботиться этим раньше, еще в прошлую ночку, чтоб мне провалиться или быть не столько отцом, сколько отцеубийцей? – Ты считаешь, что следовало подумать об этом вчера вечером? Как тебя понимать? Угонио, казалось, тоже был немало удивлен вопросом Атто. – Дак на улочке Кьявари, там же, где попечатывает Комарек. Атто насупился, сунул руку в карман и достал страницу с библейским текстом. Разгладив, он поднес ее к фонарю в моих руках и стал внимательно изучать тени от сгибов. – Пес его возьми! Как я мог упустить это из виду? – вырвалось у него. Он указал мне на видневшийся на просвет силуэт. – Если присмотреться, посреди листа можно разглядеть силуэт большого ключа с продолговатой головкой, точь-в-точь как у ключа от двери чулана в «Оруженосце». Вот видишь, здесь, в центре, где бумага не так помята, как по краям. – Так это всего лишь бумага, в которую был завернут ключ? – несказанно поразился я. – Ну да. На улице Кьявари находятся все мастерские по изготовлению ключей и замков, там же и подпольная печатня Комарека, чьим заказчиком является Стилоне Приазо. – Я понял. Стилоне Приазо стащил ключи и заказал дубликат на улице Кьявари, в мастерской неподалеку от Комарека. – Нет, мой друг. Кое-кто из постояльцев – ты сам мне об этом рассказывал – уже не впервые останавливается в «Оруженосце». – Да, точно. Стилоне Приазо, Бедфорд и Анжьоло Бреноцци уже бывали у нас во времена госпожи Луиджии, они мне сами об этом говорили. – Так вот, вполне возможно, что Стилоне уже тогда обзавелся ключом от двери чулана, откуда лежит путь под землю. Кроме того, у него была еще одна причина навестить Комарека – я имею в виду печатание астрологической книжицы. Словом, нам не следует больше искать заказчика Комарека, а переключить все внимание на кого-нибудь другого, того, кому потребовался дубликат ключей и кто не долго думая позаимствовал их у Пеллегрино. – В таком случае похититель не кто иной, как отец Робледа! Он поминал Малахию да еще наблюдал, какое действие это имя произведет на меня. А спохватившись, что обронил листок с пророчеством под землей, сделал попытку расколоть меня согласно плану, достойному лучших шпионов, как говорит Дульчибени, – выпалил я и вкратце передал Атто речь Дульчибени, направленную против шпионов-иезуитов. – Вот оно что? Как знать, может, это и впрямь Робледа, хотя… – Гр-бр-мр-фр! – вставил свое словцо Джакконио. – Аргументация ваша ошибочна, сведения недостоверны, – перевел Угонио. – Как так? – поразился Мелани. – Да так. Джакконио голову дает на отсечение, что текст на той бумажке вовсе не из Малахии, как утверждает ваше сиятельство. Скрупулом больше, скрупулом меньше, а скрупулезности-то на поверку ни на грош. Джакконио извлек из своего безразмерного балахона маленький томик Библии, засаленный, грязный, но все же вполне пригодный для чтения. – Так ты с ней не расстаешься? – вырвалось у меня. – Гр-бр-мр-фр. – Это такой полиглот, такой богослов, не приведи Господь! – махнул рукой Угонио. Мы отыскали в содержании пророка Малахию, замыкавшего других малых пророков Ветхого Завета. Я принялся читать, что давалось не так-то легко, поскольку книга была напечатана очень мелким шрифтом.КНИГА ПРОРОКА МАЛАХIИ Глава первая 1. Пророческое слово Господа къ Израилю черезъ Малахiю. Я возлюбилъ васъ, говоритъ Господь. А вы говорите: «въ чемъ явилъ Ты любовь къ намъ?» – Не брать ли Исавъ Iакову? говорить Господь; и однако же Я возлюбилъ Iакова, а Исава возненавиделъ и предалъ горы его опустошению, и владения его – шакаламъ пустыни. Если Едомъ скажетъ: «мы разорены, но мы возстановимъ разрушенное», то Господь Саваофъ говорить: они построить, а Я разрушу, и прозовутъ ихъ областью нечестивою, народомъ, на который Господь прогневался навсегда. И увидятъ это глаза ваши, и вы скажете: «возвеличился Господь надъ пределами Израиля!» Сынъ чтитъ отца и рабъ – господина своего; если Я – отецъ, то где почтенiе ко Мне? И если Я – Господь, то где благоговение предо Мною? говорить Господь Саваофъ вам, священники, безславяш де имя Мое. Вы говорите: «чем мы безславимъ имя Твое?»…Я прервал чтение. Мелани протянул мне лист бумаги, подобранный Угонио и Джакконио, и мы принялись сравнивать оба текста. На листке, пусть и с трудом, можно было различить имена: Охозия, Аккаронское божество, Вельзевул, которых не было в той книге, которую нам дал Джакконио. Да и вообще не совпадало ни одно слово. – Это… какой-то другой текст Малахии, – не без колебаний заявил я. – Гр-бр-мр-фр, – качая головой, подтвердил Джакконио правоту моих слов. – Призывая Ваше Высокоблагородие навострить скальпель Вашего внимания, Джакконио позволяет себе заметить, что следует самому быть в большей степени аруспицием, нежели доверяться ауспициям, и стараться больше врачевать, чем ворочать, тогда станет ясно, что это из Четвертой Книги Царств. И объяснил, что «Малах» на клочке из подземной галереи – вовсе не «Малахия», а усеченное «Малахим», что на еврейском означает «Царей». – Во многих редакциях Библии, – терпеливо объяснял он, – название книги дается по-еврейски, что не всегда совпадает с христианским названием. Бывают и большие расхождения, например, в Святое Писание христиан не входят две Маккавейские книги. Таким образом полное заглавие на найденной странице было следующим: Шрифт Леттура Тонда. Вторая Малахим Глава первая. Мы отыскали «Вторую Книгу Царей»[1165] в Библии наших провожатых. И заглавие и текст на ней полностью совпали с заглавием и текстом найденной страницы. Аббат Мелани помрачнел. – Мне только одно интересно: почему вы не доложили мне об этом раньше? Я заранее предвидел, каким будет ответ. – Но мы не имели чести быть опрошенными Их Высокородием. – Гр-бр-мр-фр, – присоединился к мнению Угонио его косноязычный компаньон. Выходит, Робледа не крал ключей и жемчужин, не спускался в глубокий колодец, не терял страницы из Библии, ровным счетом ничего не знал ни об улице Кьявари, ни о Комареке, а уж тем более о Муре, то бишь Фуке. Ничто не позволяло заподозрить его в большей степени, чем других, а его речь о пророчестве святого Малахии объяснялась простым совпадением. Предстояло сызнова браться за дело. Правда, кое-что нам все же удалось узнать, а именно: галерея D ведет к дому папского лекаря. Появилась и новая загадка: что это за горшок с кровью попался нам по пути к дому Тира-корды и был ли он обронен случайно или намеренно? – Как вы думаете, это похититель обронил его? – спросил я у Мелани. Аббат как раз споткнулся о камешек, упал и сильно ударился. Мы помогли ему подняться, хотя он и отказался от помощи. Раздосадованный своей неловкостью, он отряхнулся и вдруг ни с того ни с сего разразился бранью в адрес тех, кто нарыл все эти ходы, занес в город чуму, калечит, вместо того чтобы лечить, и прочая и прочая, а под конец обрушился на двух несчастных любителей старины с такими несправедливыми упреками и так их стал распекать, что те озадаченно переглянулись и зачесали в затылках, не зная, что и думать и какая муха укусила нашего вожака. Благодаря этому на первый взгляд незначительному происшествию мне представилась возможность осознать, какая метаморфоза произошла с аббатом Мелани за последнее время. Если в начале нашего знакомства его глаза победно искрились, то теперь они по большей части были задумчивы. Его походка из горделиво-заносчивой превратилась в осторожную и вкрадчивую, от уверенности не осталось и следа. Его живые и не терпящие возражений замечания уступили место сомнениям и недомолвкам. Да, нам удалось проникнуть в жилище Тиракорды, избежав серьезной опасности. Да, мы отважились исследовать подземные пути наобум, полагаясь на чутье Джакконио в большей степени, чем на свои фонари. Все это было так. Но порой мне казалось, что руки аббата подрагивают, а его веки, прикрывая глаза, словно в немой мольбе обращаются к Господу, чтобы тот даровал нам спасение. Все эти мелкие проявления какого-то нового внутреннего настроя моего наставника были мною замечены недавно и повторялись не часто, подобно тому, как море время от времени выбрасывает на берег обломки кораблей, потерпевших крушение. Трудно было с точностью сказать, с чего и когда это началось, ведь порождены они были не каким-то одним определенным событием, а скорее всеми теми давними и новыми событиями, сложенными воедино в одно весьма непростое целое, каковое и по сей день лишь начинает вырисовываться, не имея пока четких очертаний. Однако я нутром чуял: за этим стоит нечто мрачное и кровавое, крепко держащее – в том у меня не было ни капли сомнения – аббата в сетях страха. Мы давно уже проникли из галереи D в галерею С, безусловно, заслуживавшую того, чтобы быть изученной вдоль и поперек. Справа от нас осталось ответвление Е, ведущее ко дворцу Канцелярии. Задумчивый вид, а еще более молчание аббата Мелани поразили меня. Догадываясь, что он размышляет надо всем, что нам удалось обнаружить, я возымел охоту порасспросить его хорошенько, понуждаемый к тому любопытством, которое он пробудил во мне несколькими часами ранее. – Вы давеча сказали, что Людовик никогда ни к кому не питал такой ненависти, как к суперинтенданту Фуке. – Да, это так. – И что гневу его не было бы предела, кабы он узнал, что Фуке не умер, а жив и свободен и находится в Риме? – Все верно. – Но в чем причина? – Это считай ничто в сравнении с яростью, которая душила короля во время задержания Фуке и процесса над ним. – Разве недостаточно было прогнать его с глаз долой? – Не одному тебе приходят в голову подобные вопросы. И никто так и не нашел на них ответа. Даже я. Во всяком случае, пока. Далее аббат пояснил, что тайна, скрывающаяся за ненавистью короля к Фуке, стала в Париже предметам неутихающих споров. – Из-за нехватки времени я не успел рассказать тебе всего. Я сделал вид, что верю этому объяснению, однако догадывался, что в связи со своим новым умонастроением аббату необходимо ввести меня в более конкретные обстоятельства дела, о которых ранее он умолчал. И потому он принялся излагать мне, что произошло в те страшные дни, когда удавка заговора затянулась на шее суперинтенданта. Кольбер принялся плести заговор с того самого дня, когда скончался кардинал Мазарини. Он знал, что придется прикрываться интересами государства и монаршего величия. Знал, что времени в обрез: следовало торопиться, пока король еще очень несведущ в финансовых вопросах. Людовику было неизвестно, что на самом деле творилось в правление Мазарини, он еще не разобрался, как действовал механизм государственной власти. Будучи единственным человеком, в чье безраздельное пользование попали бумаги Мазарини, Кольбер владел множеством секретных пружин. Трактуя полученные документы к собственной выгоде, а то и фальсифицируя их, Змея не упускала случая влить в королевское ухо яд недоверия по отношению к Белке. А ту между тем заверяла в преданной дружбе. Интрига удалась на славу: за три месяца до празднества в Во король уже подумывал о наказании Фуке. Но существовало одно, последнее препятствие: Фуке являлся генеральным прокурором и пользовался неприкосновенностью. Под предлогом срочной нужды короля в деньгах Змея уговорила Белку продать свою должность, выручив за нее немалую сумму, каковую и передать королю. Бедный, ничего не подозревающий Никола попался на удочку: выручив за должность один миллион четыреста тысяч фунтов, он отдал королю миллион. – Получив деньги, король сказал: «Он сам надел на себя кандалы», – с горечью повествовал Атто, очищая свое платье от налипшей грязи и укоризненно взирая на испорченные кружева. – Какой ужас! – невольно вырвалось у меня. – Не настолько, как тебе представляется, мой мальчик. Молодой король впервые опробовал свою власть. А это возможно, лишь совершая произвол и несправедливость. Как иначе? Ведь благоволить к лучшим, которым в силу своих нравственных начал и без того предназначено быть на вершинах, – ничуть не способствует проверке того, насколько сильна твоя власть. Зато поставить посредственное и дурное над мудрым и добрым, опрокидывая в угоду капризу естественный ход вещей, – это и есть доказательство собственного могущества. – Неужто Фуке так ничего и не заподозрил? – Неизвестно. Его много раз предупреждали, что против него что-то замышляется. Но он ни в чем не хотел видеть подвоха. Помню, он частенько говаривал мне словами одного из своих предшественников: «Для того и существуют суперинтенданты, чтобы их ненавидели». Ненавидели короли, которым требуется все больше денег на войны и балы, ненавидел простой люд, который платит по долгам короля. Фуке даже стало известно, будто вскоре в Нанте готовится некое важное событие, – продолжал Атто рассказ, – но он отказался взглянуть правде в глаза: узнав, что кого-то собираются задержать, уверил себя, что этим несчастным окажется Кольбер. По приезде в Нант он тем не менее послушался друзей, советовавших ему поселиться в доме с подземным ходом. Это был древний акведук, выходивший на морской берег, у которого на причале всегда стоял корабль, готовый к отплытию. Фуке обратил внимание, что день ото дня на улицах Нанта прибавляется мушкетеров. У него наконец-то стали открываться глаза, но он заявил своим сторонникам, что бежать не намерен: «Я обязан рисковать, поскольку не верю, что король желает моей погибели». Это было его фатальным заблуждением! – воскликнул Атто. – Он был приверженцем взаимоотношений, строящихся на доверии, и не заметил, что его эпоха была сметена ураганом подозрения всех и вся. Мазарини не стало, все изменилось. – Но какой была Франция, пока ею правил Мазарини? – Какой, какой… – завздыхал тут аббат. – Доброй и старой Францией Людовика XIII. Как бы тебе объяснить получше? Это был мир более открытый и подвижный, в котором свобода слова и суждения, веселость и незаурядность, смелость в поведении и нравственная стойкость главенствовали и казались незыблемыми. В изысканных кружках госпожи де Севинье и ее подруги госпожи де Лафайет, в максимах де Ларошфуко, в стихах Жана де Лафонтена… это проявлялось во всем. Никто не мог предвидеть засилья нового короля во всех областях и нового кодекса поведения, полного ледяного холода. Полгода потребовалось Змее, чтобы уничтожить Белку. Прежде чем началась тяжба, Фуке три месяца гнил в тюрьме. В декабре 1661 года наконец-то была сформирована Судебная палата, которой надлежало заняться рассмотрением его дела. В нее вошел канцлер Пьер Сегье, председательствующий Ламуаньон и двадцать шесть членов, избранных в региональных парламентах и среди референдариев. Председатель Ламуаньон открыл первое заседание речью, в которой с трагическим пафосом описал бедственное положение народа, облагаемого что ни год новыми налогами, изнуренного голодом, болезнями, отчаянием. Страшная ситуация усугублялась неурожаями последних лет. Многие провинции буквально вымирали, в то время как жадная рука сборщиков податей не знала пощады. – А что, нищета народа была как-то связана с Фуке? – поинтересовался я. – Ну разумеется. Она служила для подтверждения теоремы: в деревнях-де умирают от голода, поскольку Фуке сверх меры обогатился за государственный счет. – А это было не так? – Конечно, нет. Собственно говоря, Фуке и нельзя было назвать богатым. Да и после того, как он был отстранен от должности, обнищание французского народа усилилось. Но дослушай до конца. В самом начале судебного разбирательства в храмах повсеместно зачитывалось обращение к жителям с просьбой выдавать соляных приставов и сборщиков податей, превысивших свои полномочия. Еще одним обращением им запрещалось покидать места, где это произошло, а в случае неповиновения они немедля обвинялись в казнокрадстве, что было равнозначно смертному приговору. Последствия этого трудно было переоценить. Все должностные лица, имевшие отношение к финансам, в том числе подрядчики, сборщики налогов были представлены народу в качестве преступников, а богатейший суперинтендант финансов Никола Фуке тем самым становился ни больше ни меньше главарем банды разбойников, губителей народа. И при этом не было ничего более ложного и несправедливого. Фуке не переставал докладывать при дворе о последствиях, коими чревато повышение налогов, но его не слышали. Однажды Мазарини выгнал его из кабинета после того, как, побывав в качестве интенданта финансов в провинции Дофине с поручением выжать из нее все, что можно, Фуке после тщательного изучения положения дел на месте сделал вывод, что налоги и без того непомерны для этих краев, и посмел подать официальное прошение об отставке. Парламентарии Дофине потом все как один встали на его защиту. Казалось, все это забыто. Во время судебного разбирательства были зачитаны пункты обвинения в общей сложности не менее девяноста шести, правда, позже докладчик по делу мудро свел их к десяти. Главное, что вменялось в вину Фуке, – ложные займы, устроенные им королю, на которых он якобы нагрел руки. Второе: якобы он спутал деньги короля со своими, употребив их на личные нужды. Третье: будто бы получил от подрядчиков более трехсот тысяч ливров за предоставление им благоприятных условий и присвоил под видом займа эту сумму. Четвертое: предоставление просроченных векселей в обмен на наличные деньги. Вначале гнев народный обрушился на Фуке. Его конвоирам приходилось стороной обходить иные населенные пункты, где разъяренная толпа готова была заживо содрать с него кожу. Сидя в крохотной камере, изолированный от всех и вся, он был неспособен измерить глубину пропасти, в которую угодил. Здоровье его ухудшилось, он просил даже прислать ему духовника. Слал королю прошения о снятии с него виновности, трижды обращался с просьбой принять его – все впустую. Стал распространять письма, в которых защищал свое доброе имя. И тешил себя иллюзией, что все это еще может достойно завершиться, хотя уже было очевидно, что никакая брешь не откроется в стене враждебности, которой обнесли его король с Кольбером. Все это время Кольбер вел закулисные интриги: устраивал заседания Палаты правосудия в присутствии короля, торопил судей, пускал в ход угрозы и посулы. Было опрошено множество свидетелей. Наша беседа была прервана Угонио, указавшим нам на люк, которым они с Джакконио воспользовались за несколько недель до встречи с нами, открыв таким образом ту галерею, по которой мы теперь шли. – Куда можно попасть отсюда? – Дак на задворки Пантеона. – Если я правильно понял, этот люк ведет в галерею,проходящую позади Пантеона, из нее можно попасть в подвальное помещение частного владения, где с помощью одного из ваших ключей открывается дверца, ведущая на улицу. Так, что ли? Угонио довольно ухмыльнулся, уточнив, что нет надобности прибегать к помощи ключей, поскольку решетчатая дверь не на запоре. Взяв все это на заметку, мы двинулись дальше, и Мелани продолжил свой рассказ. На суде Фуке защищал себя сам, не прибегая к помощи адвоката. Речи его были искрометны и стремительны, доводы убедительны, память безупречна, ответы попадали не в бровь, а в глаз. Никто не справился бы с этим лучше него самого. На все у него было объяснение. Все возражения блекли перед его аргументами. Бумаги его были конфискованы и, по-видимому, подверглись изъятию всего, что могло послужить к его защите. – Как я тебе уже дал понять, кое-какие доказательства его вины были сфабрикованы, к этому приложил руку некий Беррье, человек Кольбера. И при всем при этом гора бумаг не послужила ничему! Не было доказано ни одного пункта обвинения! Зато на поверхность всплыла ответственность за многие безобразия и причастность к делу Мазарини. Однако память о нем не могла быть замарана. Кольбер и король, рассчитывавшие на совершенно покорное их воли правосудие и скорую и неправедную расправу с Фуке, и представить себе не могли, что немало судей, старых почитателей Фуке, откажутся превращать судебную процедуру в простую формальность. Так незаметно, от одного слушания к другому пролетело три года. Парижане ходили на страстные защитительные речи Фуке как на театральное действо. Настроение простонародья поменялось – оно сменило гнев на милость. Кольбер вводил все новые подати и налоги, необходимые для получения средств на ведение войн и строительство Версаля. Фуке никогда не осмеливался так увеличить фискальное бремя страны, как Кольбер. С недовольными крестьянами расправлялись без суда и следствия. А вот опись состояния Фуке, произведенная в момент его задержания, свидетельствовала, что доходы его были ниже расходов. Великолепие, которым он окружил себя, служило лишь тому, чтобы пускать пыль в глаза кредиторам, которым он задолжал лично, уж и не зная, где еще раздобыть денег на все новые военные кампании, затеваемые королем. Он набрал займов на шестнадцать миллионов под залог земли, дома и должностей, оцененных в пятнадцать миллионов фунтов. Это ничто в сравнении с тридцатью тремя миллионами, завещанными Мазарини своим племянникам! – горячо воскликнул Атто. – Но Фуке мог бы спастись, – заметил я. – И да и нет. – Нам пришлось остановиться, чтобы заправить маслом один из наших фонарей. – Кольбер сделал так, чтобы у судей не было доступа к описи имущества Фуке. Тот безнадежно умолял, чтобы ее приобщили к делу. Однако окончательно сгубила его одна находка, сделанная уже после его задержания. Она послужила основанием для последнего пункта обвинения, не имевшего никакого отношения к финансовым злоупотреблениям. Речь шла об одном документе, обнаруженном приставами, явившимися с обыском в его дом в Сен-Манде. За зеркалом было спрятано письмо, написанное в 1657 году, то есть за четыре года до ареста, и адресованное друзьям и родным. В нем суперинтендант выразил свою озабоченность растущим недоверием Мазарини и интригами недругов и оставил указания на тот случай, если Мазарини упечет его за решетку: это был не то чтобы план восстания, но подстрекательство к волнениям политического толка, способным обеспокоить кардинала и подтолкнуть его к переговорам. Было известно, что Мазарини, дабы выпутаться из затруднительного положения, имел обыкновение пересматривать уже принятые решения. И хотя в письме не было ни малейшего упоминания о восстании против короны, оно было представлено обвинителем как проект государственного переворота в роде Фронды, память о которой была еще жива в народе. Дело подали так, будто бы восставшим приготовлено прибежище на укрепленном острове Бель-Иль, принадлежавшем Фуке. На этот бретонский остров были посланы эмиссары, которые, посетив его, представили ведущиеся там фортификационные работы и имеющиеся склады – пороховые и боеприпасов – как доказательства заговора. – А для чего Фуке укреплял этот остров? – Он был гением морского дела и морской стратегии, рассчитывал превратить Бель-Иль в форпост против Англии. И даже подумывал выстроить там город, полагая, что прекрасное местоположение порта сделает его соперником Амстердама и завоюет северные рынки, чем будет оказана еще одна услуга как королю, так и Франции. Таким образом, хотя задержан Фуке был за лихоимство, осудили его за подстрекательство к восстанию. И это еще не все. В Сен-Манде был также найден деревянный сундучок на висячем замке, где хранилась секретная переписка суперинтенданта. Королевские комиссары почерпнули в ней имена преданных друзей обвиняемого. Тут уж у многих затряслись от страха поджилки. Письма, частично переданные королю, в конечном счете все равно оказались в руках Кольбера. Осознавая заложенную в них опасность, он сохранил большую их часть, остальное, отобранное им самим, было предано огню, дабы не компрометировать многие славные имена. – Как по-вашему, те письма Кирхера, которые вы обнаружили в кабинете Кольбера, были из того самого ларца? – Не исключено. – А чем все это кончилось? – Фуке потребовал отвода для некоторых судей, например, Пюссо, дяди Кольбера, причислявшего Змею «к своей партии». Пюссо так грубо нападал на Фуке, что мешал ему отвечать и науськивал на него судей. Канцлер Сегье, во времена Фронды принявший сторону восставших против короны, также входил в Палату. Фуке сделал следующее замечание: может ли Сегье быть государственным обвинителем? На следующее утро блестящий выпад Фуке обошел весь Париж и вызвал рукоплескания, однако прошение об отводе Сегье удовлетворено не было. Общественность принялась роптать: дня не проходило, чтобы против Фуке не было выдвинуто новое обвинение. Обвинители избрали канат такой толщины, что он вряд ли мог затянуться на шее простого человека. Близилось окончание процесса. Король сам предложил кое-кому из судей отойти от участия в нем. Талону, выказавшему много усердия, не увенчавшегося успехом, пришлось уступить место Шамийяру. Он-то, изложив 14 ноября 1664 года в Палате свои заключения, потребовал для Фуке смертной казни через повешение и возмещение незаконно присвоенных казенных денег. Наступил черед докладчиков. Судья Оливье д'Ормессон, которого Кольбер пытался запугать, так ничего и не добившись, пять дней кряду произносил пламенную речь, меча гром и молнии против методов Беррье и его покровителей. Он потребовал приговорить Фуке к ссылке, что было для того наилучшим выходом из создавшегося положения. Второй докладчик, Сент-Элен, был сговорчивее, речь его была далеко не так ярка, как речь д'Ормессона, он был за смертную казнь. Вслед за ним свои вердикты вынесли и остальные судьи. Все это тянулось страшно долго и мучительно, а кое для кого закончилось весьма печально. Судью Массено доставили в зал заседаний, несмотря на серьезное недомогание, где он прошептал: «Лучше уж умереть прямо здесь» – и проголосовал за высылку. Судья Поншартрен сопротивлялся угрозам и посулам Кольбера, нанеся тем самым непоправимый вред как своей карьере, так и продвижению по службе сына. Судья Рокезант сам закончил свои дни в изгнании, не поддержав приговор к высшей мере наказания. Всего девять из двадцати шести комиссаров были за смертную казнь. Жизнь Фуке была спасена. Радость и чувство облегчения охватили Париж, стоило распространиться вести о вердикте, дарующем Фуке жизнь и свободу, разумеется, вне пределов Франции. Но тут на сцену вышел Людовик XIV. Вне себя от ярости, он воспротивился изгнанию и отменил приговор Судебной палаты, сведя на нет три долгих года разбирательства. С небывалой для истории французского королевства решительностью Наихристианнейший из королей воспользовался своим так называемым «правом регалии», только вывернул его наизнанку: до сих пор короли пользовались им, чтобы смягчать наказания, миловать и одаривать, он же усугубил наказание Фуке, приговорив его к отбыванию пожизненного заключения в полнейшей изоляции в забытом Богом месте. – Париж был потрясен и убит. Никто так никогда и не понял причину этого. Сдавалось, король питал к Фуке непобедимую, глубоко личную ненависть. Ему было мало свалить, унизить Фуке, лишить его всего и держать в заключении на чужедальних рубежах своего государства. Он разорил замок Во и дом Фуке в Сен-Манде, переведя в свой собственный дворец его мебель, коллекции, шпалеры, золото и обивку, пополнив королевскую библиотеку тринадцатью тысячами ценнейших томов, любовно собираемых суперинтендантом на протяжении многих лет. Все это не менее чем на сорок тысяч фунтов. Вдруг объявившиеся кредиторы Фуке поспели лишь к шапочному разбору. Один из них, торговец металлом по имении Жолли, проник в Во и другие бывшие резиденции Фуке и собственноручно отодрал всю отделку из меди, а кроме того, вывез гидравлические свинцовые трубы, по тем временам бывшее новинкой, благодаря которым парк и сады Во представляли такую ценность. Сотни других рук последовали примеру Жолли и взялись сдирать облицовку, настенные светильники и прочее детали внутреннего убранства, могущие иметь хоть какую-то ценность. В конце концов прославленные резиденции Фуке стали походить на пустые раковины: доказательство существования всех тех чудес, что некогда в них содержались, осталось лишь в описях его преследователей. А владения Фуке на Антильских островах были проданы его заморскими служащими, поделившими между собой вырученные деньги. – А что, замок Во был такой же блистательный, как и королевский дворец в Версале? – спросил я. – Во старше Версаля на пять лет, – подчеркнуто горделиво ответил Атто. – И во многом явился его вдохновителем. Если б ты только мог вообразить, какая тоска овладевает теми, кто был вхож к Фуке, когда ныне они проходят залами королевского дворца в Версале, узнавая полотна, статуи и иные шедевры, принадлежавшие суперинтенданту, и до сих пор наслаждаются его безошибочным тонким вкусом… – Атто не мог продолжать. Мне даже подумалось, не собирается ли он всплакнуть, но он взял себя в руки и продолжал: – Несколько лет назад госпожа де Севинье отправилась в паломничество в Во. Кое-кто видел, как она долго безутешно рыдала на руинах бывшего великолепия. Муки Фуке были усугублены предписанным ему тюремным режимом. По приказу короля ему запретили писать и общаться с кем-либо помимо тюремщиков. Тому, что было в голове и на языке заключенного, надлежало оставаться тайной. Лишь король имел право знать об этом через своих верных стражей. Если же Фуке не желал разговаривать со своим палачом, что ж, пускай его хранит все про себя. В Париже многие начали прозревать истину. Если в планы Людовика входило навсегда заткнуть рот своему пленнику, можно было лишь добавить кое-что в суп, который тому подавали. Случаев сделать это в Пинероло было предостаточно… Однако время шло, а Фуке не помирал. Возможно, все было куда сложнее и король стремился вырвать у пленника какую-то тайну, которую тот упорно хранил в холодном безмолвии своей темницы. Расчет был на то, что лишения сломят его упорство. Угонио потребовал нашего внимания. Увлекшись разговором, мы и забыли, что Джакконио учуял чьё-то присутствие, пока мы находились в доме Тиракорды. И вот опять его нос о чем-то ему сообщил. – Гр-бр-мр-фр. – Старенький, перепуганный, вспотевший, – перевел Угонио. – Может, твой приятель способен определить, что он ел на ужин? – насмешливо поинтересовался Атто. Я испугался, как бы обладатель столь знатного нюха не оскорбился, ведь он мог сослужить нам немалую службу в будущем. – Гр-бр-мр-фр, – как ни в чем не бывало пробурчал Джакконио, поведя своим безобразным органом обоняния. – Джакконио распознал вымя, возможно, с добавлением яйца, ветчины, белого вина, а также бульона и сахара. Мы с Атто обомлели и даже остановились. Именно то, что я с таким тщанием состряпал для постояльцев. Джакконио никак не мог об этом прознать и тем не менее различил в запахе, оставленном незнакомцем, не только главную составляющую блюда, но и добавки, сделанные мною для улучшения вкуса. А если это так, значит, мы идем по следу кого-то, кто проживает в «Оруженосце». Рассказ о процессе над Фуке продолжался, за разговором мы незаметно исследовали довольно-таки протяженный отрезок галереи С. Сказать, какое при этом было преодолено расстояние, если вести отсчет от площади Навона, было трудно. Хотя тропинка и петляла слегка, никаких ответвлений от нее нами замечено не было, что означало одно: мы шли в единственно возможном направлении. Только мы в этом убедились, как все круто изменилось. Под ногами зачавкало, стало скользко, дыхание сперло, а вдали послышался какой-то рокот. Мы насторожились. Джакконио прядал головой, напоминая недовольного коня. По галерее распространялось зловоние. Что-то оно мне напоминало, но что? – Стоячие воды, – подсказал Атто. – Гр-бр-мр-фр, – подтвердил Джакконио, у которого испортилось настроение. Угонио пояснил, что запах стоячих вод беспокоил его собрата и мешал безошибочно различать прочие запахи. Вскоре мы ступали уже по заболоченной тропе. Смердело нестерпимо. Причина этого стала понятна, когда в стене слева открылась широкая и глубокая расщелина или промоина, откуда в галерею вливалась темная струя, образовывавшая небольшой поток, превращавший наклонную тропу в русло, и устремлявшаяся по нему куда-то вдаль, терявшуюся во тьме. Я дотронулся до стены: она была влажной и покрытой жидкой грязью. Наше внимание привлекла тушка жирной крысы, плывшей по течению и безразличной к нашему присутствию. – Дохлая, – поддев ее ногой, авторитетно заявил Угонио. А Джакконио так еще и подцепил ее двумя пальцами за хвост и приподнял. Изо рта грызуна вытекла струйка крови. Джакконио вдруг погрустнел, как бы пораженный чем-то, чего он никак не ожидал. – Гр-бр-мр-фр, – задумчиво прокряхтел он. – Дохлая, болящая, обескровленная, – довел до нашего сведения Угонио. – Откуда ему знать, что она болела? – удивился я. – Джакконио – большой друг этих мерзких тварей, не так ли? – предположил Мелани. Джакконио кивнул, обнажив в наивной и диковатой улыбке свои ужасающие желтые резцы. Мы продолжали двигаться вперед, оставив позади затопленный участок галереи. Все свидетельствовало о том, что промоина в стене галереи образовалась недавно. Вскоре нам попались еще три дохлые крысы таких же кондиций, как и первая. Джакконио осмотрел каждую из них: картина повторилась. Приятели приписали это какой-то неведомой болезни. Поистине, кровь преследовала нас на всем протяжении поисков: кровь на странице с библейским текстом, кровь в глиняном горшке, а теперь вот еще и крысиная. Новое непредвиденное обстоятельство прервало наше продвижение по галерее D. На сей раз это был не просочившийся в щель ручеек, а настоящий бурливый поток, несущийся по галерее, расположенной перпендикулярно по отношению к нашей: подземная речка, в которую вливались нечистоты из разных мест. Однако от нее не исходил тот смрад, что так не понравился Джакконио чуть раньше. К нашему великому разочарованию, мы вынуждены были смириться с поражением. К тому же прошло уже немало времени с тех пор, как мы покинули «Оруженосец», было неразумно так надолго отлучаться и давать повод заподозрить нас в чем-либо. На исходе сил мы порешили вернуться. На обратном пути Джакконио в последний раз кого-то учуял, а Атто чихнул.
День шестой 1 б СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Долгим, невеселым и утомительным было наше возвращение. С перепачканными руками и лицами, в промокшей одежде проникли мы в чулан. Я обессиленно рухнул на постель, стоило мне до нее добраться, и забылся сном праведника, за всю ночь ни разу не повернувшись на другой бок, в чем убедился утром, открыв глаза. Ноги болели так, словно в них вонзились сотни игл. Протянув руку, чтобы привстать, я дотронулся до какого-то шероховатого на ощупь предмета, которого ночью не заметил и который так и пролежал со мной до утра. Это была астрологическая книжонка Стилоне Приазо, чтение которой я срочно прервал с сутки назад, когда меня кликнул Кристофано. Ночь помогла мне забыть все те страшные события, которые предсказывались в ней: смерть Кольбера, Муре (он же Фуке), и то, что не обойдется без яда, и горячка, и ядоносные болезни, жертвами которых стали Пеллегрино и Бедфорд, и «спрятанное сокровище», которое отыщется в начале месяца – видимо, письма, хранимые Кольбером в своем кабинете и похищенные Атто, – и «страшные сотрясения земли», и «взрыв подземных огней», уже затронувший здание «Оруженосца». И наконец, предвидение, касающееся осады Вены: «осада городов и сдача крупного укрепленного места», предсказанные Али и Леопольдом Австрийским. Я задал себе вопрос: «Хочется ли мне знать, чего еще ожидать в последующие дни?», и у меня тут же свело живот, что было явным признаком того, что нет, с меня хватит. Лучше уж вернуться назад. Я стал листать книжку в обратном направлении, и мой взгляд приковала к себе последняя неделя июля, начинающаяся с 22-го числа. На этой неделе послания миру будут исходить от Юпитера, управляющего королевским домом, который, проходя третий дом, шлет множество знаков; возможно, через болезнь кого-то могущественного королевство погрузится в слезы. Кто-то из сильных мира сего должен был умереть в конце июля. Ни о чем таком я не слыхал и обрадовался приходу Кристофано: может, он что-нибудь знает. Но и Кристофано ни о чем таком не слыхивал, зато снова поразился тому, какой ерундой, не имеющей ни малейшего отношения к нашему нынешнему положению, занят мой ум: то астрология, то судьбы сильных мира сего. Слава Богу, я успел сунуть книжонку под тюфяк. Было приятно уличить автора прогнозов в промахах и ошибках, да притом немалых. Предсказанное не подтвердилось, а это означало: даже звезды нельзя считать непогрешимыми. Я облегченно вздохнул про себя. Кристофано между тем изучал меня. – Пора юности – счастливейшая в человеческой жизни, все душевные и телесные силы на подъеме, в расцвете, – заговорил он отечески. – И все же не стоит злоупотреблять этим внезапным и порой неупорядоченным приливом сил, впустую расходуя их, – предостерег он меня, озабоченно ощупывая мешки у меня под глазами. – Подобное мотовство – не что иное, как грех, не меньший, чем общение с женщинами дурного поведения, – тут он многозначительно мотнул головой в сторону башенки, где проживала Клоридия, – недолго и французскую болезнь подцепить. Уж кто-кто, а он-то в этом разбирался, ведь ему приходилось не раз сражаться с нею, пуская в ход тяжелую артиллерию: наиглавнейшее из снадобий – меркуриальную мазь! – Простите, – перебил я его, чтобы увести разговор с этой усеянной шипами дороги, – и меня еще один вопрос: может, вы знаете, чем болеют крысы? Кристофано хохотнул: – Ну теперь понятно. Постояльцы забросали тебя расспросами, нет ли в «Оруженосце» крыс. Так? Я изобразил на лице нечто вроде улыбки, которая меня ни к чему не обязывала. – Так как же: есть здесь крысы или нет? – Святые угодники, мало ли я чищу… – Знаю, знаю. В противном случае, то есть если б мне попалась дохлая крыса, я бы вас всех предупредил… – Но о чем? – Ну как же, мой мальчик, ведь крысы первыми заболевают чумой. Гиппократ рекомендовал не прикасаться к ним, и в этом с ним были согласны его последователи – Аристотель, Плиний и Авиценна. Согласно географу Страбону, в Древнем Риме все, от мала до велика, знали, что появление больных крыс на улицах – признак эпидемии. Тот же Страбон пишет, что у итальянцев и испанцев было принято одаривать тех, кто убивал их в больших количествах. В Ветхом Завете рассказывается, как филистимляне, измученные наростами, обратили внимание на небывалое нашествие крыс на их поля и селения[1166]. Стали расспрашивать своих жрецов и прорицателей, и те ответили, что некогда крысы уже опустошили землю и что надобно умилостивить Бога Израилева. Сам Аполлон, божество, которое, разгневавшись, насылало чуму, а успокоившись, прекращало ее, в Греции прозывался Сминфей – «Мышиный», в смысле – поражающий мышей и им подобных. В Иллиаде Аполлон Сминфей помогает троянцам и его стрелы во время Троянской войны девять дней несут в лагерь ахейцев чуму[1167]. Эскулапа изображали с мертвой крысой у ног. – Так, стало быть, крысы – разносчики чумы! – ужаснулся я, припомнив все те трупы, которые попались нам на нашем пути этой ночью. – Не теряй самообладания, мой мальчик. Этого я не говорил. Я лишь изложил тебе верования древних. Сегодня на дворе, слава Богу, 1683 год, и современная наука сделала большой шаг вперед. Чуму вызывают не эти мерзкие твари, а, как я тебе уже говорил, порча природных мокрот, проистекающая прежде всего от гнева Господа нашего. А мыши и крысы заражаются чумой и умирают от нее точь-в-точь как люди. Не нужно к ним прикасаться, как учил Гиппократ. – Как распознать крысу, больную чумой? – спросил я, заранее страшась ответа. – Лично мне не доводилось никогда видеть ни одной. Из рассказов отца, наблюдавшего их, я понял, что они бьются в конвульсиях, глаза у них краснеют и выходят из орбит, их берет колотун и они пищат. – Как отличить эту болезнь от прочих? – Проще простого. Совершив пируэт и харкая кровью, крысы падают замертво. Трупы раздуваются, усы коченеют. Я похолодел. У всех крыс, на которых мы натыкались в подземных галереях, горлом шла кровь. Одну из них Джакконио даже показал нам, приподняв за хвост! За себя-то я страха не испытывал, я ведь был все одно что заговорен от чумы своим особым физическим строением, но, видимо, в городе и правда начиналась эпидемия, если судить по количеству дохлых грызунов под землей. Возможно, на карантин были закрыты и другие постоялые дворы, и дома, и там царил такой же страх, как у нас. Изолированные от всего города, мы пребывали в неведении. Я спросил Кристофано, как он считает, распространяется ли в городе чума. – Ничего не бойся. За последние дни мне несколько раз удалось разговорить часовых, что стерегут подходы к «Оруженосцу». В городе не выявлено больше ни одного случая заболевания. И нет никакого резону не доверять этим сведениям. Пока мы с Кристофано спускались в кухню, он предписал мне послеобеденный отдых с предварительным растиранием груди и приемом внутрь его чудодейственного ликера. Оказывается, Кристофано приходил поставить меня в известность, что берет на себя обязанность приготовления пищи для постояльцев и намерен отдавать предпочтение простым и обладающим очистительным действием блюдам. Но пока он еще нуждался во мне: отужинав выменем, многие мучились сильнейшей отрыжкой. Первое, что мне бросилось в глаза на кухне, был большой стеклянный колокол с носиком в роде перегонного куба, поставленный на кастрюльку, из которой шла жуткая вонь. «Сера», – сразу определил я. В кубе только что начался процесс дистилляции растительного масла. Лекарь выбрал пузырек, формой напоминающий лютню, и принялся постукивать по нему кончиками пальцев, извлекая легкий звук. – Слышишь? Полная настройка служит для того, чтобы прокаливать купоросное масло, потребное нам для смазывания бубонов горемыки Бедфорда. Будем надеяться, они наконец созреют и лопнут. Купорос ведь очень едок и жгуч. Черный и маслянистый, он является отличным прохлаждающим средством. Римский купорос, которым я, будто предчувствовал, запасся накануне карантина, – лучший из всех, поскольку хранится в железной посуде в отличие от немецкого, хранящегося в медной. Я ни бельмеса не понял из того, что услышал, кроме разве того, что Бедфорду не полегчало. – Для улучшения пищеварения наших постояльцев ты поможешь мне приготовить ангельский электуарий, который благодаря своим атрактивным качествам справляется со всеми желудочными недомоганиями: опорожняет желудок, заживляет язвы, утишает боли. Он также показан при катаре и зубной боли. С этими словами он протянул мне два фетровых кулечка, из которых извлек флакончики из искусно выделанного стекла. – Какие красивые, – удивился я. – Дабы электуарий содержался в надлежащем виде, аптекари советуют хранить его в стеклянных сосудах тонкой работы. Все прочие не годятся, – гордо пояснил он. В первом флаконе была квинтэссенция вперемешку с электуарием из роз. Во втором – состав из красных кораллов, шафрана, корицы и порошкообразного lapis filosoforum Leonardi [1168]. – Misce[1169] и раздай по две драхмы на брата, – велел Кристофано. – Поспеши, поскольку после лечения в течение четырех часов запрещено принимать пищу. Перелив ангельский электуарий в бутыль, я обошел все комнаты, только Девизе оставил на потом, поскольку он до сих пор не получил от меня предписанного ему ранее лечения. Когда я с котомкой на плече подходил к его двери, то услышал божественные звуки, в которых без труда узнал то восхитительное сочинение, что уже не раз исполнялось им и так запало мне в душу. Я робко постучал и получил приглашение войти. Пока я излагал ему, зачем пришел, он все кивал мне, не прекращая игры на гитаре. Я тихонько присел на пол. Отложив гитару, Девизе взялся за инструмент покрупнее с широким грифом и несколькими толстыми струнами. Он пояснил мне, что это теорба, род лютни, и что он сочинил для нее немало танцевальных suites[1170], а также прелюдий, аллеманд, гавотов, курантов, сарабанд, менуэтов, жиг, пассакайлей и чакон. – Не вы ли автор той музыкальной пьесы, которую так часто исполняете? Знали бы вы, как она очаровала всех нас! – Нет, не я, – рассеянно отвечал он. – Королева подарила мне таблатуру, чтобы я играл по ней для нее. – Так вы знакомы с королевой Франции? – Я был с ней знаком. Ее Величество королева Мария-Терезия Австрийская почила в бозе. – Сожалею, я не… – Я часто играл для нее, – не слушая меня, продолжал он, – как, впрочем, и для короля, которому имел честь преподать основы игры на гитаре. Он ее всегда очень отличал. – Кого, королеву? – Нет, гитару, – скорчив гримасу, отвечал Девизе. – Ах, ну да, король ведь хотел жениться на племяннице Мазарини, – помимо воли вырвалось у меня, о чем я тут же пожалел, ведь Девизе непременно догадается, что я подслушиваю его разговоры со Стилоне и Кристофано. – Вижу, у тебя в голове водятся кое-какие знания, – слегка удивился он. – Видать, успел нахвататься от аббата Мелани. Хотя я и был застигнул врасплох, все же мне удалось отвести подозрения Девизе: – О, прошу вас, сударь… Я старюсь избегать этого странного субъекта, простите, что я так выражаюсь, с тех пор как… – Я изобразил смущение. – С тех пор как… – Я понял, не нужно ничего объяснять, – перебил он меня, улыбнувшись. – Я тоже не люблю мужеложцев. – Вам также представился случай возмутиться его поведением? – пролепетал я, мысленно моля прощения у Господа за чудовищный поклеп, который я возводил на своего наставника. Девизе рассмеялся: – К счастью, нет! Он ко мне никогда… гм… не приставал. По правде сказать, в Париже мы и словом-то не перемолвились. Говорят, он был обладателем редкостного сопрано во времена Луиджи Росси, Кавалли[1171]… Пел для королевы-матери, которая питала особенную любовь с голосам такого рода, полным меланхолии. Ныне он оставил пение и занимается тем, что распространяет всякие небылицы, наветы, сплетни. Увы, – раздраженно закончил он. Все было ясно: Девизе не любил Атто, зная о его репутации интригана. Однако бросив тень на аббата и прикинувшись большей деревенщиной, чем на самом деле, я завоевал доверие гитариста. Растирая его мускулы, мне будет нетрудно кое-что вытянуть из него, как это бывало с другими постояльцами, как знать, может, он и проговорится о чем-нибудь, связанном с Фуке. Главное, внушал я себе, чтобы он продолжал держать меня за простака, безмозглого и беспамятного. Я достал из котомки самые пахучие эссенции: белый сандал, гвоздику, алоэ, бензой, смешал их согласно рецепту мэтра Николо далла Гротария Калабрезе с тмином, душистой смолой, лауданумом, мускатным орехом, камедью и легким раствором уксуса. Скатал из этого шарик, приготовившись втирать его в плечи и бока музыканта до тех пор, пока он весь не израсходуется. Обнажив спину, Девизе уселся задом наперед на стул, лицом к зарешеченному окну: по его словам, созерцание дневного света служит ему единственным утешением в эти нелегкие дни. Он замолчал, а я приступил к делу, напевая вполголоса так приглянувшуюся мне мелодию. – Вы сказали, пьесу вам подарила королева Мария-Терезия. Что ж, она сама ее сочинила? – Да нет же, что ты выдумываешь! Ее Величество этим не занималась. Кроме того, это рондо – не какое-нибудь проходное сочинение, а творение моего учителя Франческо Корбетты[1172], подарившего его Марии-Терезии перед смертью. – Ах, так ваш учитель был итальянцем. А из какого города он был родом, позвольте узнать? К примеру, господин де Муре прибыл к нам из Неаполя, как и другой наш постоялец, господин Стилоне… – Любовь, связывавшая Наихристианнейшего из королей и племянницу Мазарини, – достояние всех! Даже такой профан, как ты, наслышан об этом. Какой стыд! Слава Богу, хоть о королеве неизвестно ничего, кроме того, что Людовик ей изменял. Самая большая ошибка, которую можно совершить в отношении женщины, в частности Марии-Терезии, это удовольствоваться видимостью. Я был глубоко задет этим замечанием, произнесенным им словно с какой-то искренней горечью. Смысл его слов был таков: чтобы судить о женской природе, никогда не стоит останавливаться лишь на том, что лежит на поверхности. Хотя рана, полученная мною от нашей последней встречи с Клоридией, еще кровоточила, на память тотчас пришло мгновение, когда она беззастенчиво упрекнула меня в том, что я не подал ей ожидаемого ею обола. Однако замечание Девизе с тем же успехом могло относиться и к нему самому. Я испытал укол совести от того, что посмел сравнивать королеву и куртизанку. И все же более всего сердце мое сжалось от тоски, одиночества в связи с отчужденностью между мною и Клоридией. Не в состоянии изменить что-либо, я уступил нетерпеливому желанию побольше узнать о Марии-Терезии, чья судьба, судя по словам Девизе, была горестна и исполнена страданий. Теплилась надежда, что его рассказ как-то примирит меня с предметом моего желания. Я расставил Девизе сети, произнеся заведомую ложь: – Я слышал о Ее Величестве Марии-Терезии, но лишь мимоходом, от постояльцев. Может статься… – Не может, а тебе определенно нужны лучшие наставники, – резко перебил он меня, – хорошо бы, ты забыл все те бредни, которых наслушался, и постарался по-настоящему понять, кем была Мария-Терезия и что она значила для Франции, да и для всей Европы. Он заглотнул наживку, оставалось развесить уши и впитывать. – Торжественный въезд совсем юной испанской инфанты Марии-Терезии в Париж по случаю ее бракосочетания с Людовиком, – повел Девизе свой рассказ, пока я катал пахучий шарик по его лопаткам, – стал одним из самых радостных событий французской истории. Прозрачным днем в конце августа 1660 года Людовик и Мария-Терезия прибыли из Венсена. Юная королева восседала на триумфальной колеснице, убранной так, как не снилось и самому Аполлону; ее густые вьющиеся волосы сияли подобно лучам солнца, ниспадая на черное платье, расшитое золотом и серебром, усеянное драгоценными каменьями; серебро украшений в волосах и белизна лица прекрасно сочетались с огромными голубыми глазами, ореол доселе невиданного великолепия окружал ее. Воспламененные видением юной девы, воодушевленные радостью и преданной любовью, которые испытывают одни лишь верные подданные, французы благословляли ее. Людовик XIV, король Франции и Наварры, был подобен божеству, каким предстает оно у поэтов; его затканный златом и серебром камзол уступал в достоинстве лишь тому, кто его носил. Под ним был великолепный скакун, целая кавалькада принцев крови следовала за ним. Мир между Францией и Испанией, предложенный стране в виде столь счастливого соединения двух богоподобных существ, вселил в сердца пошатнувшуюся было преданность своему государю, и все те, кому удача ниспослала видеть его в этот день, ощутили прилив радости от того, что являются их подданными. Королева-мать Анна Австрийская взирала на это зрелище с балкона на улице Сент-Антуан: достаточно было взглянуть на ее лицо, чтобы догадаться, какие чувства владеют ею. Молодые люди соединили свои судьбы ради прославления величия своих королевств, наконец замирившихся. Ликовал и кардинал Мазарини: его труды политика, возвращающего Франции мир и процветание благодаря Пиренейскому миру, увенчались успехом. Потянулась череда празднеств, балов, опер, невиданные прежде роскошь, галантность расцвели при дворе. – А что было потом? – подпав под очарование рассказа Девизе, торопил я его. – Что потом, что потом… – принялся напевать Девизе. – Нескольких месяцев хватило Марии-Терезии, чтобы осознать, какая ей уготована судьба, и измерить верность, на которую был способен ее супруг. Первые свои аппетиты король утолил с помощью придворных дам из окружения супруги. Если та и не сразу поняла, что за человек ее муж, то его галантные свидания с госпожой де Ла Вальер, фрейлиной своей невестки Генриетты Стюарт, которых он почти и не скрывал, просветили ее окончательно. Затем появилась госпожа де Монтеспан, подарившая Людовику семерых детей. Этот безудержный адюльтер разворачивался на глазах у всех при свете белого дня, так что Марию-Терезию, госпожу де Ла Вальер и госпожу де Монтеспан окрестили «тремя королевами». Людовик поистине не знал удержу: удалил от двора несчастного супруга Монтеспан – Луи де Гондрена, для выражения недовольства облачившегося в траур и прикрепившего огромные рога к своему экипажу. Людовик выстроил для своей возлюбленной два великолепных замка с садами и фонтанами. В 1674 году Монтеспан одна царила в сердце короля, ее соперница Ла Вальер удалилась в монастырь. Новая фаворитка располагала для выездов двумя экипажами, запряженными цугом, за ними по пятам всегда следовала повозка с десятками слуг и съестными припасами. Расин, Буало и Лафонтен прославляли ее в стихах, быть принятым в ее апартаментах означало удостоиться большой чести, тогда как почести, воздаваемые королеве, не шли дальше обычных требований этикета. Звезда Монтеспан закатилась в тот миг, когда на глаза королю попалась Мария-Анжелика де Фонтанж, прекрасная, как ангел, и глупая, как цесарка. Однако ей было трудно смириться с теми рамками, которые ей отводились; она претендовала на большее – стала появляться на публике рядом с королем и отказывалась приветствовать кого бы то ни было, включая королеву, ко двору которой когда-то принадлежала. И наконец король воспылал страстью к госпоже де Ментенон, которой доверил как своих законных детей, так и многочисленных бастардов от всех своих любовниц. Но на этом унижения Марии-Терезии не закончились. Наихристианнейший из королей отдавал предпочтение незаконным детям, с небрежением относясь к дофину, своему старшему сыну. Он женил его на Марии-Анне-Виктории, дочери курфюрста Баварского, отличавшейся исключительной непривлекательностью. Красотки были предназначены лишь ему одному! – Девизе запнулся. – А что же королева? – недоверчиво спросил я, опешив от такой круговерти королевских любовниц и сгорая от нетерпения узнать, как повела себя Мария-Терезия. – Молча все сносила, – как-то глухо отвечал Девизе. – Никому так и не удалось узнать, что делалось в ее душе. Измены мужа, унижения, насмешки безжалостного двора и простонародья… со временем она научилась с улыбкой на устах сносить все. Король ей изменял? Она вела себя еще более доброжелательно и скромно. Король выставлял напоказ свои победы? Она множила молитвы. Король приударил за мадемуазель де Теобон или за мадемуазель де Ла Мот, фрейлинами своей законной половины? Мария-Терезия дарила всех улыбками, мудрыми советами, ласковыми взглядами. Когда еще была жива королева-мать Анна Австрийская, Мария-Терезия попробовала однажды два дня холодно обращаться с Людовиком, что было, в общем-то, пустяком по сравнению с тем, что приходилось выносить ей самой. Король неделями после этого не удостаивал ее взглядом, как ни старалась королева-мать смягчить его. Уже тогда Мария-Терезия поняла, что у нее нет другого пути и что придется смиренно принимать все, в том числе горе, ничего не ожидая взамен, разве что то малое, что соизволит дать ей король. Он во всем одерживал победы, превзойдя искусство побеждать. И в семейной жизни он разработал некую линию поведения, по его мнению, наилучшую: к своей жене, королеве Франции, он относился с должным почтением – пищу принимал всегда только с ней, ночи проводил в супружеской постели, выполнял все семейные обязанности, вел с нею беседы так, словно и в помине не было никаких любовниц. Большая часть времени уходила у королевы на молитвы, редко позволяла она себе скромные развлечения. Ее окружало с полдюжины шутов, которых она звала так: Бедный мальчик, Сердце мое, Сынок, да свора собак, к которым относилась с неумеренной лаской. У ее любимцев был особый экипаж для прогулок; часто кролики и собаки ели вместе с королевой; она тратила на них огромные суммы. – Разве вы не сказали, что это была доброжелательная и скромная женщина? – удивился я. – Ну да, однако такова была цена ее одиночества. С восьми утра до десяти вечера, – продолжал Девизе, – Мария-Терезия предавалась игре в карты, ожидая, когда король соизволит поужинать с ней. Княгини и герцогини полукругом обступали ее, а прочие, менее знатные, толпились за ее спиной, вздыхая и обливаясь потом. Королева особенно любила играть в I'hombre [1173], но была слишком невнимательна и постоянно проигрывала. Случалось, принцесса д'Эльбёф поддавалась, чтобы королева могла выиграть: в такие минуты всем становилось не по себе. Она до самой смерти испытывала чувство возрастающего одиночества, по ее собственному признанию немногочисленным друзьям. Свою душевную боль она выразила в предсмертной фразе: «Король стал со мною нежнее только потому, что я ухожу». Рассказ Девизе пробудил во мне жалость и наполнил нетерпением: я надеялся услышать еще немало интересного из его уст. Растирая ему спину, я невольно смотрел на стол, который находился как раз передо мной. От рассеянности я поставил несколько склянок на разложенные на нем листы, а спохватившись, попросил у Девизе прощения. Он вздрогнул, встал и принялся смотреть, не испачкал ли я их часом. И впрямь на одном из листов было посажено жирное пятно. – Да ты просто дурак набитый, вот ты кто! – взорвался он. – Испортил рондо моего учителя. Я страшно перепугался: и как меня угораздило запачкать пьесу, которую я так полюбил! И пока Девизе предавался брани и изрыгал проклятия, я посыпал пятно мелким сухим песком, чтобы он впитал жир, стараясь хоть как-то исправить положение, как вдруг взгляд мой приковала к себе надпись на верхнем поле: «a Mademoiselle» [1174]. – Что это, любовное посвящение? – спросил я, извиняясь за содеянное. – Любовное? Кто ж станет любить Мадемуазель… единственную в мире женщину, более одинокую и несчастную, чем королева! – А кто это Мадемуазель? – О, это сущая бедняжка, одна из кузин Его Величества. Она приняла сторону восставших во время Фронды и поплатилась за это. Ты только вообрази, она приказала направить пушки Бастилии против королевских войск. – И ее приговорили к повешению? – Хуже, к безбрачию, – усмехнулся Девизе. – Король запретил ей выходить замуж. Мазарини говаривал: «Эти пушки убили ее мужа». – Королю никого не жалко, даже своих родных, – вставил я. – О да. Когда в июле этого года не стало Марии-Терезии, знаешь, что сказал Его Величество? «Это первое горе, которое она мне причинила». И все. С таким же безразличием отнесся он и к кончине Кольбера, верой и правдой служившего ему в течение двух десятков лет. Девизе что-то еще говорил, но я уже ничего не слышал. В голове у меня стучало: июль, июль. – Вы сказали, королева скончалась в июле? – Что? Ах да, 30 июля, после болезни. С меня было довольно. Я закончил оттирать лист таблатуры, по-быстрому снял излишек мази со спины Девизе и протянул ему сорочку. После чего откланялся и вышел вон, испытывая необыкновенное возбуждение, так что пришлось даже прислониться к стене в коридоре, чтобы успокоиться. Королева Франции, унесенная болезнью в последнюю неделю июля: ведь это именно то, о чем написано в астрологическом предсказании. Неотвратимость судьбы была налицо! Девизе ответил мне таким тоном, как будто пожурил: новости этой было уже несколько недель! Несчастнейший из смертных, я был, видно, единственным, кто ничего не знал. Вот Кристофано тоже ведь не считает, что астрология непременно идет вразрез с верой, напротив, полагает, она даже полезна тому, кто занимается врачеванием. Тут же в памяти встали и такие непонятные размышления Стилоне Приазо, и темная история, приключившаяся с Кампанеллой, и трагическая судьба отца Моранди. Я мысленно воззвал к Небу о ниспослании мне знака, освободившего бы меня от страха и указавшего путь. И тут грянули звуки чудного рондо, исполняемого на теорбе, – Девизе вновь взялся за инструмент. Я молитвенно сложил руки и замер, закрыв глаза, раздираемый между надеждой и страхом, покуда не смолкла последняя нота. Дотащившись до своей комнаты, повалился на постель, лишившись и сил, и воли, мучимый знанием о чреде событий, смысл которых был мне неведом. Впав в оцепенение, я стал напевать нежную мелодию, только что слышанную мною, словно она одна могла одарить меня милостью и послужить тайным ключом ко всему тому, что составило лабиринт моих страданий. Разбудил меня шум, долетавший с улицы Орсо. Видимо, я проспал всего несколько минут, не больше. Первой меня пронзила мысль об астрологической книжке, одновременно во мне зашевелилось горькое и щемящее чувство, о первопричине которого было нетрудно догадаться. Чтобы обрести покой, нужно было постучать в одну дверцу. Вот уже несколькодней как я оставлял пищу возле комнаты Клоридии, стуком предупреждая ее. Один Кристофано имел к ней доступ. Однако после разговора с Девизе вновь открылась рана, образовавшаяся в результате нашего с ней отчуждения. Среди нас уже хозяйничала чума, могущая со дня на день унести Клоридию, со стеснением в сердце думал я. Разве сейчас так уж важно, что меня ранило ее сребролюбие? В такие минуты гордыня – худший из советчиков. Предлогов заявиться к ней было предостаточно: о стольком хотелось рассказать самому, о стольком расспросить ее. – Я ничегошеньки не смыслю в астрологии, я ведь тебе уже говорила, – отбивалась Клоридия после того, как я насел на нее со своей астрологической книжкой, объясняя, что все сбывается. – Я умею разгадывать сны, разбираюсь в гадании по руке и в нумерологии. Звезды – уволь, это не по моей части. Я вернулся к себе. В голове был полный сумбур. Но не это было главным, а то, что ангелочек с крылышками снова выпустил в меня свою стрелу. Так ли уж важно, что Клоридия не оставляла мне никакой надежды. Так ли уж важно, что она разгадала мое состояние и посмеивается. Я все одно, несмотря ни на что, числил себя счастливчиком: мне была дана возможность лицезреть ее и даже разговаривать с ней, когда и сколько захочу, во всяком случае, пока продлится карантин. Неповторимые минуты для несчастного сироты, каким я был, неоценимые мгновения, о которых я стану вспоминать и сожалеть весь остаток своих дней. Я дал себе слово снова поскорее навестить ее. У себя в комнате я обнаружил, что без меня тут побывал Кристофано, оставивший для меня стаканчик прохладного вина, ломоть хлеба и кусок сыру. Объятый любовным томлением, я принялся потягивать вино, словно то был чистейший нектар Эроса, а хлеб с сыром показались мне нежнейшей манной, просыпанной на меня Афродитой. Наконец туман, которым затянуло мой мозг во время встречи с Клоридией, рассеялся, и я задумался о беседе с Девизе: так и не удалось вытянуть из него ничегошеньки о смерти Фуке. Аббат был прав: ни Девизе, ни Дульчибени по доброй воле не заговорят об этой странной истории. Хорошо еще, в уме музыканта не зародилось подозрение. Напротив, даже задавая ему дурацкие вопросы, замарав таблатуру, я выглядел в его глазах как самый последний неуч и тупица. Я отправился взглянуть, как обстоят дела у моего хозяина, и обнаружил, что ему лучше. Кристофано только что покормил его. Пеллегрино уже вновь овладел навыками речи и как будто понимал, что ему говорят. Слов нет, здоровье его оставляло желать лучшего и большую часть дня он спал, но тем не менее Кристофано счел, что он пошел на поправку. Побыв с ними, я вернулся к себе и сполна предался Морфею, а когда наконец вырвался из его цепких объятий, был уже обеденный час. Я засучил рукава: разрезал несколько лимонов на четвертинки и посыпал их сахарной пудрой – это чтобы подготовить желудки постояльцев к принятию пищи, далее соорудил крем по-милански: смешал желтки яиц с мускатом, ядрышками сосновых шишек, сахаром, корицей по вкусу (так было указано в рецепте, но я решил не злоупотреблять ею) и чуточкой сливочного масла, все это как следует взбил в ступке, потомил на огне и влил в небольшое количество воды до загустения. А еще позволил себе добавить в крем груши сорта бергамот. Закончив раздачу, я вернулся в кухню и сварил полчашки горячего напитка на основе жареного кофе. Затем на цыпочках, чтобы Кристофано меня не услышал, поднялся в башенку. – Вот спасибо! Клоридия сияла. – Я приготовил его для вас одной, – покраснев, выдавил я из себя. – Обожаю кофе! – воскликнула она, закрыв глаза и томно вдыхая аромат, распространявшийся по комнате. – А что в Голландии, откуда вы прибыли, много ли пьют кофе? – Нет. Мне так нравится, как ты его сварил: густой, насыщенный. Так готовила моя мама. – Я рад. Правильно ли я понял, что вам не пришлось eе знать? – Почти, – неохотно отозвалась она. – Я не помню ее лица но вот запах кофе, который она, как говорят, готовила великолепно, остался в памяти навсегда. – Она была итальянкой, как и ваш отец? – Нет. Ты что, явился мучить меня вопросами? Клоридия насупилась. Я все испортил! Однако вскоре она стала искать моего взгляда и лучезарно мне улыбаться. А также предложила сесть, указав на низенькую скамеечку. Выдвинув ящик комода, она достала две чашки и сухое анисовое печенье, налила кофе и мне и, присев на постель передо мной, стала с наслаждением потягивать любимый напиток. Не осмеливаясь задавать вопросы, я не знал, чем заполнить образовавшуюся паузу. Клоридия макала печенье в кофе и с жадностью, но грациозно откусывала от него. Эта картина меня умилила, мои глаза наполнились слезами, мысленно я уже зарылся лицом в ее волосы, касался губами ее лба. Клоридия взглянула на меня: – Мы с тобой разговариваем уже несколько дней, а я так-таки ничего о тебе не знаю. – Право, это неинтересно, сударыня Клоридия. – Не может быть. Откуда ты? Сколько тебе лет? Как ты здесь оказался? Я вкратце описал ей свое прошлое: сиротство, уроки старушки монахини и доброжелательность г-на Пеллегрино. – Стало быть, ты получил какое-то образование. По твоим вопросам я догадалась об этом. Повезло тебе. Я потеряла отца в возрасте двенадцати лет и вынуждена была довольствоваться тем немногим, что он успел преподать мне, – проговорила она, продолжая улыбаться. – А вы неплохо говорите. Итальянскому вас обучал отец? – Не только он. Мы жили в Риме, когда я осталась одна. Итальянские купцы отвезли меня в Голландию. – Должно быть, вы очень горевали. – Оттого-то я тут. В Амстердаме я годами проливала слезы, вспоминая, как была счастлива здесь. Я читала и училась сама, используя то немногое время, которое мне оставляли… Ей не было надобности заканчивать фразу. И без того было ясно, какие испытания выпали на долю несчастной сироты, что в конечном счете и привело ее на чудовищный путь торговли своим телом. – Однако таким образом мне удалось освободиться, – продолжала она, словно читая мои мыли, – и последовать за предсказанным мне моими числами… – Вашими числами? – Ах ну да, ты ведь не знаком с нумерологией, – подчеркнуто вежливо молвила она, отчего мне вдруг стало не по себе. – Тебе следует знать, что дата нашего рождения, как и даты прочих вех нашей жизни заключают в себе все сведения о нас. Греческий философ Пифагор утверждал, что числа могут объяснить все. – И что же, дата вашего рождения привела вас сюда, в Рим? – недоверчиво спросил я. – Не только дата рождения. Мы с Римом – одно целое, единое и неделимое. Наши судьбы переплетены. – Но как это возможно?! – зачарованно вскричал я. – Числа о многом говорят. Я родилась 1 апреля 1664 года. А год рождения Рима… – Как, и город может отмечать свой день рождения? – Разумеется. Знакома ли тебе легенда о Ромуле и Реме, о волчице и птичьем полете[1175], о том, как был основан город? – Ну да. – Так вот, существует точная дата основания Рима: 21 апреля 753 года до Рождества Христова. Обе даты рождения – Рима и моя – дают один и тот же результат, однако при условии, что будут правильно записаны, как это делается в нумерологии, то есть отсчитывая месяцы от марта, вешнего месяца начала нового года, согласно обычаям древних римлян, и начала астрологического календаря, знака Овна. Я понял, что она ступает на скользкую дорожку, где границы между ересью и колдовством почти неощутимы. – Апрель таким образом – второй месяц года, – тут она подвинула себе чернильницу, – и обе даты могут быть записаны следующим образом: 1/2/1664 и 21/2/753. Если сложить числа обеих записей, получается: 1 + 2+1+6 + 6 + 4 = 20 и 2 + 1 + 2 + 7 + 5 + 3 = 20. Видишь? Одно число. Я, не отвечая, воззрился на цифры, нацарапанные на бумаге. Это и впрямь было поразительно. – И это еще не все, – все более воодушевляясь, говорила Клоридия, обмакивая перо в чернила и продолжая подсчет. – Если я сложу день, месяц и год, не разделяя цифры между собой, получится: 21 + 2 + 753 = 776. И затем: 7 + 7 + 6 = 20, тоже число. А 1 + 2 + 1664 = 1667, что в сумме также дает 20. А известно ли тебе, что означает число 20? Это двадцатая карта Старшей Арканы под названием «Суд», означающая: возмещение за понесенный ущерб и справедливый суд потомков. Ну что за умница моя Клоридия… Уж такая искусница, что я почти ничего и не понял в ее подсчетах, не говоря уж о том, отчего она предалась им с таким пылом. Но мало-помалу мое недоверие улетучилось под натиском ее ловкости. Я был очарован: грация Венеры соперничала в ней с умом Минервы. – Так, значит, вы явились в Рим за получением возмещения в связи с понесенным ущербом? – Не перебивай, – резко откликнулась она. – Наука о числах утверждает, что возмещение убытков приведет однажды потомков к необходимости пересмотреть свое суждение. Но не спрашивай меня о конкретном значении этого, я еще и сама толком не разобралась. – А было ли в цифрах, что вы остановитесь в «Оруженосце»? – поинтересовался я, лелея надежду, что наша встреча также предопределена. – Нет, в цифрах не было. Но по приезде в Рим я выбрала этот постоялый двор, следуя за virga ardentis, волшебной палочкой или блуждающей лозой, ее еще называют прутиком лозоходца и много как еще. Тебе понятно, что я имею в виду? Тут она встала и вытянула руку вперед на уровне своего живота словно речь шла о какой-то длинной палке. Мне это напомнило нечто непристойное. Я почувствовал себя униженным и смолчал. – Но об этом в следующий раз, если у тебя будет желание, – заключила она с улыбкой, показавшейся мне двусмысленной. Выйдя от Клоридии, я с грустью обошел все комнаты, собирая посуду. Что бы значил вульгарный жест куртизанки? Сладострастный призыв или не дай бог корыстолюбивый намек? Я же не полный дурак: учитывая мое низкое положение, нечего и надеяться, что она станет относиться ко мне иначе, чем к любой другой прислуге. Это-то я понимал. Но неужто ей до сих пор не ясно, что мне нечем платить? Может, она надеется, что я стащу для нее денег у своего хозяина? Я поскорее прогнал от себя эту ужасную мысль. Она упомянула о перенесенном оскорблении, с которым был связан ее возврат в Рим. Нет, невозможно, чтобы она имела в виду нечто непристойное, говоря о таких серьезных вещах. Я наверняка ошибся. Ох и обрадовался же я тому, что постояльцы явно остались довольны обедом. Когда я постучался к Помпео Дульчибени, он наслаждался уже остывшим кремом, прищелкивая от удовольствия языком. – Ну присядь, любезный. Прошу прощения, аппетит у меня сегодня несколько запоздал. Я послушно сел и стал дожидаться, когда он поест, разглядывая от нечего делать вещицы на комоде, и тут мое внимание привлекли три томика с золотыми арабесками по алому переплету. «Какие красивые, – подумал я. – Где-то я уже их видел». Дульчибени закончил есть и протягивал мне посуду, с удивлением взирая на меня и не понимая, что так привлекло мое внимание. Я же с глупейшей улыбкой схватил протянутую мне вазочку и, опустив глаза, ринулся к двери. Но вместо того чтобы идти в кухню, бросился с руками, полными грязной посуды, на третий этаж и, задыхаясь, забарабанил в дверь Атто. – Помпео Дульчибени? – изумился аббат, дослушав до конца мой рассказ. Накануне я растирал Дульчибени спину, как вдруг он выразил желание взять понюшку табаку и выдвинул ящик комода в поисках своей табакерки из вишневого дерева с инкрустацией. Роясь, достал оттуда несколько книжек в красивом, алом с золотыми арабесками переплете, на которые я обратил внимание. Точно такие же были и в кабинете Тиракорды: это было издание трудов Галена в семи томах, причем трех томов недоставало. Книги в комнате Дульчибени как раз и были теми недостающими томами, на корешке можно было прочесть Galeni opera. Сомнений быть не могло, речь шла об opera omnia [1176] Галена в семи томах, четыре из которых стояли в книжном шкафу Тиракорды. – Возможно, Дульчибени и Тиракорда в последний раз встречались перед началом карантина, – принялся рассуждать аббат. – Должно быть, тогда-то Тиракорда и одолжил ему эти книги. И все же мы оба свидетели того, что один из лечащих врачей папы глубокой ночью принимал у себя кого-то. Что и говорить, странный час для визитов! И это еще не все. Тиракорда и его посетитель условились о свидании на следующий день в тот же час. Загадочный гость расхаживал по городу именно в то время суток, когда только и мы могли выйти из «Оруженосца». Отсюда следует, что Помпео Дульчибени и гость Тиракорды – одно лицо. – Но откуда они знают друг друга? – Ты мне задаешь этот вопрос оттого, что кое-чего не знаешь. Тиракорда – уроженец Марша. – Как и Дульчибени! – Скажу тебе больше: Дульчибени родился в Фермо, и, сдается мне, Тиракорда из того же города. – Так они земляки, – удивленно протянул я. – Вот именно. В Риме всегда практиковало большое количество прославленных врачей из этого старинного города. Оттуда и личный медик королевы Кристины Шведской – Ромоло Специоли, оттуда и старший врач Джован-Баттиста Бенчи, и если мне не изменяет память, оттуда же Чезаре Макьяти, как и Тиракорда, бывший врачом конклава. Уроженцы Фермо почти все селятся в одном квартале вокруг церкви Сан-Сальваторе-ин-Лауро, там же располагается и их братство. – Но Тиракорда живет в нескольких каннах от «Оруженосца» – возразил я, – и наверняка знает, что мы закрыты на карантин. Как же он не боится заразиться через Дульчибени? – Судя по всему, не боится. Видно, Дульчибени рассказал ему, что Кристофано не подтверждает чуму, умолчал о болезни Бедфорда и о странном состоянии, в которое впал после непонятного происшествия твой хозяин. – В таком случае похититель ключей не кто иной, как Помпео Дульчибени! И это при том, что он так строг! – Внешность обманчива. Пеллегрино наверняка научил его, как пользоваться подземным ходом. – А я-то никогда ничего не замечал. Невероятно…Шестая ночь С 16 НА 17 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Как обычно, мы дождались, пока все постояльцы, включая Кристофано, окончательно затихли в своих комнатах ввиду наступления ночи, и спустились в подземные меандры[1177]. Путь до площади Навона, где у нас было назначено свидание с двумя компаньонами, искателями нетленных сокровищ, прошел без сучка без задоринки. Однако стоило нам приблизиться к ним, как на Атто посыпался град упреков и требований, не обошлось и без оживленной дискуссии. Наши новые знакомцы жаловались, что из-за всех этих историй, в которые мы их втянули, они не смогли уделить должного внимания своим привычным занятиям. К тому же по моей вине испорчена часть ценнейшего материала, который они старательно накапливали, а я обрушил на себя в первую нашу встречу. Верилось в это с трудом, и потому для пущей убедительности Джакконио размахивал перед носом аббата огромной зловонной костью, которая якобы попортилась именно в тот раз. Возможно, лишь для того, чтобы не видеть более этого страшного фетиша, аббат почел за лучшее уступить: – Будь по-вашему. Но больше не желаю ничего слышать о ваших затруднениях. С этими словами он выгреб из кармана горсть монет и протянул Джакконио. Тот жадно завладел ими, ободрав руку дающего. – Не выношу этих двоих, – с миной гадливости потирая саднящую ладонь, прошептал Мелани. – Гр-бр-мр-фр, – принялся вслух подсчитывать добычу Джакконио, перекладывая монеты из одной руки в другую. – Итожит, – подмигнул мне Угонио. – О, это такой нумизмат! – Гр-бр-мр-фр, – довольно забурчал Джакконио, ссыпая мелочь в грязную засаленную суму. Послышался звон, видимо, монет набралось уже немало. – В конце концов эти два чудовища – ценные помощнику, – поделился со мной Мелани чуть позже, когда Угонио и Джакконио растворились во тьме. – Эта блевотная штука, которую Джакконио совал мне под нос, – просто кость из мясной лавки. А ты говоришь реликвии… Порой не стоит перегибать палку и лучше заплатить. Не то чего доброго наживем себе врагов. Помни: в Риме стоит добиваться победы, но не полной. Этот святой город чтит тех, кто преуспел, одновременно радуясь их неудачам. Получив вознаграждение, неустрашимые подземные жители передали Атто то, в чем у нас была нужда: дубликаты ключей от каретного сарая Тиракорды, а также от кухни. Мы легко проникли к папскому лекарю, рассчитывая, что в столь поздний час, кроме него самого, бодрствующего в ожидании гостя, все остальные обитатели дома спят. Миновали кухню, заброшенную спальню, прихожую, а далее пробирались в потемках, ориентируясь по памяти и благодаря слабому лунному свету, проникающему в окна. Затем ступили на винтовую лестницу, залитую приятным светом больших свечей, которые прошлой ночью Атто пришлось задуть, Дабы можно было беспрепятственно выбраться из дома; далее прошли мимо небольшой гостиной между этажами, где нашим глазам вновь во всем великолепии предстали предметы и произведения искусства, коими мы любовались накануне. И вот уже второй этаж. Тьма и тишина полные, но дверь открыта. Мы с аббатом заговорщически перемигнулись: как же, вот-вот переступим порог… чуть ли не инициации. Я ощутил прилив беззаветной, хоть и глупой отваги. Прошлой ночью нам все сошло с рук, отчего бы и этой ночью не быть тому же? И тут в сенях раздались три удара в дверь. Кто-то пришел Мы вновь бросились к лестнице и поднялись в небольшую комнату, отведенную под библиотеку между вторым и третьим этажом. Звук шагов донесся сверху, затем снизу: кто-то шаркающей походкой пошел открывать дверь. Мы снова оказались меж двух огней. Атто собрался было задуть свечу (что было рискованно, поскольку могло пробудить нешуточные подозрения у хозяев дома), когда послышался голос Тиракорды: – Я открою, Парадиза. Судя по отзвуку шагов, он спустился по лестнице, пересек сени и открыл входную дверь. Раздался радостный возглас хозяина. Посетитель молчал. – В тиши пропить, – как-то особенно оживленно заговорил Тиракорда, закрывая дверь, и вдруг закончил совершенно неожиданно: – Пришить типов! У нас с Атто затряслись поджилки. – Простите, Джованни, я сегодня не в духе. За мной следили, пришлось идти кружным путем. – Проходите, дорогой друг, будьте как дома. Прилепившись, словно две улитки, к стене, мы с Атто боялись пошевелиться. Несмотря на краткость и угрожающий характер диалога, который мы услышали, сомнений не было: голос пришедшего принадлежал Дульчибени. Тиракорда повел друга на второй этаж. Голоса удалились, стукнула дверь. Слегка опомнившись, мы спустились на второй этаж и оказались в большой комнате. Так о многом хотелось расспросить Атто, но молчание было нашей единственной надеждой на спасение. Комната, в которой мы затаились, была заставлена мебелью и в числе прочего двумя кроватями под балдахинами. Голоса двух собеседников доходили до нас приглушенные расстоянием. Каким-то чудом мне посчастливилось не налететь на сундук. Когда мои глаза привыкли к темноте, я с ужасом увидел прямо перед собой два перекошенных гневом лица. Кто-то подстроил-таки нам засаду! Прошло несколько секунд, прежде чем до меня дошло, что это два бюста – один медный, другой каменный. Они были водружены на пьедесталы высотой с мой рост. Рядом таращили свои пустые глазницы гипсовый Геркулес и гладиатор. Свернув налево, мы оказались, судя по длинной веренице сдвинутых стульев, в комнате ожидания, затем вступили в следующую, более просторную и совсем темную. Голоса хозяина и его гостя доносились из следующей комнаты. С превеликими предосторожностями приблизились мы к незапертой, лишь прикрытой двери. Сквозь щель проникала узкая полоска света. И вновь мы услышали нечто престранное: – В тиши пропить, пришить типов, – отчеканил Тиракорда, в точности повторив слова, которыми он встретил Дульчибени. – Типов пришить, пришить типов, – повторил Дульчибени. – Вот-вот. Обдумайте на досуге. Не это ли является причиной вашего появления у меня? Лекарь встал и, шаркая ногами, двинулся куда-то влево, исчезнув из поля нашего зрения. Дульчибени сидел к нам спиной. Комната освещалась двумя толстыми восковыми свечами, покрытыми золотой краской, стоящими на столе, за которым расположились собеседники. Великолепие обстановки наполнило меня удивлением и восхищением. Рядом со свечой стояла посеребренная затейливая корзиночка с восковыми фруктами. Горели свечи и в двух массивных канделябрах, один из которых был установлен на столике из сандалового дерева, а другой – на верху секретера черного дерева с карнизами и гербами из позолоченной меди. Стены были затянуты дорогим атласом малинового цвета; повсюду развешаны полотна с различными приятными для глаз сюжетами – с животными, цветами, людьми. Я узнал Мадонну с младенцем, оплакивание Христа, благовещение святого Себастьяна и вроде бы Ессе Homo. Но одно полотно несомненно царило в комнате: в золоченой раме с арабесками, растительным орнаментом и фестонами из граненого стекла оно висело в центре самой длинной стены прямо перед нашими глазами и изображало папу Иннокентия XI. Под ним на высоком подножии лежал ковчежец четырехугольной формы из посеребренной и позолоченной меди. Наверняка с уймой мощей. Налево было установлено ложе, а рядом стул с дыркой, покрытый красной парчой. Я тут же догадался, что это был кабинет, где Тиракорда принимал пациентов. Вне поля нашего зрения открылась и закрылась дверь, врач вернулся к столу. – Ах я недотепа, оставил их там. С этими словами он толкнул стену, на которой висел огромный и угрожающий понтифик, и перед нашими изумленными глазами в этой стене образовался проем, створки двери были обиты той же малиновой тканью, что и стены, и хорошо к ним прилегали, так что были незаметны. За потайной дверью находился чулан для хранения врачебных инструментов. Мне даже удалось разглядеть пинцеты, щипцы, бистуреи, аптекарские горшочки, книги, связки листочков бумаги, возможно, для записи результатов медицинского обследования. – Они все еще там? – спросил Дульчибени. – Да, и притом неплохо себя чувствуют, – отозвался Тиракорда, что-то отыскивая. – Я ищу две недурственные штучки, записанные для вас. Ах, вот и они. Он запер чулан, вернулся в кабинет, победно потрясая смятыми листочками бумаги, и сел за стол. – Вот послушайте. Если у отца семь дочерей… И тут с Атто что-то случилось: он вдруг зажал себе рот обеими руками, закрыл глаза, приподнялся на мысочках и стал на глазах раздуваться. Затем сложился вдвое, сунув лицо под мышку. Меня охватила паника, я не знал, что и думать: плохо ли ему, гневается ли он? Когда же он вынул голову из-под мышки и уставился на меня, по его полным ужаса и бессилия что-либо изменить глазам я понял: он собирается чихнуть. На Мелани периодически нападали приступы краткого, но неудержимого чиха, я, кажется, уже упоминал об этом. К счастью, на сей раз ему удалось сдержать позыв. В какое-то мгновение я испугался, что он не устоит на ногах и рухнет на приоткрытую дверь. Но он прислонился к стене, и опасность миновала. И все же это происшествие на несколько мгновений отвлекло наше внимание от разговора, который мы подслушивали. Удостоверившись, что Атто совладал с собой, я весь обратился в слух. Фразы, которыми обменивались собеседники, были сплошь непонятными. – Четырнадцать? – устало спросил Дульчибени. – А вот и нет! Восемь. И знаете почему? Один брат – брат всем дочерям. Ха-ха-ха! Тиракорда зашелся в астматическом смехе, Дульчибени хранил молчание, а стоило тому успокоиться, попытался перевести разговор на другую тему. – Ну, как он сегодня? – Да так себе. Если он не перестанет упрямиться и изматывать себя, улучшения не наступит и он это знает. Возможно, придется отказаться от пиявок и прописать что-нибудь другое, – сопя и вытирая платком слезы, выступившие у него на глазах от смеха, отвечал Тиракорда. – Вот как? Я думал… – Я и дальше собирался применять привычные методы, – кивнул врач на потайную дверь, – но теперь вовсе в этом не уверен… – Позвольте мне заметить, Джованни, – перебил его Дульчибени, – хотя я не врач, но все же думаю – нужно время, чтобы лечение подействовало. – Знаю, знаю, посмотрим, как пойдет… – каким-то унылым тоном отвечал Тиракорда. – Увы, Сантуччи сам в прескверном состоянии и не может обеспечить больному уход, как в добрые старые времена. Мне предложили заменить его, но я слишком стар. К счастью, вскоре мы получим подспорье: грядет новая смена. Возможно, молодой Ланчизи, которому я помогал и буду помогать всеми возможными способами, займет это место. – Он тоже ведь, кажется, из Марша? – Нет, он римлянин. Но я его, так сказать, усыновил. Он посещал наш коллеж в Марше, затем стал моим ассистентом в богадельне Сан-Спирито-ин-Сассия. – Так будете вы назначать другое лечение или нет? – Поглядим. Немного деревенского воздуха, возможно, приведет к улучшению состояния больного. А кстати, – вспомнив о записи на листочке, проговорил он. – На одной ферме… – Послушайте, Джованни, – вдруг взвился Дульчибени. – . Вам прекрасно известно, как ценю я наши встречи, однако… – Вам снова приснилась ваша дочь? – с обеспокоенной миной на лице поинтересовался Тиракорда. – Я вам много раз говорил, это не ваша вина. – Да вовсе нет. Видите ли… – Я понимаю: карантин и все такое. Но я вам уже сказал, это глупость. Если все было так, как вы мне описали, вы не рискуете заразиться, а еще меньше очутиться в лазарете. Нужно верить вашему, как бишь его, Кристожено… он прав. – Его зовут Кристофано. Но я не об этом. Мне кажется, за мной кто-то следил, когда я шел к вам сюда. – Ах вон оно что! Будьте спокойны, дружище. Может, вас преследовала речная крыса? Ха-ха-ха! Кстати, я нашел одну у себя в сарае намедни. Вот такую здоровенную. – Он развел в стороны свои руки-коротышки. Дульчибени ничего не отвечал. Не видя его лица, я все же почувствовал, что он готов взорваться. – Я понимаю, вы все переживаете ту историю. И все же: мучить себя по прошествии стольких лет. Может, тут есть ваша вина? Так нет же. Однако вы все равно думаете: если бы я служил тогда другому человеку! Ах, если б мне быть тогда художником, стольником, поэтом, кузнецом, стремянным! Все что угодно, только не торговцем. – Да, бывает, что я думаю именно так, – подтвердил Дульчибени. – Вот что я вам скажу в таком случае. Будь это так, вам бы никогда не встретить мать вашей дочери, Марии. – И то верно. И меньшего бы хватило: чтобы на моем пути не повстречался Франческо Ферони. – Снова-здорово! Да уверены ли вы, что это был он? – Уверен, это он поддержал мерзкие намерения этой свиньи Хьюгенса. – Но вы могли бы попытаться вывести их на чистую воду, потребовать расследования… – Расследования? Да я же вам объяснял: ну кто будет искать дочь рабыни-турчанки? О нет, в сложных делах прибегать к помощи Барджелло не стоит, лучше уж обратиться за помощью к какой-нибудь сволочи. – И эта сволочь заверила вас, что ничего уже не поделаешь? – Вот именно, ничего. Ферони и Хьюгенс отвели ее к этому нечестивцу. Я искал, но впустую. Видите этот черный старый сюртук? Я ношу его, купив в портовой лавке, с тех пор как иссякли силы и надежда… И теперь уж не расстанусь с ним. Я искал, долго-долго, платил шпионам и осведомителям по всему миру. Два лучших из них заверили меня, что не осталось ни одной зацепки, что она была продана или же – боюсь, что это так – умерла. Несколько мгновений оба молчали. Мы с Атто переглянулись, и я прочел в его глазах то же удивление и те же вопросы, которые возникли у меня самого. – Говорю вам, в этой истории не найти концов, и утешиться я тоже не могу, – грустно заговорил снова Дульчибени. – Что ж, выпьем? – Он вынул из кармана флягу и поставил на стол. – Что за вопрос? Лицо Тиракорды засветилось. Он встал, снова открыл потайную дверь и прошел в чулан. Встав на мысочки, с огромным трудом дотянулся до полки под самым потолком и что-то снял оттуда. В его пухлых пальцах оказались две чарки зеленоватого стекла. – Просто чудо, что Парадиза до сих пор еще не обнаружила моего нового тайника, – пояснил он, закрывая дверь. – Найди она мои чарочки, что бы тут началось! Вы ведь знаете, как она относится к вину, греху чревоугодия… Мол, происки Сатаны. Но продолжим. Что случилось с матерью девочки? – Я вам уже рассказывал. Незадолго до похищения Марии она была продана. Я потерял все ее следы. – А вы не могли воспрепятствовать этой продаже? – Она принадлежала, увы, не мне, а Одескальки, как и моя дочь. – Ну так нужно было на ней жениться! – Разумеется. Однако мое положение… Она рабыня… – пробормотал Дульчибени. – Так вы получили бы отцовство. – Да, но вы понимаете… Звук разбившейся чарки заставил нас вздрогнуть. Дульчибени тихо выругался. – Я очень огорчен, – проговорил Тиракорда. – Будем надеяться, что Парадиза ничего не слышала. Бог мой! Что же делать? Переставляя один из тяжелых подсвечников, врач задел фляжку Дульчибени, она упала и разбилась на множество осколков. – Ничего, – успокоил его Дульчибени, – в «Оруженосце» у меня есть небольшой запасец, – и нагнулся собрать осколки. – Вы поранитесь. Пойду схожу за тряпкой. Да остановитесь, вы ведь не прислуживаете Одескальки! Ха-ха-ха! И так зубоскаля он направился к двери, за которой притаились мы с Атто. У нас было всего несколько секунд, чтобы отскочить от двери и вжаться в стену по обе стороны от нее. Он миновал нас, словно двух замерших на посту часовых, пересек комнату ожидания и вышел в противоположную дверь. И тут вновь нам на помощь пришла смекалка аббата Мелани, если только не сработало его нездоровое пристрастие ко всякого рода засадам. Тихие и юркие, словно мыши, мы перебежали к противоположной двери и снова вжались в стену по обе стороны от нее, с той лишь разницей, что на этот раз она была открыта и ее створки служили нам прикрытием. – А вот и я, – провозгласил Тиракорда, возвращаясь с тряпкой в руках. Останься мы у той двери, он непременно увидел бы нас, и деваться нам было бы некуда. Пройдя в кабинет, он плотно прикрыл за собой створки двери. До тех пор, пока еще оставалась возможность что-то видеть, я взирал на Дульчибени: обернувшись ко входу и нахмурив брови, он вглядывался в темную переднюю и, сам того не зная, не сводил глаз с моего испуганного лица. В течение нескольких минут мы боялись пошевелиться, а я так и пот отереть со лба. Дульчибени вдруг заявил, что устал, и заспешил откланяться. Случай, помешавший ему чокнуться с Тиракордой, казалось, лишил его дальнейшее пребывание в гостях всякого смысла. Мы услышали, как они поднялись из-за стола, и нам не оставалось ничего другого, кроме как прошмыгнуть в соседнюю комнату и спрятаться за гипсовыми статуями. Тиракорда и Дульчибени прошли совсем рядом с нами. В руках у Дульчибени был фонарь, которым он, видимо, пользовался, спускаясь под землю. Хозяин вновь просил извинить его за неловкость и за то, что испортил вечер. Они спустились по лестнице до сеней. Но стука входной двери мы не услышали: ведь не мог же Дульчибени вернуться в «Оруженосец» поверху, его остановили бы стражники, день и ночь дежурившие возле постоялого двора. Он мог добраться туда только потайными ходами. Мало погодя, Тиракорда поднялся на третий этаж. Теперь вокруг было темно как в преисподней; соблюдая предосторожности, мы спустились в кухню, а оттуда вышли в каретный сарай, твердо намереваясь не упускать Дульчибени из виду. – Бояться нечего. Как и Стилоне Приазо, он от нас не Уйдет, – заверил меня Атто. Увы, все сложилось иначе. Вскоре мы заметили впереди свет °т Фонаря уроженца Марша. Дородный, грузный, он шел не так чтобы быстро. Однако в месте пересечения галереи D с галереей С нас ждал сюрприз: вместо того чтобы повернуть направо, к «Оруженосцу», он продолжал идти прямо. – Но это невозможно, – на языке жестов выразил свое удивление Мелани. Пройдя довольно длинный отрезок пути, мы добрались до того места, где в галерею вливалась из расселины струя воды Далее царила темнота, словно Дульчибени потушил свой фонарь. Лишившись каких-либо ориентиров, мы пробирались теперь на ощупь. Боясь налететь на того, кого преследовали, мы замедлили шаг и стали прислушиваться. Журчание воды было единственным звуком, касавшимся нашего слуха. Порешили продолжать продвижение вперед. Но тут Мелани споткнулся и упал, к счастью, ничего не повредив себе. – К черту! Давай сюда твой проклятый фонарь! Он сам его засветил, и тогда мы оторопело убедились в том, что в нескольких шагах от нас галерея заканчивалась, упершись в реку, текущую по перпендикулярной галерее, а Дульчибени исчез. – С чего начнем? – спросил меня аббат раздраженным голосом, когда мы, повернув обратно, пытались углядеть хоть какой-то логический порядок в последних событиях. Я вкратце подытожил, что мы уже знали. Помпео Дульчибени частенько наведывался к Джованни Тиракорде, своему земляку, папскому врачу, и беседовал с ним о каких-то непонятных вещах, суть которых нам пока схватить не удавалось. Тиракорда упоминал о неких братьях, сестрах, фермах и произносил вообще нечто несусветное вроде «пришить типов». Кроме того, Тиракорда лечил пациента, внушавшего ему тревогу, на чье скорое выздоровление он тем не менее надеялся. Услышали мы и кое-что важное относительно самого Помпео Дульчибени: у него есть, или была, дочь по имени Мария, от рабыни, чьи следы он потерял: женщина была продана. Дочь Помпео Дульчибени была похищена, как утверждал отец, неким Хьюгенсом, правой рукой Ферони (о чем-то мне это имя говорило!), принявшем участие в похищении. Дульчибени не смог им воспрепятствовать и не числил дочь среди живых. – Вот, значит, к кому обращался бедолага во время своего монолога. Аббат уже не слушал меня. – Франческо Ферони, – шептал он. – Это имя мне знакомо. Он сколотил состояние, торгуя рабами в испанских колониях Нового Света, вернулся во Флоренцию, поступил на службу к великому герцогу Козимо. – Работорговец! – Да. И кажется, начисто лишен совести. Во Флоренции о нем сложилось прескверное мнение. Припоминаю одну забавную историю, связанную с его именем. Ферони из кожи вон лез, чтобы породниться с флорентийской знатью, но его дочь и наследница в буквальном смысле зачахла от любви к этому Хьюгенсу, – хохотнул Атто. – Хьюгенс же был доверенным лицом Ферони и вел от его имени самые хлопотные и деликатные дела. – Что же с ним сталось? Ферони его прогнал? – Напротив. Старик уже не мог и не хотел обойтись без его помощи. Хьюгенс продолжал работать на Ферони, который в лепешку разбивался, только чтоб исполнить все прихоти молодого человека. Дабы не допустить его до своей дочери, он поставлял ему всех женщин, которых тот возжелал. Даже самых дорогих. – И как же все это закончилось? – Не знаю, да это и не важно. Думаю, Хьюгенс и Ферони положили глаз на малышку Дульчибени. Бедное дитя! – вздохнул Атто. «Дульчибени, и это самое поразительное из услышанного, состоял на службе Одескальки, папского семейства», – отметил я про себя. – Теперь задавай вопросы, – разрешил Атто, догадываясь, что их у меня накопилось немало. – Ну прежде всего какие такие услуги мог оказывать семье папы Дульчибени? – спросил я, когда мы ступили в галерею D, взобравшись на небольшую ступень, образовавшуюся в результате перепада между двумя галереями. – Тут несколько вариантов. Дульчибени назвался «торговцем», но, возможно, это не совсем точное слово. Торговец трудится на себя, тогда как у него был хозяин. Он мог состоять у них и секретарем, и счетоводом, и казначеем, и поверенным в делах, и стряпчим. Мог разъезжать по всей Европе с поручениями от их имени: десятилетиями они скупали и продавали зерно и ткани. – Отец Робледа сказал, что Одескальки дают ссуды под проценты. – Так у вас с ним и на эту тему был разговор? Неплохо, мой мальчик. Так оно и есть. Позже они оставили торговлю и целиком переключились на займы. Мне стало известно, что со временем они почти все вложили в покупку должностей и ценные бумаги. – Сударь, а кто тот пациент, о котором они говорили? – Это самый легкий из вопросов. Поразмысли: речь о пациенте, чья болезнь не подлежит огласке, при этом Тиракорда – врач понтифика. – Господи Иисусе, никак это… Его Святейшество папа Иннокентий XI? – сглотнув слюну, осмелился предположить я. – Думаю, да. Однако я был удивлен. Обычно, когда заболевает папа, весть об этом распространяется со скоростью молнии. Тиракорда же пытается держать ее в тайне. Очевидно, Ватикан опасается огласки: момент не слишком подходящий, неизвестно, чья возьмет в Вене. Если папа нездоров, одряхлел, в Риме могут вспыхнуть недовольство, беспорядки; турки от этого еще сильнее воспрянут духом, а христианские воины – наоборот. Тиракорда сказал, что здоровье папы не улучшается, так что придется прибегать даже к иным методам лечения. Оттого-то это и должно сохраняться в тайне. – Но другу-то Тиракорда открылся, – заметил я. – Видно, считает, что тот умеет хранить секреты. А к тому же Дульчибени, как и мы, в данный момент пленник, застрял в «Оруженосце» на время карантина. Ему и случайно-то не представится открыться кому-нибудь. Но есть кое-что еще. – Что же? – Дульчибени сопровождал Фуке. Теперь наведывается к папскому врачу, чтобы обсудить различные загадочные вещи: какие-то фермы, чьи-то братья и сестры, типы, которых надо пришить… Я бы дорого дал, чтобы узнать, о чем это они говорили. На обратном пути нас ждала встреча с нашими проводниками – они копошились в «Архивах» под площадью Навона. Я обратил внимание, что вновь была возведена мерзкая пирамида из костей и черепов, на сей раз покруче и повыше. Они никак не приветствовали нас, занятые оживленной дискуссией, поводом для которой послужил некий предмет. Джакконио грубо вырвал его из рук Угонио и с подозрительно приторной улыбкой протянул Атто. Это были обрывки листьев какого-то растения. – Что это? – воззрился на них Атто. – Не могу же я оплачивать тебе всю ту дрянь, что ты пытаешься мне всучить. – Это не простые листочки, – произнес Угонио. – Будучи в большей степени врачевателем, чем дрянцо подбирателем, Джакконио нашел их неподалеку от умерщвленных тварей, коих мы видели. – Что и говорить, необычное соседство дохлых крыс и этих листьев, – задумался Атто. – Джакконио говорит, что это на удивление обонятельное растение, согревающее, сводящее с ума… В целом, будучи более носителем benefice, чем malefice, то есть пользы, чем вреда, он вам его передает, ибо в соблюдении своих обязанностей обретает верующий радость. Атто взял один из обломков листьев и поднес к фонарю, чтобы получше рассмотреть. И тут меня пронзило одно воспоминание. – Господин Атто, теперь и я начинаю вспоминать, что видел листья в галереях. – Черт побери! Но откуда в подземелье, где не растут деревья, взяться опавшим листьям? Я поведал ему, что, преследуя Стилоне Приазо, ступал по листьям и даже разок поскользнулся на них, при этом испугался, как бы Приазо не заметил меня. – Вот дурачина! Надо было тут же сказать мне об этом. Нам теперь важна любая мелочь. Я взял в руки ломкие листочки и пообещал себе исправиться. Раз уж я был неспособенпомочь Атто в разгадке значения всех этих ферм, братьев, сестер и типов, подлежащих уничтожению, о которых шла речь между Тиракордой и Дульчибени так уж разобьюсь в лепешку, а постараюсь разузнать все о растении, с которого осыпались эти листья, что позволит отыскать того, кто усеял ими подземные галереи. Простившись с нашими помощниками, мы побрели по направлению к «Оруженосцу». Тут я вспомнил, что до сих пор еще не передал Атто, о чем мы говорили с Девизе. В вихре недавних открытий это отошло на второй план, да и ничего особенного выудить из гитариста мне не удалось. Я пересказал нашу беседу, утаив лишь, что пришлось слегка запачкать честь Атто, чтобы завоевать доверие Девизе. – Так-таки ничего интересного? – перебил меня Мелани на полуслове. – Ты узнал, что королева Мария-Терезия поддерживала отношения со знаменитым Франческо Корбеттой и Девизе, и считаешь, что это неинтересно? Я был застигнут врасплох, а Мелани, казалось, впал в панику и во все продолжение рассказа то и дело останавливался, таращил глаза, просил меня повторить, вновь молча устремлялся вперед, а потом без всякой причины с задумчивым выражением лица замирал на месте. А еще то и дело просил меня повторить все с самого начала: как я явился к Девизе с назначенной ему процедурой, как услышал рондо, так очаровавшее всех постояльцев, как спросил его, не он ли автор этого чудного произведения, на что получил ответ, что его учитель, некто Корбетта, услышал эту мелодию во время одного из своих многочисленных путешествий, записал ее и преподнес королеве, дабы та отдала таблатуру Девизе, в свою очередь, внесшего в нее что-то свое. Словом, теперь трудно сказать, кто является автором этого музыкального сочинения, даже если и известны имена приложивших к нему свою руку. – А знаешь ли ты, кто такой Корбетта? – вопросил аббат, глаза которого превратились в две щелочки, и, в свою очередь, пустился рассказывать мне: – Итальянец Франческо Корбетта был величайшим из гитаристов своего времени. Мазарини пригласил его во Францию, дабы он обучал игре на гитаре юного Людовика, обожавшего этот инструмент. Слава музыканта возросла, и уже король Англии Карл II, также жалующий этот инструмент, призвал того в Лондон, где дал ему в жены богатую наследницу и наградил титулом пэра. Корбетта был не только изысканным исполнителем, но и опытным криптографом, что является большой редкостью. – Он что, записывал буквы особым способом? – Это что! Он сочинял шифрованную музыку, в которой было скрыто тайное послание! Корбетта был незаурядной личностью: интригующей, завораживающей. Любил карточную игру, большую часть жизни провел в дороге: Мантуя, Венеция, Болонья, Брюссель, Испания, Голландия, был замешан во многие скандальные истории. Умер он два года назад в возрасте шестидесяти лет. – Возможно, он не довольствовался музыкой и тоже… ну… советовал? – По правде сказать, он прямо-таки погряз в политических интригах тех стран, что я тебе перечислил, – ответил Мелани, допустив таким образом, что Корбетта занимался шпионажем. – И для этого использовал таблатуру? – Да, однако он ничего не изобрел. Знаменитый англичанин Джон Доулэнд[1178], лютнист королевы Елизаветы, сочинял такие произведения, с помощью которых его государыня могла передавать секретные послания. Атто в два счета убедил меня, что запись музыкального произведения может содержать нечто, не имеющее к музыке ни малейшего отношения. Собственно музыкальная криптография существовала исстари – к ней прибегали правящие династии и Церковные иерархи. Делла Порта в «De furtivis litterarum notis» [1179] приводит в качестве общедоступного примера несколько способов шифровки в музыкальных фразах секретных посланий различного толка и какой угодно длины. Благодаря удобному ключу нетрудно привязать каждую букву алфавита к музыкальному знаку или ноте. Цепочки из них, записанные в виде партитуры, с помощью ключа превращаются в слова и целые фразы Однако в результате в самой музыке возникают saltus indecentes, то есть диссонансы и неприятные для слуха энгармонии, которые ictu ocili [1180] могут пробудить подозрения у того, кто взялся бы читать их с листа. Потому-то и были изобретены более искусные способы криптографии. – А кем? – Да все тем же Кирхером, в частности, этому посвящен его труд «Musurgia universalis». Вместо того чтобы замещать буквы нотами или их комбинациями, он предложил разделить алфавит между четырьмя голосами мадригала или оркестра, так чтобы лучше управлять музыкальной темой, сделать ее композиционно более изящной и менее неприятной на слух на тот случай, если послание будет перехвачено или вызовет подозрения. И наконец, существует бесчисленное количество возможностей использовать текст, положенный на музыку, и ноты, предназначенные для исполнения с помощью человеческого голоса. К примеру, если той или иной ноте что-то соответствует, какие-то слоги, во внимание принимаются лишь эти слоги. Можно пользоваться одним лишь текстом, положенным на музыку, для кодирования секретного послания. Корбетта был знаком с изобретением Кирхера, в том нет сомнений. – Как по-вашему, перенял ли Девизе у Корбетты не только мастерское владение гитарой, но и… это искусство тайнописи? – Так, во всяком случае, поговаривали при дворе в Париже. К тому же Девизе был любимым учеником Корбетты и, помимо прочего, одним из его друзей. Доулэнд, Мелани, Корбетта, его ученик Девизе… больше я не сомневался: музыка неразрывно связана со шпионажем. – Кроме того, – продолжил Мелани, – Корбетта был хорошо знаком с Фуке, поскольку являлся придворным гитаристом при Мазарини вплоть до 1660 года. Только в этом году он перебрался в Лондон, однако часто наезжал в Париж, а десять лет спустя окончательно туда переехал. – Но в таком случае это рондо также может заключать в себе некое тайное послание! – сам не веря в то, что говорю, произнес я. – Спокойствие, мой милый, взглянем сперва на все остальное. Ты мне сказал, что рондо было преподнесено Корбеттой в дар Марии-Терезии, которая, в свою очередь, подарила его Девизе. Для нас с тобой это служит ценнейшим указанием. Мне ведь было невдомек, что королева поддерживала отношения с обоими гитаристами. Даже трудно в это поверить. – Я вас понимаю. Мария-Терезия вела почти монашеский образ жизни… И я пересказал аббату все то, что узнал от Девизе по поводу унижений, которым подвергал свою бедную супругу король-Солнце. – Монашеский? Бог мой, я бы не стал так преувеличивать, – явно что-то зная на сей счет, парировал Атто. По мнению Атто, Девизе нарисовал для меня слишком уж незапятнанный портрет королевы Франции. А между тем и сейчас еще можно повстречать в Версале юную мулатку, как две капли воды похожую на дофина. За объяснением сего чуда следует обратиться к событиям двадцатилетней давности, когда послы одного африканского государства гостили при дворе и, дабы выразить свое почтение супруге Людовика XIV, подарили ей темнокожего пажа по имени Набо. Несколько месяцев спустя – это было в 1664 году – Мария-Терезия произвела на свет крепенькую и очень резвую девчушку с темной кожей. Придворный хирург Феликс заверял короля, что цвет кожи ребенка скоро изменится, являясь чем-то вроде желтухи в связи с приливом крови во время родов. Однако шли дни, а девочка светлее не становилась. Тогда хирург заявил, что беременность королевы протекала под слишком пристальными взглядами негритенка. «Взглядами? – переспросил король. – Какой же проникающей способностью они должны были отличаться!» Несколько дней спустя по приказу короля с пажом Набо тайно расправились. – А что же Мария-Терезия? – Она промолчала. Никто не видел ни ее слез, ни улыбок. По правде сказать, ее и саму-то было не видно. Кроме слов доброты и прощения, от нее ничего нельзя было добиться. Она всегда старалась рассказать королю о малейшей безделице, дабы заверить его в своей преданности, и это невзирая на то, что он навязывал ей своих любовниц в качестве камеристок. Она как будто бы и не могла быть иной, кроме как безвольной, бесцветной, держащейся в тени. Она была слишком добрая. Слишком. На память мне пришла одна фраза Девизе: было бы ошибочно судить о Марии-Терезии лишь по внешним проявлениям. – Как вы думаете, она напускала на себя такой вид? – спросил я. – Она была из Габсбургов. К тому же испанка. И Габсбурги, и испанцы – гордые натуры, все сплошь заклятые враги ее супруга. Как ты думаешь, что испытывала Мария-Тере-зия Австрийская, когда ее так унижали на французской земле? Отец боготворил ее и согласился расстаться с ней лишь в обмен на Пиренейский мир. Я был на Фазаньем острове[1181], мой мальчик, когда Франция и Испания заключили договор и порешили соединить браком своих детей. Как подошла пора расставаться с дочерью, король Филипп Испанский залился горючими слезами, словно уж и не надеясь свидеться с нею когда-либо. Всем стало не по себе. А на пиршестве в честь помолвки, одном из самых роскошных, когда-либо заданных, не притронулся к яствам. Под вечер, собираясь уезжать, он простонал сквозь рыдания: «Я мертвец» и много чего еще в том же духе. Рассказ Мелани несказанно удивил меня: я и не предполагал, что сильные мира сего, хозяева судеб целых стран и народов, могли так горевать и убиваться от потери одного дорогого существа. – А Мария-Терезия что же? – Сперва делала вид, что ей все равно, как обычно. Но вскоре дала понять, что будущий супруг ей не нравится. Улыбалась, вела любезные разговоры и показывала, что отъезд ее нисколько не огорчает. Но в эту ночь мы все слышали, как она душераздирающе вопила в своей комнате: «Ay, mi padre, mi padre!» [1182] – Значит, она и вправду притворщица? – Так оно и есть. Она скрывала ненависть и любовь, симулировала жалость и верность. И потому неудивительно, что никто не догадывался о милом обмене таблатурами между нею, Корбеттой и Девизе. Возможно, прямо на глазах у короля! – Так вы считаете, королева пользовалась услугами гитаристов для передачи тайных посланий? – Не исключено. Помню, прочел о чем-то в этом роде в одной голландской газете. Так, мерзкое издание, выходившее в Амстердаме на французском языке с единственной целью – опорочить Наихристианнейшего из королей. Там говорилось об одном молодом придворном лакее, неком Беллоке, если мне не изменяет память, который сочинял стихи, предназначенные для декламации во время балетного действа. Так вот, в них в завуалированной форме содержались упреки, адресованные королю, причинявшему королеве страдания своими изменами. А заказчиком был не кто иной, как сама Мария-Терезия. – Сударь, а кто такая Мадемуазель? – Откуда тебе известно это имя? – Я прочел его на верхнем поле странички с нотами Девизе. Там стоит: «a Mademoiselle». Хотя свет от фонаря был очень слаб, я увидел, как побледнел аббат Мелани. Внезапно в его глазах промелькнул страх, который вот уже два дня потихоньку точил его. Я до конца пересказал ему весь свой разговор с французским музыкантом и признался в том, что по неловкости запачкал таблатуру рондо, а пытаясь исправить оплошность, наткнулся на это посвящение. Я также сообщил Атто о том, что узнал о Мадемуазель от Девизе: она была кузиной короля, приговоренной им к безбрачию за бунтовщическое прошлое. – Господин Атто, кто же она такая? – снова спросил я. – Главное, не кто она сама, а за кого она вышла. – Вышла? Разве она не осталась в девушках? Оказывается, Девизе не совсем верно передал мне ее историю: на самом деле все было чуть сложнее. Ее называли Большая Мадемуазель, настоящее ее имя – Анна-Мария-Луиза, герцогиня де Монпансье. Самая богатая женщина французского королевства. Но денег ей было мало, ока хотела любой ценой выйти за короля. Людовик забавы ради вообще запретил ей выходить замуж и отравил все существование. В конце концов, она отказалась от своих амбиций и заявила, что не притязает на трон и подчиняется, подобно Марии-Терезии, жестокому государю, оставив двор и отправившись в дальние края. В возрасте сорока четырех лет она влюбилась в безвестного провинциального дворянина, бедного гасконского отпрыска, лишенного наследства, ни к чему не пригодного, однако имевшего счастье за несколько лет до этого завоевать симпатию короля, назначившего его наперсником своих игр и нарекшего графом де Лозеном[1183]. – Лозен был никудышным соблазнителем, – с презрением заявил Атто, – ухаживал за Большой Мадемуазелью из-за ее денег. Людовик позволил им пожениться, однако Лозен, всегда отличавшийся необыкновенным тщеславием, требовал торжеств, не уступающих королевским. «Таких, какие устраиваются двумя династиями», – повторял он друзьям, раздувшись от спеси. А поскольку из-за долгих приготовлений свадьба затягивалась, Людовик XIV тем временем спохватился да и передумал. Уж как только жених с невестой ни умоляли, ни заклинали его, даже угрожали. Ничего не помогло. Пришлось повенчаться тайно. Король об этом узнал, и Лозену пришел конец – он снова был посажен в крепость, на сей раз далеко от Парижа. – Крепость… – повторил я, начиная догадываться. – Пинероло. – Туда же… – Вот именно, туда же, где был Фуке. До тех пор Фуке был единственным заключенным этой огромной крепости. Он был знаком с Лозеном, тот сопровождал короля в поездке в Нант, во время которой и был задержан Фуке. К тому времени, когда Лозена препроводили в Пинероло, Фуке томился в неволе уже девять лет. – А сколько там просидел Лозен? – Десять лет. – Так много! – Могло быть и больше. Не определив заранее срока его заключения, король мог продлевать его до бесконечности. – Почему же он освободил его именно через десять лет? – Загадка, – отвечал Мелани. – Несомненно одно: Лозен был освобожден несколько месяцев спустя после исчезновения Фуке. – Господин Атто, я больше ничегошеньки не понимаю, – взмолился я, не в силах совладать с дрожью, объявшей мои члены. Грязные, озябшие мы добрались наконец до «Оруженосца». – Бедняжка, – пожалел меня мой наставник. – В несколько ночей я преподал тебе добрую часть истории Франции и Европы. Но это тебе пригодится! Будь ты уже газетчиком, тем бы тебе хватило на ближайшие три года. – Однако, как я погляжу, вы тоже не во всем разобрались, особенно в тех событиях, что происходят у нас, – жалостливо отозвался я, едва ворочая языком от усталости. – Чем больше мы силимся разобраться, тем запутаннее все становится. Но я знаю одно: вы движимы желанием доискаться, почему Наихристианнейший король поступил так с вашим другом Фуке два десятка лет назад. Что до моих жемчужин – пиши пропало. – Ныне все копаются в тайнах прошлого, ибо тайны настоящего слишком страшны, – суровым тоном прервал меня Атто. – Но мы с тобой их разгадаем. Я тебе обещаю. «Как же, обещать-то легко», – подумал я про себя и попытался вкратце изложить аббату, что мы узнали за шесть дней вынужденного сотрудничества. Несколькими неделями ранее бывший суперинтендант финансов Фуке объявился на нашем постоялом дворе в сопровождении двух господ. Один из них – Помпео Дульчибени – был знаком с подземными галереями и пользовался ими, чтобы навещать Тиракорду, врача понтифика и своего земляка. Дульчибени имел от рабыни-турчанки дочь, которую похитил некий Хьюгенс, не без помощи Ферони, еще в те времена, когда Дульчибени состоял на службе семьи понтифика. Другой – Робер Девизе, гитарист – был как-то связан с королевой Франции Марией-Терезией, а также был учеником Франческе Корбетты – загадочной личности, записавшей и передавшей Марии-Терезии перед смертью рондо, которое то и дело звучало ныне в «Оруженосце». Рондо это было посвящено Мадемуазели, кузине короля и супруге графа Лозена, который десять лет провел в темнице крепости Пинероло бок о бок с Фуке, до тех пор, пока тот не умер… – Ты имел в виду «пока тот не сбежал», – поправил меня Атто, – он ведь умер здесь, в «Оруженосце». – Ну да. А еще… – А еще у нас тут есть иезуит, беглый венецианец, девица легкого поведения, хозяин – большой любитель заглядывать рюмочку, неаполитанец-астролог, английский беженец и врач-сиенец, по подобию всех его собратьев гроза для беззащитных людей. – И еще два собирателя реликвий. – Ах да, эти шельмы. Да еще мы с тобой, ломающие себе голову, в то время как кто-то подцепил чуму, а по подземным ходам разбросаны залитые кровью страницы из Священного Писания, горшки с кровью, крысы, которых рвет кровью… Что-то многовато крови. – Что все это может значить, господин Атто? – Ну и вопросик. Сколько тебе повторять: не забывай басню о воронах и орле. И следуй примеру орла. Мы поднялись в чулан «Оруженосца» и разошлись по своим комнатам, условившись встретиться в следующую ночь.День седьмой 17 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Несмотря на все эти необычайные события, сотрясавшие мои дни и ночи, мне случалось задумываться об одном завете, оставленном мне той старушкой, которая любовно выпестовала меня. Своим напевным голосом, которым принято разговаривать с детьми, она наказывала мне никогда не оставлять книгу недочитанной. Следуя этому мудрому наставлению, я принял решение завершить на следующее утро чтение астрологического прогноза на этот год, изъятого у Стилоне Приазо. Моя дотошная воспитательница была права: лучше уж вовсе не браться за книгу, чем не дочитать ее, сохранив о ней неверное суждение. Как знать, не помогут ли мне страницы, которых я еще не читал, подойти с правильной меркой к тем темным силам, что вселили в меня такой страх. К тому же в то утро я был не так вымотан, как во все предыдущие дни при пробуждении: после всей этой свистопляски с преследованием и бегством по галерее С, приведшей нас к реке, а особенно после разительных открытий относительно Девизе и его таинственного рондо, к которым мы с аббатом пришли на обратном пути, мне все же удалось выспаться. Мой мозг отказывался заново осмысливать все, что ему пришлось вместить. Самое время было обратиться к книжонке, которую Угонио и Джакконио отобрали у Стилоне и которая теперь была спрятана у меня под тюфяком. События прошедших месяцев вроде бы были предсказаны точно. Теперь посмотрим, что уготовано нам будущим. Итак, я раскрыл книжку на третьей неделе сентября. Предсказания на эту неделю связаны прежде всего с Меркурием, принимающим два светила в своих домах, который, пребывая в третьем доме, соседствующем с Солнцем, сулит высшей знати путешествия, получение объемистых посланий и различные королевские посольства. Юпитер с Венерой, объединившись, пытаются с помощью огненного треугольника сплотить союз доблестных деятелей для ведения переговоров по созданию лиги либо в целях заключения мира чрезвычайной важности. Мое внимание тут же привлекли «путешествия высшей знати» и «объемистые послания», а также «королевские посольства». У меня не было и тени сомнения: речь шла о депешах с объявлением исхода битвы под Веной, каковая в данный момент находилась в стадии кульминации. Вскоре по Европе помчатся отряды конных вестовых, возможно, под предводительством самих суверенов и принцев крови, принявших участие в битве, разнося по городам и весям известие об ее исходе: в три дня достигнут Варшавы, в пять – Венеции, в восемь или девять – Рима и Парижа, еще больше уйдет у них, чтобы добраться до Лондона и Мадрида. И снова автор книжки был прав: он предвидел не только большую сечу, но и бешеное распространение вестей тотчас по окончании схватки. А «союз доблестных деятелей для ведения переговоров… в целях заключения мира чрезвычайной важности» – не о мирном ли договоре между победителями и побежденными шла речь? Я прочел предсказание и на четвертую, последнюю неделю сентября: Скверные известия о больных могут поступить в эту четвертую неделю месяца, когда шестым домом правит Солнце, передавая заботу о нем Сатурну, отчего расцветут четырехдневные лихорадки, флюсы, водянка, вспучивания, ломота в костях, подагра и мочекаменная болезнь. Однако восьмой дом управляется Юпитером, который вернет вскоре здоровье многим пациентам. И снова под удар попадет здоровье: лихорадки, излишек жидкости в желудке, затруднения с циркуляцией влаги, ломота в костях, внутренние боли. Все это весьма серьезно, но преодолимо. Худшее впереди: На этой неделе нешуточные предупреждения посылает нам Марс, хозяин Асцендента, который, пребывая в восьмом доме, способен сеять смерть среди людей с помощью ядов, железа и огня, то есть огнестрельного оружия. Сатурн в шестом доме, хозяйничает в двенадцатом, обещает смерть благородным лицам, находящимся взаперти. От последних слов у меня пересохло во рту, перехватило дыхание. Я отбросил книжонку и, сжав кулаки, обратился к Небу с мольбой. Никакое другое печатное слово не окажет такого влияния на мое дальнейшее существование, как эти несколько загадочных строк. Знать, намечались «нешуточные» дела, такие как «смерть среди людей с помощью ядов, железа и огня, то есть огнестрельного оружия». И грозило все это «благородным лицам». Кое-кто из наших постояльцев принадлежал к благородному сословию, и все мы находились «взаперти»! Если мне еще и требовалось доказательство того, что эта книжонка (порождение дьявола!) предсказывала правду, оно было предо мной: в ней говорилось о нас, узниках карантина, а также о смерти кое-кого из нас. Да ведь и Фуке скончался в результате насильственной смерти, от отравления. Я знал: доброму христианину не должно поддаваться отчаянию, даже посреди тягчайших невзгод. Но я бы погрешил против истины, если бы стал утверждать, что встретил весть о грядущих бедах с достоинством истинного мужа. Никогда еще, несмотря на то что на мою сиротскую долю выпало немало одиноких минут, не ощущал я себя таким покинутым на милость звезд, давным-давно, возможно, испокон веков предрешивших мою судьбу. Во власти безысходности я взял в руки старые четки, подаренные мне набожной моей наставницей, трепетно припал к ним губами и сунул в карман. Трижды прочтя «Отче наш», я вдруг понял, что в своем страхе перед лицом звезд засомневался в божественном предопределении, которое каждый добрый христианин должен рассматривать как единственное путеводное указание. Я вдруг испытал настоятельную потребность очиститься душой и укрепиться духом: настала пора исповедаться перед Богом. К счастью, в нашем заведении имелся тот, кто был мне нужен. – Входи, сын мой, ты правильно поступил, решив очистить душу в столь трудную минуту. Услышав о цели моего визита, отец Робледа с доброжелательностью впустил меня к себе. Исповедь помогла мне облегчить сердце и развязать язык, и я с воодушевлением приветствовал это таинство. Отпустив мне грехи, отец Робледа поинтересовался, как во мне зародились столь преступные сомнения. Обойдя молчанием астрологический прогноз, я напомнил ему о нашей недавней беседе, в которой речь шла о предсказаниях: мол, она не прошла для меня даром, заставив долго размышлять о судьбе и предназначении, о том, что звезды влияют на земные дела, тем самым предопределяя их. Мне известно, как относится к подобным мыслям и утверждениям церковь, но вот ведь и Кристофано считает: астрология идет на пользу врачебной практике, оттого-то, оказавшись среди двух огней, я и счел нужным обратиться к отцу Робледе за разъяснением. – Ты правильно поступил, мой мальчик, всегда надлежит обращаться к святой матери Церкви в минуты растерянности, коих может быть немало на жизненном пути. Учитывая, сколько всяких путешественников перебывало на вашем постоялом дворе, могу себе представить, чего ты наслушался от магов, астрологов и некромантов всех мастей, ловко обрабатывающих простодушные сердца. Нужно научиться пропускать мимо ушей всю эту пустопорожнюю болтовню. Существует две астрологии: ложная и подлинная. Первая пытается на основе даты рождения человека строить предвидение относительно его будущих деяний. Это ложное и еретическое учение, как тебе известно, запрещенное с незапамятных времен. Подлинная астрология изучает влияние звезд на природу в целях познания, а не предвидения. Тот факт, что светила влияют на земные дела, неоспорим. Сперва обратили внимание на связь приливов и отливов с луной, – продолжал рассказывать Робледа, счастливый возможностью блеснуть своими знаниями, – затем на связь металлов, залегающих в толще земли и потому недосягаемых для света и тепла, со звездами. Да и многое другое ad abundantiam [1184] невозможно объяснить иначе, как вмешательством небесных тел. Даже такое скромное растение, как сердечная мята, согласно «De Divinatione» Цицерона, расцветает лишь в день зимнего солнцестояния, самого короткого в году. Метеорология также доказывает власть небесных светил над явлениями, происходящими на земле: восходы и закаты семи звезд, расположенных в созвездии Тельца, названном греками Хиады[1185], отмечены ливнями. О животных и говорить не приходится: всем известно – на восходе и на закате луны улитки, крабы и прочие гады теряют жизненную силу. Верно также и утверждение Кристофано: Гиппократ и прочие знаменитые врачеватели знали, что в течении болезни во время солнцестояния и равноденствия наблюдаются драматические периоды. Это подтверждено как святым Фомой, так и Аристотелем в «Метеорологиях», и многими другими философами и мыслителями, среди которых Доменико Сото, Йавелла, Доменико Банес, Капреоло. Немало можно узнать, почерпнуть, читая мудрейший труд Джованни Баггисты Грассетти, вышедший несколько месяцев назад под названием «Астрология подлинная и ложная». – Но если, как вы говорите, подлинная астрология не противоречит христианскому вероучению, должна быть и христианская астрология? – Так оно и есть, – отвечал Робледа, гордый своей ученостью. – Жаль, что у меня нет под рукой книги «Дополненный Христианский Зодиак, или двенадцать знаков Божественного Предопределения», выдержанной в нужном ключе, начисто лишенной еретических воззрений. Она написана моим собратом Иеремией Дрекселем и опубликована в этом городе около сорока лет назад. В ней дюжина знаков Зодиака были наконец заменены таким же количеством символов традиционно христианских: факел, череп, золотая дароносица Евхаристии, пустой алтарь, розовый куст, фиговое дерево, лист табака, кипарис, два древка, объединенных короной из оливковых ветвей, коромысло, якорь и цитра. – Таковы знаки христианского Зодиака? – прикинулся я удивленным. – Нет. Каждый из них – символ вечных ценностей веры. Факел – это внутренний свет бессмертной души, написано ведь: Lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen semitis meis [1186]; череп – символ размышлений о смерти; золотая дароносица указует на частоту исповеди и причащения; алтарь… Смотри, у тебя что-то выпало. Доставая из кармана четки, я обронил листья, найденные Угонио и Джакконио. – Ах, да это так, – попытался я соврать. – Это… необычная пряность, мне ее предложили на рынке с площади Навоны несколько недель назад. – Покажи-ка! – Робледа выхватил у меня один из листьев и стал вертеть его в руках. – Прелюбопытно, – проговорил он наконец. – Как только он здесь оказался, непонятно. – А что в нем удивительного? – Это растение не произрастает в Европе. Оно издалека, из Индии или Перу. – А как оно называется? – Мамакока. Отец Робледа поведал мне захватывающую историю мамакоки, необычного растения, которое приобретет в нашей жизни большое значение в последующие дни. Как только была завоевана Вест-Индия и дикари – последователи лжерелигий и любители богохульств подавлены, иезуиты-миссионеры взялись за святое дело евангелизации, обращения в истинное вероучение. Одновременно шло изучение бесчисленных разновидностей растений Нового Света. Оказалось, что там просто гибель новых видов. Если в старейшей «Медицинской науке» Диоскорида упоминается всего триста растений, то доктор Франсиско Эрнандес описал в семнадцати томах своей «Historia natural de las Indias» [1187] три тысячи видов. Тем не менее замечательные открытия таили в себе каверзы. Колонизаторы были неспособны распознать растения, обладающие наркотическими и ядовитыми свойствами, как и выявить целителей-колдунов из числа коренных жителей. Деревни прямо-таки кишели колдунами, способными, по их признаниям, вызывать духов умерших либо по корням и травам разгадывать будущее. – Гляди-ка, прямо как астрологи! – воскликнул я, не теряя надежды понять связь листьев с событиями в «Оруженосце». – Астрология здесь ни при чем, – заверил меня Робледа, обманув мои ожидания. – Я говорю о вещах более важных. Послушать колдунов, так выходило, что каждое растение могло иметь двоякое назначение: для лечения и для того, чтобы узреть дьявола. Растений, используемых для второго, было в Вест-Индии в изобилии. Коренные жители окрестили donanacal (вроде отец Робледа именно так произнес это экзотическое название) «чудесным грибом», вводящим в сношение с Сатаной. То же касалось и семян olluchi и еще одного гриба – peyote. Для того же, чтобы услышать лжепредсказания из Ада, колдуны пользовались растением pate. Инквизиция взялась сжигать поля, на которых выращивались все эти растения и грибы, а время от времени еще и какого-нибудь колдуна в придачу. Но полей было немеряно, а колдунов и того больше. – Дошло до того, что стали опасаться за целостность христианского вероучения! – страшным голосом прошептал Робледа и помахал у меня перед носом листочком мамакоки, словно предостерегая от Лукавого. – Из-за этих проклятых растений обращенные в новую религию, крещеные дикари святотатствовали, профанировали святые имена отцов церкви. Послушать иного, так святой Варфоломей для того только и отправился в Америку, чтобы открыть для нас эти растения, обладающие чудодейственной силой, а святой Фома – в Бразилию ради деревьев, чьи листья содержат смертельный яд, тогда как он превратил их в прекрасное лекарство. Обращенные в нашу веру туземцы принимали наркотики, а это запрещено Церковью. Словом, отсюда пошли новые ереси, опасные, непривычные для европейцев. Дошло даже до проповеди новых евангелий. – Голос Робледы пресекся. Он с отвращением отдал мне лист, словно тот был заразным. – Эти святотатственные евангелия утверждали, что Христос, повзрослев, был вынужден бежать, ибо дьяволы насели на него, пытаясь забрать его душу. Свят, свят, свят. – Робледа осенил себя крестным знамением. – И якобы на найдя сына дома, Мария взобралась на осла и отправилась на его поиски. Вскоре заблудилась и оказалась в лесу, где ощутила, что силы покидают ее. Иисус увидел это и пришел ей на помощь: благословил куст мамакоки, что рос неподалеку. Осла потянуло к кусту, он отказывался продолжать путь, и тогда Мария поняла, что куст этот благословлен для нее. Она пожевала листики, и жажда и голод отступили, усталость как рукой сняло. Она снова пустилась в путь и добралась до деревни, где ей предложили поесть. Она отвечала, что не голодна, и показала ветку мамакоки: «Посадите ее, она пустит корни, вырастет куст». Женщины послушались, и четыре дня спустя вырос куст с плодами. Из них извлекли семена. И теперь еще выращивают эту культуру. – Но это же ужасно! Так осквернять имена Девы Марии и Христа, утверждать, что они питались растениями колдунов… – Ты прав, это ужасно, – согласился Робледа, отирая пот с лица. – Но и это не все. Запретных растений там была тьма тьмущая, так что колонизаторам (и в том числе иезуитам, – со смирением добавил Робледа) они уже стали застить свет. Да и как было безошибочно распознать все эти oliuchi, donanacal, peyote, cocoba, pate, cola, iopo, mate, guarana, mamacoca? – Неужто мамакока употреблялась и во время молитвы? – Нет, – слегка смешавшись, отвечал он. – Она служила в иных целях. Листья этого безобидного на вид растения обладали поразительной силой прогонять усталость, избавлять от голода, веселить и вселять силу. Кроме того, как убедились иезуиты, мамакока унимала боль, благотворно действовала на кости, согревала и излечивала застарелые гноящиеся раны. И наконец, и это, возможно, главное, благодаря ей работники и рабы могли долгие часы трудиться, не уставая. У завоевателей возникла мысль: лучше использовать бич, вместо того чтобы искоренять его. Мамакока позволяла туземцам переносить большие нагрузки, а миссиям иезуитов в Вест-Индии постоянно требовались рабочие руки. С этого растения был снят запрет. Труд местных работников оплачивался пистьями мамакоки, имевшими для них большую цену, чем монеты, серебро либо золото. Духовенству было разрешено взимать десятину с этой культуры, в основе многих священнических и епископских рент – прибыли с продажи этого растения. – Но разве это не одно из орудий Дьявола? – опешив, поинтересовался я. – Гм… в общем, – замялся Робледа, – обстановка была не из простых, требовалось выбрать: запретить или разрешить. В случае свободного хождения мамакоки появлялась возможность расширять миссионерскую деятельность, цивилизовывать другие народы и в конечном итоге все больше и больше душ наставлять на путь истинный. Я потер листик и поднес к носу: ничего особенного. – А как это могло попасть в Рим? – Вероятнее всего, испанское судно доставило груз в Португалию, затем его переправили в Геную или Фландрию. Это все, что мне известно. Я узнал листья, поскольку один из моих собратьев показывал мне их, кроме того, я видел их изображения в посланиях миссионеров. Тот, кто тебе его дал, знает больше меня. Я уже собрался попрощаться, как у меня возник еще один вопрос. – Последний вопрос, святой отец. Как употребляется мамакока? – Но, мой мальчик, надеюсь, ты не собираешься этого делать! – Нет, святой отец, мне просто любопытно. – Дикари ее пережевывают, смочив слюной и посыпав пеплом. Но возможно и как-то иначе. По пути на кухню я заглянул к аббату Мелани, чтобы рассказать ему о том, что узнал от Робледы. – Очень интересно, – задумчиво протянул он. – Даже если пока и неясно, куда это может нас завести. Надо подумать. На кухне я застал Кристофано мятущимся по своему обыкновению между погребом и печами и готовящим разнообразные снадобья против чумы. Надо сказать, в последние дни его кипучая фармацевтическая деятельность шла по нарастающей: пытаясь спасти Бедфорда, он пустил в ход все. Я даже присутствовал при разграблении им закромов моего хозяина под предлогом того, что нечего добру понапрасну гнить. Утверждая, что скрывать вонь разлагающихся тушек дичи так, как это делает Пеллегрино, – значит наносить здоровью непоправимый вред, он завладел серыми куропатками, сизыми голубями, болотными куликами, кавказскими рябчиками и перепелами с одной-единственной целью – нафаршировать их вишнями из Дамаска и черными вишнями, поместить в мешок из белой холстины, положить оный под пресс, отжать и получить сироп, якобы необходимый для поправления здоровья горемычного Бедфорда. До этих пор все его попытки изготовить по-настоящему действенный remedium потерпели крах. А молодой организм Бедфорда устоял. Кристофано известил меня, что прочие постояльцы пребывают в добром здравии, за исключением Доменико Стилоне Приазо и Помпео Дульчибени: у одного на губе выскочила лихорадка, а другого поразил почечуй, не иначе как из-за вымени. И от того, и от другого показано одно средство – едкий натр. – Подавляет гнойники и язвы, подходит для лечения лишая и почечуя, – заявил он и повелел: – Recipe [1188] крепкого уксуса. Смешав уксус с кристалликами мышьяка, солями аммониака и хлорной ртутью, он растер все и довел до кипения. – Прекрасно. Теперь дождемся, когда испарится половина уксуса. Затем я поднимусь к Стилоне Приазо и попробую вывести этим его прыщи. А ты тем временем займись приготовлением обеда: я уже отобрал в погребе индюшек, которые сейчас как нельзя лучше подходят для питания наших пансионеров. Отвари их с корнями и подай к ним похлебку из тертой хлебной корки. Я засучил рукава. Кристофано с натром отправился к Стилоне, а перед уходом наказал мне: – Ты мне понадобишься, когда я пойду лечить Дульчибени. При раздаче пищи я тебе помогу, так ты не ухлопаешь уйму времени, а то, я смотрю, всех так и тянет заговорить тебя, – многозначительно закончил он. После обеда мы отправились кормить Бедфорда, а затем надолго застряли у Пеллегрино. Ему что-то совсем не пришлось по вкусу специально приготовленное для него лекарем кушанье, обладающее очистительными свойствами, – нечто вроде серой тюри. Вообще же я с удовольствием отметил, что он пошел на поправку. А уж как я чаял узреть его здоровым, и сказать не могу. Он понюхал тюрю, а потом огляделся, сложил пальцы в кулак, выставив большой палец и стал ритмично указывать им себе на рот. Так он обычно давал знать о жажде и желании промочить глотку. Только я открыл рот, чтобы призвать его к благоразумию, как Кристофано жестом остановил меня. – Ты же видишь, он приходит в себя, ум пробуждается от спячки. Можно позволить ему полчарочки красного. – Но он уже столько выпил, никак себя не ограничивая, пока не заболел! – Золотые слова. Вино следует потреблять с умеренностью: оно питательно, способствует пищеварению, придает силы, успокаивает, смягчает нрав, веселит, проясняет мысли, освежает мозги. Сбегай-ка за вином в погреб, – с ноткой нетерпения закончил Кристофано. – Одна чарочка пойдет ему только на пользу. Когда я уже направлялся к лестнице, за моей спиной раздалось: – Да смотри, чтоб было прохладное! В Мессине употребление снега для охлаждения вина и пищи свело на нет лихорадку, вызванную засорением вен. С тех пор с каждый годом умирает на тысячу человек меньше! Я заверил его: мол чего-чего, а уж прессованного снега у нас хоть отбавляй, его нам поставляют так же исправно, как хлебные караваи и бурдюки с водой. Одна нога здесь, другая там, и вот я уже вернулся с графинчиком доброго красного вина и чаркой. Кристофано объяснил мне тут, что беда Пеллегрино – в неумеренном потреблении вина, которое делает человека бешеным, дурным, блудливым, болтливым и склонным к убийству. Умеренными потребителями вина были Август и Цезарь, неумеренными – Клавдий Тиберий Нерон и Александр, порой на два дня засыпавший после попойки. С этими словами Кристофано выхватил у меня чарку, которую я успел наполнить, и осушил ее больше чем наполовину. – Недурное винцо, скорее укрепляющее, приятное на вкус, – проговорил он, разглядывая остававшуюся на донышке жидкость рубинового цвета. Как я тебе говорил, добрая доза вина превращает природные пороки в их противоположность, отчего нечестивец становится набожным, скряга – мотом, гордец – скромником, гуляка – усидчивым, робкий – смельчаком, молчун и ленивец – хитрецом, гораздым на проделки и болтуном. – • Он допил чарку, снова наполнил ее и залпом опрокинул. – Но горе, если станешь пить после тяжких физических нагрузок или коитуса, – предуведомил он меня, вытирая губы тыльной стороной одной руки, а другой опять наливая себе. – Хорошо пьется после горького миндаля, айвы, миртовых семян или чего иного вяжущего. Наконец и Пеллегрино досталась пара глотков. От Пеллегрино мы прошли к Дульчибени, которого мое присутствие как будто слегка стесняло. Вскоре я понял почему: Кристофано попросил его обнажить срамные части тела. Пациент бросил в мою сторону недовольный взгляд и заворчал. Видя, что он стесняется, я отвернулся. Кристофано заверил его, что я не стану на него смотреть, а врача бояться – последнее дело, и попросил его встать на постели на четвереньки, оперевшись на локти, чтобы можно было подобраться к его геморрою. Дульчибени, хотя и нехотя, сделал, как его просили, но прежде схватился за свою табакерку. Мне Кристофано велел присесть лицом к лицу к престарелому господину и покрепче ухватить его за плечи, чтобы при накладывании лекарства пациент чего доброго не дернулся и жидкость не попала на его мошонку или уд, в противном случае его гениталиям грозил ожог. Заслыша эти указания, Дульчибени с трудом подавил дрожь и сделал запасец из табакерки. Кристофано приступил к лечению. Как и следовало ожидать, Дульчибени забился от боли, издавая короткие пронзительные вопли. Чтобы отвлечь его, доктор попытался завязать с ним беседу, для начала поинтересовавшись, откуда он родом, для чего прибыл из Неаполя в Рим и все в таком духе. Я бы поостерегся задавать ему подобные вопросы. Дульчибени (как и предполагал аббат Мелани) отвечал односложно, не желая поддерживать разговор. Я не услышал ничего, что могло бы пригодиться нам с аббатом. Тогда Кристофано завел речь о том, о чем в эти дни не говорил только мертвый, – об осаде Вены. Он спросил, как на это смотрят в Неаполе. – Понятия не имею, – лаконично ответил Дульчибени, чего, впрочем, и следовало ожидать. – Но ведь уже месяцы об этом судачит вся Европа! Кто, по-вашему выйдет победителем? Правоверные или нечестивцы? – И те и другие и ни те ни другие, – раздраженно пробурчал пациент. Мне вдруг пришло в голову: а станет ли Дульчибени разговаривать сам с собой на эту неприятную для него тему, когда мы закончим процедуру и откланяемся. – Что вы хотите этим сказать? – не отставал от него Кристофано, продолжая прижигать болячки, отчего Дульчибени издавал теперь уже хриплые вскрики. – На войне, если ей не кладется предел договором, всегда есть победитель и побежденный. Тут Дульчибени дернулся, и мне пришлось схватить его за шиворот, чтобы удержать. Не знаю, было ли это вызвано болью или чем другим, однако на сей раз он соизволил снизойти до разговора с существом из плоти и крови, а не с собственным изображением в зеркале. – Да что вы об этом знаете! Только и толкуют о христианах и османах, католиках и протестантах, верных и неверных, как будто они и вправду существуют среди верующих: здесь римские католики, там галликанцы и так далее. Но алчность и жажда власти не нуждаются в иной вере, они сами себе вера. – Да как же это! Утверждать, что христиане и турки – одно и то же… слышал бы вас отец Робледа. Но Дульчибени его уже не слушал. Он продолжал судорожно втягивать ноздрями содержимое табакерки, а в голосе его время от времени прорывалась такая лютая ненависть, что было ясно, какую нестерпимую больпричиняет ему метод лечения, избранный Кристофано. Я держал его крепче некуда, а сам отводил глаза в сторону, что было не так-то просто в той позе, в какой находился я сам. И вдруг нашего пациента прорвало: в нем вскипел такой гнев против Бурбонов, Габсбургов, Стюартов и Оранского дома вместе взятых, что никому не показалось бы мало. А поскольку Кристофано как добрый тосканец принял сторону Бурбонов (состоявших в родстве с герцогом Тосканским, правителем и его родного города Сиены), Дульчибени с особенным неистовством обрушился на Францию. – Что сталось с прежним дворянством, которым так гордилась эта нация? Дворянчики, что толпятся ныне при дворе, – сплошь бастарды! Конде, Конти, Бофор, герцог Мэнский, герцог Вандомский, герцог Тулузский… Их именуют принцами крови. Но о какой именно крови идет речь? Давайте разберемся. Крови тех шлюх, с которыми спал король-Солнце или его дед Генрих Наваррский! А уж этот-то выступил с войском в Шартр с одной целью – заполучить Габриель д'Эстре[1189], которая, прежде нежели лечь с королем, потребовала назначения своего отца на должность губернатора города, а брата – архиепископом. Ей удалось задорого продать себя королю, даже после того, как она побывала в постелях Генриха III (это принесло старику д'Эстре шесть тысяч дукатов), банкира Замета, герцога де Гиза, герцога Лонгвильского и герцога Бельгардского. И все это, несмотря на двусмысленную репутацию ее бабки – любовницы Франциска I, папы Климента IV и Карла Валуа. Что же удивительного в том, – Дульчибени перешел на крик, – что крупные вассалы короля возымели охоту очистить королевство от этих мерзостей, разделавшись с Генрихом Наваррским. Но было уже слишком поздно! Слепая власть к этому времени всех их безжалостно обобрала и раздавила. – Сдается мне, вы несколько преувеличиваете, – отозвался Кристофано, на миг оторвав взгляд от заднего прохода пациента и с беспокойством переводя его на лицо. Я, со своей стороны, также считал, что Дульчибени излишне горячится. Даже с учетом того, какую боль причиняло ему прижигание, вопросы Кристофано, скорее носившие характер дежурных, не заслуживали такого накала страстей. Дрожь в членах свидетельствовала о необычайном нервном возбуждении господина в летах. Тот порошок, которым он то и дело потчевал свой нос, явно не успокаивал его. Мелькнула мысль: будет нелишним донести обо всем этом аббату Мелани. – Послушаешь вас, так ни в Версале, да и ни при одном другом дворе вообще нет ничего хорошего. – Версаль! И вы говорите о Версале, где что ни день попирается благородная кровь предков! Что сталось с рыцарством? Сбилось в кучу вокруг короля и его ростовщика Кольбера, все в одном-единственном дворце, и занято тем, что проматывает свое достояние на балы и охотничьи забавы, вместо того чтобы защищать поместья своих славных предков? – Но, введя такой порядок, Людовик XIV положил конец заговорам, – возразил Кристофано. – Его дед король умер от удара кинжалом, отец был отравлен, он сам ребенком испытал ужасы Фронды! Пусть уж все будут в одном месте, на виду. – Это-то верно. Но ведь он присвоил себе достояние французской знати. И не понял, что прежде распыленная по всей стране знать оставалась лучшей опорой власти на местах, хоть и представляла угрозу центру. – Что вы имеете в виду? – Монарх может держать королевство в узде, только если у него повсюду верные подданные. Людовик же поступил наоборот: объединил аристократию в одно целое. А у целого есть только одна шея, и если народу вздумается ее перерезать, достаточно будет малого. – Ну уж этому никогда не бывать! – вскипел тут и Кристофано. – Народ Парижа не станет обезглавливать дворян. А король… Дульчибени гнул свое, не обращая больше никакого внимания на возражения Кристофано и перейдя чуть ли не на крик: – История не пожалеет этих шакалов, нацепивших на себя корону, пьющих человеческую кровь и заедающих детьми, этих злодеев, посылающих своих рабов на бойню всякий раз, как кровосмесительная страстишка пробуждает в них дух разрушения. Он чеканил слова, яростно поджимая бледные дрожащие губы, так, словно был на трибуне, а не стоял на четвереньках, обнажив задницу, с носом, замаранным порошком, который он так усердно вбирал в себя ноздрями. Я невольно вздрагивал, Кристофано притих. Казалось, на наших глазах свершается излияние затуманенного или одурманенного рассудка. Стоило Кристофано закончить мучительную процедуру лечения, он, по-прежнему не говоря ни слова, заложил кусок тонкой ткани между ягодицами пациента, собрал инструменты и двинулся к выходу. Дульчибени со вздохом повалился на бок и застыл. Как только обличительная речь г-на из Марша была мною доведена до сведения моего наставника, тот убежденно сказал: – Отец Робледа был прав. Кто же тогда янсенист, если не он? – Отчего вы так в этом уверены? – По двум причинам. Первая: янсенисты на дух не переносят иезуитов. Речь Дульчибени против Общества Иисуса, которую ты передал мне в прошлый раз, как раз в этом ключе. Иезуиты – шпионы, предатели, поощряемые папами и все в таком духе – обычный набор нападок на орден Святого Игнатия. – Вы хотите сказать, что это не так? – Отчего же, напротив, это совершенно справедливо. Но только янсенисты не боятся открыто возвещать об этом. А наш сосед как раз не боится, к тому же поблизости лишь один иезуит – трус Робледа. – А кто они, эти янсенисты? – Церковь при своем основании была чиста, как ручей в истоке. Евангельские истины уже не столь очевидны, как прежде. Чтобы вернуться к первоосновам, нужно подвергнуться суровым испытаниям: покаянию, унижению, отречению. А пока предаться милостивой деснице Господа, отрекшись навек от мира и пожертвовав собой ради любви к Богу. – Отец Робледа сказал, что янсенисты предпочитают одиночество… – Это верно. Они склонны к аскезе, суровому образу жизни. Ты, конечно, заметил, как его передергивает всякий раз, как Клоридия к нему приближается, – усмехнулся аббат. – Само собой, янсенисты запредельно ненавидят иезуитов, которые позволяют себе свободу совести и поступков. В Неаполе находится один из крупных центров последователей Янсения. – Вот почему он обосновался в этом городе. – Быть может. Жаль, что янсенистов тут же обвинили в ереси за истолкование теологических вопросов, которых я не стану излагать тебе прямо сейчас. – Понятно. Дульчибени, возможно, из еретиков. – Это не самое главное. Обратимся ко второй причине. – Какой же? – Ненависть, питаемая ими по отношению к государям и правителям. Это чувство – как бы сказать? – не слишком янсенистское. Такое сосредоточение на королях, инцесте, королевских шлюхах, бастардах, на дворянах, утрачивающих сословное достоинство и мельчающих, – все это из области тем, подстрекающих к бунту, беспорядкам, стычкам с властями. – И что же? – Да ничего. Только подозрительно. Откуда эти убеждения и куда они могут завести? Мы много чего о нем знаем и в то же время почти ничего. – Может, с этим связаны и его слова о братьях, сестрах, ферме, о типах, подлежащих уничтожению. – Ты имеешь в виду его странные переговоры с Тиракордой? Сегодня ночью кое-что должно разъясниться.Седьмая ночь С 17 НА 18 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Дрожащий свет свечей проникал в щель из кабинета Тиракорды, пока Дульчибени усаживался и ставил на стол бутыль, наполненную зеленоватой жидкостью. Доктор достал чарки, так и не пригодившиеся в прошлую ночь, когда была разбита фляга, принесенная гостем. Мы с Атто привычно затаились во тьме соседней комнаты. Проникнуть в дом на этот раз было труднее, чем прежде: одна из девушек, бывших в услужении Тиракорды и его жены, долго прибиралась в кухне, и пришлось торчать в каретном сарае в ожидании, когда она уйдет к себе. Потом мы еще некоторое время прислушивались и вошли лишь после того, как в дверь постучался Дульчибени. Хозяин встретил его и препроводил в свой кабинет на втором этаже. Самого начала разговора мы не слышали, а когда стали подслушивать, снова столкнулись с чем-то совершенно непонятным. – Повторяю, – потягивая вино, довольно говорил Тиракорда. – Белое поле, черные семена, пятеро работников трудятся под руководством двоих других. Но это же так просто! – Ах, оставьте, – отнекивался Дульчибени. И тут вдруг Атто вздрогнул и стал безмолвно, жестами и всем своим видом показывать, какие мы с ним безмозглые дураки. – Что ж, так и быть, подскажу вам. Это письмо. – Письмо? – Ну да! Белое поле – бумага, семена – буквы, написанные на ней чернилами, пятеро работников – пятерня, а те двое, что руководят, – глаза. Неплохо, да? Ха-ха-ха! – зашелся в тягучем смехе Тиракорда. – Да, замечательно, – только и молвил Дульчибени. Тут уж и до меня дошло: они загадывали друг другу загадки. Значит, и те таинственные слова, которые мы слышали предыдущей ночью, также были из области этого безобидного времяпрепровождения. Я взглянул на Атто и прочел, что делается у него в душе: досада от того, что мы вновь попусту ломали себе головы. Однако, по всему видать, Дульчибени любил словесные игры гораздо меньше своего приятеля. Как и накануне, он попытался перевести разговор на другую тему. – Прекрасно, Джованни, – снова наполняя чарки, проговорил он. – Ну а теперь скажите, как он сегодня? – О, ничего нового. А вы сами-то хорошо спали? – Хорошо, хоть и мало, – важно отвечал Дульчибени. – Понимаю, понимаю, – закивал Тиракорда, опрокидывая чарочку и снова наливая себе. – Вы так возбуждены… Однако вы не все еще мне рассказали. Простите, что ворошу прошлое, но почему вы не обратились за помощью к Одескальки, когда дело касалось вашей дочери. – Я так и сделал. Я же вам говорил. Но они ответили, что это не в их силах. А потом… – Ах ну да, затем этот прискорбный случай, побои, падение… – Это не было падением, Джованни. Мне накостыляли по шее и сбросили с третьего этажа. Я чудом остался в живых, – начиная терять самообладание и терпение, отвечал Дульчибени. – Ну да, ну да, простите. Как же это я забыл. Ваши брыжи должны были мне напомнить… Сказывается усталость, – у Тиракорды стал заплетаться язык. – Не извиняйтесь, Джованни, лучше послушайте. Теперь ваша очередь. У меня для вас припасено целых три. Дульчибени достал из кармана книжку и принялся читать приятным и слегка усыпляющим голосом: О том, что исстари в себя вмешаю, Я по порядку, с А до Z, вам сообщаю. А детям знания дарю впрямую, Посредников-учителей минуя. Вопросы все решу всенепременно, Вопросы все решу всенепременно, Лишь голос зычный тает постепенно. Однако рано праздновать по мне вам тризну. Хоть и монаху я обязан своей жизнью, Люблю я общество, почет, вниманье – Которое – ей-ей! – залог запоминанья. Вслед за этим прозвучало еще три-четыре стихотворения, между которыми Дульчибени делал паузы, но так и не дождался ответа. – Ну что, Джованни? – спросил он наконец. Ответом ему было лишь ровное посапывание и недовольное бормотание. Тиракорда спал. И тогда произошло нечто неожиданное. Вместо того чтобы разбудить своего приятеля, позволившего себе лишку, Дульчибени сунул книжку в карман, на мысочках прокрался к чулану за спиной доктора, открыл его и стал там орудовать. Завладев керамическим горшком с дырочками для свободного доступа воздуха и с нарисованными на нем озерной гладью, водными растениями и какими-то непонятными существами, похожими на червяков, он поднес его к свету, приподнял крышку, осмотрел содержимое и поставил на место. После чего продолжил свои непонятные действия, словно ища что-то. – Джованни! – раздалось со стороны лестницы. Обладательница пронзительного, режущего слух голоса – грозная супружница Тиракорды, была уже на ближних подступах. Дульчибени на несколько секунд обратился в соляной столп. Тиракорда, напротив, ожил. И все же до того, как доктор окончательно пришел в себя, Дульчибени удалось-таки незаметно закрыть чулан. Однако позволить себе наблюдать, как повели себя приятели дальше, нам было недосуг, следовало позаботиться и о себе, если мы не желали вновь оказаться меж двух огней. Послышалось, как в кабинете задвигали стульями, столами, как зазвенели чарки. Видно, там поднялся нешуточный переполох, и Тиракорда пытался скрыть следы своего преступления. Мы с Атто с отчаянием уставились друг на друга, лихорадочно соображая, что предпринять на сей раз. – Джованни-и-и! – зазвучало уже совсем близко. И в то самое мгновение, когда мы легли на пол под стулья у стены, в третий раз прозвучал голос, напоминающий свист ветра в трубе в непогожий день. – Джованни! Греховодники, нечестивцы, заблудшие души! Торжественно, тяжелой поступью прошествовала Парадиза до двери кабинета мужа – ни дать ни взять древнеримская матрона. – Но, женушка, у нас в гостях друг Помпео… – Нишкни, презренный сын Сатаны! Тебе не обмануть моего носа. Насколько мы могли расслышать из нашего не очень удобного положения, г-жа Тиракорда взялась обыскивать кабинет, передвигая мебель, открывая створки, шаря в ларцах, переставляя безделушки, полная решимости найти непреложные доказательства. Приятели безуспешно пытались умилостивить ее, заверяя, что никому и в голову не пришло бы здесь пить ничего иного, кроме воды. – А ну дыхни! – вскричала она. Отказ любезного муженька подчиниться вызвал такую бурю, какой я отродясь не слыхал. Тут мы сочли за лучшее взять руки в ноги и спасаться, пока и нам не досталось. – О женщины, извечное проклятие! А мы – мы хуже них. Две или три минуты истекло с тех пор, как мы оставили дом Тиракорды, а мы уже обсуждали события, свидетелями которых стали. Атто кипел. – Так вот что такое все эти тайны, над которыми мы бились. Первая, помнишь «в тиши пропить» и «пришить типов»? Знаешь, что это такое? Анаграмма. – Анаграмма? – Ну да. В обеих фразах использованы одни и те же буквы. Вторая – это загадка на сообразительность. У отца семь дочерей, если у каждой по брату, сколько всего детей у отца? – Семью два четырнадцать. – А вот и нет. Восемь, брат одной из них – брат всем остальным. Сплошная чепуха. А та, что сегодня прочел Дульчибени «О том, что исстари в себя вмещаю…», – вообще проще простого: азбука. – А прочие? – спросил я, вновь пораженный догадливостью Атто. – На кой черт нам все это? Да я и не ясновидящий. Нас интересует совсем другое: зачем Дульчибени понадобилось подпоить Тиракорду и что он там разыскивал в чулане? Мы бы все наверняка узнали, не нагрянь эта оглашенная. Тут мне пришло в голову, что об этой особе на нашей улице мало что было известно. В свете того, что мы только что увидели и услышали, становилось ясно, почему она не отлучалась из дому. – Куда теперь? – спросил я, наблюдая, как заспешил Атто в сторону постоялого двора. – Есть лишь один способ во всем разобраться: обыскать комнату Помпео Дульчибени. Это было рискованно, ведь Дульчибени мог в любой момент вернуться. Но мы положились на свою быструю ходьбу, как и на то, что Дульчибени задержался у Тиракорды, да и передвигался гораздо медленнее нас. – Прошу прощения, господин Атто, но что вы рассчитываете обнаружить в его комнате? – несколько минут спустя поинтересовался я. – Положительно, твои вопросы порой настолько глупы! Мы пытаемся разгадать величайшую из тайн в истории Франции, а ты спрашиваешь, что мы будем искать! Откуда мне знать? Что-нибудь, имеющее отношение ко всей этой галиматье: Дульчибени – друг Тиракорды, Тиракорда – папский врач, папа – враг Людовика XIV, Девизе – ученик Корбетты, Корбетта – друг Марии-Терезии и Большой Мадемуазели, Людовик XIV – враг Фуке, Кирхер – друг Фуке, Фуке – друг Дульчибени, Фуке путешествует с Девизе, Фуке – друг аббата, твоего покорного слуги… ну что, достаточно? – Атто необходимо было излить душу, выговориться. – Кроме того, Дульчибени делил комнату с Фуке. Ты что, забыл? – И, не дав мне раскрыть рта, добавил: – Бедный Никола, все-то его не могут оставить в покое, даже после смерти. Ну что за судьба! – Что это значит? – Все двадцать лет, что Фуке провел в Пинероло, Людовик XIV заставлял непрестанно обыскивать его самого к его камеру. – И что же он искал? – поразился я. Мелани остановился и запел необычайно грустный романс маэстро Росси:День восьмой 13 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
На следующее утро я проснулся во власти беспокойства. Несмотря на нашу долгую ночную беседу с Атто и непродолжительный сон, я был чутко настроен и готов к активным действиям. По правде сказать, я не представлял себе, чем мог быть полезен: бесчисленные тайны, заполонившие «Оруженосец», не позволяли предпринять решительных шагов. Угрожающие либо недосягаемые фигуры Людовика XIV, Кольбера, Марии-Терезии и Кирхера ворвались в нашу жизнь. Мало того, что чума вряд ли собиралась оставить нас в покое, так еще и постояльцы вели себя непонятным или подозрительным образом. Словно и этого было мало, астрологическая книжка Стилоне Приазо сулила на ближайшие дни одни несчастья и смертельные исходы. Спускаясь в кухню, я услышал негромкий тоскливый напев:Восьмая ночь С 18 НА 19 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
– Проклятие! Закрыто! «Этого следовало ожидать», – мелькнуло у меня, покуда Атто пытался открыть люк, ведущий в каретный сарай Тира-корды. Чуть ранее, когда мы пробирались по подземной галерее в сопровождении едва слышно переговаривающихся Угонио и Джакконио, уже тогда эта новая ночная эскапада с целью проникновения в дом папского лекаря казалась мне обреченной на провал. Было ясно: Дульчибени догадался, что мы его выслеживаем. Вряд ли ему могло прийти в голову, что нам удалось зайти так далеко – вплоть до кабинета Тиракорды, но он явно не желал рисковать в то самое время, когда затевал что-то вместе со своим другом, а возможно, и помимо его воли. – Простите, господин аббат, – обратился я к Атто, который с раздражением избавлялся от грязи, приставшей к рукам, – но может, оно и к лучшему. Если этой ночью Дульчибени не заметит ничего подозрительного, пока будет коротать время за разгадыванием шарад, глядишь, завтра люк и оставят открытым? – А вот и нет, – сухо возразил Атто. – Он догадывается, что мы не теряем его из виду. Если он что-то задумал, то постарается поскорее осуществить свой план: сегодня или в крайнем случае завтра. – И что же? – А то, что нужно любой ценой проникнуть к Тиракорде, Даже если я ума не приложу, как за это взяться. Надо бы… – Гр-бр-мр-фр! – прервал его Джакконио. Угонио бросил на него гневный взгляд, словно для того, чтобы укорить. – Что ж, вот и доброволец, – с довольным видом отозвался Атто. Чуть позже наша группа распалась на две неравные части Атто, Угонио и я направились по галерее С по направлению к подземной реке. Джакконио предстояло подняться на поверхность через колодец, ведущий из этой галереи на площадь делла Ротонда, неподалеку от Пантеона. Оповещать нас, как он надеялся проникнуть в дом Тиракорды, он наотрез отказался. Мы в мельчайших подробностях описали ему жилище Тиракорды, он же терпеливо дождался конца нашего обстоятельного экскурса, чтобы заявить, что ему это без надобности. Мы даже вручили ему план дома, вычерченный на листке бумаги, с обозначением окон. Но он нашел ему более подходящее применение: стоило нам разойтись, как мы заслышали характерные натужные звуки, сопровождавшие некое действие, при котором листок бумаги как нельзя более кстати. План дома папского эскулапа хоть и просуществовал недолго, но явно пригодился. – Думаете, ему удастся проникнуть внутрь? – поинтересовался я мнением Мелани. – Не имею ни малейшего понятия. Мы дотошно описали ему внутреннее расположение помещений в доме, но, сдается мне, он и без нас знает, что да как. Я вот только не выношу этих их манер. Очень скоро мы добрались до подземной речки, где двумя ночами ранее упустили Дульчибени, улетучившегося непонятно куда. По пути нам то и дело попадались гниющие зловонные крысиные останки. На сей раз мы вышли в путь не с пустыми руками, а как следует подготовившись: по просьбе Атто наши подручные запаслись мотком прочной веревки, железными гвоздями, молотком и шестом, что должно было позволить нам справиться с опасной и неразумной затеей Атто: перебраться через реку. Приблизившись к реке, мы надолго застыли на берегу, задумчиво созерцая ее воды, казавшиеся более мрачными, недружелюбными и смрадными, чем накануне. На мгновение представив себе падение в этот грязный поток, я вздрогнул. Был неспокоен и Угонио. Я собрал в кулак все свое мужество и с мысленной мольбой обратился к Богу. Как вдруг Атто шагнул вперед и вперил взгляд в угол, образованный правой стеной нашей галереи с той, по которой пролегло ложе потока. Несколько мгновений он оставался неподвижен, а затем изогнулся и принялся шарить за этим углом. – Что вы делаете? – испуганно спросил я, видя, какое опасное положение приняло его тело, нависшее над водой. – Молчи, – шепнул он, жадно ощупывая стену в поисках чего-то. Боясь, как бы он не потерял равновесие, я был готов броситься к нему на помощь, но он уже откинулся назад, сжимая что-то в руке: это была веревка, которой рыбаки пользуются, чтобы привязывать свои барки к берегам Тибра. Атто стал тянуть ее и наматывать на руку, а когда почувствовал, что дальше не идет, указал нам на реку. В слабом свете нашего фонаря на волнах перед нами качался челн. – А я-то думал, ты тоже догадался, – чуть погодя, когда мы уже тихонько плыли по течению, сказал мне Атто. – Правду сказать, нет. А как вы-то догадались? – Что ж тут мудреного. У Дульчибени было две возможности улизнуть от нес: переплыть реку или поплыть по ней. Во втором случае ему потребовалась бы лодка, причаленная где-то поблизости. Но, когда мы сюда добрались, никакой лодки мы не увидели, да если б она и была, ее снесло бы течением. – Ежели б лодка была привязана, ее бы также снесло вправо от нас, поскольку протока течет слева направо, туда, где Тибр. – Правильно. Это означало, что веревка была закреплена каком-то месте по правую руку от точки пересечения двух галерей, то есть по течению. Потому я и искал ее справа. Она была привязана к железному крюку, по всему видать, очень древнему. Покуда я переваривал новое доказательство небывалой догадливости аббата Мелани, Угонио потихоньку правил с помощью имеющихся на лодке весел. Зрелище, представавшее нашим взорам в свете фонаря, было малоприятным для глаз и однообразно-унылым. Плеск воды о наше утлое суденышко отдавался в каменных сводах галереи. – Но вы же не были уверены, что Дульчибени воспользовался лодкой, раз сказали «если б была лодка…», – возразил я некоторое время спустя. – Чтобы докопаться до истины, порой достаточно предположить ее существование. – Что вы имеете в виду? – А то: перед лицом необъяснимых либо не подлежащих логическому истолкованию фактов следует представить себе непреложное условие их осуществления, даже если оно и кажется спервоначалу невероятным. То же и в государственных делах. – Мудрено. – Самая бессмысленная правда, которая при этом еще и самая мрачная, не оставляет никаких следов, мой мальчик. Помни об этом. – Означает ли это, что она никогда не будет раскрыта? – Отнюдь. Есть две возможности. Первая: ты знаешь что-то либо дошел до чего-то умом, но не обладаешь доказательствами. – И что тогда? – все еще никак не разумея мысль аббата, спросил я. – Тогда ты достраиваешь доказательства, которых у тебя нет, ради того, чтобы истина явилась на свет, – добродушно отвечал Атто. – Вы хотите сказать, что можно натолкнуться на ложные доказательства подлинных фактов? – вскричал я, разинув рот от удивления. – Однако что ж ты удивляешься? Никогда не следует впадать в общую ошибку, состоящую в том, чтобы считать неверным содержание того или иного измысленного документа или доказательства и думать, что верно обратное. Помни об этом, выучишься на газетчика: самые ужасные и непредставимые истины часто скрываются за подложными документами. – А если и таковых нет? – Тогда, – и это вторая возможность, – тебе не остается ничего, кроме как выдвинуть предположение, а затем проверить его, как я тебе и говорил вначале. – Значит, так нужно поступить, чтобы разгадать secretum pestis? – Еще не пришло время. Сперва разберемся с ролями каждого из участников комедии и поймем, что представляет собой сама эта комедия. И, кажется, мне вот-вот это удастся. Я затаил дыхание, горя нетерпением услышать продолжение. – Речь идет о заговоре против Наихристианнейшего короля, – торжественно объявил Атто. – А кто бы это мог его замышлять? – Очень просто: его супруга, королева. Видя, с каким недоверием воспринял я его заявление, Атто поспешил освежить мою память. Как мы уже установили, Людовик XIV заключил Фуке в тюрьму, дабы вырвать у него секрет чумы. Но в окружении Фуке было немало людей, как и суперинтендант, униженных либо разоренных государем. В первую очередь Лозен, используемый в Пинероло как подсадная утка, и Большая Мадемуазель, богатая кузина Его Величества, которой король запретил выходить замуж. Далее. Девизе, сопровождавший Фуке в «Оруженосец», был предан королеве Марии-Терезии, которая чего только не натерпелась от короля. – Однако этого всего недостаточно, чтобы считать их всех заводчиками интриги против короля! – возразил я. – Верно. Но пораскинь мозгами. Королю вынь да положь нужен был секрет чумы. Фуке отказывался его выдавать, заявляя, что не владеет им. Когда безумное послание Кирхера, найденное нами в подштанниках Дульчибени, попало в руки Кольбера, Фуке был вынужден согласиться, что кое-что знает, дабы спасти как свою жизнь, так и жизнь своих близких. В конце концов между ним и королем был заключен пакт: свобода в обмен на secretion pestis. До сих пор тебе все понятно? – Угу. – Пойдем дальше. Король победил. Как ты думаешь, рад ли этому Фуке, протомившийся два десятка лет в тюрьме, разоренный, больной? – Разумеется, нет. – Так что вполне по-человечески понятной выглядит мысль хоть слегка отыграться перед тем, как отправиться на тот свет так ведь? – Положим. – Вот и представь себе: кто-то очень могущественный вырывает у тебя тайну заражения чумой. Она нужна ему любой ценой, поскольку он мечтает стать еще могущественнее. Но ему невдомек, что ты владеешь также секретом противоядия чуме: secretum vitae. Если тебе самому это ни к чему, как ты поступишь? – Отдам кому-нибудь… ну, как водится, врагу моего врага. – Браво. Таковых, готовых отомстить королю-Солнце было немало в распоряжении Фуке. И первый среди них Лозен. – А почему Людовик не догадался о существовании противоядия? – Это лишь мое предположение. Как ты, конечно, помнишь, в письме Кирхера написано: secretum vitae arcanae obices celant, то есть секрет жизни таится за неведомыми преградами в отличие от секрета заражения чумой. На мой взгляд, Фуке был вынужден сознаться, что владеет secretum morbi, но секрет противоядия сохранил для себя и, воспользовавшись этой фразой, заявил, что Кирхер утаил второй секрет и от него. Суперинтенданту это не составило труда, ибо, зная короля, могу тебя заверить – Его Величество заинтересован в том, чтобы распространять чуму, а не лечить от нее. – Просто галиматья какая-то. – И все же в этом есть логика. Слушай дальше. Кому мог бы причинить вред король, владея секретом заражения чумой? – Вестимо кому: императору, – отвечал я, припомнив, что поведал мне Бреноцци. – Превосходно. Как и Испании, веками пребывавшей в состоянии войны с французами. Так? – Допустим, – осторожно согласился я, понимая, куда клонит Атто. – Империя в руках Габсбургов, как и Испания. К какому lому принадлежит королева Мария-Терезия? – К Габсбургам! – Ну вот мы и добрались до сути. Дабы выстроить все факты по порядку, приходится думать, что Мария-Терезия заполучила secretum vitae и пустила его в ход против короля. Не исключено, что Фуке доверил его Лозену, а тот, в свою очередь, – своей возлюбленной, Мадемуазель, а уж она – королеве. – Королева втихомолку действует против своего супруга-короля, – принялся я рассуждать вслух. – Неслыханно! – И снова ты ошибаешься, такое уже бывало. И аббат пустился рассказывать, как в 1637 году, за год до рождения Людовика XIV, тайные службы короля перехватили письмо испанского посланника в Брюсселе. Оно было адресовано королеве Анне Австрийской, сестре короля Испании Филиппа IV, супруге Людовика XIII. Словом, матери короля-Солнце. Из письма следовало, что Анна Австрийская поддерживает тайную переписку со своими родными. И это в самый разгар распри между Францией и Испанией. Король и кардинал Ришелье приказали учредить негласный надзор за королевой. Выяснилось, что она слишком часто наведывается в один из парижских монастырей: якобы чтобы молиться, а на самом деле чтобы обмениваться письмами с Мадридом и испанскими посланниками в Англии и Фландрии. Анна отрицала, что поставляла какие-либо сведения испанскому двору. Ришелье имел с ней приватное объяснение. Ей грозила тюрьма, предупредил ее кардинал, и простое признание уже не могло ее спасти. Людовик XIII был способен простить ее при условии, что она выдаст ему сведения, полученные в ходе тайной переписки с испанцами. Она и впрямь в своих посланиях не ограничивалась сетованиями на свое существование в Париже (где была очень несчастна, как позже и Мария-Терезия), оставляла врагам Франции важные сведения политического характера, возможно, думая, что так ей удастся ускорить развязку. Анна во всем созналась. В 1659 году во время переговоров по подготовке Пиренейского мира на Фазаньем острове Анна встретилась наконец со своим братом, королем Филиппом IV Испанским. Они не виделись в течение сорока пяти лет, с тех пор как юная шестнадцатилетняя принцесса навсегда покинула родину. Анна прильнула к брату и нежно обняла его. Но Филипп отстранился и прямо взглянул ей в глаза. «Простите ли вы меня за то, что я была такой хорошей француженкой?» – спросила она. «Мое уважение к вам неизменно», – отвечал он. С тех пор как Анна вынужденно перестала шпионить в пользу своего брата, он перестал ее любить. – Но могла ли она, будучи королевой Франции… – Знаю, знаю, – поспешно ответил Атто. – Я рассказал тебе об этом давнем деле с одной лишь мыслью – показать, как действуют Габсбурги, когда их представитель породнится с другой династией. Они остаются Габсбургами. – Заскакала речушка, – рек Угонио, начав проявлять признаки недовольства. После довольно-таки спокойного отрезка река вдруг стала более норовистой. Угонио пришлось приналечь на весла, чтобы удержать нашу лодчонку и не дать ей опрокинуться. Поскольку он греб против течения, одно из весел сломалось, задев за твердое ложе канала. Приближался опасный участок: протока делилась на два рукава, один из которых был вдвое шире другого. Шум нарастал, течение набирало скорость. – Направо или налево? – спросил я у торговца реликвиями. – Скрупулом меньше, скрупулом больше во имя скрупулезности, так чтобы принести больше пользы, чем вреда, не разумею и полагаюсь на нелегкую – куда выведет, – отвечал Угонио, в то время как Атто уже успел выбранить его наперед. – Держись более широкого русла, не лавируй, другой рукав может завести в тупик. Но несколькими ударами весла Угонио направил челн в узкий канал, где течение тут же замедлилось. – Отчего ж не послушал меня? – пристал к нему Атто. – Да этот каналишко посноснее, в смысле запаха, к тому, что побольше, я принюхался, слава Богу, да и то сказать, тщательным выполнением своего долга приумножаешь радость всей общины. Потирая веки, словно у него начался приступ сильной мигрени Атто отказался понимать смысл услышанного и погрузился в мрачное раздумье. Вскоре, однако, аббату представился случай излить свою ярость. Не прошло и нескольких минут, как свод галереи, по которой мы плыли, стал делаться все ниже. – Это побочное ответвление сточного канала, остолоп несчастный, черт бы тебя побрал с твоими куриными мозгами! – взорвался Мелани. – Дак ведь здесь воняет меньше, не в пример тому, как в том большом каналетто, – ничуть не смущаясь, ответил Угонио. – О чем это он? – встрял я в их содержательный разговор, все более пугаясь сужения. – Тут тебе нет вони, не гляди, что тесновато. Мы окончательно отказались перетолковывать словесные иероглифы Угонио, к тому же было уже не до того – свод галереи вынуждал нас прижаться друг к другу. Грести было неудобно, лодка двигалась туго, Атто взялся отталкиваться шестом от дна. Спертый воздух и неудобное положение, которое мы вынуждены были принять, способствовали тому, что стало сильнее ощущаться зловоние, исходящее от черных вод, становясь с каждой минутой все нестерпимее. На меня накатила волна невообразимого сожаления о прекрасной Клоридии, бранчливом Пеллегрино, о солнечных днях, о мягкой постели. Как вдруг послышался какой-то новый звук – словно вокруг нашего челна кто-то барахтался в воде. Я вгляделся. Ба! Да вокруг нас все кишело живыми существами неизвестной породы. – Крысомыши, – объявил Угонио. – Кошмар! – вырвалось у Атто. Еще ниже стал свод, и Угонио ничего не оставалось, как сушить весла. Мы продвигались вперед лишь благодаря усилиям Атто, который, перейдя на нос, продолжал отталкиваться шестом от дна. Стоячие воды, в которых мы оказались, были, как ни странно, лишены присущего им покоя – целая погибель тварей копошилась в воде и дико пищала. – Не знай я, что все еще нахожусь на этом свете, я бы сказал, что это Стикс, – заявил Атто, силы которого были на исходе. – Конечно, допуская, что я не ошибся в первом пункте, – добавил он. Вытянувшись на спине на дне челна и тесно прижавшись друг к другу, мы отдались на волю случая, как вдруг слуховые ощущения подсказали нам, что акустика окружающего нас пространства улучшилась, а это означало, что канал мало-помалу расширяется. И тут на наших глазах от свода отделился потрескивающий огненный круг, желтые и багровые языки которого, казалось, пытались добраться до нас и поглотить. В круге веером расположились три неподвижные фигуры. Закутанные в малиновые плащи, они молча взирали на нас своими леденящими душу, недобрыми и всеведущими очами через прорезы в островерхих длинных капюшонах. У одного в руке был череп. Завеяло чем-то неотвратимым. «Волхвы», – со спокойствием, обычно возникающим, когда ты бессилен что-либо изменить, подумал я. И тут нас, опешивших от изумления, тряхнуло, да так, что лодку развернуло и поставило поперек течения, отчего она носом и кормой уперлась в стены галереи, поместившись точно под огненным кругом. Один из трех волхвов (хотя, может, то были стражи у врат Ада?) медленно нагнул голову, разглядывая нас, и потряс факелом, чтобы получше осветить наши лица. Двое других о чем-то тихо переговаривались. – И все же я, видимо, допустил ошибку в первом пункте, – пробормотал Атто. Тут и второй волхв с большой белой свечой в руках последовал примеру собрата и склонился над нами. И в эту минуту Угонио испустил такой вопль и так дернулся, что, сам того не желая, угодил ногой мне в живот и заехал аббату кулаком по носу. От ужасa мы, до того забившиеся на самом дне лодки, стали брыкаться, отбиваться, лодка качнулась, вновь встала по течению и… Дальше произошло что-то, чего я не понял, лишь услышал глухой удар, вернее, удары по воде. Казалось, весь мир полетел в тартарары, все стало хлад и мрак, а по моему лицу забегали мерзкие существа, покрывая его чем-то липким. Я завопил, но голос мой пресекся, подобно полету Икара. Не скажу, сколько времени (секунды или часы?) длился этот кошмар. Знаю только одно: спас меня Угонио, с силой выхватив из воды и с размаху швырнув на жесткие доски, от чего у меня чуть не переломилась спина. Страх лишил меня памяти. Видимо, я свалился в воду, но не утонул, поскольку было неглубоко и я доставал ногами до дна, худо-бедно держась на воде наряду со всем остальным, что там плавало, покуда на помощь не подоспел Угонио. Спину ломило, холод пронял меня до костей, страх подирал по коже, я задыхался, казалось, глаза и те отказываются служить мне. – Можете благодарить аббата Мелани, – проговорил Атто. – Выпусти я фонарь при падении в воду, мы бы уже стали кормом для крыс. Наш фонарь стоически освещал небольшое пространство, предлагая нам самое неожиданное из зрелищ. Мы были в центре обширного подземного озера. Судя по эху, над нашими головами находился большой величественный грот. Повсюду была угрожающая чернота. Но сами мы были живы и невредимы, а посреди озера имелся островок. – Радея более о пользе и предосудительно относясь к вреду, будучи сам в большей степени отцом, чем отцеубийцей, я просто вовне себя от ужаса – породителя этой подлянки иначе как ненавистником рода человеческого и не назовешь. – Твоя правда. И впрямь чудовище какое-то. Впервые на моей памяти мнения Атто и Угонио совпали. Исследовать островок посреди озера, куда нелегкая, которую помянул Угонио (а скорее всего отсутствие в нас страха перед Всевышним), занесла нас, не составило труда. Клочок земли по размерам примерно равный тому, что занимает приходская церковь Санта-Мария-ин-Постерула, можно было обойти в считанные минуты. Атто с Угонио уже обсуждали то, что обнаружили в самом центре островка, я же пока только приходил в себя и осматривался. Промокший до нитки, дрожащий, я пытался согреться изнутри, и потому, чтобы подвигаться, недоверчиво ступил на илистую землю. Атто и Угонио с задумчивыми и гадливыми выражениями лиц что-то разглядывали и щупали. – Должен заметить, мой мальчик, по части обмороков тебе просто нет равных, – заметив мое приближение, произнес Атто. – Ты бледен. Они так тебя напугали. – Кто это были? Иисус милостивый, уж не… – Полно! То не стражи у врат Ада, а просто похоронная команда – из членов братства «Отходная молитва и Смерть». – Того, что погребает ничейные трупы? – Вот-вот. Именно представители этой похоронной компании забирали тело несчастного Фуке, помнишь? Я и забыл, что им полагаются балахоны, капюшоны, факелы, черепа и всякие другие атрибуты. Впечатляет, ничего не скажешь. – Угонио и того перепугали. – Я спросил у него почему, но он отказался отвечать. Видать, эта компания – из числа того немного на свете, что способно навести страх на наших старателей. А повстречались мы с ними оттого, что их путь пролег по подземной галерее, и они очутились в том месте, где открывается вид на канал, как раз тогда, когда там проплывали мы. Они нас услышали и нагнулись, чтобы разглядеть, кто там, страх же проделал с нами злую шутку. А знаешь, что было дальше? – Я… что-то запамятовал, – признался я. Атто вкратце поведал мне, как они с Угонио упали в воду, перевернув челн, которым меня накрыло. Тело мое погрузилось в воду, а голова оставалась на поверхности, словно внутри колокола, оттого крики были заглушены. Испуганные крысы, которыми кишел канал, стали карабкаться по мне, покрывая меня своими испражнениями. Я дотронулся до своего лица, убедился в правоте Атто и принялся оттирать его рукавом, при этом меня чуть не вытошнило. – Однако провидение было к нам благосклонно, и нам с Угонио удалось разогнать эту дрянь, – не прекращая деятельно исследовать остров, продолжал рассказ Атто. – Никакая не дрянь, а крысомышки, – с печалью в голосе поправил его Угонио, не сводя взгляда с чего-то, очень напоминающего клетку. – Крысы, мыши, согласен! Если коротко, мы вытащили лодку и тебя из треклятого канала и доплыли до этого озера. Хорошо еще, той троице в капюшонах не пришло в голову нас преследовать, – закончил аббат. – Держись, мой мальчик. Не одного тебя пронизывает холод. Взгляни на меня – я тоже весь вымок и покрылся грязью и нечистотами. Ну кто бы мог подумать, что я так изгваздаюсь в твоем чертовом «Оруженосце»… ну да ладно, следуй за мной. – Он махнул рукой в сторону необычного сооружения, устроенного посреди острова. Две большие белые каменные глыбы служили опорой для гнилых темных досок, образуя нечто вроде двух столов. На одном из них обнаружилось множество различных инструментов: щипцы, ножички с острыми концами, большие мясницкие резаки, ножницы, а также лезвия без рукояток всех сортов. Поднеся к ним фонарь, я увидел, что они все в запекшийся крови, как застарелой, так и свежей. От стола разило мертвечиной. Тут же были и две наполовину использованные свечи. Аббат Мелани зажег их. Второй стол был заставлен более загадочными предметами: керамический горшок с крышкой и отверстиями на изукрашенных стенках, показавшийся мне знакомым; склянка из прозрачного стекла, также уже где-то виденная мною; лохань из оранжевой глины с щербатыми краями с локоть в диаметре. Мое внимание привлекло стоявшее в этой лохани причудли-вое металлическое приспособление вроде крошечной гаротты, не выше ендовы: вертикальная штанга была закреплена на треноге и оканчивалась рычагами, которые по желанию можно было закрутить как угодно сильно с помощью винта. Казалось это приспособление предназначалось для того, чтобы удушать неких маленьких существ. Лохань была наполовину заполнена водой, так что гаротта была по самую макушку затоплена. На земле стояло нечто еще более необычное: железная клетка высотой с ребенка, которая, судя по ее тонким прутьям, предназначалась для содержания летающих насекомых или канареек. Я наклонился, чтобы разглядеть, что делается внутри: маленькое серое существо, насмерть перепуганное и готовое в любую минуту зарыться в ящичек, набитый соломой, смотрело на меня. Атто поднес к клетке фонарь, чтобы я мог различить то, что он сам и Угонио уже рассмотрели: мышку, единственного пленника этого острова. С отвращением изучили мы и то, что валялось вокруг клетки. Чего там только не было: и горшки, наполненные желтоватым прахом, чьими-то останками, испражнениями, желчью, слюной, грязью, и кувшины с животным (а может, и человеческим?) жиром, лоскутами кожи и многим другим. Были там также и реторты, и перегонные кубы, и стеклянные сосуды, и ведро с костями, вызвавшими особый интерес Угонио, и шматок гнилого мяса, и заплесневелые корки, и ореховая скорлупа, и керамический горшок с прядями волос, и еще один с заспиртованными змейками, и рыболовная сеть, и жаровня с мехами, и запасец дров к ней, и полусгнившие листья, и уголь, и камни, и наконец, пара покрытых застарелой грязью перчаток, гора тряпья, замаранного чем-то жирным, и другие подозрительные предметы. – Это логово некроманта, – в замешательстве произнес я. – Хуже, – отозвался Атто, – пристанище Дульчибени, твоего постояльца. – Но чем он здесь занимается? – искренне подивился я. – Трудно сказать. Но одно несомненно: производит над крысами и мышами некие опыты, которые весьма не по душе Угонио. Тот все еще разглядывал стол мясника, ничуть не обеспокоенный исходившим от него убийственным запахом. – Словит, придушит, прирежет… непонятно только, на кой ему это, – заявил он. – Вот спасибо, разъяснил, – съязвил Атто. – Ловит крыс рыболовной сетью, сажает их в клетку, затем совершает над ними ритуальное таинство и удушает с помощью гаротты. После расчленяет и как-то употребляет их, – с горькой улыбкой закончил он. – Видать, выполняет некие предписания янсенистов из Пор-Рояля. А экземпляр, томящийся в клетке, единственный, кто избежал подобной участи. – Сударь, а нет ли у вас ощущения, что кое-что мы с вами уже где-то видели? – с подступившей к горлу тошнотой от всей этой скверны спросил я и указал на склянку рядом с миниатюрной гароттой. Вместо ответа Атто вынул из кармана предмет, о существовании которого я начисто забыл: склянку с кровью, подобранную нами в галерее D, и стал сравнивать ее с той, что была перед нами. – Да их просто не отличить! – изумился я. Они и впрямь походили друг на друга и цветом, и формой. – А этот горшок с крышкой. Если не ошибаюсь… – продолжал я, – мы его видели… – В чулане у Тиракорды? – подсказал Атто. – Точно! – Э нет, брат. Ты о той вазе, вокруг которой суетился Дульчибени, пока его друг спал? Но этот больше, да и рисунок на нем другой. Правда, узор и дырочки почти такие же, согласен. Возможно, они изготовлены одним мастером. Горшок, обнаруженный нами на острове, тоже был с дырочками, которые предназначались для доступа воздуха внутрь, и также был расписан головастиками, плавающими между водорослей в пруду. Открыв крышку, я заглянул туда и даже сунул палец: грязная вода, в которой плавала какая-то белая шелуха. На дне песок. – Господин Атто, Кристофано сказал мне, что во время эпидемии чумы опасно дотрагиваться до крыс. – Знаю. Я тоже подумал об этом прошлой ночью, когда мы наткнулись на издыхающих крыс, харкающих кровью. Очевидно, наш Дульчибени не подвержен таким страхам. – А островок-то не из добрых, не из хороших, так себе, – протянул Угонио каким-то особенно серьезным тоном. – Да уж, хорошего мало. Задерживаться не стоит. Мог бы по крайней мере просветить нас, где мы, раз уж мы по твоей милости оказались здесь. – И то верно, если б ты выбрал другой рукав, тот, что пошире, мы бы здесь теперь не торчали, – подлил я масла в огонь. – Сам островок с ноготок, да алтарек на нем с теремок, а вам и невдомек, – выдал вдруг Угонио. – Ах вот как, сударь, – закатил глаза к небу Мелани, – новое дело, все слова у нас теперь уменьшительные, – и вдруг как заорет: – Кто-нибудь мне скажет, где находится этот островок с ноготок, будь он неладен! По всему гроту прокатилось эхо. Когда оно стихло, Угонио повлек меня за собой и показал заднюю часть каменной глыбы, служившей основанием для одного из столов, при этом довольно хмыкнул, видимо, в ответ на вызов Мелани. К нам присоединился и Атто. На камне был ясно различим горельеф, представляющий собой сценки с участием людей и животных. Мелани нетерпеливо ощупал его, словно для того чтобы найти подтверждение тому, что он видел. – Невероятно! Храм Митры[1199], – прошептал он. – Смотри, смотри. Здесь есть все, что описывается в учебниках: жертвоприношение быка, скорпион… Там, где мы находились, некогда возвышался подземный храм, в котором древние римляне поклонялись божеству, пришедшему в Рим с Востока и соперничавшему с Аполлоном, поскольку оба они символизируют Солнце. Скульптурная сценка на одной из двух каменных глыб не оставляла ни малейшего сомнения: бог был представлен в момент заклания быка, чьи яйца терзал скорпион. Так обычно изображали Митру. Поклонники его культа предпочитали возводить ему храмы под землей, видимо, это был один из них. – Мы нашли лишь два больших камня, которые Дульчибени приспособил под свою, так сказать, лабораторию, остальная часть храма наверняка поглощена водами озера. – Как это могло случиться? – Из-за всех этих подземных вод в земле происходят подвижки. Да ты сам тому свидетель – сколько тут помимо галерей всяких гротов, пещер, полых пространств, римских дворцов, послуживших основой для более поздних построек. Вода рек и клоак на ощупь прокладывает себе путь: один грот обрушивается, другой заполняется водой и т. д. Все меняется. Такова природа Urbs subterranea[1200]. Я тут же подумал о трещине в стене «Оруженосца», образовавшейся несколько дней тому назад после гула, донесшегося из земной утробы. Угонио вновь овладело беспокойство. Мы решили спустить челн на воду и попытаться вернуться. Предстояло еще встретиться с Джакконио и разузнать, удалось ли ему проникнуть в дом Тиракорды. К счастью, челн не был поврежден. Как-то пройдет наше возвращение по узкому каналу, приведшему нас к храму Митры, – одному Богу известно. Угонио все мрачнел, и когда мы уже отчалили, вдруг выпрыгнул из лодки и, подняв кучу брызг, вернулся на остров. – Угонио! – окликнул я его. – Спокойно, это не займет много времени, – проговорил Атто, уже догадавшись, в чем дело. Вскоре Угонио и впрямь вскочил в лодку, на лице его было написано умиротворение. Только я открыл рот, чтобы задать ему вопрос, как вдруг все сам понял. – Алтарек-то с теремок, да теремок не тюремок, – скаламбурил Угонио и хмыкнул с довольным видом. Он вызволил из неволи последнего узника острова – маленькую мышку. Возвращение по узкому душному каналу прошло хоть и менее драматично, но не менее утомительно. Продвижение вперед затруднялось навалившейся на нас усталостью, а также тем что приходилось плыть против течения, пусть и слабого. В лодке царило полное молчание. Атто с Угонио, стоя на корме, с помощью шестов отталкивались ото дна, я, сидя на носу, служил противовесом и держал фонарь. В какую-то минуту мне стало невмоготу и захотелось нарушить гнетущую тишину, в которой слышался лишь плеск воды. – Господин Атто, кстати по поводу того, на что способны подземные реки. Со мной случилось нечто странное. Астрологическая книжонка, которую мы похитили у Стилоне Приазо, предсказывала на сентябрь разные природные катаклизмы типа землетрясения. Так вот, несколькими днями ранее в «Оруженосце» раздался страшный грохот, будто разверзлись недра земли, после чего на лестнице обнаружилась трещина. Что это? Удачное пророчество? Либо автор прогноза знал, что явления подобного рода чаще всего случаются в сентябре? – Могу тебе сказать, что не верю в подобные глупости, – заявил аббат с презрительным смешком, – не то я б уже давно разузнал у астролога все о себе самом. Я положительно не верю, что тот факт, что я родился 31 марта… – Ариес[1201], – буркнул тут Угонио. Мы с Атто ошалело переглянулись. – Ах да, я и забыл, что ты… ну в общем, дока в этих делах, – сдерживая смех, проговорил Атто. Но Угонио и не думал смущаться. – Согласно великому астрологу Аркандаму, – невозмутимым голосом заговорил он, – рожденный под знаком Ариеса отличается пылким темпераментом, крепок духом, на протяжении всей своей жизни одолеваем гневом. Рыжеволос либо светловолос, с меткой на левой ноге или на кисти, с телом, покрытым густой растительностью, бородат, белозуб, светлоок, челюсть правильного строения, нос красивой формы, большие веки. – Отличается немалой любознательностью и желанием побольше разузнать о других, выведать их секреты. Смел умом, прилежен, воспитан, подвижен и силен физически. Общителен, окружен друзьями, добронравен. Более подвержен болезням головы, нежели иным. Красноречив, одинок по жизни, расточителен. Способен на мошенничества, часто попадает в засады и опасные переделки. Его действия в военных обстоятельствах и на переговорах увенчаются успехом. Смолоду весьма сварлив, раздражителен и стыдлив. Впадает в ярость, но не показывает этого. Лжив, держит любезные и приторно-вежливые речи, за которыми таится нечто совсем иное, говорит одно, а делает другое, суля горы златые и не держа своих посулов. Часть отпущенного ему срока будет повелевать. Корыстолюбив, покупает и продает в целях наживы. Легко впадает в гнев, завистлив, другие станут ему завидовать больше, чем он им, отчего обзаведется врагами и злокозненным окружением. Что до несчастий, то претерпит клеветнические нападки, так что его ждут и лишения, и потеря собственности. Достояние его переменчиво, будут внезапные потери и столь же неожиданные возвраты утраченного. Большой любитель путешествий, покинет родину и близких людей. В сорок шесть лет станет богат и достигнет почестей. Доведет до завершения то, что наметит, услуги его будут приятного свойства. Не женится на той, что будет ему предназначена, но на другой, от которой пойдет его потомство. Будет общаться со священниками. Если родится днем – станет состоятельным и уважаемым государями. Проживет восемьдесят семь лет и три месяца. Вместо того чтобы посмеяться, мы с Атто, затаив дыхание, слушали, а аббат, так тот даже перестал орудовать своим шестом, и Угонио пришлось одному продвигать лодку вперед. – Так, так, – раздумчиво произнес Атто. – Богат – это верно. Ловок в ведении переговоров – тоже. Светловолос – да, Правда, лишь до тех пор, пока не поседел. Путешественник, любитель разгадывать слова и поступки других – что правда, то правда. Густая борода, светлые глаза, белые зубы, недурная челюсть, нос ничего себе – все так. Красноречив, прилежен, воспитан, подвижен и силен: слава Богу, все это при мне, да не сочтут меня бахвалом. Что еще? Ах да, уважение государей, посещение прелатов и головные боли. Не знаю, где Угонио почерпнул всю эту премудрость относительно Овна, но, должен сказать, она небезосновательна. Я воздержался от того, чтобы вызнавать у Атто, а как насчет жадности, гнева, мошенничества, зависти, лживости, как не стал выяснять и у Угонио, отчего он не включил в перечень многих недостатков рожденных под знаком Ариеса тщеславие. Поостерегся и упоминания о предсказанной женитьбе и потомстве, да аббат и сам предпочел пропустить это мимо ушей. Зато не преминул поздравить знатока стольких дисциплин, вспомнив о блестящем excursus, который он сделал нам несколькими ночами ранее: – Да ты прямо-таки поднаторел в астрологии. – Почитывал, послушивал, поговаривал. – Знаешь, мой мальчик, – вмешался аббат Мелани, – любой дом, любая стена, любой камень этого святого города отмечены волшебством, предрассудками и тайным знанием. Наши два дурня начитались астрологических книжек, которых здесь полно, хотя и продаются они из-под полы. Скандал – не более чем театральная постановка для дурачков: не забывай об истории аббата Моранди… Именно в эту минуту шум водного потока отвлек нас от беседы: мы достигли места слияния с главным каналом. Воды, в которые мы входили, были заметно более стремительны по сравнению с теми, из которых мы выбрались. – Теперь неплохо бы сесть на весла, – проговорил Атто. Мы все трое уставились друг на друга, лишившись дара речи. – Весла… – в замешательстве повторил я. – Кажется, мы их потеряли, когда перед нами возникли представители похоронной компании. Атто бросил в сторону Угонио негодующий взгляд, словно требуя от него объяснений. – Ариес отличается также рассеянностью, – попытался переложить вину на него самого Угонио. Подхваченный бурной стремниной, наш челн вдруг безбожно закачался на волнах. Бесполезны оказались все наши попытки застопорить его, всаживая шесты в дно. Какое-то время мы еще держались, но очень скоро в том мете где из-за поворота слева в наш канал влился дополнительный поток, подняв при этом волну, нам пришлось вцепиться что было сил в нашу скорлупку, которую будто щепку влекло вперед. Никто не смел открыть рта. Угонио попытался зацепиться с помощью припасенной веревки за какой-нибудь выступ в стенах, но камни и кирпичи, из которых они были сложены, образовывали гладкую поверхность. И тут в памяти всплыло загадочное объяснение Угонио, почему он не пожелал остаться в главном рукаве подземной протоки. – Ты вроде бы говорил, что этот рукав «попахивает»? Он кивнул: – Дак не просто попахивает, а воняет, так что святых выноси. Тут мы увидели впереди что-то вроде перекрестка: слева и справа в наш канал вливались еще два не меньших по размерам потока, что сопровождалось страшным грохотом. Это было началом конца. Челн словно заколдованный под воздействием разнонаправленных потоков завращался на одном месте. Мы вцепились уже не только в него, но и друг в друга. Вскоре все убыстряющееся верчение лишило нас каких-либо ориентиров, так что мгновение спустя у меня появилось абсурдное ощущение, что мы поднимаемся вверх по реке, против течения, туда, где спасение. При этом что-то все время оглушительно потрескивало. Фонарь, ценой нечеловеческого усилия удерживаемый Атто над головой – казалось, от этого зависит судьба целой вселенной, – был нашим единственным компасом. Вокруг этой светящейся точки все бешено крутилось. Казалось, мы не плыли, а летели, Уносимые неведомо куда с головокружительной быстротой. У меня захватило дух, объяло ликование. А потом вся вода из-под челнакуда-то подевалась, под нами образовалась воронка. Было слышно, как все вокруг с колоссальной силой рвется вперед. Походило на то, как если бы некая магнетическая сила приподняла нас, собираясь бережно перенести на спасительный берег. В памяти вспыхнули слова отца Робледы о выведенном Кирхером законе всеобщего магнетизма, исходящего от Бога и объединяющего все сущее. Слепая громада придавила нас мгновение спустя ко дну челна, а вслед за тем, словно хлам, и вовсе вытряхнула из него. И мрак покрыл все. Я очутился в воде, среди клокочущих и шибающих в нос стоков, вопя от ужаса, отчаяния и ледяного холода. Это был каскад. Лодку на нем опрокинуло, фонарь унесло. Время от времени мои ноги касались дна, видимо, на нашем пути попадались скалистые выступы, без чего я бы уже давно утоп. Зловоние стало запредельным, и если я еще и дышал, то скорее по привычке и из страха, а не потому, что мне этого хотелось. – Живы-ы-ы? – донесся из мрака голос Атто, перекричавшего рев водопада. – Я зде-е-есь, – отвечал я, барахтаясь изо всех сил. Что-то ткнулось мне в грудь, лишив меня дыхания. – Хватайтесь за лодку, она здесь, рядом с нами! – прокричал Атто. Чудом удалось мне ухватиться за борт лодки в тот момент, как поток с новой силой взялся за нас. – Угонио! Где ты! – завопил Атто что было мочи. Нас осталось только двое. Осознавая, что движемся навстречу смерти, мы отдали себя на волю провидения, уцепившись за жалкую посудину, швыряемую темными густыми массами, лишь на какую-то долю состоящими из воды, а по большей части из мочи и фекалий. – Попахивает… теперь понятно, – услышал я голос Атто. – Что понятно? – Мы не просто в каком-то там заштатном канале, мы в Cloaca Maxima [1202], самой мощной сточной канаве Рима, выстроенной еще древними римлянами. Скорость, с которой нас несло вперед, вновь увеличилась, и по этому, а также по изменившемуся эху мы догадались, что оказались в широкой трубе с очень низким сводом, и было сомнительно, чтобы наш перевернутый челн смог преодолеть ее в целости и сохранности. Зато грохот воды уменьшился, поскольку каскад остался далеко позади. И вдруг лодка встала, зацепившись за свод. Подняв руку, я с ужасом убедился, сколь мало расстояние, отделяющее поверхность сточных вод от него. Воздух был смертоносным, перенасыщенным зловонными испарениями, дышать давалось с неимоверным трудом. – Что делать? – спросил я, пытаясь не набрать в рот этого месива. – Назад уже не вернешься. Отдадимся на волю потока. – Я не умею плавать! – Я тоже, но воды очень плотные, старайся просто держаться на поверхности. Ляг на спину и подними лицо над водой, отплевываясь, – советовал мне Мелани. – Время от времени греби рукой, но не налегай, иначе пойдешь ко дну. – А потом? – Куда-то мы непременно выплывем. – А если свод окончательно сомкнётся с потоком? Ответа не последовало. Выбившись из сил, мы доверились водам (если этот понос имел к ним хоть какое-то отношение) и неслись до тех пор, пока не сбылось мое предсказание. Течение вновь усилилось, словно теперь стоки устремились вниз. Воздух был уже столь разрежен, что приходилось надолго задерживать дыхание, а потом лихорадочно хватать его ртом; от зловонных испарений у меня начались спазмы и головокружение. Казалось, кто-то мощный и далекий готовится окончательно поглотить нас. Я стукнулся головой о свод, движение все ускорялось Смерть была близка. Меня чуть было не вырвало, но я сдержался, с минуты на минуту ожидая освобождения от этого ужаса и успокоения. В последний раз услышал я придушенный, но близкий голос Атто: – Ах, так это правда.День девятый 19 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
– Смотри-ка, еще один. Совсем мальчишка. Ангелы с состраданием разглядывали и ощупывали меня. Видно, мой земной путь подошел к концу, и я был уже в иных сферах, где все так же светило солнце, оказывая благотворное воздействие на души. Я ждал высшего приговора. На несколько секунд время замерло, затем меня вновь коснулись ласковые руки. Мало-помалу, слыша неразборчивое перешептывание, я приходил в себя и наконец расслышал одну из фраз божественного совещания: – Займись-ка другим. В считанные мгновения, длившиеся, возможно, вечность, горние посланники оставили меня. Очевидно, их милосердное участие мне более не требовалось. Я отдался божественному свету, который благожелательное Небо расточало без разбору на все земное. Против всякого ожидания я не был лишен возможности видеть, слышать и испытывать наслаждение от обволакивающего меня тепла. А подняв веки, обнаружил перед собой символ Господа, почитаемый еще первыми христианами много веков назад: великолепную, отливающую серебром рыбу, судя по ее взгляду, сострадающую мне. После чего я обратил очи к источнику света и тепла и тотчас заслонил лицо рукой. Было утро, я лежал на солнцепеке на берегу моря.* * *
Очень скоро я убедился, что жив, хотя и очень слаб. Напрасно пытался я снова узреть двух ангелов, они куда-то подевались. Голову страшно ломило, глазам было больно от сияния. Обнаружилось, что я с трудом могу стоять: колени дрожали, ноги разъезжались в тягучей грязной жиже подо мной. Прищурившись, я огляделся и узнал берег Тибра. Была ранняя пора, рыбацкие лодчонки мирно бороздили речную гладь На противоположном берегу возвышались развалины античного Понте Ротто. Справа виднелся невыразительный силуэт Тибрского острова, миллионы лет с обеих сторон омываемого рекой, слева на спокойном рассветном небе вырисовывался холм Святой Сабины. Мне стало ясно, где я: неподалеку от устья Клоаки Максима, выплюнувшей нас с Атто на берег Тибра. К счастью, нас не потащило вниз по реке. Смутно припомнилось, как удалось выскочить из воды и покатиться по земле. Да уж, иначе как чудом наше спасение не назовешь: случись такое зимой, я и впрямь бы уже поступил в распоряжение Господа Бога. Сентябрьское солнышко, вставшее на чистом небосводе, вернуло меня к жизни. Но стоило мне слегка опамятоваться, как стало ясно, в каком плачевном состоянии я пребываю. – Прочь, негодяй! На помощь! Крик раздался откуда-то сзади. Я тотчас обернулся, увидел высокую дикую изгородь и в один прыжок добрался до нее. Двое мужчин, вернее, два подозрительных силуэта, склонились над распростертым на земле телом, покрытым слоем грязи и неспособным кричать оттого, что его выворачивало наизнанку. Завидев меня, злоумышленники отпрянули, бросились наутек и мгновение спустя исчезли из виду. Бывшие неподалеку от берега рыбаки как будто ничего не заметили. Сотрясаемый конвульсиями, Атто исторгал из себя все, что наглотался за время нашего злополучного плавания. Поддержав его за голову, я помог ему не задохнуться от собственной рвоты. Некоторое время спустя он оправился и был уже в состоянии дышать и говорить. – Два проходимца… – Господин Атто, вам сейчас лучше помолчать. – Ужо я им! Ни тогда, ни позже у меня так и не хватило смелости признаться ему, что я принял этих двух обыкновенных воришек за посланников Божьих. Вместо того чтобы помочь, они тщательно обшарили нас. Да и серебряная рыба не имела никакого отношения к богоявлению. – В любом случае поживиться им нечем. Все, что было при мне, осталось в чертовой Клоаке, – отплевываясь, заявил он. – Как ваше самочувствие? – А как Ты думаешь? После всего, что произошло, да еще в мои-то лета… – Он расстегнул покрытые нечистотами камзол и сорочку. – Будь моя воля, я бы погрелся на солнце. Но нужно спешить. И правда, ведь Кристофано вот-вот начнет утренний обход. Под удивленными взглядами рыбаков, готовящихся пристать к берегу, мы удалились по улочке, идущей вдоль берега, оставив справа от себя Монте Савелло. Редкие прохожие, попадавшиеся на нашем пути, с неподдельным изумлением разглядывали наши унылые физиономии и замаранную одежду. К тому же я потерял свои башмаки и шел босиком, прихрамывая и безостановочно кашляя, Атто же просто-напросто напоминал восставшего из гроба. Он чертыхался, недобрым словом поминая боль в мышцах, обострившуюся от влаги и чудовищных ночных усилий. Наш путь лежал к коллонаде Октавии, как вдруг аббат резко изменил направление. – Могут встретиться знакомые. Давай-ка в обход. Миновали площадь Монтанара и Кампителли. Прохожих на улицах прибывало. В узких извилистых проходах между домами, влажных и темных, в большинстве своем не замощенных, я вновь глотнул привычного городского воздуха, наполненного изменчивыми запахами, окунулся в привычный шум. Повсюду были навалены горы мусора, вокруг которых возились поросята, в подвешенных над огнем котелках кипела вода, на широких сковородках, невзирая на ранний час и запрет властей, уже подрумянивалась рыба. У Атто вырвались какие-то исполненные отвращения и раздражения слова, которых я не расслышал из-за грохота промчавшегося экипажа. Как только стало тише, он еще раз выразил все, что накипело на душе. – Слыханное ли дело, Атто Мелани бродит среди мусорных куч на разбитых улицах, словно свинья какая-то. К чему тогда жить в Риме, если приходится передвигаться как животным Святой отец, избавь нас от грязи! Я бросил на него недоумевающий взгляд. – Это слова Лоренцо Пиццати да Понтремоли, одного приживалы при дворе папы Роспильози. Однако он был прав, сочинив лет двадцать тому назад эту краткую молитву, обращенную к Клименту IX. – Неужто Рим всегда был таким? – удивился я, неизменно представлявший себе Град прошлого более привлекательным внешне. – Помнится, я тебе уж говорил, что проживал в то время в Риме. Так вот, дня не проходило без того, чтоб не латали мостовые. Со всеми своими канавами город превратился в одну сплошную сточную яму. Чтобы как-то уберечься от дождя и нечистот, приходилось обувать боты даже в августе. Пиццати прав: это был не Рим, а Вавилон, в котором никогда не затихал шум. Не город, а конюшня, – заявил под конец аббат, чеканя слова. – И что же, папа Роспильози так-таки ничего не предпринял для улучшения положения? – Разумеется, предпринял, мой мальчик. Но ты же знаешь римлян: настоящие ослы. Попытались наладить общегородской сбор мусора, приказали жителям содержать в чистоте часть улицы перед их домами, в частности летом. Куда там! Тут аббат толкнул меня, и мы оба растянулись на узком тротуаре. Я едва не попал под колеса огромной роскошной кареты, мчавшейся на всех парах. Настроение Мелани испортилось окончательно. – Карло Борромео считал: чтобы иметь в Риме успех, необходимы две вещи, – кислым голосом сказал аббат, – любит Бога и иметь карету. Знаешь, сколько их в этом городе? Более тысячи. – Вот почему я, бывает, услышу грохот, а выгляну – улица пуста. Это кареты, проносящиеся вдали. Но куда они мчатся? – Да никуда. Знать, вельможи, посланники, лекари, адвокаты и кардиналы передвигаются таким образом даже на короткие расстояния. А теперь пошла мода иметь по несколько карет. – У них что, такие многочисленные семьи? – Вовсе нет, – усмехнулся Атто. – Разъезжают себе по городу со свитой из четырех или пяти карет, просто чтобы дать понять, какие они важные. А кардиналы и посланники во время официальных визитов используют до трехсот карет. Этим и объясняются заторы и облака пыли. – Теперь мне понятна та сцена, которую я наблюдал некоторое время назад на площади Постерула. Лакеи двух карет нещадно лупили друг друга, доказывая свое право проехать первым. И тут Атто снова изменил направление, резко взяв в сторону. – И здесь тоже меня могут узнать. Один молодой каноник… Давай-ка лучше пройдем по площади Сан-Панталео. Совсем выбившись из сил, я воспротивился всем этим поворотам, но не тут-то было. – Молчи и старайся не привлекать ничьего внимания, – оборвал меня Атто, приглаживая свою белую шевелюру. – К счастью, никому нет до нас дела в этом кавардаке, – и чуть слышно добавил: – Терпеть не могу находиться в подобном обличье. – Гораздо безопаснее, – мы оба это понимали, – было пройти через многолюдный рынок на площади Навона, чем очутиться на виду на площади Мадама или на улице Парионе. – Нужно поскорее добраться до дома Тиракорды, да так, чтобы нас не заметили часовые, что дежурят у «Оруженосца». – А потом? – Попытаемся пробраться в каретный сарай, а уж оттуда в подземные галереи. – Это будет очень нелегко. Любой сможет нас приметить. – Знаю. У тебя есть другие предложения? Только мы собрались смешаться с толпой на площади Навона, как увидели, что никакой толпы там нет и в помине, лишь несколько небольших разрозненных групп зевак, внимающих бородачам-ораторам, взобравшимся на возвышение или просто стул и размахивающим руками. Ни торговцев, ни гор овощей и фруктов. – Проклятие! Воскресенье! – почти в унисон воскликнули мы. Из-за карантина и событий последних дней мы совсем забыли, какой сегодня день. Как и во всякий праздничный или воскресный день, площадь была во власти проповедников, предсказателей и всякого набожного, богобоязненного люда. Вниманию студентов, бедняков, любопытных и праздношатающихся предлагались речи, исполненные то тонких логических умозаключений, то красноречия; тут же сновал и сброд, срезающий кошельки. Вместо привычного рыночного оживления площадь встретила нас серьезной и даже мрачноватой атмосферой, а тут в придачу ко всему и небо затянуло тучами. Так что пересекая площадь, мы почувствовали себя еще более раздетыми и беззащитными, чем на самом деле. Единственное, что было в наших силах, это держаться подальше от центра площади, теснясь к правой стороне, продвигаться вперед бесшумно, чуть ли не на мысочках, будто мыши, и сделаться почти что невидимыми. Когда от одной группы отделился мальчуган и стал показывать на нас пальцем, я прямо-таки замер от ужаса. Слава Богу, это длилось недолго, и его внимание переключилось на что-то иное. – В конце концов, нас обязательно заметят, чтоб его! Попробуем слиться с толпой. – С этими словами Атто указал на группу людей невдалеке, в двух шагах от фонтана Рек творения Кавалера Бернини. Могущественные мраморные изваяния четырех водных божеств казались воплощением порицания, словно и они тоже принимали участие в священнодействии, свершавшемся на площади. Каменный лев буравил меня своим бешеным оком. А на другом конце к небесам вознесся обелиск, покрытый иероглифами и увенчанный золотой пирамидкой, как я узнал недавно, тот самый, надписи на котором расшифровал Кирхер. Из-за чужих голов и плеч мне не сразу удалось разглядеть, кому внимала небольшая толпа, в которую мы затесались. Оказалось, какому-то круглому коротышке с малиновым лицом, судя по головному убору – треуголке, которая была ему велика, – иезуиту. Он обрушивал на слушателей потоки красноречия. – В чем суть праведной жизни? – вещал он. – А в том, чтобы мало говорить, много плакать, быть всеми осмеянным, терпеть нужду, переносить немощь, попрание чести. Может ли такая жизнь не быть несчастной? Да! – утверждаю я. – По толпе пробежал рокот сомнения. – Я это точно знаю! – пылко заявил проповедник. – Люди разумные приучены к этим бедам. Они даже искренне желают их. А ежели не встречают их на своем пути, то ищут их! – И вновь толпа недоверчиво зашумела. – Как Симеон Киренаикский, который прикинулся умалишенным, только чтобы терпеть насмешки. Как Бернар Клервосский, обладавший слабым здоровьем и выбиравший самые холодные и неудобные места для уединения! Они могли бы обойтись без этого! Вы считаете их ничтожествами? Так нет же, послушайте, что говорил великий прелат Сальвиано… В эту минуту аббат Мелани, желая привлечь мое внимание, толкнул меня в бок. – Путь свободен, пошли. Мы двинулись к тому концу площади, что ближе других подходил к «Оруженосцу», надеясь, что последний отрезок пути преодолеем, не встречая препятствий и неожиданностей. – Пусть великий прелат считает что угодно, а я так жду не дождусь, когда смогу переодеться, – вздохнул Атто. В какой-то момент у меня появилось неприятное ощущение, что кто-то следует за нами, но обернуться и посмотреть не хватило духу. Мы почти уже выбрались подобру-поздорову из опасной переделки, когда произошло нечто неожиданное. Атто шел впереди, держась поближе к дому, как вдруг одна из дверей распахнулась, из нее показались две руки, с силой втащившие его внутрь дома. Это страшное видение вкупе с усталостью чуть было не доконали меня. Чудом не лишившись сознания, я застыл на месте не зная, что предпринять – бежать ли, звать ли на помощь. И то и другое было сопряжено с риском быть узнанным и задержанным. Тогда-то у меня за спиной и раздался знакомый голос, показавшийся мне несказанно сладким: – Поспешай-ка и ты в укрытие, дружок. Какое бы презрение ни питал аббат Мелани к двум знатокам антиквариата, ему волей-неволей пришлось взять себя в руки, чтобы не рассыпаться в словах благодарности. Оказалось, Угонио не только чудесным образом уцелел в Клоаке Максима, но и воссоединился со своим вечным приятелем, после чего отыскал нас, чтобы отвести в надежное место, пусть для этого ему и пришлось прибегнуть к грубым методам. Не дав пикнуть, нас повели к другой двери, за которой обнаружилась крутая лестница. Поднявшись по ней, мы оказались в узком глухом коридоре без окон. Джакконио извлек из своего замызганного балахона фонарь, как мне показалось, уже зажженный, чего, конечно же, не могло быть. Теперь мы и наш спаситель были на одно лицо – одинаково промокшие, грязные, но в отличие от нас он быстро двигался, как обычно подпрыгивая на месте и подергиваясь. – Куда вы нас ведете? – поинтересовался Атто, впервые утративший первенство в принятии решений. – Навона опасна почитай хуже некуда, – отвечал Угонио. – Будучи отцом, а не отцеубийцей, говорю вам: под Пантеоном куда как спокойнее. Во время одной из наших прошлых вылазок, обследуя галерею С, мы приметили выход во двор дворца на площади Ротонда за Пантеоном. Добрых четверть часа кочевали мы из подвала в подвал, спускаясь по лестницам, минуя заброшенные складские помещения. Время от времени Угонио доставал свое кольцо с ключами, отпирал дверь, пропускал нас вперед и запирал за нами. Оставалось лишь покорно плестись подобно двум телесным оболочкам, из которых вот-вот вылетит дух, за нашими чичероне. Наконец мы достигли тяжелой дубовой двери, со скрипом опустившей нас во двор. Дневной свет залил глаза. – Поспешайте, – попросил Угонио, указав нам на что-то вроде деревянной крышки в земле, предлагая тем самым вновь спуститься под землю. Приподняв крышку, мы обнаружили темный и душный лаз, в котором на железном пруте была укреплена веревка. Спустившись с ее помощью вниз, мы поняли, что до «Оруженосца» рукой подать. А пока над нашими головами еще не захлопнулась крышка люка, передо мной в свете дня предстали лица наших провожатых и мне так захотелось спросить Угонио, как он уцелел в Клоаке Максима, как выбрался, но время поджимало. Я испытал мимолетное ощущение, что наши взгляды встретились, и отчего-то появилась уверенность, что он разгадал как мой вопрос, так и мою радость оттого, что он жив и невредим. Пробравшись в свою комнату, я наскоро переоделся и подальше запрятал перепачканную в грязи и нечистотах одежду. После чего немедля отправился к Кристофано, готовясь оправдать свое отсутствие посещением погреба со съестными припасами. Слишком уж я уходился, чтобы испытывать беспокойство, и потому был настроен достойно встретить попреки и вопросы, ответов на которые у меня не было. Но Кристофано спал, вытянувшись на постели, наполовину раздетый. Дверь его комнаты была не заперта, почему я решил, что, видимо, давешний кризис не прошел для него даром. Будить его я поостерегся. Солнце стояло низко, еще оставалось немного времени перед встречей с Девизе в комнате Бедфорда, о которой было договорено накануне, и я рассчитывал использовать его для восстановления собственных сил. Однако сон не принес мне желаемого отдыха. Его сотрясали мучительные видения, в которых я заново пережил нашу злополучную эпопею: встречу с похоронной командой, непередаваемо страшные мгновения, проведенные под опрокинутым челном, гнетущие открытия на острове храма Митры и под занавес – нескончаемый кошмар Клоаки Максима, пережить который заново казалось немыслимым. И потому, заслышав голос Кристофано, поднявшегося за мной, я проснулся еще более разбитым. Кристофано тоже вроде пребывал не в лучшей форме. Голубоватые тени залегли под глазами, взгляд был колючим и отсутствующим, лицо осунувшимся. Еще вчера статное и вальяжное тело сгорбилось и поникло. Он не поздоровался и, благодарение Богу, не задал ни единого вопроса относительно прошедшей ночи. Пришлось самому напоминать ему о завтраке для постояльцев. Но прежде всего требовалось срочно воплотить в жизнь теорию целительной силы музыки, изложенную Робледой, и взяться за излечение Бедфорда с помощью гитары Девизе. Я известил святого отца о том, что мы собираемся последовать на практике его указаниям, кликнул Девизе, после чего мы все вместе направились к одру бедного англичанина. Музыкант прихватил с собой табурет, чтобы можно было устроиться на нем в коридоре и играть, не подвергая себя риску заражения. Дверь же оставили открытой, дабы благотворные звуки свободно достигали ушей страждущего. Кристофано поместился возле постели умирающего, чтобы иметь возможность наблюдать малейшие изменения в его состоянии. Я скромно отошел в коридор, встав в нескольких шагах от Девизе, настраивавшего инструмент. Сперва для разминки он исполнил алеманд, затем курант и уж после сарабанду. Прервав игру он справился, что больной. – Ничего, – был ответ Кристофано. Далее прозвучали мелодии гавота и джиги. – Ничего, совсем ничего. Кажется, он и не слышит, – удрученно и нетерпеливо констатировал лекарь. И только тогда наконец Девизе приступил к исполнению той несравненной, завораживающей пьесы, перед которой никто не мог устоять, – рондо, сочиненного Франческо Корбеттой для Марии-Терезии, королевы Франции. Как я догадывался, я был не единственным, кто дожидался этих колдовских звуков. Девизе исполнил пьесу раз, второй, третий, словно желая сказать нам, что по неисповедимым причинам она и ему милее остальных. Все замерли и хранили молчание, в который уж раз слушая знакомую мелодию. Когда она зазвучала в четвертый раз, убаюканный повторяющимся рефреном, я вдруг испытал чудесное озарение, сопоставив то, что услышал от самого Девизе несколько дней назад, и то, что прочел аббат Мелани в письме Кирхера. «Побочные темы, – сказал музыкант, – представляли собой попытки достичь гармонии, отличающиеся неожиданным характером, будто бы даже чуждым устоявшимся музыкальным нормам. Достигнув вершины, рондо резко обрывалось». «Циклы чумы, – пишет Кирхер, – на завершающей стадии представляет собой нечто неожиданное, таинственное, чуждое медицине: достигнув пика, болезнь senescit ex abrupto, то есть резко идет на спад». Ба, да ведь Девизе описал рондо словами, почти точно совпадающими со строками Кирхера, содержащими его рассуждения о чуме… Дождавшись, когда смолкнет музыка, я наконец задал Девизе вопрос, который давным-давно следовало задать: – Сударь, а есть ли у этого рондо название? – Да, Les Barricades mysterieuses, – медленно и четко выговорил он. И пока он переводил его на итальянский, я хранил молчание: то были те самые слова, которые накануне во сне вырвались у Атто. Они тут же соотнеслись и с агсапае obices из письма Кирхера… Далее рассудок отказался мне повиноваться. Раздражающее биение этих двух латинских слов погрузило его в пучину иллюзорных подозрений, а меня самого заставило испытать головокружение. Я как сомнамбула встал и пошел под удивленными взглядами Кристофано и Девизе, вновь ударившего по струнам. Под тяжестью своего открытия и тех последствий, какими оно было чревато, я добрел до своей комнаты и, как подкошенный неожидаемой лавиной, пал на пол. Страшная тайна агсапае obices Кирхера, таинственные преграды на пути secretum vitae наконец обрели форму. Мне было просто необходимо побыть в полном одиночестве И не потому, что требовалось дать отдых бедной голове. Следовало решить, с кем я могу поделиться своими мыслями. Итак, мы с Атто шли по пятам агсапае obices, или иначе les mysterieuses barricades, наделенных высшей способностью одолевать чуму, о чем писал Кирхер в своем безумном письме суперинтенданту Фуке. Далее: я слышал, как аббат поминал во сне на чужом языке les barricades mysterieuses. И наконец: поинтересовавшись у Девизе, каково название рондо, исполняемого им для Бедфорда, больного чумой, я наткнулся на те же самые слова. Очевидно, кое-кому было известно обо всем этом больше, чем он признавал. – Да ты ничегошеньки не смыслишь! – всплеснул руками аббат Мелани. Желая объясниться с ним, я нагрянул к нему и бесцеремонно поднял с постели. Оттого его слова и жесты были столь горячи. Он попросил меня подтвердить, правильно ли он понял, будто Девизе с самым естественным видом признался, что рондо именуется Les barricades mysterieuses. – Извини, но я должен побыть один, чтобы собраться с мыслями, – попросил он наконец, очевидно, не в силах вынести такого количества открытий. – Только знайте: я жду объяснений… – Хорошо, хорошо. Дай мне подумать. Пришлось несолоно хлебавши уйти и вернуться чуть позже. Взгляд его был насторожен и воинственен, словно он и не спал вовсе. – Вижу, ты ждал, когда мы подберемся к истине, чтобы пре-титься в моего врага, – начал он с горького упрека. – Это не так, – поспешил я заверить его. – Но посудите сами… – Попытайся рассуждать здраво, – перебил он меня. – Ежели вы мне позволите, сударь, я как раз и собирался это сделать. И вот что я думаю: как могло случиться, что вам известно название этого рондо, являющееся к тому же переводом латинского агсапае obices? Мысль загнать в угол, хотя бы ненадолго, сего в высшей степени прозорливого и смышленого субъекта переполняла меня гордостью. Я уже заранее взирал на него с осуждением. – Это все, что ты хочешь знать? – Да. – Тогда помолчи. Если я правильно понял, ты слышал, как я прошептал во сне barricades mysterieuses? – Ну да. – Хорошо. Как тебе известно, это более-менее точный перевод слов агсапае obices. – Правильно. Так вот и объясните мне, откуда вам было известно… – Неужто непонятно? – Но вы… – Поверь мне в последний раз. То, что я тебе сейчас скажу, изменит твое мнение. – Сударь, я более не намерен распутывать все эти тайны, и… – Да тебе и не надо ничего распутывать. Все ведь уже ясно. Тайна агсапае obices среди нас и, возможно, принадлежит тебе в большей степени, чем мне. – Что вы имеете в виду? – Что ты наблюдал ее и слышал чаще меня. – То есть. – Secretum vitae, отвращающий чуму, заключен в самой этой музыке. На сей раз собраться с мыслями и свыкнуться со сногсшибательной новостью требовалось мне. Тайна Кирхера и Фуке, короля-Солнце и Марии-Терезии крылась в очаровавшем меня рондо.. Во власти изумления я побледнел и прошептал: – Но я думал… это невозможно. – Я тоже так думал. Следи за ходом моих рассуждений: разве я тебе не говорил, что Корбетта, учитель Девизе, мастерски владел искусством музыкальной тайнописи? – Да, верно. – Так вот. Девизе сам тебе признался, что Корбетта сочинил рондо и подарил его перед смертью Марии-Терезии. – Угу. – Как ты мог убедиться своими собственными глазами, рондо имеет посвящение «a Mademoiselle», возлюбленной Лозена. Лозен был посажен в ту же крепость, что и Фуке. А Фуке унаследовал от Кирхера тайну чумы. Будучи еще на посту суперинтенданта, Фуке, согласовав это с Кирхером, поставил перед Корбеттой задачу зашифровать в музыкальном произведении secretum vitae – то бишь arcanae obices, или mysterieuses barricades, – излечивающий от чумы. – Но Кирхер и сам умел шифровать послания с помощью нот, вы же мне о том рассказывали. – Разумеется. И впрямь нельзя исключать, что Кирхер передал Фуке secretum vitae уже в зашифрованном виде, то есть таблатуру, при этом не доведя ее до совершенства. Помнишь, что рассказывал Девизе? Корбетта создал рондо на основе уже существовавшей мелодии. Я уверен, что он намекал на Кирхера. И это еще не все: вновь и вновь исполняя рондо на гитаре, Девизе наверняка усовершенствовал его до такой степени, что никому и в голову не придет, что столь гармоничное творение служит прикрытием некоему посланию. Невероятно, не правда ли? Я и сам с трудом в это верю. – Должно быть, суперинтендант ревниво оберегал тайну, заключенную в рондо. – Таблатуры загадочным образом избежали злой участи, преследовавшей моего бедного друга Никола. – И в Пинероло… – …он доверил тайну Лозену. Знаешь, что я по этому поводу думаю? Что Лозен собственноручно вписал посвящение «а Mademoiselle» и передал таблатуру супруге, дабы та вручила ее Марии-Терезии. – Мне Девизе сказал, что это подарок Корбетты королеве. – Чепуха. Ему было проще представить тебе это таким образом. На самом же деле после Корбетты и до того, как попасть к Марии-Терезии, рондо прошло через руки Фуке, Лозена и Большой Мадемуазели. – И все же что-то тут не вяжется, господин Атто. Не, кажется ли вам, что Лозена подсадили к Фуке, чтобы вырвать у него тайну? – Возможно, Лозен и был слугой двух господ. Вместо того чтобы шпионить за Фуке и предавать его, он предпочел открыться ему, ведь Белка обладала тонким умом. Лозен помог ей выменять secretum morbi на свободу. Однако – это делает Лозену честь – он поостерегся открыть Его Величеству Существование secretum vitae, то есть этого самого рондо. Или скорее Большая Мадемуазель и он уцепились за случай отомстить королю и выдали противоядие от эпидемии врагам Его Величества, среди коих – ах! мне больно об этом говорить – находилась королева Мария-Терезия, да сохранится светлая память о ней. Я мысленно повторил про себя все, что услышал от Атто. – И то сказать, есть что-то необычное в этом рондо, – пытаясь свести концы с концами, проговорил я, – его мелодия как бы делает шаг вперед и тут же отступает назад, всегда одинаковая и всегда разная. Трудно объяснить, но ее поступь напоминает то, что написано о чуме Кирхером: болезнь то удаляется, то приближается, а достигнув кульминации, резко обрывается. Словно… эта музыка и чума подобны друг другу. – Вот как? Еще лучше. Слушая рондо все последние дни, я тоже ощущал, что есть в нем нечто загадочное и непостижимое. Поглощенный этими догадками, я совершенно упустил из виду, зачем явился к Мелани: потребовать объяснений, как могло случиться, что у него во сне вырвались некие слова. – Послушай меня хорошенько, – снова начал он. – У нас остается еще два неразрешенных вопроса. Первое: кому служит противоядие, чья цель свести на нет действие secretum morbi, то бишь усилий Его Наихристианнейшего Величества? Второе: что затевает Дульчибени, тот самый человек, что путешествовал в компании с Девизе и Фуке до того, как мой сердечный друг… – голос Атто дрогнул в очередной раз, – преставился здесь? Только я собрался напомнить ему, что не худо было бы разобраться, кому или чему обязан своей странной смертью Фуке и что сталось с моими жемчужинами, как вдруг, по-отечески приподняв мне подбородок, он сказал: – Я тебе задам лишь одну загадку: ежели бы я знал, в какую дверь ломиться, чтобы отыскать arcanae obices, упомянутые Кирхером, стал бы я терять столько времени в компании с тобой? – Возможно, что и нет. – Разумеется, нет. Я бы постарался вырвать тайну рондо у самого Девизе. И, верно, это было бы проще. Не исключено, что Девизе не ведает, что именно таится в рондо и какие сложные взаимоотношения связывали Корбетту, Лозена и Большую Мадемуазель. И тут наши глаза встретились. – О нет, мой мальчик. Признаюсь, ты мне очень дорог, и я никогда не думал обманывать тебя, чтобы заполучить в помощники. Но теперь аббат Мелани просит тебя о последней жертве. Могу ли я рассчитывать… Не успел он договорить, как из комнаты Бедфорда донесся зычный голос Кристофано. Я не мешкая бросился туда. – Победа! Чудо! Удача! – вопил, задыхаясь, лекарь с покрасневшим лицом, держась за левую сторону груди и прижимаясь к стене, чтобы не упасть. Англичанин Эдуард Бедфорд, сидя на крае постели, громко кашлял. – Воды, – хрипло выговорил он, словно опамятываясь от долгого сна. Четверть часа спустя посмотреть на чудо сбежался весь постоялый двор. Обрадованные и не верящие своим глазам постояльцы окружили в коридоре второго этажа удивленного Девизе, обменивались восторженными возгласами и вопросами, не ожидая на них ответа. Они еще не осмеливались приблизиться к Кристофано и воскресшему из мертвых. Обретя былую уверенность в себе, лекарь тщательно и деловито осматривал пациента. Засим рек: – Да он в отличной форме, черт подери! Я бы даже сказал, в лучшей, чем когда-либо, – и разразился смехом облегчения, тут же подхваченным всеми присутствующими. Англичанин совершенно оправился от болезни, чего нельзя было сказать о моем хозяине. Бедфорд лишь удивился тому, что его тело перевязано и что все, до чего ни дотронься, болит. Видно, надрезание бубонов и кровопускания измучили его. Сам он ничего не помнил. Слушал задаваемые ему вопросы, в первую очередь Бреноцци, таращил свои косые глаза и устало качал головой. Я обратил внимание, что не все постояльцы пребывают в одинаковом расположении духа. Взволнованное молчание Девизе и мертвенная бледность Дульчибени выделялись на фоне радости отца Робледы, Бреноцци, Стилоне Приазо и моей Клоридии (лучезарно улыбнувшейся мне). Атто о чем-то задумчиво расспросил Кристофано, после чего удалился. И только тут среди общего гула Бедфорд наконец сообразил, что у него была чума и что в течение нескольких дней он был между жизнью и смертью, и побледнел. – Но в таком случае… видение… – Какое видение? – в один голос спросили все. – М-м… мне казалось, я попал в ад, – смущенно ответил он и поведал, что в памяти сохранилось лишь одно воспоминание о болезни: ощущение долгого падения куда-то, где горел огонь, затем явление ни больше ни меньше самого Люцифера – демона с зеленой кожей, усами и пушком под нижней губой. Точь-в-точь как у Кристофано, – добавил он. Якобы этот демон вонзил ему в горло один из своих когтей, из которых вырывалось пламя, и попытался добраться до его Души, но, не преуспев в этом, потряс своим огромным копьем и проткнул его тело в нескольких местах, так что оно закровоточило. Затем безжалостное чудовище сгребло его в охапку и бросило в кипящую смолу. Бедфорд был явно поражен тому, насколько все это представлялось ему в тот момент всамделишным, и сказал, что и вообразить себе не мог, что существуют такие немыслимые муки. Варясь в смоле, он просил у Всевышнего прощения за все свои прегрешения, недостаточную веру в него, а затем стал молить о пощаде, вызволении из этого адского Гадеса[1203], после чего на него снизошла кромешная тьма. Мы благоговейно внимали вернувшемуся с того света, а потом все разом загалдели, перебивая друг друга и вопя о чуде. Отец Робледа, несколько раз за время рассказа осенивший себя крестным знамением, отделился от нашей группы, бесстрашно шагнул в комнату и нарисовал перед Бедфордом крест в знак благословения. Кое-кто из постояльцев преклонил колени и стал, в свою очередь, осенять себя крестом. И лишь на чело Кристофано набежала тень. Как и мне, ему было понятно, откуда взялось подобное видение. Виной всему было безжалостное обращение, которому он подверг англичанина. Дьявольский коготь, которым якобы Люцифер хотел вырвать его душу, был не чем иным, как мускусовыми лепешками, с помощью которых ему прочищали желудок, а копье – инструментами, применяемыми при кровопускании, и наконец, кипящая смола – тем самым котлом, над которым мы поместили Бедфорда для исцеления парами. Хотя теперь у него и было обожжено нутро, он все равно оголодал. Кристофано послал меня за оставшимся от вчерашнего ужина бульоном из голубиного мяса, по его словам, питательным и обладающим успокоительным действием. Но тут Бедфорда сморил сон. Мы почли за лучшее дать ему отдохнуть и спустились вниз. Никто больше и не вспоминал о запрете покидать свои комнаты, а Кристофано и не думал никого за это журить. Казалось, чума покинула стены «Оруженосца», и по молчаливому согласию предписания остались в прошлом. Не только Бедфорд, но и все мы очень и очень проголодались. И потому я спустился в кладовые, решительно настроенный приготовить для всех что-нибудь особенно вкусное, чтобы отпраздновать радостное событие. Я доставал из ящиков со снегом вымя и ножки косуль, сладкое мясо, баранину, кур, а в это время уйма мыслей носилась в мозгу. Как же так случилось, что Бедфорд вдруг взял да и выздоровел? Девизе стал играть для него на гитаре по совету отца Робледы: значит, теория иезуита о присущем музыке магнетизме верна? Англичанин очнулся именно тогда, когда прозвучало рондо, не раньше… Это рондо – просто-напросто зашифрованный secretum vitae. Так, во всяком случае, считает аббат Мелани. Мелодия – подлинный врачеватель… Нет, все-таки мне не удавалось упорядочить череду всех этих событий. Необходимо было не откладывая испросить мнения аббата Мелани. Поднимаясь в столовую с грузом съестного, я сперва заслышал голос Кристофано, а потом увидел, что Атто присоединился к остальным. – Что тут скажешь? – разводил руками наш эскулап, обращаясь к аудитории. – Магнетизм ли музыки, как утверждает отец Робледа, применяемая ли мною метода – не знаю. Ясно одно: почему чума так внезапно прекращается, неведомо. Самое же удивительное в том, что Бедфорд не подавал ни малейших признаков улучшения, если не сказать больше… Наступила агония, и я уж готовился известить вас о том, что надежды на выздоровление равны нулю. Робледа важно закивал головой, давая понять всем присутствующим, что так оно и было. – Могу сказать одно, – продолжил Кристофано, – мне уже не впервой слышать о таком исходе. Согласно некоторым свидетельствам, загадочные случаи излечения объясняются тем, что чума не затаивается в мебели, домах, в каких-либо материальных предметах, как думает кое-кто, она может взять да и исчезнуть. Я был здесь, в Риме, во время чумы 1656 года и помню, что в отсутствие каких-либо лекарств решено было объявить великий пост и предписать процессии на босу ногу. С лицами, залитыми слезами, в грубошерстных одеяниях, люди замаливали грехи, и Господь послал им архангела Гавриила: римский народ узрел его 8 мая над Замком с окровавленным мечом в руках[1204]. В тот день чума убралась из города, покинув все предметы обихода, в которых обычно кроются очаги инфекции. И это еще не все. Античные историки рассказывают о некоторых необъяснимых явлениях. Так в 567 году по всему миру объявился мор, уцелела лишь четвертая часть населения. Как вдруг все прекратилось. С 1348 года в течение трех лет свирепствовала черная чума, в частности в Милане, где погибло шестьдесят тысяч человек, и в Венеции, где также было унесено множество жизней. – А в 1468-м чума скосила в Венеции тридцать шесть тысяч человек и более двадцати тысяч в Брешии. Немало городов полностью вымерло. Но в обоих случаях конец чуме наступил неожиданно, и очагов заражения как ни бывало, – вставил словцо Бреноцци. – А вот еще случай был, в 1485 году чума снова взялась за Венецию, от нее пострадало немало знати и даже сам дож Джованни Мочениго[1205], в 1527 году она вновь объявилась по всему миру и еще раз беспощадно прошлась по Венеции и прилегающей к ней области в 1556-м, правда, тогда уже власти предприняли меры для предотвращения полного вымирания. И все эти эпидемии в какой-то момент шли на попятный, не оставляя следов. Как это объяснить? А? – возбужденно допытывался Бреноцци. – Лично я до сих пор предпочитал молчать, чтобы не быть разносчиком дурных новостей, – важно вступил в разговор Стилоне Приазо, – однако астрологи утверждают, что за две последние недели августа и в первые три недели сентября из-за коварного влияния звезды Сириус все заболевшие чумой в два-три дня и даже в двадцать четыре часа убираются на тот свет. Так, во время Лондонской чумы 1665 года за одну ночь между часом и тремя часами утра погибло более трех тысяч человек. Нас, слава Богу, пощадило. Дрожь страха и облегчения пробежала по телам постояльцев. Отец Робледа встал и направился в кухню, чтобы посмотреть, как идет приготовление блюд. Только от кастрюль пошел приятный дух, я заварил бульон спаржей и незрелым виноградом, чтобы расположить желудки едоков к принятию пищи. – А мне вспоминается Рим 1656 года, – не унимался Кристофано, – разгар эпидемии. Я был тогда молод, один из моих собратьев, придя навестить меня, сообщил, что пик болезни вот-вот пойдет на спад. Я поинтересовался, откуда у него подобное суждение, ведь как раз в эту самую неделю мор достиг пика, о чем я и заявил ему. Ответ его был более чем странный: «Судя по количеству больных на сегодня, чума должна была унести в три раза больше жизней, если б была такой же заразной, как еще две недели назад. Тогда она в два-три дня справлялась с больными, теперь на это уходит от восьми до десяти дней. Кроме того, две недели назад на пять больных приходился один выздоровевший, тогда как теперь три. Будьте уверены, на следующей неделе количество смертельных случаев пойдет на спад, а выздоровлений будет больше. Болезнь утратила свой непредсказуемый характер, и если зараженных все еще немало, количество летальных исходов будет уменьшаться». Коллега Кристофано не ошибся, что показали последующие недели. Месяцем позже смертельных случаев стало меньше, хотя количество больных по-прежнему исчислялось десятками тысяч. – Болезнь утратила свой вероломный характер, – повторил лекарь, – но не постепенно, а разом, в самый разгар эпидемии, когда мы все уже отчаялись. Точь-в-точь как в случае с молодым англичанином. – Только Божья длань способна так внезапно прервать развитие этого морового заболевания, – заметил иезуит с взволнованным выражением лица. Кристофано кивнул. – Медицина была бессильна. Болезнь поджидала людей на всех углах, и продлись это еще недели две-три, в Риме не осталось бы живой души. Лишившись своей дьявольской силы, болезнь перестала косить всех подряд. Врачи просто диву давались, убеждаясь в том, что многие пошли на поправку, у нихнаблюдается сильное потоотделение, вызревание бубонов, пустулы более не горят огнем, лихорадка идет на убыль, как и головная боль. Даже наименее верующие из докторов должны были признать: внезапное окончание эпидемии имеет сверхъестественную природу. Улицы вновь заполнились людьми, пусть и с перевязанными шеями и головами, хромавшими из-за шрамов в паху и все же ликующими. Тут поднялся отец Робледа, вынул крест, поднял его и торжественно провозгласил: – Сколь чудесны дела твои, Господи! Вчера еще мы все были заживо похоронены, а сегодня воскресли! Переполненные признательностью, мы преклонили колени и под руководством иезуита пропели хвалу Всевышнему. После чего принялись весело уписывать поданную мною еду. Я же все не мог отделаться от мыслей, связанных со словами Кристофано: чума обладает естественным и необъяснимым ходом развития, в соответствии с которым, достигнув точки наивысшего развития, слабеет, перестает быть смертоносной и исчезает, не оставляя следов. То есть она убирается столь же загадочным образом, как и появляется. Morbus crescit sicut mortales, senescit ex abrupto… – болезнь растет подобно живым существам, а затем внезапно стареет. Разве не о том же прочел аббат Мелани в безумном послании отца Кирхера, зашитом в подштанниках Дульчибени? Наскоро проглотив еду, я отправился в столовую. Атто был там. Нам достаточно было переглянуться: он ждет меня, как только я освобожусь. Кристофано взялся накормить англичанина, я же отправился к Пеллегрино, которого можно было бы считать поправившимся, если бы не страшная мигрень. До этого я спросил у Кристофано: – Сударь, нельзя ли попросить Девизе поиграть также в комнате моего хозяина, чтобы он стал как прежде? – Не думаю, что это поможет. К сожалению, не все так, как я предполагал. Пеллегрино не сразу обретет свои способности. Последние дни я наблюдал за ним и теперь не сомневаюсь: дело было не в синяках, не в чуме. Да ты и сам, должно быть, это понял. – Но что же тогда? – выдохнул я, напуганный мутным и неподвижным взглядом своего благодетеля. – Мозговой удар в связи с падением на лестнице. Образовался сгусток крови, который рассосется, но не тотчас. Я думаю, у нас будет время выпутаться из передряги до того, как это случится. Однако что ж ты-то так перепугался, чай, у него есть жена? На этом мы расстались. Пока я кормил Пеллегрино, я все думал о несчастной судьбе, которая обрушится на него вместе с возвращением суровой супруги, и сердце у меня ныло от жалости. – Помнишь, что мы прочли? – набросился на меня Атто, стоило мне переступить порог его комнаты. – Кирхер считал, что у чумы те же законы развития, что и у людей. Перед тем как угаснуть, она достигает апогея. – То же говорит и Кристофано. – А знаешь ли, что это означает? – Что Бедфорд излечился сам по себе, без рондо? – предположил я. – Я думал, ты более прозорлив. Ну же, мой мальчик, неужто не понял? Чума только-только объявилась в вашем заведении: перед тем как утратить свою смертоносность, ей предстояло устроить побоище. Но все обернулось иначе. Никто, кроме Бедфорда, не заболел. И знаешь, что я думаю? С тех пор как Девизе, запершись у себя, без устали исполнял рондо, звуки музыки заполняли постоялый двор и защищали нас от чумы. – Вы и вправду думаете, что новых жертв не было благодаря этой мелодии? – озадаченно спросил я. – Знаю, в это трудно поверить. Но подумай сам: на памяти людской еще не было такого, чтобы зараза застопорила свой ход только оттого, что все попрятались по углам. Что до снадобий Кристофано… – засмеялся аббат. – Да и факты говорят сами за себя: лекарь наш что ни день являлся к постели Бедфорда, а потом обходил остальных. Но ни он сам и никто из нас не заразился. Как ты это объяснишь? «И верно, – подумал я, – сам-то я чуме неподвластен, чего не скажешь о Кристофано». – И это не все, – продолжал Атто. – Тот же самый Бедфорд, уже готовый отдать Богу душу, воскрес, попав под прямое воздействие звуков музыки, а болезнь его буквально улетучилась в считанные минуты. – Как будто бы… отец Кирхер открыл некую тайну, которая ускоряет природное течение болезни и ведет дело к безобидному концу. Тайну, способную предохранить от эпидемии! – Ну вот видишь. Таково действие secretum vitae, зашифрованного в рондо. – Атто уселся на постель и продолжил: – Бедфорд выздоровел после того, как Девизе исполнил рондо для него. Отец Робледа предвидел это, уверенный, что дело в целительном магнетизме музыки. Однако Девизе пришлось потрудиться, прежде чем это произошло. Ты наверняка обратил внимание, что после излечения Бедфорда я переговорил с Кристофано. Так вот, он меня заверил, что англичанин начал подавать признаки жизни только после того, как Девизе приступил к исполнению рондо и повторил его несколько раз, не раньше. Я спросил себя: что скрывается за этими проклятыми barricades mysterieuses? – Я тоже размышлял об этом, господин Атто. Эта музыка обладает таинственной силой… – Что верно, то верно. Как будто кудесник Кирхер вложил в нее драгоценную субстанцию, составляющую одно целое с самим ларчиком и оказывающую благотворное воздействие на все окружающее. Теперь ты понял? Я кивнул, все еще не слишком уверенный. – А нельзя ли побольше разузнать обо всем этом? – осмелился я спросить. – Почему бы не попытаться расшифровать рондо? Вы так разбираетесь в музыке, я же могу стянуть у Девизе его таблатуры. Возможно, и сам Девизе проговорится… Аббат жестом прервал меня. – Не думаю, что он знает больше нашего, – с отеческой улыбкой молвил аббат. – Да и какое это теперь имеет значение? Сила музыки – вот в чем тайна. За последние дни и ночи мы все думали, хотели понять и любой ценой решить загадку. И я первый.Девятая ночь С 19 НА 20 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
– Дело срочнейшее, опаснейшее, особа священная, – выдал Угонио с необычным волнением. – Священная? Что это значит? – удивился Мелани. – Гр-бр-мр-фр, – осеняя себя крестом, заявил Джакконио. – Чуть только речь заходит о дельце, имеющем отношение к церкви, или о ком-то наиважнейшем и наисвятейшем, тут, будьте спокойны, Джакконио нет равных в преклонении и почитании, ибо только исполнение своих обязанностей дарует верному радость. Мы с Атто озадаченно переглянулись. Приятели находились в состоянии непривычного возбуждения, пытались что-то объяснить о неком загадочном деле, связанном с каким-то высокопоставленным лицом из Курии, вроде бы священником, перед которым они благоговейно трепетали и за которого опасались. Горя нетерпением узнать, как прошло пребывание Джакконио в доме Тиракорды, мы с Атто нашли приятелей в «Архивах» склоненными над кучей костей. Воздав должное нечленораздельной речи Джакконио, Угонио добавил от себя, что у друга Дульчибени, врача, замышляется нечто опасное, направленное против одного высокопоставленного лица, личность которого пока не установлена. – Для начала расскажи, как ты проник в дом Тиракорды? – поинтересовался Атто. – Гр-бр-мр-фр, – лукаво улыбаясь, пробурчал Джакконио. – Через каминную трубу, – перевел Угонио. – Через каминную трубу? Вот отчего местоположение окон в доме его не интересовало. Но ведь эдак можно бог знает как перепачкаться… Ах, молчу, это я так, про себя, – поправился тут же Атто, вспомнив, что грязь – естественная среда обитания наших знакомцев. Без особых трудностей пробрался Джакконио в кухню, затем двинулся на голоса Тиракорды и Дульчибени, беседовавших в кабинете врача. – Толковали о чем-то малопонятном, навроде какие-то тайны бытия, философские построения, некромантия… – объяснил Угонио. – Гр-бр-мр-фр, – подтвердил Джакконио, обеспокоенно кивнув головой. – Да нет, это у них такие загадки, – прервал его Атто с улыбкой. Услышав загадки, которые Тиракорда задавал Дульчибени, Джакконио принял их за некий каббалистический ритуал. – Ну, словом, в разговоре доктор и брякнул, мол, этой ночью понаведается в Монте Кавалло, лечить одну священную особу, – переводил Угонио. – Я понял. Сегодня ночью он отправится в Монте Кавалло, то есть папский дворец, чтобы лечить какого-то важного прелата. – Атто бросил в мою сторону красноречивый взгляд. – А что еще? – После-то они с превеликим удовольствием отдали дань ликерам, и ладно, доктор-то и заснул. Дульчибени и на этот раз захватил с собой ликер, который так нравился Тиракорде и действовал на него усыпляюще. Но самое главное было впереди. Как только Тиракорда уснул, Дульчибени вошел в чулан и завладел горшком, изукрашенным странным орнаментом, с дырочками в стенках. Затем достал из кармана склянку и плеснул из нее в горшок. В этом месте рассказа мы с Атто обменялись встревоженными взглядами. – Совершая сие, он приговаривал: «Ради нее». – «Ради нее»? Занятно. А дальше? – спросил Атто. – А дальше нагрянула фурия., – Фурия? – в унисон спросили мы. Оказывается, в кабинете появилась Парадиза и с поличным поймала и муженька, одурманенного парами Бахуса, и его дружка с ликером в руках. – Что тут началось! Супружница вошла в такой раж! Как стало ясно из дальнейшего, Парадиза осыпала мужа попреками, оскорблениями, облила его содержимым чарок и закидала всем, что подвернулось ей под руку. Чтобы не пасть жертвой гнева своей супруги, Тиракорда был вынужден забраться под стол. – Уж это такая особа, что не приведи Господь! И послал же он ее доктору, заботящемуся о том, чтобы принести людям benefice, a не malefice, то бишь пользу, а не вред, – покачал головой Угонио, в то время как Джакконио всем своим видом выражал нетерпение и беспокойство. Пока Парадиза изливала свою ненависть к спиртному на беззащитного муженька, а Дульчибени рассудил за благо дождаться конца сцены, на глаза Джакконио попался один предмет, и тут он слегка отклонился от порученного ему задания: уж больно этот предмет пришелся ему по душе. – Гр-бр-мр-фр, – заурчал он восторженно, доставая из недр балахона великолепный череп – отполированный и словно бы подновленный, хоть и без нижней челюсти, – видимо, служивший Тиракорде учебным пособием. И пока Парадиза все больше распалялась, Джакконио преспокойно прошел в кабинет, обогнул стол, под которым нашел убежище хозяин кабинета, и завладел черепом, умудрившись остаться незамеченным. Однако случаю было угодно, чтобы один тяжелый подсвечник, брошенный Парадизой, отскочил от стола и попал в него. От боли и обиды Джакконио вскочил на стол и на пущенный в него метательный снаряд ответил воинственным кличем необычного свойства, способным вырваться лишь из его гортани. При виде этого бесформенного призрака, кидающегося в нее ее же собственным канделябром, Парадиза заверещала, Дульчибени окаменел, Тиракорда распластался на полу. На вопль хозяйки сбежались служанки, по дороге им встретился наш герой, скатывающийся кубарем по лестнице. При виде трех юных и свежих особ женского пола гроза склепов не удержался и облапал одну из них. Ощутив на себе когти чудовища, бедняжка тут же лишилась чувств; одна ее товарка зашлась в истерическом крике, а другая опрометью бросилась вверх по лестнице. – Не исключено, что девица от страху описалась, – уточнил Угонио, вульгарно подмигивая дружку. Получившему несказанное удовольствие от неожиданного развлечения Джакконио удалось достичь кухни и через камин (как? остается только гадать) выбраться наружу. – Невероятно, но в этих двоих больше жизни, чем в саламандре, – уважительно отозвался Атто. – Гр-бр-мр-фр, – загыкал Джакконио. – Что он сказал? – Дак в горшке-то были не саламандры, а пиявки, – уточнил Угонио. – Прошу прощения? Не хочешь ли ты сказать… – Аббат осекся. – Пиявки, вот что держит Тиракорда в горшке, так притягивающем Дульчибени… – догадайся и я и тоже замер во власти охватившего меня интуитивного озарения. – Я понял! Все понял! Дульчибени… О Господи!.. – Ну же, говори быстрее! – приказал Мелани, схватив меня за плечи и тряся как плодовое дерево. Компаньоны с удивлением взирали на нас, похожие на двух сов. – Он задумал убить папу, – выговорил я наконец, еле ворочая языком. После этого, словно раздавленные непомерным грузом этой догадки, мы сели на землю. – Что же это за жидкость, которую Дульчибени подлил тайком в горшок с пиявками, вот что меня мучит, – потерянно проговорил Атто. – Наверняка та самая, которую он получает из крыс и мышей на своем острове, – отозвался я. – Верно. Он их расчленяет, обескровливает. Но ведь это все больные твари, сколько нам попадалось их на пути, помнишь? – Ну да! Они все харкали кровью! А Кристофано говорит, что именно так и околевают больные чумой грызуны! – Значит, это были больные чумой грызуны, – подвел Атто итог. – И Дульчибени приготовил на основе их крови какую-то отраву, затем явился к Тиракорде и усыпил его с помощью ликера, а сам подмешал отраву в горшок с пиявками, которые таким образом превратились в переносчиков страшного заболевания. Сегодня ночью Тиракорда поставит эти пиявки на тело Иннокентия XI, – от волнения голос Атто сделался хриплым, – и заразит его чумой. Возможно, мы уже опоздали. – Сударь, да ведь мы с вами несколько дней ходили вокруг да около этой тайны. Мы даже слышали, как Тиракорда говорил, что папу лечат пиявками! – вскричал я. – Милостивый Боже, ты прав. – Мелани помрачнел. – Это было сказано, когда мы их подслушивали в первый раз. И как же я проворонил? Мы продолжали рассуждать вслух, припоминать, строить догадки, сводя все, что нам удалось увидеть и услышать, воедино. – Дульчибени начитался трудов по медицине, – развивал свои мысли аббат, – достаточно послушать, как он рассуждает об этом. Кому, как не ему, знать, что крысы заболевают во время эпидемии чумы и являются переносчиками болезни. К тому же он сопровождал Фуке, знакомого с секретами чумы. И наконец, он в курсе теории Кирхера, согласно которой чума распространяется не через миазмы, запахи, a per animalcula. Другими словами, с помощью крошечных существ, которые могут переходить с одной живой особи на другую. С крысы на папу. – Истинно так! – в волнении вскричал я. – В начале карантина, когда все обсуждали разные теории, связанные с возникновением и распространением чумы, Дульчибени в мельчайших деталях изложил нам теорию Кирхера. Он так прекрасно разбирался в вопросе, что можно было подумать – это единственное, что его занимает, как будто… – …не дает покоя, – подхватил аббат. – Ты прав. Мысль заразить папу чумой зародилась в нем некоторое время назад. Возможно во время общения с Фуке в Неаполе, где тот провел три года. – Это означает, что суперинтендант должен был очень сильно ему доверять. – Ну разумеется. Ведь именно в его подштанниках нашлось письмо Кирхера. Иначе с чего бы Дульчибени столь беззаветно служил слепому старику? – саркастически произнес Мелани. – Но где Дульчибени раздобыл этих самых animalcula, переносчиков чумы? – спросил я. – Всегда где-нибудь да есть вспышка болезни, даже если это и не приводит к эпидемии. В начале года я слышал об очаге заболевания, открывшемся на рубежах Империи в районе Больцано. Дульчибени мог разжиться зараженной кровью там, а опыты ставить здесь. А ближе к делу поселился в «Оруженосце», неподалеку от дома Тиракорды, и продолжал свои опыты на грызунах, всегда имея под рукой отраву. – Словом, он поддерживал чуму, заражая грызунов одного за другам. – Ну да, так и было. И все же что-то не сладилось. В подземных галереях далеко не безлюдно. Вспомни: крысы, постояльцы, шляющиеся туда-сюда, искатели святынь… Разбросанные горшки с кровью. Неспокойно, в общем. Один невидимый animalculum в конце концов добрался и до Бедфорда, и тот слег. Слава Богу, что не мы. – А болезнь Пеллегрино, а смерть Фуке? – Чума тут ни при чем. Твой хозяин упал и ударился. А Фуке, по мнению Кристофано, которое я разделяю, был отравлен. И я не удивлюсь, узнав, что виноват в том Дульчибени. – Как, и убийство Фуке на нем? Но Дульчибени не показался мне таким уж ненавистником рода людского, хотя… Словом, он много выстрадал, потеряв свою дочь, он скромен, вежлив, к тому же завоевал доверие старого Фуке, помогая ему, защищая его… – Дульчибени вот-вот убьет папу, – прервал меня Атто, – и ты первым догадался об этом. Почему бы ему не отравить и друга? – Все это так, но… – Все мы рано или поздно совершаем ошибку, доверяясь дурным людям. – Гримаса исказила его лицо. – И кроме того, тебе ведь известно, суперинтендант слишком полагался на друзей, – добавил он. При этих словах я вздрогнул. – Но ежели тебе по нраву сомневаться, вот тебе еще один повод, почище других. Этой ночью папа будет заражен чумой при помощи пиявок Тиракорды. Что послужило причиной? Только то, что семейство Одескальки не помогло Дульчибени разыскать его дочь. – И что же? – А то. Не кажется ли тебе маловато, чтобы приговорить к смерти понтифика? – Кажется… – Этого и впрямь слишком мало, – еще раз убежденно произнес Атто. – Думаю, было еще что-то, подвигнувшее Дульчибени на столь отчаянный поступок. Но в настоящий момент я не в силах этого разгадать. Пока мы так судили да рядили, приятели не теряли даром времени и тоже о чем-то оживленно спорили. Угонио даже встал, словно ему не терпелось выступить в путь. – Кстати, как тебе удалось уцелеть во время нашего падения в Клоаку Максима? – спросил я у него. – Дак клятва о спасании, данная Баронио. – Баронио? Кто это такой? Угонио обвел нас горделивым взглядом, словно готовясь сделать официальное заявление. – Где бы он ни был, налицо необходимость личного познакомства с ним, – проговорил он наконец. А Джакконио уже изо всех сил тащил нас в направлении галереи С. Некоторое время следовали мы за нашими провожатыми, и вдруг они остановились как вкопанные, хотя мы были только в начале пути. Мне показалось, что впереди послышались какие-то звуки и потянуло чем-то неприятным и резким, словно от козла. И тут Угонио с Джакконио склонились в низком поклоне, словно воздавая почести невидимому божеству. В пустой темноте подземелья завиделись прыгающие силуэты. – Гр-бр-мр-фр, – почтительно изрек Джакконио. – Его Превосходительство Баронио, капитан, предводитель всех поставщиков древних реликвий на римские рынки, – торжественно объявил Угонио. То, что народец этот насчитывает в своих рядах энное количество старателей, было вполне предсказуемо. Неожиданностью для нас стало то, что во главе его стоял вождь, за которым смердящая масса простых смертных признавала право на власть, престиж и чудотворность. И тем не менее это было так. Загадочный Баронио вышел нам навстречу, словно догадался о нашем приближении, в окружении сподвижников. Надо признать, представлявших собой весьма колоритную группу – если так можно назвать все оттенки серого и рыжего, в отсутствии иных цветов, – составленную из личностей, довольно-таки похожих на Угонио и Джакконио: в таких же видавших виды замызганных хламидах с длинными рукавами и капюшонами, скрывающими лица. Приспешники Баронио представляли собой самых отъявленных из человеческих типов, каких только можно было измыслить. От этого сброда и исходил тот самый всепроникающий животный и неистребимый запах, учуянный мною задолго до его появления. Баронио выделялся из общей массы ростом и телосложением. Сделав шаг в нашу сторону, он тут же отступил назад, за спины двух коренастых телохранителей. Вся банда тотчас сомкнулась вокруг него, подобно греческой фаланге, ощетинившись и издавая недоверчивое рычание. – Гр-бр-мр-фр, – бросил им Джакконио. Боевой порядок разомкнулся. – Это ты напугал Баронио, он перепутал тебя с daemunculussubterraneus[1208] – пояснил мне Угонио, – но я его успокоил и поручился, что ты надежный товарищ. Главарь банды спутал меня с одним из тех демонов, которые, согласно причудливым поверьям, населяют подземные потемки и в существование коих они неколебимо верят, хотя никогда их и не встречали. Угонио разъяснил мне, что лучшими умами оставлены многочисленные описания этих существ, стоит лишь заглянуть в труды Нисефора, Гаспара Скотта, Фор-туниуса Личето, Иоханнеса Эузебиуса Нерембергиуса и того же Кирхера, широко обсуждавших природу и нравы daemunculi subterranei; вкупе с циклопами, гигантами, пигмеями, уродцами об одной ноге, тритонами, сиренами, сатирами, павианами и прочая, и прочая. Однако бояться нам было нечего: гарантами нашей с Атто благонадежности выступали Угонио и Джакконио. Нам представили и других членов шайки, отвечавших, если только меня не подводит память, на столь редкие и незатасканные имена, как Галлонио, Стеллонио, Марронио, Салонио, Плафонио, Скакконио, Груфонио, Полонио, Светонио и Антонио. – Почту за честь, – иронично произнес Атто, с трудом подавляя отвращение. Именно Баронио, поведал нам далее Угонио, привел ему на помощь друзей, когда опрокинулась наша лодчонка, отдав нас на волю разбушевавшейся стихии Клоаки Максима. И вот теперь предводитель вновь догадался (как – оставалось загадкой, возможно, он откликался на запах Джакконио, сродный его собственному, либо обладал сверхъестественными способностями), что он требуется Угонио, и вышел нам навстречу, вынырнув из недр земных. Если только не воспользовался трапом, ведущим от Пантеона под землю. Словом, их связывало то ли некое братство, то ли чувство христианской солидарности. Через одного кардинала, большого любителя реликвий, они испросили у папы позволение основать архивное братство, но понтифик («почему-то», – удивлялся Угонио) до сих пор им не ответил. – Воруют, мошенничают, занимаются контрабандой и при этом еще прикидываются святошами, – шепнул мне Атто на ухо. Угонио смолк, предоставив слово Баронио. Бесконечные телодвижения его приспешников, связанные с необходимостью вечно почесываться, ловить вшей, покашливать, харкать, сморкаться, причмокивать при поедании каких-то замшелых кусков пищи, вдруг как по команде прекратились. Баронио выпятил грудь, строго ткнул своим когтистым пальцем в небо и повелел: – Гр-бр-мр-фр! – Бесподобно, – отозвался ледяным голосом Атто. – Мы говорим – как бы это выразиться? – на одном языке. – Это не язык, а зарок! – возразил Угонио, догадавшись, что его кумира тонко вышучивают. Так мы узнали, что манера изъясняться у членов шайки была связана не с их глупостью или необразованностью, а с неким зароком. – Покуда не сыщется Святая Вещь, разговаривать не дозволяется, – объяснил нам Угонио, как оказалось, единственный, кто был освобожден от зарока для связи с остальным миром. – Ах вот как? И что же это за святая вещь, которую вы разыскиваете? – Склянка с настоящей Кровью Нашего Спасителя, – ответил Угонио, в то время как все остальные закрестились. – Благородная и святая обязанность, – улыбнулся аббат, обращаясь к Баронио. – Молись, чтобы этот зарок никогда не исполнился, – шепнул он мне на ухо, – иначе все римляне станут изъясняться, как Угонио. – Это невозможно, – неожиданно возразил Угонио. – Учитывая, что я германец. – Ты? – Ну да, я родом из Виндобоны[1209], – уточнил он. – Ах вот как, уроженец Вены. Вот отчего ты так выражаешься… – Что правда, то правда, я владею итальянским как родным. Благодарствую Вашему Сиятельству за комплимент. Поздравив самого себя со своей вычурной манерой выражаться, Угонио изложил товарищам суть происходящего: один подозрительный субъект, проживающий в нашем гостином дворе, разработал план убийства Его Святейшества Иннокентия XI с помощью зараженных чумой пиявок, и это в то самое время, когда в Вене решается судьба христианства. Убийство намечено на сегодняшнюю ночь. Новость была принята возгласами негодования. Развернулись краткие, но оживленные дебаты, суть которых до нас донес Угонио. Плафонио предложил предаться молитве и просить Всевышнего о заступничестве. Галлонио выступал за дипломатический шаг: направить депутацию к Дульчибени и просить его отказаться от своих намерений. Стеллонио стоял на иных позициях: проникнуть в «Оруженосец», скрутить злодея и расправиться с ним на месте. Груфонио заметил, что подобная мера чревата нежелательными последствиями, такими, как столкновение со стражами порядка. Марронио придерживался той же точки зрения и добавил, что проникновение в закрытое на карантин заведение сопряжено с риском. По мнению Светонио, активные действия вообще не позволят расстроить планы Дульчибени, поскольку, ежели к папе отправится Тиракорда (тут Груфонио вновь перекрестился), все будет потеряно. Необходимо любой ценой задержать именно Тиракорду. Все обратили взоры на Баронио, и тот обратился с речью: – Гр-бр-мр-фр! После чего ракалья принялась подпрыгивать на месте и испускать воинственные кличи, потом построилась в шеренги по два и устремилась, подобно боевой единице, в галерею С по направлению к дому Тиракорды. Мы с Атто могли лишь наблюдать за происходящим, бессильные что-либо изменить. Угонио, оставшийся с нами, как и Джакконио, объяснил нам, что было решено любой ценой остановить Тиракорду, для чего окружить его дом и перехватить его карету, когда он сядет в нее и направится в Монте Кавалло. – А мы, господин Атто, что станем делать? – спросил я, настроенный противостоять тому, кто возымел охоту покуситься на жизнь Христова наместника на земле. Но аббат не услышал меня, поглощенный беседой с Угонио, внимающий ему и лишь изредка вставляющий испуганное «Ах, так!». Лишившись возможности самостоятельно принимать решения, он утратил свою всегдашнюю уверенность. – Ну так что будем делать? – Ясное дело – мешать Тиракорде совершить злодеяние, – отозвался Мелани, пытаясь обрести былую решительность в себе. – Пока Баронио со своими молодцами станет поджидать его на улицах, мы будем дежурить под землей. Взгляни-ка. Он развернул план подземных галерей, начертанный им самим, – один такой он уже утерял в Клоаке Максима. Ход С был продлен до пересечения с каналом, по которому можно было добраться до островной лаборатории Дульчибени и Клоаки Максима. Был дорисован и отрезок галереи Д, ведшей к каретному сараю Тиракорды, находящемуся вблизи «Оруженосца».
– Чтобы перехватить Тиракорду, недостаточно перекрыть улицы вокруг виа дель Орсо, – пояснил Атто. – Возможно, желание проскочить незамеченным заставит его предпочесть подземные пути Д, С, В и А и выйти на поверхность только на берегу Тибра. – Но почему? – Он вполне мог бы подняться по каналу до пристани Рипетта на лодке, что удлинило бы путь, но сделало бы преследование невозможным. Если только он не вздумает подняться наверх, используя один из неизвестных нам выходов. Надо бы разбиться на группы, чтобы избежать случайностей: Угонио и Джакконио будут дежурить в галереях А, В, С и Д. – Не слишком ли много для двоих? – Их не двое, а трое: не забывай про нос Джакконио. Мы же с тобой сосредоточимся на том участке галереи В, по которой никогда еще не ходили, чтобы не упустить Тиракорду, если он выберет этот путь. – А Дульчибени? – спросил я. – Вы не допускаете мысли, что он тоже будет бродить по подземным галереям? – Нет. Он сделал свое дело: заразил пиявок чумой. Дальнейшее – в руках Тиракорды. Угонио и Джакконио, получив указания, незамедлительно рысью пустились по галерее С. А пока мы с Атто не заступили на свои позиции, я не удержался и задал мучивший меня вопрос: – Господин Атто, вы – агент короля Франции? Он бросил на меня недобрый взгляд. – И что с того? – Да ничего… но папа ведь не очень большой друг Наихристианнейшего короля, а вы намерены его спасти. Он окаменел. – Ты когда-нибудь видел, как обезглавливают человека? – Нет. – Так вот, когда голова катится по земле, язык все еще шевелится. И может выговорить кое-какие слова. Вот отчего ни один государь не радуется смерти равного себе. Он боится этой катящейся головы и языка, могущего выболтать кое-что. – Так, значит, государи никогда никого не убивают? – Ну в общем, не совсем так… они могут это сделать, если под вопросом безопасность короны. Но политика, подлинная политика зиждется на равновесиях, а не наскоках, помни это, мой мальчик. Я исподтишка наблюдал за ним: дрожащий голос, бледность, бегающие глазки свидетельствовали о том, что им вновь овладевал страх – несмотря на то что он говорил, внутренняя неуверенность проявлялась во всем. Баронио со своими дружками не оставил ему времени на раздумья, взял все в свои руки и готовился спасти Иннокентия XI. Атто же оказался втянутым в героическую затею почти против воли, только оттого, что вовремя не остановил своего расследования. Отступать было поздно. Он мог только замаскировать свое замешательство, повернувшись ко мне напряженной и подергивающейся спиной и прибавив шагу. Добравшись до Архивного зала, мы безуспешно искали наших помощников, наверняка затаившихся в засаде в каком-нибудь укромном местечке. – Это мы. Все хорошо? – громко произнес Атто. Из-за пролета арки, погруженного в темноту, до нас донеслось бурчание Джакконио, настроенного явно доброжелательно. Мы двинулись дальше, продолжая обсуждать создавшуюся ситуацию, и сошлись в том, что проявили непростительную слепоту, забыв установить связь между столь ясными знаками, полученными в ходе предшествующих дней. К счастью, еще было не поздно ухватить за холку бешеную лошадь истины. Атто вновь постарался подбить бабки всему, чем мы располагали: – Дульчибени работал на семейство Одескальки в качестве счетовода или что-то в этом роде. У него была дочь Мария – плод его любовной связи с рабыней-турчанкой. Девочка была похищена бывшим работорговцем Ферони и его правой рукой Хьюгенсом, воспылавшим к ней вожделением. Мария была увезена куда-то далеко на Север. Полный решимости отыскать свою дочь, Дульчибени обратился за помощью к клану Одескальки, но получил отказ. Отсюда истоки его ненависти к ним, и, в частности, к могущественному кардиналу Бенедетто Одескальки, который тем временем был избран на папский престол. Ко всему еще после похищения происходит одно странное происшествие: Дульчибени подвергается нападению, его выбрасывают из окна, явно желая убить. Так? – Да. – Здесь первая загвоздка. Почему человек, совершивший на него покушение и оплаченный Ферони или Одескальки, хотел расправиться с ним? – Чтобы помешать ему отправиться на поиски дочери. – Может, и так, – не совсем уверенно ответил Атто. – Однако ты слышал, что все поиски оказались напрасны. Я думаю, дело в другом – Дульчибени стал представлять для кого-то опасность. – Господин Атто, а почему дочь Дульчибени была рабыней? – Разве ты не слышал, что говорил Тиракорда? Ее мать была рабыней, турчанкой, а Дульчибени не пожелал на ней женится. Я не очень-то разбираюсь в торговле чернокожими и неверными, но судя по тому, что заявляет Дульчибени, девочка-бастардка также рассматривалась семейством Одескальки как рабыня. Одного я не пойму: отчего Хьюгенс и Ферони просто не купили ее? – Возможно, Одескальки не пожелали ее продать. – Но они же продали ее мать! Нет, я думаю, Дульчибени воспротивился этому. Этим объясняется, почему ее выкрали, может, и с согласия самих хозяев. – Не хотите ли вы сказать, что столь ужасающее преступление было совершено с ведома семейства будущего понтифика? – потрясенно воскликнул я. – Именно это я и хочу сказать. И даже с ведома кардинала Бенедетто Одескальки, нашего нынешнего понтифика. Не забывай, Ферони был сказочно богат и могущественен. Таким людям не принято отказывать. Оттого-то Одескальки и не захотел помочь Дульчибени в поисках его дочери. – Как Дульчибени смог бы помешать ее продаже, если она была собственностью Одескальки? – Хороший вопрос. Как? В том-то вся суть. Дульчибени наверняка обнажил некое оружие, связавшее Одескальки по рукам и ногам. И они были вынуждены потворствовать похищению, а затем попытаться навсегда заткнуть рот Дульчибени. Ферони. Только я собрался поведать аббату, что это имя мне знакомо, но так и не вспомнил, когда и от кого его слышал, и предпочел промолчать. – Оружие против Одескальки. Какая-нибудь тайна… – прошептал аббат и во взгляде его мелькнула искорка удовольствия. Что-то, чем было замарано прошлое папы. Тут мне стало ясно – Атто Мелани, агент Его Величества короля Франции, отдал бы жизнь ради того, чтобы докопаться до сути. – Проклятие! Необходимо во что бы то ни стало разгадать эту загадку! – воскликнул Атто. – Но повторим еще раз: Дульчибени решает прикончить не кого-нибудь, а самого папу. Получить аудиенцию и заколоть его кинжалом немыслимо. Как убить человека на расстоянии? Можно попытаться отравить его, но подобраться к пище папы – задача не из легких. Дульчибени отыскал более замысловатое решение: вспомнил о давнем друге Джованни Тиракорде, папском лекаре. Здоровье папы Одескальки всегда было неважным, Дульчибени это известно. Тиракорда его лечит, Дульчибени желает воспользоваться этим. К тому же состояние здоровья папы, пребывающего в ужасе при мысли, что армии христианских держав могут быть разбиты под Веной, ухудшается. Папе отворяют кровь с помощью пиявок. И что же придумывает Дульчибени? Он спаивает Тиракорду, что нетрудно, поскольку полоумная жена лекаря Парадиза убеждена: алкоголь обрекает душу на вечное проклятие, и Тиракорда вынужден пить тайком, а потому всегда очень быстро. И вот однажды, напоив его, Дульчибени заражает пиявок, предназначенных для папы, с помощью какого-то заразного зелья, изготовленного им на острове, где у него оборудована лаборатория. Пиявкам остается присосаться к святой плоти понтифика, и тому конец. – Какой ужас! – не удержался я. – Отчего же? Это просто-напросто то, на что способен жаждущий мщения человек. Помнишь наш первый ночной визит к Тиракорде? Дульчибени тогда еще спросил: «Как они?» Речь шла о пиявках. Но тогда Тиракорда разбил бутылку с ликером, и Дульчибени пришлось отложить исполнение задуманного. Зато вчера все прошло гладко, без сучка без задоринки. Он заразил пиявок со словами «Ради нее»: это и была его месть. – Ему требовалось укромное местечко, где можно было бы подготовиться. – Верно. И прежде всего, чтобы с помощью некоторых знаний, которые нам неведомы, получить и сохранить чуму. Он ловил крыс, держал их в клетке на острове, заражал, брал их кровь и с ее помощью вырабатывал некое злотворное снадобье. Он же выронил и ту страницу с библейским текстом по пути на остров. – И он же украл мои жемчужины? – Кто же еще? Но не перебивай меня. Когда объявили карантин и твой хозяин занемог, Дульчибени был вынужден похитить у Пеллегрино ключи и изготовить дубликат, дабы иметь доступ к подземным ходам и острову с храмом Митры. Он завернул дубликат в пробный оттиск из типографии Комарека, который случайно запачкал кровью, ведь ему постоянно приходилось иметь с нею дело. – На острове мы нашли такой же горшок для пиявок, как у Тиракорды, – подхватил я, – и кучу всяких приспособлений. – Горшок ему потребовался, чтобы держать в нем пиявок и удостовериться, что они могут питаться зараженной кровью и еще какое-то время не подыхать. Стоило ему понять, что он не единственный пользуется подземными ходами и что, возможно, за ним следят, он избавился от пиявок, могущих послужить доказательством его преступных намерений. Все эти приспособления и инструменты на острове позволили ему не только удачно завершить опыты на грызунах, но и приготовить смертельное снадобье. Вот почему все эти перегонные кубы, горелки так напоминали алхимическую лабораторию… – А что вы думаете по поводу того приспособления для удушения? – Возможно, он использовал его для удержания крыс, истекающих кровью, либо длярасчленения их. Вот отчего столько раз на нашем пути попадались агонизирующие крысы: то ли им удавалось бежать, то ли выжить. Что до склянки с кровью, найденной в галерее Д, она наверняка была утеряна Дульчибени, когда он носил ее в дом Тиракорды, чтобы отравить пиявок. – А еще мы нашли листья мамакоки, – напомнил я. – Этого пока я объяснить не в силах. Они никак не вяжутся ни с чумой, ни с намерениями Дульчибени. И вот что еще непонятно: как Дульчибени мог совершать все это – бегать, грести, взбираться наверх, подтягиваясь на веревке, к тому же в продолжение не одной ночи, ведь он далеко не юноша? Невольно начинаешь думать, что не обошлось без сообщника. Снова и снова обговаривая все наши открытия, мы дошли до люка, с помощью которого можно было попасть из галереи В в галерею А. Левая часть отрезка галереи В представляла собой последнюю из неисследованных нами частей галереи, отчего наше знание пролегающих под городом путей было неполным. Мы не воспользовались люком, чтобы попасть из галереи В в галерею А, как сделали бы, если бы нам нужно было вернуться в «Оруженосец», а продолжили путь. Благодаря нарисованному Атто плану я понимал, что впереди Тибр, по правую руку «Оруженосец», а по левую – изгиб канала. Ничего особенного по дороге нам на сей раз не попалось. Вскоре мы уперлись в каменную лестницу, напоминающую ту, что вела из чулана постоялого двора под землю. – Так мы окажемся на улице Орсо, – проговорил я, поднимаясь по ступеням. – Не совсем, чуть южнее, на улице Тор ди Нона. Поднявшись, мы очутились в неком подобии помещения с замощенным полом, похожего на то, что располагалось под «Оруженосцем». Над нашими головами было нечто вроде свинцовой или железной крышки, какой в Риме закрывают сточные канавы, откинуть которую или хотя бы сдвинуть на первый взгляд не представлялось никакой возможности. И все же было необходимо преодолеть это последнее препятствие, чтобы понять, где мы находимся. Сложив наши силы, уперевшись как следует в последнюю ступень каменной лестницы, мы спинами приподняли крышку и сдвинули ее настолько, чтобы пролезть в образовавшееся отверстие. А прислушавшись и оглядевшись, установили, что неподалеку от нас завязалась нешуточная драка. Мы ринулись на шум. Несмотря на ночную тьму, я различил стоящую посреди улицы карету. Два укрепленных на ней факела заливали ее зловещим светом. Были слышны задушенные крики: возница пытался отбиться от нескольких нападавших. Видимо, один из них овладел вожжами и застопорил движение. Лошади ржали и беспокойно прядали головами. Из кареты кто-то вышел, сжимая в руках (так, во всяком случае, мне показалось) объемистый предмет. Сомнений быть не могло: карета подверглась нападению грабителей. Хотя от долгого пребывания под землей в голове у меня все перепуталось, я узнал улицу Тор ди Нона, идущую вдоль Тибра и ведущую к улице Орсо. Аббат Мелани не ошибся. – Скорее туда, – шепнул он мне, кивнув в сторону кареты. Картина, представшая вслед затем моим глазам, глубоко потрясла меня; я знал, что совсем рядом, на мосту Святого Ангела, стоят часовые. И все же перспектива оказаться замешанным в какое-нибудь серьезное дело не остановила меня, я двинулся вслед за аббатом, жмущимся к стенам домов. – Помпео, на помощь! Стража! На помощь! – донесся из кареты слабый задушенный голос, принадлежавший Джованни Тиракорде. В мгновение ока мне все стало ясно: человек на передке кареты, отбивающийся от превосходящего числом противника и издающий отрывистые хриплые звуки, был не кем иным, как Помпео Дульчибени. В это было трудно поверить, но Тиракорда попросил сопровождать его во дворец Монте Кавалло. Слишком пожилой и неловкий, чтобы самому управляться с лошадьми, лекарь предпочел отправиться с деликатной и тайной миссией в сопровождении друга, а не кучера. Искатели реликвий, перекрывшие все подступы к дому Тиракорды, не упустили карету, выехавшую со двора. Все было кончено в несколько мгновений. Стоило сундучку лекаря перекочевать в руки нападавших, четверо или пятеро из них, удерживавшие Дульчибени, отпустили его и бросились наутек – пробежав мимо нас, они исчезли в направлении того отверстия в мостовой, из которого незадолго до этого вылезли мы. – Пиявки, они завладели пиявками! – вне себя от возбуждения зашептал я. – Тс-с! – пришикнул на меня Атто, из чего я заключил, что У него нет ни малейшего намерения ввязываться в заварушку. Заслышав подозрительные звуки, жители окрестных домов стали выглядывать из окон. С минуты на минуту могла нагрянуть стража. Тиракорда чуть слышно постанывал внутри кареты, Дульчибени слез со своего места на передке, видимо, желая помочь ему. И тут случилось нечто непредвиденное. Из сточного отверстия мостовой, в котором только что исчезла братия Баронио, вновь выскочил какой-то субъект и нетвердым шагом воротился назад к карете. В руках у него по-прежнему был тот предмет, который он похитил у Тиракорды. – Нет, будь ты проклят! Только не крест, в нем реликвия. – Умоляющий голос лекаря жалобно прозвенел в ночи, а человек, вошедший в карету с одной стороны, вышел с другой стороны. Это было его роковой ошибкой: там его поджидал Дульчибени. Послышался хлесткий удар бича, которым он сбил с ног грабителя. Пока тот безуспешно пытался встать на ноги, я узнал в свете факелов согбенный силуэт Джакконио. Мы подошли поближе, рискуя быть замеченными. Однако открытая дверца кареты мешала нам видеть. И тут послышался второй и третий удар бича, а вслед за тем ворчание Джакконио, которое ни с чем нельзя было спутать, на сей раз довольно четко выражавшее протест. – Мерзкие твари! – произнес Дульчибени, сунул предмет, отобранный у Джакконио, в карету, закрыл дверцу, вскочил на передок и погнал лошадей. И вновь слишком быстрая череда событий помешала мне прислушаться к доводам разума, я просто не успел испугаться, что могу быть втянутым в нечто богопротивное, и устраниться от опасного влияния аббата Мелани, способного завлечь меня в любое отчаянное и преступное предприятие. Вот отчего, помня об угрозе, нависшей над жизнью нашего Святейшего Иннокентия XI, я не посмел воспротивиться, когда аббат сгреб меня в охапку и потащил к трогающейся с места карете. – Теперь или никогда, – бросил он, когда мы нагнали карету и вспрыгнули на облучок. Но стоило нам вцепиться в поручни, предназначенные для слуг, карету тряхнуло. Чьи-то страшные руки протянулись из-за моей спины, стараясь за что-нибудь уцепиться. Со страху я чуть было не свалился. Оглянувшись же, увидел рядом с собой жуткую улыбку на беззубом дьявольском лице Джакконио. В одной руке он держал крест с реликвией. Карета, нагруженная сверх меры, резко накренилась. – Опять эта сволочь! Всех поубиваю! – послышалось с передка. Карета повернула налево на улицу Панико. По противоположной ее стороне за нами поспевала беспорядочная гурьба барониевых товарищей, бессильная что-либо сделать. Не дождавшись возвращения Джакконио, они, видно, снова выбрались на поверхность и бросились за нами вдогон. Однако нечего было и думать угнаться за лошадьми, мы повернули направо к площади Монте Джордано, откуда открывался прямой путь на Кьявика-ди-Санта-Лючия. Из-за того, что на задах кареты кто-то примостился, Дульчибени не мог двигаться по улице, ведущей ко дворцу понтифика, и потому мчался наобум. – Ты снова отличился? – крикнул Мелани Джакконио в тот миг, как карета стала набирать скорость. – Гр-бр-мр-фр, – оправдывался тот. – Ты понимаешь, что он сделал? – спросил меня Атто. – Ему мало было одержать победу, так он еще вернулся, чтобы похитить крест и реликвию, те самые, которые Угонио однажды уже чуть было не прикарманил, когда мы впервые оказались в конюшне Тиракорды. И потому Дульчибени вновь отбил свои пиявки. Банда Баронио, хотя и не упускала нас из виду, заметно отстала. В тот момент, когда мы снова повернули налево, из кареты донесся дрожащий и насмерть перепуганный голос Тиракорды, выглянувшего из окошка: – Помпео, Помпео, они нас преследуют, на задах кареты кто-то есть… Дульчибени не ответил. Неожиданный хлопок очень большой силы оглушил нас, а облако дыма лишило возможности что-либо видеть. – Пригнитесь, у него пистолет! – велел Атто, скорчившись как только мог. Я послушался. Карета понеслась еще шибче. Бедные лошади, и без того перепуганные недавним налетом незнакомцев, обезумели от внезапного оглушительного разрыва. Вместо того чтобы последовать нашему примеру, Джакконио принял самое неожиданное из решений: вскарабкался на шаткий и ненадежный верх кареты и пополз вперед, к Дульчибени. Однако удар хлыста вынудил его отказаться от нападения. Мы на бешеной скорости выскочили с улицы Пеллегрино на площадь Фиоре, и тут я увидел, как Джакконио отделил реликвию от креста и со всей силы стукнул им по голове Дульчибени. Судя по тому, как затряслась карета, он не промахнулся, нанеся упреждающий удар, не давший Дульчибени перезарядить свое оружие. – Если он не придержит лошадей, мы врежемся в стену и разобьемся, – прокричал Атто, чей голос потонул в грохоте, производимом каретой. И снова послышался свист хлыста, карета не замедляла бега, а наоборот, катилась еще быстрее. Я обратил внимание, что она перестала вписываться в повороты. – Помпео! О Господи! Остановите! – доносилось изнутри. Миновали площадь Маттеи и площадь Кампителли, оставив справа Монте Савелло; казалось, бешеная езда была лишена всякой цели и смысла. Укрепленные по бокам кареты факелы весело рассекали тьму улиц, и редким ночным прохожим, завернутым в плащи, предоставлялась возможность наблюдать нашу гонку. Раз мы даже столкнулись с ночным дозором, у которого не хватило ни времени, ни возможности остановить нас. – Помпео, умоляю, немедленно остановите, – молил Ти-ракорда. – Но почему он не тормозит? Почему мчится куда глаза глядят? – крикнул я Атто. Мы пересекали площадь Консолацьоне. Удары хлыста Дульчибени и бормотание Джакконио смолкли. Бросив взгляд поверх крыши кареты, мы увидели, как, стоя на сиденье, они дерутся, пустив в ход руки и ноги. Вожжи были брошены, лошадьми никто не управлял. – О Боже! Вот почему мы не повернули! – ужаснулся Атто. В эту минуту мы вылетели на длинную эспланаду Кампо Ваччино, откуда открывается вид на развалины античного Форума. Взгляд ухватил слева арку Септимия Севера, а справа развалины храма Юпитера Статора, вход в Фарнезские сады и арку Тита. Неровная поверхность древней римской дороги, по которой мы теперь неслись, представляла для нас страшную опасность. Мы чудом избежали столкновения с двумя римскими колоннами, лежащими на земле, проехали под аркой Тита и на бешеной скорости пустились под откос. Казалось, ничто уже не в силах остановить нас. – Каналья, отправляйся в ад, – громко с ненавистью прокричал Дульчибени. – Гр-бр-мр-фр, – послышалось в ответ. И в ту самую минуту, когда карета на всех парах влетела на широкую площадь, на которой шестнадцать веков возвышаются великолепные и безразличные к происходящему у их подножия руины Колизея, противник Дульчибени словно куль скатился с передка кареты. И пока на нас неудержимо надвигалась раскинувшаяся величественным амфитеатром громада, из-под колес донесся хруст. Задняя ось не выдержала долгой гонки, и карета накренилась вправо. Не дожидаясь, когда она окончательно завалится набок, мы с Атто спрыгнули и покатились по земле, вопя от страха и стараясь избежать огромных колес. Лошади заспотыкались, попадали, а карета с двумя ездоками, пролетев еще несколько метров, врезалась в покрытую камнями и заросшую бурьяном землю. В следующие секунды рассудок мой помрачился, а когда я поднялся с земли, то не сразу пришел в себя, хотя был цел и невредим. Карета лежала на боку, одно ее колесо вращалось в пустоте, факелы погасли и дымились. Та серая масса, что чуть раньше скатилась на землю, была не чем иным, как Джакконио, сброшенным Дульчибени. Мы ус – пели кинуть на него лишь взгляд, поскольку наше внимание тут же привлекло движение внутри кареты. Атто указал мне на дверцу, открытую в небо. Мы без слов поняли друг друга и, не колеблясь, бросились к ней. Тиракорда стонал и был в полубессознательном состоянии. Я опередил Атто и вырвал у него из рук тяжелый кожаный сундучок с металлическими уголками, в котором что-то позвякивало. Именно его видели мы в руках Джакконио: это была герметичная емкость для перевозки пиявок. – Он у нас в руках! Бежим! Но не успел я закончить фразу, как чья-то сильная рука грубо отбросила меня на жесткую землю. И я покатился по ней, что тюк. Судя по всему, Дульчибени опамятовался от удара, подскочил ко мне и попытался вырвать у меня сундук, но я сложился вокруг него, как еж, закрывая свою добычу руками, ногами, грудью. Ему удалось приподнять меня, но не разлучить меня с нею. И пока старый янсенист давил на меня всем своим тяжелым телом и избивал, аббат Мелани пытался остановить его. Однако не тут-то было: казалось, в Дульчибени вселилась сила сотни человек. Все трое покатились мы по земле, переплетясь в яростный клубок. – Прочь, Мелани, – вопил Дульчибени. – Ты не ведаешь, что творишь! – Ты и правда захотел убить папу, чтобы отомстить за дочь? За эту наполовину темнокожую бастардку? – Не тебе… – задохнувшись, начал было Дульчибени, но Атто удалось заломить ему руку. Тут Помпео нанес ему удар кулаком по носу, отчего аббат отлетел в сторону и застонал. Я все еще цеплялся за сундук, когда Дульчибени повернулся ко мне. Ужас сковал меня, я не смел пошевелиться. Он схватил меня за запястья и стал их выворачивать. Я выпустил свою добычу. Он подхватил сундук и бросился к карете. В свете луны я наблюдал за его действиями. Вскоре он показался снова: спрыгнул на землю с ношей в левой руке. – Подай мне вон то, с заднего сиденья, – проговорил он, обращаясь к Тиракорде. Затем протянул правую руку и выхватил протянутый ему пистолет. Вместо того чтобы перезаряжать первый, он предпочел взять с собой второй, заряженный. Атто поднялся с земли и бросился к карете. – Аббат Мелани, – проговорил Дульчибени с угрозой и насмешкой в голосе, – раз тебе так нравится выслеживать, не стесняйся, – и бросился к Колизею. – Стой! Отдай сундук! – приказал Атто. – Господин Атто, Дульчибени… – попытался я предупредить его. – …вооружен. Знаю, – ответил Атто, из осторожности приседая. – Но это не значит, что мы должны его прошляпить. Я был поражен решительным тоном, каким Атто произнес эти слова, и мне открылось вдруг, что творилось в его душе и в мыслях и почему он не колеблясь вскочил на задок тиракордо-вой кареты и рисковал жизнью, преследуя Дульчибени. Естественная склонность Атто вмешиваться во всякого рода темные дела, как и непомерная гордыня, распиравшая его, стоило ему учуять заговорщиков, до сих пор не получили должного удовлетворения. Пойдя по следам Дульчибени, он был вовлечен в водоворот событий и уже не мог и не хотел отступать. Ему позарез нужно было дойти до мельчайших подробностей. Атто шел по следу не ради того, чтобы отобрать у кого-то зараженных пиявок, он преследовал чужие тайны. И пока все эти догадки и озарения с бешеной скоростью замелькали перед моим мысленным взором, Дульчибени успел уже добежать до Колизея. – За ним! Пригибайся к земле, – бросил мне Атто. Не смея воспротивиться, осознавая выпавшую на нашу долю миссию, я перекрестился и бесстрашно устремился вперед. Мгновение – и Дульчибени исчез под темными арочными пролетами. Атто же кинулся вправо, словно собирался проделать тот же путь, что и Дульчибени, только обогнув Колизей с внешней стороны. – Мы должны перехватить его, пока он снова не воспользовался своим пистолетом, – шепнул он мне. Петляя, мы достигли аркад, вскарабкались на одну из мощных несущих колонн, подобно плющу, обвивающему каменные глыбы, и заглянули внутрь: никаких признаков человеческого присутствия. Мы продолжили путь, не переставая прислушиваться. Второй раз в жизни оказался я в Колизее. Мне было известно, что это обиталище сов, летучих мышей, сутенеров, воров и злодеев всех сортов, прячущихся от правосудия либо замышляющих недоброе. Повсюду, за исключением тех мест, куда попадал лунный свет, тьма была полной. Мы продвигались вперед крадучись и очень осторожно, стараясь не споткнуться на неровных, ушедших в землю камнях. И все же неизбежный шум, производимый нами при ходьбе, отдавался от сводов арок и стен. Стена, отделяющая амфитеатр от арочных пролетов, была испещрена окошками, позволяющими видеть арену. И вдруг почти полная тишина, царящая в Колизее в этот час, была нарушена словами, произнесенными четким голосом, заставившим нас вздрогнуть. – Бедный Мелани, до конца своих дней раб своего короля. Атто встрепенулся. – Дульчибени, где ты? – Возношусь на небо, хочу разглядеть Бога поближе, – прозвучало в ответ после минутной паузы из какого-то непонятного места, казавшегося одновременно и близким, и далеким. Напрасно мы озирались и таращили глаза. – Погоди, поговорим, – предложил Атто. – Если ты меня послушаешь, я тебя не выдам. – Знаешь, аббат, а я вовсе не против. Но сперва отыщи меня. Голос стал удаляться. Он шел не от арок и не снаружи. – Он внутри, – сделал вывод Атто. Гораздо позже, много времени спустя, я узнаю, что стене, отделяющей амфитеатр от аркад и позволяющей видеть арену, постоянно наносился ущерб. Попасть на арену законным образом можно было лишь через проходы, расположенные с двух сторон здания, ночью забранные деревянными опускными решетками. Всякие дурные люди, превращавшие руины в свое пристанище, проделывали в этой стене бреши, а властям было недосуг их вновь заделывать. Дульчибени наверняка воспользовался такой брешью для проникновения внутрь. – Сюда, Мелани, сюда. – Голос Дульчибени не переставал удаляться. – Проклятие, я не… Вот она! – воскликнул вдруг Атто. Это была даже не брешь, а просто увеличенная в размерах амбразура в стене на высоте половины человеческого роста. Мы полезли в нее, помогая друг другу. Пробираясь на арену, я испытал страх, когда чья-то рука схватила меня за плечо. При мысли, что это один из преступников, которыми кишели руины, я чуть было не завопил, но привычное «гр-бр-мр-фр» успокоило меня. Убедившись, что это Джакконио, я облегченно вздохнул и сообщил Атто, что в нашем полку прибыло. Аббат отправился на разведку, мы за ним, по одному из многочисленных коридоров, протянувшихся между стенами Колизея и ареной, чей песок несколькими веками ранее впитывал в себя кровь гладиаторов, львов и мучеников, приносимых в жертву безумию языческих толп. Мы шли гуськом вдоль высоких каменных стен, спускающихся к центру Колизея, на которых когда-то располагались места для публики. Ночной час, влажность, зловоние, шедшее от полуразрушенных стен, арочных пролетов и пешеходных мостиков, вместе со свистом снующих над нами летучих мышей придавали Колизею угрожающий и неспокойный вид. Запахи плесени и тлена мешали Джакконио – это при его-то феноменальных способностях – определить, где находился Дульчибени. Я видел, как Джакконио раз за разом поднимал свой сверхчувствительный орган и с животным шумом втягивал в себя воздух. Лишь лунный свет, заливавший самые верхние белокаменные ступени, хоть немного успокаивал и позволял продвигаться вперед, не угождая в то и дело попадающиеся на пути провалы. Поиски ни к чему не приводили. – Дульчибени, где ты? – крикнул, остановившись, Атто. Ответом ему было тревожное молчание руин. – А что, если нам разделиться? – предложил я. – Не может быть и речи. Кстати, что сталось с твоими друзьями? – обратился Атто к Джакконио. – Гр-бр-мр-фр, – отвечал тот, жестикулируя и давая понять, что скоро подойдет вся шайка. – Что ж, подкрепление не помешает… – Эй ты, раб коронованных особ, отчего ты меня никак не поймаешь? Дульчибени подстрекал нас к активным действиям. На сей раз он явно находился над нами. – Янсенист, тупица, – чуть слышно произнес Атто, раздраженный провокационным обращением к нему Дульчибени, и добавил громче: – Помпео, иди сюда, я хочу всего лишь поговорить с тобой. Зычный хохот раздался сверху. – Хорошо, я приду сам, – отвечал Атто. Заявить об этом было проще, чем сделать. Внутренность Колизея, включая арену, представляла собой лабиринт из развалившихся стен, попорченных архитравов и полуобрушенных колонн, имевших вид какого-то фантастического леса, в котором было трудно сориентироваться еще и оттого, что свет луны едва пробивался сквозь затянутое облаками небо. Веками Колизей был брошен на произвол судьбы, затем превращен в карьер по добыче мрамора и камня для многочисленных церквей, возводимых понтификами. Как я уже сказал, остались лишь стены, на которых прежде были расположены ступени с местами для зрителей, они веером поднимались от арены к верхушке внешней стены. Вкупе с узкими проходами, связующими круговые и концентрические коридоры, все это являло собой в нынешнем виде хаотическое нагромождение камней. Мы бодро передвигались по одному из круговых коридоров, пытаясь определить, откуда доносился голос. Все было напрасно. Тогда Атто снова бросил вопросительный взгляд на Джакконио, но попытка того на нюх распознать местонахождение господина из Марша и на этот раз не увенчалась успехом. Дульчибени словно бы догадался о возникших у нас затруднениях, потому как вновь подал голос: – Аббат Мелани, я теряю терпение. Против всякого ожидания, голос раздался совсем близко, но эхо мешало установить, откуда именно он шел. Любопытное дело, стоило смолкнуть эху, как послышался другой звук, хорошо мне знакомый – будто бы кто-то втягивал в себя носом табак. Этот звук повторился несколько раз. – Вы слышали? – одними губами спросил я у Атто. – Как будто… он нюхает табак. – Вот странно, в такую минуту, – удивился Мелани. – Сегодня вечером он делал то же самое, когда отказался спуститься к ужину. – То бишь накануне того, как приступить к приведению в исполнение своего плана, – отметил аббат. – Вот именно. Я и раньше заставал его за этим занятием – перед тем как держать речь о браках между коронованными особами, об утративших стыд и совесть монархах, и еще не раз. Я обратил внимание, что после понюшки этого порошка он оживляется, словно бы становится сильнее. Как будто это помогает ему прочистить мозги или… снять усталость, снова обрести силы. – Кажется, я все понял, – прошептал Атто, но не успел ничего объяснить. Джакконио вцепился в нас и потащил за собой на середину арены, рассчитав, что там ему будет легче принюхаться. И впрямь, оказавшись на открытом месте, он потянул носом и вздрогнул. – Гр-бр-мр-фр, – ткнул он в сторону величавых стен. – Ты уверен? – в один голос спросили мы, испуганно озирая опасные и труднодоступные руины. Джакконио кивнул головой, и мы тут же направились к указанному им месту. Амфитеатр имеет четыре яруса, три нижних представляют собой идущие по всему эллипсу арочные пролеты, разделенные пилястрами и полуколоннами. Джакконио указал нам на средний ярус, по высоте намного превосходящий наш постоялый двор. – Как мы туда заберемся? – спросил его Мелани, забыв понизить голос. – Попроси своих обормотов помочь тебе, – крикнул Дульчибени. – Ты прав, неплохая мысль, – бросил он в ответ, а затем примолвил потише, обращаясь к Джакконио: – Ты не ошибся, голос доносится оттуда? Джакконио, не дожидаясь, двинулся вперед и подвел нас к одной из двух деревянных решеток, которыми забраны оба проема на концах эллипса, открытых только днем. От решетки начиналась широкая и крутая лестница, уходившая куда-то наверх и тонущая в самом чреве Колизея. – Он поднялся здесь, – согласился Мелани. Лестница вывела нас на второй ярус. Огромный коридор опоясывал весь амфитеатр на довольно-таки приличной высоте. Причем света здесь, в этих удаленных от cavea[1210] мест, было гораздо больше. Отсюда открывался величественный вид как на арену, на пологие стены, прежде служившие местом расположения зрительских рядов, так и на стены над ними, которыми был обнесен древний цирк. Зрелище было столь захватывающее, что мы чуть было не забыли во время краткой передышки, что привело нас сюда. Однако сиплый и резкий голос Дульчибени вернул нас к действительности. – Ты почти у цели, шпион короля. И тотчас раздался выстрел. Мы как по команде повалились на камни. Дульчибени стрелял по нам. Что-то затрещало всего в нескольких шагах от нас, отчего мы снова испуганно встрепенулись. Передвигаясь на четвереньках, я нащупал пистолет Дульчибени, расколовшийся при падении. – Дважды промахнулся! Жаль. Смелей, Мелани, теперь у нас равные силы. Я протянул куски пистолета Атто. Тот задумчиво смотрел в сторону Дульчибени, и пока мы приближались к нему, проговорил: – Чего-то я все же никак не возьму в толк. Я тоже был озадачен. Сомнения одолели меня, уже когда я поднимался по лестнице. К чему Дульчибени было увлекать нас в это странное преследование при свете луны, теряя драгоценное время и рискуя попасться с поличным? Зачем ему требовалось непременно затащить аббата на высоту, пообещав признаться во всем, что тот ни пожелает? Пока мы, задыхаясь, преодолевали старинные, разрушенные временем ступени, послышалось эхо дальних криков, что-то вроде воинственного клича многих глоток, словно войска сошлись в условленном месте. – Я предвидел это, – произнес Мелани. – Сбиры подоспели, бешеная езда Дульчибени не могла остаться незамеченной. Насмешки со стороны нашей жертвы облегчили нам задачу установить ее местонахождение, однако вместе с тем стало ясно, что будет ой как нелегко до нее добраться. Оказалось, что Дульчибени взгромоздился на стену, служившую основанием для зрительских рядов, от которых теперь ничего не осталось. От коридора, в котором мы находились, она под углом поднималась к самому верху Колизея, где во внешней стене было проделано окошко. Он сидел, удобно устроившись под окошком, прислонившись спиной к стене, в руках его по-прежнему был сундучок. Я был поражен дерзостью, с какой он туда взобрался: стена, у которой он примостился, нависала над пустотой, страшная смерть ждала того, кто свалился бы оттуда, за окошком была пропасть, по высоте равнявшаяся двум домам. Странно, но Дульчибени, казалось, это не смущало. Три страшные бездны раскинулись у его ног: арена Колизея, внешняя пропасть и небо, обрамлявшее грандиозное место действия происходящего. Теперь нас отделяло от того, за кем мы гнались, пространство, не превышающее ширину обычной улицы. – Вот они, спасители ростовщика из Комо в тиаре, дикого и ненасытного зверя! – воскликнул Дульчибени и зашелся в хохоте, показавшемся мне принужденным, словно он был плодом странного союза гнева и радости. Атто бросил на нас вопросительный взгляд. Дульчибени вновь принялся втягивать в себя порошок. – Знаешь, я понял, – заявил Атто. – Ну давай, Мелани, скажи, что ты понял. – Что этот табак – вовсе не табак. – Браво! Хочешь, скажу тебе кое-что? Ты прав. Внешность бывает обманчива. – Ты нюхаешь эти листья, эту… – Мамакоку! – наконец сообразил я. – Какая прозорливость! Примите мое восхищение, – язвительно отвечал Дульчибени. – Вот отчего ты не устаешь ночами, но днем ты раздражителен и потому продолжаешь нюхать ее в толченом виде и днем. Оттого-то тебе случается держать речи перед зеркалом, воображая, что перед тобой твоя дочь. Когда ты заводишь один из своих безумных монологов по поводу монархов и династий, ты воспламеняешься и никто не в силах остановить тебя, поскольку это растение поддерживает физические способности, но… затуманивает рассудок и делает тебя одержимым. Или я ошибаюсь? – Я вижу, ты получил много удовольствия, обучая своего ученика ремеслу шпиона, вместо того чтобы предоставить его собственной судьбе, наиболее подходящей таким, как он, – быть паяцем при дворе или гаером, – ответил Дульчибени, гнусаво хохоча. Это было сказано в отместку за то, что я подслушивал у него под дверью и обо всем доносил аббату. Дульчибени легко вскочил на ноги, забыв о бездне, и взобрался, невзирая на мешавший ему сундучок, на гребень внешней стены в три метра шириной. Выпрямившись, он стоял высоко над нами, а неподалеку от него, справа, высился деревянный крест в человеческий рост, установленный на Колизее в знак того, что памятник освящен в честь христианских мучеников. Дульчибени бросил взгляд вниз, по другую сторону стены. – Смелее, Мелани, скоро подоспеет твоя помощь. Сбиры уже тут как тут. – Ну а пока они не сбежались, не скажешь ли, почему ты желаешь смерти Иннокентия XI? – А ты поломай себе голову, – отходя от края, предложил Дульчибени. Атто за это время удалось взобраться повыше и приблизиться к Дульчибени. – Что он тебе сделал, черт побери? – задушенным голосом спросил он. – Посрамил христианскую веру, покрыл ее стыдом? Ты ведь так думаешь, не правда ли? Скажи, Помпео, одержимый, как и все янсенисты. Ты ненавидишь весь свет, поскольку тебе не удается возненавидеть самого себя. Дульчибени хранил молчание. Цепляясь за камни, Атто с трудом карабкался на стену, где находился его противник. – Опыты на острове, посещения Тиракорды, ночи, проведенные под землей. И все это ради маленькой беспородной сучки, к тому же еще и не христианки, бедный сумасшедший! Тебе бы благодарить Хьюгенса и старого слюнтяя Ферони, которые оказали ей честь, лишив девственности, прежде чем выбросить в море. Я был потрясен грубостью аббата, но скоро понял: Атто провоцировал Дульчибени с целью заставить раскрыться, и достиг-таки цели. – Молчал бы уж, кастрат, стыд Божий, вообще ни на что не годный, – взревел вдруг Дульчибени. – Я давно знал, что ты питаешься дерьмом, но что ты так им переполнен… – Твоя дочь, Помпео, – прервал его Атто, – ее хотел купить старик Ферони, не так ли? От удивления Дульчибени застонал. – Продолжай. Ты на верном пути, – только и выдавил он из себя. – Так вот, – продолжал Атто, задыхаясь, – Хьюгенс занимался делами Ферони и по этой причине часто общался с Одескальки, а значит, и с тобой. Однажды он заприметил твою дочку и влюбился. Как обычно, это дурак Ферони пожелал исполнить его прихоть любой ценой. Он попросил Одескальки продать ее, чтобы потом, когда Хьюгенс ею насытится, избавиться от нее. Возможно, он получил ее из рук самого Иннокентия XI, тогда еще кардинала. – Из его рук и рук его племянника Ливио, будь они прокляты, – поправил его Дульчибени. – Воспротивиться этому на законных основаниях ты не мог, поскольку не женился на матери девчонки, несчастной турецкой рабыне, вот почему твоя дочь тебе не принадлежала, а была собственностью Одескальки. Но ты нашел способ воздействия на это семейство: затеять скандал, запятнать честь Одескальки. Словом, ты их шантажировал. Дульчибени молчал, что выглядело как подтверждение правильности сказанного. – Мне не хватает одной детали. Когда была похищена твоя дочь? – В тысяча шестьсот семьдесят шестом, – ледяным тоном отвечал Дульчибени. – Ей было двенадцать лет. – Накануне конклава, так ведь? – Атто продолжал шаг за шагом приближаться к своему противнику. – Верно. – Готовились к выборам нового папы, и кардинал Бенедетто Одескальки, не добравший всего ничего на предыдущем конклаве, чтобы стать папой, настроился на победу во что бы то ни стало. И был у тебя в руках: если бы новость о неблаговидном поступке достигла ушей других кардиналов, разгорелась бы такая свара, что ему вообще пришлось бы расстаться с мыслью быть избранным. Так ли? – Так-то оно так, – не скрывая удивления, подтвердил Дульчибени. – Но о каком деле шла речь, Помпео? В чем провинились Одескальки? – Сначала закончи свою историю, – мрачно процедил Дульчибени. Ночной ветер ощущался на высоте гораздо сильнее, чем внизу. Я уж и не знал, дрожу ли я от страха или от холода. – С большим удовольствием, Помпео; ты думал, тебе удастся воспрепятствовать продаже твоей дочери, но не тут-то было. Ферони при пособничестве Одескальки похитил ее и надолго закрыл тебе рот, дав время Бенедетто избраться на папский престол. Ты пытался найти дочь, но был очень нерасторопен. – Я объездил всю Голландию вдоль и поперек. Одному Богу известно: большего я сделать не мог, – взревел Дульчибени. – Ты стал жертвой страшного случая: кто-то вышвырнул тебя из окна. Но ты выжил. – Фортуна была на моей стороне: меня спасла живая изгородь под окном. Продолжай, Мелани. После этого уточнения Атто заколебался, видимо, почувствовал, что зашел слишком далеко. Я, в свою очередь, тоже задался вопросом, почему Дульчибени терпит все это. – Ты бежал из Рима, тебя преследовали, тебе угрожали, – продолжал между тем Атто. – Остальное было мне уже известно. Ты сделался янсенистом, в Неаполе повстречался с Фуке. Но кое-что мне все же непонятно: зачем мстить теперь, когда прошло столько лет? Может, потому, что… Ах, я понял. – Аббат поднес руку ко лбу, что означало крайнее удивление. Расстояние между ним и Дульчибени постепенно сокращалось. – Конечно же, в Вене идут бои. Если убить папу сейчас, союз христиан распадется, турки победят и опустошат Европу, не так ли? – изменившимся от возмущения голосом закончил он. – Европа и без того уже опустошена, своими же государями. – О безумец! Ты хотел… ты хочешь… И тут на Мелани напал чих, какого еще не бывало. Его так корежило, что недолго было и сверзиться с огромной высоты. – Проклятие! – обиженно проговорил он. – Прежде только одно могло заставить меня чихать: голландское полотно. Теперь понятно, отчего я так часто чихаю с тех пор, как оказался в этом проклятом постоялом дворе. Я тоже понял, что он имел в виду: виной тому было старое голландское полотно, из которого изготовили платье Дульчибени. Однако мне тут же припомнилось, как Атто чихал и при мне. Видно, это случалось тогда, когда я навещал его после общения с янсенистом. Если только не… Однако умозаключения пришлось отложить до лучших времен. Дульчибени отчего-то не спускал глаз с кареты Тиракорды. – Ты еще не во всем мне сознался, Помпео, – обретя равновесие и усевшись на стене, вновь заговорил Атто. – Как именно шантажировал ты Одескальки? С помощью чего держал кардинала Бенедетто в руках? – Мне больше нечего добавить, – вновь бросив взгляд вниз, отвечал Дульчибени. – Э нет, так просто тебе не отделаться! Да к тому же история с твоей дочерью тоже не слишком складная. Этого мало, чтобы покуситься на жизнь понтифика. Посуди сам. Ты отказываешься сперва жениться на матери своего ребенка, а потом идешь на любые безумства, чтобы отомстить за дочь? Нет, что-то тут не то. И потом наш папа – не враг янсенистам. Ну же, говори, Помпео! – Тебя это не касается… – Ты не можешь… – Мне больше не о чем разговаривать с прихвостнем короля. – Но ведь ты, кажется, хотел оказать немалую услугу этому королю, пустив в ход пиявки. Одним ударом освободить его от папы и от Вены. – Неужто ты и впрямь думаешь, что Людовик XIV выиграет от этого всего? – взревел Дульчибени. – Да османская волна смоет и французского короля. Никакой пощады предателям – вот правило победителя. – Ах, так, значит, в этом заключается твой план возрождения подлинной христианской веры! Да ты и впрямь закоренелый янсенист. Что ж, давай сметем с лица земли Римскую Католическую Церковь и христианских государей, сожжем алтари, вернемся ко временам мучеников: пусть турки перережут всех, зато вера укрепится! И ты в это веруешь? Кто же из нас двоих более заблуждается? Пока они вели словесное сражение, я отошел к лестнице, которой мы воспользовались, чтобы подняться на второй ярус, и примостился на небольшой площадке, откуда было удобно наблюдать за тем, что происходило вне стен Колизея. Только тут я понял, почему Дульчибени с таким интересом поглядывал вниз. Вокруг кареты суетились стражи порядка, слышен был голос Тиракорды. Кое-кто посматривал и вверх, видно, предполагалось задержать нас. И вдруг что-то случилось. От неожиданности я даже вздрогнул. Глухой рокот, похожий на хор воинственных кличей, поднялся вокруг Колизея, затем последовал треск, который обычно сопровождает падение камней и кусков дерева. Орда Баронио (видимо, неплохо подготовившись) окружила Колизей, вооруженная дубинками и палками всех калибров. Причем сделала это так стремительно, что посланники Барджелло не успели даже сообразить, что предпринять. В свете факелов, которые принесли с собой сбиры, происходящее предстало моим глазам как на ладони. Набег подземного племени был внезапен и безжалостен, как и положено варварам. Небольшая группа нападавших появилась со стороны арки Константина, другая нагрянула из-за стены, которой обнесены сады, выходящие на руины Курии Остилии, третья – из развалин храма Изиды и Сераписа. Вся эта рать в лохмотьях улюлюкала и вопила, наводя ужас на стражей порядка, коих было вдвое меньше. Оторопев от неожиданности, два сбира, державшиеся все это время чуть поодаль, первые пали под натиском атакующих со стороны арки Константина. Далее стычка превратилась в нечто совсем уж далекое от каких-либо правил ведения боя – просто в беспорядочную драку, где в ход пускалось все. Однако никто не умер, судя по тому, что вскоре жертвы нападения обратились в бегство по улице, ведущей к Сан-Джованни. Еще два сбира, уже было собравшихся проникнуть в Колизей, насмерть перепугавшись, со всех ног дали деру по направлению к Сан-Пьетро-ин-Винколи, даже не вступив в бой. Среди четверки бросившихся за ними вдогон я как будто бы узнал Угонио по его манере выражаться. Иначе сложилось у тех двоих сбиров, что охраняли карету Тиракорды: один из них пустил в ход саблю, легко отбившись от троицы нападавших. Второй, единственный прибывший к месту беспорядков верхом, водрузил на седло кого-то толстого и неловкого с сумкой на шее. Это был Тиракорда, если зрение не подводило меня, очевидно, стража приняла его за жертву ночного происшествия и решила отвезти в безопасное место. Стоило лошади с двумя седоками удалиться в сторону Монте Кавалло, сбир, сдерживающий натиск, также задал стрекача и вскоре был таков. Ничто более не нарушало тишины древних руин. Я вновь обернулся к Атто и Дульчибени, также не сводивших глаз с происходящего внизу. – Все кончено, Мелани. Ты выиграл с помощью своих замогильных уродов, своей манией выпытывать, подсматривать, плести интриги и нездоровым желанием пресмыкаться перед сильными мира сего. Мне осталось лишь отпереть сундучок и показать тебе содержимое, возможно, твоему ученику это будет особенно приятно. – Да, конечно, – устало вторил ему Атто. Расстояние между ними сократилось до нескольких локтей, Атто оставалось вскарабкаться на стену Колизея и предстать перед противником. Однако я не разделял мнение аббата: ничего еще не было окончено. Мы ночи напролет шли по пятам Дульчибени, терялись в догадках. И все это, чтобы ответить на главный вопрос: кто отравил Никола Фуке и почему? Меня удивило, отчего Атто так и не задал его. Ничто, однако, не мешало мне самому это сделать. – Зачем вам понадобилось убивать суперинтенданта, господин Помпео? Дульчибени вытаращил глаза да и закатился в хохоте. – Спроси об этом своего дорогого аббата, мой мальчик! – ответил он. – Спроси, почему его другу стало так плохо после ножной ванны. А еще почему он так суетился, забросал бедного старика вопросами, не дав спокойно умереть. И еще, что было подмешано в воду, какие яды действуют через кожу. Я инстинктивно обернулся к Атто, который словно воды в рот набрал. Было очевидно: ответ Дульчибени застал его врасплох. – Но ты… – только и мог он выговорить. – Я опустил в лохань одну из своих мышек, – продолжал янсенист, – она тут же сдохла в ужасных муках. Аббат Мелани, яд был сильнейшим и предательским: будучи растворен в воде, он проникает под ногти, въедается в кожу, не оставляя следов, поднимается до внутренностей и поражает их. Настоящее произведение искусства, подвластное лишь французским парфюмерам. Я не ошибся? И тут я вспомнил: когда Кристофано второй раз подошел к трупу, на полу возле лохани он заметил несколько лужиц, хотя я до этого еще утром подтер пол. Видно, беря немного воды на пробу, Дульчибени расплескал ее. Я вздрогнул при мысли, что мои руки касались убийственной жидкости, Слава Богу, доза была очень мала. Дульчибени снова обратился к Атто: – Это Наихристианнейший из королей доверил тебе столь деликатное поручение, а, аббат? От которого ты не мог отказаться, каким бы ужасающим оно ни было, желая дать ему высшее доказательство своей верности… – Довольно! Не имеешь права! – обрел вдруг дар речи Атто, карабкаясь на стену. – Должно быть, этот христианский монарх много чего наговорил тебе по поводу Фуке, поручая расправу над ним. Так? А ты, гнусный смерд, повиновался. Однако, умирая на твоих руках, Фуке прошептал какие-то слова, которых ты не ожидал. Могу себе представить, что это было – намек на некие тайны, что-то малопонятное для постороннего, однако этого хватило, чтобы ты понял, что сам являешься пешкой в игре, о существовании которой не имеешь понятия. – Ты бредишь, Дульчибени, я не… – снова попытался прервать его Атто. – Ты не обязан отвечать! Эти несколько слов останутся вашим с Фуке секретом, это не так уж важно, – борясь с крепчавшим ветром, продолжал Дульчибени. – Но в эту минуту ты понял, что король надул тебя, воспользовавшись тобой, и стал бояться за себя. И вознамерился разузнать все о постояльцах. При этом отчаянно пытался понять истинную причину того, почему именно тебе поручили расправиться с твоим другом. – Ты безумец, Дульчибени, и пытаешься обвинить меня, чтобы скрыть свою вину, ты… – А ты, мой мальчик, – Дульчибени вновь обращался ко мне, – расспроси аббата, почему последними словами Фуке было: «Ах, так это правда?» Разве они странным образом не напоминают знаменитую арию прошлого золотого века: «Аhi, dunqu'e pur vero?» Мелани, тебе ли, столько раз исполнявшему ее в его присутствии, не знать ее? Он хотел напомнить тебе об этом, умирая в страданиях, причиненных ему твоим предательством. Как Юлий Цезарь, увидевший своего сына Брута среди убийц. Атто больше не возражал. Он наконец взобрался на стену и в полный рост выпрямился передДульчибени. Молчание его, однако, было обусловлено иной причиной: противник готовился открыть сундучок с пиявками. – Я тебе обещал, а я всегда держу данное слово. Содержимое принадлежит тебе. С этими словами он подошел к самому краю стены, открыл сундучок, опрокинул его и потряс над пустотой. Несмотря на мою удаленность, я ясно видел, что оттуда ничего не вылетело. Он был пуст. Дульчибени расхохотался. – Дуралей! – бросил он Мелани. – Думал, я стану терять с тобой столько времени, забравшись черт знает куда ради удовольствия выслушивать твои оскорбления? Мы с Атто переглянулись, у обоих мелькнула одна и та же мысль: Дульчибени затащил нас сюда, чтобы выиграть время, а пиявок оставил в карете. – Теперь уж они следуют со своим хозяином в направлении папских вен, – добавил он, подтвердив наши подозрения. – И никому их не остановить. Вконец обессиленный Атто опустился на каменную стену. Дульчибени швырнул сундучок вниз. Несколько секунд спустя послышался глухой удар. Дульчибени воспользовался передышкой и втянул в себя мамакоки из табакерки, затем и ее отшвырнул подальше от себя победным и презрительным жестом. Однако эта бравада стоила ему равновесия. Он слегка покачнулся и, несмотря на все усилия удержаться, накренился вправо, где стоял большой деревянный крест. Все произошло в долю секунды. Он вдруг поднес руки к голове, словно страдал от мучительной боли или внезапного приступа недомогания, и рухнул на крест. Тут уж равновесие было окончательно им потеряно, и его тело полетело вниз внутрь Колизея, преодолев расстояние в несколько человеческих ростов. Фортуне было угодно сохранить ему жизнь и потому первый удар пришелся о кирпичную стену, наклонно идущую вниз, что смягчило его, и только потом он шмякнулся на каменные плиты, принявшие его так, как река принимает обломки кораблей, не выдержавших испытания бурей. Без помощи молодцев Баронио нам пришлось бы очень туго, и никогда бы не перенесли мы бездвижное тело Дульчибени. Он был жив и несколько минут спустя уже пришел в сознание. – Ноги… я их не чувствую, – были его первые слова. Подземные жители тут же откуда-то откопали тележку, видимо, принадлежавшую зеленщику, – старую, разбитую, но все же на ходу. Конечно, мы с Атто могли бы оставить Дульчибени в развалинах Колизея, но это, по нашему единодушному мнению, было бы бесполезной и даже вредной жестокостью – рано или поздно его все равно нашли бы. А хуже всего то, что, отсутствуй он во время очередной проверки, все постояльцы снова оказались бы в затруднительном положении. Решение спасти Дульчибени подействовало на меня успокаивающим образом: трагичная история его дочери не оставила меня равнодушным. Возвращение в «Оруженосец» было похоже на бесконечный страшный сон. Чтобы не попасть в руки сбиров, пришлось пробираться самым причудливым путем. Примолкшая и невеселая братия, помогавшая нам, явно была удручена мыслью, что не удалось помешать Тиракорде ускользнуть с его пиявками и что уже завтра станет известно о болезни папы. В то же время отчаянное состояние Дульчибени никому не внушало мысли выдать его: стычка со стражами порядка побуждала к соблюдению осторожности и молчанию. Для всех было лучше, чтобы о событиях этой ночи не осталось и следа, ну разве что в воспоминаниях. Слишком многочисленный отряд неизбежно привлек бы внимание, и потому часть искателей реликвий покинула нас, попрощавшись бурчанием вместо слов. Нас осталось семеро: Угонио, Джакконио, Полонио, Груфонио, Атто, Дульчибени (лежащий на тележке) и я. Поочередно толкая тележку, мы добрались до церкви Иисуса неподалеку от Пантеона, оттуда путь лежал по подземным галереям. И тут я обратил внимание на то, что Джакконио отстал. Я всмотрелся в него: он еле волочил ноги. Я указал на него остальным. Мы остановились и дождались его. – Спешка для него погубительна. Дыхалка не выдерживает, – объяснил Угонио. Но было ясно, что дело не только в крайней усталости. Он прислонился к тележке, а затем сполз на землю и оперся о стену. Дышал он с трудом. – Джакконио, что с тобой? – с беспокойством спросил я его. – Гр-бр-мр-фр, – пробурчал он, указав на живот. – Ты устал или тебе плохо? – Гр-бр-мр-фр, – повторил он свой жест, словно ему нечего было больше добавить. Даже не задумываясь, я протянул руку и дотронулся до его балахона в том месте, на которое он указал. Там было мокро. Раздвинув полы, я тотчас узнал неприятный, но знакомый запах. Остальные сгрудились возле нас. Атто Мелани подошел ближе всех, ощупал одежду Джакконио и поднес пальцы к носу. – Кровь. Господи Иисусе, нужно взглянуть, что там, – и быстрыми нервными движениями развязал веревку, удерживающую полы балахона. Посреди живота зияла рана, из которой струилась кровь. Рана была серьезная, было вообще непонятно, как он столько времени продержался на ногах. – Боже мой! Нужно что-то сделать, он не может идти с нами, – потрясенно проговорил я. Установилось молчание. Нетрудно было догадаться, какие мысли обуревали всех. Пуля, угодившая Джакконио в живот, была выпущена из пистолета Дульчибени, который, сам того не желая, смертельно ранил несчастного. – Гр-бр-мр-фр, – выдавил из себя Джакконио, махнув рукой вперед и показывая тем самым, что нам следует продолжать путь. Угонио встал перед ним на колени и стал что-то говорить, скороговоркой произнося слова и несколько раз повышая голос. Джакконио отвечал привычным бурчанием, но голос его становился все слабее. Атто догадался первым, чего следует ожидать. – Но не можем же мы бросить его здесь! Зови друзей, – обратился он к Угонио. – Пусть придут за ним! Нужно что-то придумать, позвать кого-нибудь, хирурга… – Гр-бр-мр-фр, – легко, но очень твердо выговорил Джакконио, это прозвучало как некая последняя и не подлежащая обсуждению воля. Угонио нежно коснулся его плеча, после чего встал, как будто их разговор был окончен. Полонио и Груфонио также, в свою очередь, подошли к раненому и обменялись с ним загадочными и смущенными словами. После чего преклонили колени и принялись молиться. – О нет, – простонал я, – этого не может быть. Атто, за все время нашего знакомства с искателями реликвий не выказывавший к ним ни малейшей симпатии, тоже не сдержал своих чувств: отойдя в сторонку, закрыл лицо руками и беззвучно зарыдал, так что только подрагивающие плечи выдавали его. Было похоже, что наконец-то он излил все, что накопилось на душе: жалость к Джакконио, Фуке, Вене, самому себе – предателю, а возможно, и преданному; одиночество. Размышляя над тем, что сказал по поводу смерти Фуке Дульчибени, я физически ощущал, как между мной и Атто сгущаются тучи. Джакконио становилось все тяжелее дышать; мы молились за него. Затем Груфонио отлучился, чтобы предупредить членов шайки (так, во всяком случае, мне показалось), и несколько минут спустя они явились, подняли бедное тело и унесли. «По крайней мере его достойно похоронят», – подумалось мне. На моих глазах прошли последние мгновения жизни Джакконио. Угонио поддерживал голову умирающего, вокруг толпились его собратья. Жестом призвав всех к молчанию, Джакконио в последний раз проговорил: – Гр-бр-мр-фр. Я вопросительно взглянул на Угонио, и тот, рыдая, перевел: «Будто слезинки в дождичек». На этом земной путь несчастного оборвался. Иных объяснений мне и не требовалось: этими несколькими словами Джакконио выразил всю скоротечность бытия: мы как слезы в дождь, с самого рождения теряющиеся в неумолимом потоке земной юдоли. Когда Джакконио унесли, мы продолжали путь с сердцем, исполненным невыразимой печати. Я шел с низко опущенной головой, словно подталкиваемый неведомой силой. Горе мое было столь непомерно, что у меня недоставало смелости взглянуть на Угонио из боязни не сдержать слез. На память пришло все пережитое вместе: исследование подземного города, история со Стилоне Приазо, проникновение в дом Тиракорды… Я представил, сколько им довелось преодолеть бок о бок, и, сравнив свои чувства с тем, что должен испытывать Угонио, понял всю безмерность и невозвратность этой потери для него. Сам же я горевал так, что остаток пути отошел на задний план и не слишком запечатлелся в памяти. Осталось лишь главное: спуск под землю, тяжелейший переход, перенос Дульчибени в его комнату в «Оруженосце». Чтобы спускать и поднимать его по бесчисленным лестницам, колодцам, протаскивать в люки, пришлось соорудить нечто вроде носилок из досок той самой тележки, которая послужила нам на поверхности. Так, накрепко привязанный к своему ложу, Дульчибени в бреду был доставлен нами – четырьмя членами шайки, мной и Атто – в «Оруженосец». Уже светало, когда подземные работяги распрощались с нами и исчезли. Что и говорить, я страшно боялся, как бы Кристофано не услышал нас, особенно когда мы оказались в чулане «Оруженосца» и затем пробирались по второму этажу. К счастью, Кристофано спал: из-за его двери доносилось мирное похрапывание. Пришлось навсегда распрощаться с Угонио. Атто отошел в сторонку, не желая мешать нам. Угонио обнял меня своими когтистыми лапищами, тоже понимая, что нам уж более не свидеться. Было маловероятно, чтобы я еще когда-нибудь спустился в его mundussubterraneus[1211], он же если и рассчитывал подниматься наверх, то лишь под покровом ночи, когда добропорядочные граждане и бедняки (вроде меня) спят сном праведников, устав от дневных трудов и забот. С тяжелым сердцем прощались мы друг с другом и более никогда уже не встретились. Нужно было поскорее лечь в постель и воспользоваться теми немногими часами, которые оставались до рассвета. И все же я был уверен: будучи потрясенным всем, чему пришлось стать свидетелем в эту ночь, мне не уснуть. А потому решил посвятить это время своему дневнику. Напоследок мы с Атто обменялись взглядами, в которых читалась одна и та же мысль: вот уже несколько часов, как пиявки сосут старческое тело Иннокентия XI. Все зависело от развития болезни, от того, будет ли оно неспешным или, напротив, стремительным. Возможно, новый день принесет весть о его кончине. А вместе с ней и другую: о том, чем закончилась битва за Вену.
СОБЫТИЯ С 20 ПО 25 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Записи, сделанные мною той ночью, были последними. События, которые последовали далее, не оставили мне времени (да и не внушали желания) для ведения дневника. К счастью, завершающие дни карантина, проведенные в «Оруженосце», запечатлелись, хотя и в общих чертах, в памяти. Наутро Дульчибени обнаружили в луже мочи, неспособного ни подняться с постели, ни даже подвигать ногами. Он вообще перестал их чувствовать – хоть коли, хоть режь, это не вызывало у него никаких ощущений. Кристофано предупредил нас о серьезности заболевания: ему не раз приходилось видеть подобных больных, к примеру, одного юношу, работавшего в мраморном карьере, упавшего с плохо сколоченных лесов, ударившегося спиной, а наутро очнувшегося в таком же состоянии, как и Дульчибени, так вот тот навсегда остался калекой. И все же надежда на выздоровление была, подчеркнул Кристофано, рассыпавшись во всяких успокаивающих речах, показавшихся мне многословными и малоубедительными. Сам больной метался в бреду и не осознавал серьезности своего положения. Что и говорить, у Кристофано в связи с этим возникло немало вопросов, он был не дурак и догадался, что г-н из Марша (а заодно и те, кто его доставил) покидал постоялый двор. Порезы, царапины, ссадины, украшавшие наши с Атто лица, полученные нами во время падения с кареты Тиракорды, также нуждались в объяснениях. Оказывая нам помощь, как-то: смазывая ранки бальзамом, промывая их раствором «Дар небес», накладывая на них повязки с маслом filosoforum и электуарием из проскурняка, – он невольно вынуждал нас врать: мол, Дульчибени покинул «Оруженосец», пытаясь бежать от карантина, пробрался через чулан в подземные галереи, мы же, с некоторых пор ведущие за ним наблюдение, разгадали его намерение, выследили и вернули обратно. Якобы на обратном пути он потерял равновесие и свалился в колодец, каковое падение и стоило ему серьезного увечья, отныне пригвождавшего его к постели. Дульчибени был не в состоянии опровергнуть это объяснение, поскольку на следующий день у него открылся такой сильный жар, что он был полностью лишен способности соображать и говорить. Редко приходя в сознание, он стенал, жалуясь на постоянные невыносимые боли в спине. Возможно, из уважения к его страданиям Кристофано проявил удивительную снисходительность. Наш рассказ был маловразумителен, изобиловал недомолвками и не выдержал бы испытания допросом с пристрастием, если бы к тому же его вели представители властей. Приняв, вероятно, во внимание беспримерное улучшение состояния Бедфорда и близкое окончание карантина, лекарь взвесил все «за» и «против», пользу и вред – как сказал бы Угонио, – сделал вид, что принял наши объяснения за чистую монету, и не стал доносить на нас часовому, все так же стоявшему на посту перед нашими окнами. Кроме того, Кристофано пообещал по окончании карантина обеспечить Дульчибени необходимое лечение. Подобная благожелательность была навеяна атмосферой праздника, воцарявшегося в городе, к рассказу о котором я и намерен теперь же приступить, не откладывая в долгий ящик. Первые слухи об исходе битвы за Вену облетели город уже 20 сентября, но только в ночь на вторник, 21 сентября (конечно же, лишь в общих чертах), кардинал Пио получил доставленную из Венеции записку, в которой сообщалось о бегстве турецкой армии от стен Вены. Двумя днями позже, все так же ночью, из империи доставили письма с известиями о победе христиан, что породило первые праздничные настроения. Затем появились и подробности о том, что и как произошло на театре военных действий. Официально о победе Риму было сообщено 23 сентября курьером кардинала Буонвизи: одиннадцатью днями ранее, 12 сентября, христианские войска наголову разбили армии неприятеля. Впоследствии газеты детально опишут ход баталий, в моих же воспоминаниях славное сражение тесно переплелось с охватившим город радостным возбуждением. Когда в ночь на 12 сентября в небе над Веной зажглись звезды, послышалась громкая молитва оттоманской армии, а благодаря кострам и факелам, симметрично расположенным по всему лагерю меж великолепных шатров неверных, можно еще было и видеть эту величественную картину. Молилась и вся христианская рать, намного уступавшая силам противника в количественном отношении. На рассвете 12 сентября отец Марко д'Авьяно, капуцин, великий духовный предводитель и вдохновитель христианских сил, отслужил в присутствии военачальников молебен в небольшом монастыре камальдульцев[1212] на холме Каленберг, возвышающемся над Веной на правом берегу Дуная. Тотчас вслед за этим наши войска заняли боевые позиции, готовые победить или умереть. На левом крыле находился Карл Лотарингский с маркграфом Эрманом и юным Людвигом-Вильгельмом, а также граф фон Лесли, граф Капрара, князь Любомирский с его устрашающей кавалерией, а также Мерси и Тафе, будущие герои Венгрии. Десятки князей готовились к крещению огнем, и среди них Евгений Савойский[1213], который, как и Карл Лотарингский, покинул Париж, чтобы избежать немилости короля-Солнце и покрыть себя славой, вернув Восточную Европу в лоно христианства. Курфюрст Саксонский, фельдмаршал Гольц, курфюрст Баварский с пятью Виттельсбахами также готовили своих ратников. В центре христианских позиций рядом с товарищами находились воины из Франконии и Швабии, тут же коронованные особы Тюрингии, отпрыски прославленных домов Вельфов и Голштинцев, фельдмаршалы и генералы Родольфо Баратта, Дюневальд, Стирум, барон фон Дегенфельд, Кароли Пальффи и многие-многие другие. И наконец, на этом же крыле располагался Ян Собеский с двумя своими военачальниками и бесстрашными польскими воинами. Увидев этот боевой порядок, защитники Вены, запертые в городе, тут же предались радости и принялись салютовать ружейными залпами. Кара Мустафа также оценил силы противника, но, когда решил действовать, было поздно: атакующие уже неслись на него во весь опор с холма Каленберг. Великий визирь и его окружение поспешно покинули свои шатры и траншеи и выстроились в боевом порядке. В центре находился Кара Мустафа с отборными спаги, с флангов их прикрывал проповедник Вани Эфенди со священным штандартом, а впереди Ага с янычарами. Справа, у Дуная выстроились не знающие пощады молдавские и валахские воеводы, визирь Кара Мехмет Дьярбакир и Ибрагим Паша Будапештский, слева – татарский хан и множество пашей. Театром военных действий служили нежные зеленые холмы, сплошь в виноградниках, за пределами крепостной стены, которой обнесена Вена. Первое важное столкновение имело место между янычарами и левым флангом христианского войска. Завязалось жестокое затяжное сражение, прежде чем имперцам и саксонцам удалось достичь некоторого преимущества. В полдень турки были отброшены в Гринцинг и Хайлигенштадт. В это время войска под предводительством Карла Лотарингского подошли к Дёблину, приблизились к вражескому лагерю, а австрийская кавалерия графа Капрара и кирасиров Любомирского оттеснила молдаван и ценой жестоких потерь отбросила их к Дунаю. Король Собеский пустил с Каленбергского холма свою конницу, путь которой расчистили германские и польские пехотинцы, выбившие янычар из домов, сеновалов, виноградников и погнавшие их прочь из Невшифта, Поцлейндорфа и Дорнбаха. В защитниках Вены закипела кровь, когда Кара Мустафе удалось вклиниться в бреши, образовавшиеся в мощном наступлении христиан. Но то были лишь временные очаги. Карл Лотарингский послал австрияков в атаку, заставляя всех их сойтись в единой точке: Дорнбахе. Туркам отрезали пути к отступлению, они пытались укрыться в окрестностях Дёблина. А в это время польская кавалерия мчалась вперед до Эрналса, сметая на своем пути любое сопротивление. В центре в первом ряду под славным сарматским[1214] штандартом, развевающимся на ветру, мчался неподражаемый, неукротимый польский король. В руке у него копье с насаженным на него крылом сокола. Рядом с ним принц Яков, ему едва исполнилось шестнадцать, но он уже геройски ведет себя в бою, – и конники в кольчугах и субревестах разных цветов, изукрашенных перьями и драгоценными каменьями. С криками «Иезус Мария!» гусары и кирасиры короля Яна погнали спаги и понеслись к шатру Кара Мустафы. Наблюдая за битвой, развертывающейся на его глазах, Кара Мустафа невольно обратил взор на свой священный штандарт, отбрасывающий на него тень: именно на него нацелены христиане. Он дрогнул и решил отступать, увлекая в позорное бегство пашей, а затем и все войско. Центр турецких позиций был смят, остальные части охвачены паникой, поражение турок обернулось их полным разгромом. Запертые в городе жители, ободренные тем, как разворачивались события, сделали попытку выйти через ворота Шотландцев. Турки бежали, бросив на произвол судьбы свой огромный лагерь, наполненный несметными богатствами, не забыв, однако, перерезать глотки сотням пленников. В рабство было уведено шесть тысяч мужчин, одиннадцать тысяч женщин, четырнадцать тысяч девушек и пятьдесят тысяч детей. После столь убедительной победы никому не приходило в голову преследовать беглецов. Опасаясь возвращения турок, христианские воины всю ночь не смыкали глаз. Ян Собеский первый проник в шатер Кара Мустафы и завладел конским хвостом и стременем побежденного, а также многочисленными сокровищами и диковинами, которыми окружил себя развратный нехристь-сатрап. На следующий день подсчитывали потери. В стане турок: десять тысяч убитых, триста захваченных неприятелем пушек, пятнадцать тысяч палаток и горы оружия. Христиане оплакивали две тысячи убитых, в числе которых генерал де Суш и князь Потоцкий. Но время оплакивать еще не настало. Победители вступили в столицу империи, спасенную от неверных. Польский король униженно писал папе, приписывая победу чуду: Venimus, vidimus, Deusvicit[1215]. Как я уже сказал, только позднее станут мне известны подробности этих героических деяний. А в то время Рим день от дня все больше предавался ликующей радости: 24 сентября в храмах было вывешено извещение о том, что все городские колокола с вечера будут исполнять Ave Maria, дабы возблагодарить Господа за победу над турками; все окна украсили бумажными фонариками, повсюду слышались разрывы петард, ракет, хлопушек. С крыш посольств, из замка Святого Ангела, с площади Навона и Кампо ди Фьоре до «Оруженосца» доносились крики радости и оглушительные разрывы фейерверков. Приникнув к оконным решеткам, мы наблюдали за тем, как на улицах жгли чучела, изображавшие визирей и пашей, к великой народной радости. Целые семьи с детьми и стариками ходили по городу, потрясая факелами, освещая теплые сентябрьские ночи и сопровождая колокольный звон весельем и смехом. Наши соседи, из страха перед эпидемией все последние дни остерегавшиеся приближаться к нашим окнам, теперь и нас призывали разделить всеобщее ликование, словно догадываясь, что нас вот-вот освободят. Спасение христиан в Вене стало как бы прелюдией избавления и от опасного заболевания. Хотя мы все еще сидели под замком, нас тоже охватило радостное возбуждение. После того как я до каждого донес весть о победе, мы отпраздновали долгожданное событие в наших двух столовых, устроив праздничное застолье с братскими объятиями и возлиянием. Все во мне пело, ведь задуманный Дульчибени удар по христианам безнадежно запоздал, хотя опасения за здоровье папы и бередили мне душу. Но все же из новостей, изустно передававшихся на улицах и достигавших наших ушей, я особенно отметил две, которые показались мне весьма неожиданными и достойными того, чтобы поломать над ними голову. Один из часовых, все еще дежуривший перед «Оруженосцем» в отсутствие приказа снять пост, рассказал нам, что христианская победа в том числе была одержана благодаря немалому количеству необъяснимых ошибок, допущенных турками. Войска Кара Мустафы, использовавшие небезызвестную технику осады, заключавшуюся в прокладке траншей и минировании, могли бы, если верить самим победителям, провести мощное наступление задолго до прибытия отрядов Яна Собеского. Однако вместо того, чтобы предпринять этот решающий марш-бросок, Кара Мустафа пребывал в бездействии, упуская время. Кроме того, турки не озаботились тем, чтобы занять Каленбергские высоты, что позволило бы им получить тактическое преимущество. Мало того, они еще упустили возможность напасть на христианские укрепления до того, как те перейдут Дунай и непоправимым образом соединятся с осажденными. Отчего турки допустили столько ошибок? Никто не мог взять этого в толк. Сложилось впечатление, что они чего-то ждали… чего-то, что придало бы им уверенности в себе. Но чего именно? Еще одна странность: очаг чумы, месяцами угрожавший городу, вдруг, без какой-либо видимой причины, угас. Победители растолковали эти чудеса как знаки божественного благоволения, явленного им, поддерживавшего таявшие силы осажденных и освободительные войска Яна Собеского. Кульминационные торжества в честь победы пришлись на 25 сентября, но об этом я расскажу позже, поскольку сейчас важнее передать то, что стало мне известно в последние дни карантина. Необъяснимое исчезновение чумы в Вене повергло меня в задумчивость. Возникнув перед запертыми в городе жителями как еще более ужасная по сравнению с османами угроза, мор улетучился столь же быстро, сколь и загадочно. Это сыграло решающую роль и в исходе баталии: если бы чума взялась косить население города, турки неминуемо бы и без труда овладели им. Как тут было не сопоставить это известие с фактами, установленными либо умозрительно выведенными нами с Агго, кои я и попытался изложить в своем повествовании. Людовик XIV надеялся на победу турок, дабы поделить Европу с неверными. Желая осуществить свои мечты о еще большей власти, король-Солнце рассчитывал применить на практике secretum morbi, который он таки вырвал у Фуке. В это же время супруга Наихристианнейшего короля Мария-Терезия посвятила себя диаметрально противоположной задаче. Неразрывно связанная с судьбой Габсбургского дома, царившего в Европе, королева тайно пыталась чинить препятствия намерениям своего супруга. И впрямь, согласно предположению Атто, Фуке через Лозена и Большую Мадемуазель (питавших к государю ненависть не меньшую, чем та, что двигала его супругой) донес до Марии-Терезии единственное противоядие, способное одолеть чуму, – secretum vitae, то есть рондо, которым Девизе во все время нашего принудительного затворничества потчевал нас и которое, кажется, подняло с одра умирающего Бедфорда. Тот факт, что противоядие от чумы находилось в руках Девизе, был отнюдь не случаен: возможно, и сочиненное в начальной форме Кирхером, рондо было усовершенствовано и положено на ноты гитаристом Франческо Корбеттой, мастером музыкальной криптографии. Подобная упрощенная картина, что и говорить, оскорбляла как ум, так и память. Однако если метод, которому меня обучил Атто, заключающийся в том, чтобы предполагать, когда не имеешь достаточных знаний по какому-либо вопросу, был верным, все вставало на свои места. Нужно было лишь продолжать разгадывать с помощью ума то, что на первый взгляд казалось абсурдным. Я задал себе вопрос: если бы Людовик XIV пожелал нанести удар по Габсбургам, наседавшим на него с флангов: Австрии, Испании, и императору Леопольду, в котором сосредоточилось все ненавистное для него, где бы он посеял чуму? Ответ поразил меня своей простотой: в Вене. Разве битва за Вену не влияла решающим образом на судьбы всего христианского мира? И разве из бесед Бреноцци и Стилоне Приазо я не узнал, что христианский король тайно делал ставку на победу турок, чтобы зажать империю в адских тисках между Востоком и Западом? И это еще не все. Разве не было также верно и то, что очаг чумы обнаружился в Вене несколько месяцев тому назад, посеяв страх в рядах героически обороняющихся осажденных? Разве не верно и то, что очаг этот либо угас, либо был таинственным образом устранен кем-то, спасшим как город, так и весь западный мир? Погрузившись с головой во все эти измышления, я с трудом соглашался делать выводы, напрашивающиеся сами собой: возникновение очага чумы в Вене было спровоцировано агентами Людовика XIV либо безвестными посредниками, применившими на практике secretum morbi. Оттого-то турки так долго медлили, хотя Вена и была уже почти взята ими: они дожидались гибельных последствий мора, который был выслан им на подмогу их союзником, государем Франции. Но подлая уловка натолкнулась на противодействие не менее могущественных сил: посланцы Марии-Терезии вовремя достигли стен Вены, чтобы расстроить заговор, приведя в действие secretum vitae и погасив очаг заражения. Как это было сделано – мне уж никогда не узнать. Как бы то ни было, одно стало ясно: нерешительность турок повлекла за собой смерть Кара Мустафы. Все эти события в кратком изложении могли показаться плодом слишком пылкого и чуть ли не больного ума, однако именно подобные выводы диктовались логикой событий. А разве переплетение историй Кирхера и Фуке, Марии-Терезии и Людовика XIV, Лозена и Большой Мадемуазели, Корбетты и Девизе не казалось граничащим с безумием? А ведь в чаду некоего чудесного помешательства я ночи напролет проводил с Атто Ме-лани, по крупицам восстанавливая эту, казалось бы, лишенную здравого смысла интригу, гораздо более реальную в моих глазах, чем жизнь за стенами «Оруженосца». Мое воображение, с одной стороны, вмещало подозрительных агентов короля-Солнце, занятых распространением чумы в обессилевшей Вене, с другой – ее защитников, людей-теней Марии-Терезии. И те и другие взывали к неким магическим заклинаниям, бывшим в ведении Кирхера и Корбетты, размахивали ретортами, перегонными кубами и иными предметами таинственного назначения (вроде тех, что мы видели на острове Дульчибени), говорили на непонятном герметическом языке в каких-то заброшенных помещениях. Одни обещали отравление, другие, напротив, очищение вод, садов и улиц. В невидимой битве между secretum morbi и secretum vitae в конце концов победу одержал жизненный принцип, тот самый, что околдовал и мое сердце, и мой разум, когда я слушал рондо, исполняемое Девизе. Ни словечка никогда не услышал я от Девизе по поводу этого рондо. И все-таки роль, которая была ему отведена во всей этой истории, была совершенно ясной: Девизе получил из рук королевы экземпляр оригинала Barricades mysterieuses с наказом отправиться в Италию, в Неаполь и быть рядом с престарелым странником, путешествующим под чужой фамилией… В Неаполе Девизе познакомился с Фуке, которого к тому времени уже сопровождал Дульчибени. Возможно, он показал суперинтенданту рондо, которое тот сам же через Лозена передал королеве. Но почти ослепший Фуке мог лишь потрогать эти листочки своими сморщенными пальцами, погладить их. Девизе исполнил рондо, и последние сомнения старика относительно подлинности таблатур исчезли, уступив место слезам: королева преуспела в своем начинании, secretum vitae в надежных руках, Европа не падет от бредового тщеславия одного-единственного государя. Перед тем как проститься с бренным миром, Мария-Терезия послала ему с Девизе последнюю поддержку. Девизе и Дульчибени сообща приняли решение направиться со своим подопечным в Рим, где в тени папы не так легко действовать посланцам короля-Солнце. Однако Дульчибени был обуреваем и иными побуждениями… Исполняя для нас Barricades mysterieuses, Девизе узнал, что Мария-Терезия послала в Вену квинтэссенцию этой музыкальной пьесы – secretum vitae, дабы преградить путь эпидемии чумы, которая неминуемо привела бы к победе турок. Вот и все. Девизе никогда не обронил бы обо всем этом ни слова в моем присутствии. Его преданность Марии-Терезии с ее смертью не ослабевала. А риск быть принятым за врага Его Величества представлял серьезную опасность. Но вновь применив на практике правило, преподанное мне Атто Мелани, я решил спровоцировать музыканта. Я, ничтожный поваренок, на которого никто не обращал внимания, буду говорить вместо него. Несколько слов, точно бьющих в цель, и… останется понять лишь, о чем он молчит. Вскоре мне представился удобный случай. Девизе позвал меня и попросил принести ему полдник. Было это во второй половине дня, ближе к вечеру. Я отнес ему корзиночку с кружком колбасы и несколькими ломтями каравая, которые он тут же принялся уписывать. Дождавшись, пока он набьет рот, я двинулся к двери и, уже стоя на пороге, небрежно бросил: – Кстати, кажется, вся Вена должна быть признательна королеве Марии-Терезии за избавление от чумы. Девизе побледнел. – Гм, – забеспокоился он и встал, чтобы выпить глоток воды. – Смотрите не подавитесь, сударь. Скорее запейте, – проговорил я, протягивая ему графин, который принес с собой, но нарочно не стал подавать сразу. Он шел и вопросительно таращил глаза. – Знаете, откуда мне это известно? Вам верно сказали, что господин Помпео Дульчибени стал причиной несчастного случая и теперь пребывает в жесточайшей горячке, так вот, у него развязался язык, а я как раз находился рядом. Это была сущая ложь, которую Девизе заглотнул также жадно, как и воду. – И что… он сказал еще? – пролепетал он, вытирая рот рукавом и пытаясь сохранять спокойствие. – О, много чего, я не очень-то понял. Видите ли, горячка… Если не ошибаюсь, он часто поминал некоего Фюке или что-то в этом роде, а еще Лозана, вроде так, – намеренно исказил я оба имени. – Говорил что-то о крепости, о чуме, о какой-то тайне, противоядии, о королеве Марии-Терезии, турках и даже заговоре. Словом, бредил, ну вы знаете, как это бывает. Кристофано очень беспокоился за него, но теперь бедняга Дульчибени вне опасности, ему нужно позаботиться о своих ногах, спине… – И что же, Кристофано тоже слышал? – Ну да, но вы ведь понимаете, когда врач занят больным, он слушает вполуха. Я передал кое-что аббату Мелани и… – Что ты сделал? – взревел вдруг Девизе. – Сказал аббату Мелани, что Дульчибени не в себе, бредит. – И все ему рассказал? – ужаснулся он. – А кому от этого плохо, сударь? – как бы уязвлено ответил я. – Знаю только одно: господин Помпео Дульчибени одной ногой был на том свете, и аббат Мелани разделил со мной мои тревоги. А теперь, простите, я спешу. Проверяя, что было известно Девизе, я позволил себе маленькую месть. Паника, охватившая гитариста, не оставляла ни малейшего сомнения: он не только знал то, что было известно нам с Атто, но, как я и предвидел, еще и играл первую скрипку во всей этой истории. Потому я и ликовал, оставив его в страшных муках: якобы бред Дульчибени (которого и в помине не было) достиг ушей Кристофано и аббата Мелани. Если бы Атто пожелал, он мог обвинить Девизе в предательстве короля Франции. Меня все еще задевало презрение, которое гитарист постоянно мне выказывал. Благодаря придуманной мною уловке уж эту-то ночь я буду спать как король, а вот он пусть помучается.* * *
Признаюсь, на земле был лишь один человек, с которым мне хотелось пожать плоды своей догадливости. Но он принадлежал отныне прошлому. К чему отрицать? То, чему я стал свидетелем во время столкновения с Дульчибени на стене Колизея, безвозвратно изменило наши с Атто отношения. Слов нет, он расстроил преступный и святотатственной план Дульчибени. Однако в момент истины я увидел его колеблющимся. Он поднялся на Колизей обвинителем, а спустился обвиняемым. Я был поражен и возмущен нерешительностью, которую он явил перед лицом обвинений и намеков Дульчибени в связи со смертью Фуке. Мне уже доводилось видеть его колеблющимся, но всегда только из страха перед неминуемыми и неизвестными угрозами. На сей раз его робость была вызвана не страхом перед неизведанным, но напротив, перед чем-то хорошо знакомым, что следовало скрыть. Итак, хотя и не подкрепленные никакими доказательствами, обвинения Дульчибени (яд, подмешанный в ножную ванну, преступная миссия, выполняемая по поручению французского короля) казались в большей степени окончательными и не подлежащими пересмотру, чем судебный приговор. К тому же это странное двусмысленное стечение обстоятельств, о котором напомнил Дульчибени – последними словами Фуке было: «Ах, так это правда», строчка из песни мэтра Луиджи Росси, которую Атто исполнял с таким неподдельным горем. «Ах, так это правда… стала думать ты иначе», – так заканчивалась строфа, похожая на неумолимый приговор. Те же слова он проговорил тогда, когда, уносимые потоком Клоаки Максима, мы были на волосок от гибели. Почему перед лицом смерти эти слова пришли Атто на ум? Я представил себя на его месте – предположим, это я предал друга и убил его. Разве вырвавшиеся перед смертью из его уст слова не поразили бы меня навсегда? Когда Дульчибени бросил ему в лицо эту жалобную и трогающую за душу фразу, голос Мелани дрогнул от осознания вины, какой бы тяжести она ни была. Для меня он перестал быть прежним: учителем, с которым интересно, вожатым, которому веришь. Это снова был кастрат Мелани, чью историю я узнал, подслушав разговор Девизе, Кристофано и Стилоне Приазо: аббат Бобека, которому это место было пожаловано, великий интриган, лжец, каких мало, предатель, которому не было равных, превосходный шпион. А может, еще и убийца. Тут я опять вспомнил, что он так и не объяснил мне, отчего поминал во сне barricades mysterieuses, и наконец до меня дошло – видно, он услышал эти слова от умирающего Фуке, которого тряс за плечи, стараясь выведать у него еще что-то, и не понял их значения. Обманутый своим повелителем, Атто в конце концов снискал мою жалость. Я понял, что он упустил небольшую подробность, рассказывая мне о своей находке в кабинете Кольбера, а именно: он сам же и преподнес Людовику XIV послания, из коих следовало, что Фуке в Риме. Мне в это не верилось. Как можно так предать своего благодетеля? Разве что желая в очередной раз доказать свою верность Его Величеству? Одна немаловажная деталь: он выдал королю человека, дружба с которым стоила ему изгнания двадцатью годами ранее. Это была его фатальная ошибка: король отблагодарил верного слугу, предложив совершить еще одно предательство. Он послал его в Рим с поручением убить Фуке, не открывая ни истинных причин этого страшного поручения, ни бездны душившей его ненависти. Я все думал, какую бредовую историю поведал король Атто и какой бесстыдной ложью в очередной раз очернил честь суперинтенданта. Последние проведенные мною в «Оруженосце» дни я пребывал во власти этого позорного образа аббата Мелани, выдающего государю своего беззащитного друга и неспособного уклониться от веления жестокого деспота. И как только ему достало смелости притвориться передо мной опечаленным другом? Видно, призвал на помощь все свои актерские способности, в ярости думал я. Если только эти слезы не были искренними. Но в таком случае их причина – в мучивших его угрызениях совести. Мне неизвестно, плакал ли Атто, готовясь ехать в Рим, дабы прикончить Фуке, либо превратился в послушное бесчувственное орудие в руках своего повелителя. Последние слова больного и слепого суперинтенданта, умиравшего по его вине, должно быть, перевернули убийце всю душу: по обрывкам фраз, упоминающим о barricades mysterieuses и каких-то тайнах, но еще больше по тусклым и честным глазам его Атто понял, не мог не понять, что сам – жертва того, кто послал его на злодеяние. Менять что-либо было поздно, можно было лишь попытаться понять. И он пустился доискиваться и дознавать, для чего ему и понадобился помощник. Вскоре мне стало невмоготу и захотелось вырваться из этого безостановочного и опостылевшего мысленного верчения вокруг одного и того же. Однако это было не так-то просто, удалось лишь перестать все время про себя обращаться к аббату. Доверительности, завязавшихся было дружеских отношений как не бывало. И все же за те несколько дней, в которые судьба свела нас вместе в «Оруженосце», он стал мне учителем, наставником, открыл передо мной новые горизонты, и потому я продолжал вести себя по отношению к нему, по крайней мере внешне, с привычной услужливостью. Правда, мои глаза и голос лишились теплоты и блеска, которые им может сообщить лишь дружба. Подметил я перемены и в нем: отныне мы были друг другу чужими, и он сознавал это не меньше моего. Теперь, когда Дульчибени был прикован к постели и мы расстроили его планы, аббату не с кем было сражаться, некому устраивать засады с целью выведать что-либо, исчезла необходимость предпринимать все новые действия. Он не пытался оправдаться в моих глазах, разъяснить свои поступки, как делал раньше, когда я начинал упрямиться или бывал чем-то недоволен. В последние дни он ушел в себя – замкнулся в молчаливом замешательстве, которое способно породить одно лишь чувство вины. Только раз поутру, когда я хлопотал на кухне, он резко взял меня за локоть, а потом заключил мои руки в свои: – Поедем со мной в Париж. Мой дом велик, я способен оплатить тебе лучших учителей. Станешь мне родным сыном, – серьезно, с ноткой горечи предложил он. Я почувствовал, что в руке у меня что-то есть, взглянул и обомлел: это были три margaritae, венецианские жемчужины, подаренные мне Бреноцци. Давно надо было уже догадаться: Мелани выкрал их у меня в тот самый раз, когда мы вместе оказались в чулане, и сделал это для того, чтобы вынудить меня помогать ему. И вот теперь возвратил, положив конец собственной лжи. Было ли это попыткой примирения? Я подумал-подумал и ответил: – Ах, так вы желаете, чтобы я стал вашим сыном? После чего расхохотался прямо в лицо кастрату, у которого не могло быть детей, разжал кулак и выронил жемчужины на пол. Могильным камнем легла на наши отношения эта маленькая и в общем-то напрасная месть: вместе с тремя жемчужинами отлетели прочь наше доверие, привязанность, словом, то, что связывало нас в пережитые вместе несколько дней и ночей. Все было кончено. Кончено, но не выяснено до конца. Чего-то все же не хватало в воссозданной нами по крупицам картине: отчего Дульчибени питал такую жестокую ненависть к семейству Одескальки, и в частности к папе Иннокентию XI? Одна причина была налицо: похищение и исчезновение его дочери. Но, как правильно заметил Атто, это была не единственная причина. Когда два дня спустя после событий, развернувшихся в Колизее, я ломал себе голову над тем, что вынудило Дульчибени пойти на столь отчаянный шаг, меня посетило озарение, яркое, неожиданное, из рода тех, что редко порождает наше сознание (в тот момент, когда я пишу эти строки, я могу утверждать это со знанием дела). Я на все лады прокручивал в голове то, что высказал Мелани Дульчибени, взобравшись вслед за ним на Колизей. Его двенадцатилетняя дочь, рабыня Одескальки, была похищена и увезена в Голландию Хьюгенсом и Франческо Ферони, торговцами живым товаром. Где теперь могла находиться дочь Дульчибени? В Голландии, в услужении правой руки Ферони – или в какой другой стране, куда ее сплавили, когда ею вдоволь наигрались? А ведь мне приходилось слышать, что самым красивым рабыням рано или поздно удавалось обрести свободу благодаря торговле своим телом, которая процветала в тех краях, отвоеванных человеком у моря. Как она могла выглядеть? Если она все еще была жива, ей должно быть около девятнадцати лет. Наверняка мать-турчанка наградила ее темным цветом кожи. Представить себе ее лицо было, конечно, делом несбыточным, поскольку я не знал, какова была наружность ее матери. Но можно было предположить, что с ней плохо обращались, держали взаперти, били… Ее тело не могло не иметь следов побоев или шрамов… – Как ты догадался? – только и спросила меня Клоридия. – По твоим запястьям. По шрамам, которые видны на них. А кроме того, подсказкой мне послужили и Голландия, и итальянские купцы, которых ты люто ненавидишь, и Ферони, и кофе, которое напоминает тебе о матушке, и твои бесконечные вопросы о Дульчибени, и твой возраст, и кожа, и Аркана Суда, и возмещение за понесенный ущерб, о котором ты мне говорила. И наконец по приступам чиха аббата Мелани, чей нос весьма тонко отзывается на голландское полотно, из которого сшито твое платье и платье твоего отца. Клоридия не удовольствовалась таким простым объяснением, и мне пришлось вподтверждение своего интуитивного прозрения пересказать ей добрую половину наших с аббатом приключений. Сперва она отказывалась верить, и это при том, что я намеренно опустил многое из случившегося, по той причине, что мне и самому это теперь казалось вымыслом. Что и говорить, убедить ее в том, что ее отец разработал план покушения на жизнь папы, было нелегко, и удалось это лишь по прошествии времени. Как бы то ни было, после долгих и терпеливых объяснений она наконец приняла на веру большую часть фактов. Поскольку с ее стороны последовало множество вопросов, беседа длилась чуть ли не ночь напролет, иногда прерываемая небольшими перерывами, в которые мы отдыхали и которые я использовал для того, чтобы, в свою очередь, выяснить то, чего мне не хватало для полноты картины. – И что же он так-таки ни о чем не догадался? – спросил я наконец. – Нет, я в этом уверена. – Ты ему скажешь? – Сперва я собиралась это сделать, – помолчав, молвила она. – Я так долго искала его. Но позже передумала. Ведь он мне никогда не поверит, да и… вряд ли будет так уж рад. Если не считать того, что моя мать… видишь ли, она мне дорога, я не в силах ее забыть. – В таком случае об этом будем знать только мы двое. – Так будет лучше. – Лучше, чтобы никто не знал? – Нет, лучше, чтобы ты это знал, – проговорила она и погладила меня по голове. Оставалось разузнать еще кое о чем, что беспокоило не только меня. Всеобщее ликование в связи с победой, одержанной в Вене, вылилось в череду бесконечных празднеств. Потуги Дульчибени нанести удар по истинной религии слишком запоздали. Но что же папа? Обошлось ли с пиявками Тиракорды? Как знать, не бредил ли в это самое время охваченный жаром самый главный вдохновитель победы над турками. Узнать это не было никакой возможности, тем более что мы по-прежнему сидели взаперти. Однако вскоре суждено было произойти одному событию, которое положило конец нашему затворничеству.* * *
Сдается мне, я уже не раз писал, что незадолго до карантина мы слышали подземный гул, вслед за чем Пеллегрино обнаружил на лестничной клетке на уровне второго этажа трещину в стене. Это вызвало немалое беспокойство, которое, впрочем, со смертью Фуке, свалившимся на наши головы карантином и другими событиями отошло на второй план. Но я собственными глазами вычитал в астрологической книжонке Стилоне Приазо, что на эти дни предсказываются «сотрясения земли и подземные огни». Если это и было случайное совпадение, то можно ли было не поразиться ему? Воспоминание об этих приглушенных земной толщей шумах исподволь точило меня, да и трещина на лестнице, которая все расползалась и углублялась, не давала мне покоя, хотя иногда казалось, что всему виной мое воображение. Ночью с 24 на 25 сентября я отчего-то резко проснулся и ощутил беспокойство. Моя погруженная во мрак и влажная комната показалась мне уже и душнее, чем обычно. Чему я был обязан своим пробуждением? Вроде бы я не ощущал потребности справить малую нужду, вроде бы царила полная тишина. Однако чу! Послышалось какое-то неясное, но зловещее поскрипывание непонятного происхождения. Оно напоминало звук, производимый мощной мельницей, медленно перемалывающей камешки. Я тотчас соскочил с постели, рванул дверь своей комнаты и выскочил в коридор, а оттуда, вопя что было мочи, бросился по лестнице. Постоялый двор «Оруженосец» рушился. С похвальным присутствием духа Кристофано позаботился о том, чтобы предупредить о надвигающейся беде часового, и тот позволил нам выйти на улицу. Однако покинуть здание было не таким уж простым и безопасным делом, как могло показаться. Соседи прильнули к окнам и со смешанным чувством тревоги и любопытства наблюдали за происходящим у нас. Трещина в стене лестницы в несколько часов превратилась в огромную щель, из которой доносился грохот. Небольшая группа смельчаков, как всегда состоявшая из Атто Мелани, Кристофано и меня, перенесла беспомощного Дульчибени в безопасное место. Выздоравливающий Бедфорд справился сам. То же и мой хозяин, мгновенно обретший присутствие духа и принявшийся клясть всех и вся. Стоило нам выбраться наружу, опасность как будто миновала, но возвращаться было безрассудством, поскольку грохот обрушивающейся щебенки не смолкал. Кристофано переговорил с часовым. Было принято решение обратиться за помощью в соседний монастырь отцов-селестинцев, которые, ввиду случившегося, не могли отказать нам в приюте. Наши надежды оправдались. Разбуженные посреди ночи отцы, хотя и без особой радости (в связи с карантином), приняли нас и великодушно отвели каждому отдельную келью. На следующий день, в субботу, 25 сентября, нас спозаранку оповестили о великом событии. Город все еще был погружен в атмосферу праздника; дух веселья и беззаботности коснулся и отцов-селестинцев: я подметил это, выходя из своей кельи. Словом, за нами не было никакого надзора, если не считать посещения поутру моей кельи Кристофано, проведшего ночь рядом с Дульчибени, за которым нужно было присматривать. С ноткой удивления Кристофано подтвердил, что мы предоставлены сами себе и любой из нас может улизнуть через один из многих монастырских выходов, в связи с чем стоит ожидать случаев побега. Ему и невдомек было, что первый такой случай вот-вот произойдет. Из беседы святых отцов под дверью своей кельи я узнал о важном событии, намеченном на вечер этого дня: победа в Вене будет отпразднована в базилике Святого Иоанна торжественной мессой Те Deum[1216], на которой ожидается присутствие Его Святейшества. Я весь день провел в своей келье за исключением разве что двух отлучек – сперва к Дульчибени и Кристофано, а после – к Пеллегрино. Монахи приготовили для нас пусть не слишком вкусный, но обильный обед. Моего бедного хозяина одолевал теперь не только телесный недуг: от него не укрылось, что постоялый двор находится в плачевном состоянии – все лестницы и стена со стороны двора обрушились в первые утренние часы. Заслышав об этом, я невольно вздрогнул: это означало, что чуланчик, из которого можно было попасть в подземные галереи, постигла та же участь. Хотелось обговорить новость с Мелани, но куда там! В час, когда полуденный свет мало-помалу идет на убыль, уступая место сумеркам, я без труда выбрался из монастыря, заручившись молчанием служки и обещанием не запирать дверь черного хода, пока не вернусь, что стоило мне небольшой суммы, выкроенной мной из моих скромных сбережений, которые удалось спасти. Речь шла не о бегстве: я рассчитывал вернуться в монастырь после того, как приведу в действие свой план. Итак, покинув монастырь, я поспешил к базилике Святого Иоанна, минуя Пантеон, площадь Святого Марка и Колизей. В несколько минут одолел я улицу, которая вела от амфитеатра до базилики, и оказался на площади Святого Иоанна Латеранского, куда уже стекались толпы народу. Оказалось, что я поспел как раз вовремя: именно в эту минуту из храма вышел папа Иннокентий XI. Его встретили восторженными возгласами, рукоплесканиями. Встав на цыпочки, чтобы хоть что-то увидеть, я получил удар по уху – какой-то старик, пробирающийся в толпе, задел меня и при этом еще бросил, как будто я был в чем-то виноват: – Будь внимательнее, отрок. Несмотря на прорву спин и голов, я все же пробрался поближе к Его Святейшеству раньше, чем он достиг кареты. Я видел, как он приветствовал и благословлял собравшихся. Благодаря своей исключительной юркости я протиснулся еще дальше и оказался уже в нескольких шагах от него, так что мог разглядеть вблизи его лицо – щеки, глаза, кожу. Я не был ни врачевателем, ни ясновидящим, и потому напряг все свои способности, сосредоточившись на предмете наблюдения, пока наконец не понял, что папа нисколечки не страждет. Что и говорить, печать перенесенных мук лежала на его челе, но то были муки душевные, причиной коих была так долго не решавшаяся судьба столицы империи. Два престарелых священника рядом со мной тихо переговаривались, и я узнал, что получив благую весть с театра боевых действий, понтифик плакал что дитя, встав на колени и заливая слезами пол своей горницы. Но больным он не был: его сияющие глаза, розовая кожа и бодрый скачок в карету окончательно меня в том убедили. И вдруг неподалеку от себя я заметил благодушное лицо Тира-корды. Он стоял в окружении стайки молодых людей, как мне подумалось – учеников. До того, как мощная длань папского стражника отшвырнула меня назад, я успел услышать выговоренные Тиракордой слова: – Что вы, вы мне льстите, уверяю вас, моей заслуги тут никакой… То воля Господа. После радостного известия мне уже нечего было делать. Теперь все окончательно прояснилось: узнав о победе в Вене, понтифик возрадовался, и пиявки не понадобились. Замысел Дульчибени провалился, папа был жив и здоров. Об этом стало известно не только мне. Неподалеку от себя я завидел в толпе подергивающееся мрачное лицо аббата Мелани. Растворившись в толпе, я добрался до своего нового временного пристанища, не ища встречи с Атто. Вокруг меня только и было разговоров, что о торжественном богослужении и о славном деянии папы. Я случайно замешался в группу монахов-капуцинов, которые прокладывали себе дорогу в толпе, радостно размахивая факелами. Из их разговора мне стало кое-что известно относительно битвы за Вену, а в последующие месяцы это сполна подтвердилось. Монахи будто бы получили эти сведения от Марко д'Авьяно, священника, храбро сражавшегося в рядах защитников города. И вот что я узнал: под конец битвы король Польши Ян Собеский нарушил запрет императора Леопольда и вошел-таки в Вену победителем под приветственные крики жителей города. Как он сам поведал Марко д'Авьяно, император завидовал не его триумфу, а любви к нему своих собственных подданных: венцы были свидетелями того, как Леопольд покинул столицу, бросив ее на произвол судьбы, и бежал, будто какой-нибудь конокрад. И вот теперь, когда его подданные превозносили чужестранного короля, рисковавшего ради них своей жизнью, жизнью своих солдат и даже жизнью старшего сына, он был недоволен. Теперь Габсбург мстил Собескому: во время встречи был неприступен и неприветлив. «Я похолодел», – поведал Собеский своим близким. – Но Всевышний сделал так, что все благополучно разрешилось, – примирительно молвил один из капуцинов. – О да, если Господь того пожелает, все всегда бывает к лучшему, – поддержал его другой. Эти мудрые слова все еще звенели в моей голове, когда Кристофано объявил, что вскоре конец нашему заключению. Воспользовавшись праздничным настроением, охватившим всех и вся, он без труда убедил власти, что опасности заражения чумой нет никакой. Единственный, кому еще требовалась помощь, был Помпео Дульчибени, чье состояние он объяснил падением с лестницы. Увы, отныне Дульчибени был приговорен к пожизненной неподвижности. Кристофано мог провести возле него еще несколько дней, после чего ему предстояло вернуться на родину в Тоскану. «На чье же попечение будет оставлен тот, кто покушался на папу?» – с горькой улыбкой размышлял я.СОБЫТИЯ 1688 ГОДА
Пять лет истекло с тех пор, как развернулись все эти удивительные события. «Оруженосец» так больше и не открылся: Пеллегрино последовал за своей женой, кажется, к ее родным. Клоридия, Помпео Дульчибени и я поселились на скромной ферме за городом, далеко за воротами Сан-Панкрацио, где я нахожусь и по сей день, когда пишу эти строки. Однообразно тянулись дни, недели, времена года, отличаясь друг от друга разве что сельскими работами да маленькими радостями, случавшимися на нашем птичьем дворе, который мы завели на деньги из кубышки Дульчибени. Я уже познал всю тяжесть деревенской жизни: научился погружать ладони в землю, вопрошать ветер и небо, обменивать дары природы на плоды усилий других людей, торговаться и оберегать себя от надувательства. Научился распухшими от работы, с въевшейся в них грязью пальцами переворачивать страницы книг по вечерам. Мы с Клоридией жили moreuxorio[1217]. И некому было нас за это упрекнуть по той простой причине, что священники никогда не заглядывали в наш забытый Богом уголок, даже на Пасху. С тех пор как Дульчибени окончательно смирился с утратой способности передвигаться, он стал еще более молчаливым и сварливым, чем раньше. Теперь он не употреблял толченые листья мамакоки – этого перуанского растения, запас которого когда-то привез из Голландии, и потому более не впадал в состояние мрачной одержимости, которое было ему необходимо для того, чтобы выдерживать ночные вылазки. Ему все еще было невдомек, почему мы взвалили на себя заботы о нем, предоставив кров и обеспечивая уход. Сперва он заподозрил нас в желании сорвать с него большой куш. Он так никогда и не узнал, кем приходилась ему Клоридия. А она упрямо отказывалась признаться ему в том, что она его дочь, в глубине души так и не простив ему того, что он не воспрепятствовал продаже ее матери. Когда истекло порядочно времени и она избавилась от тяжких воспоминаний, она наконец поведала мне о перенесенных ею лишениях. Хьюгенс внушал ей, что купил ее еще ребенком у отца. Он держал ее взаперти, а когда она ему наскучила, продал ее в Голландии богатым итальянским купцам, сам же вернулся в Тоскану к Ферони. И долгие годы потом моя дорогая Клоридия сопровождала этих купцов, которые, в свою очередь, избавились от нее, запродав другим, и так ее продавали и покупали еще не раз. Как тут было не заняться постыдным ремеслом. Но благодаря деньгам, которые она тайком и с огромным трудом копила, она обрела свободу: процветающий, свободных нравов Амстердам был идеальным местом для торговли своим телом. Так шло до тех пор, пока нетерпеливое желание увидеть отца и потребовать от него отчета за прошлое не взяло верх и не привело ее в «Оруженосец», в чем ей помогла нумерология и чудесная лоза. Несмотря на все, что ей довелось перенести, несмотря на горькие воспоминания, порой нарушавшие ее сон, Клоридия была Дульчибени преданной и умелой сиделкой. Он же вскоре оставил свой презрительный высокомерный тон, никогда не расспрашивал ее о прошлом, не желая ставить в затруднительное положение и заставляя лгать. Вскоре Помпео Дульчибени попросил меня съездить в Неаполь за книгами, которые там оставались, а когда я их доставил, подарил мне их, предупредив, что со временем их ценность станет мне еще более очевидной. Благодаря этим книгам и почерпнутым в них мыслям у нас появились темы для разговоров, и язык Дульчибени стал мало-помалу развязываться. Постепенно он перешел от разъяснений прочитанного к воспоминаниям, а от воспоминаний к поучениям. Основываясь не только на теоретических познаниях, но и на собственном опыте, он мог многому научить меня, ведь ему пришлось долгие годы разъезжать по всей Европе с торговыми поручениями, к тому же состоя на службе столь могущественного дома, как Одескальки. И все же частенько между нами повисало нечто недоговоренное: отчего он все же покушался на папу? Однажды, я в это верил, он приоткроет завесу над этой тайной. Однако, зная его мрачный и упрямый нрав, я понимал: расспрашивать бесполезно, нужно ждать. Шла осень 1688 года. Римские газеты полнились новостями о горестных событиях. Еретик принц Вильгельм Оранский пересек пролив Ла-Манш со своим флотом и высадился в местечке Торбей[1218] на английском побережье. Его войско почти беспрепятственно продвигалось в глубь острова и некоторое время спустя он узурпировал трон католического короля Якова Стюарта, провинившегося лишь тем, что двумя месяцами ранее его вторая жена произвела на свет мальчика, столь желанного наследника, лишавшего Вильгельма Оранского всяческой надежды стать королем Англии. После переворота Англия попала в руки протестантов и была потеряна для католической веры. Когда я рассказал Дульчибени об этих драматических событиях, он не обмолвился ни словом. Сидя в саду, он гладил котенка и казался совершенно спокойным. Как вдруг, после моих слов, закусил губу и прогнал котенка с колен, при этом его дрожащая рука бессильно упала на стоявший рядом столик. – Что с вами, Помпео? – встревожился я. – Достиг-таки своей цели, будь он неладен! – в приступе гнева, задыхаясь и вглядываясь в горизонт над моей головой, проговорил он. Я бросил на него вопрошающий взгляд, но не осмелился задать вопрос. И тогда, медленно опустив веки, Помпео Дульчибени открылся мне. Все началось лет тридцать назад. В ту пору семья Одескальки самым позорным образом запятнала себя помощью еретикам. Шел 1660 год. Принц Вильгельм Оранский был еще дитя. Оранскому дому, как всегда, не хватало денег. Мать и бабка Вильгельма заложили все семейные драгоценности. Расстановка сил в Европе была такова, что Голландии было не избежать войны: сперва с англичанами, потом с французами. А для этого требовались деньги. Много денег. После долгих тайных переговоров, детали коих были Дульчибени неведомы, Оранский дом обратился к Одескальки – в то время самым крупным итальянским ростовщикам, – и те согласились дать взаймы. Так войны еретической Голландии были профинансированы католическим родом, из которого вышел сперва кардинал, а затем и папа Иннокентий XI. Безусловно, были предприняты все возможные предосторожности, чтобы дело не получило огласку. Кардинал Бенедетто Одескальки жил в Риме, его брат Карло, заправлявший семейными делами, – в Комо. Денежные суммы передавались через двух подставных лиц, проживавших в Венеции, так что невозможно было упрекнуть Одескальки в чем-либо. Кроме того, суммы не переводились членам Оранского дома напрямую, тут тоже были посредники: адмирал Жан Нёфвиль, банкир Ян Дёц, торговцы Бартолотти, член городской управы Амстердама Ян Батист Ошпье… Они-то и передали деньги Оранскому дому, чтобы было на что идти воевать Людовика XIV…* * *
– А что же вы? – перебил я Дульчибени. – Я разъезжал между Римом и Голландией с поручениями Одескальки: удостоверялся, что векселя дошли по назначению, приняты к оплате, что получена расписка. Кроме того, в мои обязанности входило следить за тем, чтобы все происходило тайно, в стороне от любопытных глаз. – Словом, деньги папы Иннокентия XI позволили еретикам высадиться в Англии! – Я был совершенно потрясен. – Примерно так. Однако лет пятнадцать назад, как раз когда Вильгельм высадился в Англии, Одескальки перестали одалживать деньги голландским еретикам. – И что же дальше? – Любопытное событие имело место в 1673 году, когда скончался Карло Одескальки, брат будущего папы Иннокентия XI. Будучи не в состоянии уследить из Рима за всеми семейными делами, папа прекратил одалживать деньги голландцам. Игра стала слишком опасной, и благочестивый кардинал Одескальки не мог рисковать своим положением. Его образ должен был оставаться незапятнанным. Он все предусмотрел: конклав, на котором он был избран на престол Петра, состоялся менее чем три года спустя. – Но как же так, он ведь помогал еретикам! – вновь опешил я. – Послушай, что было дальше. Со временем долги Оранского дома Одескальки выросли до невероятных размеров, достигнув ста пятидесяти тысяч экю. Бенедетто стал папой. Но как ему получить обратно одолженное? Соглашением было предусмотрено, что в случае неплатежеспособности должников Одескальки вступают во владение личным достоянием Вильгельма. Однако став понтификом, Бенедетто не мог на глазах всего мира завладеть тем, что принадлежало принцу-еретику, ведь тогда все всплыло бы на поверхность и разразился бы скандал невиданной силы. Между делом Бенедетто записал все, чем владел, на имя племянника Ливио, но это не могло никого обмануть, всем было известно, что имуществом семьи продолжает управлять он сам. Была и еще одна загвоздка. Вильгельм постоянно ощущал нехватку средств, поскольку его голландские заимодавцы (богатые семьи Амстердама) не очень-то раскошеливались. Словом, плакали денежки Иннокентия XI. Вот почему, – продолжал Дульчибени, – папа всегда был так враждебно настроен по отношению к Людовику XIV: Наихристианнейший король стоял на пути восшествия Вильгельма на английский трон. То бишь Людовик XIV был единственным препятствием между папой и его деньгами. Одескальки удалось держать все в тайне. Но в 1676 году, незадолго до начала работы конклава, произошло то, чего они боялись: Хьюгенс, правая рука работорговца Франческо Ферони (подельщика Одескальки), влюбился в дочь, прижитую Помпео Дульчибени с турчанкой, рабыней, и с помощью Ферони решил присвоить ее себе. Дульчибени не мог противостоять этому на законных основаниях, потому как не женился на матери девочки. Он дал понять Одескальки, что, ежели Ферони и Хьюгенс не откажутся от своих намерений, им будут распространены некие слухи относительно Бенедетто: а именно – история с займом голландским еретикам… И тогда прощай, папский престол. Остальное было мне уже известно: девочка была похищена, неизвестный пытался расправиться с Дульчибени, выкинув его из окна. Чудом оставшись в живых, Дульчибени был вынужден скрываться. А тем временем Бенедетто Одескальки беспрепятственно взошел на папский престол. – Но и теперь еще папе никак не удается получить обратно одолженное Вильгельму Оранскому. Я это точно знаю. Ныне все и решится. – Но почему именно теперь? – Ну как же, посуди сам: Вильгельм станет королем Англии и найдет способ вернуть папе долг. Я смущенно молчал. – Так вот, значит, какова истинная причина затеянного вами, – раздумчиво протянул я, – дружба с Тиракордой, опыты на острове… Аббат Мелани говорил правду, вы были движимы не только личным. Для вас важно было наказать папу за… как бы это сказать, – предательство… – …веры. Так оно и есть. Он променял христианскую Церковь на деньги. Не забывай, болезни, изнуряющие тело, ничто в сравнении с душевными недугами. Это и есть настоящая чума. – Но вы ведь тоже хотели уничтожить христианство, задумав заразить папу во время битвы за Вену. – Битвы за Вену… Есть еще кое-что, что тебе следует знать. Император тоже имеет отношение к деньгам Одескальки. – Император? – в очередной раз поразился я. На сей раз все также держалось под большим секретом. Чтобы обеспечить денежную поддержку сопротивлению туркам, Габсбурги черпали в апостольской казне. А император Леопольд еще и лично как частное лицо занимал у Одескальки. Взамен папская семья получала ртуть, добываемую в императорских рудниках. – А почто им эта ртуть? – Ну как же. Чтобы продавать ее голландским еретикам. А точнее, протестантскому банкиру Яну Дёцу. – Так, значит, к спасению Вены причастны и еретики! – В некотором роде. Но более всего благодаря деньгам Одескальки. И будь уверен, это семейство найдет способ получить от императора возмещение, я имею в виду не только деньги. – Но что же еще? – Император рано или поздно окажет папе какую-нибудь немаловажную политическую услугу, а ежели не ему, так его племяннику Ливио, единственному наследнику Бенедетто. Подожди несколько лет и сам в том убедишься.СЕНТЯБРЬ 1699 ГОДА
Теперь, когда я заканчиваю писать эти воспоминания, около одиннадцати лет истекло с тех пор, как Вильгельм Оранский высадился в Англии. Этот государь-еретик царствует и поныне, и довольно успешно, так что честь английских католиков была продана Иннокентием XI за горсть монет. Однако деяниям папы Одескальки на этом свете положен конец, десять лет прошло с тех пор, как после продолжительной и тяжкой агонии дух его отправился к праотцам. При вскрытии обнаружилось, что внутренности его прогнили, а почки заполнены камнями. Уже поступило предложение провозгласить его блаженным и удостоить память его всяческих почестей. Покинул мир и Помпео Дульчибени: угас в этом году как примерный христианин, чистосердечно раскаявшись в своих грехах, которые он долго и много замаливал. Случилось это по весне, в одно апрельское воскресенье. В тот день мы поели плотнее обычного, а поскольку в последние годы у него появилась губительная склонность к выпивке, отчего его и без того красное лицо багровело, он еще и предался возлиянию, после которого вдруг почувствовал недомогание и попросил перенести его в постель. Он заснул и больше уже не просыпался. По здравом рассуждении я во многом обязан ему тем, чем являюсь. Именно он стал моим новым наставником, сильно отличающимся от того, каким был аббат Мелани, одному Господу ведомо, что я имею в виду. В результате своего долгого и многострадального пребывания на этом свете Дульчибени немалому научился сам и немалому научил меня, пытаясь привить мне богобоязненность и понимание того, какой поддержкой на трудном житейском пути является вера. Я прочел все те труды по истории, теологии, поэзии и медицине, которыми он одарил меня, как и учебники с начатками знаний по торговым сделкам и управлению производством – в чем, надо сказать, сам он весьма поднаторел, – столь необходимыми в наше время. Я даже подмечаю, что эти воспоминания написаны мною с моих сегодняшних жизненных позиций, и частенько наделяю простодушного паренька, каким был прежде, рассуждениями и словами, которые лишь ныне соизволил послать мне Господь. И все же самые большие знания почерпнул я не в трудах философского или нравственного направления, а в трудах по медицине. Горько было мне узнать, что я нисколько не застрахован от чумы, как меня в том уверял Кристофано в начале карантина: мое убогое сложение ничуть не препятствовало проникновению в мое тело заразы. Кристофано солгал, возможно, остро нуждаясь в моих услугах, и выдумал все от начала до конца: от предания об африканце-содомите до всех этих классификаций Гаспара Скотта, Фортунио Личето и Иоханнеса Эузебиуса Нерембергиуса. Ему было прекрасно известно, что телосложение и чума никак не зависят друг от друга и что против чумы не устоять никому, а уж тем более несчастному карлику, обреченному стать «паяцем при дворе или гаером», как выразился Дульчибени. И все же я навсегда сохраню признательность Кристофано, поскольку благодаря его безобидной лжи моя грудь пигмея раздувалась в течение короткого времени от гордости. Это случилось лишь единожды. Мое природное безобразие стало причиной того, что в младенчестве от меня избавились, а потом я стал всеобщим посмешищем, пусть даже – как подчеркнул Кристофано – я могу считать себя счастливчиком среди себе подобных, поскольку отношусь к mediocres, а не minores или, хуже того, minimi. Стоит мне вспомнить обо всем, что произошло тогда в «Оруженосце», у меня в ушах вновь начинают звучать грубые насмешки стражей из Барджелло, бесцеремонно вталкивающих меня в дверь постоялого двора, и шутки Дульчибени, величающего меня pomilione: карлик. Перед глазами вновь возникает Бреноцци, на высоте моих глаз щиплющий свой стручок, как он привык делать, не стесняясь меня, и испуганные лица искателей реликвий, спутавших меня с daemunculi subterranei – крошечными демонами, населяющими их кошмары. И еще я вижу себя, легко идущего впереди Атто по узким галереям и будто созданного для этого подземного мира. В те времена мое уродство было мне не менее тягостным, чем в продолжении последующей жизни. Но тогда я предпочел не заострять на этом внимание, отдав предпочтение тому значительному, в чем пришлось принять участие: да и кто бы поверил рассказу человека, лишь морщинами отличающегося от ребенка? Разоблачительный рассказ Дульчибени подтвердился сполна. Племянник Иннокентия XI – Ливио Одескальки, единственный наследник папы, за понюшку табака получил от императора Леопольда удел в Венгрии, к тому же, как поговаривали в Риме, презрев протесты имперских чиновников. Дабы придать этому дару больший вес в глазах общественности, император даже наградил его титулом князя Священной Римской империи. Но как известно, за подарками скрывается вознаграждение за оказанные услуги. Да и то сказать: император тоже ведь одолжался у Одескальки. И вот теперь расплатился, включая и проценты. А Ливио Одескальки как будто бы не испытывал ни малейшего стыда. По смерти Иннокентия XI он располагал суммой более чем в полутора миллиона экю, а также ленным владением Чери. Надменный и жадный, он тотчас вступил во владения герцогством Браччано, маркизатом Ронкофреддо, графством Монтиано и поместьем Пало, а также виллой Монтальто-ди-Фраскати. Собирался он прикупить и удел Альбано, но апостольской палате удалось inextremis [1219] увести его у него из-под носа. И наконец по смерти короля Яна Собеского, венского триумфатора, Ливио сделал попытку за восемь миллионов флоринов унаследовать его трон. Что толку возмущаться: деньги – гнусное племя, не знакомое ни с жалостью, ни с чувством родины, оно как зачумляло Европу, так и будет продолжать это делать, попирая достоинства веры и короны. Я более не невинный отрок, что прислуживал в «Оруженосце». То, что довелось мне увидеть и услышать тогда, навсегда наложило на меня печать. Вера не покинула меня, но чувство почитания, преклонения, с которым каждый добрый христианин должен относиться к Церкви, навсегда ушло. Возможность поверять свои воспоминания дневнику позволила мне прежде всего преодолеть минуты сильнейшего отчаяния. Молитва, близость Клоридии и чтение, питавшее мой ум и сердце на протяжении этих лет, довершили остальное. Вот уже три месяца, как мы с Клоридией сочетались законным браком: тотчас, как первый же святой отец забрел в наш медвежий угол. Несколько дней назад случилось мне продать виноград одному певцу из Сикстинской капеллы. Я возьми да и спроси его, не приходилось ли ему исполнять арии знаменитого Луиджи Росси. – Росси? – переспросил он, нахмурив брови. – Ах да, я уже слышал это имя, но ведь это что-то очень давнее, эпохи Барберини[1220]. Да нет, – смеясь, промолвил он, – сегодня никто о нем не вспоминает. Ныне вся слава Рима сосредоточилась в великом Корелли[1221]. А вы не знали? Впервые я заметил, как много воды утекло. Нет, мне не знакомо имя Корелли. Но мне не забыть имени синьора Луиджи, возвышенных мелодий его арий, вышедших из моды уже тогда, когда аббат Мелани исполнял их для меня или напевал себе под нос. Время от времени, порой даже во сне, голос и живые глазки Атто Мелани возвращаются ко мне. Я начинаю воображать его себе таким, каким он стал теперь, – одряхлевшим, согбенным, одиноким в своем парижском доме, куда он звал меня. К счастью, усталость служит панацеей от ностальгии: хозяйство наше расширилось и работы не убывает. В частности, мы выращиваем на продажу зелень и фрукты, которые сбываем семейству Спада, чье поместье неподалеку от нашего дома и куда меня зовут для оказания разных услуг по хозяйству. Однако, как только выдается свободная минутка, я мысленно возвращаюсь к словам Атто об одиноких орлах и армии ворон и пытаюсь восстановить в памяти его тон, интонацию, манеру выражаться, смелую и несдержанную. Не раз уж бывал я на улице Орсо, справляясь у жителей небольшого особнячка, возведенного на месте «Оруженосца» (теперь жилье там сдается внаем), нет ли писем из Парижа на мое имя и не интересовался ли кто бывшим учеником повара. Мои ожидания неизменно не оправдываются. Время все расставило по местам. Ныне мне понятно, что аббат Мелани не желал предавать Фуке. Правда, Атто принес королю-Солнце письма, похищенные им в кабинете Кольбера, из которых стало ясно, где именно скрывается суперинтендант. Но король ведь уже и без того стал проявлять снисходительность по отношению к Фуке: сделал более сносными условия пребывания узника в тюрьме, дал надежду на его освобождение. Однако считалось, что Кольбер привычно тормозил и это дело, так не стоило ли и впрямь показать письма королю? Мелани конечно, не мог вообразить, какую бурю чувств поднимет чтение этих писем в душе короля: Фуке в Риме, с secretum pestis, который он уже, вполне возможно, раскрыл папе, радеющему о победе над турками… Для короля была несносной мысль, что его планы будут расстроены в тот самый момент, когда союз с турками вот-вот даст желаемые плоды. Людовик наверняка поспешил распрощаться с Атто, чтобы спокойно все обдумать, а чуть позже вновь призвал его к себе и рассказал ему некую историю, содержание которой не важно. Но чем закончилась эта беседа, для меня очевидно: Атто вознамерился в последний раз доказать государю свою верность. Сегодня все это перестало казаться мне таким уж ужасным. Я почти с нежностью думаю об уловке аббата, укравшего мои жемчужины, чтобы привлечь меня к расследованию, которое он затеял. Как бы мне хотелось вернуться назад, в тот день, когда я в последний раз видел Атто Мелани, и сказать ему: «Господин аббат, постойте, я хотел сказать вам…» Увы, это невозможно. Мое юношеское простодушие, моя горячность и обманутые надежды развели нас тогда навеки. Теперь-то я знаю: было несправедливо жертвовать дружбой во имя некой моральной чистоты, доверительностью во имя рассудочности, чувствами во имя искренности. Нельзя дружить со шпионом, если отказываешься сказать правде прощай. Сбылись все предсказания. В начале карантина мне приснилось, будто Атто вручает мне перстень, а Девизе играет на рожке. Так вот, в книге по разгадыванию снов, принадлежащей моей Клоридии, я прочел, что перстень – предвестник добрых событий, сопряженных с преодолением трудностей, а рожок указывает на тайное знание, подобное тому, каким является секрет чумы. Во сне же я увидел воспрявшего Пеллегрино, что предвещало заботы и невзгоды, и впрямь свалившиеся на наши головы, а еще как кто-то рассыпал соль, которая сама по себе – предзнаменование убийства (смерть Фуке); снилась мне и гитара – меланхолия и труд без признания: мы с Клоридией, затерянные в захолустье. И лишь одно было для меня благоприятным знаком: кот – предвестник любовной услады. Верны оказались и астрологические прогнозы из книжки Стилоне Приазо: и крушение здания «Оруженосца», и заключение группы лиц под стражу (карантин), и осада какого-то города (Вены), и лихорадка с хворью, напавшие на некоторых из нас, и смерть лица, принадлежащего к королевскому дому (Марии-Терезии), и путешествия посланников (вестников победы в Вене). Не подтвердилось, а скорее было сметено более могущественной силой лишь одно: Barricades mysterieuses помешали «смерти лиц, пребывающих в заключении», предсказанной в книжке. Все это помогло мне принять решение, иначе говоря, избавиться от давнего нездорового желания. Я больше не хочу становиться газетчиком. И не только потому, что боюсь (вопреки заповедям), что наши судьбы слепо подчиняются капризным светилам. Моя давняя заветная мечта угасла совсем по иной причине. В газетах, которые мне вдоволь довелось читать после всего случившегося, я не нашел ничего из того, чему меня обучал Атто. Я имею в виду вовсе не факты: я знал, что государевы тайны не могут быть опубликованы в листках-однодневках, продаваемых на каждом углу, а иное: прозе газетчиков очень уж недостает кое-чего – смелости в осмыслении событий, жажды познания, а также честной и непредвзятой поверки умом. Не стану утверждать, что газеты бесполезны, но они не для тех, кто стремится к поискам правды. Мне было бы не по силам изменить подобное положение вещей. Слишком уж ничтожны мои возможности. Человек, рискнувший разгласить тайны Фуке и Кирхера, Марии-Терезии и Людовика XIV, Вильгельма Оранского и Иннокентия XI, был бы тотчас задержан, заключен в кандалы и навсегда пропал бы в темнице для умалишенных. И в этом Атто был прав: знание истины является не подспорьем для газетчика, а напротив, самым большим препятствием. Единственное спасение для тех, кто что-то знает, – в молчании. Чего мне более всего не хватает и чего уже никак не восполнить – вовсе не слова, а звуки. От Barricades mysterieuses, экземпляр нотной записи которых, увы, не представилось возможности сохранить, мне осталось лишь бледное и неполноценное воспоминание, которому уже шестнадцать лет. Я превратил этот бой с памятью в игру, которой ни с кем не делюсь. Каким был этот пассаж или этот аккорд, как звучала эта смелая модуляция? Когда от летнего зноя становится невмочь, я присаживаюсь в тени дуба, раскинувшего свои ветви над нашим домиком, на стул, на котором предпочитал сидеть Помпео Дульчибени, закрываю глаза и тихонько напеваю рондо, зная, что с каждым разом оно истончается, делается все более неуловимым и непостижимым. Несколько месяцев назад я послал Атто письмо. Не имея его парижского адреса, я направил его в Версаль, в надежде, что оно будет ему передано: кто не знает при дворе знаменитого аббата, кастрата, советника Наихристианнейшего короля? Я поведал ему о глубоком горе, которое испытываю при мысли, что расстался с ним, не выразив своей благодарности, предложил ему свои услуги, моля соизволить принять их, и назвался нижайше преданным ему слугой. И, наконец, признался, что писал эти мемуары, основываясь на дневниковых записях, которые вел еще в бытность нашу друзьями, о чем он и не подозревал. Увы, ответа я так и не дождался. И по этой причине ужасное подозрение начинает закрадываться в мою голову в последнее время. Я все думаю: что именно рассказал Атто королю, когда добрался до Парижа? Удалось ли ему утаить, какие королевские секреты им раскрыты? Опустил ли он глаза под градом вопросов, дав понять государю, что ему ведомо многое о неприглядных деяниях? Мне случается вообразить засаду, устроенную ночью на какой-нибудь узкой парижской улочке, задушенный крик, топот убегающих людей и тело Атто в луже крови… Но я не сдаюсь и борюсь с игрой воображения. Продолжая надеяться на лучшее, я жду ответа из Парижа, и порой мои уста сами собой шепчут строки романса синьора Луиджи, учителя Атто:ADDENDUM[1222]
Дорогой Алессио, вот вы и добрались до конца повествования, принадлежащего перу моих давних друзей. Вам предстоит сделать последний шаг и передать его в руки Святого Отца. Я пишу эти строки, а сам прошу Святой Дух наставить вас на правильный путь. Около сорока лет минуло с тех пор, как я получил по почте рукопись, рассказывающую о том, что случилось на постоялом дворе «Оруженосец». Признаюсь, первое, что пришло мне в голову: главный герой слишком поддался игре воображения. По утверждениям авторов, ими был использован исторический документ: подлинные неопубликованные воспоминания, датируемые 1699 годом. Как священник и исследователь, я понимал, что пассажи, относящиеся к аббату Моранди и Кампанелле, янсенистам и иезуитам, похоронной компании «Отходная молитва и Смерть», равно как монастырю отцов-селестинцев, ныне не существующему, необычным поверьям, имевшим хождение в XVIII веке в области отправления таинств – исповеди и соборования, – все это с исторической точки зрения верно. Да и лексическая раскованность, легкость в обращении с латинскими выражениями, допускаемые в тексте, ясно свидетельствовали, что текст был написан в XVIII веке. Чего стоит одна барочная терминология, почерпнутая автором в трактатах той поры, тяжелый, подчас неудобоваримый язык. Однако, если отбросить эти частности, какова все же доля выдуманного, сочиненного? Сомнение было неизбежно, и не только потому, что порой интрига приобретает смелый и прямо-таки забористый характер, но и потому, что очень уж два главных персонажа напоминают дуэты традиционного толка, такие как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Пуаро и Гастингс, также по преимуществу ведущие расследование в неких ограниченных пространствах – поездах, кораблях, на островах… С другой стороны, в воспоминаниях «Ласарильо из Тормеса»[1223] XVI века фигурирует точно такая же пара, состоящая из учителя и ученика, старика и юноши. Что уж говорить о Данте и его «вожатом» Вергилии, направляющем его в адских галереях, так напоминающих подземный Рим? Я уж было начал подумывать, что имею дело с Bildungsroman, как охарактеризовали бы его специалисты литературы, к рядам коих не смею себя причислять, – романом воспитания в форме воспоминаний. Ведь наивный простак за те ночи, которые он проводит бок о бок с аббатом Мелани в подземных галереях, взрослеет. Однако вскоре я заметил, что подобные соображения, несомненно, весьма будоражащие ум, никоим образом не отвечают на вопросы: кто автор сего труда? Мои друзья или главный герой? Или и он и они? И в какой степени? Готовые модели, которые я отыскивал в истории литературы, были так удалены по времени, что я никак не мог прийти ни к какому решению. Ну к чему, право, упорно сравнивать этот текст с текстом Аретино или, того лучше, «Декамерона» Бокаччо и упиваться тем, что и там и тут рассказ разбивается по дням и персонажи из-за чумы оказываются запертыми в неком помещении и плетут нить самых невероятных рассказов, чтобы скоротать время? Ведь эти модели с одинаковым успехом могли вдохновлять и безымянного автора этих воспоминаний. «В одних книгах непременно говорится о каких-то других, каждая история уже была когда-то рассказана», – вывел я, подхватив чью-то мысль. И оставил эти бесплодные литературные разыскания. Однако кое-какие бесстыдные заимствования все же бросали тень на подлинность рукописи: к примеру, одна из тирад против коронованных особ Помпео Дульчибени, обвиняющего тех в грабеже и инцесте, была частично вдохновлена знаменитой речью Робеспьера, на которую косвенно намекнули и сами авторы, заставив Дульчибени произносить ее sans-culottes[1224], без штанов. А некоторые персонажи и вовсе поставили меня в тупик. Угонио и Джакконио, созданные по образу и подобию подлинных собирателей реликвий, которые и сегодня еще заполоняют нашу страну, получили свои имена (как и Баронио с Галлонио) от прославленных эрудитов и исследователей катакомб XVII века. Не говоря уже о куртизанке Клоридии, выслушивающей главного героя и интерпретирующей его сон в недвусмысленной и анахронической позе психоаналитика. А недоброжелательно поданный образ папы Иннокентия XI был, на мой взгляд, лишь неловкой попыткой перевернуть историческую реальность. Будучи, как и папа, уроженцем области Комаско, я хорошо изучил его облик и деяния, как и наветы, что уже при жизни возводились на него вполитических целях. В тексте подобные высказывания звучат из уст отца Робледы. Однако клеветнические измышления были опровергнуты самыми серьезными историками, в частности Папасольи, который в пятидесятые годы прошлого века написал пространную биографию блаженного Иннокентия XI в триста страниц, в которой отмел все их измышления. Задолго до него Пастор – имя ангелов-хранителей церковных деятелей – уже снял большую часть подозрений. Это было не единственное неправдоподобие, с которым я столкнулся в тексте. Не все было ладно и с историей суперинтенданта Фуке. Из рассказа подмастерья следует, что Фуке умирает на постоялом дворе «Оруженосец», отравленный Атто Мелани 11 сентября 1683 года. Но ведь даже в школьных учебниках написано, что суперинтендант умер в тюрьме Пинероло в 1680 году, а не в Риме в 1683 году! Кое-кто из историков и романистов высказывал предположение, согласно которому Фуке умер отнюдь не в неволе; как бы то ни было, эта проблема слишком древняя и затертая, чтобы снова здесь ее поднимать. Вольтер, имевший возможность общаться с членами семьи суперинтенданта, заявлял, что так никогда и не будет известно, где и когда прервался его жизненный путь. Однако мне казалось слишком смелым утверждение, выдвинутое в данной рукописи, о том, что Фуке якобы скончался в Риме, убитый по приказу Людовика XIV. Эта обнаруженная мною историческая неправда чуть было не заставила меня выбросить рукопись. Разве одного этого не довольно, чтобы понять – речь идет о подделке? Однако вскоре я убедился, что все не так просто, как представлялось мне вначале. Все стало меняться, когда я взялся за углубленное изучение личности Фуке. Уже не один век исторические труды представляют нам его как образец продажного государственного деятеля, тогда как Кольбер – просто ангел во плоти. Однако, согласно Атто Мелани, честняга Фуке пал невинной жертвой завистливой посредственности Кольбера. Вначале подобное перевертывание оценок с ног на голову показалось мне порождением воображения, к тому же я отыскал в тексте отзвуки романа Поля Морана о Фуке. Но очень скоро пришлось вернуться к прежним критериям. Я откопал в библиотеке эссе внушительных размеров одного французского историка Даниеля Дессера, который около шестидесяти лет назад, призвав на помощь документы той эпохи, поднял голос в защиту чести Фуке и развеял миф о Кольбере, показав всю его низкую натуру и все ковы, что он строил другим. В своем великолепном труде Дессер детально изложил (и неопровержимо доказал) все то, что Атто рассказывает подмастерью о суперинтенданте. Увы, как это часто случается с теми, кто подвергает сомнению мифы, ценнейшее исследование Дессера было предано забвению группой историков, которых он посмел обвинить в лени и невежестве. Тот факт, что ни один историк так и не отважился опровергнуть это убедительное и увлекательное эссе, что-то, да значит. Выходило, драматическая судьба Фуке, как о том и поведал аббат Мелани, не имела ничего общего с литературным вымыслом. Это не все. Продолжая разыскания, я обратил внимание на то, что Кирхер и Фуке, существование взаимоотношений между которыми до сих пор не доказано с полной очевидностью, могли быть знакомы, поскольку иезуит (об этом пишет Анатоль Франс в своей небольшой книжице о Фуке, да и труды Кирхера отчасти это подтверждают) действительно проявил интерес к египетским мумиям, доставленным во Францию по приказу Фуке. Весьма загадочная история заключения Фуке в тюрьму Пи-нероло также подлинна, как мне удалось в том убедиться. Судя по всему, король-Солнце и впрямь держал суперинтенданта в темнице вдали от Парижа из опасения перед тем, что тому было известно, однако почему он так поступил, никому до сих пор не ведомо. Граф Лозен, двусмысленный персонаж, проведший в той же тюрьме десять лет и освобожденный тотчас после исчезновения из нее суперинтенданта, также представлен в соответствии с исторической правдой. Таким образом, я убедился, что имеет место довольно-таки серьезная историческая основа. «А если все это правда?» – пронзило вдруг меня. С тех пор мог ли я не предпринять более углубленных разысканий в надежде натолкнуться на какую-нибудь грубейшую ошибку, которая поставила бы под сомнение подлинность рукописи и позволила бы мне отделаться от мучительного вопроса, как быть с этим дальше. Признаюсь, я был в смятении и испытывал страх. Увы, мое тайное беспокойство оказалось небеспочвенным. С немыслимой быстротой стало подтверждаться многое: описание Рима, карантин, теории относительно чумы, бытовавшие в то время, рецепты Кристофано и кулинарные познания подмастерья. Все это хлынуло на меня из словарей, энциклопедий и учебников. Тоже и со всем, что связано с Людовиком XIV, Марией-Терезией, венецианскими стекольщиками, вплоть до загадок Тиракорды и расположения подземных галерей. Лозоведение, объяснение сновидений, нумерологическое учение, астрологические познания, вся эта сага о мамакоке (то бишь коке) так и заплясали перед моими глазами. Тут же была и битва за Вену, и секреты французских инженеров по ведению осады, ставшие непонятным образом известными туркам, и необъяснимые стратегические просчеты Кара Мустафы, определившие исход баталии. В библиотеке Казанатенсе в Риме, все еще недоверчиво взирая на страничку с библейским текстом, отпечатанную Комареком, я окончательно сдался: все, что мне довелось увидеть, прочесть, вплоть до самых незначительных деталей, каким-то странным и вызывающим образом подтверждало правдивость рассказа. Против собственной воли вынужден был я продолжать изыскания. И снова вместо ошибок и неточностей обнаруживал подтверждение всему. Я стал уже было подозревать, что угодил в хитрую ловушку некоего замкнутого типа, из которой никак не выбраться, или паутины, не выпускающей свою жертву. Тогда я решил взяться за теории Кирхера: с его жизнью и трудами я уже был знаком, но никогда прежде не слышал о secretum pestis, как и o secretum vitae, способном устранить чуму, а уж о рондо с тайнописью и подавно. Конечно, мне доводилось, как и отцу Робледе, читать «Magnes, sive de arte magnetica» Кирхера, труд, в котором иезуит поднимает вопрос лечебной терапевтической силы музыки и предлагает использовать определенную мелодию для лечения укуса тарантула. С другой стороны, я знал, что в более поздние времена Кирхер был зачислен в шарлатаны: в своем трактате о чуме, например, он заявляет о том, что разглядел в микроскоп болезнетворные бациллы. Нынешние историки утверждают: в эпоху Кирхера не существовало таких мощных приборов. Значит ли это, что он все выдумал? Если это так, требовалось собрать необходимые доказательства. Особенно тщательно справился я об исторической болезни, называемой нами чумой. Речь идет о бубонной чуме, вызываемой вибрионом Yersinia pestis, передаваемом блохами крысам, а уж теми – человеку. Она не имеет ничего общего с различными болезнями животных под названием «чумка» либо с так называемой легочной чумой, поражающей время от времени страны третьего мира. Не без удивления узнал я, что чума уже давно прекратила свое существование и причина этого никому не известна. Когда же я обнаружил, что она исчезла из Европы (и в первую очередь из Италии) где-то в конце XVII – начале XVIII века, в то самое время, когда разворачиваются описанные в рукописи события, я невольно улыбнулся. Ведь я уже был к этому подготовлен. Есть немало теорий относительно загадочного исчезновения чумы, но ни одна из них не доказана на сто процентов. По одним из них, дело в повышении уровня санитарии, по другим – нужно благодарить rattus norvegicus (бурую крысу), которая, обосновавшись в Европе, вытеснила rattus rattus (черную крысу), в чьей шерсти и заводилась xenopsilla cheopsis – блоха, носительница бациллы чумы. Кое-кто приписывает эту победу новому типу построек из кирпича и черепицы, а не из дерева и соломы, как прежде, а также отказу от чердаков для хранения злаков, что отвадило крыс от людского жилья. И наконец, есть такие ученые, которые настаивают на положительной роли, которую сыграл псевдотуберкулез, неопасная болезнь, вырабатывающая у человека иммунитет против бубонной чумы. Из всех этих академических дискуссий следует лишь одно достоверное утверждение: между XVII и XVIII веками Европа загадочным образом избавилась от самой своей древней напасти, как то было обещано Кирхером в его трудах. Совпадения продолжали множиться, стоило мне обратиться к загадке Barricades mysterieuses – рондо, в котором якобы запрятан secretum pestis, или к тарантелле, являющейся противоядием от укуса тарантула. Но именно здесь, да простит мне Господь, я с тайным удовлетворением обнаружил наконец непоправимую историческую ошибку. Достаточно было полистать любой словарь по музыке, чтобы узнать: Barricades mysterieuses написаны не малоизвестным гитаристом и композитором Франческо Корбеттой, как следует из рукописи, а Франсуа Купереном, знаменитым французским композитором и клавесинистом, родившимся в 1668-м и умершим в 1733 году. Это рондо входит в первый сборник его «Пьес для клавесина», предназначенных для исполнения на клавесине, а не на гитаре. Главное же то, что впервые этот сборник был опубликован в 1713 году, то есть тридцать лет спустя после событий, описанных в рукописи. Допущенный авторами анахронизм был столь серьезным промахом, что лишал их труд не только достоверности, но и правдоподобия. Обнаружив столь важную ошибку, я счел небесполезным разнести в пух и прах все возведенное ими здание. Произведение, содержащее один столь серьезный промах, не могло угрожать славной репутации блаженного Иннокентия XI! В свободное время по вечерам я неспешно листал рукопись, а мысли мои были скорее об авторах рукописи, а не о ее содержании. Вся эта история, напичканная ядовитыми россказнями по поводу папы, моего земляка, выглядела откровенно провокационной, если только не была шуткой, недостойной внимания. Природные враждебность и недоверие, которые, должен признать, я издавна питаю к журналистам, взяли верх. Прошло несколько лет. Я почти забыл о своих давних знакомцах, как и об их рукописи, погребенной среди множества старых бумаг и фолиантов. Из осторожности я засунул ее подальше от посторонних глаз, чтобы кто-нибудь неискушенный не ознакомился с ней ненароком. Тогда я не мог знать, насколько мудро я поступил, предприняв подобную предосторожность. Три года назад, услышав, что Его Святейшество желает заново начать процесс канонизации папы Иннокентия XI, я и не вспомнил о стопе пожелтевших страниц. Однако они сами напомнили о себе. Это произошло в Комо одним дождливым ноябрьским вечером. Идя навстречу настоятельным просьбам друзей, я побывал на концерте, организованном одной музыкальной ассоциацией моей епархии. Поскольку день выдался весьма напряженным, я слушал вполуха; под конец первого отделения должен был выступать племянник моего старинного, еще со студенческой скамьи приятеля. Рассеянно слушая сменяющихся музыкантов, я вдруг был совершенно захвачен одним вкрадчивым мотивом. Такого со мной еще не бывало. Это было что-то вроде барочного танца, чья мечтательная гармония колебалась между Скарлатти и Дебюсси, Франком и Рамо. Я всегда был страстным почитателем хорошей музыки и горжусь тем, что собрал внушительную коллекцию записей. Однако если бы в тот момент меня спросили, какого века эти вневременные звуки, я был бы не в состоянии ответить. Дождавшись конца исполнения, я заглянул в программку, которая так и лежала нераскрытой на моих коленях с начала вечера, и прочел название только что прозвучавшей музыкальной пьесы: Les Barricades mysterieuses. Оказалось, что и в этом подмастерье не солгал: эта музыка как никакая другая обладала неизъяснимой силой очарования, приводила в смятение, брала в полон ум и сердце. Я уже не удивлялся тому, что она навсегда покорила автора рукописи и годы спустя не забылась. Secretum vitae был помещен в такую оболочку, которая сама по себе была настоящей тайной. Если этого и было недостаточно для того, чтобы решить, что и все остальное было правдой, то сопротивляться искушению дойти до конца мне теперь было уже не по силам. На следующее утро я приобрел дорогую запись «Пьес для клавесина» Куперена и с огромным внимание в течение многих дней слушал ее до тех пор, пока у меня само собой не вызрело следующее мнение: в этих пьесах не было ничего, хоть отдаленно напоминающего «Les Barricades mysterieuses». Я стал рыться в словарях, монографиях. Несколько музыкальных критиков, занимавшихся данным вопросом, сходились в одном: это произведение стоит в творчестве Куперена особняком. Пьесы Куперена почти всегда носят некое описательное название: «Чувства», «Траурная», «Неприкаянная душа», «Сладострастная» и т. п. Иные названия, такие как «Рафаэль», «Анжелика», «Милордина», «Кастелана», обращены к очень известным придворным дамам, и современники пытались отгадать, каким именно. К «Barricades mysterieuses» не имелось никаких пояснений, а один музыковед назвал это рондо «поистине загадочным». Все шло к тому, чтобы допустить: это творение какого-то другого композитора. Но какого именно? Ощетинившаяся смелыми диссонансами, пронзительными гармониями, пьеса не имела ничего общего с другими произведениями Куперена, отличающимися строгостью и сдержанностью. Четыре полифонических голоса растворяются благодаря замысловатой и замедленной игре в тонком, искусно смоделированном арпеджио. Это подлинный style brise, который клавесинисты позаимствовали у лютнистов. А лютня – ближайшая родственница гитары… Я предположил, что пьеса и впрямь сочинена Корбеттой, как утверждает герой рукописи. Но почему же тогда Куперен опубликовал ее под своим именем? И как она к нему попала? Если поверить рукописи, автором рондо был не кто иной, как малоизвестный итальянский музыкант Франческо Корбетта, что выглядело чистой воды выдумкой: это не пришло в голову ни одному специалисту в данной области. Правда, существовал один многозначительный прецедент: при жизни Корбетты кое-какие его сочинения стали предметом яростных споров относительно их авторства. Корбетта даже обвинил одного из своих учеников в том, что тот крал у него мелодии и выдавал за свои. Проверить, что Корбетта был учителем и другом Девизе, труда не составляло. Значит, вполне возможно, что они обменивались таблатурами. В то время музыканты собственноручно переписывали ноты, напечатанные партитуры были большой редкостью. Когда Корбетты не стало в 1681 году, Робер Девизе (или согласно современному написанию Де Визе) пользовался уже широкой известностью как виртуоз и преподаватель игры на гитаре, лютне, теорбе и большой гитаре. Людовик XIV чуть ли не ежевечерне призывал его к себе. Девизе был завсегдатаем самых модных придворных салонов, где выступал в дуэте с другими музыкантами, и в том числе – вот так совпадение! – с клавесинистом Франсуа Купереном. Выходит, Девизе и Куперен были знакомы, вместе выступали, вполне вероятно, обменивались комплиментами, советами, мнениями и, как знать, какими-то доверительными сведениями. Нам известно, что Девизе нравилось исполнять на гитаре пьесы Куперена (до наших дней дошли письменные свидетельства этого). Нет ничего невероятного в том, что и Куперен, в свою очередь, исполнял на клавесине suites[1225], предназначенные первоначально для исполнения на гитаре. Записи, табла-туры переходили от одного к другому, и не исключено, что однажды вечером, пока Девизе увлекся светской беседой, Куперен извлек из папки своего приятеля прекрасное рондо с необычным названием и решил про себя: верну как-нибудь потом. Под впечатлением от этой божественной музыки и тайны, возникающей на моих глазах, я вновь прочел рукопись, присланную моими друзьями, скрупулезно занося в тетрадь все, что нуждалось в проверке. Я знал: это было единственным способом навсегда излечиться от подозрения: было ли это ловким вымыслом, манипулирующим истиной? Плод последующих трех лет изысканий изложен на страницах, следующих далее. Ежели вы пожелаете дать им ход, сообщаю вам, что у меня имеются фотокопии документов и книг, которые там упоминаются. Была одна загадка, более других не дававшая мне покоя, поскольку грозила превратить в катастрофу возможную канонизацию блаженного Иннокентия XI. Речь шла о том, что было известно и составляло тайну Дульчибени, являясь одновременно причиной всех его бед и поступков: был ли Иннокентий XI сообщником Вильгельма Оранского? Увы, эта тема начинает звучать лишь в конце рукописи, когда решается загадка Дульчибени. Мои друзья также не сочли возможным снабдить рассказ заметками, до того относящимися. Как же так – разочарованно спрашивал я себя, – два столь любознательных журналиста и поостереглись это сделать? Может быть, предположил я, преисполненный надежды, они не нашли ничего порочащего великого Одескальки? И все же моей обязанностью было пролить свет на всю эту историю и, изложив результаты исследования черным по белому, прогнать тучи, собравшиеся над головой понтифика. Я перечел страницы, на которых Дульчибени приоткрывает завесу над зтой тайной. «Долги Вильгельма папе, – утверждает янсенист, – были обеспечены личным достоянием принца Оранского». Но где именно располагались его владения? Оказалось, что я не имею об этом ни малейшего понятия. Не в Голландии ли? Каково же было мое удивление, когда я отыскал на карте принадлежащие ему земли: княжество Оранское находилось на юге Франции, в сердце Авиньонской легации[1226]. Легация принадлежала Церкви, Авиньон со Средних веков был папской территорией. А легация Авиньона, в свою очередь, находилась в сердце Франции! Княжество Оранское было окружено землями католиков, то есть своих врагов, а те, в свою очередь, – землями Людовика XIV, также заклятого врага Иннокентия XI, католического папы. Как необычно сошлось все в одном месте!
Значит, Авиньон. Следовало искать там и в архивах. Я выправил себе специальное разрешение для работы в Секретных Архивах Ватикана и провел в них несколько недель. Я уже знал, что ищу: дипломатическую переписку и письма, которыми обменивались папские службы Рима и Авиньона. Я пересмотрел кучу бумаг всякого рода, надеясь напасть на следы Оранжа, Вильгельма, каких-либо займов. Все напрасно. Я уже отчаялся, как вдруг в одном конверте с письмами, не представляющими интереса, нашел три небольшие пачки по четыре странички в каждой. Они относились к 1689 году, к тому периоду, когда со смерти Иннокентия XI прошло три месяца. Новый папа Александр VIII Оттобони[1227] только-только взошел на престол. Увы, чтение этих документов предназначалось, видимо, лишь для посвященных:

И так далее на двенадцати страницах, всего двадцать четыре колонки, похожие на те, что я здесь воспроизвел. Я понял, что передо мной зашифрованное послание и что мне его не разгадать. К счастью, код, примененный здесь, был тот же, что использовал государственный секретарь Ватикана в это время. Я сравнил его с уже расшифрованными письмами и получил первые строки:
ОДИНПОМАННЫЙОЧЕНЬВЕРНЫЙСВЯТОМУПРЕС-ТОЛУИВЕСЬМАДАРОВИТЫЙПРОЖИВАЮЩИЙВАВИНЬ-ОНЕПЕРЕДАЛМНЕПОСЛАНИЕНАПИСАННОЕПОДДАН — НЫМПРИНЦАОРАНСКОГО…Потребовалось два дня усилий, чтобы получить удобочитаемую версию текста. Правда, не все слова поддались расшифровке, к счастью, они были не главными и не мешали пониманию текста. Это было послание монсеньора Ченчи, папского вице-легата в Авиньоне, доносящего в Рим о необычном предложении:
Один подданный, очень верный Святому Престолу и весьма даровитый, проживающий в Авиньоне, передал мне послание, написанное подданным принца Оранского, в котором речь идет о великом желании подданных этого княжества перейти под управление Святого Престола… Ежели он заговорит со мной об этом деле, я выслушаю и доложу обо всем, что услышу, и не стану ни соглашаться, ни отклонять 2657. Кажется, можно не сомневаться в согласии жителей Оранжа… Вышестоящие требуют от меня ответа обо всем, что мне известно об этом важном деле. Прилагаю копию вышеупомянутого письма, адресованного г-ну Сальвадору, аудитору Роты [1228] Авиньона, г-ном Бокастелем из Куртезона…Вот, оказывается, что произошло: некий г-н де Бокастель из небольшого городка Куртезон, подданный принца Оранского, соотнесся сперва с авиньонским священником Сальвадором, а затем с вице-легатом Ченчи. Бокастель предлагал нечто по меньшей мере удивительное: княжество Оранское желало перейти под управление понтифика. Я был ошеломлен: как могло случиться, чтобы подданные Вильгельма Оранского, по большей части протестанты, захотели перейти под крылышко католического папы? И отчего они были так уверены, что Вильгельм им это дозволит? Продолжая рыться в переписке Рима и Авиньона, я обнаружил письма, которыми обменялись Ченчи и государственный секретарь Ватикана, и в частности напал на само письмо Бокастеля Сальвадору. Рискуя показаться педантом, напоминаю, что эти документы – до сих пор неизвестные историкам – находятся в Секретном Архиве Ватикана: Фонд государственного секретариата – легация Авиньона. Речь идет о папке 369 (письмо г-на Бокастеля Паоло де Сальвадору от 4 октября 1689 года), папке 350 (два письма монсеньора Ченчи государственному секретарю Ватикана, без даты, и одно – кардинала Оттобони Ченчи, от 6 декабря 1689 года), папке 59 (письмо монсеньора Ченчи – кардиналу Оттобони от 12 декабря 1689 года). Зашифрованные тексты сопровождались расшифрованными версиями. Я с удивлением убедился, что только одно из них, то самое, что я расшифровал сам, наиболее важное, не сопровождалось переводом. Словно бы оригинал в силу необычной секретности содержания был уничтожен… К тому же оно лежало не на своем месте, а чуть дальше. Несмотря на возникшие трудности, мне удалось восстановить необычайную историю, над которой до тех пор никто еще не приподнимал завесы. Причины, по которым оранцы желали стать подданными папы, были столь же просты, сколь и потрясающи: Вильгельм Оранский много задолжал Иннокентию XI, и оранцы, платившие по счетам своего государя, вообразили, что можно решить свои проблемы прямым присоединением к папским владениям: «В нашем королевстве, – пишет монсеньор Ченчи, – существует поверье, будто бы принц Оранский задолжал предыдущему понтифику крупные суммы, в уплату коих он считает возможным предложить свои владения, от которых ему самому никакого проку». Жители Оранжа даже разделились во мнении. «Мы и без того уже столько выплатили Риму!» – ворчал г-н де Сен-Клеман, бывший казначей княжества. Как бы то ни было, предложение Бокастеля было Римом отклонено. Кардинал Рубини, государственный секретарь и племянник нового понтифика, и кардинал Оттобони велели отделаться от обременительного предложения. В этом нет ничего удивительного: новый папа знать не знал о долгах предыдущему. Да и потом, мыслимое ли дело, чтобы такой прославленный предшественник одолжил денег еретику… Я был огорошен. Письма из секретного Архива Ватикана подтверждали то, в чем признался Дульчибени подмастерью: Вильгельм был должником Иннокентия XI. И это еще не все: в случае невыплаты личное достояние принца Оранского могло быть арестовано. На деле же долг достиг таких размеров, что подданные должника сами додумались перейти к заимодавцу! Однако мне требовалось подтверждение столь невероятного факта, да и захотелось уяснить себе кое-что относительно Вильгельма: где он брал средства, необходимые ему для ведения военных действий? Кто финансировал переворот в Англии? Труды, посвященные gloriousrevolution[1229], как именуется сегодня государственный переворот, в результате которого принц Оранский завладел английским троном, твердят одно и то же: Вильгельм добрый, Вильгельм сильный, Вильгельм такой идеалист, такой бескорыстный, что и не стремился вовсе к власти! Если судить по заявлениям историков, отважный Вильгельм питался святым духом и пил воду. Но кто же снабдил его с младых ногтей средствами, необходимыми для противостояния армиям Людовика XIV? Кто косвенно оплачивал содержание наемников (составлявших большую часть рати в ту эпоху), военачальников, достойных этого названия? Все европейские монархи, погрязшие в бесконечных войнах, постоянно ощущали нехватку средств. Но только у принца Вильгельма было важное преимущество: если и имелся город, где не иссякал в XVIII веке денежный поток, то это был Амстердам. Не случайно там процветали банки ростовщиков-евреев. Столица Республики Соединенных Провинций была самым богатым местом Европы, как о том говорит Клоридия, а затем и другие персонажи. Я обратился к серьезным трудам по истории экономических отношений и узнал, что в эпоху Вильгельма Оранского большинство деловых людей Амстердама были итальянцами. Город наводнили Тензини, Верраццано, Бальби, Кинжетти, Бурламакки и Каландрини, а до того все эти кланы уже обосновались в Антверпене (Клоридия и Кристофано также называют эти фамилии). Выходцы из Генуи, Флоренции, Венеции были торговцами и банкирами, а порой еще и шпионами на службе итальянских княжеств и республик. Самые предприимчивые смогли проникнуть в узкий круг амстердамской аристократии. Другие ударились в прибыльную, но опасную работорговлю: так поступил Франческо Ферони. Болонская семья Бартолотти представляет самый интересный случай: начав со скромного пивоваренного завода, они стали торговцами, а затем богатейшими банкирами и смешались с голландцами до такой степени, что утратили последние капли итальянской крови. В несколько десятилетий протестанты Бартолотти так разбогатели, что принялись финансировать Оранский дом, одалживая большие суммы сперва деду Вильгельма, а потом и ему самому. В залог шли земли, расположенные в Голландии и Германии. Деньги под залог земель. Из рассказа Дульчибени следует, что подобным было и соглашение Оранского дома с Одескальки. Совпадение? Теперь я достаточно знал об итальянских торговцах и заимодавцах Оранского дома. Настало время поинтересоваться родом Одескальки, для чего следовало разыскать сохранившиеся бумаги.
* * *
Много месяцев – даже не помню, сколько именно – провел я в архивах дворца Одескальки и в Государственном Архиве Рима. Со мной был помощник. Измученные холодом и пылью, мы по целым дням сидели над документами, стараясь ничего не упустить из виду: письма, договора, предписания, заметки, газеты, гроссбухи. Все напрасно. Некоторое время спустя после начала поисков у меня возникло ощущение, что я увязаю. Я стал подумывать о том, чтобы отказаться от этой затеи. Но однажды мелькнула мысль: что именно было сказано Дульчибени? Что деньги, предназначенные для принца, отправлялись из Венеции. А ведь и правда в Венеции имелся филиал семейного предприятия Одескальки. Там и следовало искать. Из завещания Карло Одескальки, старшего брата Иннокентия, я узнал, что семейное имущество всегда оставалось соттипо etindiviso[1230]. Словом, то, что принадлежало одному, принадлежало и другому. Оттого даже выходило, что папа беден, если иметь дело лишь с его архивом. И только подсчитав состояние его брата, можно было составить мнение о том, чем владел он сам. Карло Одескальки был средоточием деловой активности семьи: он управлял значительными владениями Одескальки в Ломбардии; из Милана руководил венецианским филиалом, где на него трудились два прокуратора[1231]. В завещании были упомянуты две книги, содержащие опись всего, что принадлежало братьям. Возможно, из них-то все станет окончательно ясно, а если к ним приложен список должников, то Вильгельм Оранский должен там значиться. Я пустился на поиски этих книг, но опять ровным счетом ничего. Тогда я обратил взор на личные документы Карло, и мои поиски увенчались успехом. Два тяжелых тома, переплетенных в кожу, которые брат блаженного Иннокентия хранил до смерти и которые находятся ныне в Государственном Архиве Рима, содержали данные о движении колоссальных капиталов: миллионов экю. Лишь небольшая часть операций касалась коммерческих сделок, уплаты соляного налога, аренды и т. д. А сотни других сделок, почти сплошь совершенных двумя венецианскими прокураторами – Чернецци и Реццонико, – занимали большую часть этих книг. У меня бешено забилось сердце, когда я убедился, что большинство операций связано с Голландией. Я поинтересовался, как же так случилось, что это до сих пор оставалось под спудом: один архивист растолковал мне, что эти счетные книги были на века забыты в подземных хранилищах дворца Одескальки и лишь недавно поступили в Государственный Архив Рима. Никто до сих пор ими не интересовался. Дальше пошло легче. Оказалось, что с 1660 по 1671 год Карло Одескальки переправил в Голландию в различных валютах сумму, составляющую 153 000 экю, что почти соответствует годовому дефициту государства Ватикан (173 000 экю) в тот момент, когда Бенедетто взошел на престол Святого Петра. За девять лет, с 1660 по 1668 год, Одескальки послали 22 000 экю банкиру Яну Дёцу, основателю и владельцу одного из крупнейших голландских банков. Ян Дёц был столпом голландского общества, представители этого рода занимали посты во всех административных и правительственных учреждениях, были связаны брачными союзами с самыми знатными фамилиями Голландии. Великий Пенсионарий Ян де Витт[1232], наставник юного Вильгельма III, был свояком Яна Дёца. А сын и общник Яна Дёца стал членом муниципального совета Амстердама с 1692 по 1719 год; дочери и внучки Дёца вышли замуж за бургомистров, генералов, банкиров и торговцев. Это было лишь началом. С июня по декабрь 1669 года Одескальки выслали дополнительно 6000 экю одной компании, среди пайщиков которой числился банкир Вильгельма Джульельмо Бартолотти. Большего доказательства быть не могло: Одескальки переводили деньги Бартолотти, а те одалживали их Вильгельму. Деньги перекочевывали из кубышек будущего папы в руки представителей Оранского дома. Чем больше я стучался, тем больше дверей распахивалось передо мной. С ноября 1660-го по октябрь 1665 года венецианские прокураторы Одескальки послали 22 000 некоему Жану Нёфвилю. А Нёфвиль был отнюдь не чужим Вильгельму: его дочь Барбара вышла замуж за Хьоба де Вильдта, секретаря амстердамского адмиралтейства, по личному пожеланию самого Вильгельма Оранского получившего чин генерал-адмирала. Впрочем Вильдты издавна были близки Оранскому дому: дед Хьоба, Жиллис де Вильдт, был назначен членом городского совета Гарлема принцем Морисом Оранским. Хьоб де Вильдт получал все денежные средства, предназначавшиеся для вторжения в Англию в 1688 году, а после восшествия Вильгельма на королевский престол стал личным представителем короля в Голландии. И наконец, в октябре 1665 года подставные лица Одескальки в Венеции направляют небольшую сумму компании Даниеля и Яна Батиста Ошпье. Первый – член городского совета и глава предприятия, торгующего с Левантом: коммерческие и финансовые легкие еретической и протестантской Голландии. Значит, все верно, Дульчибени ничего не придумал: именно этих голландцев упомянул он в разговоре с поваренком. Совпадала и еще одна немаловажная деталь: чтобы не оставлять следов, подставные лица Чернецци и Реццонико пересылали деньги друзьям принца. Карло Одескальки порой отмечал в своих гроссбухах ту или иную операцию с деньгами, совершенную Чернецци и Реццонико, но деньги-то шли от него и принадлежали ему и его брату. А после отыскались и следы финансирования работорговца Франческо Ферони: 24 000 экю за десятьлет, с 1661 по 1671 год. Интересно, что Одескальки получили взамен? Наверняка какие-то барыши, которыми и объясняется снисходительность братьев в отношении прихотей Ферони, в том числе его страсти к дочери Дульчибени. Мало того, Одескальки одалживали деньги генуэзцам Грийо и Ломеллини, обладателям королевского подряда на торговлю рабами, полученного от испанской короны, друзей ферони. Эти документы также не были прочитаны никем из историков, потому как находятся не там, где следовало бы (Archivio di Stato di Roma, Fondo Odescalchi, XXIII A 1, с 216; см. также: XXXII E 3,8). Я подвел итог, сколько посылалось в Голландию каждый год, и вышло следующее:
Эти деньги наверняка шли на ведение войн. И даты это подтверждают: в 1665 году, например, когда зарегистрирован пик поступлений, Голландия вступила в войну с Англией. Мне было бы легче, если бы можно было сверить гроссбухи Карло Одескальки с коммерческой перепиской. Однако его письма с 1650 по 1680 год, в которых не могли не быть названы имена его голландских должников, канули в Лету: их нет ни в Государственном Архиве Рима, ни в архивах дворца Одескальки – двух местах, где только и могли они храниться. Мне уже не раз приходилось сталкиваться с исчезновением тех или иных документов в своих изысканиях по этому делу. Людовик XIV содержал в Риме шпиона высокого ранга – кардинала Альдерано Чибо, близкого сотрудника Иннокентия XI. Чибо передал французам информацию чрезвычайной важности о том, что государственный секретарь Ватикана Лоренцо Казони находился в тайных сношениях с принцем Оранским. Как бы то ни было, в конце XVIII века тома, содержащие переписку Казони и хранящиеся в Ватикане, стали заметно тоньше. Выходит, рукопись, присланная мне моими давнишними друзьями, оказалась правдой вплоть до самых печальных и ставящих в тупик деталей. Вначале, помню, у меня еще была мысль: невозможно, чтобы Иннокентий XI и его родные относились к Клоридии как к вещи и отдали ее Ферони, таким образом упо-добясь самым что ни на есть грубым торговцам живым товаром! Но ознакомившись с документами, я на многое стал смотреть иначе. В семье Одескальки, как и во многих других патрицианских родах, считалось вполне естественным держать рабов. Ливио Одескальки, племянник понтифика, имел, к примеру, Али, мальчика пятнадцати лет родом из Смирны. А сам блаженный пользовался услугами Селима, девятилетнего мальчика-мавра. Но и это еще не все. В 1887 году выдающийся письмохранитель Джузеппе Бертолотти опубликовал в одном профессиональном журнале «Rivista di disciplina carceraria» («Журнал пенитенциарной дис-циплины») исследование о рабстве в папской области, из которого на читателей глянул совсем иной образ блаженного Иннокентия – непривычный, пугающий. Все папы, вплоть до эпохи барокко и даже позже, держали рабов, либо приобретенных либо плененных во время военных кампаний, и использовали их на папских галерах либо в личных целях. Но письменные обязательства, под которыми стоит подпись Иннокентия, не в пример жестче. Особенное отвращение у автора исследования вызывают «договора работорговца, делающего деньги на человеческой плоти», также подписанные лично понтификом. После долгих лет нечеловеческих усилий галерные невольники, более неспособные трудиться, просили вольную. Папа Одескальки даровал им свободу в обмен на те смехотворные сбережения, которые несчастные год за годом собирали по грошам. Салем Али из Александрии, пораженный болезнью глаз и признанный нетрудоспособным, заплатил 2000 экю папе за освобождение от цепей. Али Мустофа из Константинополя, купленный за 50 экю хозяевами мальтийских галер, страдающий «седалищной ломотой» и признанный негодным к гребле на галерах, уплатил в общественную казну Ватикана 300 экю. Махмут Абди де Токкадо, шестидесяти лет, из которых двадцать два проведены в рабстве, был вынужден заплатить 100 экю. Ибрагим Амюр из Константинополя купил свободу за 200 экю. Махмут Амюрат с Черного моря, шестидесяти пяти лет, хворый, смог заплатить лишь 80 экю. Тем же, у кого не было сбережений, приходилось дожидаться, покуда за ними придет смерть и освободит их. А до тех пор их содержали в темницах, где их немощные тела с застарелыми ранами и страшными язвами поручали заботам лекарей. Потрясенный этим открытием, я принялся искать документы, которые использовал Бертолотти для своего исследования и которые он назвал «легкодоступными». Ничего подобного. Они хранились в Государственном Архиве Рима в папках с названием ActaDiversorum[1233], вместе с бумагами камерлинга и апостольского казначея, за 1678 год. Причем в томах камерлинга не хватает только этого, 1678 года, все остальные, по 1677-й включительно и начиная с 1679 года, – на своих местах. Что касается документов казначея, они собраны в едином томе, с 1676 по 1683 год. Но ни одного документа за 1678 год там тоже нет. Belua insatiabilis – ненасытный зверь: кажется, так именуется Иннокентий XI в пророчестве Малахии? Проведя месяцы в архивной и библиотечной пыли, я получил возможность изучить и одно печатное издание: EpistolarioInnocenziano[1234], содержащее сто тридцать шесть писем Бенедетто Одескальки, написанных им за двадцать лет своему племяннику Антонио Мария Эрба, миланскому сенатору. Публикатор писем Пьетро Джини, уроженец области Комаско, исполненный воодушевления и преклонения перед блаженным, даже представить себе не мог, какую пищу для размышлений поставляет будущим поколениям. Речь, конечно, идет о личных посланиях. И все же эта внутрисемейная переписка рисует авторитарную личность, пекущуюся прежде всего о деньгах. Кадастровые акты, наследственные дела, ссудные кассы, процессы протори и убытков, напоминание о суммах, которые следует стребовать с должников, конфискация их имущества – вот о чем эти письма. Что ни фраза, что ни строка, что ни мысль – все буквально пропитано неотступными мыслями о деньгах. Частные письма понтифика посвящены только этой теме, все остальное – какие-то семейные раздоры, новости о здоровье членов семьи – занимает мизерное место. Зато здесь немало советов от папы, как уберечь накопления или добиться возврата долга. В одном из писем, за сентябрь 1680 год, папа, например, делится опытом: лучше не прибегать к судам, но если хочешь получить свои деньги обратно, следует первым обратиться в суд, чтобы было время для компромисса. Доходит до того, что пыл папы вызывает в его близких озабоченность. Рукой Ливио сделана приписка к письму за 1676 год: стоит нанять «исполнителя, дабы он взял на себя ведение деловой переписки, ибо, ежели папа будет упорствовать и во все входить сам, здоровье его не выдержит». Одержимость деньгами снедает его. Дорогой Алессио, день за днем воспоминания поваренка из «Оруженосца» превращались на моих собственных глазах в реальность, и то, что Помпео Дульчибени поведал ему, – правда, теперь мне это ясно. Блаженный Иннокентий был пособником протестантов-еретиков в ущерб католикам, он позволил Вильгельму Оранскому захватить Англию с одной-единственной целью: чтобы однажды тот вернул ему долг. Папа также финансировал работорговлю, сам имел рабов и с кровавой жестокостью обращался со стариками и умирающими. Это был мелочный и жадный человек, неспособный подняться над материальными заботами, одержимый мыслями о барышах. Личность и дела Иннокентия XI несправедливо превозносились благодаря лживым, искаженным аргументам. А подлинные доказательства скрывались, и среди них опись из завещания Карло Одескальки, письма и деловые бумаги из архива Одескальки с 1650 по 1680 год, переписка государственного секретаря Казони, письменные обязательства по поводу рабов, упомянутые Бертолотти, и иные бумаги, чье по меньшей мере необъяснимое исчезновение я отмечаю в приложении. В конце концов ложь берет верх, и спасителем христианства объявлен тот, кто финансировал еретиков. Жадный торгаш превращен в мудрого руководителя, упрямец – в государственного человека, месть названа гордостью, жадность – умеренностью, невежество – простотой, зло – добром, а последнее, позабытое всеми, обратилось в прах, дым, ничто. Только теперь до меня начинает доходить смысл посвящения, выбранного моими друзьями: «Побежденным». И среди побежденных: Фуке (вся слава досталась Кольберу, ему же – бесчестие); Помпео Дульчибени, которому не удалось восстановить справедливость (план с пиявками провалился); Атто Мелани, убивший по приказу короля-Солнце своего друга и так и не сумевший вырвать у Дульчибени его секрет; сам рассказчик, поваренок, утративший веру и невинность перед лицом зла и оставивший мечту стать газетчиком ради нелегкого крестьянского труда. Побежденными можно назвать и его воспоминания, несмотря на всю тщательность и усилия, которые он в них вложил, на несколько веков преданные забвению. Все, что ни делали эти персонажи, обращалось в прах перед несправедливостью, правящей миром. Их усилия помогли им понять то, что не было дано знать никому, и привели их к страданию. Если это и роман, то роман о тщете усилий. Надеюсь, вы мне простите, дорогой Алессио, те излияния, которым я предаюсь в последних строках своего послания. Я сделал все, что было в моей власти. Историки однажды озаботятся недостаточностью архивных документов и постараются восполнить их, проведя скрупулезную выверку источников. Его Святейшеству папе и только ему предстоит установить, должен ли быть опубликован труд моих друзей. Последстви грозят быть самыми неожиданными, и не только для Римской Церкви. И впрямь, смогут ли британские оранжисты каждое 11 июля праздновать годовщину победы на реке Войн[1235], все так же дерзко дефилируя по улицам Лондона и Белфаста? Какое значение будут иметь их праздники во славу протестантского экстремизма, когда они узнают, что обязаны всем католическому папе? Если древние пророчества не лгут, Святой Отец примет самое справедливое решение, вдохновленное свыше. Согласно предсказанию Малахии, о котором вспоминает отец Робледа, наш любимый понтифик будет последним папой и самым святым: DeGloriaOlivae[1236]. Мне известно, что подлинность списка пап, приписываемого Малахии, давно подвергнута сомнению и что было установлено: он-де был сфабрикован в XVI веке, а не составлен в Средние века. И все же ни одному историку так и не удалось объяснить, отчего в нем верно названы имена всех последующих пап, вплоть до наших времен. И судя по этому списку, у нас не остается времени: Fides intrepida (Пий XI), Pastor angelicus (Пий XII), Pastor et nauta (Иоанн XXIII), Flos florum (Павел VI), De Medietate Lunae (Иоанн-Павел I), De labore solis (Иоанн-Павел И) и De Gloria Olivae: стоодиннадцать понтификов переступили священный порог. Святой Отец, возможно, тот, кто подготовит возвращение на землю Петра, когда каждый из нас будет судим, а всякий ущерб возмещен. Клоридия объяснила свой приезд в Рим тем, что, повинуясь числам и оракулу таро, ждет «возмещения за понесенный ущерб и справедливого суда потомков». Ежели пророчество Малахии речет правду, времена эти наступили. Истории слишком часто наносились раны, ее корежили, предавали. Если не вмешаться, не заявить в полный голос об истинном положении вещей, не сделать достоянием гласности сочинение моих друзей, доказательства будут продолжать исчезать: могут быть утрачены письма Бокастеля и монсеньора Ченчи, по ошибке попасть не туда, а то и совсем кануть в Лету гроссбухи Карло Одескальки, да мало ли что еще. Знаю, дорогой Алессио, насколько вы привержены срокам, кои предписаны вам занимаемым вами постом. И потому, надеюсь, вы передадите не откладывая это досье Святому Отцу, дабы он определил, стоит ли повелеть столь затянувшееся, но все еще уместное imprimatur.
ПРИМЕЧАНИЯ
«Оруженосец» Реально существовавший постоялый двор, местоположение которого мною даже с точностью установлено благодаря Stati animarum (переписям, ежегодно осуществляемым на Пасху римскими приходскими священниками). Находился он в бывшем приходе Санта-Мария-ин-Постерула. В XIX веке сама церковь и небольшая одноименная площадь были снесены при возведении плотин на Тибре, однако Stati animarum сохранились и доступны в Историческом архиве Рима. Постоялый двор находился в том самом месте, на которое указывает рассказчик, в начале улицы Орсо, и представлял собой особнячок XVI века: сегодня ему соответствуют номера домов 87 и 88. Главный вход представляет собой красивую рустованную дверь, имеется еще одна, которая с 1683 года вела в столовую, а теперь служит входом в лавку древностей. Несколько десятилетии назад здание было куплено и отреставрировано семьей, проживающей там и поныне и сдающей квартиры внаем. Проведя небольшое расследование в кадастре, я установил, что с 1683 года особнячок претерпел несколько перестроек, при этом внешний вид его почти не изменился. Окна первого и второго этажей ныне незарешечены, чердак преображен в четвертый этаж, над ним возведена терраса. Окна, выходящие на улочку, идущую перпендикулярно Орсо, были полностью заложены, но все еще различимы. Башенка, в которой проживала куртизанка Клоридия, была расширена до размеров еще одного этажа. Что до прочих этажей, то от них сохранились лишь толстые стены, а перегородки несколько раз на протяжении веков перестраивались. Чулан с потайным ходом в подземные галереи был разрушен и в более позднюю эпоху заменен рядом расположенных друг над другом квартир, отстроенных ex novo[1237]. Словом, постоялый двор «Оруженосец» все еще существует, словно и не миновало столько времени. Призвав на помощь воображение, можно даже услышать истошный крик Пеллегрино, клянущего всех и вся, или бормотание отца Робледы. Милостиво обошлось время и с прочими вещественными доказательствами, столь важными для проводимого мною расследования. В фонде Орсини в Историческом архиве Капитолия я обнаружил регистрационную книгу с именами постояльцев «Оруженосца» вплоть до 1682 года. Уверенной рукой на пергаменте обложки выведено: Книга, в которую занесены все, кто останавливался в постоялом дворе г-жи Луид-жии де Грандис Бонетти, что по улице Орсо. Внутри имеется приписка, подтверждающая, что постоялый двор носил имя «Оруженосец». Поразительные совпадения отыскались в списке постояльцев. К примеру, рассказчик поведал, что хозяйка «Оруженосца», г-жа Луиджия, скоропостижно скончалась после нападения на нее двух цыган. Записи в книге резко обрываются 20 октября 1682 года. Так и кажется, что с хозяйкой Луиджией Бонетти примерно в эти числа приключилось что-то непредвиденное: до 29 ноября, дня ее смерти (проверено по записям в приходских книгах), следы о ней теряются. Но это еще не все. Каково же было мое изумление, когда я прочел в книге записей знакомые имена: Эдуард де Бедфорд, двадцати восьми лет, англичанин; Анджело Бреноцци, двадцати трех лет, венецианец; и наконец, Доменико Приазо, тридцати лет, неаполитанец. Все трое останавливались в «Оруженосце» между 1680 и 1681 годом. Значит, это были реальные, а не выдуманные люди, проживавшие у г-жи Луиджии до поступления на работу мальчика-сироты. Искал я и следы самого рассказчика, который так и не назвал своего имени на страницах воспоминаний, и его хозяина Пеллегрино де Грандиса. Мальчик-поваренок утверждает, что Пеллегрино взял его в услужение весной 1683 года. Сам же хозяин, приехавший в Рим с женой и двумя дочерьми из Болоньи, проживал тогда по соседству, «в ожидании, пока дом освободится от временных жильцов». Все точно. В Stati animarum значится, что в особнячке той весной проживало несколько семей, снимавших там комнаты. А несколькими страницами позже впервые появляется некий Пеллегрино де Грандис, болонец, повар, со своей супругой Боной Кандиотти и двумя дочерьми. Их сопровождает поваренок по имени Франческо, двадцати лет от роду. Тот ли это карлик? На следующий год в особняке поселились уже другие люди, что доказывает: здание, пострадавшее при землетрясении, как о том рассказывает главный герой, было восстановлено, но Пеллегрино более к своему занятию не вернулся. Затерялись и следы его помощника-ученика.Персонажи и документы
Джованни Тиракорда, уроженец Альтето, небольшого городка в провинции Фермо, был одним из самых прославленных папских лекарей. Удалось проверить (и на сей раз благодаря Stati animarum Санта-Мария-ин-Постерула): он действительно проживал на улице Орсо неподалеку от «Оруженосца» с супругой Парадизой и тремя служанками. Пухлая и довольная физиономия, именно такая, как она описана в рукописи, соответствует карикатуре на него, принадлежащей Пьеру Леоне Гецци, ныне хранящейся в библиотеке Ватикана. Книги, мебель, внутреннее убранство и план дома Тиракорды вплоть до мелочей совпадают с описью, приложенной к завещанию Тиракорды, с которой я ознакомился в Историческом архиве Рима. Сварливость его супруги Парадизы также, кажется, не придумана. Кое-какие бумаги Тиракорды, уцелевшие при наступлении наполеоновских войск, хранятся в Архиве Pio Sodalizio dei Piceni в Риме. Ознакомившись с ними, я обнаружил документы процесса, затеянного после смерти мужа против Парадизы на предмет освидетельствования ее психического здоровья. Отыскались и следы имени Дульчибени – в Фермо, небольшом городке Марша, где я побывал дважды. Но, увы, ни одного Помпео, жившего в XVIII веке, мне не попалось. Зато доказательно подтвердилось существование в Неаполе весьма крупного кружка янсенистов, возможно, того самого, к которому принадлежал данный персонаж. Архив Медичи во Флоренции дал мне возможность проследить всю историю Ферони и Хьюгенса: по возвращении из Голландии Франческо Ферони пожелал устроить в Тоскане пышную свадьбу для своей дочери Катерины. Но та была безнадежно влюблена в подручного отца Антонио Хьюгенса из Кёльна, причем страсть к нему сопровождалась у нее «непрестанной лихорадкой, переходящей порой в трехдневную». Хьюгенс тем не менее продолжал работать на Ферони и в конце концов сделался управляющим его конторы в Ливорно. И тут все верно. Что до сиенского медика Кристофано, я докопался лишь до его отца, тезки, знаменитого проведитора здоровья Кристофано Чеффини, практиковавшего во время чумы в Прато в 1630 году. Он оставил потомкам «Книгу здоровья» со списком предписаний для стражей порядка. Луиджи Росси, учитель Атто Мелани, жил в Риме и Париже, где и познакомился с молодым певцом, взяв его под свое крылышко. Все романсы, которые напевает аббат, действительно принадлежат ему. Seigneur Луиджи, как он обозначен в оригинальных партитурах, распыленных по библиотекам всей Европы, никогда не заботился о том, чтобы его сочинения были напечатаны, и это при том, что они имели шумный успех и оспаривались монархами друг у друга. В XVI веке он считался величайшим композитором Европы, но на заре следующего века впал в забвение. Я отыскал лишь две записи с его романсами, но мне повезло – это были те самые, что напевал Атто, так что я смог насладиться мелодиями. Астрологическая брошюра Стилоне Приазо, что произвела такое впечатление на юношу, была опубликована в декабре 1682 года и теперь еще доступна всем желающим в библиотеке Казанатенсе в Риме. Меня и то глубоко поразило, что ее автор предсказал битву за Вену в сентябре 1683 года. Тут мне остается лишь развести руками: сия тайна непостижима, и пусть таковой и остается. В библиотеке Казанатенсе благодаря профессионализму и чрезвычайной любезности библиотекарей я добрался до астрологического учебника, откуда почерпнут гороскоп Овна, цитируемый наизусть Угонио во время плавания с Атто и его учеником по подземным каналам. Этот небольшой трактат вышел в Лионе в 1625 году, за год до рождения аббата Мелани и именуется так: «Книга Аркандама, Доктора и Астролога, трактующего астрологические предсказания». В случае с Атто Мелани предсказания сбылись с невероятной точностью, в том числе в отношении продолжительности его жизни: восемьдесят семь лет.Атто Мелани
Все обстоятельства жизни этого человека, содержащиеся в рассказе, подлинны. Кастрат, дипломат и шпион, Атто вначале находился на службе Медичи, потом Мазарини и, наконец, короля-Солнце, но также и Фуке, и бесчисленного множества кардиналов и людей благородного звания. Его певческая карьера была долгой и славной, певец он был поистине хоть куда и, как он о том и сообщает своему подопечному, был прославлен в стихах и Жаком де Лафонтеном, и Франческо Реди. Упоминаемое в основных музыкальных справочниках имя Атто мелькает и в переписке Мазарини, и в трудах некоторых французских мемуаристов. Аббат во всех отношениях описан весьма верно. Чтобы в этом убедиться, достаточно задержаться перед памятником на его могиле, возведенном его родней в часовне Мелани церкви Сан-Доменико в Пистойе. Взглянув изваянию в глаза, встретишь живой взгляд аббата, складку досады у губ и вызывающую ямочку на подбородке. В своих мемуарах маркиз де Граммон пишет об юном Атто Мелани как о «забавном, не лишенном ума». И, наконец, многочисленные письма Атто, разбросанные словно disiecta membra[1238] по княжеским архивам всей Италии, служат образчиками его иронии и веселости, живости и вкуса к побасенкам. В них в изобилии рассыпаны те знания, которым Атто обучал подмастерье, в том числе его ученые (и спорные) суждения, согласно которым христианский король на законных основаниях вправе вступать в союз в турками. Путеводитель по архитектурным чудесам Рима, который аббат Мелани писал в своей комнате в «Оруженосце» между двумя ночными вылазками, – также не вымысел. Этот путеводитель весьма напоминает анонимную рукопись на французском языке, впервые увидевшую свет в 1994 году в одном небольшом римском издательстве под названием «Зеркало барочного Рима». Неизвестный автор этой рукописи был образованным и состоятельным человеком, аббатом, знатоком политики, пользующимся поддержкой при папском дворе, женоненавистником и любителем всего французского. Чем не аббат Мелани? Это не все. Автор путеводителя, судя по всему, проживал в Риме между 1678 и 1681 годами, в точности как Атто, встретившийся там в 1679 году с Кирхером. Как и труд Атто, «Зеркало барочного Рима» осталось незавершенным, причем автор забросил рукопись как раз на описании церкви Сант-Аттаназио-деи-Гречи. То же у Атто: потрясенный воспоминанием о встрече с ученым, он отложил свой труд. Что это – случайность? Атто был хорошо знаком с Жаном Бюва, писарем, как мы помним, весьма искусным в подделывании почерка. Бюва – реальное историческое лицо: действительно был такой переписчик в Королевской библиотеке Парижа, отменный каллиграф, которому поручалась работа с пергаментами. Он трудился и на Атто, который отрекомендовал его директору библиотеки, дабы тот повысил ему содержание (см.: Memoire-journal de Jean Buvat, in: Revue des bibliotheques, ott./dic. 1900, pp. 235—236). Как бы то ни было, история уготовила Бюва лучшую долю, нежели Атто: аббат канул в безвестность, а Бюва – один из персонажей «Шевалье д'Арманталя» Александра Дюма-отца.Атто и Фуке
Я отыскал краткую биографию Атто (Archivio di Stato di Firenze, Fondo Tordi, n. 350, p. 62), составленную его племянником Луиджи спустя несколько лет после его кончины. Из нее явствует: Мелани состоял с Фуке в дружеских отношениях. Племянник свидетельствует, что между ними велась активная переписка. Жаль, что от нее не осталось и следа. Атто находился в Риме, когда задержали Фуке. Как следует из рукописи, он бежал от гнева герцога де Ля Мейерэ, могущественного наследника Мазарини, который, застав кастрата, что-то вынюхивающего в его доме, попросил короля выслать его из Парижа. Однако по Парижу распространился слух, что он замешан в скандале с Фуке. Осенью 1661 года Атто пишет из Рима Югу де Лионну, министру Людовика XIV. Это письмо хранится в архиве Министерства иностранных дел в Париже (Correspondance politique, Rome, 142, p. 227 e sg., оригинал на франц. языке) и несет на себе печать глубокого горя. Написано оно нервным почерком, который вкупе с вымученным синтаксисом и ошибками передает состояние тревоги, в котором пребывал его автор. Писано в Риме в последний день октября 1661 В своем последнем письме от 9 октября вы сообщаете, что беда моя непоправима и Король все еще зол на меня. Написав это, вы вынесли мне смертный приговор; зная мою невиновность, было так бесчеловечно с вашей стороны хотя бы слегка не похвалить меня, ведь не можете же вы не знать, до какой степени я обожаю Короля и с какой страстью всегда ему служу. Ежели бы Богу было угодно, чтобы я не любил так Государя и был бы более привязан к г-ну Фуке, чем к нему, тогда по крайней мере я был бы покаран справедливо за совершенное мною преступление и не сетовал бы, как я есть теперь самый несчастный из смертных, и нет надежды, что я когда-либо утешусь, поскольку отношусь к Королю не как к своему повелителю, а как к человеку, к которому питаю такую великую любовь, какая только может быть. Все мои помыслы были устремлены на то, чтобы служить ему верой и правдой и удостоиться его милости, не ища никаких выгод, и знаете —я бы не задержался так надолго во Франции, даже при жизни покойного кардинала[1239], не испытывай подобной любви к Государю. Душа моя не обладает стойкостью, достаточной, чтоб выдержать столь непомерное горе, свалившееся на меня. Я не смею жаловаться, не зная, кому вменить в вину такую немилость, и хотя мне кажется, Король весьма несправедлив по отношению ко мне, роптать я не вправе, ибо как ему было не удивиться, что я состою в переписке с г-ном суперинтендантом. У него был повод счесть меня коварным злодеем, узнав, что я отсылаю г-ну Фуке черновики писем, адресованных мною Его Величеству. Он, безусловно, прав, осуждая и меня самого, и те выражения, к коим я прибегаю в посланиях к Фуке. Да, мой бедный господин де Лионн, Король действовал по справедливости, объявив о своем недовольстве мною, ибо рука, творившая это, заслуживает того, чтобы ее отсекли, но сердце мое невинно, а душа безгрешна. Они всегда были преданы королю, и ежели он желает быть справедливым, то должен вынести приговор руке и оправдать душу и сердце, ибо Рука моя дрогнула от чрезмерной любви, переполняющей сердце. Дрогнула оттого, что ею двигало страстное желание быть подле своего Государя. А также оттого, что я счел г-на суперинтенданта лучшим и преданнейшим помощником Короля, осыпанным милостями, как никто другой. Таковы четыре побудительные причины, повинуясь коим я писая г-ну Фуке, и нет ни словечка в моих письмах, которого я бы не мог так или иначе оправдать, и ежели королю будет угодно даровать мне эту милость, в коей никогда не было отказано ни одному преступнику, сделайте так, чтобы все письма были хорошенько изучены и я сам подвергнут допросу, чтобы я познакомился с тюрьмой прежде, нежели предстану перед судьями и понесу наказание, либо буду признан невиновным и оправдан. Все послания, отправленные мною г-ну Фуке, относятся ко времени моей опалы, и это свидетельство того, что я не знал его ранее. В полученных от него записках не найдется ни денег, ничего другого, подтверждающего, что я числился среди пользующихся его пенсией. Я могу предъявить некоторые из его писем и показать на их примере, что он писал мне чистую правду, а поскольку он хорошо знал и то, что заставляло меня обращаться к нему, то отвечал мне – то ли правда так думая, то ли желая польстить, – что оказывает мне добрые услуги в отношении Короля и действует в моих интересах. Вот копия последнего письма, единственного, которое я получил с тех пор, что нахожусь в Риме. Пожелав иметь оригинал, вам нужно лишь сказать мне об этом… Атто признается: когда он писал Королю, черновик отправлялся суперинтенданту! А ведь то были донесения агента Франции, адресованные не кому-нибудь, а Государю! Поистине смертный грех. И тем не менее Атто отрицает, что в его действиях был злой умысел: по его собственному признанию, в переписке с Фуке он состоял уже после того, как впал в немилость, то бишь когда гнев герцога де Ля Мейерэ достиг точки каления и Атто потребовалось местечко, где бы укрыться (точь-в-точь как о том рассказывает Дульчибени). В качестве доказательства Атто прикладывает к своему посланию копию письма, полученного от Фуке. Волнующий документ: суперинтендант пишет ему 17 августа 1661 года, за несколько дней до своего ареста. Это одно из последних обращений свободного человека. Фонтенбло, 27 августа 1661 Получил ваше письмо от первого сего месяца вместе с письмом кардинала Н. Отписал бы вам ранее, когда б не лихорадка, две недели продержавшая меня в постели и отпустившая только намедни. Предполагаю отправиться послезавтра с королем в Бретань и постараюсь сделать так, чтобы итальянцы более не перехватывали наших писем, поговорю об этом и с господином де Неаво, как только прибуду в Нант. Не переживайте, поскольку я пекусь о ваших интересах, и хотя недомогание и помешало мне в последнее время беседовать, как обычно, с королем, я не забываю свидетельствовать ему рвение, с коим вы ему служите и коим он весьма доволен. Это письмо доставит вам г-н аббат де Креси, можете ему доверять. Я с удовольствием прочел то, что вы передаете мне от имени г-на кардинала Н., и прошу вас заверить его, что нет ничего, чего бы я не пожелал сделать ради того, чтобы быть ему полезным. Прошу вас также передать мои заверения в неизменном почтении г-же Н. Я пребываю в полном ее распоряжении. Заботы, которые тяготят меня накануне отъезда, мешают мне более детально ответить на ваше письмо. Пришлите мне записку относительно ваших пожеланий по пенсии и будьте уверены, я не забуду ничего, чтобы дать вам понять, каково мое к вам уважение и желание вам служить. Если Фуке и впрямь обращался таким образом с Атто (оригинал, если и был, утрачен), было нетрудно снять с себя вину, показав эти строки королю. То, что объединяет кастрата и суперинтенданта, слишком двусмысленно и подозрительно: перехваченные письма, секретные послания, некий кардинал Н. (может быть, Роспильози, друг Атто?) и загадочная госпожа Н. (не Мария ли Манчини, племянница Мазарини, бывшая возлюбленная короля, также находившаяся в это время в Риме?). Но более всего вызывает подозрение та возня, которая затеяна Атто и Фуке вокруг короля. Один тайно пересылает копии своих писем королю другому, а тот рекомендует его государю. Да и пенсия, выхлопотать которую обещает один для другого… И все же, несмотря на свалившееся на Фуке несчастье, он не предает друга. Когда во время процесса его станут спрашивать об их взаимоотношениях, Фуке ответит уклончиво, чем спасет Атто от тюрьмы: протоколы заседаний в полной мере подтверждают это, как о том рассказывает Девизе.Последние годы Атто Мелани
В последние годы жизни кастрат Мелани должен был ощущать гнет одиночества. Возможно, по этой причине он провел их в своем парижском доме с племянниками Леопольдо и Доменико. Вполне правдоподобным выглядит и предложение подмастерью из «Оруженосца» сопровождать его в Париж. На смертном одре Атто велел, чтобы все его бумаги были упакованы и переданы доверенному лицу. Он знал, что во время его агонии дом наполнится соглядатаями, жадными до чужих тайн. Как знать, не вспомнилось ли ему, как он сам рыскал в кабинете Кольбера…Посвящение, стоящее в начале рукописи
Рита и Франческо известили меня о том, что воспоминания ученика обнаружены ими среди бумаг Атто. Как они туда попали? Чтобы понять это, стоит вдуматься в загадочное посвящение, представляющее собой письмо без подписи, без имен получателя и отправителя:Сударь, направляя вам эти воспоминания, кои я наконец отыскал, смею надеяться, что Ваше Превосходительство воспримет усилия, приложенные мною во исполнение Его пожелания, как проявление пламенной любви, составлявшей мое счастье всякий раз, когда у меня имелась возможность выказать ее Его Превосходительству…На последних страницах своего рассказа поваренок, снедаемый угрызениями совести, письменно обращается к Атто, снова предлагая ему свою дружбу. При этом сознается, что сперва вел дневник, а уж потом на его основе возникли воспоминания о событиях в «Оруженосце». Рассказчик сообщает, что так и не удостоился ответа от своего бывшего наставника, и даже терзается за его жизнь. Но мыто знаем, что хитрый аббат прожил еще немало лет после того, как получил это письмо. Я даже воображаю блеск удовольствия в его глазах при чтении этих строк, сменившийся затем страхом, и наконец созревшее решение: поручить одному из своих преданных людей отправиться в Рим и завладеть воспоминаниями бывшего ученика, дабы они не попали в чужие руки, ведь в них описано столько секретов, а он сам обвинен в страшных злодеяниях. Таким образом, посвящение без подписи скорее всего является обращением к Атто того, кого он направил с поручением в Рим. Вот отчего Рита и Франческо нашли рукопись в бумагах Мелани. Увиделись ли когда-нибудь Атто и подмастерье? Как знать, может, однажды, охваченный тоской, Мелани и приказал вдруг своему valet de chambre[1240] собрать саквояжи и следовать за ним в Рим…
Иннокентий XI и Вильгельм Оранский
ДОКУМЕНТЫ
История, нуждающаяся в пересмотре Снятие осады Вены в 1683 году, религиозные разногласия между Францией и Святым Престолом, захват английского трона Вильгельмом Оранским в 1688 году и конец католицизма в Англии, изоляция Людовика XIV среди прочих государей, политическое равновесие в Европе во второй половине XVII века и в последующие десятилетия… целая глава истории Европы подлежит пересмотру в свете документов, проливающих свет на закулисные махинации папы Одескальки и его семейства. Однако для этого необходимо приподнять завесу молчания, лицемерия, лжи. Иннокентий XI финансировал победу христиан над турками в Вене из казны Святого Престола. Этой заслуги у него никому не отнять. Однако, и это подтверждено гроссбухами Карло Одескальки, воспоминания ученика верны. Вновь взявшись за перо в 1699 году, он утверждает: Одескальки в приватном порядке одалживали деньги императору, как какие-нибудь ростовщики, а взамен получали обеспечение баррелями ртути (то есть жидкими деньгами, как тогда говорили), которые запродавались протестантскому банкиру Яну Дёцу. Семьдесят пять процентов от продажи ртути шло Одескальки, а остальное – двум подставным лицам в Венеции – Чернецци и Реццонико. Все это делалось втайне, без шумихи, речь ведь шла о барышах. (Среди многочисленных свидетельств см.: Archivio di Stato di Roma, rondo Odescalchi, XXIIA 13, с 265; XXIIIA 2, cc. 52, 59, 105, 139, 168—169, 220, 234, 242; XXVII В 6, N. 11; XXXIII A 1, cc. 194, 331.) По смерти Иннокентия XI император поспешил с выражением своей признательности семейству Одескальки: попытался, по сути дела, за условную цену передать Ливио, племяннику папы, земли в Венгрии. Однако имперская палата сочла условия продажи непомерно щедрыми и заблокировала операцию (R. Gueze, Livio Odescalchi e il ducato del Sirmio, in: Venezia, Italia e Ungheria fra Arcadia e illuminismo, a cura di B. Kopeczi e P. Sarkozy, Budapest, 1982, pp. 45—47). Тогда император продал Ливио удел Сирмиум в Венгрии за 336 000 флоринов. Также неплохая цена? Эти земли были с огромным трудом отвоеваны у турецких захватчиков после победы в Вене. Столица империи была спасена благодаря деньгам Святого Престола, но плоды победы попали в мошну Одескальки. Чтобы скрепить этот союз, Ливио, был возведен в княжеское достоинство. Современники подметили, что тесный liaison[1241] императору и Одескальки служил прикрытием чему-то иному. В 1701 году автор мемуаров Франческо Валезио (Diario di Roma, II601) пишет, что «в силу странной метаморфозы» бывший помощник апостольской палаты Ливио Одескальки был назначен «надворным советником Императора с широким кругом полномочий». Но на деньги можно купить (почти) все. В конце воспоминаний рассказчик сообщает, что после смерти дяди Ливио Одескальки приобрел за огромные деньги владения, дворцы, загородные поместья. А после смерти короля Яна Собеского, чья рать потеснила турок от Вены, Ливио наводнил Варшаву деньгами, пытаясь (но тщетно) взойти на польский трон (см., к примеру, Archivio di Stato di Roma, Fondo Odescalchi, App. 38, N 1, 5, 9, 13). Это единственное объяснение того, что папа Одескальки до конца своих дней продолжал слать императору деньги, даже когда турецкая опасность миновала: одолженному следовало вернуться в семью. И не важно, если для этого приходилось помогать еретику Вильгельму Оранскому. Даже в самые драматические исторические моменты папа строго придерживался своей линии. Как напоминает историк Шарль Герен (Revue des questions historiques, XX, 1876, p. 428), когда Людовик XIV и Яков Стюарт попросили Иннокентия XI остановить финансирование Вены и срочно послать средства католическим войскам Стюарта, воюющим в Ирландии с еретическими силами Вильгельма Оранского, папа ответил им словами, которые, пожалуй, лишь сегодня могут быть правильно поняты. Он объяснил, что ведет в Вене «бесконечный крестовый поход», в котором, как и его предшественники, принял «личное участие». Он поставляет союзникам «свои собственные галеры, своих собственных солдат и свои собственные средства» и защищает не только целостность христианской Европы, но и «свои частные интересы временного наместника Бога на земле и итальянского князя».Займы Иннокентия XI Вильгельму Оранскому
Рассказывая о процессе Фуке, Атто изрекает: историю творят победители. Увы, он прав. И до сих пор победу одерживает официальная историография. Никто не смог (либо не пожелал) написать правду об Иннокентии XI. Анонимные печатные листки, распространяемые французами уже на следующий день после высадки протестантов в Англии (см.:/. Orcibal, Louis XIV contre Innocent XI, Paris, 1949,pp. 63—64 e 91—92), первыми заговорили о займах Иннокентия XI Вильгельму Оранскому. Кроме того, согласно воспоминаниям г-жи де Ментенон, папа якобы послал Вильгельму 200 000 дукатов в виде помощи его предприятию. Однако это малодостоверно. Слухи распространялись французами с очевидной целью – оклеветать понтифика, а затем они были подхвачены мемуаристами и сочинителями пасквилей, которые, однако, так и не представили никаких доказательств. Пьер Бейль был самым коварным из нападавших на папу: в своем знаменитом «Историческом и критическом словаре» он напоминает, что Иннокентий происходил из семьи банкиров, и приводит текст надписи, сделанной на статуе Паскена[1242] в Риме вдень, когда кардинал Одескальки стал понтификом: Invenerunthomineminteloniosedentem, что означает: они избрали папу, сидящего за столом ростовщика. На сей раз это не было просто байкой: большой интеллектуал Бейль не мог быть заподозрен в низком пристрастии ко всему французскому. Да и сам принадлежал к той эпохе, о которой вел речь. (Dictionnaire historique et critique опубликован в 1697 году.) Однако ни один историк не удосужился проверить этот факт, пойдя по следу, указанному подпольными газетенками и Бейлем. И потому правда о папе Одескальки стала делом горстки подпольных писак, а также старого и пыльного словаря голландского философа-ренегата (Бейль перешел из кальвинизма в католицизм, затем дал задний ход, а потом и вовсе отказался от веры). А тем временем верх одержало, даже не вступая ни в какие битвы, жизнеописание святого – Иннокентий XI вошел в историю. Факты казались неоспоримыми: своим освобождением в 1683 году Вена была обязана ему, мобилизовавшему католических государей и направившему средства апостольской казны в Австрию и Польшу. Иннокентий XI был признанным героем и аскетом, положившим конец непотизму и оздоровившим церковные финансы, запретившим женщинам показываться на людях в платьях с короткими рукавами, остановившим карнавальное безумие, закрывшим римские театры – рассадники порока… Его смерть вызвала поток писем со всей Европы: все правящие дома потребовали его причисления к сомну блаженных. Благодаря в том числе рвению его племянника Ливио в 1714 года начался процесс беатификации: были заслушаны еще живые свидетели, пополнилось досье и восстановлен по крупицам его жизненный путь с детских лет. Однако стали тотчас появляться препятствия, замедляющие ход процесса. Возможно, тогда-то и приняли во внимание французские pamphlets[1243] и словарь Бейля: эти злые, бездоказательные россказни, которые, возможно, и нельзя никак опровергнуть, но которые необходимо учесть, даже если речь и идет о столь непорочной, добродетельной и героической личности, как личность Бенедетто Одескальки. Не обошлось тут и без Франции, не одобряющей поднятие на щит одного из своих заклятых врагов. Процесс беатификации замедлил темп, и вследствие бесчисленных и безукоризненно исполненных действий по расследованию поток, бывший до того кипучим, стремительным, превратился в грязный заболоченный ручеек. Минует несколько десятилетий, и только в 1771 году вновь заходит речь об Иннокентии XI. Именно в этом году английский историк Джон Делримпл публикует свои «Memoirs of Great Britain and Ireland» [1244]. Дабы осознать в полной мере положение, выдвинутое им, следует сделать шаг назад и расширить свой горизонт, окинув взором политическую ситуацию в Европе накануне высадки Вильгельма Оранского в Англии. В последние месяцы 1688 года серьезный очаг напряжения вспыхнул в Германии. Страна несколько месяцев дожидалась назначения нового архиепископа Кёльнского, Франция любой ценой стремилась поставить на это место кардинала Фюрстенберга. Если б этот маневр удался, Людовик XIV имел бы в своем распоряжении ценный плацдарм, расположенный в центре Европы, и добился бы военного и стратегического превосходства, которому сопротивлялись прочие государи. Иннокентий XI самолично ответил отказом на назначение Фюрстенберга, а его согласие было необходимо с юридической точки зрения. В это же время вся Европа с беспокойством наблюдала за войсковыми маневрами под предводительством Вильгельма Оранского. Каковы были его намерения? Готовился ли он выступить против французов, дабы военной рукой решить проблему Кёльнского архиепископства, развязав этим новый страшный конфликт в Европе? Или же, как о том уже догадывался кое-кто, рассчитывал захватить Англию? Положение Делримпла состоит в следующем: Вильгельм Оранский дал понять папе, что собирается выступить против французов. Иннокентий XI, как всегда жаждавший воткнуть палки в колеса Людовика XIV, попался в ловушку и одолжил Вильгельму столько, сколько было необходимо для снаряжения войска всем необходимым. Принц Оранский пересек Ла-Манш и навсегда развел Англию с католической верой. Так англиканство восторжествовало на деньги Католической Церкви. Пусть и обманутый, но именно папа снарядил протестантского принца на бой с католическим государем. Эта гипотеза уже выдвигалась некоторыми анонимными изданиями во времена Иннокентия XI и Людовика XIV. Но в отличие от них у Делримпла были припасены важные доказательства: два подробных послания кардинала д'Эстре, чрезвычайного посла Людовика XIV в Риме, адресованных своему государю и военному министру Лувуа. Согласно им, ближайшие сподвижники папы задолго до событий были в курсе подлинных намерений Вильгельма Оранского. С конца 1687 года – за год до высадки в Англии протестантского принца – государственный секретарь Ватикана Лоренцо Казони якобы находился в сношениях с голландским бургомистром, тайно посланным Вильгельмом в Рим. Среди слуг Казони затесался изменник, благодаря которому его послания императору Леопольду I были перехвачены. Из них стало известно, что папа предоставляет крупные суммы в распоряжение принца Оранского и императора Леопольда I, дабы они одолели французов в конфликте, могущем возникнуть из-за архиепископства Кёльнского. В письмах Казони Леопольду без обиняков обсуждались подлинные намерения Вильгельма: не борьба с французами, а захват Англии, о чем подчиненные Иннокентия XI были прекрасно осведомлены. Письма д'Эстре нанесли сокрушительный удар по идее беатификации папы. Даже если предположить, что Иннокентий XI не знал о замысле Вильгельма, а именно – покончить с католицизмом в Англии, выходило, что он финансировал его военные цели, да к тому же в противовес Наихристианнейшему королю. В последнее время множество историков воспользовались письмами Делримпла, нанося непоправимый урон памяти Бенедетто Одескальки. К тому же сомнения строились на вопросах исключительно вероучения, что стопорило процесс беатификации: казалось, имя Иннокентия XI бесповоротно скомпрометировано. Появилась необходимость выждать какое-то время, учитывая серьезность обстоятельств, чтобы снова обрести смелость и ясность, без которых никак было не решить этот вопрос. В 1876 году, не раньше, основополагающая статья историка Шарля Герена заставила историю свершить поворот на сто восемьдесят градусов. В «Журнале вопросов истории» Герен строго и аргументировано доказал, что письма д'Эстре, опубликованные Делримплом, не что иное, как фальшивки, сфабрикованные французской пропагандой. Неточности, ошибки, невероятные факты и анахронизмы лишали их всякой убедительности. Словно этого недостаточно, Герен доказал, что оригиналы писем, будто бы, по словам Делримпла, хранящиеся в министерстве иностранных дел в Париже, не находимы, и добавил, что Делримпл простодушно сознался в том, что никогда оригиналов не видел, а доверился копии, переданной ему знакомым. Контрудар Герена, пусть он и не вышел за пределы научных кругов, весьма силен. Десятки авторов (в том числе и прославленный Леопольд фон Ранке, декан папских историков) с легкостью пользовались «Записками» Делримпла, не заботясь о проверке источников. Вывод напрашивается сам собой. Стоило установить ложность посланий, как ложными были признаны и сами события, о которых в них шла речь, а все ранее отринутое перешло в разряд истинного. Ежели обвинения строятся на ложных посылах, обвиняемый тотчас превращается в невиновного. Вопрос о взаимоотношениях Иннокентия XI и Вильгельма Оранского, считавшийся окончательно решенным Гереном, был заново и с неожиданной точки зрения рассмотрен немецким историком Густавом Ролоффом в начале Первой мировой войны. В статье, опубликованной в 1914 году в Preussische Jahrbiicher, Ролофф представляет на суд читателей новые документы относительно этого вопроса. Так мы узнаем из отчета одного бранденбургского дипломата, Иоганна фон Горца, что в июле 1688 года, за несколько месяцев до высадки Вильгельма Оранского на английском побережье, Людовик XIV тайно попросил императора Леопольда I Австрийского (католика, но традиционного союзника Голландии) не вмешиваться в том случае, если Франция захватит Голландию. Но Леопольд уже знал, что принц Оранский рассчитывает подчинить себе Англию, и, видимо, оказался перед неразрешимой дилеммой: помочь католической Франции (ненавидимой всей Европой) или протестантской Голландии. Согласно донесению Горца, Иннокентий XI будто бы рассеял сомнения императора, предупредив его, что он не одобряет ни поступков, ни намерений Людовика XIV, ибо они продиктованы не истинной приверженностью к католической вере, а намерением разделаться со всей Европой, и как следствие, Англией. Отделавшись от груза сомнений, Леопольд не колеблясь вступил в союз с Вильгельмом, способствуя таким образом завоеванию Англии протестантом. Точка зрения папы, оказавшая такое решительное воздействие на императора, достигла Вены тотчас вслед за переворотом, совершенным принцем Оранским, о котором папа был незамедлительно извещен своим представителем в Лондоне – нунцием д'Адцой. Как пишет Ролофф, еще не найдено письмо Иннокентия XI, излагающего свое мнение Леопольду, но нетрудно предположить, что речь шла скорее об устном сообщении, переданном через посредника – папского нунция в Вене. Как бы то ни было, тот же Ролофф недоволен своим собственным объяснением и предполагает, что в игре было задействовано кое-что еще: «Будь Иннокентий папой эпохи Возрождения, не составило бы труда объяснить его поведение оппозиционностью Франции. Но подобная побудительная причина более недостаточна в эпоху, последовавшую за великими религиозными войнами». Поступки папы были или скорее должны были подчиняться иным причинам, о которых можно лишь догадываться. Однако партия, разыгрываемая учеными-историками, была не закончена. В 1926 году другой немецкий историк – Эберар фон Данкельман – снова идет в наступление, надеясь выиграть бой. В статье, появившейся в журнале Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Данкельман с ходу берется за положение Ролоффа. Иннокентий не только знал о броске экспедиционного корпуса Вильгельма Оранского, но и, как о том ясно свидетельствуют письма дипломатических представителей Ватикана во всех странах, пристально и с тревогой следил за развитием ситуации на острове. Далее следует то, что для нас особенно ценно. Чуть ли не беззаботным тоном Данкельман добавляет, что в прошлом ходили слухи, будто принц Оранский много задолжал папе. И потому подумывал отказаться от своего княжества в центре французских земель в пользу папы. Данкельман уточняет, что деньги были выданы принцу как раз на переворот в Англии. Пятью строчками Данкельман кладет к ногам читателя настоящую бомбу. Сен-Симон в своих «Мемуарах»[1245] также выдвигает эту ядовитую гипотезу (сочтенную Вольтером неправдоподобной). Однако ни один современный историк, серьезный и опирающийся на документы, не принимал во внимание скандальную идею, согласно которой блаженный Иннокентий XI якобы одолжил деньги принцу Оранскому на то, чтобы покончить с католицизмом в Англии. Ролофф ограничился констатацией того, что папа знал о намерении принца и ничего не предпринял, чтобы помешать ему. Но он не заявлял, что Вильгельма финансировал Иннокентий XI. Данкельман же решил назвать то, что, согласно интуиции Ролоффа, определило поступки папы и привело его к тайной поддержке замыслов Вильгельма, – деньги. Гипотеза, согласно которой Иннокентий якобы финансировал предприятие Вильгельма, как объясняет Данкельман, опирается на предположение: папа был курсе скорой высадки принца в Англии (Ролофф считал это доказанным), а поднявшись на английский трон, Вильгельм мог с легкостью поквитаться с папой и рано или поздно с лихвой, то есть с процентами, вернуть ему долг, как он сделал бы в случае с обычным ростовщиком. Данкельман же утверждает, что папа не был в курсе высадки в Англии и ничего не ждал от Вильгельма, поскольку у него и в мыслях не было, что такое возможно. Он считает, что это доказывают письма, которыми обменивались в преддверии выступления принца в поход государственный секретарь и кардинал Альдерано Чибо, ватиканский нунций, кардинал Франческо Буонвизи и нунций в Лондоне Фердинандо д'Адда. Из этих посланий следует, что папа был весьма опечален военными маневрами принца, и в них не содержится ни малейшего намека на тайное сообщничество между Святым Престолом и Вильгельмом. То есть папа ничего не знал. Даже если предположить, что Иннокентий XI одалживал деньги Вильгельму, добавляет Данкельман, они непременно должны были идти по каналам лондонской нунциатуры. Однако скрупулезно изучив эти каналы, немецкий историк не нашел никаких следов передачи средств и потому с удовлетворением отмечает, что «вопрос полностью изучен». Положение, выдвинутое Ролоффом, разбито в пух и прах, и тот, кто осмелился утверждать, что папа одалживал деньги принцу, quod era demonstrandum[1246], потерпел фиаско. И вот наконец в 1956 году состоялось причисление папы Одескальки к лику блаженных, безусловно, не без влияния обстановки «холодной» войны: турки становятся символом советской империи, а нынешний папа – продолжателем героических деяний трехвековой давности. Иннокентий XI спас христианский Запад от турецкого нашествия, а Пий XII предостерегает от ошибок коммунизма. Истине пришлось долго ждать своего часа. Стоило оформиться официальной версии, историки принялись рьяно почитать ее. Безусловно, испытывая смущение перед одновременно слишком новыми и слишком старыми вопросами, они лишь равнодушно взирали на загадочные отношения, навсегда связавшие этих двух людей: Вильгельма Оранского, вернувшего Англию в лоно англиканства, и самого славного папу XVII века. В то же время множились монографии и эссе о выпадении волос в Средние века, о жизни глухонемых при AncienRegime[1247] и концепции мира у мельников нижней Галиции. А вопрос большой исторической важности так никто и не соблаговолил решить, честно прочтя бумаги Одескальки и Бокастеля и погрузившись в архивную пыль.Папа-наемник
И все же это так: никто никогда не пытался рассказать правду об Иннокентии XI. В национальной библиотеке Виктора-Иммануила в Риме мне попалась небольшая любопытная работа 1742 года: De suppositittis militaribus stipendiis Benedicti Odescalchi графа Джузеппе делла Торре Реццонико, в которой автор пытается опровергнуть слух, уже имевший хождение после смерти Иннокентия XI, а именно – что в юности блаженный в качестве наемника воевал под испанскими знаменами и был серьезно ранен в правую руку.Реццонико утверждает, что юный Бенедетто Одескальки служил, но не в войсках наемников, а в рядах коммунальной милиции Комо. Жаль, что автор сего труда является родственником того Реццонико, который был подставным лицом Одескальки в Венеции; жаль также, что семейство Реццонико было связано родственными узами с семьей папы. Лучше бы это прозвучало из уст независимого историка. И все же кое-что заставляет нас повнимательнее приглядеться к этому вопросу. Пьер Бейль упоминает, что в юности Бенедетто был ранен в правую руку, когда служил наемником в Испании. Любопытно, что, согласно официальным медицинским бюллетеням, понтифик до смерти страдал сильными болями именно в правой руке. И все же поражаешься тому забвению, которому предан и этот темный аспект жизни папы. В книжке Реццонико я наткнулся на вложение – библиотечный формуляр. На нем было проставлено имя предыдущего читателя: «Барон ф. Данкельман, 16 апреля 1925». После него никто более не запросил в библиотеке эту книгу.Подлинное и ложное
Атто Мелани говорит правду, когда обучает своего юного друга: ложное не всегда лживо. Если в адекватном свете изучить ложные письма д'Эстре, опубликованные Делримплом, их можно отнести к необычной категории документов: хотя они и подложные, но в них содержатся правдивые сведения. И потому не случайно, что еще одно письмо, опубликованное Гереном (на сей раз подлинное), написанное кардиналом д'Эстре Людовику XIV 16 ноября 1688 года, подтверждает наличие контактов между графом Казони и Вильгельмом Оранским. Кардиналу Чибо[1248] стало известно, что через одного прелата, прибывшего из Голландии в прошлом году с письмами нескольких миссионеров этой страны, которым подали надежду, что Штаты[1249] допустят свободу вероисповедания для католиков, он[1250] вошел в сношения с одним человеком из окружения принца Оранского – он-то и подал ему эту надежду; что этот человек поддерживал миссионера в мысли, что принц Оранский с большим уважением относился к папе и много мог бы сделать для его возвеличивания; что в последнее время это общение стало более теплым и принц Оранский ясно дал знать, что у него лишь добрые намерения. Обстоятельства, о которых сообщает д'Эстре, достоверны хотя бы потому, что источник этой новости, кардинал Чибо, был платным шпионом Людовика XIV (Orcibal, ibidem, p. 73, п. 337). И вот что взбешенный государь отвечал д'Эстре 9 декабря: Папа не мог бы дать большего знака расположения к установлению добрых отношений со мной, чем удалив от себя навсегда Казони и отказавшись от преступной переписки, в которой тот состоял с принцем Оранским. В воспоминаниях г-жи де Ментенон также говорится о займах Иннокентия XI Вильгельму Оранскому, но ведь и они подложные. Однако как знать, не содержат ли они правды?Миссия Шамлэ
Как мы видим, партия, противопоставившая принца Оранского, Людовика XIV и Иннокентия XI, была разыграна осенью 1688 года: Вильгельм держал Европу в напряжении, заставляя гадать, нападет ли он на французов на Рейне в связи с назначением архиепископа Кёльнского или завоюет Англию. Папа смотрел на все со стороны и делал вид, что ему неизвестно дальнейшее. А что Людовик XIV? Король-Солнце, не являющийся сторонником мира любой ценой, долгое время старался не торопить события. В предыдущие месяцы он отправил в Рим специального посланника – г-на де Шамлэ (см.: Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs… ed. G. Hanotaux, Paris, 1888, XVII 7), дабы тот в большой тайне встретился с папой. Миссия эта была столь засекреченной, что официальные представители Франции в Риме даже не догадывались о ней. Задача, поставленная перед Шамлэ, была весьма деликатного свойства: добиться личной аудиенции у папы и говорить с ним от лица Наихристианнейшего короля, его заклятого врага. Легко догадаться, о чем могла идти речь на такой встрече: прийти к соглашению по проблеме Кёльнского архиепископства, обезвредить бомбу замедленного действия, каковой являлся Вильгельм Оранский, и отвести от Европы опасность конфликта. В Ватикане Шамлэ принят Казони, которому он заявляет, что желал бы лично говорить с папой и только с ним одним от имени короля Франции. Казони дает ему от ворот поворот: мол, сам он лишь секретарь и по столь важному делу лучше обратиться к кардиналу Чибо, ближайшему помощнику папы. Шамлэ соглашается при условии соблюдения полной тайны относительно его встречи с Чибо. Шамлэ показывает Чибо письмо, которое Людовик XIV прислал через него для папы. Ему велят явиться два дня спустя за ответом. Посланник поступает, как ему указано, но Чибо извещает его, что папа не может его принять, предлагая изложить суть дела ему, Чибо, словно перед ним понтифик собственной персоной… Иннокентий XI не может не знать, что Шамлэ запрещено так поступать. А между тем за всеми этими проволочками минуло уже несколько дней, как Шамлэ явился в Ватикан. Отчаявшийся и уязвленный, посланник вынужден вернуться во Францию, так и не добившись аудиенции. Людовик XIV в бешенстве. Разногласия между Римом и Парижем по поводу архиепископства Кёльнского не решены, обстановка в Германии накалена, войска принца Оранского по-прежнему имеют превосходный предлог, чтобы оставаться на положении военного времени. Чтобы затем двинуть на… Лондон. Отказавшись принять Шамлэ, папа продолжает делать вид, что остается в неведении относительно опасности, угрожающей английским католикам. И все же после высадки принца Оранского он выдаст себя одной фразой, о которой упоминает Леопольд фон Ранке (Englische Geschichte, Leipzig, 1870, III, 201): Salus ex inimicis nostris – «Спасение приходит от врага».Переворот 1688 года
Все это не сводится к дискуссии чисто академического толка. Чтобы оценить значение glorious revolution, а также отношение к ней Иннокентия XI, предоставим слово Ролоффу: Революционный переворот, в результате которого Вильгельм Оранский свергнул с престола католика Якова в 1688 году, ознаменовал, как и другая европейская революция большого масштаба – французская 1789 года, – переход от одной эпохи к другой. Восшествие на английский трон принца Оранского означало для Англии не только окончательное установление иной веры, но и власти парламента и открытие пути для Ганноверской династии. Победа парламента над монархией Якова II позволила утвердиться партиям, поделившим власть[1251] над страной на долгие времена. Политическая власть прочно перешла в руки родовой и богатой аристократий, руководствовавшихся меркантильными интересами. Помимо этого (для папы это должно было стать самым главным), после победы принца Оранского ужесточились законы относительно участия католиков в общественной жизни. В правление Якова II 300 000 англичан заявили о себе как о католиках, в 1780 году их едва набралось 70 000.Долги Вильгельма
Счета принца Оранского – вот что стоило бы изучить с самого начала. Из биографий, посвященных Вильгельму Оранскому, так и не ясно, кто финансировал войска под его началом, защищавшие Голландию. А ведь это очень важно, и если ответа нет как нет, то лишь потому, что вопрос этот никогда не ставился ребром. Что и говорить, исследователи могли бы проявить чуточку больше любопытства. Как пишет английский епископ Гилберт Барнет, друг Вильгельма, принц «явился на свет при весьма неблагоприятных обстоятельствах.[1252] Дела семьи были расстроены: его матери и бабке отошли две большие родовые вотчины, которые он должен был унаследовать, не считая долгов, в которые влез его отец, чтобы помочь английской короне». (Bishop Burnet's History of his own time, London, 1857, p. 212.) Барнет принял активное участие в подготовке переворота 1688 года, он был одним из немногих, бывших в курсе предстоящей высадки на острове, и подставлял Вильгельму плечо в самые трудные минуты, в том числе во время финального марш-броска на Лондон. Что же удивительного в том, что он умолчал об иных фактах, представляющих неудобство для короны и англиканской веры. Немецкий историк Вольфганг Виндельбанд приводит письмо Вильгельма своему другу Вальдеку, написанное мало погодя после восшествия на трон: «Ежели бы вы знали, какую жизнь я веду, вам бы стало меня жаль. Мне остается одно утешение: Бог знает, что мною движет не честолюбие». (Цитируется Вольфгангом Виндельбандом, Wilhelm von Oranien und das europaische Staatensystem, in: Von staatlichem Werden und Wesen. Festschrift Erich Marks zum 60. Geburtstag, Aalen, 1981.) Да принадлежат ли эти слова и вправду человеку, осуществившему только что мечту всей своей жизни? – вопрошает Виндельбанд. Я же от себя добавлю: а может, это слова того, кто сражается с денежными затруднениями, одолевающими его? Англичане, подданные нового короля, не считали его чемпионом воздержанности и простоты. Как отмечает фон Ранке (Englische Geschichte, cit.), в 1689 году Вильгельм потребовал от парламента назначения себе пожизненной ренты, по примеру государей династии Стюартов: «Наличие денег в достаточном количестве необходимо для нашей безопасности». Парламент не внял ему и выделил лишь годовую ренту со строгой оговоркой «не далее». Вильгельма это сильно задело, отказ парламента он счел личной обидой. Но для оспаривания этого решения у него не было никаких рычагов. В это-то время – случайность! – и велись тайные переговоры между Бокастелем, Ченчи и государственным секретарем Ватикана. Если хорошенько подумать, то вся история Оранского дома полна многозначительными событиями, подчеркивающими болезненность взаимоотношений протестантских государей с деньгами. Английский историк Мэри Кэролайн Тревелайн пишет: «честолюбивые помыслы Вильгельма II[1253] не пострадали бы, не попытайся он в качестве статхаудера Республики Соединенных Провинций содержать более многочисленное войско, чем то, которое ему было по карману». Чтобы найти средства, необходимые для защиты Республики, Вильгельм II применил силу, поместив под стражу в 1659 году пятерых главных депутатов и предприняв штурм Амстердама. (G.J. Renier. William of Orange. London, 1932, pp. 16—17.) В 1657 году, согласно тому же историку, мать Вильгельма III заложила в Амстердаме свои личные драгоценности, дабы помочь братьям. Скончалась она в январе 1661 года в Англии. А в мае этого года бабка Вильгельма, принцесса Амалия де Солмс пытается по суду вернуть драгоценности. Ее секретарь Риве пишет Хьюгенсу, секретарю Вильгельма, о том, что юный принц «не говорит ни о чем другом» (Mary Caroline Trevelyan, William the third and the defence of Holland, 1672—1674, London, 1930, p. 22). Но отчего Вильгельм так интересовался драгоценностями, среди которых был бриллиант в тридцать девять каратов, оправленный в серебро? Торопился ли вернуть унизительный долг или был под впечатлением продажной стоимости драгоценностей? Огромные средства были, впрочем, всегда необходимы Оранскому дому для ведения военных действий. Во время подготовки высадки в Англии папские агенты в Голландии были прекрасно осведомлены о настоятельной потребности Вильгельма в деньгах: в середине октября 1688 года (об этом мы узнаем от Данкельмана) они дают знать, что по причине сильнейшего ветра десяток, даже дюжина кораблей Вильгельмова флота не вернулись с учений и принц был в страшной тревоге, поскольку задержка в море стоила ему 50 000 фунтов в день. На какие только неблаговидные поступки не толкает нужда – и среди них мошенничество и предательство. Согласно историку-нумизмату Николо Пападополи (N. Papadopoli, Intitazione dello zecchino veneziano fatta da Guglielmo Enrico d'Orange (1650—1702), in: Rivista italiana di Numismatica e scienze affini, XXII[1254], Milano, fasc. Ill), в XVII веке печатный двор Оранского княжества подделывал венецианские цехины, с легкостью избегая санкций, предусмотренных для такого рода проступков. Когда же это обнаружилось, в 1646 году Светлейшая Венецианская республика ввязалась в войну Кандии против турок и именно от Голландии получала подкрепление и вооружение: венецианцы были вынуждены проглотить этот афронт. Кроме того, принцы Оранские подделывали, возможно, и венгерские дукаты, имевшие хождение в Голландии.Заимодавцы и высадка в Англии
Итак, Вильгельм Оранский был беден или скорее всегда в долгах и в поисках денег на свои военные предприятия. Следует назвать лиц, снабжавших его деньгами, начиная с тех, кто делал это не таясь. Политическая и военная деятельность Вильгельма Оранского, в том числе и высадка в Англии, поддерживалась тремя главными источниками: банкирами-евреями, адмиралтейством Амстердама и несколькими патрицианскими родами. Банкиры-евреи были на главных ролях в финансовой жизни Амстердама и всей Голландии. Среди них был барон Франсиско Лопес Суассо, служивший дипломатическим посредником между Мадридом, Брюсселем и Амстердамом, щедро снабжавший Вильгельма деньгами. По свидетельству современников, он ссудил ему 2 миллиона голландских флоринов без каких-либо гарантий и прокомментировал этот заем фразой, ставшей знаменитой: «Если удача на вашей стороне – вы мне их вернете, если нет, я смирюсь с их потерей». Принц получил также финансовую помощь Генеральных проведиторов (как он их окрестил) Антонио Альвареса Мачадо и Якова Перейры, банкиров, евреев-сефардов (см.: D. Swetschinksi-N. Schoenduve, De Jamilie Lopes Suasso, financiers van Willem III, Zwolle, 1988). Важную помощь оказало ему и адмиралтейство Амстердама: по свидетельству историка Джонатана Израэля, оно взяло на себя снаряжение около 60% флота и экипажа, высадившегося на острове. По оценкам того времени, речь шла о 1800 солдатах, в ожидании экспедиции постоянно сменявших друг друга на посту. И наконец, он получил помощь нескольких голландских семейств, хотя это ему и дорого стоило. Боясь вооружать принца, патриции Амстердама сделали так, что выделяемые ими для флота средства никогда официально не признавались предназначенными для экспедиции в Англию, словно это предприятие было личным делом Вильгельма, а не Амстердама и Соединенных Провинций в целом. Ответственность же и долги были возложены на него. Дабы осуществить сей спектакль, суммы сопровождались какой-нибудь легендой, чтобы они не всплыли официально. Часть средств, к примеру, была тайно почерпнута из тех четырех миллионов флоринов, которые Соединенные Провинции собрали в течение июля, то есть перед экспедицией, на улучшение системы фортификаций. Все это объясняет, почему личное состояние Вильгельма, и в том числе княжество Оранское, было предоставлено впоследствии кредиторам. С другой стороны, Вильгельму было предназначено стать королем Англии, что должно было позволить ему расквитаться по всем долгам. (J. Israel, The Amsterdam Stock Exchange and the English Revolution of 1688, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 103[1255], pp. 412—440.)Бартолотти
Затем появляются еще одни тайные заимодавцы: Одескальки. Возможно, они не впрямую финансировали высадку Вильгельма в Англии, зато издавна извилистыми путями одалживали деньги Оранскому дому. Один из этих путей пролегал через посредничество Бартолотти, того самого семейства, о котором Клоридия рассказывает поваренку в их первую встречу. Его члены, выходцы из Болоньи, вскоре влили свою кровь в род ван ден Хёвел, а те присоединили итальянскую фамилию к своей по причинам, связанным с наследством. Кое-кто из Бартолотти ван ден Хёвел, органично вошедших в среду голландской аристократии, получил доступ к важным должностям: стал командующим инфантерии Амстердама, управляющим города, кальвинистским пастором. Связи, которые они поддерживали с правящей верхушкой, были наконец увенчаны свадьбой Сусанны, дочери Констанцы Бартолотти, и Константина Хьюгенса, секретаря Вильгельма III Оранского (Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, Amsterdam, 1963, I, 388—389). Но взойти по лестнице социальной иерархии было позволено лишь тем, кто одновременно приращивал свое богатство. В несколько десятилетий Бартолотти превратились в самых крупных банкиров, способных служить знати, в том числе и Оранскому дому. Джульельмо Бартолотти, к примеру, числился среди организаторов займа в два миллиона флоринов под четыре процента в пользу Фредерика Анри Оранского, деда Вильгельма. Тот же Бартолотти принял под заклад от бабки Вильгельма, Амалии де Солмс, ее семейные драгоценности. Сын Джульельмо Бартолотти, носивший имя своего отца, одалживал деньги под проценты и занимался торговлей с компаньоном по имени Фридрих Рихель (оба они упоминаются в качестве заимодавцев в гроссбухах Карло Одескальки: Archivio di Stato di Roma, Fondo Odescalchi, Libri mastri, XXIII, A 2, p. 152). Юный Бартолотти унаследовал от отца не только состояние и недвижимость, но и векселя. И вдекабре 1665 года, после смерти матери, Джульельмо Бартолотти-младший стал кредитором Вильгельма III, которому было тогда едва ли пятнадцать лет. Всего принц Оранский задолжал Бартолотти 200 000 флоринов по двум облигациям. Первая, на 150 000 флоринов была обеспечена ипотекой: «городом Веере и его полдерами», то есть улучшенными, отвоеванными у моря землями. Вторая – ипотекой «нескольких владений в Германии», где у Оранского дома имелись земли (Elias, op. cit., I, 390). Приток средств из сундуков Одескальки в Голландию, то есть принцу Оранскому, достиг максимальной отметки в 1665 году. Вильгельм был тогда пятнадцатилетним юнцом, которого Генеральные Штаты Голландии, питая постоянное недоверие к наследным государям, все не решались признать и лишь в апреле 1666 года наделили временным и двусмысленным титулом: Государственный Инфант. Также верно и то, что за два года англо-голландского конфликта, разгоревшегося в 1665 году, торговый обмен с Италией (а возможно, и финансовый) значительно возрос. Таком образом, увеличение потока денег со стороны Одескальки могло быть последствием более общего процесса. Никто не станет отрицать, что деньги братьев Одескальки осели в руках патрицианской и кальвинистской аристократии Амстердама, которая поддержала впоследствии Вильгельма. Что же до Бартолотти, даже per tabulas[1256] заметен приток денег от Одескальки. Одалживать Бартолотти означало одалживать Вильгельму. Не нужно забывать, что займы Одескальки голландцам продолжались до 1671 года: в те времена Бенедетто Одескальки, тогда еще кардинал, был уже на пути к престолу Святого Петра. После 1665 года перетекание денег в сторону Голландии внезапно оказалось под вопросом. Осторожность ли, честолюбие сыграли здесь роль – неизвестно. Что бы произошло, если бы стало известно, что кардинал Священной Римской Церкви давал взаймы еретику? Явно скандал с сокрушительными последствиями, от которых Бенедетто не поздоровилось бы. Он не мог рисковать: очень скоро, в 1667 году он второй раз в жизни примет участие в конклаве. И на этот раз его имя будет значиться в списке кандидатов на папское место. Если кому-нибудь вздумалось бы пролить свет на его финансовые отношения с Голландией, он не был бы избран ни в этот раз, ни вообще когда-либо.Ферони, Грилло и Ломеллжи
На этом тайные денежные вливания со стороны папы не заканчиваются. За десять лет, с 1661 по 1671 год, работорговцу Ферони послано 24 000 экю, и отнюдь не в уплату за какие-либо товары или услуги. В те редкие случаи, когда Карло Одескальки заказывает товар, он скрупулезно заносит в гроссбух все, что касается покупки: дата поставки, качество и т. д. В случае с Ферони, как и с голландцами, речь идет о переводе денег, то есть займах. Ферони занимался работорговлей примерно с 1662 по 1679 год. Ключевая дата – 1664 год, когда испанская корона дает двум генуэзцам, обосновавшимся в Мадриде – Доменико Грилло и Амброджио Ломеллини, – разрешение на вывоз чернокожих рабов из испанских колоний по ту сторону океана. Однако вихрь событий в области политики и экономики стал причиной финансовых трудностей посредников, которые дважды избежали разорения благодаря помощи Ферони, внесшего на их счет 30 000 000 флоринов, причем адресовал он эту сумму императору на борьбу с турками от имени испанского короля. Четыре года спустя, в 1668 году, Ферони вновь выручает Грилло и Ломеллини, проплачивая испанской короне 600 000 песо (P. Benigni, Francesco Feroni empolese negoziante in Amsterdam, in: Incontri-Rivista distudi italonederlandesi, 11985, 3, pp. 98—121). В те же годы, как мы убедились, Ферони получал деньги от Одескальки, которые и шли на выплаты Грилло и Ломеллини: в гроссбухе Одескальки за 1669 год, хранящемся в Государственном Архиве Рима, оба мадридских работорговца фигурируют как должники (Fondo Odescalchi, XXIII, Al, p. 216; см. также XXXII, ЕЗ, 8). Мне возразят: мол, Ферони был не только работорговцем, он начинал как торговец шелком и спиртным, и теоретически деньги Одескальки могли быть употреблены и на менее жестокие виды деятельности. Однако о Грилло и Ломеллини этого не скажешь, они-то занимались исключительно торговлей живым товаром. Благодаря суммам, переведенным им Одескальки и Ферони, генуэзцы смогли вновь взять под свой контроль прибыльный промысел, потеснив англичан и голландцев.Личные интересы
Никто так и не попытался пролить свет на взаимоотношения Иннокентия XI и Вильгельма Оранского. А ведь документы, которые я просмотрел, легко доступны, было бы желание. Никто никогда этим не озаботился, и как знать, возможно, это не случайно. Те, кто должен был знать, знали. Те, кто владел искусством читать между строк, все поняли, изучив опровержения Данкельмана и всех благожелательно настроенных к Иннокентию XI историков. Историки, защищавшие его от нападок и подозрений, не были застрахованы от посторонних влияний. Граф делла Торре Реццонико, восставший против гипотезы, согласно которой папа в юности был наемником, состоял в родственных отношениях с семьей папы и являлся потомком небезызвестного Аурелио Реццонико, который из Венеции посылал деньги папы в Амстердам. (См.: G.B. Di Crollalanza, Dizionario Blasonico, Bologna, 1886, II 99; A.M. Querini, Tiara et purpura veneta, Brescia, 1761, p. 319; Dizionario storico portatile di tutte le venete patrizie famiglie, Venezia, 1780, p. 106.) Отношение к данному вопросу Данкельмана также заслуживает нескольких слов. Бароны фон Данкельманы были связаны с Оранским домом тесными узами начиная с эпохи Вильгельма III. В XVIII веке знаменитый предок и тезка историка Эберар фон Данкельман был учителем при дворе курфюрста Фридриха Бранденбургского, до того как стать премьер-министром. Но курфюрст был также дядей Вильгельма III Оранского и не раз поддерживал его в военных действиях против Франции. И этот же курфюрст передал свой дворянский титул Данкельманам. Истовые кальвинисты, они не смогли смириться с правдой, то есть с тем, что Вильгельм завоевал английский трон частично на деньги папы, воспользовавшись к тому же иностранной политикой Иннокентия XI, который, как и Вильгельм, был закоренелым врагом Людовика XIV. Возможно, у Данкельмана были и иные интересы, более приземленные: дело в том, что его семья родом из графства Линжен, составлявшего часть собственности Оранского дома; после смерти Вильгельма графство перешло его дяде, курфюрсту Бранденбургскому. (См.: Ktirschners deutscher Gelehrter Kalender, 1926, II 374; С. Denia. La Prusse litteraire sous Frederic II, Berlin, 1791; ad vocem; A. Rossler, Biografisches Worterbuch, advocem.) Как и прочие историки, Данкельман скрыл от читателей свои личные связи с тем, о ком повествовал. Благодаря умолчаниям и ухищрения события были им представлены с сознательным пристрастием и в искаженном виде.* * *
Такими же пристрастными были и некоторые действующие лица этой истории. Кардинал Рубини, государственный секре-тарь Александр III, вынудивший монсеньора Ченчи отклонить предложение Бокастеля, также имел личную заинтересован-ность Семья Рубини числилась среди должников Иннокентия XI со времен деда кардинала, как явствует из гроссбухов Карло Одескальки. Поскорее закрыть не слишком приятный вопрос займов, который Ченчи поднял в Авиньоне, было лучшим из решений: Рубини было прекрасно известно, что деньги Одескальки отправлялись по нескольким каналам (Fondo Odescalchi, XXII А9, с. 179; XXII А13. anno 1650. Querini, op. cit., p. 282; G.M. Crescimbeni, Notizie istoriche degli Arcadi morti, Roma, 1720, III, 67; T. Riccardi, Storia del vescovi vicentini, Vicenza, 1786, p. 238). To же можно сказать и еще об одном представителе Ватикана, монсеньоре Джованни Антонио Давиа, который в эпоху переворота в Англии занимал стратегический пост апостольского интернунция в Брюсселе. Его семья брала в долгу семьи папы (это подтверждено фоссбухами), и любопытно, что монсеньор Давиа не обладал нюхом, чтобы предвидеть будущее Англии (Fondo Odescalchi, XXVII В6; Е. Danckelman, Zur Frage der Mitwissenschaft Papstes Innozenz XI an der oranischen Expedition, in: Quellen und Forschungen am italienischen Archiven und Bibliotheken, XVIII[1257], pp. 311—333). Апостольский посланник в Лондоне граф Фердинандо Д'Адда также ничего не заподозрил: как подметили историки, он, странное дело, оказался неспособен разгадать и донести до Рима суть интриг, которыми лондонские друзья Вильгельма готовились поддержать готовящийся переворот (G. Gigli, Il nunzio pontificio D'Adda e la seconda rivoluzione inglese, in: Nuova rivista storica, XXIII[1258], pp. 285—352). Граф Д'Адда не выполнил своих обязанностей должным образом, что не помешало Иннокентию XI (родственником которого он являлся) продвигать его далее по карьерной лестнице. Уж не входило ли в его обязанности быть плохим исполнителем?Еврейский вопрос
Как мы убедились, историками было раскрыто три канала финансирования принца Вильгельма Оранского: адмиралтейство Амстердама, голландская знать и банкиры-евреи. Деньги Одескальки циркулировали по двум из них: адмиралтейство (в лице Жана Нёфвиля, которого Вильгельм лично возвел в адмиралы) и семьи торговой и финансовой аристократии Голландии: Дёц Ошпье, Бартолотти. Все они упоминаются в гроссбухах Карло Одескальки. То есть семья блаженного подпитывала два канала из трех. У нее был лишь один конкурент в области финансов: банкиры-евреи. Среди многих строгих мер, введенных Иннокентием XI за время своего понтификата, одна – случайность ли это? – имеет отношение к финансам. Под угрозой серьезных санкций евреям было запрещено заниматься банковской деятельностью, то есть именно тем, в чем семье блаженного не было равных. Этот запрет, положивший конец длительному периоду терпимости пап, стал причиной экономического упадка римских евреев, которые до начала XIX века бессильно наблюдали за беспрестанным ростом своих долгов и падением доходов. Тогда же Иннокентий XI создал ссудную кассу, которая, являясь социально важной и заслуживающей уважения инициативой, продолжала лишать банкиров-евреев богатств. Иннокентий XI провозгласил запрет на ссуду под проценты. Было это в 1682 году. В том же году банкир-еврей Антонио Лопес Суассо ссудил Вильгельму Оранскому 200 000 гильдеров. И это случайность? Как мы помним, Одескальки финансировали мадридских работорговцев Грилло и Ломеллини. И тут евреи составили им конкуренцию: предприятие Грилло подпитывалось Лопесом Суассо. Еще один каприз случая? Всего этого, возможно, и недостаточно, чтобы утверждать, что запрет Иннокентия XI был сделан в личных целях. Несколько веков спустя процесс по беатификации папы Пия IX сопровождался горячей полемикой в связи с его ярко выраженным антисемитизмом. Однако выходит, он не был первым противником евреев, получившим высокие церковные почести: папа Одескальки был его предшественником в этом. В противоположность Пию IX, Иннокентий XI имел конкретные и глубоко личные причины для ненависти по отношению к народу Израиля. Еще один – который уже? – каприз случая: беатификация Иннокентия XI состоялась в годы понтификата Пия XII, еще одного папы, чье отношение к евреям было резко отрицательно, он был даже обвинен в том, что скрыл то, что знал о Шоа[1259].Другие денежные потоки, направляемые Одескальки в Голландию
Гроссбухи семьи Одескальки подтверждают не только факт финансирования Вильгельма Оранского, но и существование иных денежных потоков, которые заслуживают нашего внимания. К примеру, Хенрик и Франциск Шильдеры, которым с марта 1662 по май 1671 год ссужается 10 542 экю. Шильдеры подвизались в области военных поставок: Франциск был комиссаром по снабжению продуктами питания антверпенской армии в испанских Нидерландах. А итальянский торговец Оттавио Тензини снабжал испанскую армию рожью. Страховщик, арматор, импортер икры, сала и мехов из России, Тензини также получает деньги от Одескальки: 11 206 экю с января 1665 по ноябрь 1670 года. Пошла ли и эта сумма на военные нужды принца Оранского? Было бы также кстати провести дознание, куда были употреблены 11 000 экю, которые Чернецци и Реццонико перевели за три года коммерческому голландскому обществу Джован Баггисты Бензи и Габриэля Воета. Учитывая, что это общество занималось торговлей не только кожей и зерном, но и оружием, законно задаться вопросом, а не были ли кое-какие поставки мушкетов (на перевязи из тюленьей кожи, возможно, тех, которыми торговал итальянский купец) оплачены деньгами католиков Одескальки, чтобы послужить затем в бою протестантам. Необходимо пролить свет и на многие другие финансовые операции. Например, на суммы, высылаемые с 1687 года австрийскому кардиналу Коллонищу: в «личных» архивах Одескальки хранятся платежные поручения и заемные письма на сумму 3600 имперских талеров, переведенных Коллонищу (Fondo Odescalchi, XXVII, G3). Этот кардинал – бесстрашный защитник Вены в 1683 году, был также одним из действующих лиц в освобождении Венгрии. В Венгрии же находилось герцогство Сирмиум, впоследствии проданное императором Ливио Одескальки: возможно, оттого, что Одескальки были его кредиторами? Следует добавить, что в 1622 году Ливио Одескальки одолжил императору 180 000 флоринов на войну с турками под шесть процентов годовых под залог пошлин с провинции Больцано. Для католиков было бы неприятно узнать, что венгерские земли, отвоеванные потом и кровью христианских солдат, затем были проданы главным финансовым воротилам империи: Одескальки. В гроссбухах Карло Одескальки содержатся записи о многочисленных денежных выплатах итальянским купцам в Голландии и Лондоне, что могло бы заинтересовать любителей истории: Оттавио Тензини (тесть Ферони), Паоло Паренци, Габриель Воет, Джузеппе Бандинукки, Пьетрандреа и Аска-нио Мартини, Джузеппе Маручелли, Джованни Веррацана, Стефано Аннони, Джован Баттиста Каттанео и Джакомо Бостика. Остается неясным и то, в каких отношениях состояли Одескальки с голландскими и фламандскими дельцами Джеремиа Хагенсом, Исаком Фламингом, Томазо Вербеком и Петером Вандепутом. Все они получачи суммы, общий итог которых составляет 14 000 экю, при этом Карло Одескальки не пометил причины отправки сумм (см., например, Fondo Odescalchi, XIII, А2, pp. 1, 84, 97-122, 134, 146, 159, 179, 192, 220, 244, 254, 263, 300). Не помешало бы углубиться и в нотариальные архивы Амстердама, Лондона и Венеции, в поисках учредительных документов коммерческих обществ, контрактов и векселей.Императорские игры
В головокружительных денежных потоках, оказавших тайное влияние на европейскую политику с 1660 по 1700 год, главное место следует отвести императору Леопольду I Австрийскому. Ему было прекрасно известно, что между подставными лицами в Венеции и голландскими еретиками происходил обмен денежными знаками. Чтобы в этом убедиться, достаточно бросить взгляд на давно ставшие достоянием гласности документы (Hans von Zwiedineck, Das graflich Lamberg'sche Familienarchiv zu Shloss Feistritz bei Ilz, Graz, 1897). Аурелио и Карло Реццонико из Венеции слали Леопольду через имперскую палату Граца ссуды и перепродавали голландцам баррели ртути, служившие императорским залогом, а он в январе 1666 года «за ускоренное заключение сделки» наградил баронскими титулами обоих исполнителей. В действительности с этим не должно было возникнуть особых затруднений, поскольку главный инспектор австрийских ртутных рудников, то бишь посредник в сделке со стороны императора барон Аббондио Инцаги, был земляком Одескальки: как и папа, принадлежал к одному из старинных родов Комо. А посредником в Вене между Инцаги и Реццонико был не кто иной, как барон Андреа Джованелли, кузен Карло и Бенедетто Одескальки, также получивший дворянское достоинство из рук Леопольда. В 1672 году, когда с особой остротой разгорелся конфликт между Францией и Голландией, граф Карл Готфрид фон Брёнер, душеприказчик Леопольда в экономических и военных делах, предложил назначить Инцаги агентом по «коммерческим сделкам с Голландией». Император напоминает Брёнеру, что задолжал 260 000 флоринов некоему Дёцу: голландскому банкиру, которому Одескальки перепродавали ртуть. Нотариус из Комо, составлявший контракты между Чернецци и Инцаги, звался Франческо Певерелли (о нем см., например, Fondo Odescalchi, XXXIII, Al, p. 78; Archivio di Palazzo Odescalchi, ID6, cc. 70,89,352,383). Однако семья Певерелли состояла из подданных Леопольда, получивших от него деньги и земли. И это не все. Возврат ссуд, выданных Леопольду, был обеспечен не только ртутью, но и ввозными пошлинами империи. После смерти Карло и Бенедетто Одескальки Леопольд продолжит такую практику займов. И как бы случайно станет это делать с помощью Ливио Одескальки, племянника папы, получая от него на военные нужды значительные суммы. Несколько доверенных лиц были посвящены в дела Одескальки. Ежели речь идет о долгосрочных тайнах, лучше иметь под рукой тех, кто уже в курсе происходящего. Когда в 1785 году один из Реццонико станет папой под именем Климента ХIII[1260] на должность тайного камерария он изберет – случайно – одного из Джованелли. Но в этой истории уже ничему не удивляешься. Достаточно напомнить, что деньги Одескальки оседали в руках Бартолотти, породнившихся с Иоганном Хюйдекопером, бургомистром Амстердама и дипломатом, аккредитованным правительством Амстердама при дворе курфюрста Фридриха Бранденбургского, дяди Вильгельма Оранского, среди подданных которого был некий Данкельман…Тайна гроссбухов
Изучение гроссбухов Карло Одескальки заняло много времени. Венецианские власти в XVI веке ввели ведение бухгалтерского учета в обязанность. Купцы легко обходили эту норму, превратив свои гроссбухи в длинные непонятные столбцы имен и цифр, писанных счетоводами под строгим хозяйским оком, и расшифровать их могли только сами купцы и торговцы. Карло Одескальки пошел еще дальше: он сам вел свою бухгалтерию почти неразборчивым почерком. Бухгалтерские ведомости семейств, таких как его собственное, были хранителями самых больших тайн, самых деликатных дел. Они хранились под ключом в тайниках и часто уничтожались, чтобы не попасть в руки чужаков (см., к примеру, V. Alfieri, La partita doppia applicata alle scritture delle antiche aziende mercantili veneziane, Torino, 1881). В записях Карло Одескальки отсутствуют даже те зачатки бухгалтерии, которые уже тогда применялись итальянскими торговцами: ни хронологической последовательности, ни зачтения на счет. Выдача ссуд под проценты фиксируется, но и только, подведение итогов отсутствует напрочь. Было бы легче разобраться во всем этом, если б была возможность просмотреть еще и журналы, описывающие сами операции, суммы которых фигурируют в гроссбухах. Но они, к несчастью, не сохранились. Опись наследства Карло Одескальки могла бы мне много помочь, но ее и след простыл!Рачительный Карло
В Библиотеке Амброзиана в Милане (Fondo Trotti; n. 30 et 43) имеется дневник Карло Одескальки, который он скрупулезно вел с 1662 года до смерти и который еще никем не изучен. Увы, ничего нового он не содержит, описывая главным образом состояние здоровья автора, атмосферные явления, встречи. 30 сентября 1673 года, в день, когда Карло не стало, чьей-то неизвестной рукой описаны последние мгновения умирающего: соборование, духовное вспоможение, оказанное ему двумя отцами-иезуитами, «по-рыцарски» встреченный переход в мир иной. Далее следует краткая похвала усопшему: осмотрительный, смиренномудрый, справедливый. Но более всего превозносится его «прилежание в искусстве собственноручно записывать все сделки, благодаря чему его смерть не обернулась катастрофой и можно было составить описи и мебели, и недвижимости, и кредитов, и ссуд под проценты». Воздавая должное почившему, аноним долее всего задерживается на тщании, с каким тот регистрировал сделки, вел деловые документы, а его нравственные качества отходят на второй план. Создается впечатление, что это был подлинный рыцарь архивного дела, корифей делопроизводства. Как же в таком случае произошло, что опись его наследства и журналы операций ненаходимы?Тайные переговоры
С тех пор как средневековые папы обосновались в Авиньоне, а не Риме[1261], провансальский городок и прилегающая местность (графство Венессен) вошли в состав папского государства. Но в сентябре 1688 года раздоры между Людовиком XIV и Иннокентием XI привели к оккупации Авиньона французскими войсками. Менее года спустя в августе 1689 года папа Одескальки преставился. Новый понтифик Александр VIII Оттобони отказался от политики предшественника и открыто вступил на путь налаживания отношений с Францией. В знак примирения Наихристианнейший король согласился отвести войска от Авиньона. В конце 1689 года апостольский вице-легат Балдассар Ченчи наведался в провансальский городок с целью проконтролировать состояние папских сокровищ, подсчитать убытки, нанесенные французами, и взять в руки бразды правления. Однако ему пришлось столкнуться с положением по меньшей мере неспокойным. Если Авиньону и был нанесен значительный урон, еще хуже обстояли дела в Оранском княжестве, принадлежащем принцу Вильгельму, по соседству. Оно уже не один год подвергалась разорительным набегам французских драгун. Кроме того, принц взошел на престол в далекой Англии, и его подданные ощущали себя – и не без оснований – брошенными на произвол судьбы. В большинстве своем протестанты, они опасались, что французы, движимые как религиозными, так и политическими побуждениями, не оставят в покое их и без того измученный край. Если в Авиньоне и стало поспокойнее, то в Оранже ситуация была взрывной. Седьмого ноября Ченчи послал в Рим донесение, что в античном амфитеатре Оранжа (который тогда назывался в народе «Le Cirque»[1262]) прошла ассамблея представителей всех подданных принца, на которой было решено предложить княжество Людовику XIV. Это был акт отчаяния: лучше было быть подданным врага, чем его противника. Когда Ченчи отправился в Авиньон, авиньонский прелат, аудитор Роты Паоло де Сальвадор получил письмо от одного подданного принца Оранского, некоего г-на де Бокастеля, протестанта, только что обращенного в католицизм и представляющего жителей Оранжа при парижском дворе. В письме содержалось сенсационное предложение: измученные набегами французов, жители княжества желали перейти под протекторат папы. Встревожившись и осознавая всю деликатность дела, Ченчи тотчас снесся с Римом, с государственным секретарем Ватикана и высказался в том смысле, что стоит принять это предложение Оранж предложил себя Франции, но Людовик XIV мог бы отказаться от него, если бы папа объединился с ним, чтобы оказать поддержку бывшему английскому королю католику Якову Стюарту в борьбе с изгнавшим его Вильгельмом Оранским Принимать в лоно папства владение еретика (к тому же с некоторых пор английского монарха) Церкви было как-то не с руки. Ченчи предлагает следующее: рассматривать княжество как вознаграждение за ущерб, нанесенный Авиньону столкновениями католиков и протестантов, долгие годы опустошавших Прованс. Однако из Ватикана пришел приказ отказаться от предложения: Бокастелю мол лучше обратиться к Людовику XIV, который сможет защитить оранцев, взяв их под свое крыло. И все же Бокастель встречается с Ченчи и в присутствии Сальвадора подтверждает предложение. Ченчи отвечает отказом. Тогда Бокастель изрекает нечто весьма двусмысленное: Святой Престол уже проделывал подобное, и ему по праву принадлежит графство Венессен «в силу раздела, свершенного королем Франции и папой после войны с альбигойцами»[1263]. Намек был не из приятных: между концом XII века и началом XIII века, сорняки ереси были выкорчеваны из провансальской земли (G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia, 1840, advocem «Contado venaissino»). Жестокий и кровавый крестовый поход разбил рать князя Рэмона VI, хозяина этих земель, издавна обвиняемого в распространении учения альбигойцев, несовместимого с папством и Римской Церковью. Опасаясь поимки и выдачи инквизиции, Рэмон пообещал отдать папе несколько земель, в том числе и три замка, расположенных в графстве Венессен, а также часть Авиньона. Если бы Рэмон принял сторону еретиков – было прописано в договоре, – эти земли отошли бы Церкви. Так и случилось: Рэмон упорствовал в своих заблуждениях, был объявлен еретиком и отлучен от Церкви. Его сын Рэмон VII продолжил его дело, но был повержен на поле брани во время битвы с войском папы Григория IX[1264] и французского короля Людовика IX Святого[1265]. Пакт, заключенный между Церковью и еретиками, был соблюден, хотя и с применением силы: по парижскому договору 1228 года земли и замки альбигойцев отошли Ватикану. Обещание Рэмона Святому Престолу не было ответом на ссуду со стороны папы, и все же намек Бокастеля на договор между католиками и еретиками, по которому в уплату предназначались земли последних, был по меньшей мере не совсем деликатным. Но вернемся к тайным переговорам между Ченчи и представителем оранцев. За хитрым намеком на прошлое следует выпад: «В нашем королевстве существует поверье, будто бы принц Оранский задолжал предыдущему понтифику крупные суммы, в уплату коих он считает возможным предложить свои владения, от которых ему самому никакого проку». Выходит, и правда Вильгельм Оранский сильно задолжал Иннокентию XI и считал, что может частично в уплату долга предложить свои владения в Провансе, дававшие ему малый доход. Ченчи еще раз докладывает Риму об этом деле и снова получает отказ, еще более категоричный, чем первый. Не может быть, чтобы папа Одескальки одолжил денег еретику. А тем временем скандальный слушок переходит из уст в уста. Ченчи снова пишет в Рим, прибавляя, что казначей Вильгельма Оранского, г-н де Сен-Клеман (бывший в курсе дел и говоривший о них со знанием дела), также советует соотечественникам стать подданными французов. По словам казначея, Ватикану уже было выплачено столько, что менее накладно взять на содержание вояк Людовика XIV, чем требовать «у святого духа» суммы, предназначенные в уплату папе. Если верить этим сведениям, княжество Оранское как раз и предназначалось для того, чтобы возмещать долг папе. Таком образом, долги Вильгельма Оранского Иннокентию XI не являются тайной: казначей принца говорит о них открыто, а далее это подбольшим секретом передается по каналу (апостольский вице-легат Авиньона), у которого нет никаких оснований передавать пустые слухи. Кардинал Рубини, государственный секретарь, отвечает Ченчи, что новый папа не имеет ни малейшего намерения принимать под свое крыло народ Оранжа, невзирая на «единодушное желание» того войти в состав папских территорий: понтифик не имеет охоты увеличивать число своих подданных. Зато король Франции мог бы пойти навстречу их пожеланиям. Рубини подчеркивает, что следует вообще отказаться от упоминания причины этой аннексии, а именно оттого, что «принц Оранский – по-прежнему должник предыдущего понтифика». Переговоры между Ченчи и Бокастелем ни к чему не привели, и Оранж вошел в состав Франции. Данкельман опубликовал это последнее письмо, только его и только ad confutandum[1266]: поскольку Рубини отвергает гипотезу, согласно которой Иннокентий XI мог дать в долг еретику, выходит, вообще никаких займов и не было! Данкельман поостерегся публиковать предыдущие письма Ченчи (как и это письмо, хранящиеся в Секретном Архиве Ватикана), из коих вытекало совсем иное, к тому же, как мы в том убедились, подтвержденное гроссбухами Карло Одескальки.Переписка Ченчи
Далее следует переписка, хранящаяся в Секретном Архиве Ватикана, между г-ном Бокастелем, вице-легатом Авиньона Бал-дассаром Ченчи и государственным секретарем Ватикана.Фонд Государственного секретариата, легация Авиньона, папка 369 Г-н Бокастель Паоло де Сальвадору, 4 октября 1689 Сударь, засвидетельствовав вам радость, испытываемую мною при виде восстановленной власти папы, Его Высокопреосвященства накануне своего возвращения и вас при исполнении ваших обязанностей, считаю своим долгом выразить вам то беспредельное отчаяние, в которое погрузилось наше княжество, коему угрожают семнадцать драгунских и двадцать пехотных рот, на размещение которых на постой нами уже получены указания, и известить вас, что мы были вынуждены предать себя в руки короля [1267], чему и была посвящена торжественная церемония, состоявшаяся в прошлый вторник, в праздник всех святых, на площади перед Цирком, где собрались все сословия нашего княжества. Не знаю, что и сказать вам в отношении вышеназванной церемонии, но думаю, что она удалась, и более обстоятельно расскажу вам о ней, как только Его Высокопреосвященство[1268] прибудет сюда. Я доверю ему свою мысль, ежели [1269] доверить ее бумаге, вы легко догадаетесь, в чем она состоит, скажу лишь, что это сделало бы наше счастье равным вашему и что теперешнее стечение обстоятельств способно дать это ощутить. Меня разбил приступ ревматизма, но пусть я даже обездвижу, стоит мне прознать о том, что Его Высокопреосвященство в наших краях, тотчас велю отвезти себя в Авиньон, дабы заверить его в своем нижайшем почтении. Окажите любезность, донесите до него мое пожелание поскорее видеть его у нас и ту боль, какую причинил мне его отъезд. Наслаждайтесь тем удовольствием, которое дано вам вблизи такого человека, мы же опосредованно будем разделять его с вами, поскольку невозможно, чтобы и нас не коснулись его лучи. Позвольте заверить вас, сударь, что лично я испытал такую радость от того, что произошло[1270], что, имей я честь быть вашим соотечественником, и будь то в моей власти, но non datur omnibus adire Corinthum [1271], или, правильнее Avenionem.Уж и не знаю, не допустил ли я в этих трех латинских словах погрешностей против правил, но могу вас уверить в том, что никогда не допущу ни одной против обета всей моей жизни. Ваш нижайший и покорнейший слуга Господин Бокастель
Фонд Государственного секретариата, легация Авиньона, папка 350 Монсеньор Ченчи государственному секретарю. Без даты (расшифровано). Один подданный очень верный Святому Престолу и весьма даровитый, проживающий в Авиньоне, передал мне послание, написанное подданным принца Оранского, в котором речь идет о великом желании подданных этого княжества перейти под управление Святого Престола, и большой легкости, с коей это может произойти по нынешним временам, добавляет, что приедет поприветствовать меня, как только позволит ему состояние здоровья. Ежели он заговорит со мной об этом деле, я выслушаю и доложу обо всем, что услышу, и не стану ни соглашаться, ни отклонять[1272]. Кажется, можно не сомневаться в согласии жителей Оранжа, ибо огромная тревога, в которую погрузил их Наихристианнейший король, и невозможность получить защиту от собственного государя привели их к отчаянному решению взбунтоваться против последнего и предложить себя первому, как я вас и извещал в предыдущих посланиях, но все же им было бы очень желательно хоть издали чувствовать себя под столь сладостным покровительством Его Святейшества, в чем они могли уже убедиться за столько сотен лет и лучшего не желают. Они считают, что Наихристианнейший король смог бы подчинить свой интерес, состоящий в сохранении за собой этого княжества, обязательству, которое Его Святейшество и его последователи взяли бы на себя поддерживать короля Якова[1273] против короля Вильгельма, если Святой Престол лишил бы его вышеозначенного княжества. Это приобретение может быть оправдано согласием народа, который охотно перешел бы к Его Святейшеству, дабы выйти из подчинения еретику, оказавшемуся неспособным либо не имевшему воли защищать оный от чрезвычайно бедственного положения; кроме того, ввиду очень серьезного ущерба, который оранцы причинили в прошлом[1274] и который на моей памяти так и не был возмещен, задолжали сотни миллиардов экю. Вышестоящие требуют от меня ответа обо всем, что мне известно об этом важном деле. Прилагаю копию вышеупомянутого письма, адресованного г-ну Сальвадору, аудитору Роты Авиньона, г-ном Бокастелем из Куртезона. В силу того, что обговаривал с ним и другие дела, могу подтвердить, что этот господин кажется мне весьма одаренным; новообращенный в нашу веру, он и внешним обликом своим подтверждает искренность веры; он на хорошем счету у французского двора, а у себя на родине пользуется уважением в связи с почетом, оказанным ему Наихристианнейшим королем, к коему он был послан два года назад для защиты интересов своих сограждан как человек наиболее уважаемый ими и способный. Вышепоименованный г-н Сальвадор, передавший мне вышеозначенное письмо, сказал мне, что один из торговых судей Куртезона[1275] решил что Наихристианнейший король не может быть против.
Фонд Государственного секретариата, легация Авиньона, папка 350 Монсеньор Ченчи государственному секретарю. Без даты (расшифровано). В прошлый вторник Бокастель явился ко мне с аудитором Сальвадором и в его присутствии открыто заявил о воле жителей княжества Оранского перейти под владычество Святого Престола. Я ему ответил, что сие было бы желательно, но вряд ли исполнимо, и в ходе беседы испросил у него, какие могут существовать основания в отношении согласия короля Франции. Он ответил мне только, что Святой Престол владеет графством Венессен в такой же степени в силу раздела, установленного между королем Франции и папой после войн с альбигойцами. И добавил, что в королевстве существует поверье, будто бы принц Оранский задолжал предыдущему понтифику крупные суммы, в уплату коих он считает возможным предложить свои владения, от которых ему самому никакого проку. Я засомневался в возможности того, что покойный Святой Отец мог одалживать деньги принцу Оранскому, и, не имея возможности вытянуть из него иных важных сведений, завершил разговор, сказав, что мое положение не позволяет мне вмешиваться в отношения, которые Его Святейшество могло иметь с Наихристианнейшим королем и другими европейскими государями, что позволило бы мне доставить его согражданам и ему лично желаемое удовлетворение; однако я не преминул выразить ему свою признательность в связи с желанием горожан стать подданными моего господина, а также сострадание перед лицом того поистине жалкого состояния, в коем они пребывают. Сальвадор, заговоривший со мной об этом деле в другой раз, сказал мне, что Бокастель переживает то, как холодно я отнесся к этому предложению, я же вновь подтвердил ему все, что было сказано ранее.
Фонд Государственного секретариата, легация Авиньона, папка 350 Кардинал Оттобони Монсеньору Ченчи, 6 декабря 1689 Я во всех деталях доложил Его Святейшеству обо всем том, что Ваше Преосвященство письменно довело до моего сведения по этому вопросу, а именно: что авиньонский житель известил вас письмом, полученным им от его друга из Оранжа, в коем изъявляется настоятельное желание жителей этого города перейти в подданство к Святому Престолу. Его Святейшество предписывает Вашему Преосвященству выслушивать эти пожелания, проявлять чувства глубокого удовлетворения и высокой оценки здравого смысла жителей этого графства и всего, что доведется еще услышать по этому поводу, но остерегаться принимать на себя малейшие обязательства, ибо, согласно мысли Святого Отца, сии подданные с большей надежностью могли бы быть защищены Наихристианнейшим королем и жить под его покровительством, нежели под защитой Святого Престола, не располагающего ни силами, ни оружием, дабы защищать Оранж..
Фонд Государственного секретариата, легация Авиньона, папка 59 Монсеньор Ченчи кардиналу Оттобони, 12 декабря 1689 Меня заверяют, что г-н граф де Гриньян и г-н интендант Прованса[1276] дали знать жителям города Оранжа и других мест княжества, что Наихристианнейший король оценил сознательный акт, совершенный ими по самовызволению из-под власти принца и подчинению власти Его Величества, которое подтвердило, что в начале будущего года им будет явлена его милость.. Некий г-н де Сен-Клеман, прежде служивший казначеем принца Оранского, заявил, что в будущем им нечего ожидать каких-либо выплат, разве что сущих пустяков на сбрую солдатам, поскольку много ушло на выплаты в папскую казну и что святым духом сыт не будешь, не получишь ни хлеба, ни муки для солдат, оттого-то и размещение на постой пехоты причинит им меньше вреда[1277].А вот и письмо, опубликованное Е. Данкельманом, Zur Frage der Mitwissenschaft Papstes Innozenz XI an der oranischen Expedition, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 18 (1926), p. 311—333.
Кардинал Рубини Монсеньору Ченчи, 13 декабря 1689 При новых заявлениях, сделанных Бокастелем Вашему Преосвященству в присутствии аудитора Сальвадора, по поводу единодушного желания жителей Оранжа перейти под управление Святого Престола, Ваше Преосвященство ответило благоразумно, как оно сделало и в случае ложного предположения, согласно которому принц Оранский задолжал предыдущему понтифику крупные суммы, по каковой причине он мог уступить эту свою вотчину, от которой ему самому мало проку. И впрямь, таковое суждение слишком нечистоплотно и злобно, поскольку всем хорошо известно, что святой понтифик не был способен вступить в союз с принцем-еретиком и оказывать ему поддержку, как и входить в какие-либо сношения как с ним, так и с прочими государями-еретиками. Что до ответа, который должно им дать, если они предстанут перед Вашим Преосвященством, можно сказать им то, что я имел случай выразить Вам по приказу Его Святейшества в последнем своем послании, а именно – Его Святейшество считает что оранцы будут в большей безопасности под защитой Наихристианнейшего короля, нежели под защитой Святого Престола, который не стремится к обладанию чужими государствами, довольствуется своими, и не располагает ни силами, ни оружием, дабы защитить оранцев.
Возврат ссуды
Были ли возвращены ссуды, одолженные Одескальки Вильгельму Оранскому? Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к еще одному историческому событию, не менее впечатляющему. Иннокентий XI отходит в мир иной в августе 1689 года. Несколько месяцев спустя Кристина Шведская[1278], королева, перешедшая из протестантизма в католичество за три десятка лет до этого и обосновавшаяся в Риме под защитой папы, также умирает. Перед тем как испустить последний вздох, она назначает наследника: кардинала Децио Аззолино, своего советника и спутника жизни на протяжении многих лет. Несколькими месяцами позже к праотцам отправляется и он, и наследство Кристины достается одному из членов его семьи – Помпео Аззолино. На небогатого жителя захолустного городка (род Аззолино брал свое начало в Фермо, в области Марш, как и Тиракорда с Дульчибени) свалилось огромное богатство Кристины Шведской: более двух сотен полотен Рафаэля, Тициана, Тинторетто, Рубенса, Караваджо, Микеланджело, Доменикино, Ван Дейка, Андреа дель Сарто, Бернини, Гвидо Рени, Карраччи, Джулио Романо, Пармезано, Джорджоне, Веласкеса, Пальмы Старшего; тканные золотом и серебром шпалеры по эскизам Рафаэля сотни рисунков знаменитых мастеров, целая галерея статуй, бюстов, голов, ваз и мраморных колонн; более шести тысяч медалей и медальонов; оружие, музыкальные инструменты, ценная мебель; драгоценности, хранящиеся в Голландии, неоплаченные шведской и французской коронами займы, притязания на некоторые владения в Швеции и, наконец, роскошное собрание книг Кристины, насчитывающее тысячи печатных изданий и рукописей, уже современниками признанное бесценным. Вступив в наследство сокровищами Кристины, Помпео воздерживается от ликования. Наследство, доставшееся ему от бывшей шведской королевы, обременено большими долгами, и если ему не удастся продать это все как можно выгоднее, он рискует быть растерзанным кредиторами. Однако много ли найдется людей, располагающих средствами, достаточными для приобретения столь несметного богатства? Не лучше ли вступить в переговоры с государями, не слишком обремененными долгами? Однако Помпео – parvenu[1279] и не знает, с какого бока приступить к делу, Рим же кишит авантюристами, готовыми облапошить неумелого провинциала. Помпео пытается упростить задачу, продав все состояние целиком, но это слишком сложно и опасно. Кредиторы нервничают, Помпео решается спешно расчленить наследство, продавая его по частям. Шпалеры и предметы обстановки, представляющие ценность (в частности, зеркало по эскизам Бернини), перекочевывают к Оттобони, семейству нового главы католической церкви – Александру VIII; книги пополняют библиотеку Ватикана. Но трудностей не счесть. Наследство обременено долгами и ставит перед обладателем все новые проблемы. Швеция заявляет права на драгоценности Кристины, лежащие под залогом у одного голландского банкира, и конфискует их с помощью амстердамской магистратуры. У Помпео нет ни малейшего желания спровоцировать дипломатический инцидент со Швецией. Ему советуют списаться с человеком, способным вмешаться в это дело и оказать давление на Голландию: с принцем Вильгельмом Оранским, королем Англии. В марте 1691 года Помпео Аззолино отсылает ему прошение о защите и помощи в деле с драгоценностями и получает по меньшей мере неожиданный ответ: узнав, что коллекция Кристины выставлена на торги, король Англии предлагает купить все, что осталось, действуя через посредников, и просит безотлагательно выслать опись. Удар грома среди ясного неба! Еще несколькими днями ранее Помпео распродавал картины поштучно, и вот теперь такая сверхъестественная удача. Еще более невероятно то, что Вильгельм, вечно клянчащий деньги на свои военные затеи, вдруг загорелся потратить целое состояние на предметы искусства. Король-Солнце и тот был вынужден отказаться от приобретения этой коллекции, когда его посланник в Риме кардинал д'Эстре сообщил ему о возможности приобретения сокровищ Кристины. И тут случилось еще кое-что из ряда вон: на сцену вышел покупатель, который нам хорошо известен: Ливио Одескальки, племянник Иннокентия XI. За 123 000 экю Ливио уводит коллекцию из-под носа Вильгельма, скупая почти все оставшееся. И вот что удивительно: Вильгельм не только не обижается, но и остается в добрых отношениях с Помпео Аззолино. Проблема с наследством решилась молниеносно. Этот исторический эпизод оттого столь удивителен, что неправдоподобен. Король протестантской веры, постоянно нуждающийся в средствах, решается приобрести дорогостоящую коллекцию произведений искусства. Племянник папы (в свое время снабдившего этого короля огромными суммами денег) буквально из-под носа уводит у него предмет его желания, а тот лишь поздравляет его с покупкой (Т. Montanari, La dispersione delle collezioni di Cristina di Svezia. Gli Azzolino, gli Ottoboni e gli Odescalchi, in: Storia dell'Arte, 90[1280], pp. 251—299). Припомним кое-какие цифры: Одескальки одолжили Вильгельму около 153 000 экю. Ливио покупает коллекцию Кристины за более-менее близкую сумму: 123 000 экю. За дело взялись лучшие умы. С конца 1688 года Вильгельм является королем Англии и может наконец выплатить долг заимодавцу. Но Иннокентия XI не стало уже год спустя. Как уплатить долги семейству папы? Только часть суммы была к тому времени выплачена. Наследство Кристины Шведской представляло собой таким образом потрясающую возможность, которую нельзя было упустить. Ливио покупает, но платит Вильгельм, через посредника. По окончании стольких войн счеты между домом Одескаль-ки и Оранским домом были враз урегулированы. Нетрудно представить себе эту сцену. Любуясь полотном Тинторетто или Караваджо, залитым золотым полуденным светом Рима, доверенное лицо Вильгельма передает вексель в руки посланца Ливио Одескальки, и все это, прославляя память великой шведской королевы.Ливио и Паравичини
Возможно, благодаря наследству Кристины Шведской Вильгельм Оранский сумел наконец вернуть долг Одескальки. Однако ему одолжили не менее 153 000 экю, да еще под проценты. Когда Помпео Аззолино продал Ливио Одескальки коллекцию Кристины, его приход составил лишь 123 000 экю. А что же остальное? Карло Одескальки, брат Иннокентия XI, почил в 1673 году. В 1680 году было ликвидировано предприятие Одескальки в Венеции; что до генуэзского филиала, то он закрылся несколькими годами ранее. Располагал ли Иннокентий XI посредником, которому можно было доверить получение первого транша долга? Поручить это своему племяннику Ливио он не мог, и не только потому, что тот был слишком на виду. Ливио был образчиком избалованного богатого отпрыска: сумрачный, непокорный, замкнутый, капризный, непостоянный, к тому же слезливый. Он любил деньги, но только если их зарабатывали для него другие. Желая подстегнуть его к продолжению рода, дядя Бенедетто оградил его от каких-либо дел. Однако, словно в отместку, Ливио так и не женился. И никогда не уезжал из Рима, чтобы взглянуть на свое венгерское владение Сирмиум, приобретенное у императора. Папа Одескальки позакрывал в Риме все театры, дабы не потакать разврату. После его смерти Ливио купил ложу в Тор ди Нона. От дяди он унаследовал возможно лишь наклонность к скупости и хитрости: когда австрийский посол в Риме просит его поменять ему несколько имперских дукатов на римские деньги, Ливио делает неловкую попытку надуть его, предложив по 40 байока[1281] за дукат (официальный курс 45). И в итоге, послушно следуя антисемитским настроениям эпохи, посол распространяет слух, что племянник Иннокентия XI делает дела «как еврей» (М. Landau. Wien, Rom, Neapel-Zur Geschichte des Kampfes zwischen Papsttum undKaisertum, Leipzig, 1884, p. 1ll, n. 1). Ливио допустил и огромный промах в отношениях с императором, пообещав выслать ссуду и солдат: 7000 человек, которым предстояло влиться в имперское войско по прибытии в Абруццкие горы. Взамен он требует титул князя империи. Как нам известно, титул он получил. Император же получил от него некую весьма скромную сумму в долг (под большие проценты), но солдат так и не дождался. Жертва ипохондрии, племянник блаженного ревниво хранит медицинские рецепты и результаты аутопсии. Своим мелким и неразборчивым почерком с навязчивой маниакальностью заносит в дневник мельчайшие симптомы своей болезни. Увлекаясь оккультизмом, ведет ночами трудоемкие алхимические опыты и поиски remedia, щедро оплачивая услуги незнакомцев (Fondo Odescalchi, XXVIIВ6; Archivio di Palazzo Odescalchi, III B6, n. 58 e 80). Когда его чувствительная натура страдает от давления на нее со стороны дяди, он по-детски мстит ему, записывая все недоброжелательные сплетни и слухи о нем (Fondo Odescalchi, Diario di Livio Odescalchi). Такой человек ни за что не выдержал бы груза тайн, компрометирующих встреч, безвозвратных решений. Чтобы получить обратно деньги от Вильгельма, он нуждается в доверенном лице, обладающем гибкостью, ловкостью, хладнокровием. У Иннокентия XI такой человек в Риме имелся. Это был банкир Франческо Паравичини, способный преданно и без шумихи служить. Он также был выходцем из семьи, близкой роду Одескальки. Его отличала компетентность настоящего делового человека, ему-то и было поручено следить за всеми сделками будущего папы: взиманием платы при покупке ломбардов, получением денег и внесением их в кассу, покрытием долгов. Уже в 1640 году Паравичини приобрел по приказу Карло Одескальки два места в секретариате канцелярии и пост президента (по цене: 12 000 экю) в пользу Бенедетто, согласно обычаю той эпохи открывавшие ему путь в церковную иерархию. Семья Паравичини пользовалась полным доверием Одескальки. Когда кардинал Бенедетто стал папой, он, не откладывая, назначил двоих Паравичини – Джованни Антонио и Филиппо, тайными казначеями апостольской палаты, уполномоченными печься о всех щедротах, которые Святой Престол либо папа соизволили бы повелеть. Однако папа отменяет должность казначея папских легаций в Форли, Ферраре, Равенне, Болонье и Авиньоне, а саму эту обязанность без каких-либо причин препоручает Паравичини (Archivio di Stato di Roma, Camerale I—Chirografi, vol. 169, 237 e 239,19 ottobre 1676 e 12 giugno 1677, e Carteggio del Tesoriere generate della Reverenda camera apostolica, anni 1673—1716. См. также: С. Nardi, I Registri del pagatorato delle soldatesche e del Tesorieri della legazione diAvignone e delcontado venaissino nell'Archivio di Stato di Roma, Roma, 1995). Стоило ли поручать Паравичини (находящимся в Риме) обязанности в отдаленном Авиньоне, где генеральный казначей должен был по преимуществу следить за рутинными расходами апостольского дворца и нескольких солдат? Интересно, что как только Иннокентий XI почил в бозе и французской оккупации Прованса пришел конец, должность авиньонского казначея вновь отошла Пьетро Дель Бьянко, представители рода которого занимали ее в течение не одного десятилетия. Глубокое доверие, питаемое папой к Джованни Антонио и Филиппо Паравичини, отмечено рядом красноречивых деталей. Когда настанет час выдать апостольским нунциям в Вене и Варшаве суммы, необходимые на борьбу с турками, папа переведет деньги в крепости Ульм, Инсбрук и Амстердам (и снова этот город!) через доверенных лиц: Реццонико и двух Паравичини. Последние были, видимо, идеальными посредниками для зачисления средств в уплату долга Вильгельма Оранского? (Fonda Odescalchi, XXII, А13, с. 440.) Речи г-на де Сен-Клемана и Бокастеля, которые передает в своих письмах Монсеньор Ченчи, позволяют догадаться, что на жителей Оранжа было наложено нечто вроде Odescalchi tax, чтобы возвращать долг папской семье. Как только средства накапливались, самым надежным было хранить их в нескольких километрах от Оранжа: может быть, в Авиньоне, где Паравичини были своими людьми. Казначей Вильгельма мог регулярно вручать посредникам папы вексель на ту или иную сумму, погашая долг. И все это в затерянном уголке Прованса, без всяких подставных лиц, банковских счетов и посторонних наблюдателей.Прочие утраченные документы
Дабы изучить документы, подтверждающие эту гипотезу, стоило порыться в казначейских бумагах, хранящихся в Государственном Архиве Рима. Из них мы узнаем, что нанятые в качестве казначеев, Паравичини тут же становятся кредиторами: вместо того чтобы платить по счетам, они получают тысячи экю, идущих в зачет. Очень интересный след. Но, к несчастью, авиньонские реестры представляют собой одну необъяснимую лакуну: в них недостает пяти лет, с 1682 по 1687 год, почти половины понтификата Иннокентия XI. Было бы полезно ознакомиться с перепиской начальника Паравичини: генерального казначея Апостольской палаты. Это помогло бы избавиться от сомнений. Ничего не поделаешь: она изъята за все годы, отделяющие 1673 год, год смерти Карло Одескальки, от 1716 года.Заключительные соображения
Во время Второй мировой войны, за несколько лет до беатификации Иннокентия XI, Секретный Архив Ватикана приобрел архивный фонд Зарлатти, содержащий документы, имеющие касательство к Одескальки и Реццонико. Фонд этот формировался ачиная с XVIII века; было бы интересно узнать, существовали ли в то время документальные следы отношений, связывающих Бенедетто Одескальки, его брата Карло и их подставных лиц в Венеции. Этого нам никогда не узнать. Ответственные служащие из Секретного Архива Ватикана сами обнаружили «странное распыление» и «очевидные изъятия», которые претерпел фонд с момента поступления в Ватикан: отсутствие порядка, нумерации (отсюда ряд документов не идентифицирован), и т. п. неувязки, делающие многое просто ненаходимым. (См. S. Pagano, Archividifamiglie romane e поп romane nell'Archivio segreto vaticano, in: Roma moderna e contemporanea, I[1282], p. 194, pp. 229—231. Отмечена также странная недостача документов in V. Salvadori[1283], Icarteggi delle biblioteche lombarde, Milano, 1986, II 191.) Нужно ли сделать отсюда вывод, что кто-то не хотел рисковать? Вероятно, в сверкающей борозде, проложенной Иоанном-Павлом II, когда он сорок лет назад, не колеблясь, признал серьезные ошибки, допущенные Церковью, и попросил прощения, был бы сделан шаг назад, если бы скрывали и даже вознаграждали за отклонения и темные дела, допущенные в своем земном творении папой Бенедетто Одескальки. Возможно, пришел час платить и по этому счету.Рита Мональди, Франческо Сорти Secretum
На самом деле все в мире – не больше чем притворство, но Господь повелел, чтобы комедия разыгрывалась именно так.Эразм Роттердамский. Похвала глупости
Констанца, 14 февраля 2041
Его превосходительству Монсиньору Алессио Танари Секретарю Конгрегации по делам Святых Ватикан
Любезный Алессио, год прошел с тех пор, как я писал Вам в последний раз, но Вы мне так и не ответили. Вы, наверное, знаете, что несколько месяцев назад меня неожиданно перевели в Румынию. Теперь я один из немногих священников, которые нашли приют в Констанце, маленьком городке на Черноморском побережье. Здесь слово «бедность» приобретает тот беспощадный и неприкрытый смысл, который оно когда-то имело и у нас. Давно нуждающиеся в ремонте дома блеклых цветов, бедно одетые дети, играющие на улицах, которые не поддаются описанию, женщины с усталыми лицами, недоверчиво выглядывающие из окон съемных жилых казарм – этого жестоко изуродованного наследия реального социализма. Нищета и уныние вокруг. Таков город, куда меня направили несколько месяцев назад, и его окрестности. Но я был призван в это место, чтобы выполнять свою миссию – заботиться о душах, и не буду уклоняться от своих обязанностей. Меня не оттолкнут ни нищета, ни печаль, наполняющие эту страну до всех ее самых отдаленных уголков. Как Вам известно, тот уголок земли, который я покинул, был совсем иным. Еще несколько месяцев назад я был епископом в Комо, милом городке на берегу озера, вдохновившем Манцони на его бессмертную прозу. Это бывшая жемчужина роскошной Ломбардии, полная свидетельств ее благородной истории, в центре которой, богатом уникальными историческими строениями, сегодня поселились бизнесмены, модельеры, футболисты и богатые шелковые фабриканты. Однако моя духовная миссия не пострадала из-за этой неожиданной перемены. Мне объявили, что во мне нуждаются здесь, в Констанце, и что благодаря моему особому призванию я мог бы наилучшим образом соответствовать духовным потребностям этой страны, лучше, чем кто-либо другой, и что перевод из Италии (о котором мне было объявлено лишь за две недели до установленного срока) не является понижением в должности и тем более – наказанием. Когда мне объявили о предстоящем изменении, я сразу выразил большое сомнение (и, как должен добавить, такое же сильное удивление), поскольку ранее никогда не выполнял свою пастырскую работу за пределами Италии, за исключением нескольких месяцев учебы во Франции в свои, теперь уже такие далекие, молодые годы. Хотя я рассматриваю титул епископа как самую лучшую из возможных вершин своей карьеры, несмотря на мой почтенный возраст, я вполне благосклонно воспринял бы новое место назначения, будь оно, например, во Франции, Испании (страны, язык которых мне не чужд) или даже в Латинской Америке. Разумеется, в любом случае речь шла бы о весьма необычном подходе, поскольку столь неожиданный перевод-епископа в далекую страну случается крайне редко, если, разумеется, он не допустил тяжелых проступков. В моем случае, как Вам, конечно, известно, таких проступков не было, но, тем не менее, именно из-за внезапного и необычного характера этого перевода некоторые прихожане из церковной общины в Комо небезосновательно почувствовали за собой право вынашивать такое подозрение. Как бы то ни было, я принял бы это назначение безропотно, как волю Господа, без предубеждения и сожаления. Однако меня отправили сюда, в Румынию, в страну, где мне все незнакомо – от языка до обычаев, от истории до мелочей повседневной жизни. Сегодня я заставляю свое усталое тело играть в футбол на приходском дворе с уличными мальчишками, чей быстрый говор я безуспешно пытаюсь понять. Мой дух истерзан – простите мне это признание – непрестанной тайной болью. Душа моя болит, однако, не из-за моей судьбы (раз на то была воля Божья, то сие надлежит принимать с благодарностью и с благостным смирением), а в связи с загадочными обстоятельствами, приведшими к этому. Обстоятельствами, о которых я испытываю потребность поведать Вам. В своем последнем письме, год назад, я представил Вашему вниманию крайне деликатное дело. Процесс канонизации преподобного Иннокентия XI Одескальки, Папы, блаженной памяти, с 1676 по 1689 год, шел полным ходом. По его воле в 1683 году под Веной произошла битва между христианскими армиями и турками. Последователи Магомета были навсегда изгнаны из Европы. Поскольку Иннокентий XI был родом из Комо, то мне выпала честь начать это дело, которое святой отец принимал очень близко к сердцу. Разгромное, имеющее историческое значение поражение мусульман произошло на рассвете 12 сентября 1683 года, когда в Нью-Йорке, учитывая сдвиг по времени, еще было 11 сентября… Теперь, сорок лет спустя после трагической атаки ислама на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, от нашего горячо любимого Папы не укрылось совпадение между этими двумя датами. По этой причине он решил канонизировать Иннокентия XI – Папу Римского, который боролся с исламом, – именно в связи с этими двумя историческими датами. Подобным жестом он хотел подкрепить христианские ценности и подчеркнуть пропасть, отделяющую Европу и весь Запад от идеалов Корана.
Когда расследование было завершено, я отправил Вам тот неизданный текст. Вы помните об этом? Это был манускрипт двух моих старых друзей, Риты и Франческо, чей следя потерял несколькими годами ранее. Их рукопись раскрывала целый ряд обстоятельств, позорящих преподобного Иннокентия. Дело в том, что на протяжении всего срока своего папства он действовал, руководствуясь низменными личными интересами. И даже если он, несомненно, стал орудием Господним, наставляя христианских правителей вести войну против турок, то в других вопросах его алчность к деньгам привела к глубочайшему оскорблению христианской морали и нанесла непоправимый ущерб католической церкви в Европе. Как Вы помните, я просил Вас представить это дело на рассмотрение его преосвященству, дабы он мог принять решение, нужно ли хранить молчание или же, как мне хотелось бы, дать Imprimatur – разрешение на публикацию манускрипта, – чтобы правда стала доступной всем. Я ожидал, честно говоря, хотя бы намека от Вас на то, что Вы получили письмо. Я полагал, что если даже опустить существеннее обстоятельства, заставившие меня писать Вам, Вы будете рады получить весточку от человека, который, в конце концов, когда-то был Вашим преподавателем в семинарии. Конечно, я понимал, что ответ придется ждать долго, возможно даже очень долго, принимая во внимание всю серьезность открытий, представленных мною его преосвященству. И все-таки я был уверен, что Вы, как принято в таких случаях, ответите мне хотя бы открыткой. Однако этого не случилось. За все эти долгие месяцы я не получил ответа ни письмом, ни по телефону, хотя исход процесса канонизации зависел от Вашего ответа, которого я так ожидал. Я воочию представлял себе, насколько основательно святому отцу нужно все обдумать, оценить и взвесить аргументы за и против. Возможно, даже дать экспертам секретное задание составить соответствующее заключение. Я смирился с ожиданием, и, поскольку в мои обязанности входило хранить секреты и поддерживать авторитет блаженнейшего, я не мог рассказать об этих открытиях никому, кроме Вас и его преосвященства. И вот однажды водном из книжных лавок Милана среди тысячи других я увидел книгу, подписанную именами моих друзей. Когда я наконец-то открыл ее, то убедился, что это – та самая книга. Но как же это могло случиться? Кто, ради всего на свете, отдал ее в печать? И уже вскоре я сказал себе: никто иной, кроме как наш Папа лично, не мог дать разрешение на публикацию этой книги. Возможно, это и была та самая имприматура, которую я ожидал от Папы, только в более обязательной и мощной форме, что опять же означало: это он сам отдал в печать рукопись Риты и Франческо. Не вызывало сомнения, что таким образом процесс канонизации преподобного Папы Иннокентия XI был остановлен навсегда. Но почему меня не поставили в известность? Почему никто не подал мне ни единого знака после публикации книги, и даже Вы, Алессио, почему Вы молчали? Я уже почти был готов снова написать Вам, когда однажды ранним утром получил письмо. Мне необычайно отчетливо помнится тот момент. Я как раз хотел идти в свой кабинет, когда секретарь вручил мне конверт. Открывая его, я разглядел в полумраке коридора вытисненный на нем папский ключ и в следующий момент уже держал в руках само содержимое конверта – письмо на листе картонной бумаги. Меня вызывали на собеседование. Бросалась в глаза срочность, указанная на открытке: через два дня, к тому же в воскресенье. Однако это было еще не так удивительно, как время собеседования (шесть часов утра) и имя того, кто меня приглашал: монсиньор Джейм Рюбеллас, статс-секретарь Ватикана. Моя встреча с кардиналом Рюбелласом проходила в очень учтивой обстановке. Сначала он осведомился о моем здоровье, затем поинтересовался делами епархии и числом кандидатов на должности священников. Потом вскользь задал вопрос о развитии процесса канонизации Иннокентия XI. Удивившись, я в свою очередь спросил: неужели он не знает о публикации книги? Он ничего не ответил, но посмотрел на меня так, будто я бросил ему вызов. И в этот момент он сообщил мне, что я срочно нужен в Констанце, а также о том, что границы Церкви с этого времени стали новыми и пасторская забота о душах в Румынии чрезвычайно слаба. Монсиньор госсекретарь поведал мне о причинах моего перевода с такой любезностью, что я почти забыл, почему именно он лично делает мне такие заявления и почему я был приглашен в такой необычной форме, словно факт собеседования следовало оберегать от разглашения. Кроме того, я забыл спросить, как долго продлится мое отсутствие в Италии. И наконец, монсиньор Рюбеллас совершенно неожиданно попросил меня хранить в глубокой тайне нашу встречу и то, о чем мы говорили. Вопросы, которые я не задал в то утро в Риме, дорогой Алессио, приходят мне в голову все чаще и чаще здесь, в Констанце, по вечерам, когда я сижу в своей комнатушке и терпеливо изучаю румынский – этот странный язык, в котором артикли стоят после существительных. Приехав сюда, я узнал, что Констанца длительное время входила в состав Римской империи и называлась тогда Томи. Затем, глянув на карту окрестностей Констанцы, я обнаружил по соседству населенный пункт со странным названием Овидиу. В этот момент у меня мелькнула тревожная догадка. Я срочно проверил ее по справочнику латинской литературы и понял, что память не подвела меня. В те времена, когда Констанца называлась еще Томи, император Август отправил туда в изгнание знаменитого поэта Овидия. Официальная причина – обвинение поэта в сочинении непристойных стихов, но на самом деле Август прогневался из-за того, что Овидию было известно слишком много тайн императорского дома. В следующие десять лет Август отклонял все прошения поэта, и Овидий в конце концов умер, так больше никогда и не увидев Рима. Теперь, любезный Алессио, я понимаю, как Вы отплатили мне за то доверие, которое я оказал Вам год назад. Мне помогло это понять изгнание в Томи – место ссылки «за литературные провинности». Церковь не давала разрешения на публикацию книги моих друзей, для всех вас она была громом среди ясного неба. И вы подумали, что за всем этим стою я, что я отдал книгу в печать. Поэтому меня и отправили сюда, в ссылку. Но вы ошибаетесь. Мне, так же как и Вам, неизвестно, как могла попасть в печать эта книга: Бог наш, quem nullum latet secretum – «кому ведомы все секреты», как молятся здесь в православных церквях, использует для своих целей также и тех, кто действует против него. Если Вы бросили взгляд на рукопись, которая прилагается к этому письму, то, наверное, уже поняли, о чем идет речь: это еще одна рукопись Риты и Франческо. Что она собой представляет – исторический документ или роман, – кто знает? У Вас будет возможность получить удовольствие лично, проверив документы, которые они также прислали мне и которые я пересылаю Вам. Естественно, Вы задаетесь вопросом, когда я получил этот напечатанный на машинке текст, откуда он был отправлен и нашел ли я в конце концов своих старых друзей. Однако на этот раз я не могу ответить на Ваши вопросы. Я уверен, что Вы отнесетесь к этому с пониманием. Я могу себе представить, что Вы удивляетесь, зачем я выслал все это Вам. Мне нетрудно представить Ваше изумление и вопросы, которые возникают у Вас: наивен ли я, безумен или следую непостижимой для Вас логике? Одно из этих трех предположений является ответом, который Вы ищете. Да вдохновит Вас Всевышний при чтении, к которому Вы приготовились. И пусть снова Он сделает Вас орудием своей Божественной воли.Лоренцо Дель Ажио, pulvis et cinis.[1284]
Достоверное и занимательное повествование о славных делах, происходивших при понтификате Иннокентия XII в Риме в 1700 году
Посвящается моему дорогому и высокочтимому господину аббату Атто Мелани
по официальной привилегии Напечатано в Риме Мишелем Эрколем MDCCII
Высокочтимый и благородный господин, С каждой минутой я все более укрепляюсь в убеждении, что Вашему высокоблагородию будет очень приятно прочесть краткий рассказ о необычайных событиях, происходивших в Риме в июле 1700 года от Рождества Христова. Благородным, достойным и высокочтимым героем упомянутых событий был верноподданный слуга Его Величества короля Франции Людовика, чьи славные деяния, пересказанные во множестве разнообразных описаний, достойны восхищения. Сие есть плод усилий обыкновенного крестьянина, однако я питаю твердую надежду на то, что острый ум Вашей светлости не испытает разочарования от творений моей грубой музы. Пусть талант невелик, зато велика добрая воля. Простите ли Вы меня за то, что я не сохранил достаточно похвал для Вас на последующих страницах? Солнце остается солнцем, даже когда его не хвалят. Я не жду иной награды, кроме обещанной Вами, и я не повторяю этого, зная, что такая добрая и щедрая душа, как Ваша, не может изменить своей собственной природе. Я желаю Вашему превосходительству многих лет жизни, а себе – надежды. Остаюсь Вашим покорным слугой. С совершенным почтением.………
7 июля лета Господня 1700, день первый
Палящее полуденное солнце высоко стояло в небе над Римом в тот самый седьмой день июля 1700 года, когда Господь наш явил мне милость, позволив заниматься тяжелым (но хорошо оплачиваемым) трудом в садах виллы Спада. Когда я оторвал взор от земли и посмотрел на горизонт через дальние, широко распахнутые в честь праздничного дня решетчатые ворота, то, наверное, первым заметил позади пажей, охранявших главные ворота, облако белой уличной пыли, предвещавшей приближение авангарда целой процессии карет. Это зрелище, которое вскоре увидели и другие слуги, из любопытства поспешившие сюда, лишь усилило радостную суматоху приготовлений к торжеству. Затем управители, уже несколько дней подряд подгонявшие слуг своими приказами, проворно вернулись за строение виллы, где их ждало много работы, и в их громких голосах появилось еще больше нетерпения; камердинеры толпами сновали вокруг, натыкаясь друг на друга, торопливо относя съестные припасы в погреба, в то время как крестьяне, разгружавшие ящики с овощами и фруктами, спешили сесть в свои повозки, оставленные возле входа для поставщиков, и громко звали своих опаздывающих жен, а те все еще искали среди служанок достойную того, чтобы доверить ей гирлянды цветов, розовых и бархатистых, как их свежие щеки. В этот момент бледные вышивальщицы подвозили дамасские ткани, занавеси и расшитые скатерти цвета слоновой кости, один вид которых ослеплял даже под палящим солнцем. Плотники заканчивали сколачивать помосты, стулья и возвышения, и эти звуки создавали странное сочетание снестройными звуками музыки: рядом с ними настраивали свои инструменты музыканты, прибывшие проверить их звучание в театре под открытым небом. Задыхаясь от жары, архитекторы теребили в руках парики и, прищурив глаза, ползали на коленях, изучая план садовой аллеи, чтобы проверить, как будет выглядеть убранство трибун. Вся эта суета была вызвана важной причиной. Через два дня кардинал Фабрицио Спада собирался праздновать свадьбу племянника и единственного наследника его огромного состояния Клементе, которому исполнился двадцать один год, с Марией Пульхерией Роччи, также тесно связанной родственными узами с одним из важных членов Святой коллегии кардиналов. Дабы достойно отпраздновать это событие, кардинал собирался устроить многодневные увеселения для приглашенных прелатов, знати и кавалеров, и все это должно было происходить на его фамильной вилле, окруженной великолепными садами и находящейся на холме Джианиколо, возле источника Аква Паола, откуда можно было наслаждаться красивой панорамой города. Дело в том, что летний зной делал виллу предпочтительнее пышного и прославленного дворца Спады в городе, на Пьяцца Капо ди Фьерро, где приглашенные не могли вкусить прелестей деревенской жизни. Естественно, праздничный прием должен был официально начаться уже в этот день, и, как и предвиделось, в полдень кареты наиболее пунктуальных гостей появились на горизонте. Ожидался приезд большого числа знатных особ и высоких духовных лиц: дипломатических представителей великих держав, членов Кардинальской коллегии, отпрысков и старшего поколения знатных благородных родов. Официальные же увеселения начинались в день венчания. К этому дню было тщательно подготовлено все, чтобы поразить публику природными и искусственными театральными эффектами. Местный растительный мир был обогащен экзотическими цветами и изделиями из папье-маше, которые бросали вызов каждому, кто попытался бы различить их в этом тысячеликом смешении, – оно казалось роскошнее золота царя Соломона и неуловимее ртути Идрии. Между тем поднятое приближающимися каретами облако пыли беззвучно – настолько силен был шум от суматохи последних приготовлений – приближалось, и когда оно появилось уже на горе, в том месте, где дорога делала крутой поворот перед воротами виллы Спада, уже можно было различить солнечные блики на блестящих украшениях карет. Первыми, как нам сообщили, должны были приехать гости, жившие далеко отсюда, с тем чтобы они могли после утомительного путешествия предаться заслуженному отдыху и несколько вечеров наслаждаться тихим покоем сельских окрестностей. Таким образом, они могли появиться на торжестве свежими, полными сил и уже соответствующе настроенными. Это, без всякого сомнения, благотворно повлияло бы на общее радостное настроение и на счастливый исход события. Что же касается гостей из Рима, то им предоставлен был выбор: тоже прибыть на виллу заранее и расположиться там или же, если не позволят дела службы и торговли, приезжать туда каждый день в полдень, а вечером возвращаться обратно в свои резиденции. Далее, после свадьбы были придуманы развлечения на много дней и вечеров вперед: за пиршествами на лоне природы, уже упомянутыми мною, следовали охота, музыка, театральные представления, игры и даже академия. А напоследок планировалось устроить фейерверк. Все эти торжества должны были продолжаться в течение недели, начиная со дня свадьбы, до пятнадцатого июля, когда на прощание гостям предполагалось оказать особую честь – повезти в город, дабы они могли посетить знаменитый роскошный дворец Спады на Пьяцца Капо ди Фьерро, где двоюродные дедушки кардинала Фабрицио, преподобный кардинал Бернардино и его брат Виргилио, за полстолетия до этого собрали богатую коллекцию прекрасных картин, книг, предметов античного искусства и прочих ценностей, не говоря уже о фресках и картинах, которые я никогда не видел, но которые, как мне известно, заставляли изумляться весь мир. Между тем появление карет на горизонте сопровождалось отдаленным грохотом колес по мостовой, но, присмотревшись, я заметил, что прибыла лишь одна-единственная карета. «Ну конечно, – сказал я себе, – благородные господа позаботились о дистанции между их кортежами, дабы каждому из них отдельно был оказан соответствующий прием и можно было избежать случайных нежелательных встреч, которые, к сожалению, зачастую имели обыкновение заканчиваться ссорами, долголетней враждой и, упаси Боже, даже кровопролитными дуэлями». В данном случае вероятность оскорблений и дуэлей была исключена благодаря усилиям церемониймейстера и дворецкого, безупречного дона Паскатио Мелькиори, – они вдвоем должны были заниматься приемом гостей, поскольку кардинал Фабрицио, как уже было сказано, был крайне занят своими обязанностями государственного секретаря. Силясь разглядеть герб, украшающий первую карету, и успев все же увидеть вдали облако пыли, поднятое остальными кадетами, я еще раз отдал должное мудрому выбору виллы Спада в качестве места празднования: после заката в садах Джианиколо всегда было свежо. Я хорошо знал это, потому что я уже давно был вхож на виллу Спада. Мое скромное крестьянское хозяйство находилось недалеко от городских ворот Сан-Панкрацио. Мне и мой жене Клоридии повезло – нам было позволено продавать слугам виллы Спада свежую зелень и чудесные плоды нашего маленького поля. А время от времени меня звали на виллу для выполнения особых работ, к примеру, если надо было добраться до труднодоступного места – залезть на крышу или в слуховое окно, чему крайне удачно способствовал мой небольшой рост. Однако меня звали и если не хватало рабочих рук, как сейчас, в преддверии праздника, когда для работы на виллу были переведены даже все слуги из дворца Спады. Впрочем, кардинал использовал эту возможность также и для того, чтобы выполнить отделочные работы во дворце, в том числе чтобы украсить альков для молодоженов фресками. И вот уже два месяца я находился под началом главного садовника и с усердием копал землю, сажал и обрезал деревья, ухаживал за растениями. Работы было немало. Владельцам виллы Спада не должно было быть стыдно за ее вид. На свободном месте перед входным порталом виллы были сделаны отдельные маленькие арки, украшенные вьющимися растениями, которые образовывали пышные спирали и, словно мягкие душистые змеи, обвивали колонны и пилястры, а дальше, протянувшись по карнизу, утончались и сливались с украшениями аркад. Подъездная дорога, в обычное время обрамленная простыми рядами виноградника, теперь проходила через два ряда прекрасных цветочных клумб. Стены всюду были покрашены в зеленый цвет, и на них были нарисованы фальшивые окна; подстриженные под мудрым руководством главного садовника зеленые лужайки ласкали взор, по ним так и хотелось походить босиком. Перед самой виллой, перед жилым помещением, гости попадали в блаженную тень и вдыхали пьянящий аромат глициний, которые обвивали перголу,[1285] опирающуюся на эфемерное строение из празднично украшенных зеленью арок. Рядом со зданием раскинулся итальянский сад, который был подвергнут новой и чудесной перепланировке. Это был так называемый giardino segreto, то есть сад, спрятанный за стенами. На его сплошной каменной ограде нарисованы были пейзажи и картины на мифологические темы: со всех сторон зрителя окружали божества, амуры и сатиры. Глазам тех, кто попадал внутрь, желая побыть в тишине и покое вдали от любопытных взоров, открывались вязы и тополя из Капокотты, вишни и сливовые деревья, изысканные сорта винограда, деревья из Болоньи и Неаполя, каштаны, дикие растения, айва, платаны, гранатовые деревья и шелковица, к тому же здесь были фонтанчики, уютные террасы и места с обманной перспективой, тысячи других аттракционов. Затем следовал hortus sanitatis, аптекарский сад, где все растения тоже были новыми и повсюду росли целебные травы для изготовления отваров, компрессов, пластырей и для удовлетворения прочих потребностей лекарского искусства. Эти растения были окружены подстриженными в виде геометрических фигур кустами шалфея и розмарина, которые наполняли воздух будоражившим чувства ароматом. С тыльной стороны здания широкая дорога вела мимо тенистой рощи к семейной часовне Спады, где должно было состояться венчание. От часовни вниз по склону холма в сторону города спускались три тропинки, образуя трезубец; первая из них вела к летнему театру (который, собственно, и строили специально для праздника), вторая – к сельскому дому (задуманному как место для ночевки сторожей, актеров, водопроводчиков и прочих подобных людей), а третья тропинка выходила к черному ходу. К фасаду виллы вела длинная аллея, обрамленная виноградными лозами (расположенная параллельно подъездной дороге, но ближе к центру виллы) и проходившая через кольцо фонтанов со скульптурами нимф и в конце концов выводившая к ухоженной лужайке, на которой были расставлены столы и скамейки для полуденной трапезы на свежем воздухе. Они были обильно украшены инкрустацией и гравюрами и укрывались в тени роскошных навесов из полосатого полотна. Ничего не ведающий гость в потрясении останавливался перед ними, пока не понимал, что это великолепие не что иное, как обрамление авансцены целого виноградника: глаза его широко раскрывались от удивления при виде рядов грозных римских бастионов и зубчатых стен, которые простирались до самого горизонта, неожиданно возникая из глубины своих тысячелетних оснований, забывшихся вечным сном. При виде столь неожиданного грандиозного зрелища глаза человека начинали хлопать от изумления, а сердце биться чаще. Среди этих щедрых красот, овеянных ароматами и волшебством, ему казалось, что весь мир создан для удовольствия и все было поэзией. Вот таким образом вилла стала большой сценой торжеств и больше не казалась маленьким и трогательным загородным домом, обычно остававшимся в тени затмевавшего его своим богатством и великолепием дворца Спады на Пьяцца Капо ди Фьерро. Теперь ей не стыдно было помериться красотой со знаменитыми дворцами шестнадцатого века, когда Джулиано де Сангалло и Бальдассаре Перуцци облагородили Рим своим искусством. В то время, как Сангалло был назначен заниматься виллой Киджи, кардинал Алидоци вызвал Перуцци для украшения своего загородного дома на Мальяне. Тогда же Джулиано Романо начал строить виллу Датарио Турини на Джианиколо, Браманте украсил своими гениальными произведениями Бельведер в Ватикане, а Рафаэль – виллу Мадам. С незапамятных времен великие люди Вечного города имели обыкновение возводить себе загородные поместья, где можно было отдохнуть от трудов и забот повседневности, пусть даже им удавалось наслаждаться сельским покоем только несколько раз в год. Нет нужды ссылаться на роскошные особняки древних римлян (воспетые многими прекрасными поэтами, от Горация до Катулла), но из книг и общения с некоторыми образованными книготорговцами (а еще больше из разговоров со старыми крестьянами, знавшими каждый виноградник и каждый сад этого города лучше кого-либо другого) мне было известно, что за последние двести лет среди римской знати вошло в моду строить себе такие «замки отдохновения» перед городскими воротами. И, таким образом, в аврелианских стенах и их ближайших окрестностях виноградники и относящиеся к ним сельские поместья, иначе говоря, сады и виллы постепенно стали преобладать над пустынными равнинами и маленькими полями. Первые загородные дома еще окружались зубчатыми стенами и башенками (их можно видеть еще и сегодня на входе вполне мирного поместья Винья Капони), что являлось наследием средневековых войн, когда дома дворян были их крепостями, однако на протяжении нескольких десятилетий стиль архитектуры поместий стал веселее и приятнее, и теперь каждый состоятельный господин желал иметь в своей собственности резиденцию с видом на виноградники, сады, фруктовые деревья, леса или холмы, поросшие пиниями. Это создавало иллюзию того, что они, не вставая с кресла, обладают и правят всем, что открывается взору. С оживленными приготовлениями к празднику в зеленом окружении виллы прекрасно сочеталась царившая в Вечном городе атмосфера веселья. Дело в том, что год 1700 от Рождества Христова, когда происходили описываемые события, был юбилейным святым годом.[1286] Со всего мира в Рим хлынули бесчисленные толпы паломников, жаждущих замолить грехи и получить милость отпущения. Поднимаясь от виа Ромеа на вершины окружающих город холмов и видя купол собора Святого Петра, верующие (именно поэтому называемые «ромеями», то есть совершающими паломничество в Рим) пели гимн лучшему из всех городов, красному от крови мучеников и белому от лилий невест Христовых. Постоялые дворы, гостиницы, хосписы и даже некоторые частные дома гостеприимно открыли двери многочисленным паломникам; по переулкам и площадям днем и ночью ходили толпы набожных людей, устремлявших свои молитвы к небу. Ночью было светло как днем от факелов религиозных братств, безостановочно шествовавших по улицам центральной части города. Среди всеобщего религиозного экстаза никого не могло напугать даже отвратительное зрелище самобичевания: щелканье кнутов, которыми аскеты-флагелланты хлестали себя по спинам с изорванной кожей, контрастировало с целомудренными песнопениями послушниц, доносившимися из прохлады монастырей. Прибыв в город наместника Христа, паломники, хотя и были измождены долгой дорогой, спешили в собор Святого Петра и лишь после долгого моления у гробницы апостола позволяли себе пару часов отдыха. На следующий день, перед тем как покинуть свои пристанища, они молились, стоя на коленях прямо на земле и устремив свои сердца к небу, крестились, размышляя о загадках жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы Девы Марии, затем, перебирая четки, читали молитву, совершали обход четырех соборов Святого города, затем шли на сорокачасовую литургию или восходили по Священной лестнице, искупая свои грехи. Таким образом, все словно находилось в полной и достойной гармонии с праздником, который отмечался со времен Бонифация VIII и приводил в Рим десятки тысяч паломников. Но все же не всё, если уж говорить правду. Сейчас это была только видимость праздника. Тревога терзала сердца верующих – его высокопреосвященство был тяжело болен. За два года до этого Папа Иннокентий XII, в миру Антоний Пиньятелли, заболел тяжелой формой подагры, которая постепенно ухудшила его самочувствие настолько, что он уже не мог с должным усердием заниматься делами. В январе этого года наступило легкое улучшение, и в феврале Иннокентий XII смог возглавить папский консисторий. Однако возраст и плохое самочувствие все же не позволяли ему открыть священную дверь. С приближением праздника все больше верующих прибывало в Рим. И Папа был огорчен тем, что не может выполнять свои святые обязанности и его должны замещать кардиналы и епископы. Таким образом, каждый день кардинал-исповедник слушал исповеди тысяч верующих. За последнюю неделю февраля состояние понтифика ухудшилось. Затем в апреле он нашел в себе силы благословить с балкона своего дворца в Монте Кавалло толпу богомольцев. В мае он посетил четыре базилики и в конце месяца принял герцога Тосканского. В середине июня его высокопреосвященство, казалось, поправился и окреп: он посетил множество церквей, а также источник Святого Петра в Монторио, неподалеку от виллы Спада. Однако всем было известно, что здоровье понтифика было в большей опасности, чем снежинка в преддверии весны, а зной летних месяцев не предвещал ничего хорошего. Люди из окружения Папы шепотом рассказывали о частых приступах слабости, о мучительных ночах, о внезапных жестоких коликах. В конце концов, говорили друг другу кардиналы, Папе уже восемьдесят пять лет. Таким образом, святой 1700 год, так счастливо открытый Папой Иннокентием XII, возможно, будет закрывать уже другой Папа – его преемник. «Ситуация небывалая, – раздумывали в Риме, – но от этого она не является невозможной». Одни предсказывали, что конклав состоится в ноябре, другие – что уже в августе. Наиболее пессимистично настроенные говорили, что летний зной подорвет последние силы Папы. Настроение папской курии (и всех римлян) было противоречивым: радость от праздничной атмосферы святого года сменялась унынием, когда приходили мрачные вести о здоровье Иннокентия XII. У меня самого в этом деле был личный интерес: до тех пор, пока его высокопреосвященство был жив, я имел честь служить, хотя и от случаю к случаю, у одного из самых уважаемых людей в Риме – высокочтимого кардинала Фабрицио Спады, государственного секретаря Его Святейшества. Я, конечно, не смею утверждать, что хорошо знал высокочтимого и добрейшего кардинала Спаду. Но о нем говорили как об очень честном и порядочном человеке, однако же в высшей мере осмотрительном и мудром. Не случайно Его Святейшество Иннокентий XII выбрал кардинала Фабрицио Спаду, чтобы тот находился при нем. Рассуждая таким образом, я решил, что грядущее празднество – не просто банкет для духовенства, скорее, это августейшее собрание кардиналов, послов, епископов, князей и других высокопоставленных лиц. И все будут в изумлении от выступлений музыкантов и комедиантов, поэтов, от ученых речей и роскошных банкетов среди зеленых кулис и сцен из папье-маше в парке виллы Спада, – от зрелища, которого не видел Рим с древних времен.* * *
Между тем я узнал герб на первой карете: это был фамильный герб Роспильози. Однако под ним висела броская кисть в цветах этой семьи, которая означала, что в карете едет высокий гость и протеже этого высокочтимого рода, но не кровный родственник. Тем временем карета направилась прямо к главным воротам. Однако меня уже не интересовало ни прибытие карет на виллу, ни открывание дверец карет, ни последовавший ритуал приема высоких гостей. Конечно, в первое время, да, я прятался за углом дома, наблюдая за толпами слуг, спешивших открыть складные ступеньки карет, чтобы помочь гостям выйти, за тем, как служанки несут корзины с фруктами – первым подношением от хозяина дома, как церемониймейстер говорит речь, которую ему обычно приходилось прерывать на середине по причине усталости новоприбывших гостей, и тому подобное. Я удалился, дабы не мешать прибытию высоких гостей своим скромным присутствием, и снова принялся за работу. Окапывая лужайки, подстригая кусты и живые изгороди, я время от времени поднимал глаза и любовался городом на семи холмах. Порывы нежного летнего бриза доносили до меня приятные звуки оркестровой репетиции. Приставив ладонь к глазам, чтобы заслониться от яркого солнца, я различал слева в поле зрения великолепный купол собора Святого Петра, а справа – более скромный, но не менее прекрасный купол церкви Сант Андреа дела Балле, в центре же высилось необычное здание собора Сант Иво алле Сапиенца. Рядом, словно согнувшись в верноподданническом поклоне, виднелся купол языческого старого Пантеона, и, наконец, в глубине стоял величественный апостольский дворец Квиринале на Монте Кавалло. Закончив один из таких недолгих перерывов, я уже хотел было снова взяться за садовый нож, чтобы продолжить обрезку молодых деревьев, как вдруг рядом со своей тенью на земле заметил еще чью-то. Я долго наблюдал за ней: она не двигалась, зато моя рука, сжимавшая садовый нож, двигалась сама собой. Острие ножа обвело контуры тени рядом с моей на песке садовой аллеи. Сутана, парик и шапочка аббата… Тут тень, будто получая удовольствие, оттого что ее разглядывают, неторопливо повернулась к солнцу, показав на песке свой профиль. Я увидел крючковатый нос, выступающий подбородок, большой рот… Рука, которая, казалось, скорее ласкала эти линии, чем рисовала их, задрожала. Сомнений у меня больше не было.* * *
Атто Мелани. Я не мог оторвать глаз от силуэта, вычерченного мною на песке, в голове проносились тысячи мыслей, туманя взгляд и разум. Аббат Мелани… для меня – синьор Атто. Атто, действительно, Атто… Тень благодушно ожидала. Сколько лет прошло с тех пор? Шестнадцать. Нет, семнадцать, подсчитывал я, пытаясь прийти в себя и обернуться. В течение нескольких секунд тысячи воспоминаний заполнили мою голову, невзирая на законы времени. Да, действительно, семнадцать лет я не получал никаких известий об Атто Мелани. «И вот он появился здесь, и его тень возвышается над моей», – снова и снова проносилось у меня в голове, пока наконец я медленно встал и повернулся. И через какое-то время мои глаза приспособились к солнечным лучам. Он стоял, опираясь на трость. За то время, которое мы не виделись, он стал меньше ростом и чуть сгорбился. Как призрак былых времен, он был одет в серо-фиолетовую льняную сутану, на голове шапочка аббата – точно так же, как тогда, при нашей первой встрече, и, очевидно, его мало волновало, что сей наряд уже давно вышел из моды. Представ перед моим изумленным и смущенным взором, аббат сказал очень лаконично, обезоруживающе светским тоном: «Я иду отдыхать, я только что прибыл. Увидимся позже. Я пришлю за тобой». И, направившись к усадьбе, он растворился в лучах света, подобно призраку. Я словно окаменел. Не знаю, как долго я простоял неподвижно посреди сада. Дыхание жизни медленно возвращалось, и я постепенно оживал, подобно холодной и белой мраморной Галатее. Затем меня неожиданно захлестнул поток любви и печали, как всякий раз за эти долгие годы, когда я вспоминал об аббате Мелани.* * *
Все письма, которые я посылал ему в Париж, поглощала черная бездна молчания. Год за годом я безуспешно осаждал почтовое отделение Франции в ожидании его ответа. И в конце концов, чтобы унять тревогу, я уже внутренне был согласен смириться с тем, что получу короткое сухое сообщение, которое представлял себе тысячу раз:«Моей печальной обязанностью является сообщить Вам о кончине господина аббата Мелани…»Но не было ничего. До того момента, когда его неожиданное появление выбило у меня почву из-под ног. Я с трудом мог поверить, что аббат Мелани, только что прибывший почетный гость Роспильози, принятый со всеми почестями на вилле кардинала Спады, первым делом нашел меня, бедного крестьянина, согнувшегося над своей лопатой. Дружба и доверие аббата Мелани победили расстояния и долгие годы. Поспешно закончив работу, я вскочил на своего мула и тотчас поехал к себе на ферму – мне не терпелось рассказать об этом событии Клоридии! «А чему здесь удивляться? – спрашивал я себя по дороге, совершенно растроганный. – Неожиданное появление – это очень в духе аббата». Однако какая буря чувств, какая зарубка на сердце! И мне, как во сне, вспомнились те ученые лекции и духовные страсти, которые открыл мне тогда аббат Мелани и в которые был втянут я сам, когда следовал за ним по его опасному пути… Но через какое-то время к радости и благодарности присоединился еще и один вопрос. Как Атто нашел меня на вилле Спада? Логичнее было бы искать меня на виа дель Орсо, в доме, где когда-то находилась локанда[1287] «Оруженосец», где я был слугой и где мы познакомились. Однако Атто, по всей видимости приглашенный кардиналом на свадьбу племянника, прибыл на виллу, как будто точно знал, что застанет меня здесь. И от кого он это узнал? Уж наверняка не от людей из виллы Спада: тут никто не знал о нашем давнем знакомстве, не говоря уже о том, что никто не обращал на меня особого внимания. Кроме того, у нас не было ни единого общего знакомого, просто семнадцать лет назад одно давнее приключение свело нас на постоялом дворе «Оруженосец». Я вкратце изложил эти необычайные события в дневнике, с тем чтобы впоследствии написать подробные мемуары, которыми я, честно говоря, очень гордился. В своем последнем письме (это была моя последняя, отчаянная попытка), отправленном несколько месяцев назад, я даже написал об этом Атто. Пока мой мул мелкой рысью пересекал поля, я погрузился в воспоминания и будто заново пережил все эти далекие удивительные события. Чума, отравления, погони по римским подземельям, битва под Веной, заговоры европейских правителей… «Я действительно блестяще рассказал обо всем этом в своих мемуарах», – думал я. Поначалу мне самому доставляло удовольствие перечитывать их бессонными ночами. Меня больше не смущало повествование о злодействах Атто, о его кощунстве, коварстве и богопротивных поступках. Мне достаточно было дойти до конца своих записей, чтобы снова взбодриться, даже почувствовать себя счастливым: любовь моей дорогой Клоридии, которая, Deo gratias,[1288] все еще была рядом со мной; заслуживающая уважения работа в поле и, наконец, мое недавнее вхождение в дом Спады. Я был никому не известный крестьянин, об удивительных приключениях которого никто и не догадывался. Да, кстати, вилла Спада… И тут, словно ужаленный тысячью скорпионов, я подстегнул мула и быстрее поскакал домой. К сожалению, я уже обо всем догадался. Клоридии дома не было. У меня перехватило дыхание, и я бросился к сундукам, где хранились все мои книги. Я поспешно опустошил их, перерыв все до самого дна. Мемуары исчезли.
* * *
«Вор, бандит, обманщик, – тихо рычал я. – А сам-то я – просто полный идиот, осел!» Какой ошибкой было писать Атто о моих мемуарах! На их страницах было слишком много секретов, слишком много доказательств предательства и подлостей, на которые был способен аббат Мелани. Как только он узнал о существовании мемуаров, то подговорил одного из своих подручных в Риме и приказал похитить их. Проникнуть в мой неохраняемый дом и обыскать все было для него, конечно же, детской забавой. Я проклинал Атто, себя самого и того или тех, кого он послал похитить мои замечательные мемуары. Но чего еще я мог ожидать от аббата Мелани? Достаточно вспомнить все, что мне было известно о его прошлых темных делах. Кастрированный певец и французский шпион – одно это достаточно говорило о нем. Его певческая карьера завершилась давным-давно. Конечно, в молодости он был знаменитым сопрано и под прикрытием своих концертов долгие годы занимался шпионажем при дворах половины европейских правителей. Он зарабатывал себе на хлеб насущный хитростью, обманом и мошенничеством. Ловушки, заговоры и убийства были его постоянными спутниками. Он мог выдать трубку в своей руке за пистолет, умолчать о правде, не солгав при этом, из чистого расчета растрогаться (и растрогать других), он владел искусством слежки и воровства и умело пользовался им. Однако же он обладал живым и ясным умом. Его знание государственных дел, насколько я помнил, включало в себя знание самых тщательно охраняемых секретов королевств и тайн королевских семей. Его беспощадная проницательность позволяла ему с легкостью ножа, режущего масло, добираться до глубин человеческой души. Блестящие глаза Атто вызывали симпатию, а красноречием он без труда завоевывал доверие собеседника. Все его достоинства, однако, служили самым гнусным и подлым целям. Когда он посвящал кого-то в свои планы, то делал это только для того, чтобы добиться расположения. Если он утверждал, что выполняет важную миссию, то при этом, естественно, не забывал о своих личных грязных интересах. «Если же он обещал кому-либо свою дружбу, – с гневом вспоминал я, – то это значило, что ему нужна услуга от этого человека, представляющаяся ему крайне выгодной». Доказательства? Полное равнодушие к своим старым друзьям. За семнадцать лет аббат Мелани ни разу не сообщил о себе. И вот теперь как ни в чем не бывало он снова властно призывает меня оказывать ему услуги… «Нет, синьор Атто, я уже не мальчик, каким был более семнадцати лет назад», – хотелось мне сказать ему, глядя прямо в глаза. Я показал бы ему, что уже стал мужчиной, кое-что понимающим в жизни, и больше не испытываю смертельного страха перед господами, а всего лишь отношусь к ним с почтением, не забывая, однако, вовремя распознать свою собственную выгоду. И хотя все до сих пор называли меня юношей из-за моего невысокого роста, я чувствовал, что давно не тот мальчик на побегушках, с которым аббат Мелани познакомился много лет назад. Нет, я не мог принять поведение аббата. И уж совсем не намеревался терпеть кражу своих мемуаров. Я бросился на кровать, чтобы отдохнуть и избавиться от горестных раздумий, однако вместо этого только беспокойно ворочался на простынях. И только сейчас я вспомнил: Клоридия предупреждала меня, что сегодня не вернется домой. Как любая хорошая акушерка, или повитуха, или obstetrix, в общем, женщина, помогающая при родах, как бы ее ни называли (а хорошей повитухой она стала благодаря многолетней практике), несколько последних дней перед partus, то есть родами, она проводила в доме роженицы. С ней вместе были мои горячо любимые цыплятки, как я называл обеих наших маленьких дочерей, которые, впрочем, были не такими и маленькими: одной было десять лет, другой – шесть, и обе уже серьезно шли по стопам своей обожаемой матери, причем не только как ее ученицы, прилежно обучающиеся этому крайне важному ремеслу, но и как помощницы, готовые в любой момент подать теплое масло и жир, полотенца, нитки и ножницы для обрезания пуповины, помочь ловко вытащить плаценту, то есть детское место, а также оказать помощь в других необходимых делах. Я начал думать о них: мои цыплятки на людях вели себя сдержанно, зато дома становились живыми и веселыми, а за мамой следовали как тени. Без них дом показался мне еще более пустым и печальным, напоминая о моем безрадостном детстве подкидыша. Прилетевшие на крыльях одиночества грустные мысли снова одолели меня. Бессонница заключила меня в свои холодные объятия, и я познал горечь супружеского ложа без утешения любви. Не прошло и часа, как я, решив не обедать из-за отсутствия аппетита, стал собираться обратно на виллу Спада, чтобы вернуться к своим обязанностям. Отдых, хотя и короткий, все же принес желанные плоды: навязчивые мысли об Атто Мелани и его внезапном возвращении, то ли полезном, то ли вредном для меня, наконец-то оставили меня. «Аббат, – подумал я, – явился как грозный дух моря, чтобы нарушить спокойное течение моей жизни. И правильно, что я сейчас пытаюсь не думать больше о нем». Он сказал, что собирается прислать за мной человека, значит, пока что я могу заняться другими вещами. Дел у меня было по горло, и я принялся за одну из тех работ, которая отвлекала меня от грустных мыслей лучше всего, а именно – стал чистить вольеры. Слуга, обычно занимавшийся чисткой, был вынужден все чаще оставаться в кровати из-за незаживающей раны на ноге, так что мне было не впервой заменять его на этой работе. Я набрал корма птицам и отправился к вольеру. Пусть читатель не удивляется, узнав, что на вилле Спада была такая диковинка, как птичий вольер. На римских виллах всегда стремились чем-то поразвлечься. Так, у кардинала Медичи в его поместье на Пинчио содержались медведи, львы и страусы, а в поместьях семейств Боргезе и Памфили свободно ходили олени и лани. И наконец, во времена Папы Леона X по садам Ватикана даже разгуливал слон по кличке Аннон. Кроме содержания зверей, существовало еще множество способов удивить и восхитить гостей: «Пэлл Мэл» (в который играли на вилле Памфили) или бочче,[1289] изредка именуемая также бильярдом, – игра на гладкой площадке, натертой мылом, или на столе, покрытом сукном, которой увлекались на вилле кавалеров Мальтийского ордена или на вилле Костагути. И был также бильярд под открытым небом, помогающий скрасить скучные летние вечера на вилле Матеи. Вольер находился в удаленном уголке поместья, между часовней и садом, за полосой деревьев и широкой изгородью, скрывавшей его из виду. Его построили именно здесь, для того чтобы зимой сюда проникало солнце, а летом была тень, чтобы птицы не были беззащитны перед капризами погоды. Вольер имел вид небольшой квадратной крепости, над четырьмя угловыми башенками и центральной частью которой возвышались купола из металлического плетения, в свою очередь увенчанные фиалами с железными флажками. С внутренней стороны стены вольера были расписаны фресками, изображающими небесный свод, и ландшафтными пейзажами, чтобы помещение казалось более просторным. Там были установлены скальные дубы и лавровые деревья, горшки с кустарниками, где птицы могли вить гнезда, а по углам стояли четыре большие поилки. В вольере жили самые разные птицы (некоторые – в отдельных клетках), и все они одинаково радовали зрение и слух. Были тут соловьи, голуби-павлины, серые и горные куропатки, турачи, фазаны, садовые овсянки, зеленушки, черные дрозды, коньки, горлицы, дубоносы и множество других птиц. Я осторожно зашел в вольер, однако сразу же вызвал среди птиц переполох. Как мне сказали, кормить птиц и ухаживать за ними должен один и тот же человек, к которому они со временем привыкают. Мое появление сильно встревожило пернатых. Я осторожно продвигался в глубь вольера, а голуби-павлины беспокойно наблюдали за мной, и целая стая мелких птиц враждебно кружилась вокруг. Я вздрогнул от страха, когда какой-то дрозд отважно опустился мне на плечо, хлопая крыльями и обмахивая ими мой затылок, как опахалом, и только чудом мне удалось избежать столкновения с нагло пикировавшим на меня турачом. – Сейчас же прекратите, а то я уйду, а вы останетесь без обеда! – пригрозил я. Однако в ответ я услышал карканье, свист и хлопанье крыльями еще громче прежнего и подвергся новой воздушной атаке, причем птицы кружились на расстоянии ладони от моей головы. Запуганный, я поспешил укрыться в углу вольера, ожидая, пока прекратится переполох. «Не гожусь я для ухода за птицами и вольерами», – подумал я. Когда наконец даже среди самых буйных пернатых воцарилось спокойствие, я принялся чистить поилки и кормушки, чтобы затем наполнить поилки свежей водой, а все кормушки – цикорием, свеклой, звездчаткой, салатом латук, семенами подорожника, зерном, просом и семенами конопли. Потом я разбросал по вольеру зелень спаржи, которая годится для постройки гнезд. Когда я раскладывал на полу куски сухого хлеба, голодный молодой турач вспрыгнул мне на руку и попытался утащить добычу – лакомый хлебный мякиш – из-под носа у других птиц. Я почистил еще и насесты, подмел с пола птичий помет и наконец вышел, довольный, что покидаю вольер, с его вонью и беспорядком. Я как раз хотел закрыть дверь, как вдруг душа моя, что называется, ушла от страха в пятки. Рядом раздался выстрел из пистолета. Мимо меня просвистела пуля. Кто-то стрелял в меня. Я съежился и прикрыл голову. И в этот момент я услышал суровый громкий голос, несомненно обращенный ко мне: – Держите его! Он вор! Я невольно вскинул руки вверх, будто сдаваясь. Затем обернулся, но не увидел никого. И только потом хлопнул себя по лбу, досадуя на плохую память. Подняв глаза, я увидел его на обычном месте. – Очень смешно, – проговорил я, запирая дверь и стараясь не показать, как был напуган. – Хватайте его! Я сказал, он вор! Буум! Так этим вторым выстрелом, еще больше похожим на настоящий, возвестило о себе самое странное создание из всех живущих на вилле Спада: попугай Цезарь Август. Вот тут как раз будет уместно объяснить поведение этого странного существа, которое сыграет важную роль в дальнейшем развитии событий. Я знал, что многие называют попугая за его таланты «гением среди птиц», «властелином Восточной Индии» и другими подобными именами, потому что самые первые из них, преподнесенные Александру Великому, были привезены с острова Тапробана, а впоследствии попугаи были обнаружены в Западной Индии, даже на Кубе и Манакапане. Кроме того, всем известно, что попугаи (разновидностей которых, по мнению специалистов, насчитывается больше сотни) обладают необычайной способностью имитировать не только человеческий голос, но и различные шумы, звуки и многое другое. Таким умением много лет назад обладали попугай его преосвященства кардинала Мадруццо, а также попугай кавалера Кассианодель Поццо, причем последний не очень удачно подражал человеческому голосу, но зато превосходно изображал собачий лай и кошачье мяуканье. Некоторые попугаи очень хорошо умели имитировать пение самых разных птиц. За пределами Папского государства еще помнят о попугае его высочества Савойского: по словам многочисленных свидетелей, птица отличалась умением говорить очень быстро и отчетливо. Утверждают, что попугай кардинала Колонны мог прочесть наизусть все Credo.[1290] И наконец, в поместье Барберини, чей дом соседствовал с виллой Спада, недавно привезли желто-белого попугая той же породы, что и Цезарь Август, который тоже умел хорошо разговаривать. Цезарь Август, однако, далеко превосходил других попугаев. Он великолепно подражал человеческому голосу, даже если мало знал его обладателя, и его манеру разговаривать. Попугай передавал все оттенки, интонации, акцент и даже легкие ошибки в произношении. Он воспроизводил звуки природы, такие как раскат грома, журчание родника, шелест листьев на деревьях, вой ветра и даже плеск морских волн. Не менее искусно он имитировал также собачий лай, кошачье мяуканье, коровье мычание, крик осла, лошадиное ржание, естественно, голоса всех птиц и, должно быть, прочие звуки, которые издают другие животные, но которых я от него еще не слышал. Очень правдоподобно получалось у него скрипение дверных петель, звук приближающихся шагов, выстрелы из пистолета и аркебузы, перезвон колоколов, топот лошадиных копыт, громкое хлопанье двери, крики уличных торговцев, детский плач, лязг скрещивающихся на дуэли шпаг, все оттенки смеха и плача, стук ножей и вилок, громыхание посуды, звон бокалов и многое другое. Казалось, для Цезаря Августа весь мир – это сплошной полигон для тренировок, где он может день за днем совершенствовать свой необычайный, неописуемый и непревзойденный талант имитировать звуки. Одаренный потрясающей памятью, Цезарь Август был способен повторять звуки и голоса, услышанные им несколько недель назад, причем в этом умении даже затмевал человеческие способности. Никто не знал, сколько ему лет: одни утверждали, что пятьдесят, другие настаивали, что ему уже за семьдесят. На самом же деле могло быть и то и другое, поскольку известно, что попугаи живут долго, иногда больше века, переживая своих хозяев. Исключительный талант Цезаря Августа, который, несомненно, мог бы сделать его самым знаменитым попугаем всех времен, имел, однако, свои пределы: попугай с виллы Спада с некоторых времен отказывался демонстрировать свои таланты. Короче говоря, он притворялся немым. Все просьбы, мольбы, увещевания и даже жестокое голодание, которому подвергли попугая по личному приказанию кардинала Спады, дабы заставить его проявить себя, ни к чему не привели. И ничего не помогало: много-много лет (никто уже и не помнил, с каких пор) Цезарь Август хранил упорное молчание. Конечно же, никто не знал причин этого явления. Некоторые люди еще помнили, что сначала Цезарь Август принадлежал отцу кардинала, Виргилио Спаде, дяде кардинала Фабрицио, умершему сорок лет назад. Виргилио любил коллекционировать предметы античности и древней классики, посему и дал попугаю имя самого известного римского императора. Это было своего рода доказательством любви: поговаривали, что Виргилио был очень привязан к своей птице, и слуги шептались о том, что смерть хозяина повергла Цезаря Августа в глубокую печаль. Нежели тоска заставила птицу замолчать? Действительно, попугай словно дал обет молчания, тщетно надеясь, что его старый хозяин Виргилио Спада воскреснет. Но я знал, что это не так. Цезарь Август разговаривал, и я был тому свидетелем, по правде говоря, единственным. Дело в том, что попугай открывал клюв только в моем присутствии. Причину я не понимал, однако предполагал, что он испытывал ко мне особую привязанность, потому что я был единственным человеком, кто обращался с ним вежливо и, в отличие от остальной прислуги виллы Спада, никогда не дразнил веточками и не бросал в него камешками, чтобы вынудить заговорить. Правда, я пытался заставить его говорить в присутствии других, убеждая их, что всего несколько минут назад, наедине со мной, Цезарь запросто делал это. Однако попугай смотрел отсутствующим взором на окружающих людей и молчал. Таким образом он пару раз выставил меня дураком, из-за чего вскоре мне вовсе перестали верить: меня хлопали по плечу, успокаивая, что попугай никогда не говорил и уж наверняка не заговорит. Со временем старые слуги виллы Спада умирали и память о прежних геройствах попугая исчезала. Отныне, наверное, только я знал, на что способна эта большая белая птица с желтым гребешком. И вот именно сегодня это пернатое для разнообразия напомнило о себе. Я даже испугался, настолько настоящими были звуки выстрелов и голос одного из многочисленных сбиров,[1291] которого Цезарь Август наверняка слышал на улицах Рима. Невозможно было только понять, где он мог услышать эти звуки. Дело в том, что Цезарь Август с давних пор пользовался особой привилегией: он не делил жилье с другими птицами, а жил в собственном маленьком вольере, оборудованном поилкой и кормушкой. Отсюда он зачастую улетал, куда хотел, иногда просто для того, чтобы изучить окрестности виллы, а иногда, чтобы исчезнуть на несколько недель в неизвестном направлении. Во время таких прогулок в город он обогащал свой репертуар имитаций новыми произведениями, удивленным слушателем которых в конце концов оказывался только я. «Dona nobis bodie panem cotidianum», – три или четыре раза кряду пропел Цезарь Август отрывок из «Pater Noster».[1292] – Я ведь тысячу раз просил тебя не богохульствовать, – проворчал я, – а то… Ага, я понял, чего ты хочешь. Ты прав. Действительно, я дал корм и налил свежей воды всем птицам, кроме Цезаря Августа. Его гордость была уязвлена, и это было еще не все. Надо сказать, что Цезарь Август отличался завидным аппетитом и ел все: хлеб, творог, суп (особенно если суп был с вином), каштаны, орехи, ягоды, яблоки, груши, вишни и многое другое. Однако его страстью, присущей скорее аристократу, нежели птице, был шоколад. Когда время от времени после празднеств на вилле Спада оставалось пару капель шоколада, ему позволяли окунуть свой клюв и черный язычок в этот драгоценный экзотический напиток. Он так любил его, что могднями ластиться ко мне (забыв про свой невыносимый характер), только бы я дал ему хоть ложечку шоколада. Я как раз поменял ему воду и наполнил кормушку фруктами и семенами, когда за моей спиной раздался звук поспешно приближающихся шагов. – Мальчик, ты до сих пор здесь? – спросил меня один из гофмейстеров. – Там тебя кое-кто ищет. Он ждет тебя у подножия лестницы с задней стороны дома.* * *
– Ну-ну, не плачь, ты ведь знаешь, что рано или поздно мы все равно еще встретились бы. Атто Мелани – человек твердый! – воскликнул Атто, взяв меня за руки и по-дружески встряхнув. – Но я не плачу вовсе, вы же… – Тихо, тихо, не надо ничего говорить, я навел о тебе справки, у тебя две чудесные дочки, как трогательно! Как их зовут? – прошептал он мне на ухо, с нежностью обняв и погладив по голове. Пара молодых крестьянок оторопело наблюдала за этой сценой. – Какой сюрприз, ты стал отцом, – как ни в чем ни бывало продолжал аббат. – Глядя на тебя, этого не скажешь, ты совсем не изменился… Услышав это замечание, о котором нельзя было сказать, комплимент это или оскорбление, я наконец с большим трудом освободился от железных объятий Атто и отступил на шаг. Я так устал, словно мне пришлось защищаться от нападения. Меня терзали сомнения: аббат выглядел так, будто его укусил тарантул. В действительности я хорошо видел, что треугольные маленькие глаза аббата внимательно рассматривали меня, пока я шел к нему, так что сердитое выражение моего лица и нахмуренный лоб не остались им незамеченными, поэтому он тут же изменил тактику, превратившись в эдакого болтливого старика, обрушившего на меня шквал объятий и поцелуев. Он сделал вид, будто не замечает моей холодной сдержанности, и, взяв под руку, повел на прогулку по садам виллы. – Итак, мой милый, рассказывай обо всем, что с тобой приключилось, – доверительно сказал аббат тихим голосом, пока мы сворачивали в аллею белых акаций, по которой взад и вперед сновали садовники, добавляя последние штрихи в ее украшение. – Собственно, вы уже, очевидно, имеете обо всем точные сведения, синьор Атто… – решился возразить я, подразумевая кражу мемуаров, где я достаточно подробно описал все последние события. – Знаю, знаю, – по-отечески прервал меня аббат, остановившись и восхищенно рассматривая фонтан виллы Спада, превращенный в шедевр прекрасной эфемерной архитектуры. Вместо привычного скромного бассейна, в центре которого из большой каменной шишки пинии била струя воды, теперь посреди водоема возвышался грандиозный извивающийся морской бог Тритон – его хвост опирался на скалу в форме пирамиды, а сам он мощно дул в пузатую амфору. Причудливая струя воды высоко взлетала из нее, чтобы раскрыться вверху в виде зонта и с мелодичным плеском опять рассыпаться брызгами у ног своего создателя. Вокруг этого приюта нимф, дополняя очаровательный спектакль, по зеркальной глади воды скользили водяные растения, украшенные белыми полуоткрытыми цветами. Атто рассматривал морское божество и прекрасный фонтан с удивлением и восхищением. – Красивый фонтан, – заметил он. – Тритон сделан весьма изящно, да и искусственные скалы великолепны. Я знаю, что на вилле д'Эсте в Тиволи раньше был водяной орган, подражания которому немедленно появились не только в садах Квиринала и на вилле Альдобрандини во Фраскати, но и во Франции по приказу короля Франциска I. Этот орган производит звуки трубы и даже птичье пение. Надо только подуть в тонкие металлические трубки, торчащие в керамических кувшинах, спрятанных внутри нимф и наполовину заполненных водой. Он обошел вокруг фонтана. Я не пошел за ним. Атто остановился с другой стороны водоема, пристально разглядывая меня через струи воды, затем вернулся ко мне. – Встреча со старым другом, которого ты считал умершим, может смутить не только сердце, но и разум, – снова начал он. – Сам увидишь, со временем мы сможем относиться друг к другу по-прежнему. – Со временем? Как долго вы собираетесь быть в Риме? – спросил я, обеспокоенный перспективой оказаться замешанным в его темные дела. Атто молчал. Он наблюдал за мной из-под полуприкрытых век, потом перевел взгляд на фонтан, а затем устремил его к горизонту, словно взвешивая свой ответ. Таким образом, у меня в первый раз появилась возможность рассмотреть Мелани вблизи. Я увидел мягкие обвисшие щеки, складки кожи на лбу и носу, морщины, обезобразившие губы и уголки рта, проступающие на висках голубоватые жилки, до сих пор живые, но маленькие и глубоко запавшие глаза с пожелтевшими белками и шею, которую жестокий скальпель времени отметил беспощаднее, чем что-либо другое. Вместо того чтобы смягчить приметы возраста, толстый слой свинцовых белил на лице почти превратил Атто в жалкое подобие призрака. Кисти его рук, лишь частично скрытые кружевами манжет, были усеяны пятнами, а пальцы – узловатыми и скрюченными. Семнадцать лет назад аббат был человеком в возрасте, но по-прежнему крепким и полным сил. Сегодня же передо мной стоял глубокий старик. Как будто не замечая моего взгляда, безжалостно изучавшего его распад, Атто, поглощенный созерцанием синего неба, помолчал некоторое время, опираясь одной рукой на мое плечо. Он вдруг показался мне чудовищно уставшим. – Долго ли я пробуду в Риме? – переспросил он безразличным тоном. – Проклятие, действительно, я должен это решить… Казалось, что он впал в детство. За это время мы дошли до перголы с глициниями. Из тени повеяло освежающей прохладой, взбодрившей нас. Этот июль был очень жарким, а ночи почти не приносили облегчения от дневной жары. – Слава Богу, здесь есть хоть небольшая тень, – вздохнул Атто, садясь на скамейку и вытирая лоб белоснежным шелковым кружевным платком. Затем он поднялся, нагнулся к одной из глициний и сорвал ее. Снова усевшись на скамейку, аббат вдохнул ее аромат. Вдруг он отпустил мне легкую затрещину и весело сказал: – Чудесно, ты задаешь те же глупые вопросы, что и прежде! Ах, как здорово встретить старых друзей, которые совсем не изменились, это действительно ценно! Сколько я собираюсь пробыть в Риме? Но, мой мальчик, ответ же очевиден: я останусь здесь, на вилле Спада, как ты себе можешь представить, на всю неделю празднеств. Но из Рима я не уеду до конклава! А теперь идем, и больше никаких вопросов! – закончил он, молодцевато поднимаясь на ноги и беря меня под руку. «Что за дьявол этот Мелани! – подумал я с раздражением и восхищением одновременно. – Еще пару минут назад он казался растерянным, а сейчас снова вертлявый и скользкий, как угорь! Рядом с ним невозможно понять, где правда, а где ложь». – Синьор Атто, – обратился я к нему, повысив голос. – Я никогда не решился бы относиться к вам с неподобающим уважением. Однако мне было нанесено одно из самых тяжких за всю мою жизнь оскорблений и поэтому… – О, как это ужасно! И что? – перебил аббат, нюхая цветок и барабаня пальцами по набалдашнику трости. – Я стал жертвой воровства. Понимаете? Меня об-во-ро-ва-ли, – произнес я по слогам, и моя еле сдерживаемая ярость разгорелась снова. – Что ж, утешься, – самодовольно ответил Атто, – со мной это тоже случалось. Помню, около тридцати лет назад в монастыре капуцинов на Монте Кавалло у меня украли три золотых кольца, украшенных геммами, и, кроме того, бриллиант в форме сердца, книгу с золотым окладом с ляпис-лазурью, рубинами и бирюзой, мантию из французского камлота, перчатки, веера, пастилки для горла и благовоний, а также испанский воск… И тут я вскричал: – Довольно, синьор Атто! Не притворяйтесь, будто вы не знаете, о чем я говорю: вы взяли мои мемуары – рассказ о событиях, случившихся семнадцать лет назад, когда мы познакомились! Вы единственный, кому я доверился, только вам было известно о существовании этих записей! И как же вы отблагодарили меня? Вы оставили меня в дураках! Атто невозмутимо слушал меня. Он бережно положил цветок глицинии на живую изгородь и продолжал барабанить пальцами по серебряному набалдашнику своей трости, пока я выходил из себя. – Вы ни разу не вспомнили обо мне! А я все это время писал вам, и оплакивал вас, и умолял ответить мне! Вас интересовало только одно: что кто-то может прочесть мои мемуары и узнать вашу истинную натуру, узнать, что вы – интриган, вытягивающий секреты у честных людей, предающий своих друзей, готовый на все, что вы, короче говоря… ничем не брезгуете. Задыхаясь от волнения, я смахнул ладонью пот со лба. Атто двумя пальцами протянул мне свой кружевной носовой платок, и я был вынужден взять его. Я чувствовал себя совершенно разбитым. – Ты все сказал? – спросил аббат холодным голосом. – Я… В общем, я возмущен. Я хочу, чтобы мне вернули мои мемуары, – пробормотал я, проклиная себя в душе за то, что выгляжу таким же бессовестным юношей, каким был семнадцать лет назад, тем более что сейчас-то я был уже в том возрасте, когда не пристало вести себя подобно зеленому юнцу. – О, об этом не может быть и речи. Сейчас твои записи в безопасности. Я тщательно спрятал их в Париже, пока не будет дано разрешение на публикацию. – Итак, вы признаете это: вы – вор. – Вор, вор, – произнес он нараспев. – Ты слишком склонен бросаться крепкими словами. С пером, однако, ты обращаешься намного искуснее: я получил некоторое удовольствие от чтения твоего рассказа. Правда, ты зашел слишком далеко и написал о паре мелочей, способных очернить меня. И потом, ты и вправду простак! Писать такие вещи про аббата, а потом еще и говорить ему об этом… – Действительно, теперь я и сам это понял, – согласился я. – Как я уже говорил, чтение твоего произведения не расстроило меня. Некоторые места, как мне кажется, получились даже очень удачными. У тебя легкий стиль, пусть иногда и несколько наивный, но не скучный. Кто знает, может, это когда-то принесет тебе пользу. Жаль, что ты умолчал о том, что стал отцом, я был бы рад узнать об этом… но я понимаю тебя: сияющей утренней заре нового времени, каким представляется каждому отцу рождение его ребенка, не место в этой старой мрачной истории. Я хранил враждебное молчание, дабы он понял, что я все еще не намерен рассказывать ему о своих дочурках. – Наверное, в эти годы ты читал книги, газеты, кое-какие стихи, – сменил он тему, будто пытаясь меня разговорить. – Действительно, синьор Атто, – подтвердил я, – я люблю покупать и читать книги по истории, политике, теологии, так же как жития святых. Что касается поэтов, мне нравятся Чиабрера, Ачиллини, Филикайя. Газеты – нет, я их не читаю. – Очень хорошо. Тогда ты именно тот, кто мне нужен. – А зачем? – Ты показывал свои мемуары кому-нибудь? – Нет. – Существуют ли их копии? – Нет, у меня никогда не было времени сделать копию. Почему вы задаете мне эти вопросы? – Тысяча тебя устроит? – сухо ответил он. – Я не понимаю, что вы хотите сказать, – сказал я, начиная, однако, догадываться. – Решено. Тысяча двести скудо римскими монетами. Но ни одним больше! И у мемуаров должен быть второй том. Вот так и получилось, что аббат Атто Мелани купил мемуары, в которых было описано наше знакомство и изложены все последующие события. За эту сумму он авансом приобрел второй том моих мемуаров, или, скорее, дневник, где будет рассказано о его пребывании на вилле Спада. – На вилле Спада? – удивленно воскликнул я, когда мы продолжили нашу прогулку. – Точно. Твой хозяин – государственный секретарь Ватикана, а скоро начнется конклав. Уж не думаешь ли ты, что весь цвет римской аристократии, представители высшего духовенства, не говоря уже о послах других стран, собрались здесь лишь для веселья? Шахматная партия конклава уже началась, мой мальчик. И, будь уверен, важные фигуры будут разыграны здесь, на вилле Спада. – А вы, как я себе представляю, конечно же, не собираетесь упустить ни малейшего из этих ходов. – Конклав – часть моей деятельности, – изрек аббат без лишней скромности. – Не забывай, что прославленный род Роспильози из Пистойи, гостем которого я имею удовольствие являться, обязан мне честью быть в родстве с Папой. Еще семнадцать лет назад я слышал, как Атто хвастался, что решающим образом поспособствовал избранию Папы Климента IX Роспильози.– Итак, сын мой, – заключил Мелани, – ты составишь для меня хронологическое описание событий на вилле, подробно напишешь обо всем, что увидишь и услышишь за эти дни, и добавишь в эту хронологию пару приятных уместных деталей, которые я тебе подскажу. Затем ты передашь мне рукопись из рук в руки, не оставив себе копии, и не запишешь ее содержания позже. Таков наш договор. Пока на этом все. Я пребывал в нерешительности. – Ты недоволен? Не будь писателей, люди и их деяния умирали бы в один день, и все их добродетели были бы похоронены вместе с ними: однако память о них, живущая в книгах, не умрет никогда! – добавил аббат возвышенной прозой и сладким голосом, дабы польстить мне. «Он не так уж и не прав», – подумал я, слушая его разглагольствования. – Аназарх, очень мудрый и ученый философ, сказал когда-то, что самая большая честь для человека – быть известным миру как человек, который превосходно владеет своим ремеслом. И если есть миллион одаренных людей одной профессии, то лишь те достойны похвалы, кто по мере возможности прилагает усилия к собственному признанию, и их имя вовеки не забудется. Если я правильно понял, аббат Мелани хотел, чтобы я стал своего рода биографом, который опишет его грядущие подвиги. «Это верный признак того, что он таки намеревается совершить множество подвигов», – с беспокойством подумал я, слишком хорошо помня дерзкий и бесстрашный характер аббата и его любовь к приключениям. – Посему, с учетом оного… – с важной миной торжественно продолжал Атто, – в молодости я посвятил себя учебе, чтобы позже, став взрослым, применить знания на практике, а сейчас я ставлю все на то, чтобы мир уважал меня. И поскольку я словами, советами и делами оказывал услуги многим принцам и благородным господам, составлял для них квалифицированные отчеты в области искусства дипломатии, то велико число тех, кто прибегал и прибегает к моим услугам. «Правда, не всем это пошло на пользу», – с иронией прокомментировал я про себя, вспоминая легкость, с которой Атто Мелани менял хозяев. – И в подтверждение своих слов, – выразительно произнес Атто, будто угадав мои мысли, – я продиктую тебе множество примеров для мемуаров. И те, кто это прочтут, извлекут большую пользу для себя, поскольку речь идет о делах очень интересных и важных.
* * *
Поскольку я растил двух девочек, такое количество денег было для нас с Клоридией неслыханным благословением. Поэтому я более не мешкал и принял предложение Атто купить у меня то, что он все равно уже украл, к тому же я очень хорошо понимал: мне никогда не получить обратно своих мемуаров. – Только одно, синьор Атто, – наконец сказал я ему, – я не уверен, что мое перо достойно служить вам в качестве летописца. На самом деле у меня мороз пробегал по коже при мысли, что, возможно, когда-то дворяне и знатные господа будут держать в руках написанное мною. Атто понял меня. – Ты боишься читателей. Из этой боязни ты готов и дальше вести жизнь обычного крестьянина, или я не прав? – спросил он и остановился, чтобы сорвать сливу. Я молча согласился с ним. – Значит, в предисловии к своему манускрипту ты напишешь не «к благосклонному читателю», а «к злому читателю». – И что это значит? Мелани вздохнул и, полируя сливу кружевным платком, продолжил давать мне наставления, делая это учительским тоном и со снисходительной улыбкой всезнайки на лице: – Да будет тебе известно, что много лет назад, отдавая в печать некоторые свои работы, я тоже следовал распространенному и вульгарному правилу обращаться к благосклонному читателю с извинениями за ошибки, которые по вине автора могли появиться в произведении. Однако теперь, набравшись некоторого опыта, я придерживаюсь мнения, что благосклонные, преисполненные благожелательности читатели, старательно читая чужие творения, всегда найдут в них хорошее, конечно, при условии наличия оного; а ежели даже не найдут, то утешат себя мыслию о том, что автор хотел, как лучше. Ergo,[1293] я пришел к убеждению, что предисловие книги надлежит посвятить злонамеренным и склочным читателям, с настолько тонким чутьем, что они выходят из себя по поводу малейшей ошибки. Надкусив сливу, он остановился, изучая мой отсутствующий взгляд. – Этим людям, всюду сующим свой нос, nasuti, как их ругали в Риме, что в переводе с латыни значит люди, полные сарказма, этим насмешникам и клеветникам, для которых каждая книга кажется излишеством, каждое произведение – далеким от совершенства, каждое понятие – ошибочным, а все усилия – напрасными, я отвечаю, что прямо-таки жажду, чтобы они не читали моих книг и не обращали на них внимания, ибо чем меньше они будут нравиться им, тем больше будут нравиться другим. Ты знаешь, что я отвечаю, когда один из таких неудачников докучает мне своими ядовитыми замечаниями? Я вопросительно посмотрел на аббата. – Я отвечаю: господин, если мое произведение кажется вам не в меру длинным, прочтите только половину; если вы считаете его слишком коротким, напишите продолжение; если оно чересчур простое, утешьтесь, говоря себе, что вам не составило особого труда его понять, если же оно непонятно, делайте пометки на полях; если его предмет и стиль слишком приземленные, тем лучше, потому что, потерпев крах, такой опус пострадает гораздо меньше, чем если бы он упал с большой высоты. Аббат завершил свою сентенцию, выплюнув сливовую косточку с таким пылом, будто это было перо одного из критиков. Я подивился его мудрости: «У аббата Мелани, – подумал я, – всегда можно чему-то научиться». – Я никогда не читал ваших трудов, синьор Атто, но с уверенностью должен сказать, что если и можно что-то утверждать по их поводу, то в худшем случае только то, что они слишком ученые, – польстил я ему. – Не беспокойся, – без тени стеснения сказал аббат, жуя новую сливу, – то, что труды слишком ученые, не станет утверждать, пожалуй, никто, поскольку это было бы уже похвалой, а природа этих воронов слишком враждебна похвале, посему хвалить они не станут даже по ошибке. В лучшем случае скажут: «Этот человек использовал чужие труды». Честно говоря, они правы. Однако же я пользовался их трудами весьма скромно, всегда упоминая авторов и воздавая им хвалу достойным образом. Вот почему я считаю непростительным тот факт, что Аристотель многое взял из работ Гиппократа, не сославшись на него ни единого раза. – С вашего позволения, – скромно обронил я, обуреваемый, однако, желанием показать Атто, что я уже давно не тот невежественный домашний слуга, каким был когда-то, а человек, успевший усвоить многие знания, – этим критиканам надлежит ответить так, как ответил святой Иероним своим клеветникам в предисловии к «Евангелию от Матфея» и в Четвертой книге Иеремии. Он извинился за то, что при составлении своих книг пользовался работами Оригена, пояснив, что заслуживает не порицания, а похвалы, поскольку так поступали все античные авторы. И если использование трудов других авторов считать кражей, то что же тогда говорить о Эниусе, Цецилии, Платоне, Цицероне и Вергилии? И что же тогда сказать про Иллариона, который заимствовал для своих книг восемь тысяч стихов из восточной поэзии? Аббат улыбнулся, глядя на меня со смесью удивления и восхищения, почти по-отечески гордясь моей речью, затем нагнулся к фонтану, чтобы утолить жажду. – И если об этом поразмыслить, – продолжил я, распираемый тщеславием, – в вашем обращении к склочному читателю даже нет необходимости, поскольку существует одна очень старая пословица, гласящая: нет для достойного мужа большего несчастья, чем похвала, произнесенная плохими людьми, и большей чести, чем их ненависть и упреки. – О, я высоко ценю поправку, от всей души, – поспешил уточнить аббат, любуясь вишневым деревом, росшим недалеко от нас. – Но я смертельно ненавижу клевету. Когда мне говорят о моих ошибках, я, будучи философом, делаю критика своим учителем и, как христианин, вижу в нем своего брата, потому что он исполняет долг милосердия ко мне. Но помни всегда, сын мой, не стоит терпеть тех невежд, которые, едва сумев прочесть чьи-то произведения, бегло просмотрев их названия и рисунки, сразу же морщат свой кривой нос и дают им презрительные названия, какие только позволяет им их дремучая тупость. И если такой человек с грехом пополам умеет писать, в его рукописях нет ничего, кроме хулы в одном месте и порицания – в другом. И это заходит так далеко, – заключил он, смеясь, – что хочется спросить такого человека: какой правитель дал ему привилегию всеобщей цензуры? Извини, пожалуйста, ты не мог бы сорвать для меня вон те вишни наверху? – Вы совершенно правы, – ответил я, восхищаясь острым умом аббата, и начал карабкаться на дерево. – Несомненно, полезно обсуждать спорные вопросы, чтобы найти истину, но лучше делать это со скромностью, которую приобретает человек, знающий философию и христианское учение. – Без всякого сомнения, деликатные и умеренные исправления – дело святое, – добавил, воодушевившись, Атто, – и ни один литератор, каким бы великим он ни был, не должен от них отказываться, ибо не существует человека настолько совершенного, чтобы не быть обманутым своим собственным знанием. Евангелисты, апостолы, пророки и святые отцы писали, руководствуясь Божьим вдохновением, поэтому они писали правду; но те, кто взял в руки перо после них, все допускают ошибки – одни больше, другие меньше. Все же истинна пословица: тому, кто бьет больного, вместо того чтобы лечить его, лучше подрядиться работать палачом, чем лекарем. Я уже приготовился дать ответ, слезая с дерева, дабы сделать свой ход в этом странном риторическом диспуте, начатом нами во фруктовом саду, когда Атто остановил меня: – Оставим этот разговор, сын мой, ибо мысль скоро склоняется к надменности. Смирение – вот то, в чем нам надлежит упражняться, отнюдь не высокомерие. Труды человеческие несовершенны из-за скудности нашего разума, и порицаемы они потому, что живем мы в несчастливое время. Пусть то, в чем я тебя наставлял сейчас, пойдет тебе на пользу, дабы будущие твои произведения не оказались беззащитными перед клеветниками и не были опозорены. Да будет угодно Господу нашему дать нам милость понимать и исправлять наши ошибки, как и другим не порицать то, что было сделано с благими намерениями; и да не разгневается Господь наш на нас и на других за наши и их промахи. Сказав это, аббат жестом предложил мне полакомиться вишнями вместе с ним. Я ел ягоды, испытывая раскаяние и одновременно признательность к аббату за напоминание о необходимости смирения как раз в тот момент, когда я уже был близок к пустому чванству. Разве не сказано в Евангелии: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие небесное»? Через некоторое время Мелани бросил на меня удовлетворенный взгляд и, не говоря ни слова, протянул мне вексель к ростовщику. Я нерешительно взял его. Сделка состоялась: я продался Атто для оказания ему некоторого рода литературных услуг, ценой чего (как это уже часто бывало, когда перо становилось средством добывания денег) становилось мое полное подчинение ему. Кисло-сладкая мякоть вишни растворилась во рту, и вот так я, разрываясь между любовью, отвращением и жадностью, уже попал к аббату в услужение.* * *
Между тем мы отправились в обратный путь к дому и увидели перед ним множество карет с новыми гостями. В довершение ко всему настало то, чего следовало опасаться: гости из Рима также прибыли на праздник на два дня раньше, чем ожидалось. А поскольку банкеты начинались уже с сегодняшнего вечера, то ни у кого (включая Атто) не хватило ни терпения, ни приличия дождаться официального начала празднеств. Атто, казалось, пристально изучал гербы на каретах, возможно, чтобы узнать, кто во время этой праздничной недели разделит с ним великолепное гостеприимство семьи Спады. – Я слышал, как один слуга твоего господина сказал, что дон Ливио Одескальки и маркиза Серлупи скоро тоже приедут. Подожди, – проговорил Атто, увлекая меня за собой и разглядывая кареты на расстоянии, позволяющем узнавать других, оставаясь неузнанным самому. – Там, мне кажется, знакомое лицо… Нуда, это же монсиньор д’Асте, – прошептал аббат, когда мы увидели выходящего из кареты седовласого иссохшего старика, почти утонувшего в своем кардинальском одеянии. – Он настолько маленький, незаметный и хилый, что его святейшество называет его «монсиньором Тряпочкой», – ехидно захихикал аббат„демонстрируя знание всех последних римских сплетен. – Там позади поднялась большая суматоха среди лакеев, – продолжал сообщать он мне. – Наверное, приехал кто-то из семьи Барберини или из семьи Колонны и решил чуть-чуть похвастаться. Такие люди всегда считают себя пупом земли. А следующая карета, кажется, украшена гербом рода Дураццо, должно быть, это кардинал Марчелло. Он едет из Фаэнцы, где служит епископом, а путь из Фаэнцы долог, так что кардиналу нужно хорошенько отдохнуть, если он хочет получить удовольствие от праздника. Кто бы мог подумать, прибыл кардинал Биши, – сказал Атто, прищурившись. – Я и не знал, что он в таких близких отношениях с кардиналом Фабрицио. – Да, кстати, синьор Атто, я ведь тоже не знал, что вы знакомы с кардиналом Спадой. – Я намеренно перебил его начатую с большим размахом арию узнавания знакомых лиц на расстоянии. – О, ведь он долгие годы был нунцием – папским послом во Франции, разве ты не знал этого? Мы раньше довольно долго общались в Париже. Он, как бы это сказать, очень предупредительный человек: главная его забота состоит в том, чтобы не нажить себе врагов. И тут он прав, поскольку в Риме это лучший способ попасть в высшие круги. Готов биться об заклад, что он хорошо помнит свое пребывание в Париже, ведь именно тогда ему пожаловали титул кардинала; это было в 1676 году, если не ошибаюсь. До этого он был нунцием в Савойе и приобрел там некоторый опыт. Он участвовал в трех конклавах: по поводу избрания Иннокентия XI, в том же 1676 году, затем Александра VIII в 1689-м и когда избирали нынешнего Папу, в 1691 году. Грядущий конклав будет для него четвертым. Неплохо для кардинала, которому исполнилось только пятьдесят семь лет, правда? Прошли долгие годы, но способность Атто тщательно запоминать все подробности карьеры пап и кардиналов не изменилась. Его величество король всех церквей мог положиться на своего агента, который, возможно, и не блистал уже силой, но, несомненно, все еще обладал отличной памятью. – Вы думаете, что в этот раз его могут избрать Папой? – спросил я, втайне надеясь однажды войти в когорту слуг Папы Римского. – Исключено. Он слишком молод. Он мог бы еще править двадцать, а то и тридцать лет. При одной мысли об этом остальные кардиналы слягут в постель с лихорадкой, – смеясь, ответил Атто. – По отношению ко мне он будет сейчас изображать сдержанность, поскольку боится прослыть вассалом короля Франции, если поприветствует мою скромную особу. Бедняги, этих кардиналов можно понять, – закончил аббат, насмешливо улыбаясь.* * *
Пока мы гуляли возле главных ворот, на дороге, проходящей перед поместьем, показался сгорбленный, трясущийся, почти лысый старик, который тащил большую заплечную корзину, до краев полную бумаг. Держа шляпу в руке, он смиренно обратился к слугам, намереваясь что-то спросить, однако те грубо попытались его прогнать. Действительно, кто бы это ни был, он поступил бы умнее, если бы подошел к черному входу, где особы низкого происхождения не рискуют своим появлением вызвать презрение благородных гостей поместья. Аббат двинулся по направлению к старику, сделав мне знак следовать за ним. На старике была рубашка с резинками для поддержания рукавов, а живот его был прикрыт испачканным передником – вероятно, он был ремесленником, возможно, переплетчиком. – Вы Гавер, переплетчик с Виа деи Коронари? – спросил его Атто, выйдя из ворот и останавливаясь посреди дороги. – Это я вызвал вас. У меня есть для вас работа. – Аббат вытащил кипу листков бумаги. – Какой переплет вы хотите? – Из пергамента. – Надписи или что-то подобное на обложке либо на обратной стороне? – Ничего. Аббат и переплетчик быстро обсудили еще ряд деталей, затем Атто протянул Гаверу горсть монет в качестве аванса. Неожиданно из зарослей колючего кустарника на обочине раздался пронзительный вопль: – Держите его, держите его! Кто-то молнией выскочил из кустов прямо в нашу маленькую группу, столкнувшись с переплетчиком и аббатом, и Атто упал на щебенку, закричав от ярости и боли. Бумаги, которые Атто держал в руке, разлетелись во все стороны, та же участь постигла и бумаги в корзине переплетчика, в то время как столкнувшийся с ним человек, корчась, покатился по земле. Когда он наконец остановился, я разглядел, что это молодой парень, тощий и грязный. Его рубашка была порвана, щеки заросли многодневной щетиной, а взгляд был мрачным и испуганным. За спиной у парня была нищенская котомка из грубой ткани, из которой при падении вывалились засаленные вещи: старый кожаный кошелек, как мне показалось, пара старых башмаков и несколько покрытых пятнами листков бумаги – скорее всего, это были жалкие плоды его долгого ковыряния в какой-то мусорной куче в поисках чего-нибудь съедобного или вещей, необходимых для того, чтобы выжить. – Как тебя зовут? – спросил Атто. – Сфасчиамонти. Несмотря на боль, Атто внимательно оглядел его с ног до головы. – «Раскалывающий горы», подходящая фамилия для тебя. Где ты служишь? – поинтересовался аббат, поскольку не видел, с какой стороны появился Сфасчиамонти. – Обычно я служу на Виа ди Панико, но со вчерашнего дня мое место работы здесь, – ответил тот, указывая на виллу Спада. Он объяснил, что является одним из сбиров, нанятых кардиналом Фабрицио на время проведения праздника. В этот момент к нам подошел переплетчик, очевидно торопившийся сказать что-то важное. – Ваше превосходительство, я нашел оружие, которым вас ранили, – сообщил он, протягивая аббату маленький острый кинжал с прямоугольной рукояткой. Однако Сфасчиамонти первым схватил это оружие и спрятал его в карман. – Минутку, подождите. Это ведь нож, с которым на меня напали, – запротестовал аббат Мелани. – Вот именно. Это орудие преступления, которое надо будет предъявить губернатору и капитану полицейской стражи. Я здесь для того, чтобы обеспечить безопасность на вилле, и я всего лишь выполняю свой долг. – Сбир, ты видел, что со мной произошло. Слава Богу, нож этого несчастного полоснул меня по руке, а не по спине. Если твои коллеги задержат его, я хочу, чтобы мошенник поплатился за это. – Я вам это обещаю, клянусь тысячу раз патронташем Валленштейна! – прорычал Сфасчиамонти, вызвав боязливый шепот среди присутствующих. Рана была серьезной, из нее продолжала течь кровь. Две служанки бегом принесли еще бинтов и перевязывали руку, чтобы остановить кровотечение. При этом я мог с удивлением наблюдать, с каким стоическим спокойствием аббат Мелани переносил боль; я и не подозревал у него это качество. К том уже он еще какое-то время стоял, договариваясь о чем-то с переплетчиком, который уже собрал все листки бумаги в одну стопку. Они быстро договорились о цене и условились встретиться на следующий день. Мы направились к дому, куда Атто хотел вызвать лекаря, чтобы тот обследовал опасную резаную рану. – Сейчас рука болит не очень, будем надеяться, что состояние не ухудшится. Лучше бы я никогда не договаривался встретиться с переплетчиком у главных ворот! Но для меня слишком важна моя книжечка. – Ах да, а что, собственно, вы отдали ему переплетать? – Так, ничего особенного, – ответил аббат, поджав губы.* * *
Мы дошли до дома, не обменявшись больше ни словом. Я был удивлен показной беспечностью, с какой аббат Мелани ответил, а точнее, не ответил на мой вопрос. Мои тысяча двести скудо обязывали меня в ближайшие дни во всем разделять судьбу аббата, чтобы я мог написать отчет о его пребывании на вилле Спада. И до сих пор я точно не знал, что меня ожидает. Я попросил у аббата разрешения отлучиться под тем предлогом, что за это время у меня накопилось много важных дел. На самом деле у меня не было много работы в этот день: я не входил в состав постоянного домашнего персонала поместья, да и приготовления к началу праздника уже почти закончились. Мне просто хотелось побыть одному, чтобы обдумать последние события. Но аббат попросил меня составить ему компанию до прихода хирурга. – Затяни бинты на руке покрепче: с бандажом, который наложили эти служанки, я истеку кровью, – с некоторым нетерпением попросил он меня. Я оказал ему эту услугу и усилил повязку, добавив еще бинтов, которые нам принес заботливый камердинер. – Это французская книжка, синьор Атто? – наконец-то осмелился уточнить я, намекая на его короткое замечание. – И да, и нет, – односложно ответил он. – Должно быть, она написана во Франции, но напечатана в Амстердаме, как это часто бывает, – предположил я, надеясь вытянуть из него какие-нибудь подробности. У меня, однако, не было времени ни получше рассмотреть его, ни прийти на помощь Атто или незнакомцу, поскольку крик, который мы услышали вначале, раздался с новой силой. – Держите его, держите его, ради всех шомполов! – вопил кто-то пронзительным голосом. Из домика, где жили нанятые для охраны поместья сбиры, как эхо, раздались крики и ругательства. В этот момент молодой человек вскочил и снова бросился бежать, быстро скрывшись в кустарнике. Атто же, в отличие от незнакомца, остался сидеть на земле, тщетно пытаясь встать на ноги. Я хотел броситься ему на помощь, пока переплетчик со стонами собирал свои листки бумаги, но в этот момент со стороны здания примчались двое сбиров, чтобы с громкими криками присоединиться к преследователям. Но, увы, тот, который бежал первым, наткнулся на бедного Атто, и аббат снова упал. Преследователь, шатаясь, отлетел по брусчатке в сторону, чудом избежав столкновения с одним лакеем, двумя сестрами из монашеского ордена, которых я часто видел, когда они приносили свои маленькие поделки – подарки кардиналу Спаде, и двумя собаками. Вопли монашек и лай собак смешались, и дорога огласилась страшным шумом. Я кинулся к Атто Мелани, жалобно стонавшему: – О Господи! Сначала один сумасшедший, теперь – другой. Проклятие! Моя рука! На правом рукаве камзола Атто, уже пропитавшемся кровью, зияла большая дыра – вероятно, это был удар ножом. Я помог Атто снять камзол. Скверная рана, из которой текло довольно много крови, обезобразила нежную руку аббата. Две набожные девицы, жившие в поместье и помогавшие гардеробщикам, видели это происшествие, они дали нам бинты и немного целебной мази, уверив, что она принесет облегчение и обязательно заживит рану Атто. – Моя несчастная рука, это какое-то проклятие, – причитал Атто, забинтовывая руку. – Такое уже было, когда одиннадцать лет назад в Париже я свалился в канаву. Я сильно повредил руку и плечо и чуть не умер. Этот случай помешал мне сопровождать герцога Шолне в Рим, на конклав, когда умер Иннокентий XI. – Похоже на то, что конклавы вредны для вашего здоровья, – невольно вырвалось у меня, за что аббат наградил меня свирепым взглядом. За это время вокруг нас собралась целая толпа детей, зевак и местных крестьян. – Черт бы побрал этих двух остолопов, – проворчал Атто. – Первый был слишком быстрым, второй – слишком толстым. – Тысяча бомб! – раздался уже знакомый нам тот же зычный голос. – Что значит слишком толстый? Да я почти ухватил за шиворот того разбойника! Плотная толпа зевак расступилась, испуганная этими грубыми злыми словами. Произнесший их человек был в три раза крупнее, в два раза шире и, должно быть, в четыре раза тяжелее меня. Я повернулся и пристально посмотрел на него: светлые волосы, мужественный вид, однако старый шрам, пересекавший бровь, придавал лицу меланхолическое выражение, никак не вязавшееся с простыми грубоватыми манерами этого человека. – Как бы там ни было, клянусь остриями всех алебард Силезии, я не хотел вас обидеть, – продолжал этот берсерк, приближаясь к месту, где лежал аббат. Не спрашивая разрешения, он поднял Атто с земли и без малейшего усилия поставил на ноги, как будто это была иголка пинии. Толпа зевак сгрудилась вокруг, но подбежавшие лакеи и слуги проворно всех разогнали. Тем временем старый переплетчик аккуратно подбирал с мостовой бумаги Атто, разбросанные по обе стороны ворот. – Ты сбир, – констатировал Атто, приводя в порядок свою одежду и стряхивая пыль с камзола, – но кого ты преследовал? – Разбойника, сказал же я, вора, мошенника, или как там черт называет этот сброд. Должно быть, он хотел вас ограбить, клянусь тысячью утиных ружей! – А, так это был нищий, – перевел я. – Как тебя зовут? – спросил Атто. – Сфасчиамонти. Несмотря на боль, Атто внимательно оглядел его с ног до головы. – «Раскалывающий горы», подходящая фамилия для тебя. Где ты служишь? – поинтересовался аббат, поскольку не видел, с какой стороны появился Сфасчиамонти. – Обычно я служу на Виа ди Панико, но со вчерашнего дня мое место работы здесь, – ответил тот, указывая на виллу Спада. Он объяснил, что является одним из сбиров, нанятых кардиналом Фабрицио на время проведения праздника. В этот момент к нам подошел переплетчик, очевидно торопившийся сказать что-то важное. – Ваше превосходительство, я нашел оружие, которым вас ранили, – сообщил он, протягивая аббату маленький острый кинжал с прямоугольной рукояткой. Однако Сфасчиамонти первым схватил это оружие и спрятал его в карман. – Минутку, подождите. Это ведь нож, с которым на меня напали, – запротестовал аббат Мелани. – Вот именно. Это орудие преступления, которое надо будет предъявить губернатору и капитану полицейской стражи. Я здесь для того, чтобы обеспечить безопасность на вилле, и я всего лишь выполняю свой долг. – Сбир, ты видел, что со мной произошло. Слава Богу, нож этого несчастного полоснул меня по руке, а не по спине. Если твои коллеги задержат его, я хочу, чтобы мошенник поплатился за это. – Я вам это обещаю, клянусь тысячу раз патронташем Валленштейна! – прорычал Сфасчиамонти, вызвав боязливый шепот среди присутствующих. Рана была серьезной, из нее продолжала течь кровь. Две служанки бегом принесли еще бинтов и перевязывали руку, чтобы остановить кровотечение. При этом я мог с удивлением наблюдать, с каким стоическим спокойствием аббат Мелани переносил боль; я и не подозревал у него это качество. К тому же он еще какое-то время стоял, договариваясь о чем-то с переплетчиком, который уже собрал все листки бумаги в одну стопку. Они быстро договорились о цене и условились встретиться на следующий день. Мы направились к дому, куда Атто хотел вызвать лекаря, чтобы тот обследовал опасную резаную рану. – Сейчас рука болит не очень, будем надеяться, что состояние не ухудшится. Лучше бы я никогда не договаривался встретиться с переплетчиком у главных ворот! Но для меня слишком важна моя книжечка. – Ах да, а что, собственно, вы отдали ему переплетать? – Так, ничего особенного, – ответил аббат, поджав губы.* * *
Мы дошли до дома, не обменявшись больше ни словом. Я был удивлен показной беспечностью, с какой аббат Мелани ответил, а точнее, не ответил на мой вопрос. Мои тысяча двести скудо обязывали меня в ближайшие дни во всем разделять судьбу аббата, чтобы я мог написать отчет о его пребывании на вилле Спада. И до сих пор я точно не знал, что меня ожидает. Я попросил у аббата разрешения отлучиться под тем предлогом, что за это время у меня накопилось много важных дел. На самом деле у меня не было много работы в этот день: я не входил в состав постоянного домашнего персонала поместья, да и приготовления к началу праздника уже почти закончились. Мне просто хотелось побыть одному, чтобы обдумать последние события. Но аббат попросил меня составить ему компанию до прихода хирурга. – Затяни бинты на руке покрепче: с бандажом, который наложили эти служанки, я истеку кровью, – с некоторым нетерпением попросил он меня. Я оказал ему эту услугу и усилил повязку, добавив еще бинтов, которые нам принес заботливый камердинер. – Это французская книжка, синьор Атто? – наконец-то осмелился уточнить я, намекая на его короткое замечание. – И да, и нет, – односложно ответил он. – Должно быть, она написана во Франции, но напечатана в Амстердаме, как это часто бывает, – предположил я, надеясь вытянуть из него какие-нибудь подробности. – Да нет, – устало вздохнув, обронил Атто, – по правде говоря, это не совсем настоящая книга. – Тогда это чья-то анонимная рукопись, – ухватился я за эту нить, с трудом скрывая возрастающее любопытство. Мой вопрос был прерван появлением врача. Пока он занимался раненой рукой Атто и отдавал приказания камердинеру, у меня было время на размышления. Без сомнения, не было ничего случайного в том, что Атто Мелани снова объявился после семнадцати лет молчания и попросил меня быть, так сказать, его летописцем, в том, что он попросил меня написать его биографию. Еще меньше случайности было в том, что он входил в число гостей, приглашенных на свадьбу племянника кардинала Фабрицио Спады. Кардинал был государственным секретарем Папы Иннокентия XII, родившимся в Неаполитанском королевстве, то есть был приверженцем Испании. Папа Иннокентий умирал, и весь Рим уже несколько месяцев готовился к конклаву. Мелани был французским агентом, образно говоря – волком в овечьей шкуре. Я хорошо знал аббата, и мне не надо было долго размышлять, чтобы понять его намерения. Тут достаточно было следовать маленькому простому правилу – постоянно предполагать худшее, тогда ошибки не будет. Узнав из моих мемуаров, что я состою на службе у секретаря кардинала, Атто, как я полагал, специально сделал все возможное, чтобы его пригласили на семейный праздник Спады, использовав старое знакомство с кардиналом, о котором он мне рассказывал. А сейчас аббат рассчитывал использовать меня, очень довольный счастливой случайностью, переместившей менятуда, где я был ему нужнее всего. Может быть, аббат хотел от меня чего-то иного, а не просто исполнения роли летописца его великих деяний в преддверии конклава. Что было у него на уме в этот раз? Угадать было довольно сложно. Одно мне было совершенно ясно: в меру своих скромных сил я должен воспрепятствовать тому, чтобы происки аббата Мелани могли причинить вред кардиналу Спаде – моему господину. И с этой точки зрения, в том, что Атто дал мне задание, была хорошая сторона: я мог контролировать его. Между тем хирург за кончил перевязывать аббату руку, конечно, не без того, чтобы вызвать у Атто пару вскриков и добиться кругленькой суммы денег в качестве гонорара за свои услуги, которую раненый вынужден был заплатить из своего кармана. – Какое чудесное гостеприимство! – ворчал расстроенный Атто. – На гостей дома нападают с ножом, а затем заставляют самих расплачиваться с врачом. Секретарь посольства виллы Спада, замещавший дворецкого – дона Паскатио, – поспешно явившийся к постели Мелани, распорядился, чтобы аббату тотчас подали обед. Он приставил к Мелани двух слуг для оказания любой помощи и приказал им выполнять все пожелания гостя. Он рассыпался в извинениях за случившееся, проклинал преступников и нищих, которые в этом святом году непременно превратят Рим в лазарет, в самых вежливых выражениях заверил Атто, что тому вскоре возместят причиненный ущерб вместе с достойными процентами за чудовищный афронт, который ему довелось пережить, что, на счастье, ими нанят сбир, который в эти праздничные дни должен следить за безопасностью на вилле, и сейчас управляющий, естественно, предъявит ему претензии за случившееся. В таком духе он продолжал говорить более четверти часа, не замечая того, что Атто сморил сон. Я воспользовался этой возможностью, чтобы незаметно удалиться.Странное нападение, которому подвергся Атто, вызвало у меня страх, смешанный с любопытством. Под предлогом того, что нужно поправить несколько веток в живой изгороди со стороны входа на виллу, я вытащил садовые ножницы из своего рабочего халата и направился к воротам. – Разве тебе мало того, что только что случилось, молодой человек? Я обернулся, точнее, задрал голову к небу. – В Лесу вокруг, наверное, полно разбойников. Тебе что, опять нужны неприятности? Это был Сфасчиамонти, совершавший обход. – А, вы сейчас несете караул? – Караул, да, я несу караул. Эти черретаны[1294] – настоящее бедствие, да хранит нас Господь, во имя всех кистеней! – сказал он, бросая вокруг себя настороженный взгляд. Черретаны. Настойчивость, с какой он произнес это слово, точный смысл которого был мне неизвестен, показалась мне приглашением задать вопрос. – Кто такие черретаны? – Тише! О Господи! Ты хочешь, чтобы каждый тебя слышал? – прошептал Сфасчиамонти, больно схватив меня за руку и оттаскивая от живой изгороди, словно черретаны прятались за ней. Он подталкивал меня к стене дома, бросая налево и направо преувеличенно встревоженные взгляды, как будто в любой момент могло произойти нападение. – Черретаны – это… Как тебе сказать? Это висельники, нищие, босяки, прощелыги и негодяи… Одним словом, бродяги. Издалека, со стороны парка, доносились звуки музыки приглашенного на свадьбу оркестра и удары молотков – это рабочие вколачивали последние гвозди в декорации для театральных представлений. – Вы хотите сказать, что нищие – такие же, как цыгане? – Да, точно. Нет, наоборот! – почти возмущенно воскликнул Сфасчиамонти. – Что за глупости ты заставляешь меня говорить? Черретаны – гораздо больше, или, скорее, гораздо меньше. Они заключили договор с дьяволом, – прошептал он, перекрестившись. – С дьяволом? – недоверчиво переспросил я. – Их что, преследует святая инквизиция? Сфасчиамонти отрицательно покачал головой и скорбно поднял глаза к небу, всем своим видом показывая ужас этой истории. – Если бы ты только знал, мой мальчик, если бы ты только знал… – А что плохого они творят? – Они просят милостыню. – И это все? – разочарованно протянул я. – Просить милостыню не грех. Разве они виноваты в своей нищете? – Кто говорит тебе, что они бедны? – Разве не вы сами сказали, что они просят милостыню? – Да, но можно быть нищим и убогим добровольно, а не только из-за бедности. – По доброй воле? – повторил я со смехом, и у меня начало закрадываться подозрение, что эта гора мускулов по фамилии Сфасчиамонти управляется мозгом весом не более пол-унции. – Или, точнее, из жажды наживы. Веришь ты в это или нет, но просить милостыню – одно из самых прибыльных занятий на свете. Нищие получают за три часа больше, чем ты за месяц работы. Я огорошено молчал. – А их много? – Разумеется. Они повсюду. Меня поразила уверенность, с какой он ответил на мой последний вопрос. Я видел, как он оглядывался вокруг и внимательно наблюдал за аллеей, на которой было полно карет и деловито сновавших туда-сюда слуг. – Я рассказал все это губернатору Рима, синьору Паллавичини, – продолжал он, – но никто не хочет об этом слышать. Они говорят: «Сфасчиамонти, успокойся, Сфасчиамонти, выпей стаканчик». Но я знаю: Рим кишит нищими, вот только никто этого не видит. Когда в городе происходит что-то плохое, то за этим всегда стоят они. – Вы хотите сказать, что, когда преследовали того человека, ну, когда был ранен аббат Мелани… – Ну да. Его ранил черретан. – Откуда вы знаете, что он черретан? – Я был возле ворот Сан-Панкрацио и узнал его. Полиция уже давно гоняется за ним. Однако ей все не удается схватить черретана. Я сразу понял: он что-то замышляет и у него есть какое-то задание. Мне не понравилось, что он находится так близко у виллы Спада, поэтому я погнался за ним. – Задание? Почему вы так уверены в этом? – спросил я с некоторой долей скептицизма. – Черретан никогда не переходит улицу, не глядя по сторонам в поисках наживы, потому что он постоянно высматривает сумки и карманы других людей или задумал какую-то иную подлость. Эти люди проводят жизнь в кражах, безделии и разврате. Я хорошо знаю их: такие хитрые глаза бывают только у них. Если черретан идет, глядя прямо перед собой, как нормальный человек, значит, у него наверняка какое-то важное дело. Я кричал, пока другие сбиры на вилле не услышали меня. Жаль, что ему удалось ускользнуть от нас, а то мы узнали бы о них побольше. Я подумал, как поступил бы Атто на моем месте. – Готов поспорить, что вам удастся провести расследование, – отважился произнести я, – и выяснить, где прячется этот черретан. Аббат Мелани, который гостит на вилле, разумеется, будет вам очень признателен, – добавил я, надеясь пробудить в нем алчность. – Естественно, я могу все узнать. Сфасчиамонти всегда знает, кого нужно спросить, – ответил он, но вместо алчности я заметил в глазах сбира выражение собственного достоинства.
* * *
Сфасчиамонти продолжил свой контрольный обход, и, наблюдая, как его массивная фигура исчезает за углом стены, я увидел, что ко мне направляется странный молодой человек, худой как щепка и согнутый, как аист. – Прошу прощения, – обратился он ко мне любезным тоном, – я секретарь аббата Мелани. Я прибыл на виллу вместе с ним сегодня утром. Затем дела заставили меня отлучиться в город, и сейчас я не могу найти наше жилище. Где, черт возьми, вход в дом? Разве с этой стороны не было застекленной двери? Я объяснил ему, что вышеупомянутая дверь существует, но она располагается с противоположной стороны здания. – Если я вас правильно понял, вы сказали, что являетесь секретарем аббата Мелани? – удивленно спросил я. Атто умолчал, что в этот раз он был не один. – Конечно. А вы разве его знаете?– Сколько можно ждать! Куда вы запропастились? – вскричал аббат, когда я привел к нему его секретаря. По пути к комнатам аббата я успел более внимательно рассмотреть этого молодого человека. Между его голубыми глазами, защищенными очками с необыкновенно толстыми мутными стеклами, над которыми возвышались светлые, как лен, брови, торчал большой горбатый нос. Куст всклокоченных волос на его голове безуспешно пытался отвлечь внимание от длинной тощей шеи, на которой вызывающе выступало большое адамово яблоко. – Я… Я уезжал засвидетельствовать почтение кардиналу Казанте, – начал оправдываться он, – и немного опоздал. – Догадываюсь, – то ли заинтересованно, то ли сердито буркнул Атто. – Вас довольно долго держали в приемной, затем три тысячи раз переспросили, кто вы такой и от кого прибыли. Затем в конце концов еще через полчаса ожидания вам сообщили, что кардинал Казанте скончался. – Нуда, действительно… – пробормотал он. – Сколько раз я говорил вам, чтобы вы всегда предупреждали, если куда-то идете и если будете отсутствовать! Кардинал Казанте умер шесть месяцев назад, я знал об этом и мог бы помочь вам избежать позора. Мальчик, – обратился аббат ко мне, – это Бюва. Жан Бюва. Он работает писцом в Парижской королевской библиотеке. Жан – достойный и честный молодой человек. Правда, он немного рассеян и питает пристрастие к вину. Однако иногда он удостаивается чести путешествовать в составе моей свиты, как в этот раз. И действительно, я вспомнил, что Бюва был одним из тех, кто выполнял работу для Атто, как аббат сообщил мне во время нашей первой встречи. Он также сказал, что Бюва обладает настоящим талантом копировщика. Мы попрощались в некотором смущении. Скомканная рубаха, выбившаяся из штанов и образовавшая вокруг талии нечто вроде спасательного круга, также свидетельствовала о рассеянной натуре молодого человека. – Вы очень хорошо говорите на нашем языке, – сказал я ему любезным тоном, пытаясь подбодрить и как-то загладить грубость аббата. – О да, но владение языками – далеко не единственное, к чему у Жана талант, – заметил Атто. – И свое мастерство он проявляет с пером в руке. Но не так, как ты: ты творишь. Он – копирует. И в этом ему нет равных. Но поговорим об этом в следующий раз. Пойдите переоденьтесь Бюва, в таком виде вам нельзя показываться на людях. Бюва, не сказав ни слова, удалился в соседнюю комнату, где была установлена кровать для него и стояли дорожные сундуки. Раз уж я попал к Атто, то решил воспользоваться этим и рассказал ему о своем разговоре со Сфасчиамонти.
* * *
– Ты говоришь, черретаны. Тайные братства. Ну, если судить по словам сбира, то этот разбойник заглянул сюда случайно, причем с ножом в руке, чтобы опробовать остроту его клинка на моей руке. Очень интересно. – У вас есть другое предположение? – спросил я в ответ на его скептическое замечание. – О нет, ни в коем случае. Я просто размышляю вслух, – ответил он коротко, думая о чем-то своем. – Кроме того, во Франции среди нищих тоже есть нечто подобное. Хотя все только слышали об этом, но никто ничего не знает наверняка. Окна комнаты, в которой аббат принимал меня сейчас, выходили в сад и были открыты. Аббат, в домашнем платье, сидел в замечательном кресле, обитом красным бархатом. На небольшом столике перед ним стояли остатки изысканного обеда: на блюде лежали кости большой горбуши, еще сохранившие запах дикого фенхеля. Я вспомнил, что ничего не ел с самого утра, и почувствовал, как сжимается мой желудок. – Я слышал о некоторых старых обычаях, – продолжал Атто, массируя раненую руку, – но это вещи, которые сегодня уже немного забылись. Когда-то в Париже жил Великий Цезарь, или Король Туле, повелитель всех нищих и бродяг. Он разъезжал по городу на убогой тележке, запряженной собаками, как будто в насмешку над настоящим монархом. Говорили, что у него есть что-то вроде своего двора, пажи и вассалы во всех провинциях, он даже проводил корпоративные собрания. – Вы имеете в виду народные собрания? – Вот именно. Конечно, вместо аристократов, священников и высокородных дам он собирал вокруг себя тысячи калек, воров, попрошаек, мошенников, проституток и карликов… да, в общем, Я хотел сказать, там было всех понемногу, – поспешно поправился он. – Да сними же наконец этот фартук садовника со всеми инструментами, он ведь наверняка тяжелый, как я могу себе представить, – сказал он, пытаясь как-то исправить свой промах. Я не обиделся на аббата Мелани за его неловкое замечание: я слишком хорошо знал, как много моих товарищей по несчастью – людей моего роста – населяют мрачные пещеры преступного мира. И я также знал, что мне повезло, поскольку моя судьба сложилась иначе. Пока я с удовольствием выполнял просьбу аббата и стягивал с себя тяжелый, как свинец, рабочий фартук садовника, один из слуг попросил разрешения войти: у него было письмо для аббата. После того как слуга удалился, аббат продолжил: – Даже в Германии, как я думаю, всегда было нечто подобное. Эти люди называли себя братством фальшивых нищих или как-то похоже. Но существование подобных обществ держится в строжайшем секрете, и очень нелегко узнать о них больше. – Я не понимаю, зачем делать из этого тайну? Только благородным правителям и государственным мужам надлежит вершить дела под покровом тайны. – Ты заблуждаешься, – возразил Атто с мягкой улыбкой, рассеянно ломая печать письма и еще поглощенный нашим разговором. – Все любят тайны. Половина человечества хочет сохранить их с пользой для себя. Другая половина стремится их раскрыть, естественно, чтобы тоже извлечь из этого выгоду. – А попрошайки? – Как ты, наверное, уже понял, речь часто идет о ненастоящих нищих. О мошенниках. А это – уже секрет. – Неужели действительно нужно основать тайное общество, чтобы совершать обычные мошенничества? И даже заключить союз с дьяволом, как утверждает Сфасчиамонти? Я вижу, как много в Риме нищих, особенно сейчас, в святой год. И если внимательно присмотреться к ним, то многие из них и вправду больше напоминают вероломных убийц, чем простых попрошаек. Но чтобы создавать братство, к тому же еще и запрещенное… – А туфли? – внезапно прервал меня Атто, глядя поверх моей головы. – Вы что, хотите в этой обуви сопровождать меня? Бюва вошел в комнату, вымытый, причесанный и в чистой одежде, однако темно-зеленая кожа его башмаков была заметно потертой, а в нескольких местах даже порванной, один каблук треснул, а застежки почти отвалились от кожи и болтались. – Я забыл свои новые туфли во дворце Роспильози, – набрался храбрости ответить писарь. – Но я клянусь, что заберу их еще до вечера. – Смотрите, как бы вы не забыли там собственную голову, – вздохнул аббат, и в его расстроенном голосе прозвучало презрение. – И не тратьте время на пустяки, как обычно. – Как себя чувствует ваша рука? – поинтересовался я. – Великолепно. Я люблю, когда меня режут на куски острым ножом, – ответил он, наконец-то решившись прочесть письмо, которое ему принесли. Аббат быстро пробежал послание глазами, на его лице отражались противоположные чувства: сначала он наморщил лоб, затем широко улыбнулся, так что даже задрожала ямочка на подбородке. Затем он поднял глаза и через окно невидящим взглядом уставился в небо. Его лицо побледнело. – Плохие новости? – осторожно спросил я, вопросительно взглянув на секретаря. По отсутствующему виду аббата мы поняли, что он меня вообще не услышал. Мне показалось, что, читая письмо, он прошептал: «Мария…», затем сложил его и сунул в карман домашнего платья. Хотя он и сидел в кресле, но опирался на трость, словно эта новость тяжким грузом легла на его плечи. И за какое-то мгновение он снова стал старым измученным Атто Мелани. – А теперь иди. И вы тоже, Бюва. Оставьте меня одного. – Но… вы уверены, что вам ничего не нужно? – нерешительно проговорил я. – Сейчас нет. Приходите сегодня вечером, когда начнет смеркаться.* * *
Мы покинули аббата и по винтовой лестнице, предназначенной для слуг, спустились вниз и вышли на улицу. За какую-то минуту мы с Бюва снова оказались под палящим летним солнцем. Я был озадачен. Почему Атто так расстроился, прочитав письмо? Кто эта таинственная Мария, имя которой он прошептал с такой нежностью? Может, это была женщина из крови и плоти? Или же речь шла о Деве Марии? «Как бы то ни было, – размышлял я, пытаясь поспеть за Бюва, – такое поведение для меня необъяснимо. Атто никогда не был фанатично верующим, насколько я помню, он не просил Бога о помощи даже в минуты наивысшей опасности. Еще более странным было бы, если бы эта Мария являлась обычной земной женщиной. Нежность, с какой аббат произнес ее имя, бледность и выражение его лица говорили о невыразимых чувствах, о давней неутоленной страсти, о сердечных муках. Иначе говоря – о любви. Любовь к женщине – единственное испытание, на которое кастрат Атто Мелани никогда не мог решиться. – Вам предстоит хорошая скачка под палящим солнцем, если ВЫ хотите забрать свои туфли в палаццо Роспильози, – сказал Я Жану Бюва, поглядывая в сторону конюшни в поисках конюха. – О, горе мне, – проворчал писарь с недовольной гримасой. – А я еще даже не обедал. Я ухватился за его слова: – Я могу попытаться быстро приготовить вам легкий обед на кухне. Конечно, если вас это устроит… Секретаря Атто Мелани не надо было долго упрашивать. Мы повернули назад и, ускорив шаг, через заднюю дверь быстро добрались до кухонь виллы Спада, где царила суматоха. В кухне суетились поварята, которые мыли посуду, приносили и уносили блюда, помогали готовить суп, и помощники поваров, занятые подготовкой к вечерней трапезе. Воспользовавшись этим, я потихоньку взял трех вымоченных макрелещук, из которых уже были вынуты все кости, с гарниром из долек лимона и тонких ломтиков сливочного масла, два кренделя из пресного теста и небольшое красивое бело-голубое блюдо в китайском стиле, до краев наполненное маслинами и луковицами. Еще я раздобыл восьмушку мускатного вина. Для себя, поскольку я умирал с голоду, я отрезал пару крупных кусков от большого круга сыра, приправленного травами и медом, и завернул их в листья салата латук, уцелевшие среди остатков гарнира. Конечно, этого было мало, чтобы насытить меня после целого дня работы, но, по крайней мере, позволяло дожить до часа вечерней трапезы. В кухне все бурлило, так что трудно было найти тихий уголок, где можно было бы сесть и насладиться запоздалым обедом. Кроме того, мне хотелось в спокойной обстановке поближе познакомиться с этим странным долговязым молчаливым существом – секретарем Атто Мелани. Возможно, мне удалось бы тогда кое-что узнать об этой Марии, о странном поведении аббата и, наконец, о его планах относительно своего и, в особенности, моего будущего. Поэтому я предложил Бюва пойти в парк и пообедать там на лужайке, в тени мушмулы или персикового дерева, где, кроме прочего, у нас будет возможность на десерт срывать плоды прямо с дерева. Не откладывая дела в долгий ящик мы захватили корзину и большой кусок джутовой ткани и по раскаленному в жару «собачьих дней»[1295] песку направились к часовне виллы. Позади часовни была тенистая роща – идеальное место для нашего импровизированного обеда. Когда мы вошли в душистую тень деревьев, ногам сразу же стало легче на свежей мягкой почве. Мы хотели было устроиться на опушке рядом с часовней, однако услышали негромкий, но непрекращающийся храп, возвестивший о присутствии в непосредственной близости от нас капеллана, дона Тибальдутио Лючиди. Очевидно, он решил позволить себе короткий отдых от праведных трудов своей духовной должности и вздремнул, свернувшись калачиком. Удалившись от него на некоторое расстояние, мы устроились под кроной прекрасного сливового дерева, усыпанного спелыми плодами и окруженного многочисленными кустиками земляники. – Так вы писарь в Парижской королевской библиотеке, – начал я, чтобы завязать разговор, когда мы расстилали на траве большое джутовое полотно. – Писарь для его величества короля и писатель для самого себя, – ответил Жан, полусерьезно, полушутливо, нетерпеливо роясь в корзине со съестными припасами. – То, что сегодня сказал обо мне аббат Мелани, не совсем верно. Я не просто копирую рукописи, я также творю. Высказывание Атто обидело Бюва, однако в его голосе ощущалась самоирония, свойственная умным людям, которым уготовано занимать низкие должности, так что они даже самих себя не могут воспринимать всерьез. – А о чем ваши работы? – В основном, это работы по филологии, хотя я пишу под дру-гими именами. По случаю паломничества к собору Богоматери в Марка Анконитана я опубликовал старые тексты на латыни, которые нашел много лет назад. – Вы сказали, в Марка Анконитана? – Да, к сожалению, – с горечью добавил Жан, опускаясь на землю и запуская пальцы в чашечку с маслинами, – как говорит евангелист, nemopropheta inpatria – нет пророка в своем отечестве. В Париже я не напечатал ни одной работы: мне даже не всегда регулярно платили. К счастью, аббат Мелани время от времени заказывает мне кое-какие небольшие работы… Но лучше расскажи мне о себе: по словам аббата, ты тоже занимаешься писательством. – Гм… Не совсем. Я еще ничего не публиковал; я был бы счастлив это сделать, но до сих пор мне не представлялась такая возможность, – смущенно ответил я, отвернувшись и сделав вид, что занят украшением рыбы сливочным маслом. Я умолчал о том, что мое единственное произведение было похищено Атто. – Понимаю. Но, если не ошибаюсь, сейчас аббат заказал тебе отчет о предстоящих днях, – ответил он, взяв крендель и жадно вынимая из него пальцами середину, чтобы освободить место для начинки. – Да, это так, хотя мне не совсем понятно, что я, собственно… – Он уже намекал мне об этом плане, сказав, что ты неплохо пишешь. Тебе повезло, Мелани платит очень прилично, – продолжал он, укладывая в крендель кусочки рыбы. – О да, – поддакнул я, довольный, что разговор наконец зашел об Атто. – Кстати, а какую работу поручает вам аббат Мелани? Однако Бюва будто не слышал моего вопроса. Он помолчал минуту, размышляя и сосредоточенно выдавливая сок лимона на крендель с кусочками рыбы, а затем спросил меня: – Почему бы тебе не показать мне, что ты написал, возможно, я помог бы найти издателя… – Нет, не стоит, синьор Бюва, речь идет всего лишь о дневнике, да еще и написанном по-итальянски… – ответил я, уткнувшись носом в свои куски сыра с травами и понимая незначительность подобной отговорки. – Ну и что? – возмутился Бюва, размахивая своим кренделем. – Мы ведь живем не в шестнадцатом веке! И разве ты не родился свободным человеком? Ты волен поступать по собственному усмотрению: точно так же, как ты не обязан ни перед кем отчитываться, если бы писал на немецком или древнееврейском языке, тебе нечего оправдываться в том, что твой дневник написан на итальянском. Он замолчал, чтобы отведать свое лакомство, и сделал мне жест подать ему вина. – Разве величия итальянского народного языка недостаточно, чтобы поведать даже об изысканных вещах? – изрек он с набитым ртом. – Его преподобие монсиньор Панигарола писал простым языком о высших таинствах теологии, так же как и оба уникальных дарования – монсиньор Корнелио Музо и Фиамма. Великий Александр Пикколомини нашел ему место почти для всей философии; Маттиоло счел его весьма удобным для создания замечательных трактатов по медицине. И ты не можешь напечатать на нем немного болтовни из твоего дневника? Туда, где может царствовать королева Теология, со всей приятностью может входить девица-горничная, коей является Философия, и с не меньшей легкостью – домохозяйка, то есть Медицина, не говоря уже о маленькой служанке – дневнике. Представь себе, что дневник или мемуары – скромные слуги. – Но мой итальянский – это не тосканское наречие, а язык Рима, – сказал я, тоже пережевывая пищу. – «О, горе тебе, ты писал не на тосканском!» – воскликнул бы учитель Аристарх. А я могу лишь добавить, что ты писал не на тосканском, точно так же, как и не на немецком, ибо ты – римлянин, а тот, кто любит тосканский, пусть читает Боккаччо и Бембо, к своему удовольствию, – решительно ответил мой собеседник, завершив свои слова комичным жестом и добрым глотком муската. «Какой прекрасный острый ум у этого Бюва», – подумал я, откусив хороший кусок от латука. Несмотря на освежающий вкус салата, я испытывал жжение в желудке от зависти: если бы я обладал таким присутствием духа! К тому же, будучи французом, Бюва даже говорил не на родном языке! Какой счастливец! – Однако должен заметить, – решил уточнить он, доедая последние луковицы, – что у вас, итальянцев, есть плохая привычка, свойственная только вам: вы – народ профессиональных завистников. Что может быть более бесчеловечным, чем испытывать зависть к славе других людей? Стоит среди вас появиться талантливому человеку и начать приобретать имя, как тут же находятся хулители, которые поливают его грязью и всячески ругают, так что очень часто успех этого человека оборачивается нищетой. «Он, конечно, прав», – подумал я покладисто, поскольку успел удовлетворить свой голод. Однако я вовсе не был уверен в том, что сей порок присущ одним итальянцам: разве Бюва только что не жаловался на унижения, которые ему приходилось выносить? И разве он не признался мне в том, что в Париже никто не хотел печатать ни единой его строчки, тогда как в Италии он нашел свою литературную родину? Однако я решил не напоминать ему об этом, потому что национальная гордость – это слабость, присущая всем народам, кроме итальянцев. И не в моих интересах затрагивать чувства Жана Бюва, совсем наоборот.Наша маленькая трапеза подходила к концу. Мне не удалось вытянуть из писаря ни единого слова об Атто Мелани, хуже того, беседа вращалась в опасной близости от моих мемуаров. Я не хочу сказать, что аббат не заслуживал того, чтобы я рассказал его писарю о краже, просто это вызвало бы лавину вопросов об Атто, а я действительно не считал приличным болтать о давних злодеяниях его хозяина. Поэтому я направил беседу на другой предмет и сказал Бюва, безостановочно шарившему рукой в нашей корзине для съестного, что мы уже съели всю еду и нам не остается ничего другого, кроме как сорвать пару прекрасных плодов с дерева, которое так гостеприимно укрыло нас своей тенью. По понятной причине, сливы с веток срывал Бюва, а я тем временем вытирал спелые плоды джутовым полотном и складывал их в пустую корзину. Поскольку беседа угасла сама собой, мы ели сливы в почтительном молчании, и единственное, что нарушало тишину, был полет косточек по высокой дуге, которые выплевывали наши старательно работающие рты. То ли равномерный звук падающих как град в свежую траву сливовых косточек усыпил нас, то ли нежный шелест листьев под летним ветерком, а может, мы утомились, лежа на влажной земле, срывать ртом землянику, – в общем, не знаю как, но мы задремали. И пока я прислушивался к храпу писаря, говоря себе, что должен разбудить его, поскольку ему еще предстояло ехать верхом в город, чтобы забрать свои туфли, иначе он не успеет вернуться до вечера, я услышал, как почти в унисон с его храпом становится громче другой звук, заглушая первый. Этот звук был мне ближе и родней: я тоже задремал и храпел от всей души.
7 июля лета Господня 1700, вечер первый
Солнце уже садилось, когда нас разбудили. Дело в том, что парк виллы Спада начал оживать, наполняясь прогуливающимися гостями и звуками их голосов. Гости восхищались надстройками сцен, которые через два дня должны были стать достойным обрамлением для свадьбы Роччи и Спады. Эхо голосов донеслось и до нашего убежища. – Ваше преосвященство, позвольте поцеловать вам руку. – Милостивый государь, какая приятная встреча! – слышалось в ответ. – А как я рад, ваше преосвященство! – воскликнул еще кто-то. – Как, и вы здесь? – опять прозвучал второй голос. – Мой дорогой маркиз, от радости я почти утратил дар речи. Но позвольте, вы не дали мне времени поприветствовать маркизу! – Ваше преосвященство, я бы тоже хотела поцеловать вашу руку! – послышался женский голос. Как я позже мог бы сказать без колебания, это были кардинал Дураццо, только что прибывший из своей епархии епископ из Фаэнцы, монсиньор Гримальди, президент Анонны – городского зернохранилища, а также маркиз и маркиза Серлупи, которые обменивались такими любезностями. – Как прошло путешествие, ваше преосвященство? – Ну, немного утомительно, жара, знаете ли. Но с Божьей помощью мы добрались сюда. Я, разумеется, приехал только ради дружбы с государственным секретарем. Для моего возраста такого рода развлечения уже не подходят. Здесь слишком жарко такому старику, как я. – О да, в самом деле, жара ужасная, – согласился монсиньор Гримальди. – Можно подумать, что мы в Испании. Я слышал, что там ужасно жарко, – сказал маркиз Серлупи. – Нет-нет, в Испании очень хорошо, у меня о ней остались самые лучшие воспоминания. О! Прошу прощения, я только что заметил старого друга. Мое почтение, маркиза! Я увидел, как кардинал Дураццо несколько поспешно прервал свою едва начавшуюся беседу и в сопровождении слуги прошел мимо этой троицы, направляясь к другому преосвященству, кардиналу Карло Барберини, о чем я узнал позже. – К чему этот намек… – услышал я голос маркизы Серлупи, с упреком обращавшейся к своему супругу. – Какой намек? Я не имел в виду ничего… – Видите ли, маркиз, – сказал магистр Гримальди, – с вашего любезного позволения, я хотел бы пояснить, что кардинал Дураццо был папским нунцием в Испании, прежде чем стать кардиналом. – Ну и что? – Ну да, кажется – разумеется, это всего лишь слухи, – что его преосвященство не очень понравился королю Испании и что – в этом случае речь идет как раз о слухах обоснованных – родственники кардинала, которых он привез из Италии, подверглись нападению неизвестных и один из них даже умер от полученных ранений. И поэтому, вы понимаете, в такие времена… – Что вы хотите этим сказать? Монсиньор Гримальди обменялся снисходительными взглядами с маркизой. – Он хочет сказать, мой дорогой супруг, – проговорила та нетерпеливо, – он хочет сказать, что его преосвященство входит в число кандидатов на папский престол, которые могут быть избраны на следующем конклаве, поэтому, естественно, крайне болезненно воспринимает любые, даже самые отдаленные намеки на Испанию, могущие повлиять на его участие в выборах. Мы говорили об этом каких-то два дня назад, если вы помните. – Всего не упомнишь, – сконфуженно пробормотал маркиз Серлупи, когда понял, что допустил оплошность в отношении возможного понтифика. Тем временем его жена с улыбкой благосклонного согласия распрощалась с магистром Гримальди, и тот уже приветствовал другого гостя. Это был первый сигнал мне понять, какой характер будет на самом деле носить праздник. Аббат Мелани был прав. В то время как на вилле все было подготовлено для удовольствий и отвлечения мыслей от серьезных вещей, умы и сердца гостей были захвачены грядущими событиями, и прежде всего конклавом. Как заостренный резец, любой разговор, любая фраза, любое слово могло заставить кардиналов и князей вздрогнуть или подскочить на месте, ибo хотя они и делали вид, что ищут отдыха, на самом же деле прибыли на виллу государственного секретаря кардинала ради своего собственного возвышения или же в интересах тех, кому служили. В этот самый момент я заметил, что человек, к которому подошел монсиньор Гримальди, был не кто иной, как кардинал Спада собственной персоной: поприветствовав Гримальди надлежащим образом, он продолжил свой церемониальный обход в сопровождении дворецкого, дона Паскатио Мелькиори. Несмотря на фиолетовую кардинальскую рясу, я с трудом узнал Фабрицио Спаду, настолько он был рассержен. Кардинал казался очень расстроенным. – А театр? Почему он до сих пор не достроен? – спросил государственный секретарь, задыхаясь от жары, и направился от зарослей в сторону дома. – Мы почти добились совершенства, ваше преосвященство. Говоря другими словами, мы сделали большие успехи и почти решили проблему… – Господин дворецкий, мне не нужны успехи, мне нужен результат. К завтрашнему утру летний театр должен быть достроен. Известно ли вам, что гости уже заезжают? – Да, ваше преосвященство, конечно, но… – Я не могу за всем присматривать, дон Паскатио! У меня множество других забот! – воскликнул кардинал, раздражаясь и огорчаясь одновременно. Дворецкий молча кивнул и поклонился, не в состоянии говорить от волнения. – А подушки для сидения? Их уже сшили? – Они почти готовы, почти готовы, ваше преосвященство, не хватает только мелочей… – Я понял, они не готовы. Я что, должен предложить пожилым членам Святой коллегии сесть на голую землю? При этих словах кардинал Спада величественно повернулся и, сопровождаемый большой свитой слуг, покинул несчастного дона Паскатио. Он застыл посреди аллеи, не заметив, что я наблюдаю за ним, и принялся чистить свои покрытые пылью туфли. – Проклятие, мои туфли! – испуганно пробормотал Бюва, который так и подскочил на месте, увидев, чем занимался дон Паскатио. – Я ведь должен был их забрать! Однако теперь было уже слишком поздно говорить об этом, и я предложил писарю окольными путями пробраться в мансарду летней кухни, где мы, конечно, нашли бы кого-нибудь из слуг, кто согласился бы занять ему пару башмаков. – Лакейские туфли, – с легким стыдом бормотал Бюва, пока мы спешно складывали в корзину остатки нашей трапезы. – Но, конечно, все же лучше, чем мои. Я свернул джутовое полотно, сунул его под мышку, и мы потихоньку скрылись. Стараясь держаться края парка, мы пробирались подальше от праздничной суеты, вдоль темного крутого косогора, который спускался к винограднику. Под покровом сумерек мы без особого труда незамеченными пришли к черному ходу, ведущему в кухню. Когда за скромное вознаграждение на ногах Бюва наконец-то появились блестящие лаковые черные лакейские туфли с лентами, мы отправились на встречу с аббатом Мелани. Нам даже не пришлось стучать в дверь: Атто уже ждал нас, одетый в парадную одежду из расшитого атласа. Он был в напудренном парике, все ленты завязаны, лицо напудрено, щеки блестели от кармина и были усыпаны крупными нелепыми мушками по французской моде. Аббат стоял на пороге и нервно постукивал по полу тростью. Я заметил, что на нем были белые чулки вместо обычных красных чулок аббата. – Куда, к дьяволу, вы запропастились, Бюва? Я жду уже больше часа! Вы что, решили оставить меня одного, как плебея? Все остальные гости уже в саду. Объясните мне, чего ради я здесь торчу? Ради того, чтобы смотреть в окно на маркиза Серлупи, который весело беседует с кардиналом Дураццо, пока я гнию здесь? Взгляд аббата моментально устремился на лакейские туфли Бюва, ярко блестевшие в свете канделябров. – Молчите. Я ничего не хочу знать, – со вздохом опередил аббат своего секретаря и возвел глаза к небу, пока Бюва смиренно пытался рассказать Атто, что с ним произошло. И вот так они удалились, причем Мелани никоим образом не дал понять, что замечает мое присутствие. Бюва расстроено послал мне рукой прощальный привет, и тогда аббат обернулся и знаком подозвал меня. – Сын мой, держи глаза открытыми. Кардинал Спада – государственный секретарь, и, если происходит что-то важное, ты это сразу унюхаешь, я уверен. Но, конечно, нас не интересуют его ссоры с метрдотелем. – Но я никогда не обещал шпионить для вас. – А тебе и не нужно шпионить, ты на это просто не способен. Надо просто заставить свои глаза видеть, уши – слышать, а мозг – думать. Этого более чем достаточно, чтобы познать мир. На сегодня хватит: встретимся завтра утром на рассвете у меня. «Как аббат торопится принять участие в беседах с могущественными гостями кардинала Спады! – подумал я. – И определенно не из желания просто присоединиться к их обществу… Атто наверняка наблюдал из окна за гневной тирадой кардинала Фабрицио Спады в адрес дона Паскатио и, несомненно, заметил, как необычайно взволнован государственный секретарь. Скорее всего, поэтому-то он и посоветовал мне не спускать глаз с хозяина виллы. Сегодня ночью, – решил я, – наверное, лучше остаться спать здесь, поскольку мы должны встретиться с Атто рано утром». Кроме того, моей дорогой Клоридии все равно не было дома. Спать в одиночестве на нашей кровати было для меня худшей из пыток. Лучше свернуться калачиком на какой-нибудь подстилке в помещении для слуг на чердаке. Я уже cобирался пойти и помочь камердинеру с последними приготовлениями к нашему короткому ужину, когда вспомнил, что оставил свой фартук садовника с инструментами в комнате Атто. Один из камердинеров разрешил мне взять ключи от апартаментов Мелани. Я уже давно общался со слугами виллы Спада, хотя и не работал там постоянно, и они полностью доверяли мне. Зайдя в комнату и взяв фартук, я уже хотел было уйти, когда мой взгляд упал на письменный стол Атто: на нем осталась кучка песка для просушки чернил, а рядом лежали два сломанных гусиных пера. Видимо, во время нашего послеобеденного отсутствия аббат много писал, к тому же находясь в сильном волнении, ибо только дрожащая рука могла сломать два пера за один вечер. Было ли это связано с письмом, которое так потрясло его?Я посмотрел в окно. Аббат Мелани и его секретарь медленно удалялись по аллее сада. Я уже почти потерял их из виду, когда вспомнил про какой-то прибор, который незадолго до этого видел в покоях Атто, но так и не понял, что это такое. Я оглядел всю комнату: где же я его видел? Ага, вот и он, на кресле, в котором сидел аббат. Я не ошибся. На кресле лежала подзорная труба. И хотя я никогда не держал в руках ничего подобного, я знал, как она выглядит и для чего предназначена, поскольку знаменитый Ванвителли из Рима был известен тем, что использовал такой прибор, когда хотел поточнее изобразить прекрасные виды города, вызывавшие всеобщее восхищение. Итак, я взял подзорную трубу в руки и поднес ее к глазам, стараясь навести на удаляющиеся силуэты Атто и его секретаря. Я был потрясен способностью этого прибора приближать удаленные и увеличивать маленькие предметы, совсем как человеческий ум, который, если цитировать отца Тезауруса, умеет делать скучные вещи занимательными, а грустные – веселыми. С пурпурным от волнения лицом, прижавшись одним глазом к металлическому прибору, я непроизвольно направил его сначала на синь неба, затем на зелень растений, однако, как только у меня получилось навести этот мощный взор в нужном направлении, я тут же почувствовал себя сразу и орлом среди людей, и хищником среди млекопитающих. Я видел, как Атто остановился, чтобы учтиво раскланяться с несколькими кардиналами и дамой, которую сопровождали две молодые камеристки. Бюва, который уже держал в руке бокал своего любимого вина, споткнулся о какую-то доску и чуть не упал на благородную даму. Было заметно, как Мелани старательно извинялся перед тремя дамами, затем отвел Бюва в сторону и строго отчитал его, а тот, отставив бокал, неловко стряхивал землю со своих черных чулок. И в самом деле, прогуливаться по этим аллеям было не очень удобно: здесь всюду сновали слуги, лакеи и просто рабочие, убирая до сих пор валявшиеся под ногами гостей строительные материалы и даже инструменты. Увидев, что Атто и писарь встретили двух благородных господ и вступили в беседу с ними, я принял решение. Это был подходящий момент. Если французский волк проник в стадо испанских овечек, то мне сейчас представилась возможность пошпионить в логове французского волка. По правде говоря, я немного стыдился своей затеи. Аббат нанял меня и заплатил по-королевски. Поэтому я колебался. В конце концов я решил, что принесу гораздо больше пользы своему теперешнему хозяину, если лучше узнаю его потребности, включая те, которые он по каким-то причинам пока не раскрыл мне. Итак, я принялся осторожно обследовать его жилище в поисках писем, точнее, одного письма, вероятно написанного аббатом в наше отсутствие в состоянии сильного волнения. Я был уверен, что аббат еще не отправил его: по словам самого Атто, Бюва служил ему также в качестве копировщика корреспонденции, но сегодня он появился слишком поздно, чтобы успеть сделать копию для личного архива Атто, как это принято в высших кругах. Доказательством служил тот факт, что я не нашел на письменном столе никаких следов сургуча и не обнаружил свечи, на огне которой Атто надо было бы расплавить сургуч, чтобы запечатать письмо.
Я искал напрасно. В дорожном сундуке аббата и среди вещей, находившихся в двух шкафах его покоев, не было никаких писем. Рядом с географической картой и рукописью с несколькими кантатами я обнаружил кипу бумаг, испещренных пометками. Это была подборка объявлений и вырезок из газет, с многочисленными комментариями и замечаниями аббата. В большинстве из них речь шла о Святой коллегии кардиналов, причем некоторые замечания Атто касались довольно давних событий. В принципе, это было собрание сплетен и слухов, касающихся отношений между кардиналами, их соперничества, взаимных подножек и интриг. Я получил немалое удовольствие, перелистывая их, хотя и торопился. Ограниченный временем, я поспешно перешел к другому. Я открыл шкатулку для лекарств, где, однако, оказались только кремы и мази, духи для парика, флакон туалетной воды венгерской, королевы; во второй шкатулке я обнаружил маленькое зеркальце в оправе, заколки для волос, плетеные шелковые шнуры с драгоценными пряжками, элегантный пояс из ткани и два циферблата от часов. Я ничего, ну абсолютно ничего не нашел. Однако мое сердце забилось от страха, когда, развернув шерстяной платок, я обнаружил пистолет. С какой целью Атто приехал сюда? На свадьбу не приезжают с оружием. Семнадцать лет назад он выдал курительную трубку за пистолет, чтобы обратить наших противников в бегство, и ему вполне удалось обмануть врага. «Теперь же, наоборот, он, должно быть, не на шутку боится за свою жизнь, – подумал я, – если взял в поездку настоящее оружие». Бросив короткий взгляд на туфли и ботинки на шнуровке, я нехотя принялся рыться в одежде: как обычно, аббат привез ее столько, что хватило бы на десять лет. Я тщательно исследовал длинный ряд мантий, накидок, камзолов, манишек, трико, брандебуров, испанских шапочек и накидок, узорчатых поясов и жабо из венецианских кружев, узорчатых украшений, кюлотов, кружевных манжет, широкихштанов, повязываемых снизу лентами. Мои неуклюжие руки касались драгоценного шелка, блестящей органди, тонкого батиста, сафьяновой кожи, шелковой камки, тафты, репса, муара, бумазеи, вуали, флорентийского шифона, ратина, гладкого, складчатого и гофрированного полотна, узорчатого атласа с каемкой, миланского бархата и генуэзского сатина. Мой взор ласкал самые изысканные цвета, от лондонского дымчатого до жемчужно-серого, огненно-красного, зеленого, как мох, цвета засушенных роз, коричневого, алого, черного, как плоды красавки, сизого, серого, как порох, переливчатого перламутра и белого перламутра, каштанового, зеленого ульрихита, переливчатого серо-бобрового, вплоть до шитья золотой и серебряной проволокой, которая вплеталась или втягивалась в ткань либо накладывалась на нее, как рельеф. Разительным контрастом этим роскошным нарядам служила серо-фиолетовая льняная сутана, в которой аббат Мелани внезапно предстал передо мной после столь долгого отсутствия. Я с удивлением заметил, что в его роскошном гардеробе не было других вещей, не соответствовавших моде, даже наоборот. Довольно быстро я понял: Атто нарочно надел сутану для меня, чтобы изменения моды не подчеркивали того медленного распада, который происходит с лицом человека под влиянием времени, и он хотел чтобы его нынешний вид как можно больше отвечал моим воспоминаниям. Короче говоря, он знал, что я скучаю по нему, и желал произвести нужное впечатление. Еще сомневаясь, должен ли я быть благодарным ему или злиться (что зависело только от моей точки зрения), я осмотрел сутану, которая, признаюсь, воскрешала во мне дорогие воспоминания юности. На груди сутаны я нащупал предмет, который принял за украшение. Но он был прикреплен к изнаночной стороне. Итак, я вывернул сутану и с удивлением увидел фрагмент покрывала Богоматери с горы Кармель. Это чудодейственное покрывало, как обещала Пресвятая Дева, давало прощение тому, кто просил ее об этом, и освобождение от чистилища в первую субботу после смерти. Однако меня особенно заинтересовали три округлых выступа: в нашитом на покрывало кармашке лежали три маленькие жемчужины. Я сразу же узнал их. Это были три «маргаритки», три венецианские жемчужины, сыгравшие такую важную роль в нашем с Атто последнем бурном диалоге на постоялом дворе «Оруженосец» семнадцать лет назад, до того как мы потеряли друг друга из виду. Так я узнал, что аббат любовно подобрал жемчужины с пола, куда я швырнул их в припадке ярости, и сохранил их. Все эти годы он хранил их у сердца, возможно безмолвно молясь Пресвятой Деве Марии… Я подумал вскользь, что Атто, конечно же, не носил с собой эти жемчужины каждый день, раз забыл их в шкафу вместе с сутаной. Но, с другой стороны, он снова нашел меня и, таким образом, возможно, считал, что выполнил свой обет. «Ах, этот плут аббат!» – воскликнул я про себя, все же расчувствовавшись тем, что так дорог ему. Да, несмотря на старые обиды, я тоже всем сердцем любил его, и было бы бесполезно это отрицать. И поскольку чувства к нему, наполнявшие меня трепетом почти двадцать лет, не угасли от его недавних проступков, видимо, мне следовало волей-неволей смириться с этой любовью. Я отчаянно ругал себя за намерение шпионить за аббатом. Я уже направился к выходу, красный от стыда, но вдруг остановился на пороге: я был далеко не ребенок, и мои сердечные переживания не затмевали света разума. А разум нашептывал мне, что в любом случае не стоит доверять Атто. И вот мое душевное состояние вновь изменилось. «Если бы мне приходилось отвечать только за себя, – размышлял я, – я никогда не решился бы вторгаться в личную жизнь аббата. Однако глубокая привязанность Атто ко мне, как и моя к нему, не могла заставить меня забыть, что поручение, за которое я взялся, а именно вести запись всех его деяний в эти дни, с большой вероятностью (и я был в этом совершенно уверен) таило в себе разного рода ловушки и опасности. А если аббата обвинят в том, что цель его пребывания в Риме – шпионаж и влияние на ход будущего конклава? Далеко не безосновательное обвинение, поскольку аббат и не скрывал своих намерений защищать интересы его величества христианнейшего короля Франции в преддверии грядущих выборов понтифика. Кардинал Спада, мой хозяин, ничего не подозревая, гостеприимно предоставил Атто свой кров и теперь тоже может навлечь на себя подозрения. «Посему, – заключил я, – не только мое право, но и прямая обязанность, и не в последнюю очередь по отношению к своей горячо любимой семье, узнать, какой опасности я буду подвергаться и насколько она велика». Подавив таким образом угрызения совести, я снова занялся обыском. Поиски под кроватью и за ней, на шкафах, под сиденьями и подушками кресел и маленьким, украшенным золотыми перьями диваном с обивкой из парчи, не дали никакого результата. Ничего не обнаружилось и за картинами, не было ни малейших признаков того, что кто-то отделял раму от холста, чтобы что-нибудь спрятать там. Мои дальнейшие изыскания в самых дальних и темных углах комнаты оказались также напрасны. Еще меньше таилось в немногочисленных личных вещах Бюва в соседней скромно обставленной комнатушке. И все же я знал: Атто, насколько я помнил по нашей первой встрече, всегда путешествует с приличным количеством разных бумаг. Времена изменились, и я тоже. Но только не Атто: по крайней мере в том, что касается его привычек неисправимого интригана. Чтобы иметь возможность действовать, аббату нужно было знать. Чтобы знать, надо было помнить, а для этого служили письма, мемуары, записки, с которыми он никогда не расставался, то есть передвижные архивы шпиона. Именно в тот момент, когда я прервал свои тщетные поиски, утомившие мои глаза и пальцы, и дал волю воспоминаниям, меня посетило озарение. Точнее, воспоминание семнадцатилетней давности. Старое, но очень живое воспоминание о том, каким образом мы с аббатом нашли тогда ключ к тайне, к которой прикоснулись. Это тоже были бумаги, и мы отыскали их там, куда нас никогда бы не привели ни инстинкт, ни логика (как и хороший вкус): в грязных подштанниках. «Ты недооценил меня, аббат Мелани, – прошептал я, снова открывая корзину с грязным бельем и уже не копаясь среди вещей, В исследуя их. – Какая неосторожность, синьор Атто!» – подумал я с довольной улыбкой, когда, ощупывая подкладку больших подштанников, почувствовал под своими пальцами шелест бумаги. Я взял подштанники в руки: подкладка не была пришита к подштанникам, а крепилась к этой детали одежды маленькими крючками. Расстегнув их, можно было просунуть руку между двумя слоями ткани. Когда я сделал это, мои пальцы коснулись широкого плоского предмета. Я вытащил его. Это был пакет из пергамента. Он был хорошо сработан – в нем помещалось несколько бумаг, конечно, не так много, чтобы пакет оставался плоским, как речная камбала. С тихим чувством торжества я вертел его в руках. У меня было мало времени. Несомненно, Атто хотел исследовать виллу, а заодно узнать, кто еще из гостей приехал на свадьбу раньше времени, как и он сам. Но при малейшем поводе он мог вернуться в свои апартаменты и застать меня врасплох. Я шпионил за шпионом: надо было спешить.
* * *
Я развязал ленту, скреплявшую пакет. Перед тем как открыто его, я заметил какую-то надпись, сделанную мелкими буквами. Ее было настолько тяжело разобрать, что казалось, будто она предназначена только для человека, уже знавшего, что это такое.«Порядок наследования Испании – Мария».Я открыл пакет. Пачка писем, все адресованы Мелани, но все без подписи. Мне бросился в глаза нервный почерк, который, казалось, отражал чувства, переполнявшие того, кто их написал. Строчки как будто не хотели соблюдать границы листа: примечания и дополнения, сделанные автором в некоторых местах, каракулями вылезали на соседние строчки. Что бы там ни было, это письмо, без всякого сомнения, могло быть написано только рукой женщины. По всей видимости, речь шла о той самой таинственной Марии, имя которой, как я слышал, сегодня со вздохом прошептал Атто. Что касается порядка наследования испанского престола, то я вскоре мог сам узнать все очень подробно из этих бумаг. Первое же письмо, умышленно составленное так туманно, чтобы по нему нельзя было определить личность автора, не содержало важной информации, за которой могли бы охотиться злонамеренные читатели, начиналось приблизительно так.
«Мой дорогой друг, вот наконец я поблизости от Рима. События развиваются стремительно. Во время остановки до меня дошла новость, которая вам, должно быть, уже известна: несколько дней назад посол Испании, герцог д'Узеда, два раза имел аудиенцию у Папы. Через день после того, как посол появился перед святым отцом, чтобы поблагодарить Папу за пожалование титула кардинала его соотечественнику, монсиньору Борджиа, особый курьер доставил герцогу Узеде срочную депешу из Мадрида, которая заставила его просить повторной аудиенции у Его Святейшества. Он передал Папе письмо испанского короля, в котором речь шла о безотлагательном деле. El Rey просил посредничества Иннокентия XII в вопросе о наследстве! В тот же день государственного секретаря, нашего общего друга кардинала Фабрицио Спаду, видели направляющимся к герцогу д'Узеде в посольство на площадь Испании. Дело, видимо, дошло до решающего момента».Поскольку я отказался от привычки читать газеты, то не очень разбирался в вопросах испанского престолонаследия, в то время как таинственная корреспондентка, похоже, напротив, была хорошо информирована.
«Я думаю, весь Рим говорит об этом. Наш молодой католический король Испании Карл II умирает, не оставив наследников. El Rey[1296] уходит, мой друг, следы его краткого и полного страданий пребывания на земле стираются, но никто не может сказать, к кому перейдет его обширное королевство».Я вспомнил, что в состав Испании входят Кастилия, Арагон и территории, расположенные по ту сторону океана, – колонии, В также Неаполь и Сицилия. В общем, множество территорий.
«Окажемся ли мы достойны того трудного дела, которое ожидает нас? Эх, Сильвио, Сильвио! Как же тебя возвысило Небо, так рано улыбнулось счастье? Но берегись! Тот, кто раньше времени хочет быть слишком умным, не получит в награду ничего, кроме полного неведения».Я немного удивился: почему в этом письме к Атто обращались как к Сильвио? И что значили эти выражения, обвинявшие аббата в неопытности и душевной незрелости? Письмо заканчивалось таким же загадочным постскриптумом:
«Скажите Лидио: то, о чем он просил меня, я еще не могу ему сказать. Он знает почему».Я продолжил чтение. К письму прилагалось краткое резюме:
«Резюме нынешнего состояния дел»В нем заключалась самая различная информация и вкратце излагалась история наследования Испании на протяжении последнего времени.
«Испания в упадке, и никто сейчас не думает о католическом короле с таким же оправданным ужасом, с каким он обращает свой дух к христианнейшему королю Франции, Людовику XIV, старшему сыну Церкви. Но, слава Богу, властитель Испании правит Кастилией, Арагоном, Толедо, Галисией, Севильей, Гранадой, Кордовой, Нурсией, Иеном, Альгамброй, Алжиром, Гибралтаром, Канарскими островами, колониями за океаном, а также островами и материковыми территориями Океанского моря, Севером и Югом, Филиппинами и другими островами и странами, уже открытыми и теми, что будут открыты в будущем. Вместе с короной Арагона наследник Карла получит трон Валенсии, Каталонии, Неаполя, Сицилии, Майорки, Минорки и Сардинии. Не говоря уже о Миланском государстве, Брабанте, Лимбурге, Люксембурге, Гелдерланде, Фландрии и всех других провинциях Нидерландов, которые принадлежат или могут принадлежать королю. И тот, кто займет испанский трон, будет действительно властелином мира».Таким образом, король Испании, el Rey, как его называла таинственная корреспондентка, умирал, не оставив прямых потомков, из-за этого и было трудно решить, кто станет наследником множества владений, разбросанных в разных концах света, что сделало испанскую корону самой большой и могущественной империей на земле. Как мне стало ясно из продолжения письма, за некоторое время до этого был еще один наследник, который должен был сесть на испанский трон: юный курпринц Баварии Иосиф-Фердинанд, который по степени родства, несомненно, имел самые большие права на испанский трон. Однако около года тому назад Иосиф-Фердинанд внезапно скончался. Его смерть была настолько неожиданной и чреватой последствиями, что в придворных кругах половины Европы моментально распространился слух о его отравлении. Оставалось только два варианта: умирающий повелитель Испании Карл II мог оставить трон внуку французского короля Людовика XIV или подданному императора Австрии, Леопольду I. Оба варианта, однако, таили в себе множество опасностей и неопределенностей. В первом случае Франция, самая большая военная держава Европы, стала бы еще и самой могущественной монархией Европы и всего мира, объединив свои заморские владения с владениями испанской короны. В втором же случае, если Карл назовет наследником подданного Вены, возродится империя, которую удалось создать только великому Карлу Пятому: от Вены до Мадрида, от Милана до Сицилии, от Неаполя до далеких колоний в Северной и Южной Америке. Этот второй вариант был более вероятным, поскольку король Испании Карл II был из Габсбургов, как и Леопольд Австрийский. До этого момента, как объяснялось в письме, Франции удавалось сохранять равновесие сил (практически со всеми остальными европейскими государствами). Действительно, мир с Испанией держался очень долго. Что же касается врагов, Англии и Голландии, то Франция заключила с ними пакт о будущем разделе огромных испанских владений, поскольку давно уже было известно, что Карл II не может иметь детей. Но разглашение этого пакта месяц назад привело испанцев в ярость: король Испании не мог потерпеть того, чтобы другие государства готовили раздел его земель, подобно центурионам, заранее делящим одежду Господа нашего перед распятием. Рассказ заканчивался следующим выводом.
«Если el Rey скончается сейчас, то дело может сорваться. Пакт о разделе испанских земель будет слишком сложно осуществить. С другой стороны, Франция никогда не согласится на то, чтобы ее окружали владения Австрийской империи. Что же касается остальных правителей, начиная императором Леопольдом I и заканчивая королем Англии, не говоря уже о голландском еретике Вильгельме Оранском, то они не могут допустить того, чтобы Франция поглотила Испанию одним махом».Далее я прочел дополнение.
«Я знаю, что вы ждали меня сегодня, но непредвиденные обстоятельства заставили меня отложить, хотя и ненадолго, минуту, когда мы наконец сможем снова обнять друг друга. Ждите меня завтра после вечерни. Не упрекайте меня за отсрочку».Следующий документ, написанный другой рукой, был ответом Атто, который я так искал. Как я и думал, письмо еще не было запечатано, чтобы Бюва мог сделать копию для архива аббата.
«Милостивая госпожа, Как Вам известно, в последнее время послы всех стран и их повелители– короли теряют голову из-за вопроса об испанском наследстве. Все уши и глаза настороже и жаждут новостей и секретов, которые они могут вырвать у других государств. Все вращается вокруг послов Испании, Франции и Священной Римской империи, другими словами, вокруг Пенелопы и двух ее женихов. Три королевства ожидают мнения Папы по поводу наследства: Франция или Империя? Какой совет Его Святейшество даст королю-католику? Примет ли он решение в пользу герцога Анжуйского или эрцгерцога Карла?»Теперь мне стало ясно: в Риме решалась судьба испанской империи. По всей видимости, все три государства были готовы признать решение святого отца. На самом деле, в письме благородной дамы говорилось о посредничестве Папы, а не о его мнении.
«Здесь, в Риме, в воздухе чувствуется сильное напряжение. Чрезвычайно осложняет дело тот факт, что все три посла самых могущественных держав – Франции, Испании и Империи, как Вам известно, являются новичками в этой области. Граф Леопольд Йозеф фон Ламберг, посол Его Величества Леопольда 1 Габсбугрского, императора Священной Римской империи, прибыл сюда всего лишь шесть месяцев назад. Герцог Узеда, испанец, обладающий острым умом, находится здесь почти год. То же самое относится к дипломатическому представителю Франции, Луи Гримальди, герцогу де Валентинуа и принцу Монако, сварливому человеку, от которого больше вреда, чем пользы, и который из-за мелочных вопросов этикета уже успел перессориться с половиной Рима. Его Величество был вынужден отчитать его и напомнить, что задачей посла является поддержание плодотворных отношений со страной, гостем которой он является. Этот человек не способен сделать что бы то ни было полезное для Франции. К счастью, он не единственный человек, на которого христианнейший король Франции может опереться. Теперь что касается нас. Надеюсь, Вы вполне здоровы. К сожалению, не могу сказать того же о себе. Сегодня, прибыв на виллу Спада, я стал жертвой странного происшествия: какой-то незнакомец ранил меня ножом в руку».Честно говоря, тут аббат немного сгустил краски, описывая кровь, которая текла на его белоснежную рубашку, и операции хирурга, которые он стоически перенес, и так далее в волнующем крещендо:
«Ах, жестокий удар, который я чувствую всем телом! Какие страшные муки я перенес! У меня болит весь бок!»Неужели Атто хотел произвести впечатление на эту Марию? Тон письма казался весьма игривым. К этому аббат Мелани прибавлял, что, хотя сбир, которому поручено охранять виллу, считает, будто его ранил какой-то нищий, сам аббат опасается, как бы не стал объектом покушения противников, именно поэтому он собирался испросить частной аудиенции у посла Ламберга, как только тот, также приглашенный на свадьбу племянника кардинала Спады, появится на вилле.
«Однако, дорогая подруга, пусть сердце твое не болит. Сейчас нужно помнить о средствах, чтобы изменить эти страдания».Эти откровения удивили меня. Я, правда, заметил скептическую мину Атто, когда я пересказывал ему свой разговор со Сфасчиамонти, но теперь я понял, что у аббата есть конкретные подозрения. Почему он ничего мне не сказал? Он наверняка доверял Бюва, который копировал все его письма. Может быть, он не доверял мне? Это предположение, опять же, было маловероятным: Атто заплатил мне, чтобы я все эти дни выполнял роль его биографа. Однако же, возразил я сам себе, с аббатом Мелани нельзя быть ни в чем уверенным… Письмо заканчивалось жеманными фразами, и я не мог себе вообразить, чтобы они были написаны и сказаны им.
«Вы не представляете себе, какие страдания мне приносят Ваши слова о том, что Вы еще задержитесь перед воротами Рима. О жестокая! Как некогда мое счастье и жизнь находились в Ваших руках, так и теперь я должен носить Вашу стрелу в своем сердце. Написанное Вашей рукой письмо нанесло мне рану, следуя примеру Ваших прекрасных глаз. Кровь снова начала струиться из моей руки, и рука моя не перестанет кровоточить до тех пор, пока ей не выпадет счастье и честь снова ощутить Вашу руку. Поэтому поспешите скорее добраться до виллы Спада и встретиться со мной, моя горячо любимая подруга, иначе моя смерть будет на Вашей совести».После этих невыносимо слащавых строк я прочел постскриптум:
«Итак, даже сейчас счастье Лидио по-прежнему ничего для Вас не значит?»Вот и снова появилось упоминание о Лидио. Я даже не спросил себя, кто этот незнакомец со странным именем: чтобы понять это, мне нужно сначала узнать, кто такая эта таинственная подруга аббата Мелани.
Итак, подытожил я, эту Марию среди прочих гостей ждут на свадьбе. Она опаздывает; этим объясняется огорчение, написанное на лице аббата Мелани, когда он читал ее письмо. Я подумал, что сия благородная дама, без сомнения, уже в возрасте, поскольку аббат обращался к ней как к старому другу. Кроме того, в обоих письмах ни единым словом не упоминалось о ее семье: создавалось впечатление, что она путешествует одна. «Должно быть, она действительно очень важная особа, – подумал я, – и имеет высокий статус, раз ее решились пригласить одну на эту свадьбу: зрелые дамы, будь они вдовами или нет, в основном уединялись в молитвах, а то и вообще уходили в монастырь. Они удалялись от общества, и их беспокоили только для благотворительных дел. Ко всему прочему эта дама, видимо, исключительная особа, если приняла такое приглашение». Во мне росло любопытство, хотелось познакомиться с ней или хотя бы узнать, кто она. Я пробежал глазами остальные письма из пачки: их написала она. В этих письмах речь также шла о событиях в Испании. Вероятно, она была испанкой. А может, итальянкой (если так легко писала на моем родном языке), живущей В Испании или, по крайней мере, имевшей там владения. К сожалению, личность этой дамы в письмах тщательно скрывалась. Мне оставалось только дожидаться, и кто знает, как долго, ее приезда на виллу. Или доверительно спросить, кто она, у писаря. Я отложил чтение остальных писем на следующий день: я и так уже достаточно воспользовался отсутствием аббата и его секретаря и не мог рисковать быть обнаруженным.
* * *
Как я и намеревался сделать, до того как проникнуть в апартаменты аббата, я спустился на нижний этаж, чтобы подкрепиться и предоставить свои услуги в распоряжение дворецкого. Повесив па место ключи от покоев аббата, я собирался зайти в кухонные помещения, но увидел, как оттуда выходит красный и запыхавшийся кучер, который работал у кардинала Фабрицио во дворце Папы. Я спросил у венецианки-молочницы, которая привозила свои продукты на виллу, не случилось ли чего. – Да нет, ничего. Просто в последние дни кардинал Спада всегда торопится, кажется, у него много дел во дворце Папы. Наверняка это что-то очень важное: его преосвященство все время не в настроении, а кучер только и знает, что возить хозяина от дома какого-то посла к дому какого-то кардинала и наоборот. И все из-за какой-то истории с папской грамотой, или как это там называется. Мне тоже приходится страдать от его гнева. На меня это произвело огромное впечатление. Вот она, сила женщины: этой скромной молочнице было достаточно провести на кухне несколько минут, чтобы узнать то, чего мне не выведать и за день, даже если очень повезет. Впрочем, меня это не удивило: с тех пор как моя Клоридия стала одной из наиболее уважаемых среди благородных римлянок (и их служанок) акушерок, она каждый день приносила домой столько новостей, что я мог бы регулярно заполнять ими целую газету. – Да, и передайте вашей жене поклон от меня и обнимите малышек, – добавила молочница, будто читая мои мысли. – Вы знаете, беременность моей сестры протекает просто замечательно, с тех пор как ваша Клоридия вразумила этого тупицу, моего шурина. Ваша жена – чудесная женщина, правда! Конечно, я знал, что для женщин Клоридия уже не только простая акушерка, но еще и настоящий друг, советчица, к которой они могли обратиться за помощью в самых интимных и деликатных вопросах. Она знала и как вести себя мужу во время беременности жены, и как отнять ребенка от материнской груди, для всех у моей жены находились улыбка и нужное слово. Клоридия была настолько умелой, что знаменитый medicus и хирург Байокко посылал за ней, чтобы она ассистировала ему при родах в госпитале Фатебенефрателлина на острове Сан-Бартоломео. Приветливая, веселая и отважная, всегда готовая к шуткам, Клоридия успокаивала роженицу, обещая, что роды пройдут без особой боли, – дескать, об этом ей говорят известные только ей признаки, которые, как она уверяла, уже наблюдались у других. Такая практика ободрения больных, не исключающая даже лжи, рекомендовалась самим Платоном в работе «Государство». Короче говоря, после пятнадцати лет работы акушеркой Клоридия стала считаться среди женщин чем-то вроде семейного судьи. Распрощавшись с молочницей, я освободил себе немного места на краю большого стола, за которым слуги жадно уплетали ужин. Молча расправляясь со своей едой, я раздумывал над словами Атто: для того чтобы познать мир, нужно держать свои глаза, уши и разум настороже. Не этим ли советом пользовалась И моя Клоридия? Мне же, как видно, такое не удавалось, и я хорошо понимал: в этом пункте я не продвинулся ни на шаг вперед, С тех пор как, еще будучи невинным юношей, работал слугой на постоялом дворе «Оруженосец». Тогда меня сковывал недостаток опыта, зато теперь мешал его избыток, заставляющий испытывать отвращение к убогой повседневной суете. Видимо, моя жена была права, упрекая меня в том, что я – второй Simplicius, святая простота. И на самом деле, склонившись над мотыгой или по воскресеньям над своими книгами, я ничего не видел, не слышал и никогда ни о чем не спрашивал. Я остерегался m водить дружбу с соседями, так что мы едва знали друг друга. Поэтому, когда я узнавал какую-либо новость и вечером рассказывал ее Клоридии, она всегда отвечала мне: «Тебя это удивляет? Это старая сплетня! Об этом уже давно всем известно!» Да, мир вызывал во мне чувство презрения, но также, признаюсь, и страх перед ним – тем злом, которое я познал в мире. Однако сейчас кое-что изменилось. Внезапное появление аббата Мелани глубоко потрясло мою жизнь. Я уже сейчас знал, что Клоридия будет смеяться надо мной, когда я скажу, что снова поддался на уговоры Атто, однако разве это могло что-нибудь изменить? Я очень любил ее, даже когда она строила из себя всезнайку и со смехом отчитывала меня, как школьника. Сейчас же, когда она своими глазами увидит тысячу двести скудо, которые нам принесли мои мемуары, ей не будет смешно… Да, кое-что изменилось: даже если я все еще чувствовал себя карликом – как телом, так и душой – и таким мне суждено было и остаться, вероятно, пришла пора извлечь на свет Божий и использовать те немногие таланты, которыми одарила меня судьба. Ведь с Атто всегда знаешь, где начнешь, но не знаешь, чем это окончится. Но, с другой стороны, обнаруженный мною фрагмент покрывала Богоматери доказывал, что с возрастом у аббата Мелани значительно усилился страх перед Богом. Чем я на самом деле был обязан Атто? Я обязан ему не только разочарованием, породившим недоверие к нему, но и тем хорошим, что появилось в моей бедной жизни, а именно Клоридией. По правде говоря, если бы семнадцать лет назад аббат не появился, чтобы внести смуту в мою жизнь и в жизнь гостей постоялого двора «Оруженосец», я бы не встретил свою обожаемую супругу и она так и осталась бы навсегда пленницей постыдного ремесла, которым занималась, когда мы познакомились. Кроме того, я никогда не познал бы науку о человеческой мысли и не узнал бы законов этого мира, через призму которых с тех пор я взираю на этот самый мир. Горькая наука, которая тем не менее выковала мужчину из того заикающегося от страха мальчика на побегушках, каким я был.Закончив ужинать, я оставил свои размышления и встал из-за стола, чтобы обдумать последнюю новость. Судя по тому, что рассказала мне молочница, аббат Мелани был прав. На верхних этажах папского дворца на Монте Кавалло происходило нечто важное.
* * *
Я едва успел любезно попрощаться с главным поваром и выйти из кухни, как чей-то голос призвал меня к моим обязанностям: – Господин главный птичник! Человек, который звал меня, наградив титулом, собственно говоря, мне не полагавшимся, был как раз тот, кого я искал: дворецкий дон Паскатио Мелькиори. Для дона Паскатио не было ничего важнее на свете, чем оказать почтение особым правам тех людей, чьей работой он руководил, причем делал он это с бесконечной помпезностью и огромным воодушевлением. И поскольку первое, к чему, по его мнению, надлежало относиться с почтением, была должность, то всех своих подчиненных он щедро одаривал титулами, достойными славного дома Спады, которому мы все служили верно и преданно. Так и получилось, что я, чаще других поставлявший в вольеры пищу и воду, удостоился звания главного птичника. Крестьянин, живший неподалеку и периодически занимавшийся обрезкой веток, копкой и удобрением грядок, именовался не Джузеппе, как его звали на самом деле, а «главным подрезчиком ветвей». Виноградарь Лоренцо, который продавал вилле Спада мускатный виноград и белое вино, имел Титул «господин главный винодел». Со временем дон Паскатио присвоил подобные звания всем слугам виллы Спада, даже таким скромным, как я. Когда дворецкий делал обход поместья, только и слышно было, как в воздухе витают самые высокопарные обращения: «Добрый день, господин главный конюх!», «Добрый вечер, господин заместитель главного поставщика продуктов!», «Господин помощник раздельщика, извольте показать мне обеденный стол!» – хотя он имел в виду всего лишь помощника конюха, торговца, поставлявшего продукты на кухню, и мальчика, помогавшего повару, причем обращался к собеседнику в третьем лице. И это он делал не только из чистой любви к изящной словесности, |но и из огромного уважения к службе у своего хозяина. Несомненно, если бы его попросили отрезать себе палец, то он сначала поразмышлял бы некоторое время над этой просьбой, прежде чем ответить отказом. Зато никто не мог потребовать от него не считать службу у достойной и благородной семьи Спады наградой и удовольствием, поэтому служил он верно и надежно. Услышав, как я прощаюсь с главным поваром, дон Паскатио счел мою фразу «До завтра, начальник!» слишком фамильярной. – Да будет вам ведомо, господин главный птичник, – с вежливой серьезностью заметил он мне, словно предостерегая от опасности, – под началом у главного повара есть просто повар, раздельщик, поварята и главный мясник, а кроме того, естественно, главные поставщики продуктов. – Дон Паскатио, я знаю, я… – Да будет мне позволено договорить, господин главный птичник. Хороший шеф-повар должен приготовить список расходов для главного кладовщика и проверить, чтобы то, что было закуплено, совпало с тем, что он подписал, равно как и обязан позаботиться о том, чтобы съестные припасы из кладовки попали непосредственно в руки повару. Диспозиция же продуктов… – Поверьте, я только хотел… – тщетно попытался я перебить его. – …продуктов, говорю я, которые должны быть превосходными как для обычной трапезы, так и для банкетов, всецело зависит от таланта и способностей нашего главного повара, который, будучи непревзойденным в сей должности, умеет из малого сделать большое и за скромную сумму подаст на стол такой набор блюд, какой менее опытный повар не сможет составить и за сумму вдвое большую. Те главные повара, которые не умеют управлять подчиненными и составлять меню, наносят ущерб собственной чести и чести своего хозяина, выставляя себя на посмешище. Господин главный птичник успевает за ходом моих мыслей? – Да, дон Паскатио, – подобострастно кивнул я. – Ибо главный повар должен следить еще и за тем, чтобы провизия хорошо охранялась, чтобы еда была готова вовремя, чтобы блюда были поданы на стол в необходимом количестве и в нужное время, дабы они не остыли, и чтобы пища соответствовала вкусовым пристрастиям хозяина, наконец, чтобы в кладовую и в тайную кухню, которой он командует, не заходил никто посторонний, а в некоторых случаях даже домашняя прислуга. Кроме вышесказанного, он должен с высочайшей бдительностью следить за тем, чтобы еда, которую вкушает его хозяин, была отменного качества, посему ее должно касаться как можно меньше рук, во избежание порчи или даже отравления. Короче говоря, господин главный птичник, главный повар держит в своих руках жизнь собственного хозяина. – Я понимаю, о чем вы говорите, но я всего лишь позволил себе попрощаться с… – Дорогой господин главный птичник, на основании того, что я сейчас позволил себе восстановить в вашей памяти, обращаюсь к вам с просьбой прощаться и здороваться по правилам, установленным в доме Спады, а также с надлежащим почтением обращаться к главному повару, – изрек дворецкий скорбным голосом, словно нанес объекту нашего обсуждения, который в этот момент уже давно думал о чем-то своем, глубокую обиду. – Хорошо, я обещаю вам это, глубокоуважаемый господин дворецкий, – ответил я, невольно попадая под влияние его речи, изобилующей официальными оборотами, хотя вообще-то я обычно обращался к дону Паскатио по фамилии. Однако, как видно, природные наклонности дона Паскатио обострились из-за серьезной подготовки к свадьбе. – Господин главный птичник, – сказал он мне наконец, – Как мне было сообщено, некий чужеземный кавалер, удостоивший нас чести принимать оного в качестве личного гостя его высокопреосвященства кардинала Спады, изъявил желание, чтобы вы прислуживали ему в эти дни. Мне известно, что речь идет о важной персоне, и я не желаю вмешиваться, но надеюсь, что вы будете выполнять также свои обычные обязанности с тем же пылом, разумеется, если сие не будет противоречить желаниям вышеупомянутого кавалера. – Простите, но откуда вам это известно? – спросил я не без удивления. – Так мне доложили, очень просто и… да, я надеюсь, что могу рассчитывать на вашу лояльность и ответственность, – ответил дон Паскатио. Было совершенно ясно, что Атто Мелани отвалил кое-кому приличную сумму денег, вероятно, тому же дворецкому собственной персоной, дабы в эти дни без помех пользоваться моими услугами, к тому же, поступая таким образом, аббат заслужил репутацию человека, который может быть сверх меры щедрым, если, конечно, захочет.Я заявил дону Паскатио, что в данный момент, если он пожелает, я в его распоряжении. – Ну конечно, дорогой господин главный птичник, – ответил тот, с трудом подавляя распирающее его тщеславие, – действительно, тут есть пара вещей, которые вы могли бы взять на себя, поскольку кое-какие особы, как бы это сказать, предали нас. И тут он поведал мне, что некоторые слуги сегодня в послеобеденный час непостижимым образом скрылись, не прибив доски на трибунах для зрителей в театре, тем самым воспрепятствовав тому, чтобы тот был своевременно готов, как того настоятельно требовал кардинал Спада еще несколько недель назад. Я знал причину(вообще-то довольно пошлую) их дезертирства: они обнаружили группу юных крестьянок и удалились, дабы пофлиртовать с ними, в виноградники перед Порта Сан-Панкрацио за домом Корсини возле Кваттро Венти[1297] – обстоятельство, о котором я умолчал не столько из-за нежелания быть доносчиком, сколько потому, чтобы не омрачать настроения дона Паскатио еще больше. У дворецкого даже сейчас был унылый вид: снова его подчиненные подвели его, и головомойка, которую устроил ему кардинал Спада, не прошла бесследно. – Я представил его преосвященству список лиц, которые должны быть наказаны, – соврал он, не зная, что я подслушал его разговор с кардиналом. – А до тех пор все же срочно, нужны работники. Было бы очень кстати, если бы вы, господин главный птичник, употребив свои разносторонние таланты, обладание которыми вы доказали на службе благородному дому Спады, надели бы приличествующий случаю наряд, точнее говоря – ливрею, и могли бы принять участие в сервировке еды и напитков за вечерней трапезой, насколько это соответствует потребностям гостей его превосходительства. Они сейчас все на лугу около фонтана и приступают к ужину. Я буду поблизости. А теперь я попросил бы господина главного птичника удалиться.
Я уже хотел надеть ливрею, но отшатнулся от страха: мне вручили белый тюрбан, кривую саблю, пару арабских остроносых башмаков без задников, шаровары, тунику и украшенный арабесками кушак, которым следовало обмотать себя по грудь. Я уже не говорю о том, что все это было на три размера больше, чем надо. Ах да, забыл сказать: было решено провести вечерний банкет, обставив его в экзотическом восточном духе, таким образом, ливреи не понадобились. Длинный лихой султан, красовавшийся на моем головном уборе, не оставлял ни малейшего сомнения в том, что это была форма янычар – той самой могучей и грозной лейб-гвардии турецкого султана. И это было еще ничто в сравнении с тем, что мне пришлось пережить позже. Итак, после того как я надел сию турецкую форму, меня снабдили двумя большими серебряными подносами, дабы на первом подавать холодные блюда – свежие фиги, сервированные на своих листьях, украшенные своими цветами и покрытые «ледяным снегом»,[1298] а на втором подносе – филе тунца, нарезанное красивыми пластинами. Другие слуги разносили паштет из рыбьей икры, Генуэзские торты, шампура с фисташками и ломтики цукатов из лимонных корочек, откормленных каплунов, пятнистую речную камбалу в трехцветной декорации, королевский салат и охлажденные на льду белые торты. Я прошел через большую арку и свернул в аллею, ведущую от дома к фонтану, а оттуда – к столам. По пути меня просто очаровал душистый аромат индийских нарциссов, доннабеллы[1299] и только что распустившихся осенних безвременников, который источали цветочные клумбы, расположенные параллельно дорожке, ведущей ко входу в виллу, и доносил свежий ветерок, поднимавшийся от мягких влажных комьев земли виноградника. Наконец дневная жара растворилась в нежных объятиях вечерних сумерек. Дойдя до места, я немало подивился красоте и расточительной роскоши декораций. Под куполом звездного неба турецкие павильоны, установленные на мягком травяном ковре, волшебным образом создавали впечатление настоящего восточного дворца, хотя на самом деле они были из тончайшего мерцающего армянского шелкового батиста, натянутого на изящные деревянные рамы. Каждый павильон был увенчан золоченым полумесяцем. Вокруг были зажжены чаши с древесным углем, из которых широкими спиралями поднимались облака благоухающего дыма, настраивая дух человека на мирный лад и лаская его чувства. На незначительном расстоянии от них, но все же защищенный от посторонних взглядов искусственной живой изгородью, был установлен намного более скромный стол для секретарей (и среди них был Бюва, уже щедро снабжающий себя полными бокалами вина), адъютантов и лиц, сопровождающих высших духовных особ и дворян, ведь многие из этих выдающихся личностей уже были в преклонном возрасте, а посему их помощники должны были всегда находиться неподалеку. В то время как мы ожидали возле главного стола, установленного на широком восточном ковре цвета верблюжей шерсти, остальные янычары, обливаясь потом, но оставаясь неподвижными, с большими факелами в руках стояли вокруг стола, освещая его ярким светом. И вот среди такой красоты началась вечерняя трапеза, открываемая как раз теми блюдами, которые должен был подавать я вместе с другими. Почти одуревший от пышности и роскоши этого большого театра наслаждений, я приблизился к столу, стараясь обслужить гостей в соответствии с указаниями главного сервировщика. Тот, как и полагалось, занял пост за одним из факелов, чтобы, как музыкант, дирижировать своим оркестром, состоявшим из мирной армии официантов. Только что последнему из гостей был подан бокал вина, и я подался вперед к столу. Я заметил, что обслуживаю какую-то важную особу, поскольку дон Паскатио и главный повар горящим взором озабоченно наблюдали за каждым моим движением. – …Итак, я спросил его еще раз: ваша светлость, как вы думаете решить эту проблему? Святой отец как раз завершил свою трапезу и в тот момент мыл руки. И он ответил мне: как, монсиньор, вы не видите? Как Понтий Пилат! Все гости за столом громко засмеялись. Я был настолько взволнован своей странной и неожиданной задачей, что этот взрыв веселья, поистине неожиданный в кругу высших церковных особ и личностей дворянского происхождения, почти парализовал меня. Это был кардинал Дураццо, развеселивший общество тем, что рассказал злой анекдот об одном из Пап, процитировав его, а этих Пап он за свою многолетнюю карьеру повидал немало. Только одно-единственное лицо на другом конце стола осталось невозмутимым, почти ледяным; позже мне довелось узнать причину этого. – Как бы там ни было, он был святым Папой, одним из самых добропорядочных Пап во все времена, – добавил Дураццо, в то время как некоторые гости только сейчас начали успокаиваться и вытирали слезы, вызванные неудержимым смехом. – Святой, воистину святой, – эхом повторил другой кардинал, поспешно вытирая салфеткой пролившееся на подбородок вино. – Во всей Европе его хотят провозгласить святым, – дополнил кто-то с другого конца стола. Я поднял глаза и увидел, что главный повар и дон Паскатио всячески пытаются привлечь мое внимание, лихорадочно размахивая руками и показывая мне на что-то прямо перед моим носом. Я поглядел туда: кардинал Дураццо смотрел прямо на меня и ждал. Оторопев от общего смеха, я забыл подать ему еду на стол. – Так что, мальчик, ты, наверное, хочешь, чтобы я, не в пример Понтию Пилату, пребывал, подобно господу нашему Иисусу Христосу, в пустыне? – спросил он, снова вызвав громкий смех за столом. Весьма поспешно, одолеваемый достойным сожаления чувством душевного смущения, я подал кардиналу и его соседу по столу инжир. Я знал, что допустил непростительную ошибку и опозорил дом Спады, не говоря уже о том, что сам я, пусть только на пару минут, стал посмешищем для приглашенных. Мои щеки горели, я проклинал тот момент, когда предложил дону Паскатио свою помощь. Я не решался поднять глаза, зная, что глубоко озабоченный взор дворецкого и горящий от гнева взгляд главного повара устремлены на меня. К счастью, этот ужин еще не относился к числу собственно праздничных. Даже кардинала Спады не было за столом, он собирался появиться лишь через два дня, к официальному началу празднеств. – …все же имеются основания предполагать, что он вскоре снова поправится. В любом случае, такая надежда есть, – продолжил кто-то серьезным тоном, пока я подавал на стол. – Да, на это надеются, – подтвердил монсиньор Альдрованди, правда, в то время я еще незнал его фамилии. – В Болонье, откуда я сегодня приехал, меня постоянно спрашивают, есть ли какие-то новости о здоровье его, каждый день, даже каждый час. Все очень озабочены. Я понял, что речь идет о состоянии здоровья Папы Римского и что каждый из говоривших старался вставить свое. – Будем надеяться, будем надеяться. И молиться. Молитва может творить все, – призвал другой прелат мрачным голосом (однако прозвучало это как-то неубедительно) и перекрестился. – Как много хорошего он сделал для Рима! – Хоспис Святого Михаила на Рипа Гранде, и потом каждый год сто сорок тысяч скудо для бедных… – Жаль, что ему не удалось осушить Понтийские болота… – заметила княгиня Фарнезе. – Ваша светлость позволит мне напомнить, что нынешнее плачевное состояние Агро Понтино и зловредные испарения, идущие оттуда и досаждающие Риму, являются не природным феноменом, а следствием непродуманного истребления лесов, которое проводилось прежними Папами, в первую очередь Юлием II и Львом X, – ответствовал монсиньор Альдрованди, пытаясь в корне пресечь малейший намек на какие-либо неудачи нынешнего Папы, – а также, если не ошибаюсь, Папой Павлом III… Заключительные слова в вежливой форме намекали на тот факт, что принцесса была из рода Папы Павла III, Алессандро Фарнезе. – Лес в Баккано был вырублен потому, что там имели обыкновение прятаться убийцы и воры, – парировала она удар. – Так же, как сейчас леса в Сермонете и Чистерне, – горячо вступил в разговор еще один сосед по столу, которым, как я потом узнал, был князь Каэтани. – Их нужно вырубить, и дело с концом. Я имею в виду, разумеется, только по официальному разрешению, – смущенно добавил он, натолкнувшись на холодное молчание своих слушателей. Дело в том, что князья Каэтани обращались к каждому новому Папе с прошением о разрешении на вырубку этих принадлежавших им лесов, поскольку хотели извлечь выгоду из обладания землей. – Лучше помолимся Богу, чтобы он сохранил нам эти леса, равно как и леса возле Альбано Лациале, – ответил монсиньор Альдрованди с улыбкой, – ибо, если они действительно будут вырублены, Рим окажется беззащитен перед нездоровыми южными ветрами – аустро, сирокко, либеччио! Каэтани, выслушал замечание не моргнув глазом. – В окрестностях античного Рима не было никаких болот, – невозмутимо продолжал монсиньор Альдрованди. – Лесу моря, защищавший Рим от южных ветров, был вырублен Григорием XIII, чтобы наполнить городские закрома зерном, но этим самым был нанесен немалый вред воздуху Агро Романо. – Позволю себе заметить, что Павел V сделал все, чтобы помешать Орсини вырубать леса возле Пало и Черветери, – вставила княгиня Россано, которая была замужем за одним из Боргезе, то есть принадлежала к тому же роду, что и упомянутый великий Папа Римский. – Его Святейшество Иннокентий XII ежегодно издает указы о защите лесов, – спокойно ответил монсиньор Альдрованди. – В Романии ему также удалось бы все отрегулировать, если бы между Болоньей и Феррарой не начались раздоры. То же самое относится к порту Анцио: Папа не смог завершить его строительство, поскольку не хватило денег, а он никогда не хотел слишком прижимать народ. Несмотря на все трудности, Его Святейшество всегда уделял внимание важным проблемам. Разве не он принял решение о том, что год должен начинаться 1 января, а не 25 марта? Ответом ему был одобрительный гул присутствующих, по крайней мере тех, кто не столь самозабвенно углубился в обсуждение сплетен с соседом по столу. – Печально, что он приказал снести театр Тор ди Нона, – заметил кавалер, который не смеялся при шутливых замечаниях кардинала Дураццо. Монсиньор Альдрованди, который не понял, что его хвалебные оды Папе больше походили на льстивый некролог, конечно, смог пресечь первую попытку неприкрытой критики понтифика, однако при этом втором критическом замечании (по поводу непопулярного решения разрушить один из самых красивых театров Рима) сделал вид, будто ничего не слышал, и повернулся к соседу, оказавшись, таким образом, спиной к говорящему. Мне посчастливилось услышать шепот двух дам, обменивавшихся мнениями, пока я подавал им блюда: – Вы видели кардинала Спинолу из Санта-Сесилии? – Еще бы! – захихикала ее соседка. – Чем ближе конклав, тем больше он старается внушить всем, что его больше не мучает подагра. И чтобы, как и раньше, входить в круг избранных, он скачет везде, словно маленький мальчик. А сегодняшний вечер здесь – как он ест, как пьет, и это в его-то возрасте!.. – Он дружит с кардиналом Спадой, хотя оба пытаются это скрывать. – Знаю, знаю. – Кардинал Албани не показывается? – Он приедет через два дня, к самой свадьбе. Говорят, он должен заниматься каким-то очень важным папским указом. Стол имел форму подковы. Когда я уже был в его конце и обслуживал гостя, черты лица которого показались мне знакомыми и которого я очень скоро узнал поближе, я вдруг почувствовал быстрый, но очень сильный толчок под руку. Это была катастрофа. Инжир, полетевший в левую сторону вместе с салатом, цветами и «ледяным снегом», попал прямо в лицо и на одежду благородному пожилому господину, которого я уже обслужил раньше. Поднос с громким ударом, словно треснувший колокол, грянулся оземь. Веселый и одновременно возмущенный ропот прошел по рядам гостей. Пока пострадавший дворянин, стараясь сохранить достоинство, собирал инжир со своей одежды, я в панике оглянулся. Как мне объяснить дону Паскатио, главному повару и всем гостям, что это не моя вина, что гость, которого я как раз обслуживал, толкнул меня под руку так, что поднос полетел в воздух? Я смотрел на него, исполненный гнева, но молчал, слишком хорошо зная, что ничего не смогу сделать против него, поскольку, как всегда, виноват только слуга. И тут я узнал его. Это был Атто.
Наказание наступило быстро и незаметно. Через каких-то пять минут у меня в руках вместо подноса уже был один из огромных, тяжелых, словно свинец, горящих факелов, ярко освещавших вечерний стол. Я, застывший и неподвижный, должен был на протяжении всего ужина изображать человека-канделябра. Я готов был лопнуть от злости на Атто Мелани, а мой мозг просто разрывался от попыток понять, почему аббат играет со мной в такую жестокую игру, за что он так наказал меня и поставил под угрозу мою нынешнюю и будущую работу на вилле Спада. Ужин продолжался, и я напрасно пытался поймать его взгляд, поскольку меня поставили как раз за его спиной и мне не оставалось ничего другого, как пялиться ему в затылок. Превращенный таким образом в последователя Пьера дель Винье, я старался внушить себе, что должен держаться мужественно: ведь было только начало ужина и надо было вооружиться терпением. Только что подали первую перемену горячего блюда: яйца-пашот в молоке, суп со сливочным маслом, ломтики цукатов из лимонных корочек с сахаром и корицей, затем вареную голову осетра с травами, лимонным соком и перцем, в собственном белом соку со вкусом миндаля (по одному куску на каждого гостя). Жар, исходивший от факела, был просто невыносим, и под моим турецким тюрбаном градом катился пот. «И правильно сделали эти слуги, – сказал я себе, – что сбежали с виллы Спада, чтобы покрутить с крестьянками». Однако в глубине души я отдавал себе отчет в том, что никогда не смог бы пересилить себя и предать дона Паскатио, оставив его в беде в эти трудные дни. Единственным утешением в этой мучительной неподвижности при невыносимой жаре было сознание того, что я делил эти тяготы с семью другими товарищами по несчастью и, по большому счету, что я был зрителем на этом собрании кардиналов и аристократов. Кроме того, место, где я стоял, было весьма своеобразным, в чем мне вскоре пришлось убедиться. Я всячески казнил себя за свою оплошность, как вдруг Атто повернулся ко мне. – Все хорошо, мальчик, но здесь, где я сижу, так темно, что я будто нахожусь в пещере. Ты можешь подойти со своим факелом поближе? – обратился он ко мне громким голосом и с сердитой миной на лице, как будто я был каким-то мелким, незнакомым ему слугой. Мне не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться; таким образом, я встал позади него, и мой факел освещал его часть стола так хорошо, как только мог. Впрочем, она была и без того хорошо освещена. Что же, ради всего святого, опять задумал Атто? Зачем он только что сыграл со мной злую шутку и снова мучает меня? Тем временем разговоры за столом вращались вокруг ничего не значащих тем. К сожалению, я не всегда мог видеть говоривших, обреченный на неподвижность. К тому же большинство лиц и голосов в тот вечер были мне еще не знакомы (в следующие дни, однако, мне пришлось узнать почти всех гостей, и весьма хорошо). – …да извинит меня монсиньор, но только егерю разрешается носить аркебузу. – Конечно, ваше преосвященство, однако позвольте мне разъяснить вам, что он может поручить нести аркебузу слуге-конюху. – Ну, хорошо. И что? – Как я уже сказал, если дикий кабан труслив и не решается вступить в схватку на открытом поле, его убивают из аркебузы. Так было принято раньше в земельных владениях Каэтани, а они самые удобные для охоты. – Да нет же! Что же тогда говорить о владениях князя Перетти? – Да простит мне драгоценное общество, я не хочу вызвать ничьего недовольства, однако все это ничего не значит по сравнению с поместьями герцога Браччиано, – поправила говорившего княгиня Орсини, вдова упомянутого герцога. – Ее светлость, очевидно, имеет в виду земельные владения князя Одескальки, – тихо заметил кто-то холодным голосом. Я посмотрел в ту сторону: это был тот самый аристократ, который после реплики кардинала Дураццо о Папе, сравнившем себя с Понтием Пилатом, не присоединился к общему смеху. Казалось, на секунду застолье погрузилось в ледяной холод. Стараясь защитить добрую память о владениях семьи, княгиня Орсини забыла, что семья Орсини, дабы избежать банкротства, продавала один за другим участки земли князю Ливио Одескальки и что эти владения, как и относящиеся к ним ленные поместья, вместе с владельцем поменяли и свое название. – Согласна, вы правы, дорогой кузен, – примирительно откликнулась княгиня, обращаясь к сидевшему напротив нее мужчине по-французски, как принято обращаться к близкому другу или родственнику в дворянских кругах, – и просто счастье, что эти владения сейчас носят имя вашего дома. Тот, кто возразил княгине, был не кто иной, как дон Ливио Одескальки собственной персоной, он же племянник покойного Папы Иннокентия XI. Значит, анекдот кардинала Дураццо был об этом Папе, и, естественно, князь Одескальки, обязанный покойному дяде всем своим несметным богатством, не мог смеяться над ним. Наконец-то я увидел его лично – племянника того самого Папы Римского, о котором семнадцать лет назад на постоялом дворе «Оруженосца» я услышал такие вещи, от которых волосы на голове становились дыбом. Я прогнал из своей памяти воспоминания обо всем том, что принесло тогда моей жене и моему блаженной памяти тестю столько страданий. В этот вечер я также узнал, что дон Ливио имел ложу в театре Тор ди Нона, которую он не мог, естественно, более посещать, поскольку театр был разрушен по приказу нынешнего Папы. Вот поэтому он и нанес монсиньору Альдрованди тот словесный укол. – Клянусь кузницей Гефеста, мальчик, ты поджаришь мне шею. Ты не мог бы стать вон там подальше? Атто снова обернулся и грубо напустился на меня, подталкивая рукой на новое место, уже не возле себя. Таким образом, с помощью двух указаний он передвинул меня на другой конец стола. Ужин проходил в необычайно свободной атмосфере, очень сильно отклоняясь от правил этикета и привычной тематики разговоров, что было заметно даже мне, человеку не знакомому с такими обычаями высших слоев общества. Лишь время от времени в разговоре проскальзывали то непреодолимая воинственная гордыня знатных аристократических семейств, то гордыня более утонченная, но и более ядовитая – высших церковных чинов. Однако строгий протокол, который должен был бы соблюдаться всеми этими кардиналами и князьями, если бы они встретились наедине, исчез, словно по волшебству, наверное, под влиянием очарования этого места, избранного и оборудованного для трапезы. – Да будет мне позволено попросить уважаемое общество быть столь благосклонным, чтобы сохранить на минуту тишину! Я хочу поднять бокал за здоровье кардинала Спады, который, как известно вашим преосвященствам и светлостям, отсутствует в связи с неотложными государственными делами, – взял слово монсиньор Паллавичини, губернатор Рима. – Он попросил меня сыграть сегодня для его дорогих гостей роль если не отца, то хотя бы дяди! Тихое одобрительное хихиканье было ответом на его слова. – Как только я его увижу, – продолжал монсиньор Паллавичини, – то непременно выражу свою благодарность за его политические таланты, в особенности за то, что мы сидим за столом, накрытым не на испанский или французский манер, а в окружении оттоманов. Снова раздалось веселое бормотание. – А последнее должно напоминать о нашей общей судьбе как христиан, – добавил любезным тоном Паллавичини, бросив, однако, взгляд на кардинала д'Эстре, посла по особым поручениям, папского легата, избранного из ближайшего окружения Его Величества короля Франции, который все еще сохранял дружеские отношения с Османской Портой. – И как врагов ереси, – моментально ответил д'Эстре, в свою очередь намекая на тот факт, что император Австрии, несмотря на то что он католик, сделал своими союзниками еретиков-голландцев и англичан. – Не говорите слишком много о Порте, иначе д'Эстре обидится и уйдет, – услышал я чей-то слишком громкий шепот. – Спокойно, довольно таких речей, – предупредительно заявил кардинал Дураццо, от которого ничего не укрылось, – только что один янычар уже не хотел давать мне инжир, а если он еще и услышит про еретиков, то небось вздумает напасть на меня с факелом и сжечь. Едва присутствующие поняли намек на мой промах с кардиналом Дураццо, как все застолье снова разразилось громогласным смехом, а мне, несчастному, не оставалось ничего другого, как стоять с невозмутимым выражением лица и как можно прямее держать свой факел. Мудро предвидя подобные политические перепалки, кардинал Спада, как человек чрезвычайно предусмотрительный, принял целый ряд мер предосторожности, как я узнал от дона Паскатио. К примеру, дабы не допустить того, чтобы кто-то чистил свои фрукты на французский манер, а кто-то, наоборот, на испанский, фрукты и овощи были поданы уже в очищенном виде. Разумеется, уже несколько лет высший свет больше не рисковал одеваться один раз по испанской моде, а другой – по французской, поскольку благодаря Версалю за это время у всех стало большой модой одеваться на манер христианнейшего короля Франции. Но именно поэтому распространился другой обычай выражать свою привязанность к той или другой партии посредством огромного количества мелких знаков: от нагрудного платочка (друг Испании, если платочек был справа, или приверженец Франции – если слева) до чулок (белые – у сторонников Франции, красные – у друзей Испании). И не случайно аббат Мелани этим вечером надел белые чулки вместо привычных красных, какие носят аббаты. Конечно, трудно было избежать того, чтобы дамы украшали себя букетиками цветов: носили их на правой стороне груди, если они были гвельфами, иначе говоря, сторонниками испанской партии, или на левой – если принадлежали к гибеллинам, то есть к друзьям французов. Однако, дабы не допустить серьезных нарушений приличия, а именно чтобы стол для трапезы не был сервирован слишком явно в духе той или другой стороны, что, как известно, играет особую роль в политическом значении банкета, в конце концов было принято решение полностью отступить от регламента и решиться на нечто абсолютно новое: без долгих раздумий ножи, вилки и ложки просто поставили в бокалы, что немало озадачило гостей, зато позволило избежать бессмысленных споров. – …конечно, с собаками-ищейками совершенно иное дело, – уверял между тем своих слушателей кардинал в броском парике по французской моде. – Что вы имеете в виду? – Я хочу сказать, что князь Перетти раньше держал шестьдесят собак, а когда сезон охоты заканчивался, приказывал перевести их на лето в другое место, потому что ищейки плохо переносят жару, да и, кроме того, так можно сэкономить. Это был кардинал Санта-Кроче, который, укрывшись под огромным париком, расхваливал преимущества охоты с собаками-ищейками. – Ну зачем же таким образом напоминать всем, что он испытывает финансовые затруднения? – услышал я шепот молодого каноника, обратившегося к своему соседу совсем рядом со мной. Он использовал момент, когда общее застолье разбилось на многочисленные группки. – Ха, Санта-Кроче разорился вконец, – ответил его собеседник, ухмыляясь, – у него от голода уже вывалился язык, а изо рта сами собой выпадают слова, которым лучше бы оставаться там. Тот, кто это говорил, тоже был кардиналом, но имени его я еще не знал, однако заметил, что у него был изможденный вид, но ел и пил он жадно, словно вынужденный доказывать свой сангвинический характер. Судьба (или, скорее, другое обстоятельство, о котором я расскажу позже) была благосклонна ко мне, потому что именно в этот момент к кардиналу подошел слуга с запиской: – Ваше преосвященство, у меня записка для его преосвященства Спинолы… – Для Спинолы из Санта-Цецилии или для моего племянника Спинолы из Сан-Чезарио? Или для Спинолы – президента порта Рипетты? Сегодня вечером мы все трое присутствуем здесь. Слуга обескураженно молчал. – Дворецкий сказал мне только то, что это для его преосвященства кардинала Спинолы, – наконец робко пробормотал он, но голос его был едва слышен в веселом шуме застолья. – Тогда, наверное, это мне. Давай сюда. Он открыл записку и сразу же свернул опять. – Бегом отнеси ее кардиналу Спиноле из Сан-Чезарио, который сидит на другом конце стола. Видишь его? Вон там. Его сосед по столу из деликатности уткнулся в свою тарелку и продолжал есть. Спинола из Санта Цецилии (теперь уже было ясно, что это он) сразу же обратился к нему: – Знаешь что? Этот дурак дворецкий приказал принеси мне записку, которую Спада написал моему племяннику, Спиноле из Сан-Чезарио. – Ах так? – отозвался тот, и в его глазах загорелось жадное любопытство. – Там было написано: «Завтра на рассвете все трое на борту. Я сообщу А.». – «А»? А кто такой этот «А»? – Я знаю, кто это. Будем надеяться, что он не утонет, поскольку, как видно, он любит плавать на корабле, – со смехом сказал Спинола.
Гости разошлись очень поздно. Я устал до смерти: от пламени факела, который я держал несколько часов, половина моего лица просто горела жаром, а все тело стало мокрым от пота. Однако нам, факельщикам, пришлось терпеливо ждать, пока последний из гостей поднимется из-за стола. Поэтому у меня не было возможности подойти к Атто, хотя я сгорал от желания попросить у него объяснений. Я был вынужден просто смотреть, как он уходит в сопровождении Бюва, в то время когда слуги уже ходили вокруг стола и тушили стоявшие на столе свечи. Он не удостоил меня ни единым взглядом.
* * *
Добравшись наверх, на чердак, в общее помещение для слуг, я почувствовал себя таким разбитым, что просто не мог уже ни о чем думать. Под глухой храп моих товарищей я почувствовал, как меня охватывает страх: аббат очень плохо обращался со мной, а такого между нами еще не бывало. И я больше ничего не понимал. Я был в смятении, даже больше – в отчаянии. Во мне поднимался страх, что я допустил непростительную ошибку, снова связавшись с Мелани. Я позволил втянуть себя в события, хотя мне надо было всего лишь попросить время на размышление. Ну пусть так, а почему бы и нет? И все для того, чтобы испытать аббата. Вместо этого Атто удалось за один-единственный день снова вторгнуться в мою жизнь. Однако деньги были таким искушением, перед которым невозможно устоять… Я разделся, свернулся калачиком на одной из разостланных на полу постелей и вскоре провалился в тяжелый сон без сновидений.– …они его прикончили. – А где это случилось? – На виа деи Коронари. Они держали его вчетвером или впятером и отобрали все. Взволнованный шепот рядом со мной вырвал меня из объятий сна. Двое слуг говорили, по всей видимости, о каком-то опасном нападении. – А каким ремеслом он занимался? – Переплетчик.
* * *
Бег до потери дыхания, последовавший за этим сообщением, в конце концов не принес той пользы, на которую я рассчитывал. Бросившись со всех ног бежать по лестнице для слуг и добравшись наконец до покоев аббата Мелани, я нашел его уже в боевой готовности. Вместо того чтобы лежать в кровати, как я ожидал, он сидел, склонившись над кипой бумаг, а руки его были в чернильных пятнах. Видимо, он только что писал какое-то письмо. Атто приветствовал меня с удрученным выражением лица, по которому тенью блуждали мрачные мысли. – Я пришел, чтобы принести вам печальное известие. – Знаю. Гавер, переплетчик, мертв. – Как вы об этом узнали? – удивленно спросил я. – А ты откуда знаешь? – Я только что услышал об этом от двух пажей. – Значит, у меня источники лучше, чем у тебя. Сейчас здесь был этот сбир, Сфасчиамонти. Он мне и сказал. – Сейчас, в это время? – еще раз удивился я. – Я как раз собирался послать за тобой Бюва, – сказал аббат, не ответив на мой вопрос. – Мы со сбиром договорились встретиться внизу, в каретном сарае. – Вы опасаетесь, что это связано с сегодняшним покушением на вас? – Ты думаешь так же, как и я. Иначе не прибежал бы сюда среди ночи, – заметил Атто. Не говоря больше ни слова, мы все втроем отправились вниз, в каретный сарай, где Сфасчиамонти ожидал нас в старой служебной коляске, запряженной парой лошадей и с кучером на облучке. Он был готов к отъезду. – Клянусь тысячью бомб! – воскликнул заметно взволнованный сбир, когда кучер выводил упряжку из сарая и закрывал за нами ворота. – Кажется, дело происходило так: кровать бедного Гавера находилась в верхней части мастерской. Ночью к нему ворвались три или четыре человека. Кто-то говорил, что их было даже больше. Как они зашли в дом, неизвестно. Дверь не была взломана. Они связали беднягу и лишили его возможности позвать на помощь, заткнув рот шерстяной тряпкой, затем обыскали все. Разбойники забрали все его деньги и скрылись. Через какое-то время (кто знает, через какое) переплетчику удалось выплюнуть тряпку изо рта и громко позвать на помощь. Когда его нашли, он был не в себе. Перепуган до смерти. Пока он рассказывал соседям свою историю, ему вдруг стало плохо. Когда пришел лекарь, он уже умер. – Он был ранен? – спросил я. – Я не видел труп, до меня там были другие сбиры. Сейчас мои люди занимаются расследованием. – Мы сейчас поедем в мастерскую? – продолжал допытываться я. – Почти что, – ответил аббат. – То место, которое нам нужно, совсем рядом.Мы остановились на Пьяцца Фиамметта, неподалеку от которой начиналась виа деи Коронари. Тонкий серп месяца едва светил в ночи. В воздухе чувствовалась приятная свежесть. Сфасчиамонти вышел из кареты и велел нам подождать. Мы осмотрелись вокруг, но нигде не было видно ни души. Затем мы увидели торговца овощами с повозкой. Через какое-то время мы вздрогнули от свиста. Это был Сфасчиамонти – он спрятался в арке ворот, однако его выдавал выступающий круглый живот. Взмахом руки он пригласил нас подойти. Мы приблизились. – Эй, осторожнее, – запротестовали мы, когда сбир силой втащил нас в темную сырую подворотню. – Ц-с-с-с! – зашипел сбир, прижав нас к стене и прячась за створкой ворот. – Два черретана. Они уже направлялись к вам. Спрятались, когда увидели меня, наверное, они уже убежали. Я сейчас посмотрю. – Они наблюдали за нами? – обеспокоенно спросил Атто. – Тихо! Вот они, – прошептал Сфасчиамонти и показал нам, чтобы мы посмотрели на улицу через щель между створками ворот. Мы затаили дыхание. Осторожно вытянув шеи, мы увидели двух изможденных, оборванных старых нищих, бредущих по улице. – Ты дурак, Сфасчиамонти, – сказал Атто со вздохом облегчения. – Ты на самом деле думаешь, что эти двое в состоянии вести за кем-то слежку? – Черретаны наблюдают за тобой так, что ты и не заметишь. Они работают скрытно, – ответил сбир не моргнув глазом. – Ну ладно, – перебил его аббат Мелани, – ты говорил с человеком, которого я тебе назвал? – Конечно, клянусь отдачей сотни аркебуз! – поспешно заверил его сбир, сопровождая свои слова одним из этих странных ругательств. Место, куда мы направлялись, находилось в боковой улочке, удаленной не более чем на квартал от мастерской переплетчика. Мы добирались туда довольно длинным и запутанным путем, поскольку и Атто, и Сфасчиамонти любой ценой хотели избежать нашего появления вблизи места преступления, где, возможно, дежурили сбиры, которым было поручено вести расследование. К счастью, нам помогала темнота. – Почему мы прячемся, синьор Атто? Мы ведь не имеем отношения к смерти переплетчика, – заметил я. Мелани не ответил. – Судья назначил двух новых сбиров расследовать этот случай. Я их не знаю, – сообщил мне Сфасчиамонти, когда мы выходили с Пьяцца Фиаметта в направлении Пьяцца Сан-Сальваторе в Лауро. Мы пробирались по переулкам квартала Понте, где Бюва споткнулся о целую колонию спящих нищих и с трудом избежал столкновения с горой ящиков и корзин. Это были бродячие торговцы, которые в ожидании рассвета и первых покупателей улеглись поспать возле своих ящиков. Под покрывалами и крышками угадывались, судя по запаху, полевой салат, семена люпина в сладком сиропе, вафли и мягкий сыр. Встреча, о которой было договорено заранее, состоялась в мастерской изготовителя четок, где мы были надежно укрыты от взоров любопытных. Ремесленник, старик с лицом, изрытым морщинами, настолько подобострастно приветствовал Мелани, словно знал его уже давно, а затем провел в глубь помещений. Мы прокладывали себе путь через маленькую холодную пещеру, полную четок из дерева и кости, всех размеров и цветов, беспорядочно переплетенных, развешанных на стенах или разложенных на маленьких столах. Мастер выдвинул ящик стола. – Вот, пожалуйста, господин. – Он уважительно подал аббату небольшой чехольчик из голубого бархата прямоугольной формы. После этого мастер вместе со Сфасчиамонти исчез в задней комнате. Атто дал Бюва знак следовать за ними. Я ничего не понял. Почему смерть переплетчика заставила нас поспешить в эту мастерскую, изготовляющую церковную утварь? Неужели только для того, чтобы забрать нечто, что в моих глазах выглядело как настенная картинка с изображением какого-то святого? Я никак не мог связать между собой эти события. Атто угадал мои мысли и схватил меня за рукав, решив, что наступил нужный момент дать мне первые пояснения. – Сегодня утром я договорился с переплетчиком, что он оставит мою книжицу здесь, у этого доброго человека. Значит, то, что переплетчик отдал Мелани, было не изображением святого, а той самой таинственной книжкой, о которой аббат так не любил говорить. – Я хорошо знаю этого ремесленника, он всегда помогает мне, как только в этом появляется нужда, и я могу довериться ему, – добавил он, не говоря, однако, какого рода услуги оказывает ему изготовитель четок, и не давая никаких пояснений о той самой книге. – Поскольку переплетчика зачастую не бывает в его мастерской, я подумал, что удобнее будет забрать книгу отсюда, – продолжал аббат. – Новый переплет я оплатил заранее. И правильно сделал! Иначе сейчас, чтобы забрать свое маленькое произведение, мне пришлось бы объясняться с каким-нибудь сбиром, который стал бы задавать слишком много вопросов: знал ли я переплетчика, как давно, какого рода отношения нас связывали… Попробуй втолковать этим людям, как получилось так, что именно в тот момент, когда я разговаривал с бедным Гавером, какой-то незнакомец ударил меня ножом. Они бы мне не поверили. Их вопросы я могу представить себе уже сейчас: почему именно в тот момент, тут, конечно, есть взаимная связь, что вы делаете в Риме и так далее. Короче говоря, мой мальчик, давай забудем это. Затем Атто сделал мне знак следовать за ним. Однако он пошел не к выходу, а в заднюю комнату, где за пару минут до того скрылись Сфасчиамонти, мастер-четочник и Бюва. Там, за старым кривым столом нас ждала маленькая женщина лет пятидесяти, вид которой выражал полную покорность и скромность. Она разговаривала с Сфасчиамонти и ремесленником, Бюва же слушал их с сонным видом. Когда вошел Атто, женщина почтительно встала, сразу же угадав в нем человека благородного происхождения. – Вы закончили? – спросил Мелани. Сбир и Бюва кивнули. – Эта женщина – соседка бедного Гавера, – начал свой отчет Сфасчиамонти, когда мы вышли из мастерской и пересекали Пьяцца Сан-Сальваторе в Лауро. – Она все видела из окна. Она слышала, как кто-то звал на помощь и стучался в дверь переплетчика. Тот был человеком набожным, и сразу же открыл дверь, а закрыть уже не успел – к нему ворвались еще каких-то два человека. Через полчаса они вышли с кипой бумаг и с парой переплетенных книг. – Бедный Гавер. И глупый к тому же, – заметил Атто. – Но зачем они украли бумаги? Это мне не понятно. – Я вопросительно посмотрел на Атто. – Если за этим стоят черретаны, то вообще понять ничего невозможно, – вмешался в разговор Сфасчиамонти, и лицо его помрачнело. – Почему вы так уверены, что это были именно ваши нищие? – спросил Атто с некоторым нетерпением. – По опыту. Если где-то появляется один нищий, как тот, который ранил вас, а потом убежал, то за ним обязательно появятся и другие, – сухо пояснил сбир. Вдруг Атто остановился, вынудив остановиться и всю нашу четверку. – Проклятие, о чем ты, собственно, все время упорно говоришь? Сфасчиамонти, мы так далеко не продвинемся с твоими намеками. Объясни нам раз и навсегда, чем они занимаются, эти нищенствующие монахи, эти… черризаны, как ты их называешь. – Черретаны, – скромно поправил его Сфасчиамонти.
Теперь я был уверен. Он никогда бы сам в этом не признался, но уже сейчас Атто Мелани чувствовал страх, который, словно змея, оплетал его ноги и поднимался все выше к животу. Аббат Мелани слишком хорошо знал, что он не случайно столкнулся с одним из этих странных индивидуумов, о которых говорил Сфасчиамонти, и получил от него удар ножом, рана от которого до сих пор болела и мешала ему, и что переплетчик, на чьих глазах все это происходило, не случайно в ту же ночь подвергся нападению у себя в мастерской, после чего умер. А этот несчастный по его заказу переплел ему книгу. Удивительные совпадения, которые никому бы не понравились. – Прежде всего я хочу знать одно, – упрямо потребовал аббат, в котором упорство духа боролось с усталостью старого тела, – они действуют по своему усмотрению или по чьему-то заданию? И если да, то по чьему? – Вы думаете, это так легко узнать? У черретан всегда творятся какие-то странные дела. Нет, творятся только странные дела. И сбир начал рассказывать, насколько я понял, о происхождении черретан и о сути этого таинственного братства. – Черретаны – сволочи, подонки. Происходят они из Черетто в Умбрии, где нашли пристанище после того, как сбежали из Рима. Поначалу они сами были священниками, а высших по рангу священников прогнали. В Черетто, как он объяснил далее, черретаны избрали себе нового высшего священника, который разделил их в зависимости от наклонностей по группам, родам и сектам:[1300] допферы, фагиры, шлепперы, стабулеры, лосснеры, кленкнеры, каммезиры, грантнеры, дутцеры, даллингеры, а также кальмиры, веранцы, христианцы, зефферы, швайгеры, попрошайки-буркарты, блатширеры… – Как вы можете помнить все эти названия? – Работа такая… Он продолжал объяснять, что допферы, или, как они себя еще называют, зазывалы, подделывают папские печати или печати прелатов, везде показывают их и утверждают, что имеют право отпускать грехи, спасать от чистилища или пекла и вообще прощать любой грех, а за эти услуги берут с легковерных людей золотом. Фагиры называют себя так, потому что они никакие не прорицатели, только выдают себя за них и обманывают простых людей из сел. За деньги они делают вид, будто умеют предсказывать будущее, потому что якобы в них поселился Божественный дух. Дутцеры – это ненастоящие монахи или ненастоящие священники, они не посвящены ни в низший, ни в высокий сан. Они ходят по селам, читают молитвы и собирают милостыню, а за отпущение грехов берут милостыню побольше и все кладут себе в карман. Кальмиры, или кафпимы, – это мнимые паломники, которые выпрашивают милостыню под предлогом того, что совершают паломничество в святую землю, или в Рим, или к святому Якову в Галицию, или к Богородице Лоретской. А выкупщики рассказывают, что у них есть родственники или братья, которые попали в плен к туркам, и им приходится просить милостыню, чтобы выкупить своих родных. На самом деле это неправда. А вот даллингеры, наоборот… – Минуту: если черретаны творят такое, то почему их никто не остановит? – перебил его Атто. – Потому что они делают все это тайно. Они разделились на секты, и никто не знает, сколько их и где они находятся. – Но все же это – секты, как вы говорите, или просто банды мошенников? – И то, и другое. Прежде всего они – мошенники, но у них есть свои тайные ритуалы, они клянутся во взаимной верности и братаются. Если кого-то из них схватят, остальные могут быть уверены, что он никогда никого не выдаст. Иначе его ждет проклятие. По крайней мере, они в это верят. – Что это за ритуалы? – О, если бы знать… Черные мессы, наверное, жертвоприношения, клятвы на крови и тому подобные вещи. Но никто никогда этого не видел. Для своих ритуалов они уходят в деревни, в уединенные места, в заброшенные села… – Много ли их в Риме? – Они прежде всего в Риме. – Но почему? – Потому что здесь находится Папа Римский. А там, где Папа, там деньги. И всякого рода паломники, которых можно обмануть. А сейчас у нас святой год: еще больше денег и еще больше паломников. – Неужели ни один Папа никогда не отлучал эти секты от Церкви? – спросил Атто. – Для того чтобы быть запрещенной, секта – или группа преступников – должна быть обнаружена, – ответил Сфасчиамонти. – Нужно доказать хотя бы что-нибудь, узнать настоящие имена членов сект. Как можно запретить непонятную группу, состоящую из жалких голодных людей, не имеющих ни имени, ни жилья? Атто молча кивнул и задумчиво почесал ямочку на подбородке.
Уже занимался день, когда мы вернулись к карете. Сфасчиамонти попрощался с нами. – Я приду на виллу Спада позже. Надо заглянуть к себе домой. Меня ждет мать. Сегодня как раз тот день, когда я приношу ей продукты. Если я не приду вовремя, она будет беспокоиться.
* * *
– А сейчас вы вдвоем должны кое-что сделать для меня. – Вдвоем? Вместе? – удивился я, обменявшись взглядами с Бюва. Мы только что расстались с Сфасчиамонти. Аббат Мелани уже уселся в карету, чтобы ехать обратно на виллу Спада, однако вместо того чтобы впустить нас, он закрыл дверцу за собой. – Вы пока что останетесь тут. – Это было все, что он лаконично сказал мне в ответ. Затем он подал мне запечатанное письмо. Я сразу же узнал его: это было то самое письмо – ответ таинственной Марии. – Но, синьор Атто, – слабо запротестовали мы с Бюва, поскольку нам очень хотелось хоть немного поспать перед новым рабочим днем. – Потом. А сейчас идите. Письмо вручит Бюва. Но один, потому что ты, – он ловко повернул разговор на меня, – одет неподобающим образом. Наверное, рано или поздно придется подарить тебе новый костюм. Я разъясню тебе, куда нужно идти, ибо Бюва объяснять бесполезно. – Разрешите все же возразить, – упорствовал я. И сразу же прочитал имя адресата:«Мадам коннетабль Колонна».
Мысли в моей голове смешались, и я не знал, чему отдать предпочтение: с одной стороны, я не мог дождаться, когда попаду домой и отдохну (и обдумаю последние тревожные события), но, с другой – мне внезапно открылась подлинная сущность загадочной Марии, которая состояла с Атто в тайной переписке и прибытия которой ожидали на вилле Спада. Мадам коннетабль Колонна – это имя было мне знакомо. Какой римлянин не слышал о великом коннетабле,[1301] римском князе Лоренцо Онофрио Колонне, представителе одного из старейших и благороднейших родов Европы? Он умер около десяти лет назад, а она, должно быть, его вдова… – Ну, давай, говори, – вздохнул Атто, прервав ход моих мыслей. – Что ты хочешь? В этот момент я заметил, как выражение нетерпения на лице аббата внезапно сменилось удивлением, словно ему вдруг что-то пришло на ум или вспомнилось. – Какой же глупый! Иди сюда, садись, мальчик мой, – воскликнул он, открывая дверцу кареты и подвигаясь. – Конечно, мы должны поговорить. Давай, рассказывай мне все. Или нет, я уверен, что у тебя хватило чувства долга, чтобы пожертвовать парой минут заслуженного сна и составить мне подробный отчет обо всем, что ты слышал, – сказал он с такой уверенностью, будто совершенно забыл о том, что мы вместе провели эту ночь в хождениях по Риму. – Слышал? Где? – Это же ясно: вчера за ужином, когда я использовал трюк с факелом, чтобы заставить тебя станцевать целый менуэт вокруг пола и чтобы ты очутился за спиной кардинала Спинолы. Так скажи мне, о чем они говорили? У меня перехватило дыхание. Только что Атто признался, что издевался надо мной «понарошку», когда вчера вечером приказал сначала подойти ближе, потому что ему якобы не хватало света, затем, под предлогом того что пламя жжет ему затылок, грубо отослал меня на другой конец стола. Более того: аббат все это затеял, чтобы я подслушал разговоры гостей… – Честно говоря, синьор Атто, я не знаю, какой из этих разговоров мог бы кого-нибудь заинтересовать. Я имею в виду, что говорили они о каких-то мелочах, ничего не значащих вещах… – Мелочи? Мальчик мой, в том, что говорит кардинал святой римской церкви, мелочей нет, и нет ни единого звука, который не имел бы значения. Ты мог бы сказать, что все они – дураки, и я мог бы с тобой даже согласиться, но то, что слетает с их языка, в любом случае представляет интерес. – Пусть будет так, как вы говорите, однако я… Ах да, было там одно дело, которое показалось мне весьма странным. И я рассказал ему о том, как одного кардинала Спинолу перепутали с другим, о записке от кардинала Спады, предназначенной для одного из них, но попавшей к другому, и о содержании этой записки. – Там было написано: «Завтра утром на восходе солнца все трое на борту. Я сообщу А.». Атто задумчиво молчал. Затем он сделал вывод. – Это может быть интересным. Действительно, очень интересно, да, – пробормотал он, рассеянно посматривая на Бюва, сидевшего на краю дороги. – Что вы хотите этим сказать? Он снова замолчал, сверля меня взглядом, но мысли его уже устремились следом за бешено мчащейся каретой грядущих событий. – Что я – гений! – наконец воскликнул он, сильно хлопнув меня по плечу. – Гений этот аббат Мелани, который использовал предлог с факелом, чтобы поставить тебя вблизи нужных людей, которые смеются и слишком много болтают не там, где надо. Я смотрел на него, ничего не понимая. Он соединил прошедшие, неизвестные мне события с будущими, которые он уже отчетливо видел перед собой, в то время как для меня они оставались в полнейшем тумане. – Ну хорошо, нам тоже вскоре придется взойти на борт корабля, – заключил он, потирая руки, словно подготавливая их к решающему моменту. – На борт корабля? – изумился я. – Сначала идите и вручите письмо, – нетерпеливо приказал Мелани, опять открыл дверцу и бесцеремонно высадил меня, – всему свое время!8 июля лета Господня 1700, день второй
Несколько минут спустя мы с Бюва отправились в Путь, а тем временем карета Атто исчезла в переулках Рима. В моей голове мысли опять сменяли одна другую. Значит, эта Мария, мадам коннетабль Колонна (а только она могла быть той загадочной дамой, с которой Атто давно поддерживал тайную связь), была В Риме? Аббат дал мне задание отдать письмо в монастырь Санта-Мария в Кампо Марцио. Странно, разве эта Мария в своем последнем письме не написала, что остановилась в окрестностях Рима и приедет не раньше завтрашнего дня? Под безоблачным небом уже скоро опять установилась жара «собачьих дней». Но не духота мешала мне идти, а неуверенная и рассеянная манера Бюва передвигаться. Он постоянно посматривал во все стороны и мог ни с того ни с сего остановиться, чтобы растроганно полюбоваться куполом, церковной колокольней или какой-нибудь простой стеной из обожженного кирпича. Наконец я решился нарушить молчание. – Вы знаете, кому нам следует отдать письмо? – О, естественно, не самой княгине. Мы должны отдать его одной монашке, преданной княгине. Да будет тебе известно, что княгиня, еще будучи молодой девушкой, провела некоторое время В этом монастыре, поскольку настоятельницей монастыря была ее тетка. – Конечно, княгиня знает аббата Мелани? – Знает ли она его? – захихикал Бюва, словно мой вопрос заслужил такого иронического ответа. Я помолчал минуту. – Вы хотите сказать, что она его хорошо знает? – уточнил я. – Ты знаешь, кто такая княгиня Колонна? – Ну, насколько я помню… Если не ошибаюсь, она была женой коннетабля Колонны. Того, который умер десять лет назад. – Княгиня Колонна, – поправил меня Бюва, – в первую очередь была племянницей кардинала Мазарини, великого государственного деятеля и хитроумного политика, прославившего Францию и Италию. – Да, действительно, – смущенно пробормотал я, поскольку упустил из виду то, что было мне известно еще много лет назад. – А сейчас, – попытался я выкрутиться из положения, – мы по заданию аббата Мелани передадим ей письмо как можно более скрытным образом. – Да, конечно, – кивнул Бюва. – Мария Манчини прибыла в Рим инкогнито! – Мария Манчини? – Это ее девичья фамилия. Однако она не любит эту фамилию, поскольку она не благородногопроисхождения. Аббат, наверное, был крайне взволнован. Прошло уже много времени с тех пор, как он видел княгиню в последний раз. О да, Боже мой, уже очень много времени! – Очень много? А как много?И тут я вдруг сообразил, кто такая эта таинственная Мария, чье имя так томно прошептал Атто. Это была та самая дама, которая много лет назад вышла замуж за князя Лоренцо Онофрио Колонну, а затем по причине своего слишком свободного поведения приобрела репутацию вздорной и капризной особы, и это мнение о ней держалось на протяжении уже нескольких десятилетий. Я знал об этом только понаслышке, потому что все происходило давно, когда я был еще маленьким мальчиком. Почему же Атто не объяснил мне, кому адресовано письмо, которое он доверил нам с Бюва? Какого рода были у них отношения? Из письма, тайком прочитанного мною, этот пункт остался непроясненным, зато я достаточно много узнал о проблеме испанского престолонаследия, то есть о теме, которая, как видно, была близка им обоим. Однако, как бы ни интересовали меня эти вопросы, мне пришлось отставить их на более позднее время, поскольку мы уже пришли к месту назначения. Мы стояли перед женским монастырем Санта-Мария в Кампо Марцио. Постучав в дверь монастыря, Бюва сказал монашке, открывшей нам дверь, что должен отдать письмо лично в руки сестре Катерине, и показал это письмо. Следуя указаниям Атто, я держался на заднем плане. Через несколько минут в дверях показалась другая монашка. – Сестра Мария еще не прибыла, – поспешно проговорила она, быстро выхватив письмо из рук Бюва и тут же закрыла тяжелую деревянную дверь. Мы с Бюва удивленно посмотрели друг на друга. Значит, в этом и была разгадка: связь между аббатом Мелани и мадам коннетабль была настолько секретной, что письма передавались через монастырь, даже когда Марии еще не было (и вообще она должна была приехать на виллу Спада, а не в монастырь). Передача писем была доверена монашкам, которые умели крепко хранить секреты.
Затем мы зашли в палаццо Роспильози на Монте Кавалло, где Бюва оставил меня на улице, а сам пошел забирать свои туфли, которые забыл там накануне. Так что у меня было время полюбоваться огромным мощным зданием, возвышавшимся на Квиринале. Я уже читал об этом холме – что он чрезвычайно богат красотами и на нем есть сады с прекрасными круглыми террасами и чудесными маленькими воздушными замками. На обратном пути секретарь Мелани опять внимательно изучал окрестности и поэтому все время заставлял меня отклоняться от нашего пути. И вообще каждый раз, когда Бюва хотел вернуться па предыдущую улицу, он безошибочно отправлялся в противоположном направлении. – Разве нам не сюда? – удивленно спрашивал он меня в таком случае, совсем не обеспокоенный своей рассеянностью и моими усилиями наставить его на путь истинный. И тут я вспомнил, что Атто, представляя мне своего секретаря, намекал и на другие его слабости. Возможно, как раз и выпал подходящий момент использовать их. Я решил, что будет нетрудно направить Бюва не в ту сторону, поскольку его и без того все время тянуло туда. Мы пересекли маленький переулок, где нищие, в большом числе прибывшие в городе связи со святым годом, занимались своим ремеслом. Уже через несколько секунд это пестрое общество заговаривало с нами. Все нищие предлагали одно и то же: порошок против глистов; квасцы, с которыми свечные фитили горят вечно; масло из коровяка против озноба; известковую пасту против крыс; очки, с помощью которых можно видеть в темноте. Были там странные персонажи, которые безо всякого страха держали в руках тарантулов, крокодилов, индийских ящериц и василисков, затем те, кто танцевал и делал сальто-мортале на канате или кто очень быстро бегал на руках, поднимал грузы на своих собственных волосах, умывался расплавленным свинцом, давал отрезать себе нос ножом или вытаскивал изо рта. канат длиной десять локтей. Тут вдруг в переулке появилась маленькая группа прилично одетых мужчин в сопровождении довольно симпатичных женщин и объявила, что сейчас они будут показывать комедию. Актеров моментально окружила толпа зевак, бездельников и случайных прохожих, отпускавших шутки, а также женщин, детей и стариков; последние недовольно ворчали, но весьма внимательно следили за происходящим. Комедианты вытащили неизвестно откуда пару дощатых стен и с невероятной скоростью установили небольшую сцену. Самая храбрая женщина из группы взобралась на нее и стала петь под гитару, на которой ей аккомпанировал один из актеров. Для начала они спели попурри из шванков,[1302] и народ, обрадовавшись бесплатному представлению, толпой повалил к ним. Однако, когда первые песни были спеты и люди ожидали начала представления, на сцену вышел старший группы, вытащил из сумки бутылочку с темным порошком, объявил, что это чрезвычайно сильное лекарство, и начал расхваливать его в цветистых выражениях. Часть публики стала волноваться, поняв, что комедианты – на самом деле шарлатаны, а главный из них – старший шарлатан. Однако многие зрители продолжали внимательно слушать объяснения: дескать, этот порошок – не что иное, как магическая эссенция, которая может сделать богатым своего обладателя. Если смешать его с хорошим маслом, то получится волшебная мазь против чесотки, а если с кошачьим калом, то выйдет прекрасное средство для горячих компрессов и пластырей. В то время как шарлатан продавал первые бутылочки со своим порошком простодушным крестьянам, зачарованно слушавшим его объяснения, мы поспешили удалиться от плохо пахнущей толпы людей, почти перекрывшей проход, и снова вышли на широкую улицу. Проходя мимо трактира, я внес совершенно невинное предложение: – Думаю, что в качестве замены заслуженному сну вы не отказались бы от удовольствия укрепить свой дух иным образом, – сказал я, замедляя свой шаг. – Э-э… я думаю… – неуверенно пробормотал Бюва, не отрывая глаз от церковной колокольни. Однако узрев вывеску трактира и, главным образом, услышав доносящийся оттуда звон бокалов и голоса посетителей, он сменил тон: – Нет, черт побери, конечно, нет!
Пока я размачивал в добром красном вине крендель, который попросил принести себе в качестве завтрака, Бюва наконец-то решился удовлетворить мое любопытство и начал делать для меня краткий обзор жизни мадам коннетабль. – В последнее десятилетие перед смертью, в последние годы своего правления во Франции, кардинал Мазарини привез из Рима в Париж многочисленных родственников: двух сестер и семерых юных племянниц. Всех племянниц надо было выдать замуж. Дочерей старшей сестры кардинала, Анну Марию и Лауру Мартиноцци, выдали замуж за князя Конти и герцога Модену. О лучшей партии нельзя было и мечтать. Однако у кардинала остались еще пять племянниц, выдать замуж которых было труднее. Это были дочери другой сестры, пять девушек из семьи Манчини: Ортензия, Марианна, Лаура, Олимпия и Мария. Девушки были капризными и хитрыми, злыми и очаровательными одновременно, и их прибытие вызвало при дворе противоречивые чувства: ненависть у женщин и любовь у мужчин. Некоторые презрительно называли девушек «мазаринками». Но мазаринки умели смешивать в кубке совращения нектары невинности и лукавства, чистоты и наглости, молодости и опытности, осторожности и храбрости. Теми, кто испил из этого кубка, они управляли по всем правилам точной и беспощадной науки страстей. Тем не менее (а может быть, благодаря их честолюбивым целям) со временем его преосвященству удалось-таки найти им подходящих мужей. Лаура довольно скоро встретила герцога Меркюра. Марианна стала невестой герцога Бульонского. Ортензия заполучила герцога Меллерайе, а Олимпия вышла замуж за графа Суассона. Был искусно организован целый ряд свадеб, на которые никто не мог и надеяться, поскольку до того, как попасть в Париж, эти девушки были никем. Сейчас же они стали графинями и герцогинями, были замужем за князьями, за потомками Ришелье и Генриха IV и, кроме того, сказочно богатыми. Их матери, сестры Мазарини, хотя и принадлежали к римской аристократии, но к самой низшей. – Правда, семья Манчини из очень древнего дворянского рода, – пояснял секретарь. – Их генеалогическое древо уходит корнями в тысячелетнюю историю. Но у них никогда не было того благосостояния, которое имели только высшие ветви дворянских родов. Сами их фамилии говорят за себя: Мартиноцци, Манчини, – передразнил он, ставя ударение на оцци и ини. – Да любой невежда поймет, что это не самые благозвучные фамилии. Несмотря на вздорный нрав девушек, все свадьбы мазаринок прошли без особых проблем. Лишь одна племянница создавала Мазарини огромные сложности: Мария. В четырнадцать лет она приехала в Париж, когда молодой Людовик был всего на год старше ее. Она жила во дворце дяди и была опьянена блеском и роскошью, которые потом, во время Фронды, вызвали гнев народа против Мазарини. Поначалу мать короля, Анна Австрийская, относилась к ней очень благосклонно, как и к другим племянницам Мазарини, – словно это были ее родные дети. – Однажды мать девочек Манчини тяжело заболела, его величество навещал больную и каждый раз встречал Марию. Поначалу все, естественно, выглядело вполне прилично: «Плохое состояние здоровья чрезвычайно тревожит меня» – и так далее, и так далее. «О Ваше Величество, невзирая на печальный повод, ваши слова – великая честь для меня…» – изображал Бюва сначала королевское величие, а потом – женскую благовоспитанность. В конце концов мать Марии умерла, и на похоронах от некоторых не укрылось, что молодая женщина ведет беседу с королем намного более доверительно и свободно, чем когда ее мать еще находилась в добром здравии. В тот день, когда была похоронена мать Марии, при дворе вечером давали балет с многозначительным названием «L'Amour malade».[1303] Как он привык делать это в молодости, Людовик принял участие в танцах. В присутствии всего двора он открыл королевским пируэтом в большом зале Лувра первый из десяти выходов, каждый из которых изображал лекарство для выздоровления больного от любви Амура. И было немало придворных, заметивших, что ноги Людовика были гибче, двигались ловчее, чем обычно, что он был более вынослив, прыгал выше, а взгляд был тверже, в нем даже горел огонь, словно его несла невидимая сила и нашептывала ему на ухо тайный рецепт, как может излечиться больной Амур и в конце концов одержать триумфальную победу. Ни один из молодых дворян, бывавших при дворе, до сих пор не пытался подружиться с королем. Людовик был слишком важным – слишком серьезным, когда смеялся, и слишком несерьезным – когда отдавал приказы. А молодые женщины, разговаривая с ним, пытались скрыть смущение и робость за формальностями и придворными реверансами. Лишь Мария не испытывала страха перед Людовиком. В то время как другие женщины от стеснения (и от горячего желания стать его избранницами) дрожали перед королем, молодая итальянка вела любовную игру с такой же продуманной ловкостью, С какой она действовала бы, будь вместо Людовика любой другой красивый мужчина. На людях он держался со всеми холодно и отстраненно; лишь с ней одной, сам иногда того не замечая, король терял маску равнодушия и всем своим видом выражал вожделение. Он просто умирал от желания полностью довериться ей, что, естественно, запрещалось этикетом, король даже стал заикаться, краснеть и смешно робеть перед ней. – Есть люди, – клялся Бюва, – которые видели, как его величество перед сном кусал свою подушку, мучимый воспоминаниями о том моменте, когда полное намеков острое словцо Марии сначала вызвало у него сильный смех, а потом – позорное заикание. Он потерял королевское величие и упустил подходящий момент, для того чтобы сказать ей: я люблю вас.
И снова болезнь ускоряет ход событий. После многочисленных трудных путешествий и инспекций, а может, из-за плохого воздуха, помутившего его жизненные соки, в конце 1658 года в Кале Людовик тяжело заболевает. Температура держится очень высокая и не спадает, несколько недель подряд весь Париж опасается за жизнь своего короля. В конце концов благодаря искусству одного провинциального хирурга Людовик выздоравливает. Когда он возвращается в Париж, ему докладывают сплетню, которая является главной темой всех разговоров при дворе: во всем городе нет никого, чьи глаза пролили бы больше слез, чем глаза Марии, чьи губы звали бы его чаще и чьи руки молились бы горячее за его выздоровление. Вместо прямого объяснения в любви (на которое никто не имеет права решиться в таком случае), Мария отправляет Людовику намного более красноречивое послание. Весь двор нашептывал королю: она любит тебя, и ты знаешь это. В последующие месяцы королевский двор находится в Фонтенбло, где Мазарини, который по-прежнему крепко держит бразды правления государством в своих руках, занимает молодого короля, день за днем развлекая его новыми дивертисментами: поездкой в карете, комедиями, концертами и прогулками на лодках. Снова и снова в карете, на земле или на траве следы Людовика пересекаются со следами Марии. Они постоянно ищут и в каждый момент находят друг друга. – Разрешите вопрос, – перебил я его. – Откуда вам известны такие подробности? Ведь эти события происходили более сорока лет назад. – Аббат Мелани знает эту историю лучше, чем кто-либо другой, – коротко ответил он. – Ага, вот оно что. Значит, Атто рассказал вам, как и мне, все о том времени, – сказал я, сознательно преувеличивая, – о секретных заданиях, которые он выполнял для кардинала Мазарини, о Фуке… Я специально назвал две тщательно охраняемые тайны из прошлого Мелани: о его дружбе с главным интендантом Фуке (о которой он сам рассказывал мне семнадцать лет назад), министром финансов Франции, которого преследовал христианнейший король, и тот факт, что Атто был тайным агентом на службе у Мазарини (об этом я узнал от других). Мне показалось, что в глазах Бюва мелькнуло изумление. Наверное, он подумал, что, раз аббат Мелани открыл мне свои сокровенные тайны, то я заслуживаю доверия. – Тогда, наверное, он тебе также рассказал, – продолжал Бюва, понизив голос, – о том, что сам был влюблен в Марию, конечно, между ними ничего такого не могло быть, и, когда король был вынужден из государственных соображений жениться на испанской инфанте, она покинула Париж и уехала в Рим, чтобы выйти замуж за коннетабля Колонну. И о том, что аббат встречался с ней в Риме, потому что вскоре после этого он приехал сюда. Они до сих пор пишут друг другу письма. Аббат не забыл ее. Я поднял бокал с вином и сделал большой глоток, стараясь спрятать лицо, чтобы не показать своего изумления. Мне удалось убедить Бюва, что я достаточно осведомлен о подоплеке жизни Атто, так что он может говорить со мной открыто. Мне нельзя было дать ему заметить, что я слышу эти откровения впервые. Значит, Атто любил Марию еще тогда, когда она кокетничала с молодым королем Франции. «Этим и объясняются его вздохи, – подумал я, – когда ему вручили письмо мадам коннетабль на вилле Спада!» Пока я заказывал себе еще один крендель, мне вдруг вспомнился разговор, который я услышал семнадцать лет назад, когда только познакомился с Атто, – разговор между гостями постоялого двора, где я в то время работал. Речь тогда шла о том, что Атто якобы является духовником одной из племянниц Мазарини, в которую так безумно влюбился король, что даже хотел на ней жениться. Теперь я знал, кто была эта племянница Мазарини. Наша беседа была внезапно прервана сценой, которая, к сожалению, не редка в таких заведениях. В трактир зашли четверо бродяг, чтобы просить милостыню, вызвав гнев хозяина и молчаливое недовольство других гостей. Один из бродяг тут же начал ссору с молодой парой, сидевшей рядом с нами, и за какие-то секунды между ними возникла драка, так что нам пришлось искать другое место, чтобы не быть втянутыми в потасовку. В драке приняли участие больше десяти человек, включая нищих, посетителей, хозяина и его слугу. В суматохе они толкнули наш стол и чуть не опрокинули кувшин с вином. После того как потасовка закончилась, мы увидели, что, к счастью, наш кувшин с вином остался цел, и, когда бродяги убежали, мы наконец снова сели за стол. Я слышал, как хозяин еще долго проклинал многочисленных дармоедов, которые шатались по улицам Рима. – О да, я тоже знал, что аббат Мелани был влюблен в Марию Манчини, – соврал я, надеясь выведать у Бюва подробности. – Причем влюблен настолько, что, когда она покинула Париж, каждый день приходил к ее сестре Ортензии, – подтвердил Бюва, наливая вино в бокалы. – Это вызвало недовольство ее супруга, герцога ла Меллерайе, наглого лицемерного человека, который велел своим слугам избить аббата, а позже даже приказал изгнать его из Франции. – Ах да, герцог ла Меллерайе, – повторил я, делая глоток, и вспомнил, что слышал нечто подобное еще от постояльцев локанды. – Аббат, который, казалось, не мог жить без связи с одной из мазаринок, с благословения короля, кстати, снабдившего его кругленькой суммой, уехал в Рим, чтобы увидеться с Марией. Так, а теперь давай лучше уйдем, – сказал Бюва, поскольку мы успели уже опорожнить весь кувшин с вином. – Прошло много времени, и господин аббат, небось, уже спрашивает, куда я запропастился, – объяснил он и попросил хозяина рассчитать нас.
* * *
Мы попросили двух старых лошадей и, не говоря больше ни слова, поскакали на виллу Спада. Мне очень хотелось спать, а Бюва жаловался, что у него кружится голова, и видел причину этого в том, что аббат поднял его с постели в ранний час. Я тоже с удивлением заметил, что чувствую себя разбитым: видимо, событий последнего дня, включая ночь, было для меня слишком много. Я уже не был тем молодым человеком, что семнадцать лет назад. Из последних сил я кивнул Бюва на прощание, затем сел на мула и отправился к своему домику. Я знал, что Клоридии еще нет. Эти проклятые роды затягивались. Я упал на кровать и погрузился в полусон, мечтая о том, как мы увидимся сегодня вечером на вилле Спада: дело в том, что в числе других приглашенных на вилле ожидали княгиню Форано, которая была на позднем сроке беременности, так что на всякий случай требовалось присутствие Клоридии. Затем сон сморил меня.* * *
Мой сон был прерван весьма неожиданным и, мягко говоря, неприятным образом. Грубая, враждебная сила трясла меня, сопровождая тряску громовым голосом. Любая попытка вернуться в нематериальное царство сна и обороняться против этого мирского вражеского вмешательства была бы бесполезной. – Проснитесь, проснитесь же наконец, прошу вас! Я открыл глаза, по которым тут же больно ударил солнечный свет. Голова болела, как еще никогда в жизни. Тот, кто тряс меня за плечи, был гонцом с виллы Спада, и я с трудом узнал его из-за страшной головной боли и усилия держать глаза открытыми. – Что вы здесь делаете… и как вы сюда зашли? – еле вымолвил я. – Я пришел, чтобы передать записку от аббата Мелани, и увидел, что дверь открыта. Как вы себя чувствуете? – Терпимо… Дверь была открыта? – Что касается меня, то я хотел постучать, поверьте, – ответил он почтительно, как, по его мнению, и надлежало обращаться к человеку, которому шлет записки уважаемый аббат Мелани, – однако затем я решился войти в дом, чтобы убедиться, что с вами ничего не случилось. Мне кажется, что вы стали жертвой воровства. Я посмотрел по сторонам. Комната, в которой я спал, была в ужасном состоянии. Одежда, одеяла, скатерти, мебель, обувь, грелка, ночной горшок, некоторые из акушерских инструментов Клоридии, даже распятие, которое обычно висело над супружеской кроватью, – все было разбросано на кровати и на полу. У порога валялся разбитый стакан. – Вы ничего не заметили, когда вернулись? – Нет, я… мне кажется, все было в порядке… – Значит, это случилось, когда вы спали. Наверное, у вас был очень глубокий сон. Если хотите, я помогу вам навести порядок. – Нет, спасибо. Где записка?Едва гонец попрощался со мной, я попытался, преодолевая страх, навести хоть какой-то порядок в доме. Но я добился лишь того, что мое огорчение от неприятной неожиданности только усилилось. И в других комнатах, в кухне, в кладовке и даже в подвале царил страшный хаос. Кто-то забрался в дом, пока я спал, и обыскал каждый угол. «Не повезло им, – подумал я, – единственные ценности были зарыты поддеревом, о чем знали лишь мы с женой». Через добрых полчаса наведения порядка я обнаружил, что не пропал ни один важный предмет. Все еще мучимый головной болью и слабостью, я уселся на постель. «Кто-то залез в дом среди бела дня», – сказал я себе еще раз. Заметил ли я что-нибудь, когда вернулся домой? Я не помнил. Честно говоря, я не мог даже вспомнить, что делал после возвращения, настолько усталым и разбитым чувствовал себя. И только сейчас до меня дошло, что в своем затуманенном состоянии я еще не прочел записку Атто. Я развернул ее и от изумления замер с открытым ртом:
«Бюва усыпили и ограбили. Немедленно приходи ко мне».
* * *
– Ясно как Божий день, что вам обоим дали наркотик, – заключил аббат Мелани, нервно расхаживая взад и вперед по своей комнате на вилле Спада. Бюва сидел в углу. Его глаза были налиты кровью, а сам он выглядел так скверно, что, кажется, у него не было сил даже зевнуть. – Не может быть, чтобы ты не слышал, как воры перевернули весь твой дом, – сказал аббат, поворачиваясь ко мне, – и не может быть, чтобы Бюва не почувствовал, как его подняли с матраца, уложили на землю и не только сняли с него одежду, но и забрали деньги, оставив его полуголым. Нет, все это невозможно, если не использовать каких-то очень сильных снотворных. Бюва робко кивнул. Чувство вины и стыда за случившееся было просто написано у него на лице. Значит, и Бюва сразу же после нашей миссии в городе заснул мертвым сном. Аббат был прав: нам дали какое-то наркотическое средство. – И как же они это сделали? – с иронией нараспев произнес Мелани. Мы с Бюва посмотрели друг на друга пустыми усталыми глазами: мы не имели ни малейшего понятия об этом. – А они не пытались проникнуть к вам? – спросил я Атто. – Нет. Наверное, потому, что я, вместо того чтобы сидеть по кабакам, – подчеркнул он с многозначительным видом, – не спал, а работал. – Неужели вы ничего не слышали? – Абсолютно ничего. И это самое странное во всей истории. Конечно, я запер дверь, ведущую из моей комнаты в комнату Бюва. Но все же, должно быть, это был самый настоящий колдун, кто бы он ни был. – Сфасчиамонти, наверное, еще не вернулся, но остальные сбиры на вилле должны же были хоть что-то увидеть, – заметил я. – Сбиры, сбиры… – нервно передразнил он, – они могут только пять и шляться по борделям. Они могли впустить сюда какую-нибудь шлюху, которая сначала обслужила охранников, а потом помогла ворам. Известно же, как происходят такие дела. – Очень странно, – заметил я. – И всего через пару часов после нападения на несчастного переплетчика. Есть ли связь между этими двумя происшествиями? – Милосердное Небо, надеюсь, что нет! – испуганно подскочил Бюва, у которого не было ни малейшего желания оказаться, пусть и косвенно, повинным в чей-то смерти. – С уверенностью можно сказать: они искали то, что надеялись найти у одного из вас двоих. Доказательством является тот факт, что они не пытались проникнуть ни в какую другую квартиру в поместье. Я задал слугам по секрету пару вопросов, но все они очень удивились: никто не видел посторонних. – Мы должны немедленно известить дона Паскатио Мелькиори! – воскликнул я. – Ни в коем случае, – остановил меня Атто. – По крайней мере, до тех пор, пока сами не внесем ясность в эту историю. – Но кто-то же проник в поместье! Мы все, наверное, находимся в опасности! И мой долг – сообщить господину кардиналу Спаде, что… – Очень хорошо, ты встревожишь всех, гости будут жаловаться на охрану виллы и начнут разъезжаться. И про свадебное торжество можно забыть. Ты этого хочешь? Аббат Мелани настолько привык к своим сомнительным делишкам, что уже не обращал внимания на то, что сам стал жертвой: ему всегда было что скрывать, поэтому он прежде всего заботился о сохранении секретности. Конечно, его возражения были небезосновательными: мне трудно было представить себе, чтобы я мог расстроить свадьбу племянника кардинала Фабрицио. Так что пришлось смириться и согласиться с аббатом. – Но что же они искали? – спросил я, чтобы сменить тему. – Если даже вы этого не знаете… Я, по крайней мере, не имею понятия. То, на что они нацелились, очевидно, связано со мной, потому что я – единственный, кто знает вас обоих. Но сейчас… – Да? – …я должен подумать, причем основательно. А пока что будем действовать последовательно. Есть еще и другие загадки, которые требуют решения, и, кто знает, может, они приведут нас к этой. А ты, мой мальчик, сейчас пойдешь со мной. – Куда? – На борт, как я тебе обещал.* * *
Заглянув в кухню, чтобы взять что-нибудь перекусить на обед, мы тайно покинули виллу Спада, выйдя не через главные ворота, а прокравшись через виноградник, и незамеченными добрались до выхода. Пока мы преодолевали этот богатый препятствиями участок и пачкали обувь влажной землей виноградника, Атто, наверное, почувствовал жаркое дыхание моего любопытства на своем затылке. – Ну ладно, речь идет просто-напросто о следующем, – начал он без длинных предисловий. – Твой господин должен где-то взойти на борт вместе со Спинолой из Сан-Чезарео и неким господином А. – Я очень хорошо помню это. – Да, но главная проблема, в отличие от того, что ты, вероятно, предполагаешь, состоит не в том, где состоится эта встреча, а в том, кто будет в ней участвовать. – То есть кто такой этот А. – Совершенно верно. Только зная положение в обществе, а также прочие особенности участников тайной встречи, можно судить о месте, где она состоится. Если это один князь и два обывателя, то встреча состоится во владениях дворянина, который, конечно, не будет ради двух своих верноподданных отправляться куда-то. Если встречаются два профессиональных преступника и один честный человек, то место встречи точно изберут мошенники, которые хорошо знают места тайных собраний, и так далее. – Ну хорошо, я понимаю, – сказал я с некоторым нетерпением, пока мы с трудом прокладывали себе путь по грязи. – Итак, у нас есть два кардинала. Один извещает другого и говорит ему, что лично свяжется с третьим человеком в этом союзе. Речь идет, несомненно, о человеке одного с ним положения, иначе твой хозяин в своей записке выразился бы иначе. Например: «Увидимся завтра на борту, А. тоже будет там», чтобы подчеркнуть, что этот третий человек другого сословия. Но он написал: «Я сообщу А.», так ведь? – Так оно и есть, – подтвердил я, пока мы крались через ворота виллы. – Он как будто бы хотел сказать: в этот раз извещу его я, не беспокойся. Короче говоря, у меня сложилось впечатление, что эти трое поддерживают довольно тесные, доверительные отношения. – Согласен, а дальше? – Значит, речь идет о третьем кардинале. – Вы уверены? – Нив коем случае. Но это единственное, за что можно зацепиться. А сейчас взгляни на это. К счастью, мы находились достаточно далеко от главных ворот виллы, чтобы ее обитатели уже не могли видеть нас. Атто с поразительной ловкостью вытащил из сумки мятый, согнутый пополам листок бумаги и развернул его:Аккиаиоли, Албани, Альтиери, Аркинто, Асталли, Барбариго, Барберини, Бики, Бонкомпаньи, Борджиа, Кантельми, Карпенья, Ченци, Коллоредо, Корнаро, Костагути.– Так, а теперь я спрашиваю тебя: сколько фамилий кардиналов начинается на букву «А»? – Синьор Атто, что это вы мне показываете? – спросил я, обеспокоенный сим странным документом. Неужели Атто опять втягивает меня в шпионскую историю? – Читай и держи язык за зубами. Это кардиналы, которые будут избирать следующего Папу. Кто начинается с буквы «А»? – Аккиаиоли, Албани, Альтиери, Аркинто и Асталли, – прочел я первые строчки. Он тут же снова сложил листок и засунул назад в сумку. Затем мы двинулись дальше. Мы пришли уже прямо к городским воротам Сан-Панкрацио, откуда по виа Аурелия можно было выйти из города в восточном направлении. Я заметил, как Атто быстро осмотрелся вокруг. Он тоже не хотел слишком привлекать к себе внимание. Если попасться с таким документом, то можно быть обвиненным в шпионаже с самыми страшными последствиями. – Ну, теперь посмотрим, – сказал он с широкой беззаботной улыбкой, словно мы говорили о каких-то мелочах. Я заметил, что он старается расслабить мышцы лица, чтобы быть готовым к встрече с охраной на воротах Сан-Панкрацио. Нам нужно было пройти через эти ворота, чтобы продолжить выбранный им путь к цели, которую он мне пока не назвал. – Асталли – папский легат в Ферраре, его в эти дни нет в Риме, он приедет, если вообще приедет, только на конклав. Аркинто живет в Милане, это слишком далеко, чтобы появиться на празднике твоего господина. Аккиаиоли, первый в списке, насколько мне известно, не является добрым другом семьи Спады. – Таким образом, остаются только Альтиери и Албани. – Именно так. Альтиери очень хорошо подходит к нашим предположениям, поскольку, как и Спада, относится к группе кардиналов, избравших Папой блаженной памяти Климента X. Однако Албани подходит еще лучше из-за политического равновесия. – Что вы имеете в виду? – Очень просто: тайная встреча трех кардиналов имеет смысл особенно тогда, когда встречаются представители трех различных фракций. Вот, Спинола слывет сторонником кайзеровской империи. Спада, наоборот, будучи государственным секретарем неаполитанского, то есть рожденного в ленных владениях Испании, Папы, имеет право считаться сторонником Испании. Албани же многие числят приверженцем Франции. Тем самым мы имеем маленький синод, который является своего рода подготовкой к конклаву. Поэтому твой хозяин так нервничает в эти дни: нагоняй дворецкому, затравленный, напряженный вид… – Одна молочница рассказала мне, что кардинал Спада находится в постоянных разъездах между послами и кардиналами и это связано с какой-то папской грамотой, – вспомнил я и сам удивился: оказывается, даже я обладал интересной информацией, которую, однако, еще не мог применить с пользой. – Очень хорошо! Я ошибаюсь, или действительно Албани занимается папскими указами? Он не ошибся: именно это я услышал вчера в разговоре двух дам за ужином. Тут нам пришлось прервать беседу, так как мы подошли к стражникам у ворот Сан-Панкрацио, которые, конечно, хорошо знали меня, поскольку мой дом находился прямо перед городской стеной и я ежедневно проходил через ворота в обоих направлениях. То, что я шел в сопровождении благородного господина, давало дополнительное преимущество. Нас пропустили без проблем. – Вы так и не сказали, куда мы идем, – заметил я, хотя в моем воображении уже вырисовалась определенная картина. – Итак, наши кардиналы хотят провести эту тайную встречу на борту какого-то плавучего средства. Не на Тибре ли? – Это маловероятно. – Действительно, такое вполне могло быть, если бы они хотели укрыться от любопытных глаз. Однако на самом деле у них есть место поудобнее, на суше и всего в двух шагах от виллы Спада. Мы уже почти пришли к нему. Наверное, ты слышал о нем: оно называется «Корабль».
* * *
После рассуждений Атто я, конечно, ожидал услышать это название. – Разумеется, я слышал о нем, – ответил я. – Я каждый день прохожу мимо него, когда иду от своего дома на виллу Спада. Но только после ваших размышлений мне пришло на ум, что оно может быть местом встречи трех кардиналов, – признался я. – А потом мне стало ясно, что выражение «на борту» – иносказательное… Атто ускорил шаги отметил мое дипломатичное признание его преимущества молчаливой улыбкой. – Вот увидишь, – снова начал он, – это действительно уникальное место. Речь идет, как ты, наверное, знаешь, о месте, которое чрезвычайно тесно связано с Францией, что делает встречу между Спинолой и Спадой, твоим хозяином, еще интереснее: два кардинала, один из которых – сторонник Испании, а другой – Австрии, тайно встречаются во французском доме. – Итак, собрание посвящено выборам следующего Папы. Если третий – это друг французов Албани, то можно сказать, что Франция доминирует. – Мы тут только осмотримся, – проговорил Атто, не отвечая мне. – Встреча, конечно, состоялась на рассвете, в час тайных заговоров, а сейчас все уже, наверное, закончилось. Тем не менее мы могли бы обнаружить пару интересных вещей. И кроме того… – Кроме того? – Случайная встреча. Очень странно. На «Корабле» хранится нечто особенное. Предметы, которые… Ну ладно, это старая история, когда-нибудь рано или поздно я расскажу тебе о ней. При этих последних словах мы добрались до нашей цели, и мне пришлось отложить попытку удовлетворить свое любопытство на более позднее время.Место, куда мы намеревались проникнуть и которому суждено было сыграть огромную роль в дальнейших событиях, находилось совсем неподалеку от моего дома. О нем слышали все, но действительно хорошо знали лишь очень немногие. Его официальное название было вилла Бенедетта, по имени некоего Бенедетти, о котором я знал только то, что он построил это здание несколько десятков лет назад с большими затратами и такой же роскошью. Из-за особенной формы, придававшей ему вид парусного корабля, люди прозвали это здание «корабельной виллой» или кратко «Кораблем». Как я уже упомянул, это было известно всем, причем не только живущим по соседству, поскольку вилла пользовалась довольно необычной репутацией. Дворец и сад при нем после смерти хозяина, последовавшей около десяти лет назад, достались по наследству одному из родственников кардинала Мазарини. Однако сей родственник кардинала ни разу не побывал здесь, и, таким образом, дворец стал заброшенным местом. Заброшенным, однако не покинутым: дело в том, что с наступлением темноты люди видели там загорающиеся огни, а днем – проносящиеся мимо тени людей. Если стоять на улице, то можно было различить доносившиеся из дворца звуки музыки, топот множества ног, приглушенный смех. Слышался тихий неумолчный плеск фонтана, нарушаемый иногда скрипом быстрых шагов лакея по гравию внутреннего двора. Однако никто не видел ни единого посетителя, входившего во дворец или выходившего из него. Перед виллой никогда не останавливалась ни одна карета, чтобы доставить важных гостей, не говоря уже о том, чтобы из дворца вышел хоть один слуга, чтобы запастись продуктами для кухни или дровами на зиму. Все знали, что там должен кто-то быть. Только никто и никогда не видел этого человека. «Корабль» как будто жил своей тайной жизнью и мог совершенно обходиться без связи с внешним миром. Казалось, что внутри прячутся загадочные безликие люди, словно боги маленького Олимпа, не обращающие внимания на мир и вполне довольные своим таинственным уединением. Призрачная аура вокруг здания удерживала любопытных на расстоянии и внушала определенный страх даже тем, кто, как я, каждый день проходил мимо виллы. С другой стороны, расположение «Корабля» на виа Аурелия, высшей точке пологого холма Джианиколо, не могло было быть более прекрасным и достойным восхищения. Стоящий как раз на границе между городом и деревней, дворец дышал самым здоровым воздухом, а вокруг раскинулись самые очаровательные пейзажи, так что не надо было мучительно напрягать зрение, чтобы обнаружить их. Хотя он и находился среди ряда пологих холмов, образующих гряду, дворец-корабль имел величественный вид и казался скорее замком, чем виллой или дворцом. Точнее, плавучим замком, если можно так выразиться. Двойная наружная лестница перед фасадом как будто образовывала нос корабля, врезавшийся в зелень сада двумя симметричными изгибами, и вела на маленькую террасу – точную копию верхней палубы. С противоположной стороны низкий полукруглый фасад изображал корму корабля. Здесь большая, закрытая арочными окнами лоджия выходила окнами на виа ди Порта Сан-Панкрацио. И наконец, корпус «Корабля» образовывали четыре жилых этажа с легким воздушным основанием, увенчанные четырьмя башенками с флажками-флюгерами, которые были словно флаги на мачтах корабля. «Корабль» гордо возвышался над верхушками окружавших его кустов и деревьев, так что был виден даже на большом расстоянии, и совершенно неважно, что сад был не особенно велик. Изречение на латыни у входа в дом, которое я часто читал, проходя мимо, гласило:
Agri tant um quofruamur,
Non quo oneremur.
Иначе говоря, автор призывал иметь земли ровно столько, столько нужно для удовольствия, а не тратить деньги на покупку лишних. Эта сентенция, исполненная старой крестьянской мудрости, конечно же, была только вступлением к тому, что мы обнаружили внутри здания, а того было больше, намного больше. Атто остановился, чтобы издали понаблюдать за разветвлением виа ди Порта Сан-Панкрацио, открывавшей вид на расположенное поблизости поместье Корсини. – Я знаю, что «Корабль» построил некий Бенедетти, – снова взял я в свои руки нить разговора, пока мы осторожно всматривались в дорогу, лежащую перед нами. – Но кем он был? – Одним из доверенных лиц Мазарини. Его агентом здесь, в Риме. От имени Мазарини он скупал картины, книги, ценные вещи. Со временем он стал довольно знающим специалистом в этом деле. Он поддерживал связи с Бернини, Альгарди, Пуссеном… Я не знаю, говорят ли тебе что-то эти имена. – Да, конечно, синьор. Это великие художники. – У Бенедетти были амбиции архитектора, – продолжал Атто, – хотя он таковым не являлся. Иногда он брался за вещи, которые были ему не по силам. Например, предложил построить большую лестницу на холме между площадью Испании и Тринита деи Монти, но это предложение не нашло отклика. Однако некоторые его замыслы удалось осуществить. Был у него, к примеру, эскиз, по которому здесь, в Риме, был сделан катафалк для похорон кардинала. С моей точки зрения, он был тяжеловат и слишком помпезен, но не уродлив. Бенедетти был талантливым дилетантом. – Может быть, и к «Кораблю» он тоже приложил руку, – высказал я предположение. – Действительно, говорят, что вилла – это больше его творение, чем архитектора, которому он ее заказал. И я уверен, что так оно и было. – Вы хорошо знали его? – Я помогал ему, когда именно из-за этого «Корабля» он приезжал во Францию тридцать лет назад. Перед смертью Бенедетти из благодарности завещал мне некоторые вещи. Несколько восхитительных маленьких картин. И вот мы очутились перед каменной оградой, окружавшей виллу. Атто посмотрел на запад и зажмурился от яркого света полуденного солнца. – Он приехал во Францию, чтобы осмотреть Во-ле-Виконт – замок моего друга Никола Фуке. Я сопровождал его, и он заявил мне, что хочет почерпнуть вдохновения для строительства своей виллы. А теперь прекращаем разговоры. Мы уже у цели. Ты все увидишь своими глазами и можешь, если захочешь, составить свое собственное суждение. Мы подошли ко входу, сделанному в необычном, восхитительном стиле. Прямо перед нами возвышалась корма корабля: большая закрытая сквозная галерея с легкими арками, которая имела форму полукруга и выходила на улицу, где находились мы. Из галереи доносилось тихое журчание маленького фонтана. «Корма» доходила до окружавшего виллу ограждения, искусно выполненного в форме обрыва с окнами и дверями в виде морских гротов и бухт. И действительно, качающийся на воображаемых волнах «Корабль» выглядел так, будто был пришвартован к скалистому рифу. Волшебный «Корабль» возвышался на холме Джианиколо среди пиний, кустов олеандра, клевера и маргариток, словно стоял на якоре у морского побережья. Казалось, никто не охранял маленькие ворота, ведущие на виллу. Ворота в самом деле были только прикрыты, но не заперты и открывались в передний двор, откуда был выход в сад. Мы сделали несколько осторожных шагов, в любой момент ожидая, что кто-то выйдет нам навстречу. Изнутри виллы слышался чей-то голос, приглушенный расстоянием. И, словно 9X0, ему вторил женский смех. Однако никого не было видно. Мы находились в просторном внутреннем дворе, а справа стояло изящное господское строение «Корабля». Посреди свободной площадки, оживленный красивыми каскадами, журчал, изливая свой нескончаемый бурлящий поток, прелестный фонтанчик. Мы остановились и осмотрелись вокруг, чтобы сориентироваться. С левой стороны от нас раскинулся парк, и мы нерешительно приступили к его обследованию. Вдоль дорожки тянулись шпалеры фруктовых деревьев и горшки с аргуми и другими фруктами, выставленные в один ряд, далее виднелась широкая лестница, ведущая в девять разных аллей, обсаженных кустами роз, ряды деревьев, опустивших свои ветви над сводчатыми входами в дом. Маленькие фонтаны, объединенные в еще один большой фонтан, находившийся посреди террасы на первом этаже здания, создавали постоянно меняющийся приятный звуковой фон. – Разве мы не будем докладывать хозяевам о своем прибытии? – Пока что нет. Мы вторгаемся в частное владение, я знаю, но на входе не было охранника. Если понадобится, мы скажем в оправдание, что хотели выразить свое почтение владельцу этой роскошной виллы. Короче говоря, надеемся, что, как говорят, дуракам закон не писан. – Как долго? – встревожился я, поскольку мне совсем не нравилась перспектива попасть в неприятное положение в месте, находящемся так близко от моего дома и от виллы Спада. – До тех пор, пока не найдем что-нибудь интересное о собрании наших трех кардиналов. А сейчас перестань задавать свои вопросы. Перед нами открылась аллея, на которой возвышалась большая пергола, обвитая изысканными сортами винограда. – Виноград – христианский символ возрождения. Так Бенедетти принимал своих гостей, – заметил Мелани. Пергола заканчивалась, как мы теперь увидели, красивой фреской с изображением триумфа[1304] в Древнем Риме. Приближаться к дому было бы слишком опасно: рано или поздно мог подойти кто-нибудь, чтобы положить конец нашейзапретной разведывательной вылазке. Но чем дольше мы гуляли по тенистым аллеям парка, тем в большей безопасности чувствовали себя в объятиях ласковой полуденной тишины, напоенной ароматом цитрусовых деревьев, под мирное журчание фонтанов. Во время нашей прогулки по саду мы наткнулись на площадку с двумя небольшими пирамидами. На каждой из пирамид сбоку виднелась надпись. На первой было написано:«GENII AMOENITATI
Qui procul a curis ille laetus; Si vis esse talis, Esto ruralis».– Ну, мальчик мой, теперь твоя очередь, – любезно предложил мне Атто. – Я бы сказал так: «К очарованию гения. Блажен, кто не имеет забот; если хочешь быть им – живи в деревне». На другой пирамиде было начертано похожее изречение:
«AMICITIAE FELICITATI
In secunda, et in adversa fortuna Nil solidius amico: Hunc facilius in rure, Quam in aula invenies».– «О радостях дружбы. В хорошие, как и в плохие дни нет ничего надежнее друга: но ты скорее найдешь его в деревне, чем при дворе», – перевел я. Мы молча постояли перед пирамидами, каждый – по крайней мере, так думал я – втайне гадая, о чем думает другой. Какие мысли вызвали эти сентенции у Атто? Дух и дружба… Если бы меня спросили, какой дух обуревает его, я тут же подумал бы о двух его сильных страстях: о политике и интригах. А дружба? Аббат Мелани относился ко мне хорошо, в этом я не сомневался, с тех пор как поймал его на том, что он тайно носит у сердца мои жемчужины, прикрепив их, словно ex voto,[1305] к покрывалу Кармельской Богородицы. Но, несмотря на это, был ли Атто сейчас или когда-нибудь еще хотя бы на мгновение моим другом, настоящим, бескорыстным другом, как он любил утверждать, когда ему было это удобно? Вдруг издали послышалась приглушенная мелодия – странный напев, словно песнь печальной сирены, похожая на звучание то флейты, то гамбы или даже на женский голос. – Они музицируют на вилле, – заметил я. Атто напряг слух. – Нет, это не на вилле. Музыка доносится откуда-то из окрестностей. Мы устремили наши взоры на парк, но напрасно. Внезапно поднялся ветер, и с клумб, деревьев и кустов в воздух с шорохом взметнулись бледные упавшие листья – преждевременные жертвы летней жары. – Оттуда, она слышна оттуда, – поправил себя Атто. Он указал на окно в западной стороне входного дворика, и мы подошли прямо под окна, откуда каждый мог не только видеть, но и слышать нас, тем не менее никто, как и прежде, не мешал нам бродить по парку. Я был удивлен, что нас не пытаются остановить, однако постепенно я проникся дерзким доверием к этому месту, которое до сих пор было для меня таким незнакомым и таинственным. Мы прислушивались, глядя наверх, в направлении окна (действительно, единственного открытого), откуда, как нам казалось, доносилась музыка. Однако незримый покров тишины снова опустился на парк и на нас. – Похоже на то, что им доставляет удовольствие оставаться невидимыми, – пошутил Атто. Таким образом, у нас появилась возможность поближе полюбоваться архитектурой «Корабля». Фасад, у которого мы стояли, был разделен на три части; на его ровной поверхности было углубление, занятое на первом этаже красивым портиком с арками и колоннами, над которыми на уровне второго этажа тянулась терраса. Мы направились к портику. – Синьор Атто, посмотрите сюда. Я показал Атто надпись на латыни над каждым их четырех люнетов портика:
«AERIS SALUBRITAS,
LOCI SUBLIMITAS,
URBIS VICINITAS,
DOMUS COMMODITAS».
– «Здесь целебный воздух, превосходное место, близость города, удобный дом», – перевел Атто. – Настоящий гимн, спетый Эльпидио Бенедетти своему дому. Две другие надписи похожего содержания были над двумя дверями:«Agricola semper in proximum annum dives est. Laudato ingentia Rura, exigum colito».– «Крестьянин всегда богат в будущем году. Восхвалим большие поля, обработаем малые». Занимательно. Посмотри, этого здесь полным-полно. Атто предложил мне зайти в портик. Оглядев фасад, я увидел множество изречений, немного поблекших, сгруппированных по три над каждой колонной и покрывавших стены, словно лес. Я прочел первый девиз, а за ним и остальные.
«Скромность – мать всех добродетелей». «Не все авторы – мудрецы». «Хороший друг лучше сотни родственников».По сторонам лоджии были расположены полуколонны, и на них тоже было достаточно цитат:
«Один враг – слишком много, сто друзей – мало». «Один мудрец и один безумец знают больше, чем просто один мудрец». «Уметь жить важнее, чем уметь говорить».
«Одно порождает другое, а мир управляет ими». «Имея немного ума, можно править миром». «Миром правят мнения».
«Никто при дворе не веселится больше, чем дурак»; «Загородный дом – лучшее место для размышлений и наслаждений мудреца».– Я уже слышал о надписях на «Корабле», – сказал Атто, вместе со мной изучая, их, – но я никогда не думал, что их так много и что они повсюду. Действительно, достойный внимания груд. Браво, Бенедетти! Хотя не все они выросли на его навозе, – с коварной улыбкой заключил он. – Что вы хотите этим сказать? – «Миром правят мнения», – процитировал Атто елейным дребезжащим голоском, одергивая одежду так, чтобы она походила на скуфью, потом со строгой миной на лице поднял брови. И приложил два пальца к верхней губе, изображая усы. – Его преосвященство кардинал Мазарини! – воскликнул я. – Одна из его любимых поговорок. В отличие от других, эту он никогда не записывал. – А какие изречения, кроме этого, вы узнали еще? – Дай посмотрю… «Скромность – мать всех добродетелей» – это изречение Папы Климента IX, моего хорошего друга, царствие ему небесное. Потом… «Хороший друг лучше сотни родственников». Это часто повторяла мне когда-то ее величество Анна Австрийская, покойная мать христианнейшего короля Франции… Ты что-то сказал? – Нет, синьор Атто. – Ты уверен? Я мог бы поклясться, что слышал что-то похожее на… да, на шепот. Мы осмотрелись, немного обеспокоенные. Ничего не обнаружив, мы продолжили нашу экскурсию, как вдруг снова раздалась та же мелодия, только в этот раз гораздо слабее, почти неслышно. – Фолия, – сказал аббат, – а здесь она и вправду служит хорошим фоном. – Действительно, здесь все как-то слишком высокопарно, – согласился я. – Ты не знаешь, что это? Мелодия, которая там звучит, – это вариации на тему фолия. По крайней мере, мне так кажется по тому маленькому отрывку, что я услышал. Я промолчал, так как не знал, что означает тема фолия в музыке. – Речь идет о народной песне из Португалии, первоначально народном португальском танце под названием «фолия», – пояснил Атто, отвечая на мой невысказанный вопрос. – Это очень известная тема. Ее основа – музыкальная канва, назовем это так, очень простая структура, на которой музыканты импровизируют множество вариаций и виртуозных контрапунктов. Мы затаили дыхание еще на минуту, прислушиваясь к музыке, которая постепенно вырисовывалась в мотив, то серьезный и строгий, то милый, то меланхоличный, но никогда не повторяющийся. – Это прекрасно, – прошептал я, чувствуя, как кружится голова от этой волшебной музыки. – Это бассо остинато, тоже с вариациями, который сопровождает контрапункты: он всегда покоряет мечтательные натуры вроде твоей, – захихикал Атто. – Однако в данном случае ты совершенно прав. До сих пор я всегда считал, что нет лучше вариаций на тему фолия, чем созданные маэстро Марэ из Версаля, однако эти, на итальянский манер, просто очаровательны. Действительно талантливый композитор, кто бы он ни был. – А кто же был первым автором фолия? – полюбопытствовал я, когда отзвучала музыка. – И все, и никто. Как я тебе уже сказал, это народный напев, старинный танец, который существует так же давно, как и память человеческая. Даже само название фолия окутано тайной. Подожди, дай мне прочитать, здесь что-то написано о Лоренцо де Медичи, – ответил Атто, стараясь прочесть какие-то стихи, однако почти тут же прекратил свою попытку. – Ты слышал? – прошептал он. Я тоже это слышал. Два голоса. Один мужской, другой женский. Совсем рядом. И скрип гравия под чьими-то ногами. Мы огляделись. Никого. – Ну, в конце концов, мы тут находимся с дружескими намерениями, – сказал Атто и перевел дыхание. – Нам нечего бояться. Мы снова продолжили наши исследования. На меня произвели глубокое впечатление изречения на стенах «Корабля», прибывающие удалиться от мирской суеты и искать правду и мудрость В надежной гавани природы. «Странно, – подумал я, – именно в этом месте, где мы ищем свидетельства тайной встречи трех кардиналов, читались слова о том, что следует презирать политические и деловые хлопоты». Сам я уже почти полностью отошел от общественных дел: я отказался писать для газет и окопался вместе с Клоридией на своем маленьком поле. Атто же, наоборот, и спустя семнадцать лет занимался этим, да еще как. Однако в этот момент (впрочем, я мог и ошибаться) мне показалось, что эти строчки, с мягким нажимом указывающие на бренность сего мира, наложили на его лицо тень сомнения и раздумий. – Какие стихи! Ты их знаешь, читаешь в сотый раз, но тем не менее кажется, что они всегда могут сказать тебе что-то новое, – заметил он про себя. Между арками мы прочли прекрасные стихи о временах года Мариино, Тассо и Алеманни, а также двустишия Овидия. И сразу же наше внимание привлекли новые мудрые мысли, которые мы обнаружили высеченными в нише между окнами на стене палаццо:
«Кто потерял доверие, тому уже больше нечего терять»; «Кто не имеет друзей, не будет счастлив»; «Тот, кто быстро обещает, чаще всего потом очень долго жалеет об этом»; «Тот, кто всегда смеется, тот часто обманывает»; «Кто бежит за игрой, обеднеет в конце»; «Кто пытается обмануть, тот часто бывает сам обманут»; «Кто плохо говорит о других, тот пусть сначала подумает о самом себе»; «Кто правильно предполагает, тот дает хорошие советы»; «Кто имеет уважение, у того будет и все добро»; «Кто хочет иметь много друзей, тот пусть испытает немногих»; «Кто не рискует, тот не выигрывает»; «Кто верит, что знает много, тот понимает меньше».– Проклятие, – вдруг прошептал Атто. – Что с вами? Он на мгновение замолчал. – Как так может быть, что ты ничего не слышал? Какой-то звук, прямо передо мной. – Честно говоря… Мне показалось, что треснула ветка. – Ветка, которая ломается сама собой? Это было бы очень интересно, – поддел он меня, оглядываясь по сторонам и с трудом переводя дыхание. Я не хотел говорить ему о своих впечатлениях, но наша разведка как будто шла двумя параллельными путями: письмена, которые мы расшифровывали, и таинственные звуки, которые пугали нас. Словно это были две разные реальности: начертанные слова и звуки из ниоткуда, бросающие вызов одни другим. Еще раз набравшись храбрости, мы отправились дальше. Список изречений продолжался во второй нише:
«Кто хочет иметь все, тот умрет от жадности»; «Кто не ведает лжи, тот верит, что все говорят правду»; «Кто привык делать зло, не думает ни о чем другом»; «Кто оплачивает долги, тот извлекает из этого прибыль»; «Кто хочет много, не должен требовать мало»; «Кто проверяет каждое перышко, никогда не застелет постель»; «Кто не уважает других, не заслуживает уважения к себе»; «Кто не ценит других, того не ценят другие»; «Кто покупает вовремя, тот покупает выгодно»; «Кто не знает страха, тот подвергает себя опасности»; «Кто сеет добродетель, тот пожнет славу».И в третьей нише:
«ОСТЕРЕГАЙСЯ: Бедного алхимика, Больного врача, Внезапной ярости, Подстрекаемого безумца, Ненависти господ, Общества предателей, Лающей собаки, Молчащего мужчины, Общения с ворами, Нового трактира, Старой проститутки, Ночной ссоры, Мнения судей, Сомнения врачей, Рецепта аптекарей, «И так далее» нотариуса, Злобы женщин, Слез проституток, Лжи торговцев, Воров в доме, Возвращающейся служанки, Ярости народа».– Старым шлюхам и мнению судей доверять нельзя, это уж точно, – согласился Атто с улыбкой. Наконец, в четвертом углублении был последний ряд мудрых сентенций.
«ТРИ ВИДА ЛЮДЕЙ СТОИТ НЕНАВИДЕТЬ:
Высокомерного бедняка, Жадного богача, Сумасшедшего старика.
СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ТРЕХ ВИДОВ ЛЮДЕЙ:
Певцов, Стариков, Влюбленных.
ТРИ ВЕЩИ ОСКВЕРНЯЮТ ДОМ:
Куры, Собаки, Женщины.
ТРИ ВЕЩИ ДЕЛАЮТ МУЖЧИНУ УМНЫМ:
Любовная связь, Проблема, Спор.
ТРИ ВЕЩИ ДОСТОЙНЫ ЖЕЛАНИЯ:
Здоровье, Хорошая репутация, Богатство.
ТРИ ВЕЩИ ЯВЛЯЮТСЯ СОВЕРШЕННО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ:
Подозрение, если оно возникло, не исчезнет больше; Ветер не зайдет туда, где не видит выхода; Верность, если она ушла, не вернется никогда.
ТРИ ВЕЩИ СМЕРТЕЛЬНЫ:
Ждать, но не прийти, Быть в постели, но не спать, Служить, но не получать удовольствия от этого.
ТРОИМ ЖИВЕТСЯ ХОРОШО:
Петуху мельника, Коту мясника, Слуге трактирщика».– Ну, эти сентенции не совсем на уровне предыдущих, – проворчал Атто, которому, видимо, не понравилось изречение насчет того, что следует всячески избегать певцов и стариков, – ведь он принадлежал к тем и другим. – Не знаю, – сказал я. У меня голова шла кругом от такого количества цитат. – Как вы думаете, зачем тут все эти надписи? Он не ответил. Вероятно, у него возник тот же вопрос, только ему не хотелось показать это, поскольку он все еще считал меня человеком неопытным в жизненных вещах.
Ветер, поднявшийся уже некоторое время назад, вдруг усилился, стал почти ураганным. Капризные вихри подняли в воздух листья, комья земли и насекомых. Порыв ветра бросил мне пыль в глаза, ослепив на какое-то время. Мне пришлось прислониться к дереву, чтобы протереть глаза, и лишь через пару минут мое зрение восстановилось. Я увидел, что Атто тоже вытирает носовым платком глаза. Голова моя кружилась: на насколько мгновений шквал ветра невиданной силы закрыл от нас весь мир, а вместе с ним – и виллу. Я посмотрел наверх. Облака, которые раньше лениво перемещались по небу, только что окрашенному в оранжевый, розовый и лиловый цвета начинающегося заката, сейчас стали блекло-голубыми и заполонили небосвод. На горизонте, затянутом мутной белесоватой мглой, мерцал аморфный неземной свет. Музыка, казалось, доносилась уже со стороны большой площади у входа в парк. Затем снова стало ясно и светло. Так же внезапно, как оно раньше исчезло, появилось дневное светило и бросило тонкий золотой луч на фасад «Корабля». На несколько мгновений ласковый бриз донес до нас звуки фолия. – Странно, – сказал Атто, очищая перепачканные туфли, – эта музыка приходит и уходит, уходит и приходит. Кажется, что она везде и нигде. В домах аристократов уже есть залы, где стены устроены особым образом, так, что они усиливают звук, чтобы создать иллюзию присутствия музыкантов в ином месте, а не там, где они действительно сидят. Однако о садах с такими свойствами я еще никогда не слышал. – Вы правы, – согласился я, – создается впечатление, будто эта музыка, как бы сказать… просто в воздухе. Вдруг мы услышали два голоса и женский смех, звучавший как серебряный колокольчик. Похоже, что это были те же голоса, которые мы слышали раньше и за которыми странным образом не последовало появления людей. Обзор нам закрывала высокая живая изгородь. Атто поправил складки своего камзола и приосанился, готовясь представиться и отвечать на вопросы. В одном месте живая изгородь расходилась в стороны, и наконец-то в свете, падающем с противоположной стороны, мы увидели двоих. Один был уже не очень молодой, однако полный сил человек благородного происхождения, чей открытый взгляд, тонкие черты лица и решительный вид произвели на меня приятное впечатление, хотя, конечно, это был лишь поверхностный взгляд. Он мило беседовал с молодой девушкой, словно подбадривая ее. Неужели это ее звонкий смех мы услышали, входя в поместье? – …я буду благодарна вам всю свою жизнь. Вы – мой самый настоящий друг, – сказала она. Одеты они были по французской моде, однако было в них что-то необычное (я даже не мог бы сказать, что именно). На наше присутствие они не обратили ни малейшего внимания, и все это очень было похоже на то, что мы тайно следим за ними под прикрытием живой изгороди. Они чуть-чуть повернулись к нам, и я мог рассмотреть лицо девушки. Ее кожа была чище хрусталя, однако не снежно-белой, а соединяющей бледность с живостью крови, и смесь светлых и темных тонов делала девушку похожей на Венеру (поскольку темная кожа не умаляет красоты, а умножает ее, как говорится в пословице). Лицо было не продолговатым, а скорее округлым, равным по красоте всей прелести неба. Словно бросая вызов заурядному цвету золота, ее волосы были иссиня-черного цвета, не имеющего в себе, конечно, ничего грубого, – их чернота словно намекала на траур но тем людям, которые рискнут запутаться в ловушке ее красоты. Высокий лоб гармонично сочетался с другими чертами; брови и ресницы были темные, однако, если взгляду других они придавали бы надменности, то у нее, стоило увидеть ее зрачки, они были подобны облаку, открывающему солнце после проливного дождя. Как только у меня появилась возможность взглянуть сквозь листья в сторону девушки, я стал рассматривать ее, и эти большие глаза, которые были скорее круглыми, чем продолговатыми, обладали несравненной живостью, наверняка могли сердиться, но не таить зла, показались мне самыми сладкими и самыми жестокими инструментами пыток, кометами, приносящими смерть, жалящими стрелами любви, способными ослепить самого зоркого человека, НО, разумеется, не бессердечными, потому что таили в себе море нежности. Губы были ярко-кораллового цвета, и даже киноварь Не могла бы сделать их прекраснее и ярче. Нос имел идеальные пропорции, а прелестная головка опиралась на стройный цоколь шеи, ниже которой выступали два чудесных холма Рагозы, вернее, два яблока Париса, который, увидев эту девушку, несомненно, сразу же объявил бы ее богиней красоты. Изящные руки ее были такими крепкими, что, казалось, невозможно было бы их ущипнуть; кисть руки была очаровательным творением природы, пальцы – идеальными и белыми, как молоко. Движения всех частей ее тела, которые я внимательно рассматривал только ради этого несовершенного описания, были настолько привлекательными, улыбка столь трогательной, голос таким приятным, ее жесты настолько соответствовали тому, что она говорила (или казалось, что говорила), что каждый, кто слышал ее, даже не видя, нашел бы в ней то, что непосредственно тронуло бы его сердце. В этот момент, когда я пытался расслышать что-нибудь еще, кроме выражения «Я буду благодарна вам всю свою жизнь. Вы – мой самый настоящий друг…», за которым могло скрываться все или ничего, Атто привлек мое внимание, резко толкнув. Я повернулся. Он побледнел так, словно ему стало плохо. Затем подал мне знак идти вместе с ним вперед и обогнуть живую изгородь, чтобы предстать перед незнакомыми людьми. Нервной походкой он пошел вперед и практически заставил меня бежать за ним. Когда мы оказались в конце маленькой аллеи, он остановился. – Посмотри, там ли они еще. Я повиновался. – Нет, синьор Атто. Я их больше не вижу. Должно быть, они пошли в другую сторону. – Разыщи их. Он уселся на низенькую ограду и вдруг снова показался мне старым и усталым. Я не стал противиться его приказу, поскольку вид прекрасной девушки пробудил во мне решительность и любопытство. Если бы кто-нибудь обнаружил нас, я с ходу придумал бы объяснение и сказал бы, что я – слуга одного дворянина, подданного его величества христианнейшего короля Франции Людовика XIV, и позволил себе войти на виллу исключительно ради желания засвидетельствовать свое почтение хозяину виллы. И, кстати, разве Атто не говорил, что «Корабль» уже с самого начала был оплотом Франции в Риме? После безуспешных поисков дворянина и девушки на аллее, где они так неожиданно появились, я проскользнул на боковую дорожку, затем в другую, в третью, чтобы каждый раз вернуться ко входу в большой внутренний двор. Тщетно. Они словно растворились в воздухе. «Наверное, пошли в дом», – предположил я. Скорее всего, так оно и было. Когда я присоединился к аббату Мелани, мне показалось, что он снова немного взбодрился. – Вы себя лучше чувствуете? – спросил я. – Да, да. Ничего, это так… временное перевозбуждение. И правда, он все еще выглядел взволнованным. Даже сидя, он опирался на палку. – Если вам лучше, то, наверное, уже можно идти, – решился предложить я. – Ну нет, тут ведь совсем неплохо. К тому же мы никуда не спешим. Вот только пить хочется. Правда, мне очень хочется пить. Мы отправились к одному из двух фонтанов, где он попил воды, а пока он пил, я помогал ему сохранять равновесие. Затем мы вернулись на маленькие садовые дорожки, время от времени поглядывая на «Корабль», где снова воцарилась тишина. Атто шел, слегка опираясь на мою руку. – Как я уже сказал, вилла принадлежала Эльпидио Бенедетти, который передал ее по наследству одному родственнику Мазарини, – напомнил он мне. – Однако ты не знаешь, кто это был. Я скажу тебе. Филиппо Джулиани Манчини, герцог Неверский, брат одной из самых знаменитых женщин Франции – Марии Манчини, мадам коннетабль Колонна. Я взглянул на него. Мне не надо было выдумывать никаких хитростей, чтобы выманить из Бюва какую-то полуправду: аббат сам наконец снял покров тайны, окутывавшей таинственную Марию. В этот момент мне показалось, что я снова слышу тоскливый мотив фолия, доносящийся из виллы. Это была не та же самая фолия, что раньше. Появившаяся в ранних сумерках, она была более глубокой, выдержанной и отстраненной; наверное, гамба или даже une voix humaine, человеческий голос, элегичный и печальный.
Но Атто, казалось, не слышал ничего. Сначала он немного помолчал, словно натягивая лук своих чувств, чтобы стрела рассказа была выпущена не напрасно. – Не забудь, мой мальчик, только раз в жизни одно сердце загорается для другого. Вот и все. Я знал, к чему относятся его слова. Бюва намекнул мне, что первая любовь христианнейшего короля была его самой большой любовью. И она была его избранницей – Мария Манчини, племянница кардинала Мазарини. Но государственные интересы грубо вмешались в эту историю. – Луиджи сделал ставку на Марию как козырь в своей игре, и проиграл, – продолжал аббат, не замечая того, что говорит о короле Людовике как о близком человеке. – Это была огромная страсть, и, вопреки всем законам природы и любви, она была заглушена и попрана. Хотя все это происходило в пространстве и во времени и только между двумя сердцами, реакция подавленных таким противоестественным образом страстей была невиданной. Эта несбывшаяся любовь, мой мальчик, накликала на землю ангелов мести: войны, голода, нищеты, смерти. Судьбы отдельных людей и целых народов, история Франции и Европы – все перемешалось во мстительной злобе Эриннии,[1306] восставшей из пепла этой любви. Да, это было возмездие истории за отказ от своей судьбы, за эту перенесенную несправедливость. Небольшую несправедливость, если подходить к ней с мерками рассудка, но безграничной, если мерить ее сердцем. Ведь ни у кого, даже у королевы-матери Анны Австрийской, молодой король не находил такого понимания, как у Марии. – Обычно дар длительного взаимного согласия сердец послан лишь матерям, знающим меру в выражении чувств, – поучительно произнес Мелани, – то есть тем, кто взращивает свои страсти в скромном, тщательно ухоженном садике. Тем же мужчинам и женщинам, в груди которых бушует огонь бурных страстей, дано переживать чувства абсолютные, но кратковременные, подобные пламени от горящей соломы, способному осветить безлунную ночь, но не дольше, чем длится эта единственная ночь. – А у Марии и Луиджи было иначе, – продолжал Атто. – Их страсть была пылкой, но тем не менее упорной. И из этого чувства выросла та несказанная, тайная гармония сердец, которая так тесно связала их, как не случалось еще нигде и никогда. Поэтому мир начал ненавидеть их. Но, увы, тогда они были еще совсем незрелыми: их защитная оболочка, особенно у юного короля, была еще слишком тонкой, чтобы выдержать коварство, яд, изощренную жестокость двора. И не потому, что король был очень молод: когда он влюбился в Марию, ему было добрых двадцать лет. И, несмотря на этот уже не юношеский возраст, король не был еще женат, даже не был помолвлен. В высшей степени странное обстоятельство, противоречащее всем традициям! – воскликнул аббат Мелани. – Обычно с женитьбой молодого короля не тянут. Тем более что французская королевская семья не была так уж богата наследниками трона: после Филиппа, брата короля и его дяди, Гастона Орлеанского, старого больного человека, первым принцем крови был Конде, змея на груди короны, предводитель восставшей Фронды, после своего поражения переметнувшийся на службу к врагам-испанцам… Однако Анна и Мазарини медлили, специально оставляя Людовика под стеклянным колпаком золотой неопытности, позволяющей им и далее править без помех. Молодой король ни о чем не догадывался. Он любил увеселения, танцы, музыку, отдав бразды правления страной Мазарини. Людовик как будто совсем не думал о своей будущей ответственности правителя государства. Он производил впечатление мягкого и апатичного человека, как его отец, тот самый Людовик XIII, которого он почти не знал. Даже три года изгнания во время Фронды, которые он вынужден был пережить в нежном десятилетнем возрасте, вызвали у него всего лишь небольшое замешательство. – Простите, – перебил я, – но как может быть, что такой человек, кроткого и невоинственного нрава, вдруг превратился в христианнейшего короля? – В этом-то и заключается тайна, и объяснить ее не может никто, если не знать о событиях, о которых я хочу тебе рассказать. Всегда говорили, что он изменился так из-за Фронды, что якобы именно восстание народа и дворян заставило его принять жестокие меры возмездия в последующие годы. Все это вздор! Более десяти лет разделяли восстание Фронды и внезапную смену характера короля. Так что это не могло быть причиной. Его величество до 1660 года, почти до самой свадьбы, оставался робким мечтательным юношей. Уже год спустя он стал несгибаемым правителем, о котором ты тоже много слышал. А ты знаешь, что случилось именно за этот год? – Вынужденная разлука с мадемуазель Манчини? – Мой вопрос был естественным, и Атто утвердительно кивнул. – Какая только ненависть не изливалась на эту молодую пару: ненависть королевы-матери, Мазарини… – Но почему? Кардинал, ее дядя, должен был радоваться этому! – О, об этом можно говорить очень много… Для начала, тебе достаточно знать: кардинал сумел убедить всех при дворе, что противится этой любви из чувства семейной чести, из чувства долга перед монархией и так далее, однако я, не будучи французом, не проглотил эту наживку. Я хорошо знал Мазарини, его предки были уроженцами Абруццо и Сицилии: на первое место он ставил исключительно личную выгоду и положение своей семьи. И все. Атто сделал жест, означающий, что ему все слишком хорошо известно. Затем он снова взял в свои руки нить рассказа: – Я уже сказал, что все при дворе проклинали эту любовную историю, но не могли пойти против короля, поэтому возненавидели бедную Марию, которую и без того не любили ни при дворе, ни в семье. – Но почему, ради всего на свете? – При дворе ее ненавидели за то, что она итальянка: всем уже надоели эти итальянцы, которых Мазарини привез в Париж, – ответил Атто, который и сам был одним из этих итальянцев. – В семье Марию ненавидели уже с первого ее крика в колыбельке: сразу же после рождения дочери отец составил ее гороскоп и, к своему ужасу, обнаружил, что она будет причиной бунтов и трагедий, даже войны. Будучи фанатичным астрологом (кстати, эту страсть Мария унаследовала от отца), он даже на смертном одре призывал жену остерегаться Марии. Мать Марии, следуя завету мужа, превратила детство Марии в мучение. Она никогда не забывала указывать девочке на ее недостатки, даже на телесные («Незаметные мелочи!» – сказал Атто). Она даже не хотела брать ее с собой в Париж. И лишь когда Мария, которой тогда было четырнадцать лет, настойчиво, даже отчаянно, попросила мать об этом, та уступила. При королевском дворе мать изолировала Марию от всего, что только можно, даже закрывала ее в комнате, в то время как младшим сестрам разрешалось находиться рядом с королевой. Перед смертью мать последовала примеру отца: поручи в других детей заботам своего брата-кардинала, она попросила отправить ее третьего ребенка, Марию, в монастырь, напомнив ему об астрологическом предсказании отца Марии. Враждебность матери глубоко ранила Марию, пояснил аббат, и та неподражаемая, похожая на мужскую, манера обхождения с близкими людьми, иногда свойственная Марии – смех, чуть более дерзкий, чем следовало, тяжеловатая и агрессивная походка, колючие, но очень точные замечания, которые уместнее было бы слышать из уст командира солдат, чем молодой девушки, – все это показывало, насколько материнское воспитание подавляло в Марии доверие к своей женской природе. – И все же она была женственной, и еще какой женственной! – воскликнул Атто. Он посмотрел вокруг, словно искал в парке какой-то особенный уголок, магическое место, где кто-то или что-то могло подтвердить правдивость его слов. – Я скажу тебе больше: она была прекрасна, нет, совершенна, как творение иного мира. И это не только мое мнение, нет, это чистая правда. Но если бы ты сказал это тем, кто ее знал, можешь быть уверен, что все они, за исключением, может быть, ее мужа Лоренцо Онофрио, царствие ему небесное, отреагировали бы весьма удивленно и не согласились бы с тобой. А знаешь почему? Потому что ее движения и поступки ни в коей мере не совпадали с ее женскими качествами. Короче говоря, она вела себя не так, как красивая женщина. Нет, она не была неуклюжей, совсем наоборот. Однако, как только она чувствовала на себе мужской взгляд, ей почти становилось плохо. Если этот взгляд падал на нее, когда она шла, то ее походка становилась беспомощной; если она в тот момент сидела за столом, то тут же начинала горбиться; если говорила, то не замолкала, как иная робкая девица ее возраста, нет, потому что обладала слишком острым и живым умом. Можно было с уверенностью сказать, что Мария, затаив на миг дыхание, тут же выдаст какое-то неуместное замечание, сопровождая его дерзким смехом. Французская публика обычно застывала от удивления, ведь никто не подозревал, что такое поведение было выражением внутренней неловкости, то есть, собственно, большой чистоты сердца Марии. Наоборот, все слишком быстро начинали презирать ее, как какую-то деревенскую простушку. Поэтому чудесную лебединую шею Марии унизительно называли чересчур худой, ее горящий взор казался слишком тяжелым, густые темные локоны считались сухими и спутанными, бледность щек (в которой повинны были лишь косые враждебные взгляды двора) приписывали только бледному от природы цвету кожи. На самом деле щеки Марии были далеко не бледными: как часто я видел, что они пылают огнем в порыве ее молодого духа! И то же самое можно сказать о ярких устах, о ровных безупречных зубах, красоту которых не смог бы правдиво передать ни один художник, поскольку они не сочетались с модными в то время тонкими губами, и делали ее похожей на голубку… – Больно узнавать, что такая великая красота никогда не осознавалась самой Марией, – сказал я, чтобы поддержать выразительную речь Мелани. – Конечно, она не оставалась такой всю жизнь. Ее преобразило материнство. Когда я снова увидел ее, молодую мать, жену коннетабля Колонны, в Риме, все существо Марии было исполнено женственности, хотя ее разбитое сердце осталось в Париже. Лишь сама став матерью, она наконец-то смогла стряхнуть с себя страшный призрак своей родной матери. – Вы сразу поняли настоящую натуру Марии, – поддакнул я. – Я был не единственным: его величество король – тоже, поэтому он и влюбился в нее. Хотя у него вряд ли был опыт общения с прекрасным полом, он уже тогда не был готов загораться при виде первого попавшегося женского лица. Однако Мария, как я уже сказал, воспитанная на жестоких суждениях матери, была убеждена, что она грубая и неженственная. Короче говоря – уродина. Ах, если бы существовал умеющий рисовать волшебник, который, не будучи замеченным, смог бы запечатлеть облик Марии того времени в портрете! Я заплатил бы за этот портрет собственной кровью. Ведь когда Мария бывала сама собой, забывая о своих страхах, она была божественна. Те портреты, которые рисовали с нее при дворе, передавали смущение, которое она испытывала перед художниками, вымученную улыбку и неестественную позу. Ее изображали такой, какой она сама себе казалась, а не такой, какой была на самом деле. Когда Мария любила Людовика, то чувствовала себя еще не соловьем, которым она, собственно и была, а маленькой совой, издающей крики с крыши дома. Хотя в этом было не только плохое. Именно по этой причине, едва прибыв во Францию, она с головой ушла в учебу, убежденная, что должна заменить красоту знаниями. Во время почти полуторагодовой учебы в монастыре Испытаний Богородицы Мария почерпнула гораздо больше знаний, чем ее сестры и кузины. Безукоризненный французский язык с симпатичным своеобразным итальянским акцентом, основательное образование, страстная любовь к рыцарскому эпосу и к поэзии (она любила цитировать ее вслух) и, наконец, увлечение античной историей подняли ее на неизмеримую высоту по сравнению с поверхностно образованными дамами, которые имели наглость так резко судить о ней.
Во время своего первого представления при дворе Мария обнаружила не по возрасту острый ум и силу духа. Мария, с ее темпераментом, не представляла себе любви без препятствий, и ей не потребовалось много времени, чтобы увидеть в короле, своем ровеснике, тот сырой материал, который лишь ждал обработки. – Так часто бывает с молодыми мужчинами: острый ум, а по сути еще мальчик: материя, которая еще сыра, но хочет, чтобы ей придали форму; первозданная эссенция, которая требует света благородного и сильного женского духа, – добавил Атто, поучительно подняв указательный палец, дабы показать, что он постиг тему женственности гораздо основательнее, чем сами женщины. – Кузнец и творение искусства, Гефест и щит Ахилла: так Мария и Людовик противостояли друг другу. Как тот греческий щит, он уже был прекрасным. Но она смогла зажечь в нем ту самую божественную искру силы, добра и справедливости, которая возникает только в счастливом и восторженном сердце.
Воспоминания словно разрывали сердце и душу Атто, однако не потому, что он сам когда-то был влюблен в Марию, а теперь решился рассказать о ее любви к своему великому сопернику. На самом деле его терзало нечто иное, как мне показалось. Облагораживание мужской материи духом женщины, о чем он только что поучал меня, евнух Атто должен был бы сначала испробовать на себе. – Надо было переплавить эту бушующую бесформенную лаву, – снова начал он, – в горниле правды, остроты ума и чистоты души, осторожности и одновременно доверия к окружающим людям, чтобы она стала чистой, словно голубка, и мудрой, как змея, – говоря словами евангелиста. Не было и не могло быть никого, кто более всего подходил для такой чеканки духа и разума, чем христианнейший король Франции, – подчеркнул он мелодичным голосом. – Итак, таков был путь, открывшийся перед молодым горячим королем благодаря знаку живых глаз Марии. Мария – вот то, чего всерьез захотел король. Но ему в этом было отказано. Он желал ее со всей страстью своих молодых лет, но не переступил существующего порядка вещей. Людовик еще сам не осознавал своей власти, он был в плену туманных юношеских мечтаний: это была затянувшаяся зимняя спячка, которую искусно поддерживали его мать Анна и кардинал, извлекая свою выгоду. – И вы, вы считаете, что христианнейший король так сильно страдал, что следы этих страданий до сих пор оставались в его душе? – Хуже того. Для того чтобы страдать, нужно иметь сердце, а он от своего отказался. Он, как бы это сказать, отрекся от самого себя: лишь так он мог снова подняться из пропасти отчаяния, куда его ввергла неутоленная страсть. Но нельзя безнаказанно отказаться от своего собственного сердца. Святой Августин предостерегает нас: отсутствие добра порождает зло. И так в юном сердце короля очень скоро страдания были вытеснены холодом и жестокостью. В то время как любовь могла развить в нем самые лучшие качества, несбывшаяся любовь в убийственном превращении вызвала только худшие. Его империя стала (и до сих пор остается) империей тирании, подозрительности, яда, произвола, ничтожества, возведенного в ранг добродетели, – прошептал Атто едва слышно, понимая, что эти слова могут быть поставлены ему в вину, если их услышат вражеские уши. Он взял носовой платок и устало вытер капельки пота со лба и губ. – Всех женщин, которые появлялись у него впоследствии, он презирал, – произнес Атто со вновь обретенным пылом. – Так было с его супругой Марией Терезией. Либо он их сначала обожал, а потом игнорировал, как свою мать Анну. Либо испытывал к ним просто плотскую страсть, как к своим многочисленным любовницам. В каждой из женщин Людовик пытался найти Марию. Однако, поскольку у него больше не было сердца, которое могло бы руководить им, на самом деле он не искал в женщине душу, даже если и стоило бы это сделать, как в случае с бедной мадам Лавальер. Сам не осознавая того, король не позволял ни одной женщине занять место его старой любви; наоборот, он стал отъявленным женоненавистником. Своей жене Марии Терезии он запретил принимать участие в правительственном совете, на что она традиционно имела право, а сразу же после свадьбы исключил из совета и свою мать, Анну Австрийскую. Позже, однако, король возместил ей эту потерю комплиментом, сказанным, впрочем, вскоре после ее смерти: Людовик заявил, что она была «хорошим королем», поскольку говорить о ней в женском роде казалось ему слишком оскорбительным. Кроме того, в последнее время он крайне жестоко обращался со всеми своими любовницами. В 1664 году король сказал своим министрам: «Я приказываю каждому из вас немедленно предостеречь меня, если вы заметите, что какая-либо женщина, кем бы она ни была, получила власть надо мной и я начинаю попадать под ее влияние. Я избавлюсь от нее за один день». А тогда он был женат уже три года. – Разрешите вопрос, – перебил его я, – но как же мог бы король жениться на Марии, ведь она была не королевской крови? – Вполне понятное возражение, но не имеющее значения. А теперь я сделаю тебе маленькое открытие: знаешь ли ты, что христианнейший король уже больше не вдовец, а снова обзавелся женой? – Ладно, я не читаю газет, но если бы появилась новая королева Франции, то я, наверное, сразу узнал бы об этом, как только вышел на улицу! – воскликнул я, крайне изумленный. – Действительно, королевы нет. Речь идет о тайном браке, хотя этот секрет известен всем. Это произошло ночью семнадцать лет назад, вскоре после того как мы с тобой расстались и я возвратился в Париж. Уверяю тебя: высокочтимая супруга, при всем благосклонном отношении к ней, далеко не презентабельна в обществе. Маленький пример: в детстве она даже просила подаяние. Людовик наконец решил сделать то, чего ему не дали сделать двадцать четыре года назад, вернее, на что у него тогда не хватило мужества: он заключил с мадам де Ментенон брак против воли других. Однако его поступок сейчас – не более чем пустой звук, – печально проговорил Атто. – Ментенон – не Манчини, у нее нет волос, которые «пахнут вереском», как любил в восторге говорить молодой король о пышных волосах моей Марии. И этот брак, – заключил аббат Мелани убежденным тоном, – был не чем иным, как запоздалым знаком уважения первой и единственной в его жизни любви, а по отношению к «тайной» невесте – минутным капризом или выражением желчного нрава короля. Да, он даже дал ей понять, что может немедленно избавиться от нее, когда захочет. В отличие от Марии, Ментенон не может позволить себе дать хоть какой-то совет королю, без того чтобы он грубо не поставил ее на место. Этой женщине не остается ничего другого, кроме как хвастаться, что таково было ее решение – постоянно оставаться в тени, – добавил Атто с явным презрением в голосе.
Христианнейший король был тайно женат! И к тому же, как оказалось, на женщине сомнительного происхождения! Как такое могло быть? Тысяча вопросов вертелась у меня на языке, но Атто снова вернулся к воспоминаниям. – Короче говоря, это все было сказано для того, чтобы ты понял: король Франции, по моему мнению, был полон желания жениться на Марии. Однако следует помнить, – пояснил аббате нажимом, – что Людовик в то время был королем лишь номинально, фактически же вся власть принадлежала Мазарини и королеве-матери. При абсолютном послушании, которое король проявлял по отношению к матери и его преосвященству, ничего, абсолютно ничего не указывало на то, что положение вещей может когда-то измениться. Как и его отец, король Людовик XIII, Людовик мог бы на всю жизнь передать государственные дела в руки своего премьер-министра. Людовик и сам не подозревал, что такое положение рано или поздно может измениться, – заверил Атто. – В двадцать один год он все еще, словно мальчик, держался за юбку матери и стоял в тени кардинала. При этом он уже пять лет был совершеннолетним королем! Регентство его матери давно закончилось. Людовик ни в коей мере не противился брачнымпланам, которые разрабатывал для него Мазарини, – сначала речь шла о браке с Маргаритой Савойской, затем с инфантой Испании; он уже понял, насколько недолговечны такие политические обещания. В любом случае, Людовик до сих пор ни разу не решился возразить своим опекунам, даже не рискнул вставить слово «если» или «но». Его ничуть не волновали политические интриги под названием «брачные узы», которые плел Мазарини вокруг его персоны. Людовик, как подчеркнул Атто, жил вне повседневной реальности: она была слишком обычна и тускла для него, по крайней мере, он ее такой воспринимал.
Когда они подружились, Мария читала молодому королю Плутарха – «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян. Рожденная с сердцем полководца, Мария и сама мечтала однажды стать знаменитой. Но и Людовик, всеми силами стремившийся избежать пустоты политики, которую вел Мазарини от его имени, с восторгом погрузился в эти рассказы и наконец-то почувствовал себя героем. И с того момента он стал думать по-другому, ближе к реальности, о давно прошедших событиях Фронды, об унижениях, которые вынуждена была терпеть его семья, когда ее осквернили руки восставших плебеев, о том трагическом времени, которое отняло у него беззаботное детство, чего он тогда не осознавал. Мария любит поэзию, она хорошо декламирует стихи, с чувством стиля и разных тонкостей. Она советует Людовику читать книги: от классических трудов историков-летописцев, таких как Геродот, до придворных эпосов и буколистических стихов. Он буквально проглатывает книги, наслаждаясь чтением, и обнаруживает способность делать заключения, чем приводит в изумление двор, не подозревавший о наличии у него таких талантов. Король словно преображается: становится радостным, оживленным, как будто освобождается от расслабляющей золотой апатии, с воодушевлением принимает участие в обсуждении той или иной книги. Мария и Людовик дают героям прочитанных книг свои имена, переносясь в другой, романтический мир, где чувствуют себя героями. В одно прекрасное солнечное утро Людовик приказывает устроить завтрак на природе, во Франшаре – удаленной скалистой местности. И он берет с собой целый оркестр. Прибыв на место, Людовик выходит из кареты, вдыхает всей грудью чистый горный воздух и, недолго думая, начинает восхождение на вершину горы. Он производит слегка шокирующее впечатление, все смотрят на него со смешанным чувством тревоги и неодобрения. Мария следует за ним, он галантно поддерживает ее, когда они взбираются по крутым скользким скалам. Едва добравшись до вершины, Людовик приказывает придворному оркестру подняться к нему. Приказ был выполнен ценой больших усилий и с немалой опасностью. Придворные, обдирающие себе колени о камни, с раздражением смотрят друг на друга, ничего не понимая. Ни одному королю Франции никогда не приходило в голову лазить по скалам, словно горному козлу, тем более с оркестром и со всем двором. «И Людовик тоже этого никогда бы не сделал, – думают они, – если бы не эта женщина, эта итальянка!» На следующий день Людовик и Мария гуляют в Буа-ле-Виконт по обсаженной деревьями аллее. Он подает ей руку, наверное, для того, чтобы она оперлась на нее. Мария протягивает руку ему и при этом слегка задевает рукоять меча. И тогда Людовик вытаскивает из ножен меч, посмевший встать на пути Марии, и далеко забрасывает его, дабы покарать за это. Жест детского рыцарства, который моментально становится притчей во языцех всего двора. Людовик выглядит смешным из-за своей невинной страсти, хотя никто не набрался мужества сказать ему об этом и все считали, что за такими детскими выходками, разумеется, не могло скрываться взрослое чувство. – Но придворные были не правы! – воскликнул я. – И правы, и нет, – поправил меня Атто. – Эта взаимная привязанность, которую не могли назвать любовью даже сами король и Мария, иногда – и я не могу отрицать этого – приобретала черты той инфантильности и юношеской восторженности, которые свойственны людям, не достигшим полового созревания. Это объяснялось исключительно тем, что Людовик, слишком долго сдерживаемый матерью и кардиналом, впервые попал в головокружительный водоворот пылких чувств, который его сердце должно было пережить еще в шестнадцать лет. В шестнадцать же лет Людовик XIV познал только пошлое посвящение в плотские утехи. Королева возражала против этого, а отчим, наоборот, был его сообщником: старая камеристка, одна-две покладистые и хитрые служанки, вплоть до старой девы, флирт с одной из сестер Марии. Но никто из них – Мазарини хорошо следил за этим – не тронул сердце короля. Лишь встреча с Марией открыла ему врата любви, и Людовик не хотел больше поворачивать назад. Страхи, необузданность, смущение, театральность – все душевные муки неопытного юнца пережил молодой король с Марией, и это в возрасте, когда подобные вещи уже оставляют в прошлом, а сердце короля бывает отдано трудному искусству управления страной. – Не случайно мужская натура делает сердца молодых мужчин такими непостоянными, – заметил аббат Мелани. – Птица вылупливается из яйца и радуется свободе, перелетая с ветки на ветку, приобретая опыт, и лишь намного позже ощущает желание вить гнездо. – Таким же образом, – продолжал Атто, – неосторожная страсть неопытного юнца переходит в быстротечный огонь: юноша загорается пылкой любовью к живой девушке или к героине какого-то романа, и за ту и другую готов сражаться своим мечом со всем миром. Однако, глядишь, его опять срывает с места непостоянство молодого сердца. И тогда все начинается сначала – новые мечты, клятвы верности и страсти, новые безрассудства в божественном безумии тех молодых переходных лет, когда будущее не имеет никакого значения. Однако все эти истории одна за другой растворяются в новом настоящем, не оставляя следов в памяти. На пороге двадцатилетия останется только смутное воспоминание, зыбкое ощущение вожделения и опасности: взрослый мужчина будет мудро держаться подальше от таких бурных перемен. Осторожно направив взор в будущее, он станет удерживать свое сердце на поводке рассудка, он будет обдуманно выбирать мать своим детям и любить ее сердцем, как внимательный супруг. – Сердцу не прикажешь, синьор Атто, – только и сказал я. – Это не относится к сердцу короля. Людовик, который благодаря Марии очнулся от своей затянувшейся спячки, имел несчастье встретить женщину своей жизни слишком рано, но и слишком поздно: он был очень неопытен, чтобы удержать ее, и достаточно взрослым, чтобы забыть. Его сердце было переполнено чувствами, а рассудок поддался им. Государственные соображения остались где-то на заднем плане в виде далекой и неясной мысли. Я уже хорошо знал, что имел в виду Атто, когда выражал свои мысли подобным образом: он имел в виду не только юность христианнейшего короля Франции, но и собственную жизнь – свои золотые годы кастрированного певца, которые он провел в путешествиях по Европе, постоянно разрываясь между музыкой, шпионажем, верной службой высоким повелителям, между опасностью за спиной и невыразимой страстью в сердце. В этот момент, когда я предавался мыслям о причинах его пылкости, Атто выпрямился и начал напевать тихую мелодию:
Внезапно Мелани оборвал пение и спрыгнул с ограды, на которой сидел, – он снова собрался с силами. – А сейчас пойдем на виллу. Гром и молния, в конце концов, должен же быть там внутри хоть кто-нибудь, кто прикажет арестовать нас, – сказал он со смехом. Лишь с большим трудом мне удалось развеять чары образа Марии, вызванного в моей душе словами аббата и его пением. – Ария вашего учителя, сеньора Луиджи? – Я вижу, что ты ничего не забыл, – ответил он. – Нет, это песня Франческо Кавалли из его «Ясона». Мне кажется, это произведение чаще всего ставили на сцене в последнюю половину столетия. После этих слов аббат повернулся и пошел впереди меня: больше он ничего не хотел сказать. «Ясон, или О ревности». Эту прославленную оперу я никогда не слышал, но знал знаменитый миф о любви Медеи, дочери колхидского царя, к Ясону, вождю аргонавтов, который был влюблен «Ипсипилу, царицу Лемноса. Любовь втроем.
Мы подошли к северной стороне виллы, выходившей на улицу. Над входной дверью было начертано двустишие:
«Высший смысл женщин – предаваться бесплодным мечтаниям», «Легче найти сладость в абсенте, чем женщин, умеющих держать язык за зубами», «Девушка смеется, когда может, а слезы у нее наготове всегда», «Женщины и домашняя птица будят соседей на рассвете», «Мужчина и женщина в одном доме – все равно что солома вблизи огня», «Женское сердце привязать легче, если оно находит выгоду для себя».– Все здесь посвящено женщинам и еде. Это зал женщин и радостей желудка, – констатировал Атто, разглядывая медальон с профилем Плаутии Ургунианиллы. Полностью сосредоточившись на поисках следов присутствия трех сиятельных особ – членов кардинальской коллегии (мы ведь действительно нашли следы ног), мы до сих пор еще не уделили внимания интересной детали зала: длинному ряду картин на стенах. Атто встал рядом со мной, а я в это время рассматривал картины и обнаружил, что на всех, как и следовало ожидать, были изображены прелестные женские лица. Аббат Мелани стал быстро ходить от портрета к портрету. Ему не надо было читать имена изображенных на портрете дам, он знал каждое лицо (и старался показать это), потому что либо раньше встречался с этими женщинами в жизни, либо видел их на многих других портретах, и сейчас рассказывал мне о них. – Ее величество Анна Австрийская, оплакиваемая мать христианнейшего короля, – говорил он таким торжественным тоном, будто представлял мне ее, живую, показывая прекрасное, полное достоинства лицо умершей правительницы с пронзительным взглядом, открытым лбом и благородной шеей, окруженной кисейным жабо. – Как я тебе уже говорил при нашем знакомстве, королева-мать, осмелюсь сказать, чрезвычайно любила мое пение, – добавил он кокетливым тоном, быстрым незаметным движением поправляя парик. – Особенно печальные арии, которые исполняются вечером. Затем он пошел дальше, к портретам курпринцессы, графини Марескотти и покойной мадмуазель Генриетты, кузины короля. Все они были написаны с таким мастерством и настолько реалистично, что казалось, будто дамы только что сидели за трапезой в этом зале. Наконец мы подошли к последнему портрету, который, в отличие от других, находился немного в тени, но тем не менее был хорошо виден. Поскольку зрение является учеником желаний, а слово – разума, то мой взгляд нашел это женское лицо, а разум обнаружил в воспоминаниях быстрее, чем аббат Мелани успел назвать имя. Поэтому я уже узнал ее, когда он сказал: «Мадемуазель Мария Манчини». Без сомнения, это была та девушка, которую мы видели в парке за живой изгородью.
* * *
– Конечно же, это плод твоего воображения, – заявил Атто, выслушав мое заявление. Между тем мы покинули зал и вышли через дверь слева. – Ты поддался впечатлению от приятной и неожиданной встречи. Такое бывает, уверяю тебя, когда я был в твоем возрасте, со мной это часто случалось. Он отвернулся от меня. – Но все же я не понимаю, куда исчезли девушка и ее сопровождающий, – запротестовал я. Атто не ответил. На стенах зала висели в рамках эстампы с оптическим эффектом, изображающие античные барельефы невиданной красоты, и еще один ряд портретов, на этот раз мужских. Ниши в стенах тут тоже были украшены надписями, касающимися жизни при дворе.ХОРОШИЙ ПРИДВОРНЫЙ
Если он хочет получить награду: Он должен быть пунктуальным и вести себя скромно, Говорить о своем хозяине всегда только хорошее, и ни о ком – плохое, Хвалить без преувеличений, Общаться с лучшим, Больше слушать, чем говорить, Любить хороших людей, Остерегаться плохих, Разговаривать любезно, Действовать быстро, Не доверять никому, но подозревать не всех, Не раскрывать своих тайн и не слушать тайн других, Не перебивать речи других людей, но и не быть самому болтуном, Верить другим, более грамотным, чем он сам, Не браться за то, что ему не по силам, Не быть легковерным, но не отвечать не подумав, Страдать, не показывая этого.
ДВОР
При дворе всегда есть волк в овечьей шкуре. Нет лучше средства против коварства при дворе, чем отступление и сохранение дистанции. Двор часто получает свой свет с базарной площади. Двор и удовлетворенность – это две слишком большие противоположности. В воздухе двора должен веять ветер честолюбия. Придворные дела не всегда успевают за усердными людьми. При дворе даже самая честная дружба не свободна от яда ложных подозрений. Большинство придворных – это чудовища с двумя языками и двумя сердцами.– И все же мне кажется, что это была та самая девушка! – упорно стоял я на своем, в то время как Атто, задирав голову, читал изречения. – Вы уверены, что Марии Манчини сейчас почти шестьдесят лет? Девушка, которую мы видели… ну, скажу я вам, она в точности похожа на портрет, хотя кажется очень юной. Он внезапно перестал читать и посмотрел мне прямо в глаза. – Ты думаешь, я мог ошибиться? Атто отвел глаза и посмотрел на очередной портрет, чтобы дать мне пояснения. На портретах были изображены знаменитые правители Франции и Италии: Папы, поэты, художники, ученые, короли и их родственники, государственные министры. – Его светлость покойный Папа Александр VII, его светлость покойный Папа Климент IX, шевалье Бернини, кавалер Кассиано дель Поццо, кавалер Марино, его величество покойный король Людовик XIII, его величество правящий король Людовик XIV; господин брат его величества Людовика XIV… Судя по тому, с какой поспешностью Атто перечислял имена и быстро переходил от одного портрета к другому, мой вопрос насчет возраста Марии Манчини вывел его из себя. Все же, наверное, он был прав: я не мог видеть в парке Марию не только потому, что она еще не приехала в Рим, но и потому, что она, будучи ровесницей христианнейшего короля, такая же пожилая, как он, перешагнувший порог шестидесятилетия… – Его преосвященство покойный кардинал Ришелье, его преосвященство покойный кардинал Мазарини, покойный премьер-министр Кольбер, покойный главный интендант Фуке… – Атто остановился. – Страдать, не показывая этого… – проговорил он тихо. Это было одно из тех изречений, которое он только что прочитал на стене зала. – Что вы сказали? – Большинство придворных – это чудовища с двумя языками и двумя сердцами, – театрально процитировал он другое изречение, однако, судя по его улыбке, за этой шуткой он хотел скрыть какую-то неприятную мысль.
* * *
– Уже поздно, – объявил Атто, когда мы вышли из «Корабля», и посмотрел на фиолетовое небо. Наша экспедиция дала не много. За исключением пары отпечатков обуви, мы не нашли никаких следов трех кардиналов, и вообще у нас было недостаточно времени, чтобы обыскать всю виллу. – Сейчас возвращайся к своей работе на вилле. Держи язык за зубами, и чтобы никто ни о чем не догадался. – Собственно, мне надо было бы возместить ущерб, нанесенный ворами, пока Клоридия еще не вернулась… – Я возмещу тебе его, я заплачу в двойном размере за убыток, тогда твоя маленькая жена быстро утешится. Сегодня вечером после молитвы ты должен быть у меня. А сейчас иди! – довольно грубо отпустил он меня. Атто нервничал. Очень нервничал.8 июля лета Господня 1700, вечер второй
Я шел к сараю, чтобы забрать свои инструменты, и раздумывал о том, что Атто ни разу не спросил меня о Клоридии: как она себя чувствует, когда он сможет увидеть ее, что она сейчас делает и так далее. Ни единого слова не нашлось у него даже сейчас, когда он упомянул ее имя, хотя мог бы задать мне какой-нибудь вопрос о ней, пусть даже из вежливости. И это несмотря на то, что он прочитал в моих мемуарах всю невероятную историю Клоридии. Историю, которую он не смог бы представить себе много лет назад в локанде «Оруженосец». Не то чтобы они тогда общались… Наоборот, насколько я помню, они не перебросились и словом, сознательно игнорируя друг друга. Кастрат и куртизанка: конечно, не следовало ожидать, что у них возникнут дружеские отношения… – Ты уволен! Ты работаешь ужасно плохо! У меня чуть не остановилось сердце, когда за моей спиной внезапно раздался этот скрипучий голос. Я повернулся и увидел его в нескольких шагах от себя. Он сидел на ветке и полировал себе клюв лапой. – Уволен, увоооолеееен! – с удовольствием повторил Цезарь Август. Он любил заговаривать со мной, когда я мог позволить себе коротенький перерыв. Наверное, эту нерадостную фразу он подхватил в какой-то мастерской во время одной из своих вылазок в город. – А ты что делаешь там наверху? – ответил я, рассерженный тем, что он испугал меня. – Почему не возвращаешься в свою клетку? Он промолчал, будто не считая нужным отвечать, и покачал головой, что было признаком его плохого самочувствия. Это был один из дней, когда у Цезаря Августа портилось настроение и тогда он становился невыносимым, что в межсезонье случалось весьма часто. Он должен был перебеситься, дав волю своему недовольству, и в конце концов он всегда устраивал какие-то неприятности. Дабы выплеснуть свое плохое настроение наиболее противным способом, Цезарь Август незамедлительно перешел от слов к делу. Он поднялся в воздух, пронесся мимо меня, чуть не задев по лицу, развернулся, покружился низко над землей, приземлился рядом со мной и ловко схватил клювом садовый нож, который я оставил на земле. – Нет, проклятие! Сейчас же отдай! – приказал я ему. – Уволен, уволен! – повторил он, злобно посматривая на меня маленькими круглыми глазками. Зажатый в клюве нож никоим образом не мешал ему великолепно имитировать человеческий голос, звуки которого он производил не гортанью, как мы псе, а какой-то неизвестной выемкой в нёбе. Он расправил свои большие белые крылья, тяжело захлопал ими и поднялся в неподвижный летний воздух. Через пару секунд я потерял его из виду, но не только потому, что он быстро исчез на горизонте. Дело в том, что, когда я наблюдал за полетом Цезаря Августа, меня что-то отвлекло. На какое-то мгновение я заметил краем глаза чью-то тень – кто-то стоял |а живой изгородью и наблюдал за мной. Но было так жарко, что I мог и ошибаться. – Посторонись, мальчик! Чей-то твердый нетерпеливый голос приказал мне уйти с дороги, и я тут же отвлекся от своих мимолетных впечатлений. Вдоль живой изгороди, окаймлявшей дорогу, прокладывали себе путь двое слуг, сопровождавших третью особу: впереди, в мирском Облачении, шествовал его преосвященство кардинал Фабрицио Спада. Его лицо было еще мрачнее, чем накануне. Я почтительно поклонился, и эта тройка прошла мимо меня, исправляясь к выходу из поместья. Когда я выпрямился и стал стряхивать пыль со штанов, мне показалось, что я услышал позади какое-то шуршание, и снова у меня появилось такое чувство, будто за мной наблюдают чьи-то злые внимательные глаза. Я еще раз осмотрелся вокруг, но не заметил ни следа того темного силуэта, который – я мог бы поклясться – за минуту до этого двигался за живой изгородью. Когда кардинал Спада и его сопровождающие уже скрывались в глубине аллеи, я увидел Цезаря Августа, молча кружившегося над их головами.Закончив обрезать деревья и убирать в вольере, я обнаружил, что у меня осталось еще немного свободного времени до вечерней встречи с аббатом Мелани. Я решил на минутку заглянуть домой. Там, однако, к сожалению, царил тот же хаос, что и несколько часов назад. На секунду у меня от страха перехватило горло, когда я увидел, с какой злобой неизвестные люди разрушили идеальный порядок наших семейных покоев. Наведя порядок, насколько это было возможно, я вернулся на виллу Спада. Над садом висела давящая жара «собачьих дней». Я снял рубашку и уселся в тени огромного бука, в укромном месте сразу же за стеной, окружавшей поместье, где мы с Клоридией, защищенные от нескромных взглядов, частенько устраивали себе свидания во время коротких перерывов в работе. Отсюда, оставаясь незамеченным под прикрытием густой листвы, можно было наблюдать за расположенной ниже дорогой. Работа в нашем разоренном вандалами доме показалась мне особенно горькой в отсутствие моей дорогой жены. И пока я, в мыслях о ней, вздыхал от тоски и нетерпения, мне снова вспомнилась любовь «короля-солнце» и Марии Манчини, а также странные отношения, связывающие Марию и Атто, которые вот уже тридцать лет вели тайную переписку, но так никогда за эти годы и не виделись. Впрочем, все связанное с Атто было необычным и таинственным. Что можно было думать о непонятных вещах, происходящих на «Корабле»? Была ли связь между смертью переплетчика, покушением на Атто и странными обстоятельствами, при которых оно произошло? Ко всему прочему присоединился еще и в высшей степени вызывающий беспокойство факт, когда меня и Бюва усыпили, а потом ворвались к нам домой. Я почувствовал, как отчаяние снова сдавило мне грудь. Любовная тоска по моей Клоридии уступила место животному страху. Что происходило здесь на самом деле? Неужели мы и вправду, как писал Мелани мадам коннетабль, стали жертвами заговора сторонников Империи? Или это была работа черретанов, как утверждал Сфасчиамонти? Или правдой было и то и другое? Я снова упрекал себя за то, что пошел на поводу у аббата. Хотя в этот раз, похоже, он сам топтался в темноте. Во время нашего памятного визита на «Корабль» я видел его замешательство и беспокойство. Мои мысли возвратились к Марии, и я вспомнил, что сейчас она, очевидно, живет в Испании. В Мадриде, как я узнал из писем, то есть именно там, где ныне решалась судьба всего мира… Внезапно я почувствовал, как теплый шелк обвивает мою голую спину, – нежное ощущение, пробудившее меня от сумеречного полусна, в который я нечаянно погрузился. И шепот, моментально утоливший мою печаль: – Здесь есть место для меня? Я открыл глаза: моя Клоридия вернулась.
* * *
После того как мы насытились поцелуями и объятиями, согреваемые теплыми закатными лучами солнца, Клоридия сказала: – Ты не спрашиваешь меня, как все прошло? Если бы ты знал, какое это было приключение! Вот уже много дней моя жена, которая, как я говорил, давно практиковала родовспоможение, находилась вдали от меня и нашего супружеского ложа. Сейчас наконец она вернулась, и я не мог дождаться, когда смогу рассказать ей все, чтобы получить совет и утешение. По всей видимости, она тоже сгорала от нетерпения сообщить мне последние новости. Поэтому я решил, что лучше дать ей первой выговориться. Когда природная женская словоохотливость Клоридии будет удовлетворена, у меня останется достаточно времени рассказать ей о внезапном появлении аббата Мелани и о мучивших меня сомнениях. – Как девочки? – спросил я первым делом, потому что обе Наши дочери находились с матерью, чтобы помогать ей. – Не волнуйся, они спят под хорошим присмотром вместе С другими девочками слуг. – Ну давай, – потребовал я с наигранным нетерпением, – рассказывай мне все! – В семье управляющего поместьем Барберини родился хорошенький, упитанный ребеночек. Он кругленький, здоровенький, и все у него на своем месте, как и полагается, – прошептала она с гордостью, – однако… – Да? – спросил я, надеясь, что она не будет отклоняться от темы. – Ну вот, только родился он пятимесячным. – Как? Это невозможно! – ахнул я, изображая удивление, поскольку сразу понял, на что она намекает. – Так же кричал управляющий, когда его бедная жена лежала в родах. О да, такое возможно, мой дорогой. Я потратила несколько часов, чтобы успокоить эту здоровенную скотину и убедить его в том, что, хотя нормальный срок, для того чтобы выносить ребенка, – девять месяцев, бывали случаи, когда ребенок рождался на пятом или, наоборот, на двенадцатом месяце… Я освободился из объятий Клоридии и вопросительно посмотрел ей в глаза. – Плиний, выступая перед судом как свидетель защиты одной женщины, чей супруг вернулся с войны только за пять месяцев до ее родов, поклялся, что роды возможны и при сроке пять месяцев, – невинно продолжала Клоридия. – Правда, в такой же мере соответствует истине и то, что, как сообщает Массурио, во время пребывания Люцио Папирио претором в одном судебном споре по поводу наследства был вынесен приговор против женщины, утверждавшей, будто она была беременна на протяжении тринадцати месяцев. Но неоспоримым является и тот факт, что великий Авиценна спас от смертной казни через побивание камнями другую женщину, засвидетельствовав перед судом, что можно родить и после четырнадцати месяцев беременности. Я дрожал от нетерпения доверить ей свои мысли. – Клоридия, послушай, мне нужно рассказать тебе кучу вещей… Но она не слушала меня. Воздух был еще жарким, но не менее жаркой казалась моя прекрасная жена после стольких дней разлуки. – Я очень старалась, поверь мне, – перебила она, будто не слыша меня, прижимаясь своей холодной грудью к моей груди. – Я объяснила этому мужлану, что из всех живых существ человек – единственный, кто может рождаться в неопределенное время. У остальных животных есть определенное время: слониха рожает на второй год беременности, корова – через год, кобыла и ослица – через одиннадцать месяцев, собака и свинья – через четыре, кошка – через три, у курицы цыплята вылупливаются из яиц всегда через двадцать дней, а коза и овца приносят потомство ровно через пять месяцев… «Оно и правда, – подумал я про себя, – недаром у их мужей – господина Козла и господина Барана – такая красивая пара рогов на голове».Она была действительно неисправима, моя Клоридия. Случаям сомнительного отцовства, которые благодаря ее ловкости как крестной матери удалось благополучно уладить, уже давно не было счета. В своей любви к детям (кто бы ни был их отцом) и к матерям (какими бы верными они ни были) моя супруга творила поистине чудеса и делала все, что могла: приносила любые клятвы и давала ложные свидетельства, лишь бы убедить недоверчивых мужей. Она не останавливалась ни перед чем. Искусными речами, с улыбкой на губах и с самым простодушным выражением на лице, она могла убедить любого мужа: только что отпущенного со службы солдата, пастуха, долго находившегося на пастбищах и отсутствовавшего дома, путешествующего купца, а также сердитую свекровь и любопытную невестку. И все без исключения верили ей, вопреки мудрому правилу, гласящему: тому, кто много говорит, верить нужно не во всем, ибо в многословных доказательствах почти всегда присутствует ложь. Более того: поскольку она опасалась, что, когда ребенок подрастет, он может обнаружить у себя слишком большое сходство с соседом или еще с кем-нибудь, Клоридия уже перед родами «инструктировала» будущего отца и недоверчивую родню, втолковывая им, что новорожденный под влиянием силы воображения женщины может походить на того, кого она видела или о ком думала в момент зачатия. Ей доставляло огромное удовольствие рассказывать мне после посещения рожениц о том, как, когда и кому она преподносила свою любимую историю. За все годы она поведала их уже тысячу, при каждых очередных родах придумывая новые идеи. Ей нравилось, что я восхищаюсь ею и горжусь ее делами, она хотела, чтобы я смеялся, когда она пыталась меня рассмешить, и удивлялся, когда она этого ожидала. Я же хотел видеть ее веселой и довольной, поэтому участвовал в этой игре. Но сегодня после обеда у меня это получалось плохо. Мне нужно было очень много рассказать ей, и мне обязательно требовался ее совет. – Я сказала управляющему: «Разве вы не знаете историю Гелиодора, которая учит, что сила воображения может делать новорожденных похожими на то, что представляла себе женщина? Эта история известна всем. Слушайте, сказала я ему, Гелиодор в своей «Истории Эфиопии» рассказывает, что прекрасная молодая девушка с белой кожей родилась у черных родителей – у Гидаспа, короля Эфиопии, и королевы Персины. А произошло это именно благодаря силе мысли или, точнее, силе воображения матери, поскольку король сочетался с ней в покоях, на стенах которых были изображены сюжеты с белыми мужчинами и женщинами, в частности, любовная история Андромеды и Персея. Королева во время любовного акта настолько наслаждалась видом Андромеды… Конечно, я знал продолжение настолько хорошо, что мог бы и во сне рассказать его, и пока несколько рассеянно отвечал на сексуальную атаку Клоридии, мысленно повторяя вместе с ней: королева во время любовного акта так засмотрелась Андромедой, что зачала девочку, которая была похожа на нее. Такое объяснение давали гимнософисты, мудрейшие люди той страны. И Аристотель подтверждает это… – И Аристотель подтверждает это, рассказывая, что в стране мавров одна женщина-негритянка, совершив супружескую измену с эфиопом и забеременев, родила белую дочку, после чего она же, выйдя замуж за белого человека, родила черного сына. И святой Иероним рассказывал, что великий Гиппократ оправдал обвинявшуюся в супружеской измене женщину, которая родила девочку, непохожую на отца. Он засвидетельствовал перед судом, что причина была в висевшем на стене портрете, на который эта женщина неотрывно смотрела в момент совокупления. «Я могу быть спокоен, – думал я, с нетерпением дожидаясь окончания рассказа, – если даже великие Гиппократ, Плиний и Авиценна имели наглость совершить клятвопреступление во имя спасения чести и жизни роженицы и ее ребенка, придумывая бабушкины сказки, то моя Клоридия попала в хорошую компанию». – Алькато, а до него и Квинтилиан, – продолжала Клоридия, возясь с моей одеждой и давая волю чувствам, – отвел от другой женщины, родившей черную дочь, подобное обвинение, хотя сама она и ее муж имели белый цвет кожи. В ее защиту был приведен тот аргумент, что в комнате находилось изображение эфиопа. – А потом? Ты рассказала ему историю про овец Якова? – спросил я, желая доставить ей удовольствие и уже начиная опасаться результатов ее действий с моей одеждой. – Само собой разумеется, – ответила она, не позволяя себе отвлечься от намеченного плана. – А твоя теория о том, что даже пища может влиять на вид новорожденного? – спросил я, проводя губами по ее ладоням, чтобы удержать их от дальнейшего обыска, к которому они так упорно стремились. – М-м-м, нет, – проговорила она с легким смущением. – Помнишь, как я принимала роды у жены швейцарца – хозяина кофейни? Так вот, на мою попытку развеять подозрения объяснениями насчет того, что между разными животными больше схожести, нежели между людьми, поскольку животные едят однообразную пищу, а люди – разнообразную, он ответил злым взглядом и словами, что горные жители на его родине, как мужчины, так и женщины, не едят ничего иного, кроме каштанов и козьего молока, тем не менее также отличаются друг от друга, как и мы. – А ты? – Я все же выкрутилась и опять благодаря разным историям о родах. Я поклялась ему, что во всем мире считается, будто тяжелые роды и упорные мысли женщины способны отметить тело еще не рожденного ребенка схожестью с тем предметом, о котором думала женщина. Разве не появляются ежедневно на свет дети с родимыми пятками, имеющими цвет свиного мяса, иди яблок, или вина, или винограда, или с похожими родинками? Таким образом, сила воображения женщины может еще в материнском лоне оставить свои следы на уже сформировавшемся теле ребенка, то есть отметить его различными знаками, отображающими мысли женщины. Короче говоря, я сказала ему: «День и ночь ты используешь бедную женщину, заставляя ее подавать кофе клиентам. Так тебе и надо: при таком количестве чашек кофе, на которые ежедневно вынуждена смотреть бедняжка, неудивительно, что она родила тебе сына такого же цвета!» О да! Как можно прочитать у Чезаре Баронио, даже великий Тертуллиан, знаменитый человек, дал какой-то ничтожной бабе убедить себя в том, что души праведников – цветные. А тут моя хитрая и образованная Клоридия позволит какому-то рогатому хозяину кофейни, к тому же туповатому швейцарцу, загнать себя в угол? Я завороженно слушал отчет своей супруги о ее геройских подвигах, а она между тем возобновила свои ласки. – Значит, сила воображения мужчины вообще не имеет значения? – спросил я, старательно изображая изумление, чтобы хоть чуть-чуть освободиться от ее жарких объятий. – Тут возникает серьезное сомнение. По Аристотелю, да. По Эмпедоклу и Гиппократу, да славится его имя, она уступает по силе женской, которая действует очень энергично, – объяснила она, начиная тоже действовать весьма энергично. – За исключением одного случая. Умного отца и глупого сына. Почему иногда у умного отца сын бывает глупым? Это не может быть волей матери. Но именно так оно и есть, скажу я тебе. Большинство ученых мужей постоянно пребывают в унылом настроении, а уныние – кровная сестра безумия: и то и другое глубоко противно женщине при половом общении. И может произойти так, что в душе женщина больше желает отдаться веселому дураку, чем унылому ученому. Не говоря уже о том, что рассеянные мужья очень плохо отдаются тому занятию… Я вздрогнул от стыда. Клоридия была права. Я не ответил на ее огненную страсть, оставаясь грустным и рассеянным. Даже все ее женское искусство, которое она призвала на помощь, от прямого искушения до энергичных ласк, не могло подтолкнуть мой запуганный «язык колокола» к выполнению сладкого, священнейшего супружеского долга. При этом еще недавно я так горячо желал ее! К черту эти дурные мысли о переплетчике, аббате, ворах и обо всем прочем, что привело меня к такому ужасному замешательству! – Значит, ты предпочла бы глупого, но веселого супруга, любимая жена? – спросил я ее. – Ну, веселый и глупый муж – это самое лучшее для душевного склада будущего ребенка. Дело в том, что при совокуплении такой муж доставляет женщине настолько сильное наслаждение, что пробуждает в ней желание к столь многой радости добавить еще и мудрость, после чего посредством силы воображения она родит веселого мальчика, обладающего острым умом. Я смущенно улыбнулся. Она встала и снова застегнула крючки своего корсета. – Ну, выкладывай, что тебя так беспокоит? Наконец-то у меня появилась возможность рассказать ей обо всем: о появлении Мелани, о краже моих мемуаров, о задании служить ему в качестве биографа в эти дни, о мучивших меня сомнениях, о покушении на Атто, не забыв упомянуть и о необъяснимой смерти переплетчика. Прежде всего, однако, я рассказал ей о таинственной Марии, с которой Атто вел секретную переписку и в которой я позже узнал мадам коннетабль Колонну, и о смутившем меня посещении виллы «Корабль». И в конце концов я признался ей в двойном нападении неизвестных – на Бюва и на меня. Известие о том, что кто-то влез в наш дом и устроил огромный беспорядок, заставило ее подскочить. – И ты говоришь мне об этом толькосейчас? – закричала Клоридия, широко раскрыв глаза, и посмотрела на меня так, словно вдруг поняла, за какого идиота вышла замуж. Моя пламенная супруга совершенно забыла, как долго мне пришлось ждать, пока иссякнет поток ее слов. Однако успокоилась она довольно скоро: как только она узнала, какую сумму заплатил нам аббат уже сейчас, к ней моментально вернулось хорошее настроение. – Значит, аббат Мелани снова в стране, чтобы наделать бед… – заметила Клоридия. Моя жена никогда не испытывала особой симпатии к аббату: от меня она знала обо всех гадостях, на которые был способен кастрат, красноречие дипломата оставляло ее равнодушной, и она не пережила всех тех бесчисленных перипетий, которые пережил я вместе с ним. – Он передал тебе привет, – соврал я. – Передай ему тоже, – ответила она с некоторой иронией. – Значит, твой кастрированный аббат уже тридцать лет изнывает от любви к женщине, – добавила она саркастическим и одновременно довольным тоном. – И к какой женщине! Как хорошая кумушка, Клоридия, конечно, уже слышала о Марии Манчини и в общих чертах знала о приключениях супруги коннетабля Колонны. По поводу визита на «Корабль» и таинственного появления двух людей, чему я был свидетелем, Клоридия не сказала ничего. Я отдал бы многое, за то чтобы она просветила меня на сей счет, – она, которая обладала обширными познаниями в тайном искусстве предсказания по руке, нумерологии и лозоходства. Однако Клоридия тут же перешла к делу, заявив, что попросит своих знакомых женщин помочь нам в поисках. Она запустит в действие хорошо проверенный секретный механизм, сообщив женщинам тайный пароль: тысячи глаз будут зорко и неустанно следить, шпионить и все примечать, оставаясь сами незамеченными. Мы долго говорили с ней, и, как всегда, она была щедра на советы, умные рекомендации и преувеличенные похвалы моей скромной особе. Она хорошо знала меня и знала, как нужна мне ее поддержка.
Я уже больше не медлил. Сейчас, когда я все рассказал и доверился своей Клоридии, все мои страхи улетучились, а вместе с ними свалился тот тяжкий груз, который мешал мне в полной силе выразить свои чувства. Наконец-то мы лежали вдвоем и любили друг друга. Как второй Титир под сенью ветвистого бука, я нежно настроил свою флейту для моей лесной музы.
* * *
Наступил вечерний час. Я освободился из объятий дремлющей Клоридии, поправил ей одежду и медленно побрел в поместье на встречу с аббатом Мелани. И моя душа, размягченная любовными утехами, впервые прониклась радостной красотой этой виллы.Кардинал Спада не жалел средств, чтобы придать празднику блеск, который трудно себе даже вообразить. Правда, вилла Спада была меньше и скромнее других подобных резиденций, однако что касается убранства, то ее владелец, несомненно, хотел видеть свою виллу одной из самых пышных. К тому же он не забыл подчеркнуть то, что отличает итальянские виллы от других вилл и составляет их своеобразие, – место их расположения. Где бы они ни строились, виллы всегда находились в гармоническом сочетании с руинами античного Рима. Статуи, мраморные стены, фрагменты плит с надписями – все, что примитивная лопата случайно извлекала на свет божий в парке виллы Спада, – было избавлено от забвения в подвалах или зарастания папоротниками и по приказу кардинала украшало теперь сады, радуя глаз своей благородной белизной. Прекрасные концентрические, обрамленные небольшими деревьями и разделенные лучевидными дорожками клумбы, разбитые именно по случаю праздника главным специалистом по цветам Транквилло Ромаули, были украшены колоннами, стелами. В вдоль стены, окружавшей поместье, остатки капителей чередовались со шпалерами фруктовых деревьев. Даже у входа, над старой большой мраморной ступенькой, возвышалась опирающаяся на решетку пергола, как будто бы история, размахивая зеленым знаменем природы, хотела напомнить о бренности и суетности человеческого существования. Вилла Спада, конечно, была лишь маленьким примером: на виллах Рима нередко стояли целые античные храмы, а то и фрагменты акведуков. На вилле Колонны на Монте Кавалло долгое время находился прекрасный фрагмент гигантского храма Солнца (затем, к сожалению, он был снесен), на вилле Медичи на Пинкио – храм Счастья, граница виллы Джустиниани была отмечена акведуком Клаудио, рядом с которым возвышались другие, безымянные руины. Даже мавзолей Августа, знаменитая гробница великого императора, внутри был превращен в сад, когда еще находился в собственности монсиньора Содерини. На Палатине и Челио разместились современные виллы и античные руины, старые и новые здания в едином неразделимом смешении. Малый дворец Джентили был пристроен прямо к столетним аврелианским стенам и даже включал в себя одну из башен, а Фарнезийские сады (бесценное произведение Виньолы, Райнальди и ДельДуки) составляли гармоническое целое с остатками императорских дворцов. Даже кардинал Сакетти, когда хотел похоронить своего любимого осла, знаменитого Грилло, в собственном поместье на Пиньето (а красотой эта вилла обязана гению Пьетра да Кортоны), использовал античные предметы, обнаруженные на территории его поместья, где достаточно было воткнуть лопату в землю, чтобы наткнуться на мрамор эпохи Цицерона и Сенеки. На виллах Людовиси и Памфили было построено специальное помещение для статуэток, а на вилле Боргезе кардинал Сципион большую часть залов отдал для размещения коллекции бюстов и мраморных скульптур. Однако предметы античного мира были не единственным драгоценным украшением виноградника и виллы Спада. Боскет и аллеи, ведущие к фонтанам со скульптурами нимф, были украшены обелисками. Образцами служили обелиски на вилле Людовиси или фиалы в саду Медичи, чудесные изображения которых я видел в книгах своего покойного тестя. Однако обелиски на вилле Спада были эфемерными изделиями из папье-маше – подражанием удивительным творениям кавалера Бернини, которые выставлялись на площади Навона или на площади Испании по случаю празднования дней рождения членов королевской семьи или по другому достойному поводу и красота которых выдерживала лишь несколько праздничных ночей. Как еще во времена Горация, каждая вилла служила местом отдохновения и развлечений, и сдается мне, таковыми они останутся saecula saeculorum.[1310] А вилла Спада для предстоящих свадебных торжеств превратилась в потрясающую композицию всех этих красот.
Я с удовольствием задержался бы здесь подольше, дабы по очереди насладиться многочисленными аттракционами и диковинными вещами, однако уже заметно вечерело. Я отвлекся от своих размышлений и поспешил на встречу с аббатом Мелани. И с мадам коннетабль, которую, как я узнал из ее письма к аббату, ожидали после вечерни.
* * *
– О великие небеса! Как ты выглядишь, мальчик? Похоже, я принимаю здесь делегацию аркадийских пастухов. Этот упрек Атто заставил меня опустить голову и смущенно оглядеть свою одежду, помятую после занятий любовью и позеленевшую от травы, на которой я лежал вместе с Клоридией. – Бюва, наведи хоть немного порядка в этой комнате! – приказал Атто своему секретарю, причем даже перешел на «ты». – Протри пол тряпкой, а если не найдешь таковой, используй рукава своей куртки, ты все равно никогда не меняешь ее. Приведи в порядок мои бумаги и вели принести нам что-нибудь поесть. Да поторопись, черт возьми! Я жду гостей. Несмотря на то что он не был ознакомлен с обязанностями служанки и естественно было бы спросить, почему Атто не поставил эту задачу перед одним из камердинеров, Бюва не рискнул отказаться, видя, в каком нервном состоянии находится его хозяин. Поэтому он занялся наведением более или менее сносного порядка в комнате: сложил бумаги аббата, его украшения, убрал остатки еды, громоздившиеся на софе, и собрал разбросанные по полу многочисленные книги. Я помогал ему изо всех сил, однако Бюва был настолько неловок, что создавал еще больший беспорядок, вместо того чтобы уменьшать его. Я заметил, что его преосвященство потирает раненую руку, и спросил: – Синьор Атто, что с вашей рукой? – Лучше. Но я не успокоюсь, пока не узнаю, кто меня так отделал. Вот уже несколько дней происходят странные дела: сначала меня ранят в руку в присутствии переплетчика, потом он умирает, царствие ему небесное, потом пытаются ограбить вас обоих… В этот момент в дверь постучали. Бюва пошел открывать. Я видел, как он принял письмо у слуги и, закрыв дверь, поспешно передал его аббату Мелани. Атто сломал печать пробежал глазами строчки. Затем спрятал письмо в сумку и грустно сказал тихим голосом: – Она не приедет. У нее началась легкая лихорадка, и пришлось задержаться в пути. Она извиняется, что не могла сообщить об этом раньше, и т. д., и т. п.Через несколько минут Мелани выставил нас за дверь. Причина была та, что и накануне: письмо мадам коннетабль, которое Атто, очевидно, хотел прочитать наедине, подальше от наших вопросительных взглядов. Как только мы вышли, я попрощался с Бюва, который изъявил желание заглянуть в библиотеку, и тут меня охватило неприятное чувство. С какой целью аббат вызвал меня к себе, если тут же отпустил, не дав никакого задания, не спросив ни о чем и абсолютно ничего не сообщив мне? Разумеется, плохая новость о задержке мадам коннетабль пришла неожиданно, и, кроме того, задание – составить отчет об этих праздничных днях – было дано мне только вчера, однако, если хорошо подумать, до сих пор Атто использовал меня не столько как биографа, столько как информатора (смотри вчерашний вечер). Более того, в том что касается информации относительно событий вокруг его книжечки, которая, похоже, была в центре цепочки несчастных случаев, аббат также был крайне сдержан. После известия о смерти переплетчика он очень быстро пришел в себя.
* * *
Бюва зашел за Мелани, и, когда часом спустя я приступил к поиску той самой книжки в покоях Атто, откуда раньше наблюдал за ним через подзорную трубу, аббат уже разговаривал с другими гостями в саду виллы. Когда мастер по изготовлению четок передавал ему книжку, она была завернута в голубую бархатную ткань, и теперь мне было трудно узнать ее по виду и цвету переплета. Я поискал во всех комнатах и проверил все книги Мелани, однако, увы, не нашел и следов только что переплетенного томика: все книги были потрепанными от частого пользования. Видимо, Атто взял с собой на виллу Спада только те книги, которые открывал чаще всего. По этой причине книга в новом переплете, разумеется, сразу же бросилась бы мне в глаза. И снова я задержался на некоторое время, чтобы прочитать пару страниц из занятных сообщений о кардиналах: почерпнутые сведения весьма пригодились мне во время ужина, чтобы разобраться в намеках и комментариях их преосвященств. Затем я еще раз посмотрел везде, но не обнаружил ничего. Может, аббат дал ее на время другому гостю? Если это так, то содержание книги не могло быть таким уж секретным. Атто, как я уже понял, боялся стать жертвой антифранцузского, возможно управляемого австрийской рукой, заговора. Однако полностью уверен в существовании заговора он не был. Рассказ Сфасчиамонти о черретанах, о которых он раньше никогда не слышал, смутил его. Он писал мадам коннетабль, что хочет попросить аудиенции у посла Империи, графа Ламберга, но Ламберг, которого ждали на вилле Спада, еще не прибыл. Конечно, его можно было бы увидеть завтра на свадьбе. А до того аббату и мне не оставалось ничего другого, кроме как ждать. Что, собственно, спрашивал я себя, мне удалось узнать до сих пор от аббата Мелани? Должен состояться конклав, он ясно сказал об этом, и он же показал мне написанный его рукой список кардиналов, но сверх того? Куда подевались честолюбивые поучения опытного агента, который беспрестанно преподносил мне уроки, когда я еще работал слугой в локанде «Оруженосец». О да, в конклавах Атто должен был кое-что понимать: аббат даже хвастался, что приложил руку к выборам одного Папы. «Да, действительно, аббат Мелани постарел», – сделал я вывод и несколько огорчился. За это время слова Атто сказали мне меньше, чем его личные вещи, которые я опросил тайно: одежда (где я нашел свои жемчужины) и, самое главное, тайную переписку с мадам коннетабль. Мадам коннетабль, княгиня Мария Манчини Колонна: да, о ней Атто рассказывал весьма охотно, когда несколько часов назад мы проникли на «Корабль». Но это была история, происходившая много лет назад: она не имела ничего общего с предстоящим конклавом. Атто был настолько осторожен, что умолчал о нынешней странице своего знакомства с мадам коннетабль: он, например, ничего не рассказал мне об их общем интересе к событиям вокруг Испанского наследства. А также о том, какое отношение мадам коннетабль, родившаяся в Риме и выросшая в Париже, вообще имела к Испанскому королевству. В конце концов я прекратил поиски книги, которую переплел бедный Гавер, и снова взялся за грязное белье аббата, чтобы извлечь из него пачку писем с тайной перепиской между ним и мадам коннетабль. Как и в первый раз, я нашел письмо от Марии Манчини вместе с еще не запечатанным ответом аббата. Я быстро пробежал их глазами: в этот раз мне хотелось взглянуть на более старые письма, которые накануне я вынужден был оставить без внимания. В самом начале письмо мадам коннетабль касалось нападения, которому подвергся аббат Мелани:«Какую боль вы причинили моему сердцу, любезный друг! Как Вы себя чувствуете? Что с Вашей рукой? Неужели действительно есть причина предполагать за всем этим жестокую руку Империи? Я молюсь от всей души, чтобы хотя бы Вы не стали жертвой кайзеровских наемных убийц. Ведь над многими смертями, над слишком многими, развевается знамя с двуглавым орлом дома Габсбургов. Будьте бдительны, берегите себя от своего окружения. Я дрожу при мысли о том, что Вы будете просить аудиенции у графа фон Ламберга. Не ешьте ничего с его стола, не пейте из кубка, который наполнила его рука, ничего не берите у него, даже щепотку нюхательного табака. Там, где подвел кинжал, более успешным может оказаться яд – любимое оружие приближенных императора. Вы носите с собой безоар, который я прислала Вам из Мадрида несколько лет назад? Он защитит Вас от любого яда, помните об этом!»И тут я снова вспомнил: разве я не нашел среди вещей Атто пистолет? Без сомнения, он всерьез думал о своей безопасности. Далее в письме говорилось:
«Не забывайте об ужасной смерти герцога Осуны, который, едва получив назначение на должность генерала береговой охраны Испании на Средиземном море, выступил в пользу заключения перемирия с французами: увы, после того как он понюхал щепотку табака, у него наступил паралич спинных мышц, начались приступы удушья и он умер в три часа ночи, не будучи в состоянии вымолвить ни единого слова. А что можно сказать о внезапной, необъяснимой кончине государственного секретаря Мануэля де Лиры, который так много делал для установления мира с Францией? И позвольте мне напомнить Вам о самом бесчеловечном преступлении, несмотря на боль, которую по хорошо известным Вам причинам доставляет мне это воспоминание: покойную королеву Испании, нашу горячо любимую Марию Луизу Орлеанскую, первую жену Карла II, которая не упускала ни малейшей возможности убедить своего супруга не вступать в лигу против христианнейшего короля Франции – ее дяди, – в Испании ненавидели многие, например граф Мансфельд, посол Австрийской империи. Вы помните? Бедная королева жила в страхе: она даже написала письмо королю Франции и попросила средство против яда. Но когда противоядие ночью было доставлено в Мадрид, Мария Луиза уже была мертва».Накануне вечером, прочитал я в письме мадам коннетабль, королеве захотелось молока, но в столице раздобыть его было невозможно. Говорят, ей привезли немного молока от графини S., подруги и протеже императорского посла, ранее изгнанной из Франции за какой-то скандал, связанный с ядом, первой жертвой которого за тридцать лет до этого была именно мать Марии Луизы. В то время, когда королева Испании умирала в страшнейших мучениях, некоторые клялись, что вкусное свежее молоко, которое пила королева, перед тем как ей стало плохо, было доставлено из дома посла Мансфельда. И, наверное, не было случайностью то, что графиня S. на следующее же утро внезапно уехала и замела за собой все следы.
Я заметил, что Мария Манчини позаботилась о том, чтобы скрыть личность предполагаемой отравительницы, которая была французского происхождения, но стояла на стороне Империи. Мне хотелось бы также знать, что это были за «хорошо известные» Атто причины, доставлявшие мадам коннетабль такую боль при воспоминании о том событии. Однако письмо продолжалось грустным обращением к Сильвио, за именем которого, как мне показалось, в этой своеобразной игре в прятки скрывался сам аббат Мелани.
«Сильвио, Сильвио, ничего не ведающий мальчик, ты думаешь, что этот случай произошел с тобой сегодня просто так? О, ты не прав. Такие удивительные и неслыханные вещи происходят с человеком не без участия воли Божьей: разве ты не видишь, что даже само Небо испытывает отвращение к этому твоему высокомерному и невыносимому презрению к мирской любви и всем человеческим аффектам и страстям? Высокие боги не желают, чтобы на земле были равные им, также им не нравится, когда человек не хочет правильно употребить дарованный ему талант любить и испытывать чувства».И снова я удивился страстному тону, каким мадам коннетабль адресовала непонятные упреки аббату Мелани. Как будто этого было мало, после нескольких слов извинений за свое опоздание (из-за легкого приступа лихорадки) следовала обязательная приписка относительно того самого Лидио.
«Вы обвиняете меня в том, что я мало ценю воображаемое счастье Лидио. Я же, однако, отвечаю Вам, что в любом деле следует видеть, чем оно закончится. Кое-кому божество уже показало, что такое счастье, но лишь для того, чтобы впоследствии полностью уничтожить его. И я говорю ему еще раз: то, о чем ты спрашиваешь, я не могу сделать, пока не узнаю, что твоя жизнь закончилась счастливо».Кто был этот таинственный Лидио, к которому мадам коннетабль обращалась при посредничестве Атто в таких непонятных выражениях? И что за загадочная игра побуждала ее время от времени обращаться к аббату, называя его Сильвио? Из ответа Атто тоже почерпнуть было почти нечего: я чуть не утонул в массе высокопарных напыщенных выражений:
«Прекрасная скала из ветра и волн моих вздохов, моих слез, на которую часто всходили и к которой часто прикасались. Неужели это правда, что моя боль может пробудить в Вас сострадание? Неужели меня не обманывает белое сияние чуда? Ваша нежность трогает меня до глубины души, подруга моя, и я содрогаюсь от стыда за себя самого, потому что я так легкомысленно заставил Вас волноваться. Неужели причиной лихорадки был я? Мое перо и его острие, погруженное в чернила, – это стрелы, ранящие мою очаровательную женщину, и хотя они – убийственные сестры, пусть они вкусят горечь наказания, чтобы не убивали уже никого другого. Разорвись на куски, тетива лука! Смотри, так я ломаю его, порчу его, делаю из него ни на что не годный стержень, ничтожные перья, тупое бессмысленное железо!»Здесь письмо аббата было в чернильных кляксах: Атто действительно сломал свое гусиное перо, поскольку оно написало то, что дало повод для беспокойства и, возможно, стало причиной болезни его дамы. Я настолько удивился такому неожиданному пылу, что даже перестал читать, но затем продолжил свое занятие (судя по всему, Атто раздобыл новое перо).
«А теперь раньте меня таким же способом своими перьями! Я желаю этого, я требую этого! Но не раньте моих рук и глаз моих – они виновны лишь в том, что являются слугами невинной воли и желаний. Лучше прострелите грудь мою, прострелите это уродливое порождение сочувствия и жестокого врага любви, пронзите это сердце, которое было так жестоко к Вам: я открываю грудь перед Вами».После того как всплеск чувств улегся, тон письма вернулся к рассудительному. В истории с Ламбертом Атто особенно старался показать храбрость и мужество и скрыть беспокойство, которое на самом деле мучило его.
«Что касается меня и моей жизни, то не беспокойтесь обо мне, дорогая подруга. Конечно Ваш прекрасный восточный камень всегда со мной. Как я могу забыть безоар? Во Франции он также очень высоко ценится как средство против злой лихорадки и яда. Если посол примет меня, то я буду держать камень у себя в кармане, чтобы он помог, если мне станет плохо. Как бы там ни было, будучи еще молодым я хорошо знал отца графа фон Ламберга: он был послом императора в Мадриде именно в то время, когда я с кардиналом Мазарини пребывал на Фазаньем острове в связи с мирными переговорами между Францией и Испанией. Мы увели из-под носа Империи руку инфанты Марии Терезии, которую так жаждал получить король Леопольд в Вене. Король Филипп IV со склоненной головой отдал ее Людовику XIV, ради того чтобы вырвать у нас менее позорные условия мирного договора. И это было к счастью: иначе христианнейший король не смог бы сегодня предъявлять претензии на испанскую корону для своего внука, Филиппа Анжуйского. Правда, Филипп IV заставил Марию Терезию подписать отказ от любых претензий на испанский трон (как его в свое время подписала Анна Австрийская, перед тем как стать женой короля Франции Людовика XIII). Однако многочисленные юристы уже доказали, что эти заявления об отказе на корону не имеют законной силы. Таким образом, Ламберг оказал Австрии весьма плохую услугу, моя дорогая, тогда как мы принесли Франции большую пользу. Если сын равен отцу в ловкости, то, разумеется, ни я, ни интересы Франции в испанском престолонаследии не будут подвергаться опасности. Как бы там ни было, я скоро об этом узнаю: прибытие императорского посла ожидается в ближайшее время. А Вы? Когда здесь будете Вы? Сильвио был высокомерен, да, но он уважает богов, а Вашим Купидоном он был однажды побежден. С тех пор он преклоняется перед Вами и называет Вас своей. Хотя Вы никогда не принадлежали ему».Я взволнованно оторвал глаза от последних строчек. Бедный аббат Мелани, он напомнил мадам коннетабль о любви, которую испытывал к ней на протяжении сорока лет, и даже унижался, указывая на свое не подлежащее изменению состояние кастрата: Мария никогда не была и никогда не могла быть его. В конце письма наконец беглое упоминание о том самом Лидио:
«А сейчас перехожу к нашему Лидио. Не будем больше говорить об этом: Вы пока что победили. Но то, что Вы получите, когда мы увидимся, убедит Вас. Тогда Вы измените свое мнение. Вы знаете, насколько важны для него Ваше суждение и Ваше согласие».Я закрыл папку и задумался над прочитанным. Судя по переписка с мадам коннетабль, Атто интересовали исключительно дипломатическая сторона испанского престолонаследия и связанные с этим опасности (в том числе и для его здоровья и жизни). Ни единого слова о предстоящем конклаве, ради которого, собственно, как Атто утверждал, он и прибыл в Рим. И не только это: из писем выходило, что Атто опасался стать мишенью для императорских кинжалов (или ядов) из-за испанского престола, но при этом он не вспомнил о конклаве, где будет вынужден защищать французские интересы против австрийских. Я мог бы сказать, что конклав вообще не интересует аббата. Здесь я прервал свои размышления: это впечатление казалось бессмысленным и абсолютно безосновательным. Я просто не мог поверить, что Атто совершенно равнодушен к конклаву, уже маячившему на горизонте. Все это был какой-то абсурд. Но разве не сам аббат лично много лет назад учил меня делать выводы даже из предположений и при этом не бояться самых невероятных возможностей? Конклав и престолонаследие… Так, было очень похоже на то, что исход наследования престола Испании зависел от конклава. Я быстро вернулся к оставшейся корреспонденции, надеясь узнать что-либо о таинственной графине S. Пачки писем были, в общем, очень большими: секретные доклады, подробные рефераты об Испанском королевстве и короле Карле II. Они были пронумерованы, цифры в уголке были едва заметны. Я открыл первое письмо. Оно оказалось очень давним: мадам коннетабль писала из столицы Испании.
«Наблюдения на службе делу Испании
Здесь, в Мадриде, все спрашивают себя, что будет с королевством после смерти короля. Последние надежды на появление наследника давно уже развеялись: el Rey болен, и, как все говорят, его семя уже мертво. В то время как болезнь пожирает бедное тело короля, все идет к закату в этом королевстве, над которым никогда не заходит солнце: мощь Испании, роскошь двора, да, даже славное прошлое – все затмевается бедой современности…»Я с удивлением читал эти полные беспокойства горькие строки. Кто такой, собственно, король Испании Карл II, el Rey, как назвала его мадам коннетабль в своем письме к Атто? Мне стало ясно, что я абсолютно ничего не знал об умирающем короле этого необъятного королевства. Итак, я погрузился в печальное чтение этого отчета, всем своим существом испытывая ощущение угрожающей катастрофы, которое, словно умело разбрызганный яд, вызвали во мне эти тайно прочитанные строчки.
«Пусть сдвигаются портьеры, опускаются занавески на больших стеклянных окнах, солнце изгоняется из тронного зала, и, сжалившись, опускается безлунная ночь над Эскориалом: тело короля находится в ужасном разложении, друг мой, и вместе с ним весь его род. Пусть поднимется ураган, чтобы унести унизительное зловоние королевской смерти, давайте вместе выпьем воды из Леты, чтобы гордая Испания забыла позор такого отвратительного конца».Жалобы мадам коннетабль глубоко тронули меня, но тем не менее я читал дальше: эти заклинания были не просто метафоры. Жизнь в королевском дворце действительно проходила без дневного света, лишь в тусклом сиянии немногочисленных свечей: так пытались несколько смягчить впечатление от ужасного вида тела и лица короля.
«Нос распух и покрылся язвами, высокий лоб обезображен опасными гнойными мешками, щеки пепельно-голубые, дыхание отдает гнилью от разлагающихся внутренностей. Веки цвета красного мяса нависают над темно-синими загноившимися слезными мешками, темные запавшие глаза двигаются с трудом и почти ничего не видят. Язык больше не слушается, речь бессвязная, запинающаяся, одно бормотание, непонятное для всех, кто ни был с ним».У пребывающего в беспомощном, жалком состоянии короля, рассказывала далее мадам коннетабль, постоянно бывают обмороки. Он теряет сознание и повергает весь двор в панический страх, затем приходит в себя и рывком встает, чтобы, как марионетка без веревочек, уронить себя на трон. Сонливость сменяется внезапными и очень острыми припадками падучей болезни. Он ходит шатаясь, с огромным усилием, и способен держаться на ногах, только опираясь на стены, столы или на чье-нибудь плечо. Он едва может поднести руку ко рту. Его внутренние органы разрушены. Ноги распухают все больше и больше. Нарастает угроза водянки. Его лечат диетой из кур и каплунов, вскормленных змеиным мясом. Питье – свежая коровья моча. Уже несколько месяцев, как el Rey может только встать с кровати, дойти до кресла, а потом – опять до кровати. Его тело уже начало разлагаться. А ему только тридцать девять лет.
Я прервал чтение: король Испании был всего лишь на два года старше меня! Какая же страшная болезнь могла так изуродовать его? Я быстро пробежал глазами страницы в поисках ответа.
«Припадки падучей болезни разрушают тело короля все больше и больше, друг мой. Мы при дворе за это время уже научились определять первые признаки надвигающегося приступа: нижняя губа его величества сначала становится бледной, как у мертвеца, затем на ней появляются красные, синие и зеленые пятна. Сразу же после этого начинается дрожь в ногах. В конце концов все тело содрогается в страшных конвульсиях и судорогах, раз, два, десять раз».Много раз на дню у Карла II случались приступы рвоты. Отталкивающая, выступающая вперед нижняя челюсть католического короля, унаследованная им от предков – Габсбургов, не просто уродлива: когда король закрывает рот, его нижние зубы, слишком далеко выдающиеся вперед, не попадают на верхние, так что между ними можно спокойно засунуть палец. Король Карл не в состоянии пережевывать пищу. К несчастью, он унаследовал от своих предков (а именно от Карла V) еще и обжорство, то есть он глотает все целыми кусками. Гусиную печень он поглощает так, словно пьет вводу, в то время как целый двор с хмурыми лицами в бессилии наблюдает за этим. И вскоре после того, как он встает из-за стола, рвота извергает из него все съеденное. Рвота сопровождается высокой температурой и сильной головной болью, которые на целые дни приковывают короля к постели. Он вряд ли в состоянии выполнять рекомендации своих советников, и он никогда не смеется. Даже придворные шуты, карлики или марионетки, которые раньше заставляли короля смеяться от души, не забавляют его более. Нельзя сказать, чтобы разум, память и дар речи покинули его полностью. Однако большую часть времени король молчит и пребывает в тоскливом настроении, он отупел, стал малоподвижным, а распорядок его дня планируется печальными часами приступов астмы. Его подданные постепенно начинают привыкать к тому, что в короли им достался человек, находящийся в таком состоянии. Послы же иностранных государств не верили своим глазам: при первом визите к королю после вступления в должность, они обнаруживали, что стоят перед смертельно больным существом с пустым взглядом и бессвязной речью. Облегчение от его вида наступает единственно, если отвести взгляд и нос в сторону.
* * *
Мое сердце трепетало от страха и сочувствия, когда я закончил чтение. То, что я сейчас узнал из бумаг Атто, объясняло письмо Марии Манчини и ответ самого Атто, прочитанные мною накануне. Так что большая дипломатическая суматоха не только была лихорадочной подготовкой к будущей пробе сил между империями, но и означала войну, которая уже шла, потому что король мог скончаться со дня на день. Что касается таинственной графини S., то я пока что не нашел ни единого ее следа. Надо было поискать лучше: оставалось еще много непрочитанных писем.Я поднял глаза и посмотрел в окно. Атто и Бюва уже давно исчезли на горизонте. Я увидел на дороге прогуливающуюся беременную даму. Вероятно, это была княгиня Форано, та самая Тереза Строцци, о здоровье которой с сегодняшнего вечера должна была заботиться Клоридия. Я с любовью подумал о своей жене, которую скоро должен был увидеть. Было бы неосторожно и дальше оставаться в комнате Атто; он сам мог застать меня врасплох, к тому же мое длительное отсутствие на работе рано или поздно могло быть обнаружено. До этого я счел нужным доложиться дону Паскатио, который, к сожалению, и на сегодняшний ужин дал мне задание держать факел. К сервировке столов я, к счастью, допущен не был. Когда я осторожно вернул бумаги в тайник, в моей бедной и изрядно уставшей голове царил сплошной хаос – я ведь всегда боялся, что она слишком мала для больших политических вопросов и слишком велика для дипломатических мелочей. Из писем Марии ясно следовало, что она находилась при испанском королевском дворе. Теперь до меня дошло, почему она была так заинтересована в испанском деле и почему так много знала. Но каким образом ее занесло туда? Ее отчет (несомненно, она имела доступ к самым конфиденциальным источникам информации при испанском дворе) рисовал ужасную, апокалиптическую картину, представляющую разительный контраст с нежными, но в принципе смелыми словами, которые посвящал ей Атто в своих письмах. Их переписка выглядела как причудливая смесь любви и политики, галантности и дипломатии. Насколько я знал аббата, как минимум одно из двух – чувство или заговор – должно было вести его к практической цели. Путь сердца вел к предстоящей скоро встрече Атто с Марией – через тридцать лет после их разлуки. Путь политики вел к еще не известной цели. Судя по его собственным словам, Мелани интересовал исключительно предстоящий конклав, однако из того, что я вычитал в его бумагах, становилось ясно, что наследование испанского трона было самым животрепещущим вопросом. «У Атто, должно быть, имеется какой-то тайный план, – сказал я себе, – по крайней мере, настолько тайный, что он не хочет раскрыть его мне». Но у меня тоже были глаза и уши, и я тоже мог подслушивать на вилле Спада кардиналов и князей, узнавая ценные подробности, интересные сплетни и намеки. Разумеется, Атто в тысячу раз лучше меня умел их интерпретировать, посвященный во все хитросплетения политической интриги, и ему нужна была лишь пригоршня камешков, чтобы составить цветную мозаику целиком. Но моим преимуществом был молодой возраст. Разве не я услышал из уст кардинала Спинолы из Санта Цецилии те слова, которые навели нас на след тайной встречи между кардиналом Спадой, Албани и другим Спинолой? И не только это: я хотел прежде всего использовать кардинала Спаду, своего хозяина, даже если бы это означало одновременную поддержку легкомысленного хозяина аббата Мелани. Будучи французским подданным, он действовал от имени короля Франции. Я, находящийся на службе благородного кардинала римской церкви, буду шпионить во имя верности и благодарности. Мне не хватило осторожности подумать, что он получил от своего господина задание. Я же – нет.
Пока я изводил себя такими размышлениями, я добрался до слуги, который раздавал турецкие ливреи. Пора было превращаться в человека-канделябра, чтобы освещать стол их высокоблагородий и преосвященств и черпать знания насчет высшего света из свежего источника: из римского двора, высшей школы лицемерия и хитрости. Я лишь надеялся, что ко всем этим образцам тонкого ума не присоединятся, как накануне вечером, гениальные шутки Атто, которые могли мне очень дорого обойтись. К счастью, главный повар объявил, что сегодняшний кулинариум будет чуть-чуть скромнее, чем ужин, открывавший вчерашний вечер: завтра предстояла свадьба, и до тех пор следовало поберечь желудки, ибо затруднения с пищеварением могли бы поставить под угрозу участие гостей в грандиозном свадебном банкете и лишить их радости по этому поводу. Одеваясь, я заметил, как моя Клоридия быстро идет к перголе. Какой прекрасной она была в праздничном платье, которое ей дали, чтобы она могла находиться здесь и наблюдать за княгиней Форано! Зная, что Клоридия где-то неподалеку, я чувствовал себя намного спокойнее и увереннее. Она тоже заметила меня и подошла ближе, чтобы сказать, что княгиня не ощущает потребности участвовать в ужине и отдыхает в беседке. – А малышки? – спросил я, поскольку в случае родов княгини Клоридии понадобилась бы помощь обеих наших дочерей. – Они дома. Я не хочу, чтобы они тут бегали, по крайней мере, пока идут праздники. Если понадобится, я пошлю за ними. Я вкратце рассказал ей о переносе приезда мадам коннетабль на более позднее время и о содержании только что прочитанных мною писем. – У меня есть для тебя кое-какие новости, – заявила она, – по сейчас мало времени. Встретимся сегодня вечером здесь. Клоридия поцеловала меня в лоб и поспешно удалилась. Она оставила меня, снедаемого желанием узнать новости, которые за короткий срок ей удалось собрать с помощью своих женщин, но также и исполненного неизменного восхищения своей женой, ее присутствием духа.
* * *
– …Точнее говоря, это и в самом деле крайне курьезная ситуация, когда святой год впервые открывает один Папа и, Боже упаси, будет закрывать другой, – с набитым ртом заявил кардинал Мориджиа, уплетая щуку в медовом соусе. – Казус, который может наступить, если святой отец отойдет в вечную жизнь и до конца этого года придется выбирать его преемника. – Вы, ваше преосвященство, наверное, хотели сказать – крайне печальная ситуация, – охладил его пыл монсиньор д'Асте, апостольский комиссар сухопутных войск, пережевывая фаршированную индейку по-швейцарски. – Какая вкусная индейка, как она приготовлена? – Нашпигована мясом тунца, ваше преосвященство, с гвоздикой и палочками корицы, затем сварена в вине с водой, полита персиковым вареньем, порезана на куски, между которыми вложены дольки лимона, а потом покрыта ломтиками вареных яиц и сахаром, – с готовностью прошептал рецепт на ухо монсиньору д'Асте главный повар. – А сейчас эта тряпка, этот кутила строит из себя отважного и поправляет людей, которые по положению выше, чем он, – с иронией прошептал князь Боргезе. Он назвал д'Асте прозвищем, каким наградил его Папа. Как я знал от Атто, Папа окрестил апостольского комиссара «монсиньором Тряпочкой» из-за его хилости. – Крайне печально, проклятие, да, крайне печальная ситуация, это подтверждение того, что я сказал, – защищался Мориджиа, покраснев от стыда и поднося ко рту полный бокал с красным вином, чтобы запить конфуз от неправильно произнесенных слов. – Дурак, – прокомментировал кто-то, очевидно выпивший лишнего. Мориджиа резко повернулся, однако не обнаружил того, кто так оскорбительно отозвался о нем. – Какой изысканный вкус у этих крабов во фритюре, – заметил д'Асте, дабы сменить тему. – О да, превосходный, – поддакнул ему Мориджиа. – Дурак, – снова услышал он в свой адрес, но и в этот раз виновный опять не нашелся. – Как, собственно, прошел визит святого отца в приют для бедных детей-сирот в Сан Микеле? – спросил кардинал Мориджиа с наигранным интересом, надеясь выйти из затруднительного положения. – О, великолепно, при большом стечении народа и многих верующих, которые хотели поцеловать его туфлю, – ответил Дураццо. – Кстати, члены датарии[1311] получили индульгенцию, подтверждающую прощение грехов, даже если во время святого года они посетят четыре храма только раз в день. – И правильно! Пленные и больные тоже имеют особые привилегии, – напомнил кто-то на другом конце стола. – Благословенное, мудрое решение: бедные члены датарии, нужно думать и об их положении, – подтвердил Мориджиа. – Дурак! В этот раз еще двое или трое гостей повернули голову, чтобы посмотреть, кто это осмелился наградить члена Коллегии кардиналов таким оскорбительным словом. Однако беседа продолжалась. – Воистину исключительный святой год. Никогда еще в Риме не царила атмосфера такой душевной набожности. И еще никогда здесь не видели так много паломников, я бы сказал, даже в славном святом году при Папе Клименте X, правда ведь, ваше преосвященство? – обратился Дураццо к кардиналу Карпенье, который четверть века назад лично принимал участие в блестящем праздновании юбилейного года. Семья Карпенья, кроме всего, была в родстве с семьей Спады, и это обстоятельство нынче вечером обеспечивало ему повышенное внимание. – О да, это был необычайный святой год, да, правда, – пробормотал с набитым ртом, согнувшись над тарелкой, достопочтенный Карпенья, которого возраст сделал несколько ворчливым. – Расскажите, расскажите, ваше преосвященство, о самом приятном своем воспоминании, – подбадривали его некоторые. – Ну да, к примеру, я помню… Да, я помню, как Мариани повелел установить в церкви Иисуса огромную скульптуру для моления святым дарам, сооружение привлекло массу народа. Это творение – прекрасное творение, поверьте мне, – изображало триумф евхаристского агнца между символами Нового Завета и Апокалипсиса, с видением евангелиста Иоанна на острове Патмос. Под ликом Бога-Отца, окутанного тысячью облаков с небесными духами и огнями, были видны семь ангелов с семью трубами, а далее агнец Божий, держащий книгу с видением Апокалипсиса Иоанну и всем нам из любви Бога к людям… – Воистину, – согласился Дураццо. – Святые слова, – эхом повторил монсиньор д'Асте. – Да святится господь наш Иисус Христос, – ответили почти все (за исключением тех, у кого во рту было слишком много жареной форели, которую только что подали к столу) и перекрестились (кроме тех, кто как раз орудовал ножами и вилками для рыбы). – Были видения ангельских хоров, – продолжал Карпенья, – изображений символов четырех евангелистов, то есть льва, орла, быка и человека. Я помню, что грудь агнца была покрыта кровью, а между серебряными и золотыми огнями было видно его сердце и внутри святое причастие, которое приходит к людям только из любви Божьей к ним. – Очень хорошо, браво! – похвалили соседи по столу. – Но и нынешний святой год станет примером на грядущие тысячелетия, – настойчиво подчеркнул Негрони. – О да, несомненно: сюда все еще стекаются паломники изо всех частей Европы. Воистину, чистое и самозабвенное дело святой матери Церкви сильнее, чем любое земное владычество. – Да, кстати, как проходит этот святой год? – спросил барон Скарлатти князя Боргезе едва слышным голосом. – Очень плохо, – прошептал тот в ответ. – Число паломников катастрофически уменьшилось. Папа крайне озабочен. Не поступает ни единого скудо.Ужин подходил к концу. Их преосвященства, князья, бароны и монсиньоры, зевая, прощались друг с другом и медленно уходили по аллее, ведущей к выходу, к своим каретам. Их секретари, адъютанты, сопровождающие, лакеи и слуги встали из-за своего стола, установленного поблизости, но накрытого намного скромнее, и отправились сопровождать своих господ. Места за столом опустели, и мы, держащие факелы, смогли наконец расслабить мышцы спины и живота и сменить напряженную позу, в которой вынуждены были стоять целый вечер. Никто не заметил этого, но когда я снял с себя смешной турецкий тюрбан и поставил коптящий светильник на землю, я затаил дыхание, но не от усталости, а от ужаса. Я сразу увидел его и мгновенно сообразил, что он сотворил. Когда он трижды обозвал кардинала Мориджиа дураком, я был готов к тому, что его строго накажут, если только сумеют поймать. Но у него было больше везения, чем ума, и никто не увидел его втусклом свете застолья. Я оставил других слуг и пошел к ограде поместья. И тут я услышал, как он приветствует меня с обычной любезностью: – Дурак! – По-моему, это ты тут дурак, – ответил я, повернувшись в ту сторону, откуда, как мне казалось, доносился этот голос. – Dona nobis hodie pane cotidianum,[1312] – ответил Цезарь Август из темноты. Во время всего ужина он летал взад и вперед над растянутым над столом навесом. Конечно, он надеялся добыть себе пару вкусных кусочков со стола, но потом, видно, сообразил, что это невозможно, иначе его обнаружат. Каждый раз, когда он просто из желания сказать гадость оскорблял кардинала Мориджиа, я покрывался холодным потом от страха. Но никому не пришло в голову, что сей насмешливый голосок принадлежит Цезарю Августу, по той простой причине, что попугай, как я уже говорил, не разговаривал ни с кем, кроме меня, и все думали, будто он немой. Я прошел еще немного дальше через луг, надеясь, что меня не будут искать, чтобы поручить какую-то срочную работу. – Это была очень скверная выходка, – укорял я его, обращаясь наугад в темноту, – в следующий раз они свернут тебе голову и зажарят. Ты видел эту тарелку с куропатками, которую подали на третье блюдо? Вот увидишь, так же приготовят и тебя. Я услышал шум его крыльев в темноте, а затем и свист перьев, зацепивших мое ухо. Он сел на куст на расстоянии вытянутой руки от меня. Теперь наконец-то я видел его – белое пернатое привидение с высоким желтоватым хохолком, который гордо растопырился у него над головой, подобно гротескно развевающемуся знамени в папской расцветке. Все еще разгоряченный и усталый от долгого стояния с факелом, я опустился на влажную зеленую траву. Цезарь Август упорно смотрел на меня взглядом просящего подаяния нищего. – Et remitte nobis débita nostra.[1313] – Попугай упорно читал «Отче наш», что проделывал всегда, когда хотел есть. – Ты сегодня хорошо поел, а сейчас это уже будет обжорство, – коротко сообщил ему я. – Клик-кляк, дзинь, – выдала чертова птица, удивительно точно подражая стуку ножей и вилок о тарелки и веселому звону бокалов. Это была очередная провокация. – Ты действуешь мне на нервы, я иду спать и тебе рекомендую то же самое… – Ты с кем тут разговариваешь, мальчик мой? Атто Мелани нашел меня.
Мне стоило немалых усилий просветить аббата относительно странной натуры этого животного, за разговором с которым он меня застал. Тем более что Цезарь Август при появлении Атто Мелани моментально удрал в темноту и ни за что не хотел покачиваться. Понадобилось время, чтобы убедить Атто, что я не сошел с ума и не разговаривал сам с собой, а что там, в темноте, скрывается попугай, с которым можно было вести что-то вроде диалога, но в сумбурной и странной манере, которую он предпочитал. Однако Цезарь Август, который, вероятно, пялился сейчас на Атто из своего укрытия с хорошо известным мне выражением вредности и любопытства, с какими он обычно рассматривал незнакомых людей, до конца моей речи молчал как рыба. – Может быть, оно и так, как ты говоришь, мой мальчик, но мне кажется, что это пернатое вообще не раскрывает клюва. Эй, Цезарь Август, ты здесь? Что за высокопарное имя! Кра-кра-кра! Давай, выходи! Ты правда назвал Мориджиа дураком? Молчание. – Эй ты, ворона несчастная, я с тобой говорю! Давай, покажись! Итак, ты не умеешь говорить? Птице будто запечатали клюв, и мы не удостоились чести узреть ее. – Ну, если он снизойдет до того, чтобы показать себя и продемонстрировать все эти фантастические штучки, о которых ты мне рассказал, то позови меня, я тут же прилечу! Ха-ха! – рассмеялся Атто. – Перейдем, однако, к серьезным вещам. Я хочу сообщить тебе на завтра пару вещей, до того как сон… – Pue lia.
Атто с изумлением посмотрел на меня. – Ты что-то сказал? Я только показал в темноту, в направлении Цезаря Августа, потому что не решился открыто признать, что это он оскорбил Атто, назвав его позорнейшей кличкой, которая только существует для кастратов: paella на латыни означает девочка. Кроме того, у меня просто не было слов: это был первый случай, когда попугай заговорил с кем-то, кроме меня. Хотя речь шла об оскорблении, я бы сказал, что попугай удостоил Атто чести. – С ума сойти! Я уже видел и слышал других попугаев, и все они были великолепны. Но здесь, кажется, действительно… – …как будто говорил человек из плоти и крови, я же вам говорил. На сей раз это был голос старика. Но вы бы слышали, как он подражает женским голосами плачу детей! Не говоря уже о чихании и приступах кашля. – Господин аббат! В этот раз это был настоящий человеческий голос, взывавший к нашему вниманию. – Синьор аббат, вы здесь? Я ищу вас уже полчаса! Это был Бюва, который, с трудом переводя дыхание, спешно искал своего господина. – Господин аббат, вы немедленно должны вернуться к себе. Ваши покои… Мне кажется, кто-то во время ужина проник к вам без вашего разрешения и… в общем, это были воры.
* * *
– Кто-нибудь еще об этом знает? – спросил Атто, стараясь открыть дверь в свои покои. – Никто, кроме вас, я помню ваши распоряжения… – Ладно, ладно, – кивнул Атто: он приказал Бюва в таких чрезвычайных случаях не говорить никому ни слова, не поставив прежде всего в известность его. И вскоре я понял почему. Атто нажал на ручку. Он толкнул дверь и зашел в комнату со свечой в руках. – Но дверь не взломана, – с удивлением заметил он. – Нет, действительно нет, я бы сразу сказал вам об этом, если бы дали мне время. – У Бюва совсем перехватило дыхание от бега, он и вправду не мог вымолвить ни слова. Я тоже сделал пару шагов внутрь. В свете второй, а затем и третьей свечи в комнатах стали хорошо видны следы ограбления. Все вокруг было в полнейшем беспорядке. Один стул был перевернут. Книги, газеты и разрозненные листы бумаги валялись на полу. Одежду Атто, тоже брошенную на пол и на стулья, без сомнения, обыскали. Одно из окон было открыто. – Странно, поистине странно, – проговорил я. – В эти дни вилла Спада хорошо охраняется, однако ворам, видимо, не составляет труда пробраться в дом… – Ты прав. Как бы там ни было, действовали они довольно быстро, – сказал Атто, осмотревшись. – Мне кажется, они взяли с собой только подзорную трубу. Это, конечно, вещица, которая возбуждает аппетит. Кроме нее, мне кажется, не исчезло больше ничего. – Откуда вы знаете? – удивился я, поскольку осмотр комнаты длился всего несколько секунд. – Очень просто: после нападения на вас обоих я доверил все свои ценные вещи одному из камердинеров виллы. Важные бумаги… ну, они находятся не здесь, – сказал он с хитрым выражением лица, но я пропустил это замечание мимо ушей, поскольку тоже знал, где они спрятаны: в грязном белье, именно там я нашел письма к Марии. Аббат начал развешивать свою одежду. – Вы только посмотрите, – пожаловался он, – как они ее измяли. Минуту… Атто ощупал свою серую сутану, в которой, как я знал, он тайно хранил небольшой фрагмент покрывала Кармельской Богоматери и где спрятал мои три жемчужины. – Ее тут нет! – воскликнул Атто. – Как глупо с моей стороны! Я забыл это здесь! – Что именно? – невинно спросил я. – Э-э… реликвию. Очень ценную реликвию, которая была здесь, на внутренней стороне, завернутая в лоскуток от покрывала Кармельской Богоматери. Ее украли. «Мои бедные жемчужины, – печально подумал я. – Быть украденными – такая, видно, у них судьба». В любом случае это указывало на то, что воры, должно быть, обыскивали комнаты Атто очень тщательно. Между тем у нас прибавилось света от двух больших канделябров, которые я зажег, чтобы можно было проверить все как следует. Вдруг аббат Мелани опустился на колени, отодвинул софу и поднял часть находившегося под ней уложенного елочкой паркета. Он отцепил деревянную планку, затем соседнюю, а за ней третью. – Неееет, ради всех святых! – услышал я его тихое восклицание. – Проклятые воры! Мы с Бюва вопросительно переглянулись. Атто поднялся, отряхнул колени и упал в кресло. Он смотрел перед собой застывшим взглядом. – О я несчастный! Какая катастрофа! Как это случилось? И зачем? Кто смог?… Не понимаю, – бормотал он про себя, схватившись за голову. На наши сокрушенные взгляды он не обращал никакого внимания. – Случилось несчастье, – произнес он, овладев собой. – Дело обстоит серьезно. У меня похитили некоторые очень важные документы. Сначала я даже не посмотрел туда, настолько был уверен, что никто не догадается о тайнике. Я аккуратно поставил дощечки паркета на место. Не знаю, как они нашли тайник, но факт остается фактом. – Бумаги были под паркетом? – спросил я. – Совершенно верно. Даже Бюва не знал, что они там, – ответил Мелани, чтобы сразу же развеять любое подозрение в предательстве. По наступившей за этим паузе Атто, видимо, понял, какой вопрос на уме у меня и Бюва. Поскольку было очевидно, что нам придется помочь ему найти исчезнувшие бумаги, Атто должен был сообщить нам об их содержании, хотя бы в общих чертах. – Это секретный доклад, который я составил для его величества короля Франции, – признался наконец он. – А о чем он? – решился спросить я. – О следующем конклаве. И о следующем Папе Римском.Сложность проблемы, как объяснил Атто, состоит в двух вещах. Во-первых, он обещал его величеству королю Франции вручить доклад как можно скорее. У аббата украли единственный экземпляр этого доклада, и даже многомесячного труда (и сверхчеловеческого напряжения памяти) было бы недостаточно, чтобы восстановить его. Таким образом, Атто грозила опасность ужасно опозориться перед своим королем. Но это еще не самое худшее. Отчет содержал секретную информацию о выборах последнего Папы и прогноз на следующий конклав, и был подписан лично Атто. Но даже если бы он и не был подписан, в любом случае по некоторым выводам в тексте несложно установить его авторство. Документ находился сейчас в чужих руках, возможно даже у врагов. По этой причине Атто рисковал быть обвиненным в шпионаже в пользу Франции. Обвинение могло усугубиться и тем, что ему могли поставить в вину намерение распространить этот доклад, то есть распространить клеветнические письменные материалы. – …как ты знаешь, за это преступление в Риме полагается очень строгое наказание, – заключил он. – Что нам нужно делать? – спросил Бюва, озабоченный не меньше своего хозяина. – Поскольку мы не можем заявить о пропаже барджелло,[1314] то придется довольствоваться помощью Сфасчиамонти. Как только ВЫ наведете тут кое-какой порядок, Бюва, позовете его. Нет, лучше идите немедленно. Некоторое время мы с Атто ползали по полу и собирали разбросанные бумаги. Атто не говорил ни слова. Между тем у меня появилось подозрение о том, какого рода могла быть добыча воров, и я решил подойти к этой теме окольными путями. – Синьор Атто, – спросил я, – вы придумали прекрасный тайник. Как только воры могли найти его? И еще: дверь не была взломана. Значит, у кого-то был запасной ключ. Как это могло быть? – Я действительно не знаю, проклятие, все это просто загадка! Нам придется полагаться на помощь этого сбира, который будет нервировать меня своими историями о черретанах или черт их знает, как называются эти орды попрошаек, если они действительно существуют! – Как вы опишите ему свою рукопись? Ведь даже Сфасчиамонти нельзя точно сказать, о чем идет речь, потому что доверять никому нельзя. Он молчал, глядя на меня неподвижным взглядом. Аббат догадывался о том, что я скажу, и понял, что нельзя больше оттягивать необходимые объяснения. Он сделал недовольную гримасу и вздохнул: сейчас он с большой неохотой скажет мне то, чего я не знал. В коридоре послышались шаги Бюва и громкий топот Сфасчиамонти. Я не знаю, было ли это случайностью или точным расчетом, но Атто заговорил именно в тот момент, когда сбир уже открывал дверь, то есть в самый последний возможный момент. После этого ни он уже не мог свободно говорить, ни я – задавать ему вопросы, на которые он не хотел отвечать. – Это был манускрипт в новом переплете. В том самом, который сделал Гавер.
* * *
Хотя Сфасчиамонти казался каким-то сонным, он внимательно выслушал доклад о случившемся. Он проинспектировал тайник под паркетными дощечками, быстро осмотрел комнату Атто, доверительно спросил, какого рода был украденный документ, и остался доволен кратким описанием, полученным от Атто. – Это политический документ. Крайне важный. – Понимаю. Это та книга, которую переплетал для вас Гавер, как я предполагаю. Аббат не мог отрицать этого. – Случайное совпадение, – ответил он. – Конечно, – согласился Сфасчиамонти не моргнув глазом. Затем сбир спросил, хочет ли Мелани сделать заявление о пропаже губернатору или барджелло. Пострадавший все-таки является уважаемой особой, и можно было сделать объявление на весь Рим, назначив награду за поимку преступника и обнаружение похищенного. – Ради бога, – сразу же запротестовал Атто. – Награда за поимку преступника ничем не поможет. Когда у меня в монастыре капуцинов на Монте Кавалло украли золотые кольца и бриллиант в форме сердца, губернатор приказал назначить громадную сумму за поимку вора. Результата абсолютно никакого. – Вынужден согласиться с вами, господин аббат, – сказал Сфасчиамонти. – Если я правильно понял, кроме этих бумаг, у вас украли только подзорную трубу и фрагмент покрывала Кармельской Богородицы? – Правильно. – Но вы еще не сказали, какого рода реликвию хранили в этом лоскуте. Колючку из тернового венца Господа нашего Иисуса Христа? Кусочек дерева с креста? Сейчас их много ходит, но они всегда притягивают воров; вы же понимаете, в святой год… – Нет, – коротко ответил Атто, который не имел ни малейшего желания дать мне понять, что все эти годы заботливо носил у сердца мои жемчужины. – Уголок одежды, может быть, зуб… – Три жемчужины, – наконец ответил Атто и украдкой взглянул на меня. – В виде венецианской маргаритки. – Странная реликвия, – заметил Сфасчиамонти. – Они происходят из сияющих одежд, которые были на Деве Марии в день ее явления на горе Кармель, – пояснил Атто с самым невинным видом, однако удивленный сбир не уловил иронии. – Этого вам достаточно? – Конечно, – ответил Сфасчиамонти, потихоньку успокаиваясь. – Я бы сказал… Да, начнем с подзорной трубы. – С подзорной трубы? Но для меня это далеко не главное! – запротестовал Атто. – Для вас – да, но для других она может быть интересным предметом, который можно продать по хорошей цене. Кроме того, ее не так уж легко незаметно передать кому-нибудь. Наоборот, реликвию и ваш политический документ опознать гораздо труднее. Гот, кто не знает содержания, посчитает этот трактатик стопкой бумаг, не имеющих никакой ценности. Он может попасть в руки Человека, который… ну, не такой, как вы. – Что вы имеете в виду? – спросил Бюва. – На каком языке написан ваш документ? – На французском, – ответил Атто, помедлив. – Его мог украсть человек, который и по-итальянски читать-то не умеет, не говоря уже о французском языке. И поэтому он не имеет ни малейшего понятия о том, что держит в руках. – Тогда он не искал бы мою книжку там внизу, – возразил Атто, показав на место, откуда был снят паркет. – Не скажите. Он мог найти тайник случайно, а тщательность, с какой был спрятан документ, могла вызвать любопытство. Не имеет смысла строить предположения, сначала надо найти вещи. – Итак, что мы будем делать? – Вы знаете, что делает хороший адвокат, если арестована целая банда преступников? – спросил Сфасчиамонти. – И что же он делает? – Он поручает защиту главаря банды своему помощнику, а сам берется защищать любого другого члена банды. Тогда судья по уголовным делам не сможет определить, кто тут крупная рыба. Мы поступим так же: сделаем вид, что хотим найти подзорную трубу. Асами тем временем будем искать вашу книжечку. – А как нам это сделать? – Обычно начинают с тех, кто торгует крадеными вещами. Я знаю некоторых, кто ведет себя прилично. Если ваши вещи попали к ним, то они, возможно, помогут мне. Но это не факт. Придется поторговаться. – Поторговаться? Если речь идет о том, чтобы заплатить немного денег, я согласен взять это на себя. Но ради бога, я же не могу показаться в обществе людей с плохой репутацией. Здесь много кардиналов, у меня есть связи… – Как хотите, – вежливо, но решительно закрыл тему Сфасчиамонти. – Этим могу заняться я. Ты, парень, мог бы сопровождать меня. Тот, кто ворует, не любит долго держать украденное у себя. Именно хорошие вещи исчезают в первую очередь. Надо начинать как можно раньше. – Когда? – Сейчас.Вот так и вышло, что я лучше познакомился с тройственной и воистину уникальной натурой Сфасчиамонти. Его характерные ругательства, когда он клялся оружием и военным снаряжением любого рода, позволяли составить о нем мнение как о хвастуне, выдающем себя за важного человека, на что намекала и его фамилия. Однако, когда он говорил о черретанах, его спесь улетучивалась, уступая место лихорадочному беспокойству, и большой толстый сбир начинал опасаться первого попавшегося на дороге нищего старика, как это произошло на Пьяцца Фиаммета. Когда в конце концов речь пошла о расследовании конкретного дела, а не о противодействии непонятной угрозе, например черретанам, он превратился в умелого стражника: немногословного, последовательного и хладнокровного. Это он доказал уже во время расследования нападения на Гавера; подобным же образом, решительно и хладнокровно, он вел себя на месте похищения материалов Атто. Он отказался от подробных расспросов об украденных документах, однако укрепил Атто в совершенно невероятном предположении, будто бы между смертью Гавера и кражей в комнате Атто нет никакой связи. Несомненно, дела могли обстоять иначе, однако сбир (которого работа на кардинала Спаду превратила, так сказать, в частного жандарма) дал понять, что его интересует не истинное положение вещей, а то, как он может преподнести их с пользой для тех, кто дал ему задание. В данный момент невозможно было сказать, какая из трех натур (хвастливая, боязливая или проницательная) больше всего соответствовала настоящему Сфасчиамонти. Однако я предполагал, что рано или поздно все равно узнаю. А пока что Сфасчиамонти предложил Атто свое молчание и помощь, кстати в ночное время, когда все уже спали. Атто знал, что, Как и молчание, за которое он заплатил мне, это имело соразмерную цену.
* * *
Итак, мы с Сфасчиамонти поспешно отправились в путь, распрощавшись с Атто и его секретарем. Поскольку я не успевал явиться па свидание к Клоридии, то попросил Бюва предупредить ее об этом. В душе я молился о том, чтобы она не очень беспокоилась, и поневоле оттягивал момент, когда узнаю от нее новости, которые собрали ее женщины.Под покровом ночи мы тихо выскользнули из виллы. После пережитых мрачных событий (убийства, кражи) звездный купол неба уже не казался мне приветливым, он выглядел угрожающе натянутым над нашими беззащитными головами. Сбир приказал одному из своих помощников оседлать двух лошадей и помог мне взобраться на одну из них (я никогда не был великим наездником). Мы тотчас же направились по дороге, ведущей в центральную часть города. Я ехал за сбиром к неизвестной цели. Лошадь Сфасчиамонти, вынужденная нести столь тучного всадника, плелась не быстрее моей. Мы спускались по дороге Порта Сан-Панкрацио, а слева от нас открывался величественный вид города. В тусклом свете луны виднелись лишь очертания крыш, колоколен и куполов церквей. Их можно было угадать только по слабо освещенным окнам и чердакам – это была некая дерзкая игра в прятки с моим зрением и с памятью, запечатлевшей этот великолепный вид днем. Мы свернули влево на Пьяцца деле Форначи, затем оставили справа Порта Сеттиньяно, чтобы быстро продвинуться в направлении Понте Систо. Здесь здания и жилые дома отступали назад, снова открывая вид на Тибр, на его русло, желтое и болотистое вблизи берегов и, наоборот, зелено-голубое посредине, с многочисленными богатыми рыбой отмелями. Мы пересекли Пьяццу дела Тринита деи Пеллегрини и очутились у Пьяцца Сан-Карло. Вокруг стояла полная темнота, освещаемая только искрами от ударов копыт наших коней по брусчатке, которые эхом разносились по переулкам. Лишь в немногих окнах в этот ночной час горели свечные огарки – может быть, это молодые матери заканчивали последнюю работу дня. За одним из этих скромных окон и находилась наша цель. – Мы на месте, – объявил Сфасчиамонти, слез с коня и показал на маленькую дверь. – Но я полагаюсь на тебя: ты тут не был никогда. Наш человек здесь инкогнито. Никто не знает, что он спит в этом доме. Священник тоже делает вид, что он не в курсе дела, когда наносит сюда пасхальный визит. Он принимает пару скудо в качестве подарка, а за это церковная приходская книга остается чистой. – А кому мы тут нанесем визит? – спросил я, сползая вниз со своей лошади. – Ну, «нанести визит» – это не совсем подходящее выражение. О визитах предупреждают заранее или их ожидают. А это – сюрприз, клянусь всеми мушкетами Гессена! Ха-ха! – засмеялся он. Он стал перед входом, засунул большой палец руки за пояс И как-то странно выпятил свое огромное брюхо, делая при этом ритмичные выдохи, словно собираясь выдавить дверь животом. Он постучал. Прошло несколько секунд. Затем я услышал, как щелкнул замок, заскрипели дверные петли. – Кто там? – послышался недоверчивый голос, по которому я не смог бы определить, кто находится за дверью – мужчина или женщина. – Открывай, это я, Сфасчиамонти. Перед нами появилась не одна из тех нежных молодых матерей, которую я нарисовал в своем воображении, а горбатая уродливая старуха. Как позже пояснил мне сбир, наш человек снимал у нее квартиру. Старуха даже не пыталась протестовать по поводу того, что мы явились в такой поздний час: видимо, она знала моего спутника и сообразила, что дискуссий тот не потерпит. Лишь увидев, что мы собираемся подняться по лестнице в верхнюю комнату, она попробовала оказать слабое сопротивление: – Но он спит… – Вот именно, – ответил Сфасчиамонти, взял у нее свечу из рук, чтобы освещать нам дорогу, и оставил бедную женщину в темноте. Мы поднялись на два лестничных марша и попали в коридор, упиравшийся в закрытую дверь. Пламя свечи, которую сбир передал мне, отбрасывало на наши лица зловещие тени. Мы постучали в дверь. Ни звука. – Он не спит, иначе бы ответил. Один глазу него всегда бодрствует, – прошептал мой напарник. – Это Сфасчиамонти, открой! Мы подождали еще минуту. Ключ повернулся в замке. Дверь чуть-чуть открылась, образовав щель. – В чем дело? Сбир был прав. Съемщик этой комнаты был на ногах и одет, а в щель он просунул только нос. Изнутри пробивался слабый свет. Несмотря на скудное освещение, я хорошо мог рассмотреть его черты: мышиный нос, длинный и распухший, над ним пара маленьких черных глаз под густыми черными бровями. Маленький уродливый кривой ротик, из которого капала слюна, открывал ряд неровных желтых, как у кролика, зубов. – Впусти нас, Мальтиец.
Человечек, который отзывался на это странное имя (обязанное своим происхождением тому, что он был родом с острова Мальта), сел на табуретку, не приглашая и нас сесть, что мы, однако, все же сделали, причем за неимением лучшего места уселись прямо к нему на кровать. Он зажег третью свечу, вследствие чего комната заполнилась светом и стала меньше похожей на пещеру. Я быстро осмотрелся. Комнатушка на самом деле была убогой, вся ее мебель состояла из кровати, на которой мы сидели, табуретки, на которой сидел наш хозяин, столика, шкафа, сундука и нескольких старых ящиков, в углу лежала куча старых бумаг. Мальтиец, похоже, очень нервничал. Он сидел, согнувшись и теребя пуговицу на рубашке, глазки его бегали по сторонам. Очевидно, наш визит напугал его и он надеялся, что мы исчезнем как можно быстрее. Из разговора я заключил, что их знакомство с моим спутником носит многолетний характер и у каждого с самого начала своя определенная роль: один из них – тот, кто бьет, а другой – тот, кого бьют. – Мы помогаем одному человеку высокого чина, французскому аббату. У него украли кое-какие вещи, которые ему очень дороги. Он – гость на вилле Спада. Ты знаешь что-нибудь об этом? – Вилла Спада у ворот Сан-Панкрацио, понятно. Она принадлежит Спаде. – Не притворяйся дураком. Я спросил тебя, знаешь ли ты что-нибудь о краже. Мальтиец бросил взгляд на меня, затем вопросительно посмотрел на моего спутника. – Это друг, – успокоил его Сфасчиамонти, – считай, что его здесь нет. Мальтиец молчал. Затем покачал головой. – Я ничего не знаю. – У него украли одну вещь, которую он непременно хочет получить назад. Подзорную трубу. – Я ничего не знаю и никого не видел. Я весь день просидел тут. – Обворованный французский аббат готов заплатить, чтобы получить свою собственность обратно. Я повторяю: она очень много для него значит. – Извини, если бы я что-то знал, то сказал бы тебе. Я правда ничего не слышал. Мы расстроились, но не стали дальше настаивать: искаженное страхом мышиное личико нашего собеседника, казалось, излучает нечто похожее на честность. Мы поднялись. – Что ж, придется мне, наверное, спросить монсиньора Паллавичини, – вскользь заметил Сфасчиамонти. – Буду просить его выслушать меня. Кстати, он как раз был на ужине на вилле Спада. Имя губернатора Рима произвело должное впечатление. Мы уже хотели уходить, как вопрос Мальтийца заставил нас остановиться на пороге: – Сфасчиамонти, а что такое подзорная труба?
Значит, наш хозяин не знал, что такое подзорная труба. Мы ему объяснили, что это похожий на трубу оптический прибор с линзами, с помощью которых можно рассматривать предметы, как близкие, так и удаленные. Описание Сфасчиамонти было весьма примитивным и неясным, и мне пришлось помогать ему. Наконец Мальтиец признался: был такой человек, который кое-что мог знать об этом. – Это тот, кто покупает всякие необычные вещи, которыми трудно торговать: антиквариат, разные инструменты. И он явно очень любит реликвии. Сейчас, в святой год, он здорово разбогател: Я слышал, что торговля у него идет бойко. У него есть сообщники, которые ведут переговоры вместо него, но его самого никогда не видели. Почему – не знает никто, может, он живет не в городе. Я ни разу не имел с ним дела. Его называют дер Тойче.[1315] У Сфасчиамонти дернулась щека, выдав его волнение. – Я знаю, что он недавно купил что-то такое, похожее на подзорную трубу, которую вы ищете, – продолжал Мальтиец. – Аппарат с линзами, которые можно двигать, чтобы видеть вещи увеличенными или уменьшенными, я точно не знаю. Сфасчиамонти кивнул: это был правильный след. – Я не помню, кто мне сказал, – заметил Мальтиец, – но кажется, мне известно, кто купил эту штуку для него. Его зовут Кьяварино. – Этого я знаю, – бросил Сфасчиамонти.
Пять минут спустя мы уже были на улице и отправлялись на поиски таинственных особ, которых нам назвал скупщик краденого. Сфасчиамонти посылал проклятия на голову своего информатора. – Я ничего не знаю, ничего не знаю… Еще как знает! Только услышал имя губернатора, как тут же струсил и спросил, что такое подзорная труба. – Он что, действительно этого не знал? – Такие люди, как Мальтиец, – это подонки. Они скупают краденое за два гроша и продают другим. Ничего другого не умеют. Они отличаются только тем, что берут на себя риск первыми скупать вещи после кражи. Поэтому их часто считают заказчиками, но они таковыми не являются. А те, кто скупают у них, имеют более тонкое чутье на ценные вещи. Кьяварино совсем другого пошиба, он хорошо известен в преступном мире. Профессиональный убийца и вор. Мне запомнилось выражение лица сбира, когда Мальтиец назвал имя заказчика – Кьяварино. – A der Teutsche? Немец? Вы о нем раньше слышали? – Конечно. О нем говорят уже столетия, – ответил Сфасчиамонти. – И особенно сейчас, в святой год… – И что же про него говорят? – Никто не знает, существует ли он вообще. Говорят, что он принадлежит к черретанам. Другие утверждают, что der Teutsche выдумали мы, сбиры, чтобы было на кого свалить вину, когда не удается найти виновных. – А это правда? – Какое там! – возмутился он. – Я думаю, der Teutsche в действительности существует, как существуют и черретаны. Только все дело в том, что никто по-настоящему не заинтересован найти его. – Почему? – Наверное, он оказал какую-то услугу высокопоставленным особам. Таков Рим. Он не должен быть ни слишком чистым, ни слишком грязным. Сбирам и губернатору надо показать, что они заботятся о чистоте, иначе зачем они нужны? Но грязь тоже должна быть, настоящая большая грязь, – сказал он, смеясь. – И, кроме того, ты сам видел, как легко отделался Мальтиец. Если украли что-то у влиятельной особы, он тут как тут и всегда готов помочь. В ответ на услугу губернатор не трогает его, хотя точно знает, где живет Мальтиец, и может арестовать его в любой момент.
К моим недавним размышлениям о Сфасчиамонти присоединилось еще одно. Он не боялся называть вещи своими именами (и у меня будут доказательства этого), когда речь шла о подлом или малопочтенном поведении своих коллег и даже губернатора. Конечно, некоторые могли бы посчитать его плохим стражем общественного порядка, поскольку он не служил тысячелетним институциям святой матери Церкви верно и преданно. Но я так не думал. Если он был в состоянии видеть зло там, где оно было, и признавал это, пусть даже в доверительной форме, как сейчас в разговоре со мной, то это признак того, что он склонен к честности и прямолинейности. Грубости, необходимой для таких операций, как та, что мы сейчас проводили, у него тоже хватало. С самого начала он откровенно сказал мне, что хотел наконец заняться расследованием деятельности черретан, но, конечно же, не нашел понимания у своих коллег полицейских и губернатора. Если же он и вел переговоры с известными преступниками, например с Мальтийцем или, возможно, с Кьяварино, то это было частью его работы. «Самое главное, – сказал я себе, – что в глубине своего сердца он честный человек». И лишь намного позже мне довелось узнать, что мои рассуждения, с одной стороны, были совершенно правильными, но с другой – глубоко ошибочными.
По дороге мне бросилось в глаза, что Сфасчиамонти, который только что с большой отвагой проник к скупщику краденого, начал все чаще озираться вокруг. Мы добрались до Пьяцца Монтанара, затем свернули направо, в маленький переулок. – Здесь. Это был небольшой двухэтажный домик, обитатели которого, похоже, уже спали глубоким сном. Мы остановились перед входными дверями и постучали, следуя указаниям Мальтийца: три раза громко, три раза тихо, затем подождали и снова трижды громко постучали. Никто как будто не подходил к дверям, но вдруг мы услышали чей-то приглушенный голос: – Да? – Мы ищем Кьяварино. Нас оставили ждать на улице, не дав понять, выйдет ли к нам особа, которую мы ищем, и вообще услышали ли нашу просьбу. – Кто ищет его среди ночи? – прозвучал наконец другой голос. – Друзья. – Тогда говорите. Похоже, нужный нам человек находился за дверью, но, кажется, не собирался открывать ее. – На вилле Спада на Джианиколо сегодня вечером украли подзорную трубу. Ее владелец – наш хороший друг, и он готов заплатить, чтобы получить ее обратно. – Что такое подзорная труба? Мы вкратце повторили объяснение, которое уже давали Мальтийцу: линзы, через которые можно видеть все в уменьшенном или увеличенном виде, прибор из металла и т. д. На какое-то время воцарилась тишина. – Сколько платит хозяин? – спросили за дверью. – Сколько нужно. – Я должен спросить одного друга. Приходите завтра после вечерни. – Ладно, – немного помедлив, сказал сбир. – Мы снова придем завтра.
Мы прошли всего несколько шагов, затем Сфасчиамонти показал на первую же боковую улицу, мы свернули в нее и затаились за угловым домом, откуда хорошо было видно жилище Кьяварино. – Он не хочет заключать сделку. Говорит, что мы должны прийти завтра: он что, считает меня дураком? Завтра в это время добыча уже будет за тысячу миль отсюда. – Мы будем ждать, когда он выйдет? – спросил я с некоторой робостью, ибо вспомнил про убийства, которые были на совести Кьяварино. – Точно. Посмотрим, куда он пойдет. Он заподозрил, что это горячий товар и что от него лучше побыстрее избавиться. Но Кьяварино тоже под наблюдением, как и Мальтиец, к тому же очень волнуется. Предположение оказалось правильным. Через десять минут на пороге дома Кьяварино появилась какая-то фигура, нерешительно оглянулась по сторонам и вышла на улицу. Свет луны был слишком слаб, чтобы рассмотреть его получше, но мне показалось, что под мышкой у него было зажато что-то вроде пакета. Мы последовали за ним на очень большом расстоянии, стараясь не создавать никакого шума. Мы знали, что тот, за кем мы следили, мог быть вооружен ножом. «Лучше упустить его, чем потерять жизнь», – подумал я. Сначала он пошел по улице в направлении Кампо ди Фиоре, и мы предположили, что он отправился к Мальтийцу, чья тайная квартира находилась в той же стороне. Однако он зашагал дальше – через Пьяцца де Поллаиоли до Пьяцца Паскуино. Кьяварино, которому повезло не натолкнуться на ночной дозор, вышел на Пьяцца Навона. Именно в этот момент то, что осталось от луны, окончательно заволокло облаками. Хотя наступила кромешная тьма, мы на всякий случай остановились за углом палаццо Памфили в начале площади. Глаза наши обшарили свободное пространство площади, которая разделялась на три части большим центральным фонтаном Лоренцо Бернини и двумя другими на противоположных концах Пьяцца Навона. Площадь казалась совершенно пустынной. Мы присмотрелись. Никого. Мы его упустили. – Пусть будут прокляты все кирасы! – выругался Сфасчиамонти. И тут мы услышали впереди очень быстрые шаги. Кто-то проворно, как ласка, бежал справа от нас. Это Кьяварино, наверное, обнаружил нас и бросился бежать. – Фонтан, он был за фонтаном! – крикнул Сфасчиамонти, имея в виду ближайший фонтан с двумя большими скульптурными группами. Даже сегодня я не могу сказать, какая скрытая добродетель (скорее, какая слабость или ложная отвага) заставила меня последовать за Сфасчиамонти, который уже бросился за беглецом.
Какое-то время я оставался позади блестящей от пота пурпурно-красной массы сбира, который, несмотря на все усилия, все больше отставал от преследуемого. Вокруг все еще было совершенно темно, однако нам помогал звук шагов беглеца, которые сухо и звонко, словно удары плетью, барабанили по брусчатке. Вдали замаячило здание французского посольства, хорошо видное, поскольку было освещено несколькими факелами: значит, мы скоро будем на Кампо ди Фиоре. – Налево, он побежал налево! – крикнул мне, задыхаясь от быстрого бега, Сфасчиамонти. Едва повернув налево, я, к своему большому удивлению, увидел, что погоня закончилась. Беглец, который до сих пор хорошо использовал свое преимущество и даже увеличил его, упал. Сфасчиамонти уже почти поймал его, но тот быстро пришел в себя: умелым движением откатился в сторону, так что Сфасчиамонти схватил пустое место, из-за чего также свалился на землю. Беглец заметно устал, но тем не менее продолжил бежать в сторону театра Помпея. В этот момент подоспел и я, но мое внимание отвлекло неожиданное происшествие: наш парень выронил свой пакет, и в этот момент он лежал на земле, как раз посредине между мной и тем, кто от него избавился. Краем глаза я увидел, что Сфасчиамонти, хромая, поднялся на ноги. – За ним! – подогнал он меня, бросаясь следом. Это была большая глупость с моей стороны – немедленно выполнить приказ, однако он был отдан и получен в такой ситуации, когда огромное напряжение помешало бы любому человеку предвидеть последствия своих действий. Поэтому я не перестал бежать за ним, даже когда увидел, что человек замедлил бег, словно раздумывая, куда двинуться дальше – направо или налево, п в конце концов совершенно неожиданно исчез в одной из дверей, которая, очевидно, была заранее открыта для него. Мысленно перекрестившись, я тоже вскочил в дверь и продолжил преследование, когда услышал удаляющиеся вверх по лестнице шаги. Сумасшедший бег в чернильной темноте лестницы, где я беспомощно спотыкался, хватаясь руками за холодные как лед стены, чтобы удержать равновесие, и сегодня кажется мне верхом глупости, которая могла иметь гораздо худшие последствия, чем те, что действительно случились. Несколько утешало то обстоятельство, что далеко внизу слышались приближающиеся шаги Сфасчиамонти. Я и сейчас не имею ни малейшего понятия, знал ли преследуемый, куда ведут лестницы этого дома. В любом случае, я немало удивился, когда в последний момент увидел, что стены постепенно становятся светло-голубыми, затем серыми и в конце концов беловатыми. И вдруг – совершенно не к месту и не ко времени – утренняя заря осторожно открыла мне своими розовыми пальцами глаза и показала, не нуждаясь ни в каких свечах и факелах, прекрасную картину начинающегося нового дня. Я открыл дверь в конце лестничной клетки, которая была лишь прикрыта, и очутился на террасе плоской крыши. Над моей головой и вокруг меня забрезжил рассвет зарождающегося дня; утренняя заря начиналась, уже когда я догнал Сфасчиамонти на Кампо ди Фиоре, но я был слишком увлечен погоней, чтобы заметить это. То, что последовало дальше, произошло в считанные мгновения. Я совсем выбился из сил и, чтобы не упасть, нагнулся, уперев руки в колени. И тут услышал крик Сфасчиамонти с последнего этажа: – Все, хватит, мальчик! Это не подзорная труба… Тогда я повернулся и увидел его. Он прятался за моей спиной, а теперь стоял прямо передо мной. Он схватил меня за воротник, прижал к стене и держал железной хваткой. Нож был направлен мне прямо в живот. Вырываться не имело смысла: если бы я дернулся, он тут же вонзил бы в меня нож. Он был в лохмотьях, и от него воняло. Синяки под глазами и изрытая оспинами кожа. Наверное, лет тридцати, но выглядел он намного старше: тридцать лет тюрем, голода и ночей под открытым небом. У него был только один глаз, другой был незрячим, как у бродячей кошки. Очевидно, перед лицом смерти чувства необычайно обостряются, потому что в его глазах я смог увидеть растерянность: убить этого сразу и потом схватиться со следующим или сразу убежать? Но куда? Терраса на самом деле была лишь простым парапетом, проходившим вокруг дома, где кончалась лестничная шахта. До меня дошло, какую глупость я сделал: мы преследовали его до тех пор, пока не загнали в угол и он оказался вынужденным убивать. – …это проклятый, как его, как он называется… – снова загремел на площадке голос Сфасчиамонти, сейчас уже совсем близко от нас. Краем уставившегося на меня глаза противник искал путь к бегству. Я понял, что он его не нашел. Еще две-три секунды – и я узнаю, что чувствует печень, когда в нее входит холодный клинок. И тут мне в голову пришла идея. – Дер Тойче убьет тебя, – выдавил я из себя, хотя рука бродяги мертвой хваткой сдавила мне горло. Он медлил. Я почувствовал, как дрогнула его рука. И тут началось такое… Под слоновьим телом Сфасчиамонти дверь с силой распахнулась, как срываются с петель бронированные двери маяков под напором разбушевавшегося моря. Поперечная балка с грохотом ударила моего врага в спину, и он зашатался. Нож вылетел у него из руки, пролетел между нашими лицами и со звоном упал на пол. – …это микроскопное ружье! – радостно заорал Сфасчиамонти, врываясь на крышу и размахивая уже наполовину разбитым металлическим прибором. Оглушенный ударом, мой противник тем не менее попытался удрать. Сфасчиамонти взглянул ему в лицо и возмущенно заорал: – Эй, так ты вовсе не Кьяварино! Мы вдвоем бросились на незнакомца, но именно в этом прыжке я споткнулся о большой кирпич. Я покатился по полу, и всех моих сил не хватило, чтобы удержаться, и я покатился к краю крыши. Потом я полетел вниз, во двор, и это была справедливая кара за мое глупое поведение сегодняшней ночью. Я падал спиной вперед. Пока я летел навстречу смертельному удару, ожидавшему меня внизу, я успел увидеть немое изумление на лице Сфасчиамонти; в момент, оставшийся за пределами времени, я задал себе дурацкий вопрос: не именно ли это чувство изумления (а не боль или отчаяние) охватывает нас при виде смерти другого человека. «Бедный Сфасчиамонти, – подумал я. – Только что он не дал мне умереть от ножа, а теперь вынужден снова меня терять». Хотя эти мгновения были воистину незабываемыми, в мою память врезалась деталь, которая ускользнула от сбира. До того как меня поглотила пропасть, беглец ответил на мою только что высказанную угрозу: – Трелютрегнер. Затем были только кусок неба в четырехугольнике двора, устрашающе уменьшавшийся над моей головой, и печальная молитва Господу Богу об отпущении мне грехов. Все мои помыслы и чувства были обращены к Клоридии в ожидании конца.
9 июля лета Господня 1700, день третий
Это было безупречное нежное пение, о котором я не мог сказать, откуда оно звучало, потому что доносилось оно ниоткуда и отовсюду, обволакивая меня со всех сторон. В нем звучала невинность, виделись робкие краснощекие послушницы, далекие, озаренные солнцем поселения. Это был нежный псалом, осчастлививший мой слух, пока я привыкал к своему новому состоянию. Наконец я понял: это было пение братства, совершающего паломничество в Рим во время святого года. Это было возвышенное смешение тонких и мощных, высоких, как звон колокольчика, и низких, мужественных и женственных звуков. Мужчины и женщины встали на восходе солнца и пели во славу Господа благодарственную песнь, направляясь к четырем базиликам, дабы получить отпущение грехов. Четырехугольник теперь уже синего неба все еще находился надо мной, чистый, как хрусталь, и неподвижный. Я был мертв и жив одновременно. Мои глаза были наполнены синевой этого четырехугольника, но я уженичего не видел. Небо вливалось в мои зрачки, словно слезы ангелов. Лишь музыка, лишь этот хор богомольцев притягивал меня, как будто он мог поддерживать во мне жизнь. Последние восприятия – падения в пропасть, поглощающего меня внутреннего двора и давящего на спину воздуха – были стерты этой святой мелодией.Другие неясные голоса сплетались и расплетались в непонятных контрапунктах. И только теперь, почувствовав присутствие вокруг себя других живых существ, я пробил мирный панцирь своего полусна. Как упавший с небесного рая Люцифер, я почувствовал злую теплую мглу, сковавшую мои члены и втягивающую меня в скользкое брюхо ада. – Давайте вытащим его оттуда, – сказал кто-то. Я попытался шевельнуть рукой или ногой, на случай если они у меня еще были. Получилось: я дрыгнул ногой. К этой обнадеживающей новости присоединилось, однако, неожиданное ощущение. – Ну и вонь! – воскликнул другой. – Давай попробуем вместе. – Он обязан жизнью дерьму, ха-ха-ха! Я не был мертв, я не разбился о твердую брусчатку двора, и меня вовсе не поглотил ад: я оказался на повозке с теплым навозом, от которого еще шел пар.
Как пояснил позже Сфасчиамонти, снимая у меня со спины пару кусков дерьма, мое падение закончилось в огромной куче свежего навоза, которую с вечера оставил там один крестьянин, собиравшийся следующим утром продать это удобрение управляющему виллой Паретти. Итак, это было просто чудо, что я не сломал себе шею. Конечно, когда я сверзился на кучу экскрементов, то потерял сознание и не подавал признаков жизни. Собравшиеся вокруг меня зеваки были весьма озадачены, а один даже перекрестился. Но вдруг, когда мимо проходила группа паломников, я пошевелился, а веки мои дрогнули. – Это воля Божья, – сказал один старик, – молитва братства снова пробудила его к жизни. Между тем Сфасчиамонти, отвлеченный моим падением и озабоченный моей судьбой, упустил нашего человека: тот, не решаясь вступить в конфронтацию с угрожающей массой сбира, храбро спрыгнул на крышу другого дома и продолжил свое бегство по террасам окрестных крыш. Мой союзник, который своей мощной фигурой мог проломить на крышах стеклянные вставки для света, вынужден был отказаться от преследования. Вернувшись на улицу, он помог мне слезть с кучи навоза при поддержке одного садовника, который только что приехал, чтобы предложить свой товар на близлежащей Камво ди Фиоре, где сейчас открывались двери первых лавок. – Проклятый обманщик, – ругался Сфасчиамонти, сопровождая меня к старьевщику, чтобы раздобыть у него для меня чистую одежду. – У Кьяварино была в руках вот эта штука, а не подзорная труба. Он извлек из серого куска ткани прибор, который я видел в его* руках каких-то полчаса назад, когда он с триумфом размахивал им, появившись на террасе в тот самый незабываемый момент, когда к моему животу был приставлен нож. Довольно крепко пострадавший в ночном происшествии аппарат представлял собой кучу погнувшегося железа, откуда торчали ножка, длинный цилиндр и соединительная цапфа от утерянного оптического прибора. В тряпку были завернуты осколки стекла (вероятно, от линз), три или четыре винта, шестеренка и помятая полоска металла. Когда мы заходили в лавку старьевщика, Сфасчиамонти попробовал восстановить события: – Скорее всего, было так: эту штуку украли недавно. Я сегодня же узнаю у одного сбира, что ему известно об этом. Кьяварино либо сам совершил преступление, либо купил этот трофей у кого-то. Когда мы пришли к нему, он неправильно понял наше объяснение насчет подзорной трубы и перепутал ее с этим микроскопным ружьем. – С микроскопом, – поправил я его. – Да-да, как бы там его ни называли. Потом он вышел из дома и направился к Пьяцца Навона. Он искал какого-то черретана, – развивал мысль Сфасчиамонти, подавая знак хозяину лавки и проводя меня во внутренний двор, чтобы я мог хоть чуть-чуть помыться у колодца. – А зачем? – Ты же сам слышал, что сказал Мальтиец. Кьяварино работает на Немца. А Немец связан, как я тебе рассказывал, с черретанами, – пояснил он и кивнул в направлении террасы на Кампо ди Фиоре. – Микроскопное ружье было предназначено для Немца. На Пьяцца Навона ночью спит много настоящих попрошаек, но и много черретан. К одному из них и пошел Кьяварино. – Значит, к тому, который меня чуть не убил, – воскликнул я, вспомнив крик Сфасчиамонти, увидевшего, что перед ним не Кьяварино. – Конечно. Они встретились за фонтаном. Потом черретан наметил нас и бросился наутек. Мы погнались за ним, думая, что он – Кьяварино. Но я-то знаю его – он выглядит совсем иначе: высокий, светловолосый и с разбитым носом. И он не слеп на один глаз, как тот монстр, которого мы преследовали. «Итак, я рисковал своей жизнью совершенно напрасно, – думал я, снимая грязную одежду и кое-как смывая с себя грязь, – кто знает, где теперь подзорная труба Атто, не говоря уже о его бумагах». У меня болели все кости от удара о навозную кучу, хотя навоз был свежим и довольно мягким, поскольку был смешан с соломой. Кроме того, меня грызло сомнение. Мальтиец не знал, что такое подзорная труба и, возможно, никогда не видел микроскопа, еще более необычного аппарата. Даже Кьяварино не представлял себе, что это за приборы и как они называются, ведь он перепутал их. – А откуда вы знали, что речь идет о микроскопе? – спросил я сбира, показав на сверток с обломками прибора. – Что за вопрос: тут ведь написано! Он развернул сверток и показал мне деревянную ножку микроскопа, на которой была прикреплена металлическая пластинка, вставленная в симпатичную деревянную рамку:
«MACROSCOPIUM НОС
JOHANNES VANDEHARIUS
FECIT
AMSTELODAMII MDCLXXXIII»
«Микроскоп сделан в 1683 году в Амстердаме Йоханнесом Вандерхариусом»,[1316] – перевел я. Сфасчиамонти был прав, там все было написано, и эти немногие простые латинские слова мог понять даже сбир. – Кто бы мне объяснил, как из этого микроскопного ружья можно стрелять, если ствол закрыт стеклом, – ворчал он про себя, явно не желая смириться с тем, что микроскоп не является оружием. Сбир пошел в лавку к старьевщику и быстро вернулся с полотенцем, рубашкой и старыми, но чистыми штанами для меня. Я все еще пребывал в смятении от стремительного развитие событий и выпавших на мою долю телесных испытаний, поэтому только сейчас, вытираясь полотенцем и влезая в одежду, вспомнил, что так и не рассказал своему напарнику, что ответил мне черретан, когда я пригрозил ему именем дер Тойче. Он дал какой-то загадочный ответ, который я услышал чудом, уже падая вниз. – Ты сказал: дер Тойче тебя убьет… Ты что, рехнулся? – А что? Я просто пытался спасти свою жизнь. – Да, конечно, черт возьми, но ты сказал сообщнику Немца, что главарь банды его прикончит… Немец очень опасен. Твое счастье, что ты поступил так только ради своего спасения. – Вот именно, и поэтому я хочу точно знать, что означает ответ черретана. Может быть, он пригрозил, что непременно выследит меня. – Скажи точно, что он тебе сказал. – Я не понял, это была какая-то бессмысленная фраза. – Вот видишь? Это был действительно черретан. Он говорил с тобой на воровском жаргоне, на ротвельше. – На чем? – На языке преступного мира. – А что это такое, воровской жаргон? – О, намного больше. Это настоящий отдельный язык. Его знают только черретаны, это их изобретение. Он придуман для того, чтобы они могли говорить между собой при посторонних, а те бы их не понимали. Им пользуются и воры, и всякие попрошайки. – Тогда я понял, что вы имеете в виду. Я знаю, что эти мошенники говорят «идет хорек» или «бос дихь»,[1317] когда приближается стражник. – Да, но эти вещи знают все. Например, хертерих означает нож, а шпетлинг – скупщик краденого. Из языка евреев тоже известны многие слова: если я говорю о чем-то, что это шофель, то ты точно знаешь, что это несправедливо. Но есть и более трудные выражения: что, к примеру, говорит тебе такая фраза: «айн брегер рунцт гальхунд ганхарт»? – Абсолютно ничего. – Ну конечно, ведь ты не знаешь, что брегер на ротвельше означает «нищий, попрошайка», рунцен значит «обгадить, обмануть, надуть», а галхь и ганхарт можно перевести как «поп» и «дьявол». – Ага, значит «нищий надует и попа, и черта», – сообразил я, удивляясь загадочности этого короткого предложения, которое как нельзя лучше подходило черретану. – Это всего лишь один пример. Я знаю его только потому, что мы, сбиры, научились кое-чему. Но все равно этого мало. Черретан сказал тебе непонятное слово, так ведь? – Если меня не обманывает память, что-то вроде «третрют-регнер, треблютрегнер, трелютрегнер» или нечто подобное. – Наверное, это был другой вид ротвельша. Я не знаю точно, что это, я о таком ни разу не слышал. Знаю только, что эти сволочи иногда пользуются нормальными словами, но уродуют их и сокращают по некоему тайному шифру, который известен лишь немногим, – сказал он, сплетая и расплетая пальцы обеих рук, портя их так и сяк, чтобы подчеркнуть, о чем идет речь. – В конце концов, все не имеет никакого смысла. – Как же, черт возьми, мы узнаем, что сказал мне этот черретан? Как нам дальше искать бумаги аббата Мелани? – проговорил я с плохо скрываемым разочарованием. – Надо набраться терпения, и к тому же не все обстоит так, как ты говоришь. По крайней мере, нам теперь известно, что кто-то Собирает эти необычные приборы, через которые можно видеть вещи увеличенными или уменьшенными, – микроскопные ружья, подзорные трубы и т. д. u m. п., и у него, очевидно, есть пристрастие к реликвиям. Можно поискать Кьяварино, но он, наверное, уже сменил место жительства. Он опасный человек, лучше держаться от него подальше. След, по которому мы должны идти, – это след черретан. – Но он кажется мне не менее опасным! – Правильно, зато он ведет прямо к Немцу. – Вы думаете, это он украл бумаги аббата Мелани? – Я верю фактам. А это единственный след, который у нас имеется. – У вас есть идея, что делать дальше? – Конечно. Но нужно подождать наступления ночи. Кое-какие вещи нельзя делать днем.* * *
Тем временем мы добрались до наших коней. Мы расстались: в этот раз Сфасчиамонти нужно было купить кое-что для своей матери. А поскольку я еще не оправился от потрясений сегодняшнего дня, то сбир счел за лучшее отправить меня назад на виллу пешком. А доставить туда лошадей он взялся сам. Таким образом, я, все еще представлявший собой оскорбление для чужого обоняния, но, по крайней мере, уже не бросающий своим видом вызов чужому зрению, отправился по направлению к Порта Сан-Панкрацио. В это время дня город уже кишел паломниками, уличными торговцами, слугами, служанками и разными праздношатающимися. В каждом, даже самом маленьком переулке были слышны песни прачек, детский плач, лай бродячих собак и зазывные крики торговцев. Звучала ругань кучеров, когда какая-нибудь разболтанная повозка с бидонами молока преграждала путь их каретам. На рынках городских кварталов – больших сценах, где город святого Петра ежедневно совершал свои древние ритуалы, – пестрый утренний хаос превращался в настоящий спектакль: темное развевающееся одеяние протонотариуса оттеняло зелень головок салата, глубокая чернота мантии священника соперничала с ярко-красным цветом свежей моркови, а в рыбных рядах морские языки удивленно таращили глаза на извечную людскую комедию. Я находился вблизи Виа Джулии, среди этого бурлящего потока людей, товаров и повозок, когда натолкнулся на еще более плотное скопление людей. Я усиленно прокладывал себе дорогу в толпе – для того, чтобы побыстрее пройти мимо. Но все-таки застрял и, вытянув шею, решил полюбопытствовать, что там происходит. В центре толпы стоял обнаженный по пояс мрачный человек с длинными, собранными на затылке в пучок волосами. На груди у его был нарисован большой синеватый знак, похожий на змею. А вокруг шеи извивалась настоящая гадюка, слизистая и неприятная. Публика с напряженным вниманием и страхом наблюдала за ее движениями. Молодой человек стал вполголоса напевать какую-то заунывную мелодию, и рептилия сразу начала извиваться ей в такт, что вызвало у зрителей немалый восторг. Время от времени комедиант прерывал свою жалобную песнь и тихо произносил какое-то таинственное слово, которое оказывало на змею удивительное действие: она моментально переставала двигаться, внезапно замирала, застывала, превращаясь в палку, и возвращалась к жизни только после того, как ее хозяин снова начинал петь. Вдруг этот человек схватил змею за голову и засунул ей палец между челюстями, которые сразу же сомкнулись. Несколько мгновений он не двигался, затем вытащил палец обратно. После этого мужчина начал раздавать какую-то красноватую мазь, объясняя, что это «змеиная земля» – прекрасное противоядие от укусов змей. Столпившийся вокруг него народ щедро бросал мелкие монеты в соломенную шляпу, стоявшую у ног мужчины. Я вопросительно посмотрел на своего соседа – юношу с большой буханкой хлеба под мышкой. – Это – паулист, – объяснил он. – И что это значит? – Святой Павел однажды в знак милости пообещал одной семье, что все ее нынешние члены и следующие поколения никогда не будут бояться змеиного яда. Для того чтобы отличаться от других, они будут рождаться со знаком змеи на теле. Вот эти люди и называют себя паулистами. В разговор вмешался стоявший сзади нас старик: – Все это чушь! Они ловят змей зимой, когда у тех мало сил и почти нет яда. С помощью слабительного очищают змеям внутренности и держат их голодными, так что те становятся вялыми и послушными. Слова старика были хорошо слышны; несколько голов повернулись в нашу сторону. – Я знаю эти хитрости, – продолжал старик, – знак в форме змеи он нанес себе сам: сначала выколол тонкой иглой узор на коже, а затем втер в кожу смесь сажи и сока растений. Отвлекаясь от представления, еще больше людей повернули голову к старику. Однако в этот момент раздался чей-то крик: – Мой кошелек! Он пропал! Его отрезали! Невысокая женщина, до сих пор следившая за выступлением паулиста как зачарованная, отчаянно заорала. Кто-то перерезал ей шнурок, на котором она носила через плечо кожаный мешочек с деньгами, и кошелек исчез. Толпа мгновенно смешалась: каждый, изворачиваясь, обыскивал себя, проверяя, не исчезло ли и у него что-нибудь – такой же мешочек с деньгами, цепочка на шее или брошь. – Видите, я так и знал, – засмеялся старик. – Друг паулистов получил то, что хотел. Я оглянулся туда, где находился «укротитель змей», который до сих пор приковывал к себе наше внимание. Паулист (если он действительно заслуживал это звание), воспользовавшись общим замешательством, скрылся. Разумеется, вместе со своим сообщником.С тяжелым сердцем я отправился дальше. Я тоже не заметил, что аттракцион со змеей служил лишь для привлечения пары наивных простаков, которых сообщник паулиста потом лишил их кошельков. Два настоящих мастера своего дела: как только запахло жареным, они тут же растаяли, словно снег на солнце. А если это были два черретана? Сфасчиамонти говорил, что каждый черретан – попрошайка, а попрошайничество – самое доходное на свете ремесло. Неужели это означало, что любой нищий с большой долей вероятности являлся и черретаном? «Если это правда, то, значит, я на протяжении многих лет, ничего не подозревая, подавал милостыню целой армии преступников, заполонивших город», – с ужасом подумал я. Я отвлекся от размышлений, которые мне самому показались слишком фантастическими, и мысленно вернулся к своему падению, когда я смотрел в глаза смерти. Что спасло мне жизнь? Молитва проходящих мимо паломников или телега с навозом? Без сомнения, прямой причиной моего спасения был навоз. Следовательно, я обязан жизнью случаю? Однако я открыл глаза, как раз когда шла процессия набожных странников, и чудесным образом пришел в себя от их пения. Я мог бы умереть во время падения от разрыва сердца, но этого не произошло. Следовательно, на меня пролилась милость Божья, ибо те паломники в своей праведности дали обет любви и милосердия? Но настолько ли действенны такие обеты? «С точки зрения паломников, они были настоящими сердечными обещаниями, – подумал я. – Но, – нашептывал я себе, проходя мимо бедной на вид, но очень дорогой гостиницы для паломников, которая, как я знал, принадлежала одному кардиналу, – существовало и кое-что иное, что стояло за этими молитвами и, очевидно, не было столь невинным и простым: организация святого года». Я точно знал, поскольку это было общеизвестно, что Папа Бонифаций VIII объявил 1300 год от Рождества Христова святым с самыми лучшими намерениями. Следуя достойным традициям предыдущих Пап, которые один раз в сто лет даровали верующим полное отпущение всех грехов, если те посетят храмы Святого Петра и Святого Павла на Ватиканском холме, Папа Бонифаций VIII официально учредил святой год, причем к прежним деяниям во имя искупления грехов присовокупил паломничество только верующих в базилику Святого Павла и установил для посещений определенные дни. Новость со скоростью ветра распространилась по всему христианскому миру, найдя отклик в сердцах верующих, словно об этом провозгласили райские ангелы с трубами. Успех был ошеломляющим. Толпы паломников в том далеком 1300 году устремлялись в Рим со всех концов: верующие спускались с пастбищ Аппенин, преодолевали долины и ущелья, крутые склоны и расщелины скал, горные вершины и плоскогорья, проходили города и села, переправлялись через реки и моря, высаживались на далеких побережьях, – и все они несли с собой (как для дорожных расходов, так и для пребывания в Риме) туго набитые кошельки, обстоятельство, крайне важное не только для Пап, но и для всех римлян, чрезвычайно приветствуемое ими. Перед началом большого паломничества отправляющиеся в Рим вынуждены были жертвовать самым дорогим: крестьяне оставляли свои поля, торговцы забрасывали дела, пастухи продавали свои стада, а рыбаки – лодки. Но не для того, чтобы заплатить за проезд(с начала идо конца они шли пешком, как каждый истинный паломник), а больше для того, чтобы найти для себя временное пристанище в Вечном городе, – именно оно стоило безбожно дорого. Ночевка под открытым небом совершенно исключалась: если человек сразу же не становился жертвой карманных воров и грабителей или убийц, то уж папские стражники позаботились бы о том, чтобы у несчастного навсегда отпала охота к паломничеству. О да, зачем спать на улице, когда Папа собственной персоной предоставляет огромное количество прекрасных квартир для размещения пилигримов? Братства и хосписы делали все, что могли, тем не менее мест не хватало. Говорят, что в святом 1650 году даже могущественная свояченица Папы, пресловутая донна Олимпия, скупала пансионы и постоялые дворы, чтобы устремлявшиеся в Рим паломники приносили ей хороший доход. На самом деле все римляне имели прибыль от столь святого дела. Многие из них не долго думая превращали свои квартиры в пансионы, прекрасно понимая, что настоящие гостиницы в любом случае не смогут вместить всех паломников. Итак, бедных людей, когда они, еле держась на ногах после трудного путешествия, добирались до ворот Святого города, с ангельской улыбкой на устах встречали местные жители, предупредительные и бесконечно сострадающие. Но как только хозяева заходили в комнату, ангелы превращались в злобных волков: в комнату, где едва помещалось четверо, они набивали по десять человек, простыни были грязными, подушки – вонючими, манеры хозяев – грубыми, а еда (очень дорогая) – просто помоями. Все подозревали, что внезапный скачок цен на продукты был вызван искусным обманом и тем, что их доставку специально ограничивали. В плохом качестве еды тоже видели мошенничество: несвежее мясо и старый сыр, как утверждали (опять же, это было только подозрение), ловко подмешивали к свежим продуктам. Вообще-то паломники были убеждены, что спать под открытым небом на голой земле – богоугодное дело, которое может быть зачтено при отпущении грехов, и поэтому они безропотно сворачивались калачиком. Однако посреди ночи их бесцеремонно будили сбиры. Для начала они основательно избивали людей, говоря, что те якобы портят вид города и нарушают общественный порядок, а потом говорили: «Вы паломники? Чего же вам пришло в голову спать, как нищим? Для таких, как вы, тут есть гостиница сразу за углом». Таким образом, несчастные были вынуждены за невообразимую цену снимать комнаты в пансионах, хозяева которых были родственниками Папы или иерархов Церкви. Были и другие, еще более позорные эпизоды. Некоторых паломников, еле живыми добравшихся до ворот Рима, похищали банды работорговцев, которые сначала основательно избивали беззащитных людей, а потом заставляли работать на полях, чтобы через много месяцев, униженных и отупевших от работы, отпустить на свободу. Но вера, которую не могли поколебать подобные неприятные мелочи, на протяжении столетий привлекала в Святой город славные толпы верующих, а с ними – и поток денег: самыми давними известными мне примерами был 1350 год, когда на протяжении поста и Пасхи в Риме побывал один миллион двести тысяч паломников, а на Троицу – еще восемьсот тысяч. В 1450 году апостольская казна получила сто тысяч флорентийских гульденов (что было отпраздновано обращением в истинную веру более сорока евреев и среди них одного раввина). А в 1650 году, за пятьдесят лет до юбилейного года, который мы сейчас праздновали, сюда прибыло шестьсот тысяч паломников. Для всех это означало великий праздник и хорошую прибыль: для сапожников, ставивших римским пилигримам новые подметки, для хозяев трактиров, кормивших их, для продавцов воды, утолявших их жажду, а также для всех торговцев, которые могли хоть что-то предложить – четки, изображения святых, скамеечки, лечебные травы, вино, молитвенники, хлеб, одежду, настоящие реликвии, бумагу и перья для письма, газеты, путеводители по Риму и всяческие подобные товары. Бонифаций VIII предполагал отмечать юбилейные святые годы Церкви раз в сто лет. Этот интервал был задуман как знак всем грешникам, что невозможно злоупотреблять милостью и терпением Всевышнего. Однако успех сего предприятия и сопровождавший его весьма приятный экономический эффект побудили Папу Климента VI сократить интервал между юбилеями до пятидесяти лет. Он назначил следующий святой год на год 1350-й, однако не смог лично принять участие в праздновании, поскольку в это время находился в Авиньоне, тогдашней резиденции Папы, в то время как в Риме свирепствовала чума и город сотрясали бунты под предводительством гнусного плебея Кола ди Риенцо. Его преемник, Бонифаций IX, уменьшил интервал еще больше и объявил святым годом уже 1390-й, за которым десять лет спустя последовал святой 1400 год. Папа Мартин V праздновал святой год в 1423-м, а Николай V даже два года подряд – в 1450-ми в 1451-м. Следующие Папы оперировали более длинными интервалами юбилейных лет – двадцать пять лет: Сикст IV праздновал святой год в 1475 году, Александр VI – в 1500-м, Климент VII – в 1525 году. Однако сразу же после этого наметилось значительное ускорение: как Павел III, так и Юлий III отметили три юбилея за четыре года.
Гонка становилась все напряженнее: Пий IV за время своего понтификата провозглашал целых четыре святых года (причем два из них – в одном году), Климент VIII, наоборот, только три. Павел V в усиленном ритме довел празднования до шести: в 1605, 1608, 1609, 1610, 1617 и 1619 году. Но это было ничто по сравнению с Папой Урбаном VIII, который за двадцать лет двенадцать раз отмечал святой год. Поскольку дело имело невиданный успех, следующие Папы и не думали отклоняться от этого курса: Иннокентий X уместил в десяти годах пять юбилейных лет, Александр VII провозглашал святыми пять из девяти лет, а Клименту IX удалось в два года втиснуть четыре святых года. Правда, в недавнее время Папы Александр VIII и Иннокентий XI ограничились соответственно одним и двумя святыми годами, однако далее Климент X выстроил три юбилейных года друг за другом (1670, 1672 и 1675), а нынешний Папа Иннокентий XII не мог отказать себе в удовольствии за восемь лет отпраздновать четыре юбилейных. Все это привело к тому, что чрезвычайные празднества не всегда привлекали в Рим большие массы паломников. Правдой является и то, что юбилейные празднества, поначалу намечавшиеся назначать один раз в сто лет, стали объявляться по малозначащим поводам, которые более поздними поколениями воспринимались с удивлением, а причины некоторых не понимали даже современники. Например, внеочередные святые годы посвящались Перу, Армении, заморским колониям, маронитам в Ливане, христианам в Эфиопии, то есть сообществам людей, которые у многих верующих, прежде всего у итальянцев и европейцев, не обязательно вызывали чувство сердечного братства. Другими поводами (естественно, именуемыми злопыхателями предлогами) был Тридентский Вселенский собор, далее – борьба с еретиками, выкуп попавших в руки мусульман пленных, заключение мира между Францией и Испанией или даже вступление в правление нового Папы Римского. Бросалось также в глаза, что святой год девять раз провозглашался в пользу нужд Церкви, то есть для пополнения папской казны, и что Урбан VIII (позже обвиненный в растрате церковных средств) именно по этой причине объявил святыми сразу четыре года: 1628, 1629, 1631 и 1634.
И если многим верующим было вполне понятно посвящение юбилейных лет борьбе с мусульманской угрозой, неизменно маячившей на Востоке, то гораздо труднее было осознать связь между святым годом, объявленным Пием IV в 1560 году, и разбойничьими походами некоего пирата Драгута. Как бы там ни было, в течение четырех столетий после первого (пятого (от 1300-го до того юбилейного в 1700 году, который открыл его светлость Папа Иннокентий XII) по первоначальному плану Папы Бонифация VIII должно было быть провозглашено пять святых лет. Вместо этого их объявляли тридцать девять раз.
«Неужели такая легкость не влечет за собой опасности того, что сила молитв верующих, обращенных ко Всевышнему, ослабнет или совсем исчезнет?» – с озабоченностью и сомнением спросил я себя. Мое сомнение только усилилось, когда я подумал, сколько нечестных людей притягивает к себе юбилей, создавая условия для многих невеселых происшествий, как то, свидетелем которого я только что стал. Однако размышления над такими волнующими вопросами должны были уступить место заслуженному сну. Я добрался домой и наметил себе позже попросить совета по данному вопросу у дона Тибальдутио Лючиди, капеллана виллы Спада. Как я и предполагал, Клоридии дома не было. Она, конечно же, осталась на вилле Спада, чтобы позаботиться о беременной княгине Форано. Тем лучше: я скорее бы умер, чем дал бы ей увидеть меня в таком ужасном состоянии, воняющего навозом. Я тут же наполнил чан и погрузился по шею в воду, чтобы избавиться от зловония, которым я пропитался. Выливая ведро за ведром себе на голову, я дрожал скорее от воспоминаний о перенесенной опасности, чем от холодной ванны. Пока я мылся, а потом вытирался насухо, наступил почти полдень. Дневное светило безжалостно посылало свои лучи вниз, оно будило чувства и призывало смертных к действию. Оставаясь равнодушным к этому сияющему призыву, я, почти умирая от усталости, доплелся до постели и вознес, уже в полусне, благодарственную молитву Богоматери, ибо она спасла мне жизнь. Мои руки еще были сложены в молитве, когда я увидел записку. Она была написана слегка дрожащей, но решительной рукой. Об авторстве я мог легко догадаться:
«Прождал всю ночь. Упорно жду твоего отчета».Перед тем как уснуть, свою последнюю гневную мысль я посвятил аббату Мелани: из-за него я чуть не подох, причем совершенно напрасно. Он хотел известий от меня? Он получит их в соответствующее время, но не раньше.
* * *
Я проспал немногим более двух часов, что, конечно, было недостаточно, чтобы вернуть мне силы, но теперь, по крайней мере, я мог ходить, думать и говорить. Только я принял решение назло дону Паскатио и аббату Мелани остаться дома, пока за мной не пришлют кого-нибудь, как внезапно, словно удар плети по голой спине, меня вывела из раздумий одна мысль: я забыл, что сегодня – великий день, день свадьбы племянника кардинала Спады! Когда я пришел на виллу, там царила атмосфера эйфорического рвения. Не только подручные, носильщики, лакеи и поварята с озабоченным видом носились в разных направлениях по дорожкам, в саду и между строениями поместья – в этот день видно было пеструю, веселую толпу людей искусства, которым предстояло своими представлениями скрашивать часы ожидания после свадебного банкета: это были музыканты оркестра. Я сразу же осведомился о Клоридии. Спросив нескольких работников, я узнал, что она все еще в хоромах княгини Форано и не выходила оттуда ни разу за ночь. «Хорошо, – подумал я. – Если она так занята, то у нее уж точно не было времени беспокоиться о моей скромной особе». Итак, я отправился к боскету и далее к часовне, на площади перед которой сегодня пополудни должна была праздноваться сиятельная свадьба Клемента Спады, племянника его преосвященства кардинала Фабрицио Спады, и Марии Пульхерии, племянницы кардинала Бернардино Роччи. Все слуги на вилле сгорали от нетерпения увидеть невесту. О ней знали только, что она не отличалась особой красотой. Но в любом случае украшение места празднества сделало бы честь свадьбе самой Венеры. Площадь перед церковью и окружавшая церквушку низенькая ограда были великолепно украшены свежайшими цветами в терракотовых вазах и в рогах изобилия из ивовых прутьев. Между ними висели гирлянды свежесрезанных цветов и корзины, до верху наполненные лимонами, яблоками и «бешеными яблоками»[1318] из Нового Света (которые красивы, но несъедобны), а также колосьями с зерном и различными фруктами. Удобные кресла в первых рядах и стулья из позолоченного, украшенное резьбой дерева – в задних были установлены правильным полукругом, чтобы ни один гость не загораживал другому видимость. В одном углу, прислоненные к ограде и прикрытые на всякий случай камчатной тканью, уже стояли пучки жезлов, удерживаемые вместе цветными лентами и украшенные цветочными венками. В конце церемонии мы, домашние слуги, наряженные в честь праздника, должны были размахивать этими жезлами в радостном ликовании. Вся маленькая арена из стульев и кресел была увенчана открытой сверху купольной крышей из дерева и папье-маше, опиравшейся на четырехугольные двойные колонны с прекрасными капителями и полуциркульными арками, увитыми цветами, плющом и пучками дикорастущих трав. Все другие свадебные украшения (церковная парча из красного бархата, покрывала из золотого шелка, занавеси с фамильными гербами молодоженов) были готовы и празднично задрапированы. Две служанки как раз укладывали последние подушки из мягкого плюша на стулья. Из капеллы был слышен отеческий голос дона Тибальдутио, раздававшего последние указания служкам на мессе. Мне стало легче на душе: по крайней мере, с подготовкой церемонии бракосочетания задержки не было. Я почувствовал потребность преклонить колени перед алтарем и еще раз вознести молитву благодарности за свое спасение от смерти. Дело в том, что внутри часовни стояла статуя Кармельской Богоматери – именно ей аббат Мелани на протяжении стольких лет доверял три мои жемчужины, тем более у меня усилилось желание тоже обратиться к образу Пресвятой Девы, дабы вверить ей наши судьбы на ближайшие дни. Я вошел в церковь, отыскал уединенный уголок и опустился на колени. Вскоре после этого дон Тибальдутио вышел из ризницы и бросил взгляд на меня. Он начал устанавливать принадлежности для литургии и делать последние приготовления, но при этом не выпускал меня из виду. И я знал почему. Дон Тибальдутио – добродушный крепкий монах-кармелит, жил в маленькой комнатушке за ризницей. Находясь на таком значительном удалении от зданий поместья, он частенько чувствовал одиночество и поэтому пользовался моим присутствием (когда я приходил в часовню помолиться либо работал в саду или в вольере), чтобы немного поболтать со мной. Его должность домашнего капеллана семьи кардинала и государственного секретаря Спады была весьма важной, и его братья по ордену многое бы отдали за то, чтобы занимать ее. Однако вместо того, чтобы использовать свое положение в практических целях, например выслушивать просьбы и передавать их своим хозяевам, дон Тибальдутио хотел быть исключительно духовным пастырем. И его паствой были не столько члены семьи Спады, постоянно находившиеся в деловых поездках, сколько скромная Прислуга, уже много лет в почти неизменном составе круглый год проживавшая на вилле Спада. И хотя проводить церемонию венчания племянника и наследника кардинала Фабрицио было огромной честью для дона Тибальдутио, он с удовольствием отказался бы от нее.Когда я завершил свою молитву у ног святой Богоматери с горы Кармель и поднялся, ко мне подошел дон Тибальдутио со своей обычной открытой и ласковой улыбкой. Он, как всегда, по-отечески положил мне руку на голову и спросил, как поживает моя Клоридия. – Ты правильно делаешь, что доверяешься нашей любимой Богоматери. Ты знаешь особые молитвы на время святого года? Ежели нет, то могу занять тебе на время свою тетрадку, могу ее сейчас принести, если хочешь. Я только что закончил приготовления к радостному событию сегодняшнего дня, и у меня осталось немного времени. – Дон Тибальдутио, – с радостью ухватился я за возможность устранить свои сомнения относительно действенности отпущения Грехов в святом году, – именно по этой причине я и собирался попросить у вас помощи и совета…
И, таким образом, я описал ему свое душевное смятение, в котором находился уже несколько часов. Однако я выбирал более осторожные и не такие прямые формулировки, чем когда предается размышлениям наедине с самим собой: если бы я честно поведал ему, насколько отталкивающей представляется мне легкость, с какой объявляются святые годы, то, конечно, сказал бы чистую правду, но вызвал бы возмущение этого правоверного и скромного слуги Господа. Иначе говоря, я употреблял выражения и обороты, которые лишь касались сути моих сомнений, избегая таких слов, как «жадность», «продажность» или «продажа и покупка должностей». – Я понял, – перебил меня дон Тибальдутио. Поучительно подняв руку и опустив очи долу, он с улыбкой пригласил меня сесть на боковую скамейку часовни. – Как многие другие, ты спрашиваешь себя, в чем состоит особенность полного отпущения грехов и не является ли, случаем, святой юбилейный год просто предлогом, как это может показаться непосвященным. – Честно говоря, дон Тибальдутио, это не совсем то, что я имел в виду… – Особенность полного отпущения грехов, сын мой, – продолжал он, словно не слыша меня, – состоит в том, что обычное отпущение можно получить всегда, а юбилейное – только в Риме, и только в святом году, и только потому, что если такое отпущение дается здесь, то получить его можно только здесь и только в святом году, и ни в каком другом месте на свете, иначе никто не будет совершать паломничество в святом году в Рим, раз он может получить полное отпущение у себя дома. Кроме того, для полного отпущения нужно молиться перед всеми семью алтарями, а в юбилейном году достаточно высшего алтаря. К тому же не стоит забывать о множестве льгот, которые Святой престол приурочил к юбилейному отпущению и которых никогда не бывает при полном отпущении грехов. Я с удовольствием прервал бы его речь, но спокойный решительный тон капеллана, его взор, обращенный не на меня, а только вниз, и его руки, сложенные как для молитвы, весьма осложняли мое желание возражать ему. – Правда, дон Тибальдутио, я хотел скорее… скажем так, спросить о том, какие последствия имеет святой год, – успел вставить я, – учитывая факты, что… Но и в этот раз набожный монах не дал мне сказать ни слова. – Но влияние святого года самое благотворное: ведь только лица, находящиеся в здравом уме, крещеные и связанные с Церковью святым причастием, имеют право – при условии приобретения юбилейной индульгенции – plenissimam omnium рессаtorum quorum indulgent la m, remissionem, et venlam, иначе говоря, получить полное отпущение всех грехов, как уже совершенных, так и будущих. После этого он встал, прошел пару шагов и остановился перед исповедальней. – Но заметь: отпущение грехов освобождает от наказания, но не от самой вины, – сказал он, предупреждающе постучав по дверце исповедальни. – Грех может быть отпущен только через прощение, а оное может быть дано лишь через святое покаяние или как минимум через исповедь in voto, то есть через акт раскаяния и обещание покаяться на Пасху. – Простите, я, наверное, не очень понятно выразился, – смущенно проговорил я, чтобы прервать эту тираду, поскольку уже не надеялся получить более или менее приемлемое объяснение, – просто я засомневался в действенности индульгенции, в случае если… – Действенность, действенность: но она зависит от нас, верующих! – ответил он, как и следовало ожидать. – Чтобы получить прощение грехов, достаточно выполнять положенное покаяние, а это, как тебе хорошо известно, означает давать милостыню и, как велит Папа, посетить в один день все четыре патриаршеские базилики и помолиться в них, а кроме того, помолиться в тридцати церквях римлянам или в пятнадцати неримлянам, которые из-за трудностей путешествия имеют особое разрешение. Но не пытайтесь обмануть Иисуса Христа! Наш верховный пастырь Иннокентий XII дал указание о том, что в этом юбилейном году церковным днем считается время от одной вечерни до другой. Ergo, все предписанные храмы следовало посетить за один-единственный день, в крайнем случае, это можно было сделать от полуночи до полуночи, как было принято раньше, но не с обеда до обеда, как, к сожалению, привыкли делать многие римляне ради своего удобства! И так же точно нельзя было являться в церковь ни слишком рано, ни слишком поздно: что толку молиться перед закрытой дверью церкви, чтобы таким образом экономить подаяние для священника! Он остановился и испытующе посмотрел на меня, я же, опустив очи долу, только и ожидал удобного момента распрощаться с ним и приняться за работу в таком же печальном сомнении, в каком и пришел в часовню. – Поэтому, сын мой, – к моему изумлению, добавил он шепотом, мгновенно отбросив поучительный тон, – хотя Апостольская палата благодаря святым годам и обогащается чрезмерно, ты не должен думать, будто бедным священникам перепадает оттуда хоть один скудо. Я поднял глаза на дона Тибальдутио, и мои глаза наконец спросили то, чего не мог ясно и четко выговорить язык: какую же ценность имели все эти устремленные к Небу молитвы верующих, вознесенные в святой год, если он провозглашался из чистого корыстолюбия? – Хорошо, – ответил он на мой немой вопрос. Я понял. До сих пор дон Тибальдутио отвечал так, как я спрашивал: не прибегая к добродетельной ясности. Он сделал мне знак следовать за ним в ризницу. – Бог милосерден, сын мой, – начал он еще на ходу, – разумеется, он не тот строгий и мстительный Бог, о котором мы читаем в Ветхом Завете и на котором остановились евреи. Вспомни хотя бы это маленькое правило: если человек совершил не смертный грех, а грех нечаянный, по небрежности, то ему не нужна даже исповедь для получения юбилейной индульгенции. Достаточно раскаяния в сердце или так называемой исповеди in voto, о которой я тебе уже говорил. И не только это: даже после смертного греха достаточно выполнить положенные покаянные деяния, чтобы получить юбилейную индульгенцию, но с условием, что последняя дается как милость, то есть после того, как человек покаялся и исповедовался. Имело ли бы это какой-то смысл, не будь наш Господь Бог всемилостивейшим? «И правда, – подумал я, – это как в библейской притче про работников на винограднике: те, кто пришел последними, получили такую же плату, как если бы они отработали полный день. Не значило ли это, что Бог воздавал нам за малое большим, а за ничто – всем?» – Покаяние через посещение церкви само по себе является хорошим с моральной точки зрения: даже тот, кто совершает в это время смертный грех, идет на примирение с Богом. И это то, что принимается во внимание, – продолжал капеллан. – Я приведу тебе один пример. Если кто-то совершает нечаянный грех в тот момент, когда получает отпущение святого года, то за этот грех ему не дается индульгенция, а только за все предыдущие. И если кто-то во время посещения церкви сделал что-то по несдержанности, скажем, если ему в толпе наступили на ногу, а он нагрубил толкнувшему его, но сразу же после этого раскаялся и продолжил молиться, то молитва или посещение церкви от этого силы не теряют. И таким же образом надлежит рассматривать случай, когда молящийся в церкви не отгонит от себя грешную мысль о женщине, посмотревшей на него, но сразу же после этого раскается и не станет вызывать более в памяти образ сей женщины и отвлекаться, то его молитва будет хорошей и полноценной. Между тем мы зашли в ризницу. Дон Тибальдутио пригласил меня сесть и старательно закрыл дверь за моей спиной. Я вообразил себе, что сейчас он откроет мне какую-то великую тайну. – Бог христиан, сын мой, пожертвовал своим единственным сыном для нашего спасения, – в конце концов изрек он с большой проникновенностью. – Пресвятая Дева даровала святому Доминику четки, дабы мы могли молиться о спасении наших душ. И она же своими руками соткала одеяние – покрывало той самой Богоматери с горы Кармель, которой посвятил себя и я. Когда мы носим его частичку, то можем быть уверены, что святая Мария, Regina Mundi,[1319] в венке из звезд, в первую субботу после нашей смерти вытащит нас из адского огня, – думаешь, мы, смертные, достойны и ого? Конечно, нет, мальчик, это просто проявление бесконечной милости и милосердия Господа, а не заслуги, которые мы приписываем себе, прочитав на пару раз больше «Аве Марию» и нося на теле на один кусочек покрывала Богоматери больше, – это жесты, сами по себе ничего не значащие, а тем более для получения вечной жизни. Бог знает нашу мелочность и косность, поэтому предлагает нам рай на золотойтарелке в обмен на пару жалких медных монет. В бесконечной любви к нам, своим детям, Господу достаточно небольшого акта веры и благого намерения: мы делаем маленький нетвердый шаг к нему, а Всемилостивый Отец уже спешит к нам и принимает нас в свои руки. Я уже приготовился к тому, что дон Тибальдутио продолжит свою речь и перейдет к откровениям. Однако его речь на этом иссякла. Он открыл дверь ризницы и проводил меня опять к статуе Богоматери с горы Кармель, перед которой заговорил со мной. Обозначив молчаливое благословение на моем челе, он оставил меня одного, удалившись в добром настроении и не проронив больше ни единого слова.
Лишь сейчас мне открылся глубочайший смысл поучения капеллана. Выводы должен был делать я сам: в своей бесконечной милости Бог давал юбилейное отпущение даже тому, кто совершил смертный грех. Насколько же охотнее он выслушает невинных верующих, пусть даже попавших в Святой город благодаря корыстолюбию других? Правда, которую открыл мне дон Тибальдутио, была великой, да, но тайной она не являлась, и тем не менее она была такой простой, что могла быть неудобной для определенных августейших ушей. Поэтому разумнее говорить ее шепотом и за хорошо закрытыми дверями.
* * *
Ободренный и умиротворенный, я покинул часовню. Когда я двинулся к театру, то услышал чьи-то поспешные шаги в том же направлении. – Прошу вас, маэстро, сюда. Это был вконец запыхавшийся дон Паскатио, показывавший дорогу какому-то высокому худому человеку. Мужчина был одет во все черное, черные же с сединой волосы красиво падали ему на лоб, на строгом мрачном лице глаза блестели, как искры. За ними спешил музыкант (я узнал его, потому что он был одет как все члены оркестра), неся два футляра со скрипками и большую толстую папку, наверное, с партитурами и нотными листами. Некоторое время я следовал за ними, пока мы не добрались до амфитеатра. Здесь уже устроились музыканты, и я с удивлением увидел, что это целая толпа людей – по моим подсчетам, тут было не менее сотни музыкантов. Они были заняты настройкой инструментов, но тут же прервали ее, как только вошел дон Паскатио вместе с двумя незнакомцами. Человек в черном вызывал у присутствующих мне непонятное благоговейное почтение и, наверное, даже робость. Я с удовлетворением отметил, что сцена для музыкантов и скамейки для публики, сделанные из красивого полированного и покрытого лаком дерева, были готовы вовремя. Сейчас здесь были только два столяра, приколачивающие плохо пригнанную доску; едва один из двух незнакомцев, тот, что повыше ростом, поднялся на возвышение, как столяры тут же удалились на почтительное расстояние, повинуясь властному движению руки дона Паскатио. И тут я понял, кто был этот человек в черном: знаменитый Арканджело Корелли, композитор и почитаемый всеми скрипач, об участии которого в празднествах я слышал разговоры в прошлые дни. Он будет дирижировать исполнением своих произведений. До прошлого года я ничего не знал о нем, так уединенно я жил, ограниченный пространством между виллой, своим маленьким полем и домом моей семьи. Один из певцов хора Сикстинской капеллы, которому я продавал виноград, первым рассказал мне о «великом Корелли». А в последний раз я слышал от дона Паскатио, что он не просто великий музыкант, а Орфей нашего времени, слава о котором уже распространилась в Европе и однажды сделает его бессмертным. Едва я успел вспомнить обо всем этом, как Корелли приказал подать ему скрипку и дважды постучал по пульту для нот.Подобно армии солдат, музыканты дружно взяли смычки и, словно на картинке, отраженной в тысяче зеркал, под одним углом и в одной позе подняли их к струнам своих инструментов: к скрипкам, альтами виолончелям. На несколько мгновений воцарилась полнейшая тишина. – Он не только требует, чтобы они играли, как один человек, но и хочет чтобы они так выглядели. Даже сегодня, хотя это только репетиция, – прошептал мне дон Паскатио, усаживаясь рядом. Его голос выдавал смешанное с любопытством волнение и гордость за возможность принимать маэстро Корелли, но одновременно и ужасное напряжение от осознания своей ответственности. – У него довольно скверный характер, – продолжал дон Паскатио, – он никогда не разговаривает, только смотрит перед собой и думает исключительно о музыке. Все остальное его не интересует. Со своими заказчиками он ведет переговоры через музыканта, которого ты с ним видел. Это его любимый ученик и, как говорят, также… ну, в общем, маэстро Корелли всегда появляется везде только с ним и никогда ни с одной женщиной. В этот момент зазвучала музыка, и мы замолчали. Словно движимые невидимой силой эфира, а не только повинуясь жестам Корелли, музыканты в совершеннейшем унисоне начали концерт, который написал маэстро. К моему большому удивлению, вскоре я угадал в этой мелодии фолия.
Меня снова поразил это простой, даже примитивный мотив, который открывал свою вторую натуру: подвижную, ласкающую слух и нежную. Мелодия была подобна красивой пышной крестьянке, которая, правда, не вращалась в высшем свете, зато хорошо разбирается в человеческой душе и вызывает у богатого господина намного большее вожделение, чем его собственная супруга, имеющая много денег и слишком высокие запросы. Такой была фолия: простой и способной на все. Восемь ясных отчетливых тактов, от ре-минора до фа-мажора (но это я выучил уже позже), а потом обратно к ре-минору. Маленький, на первый взгляд невинный мотив, довольно скромный, но такой, что может разбудить самые буйные фантазии. Поначалу каждая фолия, дитя природы, выглядит слишком простой – от ре до фа и от фа до ре. И музыка Корелли тоже такая: на коротком протяжении тех двух модуляций восьми тактов мелодия поначалу разделялась простыми аккордами. Затем в действие вступали вариации – одна за другой. Сначала удваивались аккорды сопровождения. При второй вариации они растворялись в терциях, в ритмике на французский манер. В третьей они становились агрессивнее, в четвертой группировались по гаммам, в пятой – тремолировались, и так игра все время усложнялась веселыми вариациями, величественными контрапунктами, торжественными стаккато, жалобным легато, так что у слушателей просто кружилась голова. Время от времени звучала медленная вариация и мотив неожиданно становился спокойным, даже тоскливым, давая возможность слушателям и музыкантам перевести дух. После всех этих вариаций слушателю открылся весь ландшафт, поначалу таившийся в немногих нотах первоначального мотива. Это было так, словно наконец стал ясен смысл самой темы, значение фолия: она была путешествием, но не от одного тона к другому, не от фа до ре и обратно, а от одного мира к другому. А какие это могли быть миры, если не мир душевного здоровья и мир безумия? Нужно пройти от одного к другому, чтобы оба получили смысл и объяснили друг друга. От фа до ре, от ре до фа: без постоянного плавного перехода тональности от одной к другой ни одна мелодия не может захватить сердце и разум. И никто не обретет мудрости, казалось, внушала эта музыка, без святого паломничества в фолия. Маэстро Корелли исполнял партию первой скрипки; для того чтобы управлять симфоническим организмом, ему было достаточно резких коротких движений головой – подобно тому, как опытному наезднику хватает легкого толчка каблуком или движения бедра, чтобы управлять любимой скаковой лошадью. Он словно говорил мне: «Остановись и прислушайся, ты не уйдешь с пустыми руками. Я знаю, чего ты хочешь». Звуки как будто хотели стать комментариями к моим мыслям (хотя обычно бывает наоборот), и я на протяжении всей игры оркестра ощущал сладко-горький вкус прошлого – вещей, которые уже произошли, и тех, о которых я мечтал, но которых никогда не было; я чувствовал вкус семнадцати лет, отделявших меня от первой встречи с Атто, и вкус его уроков, которые теперь закрепились навеки, подобно тому как рука неизвестного художника запечатлела облик мадам коннетабль на картине в вилле «Корабль». Корелли, видимо захваченный силой своего произведения, уже не дирижировал. Замкнувшись в себе, он играл на скрипке, смычок касался третьей струны, а затем первой с нежностью, которая казалась почти небрежностью, как будто он играл только для своих ушей. Но это не была самовлюбленность. Оркестр покорно следовал за ним, лишь иногда музыканты бросали на своего дирижера взгляды – быстрые, как стрелы, словно легкие удары весел, которые удерживали лодку фолия в благородном умеренном консонансе при переходе от спокойных пассажей к более оживленному интермеццо, а затем снова к медленным тактам. «Музыканты и вправду играют так, словно были единым инструментом», – подумал я. Они с Корелли были совершенным единым целым, и все это был Корелли. И я вспомнил наше первое пережитое с Атто приключение, его лекции о морали, прекрасную, но забытую музыку сеньора Луиджи Росси, с которой я познакомился благодаря Атто… И было так: в то время, пока звуки, которым внимал я, расстилали надо мной теплое покрывало воспоминаний, пока серебристые тени прошлого окружали меня, казалось, что руки Евтерпы бережно положили мне на колени высший и самый правдивый смысл моего пребывания в этом месте и в этот час, и, когда аромат настурции из ближней клумбы коснулся меня, я увидел цель, к которой стремился возвышенный парусник звуков: через семнадцать лет меня, уже мужчину, не мальчика, судьба позвала к Атто, к новым испытаниям мужества, к новому вызову сердцу и разума, к суровому и приятному путешествию, в конце которого меня снова ожидали бы добродетели и знание. То, что это было правдой и ложью одновременно, мне предстояло понять позже.
Звуки стихли в сладких объятиях заключительных аккордов, как вдруг чей-то голос развеял обманчивые тени, поселившиеся во мне: – Милосердное небо, где ж ты пропадал? Клоридия нашла меня. Она прочитала на моем лице следы полной приключений ночи и молча смотрела на меня вопрошающим взором. Я кивком показал ей, что нам лучше удалиться из амфитеатра, и увлек ее за собой в направлении камыша, ограничивавшего зеленую часть сада с северной стороны, непосредственно перед оградой. Это было правильное решение, потому что в тот час на вилле Спада было как никогда много людей, так что даже наш бук не мог бы надежно укрыть нас от любопытных взглядов. Я вкратце рассказал ей обо всем, что со мной приключилось с ночи до рассвета. – Вы все сумасшедшие – и ты, и Сфасчиамонти, и Мелани! – воскликнула она, не зная, плакать ей или обрушиться на меня с упреками, но в любом случае испытывая облегчение, оттого что я снова здоров и бодр. Она крепко обняла меня, и мы несколько минут стояли так. Аромат ее волос смешался с запахом дикого тростника, и я очень надеялся, что больше не воняю навозом. – У меня мало времени. Княгиня Форано хочет, чтобы я все время находилась рядом. У нее постоянно приступы слабости, небольшая тошнота, жар, который то появляется, то исчезает. Думаю, она просто боится родов, хотя это уже будет четвертый ребенок. – Но как же муж разрешил ей сопровождать его на виллу Спада, если он знает, что она вот-вот родит? – Дело в том, что он не знает – он думает, что она только на шестом месяце, – рассмеялась Клоридия, подмигнув мне и состроив многозначительную гримасу. – Она обязательно хочет принять участие в свадьбе, ведь невеста – ее хорошая подруга. Мне не удалось убедить княгиню уехать домой. Давай сядем там, а теперь внимательно выслушай меня, я тороплюсь. Мы сели за рядом тростника, вспугнув воробьев, возмущенно вспорхнувших из зарослей. Клоридия, как и обещала, сумела собрать интересную информацию. Несколько недель назад она принимала тяжелые роды у камеристки испанского посла. Молодая женщина была ей очень благодарна, потому что Клоридия чрезвычайно ловко извлекла из материнского лона малышку (весьма симпатичную девочку), собравшуюся вместо нормального способа головой вперед появиться на свет вперед ногами: своими тонкими пальцами Клоридия, применив знаменитый «прием Зигемундин», которым прекрасно владела, перевернула ребенка и безопасно извлекла его за голову. Молодая мать, до этого пережившая два выкидыша, из благодарности стала подругой Клоридии. – Я намекнула ей о том, что случилось с аббатом Мелани и с переплетчиком. Чтобы разговорить ее, я сказала, что испанцы, возможно, тоже связаны с этим делом и она обязательно должнa рассказывать мне обо всем, что увидит или услышит подозрительного. И тогда она воскликнула: «Иисусе, кума Клоридия, молитесь за своего мужа и за вашего господина, кардинала Спаду!» – Но почему? Мягкого нажима Клоридии было достаточно, чтобы молодая женщина начала рассказывать. Частично из случайно (а частично – и вполне намеренно) подслушанных за дверью разговоров посла, герцога Узеды, камеристка узнала, что в Риме сейчас в разгаре политические маневры, в которых решается будущее Испании и всего мира. – Точно, все так, как я прочитал в письмах мадам коннетабль, – подтвердил я. – Ты действительно поступил правильно, что тайком просмотрел эти бумаги. Я тобой горжусь. Так этому аббату Мелани и нужно. Он сам ворует у других их бумаги, а потом вынужден за них дорого платить, – засмеялась Клоридия, вспомнив про мои похищенные мемуары, которые Мелани затем купил, заплатив мне очень порядочную сумму денег. Клоридия никогда не отзывалась хорошо об Атто. Она не доверяла ему (и как можно было ей возражать?) и постоянно ждала от него чего-нибудь самого скверного. Но прежде всего моей жене была противна сама мысль о том, что Атто совершенно спокойно обходится без нее. Он знал, что она находится рядом, однако никогда не изъявлял желания видеть ее или посвящать в наши планы, хотя бы для того, чтобы выслушать ее мнение или попросить маленькую справку. А Клоридия просто не переносила, когда кто-то обходился без ее ценных советов и, тем не менее, не был обречен на неудачу. С момента возвращения аббата Мелани она ни разу не зашла к нему, чтобы поздороваться или предложить свои услуги, и я был уверен: если бы она увидела Атто в саду виллы Спада, то сразу же удалилась в противоположном направлении, лишь бы не встречаться с ним, и то же самое, не сомневаюсь, сделал бы он. Короче говоря, моя жена и аббат Мелани платили друг другу одной и той же монетой. – А что ты еще узнала? – поинтересовался я. – А еще моя маленькая камеристка намекнула мне, как бы между прочим, что их католический король очень болен и может скоро умереть, но он не оставляет после себя наследника, и поэтому было обращение к Папе за помощью. В посольстве в эти дни все боятся быть заподозренными в шпионаже. Тем не менее она сообщила мне, что подруги рассказали ей слух, который ходит среди испанцев в Риме. – Какой? – Сейчас в Испанию должен приехать Тетракион. – Тетракион? А это что такое? – Она сама точно не знает, говорит только, что якобы это законный наследник испанского трона. – Законный наследник? – Она так сказала и даже спросила меня, знаю ли я что-нибудь об этом. Но я слышу это имя впервые. А ты? – Куда там, даже мадам коннетабль ничего не упоминает о нем. Но какое отношение имеет Тетракион к удару ножом, который получил аббат Мелани, и к смерти переплетчика? – Понятия не имею. Как я уже говорила, я сказала своей камеристке, чтобы заставить ее разговориться, что испанцы как-то втянуты в эту историю. Итак, она сообщила мне, что ходит слух, будто бы приезд Тетракиона принесет несчастье: то, что случилось с Мелани и с переплетчиком, по ее мнению, только начало, только первые признаки. – Как ты думаешь, она тебе потом расскажет еще что-нибудь? – Конечно нет, она слишком боится. Но ты ведь знаешь, как распространяются слухи среди слуг. Стоит ему только появиться, как дальше он уже расходится сам по себе. Я не исключаю того, что вскоре сама получу новую информацию об этом Тетракионе. А ты будь, пожалуйста, осторожен. Не всегда может повезти так, как сегодня ночью. – Ты же знаешь, что я делаю это ради нас двоих, – намекнул я на щедрую плату, которую обещал мне Атто за отчет о его пребывании в Риме. – Тогда постарайся, чтобы в конце этой истории нас оставалось все так же двое. Быть вдовой – скверная профессия. И не давай себя запутать: он платит тебе за то, что ты пишешь, а не за то, что бегаешь вокруг и разыскиваешь его украденные бумаги. – Не забудь, что меня усыпили и влезли в наш дом. Я должен сделать все, чтобы этого не повторилось, – попытался я защитить себя. – Это определенно случится, если ты будешь и дальше пребывать в обществе Мелани. Не забывай о правиле: «У кого деньги – у того и власть». Конечно, она была права. Этой шутливой поговоркой Клоридия сказала все. Не нужно было мне следовать за Атто по всем его кривым дорожкам. Мне уже заплатили за сделанное, значит, он должен был попросить о дальнейших услугах. Однако в прошлую ночь я не просто следовал за ним: я ринулся в схватку вместо него и рисковал при этом своей собственной жизнью. Что было бы с моей семьей, если бы я погиб? Клоридия в одиночку не смогла бы вырастить обеих дочурок. Ничего, даже тот факт, что я мог принести пользу своему господину кардиналу Спаде, контролируя Атто, не стоило такого большого риска.
* * *
– Я очень беспокоился о тебе, мальчик мой, поверь мне. Роль заботливого отца семейства аббат Мелани играл скорее плохо, чем хорошо. Он сидел в кресле и массировал руку. Сразу же после нашего разговора с Клоридией он послал Бюва разыскать меня. В его покоях снова царил порядок. – Я уже разговаривал со Сфасчиамонти, – продолжал он. – Он рассказал мне все. Ты очень старался. Я помолчал пару секунд, затем громко выпалил: – И это все, не так ли? – Что? Повтори, пожалуйста. – Я спросил: и это все, что вы можете мне сказать? После того что я рисковал жизнью ради ваших дел? «Ты очень старался!» И на этом дело для вас закончено, или я не прав? – Я уже почти кричал. Он поспешно встал и попытался закрыть рукой мне рот. – Проклятие, да что с тобой такое? Тебя могут услышать… – Тогда не обращайтесь со мной как с идиотом! Я, между прочим, отец семейства! У меня нет ни малейшего желания ставить на карту свою жизнь ради небольших денег! Атто обеспокоенно ходил кругами вокруг меня. Мой голос все еще громко раздавался в комнате, и его могли услышать снаружи. – Немного денег? Ты неблагодарен. Я думал, ты доволен нашей сделкой. – В сделке моя смерть не предусмотрена! – воскликнул я все так же громко. – Хорошо, хорошо, а теперь, пожалуйста, говори потише, – вставил он, и по его голосу было заметно, что он капитулирует. – Для всего есть решение. Он сел и пригласил меня сесть в кресло напротив, словно этим жестом признавал меня равным противником, которого наконец приглашают за стол переговоров. Так вот и получилось, что я заходил в комнату Атто, чтобы освободиться от службы у него, а вышел с противоположным результатом. Как всегда, когда речь шла о финансовых делах, и особенно когда ему приходилось платить, он был резким, точным и в голосе его сквозила плохо скрытая горечь. Условия нашего нового соглашения были следующие: я буду выполнять указания Атто, соблюдать его интересы, а также делать все необходимое для ведения дневника (за что я, в конце концов, уже получил денежное вознаграждение), не подвергая, однако, себя, свое здоровье и жизнь, опасности. Естественно, это обязательство сохраняло силу лишь до отъезда Атто с виллы Спада или до другого, более раннего срока, который должен быть указан по неоспоримому решению Атто. Неоднозначные и запутанные формулировки следовало понимать как то, что мне придется еще больше выкладываться на службе у Атто и, если потребуется, в опасных ситуациях, причем желательно не пострадать при этом. Слово «желательно» давило на меня, как обломок скалы. Естественно, ответная услуга Атто была немалой: – Не только деньги. Дома. Собственность. Земля в собственность. Я дам твоим дочерям приданое. Большое приданое. И если я говорю «большое», то не преувеличиваю. Через несколько лет они будут в том возрасте, когда пора выходить замуж. Я не хочу, чтобы у них были какие-то затруднения, – заявил он, расточая щедрость, которую я же и выжал из него. – У меня есть несколько имений в Тосканском герцогстве: все они прибыльные. Когда закончится праздник у твоего хозяина Спады, мы вместе пойдем к нотариусу и письменно подтвердим передачу тебе нескольких земельных участков или урожая с них, посмотрим, как будет удобнее. Тебе не придется ничего делать: приданое перейдет прямо твоим дочуркам, и, я надеюсь, это поможет найти им хороших мужей. Хотя в таком деле, как ты знаешь, прежде всего нужна Божья помощь. Он заставил меня подняться и крепко обнял, как будто хотел этим скрепить братское чувство ко мне. Я не возражал. Я был слишком занят тем, что потихоньку прикидывал выгоды этой сделки: я мог бы дать своим дочерям, детям скромного слуги и акушерки, надежное, достойное и обеспеченное будущее. Я поспешил согласиться, потому что мне не хватало опыта, но прежде всего из страха упустить уникальную возможность. Однако тысячи нестыковок этого соглашения уже оставили свои следы на веревке, которая связывала мои сердце и разум, и каркали теперь: а если я вдруг умру? А если Атто из-за чего-то непредвиденного (болезни, смерти, внезапного отъезда) не сможет выполнить свои обязательства? И самое главное – если он обманет меня? В последнее, правда, я не очень верил: если бы он хотел обмануть меня, то не заплатил бы вперед, причем звонкой монетой. Из осторожности я все же поинтересовался: – Извините, синьор Атто… Не было бы разумнее закрепить ваши слова письменно? Он бессильно опустил руки. – Бедный мальчик, ты все такой же наивный? Думаешь, подобный договор поможет тебе в каком-нибудь суде получить то, что тебе полагается, если бы я действительно хотел обмануть тебя? – Честно говоря… – замялся я, чувствуя полную беспомощность в юридических делах. – Ну что ты, мальчик мой! – бичевал меня Мелани. – Научись наконец жить и думать, как светский человек! И научись смотреть людям, с которыми ты ведешь переговоры, в глаза, потому что это единственный путь понять того, кто сидит напротив тебя, и либо преуспеть, либо потерпеть неудачу. Иначе любая сделка останется для тебя загадкой, а договор – мраком. Он многозначительно помолчал, колеблясь, стоит ли принять мое предложение заключить письменный договор. – Как бы там ни было, я тебя понимаю, – проговорил он, снисходя к моей неопытности в мирских делах. Он взял бумагу и перо и записал только что заключенное соглашение. Затем передал его мне. Мелани обязался дать каждой моей дочери приданое, точный объем которого будет определен римским нотариусом, но оно должно быть более чем крупным, что Атто гарантировал уже сейчас. – Так годится? – резко спросил он. – Синьор Атто, я вам так благодарен… – Ради бога, – махнул он рукой и сменил тему. – Кстати, что я тебе хотел сказать? Ах да: Сфасчиамонти описал мне вчерашние события во всех подробностях. Один-единственный вопрос: что именно сказал тебе черретан на той крыше? – Что-то вроде «третрютрегнер»… нет, сейчас я вспомню, он сказал: «трелютрегнер», – ответил я, немного успокоившись. – Ты действительно очень старался. – Спасибо, синьор Атто. Жаль, что моя старательность, как вы ее называете, не принесла никакой пользы. – Что ты хочешь этим сказать? – У нас есть лишь разбитый микроскоп. Ни подзорной трубы, ни реликвии, ни бумаг. – У нас ничего нет, говоришь? Зато мы сейчас знаем о Немце. – В принципе, мы не знаем ничего о нем, даже то, существует ли он на самом деле, – возразил я. – О, вы не напрасно старались. Я согласен со Сфасчиамонти – у нас есть важный след. Есть кто-то в Риме, тот же Немец, который собирает оптические приборы и реликвии. И не только это: он связан с черретанами. Теперь мы знаем, кого искать. А насчет проблемы стайным языком черретан я вообще не беспокоюсь: если мы не можем его понять – хорошо, мы заставим их говорить на нашем языке, ха-ха! Редко можно было видеть, чтобы Атто так слепо верил в свою удачу. У меня зародилось подозрение, что весь его оптимизм был предназначен для меня, чтобы я не отказался от службы. – Сфасчиамонти говорит, что никто не знает, где он скрывается, – не согласился я. – Людей из преступного мира всегда можно выследить. Иногда достаточно знать их настоящее имя. Дер Тойче – это всего лишь кличка. И тут мне вспомнилось странное имя, которое назвала Клоридия и которое, как она полагала, могло быть полезным для Атто. – Синьор Атто, вы никогда не слышали о Тетракионе? В этот момент в дверь кто-то постучал. Это был Сфасчиамонти – он поспешно вошел в комнату, не дожидаясь разрешения. Его лицо хранило следы бессонной бурной ночи. – У меня новости. Я был во дворце губернатора, – начал он. – Никто не слышал о подзорной трубе. Но есть кое-что новенькое относительно микроскопного ружья. Сфасчиамонти показал остатки оптического прибора одному своему коллеге, и они мигом установили его связь с кражей, случившейся пару дней назад. Аппаратус принадлежал голландскому ученому, у которого украли все его добро из комнаты в локанде близ площади Испании. – И там они тоже открыли дверь ключом. Никакого взлома. Никаких следов преступников. – Интересно, – заметил Атто. – Это излюбленный способ нашего вора. – Сегодня состоится свадьба, – сказал сбир. – Я не могу никуда уйти. Нам придется подождать вечера. Я хочу задать пару вопросов некоторым из этих сволочей. Увидимся сегодня ночью после свадебного банкета. Ты пойдешь со мной, мальчик. Я в нерешительности посмотрел на Атто. Зная, насколько мне не хотелось снова подвергать себя опасности, он обронил: – Это дело касается меня. Значит… значит, с вами пойду я. Вот это был сюрприз… Собственно, Клоридия хотела, чтобы я перестал шататься ночами по городу, выполняя задания Мелани. Но Атто сам предложил Сфасчиамонти пойти с нами, то есть он будет сопровождать меня! «А если такой старый человек, как он, полон решимости, – подумал я, немного устыдясь, – то почему я не могу сделать то же?» Сбир пояснил нам, куда мы пойдем. – Очень, очень интересно, – в заключение констатировал Атто.* * *
– Кто тебе это сказал? Говори! От кого ты это узнал? Едва мы остались одни, как Атто напал на меня, схватив за горло и прижав к стене. Он обладал лишь силой старого человека, однако из-за внезапности нападения, а также учитывая тот факт, что я все-таки уважал его и это удерживало меня, я был не в состоянии оказать ему достойное сопротивление. К тому же я очень устал после бессонной ночи. – Говори! – заорал он на меня. Затем Атто украдкой оглянулся на дверь, опасаясь, чтобы его не услышали. Он ослабил руки, и я вырвался. – Что на вас нашло? – возмутился я. – Ты должен сказать, кто тебе говорил о Тетракионе, – приказал он твердым ледяным голосом, словно требовал свое личное имущество. И мне пришлось рассказать ему, что камеристка испанского посла усмотрела тайную связь между покушением на Атто, смертью переплетчика и прибытием таинственного Тетракиона, который якобы был законным наследником испанской короны. Я намекнул на болезнь короля-католика, на то, что он умрет, не оставив наследника, и мне стоило немалых усилий, чтобы аббат не догадался об источнике моей информации – тайком прочитанных письмах Марии. – Прекрасно, просто прекрасно, я вижу, что ты в курсе последних событий относительно Испанского наследства. Видно, ты снова начал читать газеты, – прокомментировал он. – Хм, да, синьор Атто. В любом случае, моя жена предполагает, что в ближайшие дни она узнает больше подробностей, – закончил я, надеясь, что он уже успокоился. – Не сомневаюсь. Только не думай, что ты так просто от меня отделался, – язвительно сказал он. Уму непостижимо. После всего, что я сделал для него, Атто обращался со мной, как с подлым предателем. – Но скажите же, – вырвалось у меня, – кто или что, черт побери, этот Тетракион? – Это не проблема. – А что тогда? – Проблема в том, где он находится. Он сделал мне знак следовать за ним, открыл дверь и вышел на улицу.* * *
– Это не могло продолжаться вечно, – снова начал он. Мы двигались по направлению к выходу с виллы Спада через пеструю разгоряченную толпу слуг, портних, носильщиков и лакеев. Атто решил ответить на мои вопросы не словом, а делом и повел меня к неизвестной мне цели. Однако он все же отвечал и словами, вернувшись к рассказу, прерванному накануне.В то время как король постепенно созревал и превращался в мужчину, рассказывал Атто, положение кардинала Мазарини осложнялось с каждым днем. Он прекрасно знал, что не сможет вечно держать своего суверена в святом неведении о государственных делах. Какое место мог занять кардинал рядом с молодым, сильным и, с любой точки зрения, законным монархом, после того как успел побывать неограниченным правителем? Мазарини непрерывно думал над этим: во время длительных поездок в карете, когда рассеянно выслушивал просителей, в любой свободный от работы момент, в последнее время даже в постели, перед тем как уснуть, когда тревожные мысли начинали исполнять свой бешеный танец. И хотя королева-мать жаловалась ему на Марию, он и пальцем не шевельнул, чтобы удержать молодого короля на расстоянии от своей племянницы… – Король уловил это и понял молчание Мазарини как согласие. И можешь быть уверенным: кардинал действительно не хотел видеть свою племянницу в унизительном положении любовницы, после того как король женится! – Значит, Людовик обманывался надеждой, что кардинал разрешит ему жениться на Марии, – предположил я. – Не могу сказать, что это ошибочный вывод. Один раз король даже решился в присутствии посторонних назвать Марию «моя королева». Весь королевский двор, и прежде всего королева, были вне себя от возмущения. В пользу твоего предположения скажу одно: Людовик купил у английской королевы великолепное ожерелье из больших жемчужин, сокровище короны: оно должно было стать обручальным подарком для Марии. И разве не было такого, что год спустя английский король Карл II Стюарт просил у Мазарини руки другой Манчини – младшей сестры Марии? Правда, переговоры провалились, но только лишь потому, что английский король в качестве приданого хотел, кроме денег, получить еще и ленное поместье вблизи Дюнкерка, а Мазарини отказал ему. Иначе говоря, планы Людовика не были просто воздушными замками.
При дворе между тем следили за каждым вздохом парочки и доносили обо всем Анне Австрийской. Любое едкое замечание Марии, любое опрометчивое слово или беззаботный смех злые языки представляли как сумасбродство и возмутительную наглость. С другой стороны, стоило молодому королю бросить случайный взгляд на какую-нибудь придворную даму, весь двор начинал ликовать и злорадствовать. Затем было путешествие: двор отправился в Лион, где королю должны были представить молодую девушку, Маргариту Савойскую, возможную кандидатку в жены. Но Людовик взял с собой Марию и тщательно избегал любых контактов с королевой-матерью.
Тем временем мы покинули виллу и, как я заметил, подошли к Порта Сан-Панкрацио. – При встрече с Маргаритой Савойской, – продолжал Атто, – Людовик был холоден, как кукла. Он видел и слышал только Марию. Они были неразлучны. В дороге он следовал за ее каретой сначала верхом, затем изображая ее кучера и в конце концов взял за привычку ехать вместе с Марией в ее карете. В светлые лунные ночи он прогуливался под окнами племянницы Мазарини. Когда король смотрел спектакль, он требовал, чтобы она сидела рядом. Во время прогулок ее дамы привыкли оставаться позади, не желая мешать влюбленным. Весь двор говорил только о них двоих. Но кардинал и королева-мать молчали и не вмешивались. Все были удивлены неуважительным поведением молодого короля. На брачных переговорах вырисовывался близкий крах, бедная Маргарита плакала от позора. Затем случилось неожиданное: приехал тайный посланник из Мадрида. Король Испании предлагал Людовику руку своей дочери, инфанты Испании. – Похоже на то, что вы в это время вели дневник, – сказал я, с трудом скрывая любопытство, потому что знал привычку Атто собирать информацию, дабы потом использовать ее в нужном случае. – Ах, какой там дневник, – ответил он расстроено. – Я находился с официальной дипломатической миссией в свите кардинала Мазарини, которая должна была в переговорах с Испанией добиться Пиренейского мира. И я запоминал каждую мелочь глазами и умом, вот и все. Это входило в мою задачу. Когда двор в феврале 1659 года возвратился из Лиона в Париж, Людовик не упустил возможности отпраздновать неудавшуюся помолвку с Маргаритой Савойской. – На этом празднике ты увидел бы платья echancrés[1320] по моде крестьян Брессанна – городка, через который проезжало королевское общество по дороге в Лион, с манжетами и collerettes en tolle écrue, à la vérité un peu plus fine,[1321] – восторженно рассказывал Атто, хитро улыбаясь и вставляя в свою речь французские словечки. – Дамы и господа были одеты в расшитое серебром сукно с розовыми кантами, корсажи были из черного шелка с золотыми и серебряными кружевами; на шляпах из черного бархата – розовые, белые и огненно-красные перья; шеи дам были увиты рядами жемчуга, усыпанного многочисленными бриллиантами. И были там мадемуазель ди Виллеруа, вся в бриллиантах, и мадемуазель ди Гурдон, просто усыпанная изумрудами. Они явились в сопровождении герцога Рокулора, графа де Гиза, маркиза ди Виллеруа, остроумного Пьюгюльхельма (позднее ставшего знаменитым графом Лозаннским) – и все были вооружены houlettes de vernis.[1322] Так любовь, эта изобретательная мастерица, отметила несостоявшийся брачный договор между Людовиком и Маргаритой Савойской. – А предложение о женитьбе на испанской инфанте? – спросил я. – Переговоры еще не начинались. Между Мазарини и испанцами были тайные контакты, которые лишь постепенно становились явными. Все еще находилось в стадии решения. Кроме того… – добавил Атто, пока мы под пристальными взорами стражников проходили через городские ворота Сан-Панкрацио. – Кроме того, у меня всегда складывалось впечатление, что у кардинала на уме нечто совершенно другое, чем планы женитьбы короля, чтобы вынудить Испанию к миру, выгодному исключительно ему. По крайней мере до тех пор, пока… – Пока? В марте 1659 произошло непредвиденное. В Париж прибыл Хуан Хосе де Аустрия, внебрачный сын испанского короля. Он приехал из Фландрии, где был генеральным наместником, и хотел следовать дальше в Испанию. Я очень хорошо помню те дни, потому что дон Хуан появился инкогнито во время вечерни и весь королевский двор пришел в сильное волнение. Королева Анна принимала его в своем салоне, и я имел честь присутствовать на приеме. Это был мужчина невысокого роста, крепкого сложения, с красиво вылепленной головой и черными волосами, правда, немного полноватый. Черты лица его были благородными и привлекательными. Он был одет в серый камзол по французской моде. Королева обращалась к нему очень доверительно и в его присутствии говорила в основном только по-испански. Она представила ему молодого короля Людовика. Однако дон Хуан, сын Филиппа, короля Испании, хотя и рожденный вне брака, от какой-то артистки, всегда очень гордился своим происхождением и вел себя не в меру заносчиво, чем разочаровал и возмутил французский двор, так гостеприимно встретивший его. – На следующий день, – рассказывал Атто, – ему была оказана честь переночевать в покоях Мазарини. Дело в том, что дон Хуан отправился в Лувр, где Анна и кардинал приняли его с очень большой любезностью, которая, однако, так никогда и не нашла ответа. Монсиньор – брат короля – выделил ему свою личную гвардию, не получив за это ни малейшей благодарности. Все были удивлены и шокированы таким наглым поведением Бастарда. Но это было еще ничто по сравнению с тем, что случилось потом. – Был дипломатический инцидент? Атто затаил дыхание и поднял глаза вверх, словно пытаясь загнать буйное стадо своих воспоминаний в спокойный загон логичной речи. – Инцидент… не обязательно. Нечто иное. То, что я хочу рассказать тебе, – это история, которую знают очень немногие. – Не беспокойтесь, – успокоил я его, – я не расскажу ее никому. – Браво, это правильно. Хотя и в твоих собственных интересах. – Что вы имеете в виду? – Когда информация слишком горячая, ты не уверен, что не обожжешь пальцы, если понесешь ее дальше. Между тем мы уже прошли большой участок дороги к виа Сан-Панкрацио. Я догадался, куда мы направлялись. Подтверждение последовало незамедлительно, как только Атто остановился возле входа. – Это здесь. По крайней мере, должно быть так, – заявил Атто и пригласил меня пройти на «Корабль».
* * *
И снова мы находились в красивом внутреннем дворике, где неумолчно журчал фонтан. В этот раз изнутри виллы не доносилось никаких признаков жизни; не было музыки, даже тихого шороха, которой дал бы волю фантазии. Мы прошли до затененной деревьями садовой дорожки вдоль шпалер фруктовых деревьев, которую разведали в прошлый раз. После веселого шума виллы Спада тишина этого места, казалось, лучше располагала Атто к рассказу. Лишь робкое дуновение ветерка касалось листьев на самых верхних ветвях деревьев – единственных свидетелей нашего присутствия здесь. Пока мы шли через сад «Корабля», аббат Мела ни распутывал клубок рассказа.И свите дона Хуана Хосе, или Бастарда, как его многие называли, находилось странное существо – женщина, которую все называли Капитор. – Это искаженное имя, на самом деле ее звали la pitora или Как-то похоже. Это испанское слово, кажется, означает «безумная». Капитор была безумной, но не какой-то обычной сумасшедшей. Говорили, что она относится к какой-то особой категории ясновидящих, которые в некоем отрывочном видении таинственным образом обнаруживают скрытую правду. Бастард сделал из нее нечто вроде домашнего животного, игрушки для забав. – Ее слава ясновидящей и одновременно взбалмошной вруньи докатилась, до Парижа раньше, чем она сама появилась там, – рассказывал Атто, – так что Бастарда сразу же стали спрашивать, привез ли он ее с собой. Итак, Капитор была представлена в Лувре. Она была одета как мужчина, с короткими волосами, в шляпе, украшенной цветами, и с мечом. Глаза ее косили, желтая кожа была изрыта оспинами, мышино-серые волосы, кривой нос и большой щербатый рот делали ее лицо на редкость уродливым. Неуклюжая грушеобразная фигура с маленькими худыми плечами, круто расширяющаяся в бедрах, придавала ей еще и гротескный вид. Она всегда была окружена целой стаей птиц, которые сидели у нее на плечах и на широких полях шляпы: щеглы, попугаи, канарейки и так далее. – И что же в ней было такого особенного? – спросил я, чуть не лопаясь от любопытства. – Целый день она провела в Лувре, – ответил Атто, – где королева, король и его брат от души веселились, подшучивая над ней. Капитор читала какие-то странные детские стихи, рассказывала не имеющие смысла загадки, смешные присказки. Часто среди собрания или во время речи какого-нибудь министра она внезапно разражалась беспричинным смехом, именно так, как это ожидают обычно от сумасшедших. Но, если кто-то ставил ее на место, она мгновенно становилась печальной, показывала пальцем на обидчика и шипела в его сторону непонятные проклятия. Сразу же после этого она начинала громко хохотать, в очень занимательных выражениях оскорбляя несчастного, поверившего, что ему удалось призвать ее к порядку. Капитор любила танцевать на манер испанских цыган, прищелкивая кастаньетами. Делала она это весьма странно, без сопровождения музыки, но в ее движениях было столько дикого огня, что это напоминало некий ритуальный танец. Закончив танцевать, она, задыхаясь, падала на пол, вся в поту, и в завершение издавала хриплый победный вопль. Все аплодировали, огорошенные и смущенные магнетизмом этой сумасшедшей. С тех пор как появилось это неопределенного пола существо, при дворе воцарилась необычная атмосфера. Если поначалу все думали, что они могут просто потешаться над ней, то сейчас получилось наоборот – Капитор своими сумасбродными выходками сама развлекала двор. Однако были два исключения… – Сумасшедшая никогда не говорила о чем-то определенном. Если она пребывала в плохом настроении, то сидела печальная, в углу, и любая попытка развеселить ее оканчивалась ничем. Но иногда она сама ждала, чтобы кто-нибудь задал ей вопрос, например: «Хорошая сегодня погода, правда?» И если она хотела или тот, кто спрашивал, был ей симпатичен, Капитор отвечала какой-то бессмыслицей, вроде: «Погода не ждет «сегодня», иначе ей пришлось бы ждать и тех, у кого уже больше нет «сегодня» или кого оставляют умирать в «не-сегодня». Я не умру, потому что нахожусь уже в пространстве «не-времени». А вот ты – в сегодняшней погоде, которая кажется тебе прекрасной, потому что ты думаешь, будто видишь ее, на самом же деле ты видишь только «ничто» своего «не-времени». Ты когда-нибудь задумывался над этим? – Но это ведь бессмыслица! – Так оно и есть. Но поверь мне, когда эта одержимая декламирует свои стихи, ты застываешь в оцепенении и не можешь избавиться от мысли, что эта бессмыслица может быть прорицанием, на которое способна только она. И были серьезные причины так предполагать. – Что вы хотите этим сказать? – Сумасшедшая Капитор обладала… как бы это сказать, особыми способностями. Я попытаюсь тебе объяснить. Ее не раз спрашивали, где находится та или другая утерянная вещь. Она находила ее за какую-то минуту. – И как же у нее это получалось? – Она некоторое время размышляла, потом уверенно заглядывала за шкаф или выдвигала ящик и находила там пропажу. – Ну и чудеса! А как же она… – Ей удавалось и гораздо большее. Она с ходу угадывала, что Содержится в запечатанном конверте или имена людей, которых ей представляли в первый раз. Ее сны были полны предупреждающих знаков, чрезвычайно подробными и правдивыми. В карточной игре она всегдавыигрывала, утверждая, что умеет читать Карты по лицам игроков. – Мне кажется, это какое-то колдовство. – Ты угадал. Этого слова, однако, не произносил никто. Иначе разразился бы скандал, а так все принимали Капитор как немного странную игрушку, которой развлекались солдаты Бастарда и пару дней – королевская семья. В Лувре было много таких, кому она оказалась полезной. Когда Капитор уезжала, королева, брат короля и мадам де Монпасье подарили ей свои портреты на эмали, украшенные бриллиантами. Мадам ля Базиньер даже приглашала ее к себе домой на ужин, подарила серебряную посуду и полные ящики лент, вееров и перчаток. Как я тебе говорил, Капитор понравилась всем, кроме двух людей. – И кто же они? Атто ответил, что Капитор, которую в эти дни откровенно баловали король и мать-королева, хотя и вела себя странно, никогда не позволяла себе никаких дерзостей по отношению к кому-либо. За одним исключением: встречая Марию Манчини, она неизменно заговаривала на одну и ту же тему: об испанской инфанте – той женщине, чью руку предлагали Людовику. – Она не уставала повторять, как красива инфанта, какой великой королевой она однажды станет, и так далее, – сказал Атто. Никто не знал, почему сумасшедшая с таким вызывающим упорством мучила именно племянницу Мазарини, которой и так нелегко жилось при дворе. Одни полагали, что ее надоумили на это испанцы, опасавшиеся, что влияние молодой итальянки может помешать свадьбе Людовика с инфантой. Другие считали, что она не могла терпеть Марию, как свою соперницу, ибо у той была сходная импульсивная сангвинистичная натура, а, как известно, люди одинаковых темпераментов не расположены друг к другу. Мария не поддавалась на эти провокации. У нее и без того хватало проблем при дворе, но, с другой стороны, ей недоставало хладнокровия пропускать мимо ушей уколы Капитор. Она реагировала гневно, называла ее «кретинкой», оскорбляла и не скрывала своего презрения. Безумная отвечала Марии насмешливыми песнями, злобными стишками и поговорками на грани приличия. – А кто еще, кроме Марии, не был в восторге от присутствия Капитор при дворе? – Для того чтобы ответить на этот вопрос, я должен рассказать тебе одну странную историю, собственно говоря, я давно хотел рассказать ее, но для этого необходимо было такое длинное вступление.
Это случилось после обеда. Шел сильный дождь. Внезапно началась сильная гроза, которая заставила на несколько часов отложить все дела и еще раз напомнила людям о могуществе сил природы. Пока пузырились лужи под шумным дождем, а вода грязными потоками неслась по улицам Парижа, в одном из залов Лувра состоялось необычное собрание. Бастард наконец снизошел до того, чтобы ответить хоть чем-то па тысячу любезностей, которыми его осыпали в Париже, и хотел показать королевской семье маленькое представление. Капитор намеревалась передать кардиналу Мазарини несколько подарков, после чего должно было состояться небольшое песенное представление, дабы порадовать королевский дом. – А кто должен был петь? – с любопытством спросил я, зная музыкальное прошлое Атто. – С той ночи, когда мы познакомились, семнадцать лет назад, тебе хорошо известно, что в молодости публика очень ценила меня зa музыкальные таланты, короли и князья благородного происхождения оказывали мне честь, слушая мое пение, и особенно высоко ценила меня королева Анна, – довольно резко восстановил в моей памяти Атто тот факт, что некогда он был одним из самых знаменитых кастратов, побывавших при королевских дворах всей Европы. – Да, я хорошо помню, синьор Атто, – коротко ответил я, шля, что аббат Мелани не очень любил вспоминать свое прошлое, Не слишком подходящее для его нынешней службы политического советника короля и тайного дипломатического курьера. – Ну хорошо, мне пришлось петь. И это было, пожалуй, одно из самых запоминающихся выступлений в моей жизни. Все думали, что пришли на одно из обычных представлений сумасшедшей, – пояснил Атто. – Два или три смешных номера – и на этом конец. Собралось изысканное общество: королева Анна, Мазарини, молодой король, монсиньор его брат и, наконец, Мария. Она боялась, что Капитор начнет отпускать шуточки в ее адрес, поэтому Людовик хотел, чтобы Мария обязательно сидела на скамеечке возле него. А рядом, на незначительном расстоянии, утонув в глубоком кресле, расположился дон Хуан со своим слугой. По знаку Бастарда вошли три испанских пажа – они несли три больших предмета, каждый из них был накрыт куском кроваво-красного бархата. Затем зашли мы с Капитор, причем она, как обычно, была в окружении птиц. Безумная улыбалась, бурно радуясь тому, что стала главной персоной королевского дивертисмента. Скрытые под красной тканью предметы были установлены на три стола, расставленные полукругом, а напротив них, как зеркальное отражение, расселись Анна, Мазарини и остальные. Так образовался круг, в центре которого стояла сумасшедшая с гитарой в руках. – Ну, не бойся, Капитор, продемонстрируй кардиналу нашу благодарность, – ласково подбодрил ее Бастард. Капитор, поклонившись в знак признательности, обратилась к кардиналу: – Эти подарки предназначены его преосвященству, – вежливо произнесла она, – из них он сделает вывод о смысле, который на первый взгляд есть тайным, на самом же деле – блестящей ясности. Она сняла покров с первого подарка. Это был большой деревянный глобус с изображениями всех мировых достопримечательностей, рек и морей. Глобус опирался на крепкую массивную золотую ножку. И Бастард объявил, что этот глобус Земли является частью небесного глобуса: он приказал изготовить оба глобуса в Антверпене, и тот, который изображает небесную сферу, он оставит себе, а другой подарит Мазарини. Капитор толкнула глобус, и, пока он вращался, она касалась его вытянутым указательным пальцем. При этом, устремив взор на кардинала, Капитор читала наизусть сонет:
Затем Капитор сняла покрывало со второго подарка. Это была большая красивая чаша из золота во фламандском стиле с серебряными рельефными фигурами, изображавшими морского бога Посейдона и его супругу нереиду Амфитриту. Посейдон держал в руке трезубец, подобно скипетру. Сидя в пышно украшенной колеснице, запряженной тритонами, они с Амфитритой плыли по морю, оставив за собой далекую страну. – Одна из красивейших голландских чаш, которую я когда-либо видел. Наверное, стоила целое состояние, – отметил Атто. – Странно, но Капитор дала ей название на незнакомом языке, которое я запомнил, поскольку это не был ни французской, ни испанский, ни любой другой язык нашего времени. Ты его позже узнаешь. В чаше лежали несколько пастилок из ладана, распространявших сильный запах. Когда Капитор зажгла их и начал идти дым, сумасшедшая воскликнула, обращаясь к кардиналу и улыбаясь своей широкой уродливой улыбкой: «Двое в одном!» При этом она ткнула указательным пальцем сначала в изображения древних богов, затем в трезубец. Мазарини, продолжал аббат Мелани, был весьма польщен. Как и большинство присутствующих, он узрел в двух богах себя самого и королеву Анну, а в скипетре – корону Франции, которую он крепко держал в своих руках. Для остальных, однако, колесница, оставлявшая за собой сушу, чтобы пересечь огромное море, и особенно трезубец в руке Посейдона означали не Францию и ее корону, а ту Испанию, владычицу морей и двух континентов, которая теперь была истощена войной и поэтому готова была упасть в руки Мазарини. Аллегория, которая очень порадовала его преосвященство. «Кто украдет испанскую корону у ее детей, у того испанская корона украдет его детей!» Когда Капитор добавила эту загадочную фразу, шепот стих и воцарилась мертвая тишина. – По этому поводу была масса гипотез. Мы все поняли так, что эти слова направлены против испанского короля Филиппа IV, у которого все наследники мужского пола умерли в детском возрасте. Большинство видело причину такого предупреждения в том, что его сестра Анна Австрийская вынуждена была подписать заявление об отказе от претензий на испанский трон и тем самым лишила испанскую корону ее наследницы. Однако были такие, кто, наоборот, считал это намеком на отказ Филиппа назвать наследником дона Хуана, своего внебрачного ребенка, хотя многие очень хотели бы видеть в нем будущего короля.
Капитор перешла к третьему подарку. Одним движением она сдернула красную ткань и отбросила ее далеко в сторону. В этот раз это был прекрасный кубок, также сделанный из золота и серебра, на длинной ножке, изображающей несущего чашу кентавра. – Предмет тончайшей работы, – сказал Мелани, – но прежде всего символический, как и оба других подарка. Кубок был до краев наполнен густой маслянистой жидкостью. Капитор объяснила, что это миро. – Затем сумасшедшая потребовала от меня выйти вперед и протянула мне ноты. Я уже знал произведение, которое она попросила меня спеть, и нам не нужна была репетиция. Сопровождение гитары было простым, и даже скромных певческих способностей сумасшедшей было достаточно. – И что вы пели? – Песню анонимного автора, которая была тогда довольно популярной: Passacalli della Vita – «Пассакалья о жизни». – Она понравилась публике? Атто скорчил гримасу, в которой смешались горечь воспоминания и холод зловещего предчувствия: – К сожалению, совсем нет. С этой песни и начались все проблемы. – Какие проблемы? В ответ Атто запел тихим, но хорошо поставленным голосом пассакалью, которую пел более сорока лет назад для королевской семьи и внебрачного сына испанского короля в сопровождении гитары сумасшедшей прорицательницы:
– Капитор, его преосвященство благодарит тебя, – отпустила ее королева Анна с благородной сдержанностью, чтобы сменить тему и выручить всех из неловкого положения. – Пусть теперь выступит оркестр, – заключила она и подала знак распахнуть двери. У входа в зал действительно собралась группа музыкантов, к услугам которых обратился монсиньор брат короля, дабы одновременно с усладой для желудка гости получили усладу для ушей. Створки дверей распахнулись, и музыканты вошли в зал, который уже наполнялся шумом голосов. Одновременно множество слуг, тяжело дыша от напряжения, внесли уже накрытые столы, чтобы утолить королевский аппетит. За ними толпились верные придворные, ожидавшие, что их впустят в зал и они смогут принять участие в увеселениях. Людовик, Мазарини, королева-мать и брат короля были несколько отвлечены этой небольшой суетой, когда Капитор, уже собиравшаяся уступить место музыкантам, последний раз пристально посмотрела на кардинала. – Дева, которая выйдет замуж за корону, принесет смерть, – смеясь, отчетливо продекламировала она громким голосом, – и она наступит, когда луны достигнут солнц свадьбы. Затем она поклонилась и сопровождаемая стаей своих верных птиц смешалась с вереницей музыкантов и слуг, которая в веселом беспорядке тянулась по залу. – И только в этот момент Хуан Хосе отбросил свое высокомерие, – рассказывал Атто. – Он обратился к кардиналу и к королеве и попросил прощения, добавив, что представления сумасшедшей, конечно, забавны, но часто малопонятны или вообще непонятны, и если она иногда совершает промах, то вовсе не из невежливости, а потому что ее толкает на это неуемная и странная натура, и так далее, и тому подобное. Конечно, можно было бы, как всегда, простить сумасшедшей ее экстравагантную выходку, – продолжал Атто. – Однако в тот вечер слова Капитор прозвучали настоящей угрозой. А дону Хуану не хотелось, чтобы кто-то сказал, будто это он приказал ей произнести те зловещие слова. Безумная провидица заставила Атто петь о смерти и ее неотвратимости. До этого она передала кардиналу три ценных подарка, намекающих на его кардинальское достоинство, – и это было приемлемо; на то, что у него королевская власть, – тоже справедливый, но неприличный намек, поскольку Мазарини был тайным любовником королевы. В последнем намеке на то, что он должен умереть, безусловно, не было ничего неверного, однако некому не хотелось слышать его дважды на протяжении одного вечера. Сонет тоже указывал на зыбкость счастья, грядущие неудачи и прочее, о чем никто не решился бы сказать первому министру самой могущественной империи Европы. И наконец, Капитор воспользовалась появлением оркестра, чтобы исчезнуть с последним посланием, полным угрожающих намеков. Никто не мог сомневаться в смысле этих последних слов. «Корона» – это явно молодой Людовик. А кто еще мог быть «девой», о которой говорила Капитор, как не Мария Манчини? – Намек на деву казался прямым указанием на Марию, которого не понял король, если иметь в виду плотское значение этого слова. – Действительно? – удивился я. – Никто и никогда не хотел в это верить, за двумя исключениями: естественно, меня, поскольку я знал, как невинна эта любовь, и кардинала, которого информировали о каждой минуте жизни короля. Когда Мария уехала в Рим и вышла замуж за коннетабля Колонну, он вскоре после свадьбы поведал мне, что она была девственницей, чему он крайне удивился, поскольку знал ее любовную историю. Если состоится свадьба между Короной и Девой, предупреждала Капитор, тогда кто-то будет вынужден заплатить за это жизнью. А поскольку пророчество было направлено на кардинала, который, как опекун Марии и отчим Людовика, мог решить судьбу их обоих, то напрашивалась мысль, что предсказание или даже пожелание смерти было высказано именно ему. Слова Капитор могли бы показаться безобидной речью безумного существа, не обладай она таинственной силой и даром предвидения, но они прозвучали так, как будто их сказала сама смерть. – Нелегко объяснять это здесь и сейчас, сорок лет спустя, – сказал аббат. – Когда эта особа открывала рот, мороз пробегал по коже. Тем не менее все смеялись: глупые – от удовольствия, а остальные – от страха. Атто тоже почувствовал этот страх, который ударил его словно плетью во время безумной литургии Капитор. И он тоже, пусть и в качестве второстепенного персонажа, участвовал в инсценировке, предназначенной для Мазарини. Между тем поднялся ветер и небо, до этого безукоризненно чистое, начало темнеть. – Вы сами, синьор Атто, говорили мне, будто Капитор подозревали в том, что она действовала по наущению испанцев, которые желали свадьбы между Людовиком и испанской инфантой и поэтому боролись против влияния Марии Манчини. В этом случае послание Капитор было, как бы сказать… – Нормальной угрозой в политических целях? Действительно, некоторые так и расценили его. Но мне кажется, его преосвященство не был в этом уверен. Факт остается фактом: с этого дня отношение Мазарини к Марии и к королю резко изменилось: после того как дон Хуан, Бастард, и его сумасшедшая уехали, кардинал стал злейшим противником любви этих молодых людей. И кое-что еще: Капитор назвала чашу греческим словом. Словом, которое ты тоже знаешь. – Вы хотите сказать… – Тетракион. Рассказ так захватил меня, что поначалу я даже не уловил странного феномена природы, продолжавшегося уже несколько минут: внезапно погода резко сменилась, как и накануне в этом же месте. Ветер, перед тем еще довольно теплый, посвежел. Перистые облака, появившиеся на небе несколько минут назад, быстро соединились, превратившись в настоящую тучу. Сильный порыв ветра взметнул в воздух листья и комья земли, заставив нас зажмурить глаза. Как и накануне, я был вынужден прислониться к дереву, чтобы не упасть. Длилось это не более нескольких минут. Едва улегся этот необычный маленький ураган, как свет дня стал еще радостнее и чище, чем перед этим. Мы отряхнули, как могли, с себя пыль. Я поднял глаза к солнцу, и оно ослепило меня: свет был почти таким же сильным, как и во время нашего ухода с виллы Спада. – Какая странная тут иногда бывает погода, – удивился Атто. – Сейчас я начинаю понимать, – произнес я. – Когда в последний раз вы говорили о «Корабле», то сказали, что тут находятся предметы. – Ты хорошо запомнил. – Подарки Капитор, – договорил я. Он не ответил, а просто подошел ко входной двери. – Она открыта, – заметил он. «Кто-то зашел на «Корабль». Или вышел из него», – сказал я себе.
* * *
Когда мы пересекали зал на первом этаже, то снова уловили звуки мелодии, которую уже слышали в прошлый раз, – фолия. Я не мог удержаться, чтобы не засыпать Атто новыми вопросами. – Извините, но почему вы думаете, что подарки Капитор находятся здесь? – Я основываюсь отчасти на конкретных фактах, отчасти – на умозаключении, которое, однако, является точным. – Слух о мрачном предсказании Капитор, – продолжал Атто, – распространился со скоростью молнии. Ни у кого не хватило смелости записать его, поскольку говорили, что кардинал до смерти испугался. Даже самые добросовестные биографы Мазарини предпочли молчать, поскольку их мемуары предназначались для того, чтобы их читали, а не для того, чтобы оставаться секретными. Однако умолчания было недостаточно. Мазарини был одержим мыслью о том, как ему сохранить власть. Он вполне отдавал себе отчет в том, что рано или поздно Людовик будет создавать ему трудности. После угрожающего пророчества Капитор кардиналу каждую ночь мерещились черные привидения. – Как я уже упоминал, – заметил Атто не без иронии, – до сих пор кардинал был убежден, что будет жить долго, очень долго. Отчаянно цепляясь за мирскую славу, как моллюск за свой подводный утес, он в конце концов перепутал этот утес с самой жизнью, хотя именно последнее давало ему силы прочно присосаться к скале. Помни всегда, мой мальчик: великие государственные мужи – как ракушки, держащиеся за риф. Они видят рыб, снующих туда-сюда, и думают: бедные, какие они потерянные, не имеющие цели, у них нет прекрасной скалы, на которой можно кормиться. Однако сама мысль, что однажды и им придется отцепиться от своей скалы, пугает их безмерно. И они не замечают, что сами являются ее пленниками. Естественно, эти слова не соответствовали тому, что думал Атто сорок лет назад, когда был верным слугой Мазарини. И тем более они не соответствовали его честолюбивому и тщеславному характеру. Это были рассуждения человека, жизнь которого близится к завершению и он сталкивается с теми же проблемами, что и Мазарини тогда: со страхом, что однажды створки раковины раскроются и отпадут от скалы. – Это был ты? – спросил он. – Синьор Атто, о чем вы? – Нет, ты прав, это на улице, – проговорил он и подошел к одному из окон, выходивших во двор. Я последовал за ним и тоже выглянул: ничего. – Это было, как будто… как будто кто-то шел по песку и песок или гравий шуршал под ногами, – пояснил Атто. И тут я тоже услышал эти звуки, смешавшиеся со звуками фолия. Было действительно похоже на то, как если бы кто-то быстро шел по дорожке, именно по той дорожке. Шаги становились то громче, то тише. Затем звуки стихли. – Выйдем на улицу? – предложил я. – Нет. Я не знаю, как долго мы сможем оставаться здесь, внутри виллы. Сначала я должен прояснить кое-что. Мы нашли винтовую лестницу, ведущую вниз, на первый этаж.А между тем Атто продолжал рассказ. Мазарини не смог долго терпеть такое положение. Та непоколебимая уверенность, которая вела его и давала ему опору, с тех пор как он подавил восстание Фронды, теперь была утеряна. Он боялся будущего: непривычное и неконтролируемое ощущение. Итак, у него были эти предметы, подарки Капитор, и все об этом знали. От таких вещей действительно нелегко отделаться, в этом смысле они напоминали воровскую добычу. Чтобы они не находились постоянно перед глазами, он приказал закрыть их в сундук. О том вечере он больше ни с кем не говорил. Мазарини не хотел думать об этом, и тем не менее постоянно думал. Злого взгляда, несмотря на свое сицилийское происхождение, он не особенно боялся, а вот если и было что-то приносящее несчастье, так это подаренный ему хлам. Наконец он принял решение. Если эти вещи не могут сменить владельца, то подарки Капитор должны исчезнуть, их следует убрать как можно подальше. – Он доверил их Бенедетти. Тот получил задание хранить их здесь, в Риме, куда Мазарини никогда не приезжал. Кроме того, его преосвященство ни в коем случае не хотел допустить, чтобы подарки оставались в одном из его владений. – Не было бы проще уничтожить их? – Конечно, но в таких делах никогда не знаешь, что получится. А если однажды он захочет нанять черного мага, чтобы тот снял магическое действие предметов? Если бы он приказал уничтожить их, то позже у него уже не было бы никакой возможности передумать. Вся история выглядела абсурдом, но Мазарини был не из тех, кто любил опасность, даже самую малую. Подарки должны были оставаться в пределах досягаемости. – Значит, Бенедетти спрятал их здесь, – сделал вывод я. – Когда кардинал дал ему это задание, «Корабля» не существовало, как я тебе уже объяснял. Но сейчас я перехожу к важнейшему пункту. Воспоминание о сумасшедшей прорицательнице Капитор и безумной истории трех подарков так мучило кардинала, что он до последнего момента не мог принять решение, держать ли подарки при себе или убрать подальше. Даже после того, как он рискнул доверить их Бенедетти, Мазарини не переставал бояться. И тогда он принял второе решение, которое при иных обстоятельствах просто было бы невозможно себе представить, особенно если учесть, что оно принималось человеком рационального ума, который занимался практическими делами и смеялся над предрассудками и разным волшебством. – Поскольку он не был уверен, что принял правильное решение, то приказал нарисовать подарки, прежде чем расстаться с ними. – Что это означает? Он приказал написать с них картину? – Он хотел, по крайней мере, иметь их изображение. Тебе это может показаться глупым, но так оно и было. – И кто нарисовал… портрет трех подарков? – В Париже тогда был один художник-фламандец, известный своими прекрасными картинами. Фламандцы, как ты знаешь, очень хороши в таких делах – натюрморты, накрытые столы, цветочные украшения и тому подобное. Кардинал приказал ему изобразить эти подарки. К сожалению, картину я никогда не видел. Но зато видел подарки, включая тетракион, – сказал он в заключение, чем косвенно подтвердил, что мы пришли на «Корабль», дабы найти этот тетракион. – Я не понимаю. Мне бы и в голову не пришло заказать портрет трех неживых предметов, которые к тому же… как бы это выразить… – Приносят несчастье? Нет, конечно. Но кардинал узнал от Бастарда, что тот сделал то же самое: перед отъездом в Париж заказал для себя в Антверпене картину с изображением подарков. Однако на ней был нарисован небесный глобус, а не глобус Земли, который в тот момент находился в мастерской золотых дел мастера, где к нему подгоняли массивную ножку из золота. Таким образом я обнаружил, что вилла, на которую мы попали, чтобы найти следы пребывания здесь трех кардиналов, собравшихся на тайную встречу, хранит тайну еще одной триады: трех подарков Капитор.
При таких обстоятельствах, естественно, от меня не укрылось важное изменение в изложении Атто. Сначала он сказал, что вернулся в Рим, чтобы остаться до следующего конклава, потому что хотел проследить, чтобы он прошел так, как того желал король Франции. Одновременно он умолчал, что было действительно странно, о другом важном политическом событии нынешнего момента – борьбе политиков и королевских домов за Испанское наследство. И тем не менее он занимался этим. Насколько серьезно – об этом я узнал из его тайной переписки с мадам коннетабль. Сейчас Атто наконец стал признавать сей тайный интерес и в обращенных ко мне речах. Неудивительно, что он был до смерти напуган, когда я упомянул о таинственном тетракионе в связи с Испанским наследством, и для него не было ничего важнее, как немедленно отправиться вместе со мной на «Корабль» на поиски следов загадочного предмета. При условии, что речь действительно шла о вещи, как я сам подумал: – Пардон, синьор Атто, но все же мне далеко не все ясно. Камеристка испанского посольства говорила о Тетракионе как о наследнике испанского трона, то есть как о человеке. Судя по тому, что рассказали вы, это, наоборот, вещь. – Дело в том, что я знаю об этом не больше тебя, – кратко ответил он. Такого ответа мне было недостаточно, и я хотел уже возразить, как вздрогнул от неожиданного шума. Я хорошо услышал его – это не были отзвуки музыки. – Это вы? – Нет. И ты это отлично знаешь. Наступил момент, когда нужно было оглядеться и выяснить, кто тут шныряет так близко от нас.
Из среднего окна салона их было видно довольно хорошо. Они были там, в саду. Он, молодой человек, не особенно высокий и выглядевший беспомощным. Мне удалось хорошо рассмотреть его. Нельзя сказать, что он был некрасив, однако маленькие глаза, казалось, еще не нашли своего места на лице, черты которого были размытыми, а нос – слишком большим и толстым. Он находился в том молодом возрасте, когда тело подвержено влиянию буйных весенних сил и расширяется изнутри, словно хочет разорвать нежную детскую оболочку. Неуверенная нервная походка выдавала его горячее желание, как хорошо воспитанного молодого человека, быть галантным и одновременно наконец-то вести себя свободно. Затем она. Со своего места (мы прижались носом к оконным стеклам, но стояли слишком далеко) я мог видеть только ее профиль. Конечно, я узнал ее после вчерашней встречи. Сначала он держал ее за руку, затем вдруг отпустил и забежал вперед, повернулся к ней и шел, оживленно жестикулируя, говоря какие-то любезности. Он шутливо положил руку на рукоять своей шпаги, жестами и мимикой изображая дуэль. Она смеялась и предоставляла ему свободу действий. Ее шаг был легким, она шла почти на кончиках пальцев, как балерина, вращая в руках зонтик из розового кружева – волшебный бокал, в который она ловила его слова. Ее прическа слегка растрепалась – очевидно, после недавних объятий и поцелуев, которые она, видимо, страстно желала продолжить как можно скорее, сейчас же, за ближайшей живой изгородью. Мы уловили только бессвязные обрывки разговора. – Я бы с удовольствием… Если бы вы только знали… – услышал я его слова среди шума листьев. – Ваше величество, если вы… тогда может произойти… – донесся ее ответ. Я повернулся к Атто. Он отступил на несколько шагов от окна. Он наблюдал за происходящим, застыв, словно каменный истукан, с остекленевшими глазами, напряженными челюстями и сжатыми губами. Когда я повернулся к той паре, она уже скрылась среди деревьев. Мы некоторое время не двигались с места и как прикованные смотрели туда, где только что была эта пара. – Та девушка… она очень похожа на портрет мадам коннетабль в молодости, – нерешительно проговорил я. – Но и у молодого человека такое знакомое лицо… Атто молчал. А между тем опять зазвучал мотив фолия. – Может быть, я видел где-то его статую или портрет… Такое может быть? – продолжал я, не решаясь высказать свое предположение открыто. – Действительно, он имеет некоторое сходство с одним из бюстов на главном фасаде «Корабля», там, в одной из ниш. Но прежде всего он напоминает портрет, который ты видел здесь, внутри здания. – Какой? Он ничего не ответил. Затем глубоко вздохнул, словно освободился от тяжкого бремени, которое, невидимое, до сего момента лежало на его душе. – В этом проклятом месте происходят странные вещи, которых я не могу понять. Может быть, здесь из земли исходят ядовитые миазмы: я знаю, такое случается в некоторых местах. – Вы хотите сказать, что мы стали жертвами галлюцинаций? – Возможно. Как бы там ни было, мы находимся здесь с определенной целью и никому не позволим становиться у нас на пути. Это ясно? – внезапно громко крикнул он, как будто бы в этих стенах кто-то еще слушал его. И снова на нас опустилась тишина. Атто опять прислонился к стене и пробормотал какие-то непонятные мрачные проклятия. Я подождал, пока он успокоится, затем задал свой вопрос. – Кажется, это он, не правда ли? – Идем наверх, – ответил он, молча соглашаясь со мной.
Хотя каждый из нас с самого нежного возраста слышал множество историй о всевозможныхдухах и привидениях, которые вследствие своей суггестивной силы приучали нас к мысли о том, что рано или поздно мы неизбежно столкнемся с одним из этих феноменов, сам я никогда еще не был свидетелем столь необъяснимого явления. Пока мы по винтовой лестнице поднимались на верхний этаж, я раздумывал о бессмысленности этих видений: сначала Мария Манчини, то есть молодая мадам коннетабль – или кто бы там ни был, – появилась в сопровождении взрослого мужчины-дворянина. А теперь она явилась нам, галантно беседующей именно с тем королем-любовником, которого описал в своем рассказе аббат Мелани. Таким образом, я сначала узрел его в виде мраморной статуи, затем на портрете (на «Корабле» их было достаточно) и, наконец, во плоти: если, конечно, то романтическое и робкое существо в саду действительно состояло из крови и плоти. Мне хотелось бы слепо верить предположениям Атто, что это был только мираж, вызванный нездоровыми испарениями вокруг виллы. Однако твердый мрамор лестниц под ногами я ощущал так же явственно, как и призрачную, опасную атмосферу этих видений. Я предпочел бы бегство в сон, но я парил где-то посредине, наполовину в мерцающем болоте, где как будто поселилось ожившее прошлое, чтобы на несколько мгновений снова связать перед моим смущенным взором разорванные нити истории, как в призрачной игре огней. Но еще не наступил час найти ответы на эту загадку, поскольку в данный момент мы искали следы совсем иного призрака: ночного кошмара и страхов Мазарини.
Когда мы поднялись наверх, я пережил еще один сюрприз. Мы находились в широкой галерее, которая, по моему представлению, была не менее ста тридцати рут в длину и двадцать в ширину. Пол был выложен майоликой трех цветов, и каждая плитка казалась кубиком с выпуклыми сторонами. Стены покрывала богато украшенная рисунками позолоченная штукатурка, которая благодаря искусной игре волют притягивала взор и направляла его вверх. На огромном потолке зала мы увидели великолепную фреску с изображением Авроры. Даже Атто не смог удержаться от возгласа восхищения. – Аврора работы Пьетро ла Кортоны… – почтительно прошептал он, обратив лицо к потолку и на миг забыв о наших поисках и зловещих призраках. – Вы знаете эту картину? – Когда она была создана более тридцати лет назад, весь Рим I знал, что свершилось чудо, – сказал он со сдержанным восторгом. За Авророй на следующей части потолка следовало изображение полудня, а затем – ночи. Таким образом, три фрески впечатляюще отображали течение дня – от первых проблесков утренней зари Авроры до полутеней вечерних сумерек. Картины поменьше на торцевых стенах зала были посвящены морским пейзажам и многим другим мастерски исполненным ландшафтам. Пространство между окнами было заполнено изысканной коллекцией оружия, свидетельствующей о высокой учености ее владельца: двенадцать больших собраний трофеев самого разного старинного и современного оружия лепной работы, вделанных в металлические барельефы с золотыми украшениями. Были там и мечи, и пушки, прицелы и ножные латы, нагрудные латы и кривые сабли, а также копья, железная броня, панцири, мортиры, камнеметы, булавы, перначи, карманные пистолеты, шпоры, боевые топоры, знамена, стрелы, колчаны, шлемы, стенобитные орудия, алебарды, факелы, военные облачения и многое, многое другое. – Это старое железо понравилось бы Сфасчиамонти, – заметил аббат Мелани. При оружии имелось краткое изречение на латыни, указывающее на значение данного предмета для защиты тела и духа: – «Abrumpltursi nimis tends» – если натянешь его слишком сильно, он сломается, – улыбаясь, перевел Атто, прочитав выбитый над боевым луком девиз. – «Valldlorl omnia cédant» – тот, кто сильнее, побеждает всех, – ответил я ему изречением, отчеканенным на пушке. – И вправду, невероятно, – пришел он к выводу. – На «Корабле» нет ни единого уголка, капители или окна, у которого не было бы своего собственного девиза. Не дожидаясь меня, аббат удалился, глубоко погруженный в свои мысли. Я догнал его. – И самое безумное: какая музыка звучит в этих стенах, задрапированных добрыми советами? – громко возмутился он. – Folia, музыка помешательства! Он был прав. Мотив фолия, исполняемый на струнном инструменте, доносился все ближе и ближе, как будто сопровождал наше изучение надписей. Его неожиданное открытие этого парадокса пробудило в моей голове беспорядочный вихрь мыслей, смысла которых я, конечно, еще не понимал. – Значит, вы уже не считаете, что все это мы только вообразили себе? – спросил я. – Совсем наоборот, – поспешно отозвался он. – Однако эта музыка, вероятнее всего, доносится до наших ушей с какой-то соседней виллы, где кто-то как раз импровизирует на тему фолия.
После этих слов Мелани пошел дальше. На обеих сторонах галереи было по семь окон. Через центральные можно было попасть на два балкона, выходящих в сад, один на восток, другой на запад. Мы повернулись к той части галереи, которая вела на юг, в направлении дороги. Галерея заканчивалась полукруглой лоджией с большими арочными окнами. Перед фронтоном здания выступала платформа, опирающаяся на стену, которая отделяла виллу от внешнего мира со стороны дороги. На ней находился фонтан: две русалки несли шар, из которого била очень высокая струя воды. Услажденный этим видом взор возвращался обратно и находил под куполом крыши лоджии фреску с аллегорическим изображением Счастья, окруженного Добром, которое ему сопутствует. Тихий плеск одинокого фонтанчика распространял свой шепот по всему второму этажу. На боковых фасадах, на каменных кладках балконов, были еще два искусственных источника (один из них мы уже слышали, находясь в переднем дворике), и вместе с самым красивым и самым большим фонтаном перед крытой сквозной галереей они образовывали притягательный треугольник серебристо-светлой щебечущей воды, наполнявшей своим плеском всю галерею. – Взгляните сюда! – изумленно воскликнул я. На створках двери, ведущей к одной из двух галерей с фонтанами, был полностью воспроизведен сонет Капитор о счастье:
СЧАСТЬЕ
Мы продолжили осмотр. Как мы заметили, вся полукруглая лоджия, и ниши, и ставни окон в галерее были исписаны изречениями. Мой взгляд случайно упал на одну из них. – «Из особой ненависти великих рождается несчастье целых народов», – громко прочитал я. Атто посмотрел на меня с некоторым удивлением. Разве это не то, чему он учил меня своим рассказом о любовных страданиях «короля-солнце», которые в конце концов обернулись разрушительной силой? – Ты только посмотри, – вдруг сказал он глухим от волнения голосом. До этого момента нас занимали фрески, пословицы, трофейное оружие и лоджия, но сейчас наконец мы обратили свои взоры на другой, северный конец галереи. Хотя с тех пор прошло немало времени и необычайные события быстросменяли одно другое, я до сих пор помню то головокружительное чувство, которое тогда охватило меня.
У галереи не было конца. Ее стороны удлинялись, тянулись параллельно до бесконечности, и у меня было такое чувство, будто глаза выскакивают из орбит, когда мой беззащитный взгляд упал в эту пропасть. От невыносимого блеска света, врывающегося снаружи, стены галереи сливались в одно целое с трофейным оружием, потолочными фресками и, наконец, с могучей, праздничной и внушающей ужас картиной, которая, обрамленная стеклянными окнами галереи, как в прицеле охотника, величественно вырисовывалась на горизонте: Ватиканский холм.
* * *
– Браво, браво, Бенедетти, – с похвалой заметил Атто. Прошло несколько минут, прежде чем мы поняли, что с нами произошло: северная стена галереи состояла из одного стеклянного окна, выходящего на прямоугольную лоджию. Вокруг окна стена была покрыта зеркалами, в которых повторялся и удлинялся вид галереи, так что она казалась бесконечной. Конечно, этот эффект проявлялся только в том случае, если наблюдатель находился на достаточно большом удалении и, кроме того, на одинаковом расстоянии от обеих стен, и только там. В центре торцевой стены, то есть в фокусирующей точке этой архитектурной воронки, добавлялся еще прямой вид на Ватиканский дворец, и нужно было лишь подойти поближе к окну, чтобы к панораме прибавился еще и купол собора Святого Петра. Следовательно, эта вилла в форме корабля своим носом была нацелена точно на резиденцию Папы Римского. Непонятно только, являлось ли это знаком почтения или, скорее, угрозы. – Я этого не понимаю. Такое впечатление, будто смотришь в ствол пушки, словно мы могли выстрелить отсюда по ватиканским дворцам, – удивился я. – Вы знали Бенедетти. Как, по-вашему, это особое положение «Корабля» – случайность? – Я бы сказал, что… Он умолк на полуслове. Внезапно мы услышали шаги. Кто-то был в саду. Атто не хотел, чтобы я заметил его беспокойство, но забыл, что собирался сказать, и нервно направился дальше.Мы обследовали помещения по обеим сторонам галереи, всего их было четыре. Сначала – маленькая часовня, затем умывальная комната. Над входом в первую было написано: «Hic anima», a над второй – «Hic corpus». – «Здесь для души», «Здесь для тела», – перевел Мелани. – Ну и шутник. Комната для умывания была отделана весьма изысканно, облицована майоликой, и в ней имелось даже два умывальника. Вода в них текла из двух кранов, над одним была надпись «calida», над другим – «frigida». – Теплая и холодная вода по желанию, – прокомментировал Атто. – Невероятно. Даже у королей нет таких удобств. С улицы опять донесся скрип песка. Шаги, как показалось, были более поспешными, чем перед этим. – Вы правда не хотите пойти и посмотреть, не те ли это двое… Кто там, собственно, на улице? – Конечно, хочу, – ответил он. – Но сначала мне надо хорошенько осмотреться на этом этаже. А если не найду и тут ничего интересного, переберемся на верхний этаж. Как и ожидалось, маленькая часовня также была испещрена поучительными изречениями. Атто прочел случайно выбранное. – «leiunlum arma contra diabolum» – «Пост – это оружие против дьявола». Не мешало бы напомнить об этом их преосвященствам, которые предаются чревоугодию в доме кардинала Спады. Два оставшихся помещения были посвящены папству и Франции: комнатка с портретами всех пап и другая, с портретами королей Франции и королевы Кристины Шведской. Над дверями висели две таблички: «LITERA» – для пап, «ET ARMA» – для королей. – Папам – забота о душе, королям – защита государства, – объяснил Атто. – Разумеется, Бенедетти не был сторонником власти Церкви, – засмеялся он. В комнате, посвященной Франции, на стенах висели два роскошных гобелена с буколистическими сюжетами, которыми, как мне показалось, очень заинтересовался аббат Мелани. На первом была изображена пастушка, на заднем плане – сатир, пытающийся похитить другую пастушку, схватив ее за волосы, – напрасная затея, поскольку на голове у нее был шиньон из искусственных волос. На втором гобелене молодой человек с луком и стрелами склонился над раненной в бедро нимфой, одетой в волчью шкуру. Все это было заключено в раму, украшенную цветами, свитками с письменами и рельефными медальонами.
– Здесь – Кориска и Амарилли, а здесь – раненая Доринда: это две сцены из «Pastor fido», «Верного пастуха» – знаменитой буколистической трагикомедии кавалера Гуарини, которая уже более ста лет пользуется оглушительным успехом во всех христианских королевских дворах, – с довольным видом пояснил он. – Посмотри сюда и восхитись ими, мальчик мой, это, без сомнения, два самых прекрасных настенных ковра, вытканных французскими мануфактурами. Они сделаны гениальными руками Ван дер Планкена, или дела Планше, если хочешь, – уточнил он с видом знатока. – Эльпидио Бенедетти купил их по моему совету, когда более тридцати лет назад прибыл во Францию. – Они действительно очень красивы, – согласился с ним я. – Изначально их было четыре, но я посоветовал Бенедетти доставить два из них в палаццо Колонны в качестве подарка для Марии Манчини, которая в то время пребывала в Риме. Один лишь я знал, как они ей понравятся. Вернувшись в Рим, я увидел, что она повесила гобелены в своей комнате прямо над секретером. Она всегда любила опасность: годами они висели прямо перед глазами ее мужа, и он так ничего и не заметил! – засмеялся он. – Ее супруг не заметил, что эти настенные ковры висели рам? – спросил я, ничего не понимая. – Отнюдь, я хотел сказать, что он ни разу не заметил, что… Ладно, оставим это, – неожиданно уклонился от ответа Мелани. – Я мог бы представить себе, что «Верный пастух», очевидно, была одной из любимых книг Марии Манчини и короля, когда они встречались, – предположил я, все же пытаясь понять, что именно хотел сказать Атто. – Приблизительно так, – пробормотал он себе под нос и резко повернулся к гобелену спиной, делая вид, что заинтересовался картиной, изображавшей лесную идиллию. – То есть многие тогда любили читать это произведение. Очень знаменитая вещь, как я тебе говорил. Мне показалось, что аббат хотел что-то сказать, и понял, что я догадался об этом. – Не люблю выбалтывать любовные секреты Марии и его величества, – заявил он заговорщицким тоном. – Особенно те, о которых знали лишь они двое. – Лишь они двое? Но ведь и вы знаете об этом, – с сомнением констатировал я. – Да. Я – и больше никто.
* * *
Мне показалось крайне странным, что ни с того ни с сего у Мелани вдруг заговорила совесть: раньше он по любому поводу с наслаждением рассказывал мне самые секретные и интимные эпизоды из жизни короля, и казалось, что такого понятия, как угрызения совести, он вообще не знает. Наоборот… Я только хотел что-то ответить, как снова услышал шаги. Они приближались с внушающей страх скоростью и направлялись снизу вверх. Мы повернулись к винтовой лестнице в другом конце зала, по которой всходили наверх. Одеревенев, как две сушеные рыбы, скованные страхом, будто гипсом, хотя ни один не хотел показать это другому, мы, словно зачарованные, ждали, когда покажется кто-то чужой. Шаги по мрамору производили такое рассеянное эхо, что трудно было понять, куда следует повернуться, если не знать, где находится лестница. Шаги раздавались все ближе, и я мог бы поклясться, что они звучат сейчас в галерее. Затем они стихли. Мы, замерев, направили свой взор на другой конец галереи. Нигде не было видно ни души. И тут произошло такое… Между нами выросла огромная и непонятная тень. Мы проиграли. Существо находилось прямо за нашими спинами, на пороге галереи, откуда открывался вид на Ватикан. С быстротой молнии у меня в голове пронеслась одна мысль: я спрашивал себя, как могло получиться, что оно материализовалось непосредственно позади нас, в полной тишине, – и мысль эта явилась в ту самую секунду, когда его когти впились в мое левое плечо и я осознал, что полностью нахожусь в его власти. Потеряв рассудок от ужаса, я чуть-чуть повернул голову и увидел привидение. Оно было худое, плохо одетое, с орлиным носом. Глаза глубоко запали, кожа на лице натянута. Мне не надо было опускать глаза, чтобы понять остальное. Хватило запаха: от шеи до низа живота его рубашка была залита кровью. – Бюва! – закричал Атто. – Что вы здесь делаете? Он не ответил. – Твоя… твоя жена, – прохрипел бледный призрак, оборотясь ко мне. – Беги! Немедленно! Он оперся на стену. Затем сполз на пол и потерял сознание.9 июля лета Господня 1700, вечер третий
Я бежал так, что казалось, у меня вот-вот разорвется грудь. Подгоняемый первым вечерним бризом уже клонившегося к вечеру дня, я промчался не такое уж малое расстояние между «Кораблем» и виллой Спада с такой скоростью, на которую меня не смог бы подвигнуть даже страх перед смертью. – Клоридия, Клоридия! – время от времени с ужасом восклицал я. – А девочки? Где они могут быть? Резец страха четко вырубил перед моим мысленным взором картину всего пути, который мне придется преодолеть: вбежать в поместье с главного входа, промчаться по аллее до дома, внутри дома сократить расстояние, взлететь на второй этаж и быстрее добраться до покоев княгини Форано… Едва, однако, впереди замаячила ограда виллы Спада, до меня дошло, насколько это будет трудно: у ворот было настоящее столпотворение. На площадь перед зданием, куда выходила триумфальная арка и где уже несколько часов было не протолкнуться из-за множества карет, домашней прислуги, лакеев и просто бездельников, как раз въезжал эскорт одного из самых почетных свадебных гостей: Луи Гримальди, князя Монако и посла христианнейшего короля Франции. Я попытался проложить себе дорогу, но это было невозможно. Из соседних сел сбежалось множество любопытных, и всем жадно хотелось узреть могущественных правителей. Каждому не терпелось хотя бы одним глазом взглянуть на кардиналов, князей и послов, приглашенных на свадьбу. Еще хуже была толкотня в потоке людей, которые под бдительным взором двух вооруженных охранников пытались пробиться на виллу или выйти из нее. Прямо перед воротами толчея была неописуемой, стоял невыносимый шум, и почти ничего нельзя было вообще увидеть в облаках пыли, поднятых копытами лошадей, а толпа медленно качалась взад и вперед, тщетно подгоняемая теми, кто пробовал развернуться или жаждал въехать на виллу. – С дороги! С дороги! Я служу на вилле Спада, пропустите меня! – орал я как безумный, пытаясь пролезть вперед, однако никто не слушал меня. В этот момент перед нами одна карета сдала назад; две женщины с громким криком чудом выскочили из-под колес, одна из них, увернувшись, пошатнулась и упала на меня. Я не удержался на ногах и грохнулся на землю, но, пытаясь ухватиться за кого-нибудь, увлек за собой еще какого-то несчастного, который, в свою очередь, повалил соседа. Таким образом, я очутился на земле в куче рук и ног и едва поднялся, как увидел, что из этого незначительного инцидента возникла драка. Два конюха старательно дубасили друг друга палками. Рядом двое кучеров с ожесточением толкали друг друга, затем один выхватил нож, и тут чей-то голос громко позвал стражников. Мне было не до драки, я пытался всеми силами пробиться к своей Клоридии, волнуясь так, что сердце было готово выскочить из груди. Однако уже у самого входа путь преграждали кареты, и пройти было просто невозможно. И тогда я бросился очертя голову в толпу и попытался ужом проскользнуть сквозь лес ног, сапог и деревянных башмаков. В результате я получил сначала удар локтем, а затем тычок от какого молодого парня. Я пригнул голову и, используя ее как таран, приготовился атаковать, чтобы пробить себе дорогу. Парень, вытаращив большие голубые глаза, удивленно и обреченно смотрел на меня. Я взял разбег… Однако вместо того чтобы врезаться в мягкий живот, моя голова наткнулась на нечто твердое, которое хотя и обхватило мою голову, но тем не менее не двинулось с места. Чья-то огромная рука схватила меня за волосы и с силой подняла мне голову. – Клянусь всеми полевыми змеями! Мальчик, ты что тут делаешь? Ты срочно нужен своей жене! Сфасчиамонти держал меня за волосы и рассматривал с насмешкой и удивлением. – Что случилось с Клоридией? – заорал я. – С ней не произошло ничего. Ас княгиней Форано случилось что-то приятное. Идем со мной. Он поднял меня вверх и понес к воротам на своих могучих плечах. Подобно Ганнибалу, сидящему на спине своего боевого слона, я получил с этой выдающейся позиции прекрасный обзор. В кричащей толпе возникло новое волнение: князь Монако бросал из окна своей кареты деньги народу. Подчеркнуто театральным жестом сей господин вынимал мелкие монеты из маленького кошелька и подбрасывал их высоко в воздух, так чтобы они проливались на голову публики блестящим денежным дождем. По его лицу было видно, какое удовольствие он получает от вида плебеев, отчаянно дерущихся за то, что для него ничего не стоило. – Какой же бахвал этот князь Монако, – прошептал Сфасчиамонти, когда мы пробирались мимо вооруженных охранников, стоящих на пороге дома, и наконец-то зашли в него. – Бросать деньги в народ принято с балкона собственного дворца, а не перед чужой виллой. – Ну говорите же наконец! – потребовал я уже спокойнее и сполз с плеч Сфасчиамонти вниз на землю. – У Клоридии все в порядке? А у моих дочурок? – Все живы и здоровы. А что, Бюва тебе ничего не сказал? Княгиня Форано подарила жизнь маленькому очаровательному мальчику, твоя жена принимала роды, и ей понадобилась помощь. А пока она ждала дочек, то спросила о тебе. Никто не знал, где ты, и тогда Клоридия попросила разыскать аббата Мелани. Его тоже нигде не было, поэтому Бюва предложил свою помощь. Его сразу же заставили выносить окровавленные простыни, и он перепачкался кровью. И тут он внезапно побледнел, сказал, что ему плохо от вида крови, и побежал искать вас. А где, черт возьми, были вы?* * *
В этот момент у нас глаза чуть не вылезли из орбит от изумления: на площадь выехала невеста, юная Мария Пульхерия Роччи, сопровождаемая почетным эскортом. В ее свите было одиннадцать карет, и, кроме того, множество экипажей было прислано кардиналами, послами, князьями и знатными кавалерами римского двора. Парад лошадей возглавляла почетная шестерка, которая, как известно, называется Vanguardia; за ней следовали первые три упряжки, везущие нарядные кареты. Все они заслуживают отдельного подробного описания (хотя из-за своего малого роста я мог наслаждаться лишь ограниченной видимостью). Первая упряжка, которую сразу же восторженно приветствовали зрители, везла невесту. На позолоченной карете были изображены четыре времени года; впереди – осень и зима, сзади – лето и осень. В центре же на троне восседало Солнце, как неизменная причина смены этих времен года, а у его ног текли две реки, сливающиеся в конце в одно целое, – и все это было окружено веселыми сценами с детьми-ангелочками. За этой упряжкой, как принято на свадьбах аристократов, следовала простая карета черного цвета, она была пустая. Затем ехал экипаж с семьей невесты. Снаружи он был обтянут зеленым бархатом, а внутри обит зеленой парчой, расшитой золотом. Карета была украшена изображением двух символизирующих Славу фигур, играющих на трубах. Рядом с ними музы Живописи и Ваяния держали в руках атрибуты своей достойной деятельности. Наконец, третья карета, обитая внутри темно-красной материей и ехавшая с показной скромностью без сопровождения, везла настоящего триумфатора этого праздника, кардинала и государственного секретаря Фабрицио Спаду. По богатству и великолепию карет можно было судить о щедрости кардинала, поскольку именно ему захотелось подарить невесте племянника всю эту роскошь; конечно, точнее его щедрость можно было бы оценить, если хотя бы приблизительно знать ту баснословную сумму, в которую обошелся ему этот благородный жест. – Говорят, двадцать шесть тысяч скудо, – шепнул мне один молодой лакей в толпе. Между тем, кортеж под аплодисменты верноподданного народа, стоящего на обочине, втягивался в длинную подъездную аллею, поместья. Прибыв на площадь перед прелестным фасадом дома Спады, кортеж повернул направо и поехал вдоль апельсинового сада, чтобы затем, свернув за сливовыми деревьями в сторону часовни, исчезнуть из моего поля зрения. Я заторопился, поскольку хотел как можно скорее заключить свою супругу в объятия. Я взглянул на окна второго этажа, где, как я знал, находились комнаты княгини Форано, но не смог ничего рассмотреть. Тогда я решил подняться наверх, до дверей благородной дамы: конечно, я не имел права даже решиться постучать в них, но, может быть, мне удастся приблизиться к Клоридии. Наверное, она была занята новорожденным, уходом за роженицей и прочими хлопотами. Войдя в коридор, я обнаружил, что там никого не было: все спустились вниз, чтобы полюбоваться кортежем невесты. Однако за полуоткрытой дверью я услышал звонкий, как серебро, голосок моей жены. – Не вкусил материнского молока Клеофан, злой сын великого Фемистокла, и по той же причине погибли Ксантипп, сын Перикла, Калигула, сын Германика, Коммодус – сын Марка Аврелия, Домициан, сын Веспасиана, и Авессалом, сын Давида, которого я, конечно же, должна была назвать первым. Неудивительно, что Эгист стал прелюбодеем, ведь он был вскормлен козьим молоком! Ромула вскормила волчица, и с ее молоком он всосал наклонность к жестокости, отчего поднялся против брата своего, Рема, и похитил не только множество овец, но и сабинянок. Я тут же все понял. В конце концов, недаром я знал наизусть весь репертуар речей, которые произносила моя Клоридия у ложа рожениц. Делом ее сердца в те часы, которые следуют за удачными родами, было убеждать роженицу в пользе вскармливания младенца материнским молоком.– Не будете ли вы так любезны согласиться со мной, княгиня, что узы любви, соединяющие мать и ребенка, хотя и возникают посредством родов, но укрепляются во время кормления, способ ствующего росту младенца, а это происходит, только если мать кормит его своим молоком, – разъясняла она сладким, располагающим тоном. Строцци молчала. – Примером может служить Гракх, отважный римлянин, – продолжала Клоридия. – Возвратясь из победного военного похода в Азию, он увидел, что из ворот Рима к нему бегут его мать и кормилица. И вынул он два подарка, которые добыл в походе: серебряное кольцо для матери и золотой пояс для кормилицы. И пожаловалась мать, что ее ставят после кормилицы. И ответил ей Гракх: «Мать, вы родили меня, после того как выносили девять месяцев в своем лоне. Однако сразу после родов вы отлучили меня от груди своей и от постели своей. А эта кормилица приняла меня, ласкала и служила мне не девять месяцев, а три года». Княгиня продолжала молчать. – Речь сия, пусть даже из уст язычника, должна заставить нас покраснеть от стыда, – настаивала Клоридия, – ибо мы, рожденные христианами, исповедуем веру истинную и совершенную, в основе которой лежат милосердие и сострадание в делах и поступках наших: если она учит нас возлюбить даже врагов, то насколько сильнее она учит нас любить детей наших! – Милая моя, – услышал я усталый, но решительный голос, который, как я предполагал, принадлежал княгине, – я достаточно настрадалась из-за этого малыша, как и из-за троих его братьев и сестер, чтобы и дальше терять силы, отдавая им свое молоко. – О, выслушайте меня, – умоляла ее моя несгибаемая супруга, – подумайте только, какого удовольствия вы лишаете свое родное создание, не допуская его к материнской груди. Я думала, Вы никогда не сделаете ничего подобного. Для младенца нет лучшего времени, способного сравниться с этим по сладости своей. И что, в конце концов, может сравниться со счастливым смехом крошки, когда он открывает крохотный ротик, а его маленький носик и все лицо утопает в теплой материнской груди! Однако умилительные картины, которые моя прекрасная супруга пыталась вызвать в воображении княгини, казалось, ничуть не трогали благородную даму. – Почему я должна приносить такие жертвы? – ответила она с оттенком нетерпения в голосе. – Для того чтобы получать пинки, как только он научится делать первые шаги, и неблагодарность и высокомерие, когда он станет взрослым? – Вот в этом-то и причина того, что в наше время дети так мало любят своих родителей, – решалась высказать свое мнение Клоридия. – Бог так пожелал, чтобы дети отвечали на недостаток сердечного тепла в детстве недостатком любви, когда вырастут. – Мой муж уже некоторое время назад нанял кормилицу. Он вызвал ее, и она скоро придет. А теперь – хватит, а то малыш, чего доброго, проснется. Уходи, я хочу отдохнуть, – резко перебила Клоридию княгиня. Клоридия с мрачным лицом и сжатыми кулаками вышла из комнаты, почти не обратив на меня внимания. Она поспешно бросилась вниз по лестнице для прислуги, я побежал следом. Добравшись до кухни, она дала волю чувствам. – О, эти современные роды! – гремела она. Несколько кухарок с любопытством оглянулись на нее. – Клоридия, что случилось? – спросили они. – А, ничего! Как опухоль, распространяется вредный обычай, – сказала она, мимикой и выразительными жестами копируя благородных дам, с которыми ей приходилось иметь дело. – Матери считают зазорным и низким давать грудь плоду, который отягощал их лоно своим весом! Кухарки, сообразив в чем дело, начали смеяться. Одна из них, у которой, как я знал, была двухлетняя дочка, вытащила грудь и выдавила из нее молоко, брызнувшее тонкими струйками, чтобы показать, что она все еще кормит дочь грудью. – Это что, кажется им низким? – ухмыльнулась она. – Прощайте, детки, прощайте! – бушевала между тем Клоридия, бегая по кухне с широко расставленными руками, чтобы выпустить на волю гнев на княгиню Форано. – Те, кто произвел вас на свет, уже не любят вас, поскольку вы обнаглели настолько, что причиняли боль во время родовых схваток. И вот так новорожденного в Европе заставляют начинать с чужой груди, хорошо еще, если не с коровьего вымени. От такого неправильного питания потомство оказывается под знаком вырождения. Материнская природа, разочарованная этим, считает, что ее предали, молоко уходит из груди, потому что его изгоняют страх перед уродством и отвращение к тяготам. Вот вам и причина отчужденности между ребенком и родителями. Благородное чувство детской любви чахнет уже в колыбели, если пища грубая. Если тело питается грубым коровьим молоком, то это ослабляет развитие ума. С молоком человек впитывает наклонности, а они низкие, если молоко из стойла! Я уже не в первый раз был свидетелем таких спектаклей моей супруги. И всегда повторялась одна и та же история: если Клоридия принимала роды у аристократки, то после благополучного разрешения от бремени Клоридия изо всех сил старалась убедить мать дать новорожденному свое молоко вместо молока кормилицы либо, что еще хуже, козьего или даже коровьего молока. Все было напрасно: то, что для женщины из простонародья было естественным делом (и не в последнюю очередь просто потому, что не было денег па всякого рода экстравагантности), в глазах графини выглядело как недостойный, бесстыдный и тяжкий труд. А Клоридия, которая кормила наших малышек первые три года грудью, очень страдала от такого непонимания и никак не могла смириться с ним. Наконец возмущение Клоридии закончилось тяжким вздохом разочарования, и она с нежной улыбкой повернулась ко мне и обняла. – Где ты пропадал? Когда у княгини лопнул плодный пузырь, я попросила позвать дочек, но помощь требовалась немедленно, а этот бедный парень, Бюва, при виде крови чуть не помер от страха. – Я знаю, извини, но у меня прекрасная новость, – сказал я, собираясь рассказать ей о соглашении между мной и Атто относительно приданого девочек. – Не сейчас, расскажешь позже. Мы должны успеть переодеться: я ни за что не хочу упустить невесту. Дело в том, что прислуга и домашние работники виллы получили разрешение от дворецкого, дона Паскатио Мелькиори, присутствовать на свадьбе, конечно, наряженные в праздничную крестьянскую одежду, специально сшитую для них. Мы должны были создавать буколическое обрамление церемонии венчания, в полной гармонии с сельской местностью, где мы находились. Я пришел первым. Клоридия опаздывала, потому что ждала наших дочурок, которым разрешила краешком глаза посмотреть па свадебную пару. Когда я добрался до часовни, свадебная церемония была в полном разгаре. Дон Тибальдутио только что решился на проповедь. Все собрались на площади перед церковью, где издавна справляли помолвки. Мужчины сидели за женихом, женщины – за невестой. Дон Тибальдутио начал: – Мы собрались все здесь, почтенные и высокоблагородные господа, чтобы отпраздновать заключение брачного союза, а союз есть величайшее сокровище человеческой жизни, что я вам сейчас докажу. Преимущественно четыре вещи являются опорой республики. Первое – это религия. И то, что это истинно, мы видим: там, где нет религии, нет страха и перед Богом. А там, где нет страха перед Богом, нет справедливости. А где нет справедливости, там нет мира. А там, где нет мира, не существует единства. А где нет единства, там не может быть настоящей республики. И на этом истинно видно, какое значение имеют религия и страх перед Господом нашим, от которого зависят все наши деяния. Следовательно, Божья милость есть то, что дает нам суть и благо на этой земле, а на том свете дарует вечный покой. Вторая по важности из четырех вещей есть справедливость, которая карает плохих и богохульников и награждает хороших. Средствами справедливости сохраняется мир, а он чрезвычайно важен для существования республик. Третье – это именно мир, без которого республикам не сохраниться, ибо если нет мира, то нет и единства. Четвертое и последнее, самое важное, – единство, без которого религия была бы слабой, справедливость – неустойчивой, а мир – бессильным. Следовательно, если в республике нет единства, то религию исповедуют в малой мере, справедливость спит, а мир рушится. Пока дон Тибальдутио продолжал проповедь, я наблюдал за свадебной парой. Со своего места, однако, я мог мало что рассмотреть, если не считать роскошной и пышной одежды невесты и ее прически. Время от времени я посматривал на группу служанок, к которой должна была присоединиться моя Клоридия. И вскоре появилась она, в сопровождении наших дочек – красивая, как никогда, в костюме крестьянки, в белых, красных и розовых красках свадебного торжества. Мои дочери не уступали ей ни в чем: они были одеты в костюмы, сшитые матерью: старшая в платье из желтой камчатной ткани с рукавами из розовой камки, расшитой искусственным золотом, а младшая – в платье телесного цвета, украшенном синим позументом. Все трое держали в руках красивые, с белыми цветами, ветки, которыми они вместе с другими служанками должны были с ликованием махать невесте и ее кортежу после окончания церемонии венчания.
– Там, где нет единства, – тем временем выходил из себя капеллан, – правит вражда, всегда приводящая к гибели, что я сейчас докажу вам на примере античной истории. Первая вражда возникла на небесах между высочайшим Божественным добром и Люцифером. Вторая – между Адамом и змием. Третья – между Каином и Авелем. Четвертая – между Иосифом и его братьями. Пятая – между Помпеем и Цезарем. Шестая – между Александром и Дарием. Седьмая – между Марком Антонием и императором Августом. Эта вражда стала причиной очень большого горя. Итак, единство – величайшая сила и величайшее сокровище человеческой жизни, оно хранит все государства этого мира. Но как достичь единства? Философ говорит, что мужчина и женщина телесно соответствуют друг другу, то есть должны чувствовать взаимное физическое притяжение; а оное вызывает бесконечное множество чудесных последствий. Однако же истинно, что в душах тоже должно царить согласие, и тогда оно принесет великолепные плоды. И вдруг я заметил, что Клоридия и ее подруги оживленно перешептываются и, закрывая рот руками, едва сдерживают смех. Причину я вскоре понял, едва невеста повернулась в мою сторону, и я на какой-то миг увидел ее лицо: Мария Пульхерия Роччи, попреки своему имени, была не то что pulchra,[1324] честно говоря, она была очень даже безобразной. – Недаром в старые времена было принято зажигать пять свечей, – не унимался капеллан, – старые люди придерживались убеждения, что три, непарное число, символизирует духовное начало, а парное число два – материю. Таким образом, брак должен быть соразмерным сочетанием формы и материи, в котором можно распознать мужчину как духовное и активное начало и женщину как телесную и пассивную суть. И действительно, древние празднуя свадьбу, заставляли мужчину касаться огня, а женщину – воды, ибо огонь освещает, а вода сохраняет свет; но это также означало, что огонь по причине своей сущности осветляет, а вода – очищает; так что из этого обычая можно сделать и другое заключение, а именно: брак должен быть ясным, чистым, непорочным и заключаться между равными. Оливкового цвета кожа, отмеченная оспой, очень тонкие, так что казалось, их нет вообще, губы, толстые и бледные щеки, низкий лоб, маленькие, лишенные блеска глаза – все это делало Марию Пульхерию Роччи похожей на рыбу. «Ссылка дона Тибальдутио на взаимное физическое влечение не могло быть более неуместным», – подумал я, улыбаясь. Однако смех застрял у меня в горле, когда тихий голос моей совести напомнил мне, что и я вряд ли мог бы назвать себя Адонисом… Мой взгляд устремился на Клоридию. Я долго любовался ею: нежной, как фиалка, кожей, всем ее чудесным видом довольной супруги и матери. И она выбрала меня. По доброй воле. Чего не скажешь о женихе, Клименте Спаде: причины, которые в конце концов подвигнули его на брак с малопривлекательной Роччи, наверное, покоились на гораздо белее прозаичном фундаменте, чем те, которые однажды необычайным образом свели нас с Клоридией. – К браку нужно прийти через любовь, – предупредил публику дон Тибальдутио и перешел к завершению, увидев, что в толпе высочайших верующих начинают зевать, – и он не должен противоречить установленным нашей святой матерью, христанско-католической церковью законам и правилам. Его нужно хранить в нерушимости и в вере, как святыню, и первой целью брака является желание иметь детей или избегать греха излишества. Кто воспринимает его иным образом, не заслуживает того, чтобы быть причисленным к христианам. После длинной проповеди, которой капеллан встретил жениха и невесту, наконец началась церемония венчания. – Кольцо на руке, драгоценное украшение на груди, корона на голове, – торжественно произнес дон Тибальдутио, в то время как девственницы возложили эти три предмета на скамеечку, куда должны были опуститься на колени молодожены для благословления. – Кольцо означает чистоту акта, как протянутая рука – чистоту помыслов и доверие к супругу. Украшение показывает чистоту сердца. Корона – ясность духа, ибо в голове обитает ум. Как раз в тот момент, когда дон Тибальдутио давал благословение, я увидел его: демонстрируя верность императорскому дому Габсбургов, он был одет строго по испанской моде, а на его кайзеровских значках блестели двуглавые орлы. Граф фон Ламберг, императорский посол при дворе Папы Римского, наблюдал за церемонией с почтением истинного верующего и с застывшим, как у сфинкса, лицом. Я поискал взглядом Атто и сразу нашел его: капли пота на лбу, на лице свинцовые белила, щеки горят кармином, на одежде до смешного много желтых и красных кистей и бантов (его любимые цвета). Атто ни на секунду не отрывал напряженного взора от фон Ламберга. А посол, одетый в строгий костюм из серого броката с твердыми, украшенными серебром кружевами, пи единым движением не выдавал, что вообще замечает, объектом какого пристального внимания он стал, и продолжал смотреть только на капеллана. Я вспомнил о таинственных смертях при испанском дворе, о подозрительных отравлениях, о страхе Марии Манчини за жизнь Атто. Аббат написал, что хочет побеседовать с послом лично. Даст ли Ламберг ему аудиенцию?
* * *
Покидая после церемонии венчания вместе с толпой других слуг площадь, я увидел, что ко мне приближается Клоридия с нашими почками, которые прыгали вокруг нее, – она напоминала Диану В окружении нимф. С цветущими ветками в руках, они принимали участие в свадебном кортеже, сопровождавшем невесту на пути к ее новой семейной жизни, и были в совершенном восторге от такой чести. Оркестр исполнял во время этой церемонии возвышенную музыку маэстро Корелли, служившую милым музыкальным контрастом проповеди дона Тибальдутио. Клоридия, которой нужно было взглянуть на ребенка княгини Форано, дала мне задание найти для дочурок в кухнях виллы какую-нибудь еду, отвести их затем домой и уложить спать. Я успел украсть у нее несколько мгновений, чтобы показать написанное от руки обещание Мелани. Клоридия от удивления широко раскрыла глаза. – Если бы я не увидела это написанным черным по белому, то ни за что бы не поверила! – воскликнула она, подпрыгнув от радости, обняла и поцеловала меня. Однако у нас было мало времени. Перед тем как убежать, довольная Клоридия сообщила мне маленькую информацию, которую услышала во время свадебной церемонии от своих верных подружек из числа служанок, больших любительниц посплетничать. – Если тебя это интересует, сегодня вечером на ужин прибудет кардинал Албани, – заявила она и подмигнула мне. Албани. Мы с Атто тщетно искали его на «Корабле», а теперь он сам прибыл к нам.* * *
– Говорят, здоровье кардинала Буонвизи оставляет желать лучшего, – включился в разговор пожилой кардинал Коллоредо, сопровождая свои слова глотком муската. Будучи Великим духовником, то есть исповедником кардиналов, он всегда знал обо всем. Между тем свадебный банкет был в разгаре и уже начинало темнеть. Дон Паскатио приказал вызвать меня, чтобы я заменил одного из «факедодержателей», который плохо себя чувствовал. Переодевшись в янычара, я с факелом в руке присоединился к праздничному ужину. Молодоженов и их родителей вместе с кардиналом Спадой, как ангелом-хранителем, на всякий случай посадили за отдельный стол. Хозяин дома этой мерой преследовал две цели: с одной стороны, семье невесты была оказана особая честь, а с другой – сам он таким образом ограждался от опасности быть втянутым в политические споры. При собрании более восемнадцати кардиналов они легко могли превратиться в обличительные диатрибы, и если бы кардинал – госсекретарь церковного государства – принял в них участие, то это оставило бы плохое впечатление. Освещенные большими трех– и четырехрожковыми канделябрами, на сервировочных столах, блестя на солнце золотом и серебром, возвышались серебряные кубки для напитков, хрустальные графины, чаши, солонки, разделочные ножи, большие кружки, бокалы и сервировочные подносы, маленькие стаканы, большие подносы со сливовым «ледяным снегом», рыбными котлетами из горбуши, большими кефалями с клубникой, нарезанной кружочками, на одном столе была только рыба, на другом – дичь, а еще один ломился от прекрасных овощей, на последнем столе стояли свежие и засахаренные фрукты. Все столы радовали глаз, и только для этого они и были тут накрыты, ибо я знал, что для еды приготовлены другие, еще более изысканные блюда, чем эти лакомства. Услышав плохую новость о состоянии здоровья кардинала Буонвизи, все, изображая печаль, покачали головами. – Да, правда, он себя чувствует не особенно хорошо, он сам написал мне об этом на прошлой неделе, – поддержал разговор Атто, подчеркивая этим свою дружбу с кардиналом и намекая на то, что тот делится с ним такими личными делами. – Однако я думаю, что он скоро выздоровеет, чтобы… потому что мне действительно дорого его здоровье, – сказал Коллоредо, на минуту выдав себя: исповедник кардиналов надеялся, что Буонвизи поправится, чтобы принять участие в конклаве, который ожидался вскоре. Коллоредо не мог знать, что Буонвизи умрет через несколько недель, 25 августа, и что самому ему осталось жить всего два года. Какое-то провидческое озарение, однако, заставило его сказать с отсутствующим выражением лица: – 13 июня умер кардинал Майдальчини. 3 марта – Казанте. У многих присутствовавших здесь кардиналов, большинство из которых были уже в преклонном возрасте, пробежал мороз по коже. Между тем была подана вторая перемена четвертого блюда. Для того чтобы дать отдых желудку и время подготовиться к следующему наслаждению, подали разбавленный лимонным соком шербет из ягод смородины. Затем последовала жареная форель, нашпигованная ломтиками лимона и уложенная на круглые бисквитные кексы, наполненные маринованными вишнями и лимонными цукатами; паштет в форме яиц, фаршированных осетром и гусиной печенкой; верхушки спаржи, каперсы, кислые сливы, кислый виноград, вареный яичный желток, лимонный сок, мука и топленое масло – все под слоем сахара; черепахи без головы (так требуется меньше приправ), тушеные в каменных горшках на огне из древесного угля, с добавлением поджаренного миндаля, печеночного паштета, пахучих трав, мускатного вина, с миндально-медовыми пряниками и спиралевидной лапшой, покрытой сахарным глясе и слоем из половинок фаршированных яиц. – Ваше преосвященство не должно при таком радостном событии, как эта прекрасная свадьба, направлять свой ум на печальные вещи, – предупредил кардинал Мориджиа, тот самый, которого попугай Цезарь Август накануне вечером обозвал дураком. – И вообще хватит расхваливать достоинства умерших. Нет необходимости знать наизусть даты смерти. – Я бы этого не делал, – сказал Коллоредо, – однако, как вы знаете, с тех пор как появилась эта проблема с девятнадцатым числом… После этих слов никто не решился открыть рот. Все знали, о чем идет речь, даже я, прочитавший об этом в бумагах Атто. Дело в том, что в прошлом году три кардинала умерли с перерывом ровно в один месяц: Джованни Дельфино, патриарх Аквилеи, 19 июля; кардинал де Агуирре 19 августа и кардинал Фернандес де Кордова, великий инквизитор Испании, – 19 сентября. И, конечно, в октябре каждый кардинал в Европе со страхом ждал, что этот список продолжится и на этот раз наступит его очередь. На счастье, этого не случилось, а следующим, кто умер, был кардинал Паллавичини, который разорвал этот круг, скончавшись только 11 февраля. Коллегия кардиналов издала большой вздох облегчения. – Бедный Дельфино, насколько я имел честь его знать, был бы великолепным Папой, – проговорил Атто. Он назвал имя того, о ком все думали, и выдал свое близкое знакомство еще с одним кардиналом. – Жаль, что дела развивались иным образом, потому что кое-кто был слишком ревностным. Атмосфера накалялась. – Есть чересчур рев-ност-ные субъекты, которые заносятся настолько, что дают незнакомым лицам советы с одной лишь целью – замарать достойных людей, – как бы между прочим добавил он. Сгустившаяся атмосфера стала почти свинцовой. Слово «ревностный», на котором дважды сделал акцент Атто, относилось к партии так называемых «ревностных кардиналов», именуемой так потому, что она провозглашала независимость кардинальской коллегии от влияния иностранных держав, и в нее входили Коллоредо и Негрони. Как я узнал из поучительного чтения сообщений аббата Мелани, кардинал Дельфино, который был дружен с Атто, на последнем конклаве девять лет назад был близок к тому, чтобы его избрали Папой. «Ревностные», не желавшие допустить того, чтобы иностранные королевские дома взяли в свои руки выборы Папы, использовали против Дельфино самые грязные средства. Атто своими намеками напомнил о том, что в свое время Коллоредо написал письмо исповеднику «короля-солнце», патеру Ля Шезу (который вообще не был знаком с кардиналом), советуя поддержать кандидатуру кардинала Барбарино, также одного из «ревностных». Негрони, кроме того, распространил слух, будто Дельфино в молодости даже убил какого-то человека кочергой: тот и в самом деле сделал это, однако защищаясь от грабителя, ворвавшегося к нему в дом и угрожавшего ножом. В конце концов злобные измышления одержали верх, и вместо Дельфино Папой был избран кардинал Пиньятелли, тот самый Папа, чья смерть была уже близка. – Истинно в любом случае то, что наш нынешний Папа, Иннокентий XII, является святым и мудрым Папой, – подчеркнул кардинал Негрони, давая сигнал тем, кто знал подоплеку этого дела, что травля Дельфино, в общем-то, была не таким уж вредным делом. Атто промолчал. – Это, между прочим, доказывает и его булла «Romanum decet Pontificem», – напомнил Негрони об указе Иннокентия XII, которым вскоре после своего избрания понтификом он запретил родственникам Папы обогащаться за счет Церкви. – Я не знаю, кому еще достало бы мужества решиться на такую меру. Это был еще один намек на Дельфино: дабы воспрепятствовать его избранию, «ревностные» распространили слух о том что у Дельфино куча племянников и он сделает их всех богатыми за счет ватиканской казны. За свадебным столом воцарилось молчание. Слышалась лишь шумная работа челюстей, неторопливо перемалывающих английский паштет из зажаренных на решетке морских султанок, приготовленных в соусе из олив, веточек фенхеля и каперсов, с тарталетками, сливовым шербетом, кружочками лимона и палочками с дражированным миндалем и корицей. Интриги внутри курии определенно одержали верх над свадебным праздником. Напряжение, вызванное этой словесной перепалкой, хотя и ведущейся в утонченной форме, передалось и нам, носителям факелов: что касается меня, то я вспотел еще сильнее. Никто не решался прервать ядовитую дуэль между Атто и Негрони.– О, то, что выговорите, несправедливо по отношению к предыдущему Папе, – ответил Атто с легкой улыбкой. – Если бы князь Одескальки находился сегодня вечером среди нас, не знаю, как бы он прокомментировал ваши слова. – Он – племянник Папы Иннокентия XI, который правил до этого Папы, но никогда не избирался кардиналом, потому что его дядя не хотел слышать упреков в том, что он покровительствует своим родственникам. – Ну и что? – спросил Негрони. – Как бы это вам сказать, ваше преосвященство… Разное говорят. Все это, разумеется, злые языки. Как поговаривают, князь Одескальки даетимператору, который легко проигрывает огромные суммы, деньги взаймы и предложил полякам восемь миллионов гульденов, чтобы его избрали королем, словно этот титул можно продавать. И еще утверждают, будто бы он заплатил двадцать четыре тысячи, чтобы перехватить ленные владения Орсини… Он, племянник Папы, боровшегося с непотизмом…[1325] – Я говорю еще раз: ну и что? – Ну, это доказывает – по крайней мере, так воспринимается общественностью, – что именно тогда, когда был устранен непотизм, настали действительно золотые времена для племянников пап. Неодобрительный ропот стал громче: Атто посмел говорить плохо о князе Одескальки, который из-за плохого самочувствия остался дома (поговаривали, что он ипохондрик). Разумеется, ему обязательно передадут эти слова, а также то, что Атто ведет себя неуважительно по отношению к пока еще живому Папе, который запретил непотизм официально. Это было действительно неудобно, поскольку каждый надеялся однажды нажиться на несправедливости этого мира, но все быстро изобразили полное согласие. – Я не намерен оскорбить его светлость, Боже меня упаси, – продолжал Атто, – я просто так болтаю, чтобы развлечь высокие умы, среди которых я сегодня вечером так незаслуженно оказался. Итак, кардинал Альдобрандини, племянник Климента VIII, или кардинал Франческо Барберини, племянник Урбана VIII – и я могу привести еще много других примеров, – не раздумывая ни минуты отказались от всех удобств и радостей Рима, чтобы защищать интересы Церкви, даже если нужно было сражаться в далеких странах вместе с войсками. Поэтому я спрашиваю себя: можем ли мы действительно также… – Ну хватит, аббат Мелани, это уже слишком! Сказал это кардинал Албани. Сидевшие за столом удивились не только решительному тону, с каким он прервал Атто. Как я узнал из занимательных заметок аббата, именно Албани собственноручно составлял только что упомянутую Негрони буллу против непотизма и вместе с хозяином дома кардиналом Спадой был одним из кардиналов, кто поддерживал контакты между Святым престолом и Францией. Кроме того, он числился среди самых влиятельных членов кардинальской коллегии. Албани был среди лучших студентов иезуитов в Римской коллегии. Преподававший там знаменитый эллинист Пьетро Пуссин рано распознал в нем способности к латыни и греческому языку. Еще безусым студентом он поражал всех своей зрелостью, обратив на себя внимание переводом на латынь толкования святого Софрония, патриарха Иерусалима. Кроме того, он обнаружил в одном монастыре рукопись второй части византийско-греческой «Четьи Минеи» Базилиуса Порфирогенитуса, которая давно считалась пропавшей. Сразу же после этого Албани перевел «Хвалу» диакона Прокопия об евангелисте Марке, которая была включена отцами-болландистами в Acta Sanctorum. Короче говоря, Албани уже в юные годы проявил острый ум и большую ученость – предвестники его будущих блестящих успехов. После защиты докторской диссертации по юриспруденции он сделал молниеносную карьеру, став сначала губернатором Риети и Витербо, а потом, при двух последних Папах, секретарем Бревена – принципиальная должность, которую приберегали только для самых умных голов. Одной из порученных ему задач было поддержание отношений с Францией, из-за чего его очень скоро стали упрекать в симпатиях к этой стране. Возможно, и не без причины: в 1699 году, то есть всего лишь год назад, многие требовали от Папы издать буллу, проклинающую французского аббата Фенелона, подозреваемого в ереси. Албани ответил на требование, выпустив папскую грамоту «Cum Alias», в которой хотя и были преданы проклятию тридцать две фразы из книги Фенелона, но нигде не упоминался термин «ересь». Более того, он поспешил написать письмо Фенелону, чтобы проинструктировать его о формах подобающего смирения, которое последовало так быстро, что даже получило письменное одобрение Папы. Кардинал Албани был слишком молод, чтобы быть избранным Папой (ко времени событий, о которых я рассказываю, ему исполнился пятьдесят один год), тем не менее он являлся одним из самых доверенных советников трех последних Пап, посредником в делах с Францией и фактическим инициатором важнейших теологических и политических начинаний. Была лишь одна-единственная деталь: Албани был кардиналом, но не был священником. Дело в том, что он не прошел высшего рукоположения, однако этот недостаток не являлся редкостью среди кардиналов, и часто они помогали ему перед конклавом, чтобы не упустить возможности (никогда не знаешь, что будет!) быть избранным на папский престол. Таким образом, Атто вызвал неудовольствие очень важного человека, который к тому же поддерживал самые тесные связи с кардиналом Спадой. – Ваше преосвященство, я преклоняюсь перед всем, что вы говорите, – ответил Мелани с соблюдением всех форм вежливости. – Ради бога, – проговорил Албани с сердитой гримасой, – только не кланяйтесь. Однако я спрашиваю: вы, собственно, знаете, о чем говорите? – Ваше преосвященство, я уже ничего не говорю. – Вы упомянули фамилии и факты. Я спрашиваю вас: вы не подумали, что являетесь гостем кардинала – государственного секретаря? – Я действительно чувствую себя весьма польщенным. – Хорошо. А вы думали когда-нибудь о том, что у понтификов до Иннокентия XI вместо государственного секретаря были кардиналы-непоты, которые занимали эту должность лишь потому, что являлись родственниками пап? – Честно говоря, это происходило и позже, по крайней мере при Александре VIII. – Да-а, согласен, – Албани поздно понял свою ошибку и, скрипя зубами, исправился: – Я просто хотел сказать, что блаженной памяти Папа Иннокентий XI, оказавший мне, тогда еще совсем молодому человеку, честь, назначив референдарием обеих сигнатур, начал эту справедливую реформу, благодаря которой мы сегодня можем сказать, что при нынешнем Папе не только нет больше кардиналов-непотов, но и таких непотов, которые стали кардиналами. Мориджиа, Дураццо, Негрони и другие засмеялись, чтобы поддержать Албани и загнать Атто в угол. Действительно, Иннокентий XII, нынешний Папа, никого из своих племянников не назначил кардиналом. – Это, наверное, судьба или предопределение, – упрямо произнес Атто и засунул себе в рот кусочек кислого, посыпанного сахаром фруктового пирога. На какое-то время воцарилась тишина. Затем у Албани вырвалось: – Вы знаете, чего я не переношу, аббат Мелани? Того, что люди вроде вас, с вашей приверженностью к французам, портят сегодня всем присутствующим здесь кардиналам, князьям и дворянам настроение и радость от застолья. Обвинять святую церковь в том, что она ничего не видит и не слышит, так же абсурдно, как утверждать, будто король Франции все видит и все может! «И этого Албани считают сторонником Франции», – удрученно сказал я себе, ибо то, каким образом кардинал заткнул рот Атто, основательно опровергало это подозрение. Атто слушал совершенно спокойно и терпеливо разделывал вилкой фруктовый пирог, не теряя самообладания. Я же, наоборот, изо всех сил старался не закатывать глаза и сохранять неподвижное положение, как и полагается держателю факела. Шеф-повар был ошеломлен: он не мог и подумать, чтобы их преосвященства затеяли ссору, вместо того чтобы, при виде всех этих лакомств, которые он выставил на столы, душой и телом предаваться чревоугодию. Дон Паскатио, прятавшийся за одной из колонн, на которых держались полотнища навеса, пришел просто в отчаяние. Впервые в жизни ему выпала такая честь – собрать за столом столько кардиналов, и вот теперь эта радость была омрачена неожиданной выходкой Албани: такая вспышка ярости была столь необычна для носителя пурпурной мантии, что возникала опасность, как бы он не опрокинул свой стул, проклял виллу вместе с ее гостями и покинул праздник. – Спокойствие, ваше преосвященство… – попытался утихомирить его граф Видсачи. – Действительно, эти французы… – услышал я ворчание князя Боргезе. – Ода, они и вправду уже привыкли назначать Пап, сидя в Париже, – поддержал его барон Скарлатти. Выступление Атто было весьма смелым. Употребив слово «предопределение», он намекнул на опубликованную четыре года назад книгу «Nodus praedestinationis», автором которой был покойный кардинал Сфондрати, автором же предисловия – Албани. Однако Албани, хотя и был чрезвычайно сведущ во многих вопросах, тем не менее не заметил, что эта книга, рассматривая некоторые довольно щекотливые теологические вопросы, отходит часто от ортодоксального трактования. Августинские и янсенистские круги потребовали немедленного осуждения этой книги святой инквизицией. Дело удалось замять, но эта история поставила как Иннокентия XII, так и Албани в весьма неловкое положение. Это было одно, но весьма заметное пятно на его, в общем-то, безупречной репутации. Злые шутки Атто, его странное поведение в этот вечер весьма удивили меня, ведь накануне за ужином он почти все время молчал. Почему же сейчас аббат поддался искушению не только сболтнуть лишнее, но и говорить колкости присутствующим? Как он мог позволить себе таким наглым образом провоцировать друга и близкого соратника хозяина дома? И разве Атто до этого не провозгласил неприлично откровенно свою профранцузскую позицию? «Все знают, что он агент на службе у христианнейшего короля Франции, но демонстративно показывать свою принадлежность к этому лагерю, – сказал я себе, – крайне неосторожно. Если он будет продолжать в том же духе, то никто не рискнет больше появляться в его обществе, ибо это будет опасным сигналом приверженности этого человека королю Франции». Албани наконец успокоился. Атто же, недовольный произведенным эффектом, снова взял слово: – У вашего преосвященства слишком острый ум, чтобы не простить мне ошибку, если она случится, и слишком высокое благородство, чтобы не быть снисходительным, если я кратко напомню вам, что у Папы Александра VIII было два племянника, которые являлись государственными секретарями: кардинал Рубини – он был таковым по форме, и кардинал Оттобони – тот был им по существу. И тем не менее Папа сказал знаменитые слова: «Внимание, пробило двадцать три часа!» Сие должно было означать, что так не может больше продолжаться. А он был предшественником нашего нынешнего Папы! Итак, вы видите, что… – Должен сказать вам, аббат Мелани, что вы, очевидно, намерены всерьез разозлить их светлостей, – перебил его дон Джованни Баттиста Памфили, семья которого не раз пользовалась непотизмом, а сам он благодаря веселому и милому характеру мог легко придать разговору другой тон и другой оборот. – Да. Поистине мы живем в святом году и нужно сознаваться в грехах: правильно, но в своих, а не в чужих! Смех соседей по столу заставил расслабиться некоторых «ревностных кардиналов», сидевших с натянутыми лицами, и смягчил неприличные провокации Атто. – Князь Монако, новый посол христианнейшего короля Франции, пару дней назад совершил очень достойный въезд на Квиринал, чтобы приветствовать святого отца, прибыл в роскошном экипаже, сопровождаемый бесчисленными прелатами и дворянами, – включился в разговор монсиньор д'Асте, сделав попытку поддержать отвлекающий маневр Памфили. Под столом, однако, кто-то, видимо толкнув его ногой, дал добрый совет ни при каких обстоятельствах не упоминать слова «Франция», поскольку лицо д'Асте скривилось от боли и он моментально замолчал, не ожидая ответа от соседей по столу. – Монсиньор Тряпочка никогда не поймет слов «что» и «когда», – прошептал князь Боргезе барону Скарлатти. Взволнованный сверх всякой меры, обливающийся потом шеф-повар дал приказ немедленно принести больше вина, чтобы внести какое-то оживление и отвлечь застолье. – Во вторник высокочтимый приор доминиканцев с целой процессией нанес визит новому генералу ордена францисканцев, – начал Дураццо. – Да, я слышал об этом, – заметил Негрони, – он прошел весь путь по лестнице до Ара Коэли, неся крест на спине. Не хотелось бы мне знать, какое это было мучение! А поскольку мы как раз говорили о новостях, то я знаю, что тайный казначей его светлости сейчас в отъезде, он везет досточтимому Нуале кардинальскую шапочку в… – Да, это так, а тем временем ищут того, кто должен ее передать новым кардиналам, Ламбергу и Борджиа, – заявил Дураццо, которому едва удалось помешать Негрони произнести слово «Париж», где новоназначенный кардинал Нуале ожидал шапочку. Свадебный банкет подходил к концу, и все повернулись к столу молодоженов, потому что кардинал Фабрицио Спада поднялся с бокалом в руке, приветствуя неожиданное появление княгини Форано, которую доставили в портшезе, и это положило конец неприятным дебатам. Хотя новоиспеченная мать и ослабела после родов, она не хотела упустить возможности обнять невесту, которая была ее хорошей подругой, как сообщила мне Клоридия. Княгиня осталась сидеть в портшезе, малыша с ней не было. Разумеется, она уже отдала его кормилице, и отец малыша должен был сейчас принести его. Кардинал Фабрицио приветствовал княгиню речью: – Ошибался Аристотель, говоря, что женщина слаба, – бодрым тоном произнес он. – Самки хищных зверей – леопардов, медведей, львов и им подобных – сильнее и выносливее самцов, и такова женская природа, хочу я добавить, но, с другой стороны, женщины полны неги и обворожительны, и каждого из этих качеств достаточно, чтобы свести с ума Геркулеса или Атланта. Все засмеялись при этом остроумном и довольно пикантном наблюдении государственного секретаря. – И я не согласен с Аристотелем, – продолжал Спада, – когда он называет женщину «чудовищем» и «случайным животным». Здесь великий муж ошибся, возможно, потому, что его собственная жена выводила его из себя. Новый взрыв смеха окончательно раскрепостил души. Напряженность, которую незадолго до того вызвал аббат Мелани, теперь полностью исчезла. – Однако, – перешел на вкрадчивый тон хозяин дома, – такую женщину, как присутствующая здесь княгиня, несомненно, можно назвать сильной и отнюдь не слабой. Она достойна стать рядом с такими женщинами, как Ластения из Мантинеи и Аксиотея Филиалия, которые были ученицами Платона. И если истории о Пантасилии и Камилле считаются легендами, то примеры Зенобии и Фульвии, жены Антония, о которых рассказывается в «Деяниях Августа», абсолютно правдивы и исторически доказаны. И совершенно неоспорима история о добродетельных амазонках, которые, тем не менее, рожали сыновей. А кто не знает о славе легендарных женщин-сивилл, тот не знает ничего. Я вполне могу поставить этих женщин в один ряд с нашей роженицей, потому что все они, после Святой Богородицы, могут служить примером добродетели и мудрости для нашей присутствующей здесь невесты. И наконец раздались аплодисменты и прозвучал тост с добрыми пожеланиями для Марии Пульхерии Роччи: как еще только невесте, ей придавалось меньшее значение, чем роженице, и, кроме того, зеленое, как водоросли, рыбье лицо бедняжки, разумеется, не слишком располагало к подобным эпиталамам. – А жена Перикла Аспазия? – продолжал свою речь кардинал. – Или весьма образованная Арета, о которой вспоминает Боккаччо? Разве она не была матерью и философом одновременно? Она так хорошо умела растить своих чад, что даже написала весьма полезную книгу о воспитании детей и вторую, для самих детей, о тщеславии молодежи. И она же преподавала натурфилософию, ее учениками были сто философов, кроме того, она автор очень ценных трудов: книг об Афинских войнах, о власти тиранов, о республике Сократа, трактата о пчелах и еще одного – о предусмотрительности муравьев. Между тем было подано пятое блюдо, состоявшее из одних фруктов. Хотя я уже поел, но трюфели, поданные на поджаренных ломтиках хлеба с половинками лимонов, не оставили меня равнодушным, как и выставленные напоказ блюда из равиоли, приготовленные с топленым маслом, артишоками, пармезанским сыром, трюфелями, лимонным соком и корицей. К таким величайшим яствам не остались равнодушными и другие носители факелов, однако, подобно Танталу, они вынуждены были терпеть муки, слушая чавканье высоких господ. Затем наступила очередь олив из Асколи во фритюре, свежих головок буйволового сыра и испанских олив. – Разве сейчас не очередь фруктов? – тихо спросил барон Скарлатти князя Боргезе. – Фрукты тоже есть, – ответил тот, – это трюфели на ломтиках хлеба и цукаты из лимонов, а также оливы во фритюре с цветками лимона, которыми гарнированы свежие оливы. – Ага, я понял, – сухо ответил Скарлатти, на самом деле мало расположенный рассматривать подземные трюфели в качестве фруктов. Для взбодрения желудков все же подали блюда с очищенными фисташками и фисташками в скорлупе, торты с фисташками, пироги с сиенскими персиками, засахаренные головки салата и, кроме того, в честь кардинала Дураццо, имевшего генуэзские корни, блюда с засахаренными грушами из Генуи, сливами из Генуи, райскими яблоками из Генуи и цукатами из Генуи. В этот момент появился запеленатый младенец княгини Форано на руках у отца. – Minor mundus! – приветствовал его кардинал Спада таким именем «миниатюрный мир», которым в античности называли людей, имевших совершенный облик. Затем Спада благословил малыша и высказал свое пожелание: – Да будешь ты примером для нашей дорогой молодой пары, – сказал он в заключение. И снова был тост, затем слово брали многочисленные члены семей молодоженов, чтобы по очереди восхвалять, поздравлять и предупреждать жениха и невесту, а также давать им добрые советы, как это принято на банкетах подобного рода.
* * *
Покров ночи уже два часа назад милосердно опустился на нас, когда появился Сфасчиамонти с тремя оседланными лошадьми. Гости давно устремились к своим постелям, вкусив всевозможных яств. Мы с Атто ждали, как было договорено, в укромном месте недалеко от виллы Спада. Бюва, который на свадьбе выпил не один лишний стакан, тоже упал в объятия Морфея и уже храпел у себя в комнатке. – Куда мы направляемся? – спросил я, когда сбир помог забраться в седло сначала мне, а потом Атто. – В место, расположенное недалеко от Пантеона, – ответил он. Как Сфасчиамонти уже объяснил нам сегодня утром, ему доставили информацию, с помощью которой он мог подобраться к двум черретанам. Мелкая рыбешка, но пара настоящих имен чего-то стоили. Конечно, это были клички – Рыжий и Тухлый. Однако именно под этими цветистыми кличками два наших объекта были известны в уголовном мире Рима. Мы быстро преодолели дорогу к Тибру и рысью, в полном молчании, направились к центру города. Как и накануне, мы пересекли реку возле острова Сан-Бартоломео. Недалеко от Пьяцца дела Ротонда мы слезли с коней. Нас ожидал человек маленького роста, который держал лошадей под уздцы, пока мы слезали на землю. Это был друг Сфасчиамонти, он должен был присмотреть пока за лошадьми. Мы подошли к темному углу на площади перед Пантеоном, где стояло несколько повозок, связанных между собой железной цепью и закрытых на замок. Скорее всего, они принадлежали мелким рыночным торговцам. Это был глухой угол, где стояла кромешная тьма, воняло крысами и плесенью. Мы с Атто озабоченно переглянулись: площадь как нельзя лучше подходила для того, чтобы стать жертвой нападения. Однако Сфасчиамонти огорошил нас, сразу же приступив к делу. Он протянул мне лампу, которую мы взяли с собой и которая едва освещала место событий. Сначала он заглянул под повозки и разочарованно покачал головой. Затем остановился перед одной из них и взялся за нее руками. Отведя ногу назад, словно для разбега, Сфасчиамонти сильно пнул в темное пространство под повозкой. Послышался испуганный крик. – Ага, вот он и попался, – заметил сбир с рассеянной небрежностью, как если бы он нашел перо в ящике стола. – Именем губернатора Рима, монсиньора Рануцио Паллави чини, выходи, презренный пес! – приказал он. Поскольку не последовало никаких движений, он протянул вперед свою огромную руку и что-то сильно потянул. Раздались хриплые протестующие крики, которые стихли, когда Сфасчиамонти без особых церемоний извлек из-под телеги какого-то человека. Это был худой, одетый в лохмотья старик с длинной желтой бородой и редкими, словно пучок шпината, соломенными волосами. Других подробностей я не разглядел в темноте, которая, однако, не могла скрыть одну деталь: бедный старик распространял невероятное зловоние. – Я ничего не сделал, совсем ничего! – протестовал он, стараясь не выпустить из рук старое одеяло, которое он тащил за собой и на котором, наверное, спал до нашего прихода. – Ну и вонь, – заметил Сфасчиамонти, ставя трясущегося от страха несчастного старика на ноги, словно соломенное чучело. Сбир схватил бродягу за правую руку, несколько раз провел по ладони кончиками пальцев, будто ощупывал кожу. После такого своеобразного обследования он произнес: – В порядке, ты чист. Затем уже не так грубо, не дав сказать ни слова, он посадил старика на повозку, по-прежнему крепко удерживая за руку. – Ты видишь этих господ? – спросил он, указывая на нас. Это люди, которым некогда терять время. Иногда здесь ночуют два черретана. Здесь, поблизости. Я уверен, ты кое-что знаешь о них. Старик молчал. – Господа хотели бы поговорить с кем-нибудь из черретанов. Старик опустил глаза и молчал. – Я – стражник. Если захочу, сломаю тебе руку, посажу в камеру и выброшу ключ, – пригрозил Сфасчиамонти. Старик все еще молчал. Затем поскреб в голове, будто принимая решение. – Рыжий и Тухлый? – наконец выдавил он. – А кто же еще? – Они приходят сюда лишь изредка, когда нужно сделать какие-то дела, но я не имею понятия, чем они занимаются! Я ничего об этом не знаю. – Ты должен только сказать мне, где они сегодня ночью, – настаивал Сфасчиамонти, усиливая давление на его руку. – Я не знаю. Они каждый раз в новом месте. – Я поломаю тебе руку. – Попробуйте поискать у Термин.* * *
Наконец Сфасчиамонти отпустил руку несчастного, который торопливо снова засунул отвратительное одеяло под повозку и пополз на свое жалкое ложе. Пока мы шли к нашей следующей цели, сбир раскрыл нам некоторые подробности. – Там, где мы только что были, летом спит всякий сброд. Если у людей мозолистые руки, то это торговцы: человек работал, а потом впал в нищету. Если у них нет мозолей, то это черретаны: люди, которые никогда не зарабатывали себе на хлеб трудом. – Значит, поэтому вы ощупывали руку у старика, – сделал вывод я. – Конечно. Черретаны хотят жить, не работая, воровством и обманом. Сейчас пойдем к Терминам и посмотрим, повезет ли там больше. Эти два имени я слышал уже давно, и у меня руки чешутся наконец-то схватить их. При этих словах он закатал рукава, словно готовился драться с преступниками. Но кажется, он еще сильнее боролся со своим собственным страхом перед черретанами, который с каждым днем все возрастал. Чтобы найти Тухлого и Рыжего, требовалось немало везения. Указание торговца было крайне неопределенным: Термины, огромная площадь рядом с руинами терм[1326] императора Диоклетиана, куда свозили сельскохозяйственные продукты Агро Романо, была пустынной в ночное время. Мы покинули Пьяцца дела Ротонда и пошли в направлении Пьяцца Колонна, откуда свернули к Фонтана ди Тревии, к Монте Кавалло, затем добрались до Кваттро Фонтане и пересекли виа Феличе, которая привела нас к виа ди Порта Пиа, – и так мы добрались до Термин. Мы дошли почти без помех. Лишь вблизи от апостольского дворца на Монте Кавалло нас пару раз остановил ночной дозор, которому Сфасчиамонти показал свою верительную грамоту, после чего нас беспрепятственно пропустили дальше. Молчание было прервано лишь один раз, вблизи церкви Сан-Карлино, когда Атто спросил меня: – «Трелютрегнер», так сказал тебе черретан? – Да, синьор Атто, а что? – О, ничего, ничего. Мы наконец достигли цели, однако панорама вокруг Термин, как и ожидалось, не давала оснований для оптимизма. Не успели мы свернуть с виа ди Порта Пиа, как впереди возникла громадная тень зернохранилища Апостольской палаты, огромного многоэтажного здания, где хранилось зерно для выпечки хлеба. Зернохранилище, от которого зависело выживание обитателей Рима, имело форму громадной буквы S, которая примерно наполовину примыкала к гигантским остаткам терм. Руины стен античных терм, разрушенных как стихиями, так и человеческой алчностью, занимали всю оставшуюся часть большой площади Терминов. Внутри древних терм были прекрасные помещения, где когда-то находились плавательные бассейны. Сейчас вместо них была построена церковь Санта-Мария дейли Анжели, грубоватый неровный фасад которой был необычным образом возведен прямо из стен терм. С правой стороны в темноте можно было различить стену, окружавшую виллу Перетти Монтальто – невообразимо большое владение с виноградниками, многочисленными насаждениями и садовыми домиками, которое с большим размахом было построено по распоряжению блаженной памяти Папы Сикста V и несколько лет назад, когда его род угас, по завещанию перешло к князю Савелли. Если стоять перед зернохранилищем, то ограждающая стена виллы оказывалась сзади, а за ней находился сад монахов ордена Святого Бернара. Ни одно человеческое либо иное другое существо не попалось нам навстречу. Кроме немых громад терм и зернохранилища, нас приветствовали лишь стрекочущие цикады – эти безнаказанные нарушители ночного покоя. К вечернему летнему воздуху, оживляя его, примешивался резкий сладкий запах зерна. – А теперь? – спросил я, удивляясь представшему перед нами творению человеческих рук. Атто молчал, казалось, что его занимают другие мысли. – Я помню тут одно местечко, – сказал Сфасчиамонти, – и, по-моему, там нас ждет удача. Мы приблизились к зернохранилищу. С левой стороны находилась большая масса руин, и теперь мы снова стояли перед неровно выложенной каменной стеной, в которой виднелся неохраняемый вход. – Когда нет дождя, сюда приходит много народу, – тихо заметил Сфасчиамонти. Наконец мы отправились в руины. – Будьте осторожны, – предупредил Сфасчиамонти, – нужно знать, как вести себя с этими людьми. Если кто-то сейчас явится, буду говорить только я. Хотя стояла непроницаемая тьма и это жуткое место обманывало мои чувства, я был почти уверен, что в свете убывающей луны увидел, как на лице аббата Мелани мелькнула ироническая улыбка. Затем мы подошли к большому входу в виде огромной арки, ведущей внутрь руин. Пока мы шли, я живо представлял себе, какое пестрое общество собиралось здесь, в этих общественных банях, многие столетия назад: толпы римских патрициев и простой народ. И все принимали паровые ванны, делали ингаляции в этом уютном купольном здании, под крышей… Крыша. Она исчезла. Едва мы, войдя через большой портал, углубились в руины, как мой взор, привлеченный лунным светом, невольно устремился вверх, и я удивился стоическому холодному мерцанию звезд. Мы оказались под открытым небом на некоем подобии большой арены, которую со всех четырех сторон окружали циклопические стены античных терм. Время и человеческое небрежение навсегда убрали крышу, которую с огромным старанием возвели архитекторы и каменщики шестнадцать веков тому назад. В сиянии ночного светила в этом незнакомом месте можно было передвигаться, не боясь в любую минуту упасть. То тут, то там угадь/вались большие тяжелые каменные блоки, отливающие перламутром в белом свете звезд, печально лежащие на земле колонны, усеянные фасетами капители. Среди этих фрагментов руин мы увидели фигуры людей, спящих на куче тряпья и стеганых одеял. – Черретаны и нищие. Они валяются повсюду, – прошептал Сфасчиамонти. – А как мы найдем здесь этих двоих? – ответил я таким же тихим шепотом. – Как же их зовут… Рыжего и Тухлого? Вместо ответа сбир отошел от нас с Атто и поднялся на возвышение, за которым угадывалось нечто вроде архитрава, который столь мягко просел в землю, что это выглядело так, будто он задремал, тщетно ожидая в течение долгих лет возвращения его императорского величества. Сфасчиамонти немного осмотрелся вокруг, затем нашел свою следующую жертву: жалкого бродягу, который спал почти у его ног. Однако своим обостренным чутьем, натренированным постоянным ожиданием опасности, бедняга почувствовал несущее угрозу присутствие сбира. Он перевернулся во сне пару раз с боку на бок, затем испуганно проснулся. Не успел бедняга двинуться с места, как Сфасчиамонти уже сидел на нем верхом. Мы осторожно подошли ближе, боясь мести его товарищей. Однако Сфасчиамонти напал на парня так быстро, что, кажется, никто из тех, кто спал под открытым небом, ничего не заметил. Сбир прижал руки своей жертвы коленями, уселся мощной задней частью на живот бедняги, и закрыл ему руками глаза и рот, чтобы тот не мог издать ни звука и узнать в лицо того, кто схватил его. Ловкость, с какой действовал сбир, наводила на мысль о том, что эти приемы, очевидно, уже приносили ему пользу в других ситуациях. – Рыжий и Тухлый. Два черретана: скажи мне, где они, – быстро прошептал он бродяге на ухо и чуть ослабил свою руку, чтобы тот мог хоть что-то пробормотать. – Спроси того, сзади, под полосатым одеялом, – ответил он, показывая на человека, спящего рядом. Сфасчиамонти быстро перешел к другому и применил ту же технику допроса. – Уже несколько дней не видел их, – прошептал тот, и я на короткий миг успел увидеть молодое лицо. – Не знаю, спят ли они сегодня здесь. Посмотри на той стороне, за рвом. Он показал на что-то похожее на канаву, от которой исходил едкий запах мочи, – очевидно, бродяги справляли там нужду. Сфасчиамонти отпустил парня, не забыв наградить напоследок обжигающим взглядом. Он сделал два-три шага в сторону канавы И вдруг мы услышали крик: – Roter, die Bschideriche! Du ein Har![1327] Это был молодой парень, которого только что допытывал Сфасчиамонти. Он с криком бросился бежать туда, откуда мы пришли, – к Терминам. – Хватай его! – приказал мне Сфасчиамонти, потому что я был ближе всех к беглецу. Вокруг меня между тем просыпались одетые в лохмотья и рваные плащи личности, возвращаясь к жизни. Я почувствовал, как кровь пульсирует в жилах и как у меня перехватило горло. Эта голая, еле освещенная луной площадь кишела не только бедными нищими, но нубийцами. Охотники и добыча в любой момент могли поменяться ролями. Скорее из желания убежать, чем кого-то поймать, я бросился следом за нашим парнем. Сфасчиамонти тоже кинулся в погоню за беглецом, и даже Атто пришел в движение, когда из темноты выскочила еще одна фигура и, прыгая по кочкам и ухабам, побежала к выходу. Оба субъекта довольно далеко оторвались от нас. Я хотел побежать на площадь, где мы оставили коней, но услышал крик Сфасчиамонти: – Не верхом, пешком! Он был прав. Парень сразу же помчался налево, в сторону ограждения, за которым простиралось бесконечное поместье Перетти Монтальто. Буквально через миг он очутился между стеной виллы, площадью и улицей, ведущей к виа Фелисите, и вскарабкался на стену. Пару минут спустя, после того как он спрыгнул во двор виллы, мы со Сфасчиамонти тоже добрались до этого места. – Сюда, сюда, здесь есть уступы, они их проделали! – задыхаясь, вскричал Сфасчиамонти и показал на множество пробитых в стене углублений, по которым можно было, словно по ступеням, ловко вскарабкаться на стену. Мы так и сделали: не долго думая, взобрались на стену и уселись на нее. Затем посмотрели вниз: если мы хотели соскочить со стены, то нас ожидал прыжок с высоты около четырех рут, то есть в два раза превышающей рост Сфасчиамонти. Вдали был слышен топот ног черретана, поспешно удаляющегося по песку садовой дорожки, находившейся под нами. Сидя на стене и болтая ногами, как два рыбака, которые преспокойно ждут, когда клюнет рыба, мы беспомощно смотрели друг на друга. Мы проиграли. – Проклятье, – прошипел Сфасчиамонти, тщетно ощупывая стену в поисках каких-нибудь новых уступов, – черретан точно знает, где есть ступеньки, по которым можно сойти вниз на этой стороне стены. Ему не надо было прыгать. Вернувшись назад, мы бросили взгляд на большую площадь под открытым небом, где совершили ночное нападение на спящих попрошаек. Полная тишина: на площади не было ни души. – Здесь несколько месяцев не будет никого, – заявил Сфасчиамонти. – А где аббат Мелани? – спросил я. – Должно быть, он преследует второго. Но если даже нам не повезло, то ему и подавно… – Тредабинтреихь, – вдруг услышали мы насмешливый довольный голос. Это был Атто, причем верхом на коне. В одной руке он держал пистолет, а в другой – концы веревки, обмотанной вокруг шеи того человека, который, как я видел, бросился бежать при крике первого черретана. Сфасчиамонти открыл рот от удивления. Он вернулся с пустыми руками, а Атто – победителем. – Рыжий! – воскликнул сбир и недоверчиво указал на пленника. – Уважаемые господа, разрешите представить вам Помпео из Треви, именуемого также Рыжим. Он работает черретаном и с этого момента находится в нашем распоряжении. – Клянусь всеми защитами для шеи на винтах, это действительно так, – согласился Сфасчиамонти. – Сейчас идем в тюрьму у Понте Систо, там мы его заставим говорить. Только еще один вопрос что, черт возьми, вы сказали, когда увидели нас? – То странное слово? Это долгая история. Возьмите этого несчастного, давайте свяжем его покрепче, и вперед. Как он и привык, Атто действовал вопреки правилам и разуму. Вместо того чтобы бежать за черретаном, как того хотел Сфасчиамонти, он сам, без посторонней помощи, хотя и с трудом, взобрался на коня. Но прежде убедился, в каком направлении побежал беглец: левее от первого, значит, на север, к поместью возле Кастро Преторио. Пришпорив своего скромного коня, Атто поспешил по следам черретана. В конце концов он увидел его, как раз когда тот, устав от бега, карабкался на стену, за которой росли цитрусовые деревья и простирались ряды виноградников, так что парень мог легко исчезнуть. – Еще мгновение – и я потерял бы его. Я находился слишком далеко, чтобы угрожать ему пистолетом. И тогда я ему кое-что крикнул. – Что? – То, чего он не ожидал. Кое-что на его языке. – На его языке? Вы хотите сказать, на ротвельше? – одновременно воскликнули мы со Сфасчиамонти. – Ротвельш, язык воров… все это чепуха. Больше того: треальтрелес треунзинн, – ответил он, смеясь, тогда как мы озадаченно переглядывались. По дороге, когда мы преодолевали участок пути от виллы Спада к Пьяцца дела Ротонда и дальше к Терминам, Атто снова и снова думал о таинственных словах, которые сказал мне черретан, когда я падал во двор на Камподи Фиоре. Внезапно его посетило озарение: вместо того, чтобы искать то, что имело смысл, надо было постараться найти то, что смысла не имело. – Идиомы, которые при случае употребляют эти босяки, глупые и простые, как их мозги. Принцип один: между слогами вставляется посторонний элемент, как иногда делают при шифровке писем, чтобы ввести в заблуждение читателей. Во время рассказа Атто наш странный конный караван следовал через Пьяцца деи Поллаоли в направлении Понте Систо: впереди Сфасчиамонти, на лошади которого сидел еще и черретан – руки его были связаны за спиной, а ноги спутаны веревкой так, чтобы он не мог делать большие шаги; за ним двигался Атто, а замыкал процессию я. – Что вы имеете в виду? – спросил я. – Это так просто, что мне даже стыдно объяснять. Они вставляют слог «тре» между другими. – Трелютрегнер… Значит, черретан сказал мне «люгнер»![1328] – Что ты ему крикнул тогда? – Великие небеса, я уже почти не помню… А, вот: я сказал ему, что Немец его убьет. – И действительно, это была ложь, ты просто хотел выиграть время. Именно так я и сделал, только немного иначе. Приветствуя вас, я сказал… – Tre-da-tre-bin-tre-ich. Это означало… Da bin ich.[1329] – Правильно. Итак, я кое-что крикнул Рыжему на третском языке – именно так я буду называть этот глупый язык со всеми его «тре». Это было последнее, чего ожидал Рыжий. Едва он услышал голос Атто, как у него задрожали руки, он потерял равновесие и рухнул на землю. – Разрешите вопрос: так что же вы сказали черретану? – Я сделал то же, что и ты, и крикнул первое что пришло в голову. – И что это было? – «Trepatretertrenostreter». Иначе говоря, Pater noster.[1330] – Но это же ничего не означает! – Я знаю, но он на какой-то момент подумал, что я – один из них, и замер от изумления. Он свалился на землю, как мешок с картошкой. Очевидно, он слегка поранился, по крайней мере сначала не хотел вставать, и у меня было время связать его. На счастье, конюхи, седлавшие коней, знают свое ремесло, веревка была достаточно длинной. Я его хорошенько зашнуровал и привязал конец веревки к седлу, а чтобы в голову парню не приходили разные глупости, направил на него мое оружие. Затем Мелани рассказал, что произошло возле терм Диоклетиана. Бродяга, которого Сфасчиамонти допрашивал, усевшись ему на живот, выдал нас. – Этот сукин сын, – просветил нас аббат, удостоив сбира иронической улыбкой, – послал тебя к некоему парню, однако не сказал о том, что это как раз и есть Тухлый – один из тех двоих, кого мы разыскиваем. И ты попался на эту удочку. Сфасчиамонти промолчал. – Значит, это Тухлый проорал Рыжему те странные слова? – спросил я. – Вот именно. Он предупредил его, что тут «Bschiderlche». А это, по-моему, означает «сбиры». – А потом еще добавил: «Du ein Har», должно быть, это значило «беги» или, может быть, «хватай оружие», – предположил я. – По развитию событий я склоняюсь к слову «беги». Это не «третский», а какой-то другой тайный язык, который пока трудно расшифровать, тут нужен опыт. Но все можно сделать. За исключением немногих моих вопросов, рассказ довольного Атто о том, как он схватил черретана, не прерывался ничем, кроме топота копыт по мостовой. Сфасчиамонти молчал, но, кажется, я мог бы описать его чувства. Он, который так гордился своей практикой сбира, вдруг вынужден был отдать бразды правления в другие руки. То, чего он не добился силой и угрозами, Атто достиг благодаря уму, хитрости и отчасти везению. Конечно, блюстителю закона, коллеги которого не принимали всерьез его разговоров о черретанах, было нелегко позволить другому первому поймать этих неуловимых черретан. И тем не менее это было так: благодаря молитве «Отче наш», прочитанной в неподобающем месте, у нас в руках очутился член таинственной секты. Именно в этом была причина и моего молчания. «Действительно странно, – говорил я себе, – что нам за такое короткое время удалось арестовать черретана, тогда как сбиры всего Рима, даже губернатор, монсиньор Паллавичини, отрицали их существование». Я решил спросить об этом Сфасчиамонти, но произошли события, которые воспрепятствовали моему намерению, поскольку именно в этот момент было принято решение, что я должен отправиться на виллу Спада, чтобы разбудить Бюва (в надежде, что он проспался) и доставить его в нужное место. Мои спутники были убеждены, что секретарь аббата Мелани может оказаться нам полезен (пусть даже в несколько необычном качестве, о чем я сейчас расскажу). Мы должны были встретиться прямо перед нашей следующей целью: тюрьмой возле Понте Систо, которая находилась в окрестностях Джианиколо, неподалеку от виллы Спада, на Тибре. Здесь мы собирались допросить черретана.* * *
Камера пыток была страшно убогой, стены покрыты пятнами – настоящий подвал, грязный и без окон. Единственное отверстие сверху на левой стене, закрытое решеткой, пропускало немного воздуха, а днем – еще и немного света. Черретан был все еще связан и страдал от боли. Его лицо было мертвенно бледным от страха перед тем, что придется закончить жизнь под топором палача. Он не знал, что его содержание в этой вонючей дыре было абсолютно незаконным. С помощью одного из многочисленных друзей Сфасчиамонти нам удалось тайно проникнуть в здание тюрьмы через боковой вход. Задержание Рыжего проходило вопреки всем законам: ведь черретан не совершил никакого преступления и у нас не было никаких улик против него. Тем не менее наступило время грязных игр, а к ним сбиры давно уже привыкли, однако я расскажу вам об этом позже. Сфасчиамонти снабдил Бюва широкой мантией и париком – он должен был изображать судебного нотариуса и составлять протокол допроса. Сам допрос будет проводить сбир. Нам с Атто отводилась второстепенная роль помощников сбира или кем там еще мы могли быть в этой ситуации. Благодаря тайному характеру нашей операции и полной неосведомленности задержанного в юридических вопросах, мы могли чувствовать себя достаточно уверенно. В комнате для допросов находился всего лишь один старый стол, освещенный толстой свечой. За него Бюва и сел, сразу же с важным видом положив перед собой бумагу, перо и поставив чернильницу. Чтобы придать обстановке больше правдоподобия Сфасчиамонти позаботился о некоторых мелочах. Рядом со свечой он разложил огромные судебные книги, такие как Commentaria tertiae partis in secundum librum Decretalium аббата Панормитания, Praxis rerum criminalium Дамодера и, наконец, внушающая панический страх De malificiis Альберта де Гандино. И хотя черретан не мог понять ни одного из этих слов, мы выложили все тома корешками в его сторону, чтобы эти мрачные названия, если, конечно, он вообще умел читать, усилили его убежденность в том, что он имеет дело с грозными карающими силами.Перед столом, рядом с Рыжим, заломив ему руки за спину и держа конец веревки, стоял Сфасчиамонти. Черретан был толстым коренастым молодым человеком. Широкий лоб, изрезанный глубокими горизонтальными морщинами – неоспоримыми признаками распутной жизни, маленькие голубые глаза, пухлые, круглые щеки, свидетельствующие о наивной, но надменной натуре. Причину, по которой он получил свою кличку, нетрудно было заметить: голову парня украшала густая копна торчащих во все стороны волос морковно-красного цвета. Еще не до конца проснувшийся и не совсем протрезвевший, даже слегка покачивающийся, Бюва сдвинул слишком большой парик набок и несколько раз кашлянул. Затем он начал писать, при этом громко читая монотонным,невыразительным голосом все те слова, которые выводил на бумаге: – Die et coetera et coetera anno et coetera et coetera. Roma. Examinatus fuit in carceribus Pontis Sixtis… Что такое? Сфасчиамонти поспешно прервал процедуру составления протокола, наклонился к Бюва, прошептав ему на ухо какой-то совет. – Да, конечно, да-да, – согласился тот. И только позже мы узнали, что по настоянию сбира Бюва пропустил дату протокола, чтобы тот смог зарегистрировать отчет, когда сам того захочет. – Итак, начнем еще раз с самого начала, – заявил Бюва и снова его лицо приняло безучастное выражение. – Examinatus in carceribus Pontis Sixtis, coram et per те Notarium infrascriptum Твое имя, молодой человек. – Помпео из Треви. – Где именно находится Треви? – как ни в чем не бывало спросил Бюва, выдавая тем самым свое плохое знание Папской области, что, конечно, могло вызвать некоторые подозрения у задержанного, если бы тот не оцепенел от страха. – Вблизи от Сполето, – ответил он тоненьким голоском. – Мы напишем так: Pompeius de Trivio, Spoletanae diocesis, aetatis annorum… Сколько тебе лет? – Думаю, шестнадцать. – Sexdecim incirca, – записал Бюва, – et cui delato iuramento de veritate dicenda et interrogates de nomine, patria, exercitio at causa suae carcerationis, respondit. Сфасчиамонти наградил юношу сильным толчком и перевел слова нотариуса: – Поклянись, что ты говоришь правду, а затем повтори свое имя, возраст и город, где родился. – Я клянусь, что говорю правду. Но разве я уже не назвал своего имени? – Повтори еще раз. Это нужно для протокола. Таков закон, и мы должны следовать ему, – произнес сбир важным тоном, дабы придать происходящему еще большую убедительность. Юноша немного удивленно осмотрелся вокруг. – Меня зовут Помпео, я родился в Треви, возле Сполето, мне приблизительно шестнадцать лет, не занимаюсь никаким ремеслом и… – Этого достаточно, – прервал его Сфасчиамонти и снова наклонился к Бюва, чтобы прошептать что-то на ухо. – Ага, хорошо, хорошо, – ответил тот. В протоколе в этом месте должна была указываться причина задержания, которой, однако, не существовало. Поэтому по совету сбира Бюва внес ложную причину, а именно: черретана арестовали за то, что он просил милостыню в церкви во время богослужения. – Продолжим, – вновь начал псевдонотариус, поправляя очки на своем орлином носу. – Interrogatus an sciât et cognoscat alios paupers mendicants in Urbe, et an omnes sint sub una tantum secta an vero sub diversis sectis, et recenseat omnes precise, respondit. – Так, я пошел за плеткой, – заявил Сфасчиамонти. – За плеткой? Но почему? – спросил черретан с легкой дрожью в голосе. – Ты не отвечаешь на вопрос. – Я не понял его, – проговорил Рыжий, который явно не понимал ни слова по-латыни. – Он спросил тебя, знаешь ли ты в Риме другие секты, кроме той, к которой принадлежишь сам, – включился Атто. – Он хочет знать, находитесь ли вы все в подчинении у одного человека, и в заключение ожидает от тебя точный список этих сект. – Но ты не желаешь отвечать, – добавил сбир, доставая большую связку ключей, вероятно открывавших какое-то помещение, где находились орудия пыток для упорствующих преступников, – значит, твоей спине нужна соответствующая нагрузка. К нашему удивлению, парень бросился на колени, отчего даже Сфасчиамонти зашатался, ведь он держал связанного черретана за веревку. – Послушайте меня, синьор, – произнес тот умоляющим тоном, поворачиваясь то к Бюва, то к сбиру. – У нас, бедных нищих, есть разные братства, самые разные, они занимаются различными делами и имеют свои обычаи. Я назову вам все, какие вспомню. Затем последовала минута тишины. Парень плакал. Мы с аббатом были очень удивлены: это был первый черретан, попавший в лапы к сбирам, и он не только не хочет подвергаться допросу судебного нотариуса, но и пытается всячески избежать испытания плеткой, мало того – он даже пообещал рассказать сразу все. Сфасчиамонти заставил его подняться, при этом бросив на него удивленный и одновременно разочарованный взгляд, так что его талант сбира-палача, частенько занимавшегося рукоприкладством, для нас по-прежнему остался загадкой. – Дадим-ка мы ему стул, – сказал он и в приступе вынужденного великодушия положил свою широкую ладонь на плечо сотрясающегося от страха и рыданий юноши и пододвинул ему табурет. Исповедь началась.
– Первым хочу назвать братство «пахарей». Это те, кто ходят в церквях среди людей с мисками для подаяний и просят милостыню, а сами тем временем разрезают сумки и кошельки и крадут все, что там есть. Тут я вспомнил случай с приверженцем учения святого Павла и женщиной, у которой срезали кожаный кошелек с деньгами. Был ли это один из пахарей? Рыжий замолк и по очереди посмотрел на каждого из нас, словно хотел отметить на наших лицах эффект, произведенный его словами, а они были для него, наверное, равносильны богохульству. – Вторым идет братство шпанфельдеров, – продолжил он. – Это те, кто притворяются больными и делают вид, будто они уже при смерти: сидят, скорчившись на земле, кричат и просят милостыню, но на самом деле они абсолютно здоровы. Третьим идет братство каммесиров. Они тоже здоровы, но слоняются, потому что не хотят работать, побираются. – Ну, слоняющиеся – это я понял, но что значит «побираться»? – спросил я. – Они просят милостыню, – объяснил Рыжий и попросил стакан воды. – А дальше? – спросил Сфасчиамонти. Нищие и бездельники… Не из них ли состоит толпа на улицах Рима, когда я совершаю утренние прогулки? Возможно, сам того не зная, я встречал на своем пути уже очень много черретанов. – Четвертые – это шванфельдеры, – продолжал наш задержанный. – Те, кто сидят на земле как камни, или люди с якобы нервным тиком или тифом, они просят милостыню. Пятые – вопперы: эти делают вид, будто совсем глупы или сумасшедшие, всегда отвечают невпопад и тоже просят милостыню. Шестые – пликшлахеры. Они раздеваются догола или почти догола, показывают голую плоть и клянчат милостыню. Седьмым идет братство дебиссов… – Стой, минутку, – запротестовал Бюва. Наш псевдонотариус, в распоряжении которого было слишком большое перо, неудобное для быстрого записывания, едва мог поспевать за потоком слов задержанного. Первоначально он намеревался состряпать ложный протокол. Но теперь должен был составить настоящий и полноценный документ. Действительно, Сфасчиамонти все время подавал ему знаки, чтобы тот не упускал ни слова. Я понял почему: у сбира наконец будет доказательство существования черретанов, которое он рано или поздно сможет предъявить своим коллегам и даже губернатору. – Давай сделаем так, – предложил Атто, – сначала ты укажешь только названия братств, чтобы получить хотя бы общее о них представление. А затем уже объяснишь, чем они конкретно занимаются. Молодой черретан послушался и начал перечислять названия, снова включив в список тех, о которых уже рассказывал:
пахари, шпанфельдеры, каммесиры, шванфельдеры, вопперы, пликшлахеры, дебиссы, грантнеры, лосснеры, кандирцы, зюндфегеры, даллингеры, букарты, клебиссцы, грамзеры, носительницы образа, дютцбетерины.– Хватит, этого достаточно. К каким из этих братств относишься ты? – спросил Атто. – К шпанфельдерам. Затем Рыжий сообщил обо всех мерзких делах, совершаемых каждым из сообществ черретанов, о которых он еще не рассказывал. Он поведал о дебиссах, переодевавшихся монахами-отшельниками; о грантнерах, которые притворялись страдающими сомнамбулизмом, сумасшедшими или одержимыми, съедали немного мыла и катались по полу с пеной у рта. Он выдал также хитрости лосснеров – те все время носят на шее тяжелые железные кольца или цепи и якобы разговаривают по-турецки, постоянно произнося «бран-бран-бран» или «бре-бре-бре», чтобы обмануть людей: они-де были в плену у турок. Кандирцы всегда ходят парами, выдавая себя за солдат, и, если встречают на улице какого-нибудь беззащитного бедолагу, грабят его. Зюндфегеры – это обнищавшие бандиты, а вот даллингеры раньше были палачами и утверждают, будто теперь хотят искупить кровь своего ремесла. Букарты изображают сильную дрожь, которая сотрясает все их тело, словно они марионетки, ведь они (по крайней мере, по их утверждению) являются потомками великих грешников, не пожелавших принять Святое причастие, за что и были наказаны. Клебиссцы обкрадывают управляющих крестьянскими дворами, когда те доставляют для лошадей корм (они называются клебиссцами, так как «клебисс» на языке нищих и всей «веселой» компании означает «конь»). Грамзеры – это дети, живущие на улице и поющие песни о Деве Марии, те же попрошайки. Носительницы образа – это женщины, которые симулируют беременность, а дютцбетерины заявляют, будто вынашивают в своем теле чудовище: первые замужем, другие – одинокие.
– Проклятье, что за демониада, – заметил Атто, когда Рыжий закончил свой рассказ. – В принципе, все они черретаны – нищие, просящие милостыню, – заявил я. Разве я не говорил тебе этого с самого начала? – воскликнул Сфасчиамонти. – Под видом того, что просят подаяние, они совершают преступные дела: насилие, обман, ограбление… – Простите, но мы должны завершить допрос. – Бюва призвал нас к порядку, чтобы невозмутимо, словно настоящий нотариус, поставить под протоколом формальное заключение. – Interrogatus an percuniae acquistae sint ipsius quaerentis an vero quillbet teneatur illas consignare suo soperiorl secundum cuiusque sectam illorum, respondit… Итак, молодой человек, я повторяю: деньги, полученные подаянием или другой преступной деятельностью, каждый оставляет себе или должен отдавать главе своего братства? – Синьор, то, что мы зарабатываем, каждый оставляет себе, по крайней мере, так заведено у нас, шпанфельдеров. Наш главарь – Джузеппе да Камерино, но он сам дает всем деньги. Я слышал, что дютцеры и букарты работают вместе и часто встречаются в номерах постоялых дворов или в других местах, для того чтобы выбрать главаря и представителей. Мой товарищ, который сбежал от вас, рассказывал мне, что последнюю неделю провел вместе с четырьмя шванфельдерами, двумя дютцерами и двумя букартами. Они встретились в таверне, что в квартале Понте, чтобы обсудить кое-что и немного отдохнуть. Заказали у хозяина много всего: очень хорошего вина, еду. Ну, что-то вроде трапезы у господ. А когда еду съели, хозяин подсчитал и сказал, что все стоит двенадцать скудо, и главарь дютцеров тут же заплатил без лишних слов. А ведь он не один пировал, но им всегда хватает денег, в основном, конечно, только главарям. – Где собираются люди твоего братства? – На Пьяцца Навона, в квартале Понте, на Пьяцца Фиоре и на Пьяцца дела Ротонда. – А теперь скажи мне, исповедуешься ли ты, принимаешь ли причастие и посещаешь ли богослужения? – Синьор, среди нас очень мало тех, кто это делает, честно говоря, большинство из нас хуже лютеран. Больше я ничего не знаю, клянусь вам. – Господа, есть ли у вас еще вопросы? – С этими словами Бюва повернулся к нам. Сфасчиамонти опять нагнулся к уху Бюва, порекомендовав не вносить в протокол следующий вопрос. – Ах да, конечно, – успокоил его «нотариус». – Ну хорошо, мой мальчик, слышал ли ты, чтобы среди твоих собратьев обсуждали недавнюю кражу на вилле Спада неких документов, реликвии и телескопа? – Да, синьор. Мы все вчетвером посмотрели друг на друга, и на этот раз даже Бюва не смог скрыть удивления. – Продолжай же, ради святой Дианы, – не выдержал Атто, у которого глаза чуть не выскочили из орбит от удивления. – Синьор, мне известно только, что это сделал один из мальчишек Тойча. А причины я не знаю. С тех пор как начался святой год, у него очень хорошо идут дела: получает деньги почти с каждой улицы Рима. – А где, черт возьми, мы можем найти этого Тойча? – набросился на него Атто. И черретан тут же начал говорить. – Я думаю, этого вполне достаточно, – заметил Сфасчиамонти, когда тот закончил.
То, что Рыжий рассказал о Тойче, касалось только кражи личного имущества Атто, а поэтому в протоколе ничего писать не стали, как и о многих других вещах, рассказанных черретаном в эту ночь. – Если кто-нибудь найдет у меня этот протокол, я окажусь в очень затруднительном положении. – Сфасчиамонти произнес это тихо, чтобы задержанный не услышал его. – Я поставлю под протоколом, должен признаться, очень знаменательную дату – четвертое февраля 1595 года. И оставлю в архивах губернатора. Тогда только я буду знать, где искать его, ведь в актах ушедшего столетия уже никто не роется. Я смогу заполучить его вновь, если захочу, да к тому же в любое время. Да, с такой датой он будет служить доказательством того, что черретаны существуют очень давно, и я сумею утереть нос всем тем, кто до сих пор не воспринимал меня всерьез. Следующее решение принять было намного сложнее, однако это было необходимо. Без приказа о задержании или, по крайней мере, без разрешения полиции черретана нельзя было удерживать в тюрьме. И хотя Сфасчиамонти намекнул одному из охранников в тюрьме, дружественно к нему настроенному, что хотел бы это сделать, тот и слышать ничего не пожелал. Он заявил, что, хотя в тюрьме и сидит много невинных людей, а на свободе ходит много преступников, в таких делах должен соблюдаться порядок. Обычно этим руководят судьи или власть имущие, приказы которых выполняют законники, о чем народ даже не догадывается. Точно так же было невозможно задержать обвиняемого (если его вообще можно было так называть) каким-либо другим способом. Хотя вилла Спада и имела большой подземный лабиринт, ее все-таки нельзя было упоминать в связи с этим делом по вполне объяснимым причинам. Наши собственные жилища, естественно, тоже не подходили. Чтобы все происходящее не походило на импровизацию, мы отвели Рыжего в соседнюю комнату подождать, пока мы якобы посовещаемся. Затем мы снова впустили его, причем постарались изобразить бурю чувств. – Нотариус поговорил с его высочеством губернатором, – соврал Сфасчиамонти, – и тот захотел вознаградить тебя за желание сотрудничать с нами. Черретан обеспокоенно огляделся вокруг, не понимая, что происходит. – Сейчас мы проводим тебя к выходу. Ты свободен.
10 июля лета Господня 1700, день четвертый
– Подай милостыню, мой мальчик. Старик был голым. Свое единственное украшение, тяжелую железную цепь, он носил на груди, наверное, уже слишком долго, так как цепь натерла на правом плече дряхлую плоть и там началось воспаление. Скрюченный и истощенный, он с мольбой протянул ко мне искривленную грязную руку. На его теле можно было пересчитать не только все ребра, но и выступающие сухожилия. Будь у него в руке плеть, он напоминал бы человека, занимающегося самобичеванием. Старик стоял, опершись спиной о стену, и вонял, единственным его прикрытием была длиннющая седая борода, которая почти касалась земли. Я рассматривал его, не говоря ни слова и не давая ни шерфа.[1331] Меня потрясло это живое воплощение крайней нищеты, несчастья и беззащитности. – Подай милостыню, юноша, – повторил несчастный и, скрючившись, еще больше наклонился вперед, а затем и вовсе опустился на землю. – Простите, но у меня ничего нет… – пролепетал я, в то время как нищий лег на землю и перевернулся на бок. – Трелжетрец, – прошипел тот в ответ печально и спокойно, и мне показалось, будто я услышал в его голосе укор. Он вновь повернулся на бок, затем на другой, после чего стал ритмично раскачиваться в убыстряющемся темпе. По телу его пробежали судороги. Только я решил поднять его, как он начал биться в конвульсиях, которые перешли в непрерывные мучительные спазмы. Рот был плотно сжат, мышцы до предела натянуты: казалось, он вот-вот задохнется. Но неожиданно он снова сел и широко открыл рот, из него потекла пенистая желтая слюна, которая самым отвратительным образом запачкала ему шею и живот: я в ужасе с отвращением отступил на шаг. Глаза старика закатились, словно он устремил свой взор на тот свет – свет отчаяния и одиночества, увидеть который мог только нищий. Он вновь протянул дрожащую морщинистую руку. Я порылся в карманах. У меня была всего одна монета, один скудо – слишком большая сумма для милостыни. Только я собрался сказать ему что у меня нет ничего, как он вновь пророкотал, словно прочитав мои мысли: – Трелжетрец. В это мгновение произошло невероятное. На стене позади старика появилась тень, быстрая и неудержимая. Летающее существо (то ли кровососущая летучая мышь, то ли, может, сам черт, захотевший наказать меня за жадность?) пронеслось над нашими головами и приготовилось к нападению. У меня не было времени обернуться, но я почувствовал движение воздуха, затем по ушам полоснули крылья, острые когти очень больно вонзились в мое тело. Я повернул голову, но сделал это крайне неловко: существо прочно уселось на моем плече, и побег стал таким же бесполезным занятием, как попытка укусить себя за ухо. Я попытался смахнуть существо рукой, но тут оно слетело с плеча и вцепилось когтями мне в лицо. Позабыв о старике, с его истерзанным телом и противным ртом, запачканным вытекающей слизью, я попробовал закричать, но когти летающего существа вонзились мне в губы. И все же я услышал голос, приглушенный шелест: – Ловите его! Ловииииииите! И только в этой части сна – нет, кошмара – я все понял и проснулся. В изнеможении я вытер лицо рукавом. Да, плохая идея – спать у открытого окна. В этот момент оно поднялось в воздух, поспешно отлетело от меня и притаилось в другом месте: что-то среднее между петухом и голубем. Я привстал на кровати, провел руками по лицу и открыл глаза. Было уже очень светло, солнце изо всех сил светило в комнату, щедро наполняя ее светом. Попугай опустился на спинку стула. Я бросил на него испепеляющий взгляд. Мало того что он без спроса вторгся в мой дом, так еще, пока я спал, прошелся по моему плечу и лицу, проникнув не только в мою спальню, но и в мой сон, к тому же такой неприятный. Он же, напротив, склонив голову набок, смотрел на меня своим дерзким и критическим взглядом. – Я так сладко спал. Ты и вправду какое-то чудовище. Что это тебе взбрело в голову разбудить меня таким образом? Цезарь Август ничего на это не ответил.Прошлой ночью наше возвращение из Понте Систо было поспешным и проходило в полной тишине. Мы все: Атто, сбир и я – слишком устали, чтобы о чем-то говорить, кроме того, мы знали, что не сможем продолжить поиски раньше следующего вечера, и эта вынужденная, но неизбежная заминка сдерживала наше стремление действовать. Я был настолько измотан, что заснул почти сразу же, как только лег. Однако короткий отдых, который мне посчастливилось заработать, был испорчен видением беззащитного нищего, и причиной этого видения, вероятнее всего, было признание Рыжего. «Конечно, – подумал я, – этот старик напоминал одного из грантнеров, которые притворяются страдающими сомнамбулизмом, сумасшедшими или одержимыми, съедают немного мыла и катаются по земле с пеной у рта, добывая себе подаяние. Но он также был похож на лосснеров, которые носят на шее тяжелые железные цепи…» – De minimis non curat Papa, – прокряхтел попугай, прервав мои нелегкие раздумья. – Я знаю, что Папу не волнуют всякие мелочи, ха-ха, спасибо, что сравнил меня с Его Святейшеством. Знаю, знаю, я должен позаботиться о вольерах, и вообще я совсем не считаю их какой-то там мелочью, – ответил я, встал и начал искать одежду. – Может быть, ты дашь мне немного времени, чтобы одеться? Цезарь Август медленно подлетел к открытому окну. Я заметил, что в правой лапе у него несколько веточек (в последнее время воровство наблюдается за ним все чаще). Надо бы спросить, для чего они ему. Попугай посидел еще несколько минут на подоконнике, а затем полетел в направлении виноградников, расположенных недалеко от виллы. Когда же я, покидая комнату, захотел закрыть окно, то обнаружил следы пребывания Цезаря Августа и причины его необычного поведения – пятно желтого цвета, почти жидкое, но с остатками зерен и семечек яблок. Совсем не в характере попугая – обижать других, гадя в таком неподходящем месте, как подоконник. Цезарь Август определенно был чем-то взволнован.
Выполнив обычную работу в вольере, я решил воспользоваться свободой, которую мне давала временная служба у Атто Мелани. Атто и Бюва еще не появлялись и не искали меня, а Сфасчиамонти, вероятно, занимался обычным делом, то есть обеспечивал безопасность на вилле Спада. Я поискал Клоридию, но мне сказали, что она находится в покоях княгини Форано. Княгиня как раз одевается, и пока мою жену нельзя беспокоить. Немного рассердившись, я украл на кухне яблоко и решил тайком улизнуть с виллы Спада. Но едва я направился в сторону выхода, как услышал далеко позади знакомый голос: – Птичник, найдите мне господина птичника! Что, сегодня здесь никто не работает? Дона Паскатио, вероятно, снова подвел один из работников, и он решил восполнить нехватку мною. «Но сегодня не день благотворительной помощи, – решил я, – ведь у меня в голове все еще перевариваются события вчерашнего дня: нападение Сфасчиамонти на старого нищего на Пьяцца Ротонда, опасная разведка в логове бродяг и нищих, наконец, преследование черретана и допрос его дружка Рыжего в тюрьме у Понте Систо – все эти события не только не стерли впечатления от кошмара моего сна, но и оставили ощущение страха, которое не проходило до сих пор. Ничто не могло так помочь забыть эти беды, как приятная прогулка по городу. Но мне не хотелось удаляться слишком далеко. Поэтому сначала я пошел в сторону Виа Скала, повернул направо, затем налево и немного побродил в окрестностях Пьяцца Риенци и церкви Святой Марии в Трастевере. Мимо меня в сторону базилики Святого Павла промаршировало общество римских пилигримов в длинных черных одеяниях. Паломники несли знамена родного города и пели псалом Деве Марии. Маленькая процессия устремилась вдаль, пересекла улицу и свернула в переулки, где зазывали всех к себе крошечные лавки, набитые всякой всячиной, и кабаки, двери которых всегда были открыты и манили запахами дешевого вина и жареного мяса. Фасады близлежащих домов стыдливо прикрывали свою бедность длинными рядами белья, вывешенного на веревках между окнами, откуда на головы прохожим падали холодные капли. На улицах Трастевере стоял шум от грохота колес многочисленных тачек, топота резвящихся детей и цокота ослиных копыт: животные тащили на себе груз, пробуждая переулки от спячки. Добравшись до площади Святого Каллисто, я услышал заунывную музыку, она медленно приближалась вместе с толпой, во главе которой шли трое едва передвигавшихся людей. Двое грязных, бедно одетых мужчин среднего возраста тяжело опирались на палку. С некоторым беспокойством я заметил, что глаза у них точно такие же, как у старика из моего утреннего сна. Третий, в такой же потрепанной грязной одежде, держал двух других под руки. Сразу за ними шел скрипач – это он играл тихую музыку чаконы. Затем следовали другие, такие же убогие люди, почти все слепые и калеки. Нищие, снова и снова нищие. Я столько лет прожил в Риме рядом с их сообществами, не обращая на них особого внимания. Но со времени возвращения Атто Мелани они вдруг стали важны для меня, да еще и как! Я пошел рядом с процессией, чтобы понаблюдать за поведением нищих. В начале процессии один из слепых держал кружку, а другой – табакерку, обе вещицы были серебряными. Эти двое жалобно подпевали в такт звучанию скрипки: – Подайте милостыню во имя святой Елизаветы, подайте что-нибудь во имя святой Елизаветы. Время от времени из безликой толпы прохожих отделялся какой-то благодетель и бросал монетку в серебряную кружку, при этом второй слепой великодушно предлагал ему щепотку табака, набирая его крошечной рюмочкой из табакерки. Когда шествие сворачивало направо в переулок Пацци, я смог увидеть, что в этой толпе жалких людей в оборванной одежде почти у каждого было какое-то увечье: отсутствовали либо глаз, либо нога или рука. Словно морские птицы, следующие за кораблем в надежде получить объедки из камбуза, это шествие окружали бедные дети, которые тоже просили милостыню. Молодой священник подошел к тем, кто вел процессию. Он бросил маленькую монетку в кружку и взял понюшку табаку, от которой тут же начал чихать и сморкаться. Как только он отошел я последовал за ним, решив расспросить: – Простите, пожалуйста, почтенный, а что это за процессия? – Это братство святой Елизаветы. Обычно они ходят по улицам в воскресенье, а сегодня суббота. Но в святой год им можно сделать исключение. – Братство святой Елизаветы? – переспросил я и вспомнил, что уже однажды слышал о нем. – Это то, которое состоит из слепых и калек? – Да, из самых бедных. К счастью, Папа Павел I выдал им разрешение на прошение милостыни. Если бы не эти сбиры… – Что вы хотите этим сказать? – О, ничего, совсем ничего. Просто так получилось, что братство должно платить большие взносы за свои религиозные шествия, так что ему не очень-то много остается. А теперь извини, мой сын, мне нужно поспешить в Сан-Пиетро, в Монторио, я уже опаздываю. Так мне и не удалось задержать священника, чтобы подробнее расспросить о братстве святой Елизаветы. После того как мы расстались, я потратил немножко из тех денег, которые получил от аббата Мелани за свой писательский труд, купив у одного уличного торговца полный пакет поджаренных рыбешек, слегка прикопченных и аппетитно хрустящих. Я вернулся на площадь перед церковью Святой Марии в Трастевере, уселся на ступенях фонтана в центре площади и стал есть рыбу, восхищаясь прекрасным, величественным фасадом церкви. Я продолжал размышлять. Вспомнил, что именно я слышал о членах этого братства: в день рождения святой Елизаветы они всегда шли процессией к четырем святым храмам, и даже в сопровождении эскорта солдат. Но я не знал, что у них было разрешение Папы на прошение милостыни, кроме того, мне показалось странным замечание священника, касающееся сбиров. Какое отношение имеют коллеги Сфасчиамонти к религиозным процессиям братства? Я обернулся и еще раз смог увидеть, как извивающаяся змеей процессия повернула на перпендикулярную улицу. В воздухе осталась вонь немытых тел, грязной одежды и кухонного чада. – И за что я плачу четыре юлиуса[1332] налогов? – обращаясь в мою сторону, громко спросил владелец небольшой закусочной, выставивший на площадь четыре столика. Он был среднего возраста и разговаривал с акцентом, выдающим уроженца Абруццо. С кругленьким животом и маленькими, узкими, похожими на кошачьи, глазками. Очевидно, мужчина был из тех, кто все время возмущается, но при этом покорно несет свою ношу. Он тщательно и сердито подметал мостовую перед входом в свою закусочную. – Но ведь никто из братства святой Елизаветы не заходил в ваше помещение, – с укором сказал я, удивленный его злобе на этих калек, несчастных отверженных. – Юноша, я не знаю, долго ли ты живешь в этом городе. Но могу дать тебе урок, ведь я намного старше, – заявил он и прислонил метлу к стене. – Я видел и слышал такие вещи, которые тебе и не снились. Представь только: каждый, у кого есть лавка, торговый зал, склад или постоялый двор, пансион, трактир, кабак, пекарня или какое-нибудь кафе, обязан каждые три месяца выплачивать десять геллеров, причем заранее, для того чтобы улицу перед его заведением чистили и мыли. Налоги платят рудники, где добывается пуццолан, гавани Тибра и даже обычные городские экипажи. И даже тот, кто не обязан платить налоги на уборку города, должен прямо-таки разорваться на части, если хочет соблюсти санитарные правила: погонщикам буйволов, забойщикам скота и кучерам следует очищать хлев, конюшни и каретный сарай от грязи. Садовникам и виноградарям нельзя оставлять никаких удобрений на улицах в пределах и за пределами Рима. Продавцы фруктов, трав, рыбы и сена каждый вечер должны убирать весь мусор до последней соломинки, листочка или щепки, иначе на них налагается денежный штраф пять скудо. Что еще? Ах да, красильщикам и дубильщикам нельзя выливать отработанную воду на улицу – только в специально проложенные для этого сливные каналы. А теперь возникает вопрос: эти люди из братства святой Елизаветы, они пришли сюда, все загадили, воняют хуже, чем нубийцы во времена античного Рима, заняли всю улицу и разогнали мне всех клиентов, – что же платят они? – Мне только что сказали, будто они тоже платят сбирам налоги, – тут же выдал я сведения, которые совсем недавно узнал из короткого разговора со священником. – Сбиры? Ха-ха! – засмеялся хозяин, схватил метлу и снова начал подметать мостовую. – И это ты называешь налогами? Это всего лишь цена сбиров. – Цена сбиров? Он остановился и оглянулся вокруг, чтобы удостовериться, что нас никто не подслушивает. – Святые небеса, юноша, где же ты живешь? Каждый знает, что сбиры берут деньги у братства святой Елизаветы и за это разрешают просить милостыню там, где им заблагорассудится, даже если это запрещено указами верховной власти. Деньги передаются в виде взноса на религиозные празднества. Но все знают, что это не так. Он продолжил подметать дальше с таким рвением, словно уборка могла помочь освободиться от обуревающего его гнева. – Извините, пожалуйста, – вновь обратился я к нему, – но не скажете ли вы мне… – Конечно, он объясняет по-простому, как бог на душу положит, но я могу подтвердить все его слова. Голос принадлежал продавцу обуви, который бесцеремонно вмешался в наш разговор. На плечах у него висели две большие связки самой разной обуви: сапоги и деревянные башмаки, горные ботинки и домашние туфли. Продавец обуви был очень худым стариком с изборожденным морщинами лицом, на нем была помятая серая рубашка, слишком короткие штаны и видавшая виды шляпа. – Если помогать этому сброду, его будет становиться только больше. Посмотри на меня, мой мальчик: я сам зарабатываю себе на хлеб. А у таких людей, как в братстве святой Елизаветы, есть покровители, и поэтому они набивают себе брюхо. – Да, но ведь они все-таки слепые и увечные, – решился возразить я. – Да неужели? А как ты объяснишь тогда, что в толпе становится все больше нищих, бродяг и тунеядцев? Как ты объяснишь, что каждый второй римлянин просит милостыню? И несмотря на это, поток подаяния не иссякает, а только увеличивается! – Все именно так, потому и хлеба хватает не на всех… – Недостаточно хлеба! – язвительно повторил за мной торговец обувью. – Ты несчастный дурачок… – Правда такова, – вновь заговорил хозяин закусочной, – что бедняки не такие уж и бедные. Нищий, который просит милостыню в хорошем месте, например перед церковью Святого Систо, зарабатывает намного больше меня. – Да что вы говорите? – Глупые люди дают им подаяние, – мрачным тоном подтвердил уличный торговец. – Бедность – это лучшая школа воровства, обмана и святотатства, источник пороков, – мрачно упорствовал он.
Разговор, который я передал здесь только в общих чертах, на самом деле длился намного дольше. Однако не всегда у меня была возможность записать если не проверенные сведения, то хотя бы мнения двух спорщиков, – мнение, которое, как я узнал позже, разделяют многие римляне. Несмотря на то что Рим вот уже сотни лет служит пристанищем для всех бедных, в последнее время они вызывают к себе все больше неприязни и недоверия. Еще несколько десятилетий назад среди бедных можно было встретить тысячи набожных. Не случайно Роберто Беллармино, ссылаясь на труды многих философов и выдающихся церковников, но главным образом, конечно, на широко известное произведение Грегора фон Нацианца «De amore pauperum», говорил, что в каждом городе есть город бедных и город богатых, связанные нитью милосердия и благородства. Всемогущий Господь, ведь Ты мог всех людей сделать сильными и умными! Только Ты не сотворил их такими: в своем чудесном провидении Ты захотел сделать одного богатым, а другого бедным, одного – умным, другого – глупым, этого – сильным, того – слабым, одних – здоровыми других – больными. Однако к бедным и слабым всегда нужно проявлять милосердие (ибо тот, кто подает, не теряет, а приобретает, как говорил отец Даниэлло Бартоли). Одни считали, что достаточно просто отдавать бедным свой излишек. Но, по мнению других, называющих себя ригористами, нужно обязательно жертвовать бедным, ибо далеко не все верующие, даже короли, готовы признаться в том, что у них есть излишек средств. Однако со временем проблема стала сложной: теперь думают не столько о том, какую сумму дать бедным, сколько имеют ли те вообще право на существование. Как пишет отец Гуеварре, по улицам Святого города бродит много бессовестных людей, они ходят в рваной одежде, нарочно уродуют тело, прикидываются одержимыми, парализованными, эпилептиками, клянчат у простодушных людей милостыню, а затем обеспечивают себе удобные места в ночлежках для бездомных. Поэтому общественной и частной денежной помощью, основанными Папой приютами (вроде приюта, открытого Папой Иннокентием XII при церкви Святого Михаила) и пожертвованиями дворян (кардинал Фарнезе жертвовал бедным почти пятую часть своего дохода) пользовались вовсе не те, кто действительно нуждался. Все деньги оседали в кошельках лентяев, бесчестных людей, преступников, которым нравилось жить на мостовой и не нравилось работать. Такое существование было им гораздо больше по душе. В конце концов, нищие тоже дышат воздухом Рима и такие же горожане: по их мнению, все неважно – ценно лишь безделье. Со всех сторон в Рим устремились потоки мнимых бедных: из сельской местности, Папской области, из других итальянских городов-государств – изо всей Европы. В город хлынули толпы крестьян, юных невежд, готовых на все, только бы избежать тяжелой работы в поле. Со временем их стало так много, что они исчислялись тысячами, сделали нищенство своим ремеслом, более того – превратили его в искусство. Если они не просят милостыню, то зарабатывают себе на жизнь карманными кражами, мошенничеством и грабежом. По точному описанию архиепископа Пьяццы, под предлогом того что они просят подаяние, «нищие» устраивают заторы у входа в церковь и в давке обворовывают женщин и стариков. Иждивенцев огромного Святого города, обузу для всех граждан ненавидели всем миром, включая приехавших в Рим иностранцев. Их опасались торговцы, они были нежеланными гостями в церкви, они сделали еще более невыносимой жизнь настоящих, действительно нуждающихся бедняков. Не зря кардинал Карпегна еще восемь лет назад потребовал заключить в тюрьму всех таких нищих, чтобы лучше контролировать их.
– Но ведь не все бедные являются черретанами, грантнерами или лосснерами… – сказал я, надеясь, что названия сект развяжут моим собеседникам языки и они сообщат мне еще какие-нибудь интересные подробности. – Черретаны? – растерянно переспросил хозяин закусочной. – Те, кто ворует, – перевел другой. – А, да все они одинаковы, что черретаны, что нищие, что римские пилигримы и бродяги! Тот, кто хочет работать, должен приспосабливаться, он всегда сможет найти себе какое-нибудь честное занятие. Будет лучше, если все эти дармоеды вымрут.
Я надеялся, что я извлеку для себя что-то полезное из разговора торговца и хозяина закусочной, что они выдадут мне что-нибудь – одну из тех народных сентенций, за которыми часто скрываются глубочайшие тайны человеческого существования. Однако хозяин закусочной, кажется, весьма смутно представлял себе, кто такие черретаны, а его друг и подавно. Поэтому я счел разговор бесполезным, к поиску вещей Атто отношения не имеющим. Единственное, что я открыл для себя: добрая половина римского населения вместо жалости чувствует к бедным лишь отвращение и неприязнь. Вначале мне казалось, что все бедняки хорошие. Но теперь, узнав о тайной империи черретанов, я понял, что среди них есть разные люди. Как оказалось, народ настаивает, что даже хорошим не стоит доверять, считает, что главной причиной нищеты тех людей стала не нужда, а лень. И тогда я спросил себя: кто же достоин спасения Божьего в этом мире, где даже беднейшие, отвергнутые, являются грешниками? Хозяину закусочной и торговцу обувью было недосуг развивать и дальше разговор. А я спохватился, что больше не могу задерживаться в городе: нужно было возвращаться на виллу Спада и вновь приступать к работе. Сразу после обеда намечено продолжение празднества. Я бросил промасленный бумажный пакет, из которого ел жареную рыбку, в угол и отправился назад.
Когда я вернулся на виллу, уже почти наступило время новых праздничных развлечений. Как я уже упоминал, сразу после обеда должны были приехать гости из других городов. Тот же, кто решил остаться ночевать, мог пообедать, когда пожелает и чем пожелает, так сказать, немного перекусить, ведь жаркая погода не располагала к большому аппетиту. Для этой цели на лугу, в прохладе под большими деревьями были разложены длинные дорожки из грубой ткани, покрытые красивейшими камчатными платками. На них очень привлекательно выглядели блюда с фруктами и цветами, корзины, полные только что испеченных караваев, тарелки с мягким сыром, пикантным сыром из молока буйволицы, подносы с грудой ветчины, оленины, крольчатины и медвежатины, с вялеными фруктами, выложенными всевозможными узорами, кружки, наполненные маслинами, начиненными миндалем, сладкие сдобные изделия, поданные с пылу с жару, и тысячи других лакомств, так что даже в такие жаркие дни, когда в небе стоит Сириус, у гостей пробуждается аппетит и появляется желание наесться досыта, после чего наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Обдуваемые легким ветерком, они устраивались поспать на мягких холмиках, откуда можно было любоваться прекрасным видом Рима.
Кареты гостей постепенно заполняли большую площадку перед входом на виллу. Мне показалось, что я заметил экипажи герцога Федерико Сфорцы Чезарини, Марчезе Бонджиованни и дона Камилло Чибо. Действительно, я не ошибся и вскоре стал свидетелем того, как упомянутые мною особы и другие, с не менее громкими именами, приняли участие в праздновании свадьбы Марии Пульхерии Роччи и юного Климента Спады, погрузившись в благороднейшее из существующих занятий – академическую дискуссию.
Академии, то есть собрания образованных умов для проведения научных диспутов, существовали в Риме еще в пятнадцатом веке. Они возникли во время веселых празднеств в городских садах, на свежем воздухе, в тени глициний и сводчатых арок и носили соответствующие названия: Академия виноградарей или Академия садов Фарнезины. К середине века появились также научная Академия ватиканских ночей и Академия гражданского и канонического права, где обсуждались очень важные вопросы теологии, логики, философии и гносеологии. Но только с началом нашего века, который сейчас уже подходит к концу, для академий наступило благодатное время. Невозможно было найти ни одного дворца, салона, двора или сада, ни одной террасы, где не собиралось бы общество ученых людей, чтобы состязаться в красноречии и спорах на благородные темы. Дни напролет, до самой глубокой ночи один за другим следовали выступления, диспуты и дебаты. Естественно, эти собрания не были открыты для всех желающих. Каждый кандидат должен был пройти строгую проверку, а тот, кто с честью выдерживал ее, удостаивался имени, которое звучало весьма необычно, например: Блистательный, Непоколебимый или Окропленный утренней росой академик ночи, – либо такими именами, которые понравились бы кумирам античности: Гонорий Амальтеус, Эльпоменидес Матурициус, Анастасий Эпистенус, Тенорий Ауторфикус. Темы, которые обсуждали ученые, часто соответствовали названию академий: Церковная академия или Академия Божественной любви, теологии, собора или догм, естественно, обсуждали вопросы религии. Наукой занимались математики и астрономы из Академии натурфилософии и Академии рыси (имелось в виду, что здесь наблюдали за всем зорким рысьим взглядом). Академики новой поэзии собирались, чтобы рассуждать о рифмах и стихах. Тем же занимались члены знаменитой академии «Аркадия» (аркадийские пастухи пасли своих овец на страницах книг многих выдающихся поэтов). Наконец красоты музыки прославляли члены Академии святой Сесилии – ангела-хранителя всех музыкантов и певцов. А вот цель и род деятельности некоторых академий, имевших весьма странные названия, были далеко не так ясны. Взять, например, Академию оракула, члены которой собирались в сельской местности Рима. Один из академиков, человек крепкого телосложения, садился на камень, накрывался покрывалом и изображал оракула. Двое Других толковали его пророчества. Затем один из членов академии становился перед оракулом и спрашивал о каком-нибудь будущем событии, например о том, состоится ли та или другая свадьба. Оракул отвечал явной бессмыслицей, что-то вроде слов «Пирамида!» или «Пуговица!». Оба толкователя должны были объяснить значение ответа, для этого они изображали пирамиду или форму и назначение пуговицы. Два строгих цензора проверяли толкование, отмечая самые незначительные ошибки в речи или произношении толкователей. Ошибки наказывались денежным штрафом, а когда денег собиралось достаточно, приносили блюда с изысканной едой, все общество подкреплялось и предавалось веселью. Если польза подобных академических собраний вызывала определенное сомнение, то о деятельности других вообще нельзя было сделать какие-либо выводы. Оставалось лишь догадываться, что Академия виноградарей занимается вопросами души и искусства, хотя и под прикрытием листьев виноградной лозы. Симпозики, вероятно, собирались время от времени, чтобы напиться (ведь симпозиум – это не что иное, как пир в Древней Греции, где все наливались вином), а Юмористы, судя по названию, должны были собираться, исключительно чтобы шутить. Но что же тогда, черт возьми, представляли собой Академия торопливых, покрытых снегом или Академия посыпанных мукой? Какую цель преследовали Сократители или Невнимательные? Как удавалось все же понимать друг друга в Академии изъясняющихся двусмысленными выражениями? И что происходило на собраниях Удушенных в письменной форме? Все это становилось еще более запутанным, если вспомнить, что академии не создавались разрозненно, они возникали группами, вследствие контакта, как говорят врачи. Так в течение года словно грибы выросли Несовершенные, Неловкие, Вспыльчивые,Неосторожные, Безжалостные, Необразованные, Бесплодные, Слабые и Бесформенные. Мода менялась, и возникали академии, воодушевленные печальными обстоятельствами (Павшие духом, Изнеженные, Отчаявшиеся, Презирающие, Отбившиеся), пассивностью (Спокойные, Рассеянные, Смирившиеся, Сдержанные), опасностью (Смелые, Боевые, Хладнокровные, Воинственные, Дерзкие) или сумерками души (Мракобесы, Оккультные, Роковые, Демонстративные). Что же касается природы некоторых полуподполъных обществ, то тут вообще оставалось только гадать. Возможно, им полагалось собираться под водой, как в Академии колыхающихся, или же они тайно принимали в члены нелюдей, как мистическая Академия амфибий. Конечно, подобная приятная деятельность требовала определенных трат. Оплата достойного места в каком-нибудь патрицианском дворце, публикаций лучших (или редких) письменных работ членов академии, а также дорогостоящих (и не таких уж редких) празднеств – все это было всегда; обычно деньги предлагали благосклонные меценаты, которым академики затем посвящали свои поэтические или научные труды. При этом часто речь шла о кардинале или отпрыске богатой знатной семьи, нередко и о самом Папе, которому иногда по политическим или личным мотивам были небезразличны странные темы той или другой группы ученых. Если же благодетель отправлялся на вечный покой, то академия, лишенная своего покровителя, считала уместным распуститься: так, например, когда королева Швеции Кристина умерла в 1698 году, на улице оказались десятки, если не сотни художников, музыкантов, поэтов и философов, им пришлось убираться из дворца Кристины на улице Лунгара и быстренько организовать себе другой путь в жизни. Если меценаты умирали, талантам из Академии стерильных и неточных грозила гибель, впрочем, как и из Академии угнетенных. Однако многие из них были членами нескольких академий, Да к тому же постоянно возникали новые, так что академические знания и опыт были спасены. Шла ли речь о забавах шутников или о серьезных научных дискуссиях, было несомненно одно: Рим стал единственным в своем роде форумом болтовни, где могла беспрепятственно развиваться по крайней мере одна из благороднейших человеческих способностей – говорить, говорить, говорить… Конечно, при условии, что говорил тот, кто обсуждал известные понятия и научные теории. Я предполагал, что встречу подобное здесь сегодня вечером: разговоры для изощренных образованных умов, поддерживаемые членами академий, которые, собственно, и были приглашены на виллу Спада, чтобы оживить беседы. «Вероятнее всего, мне придется с трудом сдерживать зевоту», – подумал я. Однако оказалось, что вечер будет проходить совсем по другому сценарию.
Едва я надел ливрею для своей дневной службы, как мое внимание привлек знакомый голос. – Мы ужасно опаздываем, гости уже ждут! И, кроме того, он должен быть приятно горячим и жидким, а не таким мутным и клейким! Вы добавили миндаля, орехов и апельсинового настоя? А половину унции пряных гвоздик? Дон Паскатио отчитывал двух помощников повара, так как считал, что жидкий шоколад вышел посредственным. Оба смотрели на него невозмутимо, нагло, как на слегка спятившего старого дядюшку. – Ммм… – промямлил дон Паскатио и поднял глаза к небу, облизывая палец, который обмакнул в шоколад. – Мне кажется, здесь не хватает двух гранов аниса. Повар, позовите мне повара! – Честно говоря… Он взял полдня выходного, – признался один из помощников. – Выходного? Это в то время, когда прибывает все больше гостей? – Дон Паскатио побледнел. – Он сказал, что ваше последнее порицание очень обидело его. Дворецкий был близок к обмороку. – Обидело, говорите… Как будто повар имеет право обижаться, – в отчаянии пробормотал он. – Похоже, с дворецким в наше время вообще не нужно считаться! О времена… Неожиданно он повернулся и увидел меня. Его лицо просветлело. – Господин птичник! – воскликнул он. – Какое счастье, что он находится на службе в доме августейшего кардинала Спады, а не отлынивает от работы, как это делают многие его товарищи! Я не успел ничего ответить, как мне всучили в руки тяжелый серебряный поднос. – Выложите все на этот поднос, чтобы мы наконец могли начать! – приказал он одному из помощников повара. Так меня нагрузили и без того тяжелым подносом с большим кувшином из тонкого нежно-розового фарфора, полным горячего шоколада, с двенадцатью тонкими чашками, а также чашами с ванилью для надлежащего подслащивания этого горького напитка. Когда я удалялся из кухни, у меня перед глазами как раз оказались грациозные виляющие бедра одной из нарисованных на кувшине Диан, которая с колчаном в руках гналась по лесам за бедным оленем. Под трезвон чашек я вошел в большой салон на первом этаже, где полумрак приглашал веселящихся гостей насладиться вкуснейшими экзотическими блюдами.
Я представлял себе этот зал совсем другим. Здесь нигде не было ничего даже отдаленно напоминавшего академию. Точнее говоря, не было ни докладчика, как это обыкновенно бывает в конгрегациях умных людей, ни молча внимающей ему публики. Зал был просто до отказа набит гостями: одни собрались кучкой, другие сидели полукругом на стульях. Многие бегали вокруг, общаясь друг с другом, приветствуя вновь прибывших и меняя партнеров для беседы, но при этом не отрывались от своей собственной группы, словно облако мошек, которые летом витают в воздухе в отблесках света и как будто бы образуют какое-то единство, но при ближайшем. рассмотрении оказываются сборищем разрозненных существ. Несмотря на это, можно было услышать, как гремят страстные речи ораторов, которые в этом качающемся море голов и тел делятся своими наблюдениями насчет бессмертия души, движения небесных светил, недавно привезенных из Нового Света растений или античного Рима. На самом деле в этом гуле голосов, усиленном многократным эхом большого зала и потому разросшемся до размеров, так сказать, густого, мутного облака, можно было различить максимум одну или две фразы. – Ведь Джиовио в четвертой книге своего труда говорит… – услышал я одного ученого по левую сторону от меня. – …Как уже было написано у Дионисия из Халикарнассоса… – тут же прозвучало от остроумного чтеца с правой стороны. – Их превосходительство наверняка знает, что выдающееся учение аквитанцев… – разгоряченно кричал третий. Никто не обращал на них особенного внимания, так как единственной целью таких собраний была пустая болтовня, поглощение вкусной еды и наслаждение напитками. Римляне уже давно привыкли сравнивать текущие события с многовековой историей Римской империи и католической церкви. Жители Рима ошибочно считают себя частью этой власти (в то время как они всего лишь ее подданные), поэтому повседневные дела для них ничего не значат, они смотрят на все свысока. В этом шумном запутанном хаосе я был сам по себе. Ко мне подошел Атто. – Все время одно и то же: едят и пьют, один не слушает другого, – прошептал он мне на ухо. – Между тем там внизу иезуит, – показал он на группу поблизости, – произнес очень интересную речь о послушании и неповиновении князьям. Но нет: все болтают о своих собственных делах. Поистине правда: если парижанин встретит девицу неблагопристойного поведения, то примет ее за святую, поклонится низко и помолится. А вот римлянин, наоборот, встретив святую, сочтет ее девицей легкого поведения и спросит, сколько она хочет. Едва я поставил свой поднос на табуретку, чтобы наполнить чашки, как тут же был окружен веселой шумной толпой высоких гостей. – Марчезе, посмотрите только, есть шоколад. – Вы тоже, монсиньор, подходите, сейчас нам подадут. – А как же сочинение о декадах Ливиуса? – запротестовал прелат, который только что внимательно слушал академический доклад. – Если вы не оставите в покое декады… то весь шоколад выпьют без вас, ответил ему кто-то под громкий смех всего общества. Я не успевал присесть на табурет, чтобы наполнить чашки, как у меня их тут же вырывали из рук, и все содержимое большого кувшина исчезло в глотках обступивших меня людей. К счастью, на помощь мне подоспели другие слуги, на которых тут же набросилась толпа князей, архиепископов, секретарей и кардиналов-викариев. Пока люди толпились за шоколадом, я услышал за спиной короткий разговор, вызвавший мое любопытство. – Вы слышали? Такое впечатление, будто проект монсиньора Ретти снова хотят рассмотреть и утвердить. – Это тот, кто собирался реформировать полицию при Папе Одескальки? – Точно, он. И я только за! Наступило время проучить их, этих бессовестных коррумпированных сбиров. Краем глаза я увидел, что беседовали два пожилых высокопоставленных гостя. Тема меня немало заинтересовала: ведь там, где сбиры, там и воры, а все, связанное с ними, могло оказаться полезным для поиска наших с Атто вещей. Но затем, к сожалению, оба прелата покинули поле моего зрения, как и пределы слышимости. В надежде снова отыскать их я решил сразу же посоветоваться с Атто. Под этим большим величественным сводом, который эхом вторил многоголосой болтовне, сейчас слышались лишь глотательные, причмокивающие и прицокивающие звуки. Никто не захотел отказаться от наслаждения шоколадом, приготовленным поваром – что бы ни говорил об этом дон Паскатио – с большим знанием дела. Тут неожиданно в толпе празднующих образовался коридор, по которому важно прошел кардинал Спада в сопровождении папы новобрачных. Хозяин дома предпочел подождать с выходом до конца ученых разговоров и воспользовался моментом, когда гости приступили к легкой закуске. – Да здравствуют жених и невеста! Да здравствуют! – закричали новобрачным гости и подбежали к Спаде поздравить и приложиться к его руке. Раздались громкие аплодисменты. – Слово, ваше высокопреосвященство, слово! – восклицали кардиналы. – Ну хорошо, друзья мои, – ответил он, приветливо улыбаясь и махнул рукой, останавливая шум разговоров. – В присутствии таких прославленных гениев мне остается внести в наш праздник лишь незначительный вклад. Надеюсь, что мне простят мои скромные стихи, которые я прямо сейчас вам и прочитаю. Их предмет может и не соответствовать тем высоким вещам, о которых только что шла речь в этом зале. Но, как сказал поэт, non datur omnibus adiré Corinthum.[1333] Тут он попросил немного тишины и, весело улыбаясь, прочитал сонет:
Я посмотрел на присутствующих. Кардиналы, которым пришлось слушать эту отчаянную тираду Атто, от возмущения побелели. Этот вечер был посвящен умным диспутам, а не бунтарским речам. – Однако как я уже говорил, – продолжил Мелани, – всеобщая республика слов хоть и населена марионетками и петрушками, но построена на фундаменте, который подобен твердыне крепостных стен Трои, и фундамент этот – справедливость, правда, здоровье, безопасность… Каждый такой камень по отдельности – целый колосс, который незыблем, его нельзя сдвинуть с места, ведь власть слов неприкосновенна в наше время, Если кто-то воспротивится очевидной правде и справедливости, того тут же назовут лжецом и нечестным. Кто пойдет против здоровья, будет заклеймен как отравитель, кто же действует против безопасности, становится бунтарем. А если попытаться убедить других – многих других – в том, что часто (и еще как часто!) за этими словами скрывается нечто противоположное, то получится так, словно вы хотите снести эти стены или перенести их на тысячи миль отсюда. Лучше всего, конечно, закрыть глаза и делать так, как с давних пор делают те, кто вершит судьбами людей, – правители и их тайные советники: уж слишком хорошо они знакомы с подлым колесом фортуны. И они пытаются управлять им, чтобы судьи, сбиры и другие марионетки этой уродливой республики слов оставались их рабами и служили у них палачами. Пока однажды их самих не повесят по приказу судьи. – Аббат Мелани, вы бросаете вызов судьбе. Это был Албани. Как и в предыдущий вечер, секретарь по грамотам Его Святейшества с предостережением обратился к Атто. – Я не бросаю вызов ничему и никому, – дружеским тоном ответил Атто. – Я лишь немного поразмышлял о… – Вы находитесь здесь, чтобы провоцировать людей, волновать и смущать умы! Вы призываете к волнению, призываете не верить судьям и не повиноваться сбирам. Я слышал это достаточно хорошо. Волновать? Напротив, ваше высокопреосвященство. Будучи французским подданным… – To, что вы находитесь на стороне его величества французского короля, очень хорошо, об этом уже знают все, – снова прервал его Албани. – Но вам нельзя заходить слишком далеко. Папская земля не может принадлежать той или другой власти. Святой город является приютом для всех верующих, он открыт для всех людей добрых намерений. Все это было произнесено тоном, не терпящим возражений. – Я склоняюсь перед вашим высокопреосвященством, – только и смог ответить Атто, действительно склонился в поклоне и сделал шаг вперед, чтобы поцеловать руку. Но, показывая свое неодобрение, Албани не заметил поклона Атто (или не хотел заметить), он резко повернулся к сопровождающим его кардиналам и прокомментировал происходящее: – Это просто невероятно! Прийти сюда, в дом кардинала, государственного секретаря, и пропагандировать Францию, распространять такие идеи!.. – возмущенно воскликнул он. Таким образом Атто поклонился спине Албани. Один из «друзей» аббата заметил это и злорадно усмехнулся. Это было унизительно и выглядело смешно.
Через несколько минут Мелани уже вернулся в зал, я – следом за ним, стараясь не попасться никому на глаза. Ведь я тоже присутствовал при его пылкой речи. Она могла показаться кому-то вспышкой вздорного человека. Я стал случайным свидетелем сей сцены. Но нам нельзя переигрывать: нельзя допустить, чтобы пошли слухи о том, будто бы я нахожусь на службе у аббата, – в таком случае подозрение распространится и на меня. Я хотел защитить не его интересы, а свои. Что, если кардинал Спада посчитает меня одним из подстрекателей? Я рискую оказаться выброшенным на улицу. Сохраняя небольшую дистанцию, мы прошли через зал, где было полно гостей. Мелани подал мне знак следовать за ним в его комнаты на верхнем этаже. – Ну что, ты понял, как функционирует республика слов? – снова начал он, словно не прерывал своей речи. – Но, синьор Атто… – Ты сомневаешься, я понимаю Ты хочешь сказать мне если это правда, то как тогда вы и другие можете знать, что сбирам нельзя доверять, что судьи иногда продаются и служат другим? – Нуда, это тоже… – Это общеизвестно, мой мальчик, правда вышла из республики слов и поэтому стала бесполезной. И всегда думай об этом, – добавил он с коварной улыбкой. – Если правители хотят сохранить порядок в государстве, то народу ни в коем случае нельзя знать правду о том, из чего сделаны две вещи – закон и колбаса. Так будет спокойнее спать. У меня не осталось времени что-либо возразить ему и детальнее обсудить эту тему, так как мы уже подошли к двери его комнаты. Он открыл ее, попросил меня подождать немного и вернулся с корзиной грязного белья. – Сейчас у меня будет важная встреча и мне нужно сменить рубашку. Я должен немного привести себя в порядок, а то выгляжу я просто ужасно. Вскоре на вилле ожидают прибытия графа Ламберга, посла Империи, и я хотел бы подойти к нему. Он немного опаздывает, но будет здесь вскоре. Я спрошу его, примет ли он меня. А ты пока возьми эти вещи и отнеси служанкам, чтобы их постирали и выгладили, иначе у меня скоро не останется ничего чистого. А теперь иди.
Пока я шел в прачечную, неся перед собой корзину с грязными вещами Атто, в голове у меня роем вились мысли. Атто обвинял правителей, высоких чиновников, политических советников, государственных министров и т. п., к которым с такой гордостью причислял и себя. Создавалось впечатление, будто он своей речью действительно провоцировал, подстрекал к бунту, как говорил Албани. Несомненно, все, кто присутствовал при втором споре между ним и Албани, уже давно пустили слух об этом среди других гостей, так что Атто теперь наверняка заработал себе репутацию возмутителя спокойствия и бунтаря, которая вряд ли ему нужна, если он хочет действовать потихоньку. Атто Мелани был шпионом, а шпионы должны быть молчаливыми. Что же побудило его выставить себя напоказ и притом признаться в солидарности с французами? Мне кажется, он только навредил себе. Странно, но Атто это обстоятельство вовсе не расстроило. Вместо того чтобы, как только мы оказались одни, прокомментировать оскорбление, которое нанес ему Албани, когда повернулся спиной, он снова продолжил развивать свои запутанные мысли насчет всеобщей республики слов. «Возможно, я совершил ошибку», – подумал я вдруг. Не стоило больше ждать от аббата Мелани той проницательности, которую я видел в нем семнадцать лет назад. Он постарел, вот и все. Потеря интеллектуальных и нравственных способностей неосторожно повлекла за собой недостаток рассудка и определенную распущенность. Меткость и точность превратились в задиристость, осторожность – в опрометчивость слов и поступков, холодный расчет перешел в замешательство. Я знал, что с возрастом люди редко становятся лучше. И в том, что Атто утратил часть своих способностей, собственно говоря, нет ничего удивительного. В это время я заметил, что в Касино зашло несколько знатных господ. Я слышал от других слуг, что кардинал Спада собрался сам встретить одного важного гостя. И я знал, о ком шла речь.
Через несколько минут гость торжественно вошел в зал, и Фабрицио Спада в сопровождении новобрачных с подчеркнутой доброжелательностью, проявляя особую учтивость, устремился ему навстречу. Многие гости последовали его примеру и поспешили к вновь прибывшему: графу Ламбергу – послу Австрийской империи. Как я узнал позже, кардинал Спада послал за ним свою карету, которая ехала впереди кареты кардинала Медичи. Для того чтобы избежать протокольных церемоний, представители двух великих держав, испанский герцог Узеда и посол Франции князь Монако, потихоньку договорились со своим коллегой, послом Империи, что прибудут в день самой свадьбы, но потом каждый сделает второй визит на следующий день. Таким образом можно было избежать дипломатического соперничества и предотвратить ссоры между лакеями (как это бывает почти каждый день в Риме), поскольку слуги всегда хотят занять для кареты своего господина место получше. Поэтому в тот день, когда прибыл Ламберг, послы Франции и Испании появляться не собирались и все внимание было обращено на посла Австрийской империи. Из-за своего скромного роста я пропустил тот важный момент, когда Ламберг входил в зал, так как мне мешала плотная стена спин и затылков. Однако толпа гостей почти сразу же разделилась надвое, чтобы пропустить посла великой империи. Он шел в сопровождении множества лакеев в желтых ливреях и пажей в гвардейской– форме. Кардинал Спада, который шествовал рядом, вежливо проводил его до середины зала. Дамы и господа склонялись в почтительном поклоне, когда он проходил мимо, пытались обратить на себя его внимание пожеланиями счастья и благополучия. – Ваше превосходительство… – Да защитит вас Господь. – Да пребудет ваше превосходительство всегда в здравии! И тут в хор восторженных приветствий неожиданным диссонансом ворвался чей-то голос: – Si Deus et Caesar pro me, quis contra? Мне несложно было узнать, кто произнес эту фразу на латыни. Это был Атто. Он также склонился в поклоне, оказывая почтение дипломату могущественной империй. «Если Бог и император со мной, то кто же тогда будет против меня?» – произнес аббат Мелани. Приподнявшись на цыпочки и глядя поверх блестящей лысины какого-то прелата, я силился увидеть эту сцену собственными глазами. Это был действительно Атто, склонившийся перед Ламбергом, однако с таким достойным видом, словно давая понять, что это дань вежливости, но никак не знак раболепия. Перед ним стоял императорский посол, лицо которого я мог сейчас рассмотреть намного лучше, чем вчера. Черные как смоль невыразительные глаза, взгляд холодный, даже отталкивающий. Посол смотрел мрачно, не глядя в лицо собеседнику, глаза его бегали, что указывало на характер человека, привыкшего ко лжи и лицемерию. Лоб не очень низкий, овальное лицо землистое и тусклое, как будто бледным его сделали некие жуткие мысли. Небольшая, аккуратно подстриженная бородка придавала лицу некоторую привлекательность – вероятно, она должна была свидетельствовать о высоком положении посла в обществе. Всем своим видом он внушал почтение и уважение, но в первую очередь – недоверие. – Это мудрые слова, – ответил Ламберг, явно заинтересованный. – Кто вы? – Поклонник, который хочет приветствовать ваше превосходительство с величайшим почтением, – сказал Атто и передал ему записку. Ламберг взял ее. Заинтригованные гости удивленно зашумели. Посол развернул записку, прочитал ее и снова сложил. Затем он коротко рассмеялся. – Ну хорошо, договорились, – произнес он, небрежно возвратив Атто его записку, и снова отправился к середине зала. Аббат Мелани выпрямился – у него было очень довольное лицо. Я вернулся на свое место у камина, надеясь опять подслушать их интересный разговор. Однако теперь в креслах сидела другая пара. – Подавать горячий шоколад в такое время – это, скажу я вам, очень смелый шаг… – с волнением в голосе тихо проговорил какой-то молодой каноник. – Вы явно не желаете признать очевидного: Папа благоволит Испании, ведь он родился ß Неаполитанском королевстве, а это испанские владения, Спада же – государственный секретарь Папы, – ответил другой благородный молодой человек. – Согласен, ваше превосходительство, но предлагать шоколад – это такая вопиющая лесть… шоколад – любимый напиток короля Испании Карла II, и это в год, когда должен проводиться конклав… – Да, это, конечно, производит впечатление принадлежности к определенной партии, я знаю, знаю. Вот увидите, в последующие несколько дней здесь еще будут много говорить об этом. Я и не подозревал, что шоколад считался политическим напитком – признаком симпатии к Испании. Но мне было известно, что идея подать напиток из какао первоначально принадлежала дону Паскатио, и кардинал охотно согласился с ним, более того, даже пошутил на эту тему – мы все могли слышать, – исполнив восхитительный сонет. «Однако как только до его ушей дойдут критические замечания и ему выскажут подозрения…» – с улыбкой подумал я и тут же легко представил себе, как кардинал Спала испугается и снова устроит головомойку своему бедному дворецкому.
Неожиданно мое внимание привлекло движение среди гостей в одной стороне зала. Лакей кардинала Спады направился к лакею кардинала Спинолы, который в это время был окружен гостями. Я заметил это только потому, что, протискиваясь сквозь толпу, лакей нечаянно налетел на Марчезу Бентивоглио, первую придворную даму королевы Польши, которая от толчка пролила себе на грудь приличную порцию горячего шоколада. Громко обруганный, лакей продолжил свой путь, принося тысячу извинений, и передал записку Спиноле. Тот довольно рассеянно прочитал ее, как будто хотел показать присутствующим всю незначительность содержащейся в ней информации. Я стоял слишком далеко, чтобы услышать, что сказал кардинал лакею, быстро наклонившись к нему и возвращая записку. Но после того как я напряг все свои чувства, забыв об оживленных разговорах вокруг, мне все же, кажется, удалось прочитать по губам Спинолы несколько членораздельных слов, которые сопровождались жестами: – …снаружи, на балконе.
Главное не только видеть и слышать, но и действовать. И эту необходимость действий я почувствовал сразу же: послание, которое, вероятнее всего, адресовано Спиноле, было от Спады, и предназначалось для третьего человека. Я знал, кто был до сих пор на террасе: кардинал Албани. Получается, что между тремя членами кардинальской коллегии, присутствовавшими на «Корабле», незаметно появился посланник! Если нам не удастся перехватить записку (что действительно было абсолютно исключено), возможно, получится хотя бы узнать содержание послания, и мы тогда сделаем важный шаг в раскрытии заговора против конклава. Вероятно, мы даже узнаем, как далеко зашли тайные переговоры об избрании нового Папы. О том, где они пройдут, Атто догадывался, но почему три кардинала встретились именно на «Корабле» – на вилле тысячи тайн? Сейчас было очень важно ничего не испортить. Я покинул свое место у стены и двинулся за лакеем на балкон, осторожно следя за тем, чтобы никто не заметил меня. Послеобеденное солнце все еще щедро дарило свой свет. Приблизившись к большой стеклянной стене, которая выходила на террасу, я увидел темные силуэты гостей, болтающих на свежем воздухе. С противоположной стороны на стекло спадал свет, и силуэты людей четко вырисовывались на нем, словно фигурки, которые иезуиты так умело проецируют на сцену во время своих театральных представлений. Благодаря интуиции, незаменимому союзнику в подобных тяжелых ситуациях, я сразу же узнал среди них кардинала Албани. Он все еще стоял на том месте, где оскорбил Атто, окруженный группой друзей и подхалимов, которые неизменно сопровождают каждого кардинала, словно рой мух корову. Только один слуга из дома Спады отделился от группы, чтобы снова наполнить чашки горячим шоколадом. Пока я направлялся из зала к выходу, переступая через чьи-то ноги, задевая стулья и столы, молясь, чтобы дон Паскатио не задержал меня, то увидел, что Мелани тоже обратил внимание на происходящее. Бюва, который отказался от своего обычного бокала вина и следил за всем, поскольку Атто был занят разговором, наклонился к нему и прошептал что-то на ухо. В ту же секунду Атто распрощался со своими благородными собеседниками и отправился на балкон. К несчастью, в спешке он столкнулся с секретарем из окружения Ламберга и чуть не растянулся во весь рост на полу. Лакей был слишком далеко, чтобы мы могли догнать его. Так и пришлось нам наблюдать через стекло (я – с левой стороны, Атто – с правой) передачу записки. К сожалению, окружение кардинала закрывало его от нас в тот самый момент, когда он получил записку и прочитал ее. Вскоре после этого мы добрались до балкона, запыхавшись от спешки, но стараясь, чтобы этого никто не заметил. Однако в следующий момент все гости на балконе обернулись ко мне – на их лицах читалось веселое недоумение. Косые лучи солнца безжалостно слепили меня, так что мне не удалось разглядеть, кто именно смотрел на меня. Я повернулся к Атто. Он тоже глядел на меня немного удивленно, но это длилось мгновение, ибо как раз в эту секунду Албани снова сложил записку, что тут же отвлекло от меня внимание Атто. Другие же продолжали разглядывать меня, подняв брови, и, казалось, никак не могли оторвать от меня взгляд. Кто-то даже со смехом толкнул соседа в бок. Я покраснел от стыда. Я не осмелился спросить, что же такого они нашли во мне: я стоял сейчас так близко от Албани, что не хотел менять своего места. – Прелестно, – услышал я голос Албани недалеко от меня. – У кардинала Спады действительно хороший вкус. Затем он поставил чашку шоколада на перила балкона, держа в руке записку. На бумагу капнуло немного шоколада, и кардинал испуганно отдернул свою нежную руку. Записка выпала и опустилась на перила рядом с чашкой. В то же мгновение я почувствовал над головой знакомый шелест, который сопровождался своего рода поглаживанием моей макушки. Затем между мной и солнцем промелькнула быстрая тень. Существо махало крыльями подобно живому вихрю, ловко повернуло и опустилось на каменные перила у чашки Албани, наполненной шоколадом. Я не смог сдержать восклицания: – Цезарь Август! Последовавшие за тем события стали самими неожиданными и странными за все время моего пребывания на вилле Спада. Жаль, но в этот раз кардинал Албани, его друзья и остальные гости на балконе любовались не мною, а роскошным оперением попугая Цезаря Августа, который сидел над моей головой на выступе стены. Как я уже упоминал, у попугая было почти болезненное пристрастие к шоколаду. Иногда мне получалось достать для него немного этого лакомства в кухне. Но сегодня впервые дурманящим ароматом была наполнена вся вилла, и не случайно птица именно в этот день, поборов скромность, явилась на праздник в надежде получить глоток шоколада. В тот момент, когда Албани оставил свою чашку без присмотра, попугаю пришла в голову остроумная мысль, которая вполне соответствовала его коварному нраву – украсть шоколад. Не успев сесть на перила, он обмакнул клюв в чашку кардинала. Албани с гостями несколько смущенно улыбнулись. – Забавно, э… правда, весело, – произнес кто-то, и тут же Цезарь Август, вызвав удивленные взгляды всех, кто столпился на балконе, сжал бумагу в своих когтях. Албани протянул руку и попытался схватить записку, которая, казалось, была так близко. Но Цезарь Август злобно клюнул его в руку. Кардинал отдернул руку, вскрикнув тихо, но тоже зло. Другие гости невольно сделали шаг назад. – Ваше высокопреосвященство, позвольте помочь вам, – сказал я и начал пробираться к попугаю, втайне надеясь, что Цезарь Август не станет клевать своего старого друга. Я осторожно забрал у него записку. Однако тут же возникла ужасная свалка. Меня столкнули на пол – нет, кто-то просто упал на меня. По крикам, которые я услышал, мне стало понятно, что на полу нас по крайней мере трое. Кто-то вырвал у меня записку, и чей-то локоть больно врезался мне в ребра. – О ваше высокопреосвященство, простите меня, простите меня, пожалуйста, я споткнулся, – услышал я голос Бюва, который трудно спутать с каким-то другим. – Идиот! Я тебе сейчас покажу! – ответил другой голос. – Держите этого сумасшедшего! – крикнул кто-то третий. Я моментально понял план Атто: создать суматоху, возможно, даже затеять драку, толкнув долговязого Бюва, а затем, воспользовавшись переполохом, завладеть запиской. – О нет, проклятие! – услышал я, как чертыхнулся Мелани. Я проскользнул между ног какого-то незнакомца и быстренько поднялся. Почти все уже были на ногах, включая Бюва, который приводил в порядок свою одежду под сердитыми взглядами ошеломленных мужчин. Цезарь Август все так же сидел здесь, на перилах балкона, но с одним существенным различием: теперь он держал записку в клюве, которую на лету вырвал из рук Атто. Мелани умоляюще смотрел на попугая, но не мог набраться смелости потребовать записку назад. Албани тоже озадаченно глядел на птицу и свою записку. – Цезарь Август… – тихо позвал я попугая, надеясь привлечь его внимание. Ответом было лишь тихое чавканье. Никакого звука он больше произвести не мог, так как получил вкуснейшую бумажку, пропитанную его любимым шоколадом. Затем он посмотрел на меня, склонив голову набок, и распрямил крылья. Наконец Цезарь взвился вверх, словно маленький белый вихрь, и испарился. Кардинал Албани не смог сдержать дрожи в голосе. – Воистину странная птица, – заметил он изменившимся голосом и попытался вернуть себе самообладание. Краем глаза я увидел, как кардинал вытер платком вспотевший от волнения лоб. Я с напряжением следил, в каком же направлении полетит птица. Как я и опасался, он полетел к воротам Сан-Панкрацио.
Уйти незамеченным было непросто. Едва я успел пробормотать извинения и покинуть балкон, как Атто догнал меня в зале. В нашу сторону, дивясь необычной сцене, которая только что разыгралась, повернув голову, все еще смотрели человек десять. Мы поспешно смешались с толпой. Мне надо было хорошенько подумать, как незаметно уйти из зала, а затем и с виллы, чтобы меня не задержал ни дон Паскатио, ни кто-нибудь из прислуги. Кроме того, нужно было время, чтобы сменить ливрею на свою одежду. Для этого необходимо было спрятаться в комнатах аббата Мелани. – Поспеши, поспеши, ради бога. Эта проклятая птица может быть сейчас где угодно, – говорил он, в то время как я торопливо надевал штаны. Не оставалось другого способа уйти незамеченными, кроме как тихонько пробраться через заросли камыша между цветочными грядками на главной аллее, затем вернуться и прошмыгнуть к задней части сада. На счастье, солнце как раз перестало жечь, истязая своими лучами все живое и неживое, поэтому преследование попугая не стало для нас столь обременительным. Оставив позади капеллу, мы перешли дорогу, которая вела к театру, и добрались до выхода с задней стороны виллы. Конечно, нам пришлось немного испачкаться, но, по крайней мере, нас не заметили другие гости или охрана на главном входе. Ведь ни Албани, ни Спинола, ни Спада не должны были даже догадываться о наших поисках. Атто приказал своему секретарю оставаться в зале и с большой предосторожностью наблюдать за тремя кардиналами. Разумеется, он понимал, что много узнать таким образом не удастся. Однако теперь мы знали, что если найдем Цезаря Августа и отберем у него записку, то выясним подробности следующей встречи кардиналов и, возможно, даже их планы, несмотря на то что Цезарь Август, схватив клювом бумагу смял ее. Записка пропиталась его любимым шоколадом, именно поэтому я был уверен, что попугай не расстанется с ней и будет крепко держать, чтобы время от времени облизывать бумажку своим черным острым языком. Как только мы прошли через ворота Сан-Панкрацио, Атто схватил меня за плечо. – Посмотри! Это был он. В вертикальном пике птица пронеслась над нашими головами. Конечно же, мы не остались незамеченными, так как попугай тут же метнулся в сторону и потом снова полетел прямо. Как я и ожидал, скорее всего он отправился в очередной рейд, чтобы пропасть на несколько дней, а то и недель; я часто видел его улетающим как раз в направлении самых высоких и густых деревьев. Так было и сейчас. За пределами Рима у него не было большого выбора: самые стройные пинии, величественные кипарисы и раскидистые платаны росли именно там, куда он понесся, подобно белой комете, – в зеленых кронах сада «Корабля».
10 июля лета Господня 1700, вечер четвертый
В этот раз в парке «Корабля» мы больше смотрели на небо, чем перед собой. Без сомнения, Цезарь Август прятался где-то здесь, присев на сук какого-нибудь высокого дерева, и, возможно, он даже наблюдал за нами. Наступил вечер, и хотя уже опустились темные тени, они тут же исчезли, едва мы ступили на территорию «Корабля». Переменчивый ветерок прогнал их вместе с небольшими облаками, открыв путь лучам яркого света. Казалось, на вилле Эльпидио Бенедетти сумерки и впрямь не пользовались спросом. Мы прошли через передний дворик и направились к рощам фруктовых деревьев, где и начали свои поиски. Огненные апельсины и лимоны, яркие пятна роз в горшках, кружевные тени под увитыми плющом беседками и в небольших рощицах смущали глаз, тревожили обоняние и все другие чувства. От легкого дуновения бриза дрожал каждый листочек, каждый цветок, колыхались маленькие деревца. Через несколько минут нам уже казалось, что мы видим попугая везде, и в то же время его не было нигде. Мы пошли по дорожке под сводчатыми арками, которая заканчивалась фреской с изображением торжествующего Рима. Нигде ничего. Атто пал духом. Мы изменили направление и вернулись к зданию. – Проклятая птица, – пробормотал он. – По-моему, у нас мало шансов найти его. Если Цезарь Август не хочет, чтобы его нашли, то с этим ничего нельзя поделать. – Ничего нельзя поделать? Это мы еще посмотрим! – воскликнул Мелани и погрозил серебряным набалдашником трости в сторону неба, словно желал предостеречь некое божество. – Я хотел сказать: если он не желает быть обнаруженным, то никто не сможет его найти, даже… Запомни: здесь я решаю, что мы будем делать и что не будем, мой мальчик. Я – дипломат его христианнейшего величества французского короля, – сообщил он мне. Я промолчал, но потом все же решил что-то ответить. – Хорошо, синьор Атто, тогда объясните мне, пожалуйста почему вы выхватили у меня записку, ведь она была уже в моих руках? Если бы Бюва не свалился на меня, то, возможно, эта записка уже находилась бы у вас. Но нет, вы забрали ее у меня а попугай увел ее! От волнения у меня перехватило дыхание, стеснило в груди и я напряженно ждал ответа. Как обычно, от страха испортить отношения с Атто у меня начинается удушье. Он помолчал секунду, затем ответил, злобно шипя: – Ты вообще ничего не понимаешь, ты никогда ничего не понимал. Тебе не удалось бы сохранить записку. Албани стоял прямо перед тобой, все таращились на тебя, пришлось бы просто вернуть ее. Только мы с Бюва могли сделать так, чтобы она исчезла, если бы твой чертов попугай не испортил все. – Во-первых, попугай принадлежит не мне, он достался кардиналу Фабрицио Спаде в наследство от его дяди, монсиньора Виргилио Спады, упокой Господь его душу, Кроме того, мы должны быть благодарны попугаю, за то что он похитил записку. – Я смог бы отвлечь Албани, а между тем Бюва воспользовался бы ситуацией. – Отвлечь Албани? Но ведь вы все это время только тем и занимались, что делали из негр врага? Своими дерзкими речами вы спровоцировали сегодня вторую ссору. На празднике все только и будут говорить об этом. – Успокойся. Ну, теперь я совсем рассердился. Это стало последней каплей, переполнившей чашумоего терпения. Я знал, что мое замечание абсолютно справедливо. Так просто Атто не заставит меня замолчать. Но потом я заметил, что он имел в виду нечто совсем другое. Аббат Мелани уставился на что-то за моей спиной, напряженный и настороженный, словно увидел свободно разгуливающего дикого зверя. – Он позади меня? – спросил я, тут же вспомнив о Цезаре Августе. – Он как раз удаляется. И одет так же, как в прошлый раз. – Одет? Я обернулся.Он находился менее чем в тридцати метрах от нас. Под мышкой он держал кипу свернутых бумаг, связанных вместе красной ленточкой, и шел, погруженный в свои думы, по направлению к юной девушке, чья кожа была белой, как сметана, а лицо обрамлено густыми темно-каштановыми локонами. С поклоном, на который девушка ответила широкой улыбкой, он передал ей кошелек и некоторые бумаги. Я успел узнать ее, прежде чем они оба исчезли за большим лимоном. Ошибиться было почти невозможно. Да, это были они. Благородный пожилой господин и юная девушка, которых мы видели увлечено беседующими в тот день, когда впервые вторглись на территорию «Корабля». Она была точной копией Марии Манчини. И он тоже смутно напомнил мне кого-то сейчас, когда я увидел его второй раз. Но кого? Они исчезли так же неожиданно, как и появились. Наученные предшествующими событиями, мы не пытались догнать их или понять, каким образом они так быстро исчезали. Я посмотрел на Атто. – Ahi, dunqu'è pur vero,[1334] – прошептал он. И теперь я знал, кого именно мы увидели.
* * *
Мне пришлось бы долго объяснять, в какие события и в какое время перенесла меня эта фраза. Достаточно сказать, что ее семнадцать лет назад произнес один из гостей «Оруженосца» незадолго перед своей смертью. В то время я работал там слугой и как раз в эти дни познакомился с Мелани. Умирающий был не кто иной, как Никола Фуке, в прошлом генеральный контролер, министр финансов Франции. Именно он произнес эти слова. Обвиненный в заговоре, он был заключен в тюрьму пожизненно, но когда в стране начались волнения, ему удалось бежать в Рим и остановиться на постоялом дворе «Оруженосец». Атто наверняка знал, что я помню все эти события, тем более что у него находились сейчас мои мемуары. – Это был тот же господин, что и тогда, с Марией… – пробормотал я, все еще взбудораженный загадочным явлением. Атто ничего не ответил, но своим молчанием дал понять, что согласен со мной. Мы совершенно забыли о нашем недавнем споре и возобновили поиски, напряженно вглядываясь в кроны деревьев и не желая признаваться друг другу, что теперь нас мало занимали мысли о Цезаре Августе. Таинственное появление этих двух людей, больше похожее на волшебное видение, вернуло нас в прошлое. Я подумал о том дне, когда познакомился с аббатом Мелани. Он же, видимо, был погружен в воспоминания о своей дружбе с Фуке, об ужасной судьбе и трагическом конце генерального контролера. Тут я понял, почему первая встреча с таинственными людьми на «Корабле» потрясла его сильнее, чем последующие. Он одновременно увидел перед собой привидение Марии, с которой был связан запутанными, сложными узами чувств, и Фуке, свидетелем и причиной ужасной смерти которого он стал. Достаточно было одного взгляда на Атто, чтобы понять, какая буря противоречивых эмоций всколыхнулась в его душе. Он видел старого друга, но еще не настолько старого и сломленного многолетним заточением, каким узнал его я, а зрелого мужчину в расцвете сил. В кипе бумаг, которую он нес под мышкой, должны были быть и те, которые он, неутомимый работник на службе у короля, брал с собой даже домой, до того как интриганы французского двора лишили его министерского кресла, чести, свободы и даже жизни. Прямая осанка, решительная походка, приятные черты лица, серьезный взгляд – таким был Фуке, которого Атто знал в молодости. Сегодняшняя встреча должна была мгновенно отбросить аббата назад, вернуть к событиям ушедшего столетия, к бесконечному смятению душ и истории, вызвать неимоверную боль и, возможно, такие же угрызения совести. Словно в чистом тихом пруду, в жизни этой виллы отразилось счастливое прошлое, оно кокетливо поправляло прическу, глядя на свое отражение, и как будто говорило нам: «Я все еще здесь».Атто шел, немного сгорбившись, и я видел не энергичную походку бодрого старика, а осторожные движения слишком рано состарившегося молодого человека. Сам не знаю, смог ли бы я выдержать подобные испытания духа и сердца. Мне подумалось даже, что, будь я на его месте, скорее всего, меня сотрясали бы рыдания. Но он сдерживал их и продолжал делать вид, будто ищет попугая. Было просто невозможно в душе не простить его, и я решил, что стоит закрыть глаза на многие его недостатки (дерзость, хитрость, надменность…) хотя бы отчасти, если я действительно хотел называться его другом. Конечно, это означало бы, что мне придется смириться со многими иллюзиями, например с тем, что он способен на крепкую, настоящую дружбу. «Вы – мой самый настоящий друг». Эту фразу я услышал при первом появлении Марии и Фуке и уж точно никогда не смогу сказать ее аббату Мелани. Но разве дружба не является первой подругой самообмана, которым подпитывают дружбу, дабы продлить те радости, которые она приносит людям?
– Я думаю, ты прав. Цезаря Августа здесь нет или же просто очень тяжело найти тут, – сказал Атто глухим голосом. – Когда ему не хочется, чтобы его отыскали, он прилетает в подобные места. К сожалению, это место – самое идеальное для него, – добавил я. – И все же довольно странно, что он прилетел именно сюда, – заметил Мелани. – Три кардинала, тетракион, твой попугай». Это место постепенно наполняется персонажами. – Что касается Цезаря Августа, я думаю, он здесь все же случайно. Он любит высокие деревья с густой листвой, а в этом саду растут самые красивые деревья на всем Джианиколо. – Ну хорошо, давай тогда разузнаем, нет ли здесь случайно кого-то еще. – Кого-то? – переспросил я, все еще думая о таинственном видении. – Начнем с тетракиона, – поспешил объяснить Mелани, направляясь ко входу в дом. Однако тут он снова остановился. Несравненная сладкая мелодия, посылаемая скрипкой в небесные просторы, мягко разливалась по всему парку. Было трудно сказать, откуда она доносилась и кому в радость исполнялась. – Снова эта музыка… Folia, – неожиданно произнес Атто. – Вы хотите еще раз обойти здание, чтобы понять, откуда к нам доносится эта музыка? – Нет, давай останемся здесь. Мы прошли уже достаточно много. Я не отказался бы от небольшого отдыха. Он опустился на маленькую мраморную скамеечку. Я думал, что он скажет что-то вроде «Мы все становимся старше» или «Я уже не так юн», но он промолчал. – Фолия. Словно сумасшествие,[1335] сумасшествие Капитор, – вырвалось у меня. – Она тоже натолкнула тебя на такие мысли? – Вы же сами рассказывали мне: Капитор, сумасшедшая из Испании, даже имя ее происходит от lapltora, что на испанском означает «сумасшедшая». – Tout se tient. Здесь же мы с тобой слышим фолию, которая кажется бесконечной. И каждый раз в ней возникают новые вариации. А вот сумасшествие Капитор, напротив, в один момент закончилось. – Вы хотите сказать, что она быстро покинула Францию? – Да, в один прекрасный день она и Бастард уехали. Но уже ничто не стало опять таким, как раньше. – Что же произошло? – Целый ряд печальных обстоятельств. Они и привели к той сцене, свидетелями которой мы только что стали, – прошептал Атто, наконец-то решившись поговорить о загадочном явлении Марии и Фуке.
* * *
И Мелани рассказал мне, что случилось потом. После представления Капитор поведение кардинала резко изменилось. Темное пророчество сумасшедшей («Дева, которая выйдет замуж за корону, принесет смерть») засело у него в голове – трубы страха звучали в его ушах резко и громко. Связь Людовика и Марии следовало разорвать любыми средствами. Им нужно помешать. «На кону моя голова», – решил кардинал, скрывая свой новый страх, в котором он никому не мог признаться. Он был полон ужаса, хотя это не было заметно. Так в последующие месяцы весны 1659 года на пути влюбленных стало появляться все больше препятствий. В июне Мазарини заявил официально, что Мария должна покинуть королевский двор. Кардинал, планировавший поездку на Пиренеи, где собирался обсудить некоторые подробности мирного договора с Испанией, намеревался взять племянницу с собой, в пути расстаться с ней и отослать ее в Ля Рошель, к младшим сестрам Ортензии и Марианне. Отъезд намечался на двадцать второе июня. Королева, опасаясь реакции Людовика, поостереглась сообщать ему эту новость. Поэтому Мазарини приказал Марии самой сказать королю о предстоящем отъезде. Людовик пришел в ярость. Он грозил Мазарини немилостью, а печаль Марии еще больше усиливала гнев короля. Три дня он не разговаривал со своей матерью. В полном отчаянии Людовик бросился в ноги Мазарини и королеве, рыдая, он молил их о том, чтобы они дали ему разрешение жениться на Марии. Суровым тоном, вооружившись искусной риторикой, Мазарини напомнил королю, что он, кардинал, назначен советником и помощником его родителями, что до настоящего дня он служил королю верой и правдой и никогда не сделает ничего, что могло бы навредить славе Франции и короне, и, являясь опекуном своей племянницы Марии, он скорее заколет ее кинжалом, чем предаст. Людовику пришлось уступить. Мазарини сказал королеве, когда они остались одни: – Что же нам еще остается? На его месте я сделал бы то же самое. Даже после этого дня Людовик не переставал уверять Марию что никогда не женится на испанской инфанте. Он хорошо все рассчитал и сможет сломить сопротивление кардинала и матери ибо только она, Мария, должна однажды подняться на трон Франции. В подтверждение своих намерений король послал ей тогда очень дорогое колье, которое купил у королевы Англии и сохранял до дня помолвки. Однако приказ Мазарини оставался неизменным: Мария должна покинуть Париж. Юная Мария уверяла своего возлюбленного что после этого кардиналу будет легко отправить ее в какое-нибудь еще более отдаленное место. Людовик попытался успокоить ее и поклялся, что будет думать только о ней и обязательно найдет выход. Но эти обещания не могли утешить ни ее, которая слушала их, ни его, который их давал. В последовавшие дни Мария то плакала, то сердито молчала. Людовик не переставал повторять ей, что его боль от предстоящей разлуки не может сравниться ни с какой другой, которую когда-либо испытывал человек. Однако слов уже было недостаточно. – Немногие видели то, что тогда видел я, мой мальчик. И, будь уверен, никто никогда не станет болтать об этом, – заявил Атто.Затем, чтобы от несмолкающей речи Атто у нас не началось онемение в ногах, мы отправились на короткую прогулку по аллеям парка. В этом месте, полном духов прошлого, каждый шаг напоминал о каком-нибудь эпизоде. Каждая фраза или деталь, каждый цветок на грядке пробуждали стесняющие душу воспоминания.
До самого отъезда Марии король не мог смириться с неизбежным. Двадцать первого июня, накануне расставания, королева-мать и сын имели долгий разговор наедине. В итоге король вышел с опухшими от слез глазами. Мария уезжает. Людовик проиграл сражение, но все еще надеялся выиграть войну. На следующее утро он невероятно страдал от мук любви, и ему пришлось два раза пускать кровь: на ноге и на руке (затем последовали еще четыре приступа – и еще шесть кровопусканий). Не переставая рыдать и громко заверяя в том, что он сделает ее своей невестой, Людовик проводил Марию к карете. – Конечно, ей трудно было понять все это. Ведь он был королем и мог делать все, что хотел. Вместо этого он поддался на уговоры матери и кардинала. – И что сказала Мария? – «Ах, сир! Вы плачете, но ведь вы король, а уезжаю я!» – процитировал Атто с легкой улыбкой на губах. – Но почему король не настоял на своем? – Ты должен знать, что только отсутствие человека дает нам возможность осознать, как он нам дорог. Людовик был очень влюблен, но это было первое сильное чувство, поэтому он еще не знал, что такое случается лишь один раз в жизни. Королева Анна убедила сына в том, что со временем он забудет Марию и когда-нибудь будет даже благодарен ей за те страдания, которые она ему сейчас причинила. И он поверил ей. Так был нанесен непоправимый вред. Мы вновь опустились на мраморную скамеечку. После отъезда Марии между влюбленными началась отчаянная переписка. Мария решила оставить сестер в Ля Рошели и сбежать в крепость Бруаже неподалеку, чтобы уединиться. I В августе Людовик и Анна со всеми придворными отправились на Пиренеи, чтобы заключить мирный договор между Францией и Испанией. Здесь же для подтверждения мирных намерений должна была состояться свадьба Людовика и инфанты. – Как уже было сказано, я тоже принял участие в этом мероприятии, которое изрядно повлияло на ход истории Европы, – сообщил Атто с едва скрываемой гордостью. Тринадцатого и четырнадцатого августа Мазарини приветствовал короля и его мать, когда те встретились им с Марией на пути. И хотя все ночевали в одном дворце, Марии и Людовику было запрещено обмениваться друг с другом хотя бы одним словом. И король беспрекословно сносил все. – Это был момент, когда я вдруг подумал: «Его величество станет таким же, как его отец, этот соня Людовик XIII! Кардинал может спать спокойно…» – усмехнулся Атто. Однако когда молодой король садился на коня, чтобы продолжить путешествие, Мелани воспользовался ситуацией и передал ему тайное письмо Марии – последний привет. – Никто, кроме меня, никогда не узнает о содержании этого письма. Оно было очень длинным и бесконечно печальным. Я никогда не забуду ее последних слов. И он процитировал по памяти:
«Des pointes de fer affreuses, hérissées, terribles, vont être entre Vous et moi. Mes larmes, mes sanglots font trembler ma main. Mon imagination se trouble, je ne puis plus écrire. Je ne sçais ce que je dis. à Dieu, Seigneur, le peu de vie qui me reste ne se soutiendra que par mes souvenirs. Ô souvenirs charmants! Que ferez vous de moy, queferayje de vous? Je perds la raison. Adieu, Seigneur, pour la dernière fois».Затем Мелани перевел для меня: «Ужасные острые железные иглы вонзились между Вами и мной. Моя рука дрожит от слез, от рыданий. Мой разум мутнеет – я больше не могу писать. Я не знаю, что сказать. До свидания, мой господин, та недолгая жизнь, которая мне осталась, будет наполнена одними воспоминаниями. Ах, милые воспоминания! Что же сделали Вы со мной, а я – с Вами? Я теряю рассудок. Прощайте, мой сударь, в последний раз прощайте». – И это было действительно последним прощанием их любви, – закончил он. – Но неужели вы тайком прочитали это письмо? – удивился я. – Что? – испуганно воскликнул Атто. – Помолчи лучше и не перебивай меня больше. Пока я молча потешался над тем, что подловил Мелани (ведь было совершенно очевидно, что он тайком прочитал письмо Марии, прежде чем передать его королю), тот продолжил свой рассказ. Мазарини все поставил на то, чтобы Мария приняла предложение вступить в брак с коннетаблем Лоренцо Онофрио Колонной. Колонна происходил из старого римского дворянского рода, которому служил еще отец кардинала, а сейчас и сам Мазарини, состоявший на службе у Филиппо Колонны, дедушки Лоренцо Онофрио. Именно Филиппо Колонна отсоветовал двадцатилетнему Мазарини жениться на дочери неизвестного нотариуса, в которую тот влюбился, и вместо этого наставил на путь «сутан», то есть церковной карьеры. По мнению Колонны, она должна была принести ему больше счастья. Таким образом жизненный путь юного короля переплетался с жизнью кардинала и складывался по его плану, и, поскольку нить судьбы самого кардинала была порвана, он безжалостно жертвовал жизнью своего подопечного. Чтобы убедить Марию связать себя брачными узами с Лоренцо Онофрио, Мазарини готов был пойти на уступки. Мария сразу же попросила о разрешении поехать в Париж. Так она вернулась в столицу, где дядя распорядился, однако, запереть ее в своем доме и не выпускать. Но судьбе было угодно, чтобы Марии и сестрам пришлось покинуть дом из-за небольших ремонтных работ, а сам Мазарини находился в это время по делам службы в другом городе Франции. Где они нашли приют? В Лувре, в комнатах кардинала, куда никто не мог входить (об этом можно узнать из докладов его информаторов). В Лувре Марию ждала неожиданная милость судьбы: за ней стали ухаживать по всем правилам искусства. Ее руки попросил наследник герцогства Лотарингского, Карл Лотарингский, будущий герой битвы под Веной. Карл был молодым человеком восемнадцати лет, любезным во всех отношениях, предприимчивым, очень страстным. Мария была готова выйти за него замуж, он казался ей гораздо более перспективным женихом, чем старый Колонна, которого она никогда не видела и с которым придется жить в Италии, где мужья обладают неограниченной властью над женами. Но Мазарини придумывал всякие отговорки и категорически отклонил предложение: он опасался, что, даже выйдя замуж, Мария все равно будет представлять опасность в Париже. Тем временем полным ходом шли приготовления к свадьбе Людовика и инфанты. Семь месяцев прошло в переговорах и приготовлениях, прежде чем можно было провести церемонию бракосочетания, которая согласно обычаю должна была пройти дважды – по обе стороны границы, поскольку нельзя было даже на шаг ступить на территорию соседней империи, что могло рассматриваться как объявление войны. Первым актом брачного договора стал торжественный отказ от наследования испанского трона, который подписала инфанта Мария Терезия. На следующий день на испанской территории было заочное венчание с его христианнейшим величеством французским королем. Людовика представлял дон Луи де Гаро – испанский парламентер. На празднике не было ни одного француза, кроме Цонго Ондедеи, свидетеля со стороны Людовика, епископа фон Фреи, секретаря Мазарини, человека с черной душой. Однако Анна Австрийская и кардинал не могли вынести ожидания. Они не уставали заверять Людовика, что испанская невеста красивая, гораздо красивее Марии Манчини. Поэтому теперь она должна была действительно казаться красивой. На празднества были приглашены инкогнито мадам де Мотвиль, dame de compagnie[1336] Анны, и мадам де Монтеспан, кузина короля. Их задачей было оценить женские прелести невесты. Дамы знали, что по возвращении во французский лагерь им придется ответить на один-единственный вопрос: «Ну, и как она выглядит?» – Они приложили все усилия, чтобы показаться довольными, – захихикал Атто, – но было достаточно одного взгляда на их лица, смущенные улыбки, вежливые фразы… Мы сразу же поняли: что-то не так. – Правда, она не особенно стройна, да, скорее, немного коренастая. Ну, в общем, она маленького роста, – наконец признались они. – В целом же не дурна. Глаза не очень маленькие, нос не очень большой, – пытались убедить они нас, перебивая друг друга. – Лоб, конечно, немного открыт. Это было изящным описанием того факта, что невеста страдала выпадением волос, и вообще, ее волосы можно было назвать как угодно, но только не пышными. В завершение мадам де Мотвиль дерзко заявила: – Будь у нее красивые зубы правильной формы, она стала бы одной из самых красивых женщин Европы. Мадам де Монтеспан решила высказаться осторожнее, тем более что так или иначе скоро все сами смогут оценить красоту инфанты. И все же она не удержалась и сказала печальным тоном: – Ее вид вызывает жалость. Но потом тут же поспешно поправилась, объяснив, что она имела в виду ужасную прическу и это «чудовищное сооружение» – юбку на кринолине невероятных размеров, которую Мария Терезия согласно испанской моде надела на свое маленькое бедное тело. – Все с ужасом ждали реакции Людовика, когда он на следующее утро увидит инфанту в первый раз. – И что произошло? – Ничего из того, чего мы боялись. При встрече с невестой он вел себя в соответствии со всеми правилами церемониала, подобно вышколенному актеру. Под довольным взглядом матери, которая перед этим настоятельно просила его вести себя прилично, Людовик сыграл роль влюбленного, сгорающего от нетерпения, как это и полагалось на королевских свадьбах. Он даже проскакал галопом на коне вдоль реки, так галантно, со шляпой в руке, следуя за кораблем невесты. Людовик сидел на коне великолепно и привел в восторг Марию Терезию. Аббат Мелани поправил ленту на туфле, затем то же самое сделал на другой, после чего возвел глаза к небу. – Бедная, несчастная инфанта, – пробормотал он. – Да и он тоже не менее несчастен. Пытаясь следовать увещеваниям королевы-матери, Людовик вел себя безупречно, старался обуздать свое сердце и заставить молчать голос разума. Он уважал мать и верил, что если они с кардиналом так решили, то это будет лучше для него. Так далеко завела его неопытность. Они оба обрекли его на несчастье. С того дня, когда он впервые увидел свою невесту, в нем появился росток сомнения подозрения и даже мучительного страха перед тем, что его предали. Внутри него все сгорело от холодного пламени. Молодого регента не выдавало ничего: ни лицо, ни поступки, ни слова, а ведь на него каждую минуту были направлены тысячи глаз. Он не проявил ни малейшего признака слабости. Еще ребенком, во времена Фронды, когда они с матерью, напуганные рассвирепевшим народом, хотели бежать из королевского дворца, он проявил завидное самообладание: лег одетым в постель и притворился спящим; целую ночь он не открывал глаз, так как мимо кровати прошло очень много людей, молчавших только из святого уважения перед невинным сном юного короля. Что, если бы кто-нибудь приоткрыл балдахин и обнаружил обман? Когда его друзья приходили после посещения Марии Терезии и спрашивали, какое впечатление произвела на него инфанта, Людовик односложно отвечал: – Ужасна. И было невозможно вытянуть из него ни слова. – Он очень страдал, – вслух подумал я. – Потому что будущая жена оказалась не такой, как он ожидал? Все не так, как ты думаешь. Для него изменилось очень мало, если не сказать – ничего. Он понял, что не сможет больше мириться с уговорами матери, как думал раньше. Его сердце по-прежнему согревалось теплыми лучами двух прекрасных черных глаз, он вдыхал вересковый запах черных локонов, наслаждался серебряным смехом Марии.
В поведении короля во время празднования свадьбы не было ничего примечательного, если не считать одной предательской мелочи: для ливрей слуг на приеме Людовик выбрал цвета фамильного герба Марии. Он выполнил свой первый супружеский долг не моргнув глазом. Однако уже на следующее утро, когда королевский двор собирался в обратный путь, король оставил свою молодую жену на два дня. Куда он отправился? Никто не высказал ни одной догадки, но все знали: Людовик неожиданно галопом поскакал в Бруаже, крепость в Шаранте, где находилась Мария и где еще были живы воспоминания о ней. В Бруаже Людовик забыл обо всем. Он попросил показать ему кровать, в которой спала она, и провел там целую ночь не сомкнув глаз. – Но если никто об этом не рассказывал, как вы сами говорили, то откуда же вам известны такие подробности? – удивился я. – В той комнате, комнате Марии, я видел короля собственными глазами. По приказу его высокопреосвященства я последовал за ним вместе с другими. Мы нашли его в ужасном состоянии. Все выглядело так, будто здесь установлен гроб с телом для торжественного прощания: покрывала сорваны с кровати, король лежал в слезах, скрючившись в углу под окном.
Сопровождаемые тихим журчанием фонтанчика, мы пересекли аллею и площадку перед входом. Погруженный в мысли, Атто медленно мерил шагами площадку. В Бруаже Людовик словно вырвал себе сердце из груди. Здесь он выплакал все свои слезы; здесь он попрощался навсегда с любовью, не подозревая, что прощается и с самим собой, таким, каким он был прежде, – доброжелательным и довольным. Теперь это было для него потеряно навсегда. – Я никогда не забуду это лицо восковой статуи, которое смотрело на меня в бледном свете того раннего утра. Это было его последнее действие. Затем было только… болото. – Болото? – Да. Медленное, но неумолимое погружение этой любви в болото, ее мучительная агония, жалкие попытки короля забыть Марию.
Когда Людовик вернулся в Париж со своей испанской женой, ничего не подозревающей Марией Терезией, коварная графиня Суассонская донесла ему, что юный и страстный Карл Лотарингский очаровал Марию и, возможно, даже преуспел – добился ее расположения. Король разозлился на Марию, он буквально бушевал в гневе, обращался с ней очень грубо. Она, со своей стороны, стала держать себя холодно. Тогда он опомнился и стал навещать ее во дворце Мазарини на улице Петит Шамп. – Как раз напротив моей тогдашней квартиры, – непринужденно констатировал Атто. – И придворные, в основном известные сплетницы мадам де Лафайет и мадам де Мотвиль, которые всегда завидовали Марии, распространили слухи, будто Людовик отправлялся туда не столько ради Марии, сколько из-за красоты Ортензии – самой младшей из сестер Манчини. – Это действительно так? – А почему нет? Людовик XIV к тому времени уже был женат. Обещания нарушены, мечты испарились. Еще год назад влюбленные устраивали поэтические дуэли, теперь же обменивались ядовитыми колкостями. Они стали тенью самих себя. Жизнь ускользнула от них. Навсегда. – Простите, синьор Атто, но вы только что сказали «графиня Суассонская»? – переспросил я, дабы удостовериться, что правильно услышал имя. – Да, тебе оно кажется знакомым? – иронически заметил Атто, сердясь, что я перебил его. – А теперь слушай и молчи. Итак, я замолчал, но мысли понесли меня к письму Марии, где я прочитал об опасной отравительнице, таинственной графине С., упоминание о которой доставляло мадам коннетабль такое страдание. Возможно, она и была этой графиней Суассонской? Но аббат уже продолжил свой рассказ, оторвав меня от этих мыслей.
Через год после свадьбы и за год до смерти Мазарини Людовик осознал свою ошибку и, что было еще печальнее, ее необратимость. Предсказания матери не сбылись, счастье не пришло. Но пути назад уже не было. – Все или ничего – таков был девиз короля Франции. Такой же он и сейчас. Мария была для него всем, и ее забрали у него. С тех пор Людовику ничего не осталось. – И что это означает? – Разложение, разрушение, систематическое разрушение монархии и даже самой фигуры короля. Скорчив гримасу, я дал понять, что не согласен с ним. Разве не был Людовик Четырнадцатый, его христианнейшее величество король Франции монархом Европы, внушающим самый большой страх?
* * *
Но я не стал возражать. Мою душу тяготили другие мысли. – Синьор Атто, а какое отношение все это имеет к нашим загадочным встречам с генеральным контролером Фуке и Марией Манчини? – Очень большое. В 1660 году, в год его свадьбы с Марией Терезией, Людовику было почти двадцать два года. Он был еще нерешительным и неопытным юнцом, неспособным противостоять Мазарини и матери. Однако уже через год, как ты знаешь, он решил отпраздновать свой двадцать третий день рождения, пятого сентябре, прелестной шуткой – арестом бедного Никола. Затем он отправил его на пожизненный срок в забытую Богом крепость Пинероль и наказал самыми разными лишениями. Теперь я спрашиваю тебя: как это возможно, чтобы застенчивый, мечтательный мальчик, каким он был двенадцать месяцев назад, неожиданно превратился в монстра? – Ответом, судя по всему, будет то, о чем вы говорили, – потеря Марии Манчини, – выдал я первое, что пришло мне на ум, – хотя смысл обеих сцен, которые мы видели, все еще остается для меня скрытым. – А что мы только что с тобой видели? Никола, который передал Марии кошелек с деньгами. А когда они появились в первый раз, Мария сказала ему: «Я буду благодарна вам всю свою жизнь. Вы – мой самый настоящий друг». Ну, теперь ты знаешь, почему Мария произносила Фуке слова благодарности. – И это означает? – Давай все по порядку. После смерти Мазарини Мария не смогла заставить единственного наследника состояния его высокопреосвященства, герцога Мейлерея, этого опасного безумца и супруга ее сестры Ортензии, выплатить ей приданое. Получилась очень неприятная ситуация, так как у Марии, кроме этих денег, больше ничего не было. Она попросила о помощи Фуке, которого ценила и уважала с первого дня своего пребывания при Дворе. И благодаря умелому ходатайству генерального контролера Мария наконец получила свою долю наследства. – Тогда кошелек и все эти бумаги – приданое Марии? – Совершенно верно. Это были векселя и другие подобные бумаги. – Значит, поэтому Мария при нашей первой встрече и сказала Фуке: «Я буду благодарна вам всю свою жизнь. Вы – мой самый настоящий друг», – взволнованно закончил я. В этот момент я осознал, что мы говорили с аббатом об этих видениях как о вполне реальных повседневных событиях. – Синьор Атто, складывается такое впечатление, будто вещи, о которых вы мне рассказываете здесь, на «Корабле», появляются именно в этом месте и… нуда, как будто они вновь воскрешают прошлое. – Прошлое, прошлое… Ах, если бы все было так просто, – тяжело вздыхая, пожаловался Атто. – Это прошлое так и не имело места. Я озадаченно промолчал. – Встреча Фуке и Марии по поводу приданого, а также благодарность Марии Манчини – все это не воспроизведение прошедших событий, понимаешь? Все было не так, Никола не передавал ей приданого лично, и она никогда не произносила этих слов министру финансов. – Как вы можете быть так уверены в этом? – скептически спросил я его. – Именно эти фразы о благодарности и уважении Мария написала в своем письме, которого Фуке так и не довелось прочитать. Письмо было перехвачено Кольбером, который с ведома короля уже планировал заговор против Фуке. Как ты знаешь, мы с Марией были в Риме, когда до нас дошло известие об аресте Фуке: я получил это ужасное послание с запиской от моего друга де Лионна – министра его величества. – А приданое? – То же самое. Марии предстоял очень скорый отъезд в Италию, ее изгоняли из Парижа и принуждали к браку с коннетаблем Колонной, как того требовал кардинал. Приданое отослали прямо в Рим, королева и двор спешили побыстрее избавиться от него. – Значит, генеральный контролер никогда не передавал приданого Марии, никогда ни читал, ни слышал тех слов «Я буду благодарна вам всю свою жизнь. Вы – мой самый настоящий друг»? – Правильно. – Тогда получается, мы видели два события, которые никогда не происходили. – Это не совсем верно или, лучше сказать, не вполне так. Ведь если бы Марию не выслали из Парижа, если бы Фуке не арестовали, то тогда они, возможно, и встретились бы: он лично передал бы ей наследство дяди, и она напрямую выразила бы ему свою благодарность. Отъезд Марии сильно ранил Никола, он предвидел, к каким губительным последствиям рано или поздно это приведет, хотя тогда, думаю, он даже не мог себе представить, что сам станет первым, кто попадет под топор нового короля. Того короля, который восстал из пепла этой печальной любви. – Значит, мы видели то, что должно было бы произойти между Марией и Фуке, если бы тайные заговоры не прервали естественного течения вещей… – наконец-то понял я, и от понимания этого у меня перехватило дыхание. – Видели, видели… – передразнил меня Атто изменившимся голосом. Он неожиданно стал очень резким. – Как ты спешишь! Я бы сказал, что мы просто вообразили себе все. Не забывай, что мы могли стать жертвой миража, который, как я думаю, вызван вредными испарениями почвы и, возможно, еще и спровоцированы моими рассказами. – Синьор Атто, то, что вы сказали, может вполне оправдать второе из трех видений, свидетелями которых мы были: Мария Манчини в обществе юного короля. Но никак не первое или третье: как же я мог с такой точностью вообразить себе обстоятельства, о которых ничего не знал? Или вы хотите сказать, что наши бредовые представления являются чем-то вроде ясновидения? Возможно, ты просто разделил мое обманчивое представление. – Что это значит? – Ну, здесь может быть дело в переносе мыслей. Во Франции и Англии с недавних пор издаются различные трактаты, например трактаты аббата Вальмонта, о том, что перенос мыслей – абсолютно реальный и научный феномен, который без проблем можно объяснить с помощью законов разума. По-моему, речь идет о крайне тонких, невидимых корпускулах – частицах, которые проистекают из наших мыслей и иногда сталкиваются с мыслями другого человека, усиливая силу воображения. – Значит, мы окружены невидимыми частицами мыслей других людей? – Точно. Совсем немного, как испарения ртути. – Об этом я вообще ничего не знаю. – Ничто лучше не показывает тонкости паров и испарений, как argentum vivum, то есть ртуть. Эта жидкость и одновременно металл источает очень нежные, проникающие во все поры испарения. Если ты размешаешь ее одной рукой, то увидишь, что кусок золота, который ты крепко держишь в другой руке, будет полностью покрыт ртутью. Она попадет на золото, даже если держать его во рту. Если ртуть соединить с золотом, серебром или оловом, то эти в обычном состоянии твердые металлы размягчатся и превратятся в пасту, которая называется амальгамой. Если же ртуть поместить в закрытый кожаный мешок и немного нагреть, то она пройдет через кожу и выльется из нее, как через решето. – Правда? – воскликнул я с удивлением, так как ничего подобного до сих пор не слышал. – Конечно. И я прочитал, что то же самое может произойти и с силой воображения. – Получается, я просто пережил вашу неосознанную фантазию? Атто с важным видом кивнул.* * *
Мы погуляли еще немного. Время от времени я украдкой косился на Атто: лицо его было изборождено морщинами и нахмурено, он казался погруженным в серьезные размышления, но не хотел посвящать в них меня. Я долго думал над объяснениями Атто. Значит, мы видели не то, что действительно произошло между Марией Манчини и Фуке, а то, что могло бы произойти, если бы жизненные пути Марии и генерального контролера пошли по естественному, благоприятному течению. Будь у меня время и способность к философствованию, я задался бы вопросом: может ли так статься, что чья-то непорочная рука в каком-то утопическом месте снова свяжет порванные нити истории? Все эти вопросы, словно пики вооруженной армии, указывали на место, где мы сейчас находились.– …Посмотри только! – неожиданно воскликнул Атто. Он прямо содрогнулся от ужаса и остановился как вкопанный перед большой красивой цветочной клумбой. – Посмотри на эти растения: на каждом есть табличка с названием. – Гиацинт, фиалка, роза, лотос… – автоматически начал читать я. – Ну и что в этом такого? – Читай дальше: амброзия, непентес, панацея и даже волшебный корень, – сказал он, бледнея. Все еще ничего не понимая, я смотрел то на цветы с табличками, то на самого Атто. – Неужели действительно эти названия ничего не говорят тебе? – настаивал он. – Это ведь растения из мифического сада Адониса. Пораженный, я молчал. – Черт возьми, ведь их же не существует! – воскликнул Атто, задыхаясь от волнения. – Амброзия – это блюдо олимпийских богов, которое дарует им бессмертие; непентес – овеянное мифами растение из Египта, о котором древние греки говорили, что оно успокаивает душу и заставляет забыть о боли. А панацея… – Синьор Атто… – Помолчи и послушай! – резко оборвал он меня, и на его лице появился настоящий ужас. – Панацея. Наверное, даже ты знаешь, что это бесследно исчезнувшее растение, которое алхимики ищут столетиями, может лечить все болезни и прогонять старость. И наконец, волшебный корень – магическое растение, которое Одиссей получил от Гермеса, чтобы стать неуязвимым против ядов волшебницы Цирцеи. Теперь ты понял? Этих растений не существует! Ты можешь сказать, почему они растут себе здесь в полном цвету, да еще с табличками, на которых указаны названия? Он круто повернулся и нервно зашагал к дому. Я побежал за ним и как раз догнал его, когда мы стали свидетелями такой сцены, от которой у нас на голове волосы стали дыбом.
Бледное, как воск, призрачное существо, настроив скрипку для игры, поднялось в воздух из-за открытой галереи, которая, подобно венцу из зубьев, проходила по оградительной стене виллы. За спиной у него трепыхалась на ветру тончайшая накидка из черного шелкового батиста, раскачиваемая резкими, сильными порывами ветра. Но музыка, которая выходила из-под его смычка, была все той же фолией, которая столько раз возникала словно из ничего во время нашего пребывания на «Корабле».
Мы невольно отступили назад, и я почувствовал, как мое тело стало холодным, как мрамор. Однако несколько мгновений спустя аббат, побледнев, снова сделал пару шагов вперед. Затем довольно долго стоял на месте и, открыв рот, рассматривал музыканта, будто превратился в трагическую маску. – Хорошо! Эй, ты! – закричал Атто, наконец-то решившись обратиться к призраку. Он раскинул руки, словно перед апокалиптическим видением, и погрозил ему тростью. – Кто ты и какого народа будешь? Расскажи мне сейчас о своих страданиях! Посмотри, как я молю тебя, заклинаю твоим собственным благом и радостью, которые сопровождают тебя: скажи мне, вопрошающему, правду честно и откровенно! Скажи мне прямо, чтобы я это знал! – Я – офицер голландских вооруженных сил! – тут же прогремел сверху в ответ призрак, не оставляя скрипки и ни капельки не удивившись нашему присутствию и необычной манере обращаться. Мелани, казалось, вот-вот упадет в обморок. Я поспешил к нему, чтобы поддержать, но тот быстро взял себя в руки. – Ты, летучий голландец! – закричал Атто во всю мощь своих легких, как будто эти слова должны были стать последними. – Из какого мира теней ты попал сюда, на этот корабль призраков?
Незнакомец перестал играть, помолчал немного, с любопытством рассматривая нас. Неожиданно он наклонился, исчез под стенами сводчатой галереи и тут же появился с простой стремянкой, которую спустил с нашей стороны стены. Мы с Атто затаили дыхание. Как же велико было наше удивление, когда мы увидели, что существо, которое, словно призрак, парило перед нашими глазами в воздухе, теперь спускалось по лестнице с зажатой под мышкой скрипкой, осторожно ставя ноги на ступеньки, как простой смертный. – Джованни Энрико Альбикастро, солдат и музыкант, к вашим услугам, – представился он с легким поклоном, даже не подавая виду, что заметил ужас на наших лицах. После пережитого шока у Атто больше не было сил что-либо делать или говорить, он лишь молча стоял, печально опираясь на свою трость. – Вы правы, – вновь заговорил наш странный собеседник, обращаясь к аббату, – на этой вилле, «Корабле», так тихо и спокойно, что она привлекает к себе призраков. Именно поэтому она и нравится мне. Приезжая в Рим, я всегда возвращаюсь сюда, на карниз этого маленького свода. Играть, стоя там наверху, признаться, не очень удобно, но, уверяю вас, панорама, которая открывается оттуда, дает самое большое вдохновение в мире. – Карниз? – переспросил Атто, вздрогнув. – Да, там есть небольшой проход, на другой стороне, – спокойно объяснил он, кивнув на оградительную стену, с которой он только что спустился. Аббат, полный уныния, опустил глаза. – Значит, фолия, которую вы недавно играли, принадлежит вам? – спросил он хриплым голосом. Ответом Альбикастро стало лишь вежливое вопросительное выражение глаз. – Синьор, вы имеете честь говорить с аббатом Атто Мелани, – вмешался я, преодолев смущение. Альбикастро, наконец узнав имя своего собеседника, кивнул: – Да, господин аббат, я сочинил ее. Надеюсь, я не слишком оскорбил ваш слух своей музыкой. Мне показалось, что вы находились в большом волнении, когда обратились ко мне. – Ни в коей мере, милостивый сударь, ни в коей мере, – ответил Мелани слабым голосом, и его мертвенная бледность, вызванная страхом, сменилась ярким румянцем стыда. – Мне не хотелось бы задерживать вас, – сказал Альбикастро. – Вы кажетесь очень усталым. С вашего разрешения я откланяюсь. Мы можем встретиться снова, несколько позже: вы ведь тоже остановились здесь, не так ли? Исследовать эту виллу воистину можно вечно. Музыкант закончил свою речь небольшим поклоном и поспешно удалился.
* * *
Когда мы снова оказались одни, воцарилось долгое молчание. Затем я решил сам для себя, что должен все проверить. Я залез по стремянке, которую Альбикастро оставил висящей на стене ограды, и, поднявшись наверх, посмотрел, наклонившись, за зубья. – Ну что, он там? – нервно спросил Атто, не поднимая взгляда от острых носков своих благородных туфель. – Да, он здесь, – ответил я. Конечно, карниз там находился. К тому же он был не таким уж и узким, как заявлял летучий голландец. Аббат промолчал. Ему становилось стыдно от одной мысли об этом ужасном зрелище, в которое он поверил. – В любом случае, этот голландец немного чудаковат, – заметил я, когда снова спустился вниз. – Я не думаю, что для скрипача нормально играть на каком-то карнизе стены. – Да еще эти таинственные цветы, которые совсем вывели меня… – запинаясь, произнес Атто. – Синьор Атто, – прервал я его, – при всем уважении, которое я испытываю к вам, должен все же сказать, что эти цветы, не такие уж таинственные, как вы думаете. Аббат вздрогнул так, как будто я его укусил. – Да что ты об этом вообще знаешь? – раздраженно запротестовал он. – Без сомнения, это правда, – ответил я, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть аббата, – это правда, что амброзия, непентес, панацея и волшебный корень, как вы говорите, росли в мифических садах Адониса. В этом я ничуть не сомневаюсь. Но то, что они не существуют, не соответствует действительности. Ради бога, я говорю только как помощник садовника и опираюсь на большой опыт, который я накопил, работая в саду виллы Спада, а также на знания, которые почерпнул из учебников по цветоводству. Но я могу с полной уверенностью сказать вам, что амброзия, даже если она когда-то и была пищей богов на Олимпе и дарила бессмертие, сегодня известна как гриб, который обожают муравьи. То же и непентес: в современных справочниках он описывается какнасекомоядное растение, кувшиннолистник, завезенный иезуитами из Китая. Был ли он привезен из Египта, врачевал ли душу и успокаивал ли боли, по утверждению греков, ну, этого я не знаю. Алхимики, может, и искали панацею столетиями, но я знаю ее как лекарственное растение, которое смягчает мозоли. И наконец, волшебный корень – это не что иное, как дикий чеснок. Конечно же, это не исключает того, что Одиссей действительно смог обезопасить себя с его помощью от ядов волшебницы Цирцеи: мы все знаем о многочисленных достоинствах чеснока… Я умолк на полуслове, поняв, какое тяжелое оскорбление нанес Атто – это было ясно видно по его лицу. Бедный аббат Мелани. До таинственных сцен, свидетелями которых мы несколько раз становились, находясь на «Корабле», он всегда был неисправимым скептиком и упрямо объяснял непонятные видения наличием вредных испарений и невидимых частиц, обманом зрения и тому подобным. Однако теперь у меня было неоспоримое доказательство того, что он испытывал не меньший страх и напряжение, чем я. Правда, это открылось в не очень подходящий момент: когда мы увидели растения в саду, в которых аббат узнал цветы из мифических садов Адониса, и за этим последовало явление это го странного человека, Альбикастро, музыканта и солдата, парившего в воздухе. Короче говоря, Мелани испытывал страх перед неизвестным как раз там, где ничего неизвестного не было Он совершал одну ошибку за другой, и теперь его ужасно мучил стыд. – Смотри-ка, именно это я и хотел тебе сказать, – наконец заметил он, наверное догадавшись, какие мысли бродят у меня в голове. – Все это подтверждает то, в чем я убеждал тебя с самого первого дня, когда мы зашли на эту виллу: суеверие – дитя незнания. Все в мире можно объяснить с помощью науки о вещах и явлениях. Если бы я владел знаниями по флористике, то не допустил бы такой досадной ошибки. – Конечно, синьор Атто, но позвольте заметить, что, по моему скромному мнению, мы все же не нашли убедительного объяснения тем явлениям, свидетелями которых были. – Мы не нашли этих объяснений от незнания природы таких вещей, мой мальчик. Точно так же, как не так давно мы решили, что видим парящего в воздухе человека, который, оказывается, просто разгуливал по карнизу стены, а его накидка развевалась от сильного ветра. – Так вы думаете, что кто-то решил нас разыграть? – Кто знает? Существует бесконечное множество способов обмана.* * *
Через несколько мгновений мы уже входили на первый этаж дома. – После того ужаса, который нагнал на нас вчера Бюва, ты, наверное, хотел бы расспросить меня об этом, – неожиданно заявил Атто. – О да, точно. Как, черт возьми, Бюва удалось найти нас и подойти так, что мы не увидели и не услышали его? Он возник внезапно, как будто свалился с неба. – Я тоже сначала не поверил своим глазам. Но потом и этому нашел объяснение, – сказал он и указал на маленькую комнатку справа от входной двери. – Теперь понятно! – воскликнул я. В действительности комнатка была шахтой с крошечной лестницей для слуг. Бюва просто не стал подниматься по главной лестнице в противоположной части здания (то есть внизу слева, когда входишь в дом), которой воспользовались мы, а выбрал эту маленькую служебную. Поэтому он совершенно неожиданно возник в шаге за нами, где как раз заканчивался зал на втором этаже. Мы слышали его шаги, но не могли распознать, откуда они доносятся, – не только из-за эха, которое звучало под высокими сводами галереи, но и потому, что мы не знали о существовании второго входа. Ато, что не ведомо чувствам, не воспринимается нашим сознанием. Поэтому на этот раз мы тоже решили подняться на второй этаж по служебному ходу. Как и все остальные служебные лестницы в этом доме, она была винтовой. В тот момент, когда мы были уже наверху, на нас обрушилось мощное пение сирен, сопровождаемое глубоким, угрожающим гулом. Я непроизвольно закрыл уши руками, чтобы защититься от этой подавляющей волны звуков. – Проклятие, – начал ругаться аббат Мелани, – опять эта фолия! Поднявшись на второй этаж, мы снова увидели Альбикастро. Он играл у самой винтовой лестницы, которая таким образом становилась резонансным инструментом, превращая глубокие тона скрипки в чудовищный рев, а высокие – в головокружительное шипение. Тут музыка смолкла. – Складывается впечатление, что тема фолии вам доставляет больше радости, чем любая другая, – сказал Мелани, разнервничавшийся от нового шока. – Как говорил великий Софокл: «Жизнь становится прекраснее, если об этом не думать». И, кроме того, эта музыка подходит «Кораблю», stultifera navis, или «Кораблю дураков», если вам так будет угоднее, – темпераментно ответил голландец, сдул пыль с инструмента и начал его настраивать, выдавая целый ряд комических и докучливо визжащих звуков. В ответ Атто продекламировал следующие строчки:* * *
Он спустился по винтовой лестнице вниз, и уже через несколько мгновений мы не слышали даже эха его шагов. Аббат Мелани нахмурился. – Этот голландец – сущая неприятность, – проворчал он. – Да, Голландия не для вас, синьор Атто, – не смог удержаться я. – Насколько помню, раньше у вас было даже физическое неприятие фламандских тканей. – Сегодня, слава богу, уже нет, этот народ скупых еретиков наконец смог улучшить технику окрашивания тканей, задав этим тон королевскому мануфактурному производству во Франции. Однако на этот раз я бы предпочел оказаться в обществе трехсот чихающих, чем выслушивать бред этого Альбикастро. Нашей целью был третий этаж, куда мы еще не поднимались и где нас ждало немало неожиданных открытий. Первый сюрприз ожидал нас уже у входа. Винтовая лестница сплошь была покрыта надписями:«Друзей – много. Друга – ни одного»; «Пусть друг твой будет родственной душой»; «Исправь друга, который ошибается, но оставь неисправимого и не слушающегося советов»; «Верь только тому другу, которого ты давно знаешь»; «Не ставь новых друзей выше старых»; «Льстить друзьям хуже, чем критиковать врагов»; «Дружба бессмертна, а вражда бренна»; «Заботься о своих врагах, но бойся их»; «Ты можешь украсить себя новой дружбой, но затем неустанно заботься о ней».Я поднимался по ступенькам, читал эти запоминающиеся изречения, и меня вновь охватило странное ощущение, будто что-то на «Корабле», похожее на таинственный бестелесный орган чувств, восприняло мои мысли о дружбе и давало теперь если и не ответ, то знак о том, что мои тайные размышления были услышаны. И тут я вспомнил: разве я не читал уже в первое посещение виллы мысли о дружбе, вырезанные на пирамидах в саду? А теперь просто продолжается задуманная последовательность событий, и она для меня была абсолютно ясной: сначала спор с Атто, затем слова и стихи Альбикастро о дружбе. Последнее было, возможно, не столько порождением случая, сколько результатом тайного подслушивания, однако сейчас возникли новые фразы, которые были словно соль на мои открытые душевные раны. Я почувствовал себя кардиналом Мазарини, которого преследовал кошмар Капитор: чем сильнее я сопротивлялся этим представлениям, которые возникли у меня, после того как я прочел эти сентенции, тем сильнее они угнетали меня. Друзей – много. Друга – ни одного. Я общаюсь с очень большим числом людей на вилле Спада, однако не могу похвалиться тем, что меня хоть с кем-то связывает настоящая дружба, и уж тем более с аббатом. Пусть друг твой будет родственной душой. «Мы и вправду были родственными душами с Атто, ведь так?» – подумал я с горьким сарказмом. Князь простаков и король интриганов… Исправь друга, который ошибается, но оставь неисправимого и не слушающегося советов. Ага, легко сказать, но разве не аббат Мелани был показательным примером неисправимого друга, которому можно было ловко навредить, бросив его? Он поднимался по лестнице передо мной и наверняка тоже прочитал все эти изречения. Как и ожидалось, он не сделал ни одного комментария.
При входе на второй этаж мы натолкнулись на еще одну любопытную деталь. Над лестницей, которая вела на сам этаж, была надпись, еще более странная, чем все предыдущие:
Третий этаж имел совершенно другую планировку, чем два первых, которые мы уже осмотрели. Главная лестница вела в вестибюль, где с левой стороны был выход на террасу. Она же одновременно служила крышей для закрытой лоджии на втором этаже, и действительно мы услышали здесь тихое журчание фонтанчиков, доносившееся из лоджии. Наш глаз и дух радовали раскинувшиеся вдали виноградники, и мы постояли минуту, любуясь ими. Мы могли видеть даже серебристую полоску моря вдалеке. – Фантастика, – сказал Атто. – Во всем Риме я не наслаждался такой великолепной панорамой. Этой вилле нет равных. Такая неприступная внутри своих стен и такая свободная и воздушная здесь, снаружи. Мы вернулись в дом и прошли по коридору к другой, северной, стороне здания. Посредине этого этажа находился овальный зал с двумя рядами окон. С другой стороны зала был еще один коридор, который привел нас в маленький салон с балконом, откуда открывался вид на собор Святого Петра и Ватикан, а в углу салона мы заметили еще одну служебную лестницу. Мы вернулись в овальный зал. – Должно быть, этот зал в холодное время года служил столовой: здесь нет ничего, кроме четырех печей, – сообщил мне о своих наблюдениях Атто. – Я не понимаю, почему этот этаж гораздо меньше галереи на втором этаже, ведь она находится точно под ним. Мы что-то пропустили. – Посмотри сюда. Мое впечатление было правильным. Атто зашел в один из двух коридоров, а затем в другой. В каждом коридоре были две маленькие двери, которые мы сначала не заметили и теперь обнаружили, что они ведут в четыре небольших помещения, по два в коридоре, с жилой комнатой, умывальной и небольшой библиотекой. – Четыре отдельные квартиры. Возможно, Бенедетти поселял здесь своих друзей, когда они оставались на ночь, – предположил я. – Возможно. В любом случае теперь понятно, почему на третьем этаже главный зал значительно меньше, чем на первом и втором. Он всего лишь связующее звено между четырьмя помещениями. Во время нашего обхода пыльных покоев везде, куда бы мы ни глянули, к нам приветливо обращалось множество сентенций, девизов и изречений, которыми экстравагантный Бенедетти распорядился украсить стены, колонны и дверные косяки. Я наугад читал некоторые из них:
«Не стоит терять покой из-за болтовни другого»; «Дворянство значит мало, если нет благосостояния»; «Не стоит обращаться к врачу с малейшей болью, к адвокату – с малейшим спором, а к кружке – при малейшей жажде»Над дверями четырех помещений тоже были высечены умные афоризмы:
«Праздная свобода включает все»; Мало и хорошо ценится больше, чем много и плохо»; Мудрец знает, как даже в малом можно найти все»; То, что достаточно, нельзя называть малым».Я покосился на Атто и не нашел его: он исследовал одну из четырех квартир. Я тоже зашел в нее. Аббат стоял, опершись спиной на дверной косяк. Молча посмотрел на меня остановившимся взглядом. – Синьор Атто… – Помолчи. – Но… – Я думаю. Я думаю, как это, черт возьми, вообще возможно. – Что именно? – Твой попугай. Я нашел его. – Вы нашли его? – недоверчиво переспросил я. – Он здесь, в этой квартире, – сказал он и показал на соседнюю комнату, – вместе с подарками от Капитор.
* * *
Все так, они были там. Их покрывал тонкий слой пыли, но это были они. Цезарь Август тоже был здесь. Время не пощадило и его. Накрытый невесомым покрывалом, он ждал уже очень давно, чтобы его снова нашли и восхищались им, – такова уж была его натура. – Мальчик мой, это большая честь для тебя, – сообщил Атто, когда мы зашли в комнату. – Ты стоишь перед одной из самых больших загадок в истории Франции – подарками Капитор. Картина. Мы нашли картину. Она была очень большая: почти пять метров в высоту и шесть в ширину. Картина стояла на полу комнаты, и на нее никто не обращал внимания, кроме стен и надписей на стенах «Корабля». На полотне было изображено несколько прекрасных предметов, расположенных в продуманном сочетании порядка и беспорядка. В центре, на переднем плане, была большая, очень богато украшенная золотая чаша во фламандском стиле. На ней можно было узнать две серебряные фигуры: бог моря Посейдон с трезубцем в руке и нереида Амфитрита – его жена. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, на колеснице, запряженной парой тритонов. Я уже знал, что это: один из подарков Капитор, тот, в котором она сжигала свои пастилки с благовониями. Немного правее, на возвышении, стоял золотой кубок, ножка которого была сделана в виде Кентавра, его конская половина – из золота, а человеческая – из серебра. Без сомнения, это был тот кубок, наполненный миром, который Капитор передала кардиналу. За двумя этими предметами возвышался большой глобус Земли из дерева на золотой ножке – третий подарок, перед передачей которого сумасшедшая испанка прочитала сонет о счастье, так потрясший его высокопреосвященство. На картине были нарисованы и другие предметы, дополнявшие художественный смысл изображенного. На заднем плане стоял стол, на нем – красный ковер, лютня, виолончель, цимбалы и книга с музыкальными табулятурами. Возможно, книга даже была раскрыта на странице с той мрачной пассакальей – Passacalli delta vita, – которую по требованию Капитор спел Атто, безмерно напугав этим кардинала. В левом краю благородная породистая собака с робким любопытством вынюхивала что-то на красном ковре, элегантно согнув лапу. А в центре композиции гордо выступало другое существо – великолепный белый попугай с большим желтым хохолком. Он присел на деревянный глобус, повернув голову налево, к собаке, и тоже поднял одну лапку, словно передразнивая пса и демонстрируя свое высокомерие. Попугай был точной копией Цезаря Августа. Были точно переданы даже его насмешливость и высокомерие. – Это та самая картина, которую Мазарини заказал голландскому художнику, прежде чем избавиться от подарков Капитор… – вспомнил я, связав таким образом нити рассказа Атто с цепью произошедших здесь событий. Аббат немного помолчал, взволнованный неповторимостью и важностью момента. – Бёль. Его звали Питер Бёль. Много лет спустя он стал официальным придворным художником. Я говорил тебе, как он хорош, и теперь ты сам это видишь. – Картина… действительно великолепна, синьор Атто. – Знаю. Мне рассказывали о ней, но я никогда не видел ее. Нужно признать, что описание подарков Капитор, которое я дал тебе, было довольно точным. Моя память все еще хорошо служит мне, – добавил он с едва скрываемым удовлетворением. – Но я понял так, что эта картина осталась в Париже. Разве вы не говорили, что Мазарини сохранил ее для себя? – Я думал, что она во Франции, но, получается, ошибался. Однако чем больше мы с тобой узнаем о «Корабле», тем больше убеждаемся в одном. – В чем? – А в том, что подарков Капитор здесь нет. Или, по крайней мере, они уже не здесь. – Что вы имеете в виду? – Я думал, что их доверили Бенедетти и он хранил их здесь, на «Корабле». А сама картина должна была остаться у Мазарини взамен подарков. Вместо этого я нахожу тут эту замену – и никаких следов подарков. Конечно, это не то, что мы надеялись найти, но это все же лучше, чем ничего. Как гласит один из девизов, который мы только что прочитали: «Мудрец знает, как даже в малом можно найти все». Пораженный, я вновь подумал, что «Корабль» снова доказывает свою странную способность предвидеть (и выполнять) тайные желания людей, которые его посещали. – Подарки, должно быть, отнесли в другое место, – между тем продолжал рассуждать аббат Мелани. – Но куда? Кардинал никогда не делал ничего без причины. Мы еще раз направили свой взгляд на картину, одновременно великую, таинственную и роковую. – Она просто великолепна. А попугай действительно очень похож на Цезаря Августа, – заметил я. Аббат посмотрел на меня так, словно я был идиотом. – Не похож. Он и есть Цезарь Август. – Что вы имеете в виду? – Я забыл, что ты у нас тугодум. Как ты думаешь, какова вероятность того, чтобы нарисовать на картине одного попугая, похожего на другого, живущего на соседней вилле, и при этом второй попугай не позировал, так сказать, для изображения первого? – Но ведь картина написана в Париже, – запротестовал я, чрезвычайно обидевшись на сарказм аббата. – Это не может быть случайностью. Если ты хорошо помнишь, я уже говорил, что сумасшедшая Капитор очень любила птиц. Она всегда была окружена… – …маленькой стаей птиц, которые составляли ее свиту. Да, вы рассказывали мне об этом. Получается, что много лет назад вы могли видеть и Цезаря Августа! С тех пор прошло немало времени, но ведь попугаи считаются долгожителями. – Конечно, возможно, я уже тогда видел его. Кто знает? С этой сумасшедшей всегда было и несколько попугаев, но, честно говоря, я никогда не любил этих птиц и не понимал, как человеку может нравиться держать их в доме, при всей той грязи, вони и звуках, которые они производят. Может быть, я и видел твою птицу, но сегодня уже не могу этого вспомнить. – Абсолютно невероятно, чтобы Цезарь Август оказался именно в вольере на вилле Спада! – воскликнул я, так как меня не очень убедили рассуждения аббата. – Милосердное Небо, это совершенно очевидно! По-видимому, Капитор оставила Цезаря Августа в Париже, возможно, подарила кому-то или по ошибке забыла птицу, кто знает. Ну сам представь, что обязательно должен был сделать Мазарини, узнав, что сумасшедшая оставила ему в городе еще и эту противную птицу? – Ну, думаю, он… отправил ее как можно дальше. Вместе с тремя подарками. В конце концов, он мог оставить попугая для картины. А теперь расскажи мне, что тебе известно о нем. – Все, что я знаю, это то, что попугай много лет принадлежал Дяде кардинала Фабрицио Спады, монсиньору Виргилио Спаде, упокой Господь его душу. Он был странным субъектом, любил античность и всякие редкие вещи. Я знаю, что он обладал своего рода кунсткамерой, где были собраны необычные предметы. – Это я знаю. Когда умер Виргилио Спада, я уже целый год находился в Риме. Он очень ценил певцов-кастратов. Думаю он учился у иезуитов и им хотелось, чтобы он был в их ордене, но тот решил войти в братство ораторианцев святого Филиппо Нери так как влюбился в голос великого Жиролано Россини – знаменитого солиста ораторий. Кроме того, Виргилио был другом кастрата Лорето Виттори, учителя пения королевы Швеции Кристины и он лично назначил себе в слуги другого юного певца, Доменико Тассинари, который отказался от музыкальной карьеры и стал ораторианцем, как и его господин. Пока Атто продолжал с удовольствием рассказывать о дружбе Спады с кастрированными певцами, я продолжал думать о попугае. – Одного я все-таки не понимаю, синьор Атто: почему Цезарь Август поменял хозяина и перешел от Бенедетти к Спаде? – Эльпидио Бенедетти и Виргилио Спада хорошо знали друг друга: уже тогда я слышал, что при строительстве «Корабля» было использовано очень много идей Виргилио, например идея наполнить виллу редкими вещами, а не просто предметами роскоши и сделать «Корабль» хранилищем глубокомысленных изречений по вопросам веры и морали, способных заинтересовать гостя и заставить задуматься. – Получается, «Корабль» – ковчег и школа мудрости, – заметил я тихо, удивляясь этому странному обстоятельству. – Будучи благодарным, Бенедетти вполне мог подарить монсиньору Виргилио попугая для его вольера. – Или твоя идиотская птица удрала с «Корабля» и в конце концов с разрешения Бенедетти была принята монсиньором Спадой. К сожалению, мы не можем знать это наверняка, да и Цезарь Август ничего не скажет, тем более что нам до сих пор не удалось поймать его. Но часы его сочтены. – Как же вы думаете поймать его? – спросил я, удивленный уверенностью аббата. – Что за вопрос… Например, с помощью приманки для попугаев, если таковая существует. Или с помощью его любимого напитка – шоколада. А может, соорудить из соломы самку попугая, как думаешь? От его полной неосведомленности о повадках птиц я пришел в недоумение и просто не знал, что и сказать. Тем временем опустившаяся на «Корабль» ночная тьма вынудила нас вернуться на виллу Спада. Мы отправились в путь, сопровождаемые звучащим издалека голосом Альбикастро:* * *
Мы оба очень устали и, проходя через ворота виллы Спада, уже не думали ни о каких праздничных развлечениях. Атто промолчал почти всю дорогу. Казалось, что ему уже осточертело шпионить за гостями и хотелось только одного: побыстрее добраться до своей кровати, чтобы там поразмышлять о странных событиях этого дня, самым главным из которых была наша находка картины Питера Бёля. Мы быстро попрощались и договорились встретиться на следующий день, правда, не уточняя времени. Я подумал, что, может, так оно и лучше. Возможно, завтра утром я тоже прогуляюсь, как сегодня перед обедом. Или у меня наконец-то появится возможность повидаться с Клоридией и двумя своими цыпочками. Атак как моей возлюбленной женушке и девочкам не угрожает никакая опасность, то Клоридия точно будет занята и у меня появится время хорошенько обдумать все то, что произошло за это время. Угасающий день подарил мне целую вереницу странных событий, их надо было бы осмыслить и упорядочить, хотя мне и не хватало всей информации, чтобы до конца понять их. Так бывает с детьми которые уверены, что все понимают, и справедливо требуют обращаться с ними как со взрослыми, не осознавая того, что они пока еще лишь маленькие забияки. Сначала был тот странный сон о нищем старике, который просил милостыню; затем шествие братства святой Елизаветы, короткий разговор со священником и более длинный с хозяином закусочной и уличным торговцем обувью о настоящих и мнимых нищих. После этого новый рассказ Атто о христианнейшем короле и Марии Манчини, вторая встреча с Альбикастро, надписи на «Корабле», которые явно соответствовали моим мыслям, и картина, запечатлевшая три подарка Капитор, к тому же с Цезарем Августом на ней… Ах да, попугай, он исчез с запиской Албани, и сейчас мы вернулись с пустыми руками на виллу Спада. «Произошло слишком много, действительно слишком много событий», – сказал я себе, засыпая на кровати в своем временном пристанище – на вилле в Касино. Я подумал, что только новый день сможет дать мне ясную картину вещей или, по крайней мере, их внешнего проявления и, следовательно, – облегчение и совет. Конечно же, я как всегда ошибался.11 июля лета Господня 1700, день пятый
– Встать, тысяча чертей! Встать, я сказал! Худшего пробуждения трудно себе и представить. Кто-то ругаясь на чем свет стоит, бесцеремонно тряс меня, вырывая из сна и возвращая в этот мир, несмотря на мою головную боль (а как же ей не возникнуть от такого пробуждения!). Я приоткрыл глаза, услышал эти слова и сразу понял, кто нарушил мой сон. – Уже целую вечность жду, пока ты наконец проснешься! На вилле появился человек, который владеет крайне важной информацией. Ты должен действовать, и немедленно. Это при… Ну ладно это моя настоятельная просьба, и не только моя. Аббат Мелани (а это, конечно, мог быть только он) намекал на его христианнейшее величество французского короля, этого грозного и готового на все монарха, – для аббата стало уже вполне привычным делом по любому поводу приплетать его имя. При этом в зависимости от цели, которую Атто преследовал, король мог выступать либо в роли несчастного, влюбленного в Марию Манчини, либо, как сейчас, жестокого тирана, воле которого все должны безоговорочно подчиняться. – Секунду, я вот уже… – промямлил я неповоротливым со сна языком и накрылся одеялом, чтобы отделаться от назойливых приставаний. – Ни секунды больше, – резко приказал аббат, схватил мою одежду с табурета, где я оставил ее накануне, и кинул мне. Я сбросил ее с себя и наконец посмотрел на. Атто, сверлившего меня колючим взглядом. Любопытство мое проснулось, когда я увидел, что он пришел не с пустыми руками. Аббат навалил на стул целую кучу странных орудий из железа и дерева, которым было вовсе не место в спальне, тем не менее они показались мне очень знакомыми. Я стал одеваться, одновременно внимательно присматриваясь к инструментам, пока не понял, что это такое. В орудиях с длинными ручками я узнал садовые грабли, совковую лопату, штыковую и метелку. В тяжелом ящике с ручкой лежали садовый скребок, лейка, серп, ножницы, нож, пара горшков, кисть и маленькие грабли. Теперь я узнал, что это. – Ведь это садовые инструменты из виллы Спада! – с удивлением воскликнул я. – Но что вы собираетесь с ними делать? – Скорее, вопрос в том, что ты будешь с ними делать, – ответил аббат и так неожиданно вложил мне в руку один из инструментов, что я чуть не выронил его. Жестом он приказал мне следовать за ним. – Нужно поспешить. Сегодня воскресенье. Сначала необходимо пойти к мессе, иначе наше отсутствие будет замечено. Поторапливайся, дон Тибальдутио скоро начнет. На вилле Спада уже вовсю шли приготовления к празднованиям пятого дня. А вот ужин вчера вечером явно затянулся, потому что, даже засыпая, я не услышал отъезжающих экипажей гостей. Тем не менее все слуги уже с самого утра приступили к своим обязанностям: везде было подметено, убрано, починено, украшено, приготовлена еда, постелены чистые скатерти и поставлены свежие цветы в вазы. Выйдя из спальни, мы попали в настоящий водоворот: мимо пробегали горничные, суетились слуги, лакеи и пажи, некоторые бросали в мою сторону завистливые взгляды: ведь благодаря таинственному дворянину-французу я вот уже несколько дней был освобожден от большей части работы. Атто заставлял меня спешить, довольно больно подталкивая набалдашником трости в бок. Мы едва не столкнулись с доном Паскатио (он громко жаловался на неожиданное предательское исчезновение одной из швей), но нам удалось избежать встречи, после которой на меня могли взвалить какую-нибудь срочную работу. Нагруженный садовыми инструментами, покачиваясь под их тяжестью, я пошел вперед. В любую секунду я мог упасть, зацепившись за грабли, которые нес, или меня мог задеть и свалить кто-то из пробегающих мимо лакеев. Оставив ящик с инструментами в сторожке, мы переступили порог капеллы как раз в тот момент, когда дон Тибальдутио начал богослужение, на которое собрались почти все без исключения, начиная от приглашенных высокопреосвященств до самых нижайших слуг (скромно державшихся в стороне). Со смиренно опущенной головой я слушал мессу и в молитве, обращенной ко Всевышнему, попросил прощения за аббата, который присутствовал здесь из холодного расчета. По окончании службы мы вышли из часовни, и аббат как ни в чем не бывало направо и налево раздавал приветствия, не забывая опять подталкивать меня в спину тростью. – Пошевеливайся, черт возьми, – прошипел он, успев тут же улыбнуться кардиналу Дураццо, как будто ничего предосудительного он не делал. – Да скажите мне наконец, что это за срочное дело такое? – запротестовал я, после того как мы снова взяли инструменты и направились к грядкам. – Что, черт возьми, может быть таким уж срочным? – Тихо! Вон он там, внизу. К счастью, еще не ушел, – шепотом заставил меня замолчать Атто и дважды кивнул в сторону человека, который склонился над одной из цветочных грядок, обрамляющих въездную аллею. – Но это же садовник, – сказал я. – Как его зовут? – Транквилло Ромаули. Он внук знаменитого садовника и работает здесь, на вилле. Я хорошо знаю его: жена Транквилло, да благословит ее Господь, была прекрасной повитухой и наставницей Клоридии. Именно с ее помощью обе наши дочки появились на свет. А дон Паскатио очень часто поручал мне помогать ему. – Точно, я и забыл, что ты тоже специалист по растениям… – пробормотал аббат, вспомнив, как вчера на «Корабле» опозорился передо мной, когда мы рассматривали изысканные цветы мифического сада Адониса. – Ну ладно, давай бери инструменты – и к нему. Транквилло Ромаули кое-что знает о тетракионе.И тут аббат Мелани взволнованно поведал мне, что этим утром он проснулся очень рано, как раз в тот момент, когда утренняя заря Аврора, зевая и потягиваясь, покинула семейное ложе, которое она разделяет с Заходом солнца. Всю ночь напролет аббату не давала покоя тысяча вопросов, которые накопились за вчерашний день и так и остались без ответа. В этот ранний час вилла еще была погружена в сладкую дрему, лишь там и тут в окнах горели приглушенные огни ламп, прорывавшие голубоватую пелену раннего утра. Под окнами в это время хорошо подслушивать, а Мелани как раз очень любил это делать. Затем Атто направился в сад на оздоровительную прогулку, чтобы надышаться чистым свежим воздухом начала дня, коим пренебрегают лишь ленивцы. – Я обошел весь сад, но не заметил ничего подозрительного. – Атто проговорился, ведь на самом деле прогулка была прикрытием для шпионажа и изучения обстановки. – Я добрался до небольшой рощи и увидел его всего в нескольких шагах от себя. Он подстригал растения на грядке. – Это его работа. И что же дальше? – Мы поговорили с ним о том о сем: о погоде, влажности, о красоте цветов, высказали надежду на то, что сегодня будет не так жарко, как вчера, и тому подобном. Потом я распрощался с ним, но не успел отойти, как услышал, что он заговорил сам с собой. – О тетракионе? – Чш! Разве об этом обязательно громко кричать? – зашептал Атто и обеспокоенно осмотрелся. После краткой беседы с садовником аббат Мелани услышал, как тот, вероятно решив, что остался один и его никто не подслушивает, пробормотал несколько бессвязных фраз. Затем, все еще сидя у грядки, он поднял глаза к небу и совершенно отчетливо произнес то, что привело Атто в состояние крайнего возбуждения: – «…а затем тетракион». Вот что он сказал, ты представляешь? – Просто невероятно. Что он может знать об этом? Садовник всегда производил на меня впечатление человека абсолютно далекого от политики. Я уже не говорю о таких… необычных темах, как эта история с тетракионом. – Невероятно или нет, но тут дело нечисто, – прервал меня Атто на полуслове. – Хоть это и кажется странным, но он что-то знает о тетракионе. Возможно, он даже хотел, чтобы я услышал его. Трудно представить, чтобы он произнес именно это слово и именно сегодня, притом совершенно случайно, всего в нескольких шагах от меня. – А вы уверены, что правильно поняли его? – Абсолютно. Да, ты знаешь, что я решил? Мне нужно подумать над тем тайным паролем, о котором говорила твоя жена. – В самом деле, Клоридия уверила меня, что рано или поздно она получит свежую информацию, не прилагая никаких особых усилий. – Очень хорошо. Однако эти новости, вместо того чтобы дойти до нее, попали к нам напрямую от садовника, то есть без посредников. – Минуя Клоридию? В это трудно поверить. Ее очень уважают в округе. Она помогает роженицам во всем Риме, и поэтому ни у кого нет от нее тайн. – Да, но в том, что касается женских пустяков. А в таком деле, как наше, никто не предпочтет простую повитуху агенту дипломатической службы его христианнейшего величества короля Франции, – с высокомерием ответил Атто, недовольный моим замечанием. – Ну что ж, я мог бы попытаться поговорить с садовником и узнать, что… – Что значит «я мог бы»? Ты обязан выяснить, что он знает о тетракионе. А я пока отправлюсь по своим делам. Это просто счастливое совпадение, что ты уже работал с ним, – сказал он мне и кивнул, давая понять, что мне следует незамедлительно приступать к выполнению задания. – Синьор Атто, мне нужно время, чтобы… И никаких возражений. Начинай сейчас же. Бери эти инструменты и делай так, будто ты хочешь поработать. Мы снова встретимся с тобой во время обеда. Мне необходимо написать несколько срочных писем. Очень надеюсь, что ты выполнишь то, что обещал. Сказав это, он решительно направился в сторону Касино. У меня не оставалось выбора.
Я с большим удовольствием пошел бы в кухню и взял себе что-нибудь поесть, но мастер Транквилло уже заметил меня – не хотелось бы создавать впечатление, что я что-то скрываю. Поэтому я подошел к нему и постарался изобразить на своем лице искреннюю улыбку. Транквилло Ромаули, названный так в честь своего деда, знаменитого и уважаемого всеми цветовода, встретил меня довольно дружелюбно. Мощная фигура Ромаули никак не соответствовала роду его занятий. Высокий полный великан со взъерошенной бородой, черными волосами и маленькими глазками под густыми, лохматыми бровями. У него всегда был замечательный аппетит, отчего живот стал похож на надутый шарик, так что когда Транквилло тянулся большой ручищей с ножницами к крошечным листикам растения, он выглядел импозантно и комично одновременно. Из-за какой-то детской болезни, которая повлияла на слух, у него был необычно громкий голос, отчего каждая беседа переходила в крик и в конце разговора собеседник становился не менее глухим, чем сам садовник. Поэтому выяснить, что ему известно о тетракионе, либо сделать так, чтобы он захотел сам рассказать об этом, было совсем непросто. Более того, разговоры с Ромаули никогда не ограничивались парой фраз, поскольку, несмотря ни на что, он был чрезвычайно разговорчивым человеком, можно сказать до ужаса болтливым, и помешан исключительно на одной нескончаемой теме – цветов и садоводства. Его знания были настолько обширными и основательными, что он считался ходячей энциклопедией цветоводства. Он действительно мог цитировать наизусть любое место из всего «De florum coltura» отца Феррари и хранил в памяти историю и планы всех садов и парков Рима. После нескольких вежливых фраз Ромаули спросил, нет ли у меня этим утром каких-то особенных дел. – О, ну… честно говоря, ничего особенного. – Действительно? Тогда ты единственный на вилле Спада, которому не приходится мучиться на этом празднике. Однако мне кажется, все эти инструменты, которые ты прихватил,все-таки нужны тебе для чего-то, – заметил он, многозначительно посмотрев на орудия труда, которыми снабдил меня Атто. – Это правда… – замялся я. – Надеюсь стать полезным хоть в каком-нибудь деле. – Вот и прекрасно, твои надежды оправдались – ответил садовник, довольный, подхватил деревянный ящик с инструментами, похожий на мой, и сделал знак следовать за ним.
Мы направились к грядкам возле часовни. Был чудесный день: свежий ветерок раннего утра, щебетание птиц и дорожки облачков самых разных форм, мирно взирающих с высоты на вечную земную суету. Наши шаги отдавались приглушенным эхом на мелком щебне садовых дорожек, а еще невысоко поднявшееся над горизонтом солнце лило на нас свой первый мягкий свет. Вероятно, очарование природы совершенно не тронуло Транквилло – как всегда, садовника волновало лишь его искусство и он начал отдавать мне распоряжения. – Дон Паскатио опять приказал мне посадить жасмин, – пожаловался он, – хотя я ему вполне понятно объяснил, что в благородном саду жасмина быть не может. Разумеется, как и местных желтых и белых обычных лилий. И даже если возникла бы необходимость высаживать их, то только после кустовых турецких лилий цвета красной киновари или оранжевых. В наше время уже никто не знает, что следует сажать в приличном саду. Просто настоящий скандал. – Да, вы правы, это очень серьезный вопрос. Значит, вы говорите, что жасмин недостаточно благороден для хорошего сада? – спросил я, притворяясь крайне заинтересованным. – Скажем так, предпочтительнее серебристые тацетты, белые нарциссы, как их называют в народе, – вновь начал он, повышая голос еще на одну октаву, – или дикие нарциссы из Константинополя, у которых может распуститься от десяти до двенадцати цветков на кусте, нарциссы «ангельские слезы», поэтические нарциссы, нарциссы узколистные или махровые нарциссы бульбокодиум, похожие на розу или на капусту, жонкили, с их пьянящим сладким ароматом, который похож на аромат жасмина, но, смешанный с запахом померанца, он становится более спокойным. – Понимаю, – сказал я, с трудом подавив зевок. Я попытался придумать, как спросить о тетракионе, не вызвав подозрений. Тем временем Касино осталось позади и мы почти дошли до грядок у капеллы. Ящик с инструментами был очень тяжелый и я уже покачивался от усталости, втайне проклиная Атто, нагрузившего меня. – Я знаю, все, что я тебе сейчас говорю, может показаться банальным и само собой разумеющимся, – продолжил садовник входя в раж, – но я никогда не устану повторять, что это большая ошибка – отказываться от выращивания нарциссов ложных, которые из-за их формы в виде высокой узкой чашки называют также трубчатыми. Точно так же стоит обратить больше внимания и на индийские нарциссы, особенно на сорт тюльпанов «донна белла», который впервые в Италии был высажен в саду князя Казерта. Не стоит забывать и о круглых, похожих на лилии, нарциссах, которые не хотят цвести во Франции, но благодаря своей неприхотливости очень хорошо прижились в Риме, и здесь, в саду моего дедушки, эти благородные цветы дарят нам свою сладостную улыбку. Затем следует выбирать шафран, безвременник осенний, рябчик царский, ирис, цикламены, анемоны, лютики, асфодели, пионы, рябчик шахматный из лилейных, ландыши майские, гвоздики и тюльпаны. – Тюльпаны из Голландии? – спросил я, только чтобы как-то перевести монолог в диалог. – Ну конечно! Вряд ли можно встретить в природе еще одно растение с таким огромным разнообразием цветовых оттенков, как голландские тюльпаны. Несколько лет назад один человек подсчитал, что у этого красивого цветка есть двести различных оттенков. Но будь внимателен, – предостерег он, остановившись и заглянув мне прямо в глаза. – Что? – переспросил я и тоже резко остановился, отчего у меня зазвенели все инструменты. Я испугался, не сказал ли я или не сделал ли что-нибудь некстати. – Мальчик мой, – проговорил Транквилло, совсем уже не обращая на меня внимания и снова увлекаясь своей речью, – будь внимателен и, помня о тех растениях, которые я тебе уже назвал, не забудь о пассифлоре, которая была завезена на наш материк из Перу и выращивается в корзинах. Кроме того, заслуживают внимания индийская юкка, жасмин из Каталонии и Аравии и, наконец, американский звездчатый вьюнок, который некоторые называют квамоклитом лопастым. – Квамоклит, да, я помню, – соврал я, облегченно вздохнув после ложной тревоги, а садовник, который поднял голос еще на одну ступень и поэтому вообще не услышал моих слов, спокойно продолжил: – Из роз следует брать только белые, собачьи розы, дамасские розы, старинные розы сорта «розовая Агата», пестрые розы(заметь, они все без исключения являются махровыми), нежно-красные итальянские розы, которые чаще цветут и поэтому называются розами для каждого месяца, а также голландские столепестковые розы (к сожалению, они не пахнут), бархатистые розы цвета корицы и темно-красные. Пока Транквилло говорил, мы дошли до места назначения и положили инструменты на землю – мой невероятно тяжелый ящик и его, совсем легкий. – Выбирая кусты и деревья, следует отдать предпочтение персикам и вишням с махровыми цветами, – произнес он громким голосом, каким обычно декламируют героические баллады, – дроку с белыми цветами, мирту с махровыми цветами, гранату, розовой бузине, а также индийскому лавровому листу, который впервые поязился в саду Фарнезе, чужеземной джиде, или дикой маслине – из-за нежного аромата ее иногда называют также райским деревом, – экзотическому сумаху уксусному с амарантовыми колосьями (в Риме он расцвел первый раз около шестидесяти лет назад), индийской акации, а также растению под названием «мягкое дерево», завезенному в наши края из Перу. Из экзотических диковинных растений, которые очень ценятся, не стоит также забывать о тамаринде, индийской мальве и Arbuscula coralll. Он замолчал и посмотрел мне прямо в глаза, словно ожидал ответа. О да, точно… – кивнул я устало. И в завершение скажу, что в фонтанах и бассейнах с рыбками что, правда, и так ясно, высаживают белые и желтые кувшинки болотные калужницы с желтыми махровыми цветками, а также клевер с белыми цветками. Выслушав это последнее замечание, я наконец понял, что Транквилло Ромаули, даже когда непосредственно смотрит на собеседника, внутренне сконцентрирован только на той единственной теме, которая вообще интересует его в этой жизни, – на любовном уходе за цветами и растениями. – А теперь за работу, – сказал он, пододвинул мне свой ящик и стал разминать руками комья земли на грядке. – Подавай мне те инструменты, которые я попрошу. Вначале мерную палочку. Я порылся в ящике и быстро нашел длинную палку, которая служила для выравнивания сторон больших и маленьких садовых грядок, чтобы они шли параллельно, и передал ее Транквилло. – А теперь подай мне горшочек с семенами. – Пожалуйста. – Лейку. – Вот. – Серпик. – Пожалуйста. – Культиватор. – Здесь. – Гребок. – Вот. – Ямкокопатель. – Вот, возьмите. Он повертел инструмент в руках и вдруг резко подскочил. – Я не могу поверить в это! Это просто невозможно, – сказал он сам себе и укусил себя за палец правой руки. – Я ошибся. – Господи, как же так? Он развел руками и елейным тоном священника, порицающего грешника, произнес: – Сколько раз мне объяснять тебе, что это совок для пересадки растений, а не ямкокопатель, который почти в четыре раза больше! Я не осмелился что-либо возразить, потому что вполне осознавал вето серьезность своей ошибки. У ямкокопателя (я постоянно путал его с другими инструментами) не было маленькой лопатки U-образной формы, предназначенной для выкапывания и пересадки растений. Лопатку-то я и подал садовнику. Но это был гораздо больший по размеру инструмент, в принципе, он служил для тех же целей, но делали его путем сворачивания в трубу большого гибкого листа металла с запорными застежками. Транквилло Ромаули всегда клал его на дно ящика с инструментами. – Пожалуйста, простите меня, я подумал… – попытался я оправдаться перед ним, быстро вытащил металлическую пластинку из ящика и свернул ее в трубу, защелкнув застежки, чтобы пластинка не могла больше развернуться. Демонстрируя усердие, я так же быстро смазал трубу жиром, который садовник всегда носил с собой, чтобы инструменты легче входили в землю вокруг выкапываемого растения. – Не извиняйся. Продолжим работу. Я вижу, ты принес с собой несколько горшочков, – сказал он, несколько успокоившись, и приготовился выкапывать растение, которое нужно было заменить. Пока Транквилло Ромаули выкапывал одни растения и сажал на их место другие, с большой бережностью раскапывал землю, осторожно поливал, после чего любовно вдавливал в землю новые луковицы, я отчаянно пытался найти повод отвлечь его от темы цветов и повернуть разговор в нужное мне русло. – Аббат Мелани рассказал мне, что сегодня утром у него состоялся с вами очень интересный разговор. – Какой аббат? Ах да… Ты имеешь в виду того то ли венецианского, то ли французского дворянина, честно говоря, даже не знаю, откуда он взялся. Ему чрезвычайно понравилась композиция цветов на моих клумбах, – вспомнил он, очищая щеткой каменные плиты от комьев земли. – Точно, именно он. – Ну, такая лестная похвала из его уст меня совсем не удивляет. Сажая цветы, нужно всегда соблюдать симметрию, как сделал я и как это делал герцог Каэтани в садах Кистерна в старые добрые времена: в каждой грядке должно быть два иди три отличающихся по окраске сорта цветов, они располагаются в разных местах, чтобы те же или похожие растения соответствовали друг другу, находясь прямо или наискосок один от другого. – Все верно, аббат Мелани тоже заметил, что… – Но осторожно! – предостерег он с самым серьезным видом хватаясь за медный кувшин для полива. – Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя высаживать вместе лютики, испанские жонкили и тюльпаны, так как получится некрасивая композиция. Это говорил еще мой дед, Транквилло Ромаули, упокой Господь его душу, у него были самые прекрасные сады в Риме. Да, в наше время не найти ни одного такого сада, оформленного по всем правилам садоводческого искусства, – закончил он свою тираду с преувеличенно печальным вздохом. – Да, действительно, вы правы, – только и нашелся ответить я, подавляя новый зевок и сдерживая нарастающий гнев, ибо мне уже казалось абсолютно безнадежным пробиться сквозь нескончаемый поток его речи. Позади нас прошло двое слуг с корзинами, полными только что забитой и общипанной птицы. Они толкали друг друга в бок и тайком посылали мне понимающие язвительные улыбки, так как утомительная болтливость садовника была хорошо известна всем на вилле Спада. Итак, мне не оставалось ничего другого, как рискнуть заговорить с ним напрямую. – Ну, аббат Мелани сказал мне также, что ему настолько понравилось беседовать с вами, что он хотел бы встретиться еще раз, – сказал я так быстро, как только мог. – Ах, неужели? Наконец-то он отреагировал. Хороший знак. – Да. Вы должны знать, что аббат очень обеспокоен. В Мадриде над Эскориалем витает смерть… Он задумчиво посмотрел, ничего не говоря. Возможно, он понял мой намек: смертельно больной король Испании, наследник трона, тетракион… – Ты хорошо информирован, – произнес он неожиданно серьезным тоном. – Эскориаль иссыхает, сын мой, в то время как Версаль… а теперь… Шёнбрунн… – продолжил он, выражаясь только намеками. Я понял, это сигнал. Он был в курсе дел, ведь недаром он упоминал о самых прекрасных садах Франции и Австрии, достоянии двух противников, борющихся за Испанское наследство. – Нам приходится нести тяжелую ношу, – таинственно обронил он. Транквилло сказал «нам»: вероятно, он ссылался также на других, то есть на тайный пароль, как и предполагал аббат. А теперь он хочет освободиться от тайны, которая гнетет его. – Я согласен с вами, – ответил я. Ромаули кивнул с улыбкой безмолвного, тайного понимания. – Если судьба Эскориаля настолько близка сердцу твоего покровителя, аббата, то нам двоим действительно будет о чем поговорить. – Это было бы, правда, очень желательно, – сказал я с некоторым ударением на последнем слове. – Только при условии, что он правильно информирован, – подчеркнул Ромаули. – В противном случае это лишь напрасная трата времени. – Не сомневайтесь, – успокоил я садовника, однако совершенно не понял смысла его намека.
Весь путь назад в Касино я прокручивал в голове разговор с садовником, пытаясь все растолковать верно, как вдруг после поворота на обходную дорожку услышал шорох гравия под двумя парами ног и два голоса. – …просто неслыханно, что аббат Мелани себе позволяет, в этом я с вами абсолютно согласен. Но еще удивительнее реакция Албани. Кто-то говорил об Атто. Судя по тону и манере выражаться, голос принадлежал пожилому мужчине высокого положения. Я не мог упустить случая услышать этот разговор. Я спрятался за живой изгородью и приготовился подслушивать. – Его все время подозревали в чрезмерной любви к французам, – продолжил все тот же человек, – а тут он задал Мелани такую головомойку. Так что впредь его будут считать держащим нейтралитет, то есть равно удаленным как от французов, так и от испанцев. – Просто невероятно, как быстро может измениться репутация человека, – согласился другой. – Это точно. Хотя в настоящий момент это ему мало чем поможет. Он слишком молод, чтобы стать Папой. Но для того, чтобы продержаться в таком положении, любые средства хороши, это настоящее искусство, в котором наш дорогой Албани просто мастер, ха-ха! Почти на четвереньках я пробирался вдоль изгороди, стараясь незаметно проследить за парой, наслаждавшейся утренней прогулкой. Мужчины явно были из гостей, которые ночевали на вилле. И вероятнее всего, речь шла о двух высокопоставленных церковниках, голоса которых, к сожалению, не были мне знакомы. Шуршание в кустах поблизости мешало мне хорошо прислушаться и, следовательно, понять, что означает их разговор. – А что же стало с запиской, которую ему передали? Неужели верно то, что мне вчера об этом рассказывали? – Я расспросил, и мне подтвердили, что все так и было. Этот попугай украл записку и улетел, чтобы прочитать ее в своем гнезде, ха-ха-ха! Албани, конечно, не подал виду, но он был в отчаянии. А двум своим слугам он поручил незаметно поискать эту птицу, поскольку никто не должен знать, насколько важно для него это дело. Однако одного из слуг обнаружил дворецкий, когда бедняга залез на дерево в саду, чтоб лучше осмотреться, и дворецкому сразу стало ясно, зачем он это сделал. Так все и узнали об этом. Но о том, где скрывается эта птица, не ведает никто. К сожалению, как я ни напрягал слух, больше мне ничего не удалось услышать. Живая изгородь, вдоль которой я полз, делала поворот направо, в то время как беседующие повернули налево. Я застыл на некоторое время на земле и подождал, пока они отойдут на достаточное расстояние. Я уже ликовал, представляя, сколько важных новостей я могу доложить Атто: обещание садовника, пусть и загадочное, открыть нам все, что он знает о тетракионе; отчаяние Албани от пропажи записки, которая, следовательно, должна содержать непростую и секретную информацию, наконец, подслушанные мною рассуждения относительно двух ссор между Атто и Албани, благодаря чему последний сможет избавиться от обременительной славы вассала французов. Я и не подозревал, что еще не время рассказывать ему эти новости. – …улетел, чтобы прочитать ее в своем гнезде, ха-ха-ха! Я уже поднялся на ноги, когда услышал эту фразу, и от ужаса содрогнулся. Я быстро вновь упал на колени, испуганный до смерти, что меня заметили и уличили в слежке. Это точно был голос одного из прелатов, чей разговор я подслушал. Как же он смог вернуться и обойти меня так, что я даже не заметил этого? – Но для того чтобы продержаться в таком положении, любые средства хороши, это настоящее искусство, в котором наш дорогой Албани просто мастер, ха-ха! Сомнений не было: кардинал находился прямо за мной, и я почувствовал, как от моего лица отхлынула кровь. Повернувшись, я увидел попугая, который раскрыл крылья и поднялся в воздух. Наглец, он показал мне свои хвостовые перья, лапы и клочок бумаги, который сцапал несколько часов назад.
* * *
Я нашел Атто в его комнате, где он ожидал новостей после моего разговора с садовником. Но едва он узнал, что Цезарь Август вновь объявился, мы тут же устремились в сад, чтобы в первую очередь прочесать территорию вокруг складского помещения с инструментами, где я совсем недавно видел птицу. Но от попугая не сталось и следа. Вольер, – предположил я. Когда мы добрались до вольера, сердце выскакивало из груди. Однако Цезаря Августа там не оказалось. Расстроенный, я смотрел на птиц. Соловьи, голуби, дутыши, серые куропатки, кеклики из фазановых, турачи, фазаны, овсянки садовые, зеленушки, черные Дрозды, коньки, зяблики, горлицы и дубоносы как ни в чем не бывало клевали зерна и листочки салата, не обращая на нас внимания. И даже если бы они знали, где сейчас скрывается попугай, то все равно единственное, что они могли сделать, это пялиться на нас своими пустыми глазенками. Я даже пожалел, что во всей этой стае разговаривать мог только злосчастный попугай. Но тут я заметил одного молодого турача, который настойчиво высматривал что-то в вышине, явно чем-то обеспокоенный. Я хорошо знал эту жизнерадостную, смелую птицу. Турач часто опускался мне на руку, когда я рассыпал по вольеру еду, чтобы обклевать сухой хлеб прямо из моей руки, и очень не любил, когда я пытался дать хлеб и его соседям по клетке. Сейчас он был так же обеспокоен и, беспрерывно издавая писк, тыкал клювом вверх. Наконец я сообразил и тоже посмотрел наверх. – Но для того, чтобы продержаться в таком положении, любые средства хороши, это настоящее искусство, в котором наш дорогой Ал бани просто мастер, ха-ха! – повторил Цезарь Август, когда увидел, что его обнаружили. Он прятался на самом верху вольера, правда не внутри, а снаружи, то есть на симпатичном маленьком куполе из металлических решеток, которым завершалось все строение. Со времени побега Цезаря, естественно, никто не ставил перед его клеткой еды. Значит, он где-то стащил кусок хлеба, который теперь и общипывал, прячась вверху на крыше, а турач с завиостъю следил за ним. – Сейчас же спускайся и отдай нам этот кусок бумаги, – приказал я ему, стараясь однако не кричать слишком громко, чтобы нас не услышали другие слуги. В ответ попугай лишь отлетел еще немного и сел на дерево, при этом вел себя как-то неестественно. Было очевидно, что он хочет нас спровоцировать. Вероятно, Цезарь чувствовал антипатию к одному из нас, и было нетрудно догадаться, к кому именно. – Наверное, ему нелегко спускаться, держа в одной лапе записку, – сказал я Атто. – Надеюсь, записка не вывалится у него где-нибудь, – вздохнул он в ответ. – И очень надеюсь, что скоро все разрешится. – Разрешится? – Я послал Бюва за специалистом. Он поехал на коне с одним из слуг, который, к счастью, располагает всей необходимой информацией. Однако я также очень надеюсь, что тот не станет вникать, зачем это нужно. В противном случае рано или поздно нам смогут помешать. Мне сразу же захотелось спросить его, что скрывается за его характеристикой «специалист», но события опередили меня. Бюва подал знак, что вернулся, выглянув из-за изгороди. – Святые небеса! – воскликнул Мелани. И в ту же секунду Цезарь Август поднялся в воздух, возможно, движимый своим таинственным даром предчувствия, и полетел в сторону сада августейшего дома Барберини, имевшего общую границу с территорией виллы Спада. – У Барберини в саду есть вооруженные охранники? – Насколько я знаю, да. – Хорошо, – заключил Атто, – значит, наш друг далеко не уйдет. Как раз в этот момент на другой стороне неба над садом появилась узкая быстрая тень – она была еще далеко, но явно метила в хлопающий крыльями силуэт Цезаря Августа. Тот сразу же заметил опасность и полетел вниз, сев на куст слева от нас. Быстрая тень исчезла с голубого купола неба, залитого ярким солнечным светом. – Пойдем, я покажу тебе специалиста, – сказал Атто, – или, точнее, охотника с соколом, именно так он любит называть себя. Он ждал нас у входа на виллу Спада. Это был поистине странный человек очень высокого роста, худой, с черными волосами, хищными карими глазами и орлиным носом. В перекинутом через плечо большом мешке он нес, очевидно, необходимые ему инструменты. Еще с ним была красивая большая собака-ищейка, готовая выполнить любую команду. Мы привели сокольничего к вольеру, и я вопросительно посмотрел на Атто. – «И если хочет он журавля поймать, не сокола, то его соколиная охота лишь пустая игра», – продекламировал он с иронией, подражая прозе бардов, – эту идею подбросил мне тот сумасбродный Альбикастро, в одной из своих вечных цитат о сумасшедших. В этот момент охотник окинул взглядом небесную высь и коротко свистнул два раза. В тот же миг с высоты на нас понесся вихрь перьев и пуха, снабженный когтями, замедлил свое падение акробатическим виражом, затем сделал круг и завершил полет на поднятой вверх руке хозяина. На правой руке мужчины была длинная перчатка из толстой кожи, чтобы когти хищной птицы, на которые я глядел со смешанным чувством ужаса и восхищения, не могли поранить ее. Птица поудобнее устроилась на руке, между запястьем и локтем, удовлетворенно переминаясь когтями на месте, после чего охотник накрыл голову сокола черным кожаным колпачком, чтобы тот больше ничего не смог увидеть. – Вместо журавля мы будем охотиться на попугаев, – сообщил ему Атто, – и при этом самым лучшим оружием – с помощью сокола.* * *
Мы вышли за входные ворота виллы, надеясь, что никто не спросит нас, что мы тут делаем и куда идем. Судьба была благосклонна к нам. Мы встретили лишь одного из охранников, который был дружен со Сфасчиамонти, тот хоть и посмотрел на нас с любопытством, но все же пропустил, не задав ни одного вопроса. – Это ужасно, – запротестовал я, когда мы начали перелезать через стену, ограждающую владения Барберини, в том месте, где исчез Цезарь Август. – Этот сокол растерзает бедного попугая. – Растерзает, растерзает… – передразнил меня Атто, подставляя к стене высокую скамейку, чтобы перебраться на другую сторону. – Скажем так: он приведет его в чувство. Записка принадлежит нам, и попугай прекрасно знает об этом. В принципе, я с самого начала мог бы решить проблему именно так, но ты бы не согласился. – А почему вы решили, что сейчас я уже согласен? – Безвыходное положение. Попугай больше не слушается приказов, и ситуация вышла из-под контроля. Запомни, мой мальчик. в безвыходных положениях приходится принимать непростые решения. А если сразу такое решение не возникает, то приходится либо подождать его, либо самому способствовать его возникновению. Старая уловка всех правящих особ, которую я часто мог наблюдать за время моей работы советником, – сказал Атто с обезоруживающей улыбкой, хотя было видно, как он рад, что наглое непослушание Цезаря Августа дало ему основание принять самые жесткие меры. Мы спрыгнули со стены на сторону поместья Барберини. Эта стена была продолжением римской городской стены, которая начиналась далеко отсюда и доходила почти до площади Святого Косимато. Собака-ищейка тоже перескочила на нашу сторону, воспользовавшись скамейкой. – Вы можете говорить что угодно, но все соколы кровожадные, – запротестовал я. – И я прекрасно знаю, на что они способны. Однажды я видел, как одна такая обученная птица атаковала курочку, растерзала ее и вырвала из груди еще пульсирующее сердце. Тем временем сокольничий снял колпачок с головы сокола и отпустил птицу. Она тут же взвилась в воздух и очень быстро поднялась на такую высоту, что была видна теперь в виде маленького темного пятнышка на ярком небе. – Может быть, сокол не станет обращаться с попугаем слишком плохо, – захихикал Мелани. – Ведь нас интересует только записка. Как только попугай отдаст ее, мы сразу же прекратим охоту на него и с ним ничего не случится. – Вы говорите так, будто сокол знает, что делает. Птицы – это же не люди, у них нет ни понимания, ни жалости, к тому же они бессердечны, – возразил я. – Осторожно, мой мальчик, – вмешался в разговор сокольничий. Он говорил с северным акцентом и, наверное, был родом из Болоньи или Виченцы, где, насколько я знал, всегда была популярна соколиная охота. – Твое незнание настолько велико, что вполне может сравниться с храбростью моего сокола, – резко заявил он мне. – Ты говоришь, у птиц нет жалости? А разве ты не знаешь, что великий Паламед, взяв себе за образец стаю журавлей, которые в полете образовывали буквы V или А, создал таким образом первые буквы латинского алфавита? Ведь даже святой Иероним сказал: «Grues via m sequentur ordine Literatur», и разве тебе не ведомо, что от удивительно разумного образа жизни птиц, латинское название которым Grus grus, произошло латинское слово congruere, что означает «согласовывать», то есть согласованное поведение. – Нет, этого я не знал, но… Пока он с неожиданным для охотника красноречием сообщал поучительные факты о птицах, сокол не переставая кружил над нашими головами, выискивая добычу. Мы осторожно пробирались сквозь высокие заросли и все время поглядывали, где мог спрятаться Цезарь Август. Атто и сокольничий не сомневались, что обязательно найдут попугая. Моя уверенность была намного меньшей, но про себя я уже подумывал о том, как бы дать птице знак выбросить записку во избежание кровавой драмы. Мы все время смотрели вверх в ожидании новостей. Ищейка возбужденно обнюхивала заросли, реагируя на малейшее движение. – Получается, ты не знаешь даже, что птицы с древних времен учили людей всем добродетелям и наукам, даже помогали открывать новые страны. Первые корабли были построены по образу лебедя, так как лебеди считались прекрасными пловцами. Великий Колумб открыл острова в Мексиканском заливе только благодаря тому, что проследил за полетом птиц. Птицам, то есть их перьям, опять же человек обязан тем, что может красиво одеваться: подумай только о перьях, которыми люди украшают головные уборы и шлемы. Женщины могут спасаться от жары, обмахиваясь роскошными веерами из перьев. – Да, но… – А первые трубы были сделаны из костей нижних конечностей журавля. Первым посланником был голубь. Первые зодчие при постройке домов взяли за образец искусство птиц вить гнезда. А первые музыканты – это установлено абсолютно точно – лишь имитировали пение птиц, прежде всего серых куропаток, которые вдохновляли художников и поэтов. Стоит вспомнить и о том, что именно перья мы опускаем в чернила, чтобы записать свои мысли. Излагая мне эту информацию, он не переставал следить за делающим круги соколом и позой собаки. – Нет лучшего удобрения для земли, – продолжил он, – чем помет птиц, и благодаря птицам крестьянин избавляется от сверчков, кузнечиков, саранчи и прочей напасти. При этом прилет птиц указывает крестьянину, когда пришло время для посева, вспашки и сбора урожая, по их поведению можно определить приближение дождя, резкое изменение погоды, а также, например, будет ли в этом году весна ранней или зима затяжной. Такие птицы, как журавли, гуси и утки, часто образуют стаи, где есть вожаки, ночью они выставляют своего рода караульных для защиты спящих. Они очень храбрые: маленький крапивник не побоится противостоять орлу, канюк будет бороться, защищаясь до самого конца, не стоит забывать также о том, что не люди, а гуси спасли Рим, разбудив римлян своим гоготанием, когда враг под покровом ночи проник в Вечный город. И как после всего этого можно считать, что у птиц нет сердца? – совсем разгорячился сокольничий. – Да у них гораздо больше благородства, верности и справедливости, чем у людей. Чтобы хорошо переварить пищу, ястреб-перепелятник ловит маленькую птичку и кладет ее живой себе на живот, а наутро не проглатывает ее, а из благодарности отпускает. Гусыни застенчивее юных девушек: они совокупляются с гусем, только когда уверены, что их никто не видит, и сразу же после этого хорошо моются. Вороны вообще признают только одного партнера в своей жизни. А если горлица становится вдовой, она никогда больше не выберет себе другого партнера. Ласточка всегда кормит своих детей по справедливости, никого не пропуская. Разве люди на такое способны? Кроме того, у птиц самцы болтливы, а самки неразговорчивы, у людей же мы наблюдаем совершенно противоположную картину, и, если хорошо подумать, было бы гораздо предпочтительнее первое. Даже гуси, которые считаются болтливыми, в случае приближения орла берут в клюв камень, чтобы не поддаться искушению и не зашипеть, то есть не выдать своего укрытия. Дальше, Птицы помогают нам и при лечении болезней, например при болях в нижней части живота достаточно посадить на живот утку. Против колющих болей в боку помогает съесть глухаря; у кого слабый желудок, тот должен есть кожу лебедя, орла или крохаля большого; водянку можно вылечить с помощью порошка из сожженных летучих мышей, при болезнях пищевода используют ласточкино гнездо, растворенное в воде. Одним словом, можно бесконечно перечислять все лечебные средства, которые так щедро дарят нам птицы, и… Секундочку! Наконец сокольничий прервал свой красноречивый монолог. Все произошло совершенно неожиданно. Собака громко залаяла и застыла в напряженной позе: она что-то нашла. Мы услышали громкий шум, а затем хлопанье крыльев. Сразу же увидели снежно-белое оперение попугая и его желтый хохолок. Цезарь Август вылетел из ближайшего куста и поднялся в воздух. Собака громко залаяла, однако охотник удерживал ее за поводок, не давая преследовать попугая, и закричал: – Смотри! Смотри! Сокол тут же услышал этот зов и понял, что наступил момент охоты. Он тут же опустил клюв вниз и камнем полетел прямо на попугая, который, хоть и летал несравненно медленнее сокола, все же смог несколькими сильными взмахами крыльев подняться в высоту, взяв курс на укрепленную римскую стену. Сокол сразу же скорректировал угол падения и неумолимо приближался к попугаю. Он был похож на снаряд, готовый врезаться в тело жертвы или в последний момент затормозить, повернуться и ранить жертву острыми когтями, после чего уже на земле растерзать ее двумя-тремя ударами клюва… Попугай торопливо летел к большой стене, за которой, вероятно, надеялся найти укрытие от первых атак. – Цезарь Август! – крикнул я, моля, чтобы он услышал меня. Но потом я увидел, что все происходит слишком быстро, на взгляд человека – мгновенно. Сокол приближался. Вот осталось сто метров, семьдесят пять, пятьдесят, Тридцать пять. Мы все, трое мужчин и собака, как зачарованные следили за происходящим. Спасительная стена была слишком далеко. Попугаю не удастся долететь до нее. Оставалось несколько мгновений до развязки. Я с ужасом ждал столкновения. И тут… – Нет! – яростно закричал сокольничий. Цезарь Август выкрутился. В последний момент он выбрал ближайшее убежище и опустился в небольшой лесок, достаточно густой, чтобы сбить с толку сокола. Тот замедлил свой полет, а затем сразу же вновь начал набирать высоту. – Цезарь Август! – снова крикнул я и побежал к деревьям, где тот спрятался. – Выбрось записку, и все будет хорошо! Мы попытались разглядеть силуэт попугая среди веток, но напрасно. Он спрятался очень умело, это признал даже охотник. – Вы же обещали, что у него будет достаточно времени, чтобы образумиться, – возмущенно воскликнул я, обращаясь к Атто. – Мне очень жаль. Но я не ожидал, что все произойдет настолько быстро. Хотя у него и так было довольно много времени. – Но теперь он обезумел от страха! Однако то, что произошло дальше, полностью опровергло мои слова. Мы продолжали прочесывать лесок и его окрестности, как вдруг услышали два коротких свиста, резко разорвавших тишину. Мы недоуменно переглянулись. Это был свист сокольничего, но тот выглядел таким же удивленным, как и мы с Атто. – Это… это был не я. Я не свистел, – запинаясь, произнес он. Мы невольно посмотрели вверх. – Перчатку, проклятье, – чертыхнулся охотник, когда заметил, что его любимый сокол, едва заслышав зов, повернул назад и уже искал своего хозяина. Сокольничий быстро надел перчатку – как раз вовремя, чтобы принять птицу. В это мгновение краешком глаза я увидел желто-белое пятно, которое потихоньку двигалось влево, по направлению к римской стене. Атто заметил его через несколько мгновений, которые, однако, оказались решающими для спасения попугая. – Вон он! – крикнул Мелани охотнику. Попугай в точности повторил клич охотника, заставив таким образом хищника вернуться к хозяину. Это помогло Цезарю Августу выиграть время и продолжить бегство, пока враг снова поднимется в воздух. Так Цезарь Август получил большое преимущество. Сокола вновь отпустили, но сначала ему нужно было набрать высоту. Ищейка лаяла изо всех сил. – А разве твоя птица не может напасть сразу? – с нетерпением спросил Атто и побежал к тому месту, где скрылся Цезарь Август. – Сначала ему нужно подняться на определенную высоту. Ведь он не нападает в горизонтальном полете, как пустельга! – обиженно ответил охотник, как будто ему предложили пойти на свадьбу в лохмотьях.Затем последовало хаотичное преследование вдоль старой римской стены. Мы продвигались по улицам, которые проходили через владения Барберини вплоть до площади Святого Косимато. Время от времени из-за древней стены со сторожевыми башнями показывался желтый хохолок Цезаря Августа. Он не мог подняться выше сокола, как часто поступают цапли, спасаясь от соколов. Однако, как нам показалось, попугай прекрасно понял, в чем слабость врага, и прибегнул к тактике затягивания: летел на незначительной высотем прятался то на дереве, то в расщелине стены. Быстро появляясь на короткое время, он издавал два свиста, которые услышал от охотника и сразу же научился безупречно имитировать. Соколу не оставалось ничего другого, как слушаться приказа и каждый раз возвращаться к хозяину. Между тем сокольничий уже был вне себя от ярости. Пару раз Цезарь Август скопировал даже охотничий зов «Смотри, смотри», чем совершенно сбил с толку своего пернатого противника. Если бы хозяин криками и несдержанными ругательствами не остановил сокола, тот утолил бы свой воинственный пыл, напав на воробьев, которые, ничего не подозревая, летали неподалеку. На последнем участке улицы с двух сторон шли обычные стены, где больше не было старых башен. Я осмотрелся вокруг в поисках Атто: мы уже давно обогнали его. Цезаря Августа также не было видно, но я надеялся, что он продолжил свой полет в прежнем направлении, так что, возможно, мы сможем обнаружить его, как только окажемся на открытой местности. Так мы добрались до монастыря сестер Святого Франциска, что на площади Святого Косимато. Через какое-то время нас догнал и запыхавшийся аббат Мелани:
Затем я посмотрел на площадь. И хотя сегодня было воскресенье, несмотря на ранний час, на площади Святого Косимато толпилось довольно много людей. Его Святейшество по доброте своей даровал всем детям Рима скидку в честь юбилея и прощение всех грехов, если они посетят один ватиканский храм. Вот поэтому здесь собрались маленькие мальчики и девочки из разных районов города для участия в процессии. Почти все они держали крошечные знамена, кресты и распятия. Девочки были в красивых юбках, с венками на голове. Эту маленькую трогательную процессию сопровождали родители и монахини монастыря Святого Франциска, поэтому на площади оказалось много народу, и когда мы, грязные и запыхавшиеся, появились там, никто не обратил на нас никакого внимания. Сокольничий был глубоко несчастен. – Он не возвращается, я его больше не вижу, – жалобно причитал он. Он выпустил сокола из поля зрения и боялся теперь, что тот улетел от него, что часто случается с хищными птицами, которые, хоть и привыкают к своим хозяевам, но все равно остаются своенравными и независимыми. – Вот он! – закричал Атто. – Сокол? Лицо сокольничего просветлело. – Нет, попугай. Я тоже увидел его. Цезарь Август, который, очевидно, как и мы, очень устал, слетел с карниза и полетел к соседней площади Святого Каллисто. Тем временем Атто совершенно обессилел, а охотник только и думал, что о своем любимце. И лишь мы с собакой-ищейкой готовы были продолжить охоту на попугая, хотя и с совершенно разными намерениями: я, чтобы спасти его, а собака, чтобы растерзать. Воинственно настроенный пес залился лаем и рванулся вперед; дети испуганно начали кричать, и ряды процессии смешались, а тут еще я, чтобы не отстать, врезался в середину шествия, чем создал еще большую неразбериху и заработал порицание от испуганных монахинь. Цезарь Август устало летал вокруг, все чаще опускаясь на выступы стен и балконы, а затем из страха перед собакой вновь с трудом летел дальше, выискивая новые места для убежища. И я не мог попросить попугая опуститься на землю, чтобы поймать его, потому что собака все время опережала меня, зло рычала и подпрыгивала, стараясь поймать или хотя бы укусить бедную птицу. Прохожие с недоумением наблюдали за этим не поддающимся описанию представлением, в котором участвовал спасающийся бегством попугай, лязгающая зубами собака и топающий за ними человек. Несколько раз я отчетливо видел, что проклятый клочок бумаги все еще находится в лапах птицы. Пройдя большой участок дороги по улице Святой Марии квартала Трастевере, наша странная троица свернула влево и наконец добралась до моста к острову Сан-Бартоломео. Цезарь Август пристроился на подоконнике одного их угловых домов, прямо у моста. Теперь он сидел довольно высоко, и собаке (наконец-то она поняла, что оторвалась от хозяина) надоело это изнуряющее, бессмысленное преследование. Я посмотрел на попугая: теперь его определенно нельзя было согнать с места. Слева от меня простирался мост Святого Варфоломея, далеко за ним находился прекрасный остров. Единственный кусочек земли среди потока бурной реки, золотистого Тибра, остров делил реку надвое и был ее украшением. Ищейка наконец-то сдалась и разочарованно повернула назад, послав попугаю на прощание злое рычание. – Ну что, сейчас ты спустишься? Теперь мы совершенно одни, – сказал я Цезарю Августу. В его глазах я прочитал лишь одно желание: сложить оружие и сдаться другу. Он хотел уже слететь с подоконника, но тут произошла последняя непредвиденная неприятность. В окно вылезла старуха, владелица этого небольшого дома. Она увидела попугая, и необычный вид этой странной, но красивой птицы поразил ее. Вместо того чтобы любоваться таким великолепием, глупая старуха попыталась самым наглым образом прогнать птицу и со злостью замахнулась на нее. Бедная птица попробовала спастись, слетев с подоконника, и была подхвачена ветром. Я посмотрел, как попугай храбро взмыл вверх, прямо как сокол, опустился, затем снова поднялся, после чего положился на судьбу и позволил ветру нести себя, пока от него не осталась лишь точка, а затем и она исчезла из поля зрения, утонув в море напрасных надежд.
Обессилевший и огорченный неудачей, я вернулся на виллу Спада и хотел было сразу сообщить аббату Мелани плохую новость, однако его не было на месте. Конечно, после такой охоты на попугая требовался отдых, ведь это настоящее безрассудство в его-то возрасте, да еще с больной рукой участвовать в подобных акциях. Чтобы избежать неприятного разговора и не выслушивать жалоб Атто, я решил быстренько написать записку о печальном исходе охоты и подсунуть ее под дверь комнаты. Однако еще до того, как я успел сделать это, на меня свалилась масса новых поручений. Сегодня после обеда свадебные развлечения для гостей предусматривали игру в жмурки в парке виллы Спада. Кардиналы, князья дворяне и знатные дамы, соревнуясь в скорости и ловкости, будут разбегаться по парку, прятаться, а потом искать друг друга, чтобы затем опять потеряться среди живой изгороди и в аллеях парка. В жмурки предполагалось играть в той части поместья, где действительно есть где спрятаться и куда убегать, а следовательно, затем будет нелегко находить. Эту часть великолепных садов виллы Спада с помощью несложных декораций и искусственных цветов превратили в настоящий лабиринт. Мне сообщили, что в связи с этим я снова поступил в распоряжение дона Паскатио, так как сегодня ему не хватает четверых слуг: под самыми разными предлогами, от приступа жестокой меланхолии до неожиданной смерти дорогой тетушки, они бросили нашего дворецкого на произвол судьбы. Небо затянуло облаками, жара немного спала, поэтому с игрой можно было не откладывать до вечера. Я поспешил на кухню, чтобы хоть немного подкрепиться, ведь уже наступило время обеда, а преследование Цезаря Августа разбудило во мне просто волчий аппетит. В кухне я нашел несколько кусочков индийской курочки и вареные яйца, правда холодные, но моему голодному желудку они показались невероятно вкусными.
Когда я уже обгрызал последнюю куриную косточку, в кухню ворвался помощник дона Паскатио с приказом надеть ливрею и поспешить туда, где аллея вдоль тайного сада пересекается с другой, идущей через виноградник до самого фонтана. На этом перекрестке стоял большой пятиугольный шатер с крышей из льняного полотна в голубую и белуюполоску; подпорные столбы были разрисованы большими гербами новобрачных, то есть гербами семейств Спады и Роччи. В тени шатра стоял стол с прохладительными напитками – холодной водой, апельсиновым соком и лимонадами, кроме того, там были также фрукты и цитрусовые, выложенные горкой на тарелках, свежий хлеб, нарезанный небольшими кусочками, и всевозможные конфитюры и желе. Все это было приготовлено для утоления жажды и подкрепления сил играющих в жмурки. Однако стол был накрыт и для тех, кто не стал принимать участия в игре и предпочел спокойно отдохнуть в больших белых полотняных креслах, расставленных тут же в тени. Мне поручили прислуживать в нескольких метрах от сцены с маленьким оркестром: смешивать соки из апельсинов и лимонов, нарезать хлеб, заботиться о креслах и прочих удобствах, о которых могли попросить сидящие здесь или гуляющие по парку их превосходительства и высокопреосвященства. Приступив к работе, я тут же начал с большим усердием смешивать соки и наполнять ими бокалы, учтиво обслуживая одного гостя за другим, трудясь словно пчелка, летающая от одного цветка к Другому. Только полностью уставив стол напитками, я отошел к одной из деревянных подпор павильона, где уже выстроились другие слуги, прямые как свечки, ожидающие, не понадобятся ли кому-то из гостей наши услуги. Под бело-голубым шатром собралось много гостей, они болтали, спорили, смеялись, кто стоя, а кто cпустившись в удобные кресла. В нескольких шагах от меня двое монсиньоров среднего возраста охлаждались лимонадом после долгих разговоров. В этот момент я понял, что случай послал мне счастливую возможность, ибо рядом со мной стояли те два монсиньора, которых я слышал во время концерта (они обсуждали проект реформы полицейского аппарата). Мне показалось даже, что сейчас они решили продолжить свой разговор. – …итак, теперь дело наконец-то сдвинется с места. – Но этой идее уже двадцать лет, невероятно, что ее хотят осуществить именно сейчас! – Однако судя по всему, так и будет. Мой брат рассказал мне об этом, а он, как вы знаете, аудитор при Сакра Роте[1339] и к тому же дружен с кардиналом Ченци. – А что об этом знает Ченци? – Немного. Здесь, в Риме, это дело уже давно известно в определенных кругах. Очевидно, сейчас оно наконец-то созрело. Если Папа проживет еще несколько месяцев, то реформа будет осуществлена. Я навострил уши, как Диана, целящаяся луком в убегающего оленя. – Однако это правда, – через некоторое время продолжил первый монсиньор. – Нам с тобой, людям законопослушным, конечно, не доводилось видеть, как самоуверенная толпа сбиров ходит ночами по трактирам или кабакам. Ночью мы спим, а не ходим по трактирам. Все знают, что потом происходит: сначала сбиры напиваются как свиньи, устраивая драки и беспорядок, а потом просто уходят, не сказав ни слова на прощание. Если же хозяин трактира, на свое несчастье, попросит их заплатить за выпивку, они плюнут ему в лицо, словно это требование оскорбило их величество, изобьют его хуже, чем сбежавшего убийцу, а на следующий вечер возвратятся, чтобы отомстить. Для этого они подсылают в трактир проститутку или пару своих знакомых друзей-мошенников, чтобы те играли там краплеными картами. Затем под предлогом проверки они заходят в трактир, находят там карты или проститутку и бросают в тюрьму хозяина, его помощников и всех, кто в тот момент оказался в трактире, и таким образом разоряют семью хозяина. – Знаю, знаю, – ответил второй. – Эта история стара как мир. – И вы считаете это пустяком? – возмутился первый. – Говорят, что сбиры требуют десятину не только от всех торговцев, но даже и от художников и называют они это чаевыми. Кроме того, сбиры шантажируют всех проституток. Они снимают комнаты в гостиницах, а затем сдают их тем же проституткам, получая двойную выгоду. А если проститутки отказываются, тогда они лишаются всех льгот. – Каких льгот? – немного растерянно переспросил второй. – Те, кто находятся под защитой сбиров, могут работать даже в официальные праздничные дни, уж простите мне это неподобающее высказывание. Остальных же сбиры контролируют и следят за тем, чтобы в церковные праздники они отдыхали, как предписывает закон. Таким образом, эти люди не зарабатывают никаких денег, ну, вы понимаете. – Да, ну и дела, – проговорил другой и вытер взмокший лоб белоснежным кружевным платком. В его голосе слышались одновременно удивление, любопытство и некоторое волнение ввиду деликатности темы. – Пойдемте, – сказал первый, – а то мы не успеем посмотреть, как другие играют в жмурки. Они поднялись с кресел и под руку, как друзья, пошли в направлении живой изгороди, которая граничила с владениями Барберини. Добравшись до нее, они повернули налево, туда, где полным ходом шла игра. Я осмотрелся. Сейчас мне никак нельзя было улизнуть и таким образом подвести других слуг, находившихся в шатре, да и дон Паскатио наверняка сразу же об этом узнает. До сих пор я пользовался почти полной свободой, лишь изредка выполняя случайные поручения вместо отсутствующих слуг. Если же меня зачислят в дезертиры, то тогда у меня начнутся трудности. Кто знает, возможно, доложат самому кардиналу Спаде, и я могу потерять работу или мне запретят обслуживать Атто. Все еще обуреваемый печальными мыслями, я неожиданно придумал выход. Для одной дамы в платье с большим декольте на французский манер и белой шалью на плечах я напил полный бокал сока из красных апельсинов. Рядом с ней стоял Марчезе делла Пенна, желая тоже утолить жажду. Я быстренько подхватил кувшин с лимонадом и поспешил к Марчезе, чтобы налить и ему. – Но… юноша, что ты наделал?! Якобы торопясь побыстрее обслужить дворянина, я намеренно толкнул одного из своих коллег и вылил немного апельсинового сока на шаль дамы. Эта дама страшно рассердилась и начала меня отчитывать. – О Господи, что же я наделал! Позвольте мне все исправить, шаль нужно немедленно постирать, я сам побеспокоюсь об этом, – тут же вызвался я помочь, снял шаль у нее с плеч и поспешил в Касино. Этот трюк нужно всегда проделывать очень быстро, чтобы ни жертва, ни окружающие не успели ничего предпринять. Так школа Атто, мастера устраивать подобные «несчастные случаи», принесла свои первые плоды. Через несколько секунд я передал шаль служанке с просьбой осторожно постирать ее и вернуть мне лично. Эта небольшая проделка дала мне повод покинуть свое место в павильоне. Сразу же после этого я направился в лесок на поиски тех двух монсиньоров. Я ломал себе голову над тем, как мне подслушать их разговор и при этом не быть обнаруженным. Наконец я заметил их, споривших о чем-то, между живыми изгородями самшита и лавровых деревьев. Я очень обрадовался: благодаря старым добрым правилам садоводства, которых придерживался мастер Ромаули Транквилло, у меня появилась прекрасная возможность незаметно приблизиться к ним. Недалеко от статуй зеленая стена поднималась не выше трех метров, остальные кусты не подстригались вовсе. Это специальное оформление изгородей, не слишком низких, но и не слишком высоких, как у стен лабиринта, давало мне решающее преимущество: они полностью скрывали меня, а те, за кем я следил, были обозреваемы до плеч. Так что я мог видеть их, а они меня – нет. Я остановился за зеленой стеной, готовый подслушать, как вдруг чуть не обмер от страха: прямо за моей спиной прозвучал голос: – Куку! Ты здесь, маленькая озорница, я знаю! – Хи-хи-хи-хи! – захихикала молодая женщина. Великий духовник, кардинал Коллоредо, двигался на ощупь и с большим трудом – мешало кардинальское облачение и большая красная повязка на глазах. Вытянув перед собой руки с нанизанными на пальцы массивными кольцами с рубинами и топазами, он медленно пробирался вперед. В нескольких шагах от него я увидел молодую благородную девушку в красивом кремовом платье и с тяжелым изумрудным ожерельем на шее. Спрятавшись за небольшим деревцем, она смотрела на приближавшегося Коллоредо. – Это нечестно! Вы играете не по правилам! – начала шутливым тоном отчитывать его молодая дама, когда старый церковник, притворившись, будто ему нужно вытереть пот со лба, приподнял повязку, чтобы оглядеться. Но тут неожиданно из куста выскочил дворянин в необычном французском парике с длинными локонами, как мне показалось, я узнал в нем Марчезе Андреа Сантакроче. Он обнял девушку сзади, крепко прижался грудью к ее спине и начал страстно целовать, тычась в шею, как это делает гусак: собираясь совокупляться со своей гусыней, он награждает ее чувственными покусываниями сзади. – Вы сошли сума, – пробормотала девица, вырываясь из его объятий, – скоро нас догонят другие. И действительно, как раз в этот момент из леска появился еще один игрок с повязкой на глазах, при этом он гнал перед собой других участников игры, словно добычу на охоте с облавой. Сантакроче исчез так же быстро, как и появился. Благородная девица бросила ему вслед томный прощальный взгляд. Я еще глубже залез в кусты, дрожа от страха, чтобы меня не обнаружили и не обвинили в том, что я подглядываю за тайно ухаживающими синьорами. – Я знаю, что вы где-то здесь, ха-ха! – весело пропел монсиньор Гримальди, у которого на глазах была большая желтая повязка. Перед ним бежала целая толпа гостей, развлекаясь тем, что дразнила его, подходя совсем близко, но при этом не давая себя поймать. Дамы касались его веерами, мужчины щекотали ему живот, чтобы тут же ловко увернуться и спрятаться, кто-то – в благодатную тень под мушмулой и вишнями, а кто-то за экзотическое дерево пальмы. Эти пальмы, впервые высаженные Пием IV в саду перед виллой «Пиа», благодаря своим роскошным стволам и густой шевелюре, распространились по всему Риму. Гримальди сделал еще несколько шагов вперед, уверенный, что сможет поймать ближайшего игрока – викария кардинала Каспаре Карпегна, но вместо этого уткнулся лицом в ствол пальмы, вызвав взрыв смеха. Викарий кардинала, чудом избежавший поимки, очень довольный собой, оперся на стену, и тут же прямо ему в лицо брызнула вода, намочив фиолетовую накидку. Хохот стал еще громче. Чтобы разнообразить игры всякими неожиданными трюками и сюрпризами, кардинал Спада приказал разместить повсюду на вилле скрытые маленькие аппараты, на потеху весельчакам и шутникам брызгающие на ничего не подозревающих людей водой обливающие их из ведра или других больших емкостей. Стена к которой прислонился Карпегна, нечаянно нажав на рычаг на самом деле была деревянной и лишь для виду обложена камнями В ней скрывался гидравлический аппарат с распылителем, который выстреливал водой, как только кто-то надавливал на рычаг – Кардиналу Карпегне удалось убежать… но его всего намочило, xa-xa! – засмеялся над несчастным собратом кардинал Негрони, но тут же сам зацепил ногой вертикально натянутый шнур обрушив на себя ведро холодной воды, стоявшей вверху на дереве. Толпа опять взорвалась смехом, чем я воспользовался, чтобы улизнуть от этой веселой, но очень шумной компании. Я уже хотел было отказаться от своего занятия и вернуться в Касино, как вдруг рассеянно рассматривая играющих гостей, увидел тех двух монсиньоров, которых искал. Как и следовало ожидать, меня они не заметили, ибо до сих пор были заняты серьезным разговором. – Сбиры защищают мошенников и преступников, у правосудия есть достаточно улик, чтобы осудить их, – сказал первый, пока они медленно шли к бассейну. – Однако в тюрьму сажают людей за простые гражданские правонарушения, потому что те не могут откупиться. А что можно сказать о такой практике, когда людей обвиняют заочно, а потом они полумертвыми попадают в тюрьму после ареста, проведенного сбирами? Разве не написано во всех юридических учебниках: «Обвиняемый может быть подвергнут пыткам, но в конце процесса, а не в начале». – А незаконные задержания? Никто не говорит об этом, но они случаются слишком часто. Людей арестовывают среди ночи, их допрашивают, бьют и без достаточных на то оснований запирают в камеры. Я скажу вам откровенно: пока все эти вещи остаются безнаказанными, паломникам и иностранцам не остается ничего другого, как с возмущением покинуть Рим. Причем ответственными за преступления этих чудовищ, сбиров, они делают тех, кто возглавляет эти ведомства и обладает властью… – То есть Папу, государственного секретаря, губернатора… – продолжил второй и остановился перед бассейном, восхищаясь кувшинками, плавающими у ног тритона, болотными калужницами с желтыми махровыми лепестками и белым клевером, которые мягко покачивались на поверхности воды. – Да, конечно! И это подрывает наш авторитет за границей, позорит и оскорбляет всю папскую курию. Долго стоять, прячась за самшитовыми кустами, даже такими пустыми и высокими, было все же опасно и неприятно. Когда я подумал о том, что кто-то из участников игры может случайно проходить именно этим путем и застать меня за подслушиванием, я покрылся холодным потом. Оттого что я очень старался не скрипеть, ступая туфлями по гравию, ноги начало сводить судорогой. И тут произошло такое, от чего у меня чуть не остановилось сердце: изгородь исчезла. Или, лучше сказать, она отодвинулась. Она постепенно, пританцовывая, вышла из ряда и повернула налево, оставив меня абсолютно незащищенным. По чистой случайности монсиньоры в этот момент стояли ко мне спиной и поэтому не заметили моего присутствия. Близкий к отчаянию, я чувствовал себя овечкой на скотобойне. Одним прыжком я кинулся под укрытие жасминовой изгороди и увидел, как монсиньоры прервали свой разговор и с удивлением уставились в мою сторону. Я прочитал короткую молитву и опустил голову. Когда же я вновь поднял глаза, то понял, что они смотрели не на меня, а на изгородь, которая непостижимым образом направлялась к кардиналу Нерли – человеку, которого, как известно, многие ненавидят. Мы втроем наблюдали за этой сценой: Нерли с повязкой на глазах ощупью продвигался к одной даме. Однако случилось непредвиденное. Из этой ходячей зеленой изгороди высунулась тонкая металлическая трубка, выстрелив в Нерли приличной струей воды, отчего тот испуганно вскрикнул. А куст мигом сбежал, повернув в другую сторону леска. Гости громко рассмеялась. Кардинал сорвал повязку с глаз. – Славная шутка, не правда ли, ваше высокопреосвященство? Некоторые члены кардинальской коллегии сразу же поспешили к нему, а сам Нерли стоял белый как мел. Судя по их злорадному смеху, они сполна насладились этой сценой. О да, поистине восхитительная идея, – заметила одна из дам, – и какой элегантной была эта маленькая струя, действительно великолепное попадание в цель! Кардинал, который чувствовал стыд и раздражение» совсем не разделял общего восторга. – Ваше высокопреосвященство, но вы же не хотите испортить игру? – невинным голоском спросила одна из дам. – Надевайте снова повязку, ведь игру надо продолжить. Слушая ее смех, потерявшийся в зеленом море, кардинал Нерли терпел сладкое кораблекрушение. Великолепие садов успокоило его нрав, ароматы цветов смягчили его сердце, а голову сделали легкой. Прелат послушно позволил вновь завязать себе глаза, и игра возобновилась с той же веселостью, что и раньше.
Оба монсиньора прокомментировали невинные развлечения гостей с глухим осуждением. Тем временем я уверился в том, что жасминовая изгородь, за которой я спрятался, спасаясь бегством словно голый червяк, – самая обыкновенная и не имеет никаких ног. Монсиньоры продолжили свою прогулку, дабы избежать еще одного столкновения с неспокойными игроками. Некоторое время они шли молча, под высокими деревьями, где небо выглядело совсем иначе, словно смотришь на него сквозь линзу из зеленого стекла. Время от времени через маленькие просветы в аллее виднелись персики, артишоки, груши; рощицы лимонов, айвы, кипарисов и скальных дубов словно играли с нами в прятки. Ведь, как сказал Леон Баттиста Алберти, без тайны нет красоты. Я крался, прячась то за лимонами, то за самшитами, не отставая от моей парочки ни на шаг, чтобы не только не упустить ее из виду, но и все услышать. – Давайте возвратимся к нашей проблеме, – вновь заговорил один из них, явно воспрявший духом после аргументов своего друга. – Все, что вы говорите, это правда, конечно, вы правы. Скажу вам больше: злоупотребление властью сбирами стало причиной того, что суды и канцелярии гражданских нотариусов завалены делами, которые были заведены по наветам. Когда же наконец ловят того, кто заслуживает провести остаток своих дней за решеткой, над ним издеваются самым ужасным образом, даже не заботясь о том, чтобы собрать доказательства. Так что во время слушания процесса адвокатам легко добиться отсрочки рассмотрения дела или даже его прекращения. Честно говоря, я не возлагаю больших надежд на эту реформу. Вы знаете лучше меня: сбиры не внемлют доводам разума. – Конечно, разговаривая с ними, мы ничего не добьемся. Но давайте больше не будем о сбирах, ведь они в какой-то степени воры, труд которых оплачивается из апостольской казны! Обычно перед поступлением на службу сбир очень беден, И платят им просто нищенское жалование: капрал получает шесть скудо, а простои сбир – четыре с половиной. Если капрал начнет подрабатывать еще на одной честной работе, то дополнительно он сможет получать еще три скудо в месяц, а сбир – два. – Предположим. – Как вы тогда объясните тот факт, что вскоре после того, как они приступили к службе, в их доме появляется роскошная обстановка? Платья и ювелирные украшения их жен могут поспорить с нарядами благородных дам. А если у них пока нет жены, то имеется целая толпа содержанок, к этому прибавляются азартные игры, кутежи и тому подобное. Чтобы оплатить все это, не хватит и сорока скудо в месяц. Понятно, что все их деньги получены путем мошенничества, вы так не считаете? – Без сомнения. Я полностью согласен с вами, вы правы. Издалека до нас доносились возгласы дам, предлагавших закончить игру, вместе перекусить и немного отдохнуть перед ужином. Оба монсиньора сразу же направились к маленьким воротам в тайный сад, чтобы найти спокойное место. Я подождал, пока они исчезли между вязами и тополями, а затем прошмыгнул за ними в сад и спрятался за маленьким рядом крупносортного винограда. – Ну, и что же представляет собой проект вашей реформы? – спросил тот, кто произнес последнюю фразу. – Он прост и идеален. Во-первых, будут упразднены все должности старших полицейских, на которые обычно назначались сбиры, и это в каждом суде как в Риме, так и по всей стране, а также старших лейтенантов, капралов и тому подобных. Вы оптимист. Неужели вы и вправду считаете, что Его Святейшество в нынешнем своем состоянии согласится на такие кардинальные реформы? – Увидим. Однако вы еще не услышали всего. В первую очередь, необходимо сократить численность сбиров. Тогда сбирами нескольких судов будет управлять Мантеллоне или министр юстиции, что в настоящее время, как вы знаете, невозможно. Для патрулирования и проведения важных арестов в помощь сбирам будут давать солдат, как это принято в других империях и республиках. Таким образом будут уволены почти двести сбиров. – А на их место? – Все очень просто: они будут заменены солдатами.
Пока я возвращался в Касино, чтобы забрать у горничной выстиранную шаль и отдать ее даме, на которую я вылил апельсиновый сок, в голове у меня просто бурлило от множества разных предположений. Конечно, я знал, что часть сбиров представляла собой мерзкий сброд. Но никогда еще я не слышал, чтобы так откровенно перечисляли преступные деяния этих «защитников» закона, одно за другим. Да, они были коррумпированны, и еще как! Но оказалось, что это еще ягодки! Судя по тому, что я услышал, сбиры совершали гораздо более тяжкие преступления, делая из права и закона спектакль, а под предлогом сохранения общественного порядка опустились до злоупотребления силой. Тут мои мысли дошли до Сфасчиамонти: неудивительно, что он тщетно пытался заставить своих коллег выслеживать черретанов. «Зачем им открывать тайны сообществ попрошаек, – подумал я, – если они должны прилагать столько усилий, чтобы скрыть свои собственные тайны?» Конечно, Сфасчиамонти доказал, что он не прочь использовать самые отвратительные методы: фальсифицирование протокола, арест без достаточного на то основания, вранье, шантаж допрашиваемого. Он готов был посадить Рыжего в тюрьму без судебного решения. И все это только для одной цели: поймать подонков черретанов и выяснить, где спрятаны украденные у аббата Мелани документы и подзорная труба. Но что, если только подобными методами и можно узнать правду? В таком случае, если их и нельзя полностью оправдать, то можно принять.
* * *
Когда я наконец дошел до апартаментов Атто, оказалось, он уже ждал меня с докладом. – Где ты был все это время? – набросился он на меня, пока Бюва натирал ему мазью раненую руку. Так я поведал ему обо всех событиях, участником которых стал, включая те, что произошли до побега Цезаря Августа: о разговоре с садовником, отчаянии Албани, после того как попугай украл записку, и, наконец, о том, что новая его ссора с Атто поможет Албани избавиться от неприятной репутации ярого поклонника французов. Аббат Мела ни принял три новости соответственно с волнением, усмешкой и задумчивым молчанием. – Итак, садовник хочет поговорить с нами. Хорошо, замечательно. Но он сказал, что я должен быть хорошо проинформирован, прежде чем отправлюсь на встречу с ним: что это означает? Он случайно не сторонник немецкого императора? – Синьор аббат, – вмешался Бюва, – если позволите, у меня возникла одна идея. – Да? – А что, если тетракион, о котором говорил Ромаули, был цветком на гербе какой-то семьи? На аристократических гербах полно всяких зверей с чудными названиями: драконов, грифов, сирен, единорогов, – и кто знает, как там обстоит с растениями? – Точно, за этим названием вполне может скрываться семейный герб! – Атто подскочил от волнения, испачкав мазью фрак бедного секретаря. – Тем более что садовник отлично разбирается в цветах! Вы гений, Бюва. Возможно, Ромаули надеется, что к нашей встрече я буду хорошо проинформирован, поскольку он не хочет называть имен, и ожидает, что, перед тем как говорить с ним, я уже буду знать, какой дворянский род имеет в своем гербе тетракион. – Тогда, значит, наследник испанского трона должен быть из этого рода, как и намекала горничная посла Узеды? – спросил я. – А если все так, какое отношение к этому имеет то, что Капитор написала на чаше название цветка из семейного герба? – Не имею ни малейшего представления, мой мальчик, – ответил Мелани, – но Ромаули, кажется, намерен передать нам полезную информацию. Атто немедленно отправил своего секретаря поискать в официальных геральдических реестрах и описаниях гербов предполагаемую эмблему с цветком, который называется тетракион. – Вы можете начать с местной библиотеки, на вилле Спада. Несомненно, там обязательно найдутся не только очень ценные гравюры Паскуали Алидоси, но и работы Долфи, которые считаются более оригинальными. А уж затем, Бюва, вы займетесь другими делами. – А ваш ответ на письмо мадам коннетабль Колонны? – спросил секретарь. – Позже. После того как Бюва ушел, не очень воодушевленный перспективой продолжить работу (обычно он проводил ее рядом с бутылкой прекрасного вина), мне захотелось спросить Атто, чем же занимался его секретарь, которого почти два дня вообще не было видно. Однако аббат заговорил первым: – А сейчас мы перейдем от растений к животным. Так значит, говоришь, что Албани находится в затруднительном положении из-за твоего попугая? – сказал он, намекая на вторую мою новость, о которой я недавно сообщил ему. – Ха-ха, тем хуже для него. – А что вы скажете о тех слухах, которые ходят сейчас о нем? Он молча и серьезно посмотрел на меня… – Мы должны держать ухо востро, ничего не выпуская из виду, – наконец изрек он. Я кивнул ошеломленный, ибо не понял, что именно он имел в виду под этим широко распространенным выражением, которое говорило обо всем и ни о чем, как и большая часть подобных утверждений. Он не хотел комментировать новую политическую позицию Албани. Я подумал, что, возможно, он и сам не знает, к чему это может привести, и поэтому не желал признаваться в этом. Но, конечно же, я по своей наивности ошибался.11 июля лета Господня 1700, вечер пятый
Аббат Мелани должен был еще объяснить мне одну вещь. Кто такая эта графиня С, таинственная отравительница, о которой мадам коннетабль с такой необычной сдержанностью говорила в своем письме? Возможно, речь идет о графине Суассонской, которая, по словам Атто, посеяла раздор между Марией и молодым королем? И кем была эта особа? Увлеченный потоком слов, Атто не ответил мне, когда я спросил его об этом. Пока Атто наслаждался ночным банкетом в обществе других августейших гостей виллы, я снова стал копаться в его грязном нижнем белье, где была спрятана тайная переписка аббата с мадам коннетабль. Однако в отличие от двух предыдущих раз я не нашел ни письма от Марии Манчини, ни ответа, который аббат недавно написал ей, а, насколько я мог знать, он еще не отослал его. Где же они были? Тем временем мое внимание вновь привлекла стопка писем с докладами, и я попытался вспомнить, что именно читал в последний раз о несчастном испанском короле Карле II. Возможно, именно здесь я найду новые упоминания о графине С. и в конце концов пойму, имела ли она какое-то отношение к жизни аббата Мелани, и если да, то какое. Я открыл отчет мадам коннетабль, на уголке которого Атто написал цифру два.«Наблюдения по вопросу об испанском деле
В Мадриде находят лишь одно объяснение жалкого состояния католического короля, а также того обстоятельства, что у него нет наследника: колдовство. Разговоры об этом ходят давно, и два года назад испанский король наконец лично обратился к могущественному великому инквизитору Томасу Рокаберти. Великий инквизитор обсудил это с духовным отцом его величества, доминиканцем Фроилян Диасом, и передал дело другому доминиканцу, Антонио Альваресу де Аргюэллесу, скромному духовному наставнику отдаленного монастыря в Астурии, и к тому же еще и отличному экзорцисту.Здесь отчет мадам коннетабль заканчивался, дополняя и завершая печальный портрет несчастного католического короля. Я вновь начал искать два последних письма, которые аббат, очевидно, спрятал в прежнем месте. У меня возник вопрос, почему он это сделал? Неужели начал подозревать о моем тайном вторжении?
Говорят, что, получив письмо от Рокаберти, Аргюэллес чуть не лишился чувств. Великий инквизитор очень подрос. но описал ситуацию и попросил наставника изгнать беса чтобы узнать, какое именно сатанинское колдовство было наслано на правителя. Аргюэллес не стал долго думать. Он позвал в капеллу одни юную монахиню, с которой когда-то провел сеанс экзорцизма, изгнав из нее дьявола, приказал ей положить руку на алтарь и затем произнес тайные заклинания. Вскоре устами монахини заговорил злой дух. Голос сообщил, что король Карл в возрасте четырнадцати лет стал жертвой черной магии, выпив заколдованный напиток. Все это было сделано для того, чтобы ad destruendam materiam generationis in Rege et ad eum incapacem ponendum ad regnurri administrandum, то есть чтобы король стал бесплодным и неспособным править государством. Аргюэллес спросил тогда, кто сотворил это колдовство. И устами юной монахини злой дух снова ответил, что напиток был приготовлен женщиной по имени Касильда. Она сделала эту губительную жидкость из костей казненного преступника, затем подмешала ее в чашку шоколада, которая и была подана королю. Однако существует возможность излечить этот дьявольский недуг: испанский король должен каждый день натощак выпивать по полчетверти литра освященного масла. Сразу же приступили к излечению. Однако как только Карл в первый раз выпил глоток этого масла, у него началась такая ужасная рвота, что присутствовавшая в покоях короля толпа священников, экзорцистов и врачей стала опасаться самого плохого исхода. Поэтому впредь решили ограничиться наружным применением, намазывая маслом голову, грудь, плечи и ноги, сопровождая процедуру чтением всевозможных литаний и заклинаний.
Однако почти год назад Рокаберти внезапно умер. Естественно, все в страхе подумали, что это была месть сатаны. Фроиляну Диасу, духовному отцу короля, пришлось действовать в одиночку. Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны: от австрийского императора Леопольда, так как в столице его империи произошло невероятное событие. В церкви Святой Софии один молодой человек, одержимый злыми духами, признался экзорцисту, что католический король Испании является жертвой колдовства. Юноша или, скорее, духи, говорившие его устами, заявили даже, что орудие колдовства до сих пор находится в испанском королевском дворце. В Мадриде тут же началась бурная деятельность: толпы опытных шпиков рыскали по королевским покоям, отрывая доски от пола, просверливая дверные проемы, демонтируя перегородки, снимая мраморные плиты. В конце концов были найдены кукла и кучка свитков. Вне всякого сомнения, кукла – это фетиш, с помощью которого было совершено колдовство. Что же было написано в свитках, так никто и не разобрал. Австрийский император послал в Мадрид одного капуцина, известного и внушающего всеобщий страх экзорциста, чтобы тот освободил покои короля от влияния дьявола. Тем временем положение все больше осложнялось: не проходило и дня без новых слухов о том, что раскрыто еще одно колдовство. Ситуация грозила выйти из-под контроля. Однажды во дворец ворвалась сумасшедшая женщина, и в царившей тогда мрачной атмосфере никто не осмелился арестовать ее из боязни, что она может быть посланницей дьявола. Эта сумасшедшая прорвалась сквозь кольцо охранников и проникла даже в королевские покои, где начала кричать о том, что король стал жертвой черной магии, а колдовство напустили на него с помощью коробочки с нюхательным табаком и сделала это его супруга.
Этому разоблачению поверили многие, ибо у второй жены короля, Марианны Нойбургской, дурной характер, который иногда толкает ее на поступки, сравнимые лишь с поведением одержимой* Так, если Карл II отказывает ей в какой-нибудь мелочи она заявляет ему, что на самом деле выпрашивает милость для того, кто обладает злым взглядом (а король панически боится его), и этот таинственный провозвестник несчастья в случае отказа начнет мстить. При этом он не будет посылать Карлу смерть или болезнь, а сделает так, что тот растворится в пустоте, словно увядший цветок. В результате, дрожа от страха, католический король каждый раз уступает своей жене. Дабы пресечь распространение слухов о колдовстве и экзорцизме, королева решила выступить против предполагаемого виновника всего этого смятения, бедного Фроиляна Диаса, который сразу же был арестован. Ему удалось бежать в Рим, где, однако, его снова арестовали и отвезли назад в Испанию. В настоящее время, в святой год, в Мадриде каждый день появляются одержимые, колдуньи и духовидцы. Гонимые кошмарами, они кричат, рвут на себе волосы или катаются по земле перед испуганным народом и на всех площадях города распространяют слухи о колдовских историях в королевской семье. Складывается впечатление, что ничто не может защитить католического короля и его супругу, а также и честь империи от клеветнических атак одержимых. Измученный и вконец запутавшийся от этого дьявольского шествия, король обуреваем чувством вины и стыда, он погружен в глубокую печаль. Все чаще король отправляется в крипту[1340] Эскориаля и приказывает открывать гробы своих предшественников, чтобы посмотреть им в лицо, совершенно забывая о том, что тем самым обрекает королевский прах на быстрое разложение. Когда же перед ним раскрывают гроб его первой жены Марии Луизы Орлеанской, он в бессильном отчаянии обнимает труп и хочет забрать с собой, не видя того, что тот распадается под его руками. Его приходится силой уводить из крипты. В слезах, он все время повторяет имя Марии Луизы и восклицает, что скоро они встретятся на небесах. Испанский король – прямой потомок династии Габсбургов, достойный наследник Иоанны Безумной, которая никогда не разлучалась с гробом своего мужа Филиппа Прекрасного. Кроме того, он наследник Карла V, который, после того как отрекся от престола и удалился в монастырь, закутался в простыню, лег в гроб и приказал провести панихиду по самому себе. Филипп II спал рядом с собственным гробом, на крышке которого над короной Испании красовался череп. Филиппа II, так же как и его сына, постоянно обнаруживали в крипте Эскориаля: каждую ночь он спал в новой гробовой нише.
Королева Марианна тоже в отчаянии. Однако для нее есть один выход: забеременеть и родить наследника. Если монархия сможет рассчитывать на появление наследника, то мрачную пелену будущего наконец разорвет лучик надежды. Поэтому вот уже несколько лет королева проходит специальное обучение у одного монаха мальтийского ордена, который имеет привилегию свободного входа в покои ее королевского величества. На самом деле непонятно, как эти письменные упражнения могут помочь в лечении бесплодия. Однако до нас дошел слух что однажды монах в экстатическом пылу подпрыгнул во время молитвы так высоко, что королева (лежавшая на кровати под одеялами) страшно испугалась и соскочила с ложа. Необъяснимое обстоятельство вызвало такое волнение, что монах мальтийского ордена был немедленно удален со двора. Некоторые даже высказывали подозрение, будто королева в своем неумолимом стремлении забеременеть принудила свое тело к таким действиям, которые могли стать следствием лишь безудержного сладострастия. К сожалению, все возможно. Королеве приходится справляться с тем печальным положением, в котором она оказалась. Ее сердце, и без того отягощенное многолетними разочарованиями супружеской жизни, ко всему прочему угнетено жуткой атмосферой, которая царит во всем дворе. Марианна борется за понимание; известно, что она посылает своим немецким друзьям письма с отчаянными просьбами признать что некогда самая могущественная и внушающая страх империя, которую сегодня все жалеют и над которой все смеются, погружается в безумие. Но все ее старания тщетны. Печаль отравляет ее мысли и делает их врагами написанных слов. Говорят, она часто доверяется в письмах именно ландграфу фон Гессену. Но ландграф медлит с ответом: предполагают, что письма королевы – просто бессмысленная путаница, плод расстроенного сознания, глаголы и существительные там испуганно бродят, подобно одержимым или буйно помешанным, которые шатаются по черным ночным улицам Мадрида».
Я порылся немного в бумагах Бюва: ничего. Затем поискал в его одежде и обнаружил в кармане брюк несколько странных неаккуратно сложенных листиков, каждый из них был исписан какой-то буквой. На одном листе были прописные E, на другом – О, на третьем – Y, на четвертом – L и, наконец, пятый листик был полностью исписан буквой R. Я с удивлением повертел листок в руках, они были похожи на упражнения по правописанию и каллиграфии. Но почерк здесь никак нельзя было назвать красивым: казалось, будто написаны они с большим трудом. Я захихикал: все это было похоже на упражнения, которые секретарь Мелани заставлял себя выполнять, чтобы прогнать из головы винные пары, прежде чем приступить к своим обязанностям. В принципе, в эти праздничные дни нередко можно было встретить вдрызг пьяными не только благородных гостей, но и их сопровождающих. Вскоре, однако, я нашел во фраке оба письма, которые искал, и позабыл об этих странных листиках. Я успокоился: возможно, аббат Мелани просто передал их Бюва, чтобы тот сделал копию ответа мадам коннетабль для своего архива. Я решил сразу же прочитать. Но вместо ожидаемой ясности прочтенное письмо мадам запутало меня еще больше.
«Мой дорогой друг, высокая температура, измучившая меня, не хочет опускаться, и мне бесконечно жаль, что по этой причине мой приезд на виллу откладывается. Хотя врач уверяет, что через пару дней я смогу наконец-то продолжить свое путешествие. Между тем здесь я получила свежие новости. Кажется, Карл II весьма опечаленным тоном обратился за содействием к самому Папе. Бедный католический король оказался в безвыходной ситуации: как я уже сообщала Вам, он попросил своего кузена Леопольда I прислать к нему из Вены своего младшего сына, пятнадцатилетнего эрцгерцога Карла. Испанскому королю очень хотелось познакомиться с ним у себя в Мадриде. По его приказу была даже снаряжена эскадра кораблей, и теперь она стоит в гавани города Кадиц, готовая оправиться за эрцгерцогом. Вне всяких сомнений, испанский король пожелал сделать его своим наследником. Однако, как Вы хороша знаете, на его пути стоит его христианнейшее величество французский король: едва он узнал об этом, как тут же сообщил испанскому королю через своего посла Харкоурта, что намерен рассматривать такое решение как формальное нарушение мирного договора и, дабы придать вес своим словам, тут же велел снарядить флот в Тулоне, гораздо более сильный, чем испанский, и привести его в полную готовность к выходу в море для атаки корабля юного кадета. Леопольд не решился подвергать сына такой опасности На это испанский король предложил отправить Карла через испанские области Италии. Но Леопольд засомневался: после многолетних войн с турками на востоке империя больше не могла высасывать последние соки из своих подчиненных чтобы заставлять защищать страну, и при этом быть готовой к войне с королем Франции. К тому же его христианнейшее величество французский король решил, что наступил момент совершить смелый шаг: как Вы знаете, для того чтобы еще больше прижать испанцев, месяц назад он сделал официальным тайное соглашение о разделе Испании, которое он заключил приблизительно два года назад с Голландией и Англией. Узнав об этой новости, королевская пара в ужасе срочно вернулась из Эскориаля в Мадрид. Королева в приступе ярости разбила все в своей комнате, и даже мне не удалось успокоить ее. Во дворе царит смятение: Совет грандов в страхе перед Францией готов принять внука христианнейшего величества французского короля как наследника, только чтобы избежать вторжения французов. Испанский король незамедлительно написал своему кузену Леопольду в Вену письмо с благодарностью за то, что тот не поддержал соглашения о разделении Испании, и попросил не делать этого и в будущем. Простите, если сообщаю о фактах, которые Вы уже знаете, но мне хотелось еще раз заверить Вас в том, что ситуация крайне серьезная. Если Его Святейшеству Иннокентию XII не удастся образумить его величество французского короля, то это будет означать нашу общую гибель. Однако в состоянии ли еще будет Его Святейшество выполнить такую щепетильную и трудную обязанность? Мы все знаем, что он очень болен и что конклав уже в его доме. а слышала даже, что он не хочет вмешиваться в это дело. Что Вы знаете об этом? Кроме того, кажется, он не совсем при ясном рассудке, так как на каждый вопрос отвечает лишь следующее: «Что же мы можем здесь еще сделать?» В моменты прояснения рассудка он говорит: «Нас лишили нашего достоинства, которое изначально заслуживает представитель Христа, и на нас не обращают внимания». Будет чудовищно, если кто-то действительно осмелился использовать болезнь Его Святейшества, чтобы оказать на него давление.В голове у меня все смешалось, все догадки и предположения. Я попытался выстроить последовательную цепочку событий. Мадам коннетабль снова пишет о посредничестве. Испанский король попросил Папу о помощи в главном деле, касающемся назначения эрцгерцога Карла наследником престола, а также в сопровождении его из Вены в Мадрид, не давая при этом повода для начала новой войны. Однако христианнейший король сразу же пригрозил потопить корабль эрцгерцога. Я точно помнил, как аббат Мелани в своем первом письме написал, что именно Папа должен посоветовать испанскому королю, кого назначать наследником: герцога Анжуйского, внука Французского короля, или эрцгерцога Карла, младшего сына императора Австрии. Однако это было совсем не тем посредничеством, о котором писала мадам. Кроме того, в конце письма она не удержалась и, обращаясь к нему, с завуалированным упреком как обычно называя именем Сильвио, осудила за то давление которое собираются оказывать на Папу. Однако зачем, ради всего святого, мадам коннетабль должна сердиться на Атто? Неужели этот старый кастрат до сих пор обладает таким большим влиянием при дворе Папы? Наконец мадам ответила на последнее письмо Атто, в котором тот с тысячью поклонами напоминает ей о своей вечной платонической любви. И здесь же появилась еще одна тайна: в ответном письме Мария назвала себя именем Доринда. Доринда: где же я слышал уже это имя? В отличие от Сильвио имя Доринда было очень редким. И все же мне казалось, что я уже слышал его. Но когда? Слишком много вопросов. Я выпрямился и с пронзившим меня любопытством обратился к ответному письму Мелани. Однако все его начало состояло из мучительно-жалостливых причитаний по поводу опоздания мадам коннетабль. За ними последовало подробное описание свадьбы Марии Пульхерии Роччи и сумасшедшего Спады, где аббат не поскупился на самые непочтительные комментарии относительно внешности несчастной невесты. Затем я наконец дошел до того, что искал.
Мой дорогой Сильвио, я действительно не осуждаю тебя, за то что ты намереваешься почитать богов. Но мои верные уста сейчас говорят, что ты нарушишь сон священника. Ах, Сильвио, что происходит с тобой, твоя вежливость улетучилась? Но так Сильвио может стать рыцарем Доринды и, следовательно, так же оберегая, неотступно, следовать за ней. И я только за, пока ей это нравится».
«Обязательно постарайтесь побыстрее выздороветь, прошу Вас! Не утомляйте себя ненужными заботами. Решение его величества короля Испании Карла II из Габсбурговобратиться за помощью к Папе Римскому было очень мудрым, так как то, в какие руки должно быть вверено будущее его прекрасной империи, объединившей целых двадцать королевств, без сомнения, требует божественного совета. И не бойтесь: Иннокентий XII – пигнателли, то есть происходит из семьи верноподданных Неаполитанского королевства, что в центре Испании. Он не отвергнет просьбы католического короля, будьте уверены. Возможно, для принятия решения ему потребуется время, но совет будет хорошо продуманным и, несомненно, основанным лишь на любви к испанской короне. Здесь мы все убеждены в том, что король Испании должен быть безупречен, что бы ни решил Папа. И никто в Европе не решится противиться решению святейшего отца. Ибо даже сильные мира сего ничего не могут поделать против молнии на небе. Рука Бога всемогущего, защитившая учеников Петра после слов qui vos spernit, me spernit, принесет также и решению Его Святейшества справедливую победу».Теперь я больше уже ничего не понимал: складывалось впечатление, будто аббат Мелани и мадам коннетабль говорили на двух разных языках, и при этом их абсолютно не волновало то, что они не понимают друг друга. Разве католический король уже не принял решение в пользу эрцгерцога и попросил Папу лишь о помощи, как сказала мадам? Или же он не знал, какого наследника ему выбрать, и доверил сделать это Папе? Письмо Мелани заканчивалось следующими словами:
«И Вы, моя добрейшая госпожа, не беспокойтесь о здоровье Папы: он окружен самыми лучшими душами, которые заботятся о его самочувствии и его служебных обязанностях, однако при этом они не осмеливаются даже притронуться к епископскому жезлу, который Его Святейшество по святому праву еще крепко держит в руке. В первую очередь это касается государственного секретаря кардинала Фабрицио Спады, которого Вы так цените и который ожидает Вас с большим нетерпением здесь, в своем роскошном имении, вилле на Джианиколо. Моя дорогая подруга, с этого холма можно увидеть весь Рим, и не только Рим, но и немного больше. Пожалуйста, не задерживайтесь. Итак, до скорой встречи через два дня?»И в самом конце письма:
«Пусть будет так, Доринда. Что ты еще хочешь от нее? Она больше ничего не сможет дать тебе. Но покажи себя, Доринда, высочайшая небесная богиня, покажи себя сейчас для Сильвио с бесконечной милостью, а не с гневом».Его любовь к ней больше не имеет никаких надежд на отклик. Тем не менее, все распоряжения, которые мадам отдает ему, называя Сильвио, аббат Мелани принял не так беспрекословно: в своих сладких речах он просит ее быть милосердной и не гневаться больше. Должен признаться, что в делах любви аббат Мелани и правда обладал не таким уж плохим поэтическим даром. Я подумал еще немного над именем Доринда, однако так и не вспомнил, где я мог его слышать. Но вскоре я вернулся к более серьезным размышлениям. При мне Атто до сих пор ни словом не обмолвился об Испанском наследстве, в то время как в письмах к мадам коннетабль он только об этом и говорил (не считая, конечно, уверений в любви к ней). Я заметил это уже в первый день его пребывания на вилле. Но с тех пор я не продвинулся в своих расследованиях ни на шаг. Мне не удалось узнать еще что-нибудь о графине Суассонской, я предполагал только, что она и таинственная отравительница, графиня С., – одно и то же лицо. Я опечаленно покачал головой: туман вокруг загадок никак не хотел рассеиваться. И только одно я знал точно: каким-то образом кардинал Спада, мой господин, также замешан в этом деле. Как мадам коннетабль, так и Мелани в своих докладах упоминают о том, что в ответ на прошения испанского короля к Иннокентию XII государственный секретарь отправился к испанскому послу и по причине крайне плохого состояния здоровья Папы кардинал лично выполнил его служебные обязанности в этом деле. Поэтому я почувствовал, что тем более должен наконец разобраться во всех этих тайнах. И первым делом я решил как можно скорее узнать у Атто о графине Суассонской.
* * *
Показания Рыжего были достаточно точными. Правда, это место совсем нельзя было назвать гостеприимным, однако, следуя указаниям, которые мы получили, надо было отправиться туда ночью, чтобы нас никто не увидел: из осторожности, ведь мы хотели, чтобы наше появление у таинственного Тойча стало неожиданностью. На самом деле я предпочел бы указания на отдаленное убежище в сельской местности, среди садов и лесов, вдали от транспорта и людей. Но вместо этого Рыжий послал нас прямо в сердце Святого города. – Эй, но сам я там никогда не был! – предупредил он нас. – Просто знаю от друзей из моей компании, что он сидит там, внизу.Путь был не слишком длинным: от виллы Спада мы отправились на площадь Монте и в конце концов оказались перед огромными стенами папского дворца. Отсюда мы пошли направо и затем повернули на виа Сан-Витале. По левую сторону возвышалась башня иезуитской церкви Сан-Витале алла Балле Квиринале. Ее прекрасный стройный силуэт напомнил мне церквушку, которую в особенно ясные дни можно увидеть из моего небольшого надела, и я помолился Господу, чтобы он сохранил мне жизнь и здоровье не только ради меня самого, но и ради моей сладкой Клоридии. В своей молитве я попросил также и Клоридию, принимая во внимание всевозможные опасности, – и те, что я пережил в этот день, и те, что мне еще предстоит пережить, помолиться за спасение не только моей души, но и моего тела. После этого мы наконец дошли до виа Феличе, которая гармоничной последовательностью подъемов и спусков соединяла огромное строгое здание церкви Санта-Марии Маггиоре и пологие холмы Пинчио. Кватро Фонтане осталось позади. Мы повернули направо. Немного не доходя до церкви монахов ордена отшельника Павла I и Святого Норберта Премонстратенского, всего за несколько шагов до церкви Санта-Марии делла Санита де Бенфрателли, с правой стороны открылся маленький безымянный переулок. В этот переулок мы и свернули, прошли квартал низких домов справа и один небольшой дом слева. Вскоре переулок описал дугу и превратился в тропинку, ведущую в нетронутые луга. Как раз в этом месте, следуя указаниям Рыжего, мы сошли с дороги и повернули направо. Здесь дорога тянулась вверх» через холм, похожий на спину сгорбленного великана. Продвигаясь вдоль этого длинного холма, мы заметили, что по правую сторону от нас, внизу в холме, открылся лаз, затем более широкий проем и еще несколько больших гротов. Это был целый ряд искусственных пещер, сначала выложенных камнем, а затем покрытых землей, заросших кустами вьющимися растениями, грибами, лишайниками и плесенью. Пещеры шли двумя параллельными рядами: один более низкий на уровне которого мы и находились. Второй состоял из больших пещер, которые шли над первым рядом и были немного сдвинуты назад, так что перед ними образовалось что-то вроде коридора шириной несколько метров. С правого края над вторым уровнем просматривался третий, а над ним возвышался маленький загородный дом с башенкой, за которым виднелся монастырь сестер Святого Франциска у терм. Название монастыря не было случайным. – Кто бы подумал, термы Агриппины, – удивился Атто. О его хорошем знании античности я знал еще с нашей первой встречи. – Никогда не подумал бы, что буду искать грязных черретанов в таком выдающемся месте, как это. Он пробирался через эти старинные руины Римской империи почти на цыпочках, словно боялся споткнуться и повредить камни, которым сотни лет. Атто обеспокоенно и несколько рассеянно осматривался вокруг. Семнадцать лет назад я был вместе с ним, когда он, полный восхищения, обнаружил подземный лабиринт, и я знал, что аббат издал путеводитель по Риму для любителей античных красот. И хотя с тех пор прошло много времени, очевидно, он не оставил своего старого пристрастия. – Ну, мы пришли, – сказал Сфасчиамонти и указал пальцем на место перед нами. – Это здесь. В конце пещер, перед последним участком монастырских стен, темным пятном возвышалась башня. Это была один из многих фиалов,[1341] которые когда-то давно сделали Рим Urbs turrita – Вечным городом, с многочисленными башенками, сторожевыми башнями и зубчатыми стенами. Все зги древние сооружения придавали Риму воинственный вид. Башня была не очень высокой: она казалась разрушенной, как это часто бывало после нашествий варваров, или же его верхушка сгорела в пожаре. – Вас никто не будет останавливать, – таинственно добавил Рыжий, давая указания, как найти убежище Тойча. – Вы сами решите, нужно ли идти дальше. Первое замечание оказалось верным, это стало понятно, когда мы подошли к башне. Мы обошли ее вокруг и проверили каждую сторону. Все окна были закрыты. Рядом с башней мы нашли домик с дверью, ведущей в башню. Дверь была деревянной, в плохом состоянии. Мы толкнули ее, и она заскрипела – дверь оказалась не запертой.
Сразу за входом нас встретило еще одно большое темное вонючее помещение. Похоже, крысы и бродяги уже давно облюбовали себе эту жалкую дыру для справления естественных надобностей. В слабом свете фонаря можно было лишь с большим трудом увидеть и обойти огромную паутину, которая оплела весь дом, и валявшийся на полу отвратительный хлам. Неожиданно я зацепился носком туфли за массивный предмет, прочно прикрученный к полу. Я потер ушибленный палец. Здесь была ступенька. – Синьор Атто, лестница, – сообщил я о своей находке. Я осветил фонарем нужное место. Лестница в правой стене вела наверх, к небольшой двери.
И в этот раз дверь не была закрыта ни на замок, ни даже на задвижку. – Рыжий был прав, – заметил Сфасчиамонти. – Здесь нет никаких защитных приспособлений, никаких препятствий, которые обычно возникают на пути к тайнику. Кто бы ни прятался за этими дверями и лестницами, очевидно, что он совершенно не боится незваных гостей. Очень интересно. За второй дверью нас ждала еще одна лестница. Только эта была очень крутая. Мелани пришлось даже несколько раз остановиться, чтобы перевести дыхание. – Когда же мы наконец придем? – уныло спросил он и, посветив фонарем, попытался измерить путь, который мы уже прошли. Мы поднимаемся на башню, – ответил я. – Это я уже и сам понял, – язвительно заметил Атто. – Но можешь ли ты мне сказать, где, черт возьми, здесь должно быть укрытие Тойча? В дымовой трубе? – Наверное, Тойч – это аист, – пошутил Сфасчиамонти и приглушенно засмеялся.
Я мысленно вернулся назад, к тому времени, когда мы с Атто ночи напролет осматривали в темном чреве города ниши гробниц и туннели, не боясь никаких опасностей и презирая все засады. Теперь мы повернули назад, в мрачный коридор, который вел нас не в недра подземного царства, а, наоборот, в небо. В слабом свете фонаря мы молча шли вперед несколько минут, пока не попали в маленькое четырехугольное помещение, похожее на переднюю. Пол был покрыт деревянными досками. Перед нами на несколько ступенек выше была еще одна дверь, и, судя по всему, за ней мы попадали на очередной уровень. Все было настолько подозрительным, что мы остановились, нерешительно поглядывая друг на друга. – Тысяча чертей, мне это совсем не нравится, – вырвалось у Сфасчиамонти. – Мне тоже, – согласился с ним Мелани. – Если мы поднимемся туда, то тогда быстро отступить назад будет абсолютно невозможно. – Будь у этой башни хотя бы одно маленькое окошко, можно было бы выглянуть и узнать, как высоко мы поднялись, – сказал я. – Глупости, снаружи все равно черная ночь, – возразил мне Атто. – Что же делать? – Мы пойдем дальше. – Атто зашел в переднюю. – Странно, здесь такой запах, похожий на… Он замолчал. Все произошло так быстро, что мы вряд ли смогли бы повлиять на события. Пока мы следовали за Мелани, мы чувствовали, как деревянные доски под нашими ногами слегка дрожат, затем они стали медленно опускаться. Мы вздрогнули, внезапно поняв, какая опасность нас подстерегла. – Назад! Это ловуш… – закричал Сфасчиамонти. Но уже было поздно. Позади нас с громким скрипом упала обитая железом деревянная массивная дверь, пробив в полу огромную дыру и отрезав нас этим от лестницы, по которой мы сюда поднялись. На счастье, фонарь не погас, однако то, что позволял увидеть свет, лучше было бы нам не видеть. Внезапно вокруг заплясали тысячи адских огоньков и осветили нас таким зловещим светом, что мы стали похожи на грешников в аду. Я не сомневался, что при первом же прикосновении к коже они причинят ужасную боль. – Господь всемогущий, спаси нас! Мы попали в ад! – закричал я в паническом ужасе. Атто ничего не говорил: он пытался удерживать эти демонические языки пламени подальше от лица, отмахиваясь от них как от мух, только гораздо быстрее и отчаяннее. – Проклятие, мои ноги! – вскрикнул Сфасчиамонти. В тот же момент я тоже почувствовал это: сквозь ботинки начал проникать неприятный жар. Мне пришлось поднять сначала одну ногу, затем другую, снова первую – стоять на полу становилось просто невыносимо. Атто и Сфасчиамонти также подпрыгивали как сумасшедшие, размахивая руками, отгоняя огоньки и напрасно пытаясь как можно меньше касаться пола. – Бежим отсюда! – заревел Атто и толкнул Сфасчиамонти на дверь, которая показалась нам раньше подозрительной, а теперь стала нашим единственным спасением. К счастью, она тоже была не заперта, как и все предыдущие На этот раз перед нами оказался целый ряд ступенек из ржавого железа. Сбир первым прошел через лаз. Там было так узко что пришлось идти, чуть ли не касаясь носом колен. Мы с трудом продвигались вперед, следуя вплотную друг за другом, ощущая жар под ногами, в то время как коварное пламя уже подбиралось к нише. Я был зажат между мощным Сфасчиамонти и худым Атто и, дрожа от страха, молился дорогому Господу, чтобы тот сжалился над моей душой. – Неееет! Этот отчаянный крик издал Сфасчиамонти, перед тем как стремительно исчезнуть в бездне. Я почувствовал, как он схватил меня за правую руку и с непреодолимой силой увлек за собой. Тут же внутри меня сработал невидимый механизм природы, управляющий действиями человека в моменты подобного потрясения, он приказал мне в свою очередь схватиться за руку Атто, вследствие чего тот полетел в пропасть за мной. Так мы, вися гроздью один на другом, влекомые непреодолимой силой, словно жалкие комки мяса и костей, начали головокружительное, казавшееся бесконечным падение. «…Et libera nos a malo»,[1342] – нашел еще я в себе силы подумать, хотя от одного вида зловещей бездны у меня перехватило дыхание.
* * *
Падение, казалось, длилось целую вечность. Затем мы свалились в кучу, как если бы Люцифер скосил нас во время сбора урожая грешников и выкинул к судьям ада. Подо мной неподвижно лежал Сфасчиамонти, скрюченный от ужаса и почти раздавленный грузом двух тел, моего и Атто. Мелани был оглушен, судя по всему, ему было очень больно, он стонал и еле двигался. С большим трудом я выбрался из этой свалки и, слава Господи, смог сесть: пол больше не горел. Резкий, какой; то знакомый, но в таких трагических обстоятельствах зловещий запах въелся в одежду и в кожу. Постепенно я начал более осознанно воспринимать окружающее меня пространство, но в моей душе еще жил страх. Конечно же, фонарь разбился. И тем не менее вокруг нас разливалось мягкое и таинственное светло-голубое свечение, которое было повсюду, подобно тому как светлячки освещают с после захода солнца. Остался ли я целым и невредимым? Я посмотрел на свои руки и задрожал от ужаса. От них исходил свет, нет, они сами были из света. Я больше не был человеком. Опаловый блеск исходил из каждой точки моего тела, насколько я смог установить, проверив живот и ноги. Мои смертные останки были где-то в другом месте. От них осталась лишь бедная, потерянная душа, заблудившееся в потустороннем мире мое отражение, не более чем просвечивающаяся бестелесная субстанция. В это мгновение Сфасчиамонти приподнялся. Его взгляд упал на меня. – Ты… ты – мертв! – прошептал он в страхе, обращаясь к тому, что от меня осталось. Он смотрел на меня безумными, выпученными глазами. Потом оглядел себя, свои руки – он тоже излучал голубоватый свет, который был везде, внутри и снаружи нас. – Значит, я тоже… мы все… о Господи, – всхлипнул он. Затем последовало видение. Существо из мира теней в жуткой черной рясе (лицо было скрыто под большим капюшоном) взирало на нас из. ниши в стене, которая была закрыта железной решеткой. Атто поднялся с пола. Все трое мы бесконечно долго балансировали между дыханием и удушьем, отчаянием и надеждой, жизнью и смертью. Около силуэта в нише появилось еще несколько существ в рясах с капюшонами, из чего можно было заключить, что на самом деле это была не ниша, а узкий коридор, а существа – злые посланники ада, которые точно набросятся на нас, чтобы забрать с собой. Решетка поднялась. Теперь нас ничто не отделяло от демонов. Их предводитель, который возник первым, сделал шаг вперед. Мы невольно отшатнулись. Даже Сфасчиамонти или, лучше сказать, голубое светящееся привидение, занявшее его место, дрожало как осиновый лист. Все произошло в течение нескольких секунд. Сатанинское существо достало из-под складок рясы длинный предмет ярко-желтого цвета. Это было горящее копье, выкованное в пекле белого адского огня. Он направил его на нас, будто проклиная. Я уж подумал было, что из этого копья вырвутся языки пламени, дабы уничтожить в нас оставшиеся смертные атомы и превратить (если наши светящиеся оболочки вообще еще были материей) в бесформенную, блуждающую плазму. Он направил сверкающее копье на меня как знак приговора. «Что же я такого плохого совершил, – в отчаянии спросил я себя, – что даже не удостоился чистилища, а сразу заслужил приговор последней инстанции – этот ужасный ад?» Четыре беса набросились на меня, жестко прижали к земле, и я лежал, словно пригвожденный их когтистыми безжалостными руками. Я не закричал: ужас сковал мне горло. «Да кто будет слушать жалобы проклятого?» – подумал я в приступе черного юмора. Их главарь подходил все ближе. Его лицо еще оставалось в тени, были видны только страшная, скрюченная рука (тоже светящаяся голубым фосфорическим светом), в которой он держал огненное копье. Я не знал, что в это время происходило с Атто и Сфасчиамонти, слышал только непонятный шум: наверное, их тоже повалили на землю. Ангел зла двинулся вперед, он был уже надо мной, нацелив острие копья мне прямо в лоб, в точку между глазами. Раскаленное копье пробьет кости (или их видение) силой огня, затем вонзится в мой мозг, размещает серое вещество и зажарит его. – Нет, – начал умолять я то ли мысленно, то ли слабым голосом, который еще оставался во мне после земной жизни, – точно я не знал. Мне показалось, что в глубине, под капюшоном, в кромешной тьме я увидел подлую улыбку (наверняка благодаря силе дьявола и сопровождающих его бесов) – он наслаждался моим ужасом и скорым концом. Невероятный жар от копья жег мне глаза (они у меня еще были?), но от этого я ощущал животную жажду жизни. Острие раскаленного копья было всего на волосок от моего лба. Сейчас оно вонзится в мозг. Сейчас, менее чем через секунду. Да, время настало. Клоридия, мое сердце, мои сладкие девочки!.. О, мягкая прелюдия смерти: в этот момент я потерял сознание. Однако в последнее мгновение, до того как я лишился сознания, сердце и разум мои пульсировали в полном согласии. – как раз кстати, чтобы я смог услышать слова: – Остановитесь: рискованное упущение. – Чтоооо? Проклятый идиот, да я сделаю из вас всех котлету! Затем – сильный шум, произведенный множеством рук. – и выстрел.* * *
– Смелей, герой, вставай! Пощечина. Быстрая, сильная и неожиданная, словно ушат холодной воды на голову. Она вырвала меня из бесчувствия обморока. Теперь я услышал обращенный ко мне голос Атто: – Я… я не знаю… – пролепетал я, и от этих слов моя голова чуть не раскололась от боли. Я лежал на земле и кашлял, с трудом переводя дыхание. Пахло горелым, повсюду был дым. – Возвращайся к жизни, – торопил меня Атто. – Нам нужно уходить отсюда, пока мы не задохнулись. Однако сначала позволь мне представить тебе главного отравителя. Я думаю, ты удивишься, ведь ты уже знаешь его. Все еще дрожа, я выпрямился. Голубоватый свет больше не наполнял эту дьявольскую пещеру. Теперь все поблескивало желтым, красным и оранжевым: кто-то зажег факел, который и освещал пространство. Я посмотрел на свои руки: они уже не излучали таинственного фосфорического света. – Я снова зарядил, – послышался голос Сфасчиамонти. – Хорошо, – ответил Атто. Я вытаращил глаза от удивления. Все декорации помещения, в котором я уже прощался с жизнью, полностью изменились. Сфасчиамонти держал в правой руке копье, которым меня чуть не убили. Он направил его на группу демонов в рясах с капюшонами, робко жавшихся у стены. Причиной такого хорошего поведения был направленный на них заряженный пистолет Сфасчиамонти. Атто, напротив, держал в руке импровизированный факел из скрученных листов бумаги, вероятно зажженных от раскаленного копья. Этот «факел» и освещал узкое пространство, в котором мы находились. От копья исходили клубы удушающего дыма. Давай, презренный, выводи нас отсюда, – приказал Атто главарю демонов, закрывая нос платком, чтобы не вдыхать слишком много дыма. В этот момент я узнал вожака демонов. Грязный и слишком большой капюшон, воняющий нечистотами, похожие на когти пальцы рук… Капюшон немного съехал назад. И вот передо мной вновь оказалось лицо со сморщенной пергаментной кожей – жалкая мозаика увядших клочков, казалось, едва державшихся вместе, бесформенный нос, изъеденный временем, словно сгнившая морковка, глаза, злые и налитые кровью, несколько оставшихся еще зубов, уродливых и желто-коричневых, глубокие складки, словно борозды на вспаханном поле, обтянутый грязно-желтой кожей костлявый череп с уныло свисающими кое-где прядями седых волос. – Угонио! – воскликнул я.Здесь мне хотелось бы поведать вам о характере деятельности упомянутого человека и его спутников, вместе с которыми много лет назад волею судьбы мне пришлось пережить немало приключений. Угонио был мародером, грабившим святыни, то есть одним из тех странных личностей, которые все свое время проводили под землей, в катакомбах Рима, в поисках реликвий – останков первых христианских мучеников. Это были люди ночи, большую часть времени живущие под землей. Копаясь в земле, они очищали глиняные черепки от грязи и плесени и радовались, когда в конце такой изнурительной и кропотливой работы получали осколки какой-нибудь античной амфоры, маленькую монетку древнеримских времен, обломок кости… Обычно они продавали найденные реликвии (или даже кости святых, придумывая имя святого, которому они якобы принадлежали) за большие деньги, пользуясь легковерием людей или, скорее их непростительной доверчивостью. Осколки амфоры они выдавали за части кубка, из которого на Последней вечере ни сам Иисус Христос; маленькую монетку – за один из тридцати сребреников Иуды; кусок кости оказывался частью кости ключицы святого Иоанна. Ничто из того, что гробокопатели добывали под землей, не выбрасывалось: полусгнивший кусок дерева продавался за большие деньги как подлинная щепка от Святого креста, а перо мертвой птицы – как настоящее перо из крыла ангела. Тот факт, что они все время копались в земле, накапливая свои находки, создало им репутацию охотников за святыми мощами, и у них всегда было много клиентов, которым хотелось быть обманутыми. Со временем они смогли подкупом сделать дубликаты ключей к подвалам и подземным галереям половины города и таким образом получили доступ к самым тайным уголкам Рима. Несмотря на недостойную деятельность, грабители, как ни странно, были полны наивной и пылкой веры, почти фанатически набожны, что проявлялась самым неожиданным образом. Насколько я помнил, они просили не одного Папу разрешить им объединиться в братство, однако на их просьбы ответа до сих пор не последовало. Угонио был одним из них. Поскольку он родился в Вене, речь его была полна странных оборотов, разговаривал он с сильным акцентом, так что сложить его слова в понятную фразу было довольно затруднительно. Именно поэтому его наградили кличкой Тойч.
– Тойч… – удивленно проговорил я и посмотрел на Угонио. – Значит, это ты! – Я не признаю этого постыдного имени, я дистанцируюсь от него всей своей личностью, – запротестовал он. – Я родом из Виндобоны, но владею итальянским языком, как родным: – Ой, да замолчи ты, осел, – прервал его Атто, которому уже много лет назад довелось выслушивать, как хвастается Угонио, используя свои дикие выражения: – Мне становится плохо, когда я слышу, как ты говоришь. Значит, в святой год ты добился успеха: грабишь римских богомольцев и обманываешь их своими фальшивыми реликвиями, продавая кость от окорока как большую берцовую кость святого Каликстуса. Я слышал, ты стал большим человеком. А теперь ты продался Ламбергу, ведь так? Ах, что же я такое говорю, кем же ты куплен, – ведь ты настоящий патриот! В конце концов, ты – венец, а значит, верноподданный его императорского величества Леопольда I. Боже, кто бы мог подумать, что придется снова лицезреть твою противную рожу, – с гневом воскликнул Мелани и даже сплюнул на землю. Тем временем я смотрел на Угонио, и тысяча воспоминаний промелькнула в моей голове. Несомненно, подозрения аббата имели под собой основание: если пресловутый Тойч, который связался с черретанами, был родом из Вены, то, без сомнения, все они могли составить заговор против нас от имени империи. Тем не менее я был рад снова увидеть этого старого разбойника, с которым я пережил столько приключений! Я подозревал, что и аббата, несмотря на все его возмущение, эта встреча не могла не радовать. – Что ты можешь сказать мне о том ранении, которое я получил от черретана, твоего товарища? А может, он целился не в руку, а в грудь? Говори! – набросился на него Атто. – Я отрицаю, еще раз и еще раз все ваши абсурдные обвинения. Я не знал даже, что кто-то искалечил вам руку. Да это всего лишь небольшая ранка. – Значит, ты не хочешь сотрудничать с нами. Ты пожалеешь об этом. А теперь прочь отсюда, – вновь начал Атто. – Покажи нам дорогу. Сфасчиамонти, дай мне пистолет, а я передам тебе копье. Любой, кто сделает неверное движение, закончит жизнь с дыркой в животе. Люди в капюшонах, которых я в панике принял за бесов, один за другим исчезали в нише, из которой они появились. Мы последовали за ними, все время держа их под прицелом и угрожая копьем, не меньшей угрозой была и внушительная фигура Сфасчиамонти. Теперь мы снова шли навстречу неизвестности, на этот раз по узкому вонючему туннелю, который выводил нас из того места, которое мы сочли адской пропастью. – Но… мы же под землей! – удивленно воскликнул я, почувствовав странную влажность и узнав opus reticulatum, характерные кирпичные постройки античных стен. – Точно, – кивнул Сфасчиамонти. – А где же тогда башня куда мы поднимались по лестнице? – Мы находимся в боковом проходе терм Агриппины, – ответил аббат Мелани. – Кто знает, возможно, раньше это был коридор на втором этаже с окнами и балкончиками и люди наслаждались здесь хорошим воздухом. Остальное я объясню вам позже.
Тем временем стало абсолютно ясно, что подземные грабители фактически объединились с еще одной стаей гнусных людей – черретанами. И совсем не случайно, что в поисках знаменитого Тойча мы натолкнулись именно на них. Мы все еще брели по туннелю, который слабо освещал своим факелом Атто (он нашел на полу кусок ткани и обмотал ею факел), и тут Сфасчиамонти начал расспрашивать Угонио: – Почему вы называете себя Тойчем? И зачем приказали украсть манускрипт и реликвию аббата Мелани? – Это грязная и несправедливая ложь. Я абсолютно невиновен, клянусь в этом от сегодня до всегда, да, почти никогда, прекрасно. Сфасчиамонти помолчал секунду, озадаченный быстрой и противоречащей всем правилам грамматики фразой. – Он сказал, что это не так. Наверное, они называют его Тойчем, потому что он родился в Вене и немецкий – его родной язык, – пояснил я. Между тем мы добрались до лестницы в конце подземного коридора. Я все. еще находился под впечатлением недавних событий. Я был взбудоражен, ведь только что мне пришлось перейти в мир иной (по крайней мере, так мне показалось), а затем снова вернуться к жизни. Я совсем обессилел, у меня все болело от множества пинков, толчков и ударов, которые я умудрился получить. Моя одежда воняла чем-то мне незнакомым, и, кроме того, у меня было неприятное ощущение, будто мой зад смазан жиром. И, конечно нее, просто умирал от стыда: ведь я был единственным из всей компании, то упал в обморок от страха, да еще в такой решающий момент, тогда как Атто и Сфасчиамонти смогли справиться с ситуацией, Тем временем незамысловатый факел Атто начал гаснуть, а затем и вовсе потух. Нам пришлось пробираться вперед на ощупь, держась за стену, в кромешной темноте. Я дрожал от одной мысли о том, что в этом узком душном проходе может опять завязаться небольшое сражение с непредвиденными и, вероятнее всего кровавыми последствиями. Однако вереница «капуцинов» поднималась по лестнице довольно резво и без лишней суеты. Так что ни Атто, ни Сфасчиамонти не нужно было никого усмирять. В принципе, грабители святынь такими и были: коварными и пронырливыми, всегда готовыми на мошенничество и хитрость любого рода но притом не прибегавшими к грубой силе. Конечно, кроме Ситуаций когда нужно услужить высокопоставленному церковнику (как это случилось семнадцать лет назад), – тут они в своем христианском рвении проявляли мужество и отвагу, достойные лишь героев веры. – Проклятый сброд, – чертыхался Атто, – вначале это представление с адом, а теперь форсированный марш. – Синьор Атто, – наконец-то решился спросить я, – от нас исходил странный голубой свет. Как же, черт возьми, они сделали так, что мы выглядели, словно призраки? – О, это старый фокус. Хотя нет, если не ошибаюсь, их было даже два. В первой комнате, где нам казалось, будто мы стоим под дождем огненных капель, была железная площадка, под которую подложили раскаленные угли. Поэтому она была очень горячей, и мы почувствовали это, когда наша обувь тоже стала горячей. Под площадкой установили резервуар, вероятно, из эмалированной терракоты, наполненный винным спиртом с куском камфары, которая и наполняла все небольшое помещение удушливыми испарениями. – Ага, точно! Я чувствовал все эти странные запахи: действительно, мне показалось, что… – Это и было то, что ты подумал: камфара, – прервал меня Атто на полуслове, – камфара, которую используют от моли. Но позволь мне продолжить: если помнишь, когда мы вступили на деревянную площадку, она почти незаметно опустилась, вследствие чего пришел в действие сложный механизм. Неожиданно, как будто сама по себе, откуда-то сверху со страшным треском упала дверь. Тем временем от пламени нашего фонаря в мгновение ока воспламенились спиртовые и камфарные испарения. Все вместе и произвело нужный эффект: танцующие языки пламени вокруг нас, жар, который шел снизу и ужасно жег нам ноги, создали впечатление, будто мы попали в ад Маленькая дверь, через которую мы выскочили, была единственным открытым для нас выходом, и она вела в бездну. Так сказать, мы попали из огня да в полымя. – Точно! Но как, черт побери, это произошло? – Мы разведали это со Сфасчиамонти, пока ты прохлаждался. В конце лестницы есть металлический желоб, очень гладкий и к тому же обильно смазанный кухонным жиром. Я схватился за свой зад. Да, это и вправду был жир, которым я смазывал горшочки и сковороды, прежде чем приготовить курицу в винном или мускатном соусе либо птицу в бульоне. Я делал это, когда еще работал на постоялом дворе. – Благодаря жиру, – продолжил Атто, – мы скатились вниз с большой скоростью, легко преодолев весь путь, который проделали, поднимаясь в башню, да и не только. – Весь путь наверх и не только? Что это значит? – вмешался Сфасчиамонти, слушавший объяснения Атто с открытым ртом. – Башня не такая низкая, как мы подумали: она очень даже высокая, но за многие столетия часть ее ушла в землю. Мы зашли в башню через домик, который был пристроен к ней не так давно и находился не на уровне первого этажа, а примерно на середине ее первоначальной высоты. А вот желоб, по которому мы скатились, шел до самого основания башни, сегодня оно находится на много метров глубже, под землей. – А там башня соединена с целой сетью подземных ходов, – закончил я, гордый своим знанием катакомб Рима, – которые неизбежно связаны один с другим. – Так оно и есть. И здесь нас поджидал уже второй трюк. Как только они увидели, что мы попали в термы Агриппины, да еще в такой поздний час, то есть поняли, что в их подземелье вторглись чужие, то зажгли во втором помещении стакан какого-то спирта. И в этот спирт было подмешано немного обычной соли, если, конечно, я правильно помню рецепт. – Секундочку, – прервал я его, – откуда вы знаете такие подробности? – Да все это детские игры. Во Франции о них известно все достаточно заглянуть в книгу, подобную опусу аббата Бальмонт о которой я тебе, к слову, уже рассказывал. – Это о ней вы говорили мне на «Корабле»? – обеспокоен но спросил я. – Да, именно о ней. – Следующий фокус, – продолжал Мелани, – был устроен с помощью одной маленькой свечи, которую зажгли, а затем потушили. Как и было предусмотрено тем, кто придумал все это когда мы приземлились, факелы наши еще горели, и только там они потухли. Перед этим помещение уже достаточно наполнилось парами спирта, смешанного с солью, и при таком искусственном освещении наши лица выглядели голубоватыми, лишенными жизни. Призрачные души. Так все и произошло. – Простите, – сказал я, отметив, что подъем в темноте подземелья почти закончился и скоро мы пойдем по настоящей земле. – Почему же вы сразу не догадались, что это лишь хорошо подготовленная инсценировка? – Эффект неожиданности. Уж очень ловко все было подстроено: сначала танцующие огоньки, затем мы – призраки, в конце концов армия дьявола, горящее копье, которое, естественно, было всего лишь накалено на каком-то простом очаге… Я тоже вначале испугался и поэтому распознал запах камфары, к сожалению, слишком поздно. В противном случае я бы вовремя предупредил вас. – И когда же вы поняли, что именно происходит? – Когда этот идиот Угонио, он же дьявол, открыл рот. Не узнать его было просто невозможно, даже через столько лет. Он тоже узнал тебя. Угонио сказал «рискованное упущение», когда сообразил, что совершил опасную ошибку. Должен заметить, что его зрительная память лучше, чем твоя, ха-ха, – захихикал Атто. – Поэтому он не ударил меня? – Я никогда никого не ударяю, – донесся до нас возмущенный голос Угонио. – Никогда? – спросил я, почувствовав наконец злость на него из-за только что пережитых ужасных мгновений, когда у меня перед лицом было раскаленное копье. – Все врывающиеся в дом приходят достаточно подмоченными, – пробормотал Угонио, с трудом подавив противный, злорадный смешок. Он был прав. Перед тем как потерять от ужаса сознание, я не смог сдержать невольный детский позыв помочиться.
Цель всего этого дьявольского театра была проста и очевидна. Там, внизу, в подземельях вокруг терм Агриппины, находилось убежище Тойча. Никому нельзя было заходить туда без приглашения. Те немногие, кто когда-либо пытался проникнуть в него, попадали в эту дьявольскую карусель и, порядком обмочив штаны, сломя голову бежали прочь, словно их гнали собаки. Впервые за последние семнадцать лет я решился спуститься в подземное царство Рима и снова встретил там Угонио, точно так же, как семнадцать лет назад. Что привело меня сюда? Расследования кражи имущества Атто Мелани. Сверток бумаг, подзорная труба, а также реликвия – клочок покрывала Богоматери с горы Кармель и три венецианские жемчужины. «Мне следовало догадаться об этом раньше, – с улыбкой подумал я, – реликвия и подземные ходы… хлеб насущный для таких, как Угонио. Теперь оставалось лишь найти украденное». Тем временем мы дошли до конца тропинки, которая вывела нас из второй адской комнаты. Здесь нас поджидал еще один сюрприз. Мы снова оказались в большом помещении – шириной по меньшей мере шестьдесят метров и столько же длиной. Земля здесь была хорошо утоптана, стены укреплены маленькими кирпичами, а из самой комнаты было несколько выходов (наверное, в другие туннели). Стремянка вела к проему в потолке. Здесь внутри царил неописуемый хаос: множество огромных куч самых разных вещей заполняли почти все помещение, превращая подземный склад в сумасшедшую свалку. Тут были фарфоровые безделушки, женские украшения, антикварные вещи, всякое тряпье, старая рухлядь, разные приборы, сувениры, игрушки, глиняные сосуды, предметы домашнего обихода и множество всевозможных ненужных вещей, которые выбрасывают в грязных переулках Рима после краж. Я увидел горы позеленевших от времени монет, перевязанные кипы старых манускриптов, корзины, полные грязной старой одежды, мебель, наполовину изъеденную жучками и составленную горой до потолка, дюжины, нет, сотни пар всевозможной обуви – от крестьянских сапог до элегантных туфелек куртизанок. Я увидел бандажи и пояса, книги и тетради, гусиные перья и чернильницы, горшки и сковороды, изогнутые сабли и колбы, чучела орлов и лисиц, мышеловки, медвежьи шкуры, распятия, требники, ризы, столы и отполированные доски стола, молоты, пилы и скальпели, полные наборы гвоздей любого размера, деревянные доски, старые железки, метлы, щетки с ручками и веники, лохмотья, кости и черепа, ведра с маслом, бальзамом, мазями и другими неизвестными мерзкими жидкостями. Среди всего этого хлама были и сосуды, полные драгоценных колец, браслетов и ожерелий из золота, ящики с медалями и римскими монетами, рамы для картин и предметы мебели самой тонкой, искусной работы, столовое серебро, фарфоровые сервизы, хрустальные ларцы, графины, кубки и бокалы из настоящего богемского стекла, фламандские столы, бархат и позументы, аркебузы, мечи и кинжалы, полные коллекции ценнейших пейзажей, портретов. благородных дам и римских пап, мадонн с младенцем и благовещением. Все это было сложено друг на друга и покрыто слоем пыли. – Милосердное Небо! – вырвалось у Сфасчиамонти. – Это выглядит почти как… – Угадали, – прервал его Атто, – как воровская добыча – урожай трех тысяч краж, которые были совершены в Риме в течение этого святого года. – Да, кому-то будет тошно, – проговорил сбир. – Значит, все, что о тебе говорят, правда, – с презрением заявил Мелани, обращаясь к Угонио. – Во время святого года твои дела шли лучше, чем обычно. Я полагаю, что ты дал особенный обет Деве Марии. Угонио ничего не ответил на ироническое замечание аббата. Я аккуратно прошел через весь этот ужасный беспорядок, следя за тем, чтобы не задеть ни одного предмета. Между высокими кучами остались лишь узкие проходы, и нужно было ступать очень осторожно, чтобы даже не коснуться их. В противном случае человеку грозила опасность оказаться погребенным под горой книг или пирамидой амфор, кое-как наваленных на шатающийся старый шкаф. В темном углу, полускрытом кучей старых покрывал и дорогой золотой дарохранительницей, мое внимание привлекла странная композиция в виде изогнутых кусков железа, так что все это напоминало какой-то куст. Я взял его и показал Атто. Он схватил этот моток железа и от удивления широко открыл глаза. – Когда-то это было… две армиллярные сферы.[1343] Или, возможно, даже три, не знаю. Эти сволочи расплющили их почти в лепешку. Действительно, это было похоже на два или три прибора в форме шара, которые состояли из нескольких закрепленных на стойке железных колец, вращающихся вокруг своей оси. Они служили ученым для вычисления движения небесных светил. – Экспроприация усложнена разными непредвиденностями, – начал оправдываться Угонио. – К сожалению, инструменты немного подпортились. – Уж точно, подпортились, – огрызнулся Атто с отвращением, отбросил клубок изломанного железа в сторону и решил побродить среди сваленных в кучу предметов. – Представляю себе, каким образом. После кражи вы, наверное, где-то напились. Возможно, я найду здесь даже… О, вот оно. На полу стояли цилиндрические предметы, закрепленные в горизонтальном положении. Атто взял один из них, казавшийся не таким грязным и ржавым, как другие. – Очень хорошо, – сказал Мелани, вытирая прибор от грязи. – То, что не украдено или не сгорело… Затем он подал мне его с торжествующей улыбкой. Ваша подзорная труба! – радостно выкрикнул я. – Тогда это правда, что за всем стоит Тойч. – Точно, он и украл его. Как и другие приборы из этой коллекции. На полу стоял небольшой лес подзорных труб самых разных видов и размеров: одни абсолютно новые, другие – запыленные и наполовину разломанные. Сфасчиамонти тоже стал рыться в вещах, валяющихся рядом с подзорными трубами. Наконец он вытащил большой прибор показавшийся мне знакомым.
МАКРОКОПИУМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИОАНН ВАНДЕХАРИУС
СДЕЛАНО В АМСТЕРДАМЕ MDCLXXXIII
– Это подзорная труба, которую украли у голландского ученого, о ней мне сообщал один из моих коллег-сбиров, помнишь? – сказал он. – Прибор похож на тот, который мы нашли у черретанов несколько ночей назад. Люди в капюшонах безропотно и смущенно наблюдали за тем, как мы разоблачили их темные делишки. Все мы посмотрели на Угонио. – Естественно, и мой манускрипт с трактатом украл ты, – мрачно проворчал Мелани. Тот, казалось, еще глубже втянул голову в плечи, словно хотел избежать ответственности за содеянное, как бы делая себя невидимым под капюшоном. Недолго думая, Сфасчиамонти схватил копье и сгреб Угонио за воротник его грязной накидки. Но тут же, вскрикнув от боли, выпустил его. Сбир уколол себе палец. Он вывернул воротник накидки Угонио, и мы увидели брошь. Я сразу же узнал ее: это был тринитарий Богоматери с горы Кармель. А он клялся, что ни при чем… Брошь была украдена у аббата Мелани.На нее были нанизаны три мои венецианские жемчужины, которые Атто бережно хранил все эти годы. Сбир сорвал реликвию с воротника Угонио и передал ее Мелани. Аббат осторожно взял жемчужины. – Хм, я думаю, будет лучше, если их возьмешь ты, – задумчиво произнес он тихим голосом и отдал жемчужины, не поднимая на меня глаз. Я был рад. На этот раз я буду бережнее хранить их, вспоминая об Атто Мелани, который по временам был способен на благородные жесты. Я принял реликвию, но невольно поморщился от вони, которую она издавала, ведь все это время черретан носил ее на себе. Тем временем Сфасчиамонти снова принялся за свою работу и навел острие копья на Угонио: – А теперь трактат аббата Мелани. Атто схватился за пистолет. Грабителя не пришлось долго уговаривать. – Я украдываю только никчемные безделушки: здесь я провел комиссионизированное похищение, – прошептал он. – Ага, кража по заказу! – перевел нам Атто. – Как раз то, что я всегда и предполагал. А по чьему? Императорского посланника, твоего земляка, злосчастного графа Ламберга? Сейчас же говори, может, ты по заказу нападаешь на людей с ножом? – рассердившись, спросил он и показал Угонио руку, которую поранил убегающий черретан. Угонио помедлил пару секунд. Он посмотрел вокруг, взвешивая возможные последствия своего молчания: с одной стороны, пистолет Атто, копье в руках у Сфасчиамонти, его массивная фигура, и с другой – толпа его друзей, многочисленная, но в то же время все они какие-то сгорбленные, ненадежные… – Меня наняли представители майористов, – наконец ответил он. – А это еще кто? – в один голос воскликнули мы.Объяснение Угонио было длинным и запутанным. Но мы запаслись терпением, помня о его изысканных выражениях, которые не изменились за долгие годы, и смогли понять основную мысль, правда, и не во всех деталях, но в общих чертах. Дело было простое. Черретаны через определенное время выбирали представителя – своего рода короля всего этого сброда. Его называли главным майористом и короновали на общем собрании черретанов. Совершенно случайно последний майорист умер совсем недавно. И какое отношение это имеет к краже, которую тебе заказали? – Не догадываюсь, при всем моем необходимом уважении к вашей ценнейшей и высочайшей авторитетности. Но ведь никогда не расспрашивают о причинах кражи. Вопрос секретности! – Значит, ты не будешь говорить, потому что не должен разглашать секреты твоего клиента? И ты действительно считаешь что сможешь так легко отделаться от меня? – заворчал Мелани. Душное и грязное сводчатое подземное помещение, в котором мы находились, освещалось несколькими факелами на стенах. Дым от них вытягивался через отдушины, которые находились прямо над пламенем факелов. Неожиданно Атто схватил один из них и поднес к куче старых бумаг – судовых и нотариальных актов, как мне показалось. Даже не знаю, где черретанам удалось раздобыть их. – Если ты сейчас же не скажешь, кому отдал рукопись с моим трактатом, я все подожгу здесь, да поможет мне в этом Господь. Атто не шутил. Угонио вздрогнул от такой угрозы. Увидев, что все его сокровища в опасности, он побледнел, насколько позволяла его пергаментная кожа. Вначале он попытался уговорить Мелани, потом стал объяснять, что и сам уже понял, в какую ужасную авантюру оказался втянут, ведь в настоящий момент положение очень напряженное – черретаны стали жертвой серьезной кражи. – Серьезной кражи? Воров нельзя обокрасть, – съязвил Атто. – Что можно украсть у черретанов? – Самую новую речь. – Новый язык? Языки невозможно украсть, у них нет владельцев, на них говорят – и хватит! Придумай себе отговорку получше, идиот. В конце концов Угонио сдался и сделал аббату интересное предложение.
– Согласен, – сказал Атто. – Если ты сдержишь свое обещание, то я не стану разрушать твою жалкую дыру. Ты хорошо знаешь, что я в состоянии это сделать, – предупредил он Угонио, прежде чем повести нас к выходу. – Сбир, у тебя есть еще вопросы к этим отбросам? – Сейчас нет, мне лишь очень любопытно, сдержат ли они свое слово. Давайте отпустим их, я не хочу надолго отлучаться из виллы Спада.
Мы оставили термы Агриппины, углубившись в обсуждение драматических событий, которые только что произошли с нами. – Угонио сразу же узнал меня, как только увидел вблизи. Действительно ли он не знал, у кого украл трактат и подзорную трубу? – спросил я у Мелани. – Конечно же, знал! Такие ищейки всегда знают, во что они ввязываются. – Но как мне показалось, он не стал особенно колебаться. – Очевидно, давление на него со стороны заказчика было сильным. Ему наверняка предложили много денег, а может, он побоялся разоблачения. – Теперь я понимаю! Вот почему в последнее время у меня было такое чувство, будто за мной следят на вилле Спада! – воскликнул я. – О чем это ты говоришь? – удивился Атто. – Я никогда не рассказывал вам, поскольку не был уверен. Мы столкнулись со множеством удивительных вещей, – добавил я, намекая на события на «Корабле». – Мне не хотелось, чтобы вы думали, будто мне мерещатся призраки. Однако в последние дни мне все чаще казалось, что за мной следят. Это было так, словно… ну, как будто кто-то стоит за изгородью и не сводит с меня глаз. – Ну, конечно же! Даже ребенок понял бы: вероятно, это был Угонио и его товарищи, – заявил Атто, рассерженный моей несообразительностью. – Кто знает, – начал размышлять я вслух. – Наверное, они следили за нами и в тот вечер, когда мне и Бюва подсыпали зелья в трактире, где мы сидели, появились довольно странные люди – толпа попрошаек. Возникла небольшая потасовка, из-за чего нам пришлось оставить свой столик. Они чуть не столкнули наш кувшин с вином. – Кувшин с вином? – переспросил Атто, округлив глаза. Я сообщил ему о драке в трактире, из-за которой мыс Бюва на какое-то время выпустили кувшин с вином из поля зрения. Атто чуть не взорвался от гнева: – И тебе только сейчас пришло в голову рассказать мне об этом? Святые небеса, неужели ты не понимаешь, что вас с Бюва отослали в кровать, подмешав в вино снотворное? – закричал он. Почувствовав жгучий стыд, я промолчал. Да, так оно все наверняка и было. Попрошайки (а на самом деле черретаны) намеренно разыграли ссору, чтобы нам пришлось встать из-за стола. Затем мы потеряли из виду наш столик, а они подсыпали в вино какой-то гадости и сразу же смылись без лишнего шума. – После того как Угонио и его товарищи уложили вас спать, – закончил Атто, немного успокоившись, – они проникли в твой Дом и в комнату Бюва. А в следующий раз проделали то же и со мной. – Это просто чудо, что им удалось проникнуть на виллу, покинуть ее вместе с награбленным добром и уйти незамеченными, – удивился я. – О да, – согласился со мной Атто и косо посмотрел на Сфасчиамонти. – Действительно чудо какое-то! Сбир пристыженно опустил глаза. Понятно: я всего лишь повел себя как нерасторопный увалень, а вот Сфасчиамонти рисковал собственной репутацией. Атто, наоборот, благодаря встрече с Угонио не только вышел на след преступников, подсыпавших нам с Бюва снотворное в вино, но и смог найти человека, укравшего его трактат, реликвию и подзорную трубу, которую он теперь крепко сжимал в руке, кипя возмущением и одновременно испытывая удовлетворение.
Только мы переправились через Тибр, как Сфасчиамонти сообщил нам, что ему надо спешить поскорее вернуться на виллу, нам же он оставляет привилегию неспешно прогуляться. – Я поскачу вперед, потому что уже действительно поздно, тысяча чертей. Мое отсутствие на вилле не может быть таким долгим. Я не хочу, чтобы кардинал Спада подумал, будто я пренебрегаю своими обязанностями, – заявил он.
– Замечательно, так даже намного лучше, – заметил Атто, едва мы остались одни. – Но почему? – Как только мы вернемся, у нас возникнут неотложные дела. – В такой поздний час? – воскликнул я. – Бюва как раз завершит работу, которую я поручил ему. – Поиск цветка на дворянских гербах? – Не только это, – коротко ответил аббат. Точно, Бюва. Этим утром я увидел его после долгого отсутствия. Когда Мелани давал ему задание поискать на гербах благородных людей тетракион, он приказал ему также заняться еще одним, «другим делом», но не стал распространяться о нем. Что же происходило с Бюва? В первые дни он всегда находился с нами. А вот с некоторых пор стал появляться лишь изредка и на короткое время, а затем надолго исчезал куда-то. Теперь-то я знал, что Мелани поручил ему дело, которое этот писака, очевидно, выполнял за пределами виллы. Но я видел: аббат не готов пока раскрыть мне свою тайну.
Однако когда мы вернулись на виллу Спада, секретаря Атто еще не было. – Хорошо! Это значит, что задание, которое я ему поручил, имеет результат. Возможно, ему недостает некоторых деталей. – Деталей? Каких же? – решил все-таки спросить я. – Улики, с помощью которых мы смогли бы прижать Ламберта к стене.
12 июля лета Господня 1700, день шестой
– Ты что, вообще никогда не закрываешь дверь, а? Я открыл глаза – я находился у себя дома. Через широко открытую дверь в комнату вливался ослепляющий дневной свет. Человека, который так бесцеремонно меня разбудил, я легко узнал по голосу: мне нанес визит аббат Мелани. – Милый домишко. Сразу видна рука женщины, – заметил он. Перед тем как прошлой ночью я, до смерти уставший, упал на кровать, у меня хватило еще сил убедиться, что обе мои дочурки мирно спят в своих постелях, ведь этой ночью Клоридия находилась у княгини Форано. Затем я отдал себя в руки Морфея. – Так, давай поднимайся, я очень спешу. У нас есть работа: Бюва в свитках с описанием гербов не нашел ничего о проклятом тетракионе. Нужно немедленно расспросить Ромаули. – Нет уж, с меня хватит, извините, синьор Атто. Я хочу спать, – без обиняков заявил я. – Ты что, совсем спятил? – пропищал Атто голосом кастрата. Я не успел попросить его говорить потише, дабы не разбудить моих малышек, и они, проснувшись, с любопытством посматривали на нас из-за двери. Девочки завороженно глядели на странного дворянина в красных чулках, парике и с напудренным лицом. В соответствии с французской модой он с головы до пят был украшен кружевами, тесьмой и шелком, чего малютки никогда до этого не видели. Младшая дочь, не такая застенчивая, как старшая, с нескрываемым любопытством подбежала к нему, желая потрогать всю эту роскошь, которой был отделан костюм аббата Мелани. – Святые отцы! – в восторге воскликнул Атто и обнял младшую. – Что может быть приятнее того, чем когда ты, еле волоча ноги от усталости, возвращаешься домой и видишь, как любимая дочурка, преисполненная радости и детского восторга, встречает тебя, обнимает и целует, болтает о самых разных вещах, одного этого бывает достаточно, чтобы отвлечься от мрачных мыслей и, несмотря ни на что, прийти в отличное расположение духа. Я поспешно вскочил с кровати, намереваясь сказать дочке, чтобы она не мешала аббату, однако Атто остановил меня жестом. – Стой! Не думай, что солидному человеку не подобает играть с детьми, – с наигранным упреком сказал он, совершенно забыв о цели своего визита, – потому что я могу легко возразить тебе. Например, Геркулес после тяжелой битвы быстро восстанавливал силы, забавляясь с детьми; Алкибиадис видел, как Сократ играл с мальчишкой, а Агесилей катался верхом на палке, чтобы развеселить своих сыновей. Ты лучше воспользуйся временем, пока я буду заменять этим ангелочкам маму, чтобы одеться: нас ждет работа. Сказав это, он с покладистостью, которой я никогда раньше в нем не замечал, позволил шаловливым лапкам моих цыплят комкать кружева на своем наряде. Если бы я знал, какая тяжелая работа нас ждет – поиски тетракиона! Скорее, поиски чаши, которую Капитор, сумасшедшая провидица, подарила Мазарини и назвала его тетракионом. Еще она упомянула имя предполагаемого наследника испанского престола – по словам подруги Клоридии, которая служит горничной в посольстве, он вскоре придет к власти. То же самое Атто наверняка услышал от Транквилло Ромаули – садовника виллы Спада. Самым удивительным было то обстоятельство, что Ромаули никогда не говорил ни о чем другом, кроме как о лепестках и пестиках. Поэтому вполне возможно, что покойная жена садовника – акушерка, зашифровала информацию, используя терминологию мужа – названия фруктов. Клоридия раздала женщинам тайные пароли, поэтому сведения должны были дойти до нас именно через садовника. Вопросы, поставленные мной Ромаули, позволяли сделать только один вывод: он сказал, что Эскориаль иссыхает. В своей загадочной речи садовник упомянул также Версаль – резиденцию его христианнейшего величества французского короля, и венский парк, прилегающий к замку Шонбрунн. Это я во всех подробностях изложил аббату Мелани, и Бюва высказал предположение, что тетракион, скорее всего, является цветком на дворянском гербе. Но, как мне совсем недавно сказал аббат, поиски в свитках описания гербов, не дали результата, поэтому Атто не терпелось подробнее расспросить Ромаули. Чаша, наследство, садовник – вот три следа, которые идут в трех разных направлениях. – Поскольку Ромаули, судя по всему, единственный, кто знает что-то о тетракионе, – сказал Атто, как будто продолжая мои собственные размышления, – я предлагаю начать именно с него. Когда мы прибыли на виллу Спада, я вынудил аббата сделать небольшой крюк, прежде чем мы займемся поисками Транквилло Ромаули, который в это время должен был заканчивать последние приготовления к послеобеденным празднествам. Мне нужно было отвести дочерей в Касино к Клоридии, чтобы они помогли матери присмотреть за новорожденным младенцем и роженицей, да и самим погреться в лучах материнской любви.Мы увидели Ромаули: он нагнулся над клумбой, держа в руках ножницы и лейку, черты лица его просветлели, как только он нас заметил. После обмена любезностями Атто перешел прямо к делу. – Мой юный друг сообщил мне, что вы желали бы продолжить некий разговор, – сказал Мелани словно между прочим, но на самом деле все хорошо рассчитав, и тут же добавил, чтобы иметь предлог отослать меня: – Однако, наверное, вы предпочтете остаться со мной наедине, и поэтому… – Ой, ну что вы! – воскликнул садовник. – Для меня это все равно, как если бы нас слушал мой собственный сын. Прошу вас, пусть он останется. Это означало, что Ромаули совершенно не опасался разговаривать при мне даже о таких вещах, как тетракион. Я подумал, что это к лучшему. Он демонстрировал, что присутствие свидетелей его совершенно не пугает. Поскольку садовник не проявил ни малейшего намерения отойти в сторону, и даже, наоборот, снова присел на корточки, Атто пришлось опуститься на каменную скамеечку, которая, к счастью, стояла совсем близко. Я посмотрел вокруг. За нами никто не наблюдал, и рядом никто не прогуливался. Положение было благоприятным, чтобы выведать у Ромаули все, что ему известно. – Ну хорошо, уважаемый садовник, – начал Атто. – Прежде всего, вам должно быть известно, что судьбу Эскориаля я сейчас принимаю чуть ближе к сердцу, чем судьбу Версаля, истинным почитателем которого я считаюсь. По этой причине… – О да, ваша правда, господин аббат, – перебил его собеседник, не отрываясь от невысокого куста роз. – Не будете ли вы столь любезны минутку подержать ножницы? Атто не отказался, правда, не без того, чтобы с удивлением недовольно скривить губы, в то время как Ромаули продолжал колдовать над розовым кустом без инструмента. Затем Атто продолжил свою речь как ни в чем не бывало. – По этой причине, как уже сказано, я преисполнен уверенности, что вы знаете о существующем положении вещей, и поэтому все… если можно так выразиться, заинтересованы в наиболее безболезненном способе разрешить тяжелый, по правде говоря даже тяжелейший, кризис, чтобы… – Пожалуйста, – прервал его собеседник, протянув аббату сорванную с куста розу. – Я знаю, к чему вы клоните. Тетракион. От удивления аббат лишился дара речи. – Вы человек немногословный и обладающий великолепной интуицией, – произнес Атто, весьма любезным тоном, при этом быстро осмотревшись по сторонам, чтобы удостовериться в том, что нас никто не подслушивает. – Это очень просто, – прозвучал ответ. – Наш общий друг рассказал мне здесь, что вы желаете более подробно обсудить предмет нашего предыдущего разговора, в котором я упомянул о тетракионе и назвал испанский нарцисс-жонкиль и жасмин из Каталонии. Теперь вы говорите об Эскориале. Тут не надо обладать недюжинным умом, чтобы понять, к чему вы ведете. – Да, в действительности это так, – пробормотал Атто, немного сбитый с толку блестящими дедуктивными способностями своего собеседника. – Итак, хорошо, этот тетракион… – Давайте по порядку, господин аббат, все всегда по порядку, – напомнил садовник и кивнул на розу, которую только что дал. – Сначала понюхайте. Атто несколько обескураженно повертел цветок в руке, не понимая намека садовника, сделавшего такой странный подарок. Наконец он поднес розу к своему носу и глубоко втянул запах. – Да она же пахнет чесноком! – с отвращением воскликнул он. Транквилло Ромаули с удовольствием засмеялся. – Ну, теперь вы убедились в том, что уста – как цветы. Если запах неприятен, то любая красота становится пустой и мертвой. Цветам придают сладкий запах, если у них нет своего или он, скажем, слишком плох. Это называется благородным поступком и чудом и можно сравнить с тем, как если бы дать кому-то новую жизнь. – Возможно. Но этому мерзкому цветку должна быть дарована не жизнь, а совсем наоборот – смерть, – сказал Мелани, передернувшись от неприятного запаха и поднеся к носу кружевной платочек. – Вы преувеличиваете, – миролюбиво возразил садовник. – Я говорю об ароматизированном цветке. – Что это значит? – Чтобы ароматизировать растение, нужно взять овечий навоз, размешать его в уксусе, добавить порошок из мускуса, цибетина и амбры и замочить в этом растворе семена на два или три дня. Цветы, которые вырастут из этих семян, будут издавать приятный изысканный аромат, а именно мускуса и амбры, которые всем нравятся и услаждают обоняние того, кто их нюхает. – Но ведь эта роза воняет чесноком! – Конечно. Разумеется, можно ароматизировать цветы и другим способом, чтобы они были устойчивыми к вредителям. Как пишут Дидимо и Теофраст, достаточно посадить чеснок или лук рядом с вьюнами и, как правило, рядом с розами, чтобы последние неминуемо пропитались запахом этих растений. – Отвратительно, – пробормотал Атто. – Но тем не менее, какое это имеет отношение к тетракиону? – Подождите, подождите. Путем ароматизации, – спокойно продолжил Ромаули, – у таких цветов, как африканская календула, или индийская гвоздика – их называют и так и эдак, – можно убрать неприятный запах. Для этого их семена замачивают в розовой воде и перед посадкой высушивают на солнце. Как только цветок отцветет, нужно взять его семена и повторить процедуру. – Ага, и сколько же времени нужно, для того чтобы получить желаемый результат? – полюбопытствовал Атто. – О, очень немного. Не более трех лет. – Да, действительно, короткое время, – ответил Атто так, чтобы собеседник не заметил иронии. – Но еще меньше времени требуется, чтобы получить вот такие маленькие озорницы, – сказал Ромаули, передвигаясь на цыпочках и предлагая Мелани нагнуться, чтобы посмотреть в темный просвет под скамейкой, между стволом пальмы и стенкой. – Но ведь эти цветы… черные! – вскрикнул Атто. Он был прав: лепестки маленькой группки гвоздик, которые прятались здесь (в последнее время я часто видел тут усердного садовника), были глубокого матово-черного цвета. – Я посадил их в этом месте, чтобы их никто не заметил, – объяснил Ромаули. – Как вам это удалось? – спросил уже я. – В природе ведь не существует черных цветов. – О, это детская игра для человека, который знает тайну этого искусства. Берут чешуйчатый плод ольхи, но только тот, который засох на дереве, размалывают в мельчайший порошок и смешивают с небольшим количеством хорошего овечьего дерьма, растворенного в винном уксусе. Затем добавляют соль, чтобы усилить вяжущие свойства уксуса, и все в нем замачивают. После этого корни молодых гвоздик сажают в эту смесь – и вот результат. Хотя нам и надоели нудные объяснения садовника, мы были восхищены его изобретательностью и тем достойным преклонения упорством, с каким он создавал эти чудеса флористики. Даже мне, верному помощнику, он никогда не признавался в существовании черных гвоздик. Я подумал о том, что никто не знает, сколько еще его дьявольских изобретений посажено в саду виллы Спада. И действительно, он рассказал нам, что у него есть целая клумба цветущих лилий, цветки которых составляют имена новобрачных (СПАДА и РОЧЧИ) из золотых и серебряных букв; другая клумба, усажена розами с запахом редчайших нежных восточных эссенций; третья клумба полна тюльпанов, выращенных из луковиц, которые пропитаны разными колерами (небесно-голубым, шафранным, малиновым). Цветы с тысячью полосок разного цвета, похожих на радугу; затем еще одна клумба с огромными растениями, которые росли из шаров навоза. Потом он показал клумбу с петрушкой, закручивающейся вверх, чего можно было достичь, если растолочь ее сем в ступе, а также тысячи других чудес, которые он создал сам. – Хотя вряд ли я могу рассчитывать на то, что кардинал С. да приведет сюда нынешних гостей взглянуть на мои маленькие достижения, – сказал он. – Ага. Я все-таки не понимаю, почему вы не желаете рассказывать нам о тетракионе, и все больше опасаюсь, что попусту трачу ваше время, – произнес Атто таким голосом, что стал очевидно: он и свое время считал потраченным впустую. Аббат резко поднялся. Я тоже не мог скрыть своего разочарования. Может быть садовник считал иначе? – Вот сейчас я и дошел до рассказа о нем, – произнес Транквилло. – Сады Эскориаля вянут и сохнут, как я уже говорил в прошлый раз. – Сады Эскориаля, вы сказали? – спросил Атто, даже вздрогнув при этих словах. – Многие считают – хотя они неправильно информированы, – что эти некогда великолепные испанские сады не имеют будущего из-за климата: зима становится холоднее, а лето суше. Но я уже говорил об этом вашему подопечному, присутствующему здесь, и надеюсь, вы не разделяете этого ложного мнения, ведь так? Знаете, я много прочитал об этих несчастных садах. Хороший садовник мог бы их спасти. Сам-то я никогда не был в Испании, ни разу не выезжал из Рима, но все с большим удовольствием сравниваю их с садами Версаля, которые цветут, несмотря на влажный удушливый воздух той местности, а также с пестрыми лугами Шонбрунна – я прочитал, что их можно устроить в суровом климате венских лесов. Аббат Мелани бросил на меня полный ненависти взгляд, пока садовник внезапно отвлекся. – Это так, – попытался я шепотом оправдаться, – когда я сказал ему, что вы озабочены судьбой Эскориаля, мне и в голову не могло прийти, что он неправильно меня понял… – Ты ему так сказал, да? Что за утонченная метафора? – фыркнул Атто. – У меня есть рецепт, как можно спасти тот сад, – снова продолжил между тем Ромаули, который, казалось, ничего не заметил. – И это поистине чудо, что вы сейчас находитесь здесь и проблема, которую я узнал от вашего протеже, так глубоко вас волнует. – Да, но тетракион? – пробормотал я, надеясь на то, что садовник в конце концов скажет что-то полезное. – Именно. Но давайте все по порядку. Это очень деликатное дельце, – важно заявил Транквилло Ромаули. – Возьмем, к примеру, ветреницы. Если человек желает выращивать растения с двумя цветками, он должен взять семена тех цветов, которые не являются ни ранними, ни поздними. Они не должны пострадать ни от холода, ни от жары, только тогда они дадут семена наивысшего качества. – Растения с двумя цветками, вы сказали? – спросил я, к своему ужасу, начиная подозревать, что он подразумевал под тетракионом. – Именно. Из одной простой гвоздики вырастет растение с двумя цветками, если взять росток этого растения в течение тридцати дней начиная с пятнадцатого дня августа, праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии, и посадить его в горшок с самой лучшей землей, поставить сразу же в теплое место, защищенное от мороза и холодного воздуха. Из растения с двумя цветками вырастет растение с четырьмя цветками, если взять два или три семени растения с двумя цветками и спрятать их в запечатанную воском трубочку или внутрь птичьего пера, которое у основания шире, чем на конце, и закопать в землю. Я так и сделал с этими цветами, видите? Он указал на несколько растений, которые действительно выглядели по-особенному. Это были белоснежные гвоздики с четырьмя цветками, которые росли из одного стебля, клонившегося к земле под тяжестью своей прекрасной ноши. – Смотрите, вот рецепт спасения Эскориаля. Эти цветы необычайно устойчивы к изменениям температуры и климатических условий. Я сам создал их. Это мои тетракионовые гвоздики. – Вы хотите сказать… – пролепетал Атто, неожиданно побледнев и слегка покачнувшись, – что ваш тетракион… вот это растение? – Да, синьор, досточтимый аббат Мелани, – ответил Ромаули, несколько удивившись разочарованию Атто, которое даже ему было заметно. – Они настолько благородны, эти растения с четырьмя цветками, что я хотел дать им изысканное имя Тетракион, от древнегреческого «tetra» что означает «четыре». Но скорее всего, вы не разделяете моего мнения и моих надежд относительно Эскориаля. Если так, то прошу вас непременно сказать мне об этом, чтобы я не надоедал вам больше. Возможно вас порадует моя работа с цветочными эссенциями. Я сам мог бы все показать. Вы же еще придете сюда на днях, да?
* * *
Разговор с Транквилло Ромаули привел нас в мрачнейшее расположение духа. – На кой черт мне нужны ты и твоя жена! – напал на меня аббат Мелани, не успели мы отойти даже на пару шагов. – Она обещала сообщить бог знает какую интересную информацию, которую ей якобы сообщили женщины, когда она произнесла пароль. И вот теперь мы стоим здесь с пустыми руками. Опустив голову, я молчал: Атто был прав. Втайне у меня возникло подозрение, что Клоридия, после того как я устроился на службу к Атто и таким образом поставил свою жизнь на карту, с самого начала вместо обещанной помощи тайком приняла другое решение: не давать мне впредь никаких сведений или почти никаких, чтобы не подвигнуть меня на безрассудные геройства. Разумеется, я ничего не сказал аббату о своих подозрениях. – Без сомнения, этот садовник вообще не имеет никакого отношения к известному женщинам паролю, – ответил я. – Но, тем не менее, он дал нам полезную информацию. Тетракион означает «состоящий из четырех». – Можешь ли ты, черт возьми, сказать мне, какое отношение это имеет к чаше Капитор? – закричал Мелани и истерически засмеялся. – Я думаю, что никакого, синьор Атто. Но повторяю, что теперь мы, по крайней мере, знаем значение этого слова. – Для того чтобы узнать, что «tetra» по-гречески означает «четыре», мне совсем не нужен твой садовник, – оскорбленно ответил аббат. – Но то, что тетракион просто значит «четыре», вы не знали… – настойчиво возразил я. – Я просто забыл, принимая во внимание мой возраст. В конце концов, я не библиотекарь, как Бюва, – поправил меня Атто. – Возможно, что на чаше Капитор изображено нечто состоящее из четырех частей. – Как я тебе уже говорил, на чаше изображены Посейдон и Амфитрита, которые несутся на колеснице по волнам. – А вы уверены, что там больше ничего не было? – Это все, что я видел. Кажется, ты принимаешь меня за полного безумца, – совсем рассердился Атто. – В любом случае мы сможем убедиться в этом лишь в том случае, если найдем все три подарка Капитор. И ты прекрасно знаешь, что мы должны их найти.Итак, уставшие и разочарованные, мы в который раз добрались до дороги, ведущей к таинственной вилле «Корабль», построенной Эльпидио Бенедетти. И лишь теперь я вспомнил, что забыл спросить у аббата Мелани кое-что очень важное: кем была графиня Суассонская, которая посеяла раздор между Марией и королем? Допустим, она была той таинственной графиней С., отравительницей, о которой мадам коннетабль высказалась так сдержанно. Я почувствовал, как мое плохое настроение еще больше ухудшилось: аббат Мелани все еще ни словом не обмолвился в моем присутствии о наследовании испанского престола, в то время как в письмах, адресованных мадам коннетабль, только и говорил об этом. Это были две Испании: та, о которой мне рассказывал Атто, и та, что была на пятьдесят лет старше, – Испания Хуана, внебрачного ребенка, и Капитор, с ее загадочными подарками Мазарини. А были ли эти две Испании как-то между собой связаны? Наверняка существовало какое-то общее звено, и оно заключаюсь в этом таинственном тетракионе. – Ты очень задумчив, мой мальчик, – заметил Атто, сам еще несколько мгновений назад витавший мыслями очень далеко даже дальше, чем я. Аббат посмотрел на мое мрачное лицо с чуть заметной тревогой. Как все профессиональные лгуны, он всегда боялся, что его собеседники рано или поздно смогут соединить разорванные нити его полуправд. – Я думал о тетракионе и сейчас, когда мы почти приблизились к «Кораблю», вспомнил еще и о Марии Манчини, – сказал я глубоко вздохнув. Разумеется, это была ложь. Хотя я и думал о Марии, но только потому, что мне было кое-что неясно в письмах, которыми они обменивались с Атто и которые я уже неоднократно читал. – Если быть более точным, я размышлял о том, как гнусно вели себя придворные по отношению к этой девушке, к примеру, та же графиня Суассонская… Кстати, кто она такая? – спросил я с неподдельной наивностью. – Я вижу, что ты, несмотря на события последних дней, лишившие тебя сна, не забыл того, что я тебе рассказывал, – ответил аббат, довольный тем, что история любовных похождений молодого короля настолько увлекла меня, что я умолял рассказать мне подробности. Разумеется, он только этого и ждал.
Графиня Суассонская, как объяснил мне аббат Мелани, была самой старшей сестрой Марии. Ее звали Олимпия Манчини, и некоторые поговаривали, что она была одной из тех женщин, кто научил молодого короля любви. Весной 1654 года они часто танцевали на дворцовых праздниках. Ей было семнадцать лет, а Людовику – пятнадцать. И у нее возникли определенного рода надежды… Однако Мазарини, ее дядя, уже очень скоро пообещал племянницу графу Суассонскому – одному из родственников королевской семьи, жившему в Савойе. В 1657 году ее выдали замуж. – У Олимпии был ужасно завистливый характер, – прошептал Атто, и по всему было видно, что это вызвало у него неприятные воспоминания. – Лицо длинное и заостренное, никакой красоты, кроме Ямочек на щеках и двух живых, но слишком маленьких глаз. Весь двор спрашивал: неужели она была возлюбленной короля? – И? Она была его возлюбленной? – насел я на него, надеясь, что Мелани выдаст мне какую-нибудь мелочь, которая поможет в моем расследовании. – Вопрос поставлен неправильно. Какая возлюбленная может быть у пятнадцатилетнего мальчишки? В лучшем случае можно спросить, предавались ли они плотским утехам? И ответ будет звучать так: даже если да, то что здесь такого? Если верить Атто, можно с уверенностью говорить о том, что времяпровождение с Олимпией – платоническим оно было или нет – не имело никаких последствий, которые тронули бы сердце короля. А когда застучали сердца Марии и Людовика, Олимпия уже ожидала рождения своего первого сына. – Но, конечно же, беременность не помогла ей освободиться от чудовищной зависти к своей сестре, так как той самым естественным образом удалось то, чего не смогла сделать Олимпия, – завоевать сердце короля. Зависть к сестре привела к тому, что между первой и второй беременностью Олимпия снова начала кокетничать с королем. Но и в этот раз у нее ничего не вышло. Однако она тайно пользовалась поддержкой матери короля, которая, как известно, опасалась, как бы между Людовиком и Марией не возникло любовное чувство. И Олимпия была занята тем, что плела интриги, признаваясь в письмах к сестре, что мать Людовика против отношений Марии и короля. – Итак, она была одной из тех, кто оклеветал Марию перед королем, когда тот после испанской свадьбы снова вернулся в Париж! – ошеломленный догадкой, воскликнул я. Ребенок-подкидыш, выросший без братьев и сестер, я всегда мечтал иметь целую уйму родственников. Всегда представлял себе родных братьев и сестер самыми первыми и надежными друзьями. – Что тебя удивляет? Это продолжается еще со времен Каина и Авеля, – сказал мне Мелани с надменным выражением лица и продекламировал следующие строчки;
Когда мы уже почти добрались до цели, Атто решил быстро завершить рассказ. – Олимпия потеряла рассудок от своей безумной ревности. В итоге она безуспешна попыталась наложить проклятие на любовницу его христианнейшего величества короля, подсыпав ей яд, и приготовила любовный напиток для Людовика. Когда стало известно обо всех ее интригах и планирующемся отравлении, разразился скандал, был выписан ордер на ее арест и она спешно бежала в Брюссель. И по сей день она скитается по всей Европе, обуянная жгучей ненавистью к Франции. Кстати, ее подозревают в том, что она отравила мужа, а также мадам Генриетту и ее дочку. – Мадам Генриетту и ее дочку? – повторил я последние слова. – Боже ты мой, тебе все нужно говорить дважды. Генриетта – я недавно о ней рассказывал – была двоюродной сестрой короля. Кроме того, мы видели ее портрет на первом этаже. Она была матерью Марии Луизы Орлеанской – первой жены короля Испании Карла II. Но это уже совсем другая история, внезапно оборвал себя аббат. Как ни странно, но он больше всего торопился именно тогда, когда наш разговор затрагивал испанские события.
Теперь я наконец узнал о таинственной графине С: итак, графиня Суассонская была сестрой Марии Манчини. В письме мадам коннетабль были намеки на отравление: подозрение пало на графиню после смерти королевы Испании Марии Луизы Орлеанской. Но сдержанность, с какой об этом было написано, объяснялась отнюдь не последствиями тогдашних событий, связанных с Олимпией, а только тем фактом, что она была сестрой Марии. Именно поэтому Мария была столь лояльна к ней, несмотря на ее злодеяния. Одним словом, я выстрелил в очень худого барашка (уже второго за сегодняшний день после промаха с садовником): таинственная графиня С. больше не была таинственной и имела еще меньшее отношение к той угрозе, которая нависла над головой аббата Мелани. Пока Атто заканчивал рассказ, мое настроение снова стало мрачным, хотя я этого и не показывал. Уже несколько дней я тайком читал переписку Атто и мадам о наследовании престола в Испании и так и не пришел ни к какому выводу. Кроме того, Мелани все еще и словом не обмолвился об Испании и даже не проявлял ни малейшего намерения об этом говорить. Казалось, что все его внимание приковано к предстоящему совету кардиналов, конклаву, и ко встрече трех кардиналов. Она происходила на «Корабле», по крайней мере мы так предполагали, что скорее всего было ошибкой, ведь несмотря на частые посещения этой подозрительной виллы, к которой мы в очередной раз приближались, так и не было найдено никаких подтверждений нашим догадкам. Совсем наоборот, «Корабль», с его необъяснимыми явлениями призрачных существ, вызвал у аббата воспоминания о давно прошедших событиях: о Марии Манчини, о его христианнейшем величестве французском короле, тогда совсем юном, министре финансов Фуке, даже о Капитор, сумасшедшей в свите бастарда Хуана (снова неизбежно приходится возвращаться к Испании), от которой Мазарини сорок лет назад получил три подарка, и среди них чашу, названную Капитор тетракионом. Тетракион. Сколько бы я ни блуждал в лабиринте своих мыслей я постоянно возвращался к нему. Это загадочное слово неожиданно упомянула горничная испанского посольства в разговоре с Клоридией: я послал ее выведать сведения, которые могли бы помочь мне и пролить свет на странную связь между ранением Мелани смертью переплетчика Гавера и подробнейшей перепиской Атто с Марией Манчини об Испанском наследстве. В письмах, кроме всего прочего, упоминался государственный секретарь кардинал Фабрицио Спада, мой хозяин, сообщалось, что он отправился к испанскому послу по просьбе Иннокентия XII, дабы помочь королю Испании, и сам лично взял на себя связанные с этим обязательства ввиду тяжелого состояния здоровья Папы. Все опять вернулось на круги своя: наследование испанского престола, на который законно претендует даже этот тетракион непонятное существо без лица и тела. Когда мы с аббатом двинулись вперед, я снова и снова возвращался к этим умозаключениям, но ни к какому выводу так и не пришел. Казалось, что все связано, но каким образом? Наверное, решение лежало где-то рядом, но я его просто не видел. Эта путаница из намеков и догадок была похожа на фолию – повторяющийся мотив, вездесущий, непостижимый, навязчивая мелодия, напоминающая морскую змею, которая, обвиваясь вокруг слушателя, в конце концов погружает его в странное, противоречивое состояние, парализует его. Фолия. Мы прошли через ворота виллы, и до нас донеслись звуки скрипки – мы попали в теплые, пьянящие объятия этой музыки.
* * *
Мы увидели Альбикастро. Онсидел на корточках на коньковом брусе и извлекал из волшебного корпуса своей скрипки искристые звуки фолии. – Неужели он теперь все время будет попадаться нам на пути? – пробормотал Атто. – Он совсем не брится стать посмешищем в наших глазах. Альбикастро прекратил играть и посмотрел на нас. Я испугался поскольку подумал, что музыкант услышал не совсем лестное замечание аббата Мелани, хотя тот говорил очень тихо. – Все человеческое, как силены Алкивиада, имеет две стороны одна из которых – полная противоположность другой. Господин аббат, вы об этом догадывались? – загадочно произнес голландец. – Точно так же, как те смешные, гротескные статуи олицетворяют собой богов, так и то, что внешне похоже на смерть, при детальном рассмотрении оказывается жизнью. И наоборот, то, что выглядит как жизнь, на самом деле является смертью. Да, музыкант, к сожалению, действительно услышал слова Атто. – Что касается человека, – продолжил он, – часто выходит так: красивый на поверку деле оказывается уродливым, богатый – бедным, преступник – достойным человеком, ученый может походить на невежду, сильный человек – на слабого, щедрый – на скупого, радостный – на грустного; благосостояние может обернуться превратностью судьбы, дружба превратиться в ненависть, полезное стать бесполезным. – Вы хотите сказать: то, что мне кажется смешным, может быть божественным? – поддразнил его Мелани. – Вы меня удивляете, господин аббат. Если вы француз, то должны постараться понять мои слова. Да к тому же у вас перед глазами есть пример. Кто из вас, французов, не скажет, что ваш король богат и всем правит? Но если его одолевает столько пороков и он окружен таким множеством отвратительных людей, то чем он отличается от самого жалкого из своих слуг? Или, к примеру, если он лишается такого сокровища, как душа, и умрет, так и не удовлетворив своих жгучих желаний, не будут ли его называть бедным? Безусловно, вы знаете, что сказал мудрый Солон Крезу, царю Лидии: тот, кто имеет большое богатство, не более счастлив, чем тот, кто каждый день ест один хлеб, и если последнему повезет, то он закончит свою жизнь в роскоши. Услышав эти слова, Мелани, так и не поздоровавшись со своим собеседником, презрительно улыбнулся и с поклоном удалился. Я задумчиво последовал за ним. Крез, последний царь Лидии. Имя этого знаменитого монарха Древней Греции напомнило мне о чем-то. Бледность, которую я заметил на лице съежившегося Атто, тайком наблюдая за ним со стороны, вызвала у меня подо зрение, что голландский скрипач задел в его душе какую-то чувствительную струну. Я попробовал задеть в себе другую струну – одно из далеких воспоминаний: где же я раньше слышал историю о мудром Солоне и лидийце Крезе? Безуспешно. Когда память тебя подводит нужно продолжать размышления: Альбикастро сравнил Креза с его христианнейшим величеством королем…Несколько секунд спустя я вспомнил имя: Лидио, «лидиец», именно он упоминался в письмах Атто и мадам коннетабль – добавилась еще одна загадка. Крез был царем Лидии, а следовательно «лидийцем». Эта таинственная персона отправила Марии послание через Атто, и та ответила ему через того же посредника. Что писала ему мадам коннетабль? «Я же, однако, отвечаю Вам, что в любом деле следует смотреть на его завершение. Кое-кому божество уже показало, что такое счастье, но лишь для того, чтобы впоследствии полностью. уничтожить его». А затем: «…то, о чем ты просишь, я не могу сделать, прежде чем не узнаю, что твоя жизнь закончилась счастливо». А если принять, что эти предложения – цитаты из произведения античного автора? И не были ли они похожи на то, что сказал Солон Крезу? Я решил покопаться в библиотеке виллы Спада как можно скорее, чтобы найти этот эпизод с Крезом и Солоном: он может стать подтверждением моих догадок.
Я догнал Атто, и мы осмотрелись. Кардиналов нигде не было видно. – Нет, они не здесь. Иначе мы услышали бы шум и увидели секретаря. Было такое ощущение, будто три церковника растворились в воздухе. – Что-то здесь не так, – сказал Атто и задумчиво ущипнул себя за подбородок. – Ладно, пошли. Если будем стоять тут, как истуканы, никакого толку не будет. У нас много дел. Нашей целью была чаша. Судя по картине с тремя подарками Капитор, которую мы нашли два дня назад на «Корабле», и по тому, что вспомнил Атто, речь шла о массивном предмете. Он был мастерски изготовлен из золота и выглядел роскошно. Бенедетти наверняка с гордостью выставил бы его на всеобщее обозрение хорошо освещенном месте одного из залов. Но если учесть, что «Корабль» находился в запущенном состоянии, не исключено, что кто-то приложил некие усилия, чтобы защитить чашу от воров. – Мы нашли картину на третьем этаже, – напомнил мне Атто. – Именно оттуда и начнем поиски. Это был этаж с четырьмя отделениями, в каждом имелись отдельная комната, умывальная и небольшой общий салон. Мы тщательно исследовали кровати, шкафы, серванты и комнатушки, но совершенно безрезультатно. Поскольку мы уже рылись во всех возможных местах, нам нужно было пересмотреть каждую из маленьких библиотек, в четырех отделениях. Я встал на стул и начал шарить за рядами книг, хорошо наглотавшись пыли, лежавшей здесь уже бог знает сколько времени. Но и в этой части поисков удача нам не улыбнулась, за одним исключением. Когда я осматривал книги в последней библиотеке, мой взгляд упал на третью полку сверху. Там стоял длинный ряд книг, состоящий из абсолютно одинаковых томов, на которых золотыми буквами было начертано:
ГЕРОДОТ
КНИГИ ПО ИСТОРИИ
На первом томе под названием было написано:Первая книга
ЛИДИЯ И ПЕРСИЯ
Разумеется, я знал имя известного греческого историка и название его работы. Но мне бросилось в глаза заглавие: «Лидия». Страна Креза. – Я пойду вниз, на второй этаж, тут наверху ничего нет крикнул мне Атто с лестницы. – Мне немного осталось, я сейчас спущусь, – ответил я. Да, мне было чем заняться. Я спрыгнул со стула, на который с таким трудом взгромоздился, и опустился в кресло. Затем о крыл книгу, чтобы найти главу, в которой речь шла об истопи Креза. Листая страницы, я прочитал благодарственную молитву стенам, в которых находился. «Корабль» снова странным и необъяснимым образом удовлетворил мою просьбу – дал разъяснение. Только в этот раз ответ пришел не в форме поучительных надписей. Для ответа на мой вопрос мне сунули прямо под нос книгу. Мои поиски имели гораздо больший эффект, чем поиски нашей чаши. Раздел, который все объяснял, начинался с двадцать седьмой главы. Однажды к чрезмерно богатому Крезу, царю Лидии, пришел Солон, мудрый афинянин. Крез спросил у него: – Мой афинский друг! Мне очень много раз рассказывали о тебе и твоей мудрости, о твоих путешествиях по многим странам. Ты горишь жаждой знаний и новых открытий. Поэтому мне очень хочется спросить тебя: видел ли ты человека, который счастливее всех? Крез, обладавший несметными богатствами, пользующийся уважением и огромной властью, конечно же, подумал: Солон ответит ему, что великий царь Лидии и является самым счастливым человеком. Но Солон назвал самым счастливым некоего Телла из Афин. Жизнь этого человека была ужасна, ему приходилось заботиться о своих многочисленных детях и внуках. Но он геройски погиб, сражаясь против врагов, напавших на его город. Второе место Солон отдал аргивским братьям Клеобу и Битону, двум атлетам, которые вместе со своей матерью на телеге преодолели более сорока пяти стадий,[1344] чтобы добраться до храма, где проходил праздник, устроенный в честь богини Геры. Когда их мать вошла в храм, она попросила богиню даровать мужчинам то, что будет для них самым желанным. После завершения праздничной церемонии и пира Клеоб и Битон заснули в храме и больше никогда не проснулись. Это был конец их жизни. Люди сделали их статуи и чтили братьев как выдающихся мужчин. Тогда Крез закричал в гневе: – О гость из Афин, по-твоему, наше счастье совсем незаметно, раз ты относишься ко всем людям как к равным? Солон в ответ произнес очень мудрые слова:– Конечно же, я знаю, что ты владеешь несметными богатствами а являешься царем множества людей. А на то, о чем ты меня спрашиваешь, я тебе ответить не могу, поскольку не уверен, что твоя жизнь хорошо окончится. Ибо тот, кто обладает большим богатством, на самом деле не более счастлив, чем тот, кто каждый день ест один хлеб, и если ему повезет, то он закончит свою жизнь в роскоши. … Только тот человек получит титул самого счастливого, чья жизнь окончилась хорошо, это и есть тот, которого ты ищешь. Но пока человек не умрет, не следует испытывать судьбу и называть его счастливым, можно лишь говорить о том, что у него дела идут хорошо. … Я считаю, о царь, что тот, кто столь продолжительное время имеет все необходимое и кто умирает в хорошем настроении, за небольшую цену купит себе титул самого счастливого. В любом случае, необходимо просчитывать все, до самого конца. Ведь некоторым Бог посылает удачу только для того, чтобы затем уничтожить.– Мальчик, ты идешь или нет? Наша работа только начинается! Голос Атто вернул меня к действительности, а томик Геродота чуть не выпал, из моей руки. Я подумал, что и так уже прочитал достаточно. Теперь-то я начал все понемногу понимать.
Если мои умозаключения были верными, то под именем Лидио скрывался не кто иной, как сам «король-солнце», ведь в загадке Альбикастро именно он сравнивается с Крезом. Разве не сам Атто говорил мне, что Геродот был одним из любимых писателей Людовика и Марии? Была еще одна тайна, которую я долго и тщетно пытался разгадать: мадам коннетабль и его христианнейшее величество король тайно переписывались, и Атто играл роль посредника! Разумеется, они больше не были Марией и Людовиком, молодой девушкой с кожей цвета слоновой кости и застенчивым юношей – исследователем морей, Их переписка больше не была любовным лепетом. Но король Франции по-прежнему настолько высоко ценил советы Манчини, что даже рискнул вести с ней тайную переписку, не желая терять такое дарование и интеллект. Я точно помнил, что Атто в одном из писем сообщил:
«Вы знаете, насколько важны для него Ваше суждение и Ваше согласие».В том же самом письме Атто написал, что должен кое-что передать мадам коннетабль. Нечто, как он заверил, что изменит ее мнение о Лидио. Что же это такое? Но как только прошло воодушевление от находки, у меня родились сомнения: связь с Геродотом была очевидной. А вот факт, что под псевдонимом Лидио действительно подразумевается его величество король, был гораздо менее однозначным. Конечно же, это не было простым совпадением, ведь Людовик и его возлюбленная предпочитали произведения Геродота. С одной стороны, Альбикастро уж слишком явно сравнивал французского короля с Крезом. Я не мог полностью исключить того, что за образом царя Лидии в письмах Атто и Марии Манчини не скрывается другой человек. И я слишком мало знал о жизни Манчини, после того как она уехала из Парижа, чтобы наверняка сказать, кто был этой таинственной персоной. Подведем итоги: я всего лишь нашел еще одну подсказку. И даже знал какую: Сильвио. Когда Мария Манчини писала Атто, она иногда называла его Сильвио и с помощью таких пассажей придумывала для него поучения, загадки, значение которых для меня было скрыто завесой тайны. Но что, если на самом ли деле это тоже были литературные цитаты, как цитаты из Геродота в случае с Лидио? Я даже представил себе, что Сильвио также являлся героем какой-то книги, возможно вестником любви, и, скорее всего был заимствован из мифологии. Я подумал о том, что если бы мне удалось выяснить, откуда взялось имя Сильвио, то, наверное, смог бы быстрее узнать, кто такой Лидио, или, как я надеялся, получить главную подсказку: продолжали ли король Франции и мадам коннетабль любовную переписку. Но вскоре у меня совсем пропало настроение: кроме имени Сильвио, я ничего не знал. Это было все равно что искать иголку в стоге сена. С чего я мог начать свои поиски? Внезапно на мое плечо легла чья-то рука, и я отвлекся от своих размышлений. – Может, ты прекратишь медитировать с этой книгой в руке, словно святой Игнат? Помоги мне. Потный, весь в пыли, аббат появился, чтобы подвигнуть меня на новые деяния. – Я пока еще ничего не обнаружил. Хочу еще раз тщательно обыскать второй этаж. Пошли, поможешь мне. – Я иду, синьор Атто, иду, – сказал я и снова вскарабкался на стул, чтобы поставить книгу Геродота на место. Мне пришлось отложить свои размышления на позже.
* * *
Мы спустились вниз, на второй этаж, где находилась зеркальная галерея (в ней создавалась иллюзия перспективы), по обе стороны от нее располагались гостиная и две комнатушки, в которых все напоминало о папстве и Франции. Я сразу же уперся взглядом в висевший на стене прекрасный гобелен – на нем была изображена очаровательная нимфа, одетая в волчью шкуру, она была ранена в бедро стрелой молодого охотника. Прелестный лик нимфы, кожа цвета слоновой кости и мягкие черные как смоль локоны составляли яркий контраст с лившейся из раны кровью и с выражением отчаянного смущения, которое было написано на лице юноши. Рама, украшенная цветами, папирусами и рельефными медальонами, придавала гобелену изысканную элегантность. Тут я снова вспомнил, как аббат Мелани остановился в восхищении перед этими двумя фламандскими коврами во время нашего последнего посещения «Корабля». Атто объяснил мне, что он лично посоветовал Эльпидио Бенедетти купить эти гобелены когда тот тридцать лет назад был во Франции. Я пытался вспомнить, что еще аббат рассказывал мне о них, пока мысли в моей голове не начали скакать как сумасшедшие и, словно вакханки во время оргии, устремились к неизвестной волнующей цели. Первоначально было четыре настенных ковра – так сказал мне аббат, – однако два из них Бенедетти по просьбе того же Мелани подарил Марии Манчини, так как изображенные там сцены были взяты из «Верного пастуха» – любовной драмы, которая очень нравилась ей и юному королю (эту подробность мне пришлось буквально вытаскивать из него клещами). Любовная драма…Пытаясь изобразить сильный приступ кашля, я с невинной улыбкой попросил у аббата Мелани разрешения выйти: дескать от всей этой пыли стало нечем дышать. Не дожидаясь согласия, я взлетел по лестнице на третий этаж, подобно Меркурию в сапожках с крылышками, и через несколько секунд снова был в той библиотеке, где нашел произведение Геродота «Книги по истории». Едва взобравшись на стул, я пробежал глазами названия и в дополнение провел пальцами по корешкам книг, словно глазам нужно было подтверждение того, что они читали. И тут я нашел ее, очень маленькую, почти тетрадку, вполовину меньше остальных, толщиной всего в палец. Обложка книги была сделана из черной кожи с золотыми уголками, а задник украшен флорентийскими лилиями. Я открыл ее.

Полностью доверившись закладке из тончайшего, уже немного поблекшего шелка гранатового цвета, я прочитал наугад несколько строчек на той странице, где она лежала:
ЛИНКО:
Но я не стал долго рассиживаться. В любой момент мог зайти Атто, разыскивая меня. Я подошел к винтовой лестнице. И тут услышал необычный грохот. Осторожно спустился на пару ступенек вниз и немного наклонился вперед, пытаясь увидеть аббата Мелани: уставший Атто сел в маленькое кресло и заснул, поджидая меня. Присев на ступеньку, я продолжал размышлять: наверное, христианнейшее величество скрывался не только под именем Лидио, но и под именем Сильвио. Потому что мадам коннетабль была для короля не только тем, кем Солон был для Креза, – она все еще была для него Дориндой, возлюбленной Сильвио». Теперь наконец мне стали ясны многие вещи в письмах Атто и Марии. В письмах обсуждались не шпионаж, не темные политические махинации и даже не мрачные стороны международной дипломатии, как я думал все это время, следя за Атто и Марией и несправедливо подозревая их. Нет, эти письма скрывали гораздо большую, невообразимую тайну: Людовик и Мария через сорок лет после своего последнего прощания все еще переписываются что бы поговорить друг с другом о любви. Наконец я понял; почему аббат так просто, как о само собой разумеющемся, рассказывал мне о чувствах французского короля к мадам и о том, насколько сильно ожесточилось сердце короля после потери любимой. И я понял, почему он сообщал обо всем так, словно эти события произошли совсем недавно, еще живы и пронизаны чувствами: да потому, что Атто из первоисточника постоянно получал все подтверждения неохладевающей тайной связи двух влюбленных! Значит, это и была причина, почему Атто приехал в Рим: чтобы встретить Марию Манчини через тридцать лет и передать ей любовное послание от его величества! Чего бы только я не отдал, чтобы узнать, что именно король поручил передать ей через аббата Мелани! Что это такое, что даже требует встречи с глазу на глаз! Собственноручно написанное письмо короля? Гарантия его любви?
Я понял также, почему аббат Мелани с такой неохотой отвечал на мои вопросы, когда мы впервые стояли здесь перед гобеленами. «Верный пастух» – это не только любимая книга обоих влюбленных; эта трагикомическая пастораль ко всему прочему была еще и шифром. И Атто сегодня, как и много лет назад, играл роль посредника. И что же это за любовь между двумя людьми преклонного возраста, к тому же не видевших друг друга сорок лет? В ответ мне на ум пришла фраза, которую я прочитал в одном из писем Атто, адресованных Марии:
«Сильвио был высокомерен, да, но он уважает богов, а Вашим Купидоном он был однажды побежден, С тех пор он преклоняется перед Вами и называет Вас своей. Хотя Вы никогда не принадлежали ему».Любовь к воспоминаниям и упущенным возможностям, любовь короля к Манчини. А я-то думал, что Атто ссылается здесь на свое несчастное положение кастрата! Нет, Атто намекал на сохраненную непорочность той любви. А также на то, насколько она до сих пор свежа в душе старого короля. Затем я подумал о тех оборотах в письмах Марии, где она напрямую обращалась к Сильвио, и только сейчас понял весь смысл напоминаний и упреков: она просто заимствовала их из «Верного пастуха»:
«Эх, Сильвио, Сильвио! Как же тебя возвысило Небо, так рано улыбнулось счастье? Но берегись! Тот, кто раньше времени хочет быть слишком умным, не получит в награду ничего, кроме полного неведения».Эти слова показались мне тогда абсолютно несправедливыми, но в То время я считал их адресованными аббату Мелани, теперь же мне постепенно открывался их смысл. Его величество короля в очень юном возрасте «возвысило Небо», то есть он взошел на трон. Кто получает власть слишком рано, тот «не получит в награду ничего, кроме полного неведения», то есть будет всю свою жизнь пребывать в глупом зазнайстве. А значит, и в том, что касалось Испанского наследства Мария призывала Людовика XIV вести себя разумно. И получается, что Манчини обвиняла короля в самонадеянности, в том, что он ответствен за такой образ жизни и правление, за цепочку несчастий, которые произошли с друзьями Франции в Испании?
«Сильвио, Сильвио, ты, ничего не ведающий мальчик, думаешь, этот случай произошел с тобой сегодня просто так? О, ты не прав. Такие удивительные и неслыханные вещи происходят с человеком не без воли Божьей: разве ты не видишь, что само Небо испытывает отвращение к твоему высокомерному и невыносимому презрению к мирской любви и ко всем душевным волнениям и страстям? Высокие боги не желают, чтобы на земле были равные им, им не нравится когда человек не хочет правильно употребить дарованный ему талант – любить и испытывать страсти».Очень скоро сложилась ясная картина. С известным нам мастерством мадам коннетабль писала об Атто, когда говорила о Лидио, через аббата она отправляла послания и ответы. Кроме того, она называла Атто именем Сильвио, на самом деле обращаясь к королю. Она использовала двух адресатов, чтобы запутать нежелательных читателей и таким образом защитить себя от возможного шпионажа. Со мной этот искусный прием вполне удался. Я никогда не обнаружил бы правды, не укажи мне сначала Альбикастро, а затем и сам «Корабль» дороги, ведущей к Лидио. «Летучий голландец со своим кораблем призраков», кажется, так их назвал Мелани. «Как верно подмечено», – подумал я, задумчиво рассматривая книгу «Верный пастух». Все эти озарения подарил мне именно «Корабль». Вначале Альбикастро, эксцентричный гость виллы, в своей неподражаемой прозорливости сравнил Креза с королем Франции. Именно поэтому Атто вздрогнул и круто повернулся на каблуках, но ничего не стал отвечать голландскому музыканту – на аббата тоже произвело впечатление это загадочное предсказание. Вдобавок ко всему труд Геродота, а затем и книга кавальера Баттисты Гварини помогли мне уяснить: таинственная вилла Бенедетти в который раз выдержала испытание на проверку ее волшебных свойств. Однако я должен был посмеяться над собой: ведь намного вероятнее, что ее владелец, покойный ныне Эльпидио Бенедетти, будучи римским агентом, просто-напросто собирал на вилле книги, картины, предметы искусства и тому подобное, стремясь придерживаться французской моды.
Одно неоспоримо: целью будущей встречи Атто и Марии были не конклав и Испанское наследство, а любовь. Хотя политические интриги и играли при этом некоторую роль, но они не были главными в их переписке. Они служили лишь прикрытием и могли вызвать интерес только у тех, кто привык к ним, – не более того. Поэтому Атто не случайно основной темой наших разговор во время прогулок на «Корабле» сделал разбитую королевскую любовь, рассказывая мне о старых историях. Для него они все еще были живы, и можно было даже подумать, будто блуждавшие на «Корабле» призраки – не что иное, как душевное излучение давно возникшей страсти между мадам коннетабль и теперь уже пожилым королем. Несмотря на расстояние, чувство все еще горело сильным пламенем. Это, вероятно, и было настоящей причиной присутствия аббата Мелани на вилле Спада в праздничные дни: он и мадам, получив приглашение на свадьбу, воспользовались им, чтобы встретиться. И совсем не из-за конклава или Испанского наследства! Однако прибытие Марии откладывалось. Она пропустила также день венчальной церемонии. Что же ее задерживает? Может, действительно продолжительный жар, как она утверждала в своих письмах. «Или же, – решил я пофантазировать, – естественная чопорность в делах любви, которая побуждала ее заставлять «ждать с нетерпением», как будто Атто сам был ее старым любовником, а не просто посланником».
Я услышал шаги Мелани. Он проснулся и подошел к лестнице, чтобы посмотреть, куда же я запропастился. Я снова посмотрел на книгу «Верный пастух». Она действительно очень маленькая. Так что взять ее с собой, положив в карман незаметно от аббата, не составляло труда. А потом я верну ее. Сейчас она была нужна мне: ведь я хотел еще раз прочитать теперь письма Марии.
* * *
– Наконец-то! Позволь узнать, что ты там делаешь? – закричал он, увидев меня сидящим наверху лестницы. – Вы заснули, и я решил дать вам немного отдохнуть. – Не надо было, ведь без твоей помощи мне почти ничего не удалось сделать, – ответил Атто, пытаясь скрыть смущение. Это была, так сказать, изящная форма признания в том, что он задремал, как только я оставил его одного. – Давай закончим с этими беспорядочными поисками, – снова начал аббат. – Я хочу исследовать «Корабль» по порядку, от чердака до подвала, чаша должна быть где-то здесь. Третий этаж мы прочесали очень тщательно. Давай начнем с первого этажа, а затем поднимемся на второй, а потом и на четвертый – этаж прислуги. Пока он спускался впереди меня по винтовой лестнице на первый этаж, я глядел на его сутулую спину, для которой все эти годы не прошли бесследно, хотя аббат все так же горел желанием действий. Я был тронут его видом и подумал о том, какая трудная миссия ему предстоит. В этот раз Мелани удивил меня, обнаружив более благородные чувства и намерения, чем я ему приписывал. В прошлом, наоборот, его цели часто оказывались более низменными, чем я предполагал. Переполненный эмоциями, я следовал за Атто по другим комнатам виллы в поисках подарков Капитор, но в первую очередь, конечно, чаши. Мы осмотрели большой зал на первом этаже, полки, серванты, все выдвижные ящики. Все предметы (столовые приборы, бокалы, мебель) были на тех же местах, что и во время нашего первого посещения. И ни одного намека на чашу. Это был зал, где, как я знал, висело несколько портретов красивых, очаровательных благородных дам Франции (среди них портрет Марии, которым я восхищался еще во время предыдущего визита). Вдруг, проверяя, нет ли чего под одним из диванов и невольно подняв облако пыли, я оказался прямо перед картиной, на которую раньше не обратил внимания. – Мадам де Монтеспан, – сообщил Атто и подошел ближе к портрету женщины необычной, волнующей красоты. – В прошлом фаворитка короля Франции. Женщина, связь с которой продлилась десять лет и от которой родилось семеро детей, – почти вторая королева. Я едва успел разглядеть роскошную грудь, зелено-голубые глаза, в которых искрилась страсть, пробуждающая желание, губы, словно созданные для поцелуев, и округлые руки, как Атто уже перешел к следующей картине. – Луиза де Лавальер, – объявил он, не удержавшись от объяснений, – как я уже рассказывал тебе, первая официальная измена его величества. На этом портрете я увидел лицо неповторимой чистоты, его окружали роскошные светлые волосы с серебристым отливом. Это была гармония нежности, элегантности и очарования, словно Бог в облике этой женщины хотел создать для человечества идеал благословенной триады: грации, скромности и добросердечности. Но каким-то волшебным образом эти глаза цвета морской волны захватывали дух и лишали того, кто созерцал их, сердца и разума. – Они такие разные! – пораженный, воскликнул я. – Эта такая чистая, а та такая… как бы это назвать… – Двуликая и грешная? Ты можешь спокойно сказать это, то, что Монтеспан не была ангелом, видно и слепому, – захихикал аббат. – Тем не менее в своих превосходствах они все же далеки от искренней и пылкой натуры Марии. Они французские женщины, пусть даже являющиеся полной противоположностью друг другу. Мария же были итальянкой. Атто особенно подчеркнул последние слова, и его глаза зажглись огнем от одного только упоминания о Манчини. И тут я наконец понял, насколько же мне повезло: узнать о драме, потрясшей душу французского короля, от приближенного к его величеству человека. Меня просто разрывало от желания услышать продолжение этой старой роковой истории, особенно теперь, когда я знал, что чувства этих двоих до сих пор живы. И к тому же отныне я был абсолютно уверен, что Атто встречается с Марией, чтобы передать ей крайне важное любовное послание короля. Я твердо решил выяснить, что это такое.– Насколько я помню, после отъезда Марии Манчини у короля Франции было много любовных связей, – заметил я, пока аббат водил меня по маленькому залу с портретами королей и князей. – У него было много фавориток, – поправил меня Атто. – И никогда не меньше двух сразу. – Двух? Это что, у французских монархов такие обычаи? – Конечно, нет, – улыбнулся аббат и открыл большой сервант, полный венецианского хрусталя и фарфора из Савоны, чтобы немного покопаться там. – Совсем наоборот. Никогда раньше во Франции не видели ничего подобного: королева и две maîtresses en titre,[1345] – все втроем вынуждены жить бок о бок. Я уже мол чу о том, что мадам де Монтеспан была замужем. У Генриха IV, дедушки Людовика, была одна любовница, но он никогда не осмеливался сообщить о ней своей супруге-королеве. – По вашему мнению, это было еще одним роковым последствием его разлуки с Марией? – подбросил я ему наживку, так как едва сдерживал нетерпение узнать побольше о настоящих отношениях между королем и мадам коннетабль. – Король превратил море боли, в котором утонуло его юное сердце, во всемирный потоп, который поглотил целые народы на многие годы, – начал аббат. – Людовику не разрешили сделать Марию королевой? Тогда другие королевы должны будут поплатиться за это! Ему не позволили, чтобы Мария была рядом с ним как любимая женщина? Значит, у него будет множество женщин, причем все одновременно. С тех пор у короля всегда было по меньшей мере две любовницы, которых он обманывал и бросал ради других женщин, и так – непрекращающейся вереницей, и ни одна никогда не могла быть уверена в чувствах короля и его планах относительно нее. Три королевы: так была названа эта вечная триада. – Тот, кому доставили страдание, должен причинять его другим, извечно так, – резюмировал Мелани. – Людовик решил: раз он не мог принадлежать Марии, то будет разделен между многими, то есть не принадлежать ни одной. С холодным расчетом и ледяным гневом он разделил свою жизнь среди множества женщин: супруги, постоянных фавориток, тысячи любовниц на один месяц или на одну ночь, – сердца всех он заставил разрываться от страданий. Помоги мне, пожалуйста, поднять этот ковер. Король держал всех в головокружительном напряжении, и даже двор не мог быть уверенным в том, действительно ли дамы, с которыми король так охотно появлялся на людях, его настоящие фаворитки или их звезда уже начала свой закати они служат лишь прикрытием для его новой, тайной любви. Над ними всегда нависал безжалостный кнут их господина. И ни одна из них не осмелилась поднять голову.
– Резкое изменение поведения короля стало очевидным с первого же дня свадьбы, – заявил аббат. – Людовик отослал всю испанскую свиту королевы Марии Терезии назад в Мадрид. С тех пор королева, живущая воспоминаниями о своей родине, не оказала ни малейшего сопротивления, но в качестве компенсации попросила у супруга об одной милости: разрешения всегда оставаться при нем. Всегда. И король выполнил эту просьбу. Он приказал обергофмейстеру королевских покоев никогда больше не разделять их. Он не нарушал своего обещания до самой смерти: в Лувре, в Фонтенбло, в Сен-Жермене и, наконец, в Версале король всегда спал рядом с супругой. Среди ночи он покидал ложе любовницы, чтобы вернуться в комнату своей верной жены и оставаться там до наступления дня. И все это он неукоснительно выполнял без объяснения и какого-либо волнения. Даже когда в покои Марии Терезии врывались запыхавшиеся взволнованные повитухи, держа в руках маленький сверток, дабы показать королю очередного бастарда, которого возлюбленная короля только что родила в соседних покоях. Так что именно эту уступку, которую бедная королева посчитала милостью (быть всегда рядом с королем), Людовик превратил в злой, безжалостный акт возмездия. – Что-что? Возлюбленные короля разрешались от бремени прямо в комнатах, соседних с королевскими покоями? – А сейчас самое интересное, – ответил Мелани с печальной иронией. – Любимым «охотничьим угодьем» его величества были как раз придворные дамы из свиты королевы. И наоборот, если Людовик пресыщался какой-нибудь любовницей и бросал ее, то в качестве возмещения обычно даровал ей место в свите королевы. И не зря Мария Терезия так часто вздыхала, заявляя, что ее рок – быть обслуживаемой любовницами своего супруга.
Тут аббат с любопытством покосился на огромное суповое блюдо серовато-желтого цвета, которое было украшено плодами граната из блестящего зеленого и темно-красного фарфора. – В течение двадцати лет у короля появлялось по одному ребенку – это я говорю лишь об официально признанных детях и только шестеро из них – дети от королевы. Семерых родил мадам де Монтеспан. Остальные от других любовниц, – заявил Атто, подняв брови. – Кольбер, премьер-министр, всю свою жизнь был преданным слугой короля. Он служил ему как сводник, снабжал его фавориток повивальными бабками, всем необходимым для новорожденных, а также сговорчивыми хирургами, которые помогали любовницам короля разрешиться от бремени. Кольбер даже находил среди своих старых слуг приемных родителей, которые могли воспитать тайных бастардов – детей случайных любовниц, – добавил аббат, переходя тем временем к осмотру обивки маленьких кресел. Но король не ограничился тем, что устроил королеве мучительную жизнь рядом с его любовницами и их детьми. Отправляясь в путь, он усаживал всех в одну карету и заставлял даже есть вместе. Хуже всего, что, официально признавая нового бастарда, он делал его бурбонским принцем. Он устраивал для них королевские свадьбы и создал тем самым невообразимую путаницу среди Бурбонов, родившихся в законном браке. Да, он зашел так далеко, что выдал замуж одну из своих незаконнорожденных дочек за «внука Франции»: заставил сына своего брата Филиппа взять в жены младшую дочь от своей связи с мадам де Монтеспан. Двор возроптал. Родители юноши устраивали королю отчаянные сцены с криками и плачем. Он торжествовал. – И куда это приведет? – сердито засопел Атто. – Значит, вы считаете, что существует опасность для будущего короны? Атто ответил не сразу: он снимал со стены большую картину, рама которой нам казалась слишком массивной и могла иметь что-то внутри. – Мое опасение заключается в том, что однажды король может объявить наследником престола одного из своих бастардов. И тогда наступит конец. Ведь это будет означать, что не рожденный королевой, а любой, действительно любой желающий, может стать королем. Если так пойдет и дальше, то какой-нибудь простой человек может задаться вопросом: а почему не я?
* * *
– Давай посидим немного, – предложил Атто, с усталым вздохом тяжело опустившись в шезлонг. – Отдохнем минутку, а затем опять поищем. Я тоже нашел себе кресло, в которое и опустился, не удержавшись от зевка. – Имея столько любовниц, – заметил я, подхватывая прерванную нить воспоминаний Атто, – после отъезда Марии король, наверное, довольно скоро утешился. Я надеялся спровоцировать его продолжить разговор в нужном мне русле: отношения короля и мадам коннетабль в наше время. Но Атто Мелани подскочил словно ужаленный: – Что ты такое говоришь! Видимо, ты вообще не слушаешь, что я тебе рассказываю! Связь с первой фавориткой, Луизой де Лавальер, была нужна королю, чтобы отомстить королеве-матери, разлучившей его с Марией: она должна была поверить, что король быстро забыл Марию. Это был бесполезный реванш Людовика, вызванный запоздалой смелостью, триумф задним числом, яростное принесение жертвы на могилу своего сердца, – продекламировал он с особенным пафосом. Какое удовлетворение получал король, так безжалостно заставляя супругу-королеву и королеву-мать обедать за одним столом со своими любовницами? Или тайно засылая их в покои матери, принуждая сидеть рядом с собой, братом и кузиной за игровым столом разыграть настоящий спектакль перед старой королевой, словно избалованный ребенок? Но как сильно Людовик XIV хотел подтвердить свою ужасную репутацию, заставив Луизу рожать с маской на лице в присутствии хирурга, которого привели к ней с завязанными глазами! Бедная Луиза, женщина застенчивая и скромная, была послушным инструментом в руках короля, у которого не осталось сердца. Пока его мать была жива, она пыталась заставить Людовика признать Луизу. Это был поединок, который Людовик продолжал из мести, точно так же, как из ненависти он преследовал Фуке. Его жестокость на самом деле была предназначена тому кого рядом уже не было, – Мазарини. Когда не с кем стало бороться, он оставил Луизу, она ему надоела, хотя и родила ему троих детей. – Луизе были чужды светские развлечения, игры и сплетни, интриги и махинации тщеславных людей при дворе, – вздохнул Мелани, качаясь в своем шезлонге. – Она была совсем не глупа, охотно читала, но не была веселой, ей he удавались остроумные замечания или проницательные ответы. Она не была Марией, – закончил он с хитрой улыбкой.Мы поднялись и продолжили поиски чаши Капитор. Начали с комнаты, в которой стоял стол для бильярда. На стенах висели различные гравюры, выглядевшие как картины; на одних были изображены античные барельефы, другие выполнены в стиле Ганнибала Караккиса и представляли собой портреты знаменитых мужчин. Мы снимали их со стен, чтобы проверить, нет ли за ними тайного вместилища, но были разочарованы. Запылившееся покрытие игрового стола за все эти годы полиняло, его изумрудно-зеленый цвет превратился в тусклый серо-зеленый. Единственный белый шар из слоновой кости лежал, забытый посреди стола, словно образ сердца де Лавальер – заложницы в пустыне равнодушия Людовика. Атто печально толкнул шар – тот отскочил рикошетом от противоположной стенки, и снова зазвучал рассказ: – Итак, король продолжал ходить к Лавальер только для того, чтобы наслаждаться кокетством и волнующими, соблазнительными формами ее соперницы – мадам де Монтеспан, называемой Атенаис. Когда король отправился на войну в Нидерланды, он оставил Луизу, которая была на четвертом месяце беременности, одну в Версале, а из свиты королевы взял с собой Монтеспан. – Придворные дамы на войне? И даже королева? – Господи, что же ты в последние годы читал и изучал такого, что даже этого не знаешь? – набросился он на меня, когда мы из бильярдной возвращались в большую столовую, откуда затем перешли в комнату, которая вела в заднюю часть сада. Мы вышли. Здесь начиналась аллея, которая, как оказалось позже, вела к небольшому гроту. – Повторяю: я читал книги, а не пустые, лживые газеты, – нетерпеливо ответил я, сделав вид, что смущен его замечанием. – Ну хорошо. Королю, подобно турецким султанам, нравилось брать с собой в военные походы все, что доставляло ему удовольствие при дворе: красивую мебель, фарфоровые сервизы, столовые приборы из золота, все оснащение, которое могло понадобиться, чтобы устраивать балеты и фейерверки в каждом городе, через который он проезжал, и, конечно, женщин. Я подумал, что для жителей деревень и крестьян увидеть такое было истинным весельем: безумный симбиоз военного похода и праздничного кортежа, с рыцарями в шлемах с плюмажем во главе колонны и рядами позолоченных карет в конце – в этих волшебных ящиках скрывались самые красивые благородные дамы империи! – И только по грязи, которой были запачканы вензеля и гербы на каретах, по загорелому на солнце и исхудалому лицу короля и, не в последнюю очередь, по изнуренному виду дам, измученных нечеловеческой тряской, можно было понять, что это не парад в Версале времен Мольера. Особенно помнится мне однапоездка. Когда мы проходили через Оксер, где, как известно, исключительно красивые женщины, на улицы города высыпали все жители – им хотелось поглядеть на королевскую семью и на дам, которые сидели в карете с королевой. Дамы также высунули головы из карет, чтобы посмотреть на город и их жителей. Как тут народ Оксера начал язвительно смеяться: «Ah, qu'elles sont laides!» – что значит: «Как они ужасны!» Король смеялся громче всех, от всей души, а потом мог говорить об этом целыми днями, – с улыбкой вспомнил аббат. Христианнейший король заставил весь свой двор следовать за ним на Деволюционную войну, которую Людовик начал после смерти своего деверя Филиппа IV, короля Испании, чтобы отвоевать часть Испанских Нидерландов, так как они принадлежали Марии Терезии по деволюционному (наследственному) праву. – Значит, кроме Луизы и королевы, он взял еще и фавориток? – Мария Терезия была первой, кто должен был ехать вместе с ним, в конце концов, – по крайней мере, формально, – эта война велась ради нее. И как только город был взят французами, ей нужно было отправляться туда, чтобы официально вступить в его владение. Однако Луиза, это простое и пылкое сердце, неожиданно решила, несмотря на беременность и гнев короля, отправиться вслед за двором в Нидерланды. Она прибыла совсем обессиленной. Королю, который был скорее весел, чем расстроен, описали сцену, когда бедная беременная, в слезах, упала на стулья в передней у Марии Терезии, и от позора и злости Луизу рвало.
Тем временем мы дошли до маленького грота. Здесь мы точно не могли найти чашу Капитор, но оба почувствовали потребность вдохнуть свежего воздуха после всей той пыли, которой успели наглотаться. Чистота мягкого бриза, которым я наслаждался в саду, напомнила мне образ Луизы де Лавальер – невинной, беззаветно преданной Луизы. Застенчивый зефир. Ее так грубо прогнали! – А король не рассердился, что возлюбленная ослушалась его? – спросил я, когда мы покинули грот и двинулись дальше по небольшой тропинке. – Очевидно, нет. Наоборот, когда королева попросила его сесть в карету, он отказался и продолжал скакать рядом с Луизой. И когда на следующее утро они отправлялись на мессу, бедной Марии Терезии ко всему прочему пришлось смириться с тем, что Луиза влезла в их карету. Они с дамами еле помещались в ней; но вынуждены были потесниться, чтобы дать место. В тот же вечер королева ужинала в присутствии Луизы. Однако уже через день король не заботился ни о своей супруге, ни о своей возлюбленной, а провел почти весь день, закрывшись в своей комнате. А Монтеспан в своей. И посмотрите, какое совпадение: у этих двух комнат была общая дверь! Королева еще не знала, что со взлетом Атенаис ей придется мириться с почти узаконенным многоженством: поездки в карете с обеими фаворитками своего супруга станут правилом, да и во многих других ситуациях ее принудят к официальной жизни втроем. Однако возлюбленным короля приходилось не лучше, чем королеве. Людовик держал их под замком, он был очень строг, и даже если одна из фавориток иногда занимала главенствующее положение, он тщательно следил за тем, чтобы у обеих от беспокойства сжималось сердце. А достигал он этого благодаря огромной толпе безымянных любовниц, которые входили и выходили из его покоев. Официальные фаворитки сходили с ума от этой неопределенности, а Мария Терезия могла быть спокойна: ежедневные склоки, полные злобы, резкое обращение короля заставляли ее соперниц упрямо молчать, подолгу занимаясь вышивкой, поэтому все это успокаивало ревность королевы.
Тем временем тропинка вывела нас к небольшому амфитеатру. Намного меньшему, чем тот, который был сооружен на вилле Спада для праздничных представлений. Хотя этот был исключительно милый и, можно сказать, даже таинственный. Он был окружен узкими античными барельефами и множеством колонн, украшенных цветочными горшками. В центре находился небольшой фонтан, от которого до колоннады доносилось эхо тихого журчания, множившееся подарками. – Король воздвиг вокруг своего сердца стену изо льда, – продолжил Атто, настолько погруженный в свой рассказ, что не удостоил эту красоту ни единым взглядом. – И только сильная боль могла еще хоть немного расшевелить его. Например, когда умирал ребенок, которых у него было много. Из шести детей, рожденных в законном браке, в живых остался лишь один дофин. Когда у Людовика тридцать лет назад умер самый младший сын, маленький герцог Анжуйский, он испугался, что это может быть знаком Божьего гнева. Но такое состояние не продолжалось долго. Даже когда Луиза де Лавальер решила уйти в монастырь, единственной реакцией короля был гнев. – В монастырь? – переспросил я, с наслаждением сделав несколько больших глотков вкусной воды из родника. – Да, бедная женщина, у нее была искренняя душа, она ничего больше не хотела, кроме как просто любить короля и быть любимой. Единственная фаворитка, которая полюбила Людовика ради него самого, и это очень льстило ему, но не более. Однако она воспринимала свое чувство всерьез, да еще как! Когда она решила стать кармелиткой, то при всех попросила у королевы прощения: «Мои грехи были всем известны: поэтому за них я должна публично попросить прощения и покаяться». И она склонилась к ногам растроганной Марии – Терезии, которая тотчас же приказала ей подняться и поцеловала ее. Это был миг, достойный умиления. Жаль, только короля там не было.
* * *
Мы вернулись в дом. Обыск первого этажа не занял у нас много времени, и уже очень скоро мы были свободны. Отчаявшись, аббат рассматривал наши отображения в зеркале на стене. В одежде, припорошенной пылью, и с паутиной в волосах мы выглядели словно два старьевщика. – Что будем делать теперь, синьор Атто? Пойдем на второй этаж? – Да, и не только для поиска чаши. На втором этаже Атто отвел меня в умывальную комнату рядом с маленькой часовней. – Nie corpus! – громко прочитал он надпись над входной дверью, которую мы заметили еще три дня назад. – Давай воспользуемся этим чудом гидравлической техники, если оно, конечно, еще функционирует. Он открыл кран с надписью calida, но теплой воды мы не получили. Он попробовал кран с надписью frigida, и здесь нам повезло больше: в умывальник побежал поток холодной воды. – Откройте сундуки, возможно, там есть еще полотенца. Предположения Атто были верны. Хоть полотенца были старые и жестковатые от сухости, от пыли они все же были спасены. Я нашел даже пару затвердевших кусков мыла. Так что мы смогли, сначала он, а затем и я, помыться и основательно почиститься.Затем мы снова отправились на поиски подарков Капитор, особенно нас интересовала чаша. На втором этаже рядом с большой галереей с оптическим эффектом было четыре салона. Здесь действительно находилось много чего, что нужно было осмотреть. Мы выдвинули ящики больших комодов из черного дерева с инкрустацией слоновой костью и латунью, другие были сделаны из корневища дуба с узорами из розовой сердцевины дуба, в них хранилось несметное количество фарфоровых чашечек. Мы захлопнули ящики и с большим трудом стали сдвигать с места большие темные шкафы, украшенные резными листочками, оленьими головами и впечатляющими фигурками сатиров – этих мрачных стражей потайных ящиков. Мы подвинули даже большое зеркало над камином, на подставке которого стояли статуэтки из тончайшего фарфора, среди них – светловолосая пастушка с корзинкой, молодой трубочист в кепке, с лестницей и даже китайский мандарин с предостерегающе поднятым указательным пальцем (на котором можно было увидеть заклеенную трещину). Открыв сундуки под окнами, мы рылись в почерневших от времени серебряных чайниках, в ворохах тесьмы и оборок для гардин и занавесок, нашли даже колоду карт из Парижа. Кроме того, аббат Мелани сунул нос в печь и вылез оттуда весь в саже. Кашляя от облака густой пыли, мы скатывали узорчатые французские ковры, приподнимали большие гобелены с мифологическими и пасторальными сюжетами, надеясь найти неизвестный ход, скрытую дверь, которая привела бы нас в какую-нибудь невидимую потайную комнатку (ведь спрятать глобус не так уж и легко!), остервенело искали какой-нибудь признак, способный приблизить нас к подаркам Капитор.
– После Луизы де Лавальер, – решил продолжить свой рассказ аббат Мелани, – началось правление мадам де Монтеспан. Это была остроумная женщина необычайной красоты, она всегда шла в ногу с модой, обладала искристой чувственностью и душой изо льда. Монтеспан хотела завоевать короля любой ценой. Он сразу это понял – и не поддавался искушению. Да, он даже язвил на ее счет: «Мадам де Монтеспан с удовольствием была бы моей но я не хочу этого». Но затем чувства и разум короля поддались ее напору. Начало связи с Монтеспан – это смерть любовного чувства или даже видимого проявления такового. Людовик не только сам потеряет способность любить; начиная с Монтеспан, его больше никогда никто не полюбит. – Однако христианнейший король поймет намного позже, что никто не любил его по-настоящему, – загадочно заявил Атто. Вместе с Атенаис начался десятилетний период блеска Людовика XIV, эпоха наибольшего расцвета и пышности его правления, которая закончится делом об отравлении, когда король наконец поймет, что сам стал жертвой своей любовницы, а не наоборот. В эти годы он проявил себя с наихудшей стороны: через его постель прошли целые толпы дед, готовых на все, и каждая была не похожа на свою предшественницу. Не все из них заслуживали осуждения: ведь некоторые поддались обманчивой иллюзии, что смогут таким путем освободить молодого супруга или жениха от военной службы или попытаться вернуть отцу наследство, конфискованное вероломным Кольбером. Однако Людовик никогда не упускал случая собственноручно и с большим удовольствием разрушить эти надежды. – Юноша, – обратился ко мне аббат, заметив на моем лице выражение ужаса, – его величество король бесконечно страдал в далеком прошлом, так безмерно, что он не смог этого выдержать, – он, переживший кошмар Фронды. Словно избалованный ребенок, который из простого любопытства доставляет птичке невыразимые страдания, король наблюдал за горем несчастных девушек, лишенных своих иллюзий, ибо хотел понять, страдали ли они так, как страдал он, как вообще можно было страдать. Короче говоря, он хотел вырвать из их сердец тайну страдания – единственное, что смогло победить великолепного «короля-солнце». – Но все это происходило в королевских покоях под покровом тайны, – уточнил Атто, пока мы проходили через галерею и эхо наших шагов отражалось под высоким сводом. При дворе же, наоборот, царила бесспорная власть Атенаис ее называли «правящей возлюбленной» – намек на титул «правящая королева», который отличал супругу короля от королевы-матери. И придворные были не так уж и не правы: в лице мадам де Монтеспан Людовик подарил двору «запасную» королеву. – Она излучала блеск и благородство, как Аврора у Пьетро да Кортоны, – сказал аббат и указал на великолепную фреску на потолке галереи. Фреска находилась в центре галереи, между символами утренней зари и ночи, она неожиданно привлекла внимание Атто изображением полдня. Это было падение на Землю Фаэтона, пораженного молнией Зевса за желание управлять солнечной колесницей. – Когда мы были здесь в первый раз, я не заметил ее: чтобы изобразить середину дня, Бенедетти выбрал миф, в котором наказываются высокомерие и безрассудство. На соседних стенах он велел написать изречения, восхваляющие короля Франции. Очень странно. – Однако, – заметил я удивленно, – это, кажется, очень похоже на Овидия. – «Тебе выпала смертная участь; однако твои старания не смертны», – наизусть прочитал Атто и согласился со мной. – Овидий, «Метаморфозы».
Затем Атто продолжил рассказ. Атенаис выполняла роль правящей королевы, не являясь таковой: она принимала, беседовала и очаровывала всех послов. Король выставлял ее напоказ с большим удовольствием – ведь таким образом она служила монархии. – Она точно знала, что король не любит ее, – горько заметил Атто, – но она также знала, что нужна ему, чтобы «быть любимым самой красивой женщиной империи», как она сама охотно и неоднократно повторяла. Украшение, как и многое другое, не более. В это время мы подошли к стеклянному фасаду. Вновь оказавшись во власти оптического обмана, который вызывали зеркала, я с удивлением наблюдал, как галерея увеличивалась, а отображающееся проецировалось почти до бесконечности, вплоть до холма Святого Петра. Я подумал, что эта восхитительная и утонченная иллюзия была похожа на судьбу мадам де Монтеспан – иллюзорной королевы Франции. – Что объединяло Атенаис и Марию, так это мужество давать отпор королю, – добавил Атто. – Она не боялась высказывать свое мнение и обладала при этом устоявшимся вкусом, как настоящая королева. За десятилетие ее «господства» Версаль стал таким, каким мы знаем его. Папье-маше эфемерных строений, которые во времена Луизы сохранялись на время праздника, превратились в камень и туф, в бронзу и мрамор, которые были упорядочены в скрытой закономерности случая, то есть ради озадачивающего эффекта, а вокруг замка выросли рощи, фонтаны и цветочные клумбы. Большой канал заполнился миниатюрным флотом гондол и фелюг, бригантин и галер. И парк, стонущий под тяжестью летней жары, теперь украсился китайскими павильонами с белоснежными и небесно-голубыми крышами. Однако Атенаис предпочитала заниматься своей собственной резиденцией неподалеку от Версаля, которая во всех мелочах повторяла его. Для создания этого великолепия был вызван великий Ленотр (гений архитектуры, тот самый, что оформлял Версаль как резиденцию, а перед этим – Вок-ле-Виконт – печально известный замок генерального контролера Фуке), и он превзошел самого себя, создав парк с ночными гиацинтами, нарциссами, левкоями и анемонами, бассейны с теплой водой, пахнущей пряными травами… – …и всем, о чем не может и мечтать тот, кто такого не видел. Ах, к сожалению. – Почему вы так говорите? – спросил я его, услышав, как он печально вздыхает. – Да потому что судьба всей той красоты была такой же, что и судьба замка Фуке. Как только его владелица впала в немилость, все это погибло, как однажды пал и Вок-ле-Виконт, когда хозяин замка был арестован. И это лишнее подтверждение того, о чем я тебе говорил. – Но почему? Что произошло? – Яд. мой мальчик, отравление. Самый большой процесс столетия. Почти всем пришлось за это заплатить. И Атенаис была замешана в том деле не меньше, чем Олимпия Манчини. Свидетели сообщали, что видели, как те на черных мессах приносили в жертву младенцев, дабы сохранить любовь короля. Дело замяли, но для Атенаис это все равно означало конец. И охотник понял, что он сам стал дичью. Когда король узнал, на какие подлости способны его возлюбленные, когда он услышал о сатанинских ритуалах и колдовстве, организованных только для того, чтобы обеспечить себе место в его постели, он понял, что во всех его любовных связях и романах было слишком мало любви. Он и до сих пор под впечатлением этого открытия. Со времен Марии Манчини, когда близкие принесли его на алтарь власти, он был убежден, что изменил свой статус. Но на самом деле все повторялось: он опять был лишь фигурой на шахматной доске для тех, кто клялся ему в верности. И на сей раз король был один: ему больше не суждено было получить в утешение возможность разделить свою печальную участь с женщиной своей жизни. Так открылась дверь в его старость.
* * *
Мы завершили тщательное обследование второго этажа и поднимались по главной лестнице. Дошли до самого конца лестницы и попали на четвертый этаж, где когда-то жили слуги. По сравнению с остальными помещениями виллы здесь был другой мир: никакой мебели, стены и потолок даже без штукатурки и каких-либо украшений. Было несколько мезонинов для слуг, помещение для шорной мастерской и служебные комнатушки. Пауки, мухи и мыши безраздельно хозяйничали на этом холодном мрачном этаже, который показался мне отражением последних безрадостных лет жизни его христианнейшего величества короля. В поисках тайников мы продолжали неутомимо простукивать стены костяшками пальцев, проверяя, не скрывается ли под планками какой-нибудь люк или под нишей окна – сейф. Затем мы наткнулись на комод, который не хотел открываться в отличие от всей остальной мебели на «Корабле», он был закрыт. – Ага, возможно, мы наконец у цели! – воскликнул аббат воспрянув духом. – Сбегай вниз, на второй этаж, и возьми нож в любом ящике со столовыми приборами. Мне кажется, я видел его в том большом шкафу, который стоит на вычурной ножке великого генерала, – захихикал он, намекая на деревянную резную фигуру импозантного, строго глядящего сатира.На втором этаже я ничего не нашел, потом спустился на первый этаж и таки нашел там нож. Прежде чем подняться, я еще раз бросил взгляд на один из портретов благородных дам, висевших на стене, – раньше я не замечал его. На картине была изображена дама средних лет, с немного округлыми формами, черты лица не то чтобы отталкивающие, но какие-то заурядные и невыразительные, что никак не соответствовало общей пышности портрета. Однако по одежде дамы можно было сразу понять, что перед нами не простой человек. Под рамой я прочитал надпись: «Мадам де Ментенон».
Это имя я встречал уже в третий раз. Разве она не была той дамой, на которой тайно женился его величество король, как рассказывал мне аббат Мелани? Должно быть, это она. Я еще раз посмотрел на портрет: абсолютно невыразительное лицо, почти как у женщины из простонародья, оно составляло резкий контраст с полными аристократизма лицами других фавориток короля, чьи портреты висели по обе стороны от нее. – Мадам де Ментенон… – бормотал я на пути на четвертый этаж. – Как только король Франции мог жениться на ней? Я имею в виду, после этих очаровательных женщин… – Ты видел внизу ее портрет? Невероятно, не правда ли? – заметил Атто и схватил нож, который я ему подал. – Король женился на ней тайно в одну октябрьскую ночь семнадцать лет назад, всего через два месяца после смерти королевы Марии Терезии. – Тайно… – вспомнил я. – Вы уже рассказывали мне об этом несколько дней назад, когда мы были на «Корабле» в первый раз. И все же боюсь, что неправильно понял вас: она является супругой, которая не может считаться королевой. Мне кажется, я уже слышал о таком браке королевских особ, когда супруга короля не правит рядом с ним и не наследует трон… – Нет, это морганатический брак, ты заблуждаешься. А Ментенон досталась еще более скромная роль: она – «не провозглашенная», то есть не официальная жена. При дворе все знают о браке, и он совершенно законен для короля. Он не хочет только, чтобы о нем упоминали. Tamquam non esset – как будто этого брака не существует. – Но кем эта женщина была до того? – настаивал я, вспомнив, что аббат назвал ее «абсолютно непрезентабельной для общества». – Гувернанткой, которая, как я уже тебе рассказывал, ребенком даже нищенствовала и просила милостыню, – сказал он, улыбаясь, и посмотрел на меня, высоко подняв брови. Я решил подождать, пока Атто управится, а он, ковыряя ножом в замке ящика, продолжал рассказывать дальше.
Франсуаза Д'Обинье, которую король позже наделил титулом мадам де Ментенон, в то. время уже десять лет работала гувернанткой детей, которых Монтеспан подарила его величеству королю. Ментенон была на три года старше своего господина, и в ее венах не было ни капли голубой крови. Она была сиротой, самого низкого происхождения, родилась в швейцарской, где ее мать приютили из жалости, ведь, как жена гугенота, она кочевала из одной тюрьмы в другую. В детстве она и обе ее сестры, одетые в лохмотья, просили милостыню на тарелку супа У дверей монастырей. Судьбе было угодно, чтобы в разгар Фронды она встретила старого калеку Скаррона – одного из тех бесстыдных поэтов-сатириков, которые были в моде во времена баррикад и восстаний. Скаррон сидел в инвалидном кресле, нуждался в уходе и имел весьма жалкий вид. Не долго думая он предложил шестнадцатилетней Франсуазе стать его помощницей, если она выйдет за него замуж. Она не стала размышлять и согласилась. Однако после того, как страсти Фронды улеглись, дела Скаррона пошли плохо. Он писал теперь лишь панегирики для различных заказчиков, а свою молодую цветущую женушку использовал в качестве приманки: она заманивала людей, будила надежды хотя не давала к себе и прикоснуться. За это Скаррон кормил её и оплачивал образование. Когда он умер, ей исполнилось двадцать пять лет. От мужа она унаследовала лишь кучу долгов. После того как была продана с молотка вся их немногочисленная мебель, молодая вдова оказалась на улице. Однако что-то она все-таки приобрела: искусство кокетства и необходимое образование, чтобы найти богатого покровителя и выбраться из нищеты. – Доказательством этого стала ее дружба с Нинон де Ленкло могущественной сводницей, – хихикнул аббат, – от которой ей досталась пара пылких любовников. Благодаря Нинон ей удалось также познакомиться с Атенаис де Монтеспан. А Монтеспан в тот момент как раз родила королю первого ребенка – девочку. Поскольку эту девочку нужно было воспитывать в строжайшей тайне, то она предложила Франсуазе Д'Обинье место гувернантки. Постепенно детей становилось все больше, и глядь, уже через несколько лет пришла удача: бастарда объявили законным наследником. В соответствии с волей короля Монтеспан с детьми перебралась в королевский дворец. Естественно, вместе с гувернанткой. – Уже тогда она была достаточно хитрой, чтобы выдавать себя за крайне набожную, чуть ли не фанатично религиозную, – заявил Атто язвительно. – Просто наглость, если учесть, что всего несколько лет назад Монтеспан подослала ее к Луизе де Лавальер. Франсуаза должна была отговорить Лавальер от намерения стать кармелиткой, пугая ее тем, что жизнь в монастыре будет полна лишений. – Но она же не думала, что в образе святой понравится королю. – Она была очень предусмотрительной. Уже давно духовенство и придворные святоши выступали против Монтеспан и возмущались выходками короля. И она действовала с ними заодно, хотя и тайно. Столько лет она прожила бок о бок с Атенаис классическая змея, пригретая у той на груди! И в решающий момент процесса об отравлении наступил ее час: Монтеспан проиграла, а для короля это стало безрадостным отрезвлением. – Вы хотите сказать, что король вернулся к более скромному образу жизни? – Это не совсем так, – немного помедлил с ответом Атто. – В принципе, христианнейший король еще никогда не вел себя так распущенно, как в конце этого процесса об отравлении, желая таким образом прогнать свои страхи. Он менял одну случайную любовницу на другую, каждой ночью у него была новая, и все совсем юные, как перешептывались во дворе. И в это время его настиг новый удар судьбы: самая юная фаворитка, прекрасная Анжелика де Фонтанж, родила королю мертвого ребенка и вскоре умерла сама от кровотечения. Ей было всего двадцать лет – она годилась ему в дочери. Здоровье короля оказалось подорванным после этих испытаний. К тому же при падении с лошади король повредил ногу, постоянно гноившуюся рану ему прижигали раскаленным железом, и он был вынужден отныне разъезжать по аллеям Версаля в кресле на деревянных колесиках. На короля свалились сначала предательство, затем смерть Анжелики и, наконец, собственная болезнь. Король был ужасно одинок. – Да и кому он мог доверять еще среди этих отравительниц и мегер? В отчаянии он жаждал, чтобы рядом с ним находился простой человек. С прекрасными фаворитками было покончено. Зрелому королю они стали казаться слишком опасными игрушками.
Наконец Мелани удалось открыть ящик комода. Однако нам пришлось констатировать, что в нем ничего не было. Мы пошире открыли окно, чтобы впустить свежий воздух и приглушенные звуки римского полудня, и присели передохнуть на подоконник окна, выходящего на запад. Перед нашими глазами мягко покачивались верхушки высоких деревьев. Я снова посмотрел на комнаты прислуги. Теперь, после рассказа аббата Мелани, они уже не казались мне такими унылыми. Как и лицо мадам де Ментенон, они были очень простыми, и именно поэтому время не оставило здесь своих грубых следов. Тут не было роскоши и блеска, зато можно было отдохнуть в тишине от бесконечного восхищения и насладиться покоем, который излучали эти стены.
Франсуаза де Ментенон, продолжал свои воспоминания Атто, тем временем стала для королевских бастардов настоящей матерью и это дало королю ощущение несравнимой ни с чем надежности В тесном кругу двора она была единственным человеком такого низкого происхождения, поэтому не смела надеяться на роль официальной фаворитки, поскольку те всегда были из достойных семей. Тем не менее она знала, как понравиться в разговоре, даже если никогда не была особенно остроумной. Короче говоря, король не чувствовал никакого давления с ее стороны, никакой угрозы, что очень нравилось ему. Так он начал все чаще проводить пару часов в непринужденной болтовне с ней: охотно беседовал о своих детях или на другие простые темы, – с этой гувернанткой он расслаблялся. Как женщина она не привлекала его, но и не отталкивала. – Франсуаза дала мир его душе и спокойствие, – подвел итог Мелани, – не требуя при этом какого-то места для себя. Его чувства слишком устали, а разум стал недоверчивым. К тому же, когда он овдовел, ему становилось плохо от одной мысли о том, что сейчас на него накинутся со всех сторон и он будет вынужден опять жениться и дать Франции новую королеву. Однажды он уже позволил женить себя. На этот раз король решил, что наступил час мести: он даст империи, отобравшей у него Марию и заставившей жениться на Марии Терезии, бывшую нищую и проститутку. Как же он наслаждался скандалом, разразившимся при дворе: сам министр Лувуа бросался ему в ноги и умолял не жениться на гувернантке!
Мы встали с подоконника и продолжили свои поиски. – Однако и на сей раз его христианнейшее величество короля ждало жестокое разочарование. Его невеста дала ему гораздо меньше мира, чем он надеялся… – Как это? – Несколько лет назад король обнаружил, что де Ментенон уже давно передавала всю конфиденциальную информацию, которую узнавала от него лично, узкому кругу друзей, куда входили епископы и другие церковные служители, некоторые из них даже считались еретиками. Цель – «конверсия» короля. Проще говоря, установление контроля духовенства над действиями короля. У меня даже рот открылся от удивления. Да уж, действительно, королю положительно не везло с женщинами: сначала эта Монтеспан с ее черными мессами, а теперь мадам де Ментенон, которой он оказал милость, женившись на ней, неблагодарно передавала государственные секреты церковникам, чтобы они могли тайно управлять империей. Сейчас наше окружение вновь показалось мне безрадостным и враждебным, захотелось снова вернуться в роскошные залы нижних этажей. Возможно, и король Франции с сожалением вспоминал прекрасный облик Монтеспан, когда обнаружил, что его бесцветная жена на самом деле оказалась не менее ядовитой, чем отравительница Монтеспан. – Представь себе его реакцию, – вновь начал Атто. – После смерти кардинала Мазарини король прекратил общение с духовенством. Он даже переменился в лице от гнева: как посмела эта вульгарная женщина, которую он из мести навязал двору как свою жену, устраивать заговор за его спиной и передавать этой банде святош-лицемеров секретную информацию! Она, которой не позволено есть за одним столом с королем! Она, которая занимает в Версале покои его возлюбленной! Она, которую, хоть и называли иногда «величеством», должна была довольствоваться в обществе самым последним местом! – Но ведь он не прогнал ее, как сделал это с Монтеспан? – Конечно, король мог бы устроить процесс. Тогда Ментенон ни много ни мало обвинили бы в политическом заговоре. Но в этом случае король невольно становился посмешищем в глазах тех, кто отоваривал его от этой женитьбы, взывая к благоразумию. Что же сделал король, пока весь двор, затаив дыхание, ждал его реакции? Он удивил всех и повел себя так, словно ничего не произошло: вместо того чтобы сослать предательницу, устроил свое ежедневное совещание с министрами… в ее комнате! Король и министры заняли места друг напротив друга. За спиной Людовика сидела мадам де Ментенон, притаившись в своей «нише» – кабине, обитой деревом, которую она, страдая болезненной мнительностью, велела соорудить, чтобы… защититься от наводнения. Время от времени король даже советовался с ней. Но это была одна видимость – ведь она могла давать лишь ответы общего характера. Но, увы, когда Ментенон решила высказаться без разрешения короля, в то же мгновение на нее обрушился гнев супруга. – Его величество был не готов признаться перед двором, что позволил этой мнимой святоше обмануть себя, и поэтому решил еще чаще, чем раньше, показываться в свете с какой-нибудь дамой. Но между ними все было кончено.
* * *
За старой печью мы обнаружили небольшую постель из соломы, рядом с которой лежали пакетик со свежим инжиром, льняной мешочек с несколькими кусками хлеба и еще один, гораздо больший, – полный сыра. Рядом стояли полупустая бутылка красного вина и красивый бокал, разрисованный голубыми узорами. Убежище освещалось большой свечой, наполовину сгоревшей. – Значит, здесь и спит наш летучий голландец, – презрительно заметил Атто. – Поэтому он постоянно появляется у нас на пути. Ты посмотри только, как много сыра он ест: слишком много, как все голландцы. Теперь я понимаю, отчего он так болтлив. Однако постепенно нас начал одолевать голод. Аббат нехотя взял кусочек сыра качкавал, положил его на хлеб, сверху – половинку инжира (нет ничего вкуснее сладкого фрукта на соленом сыре!) и с удовольствием откусил. Я тоже, почувствовав сильны голод, сделал себе такой же бутерброд, а потом мы раздели с Атто вино. Я съел свою скромную еду за несколько минут, а Атто долго жевал ее, затем отложил сыр и довольствовался одним хлебом с инжиром: – Я не могу видеть этот сыр. Во Франции его тоже начали добавлять ко всем блюдам. И я все больше ненавижу его. Пока я заканчивал свою незамысловатую трапезу, Атто покопался в соломенной постели и нашел в ней расческу, пару деревянных башмаков и горшочек с солеными сардинами. – Уверен, что он купил всю эту гадость у уличных торговцев, – сказал Атто не без презрения, удивляясь скромным привычкам Альбикастро. Наконец мы встали. В северной части этажа мы обнаружили большой стол из ореха с огромным выдвижным ящиком, который, как и только что открытый комод, выглядел весьма подозрительно. – Довольно большой, – заметил Атто. – В нем вполне можно было бы что-нибудь спрятать. Аббат попробовал открыть ящик ножом. – Он не закрыт, лишь дверцу заклинило, – сказал он. Тогда мы попытались подвинуть его руками, что стоило немало времени и сил. – Даже если принять во внимание эту историю с отравлением, все заговоры и предательства, – решил я поразмышлять вслух, – галерея жен и возлюбленных его христианнейшего величества короля действительно не такая уж и впечатляющая. – Тем не менее при дворе до сих пор с презрением и язвительностью говорят о моей Марии, – с жаром заявил Атто и громко засопел, пытаясь справиться с ящиком. – Придворные считают, что неудавшаяся жизнь обнаружила в ней холодную, честолюбивую и расчетливую особу. Более снисходительные замечают, что она не блистала умом, хотя и могла вести остроумную беседу. «Она была остра на язык, но не обладала здравомыслием, – смеются они. – Она была пылкая, импульсивная, ее приступы гнева могли производить впечатление, но потом они становились отталкивающими». Все это произносили злые языки. Неприязнь к Марии так никогда и не прошла. Даже сейчас, через пятьдесят лет, после множества любовниц короля. – И как вы это объясняете? – Мария была иностранкой, вдобавок из Италии, как Мазарини. Французы были сыты по горло итальянцами, которых Мазарини толпами привозил во Францию. А затем еще пришло видеть, как одна из его племянниц вскружила королю голову! – Но ведь у короля после нее было очень много любовниц. Неужели это возможно, чтобы двор все еще помнил мадам коннетабль? – упорствовал я в надежде выудить у Атто какие-нибудь намеки на тайные контакты короля и Марии Манчини в настоящее время. – Да как они могут ее забыть? Вот, например: однажды королева Мария Терезия и де Монтеспан объединили усилия. Это было тридцать лет назад, и их заговор был направлен против Марии Манчини. Мария сбежала от мужа и попросила убежища в Париже. Однако короля в то время не было при дворе: он выступил в поход против Голландии и по традиции передал управление государством королеве, Марии Терезии. Поэтому прошение Марии попало в руки королевы, и та ответила отказом. Конечно, это были происки Атенаис, которая уговорила королеву так поступить, поскольку сразу же сообразила, что Мария была не только первой любовью короля, но и последней. А пламя могло разгореться вновь. Тем временем мы закончили инспекцию стола из орехового дерева (честно признаться, довольно варварскую). Когда мы смогли наконец заглянуть внутрь, то чуть не упали в обморок от бессильной злобы и разочарования: как и в предыдущем комоде, там абсолютно ничего не было. – Когда король узнал о просьбе Марии, – продолжил Атто свой рассказ, затирая царапины носовым платком, – было уже слишком поздно, чтобы отменить вето Марии Терезии. Однако Людовик не мог решиться отослать Марию назад к супругу, хотя тот требовал ее выдачи. Он попросил Кольбера определить ее в какой-нибудь монастырь далеко от Парижа и выделил ей денежное содержание. Мария, которая ничего не знала о происках Марии Терезии и Атенаис, воскликнула: «Я слышала, что женщинам платят деньги, чтобы увидеть их, а не для того, что избавиться от них!» – Но вы сказали, что это произошло тридцать лет назад? – переспросил я его, выуживая подробности. – Тогда послушай следующее, – ответил Атто, рассерженный моим скептическим отношением к его рассказам. – Я знаю точно, что Ментенон уже давно пытается уговорить короля пригласить Марию в Париж официально. И как ты думаешь, почему она это делает, хотя должна была бы ревновать его к Марии? – Даже не знаю, – ответил я с притворной неуверенностью. – Она делает это, так как король все чаще вздыхает о Марии, сейчас; в возрасте шестидесяти двух лет. Он устал от разочарований и подводит итог своей жизни. Марии столько же лет, и Ментенон надеется, что, если король увидит ее сейчас, возможно, будет разочарован, ведь он вспоминает о ней как об ангеле. Но она ничего не знает о вечном очаровании Марии, – с особенным ударением заявил Атто, хотя он мог так же мало знать о том, как выглядит Мария, поскольку не видел ее уже тридцать лет. – Неужели мадам де Ментенон никогда не встречалась с ней? – Напротив. Они знали друг друга и были подругами. Мария даже взяла ее с собой, чтобы наблюдать с балкона, как король и Мария Терезия со всем великолепием проезжали по Парижу сразу после их свадьбы. Но нужно было жить вместе с Марией, чтобы понять, что тысячи лет разлуки и тысячи миль расстояния недостаточно, чтобы воспоминание о ней поблекло, – сказал Атто на одном дыхании. – Ирония судьбы: первая и последняя женщины его величества на одном балконе, – заметил я. – Но, синьор Атто, позвольте мне задать вам еще один вопрос: возможно ли, что чувства короля остались неизменными после тридцати лет? Ведь он больше никогда не видел ее, – забросил я наживку, все еще надеясь, что Атто еще что-нибудь расскажет. Он немного помолчал. – И я не видел ее тридцать лет, – наконецуклончиво ответил он. «И тем не менее, король продолжает любить ее», – закончил я за него про себя. – Но она скоро приедет, – подбодрил я его. – Да, кажется, так.* * *
Последующие минуты мы провели в полной тишине. Атто погрузился в свои мысли. – Я хочу выйти отсюда на свежий воздух, – неожиданно заявил он. – Я больше не в состоянии выносить эту пыль. Делай все, что хочешь. Увидимся внизу через двадцать минут. Я с недоумением посмотрел на него. – Ах да. У тебя же нет часов, – вспомнил он. – Тогда пойдем, спустимся вниз вместе. Мы остановились на третьем этаже, где Мелани начал рыться в ящиках узкого комода. – Я видел где-то здесь маленькие часы с маятником, для походов. Вот они. Он выложил их на письменный стол секретаря и завел. Затем выставил время и сунул мне часы в руку. – Вот, теперь ты не ошибешься. До встречи. Атто был взволнован. В течение нескольких часов мы рылись во всех вещах, тщетно пытаясь найти чашу. Однако причиной его отступления было не это: душу аббата переполняли воспоминания, и теперь ему хотелось побыть одному, чтобы улеглось смятение чувств.Таким образом я остался один, окруженный полной тишиной, с часами в руке, словно с фонарем. Тогда я опустился на старый сундук, обтянутый кожей, и начал размышлять наддолгим рассказом аббата Мелани. Он рассказал мне о трех женщинах «короля-солнце», и мы исследовали три этажа «Корабля». Возможно, это было слишком смелым скачком фантазии, но три этажа действительно были похожи, как мне неоднократно казалось сегодня, на этих трех женщин: сады на первом этаже, грот и тайный сад были изящными и воздушными, как Луиза Лавальер. На втором этаже иллюзорная грациозность и утонченность великолепной зеркальной галереи, захватывающее изображение утренней зари Авроры Пьетро да Кортоны были похожи на де Монтеспан – «самую красивую женщину империи», «правящую возлюбленную», в то время как фреска полудня рядом с Авророй, изображающая падение на Землю Фаэтона с солнечной колесницы, показалась мне предостережением Людовику XIV, чтобы тот не был столь высокомерен, ведь эпоха де Монтеспан характеризовалась именно этим. И наконец, четвертый этаж был ничем не примечателен и обычен, как лицо Ментенон, мрачен, подобно жизни короля рядом с ней, и пустынен, как последние годы жизни правителя. Одним словом, сейчас я знал все о прошлых событиях частной жизни его христианнейшего величества короля – почти все. Но я не знал того, что интересовало меня больше всего: как выглядели отношения с мадам коннетабль сегодня и какова была цель любовного послания, которое король (как я догадывался) доверил Атто. И в этот момент я обнаружил, что больше не один.
После этих слов Альбикастро поднялся с порфирной консоли и пошел к винтовой лестнице, продолжая играть фолию.
* * *
Я услышал, как Альбикастро скрылся внизу. Какое-то время я стоял неподвижно: его слова крутились в моей голове. – Мы должны смириться с тем, что очевидно. Я поднял глаза. Атто Мелани вернулся. – Подарков Капитор здесь нет, – резюмировал он, отчетливо выговаривая каждое слово. – Возможно, мы не очень тщательно все обыскали, нам нужно попытаться… – Нет, это бесполезно. Речь вовсе не в тщательности поисков. Эта идея с самого начала была неправильной. – Что вы имеете в виду? – Ты сказал мне, что Виргилио Спада, дядя кардинала, твоего господина, был первым хозяином попугая. – Да, и что? – Добрый Виргилио обладал, как ты уже знаешь, коллекцией всяких интересных, уникальных вещиц. – Да, правда, на вилле Спада все об этом знают. Виргилио Спада был очень религиозным, но также ученым, мудрецом и владел коллекцией Mirabilia, собранием странных и редких предметов, которые были довольно знаменитыми, и… – В самом деле. Я думаю, даже ты должен был уже понять, что когда Бенедетти решил избавиться от трех подарков и отдать их кому-то, то Виргилио Спада был идеальной кандидатурой для этого. – Минутку: почему Бенедетти должен был отдавать подарки? Разве Мазарини не поручил ему хранить их здесь, на «Корабле»? – Хранить их, да… Но тут есть еще кое-что.Так произошло, что Атто пришлось открыть мне то, о чем умолчал четыре дня назад, когда мы впервые пришли на «Корабль», Он рассказал об Эльпидио Бенедетти, архитекторе и владельце «Корабля» и своих отношениях с ним. – Ну что ж, мой мальчик, каждому человеку, имеющему власть и влияние, приходится ежедневно сталкиваться с самыми разными непредвиденными трудностями, – начал аббат свой рассказ с прелюдии, – поэтому он нуждается в верных и надежных людях, которые помогали бы ему разрешить их. – Да, синьор Атто, я понял, и что дальше? – перебил я его, даже не пытаясь скрыть раздражения по поводу столь многословного введения, которое, по-моему, служило лишь для того, чтобы завуалировать прежнюю решимость Атто. – Ну хорошо, кроме официальных секретарей и помощников у кардинала Мазарини была целая толпа… поклявшихся ему в верности поверенных, назовем их так, к которым я тоже имел честь относиться. Эти поверенные, как элегантно выразился Атто, были шпионами, подставными лицами и интриганами, которые помогали кардиналу решать самые секретные и деликатные дела. А деньги были одним из самых важных дел. – Если я скажу тебе, что кардинал был богатым, ах, я просто совру. Он был, как бы точнее выразиться… – проговорил Атто и задумчиво закатил глаза, – олицетворением богатства. Благодаря многолетнему фактическому правлению Францией он смог обогатиться просто сумасшедшим, головокружительным образом. И, конечно, об этом никто не знал. Из всех возможных финансовых источников кардинал всегда часть присваивал себе: от налогов, публичных торгов, концессий, экспорта. Собственную недвижимость Мазарини смешал с недвижимостью короны, и когда встал разговор об их разделении, то из королевской казны к его рукам прилипло много денег. Подобное богатство (после смерти Мазарини говорили о нескольких миллионах ливр, но никто точно не знал, сколько именно их было на самом деле), естественно, должно было приум жаться в большой секретности. – Мой бедный друг Фуке был оклеветан и арестован за лр своение имущества, лишен семьи и в конце концов заключен в тюрьму на всю жизнь. Но кардинал, настоящий виновник этого пре ления, никогда не платил за вольности, назовем это так, которые допускал сам, хотя они были несоизмеримо большими, – заметил Атто горько. – Однако доказать это было совершенно невозможно – он знал, как избегать опасности. Мазарини ловко размещал свое неофициальное, нелегально приобретенное состояние. Тайный капитал был доверен целой сети надежных банкиров, подставные лица жили в основном за границей, чтобы никто, кем бы он ни был, не смог завлечь в ловушку его высокопреосвященство. Деньги были депонированы не только в банках. Мазарини поручил своим посредникам инвестировать деньги в картины, драгоценности и недвижимость, и единственной проблемой были муки выбора. Его высокопреосвященство мог позволить себе все – войско его поверенных работало по всей Европе. – Здесь, в Риме, например, шестьдесят лет назад Мазарини приобрел у семьи Ланте великолепный дворец Бентивоглио на Монте Кавалло, который стал дворцом Мазарини. Двадцать лет этот дворец арендовала семья Роспильози, и моя хорошая подруга Мария Камилла Паллавичини Роспильози была такдобра, что время от времени давала мне приют. – Так значит, дворец Роспильози на самом деле дворец Мазарини! – воскликнул я сдавленным голосом и подумал о роскошном здании на Монте Кавалло, к которому я проводил Бюва, чтобы тот мог забрать там свои туфли. – Точно. Он заплатил за него семьдесят пять тысяч скудо. – Симпатичная сумма! – Это тебе в качестве небольшой дегустационной пробы возможностей кардинала. А ты знаешь, кто посоветовал ему купить этот дворец? – Эльпидио Бенедетти? – Браво. По поручению Мазарини Бенедетти приобретал книги, картины, драгоценности. Среди прочего я помню прекрасные рисунки Бернини, за которые, однако, он заплатил слишком высокую цену из денег Мазарини. А дворец Манчини на Корсо, где выросла Мария? Бенедетти велел отреставрировать его и выделил громадную сумму на его расширение – и все за счет Мазарини конечно. Когда его высокопреосвященство послал в Рим монсиньора де Шантелу, чтобы тот приобрел несколько драгоценностей именно Эльпидио Бенедетти указал ему на Альгарди, Саччи и Пуссена… Я не знаю, говорят ли тебе что-то эти имена. – Мне кажется, это знаменитые художники. – Точно. Кроме того, он приобрел от имени кардинала музыкантов, которых послали в Париж, как и эту жеманную Леонору Барони. Здесь Атто не стал спрашивать, известно ли мне это имя, но я вспомнил, как он сам рассказывал мне много лет назад, что эта женщина была очень талантливой певицей и его злейшей соперницей. – Эльпидио Бенедетти был подставным лицом у Мазарини. После смерти кардинала у него должны были остаться деньги записанные на имя Бенедетти, об истинном же их владельце никто не знал. «Корабль» слишком большой и слишком прекрасный, чтобы Бенедетти смог оплатить его строительство из собственного кармана. Не случайно он начал строить виллу сразу же после смерти кардинала. – Значит, «Корабль»… – …построен на деньги Мазарини. Как и все, чем обладал Эльпидио Бенедетти, включая его домик внизу, в городе. И как ты думаешь, почему Бенедетти завещал этот «Корабль», как я тебе уже рассказывал, герцогу Неверскому, племяннику Мазарини и брату Марии? – Таким образом он вернул незаконно приобретенное добро. – Ну да, не будет преувеличением сказать: он вор, который обокрал вора? – хихикнул Мелани. Когда кардинал поручил Бенедетти хранить подарки Капитор, он продиктовал ему дополнительное условие: этим трем предметам, приносящим несчастье, нельзя было оставаться на территории его владений. Мазарини постоянно преследовали призраки собственных злодеяний, лишая сна, кардинал не мог освободиться от тягостного чувства, что не только он сам, но и все его владения и имущество должны быть отделены от этих проклятых вещей. Эльпидио выполнил приказ с такой же тщательностью, как и другие, ведь он тоже был очень суеверным. Значит, оставалось найти место, где можно было бы хранить все три подарка, и при этом не в городском доме, так как тот принадлежал Мазарини. «Корабля» тогда еще не существовало (он будет готов только через шесть лет после смерти его высокопреосвященства), и у Бенедетти не оставалось другого выбора, как доверить эти подарки кому-нибудь другому: Виргилио Спаде. – Ты помнишь надпись, которую мы видели с тобой на этой вилле? «Для трех друзей я это все построил, / Хоть никогда я больше не увидел их»: мы правильно предположили тогда, что под тремя друзьями подразумеваются три подарка Капитор, но продолжение этой фразы – «никогда я больше не увидел их», – наверное, указывало на то, что здесь есть только их изображение, в то время как сами подарки исчезли бесследно. – Поскольку они попали к Виргилио Спаде, – закончил я его рассуждения. – Естественно, никакой продажи не было, а только передача на хранение, – уточнил Мелани, – поскольку, как я уже говорил, кардинал хотел всегда иметь эти три предмета в своем распоряжении, на всякий случай. Поэтому вполне возможно, что подарки Капитор все еще находятся среди сокровищ Виргилио Спады. – И где? – Вилла Спада – маленькая. Будь такой большой предмет, как глобус Капитор, там, то ты, бесспорно, уже увидел бы его. – Точно, – согласился я с ним. – Но подождите: я точно знаю, что у Виргилио Спады тоже был глобус, и даже, насколько я правильно помню, фламандского производства. – Как и глобус Капитор. – Именно. Он находится сейчас во дворце Спады. Я никогда его не видел, но слышал, как о нем говорили. Для того чтобы посмотреть на раритеты в том дворце, люди съезжаются со всего мира. Кардинал Фабрицио очень гордится этим. Если глобус находится в кунсткамере его дяди, значит, мы найдем там и чашу Капитор. Но ведь вы должны это знать, – добавил я, – когда мы с вами познакомились в «Оруженосце», вы писали путеводитель по Риму… – Да, к сожалению, – раздосадованно прервал меня Атто. – Разве ты не помнишь, когда я бросил эту работу? С того времени я не приступал к ней. И хотя я посетил почти все дворцы Рима, дворец Спады один из немногих, которые я не успел осмотреть Я знаю о его архитектурных чудесах из книг и других путеводителей по Риму – и только. Теперь нам нужно отправляться, в путь назад, на виллу Спада. – Вы могли бы воспользоваться экскурсией по дворцу, которую кардинал Фабрицио устраивает для всех гостей в будущий четверг – последний день праздника. – Чтобы продолжить работу над путеводителем, обязательно Но не для поисков чаши Капитор. До четверга есть еще три дня. Я не могу так долго ждать. И кроме того: прекрасная идея! Во дворце Спады полно гостей, я в это время буду порхать из комнаты в комнату, пороюсь в ящиках и посмотрю шкафчики, – сказал аббат, размахивая руками и изображая любопытную бабочку.
– Так вы говорите дворец Спады? Что за проблема? – раздался звонкий голос позади нас, который был мне хорошо знаком. Аббат Мелани вздрогнул от неожиданности. – Наконец-то мы нашли их, синьор Бюва! Я же говорила вам, что они оба наверняка застряли здесь: и мой любимый муженек, и ваш господин. Клоридия пришла вместе с Бюва, разыскивая меня, и таки нашла.
У нее были новости для нас. Итак, она подробно расспросила у двух наших цыплят (в отсутствие мамы они всегда все хорошенько запоминали, чтобы потом передать ей в мельчайших подробностях то, что услышали) о нашем с Атто деле, прихватила с собой секретаря Мелани, тоже искавшего нас, и отправилась на «Корабль». Вот при таких довольно необычных обстоятельствах Клоридия и Атто наконец снова встретились, после того как столько раз избегали этого. Мелани едва удалось скрыть недовольное выражение лица, когда он услышал ее голос. – Добрый день, дева Клоридия, – вежливо приветствовал ее Атто в полной тишине, неожиданно элегантно поклонившись ей. На постоялом дворе «Оруженосец» старый кастрат оставил дерзкую девятнадцатилетнюю куртизанку, а теперь перед ним стояла жена и мать, светло сияя очарованием. Моя жена была прекрасна. Намного прекраснее, чем в то время, когда мы с ней познакомились, однако только сейчас, благодаря удивленному взгляду аббата, который снял с моих глаз пелену супружеской привычки, я увидел ее действительно во всем блеске. Обрамлявшие ее милое лицо локоны, которые она больше не осветляла и не завивала горячим железом, были природного, каштанового цвета, что делало ее та кой естественной. Ненакрашенные глаза и бледно-розовые губы придавали облику Клоридии такую свежесть, которой Атто не видел, когда она была юной девицей. – Пожалуйста, простите за неожиданное вторжение, – вновь начала разговор моя супруга, отвечая кивком на приветствие Атто. – У меня есть новости. Послезавтра где-то здесь состоится еще одна встреча тех трех кардиналов, которые вас интересуют, – сообщила она без обиняков. – Когда именно? – спросил Атто. – В полдень. Только будьте осторожны, прошу вас, – сказала Клоридия с оттенком некоторого беспокойства в голосе. Я молча улыбнулся. Известие было слишком важным, чтобы моя жена не могла сообщить его нам. И все же мое предположение подтвердилось: первоначальное воодушевление Клоридии, с которым она помогала нам собирать информацию, остыло. Теперь она очень боялась за меня. – Не беспокойся, я позабочусь о вашем муже, – отважно заявил Мелани притворно сладким голосом. – Я благодарна вам, – ответила моя супруга, слегка склонив голову. Затем она с явным удивлением огляделась вокруг и тут же добавила: – Я сегодня впервые зашла на владения «Корабля». Какое великолепие! Красота виллы, к счастью, отвлекла ее от опасений за мою судьбу. – Наш Бюва не может это повторить, хотя в прошлый раз он, вероятно, увидел не много, – засмеялся аббат, вспомнив тот момент, когда Бюва, убежав от княгини Форано, у которой начались роды, весь в крови, неожиданно предстал перед нами. Секретарь Атто не слышал нас: он был погружен в чтение многочисленных надписей, которыми были испещрены стен зала. – Она находится в исключительно хорошем состоянии, эта вилла, особенно если учесть, что уже несколько лет стоит заброшенной. Можно подумать, что ее родиной были Счастливые острова называемые также островами глупости, поскольку там родилась богиня Стултития. Там все растет само собой, не надо сеять и ухаживать за растениями, там нет мух и всяких мошек, нет болезней и старости. По крайней мере, так рассказывает ученый Эразм, мой земляк, – добавила Клоридия невинно. Мы с Атто вздрогнули. Смелое замечание Клоридии очень удивило меня. Ведь у меня еще не было возможности рассказать ей о наших встречах с чудаковатым голландским музыкантом и о коротеньком мотиве фолии, который он исполнял как одержимый, сыпля кругом странными изречениями о глупости. Но она, как казалось, и сама обо всем догадалась, связав вместе «Корабль» и фолию. И не только это: будучи родом из Амстердама, как и Альбикастро, она часто слышала разговоры о панегириках, которые оба ее соотечественника сочинили, вознося хвалу глупости. Я подумал, что здесь сыграла свою роль осведомленность моей жены в искусстве гадания. Атто, кажется, пришел к такому же мнению: – Вы когда-то были искусны в хиромантии, насколько я помню, – сказал он, с трудом скрывая свое беспокойство. – Позвольте спросить у вас: в чем, по вашему мнению, причина вечной молодости этой необитаемой виллы? – Ответ очень прост: это то, что греки справедливо называют «хорошим предрасположением души» и что мы, как у нас это любят, можем назвать также безумием. – Таким образом, вы владеете тайным искусством, с помощью которого можете определить, обладает ли душой место, в котором мы сейчас находимся? – снова спросил Атто, на этот раз не скрывая скепсиса. – А какая женщина, заслуживающая ею называться, не будет владеть этим искусством? – ответила Клоридия с веселой улыбкой. – Но лучше скажите мне сначала, чего вы хотите. Я слышала, вы намереваетесь попасть во дворец Спады?
Я вкратце изложил ей нашу сложную ситуацию и рассказал о фламандском глобусе и чаше, которые мы хотели поискать в кунсткамере, оставленной покойным Виргилио Спадой. – Перед вами как раз тот человек, который вам нужен: через пару дней будет разрешаться от бремени жена младшего управляющего по провианту. Вот уже несколько месяцев я посещаю ее. Это будет сложная процедура, она займет много времени, а женщина очень толстая и, конечно, мне потребуется помощь ее мужа. В это время дворец останется без охраны. – Но ведь там будут бегать другие домашние слуги, – заметил я. – Ты забыл, что на этой неделе их всех отправили на виллу Спада в помощь тамошним слугам? – ответила Клоридия с лукавой искрой в глазах. – К тому же я хочу поведать вам еще кое о чем: младший управляющий и его жена временно живут в комнатке на первом этаже – так им удобнее все охранять сейчас, когда дворец пуст. Собственно, они тоже должны были отправиться на виллу Спада, но из-за беременности жены им пришлось остаться. Так что это очень благоприятный случай для нас, – задорно закончила она. «Она стала самоуверенной, моя Клоридия», – подумал я. О моем теле и моей жизни она беспокоилась, только когда меня не было рядом. Если же она могла сопровождать меня или находиться поблизости, как в данном случае, то становилась просто безрассудно смелой, как будто считала себя могущественной богиней, одного присутствия которой достаточно, чтобы сделать меня непобедимым. – А во дворце точно больше никого не будет? – засомневался Атто. – Естественно, там будут еще охранники. Но они патрулируют только вокруг здания, – объяснила Клоридия. – Однако нам нужно попасть во дворец Спады как можно скорее, – возразил Атто. – Мы не сможем ждать, пока наступит назначенный свыше день для вашей беременной. – Не проблема. Сегодня я иду к ней на осмотр: отвар из крепких, стимулирующих трав… и дело сделано. – Неужели ты хочешь сказать, что благодаря тебе она может родить раньше? – удивился я, так как до сих пор моя жена никогда не выдавала мне, что повитухи обладают подобными знаниями. – Как это возможно? – Очень просто. Я заставлю ее матку чихать. Мы с Атто промолчали – нам стало страшно, что это может иметь какие-то последствия. Клоридия взяла нас под руки. – Неужели вы хотите заявить, будто женская матка может чихать? – недоверчиво спросил аббат. – Ну конечно. Это точно так же, как с носом. Нужно взять квент[1349] майорана, по половине квента чернушки, пряных гвоздик и очень мелко истолченного белого перца, смешать, добавив другие ингредиенты, по половине скрупула[1350] каждый: мускатный орех, белую чемерицу и манжетку. Все это тщательно перемешивают и из смеси делают мельчайший порошок. С помощью пера этот порошок несколько раз вдувают в матку женщины, чем вызывают чудесное чихание. Если этого будет недостаточно, то порошок смешивают с жиром и бросают на сковороду на углях, и тогда пары от нагретого порошка заставят матку чихать. Естественно, матка должна быть широко открытой, чтобы пары могли проникнуть в нее, а этого можно достигнуть, если прочно обмотать женщине пупок покрывалом. – Простите, – обеспокоенно прервал ее Мелани. – А это не опасно? – Конечно, нет. И напротив, существуют такие лекарственные средства, действие которых даже очень благоприятно для матки женщины, например аромат мускуса и амбры: они заставляют ее опуститься вниз, так как ей очень нравятся такие запахи. Я уверена, что младший управляющий дворца Спады тут же пошлет за мной после таких маленьких искусных приемов, ведь ребенку очень захочется появиться на этот свет. – А если это не удастся? – Удастся. В противном случае мне останется лишь применить средства, которые действуют очень быстро благодаря некоторым тайным свойствам. Например, можно использовать камень орла, привязав его к бедру, кожу оленя или семя портулака, которые лают выпить роженице подмешанными в белое вино, или же послед собаки, истертый в порошок, – им натирают отверстие полового органа, а еще – кожу, которую змея сбрасывает в марте – ее вводят в матку. Но, правда, последняя процедура не так уж безопасна. Аббат Мелани побледнел, когда услышал, как Клоридия непринужденно перечисляла все эти искусные приемы. – А когда ты думаешь, что… – спросил я ее, намекая на срок родов. – Ну, грубо говоря, если учесть, что она достаточно толстая, схватки начнутся не раньше завтрашнего вечера. Это слишком поздно? – Нет, вполне нормально. Но как мы войдем туда, а потом выйдем? – поинтересовался аббат. – Когда я буду сегодня во дворце Спады, то между делом хорошенько разведаю всю обстановку. Завтра в первой половине дня я смогу все рассказать вам. Но в одном деле придется обойтись без меня: я говорю о ключах к комнатам. – Это самое легкое дело, – ответил Атто с довольной улыбкой. И я знал, о ком он подумал.
12 июля лета Господня 1700, вечер шестой
На этот раз меня определили на работу в саду, где я, разумеется, снова был одет янычаром и обязан был держать, как и другие, искусственные светильники для галантной пьесы, которую здесь собирались разыграть. Я должен был работать под руководством дворецкого, дона Паскатио Мелькиори, которого в свою очередь подробно проинструктировал художник спектакля У него была одна чрезвычайно оригинальная идея: используя разнообразные приемы, разыграть свою собственную пьесу, которая повеселит и развлечет гостей, ожидающих начала основного представления. На месте действия был поставлен письменный стол, в центре его горел огонь, на котором в чайнике кипела вода. Несколько кардиналов с любопытством подошли ближе. – Мы приготовим различные просвечивающиеся краски для украшения комического представления, которое будет сыграно сегодня вечером, а именно цвета голубого сапфира или же небесно-голубого – самого красивого из всех цветов, – начал одетый в роскошную ливрею дон Паскатио как человек, работающий на аукционе, а я следовал за ним, перекинув через плечо мешок с миской для парикмахера, и с латунным кубком под мышкой. – Господин птичник, приготовьтесь, достаем колбу с нашатырем из мешка. Тщательно смачиваем дно и стенки миски, пока она полностью не станет мокрой. Затем добавляем туда немного воды, но очень осторожно, ибо чем больше нашатырного спирта, тем ярче будет краска. Я сделал все, как он сказал. Я перелил воду из миски через сукно в латунный кубок. И сам немало удивился, когда увидел, как вода стала сапфирно-голубой. Затем он приказал мне налить часть воды в пузатые стеклянные стаканы, странная форма которых напоминала полумесяц: одна сторона была выпуклой, а другая – вогнутой. – А теперь мы приготовим изумрудную воду, – сказал дон Паскатио, доставая из мешка бутылочки с желтым порошком, выглядевшим точь-в-точь как шафран. Он насыпал немного этого порошка в голубую воду двух пузатых стаканов, медленно помешал ее ложкой, и жидкость в одно мгновение стала зеленой. Затем мы решили растворить большое количество алунита в чайнике с кипящей водой, убрали пену и через фетр перелили жидкость в пять разных бутылок, последняя была размером с кастрюлю. – Пожалуйста, рубиново-красный цвет, – объявил дон Паскатио столпившимся вокруг него людям и налил несколько капель красного вина в первую бутылочку – вода сразу же окрасилась в очень насыщенный красный цвет. – А вот и шпинелево-рубиновый, – восторженно заявил дворецкий, наливая во вторую бутылочку красное и белое вино. В последние две бутылочки он налил вина фраскати и немного красного вина из Марино. – И теперь я представляю публике цвета темно-серый и топаза! – сказал он очень довольным голосом, когда лица наблюдавшей за ним достопочтенной публики и высокопреосвященств удивленно вытянулись. – Ну, а эта? – спросил кардинал Мориджиа, указывая на самый большой сосуд. – Она такой и останется: будет бриллиантового цвета, который имеет дневное светило над греческими островами, – ответил дон Паскатио, который никогда не был в Греции, а лишь повторял слова архитектора, словно попугай.На этом представление с приготовлением красок было закончено. То, что нам нужно было сейчас сделать, как объяснил мне дон Паскатио, должно было остаться в тайне от любопытных глаз. – Потому что, если они увидят как мы это делаем, ни о каком чуде уже речь идти не сможет, – сказал он с заговорщицким выражением лица. С помощью других слуг мы перенесли бутылки за раскрашенную сцену, которая изображала ландшафт Кипра. Здесь была деревянная стена с отверстиями. Мы поставили бутылки на треногу, так чтобы своими выпуклыми сторонами они закрывали дырки в стене. За каждой бутылкой со стороны вогнутой части мы повесили чезенделло и лампу, которая давала ровный свет. – Принеси большую бутылку и поставь туда наверх, – приказал мне дворецкий, указав на разрисованную сцену, – а вместо лампы зажги большой факел. За факелом поставь хорошо отполированную миску, которая будет отражать пламя факела. Насколько же велико было мое удивление, когда мы вышли из-за кулис и посмотрели на результат всех этих приготовлений: огненное бриллиантовое солнце, которое было очень красиво нарисовано на кипрском небе, изображенном на заднике сцены, заливало веселый пейзаж с рубиново-красными, шпинелево-рубиновыми и желтыми цветами, а вдали виднелось отливающее сапфирно-голубым море и сероватым перламутром светились гребешки морских волн. Кроме того, сцена была украшена перьями, камнями, холмами, небольшими скалами, травой, колодцем и даже крестьянскими домиками. Все это было сделано из тончайшего разноцветного шелка. Поскольку расточительность щедрого кардинала Спады и художественное восприятие архитектора вступили в непримиримый конфликт, то было решено вырезать большую часть представления нашего садовника, для того чтобы заново сделать все вещи из шелка, что было намного дороже, чем если бы это были натуральные материалы. Один из этих артефактов – море со множеством бухт – был усыпан ракушками, моллюсками и прочими предметами, кораллами всевозможных цветов, жемчужными раковинами, между камнями сидели крабы, было такое разнообразие красивейших вещей, что я был потрясен, и хочу вам о них поведать.
Сцена освещалась только с помощью висящих факелов, которые представляли собой изысканную пару светильников. Они были нужны, поскольку представление начиналось ближе к вечеру, когда расточительное солнце уже прольет свой свет за день. Другие светильники также радовали зрителей не только ярким светом, но и благоуханием: сосуды с камфарным маслом стояли или были подвешены над канделябрами и факелами и как, говорил Серилио, создавали приятное свечение и благоухание, дабы сердца и души гостей настроились на то, чтобы получить удовольствие от представления.
Ряды удобных зрительских кресел, обитых сатином, были заняты почтенной публикой. До начала представления я сидел на земле, сбоку от зрителей. Место было очень неудобным, зато оттуда я смог подслушать несколько комментариев зрителей, сидевших в первых рядах. Трое кавалеров. Они обменялись парой остроумных замечаний, когда актеры уже начинали представление. – Последнее представление, которое помню, я смотрел в марте, во дворце, где находится секретариат. Это была оратория Скарлатти «Святая весть», – сказал кто-то из трех. – Та самая, для которой текст написал кардинал Оттобони? – Да, именно. – Это были стихи кардинала? Ведь он же член научной академии Аркадии. Они были как… соответствующе идиллическими? – Ну, скорее соответствующе простыми, – ответил другой. На это все трое громко рассмеялись, но сразу же вместе со всеми начали аплодировать, приветствуя актеров. – Если это действительно простенькие пьески, что уж тогда говорить о комедии Жана Доменико Бонматтея Пиоли. – Той, что опубликовали в январе прошлого года? – Да, настоящий бред. Оттобони продвигал ее, но комедии Пиоли с таким простым сюжетом, что их следовало бы даже называть плохими. – У Его Святейшества, кажется, снова плохо со здоровьем, – сказал третий кавалер, чтобы сменить тему. – Сегодня девятая годовщина его понтификата. На Квиринале была месса с папским хором Сикстинской капеллы, а он не смог присутствовать. – Нет, я объясню вам, в чем дело. Его сломили удары испанских послов и их немецких товарищей. – Неужели? – удивился один из них. – Вы хотите сказать, что им все-таки удалось его переубедить? Старый больной человек, он не может долго сопротивляться таким хитрым лисам. – Бедный человек. Наверное, дело затянулось до обеда, – вставил третий собеседник. – Его Святейшество увидели снова только во второй половине дня, когда он под громкие аплодисменты появился в городе. – Он заслуживает того, чтобы его признали святым мучеником. – Надеемся, что Господь Бог скоро призовет понтифика к себе чтобы прекратить его страдания. Он-то и считать уже не может. – Замолчи, lupus in fabula,[1351] – сказал другой, указывая на вход в сад, где только что появился кардинал Спада в сопровождении пары новобрачных, что вызвало еще один взрыв аплодисментов.
Резким коротким жестом хозяин дома подал сигнал к началу представления. Это была шутливая пьеса, написанная римлянином Епифанио Джицци, которая называлась «Любовь как вознаграждение за постоянство». Название и тема – благородные чувства должны быть умеренными и соответствовать добродетели правды и непоколебимости, чего требуют священные узы брака. Сцена открылась без конферансье, зато с эффектами, которые доставили большое удовольствие зрителям. Архитектор приготовил к представлению несколько маленьких фигурок из плотного разрисованного картона, которые должны были проходить под сценой. Они передвигались на деревянной балке с помощью устройства под названием «ласточкин хвост». Оно приводилось в действие самим архитектором, который прятался за сценой. Сопровождением служили приглушенная музыка и пение. Одновременно с этим на небе появлялись также вырезанные из картона луна, звезды и другие планеты – они держались на тонкой железной проволоке, которая не была видна зрителям. Шутливая пьеса была написана легко и прекрасно развлекла публику. Действие происходило на острове Кипр, главные персонажи – два рыцаря, Розауро и Армильо, последний в сопровождении своего неотесанного слуги Барафона. Рыцари соперничают за расположение двух девушек – Флоринды и Челидальбы. После многочисленных недоразумений и козней судьбы (дуэль, крушение корабля, голод, неузнавание, сцены признаний и попытки самоубийства), выясняется, что Армильо на самом деле зовут Альчести и он является братом Челидальбы, настоящее имя которой – Линдори. Флоринда все это время не принимает знаков внимания Розауро» но в конце сдается и выходит за него замуж, таким образом доказав, что любовь является наградой за постоянство. Рыцари были одеты в роскошные костюмы из дорогих шелковых тканей, и даже камзол слуги изнутри был отделан мягким мехом диких животных. Рыболовная сеть рыбаков (статистов, заполнявших берег) была сделана из чистого золота, одежда нимф и пастухов не давала ни малейшего повода говорить о скупости синьора Спады. Пока актеры вызывали у достопочтенной публики аплодисменты и овации, я работал за кулисами вместе с другими слугами, создавая разнообразнейшие эффекты. Мы изобразили поразительное кораблекрушение. Гром мы создавали, катая большой камень по деревянному полу, молнию – опуская на сцену позолоченный трезубец, сверкавший, как настоящая молния. Зарницу я сделал под сценой с помощью спички и порошка олифы. Мы изобразили гром, молнию и зарницу одновременно и достигли великолепного эффекта. Выжившие после кораблекрушения герои согревались на сцене теплом огня, который мы «разожгли» благодаря свече и самой крепкой, выдержанной водке, – на удивление, она горела довольно долго. Пока я манипулировал за кулисами, мои мысли были заняты совершенно другим. Что имели в виду почтенные господа, чью болтовню я подслушал, когда говорили, что испанский посол граф Узеда наконец-то убедил Папу? Услышав такое, можно было предположить, что он и другие оказали давление на умирающего Папу чтобы заставить его сделать что-то такое, в чем он не был уверен. О графе Узеде я знал только то, что прочитал в переписке Атто и мадам коннетабль: посол Испании передал Его Святейшеству прошение от Карла II о помощи. В чем он должен был его переубедить? И кем были другие «хитрые лисы», которые вместе с Узедой должны были заставить Папу согласиться без опасений? Эти три господина, которых я подслушал, искренне сопереживали Папе, который страдал и больше не имел никакой власти. Не напоминали ли мне эти слова размышления мадам? Она написала, что Папа часто поговаривал: «Кто отнимает у нас сан, дарованный представителю Христа тот не имеет уважения». Кто осмелился поступить так с наследником Петра? «Lupus in fabula», – под конец прошептал один из трех господ, когда появился кардинал Фабрицио Спада и разговор резко оборвался. Что это означало? Что мой хороший и добродетельный господин, возможно, был одним из «хитрых лисов»?
* * *
– Я рад, что могу констатировать: то, о чем говорил ученый отец Жан Мабильон о библиотеках Рима, правда, – они и по сей день находятся в таком же идеальном состоянии, как и в то время, когда я посещал их много лет назад, во время первого визита в Италию, – восторженно сказал Бюва. После завершения представления на сцене аббат Мелани вернулся вместе со мной в свои покои и потребовал от секретаря отчитаться, какие зацепки он обнаружил при своем расследовании. Наконец-то я узнал, за кем гонялся верный слуга Атто во время походов по городу. – Бюва, оставь этого падре Мабильона в покое и скажи мне, чего ты добился, – потребовал Атто. Секретарь покопался в ворохе бумажек, которые он в спешке исписал мелким аккуратным почерком. – Прежде всего я посоветовался с Бенедетто Миллино, бывшим библиотекарем шведской королевы Кристины, который. – Меня не интересует, что он вам там насоветовал, говорит только то, что вам удалось выяснить. Бюва как раз и хотел об этом рассказать. Он побывал в библиотеке науки в Ангелике, в Барберини у Четырех фонтанов, в библиотеке колледжа Апостольского покаяния, в колледже младших отцов-францисканцев и базилике Латерана, затем в базилике покаяния Святой Марии Маггиоре, в Валличеллиане при Новой церкви, в библиотеке колледжа Клементино, был в Колоннезе и даже в Сирлете, в библиотеках церкви Святого Андреа на дела Балле отцов-театинцев, в Святой Троицы дай Монти у отцов-минималистов от Святого Франческо ди Паоло, а также в библиотеке достоуважаемого кардинала Казанате, которая сейчас принадлежит отцам-доминиканцам, потом… – Уже хорошо, уже хорошо. Самое важное, что вы не посетили библиотеки иезуитов и Ватиканской библиотеки. Там полным-полно шпионов, все контролируется и записывается. – Я вел себя так, как вы мне и поручили, аббат. – Очень на это надеюсь. Я трижды отказывался от того, чтобы обыскать частные библиотеки кардиналов, такие как Чигиана и Памфилиана. – Очень хорошо, господин аббат. Это бы очень бросилось в глаза, о чем вы меня и предупреждали. На самом деле этот троекратный отказ дался аббату нелегко, потому что в Апостольской библиотеке Ватикана, у иезуитов или во дворце семей кардиналов Бюва нашел бы требуемые книги и манускрипты, потратив гораздо меньше времени. К счастью, как только он показывал свое удостоверение служителя королевской библиотеки Парижа, в других местах ему благосклонно предоставляли доступ. Он потрогал греческий кодекс, которому было более восьмисот лет, и даже полистал его, – в нем содержался известный Комментарий о мечтах Небукаднезара, выпущенный святым Ипполитом, епископом Порто; затем он в первый раз смог порыться в знаменитой восемнадцатитомной Античной энциклопедии, потом просмотрел собрание святых и светских учений господина Джаковаччи, латинский кодекс с актами Шалкедонского собора, в текст которого были внесены исправления в соответствии с латинскими оригиналами. Дрожащими пальцами он пролистал личную коллекцию Сан-Филиппо Нери в библиотеке Валличелианы и нашел там книгу «Жизнь святого Эразма, святого мученика» – труд Джованни Содьяконо, бывшего монаха в Монте Касино, ставшего потом Папой Геласиусом II, затем обнаружил исключительно важную рукопись досточтимого Беды о вращении Луны вокруг Земли и о шести эрах, потом просмотрел коллекции Ахилла Щтация Португальского, Джакомо Волпони из Адрии и Винченцо Бандалокки, а также известные коллекции адвоката Эрколе Ронкони. Но самым волнующим было посещение библиотеки Колледжа пропаганды Фиде. Она известна на весь мир своей типографией где мужественно и дальновидно печатали книги на почти двадцати двух языках. Особой заслугой этой библиотеки, как подчеркнул секретарь Атто, были удивительно точные списки хранящихся там книг, включая печатные издания других стран, упорядоченных по языку и классифицированных в зависимости от обычаев, религиозных и этнических особенностей. Там были также книги, написанные разными значками, шифрами, иероглифами и красками, исчерченные таинственными линиями на слоновьей коже, на высушенной кожице и перепонках рыб, на змеиной коже… – Хватит, Бюва, хватит, черт побери! – закричал Атто, ударив себя кулаком по колену. – Книги, напечатанные на высушенной кожице рыб, меня вообще не интересуют. Почему происходит так, что, как только вы начинаете говорить о книгах или о рукописях, вы теряете над собой контроль? Бюва обиженно замолчал. В нашем маленьком коллективе воцарилось молчание. Меня впечатлило количество библиотек, которые посетил француз. За короткое время он прочесал большую часть архивных коллекций города, которые часто располагались далеко друг от друга, их объем был известен каждому, так как десятки пап и кардиналов за столетия накопили огромное множество напечатанных книги рукописей. Только страсть к литературе и к текстам могла воодушевить человека на такой изматывающий труд. Мне было очень жаль: секретарь Атто так старался, чтобы перейти от подробнейшего анализа к синтезу. – Бюва, я отправил вас на поиски определенных книг, поскольку в этом городе все говорят об одной вещи, но никто не имеет четкого представления о ней. Рассказывайте мне, что вы разузнали из того, что я вам поручил: черретаны, – попросил его аббат. – Итак, что вы можете сообщить об их таинственном языке? – Он очень сложный, – ответил Бюва, в этот раз уже не так горячо. Сбиры на самом деле могут выучить основы этого языка. Однако только если ежедневно заниматься им, можно понять, о чем шепчутся черретаны. Этому языку не одна сотня лет, но время от времени, когда черретаны замечают, что он стал не таким уже непостижимым, они изменяют правила ровно настолько, чтобы он снова стал совершенно непонятным. Традиции черретанов требуют, чтобы только их король, который называется главным майористом, и только он устанавливал новые правила. Он сам излагает их в письменном виде (поэтому он не мог быть неграмотным), и потом на всеобщем собрании эта писанина зачитывается представителями каждой секты. После этого они следят за тем, чтобы новых правил придерживались все черретаны. Таким образом, они являются единственными, кто разговаривает на этом языке, и никто не может ничего понять. Даже если им становятся известны военные тайны государства и они передают их врагам. – Шпионаж, – пробурчал Атто. – Видите, я же знал! Проклятый Ламберг! – А как у них получается выведывать такие тайны? – удивился я. – Главное – они всегда остаются незамеченными. Никто не обращает внимания на сидящего на улице старого полупьяного попрошайку, – сказал Бюва, – но он спит только вполглаза и наблюдает, когда ты приходишь и уходишь, в каком обществе вращаешься, подслушивает под окном разговоры. А если появится такая возможность, он стащит что-нибудь прямо у тебя подносом. Кроме того, их очень много, очень-очень много, и они знают обо всем, что происходит. Кто-то что-то заметил? Об этом тут же узнают десятеро, потом сразу сто человек. Никто не может отличить одного черретана от другого, все они одинаково грязные, и никто не понимает, о чем они разговаривают. Их братства… – Постойте: вы проверили ту книгу, которую я вам называл? – Да, господин аббат. Как вы помните, «Корабль дураков» Себастьяна Бранта содержит главу о немецких черретанах. У них тоже есть свой тайный язык, и они тесно общаются с итальянскими Коллегами. Об этом свидетельствует тот факт, что среди итальянских бродяг есть группы, которые называются ланци, ланкрезине и ланкиезине, а эти названия происходят от немецкого слова landreisig, то есть: бездомный, бродяга. Кроме того у каждой группы есть… – Ага, они тесно взаимодействуют? Хорошо, очень хорошо продолжай. – На чем я остановился? А, нуда. «Корабльдураков» – очень интересный исторический источник для изучения черретанов и их обычаев, единственный в своем роде, так как он был опубликован в 1494 году, в канун базельской Масленицы, и в него входит так называемый Liber vagatorum, первый и самый старый из сохранившихся документов о бродягах. Хотя он использовался с конца пятнадцатого века, опубликован был только в 1510 году… – Ближе к делу. Бюва торопливо достал из кармана бумагу и прочитал:* * *
Угонио сдержал слово. Как мы и договаривались, через молодого паренька, который работал у него посыльным, он известил Сфасчиамонти о том, где его можно найти. Сначала дорога верхом не была ни опасной, ни неудобной. Назначенное место встречи находилось за городской стеной, по ту сторону от ворот Пололо, рядом с кладбищем, где хоронили проституток. Пока мы ехали верхом, у меня появилась возможность задать Атто вопросы не в присутствии Сфасчиамонти, державшегося на таком расстоянии впереди нас, что слышать он просто не мог. Бюва устало трусил позади. – Вчера вы сказали, что Бюва будет собирать доказательства которые помогут нам взять Ламберга за жабры. Признаюсь, мне ваши слова показались не совсем понятными. – Разумеется. Если не чувствуешь жгучего желания докопаться до правды, то никогда не достигнешь своей цели, – ответил он с вызывающим смехом. – Но на самом деле все просто. Послушай. Черретаны заманили переплетчика в ловушку, и он умер, по роковой случайности или нет, не важно. Чего они хотели от бедного Гавера? Получить мой трактат о тайнах конклава. В нем также шла речь об одной заказной краже, когда свора этих черретанов не знала, что делать с украденным. В случае с Гавером они все пустили на самотек, а это было ненадежно. Но когда заказчик начал просматривать добычу, он обнаружил, что моего трактата там нет. – Потому что вы в тот момент уже забрали его у мастера, который делает четки. – Именно. – А вы уверены, что за всем этим стоит Ламберг? – Ну конечно. Можно сделать вывод, что у заказчика достаточно средств: он имеет людей, деньги и защищен с тыла, а также заинтересован в дипломатии на высоком уровне. Он точно знает, что и у аббата Мелани есть значительная поддержка, ему известны факты и люди, способные сыграть большую роль на предстоящем конклаве. Картина, которая наводит на графа Ламберга. Когда цоканье копыт снова послышалось недалеко от нас, я начал в тишине размышлять о словах Атто. Я подумал о темном образе императорского посла, о его взгляде сфинкса, о его странном запахе. Он вмешивался в дела Испании, планировал предательства, загадочные смерти, отравления… – Проникновение в дом Гавера – дело рук черретанов, – продолжил Атто, – и вот смотри, какое совпадение: в немецкоязычных странах тоже есть сообщества черретанов, которые каким-то образом побратались со здешними. Ламберг поэтому мог быть осведомлен об этом сброде, готовом выполнить любую работу. Подумай о том, что наш любимый грабитель святынь Угонио, он же Тойч, является сообщником черретанов и сам родом из Вены. Отсюда мы переходим к следующему пункту. Поскольку налет на переплетчика окончился неудачей, Угонио было поручено поискать на вилле Спада мой трактат о совете кардиналов. И в этот раз они его нашли. – А рана на вашей руке? – спросил я. Мне казалось, что я уже знаю ответ. – Все очень просто. Ламберг хотел меня запугать. И основательно. Он надеялся, что я испугаюсь и уберусь отсюда. – Значит, он не хотел вас убивать. Но я не пойму одного: почему Ламберг, среди всех дипломатов и агентов его величества короля Франции, находящихся сейчас в Риме, взял именно вас на мушку? – Но это же ясно как божий день, мой мальчик! Он знает, что мои слова и письма адресованы очень могущественному человеку и что я могу повлиять на некоторых высокопоставленных членов коллегии кардиналов, которые как раз собрались… ну, которые будут готовить выборы нового Папы, и исход этого дела очень важен для Ламберга. Мне показалось не случайным то обстоятельство, что Атто заколебался, объясняя мне, почему граф Ламберг должен был попытаться выкрасть трактат. Мои подозрения имели очень серьезные основания: тайно прочитав письма Атто и Марии, я знал что в окружении Папы решался вопрос не только о составе конклава как хотел убедить меня в том Атто, но и ни много ни мало о судьбе испанского трона. Но и этот аспект оставался для меня не совсем ясным. Почему Атто в своем воспоминании умолчал о том, что с ним произошло (кража, ранение в руку) и о связи этих событий с интригами вокруг испанского престола? Наверное, Ламберга, посла Габсбургов очень заинтересовал этот вопрос, если предположить, что австрийская; династия правителей стремилась к тому, чтобы посадить члена своего семейства на трон в Мадриде! Я сделал вид, что удовлетворен объяснениями Мелани, и мы провели остаток пути в молчании.Назначенное место встречи было жутким, омерзительным, и появление здесь пугающего силуэта Угонио выглядело вполне естественным. Угонио, в своем плаще с капюшоном, ждал нас среда могил. Несколько хищных ночных птиц огласили темноту своими гортанными криками. Теплый ночной воздух, словно пригнанный сюда из котла с бренными останками, в этом мертвом углу был еще тяжелее, темнее и плотнее. Угонио сделал правильный выбор. Трудно найти более подходящее место для тайной встречи, чем кладбище проституток. Грабитель нес на спине большой джутовый мешок, согнувшись под его тяжестью. – Что там у тебя? – спросил Атто. – Одна мелочь совсем ниоткуда. Так, с года отпущения грехов. Атто обошел вокруг него и осторожно пощупал мешок. Послышался такой скрежет, как будто вещи затолкали туда в страшном беспорядке, так что дерево, металл и кости перемалывали друг друга. – Ага, в год отпущения грехов у тебя большие дела пошли, так ведь? – спросил Атто. Угонио кивнул ему с агрессивной решительностью и что-то сказал. – Тут есть маленькое зеркальце для дамы, – установил аббат Мелани, ощупывая угол мешка кончиками пальцев, – которое у нее украли, пока она молилась в церкви. А вот эта кучка монет, должно быть, милостыня, которую ты вытягиваешь из нормальных людей своими уловками. Но, возможно, это также позорное вознаграждение, которое ты получил, когда привел в грязную гостиницу нескольких уставших римских паломников. А вот это точно дароносица со святыми дарами, которую украли у зазевавшегося священника. А здесь, как мне кажется, лежит распятие, наверное, братства, украденное при посещении одной из четырех базилик, я прав? Лицо грабителя святынь расползлось в зверской гримасе, что означало: Угонио испытывает стыд, оттого что его уличили в злодеяниях, совершенных в святой год. Затем он достал из-под своей накидки маленькую книжечку и протянул ее Мелани. Это был плохо переплетенный томик, который насчитывал не более восьмидесяти страниц. Атто глянул на форзац. Даже я вытянул шею и посмотрел на фронтиспис:
О новых правилах понимания
жаргона,
или языка мошенников.
Внутри находится алфавитный словарь.
Очень полезная, а также интересная работа.
Напечатано в городе Феррара, набрано
Джованмарией ди Мишелли и Антонио Марией ди Сивери
компаньонами. Год MDXLV
– Ага! – ухмыльнулся аббат и помахал книгой перед носом Бюва. – Что это? – спросил я. – То, что должен был раздобыть мой замечательный секретарь. Это словарь языка мошенников, или жаргона, смотря как его называть. Он поможет нам понять, что говорят черретаны. К счастью, я поручил еще и Угонио найти его, – ответил Атто, давая этому мошеннику пару золотых талеров. – Я украл его у одного моего очень хорошего друга – смущенно ухмыльнулся Угонио.– Судя по тому, что я вижу, речь идет о каком-то старом издании, которое не внушает мне доверия, – вставил секретарь Атто, нервно рассматривая книгу. Мы начали листать страницы.
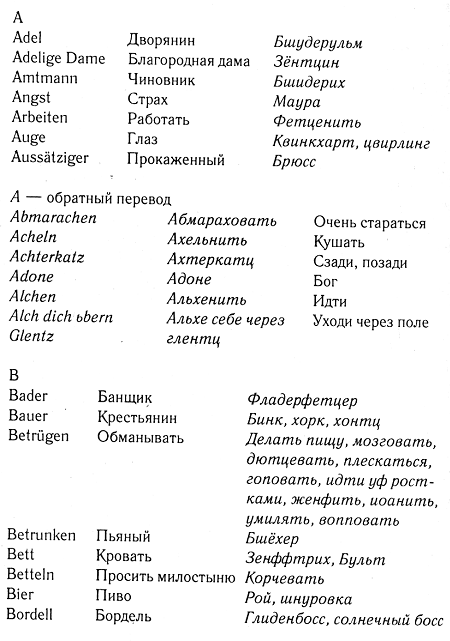
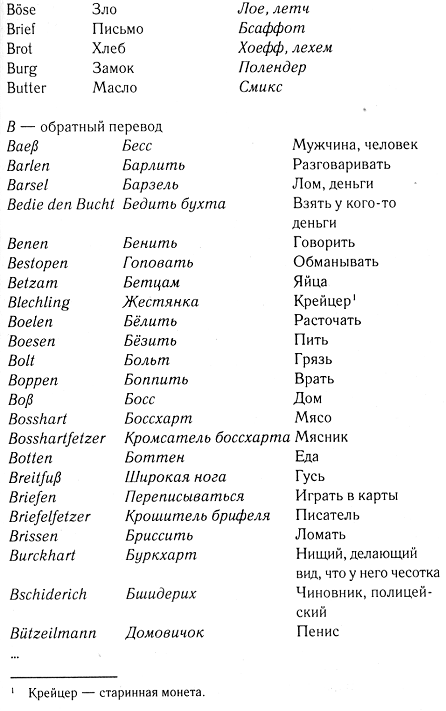
В таком порядке шли буквы алфавита, каждая с двойным спи ком слов повседневной речи и с соответствующим переводом на язык черретанов и обратно. – Это очень и очень необычный словарь, – продолжал упорствовать скептически настроенный Бюва. – Тут перемешаны слова и предложения. И, кроме того, все очень запутано. «Письмо» – это бсаффот, «писатель» – кроиштель брифеля, а «переписываться» – означает играть в карты. – Все равно это лучше, чем ничего, – оборвал его Атто. – Я как раз собирался сказать, что мы сейчас проверим. Что там прокричал тот вонючий черретан, когда мы нашли его с Рыжим? – Бшидерих… и «Ты глупец», – напомнил я. Мы полистали книгу и быстро нашли то, что нам требовалось. – Вот видишь? – радостно воскликнул Атто, обращаясь к своему секретарю. – Именно так я и думал. «Бшидерих» – это сбиры, а «Ты глупец» означает, что нужно незаметно скрыться. Этот вонючий предупредил Рыжего, когда мы к нему приблизились. Выходит, что эта книжечка не такая уж и бесполезная. Но ты должен мне еще кое-что, я знаю, у тебя этого добра целая куча, – сказал Атто нашему грабителю, делая движение рукой, как если бы поворачивал ключ в замке. Угонио сразу же догадался. Он кивнул с деловым видом, заговорщицки ухмыльнулся, залез себе под накидку и протянул аббату большое железное кольцо, на котором зазвенела дюжина ключей разного размера и формы. Это был тот самый арсенал, с помощью которого грабители открывали любые помещения в Риме, чтобы поискать в тайниках святые реликвии, которыми они приторговывали. Но гораздо чаще эти предметы использовались, чтобы грабить частные квартиры. – Хорошо, очень хорошо, – заметил Атто, внимательно рассматривая тяжелые ключи. – Во дворце Спады они нам, несомненно, пригодятся. Краем глаза я заметил, что Сфасчиамонти, как и любой другой хороший сбир, просто сгорал от желания выведать какую-нибудь полезную для себя информацию. Но он был явно смущен видом Угонио, с его звериными чертами гробокопателя, который в то же время был кем-то средним между шпионом и взломщиком, поэтому заметно отличался от известных ему преступников. Но сбир взял себя в руки и грубо спросил его: – Значит так, что ты выяснил? – Я поговорил с двумя майористами, – ответил грабитель. В четверг трактат передадут большому легату, который будет представлять Албанию.
Атто побледнел. Новость была плохой с двух сторон. Черретаны не только передадут трактат Атто какому-то таинственному большому легату, но и тот в свою очередь вручит его некоему Албанцу. И кто это мог быть, как не кардинал Албани, великий секретарь папской грамоты Его Святейшества, человек, который уже два раза едко высказывался против аббата на вилле Спада? – Где они будут прятать мой трактат до четверга? – В святом шару. – В святом шару? У Сфасчиамонти был такой же удивленный и растерянный вид, как и у Атто Мелани. – Они так выразились, – пожал плечами Угонио. – Потом великий легат Албанум будет выступать с обвинением против этого трактата и требовать расследования. – А кто этот великий легат? – Этого я не знаю. Я пытался вынюхать, но они не хотели со мной общаться. Несколько монет (довольно значительная сумма) быстро перешли из рук Атто в руки Угонио. Тот со звоном опустил их в засаленный мешочек и надвинул капюшон на лоб. Затем он собрался уходить, чтобы исчезнуть в темноте. – Ваш трактат подтверждает рискованную и опасную мудрость, – сказал он Атто, перед тем как уйти. – Что ты хочешь этим сказать? – Если вы будете писать об этом, то наверняка очень встревожите майористов… они сильно занервничают. Будьте благоразумны, ваше сиятельство. И не просите меня больше докладывать о новостях и происшествиях. Я не хочу, чтобы меня лишили головы из-за этого или перерезали мне шею.
* * *
По дороге назад я даже не пытался заговорить с Атто. Это был неподходящий момент. После всего того, о чем нам доложил Угонио, стало ясно, что написанное в трактате Атто очень не понравилось черретанам. Это выглядело так, как будто они захотят появиться с настоящим обвинительным актом против Атто. Кто же еще мог быть великий легат, как не граф Ламберг? Человек столь высокого ранга не мог быть назван иначе. Именно так и сделали черретаны. Как поступит Албани, получив эту рукопись? Назовет Атто французским шпионом? После споров между ними на вилле Спада хитрому церковнику было бы очень легко смешать своего политического противника аббата Мелани с грязью и уничтожить или же обвинить его в шпионаже и политическом заговоре и арестовать. Возникло много других вопросов, над которыми следовало подумать: где, черт побери, был святой шар и что это такое, где до этого судьбоносного четверга будет храниться трактат Атто, о котором сказал Угонио? Сфасчиамонти молчал. Казалось, что даже он не в силах разгадать эту загадку. – Я совсем забыл: Ламберг хотел меня принять, – вдруг сообщил Мелани. – Как вы узнали об этом? – Ты видел, что я передал ему записку, когда раздавали шоколад? – Да, я припоминаю, он еще ответил вам: «Ну хорошо, договорились». В этой записке вы попросили у него аудиенции? – Именно. Позднее я спросил у его секретаря, и тот уточнил время. День, на который у меня назначена встреча с Ламбертом, – четверг. На последнем слове голос Атто дрогнул. В этот день должна будет решиться его судьба. В этот день он узнает правду о нападении на него с ножом. Я наблюдал, как он сидел на своей кляче, и знал, что его душа отягощена еще одним переживанием. Я также видел одновременно двух гигантов: графа Ламберга, императорского посла, и кардинала Албани, секретаря папской грамоты. Атто Мелани приехал в Рим, для того чтобы управлять судьбой конклава и внести свою лепту в будущее папства, – по крайней мере, так он мне сказал. Но рулевой попал в кораблекрушение, и судьба, которую он себе уготовил, разбила шлюпку его души, подобно тому как страшная Сцилла разбила корабль Одиссея.13 июля лета Господня 1700, день седьмой
– Повитуха Клоридия, я ищу повитуху Клоридию! Открывай те быстро! Не знаю, как долго стучали в дверь моего дома. Когда я наконец смог открыть глаза, то увидел, что в комнате еще совершенно темно. Моя жена уже оделась и вышла, чтобы открыть дверь. Пока я наспех одевался, свежий воздух, ворвавшийся с улицы дал мне знать, что сейчас еще ночь и к тому же такой час, когда температура опускается до самой низкой отметки. Я подошел к жене. В двери стоял мальчик-возница, пригнавший карету из дворца Спады: у жены младшего управляющего по провианту отошли воды. – Поспешите, пожалуйста, повитуха Клоридия! – торопил мальчик. – Один из стражников дворца Спады заплатил мне, чтобы я забрал вас. Кроме беременной и ее мужа, там никого нет, а он не знает, что ему делать. Вы нужны очень срочно. – Так не должно быть, такого действительно не должно быть, – пробормотала моя жена, сердито топнула ногой и побежала собирать все необходимое. – Пойди разбуди девочек, – приказала она мне, – и сразу же возвращайся за нами на виллу Спада. – Ты хотела сказать, во дворец Спады, – поправил я ее. – Я сказала: на виллу Спада, мы встретимся у заднего входа. И принеси также большой плащ из мешковины. – Но мне не холодно. – Делай то, что я говорю, и больше не задерживай меня, – сердито ответила Клоридия – ее просто выводила из себя моя несообразительность в ситуациях, требующих быстрого решения. Ничего не понимая, я уставился сонным взглядом на жену, в то время как она бегала по комнате, вспоминая, что нужно взять: здесь полотенце, там бутылочку с каким-то маслом. Остановилась на мгновение посредине комнаты, чтобы подумать, затем взяла из сундука рубашку и халат, который носила совершенно в других случаях, завернула в них пару деревянных туфель и другую одежду и через секунду была уже в карете, торопя мальчика побыстрее везти ее на виллу Спада.* * *
– И эти вязаные чулки тоже? Нет, это невозможно. Должно быть какое-то другое решение, дева Клоридия. – Неужели вы хотите, чтобы младший управляющий поинтересовался, почему у моей помощницы из-под халата выглядывают замечательные красные чулки аббата? Когда я встретился в назначенном месте с Клоридией, то едва смог поверить в то, что увидел в бледном свете луны: Атто, чье сонное выбритое лицо было полускрыто белым чепчиком повитухи, одетый в широкое женское платье, оставшееся у моей жены со времен последней беременности, тщетно пытался оказать сопротивление Клоридии, которая опытными руками приподняла полы одеяния, под которым скрывался аббат. Клоридия ловко нарядила его старой повитухой, и сейчас, обнаружив, что аббат тайно натянул любимые красные шелковые чулки, выглядывающие из-под юбки, она заставила его сменить их на чулки из пеньковой пряжи, какие носили простые женщины. Только вот Атто никак не мог смириться с этим. Старый кастрат, успевший за время своей довольно долгой театральной карьеры спеть половине мира женские партии, прекрасно чувствовал себя в костюме повитухи. Но как примадонна он, конечно же, был возмущен необходимостью натягивать хлопчатобумажные чулки, по которым сразу можно определить низкое происхождение женщины. – Может, вы предпочтете надеть деревянные башмаки прямо на голые ноги, как это делают нищенки? – нетерпеливо бранила его Клоридия. – Хорошая идея, вы были бы отличной черретанкой, – язвительно поздравил я Атто, заслужив в ответ яростный взгляд.Пока карета ждала нас перед воротами, моя супруга быстро проанализировала ситуацию. К сожалению, ее травы оказали гораздо более сильное действие, чем она ожидала: Клоридия рассчитывала что роды у жены младшего управляющего начнутся во второй половине дня, и до этого собиралась спокойно рассказать нам что ей удалось увидеть и узнать прошлым вечером во дворце. – На это у нас сейчас нет времени, – обеспокоенно заявила она. – Тем не менее вкратце: я выяснила, что в бельэтаже есть закрытая галерея, соорудить которую приказал лично Виргили Спада. В ней находятся разные предметы, среди которых и тот фламандский глобус, о котором вы мне вчера рассказали. Возможно, вы найдете в той галерее то, что ищете. Квартира младшего управляющего находится на первом этаже, в правой части вестибюля с тремя пролетами. Сразу за ним вы натолкнетесь на лестницу. Остальное я покажу вам, когда мы будем там. Мы с девочками поспешили к выходу. По пути Клоридия сообщила нам о своем плане: – Слушайте все, что я буду говорить младшему управляющему: так как его жена очень толстая, то, кроме дочек, мне понадобится надежная старая повитуха, – она указала на Атто, – а кроме ее мужа, мне потребуется еще один человек, который будет держать роженицу во время родов. Оба наших цыпленка будут помогать мне с инструментами, полотенцами и прочими вещами. – Думаете, он поверит этому? – спросил Атто, недоверчиво разглядывая свой наряд. – Не беспокойтесь, господин аббат, – успокоила его Клоридия мягким голосом. – Все пройдет как нельзя лучше. Она с улыбкой осмотрела его с головы до пят: говорить женским голосом и вести себя по-женски Атто будет совсем нетрудно. Значит, ему придется играть роль помощницы повитухи – дело вовсе небезопасное, не говоря уже о том, что аббат испытывал отвращение от одной мысли о родах. Как, черт возьми, Клоридия заставила его решиться на такой маскарад? Мне стало жаль, ч я не присутствовал в тот момент. – Вам хорошо смеяться, – ответил Мелани. – Но вы еще не объяснили мне, как я смогу улизнуть из квартиры младшего управляющего. В конце концов, мне не хотелось бы по-нашему ассистировать вам при родах и вернуться домой ни с чем. – Доверьтесь мне, – прошептала ему в ответ Клоридия, и поскольку в это время мы уже дошли до ворот виллы, добавила: – У нас больше нет времени на объяснения. Я дам вам понять, когда наступит время оставить меня одну. – Но… – начал было Атто. – А теперь молчите. – А как же я? – пришлось спросить мне. – Делай вид, будто прощаешься с нами. Как только я отвлеку мальчика-возницу, завернись в свой плащ и спрячься сзади. Мою скромную особу дорогая жена решила не переодевать. «Ах да, – подумал я, слегка огорчившись, – благодаря незначительному росту мне будет легче тайно проскользнуть…»
Едва они сели в карету, я быстро и осторожно, как только мог, спрятался сзади, завернувшись в плащ. «К счастью, – подумал я с улыбкой, – присутствия моих маленьких шалуний вполне достаточно, чтобы молодой возница всю дорогу отвлекался». Карета въехала во двор дворца, и я еще ниже опустил на голову капюшон плаща. Охранники пропустили нас, только кивнув головой. Как и сообщила нам Клоридия, управляющий с женой, которая незадолго до своей беременности приехала из Милана и поступила на службу к кардиналу Спаде, временно расположился на первом этаже, так что сейчас они могли следить за входом во дворец, когда все остальные слуги из-за свадьбы были переведены на виллу Спада. Я ждал, спрятавшись в каретном сарае. Как и было условлено, Клоридия быстро вернулась ко мне под предлогом, что забыла свою сумку в карете. И пока младший управляющий и Мелани шли к роженице через служебный вход, она тайно провела меня в здание. Мы поднялись на второй этаж. Мне сразу же пришлось воспользоваться той волшебной связкой ключей и отмычек, которой снабдил нас Угонио. Как и ожидалось, после нескольких попыток я подобрал нужный экземпляр. – Подожди здесь и постарайся не шуметь, – велела мне жена, напутственно поцеловав в лоб. – Я скоро пришлю к тебе «повитуху» Мелани. Можешь подсматривать отсюда, – сказала она и открыла окно большого вестибюля, выходившего во внутренний двор, в ночную темноту. – Я еще вчера обдумала все как следует. Клоридия показала мне, что из этого окна можно наблюдать за всем, что происходит в комнате роженицы. Очень удобная позиция – во время поисков мы сможем время от времени проверять, находится ли управляющий рядом с женой и не возникла ли какая-то опасность для нас. Я выглянул в окно. Атто и управляющий уже были в комнате, а на кровати лежала женщина. Даже отсюда было заметно, как тяжело она дышит. Увидев аббата Мелани, столь экстравагантно одетого, я не смог удержаться от улыбки. Он с большим нетерпением ожидал возвращения Клоридии. И чтобы сохранить самообладание и соответствовать своей роли, Атто один за другим вытаскивал инструменты из мешка, но держал их кончиками пальцев, так, словно они были мертвыми крысами. Клоридия оставила меня в темноте, спустилась по лестнице и вошла в комнату к роженице. Я увидел, как она сняла с кровати три подголовника и положила их на пол. К моему большому удивлению, она велела роженице лечь на них, подложив три подушки, так что голова женщины стала свисать на пол. Положение казалось мне довольно неудобным, видно было, что бедная женщина пожаловалась, но Клоридия сделала ее позу еще более странной, по крайней мере, я так решил, хотя ничего не понимал в этом. Клоридия подогнула ей ноги, как это показано на рисунке, который я здесь прилагаю:

– Что за жара у вас тут! – воскликнула Клоридия и открыла окно, так что теперь я со своего поста мог не только наблюдать, но и слышать, что происходит в комнате. – Но неужели действительно необходимо, чтобы моя жена рожала в таком ужасном положении? – с жалостью произнес младший управляющий, которому было невыносимо смотреть на свою согнутую пополам жену. – Но ведь я не виновата, что твоя жена такая полная. Жир, который собрался у нее на животе, давит на матку и сужает ее. И только в подобном положении зев матки может открыться достаточно, чтобы она могла легко родить, какой бы толстой она ни была. – Это почему? – все еще сомневаясь, спросил муж, обращаясь к Атто, который тут же отвернулся от него, неопределенно разводя руками. – Все очень просто: в таком положении жир распределяется по бокам, – ответила моя жена так, словно это должен знать каждый. – Если этого не сделать, то он помешает ребенку выйти наружу, как произошло бы в обычном акушерском кресле, где жир, воды и внутренности лежат вокруг матки и сдавливают ее, да еще и узкий зев, – все это затрудняет рождение ребенка. Уложив стонущую женщину в такое положение, Клоридия приказала младшему управляющему и аббату Мелани (от стыда тот все время отводил взгляд от роженицы) крепко держать женщину за руки и опустилась перед ней на колени, тоже подложив подушку под ноги. Она прикрыла половые органы женщины и попросила нашу старшую дочку принести кружку, до краев наполненную маслом из белых лилий, которым она смазала себе руки до локтей, живот и половые органы роженицы. Затем с большой ловкостью ввела правую руку в родовой канал и обильно смазала его маслом, чтобы и он стал мягче. После этого Клоридия приказала повернуть женщину на бок и смазала маслом место, расположенное в нижней части позвоночника и называемое крестцом, – во время родов он тоже прилично выступает, я сам видел это, когда Клоридия рожала двух наших дочек. Потом она сделала такое движение рукой, от которого у несчастной роженицы вырвался громкий крик боли. – Черт возьми! Матка действительно сужена, – выругалась Клоридия. – Добрая повитуха, – велела она аббату Мелани, – встань и принеси мне масло из желтых фиалок, то, что в стеклянной баночке. Она тут же использовала масло по назначению и одновременно прочитала нашим цыпляткам маленькую лекцию по акушерству. – Если у роженицы узкая матка, необходимо смазать ее маслом из желтых фиалок. И так как один или даже десять мазков не помогут исправить недостаток природы, используют масло до двадцати или даже тридцати раз, чтобы тем самым, как учили Гиппократ и Авиценна, скорректировать натуру. Авиценна рекомендует даже сделать несколько инъекций масла в матку, дабы расслабить ее стенки. Девочки согласно кивали. Младший управляющий и его жена, лица которых были залиты потом, смотрели с удивлением и благодарностью на такую знающую, умелую, опытную повитуху. Я начал беспокоиться: Клоридия обещала отпустить аббата Мелани поскорее, но не делала для этого никаких попыток. Я видел, как растет нетерпение Атто: он бросал на мою супругу многозначительные сердитые взгляды. – О Господи, масла не хватает, – вдруг спохватилась Клоридия. – Повитуха, пойди принеси мне побольше масла из той банки, которую я оставила в сумке. Атто послушался. Когда он вернулся, Клоридия посмотрела на него с удивлением. – Добрая повитуха, вы кажетесь мне не совсем здоровой. – Хм, нуда, я действительно… – пробормотал Атто, который не понимал, к чему клонит Клоридия. Моя жена продолжала пристально рассматривать его и снова спросила: – Возможно, вы чувствуете легкое недомогание? Lassitudo?[1352] Головокружение? Аббат Мелани лишь неопределенно жестикулировал, робко кивая в ответ. Клоридия вдруг резко подскочила, набросилась на него и схватила за горло. Ошеломленный, Атто вытаращил глаза и начал уже инстинктивно защищаться, когда Клоридия энергичным движением подняла нагрудник его халата и заглянула под него, будто хотела обследовать ему грудь: – Эти красные пятна… – задумчиво пробормотала она, ощупывая то одну, то другую грудь, которые, как я знал, были набиты тряпками. Тем временем даже жена младшего управляющего перестала жаловаться на боль и завороженно слушала, что говорила Клоридия. – А эти другие, такие фиолетовые… Моя несчастная подруга, мне действительно очень жаль, но у вас петехии! – Что-что? – спросили все хором. – В Милане их называют оспинками, – объяснила Клоридия управляющему и его жене, и те вздрогнули от испуга. Атто же наконец понял то, что мне стало ясно еще несколько минут назад. На его лице исчезла напряженность, и аббату с большим трудом удалось подавить вздох облегчения. – Болезнь вызвана сильной жарой и обезвоживанием, – продолжила моя жена, – поэтому холерический темперамент легко заражается ею, а насколько я знаю, моя дорогая помощница обладает именно таким темпераментом. Бедная моя, позвольте посоветовать вам как можно скорее отправиться домой и попытаться сохранять спокойствие. Ешьте все только холодное, дабы остудить холерическую натуру, и вы увидите, что все пройдет. Мы справимся здесь и без вас. – Можете спокойно взять моего мула из конюшни для слуг, – вмешался в разговор управляющий, страшно испугавшись возможности заразиться. – Он там один, так что не ошибетесь. – А охранники? – спросил Атто жалобным голоском. – Вы правы. Я провожу вас. – Ни в коем случае! – тут же воскликнула Клоридия. – Вы нужны мне здесь. И кроме того, вам следует остерегаться заражения. Но должен ведь быть какой-то служебный ход, от которого у вас есть ключ… И здесь снова моя хитрая Клоридия продумала все до мелочей Младший управляющий выдвинул ящик и достал ключ. – У меня есть запасной, – нерешительным тоном сказал он Атто, – но я прошу вас. – Вы получите его сразу же назад, не беспокойтесь, – оборвала его Клоридия, взяла ключ и передала аббату. На самом деле нам не нужен был этот ключ: наверняка в связке ключей Угонио есть похожий экземпляр. Однако рассказать об этом младшему управляющему мы не могли. Мелани бросил на Клоридию обиженный, но одновременно веселый взгляд, зажег свечу и поспешно исчез за дверью. Я быстро подошел к темной лестнице, чтобы проверить, запомнил ли Атто указания Клоридии и не заблудился ли он. – Твоя жена любит шутить, – заметил аббат, как только мы встретились с ним. – Историей о петехиях она сначала совершенно сбила меня с толку. В любом случае, у нее поистине замечательная память. В этой сцене с петехиями Клоридия точно процитировала тезисы, услышанные ею семнадцать лет назад от Кристофано, врача из Сиены, с которым мы вместе оказались заперты на время карантина в «Оруженосце», где я тогда работал и познакомился с Атто. Разве можно забыть, что рассказывал нам сиенский эскулап, когда предостерегал нас, ведь мы словно завороженные ловили каждое его слово, так как жили в постоянном страхе заразиться чумой. Поскольку Клоридия не успела обсудить с Атто возможные варианты, моя жена произнесла слово «петехии», чтобы дать ему знак, так как не сомневалась, что, услышав знакомое слово, он сразу же все поймет.
Я подвел Атто к окну в вестибюле и объяснил, что отсюда мы можем контролировать обстановку и вовремя предупредить опасность. – А сейчас надо бояться сквозняка как чумы! Давай переложим твою жену сюда, к окну, – властным голосом приказала Клоридия управляющему, – чтобы она могла дышать прохладным воздухом раннего утра. Но, ради Бога, закройте дверь комнаты на замок, вашу жену нужно защитить от сквозняка! Мы откроем дверь только после того, как ребенок родится. – Но я обязан каждые полчаса делать контрольный обход, – запротестовал младший управляющий. – Исключено. – Но… – Вы понимаете, насколько важно не беспокоиться, не волноваться, чтобы избежать заражения. В скором времени болезнь высушит humidum radicale, то есть влагу в теле, и может убить, – донеслись до нас слова умелой повитухи Клоридии, которая теперь уже для собственного удовольствия процитировала слова Кристофано, услышанные много лет назад на постоялом дворе «Оруженосец». После такого предупреждения младший управляющий, побледнев, словно призрак, закрыл дверь комнаты, а моя упрямая жена, довольно улыбаясь, снова опустилась на колени перед роженицей.
* * *
– Ну что, пора. Сказав это, аббат Мелани со скрипом открыл дверь в темную комнату. Войдя, мы сразу же закрыли за собой дверь. Мы не знали, сколько времени есть в нашем распоряжении (это зависело от того, как будут протекать роды у жены управляющего), а после родов муж роженицы отвезет Клоридию домой. К этому времени мы должны завершить наши поиски и увести с собой мула из сарая, чтобы управляющий ничего не заподозрил.Мы пытались разглядеть, что находилось в этой мрачной комнате Единственным источником света была свеча, которую Атто взял в комнате управляющего. Пытаясь унять дрожь в ногах, я с любопытством рассматривал помещение. Зал, где мы стояли казался невероятно большим. – Мне кажется, это вовсе не та галерея, о которой говорил твоя жена, – высказал свои соображения Атто. – В любом случае глобуса здесь нет, – заметил я. Мы прошли через зал, затем через следующий, и еще через один, каждый был богато украшен фресками и полон картин, которые вызвали у аббата полный восторг. – Посмотри сюда, я знаю эти картины, они принадлежат кисти фламандского художника Ван Лера. Я видел их несколько лет назад в коллекции кардинала Казанате, упокой Господь его душу. – Он остановился перед четырьмя картинами (на них были изображены корова, корчма и две сцены убийств в лесу) и хихикнул: – Еще не прошло и четырех месяцев после смерти кардинала, как доминиканцы, которым он завещал все свое имущество, уже начали распродавать его наследство. Пока Атто, забрав у меня свечку, освещал полотна, разглядывая их, я тайком, словно ночной кот, вернулся в вестибюль, чтобы проверить обстановку у Клоридии. Схватки у роженицы становились все более частыми, бедная женщина очень страдала, но, как и предсказывала моя жена, ребенок не спешил появиться на свет. Поэтому управляющий, совсем было забывший о своих обязанностях, вдруг, к сожалению, вспомнил о них и попытался осуществить свой первоначальный замысел – совершить предписанный обход по комнатам дворца, хотя жена и просила его подержать ее за руку. Однако Клоридия каждый раз находила какой-нибудь способ отвлечь его. В этот раз она стала развивать свою любимую тему грудное вскармливание. – Так вы сказали, что хотите нанять кормилицу? Ха, наверное, вы живете в полном изобилии! Зачем же вашей жене грудь? – Но, повитуха Клоридия, – запинаясь, начал младший управляющий, – моей жене нужно скоро приступать к своим обязанностям… – Да, и зарабатывать как раз столько, чтобы платить кормилице! А не лучше ли оставить это крошечное существо у себя дома? – Возможно, мы поговорим об этом позже, сейчас я должен сделать обход… – Это просто невероятно! – воскликнула моя жена, быстро вскочила со своего места и преградила управляющему дорогу к двери. В наше время даже жены мелких ремесленников отсылают своих новорожденных детей к кормилице, как будто все сразу сделались князьями и нежными, благородными дамами. Бедные, они, конечно, не могут позволить такого беспокойства у себя дома, ведь им нужно выполнять служебные обязанности! Младший управляющий не нашелся что ответить. – Кто же не знает, – продолжила Клоридия, – что и для личных отношений гораздо лучше кормить детей дома, а не отдавать их кормилице? Даже Аулус Гуллий подтвердил это! Мужчина, который явно не имел никакого представления о том, кто такой Аулус Гуллий, присмирел, услышав эту фамилию. – Современные женщины в стремлении отдалить от себя ребенка воистину превосходят даже таких зверей, как тигрицы, – развивала свою мысль Клоридия. – Я действительно не знаю, какое еще животное, кроме человека, не хочет выкармливать собственных детей. Как возможно такое: мать носит будущего ребенка, кормит его собственной кровью, не зная еще, будет ли это мальчик, девочка или чудовище, но отнимает от груди и прогоняет из своей кровати, как только увидит младенца, услышит его хныканье и вздохи! Ведь он нуждается в ее помощи! И эта крошка должна довольствоваться тем, что ему даровали жизнь, но отказали в благополучии, словно грудь дана женщине Господом и природой только для украшения тела, а не для того, чтобы вскармливать детей… По опыту я знал, что, если Клоридия начинала эту тему, она без труда могла задержать человека надолго. Я вернулся к Атто, и мы продолжили наш путь в предрассветных сумерках. Мы поспешили пройти долгий ряд комнат, роскошно украшенных изображениями мифологических и исторических персонажей: комнату Амура и Психеи, зал Персея, галерею с лепкой, а затем комнату Каликстуса и Энея. – Ничего не поделаешь. Здесь нет глобуса, о котором ты говорил. В этот момент мы услышали взволнованный крик, а затем нескончаемый, раздирающий душу рев, который чуть не довел аббата Мелани до обморока. Мы поспешили к окну на лестнице Жена младшего управляющего родила. Травы, которыми воспользовалась Клоридия, дабы ускорить роды, дали более быстрый результат, чем наши поиски. – Черт бы побрал твою жену. Пусть будет проклят тот момент, когда мы ей доверились, – пробурчал Мелани. – Теперь мы застрянем здесь, так ничего и не найдя. Тут мы увидели Клоридию: держа в руках запеленутого новорожденного, она выглядывала в окно и быстрыми жестами давала нам понять, что мы можем продолжать поиски и не беспокоиться. Взволнованные, мы вновь занялись делом: миновали зал, посвященный Ахиллу, салон, отображающий историю Древнего Рима, еще два – один, посвященный четырем элементам, и другой – четырем временам года, большую галерею, кабинет и даже капеллу. – Кое-что показалось мне странным, – заявил Атто. – Давай вернемся к лестнице. – Зачем? – Когда мы поднимались наверх, то вначале повернули направо. Теперь хочу попытать счастья на левой стороне. И я сразу же скажу тебе почему. Скоро я и сам увидел, что у аббата были на это достаточные основания. Вернувшись в исходную точку, мы заметили, что если поднимемся по лестнице наверх и сразу же повернем налево, то найдем там галерею, которую мы еще не обследовали. Утренний свет, который в этот момент стал ярче, позволял нам разглядеть не только стены, двери и окна, но и очень высокие великолепные потолки.
Когда мы с помощью свечи зажгли свет в большом напольном канделябре, то смогли хорошенько рассмотреть все, что нас окружало. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что мы стоим в широкой галерее, украшенной всевозможными фресками. В ней было бесчисленное множество предметов искусств и дорогой мебели. Даже самый неискушенный человек должен был сразу понять, что находится сейчас в одной из самых красивых и важных комнат дворца Спады, куда нужно приводить для благоговейного созерцания только достойных посетителей. Это была та самая галерея, о которой говорила Клоридия: необычайно просторный зал в форме вытянутого прямоугольника. Одна стена была покрыта фресками и завешана картинами, противоположная – наоборот, разделена рядом больших окон, через которые в помещение вливался дневной свет. В проемах между окнами стояли мраморные бюсты. Круглый свод потолка украшала впечатляющей красоты фреска, ордер и значимость которой я не смог бы даже понять, если бы аббат Мелани все не разъяснил. По словам Атто, в этих великолепных изображениях скрывались астрономические и астрологические символы. Я увиделангелочков, державших большой белый шатер с нарисованными белыми линиями, которые пересекались на земной поверхности, как это бывает на глобусах. На одном конце фрески был изображен Меркурий, который нес на небо солнечные часы, в то время как другие языческие боги с удивлением и восхищением взирали на него. На противоположном конце я увидел четыре женские фигуры, которые олицетворяли оптику, астрономию, космографию и геометрию. Они также были заняты тем, что строили солнечные часы. Были еще четыре фигуры, несравненно красивые и достойные высочайшей похвалы. На стенах в большом количестве висели великолепные картины, в основном портреты известных людей. В неярком свете раннего утра было еще трудно разглядеть детали, но мне казалось, что на меня смотрят живые люди. Но как же я был удивлен, когда понял, что за нами наблюдают, и вовсе не человеческими глазами. Большой краб белого цвета притаился высоко наднашими головами, на потолке, и мрачно глядел на нас. Святые небеса, господин аббат, вы только посмотрите наверх. Я еще никогда не видел такого большого краба, ползающего по потолку. Да еще и белого цвета! – воскликнул, я, холодея от страха. – Ну что ж, мой мальчик, как я вижу, у тебя опять появилась возможность узнать что-то новенькое. Это и есть знаменитая галерея Astrolabium anacampticum дворца Спады. – Астролабиум ана… как там дальше? – беспомощно попытался повторить я за ним, все еще с ужасом следя за белым крабом, хотя в данный момент он не собирался спрыгивать на нас. – Проще говоря, то есть объясняю для тебя: это катоптрические солнечные часы, как их называл ученый отец Кирхер. Удивленный, я переспросил. – Вы сказали Кирхер? Я вспомнил, что во время нашего приключения семнадцать лет назад мы занимались этим человеком, и даже вплотную. – Если ты будешь хоть иногда читать газеты, – быстро ответил мне Атто, – то рано или поздно узнаешь что-нибудь о Mirabilia[1353] в твоем городе. – Но я и так знаю, что дворец Спады полон архитектурных чудес и люди приезжают со всего мира полюбоваться им, но… – Я надеюсь, ты хотя бы знаешь, что такое солнечные часы, – прервал меня аббат. – Конечно, синьор Атто. С помощью таких часов можно определить время по тени, которую будет отбрасывать любой предмет, будь то камень или металлический прут, находящийся в определенной точке. – Правильно. Эти же, что здесь, напротив, – особенные солнечные часы. Как сказал бы Кирхер, они функционируют катоптрически,[1354] то есть посредством не самого солнечного луча, а его отражения. Ты знаешь, что находится там, снаружи? – спросил он, указав на небольшое окошко, выходящее во двор. – Это мне неизвестно. – Там прикреплено зеркало, которое отражает свет солнца и луны. Спада приобрел для этой цели специальные зеркала разных форм и размеров, которые отражают солнечные и лунные лучи и проецируют их светящиеся очертания, например твоего белого краба. Он стал таким, каким ты его сейчас видишь, всего лишь благодаря простому солнечному зайчику, который преломляется на своде потолка галереи и таким образом показывает точное время. Я снова посмотрел наверх: аббат был прав, чудовище было белым, потому что оно освещалось лучом света на потолке галереи. – И он показывает точное время? – недоверчиво переспросил я. – Конечно. Ты ведь легко распознал линии, начерченные на потолке. С их помощью (при условии, что свет не такой слабый, как в это время суток) можно определить часы и минуты по прохождению солнечного зайчика по своду. И этот свод здесь не что иное, как огромные солнечные часы, хотя и перевернутые. Луч падает не сверху вниз, как в обычных солнечных часах, а в противоположном направлении. Краб – это отраженный свет луны, и я предполагаю, что он имеет именно такую форму, потому что в эти июльские дни мы находимся в созвездии Рака, и для этого, вероятно, были использованы зеркала специальной формы. После интересного объяснения Атто я продолжил осматривать помещение. И тут не смог удержаться от удивленного возгласа: – Вы только посмотрите! Вот этот фламандский глобус! Нет, их даже два. Мы подошли ближе, чтобы внимательнее рассмотреть находку. Чуть дальше действительно стояли два больших деревянных глобуса, один из них показывал области Земли, а другой – неба. Мы прочитали имя изобретателя – некий Блеу из Амстердама. – Если это тот самый глобус, о котором ты слышал разговоры, то, к сожалению, он не имеет ничего общего с глобусом Капитор, – произнес Атто глухим усталым голосом. – Это не он? – Нет. И правда, этот глобус, который стоял перед нами, не очень-то был похож на глобус, изображенный на картине, висящей на «Корабле». К тому же у него не было золотой подставки. – Что теперь? – спросил я. – Ничего. Мы ошиблись. Мы опять все сделали неправильно. – жалобным голосом заявил Атто и без сил присел на сундук. Тут что-то на стене перед нами привлекло мое внимание. Аббат подошел ближе к одной из картин, украшавших стену зала без окон, и задумчиво остановился перед ней. Это был портрет строгого мужчины с быстрым, но мягким взглядом, высоким лбом четко очерченной линией рта и бородой с легкой сединой. На нем была треуголка, похожая на иезуитские, и накидка с вышитым между двумя ветками сердцем. – Это он. Я представляю тебе Виргилио Спаду. Как я и говорил, он принадлежал к ордену ораторианцев, последователей святого Филиппо Нери, и здесь изображен в орденском одеянии. Это был мудрый и набожный человек. Помогал своему ордену в разных делах, но в первую очередь материально. Я посмотрел на портреты других членов семьи, однако Атто не удостоил их и взгляда. Он постоял еще какое-то время, погруженный в свои мысли, затем сокрушенно покачал головой. – Нет, мы совсем не продвигаемся дальше. Так не пойдет. – Что вы имеете в виду? – спросил я, так как не знал, к чему он клонит. – Мальчик, ты осмотрелся вокруг? Где, черт возьми, находится кунсткамера Виргилио Спады? Я не вижу здесь и намеков на нее. Мы не обнаружили ничего из этой коллекции. Она должна быть на виду, ведь семья Спады любит принимать уважаемых людей и показывать им свое богатство. – И что? – Этот портрет мне что-то напоминает. – Что же? – Я не знаю. Дай мне подумать, я так устал, слишком устал. А времени мало. Нужно посмотреть, как дела у Клоридии, вдруг ее уже увозят. С этими словами аббат медленно побрел к двери, согнувшись под бременем лет и трудов, только разочаровавших его. Пока я шел за ним, я решил еще раз полюбоваться чудесными и такими непонятными мне узорами катоптрических солнечных часов, которые теперь, при более ярком утреннем свете, можно было лучше разглядеть. – Синьор Атто, а что означают все эти знаки и цифры, нарисованные там наверху? . – Это знаки Зодиака с астрологическими таблицами для просчета констелляции, то есть положения звезд в гороскопе. А другие линии, которые ты видишь, показывают время в различных частях света, – объяснил Атто, тоже задрав нос кверху. – Отец Виргилио интересовался и такими вещами? – пораженный, переспросил я, потому что знал, какой смертельной опасности всего полвека назад подвергал себя тот, кто увлекался гороскопами. – О, что касается астрологии, то Спада всегда был большим ее поклонником. Виргилио и его брат Бернардино восхищались астрологией, даже когда она была запрещена. Как я уже говорил тебе, когда в 1662 году Виргилио умер, я уже год жил в Риме. Тогда я обнаружил у него книги, запрещенные церковной цензурой и, кроме того, некоторые рукописи, считавшиеся даже ересью, но которые… Аббат неожиданно запнулся, не договорив фразы, остановился и уставился на меня так, словно его сразила молния. – Мой мальчик, ты гений! – воскликнул он. Ничего не понимая, я посмотрел на него. – Наконец я точно знаю, где искать чашу Капитор, – ответил он на мой немой вопрос. После чего глухим от волнения голосом Мелани рассказал мне, что Виргилио Спада был страстным поклонником прежде всего логической астрологии, то есть занимался составлением предсказаний и гороскопов. Он изучал свою собственную констелляцию планет, а также констелляцию отца и многих других. Но в 1663 году эта наука была официально запрещена папой Урбаном VIII Барберини. – Все это мне известно, я слышал об этом еще во времена нашего знакомства в «Оруженосце», – прервал я его. – Тогда ты должен вспомнить и о плохом конце, который был Уготован бедному аббату Моранди, когда у него обнаружили астрологические книги. При одном воспоминании об этой истории у меня побежали мурашки по спине. – Тогда перепугались многие прелаты, занимавшиеся такими вещами. Среди них были также Виргилио Спада и его брат Бернардино. Говорят, Виргилио ночью перенес некоторые подозрительные книги из дворца Спады в молельню и хранил там в большом закрытом ящике до самой своей смерти. – Получается, мы должны искать в молельне братства. – Так и есть. Хотя перехитрить бдительность монахов ордена святого Филиппо Нери будет довольно сложно, и я не думаю, что на этот раз нам сможет помочь твоя Клоридия.
Мы вышли из галереи с катоптрическими солнечными часами и вернулись к окну, чтобы проверить, как идут дела у моей дорогой супруги. Мы увидели, что она все еще увлечена своими нравоучениями, одновременно наводя порядок вместе с нашими малышками. Моя жена с жаром убеждала растерянного младшего управляющего, оперируя яркими метафорами, а он, дабы сохранить самообладание, ласкал и утешал обессилевшую супругу. – Еще хуже, когда молодая роженица, чтобы не тратиться на кормилицу или если ей надоело кормить грудью, обрекает маленькое дитя на кормление молоком животных. Она должна знать, что для ее ребеночка это настоящий яд, он будет с большим трудом переваривать это молоко, быстро насытится, не захочет сосать материнскую грудь и постепенно забудет ее. Клоридия, стоя у окна, энергично жестикулировала, давая понять, что нам следует заканчивать свои бесполезные поиски, потому что разговор с управляющим, к сожалению, уже закончен. Ничего не поделаешь: Клоридия, разгоряченная собственной защитной речью, нас не видела. Нам же нужно было следить за тем, чтобы нас случайно не увидели в окне мои цыплятки и не выдали без всякого умысла, просто от детской наивности. – Простая истина гласит, что молоко козы предназначено для козлят, а молоко коровы – для телят. И какой же отец или мать пожелают своему ребенку страдать от одышки, как теленок, или быть рогатым, как коза? А то даже и от того, и от другого сразу? Животный дух проникает в кровь маленького тела и уже до самой смерти не покидает его. Вот присмотритесь внимательнее к тем бедным созданиям, которых вскормили молоком коров: взгляд бессмысленный, голова большая, члены отечные, а кожа дряблая и бледная. А темперамент этих несчастных малышей? Они либо недоверчивые и молчаливые, как козы, либо всегда слишком миролюбивые и спокойные, как телята. И их надменные матери еще гордятся этим! Ведь родители могут делать все, что им вздумается, а отупевший и деградировавший ребенок им не мешает в этом. А с каким отвращением они смотрят на тех мамаш, которые кормят младенца грудью и весь день заняты своими полными жизни, бодрыми малышами. Наконец Клоридия заметила нас. – И в завершение хочу еще раз попросить вас избегать кормить молоком животных создание, которому Бог подарил душу человека! – настойчиво повторила она, собирая последние вещи. – До третьего года жизни ни один ребенок не должен получать и капли такого молока. Правда, оно очень вредит и после третьего года жизни. Поэтому все: отцы и матери, а также их сыновья и дочери – должны держаться подальше от животного молока, если хотят сохранить здоровье тела и ясность разума. Deo gratlas, мы готовы. Она перекрестилась, как всегда делала после родов, и мы услышали ее последние наставления роженице. Тем временем мы с Атто уже украдкой прошмыгнули в конюшню, где стоял мул, который должен был отвезти нас двоих, уставших и разочарованных, назад, на виллу Спада.
Мы добрались уже до внутреннего двора, мирно дремлющего в утренней дымке, и как раз хотели заехать на конюшню, как услышали жуткий глухой звук. Он доносился слева, со стороны великолепной длинной колоннады, за которой следовала такая же винная, обрамленная живой изгородью аллея, ведущая в сад. В этот момент мы увидели невероятного, колоссального четвероногого зверя, ростом в два человеческих роста и длиной с карету, черного как ночь и покрытого густой грязной шерстью Мне показалось, что я просто парализован от ужаса и почти загипнотизирован этим адским чудовищем. Я не смог отвести от него глаз, даже когда он перепрыгнул через изгородь аллеи и с невероятной быстротой побежал на нас, вновь издав тот угрожающий звериный рев, который мы слышали перед этим. Наконец, нечеловеческим усилием собрав волю в кулак, я сорвался с места, забыв про Атто, и быстро забаррикадировался в конюшне. Атто уже был там: в отличие он меня, он не был парализован страхом, не медлил и секунды и сразу же укрылся в безопасном месте. – Чудовище… колосс… – еле выдавил я, задыхаясь, лицо мое исказилось страхом. Мелани улыбнулся. – Что вас так рассмешило? – сердито спросил я. – А ты сейчас и сам все увидишь. Иди за мной.
Через несколько минут Атто сидел в начале колоннады, на тумбе одной из колонн, и преспокойно гладил колосса, так как это был совсем не колосс, а всего лишь приветливая маленькая собачка! Животное, спавшее в саду за галереей с колоннами, было разбужено моим появлением, на что сначала отреагировало характерным собачьим рычанием, а затем побежало к нам, чтобы отогнать незваных гостей. То, что я принял за чудовище невероятных размеров, в действительности оказалось небольшим существом, которое едва доходило мне до колен. – Ты все понял? – спросил Мелани. – Я думаю, да, синьор Атто. И тем не менее все это до сих пор казалось невероятным. Колоннада, через которую пробежала собачка, была шедевром великого Борромини, которого семейство Спады часто нанимало для создания иллюзии расширения пространства и украшения дворца. Галерея с колоннами была построена таким образом, что умелой оптической перспективой так сбивала с толку созерцающего, что только тот, кто знал, в чем дело, мог понять происходящее. Чем ближе человек подходил к колоннаде, тем слабее становилось искажение: пара колонн по бокам была ниже, земля поднималась черно-белым шахматным полем и становилась уже, при этом рисунок уменьшался, копируя бесконечную перспективу, которую так любят использовать художники, изображая на своих полотнах улицы, города и храмы. Штукатурка на полукруглом перекрытии тоже продолжала все уменьшающийся узор решетки из четырехугольников, так что они соответствовали уменьшению перекрытия. За выходом из колоннады вместо просторного, уходящего за горизонт сада на самом деле был лишь очень скромный маленький двор, где вместо живой изгороди стояли искусственные кусты из камня, покрытые двумя слоями зеленой краски. Они были не совсем обычной формы – в виде параллелепипеда, а с удалением от колоннады, а значит, и от созерцающего их, становились все ниже и уже, казалось уходя в самое небо. Небо, которое, как мне чудилось, я видел за изгородью, было нарисованным, точнее говоря, представляло собой искусную подделку, изображенную на стене всего в нескольких шагах от меня, что завершало эффект иллюзии. Я подошел к колоннаде и смущенно коснулся первой пары колонн, затем второй, третьей… Они становились все уже и ниже. Оптическая мистификация Борромини была задумана и выполнена с таким мастерством, что я был полностью введен в заблуждение и даже, не стану скрывать, безмерно напуган. По сравнению с искусственной изгородью маленькая собачка показалась мне настоящим великаном, а поэтому и невероятная ее скорость была всего лишь следствием иллюзии, вызванной небольшой протяженностью колоннады. А рычание собаки, искаженное и усиленное эхом, показалось мне ревом хищного дикого зверя. – Человек всегда боится того, чего не понимает, здесь произошло то же самое, что и в зеркальной галерее «Корабля», – сказал Атто отеческим тоном, пока мы трусили на муле к вилле Спада. – Я уже слышал о волшебной оптической иллюзии перспективы колоннады дворца Спады: со всего мира сюда стекается множество важных господ, чтобы посмотреть это чудо. Но у меня не было точного представления, как она выглядит. Я был ошарашен и даже испуган… Знаете ли, я просто очень устал… – сгорая от стыда, пытался оправдаться я. – Ты увидел бесконечно длинную галерею сводов, в то время как в действительности она была очень короткая. Чем больше расстояние между тобой и галереей, тем крупнее представляются тебе маленькие предметы, если они, конечно, расположены в правильном месте, – продолжал объяснять мне Атто. – Величина – это не больше чем иллюзия, а великолепие искусства – отражение иллюзорного мира. Но я знал, о чем на самом деле он думал в настоящий момент – о «Корабле». И совсем не о зеркальной галерее. Он раздумывал над таинственными явлениями, свидетелями которых мы стали, и втайне надеялся рано или поздно найти им разумное объяснение. Итак, я молчал, пока мы проезжали по медленно пробуждающемуся Святому городу. Мы повстречали первых, еще полусонных прохожих, а тени безобразных ночных образов уступили место трезвому мышлению.
* * *
Вернувшись на виллу Спада, мы обнаружили новое письмо для аббата Мелани. Его реакция от прочтения первых строк была такой же, как и в предыдущих случаях: лицо Мелани помрачнело, и он с извинениями удалился к себе, сказав, что хотел бы отдохнуть. На самом деле ему нужно было ответить на письмо, в котором мадам коннетабль снова сообщала о том, что задерживается.В последующие часы у меня не было и минутки свободного времени. Программа дня предусматривала одно очень сложное развлечение для гостей, об успешной подготовке к которому кардинал Спада настоятельно просил своего дворецкого дона Паскатио докладывать. При этом он не забыл предупредить, что все работники и домашние слуги, уклоняющиеся от выполнения своих обязанностей, будут строго наказаны. Дон Паскатио поспешил уверить его, что на сей раз никто не осмелится улизнуть, в чем, к сожалению, он уже много раз клялся, но слова его никогда не подтверждались. И в этот день несколько официантов снова подвели дворецкого, заявив, что больны (хотя на самом деле собирались отправиться рыбачить на остров Сан-Бартоломео, как я услышал накануне из их разговоров). Работа была очень трудной, необходимо было подготовить все для ловли птиц. Такая охота, по мнению господ, предполагала присутствие не только господи кавалеров, но и благородных дам, поскольку в охоте на дичь главное не опасности, а веселый отдых. Она должна была стать приятным развлечением, состоящим из множества забавных охотничьих потех, как и пообещал кардинал Спада накануне своим гостям. Территория виллы Спада была слишком маленькой для проведения подобного мероприятия, оно требовало много места, где можно было бы прятаться, устанавливать ловушки и устраивать засады на птиц. Поэтому кардинал попросил светлейшую семью Барберини разрешить использовать принадлежащую им часть территории, граничащую с владениями Спады, как раз ту, на которой сокольничий два дня назад безуспешно пытался поймать Цезаря Августа. Гостей разделили на группы. Первые десять человек получили особенные ловушки для птиц: искусственные кусты, к которым был приделан деревянный щит в форме буквы Y. Его кончик торчал из куста, а на двух концах были прикреплены железки, которые захлопывались с лязгом, как ножницы, и могли раздавить птичку в своих «объятиях», весь механизм приводился в действие из укрытия – надо было дернуть за длинный крепкий шнур. Вторая группа охотников имела искусственные деревца, которые заканчивались острием-корнем и могли быть посажены в землю. На макушке дерева была маленькая планка, словно приглашающая опуститься птичек на нее. В нижнем конце деревца прятался большой самострел, направленный вверх, он был заряжен стрелой со множеством острых крючков (как и в предыдущем случае, спусковой крючок приводился в действие из укрытия при помощи прочного коричневого шнура). Эта причудливая стрела пронзала незадачливую птичку, опрометчиво присевшую на верхушку деревца. Других участников ожидали особенные пищали, которые были воткнуты в землю и могли направляться на хорошо обозреваемый рук. Их механизм запускался на расстоянии, как только ничего не подозревающий маленький певец опускался на этот сук. Для метких кавалеров, наоборот, были предусмотрены арбалеты великолепного качества, которые позволяли бить птиц на лету. Для самых сильных из благородных господ были подготовлены настоящие переносные деревья, где мог спрятаться человек с аркебузой. Это дерево делалось из папье-маше, покрывалось лыком и закреплялось на железном каркасе. Дополнительно в него натыкали веток с густой листвой. Внутри были кожаные ремни, так что находящийся там человек мог нести на плече это искусственное деревце, причем руки его оставались свободными. Охотник смотрел через два маленьких отверстия и мог подойти к жертве очень близко, прицелить аркебузу, медленно выдвинуть прицел и выстрелить с большой вероятностью попадания в цель. Это изобретение вызвало такое восхищение, что я решил даже изобразить его здесь:

Еще группа господ – любителей приключений, могли попробовать себя в так называемой «охоте с быками»: для маскировки использовался огромный, очень правдоподобно нарисованный маслом на полотне бык; под прикрытием этого полотна можно было приблизиться к жертве и выстрелить из аркебузы. Если кто-то желал получить более изысканную модель, он мог взять изображение «троянской» коровы. Я привожу рисунок и этого приспособления, правда, по другим причинам.
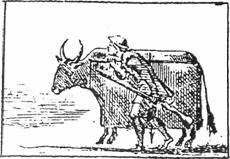
Едва эту корову привели на поле, как все звери в поместье Барберини, а также некоторые дамы с перепугу разбежались.
Чтобы привлечь надлежащее количество дичи, место увеселительной охоты нужно было снабдить певчими птицами, которые, как известно, своими трелями созывают других. Для этой цели было куплено много клеток с зябликами и щеглами. Поскольку я все-таки был в некотором роде птичником, дон Паскатио поручил мне важную задачу: стратегически распределить эти клетки на территории парка Барберини, причем следовало позаботиться о том, чтобы у каждой группы охотников было в распоряжении одинаковое количество птиц-приманок. Для усиления эффекта я должен был рассадить других птиц на стеблях растений и ветках деревьев, привязав ниткой за ножку.
Поэтому с утра пораньше я отправился забрать клетки и отнести их в парк Барберини. Тут навстречу мне попался дон Тибальдутио. Как уже случалось не раз, он чувствовал расположение какое-то время поболтать со мной. Я уже говорил, что капеллан жил отдельно от всех остальных слуг виллы в маленьком домике за капеллой и поэтому чувствовал себя одиноким. Я предложил ему составить мне компанию, пока буду расставлять клетки с приманкой на земле, на деревьях и между кустами. Тибальдутио охотно принял мое приглашение и сразу же начал бодро болтать о том о сем. Однако его честная, благовоспитанная манера снова разбудила во мне неприятное воспоминание о предпоследней ночи. Как оказалось, трактат Атто будет отправлен ad Albanurm, то есть за всеми грязными делами в конечном итоге стоял кардинал Албани! Какая злая сила, какая дьявольская рука смогла связать высокопоставленного кардинала, правую руку Его Святейшества, с сектами черретанов в самом сердце Святого города? И с каких пор происходят такие вещи? Кроме того, я вспомнил что Сфасчиамонти намекал: первоначально черретаны были священниками. Возможно ли такое? И только один человек из церковнослужителей мог дать мне ответ.
Как хороший пастырь, дон Тибальдутио выслушал мои вопросы не моргнув глазом. Я сказал ему, что якобы услышал на улице о том, что братства попрошаек и нищих связаны с Церковью. – Этому бедствию уже очень и очень много лет, его истоки сокрыты во тьме веков, – многозначительно произнес кармелит. Все это началось с нападениями варваров, которые положили конец девятивековому господству Рима. В те темные времена крестьяне преимущественно были бедными земледельцами, жили изолированно, маленькими общинами. Дороги в стране были опасными для путешествий, на них разбойничали бандиты и отбившиеся от войска солдаты, рыскали в поисках добычи волки и медведи. Святые отцы и монахи жили себе спокойно в монастырях, большей частью на неприступных склонах скал. Кроме торговцев, которым по роду занятий приходилось ездить по стране, все жили в деревнях, были крестьянами и молились Богу, чтобы он послал им хороший урожай. Но они были не одни: регулярно к ним приходили чужаки. Эти люди, одетые в грязные лохмотья, немытые и жалкие, просили милостыню. Они приходили бог знает откуда – из брошенных карантинных поселков, небольших селений, одиноких разрушенных хижин, – отбросы общества, обрекшие себя на нищету, безземельные крестьяне, аферисты. Но они не были бедными – только носили одежду бедных, поскольку умели использовать в корыстных целях слова Евангелия «Date elemosynam et omnia munda sunt vobis», вынуждая добросердечных христиан подавать им милостыню. – Возможно, некоторые из них действительно когда-то были священниками, – рассказал мне дон Тибальдутио, – однако вместо того чтобы восхвалять Господа в молитвах, они продали душу дьяволу. Они находили простодушных крестьян, которые ничего не знали о коварстве мира, приходили к ним в странной одежде и, дико вращая глазами, полными то ли безумия, то ли мудрости, выдавали себя за целителей, волшебников и пророков, спасителей души и тела Продавали талисманы, реликвии, чудодейственные молитвы, мази, исцеляющие все болезни Они предвещали чудеса или Господнее наказание, толковали сны, необъяснимым образом находили утерянные сокровища и тайное наследство, они снимали проклятия, обрушиваясь на грешников, а праведным обещая путь на небо. При всем этом они всегда просили милостыню только в виде наличных денег и неизменно ее получали. Они выпрашивали подаяние обманными путями, о которых рассказывал еще ученый Гнезио Базапопи. Когда они били себя плетьми, как флагелланты, то есть самобичующиеся, то обмазывались кровью куриц или кошек Им всегда удавалось обирать легковерных и простодушных людей, коих было очень много, и получать от них монеты в большом количестве Разве софисты не приобрели славу шарлатанов и обманщиков, и не только они, но и даже Сократ с Платоном? Никто из крестьян не мог вспомнить епископа Иппоны, который призывал подавать деньги только бедным и никогда – гистрионам.[1355] Но разве их никогда не разоблачали? – перебил его я, вынимая из клетки одного щегла и привязывая его за лапку ниткой к ветке молодой акации. – Конечно, иногда одна из жертв начинала сопротивляться. Но это случалось редко, и если такое происходило, то мошенники со змеиной ловкостью меняли образ и возвращались к своему первоначальному образу уличных балаганных певцов, играющих на ребеке,[1356] или даже врачей, удаляющих зубы, ведь, как говорится у Теокрита, paupertas sola est artes quae suscitat omnes означает: только бедность рождает настоящую изобретательность. Затем он неожиданно напел маленькую песенку:
* * *
Увеселительная охота, хвала Небесам, прошла приятно и удачно. Через несколько часов сидения в засаде и подстерегания добычи, дамы и кавалеры в полной мере удовлетворили свои охотничьи инстинкты и вернулись в Касино с ягдташами, наполовину заполненными жалкой добычей: тщедушными серыми куропатками, воробьями, воронами, несколькими лягушками, двумя кротами и даже одной летучей мышью. Однако все просто превосходно повеселились. Когда я собрал клетки с приманкой, их оказалось больше, чем пойманной добычи. И только незначительные несчастные случаи (на помощь пострадавшим тут же поспешили толпы слуг) на короткое время омрачили праздник, вызвав у бедного дона Паскатио учащенное сердцебиение. Князь Ваини, крайне несдержанный человек, решил развлечься тем, что в шутку прицелился из арбалета в шляпу Джованни Баттисты Марини, капитана полицейской стражи в Капитолии, и случайно выстрелил. Стрела коснулась головы Марини, сорвав с него головной убор, и вонзилась в стоящее за ним дерево. Кардинал Спада, призвав на помощь дворецкого и множество лакеев, лично позаботился о том, чтобы удержать от драки Ваини и его жертву. Несколько раз прозвучали решительные вызовы дуэль, но, к счастью, к концу охоты они были забыты. Тем временем монсиньор Боргезе и граф Видасчи за неимением более благородной добычи выстрелили из аркебузы в большого ворона. Черная птица (чье мясо, как известно, несъедобно) упала на землю и казалась тяжело раненной. Но когда оба охотника подошли ближе, чтобы поднять ворона, тот беспомощно поднялся в воздух и даже пролетел над игроками, в завершение задев когтями шикарную шевелюру Марчезе Кресченци, отчего тот взревел от боли. Когда птица наконец улетела, вся группа направила на нее аркебузы и арбалеты. Бедному ворону, который был ранен в крыло, больше не удалось подняться вверх. Он в последний раз опустился на землю, и один из слуг приблизил его бесславный конец ударами метлы.Третий же инцидент произошел не в результате чрезмерной смелости, как в случае с князем Ваини, а из-за крайней неуклюжести. Марчезе Сципионе Ланселлотти Джиннетти, известный недостатком ума и сильной близорукостью, подумал, что увидел на самом большом суку высокой пинии добычу и произвел из своего арбалета громкий залп. Стрела вонзилась в сук, отчего тот сильно затрясся. На землю упал маленький белый шарик и разбился. Тотчас же к этому месту поспешили два кавалера: – Яйцо! – воскликнул первый. – Но ведь в гнезда не стреляют, это бессмысленно и жестоко, – поучительно напомнил другой растерянному Марчезе Ланселлотти. К месту происшествия подтянулись и другие игроки, страстно желающие основательно обсудить бестактность Марчезе, ибо в эти дни он дергал за политические нити, дабы его избрали полковником римского народа (это старая аристократическая должность в коммунальных учреждениях города), и многие надеялись что он не пройдет. Всем казалось, что лучше отвлечь внимание от охоты, поскольку добыча была очень скудной. Марчезе попытался извиниться и заявил, что целился в большую птицу, – все тайком усмехнулись, так как знали, что Ланселлотти Джиннетти Даже поднесенной к глазам собственной руки не видел. Задрав вверх головы, гости, все как один считавшие себя опытными охотниками, пытались определить, какой птице принадлежало упавшее на землю яйцо. – Ласточка береговая. – А я думаю, что это фазан, – внес свою лепту монсиньор Гоззадини, секретарь мемориала Его Святейшества. – Но, ваше превосходительство, на дереве… – Ах да, точно. – Это из куриных или серая куропатка, – предположил еще кто-то. – Серая куропатка? Но яйцо слишком маленькое для нее. – Простите, но ведь совершенно очевидно, что речь здесь идет о серой горлице или, в крайнем случае, о сизом голубе. – Но, может, это белый странствующий голубь… – А возможно, яйцо сойки, – рискнул вставить слово Марчезе Ланселлотти Джиннетти, которому показалось позорным не выдвинуть своей собственной гипотезы о происхождении яйца, – в конце концов, оно упало на землю благодаря ему. – Ну, попали пальцем в небо, Марчезе! – возмущенно воскликнул князь Ваини своим обычным надменным тоном. – Разве вы не видите, что яйцо белое, в то время как яйца сойки пятнистые? Это просто курам на смех! Тут же вся группа ополчилась против бедного Ланселлотти Джиннетти и начала комментировать его «тяжелейшую» ошибку целым рядом острых замечаний вроде: «Да, конечно!», «И какой только додумался до этого!», «Полная чепуха» – и все это сопровождалось многозначительным покашливанием. Неожиданно раздался угрожающий выстрел из аркебузы. Все, включая и Ланселлотти Джиннетти, тут же с испугу оказались на земле. – Кто это был? – спросил князь Ваини и испуганно осмотрелся вокруг. На счастье, не было ни убитых, ни раненых. А быстрая проверка показала, что ни у одного благородного господина в руках аркебузы не было. Те, кто стоял немного дальше и у кого были аркебузы, тоже отрицали, что в последние минуты вообще стреляли. Но даже когда гости разошлись, чтобы продолжить охоту, у некоторых все еще мурашки бегали по телу. Это происшествие, случайным свидетелем которого я стал, когда переставлял клетки с птицами на более удобное место, вызвало во мне большое беспокойство. Ведь выстрел из аркебузы с небольшого расстояния неизбежно привел бы к смертельному исходу. По долгу службы я незамедлительно сообщил дону Паскатио об этом случае, и от этого сообщения на его лице появился ужас. Не хватало еще, чтобы на празднике, где он был старшим надзирающим, кто-то погиб, притом из господ такого высокого ранга. И он начал сетовать на то, что сама идея охотиться с помощью облавы была неудачной: в канун конклава ее нельзя было устраивать ни в коем случае, так как все плетут интриги друг против друга. Так что кто-то мог легко решиться свести старые счеты. Я же после первого ужаса начал постепенно осознавать, что у меня уже были некоторые подозрения. Только в тот момент я даже не догадывался, насколько обоснованными они были и насколько разумным было бы разобраться в них. Но мой разум занимала более важная вещь и подталкивала меня к действиям. Точнее говоря, к шпионажу.
13 июля лета Господня 1700, вечер седьмой
Я нашел Атто в его покоях. Он не стал принимать участия в увеселительной охоте, заявив, что ему с головой хватило охоты на Цезаря Августа. На самом деле он был слишком занят, отвечая на письмо мадам коннетабль. И только с удовольствием исполнив эту обязанность, он был готов пойти с Бюва на ужин, устроенный в саду виллы Спада. Я сообщил ему то, что узнал от дона Тибальдутио: черретаны имели своего человека в соборе Святого Петра, имя которого капеллан мне не выдал. – Ах да? Очень хорошо, – прокомментировал Атто. – Я сразу же попрошу Сфасчиамонти начать расследование.Через полчаса, убедившись в том, что аббат и егосекретарь добрались до застолья, я снова полез в грязное белье и достал оттуда пакет с тайной корреспонденцией. Я вытащил из своего кармана книгу «Верный пастух», которую позаимствовал на «Корабле»: теперь надо было прочитать письма Марии в свете этих стихов. Как и в прошлый раз, я не нашел в пакете ни письма от мадам, ни ответа, который ей только что написал аббат. Я порылся в вещах Бюва, надеясь, как в прошлый раз, найти там интересующую меня бумагу, но ничего не обнаружил.
Мне оставалось только заняться чтением третьего и последнего отчета о ситуации в королевском дворе Испании, который я еще не изучил. Я сказал себе, что, может быть, сейчас, когда мне известны правда о переписке Атто и Марии и ее истинная природа (это была не политика, не шпионаж, а любовь), я смогу найти в этих отчетах намеки и цитаты, на которые до этого не обращал внимания. Я бросил взгляд в окно, чтобы убедиться, что Атто находится далеко и занят, и открыл пакет. К последнему отчету было приложено сопроводительное письмо от Марии, отправленное из Мадрида два месяца назад. Мадам коннетабль отвечала в нем на письмо Атто и подтверждала, что приедет в Рим, чтобы попасть на свадьбу Спады – Роччи.
«Мой друг, я понимаю Вашу точку зрения и Лидио, но я еще раз говорю Вам, что думаю по сему поводу: это бессмысленно. То, что сегодня кажется добром, завтра может превратиться во зло. Но я приеду. Я повинуюсь желанию Лидио. Мы снова увидимся на вилле Спада. Я Вам это обещаю».Тут она снова намекала на Лидио из книги Геродота, а также на Креза, царя Лидии, – под этими именами, как я выяснил накануне, Мария и Атто подразумевали его христианнейшее величество короля Франции. Я подвел итоги. Это Лидио, то есть сам Людовик, предложил Марии принять приглашение кардинала Спады! Только вот зачем? Я снова и снова перечитывал абзац, пока на меня не снизошло озарение: король хотел убедить Марию вернуться во Францию. Это и была задача Мелани. И все должно будет произойти на праздновании свадьбы на вилле Спада. Король Франции тосковал по Марии. Разве не сам Атто дал мне понять это во время нашего последнего вторжения на «Корабль»? Он даже раскрыл мне секрет: мадам де Ментенон хотела сделать так, чтобы король увиделся с Марией, уже старой, надеясь таким образом омрачить воспоминания короля о его юношеской любви. Король, как я себе и представлял, старался через Атто уговорить Марию приехать, возможно, приняв официальное приглашение ко двору, о чем так рьяно ходатайствовала мадам де Ментенон, или же согласившись на тайную встречу, где не будет любопытных глаз. Но судя по письму, которое я сейчас читал, получалось, что мадам коннетабль не горела желанием принимать приглашение. Она говорила, что теперь «это бессмысленно» и «то, что сегодня кажется добром, завтра может превратиться во зло». Вероятнее всего, она имела в виду возможную встречу с христианнейшим королем: вместе со счастьем от того, что они смогут вновь обняться, последует горькое разочарование от сравнения с безрадостной реальностью. Увядшее тело, тяжелые движения, никакой грации. «Разумеется, – подумал я, – мадам никогда не предстанет перед любовью всей своей жизни старой женщиной». Я невозмутимо продолжил чтение и тут наморщил лоб: мадам коннетабль, как мне показалось, резко сменила тему. Она рассказывала о событиях в Испании.
«Знаете ли Вы, что говорят люди в Мадриде? Карл V был императором, Филипп II был королем, Филипп IV был человеком, а Карл II не был даже им. Мой друг, как все могло прийти в такой упадок? Червей, которые подтачивают старый трон монархии, тысячи, но Вы не поверите: многие из них приходят из-за Пиренеев. Кто влил яд в тело Испании, отравил ее шпионами, интриганами, искусственно созданными страхами, ложной информацией и коррупцией? Кто хочет, чтобы Испания опустела внутри, чтобы она запачкалась, напилась и завоняла, как ее король, превратившийся в живой труп?Я прервал чтение. Кого она имела в виду под «Большими шакалами»? Наверное, другие европейские государства. Далее в письме шло перечисление поражений в последние пятьдесят лет. Начиная с кровавой бойни при Рокройе, где испанские бунтари сначала почти победили, а потом были разбиты французами. Главнокомандующий испанскими войсками Франсиско ди Мело, легкомысленно упустивший победу, вместо того чтобы понести наказание, получил двенадцать тысяч дукатов в качестве вознаграждения. Мадам спрашивала, можно ли найти более удачный шахматный ход, чем тот, когда все празднуют развал и утрату прежних ценностей?
Я родилась в Италии, выросла во Франции, но я выбрала себе Испанию как новую родину и могу понять, когда на Мадрид падают тени Больших шакалов».
С этого момента дела Испании пошли еще хуже. Унижения в Нидерландах, разгром при Балагье, Эльвасе и Эстремо, неудача Ленса и позорное отступление из Кастела Родриго, поражение Португалии после двадцати четырех лет войны и восстание Неаполя (сразу же провозгласившего себя республикой). Но почему все удивляются постоянным военным поражениям, если испанская армия, для того чтобы компенсировать недостаток оружия (как во время кампании против Фуентаррабии), частично оснащалась старым оружием со складов герцога Альбукеркского, после чего в последнюю секунду король сам начал умолять о пощаде? Чему тут удивляться, если отец Карла, Филипп IV, в качестве самой близкой советницы выбрал себе удалившуюся от мира монашку? Когда Мария перешла от военной тематики к дипломатии, она обрисовала положение в еще более темных тонах: Вестфальский мир унизил Испанию, а мир с Пиренеями рассмешил всю Европу. В это же время члены королевской семьи начали дохнуть как мухи: первая жена Филиппа IV, Изабелла, умерла всего в возрасте сорока одного года, через два года за ней последовал ее первый ребенок Бальтазар Карл; маленький принц Фелипе Проспероумер, не дожив до пяти лет, первая жена Карла II скончалась, когда ей не исполнилось и тридцати, – скорее всего, ее отравили.
«Теперь, на пике этого длинного пути страданий, все здесь в столице вышло из колеи. Невидимые тайные агенты с обеих сторон распускают слухи о распрях в окружении короля, провоцируют беспорядки, делают так, что подданные ненавидят свое правительство.Поскольку я не знал политической обстановки в Испании, все выводы мадам коннетабль остались для меня довольно непонятными. Я сразу перешел к чтению отчета и узнал о том, откуда на самом деле берется такая печаль и что ее вызывает.
Мой друг, Вы думаете, что я не поняла? Со всей решимостью был дан приказ: министры должны быть продажными, рыцари – самовольными, а духовенство должно грешить Грандов государства натравили друг против друга, чтобы они не смогли больше действовать сообща. Каждое правительство правит очень недолго, отчего растет неуверенность у его подданных. Министров, которые крадут, нужно наказывать мягко или не наказывать вообще, чтобы у порядочных граждан создавалось впечатление, будто зло вознаграждается. Правительству следует проводить все время на церемониях и праздниках, должна развалиться вера в светлое будущее, справедливость и человечность. Только когда соблазн следования плохому примеру станет неодолимым, завершится реализация плана Больших шакалов: даже сбир будет воровать, торговец – обманывать, солдат – дезертировать, заботливая мать станет проституткой. Дети должны жить без любви и иллюзий, чтобы можно было сеять раздоры и среди следующих поколений. Попытка Иуды повторится, любое семя любви будет уничтожено, а безумие распространяться.
Требование к испанскому чиновнику соблюдать права человека, принципы уважения и достоинства должны быть упразднены. Человек должен понять, что его судьба никого не интересует и ждать помощи неоткуда. Он должен чувствовать, что все его предают, и ему следует научиться ненавидеть.
Протокол королевского дворца должен оставаться роскошным, а привилегии богатых – быть бесстыдными. Каждый день испанского чиновника будет окрашен в цвета разочарования, пропитан запахом предательства и горьким вкусом, злобы, до того как одним прекрасным утром он не проснется и не проклянет свое правительство, но уже смиренно и бессильно. В этот день настанет конец. Ибо не финансы и не вооруженные силы определяют закат или расцвет государства, а душа его народа. Даже кровожадный тиран долго не сможет ничего сделать с враждебностью и недоверием людей своей страны. Они сильнее канонов, проворнее кавалерии, важнее, чем деньги, потому что настоящая власть (каждый министр это точно знает) идет от духа, а не от плоти. Презрение народа – это как горячий ветер, который не остановит ни одна стена. В конце концов он разрушит самый крепкий камень, самый укрепленный бастион, сломает самый острый меч. Поэтому тираны никогда не унижали народ, пока он сам не давал на это своего согласия. Для осуществления этой цели незаменима ложь – родная мать и сестра деспота. Ложь избавляет от опасности, которую раздувают газеты, утверждающие, что знают рецепт от всех опасностей. Якобы для спасения от нее тираны требуют абсолютной власти и получают ее. А с помощью этой власти они окончательно повергают народ в пучину отчаяния.
Что произойдет теперь? Большие шакалы будут ликовать. Какие же они глупцы! Ведь это будет и их концом: начнется война всех против всех, чтобы подмять под себя тело мертвой Испании. Война брата против брата, новая Пелопоннесская война, после которой уже не наступит мир, а будет только следующая война – ее детище».
«Наблюдения по вопросу об испанском деле
Когда умер король Филипп IV, Карл II был еще ребенком, поэтому правление перешло к его матери, Марианне Австрийской. Будучи не в состоянии управлять судьбой государства, вдова Филиппа IV назначает главой правительства одного иезуита, отца Нидгарда – своего духовного наставника. Но очень скоро в результате преступного заговора, организованного Бастардом, его отстраняют от дел. Через несколько лет его место занимает Валенцуела, бессовестный аферист, который произвел уже подросшего короля Карла в испанские гранды – как знак извинения за инцидент на охоте (во время охоты он ударил его по ягодице). Но Бастард устраивает еще один заговор, выгоняет королеву и даже арестовывает Валенцуелу. Его жену тоже арестовывают, запирают и насилуют; она заканчивает жизнь нищей и сумасшедшей. Затем умирает и Бастард, мать короля возвращается и назначает нового премьер-министра – графа Мединачели. Мединачели работает целыми днями, делает вид, что старается, но на самом деле не справляется с делом. Он подает в отставку. Проходит три года, пока ему находят замену. В конце концов бразды правления берет в свои руки граф Оропеза. Он очень слаб здоровьем, страдает постоянными приступами рожи, фактически больше времени проводит в постели, чем на ногах. Через три года он падет в результате заговора и получит скромный выговор от королевы. Король Карл назначает новый кабинет без премьер-министра, который начинают называть «правительством лгунов». Потом в попытке наладить управление страной создается квадрумвират – из трех вельмож и одного кардинала. Они не могут сделать ничего толкового – правительство снова меняется, на первый план выходит герцог Монтальский, но он тоже вскоре уходит в отставку. Поэтому король вызывает Оропезу, к которому он относился с особой симпатией. Но вспыхивает народное восстание, и королю приходится бежать: когда восставшие уже стояли у ворот дворца, ему чудом удалось скрыться с женой и детьми, переодевшись монахом. Финансы государства были в таком катастрофическом, и запутанном состоянии, что ни один чиновник не смог в них разобраться. Чиновники заботились лишь о том, чтобы налоги были достаточно высокими, чтобы можно было вести расчеты, при этом они задерживали выручку или же брали взятки. Королевская казна также была в бедственном положении, так что даже персонал дворца Альказар не получая жалованья. Для того чтобы заплатить актерам, приглашенным на празднование дня рождения короля, пришлось на три недели увеличить налоги на мясо и масло. Французы вторглись в Каталонию, испанское войско было разбито на реке Тер, Паламос и Жерона были захвачены. Испанский король, который боялся действий правительства как черт ладана, проводит дни в своем саду в Буэн Ретиро, где выращивает в корзинах землянику. На улицах растет армия бедняков, попрошаек, мелких воришек и дезертиров. Народ поставлен на колени. За все продукты питания приходится расплачиваться золотом. Кражи, убийства, грабежи становятся повседневным явлением. Налоги на выпечку повышаются, пекари бастуют. Мадрид, который и так голоден, остается без хлеба. Чтобы добыть немного хлеба, английскому послу пришлось отправить своего слугу под охраной вооруженного до зубов отряда. Если ты пекарь, то можешь каждый день ожидать, что тебя ограбят или убьют. В ответ голодающий народ получает очередную новость о том, что королева беременна и Испания получит наследника престола. Но никто уже не верит во вранье королевского двора. Самым черным днем стало 28 апреля 1699 года, когда разъяренная толпа перед Альказаром подошла к окнам короля. Королю лично пришлось выйти на балкон, и каким-то чудом ему удалось успокоить восставших. Во дворе запахло приближающейся катастрофой. Король, парализованный страхом, готов делать все, что ему скажут. Но никто не хочет или не может дать ему совет. Лагери, на которые раскололись придворные, напоминают осиные гнезда, где все, даже хорошие друзья, ожидают, когда падет противник. Франция и Австрия тайно разжигают пламя раздора, подогревая его завистью и тщеславием».Я прервал чтение: мне показалось, что в коридоре послышались звуки приближающихся шагов. Я быстро положил все на свои места и подскочил к двери, чтобы незаметно выскочить из нее. Но было. Уже слишком поздно: Атто Мелани вернулся. Хорошо, по крайней мере, что он был один. Вознеся короткую молитву Господу, чтобы секретарь не явился слишком рано, я перебежал в комнату Бюва и оттуда наблюдал за Мелани через приоткрытую дверь. Сначала аббат снял с себя тяжелый серовато-желтый парик, отчего небольшая прохлада, в которой он сможет провести эти часы, вызвала у него довольную улыбку. Он надел парик на специальную болванку, которую поставил на ночной столик рядом с кроватью. Затем, постанывая усталости, быстро разделся. Сегодня выдался очень напряженный день, он вытянул из аббата все силы. Атто вернулся в свои покои, не дожидаясь окончания ужина, и теперь даже не позвал камердинера, чтобы тот стянул с него сапоги. Прячась в маленькой комнатушке секретаря, я невольно наблюдал за Атто. Когда он разделся, к моему искреннему удивлению, обнажилось тело, которое, хоть и было довольно-таки старым, находилось в прекрасной форме. Его кожа была дряблой и во многих местах покрыта паутиной морщин, но плечи были красивыми, ноги тонкими и стройными, и выглядело его тело лет на двадцать моложе. Ни в одном месте ниже пояса не было беловатых пятен, которые неизбежно появляются с возрастом. Я подумал о том, что, будь иначе, аббат Мелани ни за что не выдержал бы напряжения такого насыщенного событиями дня. «Аббат опасается того, что умрет в забытьи. Но если он будет продолжать в том же духе, то проживет довольно долго. И у него еще есть время, для того чтобы войти в историю», – подумал я и тайком посмеялся. Атто потушил свет и лег в кровать, освещаемый только лунным светом. Он даже не стер с лица свинцовых белил, фальшивых мушек и малиновых румян. Совсем скоро я услышал его громкий храп.
Я уже собрался уйти, когда вспомнил, что так и не нашел самого важного: двух последних писем Атто и Марии. Наверняка аббат носил их с собой. И у меня сейчас появилась возможность поискать их.
Я прощупал его одежду сверху до низу, заканчивая каблуками обуви, но ничего не нашел. Но благодаря многочисленным наставлениям Мелани и приобретенному опыту, я знал теперь гораздо больше. И получилось так, что, когда я внимательно осматривал комнату, мне бросилась в глаза одна деталь. Атто поставил болванку со своим необычным париком не там, где я ожидал, – на туалетный столик, а на свой ночной столик, то есть на место, которое было ближе всего к его кровати. Словно ему нужно было сторожить его даже во время сна… Чтобы не издать ни малейшего шума, я приложил максимум усилий, от которых порядком вспотел, но наконец мне улыбнулась удача: письма были спрятаны в невероятном тайнике – в парике, внутри тугой сетки, к которой крепились пучки искусственных волос. Тщательность выбора тайника не оставляла сомнений: аббат очень боялся, чтобы их не украли. Разумеется, кто бы не боялся этого после тех ужасных приключений, которые произошли у нас с черретанами? Такая предосторожность могла свидетельствовать о том, что эти письма были более интересными и, наверное, более опасными, чем предыдущие. К моему удивлению, там оказалось не два письма, а целых пять. Медленно, словно улитка, обходя скрипящие доски, я отошел от кровати, на которой лежал аббат Мелани. Мне показалось, что три письма были очень старыми. Не сдержав любопытства, я открыл одно из них. Это была завершающая часть письма, написанного на испанском языке очень слабой рукой. Насколько же велико было мое удивление, когда я прочитал подпись:
«Yo el Rey».
Это было письмо короля Испании, бедного Карла II, датированное 1685 годом, то есть когда королю было чуть больше пятнадцати лет. Несмотря на то что итальянский и испанский очень похожи, для меня оказалось непосильной задачей расшифровать хоть что-нибудь из написанного этим дрожащим, мучительным почерком, принадлежащим суверену. Я разгладил два других листа, чтобы найти начало или хотя бы выяснить, кому письмо адресовано. Но я с удивлением обнаружил, что и эти листы были лишь окончанием писем, написанных много лет назад. И эти два тоже были подписаны королем Испании, но их содержание для меня осталось загадкой. Что означали эти испорченные страницы? И почему, ради всего святого, они находились у аббата Мелани? Они должны быть необычайно ценными, раз аббат хранил их в своем парике. Но у меня оставалось слишком мало времени для размышлений. Гораздо важнее было другое; пролистать оба письма Марии и вернуть их на свое место, до того как вернется Бюва. Но, не успев прочитать и первой строчки, я сразу же вздрогнул.«Мой дражайший друг, Я получила необычайно удручающую новость и знаю, что у Вас она вызовет настолько же большое удивление и сочувствие, как и у меня. Его Святейшество Иннокентий XII создал специальную конгрегацию для обсуждения испанского вопроса. Как мне кажется, вчера, 12 июля, Папа после длительных колебаний, по ходатайству испанского посла Узеды, выразившему просьбу короля, поручил секретарю-кардиналу, нашему доброму Фабрицио Спаде, а также секретарю папской грамоты кардиналу Албани и кардиналу Камерленго, кардиналу Спинолефон Сан-Чезарео тщательно разобраться в ситуации, дабы подготовить ответ Папы».Мое сердце учащенно забилось. Спада, Албани и Спинола: именно те три высокопреосвященства, которые много дней собирались на «Корабле» и по следам которых мы с Атто впустую пытались следовать. Наследование испанского престола также было веской причиной для встреч, но не для совета кардиналов!
Я оторвал глаза от письма и задумчиво потер лоб. Почему же Атто не поспешил сразу же сообщить мне об этой новости, после того как узнал о ней из письма Марии? Лихорадочно пробежав глазами письмо, я остановился в конце на следующих строках:
«Его Святейшество склонил к этому и других, которые еще более жестки, чем он. Будет ли у него необходимая ясность в душе, чтобы сделать ставку на испанского короля? Как видите, мой друг, я по-прежнему сомневаюсь: что хочет сказать святой отец, когда люди слышат, как он вздыхает: «Кто отнимает у нас сан, дарованный представителю Христа, тот не имеет уважения»?»Я быстро перешел к ответу Атто, который заставил меня еще сильнее задуматься:
«Милостивейшая мадам, О конгрегации трех кардиналов, которым поручено развязать узел испанского вопроса, мне уже некоторое время известно. Здесь, в Риме, это знают все, по крайней мере в хорошо информированных кругах. Если бы Вы побыли с нами на праздновании, то уже давно все узнали…»Эти слова меня не убедили. Наверное, Атто хотел, чтобы Мария поверила, будто его сразу же обо всем информируют. Дальше было написано:
«На самом деле Его Святейшество первоначально вместо Спинолы выбрал кардинала Панчиатти, и это было бы лучше для Франции, поскольку Спинола более расположен к империи, но первый из-за проблем со здоровьем вынужден был отказаться, он даже не смог принять участия в этих восхитительных свадебных празднованиях на вилле Спада. В любом случае, вы были информированы очень быстро: официально это поручение будет дано Папой только завтра, 14 июля».Нет, Атто не вводил мадам коннетабль в заблуждение. Он сказал правду, а вот меня он обманул. Из тех отрывочных сведений, которые он с большой уверенностью сообщил в этом письме, стало совершенно очевидно, что Атто уже некоторое время прекрасно информируют о дипломатических маневрах трех кардиналов, касающихся просьбы Карла II о помощи, обращенной к Папе. Мне же он об этой новости умышленно ничего не говорил, причем уже несколько дней Затем я вдруг вспомнил, что вчера вечером, когда ожидал начала комедии, слышал очень любопытные замечания трех зрителей. Испанский посол граф Узеда смог наконец переубедить Папу Иннокентия XII. В чем, они, разумеется, не сказали. Более того они не назвали имена тех, кто помог Узеде уговорить Его Святейшество: они намекнули лишь на «четыре хитрых лиса».
Но теперь письмо мадам объясняло все: Иннокентий XII явно не хотел вмешиваться в вопрос об Испанском наследстве, но в конце концов сдался под давлением послов из Мадрида. А этими «лисами» были Албани, Спада и Спинола, ведь так? Именно поэтому один из трех гостей, которых я подслушал тем вечером, сказал «lupus in favola», как только заметил приближающегося кардинала Спаду. Короче, три высокопреосвященства использовали все средства давления на умирающего Папу, чтобы он дал им поручение заняться испанским вопросом. Но я посчитал самым серьезным то обстоятельство, что Папа только вчера, 12 июля, был все– таки переубежден и дал согласие на создание конгрегации, в то время как эти три кардинала уже целую неделю тайно собирались на «Корабле»! Наверное, они на каждой встрече избирали тактику, которую собирались использовать по отношению к святому отцу, кто знает. Можно ли было придумать что-нибудь лучше свадьбы на вилле Спада, чтобы надежно завуалировать тайное собрание? Никому не показалось бы подозрительным, если бы трех кардиналов увидели вместе, потому что хозяином торжества был Спада, а Спинола и Албани входили в круг приглашенных. Кроме того, их прогулки на «Корабль» были настолько тайными, что ни мне, ни аббату не удавалось попасть туда во время этих встреч. В общем, казалось, что с бедным Папой действительно вообще больше не считаются, как и заявили те три гостя вчера вечером. Осознание этого огорчило меня: к сожалению, это все же означало, что Спада как государственный секретарь, вероятнее всего, был одним из тех, кого имел в виду Папа, говоря: «Кто отнимает У нас сан, дарованный представителю Христа, тот не имеет уважения», – как дважды писала мадам коннетабль в своих письмах к Атто.
Мне было не совсем ясно, какую роль во всем этом играл Атто. Аббат Мелани собирался шпионить за ними, но вовсе не из-за конклава, а чтобы узнать, было ли принятое ими решение о наследовании испанского престола благоприятным для короля Франции. И он хотел быть наготове, чтобы при случае оказаться полезным своему королю. Если бы я не прочитал переписку с Марией, я бы этого не узнал. Расстроенный и обиженный, я продолжил читать:
«…и ни в коем случае не думайте, что Его Святейшество находится в плохих руках. После того что я смог узнать, его будут поддерживать безукоризненным и самоотверженным образом государственный секретарь, секретарь папской грамоты и камерарий,[1357] которые приступают к государственным делам с большей тщательностью и поспешностью. Как я уже писал, они не отобрали у Его Святейшества епископский посох, а покорно выполняют тяжелую обязанность, которую Папа сам хотел переложить на кого-то – они взвалили на себя это бремя и самоотверженно несут его. Не волнуйтесь».От сильного напряжения я так сжал письмо, что чуть не оставил следы своего тайного чтения. Какое бесстыдство! Атто не только точно знал, что делают эти три кардинала на своих тайных собраниях (хотя нам ни разу так и не удалось застать их врасплох), но и говорил о них раболепски и слащаво. И это невзирая на то, что среди трех кардиналов находился один из злейших врагов Атто – именно тот, о котором мы узнали накануне вечером благодаря информации, полученной Угонио. Ситуация действительно казалась довольно необычной: что именно скрывал от меня аббат Мелани?
Я начал читать дальше и обнаружил, что тема письма резко изменилась:
«Но хватит этой пустой болтовни. Вы ведь сами прекрасно знаете о том, с каким удовольствием я пускаюсь в обсуждение общественных и политических дел, особенно если та, кто говорит (или пишет) о них, – самая благородная и обворожительная принцесса, которой только можно желать служить. И если Вы будете продолжать такую тактику, чтобы занять меня, Вам с легкостью удастся опутать меня своими сетями, ибо все, что слетает с Ваших уст или выходит из-под Вашего пера, – чистое благородство, красивейшее волшебство и стоит наибольшей любви. Однако время переходить к честному разговору. Благороднейшая, самая дорогая для меня мадам, как долго Вы хотите отказывать себе в роскошнейших радостях виллы Спада? Осталось менее двух дней до завершения празднований, а у меня все еще не было возможности преклонить колени перед Вами. В то же время Вы не говорите мне ничего о том, здоровы ли Вы, или о том, когда приедете. Неужели Вы желаете смерти моей?
Какой же Бог позволил Вам отвернуться от Лидио и с презрением отвергнуть его просьбы? Вы знаете сами: если я здесь, то только потому, что Лидио обещал, что Вы приедете».Вот это была правда. Как же я мог так ошибаться? Он любил ее, и его любовь объединилась с любовью короля, хотя Атто был лишь его будущим посланием. И если он вернулся к амурной теме, то допустил ошибку, ибо тогда все прочее было лишь предлогом поговорить с объектом своих нежных чувств хотя бы на бумаге. Нет, не было никакой другой тайны, кроме старой любви, которая все еще связывала этих пожилых людей. Аббат умолчал об Испанском наследстве и сказал мне, что три кардинала соберутся для того, чтобы обсудить будущий конклав. Но, с другой стороны, дело было чрезвычайно деликатным, именно поэтому Атто решил оставить меня в неведении. Еще со времен нашего знакомства на постоялом дворе «Оруженосец» я прекрасно помнил, что аббат мог быть щедр на поразительные разоблачения давно прошедших событий, но умалчивать о своих текущих планах. А чего еще я мог ожидать от постаревшего шпиона? Мне следовало смириться: аббат всегда от меня что-то скрывал, но только из-за присущей ему подозрительности и хитрости. Я посмотрел новым взглядом на то, о чем писал аббат Мелани в своем письме, и оно показалось мне не таким уж и подозрительным: могло, к примеру, быть так, что почтительный тон Атто, когда он говорил об Албани, был вынужденным: таким образом аббат хотел скрыть, что боится, как бы кто-то не прочитал этих писем и не узнал о том, что три кардинала шпионят в интересах христианнейшего короля Франции.
Пришло время мне удалиться. Я положил письма туда, где нашел их, – в парик аббата. Но строки любви еще долго не уходили у меня из головы. Пока я шел домой, к своей кровати, эти мысли продолжали исполнять в моей душе беззвучный танец рифм, и когда я вернулся к себе, то последний раз в этот день открыл «Верного пастуха» Гварини и начал искать там стихи. Когда я увидел их в диалоге Сильвио и Доринды, то невольно усмехнулся этому последнему подтверждению действительности, которая, по крайней мере, в этот раз была лучше, чем мои опасения. Атто, Атто…
14 июля лета Господня 1700, день восьмой
Что вы хотите этим сказать? Что я невежда? – резко заметил Атто бедному Бюва, и тот сразу же замолк. Этим утром аббат Мела ни действительно был вне себя. Бюва только что вернулся после прогулки в город и уже в такой ранний час умудрился втянуть нас в оживленный разговор, полностью посвященный тому, как придумать способ усыпить бдительность монаха и незаметно проникнуть на собрание ораторианцев. Когда Бюва попытался принять участие в дискуссии, Атто начал грубить. – Я никогда не сказал бы такого, господин аббат, – нерешительно начал оправдываться секретарь. – Я только… – Только что? – Ну, нет необходимости в том, чтобы усыплять ничью бдительность, потому что они там вообще ничего не охраняют. Мы с аббатом Мелани обменялись удивленными взглядами. – Коллекция Виргилио Спады была им лично выставлена в таком месте, чтобы ею могли любоваться как можно больше людей. Бюва объяснил, что Виргилио Спада в юности служил солдатом под испанским флагом, был чрезвычайно набожным, очень культурным и образованным человеком, к тому же хорошим другом архитектора Борромини, который полстолетия назад вошел в курию Папы Иннокентия X. Папа поручил ему восстановить госпиталь Святого Духа в Саксии, и Спада был удостоен за это звания тайного духовника Его Святейшества. Кроме того, его с радостью приняли в братство ораторианцев. Оно называлось так, потому что его основатель, святой Филиппо Нери, проводил первые собрания с молитвами и пением в оратории Святого Джироламо, а потом в оратории Святой Марии, где сейчас находится конгрегация ораторианцев и хранится коллекция Виргилио Спады. – Как ты, черт побери, все это узнал? – спросил Мелани. – Уверен, вы помните, что в последние дни, когда я искал в библиотеках информацию о черретанах, то был также и в библиотеке Валличеллана, которая расположена в оратории филиппинского братства, и имел долгую беседу с монахами. Я мог бы еще тогда глянуть на коллекцию Виргилио Спады, если бы вы сказали мне, что там можно найти что-то представляющее для вас интерес. Мелани опустил глаза и зло пробурчал себе под нос нелестные комментарии. – Хорошо, Бюва, – сказал он наконец. – Ведите нас к своим друзьям ораторианцам.* * *
– Вот тут должно находиться то, что вы ищете, – сказал молодой монах и повернул на два оборота ключ в замке большого шкафа. Помещение было светлым и чистым, а множество витрин, полок, подставок из орехового дерева, заполнивших все стены, придавали ему строгость и делали похожим на ризницу. – Никто не знает, что эти предметы, о которых вы спрашиваете, находятся здесь. Вероятно, об этом помнит еще кто-то из членов семьи Спады, – добавил монах, бросив на нас взгляд, который давал нам понять, что он был бы очень рад узнать, каким образом мы прознали о коллекции. – Точно, я думаю, что так оно и есть, – ответил Атто. Мы находились в помещении, которое было отдано под музей: угловая комната на втором этаже здания между площадью Новой церкви и маленькой улочкой – виа Филиппи. Сначала нам пришлось осмотреть богатейшую коллекцию Виргилио Спады, куда входили римские монеты, золотые медали всех времен, античные и современные бюсты, солнечные часы, вогнутые зеркала, выпуклые линзы, куски вулканической породы, кристаллы, драгоценные камни, кораллы, зубы разных зверей, когти огромных тварей, окаменелые челюсти неизвестных созданий, слоновьи позвоночники, гигантские раковины улиток и мидий, морские коньки, чучела животных и птиц, рога носорогов и оленей, панцири черепах, страусиные яйца, клешни ракообразных. Там были образцы масляных ламп периода раннего христианства, найденные в катакомбах, дарохранительницы, римские, греческие и персидские амфоры и вазы, кубки, кувшины, маленькие кратеры,[1358] чашки, бокалы из кости, китайские монеты, алебастровые шарики и тысяча прочей чертовщины, описание которой мы слушали, сгорая от нетерпения. После более чем получасовой экскурсии (утомительной, но нужной, поскольку было бы очень подозрительно, если бы мы сразу же спросили о том, что нас интересовало) Атто наконец задал самый важный вопрос: нет ли случайно в коллекции предметов, которые Виргилио Спада не выставил на общее обозрение из-за их особой ценности? Ораторианец повел нас в соседнюю комнату, где с гордостью продемонстрировал нам наконец глобус Капитор. Скрывая свой восторг, мы с аббатом осмотрели его со сдержанным интересом словно это было просто какое-то красивое, мастерски выполненное изделие. – Время пришло, мой мальчик, время пришло, – прошептал мне аббат Мелани, подавляя возбуждение, когда наш гид повел нас ко второму предмету – кубку с центаврами. Мы снова постарались не проявить большого интереса. – Он такой же, как на картине, синьор Атто, несомненно, – быстро прошептал я ему на ухо. Однако главный момент наступил только в самом конце, когда большой черный ключ провернулся в скважине и сработал механизм, открывший то, что скрывалось в шкафу бог знает сколько времени. Ораторианец широко открыл обе створки шкафа и достал оттуда тяжелый, завернутый в серую ткань предмет, длиной примерно с человеческую руку. – Пожалуйста, – сказал он, осторожным движением ставя его на стол и разворачивая ткань. – Мы вынуждены его прятать, потому что он особенно дорог. Само собой разумеется, что никто без нашего ведома сюда не приходит, хотя кто знает. Мы почти не услышали того, что сказал нам этот вежливый ораторианец: кровь запульсировала у нас в венах, мы с радостью заменили бы его руки своими, чтобы поскорее добраться до предмета нашего вожделения – тетракиона. Наконец мы его увидели. – Он… прекрасен, – вырвалось у Бюва. – Работа голландского мастера, он оставил после себя очень мало, даже имя его неизвестно, – сказал монах. После того как улеглось первое волнение, я смог всласть налюбоваться утонченными формами чаши с изысканным орнаментом по краям, экзотическими раковинами и оригинальными узорами, захватывающей сценой в центре, где запряженная тритонами колесница, рассекая волны, несла по морю двух древнегреческих богов – Посейдона с трезубцем в руке и его жену, нереиду Амфитриту. Обе выпуклые фигуры были выточены из серебра и очень выделялись, потому что шли по кругу чаши. Маленькая полоса покрывала обе стороны чаши, словно золотая вуаль. Пока я рассматривал греческих богов, Атто приблизил лицо к чаше, чтобы прочитать сделанную мельчайшими буквами надпись. Я тоже подошел ближе и прочитал. Слова были выгравированы у ног двух божеств:«MONSTRUM TETRACHION».
Что означало: монстр тетракион.– Хотели бы вы посмотреть что-нибудь еще? – спросил ораторианец, когда Атто с помощью Бюва, не спрашивая разрешения, взял чашу в руки и внимательно осмотрел две маленькие фигурки на ней. – Нет, большое спасибо, этого достаточно, – наконец ответил аббат. – Сейчас мы попрощаемся. Мы хотели лишь удовлетворить свое любопытство.
* * *
– Monstrum в точном переводе – чудо, диковина. Но что означает, когда написано «Монстр тетракион» – четырехкратное чудо? Мы едва вышли на улицу и направились из оратории к Тибру, как Атто снова попытался расшифровать значение этой надписи. Нам нужно было поторопиться и вернуться на «Корабль»: был уже почти полдень, а, как нам сказала Клоридия пару дней назад в это время должна будет состояться встреча трех кардиналов – возможно, последняя, за которой мы смогли бы тайком понаблюдать или, по крайней мере, попытаться это сделать. – Позвольте мне, господин аббат, – прервал его Бюва. – Ну что там еще? – нервно проговорил Мелани. – Monstrum Tetràchion означает не «четырехкратное чудо». Атто ошарашенно посмотрел на своего секретаря, попытался было запротестовать, но как-то вяло. – «Тетракион», как вы знаете, слово, взятое из греческого но «четырехкратный» по-гречески – «тетраплазиос», а не «тетракион». С другой стороны, «тетракион» нельзя путать с «тетракин», означающим «четыре раза», – объяснил Бюва аббату, чувствовавшему себя униженным. – И что же тогда означает «тетракион»? – спросил я, так как у аббата не было в этот момент воздуха в легких. – Это слово в переводе означает «с четырьмя опорами». – С четырьмя опорами? – воскликнули мы с Мелани одновременно. – Я знаю, что говорю, и это можно посмотреть в любом хорошем словаре греческого языка. – Четыре опоры, четыре опоры… – пробормотал Мелани. – Вы ничего особенного не заметили в фигурах греческих богов? Мы с Бюва задумались. – Нуда, точно! – вдруг вспомнил я. – Они находились в довольно странной позе: сидели рядом в колеснице, а Посейдон поставил свою ногу между ногами Амфитриты, если не ошибаюсь. – Не только это, – поправил меня Бюва. – Было невозможно определить, где правая нога Посейдона, а где левая нога Амфитриты. Такое впечатление, будто обе фигуры… срослись друг с другом. Да, точно, они имеют общее тело или общую ногу, и поэтому при первом взгляде я подумал, что они выглядят как-то странно, как единое существо. – Единое существо, – задумчиво повторил Атто. – Словно каждый из них имеет… как бы это сказать? Будто у каждого четыре ноги, – добавил он. – Тогда четыре опоры – это ноги, – решил я. – Это возможно, о да, с языковой точки зрения, очень даже возможно, я уверен, – констатировал Бюва, которому, наверное, не хватало смелости, но, как эрудит, он уже схватил быка за рога и больше не мог молчать. – Теперь, Бюва, – сказал аббат, – апеллируя к вашим удивительным познаниям, хочу спросить: могу ли я перевести Monstrum Tetràchion еще и как «четвероногое чудовище» или «четырехлапое чудовище»? Бюва немного подумал и ответил: – Да, можно. Латинское слово «монструм» означает еще «символ» и «чудо», а также «чудовище», разумеется. Но я не понимаю, что нам это дает… – Так, хватит, – твердо произнес Атто. – Но что же тогда значит этот тетракион? Если речь действительно идет о наследовании испанского престола, то можно было бы с натяжкой предположить, что это какое-то животное, синьор Атто, – вставил свое слово и я. – Что такое тетракион, я не знаю. И, честно говоря, знаю сейчас о нем еще меньше, чем раньше. Но я чувствую, что ответ где-то рядом, вот только бы сделать еще один шаг вперед. И так всегда: перед разрешением политической ситуации все кажется запутанным. И чем ближе ты подбираешься, тем темнее становится. А затем неожиданно все встает на свои места. В это время мы уже перешли мост через Тибр, поднялись на холм Джианиколо и большими шагами приближались к нашей цели. Но в мозаике по-прежнему не хватает одного кусочка, – снова начал Мелани, – найдем его и тогда сможем наконец увидеть свет в конце тоннеля. Я хочу знать только одно: откуда, черт побери, взялось это слово «тетракион». Но есть кое-кто, кому мы можем задать пару вопросов. Надеюсь, что он уже на вилле Спада. У нас осталось мало времени до того момента, когда Спада, Албани и Спинола соберутся на «Корабле». Быстрее, поспешим.Первый обход по парку виллы Спада не дал никакого результата. Все слуги, которых мы встречали на пути, говорили, что Ромаули должен быть где-то поблизости, но где точно, никто не знал. Поскольку, работая, он почти всегда опускался на колени его и не было видно из-за кустов и цветочных клумб. – Я понял, черт возьми, – чертыхался Атто. – Нам нужна помощь. Он повел меня в свои комнаты. Как только мы вошли он по дошел к столу и схватил уже знакомый нам предмет – подзорную трубу, осмотрел через нее всю близлежащую местность, однако безрезультатно. Мы снова вышли наружу и направились в другую сторону от виллы. На этот раз Мелани прошипел, довольный первым же быстрым осмотром: – Наконец я нашел тебя, проклятый садовник. Теперь мы знали, где он.
Транквилло Ромаули приступал к своим занятиям с такой же неизменной пунктуальностью, с какой солнце и луна всходили на небо и ничто не могло помешать ему поливать лилии святого Антония которые были высажены им недавно и поэтому особенно нуждались в квалифицированном уходе. Сейчас он очень осторожно поливал нежные чашечки цветков, соединенные в грациозные гроздья. Мы подошли ближе и поприветствовали его с вежливостью, на какую только были способны в этой спешке и при таком волнении. – Вы видите? Лилии нужно поливать достаточно обильно, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вода полностью впитывалась в землю, – начал он сразу, даже толком не поздоровавшись с нами. – В принципе, в это время года они должны отдыхать, но мне удалось вывести новый сорт, который… – Господин садовник, мы очень просим вас разрешить задать один вопрос, – дружеским тоном прервал я его. – Это касается тетракиона. – Тетракиона? Моего тетракиона? – переспросил он, и от одной только мысли о собственном творении его лицо приняло мечтательное выражение. – Да, господин садовник, тетракиона. Откуда вы взяли это название? – О, это очень печальная история, – начал он, отставив в сторону лейку. По лицу Ромаули сталовидно, что он ушел в воспоминания о давно прошедших событиях. К счастью, объяснение было не очень долгим и сложным. Когда-то Ромаули занимался не только цветами – он еще был женат. Как я знал, его жена, упокой Господь ее душу, была великолепной повитухой – она научила Клоридию своему искусству и помогла появиться на свет двум нашим цыпляткам. Из рассказа садовника мы узнали, что безвременная кончина дорогой жены и стала причиной того, что он решил посвятить свою душу и тело исключительно садоводству. Однако это была тщетная попытка избавиться от вечной печали. Вскоре после столь горестного события родственники бедной женщины попросили Транквилло передать им в память о покойной некоторые ее личные вещи. – Я подарил им кое-какие украшения, две маленькие картины, икону, а кроме того, ее рабочие книги.. – Книги по акушерству, как я понимаю… – подбодрил его Атто. – В них содержалась информация о трудных родах, о различных типах маток и тому подобном, – ответил Ромаули. – И из какой же книги вы взяли слово тетракион? – Мм, я уже не припомню. Ведь я отдал вещи несколько лет назад. Я не помню мелких подробностей, но я посвятил это название памяти моей бедной жены. Теперь мы узнали достаточно. – Спасибо, большое спасибо за ваше терпение и, пожалуйста, простите, если мы побеспокоили вас, – сказал я, так как Атто, не прощаясь, поднялся и отправился к воротам виллы. Ромаули с большим удивлением посмотрел на нас.
Я поспешил догнать Атто, который, можно сказать, семимильными шагами покидал территорию виллы Спада, не удостоив взглядом даже двух кардиналов, хотя те повернулись в его сторону, чтобы поздороваться. Он отдал краткий приказ Бюва оставаться на вилле, а сам устремился в Касино. – Я отослал его поискать твою жену, – объяснил Мелани – Мы должны найти книгу, откуда садовник взял это название Мы нужны автор, название, страница – все. Мы быстро отдалялись от виллы Спада. «Корабль» ждал нас.
* * *
– К черту твоего Транквилло Ромаули и его болтовню. Я так и знал: они снова исчезли. Был полдень. Мы зашли на территорию виллы Бенедетти но от трех кардиналов, как и в прошлые наши визиты, не осталось и следа. – Сейчас как раз полдень. Встреча была назначена на это время, – заметил я, после того как мы внимательно огляделись вокруг, как делали это всегда. Мы поднялись на третий этаж. Перед нами на полу лежала картина Питера Бёля. – Это выглядит, как грубая ошибка специалиста, – констатировал Атто. Низко наклонившись к полотну, аббат занимался тем, что сверял изображение чаши Капитор с оригиналом, который недавно мы чуть не съели глазами у ораторианцев. – Все так, как я говорил: то, что на первый взгляд показалось нам правой ногой Амфитриты, сливается с левой ногой Посейдона, – продолжил Атто. – Тогда все так, как я говорил, – решил вмешаться я. – Они просто положили одну ногу на другую. – Вначале я тоже так подумал, – возразил он. – Но посмотри на их ноги еще раз, только внимательнее. Я тоже склонился к полотну. – Точно, большие пальцы… – удивленно воскликнул я. – Но как это возможно? – Судя по их позе, они не могли так положить ноги: правая нога Амфитриты действительно принадлежит ей, а левая нога Посейдона – ему. – Такое впечатление, будто ювелир неуклюже приделал ноги у бедер изображенных фигур. – Именно. И это весьма странно для мастера, который смог создать подобный шедевр, ты не находишь? – Нам нужно вернуться к ораторианцам, в их музей, и попросить показать нам чашу еще раз. – Ах нет, я не думаю, что это как-то поможет. К сожалению, совершенно невозможно понять, где какая нога у этих фигур, а уже попытался разобрать это по оригиналу, но ты видишь вот здесь эту небольшую полоску из золота, которая проходит вдоль бедер Посейдона и Амфитриты, прикрывая их? – Да, я заметил ее. – Так вот, ювелир припаял ее на изображения богов таким образом, что теперь больше не представляется возможным приподнять ее и раскрыть тайну. Я спрашиваю только, зачем… Мелани оборвал себя на полуслове, лицо его вытянулось, изображая гневное неодобрение. – Опять этот сумасшедший голландец. Когда же он наконец прекратит? Как всегда, из непостижимых глубин дома до нас донеслась игра Альбикастро: снова по залам «Корабля» пронеслась возвышенная мелодия фолии. Вскоре и сам музыкант зашел в нашу комнату. – Спасибо за комплимент, господин аббат Мелани, – спокойно заметил скрипач, намекая на то, что услышал замечание Атто. – Телемах, сын Одиссея, победил женихов как раз благодаря тому, что прикинулся безумным. Мелани презрительно засопел. – Я не буду долго надоедать вам, – заметил Альбикастро после недружественного жеста Атто. – Однако подумайте о Телемахе, он вам пригодится! Голландец уже второй раз говорил об этом Телемахе, Однако я не мог понять смысла его слов. Я знал «Одиссею» Гомера весьма поверхностно. Много лет назад я прочитал ее и помнил, что когда женихи Пенелопы съехались в дом его отца, Одиссея Телемах притворился сумасшедшим и таким образом обрек их на смерть. Однако это знание никак не помогло мне расшифровать слова Альбикастро. – Синьор Атто, что он хотел этим сказать? – спросил я, когда скрипач ушел. – Ничего, он безумен и точка, – изрек Мелани и захлопнул за голландцем дверь в зал. Мы вернулись к картине. Однако уже через несколько секунд мы снова услышали настойчивое вибрато скрипки Альбикастро и его фолии. Мелани раздраженно закатил глаза. – На картине нет и следа надписи, которую мы видели на самой чаше, – попытался я снова привлечь его внимание к тетракиону. – Наверное, она слишком мелкая, чтобы ее можно было изобразить на картине. – Действительно, – через несколько секунд согласился со мной Атто, – либо Бёль не захотел рисовать ее. Или кто-то приказал ему не делать этого. – Почему? – Кто знает? Точно так же ювелир, изготовивший чашу, мог намеренно устроить эту путаницу с ногами, возможно, по чьему-то заказу. – Но зачем? – Черт возьми, мальчик! – выругался Атто. – Я высказываю лишь предположения. Призови на помощь свой ум и хоть раз попробуй сам найти ответ! И прежде всего скажи этому голландцу, чтобы он прекратил наконец изводить нас: мне нужно спокойно все обдумать! Он зажал уши руками и пошел к лестнице. Да, мне почти не приходилось видеть, чтобы Мелани так рассердился! И музыка Альбикастро не была столь громкой, чтобы вызвать такой гнев. Мне показалось, что не от громкости звуков, а, скорее, от самой музыки – этой особенной фолии, – Мелани начинал нервничать. Или, возможно, Атто раздражал сам Альбикастро, этот чудаковатый солдат и скрипач, с его странной философией. Он очень редко называл скрипачей сумасшедшими. А вот в случае с Альбикастро, который вовсе не был его врагом, сделал это уже несколько раз, как будто замечания голландца вызывали в нем сильный внутренний гнев. – Согласен, синьор Атто, я сейчас спущусь вниз и скажу ему… Но аббат уже давно скрылся из виду. – Ну хорошо, а я пока поищу лучшее место, – услышал я из соседней комнаты. Я сразу же побежал на его голос, решив, что он в среднем зале на третьем этаже. Но когда я пришел туда, там его не было. Однако Атто не спускался и на нижние этажи я проверил еще раз главную лестницу. Тогда я поспешил к служебной лестнице и тут наконец услышал его шаги он не спускался, а поднимался. – Это невозможно выдержать, – чертыхался он, идя на четвертый этаж. Когда я ступил на лестничную площадку, то понял, почему он возмущался. Как и в первый раз, когда мы встретили Альбикастро, звучание скрипки на маленькой винтовой лестнице усиливалось во много раз и отражалось тысячекратным эхом, которое превращало эту, в общем-то, приятную мелодию в адскую какофонию звуков. Казалось, будто не одна, а пятьдесят или сто скрипок исполняли одну и ту же мелодию, но каждая искажала ее на одну ноту, отчего простая тема фолии превращалась в бурлящий канон, который потрясал слушателя, у него начинала кружиться голова, точно он поднимался по винтовой лестнице, как сейчас мы с Атто, следуя на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Он – убегая от музыки, а я – догоняя его. – Куда вы идете! – крикнул я ему, стараясь перекричать оглушительный скрипичный оркестр Альбикастро, звуки которого кружились в лестничной шахте, словно беспокойные духи. – Воздух, мне нужен воздух! – воскликнул он – Здесь можно задохнуться. Пока лестница поднималась вверх, я слышал, как он кашлял все чаще, а затем и вовсе зашелся ужасным кашлем, который был похож на удушье, сдавливающее горло и заставляющее гореть легкие. На «Корабле» было слишком много пыли, это точно, однако этот мощный приступ вызвал у меня сильное беспокойство. Душа Атто страдала, а тело пыталось избавиться от груза страданий, и он убегал от фолии. – Синьор Атто, если бы мы открыли окно! – крикнул я ему вслед… В ответ ни звука; возможно, он даже не услышал меня. К своему удивлению, я заметил также, что чем выше мы поднимались тем громче становилась музыка, хотя нам вначале показалось что звучание скрипки Альбикастро шло снизу. – Вверху только этаж для слуг, и он пуст! – снова крикнул я Атто, пытаясь догнать его. Однако, как только я добирался до места, где, как предполагал, должен был находиться аббат, тот уже успевал подняться выше. Два дня назад мы уже заходили на этот этаж, однако шли по главной лестнице, которая на нем и заканчивалась. Теперь нас ждал еще один сюрприз. В отличие от главной лестницы, служебная вела на самый верх «Корабля» – на террасу на крыше. Наконец и я еле одолел последние узкие ступеньки и, словно моя душа вознеслась в рай, вышел из темноты лестницы и противоестественного грохота фолии на райский, прозрачный свет террасы.Я нашел Мелани в жалком состоянии: вконец обессилевшего, сидящего на полу. Он все еще кашлял, как будто только что избежал смерти от удушения. – Этот злосчастный голландец, – пробормотал он. – Черт с ним и с его музыкой. – У вас был приступ сильного кашля, – заметил я, помогая ему подняться на ноги. Но он не ответил мне. У него был блуждающий взгляд, словно он был поражен открывшимся перед нами красивым видом. Терраса было огорожена стеной, на которой стояло много великолепных каменных ваз с цветочными мотивами. В стене было также несколько овальных отверстий, через которые можно был любоваться окрестностями виллы. Обращали на себя внимание маленькие купола, возвышавшиеся на четырех углах крыши «Корабля» и делавшие его заметным издалека. На четырех калоттах, покрытых пестрыми майоликами, стояли увенчанные крестами флюгеры, показывающие направление ветра, что в целом составляло изящное и чарующее оформление террасы. – Во время прошлых наших поисков мы еще не попадали на этот бельведер. Насладись этим великолепием и этим покоем, мой мальчик. Трость в его руке дрожала. Приступ кашля, хоть и недолгий, измотал его. Теперь он снова показался мне тем состарившимся Атто с подорванным здоровьем, каким я увидел его в первый день. Он повернулся ко мне спиной и пошел к южной стороне террасы, откуда была видна дорога на Сан-Панкрацио, по которой можно было попасть на «Корабль». Опершись на парапет из кованого железа с орнаментом в виде листьев, мы несколько минут созерцали великолепную панораму: пинии и виноградники, окружавшие «Корабль», строгие стены Святого города, ворота Сан-Панкрацио и, наконец, серебристые отблески солнца вдалеке, на волнах моря. Затем мы пошли на северную сторону террасы. Здесь стояла прелестная маленькая конструкция, что-то вроде домика, над которым выступала небольшая подвесная лоджия, украшенная по углам лилиями. На лоджию можно было попасть по двум железным лестницам, расположенным с разных ее сторон. Когда мы поднялись по левой лестнице, обозреваемое пространство еще больше расширилось. Нашему взору открылось множество куполов святых храмов, лес крестов, уходящих в небо фиал, величественных колоколен и благородных дворцов – и все это на холмах, которые с давних времен защищали город. Я вспомнил, что говорил мне Атто несколько дней назад: именно монсиньор Виргилио Спада посоветовал Бенедетти построить виллу в этом месте, чтобы она побуждала гостей к глубоким размышлениям о вере и духе. Мой взор вернулся к садам «Корабля», к большой перголе из виноградника у въезда на виллу. Как рассказывал аббат, Бенедетти встречал гостей виноградом – христианским символом возрождения и духовного обновления.
Мы стоим на носу «Корабля», – сказал Атто. И действительно, эта висячая ложа в архитектуре виллы «Корабля» как будто образовывала верхнюю палубу. Словно два адмирала на командирском мостике, мы любовались холмом Ватикана – стражем непреходящих ценностей. «Корабль» указывал своим носом, если можно так выразиться, прямо на апостольский дворец, и я тоже охранял кусочек бесконечности. Я подумал даже что и на самом деле «Корабль» был местом возрождения, где связывались разорванные нити прошлого и настоящего. Разве не случилось именно это, когда я посмотрел на молодого Людовика и его возлюбленную Марию и смог присутствовать во время их любовных игр? То же самое произошло, когда мы увидели в саду генерального контролера Фуке, уже зрелого, свободного мужчину, но еще не опороченного клеветой, которого пока не коснулось несчастье. В саду «Корабля» были воссозданы такие картины, от которых история отказывается. Это было место действия того, что должно было произойти, но никогда не происходило: да, такой был «Корабль». Столь высокая миссия «Корабля» давала ему право претендовать на место рядом с холмом Ватикана. Собор Святого Петра, оплот веры, – а рядом с ним другой хранитель вечных истин, «Корабль» – крепость справедливости, которая была изгнана со страниц истории. Несколько мгновений на этой маленькой, парящей над бесконечностью террасе, пока ветер трепал мою рубаху, я чувствовал себя бесстрашным моряком, стоящим на палубе нового ковчега, на волшебном корабле, который консервирует счастливую судьбу и хранит ее до лучших времен.
Однако когда я уже полностью отдал себя во власть фантазии, Атто решил вернуть меня к действительности: – Возможно, сейчас ты получишь точное представление о нем. Я сразу же понял, кого он имел в виду. – Я понял только, что он чудовище, – ответил я. – Если предсказание сбудется, то на испанский престол поднимется чудовище с четырьмя ногами. Но в этом я не вижу много смысла. – Знаю. Я постоянно думаю об этом. Но и мне в голову не приходят ничего другого. Пока твоя жена не раздобудет ту книгу, которая вдохновила Ромаули, боюсь, мы не придем ни к какому выводу. – Надеюсь, что Клоридия будет такой же проворной, как всегда. – Давай спустимся, – наконец сказал Атто. – Мне хотелось бы еще раз взглянуть на картину. И как раз в это мгновение мы обнаружили тех, кого так долго искали. – Ты посмотри только! – воскликнул Атто. – Так вот они где! Только отсюда, только под этим особенным углом обзора можно было их увидеть. Ни одно другое место на «Корабле» не выступало достаточно на северо-восток и не было таким высоким, как эта лоджия, на которой мы стояли. Л ишь отсюда была видна маленькая дверь в оградительной стене сада, через которую можно было пробраться незамеченными на соседнюю с «Кораблем» улицу. В саду, за стеной растений и кустов ежевики, ловко прятался выход, который никак нельзя было обнаружить, если не знать о его существовании. Куда же именно вел этот выход? Мы сумели увидеть это собственными глазами: несколько человек, возможно из сопровождения кардиналов, в этот момент как раз вошли через похожий вход в стене со стороны имения, принадлежащего благородному генуэзцу по имени Toppe. Я сощурил глаза и обнаружил далеко позади них наших трех кардиналов, которые безмятежно прогуливались по парку виллы Toppe. – Так вот зачем Спада, Спинола и Албани всегда договаривались о встрече на «Корабле», – сказал Атто. – Они сбивали с толку своих преследователей, включая нас, потому что заходили на территорию «Корабля» и тут же непонятным образом исчезали. На самом деле они встречались на вилле Toppe. Для твоего хозяина это решение проблемы: у него есть и надежное место для тайных встреч, то есть вилла Toppe, и место, где можно замести следы, – «Корабль». Неудивительно, что до сих пор ему удавалось ловко уходить от нас. Словно завороженный, аббат Мелани следил за каждым движением троицы, он вытянул шею и прищурил глаза, желая точно узнать, что у них там происходило. Однако расстояние было слишком большим. Несмотря на прекрасную видимость, наш пост наблюдения, в принципе, был бесполезным. Тут аббат ударил себя по лбу. Я идиот! Такой счастливый случай помогает мне, а я пренебрегаю им! Он засунул руку под куртку и вытянул длинный, узкий предмет цилиндрической формы – подзорную трубу. Он носил ее с собой с тех пор, как мы искали Ромаули в саду виллы Спада, так как прямо оттуда мы пошли на «Корабль». Он посмотрел в нее, а затем передал трубу мне. – Взгляни и ты тоже. Это будет полезно для тебя. Я приложил глаз к окуляру и посмотрел в него. Кардинал Спинола слегка качал головой, как будто с чем-то не соглашался, в то время как Спада и Албани в чем-то горячо убеждали его, правда, недолго. После нескольких слов Албани Спинола нехотя кивнул, по крайней мере, так мне показалось на расстоянии. И тут же Албани подхватил его под руку с явным удовлетворением, и все трое продолжили свою прогулку. В этот момент Атто забрал у меня подзорную трубу и стал наблюдать сам. В свете того, что я прочитал вчера вечером в письмах Мелани и мадам коннетабль, эта сцена больше не представляла для меня загадки. Три кардинала должны были представить Его Святейшеству Иннокентию XII свои соображения насчет Испанского наследства, чтобы Папа смог наилучшим образом ответить на прошение короля Испании Карла II. Трем высокопреосвященствам необходимо было выработать одно мнение, что являлось актом чрезвычайной политической важности перед грядущим конклавом, который мог означать для них удачу или поражение. И Спинола явно не во всем соглашался с двумя другими прелатами. Я понаблюдал за Атто: он с жадным интересом следил за встречей кардиналов. Он был обеспокоен, и я знал почему. Ведь всего пару дней назад мы узнали от Угонио, что у Албани были общие интересы с императорским послом – графом Ламбергом. Спада являлся государственным секретарем неаполитанского Папы, дружески относящегося к Испании. Спинола стоял на стороне империи, как я узнал из последнего письма аббата. Так что никто из них не представлял интересов Франции. Естественно, это не могло понравиться Атто. Но Ламберг и Албани еще и завладели его трактатом о тайнах конклавов, который, вероятно, хотели использовать против Атто. – Ну и что нам делать? – спросил я. – Бесполезно даже пытаться подобраться к ним, так как у ворот нас сразу же обнаружат караульные. – Так что? – Я сдаюсь: праздник на вилле Спада подходит к концу, и утром все гости начнут разъезжаться. Мы никогда не узнаем, о чем тайком шептались эти трое. Хладнокровие, с каким ответил мне Атто, подтвердило мои опасения. Но я ожидал это: совещание, совет кардиналов, наследование престола… Нет, за его присутствием на вилле Спада стояло совсем другое: любовная миссия, которую ему поручил его христианнейшее величество. Он должен был уговорить Марию Манчини встретиться с королем. – Давай-ка последний раз взглянем на картину, – наконец сказал он. – Хотя я уже не питаю никаких надежд на то, что мы узнаем что-то новое. После этого пойдем спросим Бюва, нашел ли он твою Клоридию. Мы спустились на террасу по небольшой железной лестнице и уже хотели идти по служебной лестнице на третий этаж, когда услышали голос:
* * *
Домик был пуст. Альбикастро тут не оказалось. Как ни странно, здесь было очень мало света. Он проникал через два окна в торце дома, выходящего на собор Святого Петра. Оконные стекла где были покрыты копотью, отчего, как я предполагаю, движения людей казались искаженными. Помещение имело правильную прямоугольную форму с двумя колоннами в центре, которые верное, и подпирали террасу. Мы с Атто стояли рядом, и это бы единственным утешением в столь странном месте. Затем мы снова услышали голландца:* * *
– Вы знаете, кто такой Улисс Альдровандус? – Нет, этого я не знаю, – услышал я свой голос, немощный и бледный, как и мое лицо. Мы были в покоях Атто на вилле Спада, куда Бюва привел Клоридию. У меня все еще дрожали ноги, но я уже достаточно пришел в себя, чтобы слушать чужие голоса или хотя бы притворяться, что слушаю. – Что, мой любимый? – Ничего, ничего, – ответил я и показал ей глазами на мрачное лицо Атто, намекая, что я потом все расскажу. – Рассказывай нам, что тебе известно. Клоридия сразу же принялась за дело. Не взяла книгу, а придумала кое-что получше: она и сама могла объяснить нам, что такое тетракион. – Мне показался очень странным вопрос, которым заинтересовался ваш секретарь, господин аббат Мелани, – сказала она. – Почему странным? – Это из той области, о которой знают очень немногие, – что-то вроде тайной науки, хочу сказать. В таких вещах повитухам, в принципе, разбираться не нужно. Но в конце концов мы узнаем обо всем понемногу: медицина, анатомия, натурфилософия… – проговорила она с хитрой улыбкой. – Ну и что же эта за необычная область знаний? – Наука о ненормальных беременностях, зачатиях чудовищ и странных существ. Наука о чудовищах. – О чудовищах? – испуганно спросил Атто, и на лице его на мгновение появилось такое же выражение, как в тот момент, когда он увидел тетракион. Клоридия рассказала нам о том, сколько разной литературы посвящено этой области знаний. Одной из наиболее исчерпывающих можно считать появившуюся примерно век назад работу «Два тома по хирургии» Амбруа Паре, который был первым врачом короля Франции, или более раннюю работу «Monstrorum historia» Улисса Альдровандуса, ученого из Болоньи. Обе эти книги содержат описания самых известных случаев рождения монстров и других безобразных созданий. – К примеру, такие известные случаи: эфиоп, родившийся с четырьмя глазами, человек, появившийся на свет с шеей и головой журавля, еще один – с собачьей головой… – стала перечислять Клоридия, как мне показалось, лишь для того, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Перечисление чудовищ, рожденных среди животных или людей, продолжилось: пятнистая девочка, младенец с лошадиными ногами, новорожденные с рыбьими головами, одетые в монашеские рясы, человеческие существа в виде скорпионов, существа с безобразными ушами, с двумя кистями на одной руке, с копытами, большими ослиными ушами и волчьим хвостом или выглядевшие как стоящий на двух ногах козел, с лапами хищных зверей, с крыльями, как у чертей, с орлиными когтями и туловищем собаки, с телами как у морских нимф (но мужского пола), с головой черта, рогами, с острыми козлиными ушами, с пастями как у хищных животных, с руками, на которых были большие пальцы, но не было остальных, с плавниками на руках и спине или с хвостом как у тюленя; также были примеры появления на свет чудовищ, у которых был женский живот, одна нога свиная, а другая куриная, одна рука человеческая, а другая в виде копыта, с ослиной головой, с головой петуха, хвостом и с перьями по всему телу; еще был случай появления страшилища, от которого дрожь идет по всему телу: в виде морской свинки с перепонками между пальцами и когтями, с человеческими глазами, которые выглядывают из чешуи, и с торчащими клыками. И наконец, действительно интересный пример – «monstrum cornutum amp; alatum»: морда медведя, без рук, с огромным веретенообразным пенисом, из которого выпускалось жало, с одной ногой, покрытой перьями, с орлиными крыльями, одним глазом на колене и с плавником вместо левой ноги.– Все, конец, с меня хватит, – запротестовал Атто, которому это перечисление было так же противно, как и мне. – Теперь: что такое этот тетракион? – Сведения о тетракионе, господин аббат Мелани, – ответила Клоридия с тонким сарказмом в голосе, – могут быть для вас настолько же бесполезны, как и многие другие бедные существа, о которых вы только что слышали, ибо почти все они либо абортируются, либо рождаются мертвыми. – И почему же? – Здесь речь идет о другом типе несчастной природы. Специалисты подразумевают под ним известный случай, который произошел в 1546 году в Париже. Одна беременная женщина на шестом месяце родила ребенка с двумя головами, четырьмя руками и четырьмя ногами. Доктор Паре, описавший этот случай произвел вскрытие и нашел внутри только одно сердце. Из этого он сделал заключение, согласно известному выводу Аристотеля что здесь имеем дело с одним ребенком. Этот порок развития вероятнее всего, случился из-за губительных дефектов матери которая была слишком маленькой, чтобы природа могла сформировать в ней двух детей. Кроме того, матка ее была чересчур тонкой, и в результате плод оказался сжат и слился в шар, который превратился в двух связанных между собой детей. – И эти создания, нет, это создание имело… четыре ноги? – спросил Атто. – Две головы, четыре руки и четыре ноги. Атто опустил глаза и наморщил лоб: очевидно, перед глазами у него возникла только что увиденная картина. – Но есть примеры тетракиона, который, скажем так, был не так уж плох, – снова начала Клоридия. – И что это значит? – Есть случаи рождения детей-близнецов, которые имеют все части тела, но в некоторых местах срастаются кожей. Либо они имеют общую часть тела – руку или ногу, – которая по этой причине остается недоразвитой. Но, к сожалению, при родах таких детей нельзя сразу разъединять, поскольку они могут погибнуть. Нужно ждать, пока они вырастут: если доживут до взрослых лет, то могут быть прооперированы с минимальным риском, в худшем случае будут хромать. Я не мог с полной уверенностью сказать, соответствовало ли это создание (или создания), которое мы обнаружили в домике на террасе, той картине, которую описала моя умная жена: страх перед его видом был слишком велик, чтобы мы могли рассмотреть все до мелочей. Но по меньшей мере одна деталь соответствовала – число «четыре». Оно присутствовало в слове «тетракион», – существо, которое покоится на четырех опорах, как на изображении (разумеется, стилизованном и приукрашенном) божеств на чаше Капитор. – Как всегда, есть вещи похуже, – заметила Клоридия. – Вещи похуже… – задумчиво повторил Атто. – Что вы имеете в виду? Клоридия объяснила, что она имела в виду невиданные создания, такие, как monstrum triceps capite Vulpis, Draconis amp; Aquilae, которое появилось на свет на берегу Нила и, кроме одной руки, одного орлиного крыла, лошадиного хвоста, оперенных ног со ступнями в виде копыта и собачьей пасти, имело три головы. Или monstrum bifrons, родившийся у одной француженки в Генуе: у него были две стороны, как у бога Януса, – голова, руки и ноги впереди и сзади. Или monstrum biceps caudatum, появившийся 26 октября 1598 года в маленьком городке между Аугерией и Тортоной: два мальчика с двумя позвоночниками, но соединенные с правой стороны таким образом, что у них было по одной руке и по одной ноге, но посередине – огромное отвратительное мясистое образование. – Скажите мне еще кое-что, дева Клоридия, – прервал ее Атто. – Отчего возникают такие уродства? Тогда моя супруга рассказала: чтобы ребенок не стал уродом, необходимы пять условий: плод должен лежать на правильном месте, появляться на свет в нужное время, легко, без нарушения правил, которых должны придерживаться беременные, и иметь правильные конечности. Если одно из этих условий не выполняется, то он будет уродом, а если не выполняется ни одно, – то полным уродом. Если плод частично недоразвит, то его назовут чудовищем, если же у него недоразвиты все части – то это просто кусок мяса и называться он будет ребенком-уродцем или massa carnis. Но главная причина – сила воображения матери. Если мать, так сказать, прививает детскому телу желаемое свойство это случается только потому, что она того хочет. Но какая женщина настолько глупа, чтобы желать ребенку нечто столь ужасное бы в результате родить чудовищ? Поэтому ответ таков: при зачатии чудовищ не возникает такого желания, просто беременна видит нечто чудовищное помимо своей воли. – Это нормальное явление, и такое случается почти каждый день. Поскольку, когда ты видишь, что кто-то зевает, ты тоже начинаешь зевать; когда ты видишь, как вино льется из бочки, у тебя появляется желание пойти в туалет; когда ты увидишь красный платок, у тебя из носа может идти кровь. И по вполне объяснимым причинам, когда убийца появляется возле тела убитого им человека, из ран последнего начинает сильнее течь кровь. Атто не сделал никакого комментария к сказанному Клоридией. Еще бы – смог же он объяснить похожей теорией (той самой о летающих корпускулах) появление Фуке, Марии и Людовика на «Корабле»! Почему же не объяснить силой воображения матери, которая так тесно связана с плодом ее любви, появление у ребенка подобных мутаций?
– В любом случае, – продолжила Клоридия, – родители должны сразу же крестить ребенка, потому что такие дети живут очень недолго. Разумеется, чудовище, имеющее две головы или два туловища, необходимо крестить дважды, и только один раз, если у него просто четыре руки или четыре ноги. Необходимо определить четко выраженное тело, объяснила Клоридия, а другие части можно не брать в расчет, ибо сначала крещению подлежит та часть, которую со всей определенностью можно отнести к человеческой, а затем вторая, но с условием, что крещение только тогда считается состоявшимся, если Бог и второго наделяет душой, поскольку лишь Господь может по внешности судить о недоразвитости ребенка. – Как видите, я не солгала вам, когда сказала, что уродства плода – это целая наука, – заметила Клоридия. – И, кроме того, чтобы женщина дала этому миру здоровое и красивое создание, ей нужно рассказывать о приятных вещах. В качестве утешения за муки во время родов и позже, пока отходит послед, ей можно рассказывать об уродах, эти истории очень повысят женщине настроение. – Они повысят женщине настроение? – пробормотал Атто, зеленоватая бледность которого не на шутку испугала меня: я подумал, что у него снова начнется приступ тошноты. – Ну, разумеется же, – радостно защебетала моя женушка. – Для этого прекрасно подойдут рассказы об уродливых созданиях с головами собак, коров, слонов или оленей, овец или баранов, или с козлиными ногами, или с другими частями тела, напоминающими различных животных. Или о тех, что имеют больше конечностей, чем нужно: например, две головы или четыре руки, как тетракион. А то еще можно вспомнить об уродцах, которые состоят из двух разных частей, как центавры (получеловек-полулошадь), или минотавры, (получеловек-полубык), или оноцентавры (получеловек-полуосел). Затем существует легенда о Герионе, короле Испании, тот имел три головы… – Что? – снова перебил ее Мелани. – Король Испании с тремя головами? – Именно, – подтвердила она, пока интерес Атто не угас, – говорят, что было три ребенка, которые родились соединенными друг с другом. Утверждают, будто они правили в большом согласии. – Расскажи мне поподробнее об этом Герионе, дева Клоридия, – попросил Атто, вытирая платком пот со лба. – Что тут удивительного? – сказала моя жена. – Разве на гербе Испании не изображен двуглавый орел? Это своего рода напоминание о том, что давно у Габсбургов родились близнецы описанного вида. Я задержал дыхание. Наступил подходящий момент поведать Клоридии о том, что произошло. Но Атто молчал. Я понял, что Мелани было стыдно и, кроме того, он не был расположен к тому, чтобы рассказывать Клоридии об этом невероятном происшествии. В любом случае, аббату, естественно, хотелось скрыть наше постыдное бегство. Я тоже не хотел нарушать молчание. Это была наша общая тайна. Испания, продолжила Клоридия, не случайно является страной, где каждый случай необычной и ненормальной беременности очень тщательно расследуется. Антонио Торквемада, например, в книге «Jardin de Flores curiosas» пишет, что от медведей или волков, если они совокупляются с женщинами, могут рождать полноценные и разумные люди. Он описывает случай с одной шведкой, которая совокупилась с медведем, и об одной приговоренной к смерти в пустыне женщине из Португалии, которая забеременела от волка. Обе они родили прекрасных младенцев. Еще один случай произошел с женщиной и собакой – они единственные выжили после кораблекрушения. Их выбросило на берег необитаемого острова, где были только дикие животные, он назывался Тартареи. Собака защищала женщину от диких зверей и они влюбились друг в друга. Она забеременела и родила нормального ребенка. Когда он вырос, то совокупился со своей матерью, и от них пошли умные и выдающиеся мужчины и женщины которые потом заселили всю страну. Потомки собаки сохранили память о своем предке и по сей день самый высокий титул их императора – «великий хан», что происходит от латинского слова canis (собака). – И если все это правда, – заметила моя жена, радуясь нашему с Атто замешательству, – то Скалигеры,[1359] правители Вероны, тоже были собачьей расы, ибо многие из их рода назывались «веронскими псами» и «великими веронскими псами». Вскоре после этого аббат Мелани покинул нас. Я пристально посмотрел на него: страшное зрелище, которое нам пришлось увидеть на «Корабле», лишило его сил, и теперь аббату требовался покой. Кроме того, это был последний день праздника. И там еще был Албани.
Оставшись наедине с Клоридией, я рассказал ей о последних запутанных событиях. Она задумалась, и когда я спросил ее, что крутится у нее в голове, ответила мне: – Вы исследуете слишком много: определенные вещи нельзя трогать. Лучше займись тем, чтобы аббат Мелани дал тебе обещанное приданое для наших цыплят.
* * *
В ожидании заключительного спектакля, который должен был начаться только с полным наступлением ночи, во второй половине дня начались разные забавные игры. К примеру, было подготовлено поле для игры в мяч. У Горацио, известного поставщика всевозможных принадлежностей для игры в мяч, были куплены самые лучшие биты и мячи, называемые также летающими шарами. Кроме того, рядом подготовили еще одно поле для игры в мяч – в бочче, как ее называют некоторые. Но желающих поиграть было мало. Многие гости предпочли сохранить силы, поскольку впереди их ожидала долгая ночь развлечений и кутежа. Кардинал Спада распорядился поставить в саду турецкие павильоны из газа – тончайшего, легкого, как перо, и переливающегося всеми цветами радуги роскошного шелка, вроде бы привезенного из Армении (ничего подобного никто в Риме не видел). Если кто-то хотел, он мог открыть крышу, чтобы полюбоваться звездным небом, а ночью должны были зажечь угольные печки, распространяющие душистый дым. Гостей, не пожелавших лечь спать, до самого утра будут обслуживать лакеи, одетые в разноцветную форму сарацинов, подавать всевозможные лакомства, в то время как сами гости будут лежать на роскошных диванах и наслаждаться экзотикой. Поскольку игроков в мяч не хватало, дон Паскатио увел меня от них, с тем чтобы использовать для устройства турецкого павильона, – я должен был разворачивать гобелены и ковры, расставлять угольные печки, полировать медные тазы и наполнять их душистой водой для омовения рук, раскладывать повсюду салфетки и полотенца для рук и так далее и тому подобное.Занимаясь этими делами, я не переставал думать об аббате Мелани. Как мы узнали от Угонио, его трактат о тайнах конклава в четверг, то есть завтра, перейдет из рук черретанов к кардиналу Албани. Как поступит с ним секретарь папской грамоты после своих напряженных словесных дуэлей с Атто? Наверное, в тот же вечер подойдет к аббату, чтобы предложить ему постыдную сделку и еще сильнее скомпрометировать: дескать, я не стану тебя уничтожать, если ты сделаешь вот такое одолжение… Или же на следующий день, наверное прямо во время запланированной экскурсии по дворцу Спады, устроит скандал в присутствии всех гостей и бросит рукопись Атто под ноги другим министрам Папы, но сначала кардиналу Спаде. И все смогут прочитать в этом тайном отчете (предназначенном только для глаз его христианнейшего величества короля) достоверную информацию о конклавах, о тайных намерениях Франции, об истинном мнении аббата о двенадцати кардиналах и, кто знает, о каких еще грехах… Жизнь аббата Мелани – непрерывное балансирование между умолчанием, оскорблениями, угрозами и лицемерием – подходила к концу. Возникла опасность того, что он, признанный виртуоз политики, умевший всегда соблюдать равновесие между шпионажем и дипломатией, потерпит фиаско. Через несколько часов, самое позднее утром, секреты, которые он хранил десятилетиями, его планы, его маскировка… все рухнет под грузом клеветы и доносов, и, наверное, не тихо, а на глазах у высокопоставленных представителей римской церкви – тех самых, кого, по его мнению, он знал как свои пять пальцев. Можно ли было себе представить более постыдный конец?
14 июля лета Господня 1700, вечер восьмой
После длительного празднования свадьба наконец подходила к концу. Наступил последний вечер развлечений, который по замыслу кардинала Спады должен был стать пиком удовольствий и чудес. Для праздничного прощания было приготовлено пиротехническое зрелище, или, как говорили некоторые, огромный театрализированный фейерверк. Сверкающие огнем ракеты и колеса должны были осветить римскую ночь, вызвав восторг у всех жителей Святого города. Будь святой Папа здоров, он тоже мог бы полюбоваться из окна этим великолепием, устроенным на полянке перед виллой пиротехниками, которых пригласил лично дон Паскатио. Благородные гости уже собрались на зеленой лужайке, для них было выставлено множество стульев, кресел и диванов. После всех неприятностей, которые мне каждый день подсовывал Атто, после бесконечных попыток найти ответы на многочисленные вопросы и разгадать многочисленные загадки, – после вызванного всем этим напряжения я чувствовал себя жалким и несчастным. Я ощущал усталость во всем теле, и все мои рассуждения окрашивались в черные цвета меланхолии. Завтра вечером гости начнут собирать вещи, подумал я. Они вернутсяк своим делам, в свои дома – одни поедут в другую часть Рима, другие покинут город, а некоторым вообще придется пересечь границы страны. Это великое событие, свадьба Климента Спады и Марии Пульхерии Роччи, уже было позади. Двое людей прекратили свое существование в одиночку и вступили в новую, супружескую жизнь. Каким бы радостным ни был этот эпизод, он лишь один из этапов жизни, и на смену ему придет следующий. Так проходит все в мире, будь то чрезвычайно важное событие или ничтожное, – все проходит, не оставляя ничего, кроме меркнущего следа человеческой памяти. Когда угаснут огни празднества, я вернусь к своей скромной жизни, жизни слуги и земледельца. – Tenebrae factae sunt…[1360] – пробормотал я, приветствуя начало ночи, и в этот самый момент вздрогнул от громкого звука. Пиротехники запустили оглушительную сарабанду огненного зрелища. Кардинал Спада подал знак, и слуги принялись стрелять из пушек, чем напугали всю компанию – к огромному удовольствию хозяина дома. Впрочем, ему удалось искусно скрыть свои чувства. После пушечного залпа последовало первое театральное представление. В эти дни из восточных стран в Рим привезли животное, которого никто никогда до сих пор видел, самое огромное и ужасное из всех описанных в истории человечества: слона. Погонщики водили слона по улицам города, вызывая восторг у детей научный интерес у ученых и ужас у старых женщин. В этот момент все изумленно обернулись – через вход на виллу Спада четверо янычар ввели колосса. Это был другой экземпляр той же породы, не менее чудовищный, чем его брат-близнец. Подходя к зрителям, он громко протрубил своим хоботом. – Господа, слон, – объявил дворецкий. Некоторые дамы принялись кричать от ужаса, повскакивали со своих мест и попытались убежать. За секунду до того как высокоуважаемое общество гостей захлестнула слепая волна паники, произошло нечто невероятное. На спине чудовища вспыхнули желтые, красные и белые языки пламени, затем зажглись огоньки на концах его бивней; после этого из хобота слона вырвался залп ракетниц, словно слон превратился в аркебузу. Тут все поняли: это был не настоящий слон, а слон из дерева и папье-маше, созданный по образцу настоящего и оснащенный respyrotechnica. Присмотревшись повнимательнее, можно было понять, что макет слона везли на повозке, которую подталкивали сзади замаскированные пиротехники. Напряжение среди гостей сразу улеглось. Огромное создание продолжало двигаться по дорожке, но даже самые пугливые уже вернулись на свои места. Громкий крик слона имитировался маленьким мальчиком, который раздувал меха за макетом, и сдавленный воздух проходил через трубку, вырываясь из слоновьего хобота (теперь это было видно). Зрители, особенно женщины, все еще выглядели напуганными – им это развлечение не понравилось. – Бедные дамы. Это просто ужасно. Господин Бернини тоже говорил, что пиротехника вызывает ужас, это не развлечение. Аббат Мелани незаметно подошел ко мне, после того как я помог одному монсиньору подняться – тот упал, пытаясь убежать от Слона. Выражение лица у Атто было как у скаковой лошади перед забегом. – Я уже выяснил, что Албани здесь нет. Наверное, он придет попозже, – поспешно шепнул он мне. В этот момент слон погас, словно догоревшая свеча, – как раз в тот момент, когда он приблизился к нам. Тут же началось представление – фейерверк. Сначала в небо выстрелила зеленая комета, потом три желтые звезды, три красные, а затем еще одна зеленая. Следующие ракеты были особенными – они распадались на потоки искр, на дождь светящихся огоньков, ослепляющее сияние тысячи мерцающих метеоритов. – Вам нравится преставление, ваше преосвященство? – обратился князь Цезарини к кардиналу Оттобони в перерыве между двумя выстрелами – тот впервые этим вечером наблюдал за празднеством. – Что ж, неплохо, но все же я не сторонник подобных развлечений. Поймите меня правильно, с гораздо большим удовольствием я вспоминаю тишину, которая наступала, когда вспыхивало море огней: ровно десять лет назад на куполе собора Святого Петра зажгли факелы в честь Откровения Иоанна, – ответил кардинал с легкой меланхолией – вероятно из-за того, что десять лет назад Папой был его племянник, Александр VIII. Любезные разговоры были прерваны появлением следующей повозки, на которой сидел не кто иной, как Люцифер. Гости рассмеялись, ведь они знали, что каждая фигура, какой бы ужасной она ни была, создавалась для их удовольствия. Двигающийся макет дьявола с рогами и адской ухмылкой стоял, окруженный тростником, и держал в руках библейского Змея. Внезапно рот рептилии открылся, и оттуда высунулось огненное жало, поразительно напоминающее настоящее. В голове Князя Тьмы раздался чудовищный треск, и вся фигура загорелась, быстро сгорев дотла под аплодисменты всех гостей, в том числе и пугливых дам. Когда развеялся дым, изумленные зрители вместо Сатаны увидели благородного ангела с белоснежными крыльями и в великолепном наряде. По углам повозки зажглись огоньки, символизирующие победу Света над Тьмой и Добра над Злом. Это также было встречено громкими аплодисментами. В каждом уголке сада, даже в самом отдаленном, в движение пришли огненные колеса: желтые, розовые, фиолетовые, белые спирали, закрепленные на деревьях, кустах и стенах, брызгали во все стороны огнем, превратив весь сад (кроме тех мест, где собрались гости) в царство Аида, где стрелы Господа зажгли вулкан. Оглушительные залпы опьяняли публику, наполняя воздух едким дымом, так что у многих гостей начали слезиться глаза. В то же время в небе снова вспыхнули ракеты, озарившие всю окрестность разноцветными огнями, подобно кругам ада. Чудесным образом нам с Атто, словно Данте и Вергилию, по воле автора, пославшего нас сюда, удалось избежать огненных когтей Сатаны. Поток огня и молний был, конечно, великолепным зрелищем, но от последствий деваться было некуда. От искры огненного колеса вспыхнул парик у графа Антонио Марии Феде, постоянного дипломатического представителя герцога Тосканы. Мы стали свидетелями последовавшего за этим гнева графа, а также скандала, учиненного им дону Паскатио. Дворецкий незамедлительно послал за руководителем пиротехников, который, впрочем, как сказал один из слуг, не смог присутствовать здесь из-за других дел. – Смотри, граф Жополиз чуть не сгорел, – прокомментировал Атто, усмехнувшись. Улыбка была немного нервной, так как аббат никак не мог дождаться прихода Албани. – Что-о? – Так говорят о графе Феде. Ходят слухи, что он сделал карьеру исключительно благодаря своей готовности в нужный момент лизнуть задницу герцогу Тосканы, à потом и Его Святейшеству. Он даже не поздоровался со мной, поскольку знает, что Венецианская республика в апреле удостоила меня титула патриция и мы теперь оба дворяне. Вот только он прирожденный прихлебатель, а я нет, пффф. Зря он смеется, подумалось мне. Атто тоже родился в небогатой семье – он был ребенком простого звонаря в Пистойском соборе. Я узнал это много лет назад, когда мы только познакомились. Не случайно отец из семи сыновей сразу же выбрал четырех, отправив их на кастрацию, – так он надеялся пополнить семейный бюджет. – О, – воскликнул аббат. – Какая встреча! К Атто приблизился элегантный дворянин с весьма напряженной осанкой. Его сопровождали красавица жена и слуга. – Это Никколо Эриццо, посол Венецианской республики, – шепнул мне Мелани, а затем ответил на приветствие. – Вы бы видели, как граф Ваини пустился наутек из кустов, – подмигнул нам Эриццо, когда все формальности приветствия были позади. – Он там кое-чем занимался с одной красавицей, супругой маркиза, чье имя я, к сожалению, запамятовал. – Вот как? Что же они делали там, в кустах? – Выводы об этом я предоставляю вашей фантазии. Как бы то ни было, рядом с ними внезапно зажглось огромное огненное колесо, и Ваини от страха чуть не рассыпался в порошок. – Ваини? В обычный порошок или в ванильный порошок? – спросил Атто, чем вызвал оглушительный хохот у всей компании. – О, простите, вон идет мой старый друг… Я тут же понял его намек. Под предлогом того, что он увидел некоего влиятельного человека, Атто попрощался с этой парой, которая сразу же присоединилась к другой компании. Я заметил, что Сфасчиамонти, спрятавшись за кустом, подозвал его к себе. Они быстро что-то обсудили, и Атто вернулся ко мне. – Сфасчиамонти кое-что выяснил, – сказал он и протянул мне лист бумаги. Я немедленно развернул его и прочитал:«Никола Забаглия.
Мастерские Святого Петра.
Глава цеха»
* * *
– Это бред, синьор Атто. В последний раз вам говорю. Аббат Мелани промолчал. – Вы знаете, что такое мастерские при соборе Святого Петра? Вы там были? – Конечно, я там был, но… – Тогда вы прекрасно понимаете: то, что вы предлагаете, это безумие! – воскликнул я вне себя от гнева.В этот поздний час мы собрались в покоях Атто, после того как развеялся дым фейерверков, а гости удалились в павильон. – Албани так и не появился, – сказал аббат, немного расслабившись. Затем мы обсудили информацию, переданную сбиром. – Синьор Атто, вам не стоит настаивать, вы меня все равно не убедите. До этого самого момента я противостоял его намерениям, и тут он высказал аргумент, на который мне нечего было возразить. – Если ты не хочешь делать это для меня, то сделай это хотя бы для своих дочек. – Для моих дочек? – спросил я, деля вид, что не понимаю его. – Я имею в виду, для их будущего. Если ты хочешь, чтобы все остальные выполняли свои обещания, подай хороший пример. – Мы ведь договаривались, что я не буду рисковать собственной шкурой! – Но ты пообещал, что сделаешь все возможное, чтобы воплотить мой план. – А вы? – возмутился я. – Празднования уже закончились, так скажите же, когда вы намерены исполнить обещанное? Где приданое для моих дочек? Очень хотелось бы это выяснить! – Я уже договорился с римским нотариусом, – сухо отреагировал Мелани. – Он готовит документы. Мы пойдем к нему послезавтра. Я почувствовал, как на моём лице расплывается смущенная улыбка облегчения. – Если ты будешь придерживаться наших договоренностей, – холодно добавил он. Мне казалось, что я загнан в угол. Едва он начал намекать мне на то, что не выплатит приданого, как я начал еще больше сомневаться в необходимости выполнять его просьбы. – Я просто не понимаю, – раздраженно сказал я. – Почему вы так уверены, что он там? Вы считаете так только потому, что мы теперь знаем: друг этого шарлатана, некто Забаглия, работает в мастерских Святого Петра, где отливают колокола? Атто мне все объяснил. В сущности, он был прав, я не мог этого не признать и не стал с ним спорить, хотя это и было признаком того, что я начал сдаваться. – Как бы то ни было, я сейчас не могу пойти с тобой. Мне очень жаль, – подытожил Атто. – Почему нет? Трактат о тайнах конклава принадлежит вам, и вы должны… – Там понадобятся быстрые ноги и хорошая реакция. К тому же нужно уметь быстро прятаться, – заметил он севшим голосом. Хотя Атто и не сказал этого вслух, но я понял, что он имеет в виду: чтобы исполнить его план, сам Атто Мелани был слишком стар. – Тогда я пойду вместе со Сфасчиамонти, – упрямо сказал я. Атто на мгновение задумался. – Возьми и Бюва. А главное, не забудь вот это. – Да, я об этом уже думал, синьор Атто. – Я протянул руку за тяжелой звенящей связкой ключей Угонио.
* * *
Мы отправились в путь в предрассветных сумерках – так было меньше риска наткнуться на каких-нибудь стражей. Аббат Мелани сказал Сфасчиамонти и Бюва, что нам придется забраться высоко, но он не уточнил, насколько высоко. Святой шар… Когда мы отъехали от виллы Спада, я рассмеялся, вспомнив это глупое название, выдуманное грабителями святынь и шутами. Однако если знать, о чем идет речь, название казалось вполне подходящим. Об этом шаре ходило множество слухов я тоже слышал о нем легенды. Говорили, что добраться до него невозможно, а тот, кому это все же удавалось, считался храбрейшим из храбрецов. Да, задание было не из легких. Именно поэтому я должен собрать все свое мужество. Мне нельзя было делать вид, что я хладнокровен и спешу навстречу приключениям, как это делал Атто Я должен был ощущать, что это так и есть. Словно святой Георгий я видел перед собою дракона, которого должен убить, а страх который мог мне помешать, шел откуда-то изнутри. Самый страшный враг – внутри нас самих. В моих ушах так и звучал голос моей красавицы Клоридии. Если бы я рассказал ей об этой эпопее, она расспросила бы меня обстоятельно, а потом своей железной логикой заставила бы встать на колени и признаться во всем. Сперва ее, несомненно, захлестнула бы жалость. Она обняла бы меня и поцеловала, думая о том, какому риску я себя подвергал. Но затем неумолимая острота ее ума взяла бы верх, и она, словно горгона, с широко распахнутыми глазами и растрепанными волосами, слушала бы мои слова и комментировала их со все нарастающим презрением. В конце концов гнев и горе заставили бы ее назвать меня, недостойного отца и супруга, безумным чудовищем и, что хуже всего, идиотом. Конечно, речь шла о будущем наших дочурок и я запросил высокую цену за свои услуги, это правда, но кто сможет возместить ей мою смерть? Когда Клоридия будет критиковать меня, две наши доченьки станут кивать с серьезными лицами и смеяться за моей спиной. Вероятно, супруга на пару дней отлучит меня от супружеского ложа – с той только целью, чтобы у нее не возникло искушения огреть меня скалкой по голове или одним из ее тяжелых акушерских инструментов. Опасность велика. Бессмысленно было это отрицать. Впрочем, если дело выгорит, я смогу потребовать у Атто дополнительного вознаграждения, пусть и не очень большого. Конечно, сейчас о этом думать рано, главное, чтобы не подвели крепкие плечи Сфасчиамонти и милосердная рука Господа. Господу я и молился, чтобы он хранил меня.Угонио, грабитель римских подземелий, сказал, что до четверга трактат останется в святом шаре. Дон Тибальдутио сделал из этого заключение, что у этих мошенников есть связной в соборе Святого Петра. Информация, которую мы получили от Сфасчиамонти, позволила нам увидеть всю картину целиком, поскольку мы узнали имя друга того шута в лохмотьях. Никола Забаглия был работником почтенной мастерской при соборе Святого Петра, той самой столетней организации, которая заботилась о строительстве, надлежащем содержании и реставрации базилики, построенной на могиле первого Папы. У него было достаточно хорошее положение – он считался гениальным создателем машин для транспортировки крупных предметов. Кроме того, он руководил школой, где обучались будущие работники, которых называли сантпетерианцы или санпьетрини. Только у санпьетрини был доступ к самым отдаленным местам базилики: от таинственных подземных галерей, где находится гробница святого Петра, до воздушных фиал купола. Все это навело Атто на мысли о том, где мы можем обнаружить его трактат о тайнах конклава. Проблема была только в том, как туда попасть.
Путь от виллы Спада до собора Святого Петра вниз по северному склону холма Джианиколо мы преодолели быстро и без проблем. Пройдя в узкие ворота переулочков перед площадью, мы проскользнули мимо большой колоннады двух зеркальных полукругов. Колоннада, с ее ста пятьюдесятью статуями святых на огромной площади Святого Петра, была символом милостивых рук святой матери Церкви, которая всегда даст своим любимым детям защиту и утешение. Площадь контролировалась охранниками и, несомненно, рано или поздно мы наткнемся на них, но лучше, конечно, чтобы это произошло как можно позже. Итак, мы обошли угол с правой стороны фасада, вошли в огромное здание базилики, оставив по левую руку портик вход и прилегающие porta delta morte.[1361] Так мы попали в маленький Двор, из которого открывался узкий проход без крыши. Он вел в следующий маленький двор, прилегавший к северной стороне этого священного сооружения. Граничил он также с ватиканским садом. Перешагнув порог портала, мы попали в небольшой темный вестибюль, ступили под своды самой базилики. Справа поднималась широкая лестница, но у ее основания нас заметили стражники. К счастью, Сфасчиамонти удалось помочь нам. Своими объяснениями он совершенно сбил с толку людей, пытавшихся нас проверить. Наш сбир использовал банальнейший трюк сказав, что мы ищем одного из санпьетрини. Впрочем, это фактически соответствовало действительности, ведь нас сюда привело имя Забаглия. Мы спокойно миновали стражей и пошли по лестнице. Мы поднимались по этой огромной спирали. Под кругловатым куполом шахта лестницы слабо освещалась факелами. Время от времени нам попадались огромные окна с железными решетками. Мы очень осторожно шли вверх, держась за тонкие поручни. На внешней стене было много маленьких дверец с непонятными надписями, например «первый коридор», «второй коридор», «учения святого Василия и святого Иеронима». Вероятно, эти дверцы вели в подземные проходы, которыми пользовались санпьетрини, чтобы проникнуть в самые потаенные уголки этого огромного здания. Через несколько минут нас встретил еще один страж – он тоже поинтересовался тем, что мы делаем здесь в это время. На этот раз Сфасчиамонти воспользовался своей должностью сбира, так что сразу стало ясно: он не считает себя обязанным давать какие бы то ни было объяснения. Остановивший нас кивнул и пропустил дальше. Мы с облегчением перевели дух. После довольно долгого пути по лестнице мы, задыхаясь от усталости и возбуждения, дошли наконец-то до самого верхнего коридора. Там мы обнаружили короткую приставную лестницу и поднялись по ней. Нас ожидал сюрприз. Лестница привела на террасу, единственную настоящую террасу собора Святого Петра. Это было большое ровное пространство за статуями Спасителя и двенадцати апостолов, украшавшими фасад. Я оглянулся. На террасу мы вышли из купола, покоившегося на восьмиугольной основе. Этот купол казался маленьким по сравнению с его старшим братом. Очертания базилики напоминали крест. Терраса простиралась от верхушки длинной «перекладины» креста до того места, где она пересекается с «короткой» перекладиной. На террасе находились купола верхнего света – через них в боковые часовни проникал свет. В центре стояло продолговатое сооружение с узкой крышей, делившее террасу на две половины. Ночь расправила над нами черные крылья тьмы. Свет от узенького серпа луны освещал лишь колоссальные очертания базилики, вызывая у нас священный трепет. Наш визит сюда был не напрасным. Пока я думал об этом, события начали принимать опасный оборот. – Ага, вот вы где, – сказал голос из темноты. Я сразу же понял: второй стражник, которого мы повстречали, нам не поверил и прислал кого-то, чтобы задержать нас. Мне удалось разглядеть группу людей – их было по меньшей мере двое, но не больше четырех, и они приближались к нам с той стороны террасы, которая выходила на площадь Святого Петра. Именно там на восходе солнца статуя Господа нашего Иисуса Христа обращает свой священный лик к верующим. – Что же нам делать? – спросил Бюва. – Я мог бы попытаться уговорить их, дав им пару серебряных монет, – предложил Сфасчиамонти. – Хотя на самом деле я не думаю, что… Вот только у меня не было времени слушать его. У меня кончилось терпение. Я должен был это сделать. Если я буду действовать достаточно быстро, то у меня хорошие шансы успеть. Эй, приятель, да ты что… – послышался за моей спиной голос Сфасчиамонти, но я уже взял ноги в руки и бросился на лестницу прямо перед нами. Лестница вела вверх на внешнюю сторону купола и заканчивалась небольшим проходом. Говорить больше времени не было. За мной последовали Бюва и Сфасчиамонти, да и изумленные стражники, приведенные в ярость, тоже не отставали. – Клоридия, любимая, – шепнул я сдавленным голосом, – надеюсь, ты мне простишь, когда я тебе расскажу обо всем.
Проблема заключалась в том, что мы не знали, где тут что находится, но у нас было и преимущество: мы действовали внезапно и успели создать между нами и противником довольно большую дистанцию. Поначалу мой небольшой рост казался мне недостатком, но вскоре я понял, что в данной ситуации это скорее преимущество. Я бежал очень быстро и скоро начал задыхаться. В душе у меня теплилась надежда, пусть и легкомысленная: я думал, что, в общем-то, все это не опасно, ведь самое плохое, что могло произойти со мной, – если меня арестуют стражники собора. Но если поймают, я смогу списать все на безумие юности, ведь я ничего не украл, ничего не разбил. Под суд меня не отдадут, Сфасчиамонти сможет воспользоваться своими обширными связями, а Бюва, если что, обратится к Атто. У Атто был доступ к людям самого разного положения, и он сумел бы найти способ вытащить меня из неприятностей. Я перебирал в уме эти тысячи возможностей, стараясь отогнать трусость. Добежав до барабана купола, я увидел новую винтовую лестницу наверх. Я слышал поспешные шаги Сфасчиамонти, который уже догонял меня. За ним бежали Бюва и наши преследователи. Все молчали – нужно было экономить воздух в легких: нам – для бегства наверх, стражникам – для преследования. В конце лестницы я обнаружил развилку и, решив бежать наугад, свернул налево. Перепрыгнув через порог без двери, я очутился над пропастью.
Я находился внутри купола, и прямо передо мной простиралась бездна чудовищной ширины и глубины. Справа и слева от меня начинался карниз, проходивший по кругу основания барабана купола. Именно отсюда открывался головокружительный вид на саму базилику. У моих ног лежал главный неф собора Святого Петра, как раз в том месте, где он пересекает трансепт. Я знал, что в этой самой точке, но намного ниже, возвышался грандиозный балдахин алтаря, созданный Бернини. Он принес славу базилике и был гордостью всего христианского мира. Надо мной высился свод купола – одна бездна над другой. Я чувствовал себя песчинкой, затерявшейся в бесконечности Вселенной. На стенах большого барабана купола на уровне моих глаз были видны колоссальные мозаики с изображениями ангелов. Каждый ангел был высотой в пять человеческих ростов и сидел на своем роге изобилия. Один рог изобилия был больше двух экипажей. Конечно же, я мог только подозревать обо всем этом великолепии, ведь моя рука с факелами почти не освещала внутренность собора, эту пропасть невероятных размеров. Я слышал лишь эхо собственных шагов, их рваный отчаянный ритм. Вход, через который я вошел сюда и увидел эту пропасть, вселившую в мое сердце ужас, был лишь одним из четырех входов на округлый карниз. Они были расположены по сторонам света, один против другого. Направо или налево? Налево и снова налево. Внезапно я увидел дверь и толкнул ее. Она была не заперта. Шаги за моей спиной приближались. И снова налево. Я ударился носом о ручку двери, дверь была закрыта. Стало совсем темно, ведь здесь не было лунного света. Снова налево. Лестница. Ступени. Они ведут прямо наверх. Там снова полукруг. Он широкий. Слева свет. Слабый, едва заметный. Окно наружу. Я бросил поспешный взгляд на мирные крыши базилики которые ничего не знали о моей чудовищной спешке. Лестница вела наверх, а затем я побежал прямо. На бегу я во второй раз ударился головой: передо мной была еще одна винтовая лестница. Прям наверх. Лестница казалась необычайно узкой, но я поспешно начал по ней карабкаться. Очевидно, у остальных тоже возникли какие то трудности, так как я услышал вскрик. Скорее всего, им было нелегко идти, потому что теперь мои преследователи немного отстали. Но где же я? Я молился, чтобы подсчеты меня не обманули И все же мне нужно было не только добраться до пункта назначения, но и уйти потом от погони. Я не был уверен, что это удастся Атто рассказал мне все очень подробно. К счастью, в библиотеке на вилле Спада он нашел то, что требовалось, и мы провели ночные часы до моего выезда за подготовкой. Аббат вооружил меня как мог, и моим оружием была книга «Il Tempio Vatlcano e sua Origine» ученого Карло Фонтаны. Эта богато иллюстрированная книга, напечатанная шесть лет назад в Риме, содержала таблицы и чертежи, горизонтальную, вертикальную и поперечную проекции базилики, а кроме того, самое интересное, – чертежи купола. За несколько часов я выучил наизусть графические изображения, дававшие представление о том, как размещены и оснащены внутренние проходы в этой самой высокой части храма. Конечно, моя память могла давать сбои, но пока что я шел правильно. Лестница снова пошла по кругу. Странно, но обе стены, как внешняя, так и внутренняя, были сильно – искривлены, и пройти было очень трудно. Я подумал: как же здесь пройдет Сфасчиамонти? Воздух был тяжелым, спертым. Я едва мог дышать. Через окно проникал скудный свет и оттуда шел прохладный воздух, но у меня не было времени остановиться и передохнуть. Только сейчас я понял, что двигался по коридору между двумя уровнями купола. Лестницу построили между внешней и внутренней стеной – той, что была видна изнутри собора. Я чувствовал ужас, оттого что иду по лестнице, висящей в воздухе над такой пропастью, но этот ужас вскоре прошел: лестница перешла в горизонтальную поверхность, и снизу я услышал крики. – Сфасчиамонти, Бюва, где вы? – воскликнул я. В ответ мне послышались лишь приглушенные голоса и звуки. у меня немного дрожали ноги, и не только от усталости. Я попытался идти быстрее, но поскользнулся и пролетел пару ступенек вниз – тяжкое испытание для моих ног, моих костей. И все же я ничего не повредил и, встав, вернулся в горизонтальный проход. Сколько я шел по нему, даже не знаю. Не было ни лестницы, ни выхода, ничего. И вдруг я почувствовал, что передо мной, в двух-трех шагах, чего-то не хватало. Не хватало твердой поверхности. Я остановился, потеряв равновесие, и ухватился правой рукой за внутреннюю стену. И тут я его нащупал. Это был каменный выступ, невероятно высокий. Он доходил мне почти до шеи. Вытянув руку, я ощупал этот выступ и понял, что над ним есть еще один, и еще. Именно так я себе это и представлял, так что у меня снова зародилась надежда: путь вел наверх. Это была одна из четырех лестнице огромными ступенями. Каждая лестница выходила на определенную сторону света. Четыре лестницы вели на верхушку купола, приводя в пустое пространство между его внутренней и внешней сторонами. Я продолжил подъем и с радостью понял, что благодаря маленькому росту и небольшому весу я могу двигаться быстрее. Сперва высота ступеней превышала их ширину. Затем, по мере приближения к верхушке купола, пропорции начали становиться нормальными. Оставались еще три ступени, две, одна… Я устал до смерти, но все еще мог держаться на ногах. Я забирался на эти горизонтальные поверхности, а сверху на меня попадал скудный свет, а может быть, это была тьма, но тьма снаружи казалась светлее, чем тьма здесь. Я провел рукой справа, слева, ощупал все вокруг и обнаружил сначала стену, а затем и отверстие в ней. Я наткнулся на что-то ногой, скорее всего на еще одну ступень, и схватился за поручень. Я уже не знал, куда иду, но через мгновение достиг своей цели и почувствовал на коже дуновение свежего ветерка. Надо мной было небо, и я понял, что выбрался наружу. Я стоял на округлом карнизе вдоль внешней части купола. Внутреннюю сторону карниза делили двойные колонны, сквозь которые можно было пройти, а с внешней стороны проход вел вниз – для стока дождевой воды, а посетителям, конечно же казалось, что воду затягивают какие-то мистические силы. Единственной защитой был парапет. Опершись на него, можно был любоваться великолепным видом ночного Рима, столь мирно простиравшегося подо мной, но стоило сделать хоть шаг за парапет – и меня ждала смерть. – Супруга моя возлюбленная, вот об этом я тебе точно не расскажу, – прошептал я, застыв от страха и возбуждения. Я снова услышал шаги охранников. Кто бы за мной ни гнался он находился уже недалеко. Мне требовалось всего несколько секунд. Я стал искать. Она должна была быть здесь, ведь так было написано в книге, которую мне дал Атто. Полукруг прохода. Темные железные решетки, две дверные петли. Вот она. Крошечная дверь. Казалось, ее выцарапали в твердом камне купола ногтями. Я снял пропитавшуюся потом рубашку и вытащил из брюк связку ключей, которую взял у Угонио. Я стал искать нужный ключ. Большой. Немного поменьше. Еще один, правильной формы. Секунды проходили, и меня вот-вот должны были догнать. Наконец я вставил ключ в замок. Мои поиски были напрасными – замок оказался не заперт! Дверь легко открылась, но мне некогда было злиться. Двумя прыжками я забрался наверх. Через люк снова выбрался на крестообразный карниз, похожий на предыдущие, хотя этот и был намного меньше. Я стал карабкаться наверх, цепляясь за каменные выступы в виде грибов. Этот подъем был еще круче. Будь у меня время, я порадовался бы тем крупинкам света, которые звезды разбросали по черному небосводу. Я стоял бы там и представлял себе, что могу дотронуться до них кончиками пальцев. В центре верхнего прохода, напоминавшего круг, находилось сооружение полукруглой формы. Я сразу же обежал его, но двери не было. Уже совсем было отчаявшись, я все же вспомнил, что проход туда есть, и тут же увидел его. Это было что-то вроде низкого окошка, от основания сооружения до моего живота. Нагнувшись, я проскользнул внутрь в тот самый момент, когда услышал шаги в нижнем проходе. Удивительно, но внутри полукруглого сооружения было не так уж темно: через окошко туда, проникал мерцающий свет. Кроме того, над моей головой виднелись отблески света. Приставная лестница вела наверх, к моей цели: к бронзовому шару, венчавшему собор Святого Петра, прямо под огромным крестом, самой высокой точкой базилики.
Прижавшись к перекладине лестницы, я подтянулся, упираясь ногами в стены, чтобы удержаться. Чем выше я лез, тем светлее становилось. Говорят, что в шаре на соборе Святого Петра могут поместиться шестнадцать человек, если они правильно распределятся в помещении. Мне подумалось, что сколько бы ни было моих преследователей, мне не хочется проверять правильность этого утверждения. Наконец я засунул в шар голову, затем плечи и сумел опереться локтями на бронзовое закругление. Только сейчас я понял, что не один.
* * *
Прислонившись к задней части закругленной стены шара, здесь стоял Сфасчиамонти. Он вспотел, как вьючное животное, и от быстрого бега не мог дышать. Сбир успел дойти сюда раньше меня, может быть, потому, что шел по одной из трех оставшихся лестнице огромными ступеньками. В конце концов, все они вели в полое пространство шара. В одной руке он держал книгу – трактат Атто Мелани о тайнах конклава. В другой руке у него был пистолет. В центре круглого пространства, где мы с ним находились, прямо возле отверстия, через которое можно было войти или выйти, стоял табурет. Должно быть, книга лежала там Сфасчиамонти оказался проворнее меня и забрал книгу себе. Удивительно, но уже через мгновение он протянул ее мне: – Положи к себе в брюки, они уже идут! Я услышал какие-то звуки внизу. Сфасчиамонти положил палец на курок. Казалось, у нас не было никакого выхода. – Мы не можем стрелять, мы ведь в церкви… Кроме того, они нас арестуют, – сказал я с одышкой. – Как бы то ни было, мы над церковью, – ухмыльнулся стражник. Пытаться вылезти из шара и бежать было бесполезно: кто-то уже зашел в помещение и поднимался наверх. Мы со Сфасчиамонти переглянулись, не зная, что делать. И в этот момент наши глаза ослепило сияние, поразившее нас как удар кнута, от которого мы в изумлении вздрогнули.Внезапно я понял, почему, поднимаясь сначала в помещение собора, а потом в купол, я замечал рассеянный свет, становившийся все интенсивнее. Много лет назад я был знаком с одним старым мясником, чей сын был санпьетрино. Он рассказывал мне, что происходило в это мгновение. В шаре, где мы находились, было четыре отверстия на уровне человеческих глаз, расположенные по четырем сторонам света. И вот теперь через выходящее на восток отверстие солнце протянуло свои яркие лучи и залило все праздничным светом. Занимался новый день.
15 июля лета Господня 1700, день девятый
Словно следуя знаку судьбы, солнечный луч упал на книгу Атто, и его сияние рассыпалось на тысячи мерцающих ручейков света. Равнодушный к этому великолепию, Сфасчиамонти начал целиться пистолетом вниз. – Стоять, или я стреляю! Я стражник губернатора! – закричал он. А затем, по крайней мере мне так показалось, он споткнулся о табурет, и тот с грохотом полетел в люк, через который я попал в шар. Может быть, сбир тоже туда упал. А может быть, он и меня за собой потянул, пытаясь удержаться на ногах. Времени сообразить, что к чему, у меня не было. Из света я обрушился во тьму, шар, как и весь мир вокруг, закружился, и я мгновенно потерял сознание. Они несли меня прочь, словно мешок с отдельными частями тела, а я искал глазами священную вершину, чтобы напоследок впитать в себя величие этого благословенного Богом орлиного гнезда. Я висел головой вниз, но благодаря поразительному механизму сознания, который позволяет некоторым людям понимать из соотношений букв анаграммы, я осознал, прежде чем успел потерять сознание: гордый и загадочный, за нами наблюдал «Корабль», вставший на якорь возле Джианиколо.* * *
– За каждой странной и необъяснимой смертью кроется государственный заговор, заговор тайных сил, – услышал я пафосные слова аббата Мелани. У меня болела голова. У меня болело горло. Собственно говоря, у меня вообще все болело. – Например, люди исчезали, их похищали, или они становились жертвами невероятных несчастных случаев, а затем чудесным образом появлялись из ниоткуда, живые и здоровые. Явный знак злодейских козней. Никому не удается спастись от смерти, если ему не окажет помощь кто-то, кто привык это делать. Голос Атто парил в бесконечной кристальной пустоте. Я по-прежнему не открывал глаз – почему-то мне это казалось излишним. На меня нахлынули воспоминания: ощущения собственного тела в тот момент, когда его опустили на тележку и куда-то повезли; рассветный холод; а затем теплая, знакомая комната.Прошло еще несколько часов (или это были минуты?), прежде чем меня разбудил стук – звук открывшейся и закрывшейся двери и шаги по коридору. Наконец-то мои веки решили, что им пора подняться. Я лежал одетым на кровати аббата Мелани в дачном домике виллы Спада. Атто сидел рядом со мной на стуле, уйдя в свои раздумья. Он не заметил, что я проснулся. Лишь через пару минут он оторвал взгляд от воображаемой точки, куда смотрел, и обратил внимание на меня. – Приветствую тебя в царствии живых, – сказал он с улыбкой иронии и удовлетворения. – Твоя жена очень беспокоилась и не спала всю ночь: хотя уже наступил рассвет, я сразу же дал ей знать, что ты вернулся здоровым и невредимым. – А где Сфасчиамонти? – испуганно спросил я. – У себя в постели. – А Бюва? – В своей комнате. Он тоже спит. – Не понимаю, – сказал я, впервые выпрямившись. – Почему нас не арестовали? – Судя по тому, что рассказал мне наш друг сбир, вам очень повезло. Сфасчиамонти упал на санпьетрино, преследовавшего вас до шара. Падая, он потянул тебя за собой. Сфасчиамонти обезоружил санпьетрино и, ударив его пару раз, вывел из строя. После этого он подхватил тебя на плечо и понес. Наверное, это не составило ему труда, при его-то силе. Внизу его никто не заметил. Солнце только взошло, и на улицах не было ни души. Вероятно,» патрулировавшие территорию охранники побежали за Бюва. – За Бюва? – Да, конечно. Он бросился бежать, как только вас принялись преследовать тогда, на террасе. – Что? – изумленно воскликнул я. – А я думал, он побежал за нами и поднимался до самого… – Он принял гениальное решение: вместо того чтобы следовать за тобой, когда ты бежал по ступеням к шару, свернул с дороги и бросился вниз по лестнице. Один из тех санпьетрини, что охотились за вами, стал его преследовать, маленький такой… о, прошу прощения, – извинился аббат за намек на мой рост. – У Бюва длинные ноги, и он заставил его попотеть. Он выбежал из собора Святого Петра со скоростью молнии, да так, что никто даже лица его не увидел. Обогнав их всех, он, однако, заблудился на пути от собора Святого Петра до этого места и явился лишь незадолго до вас. Я был ошеломлен. Все это время я не сомневался, что при опасном подъеме к шару на соборе Святого Петра у меня было два спутника. Оказывается, один из них позорным образом сбежал, а второй в решающий момент споткнулся об меня. – Я знаю, как ты старался. У тебя все получилось. – А ваш манускрипт, трактат о тайнах конклава! – вскричал я. – Сфасчиамонти вам его передал? Лицо Атто выразило легкое огорчение. – Он не смог этого сделать. Когда он тебя нес, книга выскользнула из твоего кармана и упала вниз. Если я все правильно понял, книга попала на террасу, то есть достаточно далеко, и он не мог решиться пойти туда. Ему пришлось выбирать: спасать тебя или мои трактат. Конечно, он не мог поступить иначе. Я этого не понимаю… Все шло хорошо, а потом… какое-то безумие, – изумленно пробормотал я. – А почему он отнес меня сюда, а не домой? Это очень просто; он не знает, где ты живешь. Я по-прежнему чувствовал себя несколько сбитым с толку. Потребуется время, чтобы вихрь недоумения и разочарования улегся на дно моей души и я полностью пришел в себя. Наша решимость, старания, страх… все было напрасным. Мы потеряли книгу Атто. Внезапно я кое-что вспомнил. – Синьор Атто, пока я спал, я слышал, как вы что-то говорили. – Возможно, я рассуждал вслух. – Вы говорили что-то о необъяснимых смертях, заговоре или о чем-то в этом роде. – Правда? Я не помню. А теперь отдохни немного, мальчик мой, если тебе это будет угодно, – сказал он и встал. – Вы хотите пойти в город, чтобы вместе с другими гостями осмотреть дворец Спады? – Нет. – Вы не хотите идти? – удивился я. Мне подумалось, что Атто, скорее всего, боится встретиться с Албани, ведь, возможно, какой-то санпьетрино уже забрал книгу Атто по приказу Забаглии и прямо в этот момент передавал ее черретанам, которые отнесут книгу великому легату, то есть Ламбергу. А Ламберг уже отдаст книгу секретарю Бревена. – Сейчас неподходящий момент, – ответил Атто. – Мне бы хотелось полюбоваться великолепием дворца Спады при дневном свете, но у нас есть дела поважнее.
* * *
Погода немного ухудшилась. Резкий теплый порыв ветра ударил нам в лицо. Мы поднимались по винтовой лестнице на палубу «Корабля». Приготовления к нападению потребовали довольно много времени. Перебрав все возможности, мы выбрали только самое необходимое: пистолет аббата, длинный кинжал, который я спрятал у себя в штанах, и, наконец, сеть, такую же, какой гости пользовались три дня назад во время охоты. Так мы могли удерживать противника на расстоянии, поранить его при возможном (несомненно, ужасном) столкновении или опутать сетью грубых веревок. Мы расположились перед дверью домика, но ноги у нас подгибались от волнения. Переглядываясь, мы пытались приободрить друг друга. Атто, шедший первым, взялся за ручку входной двери и повернул ее. Внутри царила полутьма и было тихо. Мы прождали почти минуту, ничего не говоря и не шевелясь. – Я пойду вперед, – наконец проговорил Мелани, взялся за пистолет и проверил, готов ли тот к выстрелу. Я кивнул, схватившись за кинжал и поправив сеть на левом плече, готовый бросить ее при первой же возможности. Атто зашел внутрь.Едва переступив порог, он прислонился спиной к левой створке двери, чтобы уменьшить зону нападения. Жестом он приказал мне идти вперед, и я повиновался. Так я еще раз оказался в этой норе чудовища, прижавшись к дрожащему Атто. Несмотря на почтенный возраст, уже не столь ловкие движения и не такие зоркие глаза, Атто, тем не менее, не утратил львиного мужества, ведь он вел себя как первый мушкетер короля всех христиан (и, очевидно, чувствовал себя именно так). Свет, и без того приглушенный копотью на окнах, был в этот раз еще слабее, из-за облаков, затянувших небо. В центре домика, насколько я помню, находились две колонны. Если оно и было здесь, то, должно быть, хорошо спряталось. Я вздрогнул от боли: чтобы привлечь мое внимание, Атто толкнул меня локтем под ребра и притопнул ногой. И тут я увидел его. В противоположном углу домика, за двумя колоннами у правого окна, у стены что-то шевельнулось. Что-то, напоминавшее руку, но чудовищно деформированное, покрытое чешуйчатой змеиной кожей. Оно отреагировало на притопывание Атто. Чудовище было там. Из-за колонн мне было плохо видно, нам нужно было пройти подальше вперед, чтобы понять, как пошевельнулся этот монстр и как, черт побери, ему удалось так замаскироваться у стены. – Стой. Ничего не делай, – неслышно прошептал мне Мелани. Минуту, а может, и две, мы оставались совершенно неподвижными. Рука тетракиона не двигалась, как и его чудовищная ладонь. Дверь была открыта. И мы, и чудовище могли сбежать, но ни одна из сторон не решалась на этот шаг. Воздух в домике был влажным от проникавшей через крышу воды и слоев селитры, покрывавшей стены крошечной комнаты. Он становился еще тяжелее и удушливее от нашего дыхания, от мраморной тишины, скрывавшей все, и столь материального, столь ощутимого страха. Пока все это происходило (на самом деле не происходило ничего, кроме безумного биения наших сердец), внутри меня разразилась другая битва – битва против себя самого. Я сдерживался изо всех сил, но понял, что, несмотря на серьезность положения, рано или поздно придется сдаться. Нельзя было этого делать, но я не мог справиться с собой. В конце концов я не выдержал. Мне нужно было почесать нос, чтобы предотвратить худшее – чихание. Я так и сделал. Ни на одном из человеческих языков невозможно передать ощущение глубочайшего ужаса, обуявшего меня, когда я увидел, как рука чудовища совершенно синхронно со мной поднялась и приблизилась к своему кошмарному, хоть и скрытому за колоннами лицу. Меня охватило мучительное сомнение. – Вы это видели? – шепнул я Атто. – Оно шевельнулось, – обеспокоенно ответил он. Теперь яхотел предпринять вторую попытку. Я поднял ту же руку и пошевелил пальцами. Затем ритмично подвигал ногой взад-вперед. Под изумленным взглядом Атто Мелани я наконец-то двинулся вперед и подошел к двум колоннам, чтобы освободить свой взгляд как от материальных, так и от духовных преград и познать тайну, столь жестоко опутавшую наши души цепями.
* * *
– Это просто безумие. Мальчик, я запрещаю тебе рассказывать эту историю кому бы то ни было! – воскликнул Атто, не отводя взгляда от зеркала. – Я имею в виду, до тех пор пока мы не проясним все загадки, – исправился он, стараясь скрыть истинную причину своего приказа – стыд. Он еще раз прикоснулся к волнистой поверхности кривого зеркала, с изумлением наблюдая, как пальцы, запястья, фаланги и ладонь раздувались или сжимались, а то и искривлялись в невероятных направлениях. – Я видел нечто подобное во Франкфурте очень давно, когда кардинал Мазарини послал меня на тайные переговоры. Но у того зеркала не было такого… кошмарного действия, как у этого. Мы видели не тетракион, как нам казалось ранее. Бенедетти, остроумный и гениальный создатель «Корабля», оборудовал стены этого домика кривыми зеркалами, чтобы повеселить гостей. В темной, страшной атмосфере маленькой комнаты кривые зеркала превращали отражения людей в страшные чудовища. Когда я чесал нос, то заметил, что пугающий меня тетракион слишком уж точно повторил мой жест, да и все остальные мелкие движения воспроизводились монстром без малейших искажений. Это могло быть лишь мое отражение, искаженное кривизной зеркала. Находясь под впечатлением от рисунка чаши Капитор, голоса Альбикастро, долетавшего до нас необъяснимым образом, и рассказов Атто о безумной Капитор, мы поверили, что видим тетракиона, когда впервые вошли в этот домик и узрели противоестественное существо с четырьмя ногами и двумя головами (на самом деле это были наши с Атто отражения, просто мы стояли слишком близко друг к другу). Нас окружали кривые зеркала. Я услышал, как Атто повторил:* * *
Естественно, мы его не нашли. Альбикастро был из тех людей, кто появляются неожиданно («Чтобы мешать окружающим», – добавил Атто) и исчезают, когда их ищешь. Атто настаивал на том, чтобы осмотреть все помещения и склады, но вскоре стало ясно, что на всем «Корабле» нет и следа голландца. – Боишься того, чего не понимаешь, – процитировал я, напомнив аббату о его философских поучениях, которые мне пришлось выслушивать два дня назад в колоннаде Борронини, когда я принял щенка за колосса. – Попридержи свой язык. Будем возвращаться на виллу Спада, – буркнул он, нахмурившись.Мы отправились домой в полном молчании. Все тайны, с которыми мы столкнулись, все тайны, приводившие в дрожь аббата Мелани или меня (или нас обоих), наконец-то раскрылись. «Летучий голландец» на самом деле передвигался по карнизу, скрытому от наших взоров; цветы в мифическом саду Адониса были обычными растениями, такими как чеснок или панацея, излечивающая куриную слепоту; галерея на «Корабле», которая, как нам показалось, тянулась до ватиканского холма, представляла собой лишь оптическую иллюзию, созданную умелым расположением зеркал; адское пламя и лица призраков в подземелье Угонио у терм Агриппины были всего-навсего плодом нашего взбудораженного воображения; Устрашающий гигант во дворце Спады, который был готов растоптать меня, оказался щенком, выглядевшим огромным в результате оптического обмана; и наконец, чудовище тетракион было просто-напросто нашим отражением в кривом зеркале. Только одно мы пока не могли объяснить – как Мария, Людовик и Фуке появились в парке «Корабля». Аббат выдвинул теорию испарения веществ, которые вызывали у нас галлюцинации, но вот только кое-что он упустил из виду: в отличие от всех других происшествий, именно здесь мы не могли найти никаких конкретных решений. Пока я раздумывал над этим, аббат Мелани продолжал молчать. Кто знает, может быть, его заботят те же самые вопросы подумал я и украдкой бросил на него взгляд.
Моим рассуждениям было суждено резко прерваться, поскольку я увидел, что Мелани побледнел. Кровь просто-таки полностью отлила от его лица, и оно стало белее раскаленного свинца. Тем временем мы подобрались к воротам виллы Спада. Атто замер глядя куда-то в одну точку. Окутанные ароматом, который источали цветочные грядки, у ворот взад-вперед бегали пажи, носильщики и секретари, царила чудовищная неразбериха: на повозки, готовые к отъезду, ставили сундуки, корзины с продовольствием. Кардиналы и кавалеры тепло прощались с хозяевами и гостями, договариваясь о встрече на церемонии доктората в университете Ла-Сапиенца, в консистории или на поминальной службе. Я не знал, что могло так изменить настроение аббата Мелани, но тут увидел одного из сбиров Сфасчиамонти, который указывал на нас какому-то незнакомцу. Сердце чуть не выскочило у меня из груди. Перед моими глазами уже возник священнослужитель собора Святого Петра, обвинявший нас в незаконном вторжении в базилику. Я видел, как меня арестовывают, приводят в суд и приговаривают к двадцати годам заключения. Я в ужасе взглянул на Атто. О побеге не стоило и думать: все на вилле Спада знали, где я живу. Незнакомец выглядел усталым и возбужденным. Он поспешно подошел к нам. – Срочное сообщение для аббата Мелани. – Он перед вами, говорите, – с облегчением сказал я, так как аббат промолчал. Лицо Атто было напряженным, взгляд застыл, словно он знал и боялся того сообщения, которое должен был передать ему этот человек. – Коннетабль, мадам коннетабль Колонна. Ее карета находится неподалеку отсюда. Она просит, чтобы вы никуда не удалялись. Через час вы должны встретиться. Я как завороженный следил за реакцией Атто, ждал, что слова придут из глубины его души, ждал проявления его истинных чувств. Но аббат Мелани не открыл рта. Он даже не ускорил шага. Казалось, он, наоборот, стал медлительнее, неуклюжее. Молча мы пошли в его комнату. Там он снял парик, медленно провел рукой по голове и, совершенно обессилев, опустился на стул перед туалетным столиком. Атто начал насвистывать какую-то незнакомую мне мелодию. Неуверенный фальшивый свист застревал в его горле, а он печально смотрел в зеркало на свою голую, почти лысую старческую голову. – Это мотив из «Ballet des plaisirs»[1362] маэстро Лулли, – произнес он, внимательно присматриваясь к своему лицу. Затем он поднялся и накинул халат. У меня от удивления приоткрылся рот: гонец только что сообщил о визите мадам коннетабль, и Атто не собирался переодеваться? Возможно, Мелани больше не верил в ее приезд? В чем-то он, конечно, был прав – слишком много раз он ждал ее напрасно, но ведь теперь сомнений быть не могло: Мария уже почти у ворот виллы Спада, и преград возникнуть не могло. Несомненно, неясным оставалось, почему она приехала сейчас, когда праздник закончился. Возможно, она хотела с опозданием поздравить кардинала Спаду и извиниться за свое отсутствие. – Все при дворе были изумлены, когда король несколько месяцев назад внезапно начал насвистывать эту мелодию. Он пел эту арию вместе с Марией целое лето во время их любовных прогулок. Это удивляло всех, только не меня. Я все понял. На самом деле я точно знал, почему приехала Мария Манчини. Так она выполняла желание «короля-солнце». Она сама писала об этом Атто. Мария приехала, чтобы услышать от аббата историю о том, как король умолял ее о встрече, уговаривая вернуться во Францию. Атто должен был вспомнить ту мелодию, если хотел тронуть ее сердце и переубедить окончательно. Для этого ему нужно было освежить свою память, ведь он должен был вспомнить взгляды, жесты, слова короля, о которых Мария ничего не знала. Он должен был показать Людовика Марии таким, чтобы его образ возник у нее перед глазами, возник в самом сердце. Он должен был сделать это любой ценой. – После той истории с отравлением, когда королю казалось что весь мир вокруг него рушится, его величество все чаще через своих министров просил меня об услугах, – начал рассказывать Мелани. – И во всех этих, казалось бы, формальных просьбах все чаще и чаще звучало имя мадам коннетабль Колонны: как у нее дела, что она делает и т. д. В голосе его звучала горечь. Он рассказал, что Мария уже давно в Испании. Ее преследовал супруг, коннетабль Колонна которого она бросила во время побега из Рима, и бедняжке ничего не оставалось, кроме как скитаться по разным монастырям – Конечно, все эти годы я передавал его величеству королю новости о ней. Я затаил дыхание: наконец-то Мелани признался, что был посредником между королем и Марией. Наверное, он собирался рассказать мне всю правду, которую я, впрочем, уже выяснил. – Но однажды, – продолжал Атто, – когда королю наконец пришлось признать свое поражение в истории с отравлением, которая оказалась забыта, у его величества все отчетливее стал появляться тик при упоминании имени Колонны. Колонна. Это имя, как сказал мне аббат, мучило Людовика XIV больше всего. Имя Мария принадлежало ей, но вот имя Колонна символизировало пропасть, которая разделяла их. Оно свидетельствовало о том, что Мария принадлежала другому мужчине, о том, что трое ее детей в то же время были детьми коннетабля Лоренцо Онофрио Колонны. Это имя больно ранило короля, обжигая и его тело, и его душу. – Его мучило жестокое осознание того, что Мария так и не сумела забыть своего супруга. Она сбежала от него, но все же их связывала сильная чувственная страсть, а я не забыл сообщить об этом королю, – произнес Атто. Всю жизнь он был вынужден наблюдать за этой страстью лишь как зритель, прижавшись носом к решетке, отделявши его несчастливый род от мужчин и женщин. – Синьор Атто, но вы ничего не сказали мне о коннетабле Колонне, бывшем супруге Марии. – Да нечего о нем рассказывать, – раздраженно отрезал Атто. Я улыбнулся про себя. Атто, как и королю, не нравилось говорить о том человеке, кто пусть и не владел сердцем его драгоценной Марии, но все же мог обладать ее великолепным телом и зачинать с ней детей. Конечно же, до меня и без того доходили старые-престарые слухи о том, почему распался полный страсти брак коннетабля Колонны и его неукротимой супруги. – А вы не опасались гнева короля, когда рассказывали ему то, что могло его обидеть? – Я ведь уже рассказывал тебе in extenso,[1363] как Людовик прожил двадцать лет после свадьбы с Марией Терезией. Его сердце погрузилось в глубокий беспробудный сон. Я бросал в его сердце камни света, рассыпавшиеся сияющими осколками кристаллов, которые затем соединялись в кинжал – кинжал ревности, способный сразить апатию короля и пронзить его, пусть и на краткое мгновение, слепяще-ясным воспоминанием о Марии. Это воспоминание сияло для него ярче, чем красота всех драгоценностей и бархата, которыми он одарял своих любовниц, чем блеск всех невероятных фейерверков, устраиваемых во время праздников, театральных выступлений и балетов, пьянило его сильнее всех гениальных оркестров. Эти мечты были слишком скоротечны, чтобы у короля появилось время обдумать их. Они сразу же тонули в блистательном шуме двора, но все же они оставались в нем, спрятавшись в потаенных уголках его души чтобы нашептывать королю в ночном преддверье сна о том что Мария жива. Служение, в которое превратил аббат Мелани свою невообразимую любовь к Марии Манчини, тронуло меня до глубины Души. Двадцать лет он в полном одиночестве, окружив себя тайной, заботился о том, чтобы не порвалась серебряная нить связывающая эти два разбитых сердца. Кто знает, подумал я, может быть, сейчас аббат предложит мне выполнять его обязанности посредника между двумя влюбленными. Но аббат молчал, погрузившись в свои воспоминания. Через некоторое время Атто вытащил из кармана богато украшенную золотом и серебром шкатулку в форме жемчужницы, взял оттуда несколько лимонных шариков и бросил их в кувшин с водой чтобы приготовить освежающий напиток. Когда шарики растворились, Атто начал пить из кувшина и никак не мог остановиться. – Эти шарики из лимонных корочек просто великолепны, – вздохнул он, отирая губы. – Маршал Сальвиати регулярно мне их дарит. Красивая шкатулка, правда? Моя ракушка… – добавил он, любуясь коробочкой, на которую я уже обратил внимание. – Ее привезли из заморских колоний. Очень изящная, не так ли? Мария подарила мне ее на память… пару лет назад. В голосе аббата прозвучала нотка умиления. В дверь постучали. Это был паж, который поинтересовался, не нужно ли чего аббату. – Да, спасибо, – ответил Атто, немного откашлявшись. – Принеси мне поесть. А ты чего-нибудь хочешь, мальчик мой? Я с радостью принял его предложение, так как в животе у меня урчало от голода – время обеда давно прошло. – Ты только представь, ведь Франция, да и вся Европа, могли быть совсем иными, – продолжал рассуждать Атто, – если бы Мария Манчини стала королевой Франции и они с Людовиком правили бы вместе. Нападение на Голландию и немецкие княжества, жестокое разрушение Пфальца, голод и нищета, возникшие во Франции из-за этих войн… кто знает, чего еще нам удалось бы избежать? – Что ж, если бы все пошло так, как вы хотите, Франция не могла бы претендовать на Испанское наследство. – Я не мог удержаться от того, чтобы не спровоцировать Атто и, очевидно, задел его больное место. – Никакого противоречия здесь нет, – вскинулся он. Прошлое уже в прошлом, и его течение может изменить лишь наше воображение, как это произошло на «Корабле». Можно только предпринять все, чтобы это не было напрасным. – Что вы имеете в виду? – Если разлука его величества с Марией Манчини принесет роду Бурбонов испанский трон, – назидательно сказал Атто, подняв указательный палец, – то страдания обоих, которые начались еще сорок лет назад, превратятся в великую жертву во имя королевского дома Франции и во имя славы Господа Бога нашего от чьего имени присно и вовеки веков правят короли. Поначалу мне было очень трудно следить за ходом его запутанных рассуждений, но кое-что я все-таки понял. Атто впервые со времени своего приезда на виллу Спада заговорил со мной о наследнике трона-Испании. – Тогда их разлука окажется не напрасной, – добавил он. Войну за трон Голландии, по словам Мелани, Людовик XIV мог бы вести только в том случае, если бы он был истинным супругом Марии Терезии, ведь в этой войне он требовал от испанцев часть наследства своей жены. – Короче говоря, как бы то ни было, Людовик XIV решительно настроен исправить, пусть и силой, ту несправедливость, которая была допущена в отношении него. Все то горе, которое довелось испытать сперва ему, а затем всем остальным… но ведь мы с тобой уже говорили об этом, помнишь? – спросил меня аббат. – Да. Если судить по тому, что вы рассказывали, месть короля всегда реализовывалась в войнах и вымещалась на женщинах, – подытожил я. – Королева и соображения государственной важности. Именно это привело тогда к его разлуке с Марией Манчини.
Голос Атто срывался. Он рассказал мне, что именно поэтому Людовик XIV никогда не останавливался перед тем, чтобы причинять боль женщинам. А еще больше ему нравилось, когда из любовной интриги можно было извлечь политическую выгоду, как в случае с княгиней Лизелоттой Пфальцской или с его невесткой мадам дофин. – Этими двумя женщинами король восхищался. Они не были такими унылыми и хрупкими, как Луиза Лавальер, или такими упрямыми, как Атенаис де Монтеспан. Более того, они были независимыми и отстаивали свои интересы и свои идеалы точно так же как это делал король в своих отношениях с матерью и отчимом. Людовик узнавал себя в этих мужественных и идеалистичных женщинах. Однако тогда он проиграл свою битву и теперь не мог допустить, чтобы эти женщины выиграли свою. Король несчастлив – значит, никто при дворе не может позволить себе роскоши быть счастливым или хотя бы веселым. Король небольшого роста – следовательно, никто не может осмелиться носить каблуки чтобы быть выше короля, как никто не смеет надевать более пышные парики, чем у него. – Король низкого роста? Но вы же говорили мне, что он высокий и красивый… – Да, несомненно. Я сказал тебе то, что говорят все. И что будут говорить всегда. И то, как его будут изображать придворные портретисты. Глядя на его красные каблуки и невероятно высокий парик, я готов оспаривать то мнение, что в Европе не найдется ни одного монарха выше, чем он. Впрочем, я сомневаюсь, что у какого-нибудь художника хватит мужества нарисовать эти каблуки такой высоты, как на самом деле. Его величество король, мальчик мой, – сейчас я раскрою тебе страшную тайну, – по вечерам, когда снимает башмаки и парик, становится не выше тебя. Нам принесли на подносе две пары жареных рябчиков с гарниром из зеленых бобов, артишоков и кислого винограда, а к ним вино и булочки с сезамом. Атто начал с овощей, я же сразу впился зубами в грудку рябчика. Горе тем, кого король слишком долго видит живущими в мире и покое, даже если они живут так только из покорности судьбе. Княгиня Лизелотта Пфальцская (она была родом из Пфальца) не жаловалась на судьбу. Она была молода и знала о том, что некрасива. Лизелотта была второй супругой младшего брата Людовика, Филиппа, и таким образом – немецкой золовкой короля. В отличие от ее предшественницы в этом браке – беспокойной и несчастливой Генриетты Английской, она сумела наладить супружеские отношения со своим странноватым мужем. Он не любил женщин, но она была достаточно мужеподобной, чтобы не отталкивать его. Благодаря чудодейственной помощи святой иконы, которой он коснулся в нужный момент, ему удалось сотворить с Лизелоттой ребенка, дав трону наследника, чего не сумела сделать его первая жена. После этого они делили супружеское ложе, по обоюдному согласию и к обоюдному довольству. Супругов связывала только любовь к детям. Но Лизелотте не пришлось долго наслаждаться своим счастьем. – Злая шутка, которую с ней сыграли более десяти лет назад, – одно из самых жестоких преступлений в истории французской армии, – говорил Атто, теперь уже не используя в своей речи никаких намеков, настолько он был увлечен собственным рассказом. – Этим преступлением стало зверское разграбление ее страны, Пфальца, и замка, в котором она родилась. Это преступление совершалось от ее имени, но без ее согласия. Шедевр дьявольской подлости. Так же, как это произошло с Марией Терезией, якобы претендовавшей на часть своего наследства в Испанских Нидерландах, Людовик XIV от имени своей золовки, но против ее воли предъявил претензии на Пфальц. Лизелотта в отчаянии просила его об аудиенции, но он не принял ее, приказав французским войскам оставлять за собой выжженную землю, Однако речь шла не о селах, как это раньше делалось во время войны, а о городах. И так вместо пары сожженных деревенских хуторов французская армия оставляет за собой целые города, разрушенные до основания: Мангейм и особенно Гейдельберг, где находился роскошный дворец из розового песчаника. – Преступление было настолько неслыханным, что французские офицеры, принимавшие участие в операции, до сих пор, через много лет, стыдятся своих поступков. Только благодаря действиям маршала де Тессе из охваченного пламенем дворца в последний момент удалось спасти картинную галерею с портретами семьи Лизелотты. Впоследствии эту галерею ей подарили, что, возможно, уменьшило ее отчаяние.
И напрасно пытался исповедник нашептывать Людовику в темноте исповедальни такие слова, как «любовь к ближнему своему». Король лишь вскакивал в ярости, восклицая: «Химеры!» – пожимал плечами и резко поворачивался к священнику спиной, не прощаясь. Монарх неотступно следовал по выбранному им пути. Те же муки он причинил другой немке в их семье – мадам дофин, своей невестке. – У нее было все, для того чтобы однажды стать королевой той настоящей королевой, которой так долго не хватало Франции. У нее были талант и все необходимые качества, чтобы нести тяжкую ношу правления. Я и сейчас хорошо помню восхищенные взгляды короля, которые он украдкой бросал на нее во время разговора. Потом король дал ей знать, что лишает ее права получать какую либо информацию об управлении страной, и уже вскоре не постыдился начать войну с Баварией, родиной мадам дофин, со злорадным удовольствием отвергнув все попытки Генриетты уговорить его вступить в переговоры. Ей казалось, что честь ее попрана, и постепенно меланхолия разрушила ее рассудок, как, впрочем, и тело. Всего за несколько дней туловище молодой женщины чудовищно распухло, и она умерла от судорог. – Это было возмездие для королевства, – пожаловался аббат Мелани. – После смерти мадам дофин Франция осталась без женщин, способных управлять страной: нет ни королевы-матери, ни правящей королевы, ни дофина, и виноват в этом в первую очередь сам король. Но, кажется, он даже не сожалеет о содеянном. Женившись на Ментенон, он лишил королевство всех надежд на новую правительницу на троне. Более того, он принудил старшего дофина, своего сына, который также был вдовцом, жениться на своей бывшей любовнице, актрисе, – сказал Атто, уныло вылавливая на тарелке артишок. – Так значит, королеву… устранили! – воскликнул я, откладывая тщательно обглоданный скелет рябчика на поднос и протягивая руку за вторым. – Только старик, которого ты видишь перед собой, знает, почему возникли все эти эксцессы, какие давно прошедшие безутешные дни их породили. Причиной всему стали предрассветные сумерки в Бруаже, когда душу Людовика разорвала чудовищная боль от прощания с Марией. Король заставил себя надеть маску безразличия, и с тех пор так ее никогда и не снимал. Лишь в последние годы, с приближением старости, его величеству все меньше удается скрывать признаки той муки. Исповедник Ментенон, которому она жалуется каждое утро, кое-что знает об этом. – А что знаете вы? – Исповедник рассказывает об этом мне, – ухмыльнулся аббат. – Все знают, что король приходит к Ментенон три раза в день: перед мессой, после обеда и вечером после возвращения с охоты. Но очень немногие знают о том, что в конце каждого дня у короля начинается загадочная истерика, когда он идет пожелать спокойной ночи своей супруге. Сперва он становится грустным, затем краснеет от ярости и, наконец, принимается плакать. В такие моменты он просто неспособен взять себя в руки, иногда его даже тошнит. Причем в этот момент супруги не обмениваются ни словом. – Но ведь мадам Ментенон должна была выяснить, что его так беспокоит! – Нет, в этом-то и ее горе: «Я никогда не могу заставить его говорить!» – восклицает она, когда чаша ее терпения переполняется. Для Ментенон король – словно сфинкс. По этой причине, – продолжал Мелани, – его необъяснимое поведение по вечерам вызывает у супруги злобу и даже отвращение. Видите ли, королю нравится, чтобы за его сентиментальными слезными излияниями следовали иные, намного более вульгарной природы. Учитывая его возраст, Ментенон считает это отвратительным: «Унизительные моменты!» – говорит она исповеднику. Только получив телесное наслаждение, король удаляется, а на его щеках еще видны следы слез. Естественно, при этом он не произносит ни слова. На следующее утро он становится тем же старым тираном. Его тирания с возрастом усугубляется. Жизнь в Версале превратилась в настоящую пытку, в первую очередь для женщин в его семье. Его величество требует, чтобы при любой поездке, даже в Фонтенбло, с ним в карете ехали его дочери и внучки, точно так же, как раньше он повсюду возил за собой толпу любовниц. Он обращается с ними с той же жестокостью, не слышит их просьб и не видит их усталости. Они должны есть, говорить и веселиться по его приказу. Беременность не освобождает от обязанности ехать в свите короля. Никто не решается подвести печальный счет выкидышам, которые произошли вследствие столь легкомысленной езды в карете. Я вздрогнул от ужаса. – А что говорить о тех муках, которые он причиняет Ментенон? – не унимался аббат, горько улыбаясь. – Он заставлял ее путешествовать в таких условиях, в которых хозяин не станет возить даже рабыню. Я помню об одной поездке в Фонтенбло, когда я боялся, что она умрет в дороге. Если у Ментенон температура или болит голова, король, рассыпаясь в тысячах любезностей, приглашает ее в театр, где сквозняк и яркие огни причиняют ей невыразимые страдания. Если она лежит больная в постели, обложившись подушками, чтобы защититься от сквозняков, которых так боится он приходит к ней в комнату и открывает все окна, даже если снаружи мороз. – Трудно поверить, что этот человек уже сорок лет считается величайшим монархом, – изумленно сказал я, помолчав минуту. – Великий король всегда ведет войну, мстя за победу его матери, королевы Анны. Когда он мучает женщин своей семьи, он целится в нее и делает все, чтобы победить свою мать. Но это проигранная битва. Именно это, мальчик мой, делает мертвых непобедимыми: они не позволяют взять у них реванш. Стремительный поток слов Атто на мгновение иссяк. Он начал все это рассказывать, чтобы возродить к жизни любовь, которую Людовик XIV по-прежнему испытывал к Марии, а вместо этого вскоре перешел на чудовищные злодеяния старого монарха. Но, в сущности, все указывало на нее, на Марию: супруги, любовницы, все его коварства и месть. Во имя Марии сорок лет творилась история Европы. Для этой женщины, которую он теперь столь тщетно и столь поздно звал обратно, le plus grand Roi du monde[1364] огнем и мечом опустошал Европу, словно холодный алмаз с острыми краями, который не согревает даже кипение невинной крови. Его разбитое сердце мстило сердцам целых народов и его собственных родственников. А теперь она, невольная причина всего этого, придет к нам.
В дверь постучали. Бюва. Мадам коннетабль приехала.
* * *
– Она прогуливается в саду, – сообщил секретарь с нескрываемым смущением. – Ага, хорошо, – ответил Атто и отпустил секретаря, не спрашивая о подробностях, словно речь шла о прибытии какого-то незначительного посетителя. Но все же такое лицемерие ему не удалось. Он говорил севшим голосом, как человек, который не хочет признавать вожделений своей души и любой ценой старается показаться равнодушным. – Сегодня душно, – заметил он, как только закрылась дверь. – В Риме летом всегда очень жарко, и к тому же воздух очень влажный. Я помню, что в первые годы моего пребывания здесь я очень страдал от этого. Тебе не жарко? – Мне… да, мне тоже жарко, – автоматически ответил я. Он выглянул из окна, направив взор вдаль, и задумался. Я ничего не понимал. Мария была там, неподалеку. Он мог увидеть ее в ближайший момент, и, несомненно, его долгом было увидеться с ней. И все же он этого не делал. После подробных рассказов, которые я слышал от него, после того, как он поведал мне о любви Марии и короля, и даже о его собственной ущербной любви кастрата к этой женщине, после того как он ждал ее столько дней, после страстной переписки, после тридцати лет разлуки, – после всего этого Атто не сделал ни единого шага. Он выглянул из окна, все еще в халате, и не сказал ничего. Я взглянул на его тарелку: роскошное мясо рябчика стояло нетронутым; он съел лишь немного овощей. Казалось, его желудку сейчас не до того. Я встал и подошел к нему. Я так и думал. Невозможно было ошибиться насчет того, действительно ли это была она, ведь все остальные гости уже уехали. Ее сопровождали лакей и камеристка. Она неспешными шагами прогуливалась по саду, с изумлением любуясь цветочными грядками. Время от времени она поглаживала растения, с видом знатока глядя на роскошное цветение, окружавшее виллу Спада, хотя праздник закончился и повсюду царил чудовищный беспорядок. Казалось, ей вовсе не мешали слуги и рабочие, разбиравшие помосты и выносившие мешки с мусором. Должно быть, она устала с дороги, но виду не подавала. – Судя потому, сколько людей сейчас работает, этот праздник обошелся твоему господину, кардиналу, в целое состояние, – сказал Атто с едва заметной иронией. – Может быть, нам, нет, может быть, вам… – пробормотал я. Но аббат Мелани меня не слышал. Он устало подошел к шкафу, открыл его и принялся с отвращением перебирать свои дорогие наряды. После этого открыл коробку с лекарствами и стал скептически рассматривать ряд баночек с бальзамами, белилами и кисточками. Повернувшись к шкафу; он с презрением пнул пару ботинок с пряжками, и они выпали из темноты ящика на дневной свет, покатившись по полу. Атто беспомощно глядел на них, словно знал, что они не могут удовлетворить его желания. Постояв немного, он стал натягивать платье. – Мертвым нельзя уже сказать: «Вы были не правы!» – внезапно изрек он. Он мрачно глядел на драгоценные наряды, а его внутренний взор обратился к призракам прошлого. Мария ждала его в саду, но он оставался в своих воспоминаниях, как ракушка, навечно слившаяся со скалой (образ этот придумал он сам). – Королева-мать ошиблась в своем предсказании. Но самую большую ошибку совершил Мазарини, – продолжил он свой рассказ, поглаживая висевшую в шкафу батистовую рубашку. – Не вмешайся кардинал, Людовик наверняка сломил бы сопротивление матери и женился на Марии, и ожерелье королевы Англии | было бы подарком к обручению, а не прощальным подарком. – Самую большую ошибку, сказали вы? – Да, ошибку, которая стоила кардиналу жизни. – Что вы имеете в виду? – Ты помнишь загадочное предсказание Капитор? – спросил он, надевая жабо из венецианских кружев. – Если я правильно помню, Капитор сказала: «Дева, обвенчавшаяся с короной, принесет смерть». – Твое воспоминание не полно. Безумная сказала, что смерть произойдет, «когда луны достигнут солнц свадьбы», – процитировал он, проводя кончиками пальцев по кюлотам, манжетам, камзолам и кафтанам. – Да, действительно, – вспомнил я. – Но вы же никогда объясняли мне эту последнюю загадку. – Ее не сразу поняли, поэтому не придали ей большого значения. Все сосредоточились на «деве» Марии и «короне» Людовика, которая должна была принести смерть человеку, кому было адресовано пророчество, то есть Мазарини. Никто из нас не знал, как он будет реагировать на мрачное предсказание Капитор. – Поэтому Мазарини разлучил Марию и короля, – догадался я. – Именно так. Людовик женился на испанской инфанте Марии Терезии девятого июня. Мазарини внезапно скончался через девять месяцев, девятого марта. Пророчество Капитор сбылось. – Я этого не понимаю. – Мальчик, с возрастом ты становишься все умнее и умнее, – подтрунил надо мной аббат. При виде столь драгоценных предметов портняжного искусства, которыми он, похоже, владел, настроение его улучшилось. – Девять, девять и девять. Я изумленно глядел на него. – Ты что, не понимаешь? – Мелани начал терять терпение. – Количество лун, то есть месяцев, сравнялось с количеством солнц, то есть дней, момента свадьбы. Число солнц свадьбы – девять, потому что свадьбу его величества и Марии Терезии сыграли девятого июня. Через девять лун, то есть через девять месяцев, а именно девятого марта, в день девятой луны кардинал умер. На моем лице отразилось недоумение, но аббат, не обращая на это внимания, проверил, как сочетается перламутровая перевязь с парой брюк коричневого цвета. – Но ведь предсказание Капитор не сбылось, – возразил я. – Безумная сказала, что Мазарини умрет, если дева обвенчается с короной, а этого не произошло. – Нет, произошло, – возразил Атто, – просто дева – это не Мария, а сам король. И знаешь почему? – Дева… король? – Скажи мне, когда родился его величество? – В сентябре, если я правильно помню. Вы рассказывали, что он арестовал Фуке после своего дня рождения… Значит, он родился пятого сентября. – А какой знак Зодиака соответствует пятому сентября? – Дева? – Хорошо, ты это понял. Король родился под знаком Девы. А «корона» символизировала испанскую корону, которую инфанта Мария Терезия принесла в брак в качестве приданого. Именно эта корона позволяет теперь Франции выдвигать претензии на испанский трон. – Но как вы догадались? – Об этом догадался не только я, – возразил Мелани, который как раз примерял вишнево-черный брандебур, затем перламутровые кружева и, наконец, широкие брюки серого цвета, которые прилипли к его ногам, потому что он слишком долго стоял в них перед зеркалом в такую жару. – Намного хуже было кардиналу, когда он понял, что подписал себе смертный приговор, разлучив Людовика с Марией и заставив его жениться на инфанте. Но было уже поздно. Мазарини лежал на смертном одре. Он кричал и бушевал из последних сил. Осознание случившегося лишило его рассудка, и он пытался сорвать с себя пропотевшую одежду, словно желал вернуть все назад и отменить эту свадьбу, которую так долго устраивал. Я собственными глазами видел, в каком отчаянии был Мазарини. Уже замутнившиеся глаза кардинала прояснились и остановились на мне. И вот что я прочитал в его испуганном взгляде: он вспоминал, с каким ожесточением мы с ним сообща вели переговоры на острове Фазана, стараясь лишить императора Леопольда претензий на руку Марии Терезии. Он не вынес этого последнего воспоминания, и его бледное тело вскинулось, как от удара молнии, и кардинал Мазарини, итальянец по рождению, сицилиец по крови и француз по убеждениям, отдал душу Господу. – Складывается впечатление, что вы нисколько не сомневаетесь в словах Капитор, – немного саркастически отметил я. Слушая эту мрачную историю, я испытывал ужас и одновременно жалость к аббату, но, с другой стороны, я чувствовал иронию, ведь недоверие аббата к схемам на «Корабле» было таким же большим, как и его вера в пророческий дар безумной итальянки. – Подожди-ка минуточку, – поспешил поправить меня Атто, беспомощно ковыляя в туфлях на высоких каблуках по комнате (он не мог надеть их до конца на свои опухшие ноги). – Я никогда и не утверждал, что верю в прорицание Капитор. – Но если вы говорите… – Нет, – перебил он меня. – Послушай-ка хорошенько: ты знаешь, почему Мазарини умер девятого марта? Он умер оттого, что понял: именно в этот день начинается девятая луна после девятого июня, дня свадьбы короля. – Я не понимаю. – Он был очень болен. Это правда. Но именно эта догадка в тот судьбоносный день вызвала почечные колики, от которых он скончался в предутренний час. Короче говоря, прорицание Капитор было причиной смерти кардинала, но виной всему – его суеверие, а не ее магия, – поучительно сказал мне Мелани, надев на голову огромный белый парик и сжав в руках каштановый, очевидно, колеблясь, какой из них надеть. – Мы можем пожинать плоды, добрые или злые, только от того, во что верим, мальчик мой. Атто считал, что способен таким толкованием заставить меня замолчать. Он любой ценой хотел избежать объяснения столь беспокоившего его совпадения оккультными феноменами, ведь именно это выбивало его из колеи во время наших похождений на «Корабле». На самом деле я очень хорошо помнил, с каким увлечением Мелани рассказывал мне о пророческом даре испанской сумасшедшей Капитор, приехавшей в свите бастарда Хуана. Но я воздержался от комментариев и решил не напоминать ему об этом факте.– Хотя я должен признаться, – поправился он, немного помолчав, – кое-что в словах Капитор действительно очень напоминало пророчество. – Разговаривая, Атто ни на минуту не переставал делать менуэты переодевания. Мелани объяснил, что речь шла о сонете над сводом колеса судьбы, который мы читали на вилле «Корабль». Атто процитировал две строчки:
Он повернулся ко мне спиной, чтобы показать, что разговор окончен, и снова подошел к окну. – Она все еще там? – спросил я. – Да, она всегда любила сад. Там рука человека, используя красоту природы, превосходит ее в создании еще большей красоты, – произнес он, и голос его дрогнул. – Возможно, вам пора идти к ней… – Нет. Не сейчас, – быстро проговорил он. Я понял, к чему он пришел в результате той чудовищной внутренней борьбы, свидетелем которой я стал. – Но, возможно, вы могли бы… – Таково мое решение. А теперь, пожалуйста, оставь меня одного. У меня тоже много дел.
15 июля лета Господня 1700, вечер девятый
– Замрите на мгновение, все, кто здесь есть, лишь на мгновение! Остановим же движение наших зубов, укротим наш язык, обуздаем наши глотки. Пусть никто из вас не спит! Пусть никто не наслаждается плодами этой драгоценной вечери. Сейчас нам следует вспомнить щедрость нашего господина, наградившего нас всем этим великолепием, не сожалея о дне грядущем. Следует вспомнить то, с каким мудрым благородством проявляется поразительная широта его души. Да будет мне позволено поднять бокал и произнести этот тост за здоровье нашего господина, благороднейшего, щедрейшего, милостивейшего кардинала Спады, и пожелать ему блистательнейшего успеха! За этим тостом последовали ликующие возгласы, радостный шум аплодисментов и звон бокалов, а оратор, секретарь официального представительства дома Спады Карл Антонио Фелиппи, опустился на одну из оттоманок в саду, закатил рукава и приступил к жареной форели, украшенной лилиями, фаршированной засахаренными абрикосами и корицей, а сверху обложенной ломтиками лимона. Вино орошало мое горло, но мне хотелось увлажнить губы, и поэтому я прижался ими к устам Клоридии. Двое наших малышек, плод любовного союза, играли рядом, а я обнял жену и стал нашептывать ей милые глупости, шуточки и всяческие откровения. Вокруг нас все праздновали. Шел большой банкет для слуг, кардинал Спада позволил прислуге погулять у него в саду и даже переночевать в турецком павильоне на армянских шелках, на которых еще прошлой ночью спали благородные гости, приглашенные на свадьбу. Этот великодушный жест кардинала позволил секретарю Фелиппи, всегда составлявшему речи для празднеств в доме Спады проявить свое небывалое умение развлекать большое собрание людей. Как бы то ни было, все были довольны тем, что могут хоть раз в жизни полакомиться пищей благородного общества. Я до сих пор не решился рассказать своей умнице-женушке о той безумной ночи в соборе Святого Петра. Пытаясь умолчать об опасности, которой я подвергался, я завирался, и было видно, что моя жена лишь делает вид, что верит, решив не портить праздника Время от времени она задавала мне короткие наводящие вопросы и я сразу же начинал путаться в ответах. Однако она так радовалась тому, что я снова рядом с ней, что ей не хотелось препираться. Этим вечером ее язык был для услады, а не для оскорблений. Секретарь семейства Спады, отвечавший за корреспонденцию, – аббат Джулиано Борджи, сидел за богато накрытым столом вместе с капелланом Тибальдутио, доном Паскатио, почтеннейшим деканом Джованни Гриффи, кравчим Германо Хондадеи, аудитором Джованни Гамба и камердинером Оттавио Валетти. Они были поглощены тем, что усердно наполняли свои тарелки, накладывая на них жаренную на сковороде камбалу с маслом и начинкой из мясного и рыбного фарша, марципановый крем, мелкие устрицы, соленый виноград и медовое печенье. Конечно, речь шла лишь об остатках великолепных блюд для гостей, но иногда эти блюда, постояв в собственном соусе, приобретали еще более утонченный вкус. Слуги, лакеи, служки, кучера и конюхи сидели за столом попроще и, восклицая от изумления, поглощали креветки, трюфели, сливы, раковые шейки, лимонный сок, мускатное вино и салаты, да еще и гренки с фаршированными креветками или смазанные паштетом а-ля Мазарини под фисташками. Еще одна, более скромная группа – кладовщики, гардеробщики, садовники и посыльные – сгрудились вокруг суфле по-французски из мяса лавратки, линя и угря с салом, каперсами, спаржей, сливами, вареными желтками и кусочками лимона. Все слуги, даже повара и поварята, сидели подзвездным небом или в турецких павильонах и говорили о тех сложностях, которые им пришлось преодолеть за последние несколько дней. Казалось, мир перевернулся с ног на голову. Слуги стали господами, а господа лишились своих удобств: высокие гости уже отбыли или поехали прощаться друг с другом и не проявляли никакого интереса к тому, что происходит на вилле. Кардинал Спада вернулся к своим важным государственным делам. Мои скромные соседи по столу работали целую неделю не поднимая головы, и теперь они принялись болтать, комментируя важные и не очень важные события. Сегодня в апостольском дворце состоялась месса с папским хором из Сикстинской капеллы. Мессу вел кардинал Мориджиа. На вилле Спада его знали уже все, в особенности после того, как Цезарь Август прилюдно оскорбил его. Во время вечерни в церкви Богородицы на Монтесакро упала колонна и один из певцов хора погиб. Его Святейшество по поводу завершения девятого года своего понтификата собрал Святую коллегию кардиналов и принимал послов, которые желали ему править католической церковью еще как можно дольше (несомненно, зная о том, что этого не произойдет). Вся эта болтовня о не имеющих для нас никакого значения вещах придавала празднеству привкус возвращавшихся будней. Мне казалось, что не только этот праздник, но и вообще все приближается к своему концу. Мария приехала, но из-за умопомешательства аббата Мелани мы смогли увидеть ее лишь издалека, поэтому, какая разница – приезжала она или нет? Трактат Атто о тайнах конклава все еще находился в руках черретанов. Может быть, его передали Ламбергу, если не самому Албани, так что Атто по-прежнему могли шантажировать. К тому же три кардинала, выйти на след которых мы так старались, постоянно от нас ускользали, и лишь при последней попытке мы поняли, как это происходит. Поняли слишком поздно. Наконец, мы думали, что проникли в тайну тетракиона, однако атмосфера «Корабля» и те события, свидетелями которых мы, казалось, стали, были лишь иллюзией. Вместо монстра, напророченного Капитор и ее чудовищной чашей, мы видели в кривых зеркалах свое собственное искаженное отражение. Мы делали все возможное, но оказались бессильны. Печальное стечение обстоятельств, неудачи, промахи и человеческие слабости нас одолели. Более того, и это было самым ужасным, аббат замалчивал правду насчет трех кардиналов – он так и не сказал мне, что же они собираются делать, в то время как мы безуспешно ищем их. Умирающий король Испании попросил у Папы Римского помощи в решении проблемы наследника, а понтифик дал задание трем кардиналам приготовить ответ. Я принимал участие в охоте, цели которой не знал. Конечно же, я понимал, что Атто не всегда мог раскрыть свои карты. Да, он был вредным от природы, но ему приходилось принимать меры предосторожности, не говоря уже о том, что причина появления аббата на вилле Спада была совсем другой – его заботила тайная переписка мадам коннетабль и короля Франции. И все-таки упрямо не желая говорить об Испании, он выставил меня идиотом, не умеющим хранить тайну. Самое отвратительное что я даже не мог упрекнуть Атто в таком поведении, ведь я сам украдкой прочел его письма и теперь вынужден молчать. Мы долго наслаждались изысканными блюдами, и наконец Клоридия на некоторое время оставила меня, чтобы уложить малышек спать во флигеле вместе с детьми других слуг. Вернувшись, она взяла меня за руку и повела к павильонам. В столь поздний час пряный запах трав от костров, а главное, сладковатые ликеры давали о себе знать. Радостная суматоха и болтовня уступили место кокетливым перешептываниям и тайным ласкам. Мы с супругой прошли мимо чулок и брюк, оставленных на лужайке, осторожно переступая через голые ноги, торчавшие из шелковых покрывал. Мы устроились немного подальше, на краю этого бодрствующего среди ночи поселения, под сенью легчайших армянских шелков, ярко-красными знаменами всколыхнувшихся над нами. Закрыв гобелен у входа, мы опустились на пуховые подушки. Я перестал думать о чем-либо и полностью растворился в округлых мягких формах моей возлюбленной, а резкий запах костров смешался с другим, тайным, невыразимым ароматом.– Мое почтение, – улыбаясь как ни в чем не бывало, сказала Клоридия, глядя на кого-то за моей спиной. Вздрогнув, я мгновенно обернулся, и тут чья-то рука легла мне на плечо. – Есть новости, – произнес аббат Мелани, не выказывая ни малейшего смущения. – Одевайся. Я жду тебя у ворот. Мое почтение и мои глубочайшие извинения, дева Клоридия, – добавил он, прежде чем опустить за собой ковер у входа. – Кроме того, позвольте выразить вам мое восхищение…
* * *
– Да как вы могли? – воскликнул я вне себя от гнева, одевшись и выбежав к нему. – Успокойся. Я пытался докричаться до тебя, стоя перед павильоном, но ты был слишком занят и не слышал меня… – Что вам нужно? – резко спросил я, покраснев от возмущения. – Я разговаривал с Ламбергом. И тут я вспомнил: когда подавали шоколад, посол императора согласился принять Атто, и его секретарь сообщил о времени аудиенции. – И? – полюбопытствовал я, надеясь, что хоть сейчас пойму, с чем было связано нападение на Атто.После столь долгого ожидания аббат Мелани наконец-то оказался с глазу на глаз с его светлостью графом фон Ламбергом, потомком знаменитой посольской семьи Империи. Из предосторожности Атто взял с собой Бюва, но упрямый Ламберг приказал слугам оставить его с гостем наедине, и секретарю Атто пришлось ждать в приемной. – Я много слышал о вас, герр аббат Мелани, – сказал ему Ламберг. Атто сразу же забеспокоился, восприняв эти слова как намек на его трактат о тайнах конклава. Возможно, граф какими-то окольными путями заполучил его, может быть, даже от самого кардинала Албани? А вдруг он уже прочитал его от начала до конца? – Когда император направил меня сюда из Регенсбурга, – продолжил посол, – я думал, что в этом Святом городе, в особенности учитывая нынешний год, меня ожидает благодать. Вместо этого я попал в Вавилон. – Вавилон? – недоверчиво переспросил Атто. – Я вижу вокруг себя лишь хитросплетение интриг, ожесточенную борьбу и политиканство, – отметил граф, помрачнев лицом. – Э-э-э… да, я понимаю, тяжелая международная ситуация… – попытался хоть что-то сказать Атто. – Три тысячи чертей! – взревел Ламберг и изо всех сил ударил кулаком по столу. В комнате стало очень тихо. Аббат чувствовал, как по его вискам стекает пот. Такое странное агрессивное поведение графа вполне могло предшествовать нападению. Атто постарался незаметно оглянуться: он боялся, что на него могут напасть наемные убийцы. «Черт побери, – подумал он, – и почему я раньше не сообразил?» Последний раз аббат Мелани был в Империи очень давно и уже успел забыть, насколько немцы отличаются от французов. «Все эти жалкие Габсбурги, безумные и кровожадные, все до одного, от Испании до Австрии со времен Иоанны Безумной!» – сказал себе он. Перед встречей он твердо решил ничего не брать из рук Ламберга, даже стакана воды, но вот о возможности покушения не подумал. – Меня бы там никто не искал. Только ты знал, что я пошел к Ламбергу, но тебе никто не поверил бы, – сказал аббат. Он совершил чудовищную ошибку, взяв с собой Бюва, носилось в его голове. Убьют и этого беднягу, и они оба исчезнут с лица земли. В этот момент рассказа Атто я вспомнил о безоаре, который Атто давным-давно подарила мадам коннетабль как защиту от ядов. Я прочитал это пару дней назад в его переписке. Атто обещал ей носить безоар в кармане во время всех переговоров, но в случае прямого нападения тот вряд ли бы ему помог.
Мысли по-прежнему вихрем кружились в голове Атто, а Ламберг молчал, пристально глядя ему в глаза. Мелани тоже не отводил от него глаз, не зная, собирается ли посол продолжать разговор или сразу переходить к делу. В этот момент Атто понял, в чем его спасение. Очень много людей видели, как он входил во дворец Медичи, римское владение эрцгерцога Тосканы, его сюзерена. Атто был знаменит. Ламберг продолжал молчать. Атто не решался даже шевельнуться. Ему вспомнилась одна старая история: то ли быль, то ли легенда. Один министр императора, который умер якобы о сердечного приступа, на самом деле был убит уколом в особую точку за ухом. К тому же существовала масса ядов, после отравления которыми смерть выглядела как естественная. Этими токсичными веществами пропитывали одежду, заражали воздух, втирали их в волосы, капали в ухо, разводили в ванной или в миске для мытья ног… Атто в этом хорошо разбирался. Он почувствовал, как змея страха ползет по его позвоночнику. – Три тысячи чертей… – снова прошипел Ламберг, и дрожь в его голосе выдавала ярость, граничащую с безумием. Как бы ни был напутан Атто, он не мог позволить так оскорблять себя. Собрав все свое мужество, он ответил, следуя долгу чести: – Простите? Зрачки Ламберга снова пронзили его взглядом, в котором светилось невыразимое упрямство. Посол встал, и Атто мгновенно вскочил на ноги, ожидая наихудшего. Перехватив поудобнее трость он приготовился защищаться, но Ламберг подошел к полуоткрытому окну и распахнул его настежь. – Вам нравится в Риме, аббат Мелани? – внезапно сменил он тему. Старая тактика, подумал Атто: непрерывно менять тему, чтобы сбить с толку собеседника. Нужно быть начеку. Тем временем Ламберг перегнулся через подоконник, повернувшись к Атто спиной. Это была странная ситуация, к тому же крайне оскорбительная. Атто колебался, не зная, что делать, но так как посол по-прежнему стоял к нему спиной – что противоречило всем дипломатическим нормам, – Атто посчитал себя вправе сменить свою диспозицию. Сделав шаг, он заметил, что тело австрийца ритмично подергивается, как будто тот пытается справиться с болезненной судорогой. Атто не верил своим глазам но никаких сомнений не было: Ламберг плакал. – Три тысячи чертей! – третий раз повторил он. – Он не оставил мне ни единого клочка бумаги. Но император заставит его заплатить за это, ода! Он заплатит за все, – сказал он, поворачиваясь и угрожающе направляя палец на Мелани. – Проклятый пес, этот Мартиниц! Его лицо исказилось гневом. Граф Мартиниц, объяснил мне Атто, был предшественником Ламберга. Несколько месяцев назад его поспешно удалили из посольства, заменив другим послом, поскольку в Риме он нажил себе массу врагов. В городе о нем ходило много слухов, но никто не знал о мести Мартиница, о которой рассказал Ламберг. Приехав в Рим, бедный Ламберг не обнаружил в архиве ни единого документа: его предшественник забрал с собой всю официальную дипломатическую переписку. Таким образом, новый посол, который не знал ни города, ни тонкостей папского двора, лишился всей информации, столь необходимой в работе. У него не было ни связей, на которые он мог рассчитывать, ни списка оплачиваемых информаторов, ни данных о кардиналах, с которыми у Австрии были хорошие взаимоотношения, и о тех, кого следовало опасаться. Он не знал ни характера Папы, ни его предпочтений, ни деталей папского церемониала. Конечно, при своем назначении он получил указания от императора, но вот информацию о том, какова конкретно ситуация с посольством в Риме, он мог узнать только от Мартиница, который сыграл с ним злую шутку. – Да, ваше превосходительство, это действительно ужасно, – сочувственно шепнул Мелани. Атто стала понятна суть проблемы: немцы настолько медлительны и тупоумны, что не способны ни к фантазии, ни к вдохновению. Без написанной шпаргалки Ламберг был просто не в состоянии создать в Риме собственную сеть связей и информаторов. Грань была перейдена, и посол предался излиянию чувств. Он рассказал, что как только приехал в Рим, то сразу понял (хотя никто из его людей ничего ему об этом не говорил), что лоббирующая интересы императора группа в Риме была очень слабой, в то время как основной тон задавали французы. Именно они могли всегда получить от Папы то, чего хотели. – А что, это правда? – изумился я. – Он даже мне сказал, что ему не удается получить у Папы аудиенцию, а вот Узеда и другие послы каждый день спокойно ходят по Ватикану туда-сюда. Долгожданная встреча Атто с подозреваемым заказчиком нападения, кражи переплетенной книги и даже убийства переплетчика Гавера закончилась таким слезливым излиянием! Наконец Ламберг подошел ближе к Атто и шепотом поведал ему о злых силах, творящих в городе жуткие бесчинства. Он посоветовал аббату остерегаться коллегии кардиналов – источника всех мыслимых грехов и злодеяний. – Я думал, что найду здесь справедливое правительство, но понял, что ошибался, – мрачно изрек он. – В Риме играет роль лишь государственная выгода. При дворе Папы решаются мирские вопросы без какой бы то ни было оглядки на разум, право или закон. Религия не имеет ни малейшего значения! – Мне казалось, что я слышу музыку его соотечественника, как же его звали… да, точно, Муффат. Печальная мелодия, медленная, строгая, унылая, – сказал Атто. На его лице до сих пор читалось выражение изумления. При виде такого излияния чувств Атто вскоре взял себя в руки. – А на что вы надеялись, господин посол? Это город обмана, подлости, вечных отсрочек, невыполненных обещаний. Министры Папы – мастера иллюзий. Они умеют избегать ответственности, интриговать и прятать руку, только что швырнувшую камень. Аббат перечислил все пороки римского двора, а Ламберг слушал его и кивал с унылым видом. В конце концов посол, которому нужно было принимать следующего посетителя, сердечно попрощался с Атто и почтил его честью дружеского рукопожатия. Но вот дружеского ли? Уже выйдя с Бюва на улицу, Атто пожалел, что поддался очарованию Ламберга и позволил выпроводить себя. Он осознавал, что поведение Ламберга граничило с безумием. А вдруг это хитрый тактический ход? А вдруг посол был кукловодом и дергал за нитки своих марионеток, которые совершили нападение на аббата и украли его трактат, ведь до этого мы были в этом уверены? А вдруг все это лишь злая шутка? Или посол просто играет роль простачка? И все же чувства Ламберга были настолько искренними и сильными и проявились, так неожиданно, что подобное поведение могло переубедить любого.
– Значит, мы не выяснили ничего нового, – заметил я. – К сожалению, да. Либо этот Ламберг – божий человек и место ему в каком-нибудь австрийском монастыре, либо он искусный актер. – Если я правильно понял, он заставил вас подробно рассказать о римском дворе, а сам не сказал ничего важного. – Да что ты себе думаешь?! Конечно же, я поделился с ним лишь известными всем сплетнями. В конце концов, я ведь не новичок в этом деле, – мгновенно ощетинился Мелани. – Я нисколько в этом не сомневаюсь, синьор Атто. Но если Ламберг действительно разыграл перед вами комедию, а вы были с ним искренни… – …то что тогда? – нервно спросил он. – Теперь ему известна ваша душа, а вы о его душе ничего не знаете. – Да, но я не думаю, что… Бюва, что случилось? Секретарь Атто, запыхавшись, подбежал к нам. Очевидно, произошло что-то из ряда вон выходящее. – Сфасчиамонти поймал второго черретана, приятеля Рыжего. – Это тот отвратительный тип, который застал нас возле терм Диоклетиана? – Да, это он. Сфасчиамонти повезло, этот тип допустил промашку: он стал просить милостыню в церкви Святого Петра. Он был уверен в защите, которую черретаны получают от служителей собора, но Сфасчиамонти оказался рядом и арестовал его. Он допросил его, использовав старый метод: тюрьма была настоящей, но дознаватели поддельные. Ему помогли двое его коллег. – Эти люди никогда ничего не делают просто так, – заметил Атто. – Насколько я понимаю, мне придется заплатить им приличную сумму. И что же сказал этот черретан? – Сфасчиамонти хочет нам все рассказать сам. – Ну что же, давай поспешим. Мне пришлось смириться с мыслью, что сегодня не удастся насладиться обществом дорогой Клоридии.
Стражник сидел за сараем с садовыми инструментами. Он явно нервничал, и тому были причины. Второй раз за несколько дней он поймал черретана. А если организация этих мошенников действительно была настолько могущественной, то Сфасчиамонти грозила опасность. Когда он заговорил с нами, голос его прерывался, словно после долгого бега. – Это произойдет сегодня ночью. Они будут полностью вооружены. – Что? – Новый глава. Предводитель этой шайки оборванцев. Предыдущий умер, и сегодня все собираются, чтобы избрать преемника. Придут даже те, кто живет не здесь. – А где? – В Албано. – Что-что-что-что-что?! – В Албано.
Аббат Мелани закрыл глаза, словно услышал какую-то чудовищную новость. Наверное, он выглядел бы так же, если бы ему сообщили о том, что его величество король Людовик XIV приказывает ему никогда больше не возвращаться во Францию. – Но это невозможно… Албано находится в двух шагах от Рима… – услышал я его севший голос. – И как я сразу об этом не подумал? Албано. А вовсе не Албани. Когда мы узнали от Угонио, что черретаны хотели отвезти бумаги Атто ad Albanum, мы решили, что они собираются вручить трактат кардиналу Албани. Но на самом деле он хотел сказать, что трактат отвезут в Албано, крошечный городок у озера с таким же названием, который еще со времен Цицерона славился своей прохладой летом. Лицо Атто прояснилось. Значит, кардинал Албани не планировал покрыть его имя позором, чего он так боялся. Нам еще оставалась неизвестна личность великого легата, которым, возможно, был Ламберг. Но почему, черт побери, черретаны хотели ехать в Албано, если они собирались передать Ламбергу трактат о тайнах конклава? Но что они собираются делать в Албано с моим манускриптом? Этот типчик ничего не знает. – А что он еще сказал? Кроме выборов предводителя черретаны должны изменить свой тайный язык. Но тут возникает проблема. Очевидно, шифр нового тайного языка был кем-то украден. – Кем? – Этот оборванец ничего не знает. Если хотите, я могу дать вам почитать протокол допроса. Как и в случае с Рыжим, я изменил пару дат и имен, чтобы не рисковать, ну а все остальное там записано в точности так, как он сказал. – Не сейчас. Мы прочтем это во время пути. – Во время пути? – сказал я, внезапно поняв смысл его слов.
* * *
Джеронимо. Именно так звали того типчика, которого поймал Сфасчиамонти. В мерцающем свете фонаря я читал его признания, написанные мелким убористым почерком, который, как не трудно догадаться, принадлежал человеку, привычному ко лжи. Это был почерк сбира, который умел подделывать, изменять, смягчать протоколы. Сфасчиамонти уже сказал нам о том, что по соображениям безопасности дату изменили, как и в протоколе допроса Рыжего. Документ датировали прошлым столетием, чтобы подложить его в архив губернатора, ведь тогда он никому не попадется на глаза. Итак, дата на этом протоколе была неправильной – 18 марта 1595 года. Протокол якобы был составлен в тюрьме Конте-Систо. Прочитать написанное было нелегко. Несмотря на летнее время, дорога на Албано была очень плохой и карету все время подбрасывало. Хотя сама карета была достаточно хорошей – нам удалось нанять ее в последний момент за огромную сумму, – она подскакивала на всех выбоинах, качаясь из стороны в сторону, поскрипывая и поворачиваясь, но продолжала ехать. Атто уже прочитал протокол и теперь задумчиво любовался ландшафтом, делая вид, что рассматривает огни хуторов. Однако взор его был обращен внутрь, к собственным страхам. Наш верный Бюва, сидя прямо, словно сушеная рыба, сопротивлялся одолевавшей его сонливости. До того как он сел с нами в карету, мы заметили, что секретарь что-то обсуждает с доном Паскатио. Из разговора мы уловили только несколько советов дворецкого, когда Бюва уже садился к нам: «Обратите внимание: никакой влаги, никакой тряски и все время по направлению вперед!» Я понятия не имел, о чем он говорит, но Атто не задал Бюва ни единого вопроса, так что и я попридержал свое любопытство. Скрючившись, насколько было возможно, напротив меня сидел Сфасчиамонти. С трудом впихнув свою огромную тушу в тесное пространство кареты, он тоже погрузился в молчание. Незадолго до отъезда сбир некоторое время шептался с Атто, скорее всего договариваясь о цене за свои услуги. Ехать ночью в Албано было нешуточным заданием, да и цель поездки была довольно опасной, так что, должно быть, сумма оказалась высокой. Возле стражника сидел пассажир, который больше всех остальных удивлял кучера. Едва мы наняли карету, Атто приказал кучеру везти нас в термы Агриппины. По дороге он хотел взять с нами Угонио – проникнуть без проводника на собрание черретанов было немыслимо. Подъехав к тому месту, где он прятался, мы очень просто выманили его наружу: принялись выкрикивать его имя во все горло, чтобы не вызвать никаких подозрений у соседей (а для Угонио это имело решающее значение, ведь ему нужно было тайное, никому не известное укрытие). Черретан быстро вышел к нам и согласился на переговоры. Сначала Атто говорил с ним достаточно натянуто, что было вполне объяснимо: когда Угонио сказал нам, что трактат о тайнах конклава везут ad Albanum, он знал, что речь идет о городке, куда мы сейчас ехали. Это казалось ему настолько само собой разумеющимся, что он даже не потрудился ничего объяснить. Ведь Угонио не мог знать о том, что делами Атто интересуется некий кардинал Албани и эти слова на латыни настолько собьют нас с толку. Это упущение, в котором он, конечно же не был виноват, стоило нам драгоценного времени. Словно стараясь еще больше вывести Атто из себя, Угонио стал сопротивляться, узнав, чего мы от него хотим. Только после чудовищного давления – страшных угроз и внушительных материальных предложений, Угонио согласился отвести нас на собрание черретанов и все-таки сел к нам в карету, взяв с собой все необходимые, с его точки зрения, вещи. Прежде чем черретан влез к нам в карету, Атто все же посоветовался с нашим новым пассажиром. Они шептались довольно долго, и в конце концов огромное количество золотых монет перекочевало в мешочек Угонио. Во всяком случае, так мне показалось в темноте. И наконец, Атто передал ему книгу. Я попытался задать аббату пару вопросов, но он не захотел объяснять мне цель и причины столь странного поведения. Я снова задумался о странной встрече Атто и Ламберга. До этого мы полагали, что посол императора причастен к краже и нападению на Атто, но теперь мы не были в этом уверены. Либо Ламберг был искусным актером, либо упрямо придерживался католической морали, и по его идеологическим убеждениям ударили грубым кнутом отрезвления". Если истинным было второе, то поездка в Албано таила еще большую опасность, ведь там нас ожидал враг, о котором мы ничего не знали, враг, у которого не было лица. Однако я немного отвлекся. Повспоминав о последних событиях, я снова начал читать. Протокол допроса черретана, который я впоследствии полностью смог записать, начинался с обычных клише судебного допроса, за ними следовали показания черретана:«18.03
Допрос был произведен в тюрьме Конте-Систо № 6 в присутствии начальника стражи и священника. Протокол №… Мной, нижеподписавшимся, записаны показания, данные Джеронимо, сыном Антонио Форнаро, 22 лет, и т. п. В ответ на вопрос об имени, происхождении, возрасте и причине его задержания, допрашиваемый отвечает: «Я сын Антонио Форнаро, родом из Рима, родился в квартале Колонно у Фонтана-ди-Треви. Мое имя Джеронимо, мне 22 года, безработный, если не считать того, что я по четыре месяца в году работаю на солеварне, а затем возвращаюсь назад в Рим и прошу милостыню. Как видите, я очень бедный и больной и вот уже десять лет живу без отца и матери, сиротинушка я, всеми покинутый сиротинушка, но я же стараюсь жить как можно лучше… В последнюю пятницу марта меня арестовали в соборе Святого Петра лишь за то, что я искал приюта в церкви». После этого Джеронимо спросили, что он знает о тайных организациях нищих. Допрашиваемый сознался в существовании восемнадцати братств, о которых говорил предыдущий допрашиваемый, и назвал еще несколько, о которых мы раньше не знали. Он рассказал нам о стабулерах, вильтнерах, шлепперах, кленкнерах, швайгерах, блохартах, плаччирерах, генсшерерах, брюссерах, зефферах, роттунах, йонерах, кальмирерах и феранерах. «Стабулеры таятся ночью, в том смысле, что они ночью спят, а днем просят милостыню. Вильтнеры продают поддельные кольца и святыни святого Павла. Как правило, они обманывают сельских жителей. Шлепперы – это группа шарлатанов, включающая так называемых подрезчиков, или карманников, возрастом помоложе. Они все вместе идут на рынок, и, пока один отвлекает продавца или покупателя беседой, остальные крутятся неподалеку и вытаскивают у жертвы деньги или подрезают кошельки, а вечером делят добычу. И с ними всегда есть шлюхи, но только мужского пола, потому что все они содомиты. Кденкнеры лишились всех четырех конечностей, у них нет ни рук, ни ног, и они просят подаяние. Швайгеры – это немые и парализованные, которых возят на тележках или носят на руках, чтобы они просили милостыню. Есть еще блохарты – те тоже побираются. Плаччиреры останавливаются в каком-нибудь квартале, рассказывают жития святых и продают тексты молитв, а еще поют хором, выпрашивая за это деньги. Генсшереры – нищие в хорошей одежде и с хорошими манерами, они утверждают, что когда-то были дворянами и ремесленниками. Брюссеры вызывают жалость своими язвами, а то и просто царапинами. Они тоже клянчат милостыню. Зефферы делают себе разрез на руке или ноге, чтобы казаться больными, хотя, в сущности, вполне здоровы. Иногда они мажут себя куском печени, создавая видимость раны на руке или на ноге. Роттуны делают вид, что они немые или у них вырезан язык. Некоторые такие немые отправляются просить милостыню у наивных жителей гор. Йонеры играют в тавернах и трактирах фальшивыми картами. Они очень хитрые. Кальмиреры просят милостыню по ту сторону Альп, нарядившись пилигримами. Феранеры утверждают, что они евреи, но перешли в христианство, и выпрашивают деньги на содержание семьи. Как правило, им подают очень много. Что касается попрошаек и старух, то нужно сказать, что эти женщины просят милостыню по-разному: молодые попрошайки добиваются всего приветливостью и красотой, а старухи делают вид, что они опустившиеся домохозяйки».Я стал опускать ненужную информацию, пока не дошел до слов об Албано.
«Я слышал, что сейчас, в мае, много нищих соберутся в подземельях Албано. Они хотят выбрать главного и договориться о новом жаргоне. Поскольку образец нового жаргона был украден, они хотят добиться порядка, угрожая друг другу, чтобы никто не решился стать предателем. Атому, кто все же предаст организацию, придется поцеловаться со сталью, то есть ему перережут горло. Я знаю, что пара каких-то ублюдков поймала Помпео. Они его избили, и, если бы Помпео не удалось бежать в церковь к священникам, его убили бы, настолько все на него злы».Так значит, черретаны действительно соберутся в Албано, как и сказал Сфасчиамонти (из предосторожности в протоколе указали март вместо июня). Черретаны считали, что кто-то украл их тайную речь, и хотели навести порядок, то есть решить эту проблему. Каким образом они собирались это сделать, Джеронимо нам не сказал. Кроме того, они хотели учинить самосуд над Помпео, когда узнали о том, что он на них стукнул. Но вот от кого они это узнали?
Дознаватель спросил, почему нищий, который во всем признался и прекрасно осознает все недостатки этой организации, не откажется от столь плохого общества и всяких неподобающих действий? Почему он не найдет себе заработка, как это делают многие в Риме?
«Любезнейший, я отвечу вам откровенно: такая жизнь, жизнь на полной свободе, то там, то тут, все это попрошайничество, без каких-либо усилий, без работы… такая жизнь нам очень уж нравится. Скажу вам прямо: кто пожил этой жизнью, тот уже не может от нее отказаться, и это касается как мужчин, так и женщин. Я, конечно же, с Божьей помощью надеюсь изменить свою жизнь, когда выйду из тюрьмы. Мне хотелось бы служить при монастыре на острове Сан-Бартоломео и присматривать у них за живностью».– Для этого придется сначала его выпустить, – хихикнул Сфасчиамонти: как и в случае с Рыжим, которого он незаконно арестовал и допросил, сбир не мог держать этого черретана в тюрьме. – Может быть, он и будет присматривать за живностью, но только в том случае, если подельники не поймают его до этого и не заставят поцеловаться со сталью, как они говорят. – Но как они узнают о том, что его допрашивали? – спросил я, обеспокоенный возможностью дальнейшей утечки информации. Сфасчиамонти помрачнел. – Точно так же, как и при допросе Рыжего. – То есть? – Я этого не знаю. – Что вы хотите этим сказать? – Эти черретаны – настоящие демоны. Кто-то из них что-то скажет, и все обо всем уже знают. – Да, это правда, черт бы их побрал, – подтвердил Атто, прервав свое долгое молчание. – Они и вправду дьявольски хитры. – На этот раз Бюва там не было. Кто же играл роль дознавателя? – поинтересовался я. – Настоящий дознаватель, – ответил стражник. – В смысле? – Нет лучше подделки, чем подделка настоящая, – вмешался Атто. – Я не понимаю. – Это добрый знак. Значит, старые законы по-прежнему действуют, даже через три столетия, – ответил мне аббат. – Да, теперь я вспоминаю. Вы намекали мне на это, когда мы только познакомились. Вероятно, вы имеете в виду фальшивые документы, в которых записана правдивая информация? – Нет, на этот раз все наоборот. Я говорю не просто о документах, а о чем-то большем. Приведу тебе простой пример. Кто отвечает за чеканку монет в государстве? – спросил Мелани. – Глава государства. – Да, это правда. Тогда, монеты, которые чеканятся на его монетном дворе, должны быть подлинными? – Да. – Но это не так. Или, по крайней мере, не всегда так. К примеру, глава государства, если захочет, может чеканить фальшивые монеты в большом количестве, чтобы, скажем, финансировать войну. Для этого достаточно издать приказ изготовлять монеты с более низким содержанием золота, чем того требует их номинальная стоимость. Короче говоря, такие монеты содержат меньше золота, чем надо. Эти монеты подлинные или фальшивые? – Фальшивые! – ответил я, противореча самому себе. – Но их приказал чеканить король, значит, они подлинные и фальшивые одновременно. Чтобы быть точным, они имеют законное хождение, но не соответствуют законным стандартам. Такие трюки стары как мир. Еще четыреста лет назад французский король Филипп Красивый, чтобы профинансировать войну с Фламандией, вдвое обесценил монету «турнуа», которая изначально содержала одиннадцать с половиной унций золота. То же он сделал и с чистым золотом, уменьшив его содержание в сплавах с двадцати четырех карат до девятнадцати, так что каждый день в личную казну короля стекалось до шести тысяч фунтов парижских «черных денег». Правда, этим он погрузил страну в нищету. – А что, это происходит и сегодня? – Чаще, чем когда-либо. Вильгельм Оранский много раз проделывал подобное, выпуская фальшивые венецианские цехины в облегченном варианте.
– Ну и хаос! Фальшивки, являющиеся истинными, и подлинники, несущие обман! – вздохнул я. – Это хаос человеческого общества, мальчик мой. Альбикастро, этот мученик, сколь бы он нас ни раздражал, сказал по крайней мере одну правильную вещь: «Все человеческое, как силены Алкивиада, имеет две стороны, одна из которых – полная противоположность другой». Это вечный закон, управляющий миром. Если разбить силены, то ты увидишь, как все переходит в свою противоположность. – К моему удивлению, Атто цитировал столь презираемого им голландца. Аббат напомнил мне о силенах, о которых говорил нам скрипач, то есть о тех гротескных статуях, внутри которых были образы богов. – Ладно, вернемся к делу, – продолжил Мелани. – Наш друг Сфасчиамонти пригласил настоящего дознавателя для Джеронимо. Этот дознаватель написал протокол по всем правилам, учел мельчайшие детали. Такой протокол нашему Бюва никогда не составить. Это не фальшивка. Вот только протокол содержит некоторые… ну, скажем так… неточности. Если не считать этого, то протокол совершенно легален, так как его писал настоящий дознаватель в присутствии настоящего сбира. Это неточный документ, но он подлинный, подлинный в высшей степени. Я прав? – обратился Атто к своему спутнику. Сфасчиамонти промолчал. Ему не нравилось, что мы говорим о его фальсификации, но отрицать ничего не мог. Он промолчал, и его молчание выражало согласие. – Не забудь, мальчик мой, – сказал Атто, – крупные фальсификации требуют крупных средств, а такие средства есть только у государства.
* * *
Следуя указаниям Угонио, мы приказали кучеру отвезти нас в село, в какое-нибудь спокойное местечко. Кучеру были привычны задания такого рода – все эти ночные побеги, супружеские измены тайные сходки. Мы вышли из кареты в темном переулке, прячась за большим сараем с сеном. Поселение было погружено в полную тьму, и лишь в некоторых окнах виднелся слабый свет,а единственными живыми существами; опасливо шнырявшими в переулке были кошки и их вечные жертвы. Кучер пожелал нам удачи, но не стал расспрашивать, что мы делаем в столь поздний час в этом забытом богом месте.Мы шли совершенно безлюдными улицами. Стояла приятная теплая летняя ночь, ночь на радость людям, страдающим бессонницей, на радость влюбленным и детям, ищущим приключений. Однако судя по окружавшей нас могильной тишине, мы, кажется находились в снежной башне, которую так хорошо описал Олаус Магнус. Черретан нес на спине большой рюкзак. Мы пошли по тропинке, которая сначала провела нас по полям, затем разветвилась, и наконец вообще исчезла в густом малиннике. Наш путь был долог и извилист. Мы пересекали сады и луга. Лишь пение сверчков и писк комаров слышались в ответ на звук наших шагов. Приходилось идти очень осторожно, чтобы не упасть в какую-нибудь яму с мусором. – Еще далеко? – немного нетерпеливо спросил Атто. – Это тайная, скрытая от чужих глаз местность, – оправдывался черретан. – Она должна оставаться никому не известной. Внезапно Угонио остановился и вытащил из сумки три грязных, вонючих платья. – Только три? – удивился я. Черретан объяснил, что Сфасчиамонти не может пойти с нами. – Эта одежда ему не подойдет, – объяснил он, указывая на лохмотья. – Очень уж он большой. Лучше пусть подождет нас здесь, чтобы не вызывать подозрений, понимаете? Стражник что-то проворчал, но сопротивляться не стал. Такова участь Сфасчиамонти, подумал я. Он так долго расследовал дело черретанов, преодолевая сопротивление коллег и начальства, с головой ушел в него, а теперь, после долгой изнурительной поездки в Албано, вынужден отказаться идти с нами. Я надел самое маленькое платье. Бесполезно даже пытаться описать, какое отвращение вызвали у меня эти вонючие лохмотья. Много лет их носили черретаны, не признававшие никакого нижнего белья. От них несло застарелым запахом мочи, гнилью и кисловатым потом. Я слышал, как Атто что-то бурчит о спутниках Угонио и их нечистоплотности. Верный секретарь Бюва переоделся без каких-либо комментариев. Однако эта одежда имела и ряд неоспоримых преимуществ, большой капюшон, закрывавший почти все лицо, длинные рукава и подол, скрывавшие руки и ноги. Сдерживая позывы рвоты, я просунул руки в рукава, превратившись в кокон из вонючей паутины, неуклюжий и неузнаваемый. Благодаря высокому росту, аббат Мелани и Бюва испытывали меньше неудобств. – Что-о-о? Без факела? – запротестовал Атто, узнав от Угонио, что нам придется идти в темноте. Но черретан был неумолим, ведь иначе мы подвергались опасности – нас могли обнаружить и раскрыть его собратья. Я вспомнил, что такие, как Угонио, всегда ходили без факелов, даже в непроглядной тьме римских катакомб. Словно три безликих призрака, мы с Бюва и Атто выстроились за Угонио, который повел нас по известному ему одному пути, а Сфасчиамонти пожелал нам на прощание удачи.
По дороге я не мог наслаждаться ароматом аллей и лугов – его заглушала вонь моих лохмотьев. Перекрестившись, я стал мысленно молиться Всевышнему, чтобы он оградил нас от всех проступков, которые мы могли совершить, и не судил за них слишком строго. Лишь будущее приданое моих дочурок, подумал я, собирая волю в кулак, могло оправдать то безумие, на которое я шел. Пройдя долгий прямой путь, мы свернули на извилистую тропку, постепенно становившуюся все более и более грязной. Луна освещала нам дорогу, время от времени выходя из-за туч. Внезапно, как чудовищное порождение тьмы, возле нас возникли еще три человека. Какого-то хромого старика вели двое спутников. Они двигались в том же направлении, что и мы. Из ночных теней за их спинами стали медленно выходить и другие внешне похожие на них. Перед нами возвышались высокие каменные стены, которые, казалось, окружали здание невероятных размеров. Пройдя через узкий тоннель, мы вошли в кольцо стен. На стенах были факелы, дававшие нашим глазам хоть немного отдыха. Непонятным образом камень, мох и сырая земля сливались вместе, создавая непроходимые стены. Тоннель уже закончился. Повернувшись, Угонио злобно оскалился, обнажив черные, полусгнившие зубы. Ему явно нравилось наше смущение. Мы с Бюва обеспокоенно переглянулись. Неужели нас заманили в ловушку? Черретан подал нам знак, чтобы мы опустили капюшоны пониже, пряча лицо, а потом прислонился к левой стене. Его поглотила скала! Угонио вошел в стену, как вода в губку. Словно выныривая из другого измерения, он сделал шаг назад и приказал нам следовать за ним. Естественно, Угонио не прошел сквозь скалу. Я услышал скрип открывшейся в скале деревянной двери – тайный ход, который не мог бы обнаружить никто из непрошеных гостей. Кто знает, насколько часто этим ходом пользовался Угонио. Через несколько секунд после того, как мы проникли внутрь, наши глаза приспособились к новому окружению. Мы осмотрелись. Монументальный, величественный, покинутый много столетий назад, а теперь захваченный черретанами, перед нами простирался римский амфитеатр Албано.
– Так значит, мы вошли через тайный ход, – шепнул я на ухо нашему проводнику. – Это доброе дело, а не злое, – пожал плечами он. – Все нормальные входы закрыты. Сегодня ночью сюда не должен проникнуть никто из чужаков. – Но нас никто не задержал. – А это и не нужно. Тут много охранников, и кто проникает сюда из чужаков, того сразу же находят и устраняют. Значит, амфитеатр был оцеплен охранниками, которые выслеживали чужаков и обезвреживали их! Благодаря одежде, которую дал нам Угонио, никто ни в чем нас не заподозрил. Во внутреннем кругу амфитеатра длинный ряд факелов освещал сцену. В этом огромном помещении, открытом сверху, но ограниченном по сторонам, я чувствовал себя в ловушке. Над головой простиралось черное небо, оно словно манило взлететь, хотя летать мы не могли. Шум, доносившийся из центра амфитеатра, раздирал нам душу. Воздух был сладковатым, влажным. Он был пропитан грехом. – Ну конечно же, амфитеатр, – тихо сказал Атто. – Это могло быть только здесь. – А вы что, знаете это место? – спросил я. – Да конечно же, – ответил он, – еще во времена Цицерона… Резким жестом Угонио заставил его замолчать. В нескольких шагах за нами следовал хромой старик с теми двумя друзьями, которых мы видели снаружи. Я ощущал настороженность проводника – она была осязаемой, вещественной, как вся атмосфера этого тайного собрания мошенников. Словно толпа жадных лемуров, стремящихся разграбить все вокруг, черретаны собирались за нашими спинами.
* * *
От центра сцены исходил свет факелов, освещавший, судя по всему, огромную толпу. До нас доносился шум голосов. Мы подошли ближе, опасливо держась за спиной Угонио. Пройдя мимо горы хвороста, мы наконец-то сумели взглянуть на сцену. В нескольких шагах впереди находилась огромная, в человеческий рост, жаровня – в ней бушевало пламя, извергая искры. Вокруг небольшими группами расположились черретаны. Одни жадно ели свою скудную еду, другие пили прямо из бутылок дешевое вино. Кто-то играл в карты, а кто-то приветствовал прибывших, радостно поднимая руки. Все это общество было единой толпой грязных, ободранных, смердящих личностей. – Мы пришли как раз вовремя, – шепнул Угонио, жестом приказывая нам оставаться здесь. С другой стороны амфитеатра начала двигаться какая-то процессия, при виде которой сидящие неподалеку от жаровни поспешно вскочили. – Выборы только что прошли. Это предводители вместе с великим легатом, – сказал Угонио, указывая на процессию. – Впереди идет глава братства генсшереров, а за ним все остальные. – Так значит, здесь руководители всех братств черретанов? – спросил Атто. Глаза у него расширились. Угонио подтолкнул нас, чтобы мы присоединились к процессии. Я наблюдал за этой чудовищной бандой. Вспомнив слова Рыжего, я узнал предводителя лосснеров. У него действительно была тяжелая железная цепь на шее, и он все время бормотал «бран-бран-бран». Насколько я помню, его люди занимались мошенничеством: они утверждали, что находились в плену у турок, и поэтому разговаривали по-турецки. Конечно, этим вечером тут не было простофиль, которых можно было одурачить, но, как и все другие черретаны, лосснеры пришли, так сказать, в рабочей форме. – А где же сам великий легат? – спросил Атто, оглядываясь по сторонам в поисках Ламберга, – сколь бы безумной ни была эта идея. Вместо ответа Угонио направился к самому началу колонны. Он подошел к предводителю генсшереров – мужчине с окладистой седой бородой и длинными волосами, выбивавшимися из-под большой, украшенной перьями шляпы. В соответствии с традициями своего братства, предводитель был в одежде дворянина, впрочем, очень грязной и рваной. Угонио склонился перед мужчиной в шляпе, замедлив движение. Мы поспешно надвинули капюшоны ниже, испугавшись, что сейчас нас раскроют. К счастью, мерцающий свет факелов, почти не освещавший зрительный зал, помогал нам. Я оглянулся… Повсюду толпились хромые, прокаженные, немые и слепые. Их полуголые тела со шрамами от пыток, цепей или самобичевания временами сводило судорогой. Все это представляло интереснейший образец искусства обмана: эти шрамы и раны, судороги и гнойники, хромота и немота. Все это было не настоящим увечьем, а свидетельством высокого мастерства, следы которого оставались на их телах даже сейчас, когда они не занимались своим ремеслом – ложью и обманом. Присмотревшись получше, я понял, что они были совершенно спокойны, прогуливались туда-сюда, пили дешевое вино, смеялись и шутили. Это были абсолютно здоровые люди, и ничто не могло омрачить их радость. Меня разрывали ужас, страх и изумление, но времени обсудить это с Атто не было. После короткого разговора, из которого мы не услышали ни слова, Угонио вернулся к нам и процессия сдвинулась с места. – Посмотрите на генсшерера за спиной главы организации, – шепнул наш проводник. Мы увидели лысого, немного сутулого старика, одетого в совершенно разорванный костюм ремесленника и полустоптанные туфли. Значит, он тоже следовал предписаниям своего братства и просил милостыню, делая вид, что когда-то был достойным человеком, но впал в нищету. На спине он нес старый вещевой мешок, из которого торчали какие-то листы. – Это великий легат, – объяснил нам Угонио. – Что-о-о?! – прошипел Атто, у которого глаза на лоб полезли от изумления. – Это брат из Голландии. Его зовут Дреманиус. Он немного сумасшедший, читать не умеет совершенно, но переплетчик отменный. Именно поэтому он состоит в братстве генсшереров. Трактат у него, – прибавил Угонио, едва заметным движением головы указав на содержимое рюкзака. Атто заскрежетал зубами. Итак, все дело не в Ламберге и не в заговоре императора. Теперь все понятно: великий легат не был legatus, то есть послом. Он был legator – обычным переплетчиком. Вся путаница возникла из-за странной латыни, которую использовали черретаны. Так значит, трактат о тайнах конклава, который играл ключевую роль в судьбе Атто, находился в руках этого вшивого, мало чем примечательного голландца. – А на кой черт этому голландскому переплетчику Дреманиусу, или как там его зовут, мой трактат?! – спросил Атто, распаляясь от злости. – Он хочет отклеить переплет, это мне сказал глава организации. – Отклеить переплет?! – не переставал изумляться Мелани. – Три тысячи, чертей, что это значит?! Угонио пришлось промолчать: к нам приблизился черретан невероятного роста, с огромными грязными лапищами и черной повязкой на правом глазу. Он позвал Угонио с собой, и тот пошел за ним. Таким образом мы остались без проводника в этой безумной смердящей массе людей, стоя в процессии, ни цели, ни направления которой мы не знали. Неподалеку от нас какие-то оборванные старики ссорились из-за бутылки вина. Один из них, очевидно уже чрезвычайно пьяный, уставился на Атто и громко рыгнул. Мелани с отвращением отвернулся и невольно сунул руку в карман за носовым платком, но вовремя опомнился: ни в коем случае нельзя было привлекать к себе внимания подобной чистоплотностью. Внезапно марширующие черретаны, уже явно находившиеся в приподнятом настроении, завели странноватую песенку:Внезапно я почувствовал, как что-то холодное касается моей шеи, пытаясь заползти под накидку. Испугавшись до смерти, я обернулся и чуть не потерял сознание: моей беззащитной кожи коснулась огромная змея, которую держал в руках омерзительный нищий с грубым мясистым лицом. Черретан расхохотался и сильно хлопнул меня по плечу, так что я чуть не упал. Должно быть, это была шутка. Затем он спрятал змею в висевшую на плече корзину и начал с тремя-четырьмя товарищами петь хором:
Все произошло в считанные секунды. Сначала раздался громкий треск, напоминающий грохот землетрясения. Я взглянул в глаза Угонио, сидевшего наверху на сцене. Мы переглянулись над толпой черретанов, столь растревоженной этой речью. Сейчас толпа замерла. Снова послышался грохот, на этот раз еще более страшный. Серая смердящая масса черретанов мгновенно пришла в движение: одни вскочили от ужаса, другие бросились на землю, третьи кинулись врассыпную. Третий взрыв не дал этой жалкой массе очнуться, но на сей раз он сопровождался появлением роскошного пурпурного цветка, распустившегося над нашими головами. Малиновые лепестки окрасили толпу в цвет темной киновари, хотя она и не была достойна столь сиятельной красоты. Красные шары, взлетевшие над амфитеатром, также распустились искрящимися цветами, чьи лепестки опустились на землю и постепенно погасли.
Название первых ракет говорило само за себя: «огни землетрясения». Перед нашим отъездом Атто послал секретаря к дону Паскатио, чтобы выяснить, не осталось ли в подвалах виллы Спада чего-нибудь от запасов свадебного фейерверка. Его предположение оказалось правильным, и Бюва заставил дворецкого объяснить ему в мельчайших подробностях, как устраивать фейерверк (к счастью, на собрании черретанов огня было предостаточно) и как хранить ракеты: никакой влаги, никакой тряски, держать все время направленными вперед. Как правило, «огни землетрясения» использовались для триумфального завершения пиротехнического представления, когда уши уже привыкнут к грохоту взрывов, но Бюва использовал их без предупреждения. К тому же кратерообразное расположение амфитеатра усиливало звук, что делало воздействие на толпу еще эффективнее. Использовав две ракеты «огня землетрясения», Бюва зажег разноцветную ракету фейерверка. Аббат Мелани воспользовался тактикой Телемаха, сына Одиссея, который – как недавно напоминал нам Альбикастро – притворился перед собранием женихов, что сошел с ума, а потом, когда они не ждали от него этого, отомстил за своего отца. Расчет Атто оправдался. Черретаны вели себя точно так же, как и женихи Пенелопы у Гомера: несмотря на всеобщую сумятицу, со сцены никто не сошел – ни глава черретанов, ни двое его коллег, ни Дреманиус, голландский переплетчик. Увидев фейерверк, они не могли понять, розыгрыш ли это, развлекательное зрелище или нападение. Угонио стоял рядом с ними. Он сделал все очень быстро и точно. Когда первая красная ракета поднялась в небо и взоры всех в амфитеатре устремились к ней, фледдерер запустил свои пальчики в вещевой мешок голландского переплетчика. Вытащив трактат, он вложил туда книгу, которую Мелани дал ему в карете. Обе книги были внешне совершенно одинаковыми. Должно быть, Атто или Бюва было нетрудно найти книгу такого же размера в пергаментном переплете и без надписи, с такой же обложкой, какую аббат заказал бедняге Гаверу для своего трактата. «Голландцы Уничтожают голландцев», – шепнул мне Мелани несколько минут назад. Только сейчас я понял: благодаря намеку Альбикастро нам удалось украсть трактат о тайнах конклава из сумки Дреманиуса.
* * *
В этой праздничной, хотя и немного сбитой с толку толпе черретанов сейчас каждый спрашивал соседа, кому пришла в голову великолепная идея устроить фейерверк. – Пойдемте, синьор Атто. – Мы не можем, мы должны подождать, пока… Бюва! А вот и вы, три тысячи чертей! Все, нам пора отсюда выбираться. – А Угонио? – спросил я. Я взглянул на сцену. Фледдерер стоял сейчас с другой стороны, повернувшись к нам спиной. Более красноречивого знака и представить себе было нельзя: мы должны были уходить из амфитеатра сами, а он выйдет другим путем. Мы поторопились к тайному ходу. – Нет, не так, – шепнул Атто. – Делайте, как я. Вместо того чтобы повернуться и двигаться против направления толпы, туда, где находился проход, аббат Мелани сделал несколько шагов спиной вперед и лицом к сцене, так что его поведение не очень бросалось в глаза. Но было уже слишком поздно: полуголый черретан, давно заподозривший нас в чем-то, снова заметил меня и Бюва и попытался показать двум громилам, где мы находимся. Они бросились в толпу, пытаясь нас найти. В конце концов они нас заметили и начали охоту. – Синьор Атто, они послали двух парней, чтобы нас задержать, – сообщил я. Тем временем мы продолжали выполнять свою нелегкую задачу – продвигаться к двери через толпу, да еще и так, чтобы не вызвать подозрений. Расстояние между нами и нашими преследователями быстро сокращалось. Сорок шагов. Пятнадцать. Дверь, которая вела к тайному ходу, уже была видна. Десять шагов до мордоворотов. Восемь. Внезапно мое внимание привлекло движение неподалеку от нас. За спинами преследователей появился силуэт Угонио. Вот он бежит вперед, его останавливают, он оборачивается, пытаясь высвободиться, чья-то рука вырывает у него книгу Атто, Угонио защищается и вырывает книгу назад, побег продолжается, ненова руки, тянущиеся к трактату, переплет рвется… – Бюва! – приказал Атто, словно напомнив о предыдущей договоренности. Я не понял, что он имел в виду. Громилы уже находились от нас всего в шести шагах, и я присмотрелся к ним внимательнее. Они были грязными, как все черретаны, но очень мускулистыми и с остановившимся взглядом. Я инстинктивно догадался, что эти люди очень хорошо знают, как причинить боль. – Но где же… ах да! – воскликнул Бюва и бросился прямо на черретана, державшего в руке факел. Пламя раскрасилось в разнообразные цвета – красный, белый и желтый с голубоватыми переливами. Огненное колесо загорелось и начало бросать свои спирали на Угонио и его преследователей. Бюва правильно определил направление, подпалив бикфордов шнур в нужном месте и бросив ракету с удивительной точностью. Толпа тут же расступилась, как Красное море перед народом Моисеевым. Тем временем после всех церемоний и речи нового главы наступил момент, посвященный Вакху: на трибуну оратора собирались поставить огромную бочку, чтобы присутствующие могли удовлетворить свои низменные инстинкты. Емкость, которую несли уже пьяные черретаны, казалась тяжелой, как стадо буйволов. Она преградила путь нашим преследователям. Все остальные уже скрылись в тайном проходе, и я успел увидеть, что первому из громил размозжило ногу и он корчился от боли, а второй кричал на испуганных нашей ракетой носильщиков и пытался вытащить своего приятеля из-под бочки, которую они от страха на него уронили. От дыма фейерверка у всех слезились глаза, наступил хаос, только увеличивший панику среди черретанов. Больше я ничего не видел. Из щели закрывшейся за мной двери последний раз повеяло едким, гнилостным запахом черретанов, словно это было дыхание спящего дракона. Далее меня поразила освежающая чистота ночного бриза, подувшего нам в лицо, когда мы выбрались на свободу. Мы пошли через поля по траве – нужно было избегать тропинок, чтобы не столкнуться с кем-то нежданным. Всю дорогу мы прислушивались и присматривались, пытаясь обнаружить Угонио. Впрочем надежда на то, что он добрался до выхода, была очень слабой, ведь его раскрыли, хотя мы ничего не слышали и не видели. Атто выругался. Его трактат о тайнах конклава, ставший причиной смерти Гавера, остался у нашего Угонио, а тот попал в руки к черретанам. Фледдерер предал своих за деньги Атто, и эти деньги они наверняка найдут. И разорвут его за это на части.Уставшие до смерти и опечаленные поражением, мы добрались до того места, где оставили Сфасчиамонти. Наши нервы были натянуты до предела. В последние минуты Атто немного отстал чтобы вытащить что-то, что он нес в кармане, и нам с Бюва пришлось его подгонять. Сфасчиамонти пошел нам навстречу. – Поторопитесь, скоро начнет светать, – поторопил он нас. – Смотри! За тобой! – крикнул ему Атто. Стражник быстро повернулся, испугавшись нападения. Атто подошел ближе, выхватив что-то из кармана. В ночи выстрел его небольшого пистолета прозвучал сухо и резко. Вскрикнув от боли, Сфасчиамонти упал лицом на землю. – Пойдемте, – только и сказал аббат Мелани. У меня не хватило мужества оглянуться на огромную фигуру сбира, упавшую на траву в лужу крови.
* * *
Мы отправились туда впятером, а вернулись втроем. Угонио сейчас, наверное, линчевала толпа в амфитеатре, а Сфасчиамонти полз по полю в безумной надежде выжить. Сев в карету, которая по-прежнему ждала нас за сараем, мы поехали обратно. На немой вопрос в глазах кучера, заметившего, что Сфасчиамонти (который, собственно, и нанял его) и Угонио не было с нами, Атто коротко ответил: – Они решили остаться на ночь. Для убедительности Мелани сунул кучеру в ладонь золотые монеты. Это отбило у последнего желание задавать какие-либо вопросы. И снова, как тогда, семнадцать лет назад, я украдкой глядел на лицо аббата Атто Мелани, столь знаменитого когда-то кастрата, доверенное лицо Медичи во Флоренции, друга Мазарини и многих князей в Европе, кардиналов, пап и королей, тайного агента его величества короля Франции. Я глядел и задавался вопросом: не вижу ли я на самом деле подлого преступника или еще хуже – хладнокровного убийцу. С безжалостным спокойствием он выстрелил в бедного Сфасчиамонти. Такой решительности никто не сумел бы противостоять. Если бы я запротестовал, то меня, скорее всего, постигла бы та же участь, что и сбира. Я сидел напротив аббата в карете. Ноги и руки у меня были холодными, одеревеневшими, на ощупь как мрамор. Бюва, которого захлестнули противоречивые чувства, вскоре не справился с такой нагрузкой и забылся глубоким сном, словно ребенок.Атто постарался избавить меня от не очень приятной необходимости задавать вопросы. Казалось, онпочувствовал сумятицу моих мыслей и попытался их успокоить. – А ведь именно ты навел меня на эту мысль, – внезапно сказал он. – Во-первых, следует обратить внимание на легкость, с какой вор проник в мою комнату. Ты заметил мне это, когда мы осматривали комнату сразу после пропажи книги. Ты сказал тогда, что вилла Спада очень хорошо охраняется. И я решил кое-что проверить. – Как? – спросил я, ничего не понимая. – Спросил у вора, естественно. У Угонио. Он сообщил мне, что, по словам черретанов, их работа была не столь уж сложной, поскольку им помогал кто-то на вилле Спада. – Так Сфасчиамонти нас предал… – пробормотал я. Мне трудно было смириться с этой мыслью. Неужели Угонио и его приспешники могли подготовить кражу исключительно с помощью Сфасчиамонти? – Угонио мог показать на Сфасчиамонти, только для того чтобы оклеветать нашего сбира, – возразил я. – В конце концов сбиры и фледдереры – известные враги. – Да, это действительно так. Но сперва я сказал ему, что подозреваю дона Паскатио, которого фледдереры вообще терпеть не могут. Вот так я поймал его в ловушку. – И? – Во-вторых, ты снова-таки навел меня на интересную мысль упомянув о реформе корпуса стражников, о которой говорили на празднике. Если бы эту реформу провели, многие потеряли бы работу. В том числе и Сфасчиамонти. Итак, наш сбир боится за свое будущее, ему нужны деньги. А потом происходит эта невероятная история с шаром. – Вы имеете в виду то, что произошло в соборе Святого Петра? – Было очевидно, что именно он тогда помешал тебе забрать мой трактат, – странное, но достойное внимания совпадение, должен признать. Это было связано с Забаглией из собора Святого Петра, друга черретанов, а может быть, с кем-то из них самих, кто выполнял для Забаглии грязную работу. Я сделал вид, что поверил сбиру, когда он рассказывал, как нес тебя до виллы Спада, потеряв при этом – надо же! – мой трактат. – А что же, как выдумаете, произошло на самом деле? – Сфасчиамонти пытался добраться до шара раньше тебя, ведь он не хотел дать другому захватить трактат. И он вовсе не споткнулся и не упал, как тебе показалось, нет, он специально бросился на тебя всем своим телом, сбил с ног и ударил по голове, чтобы ты потерял сознание. Потом с помощью охранников, дружков Забаглии, он вытащил тебя оттуда. Теперь я снова вспомнил, что, когда Сфасчиамонти принес меня после нашей неудачной вылазки в собор Святого Петра, Атто произнес какие-то таинственные фразы, сидя у моей кровати. Теперь я понял их смысл. – Если я правильно помню, вы сказали: «Никому не удается спастись от смерти, если только ему не оказывает помощь кто-то, кто привык это делать». Вы имели в виду, что Сфасчиамонти спас меня от смерти и от ареста? – Да, точно. – Кроме того, вы говорили: «За каждой странной и необъяснимой смертью кроется государственный заговор, заговор тайных сил». – Да, действительно. И это касается не только убийств, но всех краж, несправедливости, распутства, скандалов, от которых страдает народ, но никто ничего не в состоянии сделать. А вот государство может все, если у него есть такое желание. И не важно кто правит страной: король, папа или император. То, что черретанам так привольно живется в Риме, – наглядный пример тому. Это становится возможным потому, что отдельные сбиры или их начальники, тюремщики и губернаторы коррумпированы, а может быть, коррумпировано само государство, и черретаны, когда это необходимо, используют его в собственных целях. Всегда помни об этом, мальчик мой: счастлив тот преступник, который по приказу государства сеет страх и панику, ему наверняка удастся избежать тюрьмы. Но так будет только до того дня, когда переполнится чаша его тайного знания – тогда и преступникам придет страшный конец. – Да, действительно, пару дней назад мне говорили, что слепые и калеки из братства святой Елизаветы подкупают стражников, чтобы спокойно просить милостыню. – Да, я об этом знаю. Почему же тебя удивляет, что черретаны подкупили Сфасчиамонти? И вправду, это подозрение мучило меня с того самого момента, как я услышал о братстве святой Елизаветы. Мучило не переставая, хотя я и не мог его сформулировать! Но зачем же он помогал нам разоблачить Забаглию? А ведь именно поэтому мы могли понять, что ваш трактат находится в соборе Святого Петра. – Я попросил его выяснить, кто тот человек, о котором говорил дон Тибальдутио. Конечно же, я не сказал ему, для чего нам эта информация, но ему самому хотелось выяснить, что мы будем с ней делать. Я молчал, зализывая душевные раны. – Сфасчиамонти не дурак, – продолжал аббат. – Он один из многих сбиров, имеющих финансовые проблемы и поэтому балансирующих на опасной грани между законом и преступлением. Они всегда ищут золотую жилу, которую могли бы разрабатывать: беглые убийцы; шлюхи, противозаконно использующие собственные квартиры для своего ремесла; сборщики налогов обворовывающие государство, и т. д. Их всех можно шантажировать. Найдя жертву, стражник дает знать о себе преступнику: он делает вид, что хочет арестовать его или конфисковать имущество. Так он выслуживается перед начальством, но на самом деле всегда останавливается за шаг до цели: при аресте он опаздывает на две минуты, на допросе забывает задать решающий вопрос при конфискации не заглядывает в ту комнату, где лежит наворованное имущество. За это жертва расплачивается с ним деньгами. Черретаны всегда откладывают деньги на подобные нужды. – Но черретанов слишком много, чтобы они боялись… – …боялись такого дурака, как Сфасчиамонти? Для тех, кто занимается противозаконной деятельностью, любой городской сбир подобен комару: если не можешь его прихлопнуть, попытайся выгнать в окно. С помощью денег это сделать очень легко, а вот если не давать взяток, то приходится идти на ненужный риск. А еще лучше – подружиться со сбиром, ведь пока он берет у тебя взятки, он заинтересован в том, чтобы все оставалось как есть. Ты же знаешь: если копаться в дерьме, то вонь распространится повсюду. Я молчал как громом пораженный. Грубоватый, но честный стражник, которого, как мне казалось, я знал, оказался подлым коррумпированным ублюдком. – Кто знает, давно ли Сфасчиамонти уже сидит на шее у черретанов, – сказал Атто. – Если он слишком близко подходит к цели и угрожает устроить серьезный переполох, они идут на некоторые уступки и он снова становится шелковым. Он очень хорошо все обставил при допросе Рыжего и Джеронимо: сфальсифицировал дату протокола, чтобы его нельзя было использовать, впрочем, как и найти. Какому судье может понадобиться протокол допроса прошлого века? Но вот информация в протоколе достаточно компрометирующая, поскольку речь там ид о сегодняшних событиях. Черретанам протокол как бельмо в глазу, ведь они хотят сохранить свою организацию в тайне и готовы хорошо заплатить, чтобы ничего не вышло наружу. Все идет своим чередом: он шантажирует их, а они платят. Работа в городской страже отвратительно оплачивается, да недавно ты сам рассказывал мне, что прелаты на вилле обсуждали, отчего городская стража в Риме такая коррумпированная. – Но почему Сфасчиамонти не боится, что черретанам это рано или поздно надоест и они его убьют? – Убьют его? Об этом не может быть и речи. Мертвый сбир – огромная проблема. Но вот если его подкупить, то все решается очень быстро и просто. Если его устранить, то еще неизвестно, кого поставят вместо него. А вдруг это будет какой-нибудь принципиальный человек, который не станет брать у черретанов деньги? – А когда вы убедились во всем окончательно? – После вашей попытки проникнуть в сферу в соборе Святого Петра мои подозрения возросли, но сегодня вечером я получил окончательное подтверждение своей догадки. Откуда, как ты думаешь, черретаны узнали, что Рыжий их сдал, как сказал Джеронимо? – Сфасчиамонти, – проговорил я надтреснутым голосом. Так значит, стражник помогал нам в расследовании, оказывая небольшие услуги, только для того, чтобы контролировать ход событий и сбить нас с толку, с горечью подумал я. – Самое интересное, что мне пришлось ему заплатить за помощь. Получается, деньги шли к нему с двух сторон: и от меня, и от черретанов, – сказал Атто, язвительно улыбаясь. А это вы придумали насчет фейерверка? Я решил устроить его только в крайнем случае, чтобы вызвать переполох и воспользоваться всеобщей паникой. Идея твоего господина Спады завершить празднество пиротехническим представлением спасла нам жизнь. Ты только в последний момент узнал о том, что произойдет в амфитеатре. Понимаешь, я не имел права рисковать. Ведь ты мог проговориться Сфасчиамонти. Я почувствовал, что краснею. Несмотря на свою благосклонность ко мне и дружбу, Атто в решающие моменты воспринимал меня, как простофилю, которому ни в коем случае нельзя доверять важные секреты. Тут уже ничего не поделаешь, подумал я. Шпион всегда остается шпионом. Он одинок и относится с недоверием даже к своим друзьям. – Но почему вы взяли его сегодня ночью с собой? – Чтобы проконтролировать. Он думал проследить за нами но все вышло наоборот. Угонио по моему указанию запретил Сфасчиамонти идти с нами в амфитеатр. Так он не сумел помешать нашим планам. Естественно, сбир ничего не мог возразить, в противном случае он вызвал бы массу подозрений, ведь, в конце концов, я плачу ему за то, чтобы он выполнял мои распоряжения. Возможно сбир и попытался бы тайно проникнуть в амфитеатр, чтобы выдать нас, но вот только он не знает, где тайный ход. Я смотрел в пустоту перед собой. Этого просто не могло быть! Неужели я настолько не разбираюсь в людях? Неужели Сфасчиамонти и правда такой подлый и злой? Я вспомнил, как впервые повстречался с этим грубоватым, но смелым стражником, вспомнил, как он жалел, что не может убедить губернатора возбудить дело против тайной организации черретанов. Вспоминал этого сбира, которого могло отвлечь от работы только одно: визиты к матери… – Кстати, – сказал Атто, словно прочитав мои мысли, – я поручил Бюва в перерыве между работой в библиотеке посетить священника в том квартале, где живет Сфасчиамонти, и порасспросить его немного. Знаешь, он обнаружил кое-что действительно интересное. – Что? – Мать Сфасчиамонти умерла шестнадцать лет назад.
Я молчал, опечаленный своей наивностью. А ведь Атто понял, что Сфасчиамонти нас предал, по собственным наблюдениям и информации, которая большей частью поступала от меня. Но вот я эту информацию логически сопоставить не сумел. – Одного не понимаю, – вскинулся я. – Почему вы раньше его не разоблачили? – Это один из самых глупых вопросов, которые ты мне когда-либо задавал. Подумай о Телемахе. – Снова он? – раздраженно воскликнул я. – Я уже понял, что история Телемаха навела вас на идею отвлечь черретанов фейерверком. Но я, честно говоря, не понимаю… – Гомер описывает Телемаха как умного, образованного и сильного человека, – перебил меня Атто. – Он хвалит его в каждом стихе. Но что говорит о нем Эвмей, свинопас, который так его любил? Он утверждает, что один из богов помутил ему рассудок. А его собственная мать, столь верная мужу Пенелопа? Она кричит о том, что Телемах лишился и разума, и духа. И это говорят те, которые любят его больше всего, делая такой вывод из его поступков. Они не разглядели тончайшей мудрости и осторожности его, казалось бы, неразумных действий. А знаешь почему? – Он делает вид, что он сошел с ума, чтобы женихи, оккупировавшие дворец Одиссея, ничего не заподозрили, – ответил я. – Но еще раз повторяю, я не понимаю, что… – Подожди и послушай меня. Телемах скрывал свою хитрость под маской безумия, чтобы заманить женихов в смертельную ловушку с луком Одиссея. Он сам говорил о том, что Зевс лишил его рассудка, а он радуется и смеется, глупый мальчишка. Чтобы спровоцировать своих жертв, Телемах попытался сам завладеть луком, с которым мог управиться только его отец. И продолжал свой спектакль до того момента, как Одиссей взял лук и победил всех женихов. – Я понимаю, – наконец-то сказал я. – Выдавали Сфасчиамонти понять, что доверяете ему, до того момента, пока у нас не появилось преимущество. – Именно так. Если бы я разоблачил его раньше, мы никогда ничего не узнали бы от Рыжего, не добрались бы до Угонио, и так далее. Вы очень умело все провернули: вам удалось пригреть змею на груди так, чтобы она вас не укусила, – с изумлением протянул я, не думая в тот момент, что аббат беспечно послал меня с предателем на задание. – Кроме того, – иронически подметил Атто, – было очень трудно избавиться от Сфасчиамонти раньше. В конце концов, не мог же я во время празднества на вилле Спада всадить ем добрую порцию дроби в задницу!
* * *
Мы ехали в первых лучах утренней зари. Усталость давила на веки, но слишком много вопросов терзали мой разум. – Синьор Атто, – спросил я, – почему вы ругались, когда глава черретанов сказал, что книга принадлежит иностранному священнику, который хотел найти их тайный язык? – Ну наконец-то ты задал мне правильный вопрос. В этом-то вся проблема. – Но почему?Это была проблема неправильной постановки цели. Если ставятся неправильные цели, объяснил Атто, то ничего хорошего не получится. Первой неправильной целью был кардинал Албани. Теперь мы знали, что он никак не связан с кражей манускрипта Атто. Второй неправильной целью был Ламберг. Мы думали, что посол императора стоял за этой кражей, потому что нуждался в достоверном анализе и данных, приведенных Атто в этой книге, написанной для «короля-солнце». Еще одна ошибка. – Ламберг – очень набожный, верующий человек. Вместо того чтобы быть послом, ему надо было бы жить придворной жизнью в Вене, наслаждаться олениной и штруделями, как все его соотечественники, и заботиться о мирных австрийских землях своего лена. Он тоже не связан с кражей моего трактата. – Но почему вы так в этом уверены? – Я так уверен потому, что никто не заказывал черретанам моей книги. Она нужна была им самим. – Самим? Зачем? – Помнишь, что сказал Угонио, когда мы были возле терм Агриппины? Он буркнул, что черретаны нервничают, поскольку кто-то украл у них новый тайный язык. Это подтвердил и Джеронимо, тот черретан, которого сегодня допрашивал Сфасчиамонти. Тогда слова Угонио показались мне бессмысленными, но все равно не шли из головы. Новый язык. Мы знаем, что у черретанов есть тайный язык, арго, или как он там называется. Мы знаем, что это намного более серьезная штука, чем та просто-таки смешная феня, которую ты слышал, падая с террасы на Камподи Фиоре. – Вы имеете в виду… Трелютрегнер? – Да, именно. Их тайный язык использовал идиоматические выражения, которые мы понимали благодаря словарику, составленному Угонио. Постепенно он становился все понятнее для посторонних, и черретаны решили обновить его. Помнишь, что говорил нам Бюва? Арго – это язык, которому много столетий, но он постоянно меняется. Как только непосвященные начинают понимать, о чем идет речь, черретаны немного изменяют его, как раз настолько, чтобы язык снова стал непонятен. Но на этот раз кто-то украл ключ к новому языку, правила, по которым он должен функционировать, или что-то вроде того. Именно это Джеронимо пытался сказать нашему дорогому Сфасчиамонти и его товарищам. Возможно, украли просто лист бумаги, на котором были написаны правила построения фраз и понимания обновленного арго. – Да, я слежу за ходом ваших рассуждений, – сказал я, чувствуя, как во мне растет понимание. – Итак, став жертвами такой кражи, черретаны решили сделать все возможное, чтобы вернуть себе этот столь важный для них листок. Ты со мной согласен? – Да, конечно. – Вот видишь. А что они всеми силами пытались отобрать у меня? – Ваш трактат! Вы что, хотите сказать, что тайный язык черретанов – в вашем… – О нет, это не то, что я написал. Я ничего не знаю о языке черретанов. Но вот сам этот лист, если быть точным, находится в книге. – Это как? – Ты знаешь, как делают переплет из пергамента? Такой, как сделал бедняга Гавер? – Его делают из… клей на использованной бумаге! Теперь я понимаю! Указания по использованию тайного языка были вклеены в переплет! Угонио тоже говорил, что этот странноватый черретан, голландский переплетчик, должен был отклеить переплет. – Вот именно. Он должен был вытащить из переплета моей книги лист с описаниями правил нового тайного языка. Действительно, бумага для переплетов обычно приклеивается исписанной стороной. – Так они специально пригласили специалиста из Голландии чтобы он вытащил оттуда этот лист? Я вот только одного не понимаю: как этот лист попал туда? – Ну что за глупости! Переплетчик туда его вклеил. Гавер. Он сделал это случайно, понятное дело. – Поэтому черретаны ворвались к Гаверу и все там перерыли. Они искали вашу книгу! – А бедняга при этом умер от ужаса, – печально добавил Атто. – Но только ты, наверное, помнишь, что, когда они явились к Гаверу, он уже отдал книгу, и они ушли ни с чем. Они поняли это, когда просмотрели все, что удалось утащить у Гавера. Это были лишь горы использованной бумаги. – И поэтому они поручили Угонио украсть у вас трактат. – Именно. Фледдерер шел на дело наверняка. У меня не было других книг в новом переплете. Впрочем, ему не так уж и легко было найти нужную книгу: ни он, ни черретаны не знали ее содержания. – Да, я понимаю. Но как этот лист попал в мастерскую к Гаверу? И как черретаны вышли на его след? – Напряги память. Может быть, ты помнишь, что сегодня вечером неподалеку от сцены стоял парень, показавшийся нам знакомым. Мы думали, что уже видели его где-то. – Да, но я никак не мог понять, где же мы с ним встречались. Может быть, мы видели его, когда он просил милостыню. А может быть, он был с другими попрошайками в тот вечер, когда мы преследовали Рыжего и Джеронимо. – Нет, это не так. И все же ничего удивительного здесь нет. Мы видели его всего несколько секунд. Между прочим, я разглядел его получше, чем ты, ведь это мне он всадил нож в руку. – Черретан, которого Сфасчиамонти преследовал перед виллой Спада! – Да, именно он. И то, что сегодня вечером он стоял рядом с руководителями всей этой братии, с Угонио и этим маленьким уродцем, как же его там звали… да, точно, Дреманиусом, совсем несовпадение. Этот парень – ну, тот, кожа да кости, который ударил меня ножом, – должен был в тот день куда-то отнести лист с шифром тайного языка. Он столкнулся с нами, лист упал и затерялся среди других бумаг. Так он попал в мой переплет. После указаний Сфасчиамонти черретанам ничего не стоило обнаружить мастерскую Гавера. – Но почему тот черретан вообще стал бить вас ножом возле виллы Спада? – Он на меня не нападал. Это был несчастный случай. Сфасчиамонти увидел его неподалеку и понял, что он что-то затевает. Сбир попытался задержать его, а потом побежал за ним. У Сфасчиамонти оказалась отличная интуиция: черретан нес с собой новый ключ для расшифровки арго. Возможно, он был посланником: приближалось собрание черретанов, как мы теперь знаем, и подготовка к нему шла полным ходом. Во время бегства парень держал нож в руке, чтобы защищаться, если его догонят. Потом он столкнулся со мной и поранил меня так, что рука до сих пор болит. Нож он потерял. Неудивительно, что Сфасчиамонти тогда отобрал у меня нож. Наверняка он сделал это, чтобы никто не забрал у него расследования дела. – Но почему черретаны не могли сразу же заказать себе новый список правил, вместо того чтобы красть трактат? – А другого списка не существует, насколько я понимаю. – Откуда вы знаете? – Тут нужно только сложить два и два. Бюва рассказал нам, что по традиции лишь глава черретанов может устанавливать новые правила. Он пишет их собственноручно и зачитывает во время всеобщего собрания перед представителями всех подразделений организации. Представители заботятся о том, чтобы новый канон распространился. В свою очередь, Угонио сообщил нам, что предстоят выборы нового руководителя, так как прежний умер. Умер единственный, кто знал содержание этого листа: его создатель. – Собрание уже было объявлено, может быть, много месяцев назад, – продолжил я ход его мысли. – Множество черретанов стекалось со всей Италии, и для того чтобы сочинить новые правила, времени не оставалось. – Да, это очевидно. Представь, если им срочно требовалось создать новый уникальный язык вместо того, который придумал умерший руководитель, что могли придумать эти оборванцы всего за неделю?
– Просто невероятно, – протянул я, немного помолчав. – Никогда не подумал бы, что Сфасчиамонти так яростно преследует именно того, с кем ведет дела. – Вот это как раз ясно как божий день. Коррумпированные сбиры – первые, кто является на место преступления или туда, где такое преступление подозревают. Они издалека чуют деньги, которые можно добыть шантажом. Помедлив, он вытер пот со лба изящным носовым платком. – Как вы думаете, он выживет? – Не беспокойся. Перед тем как стрелять, я позаботился о том, чтобы он повернулся ко мне спиной. По двум причинам. Во-первых, он предатель, а предателям всегда стреляют в спину. Во-вторых, я целился ему в ягодицу, единственную часть тела, где нельзя раздробить кость, а риск гангрены практически сводится к нулю. Осведомленность аббата Мелани о гангренозных воспалениях, вызванных огнестрельными ранами, позволила мне предположить, что в прошлом ему часто приходилось с этим сталкиваться. Как и каждому истинному шпиону.
Когда мы вернулись, солнце уже совсем взошло. Мы остановились не слишком близко к вилле Спада, чтобы выйти из кареты незамеченными. Атто устал до смерти. Нам с Бюва приходилось поддерживать его под руки, чтобы он добрался до своей комнаты. Слуги на вилле уже привыкли к тому, что мы приходим и уходим когда хотим, и сделали вид, что ничего не заметили. Улегшись в кровать, аббат Мелани закрыл глаза и приготовился к тому, чтобы уснуть. Он лежал так, словно был мертв. Я уже хотел выйти, когда заметил, что Атто наморщил нос, словно ему мешал какой-то неприятный запах. Глаза у меня устали не меньше, чем у Атто, но я заметил движение за занавеской. Внизу у пола в ее складках скрывалась пара отвратительных башмаков. «Это никогда не кончится», – подумал я. Меня раздирали страх и раздражение. Незваный гость не шевелился, вероятно опасаясь нашей реакции. Бюва, Атто и я застыли, каждый ждал, чтобы другой начал действовать первым. – Выходи, кем бы ты ни был, – наконец-то произнес аббат, хватаясь за пистолет. Стало очень тихо. – Чтобы казаться все же целителем, а не лжецом, нижайше прошу позволить передать вашему драгоценнейшему и высочайшему светлейшеству этот скромный результат моих старательнейших изысканий, – услышали мы чье-то хриплое робкое бормотание. Из-за шторы высунулась чья-то рука с сильно изорванной книгой, которую, казалось, переехали колеса сотен карет. – Мой трактат! – воскликнул Атто, выхватывая книгу, и резким движением отодвинул складки занавеси в сторону. Угонио, который выглядел еще хуже, чем обычно, не стал вдаваться в подробности. Он объяснил, что сумел сбежать от черретанов только благодаря фейерверку, который зажег Бюва незадолго до того, как мы оттуда убежали. Вырвавшись на свободу, Угонио тщательно избегал тропинок, поэтому мы его и не видели. В Риме ему повезло: он украл лошадь из неохраняемой конюшни хотя это был чудовищный риск. Владелец лошади мог догнать его и убить: он вооружился до зубов и гнался за Угонио на молодом коне. И вот теперь он приехал, чтобы отдать обещанную книгу и получить заслуженный гонорар. Аббат Мелани не стал уделять ему особого внимания. Его переполняла радость, оттого что трактат снова с ним. Он открыл первую страницу, и я собственными глазами увидел то, за что готов был рисковать жизнью.

Атто с гордостью прочитал мне фронтиспис: – «Тайные мемуары. Важнейшие результаты последних четырех конклавов и многочисленные наблюдения папского двора в Риме». – Будьте так добры простить мою нижайшую просьбу, но уж не откажите в любезности, коль скоро вас не затруднит, выдать мне последнюю часть заработанного, – поторопил нас Угонио, массируя плечо. Рука у него была перевязана, а на лице виднелись следы запекшейся крови. – Что случилось? – спросил Атто, поднимая голову от своего труда. Он до сих пор не понял, что Угонио могли схватить, когда он пытался выкрасть трактат. – О, это сущая мелочь, небольшое недоразумение. Ответ был слишком расплывчатым, и Атто начал терять терпение. – И что это ты хочешь мне сказать? Учитывая то, сколько денег я тебе дал, ты чуть не попался с моим трактатом, и называешь это небольшим недоразумением?! – зарычал аббат. Фледдерер смущенно молчал. Его ранение было очевидным свидетельством того, что, когда он забрал книгу у черретанов, что-то пошло не так. Ему все-таки пришлось рассказать нам, что же произошло. Сперва Угонио в своей излюбленной манере долго и многословно объяснял, используя крайне образные и вежливые выражения, что у великого легата Дреманиуса на шее была цепочка с очень интересной реликвией: маленьким деревянным распятием, к которому был прикреплен кулон с зубом, – в нем Угонио, с его чутьем на вещи, моментально узнал зуб из святых мощей Лебена, голландского святого. – Черт побери, это меня не интересует! Ты же не для того туда пришел, чтобы… – Атто запнулся и поднес ладонь ко рту. Глаза у него сузились и стали колкими, как два кинжала, готовые вот-вот ударить. – Продолжай. Угонио стал рассказывать свою историю дальше, сдабривая ее двусмысленностями и метафорами. Уже вытащив трактат Атто из сумки великого легата, он не сумел противиться искушению. С кошачьей грацией он наклонился к уху голландца и принялся нашептывать ему какую-то чушь. Паника, вызванная фейерверком, продолжалась, и все собрание превратилось в вопящую толпу идиотов. Угонио удалось одной рукой расстегнуть цепочку на шее голландца: он сделал вид, что потерял равновесие и чуть не упал на свою жертву («Очень изящный и полезный прием!» – радостно сообщил он). Голландец даже не понял, что в этот момент его грабили. Распятие скользнуло к животу великого легата, а Угонио подхватил его и сунул в сумку. – Я так и думал, – пробормотал Атто, с трудом сдерживая гнев. Мы с Мелани знали, что фледдереры крали все, что угодно но их истинной страстью были священные реликвии – неважно настоящие или поддельные. Доказательств этой нездоровой страсти мы получили достаточно семнадцать лет назад. К сожалению, неудержимое желание завладеть какой-то реликвией проявлялось именно в тот момент, когда на карту было поставлено что-то очень важное. Жадность Угонио была наказана. Голос фледдерера от смущения становился все тише и тише. Когда через несколько минут великий легат почесал свою грязную, вшивую грудь, он увидел, что у него украли зуб святого Лебена. Тут же он обнаружил и пропажу трактата, чего в противном случае никогда бы не случилось. Угонио пришлось бежать и только благодаря силе своего отчаяния и фейерверку, устроенному Бюва, ему удалось улизнуть от своих бывших союзников. – Дреманиус оказался простачком, которого легко надуть – закончил свою речь фледдерер, сияя от удовольствия. Его радость от подобных мошенничеств была наивной и искренней. – Ах ты прохвост! Идиот! Животное! – раскричался Атто. – Я потратил на тебя кучу денег, чтобы вернуть мой трактат, а вовсе не для того, чтобы ты занимался своим дурацким дерьмом! Обвиняемый молчал. Его лицо мгновенно приняло обычное жалобное выражение, за которым скрывалась животная жадность, свойственная примитивным натурам. – Я хочу спросить у тебя только одну вещь: где же теперь священная реликвия? – спросил я, в ужасе и изумлении от неумолимой тяги этого человека к воровству. Словно крестьянин, достающий своего лучшего кролика из клетки, чтобы показать его покупателям, Угонио вместо ответа вытащил из накидки коробочку. Кулон с зубом святого Лебена. Его трюк удался. – Теперь черретаны приложат все возможные усилия, чтобы выяснить мое местоположение, – сказал он испуганным голосом. – По причине трусости своей я должен с огромнейшей скоростью направить стопы свои подальше отсюда. Полагаю, что путь мой должен лежать в Виндобоно. – Ты возвращаешься в Вену? – удивился Атто, вкладывая ему в здоровую ладонь кошель с деньгами. Угонио проверил содержимое кошеля, ведь в конце концов он заслужил эти деньги, и улыбнулся довольный. Мы знали, что Угонио был родом из столицы империи и поэтому с такими странностями говорил на итальянском. Но мы и представить себе не могли, чтобы черретаны так ожесточенно его преследовали, что он вынужден теперь возвращаться на родину. – Как бы то ни было, я могу предположить, что после этого святого года у тебя не будет проблем со средствами, чтобы вернуться на родину, – заметил Атто. Угонио не смог скрыть довольную ухмылку. – Чтобы казаться все же целителем, а не лжецом, нижайше прошу позволить отметить, что празднования по случаю святого года были весьма удовлетворительны и богаты. Я вынужден буду сокрыться в преотдаленнейшей и упокоительнейшей резиденции и попытаться не вызывать к себе интереса сбродоищ. Аббат Мелани, этот гений цинизма, кажется, даже проникся к нему милосердием. – А разве ты не можешь на время уехать в Неаполь, который находится всего в нескольких часах езды отсюда, а потом, когда все уляжется, возвратиться обратно? – Черретаны неумолимы, убивательны и очень злодолгопамятны, – возразил Угонио, подходя к окну, через которое он, вероятно, и влез в комнату. – По счастью моему высочайшему, им удалось овладеть тем, что они столь жадно вожделели. Он указал на трактат, который Атто наконец-то мог называть своим, и исчез. Я не знал, увижу ли его еще когда-нибудь. В этот момент я обратил внимание на то, что переплет книги разорван, и вспомнил, что видел в амфитеатре, как книгу рвали, в то время как Угонио пытался убежать от преследователей. Черретаны добились своего: новые правила тайного языка остались в их руках.
16 июля лета Господня 1700, день десятый
На следующий день аббат Мелани позвал меня в свои покои. Я поспал всего несколько часов, ведь большую часть времени меня одолевали воспоминания о событиях в Албано, о приезде мадам коннетабль, о нервном срыве аббата и об истории печальной старости его величества короля Людовика XIV, который так и не сумел забыть свою Марию. Но в первую очередь меня одолевали воспоминания о тетракионе. Я думал долго. Очень долго.Секретарь Атто принес мне великолепный костюм и пару начищенных до блеска туфель. В конце пребывания на вилле Спада аббат наконец-то реализовал свое изначальное желание нарядить меня в новую одежду. Я знал, почему он это сделал, а вернее, для кого. Я вымылся, переоделся и тщательно расчесал волосы, а затем связал их красивой лентой из синего льна, которая прилагалась к костюму. Когда я вышел из дома, меня заметила Клоридия и изумилась: – О Господи, вот это роскошь! Твой аббат действительно очень великодушен. Надеюсь, что теперь он наконец-то не поскупится на приданое для наших малышек. – Сегодня мы пойдем к нотариусу, – сообщил я. – Ну наконец-то. Мне кажется, эти деньги достались тебе нелегким трудом.
Когда я пришел к Атто, ничто в его поведении не свидетельствовало о чудовищных перипетиях, которые нам пришлось пережить прошлой ночью. Им снова владело то состояние искусственного нервозного покоя, что и вчера вечером. С одним-единственным исключением: он наконец-то оделся. К моему изумлению, на нем были фиолетовая льняная сутана и аббатская шапочка. В такой одежде я впервые увидел его семнадцать лет назад, и в такой одежде он возник передо мной на вилле Спада совсем недавно. Одеяние его было чистым и отутюженным, но оно вышло из моды и напоминало о давно прошедших временах. Ну и правильно, подумал я. В конце концов, его ожидала встреча с прошлым. Я ощутил что-то вроде благодарности. Он решил пойти на встречу с мадам коннетабль в этой простой одежде, той самой, в какой он был, когда с ним познакомился я. Единственным знаком его тщеславия были французские духи, заполнившие всю комнату слишком сильным запахом. Атто сидел у письменного стола и запечатывал красную ленту, перевязывавшую свернутое письмо. Его старческие руки дрожали, и ему никак не удавалось запечатать письмо. День был очень жарким и душным. Из окон долетало пение процессий. По улицам квартала Трастевере шли представители братств, которых созывала на собрание церковь карминской Божьей Матери. Увидев меня, Мелани вздохнул. Виду него был очень уставший. Так всегда бывает, когда мы чувствуем, что не способны выполнить задание или оправдать ожидания, которые возлагает на нас кто-то другой. Мелани со мной даже не поздоровался. – Сегодня утром я договорился о встрече. Мы должны быть там через полчаса, – лаконично обронил он. – Где? – В женском монастыре Кампо Марцио. – А почему она не осталась здесь и не переночевала на вилле? – Судя по тому, что она мне сообщила, ей это показалось нетактичным. Праздник закончился, и у кардинала Спады сейчас в голове совсем другое. У входа нас ждала карета. Мы двинулись в путь, и Атто погрузился в созерцание виллы, остававшейся за нами. Я знал, или, по крайней мере, подозревал, что творилось в этот момент у него в голове. Торжества закончились, заботы о черретанах остались в прошлом, и пора было возвращаться к будням. После встречи с мадам Атто вернется к своей личной борьбе: он хотел сыграть решающую роль в делах ближайшего конклава. В то же время ему мешала тоскливая мысль о том, что время утекало сквозь пальцы и сейчас сиденья в карете казались ему намного жестче, чем много десятков лет назад, когда он, еще молодой кастрат, рассчитывающий только на свои таланты и протекцию герцога Тосканы, жадно глядел на этот город из окна совсем другой кареты, – город, где он хотел сыграть свою роль на этом великом празднике музыки, политики, интриг, а может быть, однажды и славы. Через несколько месяцев, когда начнется новый конклав, он узнает, хватило ли ему жизни на то, чтобы добиться этого. А вот через несколько минут он узнает, хватило ли ему всей жизни на то, чтобы забыть о своей великой любви. Когда лошади скакали мимо «Корабля», Атто выглянул наружу и посмотрел вверх. Я знал, о чем он думает. О тетракионе. Настало время поговорить об этом. – А почему Капитор, говоря «два в одном», указывала на скипетр Нептуна, то есть на трезубец? – спросил я. Аббат удивленно повернулся ко мне. – К чему ты клонишь? – нахмурился он. – Может быть, Капитор хотела сказать, что две эти фигуры объединены скипетром: два в одном. – В каком это смысле? – По лицу Атто было видно, насколько раздражает его то, что он не может так быстро проследить за моими мыслями: в конце концов, он ведь не знал, что я уже тысячу раз со всех сторон обдумал эту дилемму. – Вы помните, что сказала Клоридии горничная испанского посольства? Тетракион – наследник испанской короны. Вы сами рассказывали мне о том, что означает трезубец в руке Посейдона. Это корона Испании, которая властвует над океаном и двумя континентами. Может быть, Капитор хотела сказать именно это. – Я все еще не понимаю. – Короче говоря, – попытался подвести итог я, в то время как мои мысли рвались вперед и слова не поспевали за ними. – Я думаю, безумная имела в виду, что законными наследниками испанского трона являются близнецы. Близнецы, которых еще называют тетракионом. Это было предупреждение для Мазарини. – Мазарини? – нетерпеливо вскричал Мелани с сомнением в голосе. – Да что с тобой такое, мальчик? Ты что, тоже сошел с ума? Я продолжал, не обращая на него внимания. – Капитор сказала, что тот, кто лишит испанскую корону ее детей, будет наказан. Возможно… – замялся я, – эти дети и есть тетракион. Так как мы видели тетракиона на «Корабле», возможно, Мазарини вывез их из Испании. Аббат рассмеялся. – Его преосвященство вывез из Испании этих полипов, которых, как нам показалось, мы видели на «Корабле»… Неплохая идея. Для театральной драмы сойдет. Ты что, совсем с ума сошел? Почему, скажи мне на милость, он должен был это сделать? Может быть, он хотел их сварить и подать в салате с морковью и оливками? Может быть, он туда еще и свежего майорана добавил? Ну конечно, Мазарини ведь был сицилийцем… – Он сделал это потому, что тетракион – наследник испанского трона. – Ты что, на солнышке перегрелся? Или наше ночное путешествие в Албано лишило тебя рассудка? – возмутился аббат, став серьезным. – Синьор Атто, не стоит считать, что я говорю это, не подумав. Вы ведь сами рассказывали, что, перед тем как Капитор произнесла свое пророчество, Мазарини вовсе не думал ни о какой женитьбе и не собирался заставлять Филиппа IV подписывать мирный договор с выгодой для Франции. Можете мне объяснить почему? Еще вы говорили, что кардинал не намерен был способствовать венчанию короля и инфанты и спокойно наблюдал за тем, как развивается роман его величества и Марии. Атто слушал меня, замерев на месте. – Возможно, у Мазарини был козырь на руках, мрачная тайна, плод гнилостной крови испанских Габсбургов: тетракион. Все законные дети Филиппа IV умерли, а эти близнецы, несмотря на все прогнозы, выжили. – Ты хочешь сказать, что у Филиппа IV до Карла II были сросшиеся близнецы, тетракион? – трубным голосом спросил он. – Возможно, это был один из менее серьезных случаев, о которых говорила Клоридия. Близнецы, сросшиеся в области ноги – продолжил я. – Их нельзя было разделять, пока они были еще маленькими, но, когда они достигли бы взрослого возраста, это можно было бы сделать. Таким образом, наследник, вернее наследники испанского престола, существовали. Мазарини их выкрал чтобы использовать как аргумент в переговорах. А потом появляется Капитор, с ее пророчеством о деве и короне. Кардинал пугается до смерти и решает разлучить свою племянницу с молодым королем. Тетракион ему больше не нужен, и он отправляет детей к Эльпидио Бенедетти, который… – Стой. Это серьезная логическая ошибка. – Аббат жестом заставил меня замолчать. – Если Капитор, как ты говоришь пыталась сказать Мазарини о том, что его ждет наказание за лишение Испании тетракиона, кардинал испугался бы и постарался как можно скорее вернуть Филиппу IV близнецов. Вместо этого он отправляет их в Рим к Бенедетти. Почему? – Потому что он ничего не понял. – Что ты хочешь этим сказать? – Вы мне сами рассказывали. Мазарини очень польстил подарок – чаша с Посейдоном и Амфитритой. В этих богах, властителях морей, он узрел себя самого и королеву Анну, а в трезубце – корону Франции, которую он крепко держал в руках. А может быть, даже корону Испании, правящей океаном и двумя континентами, – Испании, которая была обессилена войной и могла достаться Мазарини. Это предположение его очень воодушевило. Кроме того, вы говорили, что кардинал воспринял предупреждение ясновидящей о том, что Испания лишит короны своих детей, как касающееся Филиппа IV. Короче говоря, он не понял, что слова Капитор были сигналом ему самому. – Я, конечно, рад, что у тебя такая бурная фантазия, но она ведет тебя какими-то странными путями, – принялся иронизировать Мелани. – Если бы Мазарини тогда не вывез этих близнецов, – не дал ему сбить себя с толку я, – Франция сегодня не могла бы предъявлять претензии на испанский трон. С прооперированной ногой они бы хромали, но в отличие от Карла II могли бы иметь потомство. Кстати, в Испании существует легенда о короле Герионе, у которого было три головы. И что вы можете сказать по поводу двухглавого орла на гербе Габсбургов? Об этом нам рассказывала Клоридия. Возможно, с гербом связаны воспоминания об уродливых близнецах, родившихся у кого-то из предков Карла II. Я думаю, что в семье испанских королей сиамские близнецы встречались не в первый раз. – Исходя из того, что ты говоришь, Эльпидио Бенедетти спрятал этих несчастных детей, а потом держал их на «Корабле», когда закончилось строительство виллы, – поспешно продолжил мои слова аббат. – Не случайно Мазарини потом доверил ему три дара Капитор и ее портрет, – серьезным тоном протянул я. – Так значит, на вилле мы могли бы увидеть не толькр портреты Марии, короля и Фуке, не говоря уже о портрете и трех дарах Капитор и твоем попугае – как там его звали, Цезарь Август, кажется, – но еще и тетракиона! Интереснейшее место, этот «Корабль»! По-моему, его лучше было бы назвать плавильным тиглем, ха-ха-ха! – расхохотался он. Атто смеялся еще долго. Я наблюдал за ним, не обижаясь, – он знал: то, о чем я говорю, вовсе не столь абсурдно, как кажется. Я внутренне ликовал: хоть один раз я оказался учителем, а он учеником. – Вот только об одной вещи ты забываешь, – возразил аббат. – Тетракион, которого мы там видели, был всего лишь нашим искаженным отражением в зеркале. – Это было все, что мы успели увидеть. К тому же, если верить зеркалам, то мы оказались чудовищами, – самоуверенно возразил я. Мои слова обеспокоили аббата. – Ты что, хочешь сказать, что сквозь зеркала мы могли увидеть искаженное изображение близнецов? – А вы уверены, что можно исключить такую возможность? – иронически заметил я. – Вчера мы сами убедились в том, что зеркала отражают друг друга. Мы могли увидеть в них отражение близнецов, находившихся в другом месте в доме. Возможно, это изображение даже наложилось на наше отражение. Испугавшись до смерти при виде столь ужасного зрелища, мы сбежали, не осмотревшись как следует. Аббат Мелани нетерпеливо забарабанил пальцами по набалдашнику трости. – Почему вы не хотите этого понять, синьор Атто? В этой истории нет ничего необъяснимого или сверхъестественного. Есть только законы физики, проявлявшиеся в действии этих зеркал, и данные акушерской науки, которая уже много столетий описывает случаи рождения близнецов, сросшихся друг с другом, подобно тетракиону. А у тех близнецов, которых мы, возможно, видели, по непонятной случайности был выдающийся вперед подбородок Габсбургов. – А где же они находились? На «Корабле» мы не обнаружили никаких ихследов. – Столкнувшись с кривым зеркалом, мы перестали их искать, и в этом была наша ошибка. Вы сами семнадцать лет назад на множестве примеров учили меня: если одно звено в цепочке умозаключения оказывается неправильным, это еще не означает, что неправильна вся гипотеза. А еще вы говорили, что документ может быть фальшивым, но при этом в нем написана правда. Короче говоря, надо отделять мух от котлет. Именно это мы и сделали. – Ну ладно, послушай-ка меня внимательно, – возразил аббат, которого эти рассуждения задели за живое. – Капитор говорила, что тот, кто лишит испанскую корону ее детей, лишится своих детей из-за испанской короны. Если хочешь знать, по-моему, это какая-то чушь. У Мазарини не было детей, но как было ни было, у его племянников и племянниц их было столько, что имя Мазарини еще долго пребудет в веках. Знаешь, что я думаю? Все это слишком сложно, чтобы быть истинным. Я рад, что научил тебя никогда не доверять собственным глазам и, если не хватает фактов и доказательств, выдвигать собственные предположения. Но учти, мальчик мой, у всего есть свои границы. Эта безумная ошибалась и может ввести и нас в заблуждение. – Но подумайте сами… – Все, хватит этих глупостей, я устал.
Атто глядел в окно кареты на холм Джианиколо, мимо которого мы проезжали, на виллы, зелень садов, мягкие изгибы деревьев и на город в долине, защищенный башнями с символами христианства и вечной власти Церкви, на купол собора Святого Петра. Я хотел бы, чтобы Атто поддержал меня в моих рассуждениях но он был настроен скептически, высмеял меня и заставил замолчать, отвергнув свои собственные принципы. Я не мог сказать, было ли это непонимание, зависть, огрехи старости или же он действительно думал, что мои умозаключения – не имеющие смысла фантазии. Кто знает, вероятно, мои идеи действительно были глупыми рассуждениями дурачка, верящего в чудовищ. Лишь один человек, возможно, знал ответ на этот вопрос. Возможно.
* * *
Мы приблизились к своей цели, и кучер остановил лошадей. Я вышел из кареты, подошел ко второй дверце и помог Атто выйти. Остаток пути мы не спеша прошли пешком. Подойдя к собору, мы задержались, чтобы полюбоваться фасадом. Приставив ладонь к глазам, чтобы защититься от палящего солнца, Атто посмотрел на окна верхних этажей, которые в монастырях традиционно отводились тем, кто хотел остановиться в городе инкогнито. Может быть, за одним из этих окон стояла она. Мелани стоял неподвижно, уставившись на окна, словно приехал сюда исключительно для этого. – Кажется, вам придется преодолеть очень много ступенек, – попытался пошутить я, чтобы вернуть его к реальности. Он не ответил. Я взял его под руку. Не знаю, хотел ли я так поторопить его, чтобы он постучал в ворота монастыря, или пытался как-то утешить. Замявшись, Атто протянул мне запечатанное письмо. – Возьми. Передашь это ей, как только увидишь ее. – Я? Что это значит? Она ждет вас, и к тому же вам нужно сказать мадам очень много важных вещей и задать ей много вопросов. Разве вы не хотите… Атто отвернулся и посмотрел на старую деревянную скамейку. которую кто-то там поставил. – Я думаю, мне придется пока что посидеть здесь, – сказал он. – Но почему… Вам плохо? – воскликнул я. – О нет, я себя замечательно чувствую. Но я хочу, чтобы к ней пошел ты. Я был поражен. – Вы что, хотите сказать, что вообще не пойдете туда? – Я не знаю, – медленно прошептал Атто. – Она не поймет, почему вы не пришли. – Иди, мальчик. Может быть, я тебя догоню. – Но что она подумает, увидев перед собой незнакомца? И что я ей скажу? Придется сообщить ей, что ваши годы уже не те и вы предпочли подниматься по лестнице как можно медленнее. Аббат улыбнулся. – Просто скажи ей, что у меня уже годы не те. Этого будет достаточно. Я никак не мог подавить раздражения и изумления. Атто сложил мои пальцы на письме. – Вы собираетесь совершить глупость, – слабо запротестовал я. – И кроме того… Атто повернулся передо мной на каблуках и пошел к деревянной скамейке. В этот самый момент (я не знаю, было ли это совпадением или сестры ордена следили за нами)дверь монастыря открылась. Сестра высунула голову из дверного проема и вопросительно посмотрела на меня. Она ждала, чтобы я вошел внутрь. Я взглянул на Атто. Тот сел на лавку, повернулся ко мне и поднял руку: жест, означающий и прощание, и приказ уходить. Я успел бросить на него последний взгляд, и сестра закрыла за мной дверь.* * *
Я снова находился в коридоре, окруженный ни с чем не сравнимой атмосферой женских монастырей, с их молодыми монашками и настоятельницами, молитвами и всенощными в предрассветных сумерках. Я пошел за своей проводницей вверх по ступенькам и длинным коридорам, пока мы не остановились перед дверью. В комнате слышался женский голос. – Погодите немного. Сядьте сюда, – сказала мне монашка – Через некоторое время постучите в дверь, и вас впустят, а мне, к сожалению, нужно идти к матушке настоятельнице. Что же было написано в том письме, которое я держал в руке? Было ли это послание Атто для мадам коннетабль или письмо, написанное Людовиком IV, королем Франции, для его возлюбленной Марии? А может быть, и то и другое… Мелани писал ей, что когда они увидятся, он вручит ей кое-что, что изменит ее мнение о счастье короля. Что он хотел этим сказать? Ответ содержался в письме, которое сейчас было у меня в руках. Времени оставалось мало, но я уже принял решение. Печать Атто и так была плохой, можно было подумать, что он недостаточно крепко прижал ее к бумаге. Я был готов приподнять занавес над интимнейшей сердечной драмой этих трех старых людей. И я развернул письмо.Я читал, не веря собственным глазам.
* * *
Не знаю, сколько времени прошло до того момента, когда я наконец-то постучался в дверь. Я нервничал, но мой разум был чист как никогда. – Войдите, – услышал я приятный женский голос, голос пожилого, но доброжелательного и мягкого человека. Именно такой я себе ее и представлял. Я вошел. Представившись и передав ей письмо, я попытался придумать хоть сколько-нибудь правдоподобное оправдание отсутствию Атто. Она была очень мила и сделала вид, что верит мне. В ее словах не было ни капли упрека. Лишь сожаление о несостоявшейся встрече. Я откланялся и уже собирался уходить, когда мне в голову пришла одна мысль: собственно говоря, мне нечего было терять. Я должен был кое о чем ее спросить. Не о том, что я прочитал нет. Тут мне объяснения не требовались. Тетракион. Возможно, она и удивится, но не прогонит меня прочь. Она решит, что я действую по поручению своего заказчика, что это он говорит моими устами и что он услышит ее ответ моими ушами. Я начал говорить об этом без экивоков, ведь только ей одной известна истина. А времени было мало.* * *
Объяснение заняло у меня не больше пары минут. Мадам коннетабль сидела, не двигаясь, и просто смотрела в окно. Она ни разу – ни жестами, ни мимикой, ни словами, не прокомментировала услышанное. Она просто молчала. Но это молчание говорило больше тысячи слов. Это было молчаливое подтверждение того, что моя идея не была порождением фантазии. Может быть, ее молчание говорило и о том, что некоторые моменты в моих умственных построениях были ложными, глупыми или наивными, но суть оставалась той же. Если бы речь шла о химерах или она ничего не знала бы об этом, она просто велела бы мне покинуть комнату, но она сидела там не двигаясь и молчала. Она очень хорошо знала то, о чем мы говорили. Это было частью тайной истории, из-за которой разбились все ее мечты о счастье и она превратилась в несчастную скиталицу. Ее молчание было весьма красноречивым, и оно было самым безопасным способом согласиться, подтвердить, подбодрить. Я закончил свой рассказ. Молчание расползалось по комнате, заполняя пропасть между нами. Она продолжала смотреть в окно, словно уже осталась одна. Говорить больше было не о чем. Я попрощался с ней поклоном, получив в ответ все то же томительное молчание. Только такое молчание было возможно между людьми, знавшими, что они никогда не увидят друг друга.* * *
Это могло бы стать для меня поразительной новостью, но я уже был готов к чему-то подобному. За стенами монастыря никого не было. Меня никто не ждал – ни Атто, ни кучер. Я уже понял, о чем идет речь.Я шел на виллу Спада пешком, и сладковато-горькие впечатления от встречи с Марией Манчини уступили место чувствам, нахлынувшим на меня после прочитанного письма. Там был только один-единственный лист. Белый лист. А в центре, вернее в верхней части листа, с изящным наклоном было написано всего три слова:
«Yo el Rey».
Это понял бы и идиот. Поскольку короля Испании не было в Риме, это была фальшивая подпись. Подпись, написанная на чистом листе. Подпись под фальшивым документом. Карл II лежал при смерти, о каком документе могла идти речь, как не о его завещании? Чем дольше я думал об этом, тем сильнее бушевала во мне буря ненависти и возбуждения. Атто использовал меня для чудовищной интриги, не сказав ни слова! А я, дурак, ничего и не подозревал… Завещание Карла II: документ, в котором будет назван наследник величайшей империи мира, наследник, которого ждет вся Европа. Под предлогом свадьбы своего племянника Спада приглашает как Атто, так и Марию в Рим. Атто берет с собой человека, умеющего подделывать подписи, – изощренного фальсификатора свидетельств. Что мне сказал аббат Мелани, представляя Бюва? «Свое мастерство он доказывает пером. Но не так, как ты: ты создаешь а он копирует, и делает это лучше всех». Тогда я подумал, что Атто имеет в виду переписывание писем, что входит в обязанности секретаря. Ничего подобного. Я сразу же вспомнил слова Атто, которые он произнес семнадцать лет назад, говоря о своем секретаре: «Всегда, когда мне нужно тайно уехать из Парижа он улаживает проблемы с моей корреспонденцией. У него уникальный талант переписчика, и он великолепно имитирует мой почерк». Так вот, значит, что я увидел в спрятанных документах секретаря Атто! Все эти странные буквы е, I, R, о, у, которые я счел упражнениями в каллиграфии, были на самом деле попыткой подделать почерк. Бюва пробовал скопировать подпись Карла II, короля Испании, по многу раз переписывая буквы его подписи Yo el Rey. Он сохранял эти образцы, чтобы сравнивать их с настоящей подписью короля и выбрать наиболее удачную имитацию. Было достаточно расставить эти гласные и согласные в правильном порядке, чтобы я понял всю правду. Кстати, именно по этой причине Атто прятал три старых письма с подписью испанского короля у себя в парике. Это был образец, по которому должен был тренироваться Бюва. Письма были слишком ценными, чтобы оставлять их у секретаря, поэтому Атто хранил их у себя. Я попытался сделать из всего этого дальнейшие выводы. Мария должна была отвезти фальшивую подпись в Испанию и использовать ее в подходящий момент. Когда Карл II будет лежать на смертном одре, она подменит его завещание. На фальшивом завещании, на последнем его листе, будет стоять подпись, изготовленная Бюва. На свободном месте над подписью впишут последнюю часть завещания с именем наследника престола. И, конечно же, этим наследником запишут какого-нибудь француза. Именно поэтому Атто никогда не говорил со мной об Испанском наследстве, все время переводя разговор на конклав. Он считал меня бедным дурачком, которому не дано понять, что поставлено на карту и на что направлена его ярая борьба.Так значит, все это ожидание Марии было лишь комедией? Какая великолепная постановка – эти слащавые письма, в которых он умоляет ее о встрече… Все было продумано идеально. Никто не смог бы обвинить их в шпионаже. Мадам коннетабль должна была приехать как можно позже, но вовремя, для того чтобы забрать у Атто и Бюва фальшивую подпись. Ей ни в коем случае нельзя было принимать участие в празднике: присутствие Марии Манчини, печально известной племянницы Мазарини, которая проживала в Мадриде, сразу вызвало бы подозрение в антииспанском заговоре. Атто было очень удобно воспользоваться моей незначительностью и передать мадам лист с подписью/Ему даже не пришлось пачкать себе руки. Он с самого начала знал, что не встретится с ней, и обманывал меня до последнего момента, заставив поверить в то, что после тридцатилетней разлуки просто боится показаться ей на глаза. Кража трактата Атто, конечно, несколько осложнила дело и здорово напугала его. Но это было лишь временным явлением, отвлекшим его от цели. Когда мы раскрыли тайну и вернули манускрипт (опять же, благодаря моей помощи!), Атто мог совершенно спокойно продолжать свои грязные делишки шпиона.
Вернувшись обратно – от ярости мне казалось, что за спиной. У меня выросли крылья, настолько быстро я шел, – я вошел на виллу Спада, уже зная, что меня там ждет. Я хотел постучаться, но дверь была открыта. На кровати лежала одежда, на оттоманке валялись исчерканные листы бумаги, а рядом стояла чернильница, которую не закрыли, и поэтому чернила высохли. Беспорядок в комнате соответствовал беспорядку в моем победном, сбитом с толку сознании.
Атто и Бюва уехали. Едва скрывая бешенство и отчаяние, я быстро расспросил слуг на вилле и узнал, что они оба в большой спешке уехали, направляясь в Париж. Они прихватили с собой провиант на дорогу и Атто оставил для кардинала Спады длинное письмо с благодарностями. Это письмо ему должен был передать дон Паскатио. Только сейчас я понял, почему этим утром Атто надел фиолетовую сутану и аббатскую шапочку. Это был его дорожный костюм! Они покинули виллу уже довольно давно. Наверное, они паковали чемоданы просто-таки в панике, словно беженцы, пытающиеся спастись от надвигающейся войны. Это не был простой отъезд, это был побег. Но почему они бежали? Конечно же, не от страха перед черретанами. Это никак не вязалось с характером Атто, который не стал бы бояться того, с чем познакомился на собственном опыте. Это не было бегство из страха перед политическими противниками. Нет, они бежали вовсе не от противников. Они бежали от меня. Не то чтобы Атто боялся меня, но в последний момент, завершив дело, которое интересовало его с самого начала, он испугался, что я узнаю правду. Он чувствовал, что не сможет говорить со мной, оправдывая свои интриги и ложь. Он появился тут после семнадцатилетнего отсутствия и попросил меня работать его биографом в связи с приближающимся конклавом. Но потом даже не позаботился дать мне какие-то указания и не проявлял ни малейшего интереса к моим записям. Отчет о событиях на вилле Спада был лишь предлогом. На деле Атто хотел, чтобы я подсматривал, подслушивал и сообщал ему то, что могло быть полезным, а уж записывал я это или нет, совершенно не важно. Что он сказал мне в самом начале? Ты будешь подробно описывать все, что увидишь или услышишь в ближайшие дни, затем передашь мне манускрипт. Он заставил меня думать, будто я пишу отчет, что я хроникер, но вместо этого я оказался шпионом. Именно поэтому они исчезли с такой скоростью, не забрав результата моего труда. Да и конклав, о котором аббат так долго рассказывал мне вначале, был ему не интересен. Мы много чего видели и обсуждали, делали невероятные вещи, от преследования Цезаря Августа до безумного подъема в сферу на соборе Святого Петра, от фантастического обследования «Корабля», до проникновения на сборище черретанов, которые чуть было не убили нас. А вот о конклаве мы впоследствии так и не говорили. – Какой же я дурак, просто наивный дурак! – выругался я. В моем голосе смешивались и смех, и слезы. Я всегда был у Мелани на подхвате, и он беззастенчиво пользовался мною, точно так же, как семнадцать лет назад. Он указывал мне путь, чтобы самому на цыпочках красться по другой тропинке, пока я топал по опасной дороге. Но на этот раз все было серьезней. На этот раз на карту было поставлено будущее моих малышек. Когда я был близок к тому, чтобы отказаться от участия в этой рискованной игре, Атто заманил меня обещанием приданого, и я безответственно рисковал собственной жизнью. Сегодня мы должны были пойти за дарственной к нотариусу. А впрочем, стоп, у меня ведь был подписанный с ним договор! Чувствуя укусы тысяч скорпионов совести, я бросился домой и взял документ. Сев на осла, я поскакал в город. Я. метался от адвоката к адвокату, от нотариуса к нотариусу, пытаясь найти хоть кого-то, кто мог дать мне надежду. Но никакой надежды не было. Мне все время задавали один и тот же вопрос: «Может быть, вы знаете, есть ли у этого аббата имение в Ватикане?» Когда я отрицательно качал головой, мне каждый раз говорили одно и то же: «Даже если вы оформите заявление и оно будет признано правомерным, нет никого, кому можно было бы предъявить материальные претензии, чтобы удовлетворить вашу жалобу». Так что же мне делать? «Нужно написать заявление, чтобы делу дали ход во Франции. Это очень длительный и дорогостоящий процесс, а исход совершенно неясен». Короче говоря, надежды у меня никакой не было. Теперь, когда Атто ехал в Париж, наш договор превратился в пустую бумажку.
Я возвращался на виллу Спада, и мне хотелось бить себя собственной плетью. Нужно было сразу же потребовать оформить документ у нотариуса или хотя бы не затягивать с этим. Но я просто плыл по течению: исполнял приказания аббата, словно слуга, совершенно не думая о своей семье. Что, если бы я умер или на всю жизнь остался инвалидом? Клоридия не смогла бы сама вести хозяйство. А кто позаботился бы о судьбе моих доченек? Прощай, мечты об‹учебе! Можно забыть о тех вечерах, когда я учил девочек читать и писать и, глядя в их распахнутые глазки, открывал красивые книги, которые мне завещал покойный отчим. Девочкам придется закатывать рукава и работать служанками на кухне в каком-нибудь грязном местечке, если дон Паскатио не соизволит оставить их на вилле Спада. Я кипел от возмущения. Аббат Мелани предал меня, не оставив обещанной дарственной. Мне тоже хотелось убежать. Мне хотелось бросить этот город, да Что там город, – эту жестокую и подлую землю. И если бы не мои обязательства супруга и отца, я подобно Икару, поднялся бы в воздух, только чтобы упасть не вниз, а вверх, и вечно падать в синюю пропасть неба. Пока я шел, ругаясь себе поднос, меня уже поджидало очередное разочарование. – Добрый день! Вы знаете, каким успешным оказался праздник? Вы слышали восхищенные отзывы кардинала Спады, нашего господина? У входа меня встретил дон Паскатио. Ему не терпелось обсудить праздник, а может быть, и намекнуть, что триумф был бы еще заметнее, если бы аббат Мелани не отвлекал меня и я больше помогал бы на вилле. Это был совсем не подходящий момент. Я мог бы вынести сейчас все, но только не поток излияний дона Паскатио. – Господин Паскатио, – хмуро возразил я, – в последние дни меня действительно часто не было на рабочем месте, но я прошу вас доверить мне какое-нибудь важное дело, чтобы я мог искупить свою вину, и не будем больше терять время! Дон Паскатио запнулся, смущенный резкостью моего ответа, для него совершенно неожиданной. – Хммм… ну ладно, – протянул он. – На самом деле, вы могли бы позаботиться о чистке вольера, что я и собирался вам сказать. – Великолепно! – закончил я разговор и резко повернулся на каблуках. – Я незамедлительно приступлю к работе, господин дворецкий. Дон Паскатио с изумлением нахмурил лоб, глядя мне вслед, а я поспешно пошел на кухню, чтобы взять корм для птиц и инструменты для чистки вольера. Я еще не знал, что так и не выполню эту работу. Едва открыв замок большого вольера, я услышал необычные звуки, что-то вроде хруста. Подняв голову, я посмотрел на клетку Цезаря Августа, пустовавшую со дня его исчезновения. У меня словно гора с плеч свалилась. Я понял причину странных происшествий последних дней, в которых столь значительную роль сыграл попугай.
Как я уже упоминал, в последнее время, то есть перед тем как улететь с бумагами кардинала Албани, попугай казался недовольным и рассерженным. К тому же по непонятной причине он приносил в лапах ветки, чего никогда раньше не делал. Нервозность птицы достигла предела, когда он украл бумаги и улетел, а потом исчез. Во время оживленной охоты кто-то случайно выстрелил в дерево, и из гнезда на пинии вывалилось неопознанное яйцо. Увидев это, я вспомнил, что у соседей на вилле Барберини недавно появился еще один попугай, той же породы, что и Цезарь Август. Так я пришел к поразительному, но неоспоримому умозаключению. – Освободите его, освободите его! – защелкал клювом Цезарь Август, насмехаясь надо мной. Птица уютно расположилась у себя в углу, в красивом гнезде из перьев и веток. Так ты же… ты же… у тебя же… – забормотал я. Я так и не сумел этого произнести. Никто не смог бы принять это так просто, даже если бы сам убедился в том, что Цезарь Август на самом деле самка. К тому же самка с потомством. Замерев, я наблюдал за этим поразительным существом, которое не случайно когда-то принадлежало безумной Капитор. Сам не ведая того, он был безмолвным свидетелем многих десятилетий истории. Он пережил смерть Мазарини, становление «короля-солнце», смену пяти Пап, чтобы теперь, со своим вечным, невыносимым щелканьем, с триумфом войти в новое столетие. Я увидел, как птица поднялась над гнездом и с любовью поправила клювом лежавшие там яйца. Гости, увидевшие во время развлекательной охоты упавшее с дерева яйцо, пришли к неправильному выводу. Яйцо принадлежало не лебедю, не фазану или голубю, а попугаю. – Дзинь! – сказал Цезарь Август, с упреком подмигивая мне глазом. Он подражал звуку арбалетной стрелы, вонзившейся в ветку пинии, той стрелы, выпущенной во время охоты, из-за которой яйцо Цезаря Августа упало на землю. Именно поэтому птице пришлось покинуть ту пинию в имении Барберини и вернуться в надежный и знакомый вольер на вилле Спада. – Я знаю, знаю, для тебя это, должно быть, было ужасно, – ответил я. – По гнездам не стреляют, это бесполезно и жестоко! – слово в слово повторил он сказанное одним из охотников. – Ланселлотти не хотел тебе навредить, – начал оправдываться я. – Конечно, тебе было очень сложно построить новое гнездо и перенести сюда все яйца. Но, в сущности, это несчастный случай, и ты не должен издавать звуки арбалетного выстрела, который тогда всех так напугал. – Отпустите его! – сухо возразил попугай, отвернулся от меня и уселся поглубже, прикрыв крыльями маленькие белые яйца в гнезде. Дон Паскатио и все остальные в имении Спада не поверят своим глазам. Я уже представлял себе споры насчет нового благородного латинского имени для птицы: Лилия или Лукреция, Поппея или Мессалина. Я знал эту птицу настолько давно, что всегда говорил с ней как равный с равным, как мужчина с мужчиной. А оказалось, что я имел дело с раздражительной, нервозной и заносчивой дамой в перьях. Я даже чувствовал определенную вину за то, что относился к этому попугаю, как к товарищу. Впрочем «у меня было смягчающее обстоятельство, которое я мог привести в свою защиту. Всем известно, что невозможно определить пол попугая, осматривая его или ощупывая. Эту загадку можно решить только наблюдая, станет ли он в период спаривания откладывать яйца или отчаянно защищать свое гнездо. Придя в себя от изумления, я спросил: – Насколько я тебя знаю, могу поспорить, что ты принес. прости, принесла сюда кое-что еще. Может быть, ты хочешь мне что-то отдать, теперь, когда уже успокоилась? Попугай продолжал делать вид, что не слышит меня. – Ты очень хорошо знаешь, о чем я говорю! – продолжал настаивать я. Попугай отреагировал с поспешной непринужденностью, почти с презрением. Вытащив что-то лапкой из гнезда, птица подхватила этот предмет клювом и выбросила вон, выполняя мою просьбу. Словно безобидный сухой лист, документ кардинала Албани полетел на пол, исполняя грациозные пируэты, и я поймал его на лету. Лист был грязным, рваным и вонял птичьим пометом. Иначе и быть не могло, ведь попугай, обсосав пропитанный шоколадом угол, использовал бумагу для строительства своего гнезда. Эта упрямица настояла на своем и, кроме яиц, перетащила и этот лист, устраивая новое гнездо в вольере. Я с жадностью развернул обрывки бумаги. Там были только три строчки, которые больно резанули мне душу:
«Заключение подготовлено. Подтвердить в четверг, 15 на вилле Т. На службе. Переписчик и курьер уже оплачены».Руки у меня отяжелели, а плечи поникли. То, что для другого казалось бы тайной за семью печатями, для меня было ясным как день и жестоким, как огненная стрела. Вилла T. – это вилла Toppe, где мы с Атто в тот самый четверг, пятнадцатого, с верхней террасы «Корабля» наблюдали за тремя вошедшими на виллу кардиналами. Заключение было подготовлено для переписчика, а курьер должен был отвезти этот документ испанскому королю – документ, в котором Папа предписывал ему выбор наследника. По разговорам, которые я подслушал перед театральным представлением на вилле Спада, испанскому послу Узеде и трем кардиналам («четырем хитрым лисам», как их назвали) удалось убедить Папу создать консультативную комиссию с участием Албани Спады и Спинолы. Кардиналы должны были собраться у Папы через два дня, четырнадцатого июля, но эти трое подготовили свое заключение в тот день, когда эту бумагу украли, то есть в субботу, десятого числа. Все было просто комедией. Король Испании был, конечно, уже не жилец, но и Папа не играл никакой роли. Албани, Спада и Спинола вершили судьбы мира, сидя на вилле Спада, вершили их между чашечкой шоколада и веселой охотой. И никто об этом не знал. Конгрегация Папы была лишь театральным представлением. Атто, зоркое око короля Франции, наблюдал за ними издалека, а я, сам того не зная, стал его сообщником. Усиливая мое отчаяние и приближая предобморочное состояние, в голове у меня зазвучали слова Альбикастро: «Мир – это огромная пьянка, мальчик мой. А закон всех пьянок таков: пей с нами или убирайся вон!» Неужели у меня никогда не будет другого выбора? Неужели власть, данная Богом, уже не имела никакого значения?
Осень 1700 года
Прошло почти полтора месяца с тех пор, как аббат Мелани и его секретарь оставили меня. Это были дни, полные гнева, ненависти и чувства беспомощности. Они следовали один за другим непрерывной чередой. Каждую ночь, да что там, – каждое мгновение, я ощущал раскаленные уколы попранной гордости, терзался унижением и разочарованием. Может быть, не случайно у меня возобновились приступы лихорадки, не мучившие меня уже много лет. Немного утешил приход на виллу Спада нотариуса, который искал Атто. Это произошло месяц назад. Нотариус сказал, что Атто поручил ему подготовить дарственную, но потом не пришел в условленное время. Теперь у меня появились доказательства того, что Мелани не собирался нарушать обещание, и лишь in extremis[1365] в нем победил инстинкт, требовавший бежать. Клоридии было жаль меня. Сдерживая гнев и стараясь не показывать разочарования, она умудрилась даже шутить по поводу этой истории. Она сказала, что Мелани действовал так, как того требовала его профессия, ведь он был шпионом и предателем. Конечно же, я так и не начал писать мемуары, за которые Атто мне заплатил, ведь в конце концов они его не интересовали. Так что я решил рассматривать эти деньги как частичное возмещение убытка. И все же 27 сентября 1700 года я взял в руки перо, чтобы записать события, серьезность которых была намного важнее моего униженного самолюбия. В этот момент я начал вести дневник, который привожу ниже.27 сентября
Наступил печальный день: Иннокентий XII отошел в мир иной. В последнюю ночь августа у него случился неприятнейший приступ, так что пришлось отменить назначенное на следующий день совещание. 4 сентября Папе стало получше, и у всех появилась надежда на его выздоровление. Я узнал это из листовок содержание которых читал прислуге дворецкий. Через три дня состояние понтифика снова ухудшилось, причем довольно серьезно. Организм Папы оказался настолько сильным, что болезнь очень долго не могла одолеть его. В ночь с 22 на 23 сентября он принял святое таинство причастия, а 26-го попросил перенести себя в комнату, где умер Папа Иннокентий XI, которого он так уважал. Доктор Лука Корси, нисколько не уступавший своему знаменитому предшественнику Мальпиньи, сделал все возможное но любое медицинское вмешательство уже было бесполезным. Помощь душе понтифика оказал священник из ордена капуцинов у которого Папа исповедался перед смертью. «Ingredimurvia universae carnis – все мы идем по пути смертных», – сказал Папа, вызвав слезы на глазах всех, кто был рядом с ним в его последней борьбе. Прошлой ночью боли в боку стали намного сильнее, и он сумел выпить всего несколько глотков бульона, а часа в четыре его душа наконец-то отошла к Богу. Тело перевезли в собор Святого Петра в простом саркофаге, который понтифик сам для себя выбрал. Папа останется в памяти людей как защитник бедных, ответственный распорядитель церковной собственности, набожный и справедливый человек.
Только сейчас начинаются интриги, связанные с выборами следующего Папы. Теперь уже можно делать прогнозы насчет того или иного кардинала, не боясь оскорбить честь святого Папы и его бедное больное тело. Это был бы час аббата Мелани: он мог наконец-то использовать сеть своих знакомств, завести дружбу с участниками конклава, предлагать варианты стратегии, распространять дезинформацию, чтобы сбить с толку противника… Но ничего подобного не произошло. Рядом со мной не было этого искусного интерпретатора политических маневров, мага сведущего в ватиканской алхимии. Я буду наблюдать за конклавом со стороны, с изумлением и внутренним напряжением, которое испытывал сейчас весь мой народ.
8 октября
Завтра состоится конклав кардиналов. У всех партий хорошие шансы, и Рим затаил дыхание. Город полон газет и листовок, сообщающих о состоянии противоборствующих сторон. Вокруг звучат сатирические стихи, остряки во все горло издеваются над властью. Повсюду ставят политические комедии, высмеивающие Святую коллегию кардиналов. Объектом насмешек в первую очередь становится кардинал Оттобони в связи с его особыми склонностями: в комедии «La babilonla» («Переполох») он изображен в роли камеристки Нины, в «Losterla» («Таверна») – как Петрина, в «La babilonla crescente» – как мадам Фульвия, а в «La babilonia trasformata» – как некая Ангелетта из Венеции. Все смеются до колик.
Недавно мне в руки попал сонет, в котором бедного Папу Иннокентия XII называют Папа Двенадцатиперстная Кишка: только из стыда я не привожу его здесь. Кроме дурацких шуток, в обществе циркулировали и серьезные новости. Австрийских и испанских кардиналов в конклаве девять (по крайней мере, на бумаге). Столько же кардиналов и у французов. Партия «рьяных кардиналов» – самая сильная, в ней насчитывается девятнадцать человек. С некоторыми из них (Мориджиа, Карло Берберини, Коллоредо) мне доводилось видеться на вилле Спада. Группа «отважных» насчитывает десять (среди них Спинола из Сан-Чезарео), столько же человек и у вагантов. Оттобонцев и альтьеристов (по названию папств, в которых они стали кардиналами) двенадцать. В их числе мой господин кардинал Спада, Албани, Марескотти и, конечно же, Оттобони. Всех остальных уже мало. Это лишь крохи, как говорят у нас в Риме: одалиски, пигнателиане, браберинианцы… Если исходить из газет, эта классификация намного шире общепринятой, и партий может насчитываться сколько угодно. Прогнозируется, что будут заключаться союзы и возникать раздоры в зависимости от возраста, задатков, устремлений, настроений, даже от характера кардиналов. Среди них есть суровые (Панчиатиччи, Буонвизи, Аччиаоли, Марескотти), добродушные (Мориджиа, Радолович, Барберини, Спинола из Санта-Цецилии), посредственные (Карпенья, Норрис, Дураццо, Даль Верме) и, наконец, ожесточенные – этим меньше семидесяти лет, и они слишком молоды для того чтобы претендовать на избрание (Спада, Албани, Орсини, Спинола из Сан-Чезарео, Меллини и Рубини). Негрони сейчас семьдесят один год, но он уже объявил о том, что не хочет становиться Папой. По его заявлению, он проголосует за достойного и против недостойных. А недостойные, и в этом убедились все, имеют в совете конклава подавляющее большинство. Нелегко придется и тем, у кого есть шансы по всем показателям: кандидатам не прощаются никакие мелочи, и даже к тем, у кого все в порядке, будет возможность придраться. Например, Карло Барберини, который вполне подходит по возрасту, пострадает из-за ненависти римлян к его родственникам (эти распри длятся уже восемьдесят лет). Кроме того, ему придется поплатиться за вражду со Спинолой из Сан-Чезарио, а в первую очередь за собственную глупость. Против Аччиаоли настроены Тоскана и Франция. Марескотти за рубежом не любят только во Франции, но в Риме у него проблемы с Бичи (эти семьи терпеть не могут друг друга). Дураццо завидуют из-за его родственных отношений с королевой Испании. Мориджиа слишком приближен к Тоскане, а кардинал Радолович уж явно настроен происпански. Карпенью не любят почти во всех европейских королевствах. Коллоредо ненавидят французы, к тому же его презирает Оттобони. Костагути, как известно, уже ни на что не способен. Норрис всем неприятен, потому что он патер. А Панчиатиччи просто не любят и все тут. Многие иностранные кардиналы не приедут (так говорят об австрийце Колонице, французах Суса и Бонзи, испанце Порто-Карреро), потому что на родине их удерживают срочные дела. Борьба будет крайне ожесточенной, настолько ожесточенной, что кардиналы постараются как можно скорее прийти к решению, чтобы избежать кровопролития. Некоторые говорят, что белый дым поднимется в воздух уже через несколько недель, а может, и еще раньше.
18 ноября
Ничего. Со времени начала конклава прошло уже полтора месяца, а нового Папы по-прежнему нет. Напротив, Святая коллегия, кажется, вовсе не интересуется выборами Папы. Сейчас мы уже привыкли ко всем этим ненужным маневрам, когда кандидата вводят в игру лишь затем, чтобы потом убрать с дороги. Франция, Испания и Австрия блокируют все, упрямо преграждая путь неприятным для них кандидатам с помощью перекрестного вето. Независимость и репутация Церкви, естественно, поставлены под сомнение, но это нисколько не беспокоит кардиналов.. Так прошел весь октябрь. Болтовня кардиналов не прекращалась, они выводили на ринг то одного, то другого кандидата, словно марионеток. Норрис, Мориджиа, Спинола из Санта-Цецилии, Барбариджо, Дураццо, Медичи… Их всех предлагали на папский престол, и они сами начинали вести борьбу, но их кандидатуры отклонялись. Единственной серьезной была кандидатура Марескотти – он мог рассчитывать на двадцать голосов, но против него возражали французы, и Марескотти не избрали. Предлагали и Коллоредо, но он тоже не устраивал Францию. Никто не сомневался, что Коллоредо не сможет набрать необходимого количества голосов, но все-таки голосовали за него, и в результате чуть было не избрали, что привело к инфаркту у полудюжины кардиналов. Хотя ничего не происходило, за святыми стенами во время конклава разыгрывались невероятнейшие сцены. Между кардиналами возникали скандалы, так что церемониймейстеру не единожды приходилось восклицать: «Ad cellas, Domini!»[1366] и силой растаскивать облаченных в фиолетовые одежды кардиналов, дабы унять волнение. Доходило до драк – кардиналы уличали друг друга в подслушивании под дверью. Однажды кто-то даже устроил поджог, и для устранения его последствий пришлось срочно вызывать архитектора и четырех каменщиков. Сейчас атмосфера не такая накаленная. Кардиналы борются друг с другом не потому, что желают победы, а исключительно из зависти. Вместо того чтобы выставлять себя в лучшем свете, они пытаются облить грязью противников. Но сил, которые привели бы к победе, нет. Такое ощущение, будто все чего-то ждут.
Чем дольше все это продолжается, тем недостойнее ведут себя кардиналы. Однажды утром Марескотти, у которого, казалось были лучшие шансы, надевая нижнее белье, упал и сильно повредил себе голову. Когда об этом сообщили остальным, поднялся страшный хохот. В воскресенье, 13 октября, прибыл курьер с письмом для Иннокентия XII от папского нунция в Испании: он не знал, что Папа умер. Все кардиналы снова зашлись истерическим смехом. Монсиньор Паоло Боргезе, отвечающий за порядок и благополучие в коллегии кардиналов во время конклава, компенсирует слабость своего рассудка силой кошелька и постоянно устраивает в святых стенах банкеты. Праздничные столы украшены роскошными композициями из цветов и фруктов, которые сменяются каждые три дня. Тем временем в Риме в продажу поступает очень мало хлеба, и цены на него растут. Торговцы наживаются на изголодавшемся и уставшем народе. Казначей папского двора Спинола из Сан-Чезарео подозревается, собственно, в том же. Поскольку я сам наблюдал за тем, как он устраивал заговор вместе со Спадой и Албани, мне совсем не трудно поверить этому слуху. Князь Ваини сеет в городе панику, подписывая непокрытые векселя, устраивает скандалы, насмехаясь над кардиналами, собравшимися на конклав. Конечно, они обязаны все вместе управлять государством, пока не избран новый Папа, но у них не хватает мужества арестовать преступного князя и осудить его за умышленную организацию голода и нарушение общественного порядка. Я видел, как Ваини делал все, что хотел, на вилле Спада, то есть в доме государственного секретаря, поэтому меня ничто не удивляет. Ширится количество грабежей, нападений, убийств. Над Римом нависла черная тень преступлений и распутства. Это время упадка, желчи и злой воли.
Словно и без того у нас было мало неприятностей, начали появляться тревожные новости о здоровье короля Испании. В воскресенье, 24 октября, на конклав должен был прибыть кардинал Борджиа, глава испанской партии. Он приказал подготовить себе комнату, чтобы принять участие в конклаве. И тут кардинал присылает известие о том, что не приедет: скорее всего, болезнь короля Испании стала слишком серьезной. Ходят слухи, что 27 октября он принял святое причастие, и врачи утверждают, что надежд нет.
20 ноября
Вчера поступила новость о том, что Карл II, король Испании, умер. Это произошло 1 ноября. Событие сразу же стало темой обсуждения конклава: ночью прибыл гонец со срочным известием, которое отправили французы своим кардиналам. Потом прибыл еще один гонец с вестью для кардинала Медичи от его брата, герцога Тосканского. И наконец, сообщение французского посла для кардинала д'Эстре. Казалось, кардиналы хоть немного расшевелились после этих новостей. Началась борьба за испанский трон, и теперь весь мир ждет от них избрания нового мудрого Папы, который сможет стать посредником между сильными мира сего и остановит затяжную кровавую войну. Говорят, что уже завтра будет известно имя нового Папы. Партии очнулись от летаргии и принялись за работу, чтобы выбрать кандидата, который устроит всех. В городе снова начали выдвигать разные версии: называются имена Марескотти и даже Барберини.
Сейчас я начинаю понимать происходящее. Так вот, значит какова была причина всей этой тягомотины с конклавом, всех этих выдвижений непроходных кандидатов, потерь времени, банкетов, веселья и смеха. Именно этого события ждал конклав кардиналов. Они ждал пока умрет Карл II, когда обстановка действительно станет серьезной (как будто выборы Папы не были чем-то серьезным…) Чрезвычайное положение, Именно это им и требовалось Нужна была ситуация, при которой никто не мог бы сказать: «Минутку, так не пойдет». Атто был прав: серьезные решения принимаются в ситуации чрезвычайного положения. А если такого положения нет, то его нужно создать или подождать, пока оно само возникнет. Но меня не перестают мучить вопросы о том, что же задумали кардиналы и чего хотят политические силы, обладающие влиянием? Я вспоминаю то, чему меня учил Атто семнадцать лет назад когда мы бродили проулками ночного Рима: в государственных делах имеет значение не ЧТО, а КАК. Никто не может знать всего, даже короли. Если ты чего-то не знаешь, то должен научиться выдвигать версии и рассматривать возможности, которые на первый взгляд кажутся невероятными, и тогда ты, несомненно, поймешь, что все так, как ты и предполагаешь, каким бы странным это ни казалось. Я понял: кардиналы хотят выбрать Папу, которого никогда не выбрали бы в другом случае, например Папу с плохой репутацией (такого, как Спинола из Санта-Цецилии) или такого, который не устраивает ту или иную политическую силу (этих очень много). Но вот кого?
23 ноября
Произошло невероятное. Албани. Они выбрали Албани. Сорок голосов из пятидесяти восьми. Все говорили, что он не подходит на роль понтифика, ведь он слишком молод, ему лишь пятьдесят. Даже кардинал Спада, который на четыре года старше Албани, не принимался в расчет при выборе кандидатов. К тому же у Албани, как известно, чудовищное множество родственников, и абсолютно все убеждены, что Албани будет обеспечивать их за церковный счет. И все же его выбрали. Совсем недавно он даже не был священником. Албани принял постриг в огромной спешке: 6 октября он впервые отслужил мессу, а 9-го пошел на конклав. Поскольку он не был священником, то не был и епископом, а Папа всегда епископ Рима. Так что после выборов Албани придется пройти посвящение в епископы. Такого не происходило уже сто восемь лет.
В хорошо проинформированных кругах ходят слухи о том, что Албани прекрасно знал о своих шансах, и не случайно уже в первом туре выборов 10 октября он набрал шесть голосов, чего никто не ожидал. Едва только поступила новость о смерти короля Испании, все сторонники Альтьерана, Оттобони, Одескальки, Игнателли и Барберини единодушно назвали его имя. Французы лицемерно сделали вид, что желают отсрочки, но было ясно, что они прочили на это место именно Албани. Я уверен: все было известно с самого начала. Албани был Папой in pectore,[1367] который тайком уже примеряеттиару, ожидая смерти короля Испании. Французы заставили своих сторонников предложить имя Албани (говорят, что Людовик XIV потратил на это огромную сумму денег). Тем временем Албани благодаря его пикировке с Атто на вилле Спада избавился от ярлыка профранцузского кардинала, и все остальные поверили, что они избирают независимого Папу. На самом же деле они выбирали человека «короля-солнце». Только в самом конце интрига прояснилась, когда поразительным образом за Албани проголосовали все профранцузски настроенные кардиналы. Это были не выборы, а комедия. Да и болтовня Албани, когда ему сообщили, что он станет Папой, была достаточно невнятной. Он говорил об угрызениях совести, мучивших его, о том, что не может принять этот выбор, поскольку еще не готов к нему Позавчера он жаловался на недомогание, слег в постель, его вырвало и в рвотной массе нашли следы желчи. Вчера он снова встал и со слезами на глазах заявил, что не может принять этот пост. Всем очевидно, что это лишь игра, и все об этом говорят. Он был тертым калачом в политике и хотел, чтобы его умоляли стать Папой, ведь тогда он заткнет рот всем критикам. В то же время он прекрасно знает, что повсюду развешивают его портреты в папском облачении, а его фамильный герб можно увидеть на фасадах всех церквей и государственных строений. В соборе Святого Петра готовят кафедру для церемонии принятия папства. И даже на стуле, на котором нового Папу внесут в базилику, уже вырезан герб Албани. Чтобы покончить со всем этим лицемерием, Албани собрал совет из четырех теологов, которые терпеливо объяснили ему ratio précipita (главнейшие соображения), которые заставляли его принять тиару. Сегодня о решении конклава сообщили общественности.
25 ноября
В шесть часов утра в испанское посольство прибыл курьер со второй важной новостью. Через несколько часов после смерти короля Испании было оглашено его завещание. Наследником испанского трона назвал Филипп Анжуйский, второй сын дофина Франции и внук «короля-солнце». Эту новость держали в тайне до 10 ноября, дня, когда Людовик XIV официально признал это завещание в Версале. Говорят, что он удовлетворенно воскликнул:«Il n'у a plus de Pyrénéesl»[1368] Это правда: теперь Пиренеи не будут закрывать ему путь в Мадрид, ведь вся испанская монархия в рукаху французов. Посол Мадрида, герцог Узеда, сразу же передал новость Папе, так что пришлось поднять его на ноги в такую раннюю пору. Папа был настолько доволен, что мгновенно подарил камердинеру Узеды должность каноника в Вальядолиде. Однако проблемы продолжают накапливаться. Уже известно, что Австрия не признает завещания и угрожает ввести войска в Италию, чтобы захватить испанские владения на полуоcтрове. Франция такого не потерпит. Бикфордов шнур войны уже загорелся.
Я единственный человек в городе, которому известны скрытые связи между этими фактами. Мне ясна суть сделки: Людовик XIV пообещал Албани папство, а за это пожелал увидеть своего внука на испанском престоле. Атто, Бюва и Мария приготовили поддельную подпись короля Испании для фальшивого завещания. Однако в предыдущие месяцы Карл II уже попросил у Папы Иннокентия XII содействия в вопросе об Испанском наследстве, и по одному этому можно сказать, что он совершенно не собирался делать своим наследником француза. Нужно было срочно отослать ему ответ, чтобы внушить королю, что нет и речи о заговоре, хотя тот уже начал приводиться в исполнение. Ответ должен был сыграть на руку заговорщикам. Об этом позаботились Спада, Спинола и Албани: они подготовили соответствующий ответ, в котором королю отказывалось в посредничестве и советовалось назвать наследником внука «короля-солнце». Именно поэтому в Испании при обнародовании фальшивого завещания никто не удивился тому, что Карл выбрал своим наследником француза: в конце концов, ему это посоветовал сам Папа. Короче говоря, оба сфальсифицированных документа – как заключение, так и завещание – должны были взаимно подтверждать друг друга. Подготовив заключение, три кардинала легко могли уговорить Папу поручить им составить ответ испанскому королю. Сфальсифицировать письмо Папы было очень просто: он никогда не писал писем князьям и королям лично, а диктовал их секретарю и просил поставить подпись кого-либо из кардиналов. Неудивительно, что Албани, став Папой, покончил с этой традицией: под предлогом смирения он уже сообщил, что отныне будет сам писать и подписывать важные документы. А я – как сообщник Атто, я тоже стал фигурой в этой игре. Не будучи кардиналом, я внес свой вклад в выборы Папы. Но главную роль тут, конечно же, сыграл Мелани. Благодаря устроенному скандалу с Албани во время свадебных торжеств на вилле Спада, Атто удалось стереть одно-единственное пятно с репутации кардинала: слухи о его симпатиях к Франции. Именно поэтому Атто не ответил на мой вопрос, почему он решился своими необдуманными речами довести дело до скандала с Албани. Истина состоит в том, что Атто хотел сыграть роль фанатичного сторонника французов, чтобы Албани, его противник, выглядел как непредубежденный человек, стоящий над противоборствующими фракциями. Благодаря этой комедии Албани и избрали Папой. Атто все удалось. Как он и сказал мне в самом начале, ему удалось внести свой вклад в избрание Папы. Более того, он сумел это сделать еще до начала конклава. Возможно, не случайно Албани решил принять папство под именем Климента XI, ведь Атто хвастался, что тридцать лет назад повлиял на выбор Папой Климента IX. Аббат Мелани меня не обманул. Он приехал в Рим в связи с конклавом. То, что я считал отговоркой, оказалось правдой. Никто другой не сумел бы так плести интриги по поводу испанского престола и конклава, лавировать между королем Испании и Марией Манчини, преодолевая тысячи препятствий. Этому маленькому худому старичку все было по плечу.
Март 1702 года
Мария Манчини оказалась права. Все было бессмысленным. Когда я пишу эти строки, Италия уже два года утопает в крови и скоро война распространится повсюду. Астрологи говорят, что сближение Марса и Юпитера в этом месяце пророчит много битв и несчастий. Прошлой весной Австрия напала с северо-востока и дошла до Милана. В июле французы под предводительством Катина, весьма посредственного военачальника, проиграли битву при Карпи, и им пришлось сдать позиции между Адидже и Минчио. Австрийцы прошли там как по парадному плацу и захватили крепость Мирандолу. Их не сумели задержать даже в Пьемонте, хотя в битве участвовал французский эскадрон маршала Виллероя. Вскоре в Вероне Виллероя взяли в плен. Только благодаря помощи Вандома ситуация изменилась. Он привел с собой восемьдесят тысяч хорошо вооруженных солдат, отбил Модену и спас Мантую и Милан, хотя австрийцы бросили в бой последние силы, истощив свои резервы. Если ему удастся пробиться через Тироль в Баварию, он сможет соединиться с французской армией на Рейне и пойти прямо на Вену, чтобы разбить империю в пух и прах. Но даже это не положит конец войне. Вскоре на Францию нападут Англия и Нидерланды, которые ждут не дождутся, когда Франция будет разрушена, ведь «король-солнце» их предал. Он подписал с ними договор о разделе огромной территории Испании, но потом сослался на завещание Карла II и забрал все себе, нарушив договоренности. Конфликт, несомненно, вскоре распространится на весь континент. Героем первых лет войны удивительным образом стал человек с итальянской кровью, принц Эжен де Савуайе, сын герцога де Савуайе и женщины, которую я хорошо знаю по рассказам Атто. – Олимпии Манчини, ужасной сестры Марии. Принц Эжен стал бы французом, но, когда он был еще совсем мал. Людовик XIV оскорбил его и заставил покинуть королевство. Он пошел на службу к императору и стал величайшим генералом всех времен. И это в ущерб Франции. Ах, Сильвио, Сильвио… И снова в лице мадам коннетабль выступает сама судьба: Эжен, ее племянник, – важнейшая фигура в войне, человек, от которого зависит судьба мира. Ее подлая сестра Олимпия наконец-то нашла выражение для своей злобы: ее сын – военный гений, сеющий повсюду страх и отчаяние.Как всегда бывает в решающие моменты истории, начали сбываться пророчества. Отец Марии Манчини прочитал в гороскопе дочери, что она вызовет волнения, восстания и даже войну. Он прочитал правду. Если бы молодой король Франции женился на ней, а не на испанской инфанте, он никогда не предъявлял бы претензий на трон Карла II и этой войны не было бы. Два года я мучился мыслями о заговоре, в котором сыграл важную роль. Год назад я наконец-то заставил себя записать все эти события и даже напечатал фронтиспис с украшениями и поставил его в начале этих страниц. Я отошлю аббату Мелани работу, за которую он мне заплатил, и потребую приданое для моих малышек. Одной сейчас двенадцать, другой восемь, и у меня еще есть немного времени, подыскать им хорошего супруга. Ответит ли аббат мне? Иногда меня захлестывает волна гнева и я чувствую ненависть к этому мастеру интриг и лжи. Но тогда я вспоминаю три жемчужины, которые он хранил в память обо мне семнадцать лет, и говорю себе, что, может быть, мне следует запомнить только этот его жест любви. Я боюсь, что у меня осталось не так много времени для выдвижения требований. Атто Мелани, советнику «короля-солнце» и аббату Бобека, сейчас уже (было бы?) 76 лет. Оглядываясь вокруг, я вижу, что очень немногие в его возрасте живы, здоровы и находятся в здравом рассудке. Вся прежняя слишком активная жизнь, несомненно, сказалась на его усталом теле. Мне остается только надеяться.
Но еще больше, чем будущее, меня беспокоит настоящее. Мария Манчини была права, говоря своему возлюбленному Людовику, что фальшивое завещание не решит проблемы. Стреляют пушки, и я знаю, что все старания завладеть испанским престолом мирным путем оказались напрасными. Филипп Анжуйский стал королем Испании, как того хотел «король-солнце», но Франция оказалась втянутой в войну с другими государствами, в войну, от которой мир, может быть, никогда не оправится, – в «братоубийственную войну, новую Пелопонесскую войну», как пророчески сказала мадам коннетабль. В те июльские дни на вилле Спада я думал, что смогу помочь моим доченькам, а вместо этого оказался причастен к заговору, который привел к закату Европы. Неужели это награда за то, что я совершил той ночью, взбираясь на купол собора Святого Петра?
Два дня назад я решил поискать ответ там, где до сих пор находил большинство ответов, – на «Корабле». Мне хотелось побыть одному и в то же время поговорить с кем-то. Клоридии не было дома, она помогала дежурной. Мелани и Бюва находились в Париже, черт бы их побрал. Кто знает, может быть, тот удивительный человек все еще там, где я его оставил. Прошло два года, но иногда возможно все…
* * *
– Царь Соломон сказал: «Кто умножает знание, умножает скорбь». Словно не прошло и дня: едва придя на «Корабль» я обнаружил его на привычном месте. Он раскачивался на коньке крыши и – стоит ли об этом упоминать? – наигрывал на скрипке фолию. Он сразу же приветствовал меня цитатой из Библии, словно прочитав по блеску моих глаз, что мне требовалось. Да и как он мог ошибиться? На виллу «Корабль» все приходили, только если что-то искали. – А еще он говорил, что сердце мудрых – в доме плача, – добавил голландец. Это было правдой, да, несомненно. Теперь я знал, что мое сердце – в доме плача, так же как и семнадцать лет назад, когда я познакомился с аббатом Мелани и он разрушил все мои юношеские иллюзии одну за другой, нещадно разбивая их о реальность. – Именно потому существует эта народная мелодия, – продолжил скрипач громким голосом, чтобы его лучше было слышно не переставая при этом широко улыбаться и водить смычком по струнам. – Безумие воодушевляет души и превращает tristitia saekuli в coleste gaudium, как это мудро отметил Хильдегард фон Бинген: мировую скорбь – в божественную радость. Прошло два года, с тех пор как я услышал эту мелодию. Звучные арпеджо подхватывали его слова, управляли его телом в подобии величавого танца. Несколько минут Альбикастро молча играл, и я решил оставить его. Я спустился в сад и немного прогулялся, но вскоре мои мысли понеслись галопом, подчиняясь быстрому ритму мелодии. Во вспышках музыки в моем сознании возникали тысячи лиц, связанных с прошлыми событиями. Они подмигивали мне, чтобы я ловил их, а затем это кружение лиц в памяти прекращалось и я уже думал: «Ну вот и все», – но они опять начинали свой танец. Они разрушили мою хрупкую уверенность и предлагали новые пути познания. Кроме моего мира, существовала тысяча миров музыки, но во мне, в моих мыслях, мир был разделен надвое. В одном из этих двух миров Атто и Мария были жалкими шпионами на службе у короля Франции, которые, чтобы обмануть всех, сфальсифицировали свои любовные письма. В другом мире аббат Мелани был верным и галантным посредником между мадам коннетабль и «королем-солнце», даже в политике доказывавшими друг другу свою любовь, пользуясь, как и сорок лет назад, псевдонимами Сильвио и Доринда. Но который из этих двух миров был истинным, а какой иллюзорным? Видел ли я лишь маски или мужчин и женщин из плоти и крови? Музыка пронизывала все вокруг меня, заостряя разум. Что Атто сказал мне в день перед своим отъездом? «Если разлука короля Франции и Марии Манчини принесет Бурбонам испанский трон, то эта разлука была не напрасной». И тут я понял. Эти два мира – мир шпионов и мир любящих людей – не исключали друг друга. Они существовали рядом и дополняли один другой. Марию и Людовика XIV разлучили ради Испании, и спустя сорок лет они по-прежнему в переписке говорили об этом. Их страсть оказалась на втором месте после интересов государства, но была неразрывно с ней связана. Мария была шпионкой Людовика, но она делала это из любви к нему. Они переписывались, используя тайный язык из книги «Верный пастух», которую когда-то так любили, а Атто был их посредником, как давным-давно. Если бы Мария не любила Людовика, она не исполняла бы его приказов. Это проявлялось в ее письмах. «Я понимаю Вашу точку зрения… но я еще раз говорю: это бессмысленно». Она никогда не согласилась бы везти фальшивую подпись Карла II в Мадрид. Мария была убеждена: эта махинация тщетна и сыграет против ее организатора. Как Крез, царь Лидии, хотел доказать Солону, что он самый счастливый среди смертных, так и «король-солнце» этим фальшивым документом, который должен был принести ему корону Испании, желал доказать мадам коннетабль, что он самый могущественный из всех королей, а значит, счастливейший из живущих на свете. Атто сообщил об этом Марии: «То, что Вы получите, когда мы снова увидимся. изменит Вашу точку зрения. Вызнаете, насколько для него важны Ваше мнение и Ваша поддержка». Но точно так же, как и Солон, Мария лишь отрицательно покачала головой. Она выразилась достаточно определенно, написав: «То, что сегодня кажется добром, завтра может превратиться во зло».Мария не верила, что фальшивое завещание сделает «короля – солнце» счастливым человеком, даже если оно удовлетворит его жажду к власти. И все же во имя их старой любви она подчинилась его воле: «Я приеду. Я повинуюсь желанию Лидио. Мы снова увидимся на вилле Спада. Я Вам это обещаю». Людовик ожидал от нее двойной покорности – и в любви, и в политике. «Так значит, аббат должен был передать ей вовсе не любовное послание, а этот лист со словами Yo el Re у, который был призван изменить течение мировой истории», – подумал я, горько улыбнувшись.
И все же Атто доверил эту миссию мне, скромному крестьянину и слуге в доме Спады, а не передал письмо Марии сам. Но почему? Чтобы не марать рук и передать фальшивую подпись, пылавшую огнем тысячи пожарищ, через посредника, который ни о чем не подозревал. Так я думал два года назад, движимый собственной яростью. Однако аббат проводил меня до ворот монастыря, а это было очень неосмотрительно для человека, который все продумывал наперед. Нет, этот закон двух сосуществующих миров – чувств и грязной политики – распространялся и на Атто. В последний момент его подвело сердце, догадался я. Ему не хватило мужества встретиться с женщиной, которую он любил тридцать лет, не видя ее все это время. Он не решился показать ей свое сгорбленное тело, носившее груз многих лет, а может быть, и сам боялся увидеть ее такой, какой она стала. В конце концов, глаза Атто были глазами «короля-солнце», и если Мария не желала показываться королю, то, возможно, и хорошо, что Мелани ее так и не увидел: он не хотел предавать Марию, но не мог и обманывать Людовика. Рано или поздно пришел бы день, когда король задал бы ему вопрос: «Скажи мне, она по-прежнему красива?» Я видел ее и мог бы рассказать аббату, что, возможно, она никогда не была прекраснее, и воспоминания о ней никогда меня не отпустят, – воспоминания о белизне ее лица и рук, о блеске огромных темно-карих глаз, об изящных алых лентах, вплетенных в густые локоны. Но я не сумел этого сделать. Атто уехал.
Мелодия продолжала звучать, да и мои рассуждения еще не закончились. Атто плохо запечатал то судьбоносное письмо Марии, и такая небрежность была слишком серьезной, чтобы оказаться случайностью. У него не хватило сил лгать мне до конца. Он хотел сознаться во лжи, но по-своему. А его поспешный побег приводил меня к выводу о том, что он сам не мог вынести правды. А письма Марии? Случайно ли я прочитал их в комнате Атто? О нет, у Атто никогда ничего не было случайным. Да и что сказала бы мне эта подпись Yo el Rey, не прочитай я писем Атто и Марии? Она не сказала бы мне ничего, если учесть мою осведомленность об испанском престолонаследовании и завещании Карла II. Это могло означать только одно: он знал, что я прочитал эти письма. Более того, он хотел, чтобы я прочитал его переписку с мадам коннетабль. И я попался в ловушку. Как глупо! И каким хитрым я казался сам себе, когда обнаружил эти бумаги в грязном белье аббата! Несомненно, Атто положил их туда специально, зная, что я вскоре вспомню о том, как мы с ним семнадцать лет назад нашли нужный нам документ в грязном белье. Чтобы моя информация и моя помощь приносили пользу, я должен был хорошо ориентироваться в вопросах Испанского наследства. Тот, кто ничего не знает, тот ничего и не видит, а я должен был знать, чтобы наблюдать, а затем отчитываться перед Атто. Вот только аббат не мог сказать мне обо всем прямо, ведь тогда я задал бы ему слишком много вопросов, на которые он не хотел отвечать. Поэтому он избрал такой путь. А когда мне уже нельзя было читать письма (ведь в последних было слишком много неприятной правды), он тщательно спрятал их в собственном парике. Должно быть, он не предусмотрел, что я преодолею и это препятствие. Мне все-таки удалось прочитать письма и вплотную приблизиться к правде: я узнал, что Атто обманул меня, говоря о трех кардиналах. И все же меня сбили с толку поэтические полные мольбы слова, обращенные к Марии, которая еще не приехала на виллу Спада. Когда он писал эти любовные строки, аббат знал, что Мария никогда не сможет принять участие в праздновании! Эти стихи, эти печальные стихи заставила написать его не грусть, а мука, оттого что он знал: она совсем близко, но в то же время недостижима для него из-за того дела, ради которого они приехали в Рим на виллу Спада. Эти два мира продолжали существовать рядом. Я предпочел бы ничего не знать об этом, подумал я, глядя на солнце, перешагнувшее через зенит. Если бы Атто не позволил себе поддаться угрызениям совести (и это после того, как он столько раз ставил мою жизнь на карту!), ему не пришлось бы убегать и мы пошли бы к нотариусу и оформили приданое для моих девочек. Мне очень хотелось выследить в Париже этого предателя. Мое тело дернулось, и рука нанесла удар в невидимую челюсть – челюсть Атто, которого не было рядом. – Ты хочешь отомстить, правда, мальчик мой? – спросил Альбикастро, модулируя на скрипке стаккато. – Я хочу жить в мире. – А кто тебе мешает? Действуй, как молодой Телемах. – Опять этот Телемах, – возмутился я. – Вы и аббат Мелани… – Если ты будешь жить, как Телемах, чье имя не зря означает «далеко разящий», то проживешь в мире, – проскандировал голландец, подчеркивая каждый слог своих слов музыкой. – Чтобы понять вас, нужно быть очень умным, – пробормотал я в ответ на слова этой чрезвычайно странной личности. – Телемах натянул тетиву лука, но его отец Одиссей, тайно присутствовавший там, подал ему знак и остановил, – рассказывал Альбикастро, взяв новую вариацию той же мелодии. – И тогда Телемах сказал женихам: «Может быть, я еще слишком молод и в моих руках недостаточно силы. Но вы, которые намного сильнее меня, идите сюда и попробуйте справиться с этим луком. Так ваша борьба наконец-то завершится». Ты знаешь, что это означает? Молодой Телемах легко мог бы согнуть отцовский лук. Но это была не его месть. Тебе тоже следует действовать спокойно, предоставив решение Господу. Видишь ли, сын мой, – продолжил он мягко, – наш мир со времен Гомера, а может быть, и дольше, это мир музыки, мир борьбы издалека. Просто не пришел еще судный день, когда под всеобщий смех согнется наконец смертоносный лук Одиссея. Но мы не хотим задаваться вопросом, когда же грядет этот день, – произнес он, а потом начал декламировать:
* * *
Мне тоже надо было уходить, но перед этим я еще раз прошелся по саду. Овеваемый свежим ветром, я любовался огненным ликом солнца. Погода была почти весенней, и казалось, что кто-то отвел стрелки часов на несколько часов назад. Я наконец направился к выходу, но внезапно мое внимание привлекло шуршание платьев и смех. И тут я увидел их. Они были за изгородью, как и тогда, когда мы увидели их впервые. Изгородь была завесой, сквозь которую можно было видеть и не видеть, и поэтому знать и не знать. На этот раз они были старыми. Не просто зрелыми – старыми. С морщинистыми лицами, тяжелыми веками, хриплыми голосами. И все-таки они казались радостными, как в тот момент, когда мы с Атто видели их из окна первого этажа, еще двадцатилетними. Они шли рядом, сутулясь и смеясь, и говорили о каких-то мелочах. Она протянула ему руку. Я задержал дыхание. Мне хотелось приблизиться к ним, понять, правильно ли я все разглядел. Я попытался найти проход в изгороди, но потом передумал, вернулся и снова стал смотре сквозь нее. Было уже слишком поздно. Даже если они и были там, то теперь исчезли. Я не стал ждать их возвращения, зная по опыту, что это бесполезно. В последний раз я подумал об Альбикастро. Он покинул эту пустынную, полную таинственной жизни виллу, чтобы окунуться в мирскую жизнь, а вернее, в войну. Я вспомнил, что Альбикастро говорил мне два года назад: точно так же, как силены Алкивиада – уродливые статуи, скрывавшие в себе изображения богов, – то, что кажется смертью, на самом деле жизнь, и наоборот, то, что кажется жизнью, – это смерть.Когда я покинул «Корабль», небо опять потемнело, а свет стал скудным, вечерним. Кожа у меня покрылась мурашками. Я ощущал внутреннее беспокойство. Я уже знал, что время здесь шло по-другому и могло изменять свое направление, так почему же удивляться, что ветер и листья, облака и солнце в этом месте исполняли тот же танец?
* * *
– Что с тобой произошло? Я уже несколько часов тебя ищу! Я был бледен как мел. Клоридия, обеспокоенная и удивленная одновременно, бросилась меня обнимать, встретив по пути домой. Я на одном дыхании рассказал все, что со мной произошло, но она лишь улыбнулась. – Твой аббат сейчас рассказал бы о фантазиях, о веществах, вызывающих галлюцинации и даже об оптическом обмане. Может быть, он прочитал бы тебе какие-то слова из трактата о естествознании, который в последнее время пользуется большой популярностью. – А что? – спросил я. – Ну, в общем-то, я могла бы сказать: ты увидел или представил себе то, что произошло бы, если бы короля Франции и Марию Манчини не разлучили. Они старели бы вместе. – Так значит, там, на «Корабле», я увидел то хорошее, что должно было случиться, но не случилось, – сказал я. – Но почему я не увидел все плохое? – Я могла бы ответить на это. Во-первых, на этой вилле может происходить только то, что должно было бы произойти по праву но не произошло из-за… скажем так, искажения истории. Искажения естественного порядка вещей. – А вторая причина? – спросил я, так как Клоридия замолчала. – Я могла бы, подчеркиваю, могла бы произнести много красивых слов о том, что такое добро, то есть что хорошо и правильно, существует, и все тут. Добро – это порождение Бога, Творца и Отца всего сущего. Поэтому оно существует в высшем значении этого слова. И продолжает существовать даже в том случае, если проигрывает злым, превосходящим его силам. Ведь добро – это чистое и непреходящее понятие, и поэтому всегда должно существовать. Его нельзя уничтожить. Не бойся, можешь быть уверен, что это добро вернется в другое время и в другом облике. – А зло? – Ты знаешь, как я ненавижу философию. Но в данном случае я могла бы процитировать тебе слова святого Августина: зло есть отрицание. В отличие от добра, оно не существует само по себе, но возникает лишь в результате разрушения того, что хорошо и правильно. Если добро побеждает зло, то зло никуда не прячется, оно исчезает полностью, то есть исчезает его ложное существование, пустая ловушка, заманивавшая людей. Поэтому ты никогда не найдешь «Корабль», который включал бы в себя плохие помыслы и злые планы, которым не суждено было сбыться. Я с изумлением глядел на нее: она говорила так, будто это было совершенно очевидно. Остаток пути мы прошли молча. – Вам, женщинам, все всегда кажется само собой разумеющимся, – вздохнул я, когда мы входили во двор нашего дома. – Вы могли бы увидеть летающего осла и не удивиться. Я снял красивые туфли, которые подарил мне Атто и переоделся в деревянные башмаки. – Может быть, все дело в том, что, как говорите вы, мужчины, мы не настолько умны, – сказала моя супруга, снимая с меня фрак и распуская голубую ленту в моих волосах. – Напротив, я хотел сказать, что вы намного мудрее. – Ну да. Не зря же именно женщина, а не мужчина голой ногой раздавила змею, – согласилась Клоридия. – Но не забывай о том, что я сказала: я могла бы тебе все это рассказать… – А вместо этого? – Вместо этого просто скажу тебе, что ты столкнулся с оптическим обманом. Или это был плод твоей фантазии. Плод фантазии, который стоит целого романа.* * *
Дорогой Алессио, Теперь, когда вы добрались до конца книги двух моих друзей позвольте мне с вами попрощаться.
На этот раз мне не приходилось заниматься исследованиями, чтобы проверить истинность описанных событий. Вместе с книгой я получил компакт-диск с музыкальными произведениями, о которых шла речь в манускрипте, и приложение с доказательствами. Мне повезло: там, где я нахожусь, я не смог бы провести историческое исследование, как не сумел бы и найти неизвестную, но великолепную мелодию, исполненную Альбикастро, и арию из «Pastor fido». Предлагаю вам получить огромное удовольствие от проверки того, истинно ли все, записанное в манускрипте, который вы только что прочитали. Эта работа не столь сложна, как вы, вероятно, опасаетесь. К тому же вам помогут неизвестные исполнители музыкальных произведений на прилагаемом мною компакт-диске. Как вы прочтете далее, Рита и Франческо наняли двух графологов, которые проверили подлинность подписи под завещанием Карла II, короля Испании. Результат был однозначен: подпись поддельная. Этого достаточно, больше я ни о чем не прошу. Должно быть, вы ждете ответа еще на один вопрос: для чего я послал вам эту книгу? Все очень просто: в Риме, у человека, близкого к Папе, книге оставаться надежнее, чем здесь, в далеком Томи, у опустившегося до простого священника епископа. Однако вам не следует утруждать себя хождением по коридорам и тайным комнатам. Все будет тщетно. В связи с этим да будет мне позволено обратиться к вам со словами римского поэта Овидия, моего спутника в несчастье, со словами, которые цитировал Атто Мелани: «Тебе уготована судьба смертного, Фаэтон, но не к смерти ты стремишься».
Более того, я надеюсь, что вы лично сможете помочь двум моим друзьям. «Но как?» – спросите вы с иронией, но, я знаю, что и с беспокойством. Ответ на это знает Господь, quern nullum lotet secretum.[1369]
Документы
Подпись Карла II, короля Испании
Если завещание Карла было и правда подделано, то возникает вопрос: что бы произошло, не будь этого обмана? Тогда не разразилась бы война за Испанское наследство, либо альянсы, сыгравшие немаловажную роль в войне, были бы другими, а следовательно, другим стал бы исход войны. Возможно, испанская империя была бы мирно разделена между разными сторонами, как и предусматривалось соглашением о разделении. Франция сохранила бы господствующее положение на континенте, удержавшись от этой ужасной войны, а возможно, даже революционные события 1789 года приняли бы совсем иной оборот, начались позже и не были бы столь кровавыми. Вероятнее всего, в конце этих военных столкновений Европа выглядела бы совсем другой. Да и история во все последующие столетия протекала бы совершенно иначе. Как можно установить, что подпись подделана? Очень просто: нужно проконсультироваться у графолога, А лучше у двух. Подлинные подписи Карла II находятся в архивах многих крупных европейских городов, где хранится дипломатическая корреспонденция испанских королей. Здесь представлены лишь пять подписей Карла II, относящихся к различным периодам его жизни:
А вот подпись на завещании, которая хранится в знаменитом Королевском центральном архиве Испании:
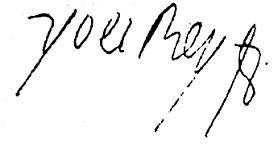
Даже непосвященным очевидно, что эта четкая, твердая быстрая подпись не могла принадлежать такому безнадежно больному человеку, как Карл II. В последние месяцы жизни он был на столько ослаблен болезнью, что почти не вставал с постели (в то время как последняя воля покойного была зафиксирована в за вещании всего за месяц до смерти). Другие подписи были неуверенными, неправильными, написанными дрожащей рукой. Чем ближе становился час смерти, тем более неуверенной была его подпись. Поэтому кажется невероятным тот факт, что именно последняя подпись под завещанием, сделанная незадолго до смерти Карла, выполнена с размахом и спокойной небрежностью молодого человека.
Однако неспециалисты могут ошибаться. Поэтому экспертизу провели два специалиста, которые консультировали органы юстиции: женщина, живущая на Севере Италии, и мужчина с Юга – такие разные, как это только возможно. Естественно, они ничего не знали друг о друге. Первый ответ пришел с Севера. Доктор Марина Тонини написала следующее:
«…сравнение исследуемой подписи X, датированной 3 октября 1700 года, и подписи, датированной апрелем 1700 года, дает основание для серьезных сомнений в аутентичности первой. Кроме того, следует учитывать тот факт, что в апрельской подписи отсутствует буква I в словах Yo el Pey. Впрочем, этот феномен полностью соответствует тяжелому нарушению моторики письма у человека, поставившего подпись, что сразу же бросается в глаза в тексте A5. Итак, мы вправе задать вопрос: был ли этот человек в состоянии выполнить в целом такое мягкое и гладкое движение, каким оно предстает перед нами в подписи X? Поэтому на основании наблюдений, сделанных до настоящего момента, и в пределах, которые были установлены для исследования подачей необходимых материалов в виде фотокопий, допустимо следующее заключение: подпись X с очень высокой вероятностью не принадлежит человеку, выполнившему подписи А».Выражение «с высокой вероятностью» указывает на то, что госпожа Тонини посчитала необходимым допустить минимальную техническую погрешность, как это обычно бывает у графологов, когда они имеют дело не с оригиналом, а с фотографией или фотокопией. Последнее является, однако, непреодолимым препятствием, так как соответствующие письма находятся в Испании и Австрии.
Вследствие этого возникла необходимость в еще одном подтверждении. И оно было получено в форме другого заключения, сделанного адвокатом и судебным графологом из Неаполя, Андреа Фаиэлло. Счастливая случайность: адвокат Фаиэлло знаком с историей Испанского наследства еще со времен учебы в университете, как и с архивами своего города. После тщательного исследования госпожи Тонини дело продвинулось далеко вперед. Фаиэлло отправился в государственный архив Неаполя, чтобы лично изучить другие подписи Карла II на оригинальных документах. Таким образом, он имел больше возможностей для оценки и пришел к следующим результатам. В соответствии с заключением Фаиэлло, в подписи под завещанием
«…полностью отсутствуют признаки «написания в кровати», а именно частые наложения, дрожащие линии, сжатия» новые места соединения букв и вообще признаки возрастающей усталости руки во время письма […] (если учесть состояние здоровья Карла II в момент возникновения данной подписи, эта усталость должна просматриваться гораздо отчетливее…). Почерк, наоборот, является «беглым» (графический признак «беглый почерк» означает, что буквы имеют уверенный правый наклон, причем штрихи склонны больше к горизонтальному, чем вертикальному выравниванию, независимо от поспешности или спокойствия движения, либо независимо от того, соблюдены ли формы букв, – наблюдается моторная тенденция: порывистость и динамика чувства и воли). Кроме того, мы наблюдаем еще один графический признак «быстрого почерка», когда буквы или части букв не выстроены в одно слово на реальной или воображаемой линии а скачут вверх и вниз (…). При сверке с подписями, достоверно сделанными рукой испанского короля, при выполнении завершающего парафа (росчерка в подписи) отчетливо видно неидентичное формирование «петли» (пространство между «палочкой» – спускающейся линией – и «ниткой» – поднимающейся линией). Данная петля значительно уже, чем у других подписей, где она все время оставалось одинаковой в разные периоды жизни Карла, когда он уже находился под влиянием тяжелой болезни, которая сильно ослабляла его и в конце концов привела к смерти. Кроме того, у этого парафа другой угол наклона между палочкой и ниткой. К тому же у контуров линий в целом отсутствуют стертые, исправленные, загрязненные места, не наблюдается растягиваний, промедления или повторений. Как заключительные штрихи отдельных букв, так и их начало выполнены беглым почерком, что наверняка является следствием другого физического состояния, в отличие от состояния короля на то время, и, судя по этой морфологии букв, сделаны натренированной рукой.
ВЫВОДЫ
Нижеподписавшийся абсолютно объективно, добросовестно и по лучшему разумению делает следующие выводы: подпись, поставленная в конце завещания от 3 октября 1700 года, не обнаруживает свойств подписей, которые точно были выполнены Карлом II Габсбургским собственноручно; поэтому эта подпись является ПОДЛОЖНОЙ».Так значит, это все-таки правда. Завещание Карла II, в котором он назначает своим наследником внука Людовика XIV, Филиппа Анжуйского, никогда не подписывалось самом Карлом. Возможно, он подписал другой документ, позже уничтоженный, где передавал трон австрийскому Габсбургу. Но это всего лишь предположения. Только один факт неоспорим: Бурбоны незаконно вступили на испанский трон, а их сегодняшний представитель сидит там по поддельному завещанию. Можно было бы возразить, что именно Франсиско Франко позволил вернуться королю Хуану Карлосу Бурбонскому на трон после Второй мировой войны. Однако Франко не выбрал никого иного как прямого наследника Филиппа V Бурбонского, который опять же стал таковым благодаря существованию той подделанной подписи.
Оба заключения сданы на хранение одному нотариусу:
Д-р Штефан Прайер, Нотариальная контора д-ра Видерманна и д-ра Прайера, Вивенотгассе 1/7, А – 1120 Вена (Австрия). Тел.:+43-1-813 13 56. Факс:+43-1-81313 56 23.Любой желающий может ознакомиться с двумя этими заключениями либо лично у нотариуса, либо попросив выслать нотариально заверенные копии. Тогда можно будет потрогать руками это Бог знает какое по счету общеизвестное мошенничество в истории человечества.
Аутентичные подписи, проанализированные обоими графологами, были взяты из следующих документов: 1677 год: Австрийский государственный архив[1370] в Вене; Испания, придворная корреспонденция 7 [дело № 10], с. 1; 1679 год: там же, с. 12; 1687 год: отпечатано на Л. Пфандль: «Карл – конец испанского могущества в Европе», Мюнхен, 1940, с. 176; 1689 год: Австрийский государственный архив в Вене; Испания, дипломатическая корреспонденция 59, с. 53; 1700 год: отпечатано на Л. Пфандль, там же, с. 448.
Кроме того, эксперт Фаиэлло непосредственно исследовал следующие оригинальные подписи Карла II, хранящиеся в Государственном архиве города Неаполь: архив «Виллы судьи Караччиоло», документальное отделение т. 134; архив «Сансеверино ди Бизогнано», документальное отделение, т. 29; архив «Судьи ди Челламаре», документальное отделение, т. 94, док. № 15.
Завещание Карла II находится в Испании, в Центральном архиве в Семанкасе, Эстадо К, дело, 1684, № 12.
Высказывание своего мнения или расследование?
Только хронологически упорядоченное и точное описание фактов может разъяснить заговор, с помощью которого Албани, Спада и Спинола практически лишили власти Папу Иннокентия XII и в письме к королю Испании посоветовали назвать наследником француза. Это было необходимым условием, для того чтобы затем подделать завещание Карла в Испании, в котором Габсбург назначался наследником испанского престола. Таким образом подделки должны подтверждать одна другую: ненастоящим было мнение Папы, высказанное в письме, таким же фальшивым являлось завещание Карла. Идеальное преступление, в которое все верили. До сегодняшнего дня.Все началось весной 1700 года, когда распространился слух о том, что Карл II составил завещание в пользу дома Габсбургов, то есть эрцгерцога Австрии, пятнадцатилетнего сына императора Леопольда I. 27 марта папский нунций в Мадриде пишет в Рим: «По всей вероятности, король назначит наследником принца своей крови из австрийской династии, а не француза», Иначе говоря, Карл, тогда еще в светлом уме, назначил своим наследником представителя рода Габсбургов (ср.: М. Ландау. Вена, Рим и Неаполь. История борьбы между папством и империей. Лейпциг, 1884, с. 455, примеч. 1). Как рассказывает Мария в письмах к Атто (ср.: О. Клопп. Падения дома Стюартов, VIII. Вена, 1879, с. 496), Карл II просит кузена Леопольда выслать из Вены к нему в Мадрид своего младшего сына, пятнадцатилетнего эрцгерцога австрийского. По его приказу даже снаряжается конвойный флот, который стоит в гавани Кадица, готовый выйти в море за эрцгерцогом. Становится очевидным, что Карл собирается объявить его своим наследником. Однако на пути испанского короля встает его христианнейшее величество король Франции: едва он узнает о намерении Карла И, как тут же передает ему через своего посла, что рассматривает подобное решение нарушением мира между государствами. Людовик немедленно снаряжает флот в Тулоне, корабли которого намногопревосходят по мощности корабли испанского флота и могут в любой момент выйти в море, чтобы атаковать корабль с австрийским эрцгерцогом на борту. Леопольд не решается подвергать сына риску. В ответ на это Карл II предлагает привезти юного эрцгерцога на территорию Италии, находящуюся под испанским флагом. Но Леопольд медлит: после многолетней борьбы с турками он не хочет вновь заставлять своих подданных проживать кровь, защищая империю от французов. И король Франции знает об этом. Более того, Людовик понял, что настал момент нанести решающий удар. Чтобы еще больше напугать испанцев он рассекречивает факт тайного соглашения о разделе испанской империи, которое он подписал уже почти два года назад с Голландией и Англией. В ужасе Карл II перебирается из Эскориаля назад в Мадрид. Во дворе царит паника: испанский свет боится Франции и готов принять наследником внука его христианнейшего величества, лишь бы избежать французского вторжения. В воскресение, 6 июня, совет министров Испании решает просить Людовика XIV именем внука, которому будет предназначена эта империя (Ландау, там же). 13 июня Карл II просит Папу о помощи (ср.: Галланд. Выборы Папы Римского в 1700 году в контексте церковных и политических взаимоотношений того времени. – Исторический альманах общества гёрров, т. 3 (1882), с. 226). Одновременно Карл II пишет кузену, императору Леопольду, в Вену, сообщая ему о своем прошении к Папе. Он прилагает копию письма к Папе. На совещании министров, состоявшемся в Вене, цель прошения о помощи описывается следующим образом: «Что касается письма короля Испании, то оно говорит, что король полностью доверяет посредничеству Папы»«(в оригинале стоит remissio ad meditationem. Ср.: Протокол совещаний Императорского совета от 6 июля 1700: Австрийский государственный архив, Протоколы тайных совещаний, совещание от 6 июля 1700. Ср. также: А. Гедеке. Политика Австрии по вопросу о наследовании испанского престола. Лейпциг, 1877, т. II, с. 188–189). Значит, действительно письмо, содержавшее просьбу о посредничестве, было представлено на этом совещании Императорского совета 6 июля и приложено к материалам совещания. Однако в конце XIX века оно исчезло: Клопп безрезультатно пытался найти его в государственном архиве в Вене, где оно, собственно, и должно находиться (ср.: О. Клопп, цитируемое произведение, с. 504, примеч. 1). И не только это. Наконец, после долгого ожидания, 24 июля в Риме Ламберг получает аудиенцию у Папы. По вопросу о наследовании испанского престола Его Святейшество выражается очень сдержанно: в соответствии с отчетом Ламберга, Папа сказал, что «так как не может вести переговоры с принцем Оранским [то есть английским королем Вильгельмом III, протестантом], то не сможет и прибегнуть к его посредничеству» (ср.: Ламберг. Исторический отчет переданный вашему величеству, августейшему императору Леопольду I. Вена, Национальная библиотека, с. 30). Ламберг сам напоминает Папе о том, что англичане и голландцы имеют косвенное отношение к делу, а вот главной проблемой является Франция. Папа отвечает: «Это несчастный случай. Однако что же мы можем поделать? Кто отнимает у нас сан, дарованный представителю Христа, тот не имеет уважения». На кого здесь указывает Папа? По всей вероятности, на людей, которые находятся в его ближайшем окружении: в первую очередь это Спада, государственный секретарь, затем секретарь из Бревена Албани и камерарий Спинола из Сан-Чезарео. У них было больше возможностей для самоуправства, чем у других. Однако к этому времени письмо с якобы позицией Папы по данному вопросу уже давно было отправлено в Испанию.
Однако когда это послание дошло до Мадрида, оно явно не побудило короля Карла II изменить свое мнение. В соответствии с протоколами совещаний министров в Вене от 23 и 24 августа (Вена, Австрийский государственный архив. Протоколы тайных совещаний от 23 и 24 августа; ср. также: О. Редлих. История Австрии. 1921, т. VI, с. 503) Карл II через императорского посланника в Мадриде, Людвига Харраха, сообщил императору о своем неизменном намерении передать всю испанскую монархию дому Габсбургов. Кажется даже, что 10 сентября Карл еще раз выразил государственному совету решительное неодобрение в связи с давлением, оказываемым на него, дабы побудить назначить наследником испанской короны французского принца. Карл II, король Испании, был очень болен, в то время почти недееспособен. Однако одним из его немногих ясных представлений, без сомнения, было то, в духе которого он воспитан: империя должна быть передана Габсбургу, ибо, как он сам не раз говорил: «…только Габсбург достоин Габсбурга». И это еще не все. Карл написал своему послу в Вене, герцогу Молесу (ср.: ф. М. Оттиери. История войн в Европе за престолонаследие в Испании. Рим, 1728, т. I, с. 391), и приказал ему уверить императора, что наследником будет Габсбург. Всем было ясно, что испанский король, как бы болен и слаб он ни был, никогда не подписал бы завещания в пользу Франции. В такой ситуации оставалось только одно решение: такое завещание должен подписать кто-то другой. Так и случилось.
Рекорд скорости
Стоит обратить внимание также и на то, как была подготовлена позиция Папы. 3 июля испанский посол герцог Узеда, получил аудиенцию у Иннокентия XII. Это вызвало удивление, так как Узеда отправился к Папе только накануне. С собой у него было письмо, лично подписанное королем Испании и датированное 13 июня, – прошение о помощи, обращенное к Папе. Маршал Тессе (ср.: Р. де Фралей. Мемуары. Париж, 1806, т. I, с 178) сообщает, что Узеда рассказал ему об этой аудиенции позже, в 1708 году: вначале Папе было трудно, он отказывался выражать свое мнение по поводу такой щекотливой ситуации и сдался только после того, как Узеда настоятельным образом попросил его показать ему заключение теологов и юристов (ср.: Ландау, цитируемое произведение, с. 452). Ктому времени Узеда уже переметнулся на сторону французов, однако притворялся другом Империи и Ламберга, который обнаружил это лицемерие слишком поздно (ср.: Отчет, цитируемое произведение, с. 8). Чтобы побудить Папу составить нужный ответ королю Испании, Узеда просит помочь трех людей, из ближайшего окружения Папы: кардинала Спаду, секретаря Бревена Албани и камерария Спинолу из Сан-Чезарео (ср.: Ландау, с. 453). 12 июля старый Папа сдается. И действительно, Ламберг (ср.: Отчет, там же) позже заметит, что в этот день Узеда «отсутствовал в самый важный момент и […] действовал вопреки вере, которая sanctissimum humani pectoris bonum est». 14 июля Папа официально назначает троих кардиналов членами конгрегации, поручая ей проработать их позицию (ср.: Отчет, цитируемое произведение, с. 23). 16 июля отсылается ответ Папы Карлу (ср.: Вольтер. Эпоха Людовика XIV. Лион, 1791, т. II, с. 180). Таким образом, трем кардиналам хватило трех дней, с 14 по 16 июля, чтобы принять решение о наследовании испанского престола. Как это принято, кардиналы, решая столь большой вопрос, должны обратиться к помощи юристов, историков, экспертов или хотя бы проконсультироваться у них. Этот процесс занял бы гораздо больше дней, ведь, чтобы выслушать всех специалистов, тщательно обдумать вопрос и, наконец, составить решение, необходимы одна-две недели. Но не для Албани, Спады и Спинолы. Они решили все за какие-то сорок восемь часов: «Позиция, которая стала результатом долгого, серьезного совещания [именно так!], была принята Папой, и его ответ был надиктован кардиналом Албани секретному писарю и отослан в Мадрид срочным курьером» (Галланд, цитируемое произведение, с. 226). В мгновение ока позиция Его Святейшества определила будущую судьбу мира. Это просто невероятно: старый больной Папа, который совсем скоро умрет, и одна из самых неэффективных бюрократий в Европе побили все рекорды скорости. Странно? Но до настоящего дня историки верили в это. И очень немногие осторожные голоса осмелились выразить подозрение, что заключение Папы могло стать результатом чьих-то манипуляций. К этим немногим относится испанский историк Домингес Ортиз: «Нам не известен оригинал папского ответа, и мы подозреваем, что позиция трех кардиналов была подделана (в пользу французского наследника)» (А. Домингес Ортиз. Регализм и отношения между Церковью и государством в XVII веке. – История Церкви в Испании в XVII и XVIII веках, т. IV. Мадрид, 1979, с. 88–89; цитируется по: Р. Менендез Пидал. История Испании. Мадрид, 1994, т. XVIII, с. 155). Впрочем, манипулировать ответом Папы или даже подделать его было несложно: Иннокентий XII никогда лично не подписывал документы. Интересен тот факт, что именно Албани, его преемник, вел себя совершенно по-другому, после того как был избран Папой под именем Климента XI: «Количество документов, лично составленных или исправленных Климентом XI […] на удивление очень велико. Не многие Папы так много писали, и поэтому ни об одном другом Папе не составлено так много биографий» (Л. Пастор. История Пап. Фрайбург, 1930, т XV, с. 10). Возможно, Албани опасался, чтобы какой-нибудь слишком расторопный кардинал не подделал его писем, как он сделал это со своим предшественником?Исчезновение доказательств
Естественно, было бы просто раз и навсегда доказать, что Карл просил о посредничестве Папы, а не о его позиции, если бы сохранились прошение короля и ответ Папы. Однако, несмотря на огромное историческое значение этих писем, не сохранилось ни строчки, хотя с письма Карла первоначально были сделаны три копии и две с ответа Иннокентия XII: все они словно растворились в воздухе. Этот случай ставит под подозрение всю историю. Вот список исчезнувших документов. Из архива секретных документов Ватикана в Риме пропали оригинал прошения Карла II и копия ответа Иннокентия XII, хотя, по мнению ватиканского архивариуса, они должны храниться именно здесь (пропажа была замечена еще в XIX веке; ср.: Галланд, цитируемое произведение, с. 228, примеч. 5). В Испании, в Королевском центральном архиве Симанкаса, исчезли как копия прошения Карла II, так и оригинал ответа Иннокентия XII (уже в 1882 году директор испанского архива объявил о пропаже; ср.: Галланд, там же). Как уже упоминалось, в Австрийском государственном архиве отсутствует та копия письма Карла II Папе, которую Карл отослал императору Леопольду (она считается пропавшей уже с середины XIX века: ср.: Галланд, там же, он лично проверил этот факт. Также и Клопп не нашел этого письма). Наконец, в Париже в архиве Министерства иностранных дел больше нет двух апокрифических вариантов писем, которые были найдены и опубликованы С. Хиппо (Восхождение Бурбонов на трон Испании. Париж, 1875, т. II, с. 229). Эти два апокрифа исчезли довольно скоро после опубликования, и ни один историк, кроме Хиппо, не могут похвастаться тем, что видели их. Таким образом, практически нет ни одной европейской столицы где бы необъяснимым образом не исчез какой-то важный документ.Коротко об апокрифических письмах, которые опубликовал Хиппо. В Италии в 1702 году циркулировала листовка с мнимым письмом Карла II и даже с ответом Иннокентия XII, из которого следовало, что Папа посоветовал Карлу назвать наследником престола француза. Ламберг попросил объяснений у Албани, ставшего к тому времени Папой Климентом XI, так как Албани возглавлял ту знаменитую конгрегацию, обсуждавшую вопрос об Испанском наследстве. Албани ответил, что в этих письмах «…мало правды, но очень много фальшивого… и в соответствии с истиной достаточно сказать, что ни прошение Карла II, ни ответ Иннокентия XII не были такими, как это утверждается в листовке». Затем Папа уполномочил Ламберга напечатать и распространить его слова. Несмотря на то что было опубликовано опровержение Папы, некоторые историки XVIII века посчитали оба апокрифических письма (возможно, за неимением чего-то лучшего) настоящими. Среди прочего данное заключение датировано 6 июля, а не 16, когда оно было отправлено. Впоследствии, при воссоздании хронологии событий, это привело к длинному ряду ошибок, которые еще и сегодня можно встретить во многих учебниках и книгах по истории.
Папа Албани и Атто Мелани
Вновь избранный Папа сразу же выразил признательность Атто: уже через два месяца после его избрания на папский престол, он поручил кардиналу Паолуччи, своему статс-секретарю, написать письмо апостольскому нунцию во Франции, монсиньору Гуалтиери, с выражениями благодарности аббату Мелани и обещаниями вознаградить его за оказанные услуги (Флоренция, Библиотека Маручеллиана, манускрипты Мелани, 3, с. 280). В государственном архиве Флоренции (Фонд князя Медичи, ч. 4807) содержится множество свидетельств постоянного внимания, с которым аббат Мелани в месяцы перед поездкой в Рим на виллу Спада следил за состоянием здоровья Папы и действиями кардиналов в связи с предстоящим конклавом. 4 и 8 января 1700 года он пишет Гонди, секретарю великого герцога Тосканы, что Людовик XIV приказал всем французским кардиналам отправиться 20 января в Рим на конклав. 25-го того же месяца Мелани сообщает, что многие кардиналы в связи с сообщением о том, что здоровье Папы «существенно улучшается», больше не отъезжают в Рим; другие французские кардиналы, наоборот, отправились в поездку еще до поступления этой новости. Кроме того, Аттоуже несколько месяцев в деталях был информирован о том, что старый Папа Иннокентий XII фактически был лишен власти кардиналами из ближайшего окружения, хотя аббат и отрицал подобные слухи в письмах к мадам коннетабль. В письме от I февраля 1700 года он пишет Гонди следующее:«Хотя господа кардиналы в папском дворце и попытались скрыть правду, известно, что его [Папы Иннокентия XII] душевное состояние крайне переменчиво, и тот факт, что разные прелаты выполняют задачи Папы, объясняется Вашими собственными махинациями, чтобы мир думал, будто Его Святейшество еще в состоянии действовать».
Конечно, все другое тоже правда…
Мария и Людовик
Нет никаких сомнений в том, что Мария действовала в Испании как шпионка Франции. И нет никаких сомнений в том, что она до последнего своего дня находилась в секретной переписке с Людовиком XIV. Их связным был Атто Мелани. Найденные авторами документы, откуда приведены цитаты, подтверждают это. Атто Мелани был действительно близким другом Марии Манчини и поклонником ее знаменитых сестер. Одна из них, Ортензия пишет в своих мемуарах (Мемуары Ортензии и Марии Манчини. Из-во «Доскот, Меркуреде Франс». Париж, 1965, с. 33): «итальянский евнух, музыкант господина кардинала и человек тонкого ума», был очень внимателен «как к моим сестрам, так и ко мне». Она добавляет: «…евнух, ее [Марии Манчини] доверенный, сделал все, чтобы стать мне полезным; (…) Этот человек еще с того времени, как он был поверенным моей сестры [снова Марии], имел чрезвычайно свободный доступ к королю» (цитируется по: Р. Л. Вивер. Материалы биографии братьев Мелани. – Обозрение итальянского музыковедения, т. XII (1977), с. 252). Письма Марии к Атто, в которых мадам коннетабль через аббата Мелани обращалась к «королю-солнце», называя его именами Сильвио и Лидио, действительно существуют. Они были обнаружены авторами в Париже вместе с отчетами по поводу предстоящей войны за Испанское наследство, которые Мария отсылала из Испании Атто. Эти подробные отчеты свидетельствуют о деятельности Марии как шпионки. Ее французским контактом всегда был Атто, в свою очередь, он докладывал министру Людовика, показывая ему отчеты своей подруги, объясняя и комментируя их (письма Марии и соответствующие письма Атто находятся в С. P. Rome Suppl. 10 – Письма аббата Мелани, с. 120, 185, 187, 206, 222, 259, 281, 282, 285). И хотя Мария выполняла весьма опасное задание, она не переставала думать о Людовике. Например, она пишет Атто 9 августа 1701 года из Толедо, признаваясь ему, что думала, когда следила за Филиппом V: «Я всегда чувствую себя глубоко растроганной, когда вижу его, он напоминает мне своего дедушку, когда тот был в его возрасте». До сегодняшнего дня никто не знал об этой переписке между Атто Мелани и Марией Манчини, длившейся сорок лет, и тем более о засекреченных намеках на Людовика XIV, которые эти письма содержат. Поэтому сегодня ни в одной из всего множества подробных биографий Марии Манчини с достаточным документальным подтверждением, от Л. Пери (Первая римская принцесса в XVII веке. Париж, 1896) до С. Дулона (Мария Манчини. Париж, 1980), нет упоминания о ее настоящей, решающей роли в жизни французского короля. До недавнего времени не было известно также обнаруженное авторами в Библиотеке Маручеллианы во Флоренции прощальное письмо (Манускрипты Мелани, 9, с. 157–158), которое Мария написала королю, а Атто Мелани тайно передал ему, как он и рассказывает в четвертый вечер. На самом деле Атто не просто взглянул на это письмо – прежде чем передать его королю, он сделал с него копию. И это настоящее чудо, ибо эта копия – единственное письмо, сохранившееся от всей любовной переписки между Марией Манчини и Людовиком XIV. Это, написанное на французском письмо, которое Атто скопировал и хранил среди своей собственной корреспонденции, из осторожности не указав даты, отправителя и получателя, он подписал простым и многозначным «Lettre tendre». И даже испанская инфанта Мария Терезия, будущая невеста короля, скрыта под псевдонимом Элеонор.«Я прощаюсь с Вами, мой сударь, и я пишу Вам из того же дворца, где мы оба сейчас находимся и откуда скоро уедем. Пути нам предстоят абсолютно разные: Вы собираетесь принести радость Франции и вселить любовь в сердца всех Ваших подданных; Вы собираетесь надеть обручальное кольцо королеве, а затем подарить ей и самого себя. Ах, сударь! Разве Вы могли когда-нибудь представить, что мне придется однажды присутствовать на столь печальном спектакле? Отдавая Элеонор свою руку, Вы наносите по моей жизни последний удар. Ах, Господи, смогу ли я найти в себе силы жить дальше? И видеть Вас в объятиях другой? Вы можете сказать мне, что я сама привела Вас к этой печальной свадьбе. Но, сударь, разве Вы не знаете, что я всегда неукоснительно делаю то, что требует моя честь? Однако при этом я страдала не меньше. Я могу сказать, что возвращаю Вас Вашей свободе, Вашему отечеству, Вашему народу и, как это ни жестоко, дарю Вам невесту. Я не требовала этой чести: возможно, я хотела бы, чтобы она никому не была предназначена. Я никогда не строила иллюзий, и все же мои фантазии были довольно смелые. Сотни раз мне хотелось видеть Вас простым рыцарем. В таком случае я могла бы сделать для Вас гораздо больше, чем Вы в той роли, в которой сейчас находитесь. Горе мне, какая мысль! Она до сих пор ласкает мое воображение, а в остальных мыслях я не нахожу ничего, кроме ужаса и отчаяния. Буду ли я еще жива, когда Вы станете праздновать церемонию своего бракосочетания, и если буду, то только для того, чтобы провести остаток жизни в каком-нибудь уединенном простом месте. Ужасные, острые железные иглы вонзились между Вами и мной. Моя рука дрожит от слез, от рыданий. Мой разум мутнеет – я больше не могу писать. Я не знаю, что сказать. До свидания, мой господин, та недолгая жизнь, которая мне осталась, будет наполнена одними воспоминаниями. Ах, милые воспоминания! Что же сделали Вы со мной, а я – с Вами? Я теряю рассудок. Прощайте, мой сударь, в последний раз прощайте».Множество признаков дают основание полагать, что «король-солнце» и в последние годы жизни очень часто думал о своей первой любви. Достаточно привести некоторые примеры. Однажды он поручил Филидору, своему придворному музыканту, составить перечень всех произведений, которые тот исполнял за все время правления Людовика. Филидор признался, что не в состоянии вспомнить арию Пана из «Ballet des Plaisirs». И «король-солнце» тут же напел ему нужные строки по памяти. «Он все еще помнит арию, под которую танцевал в Лувре шестьдесят лет назад, вероятнее всего, он по привычке насвистывал ее все лето, сопровождая свою любимую Марию во время прогулок по террасе Тюильри или дальше в сады Ренарда» (Комбескот. Девочки Мазарини. Париж, 1999, с. 402). В 1702 году арестуют и бросают в Бастилию по подозрению в шпионаже человека, выдающего себя за монаха-капуцина. Его тюремщик, лейтенант де Аргенсон, находит у него письма, даже с локонами его многочисленных возлюбленных, среди которых есть письма дам высокого положения. Всплывает имя Марии. Действительно, она не устояла перед соблазном такого приключения и имела с ним связь, да, и даже представила его новому королю Испании, Филиппу V. Эти сведения попадают к «королю-солнце». Узнав, что его старая любовь была возлюбленной капуцина, он приказывает провести тщательное расследование (поэтому лжекапуцин и находился все время в тюрьме). Мария, которая в это время пребывает в Авиньоне, реаги рует очень нервно, когда узнает, что произошло: ведь ее могут обвинить в шпионаже против французов. Однако в первую очередь дрожащим от волнения голосом она спрашивает, узнал ли король о ее отношениях с этим подозрительным авантюристом. Даже перед лицом намного более серьезной угрозы Мария прежде всего тревожится о том чтобы Людовик не узнал о ее связи с другим мужчиной. В 1705 году после сорокалетнего отсутствия Мария возвращается в Париж. Герцогде Хакоурт передает ей приглашение короля в Версаль и предложение финансовой поддержки. Она отказывается и от первого, и от второго. Она слишком предусмотрительна чтобы сдаться и показать возлюбленному свое лицо, на котором время уже оставило свои следы. Они никогда больше не встретятся и не увидят друг друга. Мария захотела быть похороненной в том месте, где ее найдет смерть. Так и произошло: она умерла 8 мая 1715 года в Пизе, где ее застала неожиданная болезнь. Согласно ее воле, надпись на надгробии звучит так: «Pulvis et cinis», что значит: пыль и пепел. Вы и сегодня сможете увидеть это надгробие перед главным алтарем церкви Святого Сепольхро. Прошел ровно месяц, пока новость о смерти Марии дошла до Рима, где живут ее дети, а оттуда достигла Парижа. Возможно, это совпадение, но когда Людовик XIV узнал эту новость, он тут же заболел. Через несколько дней король покинул Версаль и отправился в резиденцию Марли. На Троицу распространилась печальная новость: личный врач короля Марешаль проинформировал Ментенон, что дни короля сочтены. Его супруга, нервничая, приказала врачу молчать. Однако Людовик таял на глазах, пока в августе стало уже бесполезно отрицать, что у короля гангрена. 1 сентября Людовик XIV умер. Если бы аббат Мелани не скончался за год до этого, он наверняка заметил бы взволнованно: «Людовику и Марии не разрешили жить вместе, но им удалось вместе умереть».
Книга «Верный пастух» Баттисты Гварини, которую читали Людовик и Мария и строки из которой они цитируют в своих письмах, была очень популярна в прошлые века. После первого представления при дворе в Ферраре в 1598 году эта пастораль до конца XVIII века ставилась по всей Европе. В королевском дворце висело немало гобеленов со сценами из пасторали Гварини, среди них гобелены Франсуа де ла Планше, он же ван дер Планкен, о котором упоминает Атто.
Также и слова благодарности, которые Мария адресовала Фуке в саду «Корабля», подлинны. Письмо, упомянутое Атто Мелани, содержит именно эти слова и хранится в Париже (Национальная библиотека, Ms. Baluze 150, с. 237; ср. также: С. Дулон, цитируемое произведение, с. 101).
Описание внешности Марии Манчини при ее первом появлении на «Корабле» также аутентично (см. описание анонимного современника в последнем письме томика «Мемуары мадам S. P. M. M. Колонны, мадам коннетабль государства Неаполя». Кельн, 1678). Да и все рассказы и анекдоты о возлюбленных «короля-солнце» соответствуют фактам (см. множество мемуаров того времени и чрезвычайно хорошо документированную книгу Симоне Бертье «Женщины „короля-солнце“». Париж, 1998). Все отчеты Марии о Карле II и испанском дворе подтверждены историческими фактами (Людвиг Пфандль. Карл II – конец испанского могущества. Мюнхен, 1940).
Предсказание Солона, которое Мария Манчини цитирует в письмах к Атто («Кое-кому божество уже показало, что такое счастье, но лишь для того, чтобы впоследствии полностью уничтожить его») исполнилось: в период между 1711 и 1712 годами умирают почти все наследники его христианнейшего величества короля. Гранд Дофин, отец дофина и сын его величества, умирает в 1711 году. На следующий год наступает очередь Марии Аделаиды Бургундской, жены дофина Франции, внука его величества, матери двух детей. Они последние наследники престола. Едва достигнув двадцати шести лет, Мария Аделаида умирает от кори 12 февраля 1712 года. Ее муж, дофин, также заболевает корью и умирает через шесть дней после жены. Затем и дети: сначала маленький Луис, герцог Бретанский, милый мальчик пяти лет, умирает 8 марта от чрезмерного кровопускания. Потом заболевает младший брат, но выздоравливает. Ему всего два года, его еще не отняли от груди, и он только начинает говорить. Судьба мстит. Его христианнейшее величество король дрожит: он стар, и мысль умереть без наследников ему невыносима. Поэтому он обращается к герцогу Анжуйскому, который стал королем Испании под именем Филиппа V. В конце концов, он внук Людовика и обязан ему тем, что получил корону. Но Филипп с презрением отклоняет предложение своего дедушки стать его преемником ему больше по душе оставаться королем на своей новой родине в Мадриде. Потрясенный смертью членов своей семьи, этим ужасным ударом судьбы, христианнейший король оказывается в конце концов в таком же положении, что и король Испании Карл II двенадцать лет назад. Во главе могущественнейшей империи Европы, но без наследников. В вопросе продолжения рода и сохранения империи он не может рассчитывать на двухлетнего правнука, которому грозит еще бог знает сколько болезней. Однако Людовику повезло, пусть хоть и после смерти: малыш выжил и взошел на трон как Людовик XV. Однако род французских Бурбонов сегодня вымер (и только Орлеанские еще претендуют на династическое наследство). Династия же испанских Бурбонов, начавшаяся с француза Филиппа V, наоборот, очень плодовитая и многочисленная (у Хуана Карлоса есть несколько братьев и сыновей). Сбылось также и последнее пророчество Капитор: с помощью поддельного завещания Карла II Людовик XIV лишил законных наследников испанской короны. Но он не предвидел, что испанская корона в силу того же завещания лишит Францию ее наследника.
29 июля 1714 года случилось то, чего всегда боялся аббат Мелани: Людовик XIV издал приказ, которым позволяется претендовать на французский престол и внебрачным детям. С этого момента, как и говорит Атто, стать королем может не только тот, кто рожден королевой, но и любой, действительно любой. И любой из народа может задаться вопросом: а почему не я? Для решения этой проблемы однажды будет сооружена гильотина.
Атто и Мария
Аббат Мелани был действительно влюблен в Марию Манчини, даже когда состарился, он любил ее до самой своей смерти. Находясь в постоянной переписке с Марией, он не имел возможности когда-либо увидеться с ней. Они часто посылали друг другу дорогие подарки (как, например, безоаровый камень и коробочку в форме ракушки из золота и серебра), а Мария несколько раз была гостьей в поместье Атто в Пистое; она даже посещала его родственников. Этот факт был до сих пор неизвестен, пока авторы романа не узнали о нем в Библиотеке Маручеллиана во Флоренции: не так давно министерство культуры передало библиотеке девять томов корреспонденции Атто. Во всех многочисленных биографиях Марии Манчини не было указано, где именно она провела последние годы жизни. И письма Атто Мелани открыли, что мадам коннетабль надолго останавливалась во дворце Атто в Пистое и летом в его резиденции за городом. Эту любовь длиною в жизнь подтверждают многочисленные письма Атто к своему брату Джаконито, а позднее к его сыну Луиджи, продолжившему род Мелани. Даже в последнем письме, которое старый кастрат написал своим родственникам 27 ноября 1713 года, почти за месяц до смерти, он не смог удержаться от вздохов по поводу своей неугасаемой любви к Марии (Библиотека Маручеллиана. Манускрипты Мелани, т. 3, с. 423–424):«Когда я читал Ваше письмо от 4-го числа этого месяца, мне показалось, что я сплю, так как я услышал, что синьора коннетабль все еще пребывает в Пистое…»«Мне показалось, что я сплю…» – трогательные и неожиданные слова в устах почти девяностолетнего старика. Затем Мелани охватывает беспокойство: его любимая чего доброго может заскучать во дворце:
«/…/ я не знаю, какое развлечение можно было бы предложить ей, разве только разрешить посещение дам /женщин дома Мелани/, чтобы они вместе смогли сыграть партию в ломбер».Вот уже несколько дней Мария скитается по Италии, в основном в Тоскане, где она часто останавливается в доме Атто, которого «король-солнце» удерживает рядом с собой во Франции, каждый раз отклоняя просьбы старого аббата разрешить вернуться на какое-то время в Пистою. Атто больше не может выдерживать эту боль, его охватывает непреодолимое желание увидеть мадам коннетабль. Несмотря на слабость, он решает отправиться зимой в Версаль, чтобы лично направить свою просьбу королю:
«Молитесь Богу, чтобы я мог поехать в Версаль в следующем месяце, апреле, так как я во что бы то ни стало хочу просить короля о временном увольнении на два года».Однако судьба распорядилась иначе, и Атто не пережил зиму. Он умер в своем доме в Париже в первые часы 4 января 1714 года. За два года до этого мы находим ссылку в письме от 27 июня 1712 года (Библиотека Маручеллиана. Манускрипты Мелани, т. 3, с. 407–408) на пребывание Марии в доме Атто, в поместье Кастель Нуово под Пистоей. И снова старый аббат не может скрыть волнения, которое вызвало в нем эта новость. Он сообщает, что вышлет в подарок своей подруге дорогой пеньюар:
«Я был чрезвычайно взволнован, когда услышал, что синьора коннетабль соблаговолила вернуться в Пистою, и я надеюсь, что в сильную жару она сможет наслаждаться свежим воздухом Кастель Нуово. Жара в этих местах бывает такая, что превышает даже 33 градуса по термометру… При первой же возможности я вышлю синьоре коннетабль утренний пеньюар из обычной тафты, который мне передала синьора герцогиня Неверская…»Тем временем мадам коннетабль, кажется, чувствовала себя у внуков Атто как у себя дома: в письме от 3 мая 1712 года великий герцог Тосканы Косимо III пишет Мелани, что она нанесла визит новорожденному внучатому племяннику аббата (Государственный архив Флоренции, дело 4813а).
«Могу сказать Вам, что синьора коннетабль, которая находится в этом городе [во Флоренции! очень хвалила мне Ваш прекрасный дом и виллу в Пистое, однако еще больше прекрасного племянника, которого Бог подарил Вашему высокоблагородию, написав мне, что выглядит он, словно маленький Иисус на картине Люкка».В той же корреспонденции (Библиотека Маручеллиана. Манускрипты Мелани, т. 3, с. 148–149, 156–157, 192–193) возникают и безоаровый камень от отравления, и коробочка для пилюль в форме ракушки из золота и серебра – оба подарка Марии, которые Атто носил с собой на вилле Спада.
«Париж, 27 декабря 1694 годаОни никогда больше не увиделись, но вели себя словно старая пара с хорошо налаженными отношениями. Красивую прогулочную трость большой цены, пишет гордый Атто 11 февраля 1697 года, ему «подарила мадам коннетабль, которая заплатила за нее восемьдесят франков». Он доверял ей, как никому другому: когда Мария рекомендовала ему определенные лекарства, аббат настолько в них верил, что отвергал рекомендуемое племянниками (7 декабря 1711 года).
Мадам Колонна подарила мне прекрасный восточный безоаровый камень, защищающий от оспы, которая в последние месяцы появилась в этих местах».
«Париж, 14 февраля 1695 года
Мадам Колонна прислала мне камень, такой же, который был подарен королеве-матери, по величине он почти как куриное яйцо, и он бесценен, так как это настоящий восточный камень, и все нунции, которые вернулись из Испании, пытаются приобрести себе похожий, ведь здесь он очень ценится против плохой лихорадки, поскольку он вызывает потение, а также как средство против ядов. Этот камень находится в чреве животного, как я прочитал в одном отчете о его полезных свойствах».
«Париж, 14 января 1696 года
/…/ Пастилки цукатов из померанцевых и лимонных. Марчезе Сальвиати дал мне несколько таких же в те дни, и я сохраняю их в маленькой ракушке из золота и серебра, привезенной из заморских колоний; красивой и в высшей степени элегантной, которую мне прислала мадам коннетабль».
Капитор, картина с попугаем, Виргилио Спада
Бастард действительно приезжал с визитом в Париж в марте 1659 года и привез с собой сумасшедшую Капитор. И это правда, что отношение Мазарини к Людовику с Марией после этого сразу же кардинально изменилось и никто не понимал почему.Песня, которую Атто пел с Капитор перед Мазарини, называлась «Passacalli della vita». Автор ее неизвестен, впервые она была опубликована в 1677 году в Милане в книжке «Канцонетты о духовном и морали».
Натюрморт с глобусом и попугаем фламандского художника Питера Беля, изображающий три подарка Капитор, находится в Вене, в картинной галерее Академии изобразительных искусств (инвентарный номер 757). Бель переехал в Париж незадолго до приезда Капитор и не удивился, что ему разрешили нарисовать подарки, предназначенные для Мазарини. Описание в романе изображения Посейдона и Амфитриты, со странно переплетенными ногами, так, что непонятно кому какая нога принадлежит, точно соответствует оригиналу. Другая картина с изображением трех подарков Капитор (в соответствии с рассказом Атто, ее заказал Бастард, прежде чем отдать подарки) принадлежит кисти Яна Давидсзоона де Хеема, раньше находилась в коллекции Кестера, а сегодня выставлена в Доме искусств в Цюрихе. Интересно, что на этой второй картине отчетливо видны небесный глобус и кубок с ножкой в виде центавра, но самый важный предмет – золотая чаша – полускрыта занавеской, так что видны лишь тритоны, везущие колесницу с Посейдоном и Амфитритой, а сами боги спрятаны. Возможно, кто-то хотел скрыть тайну тетракиона от любопытных глаз?
Личности
Приватные отношения между Эльпидио Бенедетти и аббатом Мелани в романе также имеют прямые подтверждения. Бенедетти действительно отправился во Францию, как и рассказывал Атто, чтобы посмотреть на Вок-ле-Виконт, замок Никола Фуке. В своем завещании Бенедетти передает аббату «четыре большие картины в форме эллипсов с морскими пейзажами, в резных рамах из орехового дерева и золота, и две другие, круглые, одна с Галатеей и другая с Европой, обе картины с позолоченных рамах, кроме того, маленькую картину с воображаемой коронацией нынешнего короля Франции, когда он был мальчиком, по эскизу Романелли, как и обе вышеназванные. А также маленький шкаф, инкрустированный полудрагоценными камнями […] я прошу принять в знак памяти обо мне за то множество ценных услуг, которые он оказал мне во время моего долгого пребывания в Париже» (Государственный архив Рима. Тринадцатый капитолийский нотариус, офф. 30, нотариус Томас Октавианус, т. 305, с. 479v). Казалось, Бенедетти был тесно связан со всей семьей Мелани так как в завещании он упомянул также еще двух братьев Атто Филиппе» он оставил «два маленьких вида с умершим Салвуччи, в черной и золотой рамках с арабесками». Алессандро Мела отошли предметы, судя по которым они часто предавались вместе маленьким радостям жизни: кроме «четырех головок ангелов прекрасной работы», тот получил ценные приборы для охлажде ния вина и «стаканы и чашки для шоколада».Атто и Бюва в действительности были друзьями и коллегами. Бюва подтверждает в своих мемуарах, что Атто пытался уговорить его начальника повысить ему скудное жалованье. Однако попытка не удалась, как мы и узнаем из жалобных замечаний Бюва (Дневник мемуаров Жана Бюва. – Обзор библиотек, октябрь – декабрь 1900, с. 235–236). Кроме того, в Парижской национальной библиотеке (Mss. Fr. п. а. 11220 – 11222) хранится коллекция «Новости, собранные вручную» периода 1700–1721 гг.: здесь речь идет о внутренних и зарубежных политических новостях, которые записывал Атто и другие 1714 года. Насколько можно судить по каталогу библиотеки, писал большей частью Бюва. Жан Бюва является главным действующим лицом романа Александра Дюма «Шевалье де Арменталь».
Сфасчиамонти также является персонажем из настоящей жизни. Римский писарь мемориала XVIII века Франческо Валезио (Diario di Roma». Милан, 1977, т. 11(1702–1703), с. 272–273) упоминает этого сбира через два года после описанных в романе событий, б сентября 1702 года, в связи с одной полицейской акцией. Акция не была проведена: охрана графа Ламберга обратила Сфасчиамонти и другого сбира в бегство: в том квартале Ламберг обладал правом налагать запрет для полиции. Стреляя в Сфасчиамонти, Атто попал старому хранителю законов в ягодицу, в какой-то нерв, так что после этого Сфасчиамонти хромал.
Реформа папской полиции, о которой говорили двое прелатов (их разговор подслушал главный герой сначала при подаче шоколада, а потом и во время игры в жмурки), была действительно начата еще во времена Иннокентия XI, но, как и многие другие рациональные реформы, она никогда не была реализована.
Кьяварино (Джузеппе Перти) – историческая фигура. Его короткая, но активная жизнь заканчивается 8 июля 1701 года в 14 часов: он был обвинен во множестве краж и убийств и повешен. Взойдя на эшафот, он просил стоящий вокруг народ принести молитву святой Регине за его душу. Ему было всего двадцать два года.
«Летучий голландец», Джованни Энрико Альбикастро, был очень популярен в Италии под итальянским именем, хотя на самом деле его зовут Йоханн Хайнрих фон Вайсенбург. Неоднозначная личность скрипача, композитора и солдата была подробно изучена профессором Рудольфом Рашем из Утрехтского университета, но большая часть его биографии остается в тени. Он жил приблизительно между 1660 и 1730 гг., был родом из Баварии (чем, возможно, и объясняется его отличное знание произведения Себастьяна Бранта), потом приехал в Голландию и принимал участие в войне за Испанское наследство, как он сам сообщает в конце романа. Альбикастро оставил после себя много музыкальных произведений: три сонаты для струнных инструментов, сонаты для скрипки, концерты и кантаты.
Первое издание книги Себастьяна Бранта «Корабль дураков», иллюстрированное гравюрами на дереве Альбрехта Дюрера, появилось в 1494 году и вот уже много веков считается одной из самых успешных немецкоязычных книг. Первый и единственный итальянский перевод, который использовали авторы, принадлежит Ф. Саба Сарди (La Nave dei Folli. Милан, 1984–2002).
Весь персонал дома Спады (дон Паскатио, дон Тибальдутио, повар и др.). с полными именами и фамилиями, указан в соответствии с архивом семьи (Фонд Спады – Вералли в Государственном архиве в Риме).
Атто рассказывает, что кардинал Спада всегда был осторожен и старался не создавать себе врагов. Эта психологическая характеристика – совсем не выдумка. Она подтверждается многочисленным письмами Спады к своим родственникам в Фонде Спады – Вералл.
Рука Ammo, женщины из Оксера и тайны конклавов
Атто говорит правду, когда рассказывает, что его ранили в руку в Париже еще одиннадцать лет назад, а именно в 1689 году. В Государственном архиве во Флоренции (Князь Медичи, ч. 4802) среди других писем Атто хранится одно к Гонди, секретарю князя Косимо III де Медичи, написанное 12 сентября 1689 года:«Хотя мой карантин и заканчивается через шесть дней, я все же остаюсь нетрудоспособным из-за своей руки и плеча. Без постоянных визитов я бы умер от меланхолии и отчаяния так как, не будь этого несчастья, я отправился бы в Рим вместе с герцогом Шолне. Но на все воля Божья; и если только со мной в этом несчастливом году не приключится больше ничего, у меня будет возможность поблагодарить С. Д. М.»То, что его тогда ранило в правую руку, подтверждается также тем обстоятельством, что предыдущие письма были написаны не его рукой.
Эпизод с процессией придворного кортежа через Оксер, о котором Атто рассказывает в шестой день, действительно имел место. Его описание находится в одном из писем Мелани к Гонди (Государственный архив Флоренции. Князь Медичи, ч. 4802) от 5 июля 1683 года:
«Придворные никак не могут дождаться того, чтобы снова вернуться в Версаль, ибо все очень пострадали в этой поездке: де Лувуа испытывал сильные боли в животе, но после трех кровопусканий ему стало легче. Это значит, что и король похудел и все дамы пострадали от солнца. Сообщают, что при проходе через Оксер, который славится красивыми женщинами, собралось много народа, чтобы поглазеть на королевских персон и дам, сидевших в карете с королевой, Щ все они высунули головы из кареты, чтобы в свою очередь посмотреть на людей, столпившихся на улицах и выглядывающих из окон (именно так!), и тогда народ Оксера начал кричать: «À qu'elle son laide, et qu 'elle son laide», отчего король громко рассмеялся и потом обсуждал это целый день».Трактат, который Атто написал для «короля-солнце» и который был украден черретанами, существует на самом деле. Авторы обнаружили его в одном из парижских архивов и собираются вскоре опубликовать. Он имеет такое название: «Mémoires secrets contenant les événements plus notables des quatre derniers conclaves, avec plésieurs remarques sur la cour de Rome» (Библиотека Сената, рукопись 221). Трактат представляет собой занимательную книгу, полную анекдотов и заметок о римском дворе и рассуждений об искусстве влиять на выборы папы, так чтобы победу одержал именно тот кандидат, который наиболее выгоден Франции и его христианнейшему величеству королю.
Встречи Албани, Спады и Спинолы на вилле Toppe, которая сейчас называется виллой Абамелек и является резиденцией посла России, происходили на самом деле (ср.: Римский дневник Валезио, т. I, с. 26).
Черретаны, пилигримы, повивальные бабки
Протоколы допроса черретанов, которых несколько необычными методами допрашивает Сфасчиамонти, являются подлинными: два исследователя, которым посчастливилось их обнаружить, опубликовали эти протоколы (допроса Рыжего см.: А. Массони. Нищие-попрошайки в Лондоне в XIX веке и в Риме в XVI веке. – Ревизия по-итальянски. Рим, 1882, с. 20; оба допроса см.: М. Лёппельман. Il dilettevoleesamine de' Guidoni, Furîanti о Calchi, altramente detti Guitti, nelle carceri di Ponte Sisto di Roma nel 1598. Con la cognitione délia lingua furbesca о zerga comune a tutti loro. Доклад об итальянском воровском жаргоне в XVI в. – Римские исследования, т. XXXIV (1913), с. 653–664). Первый протокол, согласно Массони, находился в Секретном архиве Ватикана, где его, однако, невозможно найти, потому что составитель забыл внести в реестр. Еще одна копия обоих протоколов была в Королевской библиотеке Берлина, по крайне мере, до того момента, когда бомбардировки союзников не сравняли город с землей.Воровской жаргон (арго) имеет глубокие корни во всех европейских языках. Даже примитивный «трейш» (когда между каждым слогом вставляется «тре», в результате чего получается, к примеру, слово «трелютренгер» (треобтремантретик), которое главный герой слышал, перед тем как упасть на телегу с навозом)до сих пор широко используется в Риме продавцами на большом рынке Порта Портезе, когда они не хотят, чтобы покупатели понимали их. Анонимный словарь этого жаргона, с которым сверяется Бюва, называется «Modo nuovo d'intendere la lingua zerga» (Феррара, 1545).
Речь главного майориста черретанов была записана и в настоящее время находится в Библиотеке Амброзиана в Милане (манускрипт A13inf., приписываемый Джакопо Бонфадио).
Как ни странно, происхождение черретанов и их связь с церковными иерархами и по сей день – тайна покрытая мраком. Как рассказывает дон Тибальдутио главному персонажу, в конце XVIII века черретаны имели официальное разрешение просить милостыню в пользу лечебницы ордена Беато Антонио в Черрето. Один из церковных органов власти выдает охранную грамоту, которая свидетельствует о терпимом отношении к черретанам. Если бы эта информация соответствовала действительности, то в статуте города Черрето за 1380 год должны были бы находиться какие-то указания на сей счет, но он, к сожалению, был утерян. Имеется одна копия XVI века, но в ней, как сообщает дон Тибальдутио, та часть, которая касается разрешения просить милостыню в пользу лечебницы в Черрето, кем-то вырвана. В городском архиве города Черрето можно и сейчас в этом убедиться.
Все традиции и церемонии черретанов и других групп бродяг, описанные в этом романе, тоже до мелочей являются подлинными. О братстве святой Елизаветы можно прочитать в труде «История бродяг и бродяжничества, а также нищих-попрошаек и попрошайничества» (Нью-Джерси, 1972).
О трюке с камфарой, который используют Угонио и его дружки, чтобы напугать непрошеных гостей, и о теории корпускул, с помощью которой Атто пытается объяснить видения на «Корабле», можно прочитать в книге М. Л. Л. де Валлемонта «Оккультная физика» (Париж, 1693). Авторы, разумеется, признают, что до сих пор еще никто не набрался смелости проверить эти эксперименты с камфарой на практике.
В своем рассказе о родовспоможении и педиатрии Клоридия демонстрирует глубокое знание известного трактата «Смерть», написанного Скипионе Меркури (Вена, 1676), в нем же содержится легенда о Герионе, испанском короле с тремя головами. Все описанные случаи рождения уродцев, таких как тетракион, можно прочесть в книге У. Альдрованди «Monstrorum historia cum paralipomenis historiae omnium animalium» (Болонья, 1642) и в труде А. Паре «Два тома по хирургии» (Париджи, 1573).
Тайна «Корабля»
Читатель вряд ли будет спрашивать, существовал ли на самом деле «Корабль». Руины виллы «Бенедетта» (так ее назвал строитель) и по сей день можно увидеть на холме Джианиколо, недалеко от ворот Сан-Панкрацио. Общий вид виллы, включая изречения, написанные на ее стенах и кривые зеркала, в которых Атто и его друг увидели тетракион (или им показалось, что они его увидели), соответствует историческим свидетельствам и приведен в книге Бенедетти (опубликованной в 1677 году под псевдонимом М. Майер) «Вилла «Бенедетта», описанная Маттео Майером, Маскарди». Все остальные подробности, которые касаются «Корабля» и Бенедетти, могут быть проверены по тщательно документированной работе Карлы Беноччи «Вилла Васчелло» (Рим, 2003). Бенедетти и на самом деле оставил виллу, как рассказывает Атто, в наследство Филиппу Джулиано Манчини, герцогу Невера брату Марии и племяннику Мазарини, но никогда не жил там, да и вообще ее ни разу не видел, потому что больше не вернулся в Рим. Жил ли там кто-то или нет в 1700 году, неизвестно – «Лета душ», церковные книги общины Сант-Анжело алле Форначи, именно за годы, относящиеся к «Кораблю», не сохранились.В истории этого здания (см. интервью с Карлой Беноччи; Хирам № 3, 2007) снова наблюдались «аномалии» и «невероятные странные вещи». Кроме того, очертания виллы в виде корабля – христианский символ, к тому же нос строения Бенедетти направлен на Ватикан. Изобилие многозначительных намеков на французский королевский двор «действует скорее как маскировка, под которой скрывается глубочайшее этическое мировоззрение». Кривые зеркала в домике на террасе «должны показать, что есть осязаемая конкретная реальность чего-то обманчивого, за чем скрывается совсем иная действительность». Девизы и изречения, которые внимательно читают Атто и его молодой друг, взяты из различных текстов: одним из самых значительных является «Великий князь, или Облигации князя» (Рим, 1661), итальянское издание этой работы Арманда де Бурбона, князя Конти, которое Бенедетти перевел собственноручно и опубликовал в Риме. В этом труде подчеркивается, что каждое действие князей должно иметь религиозное основание, а сами они обязаны придерживаться божественных и христианских добродетелей кардиналов.
Это очень оригинальная постройка, оплот моральных ценностей – такое впечатление производил «Корабль» в течение всего XVIII века на многочисленных гостей, приезжающих в Рим. Вилла числилась среди самых больших достопримечательностей Рима, которые осматривались туристами, и гиды рекламировали ее как настоящую жемчужину, имеющую такое же значение, как роскошные виллы патрициев. Но все заканчивается. В июне 1849 года во время обороны римской республики на «Корабле» располагался Джузеппе Гарибальди со своим войском, а прямо напротив него, в Касино Корсини на Четырех Ветрах, размещалась база французской милиции, которая пришла, чтобы занять Рим и вернуть его Папе. На вилле Бенедетти, кроме самого Гарибальди, были известные люди итальянского Рисорджименто:[1371] Биксио, Мадзини, Саффи и другие. Среди них находился также двадцатитрехлетний Гоффредо Мамели, автор национального гимна будущей объединенной Италии, умерший в объятиях известной патриотически настроенной княгини Бедджиоиозо. Двадцать семь дней стреляли пушки, и вся местность вокруг холма Джианиколо была опустошена, включая виллы Toppe и Спада; «Корабль» был почти полностью уничтожен. Со временем все виллы были отстроены заново или им вернули их прежний вид, и ни одна из них не пустует. Удивительно, что только «Корабль» брошен на произвол судьбы. Сохранился первый этаж, а также полукруглая выступающая восточная часть здания – до третьего этажа. Устремленные в небо руины виллы Бенедетти видны за много километров. Блестят на солнце остатки разноцветных фресок и настенных украшений. Руины «Корабля» сразу же стали одним из самых любимых мест художников, которые приезжают сюда со всей Европы рисовать пейзажи. После того как бойцы итальянского Рисорджименто были разбиты и Рим был возвращен Папе, французы подсчитали ущерб и обнаружили, что мародерствующие солдаты уничтожили все, что осталось после артиллерийских обстрелов. На восстановление требовалось двадцать тысяч эскудо, из этой суммы французы, как главные виновники разрушений, взяли на себя две трети. Но по непонятным причинам ничего не последовало. Хотя сейчас и меняются владельцы, политика остается все той же, территория виллы используется только для виноградников. Когда в 1870 году Рим снова соединился с Италией, «Корабль» прославился как «место подвигов»: в 1876 году король Витторио Эммануэль II дает генералу Джакомо Медичи (своему первому полевому адъютанту во время боевых действий 1849 года) титул маркиза дель Васчелло, затем генерал становится владельцем виллы, но не восстанавливает ни одного камня – наоборот, он приказал сломать то, что осталось от второго и третьего этажа. В 1879 году сюда с визитом прибывают король Умберто I и королева Маргарита; «Корабль» рассматривается как исторический памятник итальянского Рисорджименто, но о возможности реставрации никто не говорит ни слова. Беноччи пишет, что дело кажется еще более странным, если вспомнить, что дебаты о реставрации этой виллы идут уже несколько десятилетий и множество известных людей выразили свое мнение по данному поводу. Но странно не только это. Перед «Кораблем», в непосредственной близости от него, была тщательно отреставрирована Касино Корсини на Четырех Ветрах, служившая в 1857–1859 годах штаб-квартирой французских войск. Это очень красивая вилла, но культурно-историческая ценность творения Бенедетти намного выше. В 1897 году Медичи расширил парк «Корабля». Для этого он приобрел прилегающий земельный участок и построил там новое административное здание. Однако здание самого «Корабля», возведенное в XVII веке, предано забвению и разваливается на части. Неужели это не «место подвига», которое имело честь служить защитой для Гарибальди и Мадзини? Кажется, патриотов Медичи (которые выбрали для своего дворянского герба руины «Корабля») это не интересует.
Сегодня от всего великолепного здания осталась только часть стен первого этажа, их использовали, чтобы сделать квартиры, которые сдаются внаем. Владельцами являются Марчезе Паллавичини Медичи дель Васчелло, потомки Джакомо Медичи. Госпожа Беноччи говорит, что «Корабль» напоминает «damnatio memoriae». Проклятый забвением – но вот почему? Может, из-за его зловещей репутации: «в XVII веке он был местом обитания еретиков, в XIX веке стал местом расположения войск Гарибальди (…) неужели все еще боятся этого места спустя двести лет?» Является ли «Корабль» эзотерическим местом? Его обитатели могли бы что-то знать. Но квартира на первом этаже уже долгое время пустует. Последний жилец, один очень известный чиновник, умер. Наверное, у «Корабля» судьба такая – пустовать. Сад разделен на две части. Одна относится к руинам здания. Другая, напротив первоначального входа, теперь принадлежит маленькому дворцу, который построил генерал Медичи после разрушения виллы. Здесь сегодня находится (не совпадение ли?) одна очень известная организация с весьма замысловатым названием: «Послушание масонской ложи Grande Oriente d'Italia».
Вилла Спада
Вилла Спада все еще существует; она тоже была разрушена в боях во время революции 1849 года, но затем отстроена. Сегодня это резиденция ирландского посольства в папской курии (улица Г. Медичи, д. 1). Госпожа посол Фиамма Давенпорт очень любезно разрешила авторам провести целый вечер на вилле и в парке. Последний, к сожалению, сейчас занимает намного меньшую площадь, чем раньше.Не было найдено ни одной подробности из описания дворца Спады на площади Каподиферро и его комнат (в первую очередь знаменитой колоннады Борромини и зала с катоптрическими солнечными часами). Кардинал Фабрицио Спада действительно по случаю свадьбы провел реставрационные работы. Сегодня дворец является резиденцией Государственного совета и некоторые его помещения разрешены для посещения. Коллекция редких и диковинных вещей, принадлежавшая Виргилио Спаде, до сих пор хранится в Риме, в библиотеке Валличеллиана. К сожалению, в XIX веке она была разграблена войсками Наполеона, так что от коллекции осталась лишь незначительная, не представляющая ценности часть. Никто не знает, как она выглядела первоначально, поскольку исчезли все инвентаризационные списки.
Свадьбу между Климентом Спадой и Марией Пульхерией Роччи на самом деле праздновали 9 июля 1700 года. Описание всяких устройств и цветочных декораций виллы, меню праздничного банкета, церемонии бракосочетания, речь дона Тибальдутио – все это можно вновь найти во множестве трактатов и дневников того времени (Ф. Постерла. Мемуары по прошедшим и современным святым годам MDCC. Рим, 1700–1701).
Дневники и документы того времени подтверждают все сплетни и слухи, которые обсуждались на вилле Спада. Аутентичны (и в реальной жизни они были врагами или друзьями) все кардиналы, дворяне, послы, их внешний вид, мании и причуды. Например, Атто не врет, когда хвалится тем, что является другом кардинала Делфино, кардинала Буонвиси и венецианского посла Эриццо. Делфино вел активную переписку с Атто и был для него очень ценным информатором: в одной приватной римской коллекции сохранились их письма. В Париже след отношений между Атто и Делфино можно обнаружить в архиве Министерства иностранных дел, в разделе «Политическая корреспонденция». В одном из писем Делфино среди прочего рассказывает, как он в связи с предстоящим конклавом настроил кардинала Оттобони в пользу Франции.
Джероламо Буонвиси и его племянник Франческо, оба кардиналы, в течение сорока лет каждую неделю писали Атто письма. Услуги, которые Атто оказал по просьбе Эриццо республике Венеция, принесли ему, как он сам рассказывает, титул венецианского патриция.
Игры и развлечения, которые устраивались во время праздник на вилле Спада, описаны во многих книгах, посвященных то эпохе, как и сведения об использовании ищеек, вольеров, вплоть до соколиной охоты. Скерцо для сцены, написанное Эпифанио Гицци («Любовь в награду за постоянство»), которое было показано гостям виллы Спада, было опубликовано в Риме в 1699 году.
Святой шар
К сожалению, сегодня подъем на самую высокую точку собора Святого Петра нельзя описать так, как это сделано в романе. На последнем отрезке пристроена железная лестница – по ней можно подняться по высоким ступням верхней части полости, между двумя уровнями купола, которую невозможно «перепрыгнуть», если ты не обладаешь навыками альпиниста. Кроме того, с 50-х годов купол полностью огорожен, и только ризничие собора имели туда доступ. В конце концов, с самого начала посещение шара было разрешено только дворянам. Можно утешиться пешим подъемом на террасу, находящуюся непосредственно под ним: панорама, открывающаяся с этой точки, тоже захватывает дух. А вот путь на вершину шара можно продолжить с помощью фантазии и благодаря статье Родольфо де Маттея (Церковь, № 3, март 1957, с. 130–135), где перечисляются знаменитые посетители прошлого (среди них Гёте и Шатобриан) и объясняются некоторые особенности конструкции. Если расспросить одного из ризничих собора Святого Петра, то можно получить описание большого бронзового шара с отверстиями в человеческий рост на все четыре стороны света, через которые проникают первые лучи восходящего солнца. Ризничие и сегодня восходят на этот шар, и даже еще выше. Имея альпинистское снаряжение, с риском для жизни они сначала карабкаются на шар, а затем поднимаются на большой крест, чтобы заменять маленький железный жезл, настоящий пик всей базилики: молниеотвод.Дискография сыгранных и спетых произведений в «Secretum»
1. Праздник на вилле Спада
Arcangelo Corelli, «Concerti grossi op. 6», концерт VII, 1-й пассаж2. Фолия Альбикастро
Henrico Albicastro, «Sonata perviolino e basso continuo, op. 9? № XII»3. «Se dargo pugente»
Francesco Cavalli, «Giasone»; Jamento di Medea, 1-й акт, 3-я сцена4. Фолия Марэ
Marin Marais, «Couplet de folies»5. «Passacalli délia vita»
Автор не известен6. Фолия Корелли
Francesco Gemiani, «Concerto grosso da La Foliia di Corelli»7. Свадьба на вилле Спада
Arcangelo Coreili, «Concerti grossi op. 6», концерт VIII, 3-й пассаж8. «Quel ch' e tuo saetasti»
Sigismondo d'India, песня из «Il pastor fido»9. Испанская фолия
Antonio Martin у Coll, «Diferencias sobre las Folias»10. «Ah, diro mia, pur se mia non sei»
Georg Friedrich Handel, «Il pastor fido»11. Игра в жмурки
Arcangelo Corelli. «Concerti grossi op. 6», концерт Х, 2-й пассаж12. Встреча с Ламбергом
Georg Muffat, «Armoniko tributo», концерт I13. Ballet des Plaisirs
Giovan Battista Lulli, «Ballet des Plaisirs: Bourrée pour les Courtisans»1 4. Война за Испанское наследство
Henrico Albicastro, «12 Concerti a Quattro op. 7», концерт III, 3-й пассаж15. Альбикастро уходит
Henrico Albicastro, «12 Concert! a Quattro op. 7», концерт IV, 3-й пассажИ. Дж. Паркер Свиток дракона
Моему литературному агенту Джине Нэггар с благодарностью за неустанную поддержку, моральную помощь и веру в меня посвящаю я эту книгу…
Кизарацу — столица провинции Кацуза
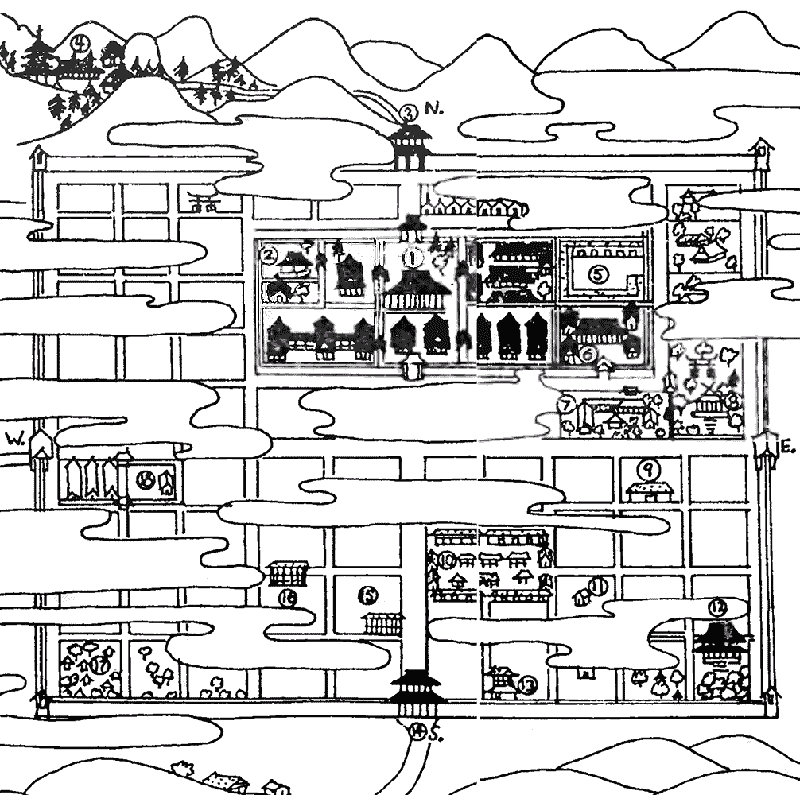 1. Территория суда и губернаторская резиденция
2. Казенная гостиница
3. Большие Северные ворота
4. Монастырь Четырехкратной Мудрости
5. Тюрьма
6. Префектура
7. Особняк Татибаны
8. Синтоистский храм
9. Школа боевых искусств
10. Рынок
11. Харчевня
12. Арам богини Каннон
13. Креветочная харчевня
14. Большие Южные ворота
15. Жилище Жасмин
16. Жилище Xидэсато
17. «Нищенский» пустырь
18. Военный гарнизон
1. Территория суда и губернаторская резиденция
2. Казенная гостиница
3. Большие Северные ворота
4. Монастырь Четырехкратной Мудрости
5. Тюрьма
6. Префектура
7. Особняк Татибаны
8. Синтоистский храм
9. Школа боевых искусств
10. Рынок
11. Харчевня
12. Арам богини Каннон
13. Креветочная харчевня
14. Большие Южные ворота
15. Жилище Жасмин
16. Жилище Xидэсато
17. «Нищенский» пустырь
18. Военный гарнизон
Список персонажей
(фамилия предшествует имени)Главные герои:
Сугавара Акитада — дворянин лет двадцати пяти, мелкий государственный служащий, направленный с особым поручением в провинцию Кацуза Сэймэй — потомственный вассал семьи Сугавара и верный спутник Акитады Тора — беглый солдат, поступивший на службу к АкитадеПерсонажи, связанные с кодом уголовных дел:
Фудзивара Мотосукэ — губернатор провинции Кацуза, кузен Косэхиры Секретарь Акинобу — помощник и правая рука Мотосукэ Капитан Юкинари — начальник местного гарнизона Префект Икэда — должностное лицо, надзирающее за порядком; подчиненный Мотосукэ Князь Татибана — бывший губернатор провинции, отошедший на покой Госпожа Татибана — его молодая жена Учитель Дзото — настоятель монастыря Четырехкратной Мудрости Кукай — помощник настоятеля Дзото Хигэкуро — калека-борец, учитель боевых искусств Аяко — его старшая дочь, ставшая вслед за отцом мастером боевых искусств Отоми — его младшая дочь, глухонемая художница Крыса — уличный попрошайка Хидэсото — безработный солдат Фудзиваре Косэхира — столичный дворянин, лучший друг Акитады Такасина Тасуку — столичный друг Акитады Госпожа Асагао — фрейлина императрицыПрочие:
Минамото Ютака — начальник Управления по государственному надзору Сога Йетада — министр юстиции Сато, Сёму, Дзюндзиро — слуги в доме Татибаны Шрам, Юси, Юбэй — уличные головорезы Жасмин — уличная девка Дзисаи — лоточник Сэйфу — торговец шелком(А также монахи, солдаты, горожане)
ПРОЛОГ Соглядатаи
Хэйан-Ке (Киото) Месяц желтеющей листвы (сентябрь) 1014 годаНаблюдателей в ту ночь в саду было двое. Один, пожилых лет, чуть нагнувшись вперед, прислушивался к легким шагам по тропинке, ведущей от крошечного павильона на задворках. Молодая женщина возвращалась. Возвращалась одна! Он залюбовался на мгновение тончайшим переливчатым шелком и сиянием золота в ее волосах. Лунный свет скрадывали кроны деревьев, к тому же к старости он ослаб глазами, поэтому не сразу заметил, что она плачет. У ворот женщина споткнулась; тонкая, выставленная вперед рука нащупывала путь. На пороге она оглянулась в сторону павильона, потом выскользнула на улицу и скрылась. Старик улыбнулся беззубым ртом. Влюбленные поссорились. Хозяин его был на редкость красив. Неудивительно, что ему удалось покорить сердце столь знатной дамы, чьи роскошные наряды и золотые украшения в волосах недоступны простым смертным. Он был доволен. Жизнь его в последнее время ограничивалась узкой полоской сада, обозреваемой с веранды, да тайными усладами сильных мира сего — витиеватым размышлениям об этих чужих страстях он одиноко предавался долгие и долгие часы. Мысленно он уже заглядывал вперед, думая о новых ночных забавах. Удовлетворенно вздохнув, старик заковылял к постели. Второй соглядатай тоже был доволен. Крадучись, он проследил за парочкой до самого ее потайного гнездышка. Его зоркий глаз тоже заметил блеск золотых украшений в волосах дамы, когда та проскользнула мимо него на улицу. Какая неожиданная удача! Он и не надеялся, что она пойдет обратно так скоро, да к тому же в одиночестве. И последовал за ней.
Дама торопилась — почти бежала по пустынным улицам. Еще никогда она не ходила одна этой дорогой, как, впрочем, и другими. Обычно передвигалась в повозке или в паланкине — и всегда с провожатыми, — но сегодня совсем другой случай. Прежде, когда они ходили по этой дороге вместе, она всегда пряталась за вуалью и позволяла мужчине вести себя. Теперь же беспокойно оглядывалась по сторонам в поисках знакомых вешек. Пару раз она свернула не туда, а однажды ей послышались шаги за спиной. Она подумала, что это ее возлюбленный, и обернулась, но никого не увидела. Дома вокруг по большей части были полуразрушены и пустовали. Остальные же прятались в гуще зарослей с наглухо закрытыми от незваных гостей воротами. Походка ее стала неуверенной. В лунном свете серебрились дорожки слез на щеках. Эти встречи в уединенном павильоне были облечены ужасной тайной. Все теряло смысл перед их страстью. Она всей душой стремилась предаться в руки возлюбленного, и вот теперь совсем одна и в полном отчаянии… Улицы были пустынны, но в окрестных зарослях сумрачные тени беззвучно двигались в поисках добычи. Где-то пискнула и метнулась прочь мелкая зверушка. Подобрав длинный волочащийся подол, она снова пустилась бежать, воображая, как по пятам гонятся голодные тигры и демоны с окровавленными клыками. Причудливые тени выступали из темноты запущенных садов, с ветвей доносились зловещие звуки. Какая-то ночная птица, взметнувшись, коснулась крылом ее шеи, и она в ужасе вскрикнула, моля о помощи милосердную Канон.[1372] Наконец она увидела позолоченную крышу пагоды и вздохнула с облегчением. Она добралась до полуразрушенной стены старого заброшенного храма и поняла, где находится. В лунном свете величественные священные строения хранили тишину и безмятежность. Обитавшая здесь богиня, защитница слабых и несчастных, услышала ее крик.
Прямо за храмом, на пустыре, среди нищенских лачуг и хибар, преследователь настиг молодую женщину. Этот хищник в человеческом обличье ожидал увидеть даму в сопровождении ее любовника, с которым готовился сразиться, но все оказалось гораздо проще. Одним прыжком он преградил ей путь, оскалившись в улыбке. Она остановилась и тихо ахнула. В этот момент тучи рассеялись и лунный свет упал на его лицо. Отшатнувшись в ужасе, она издала протяжный жалобный крик. Но на этот раз милосердная богиня ее не услышала.
ГЛАВА 1 Происшествие в Фудзисаве
Дорога Токайдо Месяц ухода богов (ноябрь) того же годаНа Токайдо, большой имперской дороге, ведущей в восточные провинции, всегда было людно и неспокойно. Военные заставы проверяли у путников документы и патрулировали окрестности, но были малочисленны и разделены большим расстоянием, так что грабежи здесь стали обычным делом для самых отчаявшихся. Два столичных всадника на почтовых лошадях отмерили уже немалый путь. Высокий молодой человек в выцветшем дорожном платье и домотканых штанах скакал впереди. Притороченный к седлу меч выдавал в нем представителя знатного сословия. Его слуга, щуплый старичок в простеньком сером кимоно, следовал за хозяином на вьючной лошади. Молодым господином был Акитада, потомок старинного и прославленного, но обедневшего рода Сугавара. В свои двадцать пять он совсем недавно занял должность мелкого чиновника в министерстве юстиции, да и ту сумел получить лишь благодаря первому месту на выпускных экзаменах в университете. Сейчас же направлялся в провинцию Кацуза, где ему предстояло расследовать крупные растраты налоговых отчислений. Важное правительственное поручение наполняло его восторгом — это было его первое путешествие за всю жизнь в столице, а оказанная честь превосходила самые смелые мечтания. Сэймэй, прослуживший семье Сугавара всю свою жизнь, втайне полагал, что его молодой хозяин достоин и большей чести, однако держал подобные мысли при себе. Сам он умело вел хозяйские счета, был великим знатоком целебных трав и гордился своим недюжинным знанием трудов Конфуция, которого часто по-отечески цитировал Акитаде на правах мудрого наставника. Будущее молодого Акитады его тревожило, так как сулило суровые испытания. Акитада мечтательно улыбался, блуждая рассеянным взглядом по синей полоске гор — ему грезились почести, ожидающие его по успешном завершении задания, — когда увесистый камень вдруг ударил его лошадь по крупу. Заржав и взметнувшись на дыбы, животное скинуло седока в грязь и умчалось прочь. От удара Акитада едва не потерял сознание. В тот же миг два мускулистых бородача, вооруженных здоровенными дубинами, выскочили из кустов на дорогу и, схватив под уздцы лошадь Сэймэя, велели ему спешиться. Старик повиновался, трясясь от страха и беспомощной ярости, а его молодой хозяин сидел на земле, держась за голову и глядя вслед уносящемуся мечу. Один из разбойников занес над ним дубину, но Сэймэй с криком ударил другого в пах. Тот согнулся пополам, взвыв от боли. Почти ничего не видя перед собой, Акитада вскочил и приготовился защищаться голыми руками. С трудом увернувшись от первого удара дубины, он вздрогнул при мысли, что позорная и жалкая смерть на дорожной обочине лишит его возможности проявить свои таланты имперского следователя. Когда второй разбойник, переведя дух, занес дубину над Сэймэем, откуда ни возьмись появился еще один грязный оборванец. Быстро смекнув, в чем дело, он схватил валявшийся на земле крепкий сук и обезоружил нападавшего, сломав ему руку. Подобрав разбойничью дубину, он подступил к другому грабителю, наседавшему на Акитаду. И если молодой человек не представлял для него опасности, то незнакомец, вооруженный точно такой же дубиной, как вскоре выяснилось, владел ею безукоризненно — Акитада с изумлением наблюдал, с каким мастерством и проворством он ею орудует. Ему прежде не доводилось наблюдать палочный бой, и хотя суковатые дубины и длиной, и весом, и формой сильно отличались от бамбуковых шестов, было видно, что оба человека умелые бойцы. И все же незнакомец владел этим искусством лучше. Он отражал молниеносные удары, прыгал как кузнечик, делал ложные выпады и вконец измотал противника, прежде чем нанести тому последний сокрушительный удар в лоб, сразивший его наповал. Второй разбойник к тому времени удрал, и молодой оборванец, сняв у побежденного с пояса веревку, связал его. — Ай да молодец! Прекрасная работа! — восторженно вскричал Акитада. — Мы обязаны тебе жизнью… — И испуганно осекся, когда спаситель распрямился и поднял голову. Парень улыбался как ни в чем не бывало, хотя из распоротой щеки бежала кровь. — Сэймэй, скорее неси сюда свою коробку со снадобьями! — крикнул Акитада. Но парень покачал головой, продолжая сиять белозубой улыбкой, и отер кровь с щеки тыльной стороной ладони. — Бросьте! Что за пустяки! Давайте-ка лучше, господин, я приведу вашу лошадку. Он убежал и вскоре вернулся, ведя под уздцы лошадь Акитады. — Позвольте дать вам один совет, господин, — сказал он. — Держите меч при себе. Тогда разбойник дважды подумает, прежде чем напасть на вас. Акитада покраснел. Для простого бродяги этот парень уж больно дерзок. Тем не менее он был прав, и Акитада сдержался. — Да. Благодарю тебя еще раз. Признаю, что был беспечен. А теперь сделай милость, покажи свое лицо Сэймэю. Пусть он обработает рану. На лице парня красовалось еще несколько давних синяков, без которых его можно было бы назвать красивым. И что это за драчун такой? Но незнакомец упрямо мотнул головой и попятился от Сэймэя и его коробки с целебными снадобьями. — Не бойся, у него легкая рука, — поспешил успокоить Акитада. Незнакомец стрельнул в него глазами и послушался. — Ты, надо полагать, живешь где-то неподалеку? Как тебя зовут? — поинтересовался Акитада, наблюдая за процессом. — Вовсе нет. Я просто шел мимо. Ищу поденную работу в каком-нибудь хозяйстве. А зовут меня Тора. — Но все полевые работы давно закончились. — Акитада задумчиво посмотрел на парня. — А знаешь, Тора, может, это и совпадение, но мы в долгу перед тобой, а мне нужен слуга. Я видел, как ты потрясающе владеешь этой палкой. Хочешь поехать с нами в провинцию Кацуза? При этих словах Сэймэй выронил из рук баночку с мазью и изумленно уставился на хозяина. Парень размышлял всего мгновение, потом кивнул. — Почему бы и нет? Попробовать можно. Вам двоим нужна защита, а мне без разницы, куда идти — в Кацузу или в какое другое место. — И он снова сверкнул белозубой улыбкой. Тут Сэймэй не выдержал: — Господин, неужто вы и впрямь думаете взять с собой этого типа? — О ком это ты, старик? Наверное, вон о том дурне? — Тора, как бы не понимая, небрежно махнул рукой в сторону связанного разбойника. — Да не волнуйся! Он теперь и с места не двинется. Мы направим сюда старосту из ближайшей деревни. Представь, как он порадуется, получив денежки за эту буйную голову! Сделка показалась Акитаде вполне честной. Они получат защиту и надежного слугу, согласного брать за свои труды только еду да несколько медных монет. А мешать он им не будет — пойдет скорым шагом рядом с лошадьми. Переправившись через залив Наруми на пароме, они к вечеру добрались до города Футакавы и остановились перед громадным буддийским храмом, известным святилищем бога-лисицы Инари, покровителя земледельцев. У ворот под отдельной крышей была установлена вертикальная доска, на которой городские власти обычно вывешивали важные объявления. — Смотрите-ка! — Акитада усмехнулся, указывая на свежий листок бумаги, исписанный крупными черными иероглифами. — «Разыскивается Горный Тигр — живой или мертвый — за убийство и грабеж. Разбойник имеет высокий рост, отвратительную наружность и волосатое тело. Обладает силой дракона!» Ну надо же! Да тут, похоже, орудует целая шайка грабителей! Тора осклабился. — Как там они пишут? — Он поиграл мышцами. — Силой дракона? Ну что ж, очень лестно. Акитада обернулся на него в изумлении: — Так ты и есть Горный Тигр? Ну да, конечно! Ведь «тора» означает «тигр»! — Ну… в некотором смысле это мог быть и я, — слегка покраснел парень. — Только все это ошибка. — Что-о?! Так он еще и разыскивается властями?! — вскричал Сэймэй. — Разбойник и убийца! Хотя, может, не такой уж высокий и не волосатый. А ну доставайте свой меч, хозяин! Мы сдадим преступника властям! — Кто бы он там ни был, он спас нашу жизнь, — напомнил Акитада старику и снова повернулся к Торе. — Ну-ка признавайся скорее: ты один из этих «горных тигров»? — Нет. — Парень честно смотрел ему в глаза. — Вы вряд ли поверите, но так уж получилось, что я укрывался с ними в одной пещере. Солдаты порвали мои документы — сказали, что они ворованные. Я и сообразить не успел, как всех заковали в цепи да начали толковать, не отрубить ли мне голову. Тогда я выхватил у их начальника меч и пустился наутек. — Он смотрел на Акитаду и смиренно ждал, какое тог примет решение. Молодой человек смерил его пристальным взглядом. — Ты убил кого-нибудь, пытаясь освободиться? — Не-ет!.. Они и приблизиться-то ко мне боялись, когда я завладел мечом. Я рванул вниз с горы и в ближайшей деревне воткнул меч возле дома старосты. Акитада вздохнул. — Ну что ж, я тебе верю. Только придется выправить тебе какие-нибудь документы, пока мы не добрались до следующей заставы. — Никуда я не пойду, ни в какие судилища! — взбунтовался Тора. — Не говори глупостей, — возразил Акитада. — Ты согласился служить мне, но я же не могу путешествовать с человеком, объявленным в розыск. Тут вмешался Сэймэй: — Ой, хозяин, пожалеете, когда все это окажется сплошным враньем. Не быть ястребу соловьем, и тот, кто служит его высочайшему величеству, не нанимает себе в слуги разбойников с большой дороги. Акитада пропустил замечание мимо ушей. Выправить документы для их подозрительного спутника оказалось делом на удивление простым. Местный мировой судья был повергнут в благоговейный ужас, увидев верительные грамоты Акитады; ему и в голову не пришло спрашивать, зачем тому понадобилось нанимать еще одного слугу со странным именем Тора и наружностью отпетого головореза. Благодарность свою Тора выражал усердной службой. Он окружил заботой подозрительного Сэймэя и находил самый лучший ночлег по самым низким ценам. Последнее обстоятельство было немаловажным, ибо Акитада хоть и следовал по имперскому заданию, не мог себе позволить обычной вооруженной свиты, а посему имел с собой лишь малое количество серебра да несколько мешков риса для еды и обмена. Но больше всего в заключенной сделке Акитаду устраивало то, что каждый день путешествия Тора начинал или заканчивал уроком палочного боя, который преподавал своему новому хозяину. С каждым прыжком или выпадом Акитада все больше и больше убеждался в великодушии нового слуги. Зато уроки эти возмущали Сэймэя, утверждавшего, что благородный господин не должен браться за такое плебейское оружие. Впрочем, увещеваний старика никто не слушал, и тот обиженно замыкался, ворча на Тору и при каждой возможности упрекая его в отсутствии должного почтения. Когда в один из дней впереди наконец показалась гора Фудзи, Акитада, потрясенный зрелищем, даже остановил коня. Окутанная легкой полупрозрачной дымкой, величественная белоснежная вершина словно плыла в облаках. Преисполненный благоговейного восхищения и гордости за землю, на которой родился, он на миг утратил дар речи. Сэймэй обратил их внимание на дымок, вроде бы поднимающийся над вершиной. Тора расхохотался: — Ха!.. Вы бы видели, каков этот великий дух по ночам! Изрыгает огонь словно дракон! — Огонь и снег! — изумлялся Акитада, до слез расчувствовавшись. — Должно быть, она очень высокая! — О-о, достает до самого неба! — заверил Тора, для наглядности взмахнув рукой ввысь. — Те, кто поднимался на вершину, никогда не возвращались. Прямиком попали на небеса. — Да… воистину говорят: нет лекарства от глупости, — буркнул Сэймэй, сверх всякой меры раздраженный столь низменной манерой речи. — Уж лучше бы ты помолчал в присутствии благородных людей. — Что-о?.. — оскорбился Тора. — Вот так дела! Что же вы там, в своей столице, и в богов не верите? Сэймэй не удостоил его ответом. В Мисиме начинался долгий, изнурительный подъем до Хаконэ. Этот горный перевал был самым протяженным и высоким на всей дороге Токайдо. Вокруг клубились облака, тягучее безмолвие висело в воздухе, словно пеленой обволакивая темные сосны и криптомерии. Между крутым горным склоном и озером Хаконэ, чья безмятежная пустынная поверхность словно зеркало отражала небо и горные вершины, располагалась пограничная застава. Здесь впервые за все время после отъезда из благопристойной и цивилизованной столицы они увидели проявления грубого пограничного правосудия. На невысоких подставках, вкопанных в землю прямо перед заставой, были разложены головы преступников, к коим прилагались таблички с описанием совершенных ими деяний — в назидание и устрашение тем, кто еще готов был отважиться на подобное. При всей тошнотворности этого зрелища Акитада все же заставил себя подойти поближе и прочесть таблички — числом около двадцати. Убийство, насилие, грабеж, мошенничество и один случай государственной измены. Власти этой восточной провинции явно со всей ответственностью подходили к такому важному делу, как проверка путешественников. Он присоединился к своим спутникам, сильно беспокоясь за судьбу Торы. Какая участь ждет парня, если пограничная стража затеет подробный допрос ради выяснения личности? И сможет ли он даже в своем высоком положении спасти голову нового слуги, если Тору арестуют за предполагаемые преступления? Акитада беспокойно огляделся. Перед ними еще примерно двадцать человек ждали своей очереди. А та двигалась медленно. Обойти стороной заставу Хаконэ не представлялось возможным. К ним подошел стражник, попросил показать документы и пригласил в канцелярию. Нырнув за занавеску, они очутились в просторном помещении, где на грязном полу была установлена низкая широкая скамья прямо перед деревянным возвышением. Тора с Сэймэем опустились на скамью, Акитада остался стоять. На помосте сидели усатый капитан пограничной стражи, три таможенных чиновника в штатском и писец за низеньким столиком сбоку. Стражник протянул начальнику документы Акитады и что-то прошептал тому на ухо. Капитан смерил Акитаду пристальным взглядом черных глаз, оглядел Сэймэя и Тору и принялся изучать документы, некоторые по два раза. Акитада почувствовал, как капельки пота выступили у него над верхней губой и повлажнели ладони. Совсем не такой прием ожидал он встретить на пограничной заставе. Он даже вздрогнул, услышав грубый, лающий голос: — Подойдите сюда, господин! Акитада не хотел садиться, считая, что распоряжения здесь должен отдавать он, а не кто-то другой, но, боясь привлечь внимание к Торе, повиновался без возражений. — Из ваших документов я вижу, что вы направляетесь из столицы в провинцию Кацуза со специальным заданием. Акитада кивнул. — Люди, сопровождающие вас, являются вашими слугами и вы ручаетесь за них? — Черные глаза-бусинки сверлили Тору еще более пристально, чем прежде. — Да. — Акитада постарался придать голосу небрежности, хотя сердце отчаянно колотилось. — Пожилого зовут Сэймэй, молодого — Тора. — Понятно. Почему вы оформляли документы на человека по имени Тора в Футакаве? Акитада почувствовал, что краснеет. — Э-э… видите ли, — запинаясь начал он, — дорога оказалась труднее, чем мы ожидали. Сэймэй… м-м… не привык к путешествиям, у нас возникли кое-какие трудности, вот я и решил нанять другого слугу. Капитан смерил его долгим испытующим взглядом и ухмыльнулся: — Трудности? К путешествиям вы, я вижу, и впрямь не привыкли. Умудрились проделать немалый путь без свиты. Многие столичные господа, попав на эту дорогу, дают стрекача задолго до Хаконэ. Акитада снова покраснел, на сей раз от злости, но, закусив губу, промолчал. — Какие дела у вас в Кацузе? — Я направляюсь туда по императорскому приказу, как это видно из бумаг, капитан… — Капитан Сайто. Случайно, не с расследованием налоговых недостач? Инструкция предписывала Акитаде действовать по своему усмотрению, а этот человек мог владеть ценной информацией, поэтому он сказал: — Да. А что вам известно об этом деле? — Мне известно, что в течение нескольких лет товары из Кацузы минуют эту таможню. Большое число художественных ценностей — древних свитков, скульптуры и прочих предметов искусства — проходит каким-то другим путем. И никаких налоговых отчислений из Кацузы в императорскую казну. — Капитан обернулся к одному из чиновников. — Принесите-ка мне регистрационные книги за последние два года, а также копии бумаг, касающихся налоговых отчислений из провинции Кацуза. — Раскрыв одну из регистрационных книг, он полистал страницы, нашел какое-то место и кивнул Акитаде. — Вот, посмотрите сами! Когда они снова не прошли через нас в положенное время в этом году, я отрапортовал в столицу. Снова отрапортовал. Снова? Акитада наклонился, чтобы прочесть. Чиновник вернулся с коробкой документов, которую поставил на пол. Капитан достал из нее еще две учетные книги. — Вот пожалуйста — за прошлый год… Ничего. — Он ткнул пальцем в строчки. — И здесь то же самое, — придвинул он к Акитаде третью книгу. — А вот копии отчетов, посланных мною в столицу. Акитада изучал книги, не веря своим глазам. — Выходит, примерно за три года из Кацузы не поступало никаких налоговых отчислений? — спросил он. Такое положение дел казалось просто немыслимым. Более того, из документов было ясно, что до сих пор никто не удосужился заняться расследованием этого вопроса. — Не примерно, а именно за три года, — поправил его капитан. — А до этого все шло своим чередом, никаких сбоев и нарушений, по незыблемому распорядку — словно гуси, улетающие зимой на юг. — И как вы это объясняете? — Да никак. — Капитан смерил Акитаду оценивающим взглядом и поджал губы. — Я просто выполняю свой долг. Моим людям предписано опрашивать всех приезжающих с востока о происшествиях на дороге. Мы здесь еще ни разу не слыхивали о шайках грабителей. Ведь напасть на охраняемый налоговый караван мог бы только хорошо вооруженный отряд. Так что мое мнение таково — но только учтите, это всего лишь мое мнение: все эти ценности никогда не вывозились из Кацузы. Вот так-то! — Он прокашлялся и снова смерил Акитаду испытующим взглядом. — И имперские власти, как видно, не особо спешат заняться расследованием. — Уголки его рта дернулись в насмешке. — До сих пор не спешили. Акитада почувствовал, как краснеет. Он понимал, что думает капитан. Никому не нужно, чтобы ценный груз был найден. Направляя на расследование столь важного дела молодого неопытного чиновника, правительство тем самым демонстрировало, что хочет похоронить эту историю. Для чего? А для того, чтобы отвести всяческие подозрения от тамошнего правителя, коим являлся Фудзивара, дальний родственник самого канцлера. К несчастью, он также приходился кузеном лучшему другу Акитады Косэхире. Они сдружились еще в университете, томимые одиночеством — Акитада был беден, а с Косэхирой, толстым коротышкой, никто не хотел дружить. Манеры капитана не очень-то нравились Акитаде, поэтому он сухо отрезал: — Благодарю вас. Мне, однако, пора ехать. Если вы с нами закончили… Капитан усмехнулся: — Конечно, конечно! Не смею задерживать! Удачи вам, господин! — И отвесил нарочито почтительный поклон. — Сэймэй! Расплатись за лошадей. Когда они направлялись к выходу, капитан крикнул им вслед: — Погода портится. Вы бы лучше переночевали на заставе. Обернувшись, Акитада сухосказал: — Благодарю, но нам надо спешить.
Они начали спуск засветло, но вскоре пошел холодный, нудный дождь. Его унылая серая пелена заволокла красивые окрестности, промокшая одежда вызывала озноб. Продрогшие, измотанные, они остановились в Одаваре у подножия горы и заночевали в захудалой, кишевшей крысами гостинице, где спать пришлось на влажных гнилых циновках, укрывшись собственной мокрой одеждой. Наутро небо еще больше затянулось тучами и дождь только усилился, но они все равно отправились в путь. Дорога вилась у подножия гор, пока снова не вывела к побережью. Они еще не видели моря, но уже почувствовали его соленый дух, приносимый ветром. Вскоре лесная полоса кончилась, и им открылся океанский простор, окутанный стылой туманной дымкой. Ветер рвал тучи в клочья, угольно-черный океан бурлил и ревел, извергая и тут же снова проглатывая хлопья грязной желтой пены, дождь продолжал хлестать в лицо, насквозь пропитывая отяжелевшую одежду. Сэймэй начал кашлять. После Ойсо дорога снова пошла вглубь от побережья и вывела их на просторную равнину, большую часть года служившую рисовой житницей для всей страны. Рисовые поля, перепаханные и утопающие в воде, простирались повсюду, доколе хватало глаз. Дорога Токайдо пролегала здесь по специально проложенной дамбе, обсаженной с обеих сторон соснами, клонившимися сейчас под весом набухшей влагой хвои. Наконец, к вечеру этого трудного дня, дождь приутих и превратился в мелкую морось. Окончательно вымотанные, они добрались до залива Сагами и расположенного на его побережье города Фудзисава. Отсюда Акитада намеревался продолжить путь по воде, наняв лодку, которая перевезла бы их на ту сторону залива, в провинцию Кацуза. Таким образом они сэкономили бы пять или шесть дней пути и добрались до провинциальной столицы за два дня. Город Фудзисава оказался довольно большим, многолюдным и имел свою почтовую станцию и собственное подразделение полиции. Он считался главным портом в заливе Сагами, а на ближайшем островке Эносима находился знаменитый на всю страну храм. Когда они въехали в город, Тора отправился на поиски гостиницы для ночлега, а Акитада с Сэймэем поехали на почтовую станцию вернуть лошадей. По тесным городским улочкам передвигаться верхом оказалось непросто. Лошади шарахались от зонтиков лоточников, разгоняя толпы местных жителей, бранящихся им вслед. Почтовая станция находилась почти у самой гавани. У ворот на доске объявлений они увидели огромный, пожелтевший от времени рваный плакат. Иероглифы на нем поблекли, но еще виднелись остатки красной государственной печати. Акитада подошел, чтобы прочесть, и сумел разобрать, о чем говорилось в воззвании. Это была просьба к гражданам о любых сведениях относительно пропажи ценного правительственного груза, за предоставление которых обещалось серьезное вознаграждение. Под указом красовалась печать правителя Кацузы. За долгие месяцы никто, судя по всему, так и не обратился за вознаграждением, и объявление с тех пор ни разу не обновлялось. Акитада вернулся к Сэймэю. — Старое объявление о пропавших ценностях. И это совсем не красит здешнего губернатора. Он, как видно, даже не пытался расследовать дело о пропаже. Как же мы воспользуемся его гостеприимством, если он наш главный подозреваемый? Вместо ответа Сэймэй чихнул, после чего хрипло прибавил, стуча зубами: — Понятия не имею, хозяин. Акитада внимательно посмотрел на старика. Тот неестественно раскраснелся и обмяк в своем седле. — Ты хорошо себя чувствуешь, старина? — с тревогой спросил Акитада. Сэймэй передернулся от холода и закашлялся. — Просто озяб немного. Мне полегчает, как только я слезу с этой лошади и немного разомну ноги. Они сдали лошадей на станцию. Дождь прекратился, но из-за пасмурного неба быстро темнело. В городе зажигались огни. Повсюду витали ароматы пиши. Акитада и Сэймэй медленно пробирались сквозь толпу, заглядывая во все встречные гостиницы в поисках Торы. Но тот пропал — словно его дождем смыло. В каком-то пустынном, неприветливом квартале Акитада вдруг заметил, как устало шагает старик, и остановился. — Ну вот что, Сэймэй. Мы бродим уже целый час. Пора, наверное, вернуться, снять комнату в гостинице и отдохнуть. Тебе нужны горячая ванна, немного теплого вина и сухая постель. К его удивлению, Сэймэй запротестовал. — Пожалуйста, хозяин, — сказал он, стуча зубами, — давайте походим еще немного. Что-то нехорошее у меня предчувствие. Это совсем не похоже на Тору. — Брось! Он молод и силен. Может, просто устал от нашего общества и сбежал. — О Боже! — вскричал Сэймэй, заламывая руки. — Надеюсь, это не так. Ай-ай-ай!.. Это все моя вина! — Твоя вина? О чем ты? — Не зря говорится: можно вынести холодную погоду и холодную пищу, но не холодные взгляды и слова. — Старик поник головой. — Я был очень неприветлив с этим парнем. — Да брось ты! — рассеянно проговорил Акитада, вглядываясь в темноту. Впереди в конце переулка мерцали огни факелов и слышались возбужденные голоса. — Там что-то случилось. — Там люди, пойдемте спросим у них. — Хорошо, но только потом в гостиницу. Они пошли на шум и вскоре увидели толпу, собравшуюся возле полуразвалившегося двухэтажного дома с перекосившейся табличкой «Благоуханная обитель красоты». У входа стоял облаченный в красное полицейский, бесстрастно взирая на разношерстную гудящую толпу. Протискиваясь сквозь ряды любопытных. Акитада спросил: — Что здесь произошло? В этот момент дверь открылась, и двое других полицейских вынесли на носилках тело, покрытое окровавленным женским кимоно. Старший полицейский при виде высокого важного незнакомца встал навытяжку и громко доложил: — Бродяга перерезал горло шлюхе. — Он усмехнулся, обнажив кривые желтые зубы. — Но удрать ему не удалось. Да и женщин там еще навалом, так что проходите, господин, милости просим. — Лукаво подмигнув, он посторонился и пошел догонять своих. Сэймэй бросился было за ним с хриплым криком «Эй, постойте!», но закашлялся, и полицейский так и не услышал его. Тогда старик вернулся и дернул хозяина за рукав. Его раскрасневшееся лицо было встревоженно. — Надо пойти за ними, господин. Это убийство. Вы же хорошо разбираетесь в убийствах, а сердце мое чует, что тут как-то замешан Тора. — Брось, не говори чепухи Ты вымотался, и тебе нездоровится. Не могу я здесь впутываться в расследование какого-то убийства — я же еду с заданием в Кацузу. — Ну пожалуйста, хозяин! Мы хотя бы просто справимся о нем в полиции. Так мне будет легче. Вздохнув, Акитада уступил. Полицейское отделение располагалось в центре Фудзисавы, над входом висел большой бумажный фонарь, на котором иероглифами было выведено: «Полиция». Внутри полицейский в чине лейтенанта и два чиновника допрашивали толстяка в засаленном синем кимоно. — Может, я и ошибся насчет цвета его одежки, — сказал толстяк, разводя руками и растопырив жирные, как гусеницы, пальцы. — Но шрам-то на лице нельзя не узнать! Могу поклясться, это тот самый человек! Бедная Фиалка! Она ведь только-только наладилась как следует работать. Клиенты к ней тянулись. Ай-ай-ай… какая утрата! И кто возместит мне потери?! Целых шесть рулонов лучшего шелка заплатил я четыре года назад за эту девчонку. Я кормил ее, обучал и уже начал подумывать о маленькой выгоде, как… Тьфу ты!.. — Он снова развел руками и тут заметил усталых, вымотанных дорогой Акитаду и Сэймэя. — Плохо! Очень плохо, что столько всякого сброда шатается нынче по Восточной дороге! Нет больше спокойной жизни честному дельцу в этом городе. Лейтенант обернулся. — Что вам нужно? — раздраженно спросил он. — Не видите, я занят? Если вы за путевым разрешением, то приходите завтра утром. Акитада был измотан и расстроен. Он знал, что Сэймэй чувствует себя еще хуже, поэтому не намеревался терять больше времени. — Покажи ему мои документы, Сэймэй, — сурово распорядился он и увидел, как побледнел лейтенант, читая бумаги, в коих любым властям предписывалось оказывать их подателю всяческое содействие. Благоговейно коснувшись ими лба, лейтенант пал ниц и принялся извиняться. — Встаньте! — устало сказал Акитада. — Мы отправили нашего слугу Тору искать ночлег, но он, похоже, пропал. Я хочу, чтобы его нашли незамедлительно. Лейтенант вскочил и засуетился. Пока Акитада описывал ему приметы Торы, лицо его все больше и больше вытягивалось. Толстяк что-то вскричал в изумлении, а у чиновников округлились глаза. — Человека с такой наружностью мы только что арестовали, — сообщил лейтенант. — За убийство шлюхи. Его задержали неподалеку от места преступления на основании показаний вот этого очевидца. — Он указал на толстяка, который вдруг почему-то занервничал. — Вообще-то уже темнело, — запинаясь, начал он, — но я разглядел у него на лице шрам, когда он покупал у лоточника лапшу. Может быть, эти господа не знают, какого опасного человека взяли себе в слуги. — Могу я увидеть заключенного? — спросил Акитада у офицера. — Конечно. Вы можете его увидеть прямо сейчас, ваше превосходительство. — Лейтенант хлопнул в ладоши. Вскоре перед ними предстал Тора — закованный в цепи, избитый, окровавленный. С обеих сторон его крепко держали два дюжих стражника. — Господин! — крикнул он и шагнул навстречу Акитаде. Стражники, дернув за цепь, вернули его на место. — Произошла какая-то ошибка, — сказал Акитада. — Это мой слуга. Сейчас же отпустите его. — Но, ваше превосходительство! — запротестовал офицер. — Его опознал уважаемый гражданин этого города, и я боюсь… — Я сказал, отпустите его! — рявкнул Акитада. Тору освободили от цепей, и он подошел к хозяину, растирая затекшие руки и бормоча слова благодарности. — Надеюсь, больше такого не повторится! — накинулся на него Акитада. — Мы несколько часов кряду искали тебя. Если бы не настойчивость Сэймэя, ты бы сгнил в этой тюрьме. — Увидев в глазах Торы слезы, он смягчился. — Что случилось? — Так мне и надо, хозяин, — сокрушенно пробормотал Тора. — Проголодался я и замерз и думал, что у меня еще полно времени, поскольку вы задержались на почтовой станции. Ну вот и остановился в одном месте подкрепиться лапшицей. Я уже доедал, когда началась вся эта кутерьма. А когда очухался, то понял, что лежу на земле и четверо полицейских пинают меня почем зря. Акитада повернулся к лейтенанту. — Когда было совершено преступление? Офицер и толстяк ответили хором: — Четыре часа назад. — Откуда вам это известно? Лейтенант перевел сердитый взгляд на свидетеля, и тот сразу сник. — Она была еще теплая, когда мы прибыли туда почти два часа назад. Вот Тояма, ее хозяин, он сразу побежал к нам, когда нашел ее мертвой. — Но четыре часа назад было еще светло, — сказал Акитада, смерив толстяка подозрительным взглядом. Он уже забыл про усталость, и дело заинтересовало его всерьез. Ему хотелось осмотреть тело и допросить подруг убитой. — Когда этот человек видел убийцу? Толстяк еще больше занервничал и принялся объяснять: — Я увидел его у лотка с лапшой, когда возвращался назад с полицейскими, и сразу распознал его — ведь девчонки мне его описали. Вот я и узнал его по шраму на лице. А одежда… я уже говорил, насчет одежды мы могли и ошибаться. В общем, когда я увидел его там как ни в чем не бывало поедающим лапшу, то сразу закричал и сообщил полицейским. — Чушь! — отрезал Акитада. — Четыре часа назад, когда, по вашим словам, произошло убийство, мой слуга вместе со мной и моим секретарем находился далеко отсюда, за пределами Фудзисавы. Предлагаю вам привести сюда свидетелей — только не этого человека, — и пусть они подтвердят, что видели совсем другого. Засим, я надеюсь, мой слуга будет выпущен на свободу, получив подобающие извинения. Тора, догонишь нас позже. Мы будем в гостинице. — Да, в «Вещей птице», господин. Говорят, это лучшая гостиница, — услужливо сообщил Тора. Но Акитада медлил с уходом, решив проинструктировать бестолкового полицейского, когда услышал грохоту себя за спиной. Обернувшись, он увидел распростертое на грязном полу щупленькое тело старого Сэймэя.
ГЛАВА 2 Лоточники, монахи и клан Фудзивара
Два дня метался Сэймэй в сильнейшей горячке, сотрясаясь от мучительного кашля. Акитада сидел возле его постели, коря себя зато, что вовремя не заметил болезни старика, что потащил его в такое далекое путешествие и вообще согласился на это задание, не послушав совета друзей. Ему мерещилось, как Сэймэй умирает здесь, в этом чужом городе, вдали от семьи, которой преданно прослужил всю жизнь. Тора выполнял обязанности сиделки с терпением и нежностью, каких трудно было ожидать от столь грубого на вид бродяги. Теперь-то Акитада уж точно не жалел, что вызволил парня из лап полиции. Тора оказался открытым и искренним человеком и охотно рассказывал обо всех своих напастях, только вот скрывал настоящее имя. Сын крестьянина, он осиротел во время пограничных войн, после чего был отправлен на военную службу. Из армии он бежал, избив офицера, изнасиловавшего сельскую девушку. На третий день болезни Сэймэй очнулся от глубокого сна и попросил пить. Когда Тора поспешно поднес ему чашку вина, тот раздраженно оттолкнул ее. — Разве не знаешь ты, дурень, что вино горячит кровь? Неужто добить меня хочешь? Чаю мне нужно. Чаю из можжевеловых ягод, да чтоб непременно с горчицей и корнем тысячелистника. Или мне самому встать да приготовить? — Прости, старик, — добродушно повинился Тора. — Я принесу тебе твои корешки и ягодки — только скажи, где они. — Не суетись, Тора. — Акитада потрогал Сэймэю лоб и нашел его сухим и прохладным. — У местного аптекаря все это найдется. Возьми у меня в суме деньги и сходи купи. — Он наклонился к Сэймэю: — Я рад, что тебе лучше, мой старый друг. Ты не представляешь, как мы за тебя волновались. Тора ухаживал за тобой неустанно, все укрывал тебя да примочки к голове прикладывал. — Ай-ай-ай… — виновато пробормотал старик. — И как давно я лежу? — Два дня и три ночи. — О Боже! Неужели?! — Сэймэй попытался подняться. — Как же мы замешкались! Надо немедленно отправляться в путь. Вот выпью своего целебного чая и обязательно встану. Акитада уложил его обратно в постель. — Не спеши. По приезде ты понадобишься мне здоровым, поэтому мы останемся здесь до тех пор, пока ты окончательно не поправишься. Тора будет ухаживать за тобой., а я пока попробую выяснить что-нибудь о кацузском деле и, может, предложу свою помощь местной полиции. По-моему, у них трудности с этим убийством женщины. В Фудзисаве они пробыли еще два дня. Сэймэй поправлялся быстро. Свою досаду он изливал на Тору, изводя парня придирками. За это время Акитада дважды наведывался в полицейское отделение. К сожалению, никаких сведений ему там получить не удалось и никто так и не сумел ответить ни на один вопрос об убийстве. Лейтенант в крайне учтивой форме заверил, что с его слуги сняты все подозрения. Хозяин веселого заведения забрал обратно свои обвинения, когда девушки, подруги убитой, не признали в Торе преступника. Больше ничто не мешало его превосходительству продолжить путь. Наутро пятого дня, когда стояла прекрасная погода и Сэймэй почти выздоровел, они погрузились на корабль и, переплыв залив Сагами, оказались в столице провинции Кацуза Кизарацу. Переправа по морю избавила их от нелегкого путешествия верхом длиной в неделю.Акитада не пошел сразу в местные судебные инстанции, а первым делом снял жилье в гостинице рядом с городским рынком. Он хотел сначала приглядеться к городу и его обитателям, прежде чем объявить о своем приезде губернатору. Оставив Сэймэя отдыхать, они с Торой отправились осматривать город. Жизнь здесь кипела вовсю. Как считал Акитада, население Кизарацу равнялось примерно десяти тысячам, но было в городе, судя по всему, и много приезжих. Погода стояла на редкость теплая, и рынок рядом с гостиницей буквально кишел торговцами, покупателями и праздным людом, выбравшимся погреться на солнышке. Правительственные здания имели вид внушительный, даже элегантный. Должность правителя провинции Кацуза, похоже, была теплым местечком и для представителя клана Фудзивара. Не «утеплил» ли еще больше это местечко его нынешний обладатель, прибрав к рукам трехгодичную пошлину, предназначавшуюся для императорской казны? Они вернулись в гостиницу к ужину, который им подала на открытой веранде пожилая служанка с заячьей губой. Тора бросил на нее лишь один взгляд, поморщился и отвернулся. — А я знаю, как вон тот здоровяк лишился уха. Не иначе булавой отмахнули, — кивнул он в сторону кучки буддийских монахов, проходивших мимо гостиницы. Акитада проследил за его взглядом и понял, о чем толкует Тора. Такое грозное оружие, как булава, обычно использовали отпетые разбойники. Кроме желтого платья да бритой головы, этот монах не имел ничего общего с мягкотелыми святошами, на которых Акитада вдоволь насмотрелся в столице. Высокий, крепкий, мускулистый, он шел развязной походкой и лицом напоминал настоящего головореза. Акитада с удивлением обнаружил, что и спутники парня ему под стать. Они пробирались через толпу с презрительным видом, ни с кем не разговаривали и все время шарили вокруг глазами. Люди шарахались от них в разные стороны. — Любопытно, — задумчиво заметил Акитада. — Если за спиной у него темное прошлое, то, будем надеяться, он осознал свои ошибки и встал на путь исправления. Сэймэй, будучи, как и его хозяин, подлинным конфуцианцем, питал недоверие к буддийской религии. Глядя вслед монахам, он только покачал головой: — Не станет ворона белой, хоть мой ее целый год. Подававшая им служанка захихикала и игриво задела старика локтем. Сэймэй недовольно посмотрел на нее. — Обо мне ты тоже так отзывался, старик, — напомнил Тора. — Верно. И посмотри-ка теперь на него! — Акитада поглядывал на Тору с большим удовлетворением. Приобретенные обновки совершенно изменили его облик — новое синее кимоно с чёрным поясом, длинные волосы завязаны в узел, лицо гладко выбрито шрам почти неразличим. Проходившие мимо молодые женщины бросали на парня восхищенные взгляды. — Ну, насчет тебя я мог и ошибаться, — признайся Сэймэй, задумчиво жуя. Впрочем, посмотрим. Только помни, что говорил учитель Кун-Фу-цзы: человека могут сломить горести, но никак не низкая оценка окружающих. — Хорошее высказывание, — кивнул Тора, возвращаясь к трапезе. — Научи-ка меня, пожалуй, и другим премудростям твоего учителя Кун-Фу-цзы. Сэймэй был доволен. Акитаде показалось, что старик наконец потеплел к Торе. Вот и хорошо — пусть переключится со своими назиданиями на кого-нибудь другого. Они ели и пили с удовольствием, наблюдая за рыночной толпой. — Похоже, богатая и цветущая провинция, — заметил Сэймэй, повторив вслух мысли Акитады. — Рисовые поля и тутовые рощи, что мы проезжали по дороге, прилежно возделываются, а на базаре-то, глядите, какое изобилие! — Да, — согласился Акитада, нигде не заметивший вопиющей нищеты. Этот повсеместный достаток достигался увеличенными сверх меры пошлинами и минимальными отчислениями на поддержание дорог и укреплений. — Что-то здесь не так, — сказал Тора. — Уж я-то чую. Зачем проклятым чиновникам грабить крестьян, если можно прибрать к рукам пошлины? Вон какой красивый дворец у правителя — что твой храм! А где, спрашивается, он взял деньги на такую красоту? — Ну, знаешь, с такими выводами я бы не спешил, — задумчиво заметил Акитада. Тора вдруг присвистнул. — Что еще такое? — заинтересовался Сэймэй, отрывая взгляд от пустого кувшина. — Посмотри вон на ту девушку! Видал красавицу! Какая шейка, какие бедра! Прямо напротив гостиницы расположил свой товар зеленщик, возле его корзин с репой, редькой, бобами, зеленью, сладкими клубнями и каштанами остановилась миленькая девушка в недорогом кимоно и с прической простолюдинки. Жестикулируя и торгуясь, она выбирала редьку. — Хватит пялиться, Тора, — пожурил парня Сэймэй. — О женщинах забудь, не стоят они внимания. — Он подозвал служанку и распорядился принести еще маринованной закуски и вина. Та кивнула, заулыбалась и ушла. Провожая ее насупленным взглядом, старик изрек: — Женщинам нельзя верить — уж больно жадны до денег. Запомни мои слова, Тора, и держись от женщин подальше. Голова твоя должна быть ясной, иначе погубит тебя какая-нибудь свистушка. Но старик опоздал с назиданием. Тора вскочил с решительным видом и в мгновение ока исчез в толпе покупателей. Там, должно быть, поднялась какая-то суматоха, люди оборачивались, чтобы посмотреть. Но когда толпа поредела, ни Торы, ни девушки уже не было. — Видали? Это же просто безобразие! — взорвался Сэймэй. — Вскочил, и нет его! Удрал за первой же приглянувшейся юбкой. Что будем теперь делать? — Ничего. Давай-ка лучше выпьем и закусим. Если не вернется, когда мы закончим, ждать не станем. А воспитывать его будешь завтра. — Ха-а! Да разве ж его воспитаешь? Как ни старайся, все без толку! Они продолжали наблюдать за толпой, когда на веранду поднялся какой-то лоточник. Это был первый бедняк, которого они увидели в городе. Дряхлый, костлявый, согбенный, он с трудом удерживал свой лоток с товарами, подвязанный к тощей птичьей шее и щуплым плечам. Он ходил между постояльцами, тряся перед ними споим подносом, сквозь лохмотья проглядывало тело, ноги его были босы и голы до самой набедренной повязки. Постояльцы, по большей части торговцы, занятые обедом, сердито отгоняли лоточника. Но он, то ли по причине глухоты, то ли отчаявшись продать хоть что-нибудь из своего товара, продолжал мозолить глаза, пока один из них, лишившись терпения, не дал ему крепкого пинка. Старик полетел с веранды на улицу и шмякнулся ничком, распластавшись поверх своего подноса, убогий товар рассыпался по грязи. Торговцы на веранде дружно заржали, а к разбросанным безделушкам тотчас же сбежались со всех сторон пострелята-мальчишки, торопясь ухватить кто сколько сможет. Акитада вмиг оказался возле бедолаги и разогнал мальчишек. Он помог старику подняться и проводил к себе на веранду. — Мне жаль, дедушка, что так получилось, — сказал он. — Выпейте вот немного вина, оно вас согреет и придаст силы. Старик дрожа и постанывал, но вино сделало свое дело, и вскоре его неразборчивое бормотание превратилось в связную речь. Из его слов стало ясно, что он, похоже, больше беспокоился о потере товара, нежели о своих ушибах. Глядя на него, Акитада попытался представить себе жизнь, где голодная смерть считается угрозой более страшной, чем побои и переломанные кости. — Сэймэй, — сказал он, — поди-ка посмотри, нельзя ли там собрать что-то из его вещей, и если найдешь, принеси их сюда. Сэймэй вскоре вернулся с подносом перепачканных грязью безделушек и аккуратно вытер их листком бумаги, который достал из пояса. Увидев жалкие остатки своего товара, старик громко запричитал. Но Акитада вызвался купить у него все, и старик тотчас же притих. Не задумываясь он назвал высокую цену и, когда Акитада заплатил, молча вывалил на стол свои безделушки, подвесил на шею лоток и проворно засеменил прочь, мешаясь с толпой. — Ай да подлец! Как ловко притворялся! — вскричат в сердцах Сэймэй. — И что нам теперь делать с этим грязным хламом? — Палочкой для еды он поворошил кучку дешевых гребешков и заколок. — Они и пары медяков не стоят, а вы дали ему двадцать монет. К тому же все это женские вещицы, да притом грязные. Как бы заразу не подцепить. — Можешь подарить их здешней служанке, — предложил Акитада. — Похоже, ты и так уже тронул ее сердце. От таких слов у Сэймэя отвисла челюсть, но он тут же понял, что хозяин пошутил. Он уже хотел смахнуть всю мелочь на пустой поднос, когда Акитада взял одну из безделушек и старательно очистил от грязи. — Если я не ошибаюсь, эта вещица — эмаль китайской работы. Странно только, что она делала на подносе лоточника. Посмотри-ка, Сэймэй, это вьюнок… Да как прекрасно выполнен! Каждый голубенький лепесток, каждый зеленый листочек окантован золотой нитью. Интересно, откуда взялась у старика столь изысканная штуковина? — Он окинул взглядом толпу в поисках лоточника. Сэймэй изумленно смотрел на крохотный цветок. — Такой маленький. Неужто он стоит двадцать монет? — В таком состоянии уже нет. А когда-то служил украшением для волос и стоил в сотни раз дороже. Только в наше время женщины, даже из самых знатных семей, больше не носят в волосах драгоценности. Вот так загадка! — Акитада сосредоточенно нахмурился и покачал головой. — Возможно, этот цветок оказался среди награбленного. Например, из какого-нибудь храма. Старинные изваяния богинь часто имеют такие украшения. Оставлю-ка я его себе на память. А остальное подарим служанке и пойдем-ка спать.
Тора не появился даже утром. Акитада не знал, что думать. — либо парень, не нуждаясь больше в защите, сбежал, либо опять влип в неприятную историю. Впрочем, в обоих случаях он все равно ничего не мог поделать. Ему предстояла встреча с местным губернатором.
Увидев хозяина в обычном дорожном платье, Сэймэй запротестовал, настаивая, чтобы Акитада ради такого важного случая облачился в официальный придворный наряд. Тот сдержал раздражение, помня о недавней болезни старика, и терпеливо ждал, пока Сэймэй доставал из дорожной сумы одежду, не переставая при этом ворчать, поминая недобрым словом Тору. Процесс облачения в громоздкий придворный костюм не улучшил настроения Акитады, и без того пребывавшего в напряжении от предстоящего визита. Обнесенная стеной резиденция губернатора терялась на фоне прилегавших к ней административных зданий. Акитада и Сэймэй прошли через крытые ворота мимо двух дюжих солдат с секирами. Те не преградили им путь, хотя и внимательно оглядели. Посреди обширного, посыпанного гравием двора пролегала вымощенная плитами дорожка, ведущая к ступенькам главного здания. За ним виднелись крыши других построек — по-видимому, казарм, тюрьмы, архивов, складов, а также личных покоев губернатора и гостевых комнат. Тотчас стало ясно, почему стражники на воротах столь беспрепятственно их пропустили. Еще одно подразделение стражи маршировало во дворе под надзором людей в штатском. Один из них, завидев гостей, пошел им навстречу. — Вы позволите подсказать вам дорогу? — спросил он, отвесив низкий поклон Акитаде, облаченному в Шелковое кимоно и высокую черную шапку эбоси, указывавшую на его ранг. — Я инспектор Сугавара Акитада, только что прибыл из столицы, — представился тот, мысленно радуясь, что все-таки послушался старого Сэймэя. — Можете проводить меня к губернатору. Чиновник побледнел и пал ниц. — Осмелюсь представить вашему превосходительству мою скромную персону — секретарь губернатора Акинобу. Мы ждали прибытия вашего превосходительства, только думали… То есть обычно в таких случаях сначала приезжает гонец. Мы приносим вашему превосходительству тысячу извинений за то, что не подготовились к приему должным образом. Надеюсь, господин инспектор не испытал невзгод в дороге и путь прошел гладко? Акитада втайне порадовался, что прибыл столь необычным образом. — Да, все прошло гладко, — весело сказал он. — Я путешествовал верхом в сопровождении моего секретаря Сэймэя и слуги, который прибудет позже. Будьте любезны, поднимитесь. Акинобу поднялся. Он был встревожен и озадачен, но лишь молча поклонился и повел их через главное административное здание с его просторными пустынными залами с безукоризненно отполированными темными полами и расписными стропилами под высоченными потолками. Здание это, как понял Акитада, предназначалось для официальных приемов и публичных слушаний. Потом они вышли в другой двор, пересекли его и попали в меньшее по размерам строение. Здесь, отгороженные высокими ширмами, чиновники всех мастей занимались обработкой документов. — Библиотека губернатора, — пояснил Акинобу, пропуская их в изящно обставленную комнату со множеством стеллажей, лакированных столов и картин на стенах. На устланном циновками полулежали шелковые подушки. — Пожалуйста, присаживайтесь. Его превосходительство скоро подойдет. Когда Акинобу ушел, Сэймэй изумленно прошептал: — Ну надо же! И откуда только такая роскошь в провинции?! Акитада не ответил, разглядывая великолепной работы свитки с изображением четырех времен года. Губернатор, судя по всему, был не только человеком состоятельным, но и имел превосходный вкус. Ждать им пришлось недолго. Фудзивара Мотосукэ стремительно влетел в комнату. Восторженно размахивая руками и улыбаясь, он вскричал: — Добро пожаловать! Вы не представляете, мой дорогой Сугавара, как я рад вас видеть! Ну что за удача, ей-богу! — Он раскрыл объятия навстречу гостю. Акитаду ошеломило и это бурное приветствие, и невероятное сходство Мотосукэ со своим кузеном Косэхирой. Он был старше друга Акитады лет на двадцать, но имел такое же крепкое телосложение и несокрушимо веселый характер. В умащенных маслами черных волосах серебрились ниточки седины, пышные густые усы свидетельствовали о зрелости, но Акитаду охватило странное чувство, будто он видит перед собой именно Косэхиру, только постаревшего. Сэймэй склонился в низком официальном поклоне, коснувшись лбом циновки, но Акитада даже не улыбнулся, лишь приветствовал вошедшего вежливым кивком. Он понимал всю грубость этого намеренного жеста, но не мог позволить человеку, которого подозревал в государственных хищениях, заключить его в панибратские объятия. Губернатор растерянно моргал. По возрасту и рангу он был старше Акитады, но тот прибыл сюда с проверкой как императорский инспектор — кагэюси. Опустив руки, Мотосукэ тоже сел и забормотал еще какие-то приветственные слова, но Акитада перебил его: — Да, губернатор. Благодарю вас за эти любезные речи, однако мой визит сюда носит не личный и не церемониальный характер, так что давайте без промедления перейдем к делу. Мой персональный секретарь Сэймэй покажет вам мои верительные грамоты. Мотосукэ был ошарашен, но принял свитки с должным почтением, коснувшись лбом императорской печати и низко поклонившись, прежде чем развязать шелковую тесьму и прочесть текст. Потом, вздохнув, он снова свернул бумаги и возвратил их Акитаде со словами: — Мне стыдно, что за время моего правления произошли эти возмутительные нарушения. — Он помолчал и бросил на Акитаду почти застенчивый взгляд. — Мой кузен пишет, что вы большой мастер разгадывать любые загадки. Я искренне надеюсь, что ваш неоценимый опыт позволит выявить этих мошенников и восстановить мое доброе имя, перед тем как я покину этот пост. Акитада нахмурился. Хотя ему и не нравилась роль, которую он вынужден был играть, он вовсе не намеревался переходить с Мотосукэ на личные отношения в ущерб своим официальным обязанностям. Поэтому холодно произнес: — Нам необходимо немедленно получить доступ ко всем вашим деловым папкам, так что распорядитесь об этом. Если в ходе расследования факты нарушений подтвердятся или понадобятся ваши свидетельские показания, мой секретарь уведомит вас, — С этими словами он поднялся. Побледневший Мотосукэ тоже встал. — Разумеется, я сделаю все необходимые распоряжения, — сказал он и робко прибавил: — Вы… вы, наверное, желаете отдохнуть? Для вас готовы покои в моей личной резиденции. Позвольте проводить вас туда? И скажите только слугам, если вам что-нибудь нужно. Они выполнят любые ваши пожелания. — Благодарю. Но я бы предпочел остановиться на казенной территории. — сухо ответил Акитада. — У вас ведь есть при суде постоялый двор для официальных гостей? Бисеринки пота выступили на лбу у Мотосукэ, и он картинно заломил руки. — Ну конечно! И как я, глупый, не подумал?! Только в казенной гостинице не так уютно, а нынче начинает холодать. Очень неприятное время года эта зима. Вот приехали бы вы пораньше, тогда бы мы смогли устроить для вас роскошную охоту или рыбалку. Ну да ладно. Надеюсь, я еще представлю вас влиятельным особам нашего города. Казенная еда вам вряд ли понравится. Ее готовят только для стражи и заключенных. Но знайте: моя кухня, мои слуги и конюшни полностью в вашем распоряжении. Этот его жалкий лепет и подавленный вид заставили Акитаду смягчиться. — Благодарю вас, — официально поклонился он. — Вы очень добры, Я почту за честь познакомиться с местной сановной знатью. А сейчас, думаю, вы могли бы показать нам архивы. Мы с моим секретарем хотели бы встретиться с вашими чиновниками. Весь день они провели в архивах, беседуя с тамошними служителями, и бегло просмотрели записи. Прилежание и усердие чиновников произвели на Акитаду благоприятное впечатление, но вопросов об исчезнувших пошлинах он старательно избегал. Когда они закончили работу, слуга проводил их в гостиницу. Темнело, и по территории суда гулял промозглый ледяной ветер. Казенная гостиница с крытой верандой оказалась довольно просторной и уютной, она была обнесена отдельной стеной и имела собственный двор. Оглядевшись, Сэймэй поинтересовался услуги, где находится баня. — Да погоди ты с баней, — остановил его Акигада. — Я еще хотел пройтись по территории суда. — Да? А про архивную пыль вы уже забыли? — стоял на своем Сэймэй. — К тому же как знать, может, губернатор заглянет к нам убедиться, удобно ли мы устроились. Он приятно поразил меня своей учтивостью. Такая мысль и Акитаде пришла в голову, но он предпочел бы встретить здесь менее обходительного хозяина. В огромной казенной бане не было никого, кроме дюжего, почти голого банщика, следившего за огнем и взявшегося прислуживать им во время мытья. Акитада дал себя хорошенько растереть и пошел отмокать в глубокой кедровой бочке с горячей водой. Обсуждать губернатора в присутствии банщика они не могли, поэтому Акитада на время отбросил все сомнения и заботы и предался блаженной неге. Вернувшись в свою комнату, они нашли там письма из столицы и чайник ароматного чая с запиской от Мотосукэ. Превосходным каллиграфическим почерком на листе дорогой бумаги он объяснял, что чай не только бодрит душу, смягчает горло и укрепляет желудок, но также предотвращает болезни и повышает жизненный тонус. Сэймэй был наверху блаженства. Вообще-то обычным напитком являлось горячее саке, но с тех пор, как старик отведал китайского чая, он целиком и полностью уверовал в его целебные свойства. Наполнив любимым напитком две большие фарфоровые пиалы, он протянул одну Акитаде. — Не следовало вам так грубо разговаривать с губернатором, — укорил секретарь. — Он, несомненно, человек достойный во всех отношениях — имеет не только высокий ранг, но и благородные манеры. А ваше обхождение с ним меня просто поразило. — Акитада, еще и сам не оправившийся после неловкой ситуации, промолчал, а Сэймэй, отведав чаю, восторженно воскликнул: — О-о… какой горький! Пейте же, пейте! И не забывайте про того лоточника! Этот чумазый тип наверняка носит в себе целый букет всякой заразы. — Да, как предусмотрительно и заботливо поступил губернатор, — вздохнул Акитада, отставив в сторону нетронутую пиалу. — Наверное, я действительно был слишком резок. Он так гостеприимен, а я обошелся с ним холодно и формально — словно его вина уже доказана. Теперь я должен или восстановить его доброе имя, или заключить под стражу. Но как я, всего лишь мелкий чиновник восьмого ранга, могу арестовать Фудзивару, который не только старше меня годами, но и выше по положению? Вопрос этот ничуть не смутил Сэймэя. — Вы посланник императора, а стало быть, наделены полномочиями действовать во имя его величества. Так что смущение и робость губернатора вполне закономерны. К тому же вы большой мастер разгадывать всякие тайны и, несомненно, сумеете смыть грязь с доброго имени его превосходительства. Но Акитада только покачал головой. — В столице поговаривали, что отправить сюда мелкого чиновника было решено неспроста. Наверху вроде бы надеялись, что по этой причине расследование потерпит неудачу. Вот и таможенный капитан в Хаконэ так же считает. Конечно, я опозорюсь, если не справлюсь, но, возможно, еще хуже было бы преуспеть в этом деле. — Он взял в руки письма. Первое — от матушки — отложил в сторону. Второе прислал его бывший университетский профессор. Акитада пробежал глазами по строчкам и недоуменно пробормотал: — Боже!.. Тасуку собрался постричься в монахи? — Тасуку? Не тот ли изысканный молодой человек, что всегда так красиво декламировал стихи? — Да. Любовную поэзию. Тасуку был любимцем дамского общества. Вот почему эта новость звучит так ужасно Профессор не знает, что произошло. Вероятно, это случилось внезапно и покрыто какой-то тайной. Сам Акитэда в последний раз видел Тасуку на собственной прощальной вечеринке, которую устроил перед отъездом для друзей. Там его обаятельный красавчик друг крепко перебрал и устроил пьяную сцену, сломав в щепки свой роскошный расписной веер, после чего шумно удалился. А ведь это было совсем не в его духе, но последнее известие разило буквально наповал. Сокрушенно качая головой, Акитада потянулся за матушкиным письмом, как вдруг заметил рядом с чайными принадлежностями красную кожаную коробку. — Так-так, теперь понятно, зачем Мотосукэ прислал нам чаю. Он хотел, чтобы мы сохранили бодрость, пока будем изучать первую порцию его счетов. — Только не сегодня! — запротестовал Сэймэй. — Даже самому сильному быку нужен отдых после долгого пути в упряжке. Но Акитада уже откинул крышку. В первое мгновение он оторопел, потом лицо его потемнело от ярости. — Что такое? — испугался Сэймэй. — Десять золотых слитков, — сказал Акитада, задыхаясь от возмущения.
ГЛАВА 3 Черная борода
Тopa облегченно вздохнул, когда девушка с восхитительными бедрами расплатилась наконец за свою редьку и обернулась. Лицо ее было прекрасным и… до смерти перепуганным! Две здоровенные шафраново-желтые спинищи откуда ни возьмись протиснулись вперед, заслонив ее от Торы. Монахи. Помня только про страх на симпатичном девичьем лице, Тора даже не подумал, что монахи вообще-то дают обет воздержания и кротости. Если ее испугали эти два монаха, он готов броситься ей на помощь. Тора побежал по улице, увернулся от проезжавшей мимо воловьей упряжки, пропустил двух старушек, перепрыгнул через бродячую собаку и больно ударился о бамбуковую клетку с певчими птахами, привязанную к спине прохожего торговца. И торговец, и ею певчая братия подняли крик, привлекший внимание толпы, так что Торе пришлось задержаться, пока не выяснилось, что и клетка и птицы не пострадали. К тому времени девушка с монахами скрылись из виду. Остался только зеленщик, задумчиво смотревший в сторону ближайшего перекрестка. — Куда они пошли? — крикнул Тора, дергая его за рукав. — О-о… так вы родственник? — удивился торговец. — Так жаль эту молоденькую женщину. Почтенные святые братья все объяснили и увели ее с собой. — Что объяснили? Торговец понял, что ошибся, и, хмурясь, спросил: — А вы кто такой? Вам-то какое дело? Тора выругался и помчался за угол, откуда начинался узкий переулок, загроможденный корзинами, клетями и горами рыночного мусора. Вдоль переулка выстроились мелкие лавки, крохотные домишки и обнесенные оградой дворики; в грудах хлама возились детишки, мальчишки-посыльные носились со свертками, рыночные торговки тащили огромные корзины с товаром. Но монахов с девушкой и след простыл. Не мешкая Тора нырнул в переулок. Огибая на бегу многочисленные преграды, он изредка останавливался, чтобы оглядеться. И вскоре ему повезло. На углу вдалеке мелькнула шафраново-желтая одежка, и Тора помчался во всю прыть. Завернув за угол, он увидел их. Хрупкая девушка изо всех сил отбивалась от своих преследователей. Один из них ударил ее по лицу. Грозно взревев. Тора рванулся вперед. Схватив обоих верзил за шиворот, он резким рывком оторвал их от девушки. Застигнутые врасплох, те, несмотря на свои габариты и силу, шмякнулись наземь. Одного Тора пнул в ребра, другого, схватив за одежду, приподнял и ударил в лицо. Не издав ни единого звука, верзила отключился. Тора повернулся к первому, чтобы проделать с ним то же самое, но увидел, что монах улепетывает во всю прыть, подобрав полы и шлепая задниками сандалий. Девушка стояла, прижавшись к стене, и промокала краешком рукава кровоточащую губу. — С тобой все в порядке? — спросил Тора, подойдя к ней. Она кивнула, в ее перепуганных глазах стояли слезы. «Какая красавица!» — подумал Тора и напустил на себя отеческий вид. — Не бойся, малышка, все уже позади. Теперь я о тебе позабочусь. Почему ты не позвала на помощь? Что от тебя хотели эти ублюдки? Но она только качала головой. Вдруг глаза се расширились и наполнились страхом. Тора обернулся. Мощный удар, нацеленный ему в голову, пришелся в плечо. От боли Тора на мгновение оторопел. Монах, которою он только что уложил, пришел в себя и решил расквитаться с обидчиком. Тора отскочил в сторону, уводя верзилу от девушки, и замер в боевой стойке. В правой руке у монаха был обломок доски. Тора грозно оскалился, снова свирепо взревел и пошел в наступление. Монах бросил доску и пустился наутек догонять своего приятеля. Сокрушенно качая головой при виде подобной трусости. Тора повернулся к девушке, нотой и след простыл. Разочарованию не было предела. Ведь он так надеялся, что малышка оценит его боевую доблесть по достоинству. Он заметался из стороны в сторону: — Эй, малышка, ты где? Выходи, теперь все спокойно! Переулок находился в бедном квартале со множеством закутков, покосившихся заборов и развешенного для сушки тряпья. Спрятаться здесь можно было где угодно, а вокруг, как назло, ни души. Облегчив душу руладой отборных ругательств, Тора повернул обратно к рынку, как вдруг услышат чей-то хрипловатый кашель и из темного закутка между покосившейся хижиной и сломанным забором высунулась тощая рука с пустой деревянной чашкой. Гора поначалу опешил, потом пригляделся и увидел грязного согбенного старикашку — тот смотрел на него из темного угла своими черными глазами-бусинками и улыбался беззубым ртом. — Крепкое у тебя словцо, парень! — Старик нищий зашелся хриплым смехом. — С тебя пятак медью! — Обойдешься! — огрызнулся Тора и отправился восвояси. — За юбкой бегаешь? Наверное, хочешь знать, куда она подевалась? — прошамкал старик. Тора вернулся. — Ну, тогда сначала говори, а деньги потом. Я, слава Богу, не вчера родился. — Ха!.. Я тоже. Тора пригляделся к нищему повнимательнее. Тот сидел на корзине, выставив вперед перевязанную ногу; вместо другой у него был обрубок с уродливым шрамом на колене. Тихонько выругавшись от избытка чувств, Тора достал из пояса пять медяков и бросил в пустую чашку. Мгновенно спрятав добычу за пазуху, нищий сказал «Пошли!» и встал. Тора не верил своим глазам. Калека стоял на двух тоненьких, кривых, но абсолютно здоровых ножках. Обрубок — судя по всему, это была раскрашенная деревяшка — он засунул себе под рубаху и заковылял по улице. — Эй!.. — крикнул ему вслед Тора, едва оправившись от изумления, и бросился догонять мошенника, уже свернувшего за угол. Он вовсе не собирался швыряться медными пятаками и, уж конечно, меньше всего хотел стать жертвой наглого надувательства. А между тем нищий семенил на своих кривых ножках поразительной скоростью — стало быть, хорошо-знал окрестности. Они пересекли какой-то пустынный двор обогнули несколько сараев и черед скрипящую-калитку вышли в проулок, ведущий к синтоистскому храму, окруженному реденькими деревцами, За храмом начинались склады и какая-то огороженная территория. Здесь нищий остановился и подождал Тору. — От кого это ты так удирал? — задыхаясь от быстрой ходьбы, поинтересовался тот. Нищий указал на длинную одноэтажную постройку, напоминавшую торговый склад. — Иди туда и скажи, что тебя прислал Крыса! Тора схватил нищего за грудки, приподнял над землей и сердито рявкнул: — Щас тебе! Так я туда и пошел! Чтобы мне глотку перерезали? Ну уж нет, я не такой лопух и очень хорошо знаю, какие штуки вытворяют с приезжими. — Он подтянул нищего повыше и, глядя ему в лицо, прорычал: — Ты уже одурачил меня один раз с этим своим ложным обрубком и выудил пять монет. Теперь подавай мне сюда девушку или возвращай деньги. А не то я из тебя и впрямь калеку сделаю! — С этими словами он так сильно тряхнул Крысу, что и обрубок, и чашка, и монеты вывалились у того из-за пазухи и рассыпались по земле. — Да нет же, ты все не так понял! — заныл Крыса, — Ну-ка отпусти меня, дурак! И послушай, что я тебе скажу: шуметь здесь опасно. Те монахи все еще разыскивают девчонку, и тебя они тоже не забыли. Так что иди куда я сказал и расскажи там, что произошло. Тора поставил старикашку на ноги и разжал руки. — А ты видел, что произошло? Крыса кивнул. — Я за ней наблюдаю. А теперь иди! И помни, что сказать: тебя послал Крыса! — Он наклонился, сгреб с земли свое добро и заспешил прочь. Тора осмотрел постройку — ступенчатая крыша и никаких окон. В середине на двустворчатой двери красная вывеска гласила: «Школа боевых искусств Хигэкуро». Тора подошел к двери и распахнул ее. Сразу от порога начинался просторный, тускло освещенный зал. Пол был устлан циновками, вдоль одной стены тянулась стойка с дубовыми и бамбуковыми шестами, используемыми в палочных боях. На другой стене крепились мишени для стрельбы из лука. На крючьях висели луки и колчаны со стрелами. В зале не было ни души. В дальнем конце Тора заметил маленькую дверку и через нее вышел в грязный двор. Там тоже было пустынно, однако за низеньким бамбуковым заборчиком находился другой двор — он относился к кухне и упирался в высокую беленую стену соседских владений. Заглянув туда через заборчик, Тора увидел девушку. Она стояла спиной, наклонившись над корзиной с капустными кочанами. Эти восхитительные округлые бедра он узнал бы где угодно. Закричав от радости, он перепрыгнул через забор и подошел к ней сзади. Девушка не реагировала, пока он случайно не опрокинул бадью с водой. Когда разлившаяся жидкость дотекла до ее ног, она обернулась, испуганно глядя на него. Он поздоровался, но она не проронила ни звука, только смотрела своими большими красивыми глазами. «Может, она слабоумная?» — подумал Тора. — Не бойся, сестричка, — проговорил он медленно и разборчиво, все время улыбаясь. — Меня зовут Тора. Крыса сказал мне, где ты живешь. Она покачала головой и попятилась. — Подожди, не убегай! — Тора начал терять терпение и злиться. — Почему ты мне не отвечаешь? Могла бы хоть спасибо сказать. Она совсем перепугалась и хотела убежать в дом. Тора взял ее за плечо, но в этот момент его так сильно дернули за другую руку, что он потерял равновесие; сзади под колено он получил болезненный удар и еще один в поясницу, после чего его приподняли, крутанули в воздухе и швырнули. Падая, Тора больно ударился о валявшееся бревно. Повинуясь слепому инстинкту, он перекатился и принял боевую стойку, готовясь встретить приближающегося противника. Но твердый каблук чьей-то высоко поднятой ноги угодил прямиком в челюсть, отчего голова его безвольно откинулась назад, а перед глазами все почернело. Придя в себя, он сквозь болезненную пелену ощутил на лице чьи-то нежные руки. На губах, лежала прохладная влажная ткань. Тора облизнул губы, почувствовал соленый вкус крови и открыл глаза. Он сидел, прислоненный к дереву, а над ним склонилась девушка — не та, совсем другая. Он поискал глазами нападавшего, но поблизости никого больше не было. — Мне очень жаль, что так получилось, — проговорила девушка звучным голосом. — Я думала, ты пристаешь к моей сестре. Я приглядываю за ней, потому что она не может позвать на помощь. Тора вспомнил неблагодарную красотку и сердито нахмурился. — Что значит «не может позвать на помощь»? Разве в этом была нужда? Я окликнул ее несколько раз, представился. Да она знала меня! Я уж не говорю о том, что перед этим спас ее от изнасилования. Так какого черта она должна была звать на помощь?! Что за люди у вас тут? И… — Тора оттолкнул девушку и поднялся на ноги. — И кто, интересно знать, так лихо меня уложил? Что, черт возьми, вообще происходит?! Нападавшего он по-прежнему не видел, но на всякий случай подобрал с земли обломок бамбуковой палки. — Я же говорю, мне жаль, что так получилось. — Девушка растерянно закусила губку. — Моя сестра Отоми — глухонемая. Она не слышит и не разговаривает. Меня зовут Аяко, а нашего отца Хигэкуро. Он преподает боевые искусства, поэтому мы здесь часто видим разных головорезов. Пока девушка говорила, Тора разглядел ее — она была очень мила, но не так красива, как ее сестра. Впрочем, ему было не до того. — Значит, я головорез! — обиженно воскликнул он. — Ну спасибо на добром слове! И кстати, можешь передать отцу, что так не делают: человека сначала предупреждают, за что его будут бить. И со спины нападать тоже не принято! Неудивительно, что к вам сюда захаживают одни головорезы. Потому что ни один порядочный человек не станет сражаться на таких условиях. — Он в сердцах хлопнул себя по лбу. — И зачем только я послушался этого типа по прозвищу Крыса?! При этих словах девушка покраснела и поднялась. Она хотела было что-то сказать, но Тора уже повернулся, чтобы уйти. Он просто кипел от гнева. — Лучше бы вы оба как следует приглядывали за бедной девчушкой и не посылали ее одну на рынок, где к ней может пристать любой мерзавец! — запальчиво крикнул он. — Я сам видел, как два ублюдка в монашьих одеяниях сгребли ее прямо у лотка с зеленью и потащили куда-то, чтобы надругаться. Спасибо, я вовремя вмешался, а не то пошла бы она по рукам у всей их монашьей разбойничьей братии. — Да, но это не дает тебе права оскорблять моего отца! — сердито воскликнула девушка, покраснев от злости. — О Боже! — обиженно пробормотал Тора, бросил на землю палку и направился к двери, через которую пришел. — Постой! — окликнула она. Но Тора, не оборачиваясь, шел к выходу. Проходя по учебному залу, он услышал за спиной торопливые шаги. Кто-то потянул его за рукав, он резко повернулся и увидел глухонемую девушку; лицо ее было мокро от слез. — А-а… это ты, Отоми? — смущенно проговорил он. — Все в порядке, только в следующий раз будь осторожнее. — И отвесил ей короткий учтивый поклон. К ним подбежала ее сестра и, опустившись на колени, низко склонила голову. — Простите за все и, пожалуйста, ради моей сестры, не уходите! Позвольте нашему отцу выразить вам свою благодарность и предложить чашку вина. Тора колебался. У него не было ни малейшего желания продолжать знакомство с этой странной семейкой, но хотелось посмотреть на человека, который так лихо его уложил. Кивнув в знак согласия, он позволил проводить себя в жилые покои учителя боевых искусств Хигэкуро. Покои эти состояли из единственной комнаты, служившей одновременно и кухней и жильем — тесноватым, но чистеньким и опрятным. На полу был устроен деревянный помост для сидения. В углу громоздились один на другом деревянные шкафчики, образуя ступеньки, ведущие на чердак. На помосте в позе Будды сидел чернобородый великан и сосредоточенно плел подметки для соломенных сандалий варадзи. Его роскошная черная борода говорила вместо имени — ведь «хигэкуро» означает «черная борода». — Что, детка, новый ученик? — прогремел он раскатистым басом, обращаясь к старшей дочери. — Нет, отец, — ответила девушка по имени Аяко. — Это друг. Он спас сегодня Отоми от двух монахов, и Крыса прислал его к нам. Хигэкуро уронил свое плетенье и распрямился, с интересом разглядывая Тору. — Неужто и впрямь спас? Тогда мы перед вами в большом долгу, господин. С любопытством поглядывая на великана. Тора выступил вперед, поклонился и представился. Несомненно, именно этот огромный мускулистый человек и напал на него, но что за игру он затеял? — Пожалуйста, прошу вас выпить со мной вина, — продолжал Хигэкуро, предлагая Горе сесть рядом. — Два монаха, она сказала? Боже! Да где там двое! По вашему побитому лицу я вижу, что их была целая свора. — Жестом подозвав Отоми и показывая на лицо Торы, он сказал: — Сходи-ка, малышка, за мазью, а сестра твоя пока нальет нам саке. Глухонемая девушка внимательно следила за его губами, потом кивнула и полезла на чердак. Тора перевел взгляд с чернобородого великана на Аяко. Он был не на шутку озадачен и чувствовал какой-то подвох. Уж не попал ли он в логово хитрых лисиц-оборотней? Аяко поймала его хмурый взгляд и зарделась стыдливым румянцем. — Отец, это я виновата, — пробормотала она, поникнув головой. — Мне так стыдно! Я-то подумала, что он пристает к Отоми… ну и… в общем… — Она не закончила фразы. — Хочешь сказать, это была ты?! — изумился Тора. — Ты? Такая хрупкая девчонка полностью вырубила меня? Да быть того не может! Ты, наверное, пошутила, да? А на самом деле это были вы, учитель Хигэкуро? — Он переводил вопросительный взгляд с отца на дочь. Девушка отвернулась. Хигэкуро печально покачал головой. — Простите, — сказал он. — Могу себе представить, что вы сейчас испытываете. — И вздохнул. — Да, это сделала девушка. Постарайтесь простить ее. Она вообще-то очень хорошая. Я сам учил ее искусству боя, пока мне не отказали ноги. С тех пор она помогает мне в школе, потому как сам я уже не встаю. Аяко проводит занятия по палочному бою и борьбе. Я калека и могу только учить стрельбе из лука да помогать советами в других видах искусств. Тора был потрясен. Из чувства такта он старался не смотреть на тело великана и перевел взгляд на Аяко. Женщина-боец! Много историй ходило о таких женщинах, но они всегда оскорбляли слух Торы. Женщинам полагалось быть слабыми, нежными, зависимыми от мужчин. Возможно, в данном случае этому все-таки имелось оправдание. Отец-калека не мог передать дело сыну, но, с точки зрения Торы, Аяко больше не представляла интереса как женщина. Когда Отоми вернулась с мазью и принялась заботливо залечивать его губу, то и дело бросая на него сочувственные, нежные взгляды, он еще больше утвердился в своем мнении относительно ее сестры. Аяко протянула ему чашку саке и сказала: — Мой отец — лучший лучник в провинции. В стрельбе ему нет равных. Он мог бы показать вам кое-что из своих приемов. Бесплатно, разумеется. Хигэкуро скромно заметил: — Дочка моя преувеличивает, но я действительно мог бы это сделать. Позвольте нам выразить свою благодарность. Потеряв силу в ногах, я сосредоточился на упражнениях рук и верхней части тела. Стрельба из лука стала для меня хорошей практикой. Отточив это умение до мастерства, я стал брать учеников. — Он указан на свиток на стене. — Вот наш девиз, по нему мы и живем. Тора растерянно заморгал и кивнул Он не умел читать. — «Кто не работает, тот не ест» — прочел за него Хигэкуро. — Мы все выполняем посильную работу, лаже младшая дочка. Она рисует, и призом очень хорошо А по вечерам девочки занимаются хозяйством, а я плету из соломы варадзи. Ну да ладно, хватит уже про нас. Вы, наверное, бог весть что думаете о таких плохих хозяевах. Ну-ка, девочки, как там насчет угощений для нашего гостя? От еды Тора вежливо отказывался, но его все-таки уговорили. Пока девушки готовили пищу, Хигэкуро поинтересовался происшествием с монахами. Когда Тора удовлетворил его любопытство, он покачал головой: — Странно все это. Отоми у нас обходит все храмы б пределах дневного пути — она делает там наброски, — но с недавних пор потеряла к этому охоту. Я и не знал, что она, оказывается, боится монахов. Крыса приглядывает за ней, но не случись вам вмешаться, он не смог бы ей помочь. Не понимаю только, зачем те монахи за ней увязались. Чего они от нее хотели? — Чего-чего… Красивая она! — пояснил Тора. Хигэкуро только изогнул брови. — Люди жаловались на молодых монахов из монастыря Четырехкратной Мудрости, что за пределами города. Я-то думал, это всего лишь проделки юнцов, но, похоже, впредь нам следует получше приглядывать за Отоми. — Это не тот храм, что в горах? — спросил Тора. — Да. Дочка говорит, он очень красивый. И новый настоятель у них поистине великий учитель. Много народу стекается туда послушать его проповеди. На его службах бывают и губернатор с семьей, и большинство из так называемой знати. Тора слушал вполуха, не отрывая глаз от восхитительных бедер Отоми, склонившейся над плитой. — Чертовы ублюдки! — пробормотал он. — Надо было мне просто перебить их! Хигэкуро проследил за его взглядом. — Вы женатый человек, Тора? — Нет. До сих пор не мог позволить себе содержать жену. Ну, конечно, теперь… — Тора решил, что немного похвастаться было бы не вредно. — Теперь я служу у господина Сугавары. Он из столицы. Мы только что прибыли. — Да, знаю, — кивнул Хигэкуро. — Ваш господин прислан сюда разобраться с пропавшими пошлинами. Только не удивляйтесь. Это здесь ни для кого не тайна. Караваны с собранными пошлинами уже трижды пропадали полностью — вместе с охраной, носильщиками, вьючными лошадьми и поклажей. Пропадали без следа, если верить официальным сводкам. Тора оторвал взгляд от Отоми и изумленно уставился на него. — Да разве ж такое может быть? Враки все это! Неужели вы сами верите? — Хм… — Хигэкуро задумчиво смотрел на него. — Вообще-то правитель у нас хороший. Людям будет жалко, когда господин Фудзивара уйдет. Я подозреваю, что кто-то в караване, возможно, по чьему-то распоряжению, просто увез все добро на дальний север. Там с носильщиками и охраной расплатились, и те просто побоялись вернуться домой. — Значит, те солдаты были трусы и мошенники и бросили позорную тень на весь местный гарнизон, — возмутился Тора. — За всем этим, возможно, стоит начальник гарнизона. Теперь понятно, почему головорезы в монашеских одеждах на рынке так распоясались. Хигэкуро покачал головой. — У нас новый командующий. Он молод, но дело свое знает, как я слышал. К тому же обеспечивать порядок в городе — задача местной полиции. — Он дружески хлопнул Тору по плечу: — Ну что ж, может быть, вы с вашим хозяином и разрешите эту нашу задачу. А вот и еда! Еда была простая, но вкусная, да и общество приятное — особенно Отоми, которая восполняла свое молчание красноречивыми взглядами и нежной улыбкой. Перед самым уходом Тора пообещал вскоре вернуться и бывать у них часто. Отоми смущенно зарделась, а Хигэкуро улыбнулся.ГЛАВА 4 Гости губернатора
— Да как посмел этот человек совать мне взятку, едва я успел приехать?! — возмущался Акитада, сердито расхаживая по комнате. Сэймэй понуро сидел на циновке. — Может, мы чего-то недопоняли? — предположил он без особой уверенности. В этот момент дверь резко распахнулась, и на пороге возник Тора, улыбающийся во весь рот. — А вот и я! — Заметив неладное, он вошел. — Что случилось? Сэймэй тотчас же напустился на него: — Где ты был? Да еще и является как ни в чем не бывало! На тебя надеяться — все равно что идти по звездам в дождливую ночь! Тора наморщил лоб, пытаясь вникнуть в смысл последней фразы. Акитада остановился посреди комнаты. — Сэймэй очень расстроен, Тора, и расстроен вполне оправданно. Почему ты удрал, не сказав ни слова? — А-а… так он из-за этого? Тогда послушайте! Тора сел и огляделся. Сэймэй снова напустился на него: — Слуги не сидят в присутствии хозяина! Ну-ка быстро поднимись и встань на колени! — Хорошо, — с улыбкой кивнул Тора и опустился на колени. — Вы оба будете мною гордиться. Я спас девушку от двух монахов-насильников и раздобыл кое-какие полезные сведения. — Он помолчал, потом спросил: — А нет ли чего-нибудь поесть? Хотя бы вина? А то, знаете ли, трудно рассказывать на пустой желудок. — Нет ничего! Акитада подошел и сел рядом. — Просто расскажи нам, что произошло, — сказал он. Тора откровенно, без утайки поведал обо всем, а в конце прибавил: — А спал я в сторожке и утром помчался сюда, чтобы обо всем доложить. Так что теперь, с вашего позволения, пойду-ка я раздобуду чего-нибудь перекусить на казенной кухне. — Ты называешь это докладом? — презрительно усмехнулся Сэймэй. — Ничего себе доклад! Просто кобелиная болтовня! Гоняешься за юбками, вот и все дела! — Не надо, Сэймэй, — одернул его Акитада. — Встречи действительно любопытные, и Тора хорошо о них рассказал. А главное, он успел подружиться с одной местной семьей. — И задумчиво подергал себя за мочку уха. — Буддисты очень подозрительны. Интересно, что бы это могло означать. Уж больно странные монахи. Тора усмехнулся, глядя на кислую мину Сэймэя, и спросил: — Может, мне опять сходить к Хигэкуро и поспрашивать? Со временем я мог бы разузнать еще что-нибудь полезное — например, кто умыкнул эти пошлины. — Да ясно, что тебя интересует в этом доме! — проворчат Сэймэй. — Две молоденькие хозяйские дочки. Вот ведь нашел же местечко! Эти школы боевых искусств известны своими связями с преступниками да гулящими девками. Держался бы ты лучше от них подальше. А то, не ровен час, с кем поведешься, оттого и наберешься. — Да что ты знаешь о них, глупый старикашка?! — не выдержал Тора. — Ты ведь даже не знаком с ними! Они лучше тебя в тысячу раз! Трудятся в поте лица, добывая себе пропитание, а не пыжатся и не рассуждают о благородстве, как некоторые! А ты… ты ничем не лучше клеща, впившегося в собаку! У Сэймэя отвисла челюсть. Акитада, которого только что сравнили с собакой, едва сдерживался, чтобы не рассмеяться, и понял, что Сэймэй задел парня за живое. Однако поспешил сказать: — Какие недобрые речи, Тора. Извинись перед Сэймэем. Он говорил так резко, потому что волнуется за тебя. Сходи еще раз к этому Хигэкуро, если хочешь, только будь осторожен в словах, пока мы не разберемся, что происходит в Кацузе. — Лицо его посветлело, он добродушно улыбался. — А перед уходом поупражняйся на каких-нибудь деревяшках. Ты же наверняка захочешь произвести впечатление на дочку того бойца. Следующие несколько дней Тора надолго отлучался в город, но поскольку по утрам неизменно являлся для занятий по палочному бою с Акитадой, тот не возражал. Но Акитада нисколько не приблизился к разгадке тайны пропавших пошлин и пребывал в том же неведении, что и в день приезда. Поскольку ящичек с золотыми слитками лишь доказывал вину губернатора, Акитада решил без каких бы то ни было объяснений отослать золото обратно. Тот, в свою очередь, ни словом не упомянул о своей попытке дать взятку, так что дальнейшее сотрудничество проходило в неуютной атмосфере. День за днем проводили Сэймэй и Акитада в местных архивах, изучая счета за период правления Мотосукэ. Молодость Акитады могла бы повредить его репутации инспектора, но университетская выучка и годы упорного труда в архивах министерства юстиции сыграли свою положительную роль. Сэймэй трудился без устали, да и секретарь губернатора Акинобу оказался весьма смышленым и полезным помощником. Однако настал день, когда они закрыли последнюю коробку с бумагами и Сэймэй сделал последние подсчеты. Никаких подозрительных документов так и не обнаружилось, а все счета находились в идеальном порядке. — Чем займемся теперь? — спросил Сэймэй. Акитада закусил губу. — Официально моя работа закончена. Ты составишь по всей форме отчет, я его подпишу, поставлю свою печать — и репутация Мотосукэ чиста. — А как быть с пропавшими пошлинами? — Придется доложить о неудаче. Если только… — Акитада нахмурился. — Если только личные бумаги Мотосукэ не содержат в себе объяснения, куда пропали огромные суммы. — Ой-ой-ой!.. — Да, понимаю. Затребовать его личные счета — серьезное оскорбление. В комнате повисла угрюмая тишина. Сэймэй сидел ссутулившись и тяжко вздыхая. — Ну что ж, зови Акинобу, — сказал Акитада. Когда секретарь губернатора явился с поклоном, он сухо распорядился: — Мы закончили проверку казенных счетов и готовы работать с личными документами губернатора. Пожалуйста, принесите их сюда. Акинобу побледнел, переводя недоуменный взгляд с Акитады на Сэймэя: — Простите, ваше превосходительство, но прежде я должен доложить о вашем пожелании губернатору. Когда Акинобу ушел, Акитада сказал Сэймэю: — Пожалуй, это самая неприятная вещь, какую мне когда-либо приходилось делать. Ты видел его лицо? Он был потрясен до глубины души. Сэймэй был явно растерян. — Акинобу преданный слуга и образованный человек. Не могу поверить, что он мог бы с такой готовностью служить бесчестному хозяину. Акитада промолчал. Однако секретарь вернулся очень скоро и с поклоном поставил перед Акитадой две огромные коробки с документами. — Мой господин выражает вам свою благодарность за ваше беспокойство. — Он помолчал и, стараясь не смотреть на Акитаду, продолжил: — Я также глубоко признателен вам за вашу готовность оградить от подозрений губернатора и меня, его слугу. Пожалуйста, скажите, какую помощь я мог бы вам оказать. — Благодарю вас, — сказал Акитада. — Мы обратимся к вам, если возникнут вопросы. Когда Акинобу ушел, Сэймэй с Акитадой переглянулись. — Очень великодушно со стороны губернатора, — заметил Сэймэй. Акитада вздохнул. — Боюсь, это означает, что там мы ничего не найдем. Он оказался прав. Подробно изучив состояние финансовых дел Мотосукэ — владений, приходов и расходов его и ближайшего окружения, — они не обнаружили ничего предосудительного. Счета были безукоризненны и находились в полном порядке. Мотосукэ не только не использовал казенных денег на частные нужды, но даже тратил свои личные средства на благоустройство общественных заведений. — Ну что ж, — заключил Сэймэй, — но крайней мере вернетесь в столицу, не арестовывая кузена вашего друга Косэхиры за подлог и государственную измену. Акитада яростно сжал кулаки. — У меня такое чувство, что Мотосукэ посмеялся над нами. Он заранее знал, что мы ничего не обнаружим. Любой другой на его месте пришел бы в ярость, потребуй у него личные счета. Думаю, товары и золото где-то спрятаны и здесь не обошлось без сообщника. В этом я просто уверен. Мотосукэ подозрительно любезен. — Ну и Бог с ним, господин, — жалобно проговорил Сэймэй. — Все это бесполезно. Только себе навредите или какому-нибудь невинному человеку. — А взятка?! Забыл? — Если человек и вправду виновен, ему за это воздастся. Акитада покачал головой и усмехнулся: — На все-то у тебя найдется поговорка! Только я все равно должен найти этот пропавший груз. — А как насчет местной знати? Крупные землевладельцы имеют личных наемников для защиты своих земель Иногда эти вооруженные люди выходят на большую дорогу, чтобы чинить грабежи и разбой. Акитада кивнул и послал слугу за Акинобу. — С этим мы тоже разобрались, — сообщил он секретарю, указывая на коробки с документами. — А теперь скажите, знаете ли вы каких-нибудь крупных землевладельцев? И содержат ли они личные войска? Акинобу не пришлось напрягать память. — Таких кланов у нас всего пять, ваше превосходительство, — сказал он. — Все они преданы губернатору. И он лично объехал всех после пропажи первого каравана с пошлинами, чтобы убедиться в их невиновности. Четверо из них послали своих самураев в провинцию Хитачи на подавление мятежа, а в пятом владении разразилась эпидемия оспы. Там погибло много народу, в том числе сам правитель и его единственный сын. Вдова его постриглась в монахини, а владения перешли к кузену. Итак, похоже, всякий, кого ни возьми, имел в провинции Кацуза безупречную репутацию. — Ну а сами-то вы что думаете по этому поводу? — поинтересовался Акитада. — Кто-то здесь укрывает громадный запас золота и ценностей или, вы считаете, виноваты неизвестные грабители из какой-нибудь другой провинции? Акинобу покраснел. — Нет, ваше превосходительство. Я думаю, мы что-то упустили. Губернатор расстроен, как никогда, и надеется, что вы сумеете выявить нашу ошибку. — Заметив недоверие в глазах Акитады, он опустился на колени и заговорил, задыхаясь от волнения; — В том, что любой теперь может подозревать моего господина, виноват я, потому что не сумел докопаться до правды. В моей никчемности и есть моя вина, я так и доложу в высшие инстанции. Разумеется, стоимость моего имущества не способна целиком покрыть эту огромную сумму, но я уже начал распродавать свои земли и к тому времени, когда вы формально закончите дело, передам в ваши руки все, чем располагаю. — И прежде чем изумленный Акитада вновь обрел дар речи, он поклонился, встал и вышел из комнаты. — Скорее догони его, Сэймэй! — вскричал Акитада. — Скажи ему, чтобы перестал продавать свои земли! Скажи, что мы постараемся найти виноватого. Скажи ему… Ну не знаю… в общем, придумай что-нибудь!Закончив проверку казенных счетов, Акитада принялся наносить визиты городским чиновникам. Первым, кого он посетил, был капитан Юкинари, новый начальник гарнизона. Молодой офицер произвел на Акитаду благоприятное впечатление. Юкинари без промедления предоставил необходимые записи, из которых следовало, что три ценных груза покидали провинцию в положенное время и в сопровождении охраны. Предшественник Юкинари покончил с собой после второго неприятного инцидента, и Юкинари прислали на его место минувшим летом. Сам по себе этот факт, а также неустанные попытки разгадать тайну исключали его из числа подозреваемых. Следующий допрос Акитада учинил окружному префекту Икэде. Назначенный на свою должность сверху, он подчинялся Мотосукэ, но целиком и полностью контролировал собственный персонал и исполнительную власть провинциальной столицы. Икэда оказался человеком средних лет, несколько беспокойным и нервным, и имел привычку то и дело цитировать тексты уложений и должностных инструкций, оправдывая ими каждый свой шаг. В деле с пропавшими ценностями он проявил полнейшую неосведомленность, ссылаясь на то, что этот вопрос находится вне его компетенции. Он также яростно отвергал любые предположения о наличии в столице или ее окрестностях какой бы то ни было преступности. На вопрос, куда, по его мнению, могли деваться ценные грузы, он упомянул дорожных разбойников, якобы орудующих в соседней провинции Симоза. Одним словом, Акитада счел его типичным бюрократом, начисто лишенным как храбрости, так и воображения, необходимых для разработки и осуществления столь обширного и дерзкого преступления. В конце недели Акитада с Сэймэем подвели унылые итоги. — Эти караваны, господин, могли подвергнуться нападению на территории Симозы, — предположил Сэймэй, узнав о точке зрения Икэды. — Этим можно было бы объяснить отсутствие новостей на протяжении всего пути от столицы до провинции Сагами. Кроме того, такое объяснение могло бы полностью разрешить все наши проблемы и обелить имя губернатора. — Да, этого-то как раз все и хотят, — сердито отмахнулся Акитада. — Начальник гарнизона — а его дураком никак не назовешь — лично ездил в Симозу искать потайной путь, но так и не вышел на след ценностей и грабителей. Этот Юкинари молод, но дело свое знает и из местного начальства единственный не мог быть здесь замешан. У него нет мотива покрывать какие бы то ни было безобразия, поэтому его кандидатура отпадает. Ценности вместе с лошадьми, погонщиками, носильщиками и вооруженной охраной пропали безо всякого следа — хоть бы сапог какой отпечатался или лошадиное копыто. — Он покачал головой. — Поскольку в такое трудно поверить, мы должны предположить, что здесь, в городе, существует целый заговор. И стоит за ним кто-то очень умный, хорошо осведомленный о датах и деталях и к тому же имеющий в своем распоряжении огромную организацию. — Губернатор, — пробормотал Сэймэй. В дверях кто-то вежливо кашлянул, и в комнату с поклоном вошел Акинобу. Он принес Акитаде новые письма, сообщил, что из столицы прибыл правительственный гонец, и, снова поклонившись, удалился. Два письма из дома Акитада торопливо пробежал глазами, но на третьем издал изумленный возглас. — Что такое? — поинтересовался Сэймэй. — Приглашение на торжественный ужин у губернатора сегодня вечером. Настоятель крупного буддийского монастыря остановился здесь с визитом, и Мотосукэ хочет познакомить меня с ним. Он также пригласил бывшего губернатора. — Акитада заглянул в письмо. — Князь Татибана. Никто еще ни разу не упоминал о нем в разговоре с нами. А ведь он, похоже, остался жить здесь после ухода в отставку. Любопытно, правда? Юкинари и префект Икэда тоже будут на этом приеме. — Акитала вскочил и, взволнованно размахивая губернаторским письмом, воскликнул: — Ну надо же какая удачная случайность! Ты только подумай, Сэймэй, все эти люди принадлежат к местной правящей верхушке. Один из них может оказаться тем, кто нам нужен, и я смогу понаблюдать за всеми одновременно. А ведь, по-моему, я неплохо разбираюсь в людях. — Надеюсь, вам не придется разочароваться, — уныло заметил Сэймэй. — А то знаете, как говорят: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. — Ну спасибо тебе за доверие, — обиженно огрызнулся Акитада. — Давай-ка доставай мое придворное платье. Можешь думать что угодно, но я все-таки выясню, кто стоит за этими преступлениями. Все, что нам нужно, так это просто найти свидетелей. Сэймэй недоверчиво хмыкнул, однако помог Акитаде облачиться в торжественный наряд. Протягивая хозяину головной убор, он спросил: — Господин, а из дома-то какие новости? — А-а… из дома? Да не так уж много. Косэхира надеется, что я добился успехов. А другое письмо от моей младшей сестры. Дома все в порядке. Девочки взбудоражены новостью, что любимая наложница императора бежала с любовником. А ведь и впрямь ходил слух, что госпожа Асагао куда-то исчезла. Как раз в то же время князь Накамура покинул столицу и вернулся в свою провинцию, так что подозрение пало именно на него. — Вот видите? — вздохнул Сэймэй — Даже его высочайшее величество не застрахован от неприятностей. Воистину говорят, что полная луна начинает убывать. А от вашей почтенной матушки есть новости? — Нет. Как всегда, одно и то же: она надеется, что я не забыл о семейном долге.
* * *
Торжественный ужин проходил в личных покоях губернатора, в небольшой гостиной, украшенной изящными пейзажами. Невысокий деревянный помост на полу устилали толстые циновки, отороченные черно-белым шелком, парчовые ширмы огораживали его от сквозняков. Пятеро мужчин сидели там возле высокого светильника, оживленно беседуя и прихлебывая саке. Разговор резко оборвался, когда пошел Акитада. Мотосукэ в парчовом кимоно приглушенно-красных оттенков, надетом поверх нижнего платья, переливавшегося всеми цветами от медного до персикового, поднялся навстречу гостю, сияя широкой улыбкой. Он усадил Акитаду на почетное место справа от себя и представил ему своих гостей. — Это его превосходительство бывший губернатор Татибана Масайэ, — указал он на очень худого пожилого человека с жиденькой седой бородкой и усталыми глазами, сидевшего напротив Акитады. Акитада поклонился: — Я глубоко сожалею, что до сих пор не слышал о вас, иначе давно засвидетельствовал бы вам свое почтение. Пожилой господин ответил поклоном и сдержанной улыбкой, но ничего не сказал. — Наша провинция почла за высокую честь решение его превосходительства остаться здесь после окончания срока правления. — В голосе Мотосукэ слышалось беспокойство. — Он большой ученый и пишет историю здешних краев. — В таком случае рад буду получить от его превосходительства ценные наставления, — проговорил Акитада, отмечая, каким удобным прикрытием могла бы стать подобная деятельность для многочисленной преступной организации. Татибана снова молча улыбнулся. Узловатыми пальцами он задумчиво теребил узорчатый рукав своего темно-синего кимоно. — А это его преподобие учитель Дзото, настоятель нашего самого большого монастыря, Четырехкратной Мудрости, — продолжал Мотосукэ, явно смущенный откровенным безразличием бывшего губернатора к персоне императорского инспектора. Настоятелю тоже было отведено почетное место, слева от хозяина. Дзото оказался человеком довольно молодым для столь степенной должности — лет под сорок. Акитаду вдруг осенило, что он мог быть младшим сыном главы какого-нибудь крупного клана. Что, если это еще один Фудзивара? Тогда подозрение на заговор лишь усиливается. Правда, служение церкви требует отсечения семейных уз и значительно расширяет круг действующих лиц. Искать в таком широком кругу — задача не из легких. Акитада всегда недолюбливал буддийское духовенство и сейчас не без цинизма заметил, что этот человек, под стать своим ученикам-головорезам в городе, имел весьма цветущий и упитанный вид. Аскетизмом тут явно и не пахло! На бритой голове и гладком лице проглядывала синева растущих волос, а полные, почти женские губы были слишком красными и влажными. От его церковного облачения тоже веяло неуместной роскошью — дорогая ткань, богатая вышивка по белому шелку с черной каймой. На запястье он носил четки из розового горного хрусталя. Оторвав взгляд от настоятельского наряда, Акитада заметил, как пристально и внимательно изучал его этот человек, и, скрывая смущение, торопливо сказал: — Учение вашего преподобия привлекло к себе большое число последователей в Кацузе. Я поистине счастлив знакомству со столь прославленным духовным проповедником буддийских ценностей. — Мирская слава — всего лишь туманная дымка, окутывающая горы перед рассветом. — У Дзото был красивый, звучный голос, придававший религиозного пыла его речам. Глядя ему в глаза, Акитада понял, что тот посмеялся над мим. Дзото первым отвел взгляд. — Ну а с капитаном и Икэдой, как я понимаю, вы уже знакомы? — Мотосукэ жестом указал на двух оставшихся гостей, избавляя Акитаду от ответа. Акитада кивнул красавцу офицеру, облаченному на сей раз в простое гражданское платье, и префекту, одетому в скромное темно-синее шелковое кимоно. Ему показалось, что Икэда, которому было лет сорок, выглядел сегодня напряженным и словно бы постаревшим. Угощение, поданное служанками на красных лакированных подносах, было поистине восхитительным. Даже в столице Акитада редко встречал такой радушный и теплый прием. Рыба, креветки и всякая морская живность были изысканно приготовлены в вареном, тушеном, жареном и сыром виде. К ним прилагались свежие, соленые и маринованные овощи и фрукты, а также всевозможные блюда из риса — горячего и холодного, сухого и влажного, дробленого и цельного, сваренного до жидкой кашицы, запеченного в виде колобков и булочек и распаренного в хлопья. Чашки то и дело наполнялись ароматным теплым саке отменного качества. Для Дзото, следующего своим религиозным обетам, подавались фруктовый сок и блюда из овощей. Акитада ел и пил умеренно. Он подождал, когда вино и еда разгорячат кровь остальных, и только потом осторожно завел разговор, учтиво поинтересовавшись у Юкинари его недавним переводом в Кацузу. — Я полюбил эту провинцию и уже начинаю здесь осваиваться, — ответил Юкинари. — Но все мы хотели бы узнать, что происходит нынче в столице. Акитада потешил их слух новостями о громких назначениях, увольнениях, светских праздниках, столичных браках и даже об исчезновении одной из императорских наложниц. Мотосукэ смущенно сказал: — Конечно, по сравнению с величием столицы Кизарацу всего лишь убогое местечко, но, быть может, наш гость по достоинству оценит наши достопримечательности, когда посетит монастырь Четырехкратной Мудрости. По-моему, он может соперничать даже с великим храмом Чистой Воды, которым славится столица. — Да, я премного наслышан об этом месте, — кивнул Акитада, поворачиваясь к Дзото. — Говорят, оно чудесным образом обновилось благодаря вашему блестящему руководству, настоятель? Дзото милостиво взмахнул рукой. — Отнюдь. Монастырь был основан нашим высочайшим императором Сёму, дабы хранить от бедствий всю провинцию. Однако долгое время пребывал в запустении. Мало кто из последующих императоров отличался таким благочестием, как этот святой человек. Лишь совсем недавно благодаря добрейшей и щедрой поддержке нашего губернатора Фудзивары я получил возможность сделать все, чтобы укрепить веру. Мотосукэ был польщен. — О, мой дорогой Дзото, ваша скромность поистине не знает границ. А между тем благодаря вашим проповедям, собирающим толпы народу, строительство нового большого храма стало необходимостью. Да и ученикам вашим нет числа, так что скоро монастырь не вместит всех желающих. Ведь туда стекаются паломники со всех концов нашей страны. Дзото улыбался. Его отношения с Мотосукэ не ускользнули от Акитады, и тот решил при первой же возможности проверить источники средств на монастырские нужды. — Сколько монахов живет сейчас при монастыре? — спросил он у Дзото. Тяжелые веки чуть приоткрылись. — Около двух сотен. Ваше превосходительство интересуется нашей верой? — Меня поразили ваши успехи в такой дали от столичного двора, — искренне признался Акитада. — К тому же, я слышал, большинство монахов очень молоды, что, несомненно, свидетельствует о ваших талантах великого учителя. Последователем какого философского течения вы являетесь — тэндаи или сингон? Легкое раздражение промелькнуло на липе Дзото, слегка исказив слащавые черты. — Слишком много расхождений в этом мире, — сурово ответил он. — И все же путь к Будде всегда один… вернее, все они ведут к нему. Я не следую каким-то одним путем и вместе с тем следую всеми ими сразу. Благоговейная тишина наступила за этим высокопарным изречением. Акитада задумался над ним и оценил умный ход. Отвергни этот человек сингон с его повышенным интересом к прекрасному, он оскорбил бы учение, которого придерживался императорский двор. В то время как тэндаи всегда считался гораздо более духовной практикой. — С превеликим удовольствием посещу этот монастырь в самое ближайшее время, — объявил Акитада. — И вообще, дорогой губернатор, я вовсе не считаю Кизарацу скучным и унылым городом. У вас здесь такой большой шумный рынок, и столько народу вокруг! Наверное, все эти приезжие создают множество беспорядков? Ему ответил Юкинари, бросив предварительно торопливый взгляд на Икэду. — Наш гарнизон стоит на страже покоя и порядка и готов защитить население и местное правительство, даже если… — А кстати, интересно, что стало с человеком, который раньше управлял гарнизоном? — внезапно вмешался в разговор князь Татибана. В комнате повисла неловкая тишина. Ее нарушил Акитада, который как ни в чем не бывало спросил у Юкинари: — По-моему, вы говорили мне, что этот человек покончил с собой из-за пропавшего каравана с пошлинами. Юкинари покраснел и посмотрел на Мотосукэ. — Да, все верно, ваше превосходительство, — смущенно пробормотал он. Префект Икэда, сидевший справа от Акитады, придвинулся к нему поближе и довольно громко сказал: — Боюсь, с памятью у него плоховато. О, да вы не беспокойтесь, он меня не слышит. Возраст, знаете ли, дело не шуточное. — Видя изумление Акитады, он кивнул и усмехнулся: — Да-да, человеку свойственно стареть. Акитада, неприятно пораженный такой откровенностью, слегка отодвинулся, но Икэда, раскрасневшийся от вина, ничуть не смутился. Панибратски схватив Акитаду за локоть и тяжело дыша ему в самое ухо, он громко прошептал: — На этот раз все дело в женщине. У Татибаны молодая жена. Очень молодая и очень красивая. — Икэда облизнул губы, подмигнул и пощупал свой нос. — Она добила его окончательно. Теперь он вконец одряхлел. Жаль, такая красотка пропадает! Акитада поспешил освободиться от руки Икэды. Ему не нравились ни речи этого человека, ни его манеры, но информация порадовала. Если Татибана и впрямь дряхлый старец, значит, тоже выпадает из числа подозреваемых. Сдерживая отвращение, Акитада лихорадочно думал, как бы ответить Икэде, чтобы не повредить их дальнейшей совместной работе. Юкинари, сидевший по другую сторону от префекта, пришел ему на помощь. — Боюсь, Икэда, что его превосходительство счел подобные речи признаком крайней невоспитанности. Икэда побелел от ярости. Дзото откашлялся и укоризненно посмотрел на всех троих. Мотосукэ встал и, хлопнув в ладоши, громко сказал: — Позвольте мне кое-что сообщить! — Все устремили на него удивленные взоры, а он, улыбаясь, продолжил: — Вы, конечно, знаете, что мне предстоит оставить свой пост и вернуться в столицу до наступления нового года. — Вежливый шепоток сожаления пронесся по комнате. — По этой причине мы с вами имеем удовольствие находиться сейчас в обществе господина Сугавары. Он прибыл сюдаудостовериться, что я ухожу, не оставляя за спиной долгов. Ха-ха!.. — Смешок прозвучал натужно, и все с интересом воззрились на Акигаду. А Мотосукэ вскричал: — Но есть и другая, более приятная причина моего возвращения ко двору. — Он снова целиком и полностью овладел вниманием присутствующих. — Его императорское величество удостоил меня величайшей чести. Моя единственная дочь, проведшая последние четыре года в здешней глуши, предстанет ко двору. По возвращении в столицу я буду иметь великое счастье представить ее его величеству. За этими словами последовал внезапный грохот. Юкинари вскочил, недоуменно глядя на упавший поднос и рассыпавшиеся блюда. Разлитые вино и соусы просачивались сквозь циновки. Подоспевшие слуги навели порядок, и все сделали вид, будто ничего не произошло. Потрясенный капитан снова сел на свое место, а между тем сияющий Мотосукэ принимал восторженные поздравления от своих гостей. Поздравляя хозяина, Акитада вдруг испытал прилив поистине ледяного отчаяния. Он упустил свой шанс — да что там упустил, он его и не имел! Дочь Мотосукэ поступала ко двору, потому что ее избрали новой наложницей, которой, возможно, суждено когда-нибудь стать императрицей. Отныне ни один закон не смеет коснуться ее отца, несмотря ни на какие обвинения, а от Акитады теперь ждут доклада, призванного отмести от будущего императорского тестя любые подозрения. С каменным лицом слушал он пространную молитву Дзото о счастье дочери Мотосукэ. Прием вскоре закончился. Во время долгих и шумных прощаний в дверях князь Татибана, оступившись, вцепился в локоть Акитады. Тот поддержал старого господина и услышал тихий шепот. Акитада недоуменно смотрел ему вслед, соображая, правильно ли расслышал его слова. Похоже, бывший губернатор сказал ему следующее: «Я должен с вами поговорить. Приходите завтра, и никому ни слова».ГЛАВА 5 Зимняя бабочка
Когда Акитада проснулся, комната была наполнена призрачным светом. Он стряхнул остатки сна. Свет был не солнечный — слишком уж серый. Потом на память пришли события минувшего вечера, и тяжесть поражения накатила новой волной. Мотосукэ, его главный подозреваемый — в сущности, даже единственный, — больше не подлежал обвинению по причине предстоящего брака его дочери с сам им императором. После приема Акитада долго не мог заснуть, но потом, видимо, все-таки забылся и проспал допоздна. Со вздохом выбрался он из теплого кокона постели в прохладу нетопленой комнаты. Накинув наспех одежду, он открыл створку ставен, и глазам его предстал совершенно новый мир. Нетронутая, первозданная пелена свежевыпавшего снега покрывала все вокруг — усыпанный гравием двор, глинобитную стену, черепичные крыши. С голых ветвей росшей возле веранды хурмы пушистым облаком просыпалась снежная пыль; два нахохлившихся воробышка, склонив набок головки, наблюдали за человеком глазками-бусинками. Один из них зачирикал, и настроение у Акитады сразу поднялось. Он сходил в комнату за рисовыми колобками, принесенными слугой губернатора. Разломил один и бросил крошки на снег. Его пернатые гости заметно оживились, подняли настоящий гвалт, и вскоре на снегу под верандой суетилась целая стая крикливых воробьев. Они сердито дрались из-за каждой крошки, расталкивая тех, что послабее, и разгоняя молодежь. Особенно доставалось от клювов старших собратьев одному молодому воробью. Акитада старался бросать крошки в его сторону, но добился лишь того, что беднягу совсем затюкали. В конце концов юный недотепа улетел и опустился близко к дому, почти у ног Акитады, где ему все же удалось поживиться крошками, недоступными для более пугливых сородичей. Акитада наблюдал, как он набивает брюшко, и улыбался. Выживание в мире дикой природы, как и в мире людей, зависело от решительности, смелости и находчивости. Возможно, его столичные враги задумали этим назначением разрушить его карьеру и жизнь. Как говорится, не мытьем, так катаньем. Ему поручили расследовать преступление, заведомо не подлежащее раскрытию. Обвинить Мотосукэ в краже налоговых сборов означало принять на себя удар монаршьей немилости. Одним словом, при любом исходе дела карьере его грозил конец. Но не тут-то было! Он, как этот молодой воробей, обязательно найдет обходные пути и обставит своих врагов! Он непременно воспользуется представившейся возможностью — приглашением князя Татибаны. Отряхнув руки от крошек, Акитада закрыл ставни и пошел одеваться. «Для визита к пожилому господину еще рановато, — думал Акитада, неспешно шагая по заснеженным улицам города. — С другой стороны, это отнюдь не визит вежливости». Чем больше он размышлял над последними словами бывшего губернатора и обстоятельствами вчерашнего ужина, тем больше убеждался, что Татибана напуган и нуждается в его помощи. Акитада замедлил шаг. В богатом квартале, где внушительные частные владения скрывались за высокими стенами, он спросил дорогу у нищего, бросив ему несколько медяков. На его стук старинные деревянные ворота дома князя Татибаны открыли не сразу. На пороге его встретил согбенный дряхлый слуга — Акитаде показалось, тот вот-вот заскрипит, словно старые ворота. В конце небольшого двора высился главный дом, его почерневшие от времени и непогоды стены мрачно контрастировали с белым снегом. — Меня зовут Сугавара, — сказал Акитада старику, который, приложив руку к уху, растерянно моргал. Тогда Акитада крикнул: — Князь Татибана просил меня зайти сегодня. Старик молча повернулся и зашаркал мимо дома по заснеженной дорожке к саду. После некоторого колебания Акитада последовал за ним. Сад был разбит умелой рукой. Изящные горки из камней, кусты и подстриженные сосенки, не утратившие своей красы даже в это время года, укутала белая пелена свежевыпавшего снега. Дорожка вилась мимо каменного фонаря и крошечного прудика, где на илистом дне, поблескивая серебристо-золотистыми чешуйками, резвился карп. Потом они свернули на другую дорожку, тщательно расчищенную от снега, и та привела их к небольшому павильону, обнесенному деревянной верандой. Старый слуга с трудом поднялся по ступенькам и скинул свои гэта[1373]. Акитада последовал его примеру и нагнулся, чтобы снять сапоги. Послышался звук открываемой двери и чей-то крик. Поспешно стянув сапоги, он заглянул в просторную комнату, где вдоль стен высились стеллажи с бумагами и документами, а пол устилали толстые соломенные циновки. Слуга стоял к нему спиной. — Хозяин! — звал он дрожащим голосом. — Ой-ой-ой!.. Мой бедный господин! Посмотрите-ка, жив ли он? Ой — ой… Мне, наверное, нужно бежать за доктором. Ах ты, батюшки! Какое несчастье! С трудом представляя, куда может побежать такой дряхлый старик, Акигада сказал ему: — Успокойтесь! Князь Татибана с непокрытой головой, в простом кимоно серого шелка, лежал на полу возле письменного стола лицом вниз. Рядом валялись табуретка, разбросанные бумаги, перевернутые коробки с документами и свитки. Акитада опустился на колени и пощупал старому господину пульс и шею. Но тело было безжизненным и уже холодным. Под головой князя Татибаны в циновку впиталась кровь. Совсем малое количество. Акитада попытался припомнить, что говорится в медицинских книгах насчет определения времени смерти. Он взял руку покойного, согнул пальцы, пошевелил запястьем и понял, что тело уже начало коченеть. Это означало, что смерть наступила много — он только не знал сколько — часов назад. Но какое это теперь имело значение? На углу письменного стола он обнаружил следы крови и тонкий клочок седых волос. Акитада задрал голову. Самая верхняя полка была практически пуста, а внизу валялись перевернутая табуретка и рассыпанные бумаги. Судя по всему, бывший губернатор стал жертвой несчастного случая — упал, доставая сверху документы, и разбился. — Боюсь, твой хозяин мертв, — сказал Акитада слуге, поднимаясь с пола. Старик молча смотрел на него полными слез глазами. — Не надо звать врача, — повысил голос Акитада, — Твой хозяин умер ночью. Наверное, упал с табуретки, когда доставал коробки вон с тех полок. — Ай-ай-ай!.. — Старик побледнел и схватился за грудь. Обняв за плечи, Акитада подвел его к открытой двери. — Сделай несколько глубоких вдохов. — посоветовал он. Потом, вспомнив, как князя Татибану качнуло вчера вечером, спросил: — Твой хозяин страдал головокружением? — Никогда. Он был совершенно здоров. — Продышавшись, старик вдруг сделался разговорчивым. — Он всегда был подвижным и бодрым. Я частенько ему завидовал. А теперь вот он умер… — Мимолетное самодовольство пробежало по его лицу, когда он покачал головой, удивляясь непредсказуемости судьбы. Но Акитада помнил, как накануне вечером старый господин цеплялся за его локоть, ища поддержки, и удивленно приподнял брови: — Но у него же был свой доктор? Ты же только что хотел бежать за ним? — Нет, это не его доктор. У хозяина не было своего доктора. Даже прошлым летом, когда он жаловался на желудок. Хозяин не любил докторов, говорил, что они только портят людям здоровье да травят их своими снадобьями. Правильный образ жизни и упорный труд, как он считал, помогали ему держаться в такой хорошей форме. Он советовал мне есть побольше лука да меньше спать, и тогда, дескать, боль в пояснице пройдет. — И что, прошла? — заинтересовался Акитада. — Трудно мне все время бодрствовать, да и лук я не люблю. А вот хозяин мой сам излечился от желудочных приступов. Да-а… Сам готовил себе рис с какими-то загадочными травами и вскоре совершенно поправился. — Понятно, — сказал Акитада. — Ну что ж, если вы найдете в себе силы, может, сообщите госпоже Татибана о случившемся? А потом вам следует сообщить о смерти князя Татибаны властям. Идите прямо в городскую управу. Они знают, что делать. А я подожду их здесь. Бросив через плечо печальный взгляд, старик кивнул. — Ужасно!.. — вздохнул он. — Надо мне бежать поскорее. Акитада стоял на пороге и смотрел ему вслед, пока старик с трудом спускался и обувал свои гэта. И тут он заметил еще одну пару деревянных гэта, стоявших у самой двери. Наверное, князя Татибаны. Нагнулся и пощупал их. Они были совершенно сухие. Старик слуга наконец обулся и зашаркал по направлению к дому. Сколько еще времени пройдет, пока сюда придут! Акитада снова зашел внутрь и опустился на колени рядом с телом. На этот раз он более тщательно изучил позу мертвого и ощупал его голову. Чуть повыше завязанных в узел редеющих седых волос он обнаружил вмятину размером с раковину большого моллюска. Черепная кость двигалась под его пальцами, испачканными кровью и мозгом. Он уже собрался вытереть руки о циновку, когда заметил что-то зеленое в завязанных узлом волосах. Это оказался крошечный глиняный осколок размером не больше ногтя на мизинце. Он положил его на один из разбросанных листков бумаги. Черепок слегка загибался и был ярко-зеленым с внешней стороны и монотонно-белым с внутренней. По краям скола проглядывала красная глина. Осколок этот напомнил Акитаде расписную черепицу, используемую для крыш, с той лишь разницей, что такая черепица больше отдавала в синеву. Он огляделся по сторонам и вышел на веранду. Нигде никакой черепицы! Все постройки во владениях Татибаны были покрыты дранкой. Вернувшись в помещение, Акитада завернул осколок в лист бумаги и спрятал к себе в пояс, потом сел и задумался. Поначалу, увидев мертвое тело, он испытал разочарование — и даже устыдился своего эгоизма. Потом он вспомнил, как настойчиво звал его к себе князь Татибана, и тогда в голове шевельнулось подозрение — уж больно удобной была эта смерть, чтобы оказаться обычным несчастным случаем. Неужели кто-то подслушал их вчера вечером и увязался за старым господином? Может, ответ на этот вопрос найдется среди бумаг покойного? Ярлычок на упавшей коробке гласил: «Продукты земледелия». Акитада окинул взглядом полки. На других коробках были надписи — «Рыболовство и торговый флот», «Производство шелка», «Местные обычаи и достопримечательности», «Монастыри и храмы» (здесь могли содержаться сведения о монастыре настоятеля Дзото), «Торговцы и ремесленники», «Растения и животные», «Гейши и развлечения» и «Преступность и органы местного управления» (еще одно любопытное название!). Акитада искал глазами коробку, в которой могли бы содержаться сведения о налоговых сборах, но ничего подобного не обнаружил. Была здесь, впрочем, еще одна коробка — с названием «Жизнь среди лягушек и цикад». Заинтригованный, он спустил ее вниз и открыл. Внутри он обнаружил странную подборку бумаг. Сверху лежало несколько стихотворений, восхваляющих природу, но Акитада не был знатоком поэзии, поэтому бросил на них лишь мимолетный взгляд. Под стихами он нашел рисунки, изображавшие живописные камни, растения и цветы. Рисунки эти сопровождались комментариями и философскими наблюдениями, выписками из старинных китайских трактатов о знаменитых садах, а в самом низу лежал научный труд, озаглавленный «Жизнь среди лягушек и цикад» и посвященный искусству разведения садов. На рукописи стояла Личная печать Татибаны. Акитаду приятно удивила такая страсть ученого к красоте, и он пожалел, что не успел поближе познакомиться с этим замечательным человеком. Проникнувшись грустью, он уже закрывал крышку, когда услышал снаружи торопливые шаги. Вернув коробку на место, он повернулся к двери и вдруг заметил на соломенной циновке две парь; отпечатков. Изучив их форму и смерив взглядом расстояние между ними, он понял, что здесь должно быть, совсем недавно стояло что-то тяжелое на четырех квадратных ножках. За дверью на веранде кто-то скребся. Акитада вышел взглянуть и увидел худенького мальчика лет двенадцати-тринадцати. Опустившись на колени, тот испуганно смотрел на Акитаду: — Хозяин… Это правда? — дрожащим голосом спросил он. Акитада кивнул. — Князь Татибана упал и разбился насмерть. Проглотив комок в горле, мальчик печально сказал: — Я пришел предложить свою помощь. Акитада улыбнулся. — Ты еще слишком мал. А где другие слуги? — Кроме старого Сато, у нас только женщины, — решительно заявил мальчик. — И как же твое имя? — Меня зовут Дзюндзиро, достопочтенный господин. И снова Акитада уловил дрожь в его голосе. Внимательно разглядывая мальчика, он спросил: — Ты любил своего хозяина? Тот кивнул и провел грязной ручонкой по лицу. — Какие будут распоряжения, достопочтенный господин? — угрюмо спросил он. — Ты можешь проводить меня в покои твоей госпожи. Ей уже сообщили? На лице Дзюндзиро появилось упрямство. — Мы не пойдем туда. Туда позволено заходить только няньке. А вообще это там. — И он указал в сторону одной из покатых крыш, видневшихся среди деревьев. Акитада прищурился. От него не укрылись Враждебность тона, жесткий взгляд, сопровождавший слова, и жест. — Так нянька эта, надо понимать, сущий дракон? — предположил он. — Спасибо, что предупредил. Мальчик усмехнулся. — Благородному господину она не будет чинить пакости. Это она нас, слуг ненавидит. Говорит про нас господину князю всякие гадости. Что мы крадем и портим вещи и не делаем свою работу. А стоит кому-то оказаться вблизи покоев госпожи, так она кричит, что мы подглядываем и вынюхиваем. Злая она! Уволила почти всех слуг, а вчера опять принялась за свое — сказала господину, что Саго слишком старый и целый день напролет дрыхнет. — Он в отчаянии закусил губу. — Уж и не знаю, что теперь с нами будет. — Я уверен, что со временем все образуется, — попытался успокоить его Акитада. — Твой хозяин наверняка оставил завещание, в котором позаботился о содержании для своей прислуги и дворни. Я как раз жду, когда сюда прибудет кто-нибудь из властей. Может, покараулишь их у ворот? А потом проводишь сюда. Мальчик поклонился и убежал. Акитада вернулся в кабинет князя Татибаны и, склонившись над отпечатками на циновке, принялся их изучать. Они были очень отчетливы. Какой-то тяжелый предмет убрали отсюда совсем недавно, поскольку поверхность циновки еще не разгладилась. Акитада обвел глазами комнату. Низенький письменный столик мог бы оставить такие вмятины. И, пожалуй, стоит он не лучшим образом. Работая за ним, человек оказывался лицом к самой стене. Что-то непохоже, чтобы князь Татибана предпочел сидеть спиной к очаровательному пейзажу за окном. Но почему он передвинул стол? А если не он, то кто? И зачем? Акитада размышлял над расположением смертельной раны на голове, над тем, как попала на угол стола кровь, и вообще над всей сценой предполагаемого несчастного случая, и все больше и больше мрачнел. На столе он обнаружил обычные писчие принадлежности — аккуратную стопку рисовой бумаги, кисточку, дощечку с тушью и баночку с водой. Тушь оказалась на ощупь довольно сухой. Но что еще более удивительно, в комнате не было ни лампы, ни свечи, ни даже фонаря. Он уже собирался обследовать разбросанные на полу бумаги, когда услышал за спиной слабый шорох, обернулся и замер на месте. На пороге стояла девушка редкой красоты. Из-под длинных полуопущенных ресниц она внимательно изучала его. Нежные, по-детски пухлые губы были слегка приоткрыты. — Где мой муж? — Нежный голосок был легок, как дыхание. Тонкая изящная рука вынырнула из широкого рукава богато расшитого синего кимоно и смахнула с щеки выбившуюся прядку блестящих волос. — А вы?.. Усилием воли Акитада вернул себя на землю и склонился в неподобающе низком поклоне: — Я — Сугавара Акитада. Зашел к вашему супругу, когда… Но, может быть, вы позволите проводить вас в ваши покои, госпожа? Здесь вам лучше не находиться. Она перевела взгляд на пол. Акитада надеялся, что своей высокой фигурой заслонит от нее страшное зрелище, но не тут-то было. Она вскрикнула. — Так это правда? Мой господин… мертв? — Нежный голосок звучал горестно. Кожа была до прозрачности бледной. Акитада ощутил свою беспомощность и только безнадежно развел руками. — С глубоким сожалением… э-э… да… Боюсь, здесь произошел несчастный случай. Позвольте мне увести вас отсюда. Вам не следует здесь оставаться. Слуги о вас позаботятся. — Он хотел поддержать ее, но она увернулась. Несколько мгновений она стояла как вкопанная, не отрывая глаз от мертвого тела мужа, потом вдруг покачнулась, и Акитада едва успел подхватить ее на руки. Обмякшее безвольное тело показалось ему очень легким. Он уловил нежный цветочный аромат, исходивший то ли от платья, го ли от длинных шелковистых волос. Держать на руках женщину из своего сословия ему довелось впервые — подобные вещи были просто немыслимы в косном, полном условностей обществе. Он даже покраснел от смущения. Что ему теперь с ней делать? Не нести же в дом через сад! Увидит кто-нибудь из слуг, и пойдут сплетни. Хуже того, сюда вот-вот заявится этот пошлый зануда и крючкотвор Икэда с тюремным доктором и полицейскими. — Госпожа Татибана! — позвал он, склонясь над ее розовым ушком. — Госпожа Татибана, очнитесь! Она пошевелилась. Вот и отлично! Он слегка встряхнул ее, и нежные ручки обвились вокруг его шеи, а шелковая щечка коснулась лица. Она жалобно вздохнула и заплакала, уткнувшись ему в плечо. Он чувствовал себя похотливым мужланом, но продолжал держать ее. — Госпожа Татибана! Вы должны набраться сил и взять себя в руки! В любое мгновение сюда могут войти. Нежные ручки неохотно разжались, и она, выскользнув из его объятий, встала на ноги. Акитада почтительно поддержал ее. — Вы очень добры, — проговорила она, отворачивая личико. — Простите меня. Я просто хотела убедиться своими глазами. — Голос ее дрожал. Она мягко отстранила его и направилась к двери. — Позвольте проводить вас, — последовал за ней Акитада. — Нет. — На пороге она обернулась. Глаза ее были полны слез. Акитаде они показались самыми грустными и самыми прекрасными на свете. Потом она улыбнулась и, слегка поклонившись, сказала: — Для меня было большой честью познакомиться с вами, господин Сугавара. Я не забуду вашей доброты. Акитада шагнул к ней и открыл было рот, чтобы ответить, но она уже выскользнула за порог, шурша шелком платья и оставив после себя нежный аромат. Он стоял в дверях, потрясенный и словно осиротевший, и смотрел ей вслед. А она шла по дорожке к дому в своем ярко расшитом кимоно, грациозными движениями напоминая большую бабочку, нелепым образом залетевшую в заснеженный зимний мир.ГЛАВА 6 Блуждание В Тумане
Акитада отвел взгляд от пустынного, неприветливого сада и вернулся к мертвому телу его создателя. Он начал перебирать документы на полу и ничуть не удивился, когда, как и подозревал не нашел в них ни единого упоминания о налоговых кражах. Вздохнув, он вернул их на место, встал и потянулся. В этот момент снаружи послышались голоса, один из которых принадлежал мальчику Дзюндзиро. «Ну вот и полиция!» — подумал Акитада. Но он ошибся, поскольку это оказался капитан Юкинари. На сей раз тот был в армейской форме и о чем-то спорил с мальчиком. Завидев в дверях Акитаду, Юкинари поклонился с изящной военной выправкой. — Ваше превосходительство, я прибыл сразу же, как только до меня дошли вести, — сказал он, торопливо поднимаясь по ступенькам. — А вести поистине ужасные. Сегодня Юкинари показался Акитаде слишком бледным, и глаза у него были усталые и несчастные. Неужто так близко к сердцу воспринял смерть князя Татибаны? Быть того не может. Между ними не могло существовать тесных отношений. И возраст разный, да и появился Юкинари в Кацузе только этим летом. И все же выглядел он так, будто не спал всю ночь. Не подавая виду, Акитада как ни в чем не бывало заметил: — Да, вести и впрямь ужасные, капитан. Но что привело сюда вас? Юкинари покраснел. — Я был в городской управе, когда Сато пришел туда с известием. Вы уж простите мне бестактный вопрос, ваше превосходительство, но как случилось, что вы здесь оказались? — Я пришел сюда с визитом вежливости и обнаружил тело. Юкинари подошел к дверям, но Акитада и не подумал пригласить его войти. — Говорят, он упал и разбился… — капитан пытался заглянуть через плечо Акитады. — А ведь сколько раз я просил его быть осторожнее! Он, знаете ли, старел. Как-никак шестьдесят лет — немалый возраст. Акитада вспомнил про воздушную красавицу, которую только что держал на руках, и готов был согласиться. — Так выходит, вы хорошо его знали? — спросил он. — А мне князь Татибана не показался дряхлым и хлипким. Такие поджарые люди аскетического типа часто живут гораздо дольше своих упитанных сверстников. Капитан, похоже, пребывал в растерянности и не знал, что сказать. Он оглянулся на тропинку и задумчиво поскреб подбородок. — Икэда скоро прибудет сюда собственной персоной. Если у вас есть более важные дела, я мог бы остаться. Да и вообще, осмелюсь заметить, зачем вам все это? — Он покосился на Дзюндзиро, топтавшегося неподалеку и вслушивавшегося в каждое слово, и нахмурился. — Благодарю вас, но я останусь, — сказал Акитада, напуская на себя скорбный вид. — Считаю это своим гражданским долгом. А вот вы, по-моему, здесь никак не замешаны. Так может, вам пока поддержать госпожу Татибана? Юкинари при этих словах дернулся и открыл рот, потом поклонился и быстро зашагал прочь. Акитада смотрел ему вслед и видел, как он повернул к воротам. Это было странно. Второй раз за все время Юкинари не мог совладать с какими-то сильными эмоциями. Он все еще размышлял над загадочным поведением Юкинари, когда из-за угла на дорожке показались Икэда и его люди, ведомые Сато. На префекте было вчерашнее темно-синее шелковое кимоно, и Акитада подумал, спал ли хоть кто-нибудь сегодня ночью. Икэду сопровождали два младших чиновника и два полицейских в красном, вооруженные луками. Завидев Акитаду, Икэда чинно поклонился. Остальные смущенно последовали его примеру. — Какая неожиданная честь! — пробормотал префект, поднимаясь по ступенькам. — Слуга сообщил мне, что вашему превосходительству выпала неприятность обнаружить тело. Какое странное совпадение! — В последней фразе прозвучал тайный вопрос, словно присутствие здесь Акитады было неким образом подозрительно. — Не более странно, чем ваше присутствие здесь, префект, — сказал Акитада. — Вы всегда расследуете несчастные случаи лично? Ведь это, кажется, входит в компетенцию местного судьи? Серое лицо Икэды покрылось нездоровым румянцем. — Наш судья сейчас в отлучке, — натянуто пояснил он. — К тому же ради князя Татибаны я бы явился сюда в любом случае. Из уважения к этому почтенному человеку. — Он помолчал и прибавил: — Хотя мы не были так уж близки. Его светлость не поддерживал тесных отношений с подчиненными. — О-о! Так вы служили префектом еще при нем? Странное выражение промелькнуло на лице Икэды — смесь горечи, негодования и скрытого удовлетворения. — Да, служил, — подтвердил он и махнул рукой в сторону своих спутников. — Позвольте представить вам моего секретаря Огу и судебного доктора Ацусигэ. — Они обменялись поклонами, и префект расплылся в улыбке: — Быть может, ваше превосходительство поделится своими ценными наблюдениями, пока мои люди будут осматривать тело? Акитада кивнул и посторонился. Икэда со своими людьми скинули обувь и вошли в помещение. Акитада рассказал, когда обнаружил тело, в каком состоянии и позе и что увидел в кабинете. Икэда вежливо слушал, потом извинился и подошел к судебному медику, занятому осмотром тела. Секретарь опустился на пол рядом с ними, чтобы производить записи. Медик закончил осмотр довольно быстро, но долго шептался с Икэдой, прежде чем последний кивнул и вернулся к Акитаде. — Ну что ж, ваше превосходительство, по-моему, случай вполне ясный, как вы сами, должно быть, убедились. — Икэда потер руки, и жест этот привел Акитаду в раздражение. — Бедняга работал допоздна, взобрался на табуретку, потерял равновесие, упал, ударился головой о стол и умер. Это подтверждают и табуретка, и рассыпавшиеся бумаги, и поза, в которой находится тело, и следы крови и волос на столе. Вероятно несчастье случилось поздно ночью. Однако мои скромные провинциальные таланты вряд ли идут в сравнение с богатым профессиональным опытом вашего превосходительства. Смиренно жду в надежде услышать ваше мнение. Акитада чуть помедлил: — Сейчас зима, и утренние часы бывают очень холодными, так что смерть могла наступить поздно ночью или вовсе под утро. А рана на голове свидетельствует о том, что он получил тяжелый удар по макушке. — Ну да, как я и сказал, — закивал Икэда. — Слуга говорит, что его хозяин часто работал по ночам. Да и вся картина свидетельствует об этом. Старик пришел с нашей вчерашней вечеринки, возможно, у него слегка кружилась голова от выпитого и съеденного. Какое-то время он работал, потом, уже сонный, усталый, полез на табуретку за документами. Они посыпались ему на голову, он потерял равновесие и упал. Все просто и ясно. И я, конечно же, благодарен вашему превосходительству за ценные наблюдения. А теперь мы будем заканчивать свою бумажную работу, и я больше не смею задерживать ваше превосходительство. Акитада еще раз взглянул на тело, кивнул Икэде и его людям и вышел из домика. Сквозь тучи наконец проглянуло солнце. Он обулся и прошел мимо двух полицейских к Сато и Дзюндзиро, все еще стоявшим на дорожке. — Мне пора идти, — обратился он к Сато. — Надеюсь, ты проследишь, чтобы все бумаги в кабинете хозяина остались на месте. Префект пришел к выводу, что твой хозяин умер в результате несчастного случая. Они уже заканчивают, и документы им не должны понадобиться. И вот еще что: я бы не хотел, чтобы ты упоминал о моем интересе к бумагам хозяина. Старик поклонился, а Дзюндзиро с готовностью предложил: — Я могу находиться на веранде и следить за бумагами день и ночь. Акитада улыбнулся: — Ну, в этом нет необходимости. К тому же следующие несколько дней ты, видимо, будешь очень занят. — О Господи, конечно! — воскликнул Сато. — Ты ведь даже еще не вымел дорожки, Дзюндзиро! Беги-ка скорее за своей метлой! И как это я позабыл об этом? Ну что за день! — покачал он головой. — Погоди-ка! — Акитада окинул взглядом дорожку. — Скажи, Дзюндзиро, ты мел здесь после того, как перестал идти снег? Дзюндзиро очень удивился. — Нет, достопочтенный господин. Я сегодня еще нигде не мел. Только собирался, когда Сато пришел и сообщил о смерти хозяина. — Ну вот и пора бы уж начать. — Сато строго зыркнул на мальчика, и тот убежал. Сато проводил Акитаду до ворот, и тот спросил у него: — У князя Татибаны часто бывали гости? — В последнее время нет, господин. А в старые времена у нас бывало много гостей. Тогда еще была жива первая супруга его светлости. Но потом все изменилось. — Он печально огляделся по сторонам. — Я вижу, ты давно служишь у своего хозяина, — сочувственно проговорил Акитада. — В наше время найти такого преданного слугу не просто. Большинство стариков уходят на покой, уступая место молодым. — Со мной все в порядке! — обиделся Сато. — Я силен как бык! И почему только люди думают, что старик не может выполнять ту же работу, что и молодые?! Я прослужил у своего хозяина сорок пять лет. Работал у него задолго до того, как он женился во второй раз. И работал-то прилежно да с усердием! — Его переполняли чувства, в глазах стояли слезы. Акитада припомнил кое-что из слов Дзюндзиро и решил еще немножечко прощупать почву. — А нынешняя госпожа Татибана появилась здесь недавно? Сато перевел дыхание и смахнул слезы. — Да, господин. Она дочь старого друга моего хозяина. Мой господин взял ее второй женой, потому что в свое время дал слово ее умирающему отцу. Когда старшая госпожа умерла, вторая жена заняла ее место в хозяйстве. — Сато поджал губы и метнул сердитый взгляд в сторону дома. Он явно не питал симпатии к своей молодой хозяйке. Акитада холодно заметил: — Ну, в таких случаях сразу приспособиться трудно. К тому же столь юная дама, возможно, пока не очень опытна в ведении хозяйства. — Ему вспомнилось невесомое создание, почти дитя, которое так робко улыбалось ему. — Может, оно и так, — угрюмо согласился Сато. — Только когда умерла старшая госпожа, пошли всякие сплетни, и большинство слуг были уволены. Нас осталось только пятеро — как хочешь, так и работай. Мы с Дзюндзиро единственные мужчины, а он всего лишь глупый мальчишка. Я же не могу поспеть везде сразу. — Ну что ж, не буду тебя больше задерживать. Правда, я еще вернусь просмотреть бумаги твоего хозяина. Есть у вас какая-нибудь боковая калитка, через которую можно пройти, не мешая трауру? — Да, у нас есть калитка в дальнем конце владений. Мы держим ее закрытой, но если вы меня предупредите, я велю Дзюндзиро вас впустить. — Спасибо. На том и договоримся. Сато не без усилий открыл ворота. Протягивая ему руку, Акитада спросил: — Ты не передвигал в господском кабинете какую-нибудь мебель? — Не-ет, господин! Мой хозяин не любил перестановок. Предпочитал заведенный порядок.Вернувшись в гостиницу, Акитада обнаружил на ступеньках веранды мрачного Тору. Рядом стояли бамбуковые палки. — Опаздываете! Уже несколько часов жду! — обиженно заявил тот. Даже между равными по происхождению подобные речи считались невоспитанностью. А уж со стороны слуги это было недопустимым непочтением. Любой другой хозяин на месте Акитады безжалостно отдубасил бы Тору палкой, но он только поморщился, решив принимать Тору таким, каков тот есть, потому что дорожил дружбой, уже, как ни странно, сложившейся между ними. Торино непослушание, его абсолютная честность, грубоватые речи и чувства были для Акитады дороже слепого повиновения, И он боялся, что любая попытка переделать Тору просто-напросто приведет к его бегству. Поэтому только сказал: — Я ушел очень рано на встречу с князем Татибаной. Но, придя туда, обнаружил его мертвым и вынужден был ждать полицию. Глаза у Торы округлились. — Ага! Значит какой-то ублюдок добрался до него раньше вас?! Акитада и сам так думал, но спросил: — С чего ты взял? Тора усмехнулся. — Да вы же умчались, ничего не сказав Сэймэю; значит, подумал я, напали на какой-то преступный след. — Ну что ж, возможно, ты и прав, хотя префект назвал это несчастным случаем. Только давай обсудим подробности позже. Если ты готов к тренировке, приступим немедленно, а потом — баня. Ты не представляешь, как мне сейчас это нужно! Они разделись до пояса и взялись за палки. Воздух был такой же морозный, но здесь, в закутке, на солнышке, снег быстро таял. Вскоре от их разгоряченных тел повалил пар. Мысли были заняты только сражением. Боевые крики, стук скрещенных палок и хруст гравия под ногами разносились по двору. Несколько судейских служащих выглянули было в дверь и снова исчезли. А они, раскрасневшиеся и сосредоточенные, продолжали сражаться. Тора, имея преимущество в силе, теснил Акитаду, зато тот был на редкость проворен и ловок. Схватка закончилась тем, что Акитада изловчился выбить палку у Торы из рук да еще и поставить ему подножку. Тора шмякнулся на землю и громко расхохотался. — Ну а теперь мыться! — вскричал Акитада, бросив палку, и помчался в сторону бани. Он чувствовал себя превосходно и был абсолютно счастлив, забыв обо всех треволнениях, — ведь он победил самого Тору! Тут было чему порадоваться — теперь он настоящий палочный боец. Кровь в жилах бурлила, радости не было предела. Тора с улыбкой следовал за ним. — Все-таки вы одолели меня, господин, — заметил он чуть позже, когда они уже сидели голышом в корытах. Два банщика драили им мочалками спины. — И этого следовало ожидать — ведь мне почти уже нечему вас учить. Надо понимать, скоро я и вовсе вам не понадоблюсь. Акитада окатил себя ледяной водой, охнул и плюхнулся в огромную бочку, от которой шел густой пар. Тело блаженно размякло. Он опустился в воду по подбородок и закрыл глаза. — Не говори глупостей. Куда я тебя отпущу? Ты мне нужен и для других дел. — Я тоже так думаю, — самодовольно заметил Тора и тоже плюхнулся в бочку. — Уж больно ловко я разрешаю всякие трудности. До чего хочешь могу докопаться! Акитада рассеянно хмыкнул. Он пребывал в блаженной неге. Пар конденсировался, и струйки стекали по лицу, но он не смахивал их. Князь Татибана просил его прийти — просил настойчиво и втайне от всех, — и той же ночью кто-то его убил. Почему? Чтобы Татибана не встретился с Акитадой? Или он знал что-то, чего нельзя было передать императорскому инспектору? В таком случае это «что-то» могло быть связано только с пропавшими грузами. Ну что ж, допустим! Но есть и еще кое-что. Такое поспешное убийство мог совершить только тот, кто подслушал слова Татибаны. Акитада принялся перебирать всех стоявших тогда с ними рядом. Во-первых, там был Мотосукэ — этого требовали приличия и законы гостеприимства. Но кто еще? Юкинари? Икэда? Дзото? Нет, сейчас уже не вспомнить! Он решил пока оставить это и подумать про дом Татибаны. Это было жилище человека состоятельного и культурного, главной чертой которого являлись изящество и простота. А как насчет владельца? Бывший губернатор, отправившись на покой, писал историю родного края, а значит, серьезно относился к своему долгу перед потомками. А еще он любил сады. Придерживаясь высоких моральных принципов, он тяготел к духовности и искал мира и покоя в сотворении прекрасного. Одним словом, человек благородный во всех отношениях. Такого ужаснуло бы преступление, совершенное против императора. И он явно что-то хотел сообщить Акитаде. Но обладал ли Татибана еще и мудростью? Возможно, нет. Иначе как он мог взять в жены то прелестное невинное создание, в чьих глазах Акитада видел слезы и чьи влажные губки были так нежны?.. Чья-то рука тряхнула его за плечо, и он открыл глаза. — Не спите, а то захлебнетесь, — сказал Тора. — Пойдемте! Нам пора. Я хочу послушать про это убийство. Вместе с Сэймэем они расселись вокруг горячей жаровни в комнате Акитады. Слуга принес обед, Тора разлил по чашкам вино. Когда слуга ушел, Акитада поведал им обо всем, что произошло в доме Татибаны, и показал крохотный зеленый осколочек, найденный в волосах покойного. — Его убили, — заключил Акитада. — Тело лежало явно напоказ, но убийца сделал ошибку, когда передвинул стол. Да и рана была на макушке, а не сбоку или на затылке, где ей полагалось находиться, если бы он при падении ударился об угол стола. Икэда пытался объяснить это, указав на ящики с документами. Якобы один из них ударил Татибану по голове и сбил с ног. Но в таком случае кровь должна была остаться на ящике, а не на столе. Кроме того, эти ящики не настолько тяжелы, чтобы нанести смертельную рану. А у Татибаны был раскроен череп. Икэда слишком настойчиво хотел объявить эту смерть несчастным случаем. Тора презрительно фыркнул. — Чиновнички! Что же вы от них хотите? Возможно, он и сам замешан в этом деле! Тогда понятно, почему этот ублюдок заявился туда собственной персоной. Может, сидел у себя в управе да ждал, когда его позовут. Ведь так он мог по-быстрому исправить все свои ошибки. Только, конечно, не ожидал встретить там вас. Его слова вызвали у Сэймэя бурю негодования. — Служить своему повелителю — величайшая честь на земле, — изрек он напыщенно. — Так сказал великий мудрец. И те, кто служит на чиновничьих должностях, делают это потому, что получили образование. А низкие сословия проводят жизнь в труде, так и не сумев выучиться. Ты принадлежишь к этому сословию, поэтому ничего не знаешь, ни в чем не разбираешься, так и молчал бы, когда благородные люди разговаривают. Тора покраснел от злости, но, к удивлению Акитады, всего лишь предложил: — Тогда давай послушаем тебя — может, я поучусь уму-разуму да и стану благороднее. Сэймэй снисходительно кивнул. — Пожалуйста. Я вот что думаю, господин: префект скорее всего просто ни в чем не разбирается. Провинциальные чиновники, — принялся объяснять он Торе, — не научены расследовать преступления. А он всего лишь замешал отсутствующего судью. А что известно о времени смерти, господин? — Хороший вопрос, — кивнул Акитада. — Время смерти здесь очень важно, и мне жаль, что я не располагаю достоверными данными. Думаю, Татибана умер часа за два или три до моего прихода. А это, разумеется, означает, что он пришел в кабинет далеко не сразу по возвращении с вечеринки. Татибана успел переодеться, и к тому же там не было ни свечи, ни жаровни Он не мог работать с бумагами, когда его убили. — Но вы же говорите, что тело уже начало коченеть, — возразил Сэймэй. — Значит, оно пролежало там всю ночь. — Мороз был сильный. Видимо, он способствовал окоченению. Только каково бы ни было время смерти, я не думаю, что Татибана умер у себя в кабинете. Убийство произошло в другом месте, а тело принесли в кабинет, чтобы инсценировать падение. Его гэта стояли за дверью, но были чистыми и сухими. Кроме того, и я понял это только перед уходом, кто-то тщательно вымел дорожку между домом и кабинетом. Слуги этого не делали — значит, сделал убийца, чтобы уничтожить следы на свежем снегу. Хорошо бы, конечно, знать, когда именно пошел снег. — Акитада посмотрел на Тору. Поняв, что ему предложено выразить свое мнение, Тора сказал: — Думаю, этот убийца был очень сильный, если размозжил старику голову, а потом еще протащил его тело через весь сад. Жаль, конечно, но говорят, префект настоящий слабак. А вот капитан мог это сделать. Он силен и к тому же военный. На это Акитада ответил: — Да. И я еще кое-что вспомнил. Юкинари ведь тоже туда заявился и пытался пройти в кабинет. Я обратил внимание, как странно он себя повел, когда я предложил ему утешить вдову. В общем, что бы там ни произошло, но, по-моему, кого-то мы все-таки прижали и это должно подвести нас к разгадке. Только у меня такое чувство, будто я блуждаю, пробираюсь в тумане. Знаю, что дорога здесь, и иду в правильном направлении, но самой дороги не вижу. — А я вижу! — вскричал Тора. — Вспомните вдову! Она молода, так ведь? Акитада нахмурился. — Очень молода. — И хороша собой? Акитада заерзал. — Да. Ее можно назвать настоящей красавицей. — Ну вот вам и мотив! — воскликнул Тора, хлопнув в ладоши. — Красавчик капитан соблазняет чужую молодую жену. Старик обнаруживает, что капитан покушается на его сокровище, располагая, так сказать, более внушительным оружием; между ними возникает ссора, и капитан бьет его по башке. — Бред! — Акитада вскочил, свирепо глядя на Тору. — Сэймэй прав. У тебя что на уме, то и на языке. А на уме у тебя одни глупости да пошлости! Сэймзй внимательно смотрел на хозяина. — Ну почему, — возразил он. — Парень, возможно, прав, хотя и выражает свои мысли грубовато. Не все замужние женщины являются женами, как вам известно. Такая большая разница в возрасте всегда создает дисгармонию. Впрочем, правду легко можно узнать от слуг. Не зря ведь говорят, что только муж не ведает происходящего. А женщины — это существа, начисто лишенные морали. Акитада рассердился не на шутку. — Ну хватит! — рявкнул он. — Так мы никогда не найдем пропавший груз. Тора, ты целую неделю был предоставлен сам себе. Пока мы с Сэймэем проверяли губернаторские счета, ты должен был пообщаться с местными жителями. Можешь что-нибудь доложить? Тора смутился. — Я много времени провел у Хигэкуро, господин. Пытался вникнуть в картину местной жизни. Сэймэй презрительно фыркнул. — И какова же картина местной жизни? — холодно поинтересовался Акитада. — Ну… это богатая провинция. Хороший климат, хорошая почва, хорошие урожаи риса. А еще здесь начали производить шелк. — А это вообще-то не новость, — нетерпеливо заметил Акитада. — Шелковичные деревья мы видели на всем пути от гавани. И шелк входил в состав пропавших грузов. — Как бы гам ни было, а сосед Хигэкуро разжился на шелке. Отоми говорит, он начинал с крошечной лавки — продавал дешевое полотно. А потом занялся шелком. Никто и оглянуться не успел, как он стал владельцем многочисленных складов в гавани и здесь, в городе. Обнес свои владения высоченной стеной, а на соседей больше и не смотрит. Сэймэй кивнул. — Да уж, подозрительно. Мудрец сказал так: «Добродетель не бывает отшельником, у нее всегда есть соседи». Этот торговец шелком лишен добродетели, иначе он поделился бы своей радостью с соседями. — Может, он просто боится, что его ограбят, — сухо предположилАкитада. — Скажи, Тора, а преступность в городе большая? — Не больше, чем в любом месте, где гуляют деньги. Хигэкуро считает, преступность бы выросла, если бы не здешний военный гарнизон. — Капитан Юкинари, помнится, говорил, что гарнизон стали укреплять с тех пор, как начали пропадать эти грузы. — Акитада задумчиво подергал себя за мочку уха. — У меня есть подозрение, что эти новобранцы вместе с ученичками Дзото как раз и создают проблемы в городе. Тора мотнул головой. — А у меня сложилось впечатление, что здешние люди любят военных и с монахами дружат, потому что живут за счет монастырских паломников. Даже Хигэкуро и его дочкам теперь живется куда как легче. Солдаты приходят к ним брать уроки, а Отоми продает свои картины паломникам. — Картины? — удивился Акитада. — Да. А разве я не говорил? Эта девушка — прекрасная художница. Она рисует буддийских святых, и паломники хорошо платят ей за это — ни много ни мало по серебряному слитку за каждый большой свиток. Вот бы вам посмотреть ее работы! Так натурально получается, будто сам там побывал. — Где побывал-то? — придрался Сэймэй, как всегда воспринимавший все буквально. — Все эти святые и буддийские мандалы — они же не настоящие. Это тебе не люди и не земные места, так как же она может рисовать их натурально? Тора защищался как мог. — Ну… не их, так другие вещи хорошо рисует. Вот, например, горы и море у нее очень красиво получаются. Акитада улыбнулся. — Я хотел бы как-нибудь познакомиться с твоими друзьями. Отоми, должно быть, и впрямь замечательная художница, если ты так превозносишь ее работу. Тора сиял от удовольствия. Бросив осторожный взгляд на Сэймэя, он спросил: — А как выдумаете, господин, мог бы человек вроде меня научиться писать? — Увидев, как огорошил обоих этот вопрос, Тора покраснел. — Ну, я имею б виду, хотя бы несколько иероглифов. Просто несколько приятных слов, которые могли бы понравиться девушке. Сэймэй опять фыркнул. — Я научу тебя держать кисть, — сказал он. — Только это мастерство достойно гораздо большего, нежели кропать любовные записочки для женщин. Женщины все равно не умеют ни читать, ни писать. Их головы не приспособлены для таких дел. — Обещаю тебе, Сэймэй, что буду усердно учиться всему, чему ты меня научишь, — ответил Тора. — Только насчет Отоми ты не прав. Она читает и пишет все время. — А ее сестра? — спросил Акитада. Тора поморщился. — Аяко? Она больше на мужчину похожа. Помогает отцу обучать желающих боевым искусствам. Вам, господин, она точно не понравится. — Может, и не понравится. Во всяком случае, в том смысле, о котором ты толкуешь. — Акитада подумал о хрупкой красавице, живущей в доме Татибаны, и встал, расправляя шелковое кимоно. — Думаю, мне следует выразить соболезнования госпоже Татибана. Она очень молода и неопытна, и, возможно, ей требуется помощь в управлении имуществом покойного мужа. Сэймэй, ты пиши окончательный отчет для губернатора. А ты, Тора, возьмись за дело и поговори с людьми в городе. Сэймэй смерил молодого хозяина испытующим взглядом и изрек: — Алый шелк женских нижних юбок опаснее даже самого страшного тигра.
ГЛАВА 7 Жизнь трущоб
Тора решил удостовериться, что Хигэкуро и девушки в безопасности. День снова выдался пасмурный и промозглый, но снег больше не шел. Думая об Отоми, он шагал так быстро, что вовсе не чувствовал холода. Проходя мимо храма в начале улицы, на которой жил Хигэкуро, он заметил вдалеке две шафраново-желтые фигуры и торопливо спрятался за угол, чтобы понаблюдать за ними. Два монаха, как оказалось, побирались выпрашивая еду. Они постучались в одну из дверей, подождали, когда им откроют, что-то сказали и протянули свои миски. Хозяин дома дал им какой-то еды, и они двинулись дальше. Тора вдруг понял, что и сам голоден. Обед был не слишком сытным по его меркам. Он с завистью думал об этих двух полных мисках, когда, к его величайшему удивлению, монахи вывалили в жухлую траву их содержимое и снова постучали в чьи-то двери. Неужто эти занюханые монахи так избалованы, что предпочитают только особые лакомства? Наконец они добрались до дома напротив школы Хигэкуро, и тут Тора догадался об их истинной цели. Вышедшая к ним старая служанка указала дом напротив. Монахи что-то спрашивали, и женщина кивала, жестами показывая на свои уши и губы. Когда она ушла к себе в дом, монахи еще немного постояли на улице, глядя на школу, потом повернулись и заспешили в ту сторону, откуда пришли. Значит, эти ублюдки все-таки выследили Отоми?! Когда Тора влетел в учебный зал, Хигэкуро сидел один. Он так был занят стрельбой, что даже не повернул головы. С низенькой табуреточки он посылал стрелы в мишени на стенах и ни разу не промахнулся. Только полностью опустошив колчан, он опустил тяжелый лук и обернулся через плечо. Тора захлопал в ладоши. — Я-то думал, что умею обращаться с луком, но куда мне до вас! — восхитился он. — А почему стрелы такие длинные и сколько вы берете за свои уроки? Хигэкуро добродушно улыбнулся. — Это спортивные стрелы. Ваши боевые армейские гораздо короче. А для друзей у меня уроки бесплатные. — Теперь я при работе, поэтому могу и заплатить. Не начать ли нам прямо сейчас? — Никогда не отказывайся взять то, что человек предлагает тебе из благодарности. Этим ты его унижаешь. Твои уроки будут бесплатными, но сегодня я жду учеников. Ты не против заглянуть в другой раз? — Нет, но мне нужно повидаться с Отоми. Те монахи опять здесь что-то вынюхивали. Хигэкуро удивленно вскинул брови. — Вот как? Ну что ж, она скоро вернется. — Тогда я подожду ее, — нахмурился Тора. — Как хочешь. — Хигэкуро опять улыбнулся и вернулся к своему занятию. Тора вышагивал взад-вперед, волнуясь все больше и больше и воображая самое худшее, пока наконец в дверях не появились Огоми и Аяко с полными покупок корзинами. — Где вы, к чертям собачьим, ходите?! — напустился на них Тора. — Разве вы не знаете, как опасно двум женщинам выбираться из дома? Его сердитое лицо напугало Отоми, а сестра ее тут же нахмурилась: — А тебе-то какое дело? Деликатно кашлянув, в перепалку вмешался Хигэкуро: — Хочешь с нами пообедать, Тора, раз уж девчонки пришли? — Спасибо, но у меня нет времени. — Тора сердито зыркнул на Аяко. — Эти проклятые монахи разнюхали, где вы живете. Я волновался за твою сестру. — С чего это вдруг? — огрызнулась Аяко. Ее отец, снова деликатно кашлянув, сказал: — Спасибо тебе за заботу, мой друг, но Аяко вполне может справиться с парочкой монахов. Чувствуя себя уязвленным, Тора обиженно выпалил: — Да вам почем знать? Вы же не видели их в действии! Что вы будете делать, если они и впрямь нападут за вас? Всего-то две молоденькие девчушки да… — Он осекся на полуслове. — Да калека. Это ты хотел сказать? — Раскатистый смех Хигэкуро сотряс воздух. — Знаешь, друг мой, я бы мог обидеться. Почему ты не веришь в мои силы и в силы Аяко? Мы обучаем других самообороне. И замки у нас в доме крепкие. Так что не беспокойся. И Отоми одну мы больше никуда не отпустим. Я не думаю, что эти парни вернутся. Охота им нарываться на тумаки ради какой-то смазливой девчонки? — И он снова рассмеялся. Ачко тоже засмеялась, а через мгновение к ним присоединилась и Отоми. Тора понял, что Аяко смеется над ним, и обиделся. Он сердито посмотрел на нее и с укором на Отоми: — Я вас предостерег. Эти монахи — злобные гады. — Его слова вызвали лишь новый взрыв смеха. — Ну что ж, тогда забудьте об этом, — отрезал Тора и повернулся, чтобы уйти. В дверях он столкнулся с двумя учениками Хигэкуро — бравыми офицерами из гарнизона, которые смерили презрительным взглядом его простенькую одежку и вразвалочку прошли мимо. Тора хотел было затеять драку, но сдержался. На улице он заметил еще одного монаха. Тот не прикидывался попрошайкой, а уверенно шагал к большим, тяжелым воротам разбогатевшего соседа Хигэкуро. Ему открыли очень быстро, и он скрылся внутри. Самолюбие Торы было слишком уязвлено, чтобы вернуться с новым предостережением и получить еще одну порцию насмешек. Вспомнив про пустое брюхо, он отправился на базар в надежде раздобыть чего-нибудь съестного, а заодно и каких-нибудь полезных сведений. Понаблюдав за рыночной толпой, он за медяк купил у лоточника горстку жареных каштанов. Дымящиеся плоды обожгли кожу, и Тора взревел. — Да чтоб тебе пусто было! — заорал он, подпрыгивая на месте и торопливо перекатывая каштаны из одной ладони в другую. Торговец смотрел на него, невинно вытаращив глаза. — Вы бы положили их в рукав, господин, иначе пальцы обожжете, — посоветовал он. — Спасибо за заботу! — огрызнулся Гора и побрел прочь. — Все-таки туповатый народ эти чиновники, — громко заметил торговец, обращаясь к другому покупателю. Это было не очень хорошее начало, но каштаны оказались вкусными и приятно согревали Тору, пока он выискивал в толпе чье-нибудь дружелюбное лицо — кого-то, кто охотно поболтал бы с незнакомцем. Он обошел весь рынок, прежде чем окончательно понял, что торговый люд в Кацузе не отличается особой любезностью. По-прежнему испытывая голод, он купил себе миску гречневой лапши и, расплачиваясь за нее, спросил у торговца: — А что, монахи не доставляют вам тут неприятностей? Торговец насторожился и смерил Тору недобрым взглядом. — Монахи? Да нет. Святые люди, и деньги свои тратят с легким сердцем. — Он пересчитал полученные монеты. — Не то что некоторые, кто норовит лишить трудягу его последних грошей, — прибавил он, подозрительно оглядывая Торину синюю одежку. — Надеюсь, жена лупит тебя хорошенько, — заметил тот и зашагал прочь. Но нелюбезное обхождение лоточника заставило его задуматься, и он остановился за прилавком поправить на себе одежду. Длинное кимоно он напустил на пояс, чтобы оно больше походило на рубаху, а штаны заправил в сапоги. Шапку вовсе убрал и немного ослабил узел волос. Теперь, перестав походить на чиновника, он вернулся к своему заданию. Уловив издали разговор рыночной торговки с покупательницей, обсуждавших бывшего губернатора, он подошел поближе. Вот бы помочь хозяину раскрыть это загадочное преступление — тот был бы доволен! — А что случилось-то, бабушка? — спросил он у торговки. — Губернатор наш бывший умер этой ночью, — пояснила та, изучая высокого незнакомца блестящими черными глазками. — Большой был человек. Да только все мы там будем — и богатые и бедные, и губернатор и побирушка. Конец у всех один. Сам Будда сначала был принцем да подался в нищие, когда узнал о смерти. Тут послышалось знакомое покашливание, и хриплый голос спросил: — А наоборот-то бывает? Я бы вот с удовольствием поменялся местами с губернатором. Толстуха насмешливо фыркнула. — Ну уж нет, ты если и переродишься, то в какую-нибудь паршивую собаку. — А-а… Ну тогда я обязательно задеру на тебя заднюю ножку, старая черепаха, — крикнул Крыса и зашелся в хриплом смехе. Бабка только охнула да схватилась за огромную редьку. Крыса поспешил увернуться, утягивая за собой Тору. — Так-так… Это не наш ли галантный ухажер из судейской гостиницы? Ну и чем там у тебя кончилось с той юбкой? — Тсс! — Тора огляделся по сторонам, чтобы убедиться: их не подслушивают. — Пошли уж, старый проныра. Расскажешь мне чего-нибудь, а я за это угощу тебя винцом. Крыса оживился, глазки его радостно заблестели. — От такого угощеньица не откажусь. Я знаю тут одно подходящее местечко поблизости. Даже с костылем Крыса передвигался так проворно, что Тора едва поспевал за ним. Мысленно чертыхаясь на старого жулика, он все же прибавил шагу, надеясь раздобыть какие-нибудь ценные сведения. Крыса изображал одноногого, пока они не добрались до крохотного погребка, втиснутого между двумя другими заведениями. Здесь обычно сидели четыре-пять посетителей, но сейчас было пусто. На деревянном помосте стояло несколько огромных глиняных кувшинов с вином, там же сидела круглолицая молодуха со спящим малышом, привязанным к спине. Крыса опустил свою тощую задницу на край помоста и сказал: — Эй, сестричка, налей-ка нам винца что получше! Вот, мой друг платит. — Потом отвязал свой фальшивый обрубок, положил его рядом с костылем и, вытянув ногу, облегченно вздохнул. — Продолжаешь дурить людей, как я посмотрю? — усмехнулся Тора. Женщина выставила кувшинчик вина и две чашки, потом, оглядев Тору с головы до ног, спросила: — Интересно, что общего у такого красивого молодого парня с этим опустившимся прощелыгой? — При этом она любовно хлопнула Крысу по спине. Тора разлил вино по чашкам и смиренно ответствовал: — Я забочусь о спасении своей души, любовь моя! Раз в месяц обязательно заставляю себя тратить тяжким трудом заработанные деньги на какого-нибудь бесстыжего лодыря. Так я напоминаю себе, что со мной будет, если я перестану гнуть спину ради честного заработка. Она рассмеялась и вернулась на свое место. Крыса поднял чашку. — Ну, давай выпьем за твои труды! — хрипло предложил он. Тора посмотрел, как вино исчезает в этом длиннющем бездонном хрипатом горле, и сделал осторожный глоток. Напиток оказался превосходным. Крыса со стуком хлопнул о помост пустой чашкой и смачно облизнулся. Тора снова наполнил ее. — А теперь давай за спасение твоей души! — предложил Крыса, заглатывая новую порцию. — Позаботившись о тебе, я теперь могу долго не искать себе нового бездельника. — Всегда к твоим услугам, — прохрипел Крыса и зашелся в таком изнурительном приступе кашля, что Торе пришлось постучать его по спине. Вновь обретя голос, тот спросил: — Ну? Так что ты хочешь знать? — Я волнуюсь за ту девушку. — Ты подумай, какой сострадательный! — вскричал Крыса. — А о чем-нибудь, кроме женщин, ты думать умеешь? — Да ладно тебе!.. Я недавно опять заходил к Хигэкуро и видел, как еще две лысые башки ошивались с расспросами по соседям, и одна старая грымза указала им на школу. Крыса подставил свою чашку, и Тора ее наполнил. Тот осушил ее и снова выставил. — Да брось ты волноваться, — сказал он. — С ними все будет в порядке. Тора возмутился — похоже его здесь дурачат. Послушай-ка, что я тебе скажу!.. — рявкнул он и схватил Крысу за грудки. Ветхая одежонка затрещала и расползлась. Увидев на тощем теле нищего чудовищные синяки. Тора отпустил его, поняв, что кто-то сильно избил старика. — Посмотри, что ты наделал! — запричитал Крыса. — Совсем без одежды меня оставил, и это в такую-то погоду! Да с моей-то слабой грудью! — И он закашлялся. — Прости. — Тора вынул из пояса связку оставшихся монет — свой заработок за будущий месяц — и отсчитал половину денег. — Вот возьми. Купи себе что-нибудь теплое, а то в этих лохмотьях совсем околеешь. Крыса сгреб деньги я снова закашлялся, да так сильно, что лицо его посинело, а из глаз побежали слезы. Тора в ужасе вскочил и крикнул женщине: — Воды! Скорее воды! Он задыхается! — Вина! — прохрипел Крыса. Он отхаркивался, кряхтел и сквозь кашель приговаривал: — Горячее вино всегда мне помогает… — Дождавшись, когда женщина нальет ему саке, он выдохнул. — Да благословит вас Бог! Обоих. — Вон его благодари, — сказала женщина, на которую случившееся не произвело никакого впечатления. Она отвязала со спины ребенка и принялась его укачивать. Крыса выпил, и Тора наполнил его чашку, подождал, потом наполнил снова. Постепенно кашель стих: Поглядывая на Тору, Крыса прохрипел: — Хороший ты парень. Не волнуйся, у девчонок все будет в порядке. Аяко кому хочешь башку разнесет. Так что за них не тревожься, сиди себе здесь да пей спокойно. — Он икнул и затянул ужасным фальцетом песню; потом, дико мотнув головой, пробормотал: — Черт бы побрал всех этих солдат!.. — Солдат?! — насторожился Тора. — Каких солдат? Женщина оторвала взгляд от спящего малыша. — По-моему, его солдаты избили. Крыса пробурчал что-то невнятное, прилег на помост и захрапел. Тора бросил женщине несколько монет за вино и вышел. На улице уже стемнело, и он мрачно подумал о том, что потратил все свое время и почти все деньги на двух неблагодарных женщин и бестолкового прощелыгу, так и не продвинувшись в своем расследовании. А между тем жизнь на базаре продолжала кипеть, только при фонарях и масляных лампах. Особенно бойко шла к вечеру торговля у продавцов еды. Вокруг витали запахи жареной рыбы, душистой похлебки, выпечки всех сортов, каштанов, и, вдыхая весь этот букет ароматов, Тора снова почувствовал голод. И зачем только он бражничал с Крысой? Лучше бы потратил деньги на добрую порцию чего-нибудь сытного. А то много ли дел расследуешь на пустое-то брюхо? Когда он учуял запах своих любимых рисовых лепешек, у него даже слюнки потекли. Нащупав на связке оставшиеся монеты, он отправился на поиски. Лепешками торговал бедно одетый парень, разложивший свой товар на двух подносах, подвязанных словно весы к шесту на плече. Тора выхватил его из толпы, преградив дорогу. — Вот я и поймал тебя! Тощий парень испуганно вытаращился на него и попятился. Тора поспешно схватил его за рукав. — Погоди, друг! — сказал он, заглядывая в подносы с толстенькими хрустящими лепешками. — Ой, да как много! Дела у тебя, видать, идут хорошо. — Да какой там хорошо! Еще ничего не продал. Пожалуйста, отпусти меня. Тора, еще сильнее вожделея румяных лепешек, только крепче схватил парня. — Это с какой стати? — сурово возразил он. — Мы с тобой еще не закончили. Что у тебя за манеры? Совсем не умеешь обращаться с покупателями. Продавец съежился от страха и жалобно пробормотал: — Простите, господин. Я не сразу признал вас. Вчера вечером было так темно! Но вы уж поверьте, я обязательно заплачу свой долг! Вы же хорошо объяснили мне, что я и сам в этом заинтересован. Я собирался на пути домой заглянуть в «Небесную обитель». — Он сунул руку за пазуху. — Вот, пожалуйста, возьмите! Только передайте там, что Матахиро расплатился! Тору так поразили эти речи, что он разжал пальцы и выпустил парня. В руку ему легло что-то тяжелое, а между тем испуганный торговец в мгновение ока растворился в толпе. По весу он сразу понял, что это металлические монеты. Продавец его с кем-то перепутал. Тора развернул бумагу — десять серебряных монет. Очень большие деньги для бедного торговца лепешками. Может, задолжал за игру? Тора потратил впустую немало времени, намереваясь вернуть серебро, но торговец исчез. И он вынужден был убрать сверток к себе в пояс. Вот еще одна невеселая встреча, заключил про себя Тора. Нос щекотал аромат румяных лепешек, и желудок казался пустым, как никогда. Название, упомянутое торговцем — «Небесная обитель», — должно быть, принадлежало какому-то питейному заведению. Значит, надо сходить туда — оставить деньги да заодно чего-нибудь поесть. После того как Крыса опустошил его связку, он надеялся найти заведение подешевле и спросил у какой-то женщины дорогу. Та посмотрела на него с любопытством, но указала в сторону темного проулка, где мерцал одинокий фонарь. Чертовой дырой, а не небесной обителью показалось Торе это место, когда, нырнув за дверную занавеску, он спускался по ступенькам. Кто-то похабно заржал. Комната, куда попал Тора, походила на мрачную пещеру, провонявшую тухлым жиром и немытыми телами. К общей вони прибавлялась удушливая копоть масляных ламп, почти не дававших света. Глаза заслезились, но когда привыкли, Тора увидел, что в комнате имеется подобие стойки, возле которой на грязнющем полу сидели несколько оборванцев — кто-то из них ел, а кто-то просто тупо напивался. Появление Торы почему-то всех позабавило. Должно быть, здесь недорого и сносно кормят, решил Тора, иначе бы заведение пустовало. К тому же раздобыть полезные сведения можно скорее в такой вот противной дыре, нежели в приличном месте. Хозяин харчевни, лысый толстяк, облокотившись о стойку, внимательно разглядывал Тору из-под кустистых бровей. — Соленых овощей да кувшинчик твоего лучшего вина, вот чего бы я хотел, дорогой мой друг, — крикнул ему Тора и сел рядышком с одним из посетителей. Сосед его поставил миску и отер рукавом усы. — А что это ты ел сейчас, братец? Вкусно? — спросил у него Тора. — А то я, кажется, с голоду помираю. Тот усмехнулся. — Лучшая бобовая похлебка в городе. Если, конечно, можешь терпеть эту вонь. А если нет, иди на улицу, там посвежей будет. А то здесь старый Дэнзо весь воздух испортил. Остальные присутствующие дружно расхохотались, а старый Дэнзо встал, чтобы продемонстрировать свою мощь. Тора похлопал в ладоши и увидел нависший над ним круглый живот хозяина. — Может, господин предпочел бы откушать в «Золотом драконе»? — прогремел толстяк. — Это большая харчевня на углу возле базара. — Зачем? — отозвался Тора, глядя на него в упор. — Если б я хотел поесть там, так и пошел бы туда. А у тебя, видать, все в брюхо ушло, а не в мозги, если ты предлагаешь посетителю поесть в другом месте. Принеси-ка мне бобовой похлебки да еще вина для моих приятелей. Вмиг Тора сделался всеобщим другом. Толстяк хозяин что-то буркнул и отправился восвояси. Тора надеялся, что винцо развяжет людям язык. — А скажите-ка, братцы… — начал он, но тут дверная занавеска отдернулась и в помещение вошли трое незнакомцев. Они подождали, когда остальные подвинутся, и сели рядом с Торой. В комнате стало тихо. Тора оглядел их — страшила головорез с уродливым шрамом, толстяк великан и длинноносый коротышка — и напусти на себя свирепый вид. — Какого черта вы сюда плюхнулись? — процедил он. — Сядьте где-нибудь еще. Не видите, я разговариваю с друзьями? — А мы хотим здесь, — возразил страшила со шрамом. Из-под рубашки у него виднелись и другие отметины. Следы от поножовщины, решил Тора и пожалел, что не имеет при себе оружия. Глубоко запавшими черными глазами исполосованный страшила оглядел Тору, оскалившись при этом обломками зубов. Два его спутника смотрели молча. У великана на удивление маленькая бритая голова торчала из непомерно огромных плеч. Взгляд его казался бессмысленным как у младенца. «Слаб на голову, — подумал Тора, — и тем опаснее». У последнего из троицы были острые черты лица и хищные глазки хорька. Все трое жадно пожирали Тору глазами. Смелость смелостью, но Торе хватало здравого смысла не горячиться в этом месте. Любой из посетителей мог оказаться с ними заодно и пырнуть его ножом в спину. Поэтому он решил припугнуть незнакомцев и усмехнулся: — Что, голодранцы, нечем заняться? Тогда пошли выйдем на двор и вы у меня, все трое, пожалеете, что оторвались от мамкиной сиськи. Великан дурень схватил его за рукав, вытащил громадный нож и, облизнувшись, пропищал тоненьким голоском: — Эй, главарь, можно я его немножко постругаю? От этих слов волосы зашевелились у Торы на голове. Человек со шрамом отвесил дурню оплеуху, не спуская глаз с Торы. Верзила захныкал и убрал нож. — Мы видели, как ты забрал деньги у продавца лепешек, — невозмутимо начал человек-шрам. — Мы не позволяем чужакам на нашей территории брать то, что принадлежит нам по праву. Так вот оно в чем дело! Денежки за покровительство. Эти громилы занимаются поборами, запугивая мелких торговцев. Продавец лепешек перепугал. Тору с кем-то из их шайки, да вот только деньги ему всучил в неудачном месте. Даже если сейчас отдать им деньги, они вряд ли выпустят его отсюда целым. Спасение только в одном в быстрых, и решительных действиях. Знакомый с приемами борьбы, принятыми в уличных шайках, Гора резким взмахом правой руки съездил по роже мелкому Хорьку. Одновременно с этим он вскочил и ударил Шрама ногой в живот. Дурачок попытался встать, но потерял равновесие, споткнувшись о товарища. Пока он сообразил, в чем дело, и снова достал свой нож, Тора заехал ему ногой по башке. Дурачок скуксился словно обиженный ребенок. Хорек лежат, не подавая признаков жизни, зато Шрам был уже на ногах и подступал, держа по ножу в каждой, руке. Такой соперник был наиболее опасен. Тора, пятясь, присмотрел себе деревянный табурет и схватил его, чтобы прикрыться от ножевых ударов, пока найдет, чем вооружиться. Но ничего подходящего под рукой не оказалось — даже метлы. Шрам сделал выпад, и Тора увернулся от обоих ножей. В это нечестной схватке у него было мало шансов на победу. Он уже решил удрать, но кто-то протянул ему бамбуковую палку. Тора ухватил ее свободной рукой и немедленно перешел в наступление. Шрам грязно выругался, когда один из ножей полетел на пол. Его правая рука больше не представляла угрозы, но он продолжал подступать; лицо его искажала боль, в глазах сверкала злоба, длиннющий, во все лицо, шрам побагровел от напряжения и ярости. Настоящий взбесившийся зверь. Тора отбросил табуретку и всерьез взялся за палку. Схватка даже доставляла ему удовольствие. Он успел огреть Шрама по башке и несколько раз попасть ему в живот, прежде чем выбил у него из руки нож, после чего придавил палкой под горло к стене. Присутствующие шумно рукоплескали. Тяжело дыша и крепко держа противника, Тора оглянулся и увидел такое, отчего едва не выронил из рук свое оружие. Великан распростерся на полу, а на его спине восседал дюжий бородач с проседью в густых волосах и очень загорелым лицом. Весело глядя на Тору, он улыбался во весь рот. — Хито?! — воскликнул Тора. — Какого черта ты здесь делаешь? Тот расхохотался. — Рад, что нашел тебя вовремя, братец. Я проходил мимо, да показалось, что слышу твой голос. Шрам начал задыхаться, лицо его побагровело. Тора чуточку ослабил хватку. — А ну-ка принеси веревку, — велел он хозяину, который, остолбенев, взирал на эту сцену. — И что будешь с ними делать? — полюбопытствовал Хидэсато. Тора задумался. — Может, сдадим в полицию? Среди завсегдатаев харчевни пробежал тревожный ропот. Кое-кто попятился к двери. Вернувшийся с веревкой хозяин крикнул: — Не надо полиции! Мы сами о них позаботимся. Так и не решив, куда определить пленников, их надежно связали, после чего Тора с Хидэсато уселись рядком выпить за свою неожиданную встречу. — Как твои дела? — спросил Тора, поглядывая на проседь в волосах и бороде Хидэсато. Тот поморщился. — Удрал из армии через месяц после тебя. С тех пор слоняюсь там и сям, нанимаюсь к тем, кто деньги имеет, а драться не может. Между тем хозяин харчевни вдруг засуетился — принес огромный кувшин вина, две миски похлебки, блюдо с рисом и овощами. — За счет заведения! — объявил он с подобострастной улыбочкой. — Весьма обязан, — сказал Тора и, подняв чашку, предложил Хидэсато: — Ну, за встречу, брат! Не представляешь, как я рад тебя видеть! Ты вот еще погоди, я расскажу, что со мной приключилось. Хидэсато отведал похлебки и кивнул на одежду Торы. Вид у тебя солидный. — Еще какой солидный! Я же личный помощнику самого… — Он наклонился поближе и зашептал Хидэсато в ухо. Тот удивленно вытаращил глаза, поднял свою чашку и сухо сказал: — Поздравляю. — Потом повернулся к хозяину. — Поправь меня, если я ошибаюсь, но нам показалось, ты тех вон ребяток больше нашего не любишь. — Вон тех ублюдков-то? — Хозяин картинно сплюнул в сторону пленников. — Сколько лет плачу дань Хорьку да его дурачку, а уж как этот страшный черт к ним примазался, так и вовсе худо стало. Всех посетителей мне распугали. По мне, так с них бы кожу живьем содрать, а вот полиции нам тут не надо. — Они вымогали деньги у рыночных торговцев, — пояснил Тора. Хидэсато удивленно приподнял брови. — Ишь ты! Целая шайка? — Сборщики налогов, — пошутил кто-то из посетителей. — Отнимают у бедных — ну в точности как те проклятые собаки, что рыщут здесь по заданию губернатора. Все взоры устремились на Тору, и в комнате повисла неловкая тишина. Хидэсато усмехнулся. Тора мысленно проклинал свою синюю одежку. — Я зашел сюда просто поесть, — сказал он хозяину. — И работаю, как и ты, только ради заработка. Но если мы сейчас отпустим этих троих ублюдков, они вернутся и снова примутся тебя потрошить. Хозяин побледнел. — Ты прав. Надо их прикончить. — Тогда уж точно сюда заявится полиция, — заметил Тора. Хозяин прошаркал к своей стойке и принес оттуда тяжелый глиняный кувшин. Позвякивая содержимым, он выудил из него десять серебряных монет и отсчитал по пять Торе и Хидэсато. — Вот, возьмите! Это вам за то, чтобы вы избавились от них. — Ну уж нет, — отодвинул серебро Тора. — Да ладно!.. Полоснул ножичком по горлу — и все дела. А мы потом поможем вам оттащить тела на старый пустырь. Там вечно находят мертвецов. Какая разница? Будет еще три. А если и поднимется шум, вы к тому времени уже ноги унесете. — Нет, мы не наемные убийцы, — отрезал Тора. Хидэсато внимательно посмотрел на него, потом встал, чтобы поближе разглядеть головорезов. — Имена их знаешь? — спросил он у хозяина. Тог опять сплюнул. — Да что там имена! Это ж сброд! Амбала толстого звать Юси. Один мой знакомый своими глазами видел, как он потрошил щенка. А работает он на этого тощего хлюпика Юбэя. Юбэй солдатам девок поставлял, пока те не обнаружили, что он девок тех учил обирать клиентов. Отдубасили они его хорошенько и велели не соваться больше в такие дела. Вот тогда-то он и начал потрошить рыночных торговцев. А потом, пару недель назад, откуда-то взялся вон тот урод. Мы так и зовем его — Шрам. А настоящего имени никто не знает. — Их место в тюрьме, — продолжал настаивать Тора. Хидэсато его поддержал: — Допустим, мой прилично одетый друг скажет в полиции, что они на него напали. И это, кстати, будет чистая правда. Вы все заявите, что толком ничего не видели. Полицейские заберут их и продержат под замком до суда. Если никто не предъявит им других обвинений, суд их отпустит. Но сюда они больше не сунутся — побоятся, что вы станете свидетельствовать против них. Может, даже подадутся в другую провинцию. Эти слова по некотором раздумье были встречены с одобрением. Прибыла полиция, выслушала историю Торы и увезла троицу головорезов в тюрьму. Тора вздохнул с облегчением. Он намеревался пригласить Хидэсато к себе в гостиницу, чтобы вечерком поболтать о былых временах, но, оглянувшись по сторонам, обнаружил, что друг его исчез. Исчез, даже не попрощавшись.ГЛАВА 8 Вдова
Одетый со всей тщательностью, Акитада уже второй раз за день стучался в ворога особняка Татибаны. К тому времени новость разошлась по округе и у ворот толпились праздные зеваки. На этот раз ему открыли сразу. Впустил его Дзюндзиро, одетый в холщовое кимоно, какое обычно носит прислуга во время траура по хозяину. При этом вид у парня был ужасно важный. Завидев Акитаду, он расправил плечи, сложил руки на груди, низко поклонился и звонким голоском приветствовал гостя: — Добро пожаловать, ваше высочество! В этой скромной лачуге почтут за честь принять столь высокую персону. Эта напыщенная речь вызвала взрыв хохота у зевак. Акитада поспешил зайти внутрь и приказал: — Закрой ворота! Дзюндзиро повиновался. — Я что-то не так сказал? — Да. Только твои хозяева могут называть этот дом скромной лачугой. И если уж ты хочешь использовать почтительное обращение, то называй меня «ваше превосходительство». — Благодарю за наставления, ваше превосходительство, — поклонился Дзюндзиро и разом все испортил, улыбнувшись во весь рот. — Вы пропустили самое смешное. Бритые монахи распевали тут и прыгали босиком, а слуги, словно мешки с бобами в этих холщовых одежках, завывали и рвали на себе волосы. — Он оттянул край своего кимоно и скривился. — А на улице целая толпа собралась — все пытаются выяснить, что здесь происходит. Ну просто праздник Бон[1374]! — А ты-то хоть горюешь по хозяину? — спросил Акитада, поразившись такой бессердечности. — Самое время горевать, когда хозяйка вышвыривает нас на улицу, — нахмурился мальчишка. — Питаться-то чем теперь? Акитада хотел кое-что сказать, но передумал. — А ну отведи-ка меня к ней, — произнес он. — Она там. Возле тела вместе с монахами, — безо всякой почтительности сообщил Дзюндзиро, указывая на главный дом. Приглушенные звуки буддийских молитв доносились изнутри. На веранде Дзюндзиро помог Акитаде снять деревянные гэта и открыл дверь. В нос ударил запах благовоний. В сумраке дома разносились монашеские распевы, сопровождаемые тихим звоном медных колокольчиков и ритмичными ударами барабанов. В дыму курящихся благовоний Акитада с трудом различал фигуры людей — монахов в желтых одеяниях, коленопреклоненной прислуги в светлых холщовых одеждах, гостей в строгих траурных облачениях. Все они застыли в благоговейных позах, выражавших почтение умершему, и лиц их Акитада не видел — только спины. Едкий запах алоэ и сандала разъедал глаза и щипал нос. Приглядевшись, Акитада рассмотрел в центре освещенный мерцающим пламенем свечей похоронный паланкин. В нем, обернутый в саван, словно божество перед церемониальным выносом, сидел усопший князь Татибана. Позади и чуть сбоку паланкина из-за ширмы виднелся краешек длинного рукава. Вдова. Сообразив, что хорошо виден ей из-за решетки, Акитада подошел к смертному ложу, поклонился и сел как можно ближе к вдовьей ширме. Теперь он мог получше разглядеть монахов и скорбящих гостей. Пятеро слуг, скучившись вокруг старого Сато, выглядели скорее испуганными, нежели печальными. Гости, только мужчины, все как один незнакомые Акитаде, сидели со скорбными минами, и было ясно, что любой из них предпочел бы сейчас оказаться где угодно, только не здесь. А где же друзья Татибаны? Неужто он пережил их всех? И где друзья вдовы? Бедная девочка! Он вспомнил, что у нее нет своей семьи, а сама она слишком молода и застенчива, чтобы заводить дружбу с соседними дамами. Душой он был вместе с ней и, не выдержав, посмотрел в сторону ширмы. Ему послышались тихие рыдания, но звук утонул в звоне медных колокольчиков. Молодой монашек, звеневший колокольчиками, явно перебарщивал. Барабанный бой тоже звучал как-то неровно, и Акитаде, который не был знатоком буддийских ритуалов, показалось, что и в молитвенных распевах нет должной стройности. Он увидел в этом некую странность и принялся изучать монахов. Почти все они были молоды, и лица их выражали смесь самодовольства и скуки. Они напомнили ему молодых новобранцев императорской гвардии, вышагивающих на своем первом дворцовом параде и пока еще не понимающих, оскорбительны или лестны для них новые функции. В общем, меньше всего эти юноши походили на монахов. И все же в их облике не было ничего вызывающего, как тогда на рынке, и вряд ли они способны поступить как те двое, что напали на глухонемую девушку. Возможно, их унылые мины и отсутствие опыта типичны для новичков. Он подумал о своем далеком друге Тасуку, который теперь, должно быть, и сам стал послушником и, возможно, как раз в этот самый момент распевает сутры. Акитада считал, что только большая личная трагедия могла заставить такого человека, как Тасуку, бросить и любимые увлечения, и многообещающую карьеру. На этот раз он был просто уверен, что слышал вздох из-за ширмы, и посмотрел в ту сторону — длинный рукав шевельнулся. Акитада поклонился, пытаясь взглядом передать всю глубину своего сочувствия. До него донесся шорох шелка, рукав резко исчез, и вслед за этим — снова шорох и звук осторожно прикрытой двери в дальнем конце зала. Акитада почувствовал себя до странности обделенным, словно у него что-то отняли. Пристыженный и смущенный, он устремил все внимание на службу. Фигура покойника смутно просматривалась под саваном и казалась сморщенной и иллюзорной. «Должно быть, ему вывернули суставы, чтобы усадить в традиционной позе», — подумал Акитада. Ведь он нашел уже коченеющее тело. Старик ушел из жизни. Акитада вспомнил, как худой старческой рукой Татибана разглаживал свое темно-синее узорчатое кимоно, в котором был на ужине у Мотосукэ. А умер в другом платье. Чем же он занимался, вернувшись домой? Может, уже отдыхал, но потом почему-то переоделся и пошел навстречу своей смерти? И когда это случилось? И что заставило его подняться? Куда он направился? Ведь умер князь не в своем кабинете — слишком мало крови там обнаружено. И не осталось никаких зеленых керамических осколков, кроме того, что Акитада нашел в его волосах. Значит, орудие убийства было керамическим — глина, покрытая глазурью, — и разбилось или треснуло от удара. Нет, мыслить в этом направлении бесполезно. Лучше подумать о мотиве. Если Татибане хотели заткнуть рот, помешать его откровенному разговору с Акитадой, значит, ночью кто-то из гостей Мотосукэ был у него или подослал наемного убийцу. Акитада еще раз перебрал в памяти все, что знал о каждом из них. Мотосукэ, хоть и был основным подозреваемым по делу о краже ценных грузов, вряд ли в своем нынешнем положении пошел бы на убийство старого человека. Он того и гляди станет тестем императора. Да и в любом случае не сделал бы этого, если, конечно, не заподозрит, что Акитада с Татибаной, находясь в сговоре, могут изменить решение императора. Но это сомнительно. Юкинари что-то скрывал. Сегодня утром молодой капитан уж больно своевременно явился на место происшествия. Зачем? Поскольку преступление совершено ночью, убийца мог прийти, чтобы подчистить все при свете дня. Ранний приход Акитады должен был удивить и испугать преступника, а Юкинари именно так и выглядел. Акитада вспомнил, что в гостях у Мотосукэ молодой человек вел себя странно. Должно быть, что-то связывало его и с Мотосукэ, и с Татибаной, очень личное, возможно, позорное. А как насчет настоятеля? Акитада окинул взглядом бубнящих молитвы монахов и вдруг заметил среди них пожилого человека. Это был единственный здесь старый монах. Акитада поймал его взгляд. Странное выражение промелькнуло на лице священнослужителя, и он торопливо вскинул руки в молитве. Как подозрительно! Все, что касалось Дзото и его монахов, было очень странным. Могли Дзото послать одного из своих учеников устранить опасного бывшего губернатора? Вполне вероятно. Похожий на головореза монах на рынке запросто подходил на эту роль. Акитада решил как-нибудь наведаться в монастырь. Оставался еще Икэда, который настойчиво объявлял смерть результатом несчастного случая, хотя по роду службы и опыту должен был знать, что это отнюдь не так. Попытка Сэймэя объяснить это тем, что Икэда всего лишь провинциальный болван, выглядела неубедительно — ведь префект с видом знатока цитировал Акитаде всевозможные местные законы, указы и постановления. И все же Икэда казался слишком бесцветной личностью, неспособной на преступление подобного масштаба. Акитада поерзал на месте. Он замерз, ноги отекли, и начала ныть спина. Сколько ему еще здесь оставаться? Он-то пришел совсем за другим — утешить юную вдову, это дитя, оставшееся в одиночестве среди ненавидящих ее слуг. Насколько он понял, поддержать ее было некому, кроме няньки. Ни родни, ни мужской защиты, ни даже подруги. Интересно, приходил ли кто-нибудь навестить ее? Юкинари? Икэда? Мотосукэ? Ведь девушка в столь нежном возрасте вряд ли знает, как обращаться с огромным имуществом. Акитада представил себе ее, одинокую, брошенную слугами, жмущуюся в сиротливый комочек в огромном темном пустом зале, где ни тепла, ни еды, и только крысы шныряют вокруг… Кто-то вцепился в его рукав, и он дернулся всем телом. Но это оказалась всего лишь служанка — дородная, средних лет женщина в холщовом траурном одеянии. Опустившись рядом с ним на колени, она заглянула ему в лицо черными глазами — будто жареные зернышки на бледной, непропеченной пышке. — Моя госпожа просит господина уделить ей немного времени, — хрипло прошептала она. «Должно быть, это и есть нянька», — подумал Акитада. Традиционным жестом коснувшись лица, он поднялся, ощущая противное покалывание в спине, и последовал за ней к выходу. Нянька оказалась с него ростом — настоящая великанша. Шагала она размашисто и шумно, как заправский работяга. Они долго кружили какими-то длинными сумрачными коридорами с деревянными полами, напоминавшими пластины черного льда. Краем глаза он успевал разглядеть комнаты, скудно, но изящно обставленные. В одной из них заметил на стене прекрасной работы каллиграфический свиток, а в другом месте — глиняный горшок с крошечным деревцем-бонсай безукоризненной формы. Когда великанша наконец растворила дверь в покои своей госпожи, Акитада даже зажмурился. Множество свечей и фонариков ярким светом заливали покои, больше напоминавшие китайский дворец, нежели традиционный японский дом. Перекрытия под потолком были выкрашены ярким красным и зеленым лаком, и повсюду в огромной комнате стояли вешалки с богатой одеждой. Вдоль стены тянулись в рядок резные и лакированные столики, расписные, обитые кожей платяные сундуки и плетеные бамбуковые подставки с изысканной посудой для чая, какую Акитада однажды видел в столичной лавке богатого китайского торговца. Ступив внутрь, он почувствовал под ногами что-то невыразимо мягкое и теплое, гораздо более приятное, чем самые толстые циновки из морских водорослей. Эта пушистая роскошь оказалась китайским ковром с узорами из цветов и бабочек. Даже створками дверей здесь служили лакированные решетки или обтянутые бумагой панели с изображением жанровых сценок. Одна такая дверь затворилась за ним, и он остался наедине с вдовой. Если от созерцания комнаты у него захватило дух, то при виде дамы, пославшей за ним, он едва не ослеп. Она сидела на помосте, высоком даже для особы императорских кровей. Стойка с занавеской, коей по этикету надлежало укрывать даму благородного происхождения от глаз посетителей-мужчин, не помешала Акитаде от дверей разглядеть женскую фигуру почти полностью. Поверх траурного облачения на ней был цветастый жакет с вышитой цветущей сакурой на небесно-голубом фоне. Волосы, обрамлявшие бледное овальное личико, ниспадали на плечи, словно потоки черного лака. В огромных глазах, смотревших на гостя, застыла мольба, губки были слегка приоткрыты. Акитада был так очарован ее красотой, что не мог оторвать глаз; она же, покраснев, тотчас прикрыла лицо изысканным расписным веером. — Спасибо, что пришли, вы очень добры, — поклонилась она, прячась за веером. — Пожалуйста, садитесь, господин. Акитада опустился на подушку настолько близко к помосту, насколько это позволяли приличия. — Я лишьсовсем недавно удостоился чести познакомиться с вашим покойным мужем, но, мне кажется, успел высоко оценить этого человека, — тихо начал он. — Я пришел выразить вам мою глубокую печаль по поводу его кончины. — Благодарю вас. — За занавеской вздохнули, и стало тихо. Потом вдруг она крикнула: — Мне кажется, я ненавижу монахов! И от благовоний этих мне становится дурно. Я едва не потеряла сознание там, в зале, просидев долгие часы под это бормотание, колокольчики, барабаны и ужасный запах. Мне даже хотелось умереть! Сердце у Акитады защемило. Это неискушенное, неопытное создание, конечно, не может вынести всей суровости поминального ритуала. Она еще дитя, слишком юна, чтобы понять всю значимость древнего обряда и найти в себе силы и стойкость, коими гордилась бы более зрелая женщина. — Да, все это очень трудно для вас, и я это хорошо понимаю, — мягко проговорил он. — Как я могу помочь вам? — Не могли бы вы иногда навещать меня? Просто разговаривать, как сейчас. Я так одинока с тех пор, как… — Голос ее дрогнул. Акитада не знал, что сказать. — О, простите меня! — воскликнула она. — Вы, наверное, считаете меня ужасной. Вы такая важная особа из столицы! И мне не следовало просить вас о таких вещах. — Нет-нет! Вовсе нет, — оживился Акитада. — Я охотно буду навещать вас каждый день, если вы позволите. Почту за честь такое доверие со стороны светлейшей госпожи. Она вздохнула с облегчением, и из-за занавески вдруг показалась маленькая нежная ручка. Акитада растерялся. Касаться дамы из чужой семьи строжайше запрещалось, но ручка была такая маленькая и беспомощная, поистине детская, даже меньше, чем у его младшей сестры. Да, она, конечно, вдова князя Татибаны и все равно всего лишь девочка, так похожая на его сестру. Только в отличие от сестры одна-одинешенька в целом мире и нуждается в поддержке, в обществе кого-то, кто заменил бы ей, пусть ненадолго, брата или отца, которых у нее не было. Он чуть придвинулся и взял эту крохотную ручку в свои ладони. Она была очень холодная и тут же жадно приникла к его теплым пальцам. — Какие у вас теплые руки, — прошелестело из-за занавески. — А я совсем замерзла, просидев там, в зале, много часов подряд. Акитада почувствовал себя неловко и вдруг со всей отчетливостью осознал, что они совсем одни. — Может, мне позвать вашу няньку, чтобы она принесла горячую жаровню? — предложил он. Маленькие пальчики только крепче сжали его руку. — Пожалуйста, не надо. Она слишком много суетится. — Тогда позвольте мне хоть как-то помочь вам. Я хорошо разбираюсь в законах, а вас вскоре ожидает бумажная волокита. Скажите, князь Татибана назначил душеприказчика? Ее пальцы дернулись и сжались в кулачок. — Понятия не имею, что это такое, — сказала она. — Мне ничего не известно о подобных вещах. Никто ко мне не приходит. — Никто? Как странно! — Акитада все больше ощущал неловкость своего положения. Слегка стиснув ее пальчики, он попытался отнять свою руку. Но она только крепче сжала ее, прежде чем отдернуть свою. К своему ужасу, он снова услышал из-за занавески всхлипывание. — Простите, — смущенно проговорил Акитада. Всхлипывания стали громче, и тогда он взмолился: — Вы не должны плакать! Все будет хорошо, вот увидите. Вы молоды и очень красивы, и в вашей жизни еще будет счастье. — Нет! — воскликнула она. — Никто никогда больше не захочет меня. Лучше бы я тоже умерла! Акитада поднялся. Она рухнула лицом вниз, хрупкой кучкой шелка и глянцевых волос, узкие плечики и спина содрогались от рыданий, и две крохотные ножки в белых носочках горестно бились одна о другую. Он отставил ширму, опустился на колени и сгреб ее в объятия, словно маленькое плачущее дитя. Он гладил ее по спине, уткнувшись лицом в ароматные волосы, и бормотал слова утешения, а она прижималась к нему с отчаянием одинокого ребенка. — Хм!.. — Хриплый резкий звук, донесшийся от двери, прервал попытки Акитады утешить вдову. Над ними горой возвышалась нянька, на неприятном лице застыло хмурое неодобрение. Акитада выпустил из объятий плачущую девушку и поднялся на ноги. — Очень хорошо, что ты пришла, — сказал он. — Твоей хозяйке нужна помощь. Она очень расстроена и… э-э… замерзла. Принеси-ка сюда жаровню. И выпить чего-нибудь горячего! — Смущенный своим глупым лепетом, он отошел в сторону. Служанка ворча водрузила ширму на место. Женщины о чем-то тихо пошептались, потом нянька хрипло пробурчала: — Ей нужен отдых. Приходите завтра. Акитада повернулся, чтобы уйти. — Нет, подождите! — крикнула вдова. Он остановился и, боясь снова увидеть ее за ширмой, вперил взгляд в другой конец комнаты, где между двумя высокими резными столиками, на одном из которых стояла зеленая жадеитовая китайская ваза с тонким горлышком, висела на стене картина, изображавшая танцующих журавлей. — Ведь мой муж пригласил вас? — Да, госпожа Татибана. И я надеялся познакомиться с ним поближе. — Он имел в виду что-то определенное? Быть может, обещал показать или рассказать вам что-то? Акитада чуть помедлил: — Нет, не думаю. А почему вы спрашиваете? — Ну… просто подумала, если б вы знали, о чем шла речь, то, возможно, я сумела бы помочь вам найти это. Акитада вспомнил про ящики с документами в кабинете. — Ваш муж говорил, что работает над историей края. Мне это интересно. — В таком случае можете безо всякого стеснения изучить его записи в кабинете. В любое удобное для вас время. — Благодарю вас, госпожа Татибана. Вы чрезвычайно добры. — Все еще избегая смотреть в ее сторону, Акитада поклонился и вышел. Служанка выскочила следом, окликнув уже знакомым «хм!». Акитада окинул ее вопросительным взглядом. И манеры, и наружность этой женщины и впрямь не вызывали симпатии. — Я слушаю, — сказал он. — Она еще ребенок, — укоризненно проговорила женщина. — Нуждается в заботе и спокойствии. Акитада смягчился. — Я предложил ей помочь уладить дела с имуществом. — объяснил он. — Правда, что об этом некому позаботиться? — Правда. И это неудивительно! Вечно сидел, уткнувшись носом в свои бумажки. Ни тебе общества, ни гостей! А когда не торчал в кабинете, то возился со своими цветочками и камешками в салу. Больше времени уделял своим рыбам, чем жене. Бедное дитя! — Да, она очень молода, — вздохнув, согласился Акитада. Эта женщина заслуживала доверия хотя бы тем, что так заботилась о своей юной госпоже, даже несмотря на неподобающее прислуге непочтение к хозяину. — Ей всего семнадцать. С минувшего лета молодой капитан ходил к ним. О, как мою юную госпожу забавляли его истории! Она прямо на глазах менялась. А вот хозяину это не нравилось. И он выставил его из дому. — Кого? Капитана Юкинари? — уточнил Акитада. — Ну да, его самого. И теперь он даже не зайдет поговорить с ней. Акитаде стало ясно, почему Юкинари так болезненно отреагировал на предложение навестить вдову. Последние штрихи к портрету князя Татибаны — потерявшего голову от любви старика, который держал это прекрасное дитя среди невообразимой роскоши, ревниво устраняя любого потенциального соперника. На смену этой мысли пришла другая. — А твой хозяин, вернувшись из гостей, наведывался вчера вечером в покои жены? — спросил он у няньки. В ее маленьких глазках что-то промелькнуло, но она тут же опомнилась и напряглась. — Я не обсуждаю личные дела господ с посторонними людьми. Акитада почувствовал, как краснеет. — Не говори глупостей, женщина, — отрезал он. — Очень скоро этот же вопрос задаст тебе префект. Это обычное дело, когда речь идет о внезапной смерти. А я всего лишь хотел узнать, упоминал ли князь Татибана о моем предстоящем визите в присутствии жены. Она подозрительно его оглядела и нахмурилась: — Не знаю. Я спала. — Немного подумав, нянька прибавила: — Хозяин редко наведывался в покои госпожи. Из-за разницы в возрасте он скорее был отцом ей, моему бедному маленькому цветочку. А теперь у нее и вовсе никого нет, кроме меня. Слуги в этом доме вруны и воры, а вот хозяин всегда защищал мою бедную госпожу. И что теперь с нами будет?! — Она всхлипнула и утерлась рукавом. — О вас обеих позаботятся, — поспешил уверить ее Акитада и зашагал прочь.Через траурный зал, где все еще шла служба, он вышел на улицу и даже зажмурился от яркого дневного света, а свежий морозный воздух показался упоительным после удушливой копоти благовоний. Обувшись, Акитада спустился во двор и направился в сторону кабинета. На перекрестке дорожек Дзюндзиро разговаривал с какой-то женщиной. Увидев его, они переглянулись и низко поклонились. — Это моя мать, — представил Дзюндзиро. — Она работает на кухне и хочет вам кое-что сказать. Акитада вспомнил о враждебности, с которой слуги в этом доме относились к своей госпоже. — Я слушаю?.. — сухо произнес он. — Дзюндзиро говорит, что я обязана рассказать, — робко начала женщина. У нее было открытое миловидное лицо, и она с явной гордостью и восхищением смотрела на сына. — Речь пойдет о доблестном капитане, господин. Я видела, как сегодня утром, еще до рассвета, он проходил мимо кухонного окна. Я потому запомнила, что как раз собиралась готовить завтрак для госпожи. — Она залилась стыдливым румянцем и прибавила: — Она всегда завтракает после ухода капитана. Акитада опешил, мысли путались в голове. — О чем это ты? — тупо переспросил он. — Ты хочешь сказать, что капитан был у госпожи Татибана еще до моего прихода? — Было еще темно, — пояснила женщина и съежилась от страха, пытаясь заглянуть ему в глаза. Дзюндзиро обнял мать за плечи. — Только пожалуйста, господин, не говорите хозяйке о том, что мы вам рассказали. Мать вообще не хотела говорить, но я подумал, что надо — теперь-то, когда хозяин умер. Мать однажды уже рассказала старой Кику про визиты капитана, а Кику растрепала няньке. А вскоре нагрянули полицейские и забрали старуху за то, что она якобы украла у госпожи какую-то одежку. Одежку эту нашли у Кику под постелью. Мы-то знаем, что не она запрятала ее туда, но хозяин, конечно, поверил госпоже. Это была дрянная история, и дела оборачивались скверно. Акитада с подозрением смотрел на мать и сына. Обиженным слугам ничего не стоит обвинить хозяев в самых ужасных вещах. — И как же ты узнала капитана, если было темно? — спросил он у женщины хриплым от волнения голосом. Она испугалась еще больше. — Свет из кухни блеснул на его шлеме, господин. Да к тому же он бежал к задней калитке. Он всегда через нее приходил и уходил. Акитада, сжимая кулаки, посмотрел в дальний конец владений, не замечая, что ногти до крови впились в ладони. — Сообщите эти сведения префекту, когда он вернется, — мертвым голосом произнес он. Начинало смеркаться. Акитада повернулся и направился к главным ворогам. Возле сторожки он остановился и постучал. Ответа не последовало. Тогда он постучал громче и настойчивее, и на пороге показался заспанный Сато. Старик сразу же бухнулся на колени. — Простите меня, ваше превосходительство! — взмолился он, колотясь лбом о грязный пол. — Я, наверное, задремал. Уж такой денек сегодня выдался! Все эти монахи… Целый день глаз не сомкнул. — Да ладно, брось. У меня к тебе есть кое-какие вопросы. — Акитада распахнул дверь пошире и вошел. В тесной комнатушке были только рваная циновка, тюфяк и жаровня. — Да разве ж это подходящее место для вашего превосходительства?! — запротестовал Сато. — Может, пойдем в дом? — Нет, и здесь сойдет. — Акитада присел на тюфяк. Сато закрыл дверь и выжидательно опустился на колени. — Скажи-ка, префект и его люди забирали какие-нибудь бумаги из кабинета? — Нет, ваше превосходительство. Я внимательно за этим следил и все запер, когда они ушли. — Твой хозяин, вернувшись вчера вечером, чем занимался? — Ну… наверное, заснул. Мне он сказал, что я ему не нужен, поэтому я пошел спать. — А утром ты его видел? Подавал завтрак или, может, помогал одеться? — Нет, ваше превосходительство. Его светлость, мой господин, был покрепче меня. Он поднимался до зари и никогда меня не беспокоил. Утром сам себе делал чай, а еда, говорил, в такое раннее время вредна для желудка. Он вообще стал слаб на желудок после того прошлогоднего случая. — Тогда откуда тебе известно, что он находился у себя в кабинете, когда пришел я? — не сдержавшись, заорал Акитада. Старик заморгал. — Но он всегда первым делом шел туда по утрам! — заплакал он. — А ты знал, что капитан Юкинари побывал в этом доме еще до моего прихода? Старик побледнел и отвернулся. — Нет, ваше превосходительство. — Лжешь! — Акитада стукнул по полу кулаком. — Ни для кого из слуг не было секретом, что капитан крутил любовные шашни с госпожой под самым носом у вашего хозяина. Сегодня утром его видели, когда он выходил через заднюю калитку. Вскоре после этого я нашел твоего хозяина мертвым. Так что же тебе известно о пакостных любовных делишках в этом доме? Сато вскрикнул и заколотился лбом о грязный пол. — Простите меня, ваше превосходительство. Ходили тут всякие разговоры, только я не обращал внимания. Бабьи сплетни. Я-то думал, капитан ходит к хозяину. Они оба увлекались садом. — Так ты впускал его вчера вечером или сегодня утром? — Э-э… нет… Он всегда приходил и уходил сам, — затрясся Сато. — Я же не могу всюду поспеть, — заныл он, стуча зубами. — И память у меня уже не та, но я стараюсь хорошо выполнять свою работу. А ведь сколько всего нужно упомнить, о скольком позаботиться! — Ты подвел своего хозяина, когда он нуждался в тебе, — отрезал ледяным тоном Акитада. — Посторонние свободно входят и выходят через заднюю калитку, пока ты валяешься здесь и дрыхнешь дни напролет. Твой хозяин был бы сейчас жив, если бы ты выполнял свои обязанности. — Он встал, отряхнул с платья пыль и вышел. — Но как же мог я уберечь хозяина от падения? — запричитал за спиной старый Сато.
Акитада вернулся к себе в гостиницу в скверном настроении, да что там — просто в ярости. Скинув гэта на веранде, он услышал голоса и бросился в комнату, решив, что вернулся Тора, раздобывший какие-нибудь сведения. К своему удивлению, он обнаружил там Сэймэя, который пил чай в обществе губернатора. — А вот и вы, Сугавара! — просиял круглолицый Мотосукэ. — А я успел узнать ценные травяные рецепты от болей в спине. Сэймэй просто сокровище. Вам можно позавидовать. Вы же, так сказать, путешествуете со своим собственным доктором. Сэймэй самодовольно улыбался. — Что привело вас ко мне, губернатор? — сухо поинтересовался Акитада. — Откуда такое уныние, мой дорогой друг? — удивился Мотосукэ. — Сэймэй говорит, что с моими злосчастными счетами вы уже покончили. Так что теперь мы наконец можем побеседовать о чем-нибудь приятном — например, о столичной жизни или местных достопримечательностях. Какие развлечения вы предпочитаете? Мяч? Верховая езда? А игры любите? На музыкальных инструментах играете? Рисуете? Или, быть может, хотите познакомиться с очаровательными местными девушками? Их провинциальные манеры несколько грубоваты, но этот недостаток возмещается другими талантами. — Он хлопнул себя по ляжкам и расхохотался. — У меня нет времени на такие вещи, — отрезал Акитада. — Вы, видимо, забыли о пропавших грузах. А между тем мне нужна ваша помощь. Мотосукэ заметно приуныл. — Для своего возраста вы слишком уж серьезны, — печально покачал он головой. — Уж прямо и не знаю: может, мне стоит величать вас старшим братом, хотя вы не многим старше моей дочери. По правде говоря, я бы очень хотел, чтобы вы уладили это противное дело с пропажей налогов. Ведь оно пятном ложится на мою репутацию. Только боюсь, это вряд ли получится. — Что вы имеете в виду? — Депеши из столицы. — Мотосукэ указал на запечатанный бумажный сверток на низеньком столике. — Полагаю, в вашем пакете такие же новости, что и в моем. Акитада взял в руки сверток и сорвал с него императорскую канцелярскую печать. Он пробежал глазами содержимое письма, побледнел и уронил листок. — Что случилось? — встревожился Сэймэй. — Меня отзывают, — бесцветным голосом сообщил Акитада.
ГЛАВА 9 Свиток Дракона
Ну что же вы приуныли?! — вскричал губернатор, увидев их вытянутые лица. — Я получил указание сопровождать вас на обратном пути. Но до отъезда у нас еще много времени и вы можете пока изучить город и его окрестности. Главное, что вам больше не надо беспокоиться об этих злосчастных пропажах. Высочайшие столичные власти со всей своей мудростью порешили навсегда забыть об этом деле. — Он помолчал и напустил на себя озадаченный вид. — Интересно только почему? Акитада задумчиво смотрел на него. Если Мотосукэ замешан в преступлении, то больше нет смысла играть в какие-то игры, но если не замешан, то уж, конечно, не может быть так глуп. — Полагаю, все дело в чести, которую император собирается оказать вашей дочери, — холодно заметил Акитада. — А какая тут связь? — простодушно спросил Мотосукэ, но с опозданием уловив смысл услышанного, покраснел. Смело глядя ему в глаза, Акитада продолжил: — Да. Официально вы теперь вне подозрений. — И увидел, как на круглое довольное лицо легла тень, но ему больше не было дела до чувств Мотосукэ. А между тем губернатор молчал и, опустив голову, разглядывал свои руки. — Вы считаете меня виновным. Я знаю. Все так считают, — печально произнес он и тяжко вздохнул. — Да. Вы всегда были наиболее вероятным подозреваемым, — подтвердил Акитада. — Хотя, например, ваш секретарь проявляет редкую преданность вам. Акитада с ужасом заметил, как по щекам Мотосукэ побежали слезы. — Старый добрый Акинобу, — пробормотал он. — Бедняга! Ведь это подозрение касается и его. А между тем ему совсем некуда податься. Надо бы посмотреть, что я могу сделать для этого человека. Сам того не желая, Акитада смягчился и неожиданно для себя спросил: — Скажите, зачем вы пытались подкупить меня? Мотосукэ удивленно вскинул голову. — Подкупить? Вас?! Я никогда этого не делал! — А как же еще я должен расценивать эти десять золотых слитков, что нашел у себя в комнате в день приезда? Мотосукэ, казалось, был ошеломлен. — Они предназначались для покрытия ваших расходов. Я получил прямые инструкции на этот счет. А вы, стало быть, ничего не знали? Разве вам никто не сказал? Министр внутренних дел лично написал мне. В его послании говорилось, что в спешке вам не успели выделить казенные средства в столице и я должен решить этот вопрос. Они смотрели друг на друга в крайнем смущении. Акитада вдруг с содроганием осознал, что, сам того не желая, сильно обидел Мотосукэ. Он понял, что вопреки всем правилам юриспруденции строил свои выводы о вине этого человека, основываясь целиком и полностью на личных и к тому же ошибочных впечатлениях о его характере. Одним словом, отнесся к Мотосукэ с предубеждением. Пока Акитада лихорадочно искал слова для извинений, Мотосукэ громко расхохотался. — Вот так путаница! — радостно вскричал он. — Вот, значит, почему вы отослали мне золото без единого объяснения и откуда эти ваши колючие взгляды! Хо-хо-хо!.. А я-то считал вас грубияном. И даже гадал, не прислали ли вас мои враги, чтобы подтасовать счета. — Он все не мог унять смех. — Ну надо же!.. Мы подозревали друг друга! Хо-хо-хо!.. И все это время вы думали… — Он едва перевел дух. Акитада смущенно улыбнулся. — Рад, что вы восприняли это с легким сердцем. Моя ошибка непростительна. Дело в том, что я новичок в этом деле, никогда не был инспектором и никто не сказал мне о деньгах. Мотосукэ снова засмеялся, а Сэймэй, до сих пор слушавший с открытым от удивления ртом, самодовольно заметил: — Все это время я так и думал, господин, — что вы не правы. Вообще-то я вам говорил: «Подозрение поднимает демонов из тьмы». Вот что я говорил. И теперь скажите, разве не приятно знать, что все благополучно разрешилось? Акитада хмуро посмотрел на него и обратился к Мотосукэ: — Ну что ж, по крайней мере у меня будет возможность исправить свою ошибку и попытаться полностью обелить ваше имя. Сколько времени у нас есть? Мотосукэ небрежно махнул рукой. — О… несколько недель, никак не меньше. — Не будь я таким дураком, я бы давно расспросил у вас обо всех, кто может нести ответственность за эти кражи. Мотосукэ вздохнул. — Не думайте, что я не размышлял об этом. Впрочем, спрашивайте. — Тогда скажите, что за человек Икэда? — Вот на него я, знаете ли, не подумал бы. Усерден, трудолюбив, честолюбив. Изрядный зануда, конечно, но дело свое знает отлично. Такому человеку самое место в столице, но Икэда из простолюдинов и никогда не взберется так высоко; разве что удачно женится. Кстати, насчет женитьбы. У Икэды хватило смелости попросить у меня руки моей дочери, но я поставил его на место, и он красиво извинился. Даже у Юкинари и то связей побольше. — А Юкинари хотел жениться на вашей дочери? — О!.. Не то слово! Он увидел мою дочь и влюбился в нее по уши. И она, знаете ли, не отвергла его. Он молод, красив, да и военная выправка всегда кружит девушкам голову. Все это, конечно, крайне меня беспокоило, но, слава Богу, сошло на нет. Теперь Акитаде стало ясно, почему Юкинари так отреагировал, когда Мотосукэ объявил, какое будущее ждет его дочь. Начальник военного гарнизона определенно вел сложную и запутанную любовную жизнь. Мысль о том, что он был любовником госпожи Татибана, по-прежнему болью отзывалась в душе. Любовником этого плачущего ребенка!.. Акитада с трудом заставил себя вернуться к насущным делам. — А Татибана? — Жаль старого Татибану. Кто бы мог подумать, что он сойдет в могилу так быстро?! Я любил старика, но он жил замкнуто. Как-то, еще давно, он попросил разрешить ему доступ к архивам, и я однажды встретил его там и пригласил на чашку саке. А потом он женился во второй раз, это был неравный брак, и мы перестали общаться. Со вдовой-то вы встречались? — Да. — Уловив в интонациях собеседника неодобрение по отношению к прекрасной вдове, Акитада поспешил сменить тему. — Боюсь, ее супруг умер при подозрительных обстоятельствах. — При подозрительных обстоятельствах?! Что вы имеете в виду? Акитада рассказал Мотосукэ о тайном приглашении и описал то, что увидел, когда пришел. Откровенная озадаченность, удивление и ужас быстро сменяли друг друга на лице губернатора. — И меня очень удивило, почему Икэда объявил эту смерть несчастным случаем, — заключил Акитада. Мотосукэ вскочил и принялся возбужденно расхаживать по комнате. — Убийство! Поверить не могу! Вы правы — не может быть, чтобы Икэда допустил такую ошибку. Он всегда очень внимательный и усердный во всем. Но там был и Юкинари. Интересно, есть ли тут связь? Они ведь старые враги, знаете ли. Вы не представляете, сколько было ревности, когда они соперничали из-за моей дочери, к тому же Юкинари всегда презирал Икэду за его происхождение. Акитада гнал от себя мысли о любовных шашнях Юкинари. — А я считаю, что Татибану убили из-за пропажи ценных грузов. — Похоже на то. — Мотосукэ снова сел и покачал головой. — Ему следовало как-то поставить меня в известность, но он, конечно же, меня подозревал. Если бы он давеча не шепнул вам на ухо, я бы наверняка заподозрил в его смерти какого-нибудь грабителя. Ведь этот его привратник совсем дряхлый. Говорят, к ним в дом может зайти кто угодно, пока все спят. — Пожалуйста, держите при себе эти подозрения до поры до времени, — попросил Акитада и признался: — Меня очень озадачил настоятель, хотя я и не понимаю, как он связан с убийством Татибаны. Монастырь Дзото слишком быстро разбогател. Вы не знаете, как это получилось? Мотосукэ беспокойно заерзал. — Они держат своих доброжелателей в тайне, особенно те влиятельные семьи, которые делают наиболее крупные пожертвования. Кроме того, в монастырь стекаются толпы паломников и тоже преподносят свои дары. Установить источник благополучия монастыря практически невозможно. Кстати, Дзото утверждает, что все его строительные планы уже осуществлены. Недавно был достроен последний храм, и вскоре состоится его освящение. Это станет крупным событием. — Не сомневаюсь. Но некоторые из его монахов ведут себя недостойно. Мой слуга недавно видел, как двое из них напали возле рынка на глухонемую девушку. Мотосукэ выпрямился. — Глухонемую?! Она не художница? — По-моему, она рисует, — удивился Акитада. — Странно. Говорят, она очень хорошая. Да, вообще-то мне докладывали о безобразиях. Я как-то сказал об этом Дзото, но ему, кажется, не хватает проповедей на все случаи. Он, помнится, говорил мне что-то о невоздержании. Боюсь, беда его в том, что среди послушников слишком много молодых парней, которым легко оступиться. Да и местное население, знаете ли, жалует монахов — ведь благодаря им в городе бойко идет торговля, так что неприятности никому не нужны. — Мотосукэ вдруг поджал губы и медленно покачал головой. — Нет, мой дорогой друг. Можете предпринять что угодно, но о Дзото и монастыре Четырехкратной Мудрости вам лучше забыть. Губернатор вскоре ушел. Акитада с Сэймэем уже начали подумывать об ужине, когда явился Тора. Вид у него был настолько подавленный, что Акитада спросил, что случилось. — Целый день потерял, и все без толку, — мрачно признался Тора. — Ну-ка садись и расскажи. Тора взял у Сэймэя из рук предложенную чашку саке и принялся перечислять свои неудачи. Его рассказ расстроил Акитаду, зато Сэймэй кивал с отеческим одобрением. — Не нужно так унывать, сынок, — сказал он. — Тебе довелось повстречать злых людей, но ты сохранил свое достоинство и пытался защитить слабого. Ты поступил правильно. Человеку обязательно воздастся за дела его. Но Тора лишь покачал головой: — Ничего хорошего я не сделал и зашел сообщить, что завтра утром ухожу. — Что-о?! — в один голос вскричали Акитада с Сэймэем. На это Тора ответствовал: — Я пытался, но понял, что не могу служить вам. Такую одежду, что вы мне дали, носят чиновники, а чиновники — это сброд, который угнетает трудовой люд. Вы послали меня говорить с людьми, которые и собаку-то в честь чиновника не назовут. Не могу я выполнять ваши поручения и устал разъяснять на каждом углу, что я не чиновник, а вы, благородный господин, пытаетесь помочь этим людям. Даже мой друг Хидэсато, который был мне как старший брат, сбежал, едва услышав, на кого я работаю. Эта страстная речь потрясла Акитаду, и он не знал, что ответить, но Сэймэй, оглядев собственное строго-синее кимоно, воскликнул: — Что за глупости ты несешь? Наша одежда отмечает наш уважаемый и достойный труд. В столице простые люди смотрят на нас с почтением. Неужели ты хочешь на всю жизнь остаться жалким оборванцем? — По-моему, Тора имел в виду совсем другое, — поспешил вмешаться Акитада. — Похоже, люди в здешних краях питают несколько иные чувства к подобным нам людям. Представь себе, какой-нибудь крестьянин честно возделывает свое поле, а скромный торговец трудится у себя в лавке, а потом приходит такой вот чистенький разряженный чиновник и отнимает у него кровью и потом заработанные деньги, гонит на военную службу или поденщину. Тора закивал: — То есть ворует, ежели сказать по-другому. Да клянусь самим Буддой, я в жизни не стал бы работать на проклятого чиновника вроде вас, если б вы не были таким хорошим человеком! Вы не такой, как они, но я не могу предать тех, кто находится в равном со мной положении. А вот Хидэсато думает, что я предал. Акитада с Сэймэем переглянулись. — Расскажи-ка мне о своем друге, — предложил Акитада. Тора вздохнул. — Он был у меня сержантом, когда я поступил в войско зеленым новобранцем. Мы с ним были всегда неразлучны. Он учил меня палочному бою, чтобы отвлечь от тягостных мыслей после смерти моих родителей. Научил метко стрелять из лука, научил, как поразить в самое сердце гулящую девчонку, когда тебе месяцами не платят. Он не раз выручал меня из беды, а я прикрывал его, когда он напивался или отлучался из лагеря к своей подружке. — Тора замолчал и виновато посмотрел на Акитаду. — Я понимаю, вы спасли мне жизнь, но это совсем другое. Вам это не стоило труда. Только и надо было сказать этим ублюдкам, кто вы такой, и они сразу же меня отпустили. Вы — благородный господин, а Хидэсато… он мне как брат. Сэймэй напыжился и хотел уже возмутиться, но Акитада положил руку старику на плечо. Сейчас он завидовал незнакомцу, сумевшему сделать то, что не удалось ему — завоевать преданность Торы, но вслух только сказал: — Я тебя понимаю. Может, вместе мы сумеем найти Хидэсато и все ему объяснить? — И вы стали бы это делать? — Конечно. Я же считаю тебя своим другом. Тора покраснел и поник головой. — У таких людей, как вы, не бывает друзей среди таких, как я. — Это почему же? Я вот, например, надеюсь, что ты познакомишь меня с Хидэсато и с тем борцом-калекой и его дочерьми. Тора просиял. — С Хигэкуро? А что, может, прямо сейчас? Он, наверное, уже закончил последний урок. — Можно и сейчас, — улыбнулся Акитада.Они застали Хигэкуро и Отоми за игрой в го[1375], а Аяко тем временем чинила поломавшийся лук. Тора представил им своего хозяина. Акитаду поразили размеры и крепость мышц калеки, а еще больше потрясла естественность, с которой тот его принял. В учтивом поклоне не было ни капли раболепия, и он не пресмыкался перед важным гостем, когда непринужденно велел своим дочерям подать к столу вина. Он не извинялся за бедный прием, а речь выдавала в нем человека образованного и воспитанного. Акитада огляделся по сторонам. Ему понравилась простая чистая комната. Здесь было все, что требовалось человеку дома — удобный помост, где можно отдохнуть или поиграть в настольную игру, и согревающие воздух жаровенки с готовящейся на них ароматной пищей, несколько сундуков для хранения вещей и почтительные, услужливые дети. Простенькие полотняные кимоно не могли скрыть стройности и изящества двух молодых женщин: одной — миловидной и робкой, другой — проворной и шустрой. Аяко с открытым любопытством изучала гостя. Когда Акитада улыбнулся, она чуть вскинула голову, и было в этом жесте что-то на редкость обаятельное. Поглаживая густую черную бороду, Хигэкуро принялся расспрашивать о боевых искусствах в столице. Акитада рассказал ему что знал, и между ними завязалась непринужденная беседа. Акитада перечислил все, чем когда-то занимался, — игра в мяч, лошадиные скачки в гарнизоне императорской гвардии, борьба, уроки которой он одно время с удовольствием брал у знаменитого чемпиона, и продолжительные тренировки по владению мечом. В ответ Хигэкуро поведал ему нечто похожее о своей юности. — Так выходит, вы тоже выросли в столице? — удивился Акитада. — Да. И тогда же был сослан. — Хигэкуро улыбнулся, видя изумление гостя. — История моя в общем-то обычная. Я вырос в благородной семье и учился военному делу. Но одного из моих дядюшек обвинили в государственной измене, всех членов клана приговорили к ссылке, имущество конфисковали, отняли регалии. Я тогда уже имел семью, а боевые искусства были моим единственным умением. Они-то и помогали мне поддерживать родителей до самой их смерти. Вскоре после этого умерла моя жена, но я успел вырастить дочерей, прежде чем несчастный случай сделал меня калекой. Пока он рассказывал эту трагическую историю, улыбка не сходила с его лица. Акитада был глубоко тронут его мужеством. — Вам выпала трудная доля, — смущенно произнес он. — Вовсе нет. Я счастливый человек. Аяко помогает мне в школе, а Отоми с каждым днем все больше зарабатывает рисунками. — Он улыбнулся, не скрывая гордости и восхищения дочерьми. Акитада посмотрел на сидевшую рядом Аяко. Руки ее покоились на коленях, но он заметил, какие сильные у нее пальцы. А между тем ее сестра уговорила Тору сыграть с нею в го. Личико Отоми лучилось улыбкой, когда она смотрела на него. Он тоже улыбался, пока она расставляла фишки своей нежной округлой ручкой. Акитаде вдруг вспомнились холодные пальчики юной вдовы в доме Татибаны, и его поразило, какими разными были эти три молодые женщины. Оторвавшись от раздумий, он вернулся к разговору с Хигэкуро. — Губернатор отзывался о вашей дочери как о прекрасной художнице. Нельзя ли мне посмотреть ее работы? — Вы говорите, губернатор? — Хигэкуро громко хлопнул в ладоши, но Отоми и Тора были увлечены игрой. Только когда сестра взяла Отоми за плечо, та обернулась. Отец и дочь объяснились на языке жестов, потом Отоми, с улыбкой поклонившись Акитаде, направилась к лесенке на чердак. Вскоре она принесла охапку свитков и, положив их на помост, вернулась к игре. Акитада разворачивал свиток за свитком, Хигэкуро и Аяко молча сидели у него за спиной. Отоми оказалась замечательной художницей. Сам он всегда предпочитал более сдержанные пейзажи такому вот буйству красок, но эти рисунки, выполненные с великим мастерством, поразили его точностью деталей. Он был достаточно знаком с религиозной живописью, чтобы понять — Отоми могла бы соперничать с любым столичным художником. Когда Акитада задержал свое внимание на одном скалистом туманном пейзаже, Аяко пояснила: — Мы тоже предпочитаем природу, но за буддийские сюжеты больше платят. Такие полотна хорошо расходятся и среди паломников, и среди местных жителей. А наша Отоми настоящий мастер деталей. Она посещает знаменитые монастыри и делает там копии росписей. Акитада улыбнулся. — Я бы хотел купить какой-нибудь пейзаж. Нет ли тут прекрасного вида с заливом Сагами? Когда я вернусь в столицу, он напомнит мне об этой поездке. Аяко забеспокоилась. — Вообще-то есть один, но его вряд ли назовешь пейзажем. Это корабль, попавший в бурю. — Вот как? Интересно. — Да, скорее даже изображение морского дракона. Помнишь такую картину, отец? Хигэкуро тоже выглядел встревоженным, новее же кивнул. — Покажи господину этот свиток, дочка, — сказал он, бросив быстрый взгляд на игроков в го. Аяко подошла к одному из сундуков и, достав из него свиток, развернула его перед Акитадой: — Отоми сделала этот рисунок во время своего последнего путешествия, но он огорчает ее, поэтому мы запираем его в сундук. Изображенный на картине корабль погибал в кольцах громадного морского дракона. Волны высотой с гору, черные тучи, сверкающие зубцы молний зловеще подчеркивали неминуемость гибели людей на борту суденышка. По точности деталей эта картина не уступала остальным работам, однако выполнена была торопливыми, размашистыми мазками, которыми художница сумела во всей полноте передать ощущение хаоса. Акитада склонился над картиной. Он разглядел солдат на корабле — вероятно, военном грузовом судне. Помимо вооруженных секирами — нагината — воинов он увидел сидящего в сторонке монаха. Люди эти, казалось, были абсолютно невозмутимы перед лицом нависшей катастрофы. Акитада подумал, что на свитке, возможно, запечатлена какая-то поучительная буддийская притча. Он вглядывался в фигурку монаха, пытаясь разгадать ее смысл, и вдруг ему показалось, что где-то он видел этого человека. — Нельзя ли спросить у твоей сестры, где она наблюдала эту сцену? — обратился он к Аяко. Девушка замялась, потом подошла к Отоми и передала ей вопрос Акитады. Младшая сестра испуганно вскинула голову и отчаянно зажестикулировала. — Она не хочет говорить об этом, — пояснила Аяко. Тогда Акитада сказал отцу девушек: — Я не хочу огорчать вашу дочь, но у меня такое ощущение, что с этой картиной связано что-то важное и значительное. — Вы тоже так считаете? — оживился Хигэкуро. — Я с вами согласен. Примерно месяц назад, уже после дня поминовения усопших, Отоми с группой местных паломников побывала в монастыре Безграничного Света, что в провинции Симоза. «Морской дракон» была одной из картин, привезенных из того путешествия. Мы заметили, что Отоми как-то изменилась по возвращении. Все время о чем-то думала, и ее мучили ночные кошмары. Я решил, что с ней что-то приключилось во время этого паломничества и свиток как-то причастен к этой тайне. А вы думаете, здесь есть связь с пропавшими грузами? Время-то как раз совпадает. Если такая связь существует, у меня появляется надежда помочь дочке. — Вы правы, — согласился Акитада. — И время и место паломничества вашей дочери примерно совпадают со временем и маршрутом последнего налогового каравана. А как путешествовала ваша дочь — на корабле или пешком по побережью? Хигэкуро озадаченно смотрел на Акитаду, потом повернулся к Отоми и спросил ее об этом на языке жестов. Девушка зажмурила на мгновение глаза и отчаянно замотала головой. Но отец настаивал, и она в конце концов кивнула. Взяв из жаровни уголек, Отоми принялась что-то корябать на полу, все время при этом жестикулируя. Хигэкуро перевел так: — Она жила на постоялом дворе монастыря. Под его стенами проходит большая дорога, а окна монастырской гостиницы выходят на залив Сагами. — Спросите ее, не проходил ли в это время по дороге вьючный караван. Но когда отец перевел дочери этот вопрос, Отоми побледнела и задрожала. Она нацарапала угольком несколько неразборчивых иероглифов, потом выронила его и пошатнулась. — Хватит! — крикнула Аяко, бросившись к плачущей сестре, и сердито сверкнула глазами на Акитаду: — Не мучайте ее! Акитада вмиг переменил свое мнение о девушках. Аяко оказалась прекраснее своей приторно миловидной сестры. И почему Тора так слеп? — Прошу простить меня, — сказал Акитада. — Но ты должна понять, что твоя сестра не обретет покоя, пока не облегчит душу и не поделится с нами своей тайной. — Моя сестра не такая, как я, она художница, — сердито возразила Аяко. — У нее нежная душа. Судя по всему, кто-то напал на нее и изнасиловал, и она не может так легко это пережить. Поверьте, если бы я не боялась еще больше ее травмировать, я бы давно выяснила, кто это сделал. — Она перевела дух и яростно прибавила: — Я бы убила его! Отоми вырвалась из объятий сестры и бросилась к Торе. Акитада не мог отвести глаз от Аяко. — Я уверен, что ты ошибаешься. С чего ты взяла, что твою сестру изнасиловали? — А что же еще могло быть? — Она сердито сплюнула. — Вы посмотрите на нее! Она очень красива и вызывает похоть у мужчин. А монахов, напавших на нее, вы забыли? — Она метнула свирепый взгляд на Тору. — Не сомневаюсь, что и ваш слуга преследует примерно те же цели. — Ничего подобного! — крикнул возмущенный Тора. — Аяко! — прогремел на всю комнату раскатистый бас Хигэкуро. Та покраснела и склонилась перед Торой. — Прошу простить меня за мои слова, — буркнула она угрюмо. — Но даже в такой необычной семье, как наша, тебе не следовало бы обнимать мою сестру. Тора поспешил выпустить из объятий Отоми, и та, всхлипывая, шмыгнула по лесенке на чердак. Хигэкуро вздохнул. — Вы, наверное, считаете нас странными, — повернулся он к Акитаде. — Но не забывайте, как сложилась наша жизнь. Дочки для меня все. Может, я и баловал их слишком, но все условности прошлой жизни больше ничего не значат для нас троих. Акитада понимающе кивнул и возвратился к свитку: — Любопытно, что оба раза во время приключений вашей дочери присутствовали монахи. Я вот интересуюсь монастырем Четырехкратной Мудрости и его настоятелем учителем Дзото. Отоми бывала там? — Да-а, часто. — Хигэкуро задумался над вопросом. — Она ходит туда продавать свои картины паломникам. Но, по-моему, тут нет никакой связи. Ученики настоятеля Дзото всегда ей помогают. И те, что расспрашивали о ней сегодня, вероятно, просто хотели направить сюда покупателей. — А ты что думаешь? — осторожно спросил Акитада у Аяко. Вскинув голову, та открыто смотрела ему в глаза. — Я думаю, что насчет монахов правы вы, а не отец. Если вы оставите мою сестру в покое, я помогу вам разобраться в этом вопросе. Акитада рассмеялся и поклонился. — Я восхищен крепостью твоего духа. Если твой отец разрешит, считай, что мы договорились. — И, повернувшись к Хигэкуро, спросил: — Вы доверите мне вашу дочь? Хигэкуро задумчиво погладил бороду: — Аяко не нуждается в моем разрешении, она вольна делать что хочет. Можете доверять ей во всем. Она никогда не растеряется в самой трудной и опасной ситуации. Вот Тора говорил нам, что вы интересуетесь палочным боем. Хотите, Аяко преподаст вам урок? Акитаде показалось, что при этих словах девушка огорчилась, однако улыбнулась и спросила: — Вы хотите, господин? Сгорая от любопытства, Акитада поднялся. — Почту за честь. Взяв масляную лампу, Аяко повела его в темный учебный зал и зажгла там светильники. Зал словно ожил и казался теперь зловещим из-за мерцающих на сквозняке огоньков, придававших знакомым предметам таинственные, пугающие очертания. — Выбирайте себе палку, — предложила Аяко, указав на стойку с оружием. Ощущая некоторую неловкость, Акитада скинул уличную одежду и закатал штаны, потом выбрал себе палку и принял боевую позу. Аяко сбросила кимоно и осталась в одних штанах. С невозмутимым видом она наклонилась подвязать на коленях тесемки. Акитада видел на полях крестьянских женщин с голой грудью, но никак не ожидал, что эта молодая красавица вот так запросто разденется перед ним, приведя его в состояние шока. — Ты даешь уроки в таком виде? — Слова выскочили у него сами, он даже не успел спохватиться. Она медленно распрямилась и внимательно посмотрела на него. Тело ее было прекрасно — по-мальчишески тонкий, мускулистый торс, высокие упругие груди, плоский животик, округлые бедра. Нижняя часть ее тела была скрыта под тканью штанов, но Акитада мысленно представил себе все и даже судорожно сглотнул появившийся от волнения ком в горле. — Нет, — сухо сказала она и потянулась к висевшей на гвозде рубашке-безрукавке. — Мужчинам не нравится сражаться с женщинами, поэтому я одеваюсь в рубашку и штаны как уличный носильщик, и они воспринимают меня как мальчика. А вы тоже не готовы потягаться силой с женщиной? — Ну что ты? Вовсе нет. Я готов. — Акитада надеялся, что плохое освещение скроет краску смущения, залившую его лицо. Если этим шутливым тоном он и рассчитывал доказать свое мужское превосходство над девушкой-бойцом, то очень скоро его постигло горькое разочарование. Видимо, он разозлил ее, потому что она с ходу пошла в столь молниеносное и яростное наступление,что моментально его обезоружила. Ни слова не говоря, Аяко подняла с пола палку, бросила ему, и они начали снова. На этот раз Акитада старался быть внимательнее и все же снова уронил оружие. И вновь она бросила ему палку со словами: — Техника хорошая, но вас научили только нападать. А вот защищаться вы совсем не умеете. Я покажу вам, как это делается. Нападайте на меня и смотрите, как я буду отражать ваши атаки. Закусив губу, Акитада старался изо всех сил. К его удивлению, даже самые настойчивые и стремительные его выпады были отражены. Он уже собирался отказаться от боя и сдаться, чтобы не опозориться окончательно, когда Аяко обезоружила его в третий раз. Он растерянно смотрел на упавшую палку и только качал головой, потом с восхищением произнес: — Ты превосходный боец! — Благодарю. Слово прозвучало совсем тихо, и он внимательно посмотрел на нее. Вешая на гвоздь рубашку, она стояла спиной, и только снова одевшись в кимоно и завязав пояс, повернулась. Ему показалось, что в глазах ее стоят слезы. — Как я поняла, вы намерены тайком посетить монастырь, — сказала она, отводя взгляд. — Если хотите, мы могли бы отправиться туда сегодня ночью. Акитада согласился без промедления. Одеваясь, он все думал, как эта необычная девушка смогла так сильно взять его за душу и почему, интересно, ему так хочется продлить встречу с ней даже ценой бессонной ночи. Они вернулись к остальным вместе с Отоми. Она была по-прежнему бледна, но заметно успокоилась и теперь собирала разложенные на помосте свитки. Акитада спросил у Хигэкуро: — Спросите у вашей дочери, могу я купить два этих свитка? С морским драконом и с горным пейзажем. Хигэкуро передал его слова Отоми, та кивнула и принесла картины обратно. — Это подарок, — сказал отец девушки, протягивая их Акитаде. — Нет! — решительно возразил тот и посмотрел на Аяко. — Я заплачу самую высокую цену. — Два серебряных слитка, — ответила та, вскинув голову. Хигэкуро даже охнул. — Да это же смешно! Таких денег стоила заказная икона с тремя сотнями святых! — Четыре слитка серебром! — не раздумывая заявил Акитада, вспомнив о золоте Мотосукэ. — Честная цена за добрую работу. Я расплачусь с вашей дочерью завтра. — И, обращаясь к Торе, сказал: — Молодая госпожа Аяко предложила проводить нас сегодня ночью в монастырь. Значит, поиски твоего друга отложим до завтра. — А что за спешка с этим монастырем? — поинтересовался Тора, недовольно поглядывая на Аяко. — Видишь ли, Тора, этот монастырь не похож на другие. К тому же госпожа Аяко бывала там раньше, а мы с тобой нет. — Вам придется переодеться, — заметила Аяко Акитаде. — Значит, надо зайти в гостиницу. — Тора, это вовсе не обязательно. Рассерженный Тора обиженно объявил: — Я ухожу! Акитада мгновение помедлил, потом обратился к Аяко: — Там может случиться все, что угодно, а Тора будет нам полезен. Аяко резко повернулась к нему, сверля сердитым взглядом. — Я могу справиться с любым мужчиной. Что еще я должна сделать, чтобы доказать вам это? Акитада растерянно попятился. — Вообще-то я не хотел… Я вовсе не хотел тебя обидеть. Просто там много монахов. Так много, что даже мы с Торой… — И, видя, какой гнев отразился на ее лице при слове «даже», поспешно прибавил: — Если нас заметят, втроем легче будет спастись. Двое могут задерживать врага, пока третий побежит за подмогой. — Если вы будете осторожны и не станете делать глупостей, нас никто не заметит. — С этими словами она повернулась и с проворством большой кошки бросилась на чердак. Акитада сказал, обращаясь к Хигэкуро: — Спасибо за гостеприимство. Вы принимали меня так же сердечно, как Тору. Надеюсь, он вел себя прилично. Хигэкуро посмотрел на Тору и Отоми — те уже закончили игру и, убирая с доски фишки, то и дело будто ненароком соприкасались руками. Бородач улыбнулся. — Тора стал мне вроде сына. Я не хочу причинить боль Отоми, но и не могу отказать дочкам в радости, пока они молоды. — Он посмотрел Акитаде в глаза и прибавил со всей серьезностью: — Не забывайте: мы с дочками живем совсем в другом мире, и у нас свои правила. Акитада не нашелся что ответить, поэтому просто поблагодарил хозяина за гостеприимство и забрал свои свитки. Вскоре вернулась Аяко. Теперь на ней были черные штаны и черная рубашка с длинными рукавами. Волосы она старательно подвязала черным шарфом. — У вас есть какая-нибудь темная одежда? — спросила она, окинув хмурым взглядом белые шелковые штаны Акитады и бледно-серое кимоно. — Да. Хотя до твоих нарядов мне далеко, — улыбнулся он. Эти слова, похоже, чем-то ее удивили, но она резко повернулась и бросила: — Тогда пойдемте.
ГЛАВА 10 Монастырь четырехкратной мудрости
Переодевшись в свое темное дорожное платье, Акитада встретился с Торой во дворе конюшен. Парень привел лошадей из губернаторского стойла. Одет он был в заляпанную линялую куртку то ли зеленого, то ли черного цвета и в штопаные-перештопаные штаны, которые заправил в сапоги. — Нищего, что ли, ограбил? — пошутил Акитада, глядя на это рванье. — А что не так с моей одеждой? — удивился Тора. — Сказали же одеться потемнее, ну я и оделся. Целых десять монет пришлось отвалить жадине стременному, да еще мое синее кимоно в придачу. Парнишка-стременной, уже оседлавший трех коней и теперь стоявший рядом позевывая, предпочел поскорее удалиться на всякий случаи. — Ты отдал ему свое новое платье?! Я же заплатил за него три связки монет! — возмутился Акитада. Тора насмешливо фыркнул. — Да вас обвели вокруг пальца. Эта одежа куда теплее. Мне в ней хорошо. — Он любовно похлопал себя по драной куртке, взял под уздцы двух коней и направился к воротам. Акитаде ничего не оставалось, как взять третью лошадь и последовать за ним. Аяко разглядывала животных с откровенной неприязнью. — Ну! Давай же, лезь в седло! Они не кусаются, — усмехнулся Тора. Она метнула на него свирепый взгляд и неуклюже вскарабкалась в седло. Взявшись за поводья, Аяко неуверенно направила послушное животное к дороге. — Езжайте за мной, — бросила она через плечо и пояснила: — Через Северные ворота не поедем. Там стража начнет задавать вопросы. Поначалу они взяли курс на север и двинулись по темным пустынным улицам, потом свернули в коротенький проулок, который уперся в дощатый забор, окружавший город. Здесь в заборе имелся пролом, через который вполне мог проехать всадник на лошади. Наезженная, хорошо утоптанная тропа вела через ров. По-видимому, они не единственные желали избежать встречи с городской стражей у Северных ворот. За пределами города они прибавили скорости. Шелковичные рощи по обочинам, безлистные в это время года, простирали голые черные ветви в небо, словно пытаясь дотянуться до звезд. Луна, заплутавшая в этом причудливом кружеве ветвей, казалось, плыла вдоль дороги, будто боялась отстать от всадников. В морозном воздухе белыми клубами повисал пар от фыркающих лошадей. Они ехали гуськом — впереди Аяко, замыкал кавалькаду Тора. Акитада не сводил глаз с тонкой прямой спины молодой женщины, скакавшей впереди. И все гадал, не замерзла ли она в такой легкой одежде. До него вообще только сейчас дошло, что, не имея навыков верховой езды, она, наверное, рассчитывала поехать в одном седле с кем-то из них. Когда дорога стала чуть шире, он поравнялся с девушкой и спросил: — Тебе не холодно? — Нет, — сухо ответила она. — Я не люблю лошадей, только и всего. — Прости, что сразу не догадался. Может, поедем на моей лошади? Она мгновение колебалась, потом, передернув плечами, мотнула головой. — Зачем ты вообще вызвалась ехать? Ты же могла просто нарисовать нам план. — Так я решила. — Она помолчала и неохотно прибавила: — К тому же вам без меня не справиться. Я знаю, как проникнуть внутрь. Когда на сестру напали, я заподозрила монахов и побывала в монастыре. — И что же? — Днем они пристально наблюдают за всеми посетителями, поэтому я решила вернуться после наступления темноты. Первый раз меня чуть не поймали. А в последний я обнаружила… кое-что странное. — Что же именно? — Вот подождите и сами увидите. — Она пустила лошадь рысью, и Акитада отстал. Шелковичные рощи поредели, и ледяной ветер теперь продувал всадников насквозь Вскоре узкая дорожка влилась в более широкую, ведущую в горы. Акитада обернулся. Позади до самого залива простирались равнина и раскинувшийся на ней город, издали казавшийся нагромождением заснеженных крыш, посреди которых торчали верхушки сосен и пагоды. Тора, кутаясь в куртку, пристально вглядывался вперед. — А в лесу-то, кажись, темно, — боязливо пробурчал он. Горы и впрямь выглядели зловещими, а между тем посеребренная лунным светом дорога вела прямо к ним. И вскоре гуща соснового леса поглотила путешественников. Ветра здесь не было, зато с обочин за ними наблюдало из темноты множество горящих глаз, мелкое лесное зверье пугало лошадей. Тора даже выругался в сердцах. Обернувшись, Акитада увидел, как он сжимает в руке амулет на веревочке, висящий на шее. Обычно такой смелый, Тора не мог превозмочь суеверные страхи. Дорога пошла в гору и теперь петляла, огибая скалистые уступы. Широкая и наезженная, она свидетельствовала о том, какую популярность снискал монастырь Дзото. Вскоре Аяко пришпорила лошадь и дождалась спутников. — Вон там! — указала она за поредевшие деревья, где виднелась высокая пагода, устремившая в звездную высь свой шпиль. Подвесные фонарики на заснеженных карнизах мерцали в лунном свете. — Теперь надо свернуть с дороги, — сказала Аяко. — Ворота охраняются день и ночь. Лошадей оставим в лесу и пойдем пешком. В лесу она не плутала и двигалась уверенно, а вот Акитада совсем запутался. Они выбрались на полянку, спешились и привязали лошадей. Тора мрачно огляделся по сторонам. — И где же мы, к чертям собачьим, находимся? — Возле восточной монастырской стены, — сердито ответила ему Аяко. — Когда подойдем ближе, вам придется замолчать и вообще постараться не шуметь. По ночам стража делает обходы, а мы пойдем мимо конюшен — лошади могут почуять и выдать нас. Какая-то мелкая зверушка выскочила из куста, к которому была привязана лошадь Торы. Тот выругался и схватился за амулет. — Да успокойся ты, — сказал ему Акитада. — Это же просто лиса или барсук. — А вам откуда знать, кто это был? — боязливо озирался Тора. — Эти леса кишат они и тэнгу[1376]. Вон они, наблюдают за нами из темноты своими голодными глазищами. И это был один из них. Давайте-ка лучше уберемся отсюда подобру-поздорову! — И он вцепился в поводья. — Перестань, дурак! — напустилась на него Аяко. — Я так и знала, что тебя лучше не брать. Признаться, я думала, что только дети боятся всякой сказочной нечисти. — Хватит! — прикрикнул на них Акитада. — Я не собираюсь стоять тут на холоде посреди ночного леса и слушать ваши детские перепалки. — Простите, — буркнула Аяко и пошла так быстро, что Акитада с Торой едва за ней поспевали. Она двигалась бесшумно, грациозно и уверенно, несмотря на камни и корни, о которые Акитада с Торой то и дело спотыкались. Они вышли из леса у подножия скалистого склона. На его вершине высились стены монастыря. В бледном свете луны высота эта казалась неприступной. — Ну вот, так я и знал, — пробурчал Тора. — Заблудились. Привела нас черт знает куда. И правильно Разве можно слушать глупую женщину?! — Успокойся! — шикнула на него Аяко. — И правда, не полезем же мы туда! — шепотом возразил Акитада. — Смотри, какая крутизна! Монахи, конечно же, не ждут воров отсюда и ни о чем таком не беспокоятся. — Вы еще удивитесь, когда узнаете, о чем они беспокоятся, — мрачно пообещал Аяко. — Пошли. Я знаю, как взобраться наверх. И она нырнула в заросли у подножия склона. Поколебавшись мгновение, Акитада последовал за ней. В зарослях оказалась расщелина, по ней-то и карабкалась теперь с проворством мартышки Аяко. Здравый смысл подсказывал Акитаде бросить эту затею, но слушаться здравого смысла почему-то не хотелось. Не хотелось, чтобы эта странная девушка посмеялась над его трусостью или неловкостью. К тому же одна она могла попасть в беду. В общем, выбора не было. Подъем оказался легче, чем он предполагал, — главное, не оглядываться вниз и не обращать внимания на чертыхающегося Тору. Взобравшись вслед за Аяко на узкий выступ на вершине, Акитада был до смешного горд собой. Но теперь перед ними возвышалась стена в два человеческих роста с покатой скользкой крышей. В нескольких местах вплотную ней подступали деревья, новее нижние сучья на них были тщательно спилены. Аяко со знанием дела направилась к одной из сосен. Она росла не так близко к стене, как другие, зато на ней имелся обломанный сук, почти достигающий крыши. Девушка взобралась на дерево, прошла по суку и, совершив невероятный прыжок, очутилась па крыше. Она приземлилась на четвереньки, как кошка на четыре лапы, постояла, потом села и посмотрела вниз на Акитаду. — Все спокойно, — тихо сказала она. И, размотав черный полотняный шарф на голове, спустила один конец Акитаде. — Хватайтесь, натяните и поднимайтесь ногами по стене, а я буду вас втаскивать. Тора насмешливо фыркнул. — Я слишком тяжел для тебя, — усомнился Акитада. — По-моему, лучше по дереву. — Нет. Сук вас не выдержит. — Да бросьте вы, — вмешался Тора. — Я знаю лучший способ. Только… — Он с сомнением смотрел на Акитаду. — Только что? Говори, не тяни. — Только мне придется залезть первому. — Ну и лезь. Чего церемониться? — Да, но мне придется встать вам на плечи. Акитада еле сдержал смех. Этот поход все больше и больше напоминал ему мальчишеские проделки в детские годы. — Ну и где мне прикажешь встать? Тора поставил его в нужную позу — спиной к стене, руки уперты в бока, ноги чуть расставлены Потом взобрался ему на плечи. От такой тяжести Акитада чуть не крякнул и не мог дождаться, когда эти жесткие сапожищи уберутся с его плеч. Но сапожищи все не убирались. Вместо этого он услышат очередные ругательства. Сверху доносилось неразборчивое перешептывание, и Акитада, стиснув зубы, держатся из последних сил. — Отстань от меня, женщина! — рявкнул наверху Тора, потом виновато проговорил: — Господин! Так просто я, видать, не достану! Придется подпрыгнуть. Акитада не ответил. А между тем Тора рванулся вверх. Дикая боль пронзила плечи и спину. Акитада сполз вниз по стене и бухнулся на колени. В ушах звенело, глаза слезились, но проклятая тяжесть, слава Богу, больше не давила на плечи. — Тсс!.. Я извиняюсь, — зашептал Тора сверху. — Теперь вот держите это, и я втяну вас сюда в два счета. Акитада встал на дрожащих ногах и посмотрел на болтавшийся перед носом конец шарфа. Выдержит ли эта тряпочка его вес? Но свои опасения он оставил при себе. Шея и плечи горели огнем, но он обмотал шарф вокруг запястья и взобрался по стене. На покатой крыше держаться приходилось с трудом. Делая вид, что озирается, он осторожно повел плечами и подождал, когда боль немного утихнет. Уж не сломал ли ему Тора ключицы? Монастырь погрузился в зловещее безмолвие. Сверху он был виден как на ладони — храмы, жилье, конюшни, кухня, амбары. И ни одной живой души. — Это кухня, — прошептала Аяко, указывая на длинное строение во дворе прямо под ними. — А там дальше конюшни и постоялый двор для паломников. Мы спустимся здесь и через вон те ворота пройдем в соседний двор. Там у них склады и амбары. Она встала и бесшумно побежала к тому месту, где под самой стеной стоял большой бочонок. Акитада с Торой, непривычные к беготне по крышам, двигались куда медленнее. Но когда они уже приготовились спускаться, послышался слабый хруст. Это шуршал гравий под чьими-то ногами. — Пригнитесь! — шепнула Аяко и распласталась на крыше. Они последовали ее примеру и увидели, как две темные фигуры появились из тени стены и направились к кухне. Они пробыли там недолго, потом снова вышли и двинулись в сторону складского двора. — Теперь что? — спросил недовольный Тора. Аяко смерила его многозначительным взглядом. — Подождем, потом спустимся. Думаю, у нас есть час, прежде чем они вернутся с обходом. По сигналу Аяко они спустились со стены и бесшумно направились к воротам. В соседнем дворе было тихо. — Пошли! — скомандовала девушка и повела их к первому и самому большому из амбаров. На дверях они обнаружили замок. — Видали? — спросила Аяко. Акитада кивнул. Запертый склад на охраняемой монастырской территории означал, что его содержимое либо было контрабандой, либо имело чрезвычайную ценность. — Жаль, нет ключа, — сказала Аяко. — Это единственный запертый здесь склад, и могу поручиться, что пропавшие грузы находятся внутри. Акитада оглядел постройку. Судя по размерам, она могла вместить не то что три, а целых двадцать караванов. — А ну-ка дайте я попробую, — произнес Тора. К удивлению своих спутников, он извлек из рукава тонкий металлический прутик и согнул его своими сильными руками, предварительно изучив замок. Попав в нужное отверстие, прутик сместил задвижку, и дверь открылась. Они осторожно шагнули в темноту. — Закрой дверь, — велел Акитада, посторонившись и стараясь не дышать. Новый наряд Торы издавал стойкий аромат конюшни, непереносимый на близком расстоянии. Первые несколько мгновений они стояли в темноте, потом Акитада с Торой чиркнули кремнями. Две крохотные вспышки осветили огромное пространство, заполненное тюками, тянувшимися до самых дальних углов. Огоньки одновременно погасли. Тора что-то пощупал на полу, потом снова чиркнул кремнем и успел зажечь масляный фонарь, который обнаружил возле двери. Они огляделись по сторонам. Склад был огромный, а фонарик крошечный. В его мерцающем свете окружающие предметы принимали причудливые, искаженные формы. В затхлом воздухе витал запах соломенных циновок, старой древесины и приправ. Медленно обходя ряды тюков, они слышали доносившиеся отовсюду звуки мышиной возни. Заглянув под крышку какого-то бочонка, Акитада обнаружил там бобы. Тора остановился у выстроенных в ряд громадных глиняных кувшинов. На одном из них лежал ковш с длинной ручкой. Он взял его и заглянул под крышку. Богатый, насыщенный фруктовый аромат вырвался наружу. — Ишь ты! — усмехнулся приятно удивленный Тора. — А эти святоши, как я погляжу, тянутся к винцу не меньше нас, простых смертных. — Он зачерпнул ковшом, попробовал и облизнул губы. — Винишко отменное! Акитада, уставший и измученный болью в спине, опустился на какой-то ящик и оглядел ряд винных кувшинов. — Странно, — пробормотал он. — Бобы — обычная пища в буддийских монастырях, но вино-то у них запрещено. — Как и насилие над девушками, — сердит о бросила Аяко и со злости пнула длинный рулон скатанных циновок. — Ого! — Она шевельнула рулон, и тот тихо звякнул. — Хватит пить, Тора, — сказал Акитада. — Давай-ка лучше посмотрим, что находится в этих скатках. Развернув циновку, они не поверили своим глазам — перед ними лежали новенькие, остро заточенные секиры. — Бог мой! Нагинаты! — воскликнул Тора. — Видать, ждут нападения. Теперь понятно, почему они охраняют это место словно осажденную крепость. — А ну дай-ка взглянуть. — Акитада встал, держа в руках фонарь. В связке он насчитал двадцать секир. еще порядка ста связок лежало стопками вдоль стены. — Да тут хватит оружия на целое войско. — Он вспомнил, что солдаты на картине Отоми были вооружены нагинатами. Недоброе предчувствие закралось в душу. С мыслью о том, что целый монастырь погряз в разврате, он еще мог как-то смириться, но чтобы он вооружился против местного правительства!.. Против самого императора! Неудивительно, что подозрительные монахи в доме Татибаны напомнили ему солдат-новобранцев. Они оказывается, и были солдатами. И та троица разбойничьего вида, что он видал на рынке в лень своего приезда, тоже мало походила на монахов. — Положи-ка все на место, как было, — мрачно велел он Торе. Аяко удовлетворенно наблюдала за происходящим. — Ну вот, я же вам говорила. И эти ваши ценные грузы тоже наверняка здесь. Она принялась открывать ящики и бочонки, Акитада помогал ей, держа фонарь. Он любовался этой девушкой — ее кожей в золотистых бликах тусклого света, встревоженным озабоченным личиком, этими аккуратными ровными зубками, закусившими от волнения губу, изгибами изящной шейки с завитушками волос, выбившихся из-под черного шарфа. Он наблюдал за ее маленькими, но сильными ручками, проворно шарившими среди корзин, ящиков, корыт и мешков. Правда, больше им ничего не удалось обнаружить. Они добрались до самой дальней стены, когда Акитада заметил, что Тора пропал. — Кажется, мы остались одни, — тихо сказал он Аяко. Та обернулась и посмотрела на него в упор. Акитаде почему-то стало трудно дышать. — Интересно, куда делся Тора? — постарался он прогнать с липа глупую улыбку. — Да здесь я! — отозвался тот, дыхнув на них винными парами. — Я вот что подумал, господин. А как насчет тех ящиков у входа, на которых вы сидели? Они вам ничего не напоминают? — Ты о чем? — Нет, фонарь-то был у вас, поэтому я не мог проверить, но, по-моему, в такую тару обычно укладывают золото или серебро. Акитада поспешил обратно к ящикам и внимательно осмотрел их. Это была прочно сбитая тара из твердой древесины, укрепленная по углам металлическими скобами; ручки по бокам и замки тоже имели солидный, внушительный вид. — Да, похоже, ты прав, — заключил Акитада. — Именно так обычно перевозят золото и серебро в слитках и монетах. С радостными возгласами Тора и Аяко кинулись к ящикам. Но те оказались незаперты и абсолютно пусты — по-видимому, ждали, когда их заполнят. Если когда-нибудь здесь и стояли государственные печати или другие пометки, то теперь от них не осталось и следа. Светя себе фонарем, они внимательно оглядели каждый ящик, но не обнаружили ничего, кроме всевозможных царапин и одной особой отметины — выжженного клейма в виде прыгающей за мячом рыбки. Акитада вздохнул. — Ценные предметы они могли пустить в ход для культовых богослужений, — предположил он. — Ведь в основном на складе хранится всякая церковная утварь. — И невесело огляделся по сторонам. Вино и оружие! Что тут еще можно прибавить? Может, все это добро лежит здесь в качестве платной услуги для какого-нибудь богача? Только зачем человеку мирному и законопослушному нужны тысячи отточенных секир? — А что, если осмотреть другие склады? — предложила Аяко. Акитада, хоть и чувствовал усталость, кивнул. — Прекрасная мысль. Погаси фонарь, Тора, но дверь не запирай. У меня такое ощущение, что мы что-то проглядели. Они осмотрели другие склады, все как один незапертые, но так и не нашли ничего путного — только провизия, кувшины с маслом, ящики со свечами, мотки шелка и пеньковой веревки, целые полки посуды, церковной утвари и побитые статуи. Одним словом, ничего противозаконного. — Уже поздно, — заметила Аяко. — А я хотела показать вам еще кое-что. С тех пор как я это услышала, оно не дает мне покоя. — Ты что-то услышала? — удивился Акитада. — Да. Это снаружи, на задворках того склада. Во дворе по-прежнему было тихо и спокойно. В небе мерцали звезды, только луна чуть сдвинулась к западу. А на востоке уже намечались первые проблески утра. Они обогнули постройку и направились в середину двора, отделявшего ее от крытой галереи. — А там что? — поинтересовался Акитада, указывая на черепичные крыши в следующем дворе. — Покои настоятеля и монастырская администрация. — Аяко приостановилась и прислушалась, потом махнула им рукой. — Вот! Слышите? Акитада напряг слух и уловил какое-то едва различимое гудение. — Что это? Ветер? — спросил он. — Нет. Ветер-то стих. К тому же звук слишком монотонный. Как будто люди что-то бубнят или поют где-то очень-очень далеко. — Ты права. Но звук словно из-под земли. — Акитада присел на корточки и различил едва уловимое ритмичное пение, похожее на погребальную церемонию в доме Татибаны, однако здесь хор голосов чередовался с отдельным пронзительным соло. — Это поют монахи, — хмуро заключил он, вставая. — Под землей? — воскликнул Тора, в страхе забыв о предосторожности. — Давайте-ка выбираться отсюда. Сдается мне, эти проклятые монахи хоронят там своего покойника. — Тише! — одернул его Акитада. — Я хочу знать, откуда идет этот звук. — Нагнувшись, он пошел медленными кругами, которые привели его к задней стене последнего склада. Глубоко в тени здания он нашел то, что искал — деревянную решеточку в земле. Из этой отдушины и доносилось слабое, будто неземное пение, от которого даже волосы на голове зашевелились. Акитада опустился на колени и заглянул в черноту подземелья. В нос шибанула теплая гнилостная вонь. Он вскочил, так ничего и не увидев, с трудом сдерживая рвоту. В мозгу тотчас всплыли слова Торы насчет проклятых монахов и покойников. — Что это? — спросил Тора, не отваживаясь приблизиться. — Пока не знаю. Похоже на отдушину какого-то подземного помещения. — Голос едва слушался Акитаду. Аяко, почувствовав неладное, подошла ближе. — Вы правы, — заглянула она вниз. — Не нравится мне все это. Прямо мурашки по коже. — И встала к нему поближе. — Эй! Кто-то идет! — шепотом сообщил Тора из-за угла. — По-моему, стража. — Уходим! — скомандовал Акитада. Троица поспешила убраться из пустынного двора и перешли в соседний, где располагалась кухня. Они направлялись к дождевой бочке, когда услышали голоса. Пришлось притаиться в тени здания и ждать. Из ворот вышли два стражника, позади которых плелся, прихрамывая, старый монах. Все трое зашли в первую постройку. — Боже милостивый! — прошептал Акитада. — Мы же не заперли ее! — Ситуация становилась опасной. А ведь до сих пор даже ноющие плечи не могли испортить очарования ночи в обществе такой девушки. И вот теперь они были на грани провала. Того и гляди их обнаружат! Как он объяснит свое участие в этом незаконном вторжении? Тут уж не помогут никакие звания и регалии. И как тогда вести дело против Дзото? Это будет позорный провал и конец всей его карьере. Да не то что карьере, коней всему. Им, конечно, не дадут отсюда уйти. С содроганием он подумал о зарешеченной отдушине. Не в силах что-либо изменить, они беспомощно наблюдали за стражниками. А те, обнаружив непорядок, напустились на старика. — Ах ты, паршивый дряхлый ублюдок! — орал один. — Опять не запер? Ну уж теперь-то все расскажем его преподобию, то-то тебе достанется! Они бросились на старика с кулаками, и тот кинулся бежать в сторону Акитады и его спутников. Все трое затаили дыхание, надеясь только на ночь да темную одежду. Но старик не убежал далеко. Мучители догнали его и принялись избивать. Тора с трудом сдерживался. Акитада же, который поначалу вздохнул с облегчением, теперь болезненно вздрагивал при каждом ударе и жестоко корил себя за небрежность. — Заткнись! Иначе мы бросим тебя в эту гнилую дыру к старому Гэннину! Но старик, набравшись смелости, крикнул что было мочи: — Вы дьяволы! Вы позор и осквернение для господа нашего Будды! И хозяин ваш погряз в плотских грехах и разврате! Убийцы вы, прелюбодеи, насильники, и место ваше в аду, где дьяволы будут над вами… А-а!.. Жестокий удар оборвал крик несчастного. Акитада больше не мог сдерживаться и рванулся было вперед, но Аяко схватила его за больное плечо. Он едва сдержался и затих. Один из стражников насторожился и посмотрел в их сторону. В какой-то момент им показалось, что все пропало. — Ты слышал что-нибудь? — спросил стражнику своего напарника, который тем временем заламывал старику руки за спину. — Что там еще? Ничего я не слышал! Помоги лучше разобраться с этим ублюдком. Но первый стражник продолжал вглядываться в темноту. — А мне что-то показалось. Какое-то движение. — Может, кошка… Они затащили старика внутрь склада — видимо, хотели проверить, не пропало ли чего. Внутри мелькнул огонек. — Быстро уходим! — шепнула Аяко. — Они сейчас заметят, что фонарь еще теплый, и тогда сюда сбегутся все! Она не успела договорить, как из склада послышались крики: — Воры! На помощь! Воры! Они бросились к воротам, добежали до стены и по бочке взобрались на нее. Первыми вскарабкались Тора с Акитадой и втянули наверх Аяко. В спешке она неосторожным движением опрокинула бочку, но все же сумела взобраться на стену. Теперь они бежали по черепичной крыше к деревьям. Там Тора с Акитадой спрыгнули первыми, едва не сорвавшись в пропасть. Во время отчаянного бегства Акитада напрочь забыл о боли в плечах, но теперь, оказавшись в сравнительной безопасности, едва держался. Ноги подкашивались, и ему пришлось на мгновение прислониться к стене. А из-за нее между тем неслись крики, потом кто-то забил в колокол. Акитада посмотрел наверх. Аяко готовилась к прыжку и уже через мгновение приземлилась, тихонько вскрикнув от боли. Когда он подбежал к ней, чтобы помочь встать, она вцепилась в его локоть.— Что такое? — спросил Акитада. — Подвернула лодыжку. — Девушка отстранилась, сделала несколько шагов и пошатнулась. — Вывих! — задохнулась она от боли. — Ничего. Сейчас пройдет. Пойдемте! Нам надо спешить! Крики по другую сторону стены приближались. Кто-то нашел перевернутую дождевую бочку. Акитада взял девушку за локоть. — Нет, одной тебе сейчас спускаться нельзя. Мы пойдем вместе. Если оступишься, я удержу. А шум за стеной возрастал. Наверху уже показалась чья-то голова. Аяко помедлила в нерешительности, потом кивнула. Спуск по расщелине давался с трудом. Казалось, ему нет конца. Не зная, куда лучше ступить, Акитада пятился вслепую, стараясь поддержать Аяко. Такой способ передвижения требовал постоянных прикосновений, тесной близости. Забывая об опасности и трудности спуска, Акитада возбужденно вдыхал аромат девушки, жадно ловил каждое касание. Он чувствовал в себе силу и зарождающееся желание. Когда их ноги коснулись земли, Аяко прижалась к нему на мгновение и тотчас же захромала к деревьям. Они нашли своих лошадей и тронулись в путь. Колокол перестал звонить, и голоса постепенно затихли далеко позади. Обратный путь прошел без приключений. В город они поспели к восходу солнца. Акитада собирался отвезти Аяко к отцу и вернуться в гостиницу вздремнуть несколько часов, но девушка, раскрасневшаяся и похорошевшая от езды, пришпорила коня возле уже открывшейся бани. — Дома у меня горячей воды не будет, — пояснила она Акитаде. — А мне надо попарить лодыжку. Она помолчала и вдруг торопливо прибавила: — Может, вам отправить Тору с лошадьми и присоединиться ко мне? Плечи-то у вас, наверное, совсем затекли? Они смотрели друг на друга. Глаза ее сияли в свете утренней зари. Она смутен но улыбнулась, и Акитада вдруг понял, что Аяко догадалась и все это время помнила про его больные плечи И эта забота тронула его до глубины души. — Веди лошадей. Тора. А я приду пешком. — Ее приглашение он принял и спешился.
ГЛАВА 11 Царство росы
Женщина, принявшая плату, отвела их в парилку, где стоял огромный накрытый чан и рядом с ним табуретка. Возле отверстия для слива воды лежали две бадейки и мешочки с отрубями. Помост устилали соломенные циновки. На крючке висели два выцветших полотняных кимоно, влажный теплый воздух был пропитан запахом мокрой древесины и соломы. Банщица отодвинула тяжелую крышку, из-под которой повалил пар — его клубы виднелись на фоне солнечных лучей, пробивавшихся через крохотное оконце. На миг показалось, что они ступили в облако разжиженного света. Аяко что-то сказала банщице, но Акитада, валившийся от усталости, не разобрал слов. Он не спал с прошлой ночи и начал бессознательно раздеваться, роняя одежду на соломенную циновку. Набрав в бадейку воды из чана, он присел над сливным отверстием и потер себя мешочком с отрубями. Плечо пронзила чудовищная боль, и он вскрикнул. Когда Аяко взяла у него из рук мешочек, чтобы помочь, усталый Акитада не нашел в себе сил воспротивиться. — А теперь лезьте в воду, — сказала она. — Скоро вам полегчает. Окончательно разомлев в этом царстве тепла и влаги, он пробормотал слова благодарности. Усилием заставив себя очнуться, он смотрел на нее сквозь клубы пара. Кожа ее сияла и золотилась, словно у неземного создания. — Как твоя нога? — спросил Акитада. — Не волнуйтесь. — Сияя в туманной мгле, она дохромала до клубящегося паром чана, ступила на табуретку и окунулась с той же легкостью и проворством, с какими недавно взбиралась по скалам и монастырской стене. Акитада последовал за ней, неуклюже плюхнулся в воду и моментально согрелся, тотчас позабыв о долгих часах, проведенных на холоде. Он погрузился в воду до самого подбородка и подобрал ноги, освобождая пространство для Аяко. Горячая вода окутала тело, проникая в каждую пору. Он блаженно закрыл глаза. Но усталость куда-то пропала, и Акитада вдруг почувствовал себя бодрым. Впервые в жизни он попал в баню с женщиной, хотя совместное мытье было принято во многих семьях и даже в банях общественных. «Ничего особенного», — заверил он себя. И все же случай был особый. Глупо прикидываться, что они попали сюда только потому, что вместе побывали в приключении. Желание обладать Аяко проснулось в нем, еще когда она разделась до пояса перед началом палочного боя. С тех пор он не мог отвести от нее глаз и пытался представить ее тело под одеждой. От каждого ее прикосновения кожа у него будто горела, и теперь /Акитада в полной мере ощутил всю силу своего влечения. Устыдившись этого страстного желания, он смотрел на Аяко сквозь клубы пара, нее зная, как быть, и гадая, рассердит он ее, оттолкнет, ли или возможно, вызовет с ее стороны насмешки, что еще хуже. Глаза ее были закрыты. Капельки влаги, словно жемчуг, усеяли ее щеки, носик, губки и поблескивали на ресницах. Волосы мокрыми прядками липли к изящной шее и округлым плечам. Одна такая прядь уходила подводу, приютившись между ее грудей. Девушка эта была поистине прекрасна. Акитада почувствовал сухость во рту. Он хотел бы отвести взгляд, но не мог и любовался этой красой, усыпанной переливающимися росинками, потом снова закрыл глаза. Очнулся он от ее прикосновения — Аяко стояла на коленях между его раздвинутыми ногами и нежно разминала ему плечи. — Ну как, вам теперь лучше? — улыбнулась она. Девушка была совсем рядом, так близко, что он уловил ее сладкое дыхание и, испугавшись этой близости, отодвинулся. — Тебе совсем не обязательно это делать, — хрипло сказал он, надеясь, что она не остановится. — Мышечный массаж прогоняет боль, — сознанием дела заметила Аяко. — Но сюда могут войти, — слабо возразил он. Она тихонько рассмеялась. — Никто не войдет. Я попросила банщицу нас не беспокоить. Акитада не знал толка в общественных банях и уж никак не считал их местом для любовных свиданий. Он вдруг подумал, что Аяко могла приводить сюда и других мужчин, и мысль эта показалась невыносимой. Она смотрела на него невозмутимо, продолжая разминать плечо. В прикосновениях ее были и сладость и мука. Наслаждение и боль в равной мере питали желание. — Аяко, пожалуйста, не нужно! — теряя последние силы, выдохнул Акитада. — Вы не хотите меня? — Она придвинулась ближе, прижалась к нему всем телом. Он кожей почувствовал ее грудь, соски и, застонав от удовольствия, закрыл глаза, уже ощущая ее нежное лоно. Губы их соприкоснулись, дыхание слилось. — Хочу больше всего на свете! — пробормотал он и страстно прижал ее к себе. Она тоже обняла его, но вдруг отстранилась, взяла его за руку и поднялась. — Пойдем! Они выбрались из воды, укутали друг друга полотняными кимоно, промокая влагу, и легли на циновку. В искусстве любви Аяко была мастерицей. Это Акитада заметил, даже поглощенные огненной страстью, но без упрека или отвращения, а с благодарностью. Его собственный опыт в этой области был весьма ограничен. Два раза он имел интимную связь с женщинами своего сословия, но все получилось нелепо. Женщины требовали полной темноты и не желали раздеваться, Пышные дамские платья с многочисленными исподними одеждами и туго затянутым поясом становились досадной помехой, особенно когда приходилось одновременно воевать с собственными штанами. К тому же обе дамы хранили полное молчание и безучастность. Случалось ему встречаться с женщинами, для коих любовь была профессией. Они казались более уступчивыми и разговорчивыми, но предавались этому занятию словно через силу. Аяко не походила ни на тех, ни на других. Любовная игра была для нее чем-то вроде спортивного состязания. Умелыми движениями опытного бойца она направляла его неловкую страсть в нужное русло, трепетными ласками будила невидимые чувства, пока он не вошел в ритм, сделав интересное открытие — оказывается, дарить наслаждение гораздо приятнее, чем получать. Аяко была и учителем, и участником этой игры и отдавалась ей с той же страстью и мастерством, с какими бралась за палку во время тренировочных боев. Когда она застонала, он понял, что тоже сумел подарить ей наслаждение. Откинув голову и закрыв глаза, прекрасная, как никогда, она забилась в его объятиях. Акитада улыбался. Счастье переполняло его. — Ты нравишься мне, Акитада, — удивленно проговорила она. — Я испытываю те же чувства. А она, как ни в чем не бывало, продолжала: — Я поняла, что ты хочешь моей любви, еще вчера вечером, когда ты пожирал глазами мою грудь. Я тоже хотела тебя, поэтому и привела сюда. Многие смотрели на меня так же, и некоторых я приводила сюда, но никто из них мне не нравился по-настоящему. Это небрежное признание подействовало на него как ледяной душ. Он сел, чувствуя себя уязвленным, оттого что его использовали ради удовлетворения физической потребности. — Насколько я понимаю, им не удалось оправдать твоих ожиданий, — только и сумел выговорить он и тут же покраснел, осознав, как хвастливо это прозвучало. — Нет, дело вовсе не в этом. — Она встала, — Пойдем. Другие посетители ждут. Аяко омылась из бадейки прямо на его глазах, безо всякого стеснения. Ее тело, прежде казавшееся таким прекрасным и недоступным, теперь стало близким и дорогим, чем-то вроде любимой вещи, и мысль эта пугала. В душе шевельнулась ревность. Но разве мог он чего-то требовать? Разве мог позвать се замуж, даже если бы она была не против? …..Обратно придется идти пешком, — заметил Акитада. — Как твоя нога? Она показала распухшую лодыжку. Он осторожно ощупал больное место. Повреждение представлялось не слишком сильным. — Идти сможешь? — спросил он. — Конечно. — Аяко прошлась, поглядывая на него через плечо. Он все так же жадно смотрел на ее тело. Чан с водой уже остыл, и пар над ним не клубился, но капельки влаги по-прежнему выступали на шее и лопатках Аяко. Ему захотелось попробовать их на вкус, попробовать на вкус ее саму. Еще раз. — Ты самая красивая женщина на свете, — сказал он. Аяко торопливо одевалась. — Нет. Я слишком высокая и слишком худая. Костлявая, как мальчишка. Вот Отоми у нас красавица. Любой мужчина предпочтет ее мне. — Только не я, — возразил Акитада. Она не ответила, наполнила бадейку и позвала его: — Иди, я тебе помогу. Но на этот раз Акитада отказался от помощи. Плечи уже не ныли. — Я провожу тебя до дома, — предложил он, не представляя, как взглянет теперь в глаза ее отцу. — Не надо, — сухо отказалась она. — У меня еще есть дела. Такая резкая перемена, внезапная отчужденность смутили его, но он не стал спорить. Они вышли в прихожую. За дощатой перегородкой слышались голоса других купальщиков. Из-за двери выглянула банщица, кивнула и заулыбалась. Аяко ускорила шаг. — А что же с этими погребенными монахами? Как ты теперь поступишь? — отчужденно спросила она. Сказка вмиг сменилась уродливой реальностью. Акитада откинул входную занавеску и вышел на залитую солнцем улицу, пропустив девушку вперед. — Не имею ни малейшего понятия. Полагаю, с этим может разобраться только губернатор. Я увижусь с ним, как только вернусь. — Он задумался, что-то припоминая. — А что написала твоя сестра вчера вечером, те последние слова о груженом караване — что они значили? Она отвернулась. — «Другая жизнь». Отоми и раньше писала их. Не очень разборчиво, потому что была расстроена. А что они означают, я не понимаю. — Чтобы начать другую жизнь, люди умирают, — нахмурился Акитада. — Думаю, тебе надо хорошенько приглядывать за сестрой. Она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Во взгляде ее читалась тревога. Тревога и страх. Он встал перед ней и взял ее за локоть. Девушка была почти одного с ним роста. — Насчет того, что произошло между нами… — смущенно начал Акитада, но глаза ее были пусты. Он убрал руку. — Я так и не поблагодарил тебя за монастырское путешествие. А ведь это был храбрый поступок. Что-то странное и злое промелькнуло в ее глазах. — Да, понимаю. Для девушки действительно храбрый! — отстранилась Аяко и пошла прочь.Когда Акитада явился к Мотосукэ, ему сказали, что губернатор рано утром уехал за город покупать лошадей для их предстоящего путешествия в столицу. Печально вздохнув, Акитада отправился к себе в гостиницу, позавтракал и лег спать. Разбудил его Тора, который до противного громко чесался. — Выкинь ты это грязное тряпье да сходи в баню! — проворчал Акитада, силясь продрать глаза. Тора улыбался. — Это позже. Вы обещали мне помочь разыскать Хидэсато. Акитада со стоном сел на постели. — Хорошо. Только сначала найди себе другую одежду. Вскоре, одевшись чистенько и скромно, они вышли из судейских ворот и направились к югу, в город. День был в разгаре, солнце сияло, и в воздухе пахло весной. Акитада молчал, думая об Аяко. Возле рынка Тора остановил уличного мальчишку и спросил, где можно купить рисовых лепешек. Паренек первым делом протянул чумазую ручонку, но, получив монетку, тут же нырнул в толпу. Тора громко выругался. — Неужели набитое брюхо для тебя важнее друга? — Акитада дал волю раздражению, уже жалея о своем обещании. — Я ищу продавца лепешек, — объяснил Тора. — Его деньги до сихпор у меня. И я уверен, что бедный парень им обрадуется. — Ах вот оно что… — смягчился Акитада. — А может, он работает только по вечерам? Но он ошибся. Вскоре Тора уловил знакомый аромат и, раздувая ноздри, помчался на него. Акитада последовал за ним вдогонку и застал Тору за разговором с худющим оборванным парнем. Торговец растерянно таращился на серебряные монеты, лежавшие у него на ладони. — Мы поймали этих мошенников, — сообщил ему Тора. — Так что тебе больше не придется платить им. А в случае чего обращайся к полицейским. Эти слова вызвали у парня горький смешок. — Спасибо за совет, — сказал он, пряча деньги. — Вот ты говоришь, вы поймали подонков, а ведь они снова рыщут по улицам. А на кого, ты думаешь, работает полиция? У этой кормушки пасутся все, кто только может. — О чем это ты толкуешь? — сурово спросил Акитада. Парень удивленно взглянул на него и пробормотал: — Да так, ни о чем, господин. — Он повесил на шею свой лоток и зашагал прочь. Тора задумчиво смотрел ему вслед. — Власти мошенничают. Как я вам и говорил, — мрачно заметил он и сердито сплюнул. — Потому-то и головорезы эти снова на свободе. — Не верю я в такие вещи, — покачал головой Акитада. — Икэда, похоже, знает свое дело, да и губернатор что-то не упоминал о подобных проблемах. Скорее всего это просто досужие сплетни. Смотри-ка, случайно, не у этого трактира ты повстречался с Хидэсато? А может, твой друг туда вернулся? — Для вас это не слишком подходящее местечко. Только оболтусы вроде меня туда заходят. — Не смей больше так себя называть, уж коли работаешь на меня. — Акитада даже остановился. Тора усмехнулся и нехотя извинился. Толстый хозяин «Небесной обители» приветствовал Тору как старого друга, а Акитаде только кивнул. Кроме вечно дремлющего старика, в трактире никого больше не было. — А шваль-то эту уже выпустили из тюрьмы. Как тебе это нравится? — сказал Тора. Хозяин заведения свирепо выпучил глаза. — Да уж… Вот проклятые ублюдки! В следующий раз, когда они сюда заявятся, я собственными руками вспорю им животы, — прогремел он. — Ножичек острый теперь держу под стойкой. — А в прошлый раз что-то ты не вспомнил про ножичек. Хозяин отмахнулся. — Да вы и вдвоем прекрасно справились. Единственный посетитель, согбенный старик, неожиданно подал голос. — Велик Будда! Будда — спаситель! — хрипло крикнул он. Они только мельком глянули на него. — Потерял я связь со своим приятелем, — посетовал Тора. — Он не заходил сюда? — Нет. — И, заметив разочарование на лице парня, толстяк поспешил прибавить: — Но если зайдет, я передам, что ты его разыскиваешь. Тот поблагодарил и направился к выходу. Сочувствуя огорченному Торе, Акитада догнал его. — А что, если спросить в гарнизоне? Ведь Хидэсато был сержантом. Может, он поступил здесь на службу. Тора просиял. — Вы правы. Очень даже возможно. Обнесенный высоким частоколом гарнизон располагался неподалеку от Западных ворот. Акитада на звал стражнику свое имя и звание и выразил желание повидаться с начальством. Стражник окинул подозрительным взглядом их скромное платье, но все же отправил новобранца с докладом. Тот вернулся со смуглым коренастым стариком, одетым в доспехи, лицо его обрамляла седая бородка. Гостей он смерил колючим, настороженным взглядом. — Лейтенант Накано, — степенно представился старик и после того, как Акитада назвал ему свое имя и ранг, сказал: — Капитан в своем кабинете. Гарнизон занимал целый городской квартал и состоял из нескольких длинных построек — казарм и конюшен, — а также огромного здания, где размешалось командование. В просторном дворе вышагивали строем пехотинцы со щитами и секирами, а поодаль упражнялись в стрельбе из лука всадники. — Вы только полюбуйтесь, что за выучка! — воскликнул Тора. — Видать, этот капитан знает толк в своем деле. Оставив Тору во дворе, Акитада проследовал за лейтенантом Накано в здание командования. Там лейтенант открыл дверь кабинета и объявил: — Господин Сугавара. Акитада застыл на пороге, увидев кровавую повязку на голове у капитана Юкинари. Тот поднялся ему навстречу и покачнулся, отвешивая поклон. — Все, лейтенант, вы свободны, — распорядился Юкинари. Дверь закрылась. — Что с вами такое? — поинтересовался Акитада. — Да так, несчастный случай. Пожалуйста, присаживайтесь, господин. Когда они сели, Акитада заметил, что капитан прижимает левую руку к груди. — У вас, кажется, серьезные повреждения. На вас напали? Юкинари промокнул вспотевший лоб. — Да нет же. Просто глупая случайность. Видите ли, я обычно работаю по утрам, пока все еще спят. А когда заканчиваю, звоню в большой бронзовый колокол на плацу — это сигнал сбора. Сегодня утром я по обыкновению толкнул колокол, и тот упал. К счастью, он только вскользь задел мне голову и левое плечо, а иначе просто убил бы меня. Должно быть, прогнила деревянная балка, вот он и рухнул. — Ах вот оно что. В таком случае рад, что вы счастливо отделались. Я постараюсь покороче. Не могли бы вы рассказать мне подробно, как снаряжали последний караван с ценными грузами? Юкинари кивнул. — Первые два каравана снаряжались еще до меня, а вот последним я занимался сам и тщательно следил за исполнением приказов. Ему предстояло следовать вдоль побережья и выйти на Великий восточный путь. Обычных носильщиков я заменил солдатами-пехотинцами. Кроме того, впереди и позади каравана ехали по двадцать вооруженных конников. — Он вздохнул. — Ими командовал лейтенант Оно. Это опытный солдат, служил личным помощником у моего предшественника. На это дело он вызвался сам. Храбрый человек. — Не сомневаюсь, — кивнул Акитада, но мысленно взял на заметку этого «добровольца». — Две недели спустя я выслал через залив по морю разведчика. Тот вернулся и доложил, что караван не прибыл в Фудзисаву. Я незамедлительно выехал в этом направлении. С небольшим отрядом направился по маршруту лейтенанта Оно, В провинции Симоза мы потеряли последние следы каравана. Такое впечатление, что он сквозь землю провалился. Его видели на подходе к большой деревне у границы с провинцией Мусаси, а на следующий день он исчез. Стража на таможне ничего не знала. — А как насчет местных властей в провинции Симоза? — Не склонны к содействию. Акитада изумленно изогнул брови. — Вы подозреваете их или таможенную стражу в покрывательстве грабителей? — Нет. Мы говорили о дорожном разбое, и это их очень оскорбило. Они сочли, что мы критикуем закон и порядок в их провинции. Не сомневаюсь, что доложили о моем оскорбительном поведении столичному военному начальству, — поморщился он. В словах его звучал фатализм. Акитада насторожился. Бледностью лица капитан был, по-видимому, обязан несчастному случаю, но могли существовать и другие причины. Юкинари имеет несчастный, какой-то побитый вид. Акитада вежливо кашлянул, прежде чем начать: — Имеется, знаете ли, еще одно, не связанное с предыдущим, дело, в котором вы могли бы мне помочь. У моего слуги Торы есть близкий друг — сержант Хидэсато. Пару дней назад они случайно встретились в этом городе и снова потеряли друг друга. Я подумал, что этот сержант мог явиться сюда, чтобы записаться на службу. Насколько я понял, он сейчас без работы. Юкинари удивленно поднял брови, но вслух не стал выражать своего недоумения по поводу того, что императорский инспектор занимается проблемами какого-то слуги. Он хлопнул в ладоши и, когда на пороге появился лейтенант, передал ему просьбу Акитады. Накано козырнул и отправился выполнять поручение. А между тем Акитада мучился, не зная, как подступиться к делу Татибаны. Юкинари неожиданно сам ему помог. Нервно теребя в руках кисточку для письма и не глядя Акитаде в глаза, он спросил: — А нет ли каких новых сведений относительно смерти князя Татибаны? — Новых сведений пока нет, но я посетил с соболезнованиями вдову и нашел ее в глубокой печали и растерянности. Похоже, буквально все оставили ее в этот трудный час. У Юкинари покраснели уши. — Да… Тут уж непонятно, что делать, — туманно выразился он. — Но, по-моему, ваша дружба с этой семьей дает вам право и даже некоторым образом вменяет в долг предложить свои услуги юной вдове. Юкинари посмотрел на него с тоской и промокнул лоб. — Это… Нет, вы не понимаете. Она не ждет такого предложения. — Да, но что же все-таки связывает вас с госпожой Татибана, капитан? — прямо спросил Акитада. Юкинари побагровел. — Позвольте спросить вас, господин, почему вас это так интересует? Юкинари, конечно, совсем не походил на убийцу, но любовь, как известно, порой толкает мужчин на странные вещи. Поэтому Акитада решил перейти к более решительным действиям. — Князя Татибану убили. Вас видели в его владениях в ночь его смерти. Юкинари закрыл лицо руками и горестно воскликнул: — Боже мой!.. — Так вы признаетесь в убийстве, капитан? — продолжал Акитада. Юкинари рассеянно качал головой. — Конечно, нет. Я почитал его как отца. — Тогда что означал этот возглас? Юкинари снова залился краской. — Не знаю. Я чувствую свою вину. Возможно, мне следовало сказать ему. — Сказать ему что? Юкинари был совершенно подавлен. — Видите ли, она… она была несчастна. Поэтому мы с ней… стали любовниками. Я постыдился ему признаться. Не хотел травмировать его… и ее тоже. — Ваше присутствие в доме Татибаны в ночь убийства делает вас подозреваемым, и только что вы сами назвали мотив. Юкинари мотнул головой и поморщился, здоровой рукой дотронувшись до повязки. — Это был не я. В ту ночь меня вообще не было в городе, я вернулся уже после рассвета. Тогда-то и узнал о случившемся. К тому же наша любовная связь была недолгой и закончилась минувшим летом. — Заметив недоверие в глазах Акитады, он поспешил прибавить: — Поверьте, я очень сожалею о своем поведении. Князь Татибана был так добр ко мне, я считал его почти отцом, которого, кстати, никогда не видел. — Он печально вздохнул. — Возможно, вам трудно понять, но их брак был непохож на другие. Из-за разницы в возрасте она была ему скорее приемной дочерью, нежели женой. В сущности, она… В общем, они не… Иногда мне казалось, что он мог бы даже одобрить это. Акитада напрягся. На его взгляд, такой прагматичный подход со стороны Юкинари заслуживал осуждения. — Желание порвать связь исходило от дамы? — Нет, от меня. Она сердилась, но к тому времени у меня появились и другие причины. Акитаде вспомнилось это юное создание в слезах. — Жаль, что эти причины не появились у вас раньше, — сухо заметил он. — Кстати, что это были за причины? — Видите ли, я… В общем, у нее был кто-то еще. Только теперь это не имеет значения. — Он горько рассмеялся. — Как сказал поэт Нарихира, любовь кратковременна и обманчива словно роса. Поэт был прав. — И он снова закрыл лицо руками. Эта воспетая в стихах роса напомнила Акитаде о капельках влаги на золотистой коже Аяко. Он смотрел на капитана, пытаясь найти подходящие случаю слова, когда вернулся лейтенант Накано и доложил — сержант Хидэсато на прошлой неделе обращался сюда с просьбой принять его на военную службу. Его просьба была одобрена, но сержанта не оказалось по указанному им адресу. Его выгнали за неуплату, и никто не знал, куда он подался. Юкинари кивнул. — Благодарю вас, лейтенант. А теперь доложите, пожалуйста, его превосходительству о том, что случилось в деревне Ханифу. Накано козырнул и сообщил: — Два дня назад после заката мы получили сведения о засаде, устроенной одному из наших патрулей. Капитан незамедлительно выехал туда в сопровождении четырех вооруженных конников. Вернулись они на следующее утро. Четверо были ранены в схватке с шайкой каких-то разбойников в капюшонах, вооруженных мечами и секирами. Нападавшие скрылись, но один из них был монах. — И, видя удивление Акитады, поспешил пояснить: — Капюшон слетел у него с головы. — Спасибо, лейтенант. — Акитада повернулся к Юкинари. — Случались ли у вас неприятности с монахами из монастыря Четырехкратной Мудрости? Юкинари сердито нахмурился и покраснел. — Случались ли у нас неприятности?! Да у моих солдат постоянные стычки с этим сбродом! И этот последний случай из той же серии, только теперь они были вооружены. Всякий раз натыкаясь на этих головорезов, мои солдаты вынуждены драться с ними. Поначалу мы сурово наказывали наших людей, хотя они утверждали, что их спровоцировали. А потом я случайно стал свидетелем безобразной сцены — своими глазами видел, как монахи прицепились к одному местному торговцу. С тех пор я неоднократно обращался с жалобами к Икэде, даже совсем недавно, в утро… убийства, но все безрезультатно. По-моему, этот префект ничего не смыслит в своей работе. — Юкинари замолчат, взволнованно проглотил ком в горле и уже более спокойно прибавил: — Я приказал своим людям держаться подальше от этих монахов. Это единственное, что я могу сделать. Акитада кивнул. — Благодарю вас. Вы подтвердили мои подозрения. И возможно, чуть позже все-таки сможете кое-что сделать. Мы поговорим об этом после. Юкинари раскланялся, потом с отсутствующим видом произнес: — Если я смогу быть вам полезным в том… деле, буду только рад. Акитада нашел Тору в тесном кругу солдат, жадно слушавших байки про его военные похождения на севере. Расставались они неохотно. — Вы были правы, господин, — сказал возбужденный Тора. — Хидэсато был здесь. Отметился и опять куда-то пропал. — Знаю. Его готовы были взять на службу, только не нашли по адресу. — Ой-ой-ой! — Тора заметно сник. — Один солдат сообщил, что видел его в городе. В веселом квартале. Полагаю, теперь мне надо поискать там. — Ну что ж, тогда веди. — И вы пойдете?! — удивился Тора. — В веселый квартал? Нет. Уж лучше я пойду один. — Мы идем туда вместе. — По выражению лица Акитады было ясно, что спорить бесполезно.
ГЛАВА 12 Крыса рассказывает небылицы
Веселый квартал располагался в юго-западной части города, неподалеку от рынка, но ближе к жилью бедноты. Грязные людные улочки кишели нищими и калеками, искавшими себе местечко на солнечной стороне. Там и сям орали чумазые полуголые дети, сплошь покрытые синяками и ссадинами. Здоровых и молодых попадалось мало, да и те пожирали Акитаду и Тору голодными глазами, что-то про себя соображая. Время от времени подбегал какой-нибудь «доброхот», предлагая проводить господ к «первосортным девочкам» или к «забавникам». — К «забавникам»? — не понял Акитада. Тора состроил мину и пояснил: — Ну, к хорошеньким мальчикам. Они спрашивали про Хидэсато и дважды даже заплатили, чтобы их отвели к нему, но каждый раз выяснялось, что проводник не так понял просьбу и привел их вместо Хидэсато в веселый дом. А между тем начало темнеть и холодать, на улицах зажигались фонари. Отовсюду слышался разнузданный смех и пьяное пение. Из-за бамбуковых решеток женщины окликали клиентов, но смотреть без содрогания на эти размалеванные создания было невозможно. Любовь на любой вкус выставлялась здесь на продажу. Акитаду тошнило при мысли, что он мог бы купить себе ласки такой вот чудовищной красавицы. Он подумал об Аяко, о том, какая она чистая и нежная и какой естественной была ее страсть. Его потянуло к ней снова. Остановившись посреди улицы, он сказал: — А знаешь, Тора, по-моему, мы сегодня уже перетрудились. Может, перед сном заглянем к Хигэкуро? Тот согласился не раздумывая. Спокойная улочка, где жил Хигэкуро, была словно из иного мира. В сумерках люди выходили поболтать с соседями. Среди них была и Аяко — опершись на метлу, она о чем-то весело беседовала с пожилой женщиной, державшей на руках ребенка. На Аяко было простенькое кимоно, и волосы она гладко зачесала назад, перевязав их лентой, но при виде ее сердце у Акитады зашлось. Заметив его, она просияла, неосознанно пригладила волосы и застенчиво улыбнулась. Тора присвистнул. — Ого! Да у нас перемены к лучшему. Как я понимаю, мужичок завелся, и вот перед нами уже обычная женщина. Акитада свирепо зыркнул на слугу. — Аяко рисковала вчера жизнью, — проговорил он сквозь зубы. — Если еще раз оскорбишь ее, это будут твои последние слова. Ты меня понял? У Торы отвисла челюсть. Акитада подошел к Аяко и заглянул ей в глаза, надеясь увидеть там то, что испытывал сам. Соседка торопливо распрощалась и заспешила прочь. — Ну как ты? — нежно спросил Акитада. — Прекрасно. А ваши плечи? — Гораздо лучше. Я… — он пытался найти слова, — очень тебе благодарен. В глазах ее засветилась нежность. А он, набравшись смелости, предложил: — Может, повторим лечение утром? Она покраснела. — Почему бы и нет? Если плечи еще болят. — Значит, завтра? — И громко прибавил: — А мы вот зашли вас проведать. Они поедали друг друга глазами, и только в последний момент Акитада вспомнил про Тору. Обернувшись, он увидел, что тот сосредоточенно изучает массивные ворота соседнего дома. И высоченная стена, и сами ворота, утыканные острыми железными гвоздями, имели внушительный и даже угрожающий вид. — Должно быть, это и есть дом удачливого торговца шелком? — спросил Акитада у Аяко. — Ты хорошо знаешь эту семью? — Почти совсем не знаю. Он очень неприятный человек, и слуги у него грубияны. Мы с ними не разговариваем. Никто с этой улицы с ними не разговаривает. И семью его никто никогда не видит, они не выходят из дома. Видать, богатство сделало его таким подозрительным. — Может быть, — нахмурился Акитада. Аяко застенчиво кашлянула. — Да вы проходите! Я… мы не ждали вас, но очень рады. — И повернувшись, чтобы открыть дверь, сообщила: — Только у нас уже есть один гость. Крыса зашел на огонек. — Крыса здесь? — оживился Тора. — Этот старый проныра вытянул из меня половину жалованья себе на вино да на новую одежку! Аяко, похоже, удивилась. — Вот видишь, какой ты добрый, Тора, — улыбнулась она, касаясь его плеча. Тот только растерянно заморгал. Они прошли в дом. Хигэкуро сидел на своем обычном месте. Рядом рисовала Отоми. Увидев Тору, она засветилась радостью. На жаровне, согревавшей комнату, что-то аппетитно булькало в горшке. Хлопотавший возле нее шустрый старикашка, завидев гостей, воскликнул: — Ну вот, Хигэкуро, я же говорил! Оглянуться не успеешь, как твои девчонки наградят тебя сыновьями, которых у тебя отродясь не было. Аяко резко повернулась и убежала наверх. Не обращая внимания на слова Крысы, Хигэкуро пригласил Акитаду сесть. Отоми собрала свои краски. — Вы вовремя. Мы как раз ужинать собирались, — весело сообщил Хигэкуро, наливая вина. — Нам сосед отличных устриц принес, Отоми нарезала овощей и сварила похлебку. Так что у нас, считай, просто праздник! В кои-то веки рис подаем к столу вместо проса. — Он улыбнулся, довольно потирая руки, и прибавил: — Хотя просо я тоже люблю. Акитада восхищался этим человеком и его умением радоваться самым скромным дарам, преподносимым жизнью. Он испытывал неловкость, беспокоился, не догадался ли Хигэкуро, что было между ним и его дочерью. — Вот и Крыса тут как тут, — рассмеялся хозяин. — Он у нас большой мастер травить страшные байки, когда подвыпьет. Уже битый час его спаиваем. — Эй, Крыса! — окликнул Тора старикашку. — Как же это ты скрывал такие таланты. И где новая одежда, за которую я заплатил? Старик поперхнулся вином и зашелся в приступе кашля. — Ну ладно, ладно! Я люблю слушать байки, — сказал Тора, заботливо хлопая его по спине. Крыса ссутулил костлявые плечи. — Никогда не насмехайся над духами! — хрипло изрек он. Акитада не удержался от смеха, чувствуя себя необъяснимо счастливым. — За это не переживай, старик, — успокоил он. — Тора у нас перед духами просто трепещет. — Вот любопытная вещь, — заметил Хигэкуро. — Чем суевернее человек, тем больше ею тянет слушать про нечто подобное. — Аяко рассказала вам, что мы видели в монастыре? — тихонько спросил Акитада. — Да, — помрачнел Хигэкуро. — И это, как я понимаю, никакие не духи. Вы доложили губернатору? — Пока нет. Он уехал из города. Аяко спустилась с чердака. Она переоделась в коричневое кимоно и подвязалась узорчатым коричнево-белым поясом. Ее распущенные волосы, пусть и не такие длинные, как у знатных дам — всего лишь до пояса, — были густые, блестящие и чуть завивались колечками на концах. Акитада любовался ею, пока она накрывала на стол; из глубокой задумчивости его вывела случайно выхваченная из общего разговора фраза. Он изумленно уставился на Крысу. — Ты видел духов в доме Татибаны? Когда? Давай-ка рассказывай! — Голос его прервался от волнения. Столь суровый и властный тон напугал Крысу, и тот весь съежился. — Нет, не в доме, ваша честь. Упаси Бог, не в доме! Крыса никогда не сунется, куда ему не положено. Просто на дорожке. Я рылся там в мусоре. — Боже мой! — воскликнул Акитада. — Неужто есть люди, вынужденные питаться тухлятиной и отбросами, которые богач не скормит даже собакам? — Я никогда не питаюсь тухлятиной! — обиделся Крыса. — Просто богачи выбрасывают много добра. Вот, к примеру, в прошлом месяце на задворках у рисового торговца я откопал на помойной куче целого леща да еще полную горсть аваби[1377] набрал. — Ну а что там насчет дома Татибаны? — мягко напомнил Акитада. — Да не успел я ничего толком разглядеть. — Крыса хрипло вздохнул и перешел на шепот: — Дзикоку-тэн поразил меня своим мечом! — Дзикоку-тэн? Страж-повелитель Востока?[1378] — Он самый. Это просто чудо, что я остался жив и сижу тут перед вами, — мрачно кивнул Крыса и для пущей убедительности хрипло задышал. — Он забрал к себе душу старого губернатора. — Ты это всерьез? — Потрясенный Тора уставился на старика. — И он тебя видел? Крыса поскреб затылок. — «Видел» — не то слово. Я столкнулся с ним возле задней калитки. Вместо глаз у него, как и полагается, были горящие угли, ион поразил меня своим мечом… Прямо сюда… Ну, из меня, конечно, дух вон. Очнулся я, полузамерзший, в снегу под окошком кухни и услышал, как служанки внутри оплакивали смерть старого князя. С тех пор я будто сам не свой. — Он выставил вперед пустую чашку. Акитада вскочил и, подбежав к Крысе, крепко схватил его за руку, опрокинув чашку. — А ну тихо! — рявкнул он. — Когда это было? Старик заверещал то ли от боли, то ли от страха, и рука Аяко легла на плечо Акитады. — Вы же напугали его, — проговорила девушка. Акитада разжал пальцы, и Крыса, метнув на него укоризненный взгляд, потер запястье. — Сплю я, знаете ли, в старой часовенке, что за владениями Татибаны, Потому как там спокойно. И вот позапрошлой ночью что-то меня разбудило, я и выбрался на дорожку помочиться. Снег прямо-таки валил, да только меня все равно потянуло к мусорному бочонку, что у них за калиткой. Брюхо подвело, вот я и пошел поискать чего-нибудь съестного. И тут заметил этот скачущий огонек. — Крыса передернулся, а Тора даже, дыхание затаил. — И вдруг что-то затрещало да зашипело, будто огонь. Только дыма не было. — Ну давай же, продолжай! — подгонял Тора, тараща глаза. — Пристроился я, значит, к калитке, чтобы поглядеть в щелочку, что там происходит, а она возьми да и распахнись. Поначалу-то я увидел одни только сапоги да краешек синего платья, а уж как голову задран, эти огненные глазищи и просверлили меня насквозь. Помню только, что рухнул я на колени, моля Будду о спасении, тогда-то он меня и ударил. До сих пор голова раскалывается от боли и даже кусочка махонького в рот взять не могу. — Крыса глянул в сторону жаровни, шумно потянув носом. — Хотя теперь-то, кажись, полегчало. Акитада хмуро вернулся на свое место. — Какая странная история про духа… Хигэкуро рассмеялся. — Винцо-то делает свое дело! Посмотрим — может, расскажет нам еще что-нибудь. Аяко! Отоми! Как там похлебка? Готова? Похлебка получилась превосходная, и Аяко скромненько сидела рядом с Акитадой, подливая ему в чашку вина и подкладывая кусочки повкуснее. Крыса, набив брюхо, дождался, когда женщины соберут посуду, и пустился рассказывать новую историю. — Вот есть у меня друг, так он своими глазами видел шествие чертей. И представьте, живет пока на свете! — начал он, почесывая живот и рыгая. — А было это в городе, где живет сам император. Дружок мой говорит, что крыши там из чистого золота, а знатные дамы такие красавицы, что можно принять их за фей. Говорит, остался бы там навсегда, если б не демоны. Тора поежился. — Вот небось перепугался-то — что твоя мышь в лапах у кошки! Озорно подмигнув, Хигэкуро шепнул Акитаде: — Не иначе этот Крысин приятель тоже как следует приложился к крепенькому винцу. Услышав это, Крыса кивнул. — Что верно, то верно. Он тогда, как и все, отмечал праздник Хризантем, да только был трезвехонек, когда то самое увидел! В тот вечер потратил он последние медяки и нечем ему было заплатить за ночевку, вот и забрался он в старый заколоченный храм. Положил узелок себе под голову, устроился поудобнее и уснул. Не знал он только, что в таких вот заброшенных храмах злые духи устраивают сборища. Разбудили его пение и смех, ну и решил он, что это народ гуляет. Поднялся посмотреть. — Крыса приумолк, разглядывая пустую чашку, потом, озираясь, прошептал: — Но не люди то гуляли! Совсем даже не люди! — И притих. Тора, сгорая от нетерпения, принялся трясти Крысу за плечо, чем вызвал у того новый приступ кашля. Отоми наполнила чашку. Крыса выпил, вытер рот тыльной стороной ладони и продолжил: — Ох и жуткое это было зрелище! Целая толпа чертей набежала туда. Не меньше сотни, и все злющие да страшные! Одноглазые, рогатые, длинноносые и длинноухие и шерстью рыжей заросшие. И тощие как палки, и толстые как колобки, а впереди выступал самый здоровенный черт с огненной рожей и когтистыми лапами вместо рук. Все они сгрудились вокруг старого колодца, что был вырыт посреди двора. Акитада с Аяко лукаво переглянулись, улыбаясь друг другу. Акитаде нравилось слушать сказки, и Крыса тоже начинал ему нравиться. А тот между тем продолжал: — Благодаря луне да их факелам было там светло как днем, и дружок мой хорошо их разглядел. А еще видел он среди них молодую женщину. Прекрасная она была, как фея, и плакала. Но злобные черти только потешались над ней, толкали, пихали и щипали ее. Они разодрали на ней платье, сорвали с головы украшения, и лежала она, бедняжка, в грязи… — Крыса умолк и посмотрел на Аяко. — Вы не представляете, как тяжело рассказывать истории — силы уходят да голод мучает. Не осталось ли там похлебки? Аяко принесла ему миску супа. Он поднес ее к губам, шумно зачавкал, потом спросил: — Так на чем я остановился? — На том, что красивая дама лежала там вся голая… — с готовностью напомнил Тора. — Никакая не голая! — обиженно вскричал Крыса. — Я не говорил, что она была голая. Это все твое испорченное воображение, Тора. А она была в исподнем. Правда, недолго… — Ну вот, так я и знал! — пробормотал Тора. — Не мог бы ты помолчать? Если будешь меня перебивать, я никогда не закончу рассказ. Я сказал «недолго», потому что красноглазый великан с огненной рожей подрался с остальными чертями из-за украшений. Он ревел как настоящий дьявол, коим в общем-то и был, но остальные черти оказались проворнее и попросту удрали. Он ревел еще какое-то время, потом увидел даму, лежащую на земле в одном исподнем, и бросился к ней, чтобы содрать с нее последнее. Дама кричала, а он рвал одежду, но она боролась. Вот тогда он вынул свой нож, вонзил в нее и упал, накрыв собой ее тело… Аяко тихонько вскрикнула, а Крыса благочестиво произнес: — В присутствии дам я не могу рассказывать, что было дальше. Скажу только, что демоны — это ужасные существа. В общем, закончив свое черное дело, он бросил ее в колодец и ушел. А дружок мой перепугался до смерти, поэтому убрался из столицы в ту же ночь. Тора выдохнул в восторженном ужасе, но Аяко сверлила старика сердитым взглядом. — Я так и знала, что твой рассказ закончится какой-нибудь гадостью. — Она в сердцах сплюнула. — Не верю ни одному слову об этих так называемых приключениях твоего дружка. Ты все это сам выдумал. Ты и твой больной мозг. — Ага! Как же! Я видел, как ты слушала — ушки аж оттопырились. — Он закашлялся. — Знаю я вас, женщин: с виду вроде стыдливые паиньки, а как соберетесь в кругу подружек, так несете такое, впору уши затыкать. — Ах ты!.. — Аяко вскочила под дружный хохот. Акитада взял ее за руку и усадил рядом, и от его глаз не укрылась понимающая улыбка Хигэкуро.ГЛАВА 13 Хадэсато и уличная девка
На следующее утро Акитада еще раз попытался увидеться с губернатором, но ему сказали, что Мотосукэ вернулся вчера очень поздно и теперь еще спит. Тора, помня о вчерашней хозяйской взбучке, воздержался от замечаний, когда Акитада отменил обычную утреннюю тренировку ради похода в баню. Зато от Сэймэя отвязаться оказалось не так просто. — А чем плоха казенная баня? — полюбопытствовал он. — Да вообще-то ничем. Просто в общественной бане есть массаж, а поскольку у меня ноют плечи… — Акитада не договорил и сделал вид, что увлечен завтраком. Сэймэй сам не заметил, как перешел на другую тему. — Вам еще повезло, что отделались только плечами. Ваши предки ужаснулись бы, узнав, как вы рисковали их добрым именем. Тайно пробраться ночью в монастырь в компании простолюдинов словно воришка!.. Представляю, какой бы скандал поднялся, если б вас поймали. С удачной карьерой уж точно пришлось бы распрощаться. — Распрощаться пришлось бы скорее с жизнью. — Акитада улыбнулся, мыслями уносясь к Аяко. — Что же тут смешного?! — вскричал Сэймэй. — Столько лег копить разочарования и наконец получить такой шанс! На двадцать пятом году жизни стать императорским инспектором и позволять себе подобные проделки! Неужто забыли мудрость? Путь к успеху долог и тернист, зато обратная дорога коротка и быстра. — Сэймэй так разволновался, что голос перестал его слушаться. Акитада почувствовал угрызения совести. — Прости, старый друг, я заставил тебя волноваться, — повинился он. — Это была рискованная затея, но у меня не осталось выбора. Считай, что это часть тернистого пути к успеху. От этих слов Сэймэй просиял. — Ага! Значит, вы раскрыли дело? — Не совсем. Вернее, мы близки к ответу. Отодвинув пустую миску, Акитада поднялся. Теперь его ждала баня. Вернулся он только к полудню и, прихватив рисунки Отоми, отправился в покои губернатора. Акинобу встретил его с улыбкой и провел в библиотеку. Он застал Мотосукэ, как всегда холеного и нарядного, за утренней трапезой. Акинобу доложил о его приходе и удалился. Мотосукэ приветствовал его бурно — замахал в воздухе папочками, улыбаясь во весь рот и приговаривая: — Добро пожаловать, любезный старший братец! Вы уж простите, что не встаю вам навстречу. Вчера вернулся поздно и вот только лишь завтракаю. Стыдно, правда? — И указал палочками на подушку рядом с собой. — Присаживайтесь. Отведайте чего-нибудь. Рыбки? Или вот аваби. Или овощи. Не будете? Ну что ж, тогда к делу. Акинобу говорит, вы заходили вчера вечером дважды и еще сегодня утром. Жаль, что я заставил вас ходить впустую. А что случилось? — О, это длинная история. Позвольте мне… — Акитада подошел к одной из ширм, чтобы развесить на ней свитки Отоми. Мотосукэ молча разглядывал их, потом захлопал в ладоши. — Глухонемая девушка! Вы все-таки нашли ее! Рисунки очень хороши. В самом деле, очень и очень хороши! Ну а как она сама? Говорят, прелестна. — Да, она прелестна, но я совсем не поэтому принес сюда ее картины. — Ну что ж, вам виднее. Мне очень приятно, что вы нашли в наших краях красавицу себе по душе. — И Мотосукэ лукаво подмигнул покрасневшему Акитаде. — О-о!.. Вижу, вижу!.. Ха! А я-то, признаться, считал вас занудой. Или, хуже того, любителем мальчиков. Как нашего благочестивого настоятеля. — Дзото? В дверях послышалось деликатное покашливание. Они обернулись и увидели на пороге Акинобу, лицо его было непроницаемым. Рядом с ним стоял настоятель Дзото. — По-моему, я слышал свое имя. Я не ошибся? — Дзото скользнул в комнату, искусно обходя ранговые различия и одновременно кланяясь Мотосукэ и Акитаде. Не дожидаясь приглашения, он сел и, окинув взглядом выставленные перед Мотосукэ разносолы, улыбнулся: — Вижу, к обеду я опоздал. — Просто мы вас не ждали, — пробормотал губернатор и хлопнул в ладоши. Когда в дверь заглянул Акинобу, Мотосукэ распорядился: — Настоятель голоден. Велите прислать сюда овощных блюд и… — Он вопросительно посмотрел на Дзото. — Вам фруктовый сок или чай, настоятель? — Еды не нужно, только чай, Акинобу. — И, повернувшись к хозяину, Дзото извинился: — Прошу прощения, губернатор, за неловкую шутку. Мне еще рано вкушать пищу — мы делаем это всего раз в день, вечером, — к тому же я пришел исключительно по делу. — Он заметил развешенные свитки. — Это новые? Кто-то из здешних художников? — Да, это здешняя художница, и, я думаю, вы знаете ее, — сказал Акитада, пристально наблюдая за лицом Дзото. — Молодая глухонемая женщина. Пишет в основном на буддийские темы. — А-а, Отоми! — Дзото снова скосил глаза на свитки. — Бедная девочка. Мы всячески помогаем ей — позволяем делать копии с наших оригиналов, знакомим с богатыми покупателями. В дверь постучался слуга и поставил на жаровню огромный дымящийся чайник. — Вы сказали, что пришли по делу, — напомнил Мотосукэ, дождавшись, когда уйдет слуга. Теперь резкость его тона стала еще более заметна. Чего он хочет? Избавиться от Дзото поскорее или эта откровенная неучтивость имеет другие причины? Акитада терялся в догадках. Но Дзото, казалось, не обратил внимания на холодный прием. — Я пришел передать вам скромное приглашение, — поклонился он Мотосукэ. — А также его превосходительству. — Он повернулся к Акитаде. — Мы надеемся, что вы оба почтите нас честью присутствовать на церемонии освящения нового храма. Участие столь важных представителей высочайшей императорской власти в нашем скромном торжестве придаст ему особой значимости и вдохновит местных жителей на благочестивые дела. Смею ли я надеяться, что вы не откажетесь произнести там коротенькую речь? Мотосукэ отложил в сторону палочки и вытер рот бумажной салфеткой, которую извлек из рукава. — Можете на меня рассчитывать, — любезно проговорил он. Акитада также дал свое согласие, в тайне надеясь, что удастся обойтись без выступлений. После разъяснения необходимых деталей Дзото, к их удивлению, не торопился уходить. — Есть еще один, менее приятный вопрос, к которому я хотел бы привлечь ваше внимание, губернатор, — сказал он. — Речь пойдет о преступлении. Богохульники-воры до такой степени обнаглели, что не побоялись ограбить самого Будду. Акитада сразу смекнул, о чем пойдет разговор. — Вот как? — удивился Мотосукэ. — Надо понимать, пропало что-то из ваших сокровищ? И что же утащили воры? Дзото, сложив ладони, поднес их к губам. — Слава Богу, ничего. Наши люди всегда начеку, они сумели предотвратить попытку кражи. Разбойники удрали, но в другой раз нам может и не повезти. — Это ужасно, — проговорил Акитада, сокрушенно качая головой. — Но ведь вы сами говорите, что ничего не пропало. Так, может, ваши монахи просто спугнули каких-то любопытных паломников? Дзото смерил его холодным взглядом. — Это невозможно. Мы, слава Богу, научились ограждать себя от тех, кто за личиной благочестия скрывает дурные намерения. Мы не пускаем паломников после наступления темноты, а те, что остаются на ночь в монастыре, обычно заперты в своих комнатах. К тому же мои ученики отлично разглядели трех разбойников, когда те карабкались на стену. И наружность, и одежда выдавали в них профессиональных грабителей, которые нагло и безнаказанно орудуют на наших улицах и дорогах. Акитада удивленно приподнял брови. — А по-моему, для грабителей с большой дороги это довольно странная выходка. Зато, с вашего позволения, я мог бы предположить другой вариант. Ведь разбойнику не обязательно рядиться в одежды паломника, с таким же успехом он может выбрить себе голову, надеть желтые одеяния и прикинуться монахом. У вашего преподобия есть уверенность, что все монахи в его монастыре на самом деле являются теми, кем хотят казаться? Глаза Дзото засверкали. — Не могу согласиться с вашей версией, — отрезал он. — Вы бросаете тень сомнения на нашу общину, обесценивая в глазах людей все добрые дела. По правде говоря, подобные толки ходили здесь и раньше, но их распространяли наши враги. С этого момента между ними возникла откровенная вражда. Акитада напустил на себя учтивость. — Да нет, это было всего лишь предположение. С тем же успехом эти люди могли оказаться простыми юнцами, что гоняются за призраками. Считается, что в храмах обитают призраки. — Уж и не знаю, где ваше превосходительство набрался этих слухов о призраках. У нас, знаете ли, принято изгонять злых духов из храмов, а не привечать их или лелеять. На это Акитада не преминул заметить: — Что верно, то верно. Только менее просвещенные люди из простонародья зачастую затрудняются провести границу между святыми и демонами. Вы, конечно же, не станете отрицать, что в делах духовных, равно как и в мирских, далеко не все является таким, как кажется. — Акитада с откровенным удовольствием наблюдал замешательство Дзото. — А вы поставили в известность об этом происшествии Икэду? — спросил Мотосукэ, прочистив горло. — Знать о подобных вещах ему полагается по должности. А я, к сожалению, занимаюсь предстоящим отъездом. Именно его мы с господином Сугаварой здесь и обсуждали. Поджав губы, Дзото поднялся. — В таком случае простите, что помешал, — сказал он и холодно откланялся. Акитада и Мотосукэ тоже встали. — Ничего, ничего, — пробормотал губернатор, направляясь к двери. Дзото постарался пройти как можно ближе к свиткам. Возле «Морского дракона» он споткнулся, но тут же выправил шаг и быстро вышел за дверь. — Ну и ну! — покачал головой Мотосукэ, когда они вернулись на свои места. — Я уж думал, он никогда не уйдет. Какая дурацкая история! Какие-то грабители в монастыре! Да, так о чем же вы пришли мне рассказать? — О том, что был одним из этих грабителей. У Мотосукэ отвисла челюсть. Акитада поведал ему о своих ночных приключениях и находках. Мотосукэ был потрясен. Глаза его все больше округлялись, а первоначальное любопытство постепенно уступило место ужасу. — Боже праведный! — воскликнул он, когда Акитада закончил рассказ. — Так вы хотите сказать, что Дзото хоронит своих монахов заживо? Но зачем?! — Подозреваю, что он поступает так с теми, кто отказывается принять его учение, — сухо пояснил Акитада. — Имя Гэннин о чем-нибудь говорит вам? — Конечно! Гэннин был настоятелем в этом монастыре до Дзото. Считается, что он удалился на покой по причине слабого здоровья. Так вы говорите, он у них внизу? — Боюсь, да. И этот Гэннин там не один. Мы слышали голоса молящихся. Когда мы сможем явиться туда с полицией и освободить их? Мотосукэ покачал головой. — Даже не знаю, как это сделать… Но, во всяком случае, уж точно без полиции. Если учесть, что у них там тайник оружием, тут понадобится целое войско. — Он в растерянности заломил руки. — Этот человек представляет угрозу безопасности страны. — Акитада указал на свиток с морским драконом. — Именно эта картина навела меня на подозрения относительно Дзото и его монастыря. Все воины на корабле вооружены нагинатами, а место капитана или генерала занимает монах. Мотосукэ подошел поближе. — Ну надо же, как странно! — недоумевал он. — Как же получилось, что эта глухонемая девушка умудрилась запечатлеть такое? — Полагаю, она стала невольной свидетельницей нападения на караван и изобразила преступников на своей картине. Если я не ошибаюсь, эти солдаты не кто иные, как вооруженные монахи. Вот и Юкинари только что сообщил мне о стычке с небольшой шайкой вооруженных секирами монахов. — Акитада замолчал и нахмурился. — Боюсь, Дзото теперь догадался, что означает этот свиток. — Он близорук. К тому же рисунок ничем не отличается от других изображений морского дракона. А как насчет пропавших ценностей? В монастыре вы не нашли никаких следов? — Нет. Должно быть, они спрятаны где-то еще. Подозреваю, что тут замешан один местный торговец, но с этим придется подождать. Сначала нужно освободить Гэннина и других монахов. Вздыхая, Мотосукэ беспомощно смотрел на Акитаду. — Боюсь, мой дорогой друг, вы не понимаете всей глубины этой проблемы. Мы не можем штурмовать монастырь с полицией или солдатами. Местные жители этого не допустят. Они восстанут против любого, кто нападет на их благодетелей. Акитада вынужден был согласиться со справедливостью этого замечания. Вконец расстроенный, он гневно воскликнул: — Тогда нужно как-то объяснить им, что монахи защищают не святых, а настоящих чудовищ! — Да, но как? Отчаянная мысль вдруг осенила Акитаду, и он даже схватил Мотосукэ за руку. — Церемония! Ну та, на которую нас пригласили. Не понимаете? Там же будет огромная толпа. Чем не идеальная возможность провести туда солдат? А когда мы в качестве доказательства представим людям освобожденного Гэннина, они сразу поверят в виновность Дзото. Мотосукэ растерянно моргал. — Боже праведный! Вы это всерьез? Но, мой дорогой друг, вы только подумайте о том, как это рискованно! Акитада отпустил руку Мотосукэ. Он вдруг представил себе, как подобная ситуация выглядит в глазах этого человека. Если придворное духовенство обнаружит — а это произойдет обязательно, — что Акитада с Мотосукэ ворвались с оружием в монастырь во время религиозной церемонии и устроили там — что тоже возможно — кровавую резню, го и карьера Мотосукэ, и будущее его дочери окажутся под угрозой. В сравнении с этим судьба нескольких престарелых монахов, заточенных в подземелье, должна и впрямь значить очень мало. Но губернатор удивил его. Расправив плечи, он решительно произнес: — Отличная мысль, любезный старший братец! Именно так мы и поступим. Разработку деталей предоставьте мне. Вот только есть одна проблема. Нам придетсязаручиться содействием Юкинари. — Юкинари нас поддержит. Как я уже говорил, его патруль столкнулся с шайкой монахов Дзото. Они уже давно точат зубы друг на друга. — И когда вы об этом узнали? — нахмурился Мотосукэ. — Вчера. Незадолго до моего прихода с Юкинари произошла странная случайность. Тяжелый бронзовый колокол сорвался с перекладины и рухнул рядом с ним. Такой несчастный случай легко подстроить. У монахов, должно быть, имеется сообщник в гарнизоне. — Я вижу, вы сильно озабочены всем этим. Но мы по-прежнему ничего не знаем об убийстве Татибаны. Вы думаете, Татибану убили, потому что ему было что-то известно об этих кражах? Может, вы подозреваете и Дзото? Акитада пребывал в нерешительности. Так много всего произошло. Они теперь точно знали, что Дзото и его бравые монахи стояли за похищениями цепных грузов, но это не доказывало их причастность к убийству бывшего губернатора. Таинственный ночной посетитель по-прежнему оставался под вопросом. Не следовало оставлять без внимания и странную историю Крысы про Дзикоку-тэна. По традиционным описаниям Дзикоку-тэн обычно носил оружие и выходил через заднюю калитку. Во всякие там перевоплощения Акитада не верил. Конечно, Крыса повстречал никакого не Дзикоку-тэна, а убийцу, который сшиб старика с ног, возможно, намереваясь убить его. Мотосукэ деликатно кашлянул. — Простите, задумался, — извинился Акитада. — Я только что вспомнил еще один любопытный момент. — Он рассказал о приключениях Крысы и прибавил: — У госпожи Татибана, возможно, есть любовник. Мотосукэ изогнул брови. — Не могу сказать, что меня это как-то особенно удивило. Всем известно про эту чудовищную разницу в возрасте. Татибана приютил девушку, когда умер ее отец, его лучший друг. Она была еще ребенком, и он ей годился в дедушки. Откровенно говоря, я думал, что он впал в старческое слабоумие, когда сделал это. К тому же ее прошлое не обещано ничего хорошего. — Что вы имеете в виду? — Ее мать была столичной куртизанкой. Ее отец влюбился в эту женщину, будучи в столице, выкупил, привез сюда и сделал своей наложницей. Когда она родила ему ребенка, он потерял к ней всякий интерес. Женщина вернулась к прежней жизни, забрав с собой девочку и небольшое состояние в золоте. Потом она умерла, и девочку доставили к родному отцу, который сначала воспринял это как удар, а потом перешел в другую крайность — жутко избаловал ребенка. Ей ничем нельзя было угодить, ничто ее не радовало. Говорят, своими запросами она свела в могилу отца и пыталась свести туда же и Татибану. — Мотосукэ кипел от возмущения. — Я никогда ее не видел. Она что, очень красива? — О да! — Акитада вспомнил дивное создание в расшитых шелках и почему-то почувствовал себя полным идиотом. Мотосукэ изучал его пристальным взглядом. — И надо думать, такая же кокетка, как ее мать? — Может быть. — На самом деле теперь, узнав ее историю, он был в этом уверен. Но после встречи с Аяко, и в этом он мог честно признаться себе, малолетние красавицы со своим хитрым умением обольщать больше ему не страшны. Теперь-то он раскусил все эти искусные ходы — внезапные обмороки, горькие слезы и жалобно протянутую маленькую ручку. Все это, оказывается, было уловками коварной соблазнительницы. — Может, Юкинари быть этим любовником? — спросил Мотосукэ. — Он был им. Честно говоря, его-то я и подозревал в убийстве. Нежелание зайти к ней и утешить показалось мне весьма подозрительным. Одна из служанок рассказала мне про их любовную связь. Эта женщина думает, что именно его видела выходящим оттуда в ночь убийства. Но Юкинари всю ночь не было в городе, и он клянется, что разорвал эти отношения минувшим летом. — Он познакомился с моей дочерью, — нахмурился Мотосукэ. — Да, и очень расстроен. — Чертов дурак! Так вы, стало быть, полагаете, что госпожа Татибана встречается с кем-то еще? — Да. Возможно, с кем-то из офицеров. Мотосукэ поджал губы. — Женщины очень мстительные существа. Может, это она убила Татибану? Ведь военный скорее всего использовал бы меч. — Не знаю. Вряд ли вооруженный человек стал бы убивать безоружного старика. Татибану ударили по голове каким-то тяжелым керамическим предметом. Я нашел у него в волосах глиняный осколок зеленого цвета. Это наводит на мысль о непреднамеренности действий невооруженного человека. — И как вы поступите теперь? — спросил Мотосукэ. Акитада вздохнул. — Я обещал госпоже Татибана помощь в делах с имуществом. Этим можно было бы воспользоваться как предлогом и что-нибудь выведать. — Превосходная мысль. А я пока начну готовиться к нашему монастырскому делу, и как только поговорю с Юкинари, сразу же дам вам знать. Теперь, когда дорога в тумане была наконец-то найдена, Акитада встревожился. — Будьте осторожны, — сказал он. — Чем меньше народу посвящено в это дело, тем лучше. Вернувшись в гостиницу, он застал там Тору, беспокойно расхаживающего по комнате. Сэймэй молча наблюдал за парнем. — Ну вот и вы! — обрадовался Тора. — Я нашел человека, который знает, где найти Хидэсато, и передал с ним весточку. Может, сходим прямо сейчас? А то скоро начнет темнеть. Акитада жестом остановил Тору. — Подожди-ка, не спеши. Я только что от губернатора. У меня могут быть срочные дела. — Да. Прочитали бы вы сначала вот это. — Сэймэй взял со стола какой-то любопытный предмет — голую веточку с листком шелковичной бумаги, привязанной малиновой ленточкой. — Паренек, что принес ее, ждет ответа. Акитада протянул руку за письмом и тут же отдернул, словно его укусила змея. Он догадался, кто отправитель. Но делать было нечего. Он неохотно отвязал письмо, небрежно уронив и ветку и ленту на пол. Листок дорогой бумаги был крепко надушен. Акитада прочел:Трактир, названный в честь восьми бессмертных, оказался обшарпанным двухэтажным зданием и располагался в веселом квартале. На верхнем этаже трепыхались на ветру цветастые полотнища с изображениями восьмерых святых. Тора бросил на хозяина беспокойный взгляд. — Пошли, — позвал Акитада, указывая на узкий вход, занавешенный обтрепанной соломенной циновкой. Его столичные знакомые шарахнулись бы от такого места как от чумы. Интересно, что на сей раз подумал бы Мотосукэ о своем «любезном старшем братце». Внутри было шумно, стоял тяжкий, спертый дух. Четыре повара, раздетые до пояса, с полотенцами, обмотанными вокруг головы, суетились возле дымящихся котлов, в то время как человек пятьдесят посетителей оживленно ели и пили, не забывая чесать языками. Пока Акитада провожал взглядом огромное блюдо с сочными креветками, пронесенное мимо пареньком-подавальщиком, Тора вглядывался в толпу и вдруг радостно заорал: — Вон он! Хидэсато! На его крик с места поднялся высокий бородач. Судя по выражению лица, он готов был провалиться сквозь землю. Натянуто улыбнувшись Торе, великан поклонился Акитаде. Тора бросился обнимать его, дружески хлопая по спине. — Где ты был, Хито? Мы искали тебя повсюду. Чего ты тогда удрал? Хидэсато искоса глянул на Акитаду. — Об этом позже, брат. Открытое лицо сержанта и его военная выправка сразу понравились Акитаде, хотя симпатия эта явно не была обоюдной. Хидэсато смотрел на него с откровенной враждебностью. Акитаде стало не по себе, но ради Торы он готов был стерпеть. — Я голоден, — сказал он, присаживаясь. — Давай-ка чего-нибудь закажем. Хидэсато, кашлянув, заметил: — Пища здесь простая, деликатесов нет. Не обращая внимания на эти слова, Акитада заказал три огромные порции креветок и кувшин вина. — Тора, наверное, говорил тебе, чем мы питались, пока сюда ехали. Так что это, считай, праздник, — обратился он к Хидэсато. Тот что-то буркнул, устремив взгляд на дверь. — Ты кого-то ждешь? — спросил Акитада. — Нет. То есть… ну, может, зайдет кто из знакомых. Когда принесли еду и вино, Акитада придвинул к себе свою порцию и начал проворно разделываться с креветками. Тора последовал его примеру, и через мгновение Хидэсато присоединился к ним. Ели молча, пока не опустошили миски. Тора вытер руки о подол старенького кимоно, Хидэсато сделал то же самое, наблюдая за Акитадой. — Отличная еда, — похвалил тот и достал из рукава бумажную салфетку. — Ну а теперь можно и винца. — Он наполнил чашки и сказал Торе, который потупился, закусив губу: — Ну, чего же ты ждешь? Сообщи другу хорошую новость! Тора встрепенулся. — Ой, да! Знаешь, Хито, по-моему, ты скоро снова будешь при деньгах! Из гарнизона тебя разыскивали. Им нужен еще один опытный сержант. Лицо Хидэсато засветилось радостью. — Правда? А я уж потерял всякую надежду. Наверное, надо было самому зайти к ним, когда съехал со старого жилья. — И снова стрельнул глазами по входу. Акитада махнул служанке, чтобы принесла еще вина. — Ну что ж, давайте выпьем! Есть повод, чтобы отпраздновать. Кстати, я тебе кое-чем обязан. Тора дает мне уроки палочного боя и говорит, что научил его ты. Хидэсато изумленно уставился на Тору, а тот поспешил пояснить: — У него отличные успехи, Хито. Скоро уже и учить будет нечему. Ну ты-то, конечно, нашел бы чему. Хидэсато метнул на Акитаду сердитый взгляд и отрезал: — Не надо бы делать этого, Тора. Твой хозяин нам не ровня. Зачем благородному господину простые занятия бедных людей? Палочный бой для тех, кому не позволено носить меч. Повисла тяжелая тишина, которую нарушил Акитада: — Ты уж не ругай Тору. Ведь более верного друга тебе в жизни не сыскать. А что до меня, то я не виноват в своем происхождении, как и ты в своем. Признаться, не вижу причины считать себя счастливее других. И ваше боевое искусство решил освоить, потому что оно может понадобиться мне в один прекрасный день, а мужчина, я уверен, должен многое уметь. Хидэсато молчал и сердито смотрел на него. — Мне жаль, что ты отталкиваешь меня, — продолжал Акитада. — Тора даже хотел отказаться от службы, узнав, что ты об этом думаешь, но я не отпустил его, решив сначала поговорить с тобой. Он связан узами чести, обещанием, которое дал, когда мы познакомились. И ты должен знать, что он заслужил твою дружбу. Впрочем, теперь он свободен. Я не хочу вставать между вами. — Он выудил из пояса связку монет и поднялся. — Ладно, день был трудный, и я устал. Расплатись этими монетами, Тора. — Я тоже устал. — Тора бросил деньги на циновку и тоже поднялся. — Нам пора. Удачи тебе, Хидэсато! Акитада даже остановился, расстроенный не на шутку. Он вовсе не собирался ставить Тору перед выбором, но прежде чем успел открыть рог, Хидэсато сказал: — А ну сядь-ка, младший братец. И вы тоже, господин, если не возражаете. Честно говоря, мне трудно представить, что Тора вам подошел, но готов поверить на слово. — Он потянулся к кувшину и наполнил чашки. — Теперь, когда мне снова предстоит вернуться на службу, я надеюсь на ваше доброе расположение, господин. Акитада и Тора сели в полной растерянности. А Хидэсато, улыбаясь, продолжил: — Не большой я мастер речи произносить, но Ториного слова мне достаточно. Вообще-то обычно я со знатью не якшаюсь, но для вас сделаю исключение, если вы не возражаете против общества простого солдата. — Он чокнулся с Акитадой и выпил. Акитада был рад даже этому скупому шагу навстречу и поднял свою чашку: — Я почту за честь знакомство с тобой. Теперь, когда лед наконец был растоплен, они поведали Хидэсато о своих приключениях, и тот, задав несколько вопросов про монахов и Хигэкуро с дочерьми, предложил им свою помощь в любое время, когда позволят служебные обязанности. Задушевный разговор был в самом разгаре, когда служанка, подойдя к Хидэсато, что-то шепнула ему на ухо. Он тотчас же встал, глядя в сторону двери, и пробормотал: — Извините. Я же говорил, что ко мне могут зайти. — Так приглашай своего приятеля к нам присоединиться, — радушно предложил Акитада. — Она откажется, — покраснел Хидэсато. — Так это дама? Тогда тем более. — Акитада был заинтригован. И, оглядевшись по сторонам, прибавил: — Я вижу, женщины сюда заходят. Давай пригласи. — Как вам будет угодно, господин, — смутился Хидэсато. Вернулся он с молодой женщиной, укутанной в теплую куртку, из-под которой виднелось грязное цветастое платье. Лицо ее было густо размалевано, как у всех обитательниц веселого квартала. — Это Жасмин, — сконфуженно представил подругу Хидэсато. Женщина застенчиво кивнула. — Проходи, садись, — сказал Хидэсато. — Ты, наверное, замерзла и проголодалась. — Он помог ей снять куртку, а Тора тем временем кликнул служанку, чтобы та принесла еще еды и вина. Оставшись без толстой куртки, Жасмин оказалась до жалости худенькой. Акитада подумал, что, наверное, под этим густым слоем белил прячется милое девичье личико, но пока их гостья своим болезненным видом вызывала только сочувствие. Волосы ее были спутаны ветром, ногти на грязных пальчиках обгрызены. А между тем Хидэсато суетился вокруг нее словно сын или возлюбленный. Акитада с Торой переглянулись. Оглядевшись по сторонам, девушка проговорила низким грудным голосом: — Ух ты! Неплохо вам живется, мужчинам. Сидите тут в тепле, набиваете брюхо, а я вот ноги себе отмораживаю на улице, зарабатывая на жизнь. Да разве словишь клиента в такую-то погоду?! На мороз только бедняки нос высовывают, а они любят задаром. — И, ничуть не интересуясь впечатлением, которое произвели эти слова, продолжила: — Да и сюда-то меня не впустили бы, пока ты за мной не вышел. О-о! Еда? — Она так жадно накинулась на поставленную перед ней порцию, что креветки полуочищенными исчезали между ее маленьких зубок. Хидэсато, восхищенно наблюдая за ней, придвинул чашку с вином. Она кивком поблагодарила и, не переставая жевать и прихлебывать из чашки, то и дело выковыривая из зубов креветочную шелуху, продолжала щебетать: — О-о!.. А вкусно-то как!.. А вечер у меня выдался — дрянь! Всего один клиент, да и то какой-то полуголодный плотник. А ну-ка, Хито, милый, не нальешь мне еще чашечку? Этот ублюдок дал мне всего десять медяков. Можешь себе представить? И даже домой не пригласил! Так, в переулке, прямо стоя… За десять-то медяков! А до этого у меня все выгреб Року. Она поникла и устало, с отсутствующим видом поскребла левую щеку — из-под смазанных белил показался безобразный синяк. — Этот урод опять тебя бил? — хрипло воскликнул Хидэсато. — Я же просил тебя, позволь мне его проучить! Послушай, Жасмин, я теперь получил работу. В гарнизоне. Снова стану сержантом. Мне будут хорошо платить. Бросай-ка ты свое занятие и уходи от этого мерзавца. Переезжай ко мне. Я о тебе позабочусь. Женщина покачала головой. — Не могу я, Хито. Ты же знаешь почему. И его не смей трогать. Обещаешь? Ведь ты же мне настоящий друг? — Она жалобно смотрела на него. Хидэсато только беспомощно всплеснул руками и придвинул к ней полную чашку. — Ну ладно. Поешь вот и выпей. У тебя замерзший вид. У меня есть кое-какие деньжата, а скоро будет больше. Так что не беспокойся. — Он достал из рукава горстку монет и вложил в ее ладошку. Тора явно начинал сердиться, и Акитада решил, что пора уходить. Хидэсато только мельком глянул на них, рассеянно улыбнувшись, и снова переключил все внимание на женщину. Акитада щедро расплатился со служанкой и догнал Тору на улице. — Ты знаешь эту девицу? — спросил он. Тора цветисто выругался. — Я думал, он отвязался от нее. Жасмин из его родного города, даже какая-то родня ему. Он ухаживает за ней уже несколько лет, но этой глупой бабе не нужны такие порядочные люди, как Хидэсато. И посмотрите, до чего она из-за этого докатилась. Могу поклясться, что его выгнали с последнего жилья, потому что он отдал ей все свои деньги, чтобы ее снова не поколотил бывший ухажер. Бедняга Хидэсато так переживает из-за нее! Акитада подивился превратностям человеческих отношений, особенно их порочности. Оказалось, женщинам ничего не стоит разбить сердце влюбленного мужчины. Благородный и сильный сержант полюбил простую уличную девку, которая без зазрения совести обсуждает в его присутствии клиентов и своего ухажера-драчуна. Вот и Юкинари дважды был прельщен женщинами, и они сломали его, потому что он имел несчастье влюбиться в дочь Мотосукэ. Госпожа Татибана, как некогда ее мать, манипулировала мужчинами, разрушая их судьбы или сводя в могилу. Яркие бабочки, как оказалось, несли гибель. Вот только почему мужчины, поддавшись своей страсти, не понимают этого? Почему теряют рассудок и чувство меры? Домой они шли молча.
ГЛАВА 14 Зеленый черепок, синий цветок
На следующий день ближе к обеду Сэймэй и Акитада подошли к задней калитке особняка Татибаны. Утренние походы в баню отвлекали Акитаду не только от занятий палочным боем, но и от работы. Испытывая усталость и чувство вины, он с трудом держал себя в руках и словом не обмолвился с мальчиком Дзюндзиро, который впустил их. По дороге к кабинету Дзюндзиро шагал рядом, вопросительно поглядывая на Акитаду. У крыльца тот оглянулся и сухо сказал: — Ты нам не понадобишься, но хозяйке о нашем приходе не говори. Он беспокойно взглянул на дом, мирно дремлющий посреди пустынного сада. Снег порядком подтаял — остался только под кустами да на северной стороне здания. У Акитады не было ни малейшею желания встречаться с этой зимней бабочкой. — Монахов здесь больше нет, — сообщил Дзюндзиро. — Очень хорошо, — сдержанно отозвался Акитада, занося ногу на ступеньку. — Может, принести вам чаю и жаровню? — Нет, спасибо. Мы пробудем здесь недолго. Мальчик собрался уходить, а Акитада с Сэймэем уселись на веранде, чтобы снять обувь. Но тут Дзюндзиро обернулся и спросил: — Вы арестовали капитана? — Капитана? — удивился Акитада и тут же вспомнил, что говорила мать мальчика. — Нет, капитана Юкинари не было в городе в ту ночь, когда убили твоего хозяина. Глаза Дзюндзиро округлились. — Но кто же это мог быть? — Твоя мать обозналась. Мальчишка вспыхнул. — Моя мать не могла обознаться. Я скоро вернусь. — И убежал. Акитада со вздохом поднялся. — Пошли, Сэймэй. Займемся делом. Они перебирали и изучали документы, когда Дзюндзиро появился снова. Глазенки его горели упрямством. — Моя мать говорит, что узнала шлем капитана. На нем красная тесьма и серебряная кайма по кругу. Мать хорошо запомнила, потому что красный шлем ярко выделялся на фоне синего платья. Изумленный Акитада отложил в сторону бумаги. — Синее платье, говоришь? А с чего это капитану надевать шлем с синим штатским платьем? Ведь тогда ему полагалось бы быть в военной форме, то есть в доспехах. — Растирая ноющую шею, он пристально смотрел на мальчика. У озадаченного Дзюндзиро отвисла челюсть. — Верно! — просиял он. — Я рад, что это оказался другой. — И снова убежал. Недоуменно покачав головой. Акитада поморщился от боли и вернулся к работе. Они управились до обеда и возвратились в гостиницу, но Акитада едва притронулся к еде. — Среди бумаг Татибаны мы ничего не нашли, — сообщил он Торе. Или князь был слишком осторожен и ничего не записывал, или убийца унес уличающие документы с собой. Тора только кивнул и подошел к Сэймэю, под руководством которого упражнялся в чистописании. — А ну-ка, вы оба, слушайте внимательно! — рявкнул на них раздраженный Акитада. Голова его гудела после вчерашних излишеств. — Давайте-ка поразмышляем над этим убийством. Началось все с того, что князь Татибана тайком от всех пригласил меня к себе. По-видимому, он располагал какой-то опасной тайной, которую хотел поверить мне и боялся сообщить кому-то из присутствовавших. Мотосукэ и Юкинари мы исключили из числа подозреваемых; стало быть, остаются Дзото и Икэда. — Думаю, они замешаны здесь оба. — Непринужденно рыгнув, Тора растянулся на спине, скрестив руки под затылком. — Один подонок развлекается с мальчиками и хоронит заживо старых монахов, а другой просто мошенник. С меня, например, этого достаточно. — Глупости ты говоришь, — вмешался Сэймэй. — Как они могут быть виновны в одном и том же преступлении? — Он налил Акитаде чашку чаю. — А винца больше нету? — поинтересовался Тора, перекатываясь на живот. — Больно много пьешь, — заметил ему Сэймэй. — От вина у тебя голова пустеет и ты несешь глупости. И изволь сесть нормально в присутствии хозяина. Тора сменил позу. — А что такого глупого было в моих словах, что префект и настоятель замешаны оба? Акитада растирал виски. К расстройству желудка прибавилась еще и головная боль. Он не знал, к чему отнести это недомогание — то ли к ночным приключениям в монастыре, то ли к любовным упражнениям с Аяко. Прогнав от себя эти мысли, он сказал: — В некотором роде Тора прав. Из этой парочки могли бы получиться прекрасные союзники. У Дзото люди, а у Икэды все сведения о караване. — Вот так-то, старик! — воскликнул довольный Тора. — Даже слепая черепаха нет-нет да и наткнется на спасительную щепочку, — съязвил в ответ Сэймэй. — Но это ничего не дает нам по убийству Татибаны, — продолжал Акитада. — Ни улик, ни доказательств, необходимых для ареста обоих. — Может, кто-то умышленно надел капитанский шлем? — предположил Сэймэй. — Это, кстати, идеальный способ скрыть бритую монашескую голову. Акитада вспомнил свиток Отоми и кивнул. — Возможно, дама развлекалась с любовником и муж их застукал, — предположил он. — Только Дзото как-то мало подходит на роль тайного любовника. — Он порылся в ящичке в поисках зеленого черепка, обнаруженного в волосах Татибаны, и наткнулся на какой-то мелкий твердый предмет. Это оказался синенький цветочек с подноса лоточника. Как давно это было! Интересно, зачем он оставил этот бесполезный осколок? Но пальцы снова коснулись цветка, и у Акитады возникло ощущение, что тот имеет какую-то значимость. Он взял его в руки. Похоже, вьюнок сделан из чистого золота и покрыт эмалью — техника необычная и скорее всего заимствована за морями. Акитада понятия не имел, откуда мог взяться этот цветок. Допустим, откололся от какой-то церковной статуи. А если так, то какое отношение имеет к Дзото и караванам с церковными ценностями? — Сэймэй, ты помнишь эту безделушку? — спросил он. Старик пригляделся. — Вы заплатили тому проныре слишком большие деньги за этот хлам. Акитада убрал цветок в ящичек. — Я хочу, чтобы вы с Торой сходили на рынок. Служанка в трактире, помнится, прикипела к тебе душой, особенно когда я ей вручил весь этот, как ты говоришь, хлам. Вот и поинтересуйся, не знает ли она, где живет этот проныра. Может, он частенько к ним заходит. А уж тогда найди его и спроси, где он взял этот цветок. Лицо у Сэймэя вытянулось. — Господин, а нельзя ли Торе пойти одному? — Прости, старина, но ты единственный можешь узнать в лицо этого лоточника. Гора-то в это время гонялся за Отоми и двумя монахами. — И, видя страх в глазах Сэймэя уже мягче прибавил: — Я бы не стал тебя просить, если бы это не было так важно. С этими словами он спрятал в пояс зеленый черепок и поднялся. — Уже поздно. Я собираюсь навестить вдову, и на этот раз намерен найти орудие убийства. Татибану огрели по голове где-то в доме. Вполне вероятно, это произошло в покоях его жены и она все знает. — О том, как неприятен ему этот визит, он распространяться не стал. Акитада уже шел к воротам, когда вспомнил про Икэду и остановился. Как же он мог забыть, что Икэда, будучи потенциальным подозреваемым в краже ценностей, не должен знать о шагах Акитады по делу Татибаны до монастырской церемонии! Значит, явиться в монастырь с полицией Акитада не сможет. Конечно, ему хотелось отложить новое решение, но он все же направился в губернаторскую резиденцию, где и обсудил эту проблему с Акинобу.Огромный особняк Татибаны мирно покоился в лучах бледного зимнего солнца. Зеваки здесь больше не толпились, а Дзюндзиро сразу же открыл ворота, возле которых стояли большой ящик и громадная пузатая корзина. Мать мальчика вместе с другой женщиной вытаскивали из дома огромные тюки и издали поклонились Акитаде. Провожая их взглядом, он спросил у парнишки: — Что случилось? — Мы уходим. Сато уже ушел. Его забрала племянница. Хозяйка посылала за ней. Теперь здесь всем заправляет старая дракониха, она-то и велела нам выметаться. — Жаль, — искренне сказал Акитада. Он ничем не мог помочь этим людям. — Но ты не волнуйся. Любой господин с радостью возьмет к себе в дом пару таких толковых слуг, как вы с матерью. Дзюндзиро горделиво выпрямился. — Мы не пропадем, господин. Я парень смышленый. А может, вы нас возьмете? Акитада вдруг почувствовал чудовищную усталость, и ему захотелось поскорее разделаться с этим проклятым визитом. — Боюсь, не получится, — вздохнул он. — Но ты можешь отвести меня к своей хозяйке. У дверей в покои госпожи Татибана пришлось подождать. Когда его наконец впустили, Акитада обнаружил в пустой комнате только великаншу-няньку. Сегодня она вела себя более почтительно, проводила Акитаду все к той же низенькой ширме, предложила шелковую подушку. — Мы не ждали достопочтенного господина, — поклонилась она то ли в третий, то ли в четвертый раз. — Госпожа сейчас выйдет. — И удалилась в другую дверь — должно быть, помочь госпоже Татибана с ее туалетами. Когда она ушла, Акитада внимательно оглядел комнату. Здесь вроде ничего не изменилось с прошлого раза. На полу узорчатый ковер, свиток с журавлями на стене между двумя стойками, на одной из которых огромная китайская ваза, на другой искусственное деревце с жадеитовыми листьями и золотыми цветами. Впрочем, деревца этого здесь раньше не было. Акитада подошел разглядеть его получше. Милая безделушка, только стойка в день похорон была пустая. Он еще, помнится, обратил внимание на некоторую несимметричность. Стойки одинаковые — значит, и вазы должны быть одинаковые. И вдруг его словно громом поразило — ваза была зеленая. Он подошел к этой единственной теперь вазе и достал из пояса черепок. Все верно — тот же цвет и та же глазурь. Выходит, другой вазой из этого комплекта убили князя Татибану. Он взял сосуд за тонкое горлышко — благодаря своей тяжести он представлял собой идеальное оружие. А ведь помнится, Дзюндзиро жаловался, что здешних слуг незаслуженно обвиняли в небрежном отношении к вещам. Выяснить, не разбивал ли кто-то зеленую вазу в утро убийства, было нетрудно. Поставив вазу на место, Акитада опустился на четвереньки и принялся изучать ковер. Пятно он обнаружил почти сразу. Грубая шероховатая поверхность возле самого края оказалась влажной. Раздвинув густой ворс, он заметил внизу коричневатый липкий налег и потрогал его пальцем — кровь. Черепные раны всегда обильно кровоточат, а в кабинете было обнаружено только крохотное пятнышко. Князь Татибана умер здесь, и теперь этому есть доказательство. Услышав звук из соседнего помещения, Акитада успел вернуться на свою подушку. В комнату легкой походкой вошла госпожа Татибана. На ней было шелковое кимоно, как и полагалось пребывающей в трауре вдове, темно-серого цвета, но поверх она накинула игривый розовый жакет, расшитый бабочками. Акитада сразу вспомнил, что именно с бабочкой сравнил ее мысленно в день своего первого прихода. Невольно он все же смягчился к этому прекрасному юному созданию, глядя, как она приближается, опустив ресницы, и роскошные длинные волосы волочатся за ней шлейфом. Жизнь с престарелым мужем, проводившим все время в саду или кабинете, была тяжелым испытанием для испорченной капризной девчонки, прежде не отведавшей прелестей любви. Он поклонился. В его собственной жизни очень многое изменилось с тех пор, как они виделись в последний раз. Благодаря Аяко он узнал, что женщины могут быть страстными и желать мужчин. Так что же удивительного в том, что эта бедная бабочка тоже поддалась соблазну? Юная хрупкая красота ее была безукоризненной. Вероятно, многие мужчины не устояли бы перед ней. И Юкинари, и сам он поддались ее чарам. Правда, слава Богу, теперь его уже не тянуло к этому нежному благоуханному созданию, что, шурша шелками, усаживалось сейчас за ширмой. Нянька налила Акитаде вина и оставила их вдвоем. Понимая, что от вина головная боль только усилится, он все же жадно выпил. Болело горло, и теперь чуточку полегчало. Он испугался, как бы не разболеться — в самое неподходящее для этого время. — Я тронута вашей добротой, — прозвучал из-за ширмы нежный голосок. — Вы должны простить меня за эту записку. Она была написана в момент невыносимой горести и одиночества. — Ну что вы! Она очаровательна. И мне жаль, что из-за важных дел я не смог выполнить своего обещания раньше. — Все, чего я хотела, — это удалиться от мира и оплакивать мужа, но не могу этого сделать, пока недоверчивые люди задают всякие вопросы относительно его смерти. Ах вот оно что! Значит, до нее дошли какие-то слухи. Возможно, они исходили от слуг. Этим можно объяснить их внезапное увольнение. Акитада снова утратил к ней сочувствие. Он уже кое-что знал и не мог доверять ее притворному горю. Ему вдруг стало жарко, даже пот выступил на лице. Он пожалел, что не взял с собой салфетки, и решил не тянуть время, а поскорее перейти к делу. — Вашего мужа убили, — сухо сказал он. Собственный голос показался глухим и далеким, пот струйками стекал по вискам. За ширмой послышался горестный стон, за ним не менее горестный вздох. — О-о! Этого я и боялась. А я так одинока в жестоком мире! — Она вдруг сложила одну створку ширмы, устремила на Акитаду печальные, полные слез глаза и умоляюще протянула к нему руки. — Вы, господин… вы моя единственная надежда! Ведь я осталась одна-одинешенька, и нет никого, кто бы мог защитить меня! Слуги мужа разбежались, и в доме остались только мы, две слабые женщины. А вдруг убийца вернется? Пожалуйста, заберите меня отсюда! Это театральное представление раздражало Акитаду. Он пристально наблюдал за ней, за начавшей дрожать нижней губкой и прикусившими ее крохотными аккуратными зубками. Она напомнила ему мышку. При других обстоятельствах он, возможно, нашел бы занятной такую игру, но сейчас жутко болела голова и хотелось еще вина. — Не исключено, что я мог бы помочь вам, если бы знал, кого вы так боитесь. — Но я же говорю — того изверга, что убил моего обожаемого мужа! — почти простонала она. Крохотная белая ручка отчаянно тянулась к нему. Но Акитада сложил руки на груди, и та вынуждена была упокоиться на коленях. — Ну почему?! Почему вы так далеки?! Ведь вы же были так добры ко мне прежде! — Не дождавшись ответа, она жалобно продолжила: — Этот огромный дом пустует, а в казенной гостинице вам, наверное, неуютно. Если бы вы переехали ко мне, я бы чувствовала себя в безопасности. — И тихонько сжала его колено. — Я бы угождала вам во всем. С самого первого момента, едва увидев вас, я поняла. Чувствуй он себя получше, просто бы рассмеялся, но сейчас ему было не до смеха. Он смотрел на нее с растущим отвращением и поспешил отодвинуть колено. Не выдержав, она вскричала: — Ну почему же я вам так не нравлюсь?! Мне говорили, что я очень красива! — Помолчала и тихо добавила: — Я знаю, как угодить мужчине. Мой покойный господин совсем не интересовался любовными делами, но вы-то молоды. Увидев вас, я сразу поняла, что это моя карма — служить вам или умереть! — Она подползла к Акитаде и зарылась лицом в его колени. Этот неожиданный порыв был проникнут такой мощной чувственностью, что Акитада резко поднялся и отошел в сторону. Она тоже встала. Глядя ему прямо в глаза, развязала пояс и, скинув одежду, оказалась совершенно обнаженной. — Не сторонись меня! Иди ко мне, моя любовь! — прошептала вдова. Акитада поспешил отвернуться. — Прикройтесь! Но он успел разглядеть ее тело — тело двенадцатилетней девочки. И зрелище это вкупе с ее откровенно соблазнительными жестами подействовало на него одурманивающе. Пытаясь представить себе ее любовника, он сурово сказал: — Вы позорите себя и память вашего покойного мужа. И убийцу вы вовсе не боитесь. Ваш муж был убит в этой комнате. Вашим любовником и в вашем присутствии. — Уже произнося эти слова, он понял, что совершил ошибку, но все же договорил до конца. — Вы, очевидно, сошли с ума! — крикнула она, хватая платье, чтобы прикрыться. Акитада достал из пояса глиняный черепок. — Этот осколок был найден в волосах вашего мужа и очень подходит вон к той вазе. Другой вазой ваш любовник убил князя Татибану. Ваза разбилась, и позже вы свалили это на ни в чем не повинных слуг. Но к тому времени вы с любовником уже перетащили тело в кабинет, чтобы выставить эту смерть как несчастный случай. Кроме того, обувь князя Татибаны была сухая и чистая, несмотря на недавно выпавший снег. А между тем кто-то все же ходил в кабинет, и этот человек — или его помощник — тщательно подмел дорожку, чтобы уничтожить следы. — Нет! — Теперь она рыдала в голос. — Нет, это неправда! Клянусь Буддой, что я невиновна! Я была верна мужу. И почему… почему вы так мучаете меня?! Чувствуя чудовищную слабость, Акитада рукавом отер пот с лица. Пришлось припугнуть ее, чтобы выудить признание. — Слуги знали о ваших любовниках. Они расскажут правду на суде. За супружескую измену и убийство мужа приговаривают к порке. Порке до смерти. Советую вам рассказать правду сейчас, пока полицейские не раздели вас догола прямо в зале суда, охаживая бамбуковыми палками, пока вы не заговорите. Он ожидал, что вдова закричит или потеряет сознание, но она только молча прикрыла рот рукавом, сверкая глазами. Вдруг она распростерлась перед ним и заплакала: — Я готова признаться. Я изменяла мужу, но не убивала его. Знаю, что должна поплатиться теперь за свою неверность, но я очень молода и не ведала, что творила, пока не стало слишком поздно. Пожалуйста, имейте жалость! Она потянулась к ногам Акитады, но тот поспешил отступить и, глядя на нее сверху, приказал: — Расскажите, что здесь произошло. Сдавленным голосом сквозь рыдания она начала: — Меня соблазнили красивыми словами. Потом я поняла, что наделала, и хотела положить конец этой связи, но он принуждал меня лгать вместе с ним, угрожая все рассказать мужу. Поскольку муж никогда не заходил в мои покои после наступления темноты, мой любовник наведывался ко мне когда хотел. Он заставлял меня отпирать для него калитку в саду, когда все уже ложились. У Акитады спина и шея промокли от пота, воротник исподнего противно лип к телу. — Давайте-ка ближе к ночи убийства! — сухо одернул он ее. — Муж вернулся поздно с приема у губернатора и зачем-то зашел в мои покои. Он застал нас вместе и начал угрожать, что опозорит на весь мир. Мой любовник схватил вазу и убил его. — Она горестно закрыла лицо руками. — Это было ужасно! Он заставил меня скрыть преступление! — И поэтому вы виновны не меньше его. — Нет! Я не виновна! Это он его ударил! — Она залилась горькими слезами, колотя кулачками по полу. — Прекратите сейчас же! — прикрикнул Акитада и едва не задохнулся от острой боли в горле. Он очень удивился, когда вдова вдруг села, потуже завязала пояс, рукавом вытерла личико и очень спокойно сказала: — Мой господин, вы очень мудры и должны понять, что наивная провинциальная девушка стала легкой добычей для сладкоречивого красавца военного. Мой муж поощрял нашу дружбу. Да, это правда, я влюбилась в него, в это жестокое чудовище, но не знала тогда, что он за человек! О господин, вы же не можете желать, чтобы глупая девчонка пострадала за убийство, которого не совершала! — Если вы обвиняете сейчас капитана Юкинари, то этим только усугубляете свою вину, — холодно отрезал Акитада. — В ночь убийства капитана не было в городе. Вы покрываете настоящего убийцу. Признайтесь, потому что ложь не доведет вас до добра. Вы можете смягчить приговор суда, если дадите показания против вашего любовника. Больше вам рассчитывать не на что. Ее хорошенькое личико исказилось яростью. Одним прыжком она взметнулась с места и вцепилась ногтями в его лицо. Он оттолкнул ее и, не веря своим глазам, смотрел, как она, снова распахнув на себе одежду, отчаянно царапает себе шею и грудь, пока те не окрасились кровью. Потом она закричала, зовя на помощь. Дверь распахнулась, и великанша-нянька, увидев свою хозяйку, тоже заголосила во всю мощь. От этого шума у Акитады едва не лопнул череп, он беспомощно сел и закрыл руками уши. А вдова, наоравшись вволю, напустилась на свою служанку: — Ну что стоишь, дура? В доме же никого нет! Быстрее беги в полицию! Зови их сюда! Этот человек меня изнасиловал! Беги же быстрее! Служанка убежала, и в комнате воцарилась блаженная тишина. Акитада убрал руки от ушей. До него только сейчас дошло, что нянька могла быть сообщницей. И теперь несется к Икэде. Что-либо решать уже поздно, тогда пусть события идут своим чередом. — Ты еще пожалеешь об этом! — злобно прошипела юная дама. — Теперь посмотрим, кому из нас поверят. Ты здесь чужак, какой-то обедневший столичный хлыщ, о которых мы тут много слышали, а я вдова бывшего губернатора. Так что пожалеешь, что связался со мной! Акитада прислушался. Вскоре до него донесся топот, госпожа Татибана забилась в угол и картинно оголила кровоточащую грудь, напустив на себя вид насмерть перепуганной жертвы. Когда дверь распахнулась, она жалобно рыдала. В комнату набежали солдаты в форме губернаторской стражи и все как один вытаращили глаза на полураздетую женщину. — Арестуйте этого человека! — дрожащим голосом проговорила госпожа Татибана, указывая на Акитаду. — Он меня изнасиловал. Пришел сюда якобы выразить соболезнования, а потом, увидев, что я совершенно беззащитна, набросился. О, слава небесам, что у нас есть справедливость и правосудие, готовые встать на защиту бедной вдовы! — Лейтенант Кэнко, насколько я понимаю? — спросил Акитада, обращаясь к старшему офицеру, который, с трудом оторвав взгляд от груди госпожи Татибана, вытянулся в струнку. — Я вижу, секретарь Акинобу разъяснил вам суть дела. И ценю вашу расторопность. А теперь заключите госпожу Татибана под арест за убийство мужа. — Как это?! — закричала вдова. — Вы не имеете права тут распоряжаться! И эти люди не из полиции. Вы подкупили их! Я никуда не пойду, пока сюда не прибудет полиция. Лейтенант бросил на Акитаду беспокойный взгляд. В этот момент дверь снова распахнулась, и в комнату влетела нянька, а за нею Икэда и несколько полицейских в красном. — Вот он! — крикнула великанша, указывая на Акитаду. Тот не верил своим глазам. Икэда явился собственной персоной! Что может быть хуже? Теперь оставалось играть осторожно в надежде, что враг сделает неверный ход. Только сказать-то легко, а вот попробуй исполнить, когда голова твоя раскалывается на куски, а мысли разбегаются в разные стороны, будто скользкие головастики. Икэда оглядел толпу солдат и увидел Акитаду. — Ваше превосходительство?! — с притворным смущением воскликнул он. — Что здесь случилось? Я шел разбираться с убийством в веселом квартале, но прямо на улице ко мне подскочила эта глупая баба и принялась кричать, что ее госпожу изнасиловали. Должно быть, здесь произошла какая-то ошибка? — Вы очень вовремя появились, префект, — сказал Акитада, скрывая тревогу. — Потому что здесь тоже было совершено преступление. Я обвиняю госпожу Татибана и ее служанку в убийстве покойного князя Татибаны. — Ваша честь! — крикнула нянька, пытаясь прорваться сквозь толпу солдат к Икэде. Два дюжих молодца схватили ее поперек туловища, приподняли над землей и, улыбаясь, держали, пока она брыкалась и ругалась. Придерживая одной рукой платье на груди, госпожа Татибана подошла к няньке и, закатив ей звонкую пощечину, злобно прошипела: — А ну не ори! Нянька мгновенно притихла, а вдова повернулась к лейтенанту и дрожащим от ярости голосом процедила: — Господин Сугавара наговорил здесь много лживых слов, чтобы избежать обвинения в изнасиловании беззащитной вдовы. Моя служанка была свидетельницей его скотского поступка. Отпустите ее немедленно! Акитада почувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Его мутило, трещала голова, саднило горло. С усилием он повернулся к Икэде. — Боюсь, улики неопровержимы. Орудием убийства послужила ваза — точно такая же, что стоит вон там. Князь Татибана упал здесь, он истекал кровью на этом ковре. На нем до сих пор осталось пятно. Госпожа Татибана, ее служанка и еще какой-то мужчина через сад перенесли тело в кабинет, чтобы инсценировать несчастный случай. Потом кто-то из них подмел дорожку. Служанка и еще один свидетель видели этого мужчину-сообщника, когда тот покидал дом. Нервно проглотив ком в горле, Икэда оглядел комнату. Пауза заметно затянулась, пока он взвешивал ситуацию. Потом наконец спросил: — И кто же этот предполагаемый сообщник? — Госпожа Татибана отказалась назвать его и попыталась свалить вину на капитана Юкинари, но мне известно, что той ночью он отсутствовал в городе. Икэда молча смотрел на него, потом прокашлялся. — Как ужасно, — сказал он. — Убийство. Кто бы мог подумать? Просто не понимаю, как я мог проглядеть… Акитаду снова замутило. Ему хотелось поскорее выйти отсюда — наружу, на свежий воздух. Он свиреповзглянул на Икэду: — Чего же вы ждете? Здесь совершено отвратительное преступление! Оно подрывает священные устои нашего государства. — Слова звучали высокопарно, но он продолжил: — Эти женщины грубо попрали такие незыблемые вещи, как почтение и долг перед господином. Или вы не согласны? — Нет, я полностью с вами согласен! — поспешил уверить Икэда, нервно поглядывая на женщин. Госпожа Татибана испепеляла его взглядом. Он снова прокашлялся. — Жена, поднявшая руку на мужа, или служанка, участвовавшая в убийстве своего господина, совершают поистине чудовищное преступление. Они подлежат самому суровому наказанию, предписанному законом. — И махнул полицейским. — Арестуйте этих женщин! Нянька снова истошно заорала. Заткните ей рот! — приказал Икэда. С помощью солдат Кэнко полицейские утихомирили дюжую тетку. Госпожа Татибана тихо плакала, но больше не сопротивлялась. Вопрос был решен. Акитада, шатаясь, поднялся на ноги, из последних сил кивнул лейтенанту и Икэде и вышел. Холодный уличный воздух обжег пылающее лицо. Он стоял, покачиваясь, и жадно глотал этот воздух. Но тут его снова замутило, и он бросился в сад, едва сдерживая рвоту. Акитада не знал, как вернулся в гостиницу, но не застал там ни Сэймэя, ни Тору. Смутно припомнив, что отправил их с поручением, он улегся на голый пол и закрыл глаза. Очнувшись, он понял, что у него жар. Кое-как стянув одежду и оставшись лишь в пропотевшем, прилипшем к телу исподнем, он дополз до столика и выпил остатки холодного чая, после чего снова погрузился в беспокойный сон. Когда он проснулся во второй раз, его бил озноб. Акитада попробовал позвать Сэймэя, но голос пропал, а зубы стучали так, что он бросил эту затею. В комнате было совершенно темно. Он попытался доползти до сундука, где хранилась свернутая постель, но ноги и руки не слушались. Его вдруг снова замутило, и он извергнул только что выпитый чай. Теперь немного полегчало, хотя горло саднило так, будто он проглотил раскаленные угли, а в висках стучали барабаны. Укрывшись собственной одеждой, он забылся. Сон состоял из сплошных кошмаров. Ему мерещилась госпожа Татибана — склонившись над ним, она орлиными копями разрывала ему горло, нежно овевая крыльями бабочки его горящий лоб. В облаках пара появлялась и исчезала Аяко — манила его к себе и ускользала. Потом зеленый черепок в его пальцах вдруг превратился в листок и улетел вместе с синим цветком. «Вьюнок асагао», — подумал он. Цветок порхал в лунном свете, и капельки росы на его лепестках вдруг превратились в кровь.
ГЛАВА 15 Кровавая занавеска
Дородная служанка узнала Сэймэя мгновенно. Как только он появился в дверях, ее изъеденное оспой лицо расплылось в лукавой улыбке, обнажившей желтые зубы. — Господин Сэймэй! — радостно крикнула она и с такой силой грохнула кувшин вина на стол перед носом посетителей, что почти все расплескалось. — Господин Сэймэй! — И бросилась ему навстречу, размахивая рукавами. — Пошли отсюда скорее! — прошептал тот, прячась за спину Торы. Кто-то в зале громко заржал. — Проходите же, проходите! — кричала женщина, таща упирающегося Сэймэя за руку. — На улице-то такой холод, а у меня для вас найдется уютное местечко у огонька! Что будете кушать? Рыбка есть в соевом соусе. Грибочки соленые, маринованные баклажаны. Сладкого картофеля могу намять с медом. — Нет-нет… — лепетал Сэймэй, пытаясь вырваться. — Мы очень спешим. Правда же, Тора? У нас совсем нет времени. Зашли только задать вам один вопрос. Она снова сверкнула желтыми зубами и, продолжая цепко держать Сэймэя за руку, игриво ткнула в его костлявую грудь толстым пальцем. — И задавать-то не надо. Я через час освобожусь. У Сэймэя был крайне озадаченный вид. Тогда, заметно погрустнев, она жалобно предложила: — Ну хоть просто зайдите, посидите. Пусть ноги отдохнут. Вы ведь уже давно не мальчик. — И, глянув на улыбающегося Тору, прибавила: — А тебе надо бы лучше заботиться о дядюшке. Человеку в его возрасте трудно без жены. Сэймэй рассвирепел. — Я ничуть не устал, — сердито буркнул он. — А называть человека старым невежливо. Добродушно улыбаясь, она потрепала его по щеке. — Да в вас еще жизнь бьет ключом! Вот как раз такие-то мужчины мне и нравятся. Сэймэй снова попятился, пытаясь спрятаться за Тору, чем вызвал новый приступ смеха у окружающих. — Лучше ты говори с ней, Тора, — только и сумел он выдавить. Тора прогнал с лица улыбку и напустил на себя строгость. — Послушай, женщина, мы здесь по важному государственному делу! — Тогда спрашивайте, — растерялась она. — В тот день, когда мы здесь столовались, сюда заходил лоточник. Кто-то пнул его, и весь товар рассыпался в грязи. Помнишь ты это? Глаза ее увлажнились от избытка чувств. — Да как же мне не помнить?! — воскликнула служанка, поглядывая на Сэймэя, прячущегося за Торой. — Было так мило с вашей стороны, господин Сэймэй, подарить мне эти вещицы. Вот посмотрите-ка! — указала она на волосы. — Вот он, милый гребешок, что вы мне подарили. Я ношу его каждый день и все вас вспоминаю. Кто-то из окружающих громко захлопал в ладоши и выкрикнул непристойность. Сэймэй, сгорая от стыда, еще крепче ухватился за Тору, и тот оборвал болтунью: — Не надо сейчас об этом. Лучше скажи, где мы можем найти лоточника. — Обязательно скажу, если господин Сэймэй пообещает, что вернется сюда, — хитро прищурилась она. Тора толкнул Сэймэя локтем, и тот выдавил: — Придем. Как только сможем. — Дзисаи не появлялся здесь с тех пор, как ваш хозяин заплатил ему деньги, но вы можете спросить о нем у его друга. Другом оказался не кто иной, как Крыса, расслаблявшийся за чашечкой вина. — Ну что, уже набрался? — приветствовал его Тора. — Нет, просто греюсь, — прохрипел Крыса, разглядывая Сэймэя. — А это что еще за старый хмырь? — Я подожду на улице, — не выдержал Сэймэй и собрался выйти, но Тора ухватил его за рукав. — Постой, мы выйдем вместе. Крыса тоже пойдет с нами — покажет, где живет Дзисаи. — Дзисаи? — заинтересовался Крыса. — А что он натворил? — Просто у нас есть к нему несколько вопросов, — пояснил Тора. — Так ты идешь или нет? — А что я с этого получу? — Оплатим твою выпивку, если поторопишься. Крыса вскочил, схватил свой костыль и заковылял к выходу. Желтозубая служанка лучилась улыбкой. — Он заказывал три кувшина лучшего вина и миску маринованных слив, — поспешила сообщить она Торе. — У твоего милого дружка есть деньжата, только будь с ним поласковей, потому как не любит он с ними расставаться. — шепнул тот на ухо ей и громко прибавил: — Заплати ей, Сэймэй. Слово есть слово, к тому же нам надо спешить. Осторожно поглядывая на женщину, Сэймэй достал связку монет. — Этот человек — ходячий пример того, как пьянство доводит до нищеты, — изрек он. — Сколько он тебе должен? — Сорок пять монет. От такой цифры Сэймэй опешил и прижал деньги к груди. Женщина игриво потрепала его по щеке и, кокетливо стреляя глазками, сказала: — Но для вас, мой дорогой, я назначу особую цену. Сэймэй таращился на ее желтые зубы, как утопающий на разверстую пасть акулы. — Гони десять монет, любовь моя, а остальное потратим вместе! Вокруг шумно зааплодировали. Сэймэй дрожащими руками отсчитал десять монет, вручил их кокетке и бросился прочь. — Не забудьте про свое обещание! — крикнула она ему вслед. — Всего десять монет за такую порцию винища! — удивлялся на улице Тора, похлопывая Сэймэя по спине. — Придется тебе, старик, поделиться со мной своим секретом обольщения женщин. Сэймэй свирепо зыркнул на него, но предпочел перенести свой гнев на весело насвистывающего Крысу. — Давай, ты, пошевеливайся! Даже собака, сколько бы ни виляла хвостом, может получить пинка. Крыса притих. Ковыляя на своем костыле и жалуясь на холод, долгую дорогу и слабое здоровье, он вел их грязными переулками, через заброшенные кладбища и трущобы, где на веревках висело обледеневшее белье и повсюду валялись горы мусора и объедков. Наконец он решил расстаться со своим костылем, спрятав его на время в дупло старого дерева. Сэймэй хранил презрительное молчание. Промерзшие и сердитые, они наконец добрались до пустыря на южной окраине Фудзисавы, возле городской стены. Здесь в самодельных хибарах и лачугах жили те, кому не нашлось места в городе. От костров, разведенных под открытым небом, поднимался черный дым. Женщины с ребятишками суетились возле огня, и здесь же кучками сидели мужчины, выпивая и кидая кости. Здороваясь с ними по-свойски, Крыса обошел веревку с промерзшим тряпьем, пнул рычащую собаку и остановился перед самой отвратительной лачугой. Вход прикрывала драная циновка, сломанная кухонная утварь валялась повсюду на земле. Откинув циновку, Крыса бесцеремонно шмыгнул внутрь, Тора последовал за ним. Сэймэй, сраженный чудовищной вонью, остался ждать снаружи. Из-за циновки донеслись возбужденные голоса. Стайка чумазых ребятишек вмиг окружила Сэймэя. — Монетку! Дай монетку! — жалобно ныли они. — Пожалуйста, господин, всего одну монетку на мисочку супа! — И тянулись к нему ручонками, щупали одежду, норовя запустить пальцы в рукава и под пояс. Отмахиваясь из последних сил, Сэймэй заорал: — Давай поскорее, Тора! Вместо ответа тот вытянул из-под циновки руку и втащил старика вовнутрь. Сэймэй едва не задохнулся. Почти ослепнув от неожиданного полумрака, он чувствовал себя так, словно его проглотило какое-то огромное зловонное чудовище. Постепенно он разглядел в потемках убогое человеческое существо, съежившееся на тюфяке под драными одеялами. Одеяла эти давным-давно выцвели и посерели от грязи, и щуплое созданьице под ними имело тот же оттенок — серая кожа, реденькие седые волосы, паутиной липшие ко лбу, серая убогая одежонка. Глубоко посаженные черные глазки равнодушно устремились на Сэймэя. Решив, что они ошиблись местом, тот было попятился к выходу, но Тора посторонился, и Сэймэй увидел, что щуплым грязным существом была старуха, а лоточник Дзисаи сидел, скрестив ноги, возле нее. На нем были такие же грязные лохмотья, а рядом стояла треснутая жаровня, скорее коптившая, нежели дававшая тепло. Прикрыв рукавом нос, Сэймэй сказал Торе: — Это тот самый человек. Расспрашивай его поскорее, и пошли. — Ну что за манеры у тебя, старик! — усмехнулся Крыса, который уже пристроился на грязном полу рядышком с лоточником. — Мы же только пришли. Садись и пообщайся с людьми. Сэймэй бросил на Тору умоляющий взгляд, но тот, не обращая на него внимания, тоже сел. Постояв еще немного, Сэймэй подобрал повыше подол кимоно и опустился на пол. Окончательно расстроило стремящегося вырваться наружу Сэймэя то, чего он никак не ожидал: безмятежно-ленивая беседа о погоде и делах обитателей пустыря. Потом последовало подробное обсуждение слабого здоровья жены лоточника. С Сэймэем советовались, расспрашивали, и он помаленьку оттаял. Его попросили проверить у старухи пульс и осмотреть глаза, перечислили и используемые лекарства — лягушачья кожа, запеченное на углях кротовье мясо, толченый таракан. Дребезжащие старухины жалобы, пронзительное нытье лоточника, зычный голос Торы и хриплое бормотание Крысы сливались в стройный хор, и этой непринужденной беседе, казалось, не будет конца — во всяком случае, никто и не вспомнил о цели визита. Когда запас Сэймэевых ценных советов иссяк, а поток старухиных жалоб исчерпался, Тора, потянувшись, сказал: — Да, Дзисаи, как все-таки хорошо повидаться со старыми друзьями. А вот хозяин-то наш просил разузнать, не докучают ли тебе больше те ублюдки. Об этих словах пришлось пожалеть тотчас же. Лоточник с супругой пустились перечислять многочисленные неудачи, якобы приобретенные Дзисаи во время того происшествия. И спина-то у него болела, и бедро-то ему вывихнули, коленка не гнулась, и голова трещала аж до потери сознания. Короче говоря, его попросту сделали калекой: ни тебе поработать, ни поспать нормально ночью — сплошная боль. Лекарь денежку берет, не стесняется, а если учесть, что больных-то двое, жизнь получается впроголодь. Недоверчиво усмехнувшись, Сэймэй приподнял крышку горшка, стоявшего на шаткой бамбуковой подставке. — Бобовая похлебка? — поморщился он. — Добрый сосед принес, — объяснил лоточник. — А что толку? Жена больная не может есть это холодным, а у меня силенок нет огонь разжечь да разогреть. — Он тяжко вздохнул и прибавил: — Даже если б дрова были. Сэймэй снова усмехнулся, а Тора поспешил заверить: — Ну, тут мы поможем. — И протянул к нему руку за связкой монет. — Наш хозяин любит делать добро. Он не станет возражать, если мы с вами немного поделимся. Ворча про себя, Сэймэй отсчитал и вручил монеты Торе, который положил их кучкой перед старухой. Та, беззубо осклабившись, проговорила: — Ну что за добрый господин ваш хозяин! Видать, небеса хранят вас, коли определили на работу к такому святому человеку! — А вы мудрая женщина, тетушка. — заметил Тора, поднимаясь. — Ну ладно, нам пора. — Рассвирепевший Сэймэй открыл было рот, но Тора вдруг небрежно прибавил: — Кстати, среди той мелочовки, что ты продал нашему хозяину, был синенький цветочек. Помнишь его? — Да… Отличная вещица! — кивнул лоточник. — Чистейшее золото, стоит целой связки монет. Эти слова Тора пропустил мимо ушей. — А не помнишь, где ты его нашел? Лоточник прищурился. — Трудно сказать. Где-то нашел. А что в нем такого особенного? — Да ничего. Хозяин мой собрался его выбросить, а я взял себе, чтобы подарить своей девчонке. Вот она теперь требует еще таких штуковин. — А деньги нормальные ты готов заплатить? Ну, скажем, серебряный слиток? — поинтересовался лоточник. — Так много?! Ты не шутишь? Да откуда же меня столько! А девчонка-то как расстроится! — вздохнул Тора и наклонился забрать монеты, которые положил перед старухой. — Ну ладно, тогда мы пойдем. Хозяин мой порадуется, когда узнает, что ты оправился и дела идут хорошо. — Постой! — крикнул лоточник и подскочил с неожиданным проворством. — Я только что вспомнил! Я получил его от одной уличной девки. Ей нужны были деньги мужику на пропой. А где она его взяла, не знаю — не привык спрашивать. — Что за девка? Где живет? — Тора небрежно позвякивал монетами. — Ее зовут Жасмин. Живет вроде около рынка. — А-а, так это девка Шрама! — вмешался Крыса. — Я ее знаю! Тора смотрел на Крысу, не в силах скрыть удивления, потом бросил деньги лоточнику. — На вот, возьми, старый проныра! И потрать их на дело, а не то у тебя и твоей старухи пупок совсем к спине прилипнет. На улице он схватил Крысу за костлявое плечо. — Что это ты там плел про Жасмин и этого ублюдка Шрама? Крыса вырвался и громко заныл: — Вот так-то ты меня благодаришь? Я тебе помог, а взамен опять побои? — Ну прости, — отпустил его Тора. — Продрог я опять, — поежился Крыса. — И пить хочется. — Вина больше не жди, — предупредил Сэймэй. Тора взял старика под локоть и отвел в сторонку. — Послушай, без вина ОТ ЭТОГО парня ничего не добьешься. У тебя есть работа, платье есть и шапка, есть твои снадобья, хозяин и я, над которым можно поиздеваться, а у него нет ничегошеньки. Вино — это все, ради чего он живет. Ведь не все же такие везучие, как мы. Сэймэй растерянно заморгал. — Вино ею губит. Убьет вконец! Ты посмотри на это жалкое создание. И он еще называет меня старым хмырем! Тора вздохнул. — Умереть-то как раз легко, вот жить трудно. А вино позволяет ему немного забыться. Сэймэй посмотрел на Крысу и вдруг спросил; — Сколько же тебе лет? — Пятьдесят два, — удивился тот, — а тебе? — А мне скоро шестьдесят, — гордо признался Сэймэй, приосанившись и смерив Крысу жалостливым взглядом. — Выглядишь ты, бедняга, плоховато. Давай-ка найдем какое-нибудь теплое местечко, где ты сможешь отдохнуть, прежде чем мы продолжим. Крыса знал все трактиры и забегаловки и отвел их в одно такое место, где они могли усесться у огня и согреть желудки теплым винцом. — Вот и отлично! — сказал Тора. — А теперь давай выкладывай! Хорошенько приложившись к чашке, Крыса начал: — Насколько я знаю, этот Шрам появился в наших краях всего пару недель назад и взялся за уличных девок. Потом он переключился на уличных торговцев и лоточников. Говорят, дерет с них большие деньги, только все проигрывает. А Жасмин, эта глупая телка, влюблена в него по уши. — Крыса сокрушенно покачал головой и снова приложился к чашке. — Страшный он как черт, да к тому же лупит ее почем зря. Тора кивнул со знанием дела. — Мы встречались. С ним были еще два головореза — слюнявый дурачок-верзила и какой-то мелкий хорек. — А-а, знаю. Юси и Юбэй. Теперь будь начеку. Они без ножа не ходят и разрешения не спрашивают. От такого разговора Сэймэй совсем разволновался. — А кто такая эта Жасмин? — беспокойно спросил он. — Подружка одного моего друга, — объяснил Тора. — И мне кажется, нам лучше расспросить про цветок у нее. А ты, Крыса, и так уже много сегодня выпил. Хватит с тебя. Пошли! На улице стемнело. Между домов гулял ветер, гоня сухую листву. Они шли темными переулками, под ногами шныряли крысы, и пьяницы да бродяги лежали по углам. Яркие городские огни постепенно становились все ближе и ближе. — А вот и рынок, — объявил Тора. Сэймэй в стеганой куртке дрожал больше от страха, нежели от холода. Слишком много грязи и горя повидал он в течение дня, и теперь его ужасала одна только мысль о предстоящей встрече со Шрамом и его приятелями. А рынок был, похоже, средоточием всех неприятностей. Именно здесь они и начались, и вот теперь ему предстояло сюда вернуться. И с каждым разом эти неприятности росли как снежный ком. Такое впечатление, что он попал в лабиринт, из которого нет выхода. В этот момент он услышал быстрый топот и от неожиданности шарахнулся в сторону. Это оказались всего лишь мальчишки, с криками пробежавшие мимо. — Что-то стряслось, — насторожился Тора. — За префектом их послали. — Наверное, убили кого! — оживился Крыса. — Из-за драки или несчастного случая у нас полицию не зовут. Пойдем-ка посмотрим! — И в мгновение ока скрылся за углом. Тора едва поспевал за ним. Недовольный Сэймэй медленно плелся следом. Денек и без того выдался поганый. Завернув за угол, он увидел в конце улицы толпу. В неровном свете фонарей метались тени. Люди теснились в узком проулке между двумя старыми домами, чьи потрескавшиеся голые стены и прогнившие крыши высились в зловещем мерцании рыночных огней. Тора с Крысой, протискиваясь через бурлящую толпу, скрылись во мраке переулка. Сэймэя охватил страх. Они бросили его среди шлюх, воров и убийц, в таком месте, где полицию, хоть умри, не дозовешься. Где-то поблизости разгуливал на свободе убийца, а Сэймэй ни малейшего понятия не имел, как добраться до гостиницы самостоятельно. Встревоженный не на шутку, он прибился к толпе. Какая-то неряшливая бабенка с орущим ребенком на руках делилась впечатлениями со старухой. — Так и надо этой шлюхе! — злорадствовала она. — Допрыгалась! Знаю я этих грязных дешевок — готовы вцепиться в любого мужика, даже в извращенца. — Говорят, он перерезал ей горло, — сказала старая карга. Сэймэя передернуло. Какие жуткие нравы! Какой опасный народец! Но выбора не было — следовало искать Тору. Он нервно кашлянул. Бабенка с ребенком на руках обернулась, увидела его синее платье и форменную шапку и крикнула: — Да это ж префект! Пропустите его! Толпа расступилась, и Сэймэй торопливо прошел вперед, стараясь держаться как можно солиднее. Пройдя через темный проулок, он оказался в освещенном факелами дворе. Здесь было тише и светлее. Люди, льнувшие к изгороди и сидевшие на шатких ступеньках, устремили любопытные взоры на Сэймэя, но быстро потеряли к нему интерес. Двор был завален мусором, на заборе сушилось рваное тряпье. В воздухе пахло дымом и кухонными отходами. Посреди двора небольшая кучка людей стояла, задрав головы к верхнему этажу. Там кто-то повесил фонарь, освещавший окровавленную занавеску. Торы поблизости не было. Зато Сэймэй заметил прислонившегося к столбу Крысу и поспешил к нему. — Что здесь случилось? — спросил он. — Где Тора? Крыса казался необычно мрачным. — Пошел взглянуть, — кивнул он на окровавленную занавеску. — Кажись, кто-то все-таки угрохал бедную свистушку. На ступеньках, стеная и охая, сидела толстуха в замызганном кимоно из черного шелка. Две подруги поддерживали ее с обеих сторон, обмахивая лицо и что-то втолковывая. — А на эту женщину тоже напали? — спросил Сэймэй. — Нет, это хозяйка. Любопытная ворона вернулась домой, увидела кровавую занавеску и пошла посмотреть. Ха! Вот ей сюрприз-то был! — Она нашла там убитую? — Да. И еще то, отчего занавеска стала вся красная. Сэймэй задрал голову и вскрикнул. Хлопающая на ветру занавеска оставила на беленой стене зловещие пятна. По ступенькам спустился Тора — по двору гулким эхом разносился грохот его тяжелых сапог — и подошел к хозяйке дома. Сэймэя уже начало коробить от этого ночного кошмара. А теперь еще Тора собирался вляпаться в историю с отвратительным убийством. Сэймэй перешел двор, схватил его за рукав и принялся трясти. — Пошли отсюда! У нас нет времени на всякие грязные убийства, это не наше дело. Пошли отсюда скорее! Обернувшись, Тора взглянул на него рассеянно и снова повернулся к хозяйке. — Так вы говорите, на следующей большой улице, через квартал отсюда? — Тора! — Сэймэй сердито топнул ногой и повысил голос: — Ты забылся, Тора. Нам здесь нечего делать — в этом месте и с этими людьми. Такие вещи, без сомнений, происходят у них каждый день. Грязные делишки, от которых дурно пахнет. Давай-ка поскорее выполним поручение и вернемся в гостиницу, где нас уже давно ждет хозяин. Я едва на ногах держусь после всех этих хождений среди разного сброда. Тора резко обернулся, схватил старика за плечи и оторвал от земли. Глаза Сэймэя выпучились от ужаса при виде такой ярости. — Ах ты, старый придурок! — прошипел Тора. — Бестолковый прихвостень, безмозглый прислужник! Мне-то какое дело до того, что ты устал и не хочешь общаться с простыми людьми? Эта мертвая женщина там, наверху, была девушкой Хидэсато, Жасмин, и они арестуют его за убийство, как только поговорят с хозяйкой. Я должен его предупредить. Теперь понимаешь? Сэймэй торопливо закивал, и Тора поставил его на землю. — Вали в свою гостиницу и отстань от меня! — Он резко развернулся и пошел прочь. Сэймэй озирался, ловя на себе враждебные взгляды. Крыса и вовсе повернулся к нему спиной, и тогда он крикнул Торе: — Подожди, я с тобой! — И бросился его догонять. Чтобы не отставать, Сэймэю приходилось бежать чуть ли не вприпрыжку. После нескольких минут молчания он робко спросил: — А что случилось с девушкой? Не замедляя шага, Тора хрипло пояснил: — Зарезали. Горло перерезали так, что шея на лоскутке болтается. Этот подонок связал ее и заткнул рот исподней рубашкой, чтобы она не кричала, пока он развлекался. Там море крови. Прямо лужи. Все красное — и стены и занавеска! Она истекла кровью еще до того, как он перерезал ей горло. — Какой ужас! — выдохнул Сэймэй. — Но почему же они говорят, что это сделал твой друг? — Потому что хозяйка видела, как Хидэсато и Жасмин дрались. Она утверждает, что слышала его крики, когда уходила. «Лучше б ты умерла!» — вот что он кричал. — Обычно люди говорят такое безо всякого смысла. — Вот это ты как раз полиции расскажи. Ей отродясь не было дела до мертвых шлюх и простых солдат. — Они вышли на большую улицу, и Тора остановился перед каким-то домом. — Кажется, это здесь. Хозяйка говорит, что Хидэсато сполна расплатился с ней за жилье Жасмин, потому что та должна была переехать к нему. Хидэсато они застали за уборкой — он подметал комнату. У двери стояли скатанные циновки, платяной сундук, на нем — доспехи и меч. В углу была расстелена новенькая постель. — Тора! — Хидэсато кинул метлу и бросился обниматься с другом, улыбнувшись Сэймэю. — Проходи. И как это ты нашел меня так быстро? — Он расстелил циновки. — Прости, что нечем пока угостить. Я тут, видишь ли, готовлюсь к приходу Жасмин. — Он улыбался, и вид у него был самый что ни на есть счастливый. — Ты представляешь? Как я получил должность сержанта, она наконец-то сдалась. Скоро я буду женат. Тора оглядел пустую комнату и закусил губу. — Хозяйка дома сказала, что вы с Жасмин подрались. Ты говорил ей, что лучше бы она умерла? — Так, значит, эта старая крыса опять вынюхивала? Нет, погоди, ну ты же знаешь, каковы женщины! Жасмин так трудно убедить, и я немного вышел из себя. Но ведь она потом успокоилась и согласилась прийти. Тора потупился. — Хидэсато, Жасмин не придет. Хидэсато перестал улыбаться. — Ты шутишь, только шутка твоя совсем не смешная. Ведь это… шутка? Не поднимая глаз, Тора покачал головой. Тогда Хидэсато перевел взгляд на Сэймэя, и тот попятился к двери. — Что случилось? — Прости, Хито, — сказал Тора. — Только лучше бы не я сообщил тебе об этом. — Этот подонок опять обидел ее! — побледнел Хидэсато. — Нет, Хито… она мертва. — Мертва? Жасмин мертва?! Не может быть! Ведь я видел ее пару часов назад! — Кто-то пришел к ней, зарезал и ушел, — сказал Тора. — Хозяйка думает на тебя. Хидэсато вскочил. — Зарезал? Мне надо бежать к ней. Может, она просто ранена. Тора взял его за плечо. — Нет. Я видел ее. Хидэсато стряхнул его руку и бросился к двери с безумным взглядом. Тора попытайся остановить его, и они повалились на пол. — Она мертва. Хидэсато! Нельзя тебе туда! Они вызвали полицию, и тебя попросту арестуют! Хидэсато было уже не до драки. Он перекатился на живот и зарыдал, колотя по полу кулаками. Тора с Сэймэем молча смотрели на него, потом Тopa положил руку на плечо друга. — Тебе нельзя здесь оставаться. Старая крыса знает, где ты живешь. Я отведу тебя к Хигэкуро — побудешь там несколько дней, пока все не выяснится. Помнишь, я тебе говорил про борца-калеку? Хидэсато сел и выпрямился. Он пребывал в растерянности, лицо было мокрым от слез. — Давай собирайся! — поторопил Тора. — Зачем все это? — покачал головой Хидэсато. — Пусть придут и арестуют меня. Ведь все, к чему я прикоснусь, кончается плохо. Ты только сам влипнешь в неприятности и друга своего втянешь. — Заткнись и пошевеливайся! — рявкнул на него Гора. Хидэсато встал и растерянно огляделся. Тора выругался, пнул ногой сундук, чтобы открыть его, нашел там фуросики[1379] и принялся швырять в него вещи. Потом, завязав узлом, протянул его Хидэсато. — Пойди-ка, Сэймэй, выгляни наружу, — сказал он. — И если на улице все чисто, позови. Сэймэй бросился выполнять поручение. Снаружи стало уже совсем темно и пусто. Он подал условный знак. Возле рынка Тора остановился купить у лоточника пару дешевых бумажных фонарей, после чего они свернули к северу. Пробирались темными переулками, которые, словно черные туннели, уходили в неизвестность. Один такой переулок привел их в окрестности дома Хигэкуро. Шли молча, говорить никому не хотелось. Возле школы боевых искусств Хидэсато остановился. — Я убью этого подонка, даже если это будет последнее, что я сделаю! — Ну уж нет, братец, так не пойдет! Это не выход, — возразил Тора. — Мы с хозяином выясним, кто это сделал. Так зачем же тебе расплачиваться за это своей жизнью? Хидэсато подумал и кивнул. К великому облегчению Сэймэя, они пробыли у Хигэкуро совсем недолго — только познакомились и все объяснили. Дом калеки-борца и его дочерей, которых он увидел впервые, показался ему очень необычным и самым подходящим местом, где можно было укрыться такому беглецу, как Хидэсато. Сам же он больше всего хотел вернуться в гостиницу. Но, поравнявшись с ней, Тора прошел мимо. — Ты куда? Вот же наш дом! — крикнул ему вдогонку Сэймэй. — Пойду поговорю с этим префектом. — С префектом? Давай не сейчас, Тора! Беспокоюсь я что-то за хозяина. Разве только… может, сходишь без меня? — Нет, — наотрез отказался Тора. — Ты пойдешь со мной. Ты одет подходяще, а меня туда и не пустят. — Его наверняка нет на рабочем месте, — упорствовал Сэймэй, но когда Тора не ответил, уступил: — Теперь-то видишь, как важно, какая на человеке одежда? Однако в полиции все были так заняты, что никому и дела не было до наружности Сэймэя. Люди носились взад и вперед, посылая их от одного служащего к другому. Наконец какой-то тощий изможденный паренек сказал: — Ну и вечерок выдался! Сначала какой-то насильник взбесился в веселом квартале, а теперь еще это дело Татибаны. Боюсь, префект вернется не скоро. Чем я могу помочь? С трудом излагая мысли, Тора поведал ему о своей стычке со Шрамом и его подельниками, потом рассказал историю Крысы о том, как Шрам избивал Жасмин. Молодой чиновник внимательно слушал. — Эти сведения очень важны, — сказал он. — Вы правильно поступили, что сразу же пришли сюда. Если присядете вон там, я прослежу, чтобы его честь сразу поставили в известность. Сэймэй и Тора сели и сидели так долго, что их начала одолевать дремота. Потом тощенький паренек подошел и потряс Сэймэя за плечо. — Префект теперь отдыхает, — виновато сообщил он. — Он обязательно захочет поговорить с вами обоими, только, думается мне, лучше вам пойти домой вздремнуть пару часов, а утром прийти. — Какого черта?.. — завелся Тора. Молодой чиновник в страхе попятился, а двое сонных полицейских схватились за свои металлические цепи. — Тора, перестань! — взмолился Сэймэй. — Вспомни, что ты говорил Хидэсато. Наш хозяин обо всем позаботится. Чертыхаясь и ругая всех чиновников подряд, Тора уступил. В гостинице было темно, когда они вернулись. Сэймэй скинул на пороге обувь и тихонько вошел, прикрывая фонарь. Тора еще разувался, когда услышал крик перепуганного Сэймэя. — Хозяин! Тора, скорее сюда! С хозяином что-то случилось!ГЛАВА 16 Пробуждение
Акитада проболел три дня. Все это время о нем неустанно заботились Сэймэй, Тора и Мотосукэ. Беспрестанно приходили и уходили слуги и лекари. Состояние его то было безнадежным, то улучшалось, но трое заботливых друзей проявили редкое упорство, оставляя больного только ради самых неотложных дел. Но когда Акитада окончательно пришел в себя и понял, где находится, рядом никого не было. Солнечный свет просачивался сквозь широкие квадраты деревянной решетки, падая на постель. В его лучах плясали пылинки, в воздухе стоял слабый дух какого-то приятного благовония. Акитада ощутил странную легкость, будто плывет в теплых солнечных лучах, и блаженно вздохнул. Он видел сон, один из многих — они с Аяко, держась за руки, гуляют по горным лугам, среди храмов какого-то монастыря, и Аяко улыбается ему. Солнце! Значит, день уже в разгаре и он пропустил их ставшую уже традиционной встречу. Акитада слишком резко сел, и залитая солнцем комната вдруг померкла. Со стоном повалившись на постель, он тот час вспомнил, как маялся прошлой ночью. Нет, пойти к Аяко он пока еще явно не в состоянии, и Тора должен передать ей весточку. Он лежал, гадая, куда подевались Тора с Сэймэем, и оглядывал комнату. Здесь было прибрано, хотя Акитада помнил, что его тошнило, перед тем как он уснул. Может, Гора уже пошел к Хигэкуро и сообщил там о его болезни? А ведь она будет волноваться. Эта мысль приятно согрела, и он улыбнулся, пытаясь понять, что же все-таки испытывает — может, и вправду любовь? Их встречи становились с каждым разом все более страстными, постепенно возникала крепкая привязанность друг к другу. Мысль о расставании с Аяко страшила и угнетала его. В какой-то момент Акитаду даже посетила шальная идея остаться здесь навсегда — возможно, в качестве судьи — и создать с Аяко семью. Но он помнил о своем долге перед матушкой и сестрами и понимал, что не вправе избрать эту приятную ссылку — да-да, именно ссылку, потому что никогда не смог бы привезти в столицу ни Аяко, ни детей. Он закрыл глаза, вспоминая их последнюю встречу. Обнаженные, они прижимались друг к другу, и кожа их блестела от пара и страсти. Глаза девушки были мечтательно полузакрыты, и она все ниже склонялась к нему, пока губы не коснулись его лица. Поцелуи Аяко были легки как прикосновения нежного лепестка, порхавшего по его глазам, носу, губам. Потом кончиком языка она заскользила по вспотевшему лбу и ушам Акитады, а когда добралась до его губ, он жадно раскрыл их, повторяя движениями своего языка страстный акт любви. Любви, которую ему впервые дарила женщина. Дверь тихонько отворилась, и в комнату на цыпочках вошел Сэймэй с чайником в руках. — А где все? — спросил Акитада, удивляясь своему слабому и хриплому голосу:. Сэймэй чуть не выронил из рук чайник. Его морщинистое лицо озарилось улыбкой. — Вы проснулись? А мы так за вас волновались! Ой, да вы, должно быть, голодны! Дайте-ка я поставлю сначала чай и побегу приготовлю вам кашку. А губернатор-то как обрадуется! И Тора тоже. Он совсем потерял покой с этой вашей болезнью да из-за неприятностей Хидэсато. А губернатор так и вовсе руки заламывал. Уж такой добросердечный человек, что бы вы там о нем ни думали… — Сэймэй, угомонись! Секретарь поставил чайник на жаровню рядом с оригинальной подставкой для благовоний, которая, вероятно, и являлась источником приятного аромата. Она была выполнена в форме бронзового шара с витиеватым узором из пересекающихся кругов, листьев и лепестков. — Откуда взялась эта штука? — спросил Акитада. Сэймэй проследил за взглядом хозяина. — Ее принес губернатор из собственной библиотеки, когда увидел, что у вас нет ни одной. Уж больно воздух здесь был тяжелый. — Как мило с его стороны. А что это ты там говорил про Тору и Хидэсато? — О-о!.. Это был худший день в моей жизни! — с чувством произнес Сэймэй. — Сначала зубастая тетка в трактире устроила мне позорную сцену, потом мы разыскали вашего мерзавца лоточника и его жену в каких-то грязных трущобах, а потом это убийство… Ох!.. Вот ужас-то был! И нам еще пришлось прятать Хидэсато у Хигэкуро. Но и на том все не кончилось — много часов мы проторчали в префектуре. А когда наконец вернулись сюда, то нашли вас на полу без сознания на самом пороге смерти. — Подожди-ка, Сэймэй, не так быстро. Давай по очереди. Во-первых, что за убийство? Акитада слушал, потрясенный до глубины души подробностями цветистого рассказа Сэймэя об убийстве Жасмин и других событиях того злосчастного дня. — Что-то я не понимаю. Неужели все это случилось вчера? — нахмурился он. — Вчера?! Как же! Четыре дня назад! Просто вы были очень больны. Акитада пощупал голову. — Четыре дня? — Он в ужасе подумал об Аяко. Как же она, должно быть, волновалась! Чувство нежности и благодарности нахлынуло на него. — Я рад, что Хидэсато у них и защитит девушек от тех ужасных монахов. — Он помолчал в нерешительности, потом улыбнулся. — Будем надеяться, что для Торы это не станет испытанием. Отоми ведь очень красива. — О-о, да Хидэсато нет дела до Отоми! — начал было Сэймэй и тут же прикусил себе язык, поспешно переключившись на чайник. С трудом сев на постели, Акитада принял из его рук чашку, отпил и задумался о бедняжке Жасмин. — А что же убийство? — спросил он, грея ладони. — Там и впрямь было так много крови? — Я собственными глазами видел занавеску. Большая она, как вон та дверь, и вся пропиталась насквозь. Тора говорит, что убийца, наверное, вытирал ею кровь, а потом повесил обратно. Представляете? — Да, — кивнул Акитада. — Только странно это как-то. А где Тора? — Пошел проведать Хидэсато, но скоро вернется. Кашки-то вам сварить? И получив согласие, Сэймэй торопливо вышел. Чувствуя легкое головокружение, Акитада лежал и смотрел в потолок. Он допускал возможную связь между синим цветком и смертью Жасмин, только никак не мог уловить ее. Вновь почувствовав жажду, он встал и, пошатываясь, пошел налить себе еще чаю. Новый приступ слабости заставил его остановиться возле стола. Шар для благовоний не имел своей подставки. Когда Акитада случайно коснулся его пальцем, он закачался, но не сместился. Ловко придумано! Прихлебывая чай, он любовался шаром. Узор на нем показался до странного знакомым. Акитада сел за стол и, взяв шар в руки, внимательно изучил рисунчатые прорези для дыма и вдруг в одной из них узнал знакомую фигуру — эту прыгающую за мячом рыбку он уже видел на монастырском складе! Сердце бешено забилось. — Силы небесные! Зачем вы вылезли из постели?! — услышат он голос влетевшего в комнату Мотосукэ. — А ну-ка ложитесь скорее обратно, пока Сэймэй вас не застукал! Улыбаясь, Акитада поставил шар на место и залез под одеяла. — Рад видеть вас, — сказал он. Мотосукэ подобрал полы и опустился на колени рядом с ним. Круглое лицо его излучало сочувствие. — Слава Богу, вы поправились! Не представляете, как мы все тут волновались! — Он дружески обнял Акитаду. Тот был тронут до глубины души и тоже обнял его. — Благодарю за вашу заботу, дорогой брат, — произнес он. — Надеюсь, приготовления к монастырскому торжеству идут успешно? — Не то слово! — Мотосукэ потирал руки. — И теперь вы тоже сможете принять участие. — Он озабоченно вглядывался в лицо Акитады. — Как вы сами-то считаете, достаточно окрепнете к послезавтра? — К послезавтра? — Разве вы забыли дату? Пока вы тут недужили три дня, мы с Акинобу и Юкинари в поте лица трудились над всеми приготовлениями. — Он улыбнулся. — Хвастаться, конечно, некрасиво, но я прекрасно умею все устроить. Мне прямо не терпится доложить вам все в подробностях. — Простите. Я совершенно об этом забыл. — И неудивительно. Вы же все это время были в бреду. Мы по очереди ухаживали за вами. — Благодарю вас. Лицо Мотосукэ сделалось серьезным. — Сэймэй уже рассказал вам, что госпожа Татибана и ее нянька мертвы? — Что-о?! Мотосукэ кивнул. — Покончили с собой в тюрьме. — Просто не верится! — вскричал Акитада. — Это, наверное Икэда убил их… и тут уж, конечно, моя вина. — Нет. Икэда исчез. И, насколько мы поняли, еще до их смерти. У Акитады голова пошла кругом. Только теперь он понял, какую грубую ошибку допустил, позволив Икэде забрать этих женщин в тюрьму И нездоровье, которое он уже тогда ощущал, не могло послужить оправданием такой небрежности. Образ бабочки, попавшей в снежный плен, снова мелькнул у него в мозгу. Каким он оказался пророческим! Акитада поморщился. — Вам известны какие-нибудь подробности? — Мне известны все подробности, потому что я сам послал Акинобу на расследование. Это произошло две ночи назад. А Икэда, судя по всему, сбежал за ночь до этого — вскоре после того, как вы арестовали женщин. У себя на столе он оставил записку, что его якобы вызвали по делу из города. Поскольку он так и не вернулся, я временно назначил на его должность Акинобу. А между тем госпожа Татибана требовала разрешить ей поговорить с Икэдой, и когда ей сообщили, что того нет в городе, стала отчаянно настаивать на свидании с Дзото. — Ну разумеется! — простонал Акитада, сжимая кулаки. — Каким же я был дураком! Мотосукэ устремил на него вопросительный взгляд, но Акитада безмолвствовал, и он продолжил: — Так вот, старший полицейский решил, что она ищет духовного утешения из-за предъявленного ей обвинения, ну и дал разрешение на этот визит. Сам Дзото не явился, но в тот же вечер прислал своего помощника Кукаи и еще двух монахов. Стража утверждает, что те молились вместе с нею, а потом ушли. Она спокойно приготовилась ко сну. А утром стража нашла ее повешенной на балке. Вместо веревки она использовала скрученную одежду. Когда же они зашли в соседнюю камеру проверить няньку, оказалось, что та сделана то же самое при помощи пояса. — Их убили, — сказал Акитада. — Эти женщины слишком много знали. Мотосукэ покачал головой. — Не думаю. Но что бы там ни произошло, это избавляет нас от малоприятных процедур. Слова прозвучали грубо, но Акитада хорошо знал, что женщина, изменившая мужу и убившая его, не могла рассчитывать на милосердие. Таких преступниц подвергали жестоким публичным пыткам, равно как и слуг, поднявших руку на своего господина. Этого требовала общественная мораль. Только в случае с госпожой Татибана подобное зрелище могло бы стать невыносимым даже для грубой толпы. В этом-то, судя по всему, Мотосукэ и видел проблему. Теперь же, будучи мертвыми, эти женщины удовлетворили требования правосудия. Возможно, они и сами искали для себя более легкого конца. И все же Акитада не разделял того облегчения, которое испытывал Мотосукэ. — Тут моя вина, — снова покаялся он. — Когда она послала за Икэдой, я должен был догадаться, что он-то и есть ее любовник. — Икэда? Вы уверены? — Да. Ведь все сходится. Я обвинил ее в убийстве мужа, но Икэда встал на мою сторону, даже когда она обвинила меня в насилии. Он распорядился арестовать обеих женщин, и она как-то уж очень легко позволила увести себя в тюрьму. Она не сделала бы этого, если бы не ожидала, что Икэда выпустит ее оттуда. — Акитада посмотрел на Мотосукэ: — И теперь все указывает на то, что оба они были сообщниками Дзото. Потому-то она и послала за настоятелем, когда Икэда сбежал. Мне следовало прислушаться к мнению Торы. Словно по волшебству в комнату вошел Тора. Нисколько не смутившись присутствием губернатора, он сел, потом, спохватившись, поклонился Мотосукэ: — Рад видеть вас в добром здравии, достопочтенный господин. — И переключил внимание на хозяина. — Слава небесам, что вам получше! Сэймэй уже рассказал вам про Жасмин? — Да. Только не стоило так беспокоиться, — сказал Акитада. — Я знаю, кто убил подружку Хидэсато. — Ну да! Этот подонок Шрам. Он вечно колотил бедняжку, а на сей раз решил и вовсе располосовать ее. Акитада покачал головой, глядя на недоуменное лицо Торы. — Нет, Тора, давай-ка рассуждай сам. Вспомни, сколько там было крови. А ведь ты рассказывал нам об одном кровожадном кретине, что всегда ходит с ножом. Тора вытаращил глаза. — Точно! Юси! — Да, Юси. Хотя Шрам тоже мог быть здесь как-то замешан. — Акитада посмотрел на губернатора. — Вот такая шайка из трех человек — один, со шрамом, которого все так и называют «Шрам»,здоровяк по имени Юси, и еще третий… — Юбэй, — подсказал Тора. — … и Юбэй — такая вот шайка собирала деньги с лоточников и уличных девок. Тора поймал их и сдал в полицию, а Икэда отпустил. Я считаю, об этом обязательно нужно сообщить Акинобу. Возможно, на этот раз нам удастся избавить от них общество навсегда. Мотосукэ поднялся, качая головой. — Ну надо же, какие жуткие вести отовсюду! В другой раз вы непременно расскажете все это подробно, а сейчас мне лучше пойти и обсудить с Акинобу убийство. Вам же, дорогой брат, нужно еще немного отдохнуть. Я зайду позже — поговорим о предстоящем мероприятии. Когда Мотосукэ ушел, Акитада повернулся на бок, подпер щеку и улыбнулся Торе. — Ну, поздравляю! Кажется, ты был абсолютно прав насчет того, что Икэда и Дзото — сообщники. Тора постарался изобразить на лице скромность, но ему это не удалось. — Ну а как там Хидэсато? Хорошо ему живется у Хигэкуро и девочек? Лицо у Торы вытянулось. — Прекрасно, — процедил он сквозь зубы. — Ты говорил им, что я болен? — Да. И они просили пожелать вам скорейшего выздоровления. Такое безразличие немного огорчило Акитаду, однако он спросил: — А что сказала Аяко? Тора схватил бронзовый шар с благовониями и принялся катать его по столу. — Ну… тоже и сказала. — Лицо его было хмурым. — Они все очень заняты. Ну там… гость в доме, и все такое… Акитаде показалось, что он угадал причину Ториного уныния. — Отоми очень красивая девушка, и вполне естественно, что Хидэсато тоже так считает, — осторожно заметил он. Тора резко обернулся. — Отоми? Хидэсато поглядывает не на Отоми. Аяко — вот кто его интересует, черт бы его побрал! — Аяко?! — Акитада недоуменно моргал, потом расхохотался. — Боже! Как же я забыл?! Они ведь оба мастера палочного боя. Не сомневаюсь, им есть о чем поговорить. Успокойся, Тора. Я рад, что Хидэсато живет у них. Ведь Отоми угрожает настоящая опасность после того, как Дзото увидел свиток дракона. Я просто убежден, что он послал своих людей убить госпожу Татибана и ее няньку, и ничто не помешает ему поступить так же с Отоми. Только пока там Хидэсато, они по крайней мере дважды подумают, прежде чем напасть на нее. Тора встал. — Хидэсато там нет. Они с Аяко утром ушли в баню. — Произнеся эти слова, он залился краской. — То есть это он пошел в баню, а куда оправилась она, я не знаю. — Он набрал полную грудь воздуха и выпалил: — Если я вам сейчас не нужен, побегу поскорее туда. — И выскочил за дверь. Комната словно погрузилась во мрак — будто огромная черная туча закрыла солнце. Акитада сел на постели и застыл, ссутулив плечи и сжав кулаки. Что это там говорил Сэймэй про женскую юбку, которая опаснее тигра? Он предостерегал его в свое время от госпожи Татибана. Но Аяко же не такая! Она же не избалованная надушенная соблазнительница. Аяко чиста и естественна, как сама жизнь. Но Аяко предала его! Боль ударила так пронзительно, словно меч вонзили в живот. Он закричал и согнулся пополам, раскачиваясь взад и вперед. — Господин! Господин! Что с вами? Сквозь мутную пелену горечи и боли до него донесся встревоженный голос Сэймэя. Акитада открыл глаза и заставил себя разогнуться и разжать кулаки. — Ничего, — прохрипел он. — Просто судорога. Желудок свело от голода. Встревоженное лицо Сэймэя разгладилось. — А я вот кашки принес. Сварил ее на травяном настое. Потому-то так долго. — Он вложил в руки хозяина миску и наблюдал, как тот отхлебнул жидкую кашу. Вкус ее был горше желчи. — Что-то вид у вас неважный, — с сомнением в голосе произнес старик. Акитада заставил себя проглотить пишу и, как ни странно, почувствовал облегчение. Он лег и закрыл глаза. — Я устал, Сэймэй. — Да-да! Поспите немного. Попозже я еще покормлю вас. Рыбной похлебкой с лапшой. — Он тихонько собрал посуду и на цыпочках вышел. Боль вернулась. Может, уже не такая пронзительная, но изнуряющая, поднялась от живота к голове. А вместе с болью пришло ощущение глубокой утраты — словно он похоронил самого себя в этом темном потоке. Слишком много всего произошло, слишком многое изменилось. Он был уже не тем самонадеянным героем, что с готовностью бросился выполнять важное задание ради службы императору и оправдания надежд своей высокородной матушки. Теперь тот, прежний, Акитада казался ему глупым мечтателем, а все былые мысли — пустыми. Его обуял гнев. Но гнев этот не был направлен на Аяко или опустившегося сержанта. Ни один здоровый человек не откажется от такого подарка судьбы. И почему бы Аяко, какими бы соображениями она ни руководствовалась — жалостью, любопытством или влечением плоти, — не предложить себя Хидэсато с той же готовностью, с какой она подарила себя Акитаде? Ведь сам он, несомненно, тоже разбудил в ней что-то вроде жалости или любопытства. Возможно, она и впрямь пожалела его или повела в баню, чтобы узнать, как столичные аристократы занимаются любовью. Аяко всегда жила по своим собственным правилам и ничего ему не обещала. Это он, самонадеянно забывшись, вообразил, что девушка испытывает к нему те же чувства. Аяко не принадлежала никому, даже Хидэсато. От этой мысли ему сделалось легче, пока он вдруг не сообразил, что Хидэсато может вполне устроить такое положение дел. А вдруг этот грубый солдат просто натешится с Аяко, а потом как ни в чем не бывало уйдет восвояси, взяв то, что ему так легко предложили? Акитада представил себе их на соломенной циновке, и его охватила ярость. В дверь тихо поскреблись. — Вы проснулись, мой дорогой Акитада? — спросил Мотосукэ, осторожно заглядывая в щелочку. — Да, — ответил тот, садясь и потирая глаза. — Пожалуйста, входите. — Я привел Акинобу и Юкинари. Вы не возражаете? — Конечно, нет. Проходите и садитесь. Юкинари и Акинобу вошли и раскланялись, осторожно на него поглядывая. Юкинари был уже без повязки, но на лбу прямо под волосами красовались запекшаяся ссадина и громадный лиловый синяк. — Там, наверное, еще остался чай, — предложил Акитада. — Или вы предпочитаете вино? Гости отказались и от того, и от другого, вежливо осведомились о его здоровье, и в комнате повисла тишина. — Губернатор сказал мне, что вы теперь замещаете Икэду, — обратился Акитада к Акинобу, пытаясь вытеснить из головы образы любовников. — Вам будет трудно совмещать две столь ответственные должности, особенно учитывая сложность дела с заговором и хищением ценностей. Акинобу отвесил поклон. — Мне повезло, и я нашел в префектуре множество умных и надежных людей, — сказал он в своей обычной сдержанной манере. — Теперь, когда порядок установлен, работа пойдет на лад. Я предполагаю передать дела в префектуре в надежные руки тамошнего ответственного секретаря, пока буду занят другими делами. Я уже подробно проинструктировал его относительно преступников, перечисленных вашим превосходительством. Их розыском занимается особая группа полицейских, и я надеюсь доложить об их поимке уже сегодня к вечеру. — Ну что ж, благодарю вас, — кивнул Акитада. — А вот задержать Дзото и его сообщников во время храмового праздника будет гораздо сложнее. Мы должны любой ценой избежать кровопролития. Он уже не раз доказывал свою способность действовать быстро и решительно, а человеческие жизни для него ничего не значат. В монастыре ожидается большое скопление людей — горожан и паломников, а его монахи — хорошо обученные бойцы, вооруженные секирами. Я не сомневаюсь, что где-нибудь у них припрятано и другое оружие. Так что на нашей стороне будет только одно преимущество — внезапность. В разговор вступил Юкинари. — Какое у них оружие и сколько? — Мне известно только об этих нагинатах, но в столице ходили слухи о караванах с оружием, ушедших на восток. На пути сюда я заглянул в таможенные записи на пограничном пункте в Хаконэ. Там числилось множество предметов религиозного культа, проследовавших в этом направлении. Похоже, на самом деле это было оружие, предназначенное для монастыря Четырехкратной Мудрости. Такой человек, как Дзото, безо всяких угрызений совести устроит в монастыре кровавую резню и даже настоящую гражданскую войну в провинции, лишь бы спасти свою шкуру. Акитада смотрел на троих своих собеседников и гадал, как они поведут себя в предстоящей сложной ситуации. Юкинари сидел сжав кулаки. В его храбрости Акитада не сомневался. К тому же угрызения совести подвигнут его расстаться с жизнью, если понадобится, лишь бы смыть позор, которым он покрыл себя, связавшись с госпожой Татибана. У Мотосукэ, напротив, был несвойственный ему унылый и даже скорбный вид, но Акитада теперь точно знал, что губернатор ему друг и с готовностью пойдет на задуманное ими общее дело. Хоть Мотосукэ и многое терял в случае неудачи, зато приобрел бы огромный почет, подавив нарождающийся бунт в самом зародыше. Когда глаза их встретились, Мотосукэ воскликнул: — Как я виню себя, что этот заговор вырос до таких размеров! — Откуда вам было знать, губернатор? — поспешил успокоить его Акинобу. — Ведь буддийское духовенство не подлежит обычным проверкам, которые мы устраивали повсюду. К тому же Икэда, судя по всему, всячески покрывал Дзото и его приспешников. Личная преданность Акинобу Мотосукэ производила сильное впечатление, равно как и его чувство собственного достоинства. Он намеревался пожертвовать семейным имуществом, чтобы возместить государственные убытки от хищения, к которому никоим образом не был причастен. Будь Мотосукэ по-прежнему подозреваемым, Акинобу и теперь остался бы ему предан, только эта вероятность отпала уже давно. — Теперь понятно! — пробормотал Юкинари. — Икэда был замешан в этом деле. Потому-то все мои жалобы пропускал мимо ушей. — Да, — вздохнул Акитада. — Надеюсь, мы найдем его живым. Акинобу деликатно прокашлялся. — Я, наверное, выгляжу бестолковым, — проговорил он извиняющимся тоном, — но позвольте спросить у вашего превосходительства, как вам удалось определить, что Дзото и Икэда состоят в заговоре? Это был вполне разумный вопрос человека, привыкшего всю свою жизнь кропотливо разбираться в мельчайших деталях всевозможных документов, только сейчас Акитаде было не до подробностей. Гоня от себя мысли о личных неприятностях, он сказал: — Я начал свое расследование, задавшись самыми обычными вопросами. Когда после крупного хищения кто-то вдруг приобретает неожиданное богатство, в местной экономике всегда остаются следы, если только этот человек живет в пределах провинции. Здесь я нашел много таких следов. Местная экономика в последнее время переживала бурный подъем. Торговцы процветали, но один из них опередил всех прочих. Повсюду кипело строительство, особенно бойко в трех местах — в монастыре Четырехкратной Мудрости, в резиденции губернатора и в гарнизоне. — Для укрепления гарнизона я использовал личные средства, а также фонды, предоставленные на мое усмотрение, — поспешил оправдаться Мотосукэ. — К тому же, насколько мне известно, проповеди Дзото влекли за собой огромные пожертвования. — Я видел ваши счета, — улыбнулся Акитада. — Только монастырь процветал слишком уж стремительно. Его слава пока не добралась до столицы, а на местную казну рассчитывать не приходилось. Мы с Сэймэем изучили местные исторические хроники в вашем архиве и в библиотеке Татибаны. Дзото затеял свою великую стройку сразу после того, как пропал первый караван с ценностями. — Да, мне следовало бы усмотреть в этом связь, — сказал Юкинари. — Но когда я прибыл сюда, здесь царила восторженность во всем, что касаюсь монастыря. — Правильно, — кивнул Акитада. — Кому интересно, откуда берутся средства? Боюсь, люди не одобрят того, что мы с вами собрались сделать. А ведь богатства эти несут городу преступность, насилие и коррупцию. Мы с Торой много ездили, и везде люди недовольны местной властью. Нам говорили что вызывать полицию бесполезно, потому что тамошнее начальство берет взятки. Вот первое, что насторожило меня в Икэде. Увидев этого человека, я понял, что отнюдь не нарушения служебного долга или несоответствие занимаемой должности воздвигли такой барьер между префектом и гражданами. Все дело в алчности и стяжательстве — именно в них я и заподозрил его с самого начала. Мой слуга Тора сразу же увидел связь между Икэдой и Дзото. А теперь мы и сами убедились, что эти двое оказались идеальными союзниками. Дзото располагал людьми и средствами для грабежа, а префект Икэда снабжал его сведениями о времени, маршруте и охране каждого каравана. Мотосукэ с Акинобу переглянулись. — Это невозможно, — возразил Мотосукэ. — Икэда не принимал участия в подготовке и отправлении караванов, поэтому не мог располагать такой информацией. Акитада был удивлен. — Вы уверены? Мотосукэ кивнул. — Мы с Акинобу всегда встречались в моей библиотеке. Приглашали только начальника гарнизона. Лишь мы трое знали все необходимое по отправлению караванов. Только мы проверяли их содержимое на казенном складе и лично пересчитывали золотые и серебряные слитки, перед тем как упаковать их в ящики и опечатать. Акитада бросил взгляд на шар с благовониями. — А скажите, когда вы паковали эти ящики, рядом, случайно, не было вашей элегантной курильницы? — спросил он. Акинобу не смог сдержать удивленного возгласа. — Да. Но как же вы узнали, ваше превосходительство? В последний раз у нас случилась маленькая неприятность с этим шаром. Он закатился за один из ящиков и прожег его кожаную обивку, прежде чем мы успели заметить. Акитада улыбнулся. — На монастырском складе мы нашли один яшик со странным выжженным клеймом. — Этот яшик вы видели в монастыре? — вскричал потрясенный Мотосукэ. — Но это же означает, что монахи похитили золото! Может, мы и другие товары там найдем. — Рис скорее всего уже продан, — сказал Акитада. — Но я точно знаю, что изрядный запас тканей хранится в городе, а именно в доме одного торговца шелком. Этот торговец разбогател в одночасье, окружил свои владения высоченной стеной, и монахи из монастыря регулярно наведываются к нему. — Акитада посмотрел на Акинобу. — В день монастырского торжества вам следовало бы послать туда своих лучших людей, чтобы тщательно все обыскали. Акинобу ответил поклоном. Солнце переместилось. Луч его теперь плясал на чайнике, и капелька, повисшая на носике, переливалась всеми цветами радуги. Глядя на нее, Акитада почувствовал новый прилив горечи. Вот так же точно сверкала влага на ее золотистой коже в клубах пара и искрилась драгоценной росой на щеках. — Но как же все-таки Дзото сумел узнать о наших планах? — недоумевал Мотосукэ. Акитада заставил себя вернуться к делу. — Если, как вы говорите, Икэда не имел сведений о караванах, значит, мы проглядели еще одного сообщника. Никто из вас не обсуждал эти планы с кем-нибудь еще? Юкинари и Акинобу покачали головами. Потом капитан сказал: — Отправляя караван, я вручил своему лейтенанту пакет с приказами, распечатать который надлежало только после прохождения границы. Акитада посмотрел на Мотосукэ, и тот покраснел. — Вообще-то перед отправкой первого каравана я советовался с Татибаной, — признался он. — Он очень им интересовался, особенно когда тот пропал. Но я не в силах поверить, что Татибана мог бы опуститься до таких вещей. — Да. Но не забывайте про госпожу Татибана. Она как раз могла. — Внезапно мотив этого преступления четко обрисовался. В убийство Татибаны на почве его ревности до сих пор с трудом верилось. — Полагаю, то, что он знал, стоило ему жизни. В тот вечер он зашел в покои жены, чтобы сообщить ей о своем решении поговорить со мной, — видимо, хотел поделиться своими подозрениями, что жена передавала сведения о караванах. И застал ее в обществе Икэды. Остальное можно домыслить. Я не сомневаюсь, что Икэда убил его. — Так вот, значит, какова причастность Икэды! — покачал головой Юкинари. — Да, именно так, — устало кивнул Акитада. Еще час они подробно обсуждали детали своего плана. Один раз заходил Сэймэй — бросил обеспокоенный взгляд на Акитаду, приготовил всем чаю и удалился. Они уже почти закончили, когда Мотосукэ прервал разговор: — Мне кажется, на сегодня хватит. Вы выглядите просто ужасно, мой дорогой старший брат. Не следовало нам беспокоить вас, пока вы еще так слабы. — Бросьте! Что за пустяки! — устало возразил Акитада. Сейчас ему было безразлично все — и собственное здоровье, и тщательно разработанный план поимки Дзото. Мотосукэ поднялся, остальные последовали его примеру. Они уже прощались, когда дверь распахнулась и в комнату влетел Тора. Взгляд его дико блуждал по сторонам, одежда и руки были испачканы кровью. — Они убили Хигэкуро! Теперь на очереди девушки! Нам нужны солдаты! Скорее, иначе их настигнет смерть! — Кто это «они»? — сбросил одеяло Акитада. — Проклятые монахи. Соседи видели их, и какая-то безмозглая баба сообщила, где найти Отоми и Аяко. — Гора схватил Юкинари за рукав. — Берите своих солдат! Только быстрее! Надо прочесать весь город! — Нет, Тора, — остановил его Акитада. — Никаких солдат и никакой полиции. Нам придется пойти самим. — Он вскочил с постели. — Дай скорее мою одежду и сапоги!ГЛАВА 17 Храм богини милосердия
К тому времени, когда они торопливо спешились перед школой боевых искусств Хигэкуро, солнце уже село. На другой стороне улицы в потемках толпились перепуганные соседи. Акитаду трясло от возбуждения, слабости и холода. Он перешел через улицу и обратился к толпе: — Кто из вас видел, как уходили девушки? Вперед робко выступила низенькая пожилая женщина. Он узнал ее — это она в прошлый раз болтала с Аяко. На ее округлых щеках блестели слезы. — Быстро расскажите мне все, что знаете, — приказал Акитада, — Над ними нависла большая опасность. — Это было пару часов назад, — начала та. — Монахи в храме как раз пробили час Петуха[1380]. Я выглянула на улицу позвать к ужину сынка и увидела Аяко и Отоми. Они шли вон там, — махнула она рукой. — А на углу свернули к югу. — Вы знаете, куда они пошли? — Нет. Но Отоми взяла с собой рисовальные принадлежности. — В той стороне есть какие-нибудь храмы? — Только храм Солнечного Лотоса еще открыт. С тех пор как учитель Дзото объявился в наших краях, все ходят в горный монастырь. А остальные позакрывались, даже большая пагода милосердной Каннон. — Мне сказали, что девушек разыскивали какие-то мужчины. Это так? Вы их видели? Женщина отчаянно замотала головой. — Не я. Уж я-то догадалась бы не пускать их по следу Отоми. Это вон та дура виновата. — И она вытащила за руку прятавшуюся за чужими спинами бледную перепуганную молодуху. — А ну иди расскажи его чести, что ты натворила. Та горько заплакала. — Сколько там было мужчин? — прикрикнул на нее Акитада. — Не помню, — всхлипнула несчастная. — Дура, ты же говорила — десять! — тряхнула ее за плечи пожилая соседка. — Это сначала десять. Когда они подошли спросить, их было уже пятеро. — Молодуха завыла в голос. — Они же вышли из школы, вот я и подумала, что это ученики господина Хигэкуро. Акитада испепелил ее взглядом, развернулся и подошел к ожидавшему возле лошадей Торе. — Пойдем! Может, внутри что-то подскажет нам, куда пошли девушки. За открывшейся дверью было темно. Первое, что поразило Акитаду, это запах — теплый, сладковатый, с металлическим привкусом. Потом он услышал слабый звук мерно падающих капель. На улице темнело, но в открытую дверь еще пробивался тусклый свет — он помог Акитаде разглядеть на полу учебного зала несколько бездвижных фигур. Кровь! Это был запах свежей крови, целых потоков крови. Акитада шагнул в зал, Тора неотступно следовал за ним. Вспомнив про соседей на улице, Акитада велел ему: — Закрой дверь и чиркни кремнем. — То ли от запаха, то ли от вызванной болезнью слабости его замутило, пришлось даже зажать рот, чтобы задержать тошноту. Тора закрыл дверь и, шаря в поисках кремня, сказал: — Хигэкуро там, возле столба. Внезапный страх охватил Акитаду. Сколько тут этих тел? Что, если соседки ошиблись и Аяко никуда не ушла, а погибла здесь, защищая отца и сестру? Он шагнул в темноту, поскользнулся и неуклюже упал на бок. — Господин! — Тора чиркнул кремнем. Свет мелькнул и тут же погас. — Господин, с вами все в порядке? На полу полно крови. — Все нормально, — отозвался Акитада, поднимаясь на колени. Его трясло от холода и слабости, голова шла кругом. — Ради всего святого. Тора, зажги скорее свет! — Он вытер руки о штаны и встал. Тора гремел в темноте какими-то предметами. Пару раз он громко выругался, уронил что-то с грохотом, потом мелькнул огонек кремня и на стене зажегся масляный светильник. Гора пошел зажигать следующий. Акитада огляделся по сторонам. Представшее его взору зрелище было сродни настоящей кровавой резне. Густая темно-красная кровь заливала все вокруг. Лужи на полу, промокшие насквозь татами[1381], и этот мерный, тягучий звук падающих капель, напоминавший медленное биение сердца. Акитада насчитал шесть тел, включая мертвого Хигэкуро. Все это были мужчины. Борец-калека полулежал в центре зала, сжимая в одной руке окровавленный короткий меч, а в другой — свой огромный лук. Его застывший взгляд был устремлен в потолок — или на поразившее его сверху оружие. Поразившее дважды и раскроившее переносицу и левый висок, где из зияющей дыры виднелся мозг. Кровь до сих пор сочилась из этих ужасных ран, пропитав его роскошную черную бороду и одежду на плече и капая в пустой колчан. Сдерживая вновь подступившую тошноту, Акитада тронул бледную щеку Хигэкуро. Она была холодна. Кровь на ощупь оказалась густой и вязкой. — Видимо, это произошло незадолго до твоего прихода, — сказал он Торе. — Хигэкуро был тогда еще теплый, — отозвался тот. — Я обежал весь лом в поисках девочек и сразу бросился к вам. — Он огляделся по сторонам. — Пятерых ублюдков утащил с собой на тот свет. — Да. Женщина говорила, их было сначала десять, потом пять, — кивнул Акитада. — Думаю, она видела, как те заходили в школу. Пятерых Хигэкуро уложил, а остальные бросились разыскивать Аяко и Отоми. Он бродил среди трупов убийц. Все они были ему незнакомы — молодые, мускулистые, в темных полотняных кимоно, головы повязаны платками, как было принято среди мелких торговцев и ремесленников. Акитада сорвал одну такую повязку и увидел пол ней бритую голову. — Монахи, — подтвердил он свою догадку. За злодеяния они заплатили дорогой ценой. Каждый получил по две стрелы и больше, а тот, что ближе всех подобрался, валялся теперь со вспоротым животом. Уже умирая, Хигэкуро успел разделаться с врагом, нанесшим ему смертельный удар. В жилой части дома они обнаружили чудовищный погром. Все сундуки и ящики были открыты, их содержимое раскидано по полу, занавески и ширмы, рассеченные клинками, свисали клочьями. Во внутреннем дворике в пустой дождевой бочке еще теплился огонек разожженного костра. Поворошив пепел, Тора извлек обугленный подрамник с остатками бумаги и шелка. — Они сожгли ее рисунки, — сказал Акитада. — Пошли. Здесь больше нечего искать. Мы только тратим время. У выхода Тора прихватил со стойки одну из боевых палок. Соседи во дворе уже разбрелись по домам, лишь какой-то прохожий шел по улице, непринужденно насвистывая. Тора в сердцах выругался. Акитада, беспокоясь за безоружную Аяко, которой грозила схватка с пятью монахами-головорезами, вскочил на лошадь. Вот тут-то он и разглядел свистуна. Хидэсато! В следующее мгновение он соскочил с седла, бросился к Хидэсато и припер его к беленой стене богатого соседского дома. Схватив сержанта за грудки, он тряс его, стуча головой о стену. — Ах ты, жалкий тупой пес! Где ты шлялся, когда нужен был здесь?! Вот так ты платишь людям за доброту?! — Акитада едва не задохнулся при мысли, что доброта эта включала в себя возможность попользоваться телом Аяко. — Ты просто низкая тварь, раз поступил так с нею! Тора оттащил его в сторону. Акитада прислонился к стене, пытаясь отдышаться и унять дрожь в руках и ногах. — Что это с ним? — прохрипел Хидэсато, держась за голову. — Не иначе как спятил! Тора с горечью объяснил ему: — Пока ты нежился в бане, монахи приходили снова, убили Хигэкуро и теперь гонятся за девушками. Может, они уже мертвы теперь по твоей милости. У Хидэсато опустились руки. Недоуменно моргая, он смотрел на Тору и его хозяина, потом увидел кровь на одежде Акитады и бросился в дом. Распахнув настежь дверь, сержант исчез внутри. Акитада, шатаясь, пошел к лошади. С трудом взобравшись в седло, он пнул ее в бока и помчался по дороге. Тора пустился следом, не обращая внимания на крики Хидэсато за спиной. Они высматривали крыши пагод. Самую первую нашли быстро. Обшарпанная табличка на воротах гласила: «Храм Солнечного Лотоса». Некогда ярко-красные иероглифы давно выцвели и стали бледно-коричневыми. Какой-то дряхлый монах сметал со ступенек опавшую листву. — Эй ты! — окликнул его с лошади Акитада. — Не видал здесь двух молодых женщин? Старик близоруко прищурился и отвесил поклон, потом, отставив метлу, прокряхтел: — Добро пожаловать, достопочтенный господин! Не желаете ли купить благовоний и воскурить их перед светлейшим Буддой? Видя дряхлость старика, Акитада подъехал ближе и повторил вопрос. Добродушная улыбка расплылась по старческому лицу. — Это вы про Отоми и ее сестру? Да, они проходили здесь. А потом о ней справлялись какие-то парни. — Он снова улыбнулся. — Она ведь красавица! — Что вы им сказали? — Пожелал всяческого благополучия и поблагодарил за добрые слова. Акитада стиснул зубы, не в силах унять дрожь, и беспомощно взглянул на Тору. — Что ты сказал тем парням? — рявкнул тот. — А-а… Ну так бы и говорили! Разумеется, указал им, куда пошли девчонки. Акитада застонал от бессилия. — И куда же? — заорал он, сжимая в кулаках поводья. — Вид у вас уж больно нездоровый, господин, — как ни в чем не бывало продолжал старик, озабоченно вглядываясь в лицо Акитады. — Вы бы зашли к нам отдохнуть. Хотите, наш аптекарь Касин приготовит вам чай на травах? — Благодарю. Как-нибудь в другой раз. — Акитада с трудом сдерживал ярость. — Мы очень спешим. Те парни, которых вы послали по следу Отоми и ее сестры, хотят причинить девушкам вред. В какую сторону они пошли? У старого монаха отвисла челюсть. — Вред?! Ай-ай-ай!.. Надеюсь, вы ошибаетесь, господин. Отоми сказала, что хочет рисовать Каннон, поэтому я направил тех парней в старый храм, что на юго-восточной окраине. У них там в главной пагоде есть прелестная икона богини милосердия, восседающей на лотосе. Сама-то пагода заперта, но задняя дверь… — Акитада с Toрой уже не слушали старика и скакали во всю прыть по узкой улочке. Потревоженные конским топотом, из дверей выглядывали любопытные жители. А между тем уже смеркалось. Молочные облака заволакивали небо белесой пеленой. — Скоро стемнеет, а у нас нет фонарей! — крикнул Тора Акитаде. — Тихо! — придержан тот свою лошадь. Перед ними выросли темные силуэты храмовых построек, окруженных деревьями. Среди них, как черный безмолвный страж, высилась главная пагода. Эти постройки и еще целый городской квартал были обнесены высокой стеной. На углу Акитада спешился и привязал лошадь к голой иве. Дрожа на холодном ветру, он прислушивался и ждал, когда к нему присоединится Тора. — Вы кого-нибудь видели? — шепотом спросил тот. Акитада покачал головой. — Тсс!.. Тихо! Ветер гнал опавшую листву, шумел в кронах деревьев. Где-то вдалеке ухала сова. — По-моему, я слышал голоса, — сказал Акитада. — Пошли. Попробуем пробраться внутрь. Главные ворота наверняка заколочены. Только тихо! Тора еще крепче вцепился в свою палку. — Только бы мне поскорее добраться до этих подонков! Они пересекли улицу и двинулись вдоль стены, надеясь отыскать пробоину в каменной кладке. Из-за стены донесся странный шипящий звук, заставивший их замереть. Потом все стихло, и они уже собирались двинуться дальше, когда вдруг услышали приглушенные ругательства и треск ломающихся кустов. Вдалеке прозвучал командный мужской голос, и шорох в кустах стих. — Они там! — шепнул Тора. Акитада кивнул. — По-моему, только ищут. Возможно, мы вовремя. Они продолжали обследовать стену, но та, как назло, была в отличном состоянии — даже ногу не на что поставить, чтобы вскарабкаться; к тому же Акитада не имел ни малейшего желания еще раз подставлять Торе свои плечи. Сейчас он не выдержал бы и ребенка, не то что крепкого молодого парня. — Давай-ка попробуем через главный вход, — предложил он. В этот момент безмятежную тишину прорезал пронзительный женский крик. — Они добрались до девушек! — крикнул Тора, беспомощно поглядывая на стену. — Это кричала Аяко! — Акитада уже сломя голову несся к сторожке. Ее воротца были распахнуты настежь. Они вбежали во двор — пустынный, тихий и зловещий. Справа высилась пагода, крыльями раскинув широкие карнизы; слева приютилась какая-то гробница, а прямо перед ними возвышался главный храм, который они видели с дороги. Его раскрытые двери, черневшие пустотой, напоминали разверстую пасть смерти. — Крик был на заднем дворе! — на бегу бросил Акитада. — Давай через храм. Так быстрее. Они взбежали по ступенькам — печати сломаны, дверь нараспашку. С улицы проникал слабый свет. У входа, справа, стояла будочка церковного служки, принимавшего подношения у паломников и продававшего благовония и свечи. Впереди чернел молельный зал. Они остановились и прислушались — никаких звуков. — Пошли! Они, видимо, на заднем дворе, — сказал Акитада. — Да разве мы что увидим без фонаря? — возразил Тора. — Я поищу вон в той будке. — Не надо. И времени нет, и свет нас выдаст. Они осторожно ступали по темному залу, выставив вперед руки. Вдруг что-то с грохотом упало. — Что это? — спросил Акитада. — Ногой зацепился за что-то и уронил пачку. Было слышно, как Тора шарит руками по полу. — Да черт с ней! Тора бросил поиски и догнал Акитаду. Когда тот уже коснулся руками задней стены. Тора вдруг выругался, послышался гулкий удар, после чего воцарилась тишина. — Ну а теперь-то что?! Ответа не последовало, только приближающийся шорох. Акитада безрассудно двинулся на этот звук. Вдруг кто-то вцепился в его колени мертвой хваткой, резко дернул, и Акитада упал плашмя, в последний миг пригнув голову, чтобы не удариться об пол затылком. Нападавший навалился на него всем телом, хватая за руки и пытаясь добраться до горла. Это был стандартный борцовский прием. И хотя Акитада вряд ли мог выдержать схватку с матерым головорезом, борцовские навыки пришли на выручку. Он защищался инстинктивно, но противник, хоть и худой, боролся отчаянно и двигался проворнее. Они беззвучно катались по дощатому полу. К счастью, сопернику тоже мешала темнота. Благодаря этому Акитада успевал уворачиваться и в конце концов умудрился нанести увесистый удар ногой. Противник с глухим звуком врезался в столб и затих. Стоя на коленях, Акитада позвал Тору. Ответа не последовало. Он проверил, на месте ли поверженный враг, и пошарил вокруг руками в поисках Горы. Наконец он нашел его и принялся трясти. Тот застонал, сел и, не разобравшись, со всей силы лягнул Акитаду, так что тот отлетел и ударился в стену. — Фух!.. Да это ж я! — Что-о?! — прохрипел в ответ Тора. — Ох, ну простите! Кто-то схватил меня за ногу! — пришел он в ярость. — Где эти ублюдки? Я оторву им башку и размажу по стенам! Несмотря на опасность, Акитаду пробрал смех. — Да успокойся ты, — сказал он, потирая больное плечо. — Тут и был-то всего один. Он и со мной пытался проделать такую же штуку, но мне повезло, и я его отключил. Значит, снаружи осталось всего четверо. Только этого надо связать и заткнуть ему рот. Дай-ка мне свой пояс. Но, пошарив в темноте там, где лежал поверженный враг, они обнаружили, что тот исчез. Поискав вокруг еще немного, Акитада сжал Торе плечо. Они прислушались. Тихий шорох удалялся в направлении главного входа. Напрягая зрение, Акитада разглядел на фоне дверного проема движущуюся тень и бросился на нее сзади. Обхватив противника обеими руками, он повалил его наземь. Но раздавшийся крик боли принадлежал женщине, да и руки Акитады, державшие хрупкое тело, тоже чувствовали это. Он скатился в сторону и тут же понял: Аяко! Он уже хотел окликнуть ее по имени, радуясь, что нашел живой и здоровой, уже протянул руки, чтобы обнять, как вдруг какой-то тяжелый предмет обрушился ему на голову. Темнота вспыхнула ярким светом, и все померкло.Тора, услышав крик Аяко и падение Акитады, бросился на помощь и вступил в схватку с кем-то очень большим и сильным. Ругаясь последними словами, он уже занес кулак, чтобы пригвоздить к земле нового врага, как вдруг услышал голос Хидэсато: — Тора! Это ты? — Хидэсато! — опешил тот. — Что ты здесь делаешь? — Я пошел за вами следом. И правильно сделал. Я подумал, что какой-то ублюдок, схватил Аяко. Аяко! Где ты? Вот чертова темень! Разве можно тут что-нибудь, разглядеть? Тора чиркнул кремнем. В коротенькой вспышке света он увидел Хидэсато с длинной бамбуковой палкой в руке и Аяко, склонившуюся над распростертым телом Акитады. Дурак! — прошипела Аяко. — Ты же ударил Акитаду! Может, даже убил! Тора ощупью пробрался к выходу и вскоре вернулся с мерцающим фонарем. — Ну как он там? Плохо? — Дышит. — Аяко подняла с пола окровавленную руку Акитады. — А где Отоми? — спросил Тора. — Я ее спрятала. Смотри, сколько крови! Тора опустился на колени и принялся рвать на полоски рубашку. — Не надо было ему сюда идти, — вздохнул он, глядя на бледное лицо Акитады. — Ну я же не знал! — жалобно оправдывался Хидэсато. — Ты болван! Тупой болван! Что ни сделаешь, все некстати, — с горечью и презрением проговорила Аяко. Хидэсато горестно опустился на пол и закрыл лицо руками. Они не обращали на него внимания. Вокруг высились тяжелые колонны, уходившие втемную пустоту сводов. Огромная настенная роспись с изображением богини милосердия переливалась в мерцающем свете фонаря всеми оттенками красного и розового. — Побудь с ним, пока он не придет в себя, — сказал Тора, когда они перевязали голову Акитаде. — А мы с Хидэсато сходим и навешаем этим проклятым ублюдкам, пока они не нашли Отоми. Он ожидал, что Аяко станет спорить, но она только кивнула. Хидэсато виновато смотрел на нее. — Прости, Аяко. Я же не хотел, чтобы так получилось. Просто было темно. Я понимаю, что только все испортил. Но клянусь, что заглажу свою вину перед тобой! Пусть мне даже придется умереть! — Он отвернулся и пошел к выходу. Тора подобрал с пола свою палку и побежал догонять Хидэсато. Аяко хмуро смотрела им вслед, потом снова склонилась над Акитадой.
Снаружи темнота казалась не такой непроглядной. Из дальнего конца сада донеслись шум и чьи-то ругательства. — Слава Богу, они еще не нашли ее, — сказал Тора и прислонил палку к перильцам крыльца. — И без того деревьев полно. А по мне, так лучше свободные руки. Хидэсато тоже положил свою палку. Они уже наделали столько шума, что таиться не приходилось. Монахи явно разделились, чтобы получше обыскать территорию. Двоих Тора с Хидэсато вскоре обнаружили. Своего противника Тора огрел подвернувшимся под руку куском черепицы, а Хидэсато извлек из-под одежды обрывок металлической цепи и метнул ее в другого. Удар пришелся в цель — они с Торой услышали, как хрустнула шея. Монах рухнул наземь без единого звука. — Ну вот, этого допрашивать уже не придется, — усмехнулся Хидэсато. — А как твой? — Я своего тоже угрохал. Убитые оказались бритоголовыми и носили короткие мечи, которые Тора с Хидэсато забрали себе. Свою следующую жертву они обнаружили по звуку — мерзавец громко чертыхался, пытаясь выбраться из запутанных плетей колючей лианы, но моментально притих, когда перед ним возник Тора с обнаженным мечом в руке. В тот же миг послышался другой голос: — Даиси! Что там такое? Ты нашел ее? Тора приставил ему к горлу острый клинок и ответил: — Нет! Я ногу подвернул. А кто с тобой? — Хотан. А где остальные? — Сейчас подойдут. — И одним ударом вышиб из пленника дух. — Еще двое? Это уж, наверно, последние, — подошел к нему Хидэсато. Тора кивнул. — Я сказал им, что мы сейчас придем. Они побежали по заросшей тропинке и вскоре столкнулись лицом к лицу с двумя головорезами. Одеты те были как остальные и тоже носили на головах повязки, только на этот раз противники обнажили мечи и приготовились к бою. Торе еще никогда не доводилось пользоваться в бою мечом. Ему удалось выжить только благодаря собственному проворству — он прыгал как обезьяна и махал мечом во всех направлениях. Хидэсато же хоть и был знаком с правилами такого боя, мечом владел плохо, поэтому вскоре отбросил его в сторону и взялся за свою цепь. Метнув ее, он обвил меч противника и рванул на себя, полностью обезоружив бритоголовою. Тора тоже наконец добился преимущества в схватке, лягнув монаха в пах. Тот заорал от боли и бросил меч, когда Тора подскочил к нему. Эту парочку они связали, но, вернувшись в заросли колючек, где оставили третьего, обнаружили, что тот исчез. Пошарив вокруг, они наткнулись на распахнутую калитку, но дорога была пуста. — Проклятие! Этот подонок удрал и теперь предупредит Дзото, — расстроился Тора. Они оттащили своих пленников к храму. — Эй, Аяко! — позвал Тора. — Теперь все спокойно! Девушка вышла на крыльцо, пристально вглядываясь в темноту зарослей. — Где Отоми? — спросил Тора. — Она же не слышит нас. Аяко молча спустилась по ступенькам, не сводя глаз с Хидэсато. — Ты ранен. Хидэсато оглядел себя. Огромное темное пятно расплывалось у него на груди. — Пустяки, — отмахнулся он. — Ой, Хидэсато… Сядь скорее, дай-ка я посмотрю. Под крыльцом что-то зашуршало. Тора схватился за меч, но это была Отоми. Глаза ее казались огромными на перепачканном грязью личике, к одежде прилипли сухие листья, мелкие веточки и паутина. Тора расплылся в счастливой улыбке, бросил свой меч и подхватил ее на руки. Аяко обнаружила на плече Хидэсато колотую рану и сняла с себя пояс, чтобы перевязать ее. — Пожалуйста, прости меня! — жалобно проговорил он, поднимаясь на ноги. Лицо ее уже не было так сурово. — Да прощать-то нечего. Я жалею, что набросилась на тебя, — сказала она, вставая. — Что ты мог видеть в такой темноте? Я и сама так же обозналась. Он посмотрел на нее пытливо, виновато и, смущаясь, проговорил: — Я бы не хотел, чтобы ты думала обо мне плохо. Я никогда не встречал таких людей, как ты, и готов умереть, лишь бы… — Голос его дрогнул. Аяко улыбнулась, взяла его за руку и нежно сказала: — Я знаю.
Акитада, шатаясь, вышел на крыльцо и застал эту трогательную сцену. Лицо его вмиг посуровело. — Тора! Тот вытянулся в струнку. Все взоры устремились на Акитаду, который стоял, держась за перила, и лицо его было таким же белым, как повязка на голове. — Я вижу, вы тут полностью управились. Вы сообщили девушкам, что… случилось? — Девушкам?! — Аяко пошла к нему, их взгляды встретились, но он тут же отвел глаза в сторону. — О чем это вы? Что произошло? Тора с Хидэсато смущенно переглянулись. Держась за перила, Акитада медленно спустился с крыльца и сухо кивнул Аяко: — Тогда, боюсь, мне придется сообщить вам, что ваш отец погиб сегодня днем. Аяко застыла, глядя на него во все глаза. — Его убили те же люди, что напали на вас с сестрой, — продолжал Акитада все так же холодно. — Но он храбро сражался и сразил пятерых, прежде чем погибнуть от меча. Я крайне сожалею, что вынужден сообщить вам столь трагическое известие. Аяко гордо распрямилась. — Я вам очень признательна, ваше превосходительство. Мы с сестрой навсегда останемся перед вами в великом долгу за то, что вы пришли к нам на помощь. — Она низко поклонилась, повернулась к нему спиной и пошла к Хидэсато. Сердце Акитады сжалось от боли, к глазам подступили слезы. Немыслимым усилием воли заставил он себя вернуться в храм и скрыться под гулкими сводами. Лампа все еще горела перед образом богини милосердия. Рядом лежали рисовальные принадлежности Отоми. Превозмогая слабость, Акитада схватился за столб и посмотрел в непроницаемое лицо на иконе. Черты его вдруг расплылись, все закачалось перед глазами, и вместо лика богини милосердия он видел лицо Аяко. Сияющие глаза смотрели на него с холодным отчуждением, на нежных губах застыла презрительная усмешка. Он повернулся и нетвердой походкой вышел из храма в сизую мглу ночи.
ГЛАВА 18 Праздник
В губернаторском паланкине было приятно и уютно, но на крутой горной дороге он начал трястись и крениться. Акитада пожалел, что не предпочел лошадиное седло. Он приподнял бамбуковую шторку и выглянул наружу. Они ехали по густому сосновому лесу, покрывавшему горные склоны. Яркое солнце щедро заливало своими лучами и лес и дорогу, только это буйство красок и света не вязалось с его мрачным настроением. Их сопровождала личная охрана губернатора в пышном блеске отполированных доспехов. На ветру развевались алые полотнища, породистые кони грациозно перебирали копытами, колыхался красный шелк кисточек. Безотчетным движением Акитада тронул свое старенькое придворное платье, надеясь, что не будет выглядеть совсем уж убогим рядом со все затмевающим великолепием парадного наряда Мотосукэ. Губернатор сидел напротив, облаченный в новое шуршащее кимоно из зеленой узорчатой парчи и пурпурные шелковые штаны. Он тоже выглянул в окно. — О, да мы почти приехали! Я уже различаю верхушку пагоды. Силы небесные! Вы видели когда-нибудь столько народу? Чем ближе они подъезжали к конечной цели своего пути, тем больше зевак глазело на них с обочин дороги и устремлялось вслед за губернаторским кортежем, чтобы слиться с толпой, ожидавшей в монастыре начала торжественной церемонии. Акитада и Мотосукэ озабоченно переглянулись. Какое скопление людей! Какая ответственность! Ведь что-то может сорваться в их тщательно продуманном плане. По правде говоря, Акитада не сомневался, что таконо и будет. Ведь все, к чему он прикасался в последнее время, оборачивалось бедой. Куда бы ни ступила его нога, везде он сеял смерть. Мысли о погибшем Хигэкуро преследовали его постоянно. Кровь отважного борца пятном легла на его нынешнюю жизнь. Исключением были только воспоминания об Аяко — их он решительно гнал от себя прочь. Словно прочитав его мысли, Мотосукэ произнес: — Никогда не забуду того жуткого кровавого зрелища в школе боевых искусств. Этот Хигэкуро, вероятно, был удивительным, выдающимся человеком. Акитада кивнул — Какое счастье, что девушки остались живы… Эта глухонемая художница очень талантлива. Акитада снова кивнул. Будет ли Аяко в безопасности с таким человеком, как Хидэсато? Займет ли он место ее отца в боевой школе… как он заменил Акитаду в ее объятиях? Но вслух он сказал: — К счастью, я лежат без сознания в храме, когда Тора и Хидэсато сражались с людьми Дзоте. Тот сбежавший, монах мог бы разрушить все наши планы, если бы узнал меня. Потирая пухлые руки, Мотосукэ улыбался. — Да, это доброе предзнаменование. Богиня милосердия на нашей стороне. «Да где уж там!» — с горечью подумал Акитада, вспоминая презрительную усмешку Каннон. — А что-то вид у вас унылый, дорогой старший братец? — поинтересовался Мотосукэ. — Голова еще болит? — Нет. — И это, как ни странно, было правдой. Акитада вполне оправился от своей болезни и от того мощного удара Хидэсато и был в прекрасной физической форме. Но настроение оставляло желать лучшего. — Завидую вашей бодрости, — нахмурился он. — Ведь в этом монастыре мы будем просто как мишени. — Не волнуйтесь. Все пройдет отлично. Нас охраняют мои люди и воины Юкинари. И солдаты во дворе и в храме Будды целиком и полностью нам преданы. Акитада примолк, устыдившись своих слов, которые могли показаться словами труса. — Вы только представьте, что в этот момент Акинобу со своими полицейскими обыскивает владения и склады того торговца шелком, — продолжал между тем Мотосукэ. — Только представьте, что к вечеру в наших руках будут и улики, и преступники, и все, что ими награблено. — Мотосукэ потирал руки и улыбался. — Только вообразите, как удивятся в столице, получив три каравана, которые давно списали как утраченные! — Ну, все-то вернуть уже не удастся, — мрачно заметил Акитада. В этот момент окрестности огласились колокольным звоном. Паланкин свернул направо. В оконце со стороны Мотосукэ показались ворота монастыря Четырехкратной Мудрости, поблескивавшие на солнце голубой черепицей. По обе стороны входа стояли монахи в шафраново-желтых одеяниях. — Интересно, Икэда здесь? — спросил Мотосукэ. — А мне интересно, жив ли он вообще. Для Дзото это теперь опасная помеха. Акитада посмотрелся в висевшее на крючке серебряное зеркальце, поправил шляпу. Паланкин наконец перестал качаться и трястись. — Нам следует сойти здесь? Мотосукэ раздвинул бамбуковую шторку пошире. — Нет. Это просто официальное приветствие. Ну вот, уже поехали дальше. — Паланкин дернулся, и обоим седокам пришлось схватиться за шляпы. Мотосукэ пристально вглядывался наружу. — Я вижу, Юкинари расставил своих людей у ворот. Умный малый. По-моему, эта история с госпожой Татибана его многому научила. — А я чуть не арестовал его. Ведь и служанка Татибаны, и нищий утверждали, что на убийце был военный шлем. — Ой-ей! — сокрушенно воскликнул Мотосукэ. — Я ведь хотел сообщить вам, да только из-за вашей болезни и Дзото эта мелочь выскочила у меня из головы. Молодой дурень признался — дама так буйствовала в день их окончательной размолвки, что он удрал из ее дома, оставив там свой шлем. Паланкин резко накренился назад — носильщики понесли его по ступенькам к воротам монастыря. — Тогда все понятно, — сказал Акитада, придерживая проклятую шляпу, чтобы та не свалилась с головы. — Видимо, Икэда воспользовался шлемом. Я подумал об этом, услышав, что на том человеке было синее официальное кимоно. Ведь ни один офицер не наденет шлем без остальных доспехов. — Теперь паланкин накренился вперед, поскольку носильщики спускались по ступенькам с другой стороны ворог. Когда он наконец выровнялся, Акитада перестал держать шляпу и продолжил: — Мне следовало догадаться насчет Икэды — ведь он был как раз в таком синем кимоно у вас на ужине. Теперь отовсюду слышался гул, напоминавший жужжание гигантского улья. Акитада поднял шторку со своей стороны. Огромный монастырский двор был заполнен людьми, теснившимися, освобождая проход к центру. В передних рядах монахи в желтых одеяниях размахивали кадильницами, распевая себе под нос молитвы. Оживленная толпа за их спинами пыталась хоть краем глаза увидеть редкое зрелище — приезд высоких сановников. Носильщики под множеством устремленных на них взоров проворно поднесли паланкин к ступенькам главного храма Будды и опустили наземь так эффектно, что у пассажиров лязгнули зубы. Выбраться из паланкина оказалось непросто — одежда сбилась и липла к телу, шляпы съехали набекрень. Не менее сложным было подняться на крыльцо, не запутавшись в полах пышного наряда. Акитада успел вспотеть, пока достиг верхней ступеньки. Благодаря своему невысокому рангу он не участвовал в подобных мероприятиях в столице. Зато Мотосукэ, как он заметил, легко справлялся с этой задачей, несмотря на возраст и комплекцию. На крыльце их встречала целая делегация священнослужителей, возглавлял которую монах средних лет с бледным лицом и запавшими глазами. Мотосукэ, обращаясь к нему, назвал его Кукаи. Так вот каков, значит, этот помощник Дзото, его правая рука, получивший задание исповедать в тюрьме госпожу Татибана. Испытывая почти физическое отвращение, Акитада отвернулся, окинув взором широкий двор внизу. А тот до отказа был забит гостями, монахами и солдатами. Перед новым храмом соорудили деревянные помосты, у дальних галерей выстроились в ряд экипажи и повозки сановной знати. Богатых дам и их служанок скрывали от любопытных глаз шелковые ширмы. Повсюду в толпе сверкали доспехами воины. Вдоль галерей, у ворот и у главного храма Будды чинно выстроились солдаты Юкинари. Немного успокоившись, Акитада присоединился к Мотосукэ, которого уже вели осматривать новостройку. Новый храм был просторен и величествен, но Акитада лишь вполуха слушал разъяснения Кукаи. Они почтительно остановились перед огромной фигурой Будды, выполненной из позолоченной бронзы. Здесь бубнила свои молитвы группа престарелых монахов, и Акитаде вспомнились несчастные узники, заточенные под землей. Потом мимо них вереницей проследовали красивые мальчики лет десяти-одиннадцати, облаченные в пышные шелковые одеяния самых разных цветов. Они несли в руках золоченые колокольчики, улыбались и хихикали, поразив Акитаду своим неуместным ребячеством. — Наши самые юные послушники. — Голос Кукаи вывел Акитаду из задумчивого оцепенения. — Семьи отдали их нам на воспитание. Акитада вспомнил слова старого монаха, обвинения, которые тот выкрикивал против Дзото, и расстроился Жизнь монастыря возбраняла его обитателям связи с женщинами, и монахи, как известно, обращали свою страсть друг на друга, но дети!.. И что же теперь ждет его друга Тасуку, который ВСЮ свою юную жизнь был пылким поклонником женщин? Как он заставил себя отвернуться от них навсегда? Когда они осмотрели храм и вышли на крыльцо. Кукаи повел их к одному из зрительских помостов, объяснив, что остальные предназначены для высшего духовенства и актеров, которым предстоит выступать с танцами. Здесь, на трибуне, им отвели почетные места — толстые циновки, обшитые по краям парчой, и шелковые подушки. Парчовый навес укрывал их от ослепительных лучей зимнего солнца. Мотосукэ уселся слева от Акитады. Рядом пустовата подушка, предназначенная для Икэды. Справа от Акитады сел Юкинари. За ними разместились остальные важные гости во главе с Сэймэем. Акитада кивнул Юкинари, который сегодня выглядел блистательно. Ощущение возложенной ответственности явно придавало ему уверенности, и даже лицо его обрело былые краски. На площадке под ними дружно грянули барабаны, флейты и цитры. Танцоры в ритуальных костюмах закружились в медленном танце. Акитада не сводил глаз с пустующей пока отдельной ложи, предназначенной для настоятеля. Наконец танец закончился, и музыка прекратилась. Над площадью повисла тишина ожидания. Серебряный звон крохотных колокольчиков привлек все взоры к дверям нового храма, где стояли дети. Двери медленно отворились, и перед толпой явился Дзото. Площадь огласилась рукоплесканиями. Он стоял и наблюдая, как кричала толпа, потом взмахнул рукой и подошел к краю ступеней. Там он дождался тишины, поднес сложенные ладони к губах и ко лбу в знак благословения и начал спускаться. Его переливающееся пурпурное одеяние, казалось, мерцало при каждом движении. Мантия была богато расшита золотом и жемчугами. Из храма двумя вереницами потянулись монахи с кадильницами в руках, Дзото с Кукаи и другим высшим духовенством возглавили процессию освящения нового храма. Мотосукэ, склонившись к Акитаде, шепнул: — Нет, вы когда-нибудь видели такое представление? Вот же они, все три каравана с золотом и шелком. — Нет, что-то еще осталось, — нахмурился Акитада. — У Дзото с его размахом наверняка имеются более обширные планы, нежели открытие и освящение нового храма. — Он повернулся к Юкинари и тихо сказал: — По-моему, сейчас самое время освободить узников. Что-то я Торы нигде не вижу. — Он повел моих лучших людей к складам, — ответил Юкинари. — Если им удастся отыскать вход в подземелье, Тора подаст нам знак. До сих пор все шло по плану. Торжественная процессия с молебнами и колокольным звоном обходила новый храм. Акитада считал, что вся процедура может занять полчаса, учитывая размеры владений. И все же его одолевало беспокойство. Чтобы толпа не заскучала, музыканты и танцоры возобновили представление. Юные послушники подавали гостям сок. Мальчику, подошедшему к Акитаде, на вид было не больше семи лет. Не разлив ни капли, он довольно хихикнул и одарил Акитаду беззубой детской улыбкой. Наконец показалась сама процессия. Ее участники взошли на помост и заняли там свои места, кроме Кукаи — тот поднялся на специальную трибуну и начал молебен. Монахи время от времени вторили ему дружным хором. Затем произносить приветственные речи должны были представители императорской власти. Акитаде и Мотосукэ предстояло выразить свою огромную радость по поводу столь торжественного случая. Богатые официальные подношения в виде рулонов шелка, одеяний, расписных шкатулок и молитвенных четок лежали рядом, завернутые в красивую подарочную бумагу. Как императорский посланник Акитада должен был поздравлять Дзото первым. Только истинные его намерения были совершенно другими. Но теперь все зависело от Торы, от того, как быстро и успешно он освободит узников Дзото. Но куда же он запропастился? Противный страх, словно свившийся кольцами червь, снедал его изнутри. Не в силах больше бороться с тревогой, он повернулся и кивнул Сэймэю. Давно ожидавший сигнала старик спокойно поднялся со своего места и отправился в сторону уборной.Сэймэй деловито семенил в сторону уборной. Хозяйственный двор был почти пуст — во всяком случае, он не увидел тут ни одного монаха. Силясь восстановить в памяти план монастыря, он повернул к Северным воротам. В следующем дворе царило безлюдье. Сэймэй догадался, что большая приземистая постройка впереди и есть тот самый склад, где хранятся секиры. Где-то здесь, по его расчетам, Тора с солдатами должны освобождать подземных узников, только вокруг почему-то не было ни души. Подойдя к складу, Сэймэй услышал внутри какой-то шум. Решив, что это Тора, он облегченно вздохнул и отворил дверь. Какая-то тень мелькнула и исчезла. — Кто здесь? — тревожным шепотом спросил старик. Никто не ответил. Только теперь Сэймэй понял, что порученное ему дело может оказаться опасным. Какой-нибудь свирепый монах из числа головорезов Дзото или даже целая шайка таких монахов могли прятаться за бочонками и ящиками, выскочить оттуда в любое мгновение, наброситься на него и убить. Он даже подумал, не сбежать ли, но вспомнил про задание. Ему надлежало выяснить, что в их плане не заладилось, и предупредить хозяина. Он боязливо шагнул внутрь и, оглядев длинные ряды бочонков и корзин, заметил, что связки с оружием валяются развернутыми и несколько секир выкатились на пол. На дрожащих ногах старик подкрался к бочонкам. За самым дальним из них сидел скрючившись человек в синем казенном кимоно. Такое носил и Тора, но он не стал бы прятаться от Сэймэя… если, конечно, не вздумал проделать с ним одну из своих дурацких шуток. Сэймэй подкрался ближе, собрал все свое мужество, резко нагнулся и схватил человека за шиворот: — Ты что здесь делаешь? Отвечай!.. — Но тут же, опешив от изумления, разжал пальцы. — Прошу прощения!.. Префект Икэда поднялся с пола. Он был бледен, но спокойно оглядел тощенькую фигурку Сэймэя и его седые волосы. — Ах, это вы! — проговорил он, направляясь к двери. — А я уже собирался уходить. Похоже, Дзото хранит здесь запрещенный товар. Ваш человек Тора только что ушел со своими солдатами. А я лишь хотел убедиться, не проглядели ли они чего. Прищурившись, Сэймэй смело преградил ему путь. — Я вам не верю! Вы прячетесь здесь, потому что вас разыскивают за убийство князя Татибаны. Икэда остановился, широко улыбаясь. — Ах вот вы о чем! Да это недоразумение уже прояснилось. — Ничего подобного! — вскричал Сэймэй. — И нечего держать меня за дурака! Ведь мне-то хорошо известно, что вас разыскивают как беглого преступника. — Сказав это, Сэймэй понял, что теперь должен поднять тревогу и задержать Икэду. Но его хозяину сейчас эта тревога совсем не нужна. Поэтому, гордо распрямившись и напустив на себя строгость, он сказал, глядя на Икэду в упор: — Вы арестованы! Тот, как ни странно, не ответил. Просто стоял улыбаясь и словно ждал дальнейшего развития событий. Сэймэй растерялся. — Надо бы поискать, чем вас можно связать, — пробормотал старик, озираясь по сторонам. Рядом с одним из бочонков он заметил моток веревки, но когда наклонился, Икэда бросился к двери. К счастью, беглец не рассчитал своих сил, и Сэймэй успел вцепиться в него мертвой хваткой. Они повалились наземь, завязалась борьба. — Ну нет, у меня не убежишь! — кряхтел Сэймэй. — Лучше уйди с дороги, старик! — крикнул Икэда, придавив его к полу. Сэймэй сопротивлялся отчаянно, понимая, что если префект удерет, то предупредит Дзото. Но куда же подевались солдаты и Тора? И Сэймэй решил выиграть время. — Вы, кажется, хотели все объяснить? — напомнил он Икэде. — Дурак ты, — сказал ему тот. — Я вынужден был убить Татибану, ведь он чуть не погубил нас. — Лицо его исказила зловещая улыбка. — И старость вовсе не означает мудрость; так что, похоже, тебя мне тоже придется убить. — Сорвав крышку с одного из бочонков, он запустил туда руку. На пол посыпались бобы. Вряд ли там были только бобы. Сглотнув ком в пересохшем от страха горле, Сэймэй взглянул на дверь, потом на Икэду. А тот, удовлетворенно хмыкнув, извлек из бочки меч, зловеще сверкнувший в полутьме новеньким лезвием, и пошел на Сэймэя. Старик, отчаянно озираясь, заметил на полу одну из секир. Схватил ее и даже закачался от тяжести. Он понятия не имел, как обращаться с этой длинной палкой с заостренным концом — понимал только, что ею можно ударить, или проткнуть врага с безопасного расстояния. В этом было его преимущество, поскольку меч Икэды гораздо короче. Плохо только, что палка оказалась очень тяжелой и буквально ходуном ходила в его трясущихся руках. — И что ты собрался с ней делать, старик? — усмехнулся Икэда. Сэймэй только крепче вцепился в секиру, пытаясь припомнить хоть какие-нибудь движения из тех, что делал хозяин во время своих учебных боев. Если не удастся поразить врага, то, может, хотя бы ударить или отпугнуть?.. Сжав рукоятку обеими руками, Сэймэй отскочил в сторону, поскользнулся на бобах и плюхнулся на пол. Икэда расхохотался. Сэймэй, охваченный гневом, с трудом поднялся, размахнулся изо всех сил, закачался и снова чуть не потерял равновесие. Икэда, покатываясь со смеху, согнулся пополам. Терпение Сэймэя лопнуло, и, высоко занеся секиру, он пошел в наступление. Икэда перестал хохотать и отпрянул в сторону. Он уже занес свой меч, когда чья-то фигура в дверях заслонила свет. Префект оглянулся. Сэймэй неуклюже ударил его по голове рукояткой. Икэда рухнул на пол и замер, из ноздрей его струйками потекла кровь. — Боже праведный! — воскликнули в дверях. — Или глаза меня обманывают, или это ты, Сэймэй?! Старик выпустил секиру из дрожащих рук. — Тора! — прошептал он. — Где ты был? Мне пришлось… сразить его, потому что он чуть меня не убил. — Внезапно ослабев, он опустился на бочонок. — Хозяин послал меня проверить, все ли у вас в порядке. Вас не оказалось, зато я нашел его. — Он посмотрел на недвижное тело Икэды и передернулся. — Клянусь великим Амидой, что отродясь не видывал ничего подобного! — Восторженно признался Тора — Кто бы мог подумать, что в тебе скрыты такие таланты! Поздравляю! Искренне поздравляю! — Он схватил Сэймэя в медвежьи объятия и приподнял над бочонком. — Пусти! — завопил Сэймэй, дрыгая старческими ножками. — Лучше свяжи его поскорее, иначе удерет. Тора посадил старика обратно на бочонок. — Ну ладно, можешь сообщить хозяину, что мы освободили узников. — Он подошел к Икэде и пнул его ногой. Но тот не шевелился, и Тора, нагнувшись, приложил ладонь к его горлу. — Кажись, ты убил эту злобную крысу, — распрямился он. — Ты же орудовал этой секирой как прирожденный воин. И как только тебе удавалось скрывать такие боевые таланты? Сэймэй совсем растерялся. — Он что, умер? — Старик перевел взгляд на лицо убитого, и ему сделалось дурно. — Мне нужно возвращаться, — пробормотал он и бросился к двери. На улице его вырвало. Тора вышел следом, улыбаясь и сжимая в руке меч Икэды. — Прямо не верится, — сказал он. — Они прятали мечи в бобах, а мы даже не заметили. Сэймэй содрогнулся всем телом. — Давай запрем дверь, и пошли отсюда, — взмолился он, вытирая рот рукавом. Тора захлопнул дверь и вдруг помрачнел: — Ты иди, а я помогу ребятам разобраться с этими несчастными. Сэймэй посмотрел в противоположный конец двора — несколько грязных оборванных созданий, больше походивших на ходячие скелеты, нежели на живых людей, с трудом передвигали ноги, поддерживаемые солдатами Юкинари. Некоторых даже приходилось нести на руках. — Ай-ай-ай, вот бедняги! — воскликнул он, тотчас забыв о своей недавней встрече со смертью. — Конечно, иди помоги им! И нетвердой походкой направился обратно к трибунам, испытывая тошноту при мысли, что убил человека.
* * *
Акитада подобрал полы платья и поднялся. Холодный зимний воздух приятно овевал разгоряченное лицо. Дзото на своей трибуне говорил с каким-то возбужденным монахом. Акитаде показалось, что это тот самый головорез с обрубленным ухом, что шатался по рынку в компании столь же зверского вида спутников в день их приезда. Он поймал на себе их взгляд — победоносный и насмешливый, словно физический удар. Сигнал, поданный от ворот, означал, что солдаты Юкинари готовы перекрыть все выходы Внизу личная охрана губернатора окружила трибуну. Час пробил. Теперь Акитаде предстояло действовать или же потерять свой единственный шанс. Прямо под ним у трибуны встал губернаторский гвардеец с императорским стягом. Дзото наблюдал за солдатами, явно озадаченный их поведением. По толпе пронесся гулкий ропот, а Акитада между тем терзался сомнениями, пребывая в полной нерешительности. Наконец он увидел в толпе Сэймэя. Старик посмотрел на него и кивнул. Но он все еще медлил. Тогда Юкинари поднялся со своего места и покинул трибуну. Момент настал. Над площадью повисла тишина. Акитада вынул из рукава императорский указ и поднял его высоко над головой, чтобы все могли видеть золотые печати и пурпурные бечевки, скреплявшие свиток. Тишину разорвала мерная барабанная дробь. — Приготовьтесь услышать высочайшее повеление! — прогремел над площадью голос знаменосца. Огромная толпа пала ниц. Зычным суровым голосом Акитада зачитал императорское повеление, наделяющее его высочайшими полномочиями проводить любые расследования и наказания. Потом свернул свиток и громогласно объявил: — Можете подняться! Мое расследование завершено. Преступники, ограбившие три императорских каравана и жестоко убившие их охрану, выявлены. По толпе пробежал восторженный гул. Акитада посмотрел на противоположную трибуну и вздрогнул. Кукаи по-прежнему стоял там, но Дзото исчез. Подавляя растерянность, он продолжил: — Виновники этих преступлений прячутся здесь, в монастыре. — И зачитал обвинения против Дзото и его сообщников. Потрясенная толпа внимала ему в молчании, но теперь в ней начала зреть паника. Кто-то из монахов пытался бежать, но был пойман солдатами. В нескольких местах завязались потасовки. — Тихо! — прогремел над площадью голос знаменосца. Но его никто не слушал. Подбежавший Мотосукэ встал рядом с Акитадой, лицо его было напряженным и суровым. И вот наконец Акитада увидел Юкинари и рядом с ним Тору. По сигналу капитана две шеренги солдат выступили вперед. Толпа отшатнулась и притихла, увидев кучку несчастных узников. Двое солдат несли на носилках старого настоятеля. Освобожденные пленники, грязные, оборванные, покрытые язвами, едва держались на ногах и закрывали глаза от яркого солнца. Когда они приблизились к трибуне Акитады, возле которой солдаты поставили носилки с полуживым настоятелем, толпа замерла. — Сейчас вы своими глазами видите, как Дзото обращался со старейшими священнослужителями монастыря, — обратился к собравшимся Акитада, — Как полномочный представитель его высочайшего величества, с вашей помощью и с помощью губернатора я сделаю все, чтобы справедливость вновь восторжествовала в этой провинции и в этом монастыре. Дзото, его заместитель Кукаи и все их сообщники объявляются арестованными. Тихий ропот всколыхнул толпу. У многих вместе с караванами пропали родственники. Но Кукаи, воздев к небесам руки, закричал с противоположной трибуны: — Не верьте этим врагам Будды! Они пришли разрушить истинную веру и вновь повергнуть вас в нищету! Они сговорились избавиться от нашего святейшего настоятеля! — Он повернулся, гневно тыча в сторону Акитады и Мотосукэ. — Вот они, настоящие преступники! Этот человек прибрал к рукам ваши трудовые налоги, чтобы набить ими свои сундуки и купить при императорском дворе местечко для своей дочери! А этот чиновник послан сюда из столицы, чтобы сокрыть преступные деяния богатеев под видом высочайшего повеления. Для этого он даже готов использовать больною дряхлого монаха. Так неужели вы позволите злу свершиться? Или все же встанете на защиту своей веры? Толпа дрогнула. Где-то вскрикнула женщина. Солдаты приготовились к решительным действиям, и людское море забурлило. Опешивший Акитада попытался вновь обратиться к людям с речью, но голос его не слушался. Тогда Мотосукэ крикнул: — Именем императора! Очистить площадь! Знаменосец внизу громогласным эхом повторил: — Очистить площадь! А Мотосукэ ревел во всю мощь: — Расходитесь по домам! Идите оплакивать своих сыновей и отцов, своих братьев и мужей, которых безжалостно лишили жизни Дзото и его сообщники. И предоставьте властям свершить правосудие и навести порядок в этой провинции! В какой-то момент исход всего дела висел на волоске, потом где-то жалобно заплакала женщина. За ней другие. Люди потянулись к выходу. Солдаты теснили в кучки и окружали монахов. Спрятав обратно в рукав императорский указ, Акитада устало сел. Ноги и руки его дрожали. Мотосукэ еще постоял немного, потом опустился рядом. Оба молчали. Юкинари носился в толпе, руководя своими людьми. Губернаторские гвардейцы выводили через ворота женщин и детей. Когда площадь очистилась, солдаты согнали монахов в один угол. Юкинари и его люди одного за другим арестовывали подручных Кукаи и Дзото. Но самого настоятеля и след простыл. Вскоре к ним вернулся еле живой Сэймэй. Акитада вскочил ему навстречу. — Сэймэй, ты здоров? Тот провел по лицу трясущейся рукой. — Да, господин. Я… я поймал Икэду… Мне пришлось убить его, иначе бы он предупредил настоятеля. Мотосукэ, не веря своим ушам, воскликнул: — Вы убили Икэду?! Собственными руками? — Мне пришлось, господин. Я ударил его по голове секирой. — Сэймэй содрогнулся. — Я еще никогда не убивал человека. Это оказалось до страшного легко. Да простят меня боги! Акитада обнял его за плечи. — Ты все сделал правильно. Мы благодарны тебе. Икэда был убийцей и изменником. Если бы ты не остановил его, много невинных людей погибло бы сегодня. Благодаря тебе мы пресекли опасный заговор. — Что верно, то верно, — сказал Мотосукэ, похлопывая Сэймэя по спине. — А каков смельчак! Теперь о вас в городе пойдут легенды. А я обязательно упомяну ваше имя в докладе императору. — Спасибо, господин, — смущенно пробормотал Сэймэй, растерянно моргая. — Мне это ничего не стоило.ГЛАВА 19 Молельные четки
Акитада и Мотосукэ в сопровождении небольшой, группы чиновников осмотрели все монастырские дворы и галереи, наведались на склады и заглянули в отдушину подземной темницы. Повсюду их приветствовали воины Юкинари, бдительно следившие за порядком. Юкинари и Тора поджидали их у входа в покои настоятеля. Пропустив всех вперед, Акитада задержался, чтобы спросить: — Дзото пойман? — Пока нет. — Юкинари от досады прикусил губу. — Я потерял бдительность, и никогда не прощу себе этого, ваше превосходительство. Солдаты из оцепления вокруг его трибуны отвлеклись, когда началось волнение. Во время этих потасовок никто не наблюдал за лестницей, ведущей на трибуну. — Успокойтесь. Он не мог уйти далеко. А другие новости есть? — Вы слыхали про Икэду? — спросил Тора и, когда Акитада кивнул, заулыбался. — А как вам наш старина Сэймэй? Даже глазом не моргнул, уложив его наповал! Хряснул прямо по башке! — Он громко расхохотался. — А еще мы поймали того головореза с обрубленным ухом. Метался туда-сюда по задворкам. Оказывается, он удрал тогда из храма Каннон — значит, это один из убийц Хигэкуро, Похоже, он у них из главарей и может знать, где скрывается Дзото. — Они говорили о чем-то во время церемонии, — нахмурился Акитада. — А как там старый настоятель и другие узники? Веселость вмиг покинула Тору. — Да, вот уж бедняги! Хотел бы я добраться до холеной рожи этого дьявола Дзото! Они ведь едва живые. Некоторые не видели солнечного света уже несколько лет и почти ослепли — пришлось даже вести их под руки. А другие и вовсе идти не могли. И им, считай, еще повезло. Там ведь полно могил — живые рыли их голыми руками. Старый настоятель совсем плох, даже говорить не может. Остальные чуть покрепче, но не намного. Я нашел среди них троих, которые смогут поведать свою историю. К ним подошел Мотосукэ. — Да, все это ужасно! И подумать только — ведь никто из нас ничего не знал. Акитада вздохнул. — Думаю, мы поговорим с ними позже. А что с детьми? — С очаровательными крошками Дзото? — Тора брезгливо поморщился и кивнул на здание позади себя. — Наверное, играют в покоях настоятеля. — Их родные, должно быть, тревожатся, — заметил Мотосукэ. — Поздновато спохватились, — покачал головой Акитада. — Надо было думать, прежде чем отдавать их монахам. — Видя недоумение на лице Мотосукэ, он поспешил поправиться: — Нет, я понимаю, детей отдают в монастыри, но, по-моему, в таком возрасте… лучше все-таки жить в любящей семье… — Он смущенно умолк. Его собственное детство прошло в далеко не любящей семье. Да и вообще выказывать такую откровенную предубежденность против буддизма не слишком мудро. Тора хлопнул его по спине. — Да ладно, глядите веселее! Ведь у нас же все получилось! Они разъедутся по домам, а мы скоро выпьем за такую удачу. Мотосукэ взял Акитаду под руку и отвел в сторону. — Я знаю, дорогой мой старший братец, как вы цените таланты своего слуги, но его манеры… очень уж своеобразные. Уверен, многих они приводят в недоумение. Он не знает, что такое опуститься на колени или хотя бы поклониться и должным образом обратиться к своему господину. Неужто вы никогда не указывали ему на это? Мысль позабавила Акитаду. — Сомневаюсь, что Тору можно изменить, — сказал он. — К тому же все эти условности отнимают кучу времени. В этот момент к Юкинари подбежал солдат и что-то сообщил ему. Тот повернулся к Акитаде и Мотосукэ. — Извините, что помешал, но у нас, кажется, возникли трудности с освобождением мальчиков. — Что вы имеете в виду? — Они заперты в покоях, а ключа ни у кого нет. Родители разгневаны и угрожают выломать дверь. — Заперты? — У Акитады неприятно защемило под ложечкой. — А когда последний раз кто-нибудь видел этих детей? — Не знаю, ваше превосходительство. Я велел одному из своих людей увести их туда сразу же, как только начали ловить монахов. К ним подошел Тора, и они с Акитадой переглянулись. — Силы небесные, хоть бы я ошибался! — пробормотал Акитада, чувствуя дурноту. — Пошли, Тора! Они бросились по крытой галерее в сторону личных покоев настоятеля. Там перед дверью толпилась кучка людей — они кричали, пытаясь выломать тяжелые панели. Завидев Акитаду и Тору, люди расступились, лица их были тревожны. — Мы отопрем дверь и выпустим ваших детей, но вы, пожалуйста, подождите снаружи, — обратился к ним Акитада. — Никуда я не пойду! — закричал разгневанный молодой папаша. — Мне нужен мой сын, иначе я убью любого, кто его хоть пальцем тронет! Несколько женщин заголосили в толпе. — Хорошо, — вздохнул Акитада. — Тогда оставайтесь, только соблюдайте спокойствие. Тора, сможешь открыть? Тот кивнул и вынул из пояса свою хитрую проволочку. — А ведь чуть не оставил ее дома сегодня утром, — сказал он, приступая к работе. — Думал, не пригодится при таких-то событиях. — Замок щелкнул, и дверь открылась. Взорам их предстала странная сцена. Дзото все в том же пурпурном одеянии и расшитой мантии сидел на возвышении на троне настоятеля. У его ног сбились в кучку мальчики, испуганно глядя на вошедших. На коленях у Дзото сидел самый маленький — тот, что подавал Акитаде сок во время торжества. Шею его обвивали молельные четки из розового кварца. Никто и опомниться не успел, как разгневанный папаша отпихнув Акитаду и Тору, бросился к Дзото: — Ах ты, дьявол! Я тебе покажу!.. Акитада с Торой поспешили оттащить его назад. За спиной у них толпились другие родители, и Акитада пожалел, что разрешил им остаться. — А вот это правильно, — ехидно прогнусавил настоятель-самозванец. — Я вижу, вы понимаете всю сложность положения. — Дзото туже стянул розовые четки вокруг горла ребенка, и тот испуганно вскрикнул. — Я убью его, если кто-то из вас подойдет ближе. За спиной у Торы и Акитады послышались испуганные возгласы. Молодой отец, которого они держали, начал вырываться. — Тосукэ, иди сюда! — кричал он. Один из мальчиков поднялся и бросился к нему. Обхватив отца за ноги, он заплакал: — Я хочу домой! Тогда и другие дети, все, кроме самого маленького, что сидел на коленях у Дзото, побежали к своим родителям. В этой сутолоке Дзото поднялся и, еще туже затянув четки на шее маленького заложника, отступил на несколько шагов. Акитада отпустил папашу, который подхватил на руки сына и побежал прочь. Между тем Дзото утратил былое спокойствие. Лицо его побагровело, он все крепче стягивал четки на шее мальчика. — Я убью его! — ревел он, перекрывая общий шум. — Выведи отсюда всех! — крикнул Акитада Торе. — Закрой дверь и никого не пускай! Тора поспешно вытолкал за дверь детей и родителей. В комнате остались только трое — Дзото, ребенок и Акитада. Настоятель вернулся на свой трон. — Отпустите мальчика! — сказал Акитада, но после этих слов детское личико только еще больше побагровело. — Он ни в чем не виноват и не поможет вам выпутаться из сложившегося положения. Дзото ехидно прищурился. — Ага! И тогда вы меня арестуете? — Да. Вам придется предстать перед судом к выслушать обвинения. — Я не собираюсь помогать вам в этом. — Дзото убрал руку с шеи ребенка, и тот начал жадно хватать ртом воздух, потом захныкал и вдруг издал такой пронзительный вопль, что у Акитады волосы на голове зашевелились. — А ну тихо, гаденыш! — Свободной рукой Дзото дал мальчонке затрещину. Тот вскрикнул и испуганно затих. — Вы ведете себя хуже зверя! — крикнул Акитада, сжимая кулаки. — Нет. Просто поставил на весы наши жизни и понял, что моя перевешивает. Что он может предложить человечеству в свои жалкие семь лет? Скоро он утратит даже свою смазливость, которая делает его привлекательным сейчас. — Он повернул к себе лицо мальчика. — Кожа загрубеет, и эти румяные щечки уже не будут такими пухленькими. Алые губки утратят притягательность, и звонкий голосок охрипнет. Кому он тогда будет нужен? Зато мне еще есть что сказать этому народу. Я еще могу оставить на земле свой след. Если бы вы так грубо не вмешались, я преспокойно шел бы по намеченному пути и стал духовным вождем и наставником целого народа. — Его величество не имеет дел с монахами, которые бряцают оружием, грабят его казну и убивают подданных. — Я уже сказал, что из-за вас оказался в таком положении. Вы вмешались в мои дела. Я пожертвовал всего лишь несколькими носильщиками и солдатами — незначительные людские потери в делах такого размаха. Но тут появились вы, и Татибана заартачился. Но даже тогда все могло обойтись, и женщины не стали бы нам помехой, если бы Икэда не проявил такого легкомыслия, убив Татибану. — Дзото перевел дух. — Но не все еще потеряно. У меня много друзей. Конечно, на некоторое время я покину Кацузу, а после нескольких лет скитаний и размышлений… кто знает?.. — Не смешите меня. Кто вам позволит уйти? Лицо Дзото расплылось в гадливой улыбке. — Вы, как я понял, питаете большую любовь к детишкам. Вот взять хоть бы этого мальчонку. Пока я прятался здесь вместе с ними, он рассказал, как нежно вы ему улыбались. И он, похоже, до невозможного гордится этим обстоятельством. Так ведь, Тацуо? Ты ведь любишь мужчин? Мальчик хватал ртом воздух. В глазенках его стояли слезы, когда он прошептал: — Пожалуйста, господин, заберите меня отсюда! Я буду хорошим мальчиком, честное слово! — Отпустите его! — хрипло сказал Акитада. — Я сделаю для вас все, что смогу. Дзото тихо рассмеялся. — Нет-нет. Не что сможете, а что я прикажу. Вы выпустите меня отсюда и дадите охрану, которая будет сопровождать меня, пока я не покину провинцию. — Этого я сделать не могу. — Тогда он умрет. — Четки резко стянулись на горле, и ротик мальчика открылся. Ручонки беспомощно хватали воздух. — Нет! — закричал Акитада, шагнул вперед и остановился, понимая, что все равно не успеет. Дзото слегка ослабил тиски. Ребенок жадно глотал воздух, цепляясь за четки. — Зачем вы продлеваете его мучения? — усмехнулся настоятель. Акитада лихорадочно пытался что-нибудь придумать, но так и не нашел выхода. — Ладно. Я согласен. Отпустите его, — сдался он. — Как бы не так! Разве я похож на дурака? Мы с ним будем неразлучны, пока я не окажусь в безопасности. — Отпустите ребенка. Он нездоров. Я останусь вместо него у вас заложником. Дзото покачал головой. Акитада беспомощно повернулся к двери, чтобы отдать необходимые распоряжения. Он старался не думать сейчас о предстоящем отчете столичным властям и надеялся только, что позже найдутся способы спасти ребенка. Дверь распахнулась сама. На пороге стояла перепуганная молодая женщина с бледным лицом и обезумевшими от горя глазами. Заглядывая в комнату, она закричала: — Тацуо! Мальчик заплакал: — Мама! Дальнейшее произошло в считанные мгновения. Женщина бросилась к ребенку. Дзото вскочил, опрокинув кресло, и закричал: — Не подходите! Акитада пытался остановить женщину, схватил ее за рукав, но тот только затрещал по швам. — Не подходи, иначе он умрет! — отскочил к стене Дзото. Но мать словно не слышала этих слов. Когда руки ее коснулись тельца ребенка, Акитада увидел, как Дзото резким движением стянул четки. Послышался треск, и розовые бусины градом посыпались на соломенную циновку. Ребенок рухнул на руки матери. Она стояла, прижимая его к себе и шепча какие-то нежные слова. Огромное облегчение волной накрыло Акитаду. Облегчение и благодарность судьбе за то, что спасла жизнь ребенка, разорвав дьявольские четки. И в этот миг он увидел, как неестественно откинулась назад голова мальчика, его безжизненные глаза, устремленные кверху. Ослепленный яростью, он бросился на Дзото и вцепился ему в глотку. Настоятель хрипел и задыхался. Глаза их встретились, и Акитада понял, что не может сейчас убить этого человека, и увидел, что Дзото понял это тоже. — Зачем?! — вскричал Акитада, тряся лженастоятеля в беспомощном гневе. — Зачем? Ведь я бы отпустил тебя! Дзото молчал, только смотрел на него в упор. Преисполненный отвращения и горечи, Акитада оттолкнул его и пошел прочь. А мать все стояла, качая на руках свое дитя, тихонько напевая ему что-то и прижимая к груди его головку. Потом брови ее озабоченно нахмурились. — Тацуо! Не надо сейчас засыпать, мой маленький воробышек! — нежно проворковала она. — Поговори же со своей мамой! «Что я наделал!» — думал Акитада, бросаясь к двери. Снаружи тревожно топтались несколько человек — Тора, Мотосукэ, какие-то чиновники и военные. Первоначальное облегчение исчезло с их лиц, едва они увидели Акитаду. — Он убил мальчика, — хрипло сказал тот. Тора отреагировал первым. Выхватив меч из рук какого-то солдата, он кинулся в комнату, бросив через плечо: — Готовьте кандалы! Несчастная мать вдруг издала пронзительный крик — короткий и отчаянный, Акитада не смог бы забыть его никогда. Положив мертвое дитя на пол, она, шатаясь, направилась к Торе и Дзото. На полпути ноги ее подкосились, и Тора бросился к ней, чтобы поддержать. Но ему не хватило проворства. Вынырнув из-под руки, она выхватила его меч и высоко занесла, держа обеими руками. Дзото завизжал в страхе, пытаясь прикрыться руками, когда мать Тацуо обрушила на него меч. Клинок, соскользнув с головы, рассек ему плечо. Кровь брызнула в разные стороны. Дзото пронзительно визжал. Во второй раз она не промахнулась и вонзила меч глубоко в грудь. Дзото выпучил глаза, в горле у него забулькало, и тело, облаченное в пурпурный шелк, содрогнувшись, рухнуло на пол. Из открытого рта, пузырясь, хлынула кровь, глаза остекленели. Тора не успел остановить несчастную женщину, когда та, вырвав смертоносный клинок из груди Дзото, замахнулась, чтобы вновь пронзить мертвое тело.Тора нашел Акитаду в храме Будды — тот стоял, отрешенно глядя на гладкое золоченое лицо божества. — Господин! Акитада не ответил. Тора вздохнул, переминаясь с ноги на ногу. — С вами хочет поговорить лейтенант Накано. — Скажи ему, чтобы ушел. — Накано опознал одного из монахов. — Тора, оставь меня одного! Тора колебался, потом выпалил: — Монах, которого он опознал, раньше был в гарнизоне лейтенантом. Некий Оно. Он руководил охраной двух караванов. После истории с первым сказал, что чудом спас свою жизнь, когда на них якобы напали грабители. Во второй раз он не вернулся, и его сочли погибшим. А теперь вот оказалось, что он состоял в шайке Дзото. Акитада повернулся. Тора смотрел на него с беспокойством. — Сообщи губернатору, — бесцветным голосом проговорил Акитада. — Только ради Бога, ради всего святого, оставь меня одного! Он вернулся к своим раздумьям перед статуей. Удаляющиеся шаги Торы смолкли, и гробовая тишина повисла в полумраке пустынного храма. Губы у этого Будды были мягкие, полные, красиво очерченные, как у ребенка. Но этот Будда не улыбался. Его полуприкрытые глаза смотрели вроде бы на Акитаду, но была в этом взгляде какая-то неизъяснимая отчужденность. Благодаря мерцающему пламени свечей и масляных ламп казалось, будто Будда дышит. — Амида! — обратился к нему Акитада. — Но почему же дитя? Зачем губить семя, которое даст цветы и плоды? Ответа не было. Одни люди верили, что Будда повсюду, заключенный в каждом существе, даже в человеке. Другие же часы напролет твердили его имя в надежде, что он явит им свой лик или уготовит местечко в раю. Погибший малыш молился целыми днями. Попал ли он теперь в рай? И попал ли туда Дзото, который тоже молился? И что тогда представляет собой этот мир, этот ад, где люди так мучительно борются и так мучительно любят, моля равнодушных богов о лучшей доле? Прилетевший откуда-то мотылек заметался в пламени свечи перед образом и мгновенно погиб, обронив обугленные крылышки и оставив после себя только мимолетный дымок. Теперь эта несчастная женщина предстанет перед судом за убийство Дзото. Возможно, сраженная горем, она даже не видела, как пришел ее муж, как смотрел он, беззвучно плача, на мертвое тело сына. Он обнял жену за плечи — жест, полный любви и отчаяния. Шептал ей какие-то нежные слова, умоляя подумать о других детях, о нем самом и об их стареньких родителях. Но она, словно окаменев, молчала, даже когда солдаты уводили ее. Женщины способны на ярость и живут по собственным правилам, непостижимым для их мужей. Ведь мужчины обычно следуют самым простым законам, руководствуясь честолюбием и чувством долга — как они его понимают, — а силу свою считают чем-то естественным, данным им по праву рождения. И не особенно горюют, если женщинам и детям приходится страдать от их неудач и поражений. Акитада оторвал взгляд от сгоревшего мотылька и вновь посмотрел в золотое лицо божества. Будду всегда изображали в мужском обличье. С большими ушами — чтобы он мог слышать молитвы — и выпуклым лбом — признаком всеведения. Возможно, Амида и впрямь читает его мысли. От внезапного движения воздуха пламя свечи задрожало, и тень легла на золотое лицо. На мгновение Акитаде показалось, что Будда заглянул ему в глаза иедва заметно кивнул. — Господин! — В зал на цыпочках снова зашел Тора. — Паланкин ждет. Пора возвращаться. Тяжко вздохнув, Акитада отвернулся от статуи. — Да, — сказал он. — Нужно возвращаться. Я должен защитить эту несчастную женщину. Скажем в суде, что Дзото напал на меня и она выхватила у тебя меч, чтобы спасти мою жизнь. Поначалу у Торы отвисла челюсть, но потом он быстро кивнул. По дороге в город, сидя в паланкине, Мотосукэ постепенно приходил в себя, и вскоре от его горестного, скорбного вида не осталось и следа. Беспокойно наблюдая за бледным мрачным лицом Акитады, он заговорил: — Я понимаю, что вы теперь должны чувствовать. Несчастный малыш… Ведь вы же не могли этого предвидеть. Сейчас нужно думать о том хорошем, что станет результатом сегодняшнего дня. И вы должны помнить о будущем. Вы блестяще провели расследование. Я обязательно особо отмечу это перед его величеством во время высочайшей аудиенции. Я отчетливо вижу, как далеко вы продвинетесь в служении нашей стране. Акитада приподнял шторку. Они въезжали в город. Люди выстроились по обочинам, почтительно склоняя головы перед их паланкином. Вот что значит власть! Мотосукэ, по-прежнему с тревогой поглядывая на него, продолжал бодриться. — По правде сказать, нам на самом деле невероятно повезло. Злобные женщины повесились, Икэду отправил на тот свет ваш неподражаемый Сэймэй, а с Дзото разделалась несчастная мать. Кто знает, сколько еще неприятностей могли доставить нам все эти убийцы, если бы были нынче живы. Акитада промолчал. Он нащупал в поясе крохотные гладкие шарики — прохладные камешки розового кварца. Молельные четки.
ГЛАВА 20 Cуд
На следующий день они собрались в резиденции губернатора для неофициального предварительного слушания. В приемной на возвышении сидели Акитада, Мотосукэ и местные сановники. Среди них были начальник полиции провинции, старший судья, градоначальник и глава городского собрания. Сэймэй и двое мелких чиновников сидели ниже за маленькими столиками, приготовив бумагу и писчие принадлежности. Суд собирался выслушать свидетелей по делу монахов-изменников. Акитада не спал, даже не прилег. Он вообще сомневался, что когда-нибудь обретет покой. Осунувшийся, с покрасневшими глазами, он механически зачитал обвинения против Дзото и его сообщников и попросил судью приступить к слушаниям. Судья, дородный мужчина с густой черной бородой, пришел в замешательство. — Ваше превосходительство, должно быть, осведомлен, что настоятель имеет много влиятельных друзей в Кацузе. К тому же, насколько мне известно, буддийское духовенство в большом почете в столице. Некоторые члены императорской семьи сами являются настоятелями. Кто может поручиться, что нас не призовут к строгому ответу за это дело? — Дзото мертв, — сказал Акитада. — И если вы наберетесь терпения, то ознакомитесь со всеми свидетельствами против него и его сообщников. Их преступления имели такой характер и размах, что никто в столице не сможет замолчать эти злые деяния, даже верхушка буддийского духовенства. Судья нервно прокашлялся. — Надеюсь, ваше превосходительство не истолкует это неверно, но у нас огромное число заключенных, а мои дела, назначенные к слушанию по двум убийствам, требуют немедленного рассмотрения. Может, нам следовало бы послать в столицу за подкреплением — пусть пришлют еще судей и судебных исполнителей? Акитада попытался взглянуть на этого человека с пониманием и сочувствием. Этот судья только что получил очень запутанное и политически опасное дело и боялся бюрократических осложнений не меньше, чем тяжелой работы. Но Акитада ничем не мог ему помочь и не в силах был освободить от этих страхов. — У нас мало времени, — сказал он. — Вам помогут люди губернатора, к тому же здесь есть еще судьи. Большая часть бумажной работы уже завершена, и все необходимые свидетели будут в вашем распоряжении. Кроме того, большинству преступников предъявляются схожие обвинения. Судья молча кивнул. В зал вошли трое монахов, вызвав своим появлением ропот сочувствия. Двое из них выглядели совсем больными — худые ноги дрожали от слабости, глаза слезились и беспомощно моргали от яркого света. Их, конечно, отмыли, побрили и переодели в чистую одежду, но они со смущением и робостью поглядывали на сановников, восседающих на возвышении, В одном из них Акитада сразу признал старого монаха, чьи мучения видел в ночь потайной вылазки в монастырь. Он выглядел немного лучше остальных, но следы побоев по-прежнему виднелись на его лице. Мотосукэ сочувственно шмыгнул носом и вытер глаза рукавом. — Пожалуйста, чувствуйте себя свободно и не спешите — у нас есть время, — обратился Акитада к монахам, когда те опустились на колени. — Насколько мы понимаем, вы пришли сюда предъявить обвинения монаху по имени Дзото. Старик с монастырского склада заговорил первым: — Позвольте молвить слово смиренному монаху по имени Синсэй. Мы преисполнены великой благодарности сановным господам за освобождение из подземной темницы, в которой нас заживо похоронило это чудовище. В монастыре я служил помощником настоятеля Гэннина. Дзото в то время был там простым монахом, только недавно прибывшим. Когда он захватил место настоятеля, я был в другом монастыре, но мой друг Тосаи послал мне весточку с предостережением. Я вернулся, выдав себя за повара. Надеялся, что хоть как-то смогу помочь его преподобию Гэннину и старшим монахам, которых уже тогда заключили в подземную темницу. Старик тяжко вздохнул и продолжил: — Увы, мне мало что удавалось сделать для них — умыкнуть немного еды да лекарственных снадобий. Уж больно пристально следили за мной эти дьяволы. Его преподобие уже тогда был болен. Конечно, братья знали, кто я такой, но преданно хранили мой секрет, хотя и подчинялись Дзото. Но как-то ночью я не сумел сдержать гнев и в запальчивости крикнул этим демонам, кто они такие. Тогда и меня бросили заживо гнить в этой могиле. — Но как же Дзото удалось занять место настоятеля? — спросил Мотосукэ. Старик посмотрел на него печально. — Мы сами позволили этому случиться, ваше превосходительство. Дзото прибыл в монастырь и буквально поразил нас своими манерами, талантами, а пуще всего знаниями. Особенное впечатление он произвел на помощника нашего настоятеля Кукаи. По его совету настоятель Гэннин назначил Дзото читать проповеди. Народ повалил в наш монастырь послушать его, а мы, обрадовавшись, уговорили настоятеля назначить его помощником Кукаи. А потом я уехал. — Надеюсь, его преподобие Гэннин поправится и объяснит нам более подробно, как Дзото захватил власть, — сказал Акитада. — А пока не могли бы вы поведать нам о преступлениях, совершенных этим человеком и его подручными? — О преступлениях?! — вскричал Синсэй. — Да они нарушили все законы Будды! Они топтали его учение, растлевали души верующих и детей, отданных на их попечение, развращая своей грязной похотью. Вас интересуют конкретные преступления? Тогда предъявите им обвинения в краже и хищениях, потому что они присвоили себе сокровища монастыря; обвините их в похищении людей и насилии, потому что они свергли нашего настоятеля и заключили в темницу его и преданных ему монахов, а также в убийстве, потому что девять из нас умерли от голода и болезней, погребенные заживо в страшной подземной темнице. А один из нас, Кукаи, предпочел вместе с ними творить бесчинства. Среди сановников на помосте пробежал ропот. Выждав немного, Акитада поднял руку, призывая всех к тишине. — Господа, вы услышали сейчас об отвратительных преступлениях, которые заслуживают самой строгой кары, но скоро вы увидите, что не только в этом виновен монах Дзото. — Да, давайте перейдем к вопросу об ограблении караванов, — предложил Мотосукэ. Но Синсэй и его товарищи по несчастью ничего об этом не знали, поэтому Акитада отпустил их. Дверь снова открылась, и Тора внес в зал ящик, обитый кожей. — Ну да! — воскликнул губернатор. — Вот он, один из наших ящиков! И клеймо там есть. — Он показал выжженную отметину и объяснил, как она туда попала. — Расскажи нам. Тора, где ты нашел это, — попросил Акитада. — В одном из монастырских складов. В том же самом, где они прятали свои секиры. А в бочонках с бобами хранились мечи. Там был целый склад оружия. Разумеется, мечи были запрятаны не во всех бочонках с бобами и не только в них, и Акитаду смущало, что он проглядел их. Впрочем, он успел наделать еще более непростительных ошибок. Сановники разглядывали ящик и тихо переговаривались, потом судья спросил: — А что же случилось с золотом? И как монахам удалось завладеть им? — Золото было растрачено на храмовое строительство и другие нужды, — объяснил Акитада. — А добыли его грабежом. У нас есть очевидец нападения на последний караван. Сэймэй! Сэймэй развернул свиток Отоми и повесил его на стену. Потом подошел к двери и пригласил Аяко и ее сестру. Одетые в свои лучшие платья, девушки опустились на колени перед судейским помостом. Акитада не мог без боли смотреть на Аяко, на ее худенькую фигурку и изможденное бледное лицо. Он крепко сцепил руки, обратившись к судьям: — Это дочери Хигэкуро, учителя боевых искусств, хорошо известного в городе. Младшую зовут Отоми. Она художница, и свиток, что вы видите перед собой, ее работа. К сожалению, девушка глухонемая, поэтому ее сестра Аяко растолкует нам ее показания. И он приступил к допросу свидетельниц. Сестры признали, что на свитке изображена сцена, очевидицей которой Отоми стала, когда находилась в одном из монастырей в провинции Синано. Общаясь с сестрой на языке жестов, Аяко поведала судьям о нападении на караван и о происшедшей там кровавой резне, и ее рассказ потряс всех до глубины души. Пошептавшись с рядом сидящими, старший судья заметил: — Но это же означает, что семьи пострадавших потребуют справедливости. — И должны получить ее, судья, — устало ответил ему Акитада. — Ваш долг и заключается в том, чтобы обеспечить ее. — Вы неверно истолковали мои слова, ваше превосходительство, — возразил судья. — Я имел в виду гражданские волнения. Бунты, мятежи… нападения на гражданскую власть, которая попытается защитить заключенных. — Ваши страхи необоснованны, — сухо отрезал Акитада. — И потом, в вашем распоряжении имеется целый гарнизон. Капитан Юкинари уже продемонстрировал свои возможности. Судья, покраснев, приумолк. Акитада пребывал в растерянности. Мало того что он не сдержал раздражения, ему еще не давали покоя чувства к Аяко. Когда перешли к убийству Хигэкуро и погоне за девушками, он ощутил, что его рассказ становится все более сбивчивым, и поспешил поскорее закончить. Аяко сохраняла спокойствие и отвечала на все вопросы невозмутимо, но старалась не смотреть на него. Однако самое трудное ждало впереди. Ему предстояло доказать суду всю надежность свидетельских показаний этих двух молодых женщин, но он понимал, как жестоко и опасно подвергнуть подобному испытанию Отоми, которая уже сейчас была бледнее полотна. — А теперь я хочу, чтобы вы опознали, если сможете, одного человека, — сказал он сестрам. Аяко согласилась без колебаний, поразив его невероятным присутствием духа. С самого начала она держалась с благородством и мужеством, коих трудно было ожидать от женщины простого сословия. — В ту ночь, когда вы с сестрой подверглись нападению, одному из головорезов удалось сбежать, — продолжил Акитада. — Он находится под арестом и сейчас будет приведен сюда. Глаза Аяко расширились всего на мгновение. — Если у него нет части уха, то Отоми опознает его как монаха, руководившего нападением на караван. — Она подошла к свитку на стене и указала на фигуру сидящего монаха. — Если вы хорошенько присмотритесь, то увидите на рисунке, что ухо у него покалечено. Так Аяко облегчила Акитаде задачу. С благодарностью в голосе он сказал: — Надеюсь, она опознает его, лишь бы это не стало для нее последней каплей. — Моя сестра выполнит свой долг, — сухо ответила Аяко. Двое солдат втащили в зал верзилу в окровавленных монашеских одеждах и швырнули на пол перед судейским помостом. Тот медленно поднялся на мускулистых руках и встал на колени. — Повернись! — приказал Акитада. Когда арестованный повернулся, из немого горла Отоми вырвался сдавленный стон. Дрожащим пальчиком она показала сначала на арестованного, потом на свиток и потеряла сознание. Успевшая подхватить ее Аяко произнесла: — Отоми опознала в нем человека, который был на корабле и руководил нападением на караван. — И склонилась над сестрой, пытаясь привести ее в чувство. Арестованный вскочил и закричал: — Я не слышал, чтобы она это сказала! — Опустись на колени и назови свое имя! — приказал ему Акитада. — Даиси! — хрипло изрыгнул арестованный. — Только вам-то какое дело? Вы не имеете права бросать в тюрьмы учеников святейшего Дзото! Один из солдат швырнул его на пол и достал из-за пояса кожаный хлыст, с надеждой глядя на Акитаду. — И ты, и твой Дзото стали членами этого братства незаконно, — обратился Акитада к арестованному. — Я хочу знать твое настоящее имя. — Даиси, — с откровенным вызовом повторил арестованный. Солдат занес над ним хлыст. — Ладно. Сейчас это уже не важно, — остановил его Акитада. — Ты и твои дружки арестованы за государственную измену и убийство. В самое ближайшее время вас подвергнут настоящему допросу, который продлится до тех пор, пока каждый из вас полностью не признается. Думаю, ты отлично знаешь, как это обычно происходит. — Ничего вы мне не сделаете! — В словах этих прозвучало прежнее упорство, но лицо арестованного покрылось бисеринками нота. — Сам ты, возможно, и выдержишь продолжительную порку, но поверь мне, твои дружки-заговорщики не станут долго терпеть и переложат всю вину на тебя. Их признания совпадут с другими уликами и свидетельствами — например, картиной, написанной этой молодой женщиной, которая видела ваше нападение на караван. Посмотри на эту картину повнимательней. У сидящего на палубе человека недостает части уха. Арестованный повернул голову и увидел на стене свиток. Рука его потянулась к правому уху — на месте отрубленной мочки виднелся уродливый красный шрам. Такой поворот событий застал его врасплох, но он продолжал упорствовать: — Все это лживая подтасовка. Не было ее там. А на картине изображен морской дракон, нагнавший бурю. Не было там никакой бури… — И поспешно поправился: —…в такое-то время года. Мотосукэ не сдержал усмешки. — Нет, вы слыхали?! Он ведет себя будто кошка — изо рта торчит рыбий хвост, а она притворяется невинной. Акитада продолжил: — Помимо нападения на императорский караван вы обвиняетесь также в том, что с девятью другими убийцами лишили жизни Хигэкуро и попытались убить его дочерей. — Ты помнишь меня, ублюдок? — выкрикнул со своего места Тора. — Мы видели тебя в саду у храма и поймали в ту ночь двух мерзавцев из твоей шайки. — Да, он был там. Я тоже его видела, — звонко проговорила Аяко. — Тебе нужны еще доказательства? — спросил Акитада. Глаза лжемонаха отчаянно бегали, как у загнанного в угол зверя. Отыскав глазами Отоми, он вырвался из рук державших его стражников и бросился к ней. Аяко, стоя на коленях, все еще обнимала рыдающую сестру, когда обезумевший от ярости негодяй, изрытая проклятия и гремя цепями, метнулся к ним, пытаясь дотянуться своими ручищами. Тора не раздумывая схватил стоявший перед Сэймэем столик, метнул через весь зал и угодил монаху между ног. Тот упал, сокрушив столик своим телом. Запоздало спохватившиеся стражники навалились на него. Сэймэй громко выругался — впервые в своей жизни. Не веря собственным ушам, Акитада смотрел на своего почтенного слугу, а тот, так и оставшись с кисточкой в руке, весь забрызганный тушью, сердито оглядывай рассыпавшиеся бумаги. Потом старик спохватился и виновато посмотрел на Акитаду: — Э-э… Хм… А нет ли другого столика? То есть если вы, господин, конечно, намерены продолжать этот… э-э… не совсем обычный допрос. — Так, ловко свалив всю вину на Акитаду, он сердито запыхтел и принялся вытирать с лица тушь листком бумаги. — Не переживай. Мы уже закончили, — сказал Акитада и, обращаясь к солдатам, успевшим поставить монаха на колени, приказал: — Уведите его! Аяко помогла сестре подняться и поклонилась в сторону судейского помоста: — Если мы вам больше не нужны, мы уйдем. Моя сестра очень слаба. Акитада растерялся, но Мотосукэ пришел ему на помощь: — Вы обе сослужили великую службу этой провинции и всей стране. Мы никогда не забудем вашего подвига и навсегда останемся перед вами в долгу. Аяко учтиво склонила голову. — Благодарю вас, ваше превосходительство, но в этих словах нет нужды. Наша семья всегда почитала за честь выполнять свой долг перед страной. — И, больше не взглянув на Акитаду, повела сестру к выходу. Тот сидел, потерянный в своем безмолвном горе. Мотосукэ, прочистив горло, громко спросил: — Ну так что? У нас есть что-нибудь еще? — Нет. Это все.ГЛАВА 21 Снежинки
Свинцовые тучи нависали над губернаторской резиденцией. Снежные вихри играли с глиняными статуями драконов, стороживших вход в губернаторские покои, и пытались закружить Акитаду, пробиравшегося между множеством повозок и носильщиков. Во дворе дома Мотосукэ грузили добро, которому предстояло отбыть вместе с хозяином в столицу. Выйдя за ворота, Акитада свернул налево и направился в сторону префектуры. Кутаясь в поднятый воротник, он с грустью думал, каким далеким оказалось это его великое приключение от тех надежд, которые он на него возлагал. Всего несколько недель назад он рвался сюда, мечтал встретиться со здешними людьми, получше узнать жизнь в провинции и многого достигнуть. Все это, конечно, произошло, но какой ценой! Ценой человеческих жизней! Порученное ему важное государственное задание не принесло ни удовольствия, ни удовлетворения — одно лишь расстройство. Здесь он потерял бесценное сокровище — веру в себя. Осталось только чувство долга, привитое ему родителями и учителями. Эти обязательства перед государством, императором и семьей вытеснили все остальные желания и страсти — вот и все, что ему теперь оставалось. Мрачная перспектива. Это самое чувство долга подстегивало его, когда в последний свой день пребывания здесь он выбрался в город. Первой его целью была префектура. Она занимала совсем мало места по сравнению с губернаторской резиденцией — всего лишь одно скромное административное здание, тюрьма и казармы для полицейских. Акинобу он застал сидящим за столом над стопкой документов. Новый префект встретил его усталой улыбкой. — Прошу прощения, ваше превосходительство, что не могу предложить вам чаю, — сказал он. — Боюсь, такие удовольствия нам не по средствам. Но, может быть, чашку вина? — Нет, благодарю вас. Я уже пил у губернатора его великолепный чай. К тому же я и сам не очень-то привык ко всякой роскоши. Вот, пришел попрощаться и поздравить вас с назначением на должность префекта. Акинобу поморщился. — По правде сказать, я всего лишь руководящий чиновник и моя работа здесь почти не отличается от той, что я выполнял у губернатора. — И он кивнул на горы бумаг на своем столе. — Ну, это, конечно, явление временное, — попытался утешить его Акитада и вздохнул. — Мне кажется, что я не принес сюда ничего, кроме неприятностей. — Нет, ваше превосходительство. Наши неприятности сами нашли вас. Мы очень благодарны вам за помощь. Я обязательно наведаюсь к вам с прощальным официальным визитом перед завтрашним отъездом. — Пожалуйста, зовите меня по имени. И визитов официальных не нужно. Я хочу, чтобы вы знали, как я благодарен вам за помощь. Она была поистине неоценима. — Улыбаясь друг другу, они раскланялись. — Но у меня был еще один повод прийти. Я хочу поговорить с арестантом по прозвищу Шрам. Акинобу удивленно поднял брови. — Он как-то связан с делом об ограблении караванов? — Нет. Дело совершенно другое. Он сидит у вас за убийство уличной женщины Жасмин. Но я подозреваю, что он убил еще двух женщин. — Здесь? Но ведь он появился в городе только пятого числа этого месяца. — Были убиты еще две женщины — в столице и в Фудзисаве. — Но… — Акинобу помедлил, но все же спросил: — Простите, но почему вы только теперь решили поделиться этими сведениями? — Я сам не знал до сегодняшнего утра. Или просто не понял, что знал. Пока я только домысливаю детали и хочу поговорить с этим человеком, чтобы утвердиться в своих подозрениях. — Боюсь, вы просто не представляете, что за фрукт этот Шрам. Он упорно отвергает все обвинения против него. В убийстве этой женщины, Жасмин, он обвиняет своего подельника, какого-то полоумного дурачка. — Да, тут он почти обвел меня вокруг пальца, — кивнул Акитада. — Но, сопоставив детали убийства уличной женщины в Фудзисаве и мотивы убийства Жасмин, я понял, что ее убил именно Шрам. В тот злополучный день она сказала ему, что хочет уйти к другому мужчине. Тогда он перерезал ей горло и отдал ее тело на растерзание своему полоумному дружку, который хоть и пользуется дурной славой, но эту женщину не убивал. — Примерно так я и предполагал, — сказал Акинобу. — А в каких еще убийствах вы подозреваете Шрама? — Я считаю, что в ночь праздника Хризантем он убил молодую знатную женщину в Хэйан-Ке, позарившись на ее украшения. — Акитада достал из пояса обломок синенького цветка и положил его на стол перед Акинобу. — Вот кусочек от этих украшений. Жасмин продала его одному местному лоточнику, а тот продал мне в день моего приезда. — Какая необычная вещь! — Склонившись над цветком, Акинобу внимательно рассмотрел его. — Я всегда думал, что такие украшения носят только особы из императорской семьи. Акитада молча забрал цветок, и Акинобу развернул один из свитков на столе. — Он покинул Хэйан-Ке десятого числа месяца желтеющей листвы и два месяца болтался к востоку от столицы в окрестностях дороги Токайдо. Акитада кивнул. — Сроки совпадают. По-видимому, он бежал из столицы сразу после убийства. В начале этого месяца он уже был в Фудзисаве. Там тоже нашли уличную женщину с перерезанным горлом. Как раз тогда мы проезжали через Фудзисаву и моего слугу Тору ошибочно арестовали, потому что у него было избитое и порезанное лицо. — Ай-ай-ай! — оживился Акинобу. — Стало быть, там были и свидетели? — Да. В обоих случаях. В Фудзисаве убийцу видела еще одна уличная женщина. В столице за ним случайно подглядел нищий бродяга. Оба свидетеля описывали убийцу как человека с ужасно исполосованным лицом. — Да, по-видимому, вы правы. — Акинобу поднялся. — Только позвольте вас предупредить — Шрама допрашивали с пристрастием, но он так ни в чем и не признался, отверг все обвинения. Акитада хорошо понимал значение слова «с пристрастием». Этот человек перенес настоящие пытки, которые редко не давали положительных результатов. Они шли через двор к зданию тюрьмы. Крыши уже припорошило снегом, на земле чернели следы. В промозглой привратницкой сидел стражник, грея руки над жаровней. По приказу Акинобу он достал связку ключей и отпер тяжелую дверь. За ней тянулся узкий коридор, освещенный мерцающим пламенем масляных светильников на стенах. По обе стороны коридора зияли черными проемами зарешеченные темницы, а впереди виднелся огонь, похожий на пламя очага. По мере приближения Акитада увидел, что это была всего лишь крохотная комнатенка с выложенной камнями ямой посредине, в которой полыхал огромный костер. Его черный дым через дыру в потолке уходил в серо-стальное небо. Закопченные балки, грязные, заляпанные кровью стены, спертый воздух, пронизанный жаром и дымом, — все это напоминало мрачные изображения ада, которые в буддийских храмах служили для грешников напоминанием о предстоящих муках. За решетками двух камер замаячили головы — чья-то одутловатая рыхлая рожа и другая, похожая на носатую хищную птицу. Стражник отыскал на связке еще один ключ и отпер третью камеру. — А ну-ка вылезай, паршивец! — рявкнул он. — У нас посетители. Из глубины темницы, гремя ручными и ножными оковами, показалась человеческая фигура. Такое лицо можно было увидеть только в самом жутком ночном кошмаре. Акитада, хоть и подготовленный описаниями Торы к встрече с неким страшилищем, от неожиданности отступил назад. Арестант, заметив это, зловеще усмехнулся. Мерцающий свет костра лишал его лицо всего человеческого — багровые выпуклые шрамы искажали черты, придавая им нелепо-уродливый вид. Налитые кровью глаза возбужденно горели, распухший запекшийся рот щерился в жестокой ухмылке, обнажая два ряда желтых зубов, скорее похожих на звериные клыки. Здоровенный, широкоплечий, он стоял перед ними, всем своим видом выказывая презрение, насмешливо скалясь, — сам дьявол в человеческом обличье. Акитада молча смотрел на него, мысленно сопоставляя наружность убийцы Жасмин с образом уродливого демона из истории, рассказанной Крысой. То убийство произошло почти три месяца назад в другом городе, но именно здесь и сейчас эти три преступления странным образом воссоединились в единую картину благодаря неслыханной цепочке совпадений. Несмотря на жар костра, Акитада содрогнулся, сжимая в руке крохотный кусочек цветка. Как знать, какими странными и причудливыми способами духи убиенных жертв находят пути к отмщению? Синий цветок явился сюда следом за убийцей, и свидетель убийства проделал тот же путь, и Жасмин, последняя жертва изувера, умудрилась избавиться от цветка так, что он в конечном счете попал к единственному человеку, способному раскрыть всю цепочку. Но понять это Акитаде удалось не сразу, а лишь по мере того как соединялись отдельные звенья. Он видел во сне цветущий вьюнок, из которого сочилась кровь. Получил из дома письмо, где сообщалось об исчезновении госпожи Асагао, фаворитки императора. Это имя означало «вьюнок». И была еще одна весть — друг Акитады, красавец и женолюб Тасуку, внезапно объявил о своем отказе от мирской жизни и постригся в монахи. О многочисленных любовных романах Тасуку с придворными дамами в столице ходили слухи. Возможно, по возвращении домой Акитада узнает всю правду о случившемся или не узнает ее никогда. Акинобу коснулся его рукава. — Вы хорошо себя чувствуете, ваше превосходительство? Акитада кивнул и заставил себя приступить к допросу. — Как тебя зовут и откуда ты родом? Арестант поклонился. — Зовут меня Року — это сокращенно от Хироку. А родом я из семьи Сано, достопочтенный господин. — Голос его звучал на удивление учтиво. — Вы не обращайте внимания на мой вид — это собаки-полицейские по дури своей приняли меня за какого-то гнусного душегуба. Быть может, вы, ваша честь, сможете разобраться в этом деле? Бесстыдство этого человека было поистине поразительно. Представленный ему длиннющий список обвинений и длительные пытки, коим его подвергали, не умерили наглости, с которой он все отрицал. Акитада решил подыграть ему. — По вашей речи я вижу, что вы выросли в столице и неплохо воспитаны. Как же получилось, что такой человек, как вы, оказался здесь и в таких условиях? На уродливом лице появилась хитрая мина. — Эх-хе-хе!.. Ну, с таким доброжелательным господином всегда можно поделиться! Как вы верно подметили, вырос я в столице. Посещал буддистскую семинарию близ ворот Расемон. Родители мои хотели, чтобы я стал школьным учителем, да уж больно много честолюбия во мне было. Влекло меня к оружию, и вот, взявшись за меч, подался я преподавать в разных школах боевых искусств. Имя мое уже стало известным, когда начались неприятности. Своим искусством я нажил себе врагов. Один такой соперник бросил мне вызов, и схватка закончилась плачевно. — Он поднес руку к исполосованному шрамами лицу и недобро усмехнулся. — Порезал он меня, и я с ним расправился. Дружки его обвинили меня в убийстве. Тогда-то я и подался искать счастья в чужие края; так меня занесло сюда. Впрочем, здесь мне тоже сразу не повезло — арестовали якобы за убийство какой-то шлюхи. Один полоумный душегуб сознался в этом убийстве, но полицейские ему не поверили и давай выколачивать признание из меня. — Шрам смерил многозначительным взглядом Акинобу, который невозмутимо смотрел на него. Так и не услышав от Акитады ни слова, арестант отвернулся. Его белая рубаха на спине была перепачкана засохшей кровью. Он задрал ее, показывая распухшие, кровоточащие следы от кнута. Потом нагнулся и задрал обе штанины — ноги под ними выглядели как сплошное кровавое месиво. Акитаде сделалось дурно. Удивительно, как этот человек смог вынести такое. Но он поспешил напомнить себе, что деяния Шрама по жестокости во много раз превосходили его собственные муки, и сказал арестанту: — В ближайшее время я возвращаюсь в столицу и заберу вас с собой. Тамошние власти быстро разберутся с вашим делом. От этих слов Шрам передернулся. — Нет! Не утруждайте себя понапрасну! И вообще, это может навредить моей семье. Просто замолвите за меня словечко здесь. — Не получится. Здесь я вам ничем не могу помочь. А клан Сано не такой уж значительный, чтобы подобное могло как-то на него повлиять. — Жестом показав, что разговор закончен, Акитада повернулся, чтобы уйти. У него за спиной Шрам разразился громкой бранью, пока хлыст стражника не перевел ее в мучительный стон. Акинобу догнал его на улице и недоуменно спросил: — Неужели вы всерьез намерены забрать его с собой, ваше превосходительство? Ведь все его слова полнейшая ложь! — Знаю. И намерения мои абсолютно серьезны, — ответил Акитада, жадно глотая чистый воздух и с удовольствием пробуя на язык снежинки. — Я даже собираюсь отправить сегодня по этому поводу рапорт со специальным курьером. — А как же быть с его преступлениями здесь? И с убийством в Фудзисаве? И вообще, он очень опасный тип. — В пути его будут хорошо охранять, — устало сказал Акитада. — Преступление, за которое ему предстоит отвечать в столице, будет разбираться на закрытом тайном суде, за коим последует скорая казнь. А вы здесь никогда не добьетесь этого, не получив признания.Предстоявший Акитаде последний визит был тоже не из легких. Ноги сами замедлили шаг, когда за углом показалась школа боевых искусств Хигэкуро. Снежинки холодили лицо, но он не вытирал их. Проходя мимо владений богатого соседа, он заметил на воротах рубцы, оставшиеся от полицейских секир, а вместо замка на них теперь красовались бумажные полоски с государственными печатями. Сколько горя и беспорядков повидала эта маленькая улочка за последние несколько дней! Акитада посмотрел на тучи, набухшие тяжелым свинцом. Снег приглушат все звуки, размывал очертания. Безмятежность и покой вернулись сюда, но для него этот покой был безрадостным. Двери школы стояли нараспашку. Еще издали он увидел Хидэсато с веником и совком. Выбросив мусор в сточную канаву, тот повернулся, чтобы зайти в дом, и заметил Акитаду. Выражение счастливого удовлетворения на его лице тотчас же сменилось беспокойством. — Вот, пришел попрощаться, — пояснил Акитада. Его больно задело, что Хидэсато не сумел скрыть облегчения. Он огляделся по сторонам, приставил совок и веник к стене и поклонился. — Надеюсь, ваше превосходительство без приключений доберется домой, — сказал он. — Благодарю. А ты, я вижу, помогаешь. Хидэсато покраснел. — Да, девчонкам нужна помощь. — И, помолчав, прибавил: — А Тора уже там. Эта новость не удивила Акитаду, но тоже больно задела. Он понимал, что Тора захочет остаться с Отоми, и ждал этого. Ему вспомнилась их самая первая встреча, знакомство. Чувства, что он испытывал к этому грубому сыну крестьянина и бывшему солдату, тогда показались бы непостижимыми. Хидэсато беспокойно переминался с ноги на ногу. — Э-э… Я очень вам благодарен, господин. Ведь я понимаю, что вы сняли с меня обвинение в убийстве. — Пустяки. Рано или поздно это обвинение сняли бы и без меня. Хидэсато покачал головой, — Если бы не вы с Торой, мы с Аяко не были бы вместе. Я ведь не так уж молод и уже не надеялся обрести дом и семью, не говоря уж о любви такой девушки, как она. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали. Пряча боль и гнев, Акитада повернулся к Хидэсато спиной и вошел в учебный зал. Дверь во внутренний дворик была распахнута. Там у забора лежали заснеженной горой свернутые циновки и сломанные ширмы, а в самом зале на полу возле жаровни сидел Тора и отчищал от крови лук Хигэкуро. Возможно, скоро им станет пользоваться Хидэсато. Из жилой части дома доносился приятный запах готовящейся пищи. Тора встретил Акитаду широкой улыбкой — еще один счастливый человек! — Правда, здесь опять стало хорошо и уютно, как прежде? Акитада огляделся, кивнул. Окровавленные циновки исчезли. Пол и столбы были отмыты и начищены до блеска. Все оружие висело и стояло на прежних местах. — Ты хорошо поработал, — сдержанно проговорил Акитада и направился в сторону кухни. Он ожидал застать Аяко у плиты, но там была только Отоми. Она сидела на полу, склонившись над шелковым свитком, и рисовала лик богини милосердия. Акитада окинул взглядом помост возле окна — тот был пуст, если не считать пары недоплетенных соломенных варадзи. Его пронзила глубокая печаль по Хигэкуро. Мысль о том, что такой человек умер, когда менее достойные продолжали жить, была невыносимой. Эту смерть так же трудно пережить, как гибель ребенка. Утешало лишь, что умер он не напрасно. Больше всего в жизни Хигэкуро хотел найти хороших мужей обеим дочерям, и это ему удалось. Теперь жизнь в доме не угаснет. Тора, Хидэсато и Аяко займутся школой, Отоми продолжит рисовать, и обе пары вырастят здесь своих детей. Их счастье скоро заслонит страшные воспоминания о пролитой в соседнем зале крови. Он вернулся к Торе. — А где Аяко? — Понятия не имею, — пытался тот уклониться от ответа, но, посмотрев на Акитаду, взревел: — Хидэсато! Сержант явился тотчас, будто все это время стоял за дверью, с нетерпением ожидая, когда уйдет Акитада. — Куда пошла Аяко? Хидэсато взглянул на Акитаду и после некоторого колебания ответил: — В храм Каннон… как она делает это с тех пор… с тех пор, как умер ее отец. Акитада поблагодарил его и спросил у Торы: — Мы увидимся сегодня вечером? — Ну конечно! — Тон его был угнетающе бодр. — Мы же здесь почти все закончили. Передайте Аяко, что обед готов. Пеший путь до храма оказался долгим, но Акитаде сегодня некуда было торопиться. Все здесь выглядело совсем по-другому. По улицам сновали люди в веселых разноцветных одежках, со дворов доносился детский смех, повергав его в еще большее уныние. Из труб поднимался дым, смешиваясь с белесой снежной мглой. Мягкий снежный ковер под ногами поглощал звук шагов, и Акитаде казалось, будто он шагает по облаку. Ощущение нереальности усилилось, когда он ступил на территорию заброшенного храма. Здесь царило безмолвие. Эти храмовые строения казались вымышленным миром, сказочным дворцом, обиталищем небесных принцесс. Он вспомнил, какими зловещими они представлялись ему на фоне черной ночи. Теперь же крыши укрывало серебристое пуховое одеяло, гнутые кверху карнизы напоминали раскинутые крылья неведомой снежной птицы. Эти волшебные белые чертоги окаймляли голые деревья, черные и безмолвные, как дворцовые стражи. Акитада остановился. Казалось, смертный, шагнув в этот неземной мир, исчезнет в нем безвозвратно. Но для него этот шаг был делом чести. Он быстро пересек улицу и прошел мимо красных колонн во двор. Единственная цепочка следов вела по снегу к главному храму и поднималась по ступенькам. Он прошел рядом, чтобы не затоптать их своими большими сапогами. Аяко внутри не оказалось, хотя перед ликом богини все еще горела свеча и из соседней курильницы струйкой поднимался кверху дымок ладана. Через храм Акитада вышел на заднее крыльцо. Аяко стояла, прислонившись к столбу, и смотрела на заснеженные деревья. — Я знала, что вы в конце концов придете, — проговорила она, не поворачивая головы. — Я был очень занят. — Он почти не осознавал своих слов — так сосредоточенно разглядывал ее: этот изгиб щеки и изящную шею, гордо расправленные плечи. Он представил себе ее тело, золотистую гладкую кожу, которой вновь мысленно касался, вдыхая аромат. Она повернулась к нему. — Я ждала здесь каждый день. — В глазах ее была нежность. — Все изменилось, — сказал он. Она кивнула и неожиданно произнесла: — Вы все еще сердитесь на меня? И на Хидэсато. — Да. Хотя знаю, что не имею на это права. Она снова отвернулась. — Вы думаете, что я водила его в баню и занималась с ним любовью там, где мы с вами лежали вместе. Он устыдился своей глупой ревности, но солгать не мог. — Вы ошибаетесь, — вздохнула она. — Может, от этих слов вам станет легче. Не знаю… Хотя какая разница, если мы с вами принадлежим к разным мирам? Когда-то мой отец имел высокое положение, но потом мы стали в этой стране никем. Отец смирился и приучил нас ценить настоящие человеческие взаимоотношения, которые редко сыщешь в вашем мире. Он верил, что даже у Крысы есть честь — возможно, в гораздо большей степени, чем у какого-нибудь важного столичного сановника. Акитаду охватил гнев. — Ты смеешь обвинять меня в бесчестье?! Ты, отдавшая себя какому-то нищему сержанту, бродившему по улицам в поисках надежного местечка, где можно спрятаться от закона! С чего ты взяла, что он не бросит тебя, получив возможность пойти дальше? Ведь для такого человека, как он, ты всего лишь удобное средство к существованию, тепло в ночной постели. Она вздрогнула от этих слов и, повернувшись к нему, печально сказала: — Простите меня. Я не думала, что причиню вам такую боль. — Голос ее дрожал от слез, но она только плотнее запахнула на груди куртку, словно защищаясь от холода его презрения. — Я слышала про ребенка и очень жалела, что ничем не могу вам помочь. — Аяко! — взмолился он, в миг раскаявшись в своих словах. — Еще не все потеряно, еще не поздно! Поехали со мной! — Он помолчал и прибавил: — Будь моей женой! — Нет. Слишком поздно, — сказала она. — Даже когда мы только познакомились, было уже поздно. Я знала, но ничего не могла с собой поделать, за что сейчас и прошу прощения. Я никогда не смогу быть вашей женой, если все будет так, как сейчас. И поэтому должна выбрать Хидэсато. — Нет! — Да. — Она стояла перед ним на фоне снежного пейзажа, и черные волосы обрамляли худое бледное лицо, на котором светились необыкновенные глаза. Она стояла напряженная, распрямив плечи и вцепившись в столбик перил так сильно, что костяшки пальцев побелели. Но голос ее звучал спокойно и ясно в этой тишине. — Хидэсато очень добрый и благородный человек. Хотя вы и отказываете ему в благородстве, но он и пальцем меня не коснулся. После вашего отъезда я выйду за него замуж, потому что этого хотел бы мой отец. Вместе мы будем заботиться об Отоми и жить в дружбе и согласии. Акитада молча смотрел на нее. Снежинки превращались на ее волосах в хрустальные капли. И, уступая ее решимости и чувству долга, он согласно кивнул. — А теперь вам нужно идти, — прошептала она. — Пожалуйста, Акитада, скорее уходите! Он протянул было руку, чтобы утереть ее слезы, но тут же опустил и пошел прочь.
Остаток этого дня Акитада бродил по улицам города. Выйдя из храма богини милосердия, он направился к нищенскому пустырю, а оттуда в гарнизон. Там он издали наблюдал, как маршируют на плацу солдаты под надзором Юкинари. Завтра капитан обязательно придет их провожать, поэтому Акитада не стал отвлекать его и ушел. Путь его лежал в богатые жилые кварталы; там он нашел переулок, куда выходили задворки опустевших владений Татибаны. Распахнутая калитка болталась на ветру, и он вошел взглянуть на сад. Павильон, где располагался кабинет, был укутан снежным одеялом. В прудике рыбы поднялись из черной толщи воды, все еще надеясь получить из рук хозяина вкусных крошек. Но только снег падал на воду и растворялся на ее темной поверхности. Так и не дождавшись угощения, рыбки уплыли обратно на дно. Уходя, Акитада еще раз оглянулся. Его следы пятнали первозданную белизну дорожек — возможно, больше их никто не будет мести. Калитку он закрыл на задвижку. В сгущающихся сумерках Акитада брел к расцвеченному разноцветными огнями рынку, не замечая, что ноги немеют от холода. Он шел по улочкам веселого квартала, не обращая внимания на густо беленные липа, кокетливые взгляды, манящие пальчики и призывный шепот здешних обитательниц. Из домов доносились музыка, пронзительные голоса женщин и грубый хохот их клиентов. Прошел он и по самым бедным улицам, где жались по углам влюбленные парочки, словно призрак, тайно наблюдающий чужую полноценную жизнь. Уже совсем стемнело, когда он вернулся в гостиницу — промокший, продрогший и усталый. Тора с Сэймэем укладывали в ящики вещи. На жаровне пыхтел чайник, на столе ожидал накрытый салфеткой поднос с ужином. Увидев его, Акитада вспомнил, что не ел с утра. — Давно ждете? — спросил он у Торы. — Да ладно, пустяки! Сэймэй рассказал мне про вашу матушку и сестер. Акитада поморщился. В столице его ждала жизнь, от которой он так хотел убежать. Жизнь в семье, где всем заправляла его вдовая матушка. Железная рука и острый язык. — Усталый у вас вид, — сочувственно заметил Сэймэй. — Прощальные визиты всегда нагоняют уныние. Я на всякий случай приберег для вас ужин. — Попозже, Сэймэй. Сначала я разберусь с Торой. — Он печально посмотрел на слугу и заметил, как тот выправился, похорошел и, оказывается, снова начал носить свое синее платье. — А я думал, ты его продал, — кивнул он на Торину одежду. Тора оглядел себя. — Вот, решил вернуть это платье. И цвет подходит, и сидит как влитое. Надо же производить впечатление на людей. — Он подмигнул Сэймэю, и тот усмехнулся. — Понятно, — печально проговорил Акитада. — У тебя, Тора, и так все получится, что бы ты ни делал и что бы ни носил. Мне будет не хватать тебя. — Он отвернулся, скрывая чувства. Открыл коробку с документами и пробормотал: — Здесь то, что ты заработал. И еще кое-что я прибавил в награду за твои старания и мудрые советы в деле ограбления караванов. А еще вот подарок — пригодится,чтобы начать новую жизнь. — Он протянул Торе сверток. Парень удивленно смотрел, не двигаясь с места. — Разве я вам больше не нужен? — бесстрастно спросил он. — Я же ведь однажды сказал тебе, что ты можешь свободно уйти в любое время. Теперь, когда у тебя появились планы на жизнь, а моя работа здесь завершена, я не стану больше тебя удерживать. — Какие еще планы? — начат сердиться Тора. — Вы до сих пор злитесь на меня за те слова, что я сказал про чиновников? А я-то думал, вы решили дать мне еще один шанс! — Он выхватил у Акитады деньги и вскрыл сверток. — Очень щедро, — усмехнулся он и бросил золотой слиток и связку серебряных монет к ногам Акитады. — Ну и живи как знаешь, старикашка! — крикнул он Сэймэю и бросился вон из комнаты. Акитада изумленно смотрел ему вслед. — Что за?.. — начал было он. — Тора надеялся, что вы возьмете его с собой, — объяснил Сэймэй, растерянно опускаясь на подушку. — Только об этом и говорил, все расспрашивал меня про столицу, про вашу семью, про дом и работу, которую ему предстоит выполнять. Он, правда, опасался, что вы можете отказаться от его услуг, но я ему сказал, что вы никогда этого не сделаете и обязательно найдете способ его оставить. Теперь жалею, что ошибся, обнадежив его. — Сэймэй утирал рукавом глаза. — Как мало мы прожили вместе! Вот уж верно говорят: «Любая встреча — начало расставания». Мне будет не хватать этого мальчишки. Окончательно сбитый с толку, Акитада в полной растерянности качал головой. Как же так? Неужели он чего-то не понял? Окрыленный надеждой, он бросился догонять Тору. За воротами, ссутулившись на холодном ветру, Тора изучал объявления на заборе. — Тора, я же не знал, что ты хотел поехать со мной! — воскликнул Акитада. — Да что вы так переживаете? — не оборачиваясь бросил тот. — О-о, вижу, я больше не в розыске! Значит, удастся найти другую работу. Бойцы везде нужны. А может, вернусь в армию. — А разве ты не женишься на Отоми? Тора резко повернулся. — Я?! Женюсь?! Какое счастье! Акитада почувствовал невероятное облегчение. — В таком случае, — сказал он, — может, поедешь со мной в столицу? Боюсь, правда, работа будет не очень интересная и платить я много не смогу, зато там полно хорошеньких девчонок.
ГЛАВА 22 Вьюнок
В строгой обстановке управления по надзору два человека средних лет сидели за столом напротив друг друга над стопками ровно сложенных документов. И стол, и кабинет этот принадлежали Минамото Ютаке, грозному начальнику управления, чье влияние и могущество казались беспредельными. Это был долговязый, худущий как скелет человек с реденькими седеющими волосенками, острым носом и тонкими губами, опускающимися книзу двумя унылыми складками. Он сидел, строго выпрямив спину, спрятав руки в широкие рукава своего темно-зеленого парчового кимоно, и, прищурив глазки, наблюдал за человеком напротив. Министр юстиции Сога Йетада был одет в платье более светлого зеленого оттенка и являлся полной противоположностью Минамото. Не просто толстый, а скорее тучный, он весь был покрыт обильной растительностью — густые волосы, кустистые брови, пышные усы: даже на тыльной стороне его ладоней чернел пушок. Обе руки в данный момент были заняты — одна веером, другая чашкой чая. — Многие при дворе предсказывали совершенно иной исход этого дела, — заметил Сога, ставя на стол пустую чашку. Он слегка подвывал при разговоре и, казалось, все время жаловался. Унылые складки возле рта обозначились глубже, когда он продолжил: — Этот клан Фудзивара вообще пользуется благосклонностью Будды. Мотосукэ вышел чистеньким из скандального дела, не только не замарав своего имени, но еще и прославившись как герой, раскрывший опасный заговор. Министр энергично замахал веером. — Нам надо было вовремя остановить Мото… — Он запнулся на полуслове да так и застыл с открытым ртом. Прищуренные глаза сухопарого вельможи широко раскрылись, и он предостерегающе поднял руку. — Вы совсем запутались, Сога. Разумеется, мы с великим облегчением и радостью восприняли новость о возвращении Фудзивары Мотосукэ из Кацузы и о его назначении главным советником в Высшем государственном совете. Столь же приятным оказалось известие, что дочь его вошла в императорский дом. Министр вновь обрел дар речи. — Если она произведет на свет наследника, Мотосукэ может получить должность канцлера. — Вполне возможно. — Тонкие губы начальника управления скривились в кислой улыбке. — А ваш подчиненный, мелкий чиновник Сугавара, в два счета, станет министром юстиции. Министр побледнел. — Кто же мог предвидеть такой поворот событий! Сугавара всегда был мелкой сошкой, а теперь все только и говорят о его блестящем будущем. Но хуже всего распространившееся мнение, будто мы поддерживаем сторонников клана Фудзивара. И все потому, что я в свое время порекомендовал вам этого Сугавару. Неприятная улыбка заиграла на губах начальника управления. — Если вы ожидали иного исхода, вам следовало выбрать другого человека. Как вы могли быть так слепы и не заметить за ним столь блестящих способностей? Я просмотрел послужной список Сугавары и прочитал его отчеты. Он с отличием окончил университет, получив самые высокие оценки по юриспруденции и китайской словесности, что уже само по себе являлось подвигом и обеспечивало ему хорошую должность в правительстве. А вместо этого он просиживает штаны в ваших пыльных архивах. Его отчеты обнаруживают человека более чем сведущего и высокопрофессионального: такого интеллекта вряд ли можно ожидать от других ваших подчиненных. За ним следовало приглядывать более тщательно. — Но именно так я и делал! — заволновался министр. — А ему вдруг вздумалось вмешаться в какие-то убийства, всех взбаламутить, а себе заработать громкое имя. Вот тогда-то я в отчаянии и предложил его кандидатуру на это задание. Ведь вы, ваша светлость, сами мне сказали, что с этим делом никто не справится. После позорной неудачи он должен был навсегда сгинуть в какой-нибудь глуши. Начальник управления порывисто нагнулся через стол, в упор сверля министра холодным взглядом. — Да как вы смеете переваливать на других свою вину?! Это вы допустили чудовищный просчет. А я не имею никакого отношения к вашим личным делишкам, к какой-то там личной мести, хотя, быть может, и сожалею, что доверился вам. Министр побледнел. — Но… но я не хотел!.. — Хватит, — сухо оборвал его Минамото. — Это вопрос закрыт. Как только министр, беспрестанно кланяясь, удалился, начальник управления хлопком в ладоши вызвал своего секретаря. — Впустите сюда Сугавару. Акитада несмело вошел в комнату и опустился на колени. Он прождал за дверью больше часа — за это время его начальник, министр юстиции, успел прибыть сюда и прошел мимо, не удостоив даже кивком. И вот только что Сога вышел от начальства, вытирая вспотевшее лицо, и метнул на Акитаду такой откровенно злобный взгляд, что тот, опешив, в ужасе смотрел ему вслед. Теперь он и сам преклонил колена перед влиятельнейшим человеком в государстве, у которого, по слухам, не было ни друзей, ни врагов, потому что все его боялись. Акитада с содроганием думал о своем будущем. — Подойдите ближе! — прозвучал тоненький голосок, такой же холодный, как пол, на котором стоял Акитада. Тот приблизился к столу и украдкой взглянул на важного вельможу. Надеяться было не на что. Холодные глаза, напоминающие немигающий взгляд змеи, устремленный на мышь, изучали его из-под полуопущенных век. — Это вас мы посылали в Кацузу с проверкой дел у окончившего свой срок губернатора? — Да, ваша светлость. — Я читал ваш отчет. В том что касается казенных караванов с налоговыми, ценностями, он обнаруживает невероятную расхлябанность в расследовании, какую-то немыслимую удаль в действиях, граничащую с безумием, и поистине чудовищное пренебрежение к общепринятым правилам поведения. Вам удалось успешно выполнить порученное дело только благодаря неслыханном удаче благоприятному стечению обстоятельств. Что вы можете сказать по этому поводу? — Я чрезвычайно сожалею о допущенных мною ошибках и постараюсь извлечь из них урок. В комнате повисла тяжелая тишина. Робко подняв глаза, Акитада увидел, что вельможа смотрит куда-то вдаль, словно не замечая его присутствия. Наконец Минамото сухо процедил: — Если вы надеялись получить еще одно подобное задание или какой-нибудь ответственный пост, то вы еще менее умны, чем я думал. У нас не принято давать серьезные должности тем, кто отличился топорной работой. Акитада похолодел, осознав смысл этих слов. — И все же ваш отчет достаточно ясен, и вы, похоже, неплохо справились с проверкой тамошних счетов. Такие навыки и умения требуются для определенных видов управленческой работы. Поскольку меня не слишком впечатлила ваша деятельность в Кацузе, я решил рекомендовать вас в министерство церемониала. Там недавно освободилось место старшего протоколиста. Таким образом вы повышаетесь на ползвания и ваше жалованье возрастает. На мой взгляд, ничего другого вы пока не заслуживаете. Акитада похолодел. Министерство церемониала? Там ему придется вести записи обо всех чиновниках, об их чинах и званиях, о назначениях и увольнениях. Он будет отвечать за проведение дворцовых церемоний, организацию увеселений, за посещаемость и протокол. Эта должность обеспечит ему положение и стабильный доход, но навсегда лишит свободы выбора и вообще будущего. Он не мог с этим согласиться. Глядя вельможе прямо в глаза, Акитада заговорил: — Ваша светлость, со всем моим уважением я все же отклоняю ваше предложение Сфера моих знаний и умений — это юриспруденция, а не протокол и церемониал. Я надеялся, что мне поручат другое дело именно в этой области. Если сие невозможно, я предпочел бы вернуться на свое старое место скромного чиновника министерства юстиции. — Произнеся эти слова, он тут же осознал всю их неслыханную дерзость и в полном смятении распростерся ниц перед вельможей. В течение некоторого времени в комнате раздавалось лишь недовольное начальственное пыхтение и постукивание ногтей по столу, свидетельствующие о сдерживаемом гневе. Когда вельможа заговорил, в голосе его звучала насмешка. — Итак, вы отказываетесь от продвижения по службе? По-моему, по глупости вы просто не осознаете всей оскорбительности своего поведения, — проговорил он с подчеркнутым спокойствием. — В таком случае позвольте указать лишь на некоторые ваши ошибки. Вы были направлены расследовать дело о хищении, касающееся только счетов и бумажек, но вместо этого взяли на себя смелость задействовать военные и гражданские силы для наведения порядка в одном из местных монастырей. В ходе этих событий вы, похоже, оставили за собою целый шлейф убийств и гору бумажной работы. — Он вдруг сорвался на крик: — Поднимите голову, посмотрите сюда! — Акитада буквально подскочил на месте, а начальник указал на кипы бумаг. — Эти документы отражают лишь жалкую часть того, что вы натворили в Кацузе. Здесь лежат отчеты четырех министров, которых вы умудрились втянуть в это расследование. А вот эти папки имеют прямое отношение к конфискованному монастырскому имуществу, и к ним прилагаются жалобы буддийского духовенства — как здешнего, так и кацузского. А в этой стопке сложена частная корреспонденция от знатных уважаемых людей и чиновников, требующих, чтобы мы или объявили буддизм вне закона, или отправили вас в ссылку как врага истинной веры. — Холодные глаза вельможи пронизывали Акитаду насквозь. — Совершенно очевидно, что вы превысили данные вам полномочия. Так что вы можете сказать в свою защиту? Акитада проглотил ком в пересохшем горле. Он и сам прекрасно понимал свои ошибки и вину в смерти как невинных, так и виновных. Но намерения его были чисты, поэтому он сказал: — Все дело в том, ваша светлость, что я усмотрел в действиях монаха Дзото угрозу для нашего государства. В своих последующих решениях я действовал исключительно в рамках клятвы, которую давал при поступлении на службу к его величеству. Любые менее решительные действия стали бы с моей стороны нарушением служебного долга. — Вы еще смеете оправдывать себя? — С презрительной усмешкой начальник порывисто подался вперед. — У вас нет пока ни зрелости, ни опыта, чтобы выносить подобные суждения. Да это же просто смешно! Разве может какой-то провинциальный монах явиться угрозой нашему государству? Вам просто следовало заявить на него и его сподвижников в местный суд. Но вы предпочли выжидать, чтобы самому ввязаться в процесс, и таким образом дали преступникам время убить еще больше людей. Это была правда. Хигэкуро был бы жив, если бы Акитада начал действовать раньше. И тот мальчик играл бы сейчас с новогодними подарками, если бы Акитада не подверг его и остальных такому риску. Все это тяжелым камнем лежало теперь на его совести, и он вновь распростерся на полу. А вельможа продолжал свою гневную речь: — Я уже сказал, что вы преуспели в этом деле только по воле случая. Ведь по чистой случайности картина этой девушки попала в ваши руки. И убийство князя Татибаны вы раскрыли с такой легкостью лишь благодаря невероятной небрежности, с какой убийцы обошлись с его телом. К счастью для вас, у начальника гарнизона имелось алиби, иначе вам пришлось бы обвинить в убийстве его. И задержание сподвижников Дзото стало возможным только благодаря стечению обстоятельств, а именно празднику, позволившему вам под этим предлогом провести в монастырь целый гарнизон солдат. При таком везении преуспел бы каждый дурак. Но даже тогда вы умудрились допустить, чтобы этот человек убил ребенка и напал на вас. А мать ребенка, убившая этого монаха-изменника, спасая вас, в итоге лишила нас свидетельских показаний главного подозреваемого. Акитада ударился лбом о циновку. Справедливость этой строгой критики со стороны высшего начальства заставила его устыдиться тех глупых надежд на награду, которые он лелеял весь долгий обратный путь в столицу. Сейчас он отчаянно пытался найти хоть какие-нибудь оправдания. — Раз вы настаиваете, то можете вернуться к своим прежним обязанностям в министерстве юстиции. Разумеется, они не предполагают никакого повышения в звании. Все. Вы свободны. Акитада поднялся и, отвешивая низкие официальные поклоны, попятился к двери. Уже коснувшись ее пятками, он вдруг робко прокашлялся. Вельможа неохотно оторвался от своего документа. — Прошу вашу светлость простить мне столь настойчивое любопытство, — взволнованно начал Акитада. — Но мне небезынтересна дальнейшая судьба этого дела. — Это вряд ли вас теперь касается, но мы постановили лишить виновных монахов духовного сана и определить их на тяжелые работы на далекие северные рубежи. Если там они хорошо себя проявят, им будет позволено записаться на службу в приграничные войска. Прежний — настоятель монастыря заново утвержден в этом звании, руководить гражданскими силами назначен новый префект. — Увидев недоумение на лице Акитады, вельможа неохотно пояснил: — Благодаря усердным ходатайствам бывшего губернатора Фудзивары двое его людей продвинулись по службе. Его секретарь Акинобу станет теперь наместником губернатора. Сама же губернаторская должность перейдет к брату его величества, который останется проживать в столице. Другое повышение по службе касается начальника гарнизона Юкинари — он перейдет на службу в императорскую гвардию. Надеюсь, это все. Акитада порадовался за Акинобу и Юкинари, но был еще один вопрос, который волновал его не меньше. — Ваша светлость, я привез в столицу заключенного. Ему предъявлены обвинения по другому делу, по делу исчезновения госпожи… — Замолчите! — взревел вельможа, вскакивая с места и тыча трясущимся пальцем в Акитаду. — Забудьте об этом деле, иначе вас ждет пожизненная ссылка. И не смейте задавать вопросов и упоминать где-либо о своем расследовании и вообще контактировать с любым, кто хотя бы отдаленно имеет к этому отношение. Вам понятно? — Да. Прошу простить меня. — Вы свободны.На улице Акитада жадно глотнул свежего воздуха. Справа от него высился Дворец восьми министров, где под председательством самого императора заседали самые важные вельможи, призванные управлять государством. За ним располагался Зал дворцовых церемоний. А где-то далеко позади находилось министерство юстиции. Подолгу службы ему надлежало немедленно явиться туда с докладом о прибытии, но перед глазами все еще стояло искаженное ненавистью лицо Соги, поэтому он направился к главным воротам, за которыми простирался город. Улицы и крыши домов были припорошены снегом. Люди, возбужденные и счастливые, спешили по своим делам. Город готовился к новогодним празднествам. Завтра император объявит о новых назначениях и повышениях по службе, и те, кого коснется монаршее благоволение, радостно отметят это событие, пригласив к себе на застолье менее удачливых. Сам Акитада уже был приглашен в дом Косэхиры на торжество, устраиваемое его кузеном Мотосукэ, который пока еще ждал, когда его собственная резиденция сможет принять нового советника. По дороге домой Акитада все думал, как сообщить новости матушке. Ведь она опять рассердится на него за эту новую неудачу. Семья и так едва сводила концы с концами, а теперь еще и он вернулся — лишний рот. К Торе госпожа Сугавара отнеслась неоднозначно. Акитаде в разговоре наедине выразила свое неудовольствие, зато Торе дала понять, что он будет ее личным слугой. Мысли о Торе немного взбодрили Акитаду. Возможно, все как-то и уладится. У них наверняка найдется время возобновить утренние тренировки. А сегодня он еще собирался показать Торе город. В общем, не так уж все плохо — по крайней мере не переведут в министерство церемониала. Эта мысль вызвала у него улыбку.
Вечером следующего дня, еще толком не оправившись после ночных гуляний с Торой по городу, Акитада направился к дому Косэхиры. Знакомя «тигра Токайдо» с достопримечательностями столицы, из коих питейные заведения занимали немалую часть списка, он успел позабыть змеиный взгляд Минамото, однако больная голова и слипающиеся глаза напоминали о вчерашних похождениях. Акитада был, по-видимому, единственным гостем, прибывшим на праздник Мотосукэ пешим. Снаружи владений Косэхиры и во дворе горели факелы, стояло штук пятьдесят повозок всех видов и мастей. Рядом, жуя сено, топтались распряженные волы, возницы за оживленной болтовней и игрой в кости проводили свободное время у костров. Акитада хорошо знал дом и сразу направился в гостиные покои. Повсюду сновали слуги. Один помог ему снять сапоги, другой принял верхнюю одежду, а кто-то подержал перед ним зеркало, чтобы он мог поправить шляпу. Из комнат доносились громкие голоса и смех. Акитада шел по дому, заглядывая во все комнаты в поисках румяного и веселого лица их хозяина. Общество его пугало. Судя по пышности нарядов и количеству знаков отличия, Мотосукэ имел влиятельных друзей. Все еще памятуя о неприятной встрече с Минамото, он пожалел, что не поздравил Мотосукэ письменно, тем самым получив возможность избежать этого визита. Но теперь рассуждать было поздно — Косэхира его заметил. — Ага! Вот и наш герой дня! — вскричал он. — Проходи, проходи, Акитада! Тут все тебя заждались. Акитада зарделся от смущения и беспокойно огляделся по сторонам, заметив среди гостей трех принцев из монаршей семьи, двух министров, нескольких советников — будущих коллег Мотосукэ — и даже одного из дядей самого императора. Косэхира бросился ему навстречу и за рукав втащил в комнату. Веселость хозяина, похоже, заражала присутствующих — вокруг были только улыбающиеся лица. Гости засыпали Акитаду вопросами, на которые он отвечал коротко и осторожно, надеясь, что не нарушил какого-нибудь незнакомого ему правила. Голова его по-прежнему гудела после вчерашнего, поэтому, боясь ляпнуть что-нибудь не то, он отказался от вина. Его удивляло, что так много знатных и влиятельных людей, похоже, искренне радуются его успехам, в то время как два высших чиновника сочли его болваном и неумехой. Через всю эту толчею Косэхира провел его в соседнюю комнату. Там на почетном месте, раскрасневшись от вина и удовольствия, восседал во всем великолепии своего пышного облачения Мотосукэ. Завидев Акитаду, он вскочил и бросился обнимать его, после чего усадил на подушку рядом с собой. — Вот человек, которому я обязан своим успехом! — громогласно объявил он. — Если вы когда-нибудь будете тонуть, позовите его, и обретете не только спасение, но также счастье и успех! Слова эти вызвали веселый смех и шквал вопросов. На этот раз попытки Акитады не затрагивать события в Кацузе оказались тщетными, потому что Мотосукэ взялся лично поведать обо всем, что там произошло. Свой рассказ он сопровождал цветистыми подробностями и такими откровенно льстивыми замечаниями в адрес Акитады, что тот готов был провалиться сквозь пол. В конце концов его выручил Косэхира. — Довольно болтовни, кузен! — сказал он, ничуть не смущаясь непочтительности к новому советнику. — Тут у нас кое-кто хочет повидаться с Акитадой. И Косэхира крытыми галереями повел друга в свои личные покои. Акитаду мучило любопытство, но Косэхира хранил таинственный вид. Веселые голоса и смех постепенно стихли, огни факелов и фонарей остались за деревьями, и вокруг царила безмятежная тишь зимнего сада. Перед взором Акитады расстилалось озеро, где Косэхира давал прощальную вечеринку в честь отъезда друга в дальние восточные края. — Как изменился сад, — сказал он. — А меня и вправду кто-то ждет, или мы пришли сюда, чтобы поговорить в спокойной обстановке? — Сейчас узнаешь, — таинственно произнес Косэхира. Сумрачным коридором они проследовали к его кабинету. Перед дверью Косэхира тронул Акитаду за рукав. — Он там. Приходи к нам, когда закончишь. — И удалился. Акитада приоткрыл дверь. Комнату освещал только лунный свет да белизна снега снаружи. На веранде он увидел неподвижную фигуру молодого монаха в черной рясе. Тот сидел к Акитаде спиной, неторопливо перебирая пальцами четки. Должно быть, это ошибка. Какие дела могут быть у него с монахом? Он уже хотел тихонько удалиться, когда прозвучал тихий голос: — Это ты, Акитада? Акитада мгновенно узнал этого человека и расстроился. — Да, Тасуку. Меня привел Косэхира. Монах указал на лежавшую рядом подушку, и Акитада подошел, чтобы сесть. Разглядев вблизи лицо друга, он был потрясен. И дело было не только в бритом черепе, отливавшем в лунном свете серебристой синевой. Лицо Тасуку, некогда красивое и привлекательное, выглядело истощенным. Куда подевалась юношеская округлость щек, подбородка и рта, куда подевался здоровый загар? В темных глазах остался прежний блеск, но пухлые губы были плотно сжаты. Но еще более плачевным выглядело его тело — некогда сильное и мускулистое, теперь оно казалось худым и немощным. — Тасуку! — вскричал Акитада. — Ты что, болен? — Меня теперь зовут Гэнсин, — грустно улыбнулся он. — Я здоров, и у меня все хорошо. А как твои дела? Говорят, тебя здесь встретили с великими почестями. Видимо, мы все ошибались, пытаясь отговорить тебя от этой поездки. Акитада взглянул через заснеженный сад на озеро, где когда-то, много месяцев назад, они сидели на берегу, вместе сочиняя стихи. Если бы он знал тогда, сколько жестоких и нелепых смертей увидит, то смирился бы со своей прежней унылой жизнью и не стал бы пускаться в приключения. Перед его мысленным взором возникли образы погибших — ребенка со сломанной шеей, размозженный череп Хигэкуро посреди изуродованных трупов, кровавые пузырьки на губах умирающего Дзото, щуплое тельце старого князя Татибаны. По просторной веранде главного дома прогуливались гости Мотосукэ, любуясь лунным пейзажем. Кто-то облокотился на перила, выглянув в сад. Вот так же стояла и Аяко. Акитада вздохнул. — Нет. Ты оказался прав. Это было самым тяжелым испытанием из всех, какие мне выпадали в жизни. Друг посмотрел на него, потом на печальную луну. — Луна все та же, а мы… Как мы изменились! — произнес он. Старине Тасуку следовало бы сочинить длинный стих про утраченное счастье. Да, оба они изменились, и никогда им не стать прежними. — А ты не спрашиваешь, почему я отказался от мирской жизни? — Нет, Тасуку. То есть, извини, Гэнсин. Твое решение печалит меня, но оно мне понятно. И глаза встретились в темноте. — Как это? Вместо ответа Акитада достал из пояса синий цветок и протянул другу. Он услышал сдавленный стон. Тонкие изящные пальцы крепко сжали вещицу. — Прости, что причинил тебе боль, — сказал Акитада. — Я стараюсь обуздывать себя, и мне это почти удается. Надеюсь, скоро мирские дела и страсти больше не тронут мою душу. Меня попросили увидеться с тобой, чтобы попрощаться. Попрощаться и навсегда расстаться с тревогами, пока еще живущими в моем сердце. Я слышал, ты привез сюда ее убийцу. Акитада напрягся, вспомнив предостережение грозного вельможи. — Я бы не хотел усугублять твое горе, — уклончиво ответил он. Бледный монах улыбнулся. Теплота этой улыбки напомнила Акитаде прежнего Тасуку. А тот сказал: — От боли освобождает только забвение. Но прийти к забвению мне поможет лишь правда. Мысленно Акитада с ним согласился. — Вы с госпожой Асагао были любовниками? Друг кивнул. — Я знаю, мне нет прощения за содеянное, но ведь мы с Асагао вместе росли. Мы жили по соседству. Я любил уже тогда, но ее отправили во дворец служить новой императрице. Время от времени я навещал ее во дворце, приносил письма от домашних. Я знал, что она там несчастлива. Однажды она поведала мне, что император удостоил ее… своим высочайшим вниманием. — Тасуку закрыл глаза. Немного погодя он тяжело вздохнул и продолжил: — Меня охватила страшная ревность, и я обратил свой гнев на нее. Бедная девочка! Что она могла поделать?! — Его горящие глаза ловили взгляд Акитады. — Акитада, я соблазнил ее! Мы тайно встречались на старой даче на окраине города. Паланкин доставлял Асагао из дворца к домику ее бывшей няньки, а я встречал, чтобы отвести в наше тайное убежище. — Он снова тяжко вздохнул и выглянул в сад, мерцающий в лунном свете, Акитада ждал. — Я был недостоин се. — Исполненные муки слова странно звучали в устах этого бледного монаха. — Даря мне свою любовь, она подвергала себя чудовищному риску. Не только свою репутацию, но и будущее всей семьи. Но мне этого было мало. Я хотел, чтобы она всецело принадлежала мне. Только мне одному. И требовал все новых и новых доказательств любви, а сам расхаживал как павлин, зная, что фаворитка императора предпочла меня. Но и этого мне было мало… — Голос его сорвался. Акитада содрогнулся. Зимний холод проникал сквозь толстые доски веранды. Надо было зайти внутрь или хотя бы захватить уличную одежду. Зато его собеседник морозного воздуха, похоже, не замечал, хотя монашеское одеяние и было совсем тоненьким. — В ту роковую ночь я снова потребовал от нее доказательств. Я настаивал, чтобы она осталась со мной на весь следующий день и на всю ночь, хотя и понимал, что это грозило ей разоблачением. Она умоляла меня, плакала, стоя на коленях. Клялась, что собственная жизнь для нее ничего не значит и она просто не может причинить боль его величеству, от которого не видела ничего, кроме добра. Я упорствовал в своих требованиях, но Асагао проявила твердость. Уходя, она попросила, чтобы я проводил ее, но я отказался. За этими словами последовало долгое молчание. Акитада коснулся руки друга и сквозь реденькую холстину монашеского одеяния почувствовал, какой тонкой была эта рука. — Прости, я понимаю, какой ужас ты пережил, — тихо сказал он. — На той нашей прощальной вечеринке у тебя был… ее веер, да? Бритая голова поникла. — Она забыла его. Это все, что у меня осталось, больше я ее никогда не видел. Шли недели. Я думал, что она вернулась во дворец. А потом до меня дошли слухи, будто она исчезла. Я мучился догадками, не представляя, что с ней могло случиться, весь измаялся — в этом состоянии ты и видел меня на той прощальной вечеринке. — Как же ты вынес страшную правду? Монах посмотрел на него в упор. — Я видел, как умирал ее убийца. — Что? — Этот человек умирал страшно. Такой смертью должен был бы умереть я. Ведь это из-за меня он подвергся такому соблазну. Но я остался невредим, меня не тронули. Не тронули, хотя и все знали. Не тронули, потому что я постригся в монахи. — Он замолчал, глядя на звездное небо. — И все же меня не оставили в покое. Личный секретарь императора явился ко мне в монастырь и сообщил, что убийца госпожи Асагао приговорен к смерти, но перед казнью ему полагается исповедаться. Этим исповедником стал я. — Тасуку, я ничего не говорил им о тебе! — воскликнул Акитада. Его друг улыбнулся. — Знаю. Но они все равно узнали. Думаю, нашли у нее мои стихи. И меня опознал человек, у которого я снимал летний домик для наших свиданий. В общем, как бы там ни было, я отказался удовлетворить просьбу убийцы, сославшись на отсутствие опыта в духовных делах. Но мне сказали, что осужденный, требуя исповедника, назвал мое имя. Тогда-то я и понял, что им все известно. Секретарь императора сообщил мне, где и когда погибла Асагао, а потом оставил наедине с муками моей совести. — Они поступили жестоко. — Жестоко? Нет. Я же сказал тебе, что видел, как умирал этот бедолага. Это была долгая и мучительная смерть. А меня никто и пальцем не тронул. Акитада не мог сдержать гнева. — Может, пальцем они Тебя и не тронули, но эта месть чудовищна! И не трать свое сочувствие на это животное! Он убил еще двух несчастных женщин, сначала надругавшись над ними, и продолжил бы свой кровавый список, не догадайся я, что он убил госпожу Асагао. — Ты догадался? — Горящие глаза пытливо сверлил Акитаду. — Возможно, мне помогла в этом сама госпожа Асагао. Этот обломок синего цветка попал ко мне, когда я был Кацузе. Тасуку разжал ладонь и посмотрел на цветок. — Это от украшения, которое подарил ей император. — Убийца отдал его женщине, которую позже тоже убил. Та продала его уличному лоточнику, а тот мне. А еще в городе ходила страшная история про демона с пылающим лицом, который убил знатную даму в заброшенном столичном храме. Сорвал с нее все украшения, а потом перерезал горло и распорол всю до самого низа. Тасуку передернулся. — Тайна ее исчезновения и этот обломок цветка слили в моем возбужденном мозгу со странной историей про демона. Позже я заметил сходство между ней и совершенным в Кацузе убийством. О своих подозрениях я доложил императору, а арестанта привез сюда. Но мне и в голову не приходило, что они вовлекут в это дело тебя. Прости. Акитада заглянул в лицо другу в поисках понимания, и облегчением обнаружил, что тот уже обрел былое спокойствие. — Спасибо тебе, Акитада, — тепло улыбнулся он, спрятал руки в рукава и, глядя на луну, тихо проговорил: — Как снежинки, тающие в лунном свете, как предрассветный крик совы, так кончается и сон, что мы жизнью зовем. — Он вздохом поднялся, поклонился Акитаде и бесшумно покинул веранду. Сам того не ведая, Тасуку разбередил еще не зажившую рану. Акитада закрыл глаза и перенесся в мыслях на веранду храма богини милосердия. Где-то в ночи одиноко и скорбно ухала сова. Внизу, в безмолвном саду, женщина шагнула в объятия мужчины. Ночь обратилась днем, серым и мглистым, снег кружил в вихре танца и оседал на ее волосах хрустальным бисером. Или капельками росы. — А-а, вот ты где! Сидишь тут один в темноте! — Косэхира положил руку Акитаде на плечо. — А Тасуку ушел? Вот бедняга! — Да, Косэхира, он ушел. — Акитада медленно поднялся, чувствуя себя глубоким стариком — из-за онемевших от холода рук и ног и этих мыслей о смерти. — И мне тоже пора идти. День был длинный. — Какая чепуха, друг мой! — Косэхира смотрел на него с тревогой. — Ты не должен впадать в такое уныние из-за Тасуку. Он просто устал от этого мира и выбрал себе другую жизнь. Но тебя-то ждет большое будущее. Так все говорят. Придет время, и ты свершишь великие дела. Я это чувствую. — И, решительно схватив Акитаду за руку, потащил его туда, где царили веселье, музыка и смех. Туда, где кипела жизнь.
Историческая справка
В течение периода Хэйан (794—1185) японское государство по своей структуре только отдаленно напоминало централизованную китайскую империю эпохи Чан. Японией управлял император, проживавший в столице Хэйан-Ке (Киото), и верхушка знати. Отдаленными провинциями управляли губернаторы, назначаемые в столице каждые четыре года. В их задачу входило следить за законностью и порядком, а также за должным и своевременным сбором государственных налогов. В конце каждого такого срока направляемому из столицы специальному инспектору (кагэюси) надлежало проверить состояние финансовых дел в провинции. Но дальность расстояния и трудности транспортировки усложнили задачу. Сухопутные и водные пути кишели разбойниками и грабителями всех мастей. Крупные землевладельцы, в том числе и большие монастыри, содержали собственные войска для защиты своих владений и имущества. К концу эпохи Хэйан военная мощь этих разрозненных формирований стала представлять опасность для губернаторов и империи в целом. События в этом романе являются плодом художественного вымысла, однако наглядно иллюстрируют политическую и культурную жизнь Японии одиннадцатого столетия. Акитада — представитель правящего класса, служащий столичного министерства, но он всего лишь крохотный винтик огромной и неповоротливой машины власти. Имея знатное происхождение, университетское образование, обширные знания в области классической китайской словесности и конфуцианские идеалы, он пытается подняться по административной лестнице к вершинам власти. В отличие от людей своего круга он охотно сближается с простолюдинами, не демонстрирует поэтических талантов и питает неприязнь к буддийской вере. Ранняя японская культура целиком основывалась на культурных традициях Древнего Китая. Так, следуя китайскому образцу, японский календарь представлял собою шестидесятилетний цикл, названия сменяемых эпох давались императорским двором. В упрощенном толковании, календарный год, как и на Западе, делился на двенадцать месяцев и четыре времени года, только начинался он примерно на месяц позже. В XI веке рабочая неделя в Японии длилась шесть дней и заканчивалась днем отдыха. Как и в Китае, японский день делился на двенадцать частей, по два часа каждая. Время отсчитывал ось водяными часами и объявлялось городской стражей и храмовыми колоколами. Как правило, навыками чтения и письма владели только представители знати и духовенства. Состоящий на государственной службе чиновник должен был уметь читать и писать не только по-японски, но и по-китайски. Женщины из высшего сословия и все прочие читали и писали на своем родном языке. Многие из этих женщин внесли неоценимый вклад в богатейшую литературу того времени. Так, например, перу госпожи Мурасаки, фрейлины императрицы, принадлежит первый в истории человечества роман «Сказание о Гэндзи». К XI веку в Японии сложилось две устойчивых религии — синтоизм и буддизм, которые мирно сосуществовали. Исконная японская религия синто чтит богов ками, то есть некие неземные силы, как правило, связанные с культом урожая. Буддизм, проникший в Японию из Кореи, стал чрезвычайно могущественной религией благодаря придворной аристократии. Для синто свойственно большое число запретов, для буддизма же характерны такие понятия, как «рай» и «ад». Буддийские храмы, а также мужские и женские монастыри процветали в те времена, поскольку существовали во многом за счет пожертвований от населения. Жизнь в Японии того времени была ограничена неисчислимым количеством суеверий, начиная от веры в призраков, чудовищ и всевозможные сверхъестественные существа и заканчивая конкретными табу на те или иные поступки и действия в определенные дни года. Медицина существовала в самом примитивном виде, и представляли ее как врачи с университетским образованием, так и монахи-знахари или аптекари-травники. В качестве целебных средств они использовали лекарственные растения, иглоукалывание, точечное прижигание кожи, а также систему «инь-ян» и шестидесятилетний цикл. Питание благодаря буддизму исключало из рациона мясо и состояло в основном из риса, прочих злаков, фруктов, овощей и рыбы. Среди напитков наиболее популярным было рисовое вино, которое предпочитали чаю. Мужчины не выбривали себе макушки и завязывали длинные волосы в пучок. Женщины носили волосы распущенными, часто до самого пола, или подвязанными лентой. Дамы из высшего сословия чернили себе зубы. Одежда в зависимости от сословной принадлежности делалась из шелка или простого полотна. Пышные складчатые одеяния в стиле «кимоно» носила только знать, простой же люд обходился укороченными штанами и рубашкой или даже просто набедренной повязкой. Времена самураев тогда еще не наступили, однако всевозможные боевые искусства уже начинали завоевывать широкую популярность. Мужчине из высшего сословия полагалось владеть искусством верховой езды, луком и мечом и участвовать в сражениях, однако большинство предпочитали оружию стихотворчество, а сражениям пышные придворные церемонии. В те времена уже был известен такой вид тренировочного, сражения, как бой на деревянных мечах (кэндо), но простые люди довольствовались более примитивным и доступным оружием — шестами или палками. Именно искусством палочного боя (бодзюцу) в совершенстве владеет Тора. Роль женщин в раннем японском обществе была существенно ограничена. Дамы высшего сословия большую часть жизни проводили во внутренних покоях в доме родителей или мужа, зато простолюдинкам приходилось работать наравне с мужьями. Высокородные дамы в XI веке могли владеть собственностью, однако были подконтрольны мужчинам своего семейства. Простолюдинки обладали большими свободами, но почти не имели времени, чтобы ими насладиться. Аяко, разумеется, не слишком похожа на типичную женщину того времени, хотя сексуальные отношения имели свободный характер во всех слоях общества, а среди знати бытовала не только полигамия, но и любовные связи на стороне. Вопрос законности и порядка часто поднимается в художественной литературе. Япония XI века в некотором смысле прогрессивна в этом отношении. Тогда уже существовали полиция, суды, тюрьмы и некий свод законов, касающийся преступления и наказания. Но поскольку буддизм запрещал лишение жизни, максимальной мерой наказания для убийцы была каторга и конфискация собственности. В ходе допроса допускались пытки, коими достигалось необходимое для приговора признание. Тюрьмы, по обыкновению, были набиты заключенными, однако регулярно объявлялись всеобщие амнистии. В результате преступность росла и процветала, к великому огорчению простых законопослушных граждан. Тогдашняя провинция Кацуза была частью территории, в наше время образовавшей префектуру Чиба. И дорога Токайдо, соединявшая столицу с восточными провинциями, в те времена уже существовала, однако ее описание в романе, как и описание жизни в провинции Кацуза, целиком и полностью являются плодом художественного вымысла. За основу отдельных сюжетов «Свитка дракона» взяты старинные японские повествования. История разбойничьего нападения на караваны наряду с исчезновением фрейлины почерпнуты в старинной книге «Удзи сюи моногатари», а история трех монахов во многом воссоздает события, описанные в книге «Саннин Хоси».Благодарности
Я глубоко признательна моим прекрасным друзьям и собратьям по перу — Жаклин Фолкенхэн, Джону Розенману, Ричарду Роуэнду и Бобу Стайну — за то, что прочли черновики этого романа. Их щедрая помощь не знала границ, как не знает границ моя благодарность. Кроме них, у меня еще был внимательный и заботливый редактор Алисия Ботуэлл-Манчини, чей ясный и меткий взгляд помог мне скомпоновать и отшлифовать роман в дальнейшем. Последние, но отнюдь не малые, выражения благодарности я шлю всем, кто работал в команде Джины Нэггар, то есть тем людям, которые не покладая рук трудились над зарубежными продажами, контрактами и всем, в чем я только нуждалась. Ни одному автору не повезло так с представителями, как повезло мне. А Джина Нэггар, разумеется, лучшая из всех.И. Дж. Паркер Расёмон — ворота смерти
Посвящается Тони…Появиться на свет Акитаде помогли несколько замечательных людей. Выражаю глубочайшую благодарность моим друзьям и собратьям по перу — Жаклин Фолкенхэн, Джону Розенману, Ричарду Роуэнду и Бобу Стайну. Прочтя, а иногда и вновь перечтя мой черновик, они внесли свои ценные предложения и в нужный момент оказали мне моральную поддержку. Их доброе отношение и квалифицированное мнение в равной мере были для меня вдохновляющим подспорьем. Я также глубоко признательна Юмико Энио за помощь в том, что касается японских традиций и обычаев. И наконец, я должна со всей искренностью поблагодарить двух непревзойденных профессионалов — моего литературного агента Джина Нэггара и моего издателя Хоупа Деллона.
Список персонажей
Японская фамилия предшествует имени.Главные герои Акитада Сугавара — служащий министерства юстиции Сэймэй — потомственный вассал семьи Сугавара и секретарь Акитады Тора — бывший разбойник с большой дороги, ныне слуга Акитады
Персонажи, связанные с ходом уголовных дел Хирата — профессор права Тамако — его дочь Оэ — профессор классической китайской литературы Оно — помощник Оэ Такахаси — профессор математики Танабэ — профессор, специалист по конфуцианству Нисиока — помощник Танабэ Фудзивара — профессор истории Сато — профессор университета, преподаватель музыки Сэссин — буддистский монах, ректор университета Исикава — студент-старшекурсник Князь Минамото — студент Нагаи — студент Окура — бывший выпускник университета
Прочие Князь Сакануоэ — опекун князя Минамото Кобэ — капитан городской полиции Омаки — лютнистка из веселого квартала Госпожа Хисия — ее мачеха Тетушка — содержательница питейного заведения «Старая ива» Госпожа Сакаки —виртуозная исполнительница музыки Курата — богатый торговец шелком, завсегдатай «Старой ивы» Хитомаро — безработный воин Гэнба — бывший борец Князья Янагида, Абэ и Синода — друзья принца Ёакиры Кинсуэ — старый слуга принца Ёакиры Юмакаи — нищий
Предисловие
Роман «Расёмон — ворота смерти» — это вымышленная история о приключениях Акитады Сугавара, мелкого государственного чиновника времен Японии одиннадцатого столетия. На момент происходящих в романе событий почти тридцатилетний Акитада, к великому сожалению его матушки, еще не женился и не добился мало-мальски успешного продвижения по службе в министерстве юстиции. Зато он прославился, раскрывая разного рода преступления, и благодаря этому своему таланту завел множество друзей среди людей как высших, так и низших сословий. Поскольку персонажи и события романа — плод художественного вымысла, то многочисленные исторические факты из жизни Киото эпохи Хэйан, сведения об устройстве университета тех времен, о правовой и законодательной системе, о нравах и обычаях Японии одиннадцатого столетия были старательно вплетены автором в картину повествования, в котором Акитада раскрывает целую серию таинственных головоломок, попутно ухаживая за своей строптивой невестой. История об исчезнувшем теле почерпнута из двух сказаний (15/20 и 27/9) фольклорного сборника конца XI века «Конъяку Моногатари». Киото эпохи Хэйан[1382]
Киото эпохи Хэйан[1382]
 Карта древнего Киото и план расположения университета основаны на исторических источниках, остальные же иллюстрации к книге преследуют цель дать представление о классической японской гравюре на дереве. Историческая справка, сопровождающая издание, содержит в себе дополнительные сведения о самых существенных аспектах жизни Японии той эпохи.
Карта древнего Киото и план расположения университета основаны на исторических источниках, остальные же иллюстрации к книге преследуют цель дать представление о классической японской гравюре на дереве. Историческая справка, сопровождающая издание, содержит в себе дополнительные сведения о самых существенных аспектах жизни Японии той эпохи.
Пролог Расёмон
Обезглавленное тело лежало бесформенной грудой в темном углу, и лишь тусклый лунный свет, просачивающийся сквозь деревянные ставни, выхватывал из кромешного мрака бледные очертания голой кожи. Смутная тень мелькнула в серой мгле, и старческий голос продребезжал: — Поищи голову! — Зачем? — возразил другой голос. Вторая тень присоединилась к первой. — Кому она нужна? Разве что крысам? — Говоривший хихикнул. — Или голодным призракам — попинать вместо мяча. — Дурень! — Первая тень повернулась, и на мгновение в лунном свете стала различима косматая грива нечесаных седых волос. По мертвому телу, словно демон, шарила женщина, хищными скрюченными руками торопливо засовывая себе под лохмотья куски белой тонкой ткани. — Мне нужны волосы. — Ты что, слепая? Это же мужчина! — воскликнул ее спутник. — Там и ухватиться-то не за что. — Он склонился над телом, чтобы получше разглядеть его. — К тому же старик. — Упитанный. — Она ущипнула мертвеца за живот и шлепнула по ягодицам. — Пощупай, какая у него кожа! Нежная, будто шелк! — А что проку-то ему в этом? Теперь нищий бедолага мертв. — Нищий? — Старуха насмешливо взвизгнула. — Ты потрогай его ступни! Думаешь, он передвигался на своих двоих? Не похоже. Могу поклясться, разъезжал в каретах и паланкинах. Давай-ка скорее найди его голову! У него наверняка окажутся длинные волосы, завязанные пучком на макушке. За них можно будет выручить не меньше десяти медных монет. Эти благородные господа никогда не стригутся, как мы с тобой. А их женщины и вовсе носят волосы до пола. Вот бы нам найти такую! Мужчина усмехнулся: — Это точно. Уж я-то знаю, что бы сделал с ней! — И он похотливо причмокнул губами. Старуха пнула его ногой. — Ах ты!.. — Он грязно выругался и с размаху ударил ее. Через мгновение они уже катались по полу, сцепившись клубком, как две голодные уличные кошки. Наконец мужчина уступил и отпрыгнул назад на несколько шагов. Старуха расправила на себе лохмотья, убедилась, что добыча все еще при ней, и злобно отрезала: — Нам нужно убраться отсюда до прихода стражи. Иди ищи голову! Она должна быть где-то здесь. Может, закатилась вон за ту кучу тряпья. — А это не тряпье, — пробормотал старик, потормошив ногой груду. — Это еще один. — Что-о? А ну-ка давай посмотрим! — Женщина метнулась к телу, несколько мгновений вглядывалась в него, потом разочарованно распрямилась. — Всего лишь старая карга. И ничего стоящего при ней. Сразу видно, умерла от голода. И волосы давным-давно обстригла. Где же эта голова? — Да говорю же тебе, ее здесь нет! — жалобно проскулил старик, шаря по углам. — Ну и дела! — злобно огрызнулась старуха. — До чего же испортилось это место! Теперь уже и трупа целехонького не найдешь! Как думаешь, стража позовет полицию? — Не-е, — ответил ее спутник. — Слишком хлопотно для этих ленивых ублюдков. Ты закончила? — Кажется, да. — Она огляделась. — Итак, за сегодняшний вечер два? — Ага. Раздобыла что-нибудь? — Набедренная повязка и носки. — Старуха тайком ощупала тонкий шелк снятого с мертвеца белья, покоящегося теперь между ее отвислых грудей. — Могу поклясться, что какой-то ублюдок опередил нас и с этой головой, и с остальной одеждой. Пошли! — И она зашаркала к выходу. — Интересно, кем был этот старик? — проговорил ее спутник, когда они спускались по лестнице. — Не все ли тебе равно? — отозвалась старуха. Внизу, прячась за одной из огромных колонн, она осторожно выглянула на улицу. — Сам он при жизни, видать, не больно-то много думал о таких, как мы с тобой! Зато теперь хоть с дохлого прок — носками расплатимся за ужин, а на повязку выменяем дешевого саке. Так что все по справедливости.Глава 1 Старая глициния
Акитада распрямился и устало потянулся всем своим долговязым сухопарым телом. Лучшую часть этого чудесного весеннего дня он провел, копаясь в пыльных папках в своем кабинете в министерстве юстиции. Печально вздохнув, он омыл кисточку и взял печать. В другом конце комнаты его личный секретарь Сэймэй поднялся на ноги. — Я принесу дело Исэ и князя Томо? — с готовностью предложил он. Сэймэй, которому уже перевалило за шестьдесят, имел обманчиво хрупкий вид из-за почти старческой седины, тоненьких усиков и козлиной бородки. Акитада, уже не в первый раз, подивился тому, с каким удовольствием и рвением его старый друг выполняет эту скучную работу. Сэймэй был теперь единственным оставшимся в живых потомственным вассалом семьи Сугавара. Он воспитывался в доме отца Акитады, чтобы позже, благодаря стараниям и усердию, стать в нем управляющим и секретарем. Когда господин его умер, оставив после себя плачевно крошечное состояние, вдову, двух дочерей и маленького сына, Сэймэй преданно ходил за ними всеми до тех пор, пока Акитада не закончил образование и не получил свое первое назначение на государственный пост. Недавно, после того как Акитаду повысили в должности до старшего судейского чиновника, молодой господин выбрал Сэймэя своим личным секретарем. — А надо ли? — Акитада вздохнул. — Я так давно сижу здесь взаперти с этими документами, что не знаю, продержусь ли хоть еще минуту. — Путь долга всегда пролегает поблизости, но человек почему-то ищет его в отдалении, — степенно заметил Сэймэй, склонный к нравоучительным изречениям. — Даже океан когда-то был всего лишь каплей. Как говорит учитель Кун, служение его величеству должно быть вашим первейшим долгом. — Однако, заметив, что Акитада устал, он смягчился. — Вам нужен короткий перерыв. Приготовлю-ка я чай. К чаю они пристрастились совсем недавно, и хотя эта сушеная трава оказалась непостижимо дорогим удовольствием, Акитада находил новый напиток более освежающим, чем вино, да к тому же Сэймэй не переставая расхваливал его целебные свойства. Акитада вышагивал взад-вперед по комнате, когда старик вернулся с двумя чашками и дымящимся чайником. За окном щебетала пташка. Задумчиво вслушиваясь в ее трели, Акитада сказал: — Интересно, удастся ли нам выкроить время на поездку в горы? — Взяв поднесенную Сэймэем чашку, он жадно выпил чай. — Я подумал: ведь мы могли бы наведаться в монастырь Ниння. — Э-хе-хе!.. Все-таки удивительная это была история, — кивнул Сэймэй. — Уже несколько недель прошло, а людские пересуды до сих пор так и не утихают. Говорят, сам император посетил это место и даже оставил там табличку с выражением высочайших чувств. Говорят, его горячими молитвами принц Ёакира перенесся к самому Будде. Теперь народ отовсюду стекается к монастырю, прославляя чудо. — Ну а храму, конечно же, выгода от многочисленных пожертвований, — сухо заметил Акитада. — Конечно. — Сэймэй смерил своего господина проницательным взглядом. — Только еще люди поговаривают, будто демоны пожрали его тело. По слухам, в последнее время он получал много предостережений от предсказателей. — Чудеса! Демоны! Смешно все это. Тут нужно тщательное расследование. — Расследование было. Принц прибыл туда с друзьями и вассалами и вошел в святилище через единственный вход; он провел там в молитвах час, пока его спутники ждали снаружи, не сводя глаз с двери. Но когда принц так и не появился, его ближайшие друзья из свиты вошли внутрь. Там они не обнаружили ничего, кроме его кимоно. Позвали монахов, а позже полицию и имперскую стражу. Несколько дней обыскивали монастырь и его окрестности, да только следов принца так и не нашли. Тогда монахи обратились с нижайшей просьбой к императору, чтобы тот провозгласил о свершившемся чуде, и он сделал это. — А я вот не верю в эту чепуху! — Хмурясь, Акитада подергал себя за мочку уха. — Тут должно быть какое-то объяснение. Вот интересно… Внезапно с улицы донеслись шум и крики. — По-моему, это Тора! — Акитада выскочил на веранду, Сэймэй поспешил за ним. Во дворе двое мужчин, приняв угрожающие позы, с вызовом смотрели друг на друга. На одном, низеньком, щуплом, лет двадцати, с худым личиком и едва пробивающимися усами, были кимоно из дорогого переливчатого шелка и высокая лакированная шапка сановника. На другом, едва ли старше его годами, высоком мускулистом красавце, простолюдинская хлопковая блуза и штаны-хакама. Когда первый, уверенно приблизившись, занес для удара бамбуковую палку, он, угрожающе понизив голос, проговорил: — Только коснись меня своей зубочисткой, щенок, и я заткну ее тебе в глотку, чтобы ты больше никогда не открывал свою вонючую пасть! Молодой сановник остановился в растерянности и, побагровев от злости, прошипел: — Да… как ты смеешь!.. Высокий красавец, сверкнув белозубой улыбкой, шагнул ему навстречу. Придворный, отступив на несколько шагов, озирался по сторонам в поисках помощи. Вдруг он заметил Акитаду и Сэймэя, выбежавших на веранду. — Что здесь происходит? — спросил Акитада у бывшего разбойника, который теперь служил у него работником в доме. Высокий красавец повернулся к нему. — А-а, это вы, хозяин? — Улыбаясь, он помахал им рукой. — Да вот, столкнулись мы тут на повороте — я сильно торопился, а он, как выяснилось, не смотрит, куда идет. Я-то извинился, только этот сопляк с чего-то вдруг вздумал кипятиться, обозвал меня гнусными словами, а теперь еще решил помахать своей игрушечной палочкой. — Кто этот неотесанный дикарь? Ваш слуга? — Незнакомец обратился к Акитаде дрожащим от ярости голосом. — Да. А вы что же, поранились при столкновении? — Только чудом не поранился. Я требую, чтобы вы наказали этого человека немедленно и запретили ему впредь приближаться к особам из императорского окружения. Он явно не способен отличить придворного от такого быдла, как он сам. — Разве он не извинился? — спросил Акитада. — Что означают ваши слова? Если вы не последуете моему указу, мне придется позвать имперскую стражу. — Может быть, обсудим этот вопрос несколько позже? Кстати, меня зовут Акитада Сугавара. Позвольте и мне узнать ваше имя. Щуплый коротышка вытянулся и, важно задрав голову, отчеканил: — Окура Ёсифуро. Секретарь отдела чинов и званий, министерство церемониала. Младшая седьмая степень, низший разряд. Я пришел сюда на беседу с министром и не могу тратить время на мелких чиновников. Густые брови Акитады удивленно приподнялись. На его худом, аристократическом, обычно доброжелательном лице появилось высокомерное выражение. — В таком случае вы, возможно, пожелаете обсудить этот вопрос с государственным советником Фудзиварой Мотосукэ. Он наш с Торой личный друг и, несомненно, поручится за нас. Лицо кичливого сановника заметно побледнело. — Разумеется, я и не мечтал побеспокоить особу такого ранга, как государственный советник, — торопливо проговорил он. — Возможно, я действительно слишком спешил. И потом, этот молодой человек, как вы совершенно справедливо напомнили мне, извинился. Людям высокого положения надлежит с пониманием относиться к чувствам простолюдинов. Как, вы сказали, ваше имя? Сугавара? Рад познакомиться и надеюсь, мы еще встретимся. — Отвесив вежливый поклон, он повернулся и зашагал прочь так быстро, что лакированная шапка съехала ему на одно ухо. Тора, открыв рот, чуть не расхохотался ему вслед, но Акитада, предупредительно кашлянув, жестом пригласил его войти. — Ну что ж, по-моему, вы показали ему, кто здесь главнее! — усмехнулся Тора, задвигая за собой дверь. — Лучше скажи, что на тебя нашло? С чего это ты вздумал затевать свару с сановником? — вскричал Сэймэй. — Когда-нибудь ты навлечешь неприятности на голову своего господина! — Так, по-вашему, лучше бы он ударил меня? — вскипел Тора. — Ну и ударил бы, ничего страшного. — Сэймэй укоризненно покачал пальцем. — Тебе следовало уступить. И нечего было напускать на себя спесь и важничать. Запомни: самая крупная капля росы всегда скатывается с листа первой. — Так что там за срочность? — осведомился Акитада. — Ах да! — Тора достал из-за пазухи сложенный лист бумаги и протянул его хозяину. — Это письмо от профессора Хираты. Его принес мальчишка, как раз когда в ваш дом явились плотники, чтобы приступить к переделке южной веранды. Вид у этих оборванцев очень подозрительный, так что я, пожалуй, поскорее пойду. Акитада развернул письмо и, прочитав его, сказал: — Хорошо, теперь можешь идти. Конечно, небеса не допустят, чтобы эти твои оборванцы причинили вред любимой веранде моей матери, но тебе лучше все-таки вернуться. Когда Тора ушел, Акитада сказал Сэймэю: — Я приглашен на ужин. Конечно, мне уже давно следовало навестить их, только… — Договорить фразу ему, как всегда, помешали угрызения совести. — Очень добрый человек этот профессор, — кивнул Сэймэй. — Помню времена, когда вы жили у него. А как молодая госпожа? Должно быть, уже совсем повзрослела? — Да, — задумчиво проговорил Акитада. — Тамако теперь, должно быть, года двадцать два. Я не виделся с ней с тех пор, как после смерти отца снова переехал в наш дом. — Мать Акитады категорически не одобряла его связей с семьей Хирата, однако его нежелание видеться с Тамако было вызвано не снобизмом госпожи Сугавара, а совсем другой причиной. Прошло слишком много времени, и он боялся, что теперь им уже нечего сказать друг другу. — Профессор пишет, что ему нужен мой совет, — сообщил он Сэймэю. — По-моему, он чем-то обеспокоен, но надеюсь, ничего страшного не случилось. — И, вздохнув, он прибавил: — Ну ладно, дружище Сэймэй, давай-ка вернемся к работе! Двумя часами позже Акитада тщательно просушил тушь на последнем листке комментария к юридическим лабиринтам судебного дела и объявил: — Если не считать высокого положения противостоящих сторон, то дело в общем-то простое. Могу я считать, что мы разделались со всеми назначенными к пересмотру делами? — Да. Осталось еще двадцать папок, но это все несложные вопросы. — В таком случае, Сэймэй, вечер у нас сегодня начнется пораньше. Пойдем-ка домой!Солнце уже клонилось к закату, потихоньку заваливаясь за глянцевые зеленые крыши казенных зданий, когда Акитада, направляющийся к дому Хираты, шел по улице Нидзе мимо ворот с красными колоннами, за которыми начинался императорский внутренний город. Щурясь от яркого света, он то и дело уворачивался от потока мелких чиновников и писцов, закончивших рабочий день и теперь спешивших по домам. От этих самых ворот, носивших название Сузакумон, начиналась улица Сузаку, тянувшаяся до громадных двухэтажных ворот Расёмон — южного въезда в столицу. На всем своем протяжении широченная улица Сузаку, разделенная посередине водным каналом, была обсажена ивовыми деревьями. По этой главной артерии города весь день в обоих направлениях двигалось огромное количество людей, местных жителей и приезжих, знати и простолюдинов, пеших, конных и в повозках, запряженных быками. Акитада считал эту улицу самой красивой на всем белом свете. На западной стороне за матово-зеленым занавесом молоденькой весенней листвы прятались жилые кварталы. Отсюда весь район выглядел как огромный роскошный парк, но Акитада хорошо знал, что там на самом деле. Северо-западная и восточная части города были застроены дворцами, особняками и богатыми усадьбами, в которых обитала знать — высокопоставленные чиновники, придворные, члены императорского клана, между тем как в двух северных третях города жили беднота и люди среднего достатка. Здесь же располагались рынки и кварталы увеселительных заведений. В последнее время по какой-то непонятной причине люди начали покидать западную часть города и переезжать в восточную половину или в предместья. Дворцы и усадьбы гибли от огня или рушились, а в домах победнее селился всякий сброд. Лишь буйная зелень по-прежнему заполоняла эти пустынные дебри, где несколько оставшихся еще здесь родовитых семей вроде Хирата вели тихую, уединенную жизнь. Шагая по здешним улицам, иногда разделенным посередине водными каналами, чьи берега соединялись деревянными мостиками, Акитада заметил, что еще несколько домов опустели с тех пор, как он проходил здесь последний раз. Акитада задумался, безопасно ли оставаться Тамако одной, когда ее отец уходит на занятия в университет. К своему облегчению, он обнаружил, что усадьба Хираты совсем не изменилась — все те же крепкие стены, все те же гигантские ивы у деревянных ворот. Из-за стен веяло ароматом цветущей глицинии. С чувством, будто он возвращается домой, Акитада глянул на тщательно начищенную табличку на воротах: «Одинокое пристанище в ивах». Согбенный, седовласый слуга открыл ворота, приветствуя широкой беззубой улыбкой. — Молодой хозяин Акитада! Добро пожаловать! Входите! Входите! — Сабуро! Рад видеть тебя. Как поживаешь? Как здоровье? — Какое там здоровье! Вот спина все время ноет, и ноги почти совсем не гнутся. Да к тому же глуховат я стал. — Потрогав поочередно все свои болезненные места, старик снова расплылся в улыбке. — Только умирать я пока не собираюсь. Да и не так уж плохи мои дела — никто не мог бы пожелать себе лучшей жизни, чем моя. А тут еще такая радость — вы к нам пожаловали. Вы теперь такой известный человек! — Брось, Сабуро, какой там известный! Но за добрые слова спасибо. Как профессор? — У него все хорошо, молодой хозяин Акитада. Он ждет вас в своем кабинете. Только молодая госпожа просила, чтобы вы сначала поговорили с ней. Она сейчас в саду. Ступая по замшелым каменным плитам, Акитада все еще радовался сердечному приветствию, коим встретил его слуга. Старик назвал его «молодым хозяином», как если бы Акитада был сыном профессора, и ему вспомнился тот счастливый год, который он провел здесь на правах младшего члена семьи. Обогнув угол дома, Акитада увидел среди цветущих кустов хрупкую стройную фигурку девушки и радостно окликнул ее: — Добрый вечер, сестричка! Тамако повернулась, их глаза встретились. На мгновение ее милое личико омрачилось грустью, но она тут же улыбнулась и бросилась к нему навстречу. — Милый друг! Добро пожаловать домой! Мы так рады твоему приходу! А какой ты стал известный и такой красивый в этом дорогом кимоно! — Подбежав, она взяла его за руки и заулыбалась. Акитада был так удивлен, что даже растерялся. Тамако стала такой очаровательной — утонченное личико, нежная шея, изящная фигура. — Почему же ты до сих пор не замужем? — внезапно спросил он. Она отпустила его руки и отвернулась, потом тихо проговорила: — Видимо, еще не встретила своего счастья. Но и ты, я слышала, тоже пока не женился. — И, снова улыбнувшись, Тамако прибавила: — Пойдем к нашему дереву? Я хочу кое о чем попросить тебя, пока ты не встретился с отцом. А потом мне нужно будет распорядиться насчет ужина и переодеться. Пока они шли, Акитада заметил, что на ней строгое синее хлопчатое кимоно, подвязанное широким поясом-оби с белым узорчатым рисунком. Этот наряд очень украшал Тамако, и Акитада не преминул сообщить ей об этом. Покраснев от смущения и улыбаясь, она поблагодарила его. — Ну вот мы и пришли. — Тамако указала на деревянный настил под горизонтальной шпалерой, увитой плетями цветущей глицинии. Многочисленные грозди пурпурных цветков свисали над их головой из-под густой лиственной крыши. Акитада огляделся. Все растения вокруг, казалось, вступили в пору цветения. Воздух был напоен их смешанными ароматами и жужжанием пчел. Когда они уселись на циновки, Акитада почувствовал, как его окутал сладкий аромат глицинии, ему показалось, будто он попал в какой-то иной, более совершенный мир, где яркие краски, запахи, пение птиц и жужжание пчел не шли ни в какое сравнение с их жалким и бледным подобием на земле. — С отцом творится что-то неладное, — сказала Тамако, вернув Акитаду к земной жизни из мира грез. — Что? — Не знаю. Он мне ни за что не скажет. Как-то недели две назад он очень поздно вернулся из университета. Отправился прямиком в свой кабинет и провел там всю ночь, расхаживая из угла в угол. На следующее утро вышел бледный и осунувшийся и почти не притронулся к еде. Так ничего и не объяснив, он ушел на работу, и с тех пор это повторяется каждый день. Всякий раз, когда я подхожу к нему с расспросами, он либо утверждает, что у него все в порядке, либо вовсе не хочет разговаривать и просит меня не соваться в его дела. Но ты-то знаешь, как это на него не похоже! — Она устремила на Акитаду молящий взгляд. — Чем же я могу тебе помочь? Что я должен сделать? — Надеюсь, он пригласил тебя на ужин, чтобы поговорить по душам и поверить тебе какую-то тайну. Если это так, то ты мог бы потом рассказать мне, в чем дело, потому что неопределенность терзает меня. Тамако вглядывалась в его лицо, бледная и напряженная, но Акитада с сомнением покачал головой: — Если он отказался чем-то поделиться с тобой, то вряд ли откроется мне, а если и откроется, то скорее всего попросит меня сохранить этот разговор в тайне. — Ну до чего же невыносимы мужчины! — возмутилась Тамако, вскочив на ноги. — Пойми, даже если отец ничего не скажет, ты все равно заметишь что-нибудь или выудишь из него. А если он возьмет с тебя слово хранить тайну, ты что-нибудь придумаешь, выкрутишься! Если, конечно, ты мне друг! Не на шутку встревоженный, Акитада тоже поднялся. Взяв Тамако за руки, он посмотрел в ее милое напряженное личико. — Имей терпение, сестричка. Конечно, я сделаю все, чтобы помочь твоему отцу. Их взгляды встретились, и ему показалось, будто он тонет в ее глазах. Внезапно зардевшись, Тамако отдернула руки и отвернулась. — Да, разумеется. Прости меня. Я знаю, что тебе можно верить. Сейчас я должна распорядиться насчет ужина, а тебя ждет отец. — Она учтиво поклонилась и торопливо пошла прочь. Акитада смотрел вслед девушке, пока ее изящная фигурка не скрылась за поворотом тропинки. Эта встреча привела его в состояние растерянности и тревоги. Он медленно побрел к дому. Профессор принял его тепло и радушно в своем кабинете, находившемся в отдельном домике, сплошь заваленном свитками. С узенькой веранды открывался вид на бамбуковую рощицу и живописный сад камней с извилистыми гравийными дорожками. Эта комната, где Акитада когда-то провел столько часов в усердных занятиях с профессором, была ему роднее и ближе собственного дома, и все здесь по-прежнему осталось на своих местах. Зато ее добрый хозяин, ставший Акитаде вторым отцом, разительно изменился: постарел и сильно сдал. — Мой милый мальчик, — начал Хирата, когда они обменялись приветствиями и сели, — прости, что вызвал тебя так неожиданно и оторвал от важных дел. — Я очень рад вашему приглашению. Я всегда любил этот дом и соскучился по Тамако. Она теперь такая взрослая и настоящая красавица. — Да. Я вижу, вы уже поговорили. — Хирата вздохнул, и Акитада снова обратил внимание на его усталый вид. Профессор всегда был жилистым и сухопарым; длинный нос и тоненькая бородка клинышком лишь подчеркивали сильно выступающие скулы, но сегодня он казался почти совсем седым, и две глубокие складки залегли по обе стороны рта. — Боюсь, я был слишком резок с бедняжкой, — сказал Хирата. — Но не мог же я позволить себе навалить на ее плечи такую тяжесть. Видишь ли, я и сам, похоже, не способен тут разобраться, поэтому, помня о нашей дружбе, пригласил тебя, чтобы спросить твоего совета. — Вы оказываете мне большую честь своим доверием. — Тогда слушай. Я расскажу, что произошло. Ты, наверное, помнишь, что раз в месяц по вечерам мы собираемся для молитв в храме Конфуция? Все преподаватели университета одеваются по этому случаю торжественно. Днем, во время занятий и лекций, наши парадные костюмы висят на крючках в передней, и мы облачаемся в них только перед началом церемонии. Помнишь комнату, о которой я говорю? — Акитада кивнул. — В тот вечер меня задержал один студент, и я очень спешил, поэтому, почти не глядя, накинул на себя парадное кимоно и присоединился к церемонии. В середине службы я почувствовал у себя в рукаве что-то шуршащее, пощупал и нашел за отворотом бумажку. В темноте я не мог прочесть ее, поэтому принес с собой домой. Хирата встал и подошел к одной из полок. Из лакированной шкатулки он извлек узенький листок бумаги и дрожащей рукой передал его Акитаде. Тот разгладил скомканную бумажку. На ней красивым, но ничем не примечательным почерком было написано следующее: «Пока люди вроде тебя берут от жизни все, другие не знают, чем наполнить пустой живот. Если хочешь сохранить свою вину в тайне, плати долги! Предлагаю начать с тысячи». Акитада взглянул на профессора: — Насколько я понимаю, кто-то из ваших коллег стал жертвой шантажа. — Спасибо, мальчик мой. — Хирата неловко улыбнулся, явно нервничая. — Да. Только к этому заключению мне и удалось прийти. Боюсь, один из преподавателей совершил серьезный… проступок, а кто-то другой вымогает у него деньги в обмен на молчание. Мало того, что двое моих коллег, как оказалось, не соответствуют высоким моральным принципам, кои нам всем надлежит внушать нашим студентам. Ужас еще и в том, что это дело может получить огласку. Наш университет теперь в опасности. — Вы удивляете меня. Хирата нервно поерзал. — Да. Мы уже и так теряем студентов, многие переводятся в частные заведения, и нам сильно урезали фонды. Любой скандал чреват закрытием университета. — Он посмотрел на свои крепко стиснутые руки и тяжело вздохнул. — С того самого момента я постоянно думаю о том, как выйти из этого положения. Теперь я возлагаю все надежды на тебя. Ты всегда легко справлялся со сложными задачами. Если бы тебе удалось выявить шантажиста и его жертву, я разобрался бы в этом деле, и репутация университета не пострадала бы. — Полагаю, вы преувеличиваете мои скромные способности. — Акитада разложил листок перед собой. — Вам не знаком этот почерк? — Хирата покачал головой. — Я так и понял. Почерк и впрямь не примечательный. И все же эту записку не назовешь каракулями безграмотного. Сразу видно, что автор образован. Мог ли студент написать такое? — Трудно сказать. Студенты никогда не заходят в это помещение. А насчет почерка ты прав, он действительно ничем не примечателен. Только ведь его могли и подделать. — Да. Хм-м… Для человека среднего достатка тысяча — большая сумма, а ведь предполагается, что это только первая выплата. Какое бы должностное преступление ни совершил этот человек, оно должно быть довольно серьезным, если стоит ему таких денег. Кто из ваших коллег способен заплатить столько? Профессор задумался. — Понятия не имею. Знаю только, что сам с трудом достал бы такую сумму. — А что вы уже предприняли? — Да почти ничего. Не мог же я спрашивать всех подряд, не подвергались ли они шантажу. — Хирата провел рукой по изборожденному морщинами лицу. — Как это все ужасно! Я ловлю себя на том, что смотрю теперь на своих коллег с подозрением и каждый день жду чего-то страшного. Когда же растерянность моя дошла до предела, я вспомнил о тебе. Видишь ли, я знаю этих людей слишком давно, и мне трудно судить о них непредвзято. А ты, как человек посторонний, возможно, составишь о них свежее мнение. — Но не могу же я ни с того ни с сего начать слоняться по университету, приставая к людям с бесцельными вопросами. — Нет-нет! Мы могли бы поступить иначе. Разумеется, ты не можешь просто так тратить на это время. У нас есть свободная ставка помощника профессора права. Она появилась три месяца назад и пока пустует. Все сложится очень удачно — ты станешь моим помощником, и мы сможем регулярно общаться, ни у кого не вызывая подозрений. Скажи, мог бы ты взять у себя на работе короткий отпуск и поступить к нам приходящим лектором? Конечно, не бесплатно. Акитаде вспомнилось его министерское рабочее место с горами пыльных свитков и кислым лицом его непосредственного начальника министра Соги. А тут представляется возможность удрать от ненавистных архивов, и не просто удрать, а попытаться разгадать какую-то таинственную историю, получив к тому же за это вознаграждение. — Да, — сказал он. — Смог бы. Только с условием, что министр даст разрешение. Усталое лицо Хираты просияло. — Это я почти готов гарантировать. Ох, мой милый мальчик, ты не представляешь, какое я испытал облегчение! Ведь я окончательно зашел в тупик и совсем не знал, что делать. Если мы пресечем этот шантаж, университет худо-бедно еще выпустит несколько поколений. Акитада внимательно посмотрел на своего старого друга и учителя. — Но только вы ведь знаете, — нерешительно сказал он, — что я не смогу, если понадобится, скрыть улики. Хирата пришел в замешательство. — О да, конечно… Я понимаю, о чем ты. Разумеется, ты совершенно прав. Какое неловкое положение! И все же нам следует что-то предпринять. Ты должен поступить так, как считаешь нужным. Я-то ведь вообще не понимаю, что происходит. Наступило короткое молчание. Акитада задался вопросом, не слишком ли быстро профессор согласился. И не произнес ли он с каким-то особым ударением слова «не понимаю»? Наконец Акитада с едва заметной усмешкой сказал: — Ну что ж, постараюсь, только боюсь, преподаватель из меня никакой. Советую вам определить ко мне самых нерадивых студентов, иначе весь наш план быстро рухнет. Хирата оживился. — Ошибаешься, мой милый мальчик! — радостно воскликнул он. — Ты был моим лучшим учеником и с тех пор приобрел еще столько практических знаний, сколько мне и не снилось. В этот момент кто-то тихо поскребся в дверь. — Отец! — послышался нежный голосок Тамако, которая, сама того не ведая, заставила их завершить нелегкий разговор. — Ваш ужин готов. Идемте! — О да, конечно. Сейчас идем. Мы только что закончили предаваться воспоминаниям, — отозвался Хирата. Они услышали удаляющиеся шаги за дверью. — Разрешите мне посвятить в это дело вашу дочь? — спросил Акитада. — Или, быть может, вы сами это сделаете? Хирата, уже поднявшийся на ноги и расправлявший на себе кимоно, замер. — Зачем? Я бы предпочел не вмешивать ее, — неуверенно отозвался он. — Она так беспокоится за вас, что правда принесла бы ей огромное облегчение, — настаивал Акитада. Когда они вышли, Хирата неожиданно спросил: — А тебе всегда нравилась моя девочка, не так ли? — Да. Конечно. — Вот и хорошо. Мы вместе расскажем ей обо всем за ужином.
Глава 2 Императорский университет
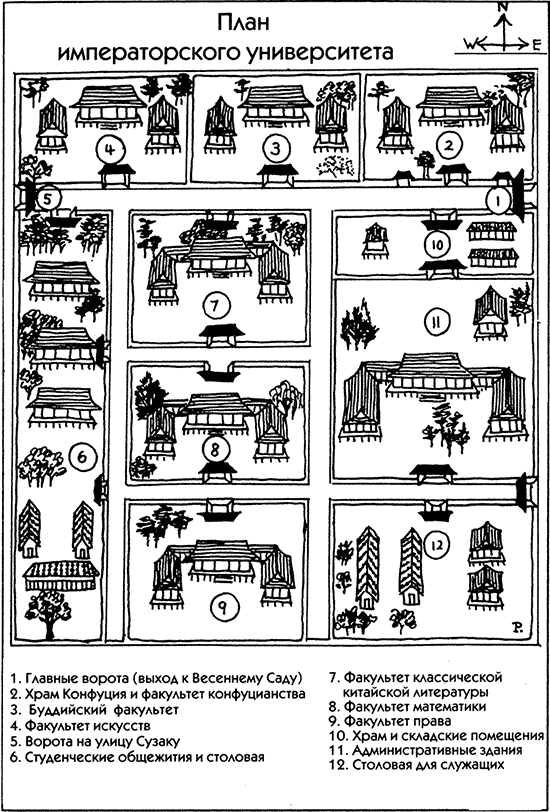 План императорского университета
План императорского университета
Неделю спустя один из преподавателей, Акитада, вошел в университет его императорского величества, где и сам когда-то получил образование. Императорский университет, или Дайгаку, занимал четыре городских квартала к югу от величественного императорского дворца Дайдайри. Его главные ворота выходили на дорогу Мибу и располагались прямо напротив Синсэнэн — Весеннего Сада, огромного парка, где император со своей свитой и знатью часто устраивал летние приемы. Солнечным утром Месяца цветения, ступив за эти ворота и оглядев почти родные стены, черепичные крыши учебных корпусов и студенческих общежитий, раскинувшихся под ясным безмятежным небом и колышущимися ветвями старых сосен, Акитада испытал знакомое чувство страха. Так же как взрослый сын, который всегда ощущает свое несовершенство перед лицом сурового отца, Акитада вновь испытал влияние атмосферы интеллектуального величия и превосходства, всегда вызывавшей у него юношеское благоговение. Совладав с волнением, он постарался принять слегка небрежный вид. Акитада заметил, как буйно разрослись сорняки под стенами, давно требовавшими починки в тех местах, где отвалившаяся известка обнажила деревянные сваи. Дорожка была покрыта колдобинами и лужами, а на изогнутых крышах зданий и ворот зияли провалы осыпавшейся черепицы. Студенты, с десяток юношей лет двадцати, в хлопковых кимоно обязательного для учащихся темного цвета, увлеченно болтая, прошли мимо Акитады, но тотчас же приумолкли, когда поравнялись с ним. Хитровато оглядываясь, они завернули во двор ближайшего здания и припустили бегом. «Ничего не изменилось, — с улыбкой подумал Акитада. — И проказники студенты все такие же шкодливые». Он понимал их. День обещал быть прекрасным, так лучше провести его, резвясь на солнышке, чем киснуть в душных классах. Безоблачное голубое небо напоминало нежный шелк, на фоне которого темно-зеленые сосны и матово-серебристые ивы смотрелись как изящная тонкая вышивка. А где-то рядом во дворе куковала кукушка. Акитада пришел раньше положенного времени, так как хотел осмотреться и, если получится, познакомиться с кем-нибудь из новых коллег. Пройдя через отдельные ворота во двор храма Конфуция, Акитада решил воздать дань уважения святому, покровителю образования. К тому же ведь именно здесь профессор Хирата обнаружил записку шантажиста. После яркого солнечного света полумрак, царивший в помещении храма, поначалу поразил Акитаду, но вскоре глаза его привыкли, и он уже различал очертания деревянных изваяний высотой в человеческий рост. Великий учитель Конфуций занимал почетное место посередине специального возвышения; рядом, по обе стороны, стояли его последователи-мудрецы. Почтительно склонившись перед «учителем Куном», как называл его Сэймэй, Акитада испросил у него вдохновения в предстоящих новых трудах. Преподавательская должность, хотя и задуманная как прикрытие для поисков, пугала его своей ответственностью. Акитада понимал, что одурачить умную молодежь ему так просто не удастся. Он даже подумал, не вернуться ли к своей работе, но, мысленно взвесив перспективы, пришел к выводу, что пыльные министерские архивы пугают его больше, чем дотошные вопросы пытливых студентов. Где-то закрылась дверь. Акитада огляделся, но никого не увидел. Статуя великого мудреца взирала на него из-под тяжелых век, одной рукой поглаживая длинную бороду. Мудрость приходит с годами. А кто он такой, чтобы называть себя учителем? Подобный обман не совместим с философией конфуцианства. Акитада вспомнил о своих архивах. Как ни странно, но ему без труда удалось получить в министерстве отпуск. Его превосходительство министр юстиции лишь холодно посмотрел на Акитаду и сообщил, что его присутствие в университете в настоящий момент более необходимо, нежели здесь, на его обычном рабочем месте. Сога дал ему почувствовать, что в министерстве управятся без него. Тяжко вздохнув, Акитада еще раз, теперь уже смущенно, поклонился учителю и вышел в небольшую прихожую. Здесь на вбитых в стену крючках профессора обычно оставляли свою повседневную одежду, облачившись в церемониальный наряд. В прихожей было всего две двери, одна вела в молельню, другая — на улицу. Приоткрыв вторую, Акитада выглянул во двор. Густые заросли кустарника, окаймлявшие сосновую рощицу, скрывали этот вход от взгляда со стороны. То есть любой мог войти сюда или выйти, оставшись незамеченным. Прикрыв дверь, Акитада вновь начал разглядывать крючки на стене, когда рядом вдруг кто-то тихо кашлянул. Из приоткрытой двери в молельню на Акитаду смотрело узкое длинное лицо со смешными кустиками бровей. — Э-хе-хе, да у нас гость! — сказал незнакомец, выходя в переднюю. — Позволит ли достопочтенный господин показать ему храм? Средних лет, долговязый и неуклюжий незнакомец отвесил поклон, гораздо более почтительный, чем того требовало скромное платье Акитады. На нем самом было помятое, плохо выкрашенное кимоно, подвязанное лентой. Волосы его растрепались и торчали в разные стороны. Акитада принял его за служку. — Меня зовут Нисиока, — добродушно сообщил незнакомец. — Преподаватель конфуцианской литературы. Так что, как видите, вы попали в хорошие руки. Могу ли и я узнать имя достопочтенного господина? — И он вперил в Акитаду вопросительный взгляд. Его широкий расплющенный нос подрагивал от любопытства. Возможно, столь небрежная наружность этого человека объяснялась обычным равнодушием, с каким ученые относятся к своему внешнему виду, но Акитада еще никогда не видывал профессора с такими кустистыми бровями и такими худыми впалыми щеками. Тем не менее, поклонившись, он представился: — Меня зовут Сугавара, и в ближайшие несколько недель я буду вашим коллегой, хотя и преподаю право. А вы, должно быть, помощник профессора Танабэ? Собеседник Акитады улыбнулся: — Очень, очень рад! Да, я имею честь и удовольствие быть помощником этого великого ученого. Он постоянный источник вдохновения моих трудов! А вам он, наверное, друг? — Скорее бывший учитель. И учитель весьма строгий. — Ах вот оно что! Понимаю. Да, у нас некоторые студенты, кажется, и впрямь считают его очень требовательным. Так, стало быть, вы будете преподавать право? Вы знаете профессора Хирату? — Да. Вот он как раз мой друг. И тоже бывший учитель. — О-о! Должно быть, благодаря этому он и отметил ваши способности. Эти слова смутили Акитаду, ибо откровенно намекали на то, что он был любимчиком профессора. — Прошу прощения, не понял?… Лицо Нисиоки комично вытянулось. — Кажется, я обидел вас. Возможно, я не совсем верно выразил свою мысль. Я хотел сказать, что вы, наверное, были блестящим учеником. — Благодарю вас. Как вы догадались, я теперь заново знакомлюсь с местами, где когда-то провел свою юность. У вас тут бывает много посетителей? — О нет. Потому-то я и вышел узнать, кто вы такой. Я, видите ли, стараюсь следить за тем, кто приходит сюда. С удовольствием поболтал бы с вами подольше, но мне нужно идти помогать профессору Танабэ готовиться к лекции. Если позволите, я как-нибудь загляну к вам на факультет права. Ведь вы, полагаю, пожелаете узнать побольше о наших преподавателях и студентах. — Он низко поклонился и исчез так же внезапно, как появился. Акитада тоже вышел из храма, отметив, что Нисиока, судя по всему, хорошо осведомлен о многом и может быть полезен как источник сплетен. Все еще не совладав с неохотой приступать к новым обязанностям, Акитада прошелся между зданиями, предаваясь воспоминаниям о студенческих днях. В маленьком дворике буддийского храма было пустынно, но из соседнего двора доносились звуки лютни. Там располагался факультет искусств, где преподавали музыку, рисование и искусство каллиграфии. В свое время Акитада провел здесь немало счастливых часов. Не наделенный исполнительским даром, он искренне любил все виды инструментальной музыки, особенно игру на флейте. Кроме того, ему нравилось общество музыкантов и художников, где царила атмосфера веселья и непринужденности и когда они охотно принимали людей со стороны. Вот и сейчас кто-то виртуозно играл на лютне в здании слева. Сердце Акитады учащенно забилось, и он пошел туда, откуда доносился звук. Но когда Акитада завернул за угол, музыка прекратилась. С улицы он видел, как в маленькой угловой комнате мужчина лет под сорок и молодая женщина, густо умащенная красками, сидят друг подле друга с лютнями в руках, поглощенные своим занятием. Теперь мужчина опустил свою лютню, чтобы обнять засмеявшуюся девушку. Преодолев мимолетное колебание, Акитада поднялся на веранду и громко кашлянул. Он слышал, как мужчина тихо выругался и спросил: — Кто там? Войдя в открытую дверь, Акитада поклонился. Теперь девушка в самой скромной позе сидела в нескольких шагах от мужчины. — Что за черт? Кто вы такой? — осведомился музыкант. Как и Нисиока, этот мужчина с узким покатым лбом и крупными мясистыми губами не отличался привлекательностью, но глаза у него были большие и довольно красивые. Акитада смутился. — Прошу прощения за столь неожиданное вторжение. Меня зовут Сугавара, я прибыл сюда, чтобы занять место помощника профессора Хираты. Проходя мимо, я услышал чудесную игру на лютне, и мне захотелось выразить исполнителю свое восхищение. Мужчина поморщился. — Ну что ж, исполнителя вы нашли, — нелюбезно проворчал он и, обратившись к девушке, сказал: — Теперь иди и практикуйся! Девушка поднялась, взяла свою лютню, поклонилась и вышла. Она оказалась не столь изящной и грациозной, как можно было ожидать от лютнистки. Грубое хлопковое кимоно выдавало в ней простолюдинку, но оно было перевязано очень красивым поясом-оби из золотисто-пурпурной парчи. — Меня зовут Сато, — представился музыкант, — и я, как видите, имею небольшой дополнительный заработок, давая уроки этой глупой девчонке. Подобные вещи здесь запрещены, поэтому лучше не упоминайте об этом. Присаживайтесь. — Сато указал на циновку и потянулся к кувшину с вином и двум грязнымчаркам, стоявшим рядом. — Винцо неплохое и прекрасно освежает. Это она принесла. Берет его в своем увеселительном заведении. — Он налил вина и протянул чарку Акитаде. Заметив на ее краях жирные красные отпечатки губной помады, Акитада торопливо проговорил: — О нет, благодарю, я не пью в такой ранний час. Кроме того, мне еще предстоит прочесть лекцию, поэтому хорошо бы иметь свежую голову. — Чепуха! — возразил музыкант. — Вино способствует раскрытию талантов. Впрочем, как знаете. — Он осушил чарку Акитады. — Я, например, уже порядком набрался, хотя у меня скоро урок по классу флейты. А к вечеру я протрезвею и даже дотащусь до своего любимого заведения. Вот где можно услышать настоящую музыку! Если угодно, приходите в «Старую иву» на набережной у моста рядом с Шестой улицей. Набережная реки Камо возле моста Шестой улицы славилась своими питейными заведениями и домами свиданий, составлявшими увеселительный квартал столицы. Акитада учтиво ответил: — Спасибо. Когда-нибудь я обязательно послушаю вашу игру на флейте, но сейчас мне нужно идти в свой класс. Он встал и поклонился. Его новый знакомый лишь махнул ему, не в силах оторваться от следующей чарки вина. Выйдя на улицу, Акитада заметил, как кто-то поспешно перебежал ему дорогу. Сначала незнакомец стоял, прячась за воротами студенческих общежитий, и при появлении Акитады быстро скрылся. Первым желанием Акитады было выяснить, кто это такой, но, вспомнив, как сорванцы-студенты любят подшутить над старшими, он свернул на аллею, ведущую к учебным корпусам — классической китайской литературы, математики и права. Здесь Акитада наконец обнаружил первые признаки академической активности. У дверей факультета классической китайской литературы ему встретился студент-старшекурсник, судя по возрасту и темной униформе. Проходя мимо, он окинул Акитаду беглым безразличным взглядом, брошенным поверх толстой стопки бумаг, которую нес в руках. Акитада отметил, что, несмотря на хмурое выражение лица, юноша необычайно красив. Внезапно взволновавшись, не опоздал ли он, Акитада окликнул студента: — Доброе утро! Скажите, занятия уже начались? Юноша остановился и буркнул через плечо: «Нет», после чего продолжил путь. Неучтивость студента поразила Акитаду, и он стоял, с недоумением глядя вслед парню. Интересно, почему он так груб? Поскольку вокруг не было ни души, Акитада решил, что, наверное, пришел очень рано. Возможно, позже ему удастся объяснить эту загадку. Факультет классической китайской литературы считался самым престижным в университете. Здешние преподаватели имели самые высокие ученые степени, а выпускники безо всякого конкурса попадали на почетнейшие государственные должности. Огромный главный зал, где обычно проходили лекции, соединялся крытыми галереями с классами поменьше. Ни в этих галереях, ни во дворе Акитада никого не встретил. Нерешительно постояв перед ступеньками главного входа, он вошел. Внутри его встретили пустота и безмолвие. В какой-то момент ему будто бы послышались шаги в главном зале, но, заглянув туда, он никого не обнаружил. Акитада ломал голову: куда все подевались? В его студенческие дни здесь бурлила жизнь даже в такой ранний час. Внезапно в дверях появился недавно встреченный им красивый юноша. Быстро взглянув на Акитаду, он пробормотал: — Забыл кое-что, — и направился в один из классов. — Подождите, молодой человек! — воскликнул Акитада. Юноша обернулся: — В чем дело? — Не скажете ли, что происходит? Где преподаватели? — Ах вот вы о чем. Если вы ищете наше светило, то оно в библиотеке. Уединился там со своим подхалимом, — сухо пояснил юноша и посмотрел в сторону западного крыла, перед тем как продолжить путь. Удивленно покачав головой, Акитада пошел по крытой галерее. Его мучило любопытство: что за учителя у этого студента? В библиотеке он застал двух мужчин, склонившихся над пожелтевшим свитком. Один из них, пожилой, высокий, с величественной седой головой, был в роскошном парчовом кимоно. При звуке раздвигающейся двери он сердито поднял глаза. — Что вам угодно? — осведомился он у Акитады. Его гладко выбритое лицо носило следы былой красоты, а недобро сверкающие глаза выражали презрение. — Я занят, и незачем беспокоить меня по пустякам! Покраснев, Акитада извинился и представился. Несколько смягчившись, элегантный господин назвал свое имя — Оэ — и представил Акитаде своего помощника — Оно. Оно, невысокий худой человек лет тридцати с небольшим, носил усы и крохотную бородку клинышком, видимо, надеясь скрыть врожденный недостаток — неразвитый подбородок. — Оно, принеси чаю! — распорядился Оэ. Его молодой помощник вскочил, подобострастно поклонился и выбежал. — Терпеть его не могу! — признался Оэ, даже не понизив голоса. — Никакого чувства собственного достоинства, и взгляд беличий. Да и повадки тоже. Впрочем, в отличие от других Оно приносит пользу. Так как, вы сказали, вас зовут? Сугавара? Что ж, хорошая семья, жаль только, разорилась. Присаживайтесь. Вы учились здесь еще до моего прихода сюда? Акитада кивнул. — Хм, право… Эта область знаний привлекает немногих, но Хирата, как мне известно, человек толковый. Правда, должен заметить, он почти бессилен, когда речь идет о его собственной карьере. Сколько раз я предлагал познакомить его с нужными людьми, но он постоянно отказывается. А ведь у меня есть друзья в самых высоких кругах. Да-да, знаете ли, в самых высоких… В этот момент вошел Оно с чайным подносом, и начальник тут же сделал ему выговор за нерасторопность, неловкость и плохой выбор чашек. — Когда ты наконец запомнишь, что я пью только из привозного фарфора? — возмутился он. — Какой же я болван! — забормотал Оно, беспрерывно сгибаясь в подобострастных поклонах. — Я мигом сбегаю, принесу! — Не надо. На этот раз обойдемся. Заварил-то хоть правильно? — Надеюсь, да. — Оно пояснил Акитаде: — Профессор, как никто другой в университете, отличается весьма утонченным вкусом во всем. Я неустанно повторяю ему, что он понапрасну тратит силы на деревенщину, съехавшуюся сюда из провинций, чтобы посещать его занятия. Ничуть не тронутый столь откровенной лестью, Оэ заорал: — Что ты несешь, дурак! У меня полно учеников из лучших семей страны! В их числе внук принца Ёакиры господин Минамото и племянник первого министра — у обоих в жилах течет императорская кровь. Так как же ты после этого смеешь утверждать, что я якшаюсь с деревенщиной?! Желая отвлечь гнев Оэ от незадачливого Оно, Акитада поспешил сообщить: — А я только что встретил в главном зале молодого человека с весьма породистой наружностью. Студент-старшекурсник. Высокий, красивый. — Старшекурсник? Кто же это? — Нахмурившись, Оэ перевел вопросительный взгляд на Оно. — Это, должно быть, Исикава, господин. Он пришел сегодня пораньше, чтобы проверить сочинения. — А-а, Исикава… Да он никто. Просто студент. Умный парень, но из бедной семьи. Подрабатывает здесь, живет на стипендию. Помогает мне проверять сочинения. Я, знаете ли, не всегда нахожу для этого время. Приближается праздник Камо, и я готовлю поэтическое состязание между университетской командой и представителями знатных семей. Вот это будет интересное зрелище. Вас, несомненно, тоже пригласят. Вы сочиняете стихи? — Боюсь, мои таланты проявляются только в области прозы, — смутился Акитада. — Воззвание в поддержку крестьян о снижении рисового налога или доклад о практике проведения буддийских служб в провинциях — в общем, все в таком духе. — Хм… Не выношу буддистов! Вот китайцы знали, как с ними поступать. Вышвырнули всех монахов из монастырей, а золотые изваяния Будды переплавили да отправили в имперскую казну. Прочтите-ка на память несколько строк из этого вашего воззвания о крестьянах! Акитаде пришлось признаться, что он помнит текст не слишком четко. — Это говорит о многом. Если бы ваше сочинение было хорошим, вы помнили бы его. Я вот, например, несколько лет назад тоже сочинил одно воззвание. Оно звучало так. И низким, зычным голосом Оэ начал декламировать. Теперь Акитада понял, чем так прославился этот человек. Ритмичные, завораживающие звуки слетали с его уст словно музыка. Оно слушал как зачарованный и, когда Оэ закончил, достал из рукава платок, чтобы приложить его к увлажнившимся глазам. — Великолепно! — восхищенно выдохнул он. — Еще никто не написал лучше! Даже По Чу не сравнится с вами во владении рифмой и размером. — Можешь унести чайный поднос, — раздраженно бросил Оэ. — Я должен вернуться к работе, Сугавара, но, надеюсь, мы еще увидимся. Акитада поспешно покинул прославленного Оэ. Он направился на факультет права самым коротким путем — через двор факультета математики. В галерее дорогу ему преградил незнакомец. — Кто вы такой? — сердито спросил он. Акитада объяснил и тут же узнал, что говорит с одним из преподавателей математики. У профессора Такахаси, худого человека лет пятидесяти с небольшим, заметно редели волосы. Морщинистыми лицом и шеей он напоминал рассерженную черепаху. Такахаси пристально осмотрел Акитаду, прежде чем признал в нем коллегу. — Не понимаю, зачем они берут людей на временную работу, — недовольно заметил он. — Наш университет и так уже пользуется дурной славой. Впрочем, это лучше, чем оставить Хирату бороться в одиночку. Ведь это становится ему не по силам. Вы уже познакомились с остальными? Акитада перечислил свои утренние встречи. — Нисиока интеллектуально полный ноль. Он постоянно сует свой нос в чужие дела, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. А Сато пьяница и гуляка, похотлив, как барсук, — проинформировал Акитаду Такахаси. — Ну, а Оэ, конечно же, наше светило! Везунчик! Эта пустоголовая придворная знать восхищается его талантами, всей этой страстью и натиском чувств. И слава не приходит с пустыми руками — туго набивает карманчики. Он уже купил себе летний дом на озере Бива, так что теперь, полагаю, займет место никак не ниже государственного советника. Акитада так растерялся, что на некоторое время утратил дар речи. Такахаси, видимо, не испытывал ни малейших угрызений совести, говоря гадости о своих коллегах. А ведь когда-то, как припомнил Акитада, его должность занимал добрейший человек. — Вижу, здесь многое изменилось со времен моего студенчества, — заметил Акитада. — Из моих бывших учителей почти никого не осталось. Только профессора Хирата да Танабэ. Он, кстати, готовился к лекции, когда я зашел. — Да дрых он скорее всего, — грубо заметил Такахаси. — Боюсь, совсем одряхлел старик. Да вы и сами увидите. — А как студенты? — В основном тупицы. А что вы хотите? Их родители либо пресыщенные сановники, у которых на уме одни развлечения и удовольствия, и им совершенно наплевать, научатся ли их безмозглые отпрыски трудиться и думать, либо чиновники из каких-нибудь дальних провинций, где в школах преподают полуграмотные учителя. — Полагаю, вы преувеличиваете, — возразил Акитада. — Профессор Оэ с большим уважением говорил мне кое о ком из своих аристократических учеников, и насколько я понял, он даже использует одного старшекурсника для проверки сочинений. — Вот как? А я и не знал, что подобные вещи разрешены! Нет, если каноны профессиональной этики претерпели такие изменения, то, возможно, мы все переложим свои обязанности на студентов и будем спокойно наслаждаться жизнью в летних домах? Что это был за старшекурсник? — К сожалению, не знаю его имени. — Акитада уже досыта наслушался гнусных клеветнических тирад Такахаси по поводу всех и вся, однако не мог позволить себе демонстративно отвернуться от него, поэтому вежливо сказал: — Для меня большая честь познакомиться с вами, господин Такахаси, но меня ждут на факультете. Думаю, занятия вот-вот начнутся. — Что ж, тем более жаль! Еще один день жизни, потраченный впустую! Впрочем, не буду остужать вашего рвения. В конце концов, назначение на временную должность — это еще не смертный приговор! Акитада заторопился. Во дворе он полной грудью вдохнул свежего воздуха, надеясь, что легкий утренний ветерок поможет ему избавиться от дурного настроения. Возле здания факультета права Акитаде показалось, что он увидел удаляющегося Нисиоку. Впрочем, яркая повязка могла принадлежать кому угодно. Хирату он нашел в пустом классе — тот заботливо поправлял на полу циновки, проверял запасы туши и воды в баночках и наличие кисточек возле каждого студенческого места. При виде Акитады он просиял и первым делом поинтересовался, как прошло утро. Акитада вздохнул: — Я познакомился кое с кем из ваших коллег. Впечатление удручающее. Хирата рассмеялся: — Постой, дай-ка попробую угадать! Один из них точно был Такахаси. Верно? — Да. А еще не в меру любознательный тип по имени Нисиока; подвыпивший лютнист, тискающий проститутку, и самопровозглашенный поэт-лауреат, осыпающий нескончаемой бранью своего поклонника-помощника. Да, и был там еще один очень грубый студент, который, судя по всему, презирает их обоих. Хирата улыбался. — Смотрю, ты не терял времени даром. Студент, наверное, Исикава. На ближайших экзаменах от него ждут лучших результатов, вот он, кажется, чуточку и загордился. Боюсь, его высокомерие в будущем выйдет ему боком. — Улыбка исчезла с лица Хираты. — В этом мире одного таланта и способностей недостаточно, если молодой человек из бедных не обладает такими качествами, как смирение и любезность. — Что же случилось с нашим университетом? Здесь теперь все по-другому. Повсюду признаки запущения и разлада. Студенты демонстрируют высокомерие, профессора откровенно злословят друг о друге. Когда я учился, такого не было. Хирата замер и внимательно посмотрел на Акитаду. — Сейчас у нас не лучшие времена. — Он снова улыбнулся. — Но ты не грусти! Все не так плохо. Ты полюбишь своих студентов и наверняка оценишь по достоинству кое-кого из новых коллег. — Профессор Оэ утверждает, что здесь учится внук покойного канонизированного принца Ёакиры. — Да, это так. Бедный мальчик будет посещать твои занятия. Акитаду заинтриговали эти слова, но, не тратя времени на расспросы, он решил вернуться к своей первоначальной цели: — Я заглянул в прихожую храма Конфуция. Туда, кажется, может зайти кто угодно. Вы помните, кто был вместе с вами на церемонии? Хирата развешивал на вертикальном щитке огромную схему государственного устройства. — Были Оэ и Оно. Они никогда не пропускают молебен. Такахаси тоже должен был прийти, хотя я не припоминаю, чтобы видел его. Еще, конечно же, Нисиока и Танабэ. Насчет Фудзивары и Сато я не уверен. Фудзивара небрежно относится к подобным обязанностям, хотя в остальном он настоящий гений. Подозреваю, он частенько прикладывается к бутылочке, и Сато составляет ему компанию. Вообще-то я думаю, они оба тебе понравятся, когда ты узнаешь их поближе. Мы также часто приглашаем на церемонии наших лучших студентов, правда, они не всегда приходят. Полагаю, подобные мероприятия слишком скучны для них. Впрочем, Исикава был там в тот вечер, в этом я не сомневаюсь. — Я очень удивился, застав Сато в комнате с женщиной. Он утверждал, что дает урок, но, по-моему, они упражнялись в чем-то совсем другом, в не в игре на лютне. Хирата удивленно поднял брови. — Мой дорогой мальчик, ты рассуждаешь как заправский ханжа. Конечно, нам известно о том, что Сато дает частные уроки. Теоретически это против правил, но гейши из веселого квартала охотно учатся у Сато его знаменитой технике, а ему нужны деньги. Преподавательская зарплата, видимо, утекает у него сквозь пальцы, как вода, и он вечно в долгах. Здесь ты должен сделать скидку на артистический темперамент. — Но такое поведение способно сделать его мишенью для нашего шантажиста. — Ему никогда не удалось бы выплатить такую сумму. По крайней мере мне так кажется. Надеюсь, что это не Сато. Во-первых, он гений, а во-вторых, у него большая семья, которую нужно кормить. — Тем хуже. Так или иначе, но пока он единственный из ваших коллег, кто замечен в незаконных или аморальных поступках. Кстати, мне вот что еще пришло в голову. Как выглядело ваше кимоно? Не было ли в раздевалке похожего на него? — Ну конечно! Как я об этом не подумал?! У меня было зеленое шелковое кимоно с мелким узором в виде цветущей вишни. Только вряд ли у кого-то еще мог оказаться такой рисунок. — В темноте мелкий узор можно и не заметить. Кто-нибудь еще тогда был в зеленом? — Танабэ, Фудзивара и Такахаси. — Так много?! — изумился Акитада. — У нас у всех одна степень. Поэтому и один цвет — нам полагается ходить в зеленом. — А как же Оэ? — Э-э, нет. Глава факультета китайской литературы превосходит всех нас на одну степень. Оэ всегда ходит в синем. — Понятно. А как же все остальные? У них более низкие степени? — Да. И знаешь, как мне ни стыдно в этом признаться, но из трех моих коллег, носящих зеленое, я выбрал бы Такахаси. Это похоже на него. Их разговор прервали топот ног по деревянному настилу веранды и шумные смеющиеся молодые голоса. — А вот и твои ученики, — улыбнулся Хирата. — Мои?! — Акитада вдруг запаниковал. — Я думал, вы готовитесь к своим занятиям. — О нет. Но не стоит волноваться! Они пока зеленые юнцы. Для начала им необходимо усвоить основы устройства нашего государства, а уж потом приступать к изучению сложных законов. Полагаю, тебе-то эти законы известны так хорошо, что ты мог бы цитировать их наизусть во сне. Дверь распахнулась, и в класс хлынули юнцы всех возрастов от двенадцати до восемнадцати лет в хлопковых синих кимоно. Кланяясь на пороге, они занимали свои места. Акитада очень удивился, когда последним в класс вошел человек лет под шестьдесят в таком же темно-синем студенческом кимоно и, как другие ученики, тоже поклонился и сел. Акитада вопросительно посмотрел на Хирату. — Это господин Юсимацу, — прошептал Хирата. — Он потратил много времени, чтобы поступить к нам, и потратит еще больше, чтобы его допустили к первому экзамену. Усердие и старания этого человека так велики, что я по-настоящему восхищаюсь им. Взяв Акитаду под руку, Хирата вывел его на середину комнаты и поклонился классу. Акитада последовал его примеру, и студенты ответили ему почтительным поклоном. — Это ваш новый наставник, учитель Сугавара, — объявил Хирата. — Он пришел к нам из министерства юстиции, где до недавнего времени служил следователем-кагэюси. Можете задавать ему любые вопросы. Произнеся это, Хирата поклонился Акитаде и ученикам и вышел. В комнате стояла мертвая тишина. Акитада сел за свой столик и окинул взглядом студентов. Те смотрели на него не мигая. Все они были вполне обычными юношами — все, кроме господина Юсимацу, смотревшего на Акитаду с приоткрытым ртом. Один мальчик, самый младший и хрупкий, с красивыми, тонкими чертами лица и темными кругами под глазами, сидел чуть в сторонке от других. Только у этого мальчика был такой отстраненный вид, словно его не интересовали ни занятия, ни появление нового учителя. Акитада ободряюще улыбнулся ему, но мальчик, никак не отреагировав на это, смотрел куда-то вдаль. — Простите, господин, у меня вопрос, — подал голос Юсимацу. — А чем занимается кагэюси? Один из юношей, презрительно фыркнув, ответил ему: — Тупица! Кагэюси ведет дела по расследованию растрат крупных чиновников. Ничуть не оскорбившись, господин Юсимацу с поклоном смиренно ответил юноше: — Благодарю вас за наставление. Вы очень добры. Смутившись, Акитада обратился к классу: — Меня направляли в провинцию Кацуза, где незадолго до этого был смещен со своего поста тамошний правитель. В нашем государстве принято приводить в порядок все учетные записи крупных должностных лиц, прежде чем вновь назначенное лицо займет свой пост. Возможно, когда-нибудь и кого-то из вас назначат проверять официальные отчеты или управлять провинцией. Поэтому сейчас вам необходимо серьезно изучить этот вопрос. — Господин учитель, а это была трудная работа? — спросил другой юноша. Акитада замялся: — Не то чтобы очень трудная. Мне помогало много хороших людей, но… — Пытливые глаза были устремлены на него. — Но там были и плохие люди. Побуждаемые алчностью, они замыслили и совершили убийство, которое сделало мою задачу необычайно тру… — Закончить фразу ему не пришлось. Худенький мальчик вдруг вскочил. Бледный как полотно, сжимая кулаки, он выпалил: — Господин учитель, можно мне выйти? — и, не дожидаясь ответа, выбежал из комнаты. Акитада удивленно смотрел ему вслед. — Как зовут этого мальчика? — спросил он. — Это князь Минамото, — с готовностью объяснил кто-то из учеников, а его сосед злорадно добавил: — Зазнайка! Считает себя лучше нас и думает, что может делать все, что захочет.
Глава 3 Кролик
На следующее утро Акитада встретился с Сэймэем и Торой. Матушка Акитады, к счастью, пока не знала о его новой работе, и он надеялся улизнуть из дома, прежде чем она успеет послать за ним. Акитада принял их у себя в комнате, выходившей окнами на запущенный разросшийся сад. В отдалении стоял их старый дом; на фоне его темных, видавших всякую погоду стен новая веранда госпожи Сугавара выделялась белыми свежевыструганными досками. — Моя матушка, кажется, полюбила тебя, — сказал Акитада Торе. — Предложив починить ей веранду, ты сделал удачный ход. Лицо Торы расплылось в довольной улыбке. Ведь поначалу отношения между пожилой госпожой и бывшим разбойником были довольно натянутыми. — Теперь я намерен заняться садом, — гордо объявил он. — Вот-вот, — кивнул Акитада. — Поэтому-то я и хотел поговорить с тобой. Саду придется подождать. У меня есть для тебя поручение. Я сейчас работаю над одним делом в университете, и мне понадобится, чтобы вы оба помогали мне. И он рассказал им о записке шантажиста, по ошибке попавшей в чужой карман. — Вот здорово! — вскричал Тора, радостно потирая руки. — Обожаю расследования. Только освободите меня от всего остального, и я выясню, что происходит в этой школе. Сэймэй презрительно фыркнул: — Но-но, полегче! Это тебе не дружки-приятели из подворотни! Профессора там все сплошь люди знатные и ученые, а студенты — молодые господа из благородных семей. Они изучают заповеди учителя Куна и с головой погружены в творения мысли пяти мудрецов. — И, повернувшись к своему хозяину, он добавил: — Может быть, мне тоже взять отпуск, господин? Ведь тогда я смогу проследить, чтобы этот торопыга не вляпался в какие-нибудь неприятности. Акитада улыбнулся: — Нет, друг мой. Мне нужно, чтобы ты занимался бумажной работой. Профессора считаются должностными лицами высокого ранга, а значит, в управлении образования найдутся досье на них. — Он протянул Сэймэю листок бумаги: — Попробуй узнать что-нибудь об этих людях из архивов и из бесед с чиновниками. Особенно меня интересуют любые недавние изменения в их финансовом положении. — А мне что делать? — нетерпеливо спросил Тора. — Ты появишься в университете как мой слуга. Заведи знакомства среди преподавателей, слуг, студентов, стражников и смотрителей. Собирай все сплетни и слухи о профессорах и студентах, одним словом, все, что способно пролить свет на наше расследование. Кивая, Тора потирал руки. — Хозяин, но мне, возможно, понадобятся деньги. — Не вздумайте давать ему даже самой захудалой монетки, господин! — вскричал Сэймэй. — Он пропьет деньги, угощая вином каждого встречного-поперечного. Тора возмутился: — Разве ты сам не твердил мне сто раз, что у стен есть уши, а у бутылок рты? Вот я и подумал, что стану стеной и буду слушать все пьяные разговоры. — Тогда позаботься о том, чтобы сама стена оставалась трезвой, иначе весь наш план рухнет, — сухо напутствовал его Акитада, пересчитав монетки в связке, перед тем как вручить их Торе. Усмехнувшись, Тора сунул связку за пояс. Он направился к двери, и Сэймэй уже последовал за ним, когда Акитада вспомнил кое-что еще. — Да, Сэймэй! — воскликнул он. — Проверяя людей по этому списку, постарайся выяснить, кому покойный принц Ёакира оставил свое состояние и кому могла бы быть выгодна его смерть. Сэймэй обернулся. — Ах, господин, ну когда вы потеряете интерес к этой подозрительной истории, связанной со смертью принца?! Это не совсем благоразумно… да и ваше ли это дело? Более того, это даже опасно. Вы только подумайте, какие люди туда втянуты! Стоит прознать кому-то о ваших подозрениях, и вас попросту уничтожат! — Он покраснел. — Прошу простить меня за столь резкие слова. Глаза Торы зажглись любопытством. — О чем это вы? — Господин считает, что принца убили, — пробормотал Сэймэй. — Вот как? — оживился Тора. — Это звучит куда лучше, чем россказни о демонах, пожравших его тело. Вы бы только слышали, что болтают люди. Просто ужас какой-то! — Он передернулся. Акитада улыбнулся. Тора всегда заметно нервничал, когда речь заходила о сверхъестественном. — В любом случае все эти басни не более смешны, чем история о чудесном преображении, — заметил Акитада и добавил: — Кстати, не вздумайте посвящать во все это мою мать и сестер. И вообще, Тора, занялся бы ты лучше хозяйством, пока еще здесь.Быстро разделавшись с домашними обязанностями, которые он предусмотрительно ограничил помощью на кухне, Тора примчался в университет почти к самому началу занятий. Из классов доносились бодрые голоса студентов, отвечающих урок, или сухое монотонное жужжание лекторов. В университетских дворах, аллеях и в большей части других зданий было тихо и пустынно. Несколько многообещающих источников информации Тора приметил, пока шел по двору административного здания. Здесь он столкнулся лицом к лицу с одним из конторщиков — коротышкой средних лет в стареньком сером кимоно и выцветшей черной шапке. Тот нес в руках кувшин с вином, а рядом с ним семенил невзрачный паренек в замызганном студенческом платье, вцепившийся в поднос с тремя дымящимися плошками. Завидев Тору, конторщик с виноватым видом застыл на месте. Невзрачный паренек тоже резко остановился, едва не уронив свою ношу. Несколько мгновений Тора с интересом разглядывал цветущее лицо конторщика, после чего решил попытать счастья. — Не иначе как второй завтрак? — с усмешкой поинтересовался он. — А ты счастливчик! Поди плохо — прилично получать за то, чтобы ничего не делать, да еще вволю набивать пузо! Хороший, вижу, у тебя аппетит на дармовую жратву. — Она не дармовая! — ощетинился конторщик. — Да и какое тебе-то дело? — в сердцах выпалил он, с подозрением косясь на чистое синее кимоно и черную шапочку Торы. Тора горделиво вытянулся. — Да в общем-то никакого, голубчик. Я только хотел спросить, как пройти, и, поскольку не вижу здесь никого, кроме тебя, ты мне и ответишь. Я новый помощник профессора Сугавары. Покажешь мне, где его кабинет? — Ах, простите, господин! Конторщик низко поклонился, в порыве угодливости задев замызганного паренька, отчего поднос в руках того закачался, и одна миска, перевернувшись, полетела на землю, распространяя вокруг соблазнительный запах тушеных овощей. Конторщик развернулся и, не раздумывая, съездил по уху незадачливому юнцу. Тот заморгал и едва не уронил две оставшиеся миски, однако Тора подхватил их и передал конторщику, пока юноша, присев на корточки, подбирал с земли пищу. — О, сердечно благодарю вас! — вскричал конторщик. — И зачем только я плачу этому неотесанному болвану за такую неумелую работу?! А все оттого, что сердце у меня доброе. Ах да, господин, вам нужно пройти через эти ворота. — Он указал направление. — Потом повернуть направо, пересечь следующую аллею, и там, в самом южном конце, вы найдете факультет права. И пожалуйста, простите мне мою грубость. Я должен был сразу понять, что передо мной ученый человек благородных кровей. Накатоси, чиновник по административной части, к вашим услугам. — Он снова поклонился. — Принимаю твои извинения, мой друг, — улыбнулся Тора, быстро войдя в новую роль. — А меня зовут Кинто. Как видишь, я зарабатываю свою дневную миску риса так же, как и ты, и если уж на то пошло, не сомневаюсь, что вы, ребята, мастера своего дела, иначе вас не приставили бы к хозяйству ученых профессоров. — И, хлопнув своего нового знакомого по плечу, он рассмеялся над собственной шуткой. Прижимая к груди миски с едой и кувшин вина, конторщик выдавил из себя жалкую улыбку. — Вижу, вы все хорошо понимаете, господин. Скажу вам честно, очень трудно присматривать здесь за порядком. Ведь у нас почти четыре сотни студентов на троих конторских служащих. Мы буквально с ног сбиваемся, трудимся не покладая рук, а ведь иногда надо и подкрепиться. Хвала небесам, что кухня для служащих прямо под боком и кормят там в общем-то недурно. Одобрительно понюхав воздух, в котором витал аромат тушеного кушанья, Тора сказал: — Пахнет очень вкусно! Такое угощение возбуждает аппетит, так что не буду отрывать тебя от предстоящей трапезы. — Благодарю вас. — Конторщик постоял в нерешительности и вдруг предложил: — А может, вы присоединитесь к нам? Еда в столовой для служащих гораздо лучше той, что подают студентам. — С удовольствием, мой дорогой Накатоси. Только с условием, что ты позволишь мне возместить тебе утраченную порцию и расплатиться за мою. — Тора позвякал связкой монет в рукаве. Польщенный, Накатоси неохотно принял от Торы деньги и послал студента принести еще еды. Шагая впереди, он привел Тору в пыльную комнатушку, где среди высоких стеллажей, заваленных бумагами и коробками, сновали двое пожилых конторских служащих. Бледные, сутулые и близорукие от своей бумажной работы, они оживились при появлении гостя. Накатоси представил им Тору, который тут же вовлек хозяев в разговор о невыносимо скверных условиях жизни в университете и о чудовищной нищете его служащих. Когда вернулся студент с едой, Накатоси строго отчитал его: — Хорошо хоть на этот раз ничего не расплескал. Скажи спасибо этому господину, иначе я бы вычел убыток у тебя из жалованья. — Благодарю вас за вашу доброту. — Студент поклонился Торе. Разглядев его поближе, Тора заметил в нем сходство с кроликом — сильно выступающие передние зубы и длинные уши, — однако голос у него был приятный, а речь — учтивой. — Пока подмети в прихожей. Даю тебе час, — распорядился Накатоси. Студент кивнул и ушел. — Я слышал, здесь у вас учится внук принца Ёакиры, — отведав угощения, проговорил Тора. Накатоси почувствовал себя неуютно. — Вообще-то нам не положено распространяться об этом, но поскольку вы теперь здесь работаете, думаю, не будет ничего страшного, если мы скажем. Да, мальчика привезли сюда вечером того же дня, когда произошло чудо. Плату за учение внес его дядя, князь Сакануоэ, очень важный господин, нам с вами далеко до него. Мне выпала честь заниматься устройством жилья и провести молодого князя в его комнату. Он был очень бледен и весь дрожал. Я встревожился, не болен ли он, и начал задавать ему вопросы, да только он вдруг стал очень высокомерен и велел мне заниматься своим делом. Вот такие они, эти знатные господа! Всего каких-нибудь десять лет от роду, а уже высочайший князь! — И что делать августейшей особе в таком месте, как это? — пробормотал один из приятелей Накатоси с набитым рисом ртом. — Неудивительно, что он казался больным, когда увидел наше общежитие. Надеюсь, они все-таки догадаются доставлять ему сюда пищу из дворца, иначе он просто умрет от голода. Тора прожевал кусочек соевого творога-тофу и облизнул губы. — Очень вкусно. Я рад, что попал в вашу компанию, ребята. А что, неужели студентам здесь и впрямь так плохо живется? Трое его собеседников, переглянувшись, дружно хмыкнули. — Да с животными так никто не обращается, как здесь обходятся со студентами, — сказал Накатоси. — Разумеется, это означает, что мы всегда имеем в распоряжении почти дармовую помощь. — Он метнул взгляд в сторону прихожей, откуда доносились звуки проворных взмахов метлы. Внезапно к разговору присоединился второй пожилой конторщик: — Да как же содержать студентов лучше на те жалкие деньги, что дает нам государство? Я помню времена, когда университет ежегодно получал вдвое больше, да прибавьте еще к этому подношения и пожертвования от благодарных родителей. А сейчас мы все, считай, голодаем — и студенты, и обслуга, и преподаватели. Тора окинул взглядом пустые миски и потянулся к кувшину с вином. В нем на дне плескались последние капли. — С вашего позволения, я оплачу еще одну такую порцию, — сказал он. Предложение было охотно принято, и Накатоси, позвав студента, отправил его с новым поручением. Когда перед ними появился полный кувшин, Тора решил, что пришло время копнуть глубже. — А не странно ли, что отпрыск столь благородной семьи должен жить здесь в таких скверных условиях? — спросил он. — Вот-вот! — воскликнул один из стариков. — В свое время и я то же самое сказал. Его товарищ закивал. — Другие дети из знатных родов не живут здесь, а только приходят на занятия. Общежития предназначены для тех, кто приехал сюда учиться из провинции. — Есть у меня друг, — вставил Тора, — который постоянно твердит, какая полезная и нужная вещь образование. Только вот слушаю я вас, ребята, и начинаю понимать, что даже простым конторщикам и таким скромным помощникам, как я, живется куда лучше, чем студентам. По крайней мере мы хоть можем заплатить за приличную пищу и вино. — Это вы, скорее, о себе! — Раскрасневшийся Накатоси лукаво подмигнул коллегам. — Может, ваш профессор и платит вам недурно за вашу службу, а вот мы, признаюсь честно, вряд ли смогли бы позволить себе такую пищу, как эта, если бы не другие источники доходов. — Он хихикнул. Один из стариков бросил на него многозначительный взгляд и предостерегающе кашлянул, но вино развязало Накатоси язык, и он продолжал откровенничать: — Наша работа была бы ничто, если бы не кое-какие связанные с ней положительные стороны. — Придвинувшись ближе к Торе, он проговорил: — Например, когда проходят разные академические состязания и конкурсы, мы советуем желающим, на кого лучше поставить. — Накатоси! — одернул его один из коллег. — Уж не хочешь ли ты сказать, что вы принимаете платные заказы на результаты экзаменов?! — воскликнул Тора, дружески обнимая за плечи Накатоси. Накатоси рассмеялся: — Конечно, уж прямо так я не стал бы выражаться, мой дорогой друг, но что-то вроде того. Вот, скажем, хотели бы вы узнать, кто победит на предстоящем поэтическом конкурсе? А может, рискнете сделать ставку? В университетской команде выступят Оэ и Фудзивара против Окуры и Асано, которые будут представлять правительство. Ну так как? Что скажете? Тора улыбался во весь рот. — Ну и удачный же сегодня выдался денек! Какого человека я повстречал! Гадать не буду, лучше скажи! Но один из стариков, который до сих пор все время хмурился, не выдержал и вмешался: — Следил бы ты за языком, Накатоси! Лучше вспомни, что случилось прошлой весной. — Ничего не случилось, старый дурак, — огрызнулся Накатоси. — Это кто старый дурак? — сверкнул на него глазами старик. — По-моему, тебя чуть не убили, когда ты продал место отличника экзаменов за две связки монет, а потом победителем оказался другой. — В том не было моей вины, — возразил Накатоси. — Мы тщательно перебирали претендентов, просматривая результаты всех экзаменов, и у нас на виду был всего один кандидат. А потом они почему-то выбрали парня, не имевшего больше тройки по всем предметам, за исключением каллиграфии. Так что, говорю вам, это была просто случайность. Но больше такого не произойдет, поскольку теперь мы сами занимаемся отбором. Тора со смехом похлопал Накатоси по плечу: — Не расстраивайся! Не ошибается тот, кто ничего не делает. Что до меня, то я обязательно поставлю на кого-нибудь, вот только разберусь сначала, кто есть кто. Они расстались на дружеской ноте. Направляясь к выходу, Тора прошел мимо бедного студента, только что закончившего уборку. Ему хотелось дать парню из жалости несколько монеток, но он тут же припомнил, что, несмотря на вежливость, тот не назвал его «господином», поэтому Тора передумал и отправился на поиски новой «добычи». Так он забрел на территорию студенческих общежитий. В это время дня они были пустынны, если не считать пары неряшливо одетых женщин с ведрами и метлами. Не обращая на них внимания, Тора прошел через двор мимо сосен и жиденьких кустиков к служебным постройкам. Самой большой из них была кухня. Здесь царили запустение, грязь и противно пахло заплесневелым зерном и подтухшей рыбой. Повар и его помощники отдыхали на заднем дворе под раскидистым платаном. Усевшись в кружок перед треснутой мисочкой, они швыряли в нее монетки, разыгрывая ход при помощи игральных костей. Перед каждым лежала горстка меди. Среди игроков Тора заметил четверых взрослых и нескольких грязноватого вида юнцов. Завидев его, они спрятали деньги и вскочили. — Не беспокойтесь из-за меня, — улыбнулся Тора. — Уж кто-кто, а я не стану осуждать рабочего человека за честно заслуженный отдых. Если уж на то пошло, я и сам, признаться, люблю сыграть. Повар, которого Тора сразу узнал по толстому брюху и жирным пятнам на одежде, оказался здоровенным косоглазым мужчиной. Поджав полные губы, он с подозрением взглянул на Тору. Остальные снова опустились на землю, выжидая. Тора заботливо подобрал полы кимоно. — Главное, не запачкать это новое платье, а то хозяин вычтет у меня из жалованья. — Скрестив ноги, он уселся в кружок и осведомился: — Ну так какие правила? — Ты здесь на службе? — спросил толстяк повар. Тора кивнул и начал отсчитывать монетки, раскладывая их в аккуратные кучки. Все жадно наблюдали за ним. — Часто играешь? — поинтересовался повар. — Да какой там! Сто лет уже не садился. Когда я служил в солдатах, меня научил бросать кости один приятель. Вот с тех пор и не играл. Повар хмыкнул и осел на землю, словно мешок с рисовой крупой. — Ну что ж, тогда давай попробуем. Вот, если хочешь, возьми кости, проверь! Убедись, что у нас все по-честному, без жульничества. Бросаешь, и сколько выпадет, столько у тебя попыток кидать в миску. Попадешь в нее монетой, забираешь все, что остальные промазали. Тора взял в руки деревянные кубики и несколько мгновений разглядывал их, насупившись. Они были грубые и шероховатые, но не крапленые. — Кости как кости. — Вернув их повару, Тора окинул взглядом мисочку; довольно маленькая, она стояла шагах в десяти. Земля вокруг нее была усыпана медяками. — Правда, я никогда не видел, чтобы в эту игру играли так. Кто-то хихикнул, но повар нетерпеливо рявкнул: — Хватит болтать! Давайте играть! Собравшиеся оказались азартными игроками, но в мисочку попадали крайне редко. Тора играл осторожно, тщательно соизмеряя расстояние до миски и вес монет. Горка монет перед ним заметно уменьшилась, прежде чем он начал раз за разом выигрывать. — Эй, да ты, оказывается, мастак в этом деле! — крикнул кто-то из игроков. Тогда Тора похвастался, что не промахнется десять бросков подряд. Они ударили по рукам, поспорив на деньги. Проиграв эту ставку, Тора предложил поставить новую сумму. Так он делал много раз подряд, больше выигрывая, чем проигрывая, пока перед ним не накопилась изрядная горка монет. Другие игроки, оставшись не у дел, сидели с вытянутыми лицами. Разъяренно сверкая глазами на Тору, повар, потерявший наконец терпение, заорал: — Да этот ублюдок наврал нам! Тора, старательно подсчитывавший выигранные монеты, оторвался от своего занятия. — Что вы сказали? Повар продолжал бушевать: — Ты же заявил, что не умеешь играть в эту игру! — А разве я не говорил, что один приятель когда-то научил меня? Конечно, я умею бросать кости, — усмехнулся Тора. — А еще в детстве я научился швырять камешки. — Нечего нам рассказывать, что ты умел, когда был сопляком! — взвизгнул один из игроков. — Мы тут играли просто так, по-дружески, а ты пришел и обчистил нас до нитки. Что мы теперь скажем нашим женам? Тора не видел причины, почему бы не попытаться применить один и тот же метод дважды. — Послушайте меня. Я возьму кое-что из этого выигрыша и по дружбе и в знак признательности за хорошую игру угощу вас, ребята, добрым винцом. Мужчины просияли. — Эй, коротышка! — крикнул повар самому младшему парню. — А ну-ка сбегай по-быстрому в винную лавку, что возле городской управы. У них там водится крепенькое. Тора сгреб свой выигрыш, отсчитал от него щедрой рукой хорошую сумму и протянул деньги парню. — Вина бери побольше! — наказал он. — И прихвати маринованной редечки на закуску. Компания отозвалась одобрительным смехом, а повар даже громко отметил, что остались еще на земле по-настоящему благородные люди. Пока они ждали, Тора представился как слуга нового профессора и получил взамен полезные сведения об университете, о его служащих и работниках, о профессорах и студентах. Высказывания разительно отличались от того, что Тора слышал от конторщиков. Повара, обслуга и уборщики видели в студентах и профессорах лишь досадную для себя обузу, превращавшую, как они считали, их жизнь в сплошное несчастье. А когда в ход пошло вино — как оказалось, довольно крепкое, — языки их и вовсе развязались, к вящей радости Торы. Обратившись к одному из уборщиков, он участливо заметил: — Представляю, сколько вам приходится убирать за этими юнцами. Вот уж, наверное, хлопот полон рот. Тот в ответ разразился потоком брани по адресу студентов, но повар оборвал его: — Да какие у него хлопоты?! Этот ленивый балбес уходит домой с закатом солнца. Вот у кого точно полно хлопот, так это у меня и у моей женушки. Всю ночь глаз не можем сомкнуть из-за проделок этих проклятых студентов, которым вечно не спится. — Каких еще проделок? — спросил Тора, разливая вино по кружкам, но при этом обходя свою. — Хо-о!.. На проделки они горазды — через стены перелезают, девок проводят, забираются в кладовку и тащат еду. Свечи жгут по ночам — того и гляди, пожар устроят. Да разве можно все перечислить! Каждую ночь моя старушка проверяет их постели и выковыривает оттуда их беспутных подружек. — Прямо не верится! Неужели ей приходится это делать? — удивился Тора, улыбаясь во весь рот. Его слова были встречены дружнымхриплым смехом. Потом один из работников закричал: — А что ей остается? Сам он так ленив, что и понятия не имел бы, что делать с девчонкой, попади она к нему в постель. Когда мы расходимся по домам, он уже давным-давно храпит. Вот его женушка от нечего делать и ходит гонять этих свистушек. — Врешь! — взревел повар, свирепо выпучив косые глаза. — Я весь день топчусь у очага, чтобы наполнить миски этих маленьких ублюдков. Они жрут, как голодные крысы, и еще просят добавки. У большинства из них едва ли найдется пара монет. Удивляюсь только, на что они покупают женщин! Среди них всегда есть парочка совсем голодных, готовых помогать на кухне за лишнюю порцию или несколько медяков. И я по доброте своей разрешаю! Только они тащат больше еды, чем заработали. Про себя Тора еще раз отметил, насколько сомнительно это самое образование, а вслух спросил: — Если они такие бедные, почему же тогда с ними обращаются как с благородными господами? Повар и его собутыльники недоуменно переглянулись. — Хороший вопрос, — сказал наконец повар. — Вот послушай. Является ко мне однажды голодный паренек и просит дать ему каких-нибудь объедков или купить его одежду за порцию риса. Я по доброте душевной даю ему работу. А потом спустя какое-то время встречается мне тот же самый парень, разодетый как принц, в новехоньком кимоно, и смотрит на меня будто на слизняка, когда я спрашиваю его, почему он не пришел на работу. — А ведь верно! — воскликнул один из его помощников. — Я знаю, о ком ты говоришь! Это Исикава! В прошлом году он таскал вместе со мной воду из колодца, а теперь хочет, чтобы я называл его «господин Исикава»! — Как же он вдруг так быстро разбогател? — полюбопытствовал Тора. — Может, родственник какой умер и оставил ему наследство? — Не-е… — промычал повар. Его мясистое лицо все больше багровело и блестело от пота, а речь становилась не вполне внятной. — Я тоже так сначала подумал. Но ничего подобного. Правда, ребята? Собутыльники дружно закивали. Источник благополучия Исикавы был для них тайной. Впрочем, все сошлись в одном — что студентов понять невозможно. Чокнутые они какие-то. А все от чтения, это оно так действует на мозги. Тора слушал и улыбался. — Держи кролика! — вдруг закричал повар. — Какого кролика? — Тора удивленно оглянулся. Повар увидел, что шутка удалась, и хохотал, пока слезы не потекли по толстым щекам. — Ой, не могу больше! — кряхтел он сквозь смех, похлопывая себя по животу. — Хе-хе-хе!.. Держи кролика! Ха-ха-ха!.. Да лови же его! — Приятели повара тоже покатывались со смеху. Тора изумленно смотрел на них, пока кто-то не объяснил ему, что «кроликом» прозвали одного студента, устроившегося помогать на кухне. — Помогать! — воскликнул повар, который немного успокоился, глотнув вина. — От него проку, что слепому от фонаря! Я говорю ему делать одно, а он делает совсем другое. Вот давеча велел ему засыпать риса, но он про рис не помнит и льет кипяток в пустую пароварку. Пришлось кормить людей пшенкой, оставшейся от завтрака. А начнешь говорить с ним, так он стоит с дурацкой улыбочкой на лице и хлопает своими длинными ушами. Кажется, будто витает мыслями в облаках и ты для него словно комар, жужжащий над ухом. — Он помолчал и, прищурившись, посмотрел на солнце здоровым глазом. — Пойти взглянуть, что ли? Наверное, уж явился. Похоже, пора снова разводить огонь в очаге. — С помощью приятелей жирный повар поднялся и встал, покачиваясь. — Отличное вино, возьми его душу! — пробормотал он, кивнув Торе. — А ты приятный парень! Как, говоришь, твое имя? Внезапно со стороны кухни донесся ужасный грохот. Послышались сердитые крики и звон бьющейся посуды. Все побежали посмотреть, что там происходит. В низенькой тесной кухне два парня катались по полу среди битой посуды, разбросанных овощей и шматков вязкой сероватой гущи, которую разъяренный повар назвал пшенкой. Один из парней, чья долговязая неуклюжая фигура показалась Торе до странного знакомой, боролся с другим, низеньким и мускулистым, пытаясь разделаться с ним при помощи кулаков. — Ах ты, грязная собака! — приговаривал он, нанося один за другим удары и не замечая собравшихся вокруг людей. — Как ты посмел прочесть мое письмо?! Как ты посмел строить свои мерзкие домыслы?! Попробуй только сказать кому-нибудь хоть слово, и я тебя убью! — Он схватил парня за плечи, сильно тряхнул и на прощание приложил головой об пол. — А я убью тебя, бестолковый кусок дерьма! — взревел повар и, схватив метлу, со всей силы огрел долговязого парня по голове и плечам. Драчуны оторвались друг от друга и встали на ноги, пошатываясь. Худощавый съежился под ударами повара, закрывая голову руками. Тора узнал в нем студента, прислуживавшего конторщикам. Внешность его не стала краше — и без того невзрачное лицо, с длинным носом, сильно выступающими зубами, слабым подбородком и непомерно длинными ушами, теперь было перепачкано грязью и пшенной кашей; волосы, прежде завязанные в узел, растрепались, рот полуоткрылся. С ужасом посмотрев на Тору и повара, он издал звук, похожий то ли на жалобный писк, то ли на всхлип, и дал деру. — И не вздумай возвращаться! — проревел ему вслед повар, потрясая кулаком. — Я шкуру с тебя спущу, чтобы возместить ущерб, ублюдочный длинноносый кролик! Между тем другой студент потихоньку оправился после драки. Ровесник Кролика, он, несмотря на потасовку, остался почти непомятым. Обратив свое круглое лицо с глазками-пуговками на повара, он заныл: — Господин повар, я ничего не сделал! Клянусь! Кролик набросился на меня ни с того ни с сего. Вы же видели, я ведь даже не защищался! Чистил себе спокойно редьку, как вы мне велели, а он вдруг взял и швырнул в меня горшок с пшенкой! Хорошо, что она холодная, а не то я бы ошпарился. По-моему, он сумасшедший! И зачем сюда таких берут? Зачем позволяют им жить среди нас? Они же опасны. Вы только посмотрите, какой погром он учинил на вашей кухне! Просто не представляю, как вы, такой милый человек, терпите рядом с собой этого сумасшедшего! Смягчившись от таких слов, толстяк брякнулся на табуретку и, немного отдышавшись, сказал: — Не бери в голову, Хасе. Кто-нибудь из ребят поможет тебе, и мы наведем здесь чистоту в два счета. А потом возьмись за суп. Ты хороший парень. Я так и скажу казначеям в конторе.
Тора доложил хозяину о своих открытиях с величайшей гордостью. Акитада, только что доевший дневную порцию риса (взятую в столовой для служащих), выслушал его очень внимательно и сказал: — Судя по всему, если не считать проверок, которые устраивает жена повара в студенческих спальнях, приход и уход студентов и служащих в ночные часы никто не контролирует. Ворота на ночь закрывают, но любой может перелезть через стену или свободно бродить по территории. — Поразмыслив, Акитада нахмурился. — Разумеется, это означает, что сюда может пробраться и посторонний. Таким образом, круг потенциальных шантажистов существенно расширяется. Накладывая себе в миску остатки маринованных слив, Тора заметил: — Готов прозакладывать все свои деньги, что это кто-то из студентов. Эти полуголодные бедолаги подрабатывают на кухне и по хозяйству, чтобы хоть как-то прокормиться. Как насчет Исикавы? — Исикава нашел себе другое занятие — проверяет студенческие сочинения для одного из профессоров. Вот почему он больше не приходит помогать повару, который, как ясно из твоих слов, не очень-то приветлив со своими работниками. Кроме того, Исикава, по-видимому, займет первое место на экзаменах. Тора усмехнулся: — На это ему лучше не рассчитывать. Судя по тому, что говорят в конторе, странные вещи происходят на этих экзаменах. Вы просто не поверите, что там творится! — Смеясь, он рассказал о ставках, которыми занимаются конторщики. Добродушная улыбка исчезла с лица Акитады, когда Тора упомянул о неприятностях Накатоси после прошлых экзаменов. Напрягшись, он воскликнул: — Что-о?! Святые небеса! Да это уже не мелкие ставочки нескольких конторщиков! Тут пахнет подтасовкой экзаменационных результатов! — Вскочив, Акитада начал расхаживать по комнате взад и вперед. — Теперь понятно, откуда взялся шантаж. Если это выйдет наружу… а это непременно произойдет из-за чудовищной нищеты студентов, служащих и профессоров… императору придется вмешаться и принять меры. На факультетах пройдут серьезные чистки. — Я что-то не понимаю, — удивился Тора. — Кому какое дело до этих экзаменов? Так вот, теперь о внуке принца Ёакиры… Акитада остановился. — А что о нем? — Мальчонку привез сюда дядя вечером того же дня, когда его дедушка преставился. Инспектор из конторы сказал, что мальчик выглядел больным. Ему показалось странным, что они запихнули его сюда. — Да, это и впрямь странно, — кивнул Акитада. — Мальчик ходит на мои занятия. И я очень беспокоюсь за него. По-моему, он действительно нездоров. — Хотите, я еще похожу поспрашиваю о мальчике? — предложил Тора. Но мысли Акитады уже снова вернулись к скандалу, грозящему университету, и к смутным подозрениям, в которых он до сих пор не осмеливался признаться даже самому себе. — Нет, — задумчиво проговорил он. — Теперь иди домой. А мне нужно хорошенько поразмыслить обо всем этом.
Глава 4 Ученые и другие
Акитада долго сидел в задумчивости. Он любил этот университет, несмотря на всю его суровость и строгость, и здешние профессора были его кумирами. Сейчас он пытался понять, не обольщался ли он по поводу предмета своего юношеского почитания. Гораздо легче было представить, что просто несколько человек, поддавшись обычным людским слабостям, совершили дурные поступки, ибо весь университет с его крепкой, устоявшейся за века системой духовных ценностей не мог так разительно измениться за столь короткое время. Ясно было одно — он должен немедленно предать огласке тот факт, что университетский персонал принимает ставки на результаты годовых экзаменов. Но тогда вскрылось бы и другое — что кто-то подтасовывает результаты экзаменов либо преследуя личные цели, либо за крупные взятки. Сколько невинных людей пострадают от этого скандала? И как отвести подозрение от Хираты и его коллег? И каково придется студенту, которого обманом лишили заслуженной награды отличника? И что делать с истинным виновником? Ведь это, возможно, всего один человек, один во всем университете, имевший наглость подтасовывать результаты самого главного в стране экзамена. Разве можно допустить, чтобы такое произошло снова? В душе Акитады все кипело, восставая против бессовестного обмана. Но истинная причина его огорчения носила более личный характер. Если он не ошибается и манипуляции с финалистами действительно послужили поводом для шантажа, то в таком случае Хирата должен был знать об этом или по крайней мере догадываться. Почему он скрыл это от Акитады? Если он надеялся сохранить безупречной репутацию университета, то Акитаде следует признать, что Хирата изначально не доверял ему. Тогда зачем он вообще обратился к нему за помощью? Уж не решил ли, что Акитада, как его должник, станет удобным прикрытием для скандала? Эта мысль, сама по себе болезненная, наводила на еще более страшные подозрения. Что, если письмо шантажиста было адресовано самому Хирате? Исполненный горечи и гнева, Акитада подумал было о том, чтобы отстраниться от дела. Долг перед семьей требовал, чтобы он тщательно оберегал свою репутацию. Если же Акитада согласится прикрывать темные делишки своего бывшего учителя, его собственной карьере, несомненно, придет конец. Но в глубине души Акитада понимал, что не может пойти на этот шаг. Прошлое всегда будет превалировать над настоящим. Долг перед матерью и сестрами казался ему менее важным, чем давняя и глубокая признательность этому человеку и нежная привязанность к Тамако. Акитада вспомнил, как впервые увидел ее. Тамако была робкой девятилетней девочкой, когда он впервые вошел в дом Хираты, растерянный и смущенный паренек, даже еще не мужчина. «Я привел в дом гостя, — объявил ее отец. — Он будет жить у нас, так что относись к нему как к брату!» И оба они видели в Акитаде родного человека, поэтому очень скоро он почувствовал себя частью их семьи, чего никогда не ощущал у себя дома. Здесь он встретил любовь и заботу, доселе неведомые ему, воспитанному слугами, не избалованному вниманием высокомерной красавицы матери и получавшему лишь побои и унижение от родного отца. В пятнадцать лет Акитада совершил непростительный поступок. Оказал открытое неповиновение человеку, которого должен был почитать и уважать, — вырвал у отца из рук занесенную для удара бамбуковую палку и сам пригрозил ему. Они находились тогда в кабинете отца, комнате, и по сей день внушающей ему страх. Грозная фигура отца нависла над ним в мерцающем свете свечей, его красивое строгое лицо исказила ярость, вызванная невинным замечанием Акитады по поводу того, что отец не принадлежит к военному сословию. И в тот момент к нему вдруг пришла твердая уверенность, что он больше не сможет выносить жестоких побоев, готовых снова обрушиться на его голову. Вывернув отцу запястье, Акитада отобрал у него палку, прокричав что-то о невыносимой несправедливости. Когда же отец в крайнем изумлении попятился, он пошел на него с занесенной палкой и предъявил ему ультиматум. Если отец дотронется до него еще раз, он ответит ему гораздо более жестоко. Произнеся эти слова, Акитада сломал палку и швырнул ее к ногам господина Сугавары. Результат был вполне предсказуем, хотя в тот момент Акитада не думал ни о чем подобном. Немедленно призвав в свидетели жену, дочерей и старших слуг, отец объявил свою волю — поскольку Акитада осмелился поднять на него руку и голос, он отныне перестал быть членом семьи. Гонимый отчаянием, Акитада ушел из родного дома и направился в университет, единственный знакомый ему мир. Там-то его, сидящего на ступеньках факультета права, и нашел профессор Хирата. Выслушав историю юноши, он взял его к себе в дом. Воспоминание о том времени до сих пор отзывалось болью в душе Акитады, его собственная история напоминала ему о маленьком князе Минамото. Конечно, Минамото моложе и полный сирота, но каковы бы ни были причины страданий и невзгод, их истории похожи. Обоим пришлось жить среди чужих людей, без друзей, в полном одиночестве. Несмотря на столь юный возраст, Минамото получил блестящее воспитание и общался на равных со старшими студентами, но мысли его витали далеко, а вокруг глаз залегли тени. Возможно, он глубоко горевал о своем дедушке. Неужели в семье не нашлось никого, кто позаботился бы о ребенке? И что за дядя такой, этот князь Сакануоэ, который даже для приличия не выждал время, а сразу избавился от мальчика? Судя по имени, этот человек состоял с мальчиком в родстве, был мужем его сестры. Но где же остальные члены клана Минамото? В жилах мальчика текла императорская кровь, и по его манере держаться было заметно, что он воспитан в высоких традициях императорского двора. Такое воспитание исключало всякую фамильярность и не позволяло Акитаде приблизиться к ученику. Любая его попытка выразить сочувствие отвергалась учтиво, но твердо, однако Акитада тянулся всем сердцем к одинокому ребенку. Ему хотелось стать для юного князя тем, кем когда-то стал для него Хирата. В этот момент в комнату вошел Хирата, чтобы сообщить о собрании, объявленном Оэ. Надевая перед зеркалом головной убор, Акитада словно невзначай спросил у профессора о результатах прошлогодних экзаменов. Не услышав ответа, он обернулся. Хирата, бледный как полотно, беспомощно смотрел на него. — С вами все в порядке, профессор? — всполошился Акитада. Старик медленно кивнул: — Да, я… я вижу, тебе уже известно. — Он тяжело вздохнул. — Ох, мой милый мальчик, боюсь, это правда. Весьма посредственный студент занял первое место, а молодой человек, от которого ждали победы, оказался на втором. — Но разве у вас не возникло подозрений? — удивился Акитада. Хирата отвернулся. — Конечно, подозрения возникли, но у меня были связаны руки. Сначала не веривший своим ушам Акитада возмутился: — У вас были связаны руки? Как это? Хирата снова повернулся к нему лицом. — Ты молод и тебе этого не понять. — Голос его дрожал. Акитада постарался овладеть собой. Теперь ему придется узнать правду, даже если из-за этого испортятся их отношения. — Поскольку дело касается шантажа, полагаю, вы обязаны дать мне объяснение, господин профессор. Дрожащей рукой Хирата провел по лицу и кивнул: — Да, конечно. Я обязан все объяснить и извиниться. Мне следовало давно рассказать тебе. Может, присядем? Акитада слегка покраснел, услышав эту скромную просьбу, и указал рукой на подушки. Когда они сели, он сказал: — Мне нужно знать, какова степень вашей причастности ко всему этому. Вы читали сочинение победителя? Присутствовали на его устном экзамене? — Да, сочинение я читал. Оно было написано превосходным слогом. А вот на устный экзамен меня не приглашали. Там заседала смешанная комиссия из наших старших профессоров и четверых высокопоставленных лиц, назначенных императором. От университета там присутствовали Оэ, Фудзивара и Танабэ. — Но после опубликования результатов должен был подняться шум. Как повел себя молодой человек, которого несправедливо обошли? Какова была его реакция? Лицо Хираты выразило напряжение. — Это юноша из бедной семьи, не имеющей связей, как, впрочем, и большинство наших студентов. Обстоятельства часто вынуждают человека скрывать свою точку зрения. Он не заявил протеста, а я внушил себе, будто нет ничего страшного в том, что другой студент неожиданно обнаружил скрытые таланты. Его сочинение было, бесспорно, блестящим. Попытка Хираты оправдать себя еще больше удручила Акитаду, и он в сердцах воскликнул: — Но вы ведь все понимали! Я никогда не замечал, чтобы вы поступались своими принципами. Раньше за вами такого не водилось. И своих студентов вы этому не учите. Я думал о вас лучше! Хирата вздрогнул и с грустью взглянул на Акитаду: — Ты еще очень молод. Только в молодости люди считают несправедливость величайшей трагедией. На земле есть вещи и пострашнее, но они знакомы лишь старикам. — Он прикрыл глаза ладонью и, совладав с собой, продолжил: — К сожалению, в истории этого студента и дальше все сложилось далеко не утешительным образом. При распределении его не назначили хотя бы на низкую должность в столице, а направили учителем в одну из северных провинций. — Святые небеса! Это похоже на ссылку! И он принял ее? Хирата сжал кулаки и, почти задыхаясь, проговорил: — Нет. Он покончил с собой, как только узнал об этом. Акитада не мог вымолвить ни слова. Гнетущая тишина, нависшая над ними, разделила их, словно стена. Прошло много времени, прежде чем Хирата совладал с чувствами и снова заговорил: — Теперь ты понимаешь, почему я не сказал тебе правду. Эта история с письмом вымогателя уничтожила, разбила вдребезги мое ненадежное спокойствие. Почти целый год я пытался убеждать себя, что молодой человек покончил с собой по каким-то другим причинам — из-за несчастной любви или денежных проблем. Я считал, что только разочарование в результатах экзамена не способно заставить человека распрощаться с жизнью, когда он талантлив, молод и может пробиться в этом мире, несмотря ни на что. Я даже мысленно упрекал его в том, что он оказался слишком слаб и нестоек для роли победителя, поскольку подтвердил эту слабость самоубийством. Теперь я испытываю чувство глубочайшего стыда и умоляю тебя простить меня за то, что не рассказал всего этого раньше. Самоуничижение Хираты потрясло Акитаду. — Да, конечно… — отозвался он, нервно постукивая себя по коленям. — Мне не за что прощать вас, профессор. Напротив, я… сожалею о том, что наговорил вам дерзостей. Ничто не дает мне права на подобный тон. — Акитада помолчал, глядя на склоненную перед ним седую голову, и ему стало стыдно, что он позволил себе подозревать профессора. И все же он спросил: — Но как же?… Хирата вскинул голову. Лицо его было измученным, осунувшимся, но глаза выражали твердость. — Как я живу со всем этим? Уверяю тебя, не очень хорошо. Но я должен жить, потому что у меня еще есть здесь два обязательства. Акитада был потрясен. Он вовсе не хотел причинить старику такую боль; в своей необузданной ярости он просто ни о чем не подумал. Чувства вырвались у него непроизвольно. — Пожалуйста, простите меня, профессор! Я вовсе не этого хотел. Мне просто нужно было знать, как все произошло. Как получилось, что посредственный студент написал такое блестящее сочинение? Не подменил ли его кто-нибудь в день экзамена? Хирата немного успокоился, но губы его слегка дрожали. — Э-эх, Акитада! Мне следовало догадаться, что ты захочешь посмотреть на дело с практической стороны. Отвечу тебе сразу: нет — такое было бы просто невозможно. Мы знаем всех своих студентов в лицо, а с кандидатами, приезжающими из провинций, проводим собеседование. Победитель был нашим студентом. Я сам видел его в день экзамена и читал его сочинение. Оно было написано его почерком. — А не могло оказаться так, что раньше вы недооценивали его способности? Хирата поморщился: — Нет, я уже думал об этом. Экзаменационное сочинение, сделавшее его победителем, далеко выходило за рамки всего, что он делал прежде. В этой работе был оригинальный подход к поставленной и, надо сказать, весьма сложной проблеме; приведенные аргументы были изложены по всем законам логики; обильные цитаты из китайских источников — точны и всегда уместны, да и стиль сочинения носил выдающийся характер. — Помолчав, он добавил: — И эту работу написал студент, даже не знающий толком китайского языка. До сих пор он проявлял плачевную неосведомленность в пяти основных предметах и отнюдь не блистал мыслями на коллоквиумах, где на его родном языке обсуждались текущие вопросы современности. — Хирата провел ладонью по лбу и покачал головой. — Мне больно говорить об этом. Я должен был потребовать проведения расследования. — Быть может, он запомнил наизусть написанный кем-то другим текст или тайком пронес на экзамен набросок сочинения? — предположил Акитада. — И то и другое отпадает. Заучивание наизусть не помогло бы ему, поскольку он не имел необходимых знаний по поставленной теме. Кроме того, сомневаюсь, что он достаточно хорошо для этого владел китайским языком. Что же касается наброска, то пронести его он тоже не мог — ты же знаешь, у нас на экзаменах очень строго. Кандидатов обыскивают и усаживают за перегородки, где инспектор факультета вручает им только экзаменационную тему и листы чистой бумаги. — В таком случае передать ему сочинение мог инспектор. — Да, мог. — Голос Хираты звучал мрачно, но лицо немного ожило. — Полагаю, пора назвать имена. Хирата вздохнул: — Ладно. Ты ведь все равно узнаешь. Студента звали Окура. Я рад лишь одному — что он получил назначение на государственную должность в ведомство, где не принесет особого вреда. Инспекторами были назначены мы четверо — Такахаси, Фудзивара, Оно и я. Экзаменационную тему вручал Окуре не я. Кто именно вручал ее, можно попытаться узнать у Оэ, поскольку проведением экзамена руководил он. В это мгновение дверь распахнулась, и в комнату влетел Нисиока. — Вот вы где! — Он окинул всех быстрым взглядом и возбужденно подергал носом. — Что, важные дела? Или вы забыли, что у нас собрание? Все уже на месте. — Спасибо, что напомнил, — сухо сказал Хирата, поднимаясь. Они последовали за Нисиокой в «нандо-инь», центральный зал факультета классической китайской литературы. Как и сказал Нисиока, почти все уже были в сборе — слонялись небольшими группами в коридоре или сидели на своих местах, изучая какие-то листки. Оэ стоял поодаль с Оно, явно давая своему помощнику последние наставления. Возле них вертелся Такахаси с убийственной улыбочкой. Акитада прошел между ними, раскланиваясь и обмениваясь любезностями, пока не разглядел в толпе знакомое лицо. Старейшина университета, профессор конфуцианства Танабэ, теперь уже и сам заметил его и устремился ему навстречу, приветственно улыбаясь. За эти годы старик заметно осунулся и поседел. Сейчас этому сухонькому человечку с бледным аскетичным лицом и узкими сутулыми плечами завзятого книжника было, вероятно, за шестьдесят. — Мой дорогой Сугавара! — воскликнул он в ответ на учтивый поклон Акитады. — Как я рад видеть тебя! Нисиока сообщил мне, что теперь ты работаешь у нас. Я с большим интересом следил за твоей карьерой. Несказанно радуют твои связи с князьями Мотосукэ и Косэхира. Одним словом, весьма многообещающее начало. Пораженный тем, что Танабэ знает о его дружбе с кузенами Фудзивары, Акитада припомнил: старик, всегда питавший трепетное, по-детски восторженное отношение к аристократии, был хорошо осведомлен о подробностях жизни всех важных членов правящего клана Фудзивара. Акитада вдруг подумал, что такое чрезмерное благоговение могло бы завести далеко даже прославленного ученого с репутацией Танабэ, заставив его пренебречь принципами порядочности, если бы его попросили оказать услугу какому-нибудь высокопоставленному лицу. Но, видя на морщинистом лице своего бывшего учителя искреннюю радость, Акитада устыдился и объяснил старику, что из-за работы, почти лишающей его досуга, не может часто видеться с друзьями. — Жаль, — разочарованно заметил Танабэ. — Но вот тебе еще один Фудзивара. Он махнул высокому бородатому мужчине в зеленом шелковом кимоно, подвязанном неподходящим по цвету поясом. Бородатый гигант подошел к ним и весело отозвался на приветствия. — Новичок, не так ли? — прогремел он. — Наслышан о вас. Вы помогли моему тезке выпутаться из весьма щекотливой ситуации в провинции Кацуза. — Глаза его блестели. — Но здесь-то вы, надеюсь, не с подобной миссией, а? Возможно, это была шутка, но Акитада на мгновение потерял дар речи, к величайшему удивлению Фудзивары. — Мой бывший наставник профессор Хирата попросил меня временно занять должность его помощника, — глухо проговорил Акитада. Его заинтересовало, скрывается ли за неуклюжей наружностью этого великана подвижный и гибкий ум. Потом он вспомнил, что Фудзивара был одним из инспекторов на прошлогодних весенних экзаменах, и, внезапно оживившись, спросил: — Вы состоите в родстве с князем Мотосукэ? — Хо-хо-хо!.. — раскатисто прогремел Фудзивара. — В родстве? Я? Да мы такая же родня, как китайцы и японцы или как лето и зима! Мы принадлежим к разным ветвям большого семейства. Я отношусь к северной, в основном состоящей из мелких провинциальных землевладельцев. Как вы думаете, могли бы все эти министры, канцлеры, советники и князья Фудзивары полюбить меня как кузена? Да вы посмотрите на меня! Я же позор семьи! — Ничего подобного, — возразил смущенный Акитада. — Именно так оно и есть. Я пью, бражничаю, отпускаю непристойные шутки, общаюсь со всякими подозрительными типами и гейшами! Единственное мое достоинство в том, что я знаю много интересных вещей об истории Китая и о нашем прошлом, и студенты, похоже, с удовольствием слушают меня. Его открытость и скромность обезоруживали. Отбросив подозрения, Акитада дружески сказал: — А это, несомненно, самое главное. — И, поддавшись внезапному порыву, добавил: — Поскольку у вас со студентами сложились такие тесные взаимоотношения, может, вы кое-что мне посоветуете. Я очень беспокоюсь за одного своего подопечного, юного Минамото. Он замкнут и, видимо, чем-то озабочен, но я не нахожу возможности поговорить с ним. — Ах да… Бедный мальчик! — Фудзивара вздохнул. — Он недавно потерял дедушку. Таинственная история… Вы слышали? Очень таинственная. — Фудзивара проницательно взглянул на Акитаду. — После того как его родители и два дяди умерли во время прошлогодней эпидемии оспы, его сестру воспитывал дедушка. Конечно, мальчик слишком горд, чтобы показать свое горе. По его мнению, если в жилах течет императорская кровь, это означает, что человек должен быть сильным. Глупо, но по-своему достойно восхищения! Боюсь, Сугавара, мне не удастся вам помочь, ибо я и сам недавно не справился с этой задачей. Впрочем, желаю удачи! К ним, кланяясь и расшаркиваясь, подошел Нисиока. — Прошу меня извинить, что вмешиваюсь в разговор. Простите великодушно! До сих пор мне все не представлялось возможности выразить вам мое почтение, Сугавара. Как вам здесь у нас преподается? — Потихоньку нащупываю собственные подходы. — Вы как будто только что упоминали имя Минамото, я не ослышался? Интересно, вы уже выяснили, что делает здесь мальчик? — Он студент. — Ха-ха! Ну да, конечно. Это знают все. А вы, я вижу, не знакомы с его историей. Видите ли, он внук того самого принца Ёакиры, который исчез при сверхъестественных обстоятельствах. Его семья утверждает, что это было чудо, и его величество оказал им свою великодушную поддержку. Но почему мальчик здесь? Его семья покинула город. Князь Сакануоэ, который, как говорят, женат на сестре мальчика, привез его сюда вечером того же дня, когда исчез дедушка. Странный поступок, не кажется ли вам? Фудзивара громко откашлялся и прогудел: — Ну конечно, наш вездесущий Нисиока опять почуял историю. Доверьте ему разнюхать какую-нибудь тайну, и он докопается до самого дна. Нисиока покраснел, но защищался смело. — Вам угодно шутить, профессор, а между тем человеческое поведение — специальная тема моих исследований. Все сокровенные писания Конфуция, а также его последователей и толкователей основаны на глубоком понимании личностных взаимоотношений, а личностные взаимоотношения лучше всего изучать, наблюдая за поступками людей и выясняя их мотивы. Акитада взглянул на многословного шумного Нисиоку с неожиданным уважением. — Признаюсь, — улыбнулся он, — я разделяю ваш интерес к проблемам человеческого поведения и, как и вы, проявляю любопытство к этому мальчику. Довольный Нисиока хлопнул в ладоши. — Вот так да-а! — радостно вскричал он. — А я так и понял, что мы с вами родственные души! Нам следует держаться ближе друг к другу. Я буду рассказывать вам все, что сумею узнать, и вы делайте то же самое. — В этот момент его внимание привлекло что-то в другом конце зала, и он поспешно сказал: — А сейчас, пожалуйста, простите меня — я должен пойти выяснить, из-за чего там поцапались Оэ с Такахаси. В противоположном конце зала два старших профессора ожесточенно выясняли отношения, чуть поодаль от них стоял Оно, беспомощно заломив руки. Фудзивара, задумчиво хмыкнув, заметил: — Между вами и Нисиокой все же есть разница. Мне кажется, вы задаете вопросы, потому что действительно беспокоитесь о людях, а Нисиоку волнует только интересная история. — Он покачал головой. — Большинству людей он кажется вполне безобидным, а на самом деле, когда этот мелкий проныра болтается рядом, никто не может быть уверен в том, что сохранит свой секрет. Вы только посмотрите на него! Глазом не успеете моргнуть, как мы узнаем все о сваре между Оэ и Такахаси. Однако вышло несколько иначе, поскольку Оно взошел на помост и призвал всех к порядку. Оэ и Такахаси разошлись, и все заняли свои места согласно званию и степени старшинства. Акитада сидел позади Хираты, тот, в свою очередь, через несколько человек от Оэ, чье место было в самом центре полумесяца, образованного собравшимися вокруг помоста. Когда Оно назвал имя Оэ, тот поднялся и величественно взошел на помост. Его красивое лицо, раскрасневшееся во время перебранки, еще не остыло, и этот румянец, и синее шелковое кимоно, и серебристо-седые волосы придавали Оэ горделивый и благородный вид. Властным взглядом он окинул собравшихся. — Друзья и коллеги, — начал он. — Позвольте мне немного злоупотребить вашим временем и поделиться с вами хорошей новостью. — Злоупотребляйте, но только не слишком, — громко отозвался со своего места Фудзивара. Но Оэ не спешил, неторопливо взвешивал слова, словно золотые монеты, своим хорошо поставленным мелодичным голосом. — Так уж повелось у наших предков, — сказал он, — что они придерживались правила идти по стопам древних. Акитада поймал себя на том, что не слушает Оэ, распространявшегося об обычаях и добродетелях древних и о тех давно забытых счастливых временах, когда поэты пользовались в обществе почетом и имели награды. Вместо этого он пытался определить по лицам собравшихся, кто мог подтасовать результаты экзамена. Хирату, сидевшего чуть впереди, Акитада видел только в профиль. Глубокие морщины избороздили его лицо, усталый подбородок покоился на груди. Только руки беспрерывно двигались, теребя ткань одежды. Танабэ, похоже, спал, и его блаженно улыбающееся старческое лицо выражало полную невинность. В отличие от Танабэ сидевший рядом Такахаси, казалось, не находил себе места, кусая губу и с трудом сдерживая ярость, готовую вырваться наружу. Объектом этой ярости был Оэ. А тот между тем, словно забыв о слушателях, наслаждался собственным красноречием. И только Фудзивара внимал оратору, выказывая заметное нетерпение. — Увы! — Для эффекта Оэ развел руками. — Те времена прошли. Наши моральные устои рушатся, а наши эстетические ценности свелись к погоне за достижением примитивных личных интересов, где главную роль играет желание обзавестись женой и детьми. И лишь те немногие из нас, кто еще не утратил права называться серьезными поэтами, трудятся в поте лица на бесплодной, неблагодарной ниве общественного равнодушия. Фудзивара громко зевнул. Оэ метнул на него сердитый взгляд и продолжил: — Однако не за тем я собрал вас, чтобы говорить о наших трудностях и невзгодах, ибо благодатный дождь высочайшего одобрения пролился вновь на наши головы. Наконец живительный солнечный свет высочайшего внимания пробился сквозь тучи безразличия и апатии. — И, повысив голос, он с победоносным видом объявил: — Наконец-то у нас снова состоится долгожданный поэтический конкурс! Поскольку это давно уже ни для кого не было новостью, бурно отреагировал только Оно: как ошпаренный подпрыгнув на месте, он начал громко рукоплескать. Оэ продолжал: — И это не обычный поэтический конкурс! По просьбе нескольких высочайших особ императорского двора это командное выступление пройдет в первый же вечер праздника Камо. Танабэ очнулся от сна. — Правильно! Правильно! — крикнул он. — Назовите, пожалуйста, имена августейших учредителей и участников. Оэ подавил усмешку. — Всему свое время, — сказал он. — Сейчас сообщу только, что председателем жюри будет принц Ацуакира. По такому случаю мы получили разрешение использовать императорский павильон в Весеннем Саду. И поскольку все траты берет на себя благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, мы с вами не понесем никаких расходов. Наконец-то ораторское красноречие Оэ было награждено бурными аплодисментами собравшихся. Он воспринял их благодушно, со снисходительным видом отца, довольного неожиданными успехами своих отпрысков. Затем, подняв руку, Оэ призвал всех к молчанию и перешел к делу: — Вам всем раздали план проведения мероприятия. Пожалуйста, обратите особое внимание на список включенных в программу музыкальных и танцевальных номеров. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Такахаси буквально взорвался, размахивая программой. — Есть! Как вы посмели? Почему никто не спросил моего мнения? Какое вопиющее безобразие! Это свидетельствует все о том же непрофессиональном и неуважительном отношении к коллегам, о котором я уже говорил вам раньше в связи с другим вопросом! Оэ побагровел, и его седые волосы, казалось, ощетинились. Ядовитым тоном он парировал: — Кому-то пришлось составить план мероприятия, и поскольку это был я, приложивший немало усилий, чтобы заручиться поддержкой императорского двора, то мне показалось неуместным вверять решение такого серьезного вопроса тому, кто не может похвастаться ни духовными интересами, ни талантами. Кто-то из слушателей прыснул со смеху. Окинув взглядом безмятежные лица, Такахаси задрожал от гнева и, разорвав в клочья программку, открыл было рот, чтобы снова наброситься на Оэ. Но он не успел ничего сказать, так как Оно предостерегающе крикнул: — Умоляю, не допускайте, чтобы личная неприязнь помешала осуществлению столь знаменательного события! Поскольку предстоящий конкурс посвящен сочинению стихотворений в китайском стиле, вопрос о том, кто наилучшим образом справится с его подготовкой, можно считать решенным. Такахаси снова взвился на месте. — Заткнись, безмозглый слюнявый лизоблюд! — заорал он. — Тут все знают, что ты по поводу и без повода вылизываешь жирную задницу этого самодовольного ублюдка! Возгласы и смешки собравшихся перекрыл раскатистый бас Фудзивары: — Ну хватит! С меня довольно! У меня найдутся дела поинтереснее, чем слушать кукареканье этих крикунов! Сядь, Такахаси! А вы, Оэ, продолжайте, да постарайтесь покороче! Такахаси противился и упирался, когда многочисленные руки потянули его вниз, заставляя сесть. Оэ готов был сойти с помоста, но здравый смысл возобладал в нем. Он закончил свою речь, теперь уже не изобиловавшую пышными цветистыми фразами и самовосхвалением, между тем как Такахаси молча сидел, свирепо вращая глазами. Оно пустил по рядам еще одну пачку листков, не поднимая дальнейших дискуссий. Только Танабэ воскликнул: — Замечательно! Просто великолепно! Акитада посмотрел в доставшийся ему листок. Это был список высокопоставленных учредителей и участников. Восторга Танабэ он не разделял, однако узнал в перечне конкурсантов, представляющих правительство, одно имя — секретаря Окуры. Он подумал, не тот ли это человек, который занял первое место на прошлогоднем весеннем экзамене. Собрание завершилось довольно скоро, к немалому удовольствию Фудзивары, он направился к выходу, взяв под руку Сато и громко обсуждая с ним предстоящий вечер в городе. — Какая мерзость! — пробормотал Такахаси. Следуя за ними, он остановился и сказал Акитаде: — Таких людей нельзя допускать к преподавательской работе! Они же разлагают молодежь! Подоспевший откуда ни возьмись Нисиока протиснул между ними свое тощее тельце. — Голубчик, смею напомнить вам, что этот беспутный профессор истории скорее всего победит в конкурсе, оставив далеко позади самого Оэ. Думается, вам следовало бы проявлять больше терпимости к его слабостям, учитывая вышеупомянутые обстоятельства. Такахаси сердито фыркнул и пошел прочь. — О чем это вы? — спросил Акитада у Нисиоки. — Я полагал, что фаворитом конкурса будет Оэ. — А вот и нет. В этом списке найдется сколько угодно талантливых имен, но факт остается фактом — только Фудзивара может считаться настоящим поэтом. В сравнении с ним все остальные — лишь жалкие дилетанты-недоучки. Когда Фудзивара в настроении или когда он в меру пьян — а в его случае это одно и то же, — он сочиняет как второй Ли По. — Лицо Нисиоки расплылось в улыбке. — Вам, наверное, интересно, из-за чего произошла ссора между Оэ и Такахаси? Всему виной черновой вариант посвящения императору. Как я понял, Такахаси сочинил его и дал прочесть Оэ, желая узнать его мнение. А Оэ отдал посвящение профессору каллиграфии, чтобы тот пустил его на студенческие черновики у себя в классе. Брови Акитады изумленно взметнулись. — Но он, должно быть, сделал это ненамеренно? — Напротив. Во всяком случае, Оэ этого не отрицает. — Какой чудовищно бестактный поступок! — Акитада покачал головой. — Неудивительно, что Такахаси был так разъярен. Довольный Нисиока закивал: — На этом не закончится, попомните мои слова! Такахаси затаил злобу, а Оэ не потерпит, чтобы кто-то нанес удар по его самолюбию. Так что ждите продолжения! — И, радостно потирая руки, он удалился. Когда Акитада и Хирата вышли на улицу, солнце уже садилось. Уборщики старательно чистили город. — До праздника Камо осталось два дня, — заметил Акитада. — Неужели Оэ надеется, что участники успеют подготовиться за такое короткое время? — Возможно, он и не надеется на это. Не забывай, что музыканты вроде Сато всегда имеют что-нибудь подходящее про запас. А остальные… До них Оэ нет дела. Сам он готов выступить, и ему совершенно безразлично, если кто-то там опозорится. Хирата говорил в необычном для него едком тоне. Акитада списал это на неприятности. — А что, профессора всегда так враждебно относятся друг к другу или вся эта свара возникла из-за прошлогодних событий на весеннем экзамене? Хирата вздрогнул и сразу поник. — Мне до сих пор не верится, что эта история стала достоянием общественности, — пробормотал он. — Нет. Все дело в том, что мы больше страдаем от человеческих пороков, чем обычные люди. Иначе мы не преподавали бы. Святые всегда наивны в своих заповедях. Они понятия не имеют, что значит бороться с искушением. Он произнес эти слова с такой горечью, что Акитаде пришлось напомнить себе об удивительной терпимости, с какой Хирата всегда относился к порокам и слабостям других. Разумеется, подобное отношение могло завести этих людей слишком далеко — в бесконечную трясину взаимных обвинений. С тяжелым сердцем он припомнил странные слова Хираты о том, что на земле его удерживают лишь какие-то два обязательства. Через лакированные красные университетские ворота они молча вышли на дорогу Мибу. На противоположной от них стороне простирался огромный парк. Другие ворота — не лакированные колонны с синей черепичной кровлей, как университетские, а простые бревенчатые, с соломенной крышей, — вели в императорский Весенний Сад — Синсэнэн, где в скором времени и должен был состояться поэтический конкурс. Цветущие деревья яркими пятнами выделялись на фоне темной зелени дубов, кленов и сосен, теплый вечерний воздух был напоен их ароматами. Перед мысленным взором Акитады возник образ Тамако, прогуливающейся в ее любимом цветущем саду. — Приходи как-нибудь поужинать, — сказал вдруг Хирата. Акитада вздрогнул. Ему стало неловко. — Спасибо. — Тамако спрашивает о тебе каждый вечер. Акитада не знал, что сказать. Они дошли до перекрестка дороги Мибу и Второй улицы. Там их пути расходились. — Ну так как? — остановившись, спросил Хирата. — Да. Я хотел бы зайти, — запинаясь проговорил Акитада. — То есть если Тамако в самом деле… то есть я не хотел бы быть обузой. — Да какая там обуза! Ты окажешь нам любезность. — Хирата положил рукуему на плечо и проникновенно сказал: — Знаешь, мы ведь живем очень уединенно. Особенно Тамако. Ей необходимо общаться со сверстниками. Обычно мать девушки улаживает такие дела, но с тех пор как умерла моя жена… — Голос его дрогнул, и он тяжело вздохнул. — Когда-нибудь умру и я, и моя дочь останется совсем одна в этом мире. А ведь это совсем ненормально, что она вынуждена проводить все время со мной. У Акитады голова пошла кругом. Если он правильно понял, Хирата намекнул ему, что не прочь видеть его своим зятем. Он сразу представил, что сказала бы на это его мать. Охваченный внезапной злостью на эти сугубо личные обстоятельства, Акитада неожиданно для себя сказал: — Я всегда держу зрительские места для матери и сестер на торжественную церемонию праздника Камо. Не согласитесь ли вы с Тамако быть нашими гостями, или вы уже обещали кому-то другому? Осунувшееся лицо Хираты просияло. — Спасибо тебе, мой мальчик! Ты очень добр, — проговорил он потеплевшим голосом. — Сам я не могу принять твоего приглашения, поскольку уже обещал старым друзьям, но Тамако обрадуется. Передай, пожалуйста, благодарность от меня твоей досточтимой матушке за ее величайшую доброту к моему чаду. У Акитады защемило сердце, но он мужественно сказал: — Вот и прекрасно! В таком случае позволите ли мне сопровождать Тамако? — Конечно! Что может быть благороднее! Так нам ждать тебя завтра вечером на ужин? — Да. Спасибо. Почту за честь. Хирата рассмеялся: — Мой мальчик, к чему такой официальный тон? Ведь ты — почти член нашей семьи. Спокойной ночи! — Он помахал рукой и удалился. Акитада смотрел ему вслед, а голову все настойчивее сверлила мысль: может, именно это, а не письмо шантажиста, было истинной причиной, заставившей Хирату возобновить с ним отношения?Глава 5 Смерть в Весеннем Саду
На следующий день рано утром Акитада нанес визит матери. Он нашел госпожу Сугавара на веранде, где она вкушала свой утренний рис. Завидев сына, она тут же отпустила служанку. Мать Акитады когда-то была очень красивой женщиной, но от прожитых лет и постоянной неудовлетворенности тело ее иссохло, а лицо стало суровым. Тем не менее она любезно встретила сына и предложила ему присесть. Справившись, по обыкновению, о ее здоровье, Акитада сообщил матери о своих хлопотах в связи с приближающимся праздником Камо. Эту новость она приняла с одобрением. Затем, после недолгого колебания, Акитада сказал: — Матушка, есть еще один вопрос, и надеюсь, вы дадите своему недостойному сыну мудрый совет. Госпожа Сугавара, удивленно приподняв брови, кивнула: — Говори! — Вы, конечно же, помните, с какой добротой мой бывший учитель профессор Хирата отнесся ко мне? Мать Акитады нахмурилась. — Я всегда глубоко сожалела о том, что чужим людям пришлось занять место твоих родителей, — сказала она и, немного помолчав, добавила: — Впрочем, человек он весьма уважаемый, и в этой сделке не было ничего недостойного. Ты просто жил у своего наставника. Акитада возмутился: — О какой сделке вы говорите, матушка! Хирата приютил меня по доброте душевной после того, как я был изгнан из этого дома. Мать отвела взгляд в сторону: — Тебе все-таки не следует забывать, что ты Сугавара. Впрочем, полагаю, господин Хирата человек весьма почитаемый. — Он добрейший человек и притом отец очаровательной и талантливой дочери. — Акитада затаил дыхание и вопросительно смотрел на мать, однако та, плотно сжав губы, ждала. — Ее зовут Тамако. Мы росли с ней вместе, как брат и сестра, все те годы, что я жил у них, но я не видел ее с тех пор, как мой отец… — Он осекся, заметив, что мать нервно дергает себя за рукав и хмурится. Набрав побольше воздуха, Акитада выпалил на одном дыхании: — В общем, сейчас Тамако двадцать два года, она единственное дитя Хираты. Он очень беспокоится за ее будущее и, как я понял, был бы рад, если бы я попросил ее руки. Ну вот наконец-то он высказал все! Они долго сидели молча. Госпожа Сугавара не пошевельнулась и даже не смотрела на сына. — Что ж, понятно. — Я… я тоже был бы рад, — запинаясь проговорил Акитада. — То есть я действительно очень люблю Тамако. И тебе она понравится. Она на редкость способная, читает и пишет по-китайски, вместе со мной училась у своего отца, а еще она прекрасный садовод. У вас много общего! — Последние слова, разумеется, были откровенной ложью. Эти женщины не имели ничего общего. Госпожа Сугавара вздохнула и обратила взгляд к сыну. — Ну что ж, — сказала она. — Ты уже не юнец, да и у меня золотые годы позади, и я доживаю отмеренные мне на этом свете дни, считая их как драгоценные подарки. — Краешком рукава она смахнула слезу и печально улыбнулась сыну. — Видимо, пора тебе привести в дом жену, и я хотела бы подержать на руках внука, прежде чем умру. Огромная тяжесть свалилась с плеч Акитады. Он почти не верил своим ушам. — Спасибо, матушка! — Он низко склонился перед ней. — Спасибо вам за вашу чуткость. Отмахнувшись от его благодарностей, она улыбнулась. Сейчас былая красота вернулась к ней. Акитада поспешил сообщить: — Сегодня я приглашен на ужин к профессору и тогда же дам ему ответ. А вы познакомитесь с вашей будущей невесткой в день праздничной церемонии. Я уже пригласил ее в нашу семейную ложу. Улыбка мгновенно исчезла с лица госпожи Сугавара. — Ты пригласил ее, не посоветовавшись со мной? Впервые слышу, чтобы так нарушали обычаи. В таких делах принято пользоваться услугами посредника. Ты же знаешь, как я не люблю сюрпризов! Впредь изволь заручаться моим согласием, перед тем как знакомить меня с посторонними. Акитада извинился и смущенно раскланялся. Его мать оправила на себе платье и, недовольно хмыкнув, сказала: — Впрочем, это не так уж и важно. Семья, конечно, уважаемая, но едва ли пользуется большим весом в обществе. Разумеется, ты мог бы проявить больше учтивости, но поскольку, как я понимаю, ей будет отведена в нашем доме роль второй хозяйки, то, думаю, мы могли бы позволить себе до определенной степени не соблюдать формальностей. Кровь прихлынула к лицу Акитады, и он с ужасом воскликнул: — О нет! Боюсь, матушка, вы меня неверно поняли! Ни о каком второстепенном положении в доме не может быть и речи! Это было бы тяжелейшим оскорблением после того, что Хирата сделали для меня. — И, внезапно рассердившись, он многозначительно добавил: — Вернее, для нас! И пожалуйста, не забывайте, что ваши высокопоставленные друзья прекрасно осведомлены об обстоятельствах, связывающих наши семьи! — Акитада говорил в необычно резком для себя тоне, так что мать даже растерянно заморгала. — С тобой становится трудно ладить, Акитада, — сказала она с упреком. — Я всегда желала тебе только добра. Хирата не способны продвинуть твою карьеру. Ты должен заключить выгодный брак. Я уже думала о дочери Такэды или об одной из девиц Отомо. Их отцы имеют заметное влияние при дворе. — Мне нет до этого дела! Она печально покачала головой: — Знаю. С этим у тебя всегда были проблемы. А вот я не забываю об ответственности перед семьей. И получается, что я несу ее одна! Твои сестры до сих пор не замужем. Опять. Опять он виноват. Опять над его головой нависла черной тучей незавидная участь сестер. Мать обожала расписывать душещипательную картину их будущего — как им предстоит до конца дней влачить жалкую участь старых дев, незамужних тетушек, бегать с чужими поручениями, нянчиться с чужими детьми и с престарелыми родителями, как служанкам, и хуже того, служанкам, не получающим жалованья. Даже случись одной из них найти себе мужа, он наверняка окажется полунищим неотесанным простолюдином и непременно будет колотить ее. Или, что совсем ужасно, ей придется довольствоваться жалкой участью третьей или четвертой жены какого-нибудь богатея, находясь под пятой у его первой супруги. Гордо распрямившись, Акитада решительно проговорил: — Нет, матушка. Я не предложу Тамако ничего другого, кроме положения первой жены. — Вот и прекрасно, — фыркнула она и хлопнула в ладоши, вызывая служанку. Акитада поднялся и раскланялся. Визит к матери был закончен.Он шел на занятия в университет с тяжелым сердцем, думая о матери и о переменах, к которым не был готов. В будущем ему так или иначе придется рассматривать вопрос о женитьбе и, конечно же, о детях. И денежных трудностей все равно не избежишь. Но сейчас выходило так — Акитада собирался завести новую семью, хотя не имел возможности обеспечить старую. Внезапно устыдившись этих мыслей, он напомнил себе, как ему повезло. Разве мечтал он завоевать сердце такой изящной, очаровательной и умной девушки, готовой пойти с ним по жизненной дороге рука об руку? Ведь, говоря по чести, ей пришлось бы разделить с ним предстоящие трудности. Погруженный в эти тяжкие раздумья, Акитада забыл свернуть на дороге Мибу к университету и, сам того не заметив, направил свои стопы к министерству, как если бы шел на свою обычную работу. Было еще очень рано, но толпы служащих и писцов уже неслись мимо него к своим рабочим местам. Сообразив, что ошибся, Акитада решил не менять маршрута и заглянуть к Сэймэю. Старик корпел над документами, делая торопливые записи своей по-паучьи проворной кисточкой. Он недовольно оторвался от бумаг, но, завидев Акитаду, просиял: — Доброе утро, господин! — Сэймэй поднялся и поклонился. — Я раздобыл в архиве имущественного отдела список владений принца Ёакиры и сейчас делаю для вас копию. Бумаги нужно вернуть до того, как начнутся вопросы. — Молодец! — Акитада взял в руки документ и пробежал его глазами. — Боже! — воскликнул он. — Такое богатство?! — Да. Пять дворцов в предместьях столицы и еще тридцать пять по всей стране, а также огромные рисовые плантации в богатейших провинциях, две из которых, самые большие, освобождены от государственного налога. Я завел дружбу с одним чиновником из имперского архива, поэтому скоро получу доступ к записям завещаний. — Акитада кивнул, листая документы. Сэймэй продолжал: — Но знаете, господин, теперь я еще больше тревожусь. Буквально все при дворе считают, что это дело лучше замять. Князь Сакануоэ уже заявил претензии на внушительную долю этого состояния как на приданое своей жены. Прежде он не внушал людям особых симпатий, но, говорят, теперь его приняли государственный канцлер и даже сам император. Акитада сердито швырнул бумаги. — Меня это не удивляет. Сакануоэ женился на внучке принца из соображений выгоды и намерен стать опекуном его внука. Вот, пожалуй, еще один повод для вопросов. Для человека беспринципного и неразборчивого в средствах такое богатство представляет собой великий соблазн. Оно распахнет перед ним все двери. Я хочу, чтобы ты выяснил по этому делу все, что только можно. — Направляясь к двери, Акитада вдруг вспомнил: — Да, и разузнай, пожалуйста, хоть что-нибудь о молодом чиновнике по имени Окура. Он занял первое место на прошлогодних экзаменах и, видимо, получил хороший государственный пост. — Окура? Это, случайно, не тот, что затеял стычку с Торой несколько дней назад? Акитада нахмурился: — Да ну, вряд ли! Этот напыщенный болван? Впрочем, скорее всего ты прав! Как некрасиво он тогда себя повел! Что он там сказал, не помнишь? Что работает в министерстве церемониала? Ладно, попробуй разузнать о нем что-нибудь. Возможно, он как-то причастен к проблеме профессора Хираты.
Занятия в тот день прошли спокойно. Акитада постепенно свыкся со своими задачами и даже находил удовольствие в новой работе. Поскольку список состояния покойного принца Ёакиры все еще был свеж в его памяти, он предложил студентам изложить свои мысли о налоговых послаблениях членам императорской семьи. У тех задание вызвало живой отклик, и они высказали несколько весьма разумных и оригинальных замечаний по этому поводу, но самым активным участником дискуссии оказался юный Минамото, пламенно выступавший против подобной практики. Однако многие ученики обнаружили плачевное незнание китайского. Это был не его предмет, но Акитада все же решил размять ноги и сбегать за коллегами на факультет китайской литературы. Там он нашел только Оно и студента Исикаву. В главном зале они расставляли отметки за студенческие сочинения. — Господин профессор в библиотеке, — сообщил Акитаде Оно. — Он готовится к конкурсу, так что его нельзя тревожить. Оно попытался загладить эту резкость многократными поклонами и извинениями. Расшаркиваясь и вертясь, он потирал ладони и истошно тряс головой. Акитаде тут же пришли на память слова Оэ, назвавшего его «белкой». Исикава наблюдал за всем этим с презрительной ухмылкой. — Ничего. У меня не особенно важное дело, — сказал Акитада. — Гению необходимы полный покой и уединение, — продолжал Оно. — Может быть, господин Исикава или я будем вам полезны? Ага! Значит, теперь уже «господин Исикава». Акитада перевел взгляд на молодого человека, а тот в ответ удивленно вскинул брови. Повернувшись к нему спиной, Акитада поинтересовался у Оно: — Как у вас насчет дополнительных занятий по китайскому со слабыми студентами? Я обнаружил в своем классе отстающих. — Ах вот в чем дело! — воскликнул Оно. — Да, мы оказываем такую помощь. Если они способны оплатить услуги репетитора, мы обычно просим кого-нибудь из старших студентов помочь им наверстать упущенное. Студентам из знатных семей, конечно, приходится нанимать репетитора на стороне. Впрочем, надеюсь, вы не слишком строги? Ведь таких талантливых студентов, как господин Исикава, у нас раз, два и обчелся. Теперь Акитада был вынужден обратиться к Исикаве: — Да, я наслышан о ваших успехах и даже знаю, что вы, вероятнее всего, победите на следующих экзаменах. Примите мои поздравления. — Благодарю, — отозвался Исикава с благодушно-самодовольным видом и добавил: — К сожалению, это будет еще не скоро — только через несколько месяцев. Его самоуверенность раздражала Акитаду. Кивнув, он сказал: — Понимаю. Должно быть, такая неопределенность неприятна. Я слышал, что прошлогодний фаворит так и не победил в итоге. Тут вмешался Оно: — Что было, то было. И это, конечно, поразило всех нас! Но такое случается крайне редко — чтобы кто-то из молодых людей столь неожиданно, в самый последний момент написал такую превосходную работу. Уверяю вас, на этот раз ничего подобного не случится! Исикава заулыбался: — А я ничуть не волнуюсь на этот счет. В конце концов, я слишком усердно трудился и приложил слишком много усилий, чтобы проиграть в одночасье! Ну уж нет, я вполне уверен в своем успехе! Акитаде не понравился его тон. Его насторожили даже не высокомерие и заносчивость Исикавы, а какие-то угрожающие нотки в его голосе. Сделав банальное замечание по поводу погоды, он пошел готовиться к следующему учебному дню. Когда явился Тора, доставивший ему из дома нарядное кимоно и головной убор, Акитада все еще сидел, склонившись над своими записями. — Вы бы переоделись, хозяин, — с порога начал Тора. — А то ведь пора идти к профессору на ужин. — Неужели уже так поздно?! — Акитада протер глаза и потянулся. — Спасибо тебе, Тора. — Его охватило радостное предвкушение приятного вечера. Он поднялся. — Помоги-ка мне вылезти из этого платья. Да, и мне, наверное, нужно умыться. Сходи-ка за водой. — А к брадобрею не пойдете? — спросил Тора. Акитада провел рукой по щеке. — Это ни к чему. Я никогда не бреюсь перед ужином. Тора что-то буркнул и отправился за водой. Вымыв руки и ополоснув лицо, Акитада пригладил волосы перед зеркалом. Тора, державший наготове кимоно, стоял, склонив набок голову, и наблюдал за Акитадой с широкой улыбкой. — Вы похожи сейчас на взволнованного ухажера, — весело заметил он. Акитада обернулся: — С чего ты взял? — Так уж выходит. Сначала моя госпожа, ваша матушка, заставила меня выбрать именно это кимоно. Потом велела служанке вычистить его. Затем сама, не доверяя никому, пропитала его какими-то благовониями. Сказала, что вы небрежно относитесь к одежде. — Усмехнувшись, Тора поднес к носу рукав. Понюхав его, он картинно закачался и, выкатив глаза, вскричал: — Мм-м! Ну, теперь юная госпожа точно не устоит! Прямо не терпится увидеть это! — Перестань паясничать! — прикрикнул на Тору Акитада, вырывая у него из рук кимоно. — Я всего-навсего иду ужинать к друзьям. И твое присутствие там вовсе не обязательно. — Прошу прощения, хозяин. — Тора улыбнулся во весь рот. — Так распорядилась госпожа Сугавара. Вас должен сопровождать слуга. Акитада изумленно уставился на него, а Тора поспешил принять обиженный вид. — Да нет же, пожалуйста, — неохотно согласился Акитада, облачаясь в кимоно и подпоясываясь. Довольный Тора протянул ему черную высокую шляпу. Надев ее перед зеркалом, Акитада сказал: — Ну, тогда пойдем! На улице он перешел на такой быстрый шаг, что Тора едва поспевал за ним. — Да погодите же вы! — взмолился он, когда Акитада выходил через университетские ворота с развевающимися от ходьбы полами и гордо вскинутым подбородком. — Зачем так спешить, если вы не собираетесь заглянуть к брадобрею? Акитада остановился, любуясь зеленью Весеннего Сада, залитого вечерним солнцем. Повинуясь внезапному порыву, он пересек улицу. — Куда вы, хозяин? — удивился Тора, на бегу шумно переводя дыхание. — Хочу взглянуть на павильон, где завтра пройдет поэтический конкурс. Но у деревянных ворот парка в тот вечер была выставлена охрана, и стражник преградил им путь. — Простите, господин, но сегодня и завтра парк закрыт для посетителей, — сказал он Акитаде. — Я профессор университета, хочу взглянуть на приготовления к празднику, — возразил Акитада. Оглядев с ног до головы солидного посетителя и его слугу, стражник поклонился и отступил в сторону: — Ну, раз господин участвует в завтрашнем мероприятии, тогда, я думаю, можно. Парк был очень красив в это время дня. Блики вечернего солнца играли в молодой листве и золотили посыпанные гравием аллеи. В зарослях щебетали птицы, аромат цветов щекотал ноздри, и дорожка таинственно извивалась среди свежей зелени папоротника и цветущих азалий. Благоухание цветов напомнило Акитаде о Тамако и о его намерении предложить ей руку и сердце. За одним из поворотов он заметил пышную глицинию, проросшую сквозь старую иву, — ее огромные пурпурные цветы смешались с матовой зеленью плакучего дерева. Акитада вдруг воспрянул духом. Нет сомнений, что все будет хорошо. Они слишком давние друзья, и между ними никогда не возникнет стеснение или неловкость. За следующим поворотом открылся вид на озеро и императорский летний павильон. Акитада остановился, залюбовавшись великолепным пейзажем. Это был один из самых красивых видов столицы. Из зеленой гущи парка выглядывали покрытые красным лаком точеные столбики балконов и блистающая лазурью черепичная крыша. Позолоченные шпили и колокольчики по краям изогнутых карнизов сверкали в лучах заходящего солнца. Они стояли и смотрели, как под ветерком колышутся верхушки деревьев и играют золотистые блики на синей воде. — Ну и красотиша! — воскликнул Тора за спиной у Акитады. — Должно быть, так выглядит рай, о котором говорят западные люди. А озеро-то какое большое! Полюбуйтесь на эти лодки! И островок есть посередине, а на островке храм — ну точно как на картине, что висит в комнате вашей матушки! — Да, здесь действительно красиво, — согласился Акитада, мысленно возвращаясь к своим студенческим дням, когда по многу часов рыбачил на этом маленьком островке и катался с друзьями на освещенных фонариками лодках теплыми летними вечерами. Он заметил, что подготовка к поэтическому конкурсу уже началась. Суденышки, выстроенные в ряд, качались на воде, готовые к приему завтрашних гостей. Белую песчаную полосу между павильоном и озером тщательно разровняли граблями, а на просторных трибунах, уже окутанных предвечерним сумраком, он разглядел сложенные высокими стопками подушки. Тору больше интересовало озеро. — А что это за постройки вон там, на дальнем берегу? — полюбопытствовал он. — Одна — так называемый восточный рыбачий павильон. Другая — водопадный павильон: прямо за ним есть искусственный водопад. Там есть еще две постройки, но их отсюда не видно. Все они предназначены для увеселения императора и его свиты. — Вот оно что!.. — Тора сосредоточенно вглядывался в даль, потом нырнул в заросли, заслонявшие ему вид на озеро. Акитада ждал его на дорожке. Вдруг он услышал изумленный возглас и череду отборных ругательств, после чего Тора позвал: — Эй! Идите сюда скорее, хозяин! Полюбуйтесь-ка! Акитада ступил в заросли, стараясь оберегать платье и аккуратно раздвигая колючие плети ежевики. Он увидел, что Тора склонился над распростертым телом молодой женщины в синем хлопковом кимоно. Она лежала на боку, раскинув в стороны руки и ноги, прямо посреди тростника, растущего в илистой жиже у самой кромки воды. Женщина была мертва.
 Акитада и Тора обнаруживают тело убитой девушки
Акитада и Тора обнаруживают тело убитой девушки
Акитада ступил на мокрую почву и приблизился к телу. Кожа у покойницы посинела, язык вывалился изо рта, но он сразу узнал в женщине ученицу профессора Сато, приходившую в университет брать у него уроки игры на лютне. Она была задушена. — Какой-то ублюдок удавил ее, — констатировал Тора и без того явный факт. Акитада наклонился и коснулся ее щеки. Нежная, еще по-детски пухлая, она была покрыта легким слоем рисовой пудры, популярной у женщин из высшего общества и веселых кварталов. Тепловатая на ощупь кожа еще не успела остыть. Акитада взял руку женщины, подвигал ею, и та легко согнулась. Безвольно гнулись и мягкие пальцы, кожа и ногти были абсолютно чистыми, если не считать следов грязи, прилипшей в тех местах, где рука касалась земли. — Ее убили совсем недавно, — заключил Акитада, выпрямляясь и оглядывая землю вокруг. Стебли тростника были примяты только в том месте, где они с Торой проложили дорожку. — Интересно, что она делала здесь, если парк закрыт? — Убийца еще может находиться где-то поблизости, — сказал Тора. — Хотите, пройдусь посмотрю? — Да, только не забирайся далеко. Нахмурившись, Акитада разглядывал девичье тело, потом наклонился и перевернул его на спину. Ее синее кимоно оказалось распахнуто, из-под него виднелось несвежее белое хлопковое белье. Акитада вновь поднялся и начал исследовать землю вокруг тела и протоптанной ими тропинки, но не обнаружил ничего. Тогда, вернувшись к мертвой женщине, он снова присел на корточки и осторожно приподнял ее голову за подбородок. Глубокие синюшно-красные полоски отчетливо проступали на белой коже шеи. — Поблизости ни души, — сказал у него за спиной Тора, пробираясь через тростник. Заметив виднеющееся из-под одежды белье, он выругался. — Выходит, он сначала изнасиловал ее. — Не думаю, — проговорил Акитада. — Одежда довольно чистая и непомятая. Если бы ее насиловали, остались бы следы борьбы. — Но у нее нет пояса! Ни одна приличная женщина не станет гулять по улице в распахнутом кимоно. Если ее не насиловали, значит, она дала согласие. Но зачем же этот подонок задушил ее, если она не сопротивлялась? — Хороший вопрос. Посмотри-ка на ее шею! Когда душат голыми руками, на теле остаются следы пальцев. Я где-то читал, что такие отпечатки измеряют и сравнивают с пальцами подозреваемого. Но эту женщину задушили не руками, а какой-то удавкой из ткани, возможно, ее пропавшим поясом. Когда ты ходил сейчас, не видел ничего похожего? Тора покачал головой: — Пояса? Нет, не видел. Хотите, поищу снова? — Нет. Уже темнеет, а глушь здесь сам видишь какая. Я должен пойти сообщить об убийстве стражнику, а ты оставайся здесь. Акитада нашел стражника, который растянулся поперек прохода у ворот. Прислонившись спиной к колонне, тот мирно дремал. — Поднимайся! — крикнул Акитада, заставив его вскочить на ноги. — У вас произошло убийство. Совсем недавно, не больше часа назад. Кто входил в парк или выходил из него за это время? Стражник поначалу опешил, потом начал сбивчиво и многословно объяснять, что никто, кроме Акитады и Торы, не входил в парк за время его смены. — Все ворота заперты два часа назад. Вход разрешен только служителям парка, да и то лишь через эти ворота, — оправдывался он. — Вы же сами помните, господин, как я остановил вас и вашего слугу. Акитада удивленно приподнял брови. — Но мне показалось, ты не очень-то был начеку. Уверен, что никто другой не проходил через ворота? — Да, господин, уверен. Я и присел-то всего на минутку. И глаз не сомкнул все это время, не сомневайтесь. В это время года в парке шляется много всякого сброда. — Значит, ты не видел, чтобы мимо тебя прошла молодая женщина в синем кимоно? Среднего роста, лет восемнадцати-девятнадцати, миловидная. Глаза стражника округлились. — Так это ее убили? Бог ты мой! Я знаю, о ком вы говорите. Она здесь часто бывает. Всегда приходит и уходит одна. — Он приложил грязный палец к носу и растерянно заморгал. — Конечно, это не означает, что здесь она проводит время в одиночестве. Ходит тут один молодой господин из университета, он-то и развлекает ее! Ха-ха! Сам живи и дай жить другим, всегда говорю я. — Сегодня как раз обратный случай, — сухо заметил Акитада. — Так что же, выходит, ты пропустил ее, несмотря на то что парк закрыт для посетителей? — Ну нет, господин! Сегодня я не видел ее. Вероятно, она прошла раньше, до начала моей смены. — Хорошо. Оставайся здесь и гляди в оба, задерживай всякого, кто попытается выйти. Убийца все еще может находиться в парке. А я пойду поищу кого-нибудь из городской стражи. Левое подразделение городской управы — Саке Сики — находилось в квартале чуть южнее университета. Там же располагалось районное отделение городской стражи. Акитада доложил о случившемся солидному пожилому служителю, и тот немедленно послал гонца с донесением в полицию, потом направил отряд городской стражи в парк и только после этого начал записывать показания Акитады. На это ушло довольно много времени, поэтому когда Акитада наконец вернулся к воротам парка, он уже был наводнен красными одеждами полицейских. Кивнув знакомому стражнику, Акитада вошел вслед за ними, и тут же у него за спиной раздался повелительный окрик: «Стой!» Акитада обернулся. Высокий офицер средних лет в красной форме капитана полиции с луком и колчаном стрел решительно направлялся к нему. Его красивое бородатое лицо было мрачно и угрюмо. — Что вы здесь делаете? — резко спросил он. — Парк закрыт. Назовите себя и объясните цель посещения! Акитада повиновался. Офицер окинул его внимательным взглядом, но тон его не смягчился. — Понятно, — сухо сказал он. — Я — капитан полиции Кобэ. Покажите мне тело! Акитада провел его к тростникам, где Тора уже отчаянно препирался с полицейскими. Кобэ рявкнул на них, и те расступились. Тора и Акитада наблюдали в сторонке, пока Кобэ производил предварительный осмотр места преступления и тела. Закончив осмотр, капитан подошел к своим людям, отдал им какие-то распоряжения, и те разбрелись в разных направлениях. Потом он вернулся к Акитаде и сказал: — Ее задушили. Причем совсем недавно. Часа два назад, может быть, даже меньше. — Он еще пристальнее посмотрел на Акитаду, кивнувшего в ответ, и добавил: — Мои люди сейчас прочесывают парк в поисках убийцы. Судя по всему, вы нашли ее сразу после случившегося. Вы переворачивали тело? Акитада объяснил, как все было, и с помощью Торы показал, в какой позе первоначально лежала девушка. — Все выглядело так, будто ее бросили в тростники, — пояснил он. Посмотрев на тело, на примятые тростники и кустарник, Кобэ раздраженно заметил: — Скверно, когда посторонние суют нос не в свое дело. Я уж не говорю о том, сколько следов и улик здесь было уничтожено. — Немного помолчав, он нехотя прибавил: — Впрочем, думаю, вы не слишком испортили картину. Эта женщина была простолюдинкой, но не уличной девкой. На шестом или седьмом месяце беременности. — Что-о?! — Акитада покраснел от смущения, когда выяснилось, что он проглядел это. — Боюсь, я не располагаю большим опытом в подобных делах, — пробормотал он, еще больше краснея от такого признания. — Мне она показалась просто тяжелой. Офицер вздохнул: — Не берите в голову. В вашем возрасте я разбирался в этом немногим лучше, чем вы. Вы ведь, как я понимаю, не женаты? Акитада покачал головой: — Пока нет. Губы Кобэ едва заметно дернулись. — Ладно. Скоро сюда прибудет следователь по особо тяжким преступлениям, чтобы подтвердить факт убийства. Кстати, у нее пропал пояс. Как я понимаю, вы не видели его? — Нет. Мы искали только в ближайших зарослях. Скорее всего он из красной парчи, ткань довольно высокого качества. Брови Кобэ удивленно взметнулись, и Акитада поспешил пояснить: — Я узнал эту девушку. Я видел ее мельком примерно неделю назад. Тогда на ней была эта же одежда, и я заметил у нее очень дорогой пояс. Заметил, потому что он совсем не сочетался по качеству с остальной одеждой. Вот только боюсь, имени ее я вам назвать не смогу. — Где вы видели ее? Что она делала? — Она выходила из музыкального корпуса университета после урока игры на лютне. — После урока игры на лютне? От профессора музыки? Такая простолюдинка? Акитаде не понравился тон капитана, и он сухо ответил: — Как бы то ни было, но я видел ее там. — Как зовут этого профессора и где он живет? Ответив на этот вопрос, он вряд ли заслужит расположение Сато, подумал Акитада. Поначалу он даже хотел переключить внимание Кобэ, передав ему слова стражника у ворот, но не стал. Такой дотошный полицейский наверняка и без его совета тщательно допросит стражу. — Его зовут Сато, — сообщил Акитада. — А вот где он живет, не знаю. Кобэ постоял в задумчивости, глядя на тело девушки. — Что ж, по крайней мере у нас есть хоть отправная точка. Насколько я понимаю, в университете сейчас, наверное, уже никого не найдешь? Все разошлись по домам? — Скорее всего. — Хозяин! — Тора проявлял нетерпение. Дернув Акитаду за рукав, он прошептал: — Уже поздно. Вас ждут в доме Хираты. Акитада вспомнил о собственных делах. — Конечно, Тора. Я совсем забыл. — И, повернувшись к капитану, сказал: — Если сегодня я вам больше не понадоблюсь, позвольте мне откланяться. У меня важная встреча. Кобэ оглядел Тору с головы до пят: — Тора? Уж не ты ли тот молодец, которого твой хозяин подобрал на большой дороге после того, как кто-то пытался ограбить его? Тора усмехнулся: — Я самый, господин. Акитада застыл в немом недоумении. — А вам откуда это известно? — спросил он у Кобэ. В глазах Кобэ вспыхнули огоньки. Он явно наслаждался произведенным эффектом. — Видите ли, в моей работе главное — прислушиваться ко всему, что говорят. Признаться, я не арестовал вас обоих сразу на месте только потому, что мне знакомо ваше имя. Здесь в городе ходило столько разговоров о том, как вы разобрались с этими монахами-изменниками. — Уголки его губ снова чуть дернулись, и он почти улыбнулся. — Ну ладно, не буду вас задерживать. Я разыщу вас, если мне понадобится задать еще несколько вопросов. — Да. Благодарю, — растерянно пробормотал Акитада. Они поспешили к выходу. У ворот полицейские тащили волоком какого-то оборванного старика. Смущенный тем, что опаздывает, Акитада прошел мимо, но Тора из любопытства задержался. Догнав хозяина, он сообщил: — Они нашли этого бродягу в кустах возле другого выхода и задержали. Как я понял, он прятал в рукаве пояс от женской одежды. Акитада остановился и оглянулся: — Этот щуплый старик? Да это невозможно! Посмотри на него — он ребенка-то поднять не сможет, не то что беременную женщину! Он направился было к полицейским, но Тора удержал его за рукав: — Куда вы, хозяин? Вы же обещали Хирате и вашей матушке. К тому же этот капитан, по-моему, далеко не дурак и способен прийти к такому простому заключению сам. Акитада неохотно кивнул. Уже за пределами парка, когда они шли по Второй улице, Тора сказал: — Стало быть, она была беременна! Я так и подумал. Интересно, что все это значит? — Акитада промолчал. — А этот парень, Сато, ее учитель… Как по-вашему, не он ли отец ее ребенка? — не унимался Тора. Акитада лишь задумчиво хмыкнул. — А может, она шантажировала его, вот он и убил ее? — Что? Пожалуйста, Тора, помолчи! Я думаю! Тора усмехнулся, с трудом удерживаясь от очередной колкости по поводу взволнованных ухажеров. Остальную часть пути они прошли молча. Акитада был задумчив и выглядел озабоченным, к тому же он вспотел — не столько от волнения, сколько от быстрой ходьбы. Как вскоре выяснилось, беспокоился он напрасно. Не успел Акитада постучать в ворота дома Хираты, как они распахнулись. Тамако, держа в руке фонарь, встревоженно вглядывалась в его лицо. В этом золотисто-желтом свете на фоне темного сада ее тонкая фигурка напоминала призрак. На Тамако было нарядное кимоно, но даже при таком скудном освещении Акитада заметил напряженное выражение ее бледного лица. — Слава Богу! — воскликнула она. — Наконец-то! Сколько можно ждать! Где ты был? В тоне Тамако вовсе не чувствовалось трепета в связи со встречей с будущим мужем, и это привело Акитаду в замешательство. — Что-то случилось? — спросил он. — Нет. Просто мне нужно срочно поговорить с тобой. Отправив Тору на кухню, Акитада объяснил Тамако, из-за чего задержался. Тамако стояла, опустив голову и слегка покачивая фонарем. — Пожалуйста, прости меня! Я же не знала! Как это ужасно! Бедная девушка! — Откуда же тебе знать? А что случилось у тебя? — Ах, Акитада! — Она тяжело вздохнула. Окутанные ночными ароматами сада, они стояли совсем близко. Акитада ощущал, как Тамако дрожит, и у него вдруг возникло непреодолимое желание коснуться ее. Но когда он положил руку ей на плечо, она поспешно отступила назад. — Пожалуйста, не надо! — Голос Тамако звенел от напряжения. — Я знаю, что у вас с отцом был разговор о браке. Но ты не должен делать этого! Умоляю, не делай этого, если я тебе хоть немного дорога… если ты действительно относишься ко мне как к сестре!.. Не делай этого предложения сегодня… и вообще никогда! Акитада, мне очень жаль, но я не могу выйти за тебя замуж! — Но почему?! — Потрясенный и сбитый с толку, он шагнул к ней, но Тамако снова отпрянула. — Не спрашивай меня почему! Умоляю, не заставляй меня ничего объяснять, и я буду признательна тебе за это!
Глава 6 Праздник Камо
Остаток вечера Акитада чувствовал себя словно в смутном кошмаре. Он сообщил Хирате, что свадьбы не будет, мужественно взяв все на себя и сославшись на свои проблемы — на неопределенность своего будущего и на долг перед собственной семьей. Хирата принял отказ молча, без единого упрека и замечания. Ужин проходил в тягостной обстановке. Тамако сидела рядом с Акитадой, опустив глаза, и почти ничего не ела, а ее отец печально смотрел на них обоих и время от времени вздыхал. Дома Акитаду ждал еще один неприятный разговор. Мать, которая еще не ложилась спать и ждала его, восприняла новость как личное оскорбление. — Кто разорвал помолвку и почему? — резким тоном спросила она. Сердце Акитады упало. Он сразу представил себе, какие проблемы возникнут, когда Тамако придет в их ложу на празднике Камо. — Я слишком полагался на нашу дружбу, и это моя ошибка, — ответил он. — Понятно. Значит, твое предложение отвергли. Какое оскорбление! Подумать только: мужчина из семьи Сугавара согласился взять за себя какую-то там Хирата! — Глаза матери сверкали гневом. — Все было совсем не так! — возмутился Акитада. Страх за Тамако заставил его произнести следующие слова более резко: — И надеюсь, что завтра вы, матушка, и мои сестры отнесетесь к Тамако с должным уважением, какое подобает оказывать друзьям семьи. Мать напряглась. — С каких это пор ты берешь на себя смелость учить меня манерам?! Мой дед был прямым потомком императора Итоку, а я сама служила при дворе! Уж я-то знаю, как оказывать уважение гостям. Все. Можешь идти. А мне пора спать.Следующее утро выдалось поистине великолепным. Праздник Камо, посвященный духу девы — хранительницы столицы, был еще и поводом для всех — знати и простолюдинов — радостно отметить последние дни весны. С утра пораньше Тора нанял высокую повозку, запряженную быками, и подогнал ее к самой веранде, чтобы дамы семьи Сугавара могли сесть в нее, не запачкав во дворе своих праздничных кимоно. Первыми, прихорашиваясь на ходу и возбужденно щебеча, вышли сестры Акитады. Им еще не стукнуло двадцати, и они были загадкой для Акитады, прожившего многие годы вдали от дома. Он помнил их круглолицыми девчушками, бегавшими за ним по пятам, казалось, повсюду. Вернувшись в отчий дом, Акитада решил, что они выросли добродушными глупышками. Видя их сегодняшний восторг, он не сдержал улыбки. Заметив безрадостное выражение лица брата, девушки моментально притихли и молча забрались в экипаж. Совсем иначе выглядел выход госпожи Сугавара. Она появилась на веранде в роскошном розовом платье китайского покроя, расшитом цветами пиона — когда-то оно было частью ее приданого, — но при виде простой плетеной повозки застыла в недоумении. — Полагаешь, я поеду в этом? — ледяным тоном обратилась она к Акитаде. — Мы никогда не появлялись на людях в наемных повозках. Наш семейный экипаж с фамильным гербом всегда красовался на виду перед зрительской ложей. — У нас давно нет собственного экипажа, матушка, — сухо заметил Акитада, теряя терпение. — И, судя по всему, у моего сына давно нет друзей, которые одолжили бы ему свой, — ядовито возразила она. Акитада подавил тяжкий вздох. Матушка была обижена, и ее следовало немного ублажить, поэтому Акитада мягко напомнил: — Мои сестрицы так ждали этого события, а без вас, матушка, ни они, ни наша гостья не попадут на праздник. Гордо вскинув голову, госпожа Сугавара села в экипаж, уже не протестуя. Акитада сначала проводил семью и только потом направился к дому Хираты. Теплая и ясная погода обещала превратить праздник Камо в настоящую сказку. Даже самым благородным, воспитанным в строгости девицам позволялось сегодня немного пококетничать с юношами, не навлекая на себя недовольства взыскательных наставников. Идя по городу, Акитада замечал повсюду юные парочки, спешившие к Первой улице, откуда должна была начаться торжественная процессия. Путь ее лежал от дворца императора к святилищу Камо, расположенному за городом. Они шли веселые и нарядные, волосы и шляпы украшали розы — традиционный символ девы Камо. Акитада пожалел, что не нанял паланкин. До вчерашнего вечера он радостно предвкушал, как пройдется по улицам рядышком с Тамако в качестве ее признанного кавалера. Но теперь ситуация изменилась, а все носильщики паланкинов в городе были уже заняты. Когда он прибыл в дом Хираты, Тамако уже ждала его. Сегодня она была необычайно красива. Пышное шелковое кимоно розово-красных тонов, постепенно переливавшихся в темно-зеленый, очень подходило к ее изящному утонченному облику. В руке она держала соломенную шляпку с вуалью, какие носили все женщины из знатных семей, выходя на люди, и ее блестящие черные волосы красиво оттеняли золотистую кожу лица. Акитада вспомнил, что Тамако много времени проводит на солнце, ухаживая за садом. Он восхищался ее здоровым и естественным цветом лица, хотя тот и не был в моде у дам. Их взгляды встретились, и они оба тут же отвели глаза. — Доброе утро, Акитада. — Тамако учтиво поклонилась. — Очень хорошо, что ты пришел. Ты еще не раздумал взять меня с собой? — Конечно, нет. — Его улыбка получилась вымученной. — Ты сегодня такая изящная и нарядная. Мне очень жаль, но я не нанял паланкин. Не возражаешь, если мы пройдемся пешком? — Нет. Сегодня чудесный день. Пойдем? В ивовой листве у них над головой завела трель птичка, цветущий сад играл всеми красками на утреннем солнце. Акитада грустно кивнул. Они с Тамако еще никогда не разговаривали вот так, как чужие. У самых ворот Тамако замешкалась и склонилась над земляным горшком, в котором стоял приготовленный заранее букет роз. — Я не знала, какое у тебя будет кимоно, поэтому срезала несколько цветов разного цвета, — сказала она. — Кажется, эта белая будет очень хорошо смотреться. Как по-твоему? — Да. И ты молодец, что вспомнила. Я-то совсем забыл о цветке. — Брось! У меня же здесь целый сад! Она прикрепила к его парадной шляпе веточку белых роз. Тамако была высокая, и сейчас их лица находились почти на одном уровне. Акитада не мог оторвать глаз от ее нежных губ, слегка приоткрытых от усердия, и от розового кончика языка, видневшегося из-за белых зубов. От одежды Тамако исходил тонкий аромат, и Акитада закрыл глаза. Внезапно щемящее отчаяние охватило его, и он поспешно отступил назад. Потом наклонился, чтобы взять букетик розовых цветов для нее. Несколько мгновений Акитада смотрел на ее иссиня-черные блестящие волосы, перехваченные сзади широким шелковым бантом, затем растерянно спросил: — Куда мне приколоть их?… — Думаю, к поясу. Шляпка может испортить их. Давай я сама. — Она взяла из его дрожащих пальцев цветы и прикрепила их к поясу. Потом надела шляпку и расправила вуаль. — Все. Я готова. По дороге они почти не разговаривали. Тамако лишь заметила, как хороша погода, и Акитада согласился с ней. Его преследовало настойчивое желание спросить у нее, почему она не может выйти за него замуж. Всю ночь он пролежал без сна, мучительно размышляя об этом. Нет ли у Тамако кого-то другого? От этого наиболее вероятного объяснения все в нем закипало от бессильного гнева. Впрочем, он сам виноват, что давно не попросил ее руки. С другой стороны, почему об этом не знает отец Тамако? А может, Акитада просто не нравится ей? Может, он слишком беден? Или слишком долговяз и неказист, и его вытянутое лицо с густыми нависшими бровями не кажется ей привлекательным? Идя рядом с Тамако, Акитада молча переживал свою беду. Еще через пару кварталов он обратил ее внимание на стайку резвящихся ребятишек, но Тамако лишь коротко заметила, что детство — счастливая пора. Эти слова повергли обоих в еще большее уныние, и, только когда мимо них проехал какой-то экипаж, они снова заговорили, причем одновременно, и тутже, смутившись, начали извиняться и опять замолчали. Невидимая стена, стоявшая теперь между ними, делала их общение мучительным для Акитады. Когда они наконец прибыли в зрительскую ложу, он даже обрадовался, что их прогулка завершилась. Чувство облегчения было сильнее беспокойства о том, как примет Тамако мать. Госпожа Сугавара с дочерьми наблюдали за ними издалека. Акитада представил всех, и Тамако, выступив вперед, низко поклонилась его матери. Потом приветствовала пожилую даму, сказав: — Моя скромная персона просто не в силах выразить тех чувств, которые я питаю к вам, досточтимая госпожа. — Благодарю тебя, дитя мое. Добро пожаловать к нам! — В голосе госпожи Сугавара звучала теплота, и она доброжелательно улыбалась. — Вижу, мой невоспитанный сын не позаботился о паланкине для тебя. Прошу за него у тебя прощения. Пожалуйста, проходи и садись рядом с нами. — И она похлопала рукой по свободной подушке, лежавшей между ней и дочерьми. Тамако поблагодарила госпожу Сугавара и еще раз почтительно склонилась перед ней, прежде чем приветствовать сестер Акитады и занять место рядом с ними. Акитада вопросительно посмотрел на мать, и она ответила ему ласковым взглядом. Принеся тысячу извинений и сославшись на то, что ему нужно повидать друзей, он удалился. Это был трусливый поступок, но Акитада утешился тем, что мать могла бы воспринять его присутствие как знак недоверия. Грустный брел он по Первой улице к воротам, через которые торжественная процессия, направляющаяся к святилищу на берегу реки Камо, должна была выйти из города. Ни сам Акитада, ни члены его семьи не собирались следовать за ней до конца. Зрительские трибуны тянулись вдоль всего пути праздничного шествия и уже были почти заполнены людьми. Над ними на ветру колыхались полотнища флагов с гербами правящих кланов государства. Между трибунами или позади них стояли в ряд принадлежащие знати яркие позолоченные экипажи с распряженными быками. Под плетеными навесами там и сям мелькали надушенные женские рукава разнообразных расцветок. Вокруг них вились стайки разряженных в пух и прах кавалеров, расточающих своим избранницам изысканные комплименты в надежде удостоиться вскользь брошенной улыбки или хотя бы взмаха веера. Возле богатых дворцов на южной стороне улицы собиралась особенно густая толпа, в ней можно было заметить императорских солдат с луками и колчанами стрел за плечами — они либо пробирались сквозь скопление людей верхом, либо ведя лошадь под уздцы. Вдруг Акитада заметил знакомое лицо. На одной из трибун сидел юный князь Минамото, а рядом с ним высокий мужчина лет тридцати пяти. Над трибуной было натянуто полотнище с гербом рода Минамото, и Акитада догадался, что высокий мужчина, наверное, и есть князь Сакануоэ. Повинуясь внезапному порыву, Акитада перешел на противоположную сторону улицы. Отсюда он увидел, что на мальчике очень дорогой наряд, но лицо его бледно и угрюмо. Рассеянный отстраненный взгляд Минамото был устремлен на середину улицы, где должна была вскоре появиться праздничная процессия. Мужчина, сидевший рядом, держался высокомерно и властно. Сильно раскосые глазки-щелочки и лишенные всяких эмоций черты лица, казалось, больше подошли бы каменному изваянию, чем живому человеку. Увидев Акитаду, мальчик встал, чтобы поклониться. Повернувшись к своему родичу, он сказал: — Мой господин, позвольте представить вам одного из моих учителей — доктора Сугавару. Холодные бесстрастные глаза скользнули по Акитаде. Каменное изваяние лишь слегка качнуло головой. — Это князь Сакануоэ, мой опекун, — пояснил мальчик. Поклонившись, Акитада с улыбкой проговорил: — Я лелеял надежду, мой господин, познакомиться с вами, чтобы иметь возможность сообщить, какой прекрасный ученик ваш подопечный. И я чрезвычайно рад тому, что вы взяли его сюда сегодня. Он заслужил отдых, так как трудился много и усердно. — Трудиться много и усердно — его долг, — сухо отозвался князь неожиданно высоким и гнусавым голосом. — Его долг также посещать официальные мероприятия. Как его учитель, вы должны знать это. Акитада, сочтя подобные слова оскорбительными, решил не отвечать на них. Он снова обратился к мальчику: — Вам, вероятно, приятно почувствовать себя в кругу семьи. Мальчик покраснел и тихо сказал: — Моя сестра не смогла поехать, а больше никого из родных здесь нет. — Вы могли бы продолжить беседу в другое время, — надменно заметил Сакануоэ. — Сейчас начнется шествие, и я нахожу весьма странным и неприличным, что люди болтают без умолку в то время, когда другие собрались посмотреть на праздничную церемонию. Эти слова прозвучали как приказ. Акитада раскланялся и молча удалился. Но он видел слезы стыда и обиды в глазах мальчика и теперь корил себя за то, что своим необдуманным поступком спровоцировал эту неприятную сцену. Акитада шел вдоль трибун, беспокоясь за своего ученика и не замечая толпы, пока какой-то шум не заставил его поднять глаза. Четыре семейные ложи у него над головой, украшенные флагами, зелеными ветками и цветками роз, были до отказа забиты шумной компанией веселящихся людей в шелковых кимоно всех возможных тонов и оттенков. Полотнище с гербом клана Фудзивара трепетало на ветру, возвышаясь над другими. Акитада скользнул взглядом по лицам. Среди них он заметил пухлую улыбающуюся физиономию своего друга Косэхиры. Пригнув голову, Акитада собрался проскочить мимо незамеченным. Но Косэхира увидел его и крикнул: — Акитада! Акитада! Поднимайся сюда! Акитада обернулся. Косэхира, вскочив с места, возбужденно махал ему. — Ну и дела, старина! Неужели это ты?! Поднимайся сюда скорее! Сделав вид, будто несказанно рад неожиданной встрече, Акитада взобрался на трибуну. Косэхира расчистил для него место рядом с собой, нашел ему свободную подушку, представил Акитаду остальным и уговорил остаться. Вдалеке грянул барабанный бой, послышалось зычное «Рас-сту-пиись!». Акитада уселся поудобнее и приготовился к зрелищу. Процессия двигалась так быстро, что не осталось времени обменяться новостями с Косэхирой. Впереди шествовали священнослужители культа синто в белых одеяниях. За ними придворные в ярко-желтых шелковых кимоно несли огромные раззолоченные красные опахала на высоких шестах. Кто-то передал Акитаде лаковую шкатулку с изысканными сладостями, и Косэхира убедил его отведать их. Между тем по улице уже шагали знаменосцы, а вслед за ними катился запряженный быками экипаж, украшенный цветущими ветками глицинии. И своим видом, и ароматом они напомнили Акитаде о Тамако, и он задумчиво закрыл стоявшую у него на коленях шкатулку с лакомствами. Аппетит пропал. — Ну скажи, правда, он великолепен?! — воскликнул Косэхира, указывая на громадного быка. — Он принадлежит Сакануоэ, который пожертвовал его святилищу Камо. Люди поговаривают, будто в связи с женитьбой у него были дурные предзнаменования. Опять этот Сакануоэ! Акитада смотрел на животное, обильно украшенное гирляндами из веток глицинии и шелковыми оранжевыми кистями, погоняемое красивым юношей в богатом одеянии придворного. Похоже, этот высокомерный человек, с которым только что познакомился Акитада, скорее заискивал перед императором, чем задабривал дарами богов. Прямо за жертвенным быком ехал конный императорский посланник богини Камо. Красивый и статный молодой человек в дорогом платье, он прекрасно держался в седле. Его горячий скакун вызвал у публики бурю восторженных возгласов. Он изящно гарцевал, тряся прелестными красными кисточками, а молодой наездник в седле зычно смеялся. Поравнявшись с трибуной Косэхиры, он наградил широкой улыбкой находившихся в ней гостей и помахал им рукой. — Это брат императрицы, — прокричал Косэхира на ухо Акитаде, оглушенному рукоплесканиями толпы. — Выглядит очень неплохо, хотя провел всю ночь с нами на дружеской пирушке в возлияниях и поэтических декламациях. Последние слова Косэхиры утонули в раскатистой дроби гигантского барабана, появившегося следом. Его везли на огромной украшенной повозке, и мускулистый барабанщик, настоящий великан, голый по пояс, уже блестящий от пота, несмотря на утреннюю прохладу, торжественно ударял в него. Акитада был рад, что теперь нет нужды поддерживать разговор. Он впал в уныние, а упоминание Косэхиры о сочиняющей стихи титулованной особе навело его на мысли о сегодняшнем поэтическом состязании в Весеннем Саду, а то, в свою очередь, напомнило о жестоком убийстве девушки, о новой работе в университете и о пошатнувшихся отношениях с Хиратой. Барабан проехал мимо, и теперь перед ними появилась труппа танцоров в красочных костюмах и масках. Напротив трибуны, где сидел Акитада, артисты остановились, чтобы дать короткое театрализованное представление. Косэхира снова наклонился к Акитаде: — Я слышал, ты теперь преподаешь в университете. И зачем только тратишь на это время? Жаль. Ведь на свете столько серьезных проблем, на кои талантливый человек мог бы употребить свои силы. Акитада вздохнул: — Не знаю, о каких проблемах ты говоришь, но даже в университете можно совершенно неожиданно найти для себя головоломку. Косэхира комично вскинул брови. — Головоломку?! Неужели?! — вскричал он, со смехом хлопнув Акитаду по спине. — Это здорово! Расскажешь потом, когда разгадаешь. Эй, смотри! А вот и дева! А какой пышный паланкин! Говорят, эта маленькая принцесса — очаровательнейшее создание. Вот повезет какому-то счастливчику, который возьмет ее в жены да еще заполучит целое состояние в придачу! Они наблюдали за паланкином, который несли на плечах двадцать юношей из знатных родов в бледно-зеленых и ярко-пурпурных кимоно. Из-за занавески, скрывавшей деву от множества глаз, виднелись только рукава ее роскошного облачения — многослойного, тончайшего, словно дымка, шелка всех оттенков — от нежно-кремового до ярко-красного. А мысли Акитады вновь обратились к другой молодой женщине и к его неудачной попытке взять ее в жены. Он вздохнул. — Что это ты такой мрачный? — поинтересовался Косэхира. — Из-за той проблемы в университете? — Из-за нее. И еще кое-что есть. — Я могу помочь? — Нет. Спасибо. Вот только скажи, ты знаком с князем Сакануоэ? Гримаса отвращения исказила обычно веселое округлое лицо Косэхиры. — Разумеется, нет. Не выношу его! Поговаривают, будто он силой затащил внучку принца Ёакиры в постель. А еще говорят, что он собирается лишить ее младшего брата права на наследство. — Может, это просто сплетни? — спросил удивленный Акитада. — Да как тебе сказать? И да и нет. — Косэхире было явно не по себе от этого разговора. — Некоторые из нас, хорошо знавших старого принца, сильно обеспокоены. Видишь ли, старик очень недолюбливал Сакануоэ. Сакануоэ вообще неприятная личность, тот еще фрукт. Я сам был свидетелем одной неприглядной сцены, когда он, желая пройти, оттолкнул старенькую госпожу Косэ, няню покойного императора. Она хотела позвать на помощь, закричала, а Сакануоэ обозвал ее старой каргой. Я был потрясен. — Да, он действительно гадкий тип, — согласился Акитада. — Я только что сам убедился в отсутствии у него каких бы то ни было манер. Кстати, внук принца — один из моих студентов. Глаза Косэхиры округлились. Его осенила догадка. Но Акитада поспешил прибавить: — Нет-нет. Это не то, что ты думаешь. Я вовсе не по этой причине пошел в университет. Кроме того, отсутствие у человека хороших манер еще не свидетельствует о его преступных намерениях. Косэхира задумчиво покачал головой: — В данном случае я не согласен с тобой. Вообще же очень хорошо, что ты устроился туда. Если кто и способен докопаться до подноготной этого дела, так это ты. Только будь осторожен! Сакануоэ может быть опасен. К сожалению, он состоит с этой семьей в каком-то отдаленном родстве. В свое время ходил слух, что старый принц после смерти сына собирался усыновить Сакануоэ, но, видимо, передумал и вместо него воспитал внука. Акитаду очень интересовала эта тема, но гость Косэхиры, сидевший справа от него, отвлек хозяина каким-то вопросом. А по улице тем временем шествовала группа музыкантов. Словно по команде вскинув к губам флейты, они заиграли старинную мелодию. Акитаду их исполнение привело в восторг. Они играли даже лучше, чем Сато на лютне — легко, непринужденно, божественно. Акитада задумался, согласился ли бы Сато обучить его основам игры, но тут же вспомнил об убитой девушке и ее отношениях с учителем музыки. Сато, наверное, уже допросили в полиции, а может быть, и арестовали. Выступлением флейтистов театрализованное представление завершилось. Замкнула шествие группа священнослужителей в белых одеяниях. За ними теперь устремились и зрители — кто пешком, кто в экипажах. Трибуны быстро опустели, и Косэхира обратился к Акитаде: — Ты со мной? — Нет. Мне нужно проводить домой семью и нашу гостью. К тому же я уже много раз участвовал в этой церемонии. Они расстались, пообещав друг другу скоро повидаться, и Акитада поспешил к своим. Но не успел он добраться до их семейной ложи, как его окликнул вчерашний капитан полиции. — Какая удача, что я встретил вас, — сказал он. — Если у вас есть время, я хотел бы, чтобы вы сходили со мной в тюрьму. Мы задержали подозреваемого в том убийстве, что произошло в парке. При нем был красный женский пояс, и я хочу, чтобы вы опознали этот предмет. Акитада вспомнил нищего старика. Надо бы попытаться вызволить бедолагу, но сначала он должен проводить домашних и Тамако. Объяснив свою проблему Кобэ, он обещал, что придет, как только освободится. К своему удивлению и радости, Акитада обнаружил, что госпожа Сугавара пригласила Тамако к ним отобедать. — А потом мы отправим ее домой в наемном экипаже, — сообщила она сыну. — Раз уж ты не способен учтиво принять юную даму. Акитада вопросительно взглянул на Тамако. Она ответила ему безмятежной улыбкой. — Я рассказала твоей матушке о нашей чудесной прогулке, но она настаивает, чтобы я вернулась домой как подобает. Я знаю, ты очень занят, так что не волнуйся: мы замечательно проводим время в беседах о тебе. Сестры Акитады засмеялись, а мать снисходительно улыбнулась. Немало удивленный, Акитада посадил женщин в экипаж и поручил Торе проводить потом Тамако домой, а сам отправился в тюрьму. Городская тюрьма находилась в нескольких кварталах. Кобэ он нашел в помещении для допросов. Тот нервно расхаживал по пустой комнате, где не было ничего, кроме хлыстов, цепей и всевозможных оков, подвешенных за крючья к стенам. — Ага, вот и вы, — сказал Кобэ вместо приветствия. На шатком поцарапанном деревянном столике лежала большая бумажная коробка, перевязанная веревкой. Развязав и открыв ее, Кобэ извлек из коробки измятую красную парчовую ленту с узором в виде вышитых цветов и птиц. — Узнаете? — спросил он. Акитада подошел ближе. — Похоже на пояс, который я видел на девушке во время урока. — Он ощупал ткань. Складки на поясе были особенно глубокими в двух местах — как если бы его затягивали вокруг чего-то петлей, а потом натянули и резко выкрутили. Акитада посмотрел на Кобэ. — Да, ее могли задушить этим поясом. Кивнув, Кобэ взял пояс и, сложив его, убрал за отворот рукава. — Пойдемте со мной! — сказал он, направляясь к двери. Они пошли по длинному темному коридору со множеством зарешеченных дверей по бокам. Худые изможденные лица смотрели на них из клеток, но ни один из заключенных не произнес ни слова. Одна из дверей в конце коридора вела на веранду, выходившую на тюремный двор, где их уже ждали какие-то люди с на редкость отталкивающей внешностью. Свирепого вида охранники, вытянувшись в струнку, подняли за шиворот с земли какого-то грязного человека. Несчастный оборванный старик, тихо застонав от боли, встал, пошатываясь, но цепи на ногах и связанные за спиной руки мешали ему удерживать равновесие, и он завалился на одного из охранников, который тут же обрушил ему на голову тяжелый удар кулака. Старик снова упал на колени и, уронив голову на грудь, жалобно захныкал. — Зачем вы схватили этого бедолагу? — вскричал Акитада. Кобэ метнул на него суровый взгляд: — Он подозревается в убийстве. — В убийстве? Да это же невозможно! И потом, посмотрите, что вы с ним сделали! У него же вся одежда в крови! — Да, его высекли. Так поступают со всеми, кто не хочет помогать следствию. — Но это же просто несчастный слабый старик! Откуда у него силы, чтобы задушить молодую женщину, не говоря уже… Кобэ перебил его: — Позвольте напомнить вам, что мы здесь не одни. Вспыхнув, Акитада резко спросил: — Зачем вы привели меня сюда? — Вы должны послушать, что он скажет. Сначала мы думали, что он просто упорствует и издевается над нами, но потом у меня появились и другие мысли. — Повернувшись к людям во дворе, Кобэ крикнул: — Юмакаи, а ну-ка взгляни на это! — Вытащив из рукава парчовый пояс, он высоко поднял его над головой. Нищий старик по-прежнему лежал, скрючившись, в ногах дюжих тюремщиков. Один из них пнул его, рявкнув: — А ну-ка ты, кусок дерьма! Смотри, тебе показывают! Старик медленно поднял голову и обратил лицо к веранде. Сердце Акитады защемило от жалости. Лицо старика, синее и распухшее от побоев, было перепачкано кровью, по морщинистым щекам текли слезы. — А ну-ка скажи этому господину, кто дал тебе этот красивый красный пояс! — приказал Кобэ. Старик задрожал всем телом и отчаянно замотал головой. Один из тюремщиков занес над ним хлыст, но Кобэ жестом остановил его: — Не бойся, Юмакаи! Тебя не будут бить, если ты скажешь нам то, что мы хотим знать. Этот господин был в парке и мог видеть то же, что видел ты. Старик посмотрел на Акитаду, на мгновение задумался и снова замотал головой. Кобэ нахмурился: — Послушай меня, Юмакаи, у меня очень мало времени. Говори, или я пошлю за бамбуковыми палками. Понял меня? Акитада, не в силах больше терпеть, проговорил сквозь зубы: — Кобэ, я не намерен смотреть, как будут избивать невинного человека. Если вы хотите, чтобы я остался, давайте пройдем в помещение без этих двух молодцов и дадим старику чего-нибудь выпить, чтобы у него хоть немного развязался язык. Кобэ неожиданно смягчился, обнажив в улыбке белоснежные зубы. — Конечно, конечно! Почему бы и нет? Старика отвели в комнату для допросов, развязали и усадили на потертую циновку. Кобэ достал бутылку саке и налил старику полную чарку. С трудом взяв распухшими руками чарку, старик поднес ее ко рту и выпил залпом. Он издал глубокий вздох, и Кобэ снова наполнил чарку. Старик выпил, скрючился и схватился за живот. — Вам больно? — спросил Акитада. — Нет-нет, ничего страшного, — пробормотал старик, глядя на Акитаду уже более осмысленным взглядом, и вдруг спросил: — Это правда, что вы видели его? — Глаза его странно забегали, он переводил их то на Акитаду, то на Кобэ, то на предметы пыток, находившиеся в комнате. — Может быть, и видел, — осторожно ответил Акитада. — А как он выглядел? — Как он выглядел?! А как они обычно выглядят? Они все обычно выглядят одинаково, разве нет? Акитада задумался. Ему вдруг пришло в голову, что нищий мог видеть стражника или солдата. — Вы хотите сказать, на нем была форма? Юмакаи усмехнулся: — Форма? Ну что ж, если угодно, можно и так назвать. — На нем был красный плащ? Да? — Акитада метнул взгляд на Кобэ, изумленно поднявшего брови. Старик посмотрел на Акитаду: — Нет, не плащ, а колпак. Разве вы не знаете? — Красный колпак! — Акитада снова посмотрел на Кобэ. Тот усмехнулся и кивнул. — Но… красных колпаков никто не носит!.. — удивленно пробормотал Акитада. — Не знаю, что с ним делать! — Кобэ вперил нетерпеливый взгляд в потолок. — Спросите у него, как звали этого парня в красном колпаке! Чувствуя себя полным дураком, Акитада снова обратился к нищему: — У него было имя? Юмакаи с жалостью посмотрел на него: — Ну конечно! Что за глупый вопрос?! Его имя знают все! Их обитают там целые сотни! Акитада грустно вздохнул. Должно быть, Кобэ просто издевается над ним! Ведь старик явно сумасшедший! Однако он решил подыграть несчастному. — Пожалуйста, назовите его имя. Я, кажется, позабыл. Старик ответил ему сочувственным взглядом: — Э-э, господин!.. Вижу, у вас та же беда. У меня уже несколько дней болит голова, и я не могу вспомнить, где ночевал вчера. Но Дзидзо я бы не забыл никогда! — Дзидзо?! — Акитада повернулся к Кобэ — тот, усмехаясь, кивал. — Он что же, говорит о боге Дзидзо, покровителе путников? — Да, путников и детей, — подтвердил Кобэ. — Поэтому-то матери и шьют для его статуй красные колпачки и переднички. Оживившись, Юмакаи вскричал: — Теперь, господин, вспомнили? На нем был красный колпак, и он пожаловал мне дар. А вас он тоже одарил? — Нет, — сказал Акитада. — Хотя я бы не отказался. И где же вы встретили Дзидзо? Старик насупился: — Не знаю. Не помню. Кажется, на углу Третьей улицы. На углу Третьей и Сузаку. Пойдите туда и найдите его. Попросите, чтобы он и вам пожаловал дар! И передайте ему привет от Юмакаи! — Спасибо за совет. Я так и сделаю. А вы что же, попросили у Дзидзо красивый красный пояс? — Нет. Я просто протянул свою пустую миску, когда он проходил мимо, и он тотчас же положил в нее этот красивый красный пояс. — Да-а, видимо, сначала мне придется раздобыть себе миску, — серьезно проговорил Акитада. — Только разве миска служит не для пищи? Ведь люди, когда голодны, не едят шелковых поясов. — А я и не был голоден. Ни чуточки. Меня накормили бобовой похлебкой в восточном отделении. Тамошние полицейские — мои друзья. Не могли бы вы, господин, рассказать им, что со мной случилось? — Глаза Юмакаи снова наполнились слезами. — Расскажите им. Пусть придут и заберут меня отсюда! И скажите Дзидзо, что эти люди отняли у меня его дар и избивают меня! Акитада повернулся к Кобэ: — По-моему, тут все ясно… Кобэ подошел к нищему и помог ему подняться. — Пойдем, Юмакаи, — сказал он. — Мы дадим тебе ночлег и горячую пищу. И завтра тебе непременно полегчает. — Хлопнув в ладоши, он вызвал стражника и приказал: — Уведи его. Устрой ему ночлег и дай поесть чего-нибудь горячего, но обязательно запри! Стражник увел едва волочащего ноги старика. Широко улыбаясь, Кобэ повернулся к Акитаде. Тот встретил его улыбку каменным молчанием. — Поздравляю вас! — проговорил капитан, потирая руки. — Ваш метод сработал. Вчера эта история звучала как сущий вздор. Но теперь мы знаем, что какой-то человек в красном колпаке или шапке дал ему этот пояс. Старик слишком простодушен и вряд ли сочинил бы такую историю. Акитада еще никогда не чувствовал себя таким разгневанным. — Интересно, каким еще мукам вы подвергнете этого человека, когда вам уже вполне очевидно, что он невиновен в совершении убийства и все это время говорил правду? Любой нормальный человек уже давно устыдился бы, зная, какие страдания причинил другому, но вы, как вижу, решили попридержать его до следующего дня! Так знайте же: либо вы его немедленно отпустите и принесете извинения, либо я сам подам на вас в суд! Глаза Кобэ сузились. — Я знал, что вы не одобрите моих методов. Только позволю себе напомнить, что они санкционированы законом и применяются в зависимости от обстоятельств. Юмакаи взяли на месте преступления. По сути дела, только его там и обнаружили, если не считать вас и вашего слуги. Кроме того, при нем было найдено орудие убийства. Вчера вечером его слабоумие не так бросалось в глаза. Я подозревал, что он прикрывает соучастника. Преступники часто пользуются помощью нищих. В любом случае я следовал предписаниям, которые поклялся выполнять. Что же касается вашего требования отпустить его, то не забывайте, что он наш единственный свидетель, способный опознать убийцу. Нищие, как правило, не имеют постоянного прибежища, они спят где придется и в это время года часто ночуют на улице. Если я отпущу его, вряд ли нам удастся найти старика. А вот убийца отыщет его. Акитаде этот довод показался убедительным. Он уже хотел принести извинения, когда его посетила внезапная мысль. А что, если Кобэ устроил этот допрос не для того, чтобы получить от Акитады помощь, а желая посмотреть, узнает ли его нищий старик? — Что ж, вам виднее, как поступить, — сказал он. — А теперь прошу простить меня, но я и так уже надолго отложил свои дела. — С этими словами Акитада откланялся. Разговор с Кобэ и Юмакаи стал вполне закономерным завершением и без того неприятного во многих отношениях дня. В мрачном настроении Акитада брел к университету. Избиение слабых и беспомощных людей, имевших несчастье оказаться в ненужное время в ненужном месте, потрясло его до глубины души. Это было еще одним примером того, как давшая трещину правовая система упорно защищает сильных мира сего. И все же даже собственное относительно привилегированное положение Акитады в этом мире не обеспечивало ему защиты от ударов судьбы — достаточно вспомнить его детство и совсем недавние горькие разочарования. И как он только мог надеяться, что их с Тамако ждет счастье? Нет, конечно, он ошибался, и ему нужно идти своим одиноким путем. Так, испытывая чувство безнадежности и жалости к себе, он добрался до университетских ворот. Стражников сегодня не было, но на ступеньках сидел один из студентов-старшекурсников, хороший знакомый Акитады, часто выполнявший разные поручения для него и Хираты. Глубоко задумавшись, юноша вперил неподвижный отсутствующий взгляд в парк на другой стороне улицы. Этот щуплый сутулый парень с выступающими вперед зубами и круглыми, всегда испуганными глазами вообще имел обыкновение таращиться в одну точку и забываться. Покопавшись в памяти, Акитада вспомнил его имя и окликнул: «Нагаи!» Поздоровавшись, он поднялся по ступенькам и остановился перед студентом. Тот, шатаясь, поднялся на ноги и, глядя на Акитаду с выражением неподдельного ужаса, поклонился. Бледный, зеленоватый цвет лица и темные круги под глазами наводили на мысль, что он не спал несколько недель. — С тобой все хорошо, Нагаи? — обеспокоенно спросил Акитада. — Да-да, у меня все в порядке, — пробормотал студент, не поднимая глаз и нервно сцепив руки. — Все в порядке. Спасибо, господин. Юноша выглядел не просто растерянным, он весь дрожал. — Наверное, выпил лишнего на празднике? — сочувственно спросил Акитада, припоминая свои похождения в юности. Парень перепугался. — На празднике? — запинаясь переспросил он. — Нет-нет, какой там праздник! О небеса, нет! — Да брось! Я же не какой-нибудь великан-людоед, чтобы меня бояться! Если хочешь, пойдем со мной, я отпою тебя чаем. Сильно не полегчает, но хотя бы в голове и в животе все уляжется. Ты идешь сегодня вечером в парк на поэтический конкурс? Нагаи буквально вжался в деревянный столб. — В парк? Нет! Туда ни за что! Пожалуйста, господин, простите, но мне нехорошо! И, развернувшись, он бросился бежать в сторону студенческих общежитий. Изумленный Акитада смотрел ему вслед.
Глава 7 Веселый квартал
Проводив юную гостью хозяина домой, Тора вернул в платное стойло взятого напрокат быка и экипаж и пешком отправился в город. День был в самом разгаре, и у него, как и у многих жителей столицы, была впереди уйма свободного времени. Праздная толпа заполонила улицы, магазины, лавки и харчевни. По улице Сузаку сновали взад и вперед ликующие нарядные люди в окружении целого моря роз: цветы были приколоты к их шляпам и поясам, к седлам и уздечкам лошадей, красиво обвиты вокруг бычьих рогов и вплетены в занавески экипажей и паланкинов. Знать разъезжалась по загородным усадьбам, народ победнее спешил в сторону рынков и веселого квартала. Повсюду царили радость и веселье: старики, сидя на ступеньках храмов, улыбались и кивали прохожим; обычно степенные, солидные чиновники развязно шагали, покачиваясь на нетвердых ногах, влюбленные парочки о чем-то шушукались и задорно смеялись, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза. Тора одобрял их радость, но чувствовал себя одиноким. Грустно смотрел он вслед миловидным девушкам и их юным воздыхателям. В доме Хираты он приглядел застенчивую маленькую служанку, которая одарила его долгим, вселявшим надежду взглядом, когда он помог ее госпоже выйти из экипажа. Тора даже подмигнул ей, но она, гордо отвернувшись, засеменила прочь. Как ему хотелось, чтобы она сейчас шла по улице вместе с ним! Повинуясь внезапному порыву, он решил купить ей маленький подарок — ведь подобными вещицами обычно легко умостить дорогу к будущим дружеским отношениям. В столице на тот момент было всего два больших рынка — на западной и на восточной сторонах улицы Сузаку, — но, как правило, они торговали поочередно, через неделю. Однако сегодня, в день праздника, работали оба рынка. Каждый занимал целый квартал и был огорожен рядами одноэтажных магазинов и лавок, развернутых фасадами внутрь. Огромная площадь, заполненная множеством навесов, лотков и прилавков, где любой мог выставить на продажу свою утварь, была ограничена четырьмя воротами. Сначала Тора пришел на многолюдный западный рынок и остановился перед продавщицей вееров. Он увидел разложенные на земле дешевенькие разноцветные бумажные и бамбуковые опахала и растянутые во всей красе на специальных шестах створчатые веера побогаче. Тора долго рассматривал их, но расцветка и узоры показались ему недостаточно изысканными для романтического подношения. В лавке, торговавшей гребнями, Тора тоже ничего не купил, решив, что самшитовые украшения для волос выглядят слишком бедно и не произведут впечатления на юную прелестницу. Вздохнув, Тора отправился на противоположную сторону улицы Сузаку, на другой рынок. За воротами с яркой черепичной крышей его встретили аппетитные запахи пищи — жареных бобов, рисовых лепешек, душистых тушеных блюд из морской живности и вкусной лапши в ароматном мясном бульоне. У Торы потекли слюнки, но он решил приберечь свои скромные денежные средства на вечер. Остановился только для того, чтобы купить себе немного острого пряного лакомства — тонко наструганной редьки с перцем и морской капустой. Так, с кулечком из вощеной бумаги, он и ходил по рядам, жуя и глазея на товар и встречных девушек. Покончив со своим лакомством, Тора подумал, что и на этом рынке не найдется ничего подходящего для его избранницы. Он и так потратил уже немало времени, а между тем солнце начинало клониться к закату, близился вечер, поэтому, выбросив пустую обертку, он отправился в веселый квартал. Выйдя из северо-восточных ворот, Тора снова перешел на другую сторону улицы Сузаку и оказался в более богатом торговом квартале. Здесь было много двухэтажных зданий, где прямо при своих лавках жили состоятельные торговцы. Пройдя до середины одной из улиц, Тора наткнулся на большую лавку торговца шелком. Ему припомнились убитая девушка и ее пояс, и он подумал, что найдет здесь что-нибудь, чем порадовать маленькую служанку. Войдя и скинув обувь, он остановился перед витриной. Хозяин магазина и несколько приказчиков обслуживали сидящих на циновках клиентов. В дальнем углу сухопарая женщина средних лет с крючковатым носом и жестким взглядом склонилась над бумажными свитками и счетами. Тора сел. Хозяин магазина, коренастый коротышка с румяным лицом и тоненькими усиками, заметив его, сделал знак одному из приказчиков, чтобы тот обслужил Тору. — Я хотел бы купить пояс для молодой женщины. Желательно что-нибудь поярче, — сказал Тора, разглядывая ткани, разложенные перед другими покупателями. Молодой приказчик спросил: — Сколько готов потратить господин? — Двадцать монет, — гордо объявил Тора. Свой статус одинокого мужчины он ощущал болезненно. Приказчик не позволил себе презрительно фыркнуть — уж больно крепким и мускулистым показался ему клиент, — но проговорил весьма холодно: — Дешевые товары вы найдете на следующей улице, а здесь магазин Кураты. У нас только самые лучшие шелк и парча. — Вот как? — удивился Тора. — А почему бы мне не купить у вас небольшой отрез парчи? Приказчик покачал головой: — Даже на самый маленький отрез вам не хватит связки медных монет. Мы обслуживаем только знатных людей и поставляем свои товары во дворец. Тора удивленно вскинул брови: — Неужто целой связки монет недостаточно? — Он огляделся. — Вы хотите сказать, что вон та цветастая ткань могла пойти на одежду для его величества? Приказчик кивнул. Тора вскочил и направился к циновке, где сидели двое степенных придворных в парадном облачении. С важным видом они обсуждали разложенные перед ними рулоны дорогой узорчатой парчи. Взяв в руки один такой рулон, красный с ткаными золотыми хризантемами, Тора начал разглядывать его. Приказчик, что-то возмущенно бормоча, бросился за ним вслед, а чиновники недоуменно наблюдали за этой сценой. — И вы продали бы это его величеству? — спросил Тора у приказчика, натягивая парчу своими сильными ручищами, чтобы проверить ее на прочность. — Да, да! — завопил приказчик, заламывая в отчаянии руки. — Только, пожалуйста, не делайте этого! Такими грубыми движениями вы испортите материю! Тора неохотно вернул парчу. — Да, ткань действительно мягкая, только мне нравятся более цветастые. Сколько же стоит такая штуковина? Один из сановников громко расхохотался: — А у него губа не дура! — И обратился к Торе: — Да ничего особенного, всего каких-нибудь десять слитков серебра. К вашему сведению, такого рулона хватит на облачение для торжественных церемоний. Или вы хотели бы сшить платье для охоты? — Его приятель разразился грубым хохотом. Тора смотрел на них насупившись. — Нет. Мне нужен пояс для маленькой служанки. Его слова еще больше развеселили вельмож. Один из них вскричал: — Э-э, братец, тогда уж лучше купи у меня быка и повозку, чтобы произвести впечатление на свою даму, когда ты за ней заедешь. На этот раз даже молоденький приказчик не сумел подавить усмешку. — Что здесь происходит? — неожиданно раздался строгий голос за спиной у Торы. — Чего нужно этому парню? Тора обернулся и посмотрел сверху вниз на хозяина магазина, вернее, на его лысую голову с тугим узлом на макушке, к которому были прикреплены чужие волосы. Приказчик растерянно залопотал: — Да ничего особенного, господин Курата. Просто этот господин интересуется материей для пояса. — Для пояса? Ты болван, Ецуги! Этому человеку парча не по карману. — И обратился к Торе: — Пояс из этой парчи стоит двадцать серебряных монет. Тебе таких денег и за несколько лет не заработать. У нас не найдется ничего ни для тебя, ни для твоей женщины, так что лучше проваливай подобру-поздорову. Тора смерил его пристальным взглядом, и ему совсем не понравилось то, что он увидел. В этих маленьких глазках и поджатых губах таилась злоба. Не оценил он также и ядовитой шутки, отпущенной в его адрес, поэтому, повернувшись к сановникам, сказал: — Возможно, я приму ваше предложение, когда начну брать взятки, как это делаете вы, ребята. — И, кивнув приказчику, пошел прочь. На соседней улице, у вполне учтивого торговца, Тора приобрел веселенький хлопковый пояс с рисунком в виде белых журавлей, летящих над синей водой. А еще через пару улиц он заглянул к продавцу рисовых лепешек, столь любимых женщинами. Здесь он купил изящно обернутую красивой бумагой коробочку со сладостями. Начинало темнеть, и Тора направился к реке. Там, вдоль реки Камо, между Четвертой улицей и улицей Киого, располагался «ивовый квартал», обязанный своим названием густым ивовым зарослям, подступавшим к самой воде. «Ивовый квартал», или, как его называли, «веселый», славился своими увеселительными заведениями, где любой желающий мог не только получить пищу, выпивку и женщин, но и предаться более утонченным эстетическим удовольствиям, созерцая музыкальные и танцевальные выступления гейш. Солнце село, и на землю спустились сумерки. Улицы утонули в вечерней мгле, но над головой еще светилось темно-лиловым сиянием закатное небо, на котором уже появились первые бледные звездочки. Впереди показались ворота веселого квартала, манившего множеством разноцветных фонарей, и до ушей Торы донеслись первые отдаленные звуки музыки. Ускорив шаг, он ступил в это сказочное царство огней. Подвешенные к ветвям ив и карнизам домов, они покачивались на легком ветерке, веявшем с реки. От их света казались еще более нарядными и яркими женщины в дверях и окнах питейных домов и богатые клиенты, прогуливающиеся по набережной. Тора с завистью смотрел на «товар», выставленный в витринах домов свиданий, но здешние цены были ему не по карману. Он утешился тем, что позволил себе немного поболтать с миловидными девицами, сбившимися в стайку за деревянным решетчатым входом в одно из таких заведений. Среди питейных домов самого разного калибра Тора мог найти что-нибудь подешевле и хорошо знал это, поскольку был завсегдатаем в трактире с не самым оригинальным названием «Старая ива», где, впрочем, всегда встречали посетителя хорошей едой, выпивкой и увеселениями. Туда-то он и направил свои стопы. На пороге его приветствовала хозяйка, беззубая старая тетушка, обеспечивавшая своих клиентов лучшими гейшами в квартале. — Тора-сан! — прокаркала старуха. — Мы с девочками давно поджидаем тебя. В этот весенний праздничный день такой красивый да ладный удалец, как ты, конечно же, захочет насладиться «игрою туч и ливня»? — Почтенная тетушка, — сказал Тора, вежливо кланяясь, — я ваш давнишний поклонник, но мое нынешнее финансовое положение не позволяет мне насладиться обществом таких дам, как вы и ваши девушки. Однако примите сей скромный подарок. — И он протянул ей коробку со сладостями. С удовольствием приняв коробку, старуха похлопала его по плечу. — Глупенький! Если бы ты не тратил денег на меня, безмозглую каргу, то смог бы позволить своему «рубаке-мечу» потешиться в сладкой схватке. Бедный петушок, наверное, уж притомился в поисках своего насеста. Так позволь старой тетушке найти для него уютное прибежище! А что касается платы, так мы запишем ее на общий счет. — Да… Но в таком случае… — Тора наклонился и что-то зашептал ей на ухо. Старуха разразилась истеричным смехом и погрозила ему пальцем. — Когда-нибудь, мой юный петушок, ты встретишь женщину, которая поймает тебя на слове. А сейчас беги. Тебя ждут друзья. Выпей да закуси хорошенько, а если потянет на красотку, старая тетушка для тебя все устроит. К великому удовольствию старухи, Тора дружески хлопнул ее по плечу и прошел в переднюю, а потом в просторный зал, где перед жаровней, на которой грелись бутылки с саке, сидели пятеро подвыпивших шумных молодцев. — Припозднился, Тора! — встретил его радостным криком сухопарый кривоногий парень со впалой грудью, плетельщик соломенных циновок Уэда. Кривые ноги и сутулость были следствием ремесла изготовления татами, которым занимались из поколения в поколение все мужчины его рода. — Пришлось начать без тебя. Тора усмехнулся и сел рядом с мускулистым, разукрашенным татуировкой носильщиком, который прокричал: — Принесите еще саке! А то пришел тут один, у него, по-моему, в горле пересохло. — И не только у него, — проворчал пухлый коротышка в потертом синем кимоно мелкого чиновника, переворачивая кверху дном пустую бутылку. — Да тебе всегда мало, Дандзюро! — пошутил сидевший рядом горшечник, которому никогда не удавалось извлечь из-под ногтей красную глину. — Мы тут все скинулись в общий котел, Тора. Решили, что по пятьдесят монет с носа вполне хватит на еду, выпивку и на самую аппетитную попку во всем квартале. — Извини, Осада. — Тора снял с пояса связку монет и пересчитал их. — Пятнадцать — это все, что я могу потратить сегодня. — Ладно, ешь и пей, но чтобы позабавиться по-настоящему, этого мало, — заметил Осада. Тора со вздохом выложил пятнадцать монет. — Я надеялся, что приведу с собой свою девчонку, но так никого и не нашел. — Тебе не мешало бы попросить своего хозяина, чтобы платил больше, — сказал Дандзюро. — Я вот, например, собираюсь отметить праздник цветов как следует, среди местных «цветочков». А задаром они, как известно, не работают. — Я предпочитаю работать сам, — возразил Тора. — А вы, горемыки, должно быть, настолько потеряли сноровку, что вынуждены платить девчонкам за то, что они вкалывают. Дандзюро расхохотался вместе со всеми и поднял свою чарку. — Ну и правильно, Тора, — захлопал в ладоши еще один его приятель, чьи волосы уже тронула седина. — Ешь да пей, набивай пузо, а если и отключишься, хлебнув лишнего, то еще неизвестно, много ли ты потерял. — Спасибо, Кунисада, — со смехом отозвался Тора. — Вот это настоящий совет аптекаря. Я действительно сейчас умру от голода и жажды. А ну-ка, где тут у нас еда? Служанка принесла еще горячего саке. Хорошенько выпив и немного побалагурив, они заказали себе настоящий праздничный стол — яйца, рыбный суп, рыбу «кису» в маринаде и печеные каштаны. Осушив очередную чарку и наполнив ее снова, Тора добродушно оглядел сияющие лица своих приятелей. — Выпьем за нашу хорошую компанию! Давайте же не расставаться и всегда наслаждаться общением друг с другом! — Что-о? — завопил Дандзюро, отшатываясь в притворном ужасе. — Ты с ума сошел? Уж не знаю, что ты думаешь о моей удали, но для меня ты слишком костляв. Меня как-то больше тянет к женскому телу. Надеюсь, ты не облюбовал кого-нибудь из нас для того, чтобы поспать с ним? Тора усмехнулся и покачал головой: — Поспать — это, пожалуй, единственное, что мне сегодня осталось. Весь день не везло. Прослонялся понапрасну по рынкам и лавкам, да вдобавок еще получил оплеуху от спесивого торговца и парочки сановных мошенников. — Что же произошло? — поинтересовался Кунисада. — Вы, наверное, все знаете торговца шелком по имени Курата? — Ты имеешь в виду большой магазин на улице Самэюси? Да, конечно, все знают Курату! — воскликнул Кунисада. Дандзюро поспешил подтвердить: — Курата! У этого счастливчика всегда найдутся деньги на женщин! Говорят, он поимел уже всех прелестниц в этом квартале! Гончар расхохотался: — А вы слышали новость? Курата не скоро еще заявится сюда! Старушка Кураты застукала его с одной из служанок и отдубасила обоих. Все дружно расхохотались. Дандзюро простонал сквозь смех: — Вот неповезло бедолаге! Старая наседка больше не пустит своего петушка к молоденьким курочкам! — Так ему и надо, злобному ублюдку! Вечно колотит девчонок, — проговорил гончар. — А почему он не уймет свою старуху? — спросил Тора. — Этот магазин — самый большой в городе, только принадлежит он не Курате, а его жене, — объяснил Уэда. — Как же это получилось? — А он в семье приемный. Дочка старого Кураты еще в молодости была уродливой злюкой, и они никак не могли найти парня, готового жениться на ней, особенно когда старик объявил, что за ней останется все имущество. Когда она снюхалась с приказчиком и зачала от него ребенка, ее отец так обрадовался, что охотно усыновил приказчика и дал ему вместе с дочкой свое имя. Вот везучий ублюдок! Дандзюро фыркнул: — Да уж какое тут везение! Эта карга не только владеет всем имуществом, так еще лет на пятнадцать старше своего муженька и притом страшна как сушеная слива. Вскоре явилась служанка и прибрала на столике, а еще через некоторое время дверь отворилась, и в зал плывущей походкой вошли три девушки с музыкальными инструментами. Первая была постарше двух других, лет под тридцать, но очень красивая. Салатовое кимоно с красной оторочкой шло ей как нельзя лучше. В руках она держала лютню. Ее сопровождали две обворожительные девушки, с цитрами, в кимоно из бледно-сиреневой и бежевой парчи. Одна из них особенно понравилась Торе. Мужчины радостно приветствовали их, и девушки поклонились. Потом они сели напротив гостей, приняв красивые позы, и заиграли. Тора предается развлечениям в веселом квартале
Тора предается развлечениям в веселом квартале
Тора не был большим любителем музыки, но не мог оторвать глаз от девушки в сиреневом кимоно. Когда она улыбалась ему, на щеках ее появлялись очаровательные ямочки. Девушки исполняли лучшие из популярных песен, и их игра очень понравилась мужчинам. Кунисада предложил им саке. Старшая из девушек, вежливо отказавшись, предложила сыграть что-нибудь по их просьбам, и вся компания оживилась. Они заказали еще несколько бутылок саке, а Тора все бросал красноречивые любвеобильные взгляды на очаровательную цитристку. Потом Дандзюро попросил дам станцевать. Старшая покачала головой, а те, что помладше, тихо засмеялись. Глядя на ту, что приглянулась ему больше всех, Тора молитвенно сложил на груди руки. Она едва заметно кивнула, украдкой бросив взгляд на дверь. Но все испортил Дандзюро, осыпав всю троицу сальными комплиментами. Плохо владея собой от спиртного, он закончил многословную тираду грязным предложением. Старшая из девушек поднялась и сделала знак своим подругам. Все трое, низко поклонившись, удалились. — Посмотри, что ты наделал, Дандзюро! — накинулся на него Кунисада. — У тебя свинские манеры. Неужто не можешь отличить благопристойную исполнительницу от уличной девки? Ты только что оскорбил знаменитую госпожу Сакаки. Но Дандзюро только хохотал и громко требовал женщин. Тут же старая тетушка впустила в зал стайку ярко разодетых и густо умащенных красками девиц. Воспользовавшись всеобщей суматохой, мужскими криками и девичьими визгами, Тора незаметно выскользнул из комнаты. Он догнал музыканток почти у самого порога: — Постойте, сестрички! Они обернулись, и старшая учтиво, но сухо сказала: — Прошу прощения, господин, но нам еще предстоит играть в другом месте. Тора поклонился и извиняющимся тоном произнес: — Госпожа Сакаки, пожалуйста, простите моего друга за грубое поведение. Он был опьянен вином и вашей красотой. Очень жаль, что его уши не предназначены для музыки. Что же касается меня, — тут Тора солгал, — то я пришел только для того, чтобы послушать вашу игру. Мне очень хотелось бы исправить это неловкое положение, поэтому позвольте пригласить вас всех на ужин, когда вы закончите работу. Госпожа Сакаки улыбнулась, но покачала головой: — Благодарю вас за доброту, господин, но это невозможно. Тора сник: — Понимаю. Для меня было истинным удовольствием послушать виртуозную игру. Говорят, одна лютнистка берет уроки у университетского профессора. Не вы ли это? Госпожа Сакаки покраснела, выражение ее лица стало напряженным. — Нет. Это Омаки. А теперь прошу извинить нас. — И, поклонившись, она поспешила прочь. Две другие девушки последовали за ней, причем любимица Торы подмигнула ему. Тора разочарованно смотрел им вслед. Конечно, чего же он хотел? — Ну-ну!.. — Сзади к нему тихонько подкралась тетушка. — Стало быть, тебе понравилась малютка с цитрой? Я сказала ей, что ты неровно дышишь к ней. — Вот как? А я не знал, — удрученно отозвался Тора. — Ты так и отпустишь ее? — Старуха всплеснула руками. — Да ты, должно быть, просто дурень! — Да ладно, тетушка, что поделаешь! — вздохнул Тора. — Лучше скажите мне, кто такая эта Омаки. Она здесь? — Ах вон оно что! Забудь о ней! Ее забрали. И уж тут я умываю руки. Я и взяла-то ее лишь потому, что уважила просьбу профессора, а так — одни неприятности с ней, ненадежная. Только и зыркает глазами по сторонам в надежде заловить кого-нибудь из мужчин. — Что значит забрали? — Забрали, и все! Нет ее здесь, и вообще некогда мне разговаривать со всякими дурнями! Ступай прочь! В напоенной ароматами ночной мгле мерцали фонарики, словно мотыльки, порхающие среди свисающих до земли ивовых ветвей. Улицы были наводнены толпами веселых гуляк в праздничных нарядах, в тени деревьев обнимались влюбленные. Еще целый час Тора бесцельно бродил по кварталу, улыбаясь встречным одиноким девушкам, но так и не нашел себе компании. Совсем поникнув, он прислонился к стволу дерева и задумался о том, что делать дальше. Домой идти было еще рано. С утра он нахвастался о своих планах, и теперь другие слуги безжалостно высмеют его. С другой стороны, у Торы почти не осталось денег — не хватит даже на дешевый притон. Вдруг у него за спиной нежный голосок прошептал: — Тора-сан! Он обернулся и увидел свою очаровательную цитристку — она стояла, прижимая к груди инструмент, и улыбалась. — Я на сегодня закончила, — сказала она. Тора вытаращил глаза в радостном удивлении. — Прелесть моя! — вскричал он. — Я стоял тут и мечтал, и вот мои грезы вмиг стали явью! Я мечтал о вас! Она покраснела и засмеялась: — Ну что вы! Мы же только сегодня познакомились! — У мужчин иногда так бывает. Ударит, как молния, и ты ничего не можешь поделать, остается только мучиться… Мучиться, пока не… — Он устремил на нее отчаянный, молящий взгляд. — Вы не должны говорить так с девушкой, Тора-сан. — Вам известно мое имя, а я вашего не знаю. Как это получилось? — Меня зовут Мичико. А ваше имя мне назвала тетушка из «Старой ивы». «Ай да тетушка! Вот спасибо ей!» — подумал Тора. Ему очень нравилась Мичико и ее безыскусные манеры. — Давай немного прогуляемся, Мичико, — предложил он. — И я с удовольствием угостил бы тебя ужином в каком-нибудь милом местечке. Ты, наверное, устала за день и проголодалась? Она улыбнулась: — Да, Тора-сан. Спасибо. Но все заведения оказались переполнены, а частные номера сняты. Поскольку Тора лелеял планы гораздо более обширные, чем просто ужин, он расстроился не на шутку. — А почему бы нам не купить еды с собой и не пойти ко мне? Я живу неподалеку отсюда, — предложила Мичико, видя, как омрачилось его лицо. Тора просиял. Он купил жареных креветок и большую бутыль саке, и они покинули увеселительный квартал. Мичико снимала комнатушку за лавкой бамбуковых дел мастера, изготовлявшего навесы. Семья ремесленника уже спала, поэтому они на цыпочках прокрались по длинному коридору в крохотную каморку в задней части дома. Это было тесное, но чистое и аккуратное жилище. Мичико взяла с полки свернутую в рулон соломенную циновку и расстелила ее на деревянном полу, потом поставила блюда и чарки, хранившиеся в простом сундуке. Они с Торой сели. Мичико разложила еду, Тора разлил саке. Девушка была голодна. Сытый после пирушки Тора наблюдал, как Мичико ест, и, когда она закончила, придвинул ей свою порцию. Ему нравились девушки с хорошим аппетитом. Сейчас, когда они сидели совсем близко, она оказалась еще миловиднее. Глазки ее заблестели, когда она утолила голод и избавилась от усталости, а влажные пухленькие губки выглядели и вовсе соблазнительно. Закончив трапезу, Мичико уселась как степенная дама и одарила Тору широкой улыбкой. — Спасибо, Тора, — с чувством проговорила она. — Ужин был очень вкусный. Растроганный Тора достал из рукава пояс с журавлями и протянул ей: — Вот, возьми, если понравится. Это тебе. Мичико разложила пояс на коленях и, восхищенно щупая ткань, с восторгом прошептала: — О, Тора! Какой он красивый! А я и не знала, что ты купил мне подарок! Откуда ты знал, что я вернусь? Тора покраснел, но из добрых побуждений решил не говорить правды. — А я сказал тебе, что предавался мечтаниям и загадывал желания. Мичико обняла его и прижалась к нему щекой. — Мне так приятно! — воскликнула она. Потом Мичико вскочила и начала убирать посуду. Тора встал, чтобы помочь ей. — Ты, случайно, не знаешь девушку по имени Омаки? — спросил он, передавая Мичико пустые блюда из-под креветок. — Я знаю Омаки. Она была моей подругой. — Была? Мичико опустилась на колени, налила воды в большую миску и начала мыть посуду. — Она стала высокомерной. Брала уроки у профессора, который часто приходит в «Старую иву». Он внушил ей, что она лучше нас, других девушек. А потом у Омаки начал побаливать живот, а когда я спросила, все ли у нее в порядке, она нагрубила мне, посоветовала не соваться в чужие дела. — Мичико указала Торе на аккуратно сложенное хлопчатое полотенце. — Не поможешь вытереть? Тора взялся за дело и между прочим заметил: — Как это некрасиво с ее стороны. — Да, некрасиво, и, конечно, это навело меня на кое-какие мысли. Видимо, она беременна. Скорее всего потому и на работу сегодня не вышла. Тетушка, наверное, сказала Омаки, что никому не интересно смотреть на беременную музыкантку. — А кто же отец ребенка? Есть у тебя какие-нибудь предположения? — полюбопытствовал Тора, ставя чистую посуду на сундук. — Думаю, это тот самый профессор. — Мичико выплеснула в окошко воду, убрала миску, повернулась и внимательно посмотрела на Тору: — А почему ты спрашиваешь? Неужели влюбился в нее? — Ни за что на свете, моя прелесть! — с горячностью возразил Тора и, подойдя ближе, погладил Мичико по щеке. — Я даже не знаком с ней. Просто кто-то сказал, будто она хорошо играет на лютне, и я подумал, что речь идет о госпоже Сакаки. Какая у тебя изящная шейка! Мичико хихикнула и взяла его за руку. — Омаки далеко до госпожи. Госпожа играет лучше всех. И она ненавидит Омаки. — Мичико потерлась носиком о руку Торы и печально проговорила: — Мне жаль, Тора, что я не умею играть на лютне, зато я знаю множество других игр. — Правда? — Тора прикинулся, будто не понимает. — Это каких же? — Например, «бамбуковый мостик в беседку», — прошептала она, гладя Тору пальцем по подбородку и трепетно хлопая ресницами. — Или «цикада, прильнувшая к древесному стволу», или «мартышка, раскачивающаяся на ветке», или «качание младенца». Тора вскинул брови в притворном изумлении. — «Мартышка, раскачивающаяся на ветке»? Что же это за игра? Мичико придвинулась ближе к нему. — Вот глупенький! Неужто ничего не знаешь? Разве ты никогда не посещал девушек из веселого квартала? Тора сгреб ее в охапку и повалил на циновку. — Конечно, нет, моя озорница! — страстно проговорил он, нащупывая ее пояс. — Да и тебе таких вещей знать не следует. Мичико захихикала, вертясь в его объятиях. — Девушки рассказывают нам все про свою работу. Они очень хорошо зарабатывают, но я предпочитаю сама выбирать мужчин, которые мне нравятся. — Как сейчас? Да? — Тора улыбался во весь рот, отбросив в сторону пояс и стягивая с ее плеч кимоно. — Подожди! — воскликнула Мичико. — Дай мне сначала постелить! Тора мысленно чертыхнулся, раздосадованный заминкой. Пока она доставала свернутую в рулон постель и расстилала ее на полу, он снимал с себя одежду. В приспущенном платье Мичико казалась еще соблазнительнее. Тора видел стройные ноги, высокую грудь, крутые бедра и… Она скинула одежду и, аккуратно свернув, отложила ее в сторону. Задыхаясь от страсти, Тора начал разматывать набедренную повязку. В мгновение ока Мичико оказалась рядом, чтобы помочь ему. — О-о, какой большой! — изумилась она. — И впрямь настоящее дерево для мартышек! — Вытаращив в притворном ужасе глаза, Мичико крикнула: — Одна мартышка уже испугалась! — И с этими словами, хихикая, прыгнула под простыни. Тора последовал ее примеру. — Забудь о мартышках, — простонал он. — Это деревце нужно скорее посадить, иначе оно умрет. Мичико была не только страстной любовницей, но и прекрасным учителем. В ту ночь Тора узнал от нее все о раскачивающихся на ветке мартышках и о других увлекательных забавах.
Глава 8 Поэтическое состязание
Был час Петуха, и оставалось примерно два часа до заката, когда Акитада снова вошел в Весенний Сад. По случаю праздника ворота, охраняемые двумя пешими имперскими стражниками, были украшены яркими флагами и полотнищами. Акитада показал стражникам свое приглашение, и его пропустили. Впереди он увидел Нисиоку, шагавшего рядом со студентом Исикавой, но не стал догонять их. Весь день Акитаду одолевали мрачные мысли. Они охватили его с новой силой теперь, когда он проходил мимо места, где было найдено тело мертвой девушки. Вскоре его взору открылся императорский павильон, заполненный сотнями празднично разодетых гостей, и от этого яркого пышного зрелища настроение Акитады лишь ухудшилось. Красные лакированные колонны и балюстрады, изумрудная черепица крыш, позолоченный орнамент, всех цветов и оттенков шелковые подушки и кричаще-праздничные одежды участников соревнования и гостей, разукрашенные суденышки на белом песке и сияющая золотом на предзакатном солнце гладь озера — все это на миг показалось Акитаде чем-то совершенно нереальным. Он чувствовал себя как никогда одиноким на этом многолюдном торжестве. В этом мире не было места для мертвой девушки и нищего старика, попытавшихся проникнуть в него и заплативших за это дорогой ценой. Переполненный необъяснимым гневом к тем, кто, подобно богам, жил «над облаками», Акитада поднялся по ступенькам на трибуны, уже почти заполненные веселыми гостями. Они беспечно болтали и смеялись, и никого из них, подумал Акитада, не тронула бы смерть девушки, произошедшая в двух шагах отсюда, узнай они о ней. Акитада подошел к судейскому возвышению, чтобы поклониться принцу Ацуакире и другим членам императорской семьи, а потом, увидев знакомые лица преподавателей на трибунах левее, нашел себе местечко в заднем ряду. Через мгновение рядом с ним появился Хирата. Он выглядел усталым, но улыбался. — За целый день так домой и не заглянул, — сказал он, присаживаясь. — Как там дамы? Понравилась им процессия? — Думаю, да. — Акитада через силу улыбнулся. — Матушка пригласила Тамако к нам отобедать. Мне пришлось оставить их — отлучился по делу убитой девушки, но Торе было велено проводить вашу дочь домой в наемном экипаже. — Ты и твоя досточтимая матушка очень добры, — тепло отозвался Хирата. — Пожалуйста, передай ей мою глубокую благодарность за ту честь, которую она оказала столь скромной особе, как моя дочь. Скромной особе? Честь? Доброта? Эти слова, всего лишь дань обычным условностям, заключали в себе столько же фальши, сколько помпезное зрелище, свидетелем которого он станет с минуты на минуту. Акитада кивнул и отвернулся, устремив взор на правые трибуны, где собирались важные сановные гости. Он вдруг заметил, что даже подушки, на которых сидели зрители, отличали их по рангу. Принцы восседали на пурпурной парче, высшая знать — на ярко-красном, зеленом или синем шелке, а ему, как всем преподавателям университета и студентам, достался лишь серый хлопок. Правильно! Не забывай свое место в общей иерархии! Странно, почему эти подушки вчера в вечерних сумерках показались ему одинаковыми. Игра света и тени? Эта мысль не оставляла его, словно в ней крылся какой-то особый смысл. А между тем церемония началась. Принц Ацуакира встал, выступил вперед на возвышении, и тотчас же все притихли. После его краткой вступительной речи взяли слово и другие; последним среди них был Оэ, не преминувший блеснуть ораторским талантом перед такой высокой аудиторией. На этот раз он был в роскошном кимоно из синей парчи; благородная седина поблескивала из-под парадной черной шляпы. Приветствовав гостей от имени руководства университета, Оэ объяснил порядок и правила предстоящего мероприятия. Акитада уже знал, что состязание состоит из четырех разделов — сочинение хвалебных песен и торжественных гимнов, походные песни, застольные песни и любовная лирика. Все эти части будут перемежаться интерлюдиями и танцевальными представлениями, после чего объявят победителя по каждому из видов состязаний. Пока Оэ упражнялся в красноречии, Акитада засмотрелся на озеро. На его тихую гладь возле самого берега опустилась стая уток. Покачавшись немного на воде, птицы, явно удивленные таким огромным сборищем людей, вдруг разразились резким дружным кряканьем и, хлопая крыльями и вздымая мириады прозрачных брызг, взмыли в небо. — Пусть этот прекрасный день подарит нам гения, тем самым еще раз утвердив величие и мудрость его величества! — провозгласил Оэ. Публика приветствовала его слова рукоплесканиями. Акитада, скользя взглядом по трибунам, вдруг увидел знакомое лицо. Если он не ошибся, это был Окура, молодой хлыщ, затеявший ссору с Торой и вопреки ожиданиям занявший первое место на прошлогодних экзаменах. Сегодня он сидел среди участников состязания. У Акитады наконец появился интерес к происходящему. Когда Оэ, к всеобщему облегчению, закончил речь, Хирата наклонился и прошептал Акитаде: — Ты не заметил ничего странного в том, как сегодня держится Оэ? — Нет. А что? — Будем надеяться, что я ошибаюсь, но могу поклясться, он уже пьян. Ты слышал, как Оэ глотал слова? — Хирата покачал головой. — Не иначе как принял для храбрости, ведь он рвется к победе. — Если это так, долго ему не продержаться, — сухо заметил Акитада. — Я смотрю, саке уже пошло у них в ход. — По обычаю за каждое сочинение было принято произносить тост, а обширная программа сулила долгий вечер и длинную ночь. Первые выступления не поразили ничем выдающимся. Сочинение торжественных и хвалебных гимнов было обычным делом для придворных: им ничего не стоило набросать несколько строк по случаю дня рождения кого-либо из императорской семьи или очередного таинственного церемониала. Окура участвовал в этом отделении, и Акитада с интересом наблюдал за ним. С благодушным и самодовольным видом Окура читал свое короткое сочинение. Акитаде с его нетренированным ухом показалось, что оно удивительно ладное и явно не уступает в достоинствах другим выступлениям. Может, Хирата недооценил его способностей? — Слог Окуры, как ни странно, существенно улучшился, — с недоумением пробормотал Хирата. Окура умолк, удовлетворенно улыбаясь рукоплесканиям слушателей. Внезапно тихий голос прошипел на ухо Акитаде: — Прекрасно! Прекрасно! Наш уважаемый коллега распродает свои таланты по самой высшей цене! Акитада обернулся и увидел рядом с собой черепашью голову Такахаси. Немигающие глазки с тяжелыми веками выжидающе смотрели на него. — Простите, я не понимаю вас, — сухо сказал Акитада. — Разумеется, не понимаете. Ведь в отличие от всех нас вы не так хорошо знакомы со слогом Оэ. Его стиль, если это слово в данном случае применимо, пожалуй, не перепутаешь ни с чьим другим. Стихи, прочитанные Окурой, принадлежат перу Оэ. Окура сам никогда не сочинил бы ничего подобного. — Откуда у вас такая уверенность? — удивился Акитада. — Студенты часто подражают стилю своего учителя. — А вы, Хирата, что скажете? Ведь я прав? — спросил Такахаси. Хирата неохотно кивнул: — Да, такое вполне возможно. — А кроме того, — продолжал Такахаси, — наше «светило» сегодня целый день пьет, что определенно не придает ему дружелюбия. Он уже дважды срывался и орал на бедолагу Оно. Просто не представляю, как тот теперь появится на людях. И как только Оэ не обзывал его! Да еще в присутствии стольких влиятельных особ. Это надо было слышать! Трибуны огласились новой волной рукоплесканий, и Такахаси отвернулся, чтобы поговорить с только что прибывшим Фудзиварой, который и сегодня был одет все в то же неприглядного вида шелковое кимоно, перевязанное совершенно неподходящим к нему поясом. Хирата, взяв Акитаду под руку, кивнул в сторону сцены. Там раскрасневшийся Оэ снова выступил вперед. Смешно раскачиваясь с мыска на пятку, он смотрел не на судей, а на трибуны, где сидели вельможи. — Вновь собрались мы здесь, забыв о суете, — начал он медоточивым голосом. — Вновь озарил нас солнца яркого закат. — Оэ сделал широкий жест в сторону сверкающего озера, вызвавший бурные рукоплескания. — Светило вечное сияло нам и год назад. — И, печально опустив голову, он закончил стих: — Но только ныне мы уже не те! Акитада, проникшись этой своеобразной ностальгией и уместностью образов, ждал от Оэ блистательного продолжения. Однако, к его удивлению, Оэ, вскинув голову и вновь обведя взором трибуны, прочел последние строки:Глава 9 Рукава, промокшие от слез
Следующий день тоже считался праздничным — дева Камо возвращалась из святилища во дворец. Утром Акитада, как обычно, зашел к матери. Он застал ее и сестер за утренней трапезой и первым делом справился, хорошо ли они провели вчерашний день. — Тамако оказалась такая милая! — вскричала его младшая сестра Ёсико, но, вспомнив о неудачных ухаживаниях брата, покраснела и тут же прибавила: — Она пробыла у нас довольно долго и обещала вскоре снова приехать. Мы с удовольствием провели время в ее обществе. У Акитады сердце упало. Он не имел ни малейшего желания продолжать эти неловкие встречи с Тамако. — Я рад, что день оказался для вас удачным. — Он посмотрел на мать. — Похоже, эта девушка разбирается в садоводстве, — заметила госпожа Сугавара. — Тамако дала нам много полезных советов. Как видишь, — она махнула рукой в сторону неухоженных зарослей, окружавших веранду, — здесь у нас все одичало, настоящая глушь. И очень жаль, что мне приходится полагаться на случайные знакомства, чтобы облагородить наш двор. — А я думал, тебе нравится такой запущенный сад, — проговорил уязвленный Акитада, хотя прекрасно знал, что мать сердится на него совсем по другим причинам. — Ты только скажи, и я велю Торе подстричь здесь все и пересадить. — Хм! Так он и сидит тебе здесь! Вечно где-то шляется, — недовольно буркнула мать. — А вчера и вовсе не вернулся домой, — поспешила сообщить сестрица Акико. Мать Акитады закатила глаза и тяжко вздохнула: — Не удивлюсь, если он загремел в тюрьму. Подумать только, как я живу! Полуразрушенный дом и разбойник вместо слуги! А ведь когда-то это была настоящая усадьба с хорошей, вышколенной прислугой. И вот дожили — торчим здесь, словно в ссылке в глухой провинции. — Простите, матушка, но я вижу, сегодня вы не в настроении. — Акитада поднялся и поклонился. — Я зайду в другой раз, когда вы будете чувствовать себя бодрее. Госпожа Сугавара не удостоила его ответом.В университете в тот день было пустынно, так как все занятия и лекции отменили. Акитада заглянул в кабинет Хираты, но не нашел там ни души. Праздник только усложнял все дело. Акитаде не терпелось устроить совместную встречу с Оэ и Исикавой, но без Хираты это не представлялось возможным. В своем кабинете он увидел на столе стопку студенческих сочинений. Невольно возник вопрос, как поступить — выполнить свою обязанность и прочесть их перед уходом или собрать вещи. Отложив решение на потом, Акитада отправился к студенческим общежитиям в смутной надежде задать несколько вопросов Исикаве. Там обстановка была немного живее. Несколько ребят помладше, собравшись шумной гурьбой под соснами, возились с огромными листами крашеной бумаги. Подойдя поближе, Акитада увидел, что они мастерят воздушных змеев. Он посмотрел на ясное небо — там, гонимые ветром, неслись кудрявые, пенистые облака. Идеальная погода для запускания змеев. Вскоре один из юнцов, сорвавшись с места, побежал, держа в руках веревку. Его треугольный змей взмыл в небо. Несколько мгновений он высоко парил, но потом стал опускаться и запутался в верхушке сосны. Акитада подошел к дереву. Залезть на него не составляло труда. Поддавшись внезапному порыву, он снял кимоно и закатал до колен широкие штанины. Подтянувшись на нижней ветке, он начал взбираться на дерево. Но змей застрял на самой верхушке — ее тонкие ветки вряд ли выдержат вес взрослого человека. Акитада замешкался, размышляя, как выйти из положения. Кто-то снизу дернул его за штаны. Под деревом стоял один из мальчишек. — Извините, господин. Давайте лучше я. Ведь это мой змей застрял там. — Акитада посторонился, наблюдая за проворным, как мартышка, юнцом. Тот легко добрался до змея, освободил его и сбросил вниз, под ноги ожидавшим приятелям. — Извините, господин, — повторил мальчик, спускаясь мимо него с дерева. Акитада чувствовал, что попал в дурацкое положение. Интересно, поняли эти мальчишки, что он хотел достать змея? Что подумали они, увидев, как преподаватель взбирается на дерево? Акитада спустился вниз и оделся. Да, видимо, лазать по деревьям за воздушными змеями ему уже не пристало — вышел он из этого возраста. Возле одного из общежитий на ступеньках сидел старший студент, латавший свои потрепанные гэта. — Не подскажете, где мне найти Исикаву? — обратился к нему Акитада. Юноша вежливо поднялся и поклонился. — Его нет здесь сегодня, господин. Он ушел еще до рассвета. Я видел, как он нес узелок, и подумал, что он, должно быть, отправился в короткое путешествие. Еще одна заминка! Исикава, видимо, вернется не скоро. Акитада направился к мальчишкам. В стороне он вдруг заметил щуплую фигурку юного Минамото — тот сидел на веранде общежития, как будто погруженный в чтение книги, однако бросал украдкой любопытные взгляды на других ребят. Акитаду удивило, почему Минамото не играет вместе с остальными, но он тут же вспомнил, что и высокое положение, и недавняя горькая утрата, видимо, не позволяют ему присоединиться к сверстникам, хотя их забавы естественны для его возраста. Находясь среди других детей, юный князь оставался одиноким. Щемящее чувство жалости пронзило Акитаду. Не в силах помочь несчастному ребенку, он лишь сокрушенно покачал головой и пошел прочь. На этот раз путь его лежал к факультету искусств. Должно быть, Сато на месте — ведь он отчетливо слышал звуки лютни. Сегодня мелодия была гораздо живее и веселее, чем в прошлый раз. Пока Акитада шел на звук, заиграла вторая лютня. Кто это? Еще одна ученица? Нет. Судя по слаженности игры, тут явно встретились два равных мастера. Акитада тихо поднялся на веранду и сел под дверью кабинета Сато, чтобы послушать музыку. Он снова поймал себя на мысли, что тоже хотел бы научиться так играть. Его завораживали чарующие звуки. Все, что тревожило Акитаду, утратило значение, отошло на второй план. В юном возрасте он недолго учился игре на флейте, позже брал уроки в студенческие годы, но потом более серьезные дела стали отнимать у него все время, и Акитада забросил музыку. Вскоре играпрекратилась, и он услышал приглушенный разговор. Почувствовав себя неловко, Акитада встал, громко кашлянул и зашел поздороваться с учителем. У Сато снова была женщина — на этот раз старше и гораздо изящнее, чем убитая девушка. Акитаду они не заметили, а у него сегодня даже не возникло сомнения, что учитель и ученица — любовники. Они сидели, скрестив ноги, держа на коленях лютни и склонив друг к другу головы. Об их близости свидетельствовали и нежные взгляды, которыми они обменивались, а один раз женщина ласково провела ладонью по щеке Сато. Смутившись, Акитада попятился к выходу, но его уже заметили. Только что ворковавшие голубки отпрянули друг от друга, изумленно уставившись на него. Поклонившись, Акитада извинился за неожиданное вторжение. Женщина покраснела и поспешила принять более скромную позу. Красивая и зрелая, она была удивительно пикантна. Акитада растерянно объяснил, что не устоял перед музыкой. — Сегодня праздник, — сердито заметил Сато. — Неужели у вас нет личной жизни? Женщина встала и молча выскользнула из комнаты, унося с собой инструмент. — Прошу прощения, — снова сказал Акитада, провожая ее взглядом. — И вы, пожалуйста, не бойтесь: я не доложу о ваших частных уроках. Не сомневайтесь, я никому не выдам вашего секрета. Просто эта дама так хорошо играла, что вряд ли она ваша ученица. — Он покраснел, пытаясь понять, как Сато отнесется к этим словам. Сато смотрел на него безучастным взглядом. — Это моя знакомая. Коллега. Заглянула ненадолго поболтать, — объяснил он и, видя, что Акитада собирается уходить, добавил более дружелюбно: — Не хотите ли немного саке? Удивленный, Акитада охотно согласился. Сато был для него загадкой, тайной за семью печатями. Отхлебнув из своей чарки, Акитада сказал: — Полагаю, полицейский начальник уже расспрашивал вас о девушке, убитой в парке? Вы сообщили ему ее имя? — Да. Ее звали Омаки. Мне пришлось пойти туда на опознание тела. Бедная девчушка! — Сато основательно приложился к своей чарке. — Надо полагать, это вам я обязан за столь пристальный интерес полиции к моей персоне? Акитада смело встретил его взгляд. — Без этого нельзя было обойтись. Когда мы с моим слугой нашли тело девушки, я вспомнил, что видел ее у вас. Сато опустил взгляд. — Понимаю. Что поделать? Она была глупая девчонка, но умереть в таком юном возрасте!.. Этого она не заслужила! — Он скорчил кислую мину. — Впрочем, ее общество отчасти компрометировало меня. Я ведь познакомился с ней в веселом квартале. — Она была проституткой? — Не все женщины из веселого квартала проститутки, — сердито возразил Сато, но, быстро успокоившись, со вздохом добавил: — Бедная Омаки. Училась музыке, хотела стать гейшей, но так уж сложилось, что стала почти проституткой. Не успела, а то бы стала. Что поделаешь! Такова была ее карма. Отец девушки, Хисия, бедный ремесленник, зонтичных дел мастер. Они живут в шестом квартале. Мать умерла, и он женился на другой. Обычная история — мачеха не ужилась со взрослой падчерицей. Девочка грозилась уйти в дом терпимости, чтобы не прислуживать дома новой жене отца. А тот, человек порядочный, конечно, не вынес бы такого, вот и пришел как-то ко мне. Сказал, что его дочка умеет играть на лютне, и спросил, не могу ли я дать ей работу. Я послушал ее игру. Это было слабенько, но неплохо. В общем, мы договорились, что я устрою Омаки в одно знакомое мне место, а она заплатит мне за несколько частных уроков. Обучалась она быстро. Будь на месте Омаки другая, из нее вышел бы толк. Но она!.. Все усилия оказались напрасны! Бедная глупенькая девчушка! Сато снова наполнил свою чарку, приложился к ней и отвернулся, глядя в открытую дверь. Акитада медленно потягивал свое саке. Он не верил всем этим чувствительным признаниям и объяснениям. Сато явно стал не в меру разговорчив. И поведение, и репутация Сато, и его полные чувственные губы, и сальные, похотливые глаза — все это не вязалось с тем бесстрастным видом, который он напускал на себя. Нет, Сато — явный бабник, любитель женского тела, возможно, даже убийца, но отнюдь не гуманист-филантроп. — А не известны ли вам какие-нибудь факты, которые помогли бы полиции найти убийцу? — спросил Акитада. Сато покачал головой: — Насчет фактов сомневаюсь. Мне известно, что Омаки носила под сердцем ребенка. Глупенькая девчушка! Для нее это означало конец только что начавшейся карьеры. Но это, кажется, не очень беспокоило Омаки. Когда я поинтересовался, кто отец ребенка и каковы теперь ее планы, она замкнулась и не ответила. А вообще в последнее время Омаки выглядела более веселой, чем обычно, я бы сказал, возбужденной. — Он замолчал, о чем-то задумавшись. — Я рассказал полицейскому чину одну вещь. Я видел Омаки здесь с одним из студентов. Возможно, этот юный негодяй и есть отец ребенка. Слонялся поблизости, пока она работала. Ведь эти чертовы сопляки книжку в руки не возьмут! Хотя этого типа вряд ли назовешь смелым. Понятия не имею, что она в нем нашла! Услышав, как резко звякнула струна, Акитада посмотрел на руки Сато — они судорожно сжимали шейку лютни. Перехватив взгляд Акитады, Сато тотчас же разжал руки — сильные, крепкие и проворные руки музыканта, упражняющегося по многу часов в день. Таким рукам ничего не стоило бы затянуть шелковый пояс вокруг женской шеи и намертво сдавить ее. — Вижу-вижу, что у вас на уме, — сердито заметил Сато. — Так вот: это было не мое отродье, и я не имею никакого отношения к смерти Омаки! Больше вы от меня ничего не узнаете. Я и так сказал достаточно и не намерен продолжать эту тему. Покраснев, Акитада заверил Сато, что вовсе не подозревал его, и перевел разговор на другую тему — о вчерашнем вечере. Однако его рассказ о стычке Оэ с Фудзиварой, казалось, вызвал у Сато еще большее раздражение. Он сердито проговорил: — Меня там не было, и мне вообще наплевать, что вытворяет этот ублюдок Оэ! А если он нажрался и опозорился, то так ему и надо! — Взяв лютню, Сато поднялся, давая понять, что разговор окончен. Акитада вернулся в свой кабинет, где его ждал бледный и помятый Тора. — Выглядишь ужасно, — язвительно заметил Акитада, оглядывая его небритый подбородок, всклокоченные волосы и покрасневшие глаза. — И где же ты был? Ты хотя бы спал? — Ни минутки! — сияя ответил Тора. — Не сном единым жив человек. Вы бы и сами это поняли, если бы попробовали. Вам вообще-то не помешало бы почаще спать с женщиной. Пусть не так спокойно, зато куда лучше, чем одному. Без женщин мужская сила истощается. Может, я и выгляжу сейчас хуже, чем вы, зато с мужской силой у меня теперь все в порядке — спасибо за это самой очаровательной и талантливой женщине на свете! Э-эх? что за тело у этой девчонки!.. И какие штуки она умеет вытворять! Вот есть одна поза, она называет ее «мартышка, раскачивающаяся на ветке»… — Ну хватит! — оборвал его Акитада, охваченный внезапной яростью. — Следи за своим языком, когда разговариваешь со мной! И избавь меня от этих подробностей! Меня не интересуют твои грязные любовные интрижки! Сэймэй совершенно прав — я избаловал тебя. Твоя фамильярность переходит границы, ты наглеешь на глазах. Ты не только не выказываешь должного почтения хозяевам, но, похоже, даже перестал работать! Почему ты вчера не вернулся домой и не доложил своей госпоже, чем собираешься заняться с утра? — Онемев и растерянно моргая, Тора смотрел на своего хозяина. — Матушка жаловалась мне на тебя, — продолжал бушевать Акитада. — И я не знал, что ей ответить. Советую тебе умерить пыл. Имей в виду, если будешь и дальше злоупотреблять моим терпением, я просто вышвырну тебя на улицу! Побледнев еще больше, Тора встал. — Тогда я уйду прямо сейчас, господин, — сдавленным голосом пробормотал он, отводя в сторону глаза. Акитада, устыдившись своей вспышки гнева, растерянно закусил губу: — Ну-у… Что уж прямо так сразу? Зайди хотя бы домой! И… вот еще что… Ты умеешь мастерить воздушных змеев? — Воздушных змеев?! Конечно! И запускать умею! В детстве я целых два года держал первенство в нашей деревне! А зачем это? — Несколько младших студентов мастерят змеев во дворе общежития. Думаю, они будут запускать их сегодня. Уж больно ветер хороший. Я хочу, чтобы ты пошел туда и постарался разговорить маленького Минамото. Скорее всего он еще сидит на веранде, делая вид, что читает книгу. Постарайся заинтересовать его воздушными змеями. — Вы шутите? Да какой же мальчишка не интересуется воздушными змеями! — воскликнул Тора, но тут же осекся и почтительно добавил: — Прошу прощения, господин. Я немедленно исполню то, что вы сказали. — Тора выскочил из комнаты, но через мгновение просунул голову в дверь. — Да, совсем забыл! Я же выяснил для вас кое-что. Убитую девушку звали Омаки. Она играла на лютне в одном из заведений веселого квартала. — Знаю. Только это нам ничего не дает, — сказал Акитада. Тора огорчился. Повесив голову, он удалился, но Акитада крикнул ему вдогонку: — А тебе все-таки большое спасибо. Молодец, что выяснил. Поговорим об этом позже. Когда Тора ушел, Акитада сел за стол, грустно разглядывая оставшиеся от праздника полуувядшие, полуосыпавшиеся розочки, стоявшие в винной чарке с водой. Должно быть, Тора прав. Мужчина не может проводить жизнь в одиночестве, если, конечно, он не монах и не отшельник, но к созерцательности такого рода у Акитады уж точно не лежала душа. Что там сказал Сато? Спросил, есть ли у него личная жизнь. Акитада закрыл глаза и представил себе Тамако в праздничном наряде. Какая она красивая! Стройная фигура, изящные плечи и такая соблазнительная нежная шейка, особенно когда она поворачивает голову. Воспоминание об этой белой шейке и маленьком розовом ушке, чуть прикрытом черным шелком волос, пришло к нему как эротическое видение, и он, устыдившись, одернул себя. Неужели шашни Торы с какой-то проституткой пробудили у него желание физической близости с молодой женщиной, которую он всегда считал сестрой? Акитада придвинул к себе студенческие сочинения. Он уже прочел половину, когда пришел Хирата. Старый профессор посетовал, что не может найти Оэ. — Ты говорил с Исикавой? — спросил он. — Нет. Мне сказали, он ушел рано утром. Сегодня праздник, и Исикава мог отправиться в гости. — Акитада чувствовал себя неуютно в обществе Хираты и с трудом заставлял себя поддержать беседу. — Как прошла оставшаяся часть конкурса? — Я досмотрел до конца только само состязание. Говорят, праздник продолжался до ночи, и гонки были на лодках, и экспромты в честь луны. Кстати, Фудзивара выиграл еще один приз — в любовной лирике — и был объявлен лауреатом года. Вот Оэ рассвирепеет, когда узнает! Ведь он ждал этих почестей долгие годы. Наверняка теперь опротестует результаты, сославшись на то, что Фудзивара насильно увел его, не дав выступить в других видах программы. Акитада ухмыльнулся: — А по-моему, он так опозорился, что долго теперь не покажется на людях. Хирата кивнул. — Кроме того, есть еще вопрос прошлогодних экзаменов. Оэ теперь нельзя доверять, и в будущем нам придется присматривать за ним. Я хорошо подумал об этом. По-моему, нам все-таки стоит устроить Оэ и Исикаве очную ставку. Нам известно достаточно. Мы потребуем, чтобы Исикава прекратил шантаж, а Оэ отказался от участия в судействе на предстоящих экзаменах. Вряд ли это сильно напугает их, но ведь того, что произошло прошлой весной, уже не исправишь. Что сделано, то сделано, и мы не можем вернуть к жизни бедного юношу, покончившего с собой. К тому же пересмотр результатов прошлогодних экзаменов обязательно нанесет урон репутации университета. — Хирата с тревогой посмотрел на Акитаду. Шантаж порождает шантаж, подумал Акитада, а вслух сказал: — Конечно. Поступайте как знаете. Они помолчали. Растерянный Хирата ждал, кусая губы. Его удивляло и беспокоило, почему Акитада не выказывает интереса. Он хотел возобновить разговор, когда в комнату влетел Тора. — Ни за что не отгадаете, что сейчас произошло! — вскричал он с порога. — Полиция арестовала одного из студентов за убийство! — Не может быть! — воскликнул Хирата. — И кто же это? — Кролик. — Тора многозначительно посмотрел на Акитаду. — Помните, я говорил вам о нем? Тот самый, что подрался с другим студентом на кухне. — Тора ощупал свой пояс и извлек из-под него скомканный листок бумаги. — Вот, пожалуйста. — Он протянул листок хозяину. — Это он вам написал. Акитада разгладил записку, совсем коротенькую и извещавшую о том, что ее автор ни в чем не виновен, просит Акитаду о помощи и готов заплатить за нее. Внизу стояла подпись: Нагаи Хироси. Акитада передал записку Хирате. — Бедный парнишка! — вскричал потрясенный Хирата. — Такой смешной, неуклюжий! Да кто же поверит, что он мог совершить убийство?! Должно быть, здесь какая-то ошибка. Акитаде вспомнилась вчерашняя мимолетная встреча у ворот, и он подумал, что никакой ошибки нет. — А что там с этой дракой? — спросил он. — Ну-ка, напомни мне, Тора. — Как я понял, другой парень потешался над его любовными шашнями. Только что-то мне не верится. Ну какие могут быть сердечные дела у этого Кролика?! Готов побиться об заклад, что не была эта девчонка его зазнобой. А если была, то, значит, я сам ничего не смыслю в женщинах и согласен отказаться от них навсегда! — Не хотелось бы приумножать неприятности этого юноши, но я мечтаю, чтобы ты проиграл, — усмехнулся Акитада. — Я не проиграю. Она была милашка, а он похож на что-то среднее между облезлым кроликом и длинношеим журавлем. Ходит, вытягивая ноги, как птица, уши так и хлопают по ветру, а зубы… вы бы только видели, прямо торчат вперед!.. Поверьте, ни одна нормальная девчонка не станет показываться на людях с таким вот чудом! — Ты преувеличиваешь, — сказал Акитада, но тотчас же вспомнил слова Сато о незадачливом ухажере Омаки. — Я встретил этого парня вчера у ворот. Он показался мне нездоровым. — Ха! — вскричал Тора. — Может, он влюбился в нее! В общем, так или иначе, полицейские обыскали его комнату и нашли кучу писанины. Они все забрали с собой. — Тора помолчал, потом, осененный какой-то мыслью, добавил: — Всякий раз убеждаюсь, что от вашего образования один вред. Сочинял стишки про девчонку, вот и поплатился. Акитада и Хирата переглянулись. Оба не могли скрыть улыбки. — Ну и что я, по-вашему, должен предпринять? — спросил Акитада у профессора. — Обращаться к капитану Кобэ у меня нет ни малейшего желания. Мне хватило этой разборки с нищим. — С каким еще нищим? — перебил его Тора. Нахмурившись, Акитада продолжил: — Кроме того, возникает и другая проблема. Вы же знаете, что я хотел бы как можно скорее покончить с этим делом. А если я займусь этим студентом, мне придется задержаться здесь на неопределенное время. Хирата отвел взгляд. — Твоя слава защитника неправедно осужденных, похоже, распространилась даже среди студентов, — шутливо заметил он. — Конечно, ты должен попытаться помочь Хироси. Ведь на кон поставлены жизнь юноши и честь его семьи. Даже репутация нашего университета не так важна в сравнении с этим. Я помню, как познакомился с отцом Хироси, когда он привел мальчика сюда. Господин Нагаи — бедный школьный учитель из провинции Оми. В его семье пятеро детей, и Хироси — единственный сын. Представляю себе, на какие жертвы они идут, чтобы оплачивать его учебу. Ну что ж, история почти та же, что и у бедного студента, покончившего с собой. Но какой смысл возмущаться лицемерием Хираты, который, судя по всему, обрадовался тому, что Акитада застрянет здесь надолго? Отказать студенту в просьбе он не мог, поэтому, вздохнув, сказал: — Ладно. Пойду повидаюсь с ним. — А мне что делать? — спросил Тора. — Я могу вам понадобиться, но ведь меня ждет маленький князь, с которым мы идем покупать бумагу и бамбуковые палки для змеев. Акитада изумленно взглянул на Тору: — Ты хочешь сказать, что уже завоевал доверие мальчика? — О да, это было совсем не трудно. Хоть он и князь, но поговорить-то ему не с кем. Когда я рассказал ему про своего змея, выигравшего состязание в нашей деревне, князь тотчас же загорелся желанием поскорее смастерить такого же. Акитада хлопнул Тору по плечу: — Ну и молодец! Да ты отличился больше всех нас! Сколько раз я пытался разговорить мальчика, но безуспешно! У тебя, видно, какой-то особый подход к детям. — Тора гордо приосанился, а Акитада продолжил: — Раз так, тебе следует сдержать обещание, данное князю Минамото. Но потом, когда закончишь со змеями, сходи-ка домой к убитой девушке. Профессор Сато сказал, что Омаки была дочерью зонтичных дел мастера по имени Хисия. Они живут в шестом квартале. Она была не замужем и к тому же, как тебе известно, беременна, но, похоже, не слишком беспокоилась о будущем. Может быть, тебе удастся узнать что-нибудь о ее знакомствах с мужчинами.
Когда Акитада явился в полицию, Кобэ на месте не оказалось. В этом он даже нашел положительную сторону — один из подчиненных Кобэ сразу узнал его и провел к студенту Нагаи. Тот сидел на полу тесной сырой камеры: свет проникал в нее лишь через узенькое окошко под самым потолком. Услышав лязг открывающихся замков, Нагаи поднял на Акитаду покрасневшие глаза. При виде его лица, ставшего еще более уродливым, заплаканным и распухшим от слез, Акитада едва не отпрянул назад, но, устыдившись, улыбнулся юноше. Тот, шатаясь, поднялся на ноги — тяжелые оковы на запястьях и лодыжках затрудняли движения. — Да не вставай, сиди! — предложил Акитада и сам опустился на пол. — Я получил твою записку. Ну-ка объясни мне поточнее, что же у тебя за неприятности. — Меня обвиняют в убийстве Омаки. — Парень сглотнул ком в горле, отчего выступающий кадык задергался на его тощей шее. — Да разве я мог бы! — вскричал он. — Я обожал ее! А теперь вот все так страшно обернулось для меня. Только вы способны помочь мне, господин! Говорят, вы распутали много трудных дел. Прошу вас, ради моей семьи, снимите этот позор с моего имени! О себе я не думаю, а вот мои бедные родители и сестры… — Слезы потекли по его щекам, он зашмыгал носом и начал утираться давно уже промокшим от слез рукавом. Акитада смотрел на него с сочувствием. Парень действительно вызывал жалость. Описание Торы, хоть и обидное, оказалось верным. И без того невзрачное лицо теперь покрылось красными пятнами, а мокрый нос и распухшие губы довершали неказистый, даже уродливый портрет. Такой «красавец», наверное, особенно болезненно переживал отказ той, что была его идеалом. А такая девушка, как Омаки, миловидная, бойкая, честолюбивая, расценила бы обожание такого воздыхателя, к тому же не имеющего перспектив, как утомительную обузу. Мучила ли она его насмешками и колкостями, испытывала ли его терпение и безответную страсть до последнего предела, когда он попросту не выдержал и убил ее? Был ли он тем самым студентом, с которым она встречалась в парке? Или он выследил ее, застал с другим и не сдержал ярости и гнева, доведенный до отчаяния предательством Омаки? — Какие доказательства против тебя как подозреваемого есть у полиции? — спросил Акитада. — Они опрашивали студентов, и те назвали мое имя. — Голова Нагаи снова поникла. — Один из них нашел у меня стихотворение, посвященное ей, и рассказал другим. Я тогда очень разозлился, хотя, наверное, с моей стороны было глупо думать, что я могу нравиться такой симпатичной девушке. Когда мы познакомились с ней, она была очень добра ко мне. И по-моему, с удовольствием гуляла со мной в парке. Омаки рассказывала мне о музыке, о своей работе, а я ей — о своей семье. Акитада расположился к бедному влюбленному парнишке. Но жалость не снимет с него обвинений, поэтому он сказал: — Другие студенты упомянули твое имя, поэтому полиция допрашивала тебя, но для ареста этого недостаточно. Что еще произошло? Вздохнув, Нагаи посмотрел на Акитаду с мольбой. — Мы с Омаки поссорились. За день до… до того, как ее нашли мертвой. Кто-то подслушал нас. А потом, когда полицейские обыскивали мою комнату, они нашли стихи и мой дневник. — Низко опустив голову, Нагаи в отчаянии выкручивал красные костлявые руки. — Вы поссорились в парке? Нагаи снова поднял глаза. — Нет-нет! В тот день мы в парк не ходили. Мы разговаривали в университетском общежитии. Она пришла туда, когда у нее закончился урок игры на лютне. Я всегда ждал ее там. — Из-за чего вы поссорились? — Я предложил Омаки выйти за меня замуж. Я знаю, что мне не следовало делать ей предложение без разрешения моего отца. Но я боялся, что не получу его, а ждать не мог. Мне казалось, Омаки нужен был кто-то надежный рядом… Даже если бы я не блестяще сдал экзамены, то все равно мог стать школьным учителем у себя дома. Тогда мы с Омаки жили бы у моих родителей. Она помогала бы матери по хозяйству, а мы с отцом вместе управлялись бы в школе. — Он печально покачал головой. — И как я не понимал, что это глупо?! — А Омаки, судя по всему, не пришла в восторг от твоего предложения. Лицо юноши исказила болезненная гримаса. — Она посмеялась надо мной! Интересовалась, как мы будем жить, пока я не сдам экзамен. А когда я предложил ей давать уроки игры на лютне и поработать еще немного в веселом квартале, она рассердилась и стала ругать меня. Обозвала меня к… кроликом — из-за ушей и зубов, а еще… противной жабой и другими злыми словами. — Он залился краской стыда и смело посмотрел Акитаде в лицо. — Омаки была совсем не похожа на себя, потому что ждала ребенка. Мне говорили, что женщины становятся очень раздражительными в таком положении. — Это был твой ребенок? Нагаи покачал головой: — Нет. Мы с ней не… Видимо, это произошло еще до нашего знакомства. Я никогда не расспрашивал ее об этом. Должно быть, какой-то бесчестный человек сначала использовал ее, а потом бросил. Когда она доверила мне эту тайну, я решил, что Омаки, наверное, хотела бы выйти замуж за кого-то вроде меня. Парень выглядел таким униженным и несчастным, что от жалости у Акитады сжалось сердце, а в душе зашевелилась злость на погибшую девицу. Узнав, что беременна, она решила выйти замуж за влюбленного студента, а потом передумала, сочтя, что он ей не пара. Такое легкомыслие лишь подтверждало мнение Сато, сказавшего, что девица, похоже, ничуть не тяготилась беременностью и даже была необычайно весела. Что же заставило ее отказаться от Хироси Нагаи, почувствовать себя настолько свободной и уверенной, чтобы посмеяться над его самоотверженной искренней страстью, перед тем как вовсе отвергнуть его? Своим поведением Омаки могла довести его до убийства. Но интересно, что же побудило ее так решительно изменить свои планы? — Я постараюсь помочь тебе, — проговорил Акитада, — но ты должен рассказать мне все, что знаешь о личной жизни Омаки, о ее друзьях и семье. С низким поклоном, выражавшим искреннюю благодарность, парень отвечал: — Боюсь, господин, мне известно немногое. Я познакомился с Омаки в веселом квартале. Вообще-то нам туда ходить не положено, но знакомые студенты однажды взяли меня с собой. Ночью мы перелезли через стену. Я тогда, помнится, ужасно боялся. — Акитада понимающе кивнул. Конечно, этот одинокий неказистый паренек охотно принял подобное предложение товарищей, даже если и имел на этот счет другое мнение. — Омаки играла на лютне в увеселительном заведении, в которое мы пришли. Она играла так прекрасно, и сама была такая красивая! — Он улыбнулся, вспомнив девушку. — Потом я стал ходить туда при каждой возможности, и однажды Омаки заметила меня и улыбнулась. Когда она закончила играть, я набрался смелости и подошел к ней. Мы прогуливались вдоль реки. Она казалась мне восхитительной. Омаки рассказывала о себе, о своей бедной семье и о том, как она несчастлива. Мачеха била ее, заставляла подниматься с рассветом и выполнять всю работу по дому, даже когда Омаки возвращалась из веселого квартала совсем затемно. Сколько раз она признавалась мне, что или убежит из дома, или наложит на себя руки! — Нагаи тяжело вздохнул. — А с кем она работала? Что это были за люди? Она говорила тебе о них? — Не много. Тетушка, хозяйка заведения, понуждала ее торговать своим телом, но Омаки хотела быть гейшей. Я знаю, многие говорили о ней гадости, но ведь это лишь доказывает, что она была приличной девушкой. Правда, господин? Акитада не разделял этого убеждения, однако кивнул. — Что же о ней говорили? И кто? — спросил он. — Приятели, с которыми я ходил туда. Но только они лгали. Они всегда высмеивали меня. — И, подняв робкий взгляд на Акитаду, он добавил: — Я тогда думал, что они завидуют мне, ревнуют. — Понимаю. А кто-нибудь еще был хорошо знаком с Омаки? — Она брала уроки игры на лютне у профессора Сато. Профессор Фудзивара и профессор Сато часто посещают веселый квартал. Впервые повстречав их там, я испугался, что они заставят нас пойти домой, но приятели посоветовали мне не беспокоиться. Я даже как-то обратил внимание профессора Сато на Омаки, и ей удалось записаться к нему в ученицы. Я тогда очень обрадовался, потому что теперь мог видеть ее и в течение дня. Мы всегда встречались после ее урока и иногда гуляли в парке. Гуляли до самого последнего дня. — Нагаи вздохнул и снова смахнул слезу. — А что остальные? Ее подруги, другие гейши, хозяева заведений? — В веселом квартале есть еще одна лютнистка, но они с Омаки не ладили. Омаки говорила, что эта женщина слишком гордая. А подружек она считала пустышками. — Может быть, среди друзей Омаки были мужчины? — Омаки не дружила с мужчинами! — с чувством воскликнул юноша. — Она не была дешевой уличной женщиной, что бы там ни говорили! И с тех пор, как мы познакомились, никаких мужчин у нее не было! Хироси смело смотрел Акитаде в глаза, но тот затруднялся определить, чем была вызвана такая отчаянная мука на этом невзрачном лице — горем утраты, осознанием отверженности или какой-то тайной. Вздохнув, Акитада поднялся. — Ну что ж, не густо, но попробую разобраться. А ты, если вспомнишь что-нибудь еще — какие-нибудь слова Омаки или, быть может, сплетни о ней, способные пролить свет на ее знакомства, — пришли мне весточку. — Покорнейше благодарен вам, господин! — с жаром воскликнул Хироси и, гремя оковами, простерся ниц на каменном полу. Акитада постоял еще немного, глядя на его жалкую, нескладную фигуру. Глубокая печаль, переполнявшая сердце Нагаи, казалось, выплеснулась наружу, затопив тесную тюремную камеру и увлекая в свою пучину ее обитателя да и самого Акитаду. Пожав плечами, он повернулся и вышел.
Глава 10 Воздушные змеи
Тора зашел за маленьким князем, и, как закадычные приятели, они отправились в город покупать бумагу и веревку. Мальчик светился от радости и жадно стрелял глазенками по сторонам, когда они вступили в торговый квартал. Только чувство собственной значимости не позволяло ему останавливаться перед каждой витриной или прилавком с товарами. Чтобы скрыть неподобающее его персоне любопытство, он завел с Торой разговор. — В этой лавке большой выбор вееров. — Мальчик замедлил шаг, чтобы полюбоваться товаром. Тора бросал на вееры небрежный взгляд, соглашался и продолжал путь. — Неужели люди съедают все эти рисовые лепешки, которые пекарь выкладывает на лотки? — Как правило, да, — отвечал Тора. — А что не удается распродать, он съедает сам или жертвует храму как дар божествам. Мальчик останавливался и жадно глазел на лепешки. — А не напрасно ли он это делает? — вопрошал он. — Особенно когда жертвует вон те лепешки с начинкой. Богам ведь все равно, с начинкой они или нет. Подозреваю, что лепешки достаются монахам, а не богам. А ты как думаешь? Тора, волей-неволей вынужденный остановиться, посмотрел на маленького князя с удивлением: — Вы что же, не верите в богов? Мальчик отвернулся, проводив лепешки долгим, исполненным тоски взглядом. — Не знаю. Я ни разу не видел ни одного бога — не видел, чтобы он принимал пищу или сделал хоть что-нибудь полезное. — Они пошли дальше, и он спросил: — А сколько стоят эти лепешки с начинкой? — Три медные монеты. А богов, к вашему сведению, увидеть нельзя, потому что они бестелесны. — Внезапно Тору осенила мысль, и он заметил: — Странно слышать от вас такие речи о богах. Не потому ли вы так на них сердитесь, что они забрали у вас вашего дедушку? Мальчик, подскочив на месте, уставился на Тору: — Дедушку забрали не боги! Тора воздел руки к небу. — Простите меня великодушно и забудьте о моем вопросе! — Тора не знал, чем вызвал у мальчика такую бурную реакцию, но чувствовал, что коснулся больной темы. С опозданием он осознал, почему ребенок интересовался лепешками. — А ну-ка давайте вернемся к лавке пекаря. Я вдруг понял, что ужасно голоден, а эти лепешки пахли так вкусно. Я бы взял себе с начинкой. А вы? Мальчик напустил на себя равнодушный вид. — А мне все равно. Выбирай сам. Тора зашел в лавку, купил две хрустящие лепешки и, вернувшись, протянул одну мальчику. Маленький князь принял подношение молча, без слов благодарности и тут же с аппетитом впился в лепешку зубами. — М-м-м! — приговаривал Тора, набивая рот рисовой крошкой и начинкой из соевой пасты. — Ох вкусные лепешки! А начинка… — Он откусил еще кусочек, так что паста выдавилась ему на подбородок. — Ну просто объедение! Мальчик, глядя на него, захихикал. — И нос измазал! — воскликнул он, давясь от смеха. Тора вытер лицо. — И там, и здесь вкусно, — заявил он, облизывая пальцы. Но взгляд мальчика уже был прикован к прилавку с ярко разукрашенными бумажными зонтиками. — Ты посмотри, какие красочные! — восхищался он. — Я никогда раньше не видел бумажных зонтиков, только шелковые. Над императором всегда раскрывают один очень большой. И в храмах тоже шелковые. А на этих, смотри-ка, цветы и птицы нарисованы! Нельзя ли нам сделать змеев из них? Ведь они тоже из бумаги, и деревянные планочки есть. Только шелковой веревки не хватает. — Шелковой веревки? — Тора смотрел на мальчика, удивленно изогнув брови. — Зачем же нам шелковая? Пеньковая гораздо лучше, да и дешевле. Если вы, конечно, не оплатите наши покупки сами, то мы вполне обойдемся простой бумагой и пеньковой веревкой. На обратном пути наберем бамбуковых палок. Я знаю одну ничейную делянку. — Тора покачал головой. — Это ж надо такое придумать! Мастерить змея из зонтика! Бумаги-то в нем и листа цельного не найдется. Порвется сразу же. А стоит-то сколько! Нет, ну и удумали! — Заметив в глазах мальчика обиду, Тора ласково сжал его щуплое плечико. — Ну да ничего. Придет время, всему научитесь. Но князь Минамото стоял, понурив голову и ковыряя мыском дорожную пыль. — Ты очень добр, раз взялся научить меня мастерить змеев, — тихо сказал он. — Разумеется, я возмещу тебе все расходы, как только получу свое содержание. — Бросьте! — расхохотался Тора. — Для меня это удовольствие. И мой хозяин даст мне денег, если я попрошу. Ведь это он предложил мне мастерить с вами змеев. Мальчик поднял на Тору удивленный взгляд: — Зачем? — Наверное, потому, что он любит детей. А может, сожалеет, что в детстве никто не научил его. Эти слова занимали мысли князя Минамото, пока они не нашли нужную лавку. Там Тора купил два больших листа плотной бумаги и два мотка пеньковой веревки. Потом они отправились к бамбуковой рощице, шелестевшей на ветру молодой зеленой листвой, где Тора быстро набрал охапку сухих стеблей. На обратном пути он делился с мальчиком своими детскими воспоминаниями о запускании змеев, после чего тот вдруг сказал: — Твой хозяин хороший человек, но неужели тебе нравится работать на него? — Конечно, нравится. Я бы не стал этого делать, если бы мне не нравилось. Хотя когда-то он казался мне одним из этих надушенных пресыщенных господ, считающих рабочий люд за отбросы. На таких я не стал бы работать и за мешок золота. Пустые людишки, одно зло от них! Мальчик метнул на Тору негодующий взгляд и, сжав кулаки и сверкая глазами, прокричал: — Что ты имеешь в виду? Тора спокойно посмотрел на разгневанного маленького князя и смело ответил: — Ах, простите. Я совсем забыл, что вы один из них. Но что ни говори, а так я думал тогда, но мой хозяин оказался хорошим человеком. Вообще-то он почти ничем не отличается от нас, простых людей. Может, и вы, когда повзрослеете, станете таким, как он. Мальчик открыл было рот, чтобы возразить, но решил обдумать слова Торы. Немного погодя он спросил: — А за что ты так не любишь благородных людей? — Вы называете их «благородными»? — Тора расхохотался. — Эти «благородные» люди отняли у моих родителей дом и надел, и старики умерли от голода, пока я бился в сражениях за этих самых «благородных» людей. — Такое, наверное, трудно пережить, — сказал юный князь. — Я сочувствую тебе, но подобные вещи, видимо, случаются редко. Насколько мне известно, в нашей стране крестьяне живут счастливо. — Откуда же вам это известно? Ведь вы еще дитя и живете в столице. Вы никогда не жили так, как живут крестьяне на принадлежащих вам землях. А я вот бывал в дальних краях и видел, как там достается людям. Со многими произошло то же, что и с моей семьей. Они работают на полях от рассвета до заката, выращивая рис, просо, бобы, коноплю, и когда им кажется, что они уже достаточно запаслись на зиму, приходит сборщик налогов и отбирает у них половину урожая в пользу господина. Тогда они возвращаются на поля, чтобы вырастить себе на прокорм каких-нибудь поздних овощей, но правителю дай-подай новый пруд в саду, и он посылает за бедным крестьянином, чтобы тот его выкопал. А потом правитель хочет, чтобы к этому пруду перенесли гору, и отгадайте, кто выполняет работу? Потом нужно строить дороги и возводить храм в честь предков правителя. А пока крестьянин горбится на господина, его жена и детишки, еле волоча ноги от голода, работают на поле. Когда же он наконец возвращается домой, выясняется, что правитель затеял войну с соседом и требует бедолагу к себе с секирой или каким другим оружием, на которое тот сумеет наскрести денег. А пока он воюет, солдаты другого правителя приходят в деревню, убивают его семью и сжигают дом. — Тора умолк, тяжело дыша. Он вдруг смекнул, что рассуждает не сам с собой, и бросил тревожный взгляд на мальчика, но юный князь Минамото задумчиво смотрел вдаль. Он молчал долго, потом серьезно проговорил: — Нет, ты не понимаешь. Кто-то должен радеть о простых людях. Мы живем для того, чтобы заботиться о крестьянах, так же как они — чтобы работать на нас. Это честный уговор. Мы воюем, чтобы защитить вас, простой народ, и погибаем в сражениях за вас. А еще мы беспокоимся о вашем будущем, запасая зерно на случай неурожая, мы творим правосудие, ловим преступников и поддерживаем среди вас порядок. А храмы строятся на благо всех людей, равно как и дороги. Тора остановился и, положив крепкие руки на щупленькие плечики мальчика, сказал: — Честный уговор, по-вашему? Взгляните-ка вокруг! Кто живет лучше? Кто ест вкусно и досыта? Кто разъезжает верхом и в каретах, вместо того чтобы ходить пешком? Кто одет в шелка и парчу? Кто может позволить себе много жен и наложниц? У кого есть свободное время на охоту, забавы и глупые стишки? Мальчик сердито стряхнул с себя руки Торы. — Да ты слепец! — яростно вскричал он. — Ты все видишь только со своей стороны! Ты никогда не был князем. Откуда тебе знать, каково живется нам?! Тора кивнул: — От вас уже кое-что знаю. Вы ведь весьма смышленый для своего возраста. Кстати, сколько вам лет? — Одиннадцать, но возраст тут ни при чем, — высокомерно отрезал мальчик. — Я знаю многие вещи, потому что в отличие от тебя научен использовать свой ум. Вздохнув, Тора задрал голову и задумчиво уставился на облака. — В таком случае, господин, вы без труда сами смастерите змея. — И с нарочито низким поклоном он протянул юному князю бамбуковые палки и покупки. — А я найду чем заняться. Мальчик поспешно убрал руки за спину. — Я не привык носить вещи как простолюдин. Неси их ты. К тому же твой хозяин велел тебе научить меня. Тора положил всю охапку на землю. — Помните, вы интересовались, нравится ли мне мой хозяин? — спросил он и, когда мальчик неохотно кивнул, добавил: — Так вот, я люблю его за то, что он относится ко мне с уважением. Я могу уйти от него, когда захочу, и если я работаю на его мать — а она, к слову сказать, просто невыносимая женщина, — то делаю это только потому, что мне этого хочется. Точно так же я согласился помочь вам смастерить змея — потому что мне хотелось. Но теперь мне ясно, что я вам не нужен. — Неправда! — возмутился мальчик. Он повернулся и пошел прочь, сутулясь и понуро глядя в землю. Тора несколько мгновений смотрел ему вслед, потом подобрал с земли охапку и последовал за ним. У ворот университета он ускорил шаг и догнал мальчика. — Ладно, — сказал он. — На этот раз я сделаю вид, что ничего не было, но впредь так не поступайте. С друзьями не разговаривают подобным тоном. Мальчик густо покраснел и молча кивнул. Они пришли к общежитию и уселись на веранде. Разложив перед собой свои приобретения, Тора нахмурился: — Мы забыли про нож. Нам нужен нож. Пойдемте-ка попросим у повара. — Ты имеешь в виду это жирное грязное животное? Тора кивнул: — Я смотрю, вы уже знакомы. Да, его. Если, конечно, у вас самого нет ножа. — Нет. Но у меня есть меч. Мальчик сбегал в свою комнату и вернулся с длинным предметом, завернутым в блестящую шелковую ткань и перевязанным витым золотисто-белым шнуром. Бережно развернув ткань, он извлек из нее неописуемой красоты меч в деревянных лакированных ножнах, инкрустированных перламутровыми фигурками летящих журавлей. Взявшись за рукоятку, обильно украшенную золотыми и серебряными рисунками в виде цветущих хризантем и порхающих над ними пчел, он вытянул из ножен тонкий иссиня-черный клинок и поднял его, показывая Торе: — Вот! Тора посмотрел сначала на мальчика, потом на меч. Он знал, что оружие передается как семейная реликвия от отца к старшему сыну и хранится как святыня в родовом алтаре. Еще никогда он не видел предмета более прекрасного. Поспешно спрятав руки за спину, Тора проговорил: — Я не смею притронуться к нему. Он слишком великолепен. И вам не следует давать его людям, чтобы они стругали им бамбук и резали бумагу. Мальчик кивнул: — Знаю. Но ты же сказал, что ты мой друг, а… а у меня нечего было больше предложить тебе. Возьми мой меч, Тора, пользуйся. Лицо Торы осветилось улыбкой. — Благодарю вас, друг мой. Маленький князь робко улыбнулся: — Друзья зовут меня Садаму. — Спасибо, Садаму. — Тора вытер руки об одежду и взял меч. — Он поистине прекрасен, а вы поистине великодушны, если даете мне посмотреть на него и даже подержать. — Он повертел клинок в руках, пальцем пощупал лезвие, проверяя остроту, сделал им несколько взмахов в воздухе и, убрав меч в ножны, с поклоном вернул его мальчику. — Мы возьмем нож у повара. Ваши предки огорчились бы, если бы мы использовали это замечательное оружие не по назначению. Повар, сидевший на полу кухни, прислонившись спиной к бочонку, приветствовал Тору улыбкой, которая тотчас же исчезла, как только он увидел князя Минамото. — А я думал, ты пришел еще поиграть, — сказал он. — Я тут времени не терял — тренировался. Посреди кухни стояла миска, пол вокруг нее был завален монетами, камешками, редькой, бобами и всевозможными объедками. Поварята и помощники, хлопоча по хозяйству, сновали мимо, старательно обходя стороной повара и его миску. — Сыграем как-нибудь в другой раз, — ответил Тора. — Я пришел попросить нож. Мы там мастерим змеев. — Хе-хе! Точно змеев? А то я уж было решил, что тебе нужна защита от жестокого маньяка вроде нашего Кролика. Но из-за него можно не волноваться, его надежно держат взаперти. Все, больше не будет душить девчонок в парке! Я всегда знал, что он плохо кончит. Да чего там говорить! Помнишь, как давеча он набросился на бедного Хасе? Если б не ты, он прикончил бы нас обоих. — Повар замолчал и, склонив голову набок, на мгновение задумался, потом сказал: — Ты испортишь мне нож, стругая бамбук. Но я тебе все-таки дам его — как-никак ты спас мне жизнь. — Крикнув одному из своих помощников, он снова обратился к Торе: — Я слыхал, твой хозяин ходил к Кролику в тюрьму. Передай ему, чтоб не тратил понапрасну время. Хасе пошел в полицию и рассказал им все про Кролика и ту девчонку. Тебе известно, что они встречались тайком, а в день убийства долго из-за чего-то ругались? — А с чего ты взял, что этот твой Хасе говорит правду? — спросил Тора. — Сдается мне, он просто решил воспользоваться случаем и отплатить Кролику за то, что тот поколотил его. Повар скрипуче рассмеялся: — С чего я взял? Изволь, сейчас расскажу. В тот день я готовил к обеду рис, помнится, еще все думал, куда запропастились мои ленивые оболтусы, как вдруг является этот Кролик — лицо просто ужасное, и что-то бормочет себе под нос! Я смекаю, что толку от него не добьешься, и уже собираюсь взгреть его хорошенько, как приходит Хасе и рассказывает мне, что Кролик поцапался со своей девчонкой. Видать, отшила она его — а какая не поступила бы точно так же? Кролик слышит наш смех и свирепеет прямо на глазах. Говорю тебе, я испугался за Хасе — думал, задушит он его, и все дела. В общем, выгнал я его отсюда, отправил прибраться в амбаре — пусть, думаю, торчит там весь день. — Повар покачал головой. — Но ты бы видел тогда его лицо. Жуть да и только! Поверь мне. Он убил эту девчонку. Точно он, этот чокнутый. Князь Минамото выступил вперед и с презрением посмотрел на толстяка повара сверху вниз. — Ты лживое мерзкое отребье, — отчетливо произнес он. — Я знаю студента, которого ты называешь Кроликом, и он вовсе не такой, как ты говоришь. Если ты и твой омерзительный дружок Хасе не прекратите порочить его имя, я прикажу арестовать и высечь вас обоих. Повар разинул рот от неожиданности. Взяв у не менее изумленного поваренка нож, Тора поспешил увести мальчика, бросив напоследок повару: — Спасибо. Верну, когда закончим. Уже на улице Тора сказал князю: — Урок номер один. Никогда не оскорбляйте человека, у которого собрались одалживаться. Можете оскорбить его потом, когда уже получите от него то, что хотели. — Извини. Просто он разозлил меня. — А вам нравился тот неказистый студент? Мальчик кивнул: — Он один из немногих, кто разговаривает со мной. К тому же я наблюдал за ним. Он добрый и вежливый. Вернувшись на веранду, они уселись мастерить змея. Тора показал мальчику, как правильнорасщеплять бамбук на тонкие, гибкие планочки нужной длины и как связывать их веревкой, чтобы получился крепкий каркас. Вместе они изготовили два таких каркаса, потом Тора обтянул их бумагой. Теперь они напоминали парящих хищных птиц. — Ночные ястребы, — сказал мальчик, изучая их критическим взглядом. — Или все-таки змеи. Большие, только слишком невзрачные. Нельзя ли нам раскрасить их? — Нечем. У нас нет краски. К тому же художник из меня никудышный, — сознался Тора. — Да ладно! Главное, чтобы они взмыли в небо выше других. — Он окинул внимательным взглядом стайку мальчишек, собравшихся в сторонке и наблюдавших за ними. — У меня есть краски и тушь, — сказал мальчик. — И я смогу раскрасить нашим птицам оперение. Подожди! Он бросился в свою комнату и вернулся с двумя кисточками, водой, тушью и ящичком с красками. Растерев тушь в небольшом количестве воды, Минамото подсыпал в нее немного красного порошка и начал рисовать птице глаза — два алых свирепых кружка. Потом взялся за перышки. Тщательно выписанные черным по коричневой бумаге с добавлением красных мазков, они походили на чешую. Крыльями и хвостовым оперением он занялся в последнюю очередь, работая кисточкой смело и размашисто. Понаблюдав за ним, Тора тоже взял в руки кисточку и начал раскрашивать вторую птицу, периодически поглядывая на птицу мальчика для сравнения. Он издал радостный возглас, когда глаза, клюв, крылья и хвост обрели сходство с пернатым существом. — Очень похоже, — обрадовался Тора. — Готов побиться об заклад, эти ястребы распугают всех пичужек в небе. — А как ты познакомился со своим хозяином? — спросил вдруг мальчик. Тора рассказал, как они повстречались на дороге с разбойниками и как потом Акитада спас его от смертного приговора по ложному обвинению в убийстве. Мальчик даже перестал рисовать, увлеченный рассказом. — Вот-вот, об этом я как раз и говорил, — продолжил Тора. — Я тогда подумал, что он один из этих столичных хлыщей налогосборщиков, обирающих людей до нитки. А оказалось, он ехал расследовать одно жестокое преступление. В этом деле он мастак. Теперь вот собирается и Кролику помочь. Это, разумеется, дало пищу для новых вопросов и дальнейших рассказов, так что солнце уже клонилось к закату, когда змеи были готовы и прикреплены к веревкам. Настал час испытания. Тора с мальчиком вышли на поляну перед общежитием. — Лучше бы, конечно, где-нибудь на вершине горы или на берегу, — сказал Тора. — Но поучиться можно и здесь. Он объяснил князю, как запускать змея, и показал на своем. Его змей победоносно взмыл ввысь, паря на ветру. Маленький князь Минамото радостно захохотал и захлопал в ладоши. — Посмотри, как парит! — кричал он. — И впрямь как громадный змей! Как красиво! Улыбаясь, Тора привязал свою веревку к стволу куста. — А теперь вы, — сказал он. — Держите вот так. Боже, да он больше вас ростом! Вы уверены, что сможете управлять им? Мальчик кивнул, сосредоточенно закусив нижнюю губу и крепко сжимая в руках катушку с веревкой. — Вот так, правильно. А теперь бегите как можно быстрее. Как почувствуете, что веревка натянулась, отпускайте ее помаленьку. Первая попытка окончилась неудачей. И мальчик, и змей упали; князь сильно ударился о землю. Но уже через мгновение мальчик вскочил на ноги, стряхнул с одежды грязь, стер кровь с поцарапанной щеки и снова пустился бежать так, что только пятки сверкали. На этот раз змей взмыл в небо, сначала прыгая и приплясывая, но потом плавно поплыл по воздуху. Тора подбежал к мальчику помочь держать веревку. Подростки, наблюдавшие гурьбой в сторонке, радостно свистели и хлопали в ладоши, но ни мальчик, ни Тора не слышали их. Глаза их были устремлены вверх, к парящей бумажной птице, поднимавшейся все выше и выше по мере того, как отматывалась веревка. Они вместе управляли летучим существом — большие грубые руки Торы и маленькие бледные ладошки мальчика. Они чувствовали мощь влекомого ввысь ветром змея, они ощущали трепет этого полета, наивысшего проявления свободы того, кто сумел вырваться из мира человеческих условностей. — Какой он сильный! — кричал мальчик. — А может он поднять меня в небо? Унести над деревьями далеко-далеко в горы? Тора радостно хохотал: — Нет! Это слишком опасно! Я бы такого не допустил. К тому же вы сильнее этого змея. Вот, попробуйте. — Он отпустил веревку. Змей взметнулся в небо, описал красивую дугу и начал плавно снижаться. С удивленным возгласом мальчик, не раздумывая, намотал на катушку часть веревки. Змей выровнялся, завершил круг и снова взмыл вверх. — Ты видел, как я только что управлял им? — Да. А ведь я даже не успел показать вам этого приема. Подождите, я сбегаю за своим змеем, и мы устроим между ними погоню. Эта игра потребовала большего мастерства и сноровки. Тора показал мальчику, как нападать и избегать нападения, две бумажные птицы преследовали друг друга, сближались и расходились, снова паря поодиночке. Лицо маленького князя раскраснелось, глаза сияли восторгом. — А можно устроить им поединок, — предложил Тора. — Как это? Ну-ка покажи! — Перекрещиваем обе веревки, и каждый изо всех сил тянет на себя, стараясь завалить другого змея. Мальчик поднял глаза на парящих птиц, потом быстро обежал Тору со спины. — Так? — спросил он, когда веревки соприкоснулись. Тора добродушно улыбался. — Правильно! А теперь дергайте сильнее! Мальчик натянул веревку так, что даже плюхнулся на землю, и змей Торы внезапно начал снижаться. — Осторожно! Он может задеть за деревья! — крикнул Тора, энергично наматывая веревку на катушку. Его змей немного сопротивлялся, потом начал снова подниматься. За спиной Тора услышал радостный смех и краем глаза заметил, что мальчик, изо всех сил натягивая свою веревку, бежит в сторону общежития. Веревки снова переплелись, и на этот раз змей Торы спикировал на землю. — Я победил! Я победил! — радостно прыгая, кричал князь Минамото. — Что верно, то верно — победили. — Довольно улыбаясь, Тора пошел подбирать своего змея. Темнело. Увлекшись, они не заметили заката, так что сумерки наступили быстро. Высоко в небе еще играл в последних лучах солнца воздушный змей маленького князя, но внизу уже все заволокла вечерняя мгла. — Поздно! — крикнул Тора мальчику. — Пора возвращать змея на землю. К его удивлению, тот повиновался без возражений. — Завтра придешь опять? — спросил он, наматывая веревку на катушку. — Боюсь, не удастся выкроить время. Они отнесли змеев на веранду, где их поджидала стайка мальчишек. Самый старший спросил у Торы: — Можно посмотреть ваших змеев? — Спроси у Садаму. Они принадлежат ему, — ответил Тора. Мальчишки обступили князя Минамото, восхищенно разглядывая змеев. — А нас научишь, Садаму? — робко спросил один из них. С отеческой улыбкой Тора наблюдал за ними, потом, поняв, что дело наладилось, вмешался в разговор: — А теперь мне пора. Маленький князь бросился к нему, и они прошлись немного вместе. — Спасибо, что помог, Тора, — с поклоном сказал мальчик. — Я бы почел за великую честь, если бы ты навестил меня, когда выкроишь время. Тора ласково потрепал его по волосам: — Я буду приходить к тебе, Садаму. Как только смогу. А ты береги себя и помни, чему я учил тебя. Мальчик закивал. Потом на лице его появилось странное выражение, и он вдруг спросил: — А твой хозяин много тебе платит? — Мой хозяин не богат, — ответил Тора. — Но я живу в его доме на полном довольствии, а помимо этого он дает мне деньги на личные расходы, на одежду и выпивку. В общем, мне хватает. Глаза мальчика расширились от удивления, хотя такое объяснение, по-видимому, удовлетворило его. — Просто мне было интересно. Думаю, у тебя еще много разных полезных талантов, — сказал он и побежал к своим новым друзьям. Добродушно усмехнувшись. Тора покачал головой и пошел прочь.Глава 11 Святотатство
Акитада вернулся в университет в мрачном расположении духа. Исикава пока не появился, поэтому он пошел в свой кабинет и снова засел за студенческие сочинения. Но голова его была занята другим. Отодвинув работу, Акитада задумчиво уставился в стену. Он беспокоился о том, чтобы восстановить доброе имя Нагаи; его настораживало длительное отсутствие Исикавы и Оэ. В общем-то в этом не было ничего необычного. Исикава мог отправиться в гости к друзьям, а Оэ имел причины стыдиться показываться на людях. И все же Акитаду мучила смутная тревога. Поскольку работа не клеилась, он решил навестить Сэймэя в министерстве. Акитада уже собирался уходить, когда пришел Хирата. — А я к тебе, — сказал профессор. — Как там дела у юного Хироси? Акитада вкратце пересказал ему свой разговор с Нагаи. — Бедный глупый паренек! — вздохнул Хирата. — Кстати, я нигде не могу найти Оэ. Даже домой к нему ходил, но слуги говорят, что он не появлялся со вчерашнего дня. Я спросил их, не уехал ли он за город, но они утверждают, что тогда Оэ взял бы их с собой. Это действительно маловероятно. Оэ слишком ленивый и праздный, чтобы жить как отшельник да еще обслуживать себя. Как по-твоему, что у него на уме? — Вы знаете его лучше, чем я. Может, отсиживается у друзей, ждет, когда утихнут пересуды? Хирата удивленно приподнял брови: — У каких друзей? — Тогда нам едва ли что-то удастся сделать, пока он сам не появится. Я сейчас иду в министерство проведать Сэймэя, но позже вернусь, чтобы дочитать студенческие работы. Сэймэй корпел над перепиской рукописей. Проворная кисточка мелькала в его руке. Своего господина он встретил с выражением радости и сочувствия и, отложив кисточку в сторону, поспешил поклониться. — Вы очень добры, если, имея столько забот, все же вспомнили обо мне. — Акитада удивился, откуда старику уже известно об аресте Нагаи, а между тем тот продолжал: — Должно быть, вы испытываете чувство глубокого разочарования. А я так радовался, узнав, что вы подыскали себе жену! И такая подходящая партия! Я ведь помню, как когда-то носил записочки из одного дома в другой. Вы оба были еще детьми, но я уже тогда знал, что вы рождены друг для друга. — Он вздохнул. — Э-хе-хе! Воистину счастье и несчастье переплетены так же тесно, как волокна одной веревки! Акитада отвернулся. Старик, понятно, желал ему добра, но иногда его словоохотливость переходила границы. — Спасибо, Сэймэй. — Он деловито оглядел полки с документами. — Ты прав. Я действительно глубоко разочарован. — На какое-то мгновение его пронизало острое ощущение утраты, и, кашлянув, чтобы подавить печальный вздох, Акитада поспешно сообщил: — Зато я скоро вернусь сюда. Проблема Хираты в университете почти разрешена. Ну а как у тебя? Продвинулось ли дело принца Ёакиры? Сэймэй принял самодовольный вид. — Нет, господин. Оно оказалось более сложным, чем я полагал. Если уж на то пошло, даже у вора с десяток лет уходит на то, чтобы хорошенько обучиться своему ремеслу. А ведь он всего лишь крадет имущество, между тем как я ищу верные ходы, определяю стратегию. Акитада удивленно изогнул брови: — Где ты нахватался этих высокопарных словечек? — Чиновник из имперского архива — весьма интересный человек. Интересный и начитанный. У нас с ним много общего. — Сэймэй просиял в благодушной улыбке: — Рад слышать это. А что он говорит о наследстве принца? — Господин, разве я посмел бы задать этот вопрос прямо в лоб?! — Хорошо. Но ты упомянул о нем? Хотя бы вскользь? — Мы как-то привыкли встречаться после работы. Он, знаете ли, вдовец и живет один, а тут выяснилось, что оба мы любим играть в шахматы. — Вот как? А я и не знал, что ты у нас заядлый шахматист, — улыбнулся Акитада. — Я нахожу это занятие весьма полезным. Хорошая гимнастика для ума. Сидишь обдумываешь несколько ходов вперед, а иногда оба игрока дают себе передышку — отвлекутся от шахмат да и поговорят о чем-нибудь обыденном. — О чем же, например? — Акитада, заинтригованный, ждал. — Ну, допустим, о слухах, сопровождающих таинственное исчезновение принца. — Сэймэй лукаво посмотрел на хозяина. — Вполне естественно, что у людей появляются домыслы о наследстве и наследниках, когда умирает такой большой человек. И так же естественно, что люди с недоверием относятся к подозрительно громадному состоянию иных особ. — Это и впрямь естественно. — Сегодня вечером я увижу эти документы. Мой партнер по шахматам надеется выиграть маленькое пари. Акитада насмешливо усмехнулся: — Я смотрю, ты большой мастак в игре. И сколько же? — Одна серебряная монета. Акитада достал кошель и извлек из него нужную монету. — Продолжай. — Он полагает, что большая часть имущества отписана внуку. Плюс огромное приданое для внучки. — Вот оно что? А как насчет поста? Кто займет его место? — Теперь это уже ни для кого не секрет. Место принца Ёакиры займет его младший брат, наследный принц. А его место достанется князю Сакануоэ, поскольку он зять покойного принца. — Неплохо! Во всяком случае, вполне достаточно, чтобы ввести в соблазн даже такого достойного человека! Сэймэй прокашлялся и высокопарно изрек: — Мудрый учитель Кун не называл таких людей достойными. А еще он утверждал в своем учении, что людям не следует гнаться за богатством, иначе небеса пошлют беды на их головы. — Здесь мудрый Конфуций ошибался, — грустно заметил Акитада. — Пока что беды валятся на головы невинных. Такую критику по адресу своего кумира Сэймэй проигнорировал. — Вас еще интересовал секретарь Окура. Так вот, люди охотно говорят о нем. Как выяснилось, он происходит не из очень знатного рода. Единственный сын одного состоятельного торговца. — И что же они говорят? — с ухмылкой полюбопытствовал Акитада. — Посмеиваются за спиной у Окуры над его простецким происхождением. Говорят, он тратит кучу денег на развлечения, чтобы произвести впечатление на высшую знать, а те втихомолку потешаются над его убогими манерами. А еще поговаривают, что он так рвется в это общество, что даже переспал с дочкой одного высокопоставленного вельможи в своем доме в районе Санио. Теперь неминуемо объявят о помолвке. Судачат о том, что дама уже немолода и крайне непривлекательна. — Сэймэй помолчал, ожидая, когда Акитада усвоит эту информацию, потом продолжал: — Вас, очевидно, заинтересует и такая сплетня: что он будто бы купил первое место на экзаменах. По этому поводу над ним часто подшучивают — нет-нет да и попросят блеснуть знаниями в китайской поэзии. Акитада грустно вздохнул: — Да уж. Вот и защищай после этого репутацию университета! Хорошо, что ему не удалось обвести людей вокруг пальца. Это означает, что в карьере он далеко не продвинется и мало-мальски важного государственного поста ему не видать. — Да, головастику только лягушкой и быть, — удовлетворенно заметил Сэймэй. — Ну а как тут у нас? — спросил Акитада, окидывая взглядом ящики с документами. — Все тихо и спокойно. Новых дел не поступало, так что со старыми справляюсь легко. Акитада дружески коснулся плеча старика: — Отличную работу проделал, друг мой! Не знаю, как бы я без тебя обошелся. Особенно меня порадовали твои контакты с этим чиновником из архива. Но мне уже пора. Мы с профессором Хиратой надеемся столкнуть лбами участников этой истории с шантажом. — Он направился к двери и уже на ходу добавил: — Кстати, один из студентов арестован по подозрению в убийстве девушки в парке. Я верю, что он невиновен, и обещал как-нибудь помочь ему. И, не дожидаясь дальнейших расспросов Сэймэя, Акитада вышел.Акитада надеялся на скорое разрешение проблем Хираты — тогда он освободился бы от ставших тягостными уз с этой семьей, — но его оптимистическим ожиданиям не было суждено сбыться. Войдя через ворота на территорию храма Конфуция, он сразу понял: что-то случилось. Акитада сразу заметил полицейских в красном — они охраняли вход в святилище от толпы зевак. В тягостном предчувствии новых неприятностей Акитада присоединился к кучке ротозеев, когда на веранду вышел сердитый капитан Кобэ. Заметив Акитаду, он помрачнел еще больше. — Я знал, что вы рано или поздно явитесь, — бросил он. — Идите-ка сюда! Акитада отметил, что манеры Кобэ сегодня грубее обычного, однако промолчал. Поднявшись по ступенькам, он поинтересовался: — Что здесь произошло? Кобэ не ответил. Направившись к входной двери в храм, он уже на пороге обернулся и сказал: — Мне доложили, что вы приходили в тюрьму и разговаривали со студентом, который убил беременную девушку. Акитада начинал выходить из себя. — Вы снова схватили не того, — с трудом сдерживаясь, отрезал он. — Нагаи не виноват, так же как старик нищий. — Уж конечно! — огрызнулся Кобэ. — Еще скажите, как новорожденный младенец! Следуйте за мной! В прихожей храма было темно, только покрытые красным лаком колонны выступали из мрака. И без того затхлый воздух был пропитан каким-то странным запахом. Акитада поморщился, подумав, уж не нагадила ли где-нибудь здесь забежавшая случайно собака. На помосте у дальней стены высились статуи мудрецов, казавшиеся еще более массивными и грозными в этой непроглядной тьме. В самом центре, перед статуей Конфуция, стояли два человека. Акитада узнал щуплую фигурку Танабэ, опиравшегося на руку Нисиоки. — Что происходит? — спросил он у Кобэ, когда они подошли. Запах здесь был еще сильнее и отвратительнее. В нем улавливалось что-то страшное и знакомое. Нисиока обернулся и сдавленным голосом проговорил: — Это Оэ! Какое чудовищное деяние! — Оэ?! Акитада проследил за взглядом Нисиоки, устремленным на статую мудреца, и только сейчас заметил на ней просторное синее кимоно, из-под которого торчали еще одна голова, безвольно свисавшая на грудь, и еще одни руки, повисшие плетьми. Потом Акитада увидел кровь. Ну конечно! Это был ее запах. А еще запах испражнений. Кровь, сочившаяся из-под повисшей головы, пропитывала нарядное кимоно Оэ. На полу под ногами Оэ, смешавшись с испражнениями, она образовала огромную лужу, стекала с помоста и капала вниз, выливаясь в лужицу поменьше. Внезапно платье Оэ распахнулось. На обнаженном профессоре были лишь белые шелковые носки и черные тапочки. Резкий голос Кобэ вывел Акитаду из шока: — Два убийства за два дня! Два убийства подряд! Это произошло прошлой ночью. Не сомневаюсь, что убийца уже сидит у нас под арестом. И даже вы, Сугавара, вряд ли станете утверждать, что мы имеем дело с двумя разными кровожадными маньяками, орудующими на территории университета. Акитада не ответил. Мысли беспорядочно теснились в его голове. Приблизившись к страшной фигуре, он приподнял повисшую голову за волосы, стянутые в седой пучок. Налитые кровью глаза Оэ смотрели на него невидящим взглядом, лицо было искажено предсмертной мукой. Кровь текла из глубокой раны на горле, почти отсекшей голову от тела. Теперь также стало ясно, почему тело сохраняло вертикальное положение. Поясом жертвы убийца подвязал его за подмышки к шее деревянной статуи мудреца. Мертвое тело обмякло и провисло вперед, колени согнулись, но в темноте, не разглядывая статуи, его не сразу можно было заметить. Поразило Акитаду и нелепое сочетание роскошного платья и опрятной обуви с выпирающим животом, обвислыми складками кожи и испачканными в крови ногами, покрытыми сетью выпуклых вен и старческой пигментацией. Эта дряблая нагота полностью уничтожала былой образ власти и могущества. За внешней помпезностью и позой скрывались слабость человеческого тела и его несовершенство. Кто-то усердно постарался, желая показать миру настоящего Оэ.
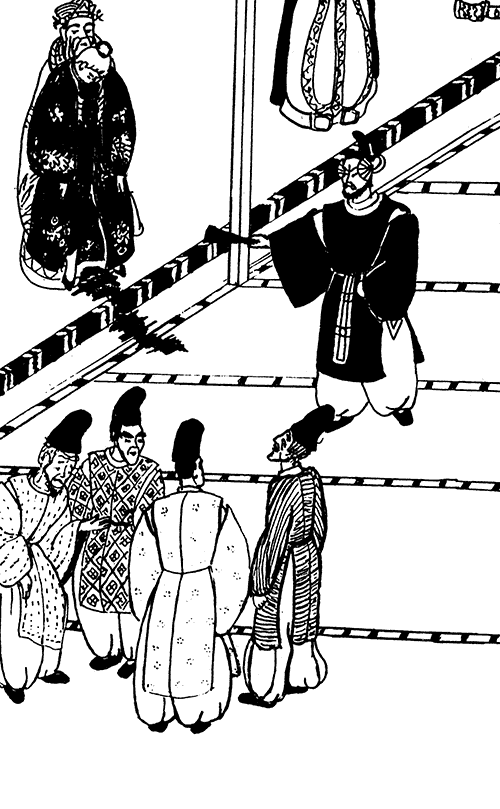 Загадочная смерть одного из старейших профессоров
Загадочная смерть одного из старейших профессоров
Повернувшись к коллегам, Акитада спросил: — Кто его нашел? Бледный Танабэ дрожал всем телом. Губы его беззвучно шевелились. Нисиока неестественно тихим голосом ответил: — Его нашел я. Это был настоящий удар. Поскольку сегодня не учебный день, мы с профессором Танабэ договорились провести утро за составлением нового словаря для поэтического сборника. Я проходил через этот зал дважды, ничего не заметив. Потом, в третий раз — я нес документ в библиотеку — и заметил, как что-то блеснуло на полу. — Он посмотрел в сторону темного помоста. — Тогда был полдень, и сюда падало солнце через открытую дверь. В общем, я заметил, как что-то блеснуло, а подойдя ближе, уловил запах и увидел на помосте кровь. А потом… потом я поднял голову и… — Он умолк, и его передернуло. Танабэ сжал его руку, хотя у него самого дрожали пальцы. Акитада пощупал руки мертвеца. Они были холодные, смертное окоченение уже коснулось их. Кровь на полу загустела и уже не блестела, на одежде она тоже уже засохла. Кобэ был прав — Оэ убили прошлой ночью. Акитада обратился к капитану: — Насколько я понимаю, вы еще не опрашивали людей? Нам нужно выяснить, кто последний видел Оэ живым. Скрестив руки на груди, Кобэ съязвил: — Ну да, куда уж мне, бестолковому полицейскому, без вашей-то помощи! Кто же, как не вы, укажет мне, что делать и как действовать. Акитада покраснел и смущенно сказал: — Простите. Я понимаю, что это не мое дело, но есть некоторые вещи… — Он замолчал, решив, что сейчас не следует упоминать об участии Оэ в экзаменационном подлоге и в истории с шантажом, поэтому перевел разговор в другое русло: — Меня интересует студент Нагаи, которого вы, судя по всему, считаете виновным и в этом убийстве. Вчера на поэтическом состязании Оэ порядком набрался и проявлял агрессивность. Пришлось даже увести его оттуда. Это сделали его помощник Оно и студент по имени Исикава. Мой коллега, профессор Хирата, проводил их до выхода из павильона. Кобэ сверлил его придирчивым взглядом. — Ваши двое коллег уже сообщили мне об этих фактах. Если вы продолжаете упорно утверждать, что Нагаи невиновен, то назовите тогда мотив, которым руководствовался убийца этого человека. Акитада невозмутимо встретил враждебный взгляд Кобэ: — Сейчас я ничего не могу предположить, но ваша версия о том, что Нагаи, по какой-то причине потеряв рассудок, убил сначала девушку, а на следующий день своего преподавателя, кажется мне абсурдной. Во-первых, этот юноша был в совершенно здравом уме, когда я разговаривал с ним сегодня утром. Во-вторых, девушку задушили, а у Оэ перерезана глотка. Это наводит на мысль о двух разных убийцах, особенно если учесть, что во втором случае пояс тоже имелся под рукой. Вот, посмотрите. — Акитада указал на полоску парчовой ткани, поддерживавшую тело в вертикальном положении. — Этот пояс использовали, чтобы устроить мрачный и позорный спектакль. В другом же случае пояс вообще не нашли на месте убийства, а мертвую девушку, если помните, спрятали в зарослях тростника. То есть мы явно имеем дело с двумя разными почерками. Доводы Акитады не произвели впечатления на Кобэ. — Вовсе не обязательно. Первое убийство могло вселить в преступника дерзость и уверенность, и он решил во втором случае устроить маленькое представление. Что же касается перерезанной глотки, то Оэ значительно крупнее и сильнее девушки, так что кинжал или меч оказались более надежным средством убийства, чем удушение. Акитада согласился с тем, что этот аргумент разумен. Задумчиво подергав себя за мочку уха, он медленно кивнул. — Я по-прежнему не представляю себе Нагаи в этой роли, но в том, что касается габаритов Оэ, вы абсолютно правы, — нехотя признал он. — Даже в пьяном виде он вряд ли дал бы удушить себя. Но зачем убийце понадобилось снимать с него штаны и подвязывать в этой позе? — Акитада обошел статую сзади, чтобы посмотреть, как завязан пояс. — Вот именно! — вдруг поддакнул Нисиока. Кобэ метнул на него презрительный взгляд, и он тут же сник. — Извращенное чувство молодежного юмора, — сказал Кобэ. Наконец впервые за все время заговорил Танабэ. — Это чудовищное святотатство! — воскликнул он дрожащим голосом. — Кто дерзнул осквернить храм нашего почитаемого святого? На такое способен только безумец или человек с извращенным сознанием. — Да, поступок действительно не вписывается в рамки нормального поведения, — согласился Акитада. — И где, интересно, теперь штаны Оэ и его… белье? — Посмотрев по сторонам, он обратился к Кобэ: — Вы, конечно же, распорядитесь, чтобы здесь обыскали все. А еще вам следовало бы как можно скорее поговорить с Оно и Исикавой. Они были ближе всех к Оэ в повседневной жизни, а к тому же оказались последними, кто видел его живым. Так уж получилось, что я обещал помочь Нагаи, поэтому не исключаю, что мы еще увидимся. Лицо Кобэ побагровело от злости. — Вы закончили? Или будут еще распоряжения? — ядовито процедил он и, подойдя к Акитаде вплотную, с вызовом посмотрел ему в глаза. — У вас здесь нет никаких полномочий, а увидимся мы только в одном случае: если вы понадобитесь для следствия. Это вам ясно? Мне не нужны ваши советы ни сейчас, ни в будущем, а что касается Нагаи, то вы попусту теряете время. Как бы ни обстояло дело с новым случаем, он задержан за убийство девушки. И я не советовал бы вам так верить в невиновность Нагаи только потому, что нищий Юмакаи не признал его. Старик дряхлый, слабоумный и мог попросту выдумать всю эту историю с Дзидзо. Эта грубая отповедь возмутила Акитаду, но его встревожило сообщение о том, что Юмакаи отпущен на свободу. Поэтому, сдержав себя, он сказал: — Предпочел бы воздержаться от предложений и советов, но я беспокоюсь за старика. Вы же сами говорили, что убийца может разыскать его. Не последят ли ваши люди за ним еще несколько дней? Гордо откинув голову, Кобэ расхохотался. Его громкий надменный смех сотряс молчаливые стены святилища, так что Танабэ вздрогнул от неожиданности. — Вы забыли одну важную вещь — такой необходимости уже нет, ведь убийца девушки сидит под замком. К тому же у полиции есть более насущные дела, чем пасти каждого нищего оборванца. Акитада уже вознамерился резко возразить, но тут в их разговор вмешался новый голос: — Силы небесные! Какая мерзость! — Тощее морщинистое лицо Такахаси просунулось в кружок собравшихся и уставилось на окровавленное тело, подвешенное к шее мудреца. — До чего гротескная картина! И как это типично! Даже мертвым Оэ умудрился выставить себя напоказ во всей красе. — Кто вы такой? — рявкнул на него Кобэ, свирепо вращая глазами. — Я-то? Такахаси. Преподаватель математики. Интересно, вы уже заключили Фудзивару под арест за убийство? — Что-о?! Какого еще Фудзивару? — взревел Кобэ. — То есть вам пока не рассказали? — Такахаси обвел взглядом присутствующих, покачал головой и недоуменно хмыкнул. — Откуда такая скрытность, господа?… В конце-то концов, когда происходит убийство, то долг каждого… Впрочем, я буду ближе к делу. Фудзивара — наш профессор истории. Любит сочинять стихи, пьянствовать и поскандалить. Полагаю, последнее увлечение как раз и заинтересует вас, капитан. Вчера вечером они с Оэ поссорились. Вернее, Оэ поссорился с Фудзиварой. Прилюдно. — Такахаси кивнул в сторону мертвого тела. — Напрашивается вопрос — не свел ли Фудзивара счеты? Кобэ перевел взгляд на Акитаду: — Это правда? — Да, между ними произошла небольшая стычка, но Фудзивара отчетливо дал понять всем присутствующим, что не намерен обижаться на Оэ. Оэ был слишком пьян и вряд ли соображал, что делает. Можете спросить других. — Акитада метнул на Такахаси неодобрительный взгляд и решительно добавил: — Я считаю эту стычку слишком незначительной, чтобы она стала мотивом для убийства. И Фудзивара вовсе не похож на человека, способного совершить столь чудовищный поступок. — Это что же, еще один ваш подзащитный? — съязвил Кобэ. — Я начинаю делать выводы. И потом, знаете ли, мне нет дела до того, кто на кого похож или не похож. Я человек простой, незатейливый и готов удовлетвориться наличием мотива преступления, возможности его совершения и нескольких убедительных свидетельств и улик. Нисиока возмутился: — Но вы не можете обойти стороной… — Тише! — Профессор Танабэ сжал его руку и вежливо обратился к Кобэ: — Капитан, нам необходимо до завтрашнего утра привести в порядок кое-какие записи, так что, с вашего позволения, мы пойдем. Вы не возражаете? Кобэ колебался. Оглядев каждого с подозрением, он сказал: — Хорошо. Пока все можете идти, но никто из вас не смеет покинуть пределы университета без моего разрешения. Я обязательно докопаюсь до самого дна, как бы мне ни мешали. Вернувшись на факультет права, Акитада обнаружил, что там его ждет Хирата. Старый профессор расхаживал по комнате взад-вперед и выглядел встревоженным. Увидев его напряженное лицо, Акитада с трудом подавил в себе неприязненное чувство. — Знаешь новость? Прошел слух, что Оэ убит, — сказал Хирата. — Это не слух. Я только что из храма Конфуция. Кто-то перерезал ему горло и привязал мертвое тело к статуе мудреца. Судя по всему, это произошло прошлой ночью, после того как он ушел с состязания. Капитан Кобэ в поганом настроении. Думаю, он убежден, что здесь зреет что-то вроде заговора, в котором мне он отводит чуть ли не главную роль. Его взбесил мой визит в тюрьму, а сейчас я умудрился еще больше разозлить его. — Ай-ай-ай! Говоришь, привязан к статуе Конфуция? Это непостижимо! — Хирата страдальчески заломил руки. — И он подозревает кого-то конкретно? — Главный подозреваемый у него по-прежнему бедолага Нагаи. Кобэ считает, что оба убийства совершены одним человеком. Я пытался переубедить его, но, боюсь, своим усердием вызвал в нем еще большие подозрения, благодаря чему все мы теперь попали в его список возможных соучастников. — Нет, но Хироси не может быть убийцей. Оэ и внимания-то на него никогда не обращал, видел в нем только жалкого уродца и неудачника. Между ними не было никаких отношений. Ну какой Хироси мог бы иметь мотив? У других людей было гораздо больше оснований убить Оэ. — Верно. И Кобэ это скоро выяснит. У вас нет вина или чая? У меня во рту пересохло. Хирата повел Акитаду в свой кабинет — крошечную комнатушку, располагавшуюся между учебным классом и верандой, выходившей на усыпанный гравием двор. Здесь Хирата хранил все необходимые для его работы предметы — труды по правоведению, свернутые в рулоны карты и схемы, классическую китайскую литературу, поэтические сборники, законодательные реформы принца Сотоку и бесчисленные стопки студенческих сочинений. Последние были отмечены ярлычками по годам, и Акитада мог только догадываться, как привязан к своему делу человек, столь тщательно сберегавший результаты умственных стараний нескольких поколений студентов. Указав на подушку возле низенького столика, Хирата принес небольшой графин саке и две чарки. На столике в белой фарфоровой вазочке стоял розовый цветок пиона. Его нежное благоухание наполняло собой всю комнату. Держа в руке чарку, Акитада любовался цветком, его безупречными точеными лепестками. Должно быть, Тамако сама выбрала его и срезала для отца сегодня утром. Застрявший в горле ком мешал дышать, а в душе вспыхнуло негодование оттого, что весь мир будто сговорился напоминать ему о ней. Опрокинув чарку. Акитада сказал: — Как ни крути, но студент не мог убить Оэ. Ему просто не хватило бы силы. — Не хватило бы силы перерезать человеку горло? — удивился Хирата. — Ты прав, он, конечно, худ, но молод и жилист. Акитада покачал головой: — Убийца привязал тело к статуе, а Оэ высокий и крупный. Его обмякшее тело было бы слишком тяжелым для Нагаи. — Как можно совершить такое! Это же оскорбление всему университету! Однажды студент потехи ради напялил на голову статуе шапку, так его отчислили немедленно. Кому такое могло прийти в голову? И почему? Просто непостижимо! — Понимаю. Но это поможет нам найти убийцу. В университете действительно многие относились к Оэ с нескрываемой враждебностью, а кое-кто имел довольно веские основания для убийства. Но не все могли убить Оэ. Вот, например, Такахаси. Он явно ненавидел Оэ и кажется довольно неприятным человеком, похоже, способным на все. Однако он уже не так молод и физически слабоват, чтобы поднять Оэ. Оно, напротив, молод и, как помощник Оэ, сносил от него постоянные унижения и оскорбления. Он представляется слабохарактерным, но иногда затаенная обида вырывается наружу, и тогда только пролитая кровь может сравнять счет. Но и здесь мы имеем дело с человеком физически неразвитым, а стало быть, не способным совершить подобное. — Акитада снова отпил из чарки и продолжил: — Зато Сато, Фудзивара и Исикава — довольно крепкие и сильные люди, и у всех них есть основания ненавидеть Оэ. Впрочем, у Сато нет особого мотива для убийства Оэ, который всего лишь публично не одобрял его поведения. Таким образом, остаются Исикава и Фудзивара, оба ввязавшиеся в ссору с Оэ с рукоприкладством незадолго до убийства. У Кобэ не уйдет много времени на то, чтобы прийти к такому выводу. Тем более что Такахаси уже упомянул Фудзивару. — Ой-ой-ой! — воскликнул расстроенный Хирата. — Я почти хочу, чтобы это оказался Такахаси. Он самый злой человек, какого я знаю. А Фудзивара, напротив, один из лучших. Небеса не допустят, чтобы Кобэ совершил ошибку! Будем надеяться, что это убийство — дело рук кого-то постороннего. — Как-то трудно представить себе, что посторонний знал, где найти Оэ в тот вечер. Да и с какой стати постороннему понадобилось так подвешивать тело? — Но Кобэ все же, видимо, прав, усматривая связь между этим убийством и смертью девушки, — упорствовал Хирата. — А девушка была городская, из простонародья. Акитада вздохнул. Его бывший учитель не лишен снобизма. Добрый и чуткий человек, он, однако, придерживался стойкого убеждения, что люди «благородных кровей» не способны совершить преступление, а вот горожане из бедных кварталов и трущоб от нищеты и лишений вполне могут применить насилие. — Думайте что хотите, — сказал Акитада, — но вам придется рассказать Кобэ о записке шантажиста. От убийства не отмахнешься, и вы не вправе утаить от следствия факты, которые помогут установить мотив преступления. Не сомневаюсь, Кобэ скоро явится сюда со своими вопросами, так что приготовьтесь. Эти слова встревожили Хирату. — Ох, силы небесные! Об этом-то я и не подумал! — Схватившись за голову, он запричитал: — Ну что за беда! Что за несчастье! Вдруг дверь в комнату приоткрылась, и в щель просунул голову Нисиоки. Выглядел он уже бодрее, к нему вернулись хорошее расположение духа и обычный цвет лица. — Можно? — спросил он и, когда ему кивнули, вошел и сел, охотно приняв из рук Хираты чарку саке. — Благодарю вас, профессор. Я пережил настоящее потрясение. Вы, наверное, уже слыхали, что именно я обнаружил несчастную жертву. — Хирата, еще не пришедший в себя, посочувствовал ему. — Благодарю вас, я постепенно оправлюсь. А к вам я зашел, чтобы предостеречь от полицейского капитана. Он явно ничего не смыслит в мотивах человеческих поступков и даже, похоже, гордится этим. Он был груб со мной, и я решил не делиться с ним своими соображениями. Кажется, он вбил себе в голову, что убийца — наш бедный Кролик. Акитада кивнул: — Да. Тут, боюсь, его мнение вряд ли изменится. Нисиока просиял: — Я смотрю, у вас сложилось то же впечатление. Так давайте же объединим наши усилия и найдем убийцу сами! Вам не показалось чудовищным то, как убийца привязал Оэ к статуе нашего высокочтимого учителя Конфуция? — Акитада и Хирата кивнули, а Нисиока страстно продолжил: — А вот капитан слишком ограничен, чтобы придать этому значение. Мне же прежде всего интересно, что было в тот момент в голове у убийцы, что заставило его совершить такой чудовищный поступок. Совершенно очевидно, что этот человек не питал уважения к научной традиции, представленной великим мудрецом. С другой стороны, он тяготеет к символическим жестам. Вы согласны? — Акитада кивнул, и Нисиока заулыбался. — Так вот, у меня на примете всего два человека с таким мышлением. Ну и может быть, еще третий, хотя я не уверен, так как плоховато знаю его. — Он замолчал, выжидающе глядя на собеседников. — И кто же они? — спросил Хирата. Нисиока покачал головой: — Поймите, доктор Хирата, высказывать подобные обвинения вслух сейчас преждевременно. На данном этапе лучше выждать и понаблюдать. — Он перевел взгляд на Акитаду: — Мне, конечно, интересно узнать, в одном ли направлении мы с вами мыслим. — Я еще не составил мнения, — сказал Акитада. — Если у вас есть серьезные подозрения, то вам лучше поделиться ими с Кобэ. Ведь убийца пока на свободе, а значит, представляет собой опасность. — Нет, с этим человеком я говорить отказываюсь. Он грубиян и невежа. К тому же уверяю вас, я привык проявлять осторожность. Я спокойно наблюдаю и иногда задаю кое-какие безобидные вопросы. Поверьте, я делаю это так тонко и деликатно, что предмет моего интереса никогда не догадывается о моих истинных побуждениях. — Нисиока улыбнулся, пару раз кивнул в подтверждение своих слов и продолжил: — Вот взять, к примеру, вечер, когда проводилось состязание. Так я мог с уверенностью предсказать убийство Оэ. Ведь все же все видели и слышали. — Он обратился к Акитаде: — Вы ведь тоже заметили? — Если вы имеете в виду стычку с Фудзиварой, то я уже говорил, что считаю его неспособным на такое убийство. У Нисиоки заблестели глазки. — Фудзивара? Возможно, и нет. Хотя трудно о чем-то судить, когда имеешь дело с мямлей вроде него или даже с таким непостоянным, изменчивым характером, как у Сато. Вообще, на убийство способен любой, если его спровоцировать. У каждого есть какая-то своя чувствительная зона, куда он не хочет пустить других. Акитада с подозрением посмотрел на Нисиоку и, не дожидаясь, когда он опять уклонится от темы, спросил: — А что насчет Сато? В торжествующей улыбке Нисиоки он уловил оттенок превосходства. — Э-э! Так вам и об этом ничего не известно? Оэ предлагал обратиться к ректору университета с петицией об увольнении Сато. Я слышал, как Оэ говорил Оно, что у него наконец появились доказательства недостойного поведения Сато и он готов изложить их в письменном виде Сэссину. Полагаю, он узнал, что Сато развлекался здесь с проститутками. — Кто такой Сэссин? — спросил Акитада. — Это ректор университета. Я думал, вы знаете. Тут вмешался Хирата: — Уверен, что это обвинение — чудовищная клевета! А вы, Нисиока, удивляете меня тем, что разносите подобные сплетни. Бедный Сато виноват лишь в том, что дал несколько частных уроков, чтобы немного заработать. — Лицо Хираты приобрело нездоровый багровый оттенок, дыхание стало затрудненным. — А вот и нет, доктор Хирата, это не клевета. Потому что Оэ знал об этих, с позволения сказать, частных уроках уже давно. — Нисиока опустошил свою чарку и встал. — Мне пора. Хочу поймать Фудзивару, пока Кобэ не добрался до него. Спасибо за саке. Когда Нисиока ушел, Хирата раздраженно сказал: — Как он смеет говорить о Сато в таком тоне?! Нисиока становится почти так же невыносим, как Такахаси. Акитада посмотрел на дверь, за которой скрылся Нисиока, и нахмурился: — Признаюсь, он сильно беспокоит меня. Если Нисиока действительно заметил что-то указывающее на убийцу, то в таком случае он ведет себя очень глупо. А насчет Сато он, возможно, прав. Я сам дважды застукал его с женщиной. Первая была убитая девушка, а другая — очень красивая, примерно его лет. Оба раза, когда я заходил, женщины играли на лютне, но могу вас заверить, они состояли с ним в близких отношениях. — Не верю в это! Он же женат, у него есть дети. Акитада посмотрел на профессора с жалостью, заметил, как тот покраснел, и добавил: — Вспомните: Сато довольно силен физически. Особенно сильны его руки. Хирата разлил по чаркам оставшееся саке. — Ты действительно считаешь, что он задушил ту девушку, а потом убил Оэ, чтобы спасти свое положение здесь? Акитада ответил не сразу. Сначала представил себе, как Сато убивает Оэ. Профессор музыки, не привыкший считаться с условностями, мог, разозлившись на Оэ, решить поглумиться над священными канонами университета, привязав его светило к шее святого покровителя. А сняв с Оэ штаны, он заявил о себе как о человеке, обвиненном в непристойном поведении. Однако Акитада до сих пор не был убежден, что оба убийства связаны между собой, поэтому сказал: — Даже не знаю, что и думать. Хирата теребил руки. Пальцы его дрожали. — Надеюсь, все это не имеет никакого отношения к записке шантажиста. — Я тоже. А вот затянувшееся отсутствие Исикавы настораживает. — И спросил Хирату: — Вы хорошо себя чувствуете? — Да, да. Вот только немного живот крутит, — объяснил Хирата. — Исикава действительно крупный и сильный парень. Стыдно признаться, но я всегда не особенно любил его. Уж лучше бы он оказался убийцей, чем Фудзивара или бедняга Сато. Но зачем Исикаве убивать Оэ? Скорее у Оэ были основания убить Исикаву. — Боюсь, мы не узнаем этого, пока не поговорим с ним. Он может дать хотя бы частичный ответ относительно Оэ. — Кто может? — послышался вдруг резкий голос. Задвинув за собой дверь, Кобэ в сопровождении казенного писца бесцеремонно вошел в комнату. Не ответив на приветствие Хираты, предложившего ему саке, он уселся с недовольным видом на циновку и жестом велел писцу сделать то же самое. — Ну так кто же? — переспросил он, переводя взгляд с Акитады на Хирату. — Мы с профессором Хиратой обеспокоены исчезновением одного студента, — ответил Акитада. — Его зовут Исикава. Это студент выпускного курса, работавший у Оэ помощником и проверявший вместо него сочинения. В общежитии Исикавы нет с самого утра. Поскольку Исикава — один из последних, кого видели с Оэ, я подумал, что он, возможно, располагает ценными сведениями. Кобэ стрельнул глазами на писца, который уже разложил перед собой маленькую дощечку и растирал черный кусочек туши о камень. В тишине комнаты этот скрежет звучал раздражающе. Когда писец взялся наконец за кисточку, Кобэ спросил: — Итак, Исикава. Пожалуйста, полное имя, место рождения, имя и место жительства родителей, род деятельности отца и внешность подозреваемого! — Подозреваемого?! — запинаясь переспросил Хирата, однако дал нужные сведения. Когда писец записал его слова, Кобэ продолжил: — Мог ли этот Исикава исчезнуть вместе с Оно? — Почему Оно? Он что, тоже пропал? — удивился Акитада. — Чепуха, — возразилХирата. — Оно должен быть у себя дома вместе с матерью. Она у него калека. Они живут на улице Такацукаса, к западу от императорского дворца. Кобэ покачал головой: — Мои люди проверяли. Его нет дома, и мать не знает, где он. Даже не может точно сказать, возвращался ли Оно вчера вечером домой. Хирата и Акитада недоуменно переглянулись, а Кобэ нетерпеливо осведомился: — Так что же, этот Исикава единственный, кого вы заподозрили? Судя по комплекции, он подходит. Но то же можно сказать и о Фудзиваре. — Вижу, вы изменили мнение насчет виновности Нагаи. — Акитада поморщился. — Просто, как выяснилось, он недостаточно силен. Но тогда справедливости ради скажу, что мы с профессором Хиратой и Фудзивару также исключаем из числа возможных подозреваемых. — А я не исключаю никого, — отрезал Кобэ. — У убийцы мог быть соучастник. — Помолчав и дав собеседникам время вникнуть в его слова, он продолжил: — Что касается Фудзивары, то у него был мотив, и притом достаточно веский, участвовать в подвешивании тела. Возможно, вам известно, что ваши коллеги не очень-то церемонятся, описывая друг друга и покойного Оэ. И получается, что здесь чуть ли не все ненавидели этого человека. Чтобы избавить вас от лишних забот по защите коллег, я, пожалуй, включу в этот список и вас. Оно ненавидел Оэ за то, что тот оскорблял его и тиранил. Сато чуть не уволили из-за обвинений, предъявленных ему Оэ. Танабэ вынуждали уйти на покой, поскольку Оэ считал его дряхлым. Фудзивару и Такахаси Оэ оскорбил публично. Кстати сказать, Такахаси извергает как фонтан самые разные сведения о ваших здешних склоках. — Кобэ язвительно усмехнулся. — Ну а у вас? Может ли каждый из вас что-то прибавить к перечисленному списку возможных мотивов убийства? Акитада старался не смотреть на Хирату, который опять тяжело дышал. — Вижу, вы не теряли времени даром. — Он укоризненно покачал головой. — Сейчас я хотел бы послушать ваши истории. Имена, должности, место жительства и прежде всего взаимоотношения с убитым человеком. Начинайте вы, Хирата. Хирата торопливо выложил требуемые сведения. Потом наступила очередь Акитады. Покончив с предварительными формальностями, Кобэ приступил к основному допросу: — Когда вы в последний раз видели Оэ живым? Акитада повторил то, что уже рассказывал Кобэ раньше. Хирата подтвердил его слова и прибавил лишь то, что проводил всю компанию, включая пьяного Оэ, до ворот, а потом вернулся на свое место на зрительских трибунах. — Куда Оно и Исикава повели его? — спросил Кобэ у Хираты. — Полагаю, домой. Он живет в западной части города. Кобэ что-то пробурчал и, поразмыслив, спросил: — Может кто-нибудь подтвердить, в котором часу вы вернулись домой? — Что-о?! — вскричал, покраснев, Хирата. — Неужели вы считаете нас обоих… — Лучше скажите капитану все, что его интересует, — посоветовал Акитада, стараясь успокоить старика. — Насколько я понимаю, он задает подобные вопросы всем без исключения. Что касается меня, то я ушел перед последним отделением конкурса, а остаток вечера провел дома за чтением в своей комнате. Ни с кем из домашних или слуг не разговаривал, поскольку в этом не было необходимости. — А я пошел домой, когда все выступления закончились, — промолвил Хирата. — Было поздно, но дочь, наверное, слышала, как я вернулся. Писец деловито строчил, занося на бумагу их показания. Кобэ сидел, поджав губы и разглядывая потолок. — Э-э… Может быть, теперь, когда мы закончили, вы выпьете чарочку саке, капитан? — смущенно предложил Хирата. — Я не пью во время следствия, — сухо сказал Кобэ и, посмотрев на Акитаду, добавил: — Мне пришло в голову, Сугавара, что вы тоже и рослый, и довольно крепкий для такой работенки. Акитада онемел от изумления. Кобэ смерил его и Хирату прищуренным взглядом: — Мне сообщили, что вы очень дружны. Что вы, Сугавара, многим обязаны Хирате. Вы для него почти как сын, потому что он воспитал вас. Акитада побагровел от ярости. — Это не совсем так. Не пойму только, куда вы клоните, капитан? Кобэ не ответил и снова перевел взгляд на Хирату: — Такахаси утверждает, что вы с Оэ были в очень плохих отношениях после прошлогодних экзаменов. Хирата покраснел и смутился. — Это неправда. Мы с Оэ никогда не дружили, но служебные и деловые отношения всегда поддерживали. Кобэ задумчиво хмыкнул: — Думается мне, что-то было не так с этими экзаменами. И вот еще вопрос, откуда у Оэ новый летний дом. — Он покачал головой. — Тут попахивает шантажом, а шантаж — хороший мотив для убийства. Хирата побелел и схватился за грудь. В ужасе уставившись на Кобэ, он выдохнул: — Вы обвиняете меня в убийстве Оэ? — Да это же просто смешно! — не выдержал Акитада, но тут же смекнул, что из-за допущенной Кобэ ошибки они теперь не могут рассказать ему о записке. Он истолковал бы это как отчаянную попытку свалить вину на мертвого человека. Капитан выглядел довольным. — Ничего смешного, просто я рассматриваю все возможности. Конечно, — прибавил он, разглядывая свои ногти, — Хирата не в том возрасте и не столь физически силен, чтобы пойти на такое дело одному, но в таком случае у него мог быть помощник. — И он пристально посмотрел на Акитаду. Хирата с трудом поднялся на ноги и закричал: — Какое безумие выдвигать такие предположения!.. Это ложь! Вдруг он застонал, ноги его подкосились, и он упал. Акитада бросился к нему. Лоб Хираты покрылся испариной, губы посинели. — Что с вами, профессор? — испуганно спросил Акитада, приподнимая его голову. — Может, послать за лекарем? — Вот вам удобный случай получить передышку, — заметил Кобэ, глядя на них. — Не сомневаюсь, что наш добрый профессор поправится, как только я уйду. Хирата, поддерживаемый Акитадой, пробормотал: — Нет-нет, это пустяки. Сейчас пройдет. Но он по-прежнему хватал ртом воздух, хотя лицо его было уже не таким пепельно-бледным. — Вы только не волнуйтесь, профессор, — говорил Акитада, помогая Хирате сесть. — Это капитан так развлекается, играет с нами, как рыбак, бросивший рыбешке наживку. От человека благородного такого, конечно, не следует ожидать, но у полиции, видимо, свои методы. — Он метнул гневный взгляд на Кобэ. Тот, нагло улыбнувшись, поднялся. — Я же сказал вам, что ни для кого не делаю исключений. Можете оба идти по домам, но не вздумайте покидать город.
Глава 12 Дом зонтичных дел мастера
Довольный своими успехами в запускании воздушных змеев, Тора покинул университет и отправился выполнять второе поручение. Он с опозданием сообразил, что провел за детской забавой неоправданно много времени, отведенного на расследование. К тому же Тора еще надеялся заглянуть к Мичико. Пустой желудок, громко урча, настойчиво напоминал ему об ужине, но, не обращая внимания на голод и ноющие от усталости ноги, он торопливо направился в шестой квартал расспросить прохожих, где находится дом зонтичных дел мастера Хисии. Сгущались сумерки, но Тора быстро нашел улицу, где жили в основном бедные ремесленники. Низенькие ветхие домишки теснились один к другому, почти соединяясь карнизами. Такие кварталы Тора знал хорошо. Там, где кончалось жилье, начинались незаселенные пустоши, местами разбитые на маленькие огороды и садики, но в основном представлявшие собой дикие заросли, где бегали голодные собаки. Вскоре он заметил вывеску зонтичных дел мастера, однако прошел мимо дома, решив осмотреться и, если удастся, поболтать с соседями в надежде собрать какие-нибудь сплетни. Дойдя до конца квартала и так и не встретив ни души — многие, наверное, в этот час ужинали, — Тора вдруг услышал громкий звук распахнувшейся двери, потом сердитый женский голос и чей-то жалобный крик. Обернувшись, он увидел: из дома зонтичных дел мастера выскочила девчушка-служанка с огромной корзиной в руке. На пороге же стояла толстая грудастая тетка и грозила ей вслед кулаком. Подождав, когда толстуха уберется в дом. Тора побежал за девчушкой. Он настиг ее уже на следующем углу. — Добрый вечер, сестричка, — сказал Тора, зашагав рядом. Девочка — на вид лет десяти или одиннадцати — вздрогнула от неожиданности и обратила к нему свое милое заплаканное личико. Она была очень бледная и худенькая, в глазах стояли слезы. — Простите меня, господин, но мне нужно спешить, — прошептала она и пустилась бежать. — Погоди! — Тора припустил за ней. — Я пойду с тобой. Ты ведь работаешь у зонтичных дел мастера? Да? Девочка замедлила шаг. — Да. — Она неуверенно посмотрела на него, но его дружеская улыбка немного успокоила ее. — Ты уж прости, что я напугал тебя, сестричка. Просто я слышал, как ты кричала. Это что же, твоя хозяйка? Слезы снова хлынули из глаз девочки. Она утирала их грязной рукой, оставляя на лице черные разводы. — Она всегда бьет меня. Я, правда, стараюсь все исполнять, но я маленькая и быстро устаю. А еще я все время хочу есть. Если бы она давала мне больше еды, я была бы сильнее. Высказав все это на одном дыхании, девочка разрыдалась. Тора нащупал в рукаве монеты. — Послушай, я сегодня еще не ужинал. Пойдем-ка съедим с тобой по миске горячей лапши, — предложил он. Бледное худенькое личико девочки просияло, но она покачала головой. — Не могу. Мне нужно принести хозяевам овощей к ужину. Если опоздаю, она поколотит меня еще сильнее. — Не бойся, пойдем. — Тора взял ее за тоненькую руку и освободил от громадной корзины. — Я собирался повидаться с твоим хозяином, так что все объясню ему, когда мы вернемся. Они направились к ближайшему овощному рынку, разместившемуся возле храма. Тора сам проверял покупки, смотрел, чтобы девочке положили самую крупную редьку, самые свежие грибы, а потом остановился перед продавцом лапши и велел налить им две большие порции. Тот подал им две дымящиеся миски с жирной похлебкой, густо сдобренной лапшой и овощами. — Ну вот, теперь поедим. И пожалуйста, не спеши, — сказал Тора девчушке. — Я поговорю с твоим хозяином. — А хозяина еще дома нет. Только хозяйка и ее гость. — Девочка жадно смотрела на еду, облизывая губы. Наблюдая за ней, Тора вдруг вспомнил про маленького князя. Примерно одного возраста, они принадлежали к разным сословиям, но оба были печальны, напуганы и одиноки. Самому Торе тоже досталась не слишком сладкая жизнь, но по крайней мере он не знал недостатка в любви и детских забавах. — Не беспокойся об этом. Ешь! — решительно сказал он. Они уселись на ступеньках храма. У Торы почти пропал аппетит, когда он наблюдал за тем, как жадно девочка набросилась на еду. Подождав, когда она разделается с лапшой, он спросил: — А хозяин тоже тебя бьет? Девочка покачала головой: — Не-ет! Он добрый, только целый день продает на большом рынке зонты, а я остаюсь с ней. Иногда по вечерам он спрашивает, сытно ли я ела или откуда у меня синяки, но она всегда рядом и прожигает меня глазами, словно демон, поэтому я говорю «да» или «я упала с лестницы». А она называет меня неуклюжей глупой девчонкой и говорит, что вынуждена выполнять всю работу сама, так как не может позволить себе нанять приличную прислугу. — А твои родители? — Отец умер, а мать не может содержать меня — у нее еще пятеро младшеньких. — Вот оно что… — Тора перелил остатки своего супа в ее миску. — Я не очень голоден, — соврал он. Когда девочка доела и его порцию, Тора спросил: — А разве у супругов Хисия нет взрослой дочери? С ней можно поговорить? — Ее убили пару дней назад, — спокойно сообщила девочка. Несомненно, собственные тяготы волновали ее больше. — Да она почти никогда и не бывала дома. Только ночевала, да и то не всегда. Она была дочкой хозяина, а хозяйка его вторая жена. — Они, наверное, сильно опечалились, узнав про эту беду, — предположил Тора. — Ну, хозяин-то плакал. — Девочка поставила миски одну в другую. — Но только не хозяйка! — Она сердито плюнула. — Когда он ушел на работу, она напевала и приплясывала целый день. — Неужели? Так они что же, не ладили? Девочка кивнула: — Постоянно ссорились. Хозяин даже уходил, чтобы не видеть этого. — Из-за чего же они ссорились? — У молодой госпожи было много хороших вещичек, и хозяйка вечно таскала их у нее. Молодой госпоже это не нравилось, и она попрекала хозяйку — нет-нет да и напомнит ей о ее гостях, а та очень злилась. Тора навострил уши. — Так к твоему хозяину многие ходили? — Нет, не к хозяину. — Девочка встала и отнесла пустые миски торговцу. Вернувшись, она сказала: — Нам нужно идти. Спасибо вам большое за вкусную похлебку. — И, взяв в руки свою ношу, добавила: — У меня теперь появились силы, так что будет легче нести корзину. — Ни за что! — Тора вырвал корзину у нее из рук. — Такой здоровенный парень, как я, не позволит маленькой госпоже нести тяжелые кочаны и редьки. Девочка хихикнула: — Я не госпожа. А вам, господин, не следует таскать за меня овощи. — Я не гордый, понесу. Пошли, по дороге еще поболтаем. Так что там про этих гостей? Лицо девочки вдруг стало серьезным. — Они приходят к хозяйке. У нее и сейчас сидит один. Она говорит, что это ее родственники из деревни, только я видела их в городе. Просвистев несколько нот из расхожей похабной песенки, Тора спросил: — А дочка? Она тоже принимала у себя гостей? — Нет. Разве хозяйка позволила бы ей? Она так завидовала госпоже Омаки, особенно когда та начала получать подарки от своего мужчины. Тора ласково посмотрел на девочку. Какое же она смышленое дитя! — Так она, стало быть, собиралась замуж? Что же это за парень, с которым она была обручена? Это слово привело девочку в замешательство. — Обручена? Не понимаю, что это. Ухажера госпожи Омаки я никогда не видела. А хозяйка только и делала, что обзывала ее шлюхой и сучкой. Я знаю, что означают эти слова, и думаю, она не стала бы так обзываться, если бы госпожа Омаки собиралась замуж. Правда же? — Правда. Ну что ж, вот, значит, какие дела… — Тора остановился перед домом зонтичных дел мастера и окинул его внимательным взглядом. — Они поселили тебя в комнате госпожи Омаки? — Нет. Я сплю на кухне. А комната госпожи Омаки находится наверху, в задней части дома. Хозяйка заперла ее, потому что вещи госпожи Омаки пока еще там. — Девочка боязливо посмотрела наверх. — Я туда не хожу. Души умерших остаются в доме сорок девять дней и ночей, и я уверена: душа госпожи Омаки очень сердится на хозяйку за то, что та носит ее вещи. У Торы зашевелились волосы на голове. Лучше бы девочка не упоминала о духах. — Ну что ж, пошли, — решительно сказал он. Девчушка подняла на него тревожный взгляд: — Вы ведь поговорите с ней, чтобы она потом не избила меня? Вы обещали. — Да. Она взяла корзину и открыла дверь. В темной прихожей девочка чиркнула кремнем и зажгла масляную лампу. Слева была кухня с земляным полом и двумя глиняными печами, встроенными в торцовую стену дома. Огонь под одним из котлов почти потух. Вскрикнув, девочка поставила на пол корзину и бросилась подбрасывать в печку дрова и раздувать почти погасшие угли. Справа располагалось что-то вроде мастерской. На деревянном помосте аккуратными стопками были разложены материалы для изготовления зонтиков — бамбуковые планки, рулоны вощеной и раскрашенной бумаги, горшочки с клеем, мотки пеньковой веревки. В стороне высилась горка почти готовых зонтиков. В дальнем углу находилась крутая лесенка на чердак, с чуланчиками по бокам, а за ней узкий коридор вел в заднюю часть дома. Вокруг Тора не заметил ни души. — О, госпожа! — вдруг вскрикнула девочка, отрывая от очага свое испачканное сажей перепуганное личико. Ее звонкий голосок эхом отозвался в закопченных балках. — Чего тебе? — послышался откуда-то резкий пронзительный голос. — Опоздала, так давай теперь пошевеливайся с этими овощами! — Тут к вам пришли! — крикнула девочка. Вскоре раздался звук открываемой двери и чей-то шепот. Потом дверь прикрыли, и Тора услышал осторожные шаги. — Что ж ты сразу не сказала? — попеняла девочке хозяйка, появившаяся в конце длинного коридора. Вперив в Тору недоуменный взгляд, она на ходу запахнула на себе желтое кимоно. Тора поклонился. Оглядев Тору с ног до головы — хорошо сидящее, тщательно вычищенное кимоно с черным поясом, его ладную фигуру, широкие плечи и поджарые бедра, красивое лицо и аккуратную прическу, — она смущенно коснулась своих растрепанных волос. Тора разглядывал ее с не меньшим интересом. Желтое короткое кимоно было надето прямо на исподнее. Лицо этой женщины, порядком раздобревшей в свои тридцать с небольшим, было несколько грубовато, однако не лишено привлекательности. — Достопочтенный господин желает заказать зонтик? — спросила она и семенящими шажками, виляя бедрами, подошла к помосту. — Пожалуйста, присаживайтесь, пока я подберу образцы. Скинув с грязных ног соломенные шлепанцы-гэта, она забралась на помост, чтобы положить для Торы подушку. Когда она наклонилась, он заметил, что под платьем у нее ничего нет. — Не стоит беспокоиться, — сказал Тора, стараясь не смотреть на ее пышные груди и присаживаясь на край помоста. Потом, одарив хозяйку радужной белозубой улыбкой, сообщил: — Я пришел поговорить с вашим мужем, госпожа, но совсем по другому делу. Ваша девочка-служанка была весьма добра и показала мне дорогу. Боюсь, из-за меня она задержалась, поскольку мне было необходимо сначала покончить с одним делом. — Не переживайте. Времени много. А вот муж придет поздно. — Бросив тревожный взгляд на окно, за которым уже сгустилась темнота, она улыбнулась и спросила: — Могу я помочь вам? Пригладив щегольским жестом усики и смерив ее игривым взглядом, Тора воскликнул: — Как мне несказанно повезло, что я застал вместо вашего мужа его прекрасную хозяйку! — Жаль, что вы застали меня в неприбранном виде. Я спала. — Вы так хорошо выглядите и так изящны. Ваш муж просто счастливец. И вижу, он это тоже осознает! — С этими словами Тора восхищенно пощупал дорогую ткань желтого кимоно. — Ах, это? Это не муж подарил. Он пожилой человек и не интересуется подобными вещами. К тому же муж зарабатывает только на скудное пропитание. Выходя за него, я знала, что он мне не пара. — Она вдруг заметила маленькую служанку, которая все еще стояла рядом, держа в руках корзину с овощами, и, открыв рот, слушала разговор. — Какая ты чумазая, девочка! Пойди-ка умойся! И заканчивай стирку! — Но вы же велели мне готовить овощи для ужина… — возразила та, но, взглянув на хозяйку, поставила корзину и бросилась по коридору из дома через заднюю дверь. — Вы уж простите меня за беспорядок. — Женщина опустилась на колени рядом с Торой. — Не хотите ли чарочку саке? — Вы очень любезны. — Не удержавшись, Тора украдкой бросил взгляд на ее прелести. — Конечно, я бы не отказался, но нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Может, вы все-таки поможете мне? Глаза ее округлились. — При исполнении служебных обязанностей? Чем же я могу в таком случае быть полезной достопочтенному господину? — Я пришел задать несколько вопросов о вашей дочери Омаки. — Омаки? — Лицо хозяйки стало напряженным, а в глазах появилась настороженность. — Она мне не дочь. Омаки — дочь моего мужа. К тому же она умерла. — Знаю. Поэтому и пришел. Очень грустная история, так что примите мои глубокие соболезнования. Женщина потупилась, закивала и начала утирать расшитым рукавом глаза. — Я служу в министерстве юстиции, — степенно продолжал Тора, наслаждаясь тем, как красиво это прозвучало. Его слова явно произвели на нее впечатление, и он решил пока не открывать правды. — Так как капитан Кобэ из городской полиции разрабатывает сейчас другую версию, нам поручили расследовать эту часть дела. — Уж больно вы молоды для работы в министерстве юстиции, — усомнилась женщина. Тора снова одарил ее лучезарной улыбкой и отвесил поклон: — Благодарю вас за комплимент, госпожа. Я и в самом деле пока лишь «младший мелкий чиновник», если так можно выразиться. Но мне удалось отличиться по службе в провинции, и меня перевели сюда. Теперь пробиваю себе дорогу в столице. Мне неприятно беспокоить людей, когда они оплакивают утрату близкого, но вы ведь наверняка хотите, чтобы убийцу схватили, и я буду очень рад, если окажете мне помощь. — Тора с мольбой взглянул на хозяйку. — Ну уж и не знаю… — Она нахмурилась. — А разве убийцу еще не поймали? Студента, с которым она встречалась. Сдается мне, ребенок у нее во чреве был от него. А может, и не от него, и тогда он, узнав, взбесился да и убил ее. — Вот-вот! — вскричал Тора. — Именно это меня интересует! Мне хотелось бы услышать женское мнение. Тем более, как я сразу понял, вы дама проницательная и умная. Взять хотя бы то, как быстро вы подметили, что я молод и неопытен. Думаю, вы не менее наблюдательны и во всем прочем, особенно в оценке людей, их чувств и поступков. Значит, вам было известно, что Омаки встречалась со студентом? — Да. Он провожал ее до дома после работы несколько раз. Глуповатый такой уродец с оттопыренными ушами — ну ни дать ни взять ручки от кувшина. Даже Омаки смеялась над ним. Я-то думала, он ей не нравится, но, похоже, ошиблась. — Вообще-то нам не положено посвящать в ход расследования людей, имеющих отношение к жертве, но раз уж вы все равно знали… Так вот, Омаки приходила к нему в университет, а он посвящал ей стихи. Оживившись, женщина подсела ближе к нему. — Стихи? Неужели?! Так, может, это все-таки был его ребенок? Семья-то у него богатая? — Едва ли. — В таком случае Омаки, должно быть, просто рехнулась, если спуталась с ним. Подумать только, чем все это для нее закончилось! — На самом деле непохоже, чтобы он убил ее, — заметил Тора. — Может, у Омаки был еще другой мужчина? Покусывая нижнюю губу, женщина задумалась: — Полагаю, такое возможно. Там, где она работала, было много мужчин. Иногда Омаки получала от них подарки. — А вы не могли бы выяснить что-нибудь подробнее? — Тора улыбнулся во весь рот и пригладил усы, скользнув томным взором по ее пышной смуглой груди, выглядывавшей из-за наскоро запахнутого кимоно. Перехватив его взгляд, она прикрылась, покраснела, поерзала округлыми бедрами, разглаживая на коленях платье. — Для этого мне нужно время. — И, пожирая глазами губы, плечи и широкую грудь Торы, прибавила: — Вы не могли бы зайти в другой раз? Тора кивнул: — Может, завтра? Чуть раньше, чем сейчас. — Он снова бросил взгляд на ее грудь. — Зачем беспокоить вашего супруга во время ужина? Она улыбнулась и наклонилась к нему, колыхнув смуглыми прелестями и пахнув на него тепловатым душком немытого тела. Тора редко не испытывал влечения к женщине, но следственная работа требовала применения актерских способностей, поэтому он заставил себя сладострастно прошептать: — До чего приятно! — Потом, якобы спохватившись и вспомнив о деле, прочистил горло и спросил: — Неужели ваша дочь никогда не упоминала о своих поклонниках? Улыбка исчезла с ее лица. — Я же говорила вам, она мне не дочь! — раздраженно воскликнула женщина. Тора пустился в пространные извинения, и тогда она снисходительно пробормотала: — Да знаете ли, у нее в общем-то была своя жизнь. Вы не представляете, как трудно быть мачехой своей сверстницы. — Она кокетливо поправила волосы и искоса взглянула на Тору — узнать, как он воспримет эти слова. Тот понимающе кивнул, и женщина продолжила: — К тому же Омаки вообразила о себе бог весть что, как только стала гейшей в веселом квартале. Хотя, по мне, это ничем не лучше, чем быть обычной шлюхой. — Ого! Так, значит, у нее могли быть и постоянные клиенты? Женщина отвернулась. — Я предпочла бы не ставить вопрос так. Во всяком случае, при моем муже лучше об этом не упоминать. Этот старый дурак до сих пор считает ее святой. Только откуда тогда она таскала в дом все эти дорогущие тряпки? Вот скажите, кто бы подарил обыкновенной девчонке такое прекрасное кимоно? — И женщина выставила напоказ богато расшитый рукав. — С какой стати? За игру на паршивой лютне? — Помолчав, она вдруг спросила: — Кстати! А правда, что убийца и его семья должны теперь выплатить ее родным денежное возмещение? То есть если убийца уже пойман, обяжете ли вы его семью заплатить нам за то, что он с ней сделал? Тора кивнул. Женщина фамильярно накрыла его руку ладонью и сжала ее. — Вот было бы хорошо, если б вы позаботились о наших интересах. Мы люди маленькие, ничтожные, где уж нам пробиться по полициям да по судам! А вот вы, работая в министерстве юстиции, могли бы навострить глаза да уши и помочь нам осуществить наши притязания. — Уж прямо и не знаю, смог бы ли я представлять ваши интересы. — Тора нахмурился. — Ведь это против правил, и за такие дела я запросто лишусь не только возможности продвижения по службе, но даже рабочего места. — Ну что вы! — вскричала она. — Зачем же так? Мы ведь только хотим получить причитающееся нам по праву. — Придвинувшись ближе к нему, женщина чувственно вздохнула. — Я была бы вам очень благодарна! Мы люди бедные, и Омаки была нашей единственной надеждой на склоне лет. Тора изумленно изогнул брови. Эта женщина умела во мгновение ока виртуозно изменять свой возраст, по необходимости причисляя себя то к девицам, то к людям пожилым. Такой талант он замечал только у дам средних лет. Она неверно истолковала его удивление. — Да, девчонку ждало блестящее будущее! Вы только представьте, сколько она могла бы зарабатывать и как заботиться о своих престарелых родителях! Разве справедливо, что мы лишились всего этого?! — Хм… — Тора сделал вид, что проникся сочувствием. — В ваших словах что-то есть. Я подумаю об этом. Но разумеется, вы получите то, что вам причитается, не раньше, чем мы найдем убийцу, и лишь при том условии, что ему будет чем заплатить. Не успела она ответить, как в задней части дома послышался громкий сердитый стук. Вздрогнув от неожиданности, госпожа Хисия вскочила на ноги: — Уже поздно, и я должна приготовить ужин. Муж вернется с минуты на минуту. Может, вам лучше не говорить с ним сегодня? Приходите завтра днем. Тора понял, что ей неймется поскорее выпроводить за дверь нетерпеливого любовника, пока муж не вернулся с рынка. Понимающе кивнув и наградив ее на прощание широкой улыбкой, он отправился восвояси. Обогнув квартал и отсчитывая крыши, Тора подошел к дому супругов Хисия с другой стороны. Полоска света из открытой двери пролегала через крошечный дворик, где за бамбуковой оградой маленькая служанка развешивала выстиранное белье. Держась в тени, Тора внимательно изучил задворки. В глаза сразу же бросились кучи всевозможного хлама, куски и обрезки материалов для изготовления зонтов. Оторванный водосточный желоб подпирал наискосок поленницу, обеспечивая до половины путь к выступу под единственным верхним окном, наглухо закрытым ставнями. Комната Омаки, видимо, находилась там. Довольный своими наблюдениями, Тора удовлетворенно кивнул. У него оставалось еще полным-полно времени, чтобы наведаться в веселый квартал и еще разок заглянуть в «Старую иву».Явившись в питейное заведение тетушки, Тора застал ее в окружении девушек. Не сводя глаз с входной двери, она давала им указания на вечер. — Ну как, мой юный друг? — спросила она, раздвинув в улыбке беззубый рот. — Готов ты к веселенькой битве на шелковой простынке? Посмотри, сколько у меня драгоценных цветочков, способных повергнуть в бою твоего «солдатика»! — Стайка девиц дружно захихикала. — Ну нет, тетушка! — вскричал с порога Тора, состроив ей глазки. — Я пришел повидать только вас одну! — Девицы захохотали, а старуха, распахнув веер, спряталась за ним, словно стыдливая молодка. — К тому же, — прошептал он ей на ухо, обвивая рукой ее необъятную талию, — у меня деньжат хватит всего-то на пару чарочек саке для нас с вами. Вы же знаете, я парень не богатый. Старуха хихикнула, когда он легонько ущипнул ее за бок, и пригрозила ему пальцем. — Как? Такой видный парень — и бедный? Да я бы на твоем месте быстренько поправила свои дела. Знаешь, сколько одиноких женушек не прочь были бы получить хоть кроху от того, что их мужья дают моим милым цветочкам? — Тетушка, вы разите меня прямо в самое сердце! Неужели это означает, что я вам совсем не интересен? Она засмеялась и игриво ущипнула его за плечо: — Ну ладно, ладно! Есть у меня несколько свободных минут. — Старуха махнула служанке и велела той принести в ее кабинет хорошего саке. — Я угощаю, — сказала она Торе. Когда они уселись в комнатушке, где старуха хранила списки девушек, записи о работе с клиентами, счета и шкатулки с деньгами, она поинтересовалась: — Ну как, не упустил ты молоденькую курочку, которую я направила к тебе вчера вечером на пробу? — Э-эх! — Тора мечтательно закатил глаза. — Девица, конечно, аппетитная, но я ведь так и не насытился. Встретил ее на улице, засыпал похвалами, предложил до дома проводить, но она оказалась уж больно порядочная! — Он вздохнул. Тетушка разразилась трескучим смехом и игриво шлепнула его: — Ай, врунишка! Видела я ее личико сегодня. Народить мне стаю обезьян, если она спала этой ночью хоть минуту. — Тора сгреб старуху в охапку и ущипнул за задницу. Та взвизгнула: — Это еще зачем? — Хотел проверить, нет ли у вас там обезьяньего хвостика, дорогая тетушка, только и всего. Они весело хохотали, когда служанка принесла саке. Когда они снова остались одни, Тора отведал напитка, оценивающе причмокнул губами и сказал: — Курочка поделилась со мной кое-чем. Оказывается, вы хорошенько взгрели очаровательную лютнистку за то, что она вздумала нести яйца. Вот интересно было бы узнать, кто это так поиграл на ее «лютне»? От улыбки на лице тетушки не осталось и следа. Она прищурилась: — Девушку нашли мертвой. Тебе-то зачем копаться в этом деле? Тора смекнул, что этой проницательной женщине лучше не лгать, поэтому объяснил: — Уж так повелось, что мой хозяин не на шутку интересуется всякими преступлениями. Вот и сейчас он обещал помочь парню, которого загребла полиция. Он считает, что сопляк ни в чем не виновен и этого убийства не совершал. Я, признаться, маленько беспокоюсь за хозяина, вот и подумал, что он мог бы поскорее забыть об этом деле, сумей я выяснить кое-какие полезные сведения о знакомствах девушки. — Выходит, ты пытаешься приписать это убийство кому-то из моих клиентов? Так, что ли? — Да клянусь вам, тетушка, что студентишка не мог сделать этого! Больно убогий он, считай, просто юродивый. Страшен как смертный грех, а наивный — что твой младенец! Познакомился с ней здесь, и она зачем-то обнадежила его, а потом послала ко всем чертям. Только от этого он еще больше сдвинулся из-за любви. — Убогий, говоришь? Да видела я его. Ни денег тебе, ничегошеньки! Сухой, как лепешка недельной давности, взглянуть не на что. Я так и сказала ей, а она мне в ответ: дескать, я вовсе не прочь стать в один прекрасный день женой учителя-грамотея. — Да, но ведь она отвергла его, — заметил Тора. — Значит, нашла себе кого-то получше. Тетушка о чем-то задумалась: — Эта девчонка всегда была скрытной. С клиентами во время работы никогда не путалась, за это ручаюсь. Из нее мог выйти толк, но она, видишь ли, вообразила, что станет знаменитой гейшей. Тора оживился: — Ну-ка, ну-ка, расскажите! Там явно не обошлось без мужчины. — Ну что тебе рассказать? Брала она уроки игры на лютне у одного университетского преподавателя. У нас он бывает часто, почти каждый вечер. Возможно, малютка отдавалась ему — что-то вроде платы за уроки, как я понимаю. Вдруг с порога раздался громкий возглас: — Это чудовищная ложь! — Госпожа Сакаки, бледная от гнева, раздвинула дверь пошире и вошла. — Как вы смеете говорить такое?! С какой стати вы портите жизнь человеку, не сделавшему вам ничего дурного? Ведь вы же знаете, что ваш собеседник передаст ваши слова полиции и Сато арестуют. А в тюрьме от него добьются пытками признания и тогда… — Она опустилась на пол и разрыдалась. Озабоченно зацокав языком, тетушка вскочила и, подбежав к плачущей женщине, присела рядом с ней. — Ну-ну, не надо! — Она сочувственно обняла госпожу Сакаки за плечи. — Не стоит так убиваться. Вы очень много работаете, голубка моя, играете каждый вечер, а потом спешите домой, где вас ждут заботы о престарелых родителях, муже и малых детках. Вот и не выдержали. А ведь это всего лишь Тора, мой хороший друг. Он не допустит, чтобы ваш драгоценный учитель попал в беду. «Ишь ты! Так уж и не допустит?» — усмехнулся Тора и вдруг увидел за открытой дверью Мичико. Он просиял от радости, но девушка поспешно приложила палец к губам. Тора встал, молча кивнул тетушке и вышел, закрыв за собой дверь. — Как я соскучился по тебе, сладкая моя! — сказал он Мичико, ласково тычась носом в ее шею. — Видишь? Я даже одной ночи не могу провести без тебя! — Только не здесь, — шепнула она. — Я на работе. Приходи ко мне домой попозже. И она побежала в хорошо освещенный зал, где присела в глубоком поклоне перед только что прибывшим гостем в дорогом кимоно коричневого шелка, громко приветствуя его: — Добро пожаловать, достопочтенный Курата-сан! С нашей ивы опадает вся ее пышная листва, когда Курата-сан перестает заглядывать к нам, и певчие пташки готовы пуститься в дальние края, лишь бы не видеть суровой зимы, которая поселяется здесь, когда Кураты-сан нет с нами. Тора слышал все это, и гнев закипал в его душе. Он сразу узнал спесивого торговца шелком даже в этом роскошном одеянии и нарядной шапке. Гость потрепал Мичико по щеке и обнял ее за плечи. Тора уже собирался вмешаться и как следует приложить Курату кулаком, когда мимо него в дверь протиснулась тетушка, издавшая радостный возглас при виде нового гостя. За ней следом в зал проскользнула вереница красоток. Тора, хмурясь, вошел последним. Между тем тетушка ласково ворковала: — Но, Курата-сан! Что же такое случилось? Мы беспокоились, куда вы запропастились. Бесценная Жемчужина пролила немало слез, опасаясь, что вы больны. А наш драгоценный Нефрит даже отказывалась принимать всех своих клиентов. Надеюсь, вы на нас не в обиде? — Нет-нет, ни в коем случае! — Голос торговца был высоким и резким, маленькие глазки буквально раздевали женщин. — Просто я был занят личными делами. — Личными делами! — воскликнула тетушка. — Вы только посмотрите, какое коварство! А мои красавицы тут ночей не спят, сохнут, бедняжки, по нем! Довольный торговец рассмеялся и провел костлявым желтым пальцем по тонкой шейке Мичико, задумчиво разглядывая ее: — Вижу, придется мне воздать им за их страдания. К счастью, я принял сегодня одно хорошее бодрящее средство, так что теперь у меня хватит силушки на всех ваших племянниц, тетушка. — И, не отрывая глаз от Мичико, спросил: — Моя комната свободна? В этот момент тетушка, обернувшись, заметила пылающий яростью взгляд Торы. Оставив Курату с Мичико и другими девушками, она преградила Торе путь: — Нельзя! Здесь частный прием. Тора кипел от ярости, но ему пришлось удалиться в переднюю. Он болтался возле заведения еще целый час, так и не увидев больше ни Мичико, ни тетушки. Злой и расстроенный, он наконец ушел оттуда и побрел к рынку, где подкрепился ужином и купил себе дешевый фонарь, после чего снова вернулся на задворки дома зонтичных дел мастера. Там было темно и тихо. Тора внимательно окинул взглядом дом. Судя по всему, госпожа Хисия уже давно отпустила своего «родственничка», накормила ужином ничего не подозревающего мужа и теперь отдыхала рядом с ним. Бедные мастеровые и их семьи в такой час всегда уже крепко спят. Как, впрочем, и полуголодные девочки-служанки, надеялся Тора. Во всяком случае, живого человека он увидеть не опасался. А вот кого он боялся встретить, так это неприкаянную душу Омаки. Потом Тора вспомнил о веселом кутеже, происходящем в «Старой иве» на другом конце города, и вновь вскипевшая в нем злость избавила его от страхов. При слабом свете месяца он нашел среди хлама во дворе тонкий бамбуковый шест и с его помощью пробрался через двор к дому. Бесшумно взобравшись по водосточному желобу и поленнице на выступ, Тора осторожно прокрался к закрытому ставнями окну. Оно было заперто столь небрежно, что бамбуковый шест, просунутый между его створок, открыл их с первой же попытки. Тора прислушался, прошептал коротенькую молитву и, переступив через подоконник, шагнул в темноту. Распрямившись во весь рост, он тут же ударился макушкой о низкую потолочную балку. В голове зашумело, из глаз посыпались искры. Тора замер и прошептал: — Не сердись, Омаки! Я хочу помочь! Я найду твоего убийцу, если ты не причинишь мне вреда. Где-то внизу распахнулось окно. Тора затаил дыхание. Кого-то он все-таки разбудил. Тора услышал чей-то тихий разговор, потом сонным голосом госпожа Хисия крикнула: — А ну кыш, чертова кошка! По звуку Тора понял, что она швырнула что-то тяжелое. Потом окно со стуком захлопнулось, и воцарилась тишина. Вздохнув с облегчением, Тора осторожно закрыл ставни. Дрожащими пальцами он достал кремень, чиркнул и зажег фонарь. Комнатка, расположенная прямо под самым карнизом, была крохотной, размером не более трех расстеленных циновок. Четыре стоящих один на одном платяных сундука, скатанная постель и лютня, висящая на стене, подсказали ему, что он действительно находится в комнате убитой девушки. К счастью, здесь не было ни души — ни живой, ни мертвой. Проверив дверь, Тора обнаружил, что она заперта. Он быстро обыскал комнату. Кроме содержимого сундуков и нескольких разбросанных безделушек, вещей было мало. Одежда в сундуках была разложена на стопки по сезонам. Тора очень удивился, найдя в весеннем и зимнем сундуках не только легкие хлопковые кимоно, но также и шелковые. Так, в летнем сундуке он обнаружил исподнее из шелковой ткани, два отреза голубого с отливом и персикового цвета шелка и роскошное кимоно оттенка цветущей сакуры. Сложив все обратно в том же порядке, Тора рассмотрел безделушки. Простенький деревянный гребешок с недостающими зубчиками лежал рядом с дорогим лакированным гребнем, украшенным росписью в виде золотистых хризантем. Было здесь несколько вееров, в основном бумажных и бамбуковых, но один, шелковый, с рисунком, изображающим пару уток под цветущим деревом сакуры, сразу привлек его внимание. В небольшом парчовом чехольчике хранились визитные карточки — росписи черной туши на красных листочках с золотистым напылением. Разглядывая их, Тора даже присвистнул и спрятал чехольчик себе за пазуху. Еще раз окинув глазами комнату, он низко поклонился невидимому духу мертвой девушки, задул фонарь, осторожно выбрался наружу и спустился вниз. Снова очутившись на улице, Тора вздохнул свободнее. Он не мог противостоять настойчивому желанию заглянуть к Мичико. К немалому удивлению Торы, она была дома и ждала его. Хмурясь и свирепо вращая глазами, он осведомился: — Ну что, вволю натешилась с этим ублюдком из шелковой лавки? — С кем? С Куратой? Да ты с ума сошел! Я весь вечер играла для компании торговцев рисом. — Я видел, как он трогал тебя. Он желал тебя, и ты пошла с ним в его комнату. — Никуда я не пошла. Разве что только до задней двери, ведущей к соседнему заведению. Торговцы рисом собирались там. Но я признаю, что Курата вел себя сегодня странновато. Раньше он не обращал на меня внимания. Да я в общем-то и рада, потому что он мне не нравится. Нехороший он человек. — Что ж тогда не дала ему отпор? — Тора посмотрел на Мичико с подозрением. Она рассмеялась: — Ох, Тора! А ты, оказывается, ревнивец! — В голосе ее прозвучала чувственная хрипотца. — Ты мой тигр! Неужели ты не понял, что я не подпущу к себе ни одного мужчину, пока ты желаешь меня? — И с этими словами Мичико бросилась в его объятия.
Глава 13 Царственный монах
Как и предсказывал Кобэ, силы возвратились к Хирате сразу же, как только капитан ушел. Старый профессор отказался от предложения Акитады проводить его домой, сославшись на дела. — Не беспокойся за меня, — сказал он, суетливо шаркая по кабинету. — Такие приступы случаются у меня в минуты раздражения. Сразу все скручивает внутри. К счастью, они никогда не длятся долго. Кстати, не говори, пожалуйста, об этом случае Тамако. Акитада усомнился в этом, однако не имел ни малейшего желания досаждать Тамако своим присутствием, изображая пылкого воздыхателя с разбитым сердцем. Встревоженно наблюдая за своим старым другом, он заметил: — Мне не нравится ваш вид. Вам нужно хорошенько отдохнуть. Эти дурацкие каверзы Кобэ продолжатся. Ступайте домой и проведите там несколько дней. Я заменю вас на занятиях. Но Хирата упорствовал — легкое недомогание, и ничего больше. Что же касается Кобэ, то самое худшее он уже сделал. Теперь, считая его невиновным, он вряд ли будет приставать к нему в связи с убийством Оэ. Акитаде пришлось согласиться. На следующий день он все еще находился под впечатлением от чудовищных обвинений Кобэ. Однако Акитада напомнил себе, что полицейский капитан не так глуп, как кажется. Он быстрее, чем Акитада, выявил факт подтасовки экзаменационных результатов и сразу связал это с убийством Оэ. Судя по всему, Кобэ вполне способен раскрыть эту тайну до конца. Акитада не сомневался, что своими несправедливыми обвинениями Кобэ намеревался добыть побольше информации. И его метод сработал. Позавтракав, Акитада нанес неизменный визит к матери. Та всем своим видом показала ему, что он еще не прощен. После обычного обмена любезностями он вернулся в свою комнату, где нашел Тору. Тот оживленно беседовал с Сэймэем, готовившим для выхода платье Акитады. — Силы небесные! — воскликнул Акитада, увидев усталые, покрасневшие глаза Торы. — Сдается мне, ты и сегодня не спал. Что за необходимость в таком отчаянном веселье? — Простите, господин, — усмехнулся Тора. — Постараюсь урвать днем времечко и вздремнуть. А причина у меня есть, и хорошая. Я слышал, вам теперь предстоит разбирать еще одно жуткое убийство. Видать, какой-то демон гуляет по университету. — Это дело расследует капитан Кобэ, а меня попросили не вмешиваться. Я работаю над делом Нагаи. Кстати, что тебе удалось выяснить? Тора поведал о своих приключениях с воздушными змеями. — Смышленый мальчонка, все налету схватывает, — сообщил он, не скрывая удивления. — Никогда не подумал бы, что такие изнеженные мальчикимогут носиться как ветер. Акитада улыбнулся: — Мальчики из его класса упражняются во многих вещах. Их учат верховой езде, стрельбе из лука, поединкам на мечах и игре в мяч. А что насчет этой девушки Омаки? Тора дал хозяину подробный отчет о своем разговоре с девочкой-служанкой и с женой зонтичных дел мастера. Его описание образа жизни последней и ее сомнительных прелестей было столь красочным, что Акитада, жалея уши Сэймэя, воскликнул: — Хватит! Давай лучше рассмотрим факты! Сдается мне, она тут вряд ли виновата, потому что с таким же успехом могла бы убить падчерицу и дома. А ее интерес к получению денег делает из этой женщины ненадежного свидетеля. Попробуй все же поговорить с ее мужем. Тора вздохнул с облегчением: — Фу-ух! Хвала небесам! Все-таки мне нравятся другие женщины. Ну так вот, а потом я пошел прямиком в «Старую иву» и побеседовал там с тетушкой. Она знала, что Омаки встречалась с Кроликом и брала уроки у профессора-лютниста. Она сказала, что ребеночек был от Сато, но как раз в этот момент к нам влетела одна из гейш, некто госпожа Сакаки, и эти слова ее порядком расстроили. Я-то потом припомнил, что эта же женщина как-то странно вела себя позапрошлым вечером, когда я спросил ее об Омаки и Сато. — Вот оно что! А как выглядит госпожа Сакаки? — О-о! Выглядит она прекрасно, гораздо моложе своих лет. А лет ей, наверное, за тридцать. Стройная, худая, но не то чтобы совсем худая — вы, конечно, понимаете, о чем я. Волосы красивые, убраны в прическу. Мичико говорит, она талантливая музыкантша, и тетушка, похоже, жалеет ее. Дает работу, потому что той нужно заботиться о муже, детишках и стариках-родителях. Это я узнал, но потом мне пришлось уйти, потому что явилась эта свинья торговец шелком, и все женщины бросились встречать его, словно он сам император. У него водятся деньжата, вот они и вьются вокруг него, особенно после того, как он пропадет на несколько дней. Люди говорят, дома он у жены под каблуком. Ходят слухи, она задает ему трепку всякий раз, когда он волочится за очередной юбкой. Надеюсь, что это так. Пусть колотит — так этому трусу и надо! Акитада начал терять терпение. — Можно нам получить голые факты, относящиеся к убийству девушки, а не выслушивать, как ты описываешь жизнь проституток? Сэймэй усмехнулся, а Тора напомнил хозяину: — Между прочим, вы сами послали меня туда. Я пытался выудить для вас полезные сведения. Шли бы тогда туда сами и разбирались бы, кто да что. Кстати, я потом вернулся в дом зонтичных дел мастера. Там все уже спали, и я забрался наверх, в комнату убитой девушки. — Тора рассказал, что обнаружил там, и протянул хозяину парчовый чехольчик, набитый карточками с чьими-то росчерками. Акитада несказанно обрадовался. — Похоже, он из той же парчи, что и пояс, которым ее задушили, — заметил он. — Изделия из такой превосходной дорогостоящей ткани может подарить только очень состоятельный человек. — Что верно, то верно. Уж это я на себе проверил, — согласился Тора. — Этот ублюдок Курата вышвырнул меня из своей лавки, когда я хотел купить что-нибудь для своей подружки. Видать, считает, что такая рвань, как я, не имеет права даже пощупать его товар. Акитада изогнул брови. — Этот человек — грубиян. Забудь о нем. — Он открыл чехольчик и вытряхнул из него ярко-красные карточки. — Весьма и весьма красивый почерк, — пробормотал Акитада. — Сам-то я прочесть не смог. — Тора пожирал хозяина нетерпеливым взглядом. — Подумал, что ей дал их любовник. Имя-то там можно прочесть? Акитада улыбнулся, передал добычу Торы Сэймэю. — Вынужден тебя расстроить, Тора. Ты, конечно, полагал, что нашел карточки убийцы, а на самом деле Омаки, играя на лютне, использовала их для привлечения клиентов. Здесь она представляется как «Певчая птичка в ивовой листве» и сообщает, в каком питейном заведении ее можно найти под этим именем. Вернув карточки, Сэймэй презрительно поморщился: — Весьма неприлично для женщины, особенно такого сословия. Только мужчины, занимающие высокое положение в обществе, могут использовать такие карточки. Тора взял в руки одну и начал разглядывать ее, потом удивленно спросил: — Она что, сама это писала? Акитада покачал головой: — Вряд ли. Тут чувствуется рука каллиграфа, и притом написано по-китайски. Но признаю, это было очень предприимчиво с ее стороны. Вероятно, она надеялась выступать только в лучших заведениях. Подозреваю, что это писал юный Нагаи. Странно только, что карточки не принесли пользы. Работу Омаки потеряла, а с Нагаи рассталась. Насколько я понимаю, про свадьбу ты ничего не слыхал? Тора покачал головой: — Нет. Девочка-служанка говорит, что мачеха называла Омаки шлюхой. Акитада задумчиво подергал мочку уха. — Как, интересно, она могла пренебречь будущим, работой, предложением бедного Нагаи выйти за него, нимало не беспокоясь о том, что вскоре ждет ее? Тора кивнул: — Мы с тетушкой тоже удивлялись этому. Мичико говорила, что Омаки чему-то очень радовалась перед смертью. — Думаю, нам следует искать отца нерожденного ребенка Омаки, — сказал Акитада. — В этом смысле веселый квартал — самое многообещающее место. И я должен извиниться за то, что отругал тебя. Ты сделал все правильно. В следующий раз, когда пойдешь туда, постарайся выяснить, не проявлял ли кто-то из клиентов особого интереса к этой девушке. Тора устремился к выходу. — Подожди! — остановил его Акитада. — Есть еще одно дело. Более срочное. Помнишь старика нищего, которого капитан Кобэ арестовал за убийство? — Тора кивнул, и Акитада продолжил: — Старика выпустили, и теперь я боюсь за его жизнь. Надо бы разыскать его и привести сюда. В восточном отделении полиции могут знать, где он. Он часто заглядывает туда. Когда Тора ушел, Акитада сказал Сэймэю: — Теперь я жалею, что сокрушался из-за отсутствия острых ощущений. Кто бы подумал, что на мою голову свалится целых три убийства, при том что я понятия не имею, как подступиться хотя бы к одному из них. Сэймэй протянул хозяину разглаженное платье. — Три убийства? Их вроде бы только два — девушка и профессор Оэ. Акитада скинул домашнее платье и просунул руки в рукава выходного кимоно. — Ты забыл про принца Ёакиру. — Он завязал пояс. — Лучше бы вы забыли про принца Ёакиру. Опасное это дело. Да и два других случая я бы на вашем месте оставил полиции. — Пусть я сейчас похож на кое-кого из моих нудных коллег, но все уперлось в поиски убийцы. Кобэ, похоже, просто не до конца осознает это. Уверен, ему еще не ясна ситуация, приведшая к убийству Оэ. Но в любом случае меня попросил о помощи Нагаи. Ему больше не к кому обратиться, поэтому я постараюсь сделать все от меня зависящее. Сэймэй протянул хозяину шапку и мрачно напутствовал его: — Помните только о поговорке: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.В университете, несмотря на убийство, жизнь шла своим чередом. Хирата явился на занятия и выглядел почти как обычно. Проводить утренние уроки оказалось задачей нелегкой, так как взбудораженные студенты то и дело перешептывались. Акитада наконец не выдержал и отменил последнее занятие первой смены, решив размять ноги и пойти домой пообедать. Он уже откладывал в сторону книги, когда вдруг заметил, что один из учеников сидит на месте. — Садаму? — Акитада назвал мальчика по имени, ибо в сложившейся ситуации официальный тон казался ему не совсем уместным. Мальчик поклонился. — Ты хотел что-то мне сказать? — Да, господин. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы послали ко мне своего слугу. За это я весьма признателен вам. Он оказался очень умелым по части запускания змеев и устроил мне настоящее увеселение. Акитада постарался скрыть улыбку, вызванную этим степенным тоном. — Рад это слышать. Тора столь же высоко отзывался о вас. Мальчик просиял. — Правда? Я хотел бы нанять его к себе в услужение, если вы сможете обойтись без него. Скоро я начну получать содержание и буду ему хорошо платить. — Ваши слова удивляют меня. Вам придется поговорить об этом с самим Торой. Он человек свободный, пусть сам выбирает хозяина. — Понимаю. Просто он признался, что поступил к вам на службу совсем недавно, иначе я не позволил бы себе сделать такое предложение. Тора рассказал мне, как вы познакомились. — Мальчик искоса глянул на Акитаду и добавил: — Кажется, он человек очень преданный. — У Торы много прекрасных качеств. — Но преданность — наиболее важное качество для слуги. Вы согласны? — Да. И еще привязанность. Эта мысль, судя по всему, была новой для маленького князя. Он задумался, потом кивнул. — Такие чувства, как привязанность вассалов, ко многому обязывают господина, — сказал он. — Обязывают его защищать их. — Акитаду смущало, что беседа приняла такой оборот. Уж не намекает ли мальчик на его бедность, на то, что ему не по карману такой слуга, как Тора? Но молодой князь Минамото продолжал с неожиданной страстью: — Когда мой дедушка умер, этот долг — заботиться о вассалах — он передал мне. Но как мне выполнить свой долг перед моими людьми, если меня держат здесь как пленника и я не имею в своем распоряжении ни одного самурая и даже просто слуги?! Никто не приготовит мне ни пищу, ни одежду! — И, беспомощно сжав кулачки, он заплакал. — Как же я буду защищать своих людей?! Акитаду поразил такой взрыв чувств. Глядя в глаза мальчика, выражающие страдание, он нерешительно сказал: — Уверен, ваши подданные ждут, что вы возьмете на себя эту ношу, но только когда повзрослеете. А пока другие позаботятся о вашем семейном долге. К тому же здесь, в университете, никому не разрешено держать при себе самураев и личных слуг. Мальчик рассердился: — Вы не понимаете! Мое законное место занял Сакануоэ. Это он заточил меня здесь. Это сделано вовсе не по дедушкиному завещанию. Дома у меня были личные наставники. А теперь одному только небу известно, что этот злодей творит с моими людьми… и с моей сестрой. — Метнувшись к стене, Минамото заколотил по ней кулачками в беспомощной ярости. Акитада подождал, пока мальчик успокоится. Когда тот затих, голова его поникла и он безвольно опустил руки, Акитада невозмутимо спросил: — У вас есть доказательства того, что князь Сакануоэ не выполняет условий дедушкиного завещания? Мальчик обернулся. Его полные слез глаза сердито сверкнули. — Мне не нужно доказательств. Мне достаточно дедушкиного слова! Дедушка ненавидел его, называл выскочкой и подозревал, что он обкрадывает нас. Он предостерегал меня от этого человека и просил не давать ему никакой власти. Акитада вздохнул. — Князь Сакануоэ назначен вашим опекуном, — напомнил он ребенку. — Чтобы избавиться от его опекунства, вам придется выступить против него в суде и там доказать его неправомочность. А поскольку вашего дедушки нет и он не может свидетельствовать в суде, ваше слово будет против слова Сакануоэ. После этого они долго молчали. Мальчик наконец сказал: — Тора говорит, что вы распутываете самые сложные преступления, которые не под силу никому другому. Я хочу, чтобы вы расследовали убийство моего дедушки. Возьметесь за это? Акитаде показалось, что он ждал этого предложения с тех пор, когда впервые услышал о странных обстоятельствах смерти принца. Скрыв возбуждение, он невозмутимо ответил: — Не знаю. Полагаю, вам тогда следует рассказать мне, что произошло. — Значит, вы согласны с тем, что это было убийство? — Это больше похоже на убийство, чем на чудо. Глаза мальчика засияли от облегчения. — А что именно вы хотите знать? — Все, что вспомните из событий до и после исчезновения вашего дедушки. Как я понял, вы подозреваете князя Сакануоэ. Возможно, в таком случае лучше начать с него. — Хорошо. — Мальчик распрямил плечи. — Сакануоэ управлял нашим имением. До него эту должность занимал его отец, а еще раньше отец его отца. Она передавалась по наследству. Мои предки и дедушка всегда доверяли клану Сакануоэ и хорошо вознаграждали их за службу. Но когда у нас в запасниках стал сокращаться объем зерна, а Сакануоэ начал приобретать земли, у дедушки возникли подозрения, и он вызвал его в столицу вместе со счетами. Мне это известно от самого дедушки. Как раз тогда он и предостерег меня от этого человека. Дедушка очень рассердился на него, но я подумал, что Сакануоэ как-то выкрутился с этими недостачами, потому что дедушка собирался снова отправить его в поместье. А потом, за день до дедушкиной смерти, между ними состоялся ожесточенный спор, предметом которого была моя сестра. Акитада перебил мальчика: — Откуда вам это известно? Вы присутствовали при этом? Маленький князь покачал головой, потупившись и глядя на стиснутые на коленях кулачки. Проглотив тяжелый ком в горле, он ответил: — В дедушкином доме у меня были свои покои. В тот день я находился в саду и видел, как носятся сломя голову слуги. Потом дедушка выбежал из своей комнаты и устремился по галерее к дому моей сестры. Я сразу понял, что он очень сердит, поэтому стоял и ждал. Когда дедушка бежал обратно, он крикнул, чтобы позвали Сакануоэ. — Мальчик замолчал и с вызовом посмотрел на Акитаду. — Я пошел на дедушкину веранду, чтобы послушать. Он кричал на Сакануоэ, но слов я не слышал. А потом Сакануоэ вышел, и вид у него был… как у злобного демона. — Понятно. А что с вашей сестрой? Вы говорили с ней? — Нет. Я не виделся с сестрой больше месяца. Даже не знаю, жива ли она. Сакануоэ утверждает, что женился на ней. — Последние слова мальчик произнес, захлебываясь от ярости. — Да, я тоже слышал об этом. А теперь расскажите, что было дальше. Зачем ваш дедушка отправился в горный монастырь, когда в семье происходили такие неурядицы? — Когда умер мой отец, дедушке приснился сон. Во сне к нему явился мой отец и велел ему молиться за него каждый первый день четвертого месяца на рассвете, иначе наш род оборвется на мне и вымрет. С тех пор дедушка каждый год выполнял эти указания. — Силы небесные! — Акитада в ужасе посмотрел на мальчика. — И вы собираетесь продолжить эту традицию? — Конечно. — Голос мальчика звучал неуверенно. — Если останусь жив. Воцарилась мрачная тишина. Конечно… Если… Этот ребенок явно стоял между Сакануоэ и одним из богатейших и огромнейших земельных владений в стране. В какой-то момент Акитада даже усомнился, выполнял ли на самом деле принц предписанный ритуал. Он спросил у мальчика: — Как вам рассказывали о событиях в монастыре? Мальчик вскинул голову. — Что дедушка вошел в святилище и долго не выходил оттуда. А потом Сакануоэ и другие самураи открыли дверь, но дедушка исчез. Они в один голос утверждали, что его, должно быть, забрали к себе боги, поскольку другого способа покинуть храм не было. — Кто это «они»? — Дедушкина свита — Сакануоэ, самураи, слуги и несколько его друзей. — Мне нужны их имена. Они что, все ждали его за дверью и были свидетелями его исчезновения? — Да. Во всяком случае, они так сказали. — Но вы знаете, что их должны были тщательно допросить, прежде чем император благосклонно отнесся бы к этой идее с чудом? — Сакануоэ словно околдовал его величество. Жаль, что меня там не было! Жаль, что я не ждал вместе с другими, когда дедушка выйдет из святилища! Жаль, что я не поговорил с ним напоследок. Но ведь я не сомневался, что увижусь с ним на следующий день. Я должен был ехать с ним в одной повозке. Он прислал мне записку, в которой велел лечь спать пораньше, чтобы с утра быть готовым к путешествию. — К путешествию? К какому путешествию? — удивился Акитада. — На следующий день мы собирались выехать в провинцию, в поместье. Дедушка хотел сам осмотреть владения и удостовериться, что в будущем нам не грозят недостачи. — Мысль поехать в поместье пришла к нему неожиданно? — Да. Слуги тогда, помнится, сетовали в один голос. Вы не представляете, какая поднялась суета, когда укладывали вещи. Везде стояли сундуки и ящики, во дворе телеги и повозки, корзины и вороха одежды, скатки с постелями — все это я увидел, когда проснулся утром. — Значит, вы были уже на ногах, когда пришла весть о смерти вашего дедушки? — Да. Военачальник Сога, один из самураев дедушки, сопровождавших его в монастырь, прискакал с криками и стучался в ворота. Лошадь его была вся в мыле, а сам он почти падал от усталости. Я услышал шум и выбежал посмотреть, что случилось. Он увидел меня и завел в дом. Там Сога сообщил мне, что дедушка исчез. Позже, вместе с другими приехал Сакануоэ. Он сказал, что боги забрали дедушку к себе и мы должны радоваться этому и возвести в его память святилище. А еще он сказал, что отныне он мой старший брат, так как женился на моей сестре. Я обвинил его во лжи и плюнул ему в лицо. Тогда он ударил меня и запер в моей комнате. А еще позже в тот же день отвез меня сюда. — Это, наверное, было ужасно. Мне очень жаль. — Акитада положил руку мальчику на плечо, но тот отодвинулся. — Я знаю, что Сакануоэ убил моего дедушку! — воскликнул Минамото. — И вы докажете это! Тогда я возьму власть в нашем клане и вознагражу. — Разумеется, я попытаюсь. — Тора сообщил мне, что вы работаете над делом Нагаи, — продолжал мальчик. — Я уверен, что он невиновен, и этот вопрос не отнимет у вас много времени и сил. А как обстоит дело с убийством профессора Оэ? Вы и в этом расследовании принимаете участие? — В настоящий момент — нет. — Прекрасно! — Маленький князь поднялся. — В таком случае вы можете заняться Сакануоэ незамедлительно. И помните, что вас ждет награда. — Учтиво поклонившись Акитаде, он вышел из класса. Акитада смотрел ему вслед и тихо смеялся. Ишь ты, награда! Похоже, юный князь Минамото вошел в роль важной особы, привыкшей отдавать приказы. И все же то, что мальчик осознает свой долг, вызывало восхищение. А сколько смелости он проявил, бросив вызов Сакануоэ! По зрелом размышлении Акитада решил, что этого ребенка ждет великое будущее. На обед домой Акитада уже не попадал, поэтому послал слугу на кухню за дневной порцией риса и съел ее в одиночестве в своем кабинете. Когда он закончил трапезу, явился Хирата. Акитада с тревогой заметил, что у старика опять усталый и измученный вид. — Ну? Как сегодня ваше самочувствие? — спросил Акитада. — Вы напугали меня вчера. — Да пустяки. Я уже оправился. Обычное несварение, что и немудрено в таком возрасте. Вообще-то я зашел сказать тебе, что Сэссин объявил собрание. Надо бы пойти. — Сэссин? — удивился Акитада. — Да. Настоятель храма Чистой Воды и ректор университета. Он также профессор буддизма, но эту свою обязанность выполняет не слишком рьяно, поскольку предпочитает жить в своем загородном доме, который намерен превратить в храм. Именно оттуда он и приехал примерно час назад, прослышав об убийстве Оэ. Никто не сомневается, что Сэссин снова исчезнет, как только назначит на место Оэ нового человека. — Да уж, не ахти какая преданность родному заведению, — с сарказмом заметил Акитада, поднимаясь и оправляя платье. Даже в лучшие времена он питал мало уважения к буддийскому духовенству, а только что упомянутого господина считал законченным бездельником. — Как там Оно? Вернулся? Не он ли займет место Оэ? Хирата с сомнением покачал головой: — Понятия не имею. Хотя Оно ждал такого случая уже давно. Думаю, только по этой причине он и сносил все оскорбления и унижения от Оэ. Но ему далеко до Оэ, и Сэссин знает это. Они направились в буддийский храм, обсуждая по дороге, как повлияло убийство на обычный университетский распорядок. Потом Акитада сказал: — Кстати, я недавно разговаривал с юным Минамото. Он попросил меня заняться делом об исчезновении его деда. Мальчик уверен, что принца убил Сакануоэ. Потрясенный Хирата остановился: — Князь Сакануоэ? Ох, Акитада, пожалуйста, не впутывайся в то, где все держится лишь на фантазии ребенка! Поговаривают, что Сакануоэ может в ближайшее время занять пост главного министра. Объявив во всеуслышание о своей солидарности с мальчиком и его обвинениями, ты подвергнешь себя огромному риску. Тебе нужно обсудить это с Сэссином. Акитада рассмеялся: — Говорить с монахом? Уж с кем, с кем, а с ним я стал бы советоваться в последнюю очередь. Хирата нетерпеливо мотнул головой. — Я знаю, какую неприязнь ты питаешь ко всему, что связано с религией, но в данном случае тебе все же следует понять, кто такой Сэссин. Он еще один сын императора Мураками и единоутробный брат принца Ёакиры. Таким образом мальчик — его внучатый племянник. Акитада изумился. До сих пор он полагал, что у мальчика не осталось никого из родственников мужского пола. — Садаму — внучатый племянник Сэссина?! — переспросил он, словно не веря своим ушам. — Да как же мог этот господин отвернуться от несчастных детей? Что он вообще за человек? Хирата ускорил шаг. — Пойдем, и скоро сам все выяснишь. Они подошли к храму, двери которого были открыты. Кто-то выглянул наружу и помахал им. Они поспешили войти. Акитада давно не был в этом маленьком уютном храме. Внутри он выглядел обманчиво незамысловатым — голые стены и красные лакированные колонны, подпиравшие темный деревянный свод. Украшал его только резной бордюр в виде фигурок журавлей, раскрашенных в черно-белые цвета с красными пятнышками хохолков на головах. За помостом, на котором лежала единственная подушка, обтянутая пурпурным шелком, висели на стене пять растянутых свитков с изображением буддийских божеств. Перед каждым из свитков стояли изящные, покрытые черным лаком столики с серебряной утварью для отправления ритуалов. Зал был почти полон. Не видно было только самой августейшей персоны. Вернулись даже неуловимый Фудзивара и запропастившийся куда-то Оно. Они поздоровались с Оно. Акитада предполагал, что того терзает горе, но бывший помощник Оэ держался бодро, весело и щеголевато. Возможно, ему уже намекнули, что он станет преемником Оэ? — подумал Акитада. Они обменялись обычными в таких случаях соболезнованиями по поводу смерти Оэ. При этом Оно не потрудился объяснить причины своего отсутствия, а задавать ему этот вопрос не имело смысла. Когда Хирата отвлекся, заговорив с кем-то из собравшихся, Акитада сказал: — На вас свалилось столько забот. Не воспользуетесь ли вы помощью Исикавы? Кстати, я не видел его со времени поэтического состязания. — У меня нет ни малейшего желания пользоваться его услугами, — сухо ответил Оно. — Может, китайский он и знает, но манеры его никуда не годятся, и положиться на него совершенно нельзя. Вы только представьте, куда-то исчез, не потрудившись даже оставить записку, сообщить, где он и когда вернется! — Я не исключаю, что его мог «отловить» Кобэ, — сказал Акитада и тут же пожалел о своих словах. — Ведь вы с Исикавой были последними, кто видел Оэ живым в тот вечер, не правда ли? Глазки Оно нервно забегали. — Мы проводили Оэ только до дороги Мибу. Он сослался на какие-то частные дела и велел нам возвращаться обратно и проследить, чтобы состязание провели должным образом. — Понятно. — Акитада решил копнуть глубже. — Но я не видел, чтобы кто-то из вас вернулся туда. Оно напрягся, в глазах его вспыхнула злость. — За Исикаву я не отвечаю и сам не обязан отчитываться перед вами. Впрочем, если вас это так интересует, то извольте. После того, что произошло, я чувствовал себя неловко, мне не хотелось появляться на людях, и я стоял за углом возле боковой лестницы. — Прищурившись, Оно добавил: — Кстати, я видел, как вы уходили. Перед началом последнего отделения. — Прошу меня извинить. — Акитада поклонился. — Я сказал не подумав. Оно ответил ему коротким кивком. Акитада побрел прочь, отметив, что жалкий и ничтожный еще в недавнем прошлом червь уже успел натянуть на себя драконью чешую. А может, этот Оно всегда был ядовитым змеем, лишь принимавшим облик безобидного существа? Оглядевшись, он подошел к Нисиоке, который беседовал с Фудзиварой. А тот, казалось, порядком растерял свое возбужденное и неизменно хорошее настроение и теперь выглядел усталым и раздраженным. Зато у Нисиоки глаза сверкали. Он был веселее, чем кто-либо из присутствовавших. Заткнув пряди волос в неаккуратный узел на макушке и почесывая подбородок, он сказал Акитаде: — Я только что объяснял нашему другу, что ему не следует волноваться — никто не арестует его из-за убийства Оэ. Поразмыслил я хорошенько и решил — такой человек, как он, не способен на столь чудовищное убийство. Даже под влиянием аффекта он не совершил бы такого изуверского деяния, не подумав о своей безопасности. — Ну, спасибо за такие слова, — проговорил Фудзивара. На щеке его до сих пор виднелись следы от ногтей Оэ. К тому же он почему-то так и не переоделся. Заметив на рукаве у него пятна крови, Акитада удивился — неужели у этого человека всего одно кимоно? А между тем Фудзивара продолжал: — Только вот как объяснить полицейскому капитану, что я не поссорился с Оэ еще раз в храме Конфуция и не вышел там из себя? Нисиока покачал головой: — Такое невозможно! Вы не стали бы привязывать его к статуе. Просто разгромили бы там в ярости что-нибудь и удрали, чтобы напиться до беспамятства. Фудзивара усмехнулся: — Смотрю, у меня уже сложилась определенная репутация. Ну хорошо, а кто же тогда, по-вашему, способен на такое убийство? — По меньшей мере два человека. — Нисиока криво ухмыльнулся. — Правда, в одном случае я пока не понял, как бы он мог это сделать, не имея… — Он не договорил, потому что в зале все вдруг затихли. Боковая дверь отворилась, и на пороге появился его преподобие. Внешность царственного монаха отнюдь не располагала к нему. Непомерно толстый, он был в черном шелковом кимоно, какое обычно носило духовенство. Золотисто-зеленая парчовая перевязь была перекинута у него через одно плечо и необъятных размеров живот. Переваливающейся походкой он взошел на помост и, громко крякнув, плюхнулся на подушку. Все собравшиеся низко поклонились. Акитада украдкой взглянул на него, и его взору предстали круглое, как луна, лицо с крошечными, глубоко посаженными глазками под тяжелыми веками и маленький вялый рот. Сэссин бесстрастно окинул взглядом склоненные перед ним спины. Акитаде этот человек показался каким-то уж слишком оголенным. И не только за счет бритой головы. На гладком круглом лице с тройным подбородком совсем не было бровей. Мочки огромных ушей свисали почти до плеч. Быть может, причиной тому была устойчивая неприязнь к буддийскому духовенству, но Акитада вдруг подумал, что сама идея назначения на должность ректора университета такого испорченного человека, избалованного члена императорской семьи, погрязшего в роскоши и праздности, еще одно доказательство слабости нынешнего правительства. Жирный монах прокашлялся и тихим невыразительным голосом проговорил: — Благодарю вас всех за то, что пришли. Пожалуйста, садитесь. — Собравшиеся зашаркали ногами и зашелестели платьями. Окинув их взглядом, Сэссин все так же негромко и вяло продолжал: — Недавние события потребовали моего присутствия здесь, и я, пользуясь случаем, намерен сделать несколько сообщений. — В зале стояла глубокая тишина, все напряженно слушали. Акитада с раздражением отметил, что лень не позволяет этому человеку даже повысить голос. А между тем тот продолжал: — Печальное событие, смерть нашего коллеги нарушила мой и ваш распорядок, однако мы должны попытаться исправить положение. Разумеется, вы продолжите занятия со студентами и окажете всяческое содействие полиции. Оно временно будет читать лекции по китайской классической литературе. Подходящего помощника для него я выберу. Как обычно, во время пребывания здесь я прочту несколько лекций о священных текстах. Кроме того, каждый день сразу после обеда я буду толковать сутру Великой Мудрости. Пожалуйста, сообщите это своим студентам. На этом все. — Сказав это, он кивнул, встал и вышел. Как? Неужели это все?! Акитада еще несколько мгновений сидел потрясенный, тогда как его коллеги, вскочив с мест, начали оживленно переговариваться. Раздражение Акитады сменилось холодной яростью. Его охватило негодование. Не успев понять, что делает, Акитада поднялся и последовал за священнослужителем. В длинном темном коридоре, куда слабо пробивался отдаленный дневной свет, он увидел впереди грузную фигуру монаха. Тот зашел в какую-то комнату и закрыл за собой дверь. Акитада открыл ее и вошел. — Я хочу поговорить с вами. — И, неохотно смягчив тон, добавил: — Ваше преподобие. Сэссин, стоявший к нему спиной, снимал с себя перевязь. Медленно повернувшись, он несколько мгновений разглядывал Акитаду. — Вы, должно быть, Сугавара. Насколько я помню, резкость — семейная черта Сугавара. Пожалуйста, присаживайтесь. Акитада кипел от возмущения. Этот человек бросил на произвол судьбы двух беспомощных детей. — То, что я скажу, не займет много времени. Я только что узнал, что вы брат покойного принца Ёакиры. Сэссин неторопливо свернул парчовую перевязь и положил ее на специальную полочку, помимо которой в комнате было не так уж много предметов — пара подушек на полу, низенький столик с лежавшими на нем деревянными четками, богато украшенный ящичек с сутрами и жаровня с чайником. Монах опустился на подушку рядом с ней. — Вы уж простите меня за то, что сижу. Я человек пожилой. Я бы предложил вам чашку чаю, но ведь его не пьют стоя. Вы же, молодежь, не даете себе покоя, все куда-то спешите. — Большинство из нас просто не имеют этой привилегии, — язвительно заметил Акитада. — Извините за внезапное вторжение, но я не нарушу надолго ваш покой. Ваш внучатый племянник, князь Минамото Садаму, сейчас обучается здесь, и сегодня утром я имел с ним продолжительный разговор, касавшийся того, что по меньшей мере вызывает тревогу. — Надеюсь, этот лоботряс не дал вам повода для жалоб? — невозмутимо осведомился Сэссин. — Отнюдь. Напротив, он чрезвычайно умный и одаренный мальчик, у него не по возрасту развитое чувство ответственности. Поэтому-то я и пошел навстречу желанию Минамото, просившего меня расследовать смерть его дедушки. Сэссин, вздохнув, потянулся за четками. На слова Акитады он не ответил и манеры своей не изменил. Напротив, он казался теперь даже более безразличным. Маленькие, глубоко посаженные глазки прикрылись тяжелыми веками, будто он уснул. — Неужели вам нечего сказать? — не выдержал Акитада. — Я надеялся, что вы проявите интерес к внукам своего брата! Они остались совсем одни на свете, и, если не ошибаюсь, их жизни угрожает опасность. — Но, не услышав ответа от монаха, Акитада направился к двери. — Простите, я ошибся, — сказал он. — Постойте, — проговорил у него за спиной тихий невыразительный голос. Акитада, уже держась за дверную ручку, остановился и обернулся через плечо. Черные, как тлеющие угольки, глазки прожигали его насквозь. — Вы самым бесцеремонным образом позволили себе нарушить покой, обретенный мной немалым трудом. Потерять брата для меня все равно что потерять себя. Моя вера пошатнулась, и душа моя утопала в слезах. Я вернулся в этот мир, чтобы провести поминальную службу, и тогда же мне сказали, что дети находятся в добрых руках и добровольно выбрали себе дальнейший путь в жизни. После поминальной службы я вернулся в горы, чтобы испросить помощи у Будды; я молил его освободить мое сердце и душу от воспоминаний. Я открываю вам все это не потому, что обязан объясняться с вами. Но я благодарен вам за то, что мой внучатый племянник нашел друга в лице учителя. А теперь ступайте с миром. Акитаде хотелось возразить, но он понимал, что это бесполезно и даже опасно. Закусив губу, он поклонился и вышел.
Глава 14 Ворота смерти
Поскольку госпожа Сугавара решила устроить обычную ежегодную уборку в семейном амбаре, Тора не мог выбраться в город почти до самого вечера. Наконец, освободившись и собравшись идти на поиски старика нищего, он первым делом направился в полицейское отделение восточного округа столицы, находившееся неподалеку от университета. Прямо у ворот он заявил о цели своего прихода, отчего стражник сразу оживился. — Эй, ребята! — крикнул он. — Здесь какой-то человек спрашивает о старом Юмакаи. Стражники и полицейские окружили Тору. Все в один голос выражали беспокойство за старика — Юмакаи был их любимцем, и без него они скучали. Обычно он являлся к обеду, который они сообща устраивали ему, пустив по кругу его миску, пока та доверху не наполнялась едой. Сейчас они все тревожились, поскольку старик, выйдя из тюрьмы, заглянул к ним всего однажды, да и то ненадолго. Тора поинтересовался, а не может ли Юмакаи кормиться где-нибудь еще, например, у их коллег в западном полицейском отделении, но они уверили его, что у тамошних людей каменное сердце — всех нищих и бродяг они сажают за решетку. В общем, никто не знал, куда запропастился Юмакаи. Тора поблагодарил их и обещал сообщить, если что-нибудь узнает. Он побрел по улицам, становившимся все более людными, время от времени спрашивая про старика нищего у лоточников и уличных музыкантов. Некоторые из них знали Юмакаи, но никто не видел его в последнее время. Только возле самого рынка Тора получил ответ на свой вопрос, и новость, которую он узнал, не была хорошей. На обочине Тора заметил немолодую проститутку; она топталась на месте в ожидании клиента. Для работы в веселом квартале она была уже не слишком привлекательна, вот и предлагала свое тело проходящим мимо поденщикам и мастеровым. Глаза ее сразу выхватили из толпы Тору, но по его чистому синему платью и черной шляпе она поняла, что для нее это птица слишком высокого полета. Тора подошел к женщине, смекнув, что та должна знать тех, кто, как и она, промышляет на улице, соперничая с ней из-за нескольких медяков. Вопрос Торы разочаровал ее, и она сказала, что не знает никакого Юмакаи. Но когда Тора направился дальше, она крикнула ему вдогонку: — Какого-то старика выловили сегодня утром из канала! У Торы екнуло сердце. — А ты откуда знаешь? — Откуда знаю? Да я сама там была! Увидела толпу зевак и пошла посмотреть, в чем дело. Мертвый он был. Маленький тощий старикашка. Может, пьяный напился, споткнулся и упал в воду. По-моему, городовой тоже так подумал — только глянул разок на него да и отдал приятелям, а те утащили мертвеца куда-то. Может, это и есть твой старик? Тора кивнул: — Похоже. А что это за приятели? Не знаешь, где их найти? Она рассмеялась: — Ишь ты! Да они рвань вроде меня. У нас ведь нет постоянного ночлега, как у тебя. — Она завистливо оглядела наряд Торы. — Мы спим где придется — на улицах, в западных трущобах или в старых развалинах. И главное, никогда не торчим на одном месте. — Она смерила Тору задумчивым взглядом. — Как я понимаю, немножечко удовольствия тебе получить не хотелось бы? — В другой раз. Я на работе. — Понимающе кивнув, она отошла в сторонку. — Постой! Если опишешь мне людей, которые уволокли тело, получишь десять медных монет. — Десять медных монет? — Она зарделась от радости. — Да за десять монет я тебе выложу и не такое! Мертвеца утащили Штырь и Гвоздь. Штырь — это здоровенный детина, лишился одной руки, и теперь у него вместо нее железный штырь. А дружок его тощенький мозгляк. Усекаешь? Штырь и Гвоздь! Хе-хе-хе!.. Да сдается мне, они даже знали заранее, что это будет за находка, так как привели с собой монаха, чтобы тот прочел молитву. Тора озадаченно смотрел на нее. На первый взгляд история казалась странной, но в ней могло что-то быть. Поблагодарив женщину, Тора отсчитал десять обещанных монет и положил в ее грязную ладонь. Она сначала любовно разглядывала деньги, потом крепко сжала их в кулаке и, кивнув в сторону заваленного мусором тупика у нее за спиной, предложила: — А то хочешь, пойдем, подергаю тебя за корешок? — Она шаловливо провела языком по губам и добавила: — Для тебя бесплатно! Тора покраснел. — Нет, спасибо. Я спешу — нужно выяснить, что случилось со стариком. Когда он повернулся, чтобы уйти, женщина крикнула ему вдогонку: — Могу побиться об заклад, что они отволокли его к воротам Расёмон! Расёмон! Тора содрогнулся. Да и как же иначе? Ведь все в городе знали, что бедняки, неспособные оплатить похороны, притаскивали своих умерших туда, а городские власти, накопив мертвецов, сжигали их на общем погребальном костре. Вот почему никто, кроме самых отъявленных головорезов, не отваживался наведываться в ворота Расёмон после наступления темноты. А между тем на улице потихоньку смеркалось. В действительности Расёмон были южными воротами города. Внушительного вида двухэтажную постройку с огромными красными колоннами, голубой черепичной крышей и беленными известью стенами возвели, чтобы пропускать всех приезжих. Попав через ворота Расёмон в город, они сразу оказывались на широкой и длинной улице Сузаку, разделенной посередине водным каналом и обсаженной по бокам ивами. Улица эта вела прямиком к воротам Сузакумон — входу в собственно имперский город. Если же вы покидали столицу через ворота Расёмон, то сразу же попадали на дорогу, ведущую в Кюсю, откуда путь лежал к экзотическим иностранным морским портам. Но ворота Расёмон переживали теперь тяжелые времена, как, впрочем, и сама столица. Городская стража редко заглядывала сюда, и ворота стали прибежищем бродяг, разбойников и головорезов всех мастей, стекавшихся сюда отовсюду, даже из дальних провинций. С наступлением темноты обычные люди избегали этого места, что превращало его в надежное укрытие для преступников. Полиция даже не смотрела в его сторону, и лишь дважды в неделю, в предрассветный час, городские власти посылали туда специальный отряд рабочих собрать накопившиеся трупы. Тора страшился наведаться на верхний этаж Расёмон, куда обычно сваливали мертвые тела, так же как побоялся бы побеседовать с самим властителем преисподней, но слова проститутки необходимо было проверить, да и хозяин с нетерпением ждал результатов. Уже не в первый раз за время службы у Акитады Тора убеждался, чего, как выяснилось, он опасался больше всего. Сверхъестественного. На этот раз он все-таки решил отложить на некоторое время то, что казалось неизбежным, и для начала отправился в дом зонтичных дел мастера. Отца Омаки Тора застал дома. Мастеровой Хисия, тощий лысеющий человечек лет пятидесяти с лишним, преждевременно сгорбился от работы, оставившей следы и на его узловатых, покрытых рубцами руках. Улыбаясь и низко кланяясь, он изо всех сил старался выразить благодарность Торе за то, что тот проявляет интерес к его погибшей дочери. Он расположил к себе Тору еще и тем, что ни словом не упомянул о кровавых деньгах. Жаль было только, что Хисия ничего не знал о знакомствах своей дочери. Когда многочисленные пробные заходы не принесли ничего, кроме недоумения и удивления, Тора огорченно воскликнул: — Но вы же ее отец! Неужели вам было безразлично, с кем она спит и чьего ребенка носит под сердцем?! Голова Хисии поникла. — Омаки была порядочной девушкой, но мы очень бедны. Она трудилась не покладая рук, играла на лютне, чтобы заработать на жизнь. Омаки была очень талантлива. Все, кто слышал ее игру, так говорили. Но мужчины, которых она развлекала в своем заведении музыкой, хотели большего, а оградить ее от них было некому. Так какое же право я имел пытать дочь вопросами и упреками, если сам настолько беден, что не мог обеспечить ей содержания? — Простите, — пробормотал Тора. — Но только как тогда объяснить, что она радовалась этому ребенку? Кажется, будто Омаки собиралась замуж за его отца. Хисия вздохнул: — Может быть. Я не знал этого. Я мало бываю дома, целый день продаю на рынке зонты и собираю бамбук для изготовления новых. Вам лучше спросить мою жену. У женщин, видите ли, свои секреты. Только сейчас ее нет дома. Тора поднялся. — Ничего страшного. Я похожу порасспрашиваю. Следующие несколько часов он провел в веселом квартале. Денек у него выдался на редкость длинный и благодаря госпоже Сугавара тяжелый, так что теперь ему было необходимо немного развеяться и промочить горло. К тому же яркие огни, беспечный смех и музыка вытесняли из головы мысли о предстоящей жути, ожидавшей Тору в стенах ворот Расёмон. Пил Тора, не стесняясь и от души, задавая повсюду вопросы, на которые не получал толковых ответов. Выяснилось, что женщины веселого квартала не слишком жаловали Омаки. Они считали ее скрытной гордячкой, и никто из них, в сущности, ничего и не знал о ее личной жизни. Устав от бесконечных разговоров и порядком поднабравшись, Тора в конце концов отключился. Когда хозяин заведения растормошил его, чтобы освободить место для других, было уже за полночь, и у Торы больше не оставалось причин оттягивать неприятное дельце в Расёмон. Он с горечью отметил, что расследование убийств подвергает человека опасности не только со стороны самих душегубов, но также и со стороны рассерженных душ их жертв. А ворота Расёмон, как хранилище тел тех, кто умер не своей смертью, наверняка кишат недовольными призраками. С тревогой посмотрев на небо, он увидел сгущающиеся тучи, сквозь которые лишь изредка проглядывала луна. Прохладные ясные весенние денечки близились к концу. Скоро придет жара и сезон дождей, но пока было только темно — подходящая ночка для поисков исчезнувших трупов и встреч с ужасными призраками. Тора вдруг осознал, что совершенно не готов к такому предприятию, поэтому он отправился на рынок. Большинство продавцов уже свернули торговлю, но Тора все же раздобыл дешевый фонарь, после чего поспешил на поиски предсказателя. Это был сморщенный старикашка, задремавший над горой своих товаров — гадальных костей, всевозможных хитрых снадобий и амулетов. — Проснись, хозяин! — Тора осторожно потормошил его за плечо, боясь обидеть неучтивостью того, кто водит знакомство с духами и знает заклинания. — Чего тебе надобно? — задребезжал старческий голос. Тора объяснил, чего хочет, и дедок понимающе закивал. — Мудрая предосторожность, — пробормотал он, роясь в своей корзине. — Вот один пошел туда недавно после заката и встретил голодного призрака, так пришлось ему расстаться с правой рукой, чтобы вернуться обратно. Тора содрогнулся. Старик извлек из корзины дощечку с грубо нацарапанным на ней изображением бога Фудо и, продев через отверстие в дощечке веревочку, завязал узелок. Рядом с дощечкой он положил горстку риса, потом достал из-за пазухи листок дешевой бумаги с какими-то каракулями и заявил: — Пятьдесят медных монет. Тора побледнел и, ощупав свой рукав, спросил: — Мне и впрямь понадобится все это? Старик вздохнул: — Амулет будешь держать перед собой, если встретишь демона. Фудо защитит тебя от него. Рис бросишь в комнату, когда войдешь. Он отгонит голодных призраков. А на бумаге начертаны магические заклинания, обращенные к добродетельному Сонсо, воплощению Будды, оберегающему от злых духов. Прочтя их вслух, ты останешься невредим даже в пределах ворот Расёмон. — Я не умею читать, — признался Тора. Старик снова вздохнул и взял в руки листок: — Я буду читать, а ты повторяй. В длинном заклинании упоминались замысловатые индийские словечки и имена, но Тора старался изо всех сил. Старик поправлял его, вздыхал, снова поправлял, снова вздыхал и наконец закивал: — Все. Теперь ты знаешь. По дороге повторяй. — Сколько с меня без этой бумаги? — спросил Тора. Старик удивленно уставился на него: — Пятьдесят медных монет. Да мне следовало бы взять с тебя больше за наставления! Тора поклонился, поблагодарил старика за скромную цену, вывернул из рукава все, что у него осталось от месячного заработка, кроме пяти монеток, и, не слишком укрепив дух, поплелся к воротам Расёмон. Придя туда, он увидел, что место почти пустынно. Только дураки да самые отчаянные головы оставались здесь после наступления темноты. Парочка нищих сидела на ступеньках, вопреки всему ожидая, что кто-нибудь из запоздалых путников пройдет через ворота, следуя в город или из него. Внутри, под крышей, несколько бродяг устроились на ночлег. Тора окинул их пристальным взглядом. Двое стариков в лохмотьях спали, похрапывая, у основания колонны. Рядом с ними, прислонившись спиной к стене и прикрыв соломенной шляпой лицо, валялся монах-ямабуси[1383], какие часто встречаются на дорогах. На вид он был силен и здоров, о чем свидетельствовали мускулистые ноги и громадные ступни. Эти странствующие монахи были опасны, поскольку часто оказывались переодетыми преступниками, которых разыскивала полиция. Тора пригляделся к монаху внимательнее, но решил, что тот давно спит. Услышав громкий смех с другой стороны ворот, Тора пошел на звук. Там, на ступеньках, компания работяг-оборванцев увлеченно играла в кости при свете фонаря. Они шумели и галдели, пока один из них не заметил Тору в синем кимоно и черной шляпе. «Начальник!» — крикнул самый бдительный из игроков, и они тут же разбежались в разные стороны. Тора усмехнулся — опять его приняли за какую-то важную птицу. Поскольку никто из этих людей не подходил под описание Штыря или Гвоздя, данное уличной женщиной, он понял, что придется искать мертвое тело самому, поэтому повернул назад, в здание ворот. Только теперь он заметил вооруженного человека — здорового смуглого детину, сидевшего внутри у самых дверей и, судя по всему, дремавшего. Через одно плечо у него был перекинут меч, через другое — лук и колчан со стрелами. Тора сразу смекнул, что перед ним ронин[1384]. Ронины, одинокие самураи, оставшиеся без господина, скитались из города в город в поисках работы, требовавшей владения оружием. Не найдя такой работы, некоторые из них становились разбойниками и грабили на дорогах богатых безоружных путников. Тот, на кого наткнулся Тора, видимо, был довольно осторожным малым, если, даже задремав, не снял оружия. Вдруг, словно почувствовав на себе пристальный взгляд, ронин медленно поднял голову и посмотрел на Тору. Молодой, на вид ровесник Торы, он носил коротко остриженную бороду и усы, взгляд его был холодным и цепким. Они окинули друг друга оценивающим взглядом. Ронин отвел глаза первым, сплюнув и презрительно почесав макушку. Тора пожалел, что не оделся попроще, и решил держаться от ронина подальше, поэтому вошел в здание ворот через противоположную дверь. Он сразу же оказался в огромной пустой привратницкой. Слабый лунный свет проникал сюда через дверь и окно, но даже и его теперь заслонила туча. Тора зажег фонарь и с трудом разглядел деревянную лестницу, ведущую во мрак второго этажа. В воздухе стоял стойкий запах гниющих объедков, затхлого тряпья и разлагающейся плоти. Откуда-то сверху доносился тихий шорох. Кто это — крысы или голодные призраки? Тора содрогнулся и потрогал висящий на груди амулет. Бормоча про себя заклинание, он начал медленно подниматься по лестнице. Когда Тора добрался до середины, впереди мелькнул свет, таинственным зловещим лучом пробежавший по темным потолочным перекрытиям. Какое-то странное жужжание сопровождало этот луч. Тора замер, нащупывая в торбе рисовые зерна. Вдруг громадная причудливая тень метнулась по потолку. Она принадлежала какому-то бесформенному горбатому чудовищу; заслонив собой все пространство, оно вдруг исчезло и тут же снова появилось, держа в скрюченной руке нож. Волосы зашевелились на голове у Торы, и он попытался повторить заклинание, но понял, что от ужаса забыл все слова. Тора хотел бросить перед собой горстку риса, но от волнения рассыпал его по ступенькам. Между тем отражавшийся на стене нож скользнул вниз, и Тора поспешно отшатнулся. Поскользнувшись на рисовых зернах, он с грохотом полетел вниз по лестнице. Наверху женский голос громко и смачно выругался. Вздохнув с облегчением, Тора поднялся. С живой женщиной-бродяжкой он уж как-нибудь договорится. Он ринулся вверх по лестнице, и когда добрался до верхних ступенек, таинственный свет погас. В тот же момент сквозняк задул и его фонарь, и все погрузилось в кромешный мрак. Тора сделал пару шагов вперед и споткнулся о какой-то ворох, едва устояв на ногах. Откуда-то на уровне его колен послышалось зловещее дребезжащее хихиканье, и он уловил чье-то зловонное дыхание. Кем бы ни был этот таинственный обитатель башни — мужчиной или женщиной, — сейчас он находился рядом с ним. Тора поспешно шагнул в сторону и наступил на что-то мягкое. Теперь вместо хихиканья он услышал предостерегающий крик: — Эй, смотри, куда ступаешь! Ей-то теперь все равно, а меня ты чуть не раздавил своими ножищами! — Извини! Тора нашел свой кремень и зажег фонарь. При его свете он тотчас же разглядел старую каргу, пялившуюся на него с пола. Она была в лохмотьях, длинные седые патлатые волосы паклей свисали по плечам. В скудном мерцающем свете фонаря ее лицо напоминало оживший череп. Острые скулы, обтянутые землистого цвета кожей, глубоко запавшие глаза, провалившийся беззубый рот, оскаленный в недоброй ухмылке. Старуха копошилась возле обнаженного женского тела. Выругавшись, Тора отпрянул назад, когда понял, что наступил на руку покойницы. Между тем старая карга снова захихикала: — Что такое? Боишься мертвечины? Напрасно, милок. И сам таким станешь, не успеешь оглянуться! Тора, уже видевший трупы, взглянул на тело. Женщина была молодая и очень худая, но лицо ее распухло, а живот раздулся. Коротко остриженная и щуплая, она совсем не походила на пухленькую длинноволосую Мичико. В открытых ввалившихся глазах виднелись желтоватые белки. Сонная муха лениво поднялась из ее приоткрытых губ. И по сладковатому запаху трупного разложения, и по багровым пятнам на желтеющей коже Тора понял, что женщина умерла день или два назад. Он передернулся всем телом и вздохнул. — Милашка, правда? — снова закрякала старуха. — Если хочешь, приляг с ней. Она не станет возражать. — Заткнись! — Тора пригрозил старухе кулаком, и она отползла на несколько шагов, второпях обронив нож. Выругавшись, Тора подобрал его и, подступая к старухе, рявкнул: — А ну говори, чертова ведьма, зачем он тебе? Старуха прижалась к стене, закрыв костлявыми руками лицо. — Ни за чем. Я же ничего противозаконного не сделала, и ей они теперь все равно не понадобятся! Тора остановился. — Что не понадобится? Старуха достала что-то из-за пазухи и протянула Торе. Присмотревшись, он увидел свисающие из ее цепкого кулака пряди длинных черных волос. Тора снова выругался и отвернулся. Выходит, старуха решила отнять у мертвой женщины последнюю оставшуюся у нее ценность. На женские волосы и впрямь был высокий спрос. Богатые дамы часто использовали их, чтобы придать пышность своим жиденьким или коротким косичкам, и вряд ли знали, из какого источника черпают свою красоту. Глядя на мертвую женщину, Тора подумал, что она, наверное, была довольно мила с этими длинными блестящими волосами. В нем закипело негодование, но он сдержался. Старухе тоже нужно как-то жить, а Торе было хорошо известно, на что толкает человека нищета. — Я ищу тело одного старика, — сказал Тора старухе. Та снова спрятала за пазуху добычу и подобрала с пола свой фонарь. — Он примерно на голову ниже меня, тощий, с большим носом, — пояснил Тора. — Утопленник. Не видала такого? — Отдал бы ты мне нож! Тора неохотно выполнил ее просьбу. — А на что тебе этот старик? — насторожилась старуха, засовывая нож за пояс. — Думаешь снять какое золотишко? — Да какое там золотишко! Он был попрошайкой. Скользнув взглядом куда-то вдаль, она пробормотала: — Не знаю ничего. И вообще мне пора. — И, пнув ногой фонарь Торы, она удрала, оставив его во тьме. — Эй, ты что наделала?! — крикнул он ей вслед, выругался и пошел вперед на ощупь, надеясь, что больше не наступит на мертвые тела и не упадет с лестницы. Наконец, нащупав стену, Тора осторожно двинулся вдоль нее. Впереди слышалось удаляющееся шарканье. Вскоре стена кончилась, но возвращаться за фонарем Тора не отважился, решив, что лучше тыкаться вслепую в темноте, чем еще раз дотронуться до трупа. Внезапно он оказался на пороге еще одной комнаты, куда сквозь щели в деревянных ставнях проникал лунный свет. Тора вошел и первым делом распахнул ставни. Комната была абсолютно пуста, не считая кучи отбросов и копошащихся в ней крыс. Снова выйдя в коридор, он заметил, что там стало светлее, поскольку теперь разглядел несколько дверей в другие комнаты. Наткнувшись еще на одно тело, оказавшееся живым человеком, Тора не стал разбираться, кто это — пьяный или умирающий, — а начал методично обходить комнаты, сжимая в руке амулет Фудо, и наконец в последнем, пятом по счету, помещении нашел то, что искал. Темной грудой тело лежало на полу прямо посередине. Тора наклонился и пощупал одежду. Та оказалась мокрой, и он пошел открыть ставни. Луна снова скрывалась за тучи, поэтому Тора поспешил вернуться к телу. Это был Юмакаи. Судя по всему, в воде он пробыл недолго. Лицо его посинело, глаза выпучились, язык вываливался из беззубого рта. Но несмотря на мокрые лохмотья, он не походил на утопленника. Озадаченный, Тора наклонился и пощупал шею старика, припомнив, как это делал хозяин, когда они нашли мертвую Омаки. Но в этот момент на затылок его что-то обрушилось, и все погрузилось во тьму.Придя в себя, Тора обнаружил, что лежит на боку со связанными руками и ногами. Вонючая тряпка, которой ему заткнули рот, и чудовищная боль в голове вызывали дурноту. Приоткрыв один глаз и осторожно осмотревшись, он понял, что все еще находится в башне Расёмон. Тело Юмакаи исчезло, на его месте теперь сидел, скрестив ноги, человек, читавший при свете масляной лампы книгу. Человек показался Торе знакомым. Память постепенно возвращалась к нему. Тора вспомнил: этого самурая разбойничьего вида он встретил внизу. Меч по-прежнему висел у самурая за плечом, а вот лук и колчан со стрелами он снял и положил в сторону. Тора смекнул, что очутился в крайне неприятной ситуации, и тихонько попробовал на прочность веревки. Бесполезно! Если его связал ронин, то вырваться так просто не удастся — этот малый, видать, хорошо знает свое дело. Ноги Торы, согнутые в коленях, были связаны с руками одной веревкой за лодыжки и запястья. Бок, на котором лежал Тора, страшно ныл; боль отдавалась в ребрах. Одна рука совсем онемела. Но самое омерзительное ощущение вызывала тряпка во рту. Грязную и вонючую, ее наверняка нашли в куче отбросов, оставленных грабителями после обчищенных до нитки мертвых тел. Дурнота снова подкатила к Торе, и он сосредоточил все усилия на том, чтобы унять ее. Если его вырвет с этим кляпом во рту, он задохнется от собственной блевотины. Наконец ему удалось успокоиться, и он ровно задышал. Между тем ронин перевернул страницу. То, что разбойник с большой дороги читал книгу, поразило Тору. Этот человек был примерно такого же роста, как и он, но покрепче и шире в плечах и груди. Несколько шрамов на лице — по-видимому, от неглубоких порезов мечом — придавали его чертам мужественную красоту, и аккуратно подстриженная борода с усами очень шли ему. Одежда его, хоть и поношенная, была опрятной и хорошего качества. Снаружи на лестнице послышались шаги, и ронин поспешно спрятал книгу за пазуху. Он посмотрел на Тору, потом на дверь. В комнату вошли трое. Двое из них были одеты как бедняки-рабочие, один — здоровенный верзила, другой — тощий коротышка. Последним был монах. Хотя голова его была не покрыта и соломенную шляпу он держал в руке, Тора вспомнил, что именно его видел внизу, когда тот, вероятно, притворялся спящим. Он был молод, круглолиц и широкоплеч. Порядком отросшие волосы и щетина на подбородке свидетельствовали о том, что он не очень-то верен монашьим обетам. — Ну? Все сделали как положено? — спросил ронин. Верзила прошел по комнате, сел возле стены и громко шмыгнул носом. — Хватит сопли распускать, Штырь! — прикрикнул на него щуплый коротышка. Голос у него был высокий, почти детский, и лицо гладкое, как у ребенка, но под глазами и вокруг рта проступали отчетливые морщины. — Да, — ответил он на вопрос ронина. — Похоронили мы нашего приятеля честь по чести, как и обещали. Выкопали ему сухую могилку под стеной, и монах совершил обряд, пробубнил там какую-то белиберду, пока Штырь хныкал, как младенец. Штырь снова захлюпал носом, а монах раскатистым и зычным голосом спросил: — Ну а как наш пленник? Они все посмотрели на Тору, и тот поспешно закрыл глаза. — Пока не шевелится, — сказал ронин. — Что будете с ним делать? — Я бы прикончил ублюдка, — предложил Штырь. Тора в ужасе распахнул глаза — теперь-то он разглядел заостренный металлический прут, высовывавшийся из правого рукава детины. Вот, оказывается, отчего так ныла у него голова. Странно, что он вообще остался жив. Ведь верзила мог раскроить ему череп. — Нет, никакой крови! — решительно заявил монах. Ронин прокашлялся: — Сдается мне, перед нами нелегкая задача. Поскольку это какой-то служащий и у него было время запомнить нас в лицо. — Он не договорил, а, вскочив, подошел к Торе и, подняв его за шиворот, поставил на колени, потом продолжил: — Он напустит на нас полицию, прежде чем ты успеешь помолиться своему Будде. Эй, смотри-ка! Я так и думал, что он уже очнулся! Голова у Торы раскалывалась. Закрыв глаза, он услышал словно издалека голос монаха: — Вид у него никудышный. Куда ему сопротивляться! Может, чуточку ослабим веревки? А когда силы начнут возвращаться к нему, он сам выпутается. К тому времени мы будем уже далеко. Гвоздь знает пару хороших местечек, где можно укрыться. Штырь что-то грубо возразил ему, и Тора на всякий случай осторожно открыл глаза. Комната словно завертелась, неотесанные доски под коленями, казалось, задвигались. Тора попытался издать несколько жалобных мычащих звуков. Ронин с отвращением посмотрел на него: — Не знаю, не знаю, монах. Дай этому служаке хоть сколько-нибудь веревки, и он удавит ею еще одного горемычного пьяницу. Монах сдавленно рассмеялся: — Ну тогда мы могли бы оставить его уборщикам. Тора снова замычал и затряс головой, но перед глазами все тотчас же помутилось, так что он едва устоял на коленях. — По-моему, он пытается что-то сказать, — заметил ронин. — А ну-ка, Гвоздь, вынь у него изо рта затычку, и мы послушаем, что он хочет нам сообщить. — Он позовет на помощь! — возразил Гвоздь. Тора снова замотал головой, но на этот раз от невыносимой боли обмяк и рухнул на пол. Его подняли и снова поставили на колени, потом прозвучал зычный голос монаха: — Сильно ты его огрел, Штырь? Уж больно скверно он выглядит. — Он вынул изо рта Торы тряпку. Тора жадно глотнул свежего ночного воздуха, выплюнул застрявшие во рту обрывки вонючих ниток и распрямился, насколько позволяли веревки. — Если вы чуточку ослабите мне сзади путы, мы сможем чудненько поговорить, — прохрипел он. Штырь грязно выругался, ронин усмехнулся: — Мне по душе твоя храбрость, чиновник, но, по-моему, мы прекрасно смотаемся отсюда и без тебя. Что ты делал здесь? — Я не чиновник. Я служу своему господину. Он послал меня разыскать нищего по имени Юмакаи. Только оказалось, что я слишком опоздал. Одна уличная шлюха сказала мне, что вы отнесли утопленника сюда. Потом, когда я все-таки нашел старика Юмакаи, какой-то ублюдок огрел меня так, что я чуть дух не испустил. Вот и все. А теперь развяжите-ка меня, и тогда мы представимся друг другу более подобающим образом.
 Хитомаро, Гэнба и двое разбойников допрашивают связанного Тору
Хитомаро, Гэнба и двое разбойников допрашивают связанного Тору
Ронин усмехнулся: — Ишь ты какой прыткий! Сразу видно, далеко пойдешь. А мне вот сказали, что все чиновники умеют втереться в доверие и притвориться добренькими. Их специально этому учат. По всему видать, тебя ждет блестящее будущее. Тон ты взял, конечно, верный, только над враньем надо бы еще поработать. Как я понимаю, твой господин из знатных. С какой стати ему беспокоиться о жалком нищем старикашке? Не-ет, тут ты хватил лишнего. Заврался, брат! — Точно! Этот ублюдок врет! — рявкнул Штырь. — Давайте-ка заткнем ему пасть навеки и смотаемся отсюда. Двое его сообщников молча выжидали. — Ладно, — сказал Тора. — Поступайте как знаете. Убийца только скажет вам спасибо за такую помощь. Сначала вы зарыли тело, а теперь хотите убить единственного человека, который помог бы вам найти этого ублюдка. Хороших друзей имел несчастный старик, ничего не скажешь! — Он в сердцах сплюнул. — Ах ты, кусок дерьма! — взревел Штырь, вскочив на ноги и уже занеся над Торой свой металлический прут. Не вставая с места, Гвоздь преградил ему путь ногой. Штырь с грохотом свалился на пол. — Ай да молодец, Гвоздь! Ловкий выпад! — похвалил его ронин. — А ты, Штырь, сядь и дай этому парню сказать. Мне уже становится интересно. Ну а ты объясни. Когда старика выудили из канала сегодня утром, стражник объявил смерть от утопления. С чего же тогда ты взял, что его убили? Вместо ответа Тора изобразил выпученные глаза и вывалившийся язык удавленника. Ронин понимающе кивнул: — Я уже думал об этом. Ну так кто же убил его? — Понятия не имею, но, похоже, это тот же ублюдок, который задушил девушку в Весеннем Саду. Старый Юмакаи видел убийцу и мог его опознать. Вот почему мой хозяин, узнав, что Юмакаи выпустили из тюрьмы, сразу же послал меня разыскать его. — Врешь ты все, дерьмо собачье! — рявкнул Штырь. — Полицейские сказали, что Юмакаи сам и убил девушку! Они забили его чуть ли не до смерти. Зуб даю, что ты один из них — ходишь тут, вынюхиваешь, чтобы затащить его обратно в тюрягу. Тогда у вас будет на кого повесить убийство. А может, ты сам и прикончил его?! Тора повернулся и пристально посмотрел на верзилу, потом медленно, словно обращаясь к малому ребенку, проговорил: — Если бы я убил его, то не пришел бы сюда. Его выпустили из тюрьмы благодаря стараниям моего хозяина. И мой хозяин потом очень тревожился за него. — И кто же такой твой благородный хозяин? — удивленно изогнув брови, поинтересовался ронин. — Господин Сугавара, — гордо объявил Тора, но это сообщение ни у кого не вызвало оживления. Тогда Тора обиженно добавил: — Если бы вы четверо не были такими болванами, вы непременно слышали бы о нем. Он знаменит тем, что ловит преступников. Прошлой зимой в провинции Кацуза он раскрыл опасный заговор против императора. А заодно поймал трех убийц-душегубов. После надолго воцарившегося изумленного молчания монах задумчиво проговорил: — Кажется, я слышал эту историю. По-моему, этот Сугавара работает в министерстве юстиции. — Ага! Стало быть, проклятый чиновник! — прорычал ронин и, сверкнув глазами на Тору, спросил: — С чего это вдруг он раскрывает убийства вместо полиции? У Торы снова застучало в висках, спинные и плечевые мышцы сводило судорогой. — Ничего подобного, — возразил он. — И в министерстве мой господин сейчас не служит. Он преподает в университете. И девушку мертвую мы с ним нашли в парке как раз потому, что парк рядом с университетом. Он вызвал полицию, а потом мы видели, как арестовали старого Юмакаи. Мой хозяин сразу сказал им, что несчастный старик невиновен. Начальник полиции поначалу не слушал его, но потом мой хозяин доказал ему, что это так. — Тора помолчал, оглядев своих мучителей. — Да что я понапрасну распинаюсь перед вами! С такими, как вы, лучше держать язык за зубами! Этот всплеск негодования был встречен молчанием. Потом монах сказал: — Этот Сугавара — профессор, ученый человек, который разгадывает тайны. Может, мы совершили ошибку? — Не говори глупостей! — воскликнул ронин. — Знаем мы этих ученых! Одно сплошное притворство! Заучат назубок китайские стишки и твердят их без умолку, а до родного, японского, им и дела нету. Вот тебе и вся ученость! — Сразу видно, что ты больно ученый! — вспылил Тора. — Э-э-э, Хитомаро! — рассмеялся монах. — Тут он взял тебя за живое! Книжки книжками, а без хорошего учителя тебе не обойтись! Ронин смутился и покраснел. Он хотел что-то сказать, но, посмотрев случайно в окно, передумал. — Не ваше дело! — отрезал он. — Мы попусту теряем время. Скоро рассветет, и уборщики придут сюда за трупами. Так на чем порешим? — Давайте отпустим его, — предложил монах. — Лучше прикончить, — возразил Штырь. Человек по имени Хитомаро перевел взгляд на тощего коротышку: — Ну а ты, Гвоздь, что скажешь? Гвоздь деловито почесал затылок. — Не знаю. Не исключено, что он врет. Но если он говорит правду, у нас есть шанс поймать ублюдка, убившего Юмакаи. Думаю, лучше отпустить его, но взять с него клятву, что он приведет убийцу к нам. — Не слишком умно, — заметил Хитомаро. — Врун поклянется тебе в чем хочешь, а честный человек не станет обещать того, чего не способен выполнить. Я голосую за то, чтобы отпустить его. Так или иначе, мы скоро узнаем, что он за птица. Услышав это, монах встал, вытащил из своей торбы острый нож и перерезал веревки на ногах и руках Торы. Тора выпрямил ноги и, болезненно морщась, потер запястья. — Меня зовут Тора, — сказал он, потом спросил: — Где вы похоронили старого Юмакаи? Нам придется откопать его, чтобы доказать насильственную смерть. — Он поднялся, осторожно разминая ноги. Голове теперь тоже полегчало. — Где мне найти вас? Скорее всего появятся еще вопросы. — Не говори ему! — крикнул Гвоздь. — Он вернется с полицией, чтобы арестовать нас! Хитомаро и монах переглянулись. Вдруг ронин насторожился и повернул голову к открытым ставням. — Тсс! — Он поднялся на ноги и внимательно прислушался. — Уборщики идут выгребать трупы. Затушите свет! — И обратился к Торе: — Юмакаи зарыт на старом кладбище возле Западного Святилища. А весточку для меня передай в харчевне по соседству с храмом. — Монах задул лампу. Уже в темноте Хитомаро на прощание сказал: — Если заложишь нас, считай себя покойником. Вы можете схватить одного или двух из нас, но остальные обязательно разыщут тебя. Наклонившись к Торе, Штырь рявкнул ему в самое ухо: — И тогда тебе уж точно не поздоровится!
Глава 15 Дом, наводненный призраками
На следующее утро Акитада встал рано, полный бодрости и сил, оделся и был готов к новым делам. Тора же, напротив, явился бледный, держась за голову. — Силы небесные! — воскликнул Акитада, увидев его. — Уже третий день подряд ты приходишь сюда, прокутив всю ночь напролет! Даже с твоей комплекцией ты так недолго протянешь. — Воистину верно говорят, — презрительно усмехнулся Сэймэй, ставя поднос с завтраком для Акитады, — что с первой чаркой человек поглощает вино, со второй — вино поглощает вино, а с третьей — вино поглощает человека. — И, смерив Тору пристальным взглядом, добавил: — Ты и впрямь скверно выглядишь. — Это не из-за вина. — Тора плюхнулся на подушку. — Моя черепушка не поладила с металлическим прутом, который одному малому служит вместо руки. — Он жадно втянул ноздрями воздух, голодными глазами глядя на плошку с дымящейся жидкой рисовой кашей. — И ко всему прочему я пропустил и ужин, и завтрак. Сэймэй обследовал громадную шишку под волосами у Торы и, что-то бормоча, отправился готовить травяную примочку. Акитада придвинул свою плошку Торе: — Сначала поешь, потом расскажешь, что произошло. Тора поднес плошку ко рту и, откинув голову, выпил кашу несколькими большими глотками. Поставив плошку, он облизнул губы. — Спасибо. Так гораздо лучше. А теперь к делу. В общем, я нашел старика нищего. Только кто-то опередил меня. Бедолагу задушили и бросили в канал. Его объявили утопленником, жертвой несчастного случая и похоронили на кладбище за буддийским храмом, что к западу от ворот Расёмон. И представьте, все это проделано за один день! Акитада нахмурился: — Объясни подробнее. Тора поведал ему все до мелочей, пока Сэймэй, вернувшийся с еще одной порцией каши и мешочком каких-то пряных трав, прикладывал его к голове Торы, то и дело причитая. При этом совершенно невозможно было понять, к чему относятся его причитания — к плачевному состоянию Торы или к его истории. Глубоко потрясенный сообщением о смерти старика, Акитада, выслушав рассказ Торы до конца, заметил: — Вот оно что! Стало быть, снова наш душитель! — Поднявшись, он порылся у себя в бумагах. — Покажи-ка мне на этой карте, где было найдено тело! Тора указал место: — Судя по всему, примерно где-то здесь. — Хм!.. Между рекой и восточной частью рынка. — Деловой квартал. Дома торговцев подступают к самому каналу. — Весьма и весьма странно. Не такое это место, где можно оставить тело. Торговцы и приказчики снуют туда-сюда, да и власти присматривают за порядком. К тому же я не представляю, что Юмакаи делал там. В таких кварталах не терпят нищих. — Так-то оно так. — Тора поскреб затылок и убрал с головы примочку, вызвав тем самым новый приступ причитаний у Сэймэя. Не обращая на старика внимания, Тора продолжил: — Торговцы закрываются рано и ложатся спать, так что ночью там не встретишь ни души. Да и завсегдатаи веселого квартала вряд ли ходят этим путем. — Да, тело могли сбросить в канал ночью, но даже и в этом случае убийце должно было повезти, — заметил Акитада и, немного подумав, добавил: — Если, конечно, он не скрывался в одном из домов или в каком-нибудь дворе. — Смутная догадка беспокоила Акитаду. А что, если все это время они рассматривали дело с неверной точки зрения? — Может быть, убийца шел за Юмакаи, а у канала настиг, задушил, бросил в воду и отправился своей дорогой как ни в чем не бывало? — предположил Тора. — Прикончить такого дряхлого старика для него минутное дело. — Да. Но в светлое время ему это точно не удалось бы осуществить. Где же провел Юмакаи весь день? Никто не видел его с тех пор, как он заходил подкормиться в восточное отделение полиции. Ответа на этот вопрос Тора не знал. — Стало быть, торговцы… — задумчиво проговорил Акитада. — Вот что, Тора… когда немного оправишься, сходи-ка в этот квартал и выясни, кто живет в прилегающих к каналу домах. А Сэймэй пусть отнесет капитану Кобэ записку и скажет ему, где искать тело Юмакаи. Надеюсь, теперь-то у него хватит здравого смысла выпустить на волю бедного студента? — Я уже оправился. — Тора встал и снял с головы примочку. — И записку могу отнести сам. Заодно выясню, не случилось ли какой неприятности с дружками старого Юмакаи. — И он положил мешочек с травами в ладонь Сэймэю. Старик начал возражать, но Акитада перебил его: — Оставь его, Сэймэй, пусть идет. А ты, Тора, что-то совсем в последнее время не похож на себя — уж больно легко стал спускать обиды. Кстати, то, что творится в воротах Расёмон, меня пугает. Чем скорее власти узнают о тамошних безобразиях, тем лучше. Может, тогда хоть очистят ворота и их окрестности от всякого отребья. Тора перепугался: — Не поступайте так! Эти ребята отпустили меня подобру-поздорову! Ну ладно, допустим, Штырь и Гвоздь малость крутоваты, но монах и Хитомаро вели себя вполне благородно. Они, как и вы, люди образованные, книжки читают, ну и все такое. Нельзя же сажать людей в тюрьму только за то, что им не повезло в жизни. Кто тогда будет убирать улицы и вспахивать поля? Акитада поморщился: — Ты прав. Ну, оставим это на твое усмотрение. — Он встал и надел шляпу. — Сэймэй, сделай, пожалуйста, копии документов, которые обещал принести тебе твой партнер по шахматам. — Он направился к двери и уже с порога прибавил: — Да, и попробуй выяснить, кто из торговцев доставлял на праздник напитки, фонари, подушки и прочий товар. Поспрашивай в казначействе и в хозяйственном управлении имперскими парками. Тора и Сэймэй удивленно переглянулись.Дворец, некогда принадлежавший принцу Ёакире, располагался неподалеку от дома семьи Сугавара. Высокие беленые стены занимали пространство площадью в квартал. За этими стенами высились верхушки старых деревьев и черепичные крыши многочисленных зданий и павильонов. И над всем этим огромным владением стояла давящая незыблемая тишина. Тяжелые кованые ворота были наглухо заперты, зато другие ворота, поменьше, открыты. Войдя в них, Акитада очутился во внутреннем дворе внушительных размеров. Здесь он не встретил ни души. Справа и слева высились здания с просторными верандами и широкими свисающими карнизами. Они соединялись крытыми галереями, ведущими в другие дворы, откуда виднелись заросли кустарника, деревья и другие строения, павильоны и галереи. Когда-то этот дворец был наводнен гостями и хлопочущей прислугой, теперь здесь царило гнетущее безмолвие. Акитада прошел мимо главного дворцового здания, состоящего из множества церемониальных залов, предназначенных для общественных приемов и больших семейных торжеств. Наверное, здесь проводил ритуальные службы сам Сэссин, но теперь дом был пуст и заперт. Даже залитый утренним солнцем, он производил унылое, тягостное впечатление. За ним располагалось другое подворье — вековые сосны, словно мрачные суровые стражи, охраняли частные резиденции членов монаршей семьи. Которая из них принадлежала принцу? И где жили его внучка и внук? На какой веранде стоял мальчик, когда видел дедушку, бегущего в покои его сестры? Внезапно Акитада почувствовал себя дерзким самозванцем, вторгшимся в чужие владения. Он быстро огляделся, но так и не увидел ни души. И все же ему казалось, что он нарушил покой каких-то неведомых сил. Мурашки пробежали у него по спине. Но вскоре ушей Акитады коснулся человеческий звук, вселявший бодрость в этом призрачном месте. Кто-то разравнивал гравий. Акитада отправился на поиски одинокого садовника. Пару раз свернув не туда, он прошел по галерее в маленький внутренний дворик, где старик в просторной робе заметал под раскидистым деревом осыпавшиеся цветы и сухую желтую листву. — Доброе утро, дядюшка! — приветствовал его Акитада. Старик замер, в замешательстве посмотрел на него, низко поклонился и скрипучим голосом проговорил: — Доброе утро, благородный господин. Боюсь, вы не вовремя. Хозяев нет дома, они нынче живут за городом. Лицо этого еще крепкого, несмотря на возраст, старика было иссушено солнцем и изборождено морщинами, словно потрескавшаяся кора дерева, волосы и борода были седыми. — Меня зовут Сугавара, — представился Акитада. — Я пришел сюда от юного князя, моего ученика. Он беспокоится о своих слугах, вот я и решил зайти спросить, нет ли каких новостей. Лицо старика осветилось улыбкой. — Так вы от молодого князя?! — обрадовался он. — И как там наш молодой князь, господин? — На его глаза навернулись слезы. — Ох-ох-ох!.. Какие грустные перемены!.. — Он горестно покачал головой. — Дела у него неплохи, и он хороший ученик. Давайте-ка присядем и поговорим. Кстати, как ваше имя? — Меня зовут Кинсуэ, благородный господин. — Седобородый старец прислонил бамбуковые грабли к толстому стволу дерева и последовал за Акитадой на веранду. — Мы с моей старухой присматриваем тут за хозяйством. — Он остановился в нерешительности. — Но разве вы не войдете в дом? — Нет. — Акитада уселся на ступеньках. — День сегодня на редкость погожий, и мне приятно побыть немного на свежем воздухе. Юный князь Минамото тревожится за сестру и слуг. Не расскажете ли мне о них? Кинсуэ стоял в почтительной позе. — Мне и самому мало известно, благородный господин. Когда я вернулся с гор, все повозки были уже снаряжены, и молодая госпожа со слугами вскоре отправились в путь. Траура у нас не объявляли, ведь хозяин погрузился в нирвану. Князь Сакануоэ сказал, что всем нам следует радоваться. — Кинсуэ оглядел свою робу из грубого конопляного полотна, какие обычно носили слуги, носившие траур по господину, и смущенно разгладил ткань. — Уж такое непочтение! — Он посмотрел вдаль и смахнул слезу. — Вы уж простите меня, господин, я человек старый. Иной раз ничего не могу с собой поделать — все плачу и плачу. Черным для меня стал тот день, когда мы потеряли нашего хозяина. Князь Сакануоэ увез юного господина, а потом и сам уехал с последней повозкой. А нас со старухой не взял — не нужны мы ему. — Но он вернулся в столицу. Разве он не живет здесь? — Нет. Съездил посмотреть, как все устроились, и вернулся обратно один. Но здесь он не живет. Знаете, люди поговаривают о призраках. Только мы со старухой живем здесь да присматриваем за хозяйским домом. — Он вздохнул. — Да и в чем винить князя Сакануоэ?! Гадатель все предсказал нам. Предостерегал, что беда придет в этот дом. Но хозяин велел гнать его от ворот. А теперь вот хозяин наш мертв, и жизнь в доме прекратилась. Даже это дерево умирает. Мы с женой каждый день молимся за душу нашего хозяина. На той неделе будет сорок девять дней, как она отлетела. Может, после этого он обретет покой. Да воздаст ему Будда за дела его светлые! — Кинсуэ опустил голову, и безудержные старческие слезы закапали на гравий. Акитада не знал, как утешить этого человека, охваченного таким горем и столь подверженного суевериям. Взгляд его упал на кучку желтых листьев под деревом. На дворе начало лета, а дерево роняет листву. Почему? Акитада задрал голову. Пышная крона поразила его обилием пожухших листьев. Должно быть, это из-за жары. Скоро придет сезон дождей, и старое дерево, несомненно, оживет. Словно угадав его мысли, старик снова заговорил: — Мы стараемся поддерживать здесь такой порядок, как и при нем. Каждый день я приношу в его комнату цветы, подносы с фруктами и рисом. И разговариваю с ним. Так, ни о чем особенном. О погоде, о том, какую часть дома сейчас будем убирать. А теперь вот передам ему ваши слова, скажу, какой блестящий ученик его внук. Он порадуется — ведь он любил маленького князя. Он был хорошим хозяином. — И старый Кинсуэ снова смахнул узловатой рукой слезу со щеки. — Не хочет ли господин посмотреть комнату хозяина? Акитада принял приглашение, обнаружив, что сидел на ступеньках покоев принца. Кинсуэ открыл изящную резную дверь и провел его в просторное светлое помещение, разделенное разукрашенными ширмами на три более мелких. В одном, как объяснил старик, принц спал. Сейчас здесь не было ни постелей, ни циновок. За перегородкой находился кабинет — низенький письменный столик и полки со свитками. Здесь же в стенной нише, под свитком с каллиграфическими росписями, Кинсуэ размещал свои подношения — букетик лиловых ирисов в фарфоровой вазе и подносы с апельсинами и рисом. Рядом с этими традиционными пожертвованиями Будде и духам усопших лежала пара новеньких соломенных сандалий и горстка медных монет. Внимательно посмотрев на старика, Акитада поинтересовался: — Разве вы не верите в историю с чудом? Если вашего хозяина взял к себе Будда, эти вещи ему не нужны. Старик съежился. — Уж и не знаю, что сказать… Не смыслю я в этом ничего. Знаю только, что здесь он говорит со мной и что… нелегко ему. Акитада невольно вздрогнул. Атмосфера, царившая в комнате, определенно была более гнетущей, чем снаружи. — Так вы говорите, что сопровождали его в тот день в горный монастырь? — Да, господин, сопровождал. Я был его возницей и видел все, что произошло. Акитада пытливо посмотрел на старика: — Все видели? Видели, как ваш хозяин садился в повозку, а потом вышел из нее в монастыре Ниння? Старик кивнул: — Да, видел. Он был такой величественный в своем пурпурном одеянии. И шлейф волочился за ним по ступенькам храма. Эти слова запечатлелись в памяти Акитады. — А не было ли у него трудностей, когда он садился в повозку или выходил из нее? Кинсуэ нахмурился: — Не думаю, хотя он и спрыгнул на ходу, когда я отвернулся. Мой хозяин, несмотря на возраст, был человеком подвижным, почти как молодой. Я еще, помнится, поймал себя на этой мысли, когда он взбежал по ступенькам святилища. С таким рвением спешил поклониться Будде! — Значит, он был в хорошем настроении? Наверное, улыбался, разговаривал с друзьями? — Нет. Они все оставались при лошадях. Только я сопровождал его — держал упряжку, когда он садился в повозку, и потом, когда он выходил из нее. Акитада со вздохом отметил, что старик, судя по всему, очень гордился возложенными на него почетными обязанностями, но темнота помешала ему разглядеть все, что происходило там на самом деле. — А князь Сакануоэ? Он ехал с принцем в одной повозке? — Не-ет… Князь Сакануоэ скакал на лошади. — Впереди повозки? Кинсуэ покачал головой: — Упряжка движется медленно. Благородные господа то обгоняли нас, то ехали сзади. Но одно я помню точно: мой хозяин ступил на землю у храма первым. — Кинсуэ почесал затылок и нахмурился. — Понятно. — Акитада посмотрел через открытую дверь на улицу, пытаясь представить себе вечерний отъезд, суетящихся слуг, повозку у крыльца, ждущих всадников. Он не мог отделаться от ощущения чьего-то загадочного незримого присутствия. — А сколько человек сопровождало принца в тот вечер? Старик задумался: — Во-первых, я и Норо — мальчик, погонявший быка. Были также князь Абэ и военачальник Сога, а еще князь Янагида. Они с князем Синодой ехали впереди. Вот, пожалуй, и все. Остальные должны были собирать вещи для переезда за город. Вот это да! Четыре свидетеля, не считая возничего и погонщика. Акитада покачал головой. — Весьма странно, что ваш хозяин назначил переезд всей семьи за город на день ежегодного посещения храма в монастыре Ниння. Кинсуэ печально покачал головой: — Мое ли это?! Гадатель так и вовсе проклял нас, когда хозяин велел гнать его от ворот. Я так и сказал своей старухе, когда у молодой госпожи начались неприятности, о которых нам и знать-то не положено. Так слова мальчика подтвердились, но Акитада решил вернуться к событиям в монастыре. — По вашим словам, вы видели все, что там произошло? А может, вы состояли при упряжке? — Нет. Упряжкой занимался мальчик, а я сидел под стеной, смотрел на господ, которые ждали на веранде, и слушал, как молится хозяин. — Вы уверены, что все слышали и видели? — недоверчиво спросил Акитада. — Ведь было уже темно, да и сидели вы далеко, под стеной, а это через весь двор. — Да дворик-то совсем маленький, и сумерки только начинались. — Хорошо. Продолжайте. Расскажите мне обо всем, что видели и слышали с того момента, как приехали. Устремив взгляд вдаль, Кинсуэ поведал следующее: — Когда его высочество вышел из повозки, я распряг быка и велел Норо отвести его на соседний двор и накормить. Сам же сел ждать. Его высочество к тому времени был уже в храме и возносил молитвы. Благородные господа ждали за дверью. Потом солнце начало закатываться за гору, и монахи забили в колокол. Тогда-то хозяин и перестал молиться. Князь Сакануоэ, ожидавший на веранде, встал, подошел к перилам и велел мне привести быка. Я повиновался. Помню, что мы с Норо сказали, что, дескать, вернемся в город к завтраку. Запрягли мы быка в повозку, а потом все ждали. Благородные господа на веранде. Они о чем-то говорили, только я не слышал о чем. Кто-то из них даже спустился по ступенькам к своим лошадям. Потом князь Сакануоэ подошел к двери, постучал и крикнул: «Ваше высочество! Все готово!» Но хозяин не выходил. Тогда князь Сакануоэ посовещался с кем-то из господ, и они вошли в святилище. Мы с Норо смотрели во все глаза, гадая, что случилось. Другие господа тоже пошли посмотреть, но из святилища выбежал князь Сакануоэ, в руках у него было пурпурное одеяние моего хозяина, а сам он рыдал. Он сказал, что хозяин исчез. — Старик снова опустил голову и смахнул набежавшие слезы. — Больше я не видел своего хозяина. Прибежали монахи и настоятель, и все искали и искали. Потом привели заклинателя и гадалку. Гадалка вошла в святилище, а выйдя, сказала, что господин обрел новое рождение на небесах, потому что усердно молился и хотел воссоединиться со своим сыном. Может, так оно и есть. — Кинсуэ замолчал, утомленный горестным рассказом.
 Таинственное исчезновение принца
Таинственное исчезновение принца
Акитада осторожно заметил: — Вас, должно быть, удивило случившееся. Вам не приходило в голову, что ваш хозяин мог просто уйти оттуда? Или что кто-то похитил его или убил и спрятал тело? Кинсуэ покачал головой: — Нет, это невозможно. Я же смотрел. И господа смотрели. Князь Сакануоэ велел всем нам войти в святилище и убедиться, что там нет ни души. Да и выйти-то ему было неоткуда. Так что, видимо, гадалка права. — Кинсуэ! — позвал снаружи слабый дребезжащий голос. Собеседники вздрогнули от неожиданности. — Это моя жена, — объяснил Кинсуэ. — Нельзя ли мне поговорить с ней? — спросил Акитада. Они вышли во двор. Под старым деревом стояла низенькая толстая старушка и с недоумением смотрела на прислоненные к стволу одинокие грабли. Когда Кинсуэ окликнул ее, она просияла, но, увидев Акитаду, смутилась. Муж представил их друг другу. Старушка бухнулась на колени и начала торопливо кланяться. Акитада остановил ее: — Пожалуйста, встаньте. Я только хотел узнать, нет ли какихновостей для Садаму от его сестры. Он беспокоится. Старушка заплакала. — Ох-ох, моя бедная маленькая госпожа! — запричитала она, всхлипывая. — Совсем одна-одинешенька теперь осталась! Да защитит ее Будда Амида, владыка Западного рая! — Закрыв глаза и беззвучно шевеля губами, она начала молиться. — Да умолкни ты, старая! — смутившись, прикрикнул на нее муж. — Что, хочешь напугать молодого князя? — И объяснил Акитаде: — Моя жена носила юной госпоже завтрак в день отъезда. Все ее служанки занимались сборами, вот моей жене и разрешили пройти в покои юной госпожи. Плакала она тогда, бедняжка, сильно. Да и что тут удивительного, коль пришла такая новость? Теперь-то, наверное, уж оправилась. Она нынче замужем за князем Сакануоэ, а стало быть, и старшая женщина в доме. Поди плохо в пятнадцать-то лет! Пятнадцать лет! Да она совсем дитя! Акитада был поражен. — Так что же, и свадьба была настоящая? — поинтересовался он, не сводя пытливого взгляда с жены Кинсуэ. Та кивнула, потупившись. — А мне вот известно, что принц Ёакира отказался дать свое согласие, — заметил Акитада. Старики изумленно переглянулись. — Нет, они точно поженились, — сказала старуха. — Его светлость провел с ней три ночи подряд, и на третий день я приготовила свадебные лепешки. — Лицо ее сморщилось; она едва снова не расплакалась. — Это было за день до того, как хозяин отправился на небеса. Кинсуэ озадаченно покачал головой: — Подумать только, как много событий за один день! — Да, — согласился Акитада. — Ну что ж, спасибо вам обоим. Я передам князю Минамото ваши слова. Старушка встала на цыпочки и, прошептав что-то мужу на ухо, быстро засеменила прочь. — Побежала собрать кое-что для юного князя, — объяснил Кинсуэ. Согласившись подождать, Акитада обвел взглядом покои принца. Именно здесь произошла ссора, когда принц, к своему ужасу, выяснил, что его внучка, по своему желанию или поневоле, стала женой князя Сакануоэ. Неудивительно, что он пришел в такую ярость! Что же произошло между старым принцем и его новоявленным зятем? Знал ли он об этом браке или, напротив, отказался дать свое согласие? Акитаде казалось, что он знает ответ на этот вопрос. Это был убедительный мотив для убийства принца. А несчастные дети оказались в руках бесчестного человека. Он попытался представить себе, что испытывала бедная девочка, что испытывает она сейчас. В задумчивости Акитада рассеянно снова поднялся по ступенькам и, остановившись на пороге, заглянул внутрь. Да, этот брак, вероятно, так же печален, как эта необитаемая комната. Акитада вспомнил своих родителей, их холодное, подчеркнуто официальное отношение друг к другу, не допускавшее ни знаков внимания, ни проявлений привязанности или физической близости. И все же его мать всегда была сильной женщиной, вполне способной справиться с деспотичным мужем. Уж не это ли напугало Тамако? Может быть, она опасалась, что Акитада будет избегать доверительных отношений, предоставив ее в полное распоряжение властной и требовательной свекрови? Акитада горько вздохнул. Этой тайны ему не раскрыть никогда, зато он сделает все возможное, чтобы выявить тайну загадочного исчезновения обитателя здешних покоев. Погруженный в эти мысли, Акитада вдруг почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове. Ему показалось, будто что-то настойчиво взывает к нему. Он огляделся. От платяного сундука, некогда стоявшего наискосок от двери, остались лишь очертания, покрытые пылью. Куда его дели — увезли за город? Но зачем им понадобилось забирать вещи принца? Ведь к тому времени он уже перешел в другой мир и не нуждался в своей одежде. Кто-то неумело затер деревянный пол после того, как сундук унесли. Но пыльный след до сих пор виднелся на глянцевых досках пола. Должно быть, это Кинсуэ в порыве почтительного рвения пытался навести порядок в комнате хозяина. Внимание Акитады привлек каллиграфический свиток на стене. Он начал расшифровывать китайские иероглифы, и у него возникло странное чувство, будто эти слова звучат у него в голове. «Обретет истину тот, кто устремится к ней! Презревший истину утратит ее навсегда! Искать истину можешь по воле своей, но обрести — лишь по воле небес. Истину ищи внутри, ибо снаружи не отыщешь ее». Изречения эти принадлежали Мен Цзе. Вздохнув, Акитада вышел во двор. Там его уже ждали Кинсуэ с женой. — Не скажете ли, что стало с одеждой принца и с другими его вещами? — спросил Акитада. — Их увезли за город, — сказал старик. — Князь Сакануоэ увез в самой последней повозке. — Понятно. Ну что ж, вижу, ваша супруга уже вернулась, да и мне, пожалуй, пора. Спасибо вам за рассказ. Князь Минамото порадуется, узнав, что вы с женой так усердно заботитесь о его доме и не забываете о нем самом. Старушка, шаркая, подошла к Акитаде и с беззубой улыбкой, расплывшейся по круглому морщинистому лицу, напоминавшему сушеный клубень батата, протянула ему коробочку, перевязанную простой пеньковой веревкой. — Колобки, — объяснил Кинсуэ. — Молодой господин очень любит их. — Спасибо. — Акитада взял сверток. — И еще раз благодарю за рассказ. Если вспомните что-нибудь еще, даже несущественное, пошлите за мной. Это поможет молодому князю разобраться в случившемся. Кинсуэ кивнул. — А больше и вспоминать нечего, господин. Вот разве что лошадь… Но неужели это важно? — Лошадь? — Лошадь князя Сакануоэ, которую он взял для поездки в горы. Не его это была лошадь, да и не наша. Наших я всех знаю, господин.
Глава 16 Жареные орешки
Несмотря на жестокое убийство, жертвой которого стал известный ученый, университет был открыт и работал в обычном ритме. Акитада поспел к самому началу занятий, чему и обрадовался — ведь теперь не придется обмениваться любезностями с Хиратой. В последнее время их отношения стали невыносимо натянутыми, не только потому, что Акитаду до сих пор возмущало то, как Хирата заманил его в эту ловушку с брачным предложением, не встретившим отклика у Тамако, но еще и потому, что даже самые короткие встречи с отцом отзывались в душе Акитады болезненным воспоминанием о дочери. Поэтому, войдя в учебный корпус, он направился прямиком в свой класс. Студенты уже ждали его, с нетерпением глядя на дверь, и встретили улыбками и почтительными поклонами. Сердце Акитады наполнилось теплой благодарностью. Только сейчас он понял, как благословенна профессия учителя. Согретый таким приемом пятнадцати юных душ, он все утро разъяснял им законы государственного управления, и был весьма польщен терпением, проявленным учениками к столь трудной и запутанной теме. В тот день господин Юсимацу, единственный в классе великовозрастный студент, превзошел самого себя: как выяснилось, он не только помнил названия всех провинций, но даже вызвался показать их расположение на карте. Он также проявил большую осведомленность в вопросе о ежегодных урожаях, всевозможных промыслах, городах, монастырях и храмах, чем произвел впечатление даже на самых придирчивых студентов. Когда Акитада похвалил его, глаза Юсимацу заблестели от удовольствия. Смущенно потупясь, он признался, что мечтает получить место писца или мелкого чиновника при одном из провинциальных правителей. Вот почему Юсимацу благоразумно решил подготовиться заранее, тщательно изучив направления всех возможных назначений. Один из знатных отпрысков, презрительно усмехнувшись, вскричал: — Так ты хочешь бросить столицу ради какого-то Богом забытого места? И ради того, чтобы стать жалким писаришкой? Ну уж нет, у меня более серьезные планы на будущее! Если в этом состоят все твои мечты, Юсимацу, зачем же тогда утруждать себя учебой в университете? Хор голосов поддержал его, и на мгновение Акитаде показалось, что бедного Юсимацу сейчас заклюют насмешливые товарищи. Но Юсимацу ответил насмешнику поклоном и сказал: — Прости, Мокудаи, но то, о чем ты поведал, подходит только для тебя и равных тебе. У тебя есть в столице высокопоставленные родственники, и китайский ты знаешь гораздо лучше, чем я. — И, улыбнувшись, добавил: — А я вполне согласен быть секретарем у кого-то из ваших дядюшек, а впоследствии, возможно, и у кого-то из вас. Что же касается расставания со столицей, то я даже жду этого — ведь тогда у меня появится возможность познакомиться со всей страной. Юный князь Минамото крикнул со своего места: — А я завидую тебе, Юсимацу! Как бы я хотел быть свободным и посмотреть мир! — На мгновение лицо его омрачилось печалью, и он тихо продолжил: — Ах, Юсимацу, когда ты рассказывал про белые снега и про медведей в Эчиго, как мне хотелось увидеть все это своими глазами! А еще мне хотелось отправиться морем на Кюсю, чтобы посмотреть тамошних обезьянок! И совершить паломничество к горе Фудзи! Только я знаю, что, наверное, не смогу оставить столицу до конца своих дней. Класс возбужденно загалдел, и Акитада поспешил успокоить учеников: — Никому из нас не ведомо, что принесет будущее. Многим знатным людям приходилось служить в дальних краях на благо его величества. Все мы по мере сил исполняем свой долг. Акитада чрезвычайно гордился успехами Юсимацу. Если он будет продолжать в том же духе, то успешно сдаст экзамен уже в этом году. Отметив, что надо бы дать Юсимацу почитать кое-какие полезные документы, Акитада объявил задание на следующий урок и отпустил всех на обед. Когда юный Минамото направлялся мимо учительского стола к выходу, Акитада вспомнил про посылочку от жены Кинсуэ. — Садаму, у меня кое-что есть для тебя, — сказал он. Глаза мальчика засияли. — Для меня?! Что же это? — радостно вскричал он, хватая коробку. — Это не от меня. Сегодня утром я заходил побеседовать с дедушкиным возницей. Только он и его жена теперь остались в доме. — Кинсуэ, — кивнул мальчик, и глаза его вдруг стали серьезными. — Что вам удалось выяснить? — Разумеется, Кинсуэ поддерживает общепринятую версию. По его словам, ваш дедушка вошел в храм, но так и не вышел из него. Люди ждали его, а когда заглянули внутрь, обнаружили, что он исчез. Мальчик вздохнул: — Кинсуэ не станет лгать. Он любил дедушку. Этому должно быть какое-то объяснение. Вы поедете в монастырь? — Да. Но сначала я должен поговорить с людьми, сопровождавшими вашего дедушку в поездке. Я выяснил, что с ним были князья Абэ, Янагида, Синода и еще один военачальник. Вы знаете кого-нибудь из них? Мальчик кивнул: — Знаю, но не слишком хорошо. Они часто бывали у нас, но я не присутствовал на этих приемах. Военачальника, о котором вы упомянули, зовут Сога. Мне жаль, но больше я ничем не могу вам помочь. — Ничего страшного. Кстати, меня поразило, что вы знаете дедушкиных слуг по именам — ведь их, наверное, очень много. Мальчик улыбнулся и, взвесив в руке коробку, легонько встряхнул ее. — Ну конечно, знаю. Особенно Кинсуэ и Фумико, его жену. Как они там, здоровы? Эта посылка от них? Веревка тут же была развязана, и его светлость поднес коробку к лицу, нетерпеливо поводив носом над самой крышкой. — Откройте да посмотрите, — улыбнулся Акитада. В тот же момент юный князь поднял крышку. — Колобки! — крикнул он, прыгая от восторга. — Я так и знал, что это колобки! Фумико готовит их лучше всех! — С наслаждением вдохнув сладкий аромат, поднимавшийся из коробки, мальчик протянул ее Акитаде: — Пожалуйста, господин учитель, угощайтесь. — Нет, спасибо. Я сейчас иду обедать. Кинсуэ и Фумико здоровы и просили передать вам, что старательно заботятся о вашем доме в ваше отсутствие. Слегка покраснев, мальчик закрыл коробку. — Вот и хорошо. Я рад, что они здоровы и что их не уволили. Они нуждаются в чем-нибудь? И вновь Акитада подивился тому чувству ответственности, которое испытывал этот одиннадцатилетний мальчик по отношению к своим подданным. — Нет. Не думаю, что они в чем-то нуждаются. Конечно, они горюют из-за вашего дедушки и из-за того, что вас нет с ними. Мальчик заморгал. — Я рад, что они остались в нашем доме, ведь дедушкина душа будет обитать там, пока не минет сорок девять дней. А нет ли каких-нибудь новостей от моей сестры, господин? — Боюсь, что нет. Она сейчас живет за городом. Кстати, где находится ваш летний дворец? — У подножия горы Курико. Это если следовать по дороге Нара. — А еще я беседовал с вашим двоюродным дедушкой проповедником Сэссином. Надо полагать, он так и не послал за вами и не распорядился изменить ваши жизненные условия? — Нет, господин учитель. Мой двоюродный дедушка — лицо духовное, он не проявляет интереса к мирским делам. Минамото произнес это самым будничным тоном, но сердце у Акитады защемило при мысли о том, как одинок этот ребенок. Заставив себя улыбнуться, он проговорил: — Ну что ж, лакомьтесь своими колобками! С улыбкой Акитада смотрел вслед просиявшему мальчику, крепко сжимавшему драгоценную коробку. Как мало, оказывается, нужно, чтобы сделать ребенка счастливым! Даже среди мрачных воспоминаний о своем печальном детстве он отыскал моменты истинного блаженства. Однако через мгновение от улыбки на лице Акитады не осталось и следа. Пока он перебирал в памяти картины детства, в класс заглянул Нисиока. Просунув свой длинный нос в приоткрытую дверь, он спросил: — Друг мой, разве вы сегодня не обедаете? Я вот, например, иду к себе в кабинет подкрепиться. Пойдемте, будете моим гостем! Мне, знаете ли, не терпится поделиться с вами моей новой версией, а заодно и угостить вас хорошенько. Акитада хотел отказаться, но тут увидел за спиной Нисиоки изможденное лицо Хираты. Вздохнув, он принял приглашение, а Хирата, кивнув обоим, удалился. Пока они шли к храму Конфуция, Нисиока болтал без умолку. Чувствуя себя виноватым перед Хиратой, Акитада в основном молчал. Да и жара на улице стояла необычайно сильная для этого времени года. Посмотрев на небо, Акитада заметил, что погода меняется. Душное марево висело над городом, на деревьях не шевелился ни один листочек. — Профессор Танабэ по моей настоятельной просьбе взял сегодня выходной, — сообщил Нисиока уже у себя в кабинете. — Я что-то тревожусь за него. Уж больно он стар для всей этой суматохи. Вообще, чем скорее полиция арестует убийцу, тем лучше для всех нас. — Вспомнив, каким изможденным и немощным выглядел последнее время Хирата, Акитада согласился. А между тем Нисиока оживленно продолжал: — Кажется, я выработал версию. Всем понятно, что главное тут — личность убийцы, и на этом основании я свел все к одной персоне. Конечно, чтобы распять такое крупное тело на статуе, нужна изрядная физическая сила. Если бы не это, поле догадок и предположений значительно расширилось бы. Но давайте обсудим это за обедом. Оставив тесный захламленный кабинет Нисиоки, они уселись на веранде, куда им принесли из профессорской столовой вареный рис и маринованные овощи. Акитада окинул свою порцию равнодушным взглядом. — А вы говорили, будет угощение. Глаза Нисиоки заблестели. — Будет, но позже, — пообещал он и вернулся к теме убийства Оэ. — Как мне представляется, мы должны рассмотреть кандидатуры всех, у кого имелся мотив, исключить тех, кто не смог бы этого сделать, и проанализировать физическую силу оставшихся. Согласны? Это расследование заняло бы немало времени. Акитада понуро кивнул, смахнув со лба капли пота. Не слишком голодный, он ел без аппетита. — Давайте начнем с нас самих. — Нисиока размахивал перед собой палочками для еды. — Нет-нет, только не качайте головой! Мы должны использовать системный подход. Система — основа всех научных изысканий. Что касается меня, то я недолюбливал Оэ. Он несколько раз нагрубил мне. Мне также не нравилось, что он не проявлял уважения к нашему почтенному профессору Танабэ. Но неприязнь — это еще не повод для убийства. А у вас, если вы были со мной искренни и ничего не утаили, даже и неприязни к нему быть не могло — вы ведь едва ли знали Оэ. Я прав? Акитада задумчиво посмотрел на Нисиоку и отодвинул миску и палочки. — У вас мог быть гораздо более веский мотив, чем личная неприязнь. Полицейский капитан, похоже, считает, что Оэ распекал вас за пристрастие к играм. Нисиока побелел как полотно. — К… Кобэ так и сказал вам? Да как он мог?! Что именно он сказал вам? — Ничего особенного. Он услышал это среди факультетских сплетен. Нисиока вздохнул с некоторым облегчением: — Дурацкая это история, к тому же сильно преувеличенная. Раздули на пустом месте. Пара наших чиновников из хозяйственной части делали в прошлом году ставки на результаты экзаменов и попросили у меня разрешения поставить свои деньги от моего имени. Никто не придал бы этому такого значения, если бы мы не столкнулись с неожиданным проигрышем. Видите ли, на первом месте оказался не тот, на кого ставили. — Это мне известно. — Акитада заметил, что Нисиока поменял местоимения, незаметно съехав с «они» на «мы». Оставалось только гадать, насколько глубоко он замешан в этой истории. Акитада понимал, что все нуждаются в деньгах, а помощники профессоров, как известно, получают ничтожное жалованье. — И сколько же денег было поставлено на кон в общей сложности? — полюбопытствовал он. — Около пятисот серебряных монет. — Так много?! — поразился Акитада. — И кто же выиграл? — Победитель был один. Исикава. — Исикава?! Вот это да! Но если он огреб такую сумму, зачем же тогда подрабатывал у Оэ, читая за него студенческие сочинения? Нагнав на себя до противного таинственный вид, Нисиока только многозначительно крякнул. Акитада снова придвинул к себе миску. — Хорошо. Продолжайте ваш анализ, — предложил он, проглотив несколько подсушенных рисинок. Хозяин этого «пышного» застолья, смущенный тоном Акитады, запинаясь, продолжил: — Ах, ну да, мы говорили о мотивах. Так вот… что касается вашего друга Хираты, то он, похоже, ладит со всеми. И о каком-то мотиве я тут и говорить бы не стал. Профессор Танабэ тоже всегда был очень терпим к покойному. Думаю, их обоих можно исключить из списка. А вот Фудзивара — человек более сложный. Он тоже легко сходится с людьми, но Оэ ненавидел его и никогда не упускал случая наговорить ему гадостей при людях или наедине. То, что произошло на поэтическом конкурсе, могло послужить последней каплей для Фудзивары. Явный повод для мести, я бы определил это так. Акитада просунул палец под воротник, из-за пота липнувший к разгоряченной шее. — Все это только ваши домыслы, — сказал он. — Если уж на то пошло, мы с Хиратой могли иметь мотивы, не известные вам. А Фудзивара слишком терпим и уживчив, чтобы пойти на насилие из-за чего бы там ни было. — Не забывайте, что я знаю своих коллег гораздо лучше, чем вы, — возразил Нисиока. Торопливо проглотив немного овощей, он продолжил: — Полагаю, теперь вы станете защищать Такахаси. Человека, который ненавидит всех и каждого и старается доставить всем как можно больше неприятностей! Даже вы, наверное, помните, как он кипел от злости, когда Оэ развенчал его драгоценное сочинение. Я склонен усматривать здесь очень веский повод для мести. Одним словом, мотив налицо. — А я считаю, что в подобных суждениях следует быть осторожнее, чтобы не приписать убийства тому, кого недолюбливаешь, — заметил Акитада. Нисиока поставил свою миску. Он едва сдерживал свои чувства. — Так, может, вы окажете мне честь и поделитесь теперь со мной своим мнением относительно других? «Так мне и надо, грешному, — подумал Акитада. — Нечего было связываться. Не лучше ли было промолчать?» Ему ничего не оставалось, как согласиться, в надежде, что Нисиока постепенно угомонится. — Вот, например, Сато. Интересная особа, на мой взгляд. — Акитада сделал вид, что ничего не произошло. — Держится спокойно, но ему есть что скрывать. Университетские правила запрещают давать частные уроки. А еще ходят слухи о его скандальных интрижках с женщинами, которых он принимает у себя в рабочем кабинете. Уверен, вам об этом известно гораздо больше, чем мне. Нисиока колебался, но соблазн был слишком велик. — Что верно, то верно, — согласился он. — И Сато не мог бы позволить себе лишиться места — ведь он беден, и у него при этом большая семья. А Оэ, кажется, хотел разобраться с ним. — Инстинкт самосохранения, — кивнул Акитада. — Вот именно! Но не забывайте про Оно. Помощник Оэ, Оно всегда лелеял надежду занять со временем место главы факультета китайской литературы. Ради этого он годами терпел унижения и работал сверхурочно. — Да. И это дает ему два повода для убийства — месть и корыстный интерес, — заключил Акитада. Успокоившись и смягчившись, Нисиока вскочил, чтобы принести саке. Он наполнил чарки, и Акитада жадно выпил, совсем забыв, что учебный день еще не закончился. — Хорошо, — сказал он. — Это и было обещанное угощение? Нисиока рассмеялся: — Нет. Но будет, потерпите. Так что же вы все-таки думаете о моих последних рассуждениях? Акитада подождал, когда Нисиока снова наполнит чарки, потом сказал: — Они касаются только преподавательского состава, а ведь убийство мог совершить кто угодно. Студенты, служебный персонал, посетители, друзья, даже члены семьи. Нисиока небрежно отмахнулся: — У Оэ не было друзей, а семья такая, что и говорить о ней не приходится. Что до служащих, то им не было никакого дела до Оэ, а ему до них. То же самое можно сказать о студентах, с одним существенным исключением — Исикава. Исикава беден и умен в равной степени, и этой весной они с Оэ вдруг необычайно сблизились. Исикава начал проверять сочинения вместо Оэ. Очень любопытный факт. — Да, — согласился Акитада. — Особенно учитывая другой факт — то, что Исикава выиграл всю сумму ваших ставок. Он явно не нуждался в скудном жалованье, которое выплачивал ему Оэ. Нисиока уронил ломтик редьки, уже поднесенный ко рту, и, покраснев от возмущения, воскликнул: — Что значит «ваши ставки»?! Моих ставок там не было! И я вообще попросил бы вас больше не касаться этого вопроса! — Простите, — пробормотал Акитада. — Насколько я понял, вы подозреваете Оэ в подтасовке экзаменационных результатов, о чем было известно Исикаве. — Конечно, он это делал. Они разработали хитроумный план, чтобы никто не догадался об участии Оэ. Исикава сгреб выигрыш. Только думаю, большую его часть он отдал Оэ. Все видели, как изменился Исикава после тех экзаменов. Он начал проявлять к Оэ откровенное непочтение, и Оэ мирился с этим. Поговаривают даже, что Исикава навешал Оэ тумаков. Складывается впечатление, будто заговорщики перессорились между собой. — Нисиока брезгливо поводил длинным носом над своей миской, как если бы от лежавших в ней овощей вдруг дурно запахло. — А доказательства этому у вас есть? — Какие доказательства? Все, что нужно, это просто наблюдать за поступками людей. Полагаю, Исикава шантажировал Оэ. Что вы на это скажете? К такому выводу Акитада пришел уже давно. Жаль только, что это никак не объясняло убийства. — Но убили-то Оэ, а не Исикаву. Зачем Исикаве лишать себя источника доходов? — А что, если Оэ устал от вымогательств Исикавы и пригрозил выгнать его из университета? — В таком случае он должен был опасаться, что Исикава раскроет весь их план. Тогда его собственная университетская карьера закончилась бы в два счета. — Оэ нечего было терять. Он уже собирался уйти на покой. — А вам это откуда известно? — удивился Акитада. — Из того, что он сказал, и как он это сказал. Не забывайте, я присматриваюсь и прислушиваюсь ко всему, что происходит вокруг. У Оэ были деньги от выигранных ставок, а свои преподавательские обязанности он ненавидел. По-моему, он был готов продать свое место тому, кто больше предложит. — Помолчав, Нисиока усмехнулся. — Интересно, знал ли об этом Оно? Он беден, как мышь, и это давало ему еще один мотив для убийства Оэ. — Ну что ж, выбор, кажется, довольно большой, только вот фактов, подтверждающих ваши подозрения, я что-то не вижу. Нисиока кивнул. — Фудзивара, Такахаси, Оно, Сато и Исикава. А факты в данном случае не важны, поскольку вы можете исключить всех, кроме кого-то одного. — Акитада вздохнул. Овощи были пересолены, и он снова основательно приложился к предложенному Нисиокой напитку. Нисиока, похоже, привык к соленой пище и к жаре, поэтому как ни в чем не бывало продолжил: — Предположим, что Фудзивара пошел в храм после состязания. Он достаточно силен, чтобы взгромоздить на статую тело. Однако чтобы встретиться с Оэ, ему следовало предварительно об этом договориться. То же самое относится к Такахаси и Сато. — Но каждый из них мог столкнуться с Оэ случайно и перейти к действиям внезапно, — возразил Акитада. — Ведь университетские ворота не запирались и не охранялись по случаю праздника. — Я уже думал об этом, но такое маловероятно. Кроме того, я не верю в совпадения. Исикава и Оно ушли вместе с Оэ и на состязание не вернулись. О том, что они расстались за воротами, мы знаем только с их слов. Что касается вероятности, эти двое подходят как нельзя лучше, действовали они по отдельности или сообща. — Но Оно утверждает, что вернулся на праздник. — Акитада отодвинул еду. Теперь ему уже хотелось поскорее уйти. Но Нисиока, возбужденно потирая руки, продолжал: — Таким образом, я наконец приближаюсь к личности нашего убийцы. Если рассмотреть наименее вероятные кандидатуры первыми, то прежде всего нужно упомянуть Фудзивару. Он талантлив, но фигура весьма нестандартная. Равнодушен к любым внешним проявлениям и к славе, а значит, к сколько-нибудь ощутимым оскорблениям. В этом смысле он полная противоположность Такахаси. Возможный мотив Такахаси существенно усилится, если вы примете во внимание его тщеславие. С другой стороны, его гипертрофированное чувство приличия непременно предотвратило бы желание мстить. А вот Сато, признаться, озадачивает меня. Иногда я подозреваю, что Сато не чужды сильные эмоции, а порой он кажется столь же безразличным ко всему, как и Фудзивара. Эта парочка частенько ходит прополоскать горло в местные питейные заведения. Вы знали об этом? — То, что человек развлекается по ночам, еще не означает, что он лишен добродетелей. — Акитаду все больше раздражали болтливость и предвзятость самоуверенного Нисиоки, и он уже потерял интерес к обещанному таинственному угощению. — Совершенно справедливо подмечено. Но в любом случае, несмотря на различие их темпераментов, ни одного из них не назовешь вполне положительным человеком. А теперь перейдем к нашим основным подозреваемым — Оно и Исикаве. Оно — человек абсолютно задавленный, невероятно терпеливый. Но такие люди взрываются, когда чувствуют, что терпение их иссякло. У Исикавы значительно более сильная воля и ум. Вынашивая любой план, он не пожертвовал бы своим добрым именем и не стал бы подвергать себя опасности. Такой человек не взорвется, а отвратит от себя беду, предприняв временные меры и действуя по обстоятельствам. В общем, как ни крути, но и Оно, и Исикава могли убить Оэ. Вот так я представляю себе ситуацию. — И, скрестив на груди руки, Нисиока торжествующе улыбнулся. — Кажется, вы говорили, что анализ привел вас к одному человеку, — заметил Акитада. — Разумеется, это Исикава! — Нисиока от души рассмеялся, увидев, как обескуражен Акитада. — И не переживайте из-за того, что не вы открыли правду. Не забывайте, я хорошо знаю этих людей и давно научился верно истолковывать каждое их слово и поступок. Вы тоже научитесь. — Благодарю за столь обнадеживающие слова, но по-моему, вы считаете преступником Исикаву исходя из того, что он физически силен, а к тому же, похоже, сбежал. — Это я учел. Но есть и более важная причина. Вспомните: убийца не только привязал труп жертвы к статуе учителя Куна, но и унес с собой его белье. Почему? — Жест презрения к убитому? — Не только к убитому. Это жест презрения к университету и ко всему, что он символизирует. Оно на такой поступок не способен, поскольку вся его жизнь посвящена этому заведению и он давно надеется стать старшим преподавателем. А вот Исикава частенько позволял себе отпускать циничные замечания. Так что выказать презрение к самому учреждению и к Оэ, как своего рода его представителю, вполне в его духе. — Возможно, вы и правы, но это не доказывает того, что убийца именно он, — возразил Акитада. — Ну это как сказать, — не унимался Нисиока. — Достаточно пустить по его следу полицию. А что до меня, то я присмотрел еще одного человека… и эта версия, пожалуй, может оказаться весьма любопытной, пока мы ждем ареста Исикавы. — Взгляд Нисиоки упал на миски, и он запоздало вспомнил об обязанностях гостеприимного хозяина. — Я вижу, вам не понравилась еда, — заметил Нисиоки. — Ну, ничего. Я припас самое вкусное напоследок. Вскочив, он побежал в кабинет и принялся ворошить там горы бумаг. — А-а!.. Вот они где! — воскликнул он, осторожно неся деревянную шкатулочку. Подняв крышку, Нисиока с самодовольной улыбкой протянул шкатулку Акитаде. Та была пуста. Это они обнаружили одновременно. — Как же так?! — изумился Нисиока. — Просто не представляю… — Он встряхнул шкатулку и перевернул ее вверх дном, видимо, надеясь, что неведомо откуда взявшееся содержимое все-таки вывалится наружу. — Куда же они делись?! Клянусь, еще вчера вечером шкатулка была наполовину полная! Ну да ладно, ничего не поделаешь. Я хотел угостить вас на десерт моими любимыми орешками. Я знаю одну старушку, которая готовит их идеально. Она делает это по своему особому рецепту — сначала обдает соленым кипятком, а потом жарит. Эти орешки — моя единственная слабость. — Нисиока закрыл шкатулку и небрежно швырнул ее в комнату. — Вот сделаю новый запас, и тогда вы отведаете их. Акитада учтиво выразил удовлетворение по этому поводу. Нисиока, кивнув, сообщил: — Я намерен изложить свои выводы капитану Кобэ сегодня днем. Думаю, это отвлечет его от дурацкой сплетни об этих треклятых ставках. Не хотите пойти со мной? Акитада покачал головой и поднялся. — У меня сегодня занятия и одна встреча, — уклончиво сказал он и, поблагодарив Нисиоку за обед, ушел, погруженный в раздумья. Соображения Нисиоки по поводу дела об убийстве, как ни странно, представлялись Акитаде любопытными. Хотя он не был согласен с Нисиокой в его толкованиях и оценках, его собственные подозрения тоже не очень-то увязывались с фактами. Зато он был солидарен с Нисиокой в том, что Исикава замешан в деле и его непременно нужно разыскать. Вернувшись в класс, Акитада увидел у себя на столе аккуратно перевязанный сверток. Посылка была адресована ему и подписана рукой Сэймэя. Сгорая от нетерпения, Акитада распаковал ее и нашел внутри список торговцев, снабжавших поэтический праздник товарами, а также толстую пачку бумаг, касающихся обширных владений Минамото. К последней прилагалась короткая записочка от Сэймэя. Юный Садаму оказался главным наследником. Сэймэй не обнаружил свидетельств каких-либо преступных деяний, но на многих последних финансовых операциях были подпись и печать Сакануоэ. Акитада отложил эти документы в сторону, чтобы внимательно изучить их, и взял в руки список торговцев. Ведя пальцем вниз по листу бумаги, он наконец нашел имя, которое ожидал увидеть.Глава 17 Парчовый пояс
Весь день, пока шли уроки, Акитада размышлял о трех делах, беспокоивших его. Изучив присланный Сэймэем список, он с нетерпением ждал появления Торы, чей отчет должен был подтвердить его версию относительно убийцы Омаки. Кроме того, цепочка впечатляющих рассуждений Нисиоки по поводу убийства Оэ вызывала у Акитады смутную и необъяснимую тревогу, сколько бы он ни перебирал в памяти все подробности их разговора. И всякий раз, окидывая взглядом склоненные головы своих учеников, старательно корпевших над заданием, он то и дело останавливал его на маленьком князе и думал о загадке принца Ёакиры. Почему Сакануоэ ехал на чужой лошади? Услышав, что колокол возвестил об окончании занятий, Акитада обрадовался не меньше мальчишек. Повскакав с мест, они торопливо раскланялись и бросились врассыпную из класса. Акитада поправил столики, собрал в стопку свои бумаги и собирался уходить, когда явился Тора. — Я уже начал волноваться. — Акитада с тревогой посмотрел на него. — У тебя все в порядке? И что там с именами торговцев? Ты выяснил? Тора устало плюхнулся на циновку. — Все выполнил. Я вручил ваше послание часовому в участке и дал оттуда деру — смекнул, что задержат меня, расскажи я капитану о том, что произошло в воротах Расёмон. Не верю я этим чертям. Им только слово скажи, и они начнут тебя пытать, кто такой Хитомаро, монах и двое других. А я ведь, как вы знаете, дал слово не выдавать их. Акитада нахмурился. — А ты не боишься, что эти головорезы намнут тебе бока или, хуже того, отправят на тот свет? — Они?! — удивился Тора. — Да никогда! С ними как раз все в порядке. Вот ваши хваленые блюстители законности, эти точно готовы вышибить из человека мозги. Не ответишь им как положено, так они с тебя шкуру сдерут. Вспомнив, как пороли старого Юмакаи, Акитада внутренне содрогнулся. — Ну за себя можешь не бояться. Я бы такого не допустил, — сказал он. Тора загоготал. — А чем вы поможете, если меня уже разделают как тушу? Кобэ извинился бы перед вами и сказал, что его люди маленько ошиблись и чуточку перестарались. И вам пришлось бы тащить меня домой, где Сэймэй обложил бы мою кровавую спинушку своими салфетками и примочками. Нет уж, спасибо, лучше мне держаться от них на расстоянии. Короткая тишина воцарилась в комнате. Акитада слишком хорошо знал, что закон обязывает полицейских применять силу на допросах. Кобэ был даже менее жестоким, чем большинство его коллег, но и он гордился эффективностью своей работы. Кобэ распорядился использовать бамбуковые палки при допросе дряхлого старика и уж вряд ли стал бы колебаться, если б захотел сделать то же самое с молодым здоровым парнем вроде Торы. Между тем Тора продолжал свой рассказ: — В общем, из участка я поскорее унес ноги и пошел прямиком в харчевню, о которой говорил Хитомаро. Хитомаро с монахом сидели там под дверью, похоже, голодные как собаки. Я заказал для всех еды и выпивки, и мы душевно поболтали. Эти ребята мне и впрямь понравились. Особенно Хитомаро. Сдается мне, он, как и я, раньше был воином. Может, даже не простым солдатом, а самураем, потому как книжки читает да и держится степенно. — Тора нахмурился. — Зачем вот только самураю бросать свое военное ремесло? Я задал ему этот вопрос, так он сразу нахохлился, стал суровым и не велел мне совать нос куда не следует. Не мое это, дескать, дело, как они поступают и зачем. — Не очень-то любезно с его стороны, поскольку ты кормил и поил их на свои деньги. Я думал, у тебя все-таки есть голова на плечах. Они же явные разбойники и покрывают всякие нечистые дела. Впредь держись от них подальше. Тора упрямо покачал головой: — Нет, господин, вы ошибаетесь. Это люди моего пошиба. Хитомаро хороший парень, а монах… монах… он очень добрый. Признаюсь, слова Хитомаро заставили меня усомниться в том, что монах настоящий, но, честно говоря, пусть бы лучше он и впрямь оказался не монахом. Вы бы только видели его, господин! Такие мышцы! Старухе, хозяйке заведения, понадобилось перетащить кучу мешков с рисом, так монах брал их по четыре штуки зараз и нес под мышкой, как щенков. Старуха на него не нарадуется, говорит, он частенько помогает ей носить тяжести. — Подозреваю, что оба они беглые. Но довольно об этом. Что там у нас насчет торговцев, проживающих вблизи канала? Тора достал из рукава смятый листок бумаги, разгладил его и положил перед Акитадой: — Вот за этим я ходил к городовому. К тому самому, что выудил из канала тело Юмакаи и установил смерть от несчастного случая. Поначалу этот ленивый ублюдок не захотел оказать мне помощь, но я сказал ему, что занимаюсь официальным расследованием и прислан проверить его работу, в частности, случай с утопленником. Тут он весь сложился в гармошку, как мокрый бумажный веер. Так перетрухал, что долго не мог ничего накорябать на бумаге. — Надеюсь, ты не говорил ему, что работаешь в полиции? — Конечно, нет! В министерстве юстиции. Акитада, захохотав до упаду, взял в руки листок. Городовой набросал грубую схему улиц, канала и прилегающих к нему частных владений. Все они имели на схеме квадратные очертания и были отмечены именами владельцев. К счастью, почерк городового оказался лучше, чем у Торы. Указав пальцем на один из наиболее крупных квадратов, Акитада сказал: — Смотри! Тора, моргая, тупо смотрел на листок — его навыки к чтению находились в зачаточном состоянии. — Что-то не разберу, что здесь написано. — Курата. — Курата? Святая Каннон[1385]! Неужели? — Тора распрямился и постучал кулаком по лбу. — Ну и ну! Какой же я дурак! Я же сам был в его лавке! А со стороны канала совсем не узнал это место. Думаете, это он? Акитада кивнул. — То есть это он задушил Омаки ее же собственным поясом? Акитада снова кивнул. — Вот ублюдок! Значит, он унес пояс с собой, чтобы его по нему не вычислили? — Думаю, да. — Но он отдал его Юмакаи. Зачем? Ведь Курата явно не из тех, кто подает нуждающимся. — Он спешил избавиться от пояса, но допустил роковую ошибку, решив, что лучше всего отдать пояс нищему. Тора улыбнулся во весь рот. — Хвала Будде! Так и надо этому гаду! — Глаза его вдруг округлились. — Э-э, а ведь это я первым сообщил вам об этом подонке! Акитада рассмеялся: — Да, Тора. Что верно, то верно. Ну что бы я без тебя делал? Давай-ка покажи место, где городовой выудил из канала тело, а потом мы передадим твои сведения Кобэ. Тора взял в руки хозяйскую кисточку, лизнул ее и окунул в уже подсыхающую тушь. Старательно начертил на карте крестик на задворках лавки Кураты, и они с Акитадой удовлетворенно заулыбались.Кобэ нервно расхаживал по кабинету, когда вошли Акитада и Тора. Завидев Тору, он рявкнул: — Это ты оставил записку о местонахождении тела нищего? Где ты, к чертям, шляешься? Тора перевел взгляд на Акитаду, а тот удивленно приподнял брови: — Он выполнял мое поручение. — Вот как? А вы, как я понял, пришли позлорадствовать? — Вовсе нет. Я просто хотел поинтересоваться, нет ли каких новостей. — Мы откопали тело. Тюремный лекарь сказал, что это убийство. Его задушили, как и девушку. В воду его бросили уже мертвым. Вы это хотели услышать? — Я ожидал это услышать, — уточнил Акитада. — Мне очень жаль, что так получилось, но по крайней мере это помогло Торе разгадать оба убийства. Кобэ изумленно уставился на Тору, потом перевел взгляд на Акитаду: — Вы шутите? Он раскрыл эти убийства?! — А почему бы нет? — Акитада смело встретил его взгляд. Кобэ отвел глаза первым, и Акитада продолжил: — Я был занят в университете, и Тора вел расследование сам. Он побеседовал с родителями Омаки и с ее подружками из веселого квартала. Вчера он отправился в город искать Юмакаи. Тора нашел его слишком поздно, но смерть старика оказалась не напрасной. Она указала на того, кто убил Омаки. Кобэ яростно сжал кулаки. — Хотел бы я знать, почему ваш слуга не явился сюда, чтобы отчитаться? Выяснив хоть что-то о знакомствах девушки, он должен был рассказать нам о них. Мы потеряли сегодня несколько часов, разыскивая его, чтобы узнать, как он нашел тело. Акитада невозмутимо объяснил: — Я уже сказал, что посылал Тору раздобыть побольше сведений, и он только что вернулся. Мы явились сюда, как только у нас появилась полезная информация. Так вы выслушаете нас, или мы так и будем понапрасну тратить время? Глаза Кобэ свирепо сверкнули. — Какая еще новая информация? Акитада разложил на столе карту городового и указал на поставленный Торой крестик: — Насколько я понимаю, тело нищего было обнаружено квартальным городовым именно здесь. Кобэ склонился над схемой и кивнул: — Да, примерно здесь. И что? — Обратите внимание на имя владельца прилегающей территории. — Акитада разложил рядом со схемой список торговцев, составленный Сэймэем. — А теперь посмотрите сюда! Это имена торговцев, поставлявших товары для праздника в парке в тот день, когда была убита Омаки. Одно и то же имя появляется дважды. Кобэ взял в руки список и просмотрел его. — Курата. — Он заглянул в схему. — Полагаете, кто-то из его работников сделал это? — Нет. Мы считаем, что девушку убил Курата, так как она ждала от него ребенка и требовала, чтобы он женился на ней. И он же убил нищего Юмакаи, поскольку тот мог опознать в Курате человека, давшего ему парчовый пояс Омаки. Кобэ громко расхохотался: — Да это же невозможно! Курата — владелец лучшей лавки, торгующей шелком в столице. Крупные торговцы вроде него поручают доставку товара приказчикам и посыльным. Вряд ли он стал бы заниматься этим сам. — А я убежден, что он занимался этим сам. Сам доставлял шелковые подушки. Это был важный для него заказ. К тому же Курата назначил роковое свидание девушке, и роль посыльного была для него хорошим прикрытием. — Это все ваши домыслы. — Нет. Это единственный вывод, который напрашивается, если собрать воедино все факты. Омаки знала, что парк закрыт для посетителей, но все-таки проникла туда. Привратник видел, как она входила, но потом напрочь забыл о ней, поскольку пропускал прибывшие товары. Когда вы допрашивали его насчет других посетителей, он припомнил только Тору и меня. Ему просто не пришло в голову упомянуть о тех, кто занимался доставкой. Ведь привратник прекрасно знал, что у этих людей есть свободный доступ в парк. Из этого следует, что у Омаки было назначено свидание с человеком, занимавшимся доставкой. Подумав, Кобэ кивнул: — Да, такое возможно. Акитада продолжил: — Посетив семью погибшей девушки, Тора выяснил, что у нее был не только дорогой парчовый пояс, которым ее задушили, но и другие дары из этого магазина. Кобэ с недоумением посмотрел на Тору: — Но такой человек! Столь уважаемый и почтенный гражданин! Где он познакомился с этой вертихвосткой? — Видите ли, Курата частенько захаживал в «Старую иву», — объяснил Тора. — Очень многое о нем знает тетушка, владелица заведения. Как раз в нем Омаки и играла на лютне. Кобэ смотрел на Тору, не в силах скрыть удивления. — Но даже если он обрюхатил ее, что с того? Разве Курата не мог откупиться? Говорят, он богат. Ему снова ответил Тора: — Не мог. Потому что у его благоверной уж больно крутойнрав — жучит она его почем зря за привычку волочиться за юбками. Как я понял, для нее это настоящее бедствие. — Что? — рассеянно спросил Кобэ и снова начал расхаживать по комнате. — Думаю, все могло произойти именно так. — Он вернулся к схеме и, склонившись над ней, кивнул. — Выходит, Юмакаи видел убийцу. Но почему же старый дурак не рассказал нам? Сейчас был бы жив. — Почему же? Он рассказал, — возразил Акитада. Кобэ выпрямился и вопросительно посмотрел на Акитаду. — Ничего он не рассказал. Бубнил только что-то невнятное про Дзидзо. Вы же сами слышали. — Вот именно. Каменные статуи Дзидзо традиционно имеют на голове красные колпаки, которые приносят им в качестве подношения матери, когда просят бога Дзидзо защитить их детей. Носильщики, таская тяжелый груз, тоже носят на голове тканевые повязки или колпаки. Поинтересовавшись, вы наверняка обнаружите, что у всех работников Кураты колпаки красные. — И вы все это знали?! — разозлился Кобэ. — Нет. Просто я подумал, что Юмакаи что-то видел. Я попытался установить связь между его рассказом о Дзидзо и убийцей. Доставка товаров в парк навела меня на мысль о колпаках носильщиков. Ну а уж после этого нетрудно было угадать, что произошло дальше. — Итак, вы полагаете, что старик узнал Курату? И что же, по-вашему, он пошел шантажировать его? — Нет. Юмакаи скорее всего случайно заглянул в лавку Кураты и увидел там своего Дзидзо. Вряд ли он тогда понимал, чем ему это грозит. Возможно, старик пожаловался Курате, что потерял его дар. Или попросил у него новый парчовый пояс. Разумеется, после всего этого Курата не мог оставить его в живых. Кобэ изумленно посмотрел на Акитаду. Выругавшись, он сел и, обхватив голову руками, к великому удивлению Акитады, запричитал: — Значит, этот безжалостный ублюдок убил старика, который считал его самим богом Дзидзо! Вот проклятие! Все сходится, и как только я не догадался раньше?! — Кобэ снова вскочил и, грозно направив на Акитаду указательный палец, заорал: — Но вы!.. Вы и ваш слуга должны были сразу же сообщить обо всем, что вам было известно! Если бы вы не вздумали умничать, мы допросили бы Курату уже несколько дней назад! Задетый обвинением, Акитада заметил: — Честно говоря, после ваших неудачных попыток выбить из Юмакаи правду палками я не слишком верил вашим методам. — Оставьте в покое мои методы! Только ими и можно добиться признания, а без признания виновный окажется на воле. И советую вам: предоставьте полиции ее работу! — Полагаю, при таком отношении к людям вы вряд ли можете рассчитывать на помощь честных граждан, — заметил Акитада. — Мы и так справляемся, — вскипел Кобэ. — А что касается Кураты, то мы могли последить за его домом и лавкой пару дней и, возможно, добились бы результатов. Теперь же мне остается только одно — припереть его к стенке. Такой трус, как он, сознается довольно быстро, и если ваш слуга прав насчет его жены, то, узнав о похождениях муженька, она охотно окажет нам содействие. — Вот и прекрасно. Тогда мы передаем это дело в ваши надежные руки, а сами пойдем своей дорогой. Но Кобэ будто не слышал его. С едва заметной ухмылкой, тронувшей уголки его губ, он воскликнул: — Вот теперь этот ублюдок в наших руках! Наконец-то справедливость восторжествует! Нам не удалось бы убедить судью, имей мы только показания Юмакаи про какого-то там бога Дзидзо, якобы подарившего ему парчовый пояс. — Может, и не удалось бы. — Акитада, направлявшийся к двери, обернулся. — Жаль только, что старику пришлось распрощаться с жизнью ради того, чтобы мы вышли на убийцу. — Да. Но в противном случае даже вы не разгадали бы эту загадку. — Гнев Кобэ иссяк, и теперь он был в возбуждении. — Вы куда сейчас? Пойдемте со мной арестовывать этого ублюдка! Акитада остановился: — Вы хотите, чтобы мы пошли с вами? Разве это необходимо? Кобэ уже снял со стены лук со стрелами и повесил их через плечо. — Может, не так уж и обязательно, но я хочу, чтобы вы посмотрели, как я работаю. И не успел Акитада возразить, как он распахнул дверь и окликнул по именам пятерых своих подчиненных, которые тут же прибежали. — А ну, стройсь! — гаркнул Кобэ, придирчиво оглядывая их. — Мы идем в магазин Кураты, чтобы арестовать хозяина, — сообщил он. Повелительным жестом предложив Акитаде и Торе присоединиться, Кобэ зашагал к выходу. — Полагаю, нам лучше пойти, — со вздохом сказал Акитада Торе. Несмотря на послеобеденный зной, изнурявший людей, Кобэ шагал так размашисто, что Акитада и Тора едва поспевали за ним. Люди на улицах удивленно смотрели им вслед. Идя между Кобэ и пятью его подчиненными, замыкавшими шествие, Акитада и Тора выглядели как два преступника, которых вели, чтобы подвергнуть заслуженному наказанию. Особый интерес у прохожих вызывал Акитада в своем богатом платье, поэтому к тому времени, когда они добрались до лавки Кураты, за ними по пятам уже следовала толпа любопытных. Не обращая на них ни малейшего внимания, Кобэ зашел в магазин, оглядел посетителей, остолбеневших при появлении блюстителей закона, и громко распорядился: — Всем быстро выйти! Кроме хозяина и работников! Посетители бросились к выходу. Остались лишь Курата, двое приказчиков, мальчик, таскавший рулоны ткани и уронивший их со страху после окрика Кобэ, и средних лет женщина со счетами в руках, корпевшая над учетными записями в дальнем конце зала. Все эти люди, побледнев, замерли при виде полиции. Попасть в поле зрения этого сурового ведомства в те времена боялись все, поэтому паренек сразу же залился слезами, громко приговаривая: — Я ничего не сделал! Приказчики перепугались не меньше — один попытался улизнуть, а другой задрожал так, что было слышно, как стучат у него зубы. Сам Курата, прилизанный и нарядный в своем шелковом кимоно, стоял посреди зала, беспомощно открывая и закрывая рот, словно рыба, выброшенная на сушу. Только женщина со счетами не потеряла самообладания. Она встала, расправляя на себе черное шелковое одеяние, и деловито подошла к Кобэ, чтобы проверить его полицейскую бляху. — Что привело вас сюда, капитан? — спросила она. В этот момент один из полицейских ловким прыжком догнал пытавшегося улизнуть приказчика и, швырнув его на пол, уселся ему на спину. Кобэ окинул обоих невозмутимым взглядом, прежде чем ответить на вопрос женщины. — Я расследую убийство, совершенное в окрестностях вашей лавки две ночи назад, поэтому намерен допросить всех, кто здесь находится. Вы кто такая? — Я — госпожа Курата, владелица, — с поклоном ответила женщина и, глянув на толпу, собравшуюся у порога, предложила: — Может, нам лучше пройти внутрь? — Она указала на дверь, ведущую в заднюю часть дома. Кобэ кивнул и распорядился: — Следуйте за ней! — Кто-то должен закрыть ставни, иначе у нас растащат весь товар, — сказала хозяйка магазина, но Кобэ сердито отрезал: — Не говори глупостей, женщина. Никто не полезет сюда, пока здесь я и мои люди. Она провела их в жилую часть дома. За дверью остались лишь двое полицейских — присматривать за толпой. Усевшись на шелковую подушку, Кобэ жестом пригласил Акитаду последовать его примеру. Курата и его жена тоже хотели сесть, но Кобэ рявкнул: — А вы постоите! Трое его подчиненных окружили Курату сзади. Перепуганные приказчики жались к стенке в углу. Обретя дар речи, Курата осведомился: — Что все это означает, капитан? Я нахожусь у себя дома, и не забывайте: я почтенный, даже весьма почтенный гражданин! Я поставляю товары в императорский дворец, и самые уважаемые люди города — мои постоянные клиенты. Они всегда подтвердят, что у меня добрый нрав и благие намерения. Кобэ смотрел на прилизанного Курату, как кот на чердачную мышь, зная, что спешить ему некуда. Потом он оглядел с ног до головы госпожу Курата: ее костлявую фигуру, длинный нос, маленькие злобные глазки, тонкие поджатые губы и жидкие с проседью волосы, после чего снова перевел взгляд на ее мужа. — Вы доставляли товары к поэтическому празднику в Весенний Сад на прошлой неделе? — чеканя слова, прогремел Кобэ. Курата открыл рот и тут же закрыл его. Вопрос явно застиг его врасплох. Кобэ сообщил, что расследует убийство, произошедшее по соседству с домом, и Курата ждал вопросов о нищем. Поначалу замешкавшись, он посмотрел поочередно на обоих приказчиков, потом все-таки признался, что занимался доставкой. Акитада мысленно рукоплескал Кобэ — ведь тот лишил Курату возможности лгать и отпираться в присутствии своих работников. — Вы были знакомы с девушкой по имени Омаки, гейшей-лютнисткой из веселого квартала? — продолжал допрос Кобэ. У Кураты на лбу выступила испарина. Стоявшая рядом жена с интересом уставилась на мужа. — Ну… я… мог видеть ее, — залепетал Курата. — Но почему вы спрашиваете о… Какое это имеет отношение к… — Отвечайте на вопросы! — потребовал Кобэ. — У меня нет времени на пустую болтовню. Правда, что эта Омаки была вашей любовницей и ждала от вас ребенка? Госпожа Курата издала какой-то шипящий звук, стиснув на животе руки. Курата закричал: — Нет! Конечно, нет! Я женатый человек и не вожу знакомств с женщинами! Все это чьи-то подлые наветы! Его жена спросила у Кобэ: — Омаки — не та ли это девушка, которую нашли задушенной в Весеннем Саду? — Да, — ответил Кобэ и добавил: — С сожалением вынужден сообщить вам, что ваш муж — постоянный посетитель определенного рода заведений в веселом квартале. Кивнув, она устремила все тот же непроницаемый взгляд на мужа и вдруг спросила: — Какие дела были у тебя с тем нищим два дня назад? Курата побелел как полотно. — С к-каким н-нищим? — забормотал он дрожащим голоском. — Не видел я никакого нищего. Не было никакого нищего! — Голос его звенел от страха. Его жена снова повернулась к Кобэ. Распрямив плечи и расправив на себе платье, она бесстрастно проговорила: — Поздно вечером к мужу кто-то приходил. Я была у себя и слышала, как муж впустил кого-то. Разумеется, я встала, чтобы выяснить, в чем дело. Я видела, как муж разговаривал с оборванным стариком. Они стояли в прихожей, и, по-моему, старик просил у него красного шелка. Муж обещал дать, и они вышли через заднюю дверь. Немного погодя муж вернулся один. — Не верьте ей! — взвыл Курата и рухнул на колени, завывая от страха. — Врет она все! Она злится на меня, потому что я хожу к другим женщинам. Из-за этого и плетет про меня всякие небылицы! Кобэ улыбнулся. Сейчас он снова напомнил Акитаде кота, облизывающегося в предвкушении хорошей добычи. — С чего такая паника? — осведомился он у Кураты. — Допустим, вы разговаривали с нищим. Разве это повод для того, чтобы выть? Курата отер мокрые щеки рукавом. — Ну… я не знаю… Все это так грустно звучит… — Шатаясь, он поднялся на ноги. Кобэ улыбнулся еще шире. — Да, понимаю, как это грустно, если учесть, что вы задушили этого нищего, чтобы он не проболтался. — Нет! Я… — Потому что этот нищий… — Кобэ уставился на Курату сверлящим взглядом, — был единственным, кто видел вас в парке в тот день, когда убили девушку. Курата в ужасе вытаращил глаза. Он словно прирос к месту и только твердил: — Нет-нет… Я не… я не… — Итак, девушка по имени Омаки. Это ей вы подарили парчовый пояс. Красный узорчатый пояс, припоминаете? Очаровательный подарок для очаровательной любовницы. Она носила его, потому что он был дорог ей как подарок от вас. А вы задушили ее этим поясом. Ноги Кураты подкосились, и он рухнул на пол, завывая: — Нет! Нет! Нет!.. Жена, бесстрастно посмотрев на него, громко проговорила: — Вы опозорили наше семейное имя, которое дал вам мой отец. Я выступлю на семейном совете с просьбой отменить акт вашего усыновления и исключить вас из списка членов нашего рода. Кроме того, я развожусь с вами. — И, отвернувшись от этого жалкого существа, корчащегося на полу, она оглядела всех присутствующих: — Вы будете моими свидетелями. Акитада по роду деятельности хорошо знал допускаемые законом процедуры развода. Знал он и о том, как принимают в семью и исключают из нее. Судя по всему, все это было столь же хорошо известно госпоже Курата. Только что перед лицом свидетелей она развелась с мужем и забрала себе родовое имя. То, что она сделала это без малейшего колебания, не проявляя эмоций, не объясняясь, потрясло Акитаду до глубины души. До сих пор он считал женщин существами более мягкими, ранимыми, менее холодными и практичными, чем мужчины. По его разумению, даже проведя долгие годы безрадостной жизни с неверным мужем, она не должна была бы порвать в одночасье все узы, словно их никогда и не существовало. Склонившись к Акитаде, Тора прошептал: — Ну какова! Просто дьяволица! Мне почти жалко ублюдка! Кобэ наблюдал за Куратой, который теперь уже был не Куратой, а неизвестно кем, отданным на милость правосудия. Курата вдруг с опозданием осознал потерю своего прежнего положения и весь ужас последствий этой перемены. На коленях он пополз к госпоже Курата, стеная: — Сокровище мое, одумайся! Пожалуйста, не совершай этого страшного поступка! Вспомни, какие клятвы мы давали друг другу! Вспомни годы, которые я посвятил нашему делу! Все это чудовищный навет! Меня обвиняют несправедливо! Она холодно смотрела, как Курата полз к ней, и, когда он ухватился за ее рукав, отдернула руку и плюнула ему в лицо. Курата отпрянул и, заливаясь слезами, смешавшимися с ее слюной, хрипло закричал: — Жена моя! Супруга! Я сделал это ради вас! Ради нас с вами! Эта девушка могла доставить нам неприятности! Она могла встать между нами! А я не хотел этого! И этот старый побирушка видел меня, когда я закрывал лавку, и начал болтать про Дзидзо и про парк! Поэтому мне пришлось заткнуть ему глотку! Вы ведь понимаете, почему я это сделал? Понимаете?… — Он умоляюще простирал к ней руки. Госпожа Курата выслушала его с каменным лицом, потом обратилась к Кобэ: — Капитан, вы получили признание, так что, пожалуйста, уберите отсюда этого человека. Я хотела бы поскорее вернуться к работе. На улице меня ждут клиенты. Я женщина одинокая и не могу позволить себе пренебрегать ими. Магазин Курата имеет прекрасную репутацию, и ее нужно поддерживать. Даже Кобэ был потрясен этими словами. Кивнув, он хлопнул в ладоши. Полицейские окружили Курату и подняли его с пола. — Заковать в цепи и увести! — приказал Кобэ. Курата начал кричать, но его связали и уволокли, по-прежнему орущего так, что его вопли доносились снаружи. Несколько мгновений все молчали, потом Кобэ обратился к Акитаде. — Зрелище малоприятное, — сказал он, — но я счел, что вам следует увидеть, как мы работаем. Ну так что, пойдем?
Глава 18 Друзья принца
По пути домой Акитада и Тора заглянули в университет. В спешке Акитада оставил там студенческие сочинения. Уже смеркалось, но прохладнее не становилось. Глянув на небо, Тора заметил: — Дождичка бы! Такой сухой погоды я уж много лет не видел. Удивительно, как еще не начались пожары. Акитада кивнул. В университетских дворах не было ни души — лишь пустые пожухшие лужайки. Студенты либо сидели в своих комнатах, либо разбежались кто куда — в гости к друзьям или к городским родственникам. С чувством вины Акитада вспомнил о маленьком князе. Когда они забрали из кабинета сочинения, он сказал Торе: — Давай навестим юного Минамото и пригласим его к нам в гости на завтра, если он не занят. Они застали мальчика за чтением. Маленький, одинокий, всеми забытый, он очень обрадовался их приходу. С учтивым поклоном мальчик сказал Акитаде: — Рад видеть вас, господин. Вы пришли сообщить мне какие-то новости? Акитада улыбнулся и сел. — Что-то вроде того. Мы расследовали дело об убийстве девушки. В основном благодаря стараниям Торы. Убийцей оказался торговец шелком по имени Курата. Захлопав в ладоши, князь Минамото вскричал: — Ай да Тора! Ну и молодец! — Потом обратился к Акитаде: — Значит, это не бедный Кролик! Я рад, что вы приняли участие, господин. А как насчет моего дела? Есть новости? — Пока нет. — Акитада оглядел крохотную комнатушку. Ему снова вспомнился двоюродный дедушка мальчика. Неужели он ничего не может сделать для ребенка? Вслух же он сказал: — А вы? У вас есть планы на завтра? Лицо мальчика омрачилось. — Нет, господин. — Тогда, может быть, вы не откажетесь зайти к нам в гости? Детское личико осветилось радостью. — О-о! А можно? Благодарю вас. И ты там будешь, Тора? За Тору ответил Акитада: — Возможно. А еще моя матушка, две мои сестры и я. Смутившись и покраснев, князь Минамото извинился за неучтивость. — Пожалуйста, простите мне эту грубость, господин. Мне не терпится познакомиться с вашей семьей и пообщаться с вами. Акитада поднялся. — Вот и хорошо. Тора придет за вами сразу после завтрака. Мальчик тоже встал. — Я рад возможности выбраться отсюда хоть куда-то, — признался он. — Кстати, здесь слонялись какие-то незнакомые люди. Они заглядывали в мою комнату, и я, признаться, даже испугался. Они были больше похожи на разбойников, чем на слуг. Один из них подметал веранду, только сразу видно, что он не знает, как держать метлу. Акитада и Тора переглянулись. — И давно они здесь? — поинтересовался Акитада. — Со вчерашнего дня. В голове у Акитады промелькнула мысль о том, что Сакануоэ прислал своих головорезов следить за мальчиком или того хуже. Сэссин мог рассказать Сакануоэ о визите Акитады. Еще раз Акитада напомнил себе, что только этот ребенок препятствует тому, чтобы Сакануоэ получил полный контроль над огромным состоянием Минамото. Какую чудовищную ошибку он совершил, рассказав о своих подозрениях этому старому мерзавцу, прикидывающемуся святошей! — А ну-ка, Тора, выгляни наружу, — сказал Акитада. Тора исчез и вскоре вернулся. — Во дворе ошивается какой-то прощелыга со скверной рожей, а за домом никого, — доложил он. Понизив голос, Акитада обратился к мальчику: — Садаму, что-то мне не хочется оставлять вас здесь одного. Думаю, мы возьмем вас сегодня на ночь к себе. Просияв, мальчик вскочил. Поспешно собрав в узелок несколько свитков и кое-какую одежду, он вручил его Торе, взял свой меч и объявил: — Я готов, господин. Акитада тихо проговорил: — Наверное, вам лучше выйти через заднюю дверь. Мы с Торой выйдем через переднюю, Тора быстро обогнет дом и встретит вас на заднем дворе. Глаза мальчика заблестели: он предвкушал опасность. Подтянув за перевязь висевший на плече меч, князь проверил его готовность, взял у Торы свой узелок и прошептал: — Я буду ждать. Их тщательно продуманный маневр удался. Акитада и мальчик быстро покинули двор общежития, миновали ворота и пошли по пустынной улице, между тем как Тора держался сзади на расстоянии, дабы удостовериться, что за ними нет слежки. Дома Акитада разместил мальчика в своей комнате и отправился сообщить матери о госте. Он не знал, как она отнесется к этому неожиданному визиту, поэтому волновался. Что, если матушка откажется принять князя Минамото? Но видимо, Акитада плохо знал мать. Стоило ему упомянуть имя мальчика, как в ее глазах вспыхнул интерес. — Маленький внук принца Ёакиры? Как это мило! Наконец-то ты налаживаешь нужные связи. А ты никогда не говорил мне, что этот бедный сиротка учится у тебя. Как все это кстати! Я попрошу его считать отныне этот дом своим. Для меня непостижимо, как семья Минамото допускает, чтобы ребенок с таким положением находился в общежитии в совершенно неподходящей для него компании. — Эти слова прозвучали так, словно юный Садаму жил в загородных трущобах среди самого последнего отребья. — Но это лишь временное явление, — заметил Акитада. — Как и визит к нам. Я пригласил его только потому, что завтра выходной. — Не будь дураком! — оборвала его мать. — Это же твой шанс стать личным наставником мальчика. Потом, когда он встанет на ноги и поднимется высоко, поднимешься и ты. — Она хлопнула в ладоши. На ее зов явилась пожилая служанка и опустилась на колени. Низко склонив голову, она ждала распоряжений госпожи. Акитада поморщился. Эта женщина по имени Кумой вынянчила его, а еще раньше — выпестовала его мать. Теперь она состарилась, стала слаба, и Акитада считал, что со стороны матери жестоко до сих пор требовать от этой женщины изъявлений почтения. Между тем госпожа Сугавара распорядилась: — Кумой, быстро приготовь большую комнату рядом со спальней моего сына для нашего знатного гостя. Пусть девушка вымоет полы, а потом принесите туда самые лучшие циновки из других комнат. Потом сходи в кладовую и выбери все, что необходимо для обстановки. Не забудь, все самое лучшее — ширмы, настенные свитки, жаровни, платяные сундуки, подставки для ламп — ну, ты знаешь, что нужно. А еще поищи там какие-нибудь игры для одиннадцатилетнего мальчика. Постель должна быть только из стеганого шелка. Расставь, разложи все со вкусом и возвращайся. Давай же, пошевеливайся! Я сама проверю эту комнату! Бессловесная Кумой коснулась лбом пола и зашаркала из комнаты. — Зачем так нагружать бедную старушку? — сказал Акитада. — Она уже совсем дряхлая, и, кроме того, юный князь Минамото всего лишь ребенок. Мать смерила его холодным взглядом. — Ты, видно, не знаешь, как следует встречать людей столь высокого положения. Окажешь ему должный прием, и когда-нибудь он, возможно, вознаградит тебя. Окажешь недостойный прием, и наживешь врага на всю жизнь. Для этих людей нет ничего важнее, чем выказанное им почтение. Акитада вспомнил студенческое общежитие и усмехнулся, однако решил схитрить: — Уж и не знаю. Его светлость очень полюбил Тору с тех пор, как они вместе запускали воздушных змеев. Теперь ему всякий раз не терпится провести как можно больше времени с нашим слугой. Эти слова застали матушку врасплох. Преодолев замешательство и озадаченно хмыкнув, она сказала: — Тебе ни в коем случае не следует допускать этой дружбы! Семье мальчика это не понравится. Придумай, как отвлечь ребенка от Торы. Научи его играть в мяч или что-нибудь еще в этом роде! Акитада улыбнулся. — Вообще-то я не намерен проводить с мальчиком много времени. — И, подумав, добавил: — По правде говоря, его нынешнее положение отчасти напоминает мое, когда я впервые пришел жить в семью Хирата. Я был тогда немногим старше его. Эта тема всегда была болезненной для матушки. Она напряглась и нахмурилась. — Кстати, тебе принесли письмо от Тамако. Она весьма учтиво вложила его в конверт, адресованный мне. Вот, возьми. — Достав из-за пояса тонкий сложенный листок бумаги, мать протянула его Акитаде. Сердце его едва не выпрыгнуло из груди. Старая боль и множество нерешенных вопросов вернулись в одночасье. Стараясь совладать с собой, он сказал: — Спасибо, матушка. — Не читая письма, Акитада запрятал его в рукав. — Мне, пожалуй, лучше пойти к нашему гостю. — И, низко поклонившись, поспешно удалился. За дверью Акитада дрожащими руками развернул письмо Тамако. Что бы он ни ожидал там прочесть — а ожидать многого от письма, адресованного его матери, не приходилось, — Акитада был не на шутку разочарован. Письмецо оказалось на редкость кратким, и само обращение сразу же вернуло его на землю:Мой дорогой почтенный старший братец! Простите мне мою назойливость, но не могли бы Вы заглянуть к нам и повидаться с отцом? Его здоровье совсем плохо, и мы опасаемся самого худшего. Всегда покорная Ваша младшая сестра.Акитада сложил письмо в полном смятении и подавленности. С чувством глубокой вины он припомнил измученное лицо Хираты и его настойчивые попытки поговорить с ним. Может, он и впрямь болен? Акитада устыдился того, что установил между Хиратой и собой в последние несколько дней дистанцию. Что, если приступ у старика был чем-то более серьезным, нежели обычное несварение? Ему, дураку, следовало проводить старого профессора домой и объяснить все Тамако. Но видеться с Тамако было выше его сил. Эта невыносимая пытка открыла бы слишком много старых ран. Акитада с горечью припомнил, что именно по просьбе Тамако ходил к ее отцу обсудить его состояние, после чего и произошла вся эта грустная история. Вертя в руках письмо, Акитада лихорадочно обдумывал, как ему поступить. Выйдя в сад, он начал расхаживать взад и вперед. После долгих размышлений Акитада решил, что Тамако, видимо, хотела, чтобы он повидался с профессором в университете. Ну что ж, в ближайший учебный день он так и сделает, а потом известит свою «младшую сестру» письмом о результатах. Уладив для себя этот вопрос, Акитада спрятал письмо за пояс и вернулся в свою комнату, где угостил мальчика горячим чаем и цукатами из слив. — Где же Тора? — спросил Садаму с набитым сладостями ртом. Тора! Акитада совсем забыл о нем. И впрямь, куда он девался? Где задерживается так долго? Извинившись, Акитада вышел во двор поискать слугу. К его великому облегчению, в тот же момент ворота открылись, и проклятый бездельник проскользнул во двор. Теперь, когда для тревоги не осталось причин, ее сменило раздражение. — Где ты был все это время? — сердито осведомился Акитада. — Они следили за нами, — ответил запыхавшийся Тора. — Я заметил их сразу же за воротами университета. Вы с маленьким князем тогда уже завернули за угол. — Так ты оторвался от преследователей? — Не сразу. Эти ублюдки оказались куда какие шустрые. И кажется, их было не двое, а больше. Один, здоровый верзила со страшной харей, ошивался тогда возле общежития. Другой тощий, рожа подлая, а ноги — я длиннее в жизни не видал. Клянусь, эта крыса может перепрыгнуть целый квартал. Сдается мне, я битый час бегал от них по улицам. Дважды мы чуть не столкнулись нос к носу — пришлось опять плутать по городу. В общем, надеюсь, я оторвался от них. — Что значит «надеешься»? — В горле у Акитады застрял противный комок. — Не нравится мне все это, — сказал он. — Сакануоэ намерен причинить ребенку вред. Испытывая к мальчику отцовские чувства, он давно уже поговорил бы с университетским начальством. Мы должны придумать какой-то выход на случай, если они найдут путь сюда. Этот дом небезопасен. — Акитада огляделся по сторонам. Глинобитные стены, высокие и прочные, недавно хорошо подлатанные, внушали доверие, но любой проворный тип мог бы взобраться на них. Ворота можно было укрепить, но не против большого числа осаждающих. Акитада покачал головой. — Боюсь, я напрасно пригласил мальчика сюда. По-моему, здесь он подвергается даже большей опасности, чем в своем общежитии. К тому же я рискую жизнью членов своей семьи. Мы с тобой здесь единственные мужчины, способные постоять за себя и за других. Сэймэй слишком стар, а Садаму слишком мал, чтобы противостоять опытным разбойникам. Нам следует нанять людей, которые будут охранять дом, а в случае необходимости защитят женщин и ребенка. Тора просиял. — Я знаю таких людей, господин. — Акитада удивленно приподнял брови. — Хитомаро и Монах. — Не говори глупостей. Забыл, что они тебе сделали? Этого еще только не хватало — пустить в дом двух отпетых головорезов! — Они не головорезы. Они просто помогали Штырю и Гвоздю, думая, что Юмакаи убили полицейские, а я один из них. Послушайте, господин, им нужна работа, и они согласятся делать все, что угодно. Они сами говорили мне, что если вскоре не найдут работы, то им придется питаться тем, что выклянчит на улице Монах. — Так им и надо. Нечего было нарушать закон. И потом, подумай-ка сам: отчаявшиеся люди готовы на все. Ты вот, к примеру, приставил бы голодного кота сторожить рыбу? В глазах Торы сверкнула обида. — То же самое говорил Сэймэй, когда мне нужна была работа. — Припомнив этот случай, Акитада смягчился. Тора коснулся плеча хозяина, в глазах его стояли слезы. — Ну пожалуйста, хозяин, поверьте мне в этом! Хотя бы поговорите с ними! — Хорошо. Веди их сюда, я поговорю с ними. Но только никаких обещаний! И надеюсь, ты знаешь, что делаешь. — Спасибо, хозяин! Вы не пожалеете! — обрадовался Тора и, бросившись к воротам, уже через мгновение исчез. Церемонию вечерней трапезы госпожа Сугавара предпочла провести сама. Ужин оказался на удивление роскошным — к традиционному рису были поданы маринованные овощи, приготовленная на пару рыба, яйца и конвертики-суси с разной начинкой. Свою речь госпожа Сугавара обращала в основном к их юному гостю, мастерски балансируя между услужливостью, положенной при общении с особой монаршего ранга, и нежным и теплым материнским тоном, каким обычно разговаривают с осиротевшим ребенком. Эти старания мальчик принимал как должное, но вместе с тем выказал хорошие манеры, похвалив хозяйку за изысканный стол и выразив благодарность за отведенные ему покои. В столь же степенной и чинной манере он вел беседу с сестрами Акитады, которые отвечали ему односложными словечками и приглушенными смешками. Но так или иначе, вечер определенно удался, и госпожа Сугавара была буквально очарована гостем. Когда все разошлись по своим комнатам, Акитада проверил ворота и посвятил Сэймэя в сложившиеся обстоятельства. У старика, конечно же, и на этот случай нашлась готовая мудрость. — Добродетель не живет одна. Рядом обязательно поселятся соседи, — изрек он, когда Акитада высказал предположение, что Сакануоэ способен нанять головорезов, которые легко расправятся с ними и Торой и уведут или убьют мальчика. — Но вы не волнуйтесь! Мы непременно найдем поддержку. По своему обыкновению, Сэймэй также заявил, что будет сторожить двор всю ночь, особенно ту его часть, куда выходят покои дам. Акитада решил подождать Тору во дворе. Ночь стояла на редкость темная и очень душная. Даже стена, прислонившись к которой сидел Акитада, отдавала дневной жар. Улица погрузилась в безмолвие. Наконец, вскоре после того, как ночная стража пробила час Крысы[1386], Акитада услышал за стеной шаги и голос Торы. Акитада пошел отпирать ворота. Двое спутников Торы, чьи лица лишь смутно виднелись при свете фонаря, показались Акитаде похожими друг на друга. Оба учтиво поклонились, потом человек с военной выправкой представился как Хитомаро, а его мускулистый приятель в обветшалом монашеском облачении назвал себя Гэнбой. Оставив Тору сторожить ворота, Акитада повел мужчин в свою комнату. Они сели, одобрительно глядя на лежащие повсюду вороха бумаг и свитков, исписанных иероглифами. Теперь, при более ярком освещении, Акитада разглядел своих гостей — оба оказались примерно его ровесниками, оба высокого роста и крепкого сложения. Загорелый и бородатый Хитомаро был подтянут, одет чисто и опрятно. Взгляд у него был открытый и суровый. Круглолицый и гладко выбритый здоровяк Гэнба улыбался во весь рот. Он не выглядел таким опрятным, как его товарищ, но лицо его светилось доброжелательностью. Вопросы Акитады они встретили без недовольства и нетерпения. Акитада сказал: — Тора, наверное, сообщил вам, что мы нуждаемся в ваших услугах всего на несколько дней? — Оба кивнули, и Акитада продолжил: — Он объяснил вам, каковы будут ваши обязанности? — Мужчины покачали головами. — Вам придется охранять дом круглые сутки, но особенно ночью. Вам отведут место для сна, где вы сможете отдыхать в дневное время. Кроме того, вы будете получать пищу трижды в день и пятьдесят медных монет на двоих. Такие условия приемлемы для вас? Хитомаро ответил: — Мы согласны. Более открытый и общительный Гэнба тут же добавил: — Вообще-то мы очень рады такому щедрому предложению. Мы согласились бы выполнять эту работу даже просто за еду. Акитада внимательно посмотрел на него. Подобное рвение настораживало, но Гэнба встретил его пытливый взгляд с обезоруживающим добродушием. К тому же по внешнему виду обоих было видно, что им нечего терять. Поэтому Акитада сказал: — Вы очень честны, но я предпочитаю платить за труд. Надеюсь, неприятностей не случится, но вы должны быть начеку. В случае особых обстоятельств поднимайте общую тревогу. К работе приступить вам следует сейчас же. Акитада хотел подняться, но Хитомаро, прочистив горло, спросил: — Нельзя ли нам узнать, что мы будем охранять? Тора не сообщил нам об этом. — Вот этот дом и все, что к нему относится. Больше вам ничего не положено знать. — Как угодно. Но должен заметить, мы с большей пользой употребили бы свои силы и могли бы даже разработать план охранных действий, если были бы осведомлены, где именно расположен ценный объект. — Никакого объекта нет. Вы охраняете мою семью. — Ах вот оно что! От кого? Акитада встал, проявляя нетерпение: — Хватит! Найдите себе какое-нибудь оружие и охраняйте стены круглые сутки. Оба его гостя тоже поднялись, однако Хитомаро при этом заметил: — Обычно люди говорят, что нет дороги без разбойников, а дома без крыс. Можем ли мы положиться на преданность ваших слуг? — Разумеется! С Торой вы уже знакомы, а мой секретарь Сэймэй вскоре побеседует с вами. Он служил нашей семье еще до моего рождения. Об остальной прислуге справьтесь у него. Мужчины поклонились и вышли, а через несколько минут в комнату заглянул Тора. — Ну как? Что скажете? — спросил он, нетерпеливо поглядывая на хозяина. Акитада устало вздохнул: — Будем надеяться на лучшее. Гэнба, на мой взгляд, уж больно жизнерадостный, но по крайней мере честный. Признался, что они готовы были работать просто заеду. Но он явно не монах, иначе не согласился бы взять оружие. Ну ладно, пойди-ка пригляди за ними, а я, пожалуй, отдохну.
Ночь прошла без всяких событий. Акитада поднялся еще до рассвета, чтобы сменить Тору. Его два новых работника проявляли хорошие навыки, обходя окружность стены с регулярным интервалом. Хитомаро удивился, увидев Акитаду, но промолчал. Зато разговорчивый Гэнба останавливался время от времени, чтобы перекинуться с хозяином парой слов. Акитада охотно поддерживал беседу. «Монах» проявлял заметный интерес к различным видам спорта, особенно к ежегодным императорским турнирам по борьбе. Но стоило Акитаде задать вопрос о прошлом Гэнбы и его товарища, как тот проявлял уклончивость. Лишь несколько раз он упомянул о прошлом, со смехом припомнив каких-то забавных прохожих на улице и запавшую ему в душу вкусную еду. Когда же Акитада проявил настойчивость, Гэнба поспешил сделать новый круг вдоль стены, дабы выяснить причину какого-то подозрительного шума. Солнце взошло на безоблачном небе, и дневной свет принес относительное спокойствие — вряд ли кто-то станет нападать в это время суток. Акитада отпустил своих новоявленных стражей поесть и отдохнуть. — Еда! — обрадованно закричал Гэнба, и лицо его расплылось в счастливой улыбке. Торопливой походкой он направился в сторону кухни, едва не сбив с ног босого Садаму, выбежавшего на лужайку в одной рубашке. — Доброе утро, господин! — приветствовал мальчик Акитаду. — Какой хороший денек! Мы с Торой собираемся сегодня мастерить ходули. Вы с нами? — Возможно, присоединюсь позже. — Акитада погладил ребенка по взлохмаченной голове. Он подумал, как, должно быть, расстроится матушка, но тут уж ничего не поделаешь. Самому ему предстояли сегодня куда более важные дела, нежели хождение на ходулях или пинание мяча. Главное, что Садаму ничуть не выглядел разочарованным. Махнув Акитаде рукой, он снова скрылся в доме. Тем временем Хитомаро решительной походкой самурая направился к колодцу умыться. Обратно он шел с ленцой, поглядывая на небо и на первые лучи солнца, уже позолотившего верхушки деревьев. Вдруг, заметив что-то, он окликнул Акитаду: — Смотрите, господин! Вон туда смотрите! Видите самое высокое дерево среди тех сосен? Так вот на нем кто-то сидит. Акитада попытался разглядеть, но слишком большое расстояние не позволило ему сделать это. — Никого не вижу, — сказал он. Хитомаро прикрыл рукой глаза от солнца. — Нет, теперь там уже никого. Но клянусь, я видел какого-то человека. Правда, всего на короткий миг. Акитада поспешил успокоить его: — Знаешь, даже если кто-то залез на дерево, вовсе не обязательно, что он злоумышляет против нас. Иди-ка лучше отдохни. Довольный тем, что ночь прошла мирно, Акитада пошел принять ванну и переодеться в выходное платье перед тем, как нанести визиты друзьям принца Ёакиры.
Дворец князя Абэ находился ближе всех к дому семьи Сугавара. После того как Акитада назвал свое имя, ему предложили пройти в тенистый сад. Там у небольшого прудика стоял пожилой господин, кормивший рыбок крошками рисовых лепешек. Положив визитную карточку Акитады на край деревянной веранды, он разглядывал ее, когда Акитада с поклоном предстал перед ним. — Э-э… хм… — Пожилой господин поклонился гостю. — Э-э… Садо… Мура… Или как там написано? Он снова заглянул в карточку, но Акитада поспешил разрешить его проблему: — Меня зовут Сугавара, господин. Акитада Сугавара. — О-о… Ну конечно, Сугавара! Так и вертелось на языке. Приходитесь кем-то… Хотя нет, вряд ли… Так по какому вопросу вы ко мне? — Внук принца Ёакиры попросил меня расследовать исчезновение его дедушки. И я смел надеяться, что вы, возможно, поделитесь со мной вашими наблюдениями по поводу того, что произошло в монастыре Ниння. Абэ изобразил улыбку. — Монастырь Ниння? О да, это прекрасное место! Как сейчас его помню. Великолепные строения среди такой высокогорной красоты! А какие там сливы! Представьте, монахи выращивают их сами! Да, надобно будет как-нибудь съездить туда снова. Уж коль вы поинтересовались моим мнением, могу порекомендовать вам это место с самой лучшей стороны. Для восстановления здоровья оно поистине выше всяких похвал. Сам-то я страдаю от слабого зрения. — Он вытянул вперед голову и, всматриваясь в Акитаду, добавил: — Все какие-то точки перед глазами мелькают. Страшное подозрение зародилось у Акитады. — Вы помните принца Ёакиру? — спросил он. — Ёакиру? — Абэ заулыбался и захлопал в ладоши. — Так вы пришли от Ёакиры! Ну и как он там? Я не виделся с ним уже тысячу лет. — Немного помолчав, Абэ вдруг нахмурился. — Подождите, о чем же мы говорили? — Боюсь… — начал Акитада, но Абэ уже переключил внимание на рыбок в пруду. — Плывите сюда, мои хорошие! — залопотал он. — У меня есть для вас кое-что вкусненькое! Тогда Акитада громко сказал: — Приятно было побеседовать с вами, господин. И большое спасибо за столь полезные советы. Абэ оторвался от своего занятия, блаженно улыбнулся и помахал ему рукой. — Не стоит благодарности! Мне самому было приятно… э-э… Ёсида. Отвесив поклон, Акитада удалился. Несчастный старик! Даже если он был в здравом рассудке, когда случилась трагедия, то сейчас память явно покинула его. Но блаженное беспамятство, возможно, величайший из даров, подумал Акитада, когда взгляд его случайно упал на запоздало расцветший кустик мелких розочек у ворот. Рука его невольно потянулась к виску, где еще недавно пальчики Тамако касались его кожи, когда она прикрепляла цветущую веточку к его шляпе.
Следующий визит Акитада нанес отставному военачальнику Соге. Но один из слуг Соги сказал ему, что тот уехал в свой загородный дом на озеро Бива. Тогда Акитада направил свои стопы к дому князя Янагиды. У князя Янагиды с памятью оказалось все в порядке, зато у него была совсем другая проблема. Он принял Акитаду в кабинете, стены которого были испещрены буддийскими росписями, а в почетном углу располагался небольшой алтарь со статуэткой Будды. Сам Янагида походил на эту статуэтку, но в несколько состарившемся виде — те же мягкие расплывчатые формы, те же округлые черты гладко выбритого лица с тяжелыми веками и неизменно блаженной улыбкой. Его шелковое одеяние отдаленно смахивало на монашескую ризу, а зажатые в одной руке четки довершали портрет. Его светлость сохранял невозмутимое спокойствие, пока Акитада расположился и принял от прислуги чашку охлажденного фруктового сока. Но когда Акитада упомянул о мальчике, проявляющем беспокойство по поводу исчезновения дедушки, Янагида заметно встревожился. — Исчезновение?! — удивленно переспросил он, всплеснув руками и позвякивая четками. — То есть вы хотите сказать, что до сих пор никто так и не сообщил ребенку о благословенном чуде? В таком случае вы сами должны растолковать ему понятие святого преображения. Что до меня, то это было одним из самых захватывающих впечатлений моей жизни! Вы только вообразите — быть свидетелем этой высшей награды за примерное благочестие! Убежден, на меня сошла благодать хотя бы потому, что просто находился там, был, так сказать, живым очевидцем! Да что говорить! Думаю, вы и сами понимаете это, иначе не пришли бы. Да, это был наисвятейший… наисвятейший момент! — В завершение этой речи Янагида закрыл глаза и глубоко вздохнул. У Акитады екнуло сердце, и все же он спросил: — Не окажете ли мне любезность, господин, и не поведаете ли в общих чертах о событиях, предшествовавших этому… э-э… чуду, чтобы я мог отчитаться перед юным князем Минамото? Янагида кивнул: — Разумеется. Разумеется! Что может быть проще и приятнее! Вся картина целиком запечатлелась у меня в мозгу! Было еще темно, когда Ёакира ступил в пределы святилища — да, да! именно святилищем отныне и следует называть его! — и приступил к молитвам. Мы сели снаружи, устремившись мыслями к тысячам вещей, из которых соткан этот мир, и пребывали в ожидании, пока он читал сутры. Мы все отчетливо слышали его голос. Читал он великолепно — не сбивался, не фальшивил, не пропустил ни единой строки! Это было захватывающее, поистине захватывающее ощущение! — Янагида вдруг сам начал читать строки молитвы, после каждой отщелкивая пальцами бусинки четок. Дождавшись первой паузы, Акитада поспешил задать вопрос: — Но вы сами участвовали в обследовании помещения сразу же после того, как принц… вознесся на небеса? Янагида кивнул, молитвенно сложив ладони. — Да. Это было мое почетное право и вместе с тем великое счастье. Именно тогда я понял, что мой друг преодолел пределы этого суетного мира, где томится дух вечного перерождения, и тогда же, глубоко потрясенный, я дал обет. Я намерен отринуть все мирское, совершить постриг и стать простым монахом в этом священном месте, где мой друг обрел вечное спасение. Так и передайте ребенку. — Но как вы узнали, что это было чудо? Может, он просто покинул храм? Закрыв глаза, Янагида, казалось, погрузился вглубокий транс. На его пухлых губах играла едва заметная блаженная улыбка. Акитада наблюдал за ним с подозрением. Он не доверял этим внешним проявлениям религиозного рвения и сейчас лихорадочно размышлял, не скрывает ли что-то Янагида и не соучастник ли он Сакануоэ. Однако Акитада отказался от этой мысли. Янагида, как и трое других друзей принца, дорожил своей репутацией и вряд ли был хорошо знаком с таким человеком, как Сакануоэ. Еще раз оглядев комнату, Акитада снова убедился, что имеет дело с религиозным фанатиком. Поняв, что помощи здесь не получит, Акитада встал. Янагида тоже поднялся, его круглое лицо расплылось в блаженной улыбке. Подойдя к алтарю, он распростерся перед изображением Будды и начал громко молиться: — Земная жизнь не вечна, подчинена рождению и смерти. Хвала тебе, о Амитабха[1387]! Лишь исключи рождение и смерть, и благодатен будет дух твой. Хвала тебе, о Амитабха!.. Акитада на цыпочках вышел из комнаты и отправился на поиски последнего члена свиты принца Ёакиры, князя Синоды.
Синода скрывался в саду от полуденного зноя. Сидя на краю каменного мостика, он болтал босыми ногами, окунув их в журчащий прохладный поток. Это был щуплый седовласый старичок с коротко подстриженными белой бородой и усами. При виде столь необычного для пожилого человека занятия Акитада подумал, что и этот друг принца Ёакиры тронулся рассудком. Однако почти сразу же заметил, что в отличие от Абэ князь Синода прекрасно соображает, что к чему. — Стало быть, вы учитель мальчика, — сказал старец, когда Акитада представился и объяснил цель своего визита. Поманив гостя рукой, князь Синода предложил: — Сбросьте обувь и окуните ноги в воду. Уж больно сегодня жарко для соблюдения формальностей. — Акитада повиновался. После жаркой, пыльной дороги прохладная вода показалась ему сущей благодатью. — Рад слышать, что Сакануоэ определил мальчика в университет, — проговорил Синода, подцепив пальцем плывущий лист и вытащив его из воды. — В сложившихся обстоятельствах это лучшее, что он мог сделать для ребенка, ведь семья почти развалилась после случившегося. — Синода стрельнул в Акитаду проницательными блестящими глазами. — Вы пришли не ради удовлетворения собственного любопытства? А то, знаете ли, о вас ходит такая молва. Акитада покраснел, весьма удивленный тем, что старик наслышан о его скромной персоне. — По правде говоря, — ответил он, — я не верил в эту историю с чудом еще до того, как мальчик обратился ко мне с просьбой выяснить, что произошло на самом деле. Но разумеется, я не стал внушать ему эту идею. Выражение лица Синоды стало суровым. — Не могу подтвердить ваших подозрений. Какой двусмысленный ответ! Акитада пытался угадать мысли собеседника — ведь Синода был его последним шансом узнать правду. — Кое-какие моменты в этой истории тревожат меня, — осторожно заметил он, пытаясь прощупать почву. Синода вновь смерил Акитаду испытующим взглядом: — Вот как? В таком случае вам придется сказать, какие именно. Акитада смело смотрел ему в глаза: — К примеру, меня заинтересовало, с чего вы все сразу же решили, что принц мертв? Не обнаружив тела, я бы обыскал сам храм и его окрестности, а заодно и многочисленные резиденции принца по всей стране. Вы же вместо этого почти тотчас объявили, что принца больше нет в живых. Синода посмотрел на воду. — Поиски велись, но мы сразу поняли, что он мертв. — То есть вы хотите сказать, что нашли его тело? — Акитада продолжал сверлить его взглядом. Синода оторвался от воды и сухо отрезал: — Разумеется, нет. О каком чуде могла бы идти речь, если бы принц просто умер за чтением сутры? — Как же вы это поняли? Синода начал терять терпение. — Поверьте мне, молодой человек, у нас имелись достаточные доказательства как его смерти, так и самого чуда. Не думаете же вы в самом деле, что мы стали бы морочить голову его императорскому величеству! — Конечно, нет. Только… — Акитада запоздало сообразил, что императорское одобрение истории с чудом могло бы стать непреодолимым препятствием для его расследования. Синода неспроста упомянул высочайшее имя — он напомнил Акитаде, на какой опасный путь тот вознамерился встать. И все же Синода и другие обнаружили нечто, убедившее их в кончине Ёакиры. Поэтому Акитада решил попытать счастья. — Господин Синода, я не намерен оспаривать само чудо, а только хотел бы спросить, что убедило вас в смерти принца Ёакиры? Синода не ответил. Вытащив из воды тощие ноги, он начал вытирать их подолом кимоно. Акитада доверительно коснулся его плеча. — Пожалуйста, господин Синода, скажите! Я ведь интересуюсь не из праздного любопытства. Речь идет о вопросе более чем важном — о безопасности ребенка. Так что же вам удалось обнаружить? Синода встал и, глядя на сидящего Акитаду сверху вниз, сурово сказал: — Молодой человек, если бы я хоть на мгновение поверил в то, на что вы намекаете, я не сидел бы сейчас спокойно в саду, охлаждая ноги. Поскольку вы, судя по всему, относитесь к числу людей, не способных ни на минуту остаться в бездействии, то, несомненно, продолжите рыскать повсюду. Так вот желаю вам удачи! — Любезнейший! — вскричал Акитада, краснея от гнева и обиды. — Неужели вы не понимаете, что помогаете убийце избежать справедливого возмездия и тем самым развязываете ему руки для нового убийства?! Подумайте о своем долге перед вашим другом! Мальчик теперь единственная преграда на пути Сакануоэ к чужим богатствам. — Да как вы смеете?! Вы обвиняете нас в том, что мы покрываем убийцу? Позвольте напомнить вам, что князь Сакануоэ ни разу не входил в храм, пока там молился мой друг. Мы сидели снаружи, а когда молитва оборвалась, вошли все вместе и увидели… что Ёакира исчез. Кроме того, потом Сакануоэ больше всех настаивал на самых тщательных поисках. Он проявил исключительное участие и хлопотал неустанно! Что же касается вас, то, на мой взгляд, вам следует поменьше прислушиваться к праздным и бессовестным сплетням. Сначала были какие-то демоны, а теперь вот и вовсе убийство. Постыдитесь, молодой человек! Постыдитесь! Произнеся эти гневные слова, Синода удалился, сердито шлепая босыми ногами по острым камешкам дорожки. Акитада встал, злясь на себя — ведь только что он загубил свой последний шанс. Он стряхнул пыль с нарядного платья и обулся. Прохладная вода освежила его тело, но морально Акитада был подавлен и угнетен, как никогда. По дороге домой он ни на минуту не переставал размышлять над словами Синоды. Полное нежелание всех троих оказать содействие, пусть и по разным причинам, тревожило своим единодушием. Только Синода дал ему своего рода конкретный ответ. Он видел в храме что-то еще, помимо валявшейся там одежды Ёакиры, и это «что-то» убедило его и других, что принц Ёакира нашел свою смерть именно там. Так что же видел Синода? Акитада вдруг живо вспомнил мудрые назидания, начертанные на каллиграфическом свитке во дворце принца: «Истину ты должен искать внутри, ибо вовне не обретешь ее». До сих пор он понапрасну тратил время, беседуя со столичными вельможами, тогда как ему следовало бы наведаться туда, где все произошло. Теперь у Акитады закралось подозрение, что Абэ и Янагида морочили ему голову тщательно продуманной игрой. Друзья Ёакиры знали что-то и боялись, как бы это «что-то» не раскрылось, опасались, как бы оно не стало пищей для новых «праздных сплетен». Проходя с этими мыслями мимо университета, Акитада вдруг вспомнил о том, что здоровье Хираты сильно пошатнулось. Если бы только ему удалось расследовать убийство Оэ! Это наверняка восстановило бы силы его старого друга. Повинуясь внезапному порыву, Акитада пересек улицу Ниньо. В окутанных знойным маревом университетских дворах было пустынно. Ни единая веточка не колыхалась на верхушках сосен. Акитада направился прямиком к храму Конфуция и вошел в него. Здесь, в полумраке прохладного зала, дышалось легче, чем на улице. Стоя перед статуями китайских мудрецов, Акитада попытался проникнуться царившей здесь атмосферой. Если во время посещения жилища Ёакиры он ощутил присутствие принца вполне явственно, то здесь все: и стены, и потолки, и дощатый пол под ногами — было связано с тайной убийства Оэ и словно пронизано духом насильственной смерти. И все же Акитада не чувствовал незримого присутствия Оэ. Что же видели эти статуи? Сколько человек побывало здесь в ночь убийства Оэ? Убийца и его жертва — это, конечно, понятно. А еще Исикава. В этом Акитада не сомневался. Но он не верил, что Исикава убил Оэ. И соучастником убийства Исикава не был. Может, он стал невольным свидетелем? Или уже позже нашел тело своего учителя и, поддавшись внезапному порыву, подвесил его к статуе? Это вполне сочеталось бы с его характером. Только вряд ли Исикава стал бы так рисковать, возясь с трупом. Не говоря уже обо всем прочем, он перепачкался бы в крови Оэ. Акитада разглядывал полированный дощатый пол под ногами. Почему на нем не осталось пятен крови, если тело лежало тут? К тому же в таком случае кровью должны были быть перепачканы только шея и плечи жертвы. Акитада перевел взгляд на статую Конфуция. На платье Оэ, помнится, была спереди широкая полоса запекшейся крови, стекавшей на пол помоста. Посмотрев на лицо статуи, Акитада только сейчас заметил, что полные губы мудреца, наполовину спрятанные за усами и бородой, хранят улыбку. Издав сердитое восклицание, он повернулся и вышел.
Кобэ встретил Акитаду почти радостно. По-видимому, поимка Кураты заставила его взглянуть на Акитаду другими глазами, более дружески. — Вам, наверное, будет приятно услышать, — примирительно сказал он, — что мы получили признание в обоих убийствах. Только представьте: Курата заявил, что страдает бесплодием, и девица пыталась охомутать его, приписав ему отцовство. Это привело Курату в такую ярость, что он отобрал у нее дорогой пояс, который сам и подарил. Тогда она начала угрожать ему, и Курата задушил ее этим поясом, бросил тело в заросли тростника, а пояс отдал первому попавшемуся нищему. — Юмакаи. — Точно. Позже старик узнал его в магазине и устроил дурацкую сцену, начав молоть всякую чушь про Дзидзо и про потерянный пояс. Тогда Курата велел ему прийти после наступления темноты и пообещал подарить ему другой пояс. Но вместо этого он задушил старика, оттащил тело к каналу и сбросил в воду. Вот и все, дело завершено. — Ну что ж, поздравляю вас. Вы превосходно справились с задачей. Однако я пришел по поводу Оэ. Если у вас осталась его одежда, я хотел бы взглянуть на нее. — Разумеется, мы сохранили эту одежду — ведь расследование продолжается. Кобэ хлопнул в ладоши и отдал распоряжение молодому полицейскому, который, вскоре вернувшись, бросил на стол Кобэ ворох одежды. Акитада взял в руки расшитый пояс и разложил его на столе. Глубокие складки остались на нем в тех местах, где он перетягивал тело Оэ и где узлом был привязан к статуе. В середине пояс был смят меньше, но сильно пропитан кровью. Изнутри он был подбит другой тканью. Перевернув его изнаночной стороной, Акитада заметил, что совсем мало крови просочилось туда снаружи. Рассмотрев пояс, он разложил на столе платье. — Так я и думал. — Акитада указал Кобэ на чистую ткань в верхней передней части кимоно, почти рядом с вырезом. Он приложил к этому месту испачканный кровью пояс. — Смотрите! Вы понимаете, что это означает? Кобэ склонился над тряпьем, и глаза его округлились от ужаса. — Силы небесные! — воскликнул он. — Его убили уже после того, как привязали. — Да. Если бы его убили раньше, то на месте, где обычно повязывается пояс, ткань не была бы запачкана кровью. Оэ связали так, что пояс проходил по груди и под мышками. Это означает, что убийце вовсе не понадобилась сила. Перерезать горло связанному человеку может кто угодно. — Акитада поморщился. — Это также свидетельствует о трусости преступника. Кобэ озадаченно поскреб затылок. — Но как же убийце удалось добиться, чтобы жертва добровольно позволила связать себя? — Вспомните: Оэ был очень пьян. Принудили его к этому хитростью или угрозой, уже не имеет значения. Одурманенный выпитым, он не осознавал опасность своего положения. — Хм, странно, — упорствовал Кобэ. — Все действительно могло произойти именно так, но это не означает, что убийца не Исикава. Так или иначе, но мои люди сейчас обшаривают все столичные монастыри и храмы, а завтра примутся за те, что расположены за городом. Я намерен поймать этого юного душегуба в любом случае, и тогда он пожалеет, что удрал. Акитада почти надеялся, что ошибся относительно места, где мог скрываться Исикава, но глупый юнец сам выдал его. Повернувшись к двери, он напоследок сказал: — Завтра я наведаюсь в монастырь Ниння и тем самым освобожу вас от лишней работы. Кобэ задумчиво прищурился, глядя ему вслед.
Глава 19 Истина внутри
В ту ночь Акитада долго не мог заснуть, размышляя о деле принца Ёакиры. Его решение наведаться в храм было скорее интуитивным, чем рациональным. Даже сейчас он не знал, что собирается искать в этом месте, уже десятки раз обследованном со всех сторон после случившегося. Акитада понимал одно, что должен ехать. «Истину ты должен искать внутри, ибо извне не обретешь ее» — такой совет он почерпнул, прочитав каллиграфический свиток на стене в доме принца. Акитаде до сих пор казалось, будто кто-то произнес эти слова вслух. Они призывали заглянуть внутрь, но не имеют ли они также отношения к тайне? До сих пор он пытался найти ответы на свои вопросы «извне», во внешней стороне случившегося, беседуя с внуком и братом принца, навещая его слуг и друзей. Теперь пора проникнуть в самую сердцевину, туда, где принц Ёакира расстался с жизнью, пока шестеро человек ждали его за дверью. Задолго до рассвета Акитада и Тора приготовились к поездке в гористую местность к северу от столицы. Поскольку день был будний, Акитада послал записочку Хирате, попросив отпустить его и обнадежив относительно дела Оэ. Он вручил записку Хитомаро, чтобы тот доставил ее в университет до начала занятий. Акитада никак не мог избавиться от чувства вины перед отцом Тамако из-за того, что снова откладывал встречу с ним, но опасность, угрожавшая Садаму, понуждала его не терять больше времени и поскорее отправиться на поиски улик против Сакануоэ. Они тронулись в путь верхом, когда было еще темно, что весьма утешало Акитаду, находившегося в мрачном настроении. В теплом влажном воздухе уже пахло утренним дымком, доносившимся сюда с многочисленных кухонь западных кварталов. Однако вскоре город с его запахами остался позади, и они наконец вдохнули ароматы летних трав, растущих вдоль обочины. Пустив лошадей рысцой, они наслаждались тишиной и простором. Тьма постепенно рассеивалась. Перед ними узкой лентой лежала дорога. Они ехали навстречу ветру и цели, ожидавшей их за вершинами сопок, поросших соснами. Иногда им встречался всадник или крестьянин на телеге. Эти смутные тени в ночи казались лишь движущимися желтыми точками, если имели фонарь. На телегах он обычно был, но пешие путники и всадники неуверенно пробирались в темноте, полагаясь только на чуть брезживший свет. Поравнявшись с Акитадой и нарушив длительное молчание, Тора сказал: — Вы должны признать, хозяин, что Хитомаро и Гэнба отличные ребята и превосходно выполняют свою работу. Акитада, размышлявший о поездке Ёакиры в горный монастырь, с трудом оторвался от раздумий. — К счастью, нам пока не удалось проверить этого, — ответил он. — За прошедшие две ночи к нам, слава Богу, не заглядывали подозрительные личности. И все же я намерен вернуться в город как можно скорее. — А что вы все-таки думаете о Хитомаро, господин? — поинтересовался Тора. — У него военная выправка, но воспитан он гораздо лучше, чем обычный воин, хотя и пытается скрыть это. В общем, любопытная личность. — Да, иногда он ведет себя забавно. Я предложил ему сразиться на палках, а он сказал, что не умеет. Будто и вовсе никогда в руках не держал. Выходит, на мечах он тоже не согласился бы? — Не огорчайся, — утешил его Акитада. — Зато твои таланты по достоинству оценил юный князь. Тора улыбнулся: — Да, этот мальчишка куда какой смышленый. Все схватывает на лету. Видели бы вы, как хорошо он справляется с ходулями! Я даже собирался показать ему несколько простеньких приемов боя на палках, только вот госпожа Сугавара позвала меня и приставила к делам. Акитада, представив себе разгневанное лицо матушки, рассмеялся, но тотчас нахмурился — серьезные мысли не покидали его. — Если Ёакира совершал поездку в такое же время суток, то ни его возница, ни друзья не могли видеть друг друга отчетливо до самого прибытия в монастырь, — заметил он. — Это точно. — Тора вглядывался в дорогу, по которой бык тащил в гору тяжелую телегу. — Всадники наверняка обогнали повозку и умчались вперед. Какой смысл толкаться рядом? Ведь у монастыря они все равно встретились бы. — Возница, кажется, говорил, что верховые то обгоняли повозку, то ехали сзади. Едва ли Кинсуэ обращал на них внимание, даже когда они были на виду. — А какая разница? Ведь по дороге ничего не произошло. Хозяин, что вы собираетесь делать в университете теперь, когда мы раскрыли убийства Омаки и Юмакаи? — Подожду, что скажет Исикава, когда Кобэ разыщет его. — Думаете, это его рук дело? — Я вовсе так не думаю, что бы ни говорил Нисиока. Скорее всего кому-то удалось ускользнуть из поля зрения следствия, но я сейчас не могу тратить на это время, поскольку считаю более важным помочь юному Минамото. Я убежден, что Сакануоэ убил принца Ёакиру, чтобы завладеть его богатствами. Он женился на внучке принца, и теперь только мальчик мешает ему прибрать к рукам все имущество. Он должен был убить принца в монастыре, но все свидетельствует против этого. Было бы гораздо проще, если бы Ёакира исчез в своем доме в столице. Дорога начала подниматься в гору, и вскоре они вступили под прохладный покров темного леса. Сквозь ветви сосен проглядывало небо, уже не чернильно-синее, а прозрачно-серое. Когда они взобрались на горный кряж, на востоке из-за склонов им навстречу поднялось солнце, позолотившее верхушки деревьев и сочные травы на лесных полянах. Лисица перебежала им дорогу и шмыгнула в кусты, в густой листве уже зазвучали трели птиц. Вскоре они увидели перед собой просторную долину. По ней извилистой лентой протекала река, на одном берегу которой ютились, сгрудившись в кучку, крытые соломой крестьянские домишки, а на другом почти до следующей горной гряды тянулась вереница величественных строений и пагод. Благодаря близости к столице знаменитый монастырь стал местом отдыха многих поколений императоров, выстроивших здесь свои дворцы и святилища. Множество храмов, возвышавшихся среди зеленых лесистых склонов, делали картину необычайно живописной. Пустив лошадей галопом, Акитада и Тора быстро преодолели спуск, перешли реку, обмелевшую в это сухое время года, и спешились у главных ворот. Сидевший в привратницкой монах пропустил их, не выказав любопытства, несмотря на ранний час. Паломники частенько наведывались сюда, особенно с тех пор, как произошло «чудо». Акитада расписался в книге посетителей и спросил, как пройти к святилищу принца Ёакиры. Монах дал ему листок со схемой, попросив вернуть его на обратном пути. Семейное святилище принца Ёакиры находилось в дальнем конце монастырских владений. Неторопливо направляясь к нему, они встречали мало монахов и еще меньше паломников. Однако, поравнявшись с громадным учебным корпусом, они увидели через его распахнутые решетчатые двери сидевших рядами монахов: те внимали зычному голосу чтеца. Вокруг за зелеными соснами скрывались служебные постройки; по узким, усыпанным галькой каналам бурлили горные ручьи, а воздух был напоен приятной свежестью, ароматом хвои и благовоний. Когда они подъехали к семейному святилищу Минамото, Акитада посмотрел поверх каменной ограды. За ней возвышалось единственное деревянное здание, почерневшее от времени, с крышей из кипарисовой дранки и окруженное низким заборчиком. Спешившись за воротами, они привязали лошадей к деревянным столбам. Пока они шли к воротам, Акитада заметил, что спутники принца, вероятно, проделали то же самое, а Кинсуэ отвез сюда пустую повозку, после того как принц вошел в святилище. Довольно тесный двор мог вместить лишь одну запряженную повозку, так что вознице пришлось потрудиться, разворачивая ее на таком узком пространстве. Акитада и Тора поднялись по деревянным ступенькам на веранду. Со всех сторон к ней плотно подступали заросли кустарника, дальше сливавшегося с лесом. Тяжелые двустворчатые двери, служившие единственным входом в святилище, были закрыты. Перила вдоль веранды тянулись только со стороны фасада. Остановившись, Акитада оглядел и двор, и веранду. Именно здесь в последние часы жизни принца Ёакиры его ожидали военачальник Сога, князья Абэ, Синода, Янагида и Сакануоэ. А ниже по склону, за каменной оградой, тараща сонные глаза, старый Кинсуэ вслушивался в бестелесный голос своего хозяина, распевающего сутры внутри святилища. Свет тогда, должно быть, только забрезжил, так как принц намеревался приступить к молитве на рассвете. Но даже когда небо начало расчищаться от мглы, темные горные склоны еще отбрасывали на все глубокие ночные тени. Так что же произошло в этой тьме? Внутри этого святилища? Акитада подошел к массивной, почерневшей от времени двери. Истина внутри! Задумчиво покачав головой, он толкнул дверь. Старые заржавевшие петли скрипнули. После уличного света внутри казалось темно и мрачно. В глубине святилища, у дальней стены, Акитада разглядел ярко раскрашенную деревянную статую Будды. Божество сидело на вырезанном из дерева цветке лотоса; перед ним стояли три крошечных столика с украшениями и предметами религиозного культа. Напротив, в высоком подсвечнике, инкрустированном золотом и серебром, стояли две толстые свечи. Акитада зажег обе. Их пламя задрожало на сквозняке, дувшем из открытой двери, и сразу же причудливые тени замелькали по изваянию божества и по молитвенной циновке, разложенной перед ним. К Акитаде вернулось ощущение чьего-то незримого присутствия — какого-то ледяного дуновения, повеявшего среди теплого застоявшегося воздуха, какого-то мертвенного дыхания, от которого у него закружилась голова и волосы зашевелились на затылке. Это ощущение, хотя и не такое явственное, как в доме Ёакиры, заставило Акитаду содрогнуться. Внутри этих крепко сколоченных бревенчатых стен, упиравшихся в мощные балки, облепленные свисающей паутиной, дышалось тяжело. Из-за отсутствия окон воздух, словно пропитанный распадом, был густым и спертым. Когда Акитада рассмотрел столики перед изваянием Будды вблизи, то увидел, что эти предметы из темной древесины, инкрустированной перламутром, весьма изящны. Подносы и священные сосуды, назначения которых Акитада не знал, были покрыты лаком и позолотой; здесь же стояли чаши с искусственными цветами из золота и полудрагоценных камней. Среди этих предметов бросалась в глаза красная дощечка с позолоченной росписью. Прочтя начертанные на ней слова, Акитада склонился в глубоком поклоне — надпись была сделана собственной рукой его августейшего величества в ознаменование свершившегося чуда. Но чувство благоговения так и не посетило Акитаду. Здешняя атмосфера казалась ему тягостной, нездоровой и пагубной, а мрачные стены и своды лишь усиливали гнетущее впечатление. Даже фигура божества таила в себе что-то неуловимо зловещее. Акитада обернулся и увидел в дверном проеме Тору, вглядывавшегося в темноту. — Чего ты ждешь? — спросил Акитада. — Входи! Ты нужен мне. — По-вашему, его убили здесь? — полюбопытствовал Тора, не переступая через порог. — Судя по всему, да. Тора обвел глазами помещение: — Как вы думаете, его дух бродит здесь? — Нет. Если он где и обитает, так в его столичном дворце. Старый слуга поклялся мне в этом. — Так, может, его убили там? — Войдя, Тора поморщился. — Следовало бы почаще проветривать это помещение! Акитада метнул на Тору раздраженный взгляд: — Моя работа была бы значительно легче, если бы нам не внушали, что он исчез отсюда. Дался тебе этот запах! Ты только представь, сколько всяких снадобий и благовоний было здесь сожжено! Давай-ка лучше попробуем поискать потайную дверь в стенах или в полу. И, двинувшись в разные стороны от двери, они начали обследовать стены, простукивая доски и швы, пока не встретились в темном углу перед фигурой Будды, так и не обнаружив ничего подозрительного. — Ничегошеньки! — Тора снова поморщился. — А вот здесь опять воняет. — Это либо застоявшийся запах ладана, либо какая-нибудь мелкая зверушка сдохла под полом. Но думаю, нет смысла его обследовать — ведь здесь слишком тесно для того, чтобы поместить человеческое тело. Тора уже направился к двери, когда Акитада решил в последний раз окинуть взглядом всю комнату. Он повернулся, чтобы последовать за Торой, и случайно зацепился ногой за молитвенную циновку. Это было старенькое татами очень красивого плетения с шелковой вышивкой по краям. Наклонившись, он приподнял циновку и обнаружил под ней совершенно гладкий пол. — Ну вот, — вздохнул Акитада. — Я и не ожидал ничего здесь найти. В конце концов, они наверняка хорошенько обыскали помещение. Поди-ка сюда, Тора, помоги мне разложить циновку ровно. Тора нехотя вернулся и приподнял циновку за один край. — Давайте-ка перевернем ее, — предложил он. — С другой стороны она смотрится лучше. Это было справедливое замечание. С изнанки циновка не так выцвела, и шелковая вышивка выглядела ярче; правда, плетеная часть была чем-то испачкана. Акитада опустился на колени, чтобы поближе разглядеть пятно. Небольшое и коричневатое, оно не проникло в глубь волокон. Акитада послюнявил палец и потер им циновку в испачканном месте. На коже остался едва заметный коричневый след, и он понюхал его. — Что там такое? — спросил Тора. — Это-кровь, — мрачно проговорил Акитада. — А! — Тора отпрянул назад. — Значит, его все-таки убили здесь! — Возможно. Это любопытно, но крови совсем мало. И она не обязательно принадлежит Ёакире. — Готов поклясться, что ему! — Тора посмотрел на статую и содрогнулся. — А вдруг его забрали какие-нибудь сверхъестественные силы? — Ну уж нет. — Но кровь! Всем известно, что демоны рвут людей на части и пожирают их. Давайте-ка уйдем отсюда поскорее, хозяин! — И Тора бросился к двери. Но Акитада с интересом разглядывал какой-то белый порошок на полу. — Только что этого здесь не было. — Он указывал пальцем на припорошенный чем-то пол. — Должно быть, осыпалось с циновки, когда мы перевернули ее. Тора обернулся на ходу: — Ну и что? Пыль какая-то. Сомневаюсь, что монахи большие чистюли. Акитада присел на корточки, желая исследовать находку. Растерев белый порошок между пальцами и попробовав на язык, он сказал, поднимаясь: — Рисовая мука. — Может, кто-то из монахов принес, — крикнул Тора с веранды, куда успел ретироваться из соображений безопасности. — Хм… — Акитада вытер руки о полы платья и пристальным взглядом смерил фигуру божества. Сейчас он уже заметил, что это изображение Будды-Амиды. Лицо выточенной из дерева статуи было ярко раскрашено, глаза — коричневым цветом, губы — густым красным. Столь же яркими были украшения на шее и руках. Вдруг один из драгоценных камней на шее зашевелился. Акитада подошел ближе и увидел жирную сине-зеленую муху, вяло перебиравшую лапками и крылышками. Несомненно, свежий воздух из открытой двери пробудил ее от ленивого ступора. Махнув в ее сторону рукой, Акитада наблюдал, как она сонно поднялась и, сердито жужжа, полетела прочь. Некоторое время муха кружила вблизи статуи, пока не села на какую-то поверхность в темноте. Покачав головой, Акитада задул свечи и вышел. Они сошли по ступенькам во дворик, но там Акитада вдруг остановился и оглянулся. — Интересно, а что находится за зданием? Пойдем посмотрим. Густой кустарник и мелкие деревца вплотную подступали к самым стенам строения. Акитада и Тора пробирались сквозь заросли, пока не вышли на узенькую тропинку, огибавшую святилище. Они следовали по тропинке вдоль стены здания, и она привела их к глубокому оврагу, за которым начинался горный склон. Здесь тропинка кончалась, упираясь в каменную площадку. — Как думаешь, зачем она тут? — спросил Акитада. — Не знаю. Но здесь недавно кто-то был. — Тора указал на сломанную ветку кустарника. Они заглянули через овраг на другую сторону горного склона, возвышавшегося живописной зеленой стеной, поросшей лианами, папоротниками и мелкими деревцами, ненадежно примостившимися в каменистых расщелинах. Гревшаяся на солнце ящерка, заслышав их, мгновенно улизнула в норку, мелькнув проворным хвостом. — Странно как-то, — сказал Тора. — Кроме этой каменной плиты, здесь ничего нет. Так кому же и зачем понадобилось протаптывать сюда тропу? Поросшая мхом и лишайником плита была величиной примерно в половину обычной циновки. Акитада наклонился и пощупал темное пятно, растерев то, что осело на пальцах. Понюхав их, он заключил: — Масло. — И прибавил: — Дешевое масло. У нас дома для фонарей используют масло лучшего качества. Кто-то приходил сюда в темноте с масляной лампой. — Акитада распрямился и обвел глазами овраг. Внезапно его осенило. Неожиданная мысль так поразила Акитаду, что он не сразу поверил себе. — Тора, видишь вон тот серый камень причудливой формы на другой стороне оврага? — Похоже на фигуру, высеченную из камня. Будда, наверное. — Да. Монахи приходят сюда для богослужения, и по меньшей мере однажды кто-то был здесь в темное время суток. Беги во двор, побудь там немного и послушай. — А что послушать? — Не важно! Беги и послушай! Тора ушел, недоуменно качая головой, а Акитада попытался припомнить хоть несколько строчек из какой-нибудь сутры. Впрочем, с молитвами у него всегда было плоховато. Ну да ладно, подойдет любой текст. Чуть повысив голос, он начал читать вслух первое пришедшее ему на ум стихотворение:Домой они ехали неторопливым шагом. Акитада был по-прежнему погружен в мрачные мысли. После длительного молчания Тора отважился спросить: — Что теперь будете делать, хозяин? Акитада обратил к нему рассеянный взгляд: — Понятия не имею. Знаю только, что должен защитить мальчика. Мы имеем дело с очень хитрым и коварным человеком. Он беспрепятственно и быстро осуществил тщательно продуманное убийство, и притом сделал все так, что за неимением рационального объяснения люди сочли это событие сверхъестественным. А по милости глупого старика, решившего спрятать голову — единственное доказательство насильственной смерти Ёакиры, причем далеко не от рук демонов, — сам император объявил случившееся чудом. — То есть вы хотите сказать, что, не спрячь они голову, убийство приписали бы демонам? — уточнил Тора. — Ну что ж, в этом имелся смысл. Ведь люди тогда подумали бы, что принц совершил какие-то злодеяния и был в наказание растерзан. Такое когда-то уже произошло с одним скверным человеком во дворце. История эта известна каждому. — Вот именно, — кивнул Акитада. — Эта история известна каждому, и Сакануоэ рассчитывал на это. Зловещие проклятия предсказателя, которого принц велел прогнать от своих ворот, несомненно, навели Сакануоэ на мысль воспользоваться расхожими суевериями и разыграть страшную историю с демонами, решившими расправиться с Ёакирой за его непочтительное отношение к вещему старцу. К тому же это пришлось весьма кстати — ведь Ёакира только что обнаружил подлог и обман. С того момента, как Сакануоэ влез в постель его внучки, с ее согласия или нет, принц был обречен на смерть. А Сакануоэ вместо позорного увольнения вдруг увидел другой путь — путь к богатству, власти и процветанию. Награда была слишком велика и стоила риска. — Хозяин, мне понятны поступок князя Синоды и мотивы князя Сакануоэ, пусть мы и разобрались в них только что, но я не понимаю, как он собирался все это провернуть. На что надеялся? Ведь его могли застукать в любой момент! — Не скажи. У него было всего два опасных момента. Первый — когда он, изображая принца, вылез из повозки и вошел в святилище. Ему следовало торопиться, потому что, хоть Кинсуэ и отъехал со двора, друзья принца могли появиться там с минуты на минуту. Я хорошо помню, как Кинсуэ сказал, что его удивила проворность, с какой хозяин взлетел по ступенькам. А уже в стенах храма Сакануоэ осталось сделать самую малость. Он зажег свечи и благовония, скинул с себя просторное облачение принца и оставил его вместе с окровавленной головой на молитвенной циновке. Потом быстро вышел, закрыл за собой дверь и ждал в сторонке в темноте, когда старики рассядутся на веранде. Когда он появился перед ними, они, усталые после долгого пути и не спавшие всю ночь, даже не задались вопросом, откуда пришел Сакануоэ. Его ждали, и он явился. Вскоре после того как все расселись на веранде, взошло солнце, и они услышали голос, распевающий молитвы. Все четверо на веранде и Кинсуэ внизу, во дворе, видели, как Сакануоэ сидел вместе с другими в течение всего времени, пока продолжалась молитва. И Янагида, и Синода решительно утверждали, что Сакануоэ был рядом с ними с начала и до конца. Таким образом он получил идеальное алиби, а весь остальной мир — еще одну сказку про чудо. Тора изумленно покачал головой. — А что за другой опасный момент? — спросил он. — Еще одной трудностью для Сакануоэ была лошадь, необходимая для обратного пути. Но с этой проблемой он легко справился, поскольку весь монастырь был поднят на ноги и носился в поисках исчезнувшего принца. Ведь известно, что лошадей легко можно достать на конюшнях. Неспроста же старого возницу Кинсуэ так озадачило то, что Сакануоэ вернулся на чужой лошади. Тора кивнул, неохотно соглашаясь и с этим: — Хорошо. Я понимаю, как это можно было сделать. Дело происходило ночью, и все эти старики, возможно, и днем-то плохо видят. Но как Сакануоэ избавился от тела? Акитада тяжело вздохнул. Ему удалось проследить от начала и до конца весь хитрый замысел Сакануоэ. Но мертвое тело, оставшееся в покоях принца, обезглавленное и спрятанное в одном из спальных сундуков, сразу наводило на мысль о том, что эта насильственная смерть была все-таки внезапной. Он снова представил себе эту комнату, припомнил царапины на безукоризненно чистом полу и снова ощутил в ней присутствие души покойного. А что, если убиенный пытался тогда что-то сказать ему? Торе он рассеянно ответил: — Тело отправили за город в одном из сундуков. — Чтобы его обнаружили там слуги при разгрузке? — изумился Тора. — Конечно, нет. Кинсуэ утверждает, что Сакануоэ сам управлял последней телегой. К тому же это опять-таки происходило ночью. Не исключено, что он выбросил тело по дороге. Обезглавленный труп опознать не так-то легко. — Нет, хозяин! Ему незачем было это делать! Он же проезжал через ворота Расёмон! По ночам все, кому нужно, стаскивают туда своих мертвецов. Вы можете притащить туда хоть самого императорского советника, и никто об этом не узнает. — Расёмон? Но разве те, кто нашел обезглавленное тело, не должны доложить о находке властям? — Может, и должны, а может, и нет, — загадочно проговорил Тора. — Всякое происходит с мертвецами в этом жутком месте, и не всегда скажешь, что это дело рук живых. — Он содрогнулся от собственных слов и чуть веселее добавил: — Поздравляю вас, хозяин! Вы раскрыли это преступление. — Акитада угрюмо кивнул. — Что-то не так, хозяин? Вам теперь все известно про этого ублюдка Сакануоэ. Я-то думал, что вы именно этого и добивались. — Что бы нам с тобой ни было известно, в частности то, что он убил принца, этого никогда не удастся доказать. Император собственной печатью обеспечил дальнейшую безопасность Сакануоэ. Они наконец достигли вершины горного кряжа, где им открылся вид на столицу, раскинувшуюся на широкой равнине. Знойное марево окутывало город, и сквозь его пелену видны были только синие черепичные крыши императорского дворца. К югу от него пролегала улица Сузаку; бледная зелень окружавших ее ив почти сливалась с висевшей над городом мутной дымкой. Путники одновременно обратили свои взоры в сторону Расёмон, но так и не отыскали этих огромных ворот в голубоватом дрожащем мареве. Вдруг Тора закричал: — Смотрите, хозяин! Там был пожар! То-то мне еще утром показалось, будто тянет дымом. — Он указал на густые серые клубы, повисшие над одним из северных кварталов города. — Я так и знал, что эта жара не пройдет даром! Вот бедолаги! Слава Богу, хоть от нашего дома далеко! Сразу же подумав о своей семье и о гостившем у них мальчике, Акитада пришпорил коня. Они поскакали вниз и вскоре отчетливо разглядели, где произошло бедствие. Пожар уже успели потушить. Только легкое темное облачко еще висело в одном месте над верхушками деревьев и крышами домов, а черные клубы дыма медленно рассеивались в голубом небе. Вдруг Акитада резко натянул поводья. — Святые небеса! Надеюсь, глаза мне лгут! — Он указал вдаль. — Смотри, Тора! Эта черная пустошь среди обугленных деревьев… Не там ли раньше стоял дом Хираты? Тора подскакал к хозяину, увидел его бледное лицо и, прикрыв ладонью глаза от солнца, вгляделся в даль. — Всемогущий Амида! — воскликнул он. — Это его дом! Поехали!
Глава 20 Тлеющие угли
Едкий запах гари они уловили за несколько кварталов до улицы, на которой жил Хирата. Носившаяся в воздухе сажа лезла в ноздри, щипала глаза и черным налетом оседала на коже. Сама улица на первый взгляд, казалось, не изменилась. Стена вокруг дома Хираты осталась невредимой, и ветви двух старых ив у ворот все так же грациозно покачивались на ветру. Но этот же ветер вздымал из-за стены колышущиеся струйки серого дыма, а у ворот толпилась кучка ротозеев. Это жадное любопытство людей, удачливо избежавших несчастья и теперь с сокрушенным видом смотревших на чужое горе, привело Акитаду в ярость, и он направил своего взмыленного хрипящего коня в самую гущу бесстыжей толпы, заставив зевак разбежаться. Пожарище, представшее его взору, напоминало ад. Спрыгнув с лошади, Акитада безмолвно стоял посреди двора, не веря своим глазам. Среди почерневшей зелени лежали груды дымящихся обугленных обломков, а над местом, где еще совсем недавно стоял крепкий надежный дом с многочисленными пристройками, висела сизая дымка. Черные закопченные фигуры с лицами, прикрытыми влажным тряпьем, носились в дыму, словно демоны в поисках пропавших душ, бегая по извилистым дорожкам, когда-то пролегавшим по цветущему садику Тамако. Тамако! Акитада хотел выкрикнуть ее имя, но ледяной страх сковал его, и язык не желал повиноваться. — Эй вы, там! — крикнул Тора, спрыгивая с лошади. — А где семья, проживавшая тут? Пожарный, обернулся на бегу и указал в сторону: — Там. У подножия обугленного кедра выделялись два ярких пятна. Полицейский в красном стоял над неподвижной грудой, покрытой сине-белым хлопковым кимоно. Женское кимоно! Едва передвигая ноги, Акитада подошел к дереву и встал рядом с полицейским. Из-под кимоно виднелось человеческое тело. Обугленные останки, совершенно неузнаваемые, казались такими съеженными и крошечными, словно принадлежали ребенку. Это скрюченное тело с поджатыми руками и ногами, будто пытавшееся в последний миг защититься от напасти, было первой жертвой огня, которую Акитада видел в жизни. Нет, это обгорелое сморщенное месиво из плоти и костей не может быть… Но, увы, кимоно!.. — Эй! Какого черта вы здесь делаете? — рявкнул стоявший рядом полицейский. Акитада поднял на него затуманенный взор и хрипло спросил: — Кто это? — Правильнее сказать «кто это был?», — мрачно изрек полицейский. — Пожарные вытащили его вон из той обгорелой груды обломков. Его? Акитада снова взглянул на тело и теперь заметил на затылке почерневшей головы остатки седых волос. Он испытал невыразимое облегчение. Только сейчас, посмотрев туда, куда указывал полицейский, Акитада понял, что на месте груды обгорелых обломков раньше стояла пристройка, где располагался кабинет профессора. «Боже!» — мысленно воскликнул Акитада. Хирата! Не Тамако, а ее отец! Но где же тогда она? Ожившая на короткий миг надежда угасла, когда он стал искать глазами другие тела. Ведь в доме были еще и слуги. Где же все эти мертвецы? К ним подошел Тора и, посмотрев на тело, спросил: — А где остальные? В доме находились профессор, его дочь и двое слуг. Полицейский присвистнул. — Еще трое?! Не знаю. Я только что пришел. Наверное, их еще не нашли. В горле у Акитады застрял комок. Нет! Пожалуйста, только не Тамако! Только не его нежная хрупкая девочка! Дом и еще две пристройки сгорели полностью. Под этими почерневшими балками и обрушившейся крышей не уцелел бы никто. Спальня Тамако находилась в самой дальней пристройке. Ох, Тамако! Представив себе скрюченный обугленный труп, Акитада, едва держась на дрожащих ногах, бросился к грудам дымящихся обломков. — Стойте! — крикнул Тора, устремившись вслед за ним и хватая его за руку. — Вам туда нельзя! Это же опасно! Но, стряхнув его руку, Акитада полез в самую гущу обломков и начал разгребать их руками и ногами. Он успел расчистить лишь самую малость, когда сильные руки схватили его сзади за плечи. Тора и один из пожарных что-то кричали ему. Изо всех сил пытаясь вырваться, Акитада наконец расслышал их слова. — Молодая госпожа находится в доме по соседству. И слуги тоже. — Тамако?! — Ошарашенный Акитада смотрел на Тору. — Тамако жива? Тора кивал, ободряюще похлопывая его по плечу: — Да, с ней все в порядке. Хвала Амиде! Пойдемте, господин. Скорее пойдемте к ней. От облегчения у Акитады подкосились ноги. Боясь спугнуть воскресшую надежду, он направился вместе с Торой к соседнему дому. Они постучали в дверь. Им открыл старик и вопросительно уставился на них. — Г-госпожа Хирата… Она здесь? — запинаясь спросил Акитада. Старик кивнул и провел их в гостиную небольшого домика. Хотя в комнате было полно народу, Акитада увидел только Тамако. Съежившись, она сидела на циновке, укрытая чьим-то стеганым халатом. Даже сквозь сажу и копоть Акитада разглядел, как бледна ее кожа, огромные глаза покраснели от слез или дыма, а сама девушка так дрожала, что не могла вымолвить ни слова. Завидев Акитаду, она издала протяжный стон. — Я… пришел… — беспомощно промолвил он. Тамако кивнула. — Ты ранена? Она замотала головой, а по щекам снова побежали слезы. Акитаде хотелось подойти ближе, взять ее на руки, крепко прижать к груди, предложить себя вместо всего, что она потеряла. Но они были не одни. Но если бы и не это, он понимал, что не нужен Тамако. Он никогда не был нужен ей. В этом Акитада отдавал себе отчет. Впрочем, пусть так, но сейчас Тамако придется принять его скромную помощь. Оглядев комнату, Акитада заметил наконец остальных — жену хозяина, Сабуро, старого слугу семьи Хирата, девушку, прислуживавшую Тамако, и нескольких перепуганных хозяйских детишек. У хозяйки, заботливо крутившейся возле Тамако, Акитада спросил: — Она не ранена? Женщина покачала головой: — Нет, господин. Но она очень потрясена. Акитада кликнул Тору и, когда тот подскочил, распорядился: — Возьми свою лошадь и отвези госпожу Хирата и ее служанку к нам домой. Скажи моей матушке, чтобы устроила ее поудобнее. Тамако слабо запротестовала. Ее бывшая соседка осведомилась: — А вы кто, господин? — Сугавара, — отрезал Акитада, не сводя глаз с Тамако. — Но кем вы приходитесь госпоже Хирата? — настаивала женщина. Оторвав взгляд от Тамако, Акитада теперь понял причину беспокойства женщины. — Не волнуйтесь, — сказал он. — Мы с Тамако выросли вместе, как брат и сестра. Профессор Хирата взял меня в свой дом, когда я был совсем юным. — О-о! — удивилась женщина. — Так вы и есть тот самый Акитада! Как я рада, что вы пришли за ней! Ведь, кроме вас, у нее никого нет на всем белом свете! Кивнув, он подошел, чтобы взять поникшую девушку на руки. Уткнувшись лицом ему в грудь, Тамако рыдала, пока Акитада нес ее на улицу, где их поджидал с лошадью Тора. Усадив Тамако в седло, Акитада сказал: — Поезжай с Торой, милая. А я тут обо всем позабочусь. Она печально смотрела на него, потерянная, беспомощная, раздавленная. Ему хотелось утешить девушку, сказать, что отныне он будет заботиться о ней, но Акитада не смел вымолвить этих слов. Он протянул руку, чтобы поправить полу ее платья, и в ужасе замер. Тонкая нежная ступня Тамако была покрыта страшными красными волдырями. Сердце его неистово забилось, и, глядя ей в глаза, он хотел снова спросить, сильно ли она ранена, но Тамако заговорила первой: — Ты обжег руку. Акитада сначала не понял и только потом отдернул руку, тоже покрытую красными волдырями. До сих пор он не чувствовал боли и лишь сейчас заметил, что обжег обе руки, когда разгребал обломки. Акитада хотел сказать, что ему совсем не больно, но в этот момент Тора усадил перепуганную служанку в седло позади хозяйки и, взяв в руки поводья, повел лошадь прочь. Акитада смотрел им вслед, пока они не скрылись за углом. Сейчас для него главным было одно — что Тамако уцелела. Но этот короткий миг радости скоро улетучился. Старый слуга, шаркая и всхлипывая, подошел к нему и встал рядом. Оторвав взгляд от дороги, Акитада вздохнул. — Что произошло, Сабуро? — Хозяин, видимо, уснул за своими рукописями, — плача, рассказывал старик. — Все мы уже давно спали. Я проснулся посреди ночи от криков госпожи Тамако и увидел, что его кабинет, и весь дом, и кухня объяты пламенем. О небеса! Как это было ужасно! Бедный хозяин! Мы видели, как он лежит там в огне. Мне пришлось держать госпожу Тамако, иначе она бросилась бы в самое пекло. Пожарные приехали не скоро, потом оказалось, что в колодце мало воды и не хватает ведер, и вот теперь все кончено. — И он залился слезами. — Все кончено! — крикнул он, сотрясаясь от рыданий. — Проспал я своего хозяина! Теперь все кончено! Акитада осторожно коснулся его плеча, так как у самого болели обожженные руки. Они вернулись на пожарище, где Акитада провел много часов, тщетно надеясь найти объяснение случившемуся. Как предположил один из пожарных, профессор погиб, нечаянно разлив ламповое масло. Заметив недоверие Акитады, он невозмутимо добавил, что подобные вещи часто случаются с учеными, которые засыпают над своими рукописями. На это Сабуро возразил, что его хозяин всегда осторожно обращался с огнем. Акитаде хотелось, чтобы это был лишь несчастный случай, но страх, охвативший его, подсказывал: это не так, и жутких событий можно было избежать, поговори он с профессором раньше. Тамако осталась жива, но потеряла все. Она потеряла отца, свою единственную опору в жизни. Акитада клял себя за проклятую гордость, побуждавшую его день за днем избегать встреч со старым профессором. А вдруг это он виноват в смерти Хираты? Чувства невосполнимой утраты и глубокого стыда, словно два злобных демона, преследовали его всю дорогу. Дома Акитада сразу справился о Тамако, и мать с несвойственной ей кротостью сообщила ему, что Сэймэй подлечил бедняжке ногу и заварил ей какой-то особый чай, после чего она уснула. И тут же мать еще больше разбередила душевную рану Акитады, напомнив ему, какое страшное будущее ждет молодую женщину, оставшуюся без отца и без родственников мужского пола, способных защитить ее.Весь следующий день Акитада не выходил из своей комнаты. Сэймэй, приносивший ему еду и уносивший ее нетронутой, думал, что его хозяин ни разу не шевельнулся — такой неподвижной казалась его сидящая фигура, таким застывшим было выражение лица и взгляд, уткнувшийся в сложенные руки, красные от ожогов, оставшихся в тех местах, где горячие угли коснулись кожи. Госпожа Сугавара и сестры приходили в комнату Акитады, но он лишь молча слушал их увещевания и вздыхал. Тора привел к нему юного Садаму, надеясь приободрить хозяина, но так и ушел, сокрушенно качая головой. На другой день Акитада вышел из своей комнаты, небритый и осунувшийся, чтобы сделать самые важные дела и пойти на похороны Хираты. Туда пришли коллеги профессора, его студенты и множество людей, которых Акитада не знал. Их неподдельная скорбь усилила гнездившееся в его душе чувство тяжкой вины, и он все больше и больше замыкался и уходил в себя. Акитада остро ощущал присутствие закутанной в вуаль Тамако: она сидела вместе с его матерью и сестрами за ширмами. Что она думает сейчас о нем, предавшем свой священный долг перед тем, кто заменил ему отца, о своем «старшем брате», который бросил их в минуту беды и не услышал ее крик о помощи? Похоронное шествие к месту сожжения, где огню предстояло довершить уже начатое, прошло словно в тумане, словно в том самом дыму, который поднимался над погребальным костром человека, ставшего Акитаде ближе родного отца. После похорон он, не разговаривая ни с кем, вернулся домой и снова скрылся в своей комнате, где провел еще целый день и ночь, перебирая в памяти прошлое и картины ужасного бедствия, отказываясь от пищи и принимая только воду. На четвертый день после пожара к Акитаде, все еще находившемуся в состоянии апатии и отчаяния, прибыл посыльный из университета. Он доставил записку от настоятеля Сэссина, и Акитада развернул ее еще не зажившими от ожогов пальцами. В ней было написано: «Вы нужны нам». Разъяренный Акитада разорвал записку и уже потянулся за чистым листком, чтобы написать официальное прошение об увольнении из университета. Но что-то удержало его — то ли профессиональный долг, то ли возникшие в памяти лица студентов, то ли боль в руках, которые еще не могли держать кисточку. Что-то побудило Акитаду пойти туда. Кликнув Сэймэя, он с его помощью умылся, побрился и переоделся в чистое серое кимоно. — Поели бы хоть немного рисовой каши, хозяин, — ласково попросил Сэймэй, словно разговаривая с больным. Оставив слова старика без ответа, Акитада ушел. Явившись в главный зал факультета права, он увидел, что тот заполнен студентами, учившимися у него и Хираты. Отсутствовал только юный князь Минамото, до сих пор скрывавшийся в целях безопасности у него дома. Студенты расселись полукругом перед внушительной фигурой Сэссина. Настоятель был облачен в серое кимоно и черно-белую траурную перевязь. Одежда студентов была обычной, но печальные лица и заплаканные глаза свидетельствовали об их скорби. — Приветствую вас, мой юный друг, — зычным голосом обратился Сэссин к Акитаде. — Мы ждем вас. Мы говорили тут добрые слова о профессоре Хирате, и я сказал студентам, что когда-то вы были одним из его любимых учеников. Не поделитесь ли с нами своими воспоминаниями о нем? Акитада бросил на него гневный взгляд. Эта просьба шокировала его. Мысленно кляня Сэссина, Акитада стал перед студентами. Юсимацу, полный сочувствия к нему, подался вперед. Акитада окинул взглядом остальных, пытаясь понять, так же ли очевидно его горе и им. Он заметил Нагаи, бедного неказистого Нагаи с заплаканными опухшими глазами и дрожащим от беззвучных рыданий ртом — это в его-то возрасте! Таким расстроенным он не выглядел даже в тюрьме, когда ему грозила страшная кара за убийство, в котором его обвиняли. А ведь даже тогда Хирата любил Нагаи — почти как сына. Возможно, не имея собственного сына, он позволял студентам заполнить эту пустоту. И снова невыносимая горечь охватила его. Хирата любил их всех, и Акитаду в том числе. Подступившие слезы мутной пеленой заслонили от него лица собравшихся. Проглотив вставший в горле ком, Акитада попытался заговорить, но ему что-то мешало, повергая его в немоту. Беспомощно разведя руками, он посмотрел на Сэссина, но жирный священник лишь блаженно кивнул в знак ободрения и указал Акитаде на подушку рядом с собой. Акитада сел, и голос вернулся к нему, хотя впоследствии он не мог припомнить, что говорил тогда студентам. Это был своего рода диалог с самим собой о его жизни в доме Хираты, своеобразное очищение, облегчение души. Он плакал, но хотя бы отчасти обрел успокоение. Когда Акитада умолк, в зале долго стояла тишина. Потом Сэссин начал распевать утешительные слова из сутры о Непорочной Стране. Он закончил свое выступление словами: — В нашей религии существует сложная практика духовной медитации, обучающая нас полностью растворяться в ощущении небытия. Лишь немногие добиваются в этом успеха. Но когда это умение приходит к нам, наш разум становится спокоен и безмятежен, как море. Страсть, ненависть, разочарование и печаль отступают. Пустые суетные мысли улетучиваются. Ничто тогда не давит на нас. Мы вырываемся за отведенные нам пределы, перешагиваем через все помехи и препятствия и тем самым искореняем основу наших страданий. Это состояние называется вхождением в нирвану. Этого состояния высшего блаженства можно достигнуть полностью только через смерть. И именно в нирвану теперь навсегда отправился наш дорогой друг. Собравшиеся издали тихие вздохи. Сэссин поднялся, кивнул студентам и Акитаде и вышел. Словно в тумане Акитада встал и последовал за ним. Старый настоятель ждал его на веранде, облокотившись о перила и устремив взор вдаль, на крыши раскинувшегося перед ним города. Когда Акитада приблизился, он не повернулся, а только со вздохом сказал: — Как много смертей. И это в самой гуще жизни. — Сэссин махнул рукой сначала в сторону бурлящего города, потом в направлении учебного зала, где приглушенно переговаривались притихшие студенты. — Я беспрестанно вижу вокруг все восемь неизбежных страданий — рождение, старость, боль, собственную смерть, смерть близких, зло и людей, его несущих, несбыточные желания и похоть. Иногда мне кажется, что на мою долю выпало гораздо больше, чем положено одному человеку. За что вы так сердитесь на меня, мой друг? — Ваше преподобие, — смущенно проговорил Акитада. — Простите меня за мою непростительную грубость. Темные влажные глаза Сэссина остановились на лице Акитады. — Ничего страшного. Я сам сделал еще большую глупость, и это я в долгу перед вами. Вы впустили в свое сердце и в свой дом одинокого осиротевшего ребенка. Передайте ему от меня, чтобы он не бросал учебы. — Так вам все известно? — поразился Акитада. Сэссин кивнул: — Да. Я приглядывал за мальчиком после вашего визита. Мои люди доложили, что вы увели Садаму. Правда, они быстро потеряли вас, но вскоре разыскали ваш дом и предположили, что мальчик там. — И, улыбнувшись, он прибавил: — Надеюсь, он не стал вам обузой? — Конечно, нет. Только уж лучше бы я знал об этом с самого начала. Мы увели Садаму тайком, потому что он жаловался на каких-то двух подозрительных типов, ошивавшихся возле общежития. Одного, страшного на вид детину, я даже видел сам, а второй, по словам Торы, мало чем отличался от первого. Мы приняли их за головорезов Сакануоэ. Сэссин усмехнулся: — Оба они служат у меня уже много лет и, несмотря на свой вид, вполне приличные и даже мягкие парни. Кстати, среди студентов у меня был еще третий человек: он присматривал за мальчиком во время занятий. Да, мне действительно следовало поставить вас в известность. Акитада почувствовал себя одураченным. — Откуда вам было знать, что я до такой степени вмешаюсь в ваши семейные дела? — сокрушенно сказал он. Сэссин вздохнул: — Вы поступили так, потому что я проявил беспечность. Напротив, я весьма благодарен вам. После некоторых колебаний Акитада все-таки решился: — Появились новые факты, касающиеся смерти вашего брата. Лицо настоятеля омрачилось. — Только не здесь и не сейчас. Зайдите ко мне позже. — И, отвесив легкий поклон, он спустился по ступенькам и направился через двор. Акитада вернулся к студентам, сознавая, что теперь уже не хочет увольняться. Пока профессору Хирате не найдут замены, он останется и продолжит занятия с его и своими студентами. Таким образом Акитада хотя бы в малой степени возместит то пренебрежение, какое оказывал в последнее время своему старому другу и наставнику. Притихшие студенты, благодарные Акитаде за откровенный рассказ, ждали его с нетерпением. Сосредоточившись на работе, Акитада немного отвлекся от своего горя и даже не заметил, как настало время обеда. Воспользовавшись перерывом, он решил пойти домой и проведать семью, которая теперь увеличилась на несколько человек благодаря Тамако, ее служанке и Сабуро, старому слуге профессора. Ворота ему открыл Гэнба, смеющийся чему-то с битком набитым ртом. Лицо его сразу же вытянулось, и он поспешно проглотил то, что жевал, когда увидел Акитаду. Однако тот заметил кусок рисовой лепешки, быстро спрятанный Гэнбой за спину. Акитада кивнул ему и прошел во двор. Тора и Хитомаро, сидевшие в тени раскидистого дерева, вскочили при виде хозяина. С обоих градом катился пот, а рядом на земле лежали два длинных бамбуковых шеста. Видимо, Хитомаро все-таки согласился на палочный бой. Ага! Значит, жизнь у них идет своим чередом. К негодованию Акитады прибавился легкий оттенок зависти. У него возникло ощущение, будто в его доме поселился кто-то посторонний, и он вдруг подумал, что пора уже отказаться от услуг новых друзей Торы. Акитада открыл было рот, чтобы сообщить об этом, но увидел, как Гэнба тайком торопливо дожевывает остатки лепешки, жадно облизывая пальцы. Ему тут же вспомнилось, какая отчаянная нужда привела их сюда и как Гэнба готов был работать только за еду, поэтому Акитада решил оставить их еще на несколько дней. Впрочем, он понятия не имел, как справится с увеличившимися расходами. Одинокий и замкнутый, Акитада направился мимо них к дому, когда его окликнул Тора. Он подбежал к хозяину, размахивая огромным ярко раскрашенным зонтиком. — Чего тебе? — нетерпеливо спросил Акитада. — Я занят. Тора насупился. Растерянно раскрывая и закрывая зонтик, он робко пробормотал: — Простите, хозяин. Просто я подумал… что надо бы отдать вам послание. — Да брось ты этот дурацкий зонтик! Какое еще послание? Тора с поклоном протянул ему раскрытый зонтик: — Это вам, хозяин. Акитада втянул ладони в рукава. — Не говори глупостей! Неужели ты думаешь, я стану пользоваться такой дешевой крашениной? Лучше отдай его своей девушке! — И он повернулся, чтобы уйти. — В таком случае, — обиженно заметил Тора, — господин Хисия правильно поступил, откланявшись до вашего прихода. Он так гордился этим зонтиком! Всю ночь не ложился, сам раскрашивал его. Вот, поглядите-ка: каждый лепесточек выписан с любовью, каждое перышко у птицы! Акитада обернулся: — Хисия? Так это же отец убитой девушки! Дай-ка я еще раз взгляну! — Он взял в руки зонтик, чуть поморщившись от боли, и начал рассматривать его. — Ты прав. Зонтик очень красивый. В ответ отнесешь господину Хисии подарок. Сэймэй подготовит его через час. Что сказал господин Хисия? — Полиция сообщила ему, что вы нашли убийцу Омаки, и он пожелал отблагодарить вас, — с укором проговорил Тора. — Но, узнав о пожаре и о смерти профессора, решил не беспокоить вас и не отнимать у вас время. — Он чрезвычайно учтивый человек, — заметил пристыженный Акитада. — Сожалею, что так пренебрежительно выразился по поводу этого зонтика. — Он растерянно повертел подарок в руках. — Зонтик действительно очень… красочный. Только мне думается, Тора, что наибольший вклад в расследование этого дела внес ты. В сущности, ты его вел, а не я, и этот зонтик по праву принадлежит тебе. — И Акитада с легким поклоном вручил подарок Торе. Тора охотно принял его. — А верно, хозяин… Вы и впрямь ничего особенного не сделали, ведь это я нашел все ключи к разгадке. — Он любовно рассматривал зонтик. — А что, все правильно! Как раз подойдет для Мичико! А то я уже голову сломал, соображая, что бы ей такое подарить. — Ты все еще встречаешься с этой маленькой гейшей? — спросил Акитада. — Смотри не попади впросак. А то окажется она штучкой вроде супруги бедного Хисии! — Ну нет, Мичико совсем не такая. А Хисия, между прочим, прогнал свою женушку. Развелся с ней в тот же день, когда я намекнул ему, что видел у них подозрительного посетителя. — Тора лукаво подмигнул. — Представляете, посетитель-то оказался одним из деревенских «родственничков» госпожи Хисия, и ее мужу не понравился тот щедрый прием, который она оказывала этому прохиндею. — Ну, хватит болтать! — одернул его Акитада. — Тем более, значит, можешь спокойно принять этот зонтик. Как выяснилось, господин Хисия перед тобой в неоплатном долгу. После беседы с Торой настроение у Акитады немного улучшилось. Кажется, теперь он вновь способен приступить к заждавшимся делам. Велев Сэймэю завернуть в подарок господину Хисии отрез шелка, он отправился повидаться с матушкой. Госпожа Сугавара бросилась к нему навстречу с распростертыми объятиями. — Милый мой Акитада! — вскричала она. — Как ты себя чувствуешь? Как твои руки? Акитада смотрел на нее в недоумении. — Со мной все в порядке, матушка. Я пришел справиться о Тамако. Матушка с любопытством заглянула ему в лицо. — Она успокоилась. Сэймэй все отпаивал ее своим чаем, чтобы Тамако уснула прошлой ночью, и сегодня утром она выглядела уже гораздо лучше. Мне следовало бы поступить так и с тобой. Заходи и присядь. Тебе нужно поесть. — И, не слушая возражений сына, она хлопнула в ладоши и велела Кумой принести горячего чая и риса с тушеными овощами. Акитада притронулся к пище неохотно, обожженные руки с трудом управлялись с палочками, но постепенно аппетит разыгрался. Матушка, подождав, когда он закончит трапезу, сказала: — Знаешь, Тамако собирается постричься в монахини. Акитада пришел в ужас и как ошпаренный вскочил на ноги. — Где она сейчас? Госпожа Сугавара растерянно разглядывала ногти. — Ей отвели комнату твоей младшей сестры. Тамако сидела в одиночестве на веранде. На ней было белое траурное кимоно[1388], которое, как и ее бледная кожа, подчеркивало черный цвет волос. Акитада ожидал встретить самый сердитый прием, слезы — все, что угодно, — но вместо этого встретил величайшее спокойствие и выдержку. — Акитада! — проговорила Тамако своим нежным голоском с легкой улыбкой. — Я так рада, что ты пришел! Присядь-ка на минуту. Я должна поблагодарить тебя за многое. Спасибо, что позаботился о похоронах и предоставил мне кров. Акитада продолжал стоять. — Матушка сказала мне, что ты собираешься отречься от этого мира. — Он говорил хрипло, взволнованно. — Это правда? Тамако подняла на него спокойный взгляд: — Конечно. Это самое разумное в сложившихся обстоятельствах. Одна из двоюродных сестер моего отца живет в Нарском монастыре. Я поеду к ней. — Но ты слишком молода и красива, чтобы запереться на всю жизнь! — сердито вскричал Акитада. — Я не допущу этого! — Но он тут же уточнил: — Я хочу сказать, что твой отец не одобрил бы такого решения. — Думаю, он понял бы меня. — Нет. Ты должна выйти замуж. Ты могла бы стать моей женой. Он хотел этого. Тамако отвернулась: — Это невозможно. — Но почему, Тамако?! Почему ты не можешь выйти за меня?! Она не ответила. Все страхи и сомнения в одночасье вернулись к Акитаде, только теперь они стали еще сильнее. Какое отвращение питает к нему Тамако, если даже сейчас, перед лицом лишений и невзгод, не хочет принять от него помощь! — Это как раз возможно! — воскликнул он. — А невозможна ты сама!.. Ты невозможна! — И, застонав от негодования, Акитада бросился прочь. По дороге в университет он пытался найти разумное объяснение тому, что Тамако отказалась выйти за него. И опять на ум Акитаде пришел только один ответ: Тамако, вероятно, питает неприязнь к нему или к его семье. Усадив студентов за чтение правовых документов, он отправился в кабинет Хираты разбирать вещи покойного. Акитада работал сосредоточенно, с ожесточением, чтобы избавиться от тоски и отчаяния. Отложив в сторону все личные предметы, которые могли бы понадобиться дочери профессора, Акитада начал просматривать бумаги Хираты. Записей было много — результат трудов долгой жизни. Хирата хранил не только свои рукописи по правовой тематике, но и многочисленные студенческие работы. Акитаде даже попалось собственное юношеское сочинение. За долгие годы преподавания Хирата вложил в своих учеников немало усилий и подлинно отеческой любви. Многие сочинения были отмечены его одобрительными отзывами. Выбросить все это сейчас казалось несправедливым, но какой смысл сохранять лишь часть работ? Акитада перешел к рукописям. Вот тут-то он и наткнулся на дневник, отражавший события последнего года и состоявший из коротеньких памяток, которые Хирата писал для себя, планируя дела на ближайший день. Акитада раскрыл записи, сделанные профессором в тот злополучный день, когда он видел его в последний раз и когда предпочел пойти с Нисиокой, вместо того чтобы поговорить по душам со своим старым другом. Хирата писал: «Кажется, А. по-прежнему сердится на меня из-за тех экзаменов. Бедная Тамако. Совесть не оставит меня в покое, пока я еще раз не попытаюсь разобраться по справедливости. Сообщение об ошибке, допущенной при распределении мест на экзаменах, и о том, что бедный мальчик должен был победить, по крайней мере хоть отчасти утешит его семью». Дрожащими руками Акитада отложил дневник в сторону. Его самые страшные подозрения подтвердились. А что, если Хирата хотел посоветоваться с ним, прежде чем предпринять какой-то опасный шаг? Что, если он и в самом деле взялся за это, решив наконец «разобраться по справедливости»? Сунув дневник в рукав, Акитада зашел в класс, чтобы отпустить студентов пораньше, и сразу же отправился к развалинам дома Хираты. На месте пепелища не осталось ничего, кроме обугленных бревен. Единственный пожарный растаскивал обломки главного дома. Акитада пробирался через завалы к бывшему кабинету Хираты. — Что вы ищете, господин? — спросил его подошедший пожарник. — Пытаюсь понять, откуда начался пожар. — Он начался снаружи. Вон там, на веранде. Акитада посмотрел на горы золы, потом на пожарника. У того было умное лицо и ясный смышленый взгляд. — Как вы это поняли? — спросил Акитада. — Хо-о, я повидал немало пожаров и давно научился определять по останкам. На веранде полыхало жарче всего. Видите? От нее совсем ничего не осталось. А комната занялась позже, и опоры уцелели. Огонь-то ведь горит кверху, а не книзу. — Но как пожар мог начаться снаружи? — Э-э, да вариантов много! Например, служанка по небрежности уронит жаровню с углями или горячее масло из лампы разольет да побоится признаться хозяевам. Здесь, похоже, именно масло и было. Если принюхаться, то еще можно уловить его запах. Должно быть, просочилось под доски. Акитада, как ни старался, чуял лишь запах сильной гари, но он знал, что пожарный прав. А еще он знал, что масло было разлито не случайно. Спросив имя пожарного, Акитада отправился в полицейский участок. Кобэ был на месте и на этот раз тоже встретил его дружески. — Входите! Входите! — воскликнул он. — У меня хорошие новости. — Заметив осунувшееся лицо Акитады, он сказал: — Ну и вид у вас! Вы что, болели? — Нет. Вам известно, что профессор Хирата погиб при пожаре собственного дома пять дней назад? Лицо Кобэ вытянулось. — Да. Я читал донесение. Простите, что не выразил соболезнования. Вы ведь были близки, не так ли? — Да. Я пришел сообщить вам, что это был поджог. Смерть профессора дело рук того же человека, что убил Оэ. Кобэ вздохнул и утешительным тоном проговорил: — Да-да, понимаю… Вы очень переживали из-за этого. Но видите ли, в чем дело, — я читал донесение, и там не упоминается ни о каком поджоге. А убийца Оэ никак не мог находиться поблизости от дома Хираты в ту ночь. Рассеянно взмахнув рукой, Акитада сел. После такого обилия событий он никак не мог сосредоточиться. Под одеждой Акитада ощущал тяжесть дневника Хираты. — Это долгая и запутанная история. — Он достал из рукава дневник и придвинул его к Кобэ на другую сторону стола. — Откройте последнюю страницу и прочтите, что там написано. Кобэ прочел, потом пролистал весь дневник. — Это чей? Хираты? — Да. Я нашел его, когда разбирал бумаги профессора в университете. Мы с ним расследовали дело о подлоге, имевшем место на прошлогодних экзаменах, и у меня сложилось впечатление, что Хирата решил отказаться от этого расследования, оставив все как было. — Это имеет какое-то отношение к Исикаве и Оэ? — спросил Кобэ. — Да. Самое непосредственное. Весьма и весьма слабый студент занял на экзаменах первое место, потому что талантливый Исикава написал за него сочинение, и Оэ, присутствовавший на экзаменах как наблюдатель, незаметно подсунул его нерадивому кандидату. Оэ впоследствии получил за это большие деньги, а Исикава за свои труды — почти ничего. Он придумал, как поправить дело, начав шантажировать Оэ. Но по чистой случайности его записка вместо Оэ попала к Хирате. Кобэ слушал с величайшим интересом. — Продолжайте! — Хирата попросил меня помочь выявить вымогателя и его жертву. Мы установили, что Исикава и Оэ питают друг к другу неприязнь, когда Оэ был неожиданно убит. Я попытался восстановить последовательность событий. Вне всякого сомнения, Исикава продолжал оказывать давление на Оэ, который, в свою очередь, обратился к тому кандидату за очередной суммой, чтобы откупиться от Исикавы. Кобэ задумчиво насупился: — К кому именно он обратился за очередной суммой? Когда Акитада назвал ему этого человека, тот возразил: — Это имя ни разу не всплывало в ходе расследования. — Потому что все искали подозреваемого среди коллег Оэ. У убийцы в большей мере, чем у других, имелись причины желать смерти Оэ, и его характер прекрасно вписывается в обстоятельства совершенного преступления. Нисиока, который интересуется подобными вещами, согласился бы сейчас со мной. Теперь насчет возможности — была ли она у него. Как и все, он присутствовал на поэтическом празднике, и если мне не изменяет память, Оэ читал там стихотворение, в котором содержалась прямая угроза этому человеку. Думаю, он вышел из парка и последовал за Оэ к храму Конфуция. Возможно, для того, чтобы просто побеседовать с ним, попробовать договориться. Увидев Исикаву, который вышел из храма один, он вошел туда и обнаружил там беспомощного Оэ, привязанного к статуе мудреца. Внезапно возникшее желание убить Оэ овладело им с такой силой, что он не мог противиться ему. Кобэ задумчиво покачал головой: — Все это лишь домыслы. Чтобы произвести арест, мне нужны доказательства. Кстати, а где эта записка вымогателя, полученная Хиратой? — Наверное, сгорела при пожаре. — Кобэ развел руками. — Исикава мог бы подтвердить факт экзаменационного подлога… если, конечно, он еще жив. — Акитада вытер пот с лица. Вместе с влагой на ладони осталась сажа с развалин дома Хираты. — Кстати, я спрашивал в монастыре Ниння. Там Исикавы нет. — Ну а теперь мой черед сообщать новости! Он жив, и мы схватили его. Исикаву привезливчера из монастыря Онье, что к югу от столицы. Пока он мало что сказал, но поверьте мне, наш убийца пойман. Хотите поговорить с ним? — Акитада вспомнил про бамбуковые палки, служившие неизменным средством для выколачивания показаний на полицейских допросах, и внутренне содрогнулся, однако кивнул. Кобэ встал. — Тогда пошли! Они направились через двор к зданию тюрьмы. Кобэ отдал необходимые распоряжения и предложил Акитаде сесть на деревянном полу в комнате для допросов. Писец, заняв свое место за столиком, начал растирать тушь и шелестеть бумажками. Вскоре привели заключенного. Двое стражников тащили волоком сопротивлявшегося Исикаву. В этом жалком создании, безжалостно поставленном перед ними на колени, Акитада не сразу признал высокомерного юного красавца студента. На Исикаве было перепачканное кровью рваное монашеское одеяние. На бритой голове виднелось несколько кровоподтеков, такие же были на голых ступнях и на закованных в цепи руках, а разбитое лицо распухло до неузнаваемости. Парень съежился на полу, дрожа всем телом. — Сражался как тигр, — объяснил Кобэ Акитаде и крикнул арестованному: — Ну-ка сядь! Исикава не отреагировал на его слова, и один из тюремщиков пнул его ногой в ребра, крикнув: — Делай, что тебе говорят, дерьмо собачье! Студент застонал от боли и с трудом сел. Его правый глаз затек от побоев и ничего не видел, кровь из разбитого носа перепачкала впереди всю одежду. Взглянув на Акитаду здоровым глазом, Исикава сразу узнал его. Слегка расправив плечи, он поклонился. — Ну? Теперь готов говорить? — угрожающе прогремел Кобэ. — Господин учитель, — пробормотал арестант, вперив уцелевший глаз в Акитаду. — Пожалуйста, объясните им, кто я такой, и скажите, что я ничего не совершил. — Почему на тебе монашеское облачение? — спросил Акитада. — Я скрывался, потому что боялся. — Ага! — взревел Кобэ. — Значит, ты признаешь, что убил преподавателя?! — Нет! Я не убивал его! Клянусь, я не делал этого! Я только привязал его, и все! Зачем мне убивать его? Он платил мне за проверку сочинений и дал бы хорошие рекомендации на выгодное место после сдачи экзаменов. — Он снова с мольбой уставился на Акитаду: — Пожалуйста, господин, скажите им! Акитада наклонился вперед, не сводя с него внимательного взгляда. — Ты признаешь, что привязал Оэ к статуе мудреца? — Да, признаю. — Губы Исикавы брезгливо задергались при воспоминании об этом. — Он был так пьян, что все время падал на пол, вот я и придумал ему подходящую подпорку. — На редкость добрый поступок с твоей стороны, — заметил Акитада, изогнув брови. — Особенно если учесть твою стычку с ним, произошедшую совсем незадолго до этого. Помнишь вашу встречу за трибунами во время состязания? Что все это означает? Здоровый глаз Исикавы удивленно округлился. — Понятия не имею, о чем вы говорите. — Ладно, ладно! Я сам видел тебя. Ты набросился на Оэ. Разбитое в кровь лицо Исикавы стало угрюмым. — Да ничего особенного не было! Просто он напился и нес всякую чушь. — Врешь ты все, дерьмо собачье! — взорвался Кобэ. — Он угрожал тебе, и ты ударил его! Стоявший за спиной у Исикавы тюремщик со всего маху огрел его по голове и по плечам рукояткой кнута. Студент со стоном повалился вперед. Акитада поморщился, и Кобэ жестом велел тюремщику прекратить побои. Тот повиновался и отступил, но Исикава так и лежал распростертый на полу. Сурово посмотрев на Кобэ, Акитада сказал студенту: — Сядь и отвечай на вопросы правдиво, тогда тебя не будут бить. Здесь расследуется дело об убийстве, и ты, как парень неглупый, должен понимать, что содействие полиции в твоих интересах. Исикава сел и распрямился. — Хорошо. Только нельзя ли попросить чего-нибудь попить? Когда Акитада повернулся, чтобы потребовать воды, Исикава взглянул на него с мольбой и надеждой. Он жадно пил из деревянного ковша, которым тюремщик зачерпнул для него воды из стоявшей в углу кадки. Вытерев рукавом рот, он заговорил: — Этот ублюдок обманул меня, и я сказал ему об этом. А обманул он меня так. Ему пришло в голову заработать денег на стороне, обеспечить своему знакомому богатею первое место на экзаменах. Зная, что у меня нет денег даже на горячую еду и поэтому я прибираюсь на кухнях и в общежитиях за несколько медяков в день, он попросил меня отказаться от сдачи экзамена в этом году, но написать экзаменационное сочинение и передать ему. Оэ предложил мне за это огромную сумму, обещал первое место на экзаменах в следующем году и выгодное распределение на службу впоследствии. Но то, что я, как лучший студент, займу первое место, все понимали заранее, и мне совсем не хотелось болтаться в университете еще целый год, поэтому я отказался. Вот тогда-то этот ублюдок и начал угрожать мне. Что, дескать, он постарается, чтобы я не занял первое место, что, кроме меня, у них есть другой, не менее одаренный претендент, и что рекомендаций от Оэ я не получу, даже если завоюю первенство. Мне пришлось согласиться, но обещанных денег он мне так и не заплатил. Оэ дал мне проверять студенческие сочинения за какие-то жалкие гроши и продолжал кормить меня сказками, из раза в раз повторяя, что ему самому не заплатили. Но я-то знал другое. Что он строит загородный дом на принадлежащие мне деньги и собирается удалиться отдел, выгодно продав свою должность. — Исикава злобно сплюнул, свирепо сверкнув уцелевшим глазом. Акитада очень хотел хоть отчасти найти удовлетворение в том, что его гипотеза подтвердилась, но гибель Хираты и чудовищность всей этой грязной истории наполняла его негодованием и обезоруживала. К Исикаве же, напротив, казалось, вернулась былая заносчивость. Встретив взгляд Акитады, он криво усмехнулся. — Уж коль вы решили сунуть свой нос в это дело, господин «профессор», знайте: на поэтическом празднике я только лишь напомнил Оэ про должок. Вот и все. — Это далеко не все, — возразил Акитада. — Ты неплохо поживился, поставив на кандидатуру, выдвинутую Оэ, и, насколько мне известно, выиграл пятьсот серебряных монет. Ну-ка скажи, как к этому отнесся Оэ? Кобэ крякнул от удивления, а ошеломленный Исикава вопросительно уставился на Акитаду: — Что-то не пойму, на чьей вы стороне? — Объясни свое участие в незаконных игровых ставках! — потребовал Кобэ. — Или я прикажу снова обработать тебя палками! — Все вы одинаковы! — заорал Исикава. — Вы готовы повесить убийство на бедного студента, который не может за себя постоять, лишь бы покрыть настоящего убийцу, потому что он из «благородненьких»! Да, я подрался с Оэ! Он обманул меня! Да, я толкнул этого жирного ублюдка! Да, я привязал его жалкую тушу к статуе этого сладкоречивого мудреца, вашего святого, которому вы все, лицемеры, поклоняетесь! Но я не убивал его! Оэ ненавидели многие, но вы выбрали меня, потому что за меня некому заступиться. Будь проклят этот Оэ! И вы будьте прокляты за все ваши делишки! — Исикава со стоном повалился на пол. Тюремщик занес над ним свой хлыст и вопросительно посмотрел на Кобэ, ожидая дальнейших распоряжений. — Не надо! — Акитада обратился к Исикаве: — Я верю тебе, но сам прослежу, чтобы тебя исключили из университета за гнусное поведение. Студент злобно сплюнул и с ядовитой ухмылкой произнес: — Никогда не забуду вашей доброты, любезнейший господин. Кобэ вздохнул. — Мы ничего не добились. — Он кивнул стражникам: — Уведите его и отмойте. Потом заприте в камеру и хорошенько присматривайте за ним! Когда они ушли, Акитада спросил у Кобэ: — Неужели вы по-прежнему считаете его виновным? — Не важно, что я считаю. Доказательств вашей гипотезы нет, а доказательств виновности Исикавы хоть отбавляй. Акитада устало проговорил: — Нельзя выколачивать палками признание из невинного человека. Он может признаться только потому, что больше нет сил терпеть, и предпочтет умереть. Что до меня, то я не хочу, чтобы это осталось на моей совести. — Да идите вы со своей совестью! — взорвался Кобэ. — Лучше скажите, как раздобыть теперь новые доказательства! Вы не допускаете, что это сделал Исикава, но предоставить мне улики для другого ареста вы тоже не можете! Тогда оставьте меня в покое и не лезьте больше в это дело! Стражники со двора изумленно уставились на них. Акитада вспомнил о покойном Хирате. — Простите, капитан, если доставил вам беспокойство или был для вас обузой. Я хотел бы попросить вас только вот о чем. Смерть Хираты не дает мне покоя. Я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы допросили пожарных, тушивших пламя, в котором он погиб. Один из них сказал мне, что пожар начался с веранды. Если Хирата спал в своем кабинете, он не мог вызвать пожар сам, а своего слугу он никогда не беспокоил после заката. Я ни за что не стал бы просить вас об этом, если бы интуиция не подсказывала мне, что это важно для расследования настоящего дела. Кобэ, потрясенный несвойственным Акитаде смиренным тоном, сначала принял неприступный вид, но потом смягчился: — Хорошо. Я попробую разобраться.
Глава 21 Ветка глицинии
Уже смеркалось, когда Акитада уныло шел из полицейского участка, продолжая упрекать себя за смерть Хираты. Он отдалился от старого друга, от дела с вымогательством и от смерти Оэ хотя и частично, но все-таки из-за уязвленной гордости. Акитада погрузился в расследование дела Ёакиры, убеждал себя, что мальчик в большой опасности, и все это время вел себя как самоуверенный болван. То, что он раскрыл убийство принца ради собственного удовлетворения, не обеспечило безопасности ребенку — по крайней мере до сих пор, и скорее всего не обеспечит никогда. И все же он обещал заглянуть к Сэссину и поговорить с ним. Вспомнив об этом, Акитада направился к университету, но сначала зашел в свой кабинет, чтобы захватить размноженные Сэймэем документы. Набожный Сэссин молился, когда прибыл Акитада, но молоденький служка проводил его в кабинет настоятеля и подал ему фруктовый сок. Акитада ждал, готовясь к разговору и пытаясь собраться с мыслями. Несмотря на свое августейшее происхождение и высокое положение в буддийской иерархии, Сэссин обладал поразительной способностью прислушиваться к чувствам других людей. Это Акитада счел обнадеживающим, однако, серьезно обманувшись в Сэссине и тяготясь ощущением вины за свое оскорбительное поведение, он очень тревожился из-за этого и размышлял, как исправить положение. В конце концов Акитада понял, что жалкими извинениями ничего не добьешься, поэтому решил вести откровенный разговор и надеяться на лучшее. Вскоре явился Сэссин. Извинившись, что задержался, он выпил предложенный юным помощником сок и, оставшись наедине с Акитадой, спросил: — Ну-с? Какие новости вы принесли? — Боюсь, ваше преподобие сочтет, что я взял на себя непростительную смелость вмешаться в ваши семейные дела, — смущенно пробормотал Акитада. Сэссин усмехнулся: — Видите ли, вы показались мне человеком, не придающим значения пророчествам, предзнаменованиям и всевозможным религиозным запретам. Поэтому вряд ли вы склонны поверить в чудо. Акитада, потупившись, разглядывал руки. Красные рубцы еще не заживших ожогов напомнили ему о том, как губительно откладывать решительные действия. — Возможно, мое мнение уже сложилось, — вздохнул Акитада. — И когда ваш внучатый племянник обратился ко мне, его подозрения относительно князя Сакануоэ совпали с моей точкой зрения. Я почувствовал жалость к нему и к его сестре. — Он смело посмотрел Сэссину в лицо. — Не важно, как я пришел к выводу, что вашего брата убил князь Сакануоэ, главное для меня — доказать это. — Акитада бросил встревоженный взгляд на Сэссина, но лицо настоятеля выражало лишь невозмутимый интерес. — Пожалуйста, объясните. — С вашего позволения, я поведаю вам обо всех шагах, недавно предпринятых мной. — Настоятель кивнул. — Высокое положение и влиятельность князя Сакануоэ были первой проблемой, с которой я столкнулся. Это означало, что любые шаги следовало предпринимать по возможности тайком. Мне почти не удавалось найти людей, занявших сторону мальчика. Даже сейчас я не в силах выступить против столь влиятельного человека, как не в силах сделать это и Садаму из-за своего возраста. Прежде всего я поручил своему секретарю исследовать государственные архивы и попытаться найти документы, проливающие свет на мотивы преступления. — Акитада протянул Сэссину пачку бумаг. — Убежден, это поможет обнаружить явные нарушения в деятельности Сакануоэ в ту пору, когда он управлял имениями вашего брата — как до, так и после смерти принца. Сэссин отложил бумаги: — Это не сейчас. Продолжайте! — Далее я посетил дом вашего брата и поговорил с его возницей, после чего побеседовал с князьями Янагидой, Абэ и Синодой. Военачальника Сога, к сожалению, я не застал, но его показания можно будет выслушать позднее. Потом мы с моим слугой посетили монастырь Ниння и поговорили с тамошним писцом. Каждый из этих разговоров по-своему наводил на определенные мысли, но все вместе они подтверждали мое убеждение в том, что Сакануоэ заранее разработал план «исчезновения» вашего брата. Однако, поскольку тело отсутствовало, у меня не было доказательств убийства. И все-таки нашел это доказательство в стенах святилища, откуда якобы исчез ваш брат. Сэссин тяжело вздохнул: — Я знаю, что вы там нашли. Синода после вашего визита к нему пришел ко мне и рассказал, что он и Сакануоэ сделали. Не знаю, чем руководствовался Сакануоэ, но Синода хотел одного — сохранить добрую память о моем брате. Акитада кивнул: — Продолжая тему мотива убийства и его совершения, замечу, что князь Сакануоэ, человек крайне честолюбивый и спесивый, был чрезвычайно недоволен своей наследственной должностью управляющего имением. Незадолго до убийства принц Ёакира вызвал его в столицу для отчета. Удалось ли Сакануоэ отклонить предъявленные ему обвинения или нет, но его отношения с принцем стали весьма натянутыми. Тогда же Сакануоэ, должно быть, увидел юную внучку принца, женитьба на которой помогла бы восстановить его пошатнувшееся положение и завладеть всем состоянием. — Бедная девочка! — пробормотал Сэссин. — И как только слуги брата позволили, чтобы его пустили к ней! — Видимо, принц узнал о случившемся слишком поздно, да к тому же накануне своего традиционного визита в монастырь. Он был взбешен и тотчас высказал это Сакануоэ. Принц тут же распорядился, чтобы готовились к отъезду в загородное имение на следующий же день. Откажись тогда принц от поездки в монастырь Ниння, он был бы жив и поныне. Сэссин вздохнул: — Таков уж был мой брат — никогда не отказывался от выполнения своей клятвы. — Да. И Сакануоэ, несомненно, знал это. Дальше, как мне представляется, произошло следующее. — И Акитада изложил Сэссину, так же, как в свое время Торе, подробности ночного путешествия и все ходы, предпринятые Сакануоэ. Сэссин слушал со все возрастающим ужасом и перебил Акитаду лишь дважды. В первом случае он заметил: — Если ссора между моим братом и Сакануоэ произошла перед поездкой в монастырь, брат вряд ли пригласил бы этого человека сопровождать его. — Верно. Это обстоятельство сразу озадачило меня. Второй вопрос Сэссина касался возможного сообщника. Акитада ответил: — Если бы существовали политические причины для устранения вашего брата, я рассмотрел бы версию заговора. Но в данном случае иных мотивов, кроме личной выгоды, не было. В столь серьезном преступлении, учитывая высокий ранг вовлеченных в него людей, необходимость вознаграждения и использования крайне необычных методов, даже один сообщник представлял бы собой слишком большую опасность. Сакануоэ действовал один. Когда Акитада закончил, Сэссин молча кивнул. Только тихое постукивание четок в его пальцах нарушало воцарившуюся в комнате тишину. После длительной паузы он обратил взгляд к потолку и спросил: — Но зачем было везти туда голову? Зачем этот глупец расчленил тело моего брата? Неужели недостаточно было просто убить? — Боюсь, что недостаточно. Сакануоэ нуждался в доказательстве смерти принца, чтобы немедленно получить доступ к состоянию покойного. К тому же он, возможно, рассчитывал на то, что его величество из уважения к вашему брату наградит его солидной должностью. Сэссин вздохнул: — Несчастный, запутавшийся человек! Как он, должно быть, страдал, если пошел на такой отчаянный риск! Как жадно он, должно быть, хватался за пустые ценности этого суетного мира! В каком отчаянии он, судя по всему, пребывал, когда мой брат отверг его! — Не стоит сочувствовать ему, ваше преподобие! Это убийство было тщательно спланировано. Сакануоэ заранее позаботился о том, чтобы заказать монахам чтение молитв на тот день, когда в монастырь приедет ваш брат. После этих слов Сэссин словно ушел в себя. — Гнев — бесполезное чувство. Кроме того, данные мной обеты не позволяют мне совершить действий, предписанных законом. Я должен подумать, чтобы понять, как поступить. — Помолчав, Сэссин спросил: — А что стало с телом моего брата? Акитада ждал и боялся этого вопроса. — Это мне неизвестно, но у меня есть предположение. Сакануоэ, как я знаю, вызвался сам управлять последней повозкой из тех, что выдвинулись караваном в загородное имение. Нагруженная платяными сундуками из покоев вашего брата, она после наступления темноты еще много часов простояла одна во дворе. Подозреваю, что Сакануоэ по пути следования сделал короткую остановку у ворот Расёмон. — У ворот Расёмон?! — Сэссин был потрясен. — Вы полагаете, что тело моего брата оставили среди трупов несчастных и отверженных, чтобы его сожгли и погребли в общей могиле? — Не исключено, что Сакануоэ остановился где-то по дороге и захоронил тело, — поспешил заметить Акитада. Сэссин долго молчал, вперив взгляд куда-то вдаль, потом сказал: — Похоже, мне придется надолго забыть о своих обетах, чтобы обеспечить спокойное и безопасное будущее семье моего брата. Спасибо вам за откровенность. С этого момента вы можете передать все эти дела в мои руки. Я уже распорядился, чтобы мою внучатую племянницу доставили к ее двоюродной сестре, настоятельнице святилища Исэ. Там в священных пределах, которые не смеет нарушить ни один человек, она будет в полной безопасности. Я был бы весьма благодарен вам, если бы Садаму пожил еще какое-то время в вашем доме. Надеюсь, это не причинит вам серьезных неудобств? Акитада улыбнулся: — Разумеется, нет. Мы все очень полюбили мальчика. Даже… — Он хотел сказать «моя матушка», но вовремя спохватился. — Даже мой слуга Тора. Сэссин немного успокоился. — В таком случае, быть может, вы позволите мне навестить Садаму в вашем доме? Пора мне заполнить этот пробел. Сказав, как он польщен такой честью, Акитада откланялся. Выйдя на улицу, он направился к главным воротам, чтобы пойти домой. Несмотря на вечернее время, жара не спадала, как и на прошлой неделе. В темной листве крошечными огоньками, словно бесплотные духи, мелькали светлячки. Когда Акитада проходил мимо храма Конфуция, его окликнул знакомый голос. — Сугавара, это вы? — Размахивая полами одежды, из калитки выбежал тощий Нисиоки. — Как хорошо, что вы проходили мимо, когда я решил глотнуть свежего воздуха. Хотя свежим его явно не назовешь. А тут, знаете ли, произошло нечто странное. Усталый Акитада был слишком озабочен собственными проблемами. Неприязненно посмотрев на грушевидное лицо Нисиоки, он сказал: — Нельзя ли потом? У меня дома срочные дела. Длинное лицо Нисиоки вытянулось. — Ах да, я совсем забыл! Бедный Хирата. Говорят, вы взяли к себе его дочь. Какая тяжкая утрата! Студенты тоже болезненно переживают ее. Как там его дочь? — Как того и следовало бы ожидать. Так в чем ваша проблема? — Мне не хочется беспокоить вас, но вы, возможно, дадите совет. Я… насчет наших крыс. — Ваших крыс?! — Акитада заподозрил, что Нисиока тронулся рассудком. — Не лучше ли вам зайти самому и посмотреть? Это займет всего минуту. Честное слово, я ужасно озадачен. — Он нервно провел рукой по голове, сбив набекрень завязанный на макушке пучок. — Хорошо. Но я ненадолго. Вздохнув, Акитада последовал за Нисиокой в его кабинет. Комната находилась все в том же беспорядке, как и во время прошлого прихода Акитады. Стоя среди сваленных ворохом бумаг, засохших винных чарок, пустых масляных ламп и посуды с объедками, Нисиока развел руками и указал на пол. Там, среди высыпавшихся из коробки недоеденных жареных орешков, лежали три дохлые крысы. Акитада мыском ноги пошевелил трупики. Уже окоченевшие, они щерили зубастые пасти в последнем предсмертном оскале. Отравлены! — Надо понимать, у вас больше не осталось орешков. Новыми-то запаслись? — В том-то и дело, что нет. Не успел. Только эти орешки не мои. — Не ваши? А коробка вроде та же. — Да, коробка-то моя, а вот орешки другие. Помните, я рассказывал вам про одну старушку, которая готовит их для меня? Так вот, она жарит их почти дочерна. А эти коричневые. Акитада задумчиво смотрел на Нисиоку: — Когда вы это обнаружили? — Совсем недавно. Видите ли, я со вчерашнего дня не был у себя в кабинете, потому что мы с профессором Танабэ работали в библиотеке. — Вы уже поделились с кем-нибудь своими подозрениями? Нисиока побледнел. — Думаете, кто-то хочет отравить меня? Но кто? Я считал, что Исикава в тюрьме! — Нисиока запаниковал. — Полагаю, вам следует незамедлительно сообщить об этом Кобэ и изложить ему другие ваши подозрения, — посоветовал Акитада. — А потом ступайте домой и получше заприте дверь. Оставив Нисиоку, в ужасе таращившегося на дохлых крыс, Акитада побрел домой по ночным улицам, по дороге разрабатывая план, который предотвратил бы еще одно покушение убийцы на чью-то жизнь. Ворота ему снова открыл Гэнба. — У нас все спокойно, хозяин, — сообщил он. — Маленький князь с Торой и барышнями ловят в саду светлячков. — Спасибо, Гэнба. Я хочу, чтобы вы с Хитомаро зашли через некоторое время ко мне в кабинет. Я попрошу вас доставить два письма. Сев за стол, Акитада достал писчие принадлежности и начал растирать тушь. В первом письме важнее всего был правильный выбор слов. Второе письмо тоже представляло собой трудность. Акитаде нужна была убедительность, чтобы заручиться содействием, и предстояло обстоятельно изложить детали плана, чтобы исключить в дальнейшем любую возможность ошибки. То, что он собирался сделать, могло стоить ему жизни. О себе Акитада не беспокоился — ему нечего было терять, — зато он очень сожалел бы, если бы убийца или двое убийц остались на свободе. Закончив оба письма, он остался доволен ими. Надписав адреса и поставив печати, Акитада послал за Хитомаро и Гэнбой. Те сразу явились, получили в руки по письму вместе с подробными устными наставлениями и удалились. Только теперь Акитада разделся и велел приготовить ванну. Он тер себя до самозабвения, прежде чем погрузиться в дымящуюся паром кадку. Горячая вода принесла облегчение напряженным ноющим мышцам и усталой коже, но пострадавшие от ожогов руки больно щипало, и Акитада старался не окунать их. Хорошенько расслабившись, он еще раз подверг тщательному анализу свой план на предмет возможных упущений и теперь чувствовал себя гораздо лучше, ибо снова обрел спокойствие и решительность. Облачившись в просторное хлопковое кимоно, Акитада вернулся в свою комнату, где его ждал Сэймэй с дымящимся на подносе ужином. Акитада ел с аппетитом, и мозг его был ясен, как никогда. Гэнба и Хитомаро вернулись почти одновременно, каждый принес короткий ответ. Акитада читал, кивая, потом сказал двум своим работникам: — Опасности здесь больше нет, так что сегодня ночью можете отправляться спать. А завтра я дам вам новые поручения. Они низко поклонились, бормоча слова благодарности. Оставшись один, Акитада постелил себе и лег. Лежа в темноте, он снова задумался над смертельной опасностью, угрожавшей ему завтра. Дома у него все благополучно — мать, как женщина сильная, вполне могла позаботиться о будущем сестер Акитады, а Сэссин присмотрит за мальчиком. Оставалась Тамако. Вспомнив о ней, он вновь погрузился в мрачные раздумья. Все былые колебания и неудачи снова прошли перед его мысленным взором. Они привели к потере Тамако и легли на Акитадо тяжким грузом ответственности за ее разрушенное будущее. Ему необходимо заснуть, поскольку завтра он должен быть во всеоружии, но проклятые мысли в голове цеплялись одна за другую. Вдруг в дверь кто-то тихо поскребся. — Кто там? — раздраженно спросил Акитада. Дверь раздвинулась, и на пороге показалось личико его младшей сестры. — Это я. Я потревожила тебя? — обеспокоенно спросила она. Акитада улыбнулся: — Ну конечно, нет. Входи, Ёсико! Как она похорошела! И как мало времени он стал уделять сестрам! Ёсико проскользнула в комнату в ночном платье и грациозно присела на край постели. — Я пришла рассказать про наших гостей, но ты, кажется, собрался спать. — Ничего страшного. Я еще бодрствовал, и с твоей стороны это очень мило. Рассказывай! — Юный князь очень мил и очень учтив для своего возраста. Матушка дала ему книги, разные игры и музыкальные инструменты. Он много времени проводит с Торой, но мы с Акико частенько заходим к нему и играем с ним. А еще мы играли для него на цитре, и он похвалил нас, сказав приятные и добрые слова. — Рад слышать, что моя семья так хорошо приняла гостя. — Наша другая гостья тоже очень милая, только грустная. — Это вполне естественно в сложившихся обстоятельствах, — заметил Акитада. — Тамако потеряла отца и родной дом. К тому же в ее возрасте перспектива стать монахиней не слишком радостная. — И, желая завершить разговор, он решительно прибавил: — Ну а теперь, если это все, давай-ка я попытаюсь заснуть. Завтра мне предстоит насыщенный день. Но Ёсико продолжила беседу: — Уверена, Тамако совсем не хочет идти в монахини. — Ни ты, ни я не имеем права вмешиваться в ее дела, — сказал Акитада. — И я запрещаю тебе говорить с ней об этом. — Но почему ты сам не хочешь поговорить с ней? Мы все очень полюбили Тамако, и даже матушка надеется, что вы поженитесь. Тамако массирует матушке шею, когда та страдает головными болями, и заваривает для нее травы. Теперь матушка убеждена, что Тамако сумеет вылечить все, что угодно. Если бы ты высказал ей свои чувства, убеждена, изменила бы свое решение. — Хватит! — отрезал Акитада. — Не вмешивайся не в свое дело! Испуганная внезапной яростью брата, Ёсико вскочила и бросилась к двери. Там она остановилась и дрожащим от слез голосом проговорила: — Можешь ненавидеть меня, но, по-моему, тебе пора перестать твердить Тамако, что ты считаешь ее своей сестрой. Это огорчило бы любую девушку, мечтающую выйти за тебя замуж. — И, задыхаясь от обиды, Ёсико выбежала из комнаты. Гнев Акитады сменился изумлением. Потом он рассмеялся. Может, это просто девичья глупость. Не могла же Тамако, отказывая ему, исходить из таких детских соображений, но… Внезапно приняв решение, Акитада поднялся с постели. Ему необходимо было кое в чем убедиться. Коридор, двор перед его комнатой и женская половина дома были погружены во мрак и тишину. Хорошо, что он отправил Хитомаро и Гэнбу спать. Тихонько прокравшись босиком к двери Тамако, Акитада сел на веранде и кашлянул. Сначала ответа не последовало. Тогда он кашлянул еще раз, но уже громче. Из-за закрытых ставен послышался шорох, и нежный голосок спросил: — Кто там? — Акитада. Снова шорох, и в дверях показалась Тамако. — Акитада! Что случилось? Ее густые длинные волосы были распущены и струились по белому шелку ночного платья. Встревоженное личико, слегка разрозовевшееся от сна, было прекрасно. Жгучая тоска охватила Акитаду, и он вдруг понял, что не знает, как подступиться к Тамако и как восстановить взаимопонимание. — Я хотел увидеть тебя, — робко начал он. — Правда? А я подумала… Зачем? Он отчаянно пытался что-то придумать. Обсуждать с Тамако его подозрения по поводу смерти ее отца сейчас явно не время. Не мог рассказать ей Акитада и о визите своей сестры. — Чтобы извиниться, — наконец сказал он. — За сегодняшнее утро. За грубость. Мне не следовало так разговаривать с тобой. Тамако грустно улыбнулась: — Не извиняйся. Я знаю, что ты был расстроен совсем не из-за меня. Ты вел себя вполне естественно, и я благодарна тебе за заботу. Акитада смутился. — Я… Боюсь, я заботился больше о себе. Когда подумал о… — Вздохнув поглубже, он пустился в объяснения: — Мне вдруг пришло в голову, будто ты считала, что я хотел жениться на тебе, поскольку мы всегда были очень близки, ну… то есть как брат и сестра. А еще потому, что я многим обязан твоему отцу. Но это вовсе не так. Глаза Тамако светились в лунном свете. — Это не так? Акитада с мольбой посмотрел на нее: — Пойми, наши прошлые отношения затмили собой мои истинные чувства. — Он умолк и покраснел, смущенный своими неуклюжими словами. — Я хочу сказать, что, лишь увидев тебя снова, вдруг понял, как сильно любил тебя и как ты нужна мне? Она тихо вздохнула и прошептала: — Я не знала этого. — Потом вдруг попросила: — Пожалуйста, позволь мне посмотреть на твои руки. Акитада нерешительно протянул ей руки ладонями вниз. Тамако перевернула их и начала разглядывать покрытую красными рубцами кожу. — Я не знала, что твои раны так серьезны. — Она поймала его взгляд. — Сэймэй приходил ко мне за травами. Я вижу, они помогают. Боль еще осталась? Акитада втянул руки в рукава и покачал головой. Проявив заботу, она вселила в него надежду. — Так ты изменишь свое решение? Мы все-таки поженимся? — Не знаю, — задумчиво проговорила она. — Я сейчас в таком смятении! — Ага! Значит, Ёсико права! Значит, все это дурацкая ошибка! Она сказала, будто ты огорчена, потому что я отношусь к тебе как к сестре. Это так? Поэтому ты отвергла мое предложение? — Ёсико так сказала? — Тамако вскрикнула и отодвинулась от него. — Ой, как мне стыдно! — И она закрыла лицо руками. Акитада понял, что сделал глупость. До сих пор он лелеял тщетные надежды, а теперь поставил Тамако в неловкое положение, когда она ясно дала ему понять, что не хочет больше обсуждать эту тему. Акитада тяжело вздохнул. Тамако отпустила его руки. — Это не единственная причина. Отец признался мне, что предложил тебе заключить со мной брак, и это очень удивило тебя, но ты согласился обдумать предложение. Ох, Акитада, я хорошо понимаю, как это получилось! Отец просто воспользовался твоей добротой, чтобы принудить к нежелательному для тебя союзу. Разумеется, я не могла на это пойти. Я долго сердилась на него, но потом догадалась, что он поступил так из любви ко мне. Отец был нездоров и хотел перед смертью устроить мою жизнь. Акитада не знал, что сказать. Ему вспомнилось, как резко он отнесся к матримониальным затеям Хираты. Как объяснить теперь Тамако, что он любит и желает ее ради нее самой? Видя его замешательство, Тамако еще больше ушла в себя и отдалилась от него. — А теперь, — продолжила она с горечью, — ты снова делаешь мне предложение. Но на этот раз из жалости и из чувства долга или из каких-то других глупых соображений. Пойми, я не могу принять такую жертву. — Жертву?! — возмущенно вскричал Акитада. — О какой жертве ты говоришь, если последние несколько недель я разрывался на части от муки, что теряю тебя?! Я так страдал из-за твоего отказа, что не мог сосредоточиться на работе и на раскрытии убийств! Я искал причину в чем угодно — в своей бедности, в трудном характере моей матушки, в своей недостаточно привлекательной внешности, в неумении вести беседу или сочинять стихи, в моей пока несостоявшейся карьере. Доведенный до отчаяния, я даже заподозрил, что у тебя есть другой мужчина. Тамако изумленно вскрикнула и снова закрыла лицо руками. Пристыженный, Акитада собрался уходить и на прощание сказал: — Прости мне этот невежливый визит! Уже поздно, и я помешал тебе спать. Она тронула его за плечо: — Пожалуйста, не уходи! По щекам Тамако катились слезы, но глаза ее светились счастьем. Акитада пришел в замешательство, но оно тут же сменилось изумлением и радостью. С восторженным криком он подхватил Тамако на руки и внес в дом.Солнце только поднималось, когда Акитада вышел во двор. Тора возле колодца пил воду из ковша. Потом полил воду себе на голову и на руки. Акитада окликнул слугу. — Иду, хозяин! — бодро отозвался тот, вытираясь на ходу полой хлопкового кимоно. — Только, по-моему, рановато еще. — Знаю. Я хочу, чтобы ты отнес это госпоже Хирата. — Акитада протянул ему цветущую ветку глицинии с прикрепленным к ней скрученным в трубочку листком бумаги. Тора оцепенел от изумления. — Глициния?! Да еще в цвету?! Где вы раздобыли ее? У нас здесь не растет? — Я ходил поутру во двор Хираты. Старое дерево уцелело после пожара, и мне удалось отыскать последнюю цветущую веточку. Тора тут же догадался, в чем дело. — Ай да хозяин! — радостно завопил он. — Мои самые сердечные поздравления вам обоим! — Спасибо, — смутился Акитада и, повернувшись, пошел в дом. Он сидел у себя в комнате и с нетерпением ждал ответа от Тамако. Сочинять стихи, особенно наспех, Акитада почти не умел, но сегодня ночью, оставив девушку спящей, он точно знал, что хочет сказать ей. Всю дорогу до ее сада и обратно Акитада повторял строки, родившиеся в его голове:
Глава 22 Штормовое предупреждение
Следующий день тянулся мучительно медленно. Дела в университете тяготили Акитаду, поскольку он был занят мыслями о Тамако и о том, что каким-то непостижимым образом она стала вдруг принадлежать ему, стала ближе сестры и родителей и даже важнее пищи, воды и воздуха. Тело Акитады горело при мысли о том, что он снова будет держать ее в своих объятиях. Но помнил он и о долге перед Тамако и ее покойным отцом. Поймать убийцу Хираты было для него вопросом чести, и сделать это Акитада собирался сегодня вечером, еще до возвращения домой. Он надеялся, что риск окажется незначительным. Возможные неожиданности Акитада предусмотрел. Ведь теперь, когда на него возложена новая ответственность, он не может позволить себе разыгрывать героя. Погруженный в эти мысли, Акитада забыл назвать студентам тему следующего занятия и рассеянно посмотрел на Юсимацу, когда тот попросился в уборную. Даже когда студенты разошлись, Акитада продолжал сидеть, мечтательно глядя вдаль. — Сугавара, можно мне войти? Очнувшись от раздумий, Акитада, к своему несказанному удивлению, увидел в дверях дородную фигуру преподавателя музыки. — Конечно, Сато. — Вот, решил заглянуть по случаю. — Сато отвесил короткий поклон и скользнул взглядом по бумагам, разбросанным на столе Акитады. — Я оторвал вас? — Нет-нет. Пожалуйста, садитесь. Может, чарку саке? В лучах заходящего солнца огромные глаза Сато под нависшими кустистыми бровями напоминали черные озера. Ему явно было не по себе. — Я ненадолго. Нет-нет, не надо саке. Спасибо. Я пришел к вам по личному делу. — Он сел. — Что за дело? — спросил Акитада. — Я насчет убийства Оэ. Этот полицейский капитан опять приходил сегодня и задавал вопросы. Его слова звучали… ну не знаю… мне показалось, как скрытая угроза. Он сказал, будто дело почти раскрыто и что вы оказываете помощь полиции. Это правда? Акитада рассердился на Кобэ, от которого ожидал большего благоразумия. — Кобэ преувеличивает, — сказал он. — А вот то, что я поделился с ним кое-какими своими заключениями, правда. Теперь Сато и вовсе перепугался. — Я так и понял. Вы рассказали ему обо мне, и теперь он думает, что это убийство совершил я! Прошу вас, поверьте мне, я не имею никакого отношения к смерти Оэ. Акитада удивленно изогнул брови. — Но с чего вы взяли, что я подозреваю вас? — Только не притворяйтесь! — вскричал Сато. — Вы видели меня с Омаки, и я представляю, что вы обо мне подумали. А потом, так уж было угодно моей паршивке судьбе, вы явились ко мне, когда у меня находилась жена. Я не смог тогда ничего объяснить вам, и вы решили, будто я развлекаюсь с другой женщиной и что Оэ имеет все основания добиваться моего увольнения. То есть, по вашему мнению, у меня был веский мотив. Поверьте, я не раз мысленно видел этого ублюдка мертвым, но не убивал его! — Эта одаренная исполнительница — ваша жена? В веселом квартале, я слышал, она появляется под именем «госпожи Сакаки». Сато нервно закусил губу. — Да, она работает под этим именем. Не может же она взять мое. — Понимаю. Но по-моему, вы поставили вашу жену в совершенно невозможное положение! Она по-настоящему талантлива. Неужели она не нашла более пристойного места для своих выступлений? На лице Сато появилось страдальческое выражение. — Я знаю, что она заслуживает лучшей доли, но мы бедны, и у нас шестеро маленьких детей, да еще ее и мои родители. Моего заработка здесь, конечно, не хватает на то, чтобы прокормить все эти рты. К тому же мы не принадлежим к людям того сословия, которых приглашают на приемы в богатые дома. Смутившись, что заставил человека краснеть от стыда, Акитада выглянул в пустынный двор. Знойное марево висело в воздухе, а верхушки деревьев золотились каким-то странным огненным отливом. Раскаленный ветер шелестел в пожухшей траве. — Думаю, вам следует поведать вашу историю ректору университета. — Акитада повернулся к Сато. — Настоятель Сэссин — очень понимающий человек, и, возможно, он окажет поддержку вашей жене. У него много друзей в благородных домах. Жаль только, что я не могу с той же уверенностью успокоить вас относительно Кобэ. Хоть я и не обсуждал с ним вашу персону, у него есть и другие источники информации, и боюсь, ему уже известно, что Оэ был не из тех, кто способен спокойно отнестись к роду занятий вашей супруги. Потупившись, Сато разглядывал нервно стиснутые руки. — Да, главным образом это и побудило нас к всевозможным уверткам. Но чем больше мы скрывались, тем больше рождалось сплетен. Из-за того, что я часто ходил в веселый квартал приглядывать за женой, очень скоро обо мне заговорили как о пьянице и бабнике. В один из моих приходов туда я взял Омаки к себе в ученицы. Жена возражала против частных уроков, но мы нуждались в деньгах. Господи, да этот сытый подонок Оэ понятия не имел, что такое иметь семью и бедствовать! — Сато посмотрел на Акитаду с мольбой. — Но у вас, Сугавара, как мне сказали, есть мать и сестры, о которых вы заботитесь. Уж вы-то должны понять, что я никогда не пошел бы на такой отчаянный шаг, как убийство человека. Если бы меня поймали, моя семья умерла бы с голоду. Пожалуйста, поговорите с Кобэ, замолвите за меня словечко, прошу вас! — Я хорошо понимаю вас и верю вам. Насчет Кобэ не беспокойтесь. Идите домой к жене и детям, а завтра поговорите с Сэссином. Слезы благодарности увлажнили глаза Сато. Не в силах вымолвить ни слова, он низко поклонился и вышел. Шаги его быстро стихли, и тягостная тишина снова повисла над двором. Акитада сидел и думал о самоотверженной преданности этих супругов друг другу и своей семье. Он сам лишь недавно в полной мере осознал, что ради любимой мужчина должен идти на жертвы. Акитада с радостью согласился бы на любые лишения и невзгоды, лишь бы обеспечить счастье Тамако. Его размышления прервал отдаленный раскат грома. Он поднялся из-за стола и вышел во двор. Солнце расплавленным золотым шаром закатывалось за крыши студенческих общежитий, а на севере и на востоке небо быстро затягивалось черными клубящимися тучами. Надвигалась гроза, и изнуряющей затяжной жаре скоро наступит конец. Теперь тот, кого он ждет, может не прийти из-за погоды, обеспокоенно подумал Акитада. Услышав новый раскат, Акитада вздохнул и вернулся в класс, где просидел до наступления сумерек. Пришлось раньше зажечь лампу. Ее желтоватый свет залил студенческие сочинения на столе, но по углам комнаты бегали мелькающие тени. Время от времени слышались раскаты грома, но гроза, похоже, где-то застряла. Акитада не знал, долго ли просидел так, пока не услышал хруст гравия под чьими-то ногами во дворе. Он выглянул наружу, но там было тихо и пустынно, а на востоке еще брезжил слабый свет. Нет, слишком рано! И Кобэ еще не прибыл. Охваченный внезапным волнением, Акитада сделал несколько глубоких вдохов, чтобы овладеть собой и подготовиться к предстоящей встрече. Между тем шаги послышались снова. Поднявшись по ступенькам веранды, они замерли за открытой дверью в сумрачной мгле. — Пожалуйста, входите! — крикнул Акитада. Каково же было его удивление, когда на пороге появилась высокая фигура Исикавы. В колеблющемся свете лампы, на фоне густых багровых туч студент выглядел устрашающе. Лицо его распухло от побоев. Отросший ежик на бритой голове и щетина на щеках вместе с заляпанной кровью рваной монашеской одеждой придавали ему вид убийцы-головореза. Зловещая ухмылка и исходящая от Исикавы смутная угроза наводили на мысль о том, что визит этот более чем несвоевременный. — Работаем в полном одиночестве? — насмешливо проговорил студент, озираясь по сторонам. — Какое похвальное трудолюбие! Акитада отложил всторону кисточку и спросил: — Как ты вышел из тюрьмы и что тебе нужно? Не дожидаясь приглашения, Исикава уселся на подушку. — Не очень-то вы гостеприимны, как я погляжу. Я столкнулся с этим и в городской тюрьме. Собственно, это и заставило меня удрать оттуда. Это и одно незаконченное дельце здесь. — Он одарил Акитаду улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего. — Да что вы так напряглись? Расслабьтесь! Мне, например, некуда спешить. Акитада подумал о Кобэ. Знает ли он, что студент сбежал? А может, как раз сейчас обшаривает город в поисках его? Он попытался сообразить, как бы избавиться от Исикавы, но, взглянув на лицо студента, понял, что это невозможно. Поэтому Акитада проговорил: — Только, пожалуйста, покороче! Ко мне сейчас должны прийти. Исикава посмотрел в открытую дверь. — Вряд ли. Надвигается сильная гроза, и все давно попрятались. — Он одарил Акитаду еще одной зловещей улыбочкой. — Поэтому здесь может произойти все, что угодно, и никто об этом не узнает. Кроме того, мне наплевать на ваши планы. Такие, как вы, вечно требуют от других уважения, только это не что иное, как самообман. Каждый божий день вы и другие преподаватели заставляете нас, бедных дурачков, корпеть над заданиями, а когда мы добиваемся блестящих результатов, вы присуждаете награду тому, кто больше заплатит. — Ветер зашуршал в сухом кустарнике во дворе, и Исикава замолчал, напряженно прислушиваясь. Ветки скреблись о столбы веранды, в потемневшем небе сверкнула зигзагом молния. В замигавшем пламени масляной лампы глаза Исикавы засветились странным блеском, и он продолжил: — Я, разумеется, имею в виду этого богатенького олуха Окуру, купившего себе первое место на прошлогодних экзаменах. Он теперь работает секретарем в отделе чинов и званий, но уже метит выше, а меня засунули обратно все в ту же клоаку. Вот вам пример того, что за деньги можно купить все, тогда как бедному человеку, будь он хоть семи пядей во лбу, не добиться ничего! Акитада смерил студента холодным взглядом. — Вижу, ты пытаешься оправдать себя, но, насколько мне известно, ты повел себя крайне глупо и неэтично в упомянутом деле. Так что переходи-ка лучше к сути! — К сути?! — Исикава злобно прищурился. — А суть как раз заключается в том, что такие, как вы, все вы, профессора, презираете студентов вроде меня! Но я не из тех, кто готов это терпеть! Да-да, я все про вас знаю! Кобэ проболтался, что арестовал меня с вашей подачи. А ну-ка скажите, были вы когда-нибудь в тюрьме? — Акитада покачал головой. Какой смысл объяснять этому вспыльчивому сопляку, что есть и другие способы узнать, каково людям в подобных местах? — Конечно, не были! Так вот я скажу вам, Сугавара, что там работают настоящие звери. Все эти изверги, бывшие преступники, выполняют свою грязную работу ради дневной порции риса да еще ради того, что им удается вытрясти из заключенных. Они получают садистское удовольствие, причиняя людям боль. — За это благодари себя. Ведь достоверно установлено, что ты занимался вымогательством. — Оэ был должен мне! — вскипел Исикава. — Ты поступил как проститутка, продлив себе возможность обучения за счет участия в махинациях Окуры. — Да! Ну и что? — Исикава зловеще усмехнулся. Снаружи послышались раскаты грома. Когда все стихло, он с ухмылкой продолжил: — Но для вас это, конечно, непростительный грех! Да меня просто тошнит от вас! Я уже вдоволь наслушался про вас от Хираты. Блестящий ученик, лучший университетский выпускник, подающий огромные надежды молодой специалист, одной ногой уже ступивший на лестницу славы и почета! — Исикава наклонился вперед, сверля Акитаду свирепым взглядом. — Так вот я скажу вам: этот тупица Окура, неспособный без ошибки написать по-китайски даже одного предложения, этот невежественный и ограниченный болван уже обошел вас со всех сторон и еще не раз превзойдет вас по части чинов и званий. В этом мире такие вещи, как ум и порядочность, к сожалению, не в почете. Здесь всем заправляют деньги и влиятельность. Обнаружив это, я попытался исправить такое несправедливое положение, обменяв немного своего ума на его деньги. Я склонен расценивать это как честное деяние в бесчестном мире. — Последние слова он произнес с явным удовлетворением. Акитада долго разглядывал грозовое небо. Ветер заметно усилился. Он кружил по двору, гоняя мелкий мусор и раскачивая верхушки деревьев. Его порыв, ворвавшийся в комнату, едва не задул лампу, холодком обдал промокшую от пота спину. — Ваше «честное деяние» заставило вашего товарища, такого же студента, наложить на себя руки, — сказал наконец Акитада. — Насколько я знаю, он тоже был не из богатых. Лицо Исикавы исказилось от ярости. — Да как вы смеете обвинять меня в этом! — Он подскочил к Акитаде со сжатыми кулаками. — Я не имею к этому никакого отношения! Слышите? Не имею! Он проиграл бы так или иначе! Если бы не победил Окура, на его месте был бы я. — Нависнув над Акитадой, Исикава потряс у него перед лицом кулаком. — Все! Хватит с меня ваших лживых ханжеских речей, проклятый лицемер! Вы сломали мне жизнь! Я считался лучшим студентом у этих старых заплесневелых придурков! Я не мог и не должен был проиграть! Я бы не проиграл, не заявись сюда вы! А теперь из-за вашей поганой привычки совать нос в чужие дела и из-за вашего вонючего правдолюбия я лишился места, которого добивался своими мозгами и годами тяжких трудов! — Акитада, не мигая, молча смотрел в эти разъяренные глаза. Постояв так немного, Исикава опустил руки и отвернулся. Снова сев на свое место, он устало сказал: — Четыре года подряд я до обеда просиживал на занятиях, днем и вечером убирал за чужими богатыми сынками, а по ночам учился и учился. И все напрасно! А вы? Чего добились вы, разрушив мою жизнь? Вы ведь не искоренили продажной системы, которая и впредь будет перемалывать достойных людей в порошок и давать бразды правления в руки безответственных неучей. — Не могу с тобой согласиться. Люди делают систему продажной. Кроме тебя и Оэ, я считаю остальных преподавателей и студентов людьми порядочными и трудолюбивыми. Именно ваша с Оэ бесчестная деятельность и побудила моего друга Хирату попросить меня разобраться в этом деле. Откинув голову, Исикава расхохотался: — Да вы просто дурак! Среди ваших коллег не найдется ни одного, кто бы мысленно не был заодно с Оэ. И как раз один из этих так называемых порядочных людей убил его — трусливо перерезал пьяному придурку глотку, когда тот беспомощно болтался на шее у учителя Куна. — А ты сделал это возможным, — мрачно заметил Акитада. Исикава презрительно хмыкнул: — Да! Хоть немножко отомстил. Когда эта свинья шмякнулась рожей вниз посреди дороги, я затащил его в храм. Вот тогда-то мне и пришла в голову эта мысль. Я прислонил его к статуе старца Куна, снял с него пояс и привязал. Штаны свалились с него сами, добавив к его портрету неожиданный штришок. Все это время он пускал слюни и хрюкал как свинья. Штаны я унес с собой, представляя себе это красочное зрелище — как вся эта благородная университетская публика узрит своего великого ученого в совершенно новом свете. — Ты обрек его на смерть! Исикава снова вскочил. — Ну хватит! — процедил он сквозь зубы. — У меня больше нет будущего, но и вам не придется насладиться вашей маленькой победой! — Одной рукой схватив Акитаду за горло, он занес над ним кулак. Акитада отпрянул, перехватив его руку. Парень не удержался на ногах и завалился на него. Сколько-то времени они боролись, катаясь по полу, но Акитада все же сумел выбраться из-под крепко сбитого студента, выкрутил ему за спиной руку и придавил его коленями. Комната вдруг заполнилась людьми. — Отлично проделано! — прогремел Кобэ. Двое его помощников навалились на Исикаву. — Спасибо. — Акитада поднялся на ноги. — Этот визит был для меня неожиданностью, и я не знал, поспеете ли вы вовремя. — Он вдруг с опозданием понял, что, видимо, рисковал, полностью положившись на Кобэ. Кобэ оглядел с головы до ног связанного Исикаву. — Закуйте его в цепи, только на этот раз покрепче, — распорядился он. — Этот мерзавец не понимает хорошего обращения, норовит воспользоваться этим и убежать. — Он обратился к Акитаде: — Ну что ж, хитрая лиса угодила в вашу ловушку! Теперь мы предъявим ему новые обвинения. Мы слышали, что он говорил вам. Это почти признание, как я и надеялся. Прибавьте сюда побег из тюрьмы и покушение на вашу жизнь, и он, считай, обречен. Исикава хотел запротестовать, но из его горла вырвались только какие-то булькающие звуки, когда один из полицейских крепче придавил его коленями, пока другой сковывал его шею и запястья цепями. — Но это нельзя считать попыткой преднамеренного убийства! — вскричал потрясенный Акитада. — При нем не было никакого оружия, он хотел только поколотить меня, и не больше. Как выяснилось, я вполне сумел постоять за себя. Признался же Исикава только в том, что привязал Оэ к статуе, а вовсе не в том, что перерезал ему горло. Исикава, которого подняли на ноги, хотел что-то крикнуть, но один из полицейских ударил его, велев молчать. Кобэ удовлетворенно смотрел вслед своим помощникам, пока те волокли мычащего и корчащегося студента к двери и потом вниз по ступенькам во двор. — Вы слышали, что я сказал? Зачем это насилие? — рассердился Акитада. Кобэ усмехнулся: — После того как мои люди отведали кнута за то, что проворонили Исикаву и дали ему удрать, их чрезмерная «любовь» к нему вполне объяснима. Как, по-вашему, они бы относились ко мне, если бы я сейчас принял сторону арестованного? — Но он не убивал Оэ! Вынесите ему предупреждение и отпустите! Кобэ удивился: — Мне показалось, вы в своей записке четко дали понять, что намерены заманить убийцу в ловушку. Может, вы не ожидали, что это окажется Исикава, но я уверен, мы взяли кого надо. Он слишком глубоко замешан в деле, чтобы быть невинным сторонним наблюдателем. — Кобэ потер бок и поморщился. — Да-да, я слышал все, что говорил этот заносчивый ублюдок. Ползать на карачках под верандой, конечно, не ахти как приятно, зато слышно каждое слово. — В небе снова сверкнула молния. — Вот чертова погода! — Кобэ взглянул на небо. — Ну ладно, мне пора. Да и вам тоже лучше пойти домой. — Но вы же хорошо знаете, кого мы ждем сегодня вечером! — Не мы, а вы. Я с самого начала не верил в этот вариант. И, согнув плечи, Кобэ вышел. В этот момент по небу прокатилась длинная череда громовых раскатов. Акитада хотел позвать его обратно, но передумал. Кобэ свое решение принял. Недоуменно покачав головой, Акитада вернулся за стол. Он теперь уже не очень-то верил, что убийца придет, во всяком случае, после этой суматохи с задержанием Исикавы. Видимо, придется подождать другого удобного случая. Жаль только, что не удалось покончить с этим делом сразу. Это было нужно ему как ради Тамако и ее отца, так и ради него самого. Не узнают они покоя до тех пор, пока кара не настигнет виновника смерти Хираты. Хотя, возможно, убийца еще явится сюда. Растерев порцию свежей туши, Акитада склонился над студенческими сочинениями. Время текло медленно. Буря за окном, похоже, затихла. За истекший час в природе мало что изменилось. Правда, темень теперь уже сгустилась непроглядная, ее разрежали лишь огненные вспышки на затянутом тучами небе, сопровождаемые оглушительными раскатами грома. Налетавший то и дело ветер сгибал верхушки сосен, но дождя пока не было. Акитада снова подумал о том, не пойти ли домой. Если отправиться сейчас же, он, возможно, не промокнет. Может быть, они поужинают вдвоем с Тамако, если, конечно, Сэймэй не разболтал их секрет. Они еще столько не сказали друг другу вчера! Как все-таки странно, что после физической близости отношения меняются так, что ты начинаешь заново открывать для себя давно знакомого человека. Теплое чувство радости, совершенно новое для Акитады и такое всеобъемлющее, снова захлестнуло его, и он улыбнулся. Акитада смотрел на листок студенческого сочинения, лежавшего перед ним. Оно было скучным и изобиловало повторами, поэтому Акитаде казалось, будто он читает одни и те же слова по третьему разу. Тогда он решил пойти домой, как только закончит эту тягомотину. Акитада пытался уловить смысл очередной фразы, попутно исправляя в ней ошибки, когда гравий во дворе снова захрустел. Акитада замер и прислушался. Легкие шаги, сопровождаемые шуршанием шелка, послышались сначала на лестнице, потом на веранде перед его кабинетом. Акитада посмотрел в сторону открытой двери и увидел на черном фоне приближающуюся полоску ярко-желтого света. Маленький и проворный, Окура вошел и закрыл за собой дверь. Несмотря на приближающийся дождь, он был в придворном шелковом наряде темно-зеленого цвета, черная официальная шляпа была плотно завязана тесемочками под слабым невыразительным подбородком. В руке он держал фонарь. — Что же вы не закрываете дверь? Буря все-таки! — проговорил он тоненьким голоском, внимательно оглядывая пустую комнату. — Я смотрю, наши бедные профессора любят потрудиться допоздна! — игриво прибавил он, едва ли не дословно повторяя Исикаву. Акитада кивнул: — Так оно и есть. — Он пытался сообразить, что ему делать теперь, когда Кобэ со своими людьми давно ушел. Ну что ж, чему быть, того не миновать. — Пожалуйста, присаживайтесь. Я рад, что вы приняли мое приглашение. Но гость не сел, а прошел мимо Акитады к противоположной двери и выглянул в темный коридор. Подняв повыше фонарь и озираясь, он сказал: — Да-а… Как приятно снова наведаться в свои бывшие учебные классы! Ничего, если я загляну? — И, не дожидаясь ответа Акитады, Окура направился по коридору к другим кабинетам. Акитада встал и последовал за ним. Маленькая вертлявая фигурка, по-детски семенившая впереди, не внушала никакого страха. Ведь он уже справился с куда более крепким Исикавой. По сравнению с ним Окура был просто щуплой козявкой да к тому же трусом. Трудность заключалась в другом — заставить его сделать признание в присутствии Кобэ. Фонарь Окуры мелькал впереди, выныривая из одной комнаты и исчезая в другой, не обходя темные веранды. Окура хотел убедиться, что они с Акитадой здесь одни. Наконец, проверив все помещения, он засеменил обратно, тараторя на ходу: — Да-а… Тут все, как и прежде, только более обшарпанный вид по сравнению с тем, что было при мне. Мне бы следовало пригласить вас к себе в кабинет, но я сейчас готовлюсь к переезду в домишко побольше. — Окура кокетливо провел пальцем по маленьким аккуратным усикам. — Может, до вас уже дошли слухи? Я ведь скоро женюсь. Стану членом одного из наиболее влиятельных кланов в стране. Знаете дворец Отомо в городском округе Саньо? Там я и буду жить. Все процедуры по приему меня в члены семьи почти завершены, и за ними, разумеется, последует продвижение по службе и повышение в чине. — Поздравляю, — сухо отозвался Акитада. — Спасибо. Вообще, должен признаться, что вам повезло — вы вовремя поймали меня. Еще какой-нибудь месяц, и мое звание не позволило бы мне встретиться с вами так просто, на короткой ноге. Они вернулись в кабинет Акитады, где Окура задул пламя фонаря и уселся на подушку, придирчиво оглядев свое кимоно из дорогого набивного шелка и старательно разложив его полы вокруг себя. — Ну-с? Так что означает вся эта чепуха о визите Хираты ко мне якобы с целью обсудить смерть Оэ? Акитада достал дневник профессора, открыл на последней странице и передал его Окуре: — Вот эта запись озадачила меня. Может быть, вы объясните? Окура прочел и вздохнул. Убрав дневник к себе в рукав, он поднялся. — Мой дорогой друг, — вкрадчиво проговорил он, — надеюсь, вы не думаете, что я стану терпеть дальнейшие вымогательства? Нет, я уверен, что вы так не думаете! Я слишком много заплатил за первенство на экзаменах. Оэ предложил мне очень уж жесткую цену, но я все выплатил. Разве я виноват, что алчный хапуга не пожелал делиться с этим чумовым Исикавой и договориться с ним тоже не сумел? Какие вы, профессора, все-таки нечестивые люди! Прямо какая-то шайка вымогателей! — Боюсь, вам придется вернуть дневник. Это улика против вас в деле об убийстве Оэ. Картинно изогнув брови, Окура изумленно посмотрел на Акитаду сверху вниз. — Не говорите глупостей! Никакая это не улика. Здесь не названо никаких имен. Нет, при желании, конечно, можно вообразить все, что угодно. Но вообще все это очень легко объяснить. Что дурного в том, если человек попросту решил отблагодарить своего любимого преподавателя? Разве это преступление? Да и кто, скажите на милость, дерзнет теперь сунуться ко мне с такими обвинениями? — Вы совершили два убийства и убили бы третьего, если бы крысы не добрались до отравленных орешков Нисиоки первыми. Даже ваши высокопоставленные новые родственники не смогут оградить вас от этих обвинений. Лицо Окуры, еще мгновение назад учтивое, вдруг превратилось в холодную непроницаемую маску. Наклонив голову вбок, он некоторое время разглядывал Акитаду, потом вернулся к своей подушке, сел и самым что ни на есть задушевным тоном проговорил: — А знаете, я уже давно восхищаюсь вами. Когда вы явились сюда и начали задавать вопросы, признаться, я порядком встревожился. И как выяснилось, встревожился вполне оправданно, потому что Оэ сильно переполошился. Насколько я понимаю, вам все известно о тех экзаменах? — Акитада кивнул. — Ну что ж, значит, вы и впрямь человек глубокого ума. Как, в сущности, жаль, что в этом деле мы с вами находимся по разные стороны. Вы пригодились бы мне. — Акитада промолчал. — Но я не исключаю, что наши разногласия преодолимы. Вы, наверное, хорошо представляете себе свое положение и то, что человек моего полета способен сделать для вас. С Оэ мне было трудновато. Дело в том, что он стал слишком алчным. Оэ вообразил, что сможет недурно кормиться за мой счет всю жизнь. А когда я отказался платить, он возымел наглость угрожать мне публично в этих оскорбительных стишках, которые читал со сцены на празднике в Саду Божественной Весны. Я тогда пришел в ярость! — Поэтому последовали за ним и убили его? — Поначалу у меня были несколько другие намерения. Не всякий, знаете ли, станет сам марать руки. Когда он ушел с праздника, я отправился к месту наших обычных встреч, полагая, что он ждет меня там. Представьте себе мое удивление, когда я обнаружил, что Оэ привязан к статуе Конфуция. При этом он был настолько пьян, что даже не понимал, что с ним происходит. В общем, мне осталось только избавить его от мучений. — Рука Окуры потянулась к поясу. Он усмехнулся при воспоминании о содеянном. — Так что это действительно был я. Безбоязненно признаюсь в этом сейчас, поскольку мы с вами здесь одни. До чего же забавно было наблюдать, как полиция подозревала всех вас вместе с Исикавой, хотя сделал это не кто иной, как я. Но вы должны согласиться, что своим поступком я оказал университету услугу. Куда бы завели нашу страну такие вороватые горе-профессора, как Оэ? Вообразите, от какого скандала я всех вас избавил. — Интересно, вы исходили из тех же «благородных» соображений, когда поджигали дом Хираты? — проговорил Акитада, скрывая гнев. — А из чего же еще? Да, Хирата был не так примитивен, как Оэ. Он все твердил о какой-то совести, которая якобы не давала ему покоя, и о своем желании восстановить справедливость ради родителей парня, наложившего на себя руки. Он предложил мне отказаться от звания лучшего выпускника, с тем чтобы его присвоить посмертно тому студенту. А теперь скажите: каким же дураком он считал меня? Какой прок от этого звания и от этого первенства покойнику, который уже не получит ни денег, ни чина, ни должности? Нет-нет, я должен был довести дело до конца! Хирата согласился принять от меня приличную сумму, разумеется, сделав вид, что передаст ее родителям парня. Ха! Я надул старого олуха! Попросил его подождать, когда получу повышение по службе, а уж тогда я бы отказался. — Окура злорадно хихикнул, и Акитаде в голову вдруг закралась мысль, здоров ли он психически. — Но в ту ночь вы почему-то все-таки пошли к его дому и устроили пожар? — Да. Это был мой гениальный ход. Все эти разговоры о засухе и об опасности возгорания навели меня на хорошую идею. Я отправился к его дому в ту ночь, прихватив с собой фляжечку лампового масла. Ворота оказались заперты только на задвижку — Хирата всегда был доверчивым дураком. Кабинет его мне искать не пришлось, ведь я, как и большинство из нас, нередко посещал его дом во времена студенчества. Он действительно сидел там — уснул прямо за бумагами и рукописями. И главное, вокруг никого — ни слуг, ни домочадцев! Не перестаю поражаться тому, какой убогий, нищенский образ жизни вы, профессора, ведете у себя дома! Неудивительно, что вы так легко опускаетесь до вымогательства. В общем, я разлил на веранде масло и поджег его своей свечкой. Пламя разгорелось мгновенно, да так, знаете ли, весело, красиво полыхало — сначала соломенные циновки, потом многочисленные рукописи, ну и все прочее… Он, конечно, проснулся, но ненадолго. Все произошло быстро. — Окура улыбнулся, потирая пухлые ручки. — Жилые дома часто горят, так что никто и никогда не заподозрит, что это связано со мной. — Акитада внутренне содрогнулся. Он не мог вымолвить ни слова, но не сводил глаз с лица Окуры, которое уже не выражало зловещего удовлетворения. Теперь мерзавец хмурился. — А вот с Нисиокой я, кажется, оплошал. У меня закралось такое подозрение, поскольку я не услышал никаких новостей. Стало быть, этот вертлявый хорек избежал-таки своей участи? Ну и ну! — Окура состроил кислую гримасу. — Здесь, в университете, всем известно о слабости Нисиоки к орешкам. Вечно чавкает во время урока. Омерзительно слышать! Ну что ж, ладно — не получилось так не получилось! Все равно подумают на торговца орешками. Если бы только Кобэ был здесь! — А как же вы намерены поступить со мной или, скажем, с Исикавой? Окура усмехнулся: — Исикава для меня больше не проблема. Я позаботился о том, чтобы он удрал, как только увидит, что камера не заперта и стражи нет. Денежки всегда делают свое дело. Его, разумеется, сразу же снова поймают, и тогда, что бы он ни наговаривал на кого-то, ему все равно не поверят. Я вполне уверен, что его признают виновным в убийстве Оэ. А вот что делать с вами… — Окура пригладил пальцем усики и пытливо уставился на Акитаду. — Не скрою, вы представляете собой изрядную помеху. Впрочем, у вас нет никаких доказательств, так что если уж встанет вопрос — ваше слово против моего, — то боюсь, мой дорогой Сугавара, вам не на что будет опереться. С другой стороны, я уже упоминал, что в настоящее время веду одни важные и весьма деликатные переговоры. И вот там-то вы могли бы навредить мне. Поэтому я готов сделать вам некое предложение в обмен на ваше молчание об этом деле, — он постукал по спрятанному в рукаве дневнику, — и о других делах тоже. Скажем так — двести золотых монет, поместьице с шестью крестьянскими хозяйствами и гарантированное продвижение по службе дважды в течение следующих двух лет. Как? Пойдет? Акитада едва не расхохотался. Ему предлагали взятку чудовищных размеров, особенно чудовищных при его более чем скромном достатке. А между тем он ожидал совсем другого, чего-то более драматичного — например, покушения на его жизнь. Так что предложение принять деньги в обмен на молчание разочаровало его, поскольку совсем не походило на уместную для такой истории развязку. — Разумеется, нет. — Акитада поднялся. — Вы не в том положении, чтобы диктовать условия сделок, потому что сейчас я отведу вас в полицию и предъявлю вам обвинения в убийствах. А теперь верните-ка мне дневник. — Он протянул руку. Окура смотрел на него. — Не думал, что вы так глупы. Конечно же, я не пойду с вами ни в какую полицию и дневник тоже не отдам. И пожалуйста, не забывайте, с кем вы разговариваете! Акитада схватил Окуру за рукав, но тот ловко вывернулся и вскочил. — Да как вы смеете?! — взвизгнул он. — Послушайте, Окура, вы уйдете отсюда только прямиком в полицию. Не заставляйте меня вязать вас по рукам и ногам! — И он сделал шаг к своему гостю. — Не прикасайтесь ко мне! — заорал Окура, пятясь. — Вы еще заплатите мне за это! Говорю вам, не прикасайтесь ко мне! Я нахожусь под защитой самого императора, и завтра вы серьезно пожалеете. — Чушь собачья! Вы никто, пустое место. Можете сколько угодно пыжиться и раздувать щеки, но как только всем станет известно, что вы купили себе первое место на экзаменах, ваша песенка спета. Поэтому вам и пришлось убить Оэ и Хирату. Но на этот раз для вас все кончено! — И Акитада снова попытался приблизиться к Окуре, но тот с воплями о помощи отскочил назад. Акитада едва не расхохотался. — Прекратите орать. Вы же сами проверили здание и знаете, что здесь вас никто не услышит. Метнув на него обезумевший взгляд, Окура бросился к двери на веранду. Она была закрыта, и он терял драгоценное время, теребя ручку. Акитада настиг его и положил руку ему на плечо. Но он опять недооценил своего противника. Окура резко развернулся, ощерившись, как загнанная в угол крыса, достал из пояса нож и полоснул Акитаду по лицу. Акитада отпрянул назад и попятился. Окура дрожал то ли от ярости, то ли от страха. В какой-то момент Акитаде показалось, что он сейчас набросится на него. Но Окура начал пробираться вдоль стены. Акитада попытался нагнать его, чтобы выбить из рук нож, но это никак не удавалось ему, так как мерзавец был проворен, метался из угла в угол и наконец выскочил в темный коридор. Акитада преследовал его. Слаборазличимая фигура Окуры исчезла в темноте. Акитада устремился в том направлении, совершив ошибку, которая едва не стоила ему жизни. Он не видел Окуру во мраке, зато тот прекрасно видел Акитаду на фоне света из двери у него за спиной. Акитада двигался по коридору, нащупывая стену, как вдруг что-то просвистело у него мимо уха и ударило по плечу. Он метнулся вперед, намереваясь схватить Окуру, но уцепился только за шелковую ткань, которая с треском разорвалась под его тяжестью, когда он покачнулся и упал. Акитада ударился об пол подбородком так сильно, что на мгновение потерял сознание, а когда очнулся, то, пытаясь откатиться в сторону, очень удивился, что до сих пор не получил ножа в спину. Ползая в темноте, Акитада прислушался — тишина, потом какое-то тихое шуршание в стороне. Он поднялся и пошел на звук, стараясь ступать как можно тише. Минуты тянулись медленно, пока они оба на ощупь двигались в темноте, останавливались, прислушивались и снова двигались. Вдруг раздался громкий удар и крик боли — Окура натолкнулся на столб. Перепугавшись, он, к великому облегчению Акитады, помчался в его освещенный кабинет. Акитада последовал за ним, и тогда Окура окончательно потерял контроль над собой. Размахивая ножом, он истошно орал: — Убирайся от меня прочь, или я убью тебя! Акитада метнулся вперед, намереваясь обогнуть его и преградить ему доступ к веранде. Он не сводил глаз с ножа, жалея, что у него нет оружия, и все надеясь, что Окура снова потеряет самообладание и тогда он выбьет у него нож. Но на этот раз Окура осмелился напасть: глаза его выражали убийственную решимость. Акитада поднял руку, прикрыв ею лицо, и, согнувшись, хотел ударить противника головой в живот. В этот момент дверь у него за спиной открылась, и он упал на четвереньки, почувствовал какой-то толчок, потом услышал топот бегущих ног, звук удара и вопли Окуры. Когда, шатаясь, Акитада поднялся на ноги, он увидел Тору. Тот, схватив Окуру за шиворот, тряс его, как котенка, пока мерзавец не выронил нож, после чего Тора швырнул его с такой силой, что он бухнулся обмякшей грудой на пол. Подобрав нож и сунув его лезвие под нос Окуре, Тора рявкнул: — А ну не дрыгайся и заткни пасть! Если будешь ныть, я точно не выдержу и прикончу тебя! Жалкий щеголь лишь что-то пискнул в ответ, потом, в ужасе тараща глаза, выплюнул выбитый зуб вместе с кровью и разразился рыданиями. — А вы что здесь делаете? — спросил Акитада, переводя взгляд с Торы на Хитомаро и Гэнбу, которые все это время топтались за порогом, а теперь тоже вошли. Вид у них был явно довольный. Тора улыбнулся: — Ваша дама послала нас сюда. Она очень волновалась за вас. Увидев, что вы не один, мы спрятались под верандой, просто так, на всякий случай.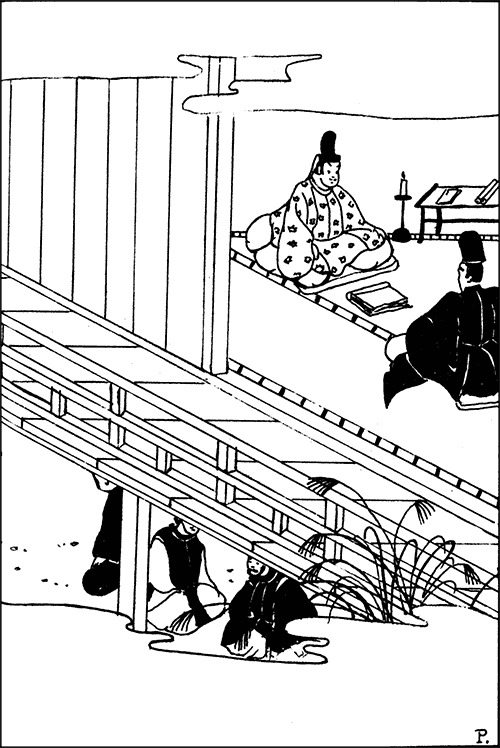 Тора, Хитомаро и Гэнба подслушивают признание убийцы
Тора, Хитомаро и Гэнба подслушивают признание убийцы
— Вас послала Тамако? — Акитада не верил своим ушам. Тора кивнул. Акитада задумался. Его вдруг посетила хорошая мысль. — Вы слышали, о чем мы здесь говорили? — Да, — сказал Тора. — Вот гаденыш, правда? — Он в сердцах пнул Окуру ногой, отчего тот снова захныкал. — Мы считали, что вы сами управитесь с ним, пока не услышали возню и крики. Акитада покраснел. Мало того, что Тамако сочла необходимым послать ему помощников, так они еще и стали свидетелями того, как Окура одержал над ним верх. Но зато они слышали разговор, и это, возможно, убедит Кобэ взять Окуру под арест. А уж тогда-то жестокое обращение с заключенными вынудит Окуру сделать признание. Денек выдался на редкость длинным и тяжелым, и Акитада вдруг почувствовал разбитость. — Отведи его в полицию, — сказал он Торе. — Объясни Кобэ, что случилось, и передай ему: я надеюсь, что он предъявит Окуре обвинения в убийствах Оэ и Хираты. — Правильно! — Тора усмехнулся, с удовлетворением оглядывая всхлипывающего Окуру. — Не-ет! — Окура с мольбой воздел руки к Торе. — Если ты отпустишь меня, я дам тебе золота, много золота, так много, сколько ты никогда даже и не мечтал. Он начал рыться у себя в поясе, но подбежавший Гэнба заломил ему руки за спину, после чего Хитомаро связал их веревкой. Окура обмяк и залился слезами. Хитомаро о чем-то пошептался с Торой, потом тот спросил у Акитады: — А что, если нам пойти вместе и раздавить на радостях бутылочку саке после того, как избавимся от него? Акитада потянулся. Напряженное тело ныло от усталости. Предложение казалось заманчивым, но у него были другие дела. С улыбкой он покачал головой: — Спасибо, но я, пожалуй, откажусь. Сейчас я мечтаю только о постели. Тора усмехнулся, Гэнба и Хитомаро, отвернувшись, разглядывали небо. И тут яркая вспышка молнии прорезала кромешную тьму, осветив верхушки деревьев, крыши домов вдалеке и всю комнату. Вслед за ней послышался оглушительный раскат грома. Тора покачал головой: — Гроза, того и гляди, начнется. Я управлюсь с этим гаденышем сам, а Гэнба и Хитомаро пусть пойдут вместе с вами, хозяин. — Нет. Я не доверяю Окуре, — возразил Акитада. — Вы поведете его втроем. И главное, Тора, не забудь передать мои слова Кобэ. Они переглянулись, и Хитомаро сказал: — Нам с Гэнбой нельзя в полицию. Акитада смотрел на него, не понимая. За окном первые тяжелые капли застучали по доскам веранды. Наконец Акитада все понял. — Вижу, польза, которую вы приносите, не выходит за пределы, доступные острому глазу полиции. Идите с Торой, пока сочтете для себя возможным, и убедитесь, чтобы он завел задержанного в стены полицейского участка. Обязательно дождитесь его и возвращайтесь домой вместе. — Как вам угодно, хозяин, — уныло сказал Хитомаро. — Ну ладно, тогда пошли! — объявил Тора. Но Хитомаро все еще колебался. — Хозяин, а нельзя ли мне пойти с вами? На улицах в этот час небезопасно. — Нет! — Усталый и раздраженный Акитада даже не попытался скрыть гнев. — Делайте то, что велено, иначе я уволю вас обоих. Они ушли, оставив его в пустой комнате, освещенной мигающим пламенем масляной лампы. Устыдившись своего выпада, Акитада уселся было за стол, чтобы закончить проверку сочинения, от которого его оторвал Окура. Но сосредоточиться уже не мог. К тому же его ждала Тамако. Отложив письменные принадлежности, он зажег от лампы фонарь и отправился домой. Выйдя на крыльцо и запирая дверь, Акитада понял, что погода заметно изменилась. Похолодало, сырой ветер, налетая порывами, раздувал полы кимоно и мотал из стороны в сторону фонарь. Над головой клубились черные тучи, время от времени освещаемые вспышками молнии. Гром грохотал почти беспрерывно. Во дворе ветер запорошил ему сырым песком глаза и сорвал с головы шляпу. Акитада поймал ее за тесемку, отвязал и убрал в рукав. Держа фонарь обеими руками, он согнулся и пошел против ветра. Идя по опустевшим университетским дворам, Акитада перебирал в уме все свои попытки отдать трех убийц в руки правосудия. Хотя дела теперь были раскрыты и совесть, мучившая его из-за смерти Хираты, успокоилась, он все же не был уверен, что Окуре предъявят обвинения. Еще меньше надежд возлагал Акитада на то, что Сакануоэ накажут за его злодеяния. Только Курата получил свое, да и то в основном благодаря стараниям Торы. Ну что ж, завтра он вернется к своим делам в министерстве и приложит все усилия к тому, чтобы выполнять свою работу безукоризненно. Скоро у него будет жена, и теперь Акитада уже не сможет позволить себе раздражаться из-за необходимости часами просиживать за пыльными документами или из-за того, что приходится вести вынужденные разговоры в неофициальной обстановке с начальством. Сато с женой идут не на такие жертвы друг для друга и ради своей семьи. Терпение этих людей теперь восхищало Акитаду гораздо больше, чем любые подвиги, о которых он мечтал в юности. Оно говорило о преданности и о настоящих чувствах внушительнее, чем самые красивые песни и стихи о любви. И такое терпение было ничтожной платой за ту радость, какую давала ему Тамако. Приободренный мыслями об их счастливом совместном будущем, Акитада пересек Вторую улицу и пошел вдоль высокой глинобитной стены, окружавшей правительственные здания. Обычно шумное и людное, это место было сейчас пустынно из-за позднего часа и грозы. В воздухе пахло дождем, крупные капли уже падали налицо вместе с песчинками и поднятой ветром листвой. К счастью, небеса еще не разверзлись и не обрушились на землю потоками воды. Если повезет, он успеет добраться до дому, не вымокнув. На углу дворцовых владений Акитада свернул на улицу Омия, где налетевший порыв ветра задул его фонарь. Ничего. Еще каких-нибудь пять кварталов — и он у себя дома. Там его ждет Тамако. При воспоминании о ней на душе у Акитады потеплело. Он представил себе, как заключает ее в объятия, касается пальцами ее длинных шелковистых волос, одежды, хранящей ее тепло… Ничто на свете не несет в себе такого нежного тепла… Он очнулся неохотно от грез. Первое, что ощутил Акитада, — это резкий свистящий звук на дворцовой стене и вслед за ним яростный треск веток прямо над головой. Связав эти звуки с грозой, Акитада поднял глаза. Из плотного мрака темных ветвей и листвы отделилось и обрушилось на него что-то еще более черное. Он попытался увернуться, но слишком поздно. Резкая боль словно надвое раскроила череп, скользнув меж лопаток, и Акитада рухнул под тяжестью удара. Он упал лицом вниз, острым гравием обожгло кожу, грудь больно сдавило, и его окутала тьма.
Глава 23 Молодые побеги
Акитада пришел в сознание в своей комнате. Всем телом ощущая какое-то смутное неудобство, он открыл глаза — на потолке играли блики горящей лампы. Акитада сразу догадался, что сейчас ночь и лежит он на собственной постели — ее он узнал по жесткой подушке. Услышав чей-то тихий разговор, Акитада повернул голову, и тотчас же резкая боль пронзила голову и лопатки. К его немалому удивлению, в крохотной комнатке оказалось полно народу. Какие-то люди сидели вокруг масляной лампы спиной к нему, и только Сэймэя он узнал сразу, ибо лицо старика было обращено к нему. Он-то и говорил большей частью один, роясь при этом в своем сундучке со снадобьями, извлекая из него то горшочек, то мешочек с чем-нибудь целебным и показывая его своим собеседникам. Наконец по широким спинам Акитада узнал Гэнбу, Хитомаро и Тору. Гэнба поддерживал беседу с Сэймэем, между тем как двое других только молча слушали. Акитада крякнул, кашлянул и лишь со второй попытки спросил: — Чем это вы занимаетесь? Тотчас же все четверо обратили к нему встревоженные лица. Сэймэй и Тора вскочили и бросились к хозяину. — Как вы себя чувствуете, господин? — спросил Сэймэй, участливо склоняясь над Акитадой. Насупив брови, Акитада попробовал пошевелиться. Ноги и руки, кажется, были в порядке. Лицо саднило и щипало, а шею и лопатки при малейшем движении пронизывала боль. Но это было лишь маленькое неудобство в сравнении с тем, что все его тело парализовало. Позвоночник неподвижен, дыхание стеснено и болезненно. — Пошевельнуться не могу. Что со мной? — спросил Акитада, а смутное воспоминание лишь усилило страх. — Кажется, на меня что-то упало. — На вас напали, когда вы возвращались домой, — объяснил Тора. — Двое убийц-ниндзя, вооруженные ножами. — У меня ножевое ранение? — Нет-нет, ни в коем случае! — успокоил его Сэймэй. — Спасибо нашему Хитомаро — вовремя подоспел к вам на выручку. Только пара ребер сломана — ведь один из негодяев прыгнул вам на шею с дерева. Акитада осторожно коснулся ребер и ничего не ощутил. — Да уж, обнадеживающий диагноз, нечего сказать, — мрачно заметил он, чувствуя, как страх ледяными тисками сжимает сердце. — Боюсь, меня парализовало. Сэймэй лукаво переглянулся с Гэнбой, и тот, подойдя к Акитаде, ощупал его тело в нескольких местах. По-прежнему чувствуя лишь полное онемение, Акитада закрыл глаза, чтобы не выдать страха. — Пришлось перевязать вам грудную клетку поплотнее, чтобы вправить ребра на место, — сообщил Гэнба, оглушив Акитаду своим зычным басом. — Они срастутся быстро, если не будете часто шевелиться. Акитада с облегчением вздохнул и снова открыл глаза. Силясь что-либо припомнить, он спросил: — Но как я сюда попал? И что это вы там такое говорили про Хитомаро? — Рискуя вызвать новый приступ боли, Акитада изогнул шею, чтобы посмотреть на здоровяка-самурая. — Слава Богу, Хитомаро не поверил этой змее Окуре и вернулся, чтобы приглядеть за вами, — объяснил Тора. — Иди-ка сюда, Хито, и расскажи хозяину, как было дело. Хитомаро неохотно поднялся. — Прошу прощения, господин, что ослушался вас. — Он смущенно потупился. — Зато я рад, что сослужил вам службу. — Что же случилось? — Я догнал вас на улице Омия, на углу, неподалеку от главных дворцовых ворот, где деревья поднимаются выше стены. Там убийцы ждали вас в засаде — один на дереве, другой на стене. Когда первый свалил вас с ног, другой спрыгнул со стены с ножом наготове. Только я-то тогда уже подоспел, ну и разделался с ними. — Отличная работенка! — воскликнул Тора. — Даже я не справился бы лучше! — Боже! — тихо проговорил Акитада. — Ты спас мне жизнь. Кто это такие были? Хитомаро еще больше потупился. — Боюсь, господин, я прикончил их обоих. Времени у меня было в обрез — не до выяснений. Но уверен, это все проделки Окуры. Я так думаю: если человек сулит такие награды, то уж наверняка не собирается расставаться со своими денежками. — И, помолчав, он серьезно добавил: — Если из-за этих мертвых головорезов у вас, господин, возникнут проблемы, я готов сдаться властям. Акитада представил, чем обернется для ронина подобный поступок. — Перестань! Я не допущу этого. По-моему, я должен извиниться перед тобой. За то, что так нехорошо обошелся с тобой. А как ты поступил с телами? — Мне пришлось оставить их там, чтобы отнести домой вас. — Если это известные преступники, то скорее всего мы о них больше никогда не услышим. Но перед тобой я в большом долгу; я помню, что ты пытался предостеречь меня. Ты настоящий храбрец, если не побоялся сразиться в одиночку с двумя профессиональными убийцами-ниндзя. Хитомаро улыбнулся: — Ничего особенного, господин. Не такие уж они профессионалы, а у меня с собой был меч. — Ты, кажется, неплохо разбираешься в людях, Хитомаро, — заметил Акитада. — Ты был прав, когда предостерегал меня, а я проявил беспечность. Скорее всего Окура не оставил бы меня в живых, не говоря уже о том, чтобы так щедро расплатиться. Я обязан тебе жизнью и теперь должен отблагодарить тебя. У моей семьи мало денег, но, быть может, я окажу тебе какую-то другую услугу. Не стесняйся, проси. — Хитомаро покачал головой, но переглянулся с Гэнбой. — Выкладывай, — сказал Акитада. — Я же вижу, ты чего-то хочешь. Что же это? — Вы ничего не должны мне, господин, — робко начал Хитомаро. — Ведь в этот момент я находился у вас на службе. И мы с Гэнбой с радостью продолжили бы ее у вас. Мы были бы благодарны, если бы вы позволили нам остаться. Вспомнив о более чем скромных доходах семьи, Акитада решил обязательно найти какой-нибудь выход. — Конечно, вы останетесь, только я не смогу платить вам в полной мере того, что вы заслуживаете. — Нам не нужно платы! — воскликнул Гэнба. — Где уж нам диктовать свои условия, если оба вляпались по уши! У каждого из нас за спиной есть преступление. Акитада поморщился и закрыл глаза. — Надеюсь, не убийство? — Убийство, — ответили они хором. — Но у них не было выбора! — вмешался Тора. — Это правда, хозяин, — поддакнул Сэймэй. — Выслушав их истории, вы бы все поняли. Вы же знаете: человек может ходить в лохмотьях, а сердце иметь из парчи. И даже у учителя Конфуция жизнь складывалась не просто. Акитада усмехнулся: — Э-э… да я вижу, у вас настоящий заговор. Ладно, рассказывайте. Низко поклонившись, Гэнба начал свою историю: — Зовут меня, господин, Исида Гэнба. Я мастер боевых искусств и унаследовал свое ремесло от отца. У нас была своя школа в провинции Нагато. И вот однажды местный правитель, посетив наши показательные выступления, вдруг решил отправить ко мне на учебу своего старшего сына. Парень оказался заносчивым слабаком, постоянно затевал со мной ссоры и всячески старался очернить мое доброе имя, а однажды пригрозил донести до ушей своего отца одну особенно грязную клевету на меня. На ближайшем же уроке во время учебной схватки он случайно сломал себе шею. — Гэнба тяжко вздохнул и покачал головой. Акитада посмотрел на него с сочувствием. — Несчастные случаи не редкость в твоем ремесле. Если ты даешь честное слово, что не имел намерения убивать парня, для меня этого достаточно. — Ну конечно, я не хотел убивать его. Таким бесчестным поступком я лишил бы себя права заниматься этой профессией. Просто он был зол и требовал, чтобы я проработал с ним один опасный прием. Я только сделал захват, как его шея хрустнула и сломалась. Но я вовсе не хотел убивать его. Меня схватили и бросили в тюрьму, где я убил двух человек. — Что-о? — В ночь перед самым судом отец парня подослал двух подкупленных стражников, чтобы они задушили меня. Я убил их и удрал. Потрясенный Акитада онемел. Он не сомневался, что правитель хотел отомстить за смерть сына, ведь на суде с Гэнбы наверняка сняли бы обвинение в убийстве. — Жаль, что у тебя так вышло, — наконец сказал он. — Ты уже с лихвой расплатился за то, что заслуженно получил из-за своей беспечности, испорченный мальчишка. И теперь я хотел бы дать тебе возможность доказать свою невиновность. Доказать поступками, работой. Только вот как быть, если кто-нибудь узнает тебя? — Нагато далеко отсюда, господин. К тому же тот правитель уже умер. Да и я с тех пор порядком изменился. — Ну что ж, тогда, пожалуй, и вопросов нет. Обрадованные, Тора и Сэймэй дружно расхохотались, хлопая Гэнбу по плечу. Борец низко поклонился Акитаде; в глазах его стояли слезы. Акитада перевел взгляд на Хитомаро, и тот сразу же открыто заявил: — Я, господин, не стану утверждать, что это был несчастный случай или самозащита. Я имел вполне четкое намерение убить этого человека и преследовал его, хотя знал, что он не стоит моего клинка. — Так что же это было? Пьяная ссора? — удивился Акитада. — Нет. Я был совершенно трезв. И я сделал бы это снова. — Он смело встретил изумленный взгляд Акитады. — Ты чертовски честен, — заметил тот. — Должно быть, у тебя имелись смягчающие обстоятельства? Может, ты был тогда очень молод? Хитомаро покачал головой, и Тора посоветовал ему: — Да ты расскажи, в чем было дело! Хитомаро тяжко вздохнул: — Мне не хотелось бы кичиться этим, но мое клановое имя — Такахаси. Моя семья родом из провинции Идзумо. Акитада удивился. О клане Такахаси он много слышал. Этот старинный прославленный самурайский род ныне переживал упадок. Хитомаро продолжал: — Десять лет назад во время эпидемии оспы умерла моя семья — отец, дед с бабкой и все мои братья и сестры. Мы с матерью остались одни, и я взял в дом жену. — Хитомаро теперь говорил очень тихо, глядя на свои сжатые кулаки. — Моя жена Мичико была совсем юной и очень красивой, и я… — Он замолчал, кусая губы. — Сын нашего соседа, могущественного и богатого землевладельца, на службе у которого состояли сотни самураев, однажды увидел Мичико и решил переманить ее, сделав ей предложение. Она все рассказала мне, и я пошел предостеречь его от этого поступка. Он встретил меня спесивыми, надменными речами. Нет, тогда я его и пальцем не тронул. Все случилось позже. — Хитомаро снова начал разглядывать свои руки. Лишь заметным усилием воли он заставил себя продолжить рассказ: — Однажды мне пришлось на несколько дней отлучиться из дома по делам. Вернувшись, я узнал от матери, что моя жена повесилась. Ей было всего семнадцать, и она ждала нашего первенца. Мичико оставила мне письмо; из него я узнал, что сосед изнасиловал ее и что она не вынесла позора, павшего на нашу семью. — Собравшиеся в комнате затихли, а Хитомаро уставился в потолок. — Вот тогда-то я пошел и убил его. После этого нам с матерью пришлось бежать в горы. Ближайшей зимой она умерла от голода и тягот. — Посмотрев на Акитаду, Хитомаро с горечью прибавил: — У меня не осталось ничего, мне не за что больше цепляться в жизни. Все, что я умею, — это хорошо владеть мечом, и мой удел — быть орудием в достижении чужих жестоких целей. Поэтому я и хотел бы служить вам, а не продавать свое боевое умение тем, кто больше заплатит. — Потрясенный до глубины души, Акитада не сразу ответил. А Хитомаро, вконец расстроившись из-за его молчания, сказал: — Ну что ж, давайте забудем об этом разговоре. Я ведь понимаю, что был бы вам только в тягость. — Ничего подобного! — уверил его Акитада. — Ты оказал мне честь своим откровенным рассказом, и прости, что я так мешкал с ответом. Твоя история глубоко тронула меня. У меня ведь тоже теперь есть жена. — Хитомаро понимающе кивнул и улыбнулся. — Мне не в чем укорить тебя, — продолжил Акитада. — Но как быть с твоим званием? Ведь ты не можешь поступить ко мне вассалом[1389]. Что ж, раз так, я почту для себя честью, если ты останешься в моем доме на правах гостя. Хитомаро поднялся. — Нет у меня больше ни звания, ни родового имени. Я буду служить вам вместе с Гэнбой и Торой; никак иначе я не согласен. Встретив его решительный взгляд, Акитада кивнул: — Как знаешь. Будь по-твоему. Тора радостно завопил: — Ну что, братцы, видели? Говорил же я вам, что мой хозяин благородный человек! — Спасибо, Тора, — перебил его Акитада. — Только сейчас я хотел бы уснуть. Увидимся с вами завтра утром. Тора и двое их телохранителей вышли сразу, а Сэймэй еще усерднее начал рыться в своем сундучке со снадобьями. — Оставь все это до завтра! — сказал ему Акитада. — Но, хозяин, я не могу оставить вас одного. Вдруг вам что-нибудь понадобится. — У меня пока только одна надобность — поспать. Ступай! Старик хотел возразить, но, взглянув на хозяина, повиновался. Едва шаги его стихли за дверью, Акитада попытался выбраться из постели. Это отняло много сил, и наконец, взмокший от пота, он поднялся на ноги. Не без труда накинув на перевязанное тело халат, Акитада открыл дверь на веранду. Буря давно закончилась, оставив после себя мокрый от ливня сад. В свете мерцающих звезд и полной луны он казался черной лаковой картиной, инкрустированной серебром. В этой влажной мгле, напоенной ароматом роз, Акитада тихонько пробрался босиком в комнату Тамако.Целую неделю он не выходил из дома — так медленно срастались сломанные ребра. К удивлению Гэнбы, их пришлось бинтовать несколько раз. Скрипя зубами от боли, Акитада бормотал: «Наверное, я очень беспокойно сплю». А между тем, пока он шел на поправку, произошло несколько событий. Настоятель Сэссин навестил их дом, чтобы справиться о здоровье Акитады и забрать юного князя Минамото домой. Сэссин сообщил Акитаде, что назначил вместо него и Хираты двух новых преподавателей, а Фудзивара, как выдающийся знаток древней китайской словесности, занял теперь место Оэ. Сато получил разрешение давать частные уроки, а его жена уже дважды выступала в богатых домах и даже начала приобретать известность в этих кругах. Приходил Кобэ. От него Акитада узнал, что суд приговорил Курату к каторжным работам на острове Цукуси. — Отправился осушать болота, — сообщил Кобэ с нескрываемым удовлетворением. — Думаю, там он и года не протянет. — А как обстоят дела с Окурой? — поинтересовался Акитада. Кобэ поморщился: — Этот ублюдок подал прошение о пересмотре дела. Так что теперь неизвестно, когда состоится суд. Третье событие, самое важное, носило сугубо частный характер. Тамако стала законной женой Акитады и жила теперь в доме на правах младшей госпожи Сугавара. Тут Акитаде даже пришлось кое-чему подивиться. Когда он зашел к матери, чтобы сообщить о предстоящем событии, по случаю которого ей надлежало собственными руками испечь свадебные рисовые лепешки — их традиционно подавали молодоженам наутро после третьей из совместно проведенных ночей, — почтенная госпожа Сугавара привела его в смущение, указав на уже приготовленный лакированный поднос, накрытый салфеткой из дорогого шелка. — Лепешки ждут тебя со вчерашнего вечера, — сказала матушка, улыбаясь при виде замешательства сына. — Я порадовалась, узнав, что раны не помешали тебе выполнить свой долг. Впрочем, одобрение госпожой Сугавара этого брака не было такой уж большой неожиданностью. Акитада давно заметил, что Тамако нашла к матушке особый подход. Да и вообще, каждый новый день, проведенный с молодой женой, приносил ему новые открытия, ведь еще никогда в жизни он не был так близок ни с одним человеком. Пока заживали его раны, Тамако стала для Акитады не только прекрасной сиделкой, но и лучшим другом, и он поверял ей все самые сокровенные свои чувства и мысли. Но это благословенное время, разумеется, не могло длиться вечно. Акитаде пришлось вернуться к работе в министерстве. Сезон дождей тянулся уже давно — с того дня, когда Акитада подвергся нападению. И вот в одно такое сырое промозглое утро Акитада велел Сэймэю приготовить его выходное платье и шляпу. Еще вчера вечером, когда они с Тамако любовались буйной зеленью пропитанного влагой сада, он сообщил ей, что намерен посетить завтра министра. Акитада откровенно поделился с ней своими опасениями по поводу их стесненного финансового положения, честно рассказал о своих прежних трениях с начальством, оставлявших мало надежды на продвижение по службе, и о том, как ему опостылела скучная бумажная работа. Тамако, как всегда, поддержала его, вселив надежду на лучшее, поэтому утром он решительно настроился отправиться на встречу с неизбежным. Однако по странной иронии судьбы вереница непредвиденных событий почти сразу же начала препятствовать его планам. Сначала прибыл Кобэ — промокший до нитки и радостно возбужденный. — Ни за что не отгадаете, что случилось! — восторженно воскликнул он, опускаясь на подушку и принимая из рук Сэймэя чашку чая. Хлебнув дымящегося напитка и едва не поперхнувшись, Кобэ поморщился: — Отравить, что ли, меня хотите? Что это еще за горечь такая? — Это чай, — сказал Акитада. — Тьфу ты! А саке у вас не найдется? Сэймэй, ворча и нахваливая новый напиток, столь полезный для желудка в любую погоду, отправился за саке. — Так что же случилось? — полюбопытствовал Акитада. — Окура повесился. Стража нашла его мертвым сегодня утром. — А мне казалось, он возлагал надежды на поддержку своих влиятельных друзей. — Ха-а! Приходили к нему вчера какие-то. Имен не назвали, да только даже по одежде видать, что важные птицы. Какие-то его хорошие знакомые. Уж не знаю, о чем они там говорили — мне велели выйти, — но лица у них были, скажу я вам, мрачнее некуда. Окура места себе не находил после их ухода. Посмотрели бы вы на его жалкий вид. Кстати, вы намерены выдвинуть обвинения против Исикавы? — Силы небесные! Вы что, до сих пор не выпустили его? Кобэ усмехнулся и осушил чарку саке. — Конечно, нет. В тюрьме он, знаете ли, порядком пообтесался. Манеры стали получше. В общем, перевоспитывается. Акитада тоже улыбнулся: — Это хорошо. Только теперь отпустите его. Он уже и так наказан хотя бы тем, что не получит ученой степени. Впрочем, он парень талантливый, так что наверняка пристроится где-нибудь — например, школьным учителем в провинции. Там нужны люди с хорошими знаниями. Кобэ кивнул: — Ага. И тогда я, слава Богу, больше не увижу этого дерзкого щенка. Ну ладно, мне, пожалуй, пора. — Они оба поднялись, и Кобэ с поклоном сказал: — Надо полагать, вы скоро вернетесь к обычной рабочей жизни, и будем надеяться, она не окажется столь же захватывающей, как ваши недавние похождения. — Благодарю вас, Кобэ-сан, — проговорил Акитада с оттенком сожаления, хотя, возможно, этими словами сыщик лишь намекнул ему, чтобы впредь он не совался в его дела. Проводив глазами Кобэ, удалившегося в моросящую хмарь, Акитада с грустью подумал о пыльных архивах, ждущих его в министерстве, потом расправил плечи и вернулся в комнату, чтобы надеть перед зеркалом шляпу. За этим занятием его и застал Сэймэй, просунувший голову в дверь. — Вот хорошо, что вы при полном параде! Идите скорее в гостиную. К нам пожаловали его преподобие настоятель Сэссин и юный князь Минамото. Гадая, что привело к нему сановных гостей в столь непогожий день, Акитада поспешил в другую часть дома по крытой галерее, с раздражением отметив, что кровля ее опять прохудилась в нескольких местах. Сэссин и мальчик сидели на парчовых подушках, стареньких и обтрепанных, но имеющих вполне сносный вид при скудном свете пасмурного дня. Оба были облачены в великолепные парадные кимоно, совершенно не промокшие от дождя. Акитада приветствовал их низким поклоном, все еще вызывавшим болезненные ощущения в теле, несмотря на то что Гэнба сегодня утром наконец освободил его от бинтов.
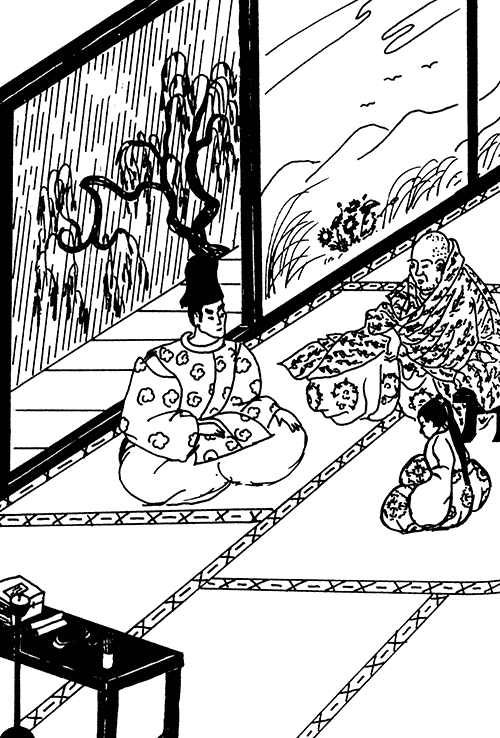 Акитада принимает высоких гостей
Акитада принимает высоких гостей
— Мой дорогой друг, только, пожалуйста, не утруждайтесь! — учтиво попросил его Сэссин. — Как ваше самочувствие? — Благодарю вас, гораздо лучше. — Акитада осторожно присел на третью подушку, пока Сэймэй разливал чай и ставил на столик блюдо с лепешками. Когда гости взяли в руки чашки, а Сэймэй удалился, Акитада сказал: — Вообще-то я сегодня впервые за все время сменил домашнюю одежду. Пора возвращаться к делам в министерстве. — Но как же так?! — воскликнул юный Минамото. — Ведь прошло всего несколько дней, и вам следовало бы отдохнуть подольше. Настоятель многозначительно кашлянул, одернув мальчика строгим взглядом. — Мой воспитанник слишком юн и пылок, но, по-моему, он отчасти прав. По-моему, не будет ничего страшного в том, если вы отложите свое решение на денек, чтобы рассмотреть кое-какие вопросы, касающиеся вашего будущего. — Своим благодушным взглядом, открытым улыбающимся лицом да и всей своей круглой пышной фигурой Сэссин сейчас отдаленно напоминал божество счастья и благополучия. — Вообще-то главный повод нашего сегодняшнего визита — желание принести вам и вашей юной супруге наши самые искренние поздравления. Акитада, тронутый, от души поблагодарил Сэссина и обратился к мальчику: — Садаму, а ты, по-моему, уже знаком с Тамако? — Да. И я вполне одобряю ваш выбор. Такие степенные речи в устах ребенка вызвали у Сэссина улыбку, а Акитада сказал: — Мне очень лестно. Мальчик с важным видом кивнул и продолжил: — Она была очень добра ко мне. Мы с ней много беседовали. О смерти. О смерти моего дедушки и ее отца. Ее слова придали мне душевных сил. Я нахожу, что для женщины она слишком умна. Сэссин снова предостерегающе кашлянул. На этот раз мальчик покраснел и смущенно извинился. Он потянулся к стоявшей рядом с ним красивой лаковой шкатулке и придвинул ее к Акитаде. — Здесь заслуженная вами награда. — Минамото посмотрел на Сэссина, и тот одобрительно кивнул. Тогда, степенно распрямив плечики, Садаму с серьезным видом объявил: — Ваша верность мне и моей семье в минуты постигших нас горя и невзгод и проницательность, которую вы проявили в раскрытии заговора Сакануоэ, сделали нас вашими вечными должниками. Я намерен официально отметить ваши заслуги перед нашей семьей. Род Минамото навсегда останется перед вами в неоплатном долгу, и я позабочусь о том, чтобы этот факт был вписан в историю нашего клана и стал достоянием будущих его поколений. — Закончив свою речь, мальчик с достоинством поклонился. Акитада не знал, что сказать, поэтому тоже низко поклонился. — Благодарю вас, Минамото-сан. Я глубоко польщен вашими словами и буду хранить ваш дар как бесценное сокровище. Мальчик с облегчением вздохнул и улыбнулся, потом достал из рукава небольшой продолговатый предмет, заботливо обернутый куском парчи и перевязанный золотой тесьмой. Он вручил его Акитаде со словами: — А эту скромную вещь, пожалуйста, примите лично от меня. — Но зачем же столько хлопот, Садаму? Я был счастлив помочь вам. — Он нерешительно смотрел на сверток. — Что же вы?! Разверните скорее! — воскликнул мальчик. Не без труда развязав еще не зажившими руками узелки, Акитада увидел внутри завернутую в кусок ткани флейту. Простенький с виду инструмент был явно старинным и изготовлен руками настоящего мастера. Приятно удивившись, Акитада не удержался от восклицания: — Флейта?! Лицо мальчика просияло от удовольствия. — Вам нравится? Я угадал? Помните, вы как-то сказали мне, что хотели бы научиться играть на флейте? Ну вот, теперь у вас появится такая возможность! — Мой дорогой юный друг, ничто иное не пришлось бы мне так по душе, как этот подарок! — Бережно держа в руках инструмент, Акитада уже порывался сыграть. — Я-то забыл о своих словах, а вы вот запомнили. Играя на вашей флейте, я получу несказанное удовольствие. Большое вам спасибо. — Ему очень хотелось поднести к губам флейту, но он сдерживался и пока только разглядывал виртуозно сделанный инструмент. Наконец Акитада, снова завернув его в ткань и отложив в сторону, сказал: — Убежден, у вас теперь все уладилось. — Да. — Мальчик переглянулся с настоятелем и объяснил: — Мой двоюродный дедушка будет моим опекуном, пока я не достигну совершеннолетия. Он переехал в свои покои в нашем дворце, чтобы быть поближе ко мне и следить за моей учебой. Но его величество великодушно утвердил меня в звании главы клана, так что теперь к моим ежедневным занятиям прибавилось огромное количество забот. На это Акитада с низким поклоном ответил: — В таком случае я еще больше польщен той честью, которую вы оказали мне своим визитом, Минамото-сан. Акитада задумался о том, как этот несчастный мальчик неожиданно стал богатым и могущественным человеком. И, вспомнив о его не по годам развитом чувстве ответственности за своих вассалов, он очень порадовался за Садаму. Сэссин усмехнулся и, желая поубавить в ребенке гордости, заметил: — Он молод, но, похоже, из него выйдет толк. — Потом серьезно добавил: — У нас есть и другие новости, которыми мы хотели бы поделиться с вами. Я прислушался к вашему совету относительно ворот Расёмон. Мне посчастливилось найти там одну бедную женщину, располагавшую кое-какими сведениями, благодаря которым нам удалось обнаружить останки моего брата. Они были захоронены тайно в его родовом поместье. Акитада посмотрел на мальчика, и тот невозмутимо встретил его взгляд. — Мне очень жаль, что так случилось с вашим дедушкой. Теперь, должно быть, как раз будет сорок девять дней. Надеюсь, его душа наконец обретет покой. Юный князь кивнул и чуть дрожащим голосом сказал: — Вчера было. У нас во дворце прошел поминальный обряд. Присутствовали только родные и несколько слуг. Я не решился пригласить вас — считал, что вы еще очень больны. Кинсуэ и его жена, знаете ли, очень беспокоились, что дедушкина душа не успеет найти дорогу в другой мир. Вы не представляете, какое облегчение они испытали. Потом Кинсуэ отвел меня к старому дереву у дедушки во дворе и показал на нем новые ростки. По его словам, это означает, что дедушка попал в другой мир. Акитада подумал, что скорее всего старое дерево спасли недавние обильные дожди, и тут снова ощутил затылком какую-то странную дрожь — словно чей-то холодный палец пощекотал его по коже. В разговор снова вступил Сэссин. Откашлявшись, он сказал: — Мы хотели бы также поведать вам, чем завершился вопрос с чудом. Когда я сообщил его величеству о наших подозрениях, он немедля поговорил со своими советниками, и было решено не подрывать веру людей в Будду, а также репутацию монастыря. Мы с Садаму полностью согласны с мнением его величества. — Мудрость нашего государя безмерна. А я почитаю за великую честь то доверие, какое вы мне оказываете, — с поклоном ответил Акитада. Настоятель кивнул. — У меня также есть новости о князе Сакануоэ. Его величество счел необходимым назначить князя ответственным за подавление мятежей. В этой новой должности он был направлен на нашу северную границу. В последнее время там идут особенно ожесточенные бои. Князь Сакануоэ выразил благодарность за то, что ему позволено искупить свою вину и умереть за родину. Тут мальчик не удержался от восклицания: — Да он же трус! Нахмурившись, Сэссин перешел к обсуждению общих проблем северной части страны. Акитада из вежливости слушал, размышляя, долго ли настоятель будет развивать эту тему. А тот серьезно продолжал: — Советник по внутренним делам на днях сказал мне, что в последнее время стало почти невозможно управлять такими провинциями, как Ното, Эчиго, Ивасиро и Юдзен. Удаленность их от столицы, суровый климат и нелады с местной знатью — все это мешает тамошним правителям подолгу оставаться на местах. — Порядком озадаченный, Акитада постарался выказать интерес. — К примеру, в Эчиго нет постоянного правителя уже несколько лет. Только вообразите! Несколько лет никого, кто представлял бы там государственную власть! — Неужели никого? — искренне изумился Акитада. Ему живо припомнились трудности, с которыми столкнулся даже честный правитель в провинции Кацуза, а ведь она не так удалена от столицы, как Эчиго. — А разве его величество не может сместить бездарных правителей и заменить их более сведущими в своем деле людьми? Эчиго, как известно, богатая провинция. Отдать столь значительный источник доходов целой страны в руки мелких частных интересов — это опасная политика. — Акитада осекся, сообразив, что сболтнул лишнее. — Прошу прощения. Я вовсе не намеревался критиковать его величество. Я только хотел сказать, что многие ответственные и исполнительные люди с радостью приняли бы подобное назначение. Оказанное доверие выше отсутствия удобств, а удаленность от столицы легко возмещается другими преимуществами — например, возможностью видеть новые места и познавать мир во всем его многообразии. Помнится, когда меня послали в Кацузу, один из моих друзей счел это назначение ссылкой, а я, напротив, радовался и ликовал… — Акитада смущенно умолк и, не услышав ответа на свои слова, покраснел и пришел в замешательство. — Прошу прощения, ваше преподобие, — растерянно пробормотал он. Акитада отважился взглянуть на Сэссина. Старый монах благодушно улыбался и кивал: — Рад слышать от вас такие речи. Конечно же, всем понятно, что высочайшие распоряжения его величества не всегда верно истолковываются в отдаленных местах, где развитие осуществляется только благодаря правлению назначенных его величеством столичных представителей. К сожалению, в отличие от вас далеко не все молодые люди готовы принять такой пост, даже если не имеют особых претензий к условиям. Сердце Акитады учащенно забилось. Сэссин говорил многозначительно, а мальчик с интересом наблюдал за Акитадой. Снова взглянув на Сэссина, он сказал: — Убежден, император найдет людей, готовых отказаться от нудной работы в каком-нибудь столичном ведомстве и обрести радость новых ощущений и свободу, которая наделит их возможностью улучшить условия жизни в наших провинциях. Сэссин улыбнулся еще шире. — Да, один или два таких человека, вероятно, найдутся. Во всяком случае, именно это я и сказал советнику, когда тот выразил мне свои опасения относительно положения дел в Эчиго. — Он посмотрел на затянутое тучами небо. — Дождь снова собирается, да и задерживать вас мы больше не смеем. Благодарим за теплый прием, и, пожалуйста, похвалите вашего слугу за великолепный чай и лепешки. Сердце Акитады радостно билось, когда он благодарил гостей за визит и подарки, а в глубине души трепетала надежда, в которой он не смел признаться даже самому себе. Проводив деда и внука до повозки, Акитада долго смотрел им вслед. Он находился в странном, словно зачарованном состоянии. Вернувшись в комнату, Акитада взял в руки шкатулку и флейту, чтобы положить их на полку. Шкатулка оказалась очень тяжелой. Открыв ее, он был потрясен, ибо увидел, что она доверху набита золотыми слитками. Ничего себе «награда»! Да здесь его заработок за три года или больше — можно и крышу залатать, и заплатить за труды новым телохранителям да еще отложить на черный день. Не вытерпев, Акитада бросился поделиться радостной новостью с женой, но от ее служанки узнал, что Тамако, как только утих дождь, пошла наведаться к своему старому дому. Не на шутку встревожившись за нее, Акитада решил сходить за женой. Небо еще не вполне расчистилось, и он рисковал промокнуть, так как не захватил своего соломенного плаща. Акитада торопился, насколько позволяли сливавшиеся в ручьи лужи под ногами, и очень беспокоился за Тамако — ведь сегодня она впервые отважилась пойти к месту трагедии, отнявшей у нее отца и родной дом. Несмотря на все старания рабочих, нанятых Акитадо, чтобы разгрести пожарище, после дождя оно выглядело ужасно. На месте дома он увидел сплошную черную грязь, обугленные деревья простирали в небо свои голые ветви, словно скрюченные пальцы. Все, что когда-то буйно цвело и зеленело, теперь скукожилось и пожухло и, набухнув от проливных дождей, представляло собой убогое зрелище — свидетельство смерти и тлена. Любимый сад Тамако погиб так же, как ее отец и вся ее прошлая жизнь. Она стояла, маленькая и жалкая, под старой глицинией, разглядывая обглоданные огнем лозы, так и не разлучившиеся со старенькой решеткой шпалеры. И как только ему удалось отыскать здесь единственный выживший цветок в первую ночь их близости?! На душе у Акитады потеплело при мысли о том, что Тамако пришла сейчас именно сюда. Он окликнул ее. Она обернулась, пряча перепачканные сажей руки. Акитада заметил черные пятна копоти и на ее платье, и на лице. Тамако улыбалась, и у Акитады сжалось сердце от нежности к ней. — Что привело тебя сюда? — спросила она, спеша ему навстречу. — Я беспокоился за тебя. — Он указал на пустынный сад. — Он пока выглядит очень плачевным, но пройдет время, и сад оживет. — Правда? И ты будешь заботиться о нем? — Глаза Тамако засветились радостью. — Конечно. Ведь это твой дом и твой сад. Мы могли бы для начала построить здесь маленький летний домик, а еще сторожку для садовника. — Нет, только не садовника! — вскричала Тамако. — Я сама буду ухаживать за садом. Спасибо тебе, Акитада! — Она вдруг потупилась. — Но ведь это стоит денег! Разве мы можем себе это позволить? Акитада втайне порадовался этому слову «мы». — Разумеется, можем. Вот послушай-ка, какие у меня новости. Сегодня утром меня посетили несколько человек. Сначала заходил Кобэ, а потом нас почтили визитом настоятель Сэссин и юный князь Минамото. Он теперь глава клана, так что мне придется снова привыкать к обращению «господин». Тамако улыбнулась: — Он очень милый мальчик. А что нового сообщил Кобэ? — Окура повесился. Тамако опустила глаза. — Я рада, что так получилось, — наконец сказала она. — Отец, я уверена, не хотел бы, чтобы из-за него кого-то казнили. — Тамако посмотрела на мужа и улыбнулась. — А настоятель Сэссин с юным князем, должно быть, приезжали поблагодарить тебя за помощь? — Да. И сделали это с большой щедростью. А я вот, оказывается, не принимал мальчика всерьез. — Рассказав Тамако о золоте, он видел, как искренне она обрадовалась неожиданному богатству. — Ну и конечно, они поздравили нас с женитьбой. — Помолчав, Акитадо нерешительно прибавил: — А еще у нас был немного загадочный разговор о том, как трудно найти хорошего правителя в северные провинции. Это, признаться, озадачило меня. — И что же сказал настоятель? Акитада поведал Тамако все, что припомнил из беседы с Сэссином, и внимательно наблюдал за ее лицом. Она по-прежнему улыбалась, но ее пристальный взгляд насторожил Акитаду. — Ну надо же, сколько хороших новостей! — воскликнула Тамако. — Мне кажется, тебе скоро предложат очень солидную должность. Возможно, даже пост правителя! — Она хлопнула в ладоши. — Подумать только! Такая честь и в такие молодые годы! — Но, тут же закусив губку, Тамако поспешно добавила: — Разумеется, это заслуженная честь и очень правильный, мудрый выбор. Представь, как порадуется твоя матушка! — А ты? Ты рада? — тихо спросил Акитада. Тамако покраснела и потупилась. — Конечно. Это такое великое событие для тебя, для всех нас! — Потом, почти не дыша, она дрожащим голосом спросила: — Скоро ли назначат твой отъезд? Ведь сколько всего нужно успеть к нему приготовить! Получив назначение, ты уедешь года на четыре… никак не меньше. — Она поникла. — Не беспокойся преждевременно о приготовлениях. Быть может, все это лишь померещилось мне. Сама посуди, ну кто я такой? Скромный чиновник восьмого ранга. — Акитада нежно взял жену за подбородок. Глаза Тамако наполнились слезами, но она улыбнулась. Акитада спросил: — Тамако, я хотел узнать, как ты отнесешься к тому, чтобы сопровождать меня в эту поездку на край света? Лицо ее вспыхнуло от радости. — Так, значит, ты возьмешь меня с собой? Он кивнул, и слезы полились у нее из глаз — смешиваясь с сажей, они оставляли на щеках черные полосы. Тамако опустилась перед ним на колени прямо на грязную землю в низком поклоне. — Благодарю тебя, супруг мой. Благодарю за то, что сделал меня, скромную женщину, самой счастливой на свете! — Тамако! — Акитада нахмурился, бросившись поднимать ее. — Ну встань же скорее! Все равно здесь никого нет, так зачем же эти церемонии?! И ты испачкала платье. Тамако поднялась, плача, улыбаясь и отряхивая грязь с подола. Акитада достал из рукава платок и вытер ее чумазое личико. — А я боялся, что ты не согласишься, — признался он. — Многие дамы считают такое назначение чем-то вроде мук ада. Ведь там нет городских удобств, а зимы там, говорят, длятся по восемь месяцев. — А ты посмотри на меня! — со смехом возразила она, показывая ему свои перепачканные копотью руки и платье. — Разве я похожа на этих дам? На диком, необжитом севере я буду чувствовать себя гораздо уютнее, чем здесь — ведь мне чужды все эти манеры и церемонии, так же как и утонченные наряды. — Тамако огляделась и умиротворенно вздохнула. — Я пришла сюда поговорить с духом отца, сообщить ему, что мы поженились. А теперь я рада, что он разделит со мной и эту радостную новость. Разделит со мной мое счастье. — И мое. Взяв мужа за руку, Тамако подвела его к старой глицинии. — Смотри! — Она наклонилась к самому подножию ствола. Там, из голой земли, тянулись вверх четыре или пять молодых побегов. — А вот еще! И еще!.. Присмотревшись внимательнее, Акитада заметил, что молодые деревца и кустарники вокруг начали пускать новые ростки. И тут же в зеленой листве старой ивы у ворот залился трелью соловей.
Историческая справка
В XI веке Киото был столицей Японии и ее крупнейшим городом. Как и китайская столица той поры Чанъань[1390], Киото представлял собой строгий прямоугольник с решетчатой системой широких и более мелких улиц. Он занимал площадь втрое меньшую, чем знаменитая столица Китая, — 2,5 на 3,5 мили, и имел население численностью примерно в 250 тысяч человек. Императорский дворец — отдельный внутренний город, включавший в себя сотню с лишним зданий, где размещались государственные министерства и ведомства, а также резиденция императора, располагался к северу от центра Киото. И сама столица, и императорский дворец были окружены стеной. Проникнуть внутрь можно было через многочисленные ворота. Расёмон (правильнее — Расёо-мон или Радзёо-мон, то есть «Крепостные врата») одно время были самыми известными воротами столицы, но позже обветшали и начали разрушаться. К середине века они скорее всего уже не существовали. Известное предание об этих воротах, позже вошедшее в новеллу Акутагавы Рюноскэ «Ворота Расёмон» и положенное в основу фильма[1391], снискавшего самые почетные кинематографические премии, содержится в сборнике древних легенд «Конъяку Моногатари» (29/18). В этих источниках древний Киото представлен как красивый город с широкими, обсаженными ивами улицами, дворцами и особняками знати, утопающими в зелени садов, храмами и правительственными зданиями с непременно синей черепицей крыш, красными лакированными столбами и загнутыми карнизами, каменными синтоистскими святилищами, парками со множеством прудов, павильонов и беседок, многочисленными водными каналами и реками с перекинутыми через них горбатыми мостиками — и все это в обрамлении горного пейзажа, дополненного картиной одиноких, примостившихся на живописных склонах молелен, безмятежной глади озер и величественных летних резиденций. Таким детальным описанием города, а также его картой эпохи Хэйан автор отчасти обязан труду Р.А. Б. Понсонби-Фэйна «Киото. Древняя столица Японии». Императорский университет, расположенный к юго-востоку от императорского дворца и основанный в VIII веке, принципом своего устройства повторял китайский образец. Как и государственная система, университет вскоре дал серьезную трещину из-за эгоистических интересов высшей знати, в угоду которой туда стали принимать только сыновей людей так называемого «благородного происхождения». Постепенно дошло до того, что университетские профессора уже не получали достойной платы за свои труды, не проявляли к ним и должного почета. Например, о скромной роли, отведенной им в обществе в 1004 году, можно узнать из «Сказания о Гэндзи», принадлежащего перу госпожи Мурасаки, и из других литературных источников. В те времена также существовали частные учебные заведения, учрежденные несколькими прославленными кланами страны — такими, как род Фудзивара и Татибана, а также единственное высшее учебное заведение для низших сословий, основанное монахом Кобо Даиси при одном из монастырей. Университет следовал конфуцианскому учению, отводя при этом особое место китайскому языку и классической китайской литературе — знания, необходимые тогда для овладения гражданскими профессиями. Студентов набирали в основном из семей, принадлежащих к военному и гражданскому сословию, как из столицы, так и из провинции. Молодые люди мужского пола начиная с одиннадцати лет проходили строгий отбор при поступлении и за время учебы в университете сдавали еще экзамены на промежуточную и продвинутую степени. Для многих людей низкого ранга успешная сдача экзаменов была единственной возможностью получить впоследствии прибыльную должность. К XI веку связи с Китаем в основном прекратились, и знания в области письменного и устного китайского языка существенно ослабли. Кроме того, общественные интересы сместились от таких дисциплин, как история, право и наука о церемониях и ритуалах, в сторону поэзии, принявшей вид развлекательной деятельности. Однако университет, дававший знания китайского языка, классической китайской литературы и конфуцианских учений, по-прежнему обучал таким предметам, как право, математика, высокие искусства и, вероятно, медицина. Система правопорядка в древней Японии в известной мере следовала китайскому образцу. Как и в Китае, каждый городской квартал имел городового, отвечавшего за порядок на своем участке. Императорский дворец охраняли несколько подразделений имперской стражи. Тогда же была учреждена еще одна отдельная структура вроде полиции, называвшаяся кэбииси и существовавшая как в столице, так и в провинции. Со временем кэбииси взяла на себя все обязанности по поддержанию правопорядка и законности, включая суд и систему наказания. В столице находилось несколько тюрем, однако в те времена была сильно развита традиция монаршего помилования. Признание считалось необходимым условием для вынесения приговора, поэтому могло выбиваться палками. Смертный приговор был большой редкостью в силу широко распространенного буддийского вероучения, и, как правило, в случаях самых тяжких преступлений, таких, как государственная измена и убийство, его заменяли каторгой. По сути дела, такой приговор приравнивался к медленной смерти. Передвижение было процессом трудоемким и медленным. Большей частью люди передвигались по городу пешком, и только особам высокого ранга позволялось пользоваться повозкой, запряженной быками. Кроме того, как мужчины, так и женщины передвигались верхом на лошадях или в специальных носилках. Отношения между полами в древней Японии поражали западных людей своим либерализмом, граничащим с безнравственностью. Тайный визит молодого человека в комнату юной дамы его сословия закреплялся на следующее утро обменом стихотворениями, однако при этом вовсе не обязывал любовников к продолжению отношений. Если они встречались три ночи подряд, брак считался состоявшимся, и семья невесты подносила жениху особым способом приготовленные рисовые лепешки, принимая его тем самым в свое лоно. Как правило, молодой муж отправлялся жить в дом семьи жены. Домашний статус новобрачной определялся статусом ее мужа, его желанием либо общественным положением ее родителей, поскольку мужчина мог иметь несколько жен и более свободные связи с наложницами. Мужчина также имел право развестись с женой, для чего ему было достаточно сообщить ей о своем решении. Однако семья девушки обычно хорошо заботилась о ее будущем, часто при помощи посредников устраивая смотрины после торга о предстоящем статусе ее в доме мужа и о принадлежащем ей имуществе. В отдельных случаях, в таких, например, как с торговцем Куратой, семья, не имевшая наследника мужского пола, могла взять мужа дочери в приемные сыновья. Две государственные религии — синтоизм и буддизм — вполне мирно уживались в древней Японии. Синтоизм — собственно национальная религия — основывался на поклонении японским богам и принявшем форму культа соблюдении сельскохозяйственных обрядов. Буддизм, пришедший в Японию из Китая через Корею, оказал огромное влияние на аристократические круги и правительство. Некоторые торжественные церемонии, такие как праздник Камо, описанный в этом романе, а также сельскохозяйственные обряды, совершаемые императором и его свитой, были сугубо синтоистскими, тогда как в повседневной жизни, от рождения и до самой смерти, население Японии поклонялось буддам, особенно такому божеству, как Будда Амида. В Японии среди людей всех сословий были сильно развиты суеверия, чему есть большое количество документальных подтверждений. Ни один человек не начинал свой день без того, чтобы заглянуть в специальный календарь и узнать из него о благоприятных и неблагоприятных знаках и предзнаменованиях. Любые загадочные события рассматривались как результат злокозненных деяний духов и демонов или недоброй человеческой воли, принявшей форму колдовства или проклятия. Синтоизму в данной области принадлежит изобретение множества запретов, в том числе самых строгих, а также веры в шаманскую практику прорицательства и изгнания злых духов. Буддизм же привнес в общественное сознание веру в религиозные чудеса и практику поклонения святым мощам наряду с концептуальными понятиями рая и ада. Для широко распространенных суеверий того времени были характерны такие существа, как чудовища, призраки и демоны, а литература той эпохи изобиловала примерами страшных встреч с ними. Два таких сказания из сборника «Конъяку Моногатари» (15/20 и 27/9) были взяты за основу истории об исчезновении принца Ёакиры, описанной в этом романе. Календарь и летосчисление в древней Японии имели крайне сложное устройство, основанное на принципе китайского гексагонального цикла и на обозначенных династическими именами эрах, которые объявляло время от времени правительство. Так же, как и на Западе, но в значительно упрощенной степени, ежегодный цикл делился на двенадцать месяцев и на четыре времени года, только первый месяц года приходился на февраль. Неделя делилась на шесть рабочих дней, начинавшихся с рассветом, и один выходной. По китайскому образцу сутки разделялись на двенадцать частей, по два часа каждая. Время отмерялось водяными часами и объявлялось городской стражей и храмовым колоколом. Смену времени года отмечали многочисленные праздники. Описанное в данном романе торжественное возвращение девы Камо в ее храм на берегу одноименной реки праздновалось в конце весны. По этому случаю люди украшали себя и свои жилища цветущими ветками аои (растение семейства имбирных), считавшимися принадлежностью священного обряда, проводимого в честь девы Камо. (В наше время японским словом «аои» называют штокрозу розовую, совсем другое растение, однако более знакомое и понятное нынешнему читателю.) До сих пор точно неясно, имел ли веселый квартал Киото XI века какое-то обособленное расположение, однако достоверно известно, что в течение последующих нескольких столетий таких кварталов в городе образовалось два. Во времена, к которым относятся события романа, такой вид развлечений, как наслаждение исполнительским мастерством гейш, уже был известен. Эти женщины зарабатывали себе на жизнь танцами, пением и игрой на музыкальных инструментах, но впоследствии профессия гейши стала чуть менее уважаемой. Пристрастия в еде и питье в XI столетии мало чем отличались от гастрономического уклада японцев более поздних времен. Такой напиток, как чай, тогда еще не вошел в широкое употребление. Большинство японцев использовало в качестве напитка рисовую водку саке. Мясо, за исключением дичи, употреблялось в пищу редко. Обычный рацион бедняков включал в себя овощи, бобы и просо. Более состоятельные японцы позволяли себе рис, рыбу и фрукты. Многие обычаи, суеверия и запреты были связаны с понятием смерти. Хотя обряд погребения был известен в Японии, но с приходом туда буддизма предпочтение стали оказывать сожжению мертвых тел. Считалось, что в течение сорока девяти дней после смерти дух усопшего витал в его доме (отсюда необъяснимые ощущения, испытанные Акитадой в покоях принца). Мертвые также преследовали живых, если в свое время пострадали от несправедливости, — этим обстоятельством во многом объясняется отвращение Торы к призракам и страх перед ними. По сути дела, контакты с умершими считались, по синтоистским верованиям, своего рода осквернением и профанацией, поэтому все похоронные обряды были переданы на попечение буддийским монахам.И. Дж. Паркер Адская ширма
Посвящается Кэтлин Джордан, издателю «Альфред Хичкок мистери мэгэзин» — с любовью. Она рискнула издать неизвестного автора — так родилась на свет история Акитады. Этот роман всегда будет принадлежать только Кэтлин, потому что начинался он с обычного рассказа, предназначавшегося ей.
СПИСОК ПЕРСОНАЖЕЙ
Главный герой, его родные и домочадцы: Сугавара Акитада — потомственный дворянин, вернувшийся с важного государственного задания Тамако — его жена Ёринага(Ёри) — его маленький сын Госпожа Сугавара — вдова, старшая женщина в доме Акико — старшая из сестер Ахи гады, замужем за Тосикагэ Тосикагэ — дворянин, секретарь ведомства дворцовых хранилищ Такэнори — его старший сын и помощник Тадаминэ — его второй сын, военный Ёсико — младшая из сестер Акитады, не замужем Тора — вассал Акитады, бывший солдат Гэнба — вассад Акитады, бывший борец Сэймэй — престарелый секретарь Акитады Сабуро — старый слуга, вассал семьи ТамакоПерсонажи,связанные с ходом уголовных дел: Нагаока — торговец древностями Нобуко — его жена Кодзиро — его младший брат, землевладелец Уэмон — хозяин труппы бродячих актеров Кобэ — начальник столичной полиции Масаёси — тюремный врач Гэнсин — настоятель Восточного горного монастыря Эйкэн и Анко — два монаха Ноами — художник Ясабуро — отставной профессор, тесть Нагаоки Харада — пьяница, счетовод в хозяйстве Ясабуро Дандзюро — актер из труппы Уэмона Злато — акробатка Госпожа Вишневый Цвет — бывшая акробатка, владелица спортивного зала Юкио — ее служанка

ПРОЛОГ
Храп у нее за спиной сменился неразборчивым бормотанием, и она настороженно обернулась. Но тревога оказалась напрасной — ничего особенного, обычный пьяный сон. Она снова принялась всматриваться в темноту мокрого двора. Храп вскоре возобновился. До чего же безмозглые животные эти мужчины! Должно быть, уже прошло много времени, и дело-то наверняка сделано. Она вздрогнула, поежилась и поплотнее запахнула шелковое кимоно. Еще раньше, когда только вступила в этот извечный приют странников, она с интересом прочла на его стенах заветные надписи. К одной из них даже прилагались рисунки — изображения сидящего Будды и судии мертвых, властителя Царства смерти Эммы. Просветленные лица молящихся окружали улыбающегося Будду, а перед суровым судией-повелителем свирепый демон, пронзая копьем тела кричащих страдальцев, гнал их в раскаленный бурлящий котел. Хорошо постарался неизвестный художник, чтобы добиться столь мрачной убедительности. Надпись под рисунком гласила: «Убереги меня, о Амида[1392], от искушения! Избави меня от вечных мук!» Что такое искушение, она знала не понаслышке, только, к счастью, была чужда набожности. К чему тратить время на такие пустяки, на все эти глупые суеверия и предрассудки? Затаившись, она напряженно ловила звуки. Что это было? Открыли дверь? Ведь сейчас самое опасное время. Нарушит ли по неосторожности тишину тот, кого она ждет, или кто-то из постояльцев встанет помочиться, или самый ревностный из монахов вздумает предаться предрассветной молитве — и все пропало. Но темный двор в сени деревьев хранил безмолвие. Странно, но почему-то не слышно было даже ночных птиц, не шуршали в зарослях лисица или барсук. Не иначе как дождь испортил им всю охоту. Хотя вот!.. На этот раз она не ошиблась — снова тот же тихий звук, только теперь гораздо ближе — легкое шуршание камешков под ногами. Она затворила дверь, оставив себе лишь узенькую щелочку, и через нее продолжала наблюдать за двором. В дальнем конце веранды слабо мелькнул свет фонаря, выхватив из черной мглы очертания громоздкой фигуры. Жалобно скрипнула расшатанная ступенька. Сердце ее бешено заколотилось, и она тихо подала голос: — Кто там? В ответ послышалось ворчливое: — Это я. Открывай быстрее! Она вскочила и распахнула дверь. Мужчина в монашеском одеянии ввалился через порог, сгибаясь под тяжестью огромной ноши. Она затворила за ним дверь и опустила щеколду. Во тьме его шумное дыхание полностью слилось с храпом спящего. Она нащупала свечу и зажгла ее. Крохотное мерцающее пламя осветило тесную убогую комнатушку и согбенную фигуру вошедшего. Он скинул с плеч свою громоздкую ношу, и она бухнулась об пол. Устремив невидящий взгляд в пустоту, на полу лежала бездыханная девушка. Кончик вывалившегося языка виднелся из приоткрытого рта, на шее болталась пеньковая веревка. Мужчина присел на корточки и уткнул лицо в ладони. — А ты не очень-то поторапливался, — сказала женщина, раздраженно посмотрев на него. Потом, повернувшись к нему спиной, она начала раздеваться. — Трудности какие были? Он пробурчал что-то, окидывая ее жадным взглядом, потом кивнул в сторону спящего: — А с этим как? Вдруг проснется? — Не проснется. Надрался вусмерть, теперь проспит до утра. А уж тогда-то будет слишком поздно. — Она хихикнула, сбросив исподнее, и склонилась над трупом Мужчина пожирал глазами ее обнаженное тело. — Иди сюда! Ну-ка приподними ее! — И, не дождавшись повиновения, она нетерпеливо проворчала: — И почему мужчины такие бестолковые?! Он послушно поднялся и пробурчал: — Лучше б ты оделась! — Что? — Она посмотрела на него и усмехнулась. — Ладно уж, только погоди немного, жеребчик ты мой ненаглядный! Руки его дрожали, когда он освобождался от одежды, потом она приблизилась к нему, повалила на пол, и оба тяжело задышали в любовной горячке. Когда страсти утихли, она поднялась и оделась, сделав недовольную гримасу, а он порывисто отвернулся и снова уткнулся лицом в ладони. — Ну а теперь в чем дело? — спросила она. — Давай! Мы же почти закончили, и нечего раскисать. Ты прекрасно знаешь, что нужно сделать. Она подошла к дорожному сундуку и взяла в руки лежавший на его крышке меч. — Не могу, — тихо проговорил он, умоляюще глядя на нее, при этом его красивое лицо исказил страх. — Я не могу смотреть на нее. Сделай это ты! — Что за глупости ты несешь?! Она же ничего не почувствует. Да и тебе ли с твоим прошлым чураться меча? — Она вынула клинок из ножен и протянула его своему приятелю. Тот вздрогнул и отпрянул, — Не надо бы делать этого здесь. Духам это не понравится. Мысленно обозвав его трусом, она приставила острое лезвие к горлу мертвой девушки и одним точным ударом отрубила голову. — Ну вставай, пожалуйста! — нежно проговорила она. Когда он поднялся, она подошла к нему с окровавленным мечом в руках и умоляюще заглянула ему в глаза. Она знала, что он не сможет ей отказать. — Ну давай же, давай, любимый! Заверши то, что я начала. Ты сильный и должен закончить дело. Только сделай этот последний шаг, и мы забудем о прошлом и заживем как короли. Горя не будем знать. Он отвел взгляд в сторону и кивнул. Она вложила меч в его безвольную руку и слегка подтолкнула. Он приблизился к мертвому телу, высоко занес клинок и опустил его. В свете свечи блеснула сталь. Он бил снова и снова, будто в припадке безумия, пока клинок не почернел от крови, а лицо мертвой девушки не превратилось в сплошное месиво. Тогда женщина остановила его, взяла меч и поднесла к спящему, вытерев о его одежду, прежде чем вложить клинок в его безвольную руку. — Вот теперь все! — сказала она, удовлетворенно кивнув. — Полный порядок! А теперь беги быстрее к себе, а я приду к тебе на рассвете. Мужчина задыхался от ужаса, глядя на то, что сотворил с головой мертвой девушки. А между тем его подруга осторожно открыла дверь, прислушалась и махнула ему. Когда он ушел, женщина еще раз обвела глазами комнату, ногой подвинула окровавленную голову поближе к телу и загасила свечу. Потом она подошла к двери, подняла засов, прислушалась и выскользнула на улицу. Здесь ее окутала сырая, промозглая ночь. Она возбужденно вдохнула холодный воздух. Дело сделано! Теперь она свободна! Задвинув за собой дверь, она проверила, закрылась ли та, потом прихлопнула посильнее. На этот раз щеколда опустилась на свое место. Несколько мгновений она стояла в нерешительности. Отблески далекого света падали на ее красивое лицо, выхватывая из темноты влажные улыбающиеся губы и прекрасные, но жестокие, решительно сверкающие глаза — настоящая пума, возвращающаяся с ночной охоты, когда жажда крови уже поутихла, но все чувства по-прежнему обострены, готовые уловить малейшую опасность. Постояв так немного, она с изящным проворством скрылась в тени. Глухое безмолвие стояло над окутанными ночной сенью крышами, пока вдалеке не раздался звонкий и зычный удар монастырского колокола, призывавшего к утренней молитве.ГЛАВА 1 МОНАСТЫРЬ В ГОРАХ
Конские копыта то и дело скользили по мокрой каменистой тропе. Дождь повисал в воздухе густой туманной пеленой. Мутный водяной поток, бурля и плескаясь, крохотным водопадом устремлялся вниз по горным отрогам. Скопившаяся на ветвях деревьев влага напоминала гигантскую паутину, унизанную россыпью сверкающих росинок. Высокий всадник в шляпе и соломенном плаще, укрывавшем его от ливня, низко пригнувшись, скакал по тропе. На повороте он распрямился, вглядываясь вперед. Ага, наконец-то! Вот уже показались вдалеке синяя черепичная крыша и лакированные красные колонны главных монастырских ворот. За белеными стенами, выступавшими из серой туманной и дождливой мглы, возвышались изящная пятиэтажная пагода и многочисленные крыши монастырских построек. Усталая лошадь, почуяв близость конюшен, замотала головой, стряхивая с себя потоки водяных брызг. Управлял лошадью Сугавара Акитада, возвращавшийся в столицу из дальней северной провинции. Это был еще молодой человек лет тридцати пяти, сильный и выносливый, вот только много дней кряду, проведенных в седле, похоже, порядком вымотали его. А сегодняшний холодный дождь сделал поездку через горы особенно утомительной, так что теперь, в преддверии надвигающихся сумерек, он вынужден был искать приюта в монастыре, где надеялся получить простенькую комнатку, горячую ванну и скромный ужин. Двое других путников, опередив его, уже добрались до монастырских ворот. Мужчина, спешившись, помогал даме спуститься с лошади. На них были такие же, как на Акитаде, соломенные дождевики, только широкополую шляпу женщины покрывала густая промокшая вуаль. Она торопливо поправила ее и засеменила к воротам, волоча по раскисшей земле богато расшитый подол кимоно. Когда Акитада подъехал, спутник дамы уже успел ударить в бронзовый колокол на воротах. Его зычный металлический звон прорезал унылое безмолвие, напоенное шелестом дождя. Ворота тут же отворились, и им навстречу вышел пожилой монах. Недоуменным взглядом смерил он сначала мужчину и женщину, потом всадника у них за спиной. Спутник дамы, не заметив Акитаду, принялся объяснять: — Мы держим путь в Оцу и хотели бы остановиться у вас. Вы дадите нам кров? Монах колебался. — И этот господин с вами? Обернувшись, они обнаружили сзади Акитаду, невозмутимо взиравшего на них. Даже не имея возможности разглядеть за вуалью лица женщины, он по ее изящным проворным движениям догадался, что она молода. Ее спутнику, статному здоровяку, было на вид лет около тридцати. Одет он был хорошо и так же, как Акитада, носил за поясом меч. По всему видать, человек благородных кровей, из богатого сословия. Лицо его не отличалось красотой, но было открытым и дружелюбным. Он учтиво поклонился Акитаде, прежде чем ответить монаху: — Нет-нет, мы путешествуем вдвоем, а этот господин нам незнаком. Женщина начала проявлять признаки нетерпения. Выпростав из-под плаща холеную белую руку, она жестом поторопила своего спутника. Многочисленные складки разноцветного дорогого шелка выглядывали из-под нежно-сливочного атласа рукава ее кимоно. И рукав, и подол были богато расшиты узорами из осенних листьев и хризантем. Богатая дама, решил Акитада, пока привязывал коня рядом с их лошадями, и не мог не отметить про себя дороговизну их седел. Он отвесил поклон даме в надежде, что она, откинув вуаль, покажет ему лицо. Но его постигло разочарование, потому что она тотчас же резко повернулась к нему спиной. Тогда он сказал монаху: — Пожалуйста, идите устраивайте гостей, а я подожду вашего возвращения. Дама осталась безразличной к учтивости Акитады, зато ее спутник вежливо поклонился в знак признательности. — И много у вас сегодня постояльцев? — спросила дама, скидывая мокрый плащ на руки своему спутнику. — Да, госпожа, — ответил монах. — И что это за люди? — Да по большей части простой люд, — сказал старик и зашлепал босыми ногами направо по галерее. Они последовали за ним. Акитада, прячась от дождя под крышей, смотрел им вслед. — Простой люд? — спросила она, слегка повысив голос. — Что ты имеешь в виду? — Да все больше путешественники, госпожа. А еще горстка странствующих актеров, что выступают здесь с танцами. Только вы не извольте беспокоиться — они разместились в другом здании. Она продолжала расспрашивать, но Акитада издалека уже не мог разобрать слов. Сбросив мокрый плащ и шляпу, он усмехнулся, мысленно посмеявшись над ее боязнью оказаться в обществе простолюдинов. Он смекнул, что и сам-то, должно быть, не произвел на нее впечатления в этом дешевеньком плаще да еще на взятой напрокат лошади. Под соломенным плащом на нем было скромное коричневое охотничье кимоно и горчичного цвета шелковые штаны, заправленные в дорожные кожаные сапоги. За широким кожаным поясом он носил длинный меч. Лицо его, худое, загорелое, бровастое, могло быть лицом ученого или воина, вот только сам он считал свою внешность заурядной. Слишком поджарому телу и широким плечам не хватало, на его взгляд, изящества и крепости мускулов. Положив мокрый плащ и шляпу на перила, он выглянул во двор, на противоположной стороне которого возвышался главный храм. В голове зашевелились воспоминания — ведь он бывал здесь в далекие времена своего детства. Приезжал сюда со своей властной матушкой и двумя младшими сестрами да с многочисленными няньками и слугами. И как они там сейчас? Жива ли матушка? Весть о ее жестоком недуге пришла к ним две недели назад, застигла их на пути домой. Тогда Акитада поскакал вперед один, а жена с маленьким сынишкой, слугами и багажом продолжили путь. От столицы его теперь отделял всего один день езды верхом, и он сильно тревожился — что ждет его дома? Старшая из сестер, Акико, за время его отсутствия вышла замуж за чиновника и переехала жить в семью мужа, но Ёсико по-прежнему жила в отчем доме. Он попробовал представить себе матушку больной. Где ее кипучие жизненные силы? Лишь немочь да скорбь, как видно, достались ей теперь в удел. Акитада тяжко вздохнул. Вода неуемными потоками низвергалась с прохудившихся небес и шумно неслась по выдолбленным в камне водосточным желобам. Здание храма на другом конце двора утопало в туманной мгле, его высокий шпиль терялся в дымке облаков. Хвойный аромат сосен, витавший в воздухе, примешивался к сладковатому запаху мокрой соломы. Если б не этот проклятый дождь, он не потерял бы столько времени и был бы дома уже сегодня вечером. А так и он, и лошадь дошли до крайнего изнеможения, много часов кряду пробираясь сквозь потоки ливня и грязи. Вскоре вернулся привратник, тихо шлепая босыми пятками по гладкому дощатому полу галереи. — Простите, господин, что заставил ждать, — сказал он, оглядывая Акитаду с ног до головы, потом, по-видимому, оценив одежду и меч, спросил: — Позвольте узнать, за какой надобностью приехал достопочтенный господин — почтить ли богов службой или в поисках крова? — Боюсь, меня интересует только кров. — Акитада достал карточку со своим именем[1393] и протянул монаху. Тот, глянув на нее, низко поклонился. — Какая честь для нас, господин, — сказал он. — Позвольте проводить вас к настоятелю. Акитада украдкой вздохнул. Ему, измотанному трудной дорогой, сейчас было не до любезностей и не до чинных разговоров за чашкой фруктового сока, однако положение обязывало. На этот раз монах зашлепал по галерее влево. После бесконечных переходов и коридоров он остановился перед простой, но отлично отполированной деревянной дверью. Ее открыл мальчик-служка лет десяти-одиннадцати. В глубине комнаты на небольшом возвышении сидел почтенных лет старец. — Его преподобие Гэнсин, — тихо и с благоговением проговорил монах. Щуплый, усохший старец почти походил на скелет, сморщенная кожа на его гладко выбритом черепе напоминала пожелтелую бумагу. На нем были темное шелковое кимоно и роскошная накидка из многоцветной парчи. Костлявые скрюченные пальцы, похожие на птичьи лапки, неторопливо перебирали бусинки янтарных четок. Глаза его были закрыты, веки казались почти прозрачными, а тонкие, плотно сжатые губы беззвучно шевелились. — Ваше преподобие, — шепотом обратился к нему привратник. — Достопочтенный господин Сугавара желает засвидетельствовать вам свое почтение. Бусинки четок продолжали двигаться. Наконец истонченные временем веки поднялись, и блеклые выцветшие глаза устремились на Акитаду. — Это какой же Сугавара? Не Мичицанэ ли? — Голос Гэнсина напоминал шорох сухих листьев. Мичицанэ. Давно усопший, хотя и не преданный забвению. — Нет, ваше преподобие, — сказал Акитада, шагнув вперед и раскланиваясь. — Боюсь, я совсем не тот, о ком вы упомянули, и мало имею общего с моим прославленным предком. Я Акитада, с недавних пор занимающий временный пост наместника провинции Эчиго. — Эти слова он произнес со странной смесью гордости и смирения. Назначение в Эчиго оказалось уделом не из легких, и никому, кроме самого Акитады, не было известно, каким трудом дались ему его достижения. Настоятель озадаченно качнул головой: — Наместник? А я думал… — Он не договорил, и истонченные веки снова опустились. По всему видно, этот визит вежливости грозил оказаться даже еще более утомительным, чем предполагал Акитада. Он мучительно силился подобрать слова, способные сподвигнуть старца хотя бы на подобие беседы. — Еще несколько лет назад я занимал скромный пост в министерстве юстиции, а теперь вот меня вызывают обратно в столицу. Веки слегка приподнялись. — Юстиция? — Гэнсин задумчиво поджал губы. — Ну что ж, юстиция — это неплохо. Вполне достойный выбор. Пожалуйста, Акитада, садитесь. Я рад, что вы наведались ко мне. Стараясь скрыть удивление, Акитада сел, лихорадочно пытаясь придумать, как объяснить дряхлому священнику, что лишь застигнувшая в пути непогода привела его в этот буддийский монастырь. Вслух же он сказал: — Ваше преподобие, я искал здесь лишь краткого отдыха, возможности навести порядок в мыслях и взбодрить дух. — Произнеся эти слова, он почти не покривил душой. — Эхе!.. — Гэнсин понимающе закивал. — Ну конечно, конечно… Тогда слушайте. Тот, кто ищет справедливости, найдет ее в горном лесу. И помните: то, что кажется реальным в мире людей, на самом деле лишь грезы и обман. Впрочем, обратное тоже является истиной. А теперь ступай с миром, сын мой! — Он одобрительно кивнул Акитаде и попрощался с ним взмахом чахлой руки, потом снова закрыл глаза и вернулся к своим молитвам. Акитада перевел растерянный взгляд на привратника, но тот, казалось, ничуть не был смущен странным поведением настоятеля. — Следуйте за мной, господин, и я провожу вас в ваше жилище, — прошептал он. Акитада встал с чувством облегчения оттого, что визит окончен, но настоятель вдруг молвил: — Покажи ему адскую ширму! Монах кивнул и пошел к выходу. Акитада последовал за ним, раздраженный необходимостью любоваться какими-то там художествами вместо того, чтобы отдыхать. Близящийся вечер и пасмурное небо скрадывали последний свет. Они долго пробирались темными пустынными коридорами, которые время от времени сменялись крытыми галереями. Акитада успевал заметить усыпанные камешками дворики и услышать шум дождя, прежде чем окунуться в безмолвный мрак очередного перехода. Окончательно потеряв способность ориентироваться, Акитада уныло следовал за монахом, когда, завернув в который раз за угол, буквально столкнулся лицом к лицу с каким-то поистине чудовищным существом. Его выпученные глаза горели ярким огнем, слюнявый рот в страшном оскале обнажал острые клыки. Увидев занесенное у себя над головой оружие, Акитада попятился и схватился за меч. Тогда-то он и разглядел полностью статую духа-хранителя в богато украшенных доспехах и с угрожающе занесенным пылающим мечом в руке. В мерцающем свете масляной лампы эта мастерски выполненная резная фигура словно оживала на глазах. За спиной у деревянного чудовища на полках, подставках и столиках теснились самые разные предметы буддийского культа — позолоченные бронзовые колокольчики, ритуальные камни, жезлы и колеса судьбы, многочисленные гонги и таблички всех размеров. — Темнеет, — сказал Акитаде проводник и, взяв с полки бронзовый фонарь, зажег его от масляной лампы. Они продолжили путь. Пламя мерцало при ходьбе, отбрасывая на стены и потолок гигантские тени парящих птиц и шевелящихся ветвей, изображенных на фонаре. Колонны и столбы в его свете на глазах преображались в качающиеся стволы деревьев, и постепенно Акитаде начало казаться, что он попал в какой-то другой мир. От усталости и чувства потерянности в пространстве он то и дело спотыкался. Утомительное путешествие по горам и этот странный монастырь окончательно выбили его из колеи. Пытаясь стряхнуть с себя ощущение кошмара, он вдруг вспомнил о своей лошади, оставшейся мокнуть под дождем за воротами. — Вашу лошадь, господин, отвели в конюшню, — сказал проводник. Акитада в изумлении уставился на старого монаха. Неужто он разговаривал вслух? Или этот человек умеет читать мысли? И как долго еще он должен плестись за этими шлепающими пятками? — Мы почти пришли. — Проводник открыл очередную дверь. Они вошли в огромный пустынный зал. Одну стену полностью закрывали темные занавеси, в воздухе стоял какой-то странный смолистый запах. Монах взялся за веревку, чтобы поднять занавеси. Взгляду Акитады предстала створка ширмы, и он, вскрикнув, отшатнулся. В свете фонаря перед ним открылась поистине ужасающая картина. Дитя — мальчик лет пяти-шести — с искаженным мукой лицом сидел, подняв кверху окровавленные обрубки рук. Монах поспешил успокоить Акитаду: — Выглядит будто живой, но это лишь картина, господин. Та самая адская ширма, которую велел показать вам его преподобие. Он очень гордится ею. Она еще не закончена, но получится, как нам кажется, поистине прекрасной. Над ней работает Ноами. Это очень благочестивый и кропотливый художник. Он трудится над ширмой уже целый год. Акитада кивнул. Монах поднял повыше фонарь, чтобы осветить другую створку ширмы. — Здесь изображен ад рубящих клинков. Его отчетливее видно при дневном свете или когда в зале горит множество свечей. Акитада искренне надеялся, что это не так. Хотя роспись изображала людей не в полную величину, достоверность и натурализм деталей вызывали у зрителя болезненное ощущение. Представшие его взору ужасы поражали даже при скудном свете единственного фонаря. Впрочем, такие ширмы с картинами ада были вполне обычными предметами интерьера в буддийских храмах, они напоминали людям о неизбежном наказании за грешную жизнь. Но это… это было не сравнимо ни с чем. Нагие мужчины и женщины, корчась и извиваясь, пытались вырваться из цепких лап черных демонов, их израненные мечами, копьями и секирами тела истекали кровью. Искалеченный младенец оказался лишь одной из многих жертв. Рядом с ним его мать, насквозь пронзенную острой секирой, добивал чернокрылый демон, из перерезанного горла несчастной фонтаном била кровь. Другие демоны лезвиями ножей полосовали лицо юной прелестницы, а ее красавец любовник, лишившийся обеих ног, беспомощно полз по земле, оставляя за собой кровавый след. — Выглядит убедительно, не правда ли? — с гордостью спросил монах. — Вы только взгляните на адское пламя. От него бросает в жар, даже когда просто смотришь. Это была сущая правда. Красные, оранжевые и желтые языки пламени занимали большую часть пространства картины, среди них корчились в муках человеческие тела. Кожа на них пузырилась и лопалась, выпученные от боли глаза и раскрытые рты исторгали страдание. Темнокожие косматые демоны, вооруженные горящими факелами, гнали упирающихся обнаженных грешников в полыхающее пекло или швыряли их в поток раскаленной лавы. Акитада внутренне содрогнулся. Что же это за вера, так превозносящая человеческие муки? И в каком, интересно, мозгу могли родиться столь чудовищные сцены ужаса и страданий? — Ноами работает здесь без устали день и ночь, только иногда уходит домой приготовить наброски для следующей сцены, — пояснил монах. — Я уже видел кое-что из этих заготовок. Теперь он возьмется за суд над мертвыми. Властитель царства смерти Эмма будет изображен вот здесь, посередине, в окружении слуг, а вот здесь, на коленях, будет стоять новопреставленная душа и вокруг нее демоны, готовые по приговору повелителя отправить ее в пекло или в ледяной ад. Его место пока пустует. Ноами говорит, что сможет приступить к нему только с наступлением зимы. Акитада с недоумением заморгал. — С наступлением зимы? — Да, Ноами всегда пишет с натуры. Я сам видел, как он разжигал во дворе костер, чтобы нарисовать этот вот дым. Из уважения к проводнику Акитада посмотрел на иссиня-черные клубы дыма, поднимавшиеся над языками адского пламени. Они выглядели совсем как настоящие, ему даже казалось, он чувствует их удушливый чад. — Пойдем, — сказал он. — Я устал. Монах снова задернул занавеску. — Да в общем-то больше смотреть не на что, — изрек он. Они вышли из зала и направились по коридору. Повернув за угол, монах отворил какую-то дверь. — Вот мы и пришли. Эти комнаты мы держим для важных гостей. Здесь куда как тише и спокойнее, чем на общем постоялом дворе. Особенно сегодня — ведь у нас остановились странствующие актеры. Они выступали здесь с танцами бугаку[1394] и завтра с утра продолжат путь. Боюсь, сегодня у них будет шумно. У нас в монастыре, конечно, не разрешено бражничать, но ведь этот народец отродясь не чтил правил. — Он подошел к стоящей в углу на подставке лампе, чтобы зажечь ее. — Я так устал, что мне все равно, — сказал Акитада, надеясь, что разговорчивого монаха проймут эти слова. В абсолютно пустой комнате не было ничего, кроме пожелтевшего свитка с иероглифами на голой стене. — Еду и постель вам принесут, — сказал монах. — Баня в конце галереи справа. Надеюсь, вы хорошо отдохнете. Да благословит вас Амида, господин! Акитада поблагодарил старика, и тот, раскланявшись, зашаркал прочь. В долго пустовавшей комнате стоял спертый дух. Акитада подошел к окну и распахнул ставни. Взору его предстал крошечный тесный дворик, окруженный высокими белеными стенами. Два жалких кустика, приютившихся по соседству с каменным фонарем, уже слабо виднелись в сгущающихся сумерках. Их окаймляли лужайка из мха, почерневшего от влаги, и полоска выровненного граблями гравия. Мокрые камешки поблескивали в свете, падавшем из комнаты, но дождь уже порядком поутих, и только тонкие струйки воды, стекавшие с карнизов, нарушали тишину своим размеренным, умиротворяющим журчанием. Акитада с наслаждением вдыхал свежий хвойный воздух гор, особенно радовавший после картины ада, потрясшей его воображение. За свою жизнь он повидал столько насильственных смертей, что какая-то там картина вряд ли могла так выбить его из колеи. Чтобы стряхнуть наваждение, он замотал головой, списав все на усталость. Ставни он решил не закрывать — пусть проветрится комната. Оставалось только дождаться обещанной постели, ибо в сне он сейчас нуждался больше, чем в пище. Взор его остановился на свитке. Он поднес лампу поближе к письменам. «Высшая Правда и Правда Сиюминутная разнятся и не могут быть единым целым, хотя считают их Правдой Двоякой». Акитада насупился. Что за чушь? Где смысл? Абстрактная, размывчатая философия буддистов всегда поражала его иррациональностью — настоящая загадка для непосвященных. Уж куда как более жизненным и поучительным считал он учение Конфуция, у которого на все случаи жизни находился полезный и вразумительный совет. Отставив в сторону лампу, он решил отправиться на поиски бани. Она оказалась там, где и сказал старый монах. К счастью, в раздевалке и в самой бане он не встретил никого, кроме смотрителя, юного монашка в одной набедренной повязке, чей торс блестел от пота и пара. Порадовавшись неразговорчивости парня, Акитада быстро разделся, повесил одежду на один из крючков на стене и голышом отправился в парилку. Банщик вручил ему бадью с горячей водой и мочалку в виде холщового мешочка с рисовыми отрубями. Акитада присел на корточки над водостоком и принялся энергично растираться. Приятное тепло разлилось по телу. Окатив себя водой, он забрался в огромную деревянную бадью, наполненную до краев. Вода в ней оказалась такой нестерпимо горячей, что он даже охнул, потом осторожно погрузился в нее по шею. От неприятного ощущения уже через мгновение не осталось и следа. Вздохнув с облегчением, он откинул назад голову и расслабился, не думая ни о чем. Банщик вышел, и вскоре Акитада услышал, как он гремит дровами возле топки. Потом он тихонько вернулся и снова занял свое место в углу у стены. Огонь в топке тихо потрескивал, пар капельками оседал на лице Акитады, но смахнуть их было лень. Он закрыл глаза и задремал. Мужские голоса и смех отдаленно, но настойчиво врывались в его сон, пока окончательно не разбудили его. За стеной кто-то отбивал по деревяшке ритм и пел. Слов было не различить, но мотив показался Акитаде приятным. Он вздохнул и снова закрыл глаза. Ему вспомнилась его собственная флейта. Жаль, что он не взял ее с собой — не сообразил в спешке, когда узнал о болезни матери. Интересно, как она там? Неужели все так плохо? Судя по письму сестрицы, ничего обнадеживающего. Серьезный недуг обычно приводит к смерти, и, как правило, очень скорой. Что, если он не застанет ее в живых? Может быть, даже опоздает на похороны. Он снова вздохнул, чувствуя, как подкатывает к душе страх. А между тем пение за стеной прекратилось. Послышались топот, лошадиное ржание и крики людей. Изогнув шею, Акитада вопросительно уставился на стену. Кто бы ни нарушил его покой, но уж явно не монахи и не паломники. В тот же момент пронзительный женский смех заставил его приподняться в недоумении. Что делают женщины в бане мужского монастыря? Он перевел обеспокоенный взгляд на молодого банщика, тот же с вытаращенными от удивления глазами вскочил, побагровев от смущения. Интересно, что он станет делать, если голые женщины вторгнутся в его холостяцкую обитель? Акитада и сам порядком встревожился. Ему, промерзшему и уставшему, меньше всего сейчас хотелось увидеть здесь обнаженных мужчин и женщин. А между тем, набравшись мужества, юный монах вышел в предбанник, прикрыв за собой дверь. Шум тут же прекратился, послышалась перепалка, после чего банщик, возбужденный и взволнованный, вернулся. — Прошу прощения, господин. Это актеры. Они, похоже, изрядно подвыпили где-то и не собираются уходить. Я пытался их выдворить и не пускал сюда, но боюсь, придется мне все-таки сбегать за подмогой. — Спасибо. — Акитада закрыл глаза. Его беспокоил вопрос, как долго еще будут торчать здесь эти актеры, — ведь ему нужно как-то забрать свою одежду. Банщик ушел, потом за дверью снова послышались пререкания. Один мужчина все время повторял: «Но почему?! Почему?» Женщина канючила — просила разрешить ей остаться. Другие мужчины вторили ей. Акитаде удалось разобрать несколько слов. Женщине по имени Охиса предлагалось покинуть помещение. Охиса принялась всхлипывать, и тогда кто-то крикнул: «Он не посмеет этого сделать!» Голоса стали громче и теперь звучали сердито. Акитада поднялся и выбрался из кадки. Грозное выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Сняв с вешалки полотенце, он обмотался им, потом распахнул дверь и свирепо уставился на людей в предбаннике. Четверо мужчин разного возраста и женщина, молодая и очень хорошенькая, все полностью одетые, замерли от неожиданности и испуганно глазели на него, потом в панике бросились наутек. Эта смешная сцена так позабавила Акитаду, что от мрачного настроения не осталось и следа, и он рассмеялся. Еще веселее ему стало, когда в баню нагрянули четверо или пятеро пожилых монахов и банщик. Примчавшиеся навести порядок монахи не скрывали своего возмущения и подозрительно косились на Акитаду. А он, вспомнив, что забыл вытереть тело, размотал полотенце. Монахи в смущении поспешно удалились. Акитада повесил на крючок полотенце, оделся и, все еще улыбаясь, отправился в свою келью. За время его отсутствия кто-то принес сюда поднос с едой и расстелил на полу постель. Пища была растительная — рисовые колобки, начиненные тушеными лесными грибами, соевый творог тофу, маринованные баклажаны, огурец, зеленая фасоль и порция обжаренных просяных зерен в меду. Акитада осторожно отведал угощения. Все блюда оказались на удивление вкусными, и Акитада с благодарностью подумал о монахах, целые поколения которых не жалели фантазии и изобретательности, чтобы придать аппетитный вид и вкус тем плодам земли, что дозволялось им употреблять в пишу. Сидя перед распахнутой дверью в крошечный садик, он вдыхал влажный воздух гор и с удовольствием уничтожал содержимое подноса. Опустошив его полностью, он жадно приник ртом к небольшой баклажке с фруктовым напитком. Вкус у питья был необычный, но довольно приятный. Дождь за окном понемногу стихал и вскоре сменился мерным, монотонным стуком капель о водосточные желоба. Веки Акитады отяжелели, осоловевшее, размякшее тело просилось в постель. Тогда он забрался под стеганое одеяло и уснул. Спал он крепко, однако вскоре его встревожил страшный сон. Два синих демона с огнедышащими, клыкастыми пастями гонялись за ним, норовя схватить его своими крючковатыми лапами. Удирая от них, он проносился мимо сотен других обнаженных мужчин и женщин, в ужасе кричавших на бегу. В смертельном страхе мчался Акитада к огромному дымящемуся чану, надеясь укрыться за ним от преследователей, но, добравшись до него, он обнаружил, что чан битком набит телами кричащих людей. Несчастных страдальцев заживо варили в кипятке два исполинских огнедышащих демона. Один из них, подцепив Акитаду огромным черпаком, занес его над котлом с адским варевом. Ухватившись за край черпака, Акитада примерился и прыгнул. На мгновение он просто застыл в воздухе, и лица варящихся заживо грешников внизу все были обращены к нему, а потом он вдруг почувствовал под ногами твердь и обнаружил себя в зале суда. Судья в пышном облачении восседал на высоком троне. Сверкая глазами, он степенно поглаживал бороду. Акитада пал перед ним ниц, но его, казалось, никто не замечал. Несколько демонов-стражей тащили по полу старуху, бледную аристократку в богатом наряде, распущенные седые волосы волочились за ней длинным шлейфом. К своему ужасу, Акитада узнал в женщине собственную мать. Другие демоны выступили вперед, чтобы громогласно произнести обвинения против нее, пока она стояла на коленях в молчании. Акитада хотел сказать что-нибудь в ее защиту, но язык одеревенел и не слушался. Стукнув себя по коленке жезлом, судья произнес приговор, и синие демоны поволокли матушку прямиком в ад. Оторвавшись от пола и устремив на судью молящий взгляд, в надежде испросить милости для матушки, Акитада с ужасом обнаружил перед собой свое собственное лицо. Это он был великим судьей, это он, поглаживая бороду, выслушивал обвинения против несчастных грешников, представших пред его суровые очи. Один за другим выносил он приговоры: огненное пекло для черствых и бессердечных, ледяной ад для похотливых, царство голодных призраков для алчных и прожорливых, пытки острыми клинками для насильников. Постукивая жезлом, он объявлял приговоры один за другим, со своего трона взирая на демонов, облаченных в доспехи, когда те утаскивали прочь вопящих грешников. Они волокли страдальцев к месту казни и там пылающими мечами отрубали им руки, ноги и головы. И вот уже горы искромсанных тел, омываемые реками крови, высились вокруг. Горы эти начинали оползать, а кровавая река разливалась все шире, и Акитада, сметенный этой лавиной, тонул в багровом потоке смерти. Закричав от ужаса, Акитада сел на постели. В темноте он жадно глотал воздух и размахивал руками, чтобы отогнать кошмар. Постепенно он приходил в себя. Отерев с лица пот, он сбросил с себя одеяло. Прохладный ночной ветерок приятно обдувал влажную кожу. Он не мог припомнить, чтобы когда-либо испытывал такое ощущение страха, и списал его на усталость и тревогу за матушку. По-видимому, впечатления прошедшего вечера и породили в его мозгу эти причудливые фантазии, они до сих пор неотступно преследовали его, живо врезавшись в память до последнего звука. Акитада напряженно вслушивался. Но в комнате царили тишина и безмолвие. Лишь изредка их нарушал доносившийся снаружи звук падающих капель. И вдруг безмятежный покой прорезал чей-то одинокий пронзительный крик, мгновенно стихнувший в ночи.ГЛАВА 2 ОПАВШАЯ ЛИСТВА
Акитада выскочил в коридор, а оттуда в ближайший дворик. Не обнаружив там ни души, он еще несколько минут стоял, прислушиваясь и соображая, где он сейчас находится и откуда мог донестись этот крик. Повсюду вокруг причудливыми очертаниями над ним нависали выступавшие во тьме монастырские строения. Многочисленные галереи вели в другие дворы и здания. Побродив немного по ним, Акитада наконец сдался. Теперь он чувствовал себя полным болваном и уже сомневался, слышал ли что-либо вообще. А вдруг это кричала сова? Или какая-нибудь подгулявшая парочка. Может, так девчонка просто дразнила своего ухажера, и теперь оба давно уже удрали в страхе быть застигнутыми вместе. С трудом нашел он обратный путь в свою каморку, где сразу забрался под одеяло. Еще очень не скоро он погрузился в сон, на этот раз без всяких видений, и лишь далекий гул колоколов, созывающих к утреннему молебну, разбудил его перед рассветом. Поднявшись, Акитада быстро оделся и вышел во двор. Рассвет едва брезжил. Густой туман обволакивал монастырские здания, поглощая колокольный звон и угрюмые, монотонные распевы монахов. Акитада безрадостно всматривался в туман — в горах, особенно после дождя, это обычное явление, и продержится он еще долго, усложнив ему и без того трудный и опасный путь. Забрав в конюшне лошадь, он поскакал к главным воротам. Там его приветствовал другой страж. Поговорив с ним немного о тумане и о трудностях горной дороги, Акитада отсыпал ему серебра — подношение монастырю за гостеприимство. В ответ на это привратник любезно поинтересовался, хорошо ли отдыхал господин, на что Акитада не преминул сообщить: — Какой-то шум разбудил меня среди ночи. Ни от кого больше не слышали вы такой же жалобы? — Нет, господин. Ох, надеюсь, это не гуляки-актеры! Уж больно шумная братия! Акитаде вспомнилась вчерашняя история в бане, и он покачал головой: — Нет, это не они. Но я точно слышал чей-то крик в соседнем дворе. — Уже в следующий миг его осенила мысль. Почти во всех монастырях имелись простенькие схемы построек для постояльцев. Поэтому он спросил: — Нет ли у вас плана монастыря? Монах достал из сундука смятый листок бумаги. Разложив его, они нашли изображенную на нем келью Акитады. — Кричали, должно быть, здесь, — сказал Акитада, ткнув пальцем в пространство, окруженное длинными узкими постройками. Монах задумался. — Нет, там кричать не могли. Там кладовые. Только монахи, работающие на кухне и по хозяйству, пользуются ими, да и то днем. А жилье для постояльцев находится вот в этом дворе. — Он указал в противоположный угол схемы. — Ну что ж, может быть, мне и померещилось, — сказал Акитада. — И вообще мне пора. Дорога была суше, чем вчера, но горный спуск оказался трудным как для лошади, так и для всадника. Каждый камешек под копытом так и норовил устроить обвал. Туман скрывал из виду дорогу, не давая вовремя разглядеть поворот. Приходилось ползти черепашьим шагом. Вопреки горестным раздумьям Акитада находил пейзаж весьма и весьма красивым. На носу был первый морозный месяц, и в северных провинциях зима уже укрыла землю снежным одеялом, но здесь еще вовсю царствовала осень. Невидимое солнце нет-нет да и прожигало огнем клочья тумана, и тогда они напоминали сказочные существа, облаченные в золотистые и серебристые вуали, танцующие среди деревьев. Сам лес походил на кущи из сказаний о Западном рае. Словно светясь изнутри, красивые ветви бесшумно роняли на подушки из зеленого мха переливающиеся всеми цветами радуги драгоценные россыпи капель. А землю устилали богатые покрывала опавшей листвы — оранжевой, красной, бледно-желтой и коричневой. Багровые кроны кленов там и сям сменялись густой зеленью хвои. Это величественное безмолвие нарушали только звуки бредущей лошади — цоканье копыт, фырканье, скрип кожаного седла да легкое похлопывание уздечки. Впрочем, были здесь и птицы. Акитада видел, как они, порхая, пересекают ему дорогу, словно крупные бесшумные мотыльки. А один раз на тропу выскочил заяц и тут же нырнул обратно в нору. Так лошадь и человек — неразлучные странники — продвигались вперед сквозь клубящийся лесной туман. Но постепенно и очень незаметно туман рассеялся, дорога расчистилась, звуки стали отчетливее, и теперь Акитада уже мог разглядеть подернутые белесой пеленой горные склоны, устланные лоскутным одеялом всех цветов осени. Когда Акитада выехал на большую дорогу, где на обочине приютилась заброшенная хижина, весь мир вокруг хранил покой и безмятежность гор. Но он двигался в сторону жилья и вскоре уловил запах костров, а потом начали встречаться деревеньки, где добродушные крестьяне с улыбкой кланялись ему. Теперь Акитада мог наверстать упущенное и, прибавив ходу, лишь с новой силой ощутил всю неотложность своей цели. Каждое мгновение приближало его к реальному миру бытия… или смерти — уж это покажет время. Все эти дни неотвязный призрак матушкиной смерти подгонял его, заставляя подолгу не сходить с пути, беспрестанно менять загнанных и вымотанных лошадей и, забыв о еде и отдыхе, спешить вперед, навстречу пугающей неизвестности. Даже эта вынужденная остановка в монастыре наполняла его душу чувством вины. И ночной кошмар, это страшное адское судилище, все никак не шло у него из головы, хотя здравый смысл подсказывал, что столь болезненная игра воображения, конечно, явилась следствием чрезмерной усталости и впечатлений от той необычной настенной росписи. И вот наконец вдалеке показалась столица. Теперь, когда туман рассеялся, стало очевидно, что день обещает быть ясным и безоблачным. В ярком утреннем свете взору Акитады предстал раскинувшийся на широкой равнине старый Киото — резиденция правительства и императора. После четырех долгих лет разлуки с домом Акитада все-таки вернулся сюда. Пришпорив коня, Акитада любовался родным городом, и слезы медленно текли по щекам. Какой же он все-таки красивый, его город, сердце страны, место,куда рвалась его душа, изнывая на холодных зимних просторах северного края. Старый Киото был поистине золотым, украшавшим длань самого Будды, долгожданной целью тяжкого и угрюмого пути к дому. И все же он въезжал в столицу почти с опаской — через Расёмон, громадные двухэтажные ворота с красными лакированными колоннами и синей черепичной крышей, увенчанной золочеными шпилями. Как крупному государственному чиновнику, облеченному властью, Акитаде полагалось возвращаться в столицу в сопровождении многочисленной свиты из слуг и носильщиков. Такое пышное шествие всегда собирало на улицах толпы и становилось настоящим событием — даже здесь, в стольном городе, где подобное явление отнюдь не было редкостью. Даже не будучи большим любителем всяческих церемоний, Акитада тем не менее с удовольствием представлял себе картину такого возвращения. Но матушкина болезнь начисто прогнала весь трепет радостного предвкушения, и вот теперь он тихо и незаметно проскользнул через ворота Расёмон, словно простой крестьянин или охотник. Погоняя лошадь, он ехал по улице Судзаку, пролегавшей через весь город с севера на юг и сейчас устланной позолотой опавшей листвы ее знаменитых ив. В конце улицы он приостановил коня у ворот императорского дворца. Вообще-то ему следовало бы заехать сюда в первую очередь и доложить о возвращении. Но сегодня был особый случай — сегодня он должен сначала повидаться с матушкой. Его родная улица, как и все остальные, была усыпана палой листвой. Унылыми пейзажами и звуками встречал его отчий дом. Ворота были закрыты, и еще издали он услышал монотонные и торжественные распевы молитв. Акитада постучал в ворота, и ему открыл согбенный старик. Акитада узнал Сабуро, престарелого слугу своей супруги, которого они, поженившись, забрали к себе в дом. Оторопев от удивления, старик смотрел на господина. Въехав во двор, Акитада проворно спрыгнул с коня. Несколько монахов в шафраново-красных одеяниях сидели на веранде главного дома, самозабвенно распевая молитвы. — Хозяин! — воскликнул Сабуро, закрыв ворота, и торопливо заковылял к нему. — Вы вернулись! Добро пожаловать домой! Акитада потянулся, разминая затекшие ноги. — Да, Сабуро, спасибо. Но скажи скорее: как матушка? Улыбка исчезла с лица старика, и он покачал головой. — Плоховато, господин. Боюсь, совсем плоховато. — Он оглянулся на закрытые ворота и спросил: — А где же молодая госпожа? Разве она не с вами? — Нет. Все отстали от меня недели на две пути. — Но, заметив расстроенное выражение на старческом лице, Акитада с улыбкой прибавил: — У нее все хорошо, как и у нашего сынка. Она скучала по тебе. Довольный Сабуро рассмеялся беззубым шамкающим ртом. — Неужели скучала по мне? Хе-хе!.. И малютку привезет, нашего юного господина! Хе-хе!.. Что за радость нас ждет! — Он хлопнул в ладоши, уронив слезу радости, и опять запричитал: — И впрямь великий праздник будет у нас, а то уж больно тихо да уныло было здесь все эти годы. Акитада похлопал его по плечу и направился к дому. Пока Сабуро помогал ему стянуть сапоги, он поинтересовался: — Ну а как мои сестры? Они здесь? — Только госпожа Ёсико. А госпожа Тосикагэ теперь живет в доме мужа. Старшая из сестер Акитады за время его отсутствия вышла замуж — сделка, удачно устроенная матушкой. Тосикагэ было уже за пятьдесят, и Акитада дивился, как это своевольная Акико согласилась пойти на такое. Он-то надеялся, что для нее найдется жених помоложе, хотя на тот момент ей стукнуло уже двадцать пять, а в этом не самом свежем возрасте невестам не приходится быть особенно разборчивыми. К тому же материнская воля сыграла свою роль. Впрочем, Тосикагэ был почтенным чиновником, занимавшим должность старшего секретаря в управлении дворцовыми складами. Его первая жена умерла, и Акико, похоже, охотно заняла ее место. А вот Ёсико, которая была на два года младше своей сестры и на десять лет младше Акитады, пришлось остаться на попечении их ядовитой и колкой на язычок матушки. Акитада шел по сумрачным коридорам и комнатам. Все ставни в доме были закрыты по причине матушкиного недуга. Ёсико, должно быть, услышала его шаги, так как неожиданно появилась на пороге матушкиной комнаты, бледная, измученная и встревоженная. Узнав Акитаду, она вся засветилась радостью и бросилась ему на шею. — Ты приехал! — Она смеялась и кричала, обнимая его. — И выглядишь-то как хорошо! Только, наверное, устал с дороги. Ты ел? Ох, Акитада, как мне тебя не хватало! — Знаю, — сказал он. — Знаю, как несладко тебе пришлось, сестричка. Ты сама-то как себя чувствуешь? Она смахнула слезы, убрала с лица выбившуюся прядь волос и, улыбаясь, кивнула: — Да со мной все хорошо. Ты же знаешь, какая я крепкая. — Ну а как матушка? Она покачала головой: — Уже три недели как слегла. Началось все с боли в животе. И чего мы только не пробовали: и травяные отвары, и толченые семена чертополоха, и петрушку, и красный клевер, и целебные чаи из коры барбариса и кошачьей мяты. Лекарь чуть ли не живет у нас теперь. Акитада глянул на закрытые ставни, из-за которых доносилось пение монахов. — Ну а в конечном счете вы, как я понимаю, остановились на духовных средствах, — проговорил он, приподняв брови. — Нет, совсем по другой причине, — сказала Ёсико, нетерпеливо мотнув головой. — Я знаю, как ты относишься к подобным вещам, но как бы это выглядело, если бы мы не попробовали? К тому же это матушка сама так распорядилась. Не думаю я, что она верит в молитвы, но ей важно, чтобы люди знали, что у нас все делается как подобает. Ох, Акитада, ты бы только видел, как она изменилась! Глазам своим не поверишь. Ни есть не может самостоятельно, ни встать из-за слабости. Уж и не знаю, как она еще смогла протянуть так долго — разве что потому, что тебя ждала да своего внука. Ты привез Тамако и мальчика? — Когда я получил твое письмо, то поехал вперед один. Остальные пока в пути. Я не хотел рисковать их здоровьем. Ёсико немного сникла. — Она будет расстроена. Ну ничего, пойдем! Они вошли в сумрачные покои матушки. Долговязая худущая служанка поднялась с подушки у изголовья больной и отошла в сторону. Старая госпожа Сугавара лежала на расстеленном на полу тюфяке, укрытая стеганым шелковым одеялом. Единственная свеча, кое-как освещавшая комнату, наполняла ее тягучим запахом благовоний, так и не сумевшим, впрочем, перебить тленный дух болезни. Акитада с трудом узнал мать. Роскошные длинные волосы, прежде предмет ее гордости, теперь были обрезаны чуть пониже ушей. То, что от них осталось, имело жалкий вид — реденький седой пушок. Красивое волевое лицо стало морщинистым и землисто-серым, выцветшие губы беззвучно шевелились, закрытые глаза походили на две темные впадины. Все остальное было почти сокрыто одеялом, узловатые руки, покрытые пятнами, слабо сжимали ткань. — Матушка! — тихо воскликнул Акитада, до глубины души потрясенный ее видом. Она открыла глаза — все такие же черные и цепкие. — Ты не очень-то спешил, — сказала она. Голос ее ничуть не изменился, в нем звучали сила и знакомые повелительные нотки. И это почти внушало надежду. Акитада опустился рядом с ней на колени. — Я выехал сразу же, как получил известие. Вчера меня задержал дождь, и мне пришлось переночевать в горах. — Где мой внук? — Он в пути вместе с Тамако и слугами. Все они скоро прибудут. Она закрыла глаза и пробормотала: — Скоро, да не скоро. — Всего какая-нибудь неделя. А вам, матушка, нужно поскорее поправиться, чтобы вы смогли взять на руки внука и поиграть с ним. Ему ведь уже почти три, здоровенький и крупный не по годам. — Стало быть, весь в отца, — со вздохом заключила она. Растроганный Акитада не знал, что и сказать. На глаза навернулись слезы, и, проглотив тяжелый ком в горле, он прошептал, беря мать за руки: — Ох, матушка!.. Она открыла глаза и раздраженно отдернула руки. — Ну так и чего же ты теперь ждешь? Я думала, ты привезешь мне внука. А раз нет, ступай. Я устала. Акитада вышел в сопровождении Ёсико. Закрыв за собой дверь, та прошептала: — Не бери в голову — ведь ее неотступно мучают боли. — Да нет… Она всегда была такая, — вздохнул Акитада. — И напрасно я ждал, что она смягчится. Меня только огорчает, что все эти годы тебе приходилось зависеть от ее настроения. — Она ничего не может с собой поделать, такова уж ее натура, — сказала Ёсико, поникнув. — Да и кто, кроме меня, это сделал бы? — А Акико? — У нее теперь своя семья, и она не может часто навещать нас. А вот то, что ты приехал, это хорошо. Теперь нам будет легче. Пойдем-ка, кстати, выпьем чаю или саке. Акитада оглянулся на покои больной и, вздрогнув, сказал: — Лучше саке. И хорошо бы чего-нибудь поесть. Я выехал из монастыря до завтрака, так что, получается, ничего не ел со вчерашнего вечера. Ёсико всплеснула руками и засуетилась. Она отвела брата в его комнату, вымытую до блеска и украшенную свежими хризантемами в горшках. Служанка принесла горячее саке и тарелку с соленьями, а вслед за ними и другие закуски — вареный рис, овощи и отменно приготовленную рыбу. Пока Акитада ел, Ёсико рассказывала обо всем, что произошло за время его отсутствия дома. — У нас теперь двое новых слуг, — сообщила она. — Сабуро ты, конечно, помнишь. Он трудится без устали, но работы для одного слишком много, вот я и наняла ему в помощь паренька. Матушкина старая служанка умерла, и новой теперь достается за двоих. Чего ей только не приходится сносить! Правда, она девушка простая, крепкая да выносливая, прощает матушке ее дурной нрав. Я как-то извинилась перед ней за матушку, когда та назвала ее дурой, годной только для чистки конюшен, а она просила не беспокоиться — дескать, госпоже и так несладко, какую боль доводится терпеть. Кухарка наша приходится ей родней. Боюсь, в изысканных блюдах она ничегошеньки не смыслит, да, впрочем, нам уже давно не до праздников. Как тебе, кстати, ее угощение? — Очень вкусно, — сказал Акитада, не покривив душой. — И пусть это блюдо крестьянское. Вот возьмем дадим ему какое-нибудь изящное название да и станем подавать гостям. — Он приподнял мисочку с рыбой, приправленной молодыми бамбуковыми ростками. — Как тебе, например, такое — «серебряный карп, резвящийся в прибрежных тростниках»? Ёсико захихикала. Личико ее теперь немного порозовело. Акитада поставил миску и посмотрел на сестру. Куда подевались ее детская невинность и веселость? От былой свежести и живости не осталось и следа. Бледная и худенькая, она теперь выглядела старше, зато появилось в ней какое-то изящество, которого не мог пропустить глаз. Оденься она поярче да красиво уложи волосы, и ее не узнать. А сейчас, глядя на ее унылое, скромное кимоно и строгую прическу, он мог только с горечью сожалеть о том, что его младшей сестричке пришлось пожертвовать личным счастьем ради матушки. Да и ради его благополучия тоже — ведь останься он дома, и она могла быть уже замужем. — Неужели ты так и не встречаешься ни с кем? — без обиняков спросил он. — Сестра-то твоя, похоже, не растерялась да подсуетилась вовремя. Ёсико стыдливо покраснела и отвернулась. — Кому-то надо было остаться при матушке. Когда Акико сосватали, матушка сказала, чтобы я и не думала о замужестве — дескать, Акико характером покрепче и способна справиться с тяготами семейной жизни, а я, мол, должна радоваться, что избежала этой участи. Акитада потерял дар речи. Неужели и впрямь матушкино мнение таково? В таком случае оно приоткрывает завесу ее собственных отношений с его отцом. И выходит, эта суровая, властная женщина, все эти годы омрачавшая ему жизнь, на самом деле достойна в большей степени жалости, нежели упрека? И все же в ее отношении к Ёсико сказывался эгоизм, а никак не забота о дочери. Отбросив в сторону эмоции, Акитада уверенно сказал: — А вот тут я не согласен. Ты выйдешь замуж, если захочешь, и приданое получишь, как сестра. — Акитада сам обеспечил приданое старшей из сестер, уж тут Тосикагэ запросил недешево — и серебро, и сундуки, набитые рулонами шелка и парчи, и домашнюю утварь, и мешки с годовым запасом риса, коего хватило бы на прокорм пятерых слуг. Ради благополучия Акико Акитаде с семьей целый год пришлось во многом отказывать себе, живя на далеком севере. Сейчас, поправив дела, он готов был охотно сделать то же самое для Ёсико. Но та с горечью сказала: — Нет, братец, слишком поздно. Ну кто возьмет меня такую, не юную да измученную трудами? Акитада вспыхнул возмущением: — Ничего не поздно! Ты и молода еще, и свежа, и миловидна. Просто тебе нужно отдохнуть, принарядиться да людей хороших почаще видеть. Все это я тебе обеспечу. Скажи лучше, тебе нравится кто-нибудь? Сестра посмотрела на него, и на глаза ее навернулись слезы. — Нет, Акитада, не надо!.. — Она зашмыгала носиком. — Нет, в самом деле, ты очень добр, но, к сожалению, все… кончено! — Что значит кончено? — спросил он, тронутый ее горем. Она молча покачала головой и уткнулась лицом в рукав. — Ёсико, ну пожалуйста, скажи мне! — просил он. — Ведь и я виноват в твоем несчастье, так, может, я и смогу как-то все поправить. — Нет! — воскликнула Ёсико и сдавленным голосом продолжала: — Ты здесь ни при чем, и матушка тоже. Это я повела себя глупо. Был у меня один человек. Я думала, я нравлюсь ему, и все ждала, что он попросит у матушки моей руки. Но все кончилось тем, что он женился на другой. — Она умолкла, чтобы подавить судорожный вздох и не разрыдаться, потом расправила плечи и подняла голову. — Когда Акико вышла за Тосикагэ, мне стало безразлично, что скажет матушка. Видишь ли, я и сама больше ни за кого не хочу выходить. Потрясенный до глубины души Акитада взревел: — Этот мужчина, он что же, навещал тебя тайком? Ёсико только отмахнулась. — Навещал? — продолжал пытать Акитада, все больше и больше свирепея. Потупив взор, она молча кивнула. — И как часто? — Пожалуйста, Акитада, не спрашивай! Какая теперь разница, ведь все давно кончено! Говорю же тебе, это я повела себя глупо. Я все думала о вас с Тамако, но теперь-то вижу, что вышло совсем по-другому. — Ты хочешь сказать, он приходил к тебе по ночам как жених и позволял тебе думать, что вы станете мужем и женой, а потом исчез? — Нет! — воскликнула она, заламывая руки. — Ну прекрати же, Акитада! Ведь все это уже в прошлом и давно забыто! Акитада кусал губы. Забыто? Ну уж нет, как бы не так! У Ёсико, оказывается, и вправду произошло кое-что. Он решил во что бы то ни стало досконально разобраться в случившемся, только сейчас не хотел пока ворошить это дело, поэтому сказал: — Мне жаль, что я вмешался. Мне не следовало расспрашивать тебя о столь личных вещах. Прости. Она кивнула и грустно улыбнулась. — Помнишь, еще совсем юной ты как-то набралась смелости и поругала меня за то, что я не решаюсь приблизиться к Тамако? Просияв, Ёсико закивала: — И я была права, не так ли? — Да, ты была права, и мы оба многим обязаны тебе. Я вспомнил сейчас об этом потому, что мне очень хотелось бы когда-нибудь воздать тебе должное за твое добро. Ты позволишь мне сделать это? — Я знаю, братец, что ты хочешь помочь, но поверь, уже слишком поздно, — грустно ответила Ёсико. — Вот и хорошо, — сказал Акитада, зевая. — Поговорим об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас я бы не отказался отдохнуть, а завтра утром пораньше осмотрю дом и поговорю со слугами. На следующий день, повидавшись со всеми работниками и поблагодарив их за преданную службу его матушке и сестрам, Акитада осмотрел владения и вернулся в дом. Там его ждала Ёсико. — Матушка снова желает видеть тебя. Он последовал за сестрой в покои матушки. Однако он напрасно надеялся дождаться от госпожи Сугавара извинений или застать ее в более благоприятном расположении духа. Устремив на него суровый взгляд, она тоном, не терпящим возражений, спросила: — Ты уже доложил о своем возвращении начальству? — Пока нет. Я прямиком приехал сюда. — Так я и думала. — Она говорила с трудом, цедя короткие фразы между приступами боли. — Ты ничуть не изменился. Все такой же безответственный! Так ступай туда немедленно! — Она судорожно вздохнула и прибавила: — Как можно так рисковать своим положением? — Но, матушка, — возмутился Акитада, — я думал, вы захотите, чтобы я первым делом явился к вам! К тому же все мое официальное платье и документы пока находятся в пути вместе с остальной поклажей. Уверяю вас, начальство не ждет меня так рано. Мотнув головой из стороны в сторону, она с трудом выдохнула: — Зачем ты споришь со мной? — И, прижав руку к груди, она закрыла глаза от боли. — Ты добиваешься моей смерти? — Разумеется, нет, матушка, — ответил Акитада, закусив губу. — Я отправлюсь туда сейчас же. — И он повернулся, чтобы уйти. Матушкин голос настиг его у двери: — И поторопись! Каким глупцом надо быть, чтобы не подумать о том, что весть о твоем возвращении уже разнеслась по всему городу! В унылом настроении вернулся Акитада в свою комнату. Нет, матушка нисколько не изменилась! Ее по-прежнему ничто не может порадовать, ничем ей не угодишь. Акитада распахнул старый платяной сундук. В нем хранилась поношенная одежда, которую и четыре-то года назад надеть было зазорно. Покопавшись в сундуке, он все же извлек из него какой-то старый придворный наряд — тронутое плесенью потертое кимоно серого шелка и пожелтевшие от времени грязновато-белые штаны-хакама. От залежавшейся одежды исходил кисловатый прелый запах. Шапка эбоси[1395] с оставшимися на ней знаками отличия порядком пообтерлась, потрескалась и потеряла форму. Акитаде все же пришлось облачиться в этот обязательный для придворных посещений наряд, и он пешком отправился во дворец. Рабочий день был в разгаре, многочисленные чиновники и писцы, спешившие домой отобедать, бросали на него недоуменные взгляды. Лишь после долгих препирательств потрясенный нелепым видом Акитады служащий наконец пропустил его в инспекционный отдел, где он еще застал одного из старших секретарей, которому и объяснил цель своего появления. Молодой чиновник в безукоризненно накрахмаленной шляпе, роскошном кимоно из набивного шелка и белоснежных штанах сморщился при виде Акитады и, оглядев его с головы до ног, закатил глаза в изумлении. — Вы и есть Сугавара? — проговорил он. — Но вас никто не ждал до конца месяца. — Знаю. Я получил весть о болезни матушки и, бросив все, поспешил сюда. Я прибыл только что и счел необходимым поскорее сообщить о возвращении высочайшему начальству. — Хм… Но сейчас никого нет на месте. Полагаю, вы могли бы просто оставить докладную записку. Молодой человек порылся в бумагах, нашел пустой белый листок, писчие принадлежности и придвинул их к Акитаде, который начеркал несколько строк. Оторвавшись от бумаги, он заметил, что молодой хлыщ все еще сверлит недоверчивым взглядом его одежду. Прочитав записку, чиновник нахмурился и спросил: — Может, вы испытываете недостаток в средствах? Быстро смекнув, куда он клонит, Акитада гордо проговорил: — Вовсе нет. Если вы имеете в виду мой наряд, то знайте: я ускакал вперед от своей свиты и не взял никакой поклажи, так что по возвращении мне пришлось довольствоваться старой одеждой, негодной для носки уже несколько лет. Юнец покраснел, потом весело улыбнулся: — Ах вот оно что! А я-то было подумал, что кто-то вырядился в чиновника. Ну что ж, лучше вам, наверное, пойти домой и дождаться, когда сможете одеться должным образом. Наше высокое начальство, знаете ли, весьма серьезно относится к вопросам внешности. А я прослежу, чтобы они получили ваше послание. Мы пошлем за вами, когда возникнет надобность. — Благодарю. — Акитада не счел нужным ответить молодому человеку улыбкой. Он не сомневался: теперь эта история станет предметом досужих разговоров среди родовитых друзей парня. Снедаемый гневом, он лишь небрежно кивнул юноше, который, вне всякого сомнения, превосходил его по рангу, и вышел. По улице он шагал торопливо, стараясь не смотреть прохожим в лицо. Несмотря на яркое солнце, воздух был прохладен. Опавшая листва под ногами уже не пестрила множеством оттенков, теперь все их богатство свелось к бледно-желтому да жухло-коричневому. Это далекое от триумфального возвращение с опасного и довольно высокого поста породило в нем ощущение, будто он вернулся туда, с чего начинал. За все эти годы он так и не избавился от привычки смущаться при мысли о том, что подумают о нем люди. Такое впечатление, что холодный и нерадушный прием матушки вернул его в пучину былых сомнений. Он все твердил себе, что на самом деле ему нечего стыдиться. Он давно выбрался из бедности и прославил свое имя службой на севере. Он с достоинством разрешил множество трудных ситуаций и, несомненно, сможет принести пользу императору в будущем. Странно вот только, что он до сих пор ежится в присутствии умирающей матери да какого-то разряженного родовитого сопляка. Дома Акитада обнаружил, что к ним приехала его сестра Акико. Она приветствовала его широкой улыбкой и первым делом не преминула похвастаться дорогущим шелковым кимоно, богато украшенным вышивкой. — Ну? Как я выгляжу? — спросила она. — Прекрасно! — сказал он, нисколько не кривя душой. Акико заметно располнела, и ее розовое личико светилось счастьем и довольством. Роскошные ухоженные волосы доходили почти до пола и свидетельствовали о безупречном здоровье их владелицы. Акитада перевел взгляд на Ёсико — разительный контраст болезненно отозвался в душе. Ёсико, даже будучи на два года моложе сестры, из-за худобы и скромной одежды походила на увядшую служанку. Сердце Акитады защемило от жалости. А между тем Акико все еще выступала перед ними павой, изящно выгнув спинку и поглаживая себя по животу. — Ты правда так считаешь? — спросила она. И тут вдруг Ёсико изумленно воскликнула: — Акико! А ты уверена? Акитада сообразил не сразу. — Да ты ждешь ребенка! — воскликнул он и бросился к сестре. — Как приятно услышать такую радостную новость в самый первый день после возвращения! Акико наконец уселась с самодовольным видом. — Да, я теперь уже точно знаю. А уж как рад Тосикагэ, его прямо-таки распирает от гордости! — Она посмотрела на Акитаду. — Ты же знаешь, у него уже есть двое взрослых сыновей. Акитада кивнул. Он видел бумаги, сопровождавшие сделку и порядком затянувшие ее из-за сложностей доставки в отдаленную провинцию Эчиго. — Конечно же, мое положение до сих пор было шатким. Не произведи я на свет сына, пришлось бы довольствоваться убогой участью вдовы и жить на вашем попечении в этом доме. — И она красноречиво цокнула язычком. — Тосикагэ уже не молод и может умереть в любой день, и тогда все отойдет его сыновьям, а мне — ничегошеньки. Акитада поразился — какой холодный расчет! Теперь стало ясно, что благополучная наружность сестры не имеет никакого отношения к семейному счастью, что она тут же не преминула подтвердить. — И знаете, это было куда как непросто, — сказала она, со вздохом похлопывая себя по животу. — Муженек мой хотеть-то хочет, да не всегда может. Мне говорили, мужчины с возрастом теряют силу. Вы представить не можете, на что мне только приходилось идти, чтобы затащить его к себе в постель… Акитада резко оборвал ее: — У меня нет ни малейшего желания выслушивать такие интимные подробности. А если ты так относилась к Тосикагэ, то зачем согласилась на этот брак? Ты же знала, что я в любом случае позабочусь о тебе. Акико ответила ему горьким смешком: — Ну да. Только кому охота стареть, находясь в услужении у матушки, сносить ее дурное настроение да капризы и выглядеть как обычная служанка? Вон посмотри на Ёсико! Что может быть хуже?! А я теперь госпожа Тосикагэ, у меня семья, дом. У меня полно нарядов, разных красивых вещиц и три девушки в услужении. К тому же теперь, когда я ношу под сердцем ребенка — сына, как я думаю, и будущего наследника, — мое положение станет надежным. Акитада посмотрел на Ёсико — на потупленный взгляд, на сцепленные на коленях пальцы, — и его разобрала злость. Не скрывая гнева, он сказал, обращаясь к Акико: — Твоя сестра трудится без устали, потому что матушка очень больна. И тебе следовало бы занять место рядом с ней, чтобы помогать во всем. Акико вытаращила глаза, — Это при том, что у меня свое хозяйство имеется? Да в моем-то положении? — возмутилась она. — Тосикагэ никогда такого не позволит. В этот момент, словно по какому-то невероятному совпадению, зять Акитады объявился собственной персоной. Это был крупный дородный мужчина лет за пятьдесят, и лицо его сияло улыбкой, пока он не разглядел одежду Акитады, после чего, опешив, остановился в нерешительности. Смекнув, что к чему, Акико воскликнула: — Боже, Акитада! И где ты только откопал эти лохмотья? У тебя такой смешной вид. Тосикагэ, наверное, подумал, что ты какой-нибудь бродячий прорицатель. — Ничего подобного! — рявкнул на нее муж. — Я сразу узнал его по благородным чертам. Рад, рад встрече и счастлив породниться! — Он подошел и обнял Акитаду, поднявшегося ему навстречу. Обменявшись с гостем любезностями, Акитада пригласил его сесть. Когда он поздравил зятя с предстоящим отцовством, тот еще больше расплылся в улыбке и с обожанием посмотрел на Акико, которая, в свою очередь, ответила ему жеманной гримаской. — Прелестная девушка ваша сестра, — сказал он Акитаде. — А теперь вот вдвойне осчастливила меня в моем-то преклонном возрасте. Признаюсь, я снова чувствую себя молодым. — Он рассмеялся, заколыхав тучным животом, и хлопнул себя по пухлым ляжкам. — Теперь в моем доме снова будут бегать ребятишки. Как это прекрасно! Акитаде начинал нравиться этот человек. Гордясь собственным отцовством, он запросто увлек Тосикагэ веселой беседой о детских шалостях и забавах. Видя, что лед тронулся, сестры оставили их одних, и Акитада велел принести саке и закусок. Слово за слово, он попытался перевести разговор на другую тему — о новостях и слухах относительно правительства. Поначалу у Акитады возникло лишь смутное ощущение, что эта тема повергла его зятя в уныние. Но беспокойство Тосикагэ все возрастало, он все чаще принимался нервно ерзать, вздыхать и несколько раз порывался сказать что-то Акитаде. — Что-то случилось, дорогой брат? — не выдержав, спросил наконец Акитада. Тосикагэ бросил на него испуганный взгляд. — Д-да… — Он осекся на полуслове. — Вообще-то да, случилось… Вернее, я бы хотел посоветоваться… — Он умолк и снова беспокойно заерзал. Акитада не на шутку встревожился. — Пожалуйста, выкладывайте, что там у вас, дорогой старший брат. — Он нарочно употребил эту уважительную форму обращения к старшему родственнику, чтобы подбодрить Тосикагэ. Тосикагэ, похоже, был благодарен ему за это. — Да. Спасибо, Акитада. Я расскажу. В конце концов, это наше семейное дело, поскольку оно касается Акико и нашего еще нерожденного малыша. Э-э… видите ли, в моем ведомстве случилась неприятность. Обо мне пошли нехорошие разговоры. — Он с трудом сглотнул тяжелый ком в горле и с мольбой посмотрел на Акитаду. — Уверяю вас, все это чистая ложь, но я боюсь. — Он внезапно умолк и поднял руки ладонями кверху — жест беспомощности и отчаяния. Сердце у Акитады словно куда-то провалилось. — Какие разговоры? — спросил он прямо. Зять его сидел, потупив взор и разглядывая сцепленные замочком руки. — Что я тайком присвоил себе ценности, принадлежащие имперской казне.ГЛАВА 3 МИРСКИЕ ЗАБОТЫ
Оправившись от потрясения, Акитада наконец нарушил тишину и спросил: — Вы хотите сказать, что кто-то подозревает вас в краже имперских сокровищ? Тосикагэ зарделся от стыда и закивал. — Все началось с досадного недоразумения. В одном старом инвентарном списке я обнаружил, что лютня, обозначенная как «Безымянная», была ошибочно прописана там как «Несуществующая». Потом какой-то болван перечеркнул запись и сделал приписку, сообщавшую, что инструмент изъят из хранилища, но при этом не указал кем. Когда я начал расспрашивать, никто, казалось, не знал, что произошло с этой лютней, да и записей никаких о том, что кто-либо из дворца посылал за ней, не имелось. Тогда я решил проверить все лютни в хранилище. «Безымянную» я не нашел, зато обнаружил другую лютню, которая явно требовала починки и перенатяжки струн. Поскольку был последний рабочий день недели, я взял ее домой, чтобы починить на досуге. Только вот по глупости не сделал соответствующей записи. Уж так получилось, что в тот вечер у меня были гости. Должно быть, кто-то из них увидел ее у меня, потому что, когда я вернулся на работу в начале недели, за мной прислали из дворца и потребовали ответить на вопрос: что делает императорская лютня в моем доме? Это было ужасно, поверьте мне, особенно если учесть, что тот, кто вел дознание, едва ли поверил моим объяснениям. — Тосикагэ умолк и тяжко вздохнул. — Хм… — сказал Акитада. — Я охотно верю, что это было не совсем приятно, только мне не понятно, как это одно, пусть и досадное, происшествие могло навлечь на вас серьезные неприятности. Вы же, конечно, вернули лютню? — Разумеется! — Тосикагэ дрожащими пальцами потер лоб. — Только когда я сделал это, все смотрели на меня как-то странно. Вы же знаете, каковы люди. Они шептались у меня за спиной, ухмылялись и переглядывались. Но хуже всего то, что они делали это всякий раз, когда я бросал невзначай какую-нибудь невинную фразу — например, говорил, что хочу купить Акико подарочек, или замечал вслух, что какой-то из предметов лежит не на месте. — Он снова вздохнул. — Да уж, скверно, — кивнул Акитада. — Ваши коллеги, судя по всему, не очень хорошие люди. Тосикагэ выглядел удивленным. — Знаете, вообще-то я никогда не думал об этом, а ведь, похоже, так оно и есть. Так что же мне делать? — А кто стоит за всем этим, как вы думаете? — Стоит за всем этим? Что вы имеете в виду? — Ну… если целью было опорочить ваше имя, то тогда должен быть кто-то или, может, это несколько человек, кто подстроил вам эту ловушку. Лицо Тосикагэ выражало полное недоумение. Ошеломленный и окончательно сбитый с толку, он спросил: — Вы и впрямь так думаете?! Акитада почти потерял терпение. Ему уже стало ясно, что его новоявленный зять наивен и беспомощен по части всевозможных каверз и козней. Не утруждая себя объяснениями, он просто сказал: — Конечно. А кто видел лютню в вашем доме? — О-о… да кто угодно… Все, я полагаю. Акитада закусил губу. — Хорошо. Кто был у вас дома? — И, чтобы не услышать в ответ очередное «все», он быстро прибавил: — Назовите имена. — О-о… — Тосикагэ наморщил лоб. — Ну конечно же, был Косэ. Кацураги был и Мононабэ. Потом вот еще люди из отдела книг и из отдела музыки — их имен я не помню. Ну и кое-кто из моих личных друзей. Вам назвать их имена? — Возможно, позже. А первые трое были единственными из вашего ведомства? Тосикагэ кивнул. — Имеются ли у вас явные враги среди людей, что побывали у вас тогда в гостях и могли видеть лютню? — Враги?! — Тосикагэ был потрясен. — Конечно, нет. Может, они не самые близкие друзья мне, но никак не враги. Я, знаете ли, не имею привычки приглашать к себе в дом врагов. Акитада украдкой вздохнул. — А могли кто-нибудь, кроме этих троих из вашего ведомства… как там их имена — Кацураги, Косэ и?.. — Мононабэ. — Да, Мононабэ. Мог ли кто-нибудь другой узнать в лютне инструмент, принадлежащий имперскому хранилищу? Тосикагэ покачал головой. — Сомневаюсь даже насчет Мононабэ. Он ведь только недавно устроился на работу в отдел. — Так-так, очень хорошо, — сказал Акитада. — Мы уже неплохо продвинулись. Скорее всего либо Косэ, либо Кацураги, или они оба узнали лютню. Они могли поделиться увиденным с Мононабэ, и потом один из них или они все вместе разнесли эту историю по вашему ведомству. А уж потом кто-то из этой троицы, а может, и вовсе кто-то другой решил воспользоваться этим случаем, чтобы очернить ваше имя. Теперь вам придется выяснить, кто этот человек, и положить этому конец. — Но как мне это сделать? — воскликнул Тосикагэ. — Не могу же я обвинить их в открытую! — Вы хотите, чтобы я навестил ваших коллег и задал им несколько вопросов? Тосикагэ ужаснулся такому предложению. — О небеса! Только не это! У меня же тогда будут настоящие неприятности! — В таком случае я не понимаю, чем могу помочь вам в этом вопросе, — мрачно заметил Акитада. — Я подумал, вы могли бы найти эти пропавшие предметы. Тогда мы тихонько вернули бы их в хранилище, и вся эта шумиха вскоре бы улеглась. Акитада сверлил зятя пристальным взглядом. — Какие предметы? Вы же сказали, что вернули лютню после починки. Вы имеете в виду тот, другой инструмент? Как он там назывался? «Безымянный»? — Нет. У нас любому известно, что лютня «Безымянная» пропала еще когда-то давно. Другие предметы стали исчезать позже, уже после распространения слуха, что я якобы присвоил лютню. Акитада выпрямился. — А что еще пропало? — спросил он, ожидая услышать самое худшее. Закрыв глаза, Тосикагэ принялся перечислять: — Лакированная шкатулка с круговыми узорами, подаренная императору восьмой династии корейским послом; две священные короны из позолоченного серебра, некогда принадлежавшие императрице Дзимму; расписной кувшин, в котором, по преданию, хранился ноготь с пальца самого Будды; резная фигурка богини; позолоченная курильница и золотая печать, некогда подаренная китайским императором нашему послу. — Святые небеса! — не удержался от восклицания Акитада. Такие пропажи и впрямь грозили серьезным скандалом. — И сколько человек знают об этом? У Тосикагэ теперь был не на шутку перепуганный вид. — Обо всех пропажах известно только мне. Правда, Кацураги занимается у нас переписью, поэтому ему и Косэ известно о кувшине и о шкатулке. Может, они знают еще и про фигурку. — Они доложили о пропажах вам? — Нет. — И вас это не озадачило? — Я подумал, они не сделали этого потому, что решили, будто я взял себе эти предметы. Ох уж этот Тосикагэ! — Вы кому-нибудь говорили о краже? — Нет. Побоялся. Я подумал, что лучше бы нам самим отыскать все и вернуть на место. — Легко сказать. Но разве вы не обязаны были доложить своему начальнику? Кто он, кстати? — Отомо Ясутада. Нет, я ему не докладывал. — Ну что ж, вам виднее. Только, по-моему, зря вы решили умолчать об этом деле… Или вы мне чего-то не договариваете? Тосикагэ замахал руками. — Нет, ну что вы, Акитада! От вас у меня нет никаких секретов! А как вы думаете, где сейчас эти предметы? — Так сразу не скажешь. Если их умыкнули, чтобы продать, то они могут находиться в какой-нибудь лавке или у кого-то дома. — Эти слова потрясли Тосикагэ. — Но если их похитили только для того, чтобы навлечь на вас неприятности, то они могут быть где-то спрятаны. — Тогда вы должны найти их! — Тосикагэ закусил губу. — Но зачем кому-то навлекать на меня неприятности? Ведь я никому ничего дурного не сделал. — Поскольку вы не припомните, чтобы у вас имелись враги, то тогда должна быть какая-то другая причина. Кто занял бы ваше место в случае вашего увольнения? Акитада с интересом наблюдал, как его зять медленно переваривает эту новую мысль. Наконец на лице его забрезжило обеспокоенное выражение, и он сказал: — Косэ был бы повышен в должности и занял бы мое место. Только я не верю, что он способен на такое. Вор, должно быть, попросту продал эти предметы. Хотя и это звучит ужасно. И как мне теперь очиститься от этой грязи? — Это будет нелегко. Ну да ладно, я поспрашиваю в лавках. Разумеется, со всей осторожностью — иначе каждому станет ясно, что мы разыскиваем имперские ценности. — Акитада нашел чистый лист бумаги и писчие принадлежности. — Вот, напишите-ка мне здесь перечень этих предметов. Тосикагэ с готовностью бросился исполнять просьбу. — Благодарю вас, мой дорогой Акитада, — затараторил он, протягивая ему готовый список. — Разумеется, я верну вам все до последнего, если вам придется выкупить эти предметы. — Он вдруг нахмурился и замолчал. — Надеюсь, они не обойдутся вам слишком уж дорого? Как-никак все это сущее старье. «Ох уж этот Тосикагэ!» — снова подумал Акитада, а вслух сказал: — Все зависит от продавца и скупщика. Я долго был в отъезде. Кто у нас сейчас покупает подобные вещи для перепродажи? — Если вы имеете в виду торговлю стариной, то мне известен только Ничира. Его лавка расположена рядом с восточным рынком. Только из меня плохой знаток этих дел — ведь я не любитель сорить деньгами ради всякой чепухи. А что касается частных собирателей, то тут может быть кто угодно. Например, все Фудзивара обладают солидным достатком, и некоторые из них владеют знаменитыми вещицами. Канэсукэ, к примеру, и Мититака, и, конечно же, советник-кампаку[1396]. А еще князь Акимото. Но вы же не можете наведаться в дом к таким людям. Акитада покачал головой: — Нет. К таким солидным людям, конечно, не могу. А вот пройтись по лавкам скупщиков и торговцев стариной вполне мог бы. Для начала этого будет достаточно. А вас я пока попрошу доложить начальству о пропаже и предложить провести полную перепись. Тосикагэ неохотно, но все же пообещал. Акитада собирался сменить тему разговора на более приятную, когда вернулась Акико. — Матушка желает видеть тебя, Акитада, — сказала сестра. Еще больше впав в уныние, Акитада поднялся и направился в покои матушки. Рядом с ворохом одеял, укрывавших хрупкое тело, сидела Ёсико. Госпожа Сугавара вперила в сына сверлящий мерцающий взгляд. Ее бледное лицо полыхало неестественным румянцем. — Надеюсь, ты не ходил отмечаться в государственную инспекцию в таком виде? — спросила она. Акитада уныло оглядел свой наряд. И почему он не догадался переодеться перед посещением матушки? Извиняющимся тоном он сказал: — Боюсь, так оно и было. Видишь ли, я не взял с собой никакой подобающей одежды, а ты настояла на том, чтобы я отправился туда незамедлительно. Нарочито громко вздохнув, госпожа Сугавара отвернулась. — Нет, ты просто невыносим! — простонала она. — Ты сделал это мне назло! Ты явно желаешь мне смерти и надеешься приблизить ее, позоря меня на людях. Ступай прочь! У меня нет никаких сил смотреть на тебя. Выйдя в коридор, Акитада перевел дух, пытаясь унять внезапно подступившую дурноту, перевернувшую все нутро. Он напомнил себе, что матушка старая женщина да к тому же сломлена недугом. Возможно, она говорит такие слова не со зла, и не следует принимать их близко к сердцу. Но все логические доводы оказывались бесполезными. Его терзали злость и горечь — ведь он так спешил домой в надежде найти примирение с единственной своей родительницей, прежде чем смерть разлучит их навсегда. К Тосикагэ и своей замужней сестре он возвращаться не стал, а отправился к себе в комнату, где просидел до наступления ночи, глядя на темный сад, пока не пришла Ёсико. — Тосикагэ с Акико уехали, — сообщила она и тут же прибавила: — Ты сидишь без света. — Бесшумно проскользнув по комнате, она зажгла лампу и принесла ее ему, потом присела рядышком в ожидании. Но, видя, что Акитада не склонен к разговору, она спросила: — Ты поешь чего-нибудь, если я составлю тебе компанию? Он посмотрел на ее худое, осунувшееся лицо и вдруг остро ощутил свою вину. — Ну конечно. — Он с трудом улыбнулся. — Пожалуйста, составь мне компанию. Я ненавижу есть один. Они разделили скромную трапезу, а потом Ёсико, поборов нерешительность, сказала: — Тебе, возможно, вскоре придется снова явиться ко двору. Так вот я вспомнила, что у нас есть добрый кусок темно-синего шелка. Позволь мне сшить тебе новое платье. Я хорошо управляюсь с иголкой. Акитада был тронут до глубины души. — Спасибо, сестричка. Это отличная мысль, но ведь это может сделать кто-нибудь из слуг. — У меня лучше получится. Я сшила платье для Акико. Акитаде припомнился элегантный наряд другой сестры. — Неужели это ты? Какая красота! А я и понятия не имел о твоих талантах. — Его вдруг осенила хорошая мысль. — Если я завтра куплю шелка, ты сошьешь два кимоно — одно для себя, а другое для меня? Ёсико оглядела свой скромный наряд. — Мне ничего не нужно. К чему переводить хорошую ткань на того, кто занимается домашним хозяйством и ухаживает за больным? — Но мне будет приятно видеть тебя в нем, когда мы вместе сядем поесть. Личико ее вдруг просияло. — В таком случае я согласна. Спасибо тебе, братец. На следующее утро Акитада отправился за покупками. Покидая дом под звуки монашьих распевов, он чувствовал себя так, будто бежит из темницы. Погода стояла теплая и солнечная, и даже оголенные ивы на улице Судзаку являли собой прекрасное зрелище на фоне прозрачного синего неба. Все живое в этом мире, казалось, умылось недавним дождем, даже простой люд на улицах выглядел на удивление опрятным. Широкая оживленная улица кишела пешеходами, бычьими упряжками знати и всадниками, спешащими по неотложным делам. За красными лаковыми воротами городского божества он свернул направо — отсюда начинался деловой квартал столицы. Здесь разряженные торговцы смешивались с вереницами полуголых носильщиков, чьи спины гнулись под тяжестью ящиков и тюков. В этой сутолоке нет-нет да и проглядывал красный наряд городского стражника с перевешенными через плечо луком и колчаном, его бдительный взгляд, не зная устали, высматривал в толпе неугомонных карманников. Возраставшие толкотня и шум подсказывали Акигаде, что он приближается к рынкам, и он свернул на улицу, где располагалось множество лавок и магазинов и где торговали шелком и предметами старины. Лавку Ничиры он нашел почти сразу же. Ее выбеленные стены и просторные витрины, украшенные резьбой по темному дереву, выходили на улицу. Вывеска при входе гордо гласила: «Сокровищница древностей Ничиры», однако дверь в лавку выглядела простенько. Переступив выложенный каменной плиткой порог, Акитада оказался перед возвышением из полированного дерева. Такой деревянный пол устилал все помещение торгового зала. Насколько он сумел разглядеть, стены здесь были сплошь увешаны полками, и все пространство занимали ряды приподнятых столов, а перекрещивающиеся проходы между ними все сходились к центру зала. Неизвестно откуда вдруг возник тощенький паренек и, опустившись на колени, помог Акитаде разуться. Скинув исобственные гэта[1397], он провел Акитаду на деревянный помост, низко поклонился и спросил, чем интересуется благородный господин. Акитада хмыкнул, озадаченно озираясь. Все полки и столы были сплошь уставлены самыми разными предметами. Были здесь сотни крохотных коробочек и шкатулочек, тысячи миниатюрных глиняных и фарфоровых горшочков, на полках — статуэтки и маски, многочисленные пожелтевшие свитки, лампы, подсвечники, украшенные резьбой писчие принадлежности и жадеитовые печати, доски для настольных игр и музыкальные инструменты, предметы религиозного культа и бытового назначения. — Можно мне взглянуть? Приказчик поклонился и последовал за Акитадой. При более близком рассмотрении выяснилось, что все выставленные напоказ предметы оказались не такими уж древними, чтобы принадлежать имперской сокровишнице. В конце концов Акитада решил бросить это бесполезное занятие и, повернувшись к приказчику, напрямик спросил: — А нет ли у вас какой-нибудь старинной лютни? Приказчик снова отвесил ему поклон и повел его обратно к полкам. Здесь набралось порядка двадцати всевозможных инструментов, красивых и изящных, но ни одного по-настоящему старинного, такого, что мог бы оказаться лютней «Безымянной». Хмурясь, Акитада сказал: — Нет, нет, все это слишком простенько. А нет ли у вас чего-нибудь действительно стоящего? Какой-нибудь старинной лютни? Парень замялся в нерешительности, потом сказал: — Может, лучше позвать господина Ничиру? Вскоре к ним вышел и сам господин Ничира — приземистый толстяк, чьи манеры отличались заметной сдержанностью. Смерив оценивающим взглядом парчовое дорожное платье Акитады, он поклонился. — Мне сказали, что господин присматривает старинную лютню. Не мог бы господин поподробнее объяснить, какой именно инструмент его интересует? Акитада прикусил губу. Ну вот как расспрашивать о предмете, не дав при этом его подробного описания? Пришлось притвориться несведущим. — Ну… видите ли… — начал он, беспомощно озираясь по сторонам. — Даже необязательно лютня, а просто что-нибудь особенное… Меня интересует даже не сама лютня, а чтобы она была редкой… Для подарка одной весьма высокопоставленной особе… Понимаете? Весьма и весьма высокопоставленной особе. Господин Ничира заулыбался, и Акитада ощутил несказанное облегчение. — О, я вас очень хорошо понимаю. Как это всегда бывает нелегко подыскать правильную вещь для истинного знатока! Не правда ли? Акитада беспомощно поежился. — Да, это верно. И я вот подумал… Впрочем, может быть, вы больше меня знаете в этом толк… — Он нарочно замял конец фразы. — Конечно. А могу я узнать имя достопочтенного господина? — Сугавара. Ничире это имя, судя по всему, ни о чем не говорило, что, впрочем, не задело Акитаду, а скорее порадовало. — Ну да… Если вам, почтенный господин, необязательно, чтобы это была лютня, то, может быть, у меня найдутся какие-нибудь другие интересные вещи. Акитада пробормотал что-то вроде того, что готов целиком вручить себя заботам господина Ничиры, и последовал за ним в отдельный кабинет, располагавшийся позади торгового зала. Здесь торговец любезно предложил ему шелковый дзабутон[1398], налил ему крепкого сливового вина в зеленую жадеитовую китайскую чашечку, потом достал несколько обернутых шелком свертков и принялся их разворачивать. Ни один из предметов не имел отношения к пропавшим дворцовым сокровищам, зато Акитада умудрился завести разговор о старинных печатях и лаковых шкатулках и о статуэтках чародеек — он вовсе не ожидал, что Ничира достанет откуда-нибудь их, а просто надеялся, что торговец мог что-нибудь слышать о подобных вещах от своих коллег или поставщиков. Но тут ему нисколько не повезло. Зато мысль о поставщиках породила другой вопрос. Взяв в руки очаровательную старинную флейту, Акитада спросил: — Откуда она у вас? Весьма необычная вещица. — Она принадлежала князю Мибу Канэмори. Его вдова, будучи стеснена в средствах, послала за мной. Она говорит, что эта флейта хранилась в их семье более двухсот лет. Взяв в руки флейту, Акитада повертел ее так и эдак, любуясь искусной работой. — Какое у нее оригинальное расположение дырочек! Хороший звук дает? Эти слова произвели впечатление на Ничиру. — Достопочтенный господин умеет играть? — Немножко, — скромно признался Акитада. Он прикоснулся пальцами к дырочкам, робея извлечь звук из такого старого инструмента. В свое время у него тоже появилась прелестная флейта — подарок одного знатного юного друга, — и тогда он смел думать, что недурно играет. — Пожалуйста, сыграйте что-нибудь, — попросил Ничира. — Сам-то я не умею. «Какой вежливый», — подумал Ахитада и приложил флейту к губам. Звук получился милый, высокий и чистый, но не столь сочный и густой, как у его собственной флейты. Тогда он попробовал исполнить что-нибудь более протяжное, стараясь приноровиться к незнакомому расположению звуковых отверстий. Ничира увлеченно слушал. Его интерес к музыке произвел на Акитаду неизгладимое впечатление, в чем он и признался, когда закончил игру. Ничира пустился расточать ему похвалы. Акитада купил флейту, не дрогнув перед ценой, и между прочим вытянул из Ничиры кое-какие полезные сведения. Других антикваров, торговавших старинными и отнюдь не дешевыми предметами, звали Хэида, Кудара и Нагаока. Ничира любезно назвал их адреса. Все они были серьезными и уважаемыми торговцами, никогда не имевшими дела с непроверенным товаром. Акитада уходил от Ничиры в добром расположении духа, пообещав при первой же надобности заглянуть снова. Шелковую лавку он нашел на ближайшей улице. Через поднятые ставни с дороги был виден огромный зал, где услужливые приказчики носились с рулонами шелка между сидящими в ожидании покупателями. Акитада вошел, и продавщица повела его осматривать сокровища лавки. Отвыкший за время жизни на севере от обилия роскоши, Акитада чувствовал, что у него буквально разбегаются глаза. О себе он напрочь забыл и все высматривал что-нибудь для Ёсико. Он представил Ёсико в новом наряде, и на душе повеселело. Сначала ему приглянулся розовый шелк, переливавшийся на свету, но, вспомнив о надвигающейся зиме, он передумал и остановил свой выбор на медно-красном. Потом, под влиянием внезапного порыва, он решил взять и розовый. Теперь ему предстояло выбрать еще несколько отрезов шелка для отделки — бледно-золотистый, сиреневый, песочный, мшисто-зеленый, а к розовому — ярко-зеленый, ярко-красный, алый и белый. Несказанно довольный своим выбором, Акитада заплатил еще одну астрономическую сумму и с посыльным отправил покупки к себе домой. Уже не такой богатый, зато счастливый, он вышел на улицу, оглашаемую звоном колоколов. Близилось время дневной трапезы, и он решил отложить визиты к другим антикварам, кроме Нагаоки, чье жилище находилось по пути домой. Подумав о доме, он вспомнил матушку, отчего хорошее настроение тут же улетучилось. Не давали покоя и мысли о Тосикагэ. Похоже, тут ничего хорошего ждать не приходилось. Куда могли подеваться дворцовые ценности? Неужели их похитили только для того, чтобы «подсидеть» Тосикагэ? А может, вор преследовал другую цель, например месть, и задумал подстроить так, чтобы пропажа нашлась у Тосикагэ? Обвинение в краже императорского добра считалось довольно серьезным и каралось публичным наказанием, конфискацией имущества и ссылкой в отдаленную провинцию. В этом случае семья Тосикагэ разделила бы его участь. Сам Акитада, конечно, избежал бы подобной судьбы, так как, к счастью, носил другую фамилию, а вот сестра Акико и еще не рожденный малыш были бы обречены на невзгоды. Нагаока жил в тихом квартале, не вполне подобающем людям знатным, как, впрочем, и торговцам. Дом его, большой и крепкий, был сокрыт высоким забором. На простенькой табличке на воротах можно было прочесть: «Нагаока. Торговец стариной». Акитада уже собрался постучать, когда ворота вдруг распахнулись, и он столкнулся лицом к лицу со старым знакомым. — Кобэ! — со всей искренностью воскликнул Акитада. — Вот так встреча! А я ведь собирался нанести вам визит вежливости, только семейные дела все держали. Выражение приятного удивления на лице Кобэ мгновенно сменилось маской недоверчивой подозрительности. — Что вы тут делаете? — рявкнул он, по своему обыкновению пренебрегая учтивостью и сразу переходя к сути. Акитада удивленно приподнял брови. — Вот это да! Не очень-то дружеский прием, а ведь столько лет не виделись! — добродушно проговорил он. Только теперь он заметил, что кое-что изменилось в облике полицейского капитана: на нем больше не было красного кимоно и белых шаровар. На этот раз он был облачен в строгое одеяние из темно-синего шелка. — Я пришел к антиквару кое-что узнать. Но вы… Разве вы больше не в полиции? Слабая улыбка тронула потеплевшее лицо Кобэ. — Повышен в звании, — сказал он. — До старшего офицера. — Ах вот оно что! — Акитада заулыбался и раскланялся. — Примите мои искренние поздравления. Вы заняли эту должность заслуженно. — Благодарю. Вы тоже не прозябали в безвестности на посту временного правителя. Да еще, я слышал, подавили пару мятежей. В новом году можно ждать щедрого повышения по службе. — Только не с моим везением. — Акитада умалк и глянул на слугу, с жадным любопытством подслушивавшего разговор через щель в воротах. Сообразив, в чем дело, Кобэ взял Акитаду под руку и отвел его в сторонку. Ворота с лязгом затворились. Еще разок оглянувшись, Акитада вперил в Кобэ озадаченный взгляд: — Но что вас привело сюда? Что-то случилось? — Убийство, — проговорил Кобэ со всей невозмутимостью. — Мои люди, похоже, такого напороли в расследовании, что пришлось идти разбираться самому. — Неужели антиквар убит? — Акитада мысленно представил себе, какой новый и еще более мрачный оборот могут принять дела для Тосикагэ. Но оказалось, что Нагаока жив. — Нет, его жена, — сказал Кобэ. — И судя по всему, убил его брат. Любовный треугольник. Малоденькая смазливая женушка не прочь покрутить шашни с младшим братом своего престарелого мужа. Так или иначе, но дело у них доходит до спора, и он убивает ее. Ну а муженек, понятное дело, весь в растрепанных чувствах. Прямо хоть на части разорвись! То ли помочь полиции и отправить родного брата на казнь за убийство, то ли защитить бедолагу, который угрохал его обожаемую женушку. Трудно сказать, что у него на уме. — Понимаю. — Вопрос и впрямь был не из легких, особенно для конфуцианца. Кто дороже человеку — жена или родной брат? Акитаде было ясно лишь одно — Нагаока вряд ли сейчас склонен отвечать на вопросы про старинные безделушки. — А вам что от него нужно? — Кобэ с живым интересом сверлил глазами лицо Акитады. Акитада, конечно, не собирался посвящать в проблему Тосикагэ старшего офицера полиции, и все же ему нужно было что-то сказать Кобэ. По-видимому, он колебался слишком долго, потому что взгляд Кобэ вдруг сделался еще более пристальным. — Ага! Значит, я был прав! Что вам известно об этом деле? — рявкнул он, и от его хорошего расположения духа в считанные мгновения не осталось и следа. — Ну-ка, ну-ка, выкладывайте! Чувствую я, что ваш приход слишком уж подозрительное совпадение. — Да клянусь вам, мне ровным счетом ничего не известно об этом деле! — сказал Акитада, лихорадочно пытаясь придумать какой-нибудь безобидный предлог. И тут он вспомнил про поиски флейты. — Э-э… Да видите ли, я вот тут собрался играть на флейте, ну и заинтересовался старинными инструментами. Мне посоветовали обратиться к Нагаоке. Но Кобэ, судя по всему, эти слова не убедили. — Вы пришли сюда за флейтой? Акитада кивнул. — Я, знаете ли, четыре долгих года торчал в северной глуши и совсем одичал. Вы даже представить не можете, как ласкают слух звуки флейты, когда ты заточен в снегах, а на плечах твоих неизбывным бременем лежит тяжесть мирских забот. Кобэ искоса посмотрел на него. — Какие мрачные речи — прямо-таки уныние разбирает. Только думается мне, лучше вам сейчас не беспокоить Нагаоку. На него теперь навалилось столько мирских забот, сколько не каждому под силу вынести. — Уж это я понял. А когда произошло убийство? Кобэ некоторое время колебался, потом сказал: — Позапрошлой ночью. В одном из загородных монастырей. Брата нашли рядом с мертвым телом женщины в запертой келье. В общем-то дело ясное, и признался он сразу же. Только потом Нагаока приходил к нему в тюрьму поговорить и убеждал отказаться от признания. Ну, я, конечно, сразу смекнул, что так наше дело разлезется по швам в суде, вот и пришел предостеречь Нагаоку. — Где то снова зазвонил колокол, отбивая очередную половину часа. Кобэ спохватился: — Ну ладно, мне пора. Нам не по пути? Акитада сомневался. Оглянувшись на ворота Нагаоки, он сказал: — Вообще-то мне нужно домой. У меня матушка очень больна, и я бы не хотел задерживаться. Может, увидимся завтра? — Конечно. Заходите в мою новую контору во дворце. А насчет матушки очень и очень сожалею. Они раскланялись и зашагали в противоположных направлениях. Зайдя за ближайший угол, Акитада остановился. Итак, позапрошлой ночью произошло убийство? В каком-то монастыре. Может, как раз в том самом горном монастыре, где он среди ночи слышал женский крик? В сущности, его это не должно касаться, да и Кобэ вряд ли обрадуется, если он снова начнет соваться в дела полиции. Только вот беда — никогда еще Акитада не мог устоять перед тайной. Выглянув из-за угла, Акитада убедился, что Кобэ ушел, потом вернулся к воротам и постучал.ГЛАВА 4 БЕЗЛИКОЕ УБИЙСТВО
Мгновение спустя резная створка ворот приоткрылась, и в щель выглянул круглолицый насупленный слуга. — Меня зовут Сугавара, — деловито представился Акитада. — Мне нужно срочно поговорить с твоим хозяином. Подобный тон возымел действие, так как ворота отворились шире и привратник впустил его внутрь. Акитада огляделся по сторонам. Выложенная камнем дорожка пролегала через неметеный, усыпанный палой листвой двор. Слуга, только что накинувший поверх обычного хлопкового кимоно траурную полотняную безрукавку, был немало раздражен — по-видимому, тем, что его застали врасплох, — однако довольно учтиво провел Акитаду в дом, где помог ему разуться, а потом проводил в небольшой кабинет в глубине жилища. Рассеянный свет проникал в комнату сквозь обтянутые бумагой двери, ведущие наружу. Акитада обратил внимание на множество выцветших шелковых картин и каллиграфических свитков — они висели на темных деревянных стенах и покрывали резные подставки, уставленные чашами и вазами из прозрачного жадеита. Посреди комнаты за низеньким черным столиком сидела согбенная щуплая фигура. Нагаока оказался невзрачным, бесцветным человечком, серым от головы до полы платья. Его чисто выбритое лицо пепельного оттенка было изборождено глубокими морщинами. Облаченный в кимоно из дорогого серого шелка, он сидел, застыв неподвижно в согбенной позе. Когда дверь отворилась, он лишь на мгновение безучастно вскинул глаза, но даже неожиданный приход незваного гостя не изменил выражения его лица. — Не сейчас, Сасё, не сейчас, — устало проговорил он. — Хозяин, но господин настаивает, — удрученно возразил слуга. Акитада вошел в кабинет и, закрыв за собой дверь, представился со всем этикетом: — Мое имя Сугавара Акитада. Сообразив, что перед ним стоит человек отнюдь не низкого звания, Нагаока торопливо встал и раскланялся. Он был почти одного роста с Акитадой, но узок в плечах и гораздо тоньше в обхвате. — Чем могу быть полезен вам, господин? — Я пришел сюда разузнать о кое-каких предметах старины, — сказал Акитада, присаживаясь без приглашения, — однако случайно обнаружил, что мог бы быть вам полезен в ваших нынешних трудностях. Только что я встретил возле ваших ворот своего давнего друга старшего офицера полиции Кобэ. Он поведал мне о недавно случившейся трагедии. Примите мои самые искренние соболезнования. Нагаока все еще стоял посреди комнаты и смотрел на гостя с выражением крайнего изумления на лице. Потом, внезапно сморщившись и наконец обретя голос, он проговорил: — Мой брат… Мой младший брат арестован за убийство. Если вы поможете, я был бы… — Слезы хлынули у него из глаз. Он замолчал, прикрыл лицо рукой и рухнул на подушку. — О-о!.. Никто не может помочь мне, — всхлипывал он. — Прямо не знаю, что и делать! Акитаду поразило, что Нагаока, похоже, больше горюет не о мертвой жене, а об убившем ее брате. Когда Нагаока наконец прекратил рыдать и утер лицо платком. Акитада сказал: — Могу я узнать, где произошло убийство? Нагаока вскинул на него покрасневшие глаза. — В Восточном горном монастыре. Они совершали туда паломничество. Этого Акитада и ожидал. На протяжении всей жизни его преследовали такие вот замысловатые совпадения, устроенные судьбой. Ливень, загнавший его под крышу Восточного горного монастыря в ночь убийства, странный разговор с престарелым настоятелем, адская настенная роспись и ночные кошмары неизбежно привели его теперь сюда, в дом Нагаоки. Он почувствовал, как жутковатая дрожь пробежала по спине. — А почему вы так уверены, что ваш брат невиновен? — спросил он у Нагаоки. — Да потому что я знаю его как самого себя! — воскликнул торговец. — У Кодзиро кроткий характер, и он неспособен на убийство. И напрасно он признался в том, чего не делал, — ведь он не помнит ничего из той ночи и не знает, как попал в комнату моей жены. Про себя Акитада подумал, что потеря памяти вряд ли может являться подтверждением невиновности, пусть даже и не вымышленной, но вслух лишь сказал: — Может, вам лучше рассказать мне, как все было? Но Нагаока уже замкнулся в себе. — Простите, — сказал он, — но я не понимаю, почему вас так интересуют мои семейные неприятности. — Нет-нет, они меня ничуть не интересуют. Просто так уж случилось, что я заночевал в том монастыре и, вероятно, мог видеть или слышать что-нибудь, способное оказать помощь вам или полицейскому расследованию. А кроме того, я вообще увлекаюсь распутыванием сложных юридических дел, и мне уже неоднократно удавалось раскрыть правду в подобных вашему случаях. Собственно, на этой почве я и познакомился несколько лет назад со старшим офицером Кобэ. Он тогда был простым капитаном, а я служил в министерстве юстиции. Уверен, что он охотно поручится за меня. — Последнее у самого Акитады вызывало некоторые сомнения, но подхлестывавшее его любопытство все больше и больше влекло его к убийству в семье Нагаоки. — Что, если вы немного расскажете мне о вашей жене и о брате? Нагаока внимал с интересом и теперь уже кивал: — Конечно, конечно, я обязательно расскажу. Видите ли, мой брат гораздо моложе меня и сложен крепче. Он очень обаятелен, и люди тянутся к нему. Акитада понимающе кивнул: — Похоже, как раз именно такого человека я видел у ворот монастыря, когда приехал туда. Дама, что была с ним, была укутана вуалью. — Моя жена была одета в светлое кимоно с вышивкой в виде цветов. Она тоже молода… то есть была молода. — Точно. Они прибыли туда чуть раньше меня, только, боюсь, мы не успели толком разговориться. — Надо же, какое совпадение! — удивился Нагаока, качая головой. — Это кимоно… Я как раз недавно подарил его ей. В нем она и умерла. Когда я увидел ее, ее лицо было… изуродовано, но она все равно была прекрасна. — Он содрогнулся всем телом. — Как вы добры, что предложили помощь! Мы с братом… — Голос его дрогнул. — Мы всегда были неразлучны. Родитель наш умер молодым, и я заменял ему отца. А теперь вот это ужасное происшествие, и я буквально проклинаю себя!.. — За что? — удивился Акитада и тут же прибавил: — Нет, мне, конечно, не хотелось бы влезать в чужие семейные дела, но, по-моему, вам полагалось бы горевать о погибшей жене. Вы же вместо этого, похоже, всецело озабочены арестом вашего брата. — Разумеется, я потрясен смертью жены, — угрюмо ответил торговец. — Но она мертва, а мой брат жив и сейчас больше нуждается в помощи. Кроме того… — Он тяжко вздохнул. — Мы уже давно оба тяготились этим браком. Нобуко не любила меня. Думаю, она воспылала чувством к моему брату. Этого и следовало ожидать. Ведь ей было всего-навсего двадцать пять, а мне пятьдесят. Ну взгляните на меня! Кто я? Скучный старик, вечно ковыряющийся в каком-то старье. А брат на пятнадцать лет младше меня. Он пишет стихи и по ночам в саду бренчит на цитре. Тут любая молодая женщина не устоит. Сам будучи счастлив в супружестве с Тамако. Акитада затруднялся представить, что может чувствовать муж, когда жена ищет любви его собственного брата. Ему вдруг пришло в голову, что Нагаока сам имел сильный мотив для убийства жены. Даже несмотря на вполне разумные объяснения, реакция торговца была на редкость странной. Ведь муж, преданный сразу двумя близкими людьми — женой и братом, — должен быть не на шутку разгневан и даже разъярен. А этот человек всего лишь робко упомянул о неверности жены и проявлял неистовое возмущение арестом брата. А между тем Нагаока продолжал свой рассказ: — Не следовало мне жениться во второй раз. По крайней мере на такой молодой девушке, что годится мне в дочери. — Он беспомощно всплеснул руками. — Нобуко была такая веселая и живая, когда жила в доме отца. Она любила танцевать и петь, и у них в доме всегда было полно молодежи. Я надеялся, что забота о детях заполнит ее жизнь, но мы так и не завели детей. Очень скоро я обнаружил, что она несчастлива со мной, и постепенно как-то отдалился от нее. Я притворялся, что занят работой, но на самом деле мне невыносимо было видеть ее такой несчастной. Она радовалась только при появлении моего брата, и меня это устраивало. — Он замолчал и угрюмо уставился на один из свитков на стене. Подождав немного, Ахитада спросил: — Простите, но не хотите ли вы сказать, что ваша жена от скуки взяла себе в любовники вашего брата? Нагаока был потрясен таким предположением. — Конечно, нет! Они не были любовниками, хотя я не стал бы возражать. Только Кодзиро никогда не предал бы меня, разве что… — Он покраснел и решительно прибавил: — Нет, мой брат никогда не сделал бы сознательно ничего, что причинило бы мне вред. Как, впрочем, и я ему. — Сознательно? Люди не совершают прелюбодеяние несознательно. Нагаока отвернулся. — Я так не считаю. Акитада, уловив в его словах тень сомнения, как можно осторожнее проговорил: — Но ведь что-то было? Нагаока сорвался и даже перешел на крик: — Я не знаю всей правды!.. И он тоже не знает! Судя по всему, Кодзиро был сильно пьян. Когда он напивается, он часто не помнит на следующий день, где был вчера и с кем. Городские стражники из веселого квартала частенько приводили его домой в бессознательном состоянии. Это меня всегда тревожило, потому что я боялся, что пьянство не доведет его до добра. — Он вздохнул. — Так и случилось. — Ваш брат жил здесь? — Нет, только приезжал погостить. У него имеется свой дом в деревне. Я помог его купить на деньги, оставшиеся от отца. Он усердно трудился на этой земле да еще присматривал за имением принца Апуакиры неподалеку. — Нагаока нервно сцепил руки. — И что теперь подумает принц! Ну почему?! Почему такому надо было случиться теперь?! — Что значит «теперь»? — Кодзиро перестал пить. Больше месяца не прикасался к вину. — Нагаока умоляюще посмотрел на Акитаду. — Вы только поймите — поведение Кодзиро в монастыре иначе как странным не назовешь. Все его былое пьянство происходило из-за любовного разочарования, но он справился с ним, покончил с этой слабостью. Акитаду не оставляли сомнения. Человек, привыкщий проводить время, бражничая до потери сознания в веселом квартале, запросто мог напиться и в монастыре, после чего напал на собственную невестку. Однако он сказал: — Как случилось, что он оказался в монастыре с вашей женой? — Это Нобуко решила совершить туда паломничество. Она хотела сделать пожертвование и прочесть какие-то особые молитвы, которые, говорят, помогают женщинам зачать. Я-то считал все это чепухой, но она… В общем, мне не удалось отговорить ее. Сам я ехать не хотел, и Кодзиро вызвался сопровождать ее. — Понимаю. А как ваш брат объясняет состояние, в котором его нашли? — Он не может объяснить. Клянется, что выпил только чаю, но.. — Подозреваете, он врет? Нагаока беспокойно заерзал. — Нет, конечно, нет. Но я не знаю, как это объяснить. От него буквально несло вином, и рядом нашли почти пустой кувшин с каким-то дешевым пойлом. Акитада кивнул: — Продолжайте. Что еще он говорит? — Кодзиро помнит, что почувствовал себя усталым и нездоровым, утверждает, что пошел прилечь в свою комнату. Это было последнее, что он помнит, а уж потом монахи ворвались в комнату моей жены и нашли ее мертвой рядом с ним. — Но зачем же тогда он признался в преступлении? Нагаока беспомощно сцепил руки в задумчивости. — Потому что в другие разы он тоже ничего не помнил. Он думает, что мог убить ее в своего рода припадке. Я пробовал уговорить его отказаться от признания. Пусть бы лучше полиция расследовала это дело дальше. — Он поморщился. — Но сегодня приходил старший офицер — сказал, что дело закрыто, и посоветовал не вмешиваться, чтобы не сделать Кодзиро еще хуже. Он сказал, что улики против моего брата такие увесистые, что они готовы добиться от него признания силой. Неужели они и впрямь могут сделать это? — Вполне. У них принято выбивать признания бамбуковыми палками. — Но мой брат не обычный преступник! — воскликнул Нагаока. — Он уважаемый землевладелец. Не могли бы вы упросить их подождать? Ведь должно же быть какое-то объяснение тому, что Кодзиро оказался в ее комнате. Может, кто-то что-нибудь видел в ту ночь. Их беседу прервал слуга: — Хозяин, вы будете сейчас кушать рис, или мне погасить огонь на кухне? Нагаока непонимающе смотрел на него, потом проговорил: — Рис? А что, уже пора есть? — Уже час как пора, — сказал слуга и метнул на Акитаду обиженный взгляд. — Ах вот оно что! — спохватился Нагаока, беспомощно глядя на Акитаду, и вдруг вспомнил о хороших манерах. — Простите меня, любезный господин. Похоже, я совсем утратил чувство времени. Не окажете ли мне честь, не согласитесь ли отобедать со мной вместе? У Акитады еще имелись вопросы, но с ними можно было подождать. Ему нужно поговорить с Кобэ как можно скорее. Чем дольше он будет медлить, тем свирепее станет Кобэ, а его помощь еще понадобится Акитаде, если он собрался помочь Нагаоке. Поднимаясь со своего места, он поблагодарил Нагаоку и уверил его, что постарается сделать все возможное для его брата. Нагаока тоже встал. Ему заметно полегчало, только трудно было сказать, чего ему больше хочется — избавиться от Акитады или получить от него помощь. — Мы с братом перед вами в глубоком долгу, — сказал он, низко раскланявшись. Полицейское отделение занимало целый городской квартал на улице Коноэ неподалеку от имперского города. Протискиваясь сквозь толпу, Акитада прошел через тяжелые, облитые бронзой ворота и попал в просторный двор. Он сразу же направился в главное административное здание и там спросил у молодого стражника про Кобэ. Ему повезло — старший офицер оказался на месте. Акитада нашел его на веранде, где он разговаривал с одним из тюремщиков. Увидев Акитаду, Кобэ удивленно приподнял брови. — Могу я поговорить с вами наедине? — спросил Акитада и покосился на стражника. Кобэ провел его в какую-то комнату, взмахом руки приказав всем выйти. — Итак? — сухо спросил он, когда они остались одни. — Я по поводу Нагаоки. Кобэ засверкал глазами. — Клянусь вам, я не собирался встревать, но после того, что вы сказали, я подумал, не окажусь ли я так или иначе замешанным в этом деле. — Что это значит? — рявкнул Кобэ. Он повысил голос, заставив Акитаду нервно оглянуться на дверь. — Что значит «замешанным»? Вы только что вернулись после долгого отсутствия. Так как же вы можете быть причастны к местному делу? В общем, так: если это опять очередная ваша уловка, то вы напрасно тратите время. — Ну подождите. Подождите, — спокойно проговорил Акитада. — Вам же понравилось, когда я вмешался в прошлый раз и когда мы работали вместе. Мне показалось, мы стали друзьями. Кобэ чуточку смягчился и понизил голос: — Поймите, это дурно смотрится, когда вы суете свой нос в дела полиции. Во-первых, мы тогда начинаем выглядеть неумехами. А теперь, когда вы еще к тому же занимаете важный государственный пост, могут и вовсе пойти разговоры о недопустимом влиянии сверху. Акитада едва сдержал смех. — Какой еще важный пост! Силы небесные, Кобэ! Да я никто! Я за себя-то не могу постоять. Но даже если бы я и был влиятелен, уж вы-то меня знаете!.. Я никогда не стал бы встревать в политические игры. Кобэ вздохнул. — Хорошо, забудем об этом. Расскажите-ка лучше, как вы замешаны в том, что произошло три дня назад в Восточном горном монастыре. — Я ночевал там в ту ночь и слышал чей-то крик. У Кобэ отвисла челюсть. — Что-о?! — Из-за сильного ливня мне пришлось искать укрытия в монастыре. Я приехал туда следом за молодой парочкой. Спалось мне скверно, и среди ночи я внезапно проснулся — почему, не знаю. Только, пробудившись, я понял, что где-то кричит женщина. Я выбежал из своей комнаты, но заплутал в лабиринтах монастыря. На следующее утро я рано отправился в путь. У ворот я рассказал о случившемся монаху-привратнику, и он дал мне взглянуть на схему монастыря. По его словам, в этом дворе, где кричала женщина, находятся лишь служебные постройки, которыми монахи пользуются только в дневное время. Также из-за дождя в ту ночь в монастыре ночевало много народу, в том числе труппа бродячих актеров, дававших представление накануне. Актеры эти, как я убедился собственными глазами, все были пьяны в стельку. Они запросто могли разбрестись по монастырю со своими женщинами. В общем, я не стал забивать себе голову и решил забыть об этом. Кобэ внимательно слушал. — Но вы-то считаете, что это как-то связано с убийством. Акитада кивнул, а Кобэ продолжал: — А я вот не согласен. Все это либо приснилось вам, либо, как вы сами подметили, это шумели пьяные актеры. Но если вам от этого станет легче, я готов послать туда своих людей — пусть разберутся. Где вы ночевали? В гостевых комнатах? — Нет. У них там есть помещения для особых гостей в одном из крыльев монастыря. Там я и ночевал. А жилье для обычных постояльцев находится оттуда далеко. — Понятно. То есть вы, как всегда, в самой гуще событий, — сказал Кобэ. — Только в любом случае вам больше нет необходимости беспокоиться об этом в дальнейшем. Вы доложили мне, и этого достаточно. — А что, если я как раз слышал крики убитой женщины? — запротестовал Акитада. — Странным было бы такое совпадение, если бы просто какая-то женщина из компании актеров кричала в ту ночь под окнами моей комнаты. И не может ли такого быть, что она была убита не в своей комнате и не братом своего мужа? Кобэ метнул на него свирепый взгляд. — Такой вывод неуместен, и вы это знаете. — Прищурившись, он спросил подозрительно: — А как вы узнали, где она была найдена? — Мне сказал Нагаока. — Стало быть, вы все-таки пошли к Нагаоке! — вспыхнул Кобэ. — И конечно же, он попросил вас вступиться за его брата. — Да, попросил. Кобэ что-то пробурчал себе под нос и принялся расхаживать по комнате, время от времени бросая на Акитаду сердитые взгляды. Пройдясь из стороны в сторону несколько раз, он остановился перед Акитадой и спросил сквозь зубы: — И что же вы ему еще сказали? Говорили про женский крик и про вашу версию, что убийство, должно быть, произошло в другом месте? — Конечно, нет! Я вовсе не собираюсь мешать вашей работе. — Ха! Да вы уже порядком навредили. Теперь по милости Нагаоки дело затянется. А ведь я специально ходил к нему предупредить, что под давлением улик нам придется подвергнуть его братца допросу с пристрастием, и если он не захочет подписать признание, то будет мертв через неделю. У Акитады защемило под ложечкой. — Вы не посмеете сделать этого! У вас не имеется достаточных улик. Он был сонный или не в себе, когда его нашли, и ничего не помнит. — Это он говорит, что не помнит. Он просто был пьян, и память обязательно вернется к нему, как только он отведает бамбуковых палок. Акитада попробовал найти убедительный довод, но так и не смог. В отчаянии закусив губу, он попытался подойти к вопросу с другой стороны. — А что говорит ваш лекарь, делавший вскрытие? Какова, по его мнению, причина смерти? К удивлению Акитады. Кобэ заговорил уклончиво: — Да в общем-то ничего особенного. Смерть произошла где-то в течение ночи. Эти лекари, знаете ли, не большие любители точности. В порыве ярости убийца искромсал ее мечом. Зрелище, я вам скажу, не самое приятное. — И, немного помолчав, Кобэ многозначительно прибавил: — Кстати, брат Нагаоки был найден прямо с мечом в руке и весь был залит ее кровью, когда их нашли. Сердце Акитады бешено заколотилось. — И тело еще у вас? Кобэ кивнул: — Да, в морге. Но это не тело, а сплошное месиво. Вам не захочется смотреть. — Мне захочется. Покажете? Кобэ отвернулся. — Да ведь уже три дня прошло, — умоляюще проговорил Акитада. — Совсем скоро вы отправите ее на сожжение. И как же я, по-вашему, смогу навредить делу, если взгляну на нее? Помедлив еще мгновение, Кобэ наконец повернулся и неохотно кивнул. — Ну ладно, — пробормотал он, направляясь к двери. — Может, я совсем с ума сошел, только кое-что в этом мертвом теле меня беспокоит. Мы даже спорили с лекарем, делавшим вскрытие, по поводу причины смерти. Так что я бы хотел послушать ваше мнение. Кстати, лекарь, по-моему, все еще где-то здесь. Когда они шли по коридору, все полицейские чины с улыбкой энергично кланялись Кобэ. Новая должность явно помогла ему заслужить их уважение. С одними он шутил, другим просто кивал и только раз остановился и распорядился, чтобы лекаря вызвали в морг. Они вышли из здания через заднюю дверь, пересекли просторный плац и направились к ряду приземистых построек. В самой последней из них и располагался морг, по строению скорее напоминавший обычный подвал. Перед узенькой дверцей стоял стражник. Он распахнул ее настежь, как только увидел Кобэ. Переступив через деревянный порог, они ступили на утрамбованный земляной пол. В пустой комнате вдоль стены лежали в рядок завернутые в циновки мертвые тела, и только один труп лежал в самом центре. Легкий запах разложения, исходивший от него, пока еще не был слишком назойлив. Скудный свет проникал в трупницкую сквозь два высоких окошка, покрытых деревянными решетками. Кобэ подошел к лежавшему посреди комнаты телу и сбросил с него циновку. Обнаженная мертвая женщина покоилась на спине. Рядом лежала ее свернутая одежда. Акитада сразу узнал ткань — плотный кремовый шелк, расшитый узорами из хризантем и зелени. Он видел эту одежду на закутанной в вуаль женщине, ожидавшей под дождем у ворот монастыря. Роскошная материя была заляпана кровью и грязью, и Акитада, еще недавно раскошелившийся на дорогостоящий шелк для сестры, не мог не пожалеть, что такая красота так печально закончила свое существование. — Вот, пожалуйста, взгляните на нее, — сказал Кобэ, подождав, когда Акитада насмотрится на одежду. — И что вы думаете по этому поводу? Акитада посмотрел и внутренне содрогнулся. То, что предстало взору, не могло не потрясти даже его, повидавшего на своем веку множество насильственных смертей. Теперь он пожалел, что тогда так и не увидел спрятанного за вуалью лица женщины. Ведь теперь он так и не сможет узнать, была ли она красива. Что осталось от этого рта, еще недавно улыбавшегося мужу или любовнику и произносившего слова любви… или ненависти? И эти глаза больше никогда не увидят красоты мира, и никогда больше не отразятся в них мечты о счастье или печаль. Вместо человеческого лица он увидел застывшее в смертельной маске кровавое месиво — нос и один глаз полностью отсутствовали, другой глаз был сокрыт под запекшейся кровавой коркой, а на месте рта нелепой черной дырой зияла огромная отверстая рана. Ему моментально припомнились ужасы, изображенные на адской ширме. Уж не в морге ли совершенствовал этот художник свое жуткое ремесло? Это было чудовищное по своей жестокости нападение. Убийца находился либо в припадке безумия, либо испытывал звериную ярость по отношению к жертве и поэтому полностью потерял рассудок. Акитаде пришел на ум Нагаока — муж. Кобэ, которого не волновали ни философия, ни психология, нетерпеливо подгонял: — Ну давайте же! Или вы ждете лекаря, чтобы он сказал вам, что с ней произошло? — Так-так, опять разговорчики обо мне у меня за спиной? — послышался с порога высокий отрывистый голос. Маленький энергичный человечек лет пятидесяти бодрой, подпрыгивающей походкой вошел в комнату. Он глянул на Акитаду, поклонился обоим и заговорил с Кобэ в непринужденном, почти задорном тоне: — Итак? Чем же мы обязаны второму визиту высокого начальства? — Мы? Кто это «мы»? — усмехнулся Кобэ, удивленно приподняв брови. — У вас тут что же, Масаёси, целый штаб или просто морг? Или, быть может, вы свели близкое знакомство с покойной госпожой Нагаока? Шустрый человечек весело загоготал. — Разумеется, последнее. У нас с ней обычные рабочие отношения, зато какие близкие и, я бы сказал, не лишенные страсти. — Он подмигнул Акитаде, который молча насупился. — А я вот пришел с другом, — объяснил Кобэ. — Его зовут Сугавара. Он не в меру любознательный парень и обожает разгадывать всякие задачки, особенно дела, которые веду я. Поскольку он изъявил желание взглянуть на труп, то я подумал: вы сможете извлечь из этого пользу, учитывая, что вы, кажется, так и не сподобились определить своим куриным умишком причину смерти. — Кобэ повернулся к Акитаде: — Это господин Масаёси, наш тюремный лекарь. Акитада сухо кивнул новому знакомому. Ему очень не понравилось насмешливое отношение доктора к мертвому телу уважаемой замужней женщины. Масаёси если и заметил эту холодность, то не подал виду. — А я наслышан о вас, — сказал он. — Помнится, в свое время много разговоров ходило о том, как вы ловко навесили на этого торговца шелком убийство девицы из веселого квартала. Акитада едва не задохнулся от гнева. — Никто на него ничего не вешал. Этот человек был виновен в преступлении. К тому же это было давно, и вам вряд ли известны все факты. Медицинского освидетельствования там, кстати, не требовалось. Впрочем, позже я получил кое-какие полезные советы от одного из ваших коллег, но, уж конечно, в том, что касается профессионализма, они ни в какое сравнение не идут с вашим мнением. Кстати, будьте любезны, поделитесь им со мной по поводу данного случая. Глазки у Масаёси заблестели. — Ага! Теперь-то мне понятно — у нашего начальства появился союзник. Ну уж нет, так нечестно, я не буду говорить первым. Скажите-ка сначала вы, что думаете по поводу ее смерти. Раздраженный панибратским тоном, Акитада все же согласился и приступил к осмотру тела. Супруга Нагаоки была, насколько ему помнилось из той встречи у монастырских ворот, среднего роста, имела красивые формы и бледную кожу. Если не считать искромсанных в кровавое месиво лица и шеи, никаких других ран на теле не наблюдалось. Не смущаясь ее наготой, на которую ему довелось насмотреться в банях и во время летних купаний, Акитада склонился над мертвой женщиной, внимательно исследуя ее красивые ноги и руки, маленькие упругие груди, плоский живот и округлые бедра. — Она была красива и молода, лет двадцати с небольшим, и вела подвижный образ жизни, — заключил он и принялся осматривать ступни ног, ладони и пальцы рук. — Кожа слишком нежная и белая для простой крестьянки, руки и ноги знали хороший уход, вот только… — Он пощупал ее бедра и предплечья, потом, поджав губы, распрямился. Кобэ нетерпеливо заглянул ему в глаза: — Ну так что там? Как она умерла? Акитада окинул взглядом чудовищные раны, нанесенные убийцей. Некоторые из них могли быть смертельными. Они начисто уничтожили лицо, почти перерубили шею и глубокими рубцами покрывали плечи. — Удары, полагаю, нанесены мечом. Ни один нож не способен так глубоко рассечь тело, а вот раны от меча обычно выглядят именно так. Я их много повидал. — Отогнав внезапно нахлынувшие неприятные воспоминания, Акитада снова опустился на колени, чтобы более обстоятельно изучить раны. — Странно, — пробормотал он. — Она, по-видимому, лежала распростертая. Тот, кто орудовал мечом, похоже, стоял над ней, потому что раны глубже наверху, а книзу довольно поверхностны. Кроме того, он, а может быть, это была женщина, явно перерезал горло умышленно, так как для этого понадобилось зайти с другой стороны. — Ага! — воскликнул Кобэ и бросил победоносный взгляд на Масаёси. Тот усмехнулся и спросил: — Что-нибудь еще? Акитада все еще разглядывал тело, щупая его своим длинным указательным пальцем. Лицо представляло собой совершенное крошево из запекшейся крови, хрящей и костей, белеющих среди красной плоти. Один глаз был закрыт, другого попросту было не видно в этом кровавом месиве. Из черного от запекшейся крови рта торчали сломанные зубы. Одним словом, лицо это уже больше ничем не походило на человеческое. Акитада подавил в себе неприятный приступ дрожи. — Крови маловато, — сказал он наконец, потом посмотрел на Масаёси и посуровел. — Это означает, что она была уже мертва, когда ее кромсали мечом. Не так ли? — Великолепно! — хлопая вл адоши, воскликнул Масаёси тоном учителя, довольного успехами старательного ученика. — Только вот как тогда она умерла? Раздраженный насмешливым тоном лекаря, Акитада снова устремил взгляд на тело. Никаких ран на нем не было, если не считать превращенных в крошево лица, шеи и груди. Тогда он осторожно перевернул мертвую женщину на живот. Шелковистые волосы были завязаны на затылке бантом, когда-то белым, а теперь потемневшим от засохшей крови. На спине ран тоже не наблюдалось. — Может, на голове?.. — пробормотал Акитада, ощупывая череп под волосами. Вся кровь из ран на лице и груди стекла потом вниз, пропитав волосы и бант. На черепе никаких ран или вмятин от удара твердым предметом тоже не оказалось. — Нет, — сказал Акитада, сидя на корточках и задумчиво глядя на тело. — Если исключитьотравление, то причина смерти, должно быть, скрыта под этими ранами. Лицо и горло так сильно искромсаны, что трудно определить, отчего она умерла, но версий может быть множество. От стрелы или ножа, попавшего в глаз или в рот, или, например, в горло. Только в последнем случае она бы сильно истекла кровью, и это было бы заметно. — Ну и ну! Я прямо потрясен, — закивал Масаёси, оскалившись в широкой улыбке. — Чему-то вас, молодых да благородных, все-таки учат. — Тон его на этот раз был откровенно оскорбительным. Акитада медленно поднялся на ноги. С высоты своего роста он посмотрел на коротышку-лекаря и холодно сказал: — Из ваших слов мне понятно, что вы ровным счетом ничего не смыслите в благородном образовании. При настоящих обстоятельствах вам было бы лучше попридержать свой язык. Ваши, судя по всему, нездоровые интересы привели вас на это поприще, так что если хотите на нем остаться, ведите себя сдержаннее. При этих словах Кобэ, до сих пор внимательно слушавший, усмехнулся, что означало то ли удивление, то ли удовлетворение. Зато лекарь, вдруг изменившись в лице, сухо и демонстративно поклонился и проговорил: — Прошу прощения, господин. Я забылся. Этот человек был явно склонен говорить лишнее, и Акитаде совсем не понравилась его манера извиняться, но он сдержал гнев. Он не любил унижать людей, занимающихся каким-нибудь полезным делом, но этот лекарь позволял себе чрезмерные вольности. Да и кем он был для Акитады с его высоким государственным званием? Всего лишь мелким исполнителем. Поэтому Акитада лишь сказал: — Ну что ж, а теперь, пожалуйста, расскажите, что вам удалось обнаружить. Масаёси отвесил новый поклон и повернулся к телу. Отодвинув в сторону волосы, он указал на затылок женщины. Кровь в этом месте была смыта, и на бледной коже под самым ухом едва виднелась тоненькая розовая полоска. — Вот, пожалуйста, — сухо сказал лекарь. — Ну и что? — поторопился вставить Кобэ. — Ничего особенного. От такого не умирают. Акитада наклонился к телу. Он медленно повернул голову мертвой женщины, стараясь проследить, куда ведет полоска. Обнаружив, что та скрылась под искромсанной плотью перерезанного горла, он распрямился и посмотрел на лекаря: — По-моему, вы правы. Вы считаете, что ее задушили чем-то вроде веревки или шнурка? Масаёси закивал. — Других ран на теле нет. Как нет следов отравления или болезни. — Он наклонился, чтобы поднять веко у оставшегося неповрежденным глаза: белок весь покраснел от лопнувших сосудов. — Такое бывает, когда люди задыхаются, — заключил лекарь. — Да это просто чушь! — не удержался Кобэ. — Зачем это ему понадобилось сначала душить ее, а потом кромсать на куски? — А вот это, дорогой мой Кобэ, уже ваша работа, — сказал лекарь, поднимаясь на ноги. — А я, с вашего позволения, пожалуй, откланяюсь. — Да-да, конечно, Масаёси, простите, что оторвал вас от дел, — пробормотал Кобэ. Акитада кашлянул, и лекарь метнул взгляд в его сторону. — Я могу еще быть вам полезен, господин? — спросил он ровным, сдержанным тоном. — Меня интересует, не нашли ли вы каких-нибудь признаков… э-э… половых действий. — Если вы имеете в виду половые сношения, то нет. Что-нибудь еще? — Нет, благодарю вас. — Акитада понял, что лекарь счел себя уязвленным и таким образом попытался поставить его на место. Когда Масаёси ушел, он сказал Кобэ: — До чего же неприятный тип! И где вы его только откопали? Кобэ нахмурился. — Он неплохой человек. И такой же упрямец, как и вы. Только вот аристократов недолюбливает, и ваш выговор его рассердил. Теперь мне долго придется подлизываться к нему, чтобы добиться хоть какой работы. И зачем вам только понадобилось так унижать его? Особенно если учесть, что он оказался прав, а вы нет. Акитада почувствовал, что краснеет. — Он мне нахамил. Не забывайте, Кобэ, я ведь уже не тот, кем был восемь лет назад. Там, в далеких заснеженных землях, я получил несколько серьезных уроков и хорошо усвоил, что такое представитель власти. Этот человек без должного почтения отнесся к моему званию, а без уважения к власти и званиям не может быть порядка. Почтение к чинам продиктовано здравым смыслом, иначе в обществе воцарился бы хаос. Насмехаясь надо мной, он насмехался над порядком, установленным нашим императором и богами, а это недопустимо. Кобэ расхохотался. Акитада застыл в негодовании, потом повернулся, чтобы уйти. — Да постойте же! — крикнул Кобэ. — Не делайте глупостей! Я согласен с вами, что у этого парня дурные манеры, но мне приходится смотреть на все с практической стороны. Масаёси чертовски хороший знаток своего дела, поэтому я не обращаю внимания на его странности. Вот взять, к примеру, этот случай. Если он говорит, что ее задушили, значит, так и было. Хотя судебное дело против брата Нагаоки от этого только усложняется, черт подери! На это Акитада сухо отрезал: — Как раз это не важно, потому что мертвая женщина — не жена Нагаоки. Кобэ изумленно уставился на Акитаду: — Не его жена?! Вы с ума сошли? Да муж её опознал! Какие могут быть сомнения? Даже сам Кодзиро признал в ней свою невестку. — И все-таки они ошиблись. — Во взгляде Акитады читалась абсолютная уверенность. — Возможно, у них есть какие-то причины говорить неправду. Тело может принадлежать любой молодой женщине. У этой же хорошо развита мускулатура, на ладонях мозоли и кожа на ступнях загрубелая от частой ходьбы. Возможно, она и не крестьянка, но и не изнеженная дама, каковой, несомненно, была жена Нагаоки. Я не знаю, где она взяла это платье, но думаю, вам следует выяснить, не пропала ли где служанка. Ведь ни вам, ни вашему хваленому судебному доктору, судя по всему, не пришло в голову задаться вопросом, почему ее лицо было так изуродовано. Кобэ снова расхохотался: — Нет, сегодня явно не ваш день! Так уж случилось, что я поинтересовался насчет мускулатуры и мозолей. Нагаока говорит, что его жена выросла в деревне и привыкла скакать верхом, лазить по горам и всякое такое. Его послушать, так она была настоящий мальчишка-сорванец. — Он стоял, раскачиваясь на каблуках, глаза самодовольно блестели. Акитада пребывал в растерянности. — Вы уверены? Тогда зачем было кромсать ее лицо? С какой целью? Кобэ взял его под руку и повел к выходу. — Да ладно, не берите в голову! Для одного дня вы уже достаточно навредили. Почему бы вам не пойти домой? Вы, помнится, говорили, у вас матушка хворает, так что вас там наверняка заждались. — Он произнес эти слова отеческим тоном, намеренно стараясь уколоть побольнее. Высвободив руку, Акитада процедил: — Нельзя ли мне только сначала коротко переговорить с братом Нагаоки? — Нет! — отрезал Кобэ тоном, не терпящим возражений. Глаза его при этом были холодны. — Ни сегодня, ни завтра и вообще никогда. Выбросьте это дело из головы. Оно вас не касается.ГЛАВА 5 ВРАТА СВЯТИЛИЩА
Возможно, четыре года назад Акитада, не так хорошо знакомый с Кобэ, мог бы еще попытаться упросить его разрешить ему свидание с обвиняемым, но сейчас, встретив этот неумолимый взгляд, он просто сухо откланялся, повернулся и вышел. Шагая в ярости к дому, он даже не заметил, что погода изменилась. Город зябко ежился от холодных порывов ветра и застилавших небо свинцовых туч. Люди спешили по домам, на бегу придерживая шляпы и поднимая воротники. Сухая листва кружилась в танце и забивалась в закутки зданий и под бамбуковые ограды. Дома ему открыл Сабуро, и его морщинистое старческое лицо тут же расплылось в добродушной улыбке. Акитада промчался мимо него в дом, где теперь укрылись от ветра матушкины монахи. Их заунывные голоса эхом гуляли по коридорам. Заслышав шаги брата, ему навстречу выбежала Ёсико. Глаза ее сияли, когда она радостно приветствовала его. — Как там она? — сухо поинтересовался Акитада, чье лицо и голос были мрачнее тучи. От радости Ёсико вмиг не осталось и следа. — Пока никаких перемен. — Она робко переминалась с ноги на ногу. — Что-то… случилось? — Нет. То есть да. То есть не обращай внимания. К тебе это не имеет отношения. Если матушка не звала меня, то я пойду в свою комнату. — Нет, она не звала. Но… что же все-таки случилось? Или ты не можешь говорить об этом? Глядя на ее встревоженное лицо, Акитада вдруг почувствовал себя виноватым из-за того, что сорвал на ней свой гнев на Кобэ. — Прости, — пробормотал он. — Тебе не о чем беспокоиться. Просто меня обидели — оскорбили мою чертову гордость и чувство собственного достоинства. Пошли. Если хочешь, я тебе расскажу. Личико Ёсико просветлело, и она последовала за ним в его комнату. — Шелк-то хоть доставили? — спросил Акитада, оглядывая ее скромное темно-синее кимоно. — Да! Об этом я и хотела тебе сообщить! Только знаешь, Акитада, не надо тебе было покупать для меня такую роскошную материю. И зачем два отреза да еще ткань для отделки? Да у меня в жизни не было ничего столь дорогого и роскошного! Наверное, заплатил целую уйму денег? Акитада улыбнулся: — Ну, не такую уж и уйму. И потом, сестричка, я же теперь человек состоятельный, и увидеть тебя в красивом наряде для меня великая радость. — Я тебе очень благодарна, братец, только, наверное, не придется мне их много носить. Особенно розовое. — Почему? — Из-за матушки. В первый момент Акитада даже воспылал гневом к матушке, когда представил, что даже в этом она отказывает родной дочери. Но потом он сообразил, в чем дело. Устыдившись своих мыслей, он сказал: — Да, сестрица, мы действительно должны быть готовы надеть траур, когда придет время. Правда, возможно, все не так и плохо. Но Ёсико покачала головой: — Нет, это скорее всего произойдет до наступления весны. Боюсь, даже совсем скоро. Она уже начала отхаркиваться кровью. Акитаду одолело уныние. — А что говорит врач? Ёсико потупилась. — Он говорит, конец близок. — И она не требовала меня к себе? Ёсико молча покачала головой. Акитада сидел, растерянно разглядывая свои руки. «Как же сильно она, должно быть, ненавидит меня», — подумал он. Он чувствовал, что мать оставит ему в наследство эти вечные горькие сомнения и отчужденность. Тяжелый вздох вырвался из его груди. — Она очень больна, — осторожно проговорила Ёсико. — Даже на себя совсем не похожа. Акитада не ответил. — А у тебя усталый вид. Ты ел что-нибудь в городе? — Что? Нет. Был так занят, что забыл. Ёсико ушла и вернулась с миской лапши и порцией рисовых колобков на подносе. Она тихонько наблюдала, пока он ел. Аппетита не было, но после еды он почувствовал себя лучше. Отставив в сторону недоеденную лапшу, он сказал с благодарностью: — Все-таки хорошо, что я вернулся. — И, поморщившись, торопливо поправился: — Вернее, к тебе. Ведь в этом доме я никогда не был счастлив. Слова его поразили Ёсико. — Ну зачем ты так?! Это же твой дом, не матушкин и не мой. И не позволяй ей отравлять здесь твою жизнь, жизнь Тамако и малыша. Когда-нибудь и этот дом снова наполнится счастьем. Наша семья жила здесь на протяжении многих поколений и будет жить благодаря тебе. Акитада оглядел свою комнату и неухоженный сад за окном, который сейчас был так же завален опавшей листвой, как двор Нагаоки. Со стороны матушкиных покоев доносились заунывные голоса монахов, назойливо проникавшие даже в это его личное убежище. Как и жилище Нагаоки, этот дом тоже пребывал в запустении, но слова Ёсико все же задели какую-то струну в его душе. Она была права. Это в его руках — вернуть жизнь в родовое гнездо. Тамако быстро разделалась бы с сорняками, превратив эти заросли за окном в настоящий цветущий сад, где их сынишка Ёри, а потом и другие дети играли бы и резвились, и тогда только их веселые голоса и смех слышались бы в доме вместо тягостных заупокойных молитв. Акитада улыбнулся. — Ну вот, так-то лучше, — сказала Ёсико. — А теперь расскажи-ка мне, что у тебя случилось. Что так расстроило тебя? Решив не упоминать о неприятностях Тосикагэ, Ахитада поведал ей, как ночевал в монастыре, как потом встретил в городе Кобэ и как в итоге оказался вовлеченным в историю с убийством жены Нагаоки. — Глупо было с моей стороны сердиться на Кобэ за этот отказ, — признался он под конец. — Все дело в том, что я теперь уже привык, чтобы мне подчинялись. И никто уже давно не разговаривал со мной в таком тоне. — И он с улыбкой прибавил: — Теперь понадобится время и усердие, чтобы снова стать нормальным человеком. Ёсико не улыбалась и молчала. Акитада с ужасом заметил, как она побледнела и ее большие глаза наполнились испугом. Проклиная себя за то, что поделился с ней своей страшной историей об убийстве и ночном кошмаре, он поспешил извиниться. — Да нет, ничего, — сказала она, жалобно улыбаясь. Только что же теперь будет? Кто поможет этому бедолаге? Неужели ты, Акитада, ничего не можешь поделать? А не воспользоваться ли твоим положением? Или обратиться к твоим влиятельным друзьям. — Конечно, нет. Я не настолько самонадеян. К тому же пока никоим образом не ясно, что этот человек невиновен. — Но как же так? Он не может быть виновен! Ты же сам сказал, что сомневаешься в его вине. Акитада вздохнул. — Да, милая сестрица, сказал. Но это разные вещи — быть неуверенным в вине и быть уверенным в невиновности. Меня смущает то, что у него имелся мотив. И то, что жену Нагаоки задушили перед тем, как искромсать на куски, говорит о том, что убийцей был не пьяный маньяк. Это выглядит попросту нелогично. Вот и все. — Да это мог сделать кто угодно! Например, муж. Он, наверное, был зол на брата, если подозревал его в любовной связи со своей женой. Может, он-то и убил ее и выставил все так, чтобы подумали на брата. Это была бы идеальная месть, не так ли? Она говорила с жаром, чуть подавшись вперед и глазами умоляя согласиться. Акитада не мог не прислушаться к ней. Конечно, она была права насчет мотива самого Нагаоки, и он сразу же сказал ей об этом. — Только вот руки у меня связаны, — прибавил он. — Кобэ не разрешит мне побеседовать с заключенным, а я должен это сделать, чтобы понять, что произошло в монастыре и каковы были отношения между двумя братьями и женой Нагаоки. — Он замолчал и с тревогой посмотрел на Ёсико. — У тебя все в порядке? У тебя немного возбужденный вид. Может, нам больше не говорить об этом деле? Скажи лучше, как по-твоему, не зайти ли мне к матушке? Потупившись, сестра некоторое время разглядывала руки, потом, собравшись с силами, сказала: — Наверное, лучше завтра. Боюсь, она может совсем возбудиться да начнет еще снова харкать кровью. Акитада закивал. Ёсико явно считала, что его появление в покоях матушки настолько не обрадует ее, что может ускорить ее смерть. — Тогда я, наверное, немного почитаю, — сказал он и дождался, когда сестра безмолвно поднимется и уйдет. Остаток дня он провел в унынии расстроенный тем, что не может с правиться с неприятностями, навалившимися на него сразу по приезде. Ненависть матери к нему даже в ее нынешнем положении действовала на него угнетающе, но еще были неприятности Тосикагэ, потенциально угрожавшие не только самому Тосикагэ, но также Акико и их еще не родившемуся малышу. Несчастная доля Ёсико да и его собственное неясное будущее тоже давили на него тяжким грузом. Он скучал по жене и сыну. Тамако и Ёри (полное имя малыша было Ёринага) до сих пор были для него всем в жизни. Он надеялся, что с ними все в порядке. Особенно он волновался за трехлетнего Ёри — ведь маленькие дети так всегда подвержены внезапным болезням и напастям. А еще он боялся, как бы они не наткнулись в пути на разбойников. Тут оставалось уповать только на Тору и Гэнбу — они сильные и опытные воины и, несомненно, сумеют защитить его семью. К тому же там есть еще носильщики и наемные всадники. Сэймэй, секретарь Акитады, конечно, слишком стар, чтобы противостоять грабителям, зато на выручку всегда может прийти его мудрость. И все же… В конце концов Акитаду сморил сон. Он провел беспокойную ночь, ворочаясь с боку на бок и беспрестанно просыпаясь от тревожных мыслей. За окном без умолку голосили монахи. «Интересно, сколько стоят их услуги? — подумал Акитада. — Надо будет поинтересоваться у Ёсико, какого пожертвования ждет теперь монастырь». Потом он слышал среди ночи, как кто-то пробежал, после чего монахи запричитали еще громче. Акитада вскочил, накинул на себя кое-что из одежды и стал ждать, что его позовут в матушкины покои. Но этого не случилось. В доме все стихло, и Акитада вернулся в постель. Только к утру он наконец уснул. Утром, одевшись, он поспешил разыскать сестру. Изможденная и усталая, она встретила его на пороге своей комнаты. — Как матушка? — спросил Акитада. — Я слышал ночью какую-то беготню. — У нее снова было кровотечение. На этот раз еще более сильное. Потом она все-таки уснула. — Ёсико устало прикрыла рукой глаза, под которыми темнели круги. — Во всяком случае, мне так показалось. Знаешь, я никогда не могу понять, спит она или просто так слаба, что не может шевелиться. — Ты устала. Хочешь, я пойду посижу с ней сегодня? Ёсико с благодарностью посмотрела на него. — Если можешь. Всего несколько часов, а то я ночью совсем не спала. Только не буди ее. В коридоре перед дверью матушки пятеро или шестеро монахов сидели с закрытыми глазами в рядок, беспрерывно шевеля губами и перебирая бусинки четок. Перешагнув через них, Акитада открыл дверь. Они, не поднимая глаз, не переставали бубнить. Матушкина комната была погружена в полумрак, в воздухе стоял тяжкий дух крови и мочи. Во всех углах мерцали угольки жаровен. Сидевшая у изголовья матушки служанка подняла на Акитаду удивленные глаза, но госпожа Сугавара оставалась бездвижной. Она лежала на спине, скрестив руки на животе, ее впалые глаза были закрыты, нос и подбородок обострились, отчего лицо перестало напоминать человеческое и больше походило на череп. Акитада осторожно опустился на пол рядом со служанкой и прошептал: — Я побуду здесь какое-то время. Как она? — Ночью ей было хуже, — так же шепотом ответила женщина. — Но теперь она спит. Уже час или около того. — Хорошо. Акитада приготовился к долгому бдению, но матушка вдруг открыла глаза и устремила их на сына. — Матушка! — осторожно позвал он и, не услышав отклика, попробовал снова: — Как вы себя чувствуете? — Где мой внук? — Голос прозвучал на удивление громко и резко в этой тишине. — Ты привел мне внука? — Пока нет. Они еще в пути и скоро приедут. Через… — Он осекся на полуслове, увидев, как ее лицо в считанные мгновения исказила ярость. — Убирайся вон! — крикнула она, задыхаясь. — Убирайся из моей комнаты и оставь меня одну! — Этот сдавленный крик перешел в приступ кашля. — Я даже умереть спокойно не могу… потому что ты постоянно врываешься сюда… Пропади ты пропадом… со своими… — Она вдруг приподнялась на постели, тыча в него скрюченным костлявым пальцем и сверкая полными ненависти глазами. Но она не успела больше ничего выкрикнуть. Черные сгустки крови хлынули у нее изо рта прямо на постель, и она, задыхаясь и захлебываясь, безвольно откинулась назад. Акитада в ужасе вскочил на ноги и теперь стоял, беспомощно наблюдая за тем, как служанка хлопотала, вытирая кровь и придерживая захлебывающуюся в кашле матушку. — Нужен лекарь. — сказал Акитада. — Я схожу за ним. Где он живет? — Не надо, господин. Лекарь тут не поможет. Это скоро само пройдет, — поспешила остановить его служанка. — Только вам сейчас лучше уйти. Она расстраивается, когда видит вас. Акитада бросился прочь из комнаты, на бегу споткнувшись об одного из монахов за дверью. Тот что-то проворчал, и Акитада на ходу торопливо извинился. В комнате его ждал завтрак. Только взглянув на него, он тут же помчался на веранду, и его вырвало в кусты. Почувствовав себя немного лучше, он вернулся к себе в комнату, оделся и ушел из дому. На улице было все так же пасмурно и промозгло. Колючие порывы ветра то и дело поднимали в воздух сухую листву. Деревья по большей части совсем оголились. Самое время для смерти, мрачно подумал Акитада, ежась от холода. На примирение с матушкой он больше не надеялся. Ее злобу и ненависть к нему приходилось принимать как должное. По-видимому, они таились все эти годы за маской приличия. Теперь же, на пороге смерти, когда ей стало безразлично чье-либо, а особенно его, мнение, она словно кровью, истекала этой своей накопившейся за всю жизнь горечью. По крайней мере это хотя бы освободит его от дальнейшей необходимости навещать ее. Впрочем, это решение не принесло ему покоя. Матушкины слова проникли к нему под кожу, словно яд, и впервые в жизни он пожелал ей смерти. В сущности, он даже надеялся, что она умрет скоро, до приезда его семьи — ему совсем не хотелось, чтобы она отравила еще жизнь Тамако и их обожаемого малыша. Ему невыносима была мысль, что эти костлявые руки будут касаться маленького Ёри, что сморщенные, пропитанные до ялом ненависти губы будут целовать нежные розовые щечки его сына. Горький протест, поднимавшийся в его душе, был подобен пробуждающемуся дракону. Да как смеет матушка разрушать покой и счастье, которые он наконец обрел, покинув отчий дом? В отчаянии сжимая кулаки, он жалел, что вообще вернулся. Ну уж нет, теперь, когда он здесь, он не позволит ей испортить будущее ему и его семье. Так, бесцельно бредя, он дошел до какой-то улицы в неизвестном ему квартале и остановился перед высокими воротами в святилище. Обычно вокруг таких синтоистских[1399] молелен было людно, но сегодня, по-видимому, из-за непогоды, здесь парила пустота. Величественная уединенность этого места произвела на Акитаду сильное впечатление, ворота, казалось, так и манили его. Словно зачарованный, он вошел. Ступив за ворота, он очутился в мире тишины и безмолвия. Густой ковер из листьев под ногами приглушал шаги, а звуки человеческих голосов и скрип телег на дороге словно остались далеко позади. Где-то чирикала птичка. Завернув за угол, Акитада увидел каменный бассейн. На его краю, трепеша крылышками, сидел воробей. Акитада подождал, когда он напьется и улетит, потом подошел и зачерпнул немного воды бамбуковым ковшом, лежавшим рядом. Прополоскав рот, он выплюнул воду на землю, потом вымыл руки. Прохладная и свежая вода словно очистила его душу, и уже с легким сердцем он приблизился к святилищу. Над входом покачивались на ветру привязанные за веревки священные свитки — они словно шептали слова молитв, начертанных на них рукой тех, кто пришел сюда поклониться до него. Акитада не принес такого свитка и сейчас вдруг пожалел об этом. Перед дверью в молельню он низко поклонился. Сладковатый запах фруктов и рисового вина в чашах для даров смешивался с ароматом благовоний. Акитада всматривался в сумрачное пространство впереди. Здесь не было никаких священных изображений, только огромный резной ларец посреди комнаты на столе. В нем, по-видимому, покоился дух какого-то местного божества. Акитада уже собирался повернуться и уйти, когда плеча его коснулась толстая соломенная веревка, свисавшая с карниза. Она предназначалась для битья в колокол, которым пользовались паломники, когда хотели донести свои просьбы до божества. Акитада замешкался, потом снова повернулся лицом к святилищу, трижды хлопнул в ладоши, мысленно сосредоточился и дернул за веревку. Где-то под сводами здания звякнул колокол. Акитада снова поклонился, постоял еще немного и вышел. Этот древний ритуал был знаком ему с раннего детства. Теперь на сердце у него странным образом полегчало, словно это простенькое священное действо помогло ему изгнать из души всех демонов и расчистить путь в будущее. Он был благодарен божеству, обитавшему в этом святилище. В доме, наводненном проклятиями умирающей матери, он терял всякую ясность мысли, но сейчас он понял, что должен повернуться спиной к прошлому, символом которого стала его умирающая мать, и позаботиться о будушем. Сестры отчаянно нуждались в его помощи. У него щемило сердце при мысли о Ёсико, давно уже не той веселой девчушке, а сильно изменившейся молодой женщине, печальной и грустной, забывшей о том, что такое улыбка. Он обязательно найдет ей достойного жениха, как только вернется к работе. Кого-нибудь, с кем она вспомнит, что такое смех. А вот у Акико, наоборот, неприятности из-за мужа. Акитада не смог в свое время повлиять на ее решение вступить в этот брак, которым сама она, судя по всему, была довольна. Интересно, осталась бы она при таком же мнении, если бы знала, в какую беду попал Тосикагэ? Собственно, из-за Тосикагэ Акитада и отправился снова к Нагаоке. У него еще остался список ценностей, исчезнувших из императорской казны, но он пока так и не посоветовался насчет них с антикваром. Когда он постучал в ворота Нагаоки, ему открыл все тот же слуга. Акитада с удивлением отметил, что тот опять переоделся в обычную одежду, а двор тщательно прибран и выметен. Что ж, похоже, Нагаока решил забросить траур по жене и навести порядок в доме. Нагаока сидел в своем кабинете, все так же склонясь над низеньким столиком, разве что на этот раз он деловито изучал какой-то предмет в деревянной коробке. Завидев Акитаду, он поднялся и предложил ему сесть. Его холодноватый и несколько официальный тон подсказал Акитаде, что его приходу здесь не так уж рады. — Прошу прощения за очередной неожиданный визит, — сказал Акитада, присаживаясь, — но я кое о чем забыл спросить у вас. Надеюсь, я не помешал вам? Нагаока тоже сел и отодвинул открытую коробку в сторону. — О нет, господин, ничуть, — сухо бросил он, потом спросил: — Может, выпьете чего-нибудь? Оставшись утром без завтрака, Акитада теперь чувствовал, что сильно голоден, но, видя такой холодный прием, решил отказаться от предложения. — Нет, благодарю вас. В комнате повисла неловкая тишина. Нагаоке явно не хотелось обсуждать убийство. Удивленный Акитада гадал про себя, что могло послужить причиной столь разительной перемены. Бросив взгляд на коробку, он спросил: — Я оторвал вас от работы? — Нет, я просто рассматривал предмет, который мог бы пойти на продажу. Вы не интересуетесь театральными представлениями? Он придвинул коробку к Акитаде, и тот едва сдержал изумленный возглас. В первый момент ему показалось, что там лежит отрубленная человеческая голова. Из складок парчовой ткани на него смотрело чье-то лицо. Эта отчлененная от туловища голова казалась живой. На лбу глубокие хмурые морщины, кустистые брови почти срослись над крупным крючковатым носом, а толстые губы растянулись в злобной усмешке. Бездонные черные глаза сердито сверлили взглядом Акитаду. Венчало голову некое подобие шапки эбоси, но лицо имело мало схожего с человеческим и скорее напоминало гримасу демона. Сухой голос Нагаоки вывел Акитаду из смятения. — Отличный образец, не правда ли? — Он смотрел на маску почти с обожанием. — Да-а… Выглядит убедительно. А что же это все-таки такое, если поточнее? — Это маска бугаку. Довольно старинная. То ли китайской, то ли корейской работы. Представляет одного из персонажей древнеиндийского эпоса. Маска танцора! Акитада дотянулся и вынул ее из коробки. Теперь он увидел, что она была полая и имела по краям тесемочки, при помощи которых крепилась к голове актера. Шапка лишь напоминала эбоси и сильно отличалась от тех, что носили при дворе, да и крючковатый большой нос не имел ничего схожего с носами японцев. Зато изготовлена она была мастерски и раскрашена натурально. Сверлящие глаза-буравчики оказались отверстиями, через которые мог смотреть актер. Танцевальные представления бугаку были весьма популярны у знати и часто давались при дворе с целью увеселения императора и его семьи. Так что эта самая маска вполне могла иметь отношение к хранилищу императорских ценностей. Правда, в списке Тосикагэ о таковой не упоминалось, но, возможно, это просто была более старая кража. — Она имеет ценность? — спросил Акитада у Нагаоки. Тот поджал губы. — Ей почти двести лет, и она в превосходном состоянии. Да. Думаю, для собирателя или для желающего сделать хороший подарок солидному человеку или, скажем, подношение храму она и впрямь представляет собой нечто стоящее. Вполне потянет на двадцать рулонов парчи. — Он потупился и посмотрел на свои руки. — Хотя такого предложения я вообще-то не жду. — А где вы берете такие редкие предметы? — Обычно их приносят мне люди, которые, нуждаясь в деньгах, откапывают дома что-нибудь ценное. А иногда, правда, реже, привозят из Кореи. — А эту маску? Нагаока ответил ему непреклонным взглядом. — Видите ли, господин, моя репутация отчасти держится на полной конфиденциальности, которую я считаю непременным условием ведения дел. — Это, конечно же, понятно. Но разве вам не важно знать, является ли в действительности столь ценный предмет собственностью того, кто его продает? Нагаока изобразил скупую улыбку. — Разумеется, я это выясняю. Кроме того, покупатель, как правило, интересуется происхождением вещи. Она от этого только возрастает в цене. Акитада удивленно приподнял брови: — Но как же тогда быть с конфиденциальностью? Его собеседник улыбнулся чуть шире: — Она ограничивается тремя парами ушей. Акитада задумался на мгновение, потом достал из пояса[1400] список Тосикагэ и протянул его Нагаоке со словами: — Это не на продажу, поэтому, надеюсь, в данном случае дело ограничится только вами и мной. Указанные здесь предметы были незаконно изъяты из собрания и могли предлагаться к продаже в течение последнего месяца. Не известно ли вам о каких-либо сделках в отношении части этих предметов или всего списка в целом? Нагаока сначала молча смотрел на него, потом прочел список. Нахмурившись, он пробежал его глазами еще раз, потом посмотрел на Акитаду. На лице его было странное выражение. — Вы говорите, эти вещи были похищены? Акитада покачал головой. — Похищенными они могут считаться, если будут предложены на продажу. В противном случае они были всего лишь изъяты без разрешения. — Ах, ну да… — Нагаока вернул ему листок. Пальцы его слегка дрожали. — Готов только с радостью признаться, что тут мне вам сообщить нечего. А дело-то нешуточное. Если они и впрямь были украдены, то это означает, что кто-то совершил неслыханное святотатство. Такие вещи не станут предлагать на продажу торговцу с хорошей репутацией вроде меня. За присвоение и сделки с любым из этих предметов грозит смерть или каторжные работы. Что касается меня, то я непременно доложил бы куда следует о любых слухах, если бы таковые ходили среди моих коллег. Не сомневаюсь, что точно так же поступили бы и они. Акитада кивнул. Его ничуть не удивило, что Нагаока знал о происхождении этих предметов. Специалист с его опытом определенно должен был знать, что хранилось в имперской казне. — Благодарю вас. Я так и предполагал, только хотел получить подтверждение. А как по-вашему, возможно ли, что эти вещи были увезены из столицы для продажи где-нибудь в отдаленной провинции или даже в Корее? Нагаока задумался. — Такое возможно, но это очень рискованное предприятие. Посудите сами, в этом случае вор должен иметь на примете уже готового покупателя, согласного совершить акт измены против его императорского величества и выложить немалую сумму за овладение такими предметами. А такой человек должен обладать весьма и весьма надежным положением. Акитада теперь по-новому смотрел на Нагаоку. Этого человека можно было уважать за удивительную проницательность. Возможно, профессия научила его так хорошо разбираться в тайных пожеланиях власть имущих. — А во втором случае? — Во втором случае вору пришлось бы заиметь тесное знакомство с зарубежными торговцами либо здесь, либо в порту Нанива. Корабли из Кореи не ходят к нам уже больше года по причине охлаждения отношений между нашими странами. Для людей моей профессии это большое бедствие, но это почти наверняка означает, что подобного рода предметы не могли предлагаться на продажу корейским торговцам. Никто из них давно не выезжал из страны, да к тому же, как я уже сказал, владеть такими предметами опасно. — Да, думаю, вы совершенно правы. Благодарю вас. Скажите, а сами вы много разъезжаете по делам? — Сейчас уже не часто. Оба снова замолчали. Акитада пытался придумать, как затронуть тему брата, когда Нагаока, вдруг откашлявшись, сказал: — С вашей стороны было очень любезно, господин, что вы проявили искренний интерес к моим семейным делам, но я надеюсь, что вы больше не станете беспокоиться и утруждаться ради моего несчастного брата. — Вот как? Так у вас, стало быть, есть утешительные новости? Может, у полиции появился другой подозреваемый? Нагаока отвел в сторону взгляд. — Это не совсем так. Простите меня, я не имею права обсуждать этот вопрос с кем бы то ни было, но надеюсь, что скоро он будет разрешен. Да что же все-таки случилось? Акитада несколько мгновений колебался, потом все же спросил о том, что уже давно не давало ему покоя: — Надо полагать, вы ничуть не подвергаете сомнению вопрос о личности жертвы? Нагаока был ошеломлен. — Конечно, нет. Я узнал свою жену сразу же. Эти слова вынуждали Акитаду напрочь отказаться от подозрения, что мертвое тело принадлежало кому-то еще. Нагаока выглядел удрученным, но, как показалось Акитаде, отнюдь не подавленным и убитым. Почему? Неужели Кобэ припугнул его? Или имелась другая, более серьезная причина? Может, он решил не рисковать и не позволять Акитаде совать свой нос в его семейные дела? И в том и в другом случае он дал это понять вполне отчетливо. Акитаде предлагалось не вмешиваться. Еще раз поблагодарив Нагаоку за помощь со списком Тосикагэ, Акитада распрощался с торговцем. Слуга, уже не такой угрюмый и более разговорчивый, ждал Акитаду в дверях, чтобы помочь ему обуться. — Зима на носу, — сказал он, чтобы завязать беседу. — Сегодня-то как холодно! — Что верно, то верно, — согласился Акитада, усаживаясь. — Я вижу, тебе пришлось потрудиться с этой листвой. Наверное, тяжело в одиночку присматривать за таким хозяйством? — Да еще от хозяина не больно-то дождешься благодарности, — проворчал слуга, возясь с обувью гостя. — Вот похороны скоро. Хоть и скромные, а еще хлопот прибавится. — Да, печальная история. А тебе нравилась твоя хозяйка? — Красивая она была. — Он помолчал и прибавил: — И гораздо моложе хозяина. — А что, должно быть, скучно ей было, такой молоденькой, сидеть здесь, пока хозяин бывал в частых отьездах? Слуга загадочно усмехнулся, поднимаясь. Акитада достал из пояса мелочь, отсчитал несколько медных монеток и протянул ему: — Вот, возьми за свои старания. Слуга довольно хмыкнул и поклонился. Они вместе направились к воротам. — Она строила глазки хозяйскому брату, — неожиданно продолжил разговор слуга. — А хозяин не видел ее шашней. Все возился со своими горшками да прочими штучками, а то и вовсе из дому уходил купить новых. И зачем только людям нужна эдакая дребедень?! — Да, это одна из таинственных сторон жизни. А ведь, должно быть, именно ты сообщил хозяину о ее смерти? Наверное, нелегко тебе было. Слуга кивнул. — Да уж, что верно, то верно. Знаете, как я трясся, когда полицейские колотили в то утро в ворота, а потом задавали мне всякие вопросы, словно я вор какой! Пришлось мне сказать, что хозяин будет позже и что я понятия не имею, куда он пошел. Накинулись они на меня, будто голодные псы, но в конце концов рассказали, что произошло, и ушли восвояси, велев мне самому сообщить ему о случившемся. А тут и он вскоре вернулся. Да знаете ли, довольно спокойно воспринял новость. Только развернулся и пошел прямиком в тюрьму — повидать брата. — А тебя удивило, что брата арестовали за убийство? — Поначалу да. А потом я подумал: кто знает, что у людей в голове? Выпить он любил крепко, а выпивший человек иной раз сам не разумеет, что творит. Итак, все вроде бы объяснялось просто и удобно. Но, шагая к дому, Акитада несколько раз задавал себе вопрос: где Нагаока провел ту ночь, когда была убита его жена?ГЛАВА 6 НАРИСОВАННЫЕ ЦВЕТЫ
Прошло больше недели без каких бы то ни было новостей. Мать Акитады немного оправилась после приступа и чувствовала себя чуть лучше следующие несколько дней, однако продолжала упорствовать в своем нежелании видеть сына. Но у Акитады было ощущение, будто гора свалилась с плеч. После посещения святилища он перестал ненавидеть мать, но в нынешнем состоянии отчуждения не имел ни малейшего желания лицезреть новую сцену. У него было чем заняться — нужно было подготовить отчет для советника-кампаку и навести порядок в счетах. Он наведался в монастырь, приславший монахов, чьи причитания продолжали оглашать дом, и пожаловал за их усердие несколько рулонов шелка. Там же он обсудил с помощником настоятеля условия похорон — этот вопрос последний встретил с откровенным неодобрением, мягко отчитав Акитаду и посоветовав ему укрепить свою веру в молитвы. Впрочем, это не помешало ему, как с сарказмом подметил Акитада, пуститься в разрешение денежных вопросов со всей основательностью. Больше всего Акитада беспокоился из-за того, что нет писем от Тамако. Он знал, что сейчас они должны были находиться где-то на подступах к столице, и передать письмо с кем-нибудь из нарочных, ежечасно проезжавших по главным трактам, ведущим в Киото, не составляло труда. От сознания беспомощности тревога Акитады только возрастала. Тосикагэ и Акико тоже не появлялись вот уже несколько дней. И хотя отсутствие новостей уже само по себе можно было считать хорошей новостью, Акитада никак не мог выкинуть из головы проблему Тосикагэ. Но здесь по крайней мере он был в силах хоть что-то предпринять, поэтому послал коротенькое уведомление о своем предстоящем приходе. И вот одним стылым и промозглым утром, когда крыши домов и террасы посеребрил иней, он выбрался из дома, чтобы нанести визит своему зятю. Дом Тосикагэ был хотя и меньше особняка семейства Сугавара, зато имел гораздо более свежий и внушительный вид. Он занимал четыре участка городской земли в одном из лучших жилых кварталов, сам дом и сторожка привратника были покрыты синей черепицей и обильно украшены резьбой на манер императорских дворцов, монастырских зданий и домов сановной знати. Акитада залюбовался им с улицы, отметив, что его собственный дом хоть и располагался в более старом и престижном квартале, даже несмотря на внушительные размеры, казался старомодной ветхой развалюшкой по сравнению с жильем зятя. В свое время дед и отец распродали часть угодий, прилегавших к дому, отчего оставшиеся постройки теперь выглядели затерявшимися среди высоченных старых деревьев и жалких клочков запущенного сада. Убогое и захудалое зрелище не только по мнению Акитады, но и, несомненно, в глазах осуждавших ею соседей. Частичный ремонт строений не решил главной проблемы — кровли, которая давно облупилась и зияла прорехами. Ведь на дорогостоящую черепицу никаких денег не хватит, хотя по прочности и долговечности она ни в какое сравнение не идет с чернеющим и гниющим дощатым или тростниковым покрытием. Мать Акитады, выбирая мужа для Акико, руководствовалась материальными соображениями. Ее привлекало состояние Тосикагэ, и теперь Акитада робко надеялся, что все это не будет конфисковано в погашение ущерба от кражи. Через открытые ворота он вошел в просторный двор, где слуги разравнивали гравий. Один из них, низко склонившись перед гостем, тотчас же помчался вперед доложить о его приходе. В доме его встретил дворецкий и после многократных поклонов сообщил, что хозяин с кем-то беседует у себя и очень просит извиниться. Зато госпожа Тосикагэ готова была с радостью принять брата. Акико занимала большую красивую комнату в северной части дома, где по традиции полагалось жить хозяйке. Покои сестры поразили Акитаду своей роскошью. Раздвижные двери, обтянутые вощеной бумагой, были сейчас закрыты из-за плохой погоды, но можно было догадаться, что за ними скрывается прекрасный вид на богатый, ухоженный сад. Одну из стен занимали полки и шкафы со всевозможными красивыми безделушками, вдоль противоположной стены стояли лакированные сундуки с одеждой и изящно разрисованная ширма. Посреди комнаты на глянцево-черном дощатом полу лежали четыре толстые соломенные циновки, огороженные парчовыми занавесками с бахромой. Акико томно сидела, откинувшись назад, на одной из циновок посреди шелкового постельного белья, пока юная служанка расчесывала гребнем ее блестящие черные волосы. — Неужто все еще в постели? — шутливо приветствовал ее Акитада. Она заулыбалась в ответ: — Да ладно тебе! Я уже полностью одета. Хотя только совсем недавно. Тосикагэ считает, я должна жить спокойно и не суетиться. — Она легонько похлопала себя по животу, выпирающему под шафраново-желтым шелковым кимоно, поверх которого был накинут еще коричневый жакетик китайского покроя. — Выглядишь просто замечательно, — заметил Акитада, усаживаясь на полушку-дзабутон. — Какой симпатичный на тебе жакет. А волосы! Я и не знал, что они у тебя так выросли. Акико была польщена. — Да. Красивые, правда? По целому часу причесываю их каждое утро. — Она вдруг выпрямилась и, обращаясь к служанке, сказала: — Все, достаточно. Видишь, у меня гость? Пойди-ка принеси вина. — Да рано еще для вина-то, — запротестовал Акитада. — А чай у вас, наверное, не подают[1401]. — Вот еще! Конечно, подают. Тосикагэ добудет для меня все, что угодно. Ну вот что, Сачи, приготовь-ка тогда чаю и принеси каких-нибудь сладостей. Когда они остались одни, Акико встала. — Ну и как тебе моя комната? Акитада огляделся по сторонам. В чистой и просторной комнате, куда свет проникал сквозь обтянутые прозрачной бумагой двери, было уютно и тепло — благодаря расставленным повсюду жаровням-хибати, в которых тлели раскаленные докрасна угольки. Акико подошла к двери и немного приоткрыла ее. — Мой личный садик! — с гордостью сказала она. Акитада тоже подошел и выглянул на улицу. За красными лакированными перильцами открытой веранды начинался настоящий пейзаж. Опрятный ручеек струился меж мшистых берегов. После горбатого красного мостика он вливался в небольшой прудик и оттуда вытекал на улицу прямо под высоченными штукатуреными стенами. Его холмистые берега покрывали высаженные талантливойрукой кустики и карликовые деревца, напоминавшие настоящий лес. Среди валунов возвышалась крохотная пагода, до мельчайших деталей — и позолоченными колокольчиками на карнизах, и золоченым шпилем на верхушке — походившая на настоящую, а за мостиком каменный фонарь искусной резной работы так и манил, словно обещая открыть новую сказочную картину. — А вон тот изображает гору Фудзи. — Акико указала на самый большой из рукотворных холмиков. — Похож? — Прямо один к одному, — соврал Акитада и с нежностью посмотрел на сестру. — Я рад, что ты счастлива и что Тосикагэ гак заботится о тебе. Она весело рассмеялась. Одной из самых милых черт Акико был ее звонкий смех. Он не был таким заразительным и непосредственным, как у Ёсико, зато прямо-таки ласкал слух. Акитада вдруг понял, что обожает обеих сестер. Акико поежилась и прикрыла дверь. — Какой сегодня холод, — сказала она, потом спросила: — Ну а как там матушка? Наверное, велела притащить к себе в комнату все жаровни, чтобы вы окончательно задохнулись. Нет, просто не представляю, как Ёсико выдерживает такое день за днем! Акитада немного приуныл, а трепетных чувств к Акико в его душе чуть поубавилось. Взгляд его упал на расписную ширму, сплошь разрисованную цветами в корзинах и вазах. Выписаны они были настоящей рукой мастера и выглядели как живые — глициния, колокольчики, камелии и множество других растений, которые его Тамако наверняка знала по именам и по целебным свойствам. Он вдруг сообразил, что Тамако, приехав, попадет в пустые комнаты, где даже от старой мебели толком ничего не осталось. Роскошь обстановки в доме Тосикагэ напомнила Акитаде о скудости его собственного. А как бы ему хотелось порадовать Тамако такой же вот в точности ширмой. Уж кто-кто, а она с ее любовью к саду и растениям, несомненно, оценила бы такой подарок. — Какая милая вещица, — сказал он сестре, указывая на ширму. — И кто художник? Вот бы и мне приобрести такую для Тамако. — Понятия не имею, — ответила Акико. — Ее заказал для меня Тосикагэ, его и надо спрашивать. А какая яркая, правда? Должно быть, дорогая. Все, что покупает Тосикагэ, стоит дорого. Только посмотри на все эти вещи! Не пропустив мимо ушей намек на то, что ширма может оказаться ему не по карману, Акитада обвел глазами комнату с ее изобилием ваз, лакированных шкатулок, расписных платяных сундуков, шелковых картин на стенах и занавесочек с кистями и бахромой, низеньких столиков для письма и косметики и многочисленных зеркал. Один из этих предметов вдруг привлек его внимание — крохотная расписная фигурка богини, чьи выцветшие краски все же притягивали взор благодаря позолоте. — И это он тебе подарил? — спросил Акитада, внезапно почувствовав, как учащенно заколотилось в груди сердце. Акико скользнула по фигурке равнодушным взглядом. — Что-то не припомню. Наверное, подсунул тихонько, чтобы сделать мне сюрприз. — Она присмотрелась к фигурке. — Симпатичная, только, по-моему, какая-то старая. Да? И вроде бы даже не здешняя. Похожа на китайское храмовое изображение Каннон[1402]. — Да, — согласился Акитада. Его сестра, как оказалось, неплохо разбиралась в подобных вещах. Статуэтка действительно была старинная и, судя по одежде, представляла собой одно из китайских олицетворений богини милосердия. Но главное, если только он не ошибался, эта крохотная женская фигурка имела прямое отношение к списку исчезнувших императорских ценностей. Двух таких существовать определенно не могло. Задумчиво глядя на Акико, Акитада пытался понять, не вор ли ее муж. — А в чем, собственно, дело? — спросила она. Ее встревоженные глаза и рука, прижатая к выпуклому животу, удержали Акитаду от объяснений — он понял, что не может поделиться с ней своими подозрениями. Снова усевшись на подушку и грея руки у жаровни, он сказал как ни в чем не бывало: — Знаешь, я вот подумал, что очень мало внимания уделял Тамако. По-моему, пришло время исправить это. Акико звонко рассмеялась и присела рядом с ним. — Вот и давай исправляй! — И она с озорным видом пригрозила ему пальчиком. — А то знаем мы вас, мужчин, — вечно носитесь где-то по делам, а про нас только ночью и вспоминаете. Слава Богу, Тосикагэ хоть пока еще обращает на меня внимание. А то меня даже и не удивляет, что так много знатных женщин держат любовников. Служанка принесла чай в бронзовом чайнике и, разлив его по чашкам, поставила оставшийся подогреваться на жаровню. Перед тем как уйти, она с поклоном сказала, обращаясь к Акитаде: — Хозяин освободился и готов встретиться с вами, как только вы пообщаетесь с госпожой. Акитада поблагодарил, а Акико недовольно поджала губки: — Ну вот еще! Ты же только пришел. Я-то думала, ты хочешь посоветоваться со мной, что купить Тамако. Уж кто-кто, а я знаю все лучшие лавки, торгующие шелком и всякими побрякушками. Отпив чаю, Акитада улыбнулся: — Ну теперь-то уж я разведал дорогу и буду заходить почаще. А что касается шелка, то на днях я побывал в одной лавке — хотел купить ткани на одежду себе и Ёсико. Знаешь, у них там, кажется, неплохой выбор. — Он назвал имя владельца. Акико кивнула: — Да, это хорошее заведение. Только зачем ты покупаешь ткань для Ёсико? Она же не надевает ничего, кроме каких-то старых обносков. Акитада встал: — Вот потому-то я и занялся этим. Жаль только, что ткань оказалась слишком яркой. Ёсико напомнила мне, что матушка очень скоро может переодеть нас всех в траур. Акико приуныла. — Ой, страшно даже подумать об этом! Представь только — неделями никуда не выходить, да еще эти траурные таблички повсюду. Все-таки как было бы здорово, если бы кто-нибудь разрешил сократить срок траура по родителям. Ведь это же совершенно бесполезное дело. Акитада мысленно не мог не согласиться с этим, пока шел к кабинету Тосикагэ, хотя слова Акико и прозвучали не слишком-то уважительно. Но уж кто-кто, а он вряд ли мог упрекнуть ее в этом, потому что сам не испытывал ни любви к матери, ни сожаления по поводу ее близкой кончины. Тосикагэ оказался в неожиданно мрачном расположении духа и к тому же был не один. Молодой человек в темном платье официального покроя поднялся навстречу Акитаде. Акитада сразу же догадался, что это один из сыновей Тосикагэ. Он походил на отца круглым лицом, хотя пока еще не начал полнеть. — Здравствуйте, здравствуйте, дорогой брат! — воскликнул Тосикагэ, бросившись обнимать Акитаду. — Уж простите великодушно, что не сразу смог принять вас. У меня была не слишком приятная встреча с начальником. А это вот мой сын — Такэнори. Он у меня что-то вроде доверенного лица и знает все про мои… э-э… неприятности. Акитада поклонился молодому человеку, и тот тоже ответил ему поклоном, учтивым, но сдержанным. — Давайте же присядем! Такэнори, налей-ка вина своему знаменитому новому родственнику. Акитада уселся на одну из шелковых подушек посреди комнаты. Как и покои Акико, кабинет Тосикагэ изобиловал роскошью. Огромные жаровни прогревали комнату, создавая уют. Такие же циновки покрывали пол, через обтянутые вощеной бумагой двери с улицы проникал дневной свет. Только вместо ширм здесь повсюду висели на стенах свитки, а дверцы стенных шкафчиков были разрисованы пейзажами. На полках хранились бумаги и документы в шкатулках, а возле круглого занавешенного окошка на низеньком столике лежали писчие принадлежности и бумага. На шелковом шнурке висел колокольчик с деревянным молоточком — на случай если понадобится позвать прислугу. Приняв из рук Такэнори чашку, Акитада любезно сказал: — Ваша помощь отцу, должно быть, очень нужна, Такэнори. Я и понятия не имел, что вы уже такой взрослый и можете выполнять такую ответственную работу. Вы учитесь в университете? — Да, господин. Благодарю вас за добрые слова. Парень был не слишком разговорчив, и Акитаде стало любопытно, в робости ли тут дело. Тосикагэ, решив заполнить неловкую паузу, сказал: — Такэнори исполнилось двадцать восемь. А моему другому сыну, Тадаминэ, — двадцать семь. Он сейчас воюет на севере и недавно был произведен в капитаны. — В голосе Тосикагэ отчетливо слышалась отеческая гордость и что-то еще. Может быть, грусть? — Вас нельзя не поздравить. Какие у вас замечательные дети! И дочери тоже есть? Немного повеселевший Тосикагэ усмехнулся: — Вот с дочерями не повезло, иначе я мог бы породниться с правящим кланом Фудзивара. А вы почему спросили? Уж не собираетесь ли взять себе вторую жену? Такое предложение застало Акитаду врасплох. Он никогда бы не взял в дом другую женшину, пока в нем жила Тамако. В голову сразу полезли беспокойные мысли о семье, но он отогнал их. — Ни в коем случае, — твердо сказал он. — Меня вполне устраивает мое нынешнее положение. — Вот и меня тоже! — воскликнул Тосикагэ. — Ваша сестра — предел мечтаний для такого старика, как я. Я надышаться на нее не могу. Акитада ответил зятю добродушной улыбкой. Зато Такэнори, как он заметил, сидел, плотно сцепив руки. Итак, стало быть, тут не исключено какое-то недовольство. Не очень-то приятная ситуация для Акико, которая по своей наивности, возможно, радуется тому, что вскоре станет матерью нового наследника. Она бросилась осуществлять свой план, не приняв во внимание взрослых сыновей Тосикагэ. А между тем Тосикагэ, не думая, какое впечатление произведут его слова на сына, с довольным видом продолжал: — А теперь она станет матерью. Она утверждает, что это будет мальчик. Ну что ж, женщинам лучше знать. Они разбираются в таких вещах, не правда ли? А как ваша жена? Я слышал, она родила вам сына. С радостью она носила его под сердцем? Вот моя Акико с радостью. Такой прелестный малыш! Уже стучит ножками, чтобы распахнуть себе дверь в жизнь! — Тосикагэ весело расхохотался, тряся животом. Сын его резко поднялся и принялся разбирать на столе какие-то бумаги. Тогда Акитада добродушно сказал: — Ну а если не сын, то дочка. Сможете удачно выдать ее замуж. Сыновья-то у вас в любом случае уже есть. Тосикагэ немного приуныл. — Сыновья у меня хорошие, — сказал он. — Только вот Такэнори, например, уже определен для служения церкви. Он лишь временно отложил постриг, чтобы помочь мне в нынешних трудностях, но уже в будущем году поступит в монастырь Искупления в провинции Синано. А Тадаминэ записался в войско. Войны-то у нас на севере не прекращаются. — Он печально вздохнул. Акитада удивленно посмотрел на Такэнори и, когда тот ответил ему безразличным взглядом, сказал: — Вами прямо-таки можно восхищаться — избрали себе такой серьезный духовный путь, и в такие-то юные годы! Не многие молодые люди так благочестивы, хотя, говорят, сам Будда обрел это призвание, еще не будучи в расцвете лет. Но не будете ли вы скучать по семье и по столичной жизни? На это Такэнори ответствовал: — Я ясно вижу свой путь. В этом мире меня ничто не держит. Тосикагэ нервно заерзал. Акитаде стало интересно, почему Такэнори избрал для себя этот путь — просто ли решил отказаться от мирских соблазнов или же почувствовал себя обделенным отцовским вниманием? Он недоуменно посмотрел на Тосикагэ, и ему показалось, что он заметил в глазах зятя слезы. Значит, парень все-таки сделал собственный выбор, как и его брат, решивший стать воином. Отвернувшись от отца и отказавшись от карьеры в столице, где они могли бы стать ему опорой, оба сына нанесли ему тяжелый удар. Но это, конечно, должно было пойти на пользу Акико, особенно если она собиралась родить Тосикагэ других сыновей и если бы Тадаминэ сложил голову на поле брани. Да, его сестра, несомненно, приняла в расчет эти обстоятельства. Ну что ж, горе и радость всегда неразлучны, из них сплетена веревочка судьбы. — А ну-ка, Такэнори, перестань суетиться и сядь. — со вздохом сказал Тосикагэ. — Мы должны рассказать Акитаде о нашем посетителе. Как оказалось, начальник дворцовых хранилищ собственной персоной заявился в дом к своему помощнику, чтобы выразить тому свое неудовлетворение по поводу дошедших до него слухов. Тосикагэ был удручен. — Эта история с лютней, которую я якобы присвоил, явно распространилась за пределы нашего ведомства, — сказал он. — Начальник наш не больно-то часто жалует нас своим посещением — руководит, так сказать, издалека, — а рассердился, потому что где-то на светском приеме прослышал про нелады в своем хозяйстве. Акитада внимательно наблюдал за зятем, пока тот рассказывал о визите начальника. Тосикагэ выглядел скорее расстроенным, нежели исполненным чувства вины. А вот сын его, похоже, сердился. Встретив взгляд Акитады, он воскликнул: — Это просто неслыханное оскорбление, и оно может стоить отцу места! — Ну, не так уж все страшно, — утешил его Акитада. — Никто не принимает эту сплетню всерьез. Уже через неделю о ней забудут и станут говорить о чем-нибудь другом. Кстати, я как раз хотел сообщить вам, что не напрасно обошел местных антикваров — по крайней мере мы теперь можем заключить, что вор, если таковой был, не предлагал никаких предметов из этого списка на продажу. — Он испытующе посмотрел на Тосикагэ. — А может, они и не пропадали? Как эта лютня, которую изъяли ненадолго и собираются вернуть? — Это невозможно! — воскликнул Такэнори. — Мы с отцом все тщательно проверяли! Эти предметы пропали давно, несколько месяцев назад. Тосикагэ со вздохом закивал: — Да. Боюсь, Такэнори прав. Мы обследовали все самым тщательным образом уже после того, как я рассказал вам. Мы делали это в нерабочее время, чтобы не привлекать внимания сослуживцев. Акитада поймал себя на мысли о подозрительном бегстве Такэнори в монашество — уж не потому ли он принял это решение, что предвидел увольнение отца и его изгнание? Эти две суровые меры определенно спасли бы его от судебного разбирательства. Но как быть со статуэткой, которую он видел в покоях Акико? — А вы уверены, дорогой братец, что ничего не забыли и не перепутали? Может, кое-что из этих вещей вы все-таки принесли в дом, и теперь они смешались с вашими собственными ценностями? Эти слова задели Тосикагэ за живое. — Разумеется, нет! — обиженно сказал он. — Я пока не страдаю слабоумием, хотя и старше вас. — Простите. Я никоим образом не хотел вас обидеть — Видя гнев на лице Тосикагэ, Акитада умолк. Ну вот как теперь разбираться с этим делом? Любой намек или подозрение могли вызвать у Тосикагэ серьезную обиду и привести к разрыву отношений между семьями или даже того хуже. Тосикагэ замкнулся в себе и обиженно молчал, зато Такэнори, похоже, был рассержен не на шутку. Поймав на себе взгляд Акитады, он не преминул возмутиться: — Мой отец отличается крайней щепетильностью во всем, что касается его рабочих обязанностей! Обвинять его в чем-либо просто непорядочно! Если уж на то пошло, пусть, если хотят, обыщут этот дом. Тогда его невиновность будет доказана раз и навсегда! На это Тосикагэ воскликнул: — Господи, да ни за что! Я этого не допущу! Как ты себе это представляешь? Только подумай, как расстроится Акико! В ее деликатном положении это особенно вредно, это может навредить ребенку. Акитада в растерянности лихорадочно пытался придумать другую тему для разговора и вдруг вспомнил про ширму. — Простите меня, дорогой братец, за эти необдуманные слова. Просто мне почему-то пришли на ум многочисленные красивые вещицы, которые я видел в покоях Акико. Гнев Тосикагэ, похоже, немного улегся. Уже более милостиво и с чувством он сказал: — Мне доставляет истинное удовольствие видеть мою красавицу в окружении красивых вещей. — Да, ей просто повезло. А вы, как я вижу, несравненный знаток прекрасного. Особенно меня поразила та ширма с цветами. — Ах, та ширма! Да. Ну и как, неплохо она там смотрится? Стоит, знаете ли, немалых денег. Работа настоящего мастера, который уже имеет имя при дворе. Какой странный ответ, подумал Акитада, такое впечатление, будто сам Тосикагэ не видел, как смотрится в комнате ширма. — Да, она изумительно там смотрится, — сказал Акитада. — Интересно, это вы придумали поставить ее у дверей в сад? Ведь летом она, должно быть, почти сливается с ним, и создается впечатление, что сад переехал в комнату. Тосикагэ просиял: — Ага! Вот и отлично! Нет, это, должно быть, Акико поставила ее туда. Моя умница! Итак, стало быть, Тосикагэ не часто наведывался в покои жены. Судя по всему, Акико сама ходила на половину мужа для осуществления супружеских обязанностей, как было заведено в императорском дворце. А коли так, то, возможно, Тосикагэ не имел никакого отношения к подозрительной статуэтке. Но это только затрудняло дело, потому что в таком случае, по-видимому, кто-то еще из домашних мог поместить статуэтку туда. Если, конечно, она вообще принадлежала к числу дворцовых ценностей, а не была просто похожим изделием. Акитада повернулся к Такэнори: — Кстати, ваш батюшка дал мне описание пропавших предметов, вот я и подумал, что и вы, должно быть, тоже знакомы с ними. Не могли бы вы припомнить и сказать мне, как они выглядят? Ведь так вы подтвердите слова вашего родителя. Но здесь от Такэнори было мало толку. Запинаясь, он давал какие-то неясные описания, перепутал цвет статуэтки и после того, как отец несколько раз поправил его, отказался от этой затеи, сославшись на то, что мало интересуется подобными вещами. В общем, вывода никакого не напрашивалось, разве что стало более или менее ясно, что статуэтка Акико — скорее всего просто удачная копия с дворцовой и что Тосикагэ явно не знает о ее присутствии в доме. Копнуть глубже Акитада не отважился — чтобы не встревожить отца и сына своими подозрениями. Он решил поговорить о чем-нибудь другом и вдруг снова вспомнил о ширме. — Меня действительно буквально потрясла ваша расписная ширма с цветами, — сказал он Тосикагэ. — Акико не сумела припомнить имени мастера и посоветовала мне спросить у вас. Я подумал, что мог бы приобрести нечто подобное для Тамако — она у меня любит сад и цветы. Тосикагэ хлопнул в ладоши: — Отличная мысль! Нашу ширму покупал Такэнори. Ну-ка, Такэнори, посмотри адрес и объясни Акитаде, как добраться туда. Сын послушно поднялся, подошел к полкам и, открыв одну из коробок с документами, принялся изучать ее содержимое. Вернулся он с листком бумаги в руках и протянул его Акитаде. — Вот нужные вам сведения, господин, — учтиво проговорил он. Это была копия счета на покупку ширмы «в одном экземпляре, четырехстворчатой, с изображением цветов в необычных сосудах». Товар надлежало доставить к концу месяца Желтеющих Листьев в дом его превосходительства помощника начальника дворцовых хранилищ в обмен на десять слитков серебра. Счет был подписан мастером «Ноами, проживающим в «Бамбуковой хижине», что возле храма Безграничного милосердия». Десять слитков серебра! Громадная сумма для простого ремесленника, привыкшего продавать свои работы на рынках да на монастырских торжищах. — Да при таких-то заработках этот человек должен жить во дворце — заметил Акитада. — Где же находится эта «Бамбуковая хижина»? Тосикагэ рассмеялся. — Помните, я говорил вам, что этот парень входит в моду? Так вот вам любопытная деталь — он, говорят, изучает цветок на протяжении всех стадий его развития — от бутона до опавших лепестков. Такое усердие стоит денег. И знаете что, дорогой братец, у меня появилась идея. Я все мучился, не зная, как выразить вам свою благодарность. Так доставьте же мне удовольствие и позвольте преподнести вам в дар такую вот ширму. Такэнори сходит с вами к художнику, и вы сами объясните ему, что вам нужно. А я позабочусь о том, чтобы доставить потом ширму вашей очаровательной жене. Акитада смутился. Ни при каких обстоятельствах ему не хотелось обязываться перед Тосикагэ, по крайней мере до тех пор. пока он не убедится в непричастности своего зятя к делу об исчезновении императорских ценностей. — Благодарю вас, братец! Вы чрезвычайно любезны и щедры, только этот подарок я хотел бы сделать Тамако сам. Думаю, вы меня хорошо понимаете. Изогнув бровь, Тосикагэ усмехнулся с видом знатока. — Не говорите больше ничего, дорогой братец! Я вас отлично понимаю. Как же! Ведь ваша дама должна получить знак восхищения именно от вас. — Он хихикнул. Тогда, обращаясь к его сыну, Акитада сказал: — Вам вовсе не обязательно ходить со мной, вот разве что объясните мне, как добраться до дома этого мастера. Выяснилось, что художник проживал в западной части города, причем Такэнори намекнул на какое-то опасное соседство. — Это еще что значит?! — воскликнул Тосикагэ. — Ты ничего мне не говорил о каких-то там опасностях. Такэнори стыдливо потупился: — Простите, отец. Я и сам не знал, пока ко мне не прицепились какие-то два оборванца. Мне довольно легко удалось от них отвязаться, но господину Сугавара может так не повезти. Тосикагэ прищелкнул языком. — Да, в западном городе становится все более и более неспокойно, там уже без опаски по улицам не походишь. Такэнори прав. Вам следует взять с собой вооруженного слугу. Не могу только понять, зачем успешному художнику жить среди такого отребья. — Ну, дом-то у него весьма и весьма приличный, только вот зарос порядком, — заметил Такэнори. — По-моему, это его родовое гнездо, но живет он там один. — Ну что ж, мне, пожалуй, пора. — Акитада поднялся, все еще не в силах выкинуть из головы подозрения относительно фигурки в комнате Акико. После мимолетного колебания он сказал Тосикагэ: — Мне кажется, моей сестре пошло бы на пользу, если бы вы рассказали ей о происхождении и значении некоторых поистине очаровательных вещиц, украшающих ее покои. Я убежден, что, зная их историю, она в большей мере сможет насладиться их красотой. У Тосикагэ был довольный вид. — Безусловно, безусловно! Какая хорошая мысль! И я с удовольствием это сделаю. Пожалуйста, передайте мой самый сердечный привет вашей благородной матушке и мои самые искренние надежды на ее выздоровление. Это были пустые и никчемные слова, и оба они понимали это. Акитада поклонился и отправился восвояси. После тепла и уюта, царивших в доме Тосикагэ, холодный уличный воздух буквально хватал за горло. Акитада старался шагать живее, чтобы разогнать кровь. Ему не терпелось поскорее разрешить вопрос с подарком для Тамако. К предостережению Такэнори он отнесся с пренебрежением. Его обидел намек на то, что он не справится сам, к тому же его покоробил тот факт, что юный Такэнори не очень-то привечал молодую жену своего отца, а заодно и ее брата. Ведь он не мог не понимать, что Акитада способен легко справиться с более серьезной опасностью, нежели парочка каких-то голодных оборванцев. Но даже больше, чем косвенное обвинение в малодушии или необходимость пробираться через разбойничий квартал, его раздражала цена работы мастера. Однако на этот раз он не позволит, чтобы деньги встали на его пути. У Тамако будет собственная ширма, чего бы это ему ни стоило. Правда, пока еще он не знал, какую цену в конечном счете придется заплатить.ГЛАВА 7 «БАМБУКОВАЯ ХИЖИНА»
Два дня спустя Акитада отправился к художнику. Со времени своего возвращения он еще не наведывался в западный город. Именно там почти пять лет назад ему довелось испытать жестокое душевное потрясение, когда во время пожара заживо сгорел в своем доме отец его жены. С тех пор он старался избегать этой части столицы. День снова выдался на редкость промозглый. В здешних краях зима приносила не обильные снегопады, как на севере, а колючие ледяные ветры, и серые оголенные стволы деревьев да жухлая трава представляли собой поистине унылое зрелище по сравнению со сверкающими снегами, белоснежным ковром покрывающими просторы Эчиго. Людей на улицах в этой части города было совсем мало, и все они, казалось, куда-то спешили, ежась от холода и все ниже утыкаясь подбородками в поднятые воротники простеганных ватой одежек. Женщины, укутанные в теплые платки, шли по дороге, придерживая их одной рукой, а другой судорожно сжимая корзинку или озябшую ладошку малыша. Проходя по улице Коноэ, он засмотрелся на флаги, развевавшиеся над имперской тюрьмой. Тюрем в городе было две, как две городские управы и два рынка. Это разделение города на восточную, или левую, половину и западную, или правую, с улицей Судзаку в качестве разграничительной черты словно образовывало два мира, ибо не было на земле ничего столь непохожего, как эти две половинки. Восточная часть города отличалась многолюдностью, толкотней, и жили в ней в основном люди добропорядочные и состоятельные, в то время как западный город быстро приходил в запустение, и населяли его по большей части те, кому хорошо были знакомы отчаяние и нужда. Здешняя тюрьма всегда была переполнена, и списку судебных разбирательств не было конца. Брат Нагаоки находился в другой тюрьме, где, впрочем, вне всякого сомнения, подвергался точно такому же каждодневному избиению, коим обычно выбивалось из заключенного признание. При этой мысли у Акитады защекотало под ложечкой, и противная дрожь пробежала по лопаткам. Мастерская художника располагалась в самом западном квартале города. Акитада шагал торопливой походкой, чтобы разогреться, и все кутался в поднятый воротник стеганого платья. Но вот уши некуда было спрятать, и вскоре мороз начал болезненно пощипывать их. Некогда в здешних местах располагалось штук пять частных усадеб, окруженных пышными садами, но все они теперь развалились или сгорели дотла. Местная знать перебралась в другую часть города, оставив родные гнезда зарастать бурьяном. Теперь на этих покинутых землях жили поселенцы, то здесь, то там тоненькие струйки дыма поднимались над убогими хижинами или опустевшими особняками. Их обитатели в бедных одежках, взглянув на Акитаду в богатом наряде, торопились обойти его стороной. Здесь он смотрелся так же странно, как отрез парчи среди грубого полотна или — как он вскоре понял, так и не сумев приблизиться хоть к кому-нибудь, чтобы уточнить направление, — как рыба, выброшенная на сушу. Еще больше он пожалел о том, что так хорошо оделся, когда за ним увязались шестеро или семеро оборванных юнцов, которые, похоже, ждали, когда он свернет в какой-нибудь узенький переулок, где его легко будет ограбить. Как ему пройти, он наконец узнал у какого-то работяги, тащившего на спине связку черепицы, явно раздобытой на одной из заброшенных усадеб. Неохотно опустив свою ношу на землю, тот с удивлением оглядел дорогой шелковый наряд Акитады. И вообще чем дальше Акитада углублялся в эти трущобы, тем неспокойнее становилось у него на душе. Он стыдился своей одежды перед этими оборванными бедолагами, ютившимися в убогих хибарах и землянках, что выстроились вдоль заросших бурьяном и покрытых колдобинами дорог. По мере продвижения квартал становился более людным и одновременно более мрачным. Лавки и лотки торговцев дешевыми товарами теснились на узких улицах Иногда встречались молеленки или крошечные пагоды, и лишь изредка попадался какой-нибудь действительно приличный дом, но в основном окрестности кишели дешевыми винными погребками и кухнями, от которых несло горелым рыбьим жиром и гнилыми овощами. Храм Безграничного милосердия поразил Акитаду размерами и величием. Его основное здание и другие, более мелкие, постройки располагались в просторном дворе, окруженном полуразвалившимися стенами, с которых во многих местах осыпалась штукатурка. Двор храма утопал в тонкой пелене серого дыма — судя по тому, что Акитаде удалось разглядеть через проломы в стенах, там находилось что-то вроде местного рынка. Он остановился перед храмом и огляделся, соображая, как ему найти дом художника, и в этот момент кто-то сильно толкнул его в спину, отчего он даже закачался. Чьи-то руки ухватились за его пояс и уже тянулись к рукавам[1403]. Повинуясь инстинкту, он моментально вывернулся и, сжав кулаки, бросился на обидчиков. Правым он нанес кому-то сильный удар. Послышался жалобный визг, и какая-то хлипкая фигурка метнулась в сторону. Но разглядывать ее у Акитады не было времени, поскольку левой рукой он схватил другого нападавшего и повалил его на землю лицом вниз. Придавив поверженного противника коленями, он врезал тому хорошенько и схватил за запястья, буквально вдавив его в грязь. Пленник его заверещал тонким голоском, и тут Акитада сообразил, что поймал какого-то мальчишку, сопляка лет четырнадцати или пятнадцати. Карманные воришки, с отвращением подумал он и убрал колени со спины паренька, гадая, что теперь с ним делать. Ответ на этот вопрос очень скоро стал очевиден. Небольшая враждебно настроенная толпа собралась вокруг них. Стоя на коленях посреди улицы, Акитада сначала увидел их ноги, по большей части босые или в обтрепанных соломенных варадзи[1404], и среди них только одну пару огромных кожаных сапог — прямо перед своими глазами. И хотя сапожищи эти были поистине громадного размера, их владельцу пришлось еще отрезать им мысы, чтобы выпустить на свободу здоровенные грязнюшие пальцы. Подняв голову, Акитада обнаружил, что обладатель сапожищ полностью отвечал своей обувке в том, что касалось и размеров, и «чистоты». Бородатый великан свирепо смотрел на Акитаду сверху. Но что еще хуже, по обе стороны от него стояло никак не меньше десяти или пятнадцати крепких парней с угрюмыми, враждебными лицами. Акитада сглотнул ком, сдавивший горло. Здоровенный бородач втрое превосходил его в весе. — Ну-ка отпусти его! — сказал он, свирепо сверкая глазами на Акитаду. Акитада встал на ноги и поднял за собой паренька, крепко держа его за шиворот. Юный воришка перестал ныть и сопротивляться и с нахальным видом ждал, чем кончится эта встреча. Лицо бородача, как оказалось, выглядело нисколько не лучше, чем все остальное. Повыше неухоженной, нечесаной бороды оно было сплошь покрыто рытвинами оспы, а мясистый нос и жирные губы тоже ничуть не прибавляли ему красоты. Несколько мгновений они смотрели друг на друга с отвращением, потом Акитада с небрежным видом сказал: — Этот мальчик со своим приятелем пытался ограбить меня. Я бы хотел поговорить с его отцом, если вы скажете мне, где он живет. У здоровяка от таких слов поначалу отвисла челюсть, но он быстро опомнился. — Сказано тебе отпустить его! Не твое это дело! На кой ты нам нужен тут такой добрый, если обзываешь наших детей ворами! Толпа вокруг одобрительно загудела и придвинулась ближе. Акитада подтолкнул парня вперед, продолжая крепко держать за шиворот. — Вот ты считаешь, что заботишься о своих детях! Да ты разуй глаза! — с вызовом сказал он, обращаясь к верзиле. — Ты посмотри на него! Сегодня он пытался вытащить у меня из пояса несколько медных монеток, а завтра возьмется за нож и будет резать беспомощных стариков и женщин. Неужели ты хочешь, чтобы он дошел до убийства или был убит сам? Сколько еще твоих сыновей бегают сейчас без присмотра? И сколько твоих сыновей заканчивают жизнь от ножа или в кандалах? В толпе послышался сердитый ропот, но здоровяк изумленно глазел на паренька, и Акитада заметил, что уверенность его пошатнулась. — Киндзиро — хороший парень. Восьмой по счету в семье, — словно оправдываясь, проговорил великан. — Я знаю его родителей. Такие же бедняки, как и все мы. Отец у него хворает, а мать недавно родила еще одного. Может, он просто случайно налетел на вас в толпе? Эй, Киндзиро! А ну скажи-ка, пытался ты стащить у господина деньги? Мальчишка залился слезами и пустился что-то объяснять на каком-то местном наречии, которого Акитада совсем не мог разобрать. А вот здоровяк внимательно слушал, и лицо его постепенно вытягивалось. Когда мальчик закончил и, шмыгая, вытер мокрый нос, он положил на его худенькое плечо огромную ручищу и сказал: — Ладно, не волнуйся. Я с этим разберусь. А сейчас ступай домой. — Он посмотрел на Акитаду: — Можете отпустить его. Я — Хэята, здешний староста, и сам пойду поговорю с его родителями. У них сегодня ночью умер самый младшенький, а денег на похороны нет. Акитада моментально отпустил мальчика. — О, простите… — сказал он, чувствуя себя беспомощным перед лицом такого тяжкого горя и острой нужды. Он было потянулся к поясу за деньгами, но передумал. Откуда ему знать, правда это или хитрая уловка, чтобы выманить у него деньги? Здоровенный бородач кивнул пареньку: — Давай-давай, чеши отсюда! И смотри не попадайся мне больше со своим дружком Ёси! — Потом он, махнув рукой, распустил толпу и, когда все разошлись, сказал Акитаде, указывая на его одежду: — По всему видать, что в наших краях вам не место, господин. Шли бы вы лучше домой поскорее. — С этими словами он развернулся и торопливо зашагал за мальчиком. Итак, ему отчетливо дали понять, что его присутствие здесь не приветствуется. Рассерженный таким приемом и настроенный решительно, Акитада стряхнул пыль с одежды и перешел через улицу к храму. Он ступил за покосившиеся ворота и зашагал по широкому двору, где раскинулся самый настоящий базар. Народу здесь было множество — кто-то грелся у костров, кто-то торговался с лоточниками, ребятишки толклись среди взрослых, крича и гоняясь друг за другом. У одного из костров какие-то оборванцы прямо на земле играли в кости. На ступеньках храма целая толпа зевак — и детей и взрослых — завороженно внимала басням бродячего сказителя. И повсюду шла торговля — дешевым вином, горячей пищей, амулетами, овощами, старым тряпьем, деревянной утварью, лекарственными настоями, отварами и мазями от всех вообразимых и невообразимых недугов. А недугов здесь было великое множество. Один человек был крив на один глаз, другой калека ковылял на костылях, а на ступеньках в толпе, окружавшей сказителя, древняя старуха кашляла в замызганный, перепачканный кровью лоскут, заменявший ей платок. Несмотря на всю эту грязь и толчею, Акитада почувствовал приступ голода. Уловив в воздухе какой-то аппетитный запах, он направился к кучке бедняков, которые, завидев его, ошеломленно расступились, и, шагнув в их круг, он увидел молодую женщину, видом поопрятнее остальных — она помешивала суп в громадном котле над огнем. Акитада протянул ей несколько медных монет, и она налила ему приличную порцию супа в глиняную миску. Грея руки о горячую посудину, Акитада сожалел, что не может прижаться к ней еще и замерзшими ушами. Суп, как оказалось, был сварен из бобов и разнообразных овощей. Акитада осторожно попробовал и понял, что аромат его не подвел. Ему показалось, что в этой похлебке он смог различить вкус репы и капусты, но был там еще какой-то лиственный овощ темно-зеленого цвета со слегка горьковатым, однако весьма приятным вкусом. Быстро опустошив миску, он попросил себе новую порцию. На этот раз женщина улыбнулась ему, а потом наблюдала, как он ест. Он спросил ее, как называется зеленый овощ. Щавель — ответила она и объяснила, что он в изобилии растет в здешней округе, особенно на старом монашьем кладбище за храмом. Акитада чуть было не поперхнулся от таких слов и посмотрел в указанную сторону. Там на пустыре среди покосившихся деревянных надгробий шестеро или семеро маленьких мальчишек наблюдали затем, как их товарищ крутит волчок. Акитада и сам в детстве забавлялся с волчком, и это воспоминание вызвало у него улыбку. Мальчонке, что вращал волчок, было лет пять или шесть, и по всему было видно, что он большой мастак в этом деле. Его игрушка подпрыгивала и плясала, и он лихо запускал ее, в какую ему хотелось сторону. — Ну и мастер этот малыш, — с улыбкой сказал Акитада. — Это мой сын, — с гордостью объяснила женщина. — Очень любит свой волчок. Да и в чем ему еще преуспеть-то, бедняжке?! Акитада, протягивая ей обратно пустую миску, спросил: — Что значат твои слова? На вид он прекрасный, здоровый малыш. Она посмотрела туда, где играли дети, и глаза ее наполнились слезами. — Да какой там здоровый! Калека! — с горечью проговорила она. Потрясенный ее словами, Акитада пригляделся повнимательнее и теперь увидел, что мальчик не только как-то странно прижимал правую руку к телу, но, похоже, и вовсе не имел ее от самого предплечья. Она кончалась локтем. С таким увечьем он, конечно, не сможет овладеть каким-нибудь полезным для жизни ремеслом, требующим сноровки и силы рук, и всегда будет зависеть от милостыни, которую ему подадут более удачливые люди. В этой части города было много нищих калек, просящих подаяния на углах улиц и на ступеньках храмов. Но то были взрослые, а это — ребенок. Внезапно неприятная мысль зашевелилась у него в мозгу. Сабуро предупреждал его, что этот храм пользуется дурной репутацией, основанной на каких-то мрачных местных суевериях. Ходили слухи, будто бы в храме обитают кровожадные демоны-людоеды, с наступлением темноты покидающие свои пределы, чтобы нападать на нерадивых грешников, возвращающихся с хмельной пирушки. Несколько обезображенных трупов, найденных в здешних местах, подтверждали правдивость подобных историй, которые все больше и больше обрастали вымыслом — например, что души несчастных грешников якобы превращались в голодных призраков, принуждаемых селиться возле храма и с голодным воем пожирать дерьмо и отбросы. Акитада с содроганием огляделся по сторонам. Многие из этих живых бедолаг выглядели такими голодными, что вполне походили на этих самых призраков. Чтобы успокоить разыгравшееся воображение, он спросил у матери, что произошло с ее сыном. — Несчастный случай. И ведь не хочет рассказывать, глупый мальчишка. Один сердобольный человек принес его домой. Сказал, что нашел его у дороги, истекающего кровью, что отрубленная рука куда-то пропала, а в другой была зажата золотая монета. Хорошо еще, что этот человек вовремя нашел его да остановил кровь. Он предполагает, что мой сын увидел на дороге золотую монету, схватил ее, и в это время проезжавшая мимо повозка отрезала ему руку. Вот ведь глупый мальчишка! — Она шмыгнула носом и утерла слезы. — Да, чудовищный случай, — посочувствовал Акитада. — И что ты теперь думаешь по поводу его будущего? Она немного воспряла духом. — Пойдет в монахи. Как раз тот самый сердобольный человек, что нашел его, вызвался определить его в один из крупных монастырей, что за чертой города. Да хранит его навеки Будда! Вы не представляете, каким это было облегчением для меня. Акитада снова посмотрел на розовощекого мальчика, который в победоносном смехе сверкал белыми зубками. Значит, доброта и сострадание все-таки еще не умерли в этих трущобах. Быть может, эти чувства были даже живее здесь, среди отчаяния и нужды, нежели среди богатых и сытых. Такая вот ирония судьбы. А еще Акитада был вынужден признаться себе, что впервые в жизни зауважал монахов, проявивших милосердие и готовность взять к себе бедного ребенка. — Ну что ж, за вас можно порадоваться, — сказал он. — Все у него сложится хорошо. Посмотрите, сколько у него друзей уже сейчас. Женшина улыбнулась: — А поначалу мальчишки побаивались приближаться к нему — думали, демоны откусили ему руку и собираются вернуться, чтобы сожрать его без остатка. Но со временем они все потянулись к нему — уж больно ловко управляется он со своим волчком. Хороший мальчонка. Этот разговор поверг Акитаду в еще большее уныние, и он отправился прочь за пределы храма, зловеще возвышавшегося над людской суетой, подальше от этого мрачного обиталища кровожадных демонов-людоедов. У ворот он спросил у какого-то старика, торговавшего благовониями, как пройти к «Бамбуковой хижине». Тот указал ему на узенький переулочек на другой стороне дороги. — А далеко идти-то? — поинтересовался Акитада, с подозрением косясь на убогие некрашеные домишки с деревянными ставнями на крохотных окошках. Ответа он не получил. Старик издал горловой звук, показывая на свой рот. Он оказался немым. Вот еще один калека. Акитада дал ему несколько монет и зашагал прочь. Тесная улочка скорее напоминала какой-то узкий проход. Здесь было совсем пустынно — один мусор, — но Акитада не терял бдительности и вскоре заметил какое-то шевеление впереди, за сплетенными ветвями деревьев и углом навеса, закрывавшего обзор. Он чувствовал, что там кто-то прячется, поэтому замедлил шаг. Теперь он проклинал себя за то, что отправился сюда один, хотя его предупреждали. Вдруг сзади послышались быстрые шаги. До него донесся также уже знакомый хлопающий звук, и он поспешно обернулся. Бородатый здоровяк с отметинами оспы на лице загораживал собой всю дорожку позади него. Ну вот, попался! Для местного старосты, пожалуй, крупноват, подумал Акитада и прижался спиной к стене дома. — Ищете кого? — спросил великан усмехаясь. Акитада изучал его взглядом. Сейчас он казался даже здоровее, чем раньше, и еще страшнее в этих зловещих окрестностях. Акитада огляделся по сторонам в поисках какого-нибудь оружия, но не заметил ничего, кроме болтавшегося кола в заборе в нескольких шагах от себя. Колышек-то был коротенький — так себе оружие! — но Акитада имел хорошую сноровку в палочных боях. Осторожно подкрадываясь к колу, он спросил: — Что тебе нужно? Верзила проследил за его взглядом и издал горлом какой-то чудной утробный звук, похожий на собачье рычание, и Акитада еще проворнее придвинулся в сторону жерди. Изрытое оспой лицо расплылось в широкой беззубой улыбке, а чудное рычание переросло в смех. — Я не желаю вам ничего дурного, — сказал великан, поднимая вверх обе руки и показывая тем самым, что у него нет оружия. — Просто хотел убедиться, что у вас все в порядке. Места у нас тут суровые, да и богатые господа не часто захаживают. Скажите только, куда идете, и я пойду с вами. Акитада уже понял, что забрел в тупик. И человек этот, конечно же, мог врать. Но что-то подсказывало Акитаде, что все-таки стоит рискнуть, поэтому после недолгого колебания он наконец оторвался от стены. — Ну что ж. спасибо. А мне вот показалось, что кто-то прячется там впереди. Вообще-то я ищу дом под названием «Бамбуковая хижина». Староста приподнял кустистые брови. — Вот как? Стало быть, у старого Ноами появился новый клиент? Ну что ж, коли так, идемте. У нас тут Ноами жалуют — он щедр с бедняками. Акитада почувствовал, что краснеет. Он потянулся к поясу и извлек из него связку медных монет. — Я тут подумал о семье того парнишки, — сказал он. — Может, ты передашь им это, чтобы помочь похоронить малыша? Здоровяк был потрясен, однако деньги взял и сказал: — Спасибо, господин. Да воздадут вам небеса за вашу доброту! А в такую неприятностьмальчишка вляпался впервые, больше этого не повторится. Ну так что, идем? Он зашагал вперед, шлепая оторванными подошвами по мерзлой земле. Акитада последовал за ним. Когда они поравнялись с навесом, им навстречу выскочили два головореза и преградили путь. Но, завидев спутника Акитады, они с перепуганными рожами бросились наутек. — Ага-а! А ну давайте-ка вернитесь! — гаркнул им вслед староста. — Я же видел вас, ублюдки! И даже не мечтайте получить свою миску жратвы на этой неделе, паршивые негодяи! Так и не дождавшись ответа, староста что-то сердито проворчал, потрясая кулаками. — Ты что, их знаешь? — спросил изумленный Акитада. — Знаю?! Да не то слово! Они у меня еще как пожалеют! Кстати, вот вы и пришли. Вон там живет Ноами. А теперь простите, но мне надо пойти догнать этих двоих. Не торчите здесь до темноты и выбирайтесь другой дорогой. Вон там проходит оживленная улица. — Он указал вперед, в том направлении, куда удрали двое незадачливых грабителей, и сам зашагал туда же, шлепая оторванными подметками. Оказалось, что «Бамбуковая хижина» была обязана своим названием густым зарослям бамбука, окружавшим крытые соломой постройки. Владения эти были обнесены бамбуковым забором. У ворот маленькая табличка с названием, тщательно выписанным китайскими иероглифами, гласила, что «здесь находится мастерская художника». И ворота, и ограда находились в отличном состоянии, и их бамбуковые колья были вдобавок заострены наверху. Ничего удивительного, что Ноами предпринимает такие предосторожности от воров в этих трущобах, подумал Акитада. Однако он был немало удивлен, когда ворота распахнулись от его первого прикосновения. Он вошел, подав голос, но ответа не получил. Ответом ему была тишина. Только сухая бамбуковая листва шелестела на ветру. Бамбук здесь был такой густой и высокий, что его верхушки заслоняли небо. Пробираясь меж этими стволами, Акитада направился к передней двери. У самого порога он прямо-таки подпрыгнул от неожиданности, когда вдруг услышал чей-то хриплый крик. Где-то над головой загремела цепь, потом снова раздался все тот же крик. Приглядевшись повнимательнее, Акитада увидел огромного черного ворона — тот сидел на поперечной балке под стрехой и, оправляя на себе перья, поглядывал на гостя своими глазками-бусинками. Цепь, пристегнутая к одной лапе и прикрепленная к балке, снова звякнула. Птица эта явно была пусть и примитивным, но зато весьма действенным средством для оповещения о приходе посетителей. Акитада ждал, когда к нему выйдет художник, но ничего подобного не случилось. В открытую дверь ему была видна большая сумрачная прихожая. Подвязанные к стропилам, на стенах висели свитки, длинные столы были уставлены горшками с красками и завалены стопками бумаги. На заднем плане возле раздвижных дверей стояла наполовину расписанная ширма. Акитада снова громко позвал, но ему откликнулся только ворон. Тогда он снял сапоги и, ступив на деревянный пол прихожей, огляделся вокруг. Почти сразу же его охватил какой-то неведомый мистический страх — даже волосы на затылке зашевелились. Наслушался про всяких демонов, подумал он, заставляя себя осмотреться по сторонам. Пол в прихожей был заляпан краской и тушью. Рулоны чистой бумаги и шелка лежали, грудой наваленные в углу. Под низкой закопченной балкой в середине комнаты висел тяжелый бронзовый фонарь, болтавшийся на цепи, прикрепленной к массивному крюку. Одним словом, мастерская явно принадлежала человеку, равнодушному к удобствам и чистоте и интересующемуся только работой. Ахитада приблизился к незаконченной расписной ширме и увидел, что на ней изображен осенний лес. На переднем плане изящными росчерками черной туши были обозначены огромные валуны, а лесистые склоны на заднем плане представляли собой всего лишь размывчатую сине-зеленую дымку. Но покосившийся клен в центре картины был уже выписан со всей тщательностью во всем своем багряном величии, до последнего листочка. Он выглядел так натурально, что могло показаться, будто он даже трепешет на ветру. Огромный черный ворон — точная копия хозяйского — восседал на одном из валунов, впереди на земле несколько воробышков клевали зерна. Блюдечки с краской и сосуды с водой стояли вперемешку с остатками пищи в мисках перед недописанной ширмой. Повсюду валялись кисти всех размеров. Акитада наклонился и потрогал пальцем багряно-красную краску в одном из блюдечек. Она была еще влажная. Значит, художник совсем недавно работал здесь. Но где бы он мог быть сейчас? Акитада осторожно раздвинул створку задней двери. Она вела в сад, находившийся на задворках. Неухоженная пышная растительность и здесь подступала к самому дому. Акитада вроде бы уловил какие-то слабые звуки, донесшиеся из дальнего угла владений. — Эй! Кто-нибудь есть дома? — зычно крикнул он. — Мастер Ноами! Ему показалось, он услышал крик, но никто не появился, и Акитада вернулся в дом изучать мастерскую дальше. Неторопливо блуждал он по комнате, рассматривая разбросанные повсюду наброски цветов и птиц и не переставая дивиться тому, с какой скрупулезностью и тщательностью они были выполнены. Выходит, Тосикагэ не преувеличивал. Этот человек и впрямь был одержим работой. Он только пристроился изучать целую гору набросков, неряшливо наваленных в углу, когда от задней двери послышался какой-то звук, вслед за которым почти сразу же донеслись длинная россыпь сердитой брани и торопливые шаркающие шаги. Акитада быстро обернулся. Взору его предстал сухонький жилистый коротышка в грязном, перепачканном краской монашьем одеянии. Голова его, походившая формой на мяч, была обрита, но уже обросла реденькой щетиной; глазки по бокам плоского расплющенного носа напоминали черные ягоды, а над жиденькой бороденкой узкой щелью примостился рот. Он был не молод, не стар, бесспорно уродлив и имел определенно угрожающий вид. — А ну-ка убирайся отсюда, проклятый сукин сын, паршивый кусок дерьма! — проскрипел странный уродец, маша на Акитаду руками, как если бы отгонял собак. — А ну пошел, говорю же тебе! И не трогай там ничего! Такая грубость, превосходившая все рамки непочтительности, потрясла Акитаду. Глядя на это удивительное существо, он чуть было не подумал, что попал в какой-то вымышленный мир, — такой невероятной показалась ему встреча с этим нелепым созданием, обладавшим столь странной наружностью и манерами. Не исключено, что этот человек просто-напросто сумасшедший. Он поспешно отступил подальше от набросков и поднял руки повыше, потом сказал: — Прошу прощения. Я звал, но мне никто не ответил, вот я и вошел. Жилистый человечек молчал, только хмурился и разглядывал гостя своими глазками-бусинками, словно пытался запечатлеть в памяти каждую черточку его лица, каждую волосинку, каждую складочку на одежде. Ноги его были босы и перепачканы запекшейся грязью, руки измазаны землей. Наверное, какой-нибудь полоумный подмастерье художника, решил Акитада и сурово спросил: — Где твой хозяин? Тогда человечек проговорил странным голосом: — Я — Ноами. И кому же я понадобился? Стараясь скрыть удивление, Акитада представился и объяснил цель своего прихода. — Ширма? — переспросил художник, заметно расслабившись. — Такая, что ли? — И он указал пальцем в сторону осеннего пейзажа. — Да, именно такая, — сказал Акитада, потом подошел к ширме и посмотрел на нее. — Ваше владение кистью заслуживает похвалы. — В глубине души он надеялся поскорее покончить с этим делом и покинуть это неприятное место в надежде больше никогда сюда не возвращаться, поэтому сразу же объяснил: — Я жду скорого возвращения своей жены и хотел бы преподнести ей в подарок что-нибудь, что напомнило бы ей о ее любимом саде. Она очень любит цветы. Когда я увидел ширму, которую вы расписали для моего зятя Тосикагэ, я тоже решил обратиться к вам. Только не могли бы вы нарисовать цветы не в вазах, а растущими в саду? Ну, например, разные времена года на разных створках. И еще каких-нибудь птичек или зверушек, живущих в саду. Мне, кстати, очень понравился этот ворон и воробьи. Художник тоже подошел к ширме. Ну что ж, может быть… Может быть… — Что вы хотите этим сказать? — удивленно спросил Акитада. — Для того чтобы изобразить все времена года, понадобится целый год, потому что мне придется изучать растения и животных в их натуральной среде. Следовательно, это будет и стоить дорого. По десять слитков серебра за каждую створку. — Несмотря на прежде продемонстрированную вульгарность, Ноами говорил как человек образованный. — По десять слитков серебра?! — То есть сорок слитков в общей сложности! То есть в четыре раза больше, чем заплатил Тосикагэ за ширму Акико. Акитада не преминул сказать об этом Ноами, но тот холодно объяснил, что над ширмой для Тосикагэ работал по уже существующим наброскам. В общем, он явно не был склонен уступить новому клиенту. Видя, что проделал столь длинный и неприятный путь впустую, Акитада сказал: — Видите ли, я надеялся порадовать жену сейчас. Нет ли у вас какой-нибудь готовой вещи? А насчет ширмы мы могли бы поторговаться позже. Ноами поджал тонкие губы: — Цветов у меня нет. Только собаки. Они перешли в другой угол комнаты. Настенное полотно изображало маленького мальчика, играющего с тремя черно-белыми щенками. Малыш, годками чуть постарше Ёри, кого-то смутно напомнил Акитаде, да и сама сцена была умильной и трогательной. Найдя цену вполне разумной, Акитада заплатил. Пока Ноами снимал со стены свиток и скручивал его в трубочку, Акитада поинтересовался: — Где же вы находите героев своих сюжетов, и как вам удается заставить их позировать? Например, вот этого малыша с собаками. Живописец замер на мгновение и смотрел на Акитаду, рассеянно моргая. Потом, наклонившись, чтобы завязать свиток, он проговорил ровным, безразличным голосом: — Люди здесь очень бедны. Многие живут как последнее отребье. Местные дети готовы позировать весь день ради одной монетки и миски еды. А собаки бегают на свободе — бери любую. — Он помолчал, потом, скривив тонкие губы, прибавил: — Куда труднее избавиться от них потом. Акитада понимающе кивнул. С готовностью давая работу безработным, художник сталкивался с лишними хлопотами, когда приходилось избавляться от их назойливости. Дети, конечно же, наверняка мешали ему трудиться. Акитада вдруг сообразил, что этот человек как раз мог оказаться тем сердобольным доброжелателем, что помог изувеченному мальчику. Вот и здоровяк-староста хорошо отзывался о нем. Ноами, этот художник, достигший успеха, живя в самой гуще трущоб, имел редкую возможность творить добро, помогая бедным. Устыдившись своей первоначальной неприязни к этому человеку, Акитада, теперь уже заметно смягчив тон, сказал: — Да, я вижу, вы творите поистине доброе дело, предлагая этим людям плату и пищу за их работу. Ноами изумленно уставился на него, потом огляделся вокруг. — И зачем вы это говорите? — резко спросил он. — Ведь здесь нет никого, кроме меня. К Акитаде вмиг вернулось прежнее враждебное чувство к этому человеку, и он постарался сгладить неловкость: — Я только хотел сказать, что ваши соседи, несомненно, ценят вашу щедрость по отношению к их детям. — Соседи?! — пронзительно взвизгнул Ноами. Да все они как один лживое ворье! — Ну хорошо, не будем об этом. — Акитада протянул руку за свитком и холодно прибавил: — Меня зовут Сугавара Акитада. Если вы захотите обсудить предложение насчет ширмы, то можете зайти ко мне домой. Господин Тосикагэ объяснит вам, как меня найти. Только прежде чем я окончательно одобрю цену, мне бы хотелось все-таки сначала увидеть наброски. Ноами раскланялся, и Акитада покинул мастерскую под хриплое карканье ворона. Такого неприятного во всех отношениях дня ему не выпадало давненько. Даже ставший постылым дом, где мучительно умирала матушка, и то казался теперь менее противным местом. Разбитый усталостью, «обезножевший» от ходьбы, продрогший до костей и раздраженный встречей с чудаковатым художником, Акитада решил пойти наикратчайшим путем через императорский город. Благодаря плотной застройке и деревьям здесь было не так ветрено, да и встретить кого-либо из знакомых он не боялся, ибо рабочий день был в разгаре, и чиновники все сидели по местам. Ступив в эту часть города, он снова оказался на улице Коноэ, только на этот раз близ западной тюрьмы. До дома было еще очень далеко, а ноги гудели от усталости, ступни совсем промерзли и словно задеревенели. Акитада с грустью отметил про себя, что, по-видимому, давно отвык от походов на такие длинные расстояния. В этом квартале было более людно. У ворот тюрьмы, над которой хлопали на ветру флаги, прохаживались взад и вперед, чтобы согреться, стражники в красном. Мимо них то и дело сновали полицейские, городские чиновники и простые горожане. Печальная история брата Нагаоки тут же выплыла на поверхность, и Акитада пообещал себе заняться ею, как только его семья благополучно возвратится домой. А что, если уже сейчас дома его ждут какие-нибудь новости от них? Он ускорил шаг. Впереди него с корзиной в руке семенила женщина, укутанная в теплый платок. Может быть, жена одного из полицейских принесла ему пообедать, подумал Акитада. В какой-то миг что-то в ее походке и осанке показалось ему до странности знакомым, но она очень быстро скрылась за углом. Ему снова вспомнились Тамако и Ёри. Как они там в такой холод? А вдруг они уже ждут его дома или хотя бы прислали весточку? Мысли эти подстегивали, и он зашагал быстрее. Открыл ему Сабуро, вмиг разрушивший все его надежды. Никто не приехал, и никаких новостей. Расстроенный и встревоженный, Акитада выругался про себя и устало заковылял к дому. Сабуро с открытым в изумлении ртом смотрел хозяину вслед. — Я вернулся! — крикнул Акитада, усаживаясь на пороге, чтобы вызволить распухшие ноги из сапог. Сзади к нему подошла Ёсико. Она была в уличной одежде и на ходу складывала платок, который тут же убрала в корзинку. — Здравствуй, братец! — сказала она. — Проголодался? Акитада не мог не улыбнуться ей. Ее щечки и носик зарозовели от холодного воздуха, как в былые времена детства. — Да, есть немного. А больше продрог и устал, — сказал он. — Ходил на другой конец города купить для Тамако картину. — Он показал ей свиток и взглянул на ее корзину: — А ты, я смотрю, тоже выходила? — Да. На рынок. Купить что-нибудь к ужину. Давай-ка я проведаю сначала матушку, а потом мы попьем чаю у тебя в комнате, и ты покажешь мне картину. — И она скрылась в доме. Акитада кряхтя встал, потер обледеневшие уши и заковылял в свою комнату, гадая, зачем сестре понадобилось притворяться, будто она была на рынке, если корзина ее пуста.ГЛАВА 8 МОНАСТЫРСКИЕ КОЛОКОЛА
У себя в комнате Акитада нашел аккуратно сложенное на подушке элегантное кимоно. Он благоговейно развернул его, любуясь швейной работой сестры. Теперь он был готов по первому зову явиться во дворец и уж теперь точно не осрамился бы перед высокомерной молодежью вроде того юнца в секретариате. Он скинул стеганое уличное платье и примерил новый наряд. Тот оказался ему в самую пору. Он как раз искал пояс, когда в комнату вошла Ёсико. — Ну как, нравится? — спросила она. — Выглядишь просто великолепно! Сам советник-кампаку будет смотреться бледнее рядом с тобой. Я прямо не могу дождаться, когда ты пойдешь на новогодний церемониал выразить свои праздничные пожелания его величеству. После этих слов все сомнения Акитады моментально рассеялись. — Спасибо тебе, милая сестрица, — сказал он, преисполнившись чувства. — Оно прекрасно сшито и, наверное, отняло у тебя много долгих изнурительных часов. Боюсь только, не слишком ли это было для тебя — ведь тебе приходится заботиться о матушке. Она, улыбаясь, расправила на нем платье — Пояс… Сюда нужен пояс. И я даже знаю, где взять ткань! Серебристо-серый шлейф батюшкиного парадного кимоно как раз очень подойдет к этому темно-синему. — Не надо! — поспешил возразить Акитада. — Не надо ничего отцовского! — И, видя ее изумленный взгляд, он нерешительно прибавил: — Не будешь же ты портить его лучшее платье! Только подумай, что скажет матушка. — Что за ерунда! Оно уже испорчено временем. Так зачем пропадать добру? А матушка ничего не узнает. Я вообще решила, что отныне мы с тобой должны подумать о своем будущем. Хватит уже, довольно мы натерпелись от воли родителей, которым всегда было безразлично наше счастье. — Ёсико! — Потрясенный до глубины души, Акитада в изумлении уставился на сестру. Она, будучи женщиной и младшим членом семьи, осмелилась взбунтоваться против многовекового семейного уклада, предписывающего детям выказывать неизменное почтение родителям. Такую критику в их адрес он слышал от нее впервые. Он вдруг почувствовал, что она стала для него будто бы чужой. Но что же случилось? Что заставило ее так измениться? — Ну? Разве я не права? — сказала она, упрямо и решительно выдвинув вперед подбородок. — Разве кто-то из них когда-нибудь выказывал нам свою любовь или заботу? Отец выставил тебя из дома, а матушка запрещала мне выходить замуж, потому что хотела держать меня при себе как дешевую прислугу. Все, чего ты добился в жизни, ты сделал самостоятельно. А что касается меня… — Она отвернулась, и ее голос задрожал. — Мне уже поздно надеяться на счастье. Сердце Акитады сжалось. Он взял сестру за плечи и повернул к себе. — А вот и не поздно. У тебя будет отличное приданое, и я сделаю все, чтобы найти тебе хорошего мужа. Вот увидишь, пройдет годик-другой, и ты тоже будешь носить под сердцем ребенка. — Какой ты добрый, Акитада! — едва слышно прошептала она, потом отодвинулась и громко сказала: — Ну расскажи, как ты провел сегодняшний день, и покажи мне картину, купленную для Тамако. Он развернул свиток. Ёсико захлопала в ладоши: — Ой, Акитада, она просто очаровательная! А малыш… Какой восхитительный малыш! Наверное, и Ёри теперь вот такой же. Мне кажется, нам нужно завести для него щенка. — Ёри будет чуть помладше, но он крупный мальчик для своего возраста. — Акитада прищурился, пытаясь сделать мысленное сравнение. — Черты лица у него тоньше и глаза больше. И волосы будут погуще — даже косички по бокам торчат в разные стороны. А вот ручки и ножки такие же крепенькие… — Он вдруг замолчал и задумался, потом, поймав на себе вопросительный взгляд сестры, сказал: — Я так за них тревожусь, что ни о чем другом думать не могу. Завтра же поскачу им навстречу и выясню, что случилось. — Но, Акитада!.. — взмолилась сестра. — А что, если?.. — Она осеклась на полуслове, вытаращив перепуганные глаза. Он понял ее по-своему и поспешил возразить: — Матушка неоднократно отказывалась принять меня. Не думает же она, в самом деле, что я стану сидеть у нее под дверью, как эти чертовы монахи! А если ей вздумается умереть в мое отсутствие, то тут уж ничего не поделаешь. — Так-то оно так, но я подумала о дворце. Что, если оттуда пришлют за тобой? Вид ее обеспокоенного личика вызвал у него улыбку. — Меня не будет всего день или около того. Просто извинишься и скажешь, что меня отозвали срочным сообщением. Следующий день выдался холодным и пасмурным, но почтовая лошадь была полна сил, и Акитада, одетый в простеганное ватой дорожное кимоно и сапоги на теплой подкладке, двинулся в путь. За три недели, что прошли со времени его путешествия по этим местам, горные склоны сменили свое золотисто-бронзовое великолепие на унылые серовато-коричневые краски приближающейся зимы. Только сосны да кедры сохранили зелень, немного потускневшую в сумрачном свете пасмурного неба. Из-за ночных заморозков травы вдоль дороги пожухли, а желтовато-коричневые рисовые поля и вовсе почернели. Вскоре Акитада добрался до подножия гор и начал крутой подъем. Однажды ему встретился небольшой караван путников, и он остановился спросить, не известно ли им что-нибудь о его семье, но оказалось, что они ехали с юга. Акитада гадал, как долго ему придется скакать. Неужели до самого озера Бива? Так далеко ему лучше не забираться, чтобы не вызвать недовольства при дворе, если вдруг его там хватятся. И зачем только он послушался матушку и вообще ходил показаться туда?! Наконец он добрался до того места, откуда ответвлялась дорога к монастырю. Дощатая хижина, в прошлый раз показавшаяся ему заброшенной, сейчас была открытой — здесь путникам и паломникам подавали напиться с дороги. Через открытые ставни Акитада разглядел женщину в сине-белом платке и сером переднике — она сидела у крошечного очага, и рядом с ней стояли глиняный кувшин и несколько бамбуковых корзин. Акитада спешился и привязал коня к дереву. Женщина, молодая и очень смуглая, выбежала ему навстречу. — Добро пожаловать, господин! — крикнула она, на бегу беспрестанно кланяясь. — Добро пожаловать в приют Милосердных ветров! У нас вы можете отведать самых лучших угощений! Изысканные вина и столичные лакомства! Наши горячие напитки согреют вас после долгого пути. Пожалуйста, господин, заходите, позвольте мне обслужить вас! Закончив эту многословную речь, женщина склонилась перед Акитадой в таком низком поклоне, что ему теперь были видны только ее спина и затылок. В такой позе она и застыла, по-видимому, увлеченно разглядывая его сапоги. — Благодарю, — сухо сказал он. — Я бы, пожалуй, выпил горячего саке, прежде чем продолжить путь. Она подскочила как ошпаренная и бросилась в свою хижину, где принялась черпать ковшиком саке из котелочка, стоявшего на жаровне. Акитада последовал за ней и присел на край деревянного помоста. Саке, как он и ожидал, было дешевое и резкое, зато согрело ему нутро. Он заглянул в одну из корзин и решил купить лепешку. На столичное лакомство она мало походила — просто холодная рисовая лепешка с начинкой из рубленых овощей, — но за неимением лучшего Акитада жадно уплел ее и попросил у женщины другую. Та, раскрасневшись, принялась ему подробно рассказывать, как поднялась ни свет ни заря, чтобы приготовить свежие лепешки и добраться со своими припасами до этой хижины. Акитада улыбнулся: — Ты молодец и хорошо готовишь. Знала бы ты, как мне не хватало тебя, когда я проезжал здесь несколько недель назад. Тогда еще ливень шел сильный. — Помню, помню я этот день! — оживилась женщина. — Вы, наверное, ездили посмотреть в монастыре танцоров? Акитада покачал головой. — Эх, жаль! Много потеряли. А я в тот день закрылась пораньше и с мужем пошла к монастырю. Вот уж было представление! Я уж было подумала, не в рай ли я попала. — Она, сама того не заметив, увлеклась рассказом. — Муженек мой говорит, если дела пойдут хорошо, то и в столицу сходим на актеров посмотреть. Вы-то сами их представления видели? — Нет. Но если ты так хвалишь, то, пожалуй, в этом году схожу. А про убийство в монастыре ты слышала? — Да. На следующий день. Вот страсть-то, правда? Только мы с муженьком пропустили все самое интересное — плелись домой под проливным дождем после представления да промокли как мышата. — Она рассмеялась и предложила Акитаде еще чашечку саке. — Еще одну, пожалуй, можно, — согласился он. — А ты, случайно, не помнишь, как называлось представление? — Оно называлось «Танцы непорочной страны». Но это только для монастырей. В столице-то они выступают перед обычными людьми, и получается, конечно, веселее. А называются они «Бродячий театр Уэмона» — по имени старика, что ими руководит. — Понятно. — Акитада кивнул, не в силах сдержать улыбку при виде ее искреннего восторга, потом окинул взором тянувшуюся впереди узкую каменистую тропу, ведущую к монастырю. Может, ему удастся, сделав небольшой крюк, добраться до озера Бива до наступления темноты? Дальше озера он путешествовать, конечно, не отважится. Остается надеяться, что он встретит своих в пути или хотя бы узнает о них что-нибудь от встречных путников. — Ты еще пробудешь здесь несколько часов? — спросил он у женщины. — Дотемна, — сказала она со вздохом, окинув взглядом свои корзины. — Приходится работать до самого вечера, потому что путники стараются попасть в столицу до наступления темноты. Акитада достал из пояса серебряную монету и протянул женщине. — Вот тебе за еду и за одну услугу, — сказал он. — Будешь поглядывать, не проедет ли моя семья. Меня зовут Сугавара, и я жду возвращения жены и трехлетнего сына. Они едут в сопровождении одного старика, двух молодых самураев и нескольких конных телохранителей. Едут верхом, в повозках, и с ними еще носильщики. Если увидишь их, передай, чтобы подождали здесь моего возвращения. Она с готовностью согласилась, засунув монету в вырез кимоно. На этот раз Акитада добрался до монастыря быстро. Стоял уже промозглый полдень, но дорога была сухая. Огромная черепичная крыша ворот, возле которых он в прошлый раз видел жену Нагаоки и ее деверя, еще не оттаяла от ночного инея. Золоченый шпиль пагоды исчезал где-то высоко в облаках. Заслышав стук копыт, ему навстречу выбежал привратник. К счастью, это оказался все тот же монах, который в прошлый раз дал Акитаде посмотреть план монастыря. Они сразу узнали друг друга и обрадовались. — Приветствую, приветствую вас, господин! — оживился монах, беря коня Акитады под уздцы. — Слышали новость? В ту ночь, когда вы здесь гостили, и впрямь было совершено убийство. Акитада спешился. — Да, я знаю. Поэтому и приехал. Столичная полиция задержала подозреваемого, но кое-что в этой истории не совсем ясно, вот я и решил съездить и еще разок взглянуть. — Ага! Значит, я все-таки выиграл спор! — воскликнул обрадованный монах, привязывая лошадь Акитады к столбу. — Спор? Какой спор? — Я поспорил с приятелем, что вы вернетесь. Надеюсь, господин, вы простите мою дерзость, но, когда вы уехали, я посмотрел ваше имя в списке посетителей. И тогда меня вдруг осенило, что вы должно быть, и есть тот самый Сугавара, раскрывший столько преступлений несколько лет назад. Акитада был удивлен до крайности. — Но как вы узнали? Ведь я много лет жил на севере. — А очень просто, господин. У меня есть двоюродный брат, школьный учитель. Он был вашим студентом в университете, он-то и рассказал мне про те убийства, что там произошли. Его имя — Юсимацу. Юсимацу. Акитада мгновенно припомнил скромного «престарелого» студента, служившего вечной мишенью для издевок со стороны своих юных товарищей по классу и проявлявшего поистине редкое усердие в учебе. Эти воспоминания вызвали у Акитады улыбку. — Ну и как поживает господин Юсимацу? — О, у него все хорошо. Преподает в деревенской школе, имеет жену и двух маленьких сыновей. Говорит, что всем этим обязан вам. Акитада смутился. — Да вовсе нет. Он был очень прилежным студентом и преуспел бы в любом случае. Я рад слышать, что дела у него идут хорошо. Передайте ему от меня привет в следующий раз. — Спасибо, господин! Обязательно передам. — Привратник потер руки и с готовностью спросил: — Ну а сейчас куда вас отвести? — Я бы хотел осмотреть хозяйственный двор и галереи, где находится жилье для постояльцев. Сможете меня туда проводить? По ступенькам они поднялись под крышу ворот. В сторожке Акитада заметил молоденького послушника, подметавшего пол соломенной метлой. Где-то бил колокол, его чистый, ясный звук уносился ввысь, к холодным облакам. Привратник оживленно потирал руки. — Я полностью к вашим услугам, господин. Для посетителей еще слишком рано. Вот только подождите минуточку. — Он заглянул в сторожку, чтобы дать новичку указания, и догнал Акитаду. — Ну все, вот я и готов! Кстати, меня зовут Эйкэн. Акитада поблагодарил его. У него целая гора свалилась с плеч при мысли о том, что на этот раз он избавлен от необходимости наносить визит настоятелю и объяснять ему цель своего посещения. В прошлый раз ему пришлось испытать чувство неловкости — ведь получилось, что он воспользовался священной обителью, словно какой-то дешевой придорожной гостиницей, просто чтобы укрыться от дождя. А сегодняшний его приезд в монастырь выглядел даже еще более подозрительным — ведь он не мог выступать ни как официальное лицо, ни как представитель интересов Нагаоки. Благо, что его провожатый, похоже, не видел ничего плохого в такой вот любознательности. Даже наоборот, разговорился, пока они шли по дворам общественных зданий: — Когда узнали об убийстве, я сразу же побежал в хозяйственный двор, где вы вроде бы слышали женский крик, но там смотреть было не на что. И все-таки я считаю, что у вас гораздо более наметанный глаз на подобные вещи. Мне кажется, от вас даже мельчайшая капелька крови на каком-нибудь камешке не укроется. — Кровь там мы вряд ли найдем. В тот день шел сильный дождь. — Акитада не стал упоминать о том, что убитая женщина сначала была задушена и только потом изуродована. А удушение, как известно, не оставляет следов — разве что следы борьбы, которые в данном случае давно уже уничтожили монахи, когда разравнивали гравий. Они прошли крытыми галереями и приблизились к простой деревянной двери. Эйкэн открыл ее, и они ступили во двор, с трех сторон окруженный низенькими приземистыми постройками, а с четвертой — той самой галереей, откуда они только что пришли. Из трубы над центральной постройкой поднимался сероватый столбец дыма. Внизу вдоль стены — длинная поленница, у соседней стены выстроились в ряд деревянные бочонки. Посреди двора на каменном возвышении — обнесенный деревянным заборчиком колодец с подвешенной на лебедке деревянной бадьей. — Вот это наше хозяйственное подворье, — сказал Эйкэн. — Вон то строение напротив — монастырская кухня. Справа кладовка и баня, а слева — склад церковной утвари. Через него вы, наверное, проходили, когда возвращались в свою келью. Акитада закивал: — Ну да, конечно… Теперь припоминаю. Просто я тогда был измучен дорогой и очень устал, но вы совершенно правы. Мы действительно проходили через такое здание. Я еще, помнится, поразился страшной статуе повелителя демонов высотой в человеческий рост. — Он обернулся, чтобы мысленно подсчитать расстояние и определить направление. — Теперь-то, при свете дня, я больше чем уверен, что где-то совсем близко отсюда или даже прямо на этом подворье в ту ночь и кричала женщина. Но Эйкэн с сомнением покачал головой: — По ночам здесь никто не бывает. Последнюю горячую пищу готовят в полдень. За полночь мы служим всенощную и уже до зари, когда пробьет колокол, поднимаемся на медитацию. Может, крик этот все-таки донесся с другой стороны, оттуда, где у нас находится жилье для постояльцев? Вы же сами говорите, что были сильно утомлены. Может, спросонок перепутали? — Нет. Я уверен, что звук донесся именно отсюда. А табличка «Не входить!» вряд ли остановила бы убийцу. Как она не помешала бы бедокурить подвыпившим юнцам. — Это вы про актеров? — Эйкэн закивал. — Да, такое возможно. Подозреваете, кто-то из них убил эту женщину? — Нет. Меня сейчас интересует другое — не видел ли или не слышал ли кто-нибудь чего-то необычного, странного? Акитада снова задумался над тем, не мог ли все-таки Нагаока совершить это убийство — или сам, или при помощи наемного убийцы. Полиция проверила по списку имена всех постояльцев, гостивших здесь в ту ночь, но Нагаока, конечно, не стал бы подписываться собственным именем. Дверь церковного склада отворилась, и какая-то фигура в монашеском наряде с ведром в руке торопливо засеменила к колодцу. Что-то смутно знакомое и неприятное уловил Акитада в этом человеке и уже в следующий миг узнал в нем чокнутого художника Ноами. К счастью, тот не заметил их и принялся крутить лебедку, опуская скрипящую бадью в колодец. — Ну ладно, я здесь все увидел, — поспешил сказать Акитада. — Пойдемте теперь туда, где у вас размещаются постояльцы. Но скрип бадьи привлек внимание его спутника, и тот радостно закричал: — Ишь ты, какая удача! Ноами сегодня здесь! Это известный художник, который работает у нас над адской росписью. Вы обязательно должны с ним познакомиться. — И, не замечая знаков, подаваемых Акитадой, он заорал через весь двор: — Мастер Ноами! Можно минуточку вашего времени? Тут с вами хотят познакомиться! Художник неторопливо обернулся и посмотрел в их сторону, затем подошел. Узнав Акитаду, он нахмурился. — Вот, господин Сугавара, познакомьтесь, это Ноами, — сказал Эйкэн, глядя поочередно на обоих. — Ноами, а это тот самый известный господин, который раскрывает все преступления в столице. Представляешь, он и сюда за этим приехал! Ноами смотрел на них, моргая своими маленькими пронзительными глазками. — Я уже удостоился чести быть знакомым, — проговорил он своим чудным тоненьким голоском и как-то весь съежился. — Вот как?! — удивился Эйкэн. — Ах, ну да, я и забыл: вы же тоже ночевали здесь в ту ночь! Ведь вы всегда приходите к нам, когда вам заблагорассудится. — Что значит «заблагорассудится»? — огрызнулся художник. — Я не монах, а следовательно, свободен в своих передвижениях. А сейчас прошу меня извинить, господин, но мне нужно работать. — С этими словами он повернулся и пошел к колодцу. Плеснув воды в свое ведро из бадьи, он взял его и зашагал к складу. Так ни разу и не оглянувшись, он вошел туда, захлопнув за собой дверь. — Ну надо же, какой грубиян! — извиняющимся тоном проговорил Эйкэн. — Странный он, конечно, зато как талантлив! Самый гениальный художник этого столетия. — Столетие еще не закончилось, — задумчиво заметил Акитада. — И мне вот, например, совсем не нравятся кровавые сцены, которые он, похоже, с таким восторгом живописует. — Так вы, стало быть, видели эту картину? Нет, меня она тоже приводит в трепет, но в этом-то и заключается ее цель. Считается, что если под впечатлением от нее хоть одна живая душа убережется от греховных помыслов, то ее предназначение будет выполнено. — Хорошо, если так, — сказал Акитада и повернулся, чтобы идти, но у самой галереи вдруг остановился. — Так вы говорите, Ноами оставался здесь в ночь убийства? И где же он у вас обычно спит? — Иногда там же, где работает, а иногда в какой-нибудь пустующей монашеской келье. Раньше-то он, знаете ли, был монахом. — Был монахом?! Он что же, нарушил обет, или его отлучили от церкви за непристойности? Эйкэн только развел руками. — Этого, господин, похоже, не знает никто. — Он вдруг усмехнулся. — И поверьте, уж мы-то пытались выяснить. Я, конечно, не должен так говорить, но жизнь здесь в монастыре такая однообразная! Вы даже не представляете, как все оживились, когда произошло это убийство. Наш настоятель уже трижды назначал в наказание суровые покаяния, чтобы пресечь это мирское любопытство. А покаяния эти и впрямь суровая штука — стоишь всю ночь на коленях на жестком полу, и спину изволь держать ровно. А если задремлешь или ссутулишься, получишь по спине бамбуковой палкой от монаха-надзирателя. Но даже эти меры не очень-то действуют: те, кто помоложе, до сих пор шепчутся по углам об этом убийстве. — В таком случае мне теперь даже как-то неловко, что я попросил вашей помощи.
Монастырь в горах 1 Ворота 6. Комната Акитады 11. Огород 2. Пагода 7.Баня 12. Дом для занятий 3. Храм Будды 8.Хоз. двор и кухня 13. Комната настоятеля 4. Колокольня 9. Кладовые 14. Комнаты монахов 5. Общий постоялый двор 10. Столовая 15. Лекторий
Они многозначительно переглянулись, и Эйкэн сказал: — Даже не берите в голову, господин. Помочь расследованию — мой долг. — И они обменялись улыбками, означавшими полное взаимопонимание. Жилье для гостей и паломников располагалось в юго-восточном крыле монастыря. Самого-то Акитаду по причине его высокого ранга и благодаря гостеприимству настоятеля разместили в прошлый раз в центральной части. Через малые ворота они прошли на постоялый двор. Обрамлявшие его квадратом жилые галереи устройством напоминали монашеские кельи. На каждые шесть дверей приходилось по одному крыльцу, их ступеньки спускались во двор. Сейчас там хлопотали по хозяйству два молодых монашка. Эйкэн свернул направо, и они долго шли по длинной веранде, пока не остановились перед какой-то дверью. — Вот в эту комнату поселили на ночлег деверя госпожи Нагаока, — сообщил он Акитаде. Дверь была не заперта и распахнулась от первого толчка. В крохотной комнатке не было ровным счетом ничего, даже платяного сундука. Грубые дощатые стены пестрили многочисленными надписями, оставшимися после многих поколений паломников, и имели только два отверстия — дверь да маленькое окошко в дальнем конце. Одним словом, жилье это никак нельзя было отнести к разряду роскошного. — А мебель что же, убрали? — спросил удивленный Акитада. — Нет. Здесь все комнаты такие. Постель и лампу приносят, когда вселяется гость. А в холодные ночи еще полагается жаровня. Ну и конечно же, вода и что-нибудь незатейливое из растительной пищи. Все это, кроме жаровни, принесли тогда тому мужчине. — Эйкэн помолчал и, многозначительно кашлянув, прибавил: — Только не больно-то он ими пользовался. — Вот как? — От Акитады не укрылось хитроватое, озорное выражение на лице Эйкэна. — Да, господин, такие вот как раз факты и взбудоражили нашу молодежь, за что ей и пришлось потом отдуваться на суровом покаянии. — Эйкэн лукаво подмигнул ему, сделав при этом самое что ни на есть серьезное лицо. Акитада едва сдержал смех. Его провожатый нравился ему все больше и больше. — То есть вы хотите сказать, что родственничек этой дамы переселился к ней, едва успев приехать? А как насчет поклажи? Были у него с собой какие-нибудь вещи? — Все осталось в его комнате. И деньги, и все остальное. Брови Акитады взметнулись вверх, и он задумчиво пробормотал: — Все, кроме меча. — Ага! — воскликнул Эйкэн, потирая руки. — Кажется, я понимаю, о чем это вы, господин. Вы полагаете, он заранее замыслил убийство этой несчастной дамы, поэтому незамедлительно отправился в ее комнату, прихватив с собой меч? — Это одна из версий. — Но это означает, что он не собирался соблазнять жену своего брата, как решили большинство из нас. Не убил же он ее из-за того, что она отвергла его ухаживания? — Нет. Отправляясь на любовное свидание, он вряд ли взял бы меч. — Блестящий вывод, господин! — Эйкэн с восхищением смотрел на Акитаду. — Готов побиться об заклад, что полиция до этого не додумалась. Они только расспрашивали всех, не заметил ли кто чего подозрительного в отношениях этой парочки. Помня о Кобэ и не будучи наделен какими-либо официальными полномочиями, Акитада не стал затрагивать эту тему, а вместо этого спросил: — Кто обнаружил убийство? — Один из новообращенных послушников по имени Анчо. Новички у нас занимаются уборкой в комнатах гостей. Как раз на той самой неделе убирали Анчо и Сосэй. Я это хорошо помню, потому что сам расспрашивал Анчо, когда сообразил, кто вы такой. На тот случай, если вы вдруг вернетесь и зададите мне этот вопрос. Акитада горячо поблагодарил своего нового знакомого за сообразительность. — Рад оказаться вам полезным. Как бы там ни было, но Анчо и Сосэй пошли убираться только после утренних занятий. То есть когда уже миновал час Дракона[1405] и когда большинство гостей разошлись — кто на молебен, а кто и вовсе по домам. Анчо постучался в комнату дамы и, не получив ответа, решил, что там пусто, поэтому воспользовался полагающимся ему запасным ключом. Он перепугался насмерть, когда обнаружил там окровавленное тело женщины и бездыханного мужчину, не подающего признаков жизни. Парнишка тут же бросился прочь и на бегу принялся громко звать на помощь. На его крики прибежал Сосэй, увидел и тоже в страхе побежал, только ему хватило ума позвать кого-то из старших монахов. Анчо, перепуганный, топтался во дворе. Оттуда он видел, как у дверей комнаты собрались несколько постояльцев, а потом прибежали старшие монахи. Только тогда кто-то заметил, что мужчина в комнате живой и просто мертвецки пьян. Его связали, а потом настоятель отправил нарочного в столицу за полицейскими. — И что же, во всей этой сутолоке и толкотне мужчина все время спал? — Да полицейские несколько часов кряду не могли его добудиться. А когда растормошили, тотчас же взяли под стражу. Держать его пришлось крепко и даже связать, потому что он бушевал и все пытался вырваться. Как раз это, как сочли полицейские, и подтвердило его вину. Акитада без труда представил себе эту картину. Брат Нагаоки Кодзиро, когда его грубо растолкали, а потом связали, спросонок и спьяну, конечно, сильно перепугался. Понимаюше кивнув, он сказал: — Да, теперь я бы как раз хотел осмотреть ту комнату. Через веранду они прошли в другое крыло. — Вот здесь у нас размещаются женщины, — сказал Эйкэн. — А комнаты в крыле напротив занимали актеры. Лучше селить их порознь — тогда помыслы перед молитвой будут чище. Акитада что-то буркнул себе под нос, явно не согласный с такой точкой зрения. Эйкэн словно бы не заметил этого и открыл дверь в комнату, ничем не отличающуюся от предыдущей. Акитада вошел и огляделся. Дощатый пол был, конечно, давным-давно отскоблен, да и крови там в любом случае не должно было быть много. Не обнаружив ничего особенного, он принялся осматривать дверь. Та имела изнутри задвижку, поднять которую снаружи можно было только специальным ключом, вставленным в крошечную скважину. — У кого имеются ключи от этой задвижки? — поинтересовался Акитада. — Таких ключей только два. Они хранятся у дежурного. Пользоваться ими могут только уборщики спальных помещений. Они получают ключи у дежурного утром перед работой и возвращают их ему же после уборки. Пустующие комнаты у нас обычно не запираются. — Понятно. А как вы думаете, мог бы я перемолвиться парой слов с этим Анчо? — Нет ничего проще. Он сейчас во дворе. Они вышли на веранду и посмотрели вниз, где юный монашек разравнивал граблями гравий в дальнем конце двора. Сложив руки у рта, Эйкэн громко позвал: — Анчо! Паренек отбросил в сторону бамбуковые грабли и послушно подбежал. — Вот, Анчо, это тот самый важный господин, о котором я тебе говорил, — сказал ему Эйкэн. — Он приехал расследовать убийство и хочет кое о чем тебя спросить. Щеки парнишки, розовые то ли от холода, то ли от работы на свежем воздухе, сразу же заметно побледнели, и он метнул испуганный взгляд в сторону открытой двери. — Не знаю я ничего, — сказал он,нервно переминаясь с ноги на ногу. — Мастер Гэнно запрещает нам думать о таких вещах. Это трудно, но я стараюсь не ослушаться. — Об этом не беспокойся, — сказал Эйкэн. — Тут ситуация особая. Ты же знаешь, что его преподобие велел нам оказывать посильную помощь властям. Видя волнение паренька, Акитада поспешил его успокоить: — Я постараюсь как можно короче. Я же понимаю, как тебе это неприятно. Анчо закивал с облегчением. У него был смышленый вид, несмотря на юный возраст — лет восемнадцать, не больше, как предположил Акитада. — Тогда, Анчо, скажи: эта дверь точно была заперта на задвижку, когда ты пришел убираться? — Да. Когда на мой стук никто не откликнулся, я толкнул дверь. Обычно гости их не запирают, когда уезжают. Я снова постучал и, когда опять никто не ответил, достал свой ключ и отпер задвижку. — А можно мне взглянуть на ключ? Анчо переглянулся с Эйкэном и, когда тот уверенно кивнул, протянул Акитаде тоненькое металлическое приспособление, которое он носил привязанным на веревке к поясу. Отмычка была специальным образом заточена, и Акитада сразу обратил внимание, что она предназначалась только для этого типа задвижек. Он вставил ее в скважину и услышал легкий щелчок, когда задвижка поддалась. Слегка повернув, он вынул ключ из отверстия. Придя к выводу, что открыть дверь без такой отмычки мог только очень опытный вор, заранее готовившийся к преступлению, Акитада вернул приспособление молодому монаху. — А теперь я должен задать тебе, возможно, очень неприятный вопрос, — сказал он. — Ты уж прости меня и постарайся на него ответить. Прежде всего скажи, что именно ты увидел, когда дверь открылась? Монашек закрыл глаза. Он снова немного побледнел, но отвечал без запинки и с готовностью: — Я увидел женщину на полу. Она лежала ногами к двери. Я сразу узнал ее по платью. Очень красивое у нее было кимоно, расшитое хризантемами и золотистыми травами. Я было подумал, что она спит, но тут же сообразил: почему не на постели? Она лежала на голом полу, да в такой странной позе… Тогда я решил, что она, должно быть, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Я подошел, чтобы помочь ей. — Он передернулся всем телом и проглотил тяжелый ком в горле. — Лицо ее было в крови… да и лица-то, считай, не было… сплошное месиво. Тут я понял, что она мертва, и побежал прочь. — Он открыл глаза и затравленно посмотрел на Акитаду. — Молодец. Ты очень хорошо рассказываешь, — подбодрил его Акитада. — Но ты успел понять, что в комнате есть кто-то еще? Анчо покачал головой. — В комнате было темновато, свет попадал туда только из открытой двери. В общем, я увидел только женщину, а догадаться, что там может быть и мужчина, мне и в голову не пришло. — Он залился болезненным румянцем и отвел глаза в сторону. — Вот ты говоришь, что узнал ее по платью. Значит, ты видел ее накануне вечером? — Да, господин, видел. Ведь я приносил ей постель и еду с питьем. — Так это ты обслуживал ее?! Что ж ты мне не сказал? — воскликнул Эйкэн. Ответ был простой: — А вы меня не спрашивали. Поначалу Эйкэн выглядел раздосадованным, потом просиял: — Нет, ну надо же! Только вы, господин, с вашим умом и проницательностью могли обнаружить такой значительный факт из каких-то небрежно произнесенных слов! Да-а, похоже, мне еще многому учиться и учиться в жизни. Акитада усмехнулся: — А нужны ли вам эти знания при таком-то образе жизни? — Конечно, господин. Вы даже представить не можете, что иной раз вытворяет наша молодежь! Не убийства, понятное дело, но все-таки… Да и гости разные бывают, всякая низменная публика вроде тех актеров… Хотя наш настоятель собирается запретить пускать сюда бродячих комедиантов и женщин. Сказано ведь: «Вырождение Закона начинается с женщин». — Да, я, признаться, тоже был удивлен, когда обнаружил, что в ваш монастырь пускают женщин. В ту ночь я даже застал одну из женщин в компании нескольких актеров-мужчин, и не где-нибудь, а в бане. Эйкэн был потрясен до глубины души. — Неужели? А вы уверены, господин? В этой части монастыря мужчинам и женщинам не дозволено находиться вместе. Куда же смотрел банщик? — Он пытался увещевать их, да только все без толку. Я так понял, что ради праздника ваши строгие правила разрешено было немного ослабить. — Ничего подобного, господин! Актерам надлежало не покидать своих комнат. — Он покачал головой. — Теперь понятно, почему настоятель так расстроен. Акитада снова повернулся к Анчо: — Расскажи-ка мне про вечер накануне, когда ты видел обоих живыми. — Меня послали обслужить новых постояльцев — даму и господина. Сначала я зашел на кухню. Она была уже закрыта, но я все же положил в корзинку холодных рисовых лепешек и два кувшина воды. Корзинку я отнес на веранду и поставил перед комнатой дамы, потом сходил в кладовку за постелью и постучался. Дама открыла мне. Я старался не смотреть на нее, но красивое платье как-то само бросалось в глаза. Сначала я принес постель и разостлал ее возле окна. — Он покраснел. — Вообще-то нам не полагается ее стелить. Закончив с постелью, я принес еду и воду. Просто поставил их в комнате у порога и отправился делать то же самое у господина. — Понятно. И ты не разговаривал ни с тем, ни с другим? — Нет, не разговаривал. Нам не положено. Тот господин поблагодарил меня, и только-то. — А какую-нибудь поклажу у него ты не заметил? — Заметил, господин. У него была переметная сума и меч, а у дамы только сума, и все. — А как они себя вели? Какой у них был вид — веселый, беспокойный, унылый или раздраженный? — Трудно сказать. Тот господин улыбнулся мне и кивнул. Мне показалось, он выглядел усталым. А дама все расхаживала туда-сюда по комнате. Может быть, она нервничала? Не знаю. Но не улыбалась и даже не смотрела в мою сторону. Вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать. Где-то снова начал звонить колокол, рассекая прозрачную тишину. Анчо оглянулся и забеспокоился. — Это нас созывают на обед, — пояснил Эйкэн. — Еще только минуточку, — попросил Акитада. — Скажи, а не довелось ли тебе в тот вечер обслуживать еще одного постояльца, который мог приехать позже? Лет эдак за пятьдесят, седовласый и худой. — Нет, господин. Больше никаких гостей в тот вечер не прибывало. И я вообще не припомню никого, кто бы подходил под ваше описание. Итак, Нагаока, судя по всему, не следовал по пятам за женой и братом. — Тогда скажи мне еще вот что. Не интересовался ли кто-нибудь из других гостей дамой, которую нашли мертвой? Анчо покачал головой: — Насколько мне известно, нет, господин. — Тогда все. Спасибо тебе. Ты молодец, что заставил себя снова вспомнить такие неприятные вещи. Анчо торопливо раскланялся и убежал. Эйкэн остался. Стоя у Акитады за спиной, он наблюдал, как тот закрывал дверь, и проследил, чтобы та не захлопнулась на задвижку. — Запирать не нужно, господин, — сказал он. Акитада пристально изучал дверь, потом чуть сильнее прежнего потянул ее. Задвижка с громким щелчком подпрыгнула и опустилась, и дверь оказалась заперта. — Ого! Да она запирается снаружи! — воскликнул изумленный Акитада. — Теперь понятно, зачем Анчо и другому дежурному нужны запасные ключи и почему Анчо отпирал дверь ключом после того, как постучался. Он-то думал, комната пустая, и, дернув дверь, сам случайно захлопнул ее. — Ну конечно. Люди иногда задвигают двери так сильно, что те сами запираются. — Но тогда получается совсем другое дело, — сказал Акитада. — Войти в запертую комнату без ключа никто не может, зато очень просто запереть ее, когда выйдешь. Благодаря вам мы теперь знаем, что кто-то другой, а не Кодзиро мог убить госпожу Нагаока. У Эйкэна был недоуменный вид. Помолчав немного, он сказал: — Что-то я не совсем понял. Позвольте полюбопытствовать, господин, уж не подозреваете ли вы кого-то из нас? — Вовсе не обязательно. Это мог быть любой, кто находился в ночь убийства в монастыре. Что ни говори, а в ту ночь здесь было много посторонних. Ну да ладно, идите, а то пропустите обед, а мне пора продолжать путь. Я глубоко благодарен вам за вашу любезность и за столь неоценимую помощь. Эйкэн повеселел. — Нет-нет, у меня есть время. Кто-нибудь да принесет мне еду прямо в сторожку. А вы еще вернетесь? — Может быть. Но как бы там ни обернулось, я обязательно дам вам знать, чем все кончилось. Они расстались друзьями. Акитада снова взобрался в седло и поскакал по горной тропе, гадая, удастся ли нагнать упущенное время. Впрочем, не такое уж упущенное — ведь теперь он по крайней мере обладал достаточными сведениями, чтобы вновь завести разговор с Кобэ. Но было в этом деле и много неясных моментов, и не последнее место среди них занимала подозрительная фигура Ноами. Человек этот, казалось, был вездесущ — вечно зловеще маячил где-то на заднем плане. Так постепенно, мысленно перебирая события последних недель, Акитада снова впал в уныние. Он ни на крупицу не приблизился к раскрытию убийства жены Нагаоки, дома в непримиримой злобе умирала матушка, одна из сестер, затравленная и глубоко несчастная, пребывала в отчаянии, а другая оказалась замужем за человеком, на которого пало чудовищное подозрение в краже имперских сокровищ, и сам он еще так и не удосужился явиться с докладом ко двору. И что самое ужасное — ему до сих пор пока так и не удалось разрешить хотя бы одну из этих проблем. В таком настроении он пребывал, пока наконец не выехал на открытую местность, откуда открывался вид на долину и широкий тракт внизу. У дощатой хижины, где он останавливался ранее, он заметил скопление повозок, лошадей и людей. Это какие-то путники решили сделать остановку на пути в столицу. Акитада напряг зрение и посчитал. Ну да, конечно! Две повозки, запряженные быками, и еще сколько-то лошадей, примерно пятнадцать. И даже издалека он разглядел прямо внутри хижины женскую фигурку в синем кимоно, а потом и мужчину с малышом на спине. Ну наконец-то! Приехали! Не сдержав радостного крика, Акитада хлестнул лошадь и пустился галопом вниз по тропе навстречу своей семье.
ГЛАВА 9 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Прием, оказанный им дома, был менее чем скромным. Конечно, Сабуро заулыбался во весь рот, как только увидел любимую госпожу, и Ёсико выбежала им навстречу, оправляя на себе платье и на ходу приглаживая растрепанные волосы. Но остальные домочадцы — все до одного новенькие слуги — лишь с любопытством взирали на лошадей, повозки и незнакомых им людей, заполонивших двор. Тяжкий недуг престарелой госпожи Сугавара, приковавший ее к смертному одру, и монотонные распевы монахов окутывали радость приезда мрачной пеленой. В доме, где поселились хворь и скорбь, не было места ликованию. Тамако и Ёри после столь долгого путешествия выглядели просто прекрасно — окрепли и загорели на солнышке. Нездоровая бледность Ёсико рядом с ними теперь еще больше бросалась в глаза. Тамако знала о болезни матушки от Акитады, но сейчас поинтересовалась у Ёсико подробностями. Обе женщины и Ёри, которого держала на руках Ёсико, направились в покои госпожи Сугавара. Акитада угрюмо плелся за ними. Он испытывал настоятельную потребность как-то предотвратить эту встречу, чтобы оградить самых дорогих ему людей от губительного яда, источаемого матушкиным больным сознанием. Но Тамако поспешила напомнить ему о своем дочернем долге, ибо как невестке ей полагалось отдать дань уважения свекрови и представить той своего сына. Поэтому он уныло следовал теперь за ними и остался ждать среди монахов за дверью, когда обе женщины скрылись за ней. Ждать пришлось долго, и все это время, устремив рассеянный взгляд на шесть бритых голов, он провел в мрачных раздумьях — о горном монастыре, об убийстве, о художнике Ноами, в прошлом тоже монахе, об адской картине и, наконец, о подарке, припасенном им для Тамако. Последняя мысль согрела и ободрила его — портрет малыша со щенками напомнил ему о том, что скоро они с женой останутся наедине. Тогда они наконец смогут поговорить о себе и о будущем, смогут прикоснуться друг к другу руками, а потом, быть может, и заняться любовью. Когда Тамако вышла из матушкиных покоев, на лице ее было запечатлено глубокое горе. Ее удивило, что муж так радостно улыбается, простирая к ней навстречу руки. — Ну наконец-то! — воскликнул он. — Пойдем же скорее ко мне! Знаешь, как я по тебе скучал! Один из монахов буквально поперхнулся словами молитвы, отчего дружный распев сбился, и в коридоре повисла тишина. Шесть пар укоризненных глаз устремились на Акитаду. Потом самый старший из них, сидевший ближе к двери, прочистил горло и поднял руку. По его сигналу остальные дружно подхватили и вновь затянули свою монотонную песнь. Взяв Акитаду за руку, Тамако поспешно увела его прочь. — Она умирает… — тихо бормотала она на ходу с упреком и с горечью. И когда монахи уже не могли их слышать, прибавила: — Конец-то совсем близок. Но она узнала меня и протянула руку, чтобы приласкать Ёри. Только даже на это у нее сил не хватило. Ох, Акитада, я вижу, ко времени мы вернулись. Акитада смотрел в ее полные слез глаза и не мог не подивиться тому состраданию, с каким она отнеслась к женщине, которую едва знала. Сам-то он считал, что его мать не заслуживает такого отношения к себе. — Зато я вернулся слишком рано, — проговорил он резким тоном. — Вот не поспешил бы и не узнал бы тогда, как, оказывается, ненавидит меня собственная мать, если готова прогнать с глаз долой, осыпая проклятиями. — Акитада, как же так?! Ты ничего не говорил мне. Тамако была глубоко потрясена. Он отвернулся и молчал, потом сказал: — Не хотел отравлять и тебе жизнь. Теперь я держусь от нее подальше и просто жду конца в надежде, что он настанет скоро и мы все тогда сможем наладить собственную жизнь как нормальные люди. Он открыл дверь в свою комнату, там было холодно. Никто не позаботился, чтобы принести туда жаровню или кипятка для чая. Ему вспомнились роскошные покои Акико с многочисленными раскаленными жаровенками, шелковыми постелями и мягкими подушками, разбросанными на толстых соломенных циновках и огороженными от сквозняков ширмами и занавесками. — Прости, но тут ничего не готово, — сказал он жене. — Моя голова была занята совсем другими вещами. Неприветливо тебя встретил дом. Несмотря ни на что, за ночь они хорошо отдохнули. Утром началась суета, связанная с размещением. ни заря Акитада пошел в конюшни проведать лошадей. Холодная, ветреная и пасмурная погода его сильно тревожила. Большая часть конюшен не имела крыши, и задувавший сверху холодный ветер разметывал сено, приготовленное для животных. Он велел Торе и Гэнбе смастерить какое-нибудь временное укрытие и корил себя за то, что не побеспокоился об этом раньше. Вернувшись к себе, он нашел Тамако дрожащей даже в зимнем кимоно. — Прости, любимая, — сокрушенно сказал он. — Из-за матушкиной болезни все слуги заняты и буквально сбиваются с ног. А ты вот сидишь тут в ледяной комнате, и чашки горячего чая даже никто не поднесет. — Он вдруг вспомнил про сына и, с тревогой оглянувшись на дверь, спросил: — А где Ёри? — Только не сердись. Ёсико опять повела его к твоей матушке. Она, похоже, лучше себя чувствует, когда видит его, а он и не возражает. И обо мне беспокоиться не нужно. Теперь, когда я, слава Богу, вернулась, я стану помогать Ёсико — ведь она наверняка сбилась с ног, заботясь о матушке и о тебе. Она говорит, у нее в помощницах всего одна служанка. Акитада покраснел от стыда, вспомнив про кимоно, сшитое для него сестрой. — Я беспокоюсь за Ёсико, — сказала Тамако, разбирая привезенную одежду и развешивая ее проветриться. Акитада поморщился. — Я тоже. Что она видит? С утра до ночи работа, матушкин злой язычок, ее тяжкая хворь да одиночество! Разве это жизнь для молодой женщины ее сословия? Я обещал ей найти хорошего жениха. Обретя свой собственный дом, она быстро снова станет собой. Тамако рассмеялась. — Ох, Акитада! Неужели ты думаешь, что все так просто? — И, внезапно посерьезнев, она прибавила: — Нет, тут что-то еще. Она явно скрывает это, а значит, это что-то неприятное. Акитада игриво склонил голову набок и улыбнулся жене. — Да ты просто ищешь, кого бы напичкать своими волшебными зельями, — сказал он, с обожанием глядя на нее. Целительский дар его супруги поистине был спасением для его семьи и прислуги в течение всех этих долгих лет, проведенных ими на севере. Даже Сэймэй, его старый друг и преданный вассал, передал ей свою коробку с лекарственными бальзамами и чаями и целиком сосредоточился на новой роли — персонального секретаря Акитады. — Нет, с нас хватит и матушкиной болезни, — твердо сказал он. — А Ёсико в полном порядке. Просто устала и вынуждена торчать дома. Тамако прошлась по комнате и распахнула дверь в запущенный сад. Холодный воздух ворвался в и без того промозглую комнату. — Против болезни твоей матушки я уже бессильна. — Она вздохнула, глядя на унылые дебри неухоженных растений. Акитада подошел к ней и с виноватым видом сказал: — Я пока не успел навести здесь порядок. Сад у него перед глазами представлял собой печальную картину — вечнозеленые кустарники вымахали до высоты деревьев, травы почернели от заморозков, а земля и дорожки были усыпаны опавшей листвой и ветками. Но Тамако как ни в чем не бывало улыбнулась: — Не переживай! Мне всегда нравилась эта комната больше других. Здесь солнечно в течение всего дня, а сад дает ощущение покоя и уединенности. Знаешь, с каким удовольствием я снова займусь садоводством! Не будет больше этой вечной зимы и этих нескончаемых снегопадов, и мы будем сидеть на этой вот веранде, попивать чаек и любоваться нашими азалиями, камелиями, пионами и осенними хризантемами. — Она порывисто повернулась к нему, глаза ее сияли радостью. — Ах, Акитада, как это все-таки хорошо — вернуться домой! Акитада был так глубоко тронут словами жены, что не сразу сообразил, что ему предстоит лишиться комнаты, которую он всегда занимал — места, где он спал и работал и мог укрываться от презрительных взглядов и слов своих надменных родителей. Ну что ж, он найдет себе другую комнату, если Тамако хочет жить в этой. — Знаешь, до сих пор я никогда не был счастлив в этом доме, — сказал он, обнимая ее и крепко прижимая к себе. Тамако молчала, только с радостным вздохом уткнулась нежным личиком в его плечо. В саду ветер, подхватив горстку жухлой листвы, вихрем закружил ее в воздухе. Акитада поежился и еще крепче прижал к себе жену. — Какая ранняя зима в этом году, — сказал он. — А эта комната совсем не отапливается. Ты, наверное, будешь мерзнуть. Просто не понимаю, что случилось с нашими слугами. А я не успел даже нанять еще кого-нибудь. Давай-ка я схожу за твоей служанкой — пусть приготовит чай и горячие жаровни. Она улыбнулась, расставаясь с ним неохотно. — Да ладно, не стоит беспокоиться. Хотя от чашки горячего чая я бы не отказалась. Акитада закрыл двери на веранду и отправился на поиски служанки. В доме было пустынно, лишь доносившееся по коридорам распевание монахов нарушало тишину. Еще с крыльца Акитада увидел, что повозки до сих пор стоят посреди двора, лишь наполовину разгруженные. На кухне он застал повариху и матушкину долговязую костлявую служанку за оживленной болтовней — взяв в оборот смазливую горничную Тамако, они тешили свое любопытство, засыпая ее вопросами о новой госпоже и о людях Акитады. Кроме слабенького огонька под рисовым котлом и небольшой горки наструганных на доске овощей, других приготовлений пищи он не заметил. Как никогда доселе, осознав в этой небрежности свою вину, Акитада сердито рявкнул: — Почему в моей комнате нет жаровни? И где кипяток для чая? Повариха и долговязая служанка бросились к плите и к пустым жаровням. Тогда Акитада строго сказал молоденькой служанке Тамако: — А ты, оказывается, ужасная сплетница, Оюки. Ну-ка ступай немедленно к своей госпоже и позаботься о ее удобствах! Девица с нахальной улыбочкой поднялась и исчезла. Повариха и матушкина горничная уже суетились вовсю — одна наливала в чайник кипяток, другая насыпала угли из очага в одну из жаровен. — Отнесешь эту жаровню и вернешься за новой, — распорядился Акитада. — В комнате очень холодно. Служанка вытаращила на него глаза. — Я не могу, господин. Старая госпожа разрешает только одну жаровню, — объяснила она. — Теперь я здесь хозяин, — сердито напомнил ей Акитада. — И отныне ты будешь делать то, что скажу я или что прикажет тебе моя жена. Поняла? — Он перевел властный взгляд на повариху и прибавил: — Вас обеих касается. — Он протянул руку за чайником, потом распорядился: — Займись завтраком. У нас в доме теперь много едоков. — Но тогда ничего не останется на обед и на ужин! — взмолилась повариха. Он едва не выругался, потом сообразил, что женщина все-таки не виновата. — Ничего, постараешься и что-нибудь придумаешь! Неся горячий чайник, он обогнал долговязую служанку с жаровней. Придя в комнату раньше нее, он застал Тамако за любованием картиной Ноами. Нахальная горничная уже доставала вещи из принесенного кем-то сундука. По всей комнате были разбросаны вороха нарядов, рабочий стол заполонили многочисленные зеркальца, шкатулочки и коробочки со всевозможными женскими снадобьями. Вздохнув про себя, вслух он сказал: — Эта картина для тебя. Нравится? — Она восхитительна! Щенята на ней словно живые — такое впечатление, будто различаешь каждую шерстинку, каждый волосок. А малыш просто очаровательный! Где ты отыскал эту картину? Долговязая служанка пристроила жаровню возле стола и ушла. Акитада приготовил для Тамако чай. — Этого художника нашел супруг Акико Тосикагэ. Он заказывал у него ширму в ее покои. Когда я увидел эту ширму, то сразу захотел приобрести такую же и для тебя, но художник оказался весьма странным типом. Очень неприятный человек, хотя и талантливый. Он сказал, что ему пришлось бы наблюдать цветы в течение целого года, чтобы изобразить на ширме все четыре сезона. — Как интересно! Мне бы хотелось когда-нибудь познакомиться с этим человеком. Ну а как поживает Акико? Ёсико говорит, она ждет ребенка. — Да, это так. И сама она, похоже, здорова и счастлива. — О неприятностях Тосикагэ он решил умолчать, а только сказал: — Муж ее мне понравился, и мне показалось, он в ней просто души не чает. Тамако не спускала с него внимательных глаз. — Вот и хорошо. Я охотно познакомлюсь с ним. Дверь отворилась. Тора с Гэнбой внесли в комнату новые сундуки. Вслед за ними служанка принесла еще одну жаровню. Акитада поставил пустую чашку и сказал: — Меня ждут дела. Во-первых, я забыл, что обещал сообщить Акико о твоем приезде. Потом надо бы попросить Сэймэя, чтобы приготовил мне комнату. А еще нужно срочно заняться починкой конюшен, ибо сейчас они, прямо скажем, в негодном состоянии. Тамако улыбнулась: — Не волнуйся, все образуется. В коридоре перед бывшей комнатой отца Акитада встретил Сэймэя. Старик тащил тяжелую коробку с бумагами. — Постой! — окликнул его Акитада и бросился к нему, чтобы помочь. — Зачем ты таскаешь такие тяжести? Пусть ими занимаются Тора с Гэнбой. Кстати, куда это ты их несешь? — Среди вещей в коробке он узнал свои писчие принадлежности и личные печати. — В комнату вашего отца, — сказал Сэймэй. — По-моему, вам в самый раз теперь туда перебраться. Акитада прямо-таки застыл на месте. — Ни за что! Ни в коем случае! Только не туда! Морщинистое лицо старика выражало сочувствие. — Ох-хо-хо!.. Старые раны долго не заживают. — Ты лучше других знаешь, почему я не могу работать в комнате, связанной с такими воспоминаниями, — сухо сказал Акитада. Старик вздохнул. — Теперь вы здесь хозяин. А комната вашего батюшки самая большая и удобная во всем доме. Вам ее и занимать. Акитада вдруг сообразил, что Тамако имела в виду то же самое, но сама эта мысль была ему до противного невыносима. — Нет, для начала я поживу в другой комнате, пока мы не освободим отцовскую от его вещей, — неохотно пообещал он. — Их уже вынесли оттуда, — поспешил сообщить Сэймэй и отправился дальше по коридору. — В обществе пойдут всякие разговоры, если вы не займете в доме место своего отца. Мужчина не должен забывать о своем долге перед семьей, перед своим домом и перед самим собой. Так мудрый старик увещевал своего хозяина, пока тот, озадаченный, тащил за ним коробку. Перед самой дверью в кабинет отца Акитада сделал последнюю попытку воспротивиться: — Мой отец сделал все возможное, чтобы не дать мне занять его место. Не удивлюсь, если он начнет наведываться в эту комнату, когда я поселюсь в ней. Тут уж Сэймэй не сдержал усмешки. — Ну, вы сейчас говорите прямо как Тора. Не верю я вам. И в любом случае следует помнить старую мудрость: «Горько терпение, да сладки плоды его». Вы представить не можете, как мечтал я все эти долгие годы об этом дне. Надеялся, что доживу все-таки и увижу своими глазами, как вы займете место вашего отца. Акитада был потрясен этими словами. Старик был его спутником в течение всей жизни, он делал все, чтобы оградить его в детские и отроческие годы от гнева отца и равнодушия матушки, но никогда при этом не позволял себе какой-либо критики в их адрес. Его верность семье Сугавара была незыблемой, и превосходило ее только одно чувство — любовь к юному Акитаде. Сейчас Акитада был так глубоко тронут, что, как ни старался, не смог скрыть этого. — Ну что ж, будь по-твоему, — сказал он и втащил коробку в кабинет. Там он первым делом огляделся по сторонам. Двери на веранду были закрыты, поэтому в комнате было темновато и пахло затхлостью и плесенью. Хорошо знакомые ему стеллажи вдоль одной стены пустовали. Исчезли также настенные свитки с изречениями китайских мудрецов и страшная картина с изображением Эммы, властителя подземного мира, карающего праведным судом души падших грешников. Эта картина всегда нагоняла особенный ужас на юного Акитаду, когда он являлся в кабинет отца в ожидании наказания. Сходство между отцом и мрачным карающим судией было до того разительным, что у Акитады никогда не оставалось сомнений, почему эта картина занимала самое видное место в комнате. Широкий лакированный стол черного дерева был тоже расчищен от отцовских вещей — не осталось здесь ни его писчих принадлежностей, ни лампы, ни его личной маленькой жаровенки. Царил здесь только дух сурового осуждения, которому неведомо прощение. Акитада с содроганием подумал о том, следует ли ему впускать сюда собственного сына. Сэймэй распахнул двери на веранду. Холодный, свежий воздух ворвался в комнату. Узкая тропинка в маленьком садике вела к пруду, засоренному опавшей листвой. В детстве Акитаде не разрешали играть здесь. Сэймэй запричитал при виде такого запустения, но Акитада поспешил выйти наружу — прочь из ненавистной комнаты. Он подошел к пруду и заглянул в его черные воды. В глубине под их холодной толщей он различил какое-то поблескивающее движение. Подобрав с земли обломок крошечного прутика, он бросил его в воду, и тут же одна за одной на поверхность поднялись разноцветные рыбки. Красные, золотистые, серебристые, пятнистые и однотонные, они жадно открывали рты в ожидании угощения. Этих милых рыбок обязательно полюбит Ёри. — Ну что ж, — сказал Акитада, — если кое-что здесь изменить, то комната может стать пригодной. Сэймэй, озабоченно наблюдавший за хозяином с веранды, вздохнул с облегчением. — Госпожа уже выбрала ширмы, подушки и занавеси для этой комнаты. Ну и конечно же, сюда принесут ваши книги, кисти, памятные вещицы с севера, ваши чайные принадлежности, зеркало, платяной сундук и ваш меч. — Понятно. И не забудь еще поставить свой стол рядом с моим, — с улыбкой сказал Акитада. — Потому что я не собираюсь работать тут один. Сэймэй поклонился: — Все будет выполнено. — Глаза старика увлажнились, когда он ступил обратно в комнату. Акитада вошел за ним следом и, придав голосу строгости, сказал: — Пойду позабочусь о лошадях и пришлю тебе Тору. А тебя я попрошу отправить моему зятю Тосикагэ весточку — сообщи ему, что моя семья прибыла. — Я взял на себя смелость и уже сделал это, господин. — Я так и знал. — Акитада с сыновней нежностью коснулся плеча старика, с горечью отметив про себя, каким щуплым и дряхлым тот стал. — Я всегда буду считать тебя своим настоящим отцом, Сэймэй, — сказал он, чувствуя слезы теперь уже и в собственных глазах. Сэймэй только посмотрел на него и зашевелил губами, но так ничего и не сказал — просто накрыл руку Акитады своей старческой корявой ладонью. Только к середине дня Акитада закончил дела в конюшне. Большая часть строения была разрушена много лет назад, когда он был еще ребенком. Финансовое положение семьи Сугавара не позволяло содержать ни лошадей, ни быков, ни обслугу для них. Потом у оставшейся части развалилась крыша, вороха мокрых листьев покрывали теперь гниющие доски там, где некогда стояли лошади. Акитада застал Тору и Гэнбу за работой — они воздвигали грубую, нетесаную стену, отделявшую крытую часть конюшни от пустующих стойл, предоставленных всем природным стихиям. Оставлять животных без крова в такой холод не отважился бы никто. Четыре лошади Акитады и пара быков, тащивших повозки через всю страну, топтались сейчас вместе в наиболее пригодной части конюшен, где у них под ногами имелся сухой пол и свежая солома. Крупный серый жеребец, полученный Акитадой в подарок от благодарного князя, повернул к хозяину свою красивую морду и приветствовал его тихим ржанием. Акитада подошел к животному и погладил его, а потом и трех других — гнедую кобылку и двух меринов темной масти. Они проделали немалый путь, сумев остаться в рабочей форме. Принадлежавшая Тамако кобылка была мельче других лошадей, зато прекрасно сложена. Теперь они смогут выезжать верхом на прогулки за город. А вскоре он, видимо, сможет приобрести лошадку еще и для сына. Позаботиться о лошадях было сейчас для Акитады важнее, чем разбирать книги, поэтому он трудился не покладая рук наравне со своими самураями. Гэнба, настоящий здоровяк, широкоплечий и мускулистый, в прошлом был борцом. В борьбе он упражнялся в свободное время и сейчас только порядком растерял свой привычный вес и вечно ходил голодным, в мыслях представляя себе всякую разную еду. Тора же, большой охотник до юных красоток, сейчас, за неимением оных, с удовольствием занимался плотницкой работой. Очень давно, еще расследуя свое первое дело, Акитада случайно спас этого бывшего воина от обвинения в убийстве, и с тех пор Тора верно и исправно служил ему. К вечеру морозец стал крепчать, но физический труд согревал их, а за разговором время проходило незаметно. Гэнба с Торой с интересом слушали рассказ хозяина о событиях в горном монастыре. Но когда Акитада поведал об адской ширме и о мастерской художника близ храма Безграничного милосердия, Тора прекратил заколачивать гвозди и в ужасе уставился на хозяина. — Там живут духи! — заявил он. — Голодные и жирные, как мухи. И каждое утро местные служки выгребают оттуда недоеденные части человеческих тел. Суеверное воображение Торы зашло так далеко, что Акитада с Гэнбой не могли удержаться от смеха. Описанные в столь ярких красках подробности показались им уморительными. — Ну что ж, неплохо сработано, — заметил Гэнба, когда они закончили стену. — По-моему, я заслужил дополнительную мисочку риса. Кстати, хозяин, я все хотел спросить у вас про повариху. Сдается мне, жалеет она кинуть лишний кусок рыбки в свою стряпню. Вам так не показалось? — Она родом из деревни и готовит с душой. Только вас тут не ждали, вот, похоже, и не запаслись провизией. Гэнба сначала приуныл, потом снова повеселел. — Ну что ж, я мог бы сгонять куда-нибудь за лепешками да еще лапши купить. Ёри ее очень любит. — Вот и хорошо, — с улыбкой сказал Акитада, надевая кимоно. — Только не покупай больше, чем нам под силу съесть. Тора расхохотался. — Все равно что попросить кошку не есть рыбу, — сказал он и, когда Гэнба, усмехаясь, ушел, сообщил хозяину: — Завтра я готов заняться этим убийством в монастыре. Акитада планировал поговорить с Кобэ как можно скорее, но теперь у него образовались неотложные дела, поэтому он сказал Торе: — Сначала мы должны как подобает разместить семью. Тора только махнул рукой. — Ну, это мы быстро! Темнело. Акитада окинул взглядом утонувший в сумерках двор и дом на его противоположной стороне, выступавший из полумрака, и сердце его в очередной раз сжалось, когда он с горечью подумал о том, как мало тот видел заботы в его отсутствие. — Надо бы еще привести в порядок дом и сад. Тора удивленно вытаращил глаза. — Хозяин, но ведь зима на носу! Не лучше ли подождать до весны? Они пошли к колодцу помыть руки. Вода в бадье была ледяная — прямо обжигала. Морщась от холода и торопливо вытирая руки об штаны, Акитада сказал: — Ну а вообще, если у тебя найдется свободное время, можешь походить поспрашивать в округе об этих актерах. Они в ту ночь кутили по всему монастырю, и кто-нибудь из них мог что-то видеть. А еще постарайся разузнать, не выходила ли какая из их женщин примерно в час Крысы[1406]. Они называют себя «Танцоры дракона», и руководит ими какой-то старик по имени Уэмон. — Да нет ничего проще! — воскликнул Тора, потирая руки. — Уж кто-кто, а я-то хорошо знаю все чайные дома и винные лавки на набережной, где актеры обычно просаживают свои денежки… — Он умолк, завидев Сэймэя. — Ой, смотрите, господин, чтобы ваш Тигр не заплутал на базаре! — сказал Сэймэй Акитаде, многозначительно кивая в сторону лыбящегося Торы. Прозвише Тигр прилипло к Торе давно: он воображал себя помощником гениального сыщика и даже весьма преуспел на этом поприще, хотя его рабочие методы, заключавшиеся в постоянных попойках и любовных похождениях с «особо важными свидетельницами», вызывали крайнее неодобрение Сэймэя. — Спасибо тебе, Сэймэй, за совет. Я прислушаюсь к нему, — с улыбкой сказал Акитада. — Но с советами, надеюсь, пока покончим? — Конечно, хозяин. Я пришел сообщить, что прибыли господин и госпожа Тосикагэ. Они сейчас в комнате у госпожи. Акитада замешкался. У него не было ни малейшего желания наведываться к матушке. Но Сэймэй тут же поправился: — Я имел в виду, у молодой госпожи. Акитада не сразу сообразил, что Сэймэй говорил о его собственной комнате, вернее, о его бывшей комнате. Покачав головой — уж больно разительные перемены произошли всего за несколько часов, — он отправился в упомянутые покои. Из-за двери слышались веселый смех Ёри и радостные женские голоса. Акитада приготовился увидеть сцену полнейшего беспорядка — женщин, возбужденно обсуждающих наряды, разбросанные по всей комнате, и своего маленького сына, беспечно резвящегося среди всей этой кутерьмы. Открывая дверь, он надеялся вызволить зятя и увести его подальше от этой бабьей и детской болтовни, но, к своему великому удивлению, обнаружил там счастливое семейство, красиво рассевшееся на подушках вокруг его бывшего стола. Все сундуки были закрыты и аккуратно расставлены по стеночкам; небольшая расписная ширма и несколько стоек с занавесками укрывали от сквозняка сидящих. Дружно повернувшиеся в его сторону лица сияли радостью в свете зажженных свечей. Тамако разливала чай, Ёсико держала на коленях Ёри, улыбающаяся Акико заботливо поглаживала животик, а Тосикагэ, сидевший рядом с женой, сразу же поднялся навстречу хозяину. Акитада не мог не заметить, как разительно переменился этот дом, в котором еще совсем недавно слышны были только скорбные голоса бубнящих монахов да тревожное перешептывание прислуги в коридорах. И эта существенная перемена не имела никакого отношения к болезни матери. Он вообще не мог припомнить, чтобы здесь когда-то звучал смех или детские голоса или так вот дружно собиралось под одной крышей все семейство. Чувствуя внезапный прилив радости, он радушно обнялся с Тосикагэ. Женщины пили чай, а перед Тосикагэ стояла фляга с горячим саке, и Акитада охотно присоединился к нему, торопясь согреть заледеневшие пальцы об чарку, прежде чем пропустить благодатную крепкую жидкость внутрь. Рядом с горячими жаровнями Акитада наконец разомлел и расслабился. Тамако сообщила ему, что развлекала гостей рассказами о жизни на севере и что теперь настал его черед. Он не стал отказываться, и его с интересом слушали, без конца задавая вопросы, перебивая и передавая с рук на руки Ёри. Такого приятного досуга он не знавал давно. Но потом Акико вдруг испортила весь добрый настрой. — Между прочим, матушка выглядит просто ужасно, — сказала она. В ее тоне звучали откровенно укоризненные нотки, но Акитада пока не понимал, куда она клонит. — Она вряд ли дотянет до утра. Так что тебе, братец, наверное, пора подумать о скорбных приготовлениях. Акитада вздохнул. — Не волнуйся. Необходимые приготовления уже сделаны. Ну а как ты чувствуешь себя, Акико? Акико отвлеклась. Бросив на Тосикагэ игривый взгляд, она легонько похлопала себя по животу. — У нас все хорошо. У моего сыночка и у меня, — с гордостью проговорила она. — А Тосикагэ просто очарован твоим Ёри, поэтому собирается окружить нас безмерной заботой. Так ведь, скажи мне, о почтенный супруг и счастливый отец нашего сына? Тосикагэ заулыбался во весь рот и раскланялся перед ней. — Да, моя обожаемая супруга и мать моего ребенка, самой нежной заботой! — Он повернулся к Акитаде: — Небеса наградили вас очаровательной семьей, дорогой братец, и я бесконечно счастлив считать себя ее частью. Акитада был тронут такими словами и ответил не менее учтиво и любезно, но ему почему-то припомнился сиротливый юноша — старший сын Тосикагэ. Мысли эти неизменно привели его вновь к неприятностям с кражей имперских ценностей, и он уж было хотел увести Тосикагэ куда-нибудь, чтобы обсудить этот вопрос, но тут дверь отворилась, и служанка Тамако принесла ужин. Гэнба превзошел самого себя. Были здесь и тарелки с маринованными овощами, и мисочки прозрачного рыбного супа, целые горы лапши и ворох лепешек. Ко всем этим лакомствам прилагались вареный рис и овощи. В общем, ужин удался на славу, удовольствия продолжались. Правда, в конце концов Ёри устал и закапризничал. Женщины дружно поднялись, чтобы отвести его в постель. Направляясь к двери, Акико замешкалась возле Акитады и сказала: — Кстати, братец, помнишь ту фигурку плывущей богини, которая тебя так заинтересовала? Так вот, она опять уплыла, и Тосикагэ клянется, что ничего не знает об этом. Пусть он сам расскажет тебе, заставь его. Акитада метнул вопросительный взгляд на Тосикагэ, и тот вмиг покраснел до корней волос. Дождавшись, когда женщины уйдут, Акитада спросил: — Значит, вы узнали статуэтку? Тосикагэ всплеснул руками. — Да я ее в глаза не видел! Памятуя ваши наставления просветить Акико насчет истории всех этих вешиц, я пошел в ее покои на следующий же день. Она рассказала мне про статуэтку, но, когда мы стали искать ее, выяснилось, что она пропала. — Он основательно приложился к своей чарке и вздохнул. — И что же? Тосикагэ принялся затравленно объяснять: — Акико описала мне ее. У вашей сестры великолепная память. Судя по ее описанию, это та самая фигурка плывущей богини из имперского хранилища. Не думаю, что таких фигурок могло бы быть две. Но я клянусь вам, Акитада, что не приносил ее туда! — Я-то вам верю, но это означает, что это сделал кто-то из ваших домочадцев. — Это невозможно! Кто бы стал заниматься такими вещами? И с какой целью? — А мне вот интересно, почему ее оставили в комнате Акико и где она сейчас. — Да зачем ее вообще оставили? — Возможно, чтобы предостеречь вас. Тосикагэ окончательно пришел в недоумение. — Предостеречь? От чего? Не понимаю! Акитада вздохнул и задумался. Немного помолчав, Тосикагэ сказал: — Слава Богу, что ее не видел наш начальник. Помните тот его неприятный визит ко мне? Акитада кивнул. — А я-то собирался показать ему ширму в комнате Акико и сделал бы это, если бы вы не пришли навестить сестру. Можете себе вообразить, что было бы, если бы начальник увидел эту статуэтку? — Да уж. Только вы, помнится, говорили, что начальник приходил, чтобы сделать вам выговор. В таком случае я не понимаю, как вы собирались развлекать его в сложившихся обстоятельствах? — Ах вот вы о чем! Все было совсем иначе. Я похвастался ему ширмой за несколько дней до этого и пригласил его домой посмотреть. Честно говоря, в первый момент я даже подумал, что он за этим и пришел. — Тосикагэ несколько раз горестно вздохнул, качая головой. — И что бы все это могло значить? — недоуменно пробормотал он. У Акитады в мозгу зашевелилась мысль. Только ею он вряд ли мог бы поделиться с Тосикагэ. И если он не ошибся, то правда окажется гораздо более жестоким ударом для его зятя, чем простое увольнение с работы. Гораздо более жестоким в сравнении с любыми, самыми скверными обстоятельствами.ГЛАВА 10 ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Госпожа Сугавара скончалась на следующее утро. Скорбное известие Акитаде принесла Тамако. Сам он, находясь в бывшем кабинете отца, вдалеке от женской половины дома, ничего не знал о случившемся. Проснувшись рано и осторожно выскользнув из постели, чтобы не разбудить жену, он сходил на кухню за жаровней и кипятком для чая и отправился в кабинет. Комната по-прежнему угнетала его. Он зажег побольше свечей и масляных ламп — все, что смог найти, — но мрачноватая, неприятная атмосфера неизменно давила, нагоняя уныние. Разбирая свои вещи, он нашел старинную флейту, купленную у торговца древностями, и решил немного потешить себя игрой. Поначалу игра не клеилась, но постепенно к нему вернулись старые навыки, и он так увлекся исполнением, что не заметил вошедшей Тамако. Она сразу же отстранила флейту от его губ. — В чем дело? — недоуменно спросил он. — Разве я так уж плохо играл? Тамако печально смотрела на него. — Нет, Акитада. Но ты больше не должен играть. Матушка… Он порывисто встал. — Да что же это такое?! Даже в таких пустяках мне отказывают в собственном доме! Нет, это невыносимо, я больше не позволю ей диктовать мне, что можно, а чего нельзя! Устремив на него скорбный взгляд, Тамако сказала со вздохом: — Этого уже не случится. Твоя мать умерла. Акитада опешил.Умерла? Первое, что он испытал, — это чувство облегчения: наконец-то кончилось это долгое медленное умирание и наконец-то улетучится эта тягостная удушливая пелена, так давно окутывавшая весь дом. Но облегчение тут же уступило место стыду, а потом унынию. Вот странно, но событие, которого так долго ждали, теперь казалось внезапным, несвоевременным и слишком поспешным. — Когда? — спросил он, чувствуя, как заколотилось сердце. Тамако коснулась его руки, он даже не сразу понял, откуда эта боль, потом увидел у себя в руке сломанную флейту — бамбуковая щепка поранила ему палец. Вскрикнув, Тамако забрала у него обломки и положила на стол. Вынимая занозу, она сообщила: — Совсем недавно. Новое кровотечение. Оно случилось, когда твоя сестра кормила ее кашей. Я застала Ёсико всю перепачканную в крови и перепуганную до смерти. Я увела ее оттуда. Доктор уже приходил к твоей матушке, и мы все побывали у нее. — Тамако помолчала в нерешительности, потом спросила: — Хочешь зайти к ней сейчас? Итак, Тамако припасла для него это жуткое зрелище — окровавленное мертвое тело его матери. Он с содроганием вспомнил ту ужасную сцену, когда мать проклинала его, как пылали ненавистью эти запавшие глаза на изможденном, искаженном лице, он словно наяву услышал этот хриплый голос, изрыгавший хулу и поношения в его адрес — изрыгавший до последнего момента, пока не захлебнулся в хлынувшей горлом крови. Тамако осторожно погладила его по руке. — Ну не надо, успокойся. Ты же знал, что это случится. Ну вот, время и пришло. Акитада отвернулся, пытаясь укрыться от ее сочувственного взгляда. И как только она догадалась, что душу его сжигает ненависть к собственной матери? Гнев, сожаление, боль, чувство безнадежности, но более всего ненависть. — Да, я знал, — проговорил он сухо и резко. — Я даже желал этого. Да, желал! Потому что она отравляла все, к чему прикасалась! Мою жизнь, жизнь Ёсико и Акико тоже! Она отравила бы жизнь и тебе, и нашему сыну! Я рад, что это все кончилось! — Он расхохотался. — Наконец-то кончилось! — Он повертел головой по сторонам, оглядывая кабинет отца, потом крикнул: — Они оба ушли! Ушли! Дом этот теперь наш! И наша жизнь принадлежит нам самим! Теперь наконец мы сможем обрести покой и счастье… — Он упал на подушку и закрыл лицо руками. — Тише, Акитада! — Тамако опустилась возле него на колени и коснулась его руки. — Не надо кричать, а то слуги услышат. Пожалуйста, не надо! — Видя его мокрое от слез лицо, она обняла его и прижала к себе. — Моя мать ненавидела меня так сильно, что умерла, не забрав обратно своих проклятий! — с трудом проговорил он, содрогаясь от рыданий в ее объятиях. — А чем я заслужил это? Скажи мне, что я такого сделал? — Ш-ш… Тише! — Тамако гладила и баюкала его, как маленького ребенка. — Она просто не успела. Ей помешала смерть. Постепенно он успокоился и, вытирая мокрое лицо рукавом, сказал: — Наверное, мне следует пойти отдать дань уважения. Акитаде много раз доводилось видеть смерть. Всякий раз такая встреча не бывала случайной, даже когда мертвец был ему незнаком. Но он никогда так не колебался и не содрогался, как сейчас перед дверью в матушкины покои. За свою жизнь ему приходилось много раз стоять перед этой дверью — всегда против своей воли, с острым желанием оказаться в этот момент где угодно, только не здесь. Но всякий раз эта встреча была неотвратима, потому что его там ждали. Тяжко вздохнув, он отворил дверь. В комнате было гораздо светлее, чем при жизни матери. Многочисленные свечи освещали худую фигуру старой женщины и сидевших вокруг нее монахов. Она была обряжена в пышное, многоскладчатое кимоно белого шелка[1407]. Кто-то (уж не Тамако ли?) отрезал ей длинные волосы, как монахине, — как символ душевного раскаяния, к которому госпожа Сугавара так и не пришла в жизни. От этого она выглядела моложе, и черты ее, казалось, обрели умиротворение. Акитада усилием воли заставил себя посмотреть в это лицо, в котором прежде он видел лишь раздражение, неприязнь, гнев, безразличие, но только не любовь. Это лицо поразило его своей безмятежностью. Вот ведь какая ирония судьбы, подумал он: все, кто жил безупречно и кого он любил, почему-то умирали с искаженными чертами. Такие вот причуды позволяет себе смерть. К вящему удовлетворению бубнящих монахов, он с поклоном опустился на колени и сколько подобает стоял в этой благоговейной позе, прежде чем подняться и уйти. Итак, его миссия была закончена. Похоронные приготовления заняли несколько следующих дней. Акитада хлопотал, отбросив прочь горькие мысли о более спокойных временах. На доме вывесили ивовую табличку с «запретными иероглифами», воспрещающими посторонним вход в связи с трауром. Такие же таблички носили на груди все обитатели дома. Запрет этот, разумеется, не касался буддийских монахов, которые буквально наводнили дом, парализовав в нем всю жизнь, и собирались оставаться в нем даже после похорон. Но их вера в корне отличалась от той старой религии, которая питала отвращение к самому понятию смерти[1408]. Заниматься любыми делами в этот период запрещалось, равно как и принимать посетителей. Зато Акитада получил множество посланий с выражением соболезнования от друзей и от тех, кто еще знавал его родителей. Одним словом, все шло как положено и как предполагалось, за исключением одного происшествия. На следующий день после смерти матери к нему зашла Ёсико. Она выглядела все такой же бледной и хрупкой в своем грубом полотняном кимоно траурного белого цвета. Опустившись на колени возле его стола, она вздохнула и, потупившись, принялась разглядывать свои руки. — Мне нужно кое-что тебе сказать, — наконец начала она. — Я долго думала, потому что боялась задеть тебя за живое. — Глаза ее вдруг стали совсем серьезными. — Ты же знаешь, Акитада, я ни за что на свете не хотела бы причинить тебе боль. Сердце у Акитады екнуло. Он уже давно догадывался, что у сестры неприятности, и Тамако подтвердила его подозрения. Стараясь не показать виду и пряча свои опасения за улыбкой, он сказал с нежностью: — Да, я знаю. Но ты не можешь рассказать мне ничего такого, что изменило бы мое отношение к тебе, сестричка. Так что давай говори! Но она даже не улыбнулась в ответ, а только серьезно сказала: — Боюсь, матушка умерла из-за меня. Этот сухой, безразличный тон поразил Акитаду. Это было так не похоже на Ёсико, всегда отличавшуюся чувствительностью и мягким сердцем. В первый момент он решил, что ее присутствие во время последних мучительных схваток жизни со смертью, должно быть, несколько повредило ее рассудок. Он поспешил ее утешить: — Ерунда! Она и так уже умирала. И ты никак не могла повлиять на то, что было неизбежным. Но Ёсико упрямо покачала головой. Акитада припомнил момент, когда он узнал печальную новость от Тамако, и пожалел, что не пошел посмотреть на мертвое тело матери сразу же. Кровотечение — так объяснила Тамако. Возможно, точно такое же, свидетелем какого он был однажды сам. Но тогда рядом с ним не было Ёсико. Он снова попытался убедить ее: — Матушка умерла от кровотечения. И в чем же тут твоя вина? — Ох, Акитада. ты даже не представляешь, что произошло! Я с ней поссорилась. Я знала, как она относится к тебе, и знала, что любой мельчайший повод может привести к последнему приступу, но я не могла больше молчать. Уже догадываясь, каков будет ответ, он спросил: — И что ты сказала? — Я спросила ее, почему она отказывается видеть тебя, почему так плохо с тобой обращается после того, как ты в спешке проделал весь этот трудный путь, чтобы быть рядом с ней. Она очень рассердилась и сказала, что меня это не касается, но я не собиралась уступать. Я начала спорить с ней и обвинила ее в черствости по отношению к собственному сыну. Вот тогда-то она и начала кричать на меня. Акитада поморщился. Выходит, матушкина ненависть к нему в конечном счете ее же саму и убила. Глядя в бледное, напряженное лицо Ёсико, он сказал: — Перестань корить себя! Спасибо, что рассказала, но этого можно было и не делать. Я давно знал, что она не любит меня. И я был дураком, когда думал, что смертное ложе как-то изменит ее. А что касается ее материнских чувств, то я точно знаю, что ей никогда не было до меня дела. Об этом я догадался, видя, как она разочарована во мне. Точно так же, как мой отец. Мне вот только очень жаль, что по моей вине тебе достались такие страдания. — Нет, ни в коем случае! — воскликнула Ёсико. — Это было совсем не так, и я пришла к тебе вовсе не за утешением! Да, я корю себя за то, что подтолкнула ее к смерти, но она и так уже умирала, и, может быть, это к лучшему, что она все-таки успела поговорить со мной. — Она замолчала, потом, с тревогой глядя на брата, прибавила: — Знаешь, мне кажется, она вообще не была твоей матерью. Акитада был ошеломлен этими словами и, когда пришел в себя, сказал: — Ты, должно быть, когда-то ослышалась. У моего отца никогда не было второй жены. — Была! Просто мы не знали. Я думаю, твоя настоящая мать умерла при твоем рождении, и тебя воспитала наша матушка. И я думаю, она так и не смогла простить тебе того, что ты был сыном другой женщины. Акитада рассеянно моргал. У него было впечатление, будто он бредет в густом тумане. Он даже снова было подумал, не сошла ли Ёсико с ума от напряжения последних дней. Но она выглядела вполне спокойно, только нервно теребила себя за руки. Тогда он спросил: — Что навело тебя на такие мысли? Она чуть подалась вперед, лицо ее было напряжено, а голос дрожал: — Матушка сама сказала мне это. Только очень многословно. В сущности, она прокричала мне это в ярости! Это было просто ужасно, но если хорошенько подумать, то это объясняет многое! С тех пор я об этом только и думала. Ты вспомни ее вечное отчуждение, многие годы она держала это в себе в страхе перед отцом. А когда отец умер, она продолжала молчать, потому что ты был наследником и мог выдворить ее из дома, если бы узнал. Нет, возможно, она понимала, что совсем ты от нее не откажешься, а например, отселишь ее куда-нибудь, а такая мысль ей была невыносима. Только сейчас, умирая и видя в доме твою жену и маленького наследника, она поняла, что молчать больше нет смысла. Вся ненависть, злоба и ревность, накопившиеся почти за сорок лет, сознание того, что отец предпочел ей твою мать и что та родила ему сына в то время, как у нее не было детей, пока не родились мы с Акико, — все это разом выплеснулось наружу. Она бушевала до тех пор, пока кровь не пошла у нее горлом, а потом наступила смерть. Это было ужасно! — Выдохнув весь этот словесный пар, Ёсико умолкла и теперь жалобно смотрела на брата. Акитада был не в себе. — Что именно она сказала? — возбужденно насел он на сестру. — Какие именно слова произнесла? Закрыв глаза, Ёсико начала вспоминать, — Она сказала: «Он не мой сын!» А потом: «Она была жалкая, никчемная дрянь! И что только он в ней нашел?!» И еще она сказала: «Он оскорбил меня и мою семью, приведя в мой дом ее ребенка, чтобы вырастить его как наследника всем на смех и на горе мне!» — Ёсико открыла глаза. — И еще много-много злых слов сказала она о той женщине. Акитада, потрясенный чудовищным открытием, молчал, начисто утратив дар речи. Поднявшись, он подошел к двери на веранду, открыл ее и вышел. Он рассеянно смотрел на пруд, где несколько опавших мертвых листочков кружились на поверхности, словно золотистые и алые рыбки. Наверное, вот так же стоял тут много раз его отец. О чем он думал? Он вдруг ощутил, насколько сильна и неразрывна, оказывается, была его связь с отцом. Сейчас ему казалось, что где-то в глубине души он всегда знал правду, которую только что услышал. «Истина внутри!» Эти слова он некогда прочел где-то, но где именно, не мог сейчас припомнить. Сестра сидела, горестно заломив руки на коленях. Она долго с тревогой наблюдала за ним, потом кротко прошептала: — Прости, Акитада! Я не хотела причинить тебе боль. А между тем Акитада думал о любви своего отца к какой-то женщине, которая была его матерью. Он был потрясен. — Ты вовсе не причинила мне боли, — удивленно сказал он. — Напротив, для меня это большое облегчение. Только теперь отцовская неприязнь ко мне кажется еще более странной. — Об этом я тоже думала, — поспешила сказать сестра. — Мне кажется, он из-за матушки притворялся, что не любит тебя. Во взгляде Акитады читалось откровенное недоумение. К этой мысли ему предстояло еще привыкнуть. Ведь не так-то просто в один момент отделаться от почти сорокалетней обиды на собственного отца. Сколько горьких воспоминаний ждет теперь нового объяснения! И сделать это будет непросто. Тяжко вздохнув, он сказал: — По крайней мере выяснить правду не составит труда. — Значит, ты не сердишься на меня? — Конечно, нет. И перестань переживать из-за того, что подтолкнула… матушку к смерти. Ее могло вызвать любое, самое малейшее огорчение. Это было неизбежно. — Наблюдая за встающей Ёсико, за ее хрупкой, жалкой фигуркой в простеньком кимоно, он выдавил из себя улыбку. — Я так понимаю, мне придется ждать еще сорок девять дней, прежде чем я увижу тебя в очаровательном новом наряде. — Сорок девять дней? Но как же так? Траур по родителям длится целый год! — Нет, Ёсико. Как глава семьи я постановляю, что мы будем носить траур до окончания поминальной сорокадевятидневной службы. Потом весь траур отменяется. Так что бери в руки иголку и за работу! Она было открыла рот, чтобы возразить, потом улыбнулась. — Хорошо, братец. Как скажешь. Когда она ушла, Акитада взялся наводить порядок в своих чувствах. В целом он испытывал огромное облегчение от того, что оказался ребенком другой женщины, хотя пока и таинственной для него. Ведь одно дело, когда тебя ненавидит собственная мать, и совсем другое — когда мачеха. Ревность женщины к сопернице может стать причиной ее ненависти к ребенку той женщины. Теперь ему было любопытно узнать про эту давно умершую молодую женщину, снискавшую столь сильную ненависть со стороны соперницы и столь сильную любовь со стороны его отца. Ведь если тот не любил бы ее, то, конечно же, женщина, которую Акитада всегда считал своей матерью, не стала бы испытывать к ее сыну столь яростной и долгой ненависти. Теперь ему стали понятны все ее недовольства мужем, ее вечные жалобы на его политическую и финансовую несостоятельность и частые упоминания о том, что она вышла за человека недостойного и неравного ей по положению. Постепенно суровый, безжалостный образ отца, сохранившийся в его памяти, начал приобретать более мягкие, почти человеческие черты. Он все еще копался в этих взаимоотношениях, когда дверь тихонько приоткрылась и вошел Сэймэй с очередным присланным соболезнованием. Сэймэй! Теперь Акитада взглянул на старика по-новому. Даже не заглянув в послание, он сурово сказал: — Пожалуйста, сядь! Удивленный Сэймэй повиновался. — Только что я узнал поразительную новость и думаю, что ты должен был знать об этом все эти долгие годы. У старика был недоуменный вид. — О чем именно, господин? — Женщина, называвшая себя все эти годы моей матерью, кажется, решила перед смертью облегчить душу и сообщила моей сестре, что я — сын другой женщины. Сэймэй слегка побледнел, но и глазом не моргнул. — Это правда, господин, — сказал он. — Госпожа Сугавара не была вашей матерью. Я только сожалею, что сам не успел вам рассказать. Потрясенный Акитада смотрел на него. Как мог старик все это время хранить такое спокойствие? Горечь и обида зашевелились у него в душе. — Так почему же ты не рассказал? — Я был связан обещанием вашему достопочтенному отцу, но готов был уже сделать это теперь, когда госпожа Сугавара покинула этот печальный мир. Акитаду терзало смутное чувство недоверия. Тот Сэймэй, что сидел сейчас перед ним, был какой-то чужой — не тот добрый друг, которому он доверял с детства, которому поверял всю свою боль и обиды на родителей и которого любил как родного отца. Этот человек, оказывается, долгие годы таил от него секрет, зная который он избавился бы от лишней душевной боли! Как мог он так поступить?! Сэймэй по-прежнему не отводил глаз в сторону, но теперь в них стояли слезы. — Я же дал слово, господин, — напомнил он. Слово! Он, видите ли, дал слово! Да разве может данное кому-то там слово быть важнее горя ребенка? Или важнее страданий взрослого человека, терзаемого муками совести и бесконечных сомнений? Ведь еще вчера Акитада так мучительно переживал, размышляя над своими отношениями с неродной, как выяснилось, матерью! — Я обещал вашему отцу хранить молчание, потому что мы боялись за вашу жизнь, — осторожно сказал Сэймэй. — О чем это ты? Сэймэй вздрогнул от такого резкого тона. — Госпожа Сугавара всегда надеялась родить собственного сына. Потом в какой-то момент она была уверена, что ждет ребенка, и задумала устроить вам несчастный случай. Ваш отец вовремя раскрыл ее замысел и отослал вас подальше. Все эти годы Акитада был уверен, что отец выдворил его из дома из-за сильной ненависти, не позволявшей ему больше терпеть рядом с собой сына. Сейчас он был глубоко потрясен и тронут тем, что отец, оказывается, так серьезно переживал за него. Он смотрел на Сэймэя, но навернувшиеся слезы затуманили взор, и ему пришлось отвернуться, чтобы взять себя в руки. Эти новые подробности подталкивали к новым вопросам. Совладав с собой, он спросил: — Если он раскрыл такой преступный замысел жены, то почему не развелся с ней? — Он тоже думал, что она ждет ребенка. К тому времени, когда стало очевидным обратное, вы уже благополучно прижились в доме Хираты и отказывались возвращаться домой. Да, это была правда. Его учитель, университетский профессор, взял его жить к себе домой. Хирата и его дочь Тамако, теперь жена Акитады, приняли его в своем доме с таким радушием и теплом, что он вмиг забыл обо всех размолвках с отцом. — Но почему же ты молчал уже после смерти отца? — спросил Акитада. — И почему отец не оставил для меня письма? — Ваш отец еще раз попросил меня хранить молчание, уже будучи на смертном одре. Уж не знаю, боялся ли он за вас или сделал это ради госпожи Сугавара и ваших сестер. Но мне оставалось только пообещать, что я сделаю, как он просит. — Сэймэй тихо произнес слова, прозвучавшие много лет назад: — «Прежде всего будь верен своему хозяину и держи свое обещание ради него». Акитада закрыл глаза. Проклятый Конфуций! Все вопросы к нему, подумал он. — Вы же не хотели бы, чтобы я нарушил свое слово, господин? Разве не так? Акитада увидел, как слезы катились по морщинистым щекам старика, теряясь в жиденькой бородке. — Нет, не хотел бы, — со вздохом сказал он. — Расскажи мне о моей матери! — Ее звали Садако. Она была единственным ребенком Тамба Тосукэ, одного из служащих вашего отца. Семья их была родом из провинции, очень бедная, но уважаемая. После смерти жены Тамба Тосукэ принял внезапное решение стать буддийским монахом, не подумав при этом о дальнейшей судьбе дочери. Люди сочли этот его шаг проявлением крайней набожности, но ваш отец рассердился и взял на себя заботу о ее содержании. Потом он влюбился и женился на ней, несмотря на то что был помолвлен с ныне покойной госпожой Сугавара и готовился к свадьбе. Ваша мать умерла при вашем рождении, господин, и тогда отец принес вас в этот дом, чтобы вас воспитала госпожа Сугавара. Он надеялся, что она станет вам матерью. — Сэймэй помолчал, потом прибавил неуверенно: — Только госпожа выросла в совершенно других условиях, нежели ваша бедная матушка. Уж это Акитада хорошо знал. Конечно, она презирала ребенка, рожденного женщиной из более низкого сословия, ребенка обогнавшей ее соперницы. Всю жизнь она только и делала, что напоминала окружающим о своей богатой родословной. Ему вдруг пришла в голову неприятная мысль. А что, если она передала часть своих черт Акико? Разве Акико не желает избавиться от сыновей, рожденных ее супругом в первом браке? Он вдруг понял, что, оказывается, совсем не доверяет сестре. Впрочем, Акико была всего лишь испорченная девушка, но не злая. Она могла быть эгоистичной и легкомысленной, но не жестокой. И тем не менее она, похоже, уже принесла неприятности в дом Тосикагэ. А ему все-таки следовало как-то вмешаться и попытаться воспрепятствовать этому! Вот, пожалуй, и еще одна из частей «наследства», взваленного на него мачехой. Он с горечью думал сейчас о том, что ему предстояло возглавить печальную похоронную церемонию. Какая ирония судьбы! Теперь он, как и Сэймэй, был повязан нерушимыми узами обязательства выполнить последнюю волю усопшей. Похороны начались с наступлением темноты. Длинная процессия шествовала к месту кремации. Впереди шли факелоносцы и монахи, распевающие буддийские мантры. Тело госпожи Сугавара, обмытое и завернутое в белые полотняные простыни, пропитанные благовониями, покоилось в запряженной быком повозке за задернутыми занавесками, сделанными из ее богато расшитых придворных нарядов. За повозкой шел Сэймэй со священным светильником, а за ним Сабуро с курильницей, источавшей клубы благовонного дыма. За ними следовали остальные, первым — Акитада, потом Тора с Ёри на руках и Тосикагэ. За ними — три женщины в наемных носилках. За женщинами шли слуги и друзья семьи Сугавара. Длинной цепью эта процессия в полном молчании, если не считать распевающих монахов, медленно двигалась по пустынным улицам столицы. Место кремации располагалось за чертой города. Там уже был приготовлен погребальный костер, вокруг него рассыпан белый песок и сооружены временные шатры для участников траурной церемонии. Акитада занял свое место среди мужчин и приготовился к долгому ночному бдению. Ясное небо было усыпано звездами, и стоял чудовищный холод. Он распорядился насчет жаровен в шатрах, но толку от них почти не было. Он беспокойно поглядывал на сына, сидевшего рядом. Розовощекое личико малыша, укутанного в многочисленные ватные одежки, казалось до смешного крошечным. Акитада распорядился, чтобы его сестры и слуги накинули особые полотняные рубища поверх обычной одежды. Сам же он, Тамако и Ёри были облачены в темные шелковые кимоно — этим жестом он хотел подчеркнуть, что не состоит в кровном родстве с усопшей женщиной. Поскольку оба вида одежды считались траурными, посторонние вряд ли поняли бы разницу. Или же они приписали бы такой выбор его главенствующему положению в семье. С его стороны это был маленький акт неповиновения, в противном случае Акитада оплакивал бы госпожу Сугавара со всеми подобающими почестями и расходами, как единственный сын. Он видел, как возбужденно горели глазки Ёри, когда тот наблюдал за пляшущим пламенем погребального костра, зажженного одним из монахов. В положенный момент Акитада поднялся и положил в костер любимые вещицы госпожи Сугавара изящные шкатулочки, резные четки, цитру и писчие принадлежности. Все эти предметы должны были стать платой за вход в другой мир. Монахи возобновили пение, пламя поднималось все выше, потрескивая и вознося в ночное небо длинные столбы черного дыма, постепенно заслонившего звезды. Костер этот был символом пустоты, ибо жизнь является не чем иным, как тоненькой струйкой темного дыма, теряющегося в ночи. Спустя некоторое время Ёри уснул, и отец заботливо накрыл его своей рукой. В женском шатре кто-то громко всхлипывал. «Акико, кто же еще?» — язвительно подумал Акитада. Она всегда хорошо умела делать на людях то, чего от нее ждали. Тосикагэ беспокойно поглядывал на женский шатер, и Акитада уже не в первый раз поймал себя на мысли о том, как Акико повезло с мужем. Конечно, неприятности Тосикагэ повлияли на нее, и, если подозрения Акитады были верны, сама Акико и была их причиной. Но он в любом случае считал своим долгом помочь Тосикагэ. Только вот эта смерть все усложнила. Теперь все они будут стеснены в передвижениях в течение ближайших семи дней. По сути дела, привязаны к дому. Но даже и после этого Акитаде с сестрами придется соблюдать многочисленные ограничения в течение еще шести недель, пока не пройдет церемония сорок девятого дня и душа усопшей не покинет этот мир. Зато в ближайшее время его уж точно не призовут ко двору. Правда, положение Тосикагэ, как ни крути, требует разрешения. Теперь им уже совершенно точно известно, что его начальник вознамерился провести служебное расследование. Сейчас опасен каждый день бездействия. Акитада не мог не думать об этом, пока медленно тянулись часы. Пламя ослабло, и в него подкинули новых дров. В воздухе стоял запах дыма, благовоний и горелой плоти. Тора осторожно понес уснувшего ребенка к матери. Когда он ушел, Тосикагэ прошептал: — Как вы думаете, женщинам там не холодно? Акитада посмотрел на небо. — Скоро рассветет, — тихо проговорил он. — Пойдемте потом ко мне домой погреемся. Тосикагэ благодарно кивнул. Акитада подумал о том, с какой легкостью эти слова «ко мне домой» слетели с его уст. Теперь это и впрямь был его дом, больше уже не отравляемый воспоминаниями о родительской неприязни. Перед его мысленным взором возникло суровое лицо отца, так пугавшее его в детстве и оказавшееся всего лишь маской, которую он натягивал в угоду ревнивой жене, чтобы заставить ее думать, что он вовсе не любит своего сына, а только терпит его присутствие в доме. А еще он теперь думал о молодой женщине, которая была его настоящей матерью. Какая короткая ей выпала жизнь! Любила ли она отца? И как сложилась бы его жизнь, если бы смерть не настигла ее так скоро? В глубине души он точно знал, что родная мать обязательно любила бы его. С первыми лучами рассвета монахи прекратили пение. Они принялись заливать водой остатки костра, потом окропили пепелище рисовым вином. Позже им предстояло собрать останки и поместить их рядом с его отцом. Интересно, где покоится его настоящая мать, подумал Акитада. Участники погребального ритуала поднимались на ноги, носильщики побежали готовить паланкины для женщин. Ёри, так и не просыпавшийся, конечно, поехал с Тамако, но Акитада с Тосикагэ пошли обратно бок о бок пешком. На обратном пути они остановились у одного из городских каналов совершить ритуальное очистительное омовение. Ледяная вода обжигала. — Достойные похороны, — сказал Тосикагэ, пряча мокрые руки в просторные рукава кимоно. — Да. Все прошло как подобает, — ответил Акитада. Пустые слова, какие обычно произносят, когда нечего сказать. Разумеется, Тосикагэ лучше других знал, что госпожу Сугавара с неподдельной искренностью оплакивают все, включая его собственную жену Акико. Впрочем, «скорбь» не помешала Акико прочесть стихотворные строки по поводу печального события чуть позже, когда они все собрались за поминальной трапезой. Грустно вздыхая, она поведала о пустоте и тщетности бытия, являющегося не чем иным, как «бесконечной чередой ночных грез», за которыми открывается «последний мрачный путь» к смерти. В перерывах между этими вдохновенными речами Акико, разумеется, не забывала как следует подкрепиться и приложиться к чарочке с горячим саке. Тосикагэ благодушно любовался ею, утверждая, что теперь благодаря трауру он сможет чаще видеться с обожаемой супругой. — На работе меня не ждут, — сказал он и с ноткой отеческой гордости прибавил: — Такэнори вполне способен заменить меня на ближайшей неделе. В эти трудные дни он стал мне поистине крепкой опорой. В тот же день Акитада отправился побеседовать с Такэнори. Было начало дня, и поспать ему довелось всего несколько часов. Погода стояла все такая же ветреная, зато сияло яркое солнце, прогревавшее все вокруг. Облачился он в однотонное серое кимоно и черную шапку-эбоси, ношение которой не возбранялось при трауре — разве что к ней была прикреплена специальная деревянная табличка, служившая знаком ограничения общения. Такая же табличка висела и на воротах дома — мрачное напоминание о смерти, повергавшее в уныние перед и без того нелегким делом. Сейчас многое — да нет, пожалуй, все — зависело от сына Тосикагэ, а ведь их предыдущая встреча не вселила в него спокойствия. В императорском городе вовсю кипела жизнь: чиновники, посыльные и нарочные с документами носились туда-сюда; имперская стража торжественно вышагивала перед воротами и занималась муштрой на площади перед казармами. Насчет действенности такой армии у Акитады имелись глубокие сомнения. Эта профессия с некоторых пор возымела успех у сынков мелкой и провинциальной знати, желавшей во что бы то ни стало пропихнуть своих отпрысков ко двору. Хранилище дворцовых ценностей располагалось в огромном здании чуть севернее резиденции императора. Вход охранялся двумя молодцеватыми стражниками, которые, смерив пристальным взглядом Акитаду с его траурной табличкой и знаками различия на шапке, пропустили его внутрь. Акитада был не готов к каким бы то ни было вопросам в свой адрес, поэтому испытал облегчение, когда отыскал вывеску с именем Тосикагэ на одной из ближайших дверей. Постучавшись, он услышал из-за двери молодой голос и вошел, закрыв за собой дверь. Такэнори сидел за рабочим столом отца и делал какие-то записи. Увидев, кто к нему пришел, он замер с кистью в руке и едва ли не отвисшей челюстью. — Здравствуйте, Такэнори, — любезно проговорил Акитада, усаживаясь напротив юноши. Такэнори опустил кисть в воду и поднялся на ноги, чтобы раскланяться. — Здравствуйте, господин, — с благоговением выдохнул он. Даже уже выпрямившись, он все еще выглядел крайне смущенным. — Э-э… Позвольте выразить вам мои соболезнования, — запинаясь, пробормотал он и тут же, нарушая все условности, выпалил: — Но похороны вашей достопочтенной матушки состоялись только вчера, мой отец по этой причине остался дома. Как же это вы сами выбрались сюда? — Он умолк и вдруг со страхом на лице и в голосе воскликнул: — Что-то произошло! Что-то с отцом? Он занедужил? С облегчением Акитада отметил про себя, что парень явно беспокоился об отце. Что-то начинало проясняться. — Нет-нет, ничего такого не произошло, — сказал он. — Вы, пожалуйста, садитесь. Просто я хотел поговорить с вами в отсутствие вашего отца, вот и все. Такэнори медленно опустился на подушку. По его нахмуренным бровям Акитада понял, что к нему вернулась прежняя антипатия. Его, конечно, раздирало любопытство, что это за важная вещь такая заставила Акитаду нарушить общепринятые нормы траурного приличия и так поспешно явиться сюда, чтобы переговорить с ним лично. Акитада улыбнулся: — Хотя мы с вашим батюшкой знакомы совсем недавно, я уже успел почувствовать к нему огромную симпатию. Такэнори с трудом скрывал неприязнь. Он явно не верил Акитаде, но ответил весьма учтиво: — Благодарю вас, господин. Вы оказываете нам великую честь. — По этой вот самой причине я как раз очень обеспокоен этими пропавшими ценностями. Полагаю, вы осознаете всю серьезность положения вашего отца. Если его признают виновным в этой краже, то он вместе со всем своим семейством должен будет отправиться в ссылку в какое-нибудь отдаленное и малоприятное место в глухой провинции. Такэнори покраснел. — Мой отец ни в чем не виноват, и он это докажет! — Более того, — продолжал Акитада, будто бы и не слышал его слов, — имущество его будет конфисковано, и вы все, включая вас и вашего брата, останетесь нищими. Такэнори притих, только все время сжимал и разжимал пальцы, неотрывно глядя на Акитаду. Вдруг он хрипло и резко спросил: — Так вы пришли сюда сообщить мне, что намерены забрать вашу сестру обратно в вашу семью, потому что боитесь за ее будущее? Акитада высокомерно изогнул брови. — То, что вы сейчас сказали, прозвучало не только грубо, но и глупо. Если бы я и стал обсуждать подобное, то не с вами, а с вашим отцом. Но Такэнори продолжал изображать негодование. — Хорошо, если вы не насчет брачной размолвки, то в таком случае я не понимаю, какая еще срочная причина могла бы выгнать вас из дома в момент официального траура. Что еще, простите за непонимание, могли бы вы обсуждать со мной? Глядя искоса и свысока на своего собеседника, Акитада приступил к делу: — Ну вот что, Такэнори, мы-то с вами оба знаем, кто взял пропавшие ценности. Разве нет? Такэнори не отрываясь смотрел на Акитаду и постепенно бледнел. — Что-о… вы хотите этим сказать? — Так где же они? В вашей комнате в доме отца или где-нибудь в этом здании? — Но почему вы обвиняете меня? Их мог украсть кто угодно! Акитада заметил, что до сих пор молодой человек старательно избегал прямого отрицания, поэтому решил надавить посильнее: — А вот и нет. Кто угодно не мог. Только вы и ваш отец могли вынести их отсюда и принести домой. Я сам видел статуэтку из списка в комнате Акико. Никто из ваших домочадцев не имеет доступа к ценностям, и никто из здешних служащих не имеет доступа в комнату моей сестры. Я уже говорил, что начал питать к вашему отцу огромную симпатию. Он не способен ни на кражу, ни на ложь. А вот вы для меня человек совершенно незнакомый. Такэнори то краснел, то бледнел. Не спуская с него глаз и скрестив на груди руки, Акитада задумчиво продолжал: — В последнее время я много думал о вас, пытаясь понять, что вы за человек. Алчны ли вы до денег и власти? Или вы так обижены на отца, что готовы принести в жертву и себя, и всю свою семью, лишь бы наказать его за то, что он почти забыл о вас с братом ради ребенка, которого носит под сердцем моя сестра? Или, быть может, вы забавляетесь какими-то детскими играми в надежде расстроить брак вашего отца с моей сестрой? Такэнори покраснел до корней волос и закусил губу. — Ага! Значит, последнее. Я так и думал. Только знаете, молодой человек, у вас ничего не получится. Вы играете с огнем. Недавно вы вознамерились спровоцировать скандальную сцену между вашим отцом и его начальником, подсунув в комнату моей сестры императорскую статуэтку, когда думали, что отец пригласит своего начальника в ее покои полюбоваться новой ширмой. Не загляни я к вам случайно в тот день, беда произошла бы неминуемо. Вашего отца арестовали бы. И как же вы тогда надеялись вызволить его из ловушки, которую сами подстроили? — Они не посмели бы арестовать его! — воскликнул Такэнори. — Он богатый человек, и ему незачем красть. Просто списали бы на халатность, как обычно. А вот вы обязательно узнали бы и сочли его виновным. И тогда она оставила бы моего отца! — Понятно. Только скажите, откуда у вас такая неприязнь к моей сестре? Такэнори отвел глаза в сторону. — Я уже несколько лет служу секретарем у отца и видел, как заключался этот брак. Мы с братом подпоили свата, и он рассказал нам все. Ваша сестра вышла за моего отца только ради денег. И она, и ваша мать были вполне откровенны относительно этого во время свадебных переговоров. — Он бросил на Акитаду полный горечи взгляд. — До неприличия откровенны, скажу я вам. Акитада поморщился. В словах этих, конечно, была доля правды. — А ваш отец это понимает? Такэнори снова покраснел. — Разумеется, нет. Мы бы никогда не стали посвящать его в такое. Мы с братом пытались отговорить отца от этой женитьбы, убеждали его расстроить помолвку, но он отказался. А когда брат стал слишком сильно настаивать, отец рассердился и прогнал его. — Такэнори сжал кулаки и с горечью прибавил: — Отправил родного сына на верную смерть. И я точно знаю, что на эту мысль его навела ваша сестра, потому что мы стояли на пути у ее будущего ребенка. Когда я увидел, как обошлись с братом, я принял решение уйти в монахи. В монастыре хотя бы не так опасно, как на войне. — Он опустил голову и закрыл лицо руками. Акитада на своем опыте хорошо знал, что такое родительская нелюбовь. — Ну а на самом деле вас, конечно, не манит монашеская жизнь. Я правильно понимаю? — осторожно спросил он. Ответа не последовало. Вздохнув, Акитада продолжал: — У моей сестры есть недостатки, но она не имеет никакого отношения к решению вашего брата. Как и ваш отец. Он сам рассказывал мне, как пытался отговорить Тадаминэ. Похоже, что ваш брат, так же как и вы, по горячности горазд рубить сплеча, только в отличие от вас ему нравится воинское дело. Поскольку вы с вашим братом, к сожалению, так резко в одночасье изменили свою жизнь, Акико вообразила, что ее будущий ребенок станет законным наследником вашего отца. Понятное дело, у нее может родиться и девочка, но ведь потом появятся другие дети. И все же в том, что дети моей сестры унаследуют все состояние, будет только ваша с братом вина, и ничья другая. Я советую вам пересмотреть свои планы на жизнь и убедить брата вернуться. Своему увлечению военной выправкой он вполне может найти применение здесь, в императорском дворце. Такэнори убрал руки от лица и удивленно уставился на Акитаду. — Н-но… я думал… что вы с сестрой заодно!.. — смущенно пробормотал он. — И знаете, в брачном договоре ее права оговорены специальным образом. — Про этот договор мне известно все. Я сам подписывал его и сам обеспечивал приданое сестре. Хотя к его условиям я не имею никакого отношения. Моя покойная… мать проявляла недюжинную искушенность в делах, когда речь шла о благополучии ее дочери. Я могу не одобрить всего, что произошло здесь в мое отсутствие, но я твердо убежден, что Акико и ее будущий ребенок никоим образом не должны пострадать, случись что-нибудь с вашим отцом. Впрочем, это вовсе не означает, что кто-то желает оставить вас и вашего брата без наследства. Такэнори выглядел теперь совершенно потерянным и, похоже, пока еще не верил в собственное счастье. Акитада поднялся. — Мне пора. Сюда может кто-нибудь войти, и я бы не хотел пускаться в объяснения. Ваш план был чудовищно безответственным и крайне опасным. Впрочем, я верю, что вы никогда не зашли бы так далеко, чтобы довести до ареста вашего отца. — Нет-нет! Конечно, такого я бы не допустил — признался бы тогда во всем немедленно! — Что бы вы там ни думали, но ваш отец любит обоих своих сыновей и очень гордится вами и Тадаминэ. Для него было бы большим ударом узнать, что вы сделали. Поэтому я и пришел поговорить с вами в его отсутствие. Вы, конечно же, сохраните наш разговор в тайне и незамедлительно вернете исчезнувшие предметы на свои места. Придумайте какое-нибудь разумное объяснение тому, куда и почему они могли случайно запропаститься. Такэнори торопливо поднялся на ноги и смущенно залопотал: — Да, да, конечно! Прямо сейчас. Я… так сожалею обо всем этом!.. А вы были так добры… Но Акитада уже выскользнул за дверь. На улице по-прежнему ярко светило солнце — так ярко, что он даже зажмурился. Сегодняшний день больше уже не казался ему грустным. Если жизнь и была всего лишь темной дорогой к смерти, то и в ней все равно была польза — по крайней мере она простирала руку помощи еще одному путнику. Ну а главное — прошлое преподало ему уроки, которые обязательно осветят путь в будущее.ГЛАВА 11 ГОСПОЖА ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ
Только через неделю Тора с Гэнбой сумели найти время, чтобы выбраться в город. Стоял последний месяц года, и погода отнюдь не радовала теплом. А дел в доме нашлось множество, и самыми насущными из них были ремонтные работы, хотя даже Акитада понимал, насколько неуместны звуки молотка и пилы в доме с траурной табличкой на воротах. И вот наконец дружная парочка отправилась в город, держа путь в его южную часть. День начинал клониться к закату. Холодные серые тучи заволокли небо, грозя разразиться снегопадом. В стеганых ватных кимоно и сапогах на подкладке они бодро шагали в сторону набережной, мечтая поскорее отведать ночной жизни. Они шли через жилые кварталы, где вдоль тихих пустынных улиц тянулись беленые стены, скрывавшие за собой низенькие приземистые постройки и разросшиеся вширь сады. Лишь иногда им встречался какой-нибудь слуга, метущий землю перед солидными воротами, или одинокий паланкин со спешащим по делам седоком. Чем дальше они углублялись на юг, тем больше менялся характер окрестностей. Домишки здесь были победнее и теснились друг к другу, едва не соприкасаясь крышами; и вместо пышных густых садов теперь встречались только жалкие кучки деревьев, сиротливо цеплявшихся за свинцовое небо своими костлявыми руками-ветками. Жили здесь преимущественно торговцы. Дома служили им и рабочим местом, и кровом для сразу нескольких поколений семьи. Дворы их мели жены или кухарки, а из прохожих чаше всего встречались покупатели или приказчики, шныряющие из двери в дверь. Гэнба, как всегда, привлекал к себе восхищенные взгляды. Да и как не заметить такого великана, статью и мощью скорее походившего на шагающее дерево, нежели на человека? По походке в нем легко можно было узнать борца, а борцы везде в почете. Поэтому неудивительно, что люди, завидев его, останавливались и восхищенно глазели ему вслед. А он, добродушный и счастливый, как ребенок, которого вывели на прогулку, улыбался им в ответ и время от времени напоминал Торе: — По-моему, близится час ужина, а? — Рановато еще для ужина, — отвечал ему Тора, пребывавший в не менее бодром расположении духа, чем его спутник. — Давай-ка лучше подадимся в веселый квартал. Может, девчонок каких встретим? — Да какие девчонки в такой холод? Жди, выйдут они тебе на улицу! — уверенно возразил Гэнба. — Люди сейчас стараются забиться под крышу и набить себе пузо чем-нибудь горяченьким. — Он смерил Тору испытующим взглядом и прибавил: — Тогда уж лучше в какой-нибудь чайный дом. И девчонки твои уж точно все будут там в такую-то погоду. Тора призадумался. Они добрались до веселого квартала, но, как и предсказывал Гэнба, здесь оказалось пустынно — лишь изредка пробегал одинокий прохожий, а женщин и подавно не было видно. Бедняга Тора заглядывал в каждое окно, но все они были затянуты бумажными ширмами или занавесками. Тогда он предложил зайти куда-нибудь выпить по чарке вина, но у Гэнбы на этот счет имелись более основательные мысли. — Хозяин хотел, чтобы мы разузнали про актеров. Так пойдем туда, где актеры едят! — предложил он. Для этого им пришлось распрощаться с уютными улочками веселого квартала и выйти на ветреную набережную. Шквалы холодного северного ветра едва не сбивали с ног. Река Камо, покрытая рябью, шевелилась, словно живая. — Тьфу ты! Ну и погодка! — пожаловался Тора, всматриваясь вперед. На здешних улочках обитали рыбаки, но постепенно их тесные хибары начали сменяться длинными рядами лавок и харчевен, тянувшихся вдоль реки. По сути дела, это была восточная оконечность города, и здесь Тора с Гэнбой надеялисьразведать что-нибудь о бродячей труппе под руководством Уэмона. Тора готов был заглядывать в каждое встречное заведение, но Гэнба упрямо топал по направлению к довольно большому зданию, высившемуся посреди квартала. На его низенькой двери висела вывеска с названием «Приют речных дев», и, судя по всему, заведение это процветало. Из-за двери и окон слышался басистый гул голосов. Почуяв ароматы рыбной кухни, Гэнба зашевелил ноздрями, причмокивая губами в предвкушении. В тускло освещенном зале их прихода никто не заметил. Многочисленные столы и деревянные скамьи были расставлены здесь для удобства путешественников и тех, кто забежал перекусить наспех. Но пожалуй, главной причиной этого практического решения был чудовищно грязный пол. Посреди зала между столов и скамей располагалась кухня. Здесь над огнем было подвешено несколько громадных котлов, за которыми приглядывал раздетый по пояс мускулистый здоровяк с лоснящимися от пота лицом и грудью и повязкой на лбу. Время от времени он прекращал помешивать свое варево, чтобы наполнить черпаком очередную миску, протянутую ему кем-нибудь из подавальщиков. Гости шумели, то и дело отвешивая в адрес повара грубые мужские шутки. Тора первым делом начал озираться в поисках женщин, но Гэнбу интересовали совсем другие вещи. Благодушно улыбаясь, он схватил Тору за локоть и потянул его к одному из столов поближе к котлам. Там он опустился на скамью рядом с каким-то стариком, угрюмо разглядывавшим содержимое своей чарки. — Не возражаешь, братец, если с тобой посидят два усохших от жажды человека? — спросил Гэнба на местном наречии. Глядя на грязную одежду и небритый подбородок старика. Тора сразу смекнул, что это не иначе как местный пьяница. Тот поднял на незнакомцев затуманенный взор. — А чего возражать? — проговорил он скрипучим голосом, с трудом выговаривая слова. — Пить в одиночку грустно, а грусть губит здоровье. Это еще древние заметили. Тора с Гэнбой переглянулись. Дедок выражался как образованный, что совсем не вязалось с окружающей обстановкой и его собственной наружностью. Пьяница, словно прочтя их мысли, вдруг хитровато усмехнулся и поднял свою чарку. Осушив ее до дна, он махнул ею здоровяку-повару и крикнул: — А ну-ка, Яси, плесни мне еще твоего эликсира счастья! А то я чую, синие демоны вроде снова наседают на меня! «Синие демоны? Этот старик, случаем, не продавец ли всяких заклинаний — из тех, что сидят в толчее на базаре?» — подумал Тора. Некоторые из них называют себя кудесниками и утверждают, что могут вызвать демонов, когда им захочется. Теперь он с любопытством и очень осторожно изучал пьяницу. Повар посмотрел в их сторону, заметил двух новичков и крикнул старику: — Хватит с тебя! И прятать тебя больше не буду! А уж тогда хозяин тебя обязательно найдет, если опять окажешься в сточной канаве да еще, чего доброго, схлопочешь перо в бок! Эта смешная угроза немного успокоила Тору — пьяница оказался всего лишь чьим-то слугой. Но старик, вперив в повара мутный взгляд, поднялся, покачиваясь. — Любезнейший! — проговорил он с невероятным достоинством. — Я оскорблен вашей грубостью, равно как и вашим тоном. Хочу поставить вас в известность, что я никакой не слуга. По воспитанию и образованию я равен благородным, а если и служу, то нахожу в этом великое удовольствие. — Но эту красивую речь он тут же испортил, закачавшись и повалившись назад так неожиданно, что Гэнбе пришлось вскочить, чтобы поймать его. — Спасибо, мой благородный друг, — пробормотал старик, растопырив руки. — Всему виной головокружение. Знакомое предупреждение. — Предупреждение? Какое? — спросил Тора. — А-а… — сказал старик, стреляя по сторонам слезящимися глазами и все еще неловко разводя в воздухе руками. — Вы с вашим другом слишком молоды, чтобы понять, каково живется старому ученому, вынужденному скатиться до таких низов. Вы ведь не прожили долгой жизни в стране, где знания и интеллект никому не нужны. А сказать я хотел вот что: у меня всегда кружится голова, как только синие демоны начинают наседать. И вот опять я, кажется, как назло куда-то задевал деньги… Тора огляделся по сторонам в поисках синих демонов, но увидел вокруг обычных людей, которых больше интересовала еда в собственной миске нежели какой-то чудной старик, кривляющийся за чужим столом. — И где же эти демоны? Что-то я их не вижу! Гэнба усмехнулся: — Да он имеет в виду свои грустные мысли, ради которых и пьет. Может, составите нам компанию, господин? — предложил он старику, вытягивая из-за пояса связку монет. Когда тот поклонился в знак согласия, Гэнба махнул подавальщику: — Эй! А ну-ка тащи сюда побольше вина и еды на троих! — Как щедро с вашей стороны, господин, предложить помощь незнакомому несчастному человеку, — сказал старик. — Позвольте представиться: Харада, доктор математических наук, в настоящее время служу управляющим у своего коллеги профессора Ясабуро в Кохата. А теперь позвольте узнать ваше благородное имя и звание — чтобы я смог вернуть долг. — Я — Гэнба, а это мой друг Тора. Только что уж там считать какие-то медяки? Нам совсем неохота есть и пить одним. Вместе-то веселее! Харада раскланялся, сообщил, что несказанно рад новому знакомству, и вызвался расписать им местные достопримечательности. Он уже начал свой цветистый рассказ, когда подавальщик принес полный кувшин вина, две чистые чарки и огромное блюдо с маринованной редькой. Харада наполнил чарки, разлив мимо только самую малость, а Гэнба накинулся на закуску. — Так вы, оказывается, просто управляющий в хозяйстве? — сказал Тора, у которого из головы не шли синие демоны. — То есть вы не предсказываете судьбу и не вызываете всяких там духов? Повар, слышавший эти слова, не удержался: — Все его духи водятся на дне чарки. Пьянь он синюшная. Харада, и не думая обижаться, ответствовал: — А вот и нет, дражайший мой командир кастрюль и сковородок. Питие — это самое простое из того, что я делаю. Я держу на своих плечах весь мир, и нескончаемые заботы день за днем изнашивают меня. — Угу! А от винца этот твой мир начинает ходить ходуном, пока у тебя в глазах не помутится, — огрызнулся повар, наливая черпаком огромную миску рыбной похлебки. Потом, вручив ее подавальщику и кивнув на их стол, он сказал, обращаясь к Торе и Гэнбе: — Да все просто, проще некуда. Когда он не в духе, он пьет. После первой чарки ему, как водится, легчает. Тогда он опрокидывает вторую и чувствует себя уже совершенно другим человеком. Но этому другому человеку тоже подавай выпить, вот он и надирается до синевы… Вечно налижется так, что потом ползком до дому добирается да горланит во всю глотку! Шутка эта была встречена дружным хохотом. Харада было запротестовал: — Да я пью, только чтобы успокоиться! Но с другого стола кто-то крикнул: — Ага! Знаем, знаем! Вчера вот, например, так успокоился, что двигаться не мог! — Придурки! — пробормотал Харада. С презрением отодвинув в сторону миску с похлебкой, он наполнил свою чарку из кувшина и сказал: — Вот китайские поэты знали толк в вине! Вино выпускает на волю талант, освобождает его от оков повседневной суеты. — Он опустошил свою чарку. — «Наполню чарку я свою, не дам засохнуть ей». Это сказал По Чу-и. А Ли По сказал вот как: «Любить могу вино я, не стыдясь богов». Ли По, конечно, знал, что без толку объяснять такие вещи трезвому человеку. Настоящий поэт должен насыщать свою душу, а не брюхо набивать. — Оторвав взгляд от пустой чарки, он увидел, как Тора с Гэнбой проворно уплетают похлебку. Подергав носом, он задумчиво посмотрел на свою миску и придвинул ее к себе. Гэнба между тем разделался со своей порцией и сидел, довольно причмокивая. Увидев это, польщенный повар отправил ему огромную тарелку с варенным на пару угрем — козырным блюдом здешней кухни. — Так вы, стало быть, поэт? — спросил Тора у нового знакомого. — А то мне вроде показалось, вы говорили, что управляете каким-то хозяйством. — Не хозяйством, а поместьем. — Харада остановил на Торе усталый взгляд, потом, выразительно рыгнув, сказал: — Вы, молодой человек, возможно, этого не знаете, но поэта не столько интересует постоянный доход, сколько х-хороший х-хозяин. Вот п-профессор Ясабуро, мой старый друг и коллега, он-то вот очень в-ве… великодушный человек и пользуется моими талантами, когда в них есть нужда. — Хлебнув из чарки, он снова рыгнул и продолжал: — В моем лице вы видите сейчас посланника доброй воли, носителя счастливой вести, хранителя той субстанции, что привносит радость в жизнь даже самых законченных п-прагматиков. Одним словом, я только что закончил миссию милосердия. — Тяжко вздохнув, он сложил руки на столе, уткнулся в них лицом и отключился. Тора, слушавший все это время лишь вполуха, повернулся к Гэнбе и с удивлением обнаружил, что тот перестал есть. Блюдо с угрем стояло рядом почти нетронутым. Застыв с палочками в руке и даже не донеся до рта аппетитный кусочек, он сидел с отвисшей челюстью и смотрел куда-то через плечо Торы. Тора обернулся выяснить, что же повергло Гэнбу в такой ступор. В зале было полно народу. За соседним столом шестеро мужчин, по виду скорее всего рыбаков, травили байки за чарочкой вина. За другим столом несколько женщин ели рыбную похлебку и обсуждали свои дела. У самой дальней стены какой-то степенный старик возглавлял семейную трапезу. А рядом с ними оживленно ссорилась супружеская пара. Тора так и не понял, что могло привлечь внимание Гэнбы. Выдернув палочки из застывших пальцев Гэнбы, он спросил: — На что ты пялишься? Гэнба опомнился. — Ух! Ну и ну!.. — Он вдруг покраснел. — Видишь вон ту молодую женщину? Так вот по мне — она самое поразительное создание, какое я когда-либо встречал. Тора внимательно изучал женщин. Симпатичные девчонки, подумал он, с удивлением и удовольствием отметив про себя, что Гэнба, кажется, заинтересовался-таки противоположным полом. Наверное, он имел в виду вон ту шустренькую, похожую на игривого котенка. Впрочем, и другие тоже ничего себе. Была среди них женщина годами постарше — наставница или, может быть, тетушка. Разглядев ее пышные формы, Тора недоуменно заморгал. Она возвышалась как гора среди хрупких молодух и места занимала не меньше двух мужиков. Широченные плечи, огромная вздымающаяся грудь, пышные руки — все это выпирало под нарядным черным шелком, а круглое румяное лицо кокетливо обрамляли завитые колечками пряди волос, игриво зачесанных набок. При виде этого зрелища Тора едва не заржал в голос. И ничего удивительного в том, что она была такая толстая — ведь она уплетала еду со скоростью, поразившей даже его, так хорошо знакомого с аппетитом Гэнбы. Палочки в громадных ручищах мелькали со скоростью молнии от одной миски к другой; пухлые мизинцы растопырились в разные стороны, пока она, самозабвенно чмокая и хлюпая, втягивала в себя похлебку, не разбираясь, где гуща, а где жижа. Тора повернулся к Гэнбе. — Они и впрямь милашки, но ты посмотри на эту тетку! Сроду я не видал, чтобы женщины так ели. Неудивительно, что она толстая, как Хотэй[1409]. Гэнба непонимающе смотрел на него, потом нахмурился. — О чем это ты? Да она самая красивая женщина из всех, что мне доводилось видеть! Только посмотри, какая у нее розовая кожа, какой восхитительный ротик, а какое роскошное тело! А ест-то она как! Изящно, будто благородная дама! Уж никак не сравнишь с ее подружками. Я вообще не понимаю, чего ты вечно находишь в этих крохотных костышках, которых, судя по всему, предпочитаешь. Тора был ошеломлен. — Да ты с ума сошел, не иначе! Это же просто какая-то разжиревшая шлюха, которая не может больше принимать клиентов, вот и содержит теперь заведение, а девчонок привела сюда поужинать. Да оставь ты ее в покое, далась она тебе! Она облапошит такого простака, как ты, вмиг — выудит у тебя все до последнего медяка, а потом еще посмеется над тобой со своими девчонками. Гэнба встал, лицо его было мрачнее тучи. — Доброй ночи! — рявкнул он. — Ты куда? — спохватился Тора, указывая на недоеденное угощение. — Мы же еще не закончили с едой и даже не приступили к нашим делам. Так пока никого и не расспросили. — Расспрашивать будешь сам, — бросил Гэнба через плечо и направился к столу, за которым сидели женщины. Тора изумленно смотрел ему вслед. Перед ним был совсем другой Гэнба — не тот, что обычно шарахался от женщин. А Гэнба уже раскланивался перед толстухой и девушками. Лица их были густо размалеваны, и они явно не чурались мужской компании, потому что Гэнбе было тут же позволено присесть за стол рядом с худенькой красоткой, чьи брови были выщипаны, а вместо них нарисованы искусственные высоко на лбу — как это было принято у некоторых придворных дам или актеров, исполняющих женские роли. Тора сокрушенно качал головой. Ну Гэнба! Ведь пожалеет потом! Он даже поднялся и хотел последовать за приятелем, потому что чувствовал себя обязанным защитить этого простака от хитрых уловок уличных красоток. Но едва он сделал шаг в их сторону, Гэнба свирепо зыркнул на него, и Тора поспешно вернулся на свое место. Ну и ладно! Пусть получит хороший урок, подумал он и принялся за еду. Рядом тихонько похрапывал Харада. Тора поймал на себе взгляд повара и спросил: — Ну а с ним что будешь делать? Тот посмотрел на пьяного: — С ним-то? Да ничего. Пусть остается. Он вообще-то безвредный. Приходит в город по делам своего хозяина, все поручения выполнит, а потом сюда — пропить все до последнего. А я вот приглядываю за ним, поскольку он тратит свои денежки здесь. Утром вытолкаю его, как водится, на дорогу — пусть плетется домой. Тора отпил из своей чарки и сказал: — А я вот слышал, к вам сюда и актеры заглядывают, когда наезжают в город. — Конечно, заглядывают. Некоторые уже вернулись. Готовятся к зимним праздникам и к изгнанию злых духов, что проводится в конце года. — А про труппу Уэмона ты ничего не слышал? — Уэмона? Понятное дело, слышал. Его все знают! Сам-то он, конечно, старик, но актеры его все сплошь молодцы. Выступают даже перед знатью. — Он окинул взглядом зал. — Дандзюро лучший у него в труппе. Обычно заглядывает ко мне, только я его еще не видел с тех пор, как они вернулись. Наверное, женился наконец на своей девчонке по имени Охиса да обзавелся домом. — А не знаешь, где бы я мог найти этого Уэмона? Повар не спешил с ответом, оглядывая Тору с головы до ног. — А зачем он тебе? — Да так, сугубо личный интерес. — Тора погладил усы и подмигнул. — Девчонка у них есть красивая в труппе. Повар вдруг сразу замкнулся. — Если ты гоняешься за кем-то из девчонок Уэмона, то можешь забыть об этом. Он человек уважаемый, и люди у него работают порядочные. Так что пойди лучше поищи где-нибудь у тетушек в веселом квартале. Тора насупился. — Да ладно тебе! Может, он просто не знает, на что горазда его молодежь. А я вот знаю. Ты сам-то их когда видел? Повар усмехнулся: — Конечно. Довольно часто ко мне захаживают — пожрать да выпить. Кстати, если ты уже встречался с ними, то должен был видеть тех девушек вместе с госпожой Вишневым Цветом. Да они были здесь, когда вы с приятелем пришли. Тора мысленно проклинал себя за то, что упустил шанс. Теперь вот придется разыскивать. — Ну а где они живут, когда наезжают в город? — Какой ты настырный! — сказал повар, прищурившись. — Уж не знаю, что у тебя за дела к ним, но ты врешь. Может, ты насильник какой или маньяк. А может, полицейский. Посмотри на себя, какой у тебя важный вид. Нет, как ни крути, а я не могу помочь тебе. «Скорее не хочешь», — подумал Тора. Ему хотелось объяснить повару, что он не насильник и не полицейский, но он понял, что опоздал с такими увещеваниями. В заведениях, подобных «Приюту речных дев», было принято заботиться о своих постоянных посетителях. Он вздохнул и обернулся назад, ища глазами Гэнбу, но стол, за которым тот сидел, уже пустовал. Гэнба смотался, предоставив ему платить по счету за ужин на троих. На улице уже, как и полагалось в зимнюю пору, стояла темень. Тора задрал воротник и огляделся вокруг. Гэнбы в помине не было. С гор по-прежнему дул холодный ветер, свистя в переулках. От его порывов фонари перед заведением раскачивались в разные стороны. Их тусклый свет отражался в темных водах реки Камо, напоминая резвящихся в бешеной пляске светлячков. Редкие прохожие торопились мимо, подняв воротники и пряча руки поглубже в рукава. Тора смиренно пожал плечами. Ему ничего не оставалось, как попытать удачи в других заведениях. Через час, продрогший и унылый, он заглянул в какой-то полуразвалившийся кабак на дальних задворках квартала, и здесь удача повернулась к нему лицом. Хозяином этого подозрительного заведения оказался чудовищно неопрятный тип примерно Ториного возраста. Его длинные волосы и борода давно не знали воды; из одежды на нем были только замызганные полотняные штаны, предусмотрительно подвязанные на волосатом животе драной узловатой веревкой, да рубашка, не сходившаяся на груди и поэтому распахнутая впереди. Он скорее походил на уличного бродягу, нежели на добропорядочного владельца питейного заведения. Ко всему прочему, сразу же стало ясно, что его не заботила и такая вещь, как чистота речи — в придачу к грязной наружности он был еще и сквернословом. После первой же его цветистой матерной рулады лицо Торы просияло. Он подсел к трем босоногим работягам, прильнувшим к стойке, и крикнул: — Вот задница! Да это ж человек из Цукубы! Хозяин заведения внимательно оглядел опрятное синее кимоно Торы. — Да, — сказал он. — Ну а ты тогда кто же? — Э-эх!.. Что же ты, кусок коровьего дерьма, песья ты отрыжка, вонючая ты медвежья блевотина, не узнаешь своих соседей?! Отупел, что ли, вконец? После таких слов хозяин заметно расслабился и пробормотал: — О, отварить мои яйца в кипятке! А по разговору и впрямь из соседей! Какая деревня? — Охори. Приятно удивленный, хозяин заорал: — Не-е! Я-то вырос на другом берегу. Мы с моим стариком все рыбачили там, а улов возили продавать к вам в Охори. Вы еще, ублюдки, все в нас камнями кидались с берега. А мы с приятелем потом забрались к вам ночью и продырявили все бочки с водой в деревне. Тора загоготал. — Нас только пропустили. На следующий день полдеревни забилось в нашу баню. Ну ладно, скажи, а сюда-то ты как попал? — Из-за проклятой воинской повинности. Я был еще совсем зеленый, когда меня сгребли эти вшивые ублюдки. Вот в итоге я здесь и оказался. Ну а ты? Тора погрустнел. Он не мог припомнить ни одного случая, чтобы кто-то из солдат возвратился потом в свою деревню. Сам он так больше и не видел своих родителей. — Ну и я примерно так, — сказал он, не вдаваясь в подробности. Хозяин понимающе кивнул: — Да-а… Времена не из легких! Ну а вид у тебя процветающий сейчас. Везучий ты черт! Видать, боги к тебе благосклонны. А я вот тихонько умираю с голоду. — Он похлопал себя по голому животу и хихикнул. Тора рассмеялся. — Ну да, всего мне досталось помаленьку — немножко воевал, немножко скитался, а главное, почти всегда везло. Меня, кстати, Торой кличут. — Ага, вон оно что! Тигр, значит? — Толстяк кивнул со знанием дела. Любому, кто побывал на военной службе, было известно, как уважаемы прозвища, полученные там. — Ну, я-то сам не такой прыткий. Прозвали меня там Юси, потому как на большого неуклюжего быка похож. — Он наклонился под стойку, достал оттуда кувшин, налил из него в две чарки и одну пододвинул к Торе. Босоногие работяги с грустью заглянули в свои пустые чарки, глотая слюну. — Ну ладно, ладно! — смилостивился Бык и плеснул в их чарки из открытого бочонка. — Вот вам! За счет заведения. В честь моей знаменательной встречи с земляком. Троица заулыбалась, раскланялась и дружно опрокинула свои чарки с подозрительным пойлом. Тора сначала осторожно отведал. Самодельная бражка Юси оказалась крепкой, но пришлась в самую пору — приятно обожгла нутро после долгих скитаний по вечернему холоду. Тора поднял чарку и осушил ее до дна одним медленным смачным глотком. — Да ты живешь лучше, чем тебе кажется, Бык, — с усмешкой сказал он и рыгнул. Юси зашелся хохотом, и живот его затрясся, как соевая паста. — Ну а чем же ты все-таки занимаешься? Дело свое имеешь? — Нет. Служу у одного человека. Но он по достоинству оценивает мои таланты и обращается со мной хорошо. — Э-э! Везучий пес! Все ему пожалуйста — и крыша над головой, и одежка нарядная, и жратва сытная трижды в день, да еще деньги на личные расходы! — Юси с завистью покачал головой и вернулся к теме прошлого. — Кстати вот, о крепком вине. Не приходилось ли тебе пробовать знаменитое пойло, что гнали монахи в монастыре на реке Тонэ? Они называли его соком горных ягод или как-то в этом роде и продавали во всех деревнях вниз и вверх по реке. Ох и крепкий был этот сок, скажу я тебе! Тора помнил это и еще многое другое. Побеседовав немного о прошлом, он все-таки умудрился спросить про Уэмона. — Уэмон? Как же, как же! Такими гостями горжусь! — воскликнул обрадованный Юси. — Я вроде слышал, они ходят заниматься к госпоже Вишневый Цвет. А тебя интересует кто-то из девчонок? Ты смотри, будь поосторожней с этой дамой, друг мой, и рук не распускай. Госпожа Вишневый Цвет не выносит грубых манер. Она известная акробатка и выступала при дворе. Поначалу Тора даже не поверил. О женщинах актерской профессии всегда ходила дурная молва. Многие из них жили тем, что продавали свое тело в перерывах между выступлениями. И он, конечно же, мог себе представить, что творилось в заведении госпожи Вишневый Цвет. Бык снова взялся за кувшин. — Нет, спасибо, — сказал Тора. — Мне пора. Уже поздно, а мне еще нужно отработать свою мисочку риса. Скажи только, как разыскать эту госпожу Вишневый Цвет, и я пойду. Бык нахмурился. — А ты, случаем, не присматриваешь забаву в постель для своего хозяина? Ведь тогда лучше было бы сунуться в веселый квартал. Или он предпочитает мужчин? Молниеносным движением Тора схватил Юси за веревку, поддерживающую штаны, и потянул на себя. Толстяк шмякнулся пузом о стойку, охнул и выругался. Не отпуская веревки, Тора придвинулся к нему и рявкнул: — Ах ты грязная развратная скотина! Ты за кого меня принимаешь? За какого-то пошлого сводника, старающегося для извращенца? — Прости, братец, я не хотел! Отпусти меня! — взмолился толстяк. Тора медленно разжал руку. — А ты наглый, если смеешь обвинять своего земляка в таких вещах. Я лучше бы откусил себе язык, чем стал бы спрашивать у тебя, как ты отделался от воинской службы. Юси слегка побледнел и испуганно сказал: — Не надо ничего объяснять, братец. Чем бы ты ни занимался, я желаю тебе удачи. Каждый из нас имеет свои секреты. Помни только, что не надо обижать госпожу Вишневый Цвет. Она еще не забыла про те неприятности и оторвет тебе яйца, если ты просто даже станешь улыбаться ее девушкам. Ее дом находится за храмом бога войны, через две улицы от реки. В общем, легко найдешь. — Какие еще неприятности? — поинтересовался Тора. — А ты что, не слышал? Какой-то ублюдок разгуливал по улицам и резал шлюх. Госпожа Вишневый Цвет взяла одну такую бедолагу к себе. Говорят, выглядит она теперь хуже обезьяны — носа, считай, нет и рот весь перекосился. А госпожа Вишневый Цвет!.. Ну что за женщина! Ну что за доброе сердце! — Бык восхищенно закатил глаза и вздохнул. А Тора подумал, что даме скорее всего просто требовалась дешевая прислуга. Один из работяг вдруг обрел дар речи и воскликнул: — Это дьявола рук дело! Дьяволы свободно разгуливают по ночам! Один из них пытался сотворить такое и со мной. Мне удалось спастись только благодаря амулету да молитвам. — Он сунул руку под рваную куртку и вытащил оттуда болтавшийся на шее замызганный пахучий мешочек. Тора вздрогнул, но не показал виду. — Ладно, Бык, спасибо за вино, но мне пора идти. Похоже, на улицах становится не так-то уж спокойно с наступлением темноты. Ветер так и старался сорвать с него одежду, а на лице он чувствовал прикосновение чего-то мягкого и влажного. Задрав голову и щурясь на свет раскачивающегося фонаря, он увидел в его золотистом кругу пляшущие снежинки. Первые в этом году. Заведение госпожи Вишневый Цвет он нашел без труда, хотя оно совсем не выглядело как дом терпимости. Само здание, длинное и приземистое, походило на склад. У него были прочные беленые стены и деревянная крыша, закрепленная огромными камнями. Несколько минут он стоял перед дверью, пытаясь разобрать, что написано на ее табличке. Даже при всей своей неграмотности он оценил изящество слога. «Учебный Зал Доблестного Духа и Небесной Грации. Госпожа Вишневый Цвет, владелица». Ну и ну!.. Тора отродясь не видывал, чтобы дома терпимости имели такие цветистые названия. Из двух высоких крохотных окошек пробивался свет и доносились какие-то странные звуки — приглушенный топот, короткие вскрики и чуть ли не хрюканье. Может, в этом заведении посетителям предлагались какие-то совершенно новые, неизведанные удовольствия, и Тора был совсем не прочь обогатить свой опыт новыми знаниями. Усмехнувшись, он посильнее ударил деревянным молоточком о медный гонг, висевший на крюке рядом с дверью. Тот издал приятный чистый звук, и дверь сразу же распахнулась. Он шагнул в тускло освещенную прихожую. В полуоткрытую дверь он увидел кусок прекрасно освещенного зала с деревянным полом, устланным соломенными циновками. Вдруг в этом проеме промелькнула женская фигурка, как показалось Торе, совершенно обнаженная. За ней еще одна. Потом, передвигаясь прыжками, обратно пропорхала первая. Тора тихонько крякнул. Обычные сексуальные забавы, доступные в заведениях столицы, его давно мало впечатляли, но сейчас в нем зашевелилось любопытство. Интересно, какие услуги способны предложить эти две крошки? Игру его разгулявшегося воображения прервал скрипучий голос: — Чем мы можем служить вам, господин? Тора обернулся. Какой-то древний старик, закрывая входную дверь, изучал гостя пристальным взглядом. — Да вот мне сказали, — хрипло начал Тора, — что госпожа Вишневый Цвет… э-э… развлека… то есть что актеры время от времени заходят сюда. — Да, заходят. И другие господа тоже. Имя госпожи Вишневый Цвет широко известно в этом кругу. А не скажет ли господин, что он предпочитает? Что-нибудь акробатическое? Или, может быть, господину больше нравятся мужские занятия с мечом или секирой? Тора посмотрел вперед, в проем приоткрытой двери. Любовные утехи с акробатикой он еще мог себе представить, но мечи и секиры!.. А что, если такого рода учеба окажется ему не по карману? — А нельзя ли сначала взглянуть, перед тем как решить? — спросил он у старика. — Ну конечно, можно. Пожалуйста, проходите! — Старик распахнул дверь и вошел первым. Он сразу плюхнулся на скамью рядом с дверью и предложил сесть Торе. — С удовольствием отвечу господину на все его вопросы Тора остановился на пороге с отвисшей от удивления челюстью. Он ожидал попасть в какую-нибудь крошечную гостиную, где девушек показывают клиентам, но оказался в огромном тренировочном зале. Теперь он увидел, что порхаюшие девушки не были обнаженными. Одетые в специальное белье, они вместе с молодыми мужчинами упражнялись во всевозможных прыжках и пируэтах. Парни подпрыгивали, перекатывались, кувыркались на циновках, подбрасывали женщин в воздухе и ловили их. Движения их были настолько умелы и слаженны, что, казалось, сливались в один сплошной круговорот. Медленно пятясь, Тора добрался до скамьи и опустился на нее, не отрывая зачарованных глаз от акробатов. Немного погодя он сумел различить в этом беспрерывном кружении человеческих тел трех мужчин и двух женщин и только теперь понял свою ошибку. Место, куда он пришел, было не домом терпимости, а учебным залом акробатов и актеров. В зале находились и другие люди, не так откровенно раздетые. В одном углу какой-то старик, сидя на полу со скрещенными ногами, бил в маленький барабан, а рядом раскачивались в изящном танце две молоденькие красотки. В другом углу двое мужчин увлеченно вели тренировочный бой на мечах, сопровождая свои выпады и наскоки устрашающими криками. Тора только покачал головой при виде столь мирных, невоинственных движений и лишь потом посмотрел в глубь зала. Там вовсю шла борцовская схватка, только ее участников ему пока не удавалось разглядеть, потому что их загораживали другие зрители. Но тут же его ждал следующий сюрприз. На невысоком помосте в огромном кресле сидела знакомая ему толстуха из кабака, обтянутая в блестящий черный шелк и увешанная красными лентами. Тора не смог сдержать изумления: — А это еще что за черт?! — Это госпожа Вишневый Цвет. Дает ценные указания участникам схватки. Большая любительница борьбы наша госпожа Вишневый Цвет. Никогда не пропустит ни одного соревнования, хотя сама она акробатка, конечно. Тора пытался переварить услышанное, когда госпожа Вишневый Цвет вдруг подалась вперед и крикнула: — Откройте руки, мастер Дэнчичи! И не надо бить! Ага! Очень хорошо, мастер Гэнба! Такого захвата не видела уже много лет! Поначалу Тора решил, что ослышался, но в этот момент зрители принялись рукоплескать, и он смог разглядеть борцов. И там в самом деле стоял Гэнба в одной набедренной повязке — глупо улыбаясь, он смотрел на госпожу Вишневый Цвет, пока его соперник тяжело поднимался с пола.ГЛАВА 12 АРЕСТАНТ
Тамако редко входила к мужу, когда он был за работой, поэтому Акитада, разбиравший семейные счета, очень удивился, услышав ее голос. — Прости, что беспокою тебя, но мне бы хотелось посоветоваться с тобой по одному маленькому вопросу, — сказала она, топчась в дверях. Сэймэй оторвался от своих бумаг, поклонился хозяевам и вышел. Акитада с грустью посмотрел ему вслед. Их отношения стали натянутыми с тех пор, как он обнаружил, что все эти годы Сэймэй скрывал от него правду о родителях. Сэймэй чувствовал его холодность и выносил ее с печальным смирением, но Акитада пока все никак не мог унять горечь и возмущение, кипевшие в его душе. Ему хотелось поделиться этими грустными мыслями с Тамако, но с ее любовью к Сэймэю она скорее всего посоветовала бы мужу выкинуть эту проблему из головы. Легко сказать, а вот попробуй сделай! Он подождал, когда Тамако усядется напротив. Ей очень шло темно-синее кимоно с узенькой полосочкой выглядывающего на запястьях и на груди белого шелкового белья. Он смотрел на нее с обожанием и ждал, когда она расстелет на подушке многочисленные складки. — Как идет тебе этот наряд, — с нежностью сказал он. — Он даже больше тебе к лицу, чем тот, что я снимал с тебя вчера ночью. Тамако стыдливо покраснела, но не улыбнулась в ответ, и это удивило Акитаду. Он заигрывал с ней глазами, но она оставалась безучастной, только нижняя губка слегка дрожала. — По-моему, с годами ты становишься все красивее, — пробормотал Акитада. Эти слова все-таки вызвали мимолетную улыбку. — Что за чепуху ты говоришь, — сказала она и нежно коснулась его руки. — Речь пойдет вовсе не о нас, а о твоей сестре. — Ах вот оно что! Интересно, о которой из двух — Акико или Ёсико? Акико не шла у него из головы с тех пор, как он побеседовал с ее пасынком. Впрочем, он сразу понял, что Тамако имеет в виду Ёсико. — Что-нибудь случилось? Тамако кивнула и, потупившись, принялась разглядывать свои руки, прилежно сложенные на коленях. — Боюсь только, это будет выглядеть так, будто я шпионила за твоей сестрой, хотя это неправда, — со вздохом сказала она. — Я беспокоюсь за нее, но это не означает, что я за ней слежу. Только ведь, живя в одном доме, трудно избежать встреч. Так я заметила, что твоя сестра каждый день уходит из дома в одно и то же время — неизменно между часом Обезьяны и часом Петуха[1410]. Все это время она уходила до заката и возвращалась после наступления темноты, прямо перед самым ужином. И всякий раз у нее была с собой корзина. Акитада распрямился. В день его визита к художнику Ноами Ёсико вернулась домой чуть раньше его, и при ней тогда была корзина. Пустая корзина, хотя Ёсико утверждала, что ходила на базар. — А ты спрашивала у нее об этом? — Да разве я могла?! Сама она никогда не объяснялась по поводу своих отлучек, и я считала, что это не мое дело. Она взрослая женщина, и это ее родной дом. Но сегодня, некоторое время назад, такое произошло вновь. Только на этот раз она промчалась мимо меня без единого слова приветствия в свою комнату. Я подумала, что ей нездоровится, и пошла следом. Я стояла у нее под дверью и слышала оттуда рыдания. Если бы ты только слышал, как горько она плакала! Я побоялась вмешиваться, но подумала: что, если ей нужна помощь? Вот и не знаю, что мне теперь делать. Акитада поднялся со своего места и направился к двери. — Постой, Акитада! — воскликнула Тамако, поспешно вскочив. — Не надо торопиться! Так можно только все испортить. Это явно что-то очень личное. И если уж вмешиваться, то, наверное, лучше мне. Тамако была права. Внезапно почувствовав страх, Акитада гадал, что бы могло случиться. Может, какое-нибудь женское недомогание. Или — упаси Боже! — насилие. У него сжались кулаки при мысли, что какой-то мужчина мог причинить Ёсико боль. — Думаю, ты совершенно права, — сказал он. — Тогда иди к ней сама. Только обязательно возвращайся и все мне расскажи. Кивнув, Тамако ушла. Акитада снова сел за стол и рассеянно уставился в свои счета. Неприятности, похоже, только множились, когда им вроде бы пора было закончиться. Ему больше не надо было переживать из-за неприязни к нему женщины, которую он считал своей матерью. Отец больше не представал в его мыслях в образе бесчувственного тирана. Он теперь жил в отчем доме, по-настоящему ставшем его собственным, и заботился о своей собственной семье, как это некогда делал его отец, и даже сидел теперь за его рабочим столом. Положение на службе, кажется, тоже не вызывало опасений. И все-таки мир и покой почему-то пока обходили его стороной. Счастье по-прежнему уворачивалось от него, как скользкий угорь. Стоило только подумать, что ты уже ухватился за него, как оно, вывернувшись и так и эдак, снова куда-то исчезало. Ох, Ёсико!.. Сэймэй, еще одна причина его неудовлетворенности, вернулся в кабинет. — К вам посетитель, господин, — сообщил он с низким поклоном. Сэймэй вообще в последнее время стал держаться подчеркнуто официально. Посетителем оказался Кобэ, и его приход в данный момент явился совершенно несвоевременным. Начальник полиции размашистым шагом вошел в комнату, кивнул вместо поклона и сухо объявил: — Я бы хотел переговорить с вами наедине. Акитада перевел взгляд на Сэймэя, а тот спросил: — Может, принести саке или чая, прежде чем господа приступят к беседе? — Мне ничего не нужно. — Кобэ стоял, с нетерпением ожидая, когда Сэймэй уйдет. Когда дверь за стариком закрылась, он немного подождал, потом неторопливо подошел к ней и распахнул настежь. В коридоре было пусто. Он ворчливо хмыкнул и снова захлопнул дверь с такой силой, что затряслись перегородки. Со все возрастающим гневом Акитада наблюдал, как Кобэ вернулся и сел перед ним в напряженной позе. — Мой секретарь не имеет привычки подслушивать под дверью, — сухо сказал Акитада. — А по вам сразу видно, что вы принесли какие-то дурные новости. Кобэ выждал несколько мгновений. — Во всяком случае, для вас точно дурные. Я раскусил ваш хитрый замысел. И как только вы посмели компрометировать меня как сыщика, подсылая ко мне своих шпионок?! Теперь вот извольте незамедлительно выдать нам свою сообщницу. Она подлежит аресту. Жаль, я не могу поступить точно так же и с вами по причине вашего высокого положения. Но я в самое ближайшее время обязательно напишу официальный отчет об этом деле, где укажу на превышение вами власти. — Сжав по бокам кулаки, он подался вперед, испепеляя Акитаду свирепым взглядом. — Я был о вас лучшего мнения и никогда бы не подумал, что вы станете подсылать женщину туда, куда вас самого не пускают. На этот раз, Сугавара, вы зашли слишком далеко. И на этот раз, черт возьми, я сделаю все возможное, чтобы прекратить ваши вечные вмешательства! Акитаде оставалось только гадать, что это там еще за новые неприятности случились. Кобэ явно был взбешен каким-то происшествием в тюрьме. И это, конечно же, было какое-то досадное недоразумение, потому что до сих пор он как раз надеялся дружески обсудить с Кобэ свои последние открытия в монастыре. Кобэ, похоже, был не на шутку разъярен и мог осуществить свои угрозы. — Я ни малейшего представления не имею, о чем вы говорите, — сказал Акитада. Кобэ вконец рассвирепел и ударил кулаком по столу. Коробочки, шкатулочки, вода в банке и каменные дощечки с тушью подпрыгнули и загремели. — Только не надо мне лгать! — заорал он. — Прекрасно знаете, о чем идет речь. Сегодня мы выследили ее, и она пошла прямиком в этот дом. Это было меньше часа назад. Ёсико! От этой мысли у Акитады на душе заскребли кошки. Уверенность только укрепилась, когда он вспомнил женщину с корзиной, даже издалека показавшуюся ему знакомой, — она шла тогда из тюрьмы, где сейчас содержался брат Нагаоки. Но что же такого натворила Ёсико? — Я вижу, вы знаете, о чем я говорю! — рявкнул Кобэ. — А ну-ка зовите ее! Я хочу поговорить с ней. И мне наплевать, кем она вам приходится. Женой, надо полагать. Сначала она расскажет мне все, а потом мы ее арестуем. Акитада весь похолодел от страха. Он хорошо знал Кобэ и его взрывной характер и боялся, что тот осуществит свою угрозу. Надо было срочно что-то придумать, чтобы как-то утихомирить гнев полицейского. — Вы ошибаетесь, господин начальник, — как можно более высокомерно сказал он. — Я по-прежнему пребываю в полнейшем неведении относительно того, в чем вы меня обвиняете. Разве что могу допустить, что это как-то связано с делом брата Нагаоки. Что же касается ваших угроз в мой адрес, то вынужден вам напомнить, что в таких случаях принято сначала проверять факты, прежде чем выдвигать обвинения против официального лица. Я только недавно вернулся из… Кобэ перебил его: — Ну уж нет, господин хороший! Даже ваши служебные подвиги на севере не смогут оградить вас от этих обвинений. Вопиющее превышение власти и вмешательство в работу правовых органов скажутся самым наихудшим образом на вашей будущей карьере. Несмотря на весь свой пыл, Кобэ, похоже, был уже не так уверен в себе. Акитада призадумался. Кобэ все-таки мог испортить ему жизнь здесь. У него по-прежнему имелись враги при дворе, к тому же, несмотря на все недавние успехи, он не очень-то умел подчиняться установленным правилам. Обвинение в нарушении служебных полномочий в столь короткий срок после возвращения могло нешуточным образом обернуться против него. Но в настоящий момент Акитаду меньше всего заботило собственное положение. Он не чувствовал за собой никакой вины, зато его беспокоила опасность, грозившая Ёсико. В ее нынешнем состоянии она могла попросту не пережить того, что затеял против нее Кобэ. Поэтому Акитада решил попробовать другую тактику. — Должен напомнить вам, что моя семья сейчас переживает дни траура по моей недавно почившей матери, — проговорил он голосом тихим и решительным. — Моя супруга с сыном прибыли всего несколько дней назад, буквально за несколько часов до кончины моей матери. Помимо моей супруги, в этом доме из женщин есть только моя сестра, а также повариха и две служанки. И я с трудом могу допустить, что кто-то из них мог бы быть причастен к делу об убийстве. Кобэ молча смотрел на него. Понять, что творилось в этот момент у него в голове, было невозможно. Акитада знал только одно — даже нечего ждать, что он сейчас извинится и уйдет. Сейчас ему любой ценой нужно было избежать ареста Ёсико и не допустить, чтобы ее подвергли допросу. Ведь женщинам не делали исключения и наравне с остальными избивали бамбуковыми палками, если следствие было не удовлетворено их ответами. Акитада мог только надеяться, что Кобэ не решится навлечь такой позор на члена его семьи. А между тем начальник полиции заметно смягчился. — Да, я забыл, — сказал он, отводя взгляд в сторону. — Я слышал, что госпожа Сугавара умерла. Ваша матушка, говорите? Акитада кивнул, стараясь не выказывать эмоций. — Да. Хм… Я очень сожалею. Да, на воротах и впрямь висела траурная табличка. Хм… Акитада выжидал. Кобэ пребывал в нерешительности; уже не такой напряженный, он теперь барабанил пальцами по коленкам, потом наконец проворчал: — Ну-у… ситуация неловкая, и я сожалею, что явился так некстати. Но вы должны понимать, что я вынужден разобраться с этим делом незамедлительно. Неоднократные посещения посторонней личностью заключенного, находящегося в ожидании суда, скорее всего только усложнят разбирательство дела. Я как лицо официальное обязан буду дать объяснения в суде, или меня и моих людей попросту уволят с работы. А я вовсе не намерен допустить этого. Акитада снова кивнул: — Я вас хорошо понимаю. Ваши мысли целиком и полностью сосредоточены на рабочих обязанностях, как мои — на моих семейных делах. Нам с вами надо постараться прийти к компромиссу. Быть может, вы согласились бы рассказать, что же там все-таки произошло и в чем именно вы нас подозреваете? Сколько этих посещений было? Лицо Кобэ уже не багровело от ярости, и голос приобрел нормальные интонации: — Эта женщина приходила каждый божий день с тех пор, как мы с вами встретились у ворот Нагаоки. И всегда по вечерам. Акитада напряг память. Упоминал ли он в присутствии Ёсико о деле Нагаоки? Да, он, кажется, и впрямь поделился с ней кое-какими своими соображениями на этот счет именно в тот день за обедом. И она в том разговоре, помнится, вступилась за брата Нагаоки. Не слишком ли порывисто и страстно? Уж не знакома ли Ёсико с подозреваемым… как там его по имени? — Кодзиро? — И как же она проникала внутрь? — спросил Акитада у Кобэ. — Она назвалась его женой и говорила, что носит обед. А я только вчера узнал об этом и сказал этому придурку-стражнику, что Кодзиро не женат. Вот ведь проклятый болван! — Кобэ сердито запыхтел носом. Теперь стало ясно, что означала пустая корзина. В корзине она носила заключенному еду. Акитада не собирался подпускать Кобэ к этой тайне, прежде чем сам не разберется в ней, поэтому сказал: — Послушайте, господин начальник, я в настоящий момент не могу объяснить вам, почему эта таинственная женщина скрылась в моем доме, но я обязательно попытаюсь выяснить, что все-такипроисходит. Однако в нынешних обстоятельствах я должен просить вас не беспокоить мою семью. Если вы согласны, то я явлюсь к вам сразу же, как только буду располагать какими-либо сведениями. Например, завтра рано утром вас устроит? А сейчас я могу лишь повторить, что мне ничего не известно об этом. Кобэ нахмурился и собирался что-то сказать, но Акитада поспешно вставил: — Зато у меня есть сведения, раздобытые во время нового посещения Восточного горного монастыря. Только приезд моей семьи и смерть матери помешали мне сообщить их вам. Кобэ заметно оживился. — Вот как? И что же это за сведения? Акитада вкратце поведал ему о своей поездке в монастырь и о разговоре с привратником Эйкэном и новичком-послушником Анчо. Он рассказал об устройстве замка и о своей версии, по которой убийство могло быть совершено кем угодно, помимо нынешнего арестанта. Кобэ слушал и хмурился. Когда Акитада закончил, он поспешил заметить, что это открытие не снимает подозрений с Кодзиро. И все же увещевания Акитады и его готовность к содействию не только успокоили бурные воды, но и дали Кобэ пишу к размышлениям. У него даже был несколько пристыженный вид, когда он сказал: — Как жаль, что помешала смерть вашей матери. Я сейчас стеснен во времени, иначе не стал бы настаивать на вашем завтрашнем приходе. Так, стало быть, я могу ждать вас утром? В час Змеи[1411]. Я буду в западной тюрьме. — Кобэ встал. Акитада тоже поднялся. Они чинно раскланялись, и начальник полиции ушел, почти мягко затворив за собой дверь. Теперь, когда опасения за Ёсико можно было ненадолго отложить в сторону, Акитада позволил себе расслабиться. Он даже припомнить не мог, когда еще был так сердит на кого-нибудь. Как она могла устроить ему такое?! Он попытался взять себя в руки, прежде чем пойти в комнату сестры, но, вспоминая обвинения Кобэ и то, что предстояло завтра, закипал гневом снова и снова. Видимо, придется все выплеснуть на нее. Он вошел к Ёсико без стука. Женщины сидели рядышком — Ёсико тихо плакала, а Тамако обнимала ее за плечи. Когда они обе подняли головы, у Тамако в глазах стоял почти ужас, вызванный его внезапным вторжением. Не обращая внимания на этот молчаливый упрек, Акитада сразу же накинулся на Ёсико: — У меня только что была крайне неприятная встреча с начальником полиции. Ёсико ахнула и побледнела. А Акитада продолжал: — Оказывается, ты регулярно навещаешь в тюрьме заключенного, находящегося в ожидании суда. Начальник полиции Кобэ убежден, что эти посещения устроил я, чтобы иметь связь с этим человеком после того, как уже получил одно предупреждение. Кобэ намерен написать официальную жалобу. Обе женщины дружно вскрикнули в знак неистового протеста. Но Акитада оборвал этот всплеск эмоций, подняв руку. — Давайте по очереди, — сказал он, глядя на Тамако. — И вообще мне показалось, что я разговариваю с Ёсико. Тамако покраснела и потупилась. Ёсико встала, вышла вперед и опустилась перед ним на колени, поникнув головой. — Я прошу у тебя прощения, дорогой старший брат, за то, что причинила тебе неприятности, — сказала она, собравшись с духом. — Я вела себя эгоистично и глупо и навлекла позор на старшего брата и на эту семью. Я с готовностью сделаю все, что возможно, лишь бы исправить это положение. Своим необдуманным поведением я уже обрекла Кодзиро на нестерпимую боль… — Она умолкла, пытаясь совладать с собой, потом продолжала: — Когда ты сказал мне, что Кодзиро арестован за убийство, я поняла, что должна пойти к нему. Мы с Кодзиро когда-то были… очень близки. — Она говорила потупившись, боясь посмотреть Акитаде в глаза. — Он и есть тот человек, который хотел жениться на мне. Я знаю, прежде чем пойти туда, мне следовало спросить твоего разрешения, но я боялась, что ты его не дашь. И у матушки я спросить не могла. — Она закрыла руками мокрое от слез лицо. Все оказалось даже страшнее, чем он предполагал. — Да, ты права, — холодно сказал он, — я бы ни за что не разрешил своей сестре рядиться в какую-то там оборванку, которая якобы таскает еду своему преступнику-мужу. И я, разумеется, надеюсь, что тебя с этим человеком не связывают никакие брачные отношения, будь то официальные или нет. — Конечно, нет! — Ёсико покраснела и гордо вскинула голову. — Мы с Кодзиро вели себя пристойно. Он собирался жениться на мне. Я дала свое согласие, и он сразу же пошел поговорить с матушкой, но она отклонила его предложение, наболтав ему всяких грубостей. С тех пор мы с ним больше не виделись. Акитаду эти слова только взбесили. — Твое поведение, и тогда и сейчас, заслуживает осуждения, — сухо сказал он. — Этот человек — брат местного торговца, сам чуть ли не крестьянин и определенно не может считаться хорошей парой, а тем более мужем для девушки из рода Сугавара. Ты не имела права давать согласие на этот брак и вообще поощрять подобные мысли. Ёсико, потупившись, смотрела на свои руки. Сейчас она держалась спокойно и решительно. — Тебя не было здесь в то время, и ты не знаком с Кодзиро. А судить о человеке, которого совсем не знаешь, нехорошо. Великий Конфуций учит нас проявлять доброту ко всем и в каждом человеке искать хорошее. Кодзиро — хороший человек. В первый момент Акитаде показалось, что он ослышался. Никогда еще Ёсико не разговаривала в таком тоне ни с ним, ни с кем бы то ни было еще. Она что же, и впрямь осмелилась выговаривать ему? И это после всего, что сама натворила? После всех этих неприятностей, которые теперь свалились на его голову? Акитада так рассвирепел, что вынужден был спрятать сжавшиеся кулаки за спиной, чтобы не ударить ее. — У меня больше нет ни малейшего желания обсуждать здесь твое постыдное прошлое с этим человеком, — сквозь зубы выдавил он. — Только что я с трудом предотвратил твой арест. И если завтра утром мне не удастся убедить Кобэ в твоей невиновности, ты окажешься в тюрьме. В той же самой тюрьме, где теперь сидит твой любовник. И тебя точно так же разденут догола перед стражниками и будут избивать бамбуковыми палками, пока не сдерут кожу со всей спины и ниже или пока ты не признаешь, что на пару со мной хотела освободить из заключения Кодзиро. Тебя будут пытать и выспрашивать, что я надоумил сказать Кодзиро, и через некоторое время ты обязательно расскажешь им то, что они хотят услышать. Тамако и Ёсико смотрели на него в ужасе. — Нет! — воскликнула Ёсико. — Я никогда не скажу неправды! Я лучше умру! — Они не посмеют коснуться твоей сестры, — сказала Тамако. — Не говори глупостей! — напустился на нее Акитада, потом посмотрел поочередно на обеих. Обе они были рождены в благородных семьях; их белая нежная кожа не знала грубой работы; их длинные волосы блестели, потому что знали, что такое гребень. Откуда было знать этим неженкам о трудностях и невзгодах существования? Он хрипло сказал: — Ты же не знаешь ничего о подобных вещах, а я знаю! Я по долгу службы присутствовал на таких вот допросах и пару раз в своей жизни на собственной шкуре узнал, каково это — выносить подобные мучения. Тамако побледнела и склонила голову. — Прости, Акитада, — пробормотала она. Но подбородок Ёсико был все так же упрямо вздернут. — Я не сомневаюсь, что в тех случаях ты не опозорил своего имени, — сказала она, сверкая глазами. — Но я тоже Сугавара и сейчас говорю тебе: я лучше умру, чем подчинюсь. — Ты только не забывай, что твой любовник пройдет те же испытания, что и ты. Ты уверена, что он также будет готов принять смерть, чтобы защитить твою семью? — Да. Кодзиро уже однажды вынес пытки, не сказав им ни слова обо мне, — с гордостью сообщила Ёсико. — И сегодня его били из-за меня. Стражник сам сказал мне, когда я пришла. — Поэтому Ёсико и была так расстроена, когда вернулась домой, — вставила Тамако. — За тобой проследили, — сообщил Акитада сестре. Ёсико кивнула: — Да. Мне очень жаль, Акитада, что я навлекла на тебя такие неприятности, — сказала она. — Но еще больше мне жаль Кодзиро. Он пострадал из-за меня. Но я не сожалею, что люблю его. Когда с него снимут подозрения в убийстве, мы с ним поженимся. — Что-о?! — У Акитады даже руки опустились от бессилия. Неужели он так никогда и не наведет порядок в собственной семье? Сначала эти проблемы с Акико, теперь вот Ёсико!.. Не иначе как кровь их матери, текущая в их жилах, делает сестер такими бестолковыми, что они способны только на одни неприятности. Уже не в силах сдерживаться, он заорал: — Ничего подобного даже не жди! Я запрещаю! Этот человек неподходящая пара для моей сестры. Ёсико была очень бледна, но по-прежнему гордо держала голову и смотрела брату прямо в глаза. — Я тебе только наполовину сестра, и ты ничем мне не обязан. Раз я так опозорила тебя, мне лучше уйти из этого дома. Я пойду к своей сестре. Тосикагэ поговорит с начальником полиции Кобэ и объяснит ему, что ты ничего не знал о моих отношениях с Кодзиро. А уж потом, если начальник полиции захочет арестовать меня, то по крайней мере ему не придется являться для этого в твой дом. Они смотрели друг другу в глаза. Эти ее обидные слова как ножом больно резанули где-то внутри. Запоздало осознав, как несправедливо обошелся с ней, Акитада, запинаясь, проговорил: — Ты не можешь так поступить!.. Почему Акико?.. Почему Тосикагэ? Что могут сделать для тебя они, чего не могу я? Разве я не стоял всегда на твоей стороне? Разве не вступался за тебя? За вас обеих? Так почему же ты поступаешь так со мной, Ёсико? Ёсико отвела глаза в сторону и пробормотала: — Прости, Акитада, но я дала слово Кодзиро и не могу нарушить его. Сэймэевы словечки! Все в этой семье, похоже, готовы стоять горой друг за друга! И кто из них оставит его следующим? Сурово глядя сверху вниз на сестру, Акитада покачал головой, потом резко повернулся и вышел. Он не разделил супружеское ложе с женой в ту ночь, а провел ее, снедаемый беспокойством и чувством вины, пытаясь найти решение своим семейным неурядицам. Тамако приходила к нему всего один раз, наверное, надеясь найти путь к примирению, но он сказал: — Не сейчас. Я должен придумать, что теперь делать. Склонив голову, она молча ушла и вернулась только позже с его постелью, которую расстелила без единого слова. Когда она снова ушла, он почувствовал себя чудовищно одиноким. Ночью принимался идти снег. Когда тени в комнате начали сгущаться, Акитада распахнул настежь ставни. Было холодно, но не ветрено. В свете его лампы медленно падали крупные снежинки — гонимые невидимыми воздушными потоками, они кружились в неторопливом хороводе, прежде чем мягко опуститься на землю. Мерцая, словно танцующие звезды, они, казалось, приходили из какой-то потусторонней пустоты, становясь видимыми лишь в пределах света его лампы. Деревья и кусты на переднем плане выступали лишь смутными беловатыми очертаниями, а усыпанные гравием дорожки и дощатый пол веранды сплошь сверкали серебристым инеем. Только поверхность пруда выступала из этой белизны черным зеркалом, отражающим какую-то дальнюю черную вселенную. Акитада долго стоял так, любуясь таинственным пришествием снегов, потом затворил ставни и вернулся в постель. Проснувшись утром, он увидел, как разом посерел мир вокруг. Снегопад прекратился, но тяжелые низкие тучи, казалось, присели отдохнуть на застывших верхушках деревьев, и в этой сумрачной мгле снег на земле и на крышах напоминал какое-то блеклое покрывало из неотбеленного шелка. Акитада торопливо натянул на себя темное кимоно, узкие штаны, сапоги и шапку-эбоси с траурной табличкой. Постучавшись, вошел Сэймэй — он принес завтрак и ждал распоряжений на день. — Делай что хочешь, — сказал Акитада, прихлебывая чай. — Можешь заняться счетами, а мне нужно отлучиться сегодня утром. Сэймэй с потерянным видом мялся на месте, потом поклонился и вышел. Несмотря на ранний час, Кобэ уже ждал Акитаду в своем отдельном кабинете в тюрьме. Настроен он был почти примирительно и сразу же предложил Акитаде горячего саке. Акитада отказался и даже не нашел в себе сил выдавить вежливую улыбку. Усевшись напротив Кобэ, он сразу приступил к делу: — Вчера вечером я был потрясен и глубоко задет вашими обвинениями, поэтому не сумел сдержать гнева. Сегодня я пришел к выводу, что должен извиниться за глупые и опасные поступки члена моей семьи. Как глава семьи я несу полную ответственность за случившееся, даже если ничего об этом не знал. Кобэ кивал. Всем своим видом он выражал внимательную учтивость — Пожалуйста, продолжайте! — Боюсь, что женщиной, за которой ваши люди проследили от тюрьмы до моего дома, оказалась моя младшая сестра Ёсико. Кобэ изумленно вытаращил глаза. — Ваша сестра?! — Да. Как оказалось, она много лет назад питала сильную привязанность к этому человеку, что содержится у вас под стражей. В этих ее посещениях, видимо, виноват я, потому что имел неосторожность обсуждать с ней дело Нагаоки. Правда, в тот момент я и понятия не имел, что она знакома с кем-то из этой семьи, а она об этом умолчала. Кобэ был так потрясен, что ему в голову не приходило подвергнуть слова Акитады сомнению. — Ага… понятно, — пробормотал он. — А вам-то как, должно быть, все это неприятно! Разве ж могли вы предположить, что ваша сестра впутается в такие… отношения?! Тут я вам целиком и полностью сочувствую. В первый момент Акитада расценил эти слова как насмешку, но лицо Кобэ не выражало ничего, кроме потрясения и озабоченности. Но такая его реакция, как ни странно, почему-то разозлила Акитаду. В конце концов, парень, с которым умудрилась спутаться Ёсико, не был таким уж основательно презренным типом. Сам Нагаока был уважаемым торговцем и, несомненно, человеком большой культуры, и его брат, которого Акитада видел под дождем у монастырских ворот, не произвел на него тогда какого-то неблагоприятного впечатления. Но он тут же сообразил, что для Кобэ Кодзиро всего лишь преступник и что репутация его сестры всецело зависит теперь от того, удастся ли ему очистить ее любовника от обвинений в убийстве. Хорошенько собравшись с мыслями, он сказал: — Я весьма и весьма признателен вам, господин начальник полиции, за то, что вы поверили мне. Поскольку моя сестра глубоко причастна к этому делу, то я подумал: не могли бы вы пересмотреть свою позицию и позволить мне помогать вам? — Тут он умолк, приготовившись к очередному отказу. Однако, к его великому удивлению, Кобэ, поджав губы и задрав голову, задумчиво изучал потолок, потом многозначительно хмыкнул, помолчал и снова хмыкнул. Ободренный таким положением дел, Акитада с бешено бьюшимся сердцем поспешил пообещать: — Разумеется, я никогда не совершу ни одного действия, которое вы предварительно не одобрили бы. Буду работать, так сказать, под вашим руководством. Кобэ наконец оторвал взгляд от потолка и перевел его на Акитаду. Вид у него был заинтересованный, уголки губ подергивались. — Никогда бы не подумал, что знаменитый Сугавара обратится ко мне с такими словами. Может, сделаете еще один шаг и пообещаете руководствоваться исключительно моими решениями? Акитада залился краской стыда, но ответил без колебаний: — Да. Кобэ поднялся. — Тогда пойдемте. Поговорите с заключенным. Только в моем присутствии. Акитада прямо-таки затруднялся понять, чему приписать такую неожиданную уступчивость Кобэ. Оставалось только предположить, что она была куплена ценой его собственного унижения. Ну и пусть! Пока они шли по тюремным коридорам в другое крыло здания, где содержались арестанты, он вдруг сообразил, что совершенно не знает, как действовать. Связь здешнего узника с Ёсико затрудняла подробный допрос. И присутствие Кобэ на их самой первой встрече только усложняло дело. В фигуре, что поднялась с пола, гремя кандалами и опираясь на стену, почти невозможно было узнать бравого молодого человека, приезжавшего в горный монастырь. Всклокоченные волосы и борода, грязная, оборванная одежда, босые ноги. На теле, там, где соскользнула рубашка, виднелась кровь; ее следы были и на подбородке. Людей в таком состоянии Акитада много повидал в жизни, и сейчас его глаза и глаза арестанта встретились. Обычно глаза рассказывали правду. Если в них стояла безнадежная тоска — верный признак того, что сопротивление силе и напору прекращено, — то становилось ясно, что заключенный рассказал все, что знал. Он уже и сам желал этого — чтобы прекратили бить. Взгляд Кодзиро еще не приобрел этого выражения. В нем читались одновременно недоверие и безразличие, когда он поднял глаза на Кобэ, потом на Акитаду. Он нахмурился и теперь снова смотрел на начальника полиции. Акитаду он явно не узнал. Он не поклонился и не заговорил, и тяжелая выжидающая тишина повисла в камере. Акитада подивился: что Ёсико нашла в этом человеке? Нет, конечно, сейчас он был не в лучшем виде, но, даже будучи отмыт и отчищен, он имел бы весьма заурядную внешность — среднего роста, определенно ниже Акитады и Кобэ, хотя и широкоплеч; и лицо не назовешь ни красивым, ни каким-то примечательным. Широкие скулы, приплюснутый нос и слишком уж толстые губы. Его наружность соответствовала его крестьянской сути. Конечно, он не почернел на солнце, не усох и не сгорбился от трудов на рисовых полях, но в нем явно не было того мужского лоска и изящества, отличавшего людей ранга Акитады. Разумеется, Акитада не слишком обольщался насчет собственной внешности, но он точно знал, как обычно выглядят мужчины, вызывающие восхищение у женщин. Кодзиро явно не принадлежал к такому типу. Кобэ первым нарушил молчание: — Ну что ж, Кодзиро, как я понял, ты по-прежнему продолжал упрямиться во время вчерашнего допроса. Арестант не ответил, лишь слегка передернул плечами, по-видимому, отчетливо припомнив то, о чем шла речь. Акитаде доводилось видеть спины таких вот несговорчивых узников, и он понимал, каково сейчас этому человеку. А Кобэ между тем продолжал: — Ну и зря. Ты только напрасно тратил время — ведь мы выяснили, кто была та женщина. Какой-то огонек промелькнул в глазах Кодзиро, но он промолчал. Боится ловушки, подумал Акитада, слегка удивившись тому, что крестьянин готов защищать честь Ёсико, не щадя собственной шкуры. Арестант наконец разомкнул спекшиеся губы и прохрипел: — Чего вы хотите, господин начальник? Кобэ усмехнулся: — Я? Ничего. Я нахожусь здесь только потому, что этот господин имеет к тебе несколько вопросов. Арестант осторожно посмотрел на Акитаду. Акитада не любил игру в «кошки-мышки», поэтому сразу прояснил положение: — Мое имя Сугавара. Ёсико рассказала мне, что приходила сюда. На этот раз заключенный не сумел скрыть эмоций — он вздрогнул всем телом и ошарашенно вытаращил глаза. Шея и лицо его медленно заливались краской. Наконец он хрипло проговорил: — И что же тут такого? Молодая женщина несколько раз из жалости приносила мне еду. Всего лишь акт милосердия. И если кто-то усмотрел в этом благородном жесте что-то непотребное, так пусть ему и будет стыдно. Стражник может подтвердить, что между нами ничего не было, кроме нескольких рисовых лепешек. — Я явился сюда не затем, чтобы обсуждать поведение моей сестры, а посмотреть, нельзя ли вам чем-то помочь. Отчаянная и радостная надежда вдруг промелькнула в глазах узника. — Так вы хотите нам помочь? — Ошибаетесь! — отрезал Акитада. — Если у меня найдется что сказать по этому делу, вы никогда больше не увидитесь с моей сестрой. Никакой связи между вашей семьей и моей, как вы сами только что сказали, не существует. — Он видел, как померк свет в глазах Кодзиро, даже не успевшего испытать сожаление. Но он хорошо понимал, что в таких случаях лучше быть жестоко откровенным. Ровным, безжизненным тоном узник проговорил: — Понимаю. Вернее, не понимаю. Зачем тогда было приходить? Акитада прочистил горло и принялся объяснять: — Интерес к вашему делу возник у меня гораздо раньше, чем я узнал о ваших… отношениях с моей сестрой. И начальник полиции Кобэ может это подтвердить. Мы с вами даже виделись мельком у ворот монастыря. Тогда, если помните, шел дождь, и вы были со своей невесткой. Кодзиро кивнул: — Да, теперь припоминаю. И все-таки это пока не объясняет вашего интереса ко мне, господин. Это, конечно, очень мило с вашей стороны, но я должен попросить вас оставить это дело в покое. В сложившихся обстоятельствах вам оно покажется только лишь неприятным, а мне в любом случае нечего терять. — И он демонстративно отвернулся лицом к стенке. Теперь им хорошо были видны огромные кровавые пятна на спине рубашки. Акитада даже закусил губу. Если бы его сестра не вмешалась, парня, возможно, не подвергли бы таким мучениям. — Неприятным для себя я считаю только несправедливость, — сказал он, косясь на Кобэ, который, поджав губы и задрав голову, изучал потолок. — Мне сказали, что вы сначала признались в убийстве своей невестки, а потом отказались от признания. Так вы невиновны? Не поворачиваясь, узник сказал: — Виновность и невиновность, господин, понятия родственные. Из всех знакомых мне людей по-настоящему невиновным человеком является только ваша сестра. Мы же все наделали достаточно грехов, чтобы повеселить демонов ада. Акитада изумленно смотрел на этого перепачканного кровью, истерзанного человека в цепях. Где он, представитель далеко не самого высшего сословия, научился так говорить? И почему он так упорствует, почему не хочет помочь следствию, когда его жизнь висит на волоске? Вместо того чтобы с готовностью принять предложенную помощь, он заставил Акитаду внутренне устыдиться своих недостатков, а в свете последних событий — и грехов своих родителей. Мимолетная мысль об их грехах и об их схожих судьбах, находящихся в руках могущего судии, пронеслась у него в голове. Ему вспомнились и адская картина Ноами, во всех подробностях живописующая кару в подземном мире, и его ночной кошмар в монастыре. Закованный в цепи, окровавленный Кодзиро выглядел ничуть не лучше истерзанных грешников в аду с картины Ноами. Выходит, в мире людей тоже были свои демоны. Стараясь совладать с собой и набраться терпения для разговора с этим упрямцем, Акитада сказал: — Я ночевал там в ту ночь, только в другом крыле, и слышал женский крик. Я не верю, что госпожу Нагаока убили вы. Если вы не станете возражать, я постараюсь выяснить, что же произошло на самом деле. Боюсь, улики против вас слишком сильны, чтобы снять с вас подозрения в убийстве, но, возможно, нам удастся выявить настоящего убийцу. Кодзиро повернулся лицом и посмотрел на Акитаду, потом на Кобэ. У Кобэ он спросил: — А вы, господин начальник, тоже изменили свое мнение? Кобэ покачал головой: — Отнюдь нет. Но я честный человек. Тогда Кодзиро повернулся к Акитаде: — Мне непонятно ваше желание освободить меня, но я готов сделать все, что в моих силах. Заметьте, мне по-прежнему безразлично, что будет со мной, просто я знаю, что этого хотела бы она. Она даже мечтала, чтобы вы взялись за это дело. Вот ради нее я и расскажу вам, что помню, и отвечу на все ваши вопросы. Только многого от меня не ждите. В какой-то момент мне и самому казалось, что я виновен. Акитаду раздосадовало это новое упоминание о Ёсико, но он решил не обращать внимания. — Тогда начните рассказ с ваших отношений с невесткой. — Мой брат познакомился со своей будущей женой, когда в очередной раз колесил по стране в поисках товара. Нобуко была дочерью одного ученого, ушедшего на покой и проживавшего в своем небольшом провинциальном имении. Она была гораздо моложе моего брата, но очень хотела подыскать себе солидного и состоятельного мужа. — Кодзиро слегка поморщился. — Некоторые молодые женщины, кажется, любят гоняться за роскошью и в конце концов останавливают свой выбор на торговцах. Мой брат, будучи уже немолод, представлял собой довольно скучную пару для очаровательной молодой резвуньи. Но у него имелось два преимущества — деньги и жилье в столице. У ее отца, как я понимаю, на этот счет были гораздо более сложные мысли. Профессор Ясабуро, человек образованный, жил в весьма и весьма стесненных обстоятельствах — он едва сводил концы с концами, а о приданом для дочери даже речи не было. Разумеется, ему очень хотелось удачно пристроить ее. Вот так и вышло, что она стала жить в доме моего брата, и у меня появилась невестка. Сначала Нобуко мне очень понравилась. Она была мне почти ровесницей и оказалась очень талантлива в музыке. Когда я приезжал, мы играли на лютне и вместе пели, а мой брат любовался и слушал. — Лицо Кодзиро погрустнело. — Мой брат был глубоко привязан к Нобуко. Он души в ней не чаял, глаз от нее не мог оторвать, и я за него радовался. Но вскоре все изменилось. — Арестант загремел оковами и вздохнул. Им всем было неуютно стоять здесь, на этом грязном холодном полу, но Кодзиро, закованному в цепи и измученному болью, было хуже всех. Не в силах что-либо изменить, Акитада решил поторопить его с рассказом: — И что же изменилось? Кодзиро уныло отвечал: — Однажды моя невестка попросила меня заняться с ней любовью. Она утверждала, что мой брат больше не способен… доставить ей удовольствие и что из-за меня она потеряла сон. Я был потрясен такими признаниями и поскорее покинул дом брата. Я долго не появлялся там, пока брат не послал за мной. Рассказать ему о том, что случилось, я не мог. — Вы никогда не поддавались ее домогательствам? — Никогда. Я начал питать отвращение к этой женщине с того момента, когда она предложила мне предать брата. — Хмурый и тяжелый взгляд Кодзиро заставил Акитаду усомниться в его словах. — Я избегал ее как чумы. — Ага! — внезапно вмешался Кобэ. — Слышали мы уже это вранье! Если ты боялся ее как чумы, что же ты тогда поехал с ней путешествовать, а? И ни служанки не взяли, ни тетушки какой престарелой для сопровождения. Нет уж, я скажу тебе, как было на самом деле. Ты соблазнил жену брата, а когда дома разводить шашни было трудно, увозил ее в маленькие путешествия. Вот и в монастыре ты собирался хорошенько с ней поразвлечься. В первую же ночь вы оба напились, и ты убил ее. Может, по случайности, а может, она отказала тебе. Потом ты увидел, что натворил, испугался и искромсал ей лицо — чтобы ее не узнали и ты мог удрать. Только вот удрать-то тебе не удалось — вино тебя свалило. Глядя на Кобэ с презрением, Кодзиро сказал: — Ничего подобного я не делал. Не знаю вот только, как я оказался в ее комнате, но могу сказать точно, что не пил в монастыре ничего, кроме чая, и что заниматься любовью с женой брата не имел ни малейшего желания. Я поехал с ней в это путешествие, потому что брат сам попросил меня сопровождать ее. И я не мог отказаться, не объяснив причины. Ее служанка не поехала с нами, потому что в тот день сильно занедужила. Нобуко настаивала на поездке, и мой брат всячески ее поддерживал. Он может это подтвердить. — Да, уже подтвердил, — сказал Кобэ. — Как же ему не покрывать младшего братца?! Кодзиро испепелял взглядом Кобэ, и Акитада поспешил вмешаться: — Ваш брат сказал мне, что раньше вы любили хорошенько выпить. Он говорит, вы даже допивались до того, что не помнили, где были и что делали. Не могло ли так случиться, что это повторилось и в тот раз? — Я не отрицаю, что раньше сильно пил. Вино всегда действовало на меня крепче, чем на остальных, и бывало даже так, что я на несколько часов впадал в беспамятство. Только к тому времени, когда мой брат женился, я бросил пить. — Он помолчал. — Повторяю: в монастыре я не пил. По крайней мере не делал этого в сознательном состоянии. В любом случае это трудно было сделать, потому что с собой я не брал вина, а в монастырях, как известно, вина не подают. — Да, я уже думал об этом. — Акитада кивнул и переглянулся с Кобэ, который в ответ лишь насмешливо изогнул брови, словно бы говоря: «Да верь ты чему хочешь!» — Вы проводили время вместе с госпожой Нагаока после того, как вам показали ваши комнаты? — Нет! — Этот страстный ответ был исполнен горечи. — Я все время был у себя, разве что ненадолго отлучался в баню. Когда вернулся, выпил чаю и сразу же лег в постель, потому что очень устал. И это в общем-то все, что я помню. — Чаю? — удивился Акитада. — А я думал, монахи подают только воду. — В чайнике на маленькой жаровенке был чай, когда я вернулся из бани. Вообще-то я чай не люблю, а этот к тому же был очень горький, но я все равно выпил, потому что меня мучила жажда, а воды не было. Акитада снова переглянулся с Кобэ. Тот хмурился. — Вы сказали, что ничего не помните после того, как уснули в своей комнате. А сны у вас какие-нибудь были? Этот вопрос очень удивил Кодзиро. — Нет, — сказал он. — Но когда я проснулся, у меня было ощущение, будто я всю ночь напролет пьянствовал. В ушах стучало, голова трещала, перед глазами все плыло. И говорить я мог с трудом. Мне казалось, будто язык прищемило булыжником, а в рот насыпали песка. Вам же, наверное, сказали, что от меня несло винищем, а рядом стоял пустой кувшин. Я могу только предположить, что меня как-то «отключили» и уже бессознательного опоили вином. Кобэ сердито фыркнул. — Мы осматривали твою голову. Никто тебя не «отключал». Акитада задумчиво смотрел на арестанта. — А кто, по-вашему, мог убить вашу невестку и выставить убийцей вас? Лицо Кодзиро вытянулось. Он покачал головой: — Не знаю, господин. У меня нет никаких соображений на этот счет. Нас никто не знал там. Только привратник видел, как мы прибыли вместе. Но это был всего лишь старик, к тому же монах. Вы сами видели его. — Он сполз по стене, и лицо его вдруг осунулось и побледнело. Усталым голосом он сказал: — Я же предупреждал, что не знаю ничего и ничем не могу помочь следствию. — А брата своего вы не подозреваете в убийстве? Арестант одним рывком вскочил на ноги, гремя цепями. — Что вы такое говорите?! — крикнул он, сверкая глазами. — Моего брата там не было. И он любил ее до сумасшествия. Он никогда пальцем ее не тронул бы… и не стал бы выставлять убийцей меня! Если вы хотите переложить вину на моего брата, то я не стану вам помогать. Я лучше возьму все на себя. Кобэ вдруг сделался похожим на кота, поймавшего рыбку. — Ну что, Сугавара, вы закончили? — спросил он. Акитада кивнул и, обращаясь к Кодзиро, сказал: — Я постараюсь выяснить правду. Если виновным окажется ваш брат, то тут уж ничего не поделаешь. Вы провели много времени здесь, размышляя над тем, что произошло той ночью в монастыре. А теперь я хочу, чтобы вы подумали о вашей невестке. Все, что вам удастся вспомнить о ее жизни до и после замужества, может оказаться очень важным. Ее интересы, ее отношения с вашим братом и остальными домочадцами. Кодзиро открыл было рот, но Акитада остановил его взмахом руки. — Нет, не сейчас. Не надо спешить, отдохните. А я еще вернусь… если начальник полиции позволит. — Посмотрим, — уклончиво сказал Кобэ, отпирая дверь камеры. Акитада кивнул арестанту и повернулся к выходу. У него за спиной загремели кандалы, и хриплый голос сказал: — Спасибо, господин. Когда они шли обратно по коридорам, Акитада первым завел разговор: — Вы слышали, что он говорил. Конечно, его опоили. Тем самым чаем. Я беседовал с монахами, что обслуживают постояльцев. Они никогда не подают ничего, кроме воды. Кобэ хмыкнул. — А не приходил вам на ум кто-нибудь еще, у кого могли иметься мотивы убить госпожу Нагаока? — Никто, кроме ее мужа. Ведь как ни крути, а эта женщина исповедовала двойную мораль. — Знаю. Но я разговаривал с Нагаокой. Он был до странного равнодушен и не выказывал никаких эмоций по поводу ее смерти. Похоже, беспокойство у него вызывал только брат. Не исключено, что Нагаока подозревал их в тайной связи. Кобэ чуть склонил голову набок. — У меня только что промелькнула та же мысль. Известно вроде бы, что он был от нее без ума. Но тогда зачем защищать брата? Может, он хороший актер и умело притворяется? Почему бы вам не разобраться с этим? Акитаде вспомнилась маска, которую Нагаока вертел в руках в день его прихода. А что, если он знает тех актеров, выступавших в монастыре? Что, если он заплатил какому-нибудь полуголодному актеришке и поручил тому убить свою жену и выставить все так, будто это дело рук его брата? С Кобэ они расстались у ворот. Погода стояла все такая же хмурая. Плотные, низкие тучи нависали над городом. Сиротливые, одинокие снежинки нет-нет да и опускались на раскисшую дорогу и тут же таяли. Акитада с грустью думал о том, что ждет его дома.ГЛАВА 13 АКТЕРЫ И АКРОБАТЫ
— Гэнба! Тора решительно направился к небольшой кучке людей в конце зала. Обернувшись, Гэнба смотрел на него с изумлением. — Как ты сюда попал? — поинтересовался он далеко не дружелюбным тоном. На вопрос Тора не ответил, а первым делом поклонился восседавшей на своем «троне» госпоже Вишневый Цвет. — Прощу меня простить, госпожа, за то, что вмешиваюсь, — проговорил он, вкрадчиво улыбаясь. — Меня зовут Тора. А мой друг, как я вижу, пришел сюда раньше меня. Толстуха, обмахивая необъятную грудь веером, оглядела Тору с одобрением. — Зачем же извиняться? Добро пожаловать к нам, Тора. Что привело тебя сюда? — Ваша слава, госпожа. Я слышал о вас от одного крепкого парня, что содержит питейное заведение у реки. Его кличут Быком, и так уж случилось, что мы с ним земляки. Правда, он мало что мог рассказать мне о вас и о вашем заведении, вот я и отправился посмотреть своими глазами, несмотря на поздний час и метель. — Одарив толстуху обаятельной улыбкой, Тора прибавил: — И теперь, когда я здесь, поверьте, я ничуть не жалею, что пришел, и несказанно рад предстать пред ваши прекрасные очи! Гэнба презрительно хмыкнул, а госпожа Вишневый Цвет принялась кокетливо теребить красную ленточку в волосах. — Какой обходительный и любезный у тебя друг, Гэнба! — Голос ее звучал по-девичьи игриво, и она слегка шепелявила, но, присмотревшись получше, Тора окончательно убедился, что тетка изрядно пожила на свете. Лицо ее было разрисовано белилами и румянами, глаза обведены сажей, крошившейся и застревавшей в крошечных морщинках. Только вся эта краска да легкомысленное хихиканье и выдавали в ней акробатку прошлых лет. — Не тратьте на него время, госпожа Вишневый Цвет! — прогремел Гэнба. — Это же самый большой враль в городе! Госпожа Вишневый Цвет нахмурилась: — О-о!.. Да у вас разногласия! Как интересно ты о нем отзываешься! — прибавила она с ухмылкой. Гэнба покраснел и метнул на Тору сердитый взгляд. — Нет же, нет! Вы… меня не поняли, — пробормотал Гэнба. — Он не тот, за кого… — И он беспомощно замолчал. Но госпожа Вишневый Цвет уже не слушала его. — Итак, Тора, зачем же ты к нам пожаловал? Что привело тебя сюда? — спросила она, игриво помахивая веером. Тора посмотрел на Гэнбу, гадая, сколько тот уже успел выболтать за время своей горячечной влюбленности в эту женщину. Поджав губы и насупившись, Гэнба свирепо глазел на него. — Имеете в виду, помимо вашей прелестной особы? — уточнил Тора. — Вот глупый парень! — Она выставила вперед веер и кокетливо спряталась за ним. Тора едва не расхохотался в голос. — Ну… как я уже сказал, я тут недавно болтал с Быком да случайно возьми и обмолвись: вот, дескать, совсем утратил я сноровку… — Тора огляделся по сторонам, соображая на ходу, и взгляд его упал на стойку с бамбуковыми палками, — сноровку в палочной борьбе. Вот тогда-то он и упомянул ваше имя. Я, признаться, маленько удивился, что женщина заведует таким делом, но он сказал, что у вас лучший тренировочный зал в городе. Тогда я решил пойти посмотреть своими глазами. Ведь оно так редко бывает, чтобы и деловая хватка, и талант сочетались в такой прекрасной женщине. — Тора отвесил толстухе новый поклон. — Вообще-то я девушка, — поправила его госпожа Вишневый Цвет, теребя кудряшки на голове. — Одинокая девушка. — И она стрельнула в него глазками — посмотреть, какова будет реакция. Тора осклабился. — Да что вы говорите?! Ну что за слепцы эти мужчины! Что за дурачье, ей-богу! А может быть, их отпугивает ваш непревзойденный талант? Она хихикнула. — Вот льстец! Впрочем, не сказать, что ты не прав. Когда я выступала, работа занимала у меня все время. Любовь мешает тренировкам. Акробатам требуется такое же самообладание, как борцам или лучникам. Поэтому я предавалась воздержанию. Это было нелегко. Очень нелегко, потому как нрав-то у меня горячий. — Она вздохнула. — А в итоге карьера моя все-таки рухнула. В один прекрасный день, когда я выступала при дворе, был там такой мужчина о-очень высоких кровей… такой величавый красавец… Нет, ничего не стану больше говорить! Скажу только, что был он куда как настойчив! — Она заулыбалась и снова прикрыла лицо веером. — Ах вот оно что! — Тора закивал. — Ну а столь скромная персона, как я, может любоваться только со стороны тем, что так пылко возжелал сей родовитый красавец. — Так-то оно даже легче, подумал про себя Тора, бросая косые взгляды на молоденьких гимнасток, кувыркающихся в зале, среди которых вряд ли сыскалась бы хоть одна скромница. — Разумеется, — сказала госпожа Вишневый Цвет, выглядывая из-за веера. — Я женщина высоких принципов и занимаюсь уважаемым делом. Стараюсь быть примером для других. — Она махнула пухлой рукой в сторону резвящихся акробатов и танцоров. — Если ты пришел сюда потренироваться, то пожалуйста, но всяких там неприличностей я не потерплю. Понял? Тора застенчиво пообещал вести себя хорошо. Выражение лица ее смягчилось. Улыбаясь и теребя себя за локоны, она прибавила: — Беда вот только, что никто из этой деревенщины, что я беру на работу, не знает толка в палочном бою. Прямо хоть сама берись за палку. Ну а ты-то, конечно, не выступал? Тора слушал ее вполуха, соображая про себя, как бы завести разговор об актерах. — Не-е, я воевал. Раньше воевал. А теперь вот нанялся телохранителем и хочу быть в боевой форме. Госпожа Вишневый Цвет кивнула и задумчиво поджала губы. — Ну что ж, хорошее дело, — сказала она. — На улицах сейчас небезопасно. И для мужчин, и для женщин. Просто безобразие какое-то, что власти позволяют всякому отребью свободно разгуливать по городу. Ладно, Тора, я, пожалуй, возьму тебя, хотя палочные бои не по моей части. Будешь заниматься, ну, скажем, раз в неделю по часу. Сотня медью за один урок. Идет? Тора на мгновение утратил дар речи. Что же это такое получается? Уж не собирается ли эта рыхлая тетка учить его искусству палочного боя? Да еще за такие деньги! Представив себе, как он сойдется с этой громадиной на глазах у людей, он прямо-таки ужаснулся. Да над ним будет потешаться весь город! Но толстуха поняла его по-своему. — Ладно, ладно, — сказала она. — Подозреваю, что ты, как и все, не толстосум. Будешь платить мне полсотни медью, когда сможешь. — Она поднялась. — Как насчет небольшой пробной разминочки прямо сейчас? Тора в ужасе попятился. — Нет, нет! — отчаянно запротестовал он. — Вы очень добры, но я не смогу сражаться с вами сегодня. Вы так нарядно одеты! Ну а в другой раз почту за высокую честь. — Чепуха! — брякнула она и, развязав пояс, бросила его на пол. Проворное движение плеч — и черное шелковое кимоно, соскользнув, упало к ее лодыжкам. Как и девушки-акробатки, под платьем она носила только набедренную повязку. Женщина в синем кимоно с веерным узором подбежала и торопливо подобрала с пола одежду, аккуратно свернула ее и положила на кресло. Лица ее Тора не разглядел, зато от него не скрылись тонкая талия, округлые бедра и шелковистые длинные волосы, завязанные белым бантом. Служанка, на его взгляд, выглядела гораздо более аппетитной, чем ее хозяйка. Однако, опомнившись, он снова обратил взор на госпожу Вишневый Цвет. Маленький красный нагрудничек с бахромой, скрепленный с набедренной повязкой, не мог скрыть громадную грудь и живот невероятных размеров. Тора глазел на все эти «прелести», а их обладательница между тем вдруг подняла толстенную руку и содрала с наголо бритой головы кокетливо завитые кудряшки, оказавшиеся лакированным париком. Вручив его служанке, она шагнула вниз с помоста и прошлась мимо Торы со всей бесстрастностью борца-мужчины. Ее короткие ноги перерастали в огромные колышущиеся бедра; громадные ягодицы с ямочками подпирали широченную спину. Несмотря на пол, строение тела у нее было мужское. Тора посмотрел на Гэнбу, надеясь, что это зрелище излечило его от любовной лихорадки, но как бы не так — его дружок не сводил с толстухи восторженных глаз. Не обращая на них внимания, госпожа Вишневый Цвет выбрала на стойке две бамбуковые палки. Ту, что полегче, она бросила Торе и, приняв боевую позу, приказала: — Твой выпад! — Но, госпожа!.. — Никаких «но»! Чего ты ждешь? — отрезала она. В настоящем бою ты был бы уже мертв. — Госпожа Вишневый Цвет еще не договорила этих слов, как ее палка замелькала в воздухе, со свистом описав дугу вокруг головы Торы. Изумленно таращась на колышущиеся перед ним горы плоти, Тора запоздало и неуклюже парировал. — Медленно, — откомментировала она и наметила новый удар ему между ног. Тора подпрыгнул и на этот раз умудрился коснуться ее палки. Он начал наступать молниеносными движениями, атакуя ноги госпожи Вишневый Цвет и пытаясь заставить ее потерять равновесие. К его величайшему удивлению, она бросила палку и в мгновение ока, как пушинка, кувырнулась назад через голову, после чего приземлилась на пол с таким грохотом, что во всем зале задрожали доски. Из щелей между ними поднимались маленькие облачка пыли. Тора стоял потрясенный, открыв рот, когда она вдруг подхватила свой шест и сделала вращающийся выпад. На этот раз ей удалось зацепить его. Тора больно шмякнулся на задницу. Зал взорвался аплодисментами. Гэнба орал: — Превосходно! Какой блестящий выпад! А госпожа Вишневый Цвет раскланивалась перед зрителями. Тора еще пытался встать на ноги, когда она снова пошла в наступление. Мысленно выругавшись, он вынужден был взяться за оружие и изящно парировал. Следующие несколько минут она только и делала вызывающие броски, потому что Тора никак не мог заставить себя нападать на полуголую женщину — пришлось ему ограничиться защитными выпалами. В конце концов она приблизилась к нему так быстро и внезапно, что он оказался перед выбором — или перейти в наступление и дать ей напороться на его шест, или отказаться от боя. Тора предпочел последнее. Она встала в аккуратную стойку прямо перед ним, пыхтя и улыбаясь всем своим раскрасневшимся лицом. — Ага! Достаточно, как я вижу? — О да! — сказал Тора. — Вообще-то я не ожидал… то есть этот кувырок назад получился очень интересно, только я никогда прежде не видел, чтобы его использовали в палочном бою. Она забрала у него шест и вместе со своим поместила обратно в стойку. — А-а! Этот маленький прыжок? — сказала она через плечо. — Он из акробатики. Такие прыжки через голову я делала сотнями, и вверх и вниз по лестнице, и через всевозможные препятствия, которые люди выставляли на моем пути. Только, разумеется, я была тогда поменьше и помоложе и носила штанишки с рубашечкой, как мальчик. — Да-а… это надо было видеть! — сказал Тора, пытаясь представить, как эта огромная женщина могла вообще быть похожей на мальчика. — Но не боитесь ли вы, что такой трюк может сыграть с бойцом злую шутку во время настоящего сражения? Ведь вы же расстаетесь с оружием, чтобы сделать этот кувырок. Она между тем одевалась, туго стягивая пояс на пышных боках. — Думаю, надо поступать по обстоятельствам, — мудро заметила она. — Внезапность всегда срабатывает. Пока ты там стоял разинув рот, я успела взяться за палку и атаковать. Но даже если бы ты не опешил и продолжал бой, я бы перекатилась на колени и сделала бы бросок снизу. — Без палки? — Тора удивленно вытаращил глаза — Но это уже не палочный бой, а просто борьба. Она напялила парик на голову и снова уселась в кресло. — А не ты говорил, что собрался тренироваться для схваток с настоящими преступниками? Если ты видишь в этом только забаву, я тебе не соперник. — О-о… Ну вы… Вы просто сказочная женщина! — поспешил воскликнуть Тора. Она кивнула и указала ему на помост рядом с собой. — Вот, садись здесь. И мой тебе совет: разучи несколько нетипичных трюков. Впрочем, в обычной технике ты меня, возможно, превосходишь. Впечатленный против своей воли, Тора сел у нее в ногах. Общение с этой странной женщиной начисто выбило его из колеи. Небольшая толпа, собравшаяся посмотреть на бой, разошлась — смеясь и переговариваясь, акробаты и актеры вернулись к своим упражнениям. Остался только Гэнба. Выждав немного, он подошел и сел с другой стороны в ногах у госпожи Вишневый Цвет. Они сидели как друзья, наблюдая за тренировкой в зале. Бои на мечах возобновились; танцовщицы плавно и размеренно выписывали изящные фигуры; акробаты прыгали и кувыркались. Изумлению Торы не было конца, когда он увидел, как две миниатюрные девчушки поменялись ролями со своими партнерами и теперь сами лихо подхватывали тех на лету. Девушки казались Торе похожими как две капли воды — обе тонкие в талии, полногрудые и очень грациозные. Он все никак не мог решить, которая из них могла бы оказаться проворнее и слаще в постели. Сам-то он уже и припомнить не мог, когда последний раз предавался любовным утехам. И это огорчало его — ведь нормальный мужик должен быть всегда в форме. — Вон те четверо, наверное, акробаты? — поинтересовался он у госпожи Вишневый Цвет. Она оторвала взгляд от боя на мечах. — Да в общем-то нет. Они из труппы Уэмона. Просто сегодня у них тренировка. Тора оживился, мысли так и забегали в голове. — А я и не знал, что в таких труппах держат акробатов. Разве они участвуют в представлениях? — Нет. Эти четверо готовят отдельное выступление, чтобы труппа выручила побольше денег. Девушки эти — близнецы. Зовут их Злато и Серебро. Злато — это та, что с распущенными волосами, — еще куда ни шло, кое-что все-таки умеет. Но остальные!.. — Она небрежно махнула рукой. — Все только из-под палки. Беда с этой молодежью — ни дисциплины у них нет, ни терпения. Им подавай богатство сразу, безо всякого труда, а ведь на носу зимние ярмарки, акробаты ой как нужны — развлекать толпу. Денежки там получаются неплохие, вот они и кувыркаются на площадях, если нет представления. — Наверное, и по стране разъезжают? По монастырским ярмаркам? Госпожа Вишневый Цвет кивнула: — Да. Уэмон только что вернулся в столицу — давал представление каким-то монахам. Тора сокрушенно качал головой, глядя на почти обнаженных девиц. — И как только Уэмон разрешает им скакать в таком виде? Они же все-таки женщины… — А что плохого, если женщины выступают перед зрителями? Пусть выступают, если есть талант, — сердито буркнула госпожа Вишневый Цвет. — Ты просто рассуждаешь, как все остальные мужчины! И Уэмон туда же, старый крючок. А ну его! Плевать мне, что он думает о женщинах. Говорит, что акробатика — занятие непочтенное, а сам вставил в свое представление несколько номеров с этими вот попрыгунчиками. Народу нравится. — Она обиженно фыркнула. — Ишь ты! Непочтенное!.. Пусть тогда идет руководить представлениями при дворе. — А все остальные здесь тоже работают у Уэмона? Госпожа Вишневый Цвет кивнула. — Женщины в основном поют и танцуют. А вон тот красивый парень с мечом — это Дандзюро. Лучший актер в труппе Уэмона. Довольный тем, что дернул за нужную ниточку, Тора перевел взгляд на двух бойцов с мечами. Теперь ему стало понятно, зачем они так глупо подпрыгивают и вопят, размахивая мечами. Ведь все это оказалось актерской игрой. Дандзюро явно изображал героя, а его соперник, широколицый бородач, — уличного злодея. Получалось у них и впрямь неплохо, особенно в том месте, где злодей, надеясь при помощи нечестного приема разоружить красавца, бросился на Дандзюро с мечом наголо. Дандзюро в последний момент отпрыгнул в сторону, схватил злодея прямо в полете и отшвырнул его, словно мешок с рисом. Потом, вырвав у злодея из руки меч, вонзил его в живот соперника. Тора даже привстал в страхе, но оба актера рассмеялись, подобрали свои мечи и ушли с арены. — Ну и ну! Вот это было здорово! — восхищенно воскликнул Тора. — Этот Дандзюро на вид не особо-то крепкий, но, видать, силен, если может подхватить и швырнуть наземь мужчину своего роста. Госпожа Вишневый Цвет поджала губки. — Да, силен. И очень хороший актер. Труппа Уэмона и в частных домах дает представления. Эти слова она произнесла как бы неохотно, и Тора поспешил полюбопытствовать: — А разве что-то с ним не так? Госпожа Вишневый Цвет усмехнулась: — Слишком смазливый уродился! Женщины так и бросаются на него, дурочки. Тора теперь уже с интересом изучал актера. Стало быть, этот парень известен как сердцеед. Может, и госпожа Вишневый Цвет неравнодушна к нему? Как дамский любимец Дандзюро не произвел на Тору впечатления. Стройный и мускулистый, он, похоже, отличался живостью и проворством, но это гладкое, мягкое лицо с круглыми глазами явно больше подходило женщине, а уж про его умение обращаться с мечом и говорить нечего!.. — Может, актер он и хороший, но по-настоящему сразиться на мечах не сумел бы, — презрительно заметил Тора. Госпожа Вишневый Цвет фыркнула: — Они ведь только изображают бой на мечах. Но ты прав: с такой смазливой бабьей физиономией на мечах не дерутся, а? — Она наклонилась и обняла Тору за плечи. — А я вот подозреваю, что и ты большой умелец потискаться. Жена-то у тебя есть или девчонка? Тора метнул взгляд на Гэнбу, у которого эти панибратские нежности вызвали бледность. — Пока не успел обзавестись, — непринужденно сказал он, лихорадочно соображая, как бы ему поскорее вырваться из объятий госпожи Вишневый Цвет. Его совсем не тянуло к этой женщине, которая, похоже, уже начала строить планы на его счет. К тому же ему не терпелось побеседовать с кем-нибудь из актеров. А при случае, может быть, и из актрис. Госпожа Вишневый Цвет захихикала и снова взялась щупать его. — Э-эх, моложе-то никто не становится! Лучше всего смириться с этим. — А этот Дандзюро, видать, и со здешними девчонками порезвиться не промах? — Взглядом знатока Тора окинул девушек из труппы Уэмона. Среди них была одна очень миловидная, высокая, она сейчас о чем-то шепталась со служанкой госпожи Вишневый Цвет. Лица последней Тора по-прежнему никак не мог разглядеть, но фигурка у нее была как у танцовщицы. Близняшка с распущенными волосами, поймав его восхищенный взгляд, одарила его обаятельной улыбкой. Он заулыбался ей в ответ, но тут же припомнил, каким именем она себя наградила — Злато. — Теперь уже нет, — ответила госпожа Вишневый Цвет. — Старый Уэмон положил конец этим шашням. Так и сказал ему: либо угомонись, либо выметайся из труппы. Вот он и остепенился — женился и на других женщин больше не поглядывает. Тора еще раз обменялся теплыми взглядами с юной акробаткой и поднялся. — Хочу представиться остальным, — сказал он госпоже Вишневый Цвет. — Ведь если я собираюсь приходить сюда на занятия, мне так или иначе придется со всеми познакомиться. Акробаты только что начали новую серию пируэтов, поэтому Тора направился в конец зала, чтобы получше разглядеть танцовщицу и служанку. Служанка тут же куда-то суетливо убежала, а вот танцовщица оказалась настоящей красавицей. Тора раскланялся, но она презрительно отворачивала лицо. Задетый за живое, он тогда попробовал пробрать ее сладкими словами насчет ее фигуры, но тут кто-то больно схватил его сзади за плечо. Тора дернулся и обернулся. — А ну вали отсюда! — рявкнул на него актер Дандзюро. Тора стряхнул с плеча его руку и, свирепо сверкая глазами, огрызнулся: — А тебе-то что за дело? Дандзюро был с ним одного роста и, возможно, сильнее. Теперь, рассмотрев парня поближе, Тора не смог бы сказать, что тот понравился ему больше. Лицо странным образом сочетало в себе мужскую заносчивость и женскую капризность. Взгляд его был враждебным, но больно уж мягковат, губы — слишком пухлые и красные, а кожа — слишком белая и гладкая для мужчины. — Ты докучаешь даме. И говорил-то он, как школьный учитель. Для актера Дандзюро был явно слишком высокомерен и сильно важничал. Ведь танцовщики и актеры принадлежали к самому низшему сословию и частенько имели дурную репутацию. Тора фыркнул. — Какой еще даме? Я просто говорил комплименты одной из танцовщиц. Они, как известно, большие любительницы порезвиться на стороне. В одно мгновение красавица налетела на него и плюнула ему в лицо. — С-собака! — прошипела она. — Как ты смеешь оскорблять меня?! — Да ладно, не обращай внимания на этого невежу и бездельника, — сказал Дандзюро. Тогда она повернулась к нему: — А ты тогда кто, если позволяешь этой деревенщине оскорблять меня?! Какой спесивой сучкой оказалась эта красотка! Мужской интерес к ней у Торы разом пропал, и он только понадеялся, что Дандзюро когда-нибудь все-таки обломает и приструнит ее. Он отер рукавом лицо и смерил актера недобрым взглядом. — Он, похоже, считает себя советником-кампаку, ну а ты, милая, возомнила себя не иначе как божественной девой Камо! Актер смерил его надменным взглядом. — Я Дандзюро, — сказал он, словно это что-то объясняло, — и ты только что оскорбил мою жену. Твое невежество относительно статуса актеров некоторым образом извиняет твое поведение, но я настоятельно советую тебе не лезть туда, где тебе не место. Купи себе билет на представление, если, конечно, деньги найдутся. — С этими словами он повернулся к Торе спиной и повел жену прочь. Разом вскипев, Тора крикнул ему вслед: — К твоему сведению, я в людях разбираюсь очень хорошо! Когда имеешь дело с преступниками, то очень быстро можешь раскусить мошенника. Такая уж у меня работа. Супруги обернулись, и Дандзюро холодно сказал: — Ну что ж, чем бы ты там ни занимался, только оставь нас в покое! Довольный тем, что победа в стычке осталась за ним, Тора направился в другой конец зала к акробатам. Те устроили себе перерыв. Надеясь получить здесь более теплый прием, Тора подошел к девушке, что недавно улыбалась ему. — Слышь, сестричка, с тобой-то хоть можно поговорить? — осторожно поинтересовался Тора. Она сидела на полу, скрестив ноги и задрав руки, чтобы поправить волосы. С улыбкой знатока Тора восхищенно загляделся на ее упругую грудь. Ничуть не смутившись, она улыбнулась в ответ и сказала: — Конечно, красавчик. Я видела твой бой с госпожой Вишневый Цвет. Ты молодец. Тора присел рядом. — И ты. Я тоже смотрел, как ты работаешь. Признаться честно, глаз от тебя оторвать не мог. Меня зовут Тора. Она издала горлом кокетливо-урчащий звук. — Ага! Значит, Тигр? Ну что ж, мне нравится. А меня зовут Злато. — Тебе идет это имя. Редкая и дорогостоящая — настоящее богатство, какого только может желать мужчина. — Он придвинулся ближе. Такие слова она, несомненно, слышала уже много раз и все же хихикнула и игриво захлопала ресницами. — И что же привело тебя сюда, Тигр? — Ну-у… я, видишь ли, искал место для тренировок. — А чем ты занимаешься? — Нанимаюсь в охранники к богатым трусам. Глаза ее расширились. — А это не опасно? Тора рассмеялся. — Нет. Если ты хорошо знаешь свое дело. Признаться, твоя работа кажется мне более опасной. — Ну, это только если ты допустишь промах или твой партнер допустит, тогда, конечно, сломаешь себе что-нибудь. Поболит немножко, не сможешь какое-то время работать, вот и все. А потом снова впрягайся — деньги-то нужны. — Но ты же на самом деле актриса. Так ведь? Она кивнула без особого восторга. — Раньше мне нравилась актерская работа, но времена меняются. Учитель Уэмон вообше-то хороший, только старый он стал и занялся теперь устройством представлений для этого ублюдка Дандзюро. — Она сверкнула глазками в другой конец зала, и Тора проследил за ее взглядом. Актер стоял там, разговаривая со своей женой и глядя в их сторону. — Вообразил, что небеса наделили его талантом. А жена его настоящая сучка. Я видела, как она плюнула в тебя. И что ты ей такое сказал? Тора подумал, прежде чем ответить. — Я спросил ее, как давно она танцует, потому что мне показалось, она немного неуклюже двигается. Злато звонко расхохоталась, но тут же приумолкла, прикрыв ротик ладошкой. Дандзюро и его красавица жена все еще хмуро смотрели в их сторону. — Это ты верно подметил, — сказала девушка. — Она у нас новенькая, только учится, но вообразила себе, что может командовать нами, потому что такая красивая и потому что замужем за Дандзюро. А с тех пор как она получила наследство, и вовсе худо стало. Помыкает своим Дандзюро как хочет и все грозится выкупить у Уэмона труппу. Понять только не могу, зачем Дандзюро подобрал себе такую — мог ведь найти себе милую, ласковую девушку, которая пылинки с него сдувала бы. Тора нахмурился. — Тебя, что ли? — Дурак! — огрызнулась она и вдруг вытаращила глазки. — Ух ты! Смотри, сюда идет! Да с таким видом, будто сам бог-громовержец. Сдается мне, натравила она его на тебя. Лучше тебе уйти. Не связывайся. Дандзюро и впрямь деловито направлялся к ним. Тора поспешно вскочил. — Как бы мне повидаться с тобой еще разок? — сказал он девушке. Она выглядела испуганной. — Встретимся в переулке на задворках. Как только мне удастся ускользнуть, — прошептала она. Тора чинно раскланялся перед ней и громко сказал: — Рад был познакомиться с вами, госпожа Злато. С нетерпением жду вашего представления. — И он зашагал прочь. За спиной он услышал грозный голос Дандзюро: — Чего он хотел от тебя? Что ответила Злато, Тора не расслышал, зато до него донеслись слова Дандзюро: — Про наши дела помалкивай, или я вышвырну тебя отсюда! Тора еще некоторое время слонялся по залу, размышляя о случившемся. Он пробовал подойти к другим актерам из труппы Уэмона, но все они слышали, как Дандзюро отчитывал Злато. Они сразу же отворачивались или уходили, торопливо извиняясь. Что-то подозрительное и не очень хорошее происходило между этими людьми. В конечном счете Тора вернулся к Гэнбе и госпоже Вишневый Цвет. — Уже поздно, и мне пора, — сказал он даме. — Спасибо за бой и за то, что разрешили тут осмотреться. Она подмигнула. — Возвращайся поскорее, красавчик! Тора внутренне содрогнулся, но сумел не показать виду и согласился, потом повернулся к Гэнбе: — Ну что, готов? Пошли! Гэнба хмурился. — Нет. Тора кивнул. Гэнба вел себя как последний дурак, но это было его личное дело, а у Торы еще были свои дела. На улице по-прежнему мело, но уже не так сильно, и снежинки теперь падали крупные и мокрые. Тора угрюмо смотрел на них. Ветер слегка улегся, но ночка явно не подходила для любовных шашней на темных задворках. Переулок оказался узким проходом, затерявшимся между глухими стенами домов, вдоль которых валялись груды всякого мусора. В полутьме он разглядел несколько тесных дверок. Впереди что-то шевельнулось. Темная тень отделилась от черной стены здания. — Тсс… Тора! — тихонько окликнула его Злато, ежась от холода и кутаясь во что-то теплое. У меня совсем мало времени, — прошептала она. — Дандзюро совсем сбрендил — он думает, ты полицейский. — Нет, я не полицейский. Но почему ты позволяешь ему командовать тобой? — проворчал Тора, сгребая в охапку дрожащую девушку. Она прильнула к нему. — Знаешь, как трудно найти новую работу? А у труппы Уэмона хорошая репутация. Тора вздумал просунуть руку к ней под покрывало и сразу же нащупал голое тело. — Где ты живешь? — хрипло прошептал он ей на ухо. — Здесь такой холод! — А ну пусти! — Она оттолкнула его руку и поправила на себе одежду, строго глядя на него. — Зря ты так, — обиженно сказала она. — Я тебе не какая-нибудь шлюха. Тора пристыженно потупился. — Прости… Это все потому, что ты и в самом деле очень хороша… Просто не удержался. Никак у меня из головы не идет твое гибкое тело. Все вспоминаю, как ты там кувыркалась и прыгала. — Он сглотнул ком в горле и вперил в нее умоляющий взгляд. — Вовсе не хотел тебя обидеть. Просто, знаешь… так и хочется дотронуться до тебя и… — Он замолчал и протянул руку, чтобы убрать с ее лица выбившуюся прядь. Она не отпрянула и не оттолкнула его, тогда он нежно провел пальцем по ее лицу. — Ты самая чудесная девушка, какую я когда-либо встречал. Она замерла, глаза ее сияли на сумрачном фоне падающего снега, губы слегка подрагивали. — Ох, Тора! — пробормотала она и вдруг бросилась обратно в его объятия и прошептала: — Я тоже хочу тебя. Некоторое время они страстно обнимались, потом Тора нетерпеливо спросил: — Куда бы нам пойти? Она совсем расстроилась. — Не знаю. Мне нужно вернуться вместе со всеми в нашу гостиницу, иначе будут неприятности. — А что за гостиница? — «Золотая птица». Это около ворот Расёмон. Но тебе нельзя туда. За нами знаешь как приглядывают! Ну что ж, с этим, видимо, придется подождать. Тора мысленно выругался и убрал руку у нее из-за пазухи, пытаясь совладать со своим мужским инстинктом. — А завтра встретимся? — спросил он. — Может быть. А где? — У меня есть надежная женщина в веселом квартале. — Он сразу же почувствовал, как она вся напряглась, поэтому поспешил поправиться: — Да нет, ты не то подумала. Просто однажды я оказал ей услугу, так что она без разговоров предоставит нам комнату у себя. Я понимаю, тебе не хотелось бы идти в такое место, но пока это лучшее, что я могу предложить. Я ведь не богач. — Хорошо, Тора, — прошептала она, уткнувшись личиком в его шею и нежно ее целуя. Он тихонько застонал и снова просунул руку к ней под одежду, как вдруг послышался громкий скрип ржавых петель. Она замерла и отпрянула от него. Из двери учебного зала высунулась голова, и тихий голос позвал: — Злато, это ты? Дандзюро и остальные уже собрались уходить! Девушка крикнула в ответ: — Иду! — и прошептала Торе: — Это служанка госпожи Вишневый Цвет. Мне надо идти. Так, значит, завтра в это же время? А где встретимся? Тора нырнул за огромную кучу хлама, увлекая за собой девушку, и там снова бросился страстно ее обнимать. Потом он прошептал ей на ухо, куда прийти, и отпустил. Она скрылась в помещении, но дверь осталась открытой. Тора ждал, наблюдая из-за поленницы, но ничего не происходило. Тогда он осторожно заглянул в открытую дверь. Со своего места он мог разглядеть только краешек синего кимоно с веерным узором. Миловидная служанка госпожи Вишневый Цвет все еще стояла там. Выслеживала его? Зачем? Тора всегда знал, что нравится женщинам, и был убежден, что все происходящее непременно должно как-то разнообразить его жизнь. Крадучись он вышел из тени и бросился к двери. Распахнув ее, он схватил девицу и увлек ее наружу, первым делом закрыв ей рот ладонью. Она отчаянно сопротивлялась. — Тсс… — прошептал он ей на ухо. — Не кричи. Это я. Я не намерен сделать тебе ничего дурного, голубка моя. Просто хочу поговорить. Зачем такой милашке, как ты, шпионить за другими девушками? Она прекратила сопротивляться. Он уже хотел убрать руку от ее рта, когда она больно укусила его. Выругавшись, он отпустил ее. Она тут же бросилась в дом, но перед тем, как за ней захлопнулась дверь, Тора в последнюю секунду наконец увидел ее лицо. Увидел и в ужасе отшатнулся.ГЛАВА 14 ВКУС ПЕПЛА
Когда Акитада вошел в свой кабинет, первое, что он увидел, это приземистую круглую фигуру своего зятя — восседая на подушке возле письменного стола, тот беззаботно потягивал саке. При виде Акитады Тосикагэ тут же придал лицу должную серьезность. — Здравствуйте, братец! — сказал он с поклоном. — Надеюсь, вы не возражаете, что я ждал вас в этой комнате? Сэймэй принес мне горячего саке. Вот, пожалуйста, выпейте — согреетесь. — Здравствуйте, Тосикагэ. — Акитада пощупал свои уши и лицо. Они были ледяные. Задумавшись о своих семейных проблемах, он совсем забыл поднять воротник. Он развязал тесемочки и снял шапку, потом погрел руки у жаровни и приложил их к ушам. От холода у него разболелась голова. — Вы всегда здесь желанный гость, братец, — сказал он Тосикагэ, который поспешил наполнить для него чарку. Акитаде вообще-то уже давно нравился зять, но сегодня его присутствие здесь он расценивал как настоящее бедствие — из-за угрозы ухода Ёсико. Сестра явно не шутила, а он только чувствовал полную беспомощность. Его торжественная решимость заботиться о семье улетучилась после первой же неудачи. Тосикагэ протянул ему чарку. Ахитада заставил себя улыбнуться и выпил. Тосикагэ оказался прав. Вино приятно обволокло язык и зажгло пожар в желудке. Он сразу же почувствовал себя гораздо лучше. Весь день он пробыл в невероятном напряжении, словно натянутый лук, боясь потерять самообладание. Потирая виски, он ждал, когда ослабнет головная боль. А между тем Тосикагэ, внимательно заглядывая ему в лицо, начал: — Мы пришли сразу же, как только получили послание от Тамако. Так что же говорит начальник полиции? — Ого! Вы привели Акико? — Только теперь до Акитады дошел смысл слов Тосикагэ, и он буквально потерял дар речи. Тамако сама послала за ними?! Подумать только, она приняла сторону Ёсико и, действуя у него за спиной, послала за Тосикагэ и Акико. Все три женщины наверняка и сейчас вместе — собирают вещи Ёсико и обсуждают ее предстоящую жизнь в доме Тосикагэ. От этих мыслей его даже слегка замутило. Между собой эта троица наделила его не иначе как ролью чудовища. Тосикагэ обеспокоился, заметив столь мрачное выражение на лице Акитады. — Что случилось? Дурные новости? Неужели ее все-таки арестуют? Но это же возмутительно! Мы должны остановить его! Вот что я вам скажу: я пойду к главному советнику Кударе. Он является членом Государственного совета и отстаивает там привилегии высших сословий. Он только скажет этому Кобэ пару слов, и Ёсико сразу же окажется дома. Акитада оценил участие зятя, но все же он предпочитал другие методы. У него не было ни малейшего желания одалживаться перед одним из сильных мира сего. Такие услуги имели свою цену, и ценой этой слишком часто оказывалась цельность человеческой личности. Он поспешил успокоить Тосикагэ: — Нет, ну что вы, все далеко не так ужасно. Мне удалось избежать самого худшего, отдавшись на милость Кобэ. — Он поморщился при воспоминании о том мучительном шаге, который ему пришлось сделать. Видя вопросительно приподнятые брови Тосикагэ, Акитада признался: — Я сомневаюсь, что им руководило милосердие. Ситуация была откровенно унизительная. Тосикагэ взорвался: — Этот человек слишком много на себя берет! — Да, мы с ним тоже никак не можем поладить, потому что он считает, что я вмешиваюсь в его дела. В данном случае он подумал, что я наконец перешел все границы дозволенного и тайком передавал послания и наставления заключенному, ожидающему суда. Тамако уже рассказала вам историю Ёсико? Тосикагэ смущенно заерзал. — Да-а… то есть я так понял, что этот Кодзиро когда-то был ее ухажером, и она ходила навещать его в тюрьму. — Совершенно верно. И ходила неоднократно. Но хуже всего другое — она, похоже, по уши влюблена в этого человека. Он совершенно ей не пара, однако она собирается выйти за него замуж, как только его оправдают. Разумеется, я запретил ей делать это. Хмыкнув, Тосикагэ кивнул, стараясь не смотреть в глаза Акитаде и смущенно ерзая. Наблюдая за его реакцией, Акитада не надеялся, что зять примет его сторону, однако решил довести разговор до конца. — Она отказалась повиноваться мне и сообщила, что уйдет из этого дома. И вы, надо полагать, затем сюда и явились — чтобы забрать ее. Зять вперил в него изумленный взгляд. — Боже, да нет, конечно! Я пришел предложить вам поддержку и помощь в разбирательствах с этими высшими полицейскими чинами. Я и понятия не имел, что дела у вас так плохи. Она что же, уходит? Ну надо же, я ведь совсем не хотел встревать между вами! — Он замолчал, переваривая услышанное, потом сокрушенно покачал головой. — Нет, ну надо же! Не одно, так другое! Я только что уладил собственные неприятности, как у вас тут такое началось! Но мой дорогой Акитада, ведь вы же глава семьи, и она должна подчиняться вам! Что я, по-вашему, должен сделать? Я целиком и полностью к вашим услугам. — Благодарю вас. — Акитада испытал облегчение. По крайней мере хотя бы Тосикагэ признал его главой семьи и готов был поддержать его против женской стороны. — Я хочу, чтобы Ёсико осталась здесь, — сказал он. — Но я не могу заставить ее, я могу только увещевать, поэтому при самом худшем исходе я был бы вам очень благодарен, если бы вы предложили ей свой кров. — Ну конечно! Она же сестра Акико, и я очень люблю ее. — Кстати, как Акико? Тосикагэ просиял. — Акико прямо-таки цветет! В свете ваших неприятностей мне даже стыдно признаться, что в доме у меня теперь царит счастье, как никогда. И представляете, эта история с пропавшими ценностями как-то сама собой разрешилась. И зачем только я, дурак, вас побеспокоил! Все пропажи вернулись на место. Это была просто какая-то глупая оплошность. И я ужасно рад, что вам не пришлось вмешиваться. Значит, сын Тосикагэ умудрился-таки вернуть все предметы на место, не вызвав подозрения у отца. Акитада изобразил неведение. — Вот как? И где же вы нашли их? — Ха-а… Да это все мой безалаберный сынок! Он начисто забыл, что мы, оказывается, отправляли их в чистку вместе с другими ценностями. Такэнори следовало вычеркнуть их из списка. Мастеровой, что делает для нас эту работу, доставил все остальные предметы еще в прошлом месяце, а эти принес только вчера. Теперь все, слава Богу, на месте. Конечно, за такие вещи отвечаю я, но Такэнори пошел к нашему начальнику, распластался перед ним ниц и признался в своей чудовищной оплошности. Начальник наш проявил понимание. Вот ведь глупый мальчишка! Конечно, ему следовало быть повнимательней, но я, честно говоря, был потрясен его поведением. Все-таки, должен признаться, я в последнее время навалил на него слишком непосильную ношу. — Лицо Тосикагэ залучилось радостью. — А есть еще новости и получше. Я придумал, как вернуть его брата Тадаминэ домой навсегда. В императорской гвардии в начале будущего года появится несколько свободных мест, так что если его тянет к военному делу, то пусть занимается этим здесь. Что вы думаете по этому поводу? Стараясь скрыть улыбку, Акитада сказал, что считает это решение идеальным. В глубине души он подозревал, что юный Такэнори обладает недюжинными скрытыми талантами для политической карьеры. Судя по всему, ему без труда удалось убедить Тосикагэ, что обе идеи — и насчет чистки ценностей, и насчет удачного назначения брата — целиком и полностью принадлежат отцу. Тосикагэ довольно потирал руки. — Нет, вы только подумайте, как это прекрасно! Скоро оба моих мальчика будут рядом со мной, и еще один малютка на подходе. — Он буквально светился счастьем. Подавив грустный вздох, Акитада поздравил его с удачей и налил еще по чарке, чтобы выпить за хорошие новости. Тосикагэ вспомнил о причине своего прихода, и лицо его несколько омрачилось. — Простите меня, братец! Мне стыдно, что я перевел разговор на столь веселую тему. Так что же сказал Кобэ? Акитада поморщился. — Он посочувствовал мне как человеку, чья сестра опозорила семью, выразив готовность выйти замуж за крестьянина, арестованного за изнасилование и убийство собственной невестки. Тосикагэ едва не потерял дар речи. — Но она, конечно же, не делала этого! — Она это сделала. Только таким способом ей удалось проникнуть к нему в камеру. Женам заключенных разрешается приносить еду мужьям. — Ай-ай-ай! Ну и ну! Как же вы, должно быть, были сердиты! Вы побили ее? Акитада прямо-таки опешил от этих слов. Ему никогда не пришло бы в голову ударить сестру или любую другую женщину, и от только что услышанного ему стало слегка не по себе. — Разумеется, нет, — сказал он. — К тому же она взрослая женщина. Тосикагэ покачал головой, укоризненно помахав пальцем. — Да все женщины все равно что дети. Это ж надо такое устроить! Я преклоняюсь перед вашей выдержкой, дорогой мой Акитада. Я бы обязательно поколотил сынка, если бы он меня так опозорил. — Сына. Но не дочь и не сестру. — «И надеюсь, не жену», — подумал про себя Акитада. Угадав его мысли, Тосикагэ усмехнулся: — Ну, может, просто не так сильно. К женщинам нельзя подходить с теми же мерками, что и к мужчинам. — Он вздохнул. — Но подумать только, какая все-таки неприятность! И что вы собираетесь делать? — Конечно, Ёсико запретят дальнейшее общение с заключенным. Зато Кобэ согласился на мое участие в расследовании на определенных условиях. Я буду работать под его руководством. — Ох-ох-ох!.. — сокрушенно забормотал Тосикагэ, снова качая головой. — Это с вашим-то чином! Какая стыдоба! Акитада почувствовал, что краснеет. — У меня нет выбора. Репутация моей сестры в руках Кобэ и этого человека. Она рухнет, скажи один из них только слово. В сущности, если я не очищу Кодзиро от подозрений в убийстве, моя сестра скорее всего вряд ли сможет появиться с гордо поднятой головой в приличном обществе. — О Боже! — воскликнул Тосикагэ и тут же умолк, не зная, что сказать. Оба задумались. Сплетни распространялись в обществе со скоростью молнии, и скандал, в котором была замешана сестра жены, обязательно коснулся бы и семьи Тосикагэ. Однако Акитада с удивлением обнаружил, что Тосикагэ думает вовсе не о себе. — Бедная девочка! — пробормотал он. — Мы любой ценой должны оградить ее. А что за человек этот Кодзиро? Вы все-таки склонны считать его виновным? Не использовал ли он Ёсико, чтобы выгородить себя? — Я совершенно точно уверен, что он не виновен ни в том, ни в другом, — ответил Акитада на вопрос, беспокоивший его с тех пор, как он повидался с заключенным. — Я даже не знаю, почему я так в этом уверен. Этот парень, признаться, удивил меня. Прежде всего своей образованностью. Вел себя вполне благородно. Во всех отношениях, и прежде всего во всем, что касалось Ёсико. Он пытался выгородить ее. Разумеется, Кобэ ему не верил. В общем, я питал к нему благосклонность, пока не выяснил, что он, оказывается, вообразил, будто Ёсико попросила меня помочь ему. Вот тогда, боюсь, я порядком вспылил — меня возмутила эта наивная мысль, что я якобы мог поддерживать их взаимоотношения. Я быстренько постарался внушить и ему, и Кобэ, что это вовсе не так. Ну а после этого Кодзиро совсем стушевался. — Но вы все-таки постараетесь снять с него подозрения? Акитада кивнул. — Он отрицает, что у него была любовная связь с невесткой, и я ему верю. Я также верю в его искренние чувства к Ёсико. Его брат рассказал мне, что Кодзиро начал пить после какой-то любовной неудачи. Я думаю, это как раз и были его отвергнутые ухаживания за Ёсико. Глаза Тосикагэ слегка заволоклись слезливой пеленой. — Боже! Зная непреклонную решительность вашей матушки, могу себе представить, как это, должно быть, было болезненно. Поистине романтическая история. Жаль, что вы недолюбливаете этого парня. Ахитада удивленно изогнул брови и сухо сказал: — Мой дорогой Тосикагэ, дело отнюдь не в том, люблю я кого-то или недолюбливаю, а в том, что он простолюдин. — Ах, ну да, конечно. Я и забыл! Акитада был слегка раздражен. — Возвращаясь к этому убийству, скажу: вся эта история с Кодзиро наводит на мысль, что его чем-то опоили. Во время своего пребывания в монастыре я заметил, что монахи подают постояльцам только воду, но Кодзиро утверждает, что ему был приготовлен чай. Поскольку его мучила жажда, он выпил чай и моментально уснул. Когда монахи разбудили его, он обнаружил, что находится в комнате своей невестки. До сегодняшнего дня он так и не понял, как попал туда. Он говорит, что голова у него трещала и что кто-то влил в него целый кувшин вина, отчего все и решили, будто он пьян. Он и сам-то поначалу так же подумал, вспомнив про отключки сознания, которыми страдал, когда сильно пил. Вино действует на него хуже, чем на других людей. Но он утверждает, что завязал с пьянством, и я склонен верить ему. В любом случае теперь понятно, почему он сначала сознался в якобы содеянном преступлении, а потом изменил свои показания. Я думаю, в чай было что-то подмешано. Его от природы горьковатый вкус может заслонить собой вкус любого снотворного порошка. — Ну конечно! И какой вы молодец, что пришли к этому выводу! — Тосикагэ помедлил в задумчивости. — Но разве дверь не была заперта изнутри? — Эти двери, захлопываясь, запираются сами. Постояльцев обычно просят, уходя, оставлять двери открытыми, но у монахов есть запасные ключи на случай, если кто-то забудет. — У монахов есть ключи?! Но это означает, что кто-то из монахов как раз и мог быть убийцей. — Да. — Акитаду удивила такая проницательность зятя. Ее он совсем не ожидал от Тосикагэ, проявившего полную беспомощность во время собственных недавних неприятностей. — Совершенно верно. Кто-то из монахов или кто-то, кто знал, где хранятся ключи. И я склонен подозревать, что всему причиной явилась исключительно похоть и не более того. Кто-то желал ей смерти. — Кто же? Муж? — Может быть. — Акитада охотно делился с зятем своими мыслями — ему требовался слушатель, способный делать замечания по поводу его версий. — Нагаоки не было дома в ночь убийства. И Кобэ взял на заметку эту мысль. Зять Акитады усмехнулся: — Ага! Так-то оно лучше! — Но Ёсико не станет легче, если ее имя будет связано с братом убийцы. Между прочим, Кодзиро угрожал снова сознаться во всем, если мы обвиним Нагаоку. Он, как выяснилось, очень привязан к брату. — Акитада поморщился. — И я, знаете ли, затрудняюсь допустить, что Нагаока мог так жестоко поступить со своим младшим братом. — Мой дорогой Акитада, разве вы не знаете, как часто имеют место в жизни случаи братоубийства? В комнату вошел Сэймэй с новой флягой горячего вина. Виновато откашлявшись, он сказал: — Дамы просили меня передать вам, что с волнением ждут возможности послушать, что произошло в тюрьме. Акитада встал. — Да, конечно. Я совсем забыл. Думаю, нам лучше пойти прямо сейчас. — Он вздохнул. Голова по-прежнему раскалывалась от боли, и предстоящая беседа ужасала его. Сэймэй последовал за ними, неся вино и прихватив чарки. На первый взгляд это сугубо женское сборище выглядело вполне милым и абсолютно нормальным. В красивых шелковых кимоно, хотя и темных по причине траура, они уютно сидели вокруг большой жаровни. Но их лица, обращенные навстречу вошедшим мужчинам, были отнюдь не радостными. Акико, похоже, была рассержена, Ёсико чудовищно бледна, и синеватые круги под припухшими покрасневшими глазами придавали еще более несчастный вид ее и без того жалкой наружности. Акитада торопливо перевел взгляд на Тамако. Ее обычно умиротворенное лицо было напряжено и сурово. Сердцем Акитада почуял неладное. Чувствуя себя виноватым за то, что засиделся с Тосикагэ, он принялся, запинаясь, извиняться: — Простите меня, но мы обсуждали дело брата Нагаоки. — Произнеся эти слова, он понял, что подобное оправдание только ухудшило положение. Последнее время все, что он говорил Тамако, казалось сказанным невпопад. Их прежние легкие доверительные отношения исчезли, и их место заняло ощущение неодобрения и обиды. Акитада торопливо продолжал: — По крайней мере для Ёсико новости неплохие. Кобэ согласился оставить ее в покое. — Благодарение небесам! — спокойно проговорила Тамако. Но Акико этот ответ не удовлетворил. Она сердито воскликнула: — Не хватало еще чего-то другого! Кем он себя возомнил, этот Кобэ?! Только Ёсико молчала. Потупившись, она разглядывала свои руки, теребящие край платья. Поведение младшей сестры вызвало у Акитады новый прилив раздражения. Она, судя по всему, совсем не представляла себе, в какой опасности находилась, и, уж конечно, не догадывалась, чего ему стоило защитить ее. На что она рассчитывала? Что он вызволит ее любовничка из тюрьмы и приведет его домой познакомить с семьей? Подавив желание закричать на нее, он уселся рядом с Тамако. Жена его тут же встала и предложила свою подушку Тосикагэ, на которую тот с удовольствием плюхнулся. Сэймэй наполнил их чарки вином, потом застыл в нерешительности и посмотрел на Акитаду. Но хозяин, озабоченный тем, что жена отдалилась от него, все пытался поймать ее взгляд. Так и не удостоенный внимания, старик тихонько удалился. — Ну так что? — требовательно сказала Акико. — Что там было? Не держи нас в напряжении, Акитада! — Ну что… Я рассказал Кобэ историю твоей сестры. В сложившейся ситуации только правда и могла подействовать. Он был потрясен и очень сочувствовал. Поскольку вопросов он не задавал, остальное прошло без труда. Я попросил разрешения расследовать это преступление с целью очистить от подозрений Кодзиро. Он согласился, но с условием, что я буду работать под его руководством. — О подробностях своего неприятного разговора с Кобэ Акитада решил не упоминать. Тамако теперь удостоила его взглядом, и он видел, что она поняла, какое унижение ему довелось испытать. Он робко улыбнулся ей, но она только закусила губку и снова отвернулась. Сестры же приняли сообщение по-разному. Личико Ёсико засветилось надеждой, а Акико даже хлопнула в ладоши. — Прекрасно! — воскликнула она. — Самое время теперь тебе взяться за это. Ты докажешь, что этот парень невиновен, и все забудут о том, что Ёсико вообще была замешана в этом деле. — Спасибо за такую веру в меня, — сухо сказал Акитада. — Только я в настоящий момент не так уверен в успехе, как ты. — Он посмотрел на Ёсико — та снова побледнела и опять принялась теребить пальцами подол платья. Он обратился к ней, надеясь, что не напугает ее суровостью тона: — Итак, Ёсико? Что ты решила? Не поднимая глаз, она тихо сказала: — Я буду ждать. — Чего? — возмутилась Акико. — Чего ты будешь ждать?! Выброси ты этого парня из головы и живи своей жизнью. Если бы не этот дурацкий траур, мы с Тосикагэ давно бы отвели тебя в приличное общество познакомить с благородными мужчинами. Хотя Акико выразила точку зрения, полностью совпадавшую с мнением Акитады, ее бестактность вызвала у него раздражение. Он снова спросил: — Итак, Ёсико?.. Она подняла на него полные слез глаза. — Так ты останешься здесь, в своем родном доме? — Конечно, останется! — поспешила вставить Акико. — Что это вообще за чушь про то, будто она якобы опозорила тебя?! Да ты только представь, как это все будет выглядеть! Акитада и Ёсико все еще смотрели друг другу в глаза. Он видел, как ее глаза наполнились беспомощными слезами, и даже открыл рот, чтобы как-то утешить ее, но опоздал. Слезы покатились ручьями. — Я останусь. Как оставалась с матушкой, — проговорила она, едва не захлебываясь словами, потом вдруг вскочила и выбежала из комнаты. Тамако, холодно посмотрев на мужа, встала и последовала за ней. — И что теперь? — раздраженно сказала Акико, глядя обеим вслед. Она принялась подниматься, тяжело и неуклюже по причине своей беременности, и проворчала: — Господи! Ну до чего упрямая девка! Надо пойти и вправить ей мозги! — Нет! — Акитада вскочил. — Ты останешься здесь со своим мужем. Ты и так уже достаточно сделала. — Он выбежал за дверь и там остановился в раздумье. Он не мог понять, кто его сейчас расстраивал больше: Ёсико или ее бесчувственная сестра. В какой-то момент он почувствовал досаду на обеих — ведь из-за них у него разладились отношения с женой. Голос Ёсико он заслышал еще издалека. В нем звучали отчаяние и страстность. — Нет! Ты не права! — кричала она. — Мой брат настроен категорически против. Он презирает тех, кто ниже его по происхождению, для него эти люди не лучше животных. Акитада остановился как вкопанный. Вся душа его бунтовала против этих слов. Он боролся с гневом. Конечно, все это было неправдой. Она совсем не знала его, не могла знать, как трепетно относится он к Торе и Гэнбе, ни один из которых даже во сне не отважился бы мечтать жениться на его сестре. Дальше последовала тишина — видимо, Тамако что-то ответила, но так тихо, что он не расслышал. А затем снова резкий голос Ёсико: — Честь?! Это у него-то честь? У человека, который заставил меня нарушить слово, данное Кодзиро? Акитада, кусая губы, постучал. Ему открыла Тамако и ужаснулась при виде гнева на его лице. — Оставь нас одних, — сухо сказал Акитада. Тамако вздрогнула, глаза ее сузились. Она поджала губы и вышла. Ёсико стояла посреди комнаты, очень симпатичной комнаты, как отметил про себя Акитада, оглядывая ширмы, всевозможные расписные коробочки, лакированные шкатулки для хранения швейных и письменных принадлежностей, бамбуковую полку со свитками для чтения и обклеенные бумагой двери. То, что она была так равнодушна к удобствам, еще больше разозлило Акитаду. Глядя в ее заплаканное раскрасневшееся лицо, он холодно произнес: — Я не стану удерживать тебя силой под этой крышей. Однако в этом вопросеТосикагэ с Акико оба принимают мою сторону. Я с трудом представляю, чем твое пребывание в их доме может быть лучше и приятнее, нежели необходимость уживаться со мной. Ёсико смотрела на него, и слезы снова медленно потекли по ее щекам. Голос ее дрожал, когда она прошептала: — Я знаю. Спасибо тебе, Акитада. Он отвернулся, блуждая взглядом по сторонам и пытаясь найти какие-нибудь слова, потом наконец сухо сказал: — Так уж получается, что я никак не могу доказать тебе, что забочусь только о твоих интересах, и, естественно, мне очень больно это осознавать. Но если ты решишь остаться, то я выдвину одно условие. Я не потерплю, чтобы твои дела вставали между мной и Тамако. Ты меня поняла? Она всплеснула руками, и в этом жесте читалась мольба. — Я… я не хотела… Прости!.. — И она горько расплакалась. Сквозь ее рыдания он едва мог разобрать слова: — Прости меня, я обещаю слушаться тебя впредь. — Она склонилась перед ним, беззвучно плача. Акитада представлял себе, чего стоило ей это обещание, он даже слегка смутился, ему стало не по себе из-за того, что по его милости сестра превратилась в такое вот жалкое слезящееся создание. И не важно, что он добился этого словами, а не побоями — результат-то был одинаков. Он вернулся к гостям в мрачном настроении. Тосикагэ стоял перед свитком, на котором был изображен мальчик со щенками. Он только пытливо посмотрел на Акитаду, но тактично не стал мучить его расспросами про Ёсико. Вместо этого он сказал: — Акико говорит, это работа Ноами. Что вы думаете о нем? Чтобы как-то скрыть горечь, Акитада даже разговорился: — Замечательный художник, но как человек он мне не понравился. Во-первых, невыносимо груб, во-вторых, есть в нем что-то неприятное. Не знаю, говорил ли я вам, какую отвратительную картину ада нарисовал он в монастыре, где была убита жена Нагаоки. — Нет, вы не говорили. Ну надо же, какое совпадение! Видимо, он действительно становится очень популярен. Должно быть, его заказчики видят в этом творении величайшую художественную оригинальность. Ну а ширму-то он для вас нарисует? Акитаде очень хотелось, чтобы его жена стала обладательницей самой красивой в столице ширмы, даже если для этого пришлось бы заплатить непомерно огромную сумму человеку, к которому он питал инстинктивное отвращение, но он колебался с ответом. — Не знаю. Меня прямо отталкивает сама мысль о том, что надо будет еще раз посетить его мастерскую. Я не суеверен, но когда находился там, меня не покидало какое-то странное ощущение чего-то зловещего. Тосикагэ усмехнулся: — Да, я встречался с ним. Думаю, он и впрямь сошел бы за демона. Акико громко зевнула и поежилась. — Как вы можете так спокойно болтать?! Здесь же такой холод! Тосикагэ бросился надевать на нее стеганый жакет. — Уже поздно, и Акико устала, — сказал он извиняющимся тоном. — Если у нас все улажено, то мы могли бы пойти домой. Акико действительно или очень устала, или ей хватало сообразительности не заводить больше разговор о возлюбленном Ёсико. Опершись на руку мужа, она на прощание помахала брату. Ахитада немного посмотрел им вслед и потом вернулся в свою комнату. Угли в жаровне окончательно истлели, и было холодно. Голова по-прежнему раскалывалась, и он подумал, не заболел ли. У него не было сил даже позвать Сэймэя. К тому же старик и так натрудился за день. Накинув на плечи еще одно кимоно, он сел за письменный стол и попытался сосредоточиться. Разговор с женой и сестрой, как он и боялся, вышел скверным. Он считал свой гнев оправданным после того, как Тамако приняла сторону Ёсико, и все же его почему-то страшила встреча с женой. Воображение его разыгралось. Он пытался представить, что теперь сделает или скажет ему Тамако после того, как он выдворил ее из комнаты сестры. Мысли его прервало тихое поскребывание в дверь. — Войдите! — отозвался он, в душе посылая гостя ко всем чертям. Это была Ёсико. Со смиренным поклоном она сказала: — Прости, что помешала. Она осторожно вошла, уткнувшись взглядом в пол. Судорожно переведя дух, она подняла на брата глаза. — Я глубоко сожалею, что причинила неприятности вам с Тамако. Вспомнив, что ты приходишься мне старшим братом, я вынуждена признать, что забыла о своем долге перед тобой как перед главой семьи. Акико и Тамако обе напомнили мне о том, что до тех пор, пока я не замужем, я должна хранить верность своей семье. Я обещаю, что буду соглашаться со всеми твоими решениями относительно моего будущего и буду жить в этом доме столько, сколько ты позволишь. — Она снова тяжело перевела дыхание и потянулась к рукаву. Дрожащими пальцами она извлекла оттуда письмо. — Это для Кодзиро. Ты можешь прочесть. Там объясняется, почему я не могу выйти за него замуж. Ты передашь ему письмо? Акитада смотрел на продолговатый кусок бумаги так, словно это было нечто раскаленное и огнедышащее. Он восторжествовал над ее волей, силой вынудил ее нарушить слово, данное Кодзиро, но вкус этой победы был горше пепла в остывшей жаровне. Отказаться же от своих суждений он тоже не мог. Этот человек в тюрьме был попросту неровня и не пара его сестре. Он раздумывал так долго, что рука Ёсико задрожала и письмо выскользнуло у нее из пальцев. Он поймал его на лету и убрал к себе в рукав. — Конечно, передам, — хрипло сказал он. — Я… мне очень жаль, Ёсико, но он уже знает об этом, потому что я ему это уже сказал. Я бы хотел, чтобы все было по-другому. Ты должна понять… Она без единого слова поклонилась и вышла. Акитада достал из рукава письмо. Оно было не запечатано. Легкий, изящный почерк Ёсико выдавал руку женщины благородной и образованной. Как мало он, оказывается, знал о сестре! Ему сейчас вспомнилось, как он обещал ей помочь выйти замуж за человека, отвергнутого матушкой. Какое глупое обещание, данное из любви к младшей сестренке, несколько лет назад соединившей их с Тамако! Ему стало не по себе, и, положив письмо на стол, он принялся расхаживать по комнате. Она вдруг показалась ему слишком тесной, стены словно давили на него, усиливая головную боль. Он распахнул ставни и вышел в сад. Снег растаял, и ему было видно рыбок под толщей воды в крошечном прудике. Когда он наклонился собрать с поверхности сухие листья, прямо к руке его метнулся карп. Он пожалел, что ему нечем их покормить, только смотрел, как они тыкаются ему в пальцы своими жадными ротиками. Эти прикосновения нагнали на него какую-то щемящую тоску. Вот и отец, наверное, так же стоял когда-то здесь, одинокий и отстранившийся от всех, кто его окружал. Когда он вернулся в кабинет, так и не избавившись от головной боли, его там уже ждали Тора и Гэнба. Поглощенный своими мыслями, он не сразу заметил, что они уселись подальше друг от друга. — Пришли доложить, господин, — натянуто сообщил Тора. — Ах, ну да, актеры… Вы нашли их? — Нашли, господин, — ответили оба хором. Только Гэнба прибавил: — Они упражняются в одном тренировочном зале у реки. Мне повезло, и я познакомился с его владелицей. Тора неприлично закряхтел. — Да бросьте вы говорить об этой чокнутой тетке! Ничего-то она не знает, зато одна из девчонок Уэмона обещала встретиться со мной сегодня вечерком. — Тора улыбнулся, поглаживая усы. — Попытаюсь разнюхать что-нибудь про их ведущего актера Дандзюро. Уж больно он подозрительный тип. Акитада переводил взгляд с одного на другого, пытаясь вникнуть в смысл их речей. Постепенно он заметил между ними что-то неладное. Они старательно избегали смотреть в сторону друг друга. И это такие-то неразлучные друзья! Что же могло произойти между ними? Он поймал на себе выжидательный взгляд Торы и припомнил его последние слова. — Д-да… А что значит «подозрительный»? Тора подробно поведал о событиях дня вплоть до своей стычки с Дандзюро. Умолчал он только о суровом испытании, выпавшем на его долю в виде боя на палках, да о своих шашнях в темном переулке. — Теперь вы понимаете, что все они словно воды в рот набрали, когда я пытался задавать вопросы, — подытожил он. — А все потому, что он вообразил, будто я из полиции. И это, естественно, навело меня на мысль, что ему есть что скрывать. — Он принял тебя за полицейского? — удивился Акитада. — С чего бы это? Тора покраснел. — Понятия не имею. Может, сказал я чего. — Что же ты мог сказать? — не отступал Акитада. — Вообще-то он слишком уж пыжился передо мной, уж так раздувал щеки — дескать, он такой-сякой великий Дандзюро, а я рвань подзаборная, к тому же оскорбившая его жену. — Такое правда было, — вставил Гэнба. — Да заткнись ты! — огрызнулся Тора. — Тебя там не было. Ты в это время так обхаживал эту жирную корову, что и думать про работу забыл. Гэнба свирепо вылупился на него. — Да? А кто первым нашел это место? Я нашел! И я добиваюсь результатов безо всяких там стычек и ссор и не увиваюсь за всеми девчонками подряд. Акитаде надоели эти препирательства. — А ну-ка сейчас же перестаньте оба! Свои разногласия можете уладить потом. Лучше скажите, какие вам удалось добыть факты, которые связывают этих людей с убийством госпожи Нагаока. Оба покачали головой. — Что же, так-таки и ничего? — Ну… — пожал плечами Тора, — они были в том монастыре, и еще вот Дандзюро боится полиции. Конечно, это… — И ради этого ты отнимал у меня время? — напустился на него Акитада. — Да актеры и безо всякого убийства боятся полиции. — Ага! — воскликнул Тора с победоносным видом. — Как раз это я и сказал тому парню! Сказал ему, что в силу опыта давно уже не верю всяким там актерам и акробатам. Почти все они ворье да шлюхи — почитай, все девять из десяти. — Враки! — рявкнул на него Гэнба. — А ты дурак, что сам выдал себя! Конечно, они не станут разговаривать с тобой после этого. Я пожил побольше твоего и актеров повидал побольше. Они сторонятся полиции, потому что та цепляется к ним. Большинство из них такие же порядочные люди, как мы с тобой. Нет, даже порядочнее тебя, потому что они не станут смотреть свысока на человека только потому, что он крестьянин или обувных дел мастер. Вот госпожа Вишневый Цвет не стала же смотреть на тебя свысока из-за того, что ты дезертир. Она поняла это сразу, как только ты открыл свою пасть и начал втирать ей, что ты был солдатом, как тот малый, что направил тебя к ней. Благородные люди никогда не подтрунивают над своими знакомыми. Это делают только простолюдины, а госпожа Вишневый Цвет не простолюдинка. Тора скривился. — Потому что когда-то переспала с каким-то титулованным жирным ублюдком? Да этим может похвастаться добрая половина шлюх из веселого квартала. К тому же эта тетка, возможно, врет. Ты только посмотри на нее! Ну кто захочет переспать с такой?! Здоровая, как медведь, и лысая, как яйцо. Такая ведь и раздавить может телесами. Любой мужик в штаны наложит со страху, как только представит эту тушу на себе, вздумай она порезвиться сверху. Акитада, у которого никак не унималась головная боль, приложил обе руки к ушам. — Ах ты похотливый ублюдок! — взревел Гэнба, побагровев от ярости, и вскочил, сжимая кулаки. Тора тоже взметнулся с места и оскалился в белозубой улыбке. — Еще раз назовешь меня так, и ты покойник. — Ну хватит! — прогремел Акитада, вставая между ними. Морщась от нового прилива боли, он закрыл глаза и ждал, когда она утихнет. Открыв глаза, он увидел, как Тора с Гэнбой недоуменно уставились на него. — А ну-ка сядьте оба! — приказал он и поспешил вернуться на свою подушку. Они повиновались. Смерив обоих холодным взглядом, Акитада сказал: — Ну вот что. Тора, если ты ведешь себя на людях так же скверно, как только что здесь, то я не вижу в тебе проку. Не то что проку, я вижу от тебя один только вред. Тора побледнел. — А ты, Гэнба, похоже, слишком увлекся своим знакомством с какой-то особой с сомнительным прошлым, и это знакомство встало на пути нашего расследования. Гэнба покраснел и поник головой. — Поскольку ни один из вас больше не заслуживает доверия, вы отныне будете заниматься домашним хозяйством. — Но, господин! — возмутились оба в голос. — Ну пожалуйста, хозяин! Ведь я обещал этой акробаточке встретиться сегодня вечером, — напомнил Тора. Эти слова оказались последней каплей. — Убирайся! — рявкнул Акитада сквозь зубы, вонзив в Тору такой свирепый взгляд, что тот вздрогнул. — Убирайся с глаз моих долой! Только и умеешь, что увиваться за девками! Отправляйся чистить конюшни. Быть может, это занятие поможет тебе вспомнить, где твое настоящее место в этом доме. Они, понурившись, ушли, а Акитада прямо обмяк, сидя на своей подушке и растерянно разглядывая нервно стиснутые руки. Медленно расцепив их, он увидел, как дрожат у него пальцы. Сердце бешено колотилось, и каждый удар болезненно отдавался в голове. Все-таки он потерял самообладание и вышел из себя. И нечего искать оправдание в том, что у него выдался нелегкий день. Он попытался заняться бумажной работой, сосредоточиться на счетах и цифрах, но проклятые, скопом навалившиеся неудачи никак не шли из головы. Торино пренебрежение к актерам было сродни его собственному презрению к торговцам и их сословию. Высказав свое отношение, Тора испортил свою крепкую дружбу с Гэнбой, а сам Акитада разрушил нежную привязанность, которую питала к нему младшая сестра. Эта безмолвная бледная молодая женщина, что подчинялась теперь его приказам, больше не смотрела на него с верой и обожанием. В ее глазах он видел только смирение и страх. Часы тянулись один за другим. Сэймэй бесшумно вошел с ужином на подносе и подкинул в жаровню свежих горячих углей. Но ни тепло, ни пища не радовали и не согревали Акитаду. Он отодвинул в сторону поднос, раскатал постель и попытался забыться — удрать от тягостных и болезненных мыслей об ответственности, возложенной на его плечи мужа и главы семьи.ГЛАВА 15 ПУСТАЯ КЛАДОВКА
Проснулся Акитада без сил и полный уныния. Похоже, буквально все в его доме шло наперекосяк. Он едва успел вернуться из долгой отлучки с севера, как все устои его жизни начали рушиться. Сначала Ёсико спуталась с каким-то простолюдином, загремевшим в тюрьму по обвинению в убийстве. Потом она восстала против воли брата и заставила Тамако принять ее сторону, отчего супружеская жизнь Акитады впервые дала трешину. А теперь вот еще Гэнба с Торой рассорились вконец и нарушили покой и гармонию, на которые он так рассчитывал после долгих лет борьбы и тяжких испытаний. Акитада понимал, что обошелся с Торой и Гэнбой резковато. Разве можно было ожидать, что они по уши погрузятся в дело в первую же свою вечернюю вылазку по столице? И что с того, если после стольких лет почти монашеского воздержания Гэнбу потянуло к какой-то особе, судя по всему, соединившей в себе женские прелести с интересом к спортивным состязаниям? В таком влечении вовсе нет ничего противоестественного. И Тора гоняется за каждой юбкой в городе, потому что такова уж его натура. Его стычку с Дандзюро спровоцировал не Тора, а сам актер. А Тора так уж устроен, что не терпит оскорблений — слишком трудной ценой завоевал он свое нынешнее положение. Нет, виноват во всех этих неприятностях только он сам, а вернее, его проклятый характер. Вместо того чтобы спокойно справиться с напряжением, возникшим из-за последних событий, он позволил себе сорваться, вскипеть и взял на себя зачем-то судейскую, карательную роль. Уныло вздохнув, Акитада встал, скатал постель и принялся одеваться. Он чувствовал себя старым и уставшим. Только ни возраст, ни нажитый опыт явно ничуть не сгладили шероховатостей его пылкого характера. Он задумался о деле Нагаоки, в котором не продвинулся ни на шаг из-за семейных неурядиц. Бедолага-арестант так и сидел за решеткой. Парень, как оказалось, совсем не соответствовал тому представлению, которое сложилось о нем у Акитады, — что тот якобы выскочка из простолюдинов, соблазняющий беззащитных высокородных девиц с целью улучшить свое положение. Поэтому и допрос в тюрьме, считай, не получился. По правде говоря, у Акитады даже не было неприязни к этому Кодзиро, по чьей милости на его дом навалились все эти неприятности. Парень неожиданно повел себя достойно и мужественно. И Нагаока оказался человеком культурным, начитанным и на редкость образованным. Только, конечно, это не снимаю с него подозрений в убийстве жены. Акитада расхаживал по комнате, размышляя о деле Нагаоки. Нагаока интересовался театром, а в ночь убийства в монастыре как раз останавливались актеры. Нагаока мог нанять одного из них, чтобы тот убил его жену, когда ему стало известно о ее неверности. Все-таки Тора, несмотря на все свои предубеждения, был прав насчет актеров. Такие странствуюшие труппы часто становились хорошим прикрытием для примкнувших к ним беглых преступников всех мастей. Так где же, как не среди актеров, лучше всего найти наемного убийцу? Глупо было с его стороны прогнать с глаз долой Гэнбу и Тору, не выслушав прежде их подробного отчета. А еще глупее было не пустить Тору на свидание с этой девушкой-акробаткой, от которой тот мог почерпнуть любопытные сведения. Чувствуя себя по-прежнему вялым и разбитым, хотя головная боль почти прошла, Акитада решил выпить чаю. В такую рань Сэймэй скорее всего еще спал. Поэтому он самолично отправился на кухню, где заспанная служанка Кумой только начала возиться с завтраком, сам налил себе кипятку и отнес его в свою комнату. Чаевничал он на веранде, откуда любовался садом. Рассвет еще едва брезжил, но небо, похоже, расчистилось. По веткам сосен, тихонько чирикая, порхали воробьи. Вялые рыбки в пруду и не думали резвиться. «Надо бы запастись для них кормом», — подумал Акитада. Внезапно перед ним возник Сэймэй. Увидев у хозяина в руке чашку, он извинился за то, что проспал, и тут же сообщил: — Господин, за дверью ждет Гэнба. Он просит только самую малость вашего времени. — Прекрасно! Пригласи его сюда! Гэнба неуверенно приблизился к хозяину, все так же потупив взгляд. Он стоял, смущенно сжимая и разжимая свои огромные кулачищи, потом хрипло сказал: — Мы очень виноваты, господин, и просим прощения. — Садись, Гэнба. — Акитада постарался придать тону дружелюбность. — Я обошелся с вами слишком резко и совсем забыл, что у вас с Торой не выдавалось свободного времени с самого возвращения. Вы служили мне верой и правдой все эти годы на далеком севере и во время нашего сурового путешествия обратно. И здесь на вас сразу же навалилась эта тяжелая работа в конюшнях, да еще похороны. А я вот не оценил по достоинству ваших трудов, вместо этого сорвался и накричал на вас. Вы уж простите меня и возьмите себе выходной на сегодня и на всю ночь. А завтра мы обсудим ваши новые задания. Гэнба теперь добродушно лыбился. — Ура-а! Спасибо, господин! Только ведь вы оказались куда как правы. Нам не следовало ссориться. И я вот пришел сказать, что мы уже помирились. А Тора все волновался за ту девушку-акробатку, с которой вы не позволили ему встретиться. Он назначил ей свидание в веселом квартале, а туда таким миловидным девчушкам лучше не ходить в одиночку. — Уверен, с ней не произошло ничего неприятного. — Акитаду удивило, с чего это Тора вдруг озаботился репутацией девушки, так охотно согласившейся переспать с ним в первый же вечер знакомства. — Вчера вы мало что успели сказать. Есть у тебя что добавить к отчету Торы? Гэнба поскреб затылок. Его некогда обритая наголо башка уже обросла густым ежиком, еще, правда, коротковатым для узла на макушке. Пока он все пытался прилизать волосы, то и дело смачивая их водой и приглаживая руками. Но они высыхали и упрямо дыбились кверху, и тогда Гэнба снова принимался их приглаживать. Акитада сейчас впервые за все время заметил, что Гэнба, оказывается, начал седеть. Акитада никогда не интересовался его возрастом, подозревал только, что ему, должно быть, сорок с хвостиком. — Я вот насчет Ториного беспокойства, господин. Госпожа Вишневый Цвет, ну та дама, владелица учебного зала, уж больно она озабочена тем, что какой-то душегуб шляется по городу и полосует ножом уличных женщин. Вот и ее служанка стала жертвой этого ублюдка. Та, видать, была хороша собой, пока он не изуродовал ее. Все лицо теперь в шрамах. Из-за этого уродства она лишилась работы и голодала. Совсем туго ей приходилось, когда госпожа Вишневый Цвет подобрала ее. Акитада насупился. Он уже не впервые слышал о подобных историях, только до сих пор они не волновали его. — Конечно, это ужасно, но уличные женщины своим поведением сами провоцируют некоторых мужчин на подобные зверства, — небрежно заметил он. — Она пожаловалась на своего обидчика в полицию? Гэнба покачал головой. — Уличные женщины обходят полицию стороной. Да к тому же она могла не разглядеть его хорошенько. Может, подцепила в темном переулке да повела к себе домой. Госпожа Вишневый Цвет говорит, что какие-то люди нашли ее полумертвой в заброшенном храме. Они решили, что на нее напали демоны. В этих словах было что-то знакомое, но Акитада затруднялся связать их с чем-либо, поэтому просто выбросил из головы. — Да, жуткая история, — сказал он, — но я не вижу тут никакой связи с нашими актерами. Нам известно, что они ночевали тогда в монастыре. Они говорили что-нибудь об убийстве? — Нет. И это как раз странно. Тора утверждает, что никто не захотел разговаривать с ним после того, как Дандзюро всех предостерег. Кстати, та служанка шпионила за Торой и его девушкой, и он поймал ее. Она укусила его за руку и удрала, вопя, что на нее напали. — Что же тут удивительного? — сухо сказал Акитада. — У актеров с Дандзюро явно какие-то нелады. Кажись, Уэмон недавно передал руководство труппой Дандзюро, у которого откуда-то появились немалые деньги. — Вот как? — Акитада задумчиво покачал головой. — Только непонятно, какая тут связь с делом Нагаоки. Ладно, может, сегодня вечером Торе больше повезет с этой девушкой. А если он так ничего и не выяснит, нам придется приступить к опросу монахов. Наладив мир с Торой и Гэнбой, Акитада решил поговорить с женой. Тамако уже поднялась — смотрелась в огромное круглое серебряное зеркало. Ставни были еще закрыты, но дневной свет проникал в комнату. Всего одна-единственная свеча горела рядом с ней, и в розоватых бликах мерцающих угольков в жаровне она казалась созданием воздушным, прямо-таки неземным. Она еще не одевалась, и белый шелк нижнего кимоно, когда она двигалась, красиво струился по ее телу, то и дело открывая и прикрывая его изящные изгибы. Акитада почувствовал острый прилив желания, теперь ему еще больше захотелось заключить ее в объятия, касаться ее. — Прости меня, Акитада, — сказала она, потупившись. — Я сейчас оденусь. Вчера выдался длинный день, и я проспала. Ничего, если я продолжу заниматься собой? Расстроенный, он повернулся к двери. — Ну конечно. Я просто хотел… поговорить. Она нагнала его у двери. — Подожди! Что случилось? Ты болен? — встревоженно спросила она, вглядываясь в его лицо. — Нет. Просто устал. И беспокоюсь за Ёсико. — Ты выглядишь ужасно. А за Ёсико не волнуйся. К счастью, нам с Тосикагэ и Акико удалось убедить ее слушаться тебя в этом вопросе. Ну-ка пройди и сядь. Она усадила его на еще разобранную постель и помогла ему ослабить тугой пояс. Он безропотно повиновался, дивясь про себя тому, как, оказывается, ошибался насчет нее. Выходит, все это время она была на его стороне. Опустившись рядом с ним на колени, Тамако массировала и поглаживала его шею и плечи, пока он не почувствовал в мышцах легкость и не расслабился, закрыв глаза и покряхтывая от удовольствия. Он сам не понял, как это произошло, но в какой-то момент поймал ее руку и поцеловал с благодарностью. Помедлив несколько мгновений, она пересела вперед и скинула с его плеч кимоно. Прикосновения ее пальцев напоминали нежный трепет крыльев бабочки или мягкие губы рыбок вчера вечером в пруду. У Акитады перехватило дыхание. Замерев, он смотрел на нее в надежде, что она прочтет этот голод в его глазах. Тамако задула свечу и помогла ему сбросить одежду. Позже, когда, счастливый и согретый, он снова сидел у себя в кабинете, Сэймэй принес свежезаваренный чай и завтрак. Акитада заметил, каким бледным и изможденным выглядит старик. Даже поднос с едой казался для него слишком тяжелым. А когда старик наливал хозяину чай, руки его так дрожали, что он даже расплескал несколько капель. — Ты хорошо себя чувствуешь, Сэймэй? — спросил Акитада. — Да, господин, у меня все хорошо. Уж простите за эту неловкость. — Сэймэй вытер разлитый чай рукавом, но не ушел, как обычно, а остался стоять, потупив взгляд в пол. — Что-то не так? — Нет, все так, господин… Только… — Только что?.. — Я вот только тревожусь, все ли хорошо у молодой госпожи Ёсико. Хозяйка говорила мне, что этот полицейский принес какие-то не очень радостные вести. Вот я теперь и беспокоюсь. — Боже! Так тебе не известно?! — Акитада напряг память. Неужели Сэймэю забыли рассказать? Он вдруг осознал, что впервые в жизни не поделился со стариком своими семейными проблемами. — Прости, Сэймэй. Мне следовало поставить тебя в известность, но в последнее время столько всего случилось, что я попросту забыл. Пожалуйста, садись, потому что рассказ не будет кратким. Глаза старика увлажнились, когда он садился. Акитада поведал ему об отношениях Ёсико с Кодзиро, о ее визитах в тюрьму и о том, как Кобэ решил, что Акитада таким образом использовал ее для поддержания связи с арестантом. Потом он рассказал о своем уговоре с Кобэ и о нынешнем состоянии дела. Дослушав до конца, старик закивал, вытирая глаза. — Ну? А теперь-то в чем дело? — спросил Акитада. Старик улыбнулся сквозь слезы. — Теперь ничего, господин. Это я от радости. Я ведь боялся, что потерял ваше доверие. — Он низко поклонился хозяину. — Я сделаю все, чтобы всегда заслуживать его. — Ты его всегда заслуживал и будешь заслуживать. — Акитада ощутил угрызения совести за то, что в момент напряжения пренебрег стариком и тем самым ранил его чувства. — Я просто допустил промашку, Сэймэй, и не надо так переживать. Лучше скажи, как там Ёри? Ты все еще учишь его владеть кисточкой? Сэймэй распрямился и почувствовал себя свободнее. Теперь он без смущения улыбался. — Молодой господин делает большие успехи. Недаром ведь говорится, что возраст не преграда для учения. Он, правда, не так усидчив, как вы в его годы, зато, по-моему, рука у него тверже. Акитада усмехнулся, довольный тем, что старик наконец ожил. — Не сомневаюсь, что ты уже неоднократно напоминал ему, что даже самый незадачливый стрелок обязательно попадет в цель, если будет усердно упражняться. — Да, господин, и это я ему твержу, и про каплю воды, что камень долбит. Он, правда, не слишком-то любит слушать мои назидания. А однажды вот пожаловался, что пальчики у него замерзли и трудно кисть держать, так я объяснил ему, почему не мерзнет водяное колесо — потому что всегда крутится. После этих слов он взялся за работу куда как усердно! — Сэймэй заулыбался. Теперь уже с легким сердцем Акитада придвинул к себе миску с рисом, но тут же передумал и отнес ее в сад, где принялся кормить рыбок. Выплывая на поверхность, они жадно ловили зернышки, резвясь и плескаясь. Их живость повеселила Акитаду, он даже рассмеялся. — Ты напомнил мне, мой старый друг, о том, что я совсем забыл и о других обязанностях. — сказал он, поворачиваясь к Сэймэю и с удовольствием видя на лице старика привычное радостное выражение. — Боюсь, в последнее время я был не очень хорошим отцом. Сэймэй улыбнулся: — Это невозможно, господин. Любовь родителя к сыну всегда сильнее, чем любовь сына к отцу. — Ну что ж, я надеюсь, Ёри не думает обо мне плохо. — Акитада взглянул на небо. Оно по-прежнему было хмурым, но кое-где сквозь прорехи в облаках проглядывало солнышко. На сосне судачили две белки, то и дело принимаясь гоняться друг за другом по стволу вверх и вниз. Воздух был чист и свеж. — Как думаешь, не погонять ли нам мяч во дворе? Торе с Гэнбой полезно будет порезвиться, а ты вел бы для нас счет. Сэймэй хлопнул в ладоши. — Прекрасная мысль, хозяин! А уж как обрадуется молодой господин! Физическая закалка красит мужчину не меньше, чем духовные знания. Акитада нашел Ёри в обществе матери. При виде кожаного мяча мальчик несказанно обрадовался. Дружно обувшись на веранде, отец с сыном выбежали во двор. На возбужденные крики Ёри прибежали из конюшни Тора с Гэнбой. Быстро разлиновали игровое поле, и участники, закатав повыше штаны, заняли свои места. Их задачей было пинать мяч, передавая его друг другу так, чтобы тот не касался земли. Ёри в свои неполные четыре года уже умел на удивление хорошо справляться с мячом и сразу же начал обходить соперников. Акитада вскоре объявил передышку, чтобы снять тяжелое верхнее кимоно. На веранде он заметил Тамако и Ёсико. Тамако улыбалась, а вот сестра его выглядела по-прежнему бледной и удрученной. К Акитаде постепенно возвращалось мастерство. Ведь он и припомнить не мог, когда последний раз играл в мяч. В свое время он владел им превосходно. Он старался поддаваться маленькому сыну, но Ёри отнюдь не зевал и умудрялся воспользоваться каждой такой поблажкой. А способности Торы и Гэнбы к этой «игре знати» вызывали у Ёри безудержный смех. Взрослые закончили игру взмыленные и вымотанные, они едва переводили дух, зато Ёри был объявлен победителем. С криками «Я победил!» он радостно носился по двору, пока Сэймэй и дамы рукоплескали ему. В приступе счастливого возбуждения Акитада схватил малыша на руки и подбросил его в воздух. Ёри взвизгнул от радости и обхватил ручонками шею отца. Акитада, давно не испытывавший подобных чувств, прижал к себе сына и отвесил глубокий поклон в сторону веранды. Вернувшись к себе в кабинет все в том же благодушном настроении, он попросил Сэймэя принести ему одежду на выход. — Хочу еще разок наведаться к Нагаоке, — сказал он старику, когда тот помогал ему одеваться. — Судя по всему, он много о чем умолчал. В прошлый раз я не расспрашивал его об отношениях с женой, а между тем ее личность кажется мне, пожалуй, самым загадочным моментом во всей этой истории. У меня теперь сложилось впечатление, что он избегал этой темы. Сэймэй поджал губы. — В осеннюю пору веер ни к чему. Из ваших слов я понял, что господин Нагаока был староват для своей жены. Возможно, теперь он испытывает чувство великого облегчения. Сэймэй был закоренелым женоненавистником, однако Акитада не исключал той возможности, что Нагаоку действительно могла утомить юная и легкомысленная жена, к тому же стоившая ему немалых расходов. Не в силах пока разрешить эти сомнения, он сказал: — Но как ни крути, она была очень красива, и он любил ее. Сэймэй покачал головой. — За ангельским ликом часто прячется демон, — заметил он, но тут же спохватился: — Разумеется, у этого правила бывают исключения. На это Акитада лишь усмехнулся. Проделав небольшой пеший путь, он вскоре оказался на улице, где проживал Нагаока. Он не мог еще раз не подивиться тому смиренному спокойствию, что царило в квартале, населенном степенными и состоятельными торговцами. Голые, обронившие листву деревья больше не загораживали вил и позволяли разглядеть постройки внутри стен, которыми были обнесены владения Нагаоки. Удачливый торговец стариной, по его подсчетам, должен был жить богато. Акитада немало подивился тому, что ворота Нагаоки были распахнуты настежь. Кто же охраняет все это добро? В прошлый раз он видел здесь лишь одного-единственного неприветливого слугу, но сейчас куда-то запропастился даже этот неряха. Он вошел во двор, явно не метенный уже много дней. Акитаде сразу вспомнился его первый визит. Он громко позвал, но никто не откликнулся. Тогда он проследовал через воротца главного дома к задним дворам и садикам. И здесь повсюду царило запустение. Более того, здесь, подальше от людских глаз, все постройки пребывали в самом что ни на есть плачевном состоянии, как и сад, поразивший его своей неухоженностью. Облупившаяся краска на карнизах и перилах, расшатанная ступенька на лестнице, покосившиеся ставни — все это было куда как знакомо самому Акитаде по тем временам, когда семья Сугавара не имела достаточных средств на починку пришедшего в упадок дома. Но почему состоятельный человек позволяет себе содержать свое жилище в таком запустении? Поразило Акитаду и отсутствие людей. Где же слуги, коим надлежит заботиться о доме? А что, если Нагаока сбежал, испугавшись обвинения в убийстве? Акитада торопливо прошел через садик, мимо заваленного сухими листьями пруда, и оказался во внутреннем хозяйственном дворе, посреди которого возвышалась складская постройка. В отличие от других строений она была сделана из камня, покрыта штукатуркой и имела черепичную крышу. Такие кладовки имелись во всех богатых домах, в них обычно хранились семейные ценности, оберегаемые таким образом от пожаров. Дверь в кладовку Нагаоки была распахнута настежь, так же как и ворота. Акитада ступил на порог и осторожно заглянул внутрь. Стеллажи вдоль стен были пусты, если не считать нескольких мешочков с рисом или бобами, небольшой горки репы и горстки каштанов. Рядом с огромной корзиной стояли глиняный кувшин и бочонок с вином. Зайдя в кладовку, Акитада заглянул в корзину — та оказалась наполнена углем. Он взял в руки кувшин и понюхал горловинку — дешевое масло. Винный бочонок был пуст — только мутный вонючий осадок на дне. У дальней стены Акитада заметил кованые деревянные сундуки с открытыми замками. Он заглянул в каждый — пусто, если не считать каких-то обрывков оберточной бумаги. Куда же подевались все принадлежащие Нагаоке древности? Акитада вышел из кладовки и остановился посреди двора, осмысливая увиденное. Первое свое опасение, что это было вооруженное ограбление, повлекшее за собой гибель хозяина и всей прислуги, он отмел сразу же — иначе откуда взялись в кладовке съестные припасы, когда ее более ценное содержимое было вынесено? Припасы эти, скудные и убогие, вряд ли могли бы служить пишей состоятельному торговцу, и все же кто-то, похоже, обитал здесь после пропажи ценностей. В глубокой задумчивости Акитада направился обратно к дому и постучал в парадную дверь. — Хорош шуметь! Уже иду! — послышался голос с улицы. — Прямо ни на миг в покое не оставят человека даже в таком Богом забытом месте! В проеме ворот показалась фигура слуги. Он шел ленивой, развязной походкой, возможно, даже несколько нетвердой, и нес в руках какой-то слегка дымящийся сверток — судя по всему, купленную где-то горячую пищу. Вид у него был еще более неопрятный, чем в прошлый раз — нечесаные волосы, небритый подбородок, замызганное платье. Завидев Акитаду, он остановился, прищурился и вперил в него затуманенный взор. — А-а… Это опять вы, — сказал он наконец тоном грубым и развязным. — Что вам нужно на этот раз? Нет его дома уже давно, а у меня дел полно. — Но-но, ты не забывайся! — отрезал Акитада. — Где твой хозяин? Слуга злобно оскалился. — Кто его знает! Забрал деньги и сбежал, я так подозреваю. Или сбежал, или сиганул с моста и теперь кается перед владыкой преисподней. Оставил меня тут одного без еды, без питья, я уж про жалованье не говорю. Акитада смотрел на него с подозрением. И наружность его, и поведение говорили о том, что он не ждет своего хозяина скоро. — Здесь холодно, — сухо сказал Акитада. — Проводи-ка меня в комнату своего хозяина и там ответишь мне на кое-какие вопросы. Слуга ощетинился: — Это еще зачем? Когда его нет, мне не позволено входить в дом. — А что у тебя в свертке? — спросил Акитада, прищурившись. — Что-что? Еда! Есть-то надо человеку! — И где же ты взял на это деньги? Ты же говоришь, тебе не заплатили. Слуга смутился и заметно приуныл. — Сумел кое-что поднакопить, — угрюмо пояснил он. — Врешь! — накинулся на него Акитада, сверкая глазами. — Я думаю, что ты украл деньги у хозяина. Я обязательно сообщу в полицию. — Шагнув с крыльца на землю, он угрожающе подступил к слуге. — Вообще-то я не верю, что твой хозяин сбежал. Зачем ему так поступать, если он недавно потерял жену, а брат сидит в тюрьме, дожидаясь суда? Может, ты убил своего хозяина? Что ты с ним сделал? А ну, давай говори, паршивый ублюдок! Слуга побледнел и резко отшатнулся, так что даже сверток выпал у него из рук на землю. Какая-то мерзкая клейкая стряпня разлетелась в разные стороны. От ее вони да от пьяного перегара и запаха немытого тела Акитаду замутило. — Я правду говорю, — захныкал слуга. — Он ушел на прошлой неделе. Выглядел ужасно, весь белый был, словно призрак. Ни слова мне не сказал. Просто вышел за дверь и больше не возвращался. Может, он и лежит где-нибудь мертвый, но я-то к нему и пальцем не притронулся. Акитада смерил его долгим, испытующим взглядом. — Посмотрим. А ну, открывай дверь в дом! Дверь оказалась не заперта, так же как ворота, кладовка и сундуки. — Почему так плохо сторожишь дом? — проворчал Лкитада, следуя за слугой по темному коридору в комнату, где в прошлый раз беседовал с Нагаокой. — А зачем? Красть-то здесь уже больше нечего. Красть действительно было нечего, Акитада обвел взглядом погруженную в полумрак комнату и пошел распахнуть настежь ставни. Со стен исчезли картины, с полок все их содержимое, даже тяжелый деревянный стол резной работы тоже куда-то делся. Остались только толстые циновки на полу и две подушки, на которых они с Нагаокой сидели в прошлый раз. — А куда же подевалось все добро и мебель? — спросил Акитада, удивленно озираясь. — Он их продал. — Что, прямо все продал? Все свои предметы старины? У него же их было не счесть! Слуга закивал: — Да. Все до последней мелочи. — Но зачем?! — Да потому что дела у него уже давно шли плоховато. А на госпожу сколько тратился — и на наряды, и на прислугу для нее, и на побрякушки всякие. В общем, распродавал он все потихоньку, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. — В его голосе появились обиженные нотки. — Платил этой ее заносчивой служанке да бездельнице-поварихе больше, чем мне. Служанка сбежала, как только услышала об убийстве. А повариха ушла, когда увидела, что у хозяина едва наберется денег на достойные похороны. Они сразу смекнули, что сладкая жизнь закончилась. А я вот, дурак, остался работать задарма. И черт меня только дернул?! Торчи вот теперь здесь, словно привязанный! — Я тебе уже говорил как-то, чтобы ты следил за языком, — отрезал Акитада. — Больше повторять не буду. Ты жрешь хозяйский рис, так хотя бы имей уважение к этому дому и верность. — Если бы рис, а то одно просо с чечевицей, — проворчал слуга. — Когда твой хозяин начал избавляться от собственности? Слуга задумчиво пожевал нижнюю губу. — Последние остатки своих древностей он начал распродавать сразу же, как только это случилось. Покупатели все как один уходили, усмехаясь. Видать, молва-то пошла, потому что народ буквально повалил к нему. А потом он продал все барахлишко своей жены. И правильно сделал! Хоть рыбки с рисом тогда поели, да и в бочонке плескалось кое-что получше. Акитада вспомнил, что в последний свой приход видел в руках у Нагаоки маску «бугаку». Видимо, тот собирался продать ее по дешевке. И почему только тогда Акитада не насторожился, почему не задумался, что заставило опытного антиквара пустить на продажу редкий предмет старины по столь низкой цене? — Продолжай, — сказал он слуге. — Когда же было распродано другое добро, его личные вещи? — По-моему, после прихода ее отца. Тогда он совсем раскис. И после того как сюда снова явился этот полицейский начальник и велел моему хозяину прекратить посещать брата в тюрьме — уж это точно было последней каплей. Прямо на следующий день люди вытащили отсюда остатки мебели, а когда они ушли, хозяин сидел вот здесь, на своей подушке, и все обводил глазами пустую комнату, словно умирать собрался. А на следующее утро он ушел. — И как давно он ушел? Слуга призадумался, потом, отсчитывая пальцами дни, сказал: — По-моему, семь дней назад. Семь дней! Да что же могло случиться с Нагаокой? Может, Кобэ напугал его насмерть своими угрозами? Довел до состояния паники? Ведь Нагаока был не похож на человека, который оставил бы слугу присматривать за домом, не выделив тому денег на еду. — А может, он и вправду покончил с собой? — предположил слуга. Такое объяснение Акитада мысленно отверг. Зачем распродавать имущество и уносить с собой все вырученные за него деньги, если планируешь совершить самоубийство? Разве что… Разве что он передал все дела в чьи-то руки, прежде чем покончить счеты с жизнью? — А были у него друзья или какая-нибудь семья, которая могла бы его приютить? — Нет. Только брат в тюрьме. Конечно, Акитада не исключал и другой возможности — что Нагаока, боясь обвинения в убийстве, сбежал, оставив брата на произвол судьбы. В это Акитаде не хотелось верить. — Когда твой хозяин уходил, у него было с собой что-нибудь? Сундучок или узел с одеждой? Как он был одет? Как для долгого путешествия? Может, на нем были сапоги или теплое кимоно? — У него в руках был мешок, что-то вроде переметной сумы, что обычно крепят к седлу. И сапоги на нем были, и ватное стеганое кимоно. — Слуга прищурился, пытаясь поточнее припомнить картину. — По-моему, я видел еще рукоятку короткого меча, торчавшую у него из мешка. — Снова открыв глаза, он вдруг воскликнул: — Так, значит, эта старая св… значит, он все-таки укатил путешествовать! Нет, как вам это нравится?! — А куда бы он мог податься? Нет ли у него каких-нибудь деревенских владений? — Только где живет его брат. В Фусими. А к тестю он вряд ли подался бы. — Он загоготал. Акитада удивленно вскинул брови. — А почему бы и нет? — Они поссорились сразу после похорон. Вы бы только слышали, какой тут стоял крик! Хозяин буквально выставил его за дверь, и старик ушел, пригрозив ему кулаком. — Вот как? — Акитада оживился. — А где живет его тесть? — Неподалеку от хозяйского брата. Щеки раздувает, будто благородный господин, а сам щеголяет в заплатках да в соломенной обувке. — Так-так… — Заметив, что полезные сведения у слуги, похоже, иссякли, Акитада повернулся к двери. — Ну что ж, я проверю твои слова. Если ты мне солгал, то тебя арестуют. Кстати, ты бы прибрался тут везде, на случай если хозяин вернется. С превеликим облегчением слуга пообещал приступить к уборке немедленно, но Акитада чувствовал, что Нагаока не вернется в эту пустую скорлупу, некогдаслужившую ему домом.ГЛАВА 16 ИНЬ И ЯН
— Да уж поздно теперь, — проворчал Тора, когда они вернулись после игры в мяч и Гэнба посоветовал ему все-таки повидаться с девушкой. — Можешь представить себе, что она теперь обо мне думает? Она и так-то в ужасе была, когда я предложил ей встретиться в веселом квартале. — Ну и что? Сходил бы и объяснился. Купи ей что-нибудь миленькое и извинись. Тора заметно повеселел. Он никогда не терял уверенности, если речь заходила о женщинах. — А ты пойдешь? — осторожно спросил он, опасаясь разрушить недавно установленный мир. Гэнба покачал головой: — Нет, я лучше займусь лошадьми. — Он хлопнул по боку серую кобылку Акитады, которая, игриво фыркая, гарцевала на привязи. Тора замялся, потом смущенно сказал: — Мне жаль, что я высказался тогда так про… ну… про ту даму. — Знаю, — ответил Гэнба, не поднимая глаз и возясь с седлом. — На палках она сражалась просто отлично. Бесстрашная такая… — Знаю. — Как думаешь, а борьбой она тоже владеет? — Не удивился бы, окажись это так. — Мне, знаешь ли, не понравилось, что я проиграл женщине. Ты бы стал с ней бороться? Гэнба приторочил седло к спине серой кобылки и подтянул поводья, потом внимательно посмотрел на друга. — После того как она отделала тебя? Нет. — Он усмехнулся. Тора улыбнулся в ответ: — Да ладно тебе! Сам-то помнишь, что говорил мне? Не надо унывать! Есть множество способов найти подход к женщине. Скажи ей, что боишься причинить боль столь деликатному созданию в настоящей схватке, а потом покажи ей, как можно использовать все эти захваты и зажимы по-другому. Гэнба грустно улыбнулся: — Я ей не нравлюсь. Ей нравишься ты. — Это потому, что ты еще не ворковал с ней. Скажи ей, какая она очаровательная, какие сияющие у нее глаза, какой сладкий голосок. Гэнба поморщился. — Не пойдет. Она умная женщина, а не какая-нибудь глупая девчонка. Мы говорим с ней о серьезных вещах. — А вот в этом как раз и есть твоя ошибка. Женщинам нравится, когда ты говоришь об их красоте и томно закатываешь при этом глаза. Такова уж их природа. Найти женщину, которая не клюнула бы на сладкие речи, так же трудно, как отыскать квадратное яйцо. Хочешь, я никуда не пойду, а останусь и поучу тебя немного всяким таким словам? — Нет, спасибо. Уж лучше буду ухаживать сам. А ты иди и разыщи свою девчонку. Успокоенный тем, что отношения с другом окончательно наладились, Тора отправился в город в самом что ни на есть бодром расположении духа. Солнце стояло в зените, близилось время обеда. Тора призадумался. Как же разыскать Злато? В учебном зале она бывает только по вечерам, да и то лишь в дни тренировок. Он вспомнил название ее гостиницы — «Золотая птица», но сначала решил заглянуть в веселый квартал — на случай если она все еще ждет его там. При свете дня веселый квартал выглядел обшарпанным и пустынным. Лишь изредка встречались служанки, подметавшие крыльцо, да носильщики с тюками провианта для чайных домов и винных лавок. Интересовавший его дом находился в одном из боковых переулков — крошечный и невзрачный, он был буквально зажат между двумя своими внушительными соседями. За плетеными воротцами просматривался маленький передний дворик. Летом он был густо увит вьюнком, но сейчас на деревянных шестах болтались только голые плети. Тора открыл воротца и направился по каменной дорожке к входной двери. Там он постучал деревянным молоточком по маленькому колокольчику. Не услышав ответа, он распахнул дверь, вошел в тесную грязную прихожую и сразу же громко позвал: — Эй, Мицуко! — Да! Кто это там? — послышался нежный голосок откуда-то из глубины дома. — Это Тора. Можно мне войти? — Тора? — В голосе появились оживленные нотки. — Сейчас! Сейчас я выйду! Тора улыбнулся и скинул сапоги. Вскоре ему навстречу вышла средних лет миниатюрная женщина в полотняном синем кимоно и торопливо засеменила по тускло освещенному коридору. Ее полускользящая походочка слегка враскачку выдавала ее профессию — она и на самом деле некогда была известной гейшей. Она по-прежнему была грациозна и прекрасна во всем, кроме лица, жестоко обезображенного оспой. — Ах, это ты, Тора, мой яростный зверь! — радостно воскликнула она. — Как давно мы не виделись! Почти шесть лет, не так ли? Ну, проходи, проходи! Дай-ка мне взглянуть на тебя! Тора пошел ей навстречу по гладко отполированному полу коридора. — Прекрасно выглядишь, цветик мой ясный! — сказал он с поклоном. — Я рад, что нашел тебя все такой же очаровательной. Она рассмеялась над его учтивостью и пригладила волосы, завязанные в тяжелый густой узел. Они до сих пор не утратили своего блеска, как не утратил своего очарования ее смех, в котором слышались воркующие перекаты, напоминающие звук гладких камешков, когда их ссыпают в глиняный горшочек Его мелодичное журчание заставляло мужчин слабеть от удовольствия. — Ну и врун же ты, мой красавчик! — сказала она, игриво дергая Тору за нос. — А знаешь, у меня есть довольно приличное винцо. Может, выпьем по чарочке, пока ты поведаешь о своих приключениях бедной одинокой старушке? — Никакая ты не старушка, только… — Он посмотрел на нее с тревогой. — Неужели все это время ты была одинока, Мицуко? Она похлопала его по руке. — Не больше, чем обычно. С тех пор как ты вырвал меня из лап этого ужасного человека, я могу ходить где захочу, и друзья снова навещают меня. «Ужасным человеком» был некий горбун, торговавший рыбой. Перекупив долги Мицуко, он чуть было не сделал ее своей собственностью, заявив, что она продала ему себя. Как и многие женщины ее сословия, Мицуко была неграмотна и не смогла прочесть документы, которые скрепила своим значком. Тора же добился того, чтобы рыботорговец не только отказался от этих документов, но и больше никогда не приближался к этой женщине. — Я надеялся, что этого ублюдка уже нет в живых. Гора уселся в крошечной гостиной, где едва хватало места на двоих. Мицуко достала вино и изящным движением разлила его по чаркам. — Добро пожаловать домой, мой Тигр, — сказала она с улыбкой. Тора поднял свою чарку и отпил. Вино было весьма приятным на вкус, но он пил потихоньку, помня о ее бедности. Поставив чарку, он спросил: — Скажи, Мицуко, а не заходила ли к тебе вчера вечером молодая женщина, не спрашивала ли обо мне? Мицуко удивленно приподняла брови. — Ты заводишь новых друзей, не навестив старых? — Прости, Мицуко, но это другое. Я встречался с ней по заданию хозяина. И до сегодняшнего дня у меня даже не было свободного времени. — Ах вот оно что. Тогда прощаю тебя. Нет, никто ко мне не приходил. Может, ты не такой уж неотразимый, как думаешь? Тора приуныл. — Наверное. Хотя могу поклясться, что я ей понравился. Кстати, может, ты знаешь ее? Она актерка. Выступает под именем Злато. Со своей сестричкой-близняшкой по имени Серебро работает в труппе некоего Уэмона. Мицуко задумалась. — Нет. Но представления Уэмона я видела. Мне понравилось. И она что же, хорошенькая? — О да, очень хорошенькая. Но конечно, не такая красивая, как ты. Она грустно улыбнулась: — Ты всегда такой добрый. Тора. А ведь иногда мне очень нужно слышать такие слова. После того как я перенесла оспу, люди перестали любоваться мной. Один только взгляд, знаешь ли, а потом отводят глаза в сторону, когда разговаривают со мной. Тора смотрел на нее. — Не все люди. Я вот, например, любуюсь тобой. Глаза у тебя все такие же большие и красивые, и улыбаешься ты как богиня. Только кожа маленько попорчена. Ну и не стоит о ней горевать. Я видывал и похуже, причем совсем недавно. Она горько рассмеялась и дотронулась до своей бледной щеки, сплошь изрытой ямочками оспин. — Ну уж хуже-то ты вряд ли видел. Ни одной женщине не досталось такого, как мне. — Ты могла потерять и больше. Чаще всего люди умирают от оспы. — Вот я и жалею, что не умерла. В таких случаях Тора всегда терялся, не зная, что сказать. — А я вот недавно видел одну девушку. Вот уж у кого был ужасный вид! Какой-то мерзавец буквально выкроил ей ножом новое лицо. Носа не оставил, от верхней губы только часть да еще парочку ртов прорезал на лице. Глаза Мицуко расширились. — Так она все-таки выжила? А мы думали, она утопилась. Она работала здесь, в веселом квартале, одно время. Такая вроде бы ладная была, а все никак не могла найти хороших клиентов. — Мицуко имела скромный доходец с того, что устраивала для мужчин свидания с женщинами из веселого квартала. Старые друзья не забывали о ней и помогали, подбрасывая клиентов. — Очень, говорят, была миловидная девушка, я даже собиралась обратиться к ней, когда она вдруг исчезла. — А что случилось? — В простонародье это приписывают демонам, только скорее всего это был кто-то из клиентов. Потом уж пошли слухи о каком-то… чужаке. — Она вздохнула, потупившись. — Хочешь сказать, кто-то из клиентов сотворил с ней такое? — Иногда мужчинам, чтобы насладиться игрой тучи и дождя, нужно сделать женщине больно. — Какая мерзость! — ужаснулся Тора. — Но зачем же она позволила ему так с ней поступить? — Я думаю, она просто не ожидала. — Но этого ублюдка нужно остановить, пока он не совершил такого опять! Она сказала кому-нибудь, кто это был? — Думаю, нет. Ты бы спросил у нее сам. Я бы тоже хотела знать, потому что девушки обеспокоены. Тора задумчиво смотрел на нее. Сколько раз ему приходилось сожалеть, что хозяин ведет свои расследования по большей части самостоятельно — словно не доверяет умственным способностям Торы. Вот и недавняя взбучка еще не улеглась в памяти. А что, если он разрешит это страшное дело своими силами? Может, этот изверг, орудующий ножом, станет его шансом проявить себя? — А что, если я поймаю этого ублюдка? — спросил он у Мицуко. Она улыбнулась: — Как раз ты мог бы. Ведь, похоже, больше никому до этого нет дела. Даже полиции, которой наплевать на бедных женщин. — Тогда пожелай мне удачи! — Он торопливо допил свое вино и поднялся. — Куда же ты?! Ты ведь только что пришел! — И скоро вернусь, прелесть моя. Мицуко покачала головой, лукаво глядя на него. Он так и не понял, обижена она или заинтригована этим его коротким визитом. На прощание он обвил ее рукой и ущипнул, прежде чем направиться к двери. Полностью вжившись в роль охотника за душегубами, Тора напрочь забыл о том, что Злато, возможно, не захочет встречаться с ним столь открыто. Да и о чем еще он мог думать, если мерзавец, преследовавший женщин из веселого квартала, разгуливал на свободе? А что, если Злато попалась в лапы этого зверя, идя на свидание к Торе? По дороге он спросил у прохожих, как разыскать «Золотую птицу». Дешевая гостиница для бедных путников располагалась в тесном переулочке близ реки, неподалеку от учебного зала госпожи Вишневый Цвет. За выцветшей, износившейся в лохмотья занавеской, что висела над входом, Тора сразу же столкнулся с двумя мальчуганами. Они сидели на деревянном помосте и, болтая ногами, увлеченно играли в кости. — Ну? Чего надо? — раздраженно спросил тот, что поменьше, не по-детски сиплым голоском. Тора изумленно вытаращился на него, пытаясь присмотреться к полумраку. По виду мальчонке никак нельзя было дать больше пяти-шести годков. Крохотные ручки, ножки… И такой голос! — Что ж мать не воспитывает тебя? — рявкнул на него Тора. — А ну-ка говори, где она? Кто тут старший? — Он перевел взгляд на другого мальчишку, который только глупо улыбался. Наверное, дурачок, подумал Тора. И с чего эти малолетки вздумали играть на деньги? Горка медяков перед тем, что поменьше, производила впечатление. Малыш вдруг вскочил, опершись при этом на руки как маленькая обезьянка. Когда он встал во весь рост, Тора заметил, что голова его выглядела непомерно большой по сравнению с коротеньким тельцем. Тора решил, что в жизни не видал более уродливого ребенка — огромные оттопыренные уши, нос луковицей и востренькие крысиные глазки да еще этот не по-детски злобный взгляд!.. — Нет, ты только посмотри, он еще говорит про какое-то воспитание! — прохрипел маленький уродец. — Интересно, какая шелудивая кошка оттаскала тебя за эти проеденные молью усы? Такого оскорбления в адрес своих усов, являвшихся предметом гордости их владельца. Тора, конечно, стерпеть не мог. Он сделал один большой и решительный шаг вперед. — Ах ты, паршивец, дай-ка я надеру тебе задницу! — Он схватил малыша за шиворот и хотел наклонить через колено, но буквально застыл на месте, когда увидел у «ребенка» седину в волосах и морщины на совершенно взрослом лице. Потрясенный Тора невольно разжал руки. Маленький старичок шмякнулся на задницу, потом вдруг подскочил и, ловко извернувшись, лягнул Тору прямехонько в пах. Тора согнулся вдвое. — Ах ты, ублюдочный недомерок! — воскликнул он, обретя дар речи. Карлик вспорхнул, словно птичка с насиженного места, и разразился отвратительным кашляющим смехом. — Я еще и не так могу тебя отделать, если вздумаешь переть на меня, ублюдочный переросток! — прокаркал он. Тора вдруг понял всю нелепость ситуации и усмехнулся. — Прости, дядюшка, — сказал он. — Я вовсе не хотел тебя обидеть. Просто темновато здесь после улицы. Маленький уродец прищурил глазки и кивнул. — Ладно, — проворчал он. — Я здесь управляющий. Чего тебе надо? — Мне нужна одна из девушек Уэмона. Ее зовут Злато. Говорят, она проживает здесь. Карлик и улыбающийся мальчик переглянулись. Когда карлик снова перевел взгляд на Тору, лицо его было мрачно. — Съехали! — сказал он. — Съехали?! Что, прямо всей труппой? Так неожиданно? А куда? — Откуда мне знать! Красавчик ихний расплатился, они все съехали. Я обычно не спрашиваю людей, куда они держат путь. Тора недоуменно смотрел на коротышек. Какую-то настороженность уловил он в их глазах — такое впечатление, будто они наблюдали за тем, как он воспримет эту новость. Вздохнув, он вытащил связку монет. — Сколько я должен? — спросил он у карлика. Глазки-бусинки заблестели, жадно сверля связку в Ториной руке. — Двадцать, — навскидку сказал карлик. Это было все, чем располагал сегодня Тора на обед. Он отсчитал двадцать монет и положил их стопкой на помосте, потом, не убирая руки, сказал: — Мне нужно знать, когда они уехали, куда отправились и была ли с ними эта девушка. Глазенки карлика загорелись. — Уехали вчера, куда — не знаю, девушка была. — А может, что-нибудь знает твой юный друг? — спросил Тора, все еще держа над монетами руку. Мальчик по-прежнему улыбался. Отчаянно замотав головой, он издал какой-то фыркающий звук. Что это было — то ли смех, то ли убогая речь дурачка, — Тора так и не понял и наконец открыл деньги. Карлик сгреб их с такой скоростью, что даже дотронулся пальцами до Ториной руки. Ну что ж, по крайней мере с девушкой все было в порядке. Тора кивнул игрокам-коротышкам и вышел на улицу. Уже давно перевалило за полдень, и в желудке у него бурчало. Тора сиротливо озирался по сторонам. Хозяин велел ему разыскать актеров. Но куда они могли податься? Ведь им же надо где-то репетировать. Отираться по всем гостиницам и ночлежкам в городе ему очень не хотелось, поэтому он решил заглянуть к госпоже Вишневый Цвет — та наверняка должна знать об их планах. К тому же, если он собирается поймать того изувера, ему обязательно нужно поговорить с изуродованной девушкой. По дороге он придумал и третий повод. В его разыгравшемся от голода воображении всплыл портрет госпожи Вишневый Цвет за трапезой. У дамы, обладающей столь мощным аппетитом, могли найтись какие-нибудь объедки и для него. Госпожа Вишневый Цвет и впрямь только что отобедала. Восседая на своем троне и с сожалением глядя на поднос в руках изуродованной служанки, она сказала, облизывая губы: — Унеси это, милая. Доедать не буду. Меня ждет господин Оиси. Нам предстоит урок борьбы, и я не хочу расслабляться. Воспользовавшись отсутствием привратника и проскользнув незамеченным, Тора наблюдал. Господин Оиси, чьи колышущиеся телеса напоминали гору, в одной набедренной повязке с нетерпением ожидал урока, и служанка понесла поднос прочь. Увидев, как еда исчезает на глазах, Тора не выдержат и крикнул: — Постой! Три пары изумленных глаз обратились в его сторону. А потом произошло нечто ужасное. Служанка пронзительно заверещала и уронила поднос. Выругавшись, Тора бросился к ней, но его встретил мощный удар госпожи Вишневый Цвет, железно рассчитанный и угодивший прямиком в пах, боль в котором еще не утихла после встречи с карликом. Только у госпожи Вишневый Цвет силенки было, прямо скажем, побольше, чем у старого коротышки. Тора завопил и упал навзничь, корчась от боли. Но уже в следующий момент его накрыла сокрушительная громада человеческого тела, под которой беспомощно захлебнулся его жалкий крик. К счастью, Тора просто потерял сознание. Акитада докладывал Кобэ об исчезновении Нагаоки, когда один из младших полицейских чинов, влетев в комнату, сообщил о поимке маньяка-изувера. Кобэ, оживившись, вскочил. — Наконец-то хоть хорошая новость! — воскликнул он. — Мы ловим этого мерзавца уже несколько месяцев. Акитада, не слишком довольный заминкой, все же вежливо поинтересовался: — Что, опасный преступник? — Пока он охотился только за уличными женщинами, но кто его знает! Нам известны уже шесть случаев со смертельным исходом. — Кобэ повернулся к полицейскому, принесшему новость. — Как вы поймали его? С поличным, надеюсь? Тот несколько смутился. — Ну… да… Что-то вроде того… — промямлил он. — Вообще-то… — Вообще-то что? Ну давай, не тяни! Ведь кого-то из наших могут особо отметить. — Вообще-то, господин, его поймали не наши люди, а женщина. Кобэ изумленно вытаращился на подчиненного: — Женщина?! Хочешь сказать, какая-то шлюха дала ему отпор? Вот молодчина! — Вообще-то это была не шлюха, господин, а госпожа Вишневый Цвет. — Этот придурок напал на госпожу Вишневый Цвет? Акитада усмехнулся, и Кобэ смерил его подозрительным взглядом. — Вы знаете ее? — Только по рассказам моих людей. Если я ничего не перепутал, то эта женщина интересная личность, бывшая акробатка, которая теперь содержит тренировочный зал. Кобэ угрюмо кивнул. — Она самая. И дело с ней иметь, скажу я вам, ой как нелегко! Вечно катит на нас бочки. По мне, так дракон лучше. Не хотите со мной пойти? Акитада колебался. — А дело Нагаоки мы можем обсудить по дороге? — Да там и обсуждать нечего. Впрочем, как знаете. Акитада закусил губу. — В таком случае я пойду с вами. Если Кодзиро не знает, куда отправился его брат, могут быть неприятности. — Один брат не в ответе за другого. К тому же я его предупредил. Они вышли из здания тюрьмы и пересекли двор, где отряд полицейских упражнялся с металлическими цепями, предназначенными для отражения ударов меча. — Нагаока исчез уже давно, — продолжал гнуть свое Акитада. — И унес с собой деньги. Кобэ задумался над его словами. — Полагаю, Нагаока мог быть замешан в убийстве. А если так, то теперь он ушел в горы. — Вы не будете возражать, если я помогу вам найти его? Кобэ остановился и посмотрел на Акитаду. — И куда же вы отправитесь? Что вам известно? — Ничего, кроме того, что я уже говорил вам. Но есть места, где можно поспрашивать. Слуга сказал, что он был одет по-дорожному — сапоги, стеганое кимоно, мешок и, возможно, короткий меч. — Я должен сначала подумать. Они возобновили быстрый шаг и теперь приближались к восточному рынку. Несмотря на холод, здесь, как обычно, было людно. Толпа почтительно расступалась перед полицейскими в красном, позади которых шагали двое важных чиновников. — Так вы говорите, меч? — размышлял вслух Кобэ. Вот уж на кого бы не подумал. — Если при нем были все вырученные за имущество деньги, ему пришлось взять с собой оружие. Дороги небезопасны. — Это конечно. Но где бы вы стали искать? — Хозяйство его брата находится в часе езды столицы. Как и отчий дом его покойной жены. — Хм… А я вот не вижу смысла туда ехать. — Произнеся эти слова, Кобэ повернулся к подчиненному и завел разговор про маньяка. На Акитаду он не обращал внимания до тех пор, пока они не добрались до заведения госпожи Вишневый Цвет. Ступив внутрь, Акитада с любопытством озирался. Место это напомнило ему другой учебный зал, в далекой провинции Кацуза, хотя этот был гораздо просторнее и имел больше снаряжения. Но от воспоминаний веяло грустью, и он отогнал их прочь. Хозяйка зала поджидала их, сидя в кресле на возвышении, в обществе какого-то необъятного толстяка и молодой женшины, скрывавшей лицо за веером. Поскольку подобные кресла не были в ходу — такой мебели не знал даже сам император, — Акитада не мог сдержать изумления. Если бы не эти искусно завитые локоны, украшенные красными лентами, и не выбеленное мелом лицо с густо начерненными бровями поверх подрисованных углем глаз, он принял бы госпожу Вишневый Цвет за толстомясого буддийского настоятеля. — Ба-а!.. Да кто к нам пожаловал! Сам начальник полиции! Какая честь! — пропела дама на троне. — Здравствуйте, госпожа Вишневый Цвет, — сохраняя постную мину, сказал Кобэ. — Так где же этот человек, которого вы подозреваете в зверствах? Начерненные брови приподнялись еще чуть выше. — Ай-ай-ай, как некультурно, господин начальник! Что за тон?! Я ведь, между прочим, избавила вас от многих месяцев, а может быть, даже лет трудной работы, поймав это чудовище! — Ну вот что, госпожа, у меня нет времени, — отрезал Кобэ. — И я хотел бы поскорее взглянуть на этого парня. К тому же мы совсем не уверены, что это тот, кто нам нужен. — Вот как? Зато я уверена. Его опознала жертва, когда он собирался напасть на нее снова. Кобэ посмотрел на молодую женщину, прятавшую лицо. — Насколько я помню, в прошлый раз ваша служанка сказала, что не может опознать нападавшего. Она сказала, что было слишком темно и что она потеряла сознание. Как же тогда она может быть уверена сейчас? — А вот сейчас она узнала его. Этот мерзавец снова напал на нее. Недавно в один из вечеров, прямо возле моего заведения. В темном переулке. Несомненно, намеревался убить ее, чтобы она не опознала его. Мы бы и тогда поймали его, только было темно, и он удрал. Кобэ пробурчал что-то вроде ругательства. Госпожа Вишневый Цвет еще выше вскинула брови и недовольно поджала губы. — Если он удрал, то как же получилось, что он оказался в ваших руках сейчас? — сдерживаясь из последних сил, сказал Кобэ. — Ха! Этот дурак предпринял новую попытку прямо при свете дня — думал, его не узнали. Явился голубчик прямешенько сюда. Бедняжке Юкио повезло, что рядом оказалась я. — Пухлой рукой госпожа Вишневый Цвет погладила по голове молодую женщину, которая, съежившись от страха, буквально вросла в пол. — Глаза у Юкио чуть не вылезли наружу, она уронила поднос с едой да так закричала, что крыша чуть не рухнула. Вот тогда-то это животное и бросилось на нее, чтобы свернуть ей шею, только я вовремя врезала ему по яйцам. Здорово, правда? Кобэ поморщился. — Да не то слово. — Ну, он, конечно, повалился, а уж тогда господин Оиси, ожидавший урока по борьбе, вспрыгнул на него сверху и вырубил окончательно. Мы связали его и оттащили в чулан. Вряд ли он теперь доставит вам сколько-нибудь хлопот, только уж обратно тащите сами. — Понятно. Ну что ж, давайте взглянем на него. — Кобэ проявлял нетерпение, посматривая на дверь позади помоста, и даже двинулся в ту сторону, но госпожа Вишневый Цвет остановила его. — Подождите, господин начальник полиции! — властно крикнула она со своего кресла. Она догнала его и первой направилась к двери. Волей-неволей начальник столичной полиции и вконец заинтригованный Акитада последовали за этой странной женщиной, пусть бы она и была прославленной акробаткой и бывшей любовницей какой-то там титулованной особы монаршего рода. Младшие полицейские чины и господин Оиси пристроились у них за спиной. Не имея возможности разглядеть за тучной фигурой госпожи Вишневый Цвет и широкими плечами Кобэ пойманного преступника, Акитада заподозрил неладное, только когда Кобэ изумленно воскликнул: — Да это же!.. Потеснив Кобэ, Акитада протиснулся вперед и увидел связанного человека на полу, после чего сломя голову ринулся вперед. Оттолкнув Кобэ и госпожу Вишневый Цвет, он опустился на колени рядом с Торой. Тора был в сознании, его бледное как полотно лицо было покрыто испариной. — Благодарение небесам, хозяин, — прошептал он. — Заберите меня домой. Акитада коснулся его лица — оно было мертвенно холодным. Он осторожно отер рукавом капли пота и посмотрел на Кобэ. — Я хочу, чтобы его развязали. Тора работал у меня. Надеюсь, вы его помните? — Кобэ кивнул, и он продолжал: —Эта женщина совершила чудовищную ошибку. Возможно, Тора серьезно ранен, и ему срочно нужен врач… если где-нибудь здесь поблизости найдется таковой. И еще, возможно, понадобится бычья упряжка, чтобы отвезти его домой. Все расходы я оплачу. — Он снова склонился над Торой и, развязывая веревки на руках, спросил: — Как чувствуешь, ты серьезно ранен? — Не знаю. По-моему, ребра. Трудно дышать. — Тора помолчал, перевел дыхание и прибавил: — Эта дьяволица ударила меня в пах. Это уже второй раз за день. — Он закрыл глаза. По щеке его скатилась одинокая слезинка. Акитада, снедаемый жалостью и тревогой, наконец распутал веревку, отбросил ее в сторону и снова принялся вытирать лицо Торы. Кобэ, развязав Торе ноги, свирепо подступил к госпоже Вишневый Цвет. — Ну что ж, кажется, на этот раз вы все-таки вляпались, любезная госпожа, — рявкнул он. — Что вы можете сказать в свое оправдание? Госпожа Вишневый Цвет смущенно пробормотала: — Н-но… он напал на Юкио прямо на наших глазах. Мы сами видели! Правда же, господин Оиси? — Ну да, — сказал господин Оиси голосом на удивление высоким и никак не вязавшимся с этими огромными телесами. — Он действительно двигался очень быстро. Когда вы ударили его, я, разумеется, решил, что он хочет причинить вам вред. Иначе зачем вы стали бы делать это? — Совершенно верно. — Госпожа Вишневый Цвет кивнула. — Меня спровоцировали на защитные действия. Закон позволяет мне защищать себя и членов моей семьи. Я свои права знаю, мне прочитал их один ученый человек. — Позовите врача! — Акитада вскочил на ноги, сверкая на нее глазами. — Его мучают боли! Возможно, он получил неизлечимые увечья. А ваши басни мы можем выслушать и позже. Покраснев, госпожа Вишневый Цвет робко предложила: — Я немножко умею лечить увечья. Давайте я на него взгляну. — Нет! — завопил Тора, в ужасе вытаращив глаза. — Уберите от меня эту дьяволицу! Позовите Сэймэя! Акитада погладил его руку. — Сэймэй слишком далеко, а помощь тебе нужна сейчас. Зато потом мы заберем тебя домой. — И, повернувшись к госпоже Вишневый Цвет, он снова напустился на нее: — Кто здесь поблизости лучший доктор? А ну живее, голубушка, пока я окончательно не потерял терпение и не применил меры для твоего ареста! И как только ты получила права на такую деятельность, которая представляет угрозу для людей?! Госпожа Вишневый Цвет попятилась, боясь смотреть в его сверкающие гневом глаза. — Прямо здесь за углом есть храм Двенадцати Божественных Полководцев. Там один из монахов занимается целительством. Только он очень старый… — Приведите монаха! — распорядился Акитада. Полицейский вопросительно посмотрел на Кобэ, и тот кивнул. — И скажите ему, чтобы принес лед! — крикнула ему вдогонку госпожа Вишневый Цвет, а для Акитады пояснила: — Приложить к распухшим яйцам. Тора застонал и отвернулся. Акитада опустился рядом с ним на колени. — Бедолага ты мой! Мне так жаль! Ты, наверное, разыскивал эту девушку. Злато ее зовут? Тора кивнул. — Мне не стоило разговаривать вчера с тобой в таком тоне. Пожалуйста, прости меня. Тора снова кивнул, потом взял руку Акитады и стиснул ее. — Что это вы там говорите про какую-то девушку? — поинтересовался Кобэ, удивленный столь смиренным тоном хозяина в разговоре со слугой. — Я просил Тору разыскать актеров, которые могли быть очевидцами убийства в монастыре. Одна из этих женщин обещала встретиться с ним вчера вечером в веселом квартале. Вчера я не отпустил его, поэтому он пошел сегодня, вероятно, беспокоясь за нее. Госпожа Вишневый Цвет изумленно воскликнула: — Злато! Да как же я не сообразила-то сразу! — И, набрав в легкие побольше воздуху, она крикнула: — Юкио! А ну сейчас же иди сюда! Служанка робко вошла. Лицо она отворачивала в сторону, но даже того, что Акитада разглядел, было достаточно, чтобы прийти в ужас. — Ну-ка иди сюда, девочка, — скомандовала госпожа Вишневый Цвет. — Посмотри на этого парня хорошенько! Ты уверена, что именно он порезал тебе лицо? Служанка дрожала и заливалась слезами, но ничего не сказала, а только молча покачала головой. — Так это не он? — прогремела госпожа Вишневый Цвет. — Тогда зачем было говорить такое? — Я… Он схватил меня за руку на пороге… Было темно… Я испугалась. — Речь у нее получалась невнятной из-за отсутствия верхней губы, но всем было понятно. — Но это же не то, что исполосовать ножом лицо! Вот ведь глупая девчонка! Полюбуйся теперь, что я сделала с ним по твоей милости! Всего-то схватил за руку в темноте, а теперь вот, может, никогда больше не узнает радостей любовных утех. — При этих словах Тора замер и сжал руку Акитады, а разгоряченная госпожа Вишневый Цвет между тем продолжала: — Может, он теперь никогда не женится и не будет иметь детей! Останется скопцом на всю свою жизнь! А все из-за того, что ты внушила нам, будто он тот извращенец с ножом! Служанка громко разрыдалась. — Ну ладно, довольно! — угрюмо сказал Акитада. — Будем надеяться, что эти пророчества не сбудутся. А теперь уйдите отсюда. Госпожа Вишневый Цвет послушно вышла, уводя с собой всхлипывающую служанку. Кобэ закрыл за ними дверь и присел на корточки рядом с Акитадой. — Ах ты бедняга! — сказал он Торе. — Женщины бывают сущими дьяволицами, но ты не верь тому, что она сказала. Придет врач и вылечит тебя — будешь как новенький. Тора, стиснув губы, смотрел в потолок и молчал. Наконец явился старый согбенный монах в поношенном черном одеянии, заляпанном какими-то пятнами на груди и на рукавах, и принялся осматривать больного, беспрестанно качая головой и что-то бормоча. К раздражению Акитады, он начал свой неторопливый осмотр не с главного увечья, а почему-то первым делом изучил Торино лицо, глаза, язык и пощупал пульс. Он долго колдовал над телом пациента своими узловатыми пальцами, пока Акитада не остановил его окриком «Ну хватит!». Тогда он разомкнул сморщенный рот и изрек: — Холодные и влажные кожные покровы и чрезвычайная бледность свидетельствуют о том, что жизненные силы покинули больного и он находится в «отрицательном» состоянии. Это означает, что мужскую силу ян ослабила и превозмогла женская сила инь, существенно нарушив при этом обычное равновесие энергии. Глаза Торы округлились от ужаса. — Она лишила меня мужского достоинства! — простонал он. — Я так и знал. Теперь просто прикончите меня — я не собираюсь оставаться на всю жизнь кастратом! Кобэ только сочувственно качал головой, но Акитада накинулся на монаха: — Хватит пороть всякую чушь! Ты наверняка можешь сделать что-нибудь, можешь как-то снять припухлость и уменьшить боль. Что там у тебя со льдом? Принес? Монах порылся у себя в узелке и извлек из него каменный горшочек и коробочку со снадобьями. — Человеческое тело слабо и недолговечно, — изрек он. — Оно ненадежно, нечисто и непросветленно. — Он взял в руки горшочек и остановился в нерешительности, потом, кивнув бритой головой в сторону двери, сказал: — Она всегда велит прикладывать к распухшим местам лед. Не скажу, что это неправильно, поскольку опухание сопровождается жаром, но в таких серьезных случаях этот способ опасен. Я бы не советовал прибегать к нему, а использовал бы пиявок. Они снимут опухоль, не вызывая переохлаждения. Услышав такое, Тора только еще крепче вцепился пальцами в руку Акитады, и тот сказал: — Приложишь лед. Этой женщине с ее профессией виднее, что лучше в таких случаях. — Женская любовь заводит в дебри заблуждений, — проворчал монах. — Ну что ж, не хотите пиявок, так и не надо, дело ваше. — С этими словами он обернул лед в тряпочку и приложил его к паху Торы. Тора вздохнул и сразу же почувствовал облегчение. Потом старый монах ощупал синяки на груди Торы. — Переломанных ребер нет, — заключил он, — но, возможно, повреждены какие-нибудь жизненно важные органы. Холодный пот у больного свидетельствует о возможном разрыве, но говорить об этом с уверенностью пока слишком рано. — А если разрыв есть? — спросил Акитада, с ужасом представив себе, как медленно, в муках умирает Тора от внутренних повреждений. Но монах как ни в чем не бывало завязал свой узелок и поднялся. — Все мы должны быть готовы покинуть этот никчемный мир, — благочинно изрек он. Скорбная тишина повисла в комнатушке, когда он ушел. Ее нарушил Тора, осторожно сказав: — А лед, кажись, помогает. — Вот и отлично! — воскликнул Кобэ. — Вот видишь?! Я же говорил, что все будет хорошо! — А что с дыханием? — спросил Акитада. — Все так же. — Тора серьезно посмотрел на него. — Я не боюсь умереть. — Ты не умрешь! — воскликнул Акитада и вскочил. — Где повозка? Ты сейчас же поедешь домой, там Сэймэй вылечит тебя. Дверь открылась, и госпожа Вишневый Цвет с порога сообщила: — Господин начальник полиции, к вам посыльный. Кобэ вышел, а госпожа Вишневый Цвет робко приблизилась. Она явно успела поплакать — это было заметно по черным кругам размазанной краски вокруг глаз, напоминавших теперь барсучьи. — Прости меня, пожалуйста, Тора. Мне очень, очень жаль, — сказала она больному. — Я постараюсь возместить тебе это. Можешь взять все, что у меня есть. Тора вяло махнул рукой. — Не надо, забудем об этом! — Нет, нет! — принялась настаивать она, горестно заламывая руки, когда в комнатушку снова заглянул Кобэ. — Повозка готова. Но мне придется оставить вас. Похоже, они нашли Нагаоку. Мертвого. С проломленной головой.ГЛАВА 17 ПЕРЕПУТАННЫЕ САПОГИ
После того как Кобэ умчался, второпях толком так ничего и не объяснив насчет Нагаоки, Акитада только проследил, как Тору усадили в повозку, и сразу же отправился разыскивать начальника полиции. К сожалению, в полицейском управлении никто не знал или не хотел сказать, куда тот пошел. Такая же история вышла и в тюрьме, но там Акитада, уже порядком раздраженный, поднял шум и потребовал свидания с Кодзиро. Дежурный полицейский смягчился и отвел его в камеру. Завидев Акитаду, Кодзиро поднялся. Выглядел он гораздо лучше, чем во время их последней встречи. Его явно больше не подвергали избиениям и даже разрешили умыться и побриться. Узнав Акитаду, он поклонился и устремил на него пытливый, внимательный взгляд. — Вы принесли какие-то новости, господин? Неужто убийца Нобуко найден? Акитада сразу понял, что Кобэ не удосужился сообщить парню о смерти брата. Пришлось Акитаде взять эту нелегкую миссию на себя. — Да, новости есть, только они не касаются вашей невестки. — Он пытался подобрать нужные слова. — Вообще-то я надеялся, что начальник полиции сам сообщит вам. Насколько я знаю, он получил какое-то непроверенное донесение о том, что с вашим братом случилось несчастье. В глазах заключенного промелькнула тревога. — Несчастье? Что за несчастье? Он что же, ранен? Или болен? — Подробностей я не знаю и не знаю также, где его нашли. — Нашли? Стало быть, случилось что-то серьезное? — Кодзиро стиснул закованные в кандалы руки и устремил взгляд на запертую дверь темницы. В растерянности он принялся вышагивать взад и вперед. Цепи на ногах позвякивали, не давая ему пройти более трех шагов в каждую сторону. Как зверь в клетке, он уже хорошо знал, когда ему поворачивать. — А что, если он мертв? — проговорил он и остановился. — Он мертв? Акитада беспомощно развел руками. — Не исключено, что найденный человек вовсе не ваш брат, — сказал он, неловко пытаясь уйти от ответа. — Но найденный человек мертв, и они думают, что это мой брат? Акитада кивнул. Кодзиро опустился на пол и закрыл лицо руками, потом убитым голосом произнес: — Спасибо, что сообщили. Теперь хотя бы буду готов, когда Кобэ наконец соизволит уведомить меня. — Я глубоко сожалею, что мне пришлось доставить вам эту печальную весть. — Акитада присел на корточки рядом с ним. — Произошла целая череда каких-то странных событий, которые, возможно, как-то связаны со смертью вашей невестки, и если в найденном человеке опознают вашего брата и он окажется тоже убит, то не исключено, что действовал один и тот же убийца. Ваша задача сейчас помочь мне найти истину в обоих случаях. Вот как, например, вы могли бы объяснить, что ваш брат распродал все свое имущество, кроме дома? И зачем ему понадобилось исчезать, не сказав никому, куда он отправляется и зачем? Кодзиро убрал руки от лица и рассеянно посмотрел на него. — Возможно, я мог бы это объяснить, только сомневаюсь, что это можно как-то связать со смертью Нобуко. Просто дела моего брата в последние годы шли совсем плохо. Я много раз пытался выручить его и предлагал деньги, но он всегда отказывался. Слишком был гордый. У него была безупречная репутация, и кредиторы, как правило, не давили на него, но, возможно, на этот раз у них кончилось терпение. Оплатить свои долги он считал делом чести. Он сделал бы это, даже если бы понадобилось распродать все. Мой брат был человеком чести. — На глаза его навернулись слезы, но он сумел совладать с собой. — А могли его убить из-за денег, что были при нем? — Да, такое возможно. Его слуга сказал, что при нем была переметная сума и что одет он был по-дорожному. Лошадь он мог взять напрокат. Были у него какие-нибудь кредиторы за пределами столицы? — Да. Иногда он покупал предметы искусства в монастырях и в загородных поместьях. Только все свои дела он держал в секрете — возможно, просто не хотел моей помощи. — В прошлый раз я попросил вас подумать насчет вашей невестки. Кодзиро схватился за голову, словно только что вспомнил о своих собственных проблемах. — Я не знаю, что известно вам, поэтому лучше расскажу, что видел сам и что думаю о ней. И он поведал о своих встречах с Нобуко, начиная с самого первого свидания и до последней роковой поездки в монастырь. Он рассказал о ее красоте и о том, как поначалу не верил ей из-за того, что она вышла замуж за его пожилого брата, но как потом все же принял ее, когда увидел, как счастлив брат и как он гордится талантами своей юной жены. — Она искусно играла на цитре и исполняла прекрасные песни. Иногда она даже танцевала для нас. Мой брат был от нее в восторге, да и я в то время тоже. Я был потрясен и ошарашен, когда она однажды подошла ко мне и предложила стать моей любовницей, сославшись на то, что мой брат уже ни на что не способен, а она хочет ребенка. Раздираемый отвращением и жалостью к ней, я перестал гостить у брата, но он послал за мной, и я хоть и неохотно, но вернулся. К счастью, невестка была со мной холодна и держалась отчужденно, и я решил, что ей стыдно за тот случай. — Может, она рассердилась на вас за то, что вы отвергли ее предложение? Кодзиро кивнул. — Такое вполне могло быть. Я тогда сказал ей кое-что, о чем теперь сожалею, но ведь я только хотел призвать ее к здравомыслию. — Как вы думаете, могла она найти себе другою любовника? Он покачал головой. — Мне тоже это было интересно, но я не представляю, как она могла бы это сделать. Мой брат не устраивал в доме увеселений, к нему приходили только клиенты, которые никогда не видели его жены. — А как насчет ее жизни до замужества? Встречалась она тогда с кем-нибудь? Кодзиро беспомощно покачал головой. — О ее жизни в отчем доме мне известно лишь то, что говорила она сама или мой брат. Знаю, что отец ее какой-то ученый, удалившийся на покой. После смерти жены он переехал в Кохату. Нобуко выросла в деревне, но получила от отца хорошее воспитание. Из ее слов я понял, что в ее жизни было место увеселениям. Они отмечали все праздники, приглашали певцов и музыкантов; отец разрешал ей заниматься верховой ездой и брал ее с собой на охоту. Вот почему мне всегда казалось, что она должна ужасно скучать в доме моего брата. Акитада в задумчивости подергал себя за мочку уха. — Но столицу-то ваш брат, должно быть, показал ей? Наверняка брал ее с собой на верховые прогулки при дворе или на всевозможные празднества и представления в монастырях? — Нет. В молодости он увлекался театром, но потом счел подобные развлечения непозволительными для человека с его положением и жену свою никуда не брал. Как я понимаю, ей предназначалось рожать детей и вести спокойную семейную жизнь. — Он слегка покраснел. — В монастыре, где она погибла, были какие-то актеры. Некая труппа Уэмона. Возможно, здесь нет никакой связи, но я знал об этом увлечении вашего брата, и вот теперь вы говорите мне, что ваша невестка, оказывается, тоже могла быть знакома с такими актерами. Кодзиро выглядел растерянным. — Я их не видел и ничего об этом не знаю. В коридоре за дверью послышались шаги и голоса, потом — скрежет ключа в замке. Дверь открылась, и в темницу вошел Кобэ. Кодзиро встал, губы его были плотно сжаты, на лице никакого выражения. Кобэ кивнул ему и повернулся к Акитаде: — Мне сказали, что вы здесь. Кодзиро уже знает? — Я сказал ему только то, что знаю сам. Так что же донесение? Оказалось верным? — Боюсь, что да. Мне очень жаль, Кодзиро. Ваш брат был найден забитым до смерти неподалеку от южной дороги. Примите мои соболезнования. Арестант потупился, разглядывая собственные руки в кандалах. Он сжимал их так крепко, что даже побелели костяшки пальцев. — Благодарю вас, господин начальник полиции, — сказал он ровным, безразличным тоном. — Могу только надеяться, что не мой арест и заключение в тюрьму заставили моего бедного брата пуститься в это ужасное путешествие. — Он поморщился, потом посмотрел на Кобэ: — Надо понимать, вы не собираетесь выпустить меня отсюда, чтобы я нашел этих ублюдков, что убили его? — Вы же знаете, чтоя не могу этого сделать. Обвинение в убийстве с вас пока еще не снято. В разговор вмешался Акитада: — А по-моему, совершенно очевидно, что это сделал не Кодзиро, а кто-то еще. Разве теперь, когда убит Нагаока, а Кодзиро определенно не мог этого совершить, не ясно, что эти два убийства связаны? — С какой стати? В конце концов, Нагаока имел при себе деньги, которые теперь исчезли. Не исключено, что на него напали разбойники. Акитада вздохнул и поднялся. Предположение Кобэ и впрямь звучало правдоподобно. — А почему вы так быстро вернулись? — спросил он. — Я встретил своего помощника у городских ворот. Он как раз занимался доставкой тела. Надо полагать, вы хотели бы взглянуть на него собственными глазами? — Да. — Акитада повернулся к Кодзиро. — Я обещаю вам сделать все, чтобы найти виновного. Я очень хорошо относился к вашему брату. Он был настоящий знаток своего дела и питал к вам большую привязанность. Кодзиро с трудом встал на ноги. — Да, знаю. Спасибо, — сказал он и поклонился.* * *
Акитада и Кобэ пересекли тюремный двор и направились в ту самую крохотную постройку, где еще месяц назад находилось тело жены Нагаоки. Нагаока даже лежал на том же самом месте. Он также пострадал от чудовищных ранений в голову, но его тонкие, заостренные черты оказались нетронуты и выглядели на удивление благородными на этом смертном ложе. Одет он был именно так, как описывал слуга, но было что-то странное в его позе. Акитада некоторое время изучал тело, пока наконец не сообразил, что его так беспокоит. — У него что, сломаны ноги? Кобэ удивленно посмотрел на него, потом наклонился и пощупал одну ногу. — Нет. Дверь у них за спиной отворилась, и в помещение вошел тюремный врач Масаёси, специалист по вскрытиям. — Ну что, новое дельце? — Он прошел вперед и изумленно уставился на Акитаду: — Опять вы? У вас что же, привычка навещать покойников? — У вас тоже, как я вижу, выдался удачный денек. — Акитада сухо поклонился, получив в ответ от доктора такой же небрежный, грубый поклон. Акитада сразу же перешел к делу: — Что у этого человека с ногами? Масаёси оглядел тело и пощупал одну из ног, потом ехидно усмехнулся: — Все шуточки шутите, любезный господин? Простите, но они у вас какие-то детские. Акитада удивленно посмотрел на него, потом покраснел от обиды. Сдерживая гнев, он подошел к телу и сдернул один сапог. Ничего особенного он там не увидел, просто сапоги были надеты не на ту ногу. Он выжидательно смотрел на Масаёси, пока тот не понял, что это была вовсе не шутка, а ошибка. Масаёси насмешливо изогнул брови. Акитаде очень хотелось врезать ему хорошенько, чтобы гадкая ухмылка исчезла с этого лица, но он только сжал кулаки и отвернулся. — Кто это сделал? Ваши люди? — спросил он у Кобэ. Оказалось, что полицейские этого не делали, и это меняло все. Даже Кобэ не заметил, что разбойники сняли с жертвы сапоги, а потом снова надели их, только неправильно. Кобэ чесал затылок. Сняв другой сапог, он принялся осматривать ноги Нагаоки. Носки на них были чистые. — Странно! — пробормотал он. — Я-то подумал, может, они мучили его. Может, примеряли на себя его сапоги, да те не подошли. — Ерунда! Они не стали бы тогда натягивать их на него обратно. Масаёси опустился на колени и принялся изучать рану на голове, осторожно щупая ее пальцами. Сосредоточенно поджав губы, он наклонился еще ниже и приподнял веки мертвеца, потом понюхал его рот. Поднимаясь с удовлетворенной ухмылкой, он сказал: — Даже еще более странным, чем эти сапоги, я нахожу тот факт, что этот человек умер от яда. — От яда?! — удивился Кобэ. — То есть как это от яда? Даже дураку понятно, что он был забит до смерти. Так зачем же тогда его травить? Вы что, с ума сошли? Усмехаясь, Масаёси скрестил руки на слегка выпирающем брюшке и так стоял, раскачиваясь взад и вперед. — А вот и нет, вовсе не сошел. И вообще должен вам признаться, господин начальник полиции, что вы знакомите меня с весьма и весьма интересными случаями. Могу с определенностью сказать, что этот человек сначала был отравлен, а потом уже забит. Вы, конечно же, заметили, как мало крови дала рана. А все потому, что мертвецы, как вам известно, не истекают кровью. Его объяснение было встречено молчанием. Несмотря на всю свою неприязнь к Масаёси, Акитада не мог подвергнуть сомнению его профессиональные знания. Вообще-то ему и самому полагалось бы заметить отсутствие крови в ране. — А можете вы назвать время смерти? — сухо спросил он. — И насколько позже была нанесена рана на голове? Масаёси оживился. Вернувшись к телу, он осмотрел все конечности и суставы вплоть до пальцев на руках и ногах, потом раздвинул одежду, чтобы изучить туловище и пощупать тощий живот Нагаоки. Под конец он щипнул покойника за кожу в нескольких местах, после чего распрямился и заключил: — Трудно сказать. Все зависит от того, где он лежал — на холоде или в помещении возле огня. Труп заморожен — значит, лежал на холоде хотя бы часть времени, а может, и все время. По моим предположениям, несколько дней. Рана на голове была нанесена вскоре после смерти, возможно, пока тело еще не остыло. Я это вижу по остаточным явлениям кровотечения. — Несколько дней! Но это не приближает нас к определению времени убийства! — воскликнул Кобэ. — А что насчет яда? Как задолго до смерти он принял его? — Э-э… тут сказать еще труднее. Одни яды действуют быстро, другие довольно медленно. К тому же мы не знаем, сколько яда он принял. Он мог скончаться всего за несколько биений сердца, а мог корчиться в муках целый день и ночь или даже несколько дней. Я не могу сказать с уверенностью, что он принял, пока не вскрою тело и не проведу кое-какие особые опыты. Для этого понадобятся крысы — заключенных-то своих вы вряд ли пожертвуете мне для этого, — а у крыс переносимость ядов выражается несколько иначе, нежели у людей. И все же нам тогда удастся узнать, был ли этот яд быстродействующим, а уж тогда мы сможем строить догадки, к какому типу он принадлежал. Впрочем, насчет этого есть у меня одна идея. — Какая? — оживился Кобэ. — Ну уж нет, господин начальник полиции! Тут уж извольте подождать. Я не люблю выставлять себя дураком и всячески избегаю этого. — Он вскользь посмотрел на Акитаду и ухмыльнулся. Акитада закусил губу, потом сказал, обращаясь к Кобэ: — Ну что ж, по крайней мере грабеж на большой дороге как мотив здесь явно исключен. Чтобы отравить человека, нужна подготовка. Наобум такие преступления не совершаются. Готовы вы теперь признать, что ошиблись насчет Кодзиро? — Разумеется, нет. Это не освобождает его от подозрений. — Вашим людям не следовало трогать тело. Убийца мог оставить следы, которые помогли бы в его поисках. Например, отпечатки ног. — Да, теперь-то я это понимаю. — Кобэ в сердцах выругался. — Но ведь все выглядело как ограбление! Пропали деньги и лошадь, а сам он лежал на обочине. Мой помощник, опознав в мертвеце исчезнувшего Нагаоку, на радостях решил притащить его к нам. Убить мало этого болвана! Я готов яйца ему оторвать за это! Кстати, как там Тора? Акитада сдержал улыбку. — Сэймэй считает, что он поправится. — Он вдруг почувствовал существенное облегчение — словно камень спал с души, так болевшей из-за дела Нагаоки. — Может, нам с вами отправиться осмотреть место преступления, пока ваш гениальный доктор будет делать свою работу? — предложил он и, улыбнувшись, отвесил поклон в адрес Масаёси, который глазел на него, не в силах скрыть изумления. Кобэ снова выругался. — Полагаю, нам лучше поторопиться. Пока не начало смеркаться. Стемнело рано — они даже еще не успели выбраться из города. Стояла отчаянная стужа. Пронзительный северный ветер толкал в спину, попутно гоня по небу густые темные тучи. Кобэ посетовал, что не взяли фонаря, но Акитада не хотел поворачивать назад. Он боялся, что надвигающийся снегопад уничтожит все следы. Поэтому они гнали казенных лошадей галопом, за ними по пятам следовали помощник Кобэ на бычьей упряжке и шестеро конных полицейских. Перекрикивать стук копыт и завывания ветра было трудновато, поэтому они скакали молча. Вскоре от лошадей повалил пар; хлопья пены разлетались от их разгоряченных морд в разные стороны. По бокам от дороги тянулись пожухшие рисовые и соевые поля, уходившие в затуманенную даль. Иногда попадались унылые домишки, ютившиеся среди жалких кучек деревьев, словно замерзшие птицы. Снегопад застал их на полпути. Тяжелые тучи нависали теперь совсем низко, противный колючий снег припорошил одежду всадников и гривы коней. Помощник Кобэ теперь гнал своего быка вровень с Акитадой, по-видимому, боясь гнева начальника. Он явно хотел загладить свою вину и внимательно изучал дорогу. — Видите вон те сосны впереди? — крикнул он, указывая на темное пятно, выделявшееся среди общей мглы. — Там дорога пролегает через канал, а вскоре за ним надо будет свернуть в сторону. После мостика дорога и впрямь разветвлялась. — И куда же ведет эта дорога? — спросил Акитада у помощника Кобэ. — В деревню Фусими. Название показалось Акитаде знакомым. — А не там ли находится хозяйство Кодзиро? — Да, господин. Только у него не просто хозяйство, а чуть ли не целое поместье. Ну что ж, неудивительно, ведь говорил же Нагаока, что его брат усердным трудом добился процветания своего хозяйства. На него Акитаде очень захотелось взглянуть собственными глазами. Поскольку находилось оно вблизи от того места, где было обнаружено тело Нагаоки, уговорить Кобэ не казалось ему делом трудным. Наконец узкая дорожка уперлась в сосновый лесок, и помощник Кобэ отдал всем команду замедлить шаг. Они подъехали к месту, дочерна вытоптанному конскими копытами и людскими ногами, где и остановились. — Он лежал вон там! Вон под тем камнем, — сказал помощник Кобэ. Он, Кобэ и Акитада спешились. Акитада окинул место безнадежным взглядом. Те, кто нашел тело, и те, кто потом позже пришел его забрать, определенно уничтожили все следы, оставленные убийцами. Но когда они подошли к камню, помощник Кобэ указал на отпечатки конских копыт на мягкой земле. — Они привезли его на лошади, — сказал он. — Мы то пришли пешком и тащили потом до главной дороги. — Они?.. — Акитада присел на корточки, изучая отпечатки. Сердце его бешено заколотилось. — Одна-единственная лошадь… Может, принадлежала ему? А потом ее увели. Справился бы тут один человек? Один мужчина… или женщина. Помощник Кобэ оглянулся назад на полицейских, ожидавших на дороге. — Его подельники могли стоять на дороге. — В данном случае вряд ли, — возразил Кобэ. — Жертва была отравлена, и я не думаю, что убийца потащил бы за собой целый эскорт, чтобы избавиться от тела. Его помощник покраснел. — Тело, судя по всему, просто сбросили, — сказал он Акитаде, — а не положили и не усадили там как-нибудь. Думаю, сбросить с лошади перекинутое поперек седла мертвое тело могла бы, допустим, сильная женщина. Ну а уж мужчина тем более. А вот взвалить его на лошадь куда как сложнее. Они ползали на коленках, изучая отпечатки, но их было слишком много, чтобы составить какое-то мнение. Акитада отказался от этой затеи первым и пошел по следам лошадиных копыт, ведущим от камня. Эти обратные следы почти сливались с теми, что вели к камню. Акитаде они показались совершенно одинаковыми. — А ну идите-ка сюда! — позвал он помощника Кобэ. — Посмотрите вот здесь. Видите, все лошадиные следы имеют одинаковую глубину. А между тем нам известно, что на пути туда лошадь была нагружена телом. Это означает, что человек, привезший тело к камню, вел лошадь под уздцы, а обратно ускакал верхом. Вы согласны? Помощник Кобэ энергично закивал: — Вы правы, господин. Давайте тогда поищем здесь его пешие следы. — Лошадь была всего одна, — сказал Акитада подошедшему Кобэ. — И вел ее всего один человек. Стало быть, он живет где-то неподалеку, в пределах пешего расстояния. Кобэ окинул взглядом заснеженную дорогу, терявшуюся среди деревьев, и, нахмурившись, рявкнул, обращаясь к помощнику: — Как далеко отсюда расположено хозяйство этого брата? Тот вздрогнул. — Чуть поменьше ри[1412] будет, господин начальник. Только что-то нигде больше не видно следов, кроме этого места. В сгущающейся темноте они столпились над отпечатками на земле. — Похоже на сапог. Небольшого размера, но и не женский, — заметил Кобэ. Другой версии никто не выдвинул, и, еще потоптавшись вокруг, они бросили эту затею. Темнело быстро, и снег повалил совсем густой. — Давайте-ка съездим в хозяйство Кодзиро, — откинувшись в седле, предложил Акитада. — Снежная буря крепчает, и, возможно, нам все равно придется искать укрытие. Кобэ окинул хмурым взглядом небо и, что-то хмыкнув, кивнул, после чего небольшая вереница всадников снова двинулась в путь. Они добрались до места, обойдясь без фонарей. К удивлению Акитады, хозяйство Кодзиро оказалось настоящим поместьем со множеством построек, занимавших гораздо больше пространства, чем его собственные владения в столице. Поместье было обнесено стеной, попасть за которую можно было через внушительного вида ворота с черепичной крышей. — А вы уверены, что мы попали куда надо? — спросил Акитада у помощника Кобэ. — Это ж прямо усадьба какая-то богатая. Но тот уверил его, что ошибки никакой нет, и ударил деревянным молоточком по колоколу на воротах. Кобэ подъехал к Акитаде. — Нет, как вам это нравится? — сказал он, не в силах сдержать изумления. — Этот парень ведет себя как занюханный крестьянин. Но если все это богатство принадлежит ему, почему же он тогда не протестовал? Почему за него не вступились состоятельные друзья или бедные чиновники, охотно замолвившие бы за него словечко в обмен на небольшое подношение? Акитада и сам был немало потрясен. — Может, у него просто нет влиятельных друзей и связей или, скажем, он не верит в подкуп. Кобэ усмехнулся, но в этот момент хорошо смазанные ворота открылись. На пороге стоял мальчик лет десяти или одиннадцати с фонарем в руке и вопросительно глазел на них. За его спиной маячил опиравшийся на палку старик в простеньком полотняном кимоно. Закрепленные на стенах главного дома факелы освещали просторный прибранный двор. — Милости просим, — тяжело переводя дух, сказал старик. — Вам, наверное, нужен ночлег? Акитада посмотрел на затянутое мглой небо, в котором кружили снежные вихри. — Да. Благодарим вас за гостеприимство. Погода застала нас врасплох. Мы приехали из столицы, расследуем убийство, произошедшее неподалеку. Вот это начальник полиции Кобэ и его люди, а меня зовут Сугавара Акитада. Имя Акитады скорее всего ни о чем не говорило старику, зато когда ему представили Кобэ, выражение лица его изменилось, а в голосе прозвучала враждебность, когда, вперив пристальный взгляд в начальника полиции, он спросил: — Так это вы держите моего хозяина в тюрьме? Акитада метнул беспокойный взгляд на Кобэ — ему было интересно, как тот отреагирует на выражение столь откровенной неприязни со стороны старика. Привыкший получать от простых крестьян только знаки почтения, Кобэ насупился, потом огляделся по сторонам и, прочистив горло, сказал: — Что-то вроде того. Я отвечаю за все столичные тюрьмы. А вы кто? Ничуть не впечатлившись столь высоким званием, старик распрямился. — Я — Кинзо, управляющий здешним поместьем. Присматриваю за ним в отсутствие хозяина, которого вы посадили в тюрьму, хотя он чист и невинен, как святой. Он в упор смотрел на Кобэ. Кобэ глянул на небо и миролюбиво сказал: — Я не корю вас за ваши чувства, но вашего хозяина мы освободить пока не можем. Для этого нам нужно либо опровергнуть имеющиеся против него улики, либо найти другого подозреваемого. Собственно, за этим мы и пожаловали сюда. Выражение лица старика смягчилось, и он проворчал: — Вы бы лучше вошли. — И он повернулся, чтобы провести их в дом. Мальчик запер за ними ворота. Возле дома Кобэ с Акитадой спешились, и мальчик принял у них лошадей. Остальные последовали за ним к конюшням. Дом, конечно же, был темен и пуст. Кинзо зажег фонарь в прихожей, где они разулись. Потом он провел их темными коридорами в просторную комнату с очагом посередине. Крепкие ставни на окнах были закрыты, защищая дом от ночи и непогоды. В комнате не было ничего лишнего — несколько циновок и подушек, свечи в подсвечниках и огромный деревянный сундук, какой обычно используют для хранения своего добра купцы. Сундук был укреплен металлическими уголками, петлями, замочками на ящиках и металлическими ушками, в которые полагалось просовывать шест при переноске. Единственной в комнате вещью, не имевшей практического предназначения, был настенный свиток с живописным изображением горного водопада. — Дела у твоего хозяина, судя по всему, шли хорошо, — заметил Акитада, озираясь вокруг. — Дайкоку [1413] хранит моего хозяина, да только вот приходится ему терпеть несправедливость и жестокость от императора Чу. — Какой начитанный крестьянин, — шепнул Кобэ Акитаде, пока Кинзо снимал с очага крышку и подсыпал внутрь угли. Потом он разложил вокруг подушки и предложил им сесть. — Можете здесь переночевать, — сказал он Кобэ. Как святой Кобо Дайси [1414], мой хозяин ни за что бы не выставил ненастной ночью за порог даже своего злейшего врага. Может, вы и пытаетесь помочь ему, да только не больно-то спешите. Четыре раза я таскался в столицу и просил дать мне увидеться с ним, и все четыре раза ваши полицейские прогоняли меня прочь. Да наделит великий Амида моего хозяина непоколебимым духом Фудо[1415]! Последний раз один из стражников сказал, что к нему больше не пускают даже жену. И что это за жена такая, спрошу я вас? У моего хозяина нет никакой жены. Акитада и Кобэ переглянулись, потом Акитада сказал: — Стражник ошибся. Эта женщина, что навещала его, оказалась моей сестрой. В свое время она встречалась с твоим хозяином, а когда услышала о его беде, то стала приносить ему еду. Теперь старик наконец по-настоящему обратил на него внимание. — Ах вот оно что! Простите меня, достопочтенный господин! Имени вашего не разобрал. — Сугавара. Я государственный чиновник и принимаю участие в расследовании дела вашего брата и сюда тоже явился, чтобы помочь. Кинзо заулыбался и принялся раскланиваться. — Прославленное имя! Вы идете по стопам своего родовитого предка, бросившего вызов тирании. Вас в этом доме действительно рады видеть. Да вознаградит вас Будда за вашу помощь, а вашу сестру за ее доброту! Отстаивать справедливость — благое дело. Мой хозяин никогда бы не убил жену своего брата. Он любит брата больше жизни. Я так и сказал ему примерно неделю назад. — Сказал? Кому? — спросил оживившийся Кобэ. — Как кому? Господину Нагаоке, конечно. А кому же еще? С хозяином-то мне ваши стражники не дают повидаться. А господин Нагаока заезжал сюда проведать, как дела, ну и принес новости. Я сообщил ему, что сказали мне тюремные стражники насчет жены, и господин Нагаока утверждал, что все это неправда. Наверное, он ничего не знал про вашу сестру, господин. Он сказал, что начальник полиции предостерег и его и что теперь нам остается разве что надеяться на чудо. — Кинзо с укором посмотрел на Кобэ, который не спускал с него пристальных глаз. — Так ты говоришь, Нагаока был здесь неделю назад? — спросил начальник полиции. — И когда же он отбыл? — Когда? На следующий день. У него где-то были дела. — И как он выглядел, когда уезжал? — поинтересовался Кобэ, метнув на Акитаду многозначительный взгляд. Но у старика был проницательный глаз. Он подозрительно нахмурился и сказал: — Как, как!.. Как и следовало ожидать. Как Кумэ, когда насмотрелся на ножки прачки. — Какой еще Кумэ? Что еще за прачка? — недоумевал Кобэ. — Это еще одна легенда. Кумэ — это божество, — объяснил Акитада. — Легенда гласит, что он утратил свою божественную силу, потому что воспылал страстью к смертной женщине. Старик закивал: — Да, женщина погубила Кумэ. И Нагаоку погубила женщина. Она и этот ее папаша. — О чем это он? — спросил Кобэ. — Я-то только хотел узнать, был ли здоров Нагаока, когда уезжал отсюда. — Здоровье у него было в порядке, — недовольно пробурчал старик. — А если так боитесь ночевать здесь, то, пожалуйста, скачите себе в самую пургу домой. — Нет-нет, ты не так понял, — спохватился Акитада. — Дело в том, что Нагаока был найден мертвым примерно в одном ри отсюда. Возможно, смерть настигла его как раз в тот день, когда он выехал из поместья. Мы с начальником полиции пытаемся установить, что с ним произошло. Ты, случайно, не знаешь, куда он направлялся? У Кинзо отвисла челюсть. — Господин Нагаока мертв? — Он недоуменно покачал головой. — Ох-ох-ох!.. Вот ведь что значит плохая карма! Ну, теперь мой бедный хозяин совсем впадет в отчаяние!.. — Ладно, ладно! — оборвал его Кобэ. — Куда держал путь Нагаока? Кинзо вдруг вытаращил глаза и закричал: — Ага! Я знаю! Эта женщина забрала его! Точно, точно! Вот говорят, что души усопших остаются в доме в течение сорока девяти дней. А ее душа, видать, подалась в Кохату. Ведь туда же отправился господин Нагаока. Да, да, как раз через эту гору в Кохату. А эта злобная дьяволица поджидала его там, затаившись в засаде. — И он сокрушенно закачал головой.ГЛАВА 18 ДВА ПРОФЕССОРА
Кинзо хорошо принимал их в тот вечер — приготовил им баню, горячий сытный ужин и мягкую постель. Акитада давно так хорошо не спал. За окном в студеной ночи бесшумно падал снег, но в очаге уютно мерцали угли, согревая комнату и навевая покой. Наутро явился Кинзо в сопровождении мальчика, несшего в руках поднос с дымящимся рисом. — Снегопад закончился, — объявил Кинзо. — Верхом вы без труда проедете через гору в Кохата. Путь оказался грудным, но небо расчистилось, и иногда даже выглядывало солнце. Сверкающий снег в тенистых местах казался почти синим, а стволы и ветви деревьев на его фоне напоминали черные росчерки кисти по рисовой бумаге. Деревушку Кохата они завидели, как только начали спуск. Немногочисленные покосившиеся домишки крестьян, почтовая станция и какое-то довольно крупное хозяйство, состоящее из многих построек, предстали их взору. Хозяйство, как оказалось, принадлежало тестю Нагаоки, получившему у местных жителей прозвище «профессор». Оно определенно имело не столь процветающий вид, как поместье Кодзиро, и явно знавало лучшие времена. Ограда местами порушилась, но ворота сохранились в целости. Тоненький дымок вился струйкой над какой-то убогой, зашарпанной постройкой — очевидно, кухней, — от которой кем-то была протоптана тропинка к главному дому. Вокруг было пустынно, поэтому помощник Кобэ постучал в дверь. Ответа не последовало. После нескольких попыток поднять кого-нибудь в доме Акитада и Кобэ спешились и пошли осмотреть задворки. Покосившаяся деревянная калитка вела в крохотный садик, вернее, бывший садик, теперь заросший, неухоженный и заваленный снегом. Одна-единственная цепочка человеческих следов, огибая угол дома, вела в глубь сада. Следуя по ним, они пришли к небольшому павильону. Двери постройки были распахнуты настежь, а в глубине виднелась застывшая на месте согбенная фигура. Укрытый с головы до пят старыми стегаными одеялами, человек этот сидел, склонившись над столиком, заваленным бумагами. Лишь иногда из этой бесформенной кучи высовывалась рука, чтобы накорябать несколько иероглифов, после чего окоченелые пальцы подносились ко рту. Сидевший в холодном домике человек не слышал приближающихся по мягкому снегу шагов и обернулся, только когда они взошли на крохотную веранду. Одеяла соскользнули с него, и перед ними предстал старик с блестящими черными глазами и мокрым носом. Кобэ тут же сказал: — Простите, что помещали, но никто не ответил на наш стук. Не вы ли профессор Ясабуро? Старик шмыгнул носом и отер его замусоленным рукавом. — Ну уж нет, слава Богу, — проговорил он гнусавым простуженным голосом. — Отвратительный скряга, проклятый тиран, грубый невежа, несносный стихоплет, бездарный стряпун, презренный спорщик, горе-ученый, дрянной отец и никудышный каллиграф, вот кто он, этот ваш Ясабуро. И вино у него паршивое. Нет уж, я — это не он, слава Богу. — Тогда кто же вы? — поинтересовался Кобэ. Старик снова вытер нос и шмыгнул. — Проклятый холод! — пробурчал он. — Что-то не припомню, чтобы сами-то вы представились. — Я начальник полиции Кобэ. — Курам на смех! — Старик ухмыльнулся. — С чего бы это начальнику столичной полиции являться сюда? Придумайте что-нибудь получше. — Не тратьте мое время понапрасну! — вспылил Кобэ. Даже не поднимаясь с места, старичок умудрился выказать почтение. — Харада. Бывший профессор математики Императорского университета, а ныне жалкий раб в услужении. — Я расследую преступление. Вам знакомо имя Нагаока? Старичок изумленно уставился на него: — У Нагаоки неприятности? Удивительно. Он же был здесь недавно. — Был? Когда? Харада шмыгнул носом и заглянул в свои приходные бумаги, ведя по строчкам посиневшим от холода пальцем. — Ну вот же, — пробормотал он. — Да, у меня отмечено второе число этого месяца. — Ага! — оживился Кобэ. — Уже кое-что проясняется. Кстати, какого черта вы тут делаете? — Уж не знаю, какого черта, но я здесь работаю. А без черта тут явно не обошлось — чертовски трезв, чертовски продрог и вожусь с чертовыми счетами этого чертова скряги в непротопленном садовом домике, где на меня орет какой-то полицейский. Акитада сдержал улыбку. За пределами столицы Кобэ явно не пользовался уважением. Он спросил у непочтительного Харады: — А где ваш хозяин? — Мой хозяин? — Приподнявшись, Харада попытался смерить Акитаду презрительным взглядом, но из этого ничего не вышло — все испортила очередная капля, повисшая на кончике носа. Он смахнул ее замызганным рукавом и высокомерно проговорил: — Если вы — кстати, абсолютно незнакомый мне человек — упоминаете здесь Ясабуро, значит, вы плохо слушали. Этот человек никому не хозяин. Он неумеха во всем, полный неудачник. Я работаю у него, но при этом во многих вещах скорее я у него хозяин. В этом вся тонкость, молодой человек. Запомните это! Акитада улыбнулся: — Простите меня, господин Харада. Меня зовут Сугавара. Я принимаю участие в расследовании дела одного из заключенных господина Кобэ, брата Нагаоки. — Ах вот оно что?! Несчастный Кодзиро! — Харада оглядел Акитаду с головы до ног. — Ад разверзает свою пасть в самых неожиданных местах и в самых потаенных уголках. Остерегайтесь демонов, что скрываются среди живущих. — О чем это вы? — сухо спросил Акитада. Но Харада отвернулся, качая головой: — Да так, ни о чем. Вам лучше подождать Ясабуро. Он сейчас с луком и стрелами сеет смерть и разрушение среди ворон. — Он снова укрылся одеялами и принялся растирать тушь. Рассерженный Кобэ открыл было рот, чтобы объяснить Хараде, кто тут отдает распоряжения, но в это время со стороны дома послышался чей-то крик. Они обернулись на голос. По заснеженному саду к ним быстро приближалось еще одно странное создание — высокий тощий старикашка с проседью в бороде и щетинистыми бровями. На нем были старомодный, отороченный мехом охотничий плащ, меховая шапка и высокие, облепленные снегом меховые сапоги. Если бы не лук и не колчан со стрелами за спиной, его можно было бы принять за старого медведя, расхаживающего на задних лапах. — Кто вы, ко всем чертям, такие и что вам нужно? — прокричало визгливым голоском странное создание, потрясая луком. — Отстаньте от него! Он работает. И я плачу ему за это, а не за то, чтобы он трепал языком со всяким встречным-поперечным дурнем, которого угораздило сбиться с пути. — Это вы Ясабуро? — рявкнул на него Кобэ, окончательно потеряв терпение. Меховой человечек — лет под семьдесят, судя по бороде, — остановился и изумленно уставился на Кобэ, потом огрызнулся: — Я первым задал вопрос. Кобэ помрачнел — он явно не привык к такому неподчинению. — Полиция! — рявкнул он. — Мы зададим вам кое-какие вопросы. В доме. Ясабуро отвел взгляд. — Я удалился на покой, — пробормотал он. — Если вам нужен совет специалиста, обратитесь лучше к университетской молодежи. Кобэ буквально выпрыгнул из хибарки на снег. — Я сказал, идемте в дом! И если вы сейчас не сдвинетесь с места, я велю привязать вас к лошади, и вы у меня потопаете пешком до столицы. Без единого слова Ясабуро повернулся и зашагал к дому. Связка мертвых птиц, болтавшаяся у него на поясе, походила на хвост какого-то большого зверя. Акитаде показалось, что он услышал за спиной тихое хихиканье, но, когда он обернулся, Харада сидел, уткнувшись в свои счета. Дом оказался крепким старым особняком с покатой крышей, выстроенным из прочной, солидной древесины, правда, почерневшей от времени и копоти. В грязной прихожей Ясабуро швырнул в угол связку птиц и присел разуться на каменную ступеньку, от которой начинался деревянный пол коридора. — Вот чертовы птицы! — пробурчал он. — Никто столько шуму не делает, как эти вороны. — Своим гостям он даже и не подумал предложить разуться. Акитада и Кобэ молча скинули сапоги и последовали за ним. Шаркая впереди, он привел их в просторную комнату с очагом посередине, такую же, как у Кодзиро, только здесь вдоль задней стены имелся деревянный помост, возвышавшийся над остальным полом. На этом помосте располагались какие-то странные предметы, которые трудно было разглядеть в потемках, пока Ясабуро не зажег фитилем пару масляных ламп. Гости в изумлении уставились на громадный, обтянутый кожей барабан, украшенный деревянной резьбой в виде оранжевых языков пламени и черно-белых символических знаков инь-ян, и на другие барабаны поменьше, на складные табуретки, цитру и пару лютен. На вбитых в стену гвоздях висели флейты самых разных видов. — Я вижу, вы здесь у себя в деревне устраиваете музыкальные представления, — сказал Акитада. — Больше уже не устраиваем, — проворчал Ясабуро. — Раньше все это было, когда девчонки жили здесь. А теперь вот сиди только да жди, когда смерть придет. Он пнул ногой в их сторону несколько пыльных выцветших подушек и пошевелил угли в очаге. Подкинув к ним дровишек, он раздул огонь, взметнувшийся к почерневшим от копоти балкам. Комната наполнилась дымом. Кобэ и Акитада уселись на подушки подальше от очага. Хозяин дома не стал дожидаться, когда пламя немного поутихнет, и наполнил свисавший на цепи закопченный железный чайник вином из глиняного кувшина. Потом он скинул с себя меховой плащ и шапку, бросил их на стоявший в углу платяной сундук и сел рядом с гостями. — Ну и что же вам нужно? — недружелюбно спросил он. Акитаде показалось, что за этой неприветливостью скрывалось беспокойство. — Я начальник столичной полиции Кобэ. Скажите, к вам недавно наведывался ваш зять Нагаока? Ясабуро не мог скрыть удивления. — А в чем, собственно, дело? — Зачем он приезжал сюда? Ясабуро поерзал на подушке, потом сказал: — Соболезнования выразить. — Ну и с деньгами разобраться, как я понимаю? — вставил Акитада. Ясабуро метнул на него взгляд из-под кустистых бровей, но ничего не ответил, а, встав, разлил горячее вино в три чарки и две протянул Кобэ и Акитаде. — А вы не похожи на полицейского, — сказал он Акитаде. — Кто вы такой? — Я Сугавара Акитада и представляю интересы брата Нагаоки. Вино оказалось мутным и кислым на вкус. Либо этот человек испытывал крайнюю нужду, либо и впрямь был скупердяем, как назвал его Харада. Ясабуро свирепо сверкнул глазами. — Этого ублюдка, убившего мою девочку? Вам нечего делать в моем доме! Убирайтесь вон! — Он останется, — вмешался Кобэ. — А вы будете говорить. — Что вам от меня нужно? — Голос Ясабуро перешел на визг. — Я потерял родное дитя, любимую дочь, красавицу, одаренную всеми талантами, а вы врываетесь в мой дом и терзаете меня какими-то дурацкими вопросами! И что с того, если Нагаока заявлялся сюда неделю назад? Не очень-то он торопился. Ему давно уже следовало принести свои извинения за то, что его братец сотворил с моей маленькой доченькой. Да и был-то он здесь всего ничего — утром приехал и в тот же день уехал. Дела у него где-то были, как он сам сказал. — Какие дела? Где? — Откуда мне знать? Может, охотится за каким-нибудь редким предметом, надеется надуть полуграмотных монахов, чтобы потом загнать его по баснословной цене в столице. А на что он еще-то способен? Только деньги добывать. Поэтому я и отдал за него свою доченьку. Чтобы она хорошую жизнь увидела. Ха-а! — Он издал горлом какой-то горестный звук, покачал головой и прикрыл глаза рукой. Акитаде эта демонстрация чувств показалась неубедительной. Этот Ясабуро явно состоял из множества противоречий, играл много ролей одновременно. То он изображал деревенского отшельника, то неординарного ученого, то убитого горем отца, то отрицающего весь мир циника. Он испытывал жгучий интерес к этой персоне, но счел, что лучше будет, если вопросы станет задавать Кобэ, особенно теперь, когда выяснилось, что его присутствие здесь не сильно приветствуется. — Кстати, по поводу денежных дел Нагаоки, — продолжал Кобэ. — Сколько он заплатил вам за моральный ущерб от гибели дочери? Последовала изумленная пауза, потом Ясабуро проворчал: — Не столько, сколько хотелось бы! Кобэ повернулся к Акитаде: — Ну вот, теперь хотя бы ясно, куда делись деньги. Значит, не дорожный грабеж. Ясабуро вскинул голову. — У него могло быть больше при себе. Откуда вам знать, что его убили не из-за денег? — А я разве говорил, что его убили? Ясабуро разозлился. — А зачем еще начальнику полиции являться сюда? Ну что ж, так ему и надо. Он в ответе за смерть моей дочери, за это убийство, которое совершил его негодяй-братец. И как вы думаете, сколько ему стоила ее жизнь? Всего-то восемнадцать серебряных слитков! Я сказал ему, что о нем думаю. А он еще пытался выгораживать себя, все хотел открутиться, все ссылался на то, что дела идут плохо. Даже посмел заявить, что запросы Нобуко дорого ему обходились. Ха! Да этот скупердяй держал ее взаперти день и ночь, словно рабыню какую! — Он помолчал, отпил из своей чарки и со стуком поставил ее. — А потом эта бесчувственная рыбина спровадила ее из дома со своим оборванцем-братцем. Как я понимаю, он наказал этому ублюдку обрюхатить ее. Моя бедная доченька сопротивлялась, и тогда этот мерзавец убил ее. Нет, нет, господин начальник полиции, восемнадцати слитков серебра слишком мало, чтобы заплатить за такое безобразие! Тишина повисла в комнате, когда наконец стихли эти источающие злобу речи. Потом Акитада сказал: — Это дерзкое обвинение. И трусливое. Чтобы взвалить вину на мертвого, особой смелости не требуется. — Ой, только избавьте меня от этой слюнявой чепухи! — Ясабуро свирепо зыркнул на Акитаду, потом спросил у Кобэ: — Ну что? Вы узнали, что хотели? — Не до конца, — сказал Кобэ. — У нас есть основания полагать, что Нагаока умер здесь, а потом его перенесли туда, где он был найден. Ясабуро, шатаясь, вскочил на ноги. — Что?! Когда? Да он уехал отсюда тем же путем, что приехал! Уехал живехонький и невредимый на своей лошади. Вот и мальчишка мой может подтвердить. А вы что же, собрались повесить это убийство на меня? — Ну-ка сядьте! И поговорим о его визите. Внезапно вся прыть и дерзость покинули старика, и он смущенно пробормотал: — Мне ничего не известно о смерти Нагаоки. Он уехал отсюда живым. Мог по дороге напороться на грабителей. — Нет. Расскажите-ка лучше про те деньги. — Восемнадцать слитков. Но он был должен мне больше. Мы сговорились на тридцати пяти слитках, когда я приезжал повидаться с ним в столицу. Пять слитков он отдал мне тогда же, а остальное обещал отдать позже. Но привез-то только восемнадцать! — А почему он платил вам? — вмешался в разговор Акитада. — Ведь он не считал брата виновным. Ясабуро ухмыльнулся: — Какая разница, что он считал? Полиция объявила его виновным. Как только я прослышал об этом, сразу же отправился к нему за деньгами. И Нагаока не стал отказываться. Только попросил об отсрочке. Кобэ задумчиво хмыкнул, поскребывая коротко подстриженную бороду. — Постойте, дайте-ка мне разложить все по местам. Вы обратились к Нагаоке с некими требованиями, он выплатил вам часть сразу же, а остальное привез сюда лично. Так? — Ну да, я так и сказал. — Но он привез не все, и вы разозлились. Так? Очень сильно разозлились, насколько я понимаю. Ясабуро закусил губу. — Я был недоволен и дал ему это понять. Он уехал сразу же. — А как насчет напитков? Согреться после долгой холодной дороги? — Кобэ приподнял свою чарку. — Винцом-то горячим его угощали? Как-никак, а он вам приходится родней. Не промелькнула ли беспокойная искорка в глазах Ясабуро? Во всяком случае, он колебался, прежде чем ответить: — Одну только чарку налил, вот и все. — Ага! Стало быть, наливали. — Кобэ кивнул и улыбнулся. — Яд в доме держите? Птиц травить, к примеру. Ясабуро побледнел. Теперь он был явно перепуган не на шутку. — Да живой он был, клянусь вам! Кобэ хлопнул в ладоши, и перед ними тотчас же возник худенький мальчонка с выпученными глазами и открытым ртом. Он появился так мгновенно, будто все это время подслушивал где-то рядом. — Где остальные слуги? — рявкнул Кобэ. — Здесь есть только я и господин Харада. — Мальчонка изумленно пялился на своего хозяина, который сидел, заломив руки и тихонько постанывая. — Ты помнишь человека, который приезжал сюда неделю назад? — спросил его Кобэ. — Средних лет, худой. Приезжал верхом на лошади. — На лошади? — Мальчик продолжал смотреть на Ясабуро, который теперь сверлил его умоляющим взглядом. — Его зовут Нагаока. Торговец стариной, который женился на дочери твоего хозяина. — Ах, он?.. — Ну-ну, так что же? Мальчик неохотно отвел глаза от Ясабуро. — Он приехал утром. На лошади. Я принял у него лошадь. А потом он за ней пришел. — Мальчишка насупился. — По-моему, он был перепуган. Как будто демоны гнались за ним. Ясабуро снова тихонько застонал и закрыл лицо руками. — Да парнишка-то полоумный, — промямлил он и крикнул на мальчика: — Скажи им, что он потом уехал! — А ну не вмешивайтесь! — свирепо зыркнув на него, приказал Кобэ, потом спросил у мальчика: — А не показался ли он тебе больным? Ну там, может, его мутило или тошнило, или может, ему надо было на горшок? Мальчишка захихикал. Кобэ остался недоволен. — Нам лучше позвать Хараду! — Не получится. Он уехал, — сообщил мальчик. — Уехал? То есть как?.. — На хозяйской лошади. — Вот лицемерный обманщик! — завопил Ясабуро. — Он спер мою лошадь и сбежал. Да наверняка с моими деньгами! Быстрее же за ним в погоню! — Этим займется мой помощник, — сказал Кобэ. Помощника отправили в погоню за удравшим Харадой, а Кобэ принялся расхаживать по комнате и что-то бормотать себе под нос. Мальчик продолжал смотреть на Ясабуро, ковыряя в носу. Акитада встал и решил походить по комнате. — Эй ты! — вдруг окликнул мальчишку Кобэ. — А ну-ка посмотри на меня! Кто был здесь в тот день, когда приезжал Нагаока? — Она была, — сказал мальчик. — Она и он. Он мне монетки дает. Ясабуро не выдержал: — Да говорю же я вам, паренек полоумный! Дурачок он, все перепутал и говорит сейчас совсем про другой случай, когда приезжала моя дочь со своим мужем. Ахитада, разглядывавший музыкальные инструменты на помосте, обернулся и с удивлением посмотрел на Ясабуро. Оказывается, у этого человека имеется еще одна дочь. Ну да, если призадуматься, то он уже упоминал об этом раньше. Да и с какой стати ему это скрывать? Только вот ни Нагаока, ни его брат почему-то ни словом не обмолвились об этом. — Они приехали в тот же день, что и господин Нагаока? — спросил Кобэ у мальчика. Тот задумался. — Нет, раньше. Он дал мне пять монет. — Лодка есть, весел нет, — пробормотал себе под нос Кобэ и попробовал по-другому: — Дочка твоего хозяина и ее муж виделись с господином Нагаокой? Говорили они с ним? Но удача, похоже, окончательно отвернулась от Кобэ, потому что мальчишка только покачал головой и сказал: — Может, говорили, а может, нет. — А как насчет лошади господина Нагаоки? Не забыл он ее здесь? Мальчишка заулыбался: — За лошадкой присматривал я. Кобэ только вздохнул и отпустил его. Ясабуро снова завел речь о двуличности Харады, но Кобэ грубо оборвал его: — Заткнитесь! Вы и так уже влипли по уши. — И он снова принялся расхаживать по комнате и бормотать себе под нос. Через некоторое время Ясабуро предпринял новую попытку. — Должен вам признаться, господин начальник полиции, что я не меньше вашего удивлен бегством Харады, — сказал он. — Должно быть, это означает, что он замешан в этом убийстве. Откровенно говоря, я всегда недолюбливал этого человека. Вечно он нес какую-то чепуху, и я всегда считал его полоумным, но я и предположить не мог, что он способен на убийство. Он знал про восемнадцать слитков серебра и наверняка подумал, что у Нагаоки имелось при себе больше. Харада пьет запоем, и никто не знает, чем он занимается в столице. Может, играет на деньги. — Ясабуро беспокойно поглядывал на помост, где Акитада все еще разглядывал музыкальные инструменты. — Интересно, профессор Ясабуро, что же заставило вас нанять к себе на службу такого ненадежного человека, как Харада? — спросил Акитада. Ясабуро заерзал. — Ну… видите ли, он был моим коллегой. Потерял работу в университете из-за пьянства, в котором погряз после смерти семьи. Оспа скосила их. Зато он отлично управляется с цифрами. Пальцы его так и пляшут по счетной доске, а счета ведет просто безукоризненно. Он не получает от меня ни капли вина, когда работает, но раз в месяц я отпускаю его на несколько дней в столицу. — И, видя в глазах слушателей недоверие, он неохотно прибавил: — К тому же он соглашался работать задешево. Акитада продолжил осмотр комнаты. В нише на стене прямо над вазой с сухими ветками висел каллиграфический свиток. И свиток, и выступ, на котором стояла ваза, были покрыты толстенным слоем пыли, затосундук рядом с ними выглядел совершенно чистым. Акитада из праздного любопытства открыл его. Сундук был набит роскошными платьями, поверх которых лежала резная маска, изображавшая какое-то сказочное существо. Он уже хотел спросить у Ясабуро. не имели ли его дочери отношения к театру, да тут же передумал. Теперь уже стало очевидно, что Хараде все-таки удалось удрать. Кобэ прекратил расхаживать по комнате и встал перед Ясабуро. — Вы поедете с нами в столицу, и там мы продолжим допрос. Можете взять с собой что-нибудь из одежды и денег — на них будете покупать еду у стражников. — Это еще зачем? — захныкал Ясабуро. — Я же ничего не сделал! Вы не можете так поступить! Пока Кобэ и Ясабуро собирались в путь, Акитада быстро обошел дом. Когда-то и сам дом, и прилегающие к нему постройки вполне могли вместить целую семью и некоторое количество прислуги, но сейчас Ясабуро, похоже, занимал только одну комнату, потому что остальные, пыльные и неприбранные, имели совершенно нежилой вид. На Хараду и мальчишку Ясабуро, по-видимому, особенно рассчитывать не приходилось. И все же в другом крыле дома одна из комнат составляла исключение на фоне всеобщего запустения. Пол здесь был покрыт соломенными циновками, а по углам стояли сундуки с чистыми постелями. Имелось в этой недавно прибранной комнате также несколько жаровен и масляных ламп. Несомненно, именно здесь ночевала вторая дочь Ясабуро со своим мужем, когда приезжала к отцу. Акитада вышел во двор. Там помощник Кобэ и его люди, угрюмые и злые, как раз только спешились. Харады с ними не было. Хорошо зная местность, он, конечно же, смог беспрепятственно улизнуть, не замеченный никем. В общем, Харада был теперь самой большой загадкой. Кобэ и двое полицейских вывели Ясабуро. У того были связаны руки за спиной. Кобэ сказал: — У одной из лошадей обнаружили клеймо столичной почтовой станции, а еще мои люди нашли яд. Мышьяк. Он утверждает, что припас его для птиц, но я уже предъявил ему обвинение. Доктор Масаёси сможет определить, что принял Нагаока. Ну как, готовы? Путь-то неблизкий. Они поехали впереди остальных. Акитада ощущал смутную тревогу. Он спросил у Кобэ, что тот думает по поводу визита другой дочери и ее мужа. — Мальчишка-то, видать, и впрямь полоумный! Сомневаюсь, что они как-то замешаны, но мы выудим правду из Ясабуро. После этого они все время молчали, погрузившись каждый в свои мысли. Последние открытия, по мнению Акитады, скорее только запутывали, нежели облегчали дело. Ведь до настоящего времени они даже не подозревали, что у погибшей женщины имелась замужняя сестра. И еще больше ставили в тупик эти пышные наряды в сундуке Ясабуро. Ясабуро утверждал, что потерял вкус к жизни с уходом из дома дочерей, но среди пыльных предметов в комнате он, похоже, все-таки выделял этот сундук и с явным благоговением относился к этим остаткам былого счастливого прошлого. Но пожалуй, больше всего Акитаду беспокоила эта подспудная связь с актерами. Она присутствовала буквально везде. Все, кто проходил по этому делу, так или иначе имели к актерам какой-либо интерес или были как-то связаны с ними. Заснеженная местность была пустынна. Мало кто пускался в путь в такое время года. Им встречались только пешие путники — в основном местные крестьяне да странствующие монахи. Но, преодолев последний подъем, они увидели впереди одинокого всадника. Всадник, укутанный во что-то цветастое, пригнувшись к шее коня, кренился в седле то в одну, то в другую сторону и то и дело пускал животное во всю прыть, вскоре снова натягивая поводья. — Боже! Да это ж Харада! — воскликнул Кобэ и пустил свою лошадь галопом. Это действительно был Харада. Заслышав за спиной погоню, он обернулся и хлестнул коня. Животное встало на дыбы и рвануло по голому заснеженному полю; Харада буквально сросся с ним в одно целое, и его странное платье развевалось в этой бешеной скачке, словно пара гигантских разноцветных крыльев. Поначалу они никак не могли его нагнать, но потом его лошадь вдруг споткнулась, и Харада выпал из седла. Когда они подъехали к нему, он сидел на краю замерзшей придорожной канавы и потрясал кулаком вдогонку убегающей лошади. Укутан он был в лоскутное стеганое одеяло — то самое, что укрывало его в непротопленном садовом домике. Из этого одеяла он, похоже, сделал себе что-то вроде плаща, прорезав посередине дырку для головы. Кобэ спрыгнул с седла и с довольным видом сказал: — Неплохой улов! Два заключенных по одному делу об убийстве. Жаль вот только, нет у меня с собой ни кандалов, ни веревки, чтобы связать его. А у вас нет? Акитада покачал головой и спешился. — И так сойдет, — сказал он. — Сдается мне, этот человек скорее свидетель, нежели соучастник. Так что давайте не будем обращаться с ним сурово. Харада даже не пытался подняться, а только приветствовал их такими словами: — Ненавижу лошадей, и они платят мне тем же. Это ж надо, какое унизительное совпадение — я пытался удрать от неприятностей, в которые впутался по милости этого человека, не как-нибудь, а именно на его проклятой лошади. У Кобэ был озадаченный вид. — Да уж лучше так, чем предстать перед судом по обвинению в убийстве. — Так все-таки убийство? — Харада покачал головой. — Я тут ни при чем. — Тогда зачем вы украли чужую лошадь и пытались сбежать? — прогремел Кобэ. — Уверяю вас, господин начальник полиции, я сделал это из самых чистых побуждений. Даже Конфуций одобрил бы. Не прибавляй неприятностей тому, на кого работаешь, если можешь избежать этого. — Вы поранились? — спросил Акитада. Харада ощупал себя и покачал головой: — Хорошо, что я прихватил с собой это одеяло. Оно смягчило удар. — Он огляделся по сторонам. Вдалеке из-за деревьев виднелся крохотный домик. — Полагаю, я могу рассчитывать на ночлег в гостеприимном крестьянском доме. — Какое еще гостеприимство? Вы под арестом! — рявкнул на него Кобэ. — За кого вы нас принимаете? За деревенских дурачков? Речь идет об убийстве. Харада грустно вздохнул. — Я знал, что уловка не сработает, но попробовать стоило. Только на лошадь я не полезу. Кобэ удивленно изогнул брови. — Хотите идти пешком? — Нет, может, паланкин или носилки… Кобэ разразился раскатистым смехом. — Прямо императором себя считаете, никак не меньше. В общем, так — или поедете верхом, или пойдете пешком. Только тогда вам придется бежать бегом, потому что мы торопимся поскорее заключить вашего хозяина под стражу. — Так вы арестовали Ясабуро за убийство зятя? — Харада наконец попытался выпутаться из одеяла и встал. — Да, арестовал. А что вам известно об этом? — Да в общем-то ничего. Я был пьян тогда. — А я думал, вы употребляете вино только во время поездок в столицу, — сказал Акитада. — Да, был такой уговор. Крыша над головой, кое-что поесть и раз в месяц попойка. Но тот день был исключением. Он прислал мне кувшин вина — кстати, очень даже хорошего, что само по себе было удивительно, — а на словах передал: дескать, это мне погреться. Ну я и стал «согреваться». Уговорил весь кувшин еще до заката. Про холод и думать забыл, спокойно уснул. Проснулся только в середине следующего дня — самочувствие паршивое, а Нагаоки и след простыл. — А что можете сказать о дочери Ясабуро и о ее муже? — спросил Кобэ. — О них-то? Да хуже парочки и найти нельзя. Что касается меня, то я стараюсь держаться от них подальше, когда они здесь гостят. Скачут по всему дому, будто сумасшедшие, волосы распущены, девчонка в мужских штанах, ноги задирает выше головы да верещит, словно в нее бесы вселились. А старик бьет в барабан да только подбадривает. Ну не чокнутый, скажите? А еще ноет, что я пьяница!.. Вот вы, спрошу я вас, позволили бы своей дочке так вести себя? Кобэ этот вопрос привел в замешательство. — Ну ладно, — проворчал он. — Давайте-ка двигаться. Не можем же мы провести остаток дня за болтовней в чистом поле. Когда Кобэ взобрался на лошадь, видимо, ожидая, что трясущийся Харада пойдет пешком сзади, Акитада сказал старику: — Вы можете поехать вместе со мной. Если сядете впереди, я буду вас держать и не дам вам упасть. Харада немного подумал и кивнул. Спуск оказался нелегким, но в конце концов они добрались до главной дороги, где их ждали остальные. Ясабуро набросился на Хараду с обвинениями и потребовал обратно свою лошадь, но его вопли были встречены равнодушием. Со вторым седоком в седле Акитада ехал медленнее остальных, поэтому оказался в конце кавалькады. А между тем Харада постепенно успокоился и принялся рассказывать о своей жизни. Потеря семьи потрясла его настолько, что он утратил интерес к жизни и находил одно лишь утешение в беспробудном пьянстве. — И давно вы работаете у Ясабуро? — спросил Акитада. — Почти год. — Стало быть, вам мало известно о представлениях, которые у них принято было устраивать? — Да уж, немного. Я посмотрел как-то раз одно, да с тех пор больше охоты нет видеть, как они дурачатся. — Значит, вы не принимали участия в семейных трапезах? Харада обернулся через плечо. — Что?! Я? Да никогда! Даже если б предложили, не согласился бы. Я работаю в садовом домике, а сплю в конюшне. Другого Акитада и не ожидал, видя, как неразлучен Харада со своим стеганым одеялом. К тому времени, когда они достигли столицы, Харада все еще продолжал изливать душу, но теперь по поводу своей работы. Ясабуро сдавал бедным крестьянам земельные наделы в обмен на урожай риса, который он обменивал на серебро или вкладывал в покупку новых земельных угодий. В задачу Харады входило собирать ренту и содержать счета в таком виде, чтобы ежегодные наезды налоговых сборщиков обходились хозяину наименьшим количеством потерь. О незаконных действиях он, конечно, умалчивал, но о них можно было догадаться по его тону. Сам он такого положения дел не одобрял, но выбора у него не было, поэтому приходилось мириться со столь непривлекательной участью, как служба у Ясабуро. К тому же, как он особо отметил, благодаря такой работе у него находилось время на чтение и сочинения и на периодические поездки в столицу. Передернувшись от холода, он вздохнул. — Наверное, не надо было мне устраивать эту ужасную скачку из преданности человеку, к которому я не питаю ни малейшего уважения. Еще задолго до того, как они добрались до западной тюрьмы. Харада начал все больше и больше обмякать в седле и к тому времени, когда они прибыли к месту, уже крепко спал. — Поместим его в какую-нибудь камеру, — сказал Кобэ, увидев, как они плетутся по тюремному двору — Харада, уткнувшийся носом в шею лошади, и Акитада, сосредоточенно пытающийся удержать старика в седле. — По-моему, у него жар, так что в камеру ему нельзя, — сказал Акитада. — Ведь нельзя же допустить, чтобы старик умер в тюрьме из-за того, что натворил Ясабуро. Если вы не возражаете, я заберу его к себе домой, и Сэймэй позаботится о нем. К тому же у меня есть ощущение, что он, сам того не ведая, кое-что знает об этих убийствах.ГЛАВА 19 ХРАМ БЕЗГРАНИЧНОГО МИЛОСЕРДИЯ
Сабуро открыл ворота и помог Акитаде снять с седла бесчувственного Хараду. Уже стоя на дрожащих ногах, он пробормотал: — Прошу прощения, должно быть, хлебнул лишнего. Голова что-то трещит. — С этими словами он покачнулся и чуть не упал, но Акитада поймал его и взвалил на себя. Весил Харада мало, даже вместе со своим одеялом. — Сходи за Сэймэем и пригласи его в мою комнату, — сказал Акитада старому Сабуро и потащил Хараду в дом. Он уложил его в своем кабинете. Харада открыл глаза и, моргая, уставился на него. — Что это?.. Где я? — Не волнуйтесь. Мой секретарь знает толк в целебных травах, и жена моя тоже. Они вмиг поставят вас на ноги. — Какой вы добрый, — пробормотал Харада, глядя на Акитаду с беспокойством. — Э-э… А кто вы? Я что-то подзабыл. — Сугавара. Вы находитесь в моем доме. Мне показалось, вы были не совсем здоровы, вот я и привез вас сюда. Харада недоуменно хмыкнул и разразился продолжительным сухим кашлем, сотрясавшим все его нутро. Дверь открылась, и вошел Сэймэй. — Вот тебе еще один пациент, — сказал Акитада. — Это профессор Харада. Он служил управляющим у тестя Нагаоки Ясабуро, арестованного теперь за убийство Нагаоки. Наш гость проходит по делу свидетелем. А сюда я его привез, потому что он очень болен. Сэймэй сразу же переключился на больного. Приветствовав Хараду поклоном, он опустился на колени и внимательно заглянул ему в лицо. Харада таращился на него в ответ. Сэймэй еще раз поклонился и пощупал Хараде лоб. — Жар сжигает ваши жизненные силы, господин, поэтому вам немедленно нужно в постель, — сообщил он больному старику, потом повернулся к Акитаде: — Может, отвести профессора Хараду в комнату госпожи Акико? — Да. И посмотри, что можно для него сделать. Харада лежал с закрытыми глазами — то ли спал, то ли лишился чувств. Акитада отвел Сэймэя в сторонку и вкратце обрисовал ему историю злоключений Харады, в конце прибавив: — На его долю выпало страданий больше, чем под силу вынести одному человеку. Такого никто не заслуживает. Сэймэй сочувственно покачал головой, однако заметил: — Нам неизвестно, господин, чего он заслуживает, потому что мы не знаем, в чем он провинился в предыдущей жизни. — Сэймэй свято верил в карму как в высшее определение жизненного пути, в наказание за прегрешения и в воздаяние за добродетели в последующих жизнях. — Ну а как Тора? — поинтересовался Акитада. Сэймэй улыбнулся: — Гораздо лучше, хотя, конечно, ни за что не признается в этом в присутствии дам. — Дам? — О да. Его каждый день навещают. Акитада снова сгреб в охапку больного старика и отнес его в другое крыло дома, где пустовала бывшая комната Акико. Там Сэймэй достал из сундука постель и расстелил ее. Вдвоем они раздели Хараду и укрыли его одеялами. В комнатушке, которую Тора делил с Гэнбой, было полно народу. Тора, укрытый одеялами, возлежал, опершись на подлокотник, на циновке посередине. Рядом с ним на перевернутом бочонке, поверх которого кто-то заботливо положил одну из подушек из комнаты Акитады, царственно восседала госпожа Вишневый Цвет. По-видимому, она отказалась сидеть на полу, как все остальные. У нее за спиной приютилась ее служанка, прятавшая исполосованное шрамами лицо за складками веера, а по другую сторону от Торы сидела на коленях очень миловидная девушка со сверкающими глазами. Оставшееся пространство комнатушки занимала глыба Гэнбиного тела. Все они при виде Акитады заулыбались и раскланялись. — Ну? — Акитада обвел взглядом всю компанию. — Надеюсь, что застал вас всех в добром здравии. Особенно тебя, Тора. — В самом что ни на есть добром, — отозвался Тора с видом измученного болями страдальца. — Вот гости не дают унывать, а по ночам-то плоховато, каждое движение вызывает боль. Миловидная девушка взяла его руку и, погладив ее, нежно проговорила: — Мой бедный Тигр!.. «Вот хитрец!» — подумал Акитада и тоже сел. С самым что ни на есть серьезным лицом он обратился к госпоже Вишневый Цвет: — Я рад, что между вами установился мир. — Он чувствовал себя немного неловко рядом с этой объемистой дамой, возвышавшейся над ним как гора. Зато ее такое нарушение пропорций нисколько не смущало. — Да, мы все четверо пришли к взаимопониманию, — сообщила она Акитаде и с довольным видом улыбнулась, обнажив вычерненные по моде зубы. — Юкио, глупая девчонка, исправит свою вину перед несправедливо обвиненным бедняжкой Торой — она поможет ему найти маньяка-изувера. Мы обязательно поймаем этого ублюдка, даже если это будет наше последнее деяние. — Она энергично закивала, и красные ленты у нее в волосах весело заплясали. Акитада вопросительно посмотрел на Тору, и тот ответил ему беспокойным взглядом. — Это все я придумал, господин, — виновато проговорил он. — В общем-то это была одна из причин, почему я пошел к госпоже Вишневый Цвет. Ведь наконец нашлось дело, которое я мог бы расследовать самостоятельно. Акитада хотел было возразить, напомнить ему о кое-каких мелочах — о том, что Торе пока нужен покой, о делах, которые ждут его, когда он поправится, и о том, что маньяку до сих пор худо-бедно удавалось скрываться от полиции и от бдительного людского глаза. Но, увидев выражение лица Торы, он передумал, оставив эти опасения при себе. — Вот и отлично! — добродушно сказал он. — Я желаю тебе всяческого успеха! Твои редкие способности и опыт да еще словесные описания Юкио помогут тебе победить там, где потерпел неудачу сам начальник полиции Кобэ. Тора зарделся от удовольствия, но госпожа Вишневый Цвет сказала: — Глупая девчонка говорит, что плохо видит в темноте. С уверенностью она может только утверждать, что он был низенький, тощенький, но очень сильный. Вот так-то!.. — Удивительно вообще, что она хоть что-то помнит после такого жестокого нападения. Возможно, со временем ей удастся вспомнить что-нибудь еще. Девушка что-то тихо проговорила. — А-а… Она говорит, что запомнила его по запаху, — объяснила госпожа Вишневый Цвет. — Можно подумать, мы будем ходить по улицам и обнюхивать всех подряд! — А что это был за запах? — поинтересовался Акитада, внезапно оживившись. Тора перебил его нетерпеливым жестом. — Не берите в голову, господин. С этим мы сами разберемся. Лучше скажите, как ваша поездка? Поймали убийц? — Начальник полиции Кобэ арестовал тестя Нагаоки, а я привез домой гостя, профессора Хараду. Он служил у Ясабуро. Он очень болен, но, возможно, сумеет дать нам кое-какие сведения. Сейчас им занимается Сэймэй. — Акитада с интересом посмотрел на миловидную девушку. — Это, случайно, не та ли молодая женщина, что работает в труппе Уэмона? — Да, Злато акробатка. Я ею просто восхищаюсь! — с гордостью проговорил Тора и улыбнулся девушке, которая ответила ему столь же восторженным взглядом. — В таком случае, Злато, — обратился к ней Акитада, — может быть, ты сумеешь ответить мне на вопрос. Ты ведь была в монастыре, где убили ту женщину? Пятого числа последнего месяца. — Да, господин. Тора уже спрашивал меня об этом. Я ничего не видела, как ничего не видели и другие, господин. Акитада постарался скрыть разочарование. — И ты не выходила из своей комнаты после наступления темноты? — Нет, не выходила. В тот день мы давали представление, и я очень устала. К тому же шел дождь. — Ты спала одна? — Нет. В одной комнате с сестрой и Охисой. Они легли позже, но сестра тоже ничего не видела. — А Охиса? — Охиса уехала еще до того, как мы проснулись. — Уехала? Злато скорчила рожицу. — Охиса была девушкой Дандзюро. Это наш ведущий актер, и все женщины сходят по нему с ума. — При этих словах Тора насупился, и она с улыбкой прибавила: — Все, кроме меня. Терпеть не могу этого спесивого ублюдка. А Охису он отверг, она расстроилась и уехала. Мы даже могли бы остаться без танцовщицы, если бы к нам не поступила новая девушка Дандзюро. — И что же, другие тоже не видели ничего подозрительного? Она покачала головой. — Если б видели, то сказали бы мне. Мы обсуждали это убийство всю обратную дорогу в столицу. Поблагодарив ее, Акитада обратился к Гэнбе: — Надеюсь, в мое отсутствие все было спокойно? Гэнба кивнул: — Да. Только вот недавно зашел сюда какой-то странный человечек. Вас спрашивал. Насчет ширмы, которую он вроде бы должен был изготовить для вашей госпожи. Ну я и отвел его к ней. Ведь я верно поступил? — Боже! Ноами! — Акитада вскочил. — Очень неприятный человек. Надо бы мне перехватить его, пока он не привел в расстройство мою жену. Тамако он встретил в коридоре возле ее покоев. Она слышала, как он приехал, и пошла поискать его. — Я рада, что ты благополучно вернулся. — Она поклонилась ему в своей обычной сдержанной манере, но глаза ее пытливо заглядывали ему в лицо. — Я сразу же пошел навестить Тору и нашел его в обществе очаровательных дам, занятых мыслями о том, как поймать маньяка-изувера. — Видя в глазах Тамако непонимание, он пояснил: — Человека, который калечит и убивает молодых женщин в городе. Глаза Тамако округлились. — Какой ужас! — прошептала она. — А я и понятия не имела, что происходят такие вещи! А из дома-то выходить не опасно? — Нет. Если будешь выходить днем в сопровождении служанки и не будешь наведываться в дурные кварталы. Кстати, я привез тебе еще одного пациента. — И он рассказал ей про Хараду. Тамако кивнула и взяла его под руку. — Пойдем! Там тебя ждет один человек, художник. Я оставила его, чтобы он дал урок рисования твоему сыну. Акитаду охватил подспудный страх. — Ты оставила его с Ёри? Но картина, представшая их глазам, оказалась прямо-таки невинной. Монах-расстрига с аккуратно зачесанными назад волосами, облаченный в пристойного вида серое кимоно, сидел на коленях рядом с сыном Акитады. Оба держали в руках кисточки, сосредоточенно склонившись над огромным листом рисовой бумаги. Оторвавшись от своего занятия, мальчик улыбнулся, вскочил на ноги и бросился обнимать отца. — Я рисую! — радостно сообщил он. — Я уже нарисовал кошек. Иди посмотри! Акитада кивнул Ноами, и тот ответил ему неожиданно учтивым поклоном. — Я зашел, господин, справиться насчет той ширмы для вашей госпожи. Что вы надумали? Приступать мне к работе? Поскольку вас дома не было, я счел для себя величайшим счастьем познакомиться с вашей прекрасной госпожой и вашим очаровательным сыном. Сегодня этот человек источал любезности, но Акитаде хотелось, чтобы он держался подальше от его семьи. — Очень мило с вашей стороны, что вы зашли, — сухо сказал он, — но, признаться, мы еще не обсуждали этот вопрос. Ёри дергал отца за рукав. — Возможно, я назвал тогда не совсем разумную цену, — сказал Ноами. Это упоминание о денежных затруднениях заставило Акитаду покраснеть. — Нет, дело вовсе не в этом. Просто я был очень занят и обязательно дам вам знать о своем решении, когда мы обсудим этот вопрос. — Он надеялся, что после этих слов Ноами сочтет визит законченным. Но художник замешкался. — Маленький Ёри хочет что-то показать вам, — напомнил он Акитаде. С большой неохотой Акитада позволил сынишке подвести себя к Ноами. На листе бумаги были нарисованы кошки. Некоторые из них выглядели весьма и весьма правдоподобно — кошка, прыгнувшая за мышью: кошка, наблюдающая за рыбкой в чаше; кошка, играющая с жуком; шипящая кошка и кошка, пожирающая птичку. Другие рисунки были выполнены детской рукой; на них в черно-белых тонах, оживленных кое-где красными штришками, Ёри усердно и старательно копировал рисунки взрослого художника. — У вашего сына прекрасное чувство цвета, — заметил Ноами, пристально изучая лицо Акитады. Красный цвет на рисунках изображал кровь. Ёри представил себе растерзанную птичку и, воспользовавшись материнскими красными румянами, мазнул ими густым слоем на птичку и на мордочку кошки. Видимо, довольный полученным эффектом, он раскрасил мордочки и остальным кошкам. — Вот это кровь! — объяснил он безо всякой надобности. — Кошки едят птичек и мышек, и те измазаны кровью. Тамако подошла посмотреть на рисунок и, всплеснув руками, прикрыла ими рот. Ноами усмехнулся, издав противный сухой кашляющий звук. — Мальчик буквально прочел мои мысли, — сказал он, положив руку Ёри на плечо. — Такой маленький и уже такой наблюдательный. Со временем из тебя выйдет толк! Тамако схватила ребенка и потащила его прочь из комнаты со словами: — Ему пора спать! Ёри громко протестовал. Акитада метнул на художника взгляд, полный ненависти. С трудом сдерживаясь, он холодно сказал: — Не хотим вас больше задерживать. И в другой раз вам заходить сюда вовсе необязательно. Если мы решим насчет ширмы, я пошлю к вам кого-нибудь. Ноами кивнул. — Говорят, вы видели мою адскую роспись в монастыре. — Да. Работа, вызывающая восхищение. Склонив голову набок, художник искоса посмотрел на него. — Но не у вас. Не так ли? — Я мало знаком с буддийскими представлениями об аде, — сухо ответил Акитада. — Ах вот оно что! А у меня, наоборот, проблемы с Западным раем. — Ноами подошел ближе, буквально пожирая Акитаду своими глубоко посаженными горящими глазами. — Разве есть такие удовольствия, что могли бы быть приравнены к боли? Все мы знаем, что такое муки ада, но никто из нас не отведал райских наслаждений. — С этими словами он повернулся и вышел. Окончательно поправившись через пару дней. Тора решил приступить к своему расследованию. Для этого он облачился в самую худшую одежду, какую только смог найти — рваные, заляпанные штаны, полотняная рубашка в лохмотьях, заплатанный стеганый ватник, подпоясанный простенькой пеньковой веревкой, и старенькие соломенные варадзи. Он распустил свои длинные волосы, сбил их в нечесаный комок, смазал их жирным ламповым маслом и обвязал голову рваной тряпкой. И вот в таком виде, придав небритому лицу угрюмое выражение, он отправился на дело. Путь его лежал в трущобы западного города, населенного беднотой, нищими попрошайками и всяким преступным сбродом. День выдался пасмурный и промозглый. Тора старался ступать размашисто, чтобы избежать неприятных ощущений, связанных с недавним недугом, и все время думал про Юкио. Она постаралась как можно подробнее описать своего обидчика. Стыдливым шепотом она поведала о своих чудовищных ранах — об изуродованном лице и о глубоких порезах в области груди и живота. Живодер, видимо, получил удовольствие от содеянног, но убивать девушку явно не собирался, иначе зарезал и выпотрошил бы ее. Такая невероятная жестокость заставила Тору усомниться в том, был ли это вообще человек. Уж не демон ли повстречался ей? Буквально все указывало на это — и его малый рост, и сверхъестественная сила и жестокость, и какой-то едкий запах, исходивший от него. Но Юкио упорно качала головой и утверждала, что это был человек. Запах же, как ей показалось, был больше похож на горячий лак или ламповое масло. Значит, какой-нибудь мастеровой, подумал Тора, продолжая путь. Но вывод этот не прояснял дела. Сколько их, мастеровых, в целом городе. Тора решил сегодня пройтись по следам Юкио, начиная от места, где она повстречалась с изувером возле дешевого дома свиданий. Там она приставала к прохожим мужчинам в поисках заработка, а когда, отчаявшись поймать свою удачу, побрела прочь, из темного переулка к ней подскочила закутанная в капюшон фигура и потащила ее в тень. Хриплым шепотом человек этот предложил ей тридцать монет за то, чтобы она пошла с ним. Для бедной девушки тридцать монет были целым состоянием, на эти деньги она могла бы кормиться несколько недель, поэтому охотно согласилась. Они шли долго по темным закоулкам, пока не оказались на отшибе, на самой окраине западного города. Краем глаза она видела узорчатую крышу какой-то пагоды, а вскоре, пройдя через бамбуковую рощицу, они вошли в какой-то пустой темный дом. Там, не зажигая огня, он дал ей чарку вина. А дальше она помнила только, что оказалась в каком-то другом переулке, где, корчась от боли, смотрела в перепуганные глаза людей, столпившихся вокруг нее, полураздетой и истекающей кровью. Дешевый дом свиданий Тора нашел без труда. Это был шаткий деревянный домишко с внушительной вывеской «Журавлиная обитель». На нижнем этаже располагалось питейное заведение, а верхний был отведен для свиданий клиентов с женщинами легкого поведения. Над входом в заведение висела драная замызганная дверная занавеска с рисунком в виде какой-то бесформенной птицы. Сбоку здания Тора заметил узенький проходец. Здесь, среди выброшенных объедков и пустых винных бочонков, маньяк поджидал в темноте свою жертву. Тора только покачал головой. Даже полуголодная шлюха должна была найти хоть каплю здравого смысла, чтобы убежать. Он нырнул за занавеску и сразу же оказался в полумраке убогой харчевни. От густого едкого запаха пищи и дыма его сразу замутило. Стоя на грязном полу. Тора огляделся. Справа крутая лесенка вела наверх. Посреди зала над очагом поднимался дым, и неописуемая мерзкая вонь исходила из котла, в котором что-то помешивала лохматая старая карга. Слева от себя Тора заметил сидящего на бочонке одноглазого верзилу. Трое оборванцев в лохмотьях подняли на нового посетителя затуманенные взоры. — Винишко по медяку, а там уж как знаешь, — объявил одноглазый хозяин харчевни. — Еще за медяк можешь поесть. Тора подавил в себе отвращение. — Вина! — грубовато распорядился он, подсаживаясь к троим оборванцам. — Сначала деньги покажи! Тора положил на стол медную монетку. Хозяин харчевни схватил ее, поднес к единственному глазу, потом кивнул. Опустив монетку себе за пазуху, он наполнил чарку темной мутной жидкостью из бочонка. Такого дрянного пойла Торе отведывать еще не доводилось, он даже чуть не поперхнулся. — Я разыскиваю одну девушку, — сказал он, когда вновь обрел дар речи. — Я шлюхами не снабжаю! — отрезал хозяин. — Походи тут в окрестностях и найдешь себе. Один из посетителей ухмыльнулся. — Да нет, она моя сестра, — соврал Тора. — Мать у нас умирает и хочет повидать ее перед смертью, вот я и пришел в столицу разыскать ее. Говорят, она промышляет где-то в этой части города. — Да уж, по всему видать, не повезло девчонке, — сокрушенно сказал одноглазый. — А как она хоть выглядит? Ответить на этот вопрос было не так-то легко, поэтому Тора объяснил размывчато: — Примерно вот такого роста, худышка, волосы красивые. Да в общем, обычно выглядит. — Значит, не толстая Митцу, — встрял в разговор один из оборванцев. — И не Кацуко — та-то ведь лысая, что твое яйцо, — прибавил другой. Одноглазый повернулся к старухе, колдовавшей над котлом. — Ну а ты что думаешь, мамаша, по этому поводу? Та рукавом вытерла вспотевшее лицо. — Может, та дохленькая козявка? Заходила сюда всего-то несколько раз. Кажись, зовут ее Юкио. Тора оживился: — А не знаете, с кем она ушла? — Да ни с кем, — сказала старуха. — Заходила сюда, да только желающих здесь не нашлось. Такой болезненный был у нее вид, что я даже похлебки ей налила в долг. Она поела да ушла. Тора достал еще одну монету. — Вот возьми-ка. Может, мы и бедные, но долги свои выплачиваем. Этот широкий жест сотворил настоящее чудо. Присутствующие разом бросились вспоминать и обсуждать всякого мужчину или женщину, с которыми могла разговаривать Юкио, но мужчины, посещавшие дом свиданий, как выяснилось, по большей части были народом захожим — какие-то безымянные трудяги, продавцы, носильщики, нищие или монахи. — Монахи? — удивился Тора. — Чтобы монахи искали себе женщин?.. Его наивность повеселила всех. — Да ты не знаешь монахов, сынок, — закхекав, сказала старуха. — Некоторые из них похлеще обычного мужика будут. Да и был здесь, если разобраться, всего-то один — все эту девчонку караулил. Видать, надеялся посмотреть, на что он еще годен. Только я не видела, чтобы он с ней разговаривал. — А что, нет ли тут монастыря или храма поблизости? — спросил Тора, вспомнив про пагоду. Ему ответили отрицательно, и разговор зашел в тупик. Тора поблагодарил всех и ушел. Он отправился на север, долго бродил закоулками бедных кварталов и начал подозревать, что маньяк, по-видимому, избегал любых броских объектов, которые могла бы запомнить жертва. Он плутал зигзагами, огибая главные ворота кварталов, вот почему Юкио не смогла дать точного описания их нуги. Он пожалел, что не поговорил с ней подольше, но после возвращения его хозяина Юкио отказалась показываться в их доме. Госпожа Вишневый Цвет недоумевала: — Прямо и не знаю, что такое случилось с этой девчонкой! Когда мы уходили, она схватила меня за руку и буквально потащила к воротам. А теперь вот не желает больше к вам носа показывать! Но Тору беспокоил не только этот необъяснимый страх девушки. Было совершенно ясно, что маньяк только искромсал и изрезал ее; Юкио была уверена, что ее не изнасиловали. Нездоровую, садистскую похоть извращенца Тора еще как-то мог понять, но здесь явно было что-то другое. Квартал, в который его только что занесло, производил еще более угнетающее впечатление, чем предыдущий. Здесь имелось жилье, если его таковым можно было назвать, но на улицах ему встречалось слишком много праздно слоняющихся оборванцев. Отсутствие работы означало повышенный уровень преступности или медленное умирание от голода. В связи с этим Торе припомнился еще один факт. Маньяк предложил Юкио тридцать монет за то, чтобы она пошла с ним. Для безработного человека это были огромные деньги, а для нищего оборванца или монаха-попрошайки тем более. Тора стоял, озираясь по сторонам и ища глазами шпиль пагоды, когда его вдруг сильно пихнули, так что он отлетел к стене здания, услышав вдогонку россыпь отборной брани. Тут же град ударов посыпался на его голову и грудь. Он прикрыл лицо руками и ждал удобного момента, чтобы ответить. Но побои прекратились столь же неожиданно, как и начались. Его обидчик злобно сплюнул и повернулся, чтобы уйти прочь. Тору обуяла холодная ярость. Он поднялся с земли и бросился на обидчика. Схватив его за локоть, он развернул его к себе лицом и крикнул: — Вот тебе, ублюдок! Ты ударил человека безо всякой причины! — И с этими словами он направил кулак прямиком незнакомцу в подбородок. После удара он мгновенно отступил назад. На голове у парня, молодого и бедно одетого, была окровавленная повязка, закрывавшая часть лица. Парень заслонился рукой, но Тора сказал: — Брось! Я не стану с тобой разделываться. Вижу, что кто-то уже и так поработал над тобой. А я не люблю нечестный бой. — Ну и зря! — пробурчал незнакомец. — Ведь я-то могу поколотить тебя в другой раз. Он был выше Торы ростом и гораздо шире в плечах, но боевая прыть, похоже, покинула его. — Зачем ты меня ударил? Незнакомец медленно опустил руку. — Ты толкнул меня, урод. Никто не смеет меня толкать. — Да я просто не видел тебя. Искал пагоду. Глаз, не закрытый повязкой, прищурился, оглядывая Тору с ног до головы. — Ты здесь чужак, что ли? Сочинять новые басни не имело смысла. Тора снова рассказал про умирающую мать и потерявшуюся сестру, прибавив к этой истории несколько душещипательных подробностей, от которых у самого-то у него на глаза навернулись слезы. Парень поскреб щетинистый подбородок, покрасневший после встречи с кулаком Торы. — Ну, извини, приятель, — хрипло сказал он. — Похоже, у тебя-то делишки еще похуже моих будут. Не хотел тебя обидеть, просто денек выдался неудачный, поцапался тут кое с кем. Теперь вот башка трещит, а когда ты меня толкнул, у меня аж искры из глаз посыпались. — Ну, в таком случае позволь угостить тебя чарочкой винца, — сказал Тора и представился. — А меня Дзюнси кличут. — Парень осклабился в улыбке, обнажившей зияющую пустоту на месте, судя по всему, недавно утраченных зубов. — Ну, спасибо. От этого не откажусь. Тут за углом есть одно местечко, где торгуют вполне приличным пойлом. Местечко оказалось даже хуже «Журавлиной обители» — еще более тесное, грязное и вонючее, — но вино там подавали вполне сносное. — Теперь насчет твоей сестры, — сказал Дзюнси, замявшись. — Видишь ли, ее, может, и в живых-то уже нет. Я работаю у старосты и могу сказать тебе наверняка — уличным девчонкам туго приходится в этом квартале. — Знаю. Но я буду искать до тех пор, пока хоть что-то не разузнаю. Дзюнси вздохнул. — Большинство мужчин здесь готовы заплатить не больше пары медяков за женщину, а швали тут сколько бродит! Вот мой хозяин мог бы тебе рассказать, сколько мертвых девушек они выуживают из каналов да находят среди мусора в переулках. — Бог ты мой! Квартальный староста! — Тора хлопнул себя по лбу. — И как же это я не подумал?! Где его можно найти? Где его приемная? Дзюнси усмехнулся: — Приемная! В таком-то квартале?! Если она тут когда и была, то уж и вспомнить нельзя. Староста у нас управляется и без приемной, в дневное время обычно ошивается где-нибудь около храма. Тора насторожился. — Храма? Какого храма? Пагода там есть? А монахи? Дзюнси рассмеялся. — Его называют храмом Безграничного милосердия, а это просто смешно, когда всем известно, что милосердие уж где-где, а там ты найдешь в самую последнюю очередь. Но пагода там точно есть. Осталась после монахов с давнишних времен. Храм и пагода. Люди поговаривают, будто туда по ночам наведываются демоны, а потому это местечко пришлось по вкусу всякого рода головорезам. Одним словом, ходить туда после наступления темноты опасно для здоровья. — Он потрогал свою повязку и поморщился. Тору передернуло. Между прочим, ему только надо было найти дом, куда маньяк отвел Юкио, да к тому же день был еще в разгаре. — А ты можешь познакомить меня со своим начальником? Дзюнси хохотнул. — Только не сегодня. А то он обязательно отправит меня разыскивать этих ублюдков. Лучше я провожу тебя к храму, а там уж ищи его сам. И не говори ему, что виделся со мной. Тора расплатился за вино, и они пошли к северо-западу через трущобы. Люди, завидя их, переходили на другую сторону улицы. А между тем Дзюнси, не теряя времени, стращал Тору жуткими подробностями жизни квартала. — Мертвецов тут находят на улицах почти каждый день, — сообщил он как ни в чем не бывало. — Если б не наш староста, то совсем худо было бы. Полиция-то сюда не заглядывает. Охота им была возиться с таким сбродом! А моему начальнику безразлично, что человек собой представляет и чем владеет, и сам он людей не обижает. — По твоим словам, так он хороший человек, — сказал Тора. — А нет ли в окрестностях храма бамбуковой рощицы? — Никаких рощиц там нет. Только сосны кое-где. Они вышли на площадь перед полуразрушенным храмом. Там Дзюнси вдруг схватил Тору за руку и сказал: — Вон он, мой начальник! Ну, удачи тебе! — И он исчез, прежде чем Тора успел поблагодарить его. Перед обвалившимися воротами храма, скрестив руки на груди, похожей на бочонок, стоял бородатый великан в окружении местных мальчишек. Тора медленно пересек площадь. Предстоящая встреча не казалась ему радостной, потому что староста больше походил на главаря разбойников, нежели на представителя власти. Громила смеялся, о чем-то разговаривая с мальчишками, но глаза его сразу зацепили Тору и сделались настороженными. Он отделился от компании и пошел навстречу незнакомцу. — День добрый! — прогремел он раскатистым басом. Тора тоже с улыбкой поприветствовал его. — Говорят, вы здешний староста, — сказал он. — Не подскажете ли, где я могу найти здесь бамбуковую рощу? Глаза старосты подозрительно прищурились. — А зачем она тебе? — спросил он. Тора ощетинился: — Послушай, я человек нездешний и просто спрашиваю, как пройти. Что, трудно сказать? — А я привык знать, зачем чужаку понадобилось пожаловать на мой участок! — рявкнул в ответ громила. — Или говори, что тебе здесь надо, или проваливай! Тора быстро прикинул, что к чему, и сказал благодушно: — Эх, не очень-то приятно, но, видать, придется объяснить. Я ищу свою пропавшую сестру. Она работает где-то на улице, торгует собой. А теперь вот матушка наша при смерти и хочет повидать ее. Люди будто бы видели ее здесь, а потом она, кажись, ушла с каким-то монахом. В сторону бамбуковой рощи. Глаза громилы прищурились еще больше, он внимательно разглядывал Тору, его аккуратные усики и руки. — И кто сказал тебе это? — Ну-у… хозяин харчевни. Староста хмыкнул и уже открыл было рот, но тут его слух привлекли звуки борьбы, доносившиеся с территории храма. — Нет у меня на участке никаких монахов и никаких бамбуковых рощ, — торопливо отрезал он. — Тебе лучше поискать в другой части города. — И он пошел выяснять, что за шум. Тора пребывал в недоумении относительно того, как повел себя староста. Ведь до сих пор все остальные верили его истории про умирающую мать. Он оглядел себя с головы до ног. Одежда его не вызывала никаких подозрений — такие же лохмотья, как у этого старосты. И чего он взъелся? Может, голова трещит с похмелья или зубная боль замучила? Сокрушенно покачав головой, он тоже зашел на территорию храма, где увидел жалкое подобие рынка, на котором вовсю шла торговля. Какие-то убогие людишки, скорее похожие на огородные пугала, сидели прямо на грязной земле, разложив перед собой свой нехитрый товар, очень напоминавший обычный мусор. До драки им явно не было никакого дела. Тора послонялся среди них, несколько раз попытавшись завязать разговор, но все они, только завидев его, замыкались в себе. Для них он был чужак, а его лохмотья отпугивали еще больше — ведь такой человек явно не имел денег на покупки и даже мог что-то украсть у них. Уже давно миновал полдень, а Тора так и не приблизился к своей цели. Он кинул взгляд на пагоду, и тут его осенила мысль. Если забраться на башню, то с высоты можно увидеть окрестности на большое расстояние. Уж во всяком случае, бамбуковую рощу он должен будет заметить. Ему повезло — вход в пагоду не был заколочен досками. Правда, оказавшись внутри, он ужаснулся. Многие ступеньки отсутствовали, а на полу валялась груда гнилых деревяшек, обвалившихся сверху. Тора задрал голову вверх. Потолок над ним обрушился в нескольких местах, так что даже был виден следующий этаж. И все же он решил рискнуть. Как-никак, а дневной свет хотя бы позволял видеть, куда ступаешь. Подъем получился утомительным — ведь приходилось прощупывать ногой каждую ступеньку, каждую доску, прежде чем наступить на нее всем весом, — так что, достигнув верхнего этажа, он, несмотря на холод, обливался потом. Потихоньку он обошел башню по периметру, оглядывая сверху квартал. Скучный пейзаж коричневых крыш лишь в нескольких местах разбавляли яркие пятна зелени. Все это была густая, темная зелень сосен, и только в одном месте ее оттенок был бледнее. Вот она, бамбуковая роща! Пятно было совсем маленькое, меньше леса, но больше обычной зелени дворов; располагалось оно в паре кварталов к юго-востоку от храма. Приободренный Тора начал спуск, но в спешке наступил не туда, потерял опору, закачался и полетел вниз. Когда он пришел в себя, то оказался в кромешной тьме, но сразу понял, где находится. Он лежал спиной поперек балки с задранными кверху ногами, зацепившимися за что-то твердое, а вот голова висела в пустом пространстве. Все тело болело и ныло, но сильнее всего болела голова. Осторожно проверив, сможет ли он передвинуться, не упавснова, он все же сумел перелечь головой на балку. Отдохнув немного, он попытался сесть, но голова закружилась так, что ему пришлось поскорее схватиться за балку, чтобы не свалиться. Тора подождал, когда головокружение пройдет, а глаза привыкнут к темноте. Теперь он смог различить смутные очертания пола и полуразрушенных ступенек. К ним-то он и пополз осторожненько, тщательно проверяя каждую досочку, прежде чем навалиться на нее всем своим ушибленным, ноющим телом. Снова немного передохнув, он пощупал голову и обнаружил на ней липкую кровь и огромную болезненную шишку за правым ухом. В остальном он, кажется, не пострадал, хотя болело и ныло везде. Он посмотрел наверх. Если от удара ему не отшибло память, то он пролетел с четвертого этажа до второго. Ему повезло, что он зацепился плечами за балку, спасшую его от падения вниз головой о каменный пол первого этажа. И провисел он здесь без сознания, судя по всему, много часов, поскольку теперь наступила ночь. Он напряг слух. За стенами пагоды стояла тишина. Торговля на рынке закрылась, и люди разбрелись кто куда, так и не узнав о его падении. Или, что более вероятно, оставшись к нему равнодушными. Встав на четвереньки, Тора начал осторожно спускаться задом по лестнице. В почти кромешной темноте ему оставалось полагаться только на собственное осязание, чтобы не попасть ногой в пустоту и не пролететь остаток пути вниз. Когда он наконец ступил на твердый пол, все перед глазами у него завертелось. Шатаясь, он пошел на свет, падающий сквозь дверной проем, и выглянул наружу. Ночь была безлунная, храмовой двор пустовал. Темные очертания деревьев, зданий и стен навевали жуть; ему вдруг припомнилось все дурное, что он слышал об этом месте. Тело враз покрылось испариной, неприятно зашевелились на голове волосы. Ведь любому было известно, что заброшенные храмы считаются излюбленным обиталищем чертей и голодных призраков. Передернувшись от ужаса, он попятился к дверному проему, но где-то сзади вдруг скрипнула ступенька, и Тора одним прыжком выскочил на улицу. Почти сразу же откуда-то со стороны высившейся в темноте громады храма донесся громкий протяжный вопль. Тора замер. Несколько темных фигур отделились от здания храма и, скользя почти над самой землей, с громким воем двинулись навстречу Торе. Издав хриплый крик ужаса, Тора бросился к воротам. Отбежав на какое-то расстояние от храма, он остановился, чтобы сориентироваться. Больше всего на свете ему сейчас хотелось оказаться в любом другом месте, но он уже слишком далеко зашел и теперь обязан был разыскать эту бамбуковую рощу. Свернув поначалу не туда, споткнувшись о какой-то мусор, шмякнувшись оземь еще разок и перебудив всех местных собак, он набрел наконец на стену, поверх которой виднелись густые заросли бамбука. Ветрами с них порядком сдуло листву, но все же они были достаточно плотными, чтобы загораживать собой дом, прятавшийся за закрытыми воротами. Он сразу понял, что на такую высокую стену ему не взобраться, да и ворота на вид были куда какие крепкие. Тора попытался разобрать надпись на воротах, но иероглифы были китайские. Где-то внутри хрипло каркнул сонный ворон. В этот момент ворота, тихонько скрипнув, открылись. Тора съежился, прижавшись к темной стене. Щуплая фигурка, закутанная в капюшон, выскользнула из ворот, заперла их и медленно побрела по улице. Тора бросился вдогонку. — А ну, стой! — крикнул он, хватая незнакомца за плечо. — Ну-ка давай на тебя посмотрим! Капюшон соскользнул с головы, и Тора успел разглядеть круглое уродливое лицо, обрамленное седоватым ежиком волос. В этот момент незнакомец схватил его обеими руками за локоть, вывернул и резко дернул. Потеряв равновесие, Тора ослабил хватку и выпустил врага. Он не успел понять, что к чему, как почувствовал мощный тычок в спину и упал наземь, а когда наконец поднялся на ноги, человека в капюшоне и след простыл. Чертыхаясь, Тора побежал сначала в одну сторону, потом в другую, потом бросил эту затею и вернулся к воротам. Он решил выяснить размеры этих владений. Узенькая тропинка огибала стену. Он успел пройти всего несколько шагов, как это произошло. Чудовищной силы удар обрушился сзади на его голову. В глазах все помутилось, он ткнулся лицом вниз и потерял сознание.ГЛАВА 20 ЛЕДЯНОЙ АД
Ёри пропал в тот же день, когда Тора вляпался в очередные приключения. Поскольку старику Хараде не становилось лучше, все в доме Сугавары были заняты его здоровьем, а между тем мальчик был предоставлен самому себе. Исчезновение ребенка заметили только к обеду. Поначалу никто особенно не встревожился, так как мальчик убегал погулять и раньше. Но время шло, а он не возвращался, холод на улице крепчал, и тогда начали поиски — сначала в доме, в саду, в конюшнях, а потом и в ближайших окрестностях. Всю вторую половину дня встревоженные Тамако и Акитада нервно вышагивали по комнате. Потом, не в силах больше ждать, Акитада оделся и выбежал на улицу. Он стучался в каждые ворота, спрашивал на улице каждого прохожего, каждого лоточника, каждого посыльного и каждого нищего, не видели ли они ребенка. Но все они отвечали отрицательно. Ближе к вечеру вконец перепуганный Акитада все-таки узнал кое-что в одном из домов в соседнем квартале. Тамошний мальчик-слуга, проходя утром мимо дома Сугавары, видел, как какой-то низенький щуплый человечек с ежиком седых волос ошивался возле открытых ворот. Мальчик-слуга заметил, как тот манил к себе кого-то, кто находился внутри. А потом с другой новостью примчался Сабуро. В соседнем квартале поварихины дети играли в переулке, когда мимо них прошел монах в капюшоне с мальчиком, которого вел за руку. Ребятишки глазели им вслед, потому что на мальчике было очень дорогое шелковое кимоно красного цвета. Так стало ясно, что это был Ёри. Но кто тот монах в капюшоне? Душу Акитады сковал панический страх, но он спокойно сказал Сабуро: — Мне кажется, я знаю, где он. Пойди скажи госпоже, что я отправился за ним, и пусть не беспокоится. Ноами! Это точно Ноами! Седые волосы ежиком. Дети приняли его за монаха, потому что он носит монашье одеяние с капюшоном. Только зачем ему понадобился сын Акитады? Акитада буквально бежал к дому художника, твердя себе, что там найдет объяснение случившемуся. Скорее всего Ёри, оставшийся без родительского пригляда, сам заметил проходившего мимо Ноами. Вспомнив про незаконченный урок рисования, малыш мог попросить художника дать ему еще один, и Ноами, не ожидавший радушия в доме Акитады, возможно, пригласил его к себе домой. «Бамбуковая хижина» Ноами находилась примерно в одном ри от дома Акитады, и Акитада старался выбирать самый кратчайший путь. Он бежал, привлекая к себе взгляды прохожих, и очень скоро даже вспотел, несмотря на стужу. Он давно не упражнялся в беге, поэтому быстро выдохся, однако не сбавлял скорости, пока не добрался до дома художника. Темнело, и тесная улочка была так же пустынна, как и в прошлый раз. Он принялся стучать кулаками в ворота. Сухая бамбуковая листва над головой таинственно шуршала, и он снова приготовился услышать хриплое карканье ворона. Но вместо этого со двора донеслись чьи-то шаги, шаркающие по опавшей листве. Деревянный засов отодвинулся, и ворота медленно распахнулись. Перед ним стоял Ноами. Большой рот растянулся в неторопливой улыбке, обнажив огромные желтые зубы, придававшие этому человеку еще большее сходство с обезьяной. Он жевал сливу и это тоже делал, как обезьяна, подумал Акитада и сухо спросил: — Мой сын у вас? — Ну да, господин. — Ноами поклонился и распахнул ворота пошире. — Мальчику здесь ужасно нравится. Заходите! Нахлынувшее чувство облегчения даже лишило Акитаду дара речи на время. Он последовал за Ноами по тропинке, ведущей к мастерской. У входа они оба разулись. Там же, не в силах скрыть раздражения, Акитада сказал: — Могу я спросить, зачем вы привели его сюда? — Рисовать. — Ноами удивленно приподнял брови. — Я зашел узнать, понравился ли ему прошлый урок. Мальчик сказал мне, что вы с супругой заняты, но он с удовольствием посетил бы мою мастерскую. Кстати, я уже собирался вести его обратно. Слова эти прозвучали вполне правдоподобно. Ёри и впрямь мог сказать такое, если бы ему захотелось пойти. Только вот в какую панику повергло их всех это щедрое приглашение Ноами! — Но мы-то ничего не знали, — сухо сказал Акитада. — И все это время искали его. — Ай-ай-ай! — сокрушенно проговорил художник. — Какая жалость! Подумать только, что иной раз вытворяют эти детишки! Да вы проходите! Ери сидел на полу среди листков бумаги и крошечных баночек с краской. Ноами снял с него стеганое красное кимоно и надел ему поверх штанишек и жакета коротенькую полотняную рубаху, перемазанную краской. Завидев отца, Ёри обратил к нему улыбающееся личико. — Смотри, что я нарисовал! — радостно закричал он. В мастерской ничего не изменилось с прошлого раза, разве что все двери были закрыты, чтобы не выпускать тепло. Огромная жаровня согревала комнату, возле подушек на полу стояла зажженная лампа. — Может, выпьете чего-нибудь? — спросил Ноами. — Не стоит беспокоиться, — поспешил ответить Акитада. Ему очень не нравился этот человек, но он счел бы грубым открыто выразить свои чувства — ведь художник всего лишь развлекал Ёри в течение дня. — Нам нужно поскорее возвращаться. Его мать волнуется. — Ах, ну да, я и забыл! Давайте только я принесу что-нибудь, чем его можно почистить. Вот, выпейте пока немного вина. У вас замерзший вид. И немудрено в такой-то холодный вечер… Акитада заметил на жаровне флягу с вином. Пальцы его и уши щипало после мороза, а по коже холодным льдом растекался пот. — Ну что ж… — сказал он и сел. Ноами наполнил для него чарку, поднес ее с поклоном и заспешил прочь. Акитада вытянул замерзшие ноги к жаровне. Ёри, окунув пальцы в желтую краску, возил теперь ими по бумаге. — А ну прекрати! — одернул его отец. — Лучше скажи, почему ты убежал из дома без разрешения? Глазки малыша округлились, и он изумленно уставился на отца. — Но я спросил разрешения! Ты сидел, уткнувшись в какие-то бумаги, и кивнул мне. Такого Акитада не помнил. Он хорошо помнил, что Сэймэй был занят больным Харадой, и Акитаде пришлось возиться с счетами самому. Неприятный сквозняк пронесся по мастерской, но это дуновение, вызвавшее у него озноб, так и не смогло выветрить из комнаты противного стойкого запаха красок. Он глотнул вина, приправленного какими-то специями, и нашел его вкус весьма странным, но довольно приятным. На полу валялись разбросанные бумаги с рисунками Ёри. Ему вспомнился прошлый урок рисования, и гнев снова зашевелился в душе. — Вытри руки и подойди сюда, — сказал он сыну. Ёри повиновался, воспользовавшись рубашкой Ноами, чтобы выполнить приказ отца. Подобрав с пола несколько листочков, он принес их отцу. — Вот смотри! На этот раз мальчик попробовал нарисовать людей. Странные создания получились у него — с огромными головами, с открытыми ртами, выпученными глазами, с пустотами вместо рук и ног. Детские каляки-маляки? Не мог правильно нарисовать? Акитада еще раз глотнул из своей чарки, почувствовав, как вино теплом обволакивает желудок, потом встал, чтобы посмотреть другие рисунки. Среди них он сразу же наткнулся на рисунок Ноами. На нем тоже был изображен человек — маленький мальчик с вытаращенными от страха глазами и открытым в крике ртом. Испытывая чувство омерзения, Акитада выпустил из рук рисунок: вместо рук и ног у малыша были обрубки. Как смел этот негодяй показывать ребенку такие вещи?! Сразу же в голове зашевелились воспоминания — кровавые раны измученных грешников в преисподней на адской картине и искалеченный мальчик, сын бедной женщины, встреченной им возле рынка. Поначалу такое совпадение показалось ему немыслимым, тогда он бегло, с отвращением, просмотрел другие листки, среди которых нашел еще парочку набросков с изображением изуродованных безруких и безногих детей. Ему вспомнились бумажные свитки, которые Ноами не пожелал показать ему. Тогда он взял лампу, с ее помощью нашел в углу мастерской кипу набросков и начал просматривать их один за другим, роняя их из дрожащих рук. Изображались там по большей части женщины и дети, но было и два щуплых старика — слабые, беспомощные создания, все либо израненные, либо обожженные. На нескольких набросках он узнал Юкио — изуродованное лицо, окровавленное тело, исполосованное от груди до низа живота. Акитаду чуть не вывернуло наизнанку, противный вкус выпитого вина встал в горле. Запоздалая мысль теперь стучала в висок: что, если Ноами сейчас вернется и застанет его в таком состоянии? Ёри! Он должен во что бы то ни стало увести отсюда мальчика. Акитада закачался, голова кружилась. Трясущимися руками он свернул бумаги и затолкал их обратно в угол, потом, шатаясь, вернулся к своему месту. Как раз вовремя. Ноами вошел в комнату, неся чашу с водой и какие-то полотенца. А между тем Акитада почти терял сознание. Комната завертелась перед его глазами. Ноами заботливо вытирал краску с личика и рук Ёри. — Папа видел мои рисунки. — Задорный голосок Ёри прозвучал словно где-то вдалеке. — А я скоро приду рисовать щенков. Ноами отложил в сторону грязные полотенца и снял с мальчика рубашку. — Я буду ждать с нетерпением, мой юный господин, — проговорил он своим скрипучим голосом. Ёри подбежал к отцу. Обняв ребенка, Акитада смотрел на художника. Надо вести себя естественно, иначе Ноами заподозрит неладное и не даст им уйти. — Вы хорошо себя чувствуете, мой господин? — спросил Ноами. — Уж больно бледный у вас вид. — Нет-нет… Я… в порядке. А где его кимоно? Нам ведь пора ид… и… А между тем Ёри уже натягивал на себя свою красную одежку. — Нам пора домой, — наконец смог внятно вымолвить Акитада. Теперь он чувствовал какую-то странную легкость во всем теле. Однако попытавшись встать, он понял, что ноги не удержат его. — Может, еще немного винца перед дальней дорожкой? — предложил Ноами, вкладывая в его руку чарку. На что бы опереться? Как бы встать? Надо уходить отсюда. Надо уводить Ёри. Акитада выпил и закачался. — Пойдем, Ёри! — сказал он и наклонился, чтобы взять сына за руку, но при этом его повело в сторону, он потерял равновесие и неловко упал на четвереньки. — Ай-ай-ай! — запричитал Ноами. — Вы бы сели да отдохнули, господин. Может, вам водички принести? Акитада кивнул. — Водички? Да. Пожалуй. В скудном свете Акитаде все же показалось, что художник гадко ухмыльнулся. Акитада некоторое время беспокойно смотрел ему вслед. В комнате было как-то подозрительно темно, и тут он понял, что забыл лампу в углу, где были спрятаны наброски Ноами. Значит, художник понял, что он видел их. И почти сразу же его помутневший рассудок посетила еще одна мысль — в вино, только что выпитое им, было что-то подмешано. Акитада сделал усилие над собой и с трудом вымолвил: — Ёри, ты должен сейчас же бежать домой! Ёри кивнул: — Да, папа, давай побежим! Я так проголодался! — Нет, ты должен бежать один! Ты сможешь?.. — Акитада чувствовал, что язык его не слушается. — Один! Прямо сейчас!.. Ты сможешь… побежать один? — Он еще хотел спросить, сможет ли малыш сам найти дорогу. Какой глупый вопрос! — Беги к Гэнбе!.. Скажи Гэнбе… — Времени на объяснения не было, и он закричал: — Беги, Ёри! Скорее беги! Мальчик стоял в нерешительности, в недоумении глядя на отца. А снаружи уже доносились звуки приближающихся шагов Ноами. — Пожалуйста, Ёри, беги! — взмолился Акитада. — Беги скорее! Беги без оглядки! — И он легонько подтолкнул мальчика в сторону двери. На лице его был запечатлен страх, и Ёри, кивнув, побежал. Оставшись один, Акитада, шатаясь, снова встал на ноги и ухватился руками за столб, подпиравший потолочную балку. Нельзя допустить, чтобы Ноами догнал ребенка! Оттолкнувшись от столба, он, шатаясь, бросился в дальний угол мастерской и распахнул двери в сад. — Что вы делаете? — услышал он голос художника. Но Акитада уже летел, кувыркаясь, по каким-то ступенькам. От боли и уличного холода в голове у него слегка прояснилось. Ноами бросился его поднимать, а Акитада бормотал: — Ёри!.. — А где же мальчик? Он что же, убежал?.. Акитада вцепился в художника и, тряся его за плечи, закивал. — Вот противный мальчишка! Увязался за какими-то собаками!.. — запинаясь, пробормотал он. — Давайте-ка я сначала усажу вас, — сказал Ноами, — а потом пойду поищу малыша! Он притащил Акитаду обратно в мастерскую и усадил его на подушки. Голова у Акитады шла кругом, комната вертелась перед глазами; чья-то рука поднесла к его губам чарку. Он упрямо мотнул головой, открыл рот, чтобы возмутиться, но проклятая жидкость уже залилась между зубов; он поперхнулся и проглотил. Перед ним маячило скуластое ухмыляющееся лицо Ноами. — Ну вот, теперь вы поспите всласть — проскрипел он своим зловещим голосом. Смех его прозвучал, как надтреснутый колокол. — А я оказался прав. Я знал, что вы придете сюда один. Такие спесивцы, как вы, всегда уверены, что простой человек и пальцем не посмеет их тронуть. Акитада изо всех сил рванулся вперед, схватив художника за горло, но тот, оттолкнув его, расхохотался. Смех этот множественным эхом прозвучал в ушах Акитады, а он беспомощно лежал на полу, и перед глазами его тряслась в издевательском хохоте голова, словно отделившаяся от тела. А потом он остался один. Стены кружились, и пол под ним плясал, как необъезженная лошадь, и он уже отчаялся обрести спасение, но что-то заставило его предпринять еще одно усилие. Он поднялся на колени. Соберись! Шевелись! Беги отсюда! Если надо будет, хоть на четвереньках, хоть ползи как змея! Цепляйся ногтями за каждую досочку в полу, но ползи к выходу! А Ёри уже давно в безопасности! С этими мыслями Акитада потерял сознание. Первое, что он ощутил, придя в себя, был страшный холод. Он услышал какой-то шорох и чьи-то слабые стоны вдалеке. В темноте ему было трудно разобрать, откуда доносятся звуки. Ему было очень холодно, а еще мучила боль — жуткая боль в запястьях и плечах. Руки были вытянуты над головой. Он попробовал пошевелиться, и слабый стон перерос в мучительный. Это был его стон. Руки в запястьях были подвязаны где-то над головой. Теперь он болезненно почувствовал всю тяжесть своего тела, потому что, оказывается, был подвешен. Он распрямился, и боль немного отпустила. Он попытался закричать, но рот был чем-то заткнут — какой-то тряпкой, противно вонявшей красками. Освободиться от нее не удалось — чуть не вырвало. Нет, до рвоты доводить нельзя — можно захлебнуться. Закрыв глаза, он сосредоточился, пытаясь подавить приступ тошноты. Наконец ему это удалось. Руки в запястьях были связаны так крепко, что он их просто не чувствовал. Ноги тоже были связаны в лодыжках, но не так крепко. Подошвами он чувствовал острые камешки — они прямо впивались в ноги. Но когда он попробовал пошевелить ногами, и плечи, и локти, и руки отозвались чудовищной болью. Вот если бы найти у этой веревки слабое, ненатянутое место! Он попробовал подергать веревку, но это движение вызвало новую непереносимую боль. Чтобы как-то ослабить ее, он приподнялся на цыпочки. Так он стоял некоторое время, боясь пошевельнуться, и ждал, когда утихнет боль. Только теперь его вдруг осенило, что он привязан в саду Ноами и что, кроме него, там больше никого нет. Тьма вокруг не была такой уж кромешной. Сквозь шуршащие бамбуковые ветви он мог видеть кусочек звездного неба. Скорее всего его привязали к дереву. Холод пробирал до костей, и он вдруг понял, что совершенно раздет — на нем осталась только набедренная повязка. Этот сумасшедший раздел его догола, привязал к дереву и оставил умирать в муках на морозе. Но зачем так рисковать, если боишься свидетелей? Почему было не убить его сразу? Что у этого Ноами в голове? Тут на память пришли наброски с изображением окровавленных тел. Что, если это чудовище задумало располосовать его на части для своих ужасающих этюдов? Что, если он, Акитада, станет теперь персонажем той самой адской картины? Он вдруг представил себе вереницу зрителей, толпящихся перед этим творением и глазеющих на его корчащееся в муках тело. А его друзья и знакомые? Узнают ли они его на этой картине? Эта мысль вызвала у него улыбку, а потом он почувствовал, как теплая влага струйками побежала по щекам. Ну уж нет! Ни за что! Ни за что он не доставит этому чудовищу удовольствия увидеть его слезы. Он попытался как-то отвлечься от этой мысли и решил сосредоточиться и подумать об освобождении, каким бы невероятным оно ни казалось. Пальцы на ногах уже давно затекли и онемели от тяжести тела, лодыжки дрожали от перенапряжения. Чтобы как-то ослабить его, он резко дернулся вперед, и этот рывок отозвался мучительной болью в поврежденных плечевых суставах. Он закрыл глаза и постарался выровнять дыхание. Вдох! Выдох! Вдох! Выдох! И так до тех пор, пока он не заставил себя привыкнуть к боли. В голове немного прояснилось, но дышать было по-прежнему трудно. В таком положении о нормальном дыхании не могло быть и речи. Воздуха не хватало, и эта мысль привела его в панику. Ноами оставил его медленно умирать от удушья. Снова встав на цыпочки и не чувствуя ни малейшей слабины в веревке, он принялся проверять ее на прочность. Вот если бы еще что-то чувствовали пальцы! Тогда он мог бы нащупать где-нибудь узел или хотя бы обнаружить, как он привязан к стволу. А он даже не мог поднять головы. Он попробовал изогнуться. Ценой новой чудовищной боли ему это удалось. Никчемная попытка. В темноте ничего не разглядеть. Тогда он снова распрямился, всем весом навалившись на ступни, отдохнул и принялся лихорадочно соображать. Удалось ли Ёри убежать? Нашел ли он дорогу домой? А что, если нет? Ведь ему всего три года, а до дома такое расстояние, и все вокруг чужое. Он с содроганием вспомнил предостережения Такэнори. Сможет ли малыш в дорогих одежках проскочить мимо местных головорезов, нападающих даже на взрослых людей? Сердце его сжалось от страха и боли. Бедное дитя! Собственный отец отправил его навстречу новым ужасным испытаниям! И все же в некотором смысле это было лучше, чем позволить ему попасть в лапы этого сумасшедшего Ноами. Любой уличный головорез из тех, что разгуливают по ночам в западных трущобах, проникнется большей жалостью к ребенку, чем это чудовище. Кроме того, оставался еще очень малый шанс, что Ёри найдет где-то помощь. Даже если он не доберется до дома, он может встретить кого-нибудь, кто выслушает его историю и побежит разбираться. Но Акитада тут же подумал о том, что долго пробыл без сознания и что за это время помощь уже должна была прийти, если бы мальчик нашел где-то сочувствие. Ну и ко всему прочему Ёри, конечно же, не осознавал той опасности, которая угрожала отцу. Да и кто станет слушать лепет потерявшегося малыша посреди ночи? Вот если бы Ёри теперь был в безопасности!.. Зная, что обречен на мучительное замерзание, Акитада теперь трясся так, что ветки на дереве задрожали, словно пустившись в пляс под молчаливое созерцание ледяных звезд. Как ни странно, но смерть от холода угнетала меньше, чем боль и чем мысль о возвращении его мучителя. Он снова поймал себя на том, что ловит ртом воздух, и снова ради нескольких минут облегчения перенес тяжесть веса на ноги. Унять дрожь было уже не в его силах. Мысль о том, что в спасении скоро не будет надобности, оказалась почти утешительной. Но то ли инстинкт выживания, то ли какая-то упрямая гордость вдруг проснулись в нем — он принялся дергать веревку, проверяя ее на прочность. Та еще больнее врезалась в запястья, но он терпел и не оставлял своих попыток. Пеньковые веревки поддаются растяжению. Если ему это удастся, то можно будет ослабить узел. Он потянулся, сделал рывок и изогнулся. Немного отдохнув, он возобновил усилия. То и дело он останавливался, чтобы выяснить, чего добился, и приступал к борьбе заново, пока наконец совсем не потерял чувства времени. Он ощущал на руках кровь, ее теплые капли стекали по плечам и спине. Странно, но боли такой уже больше не было, и наконец наступил момент, когда он смог немного согнуть руки в локтях и повернуть голову. Как раз в этот момент вернулся Ноами. Сначала Акитада увидел свет его фонаря, зловеще пробивавшийся меж бамбуковых стволов. Ноами явился не только с фонарем, в руках у него была еще огромная корзина, которую он поставил на землю под ногами Акитады, прежде чем осветить свою жертву. — А-а… уже проснулись! — сказал он. Глаза его мерцали как угольки в отблеске света фонаря. — Ай-ай-ай!.. Полюбуйтесь, что же это вы сделали со своими руками! Больно, наверное? — Он дернул за веревки, не сводя при этом глазе лица Акитады. — Ну как, холодно? Ну да, я вижу, что холодно. Хотя, конечно, до ледяного ада далеко. Впрочем, снег и лед я всегда могу пририсовать потом. Он поставил фонарь и начал доставать из корзины рисовальные принадлежности и аккуратно раскладывать их перед Акитадой. Корзину он потом перевернул вверх дном, чтобы сесть. Сколько-то времени ушло на то, чтобы приладить корзину и фонарь так, чтобы связанное тело Акитады было хорошо освещено и Ноами мог смотреть на него с нужного ракурса. Когда с этим было покончено, он принялся растирать тушь с водой. Все это время художник не переставая болтал. — Ну разве могу я разочаровать человека вашей стати?! — сказал он, изучая взглядом тело Акитады. — И в переносном, и в буквальном смысле. Мускулы-то у вас о-го-го!.. Вон какие крепкие! Сам-то я, конечно, силен для своего роста, да только могу себе представить, каких хлопот вы бы мне понаделали, если б не тот снотворный порошочек. Акитада смог издать только слабое мычание заткнутым вонючей тряпкой ртом. Ноами рассмеялся. — Я бы с удовольствием с вами побеседовал, да только лучше не надо. Я, знаете ли, живу здесь отшельником, и вряд ли кто-то обратил бы внимание на ваши крики, хотя как знать!.. Кстати, сынок ваш, похоже, сбежал. Жаль, что я упустил его. Детские образы всегда лучше передают ощущение ужаса, чем взрослые, хотя такой статный и благородный персонаж, как вы, несомненно, способен внести в картину пикантный штришок. И все же жаль — ведь ваш Ёри такое очаровательное изнеженное дитя! Дитя из благородного семейства. До сих пор мне позировали только убогие маленькие оборванцы. Акитаду теперь затрясло и заколотило с новой силой. Ёри удалось удрать от этого маньяка, и мысль эта приносила облегчение, но он с ужасом осознал, что, даже умудрившись ослабить веревку и высвободиться, вряд ли смог бы теперь в таком состоянии защитить себя, не говоря уже о том, чтобы уйти. Господи, да что же все-таки задумал этот Ноами?! — Я вижу, вас обуял страх, — сказал художник, бросая на Акитаду цепкие взгляды и делая торопливые зарисовки кистью. — Ну да, я же вижу страх в ваших глазах. Акитада свирепо смотрел на него, пытаясь протестовать. — Нет? Тут я вам не верю. Положение-то ваше куда как безнадежно. Удрать вы от меня не можете, а силы скоро изменят вам. Даже такая могучая плоть все равно скоро уступит холоду. — Он огляделся по сторонам. — Жаль вот, снежка мало выпало. Но для моего последнего сюжета, для моего ледяного ада, главное, что мне нужно, — это муки обреченного на холодную смерть. Так что вы, господин хороший, скоро обретете бессмертие, вы будете увековечены в художественном творении. Акитада надеялся, что до холодной смерти все же не дойдет. Возможно, этот человек удовлетворится какими-то зарисовками и развяжет его потом. Если Ноами и есть тот самый маньяк, а в этом почти нет сомнения, то следует вспомнить, что он в общем-то никогда не убивал свои жертвы, просто некоторые из них сами умирали потом от ран. Возможно, буддийское прошлое удерживало его от настоящего убийства. Ноами отвлекся от работы и внимательно посмотрел на Акитаду. — Сами вы на это напросились, знаете ли. — сказал он. — Если бы вы не начали вынюхивать тогда в монастыре, мы с вами могли бы никогда не встретиться. Но вам непременно понадобилось сунуть туда свой нос. И сюда пришли, прикинувшись заказчиком! Ха! Я не такой дурак и догадался, что вы явились обследовать мою мастерскую на предмет улик. И потом я снова застукал вас в монастыре, где вы продолжали задавать всякие вопросы. Не иначе как настоятель попросил вас взяться за расследование. Мне показалось, он стал относиться ко мне с подозрением, когда увидел первые створки моей ширмы. Вообразите, какой удар я получил, когда, придя в ваш дом, увидел там девушку, послужившую мне натурой для ада разящих клинков. Я слышал, как вы называли меня изувером, маньяком, обычным преступником! Тогда же у меня появилась уверенность, что вы готовы донести в полицию, а этого я допустить не мог. Я должен был закончить свою ширму. Глупая надежда Акитады, что Ноами, возможно, удовлетворится несколькими набросками, в тот же миг рассыпалась в прах. Ноами не отпустит его подобру-поздорову. Сейчас ему оставалось только положиться на Ёри, на то, что малыш как-то даст людям понять, где находится его отец. — Хм… — сказал Ноами, критически оглядывая свою работу и кивая. — Пожалуй, пока достаточно. Остальные мучения отложим на потом. — И он поднял рисунок повыше, чтобы показать Акитаде. Акитада не узнал себя в этом жалком, скрюченном создании, подвешенном на голой ветке. Неужели его лицо и впрямь так искажено? Он попытался распрямиться. — А вы, кстати, хорошо владеете собой, — с усмешкой заметил Ноами. — Ведь вам, должно быть, очень больно сейчас. — Он поднялся и подошел проверить веревки. — Ай-ай-ай!.. А веревочку-то вы дергали! А чего добились? Только узлы крепче затянули. Руки-то как распухли и посинели. Наверное, онемели, совсем теперь ничего не чувствуют. Не-ет… вам надо быть осторожнее. — Он вдруг насторожился и прислушался, потом резко повернулся и пошел в сад. Акитада снова принялся дергать веревку. Десять резких рывков успел он сделать, прежде чем боль в руках стала невыносимой и ему пришлось прерваться. Пот бежал по лицу ручьями, несмотря на отчаянную стужу. Сначала он принял его за кровь, подумал, что кожа растрескалась от мороза, но потом все понял и возобновил свои попытки. На этот раз ему удалось еще чуть больше растянуть веревку. Запястья снова начали кровоточить, но он все продолжал дергать. Все тело превратилось в сплошной комок нестерпимой боли, ему даже показалось, что он вывихнул оба плеча, но в конце концов у него появилась надежда все-таки ослабить путы или порвать веревку. Не успел он об этом подумать, как вернулся художник, что-то бормоча себе под нос. С собой он принес две тяжелые бадьи и какие-то тряпки. Поставив бадьи на землю рядом с Акитадой, он бросил тряпки в одну из них и принялся смачивать тело Акитады водой. На Акитаду, уже и без того продрогшего насквозь, эти ледяные примочки подействовали как настоящий шок, и он отчаянно задергался всем телом на своей виселице. Он никак не мог понять назначения этой «ванны». Если Ноами намеревался смыть кровь, то для этого не требовалось обрабатывать все тело — голову, грудь и пах. Уже совсем мокрому Акитаде Ноами задрал ноги и окунул их во вторую бадью. От столь резкого перемещения запястья и плечи пронзило, словно молнией, нестерпимой болью. Акитада закричал, из его заткнутого кляпом рта вырвался глухой, сдавленный стон, он даже закрыл глаза. Когда ноги его коснулись тверди, приняв на себя тяжесть веса, он испытал такое облегчение, что даже сразу не понял главного — что Ноами погрузил его ноги почти до колен в бадью с замерзающей водой. Он весь съежился, потом отчаянно задергался, а между тем Ноами принялся обертывать его тело от головы по самые бедра ледяной тканью. Когда мерзлые тряпки застлали лицо, лишив Акитаду одновременно возможности дышать и видеть, он в порыве панического ужаса дернулся назад, случайно ударив затылком Ноами. Он услышал пронзительный вскрик, после чего получил мощный удар по голове, от которого весь обмяк. Сейчас он даже хотел оказаться в беспамятстве, но Ноами соблюдал осторожность. Акитада был все еще нужен ему — в сознании и в муках. Он по-прежнему ничего не видел, но от удара по голове тряпка частично соскользнула с лица, и теперь он мог хотя бы дышать. Ноами, что-то бормоча, топтался вокруг него. Продолжая обертывать Акитаду мокрым тряпьем, он вдруг приблизился к самому его уху со словами: — Ну вот, уж это за час примерзнет так примерзнет! Лучше бы, конечно, окунуть вас в ледяной пруд — натуральнее выглядело бы. Ну да ладно, сойдет и так. Полагаю, мы с вами и так добьемся боли и страха на лице! Вы не представляете, как трудно всколыхнуть искусством человеческую душу, но моя ширмочка заставит людей ужаснуться. Ничто так не трогает человеческое сердце, как выражение страха и боли на лице другого живого существа. А страх-то, как вы знаете, многолик! На удивление многолик. Мне вот прямо не терпится посмотреть, как вы будете выглядеть, когда я вернусь. Если мне удастся добиться нужного эффекта, я помещу вас на первый план — в назидание всем грешникам. Посредством своего искусства я передам страх одного, ваш страх, всем, кто вас увидит. Ведь страх — это единственное чувство, способное удержать людские сердца от греха. Так вот, при помощи малой жертвы можно достичь великого добра. Ну а сейчас вы у меня… Остальных слов Акитада уже не слышал — их заглушил плеск ледяной воды. Окатив его с головы до ног из бадьи, Ноами без единого слова ушел. Акитаде теперь казалось, будто его жгут заживо. Такого холода он не испытывал, даже прожив долгие годы в заснеженной северной провинции. Он заставил себя перебирать в памяти истории о людях, которым удалось чудом избежать смерти от замерзания. Все они сначала погружались в сон и через некоторое время уже ничего не чувствовали. Вот ведь как расстроится Ноами! Акитаде показалось, что тело его уже начало окоченевать. Потом на память пришли ампутированные конечности. Те, кто не умер на морозе, все равно отдали ему свои руки и ноги, свои уши и носы, распрощавшись с ними навсегда. Ледяной холод действовал не хуже острого ножа. Попытки двигаться и шевелиться спасали его до сих пор, поэтому он попробовал сделать это снова, начал дергать веревку, но мускулы, сведенные холодом, отказывались подчиняться его командам. Впервые за все это время он осознал близость смерти. Он будет медленно умирать здесь, в этих бамбуковых зарослях, на глазах у сумасшедшего художника, пожелавшего запечатлеть на бумаге его последние мгновения. Он будет умирать в одиночестве, зная, что рядом нет никого. Ахитада будет осмеян в смерти и потом, уже после смерти, в глазах тысяч людей, которые придут полюбоваться шедевром Ноами. Мысль эта перевернула всю его душу, вызвав в ней мощный протест. Он снова принялся за борьбу, он дергался и вгрызался зубами в тряпку, он слышал собственные стоны, уносившиеся вдаль и терявшиеся там среди шороха бамбука и далекого звона храмовых колоколов, отбивавших часы. Ему удалось слегка ослабить веревку, так что он мог теперь чуть-чуть шевелить руками и плечами. Акитада вознаградил себя за это коротенькой передышкой, не прекращая между тем попыток пошевелить пальцами и запястьями. Ведь без них он не сможет развязать узел. Но все эти усилия оказались безуспешны — он так и не понял, сможет ли шевелить пальцами, а запястья жгло чудовищной болью. Зато эта физическая борьба не давала воде застыть на теле ледяной коркой, а одна из тряпок даже отвалилась. Акитада попробовал прикинуть в уме свои возможности. Уже дважды во время своих самых отчаянных попыток растянуть веревку он случайно касался ствола. А вдруг ему удастся еще как-то приблизиться к стволу и перетереть веревку о кору? С запозданием он вспомнил про бадью, в которой стоял. Он потерял контакт с ногами, когда перестал чувствовать их. Акитада сделал конвульсивный рывок вперед, вызвавший новое растяжение плечевых мышц, и опрокинул бадью. До земли ноги едва доставали, зато лодыжкой он чувствовал бадью. Вот если бы умудриться встать на нее!.. Чтобы поднять ноги, ему пришлось еще раз мучительно подтянуться на руках. Он промазал, только скользнув подошвами по деревяшке. Вгрызаясь зубами в кляп, пленник предпринял новую отчаянную попытку. На этот раз бадья каким-то образом немного передвинулась и прочно установилась в грязи под ним. Теперь он стоял на ногах, покачиваясь и рискуя соскользнуть с ее выпуклого донышка. Благодаря этому достижению Акитада теперь смог поднести поближе к глазам свои руки, но тут же убедился, что такого прочного узла ему не развязать даже со свободными руками, которые теперь больше не походили на человеческие. О возможной потере рук он постарался не думать. Вместо этого Акитада принялся соображать, как отделаться от веревки другим путем. Может, попробовать, откинувшись назад, прислониться спиной к стволу? Если не получится, он тогда снова попробует с бадьей. Он старался не думать о предстоящей боли и подался назад. Вот оно, дерево! Он коснулся ствола! Очень осторожно Акитада прислонился к нему спиной, чувствуя ею острую кору, теперь на нее перевалилась часть веса. Зато веревка опять сильно натянулась, она причиняла ему все новые и новые муки по мере того, как он пытался водить руками вверх и вниз в надежде перетереть свои путы. Бадья под ногами раскачивалась, но он упорствовал, теперь уже плотно вдавив ее в грязь. Тряпка на лице сдвинулась в сторону, и Акитада жадно глотнул чистого воздуха, устремив взор к звездам. Облегчение пришло к нему вместе со слезами, которых он не мог остановить. Он продолжал перетирать веревку, и эти движения превратились в автоматические, а боль стала фактом самого существования, доказательством того, что он еще жив. Он даже не почувствовал, как острая кора резанула по коже. А потом веревка распалась, и он свалился наземь. Акитада упал тяжело, совершенно не готовый к освобождению, и какое-то время лежал, ошеломленный, неспособный подумать о дальнейших действиях. Он лежал и видел над собой громаду дерева — его толстый ствол и ветви на фоне ночной синевы, усыпанной искорками звезд. Потом Акитада наконец перекатился на бок и опустил руки, прижав их к груди. Это движение само по себе оказалось чудовищно болезненным, тогда он сделал передышку и снова попробовал пошевелить пальцами. Веревка, видимо, отвалилась полностью, потому что его запястья, черные от крови, были совершенно свободны. Акитада попытался согреть руки о живот и вскоре понял, что они двигаются. Слава Богу! Теперь надо было подумать, как избавиться от кляпа. Он поднес руки к лицу, но в пальцах не было сил ухватиться за ткань, тогда он принялся тереться затылком и щекой о землю. Благодаря торчавшему из земли корню тряпку удалось чуть сдвинуть, и уже тогда Акитада смог вытолкнуть ее наружу языком. Его вырвало, но тут же значительно полегчало, и он хотя с трудом, но сел. Полоска ткани с привязанным к ней кляпом оказалась замотанной вокруг головы и закрывала один глаз. Акитада пошевелил ее, сдернул и огляделся по сторонам. Дерево, как выяснилось, стояло посреди бамбуковых зарослей. Небо к тому времени заметно посветлело, звезды стали блекнуть. Скоро рассвет! Сколько же времени прошло? Ноами сказал, что вернется через час. Акитада мог сейчас закричать, позвать на помощь, но вдруг на крик прибежит лишь его мучитель? Разве сможет он справиться с ним, находясь в таком плачевном состоянии? Ноги его были связаны в лодыжках, развязать такой узел изуродованными беспомощными руками он не мог. Да к тому же ужасно дрожали колени — едва только попытавшись встать, он тут же упал. Нет, надо ползти, притаиться где-нибудь в саду, там отлежаться и отдышаться, может быть, развязать ноги. И Акитада пополз, извиваясь как змея или червяк, а совсем не как двуногое или четвероногое существо. Он забирался все дальше и дальше в бамбуковые заросли, пока не уперся в стену ограды. Там он сел, прислонившись к ней спиной, и стал отдыхать. Вокруг все было тихо. Немного погодя Акитада снова начал разрабатывать руки. Обледеневшая кожа ничего не чувствовала, тогда он засунул пальцы в рот, чтобы согреть. Вынув их изо рта, он увидел в пробивающемся утреннем свете, как они один за другим неохотно зашевелились. Было в этом зрелище что-то зловещее, потому что он еще не чувствовал пальцев, а только видел, как они двигаются, словно дохлые рыбешки в черной воде. Акитада упражнял пальцы снова и снова, периодически согревая их во рту. Наконец он ощутил в большом пальце одной руки слабое жжение. Постепенно оно переросло в неприятное покалывание, но это так приободрило его, что он принялся с новой силой разрабатывать пальцы, параллельно еще потихоньку растягивая руки и плечи. Он как раз взялся обследовать путы на лодыжках, когда услышал вдалеке крик. Ноами! Обнаружил бегство своего пленника! Акитада беспомощно обмяк, когда начался треск в бамбуковых зарослях. Как быстро! Ведь он еще даже не успел встать на ноги. Даже не прошел еще и нескольких шагов, не говоря уже о каком-то там бегстве. А между тем треск все приближался, усиливаемый предрассветной тишиной. Ну да, за ним же тянулся след, по которому и шел Ноами! Каким бы безнадежным и бессмысленным это ни казалось, Акитада все же принялся лихорадочно развязывать узел на ногах. Полуживые пальцы не слушались, из-под ногтей засочилась кровь. Узел был мокрый, наполовину промерзший, острые кусочки льда резали кожу. Нет, все без толку! Тогда, оглядевшись по сторонам, он увидел камень размером с головку младенца. Он пополз к камню и попытался его схватить. Но вконец ослабшие руки не могли удержать даже такой не тяжелый предмет. Тогда Акитада просунул ладони плашмя под камень и все-таки сгреб его. Прижав его к голому животу, он кое-как добрался до стены, сел, прислонившись к ней спиной, и стал ждать Ноами.ГЛАВА 21 «НОВАЯ» ФЛЕЙТА
Придя в себя, Тора первым делом решил, что все-таки рухнул с высоты в проклятой пагоде. Но шелест листвы потихоньку пробивался через туман в гудящей от боли голове, и, перекатившись на спину, он увидел ночное небо. Над стеной какого-то сада возвышалась бамбуковая листва, шелестевшая при каждом дуновении ветерка. Он сел и ощупал голову. Звезды в небе заскакали в дикой пляске, а стена извивалась как змея. Ему пришлось несколько раз сильно зажмуриться, прежде чем мир вернулся в свое обычное незыблемое состояние. Тогда сразу же вернулась и память. Бамбуковая роща. Маньяк. И кто-то, напавший на него сзади. Он ощупал пояс на предмет хранившихся там монет — те были на месте. Слава Богу, этот ублюдок хотя быне забрал у него последние деньги! Больше похоже на чудо. Потом Тора припомнил низенькую фигуру в капюшоне, вывернувшуюся у него из рук у калитки. Боль в голове возобновилась. Затвердевший земляной ком, о который он треснулся башкой при падении, раскололся надвое. Спина ныла. Значит, удар ему нанес коротышка в капюшоне. Не тот ли самый маньяк? В таком случае ему надо пошевеливаться, пока он не вернулся прикончить его. Шатаясь, Тора встал, подождал, когда внутри уляжется мутная волна, и пошел вдоль стены, держась за нее. Владения были большими, и высокая стена казалась бесконечной, при этом ни ворот, ни калиток больше не было. На задворках владений Тора обнаружил глухую стену какого-то сарая, относящегося к другой улице и обнесенного сломанным забором, по обе стороны которого густо росли низкие кусты и сорняки. Почувствовав головокружение, Тора сел на землю и принялся обдумывать свое положение. Если на него напал не кто иной как маньяк, то почему он оставил его лежать без сознания рядом со своей берлогой? Почему не прикончил его? Может, побежал за ножом? Тора передернулся всем телом. С другой стороны, труп, оставленный лежать на виду, может вызвать много неприятных вопросов даже в этой части города. Торе заметно полегчало, только было очень холодно. Он встал и вдруг увидел какое-то слабое мерцание в бамбуковых зарослях за стеной. Там кто-то шел с фонарем. Он притих, насторожился и услышал слабый голос. Значит, ублюдок там не один! Вдоль стены Тора вернулся к единственным, как выяснилось, воротам. Ну и что теперь? Он мог бы пойти домой подлечиться. А что еще делать среди ночи? К тому же он скорее всего спугнул добычу. Зато завтра среди бела дня он может вернуться сюда с Гэнбой, вдвоем они просто-напросто вышибут ворота. Этот мелкий червяк, может, и силен для своего роста, только что он может поделать против Торы и Гэнбы, если они будут вдвоем? Это было мудрое решение, но что-то удерживало Тору — какое-то необъяснимое упрямое желание как можно скорее перебраться через стену в самое логово маньяка. Дрожа от холода и страдая головной болью. Тора поплелся обратно в конец владений и еще раз внимательно оглядел ветхие соседские постройки. В сломанном заборе он нашел подходящей длины кол, при помощи которого можно было забраться на стену. Он постоял немного, прислушиваясь, — внутри все было тихо. По шесту он взобрался на стену и глянул вниз. Высоковато, но ничего не поделаешь. Он дотянулся до одного из бамбуковых стволов и, держась за него, прыгнул вниз. Бамбук понаделал много шума, но сам Тора приземлился почти беззвучно. С еще большим грохотом и треском бамбук распрямился, и Тора подождал несколько мгновений, но все по-прежнему было спокойно. Он осторожно начал пробираться через заросли, время от времени останавливаясь и прислушиваясь к каждому шороху и всякий раз убеждаясь, что это был ночной ветерок или мелкая зверушка. В темноте у него ушло много времени, чтобы приблизиться к дому и хорошенько там осмотреться. Дом, как оказалось, имел куда большие размеры, чем он ожидал, и находился в хорошем состоянии. Зато сад имел совершенно запущенный вид и почти сплошь зарос бамбуком, за исключением лишь крошечного пятачка с огромным безлистным деревом посередине. Дом был погружен в темноту и безмолвие. Тора подумал, не проникнуть ли сразу в дом, но решил, что это бесполезно до тех пор, пока ему неизвестно, где именно находится маньяк. В растерянности он снова обвел взглядом сад. До ушей его донесся слабый треск. Кто бы ни находился там в бамбуке, но это явно был кто-то крупнее крысы или кошки. Тора решил пойти разведать. Звуки доносились со стороны большого дерева. Он пошел по хорошо протоптанной среди бамбука тропинке и не доходя полянки остановился. Там в ночной мгле белели разбросанные по земле бумажные свитки. Рядом валялась огромная перевернутая корзина, а с дерева, привязанная к ветке, свисала длинная веревка. Поблизости не было ни одной живой души. Тора осторожно приблизился. Рядом с корзиной стояла коробка с кистями и рисовальной тушью, возле дерева среди разбросанных тряпок валялась опрокинутая бадья. Какой беспорядок кто-то оставил тут, подумал Тора. Он пнул один из свитков, и тот развернулся. На свитке оказался нарисован почти нагой человек, привязанный к дереву. Тора оглядел дерево и свисавшую веревку, потом подобрал с земли еще несколько рисунков. Борясь с внезапно подступившей тошнотой, он подошел поближе разглядеть веревку и тряпки. Тряпки оказались мокрыми и уже начали леденеть на морозе. Веревка, тоже мокрая, похоже, была перетерта. На ее коротеньких обрывках, валявшихся на земле, виднелись темные пятна. Подобрав один такой клочок, Тора поднес его к носу. Кровь! Значит, он все-таки нашел маньяка, и тот мучил здесь кого-то даже в тот момент, когда Тора был совсем рядом! Куда же делось тело? Не утащил ли его этот зверь, чтобы тайком закопать? Возможно, как раз тогда он что-то и слышал. Он огляделся по сторонам, и очень вовремя! Кто-то несся к нему по тропинке. Несся словно призрак — бесшумно, с искаженным лицом и длиннющим ножом в правой руке. Гоня прочь суеверный страх, Тора бросил обрывок веревки и молниеносно отступил в сторону, подставив бегущему подножку. Теперь убедившись, что это не призрак. Тора навалился сверху на упавшего. Ну все, на этот раз мелкий мерзавец не выскользнет, будь он хоть тысячу раз проворен! Он с хрустом вывернул размахивающую ножом руку. Маньяк пронзительно заорал от боли и замер. Тора закинул нож подальше в бамбуковые заросли, убедился, что его пленник потерял сознание, и обрывками веревок надежно связал его. А между тем ночная мгла рассеивалась, и все вокруг начало приобретать очертания. Близился рассвет. Теперь Тора разглядел, что веревки, которыми он связал монстра, не перерезаны, а перетерты и разорваны. Значит, тот, кто висел на этом дереве, сумел как-то освободиться. А чтобы справиться с такой толстой веревкой, нужны были недюжинные силы и терпение. Тора поднялся на ноги. Пустая полянка была погружена в безмолвие. Он позвал: — Э-эй!.. Ты в безопасности! Теперь можешь выйти! Ответа не последовало. Где-то сонно чирикнула птичка. Тору вдруг осенило, что человек, удравший от пыток маньяка, вряд ли выйдет из своего укрытия по первому зову. Обследовав полянку, он обнаружил в сорняках и сухой листве под ногами широкий примятый след, уходивший в бамбуковые заросли. Сначала Тора решил, что маньяк, должно быть, все-таки убил свою жертву и куда-то оттащил мертвое тело. Но вскоре он обнаружил изогнутый отпечаток босой человеческой ноги. По-видимому, жертва маньяка, вконец ослабев, могла передвигаться только ползком, кое-как помогая себе руками и ногами. Чертыхнувшись, Тора заторопился по следу, готовый в любой момент наткнуться на мертвого или бездыханного человека, замученного пытками. Не отрывая взгляда от земли, он не заметил перед собой стены и прислоненной к ней сидящей человеческой фигуры. Вдруг что-то мелькнуло в полумраке, и он, получив сокрушительный удар по затылку, упал. Колени его подогнулись, и все погрузилось в черноту. Вот уж кого Акитада никак не ожидал увидеть в этих бамбуковых зарослях, так это Тору. Он представлял себе только Ноами, поэтому, собрав последние остатки сил, ударил камнем туда, где раздвинулась листва. Руки сами сделали это. Все, что он успел сделать в последний момент, — это чуть замедлить силу удара, которого уже не мог предотвратить. Выронив камень из безжизненных рук, он с ужасом смотрел на скорчившегося перед ним Тору, и его снова начало трясти. Только что он убил друга, пришедшего ему на помощь. Он упал на колени рядом с Торой. — Прости меня! Прости!.. — всхлипывал он, обливаясь горячими слезами и горестно раскачиваясь взад и вперед. Он пощупал Торину голову, и на его распухших руках осталась теплая кровь. Издав безмолвный вопль, он упал поверх друга, уткнувшись лицом в его широкую спину. — Хозяин? Хозяин! Это вы? Когда слова эти пробились сквозь туман в мозгу, Акитада приподнялся и едва слышно спросил: — Тора, ты живой? А я думал, это Ноами пришел прикончить меня. Тора тоже сел, держась за голову. — А я на вас подумал, что вы его сообщник, — сказал он улыбаясь. — Это ж подумать только: трижды за одну ночь получил по башке! Небо над ними посеребрилось, вокруг просыпались птички. — Прости, — сказал Акитада. Его все так же колотило, зуб на зуб не попадал, но он с радостью смотрел на Тору. — Я так рад, что ты пришел! Значит, Ёри добрался до дома? — Ёри?! — Тора опустил руки и теперь изумленно смотрел на хозяина. — Боже милостивый! — воскликнул он. — Да что же этот ублюдок сделал с вами?! Акитада грустно улыбнулся, стуча зубами. — Зарисовки в стиле реализма с замерзающей заживо натуры. Для дьявольской ширмы, — прибавил он и с трудом поднялся на ноги. — Ладно, не будем об этом. Так что там с Ёри? Тора встал. — Про Ёри я ничего не знаю. Я со вчерашнего утра не был дома. Акитада вдруг почувствовал дурноту. — Бог ты мой! Значит, ребенок еще не нашелся! Пошли! Надо найти Ёри! — Он схватился за плечо Торы. — Пошли, пока Ноами не догнал нас. — Если вы имеете в виду того маленького уродца с ежиком на голове, то я поймал его. — Тора скинул с себя драный ватник и рубаху. Укутав своего господина, он обхватил его за плечи, чтобы поддержать. — Ой, хозяин, а руки-то у вас!.. — пробормотал он, и Акитада торопливо спрятал ладони в рукава. Шатаясь, они поплелись к лужайке. Ноами уже пришел в себя и стонал. Смерив своих врагов зловещим взглядом, он пронзительно заорал: — А ну-ка сейчас же развяжите меня! Вы сломали мне плечо! Может, я теперь никогда не смогу рисовать! — Вот и хорошо, — сказал Акитада, устало опустившись на перевернутую корзину. — Проверь-ка, Тора, веревки, чтобы он не убежал до прихода полиции. Тора посмотрел на канат, свисавший с дерева, усмехнулся и дернул Ноами за ноги. Художник завопил. Тора подтащил его к дереву, обмотал канатом его связанные руки и натянул. Художник снова завопил и потерял сознание. Под тяжестью своего пусть и небольшого веса он обмяк и свесился вперед. — Я вывихнул ему плечо еще раньше, — с удовлетворением объяснил Тора. — Так что теперь он, даже если очухается, не сможет пошевелиться. Акитада поморщился. — Опусти-ка его пониже, чтобы ноги касались земли, — сказал он. Тора повиновался, но бесчувственный художник все кренился вперед. Акитада поднялся с корзины. — На-ка вот, поставь его сюда, и пойдем. — Вдвоем они как можно крепче привязали к дереву впавшего в беспамятство Ноами. Дальнейшие события прошли для Акитады словно в тумане. Только выйдя из ворот, они сразу же встретили великана-старосту и Гэнбу. Узнав от них, что Ёри благополучно добрался до дома, Акитада почувствовал, как ноги его подкашиваются. Его уложили на носилки и отнесли домой. Однако испытания его на этом не кончились. Дома вокруг него суетилась перепуганная бледная Тамако. Гэнба с Сэймэем раздели его и погрузили в теплую воду — процедура, обернувшаяся нестерпимо болезненными ощущениями для его обмороженного тела. А потом Сэймэй прикладывал к его искалеченным рукам всевозможные целебные снадобья, меняя эти примочки и мази каждые несколько часов. Руки теперь распухли и горели. Многочисленные трещины на коже кровоточили. Зато само по себе успокоительным было осознание того, что Ёри теперь в безопасности, поэтому, выпив снотворного, Акитада, не задавая вопросов, уснул. Но здоровье его было подорвано, во сне к нему пришел сильнейший жар, сопровождавшийся кошмарными видениями в виде сюжетов дьявольской ширмы. Так, на грани бодрствования и кошмарного бреда, он провел шесть дней и ночей. Наконец на седьмой день, ровно через неделю после спасения, он проснулся с ясной головой и снедаемый голодом. Первая, кого он увидел, была сестра. Ёсико сидела у его постели и безмятежно шила какую-то детскую одежку — несомненно, для Ёри. Память вернулась к нему тотчас же, и он преисполнился величайшим чувством благодарности за то, что они с сыном оба остались живы, что теперь, после всех этих испытаний, он сможет увидеть, как малыш растет, резвится и смеется. Он соскучился по Тамако. Где она? Может, пошла отдохнуть? Ведь он доставил им всем столько хлопот. Ёсико была такая же измученная и бледная, как по его возвращении с севера. Он лежал тихонько в теплой постели — разве сравнишь с той адской ночью в саду Ноами? — и думал, правильно ли он поступил, запретив сестре испытать ее последний шанс на счастье. Он вдруг вспомнил, что собственным семейным счастьем обязан именно ей — ведь именно Ёсико привела Тамако к нему. Только бы удалось снять обвинение в убийстве с этого парня Кодзиро! Он оказался невиновен и гораздо лучше, достойнее и состоятельнее, чем ожидал Акитада. Ну что ж, как только он поправится, он обязательно подумает, что можно сделать для парня. Он кашлянул. Ёсико вскинула голову и с тревогой посмотрела на него. — Ты проснулся? Глупый вопрос. Акитада хотел сказать «да», но сумел только что-то прохрипеть. — Не надо разговаривать! — взмолилась сестра и, отложив в сторону шитье, потянулась за чайником на жаровне. Она налила чаю и, поддерживая ему голову, дала выпить. Акитаду мучила жажда, и он залпом осушил чашку — Еще? Он кивнул, и она налила ему новую. — Спасибо, сестрица, — сумел наконец вымолвить он. — А где Тамако? — Она у себя, играет с Ёри. Сходить за ними? Акитада был немного уязвлен тем, что Тамако нет рядом, но покачал головой. — Потом. — Как ты чувствуешь себя, братец? Он с трудом улыбнулся. — Есть хочется. А как там Тора? Как его голова? Она встала. — У Торы все отлично. Ты же знаешь Тору. Он быстро поправляется. Они с Гэнбой почти все это время провели в обществе госпожи Вишневый Цвет и юной актрисы. Если хочешь, я пойду на кухню подогреть тебе рисовой похлебки. Акитада кивнул, и она ушла. Теперь он хотя бы спокойно сможет сходить справить нужду. Он ощупал свои руки и ноги, они уже не болели, но были на удивление вялыми. Запястья были перевязаны белыми шелковыми повязками. Опухоли на руках спали, но пальцы совсем не гнулись и были покрыты струпьями. Встать оказалось проще, чем он думал. До туалета он дошел без приключений. Почувствовав себя гораздо легче, он решил поискать жену и сына. Как и сказала Ёсико, они были в детской — рисовали, сидя на полу. На ум тотчас же пришли уроки Ноами, от страшных воспоминаний ему сделалось не по себе. В приступе дурноты он схватился за дверной косяк. Оторвавшись от своего занятия, Тамако подняла голову. — Акитада! — Она вскочила и подбежала, чтобы поддержать его. — Как ловко вы обхаживаете супруга, любезная госпожа! — поддразнил ее он. — Где же так научились? Уж не в веселом ли квартале? Она мгновенно опустила руки и покраснела. Со сдержанным поклоном она сказала: — Пожалуйста, прости мне мою нескромность. Я думала, ты вот-вот упадешь и… Акитада притянул ее к себе, обнял, уткнулся лицом в ее шелковистые ароматные волосы. — Вы можете заключать меня в объятия сколько угодно, госпожа моя и супруга, — нежно проговорил он. — Я скучала по тебе, — прошептала она. Чувствуя близость ее томного тела, он еще крепче прижал ее к себе, перевел прерывистое дыхание и потянулся к ее поясу. На пороге появилась Ёсико с подносом. — Ах вот ты где! Зачем же ты ходишь? Тебе еще рано вставать после целой недели забытья. Акитада неохотно отстранился от жены. — Недели?! — Он был потрясен. Женщины закивали и вдвоем усадили его на подушку. Укрыв его одеялком Ёри, они принялись его кормить, а он, улыбаясь, все смотрел на Ёри, дивясь тому, почему мальчик так серьезен и сосредоточен. Малыш, округлив глазки, ждал, когда отец закончит есть, потом поднял вверх лист бумаги — на нем, кривой и размазанный, красовался иероглиф «тысяча лет». Ах вот оно что! Новогодняя открытка. А ведь и впрямь самое время. Акитада кивнул и заулыбался: — Вот молодец! Очень красиво и, главное, ко времени. — Тебе правда нравится, папа? — спросил Ёри почему-то шепотом, возможно, из уважения к состоянию отца. — Здесь по-китайски написано пожелание долгих лет и счастья в новом году. Это меня мама научила! Читать и писать по-китайски Тамако научил в свое время отец, профессор Императорского университета. Отставив в сторону пустую миску, Акитада спросил: — А ты помнишь тот вечер в доме художника? Ёри кивнул. — Ты отправил меня домой, а я заблудился. Я попросил какого-то человека отвести меня домой. Я сказал: «Отведите меня к дому Сугавара!» Он был грубияном и стал надо мной смеяться, тогда я наступил ему на ногу и обещал выпороть его, если он не повинуется. Он схватил меня за руку и начал трясти, говорил, что свернет мне шею, но тут появился какой-то великан и спас меня. Великан тот был здоровее нашего Гэнбы, только очень грязный. Он отвел меня к себе домой и накормил похлебкой. Он нисколечко не смеялся, когда я попросил отвести меня домой. Только он все равно меня не послушался, и я уснул. — Ты молодец, ты вел себя храбро! — похвалил Акитада. Ёри кивнул: — Да, храбро. Значит, малыша спас квартальный староста. Ай да молодец! Надо будет что-нибудь сделать для него. Жаль только, Ёри не сказал старосте, где находился Акитада. Тогда спасение пришло бы раньше, Ноами не успел бы привязать его в саду. Впрочем, он и так был благодарен сверх всякой меры. — Ну а вы как узнали о случившемся? — спросил он у женщин. Ему ответила Тамако: — Квартальный принес Ёри домой. Мы, конечно же, сразу спросили о тебе, и он припомнил, что Ёри что-то говорил об отце. Мы разбудили малыша, и он рассказал нам о доме художника. Ну а потом все было просто. Гэнба с квартальным отправились за тобой. Они прибыли туда, как раз когда Тора выносил тебя на руках. — Я шел сам, — поправил ее Акитада. — Но квартального я должен поблагодарить лично за то, что он вернул Ёри. Похоже, он благородный малый и в своих трущобах пользуется большим уважением. К тому же у меня есть к нему кое-какие вопросы. Хочу расспросить про делишки Ноами. Кстати, как с ним-то все кончилось? Женщины переглянулись, потом Тамако робко сказала: — Начальник полиции Кобэ каждый день справлялся о твоем здоровье и промежду прочим упомянул, что художник этот повесился. — Повесился?! В тюрьме? Да что же они там не углядели?! Тамако отвела взгляд. — Нет, не в тюрьме. Его нашли повешенным в собственном саду. Акитада смотрел на нее в изумлении. — В собственном саду? Но когда мы уходили, он был жив! — Видишь ли, начальник полиции находит это странным. Он хочет расспросить тебя об этом. Как же такое получилось? Акитада недоумевал. Он попытался представить, каким предстал перед ним последний раз Ноами. Тора привязал Ноами за руки к ветке и для устойчивости подсунул ему под ноги корзину. Так как же мог Ноами повеситься? Даже придя в себя, он не мог с вывихнутым плечом обмотать веревку себе вокруг шеи! До прихода Кобэ Акитада успел принять ванну и побриться при помощи Сэймэя. Он также побеседовал с Гэнбой, Торой и с выздоровевшим Харадой, поел рыбного супа и теперь отдыхал в своем кабинете. Лицо вошедшего начальника полиции выражало тревогу. — Здравствуйте, друг мой! — любезно приветствовал его Акитада. — Благодарю вас за то беспокойство, что вы проявляли за время моей болезни. — Слава Богу! — сказал Кобэ, усаживаясь со вздохом облегчения. — Сегодня вы выглядите куда как лучше, а то вчера я прямо боялся, что вы не вытянете. Усмехнувшись, Акитада наполнил две чарки саке. — Жена моя говорит, что Ноами повесился. Это так? Кобэ смерил его внимательным взглядом. — Да, мы нашли его с веревкой на шее болтающимся на дереве. — Он помолчал, потом прибавил: — Руки и ноги у него были связаны, одно плечо вывихнуто. — Значит, кто-то убил его. Во время борьбы Тора вывихнул ему плечо, но мы оставили его живым, только привязали за руки. Повеситься сам он не мог! Кобэ молчал. Акитада смотрел на него, потом недоверчиво спросил: — Вы что же, думаете, это мы повесили его? — Не важно, кто его повесил. Он это заслужил. — Кобэ осушил свою чарку. — Мои люди перерыли весь сад и нашли четыре скелета — два детских, один принадлежал старику, а еще один — женщине. Акитада покачал головой. Что это там Ноами говорил про детишек? Что «избавляться от них хлопотно»? Ну да, избавиться от мертвого или почти мертвого тела затруднительно даже с его силой. Акитада посмотрел начальнику полиции в глаза. — Клянусь вам, Кобэ, мы не вешали Ноами! Сам я на ногах-то едва стоять мог, не то что кого-то повесить, а Тора был все время у меня на глазах. Мы оставили этого негодяя без сознания, но живым. Мы обошлись с ним все-таки по-человечески, а не так, как он со мной. Кобэ посмотрел на перевязанные руки Акитады и кивнул. — Мы нашли его зарисовки. Тора говорит, вы освободились сами. — Ничего другого мне не оставалось. Только умереть. Он окатил меня ледяной водой и оставил замерзать — хотел писать с натуры муки. Кобэ яростно сжал кулаки. — Он был нелюдь, настоящий демон! Я рад, что он мертв. Жаль только, что он не получил таких же страданий, как те несчастные, которых он замучил. Уж я бы воздал ему за все, да только кто-то лишил меня этой возможности. Акитада нахмурился. — Ума не приложу, как это могло произойти. Может, кто-то лично отомстил ему еще до вашего прихода? А когда… — Он осекся на полуслове — ему вдруг пришла в голову мысль, что квартальный староста мог взять справедливость в свои руки. Это было очень на него похоже, если вспомнить, какие порядки он завел в своем квартале. Кобэ смотрел на него с беспокойством. — Давайте не будем больше об этом. Вы еще не до конца поправились, и я не просижу долго. Ноами мертв, и слава Богу. Меня гораздо больше волнует сейчас другая проблема. Ясабуро был найден мертвым в своей камере. Отравлен. Акитада даже приподнялся. — Что-о?! — Незадолго до того, как у него начались конвульсии, у него был посетитель — какой-то старый монах. Монаха никто не знал, но он показался безобидным, к тому же Ясабуро приветствовал его как старого друга. Стражник из уважения к религиозным чувствам оставил их наедине. Когда старец уходил, Ясабуро был в полном порядке, но вскоре у него началась рвота и страшные боли. Стражник таки не успел ни о чем расспросить его, потому что он тут же умер. — Вот как? Ну а кто-нибудь искал этого монаха? Кобэ обиженно нахохлился. — Разумеется. За кого же вы нас принимаете? Мы прочесали все храмы и монастыри в округе, опрашивали на улицах каждого встречного-поперечного, да только без толку. Этот монах словно в воздухе растворился. — А Хараду допрашивали? — Харада был еще очень плох, но сказал, что не припоминает, чтобы Ясабуро якшался с монахами. Более того, он утверждает, что его хозяин презирал буддистов. — И все же он приветствовал гостя как старого знакомого. Странно. — Мимолетная мысль мелькнула в голове Акитады, правда, слишком смутная, чтобы поделиться ею с собеседником. Вместо этого он спросил: — Ну а что там с братом Нагаоки? Как долго еще вы собираетесь его держать? Теперь-то вам, конечно же, понятно, что в смертях в семье Нагаоки повинен кто-то другой? Кобэ угрюмо кивнул. — Я освободил его сегодня утром. Но с условием не покидать столицы до конца расследования. Акитада сразу подумал о Ёсико. Весь этот месяц он ломал голову над проблемой Ёсико и Кодзиро, а точнее говоря, воевал с самим собой. Пока Кодзиро находился в тюрьме, Акитада переключился на расследование убийств, отложив на время в сторону вопрос о будущем своей сестры. Но теперь-то неизбежный момент настал, теперь он должен положить на весы вековые семейные традиции и личное благополучие Ёсико и посмотреть, какая чаша перевесит. Он выглянул в холодный сад, где гулял ветер. Интересно, не забыл ли Сэймэй покормить рыбок? Какой глупой показалась ему сейчас его обида на старика! Связанный традициями, Сэймэй, выбирая между преданностью отцу Акитады и любовью к его сыну, предпочел первое. Так в чем же заключается человеческий долг? Докуда простирается его грань? Кобэ беспокойно заерзал. — Мне нужно идти. Когда вам станет получше… — Он замялся. Акитада смотрел на него с удивлением — такая робость была несвойственна Кобэ. — Когда вы почувствуете себя лучше, я буду рад принять вашу помощь в расследовании этих дел, — на одном дыхании выпалил Кобэ. Акитада был глубоко тронут. — Конечно. С нетерпением буду этого ждать, — поспешил сказать он. Кобэ раскланялся и ушел. Акитаду внезапно охватило какое-то чудное и забавное чувство радости. Сам он жив. Ёри в безопасности. Все они снова вместе. Он обвел глазами комнату. Когда-то она принадлежала отцу, и он ненавидел ее, а теперь вот она стала по-настоящему его комнатой и очень ему нравилась. Здесь были его книги, его бумаги, она теперь стала сердцем этого дома, прочной твердыней, где можно было укрыться от демонов зла, разгуливающих снаружи. Надежный островок мира и спокойствия, способный защитить от любых жизненных невзгод. Глаз его упал на какой-то незнакомый продолговатый сверток на столе. Любопытство разгорелось, он взял его в руки, развязал бечевку и развернул. В свертке оказалась его сломанная флейта, теперь каким-то чудесным образом приведенная в рабочее состояние. Он повертел ее в руках, ища трещину между сломанными половинками, но так и не смог ее обнаружить. Удивленный и озадаченный, он поднес флейту к губам и подул. Какой чистый и ясный звук, животрепещущий и радостный, как ночная песнь соловья в саду! Он стал играть те мелодии, что приходили на память — «Туман с дождем на горном озере» и «Колокола заснеженной ночи». — и сам удивлялся, что до сих пор, оказывается, помнит их. Он увлекся игрой, полностью погрузившись в этот блаженный мир звуков. Когда он наконец положил инструмент, с порога донеслись тихие хлопки. Дверь была слегка приоткрыта, и в ее проеме он увидел улыбающееся личико Ёсико. — Это было прелестно, братец! — воскликнула она. — Мастер обещал мне, что она заиграет как новенькая. Тебе нравится? — Входи, сестрица! — Акитада улыбнулся. — По-моему, она стала звучать лучше прежнего. Вот чудо! Уж не ты ли ее починила? Она зарделась и склонилась в поклоне. — Мне это доставило великое удовольствие. Ёсико больше уже не была той веселой, смеющейся девчушкой, что помнилась Акитаде. Теперь это была взрослая женщина, почти ровесница Тамако, только выглядела старше. Усталая, измученная, она теперь умела хорошо держаться и владеть собой и больше не кипела и не плескала энергией, как прежде. А виноват в этом отчасти был он. Он закончил то, что начала ее мать, когда объявил вслух свою жестокую волю. Он отнял у нее последнюю надежду на счастье. Счастье с тем, кого она любила. — Ёсико, — смиренно сказал он, — я считаю, что должен перед тобой извиниться. Я хотел тебе счастья, а доставил слишком много боли. А ты, несмотря ни на что, взяла и починила мою флейту. Я не заслужил твоей доброты. Она даже вскрикнула от волнения. — Нет, Акитада!.. Флейта — это пустяк. А ты… ты же хотел мне только добра! — А ты и вправду любишь Кодзиро? — Да, — проговорила она как-то сухо, без тени эмоций. — Его освободили. Легкий румянец тронул ее щеки. — Я рада. Он, бедняга, столько страдал. Надеюсь, будущее его будет светлым. — А ты? Ты по-прежнему хотела бы стать частью его будущего? Она вдруг побледнела, и Акитада даже подумал, что она сейчас упадет в обморок. Но бледность ее столь же быстро прошла, и она удивленно посмотрела на него. — Акитада! — проронила она, едва не задыхаясь. — Неужели ты передумал? Ведь во мне ничто не изменилось. Я всегда буду любить его. Пусть он всего лишь крестьянин и брат торговца, но я… я словно его часть! Только как же быть с тобой и с нашей семьей? Ведь мы должны будем расстаться навсегда, если ты дашь разрешение на этот брак! — Нет. Я был не прав насчет этого брака. И я был не прав насчет Кодзиро. Он гораздо лучше многих, кто занимает высокий пост. Только тебе-то от этого не легче. Ты должна быть готова к тому, что от тебя отвернутся люди нашего положения, возможно, даже твоя собственная сестра. Она улыбалась: — Я вынесу все, лишь бы вы с Тамако не отвернулись от меня. И Акико не отвернется, потому что Тосикагэ добрый человек. Акитада кивнул, вспомнив, что однажды уже усомнился и в этом своем зяте. — Через три недели кончится траур по твоей матушке. Так вот я не вижу причин, почему бы ты не могла весной справить тихую свадьбу. Если тебя это устраивает, я готов поговорить с Кодзиро насчет брачного контракта. Приданое твое будет не меньше, чем у Акико. Закрыв лицо руками, сестра заплакала. — Ёсико! — Акитада с трудом встал, морщась от боли. — Что случилось? Что я такого сказал? — Он подошел и опустился рядом с ней на колени. — Ничего! Вернее, все! — Она всхлипывала, уткнувшись ему в грудь лицом. Она и смеялась, и плакала одновременно. — Спасибо тебе, Акитада! Огромное тебе спасибо! А как тебя будет благодарить Кодзиро!.. Мы оба в неоплатном долгу перед тобой. У Акитады и у самого-то теперь глаза были на мокром месте. — Ну ладно, — сказал он, похлопывая ее по плечу. — В таком случае мне лучше тогда поскорее закончить с этими тремя убийствами, а ты давай-ка берись за иглу и шей наряды себе, а не Ёри. Пора нам, кажется, вылезать из этих мрачных одежек.ГЛАВА 22 ПЛЯСКА ДЕМОНОВ
В предпоследний день уходящего года Акитада уже достаточно поправился, чтобы выйти из дома. День был серый, невзрачный, но зимняя стужа наконец уступила, сломалась. Акитада облачился в новое парадное кимоно, сшитое Ёсико из купленного им шелка, — ведь он направлялся ко двору с официальным докладом. Еще несколько лет назад такое событие он счел бы для себя в высшей степени волнующим. Даже люди постарше и повлиятельнее трепетали при мысли о том, что им надлежит предстать перед высочайшим государственным советом во главе с канцлером. Но Акитада недавно полностью пересмотрел свою жизнь. Теперь и его нынешние служебные обязанности, и даже шесть лет, проведенные на холодном севере, виделись ему в совершенно новом свете. Тем не менее он прибыл ко двору и теперь безмятежно улыбался молодому чиновнику, пожалевшему его в прошлый раз за убогий наряд. Юноша, зардевшись от смущения, с раболепным поклоном смотрел вслед Акитаде, горделиво прошествовавшему пред очи сильных мира сего. Не дрогнув под их пристальными взглядами, Акитада торжественно зачел им новогодние поздравления, не переставая улыбаться троим министрам и высокомерному, скучающему канцлеру. Потом он представил свой официальный отчет. Легко и сжато он говорил о проблемах национальной безопасности, подтверждая свои слова пачками аккуратно подготовленных документов, он отвечал на их вопросы и давал ценные рекомендации по управлению доверенным ему регионом, пуская в ход такие сильные аргументы, что даже сам канцлер, заметно оживившись, стал слушать с интересом. Прежде нудное и обременительное дело неожиданно превратилось в живой обмен мнениями, и наделенные властью государственные мужи теперь прислушивались к точке зрения Акитады с откровенным интересом и уважением. Он покидал дворец, улыбаясь и тихонько насвистывая себе под нос, получив сразу несколько приглашений на праздничные торжества. Он сделал для себя любопытное открытие — стоило ему только перестать думать о впечатлении, которое он произведет на этих людей, как они тотчас же стали дружелюбными и искренними, одним словом, стали для него обычными людьми. Сменив дома тяжелое парадное облачение с длинным шлейфом на более удобную одежду, Акитада снова вышел на улицу. Теперь его путь лежал к дому Нагаоки. На этот раз у ворот его встретил старик, тот самый, что потчевал их в Фусими разными байками и россказнями. Покопавшись в памяти, Акитада вспомнил его имя. Кинзо! — Ну, Кинзо, надеюсь, ты помнишь меня? — Сугавара, — сухо отрезал старик. — Я еще не одряхлел вконец. Господин Сугавара — так надо понимать, я должен к вам обращаться, хотя ваш предок имел ранг куда как повыше. Ну что ж, как видите, мой хозяин вышел-таки из тюрьмы и без вашей помощи. Ну да ладно, чего уж там! Все мы иной раздаем промашку. Акитада усмехнулся. Не успел он возомнить о себе после лестного приема у канцлера и министров, как этот Кинзо тут же напомнил ему, что высокое положение вещь относительная. Он похлопал старика по плечу. — А знаешь, сказать по правде, так я не меньше твоего рад тому, что твой хозяин наконец обрел свободу. Кинзо хмыкнул, закрывая ворота. — Может, если бы он читал в тюрьме сутры, то святой Фугэн[1416] даровал бы ему спасение пораньше. — А не мог бы в таком случае этот бог разгадать, кто убил его невестку? А заодно и предотвратить убийства Нагаоки и Ясабуро? Кинзо оттопырил нижнюю губу и задумался. — Тут мне вспоминается история императрицы Сомэдоно. В нее вселился демон, который был ее любовником. — Старик покачал головой. — Демон этот творил чудовищные деяния, и множество людей погибло из-за этого. Акитада смерил его внимательным взглядом. Какая странная параллель! Может, старик и впрямь дряхлеет? Он спросил: — Ну и как твой хозяин? — Мой хозяин невидимка. Плевок дьявола, знаете ли, кого хочешь сделает невидимкой. Опять дьяволы да демоны. Акитада вздохнул про себя. — А я надеялся, что принесу ему добрую весть. Кинзо кивнул. — Господин Кинсуэ ходит навестить отшельника, — пробормотал он, поднимаясь по ступенькам крыльца. Акитада, хмурясь, поднялся вслед за ним. Кинсуэ? Опять намек на демонов? Ему помнилась только одна история, в которой этот господин искал монаха-лекаря. Это что же, не намек ли на него самого? Но ведь он уже поправился, и потом, откуда этому Кинзо знать о его недавней болезни? Мудреный смысл речей Кинзо отчасти разъяснился, когда Акитада увидел Кодзиро. Тот апатично сидел в кабинете брата, уставившись на пустую стену. Кинзо, никак не представив гостя, объявил: — Ну вот, хоть кто-то пожаловал. Да вовремя, знаете ли, а то так и человеческий язык забыть можно. — И, окинув обоих многозначительным взглядом, он прибавил назидательно: — Вспомните Фудзивару Моройэ! Акитада снова бросился рыться в памяти, да так ничего и не сумел припомнить. Кодзиро, покраснев, вскочил на ноги. — Ну как вы, господин? — Потом, пытливо глядя в лицо Акитаде, спросил: — Что стряслось? Вы были больны? Кинзо усмехнулся и вышел. — Да, но я уже поправился, — сказал Акитада. — И вот воспользовался первой же возможностью, чтобы прийти и поздравить вас с освобождением. А что это такое тут сейчас говорил Кинзо? Кодзиро вновь покраснел. — Да так, ничего. Любит он всякие старые байки, считает, что в них есть смысл и для современного человека. — Он предложил Акитаде сесть и беспомощно огляделся по сторонам. — Может, немного саке? Я, правда… — Он громко позвал Кинзо. Ответа не последовало, и он вздохнул. — Вы уж меня извините. Гостей у меня не бывает, вот мы и оказались не готовы. — Я сам виноват, что явился без приглашения. К тому же вина мне пока лучше не пить. Сэймэй, мой секретарь, утверждает, что оно горячит, а горячки мне в последнее время хватало. Между тем Кодзиро с видимым усилием взял себя в руки. — Я очень многим вам обязан, — сдержанно сказал он. — Вы взяли на себя хлопоты облегчить мое пребывание в тюрьме. Позвольте же мне теперь, пользуясь случаем, пожелать вам крепкого здоровья и удачи в новом году. — Благодарю. Примите и от меня те же пожелания. — Акитада улыбнулся. — Самые искренние пожелания, поверьте мне. В сущности, ради этого я и пришел. Завтра — последний день уходящего года, когда принято избавляться от старых долгов. У Кодзиро был озадаченный вид. — Долгов?! Каких долгов? — Он махнул рукой в сторону счетов на столе. — В бумагах брата нигде не упоминается о каких-то ваших делах с ним. — Я в долгу перед вами. Несколько недель назад я пообещал снять с вас обвинение в убийстве. Это мне не удалось. Вас выпустили из тюрьмы только потому, что было совершено еще два убийства, одно из них — вашего брата. Боюсь, я не смогу вернуть вашего брата к жизни, зато к завтрашнему вечеру, в самом конце уходящего года, я постараюсь оплатить свой долг. Я надеюсь не только завершить расследование убийства вашей невестки, но и выявить убийцу вашего брата и его тестя. Кодзиро посмотрел на Акитаду, потом разразился горьким смехом. — Не утруждайтесь на мой счет, господин. Мне уже давно безразлично все происходящее. — Мне хорошо понятно, что происходит у вас в душе. — Акитада колебался, потом все-таки спросил: — Вы когда-нибудь видели сестру Нобуко? — Что-о? — Кодзиро покачал головой. — Нет. Югао умерла вскоре после переезда Нобуко сюда. Думаю, и мой брат видел ее всего-то раз, не больше. И вообще, господин, я бы хотел, чтобы вы оставили это дело. В тюрьму меня теперь вряд ли посадят, а остальное мне безразлично. Жена моего брата была истинной дьяволицей, и смерть она заслужила. И папаша ее был ничем не лучше. А что касается моего брата, то он просто был глубоко несчастным человеком в конце жизни. — И все же вы должны быть оправданы, а убийца вашего брата должен быть наказан. Этого требует справедливость. Кодзиро поморщился. Он сильно исхудал и сейчас выглядел старше, почти как его брат, а не как крепкий молодой парень, которого Акитада видел в горах или окровавленным, но не сдающимся в тюрьме. С ним, похоже, произошло то же, что и с Ёсико — жизненные силы будто покинули его. — У меня перед вами есть и еще один долг, — проговорил Акитада неуверенно. — Дело касается моей сестры. Я был совершенно не прав, заставив сестру нарушить данное вам слово. Теперь я прошу вас простить мне такое равнодушие и бесчувственность. Кодзиро долго молчал. Со стороны могло показаться, что он даже не дышит. Такое впечатление, что в душе его в этот момент происходила отчаянная борьба. Наконец он все-таки хрипло выговорил: — Вы извинились перед вашей сестрой, господин? Акитада вздрогнул. — Я… разговаривал с Ёсико. Она была… просто счастлива. Честно говоря, она подумала, что вы тоже очень обрадуетесь. — Тому, что вы наконец смягчились и пожелали признать связь с жалким простолюдином? Разговор явно не клеился. Акитада почувствовал, как кровь подступает к лицу. Он был зол на себя и на этого упрямого крестьянина. Ведь тот не мог не понимать, на какой шаг решился Акитада, выставив тем самым себя и свою семью на посмешище своим знатным друзьям и знакомым. Ради Ёсико он постарался взять себя в руки. — А я надеялся, что мы сможем подружиться, — мягко сказал он и, вспомнив про Тосикагэ, прибавил: — Даже побрататься. У меня никогда не было брата, и для меня радостным открытием стали отношения с мужем моей другой сестры. Кодзиро сдался. — Пожалуйста, простите меня, — тихо проговорил он. — Я снова ошибся в суждениях относительно вас. Я не имел права отвергать ваше щедрое предложение дружбы и… — Он замялся, испытывая неловкость. — Так вы говорите, Ёсико все еще… Все еще хочет?.. — Да. Но быть может, теперь вы передумали после всего, что случилось? — Нет! Я никогда не передумаю! — со всей пылкостью проговорил Кодзиро. — В моей жизни никогда не будет другой женщины. Я знал это всегда, почти с самого начала. Мои чувства не изменились за все эти годы и не изменятся никогда. Смущенный столь открытым проявлением эмоций, Акитада разглядывал свои руки и улыбался. — Пересмотрев свои счета, я нашел для себя возможным дать Ёсико такое же приданое, как ее сестре. — Он назвал цифры — серебро, рисовые поля, рулоны шелка, — потом спросил: — Вас такое устроит? Кодзиро, потрясенный до глубины души, слушал, потом воскликнул: — Господин, но в этом нет надобности! Ваша щедрость не знает границ, но уверяю вас, я вполне состоятельный человек. У меня большие владения за городом. Я целиком и полностью в силах обеспечить вашей сестре те же условия, в каких она выросла. — В таком случае будем считать этот вопрос улаженным, и теперь называйте меня Ахитада. Ёсико получит, что я обещал, а также содержание для нее и ее детей. Детали мы можем обсудить позже. У Ёсико до сих пор была трудная жизнь, но я решительно настроен изменить ее. — Улыбаясь, он поднялся. Кодзиро тоже встал. — Прямо и не знаю, что сказать, — пробормотал он. — Могу я с ней увидеться? — Конечно. Приходите к нам сегодня ужинать. Я приглашу своего зятя. А вот сестра Ёсико не сможет прийти, она скоро должна родить. — В сложившихся обстоятельствах так было даже лучше. Акико требовалось время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что сестра выходит замуж за простолюдина. У ворот он остановился. — И я надеюсь, вы присоединитесь к нам завтра вечером на празднике в Весеннем саду. Говорят, там будут выступать актеры и акробаты с пляской демона. Кодзиро пребывал в таком смятении, что и не подумал возразить. Он поклонился и, улыбаясь, кивнул. Он улыбался Акитаде вслед, и когда тот обернулся, пройдя какое-то расстояние, Кодзиро все еще стоял у открытых ворот, улыбаясь и маша ему рукой. Вот тогда-то Акитада и вспомнил историю Фудзивары Моройэ, который потерял настоящую любовь, потому что упустил время. Последнее утро уходящего года выдалось ясным. В доме Сугавара вовсю шли приготовления к новогодним торжествам. Тора с Гэнбой украсили все крыши и карнизы сосновыми ветками и гирляндами из рисовой соломы. На кухне высились горы праздничных угощений, приготовленных для приема, на который Акитада намеревался позвать друзей и коллег. Акитада до сих пор старался щадить себя, но в это утро вышел из дома пораньше, чтобы лично разнести праздничные приглашения — одни на домашний прием, другие же на вечерние торжества в честь уходящего года, на праздник изгнания злых духов. Среди своих гостей на этом городском празднике Акитада ожидал увидеть не только свою семью и слуг, но также начальника полиции Кобэ и госпожу Вишневый Цвет. За несколько часов до заката женщины и Ёри вместе с угощениями и вином погрузились в запряженную быком повозку, и вся компания выдвинулась в сторону Весеннего сада. Там вокруг павильона на озере уже собралась внушительных размеров толпа. Для выступления актеров был сооружен специальный помост. Акитада провел своих гостей к одной из трибун и проследил, чтобы женщины и Ёри удобно расселись забамбуковыми перегородками, скрывавшими их от глаз толпы. Акитада вместе с Кодзиро, Тосикагэ и Кобэ сели впереди, а позади них — Сэймэй, Харада, Гэнба, Тора и Сабуро. Нанятые слуги носились взад-вперед с вином и угощениями. Тосикагэ принял Кодзиро легко. Он сам-то был почти так же счастлив, как жених. Сын его Тадаминэ был отозван с военной службы на востоке и теперь, вернувшись в столицу, поступил в дворцовую гвардию. Один Кобэ был раздражен. Он даже попытался отказаться от приглашения, сославшись на дела, но Акитада намеками на важные открытия все-таки уговорил его. И вот теперь он сидел, беспокойно ерзая, когда старые друзья и коллеги подходили к трибуне поздравить Акитаду. Когда заиграла музыка, толпа вокруг трибун рассосалась. Как и обычно, праздничные выступления открывались традиционными танцами в исполнении молодых мужчин и мальчиков из родовитых семей. Кобэ мрачно смотрел на них. — Ну что ж, мило, конечно. — пробормотал он. — Если больше в жизни нечем заняться. По мне так борьба куда как лучше. По крайней мере хоть что-то полезное могу почерпнуть для себя. А чего мы ждем? Акитаде самому не терпелось осуществить свой план, но он сказал: — Имейте терпение. Скоро все выяснится. — Он ждал своего шанса — единственного шанса. Глянув на Кодзиро, он пожалел, что так и не предупредил его. И все-таки большую роль должен был сыграть фактор внезапности. Когда на сцену вышли акробаты, публика повеселела и зашумела. Близняшки Злато и Серебро имели особый успех. А уж как ликовал Тора — он так радостно орал с трибуны, что Сэймэю пришлось зажать ему рукой рот. Госпожа Вишневый Цвет тоже гремела сквозь толпу из-за своей перегородки: — Молодцы, девчонки! А ну, еще выше! Так, так! А ну, выше попки! Отлично! Я знала, что у вас все получится! Сэймэй, оскорбленный разнузданным зрелищем, дергал хозяина за рукав, но Акитада только смеялся. Он не отрываясь следил за площадкой позади сцены, где актеры из труппы Уэмона ждали своего выхода. Наконец сам Уэмон, худенький, почтенного вида человек в изящном черном кимоно, взобрался на сцену, чтобы объявить фарс «О жадном священнике Фуко», где главную роль исполнял Дандзюро. Заиграла музыка, и на сцену вышел толстый монах. Играл Дандзюро превосходно, полностью перевоплотившись в тучного пожилого священника — важного, самодовольного, ленивого и вечно хныкающего. Толпа ревела в восторге. Всегда питавший неприязнь к буддистам, Акитада нашел зрелише полезным, но ничуть не смешным — за комической маской скрывалась отвратительная правда. А между тем рядом изнывал Кобэ. — Смотрите, как легко он это делает, — прошептал он Акитаде на ухо. — Как думаете, мог тот малый, что отравил Ясабуро, перерядиться в монаха? — Почему бы нет? Я бы не удивился, если бы он выглядел именно как Фуко. Кобэ нахмурился. — Вы правы. Но только ради этого можно было не тащить меня сюда, а просто сказать на словах. — Подождите. Будет кое-что еще. Фарс закончился, и Уэмон объявил танец небесных дев. Этого номера Акитада как раз и ждал. Сердце его заколотилось. Начинало смеркаться, а между тем он совсем не рассчитывал на раннюю темноту. Слава Богу, в павильоне и на трибунах зажгли фонари. Сцена тоже освещалась. Зрелище теперь стало на редкость красочным. Сначала заиграла музыка, потом на сцену одна за одной вышли восемь танцовщиц в роскошных одеяниях всех цветов радуги. С неторопливой грацией они кружились в изящном медленном танце под музыку флейт. Лица их были покрыты густым слоем белил, глаза обведены черной тушью, а губы напоминали ярко-красные бантики. Эта краска на лице делала их похожими одна на другую, красивыми, но какими-то отдаленными. Впечатление это усиливалось повторяющимися в унисон движениями, девушки словно плыли поверх дощатого настила сцены. — Какая красота! — воскликнул сидевший рядом Тосикагэ. Акитада не ответил. Он уже начал волноваться. Как отличить этих женщин одну от другой? Самая высокая из танцовщиц показалась ему чуточку более резкой в движениях, вычурностью которых она будто желала привлечь внимание толпы. Да, подумал Акитада, это она. Не всегда попадает в такт, к тому же часто отстает. Он посмотрел на Кодзиро, и тот улыбнулся ему в ответ. Акитада напряженно сцепил руки замочком. Танцовщицы раскланялись и под рукоплескания зрителей спустились со сцены, чтобы пройти в танце перед трибунами. Сердце у Акитады заколотилось еще сильнее. Он совсем забыл об этой традиции профессиональных актеров, чья жизнь целиком зависела от заработка и от щедрости покровителей, которых они надеялись найти среди зрителей. Такой поворот событий давал им еще один шанс, хотя, с другой стороны, мог испортить все дело. Терзаемый беспокойством, он ждал этой встречи. Высокая танцовщица, возглавлявшая шествие, снова закружилась в танце. Акитада перевел взгляд с нее на Кодзиро. Тот был увлечен зрелищем, но вдруг резко переменился в лице, заметно смутился, занервничал и открыл рот, собираясь что-то сказать. Но в этот момент танец закончился, и Тора вскочил со своего места, выкрикивая похвалы в адрес Злато, которая тоже принимала участие в шествии. Высокая танцовщица бросила на него сердитый взгляд и, горделиво вскинув голову, засеменила прочь, уводя за собой остальных девушек. Акитада вздохнул с облегчением, прямо-таки обмяк на своем сиденье. Бледный как полотно Кодзиро, проведя дрожащей рукой по лицу, смотрел вслед удаляющимся танцовщицам. Коснувшись его руки, Акитада тихо спросил: — Что случилось? У вас такой вид, будто вы только что увидели призрак. — Призрак? — Кодзиро нервно рассмеялся. — Да, пожалуй. Или, скорее, дьявола! — Он передернулся всем телом. — Ну да, сегодня же такой вечер. Просто мне показалось… я даже мог бы поклясться, что… что я видел Нобуко. Нет, эта женщина точно будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь. Акитада выдохнул с облегчением. У него все получилось. — Успокойтесь, — сказал он, сжимая руку Кодзиро. — Это был вовсе не призрак. Это действительно была жена вашего брата. Я надеялся, что вы узнаете ее. Слава Богу, она вас не заметила, иначе могла бы удрать. — Он повернулся к Кобэ: — Вы слышали? Эта ведущая танцовщица — жена Нагаоки, живая и здоровая. А убита была какая-то другая женщина, возможно, одна из актрис, покинувшая труппу в то время. Помните, я еще сомневался, она ли это? Кобэ, потрясенный и ошарашенный, смотрел на него в недоумении. — Это что же, шутка какая-то, надо понимать? Ведь Нагаока самолично опознал тело! — Нагаока был возбужден и опознал не столько тело, сколько дорогущее платье, которое недавно подарил жене. — Но тогда… — В голове Кобэ отчаянно завихрились мысли. Лихорадочно соображая, он бормотал вслух: — Одна из актрис? Значит, актеры все-таки как-то причастны… Но зачем жене Нагаоки понадобилось убивать эту женщину? Зачем?! Нет, никакого смысла не вижу! — Он в упор посмотрел на Акитаду. — Это и был припасенный вами сюрприз? — Да. А актер Дандзюро был ее сообщником. Мотивом, вернее, мотивами были алчность и страсть к театру. Они отняли деньги у Нагаоки, а потом убили его. Ясабуро отравил Дандзюро, переодевшись в монаха. Ну так как, будете производить арест сейчас или подождете, когда разойдется толпа? Изумление на лице Кобэ сменилось гневом. — Вы задумали все это, чтобы выставить себя гениальным сыщиком, а меня идиотом. Даже если вы правы, хотя я что-то не верю в эти ваши байки, то как, по-вашему, я должен проводить теперь расследование и арест без своих подручных? — Да бросьте вы! Их только двое, а у нас есть Тора и Гэнба. И Кодзиро с Тосикагэ помогут. Неужели так трудно задержать двух человек, к тому же если одна из них женщина? Кобэ пребывал в нерешительности, и Акитада принялся увещевать его: — Во всяком случае, мы могли бы устроить им встречу с Кодзиро и посмотреть, что будет дальше. Кобэ закусил губу и огляделся по сторонам. К тому времени уже совсем стемнело. Слуги теперь снимали разноцветные фонарики и на их место водружали факелы. — Ну что ж, — сказал наконец Кобэ, поднимаясь. — Пойдемте посмотрим, что скажет нам эта танцовщица. Пока они шли от трибун к актерскому шатру позади сцены, внезапно грянувший гром барабанов объявил о начале пляски дьявола. Вслед за барабанами вступили флейты, толпа восторженно взревела, и воздух содрогнулся от этого вселенского грохота. На сцене, что-то громко выкрикивая, прыгали зловещие существа в страшных масках и костюмах. Кобэ остановился, как раз когда барабанная дробь резко оборвалась и флейты затянули душераздирающей высоты пронзительную трель. Тогда в самую гущу скачущих по сцене ряженых существ ворвалась огромная фигура в ярко-оранжевом шелковом костюме с вышивкой на груди и ярко-красных штанах. Огромная свирепая черная маска с выпученными злобными глазами и белыми клыками крепко сидела на широких плечах, огненно-рыжие длинные космы, словно языки пламени, разметались в стороны. Владыка демонов начал свою зловещую пляску. Чудовище прыгало, извивалось, рассекая когтями воздух и вращая страшной мордой то в одну, то в другую сторону, словно выискивая себе в толпе жертву. Зрители кричали в ужасе. — Владыка демонов, — сказал Акитада. — А я жду Дандзюро. По моим подсчетам, он скоро выйдет в роли отважного героя и вступит с ним в отчаянную схватку. Самое время будет тогда побеседовать с госпожой Нагаока и выудить из нее признание. Никто не обратил внимания на шестерых мужчин, которые, обогнув трибуны, нырнули под натянутую веревку, огораживавшую актерский шатер. По пути им никто не встретился. Почти все актеры были заняты на сцене. Навстречу рыжегривому владыке демонов вышел герой в доспехах и позолоченном шлеме. Схватка началась. Акитада и Кобэ нырнули под навес, а Кодзиро и Тосикагэ остались ждать снаружи. Тору и Гэнбу отправили перехватить Дандзюро после представления. Внутри шатра барабанный бой звучал приглушенно, зато там в самом разгаре шла ссора. — Я научу тебя хорошим манерам! — кричала маленькая акробатка по имени Злато, наступая с кулаками на высокую танцовщицу. Вдова Нагаоки уже без пышной прически, но еще с набеленным лицом была разъярена не на шутку. — Как осмелилась ты, дрянь такая, ударить нашего учителя?! — кричала Злато, потрясая кулаком перед носом соперницы. — Он нам всем как отец! Прекрасная Нобуко попятилась. — Ты уволена! — взвизгнула она. — Ты и твоя сестричка можете собирать свои вещи и валить на все четыре стороны! И старика с собой забирайте. Без Дандзюро и без моих денег вы никто! Понятно? Злато врезала ей хорошенько как раз в тот момент, когда Кобэ взревел: — А ну, тихо! Именем императора! Все они подпрыгнули на месте и повернулись в их сторону. Старый Уэмон сидел на табуреточке, на его бледном лице краснел отпечаток пощечины. Злато опустила руку, соперница ее застыла на месте с поднесенной к щеке рукой. — Я начальник полиции Кобэ, — объявил Кобэ, свирепо обводя глазами полураздетых танцовщиц. — Расследую убийство. Старый Уэмон горестно застонал и закрыл лицо руками. Ткнув пальцем в высокую танцовщицу. Кобэ приказал: — Вот ты, выйди сюда! Госпожа Нагаока медленно приблизилась. — Что все это значит? — спросила она. — Не знаю я ничего ни про какие убийства. Я в этой труппе недавно. Что бы они там ни сотворили, а ко мне это не имеет отношения. Кобэ усмехнулся. — Это ты так думаешь! Он подошел к входной занавеси и откинул ее. Кодзиро в сопровождении Тосикагэ зашли внутрь и встали перед женщиной. Кодзиро кивнул. — Ты-ы?! — Она смотрела на Кодзиро, и глаза ее округлились в ужасе. Кодзиро ответил ей насмешливым поклоном. — Что, невестушка, не ожидала увидеть меня? Тогда она, вытянувшись в струнку и гордо задрав голову, сказала: — Ты ошибаешься, Кодзиро. Я, конечно, похожа на Нобуко, но я ее сестра Югао. А вот ты убил ее! И как это только ты оказался на свободе?! Где же справедливость в этой стране, если человек может убить женщину, а потом спокойно разгуливать в обществе начальника полиции? — Она бросила испепеляющий взгляд на ошаращенного Кобэ. Но тут вмешался Акитада: — Пустые старания, госпожа Нагаока. Ваша сестра умерла несколько лет назад. Ваш отец тоже пытался нас запутать, когда мы пришли к нему с вопросами об убийстве вашего мужа. Он хотел оградить вас. Даже в тюрьме он стоял на своем, вытерпел порку, так и не раскрыв вашего преступного сговора. Но вы его куда как щедро отблагодарили — послали своего любовника Дандзюро, переодетого в костюм Фуко, убить вашего батюшку, чтобы он не выдал вас. Она слегка побледнела, но еще выше вздернула подбородок. — Не понимаю, о чем вы говорите. Нам с мужем ничего не известно о каких-то там убийствах. Мы актеры. Мой отец сочинил историю о том, будто бы я умерла, потому что стыдился за меня, когда я убежала с Дандзюро. Кобэ нахмурился и вопросительно посмотрел на Акитаду. Акитада покачал головой: — А вот и нет. Ваша сестра умерла давно, несколько лет назад. А вы поступили в труппу Уэмона совсем недавно, несколько недель назад, в Восточном горном монастыре. Вы заняли место девушки по имени Охиса, которую вместе с Дандзюро убили. А что касается бегства, то убежали вы от своего мужа, господина Нагаоки, а не от отца. И после убийства вы послали своего отца получить с него денежное возмещение. Среди женщин, потрясенных услышанным, пробежал тихий ропот. — Так вот, оказывается, что случилось с бедной Охисой! — воскликнула Злато, сверкая глазами на Нобуко. — Так гореть же вам обоим в аду за то, что вы содеяли! Я помню, как Дандзюро пришел к нам в то утро — привел тебя и сказал, что Охиса уехала домой, но что ты, дескать, танцовщица и оказалась здесь случайно, совершала паломничество… Ничего себе паломничество, проклятая дьяволица!.. Он сказал, что ты будешь работать с нами, пока мы не найдем другую актрису. Так выходит, все это была ложь! Что же вы, двое мерзавцев, сделали с Охисой? В наступившей тишине никто не проронил ни звука, потом Акитада сказал: — Да, госпожа Нагаока, что вы сделали с Охисой? Ответить она не успела, потому что в этот момент занавеска раздвинулась, и в шатер влетел оранжево-красный владыка демонов. Уставившись нарисованными выпученными глазами на присутствующих и тряся огненной гривой, он замер на месте. Никто не сказал ни слова. Что-то прорычав, он повернулся и выскочил наружу. Госпожа Нагаока с криком бросилась за ним, но Акитада, схватив ее крепко за руку, толкнул в объятия Кобэ. Пронзительно визжа, она извивалась, кусалась и царапалась как дикий зверь, пока Кобэ и Кодзиро пытались совладать с ней. Тогда на помощь пришла Злато — одним-единственным ударом кулака она сломала женщине нос. Обливаясь кровью, танцовщица скорчилась на полу. Испуганный Кодзиро наклонился к ней, чтобы остановить кровь. — Оставь ее! — хрипло рявкнул Кобэ. — Пойдем-ка лучше посмотрим, как там поживает ее любовничек! — Подобрав среди разбросанных костюмов пояс, он связал потерявшей сознание женщине руки за спиной. Тосикагэ сделал то же самое с ее ногами. Ахитада, отчаянно сознавая, что совершил ужасную ошибку, подождал, когда женщину обезвредят, и выскочил вслед за Кодзиро из шатра. А снаружи, казалось, и впрямь разбушевались силы зла. Барабаны, флейты, вопли, пронзительный визг — все слилось в едином кошмаре. В мерцающем свете фонарей и факелов скакали по сцене темные фигуры чертей и демонов. Сквозь всеобщий вой слышался смех вперемешку с бранью и проклятиями. Теперь в дьявольской пляске участвовала сама толпа. Кодзиро стоял в замешательстве, вертя головой по сторонам. Он уже собирался нырнуть в людскую гущу, когда Акитада схватил его за руку. — Слушайте меня внимательно, — прокричал он сквозь общий шум. — Я ошибся. Дандзюро играет не героя, а владыку демонов. Владыку демонов! Вы слышите меня? Держитесь от него подальше и скажите другим! Кодзиро непонимающе смотрел на него. В мерцающем свете факелов глаза его как-то странно блестели. — Что?.. — Он указал на колышущуюся толпу. — Сейчас не до этого! Посмотрите, они все посходили с ума! Ёсико и другие женщины в опасности! — Он сорвался с места и побежал. — Постойте! — крикнул ему вслед Акитада, но было поздно. Кодзиро поглотили тьма и толпа. Акитада последовал за ним, только медленнее, вглядываясь в фигуры чертей и людей и ища среди них глазами огненногривую маску владыки демонов. Один раз он бросился за оранжевой фигурой в маске, сорвав которую обнаружил, что ошибся. И тут же его окружили какие-то люди, кричащие, размахивающие соломенными метлами. Одурев от этой толчеи и пьяных воплей, Акитада упрямо пробирался вперед. Совсем тяжело стало, когда кто-то начал гасить фонари и ревущая толпа бросилась зажигать факелы. В кромешной тьме заплясали разрозненные языки пламени, а в человеческих воплях уже не слышалось ликования — только страх и боль. Проклиная себя за легкомыслие, Акитада вынужден был бросить эту затею. План его сорвался. Дандзюро скорее всего уже избавился от своего костюма и наверняка даже сбежал из парка. За актерским шатром он нашел на земле брошенную маску владыки демонов. Там же он нашел Тору с Гэнбой — светя себе факелом, они стояли над хныкающим человеком в позолоченных доспехах, который сидел на земле, держась за пах. Рядом валялись блестящий шлем и сломанный деревянный меч. Тора заметил Акитаду первым. — Не того поймали, — сказал он. — Вот бедолага! — Что тут произошло? — Мы думали, что это проклятый спесивый ублюдок Дандзюро, ну и позабавились с ним маленько. Гэнба наклонился к плачущему человеку и похлопал его по плечу. — Ты уж прости нас, — сказал он. — Мы тебя кое с кем перепутали. Обознались. — Вот собаки! — огрызнулся тот. — Он что же, сильно пострадал? — спросил Акитада. — Да все у него будет в порядке, — сказал Тора. — Мы же не старались попасть в точку, как госпожа Вишневый Цвет, когда отделала меня под орех. — Ну ладно, тут виноват я, — сказал Акитада и, достав из пояса золотую монету, вложил ее в руку всхлипывающего актера. — Я велел вам искать героя, а Дандзюро играл владыку демонов. Так что теперь он все знает и наверняка сбежал. Тора грязно выругался. Гэнба помог несчастному «герою» подняться на ноги. Актер поднес монету к глазам, потом низко раскланялся перед Акитадой, после чего подобрал с земли свой шлем и помчался прочь. Гэнба спросил: — А что с женщиной? — Она у Кобэ в руках. Новый всплеск криков привлек их внимание к зрительским трибунам. Кто-то умудрился поджечь одну из них, и теперь языки пламени пожирали деревянную конструкцию, покрытую тканью. Акитада в ужасе воскликнул: «Бежим скорее!» — и бросился в направлении пожара. Но паника уже охватила толпу. Люди разбегались кто куда, а в ночном воздухе повисла удушливая пелена дыма. Знать в панике разъезжалась на своих повозках, прибавляя смятения и неразберихи ко всеобщей сумятице. Повозки сталкивались, погонщики орали, стегая хлыстами своих быков. Наследный принц со своей свитой удалился в озерный павильон, откуда в безопасности наблюдал за пожаром на трибунах. Пробираться вперед им мешала хлынувшая к выходу толпа. Полыхающий огонь зловеще освещал сцену, в застилавшем все вокруг дыму среди обычных людей носились актеры в костюмах демонов. Теперь это было уже не театральное представление, а настоящая пляска дьявола. Им пришлось остановиться перед тремя столкнувшимися повозками. Истерично визжащие дамы внутри и рвущиеся в ужасе быки застопорили все движение, не давая им пробраться к трибуне Сугавары. С помощью Торы и Гэнбы Акитада взобрался на колесо одной из повозок, чтобы посмотреть вперед через крышу. Возле перегородчатой ложи он увидел Сэймэя — старик беспокойно расхаживал взад и вперед, вглядываясь в толпу. Слава Богу, все, кажется, в порядке. Спрыгнув с колеса, Акитада взялся помогать погонщикам растаскивать повозки. Несколько минут сосредоточенных усилий, и повозки, наконец разъединившись, сдвинулись с места. Акитада продолжил путь. Но Сэймэй теперь куда-то исчез, зато Акитада увидел Кодзиро, который пятился от подступавшей к нему фигуры в красно-оранжевом наряде. Акитада видел, как «владыка демонов» подскочил к слабому худосочному Кодзиро и толкнул его так сильно, что тот, ударившись о перегородку, проломил ее. Позвав Тору и Гэнбу, Ахитада рванулся сквозь колышущуюся толпу, но дорогу снова преградила повозка. Громадное колесо едва не переехало Акитаде ногу. Отпрыгнув в сторону, он даже налетел на кого-то. С усилием продираясь вперед, он теперь видел, что его ложа разрушена, а ее обитатели целиком и полностью предоставлены взорам толпы. Дандзюро прыгал между перевернутых скамеек, сметя в сторону Сэймэя и стремясь к забившимся в угол женщинам. Одним прыжком Акитада перемахнул через какую-то преграду и закричал. Он увидел пригнувшегося Дандзюро, над головой которого пролетела скамейка. Вслед за скамейкой показалась внушительная туша госпожи Вишневый Цвет, облаченная в трепещущие складки черного шелка и красные ленты. Обрушившись на злобного «владыку демонов», она сокрушила его вместе со скамейкой с таким треском, который был слышен Акитаде даже сквозь шум ревущей толпы. Сметая все на своем пути, увертываясь от бычьих копыт и лавируя между повозками, Акитада пробивал себе путь и наконец добрался до своей семьи. Он облегченно вздохнул, когда увидел такую картину — Тамако и Ёсико сидели, прижавшись друг к другу, закрывая собой Ёри. Над ними стоял Кодзиро с раскрасневшимся лицом, половина которого распухла от громадного уродливого синяка. Все они смотрели на гору перевернутых сидений, где среди щепок и обломков восседала госпожа Вишневый Цвет. Парик свой она потеряла, и ее лысый череп смешно поблескивал в свете факелов. Платье впереди было разорвано, а румяное цветущее лицо перепачкано грязью. Зато выражение на этом лице было триумфальное. — Госпожа Вишневый Цвет! — задыхаясь, крикнул Ахитада. — Вы не ранены? Нащупывая свой парик с красными лентами, она усмехнулась: — Никоим образом, господин. Вот полюбуйтесь-ка, какое чудище я словила! Что это, по-вашему, как не удача? Шатаясь, подошел Сэймэй. Он потирал плечо и держался за голову. — Слава Богу, вы здесь, хозяин! Этот сумасшедший набросился на господина Кодзиро, а потом стал ломиться в дамскую ложу. Но, бежав из логова тигра, он напоролся на дракона. Если бы не госпожа Вишневый Цвет, уж не знаю, что бы мы и делали! Акитада подошел ближе. На земле, зажатая между мощными ляжками госпожи Вишневый Цвет, лежала фигура, облаченная в оранжево-красный шелк. Дандзюро лежал на спине, глаза его были закрыты, лицо искажено болью. Госпожа Вишневый Цвет ухмыльнулась и нахлобучила на голову свой парик. Актер было дернулся и тотчас же застонал. Эта попытка борьбы носила какой-то извращенно-сексуальный характер. Его оранжевая одежка, парик на голове и эта жалкая поза побежденного делали его похожим на женщину, выбранную для плотских утех распутным монахом. Это сходство не ускользнуло и от госпожи Вишневый Цвет. Она хихикнула и подпрыгнула всем телом на своем пленнике. — Ну, любовничек! — промурлыкала она. — Как там у нас делишки? Словила я тебя одним хорошим местом. Будь ты и впрямь мужиком, ох, забрала бы я тебя к себе домой! Сэймэй едва не задохнулся от таких речей. Дандзюро перестал дергаться и снова застонал. Ахитада посмотрел на жену и сестру и сказал сурово: — Госпожа Вишневый Цвет, вставайте! На вас дамы смотрят. Но та и не думала повиноваться. — Вот и пусть поучатся, как доставить удовольствие мужчине, если до сих пор не сподобились. Я-то, к слову сказать, не прочь преподать им урок, уж коль эта страшила извивается у меня между ляжек, да только вот стручок у него больно вялый, как я погляжу, ни дать ни взять разваренная лапша. Прямо и не пойму, чего это все девчонки в нем такого находили?! Сэймэй издал горлом какой-то хриплый звук и вцепился в руку Акитады. Шок его был настолько велик, что Акитада побоялся, как бы старик не упал в обморок.ГЛАВА 23 ДВОЯКАЯ ПРАВДА
Новогодняя ночь получилась долгой. Акитада только к рассвету вернулся домой из дворца, где под музыку и звон колоколов проходила торжественная церемония в честь наступления нового года. После поимки Дандзюро в Весеннем саду Ахитада отправил семью домой, а Торе и Гэнбе поручил проводить госпожу Вишневый Цвет. Сам Акитада вместе с Кобэ отправился сопровождать задержанных преступников в тюрьму. По настоянию Кобэ решено было допрашивать Дандзюро и Нобуко безотлагательно и по отдельности. Дандзюро привели первым. Поскольку особо сильных увечий он не получил, в носилках ему было отказано. Дандзюро упирался и сопротивлялся, поэтому двум дюжим стражникам пришлось тащить его под руки волоком. Свое недовольство пленником они срывали на нем сполна, Дандзюро же бранился и орал. — А ну, поставьте его! — распорядился Кобэ, перекрикивая общий гвалт. — Почему он так орет? Стражники бросили его на пол, как связку дров, и один сказал: — Ребро у него сломано, начальник. Кобэ бросил на пленника беглый взгляд и сказал небрежно: — Ну вот, притих. Ладно уж, попозже врач осмотрит его. А вам не следовало калечить его раньше времени. Сначала я должен поговорить с ним. — А мы и не калечили, — запротестовали стражники. — Ребро у него было сломано еще раньше. Кобэ повернулся к Акитаде: — Ваша работа? — Нет. Это госпожа Вишневый Цвет хорошенько отделала его. Глаза Кобэ изумленно округлились. — Неужели опять эта женщина?! Да она всем моим орлам сто очков вперед даст! Уж не позвать ли мне ее к себе на работу? — Он усмехнулся. — Может, тогда хоть перестанет ворчать на полицию. Я мог бы назначить ее, к примеру, квартальным старостой в ее квартале. — О-о!.. Такое предложение ей, должно быть, понравится. — Акитада рассмеялся. Дандзюро грязно выругался. Один из стражников вынул из-за пояса дубинку и треснул ему разок. — А ну-ка, ты, сядь! — рявкнул Кобэ. — Не могу. Она переломила мне спину! — взвизгнул Дандзюро. — Она погубила меня. Я больше никогда не смогу выступать. Я требую возмещения ущерба! — Чего ты требуешь? — Кобэ хохотнул. — Ладно! Будет тебе возмещение! А если ты сейчас не сядешь, то я сделаю так, что ты у меня лежать месяц не сможешь. Дандзюро закопошился на полу, стеная и причитая. Когда он наконец сел, лицо его было мокрым от пота и слез. Кобэ снова разразился смехом. — Тоже мне свирепый владыка демонов! Да без маски ты больше на старуху похож! Жалкий хлюпик! И как только ты играл всех этих богов да героев? Не человек, а сплошное недоразумение! Дандзюро метнул на него злобный взгляд и презрительно фыркнул. — Я актер, — сказал он, напустив на себя высокомерный вид. — Актер, а не какой-нибудь там военный мужлан или полицейский. К тому же мне нанесли серьезные увечья. Сначала какой-то хмырь набросился на меня, а потом это чудовище в женском обличье чуть не убило меня вовсе. Вы бы лучше арестовали эту парочку, чем мучить меня. Я завтра же подам в суд иск на своих обидчиков и на вас всех! А сейчас я требую врача. — Он замолчал и свирепо уставился на них. Стражник снова приложил его своей дубинкой, а другой уже потянулся за хлыстом, но Кобэ покачал головой. — Уже поздно, и я устал, — сказал он. — Так что не надо тут прикидываться невинным. Тебе предъявляются обвинения в убийстве трех человек, а именно: актрисы по имени Охиса, торговца стариной Нагаоки и отставного профессора Ясабуро. — Да смешно просто такое слушать! — сказал Дандзюро, щупая свои ребра. — Ничего смешного не вижу. Актриса Охиса состояла в вашей труппе и была одной из твоих любовниц. Ты задушил ее, когда вы были на постое в Восточном горном монастыре, потому что она надоела тебе и ты нашел новую любовницу. Не исключено, что как раз эта новая любовница, жена Нагаоки, и толкнула тебя на это убийство. Нам известно, что вы вместе разработали план, как замаскировать Охису под нее, так чтобы это убийство было приписано брату Нагаоки. — Вранье! — воскликнул Дандзюро. — Охиса уехала домой к родителям. — Это очень легко опровергнуть, — холодно сказал Кобэ. — Следующее преступление — убийство мужа твоей прелестницы — вы совершили в Кохата, в ломе ее отца. Выудив из него в качестве возмещения большие деньги, вы отравили его и бросили на обочине дороги, понадеявшись на то, что мы все спишем на грабителей. Дандзюро уставился в потолок. — Я не знаю такого человека! — А потом было третье убийство, тоже отравление. Яд вы припасли заранее. Ты проник в восточную тюрьму под личиной буддийского монаха и попросил свидания с Ясабуро. Когда тебя пропустили в его камеру, ты подсунул ему отравленную пищу и скрылся. — Какая сказочная ложь! Брехня! — возмутился Дандзюро. — Вы обвиняете меня в каком-то убийстве только потому, что я актер и вы видели меня в роли священника. Зачем мне было это делать? — А затем, что ты боялся, как бы Ясабуро не выдал дочь, а еще потому, что он знал или подозревал, что вы убили Нагаоку. Поверь мне, Дандзюро, твоя партия сыграна. Ты можешь избавить себя от лишней боли, во всем признавшись. — Что это вы меня запугиваете? Я ни в чем не виноват! — возмутился Дандзюро. — Не забывай, что у нас в руках твоя любовница! — рявкнул на него Кобэ. — Как только мои люди начнут охаживать ее бамбуковыми палками по нежной спинке, она быстро заговорит. И между прочим, постарается все спихнуть на тебя. Дандзюро размяк и раскис. Глаза его, как у загнанного в ловушку зверя, отчаянно стреляли то в одну, то в другую сторону. — Значит, все, что она скажет, будет ложью, — растерянно пробормотал он. Его отвели к врачу, а вместо него привели Нобуко. Она заливалась слезами, однако успела смыть с лица артистический грим и привести в порядок прическу и платье. Не дожидаясь понуканий, она опустилась на колени и низко поклонилась Кобэ и Акитаде. — Позвольте мне представить свою скромную персону — актриса Югао, дочь Ясабуро Сэйдзиро и жена актера Дандзюро. Я смиренно прошу у вашей чести объяснений относительно обвинений, выдвинутых против меня. Кобэ смотрел на нее с презрением. — Перестаньте разыгрывать роли, госпожа Нагаока. Мы знаем, кто вы такая и что вы на пару со своим нынешним мужем содеяли. В ваших же интересах как можно скорее и полностью признаться в причастности к трем убийствам — девушки по имени Охиса, вашего мужа Нагаоки и вашего отца Ясабуро. Глаза ее расширились. Она открыла рот, потом поднесла к нему руку и прикусила костяшки пальцев. — Да как же вы могли подумать, что я могла поднять руку на отца, о котором скорблю денно и нощно?! — слезно запричитала она. — Я не всегда была ему послушной дочерью, и этот груз вины тяжко давит на меня. Да простят меня боги земные и небесные! Акитада нашел, что она исполнила эту роль блестяще, хотя, возможно, чуточку и переиграла. Особенно последняя фраза показалась ему несколько напыщенной, словно взятой из какой-то древней синтоистской молитвы. — Эй, стража! — позвал Кобэ. Двое полицейских в униформе вошли и встали по струнке. — Бамбуковые палки сюда! — приказал Кобэ. Лицо пленницы внезапно исказила гримаса страха, от прежней горделивой позы не осталось и следа. — Нет! Пожалуйста, только не это! — взмолилась она. — Спрашивайте меня о чем угодно! Я на все отвечу! Кобэ отпустил стражников и устремил свирепый взгляд на пленницу. — Вы поступили в труппу Уэмона на шестой день месяца Первых Заморозков в Восточном горном монастыре, куда совершали паломничество. Верно? — Да. Я всегда мечтала быть актрисой, и наш отец поощрял наше участие в домашних представлениях. Театр был его страстью. Когда я случайно услышала на постоялом дворе монастыря разговор актрис о том, что одна из них, оказывается, покинула труппу, я, повинуясь внезапному порыву, предложила им взять на ее место меня. Взять всего на одно представление. Но я влюбилась в Дандзюро и осталась. Кем бы ни выставляла себя эта женщина, но она явно была не только очень красива и выдержанна, но и очень умна. К рассказанной ею истории трудно было подкопаться. Все сходилось воедино. И отец ее, и Харада в свое время говорили о домашних представлениях с участием заезжих актеров, а Нагаока и Кодзиро упоминали о ее исполнительских талантах в пении и танце. Одинокий пожилой холостяк Нагаока должен был быть от нее без ума. Даже сейчас она совершенно сознательно и умело кокетничала, манящими были эти полные влажные губы и каждое движение ее тела. Такую женщину вряд ли устроила бы тихая, скучная жизнь с замкнутым престарелым мужем, она, конечно, попыталась бы соблазнить бесстрастного, вялого Кодзиро. И Дандзюро, дамский любимец и ведущий актер, вряд ли устоял бы перед ней. Акитада наклонился к Кобэ и что-то прошептал ему. Кобэ кивнул и спросил у женщины: — Актеры Уэмона когда-нибудь давали представление в доме вашего отца, когда вы жили там? Вопрос заставил ее задуматься. — Я… я не помню. Возможно, и давали. Это было так давно. Кобэ оживился: — У нас есть свидетель, который утверждает, что вы там познакомились с Дандзюро и впоследствии у вас с ним был роман. Она покраснела. Кобэ с победоносным видом улыбнулся. Тогда, потупив глаза, она сказала: — Да, это правда. Просто мне стыдно было признаться в этом. По этой причине мы и поссорились с отцом. Он был страшно зол, когда узнал об этом. Я хотела уехать с Дандзюро, а он запретил. Кобэ и Акитада переглянулись. Что это было? Признание под видом старой как мир байки о соблазненной мужланом девице? Кобэ тихонько сказал Акитаде: — Этот старик, кажется, вырыл себе могилу, когда позволил дочке общаться с таким сбродом. Так же тихо Акитада ответил ему: — А по-моему, в данном случае как раз девица развратила мужчину. Кобэ усмехнулся и повернулся к арестантке: — Мы пока так никуда и не продвинулись. Вы солгали, представившись вашей сестрой Югао. Теперь вы признаете правду? Признаете, что вы Нобуко, вдова покойного Нагаоки? — Правду? О нет! Правда заключается в том, что Нобуко убита. А я Югао. Вы должны поверить мне. Мы с ней похожи… то есть были похожи как две капли воды. Кобэ нахмурился. — Вы утверждаете, что вы и ваша сестра ту ночь обе провели в Восточном горном монастыре. Так? Как же тогда получилось, что вы там не встретились? Она вздохнула. — Шел дождь, и мы обе не выходили из своих комнат. Будь иначе, я могла бы спасти ее жизнь в ту ночь. «Ну и ловка!» — подумал Акитада. Прочистив горло, он сказал: — Напрасно стараетесь, госпожа Нагаока. Ваш деверь сказал нам, что ваша сестра Югао умерла вскоре после того, как вы вышли замуж. То есть явно задолго до той ночи в монастыре. Одной из вас уже несколько лет как нет на свете. Она гордо вскинула голову. — Вы поверили на слово этому жалкому пьянице, который убил мою бедную сестру? — Заносчиво вздернув подбородок, она сверлила глазами Кобэ. — Я снова задаю вам все тот же вопрос: почему этот убийца разгуливает на свободе, в то время как меня обвиняют в совершенном им преступлении? — Вы хотите, чтобы я снова приказал принести палки? — прогремел Кобэ. — Вы же прекрасно знаете, что факт смерти вашей сестры может легко быть проверен. Она печально улыбнулась: — Факт моей смерти, вы хотите сказать? Боюсь, этого вам не доказать. Видите ли, мой отец был так сердит, когда я убежала из дома, что объявил меня умершей. Он даже кремировал пустой гроб и отметил мои похороны должной церемонией. Таким образом отец здорово позабавился, посмеялся над буддистами и их верой. Акитаде стало чуточку не по себе. Ему показалось, что это говорит чуть ли не сам Ясабуро. Неуютное чувство переросло в испуг, когда он вдруг осознал, как трудно было бы доказать, что эта женшина лжет. Кто видел обеих сестер вместе? Их отец Ясабуро и муж Нобуко теперь оба мертвы. Старик слуга? Или затворник Харада? Кобэ недовольно проворчал: — Итак, вы настаиваете на своей версии! Ну что ж, мы докажем в суде, кто вы такая на самом деле. Только сейчас вам самое время вспомнить, что за ложные показания в суде налагается наказание в виде ста ударов кнутом. Некоторые, как известно, умирают от этого. Она побледнела, но сумела изобразить на лице улыбку. — Значит, мне ничто не грозит, — сказала она. — Уведите ее! — приказал Кобэ стражникам. Она шла к выходу изящной походкой, слегка повиливая бедрами. Один из стражников, глядя ей вслед, сглотнул слюну. Кобэ выругался. Акитада расстроился не меньше Кобэ. Если это и впрямь была Югао, то где же тогда Нобуко? Мертва? А куда делась пропавшая Охиса? Хуже того, если это не Нобуко, то все обвинение против нее и Дандзюро развалится, и Кодзиро снова обвинят в убийстве Нобуко. И все же Акитада чувствовал, что они были правы. Сейчас он напряженно соображал. У Кобэ был подавленный вид. — Вот сука! — пробормотал он. — Да конечно, они сделали это! Этот актеришко сам себя выдал. Ну ничего, мы выбьем из этого хлюпика признание! А бабенка-то сущая дьяволица, хоть на первый взгляд и не скажешь. Э-эх!.. А я-то надеялся закрыть это дельце до Нового года! Акитада понимающе кивнул. Он не мог не чувствовать своей вины. Проверь он прошлое этих людей более тщательно, такого бы не произошло. Путаные упоминания Ясабуро о дочерях должны были насторожить его. Ведь Ясабуро ни разу не выразился точно, ни разу не дал понять, о ком идет речь — о Нобуко или об обеих сестрах. Кодзиро же навел его на мысль об имеющемся расхождении, но его информацию следовало проверить, хотя бы потому, что он никогда в жизни не видел сестры Нобуко. Показания Харады тоже были туманными, возможно, потому, что ему никогда не доводилось побыть в обществе семьи Ясабуро, и девушек он видел только с далекого расстояния. Этим также объяснялось, почему он не узнал Нобуко в актерском гриме и театральном костюме. Кобэ в сердцах рявкнул: — Будь проклят этот малый за то, что произвел на свет двух таких дочурок! Ну и что теперь? Акитада со вздохом поднялся. — Надо бы пойти и провести добавочный опрос. — Он был еще не совсем здоров и чуточку устал, но он обещал помощь Кобэ и дал слово Кодзиро. — Я должен еще раз поговорить с госпожой Вишневый Цвет и другими актерами. А еще неплохо было бы послать кого-нибудь в Кохата. Кобэ угрюмо кивнул. — Я сам туда поеду. В такой-то прекрасный новогодний денек месить дорожную грязь часами, чтобы пообщаться с местной пьянью… Я уж не говорю про этого полоумного… Ночной воздух был напоен хвойным ароматом. Акитада с удовольствием вдыхал его, пока ехал на юг к реке. Над крышами стелился дымок — люди продолжали праздновать. То и дело откуда-нибудь доносились веселый смех, крики или выбегали компании подвыпивших гуляк. Кто-нибудь из этих пропойц наверняка упадет в мерзлую воду канала и быстренько протрезвеет, а кто-нибудь так и не найдет в себе сил выбраться оттуда и сгинет навеки в ледяной пучине. Акитада передернулся от такой мысли и ускорил шаг. Он рассчитывал застать госпожу Вишневый Цвет и остальных еще бодрствующими. Звуки лютни и цитры, доносившиеся из веселого квартала, да толпы на улицах внушали надежду. Из окон спортивного зала слышался смех. Старик привратник впустил его, показав, куда пройти. Должно быть, все лампы и фонари были собраны вокруг помоста госпожи Вишневый Цвет. Она восседала на своем троне в окружении актеров, акробатов и своей служанки. Тора с Гэнбой сидели на полу у ее ног. Празднование шло полным ходом. Пол был уставлен посудой с угощениями и вином, лица раскраснелись. Завидев Акитаду, Тора с Гэнбой вскочили с виноватым видом. — Нас пригласили на чарочку, — сказал Гэнба. — Что-то случилось, хозяин? — спросил Тора. — Нет, ничего не случилось, просто мы столкнулись с одной проблемой. Госпожа Нагаока выдает себя за собственную сестру. За этими словами последовал звук упавшего предмета и тихий вскрик. Все удивленно обернулись на служанку, уронившую веер. Прикрыв рот ладошкой, она смотрела на Акитаду широко раскрытыми, перепуганными глазами. — Юкио, — обратилась к ней хозяйка, — как-то ты странно себя ведешь с тех пор, как мы вернулись домой. Что с тобой происходит? Девушка подобрала с пола веер и снова спрятала за ним лицо. — Нет-нет, ничего! — Ерунда! Ты что-то знаешь. Теперь я припоминаю, как ты все расспрашивала меня про Дандзюро и его жену. А ну, выкладывай! Девушка заплакала и хотела встать, но госпожа Вишневый Цвет схватила ее за руку. — А ну-ка сядь, милочка! Я не потерплю больше от тебя неприятностей после всего, что я для тебя сделала. Ты и так уже натворила дел, дальше некуда. Только посмотри, что ты сделала с бедным Торой! Так-то ты платишь мне за мою доброту, неблагодарная девчонка? Я подобрала тебя голодную на улице и привела к себе. Я тебе мать заменила. Юкио рухнула наземь, как соломенная кукла, и обхватила колени госпожи Вишневый Цвет. — Простите меня! — рыдала она. — Клянусь богами земными и небесными, для вас я бы сделала все, что угодно! Акитада насторожился. Опять эти странные слова про каких-то древних богов! Такие речевые обороты были неуместны в устах девушки из низкого сословия. И этот знакомый, весьма редкий жест… Она тоже, поднеся кулачок ко рту, закусила костяшки пальцев. Сердце его бешено заколотилось, и он спросил: — Кто ты на самом деле? Госпожа Вишневый Цвет нахмурилась. — Юкио! Ты мне что-то недоговаривала? Юкио что-то промямлила в ответ. — Что? Какое еще слово ты дала? Акитада подошел ближе. — Ты — Югао? Присутствующие зашептались. Госпожа Вишневый Цвет удивленно вскинула нарисованные брови. Акитада бросился объяснять: — Госпожа Вишневый Цвет, если она Югао и укрывает сестру Нобуко, то она должна дать показания в суде. Она наша единственная надежда, только с ее помощью мы можем отдать под суд убийц троих человек. Госпожа Вишневый Цвет наклонилась и погладила рыдающую женщину по голове. — Он прав, дитя мое, — сказала она. — А ну отвечай на мои вопросы! — нетерпеливо воскликнул Акитада. — Если ты Югао, то твоя сестра участвовала в убийстве твоего собственного отца и ее мужа. Если мы не докажем, кто она такая, убийцы останутся на свободе, а мертвые так и не найдут успокоения. Юкио вцепилась в госпожу Вишневый Цвет и захныкала. Госпожа Вишневый Цвет теперь выглядела какой-то постаревшей и осунувшейся. — Бедное дитя!.. —бормотала она, постукивая плачущую девушку по спине. — Бедное дитя! Но ты не горюй! Мой дом всегда будет твоим, что бы там ни случилось. Ты будешь моей дочкой. У меня ведь никогда не было дочки. А сейчас сядь-ка, распрямись и вытри слезы. Ты находишься среди друзей, и тебе нечего стыдиться. Ты просто выполняла свой дочерний долг. Хотя этот злодей такого не заслужил. Все присутствующие замерли, затаили дыхание. Юкио положила на пол веер и обратила к Акитаде свое изуродованное лицо. Шевеля искромсанными губами, она сказала: — Да, вы открыли правду. Я — Югао. Уж не знаю, как вы догадались. Даже родная сестра не узнала меня. Акитада улыбнулся, чтобы приободрить ее. — Я угадал по одному изящному жесту и по вашей речи. Вы обе употребляете такое выражение, как «боги небесные и земные», в то время как большинство людей просто припомнили бы Будду. — Наш отец запрещал нам обращаться к буддийским богам. Когда Нобуко появилась здесь с актерами Уэмона, я очень обрадовалась, увидев ее. Я решила, что теперь мы заживем вместе, но я была не нужна ей, и она уже была замужем за Дандзюро. А Дандзюро… в него я когда-то была влюблена, но теперь, в таком виде, я не хотела, чтобы он меня узнал. Я попросила Нобуко не выдавать моей тайны, а она взамен потребовала, чтобы я не выдавала ее. Тогда-то я просто думала, что она имеет в виду свое бегство от мужа. Так мы и поклялись друг другу душой нашей матери. — Она замолчала, спрятала лицо в рукав и снова заплакала. Госпожа Вишневый Цвет ласково обняла ее за плечи. Акитада перевел дух и медленно опустился на пол. Выходит, тут была отнюдь не одна тайна. Как это там сказано в монастырском свитке? Двоякая правда. Дело раскрыто, но ценой каких человеческих потерь! — Я понимаю, Югао, — мягко сказал он. — Давать показания против родной сестры трудно даже в обычных обстоятельствах, но ты все-таки должна сделать это. Видишь ли, одно дело твой долг перед покойным отцом, но ведь надо подумать и о живых. Брат Нагаоки Кодзиро хороший человек, а его несправедливо обвинили в убийстве девушки по имени Охиса. От этих подозрений его могла бы избавить только твоя честность. Считай это твоим подношением всем жертвам, живым и мертвым, неким долгом, который ты должна заплатить во искупление преступлений твоей сестры. Вцепившись в руку госпожи Вишневый Цвет, Югао-Юкио кивала. Она сидела очень грациозно, ее прекрасные формы, изящная шея и блестящие волосы смотрелись чудовищным контрастом с изуродованным лицом. — Ты поведаешь нам свою историю? Она снова закивала. — Мой отец любил приглашать в усадьбу актеров, а когда мы подросли, ему доставляло удовольствие, если мы наряжались в костюмы и участвовали в представлениях. Занятие это нас забавляло, и актерам мы нравились, так как обе были миленькие. — Она покраснела. — Я тогда была хороша собой. Дандзюро предпочел мою красоту красоте сестры. Он предложил мне, а не сестре, стать его женой и уехать с ним. Отец пришел в ярость, когда я сказала ему. Он велел Дандзюро и остальным убираться вон. Я тогда плакала целые дни напролет. А потом Дандзюро прислал мне письмо, и я убежала к нему. — Она вздрогнула и плотнее запахнула на себе кимоно. — Только вышло все не так, как я ожидала. Дандзюро и не подумал жениться на мне, а через некоторое время начал менять женщин одну за другой. Я потеряла покой и стала плохо играть, и в один прекрасный день Уэмон выгнал меня. Дандзюро велел мне убираться домой. Но я не могла этого сделать, потому что отец объявил меня умершей. Я стала скитаться по городу в поисках работы и поняла, что мне осталось одно — торговать своим телом. С тех пор моей единственной заботой было раздобыть пищу. Так я жила, пока не напоролась на маньяка. Гнетущая тишина установилась в зале. Потом госпожа Вишневый Цвет решительно сказала: — По-моему, твой отец слишком скверно обошелся с тобой всего лишь из-за маленькой ошибки, а потом этот ублюдок Дандзюро причинил тебе зло. А сестра! Люди добрые, родная сестра, вместо того чтобы раскрыть тебе навстречу объятия, говорит, что ты ей не нужна! Да что же это за семейка! Акитада только беспомощно смотрел. Сам ад не шел ни в какое сравнение с мучениями этой жизни. Акитада просто терялся перед лицом таких страданий — потери семьи, любимого, красоты и надежды на счастье. Зато Тора, лишенный всякой сентиментальности, смотрел на ситуацию с практической точки зрения. — А знаешь, — сказал он, — твоя сестра не может унаследовать отцовское поместье, так что остаешься только ты. Хозяйство достанется тебе, и ты, я уверен, добьешься успеха. Подобная мысль удивила Югао. Она изумленно смотрела на Тору. — Кохата моя?! Ты и правда так считаешь? Но кто же мне поверит? Кто скажет, что я Югао, когда и родная мать меня не узнала бы? Тора испуганно посмотрел на хозяина. Акитада сказал: — Думаю, власти наверняка учтут твои заслуги перед столицей — за опознание в Ноами маньяка и свидетельские показания по данному делу тебе скорее всего помогут установить твою личность, позволив тебе рассказать подробности о твоем доме и о твоем прошлом. Я не вижу для тебя особых трудностей в вопросе вступления в наследство. Югао поднялась. Взяв госпожу Вишневый Цвет за руку, она спросила: — Вы пойдете со мной? — Конечно, — хрипло сказала та, вставая. — Ты храбрая девочка. Так пойдем же и поскорее покончим с этим делом. Югао вдруг улыбнулась. Это была страшная, леденящая душу гримаса, но она не могла не тронуть их сердца, и они все улыбнулись ей в ответ. Госпожа Вишневый Цвет кивала и терла глаза. Кобэ застыл в недоумении, когда вся эта разношерстная толпа ввалилась в кабинет начальника тюрьмы. — Что все это значит? — напустился он на Акитаду. — Я смертельно устал, а впереди у меня еще, как вы знаете, трудный денек. — Вам не придется ехать в Кохату. Я привел вам Кохату сюда. — Акитада вывел Югао на передний план. Кобэ вздрогнул, увидев ее лицо. — Служанка госпожи Вишневый Цвет? Та, что изобличила художника? — Да, — ответила девушка чуть дрожащим голосом. — А еще я — Югао, младшая дочь Ясабуро. Я пришла подтвердить личность моей сестры Нобуко, чтобы она могла ответить за то, что содеяла. Кобэ поначалу смотрел на нее в недоумении, потом широкая улыбка осветила его лицо. Он крикнул стражникам, чтобы те привели обоих арестантов. Дандзюро ковылял первым. Врач позаботился о его сломанном ребре, но он выглядел больным, потерявшим всякую надежду человеком. Нобуко вошла с высоко поднятой головой. Она сразу же увидела сестру и отвернулась. Если не считать крохотных капелек влаги на вспотевшем лице да легкого дрожания рук, она ничем не выдала себя. Окинув взглядом остальных, она презрительно усмехнулась: — Я вижу, вы привели сюда эту старую рухлядь да в придачу к ней целую свору бездарей, чтобы они оговорили меня. Только это вам не поможет. Югао выступила вперед. — Бесполезно, Нобуко, — проговорила она. — Я им все рассказала. Наш отец был не самым добрым человеком, но тебе не следовало позволять Дандзюро убивать его. Вы совершили неслыханное преступление против самих небес. Красавица еще выше вздернула подбородок. — Это что еще за уродка? Вы не иначе как по канавам сточным рыщете, господин начальник полиции, лишь бы состряпать ложное обвинение. Тут вмешался Акитада: — Ваша сестра подтвердила вашу личность, так что не тратьте впустую время на бесполезные отрицания. А между тем Дандзюро все смотрел на исполосованную шрамами сестру. — Югао? Ты — Югао? Он шагнул к ней. Кобэ дал знак стражникам отпустить его. Дандзюро внимательно разглядывал лицо Югао и ее фигуру. Она стояла как вкопанная, болезненно покраснев, но вынесла эту пытку. Обойдя ее сзади, он поднял ее тяжелые длинные волосы. Не выдержав, Нобуко выкрикнула: — Дандзюро, не смей касаться этой грязной падали! Но было поздно. Все, кто присутствовал в комнате, уже успели заметить крошечную родинку на шее Югао Дандзюро опустил волосы и посмотрел на Нобуко. — Без толку. Это правда Югао. Все кончено. Нобуко смерила его каменным взглядом, потом плюнула в него. — Мне отрадна только одна мысль — что ты умрешь, трус! — Она повернулась к Кобэ: — Ну что ж, вы получили, что хотели. А теперь пусть меня отведут в мою камеру. У Кобэ был довольный вид. — Ну что ж, пусть отведут. — Он кивнул начальнику стражи. — Завтра мы начнем допрос. Думаю, она сознается, но на всякий случай припасите свеженьких бамбуковых прутов. Стража увела обоих арестантов. От такого приказа Кобэ Акитаде стало не по себе. Молодые гибкие бамбуковые прутья рвали кожу арестантов в клочья. — По-моему, нам всем лучше разойтись по домам, — пробормотал он. — Не думаю, что я буду вспоминать этот день с радостью. Югао тихонько плакала. Госпожа Вишневый Цвет обняла ее за плечи, и они собрались уходить. Кобэ хотел сказать что-то, когда снаружи донесся какой-то шум. Он посмотрел в сторону двери. Теперь уже услышали все — высокий, пронзительный крик и мужские голоса. За дверью послышался топот бегущих ног, потом она распахнулась, и на пороге возник задыхающийся полицейский. Страшный пронзительный крик теперь звучал еще отчетливее. — Господин, арестантка пыталась сбежать!.. За спиной полицейского уже маячил стражник, лицо его было бледно. Он поднял правую руку, в которой держал свое оружие — металлический двузубец. И рука, и двузубец были в крови. А между тем ужасные крики снаружи прекратились. — Что случилось? — спросил Кобэ. Стражник задыхался и глотал слова. — Когда мы вывели ее во двор, она бросилась бежать. Мы погнались за ней. Кто-то загнал ее в угол, но она вывернулась. Меня она не видела. Я попался у нее на пути… Как раз занес двузубец… хотел остановить ее. — Бедолага от волнения позеленел и едва дышал. — Она напоролась прямо на него… Напоролась лицом. — Он снова глотнул воздуха и продолжал: — Он прошел ей через глаз и рот. Насквозь. Сейчас она умирает. — Он повернул голову и прислушался. Снаружи стояла тишина. — Умерла, — поправился он.ЭПИЛОГ
Начальнику полиции Кобэ не пришлось колесить по грязным деревенским дорогам на холодном ветру. Вместо этого он был приглашен в дом Сугавара, хозяева которого закатили настоящий пир — горы печенья, тушеная рыба, супы из дичи, копченые яйца, рисовые колобки с овощной начинкой, пряные красные бобы, соленые каштаны, ломтики морского леща, маринованная редька и еще великое множество самых изысканных угощений. А поводов для празднования оказалось даже больше, чем предполагал Акитада. Наутро в первый день наступившего года к нему неожиданно явился Сэймэй. Старик смущенно покраснел и отвел глаза от сбитой в огромную кучу постели, где маленький Ёри радостно резвился вокруг пребывающих в полусонной неге родителей. — Прошу прощения, господин, но я только что обнаружил, что нам из дворца доставили какой-то документ. Должно быть, его принесли вчера вечером, когда нас не было, а этот разиня-мальчишка хоть бы словом обмолвился. — Сэймэй низко поклонился и торопливо зашаркал к двери. В кои-то веки на душе у Акитады было легко и спокойно, поэтому он сначала не спеша завершил все утренние процедуры и только потом проследовал в свой кабинет. Сэймэй и Харада на коленях сидели перед его столом, почтительно разглядывая важное казенное послание. На черном лакированном подносе посреди стола лежал свернутый в трубочку документ, перевязанный пурпурной шелковой лентой. Акитада сразу понял, в чем дело, и замер на месте. Много лет назад он уже видел нечто подобное. Тогда подобная бумага была адресована другому человеку и заняла почетное место на алтаре его предков. Это было официальное уведомление о повышении в звании, традиционно вручаемое получателю его непосредственным начальством незадолго до торжественной новогодней церемонии представления во дворце. На этот раз процедура была нарушена — ведь Акитада только недавно вернулся в столицу и некоторое время болтался не у дел. С сильно бьющимся сердцем он почтительно взял имперское послание в руки. Успешно выполнив губернаторскую миссию в северной провинции Эчиго, он до сих пор надеялся на то, что присвоенное ему временное звание останется при нем. Но такое послание явно обещало нечто большее. Дрожащими пальцами развернув свиток, он торопливо прочел строчки официального поздравления, ища глазами главную новость. И нашел: младший шестой ранг, высший чин! А у него до сих пор был низший чин. Какое повышение — на целую степень! Пожалованный ему высокий чин оградит его теперь от нападок врагов в управленческом аппарате и к тому же повлечет за собой новое повышение. Акитада положил письмо на стол и вышел в сад. Там было еще очень холодно, но уже вставало солнце, золотя своими первыми теплыми лучами вершины гор. В пруду в мутноватой толще воды не по-зимнему резвились рыбки. Одна из них — большой пятнистый карп — подплыла к поверхности, когда Акитада подошел. Акитада смотрел на него с грустью. К чувству радостного удовлетворения примешивалось ощущение вины. Что скажет Тамако, если его снова отправят в какую-нибудь далекую провинцию? Ведь они только-только вернулись в столицу, едва успели отпраздновать Новый год. Так неужели опять тащить семью в какое-то Богом забытое опасное место? И оставить их здесь он тоже не может — это будет нечестно. Он огляделся по сторонам. Да, он будет скучать по дому, по этим рыбкам в пруду, по старой сакуре в дальнем углу сада. От предчувствия предстоящей утраты больно защемило в груди, и он вспомнил, что, в сущности, только совсем недавно по-настоящему обрел это родовое гнездо, эту вотчину, ставшую ему теперь в жизни оплотом. Многое произошло, и многое изменилось, и больше всего изменился он сам. Женщина, которую он считал матерью, навсегда ушла из его жизни, зато в ней снова появился отец, он вновь обрел эту связь, пусть призрачную, но благотворную. И как это там выразился старый настоятель горного монастыря? «То, что кажется реальным в человеческом мире, на самом деле всего лишь грезы и обман». В утверждении этом определенно имелась великая доля правды. Ведь он обнаружил, что мать, оказывается, не была ему родной, что всю жизнь она обманывала его, внушая что отец не любит его. Загадочные слова эти с таким же успехом можно было отнести и к недавно раскрытым делам. Мертвое тело в монастыре принадлежало не госпоже Нагаока, а девушке по имени Охиса. И этот обман повлек за собой целую череду других. Кодзиро оказался не тем, за кого его принимали, как и Ясабуро, и Югао. А маньяка Ноами все почитали за талантливого художника, слывшего в своем квартале настоящим благодетелем. Да и сам старый настоятель, помнится, показался ему дряхлой развалиной, такой же бессмысленной и никчемной, как его невнятные, мутные речи. Только теперь Акитада, похоже, больше так не считал. Зачем старый Гэнсин распорядился показать Акитаде дьявольскую ширму Ноами? И что он сказал после этой фразы о грезах и обмане? Он сказал, что обратное тоже является истиной. Выходит, если правда — это обман, то обман может оказаться правдой. Конечно, он говорил о дьявольской ширме. Изображенные на холсте страдания были самыми что ни на есть настоящими. Персонажами этой картины были живые люди, подвергнутые пыткам и замученные руками человека, который ради служения своему искусству превратился в сущее чудовище. Акитада вздрогнул. И как только судьба занесла его в этот горный монастырь в ту ночь? И какие задачи предстоит ему еще осилить в дальнейшем? И не служит ли все происходящее вокруг какой-то одной цели в этом общем соотношении вещей? Глубоко тронутый задушу, он обратил свой взор к восточным горам и низко поклонился восходящему солнцу.ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В XI столетии Хэйан-Кё (Киото) был столицей Японии и самым крупным ее городом. Он представлял собой прямоугольник площадью 2,5 на 3,5 мили и, по образцу китайской столицы того времени, имел решетчатую систему широких и узких улиц. Численность его населения составляла около двухсот тысяч человек. Императорский дворец — самостоятельный внутренний город, размешавший в себе резиденцию императора, а также государственные министерства и ведомства, располагался к северу от центра Киото. От него к югу тянулась широкая, обсаженная ивами улица Сузаку, делившая Киото на две половины — западную и восточную — и упиравшаяся в знаменитые ворота Расёмон. Считается, что Киото был очень красив и славился своими широкими улицами, парками, каналами, реками, дворцами и храмами. (Детальное описание города и его архитектуры хэйанского периода можно найти у Р.А.Б. Понсонби-Фэйна в его труде «Киото. Древняя столица Японии».) Система правопорядка в Японии XI столетия до определенной степени следовала китайскому образцу. Так, например, каждый из шестидесяти восьми городских кварталов имел городового, отвечавшего за порядок на своем участке. Государственные ведомства и императорский дворец охранялись подразделениями имперской стражи. Помимо них, существовала также отдельная полицейская структура — кэбииси, — которая занималась расследованием преступлений, осуществлением арестов и судопроизводством. Согласно «Кодексу Тайхо» (701 г. н. э.), наиболее серьезными преступлениями считались: 1) бунты и мятежи против императорской власти; 2) нанесение ущерба императорскому дворцу и монаршим усыпальницам; 3) государственная измена; 4) убийство кого-либо из родни; 5) убийство собственной жены или более чем трех членов собственного семейства; 6) кража имперского или церковного имущества; 7) несоблюдение сыновнего или дочернего долга перед родителями или старшими родственниками и 8) убийство начальника или учителя. В столице имелось две тюрьмы, однако в те времена была сильно развита традиция монаршего помилования. Признание считалось необходимым условием для вынесения приговора, поэтому могло выбиваться палками. Так как лишение жизни не приветствовалось буддийской верой, смертный приговор был большой редкостью и часто заменялся каторгой. Две государственные религии — синтоизм и буддизм — мирно сосуществовали в Японии той эпохи. Оба культа нередко осуществлялись на территории одного и того же храмового комплекса или во время одного и того же религиозного праздника. Синтоизм — собственно национальная религия — основывался на поклонении японским богам и на принявшем форму культа соблюдении сельскохозяйственных обрядов. Буддизм, пришедший в Японию из Китая через Корею, оказал огромное влияние на аристократические и правительственные круги. В его распространении наиболее существенную роль играли многочисленные монастыри. Большинство императоров и представителей влиятельной знати оставляли мирскую суету, приняв постриг. Ад, по буддийским представлениям, налагает на грешников вечное наказание в виде самых разных мучений. В дополнение к мучениям традиционного христианского ада здесь грешникам предопределены такие пытки, как иссечение ножами и мечами («ад колющих и режущих мечей»), пытка холодом («ледяной ад»), пытка голодом и еще множество весьма неприятных наказаний. Картины с изображением подобных сцен были очень распространены в буддийских монастырях Японии и Китая. Содержащаяся в этом романе история о сумасшедшем художнике, создавшем дьявольскую ширму, была навеяна сюжетом новеллы Акутагавы «Муки ада», где художник ради достижения правдоподобия приносит в жертву собственную дочь. Японские обычаи, связанные с понятием смерти, диктовались обеими религиями. Запреты на общение с мертвыми основывались на традиционных синтоистских догмах, в то время как похоронная церемония (кремация) всегда осуществлялась только буддийским духовенством. Считалось, что в течение сорока девяти дней после смерти дух усопшего витал в его доме и что голодные духи могут преследовать живых. Что же касается популярных развлечений (впоследствии получивших название «плавучее царство»), то здесь исторические свидетельства весьма и весьма скудны. Институт гейш определенно был известен к тому времени, однако, как мы знаем, два знаменитых развлекательных квартала образовались в Киото только два столетия спустя. Впрочем, во времена, предшествовавшие формированию сегуната, профессия гейши (женщины, зарабатывающей себе на жизнь танцами, пением и игрой на музыкальных инструментах) не считалась запрещенной. Великая эпоха театров но и кабуки наступила позже, а их предшественниками были певцы и сказители, танцоры бугаку, исполнители коротких фарсов кегэн и акробаты. Известные в наше время многочисленные свидетельства их существования датируются одиннадцатым веком и более ранними эпохами. И последнее. За основу сюжета о Нагаоке было взято дело 64А из существовавшего в XII веке китайского собрания криминальных дел «Тянь-инь-пи-си» (переведенного Робертом ван Гуликом), текст которого попал в Японию во времена династии Минь.Благодарности
Выражаю глубочайшую благодарность моим друзьям и собратьям по перу, которые прочли этот роман в его многочисленных черновиках. Чтобы не сбивать меня с цели, они не утруждались ни критикой, ни похвалой. Вот эти люди — Жаклин Фолкенхэн, Джон Розенман, Ричард Роуэнд и Боб Стайн. Их дружба, поддержка, терпение значили для меня все. Также выражаю искреннюю благодарность моим издателям Хоупу Диллону и Крису Камикаве за то, что позаботились о моих книгах и заставили меня гордиться ими. Даже не представляю, как бы я обошлась без Джин Нэггар. Она лучший литературный агент в мире, но не только — она еще и друг, который верит в меня и вселяет в меня мужество, когда оно меня покидает. Дженифер Вельтц заслужила мою признательность, неустанно и успешно продвигая мои романы за границей. В общем, я счастлива.Далия Трускиновская Ученица Калиостро
Пролог
— Входите, миссис Джонс, миледи ждет вас, — сказал мистер Дюбуа и улыбнулся. Улыбка у него была дивная. Морщинки веером разлетались от глаз к вискам, сами глаза чуть щурились, и физиономия сорокалетнего джентльмена, невысокого и ничем не примечательного, становилась такой, словно знаешь этого джентльмена по крайней мере лет двадцать, была в него влюблена еще девчонкой, и не замечаешь тех перемен, за которые следует благодарить старца Время. Однако они были знакомы всего несколько часов. Сара поняла лишь, что джентльмен, который обращается с простой швеей, как с герцогиней, один из тех французов, которыми теперь полон Лондон. Они часто называются простыми французскими фамилиями из обычного стыда — ведь среди них попадаются и герцоги, и графы, а каково графу ходить в изношенных башмаках, дырки на которых замазаны чернилами? Мистер Дюбуа, впрочем, был одет неплохо, только для француза чересчур ярко. И перстни на пальцах — шесть штук. Его английская речь была забавна, многих слов он попросту не знал, а прочие выговаривал медленно и с некоторой тревогой — боялся, что честная английская женщина его не поймет. Но она поняла. Дверь распахнулась, белая рука мистера Дюбуа совершила плавное движение, выразительнее слов сказавшее: сюда, глубокоуважаемая миссис; будь у меня лакеи, как несколько лет назад в моем парижском особняке, прием был бы куда торжественнее. Сара неуверенно вошла в будуар и первое, о чем подумала: все это слишком роскошно, чтобы принадлежать честной женщине. Да и не станет приличная женщина встречать незнакомую гостью в неглиже, лежа на какой-то низкой, кривобокой, развратного вида кушетке — или как эта мебель называется? Запах в будуаре стоял под стать хозяйке — одуряюще сладкий. Он был знаком Саре, так пахла коробка с дорогой пудрой, которая стояла на уборном столике у богатой кузины Мэри. — Благодарю, друг мой, — томно произнесла миледи по-французски. Эти слова Сара поняла, а вот длинную фразу, все звуки и интонации которой обличали нрав капризный и ленивый, — нет. — Миледи просит вас подойти поближе и повернуться, — перевел джентльмен. Сара повиновалась. Собственно, это входило в условия договора. Если ее фигура действительно такова, как фигура миледи, то Сара будет получать деньги за сущую безделицу: два-три раза в неделю пощеголять перед зеркалом в новом дорогом платье, потому что слабое здоровье миледи не позволяет ей часами стоять неподвижно, пока модистка и портниха закладывают складочки и приметывают кружавчики. — Благодарю, — сказала миледи и добавила несколько слов по-французски. — Миледи очень довольна, ведь вы похожи на нее не только станом, но и личиком, — объяснил мистер Дюбуа. Сара посмотрела на миледи — та улыбнулась обычной улыбкой благовоспитанной дамы, улыбкой, предназначенной для прислуги. На вид этой особе было около тридцати, может, чуть больше. Ее волосы, накрученные на папильотки, сперва показались Саре черными, но когда миледи приподнялась и устроилась поудобнее, стало ясно, что они темно-русые. Черные брови неестественно выделялись на бледном лице. Странное сочетание, угольно-черные брови и невероятной голубизны глаза — так подумала Сара, когда несколько спустя подошла к миледи поближе. Определить рост полулежащей женщины она затруднилась — но если Сару выбрали за сходство фигуры, то рост у миледи чуть больше пяти футов. Руки у нее были красивые, поразительной белизны — и опять Саре пришла мысль, что у честных женщин таких безупречных рук быть не должно. Миледи снова сказала нечто по-французски, Сара разобрала только имя Мартина, и сделала выразительный жест, как бы выпроваживая мистера Дюбуа из комнаты. Ее улыбка, адресованная мужчине, была прелестна; казалось бы, одно и то же движение губ, а какой разный смысл в нем заключается. Так подумала Сара, невольно проводив взглядом француза, и сразу вошла черноволосая коренастая горничная-бретонка. Сара зашла с ней за ширмы, сняла свое простое платье и начала надевать дорогие нижние юбки, от которых так и разило развратом — для чего приличной женщине нашивать кружева там, где их никто и никогда не увидит? А женщина распущенная как раз норовит украсить белье, старается для любовника. Затем Мартина помогла надеть две верхние юбки, стянула талию Сары потуже и встала за спиной с жакетиком-карако, тоже неблагопристойным — он застегивался только вверху. Расправив нижние фестоны этого карако (из оливкового бархата, как и задняя верхняя юбка), горничная принесла огромную косынку и стала драпировать ее на груди у Сары. Тут Сара немного успокоилась, миледи оказалась все же дамой строгих правил и грудь прикрывала до самой шеи. Там, где концы косынки соединялись, Мартина закрепила булавками заранее приготовленный сложный бант из золотистого шелка. Затем она принесла головной убор. Отродясь Сара не надевала такого сложного сооружения из бархата, шелка и страусиных перьев. Конечно же она видела на улицах знатных дам в шляпах невообразимой величины, одна другой чуднее, но даже вообразить не могла, что самой придется терпеть на голове топорщащийся тюрбан, укрепленный на широком ободке. Этот ободок Мартина приколола к ее волосам длинными булавками, и еще несколько булавок загнала в тюрбан, чтобы его воздушные складки держались задорно и не опадали. И карако, и косынка хранили тонкий запах, похожий на лаванду, но обогащенный какими-то загадочными оттенками и привкусами. Сара знала — так сохраняет аромат ткань, которую не брызгают нарочно из флакона, а она перенимает запах, сопровождающий хозяйку. — Прекрасно! — воскликнула миледи по-английски, когда Сара вышла из-за ширм, и опять перешла на французский. Легко встав со своей низкой причудливой кушетки, она подошла поправить Саре волосы. И тут стало ясно, что упрекать ее в развратном поведении рано: кружевное неглиже, кое-как запахнутое и издали словно накинутое на голое тело, было надето поверх странного белья, связанного из тонкой шелковой нити и облегавшего плечи и грудь миледи почти как ее собственная кожа. Нить была бледно-персикового цвета. Такую одежду Сара видела впервые. По приказанию госпожи Мартина пошла за мистером Дюбуа. Он, войдя, произнес «О!» так, как это делают французы. А дальше началось непонятное. Оба, миледи и мистер Дюбуа, обратили внимание на стук, доносившийся издали. Мартина, повинуясь жесту хозяйки, поспешила к окну. Выглянула она не открыто, а прячась за белой занавеской. И тут с улицы прозвучал зычный голос: — Отворите, во имя закона! Сара из любопытства тоже шагнула к окну. Внизу она увидела судебного пристава, который грозно молотил в дверь. Прохожие уже останавливались и задирали головы к окнам — всем было любопытно, к кому пожаловал пристав. Миледи и мистер Дюбуа принялись спорить. Миледи кричала — так выкрикивают приказы. Мистер Дюбуа отвечал — так отвечают, когда нет сильных доводов и хочется хоть как-то прекратить ссору. Сара уловила трижды повторенное имя — «Мак-Кензен». Она знала одного Мак-Кензена по соседству, он торговал модной мебелью. Развратная кушетка несомненно прибыла из его лавки. Миледи подбежала к Саре и крепко обняла ее — так, что не пошевелить руками. Мистер Дюбуа обхватил женщину под коленями и приподнял. Сара завопила, пытаясь вырваться, и упустила миг, когда еще могла ухватиться за подоконник. Вниз головой она полетела из окна — прямо на каменную мостовую. Толпа отвечала ей пронзительным визгом. Этот визг — и ничего более… Судебный пристав окаменел. Люди отшатнулись, оставив Сару наедине со смертью. А из дверей выбежал мистер Дюбуа, кинулся перед изувеченным телом на колени и принялся звать уходящую душу с неподдельным отчаянием: — Жена моя, о, моя жена! Потом он изругал ошарашенного пристава так, что люди поняли: вся беда стряслась из-за небольшого долга, совсем незначительного для знатной дамы долга за мебель скупердяю-торговцу по фамилии Мак-Кензен. И, наконец, мистер Дюбуа взмолился о помощи — тем более что выскочивший из своей лавки парфюмер Лаваль предложил перенести умирающую к нему. Сара была без сознания и стонала. Окровавленный шелк прилип к ее лицу. Все понимали — жить она не будет. После такого удара о камни живут недолго. Так в июне 1791 года оборвалась жизнь швеи миссис Джонс.Глава первая Бригадирский галун
Лифляндский генерал-губернатор Сергей Федорович Голицын стоял у окна и глядел на скучную серую реку. Слева был наплавной мост, по нему тащились телеги. Справа шел от устья парусник. Прямо — плоский, как тарелка, левый берег Двины с амбарами на сваях, чтобы потопом не повредило коноплю и лен. У причалов — струги, этакие плавучие дома с округлыми крышами. Вот теперь изволь любоваться этим пейзажем, пока государь Александр Павлович не придумает тебе другого занятия. А государь и месяца не прошло, как короновался… или прошел уж месяц?.. Все одно — у него теперь иных забот хватает. Посадил преданного человека в губернаторское кресло, и до поры о нем можно забыть. Резиденция Сергею Федоровичу сразу не понравилась. Она имела самый унылый вид. И плевать, что в ней уже чуть ли не двести лет сменяли друг друга губернаторы, сперва польские, затем шведские, наконец, российские. Что приятного в толстостенном замке на речном берегу, приспособленном под резиденцию, да не красивом готическом замке с башенками и шпилями, как их рисуют в книжках, а самом простом, имевшем форму квадрата, с двумя огромными башнями по углам? С северной стороны к квадрату прилеплен форбург, который на самом деле конюшня с каретником и немногими помещениями для людей, фасады кое-как приспособлены к современному вкусу — и изволь считать это неуклюжее здание резиденцией! Хорошо хоть, старинных камней и кирпичей не видать, замок одет в пристройки, как щеголиха в нарядный салоп поверх затрапезного платьишка. Лет двадцать назад к стене, выходившей на замковую площадь, пристроили четырехэтажный корпус — есть, где разместить присутственные места и губернаторскую канцелярию. Но сама площадь!.. Снести-то с нее деревянные хибары — снесли, а придать ей достойный вид позабыли. И сей пустырь у горожан почитается модным гулянием! Супруга, Варвара Васильевна, тоже, разумеется, недовольна новым жилищем, но ее недовольство было всеобъемлющим. Даму изъяли из ее привычной обстановки, из прекрасной усадьбы, ненаглядной Зубриловки, с садом и всеми службами, где так хорошо на приволье вести хозяйство и растить сыновей. Даму поместили в крепость с узкими улочками, хуже того — в совершенно немецкую крепость. Варвара Васильевна — невеликая любительница светской жизни, но хоть изредка-то бывать в гостях и принимать у себя надо? А тут ее по воле государя замкнули, как в парижской Бастилии — та тоже чуть ли не посреди Парижа стояла, пока не разрушили. В церковь пойти — и то можно из замка не выходить, вон он, коридорчик, ведущий в домовый храм Покрова Богородицы. Очень скоро коридорчик пригодится, октябрь на дворе, начинается осенняя слякоть… в Петропавловский храм, что в Цитадели, дама шлепать по лужам не пожелает… разве что велит закладывать карету и везти себя к храму «Живоносный источник», что при госпитале… Нет, не велит! Будет сидеть злая в старинной хоромине и гонять дворню. Знатный норов, что и говорить! Сергей Федорович вспомнил, как добрые люди советовали: не женись на рыжей! Оставь рыжую другому жениху; вон он, другой, красавчик Волконский — богаче, образованнее, в свете блистает. Голицын и ростом пониже, и левый глаз от рождения косит преужасно, приходилось щуриться, чтобы скрыть этот порок, и оттого вид у Сергея Федоровича смолоду был подозрительно насмешливый. А вот надо же — любимая племянница светлейшего князя Потемкина Варенька Энгельгард выбрала не Волконского, а Голицына, полюбился он ей, рыжей и своевольной, раз и навсегда. Светлейший охотнее-то отдал бы «улыбочку Вареньку» за Волконского, но с ней ведь не поспоришь. Повенчались пятого января семьдесят девятого года — и двадцать два года были верны друг другу безупречно. Десять сыновей в семье — не шутка! Ни одной дочери, только мальчики: Григорий, Федор, Сергей, Михаил, Захар, Николай, Павел, Александр, Василий, Владимир. А с Волконским, несмотря ни на что, так и остались друзьями. Сергей Федорович посмотрел в окошко: погоды тут не лучше петербуржских, небо заволокло, дождь вот-вот прольется. Как подумаешь, так и вспомнишь добрым словом покойного государя Павла Петровича. При нем хоть и скрылись от опалы в Зубриловке и Казацком, а жили весело — сейчас бы там с утра по чернотропу с гончими в лес, где отъевшиеся к зиме зайцы. А тут не до зайцев, тут изволь исполнять служебные обязанности. Да и собаки в Зубриловке оставлены. Тоска… Одних бумаг — каждый день по пуду… Избаловались, сударь, в своей деревне! Извольте править государеву службу! Во всех войнах побывали, за Очаков из рук самой государыни шпагу с бриллиантами получили — теперь вот воюйте с обнаглевшим от собственной значимости рижским магистратом! За бумагами, собственно, он и пошел самолично в канцелярию, да и не только — хоть живые физиономии увидеть! Что толку сидеть в мрачном кабинете? При его появлении канцеляристы встали. Сергей Федорович особо поздоровался с Сергеевым — сообразительность и деловитость этого чиновника он оценил сразу, как только вселился в Рижский замок. Думал было поставить его начальником канцелярии, да решил: пусть подождет, сперва нужно сделать человеком Косолапого Жанно. Если только вообще возможно сделать из медведя человека… Все встали и поклонились, а сие дитя природы сидит, склонившись над столом, и старательно орудует ножичком. А что за наиважнейшее дело? А это наш Иван Андреевич срезает разнообразные сургучные печати с писем. Они его интересуют более чем содержимое! Сергей Федорович, привычно щуря левый глаз, уставился на своего начальника канцелярии. Тот поднял наконец крупную голову — голову умного мальчика, кудрявого и полненького, этакого белокожего темноглазого купидона, тридцати трех лет от роду и семи пудов весом. Пожалуй, Косолапого можно бы и счесть красивым мужчиной, кабы не избыток сала, обволакивавшего его равномерно, как это бывает с медведем, собравшимся залечь в берлогу. Впрочем, медведь, кажется, более опрятен. А по сорочке Жанно всякий скажет, чем он сегодня завтракал. — Сергей Федорович! — воскликнул Косолапый, с трудом выбираясь из-за стола. — Вот, полюбуйтесь, нарочно для вас отложил! Среди всей корреспонденции, с которой имела дело канцелярия, кроме важных депеш и донесений из столицы всегда попадалось несколько писем, вызывавших общий хохот. Всякий безумец, за кем не уследили родственники, норовил отправить прожект господину генерал-губернатору. Всякий обиженный магистратом русский человек из Московского форштадта искал у него справедливости, а как вчитаешься — сам же и оплошал. Начальник канцелярии, отодвинув стопку бумаг, несомненно более важных, чем смехотворное послание, отыскал лист, исписанный вкось, и прочитал казенным тусклым голосом (актер он был превосходный): — «… после двух прошений о помещении моем к какому-либо месту, проведя еще четыре месяца в тщетном ожидании, дошел ныне до такого состояния, что для прокормления моего семейства не остается у меня более, как только споротый с прежних моих мундиров галун…» Тут Косолапый Жанно сделал паузу. Очевидно, полагалось усмехнуться занятной выдумке просителя. Но Сергею Федоровичу вовсе не было смешно. Он посмотрел в глаза своему начальнику канцелярии и не увидел в них веселья, а только вопрос: поняли ли вы, сударь, что сие значит? — Ловко, — сказал Сергей Федорович. — Кем подписано? — Отставным бригадиром Петром Дивовым. — Это он не сам изобрел, а кто-то его надоумил. — Но как удачно сказано! Другой бы писал, что проливал кровь за отечество, что малые детки плачут, а этот одно выбрал — галун с боевого мундира. И более ничего не прибавить. — Да и ответить отказом невозможно. Разве только окажется, что это догадливый мошенник. — Я, коли позволите, завтра сам схожу и проверю, что это за бригадир Петр Дивов. Оно и для моциону полезно. Сергей Федорович тут лишь вспомнил, что завтра воскресенье. Он сделал еще шаг к столу, чтобы говорить потише, не для посторонних ушей. — Отстоим службу — и пойдешь. Вечером загляни-ка, братец, к Варваре Васильевне. А то недовольна… — Да я уж сам собирался, — Косолапый показал на срезанную с письма печать. Сергей Федорович покивал. Толковать о домашних делах в канцелярии он считал моветоном. — Что, Иван Андреевич, более сегодня курьеров не было? — спросил он чуть погромче. — Нет, ваше сиятельство, — так же повысив голос, отвечал Косолапый Жанно. Кто его этак прозвал? Марин его прозвал! Но тот иначе изощрился: «Андреич косолапый». А «Жанно» — это уже кто-то из дам. А было сие… сие было на Рождество… Съехались немногие надежные гости, и их угостили преязвительной шутотрагедией «Подщипа», которую Косолапый написал, балуясь и явно не опасаясь губительных последствий. Не выдержал долгого молчания — и разразился лихой сатирой. Сам же исполнил в ней главную шутовскую роль. Странно, до чего же он, во многих отношениях скромник, любит выставлять на подмостках свою огромную фигуру и толстые ноги, ступающие вкривь и вкось. Странно и другое — как он умудряется при такой склонности к сатире ладить с сильными мира сего? Ведь кто сосватал князю Голицыну сего причудливого секретаря? Ныне вдовствующая, а тогда — единственная российская государыня Мария Федоровна. Где-то кем-то он был ей представлен еще при матушке-Екатерине, потому что приятельствовал со многими из близких к «малому двору». Когда же государыня Екатерина изволила опочить и «малый двор» наследника неожиданно приобрел силу и власть, Сергей Федорович стал ждать больших неприятностей — все ж таки на племяннице Потемкина женат, а Потемкина новый государь Павел Петрович страх как не любил. И уже стало ясно, что придется уезжать в Зубриловку или в Казацкое. Тогда-то Мария Федоровна и рекомендовала Сергею Федоровичу этого самого господина Крылова в секретари. Зачем, почему — одному Богу ведомо! Может, даже без всякой задней мысли, а из простой благотворительности, пожалела драматурга, чьи пиесы не увидели сцены, журналиста, чьи журналы потерпели крах, поэта, переставшего писать оды и даже шутливые стихотворные послания. Пренебречь рекомендацией императрицы невозможно, тем более, с ее протеже князь уже был знаком и полагал, что особа с такими разнообразными дарованиями должна скрасить сельскую скуку. Компаньон — не компаньон, приживал — не приживал… да у кого из помещиков не обретаются по флигелям такие загадочные гости, прижившиеся бог весть когда? Не обеднеют, чай, Голицыны от лишнего рта. А потом оказалось, что медведь, играющий на скрипке и неведомо зачем изучивший итальянский язык, способен заниматься словесностью с мальчиками и с воспитанницей Варвары Васильевны — Машей Сумароковой. И все, и с ним уже не расстанешься… Еще бы помочь ему, чудаку, сделать наконец достойную карьеру. Должность начальника губернаторской канцелярии для этого весьма подходящая первая ступенька. Пиески пиесками, но мужчина должен служить. Вот разве что у него сто тысяч душ и в каждой губернии по имению, да и то — не послужить смолоду в гвардии или при дворе считается как-то неприлично. Так рассуждал князь Сергей Федорович, глядя на Косолапого Жанно, а тот уже косился на стопку конвертов из плотной коричневатой бумаги — не иначе, собирался продолжать свой благородный труд по срезыванию печатей. Потолковав с Сергеевым, Голицын распорядился завершать трудовой день. Покамест еще светло и не хлынул дождь — пусть подчиненные идут к домашним очагам.* * *
О своем прозвище медведь знал. Сперва почел его за дамскую шутку — кого только дамы не награждают прозваниями! Потом понял, что так обозначена его роль в голицынском доме. Понял, что Иван Андреевич он — лишь для дворни и детей, которым вызвался давать уроки. Для господ — Косолапый Жанно, и начхать им на его прежнее величие, на славу журналиста и музыканта, на несомненный талант, поэтический и драматический. Начхать. Мало ли, что у кого в прошлом! Нужны только те дарования, что пригодны для домашнего употребления. Ну что ж, горе побежденному, как говорили господа римляне. Vae victis. Для княгини с дамами — Косолапый Жанно (хотя в глаза так не обращаются, и на том спасибо), для князя — «послушай-ка, братец», для Машеньки и мальчиков (а в Рижском замке и для подчиненных, скоторыми он даже не знал толком, как обращаться) — Иван Андреевич. Только господин Крылов он теперь — ни для кого. Сам для себя до поры — Маликульмульк. Давняя и любимая маска, изобретенная, дай Бог памяти, в одна тысяча семьсот восемьдесят девятом году. Двенадцать лет назад, однако. Сперва это был арабский волшебник в звездной епанче, потом просто философ (автор не знал, на что употребить волшебство, а вот на что употребить философию — как ему казалось, прекрасно знал). Наблюдатель, исследующий суету человеческую, глядя на нее свысока; читающий письма друзей своих — гномов, сильфов и ондинов. Изредка им отвечающий; изредка — потому что при созерцательном образе жизни с Маликульмульком ничего не происходит, и писать ему, в общем-то, не о чем. О том разве, как он сожалеет об убегающем времени и о своих дарованиях, которые не находят применения; а ведь могли бы принести ему честь и славу с сопутствующими деньгами! Всякий талантливый выходец из провинции, берущий столицу штурмом, как Суворов крепость Очаков, именно так и ставит цель: сперва слава, потом деньги. А надо бы наоборот… Маликульмульк покинул помещение канцелярии последним. Все печати, которые набрались за день, он осторожно и бережно сложил в конверт. Затем одернул обязательный для чиновника фрак и пошел по узким переходам во владения княгини Варвары Васильевны. Его-то как раз устраивало, что вся жизнь сосредоточилась в одном здании — тут и служба, и гостиная покровителя, и его собственная комната на третьем этаже башни Святого Духа. Истинный приют Маликульмулька! Плохо лишь, что лестница узкая и крутая. Сама комната же имеет вид полумесяца без одного рога — изначально была круглая, но поделена надвое. В ней два окна, которые зимой придется закладывать тюфяками, оба невелики, но каждое — в глубине амбразуры, изнутри широкой настолько, что хоть кровать ставь, а сама башня глядит на реку и продувается всеми ветрами. В рыцарские времена, столь милые сердцу господина Карамзина, там, в амбразуре, непременно сидела девица с рукоделием, настоящая сентиментальная дева, льющая слезы по убиенному в Святых землях жениху. Однако в комнате есть та польза, что никто туда без особой нужды не полезет. А окна… окна очень хороши на случай, если Маликульмульку придется принимать крылатых Дальновида, Световида или Выспрепара… Он тосковал немного по этой веселой потусторонней компании, по верным товарищам юных лет, летучим или имеющим способность бегать под землей. Тосковал по своей «Почте духов» — самому отважному журналу, какой только видела столица. Но их возвращение запоздало — переменилось время, переменился он сам. Они-то вернутся, но пожелает ли он встретиться? Пожелает ли взять в руки новенькие опрятные книжечки — переизданный в столице свой самый первый, самый любимый журнал, который умудрялся выпускать в одиночку, сам писал статьи, сам трудился в типографии? О том, чтобы выпустить новое издание «Почты духов», он договорился еще летом, тогда обрадовался было, что его творение кому-то нужно, а теперь — Бог весть… Берясь за бронзовую дверную ручку, он стряхнул с себя заботы и выражение лица Ивана Андреевича — на сцену следовало выйти в роли Косолапого Жанно, чудаковатого кавалера, имеющего приятные светские дарования и вовсе не наделенного самолюбием. Но при этом — без малейшей угодливости. Кавалер по приказу княгини пришел развлечь общество музыкой, декламацией и своей забавной персоной. Ничего более. Варвара Васильевна со всей свитой находилась в гостиной. Она уже успела пригреть несколько чиновничьих жен, а с собой привезла приживалок и компаньонок, в том числе Екатерину Николаевну (фамилию Косолапый Жанно благополучно забыл). Эта Екатерина Николаевна, тридцатилетняя вдова, была известна своей склонностью к изящным искусствам и отчаянно молодилась. На сем основании княгиня Голицына решила, что она и начальник канцелярии могли бы составить отменную пару. Разумеется, войдя, Жанно увидел ее возле Варвары Васильевны — так что приветствия и поцелуя ручек было не миновать. Спасла его Тараторка — выскочила, как чертик из табакерки, и устремилась к любимому своему учителю с криком: — Иван Андреевич! — Мари, что за ребячество? Тебе уже четырнадцать лет, — одернула ее Варвара Васильевна. — Еще два года — и ты невеста. Тараторка посмотрела на нее озадаченно — менее всего девочка думала о женихах. Она хотела похвастаться своим новым успехом: воробей, которого она везла в клетке из самой Зубриловки, наконец-то стал садиться к ней на палец с замечательным постоянством — всякий раз, как палец был предложен. Имя Тараторки придумал Машеньке опять же Сергей Марин — когда в Зубриловке ставили его «перелицованную» трагедию «Превращенная Дидона». Что это было за веселье! Сам Сергей Никифорович приехал, чтобы исполнить роль Энея. А роль Дидоны для пущего смеха доверили Косолапому Жанно. Что это была за страдающая Дидона! Маша Сумарокова была травести, ей досталась роль юного Гетула. Взволнованная тем, что оказалась на одних подмостках с двумя знаменитыми сочинителями, она сперва так частила — на репетициях невозможно было разобрать ни слова. Вот и сподобилась прозвища, которое прилипло накрепко. Вечер в дамской гостиной — не самое скверное времяпрепровождение, хотя приходится соответствовать пословице «И швец, и жнец, и в дуду игрец». Косолапый Жанно поиграл на скрипке — что же за вечер без музыки? Ему аккомпанировала на клавикордах Екатерина Николаевна, Потом он прочитал басню Лафонтена про мэтра Ворона и мэтра Лиса по-французски и маленькую невинную сказку Бахтина про барина и крестьянку — по-русски. Более по-французски читать не пожелал — он не любил этого языка, хотя знал его отменно, а вот немецкий ему в последнее время понравился, и Косолапый Жанно прочитал наизусть забавную басню Лессинга про Пастуха и Соловья. Не все дамы ее поняли, пришлось перевести. А затем в домашний концерт включились дети — самые младшие Голицыны и княгинина воспитанница Тараторка. Варвара Васильевна царила, сама объявляла выступавших, кивала в такт стихам модным зеленым тюрбаном, подавала знак к рукоплесканиям. Видя, что княгиня и без него справляется, Косолапый Жанно потихоньку прошел в приватные покои. Они еще не были толком обжиты, многое не определилось, и он стал заглядывать во все двери в поисках приятельницы своей, няни Кузьминишны. Няня, пользуясь тем, что в гостиную для услуги не звана, пила чай со старшей горничной Настей. Тут уж можно было несколько преобразиться. — Я Николеньке подарок принес, — сказал Маликульмульк. — Что он, взаперти? — С ним Федотка. А сам бы и отдал, батюшка? — няня с надеждой поглядела на канцелярского начальника. — Тебя-то он почитай что не боится. — Как же не боится — прошлый раз прятался и кричал. — Он уж дня два как спокоен, слава те Господи. Снадобье только в пузырьке кончается, что из дому привезли. Батюшка, сделай милость, поищи тут немца-аптекаря! Наш-то Христиан Антоныч никак не доедет. Речь шла о домашнем докторе Голицыных, застрявшем в Москве. — Что ж ты, Кузьминишна, раньше не сказала? — Да пузырек-то темного стекла, дура Наташка не поняла, что зелье на исходе. Пойдем, батюшка мой, загляни к нему. Может, он тебя признает. Шестой сын князя Голицына в детстве испытал такой испуг, что до пятнадцати лет никак не мог опомниться. Его привезли с собой в Ригу и держали в самой дальней комнате княжеских апартаментов. Кузьминишна повела туда Маликульмулька. Ему не очень хотелось видеть больное дитя; крупный, уродившийся в мать мальчик, бледный из-за отсутствия солнца в своей печальной жизни, непостижимым образом напоминал Маликульмульку его самого — хотя в пятнадцать лет сочинитель был еще тонок и даже почитал себя костлявым. Пожилой дворовый человек Федотка, приставленный следить за мальчиком, вскочил с господской постели, где лежал развалясь. Николенька, увидев гостя, спрятался за кресла. Зная эту повадку, Маликульмульк выложил на стол подарок — срезанные с писем печати. Мальчику нравилось перебирать их и раскладывать в разном порядке, это его успокаивало. Но он не прикоснулся к игрушке, пока гость и Кузьминишна не вышли. — А видишь, батюшка мой, он, голубчик, не кричал, не плакал, — сказала няня Кузьминишна. — Он тебя любит. Ты бы подольше с ним посидел — он бы сам к тебе подошел. И поглядела так уж ласково, как умеют только очень старенькие бабушки, видящие в каждом милого внука, будь тот внук хоть семипудовым детиной. — Ты велела бы хоть немного окна открывать. Хоть вечером, когда темнеет, чтобы его не испугать. Нельзя ж совсем без света. — А это как матушка-княгиня прикажет. Возвращаться в гостиную Косолапым Жанно Маликульмульк не пожелал. Он решил завершить вечер по-философски — в одиночестве. Придя в башню, волшебник и философ уселся в амбразуре окна с трубкой. Он привез несколько хороших трубок из Москвы, а здесь приобрел особые — из белой глины, с долгим чубуком. Глядеть на закат и наслаждаться хорошим табаком — что могло быть приятнее? И молчать, молчать… Впрочем, он и так молчал слишком долго. Что-то должно было произойти. А что происходит, когда мужчина ощущает себя потерпевшим полный крах скитальцем, принятым в дом из милости, а затем пристроенным на скучную, но обязательную службу — из продления милости? Он может смириться — да ему и полезнее было бы смириться. Когда нет семьи, кроме младшего брата Льва, когда нет серьезного занятия, способного дать достойный заработок, когда отвергнуто много возможностей, потому что они вступают в противоречие с гордостью сочинителя, когда осознаешь свой талант, а куда его применить — уже не знаешь, что тогда происходит? Что-то взрывается в душе, выжигает ее изнутри, и остается некий чулан с черными стенками, куда хочется набить побольше денег. Раздобыть сто тысяч — и сказать самому себе, что хоть в чем-то преуспел. И забыть наконец, что нищета однажды стала неодолимым препятствием для счастья! Послание о бригадирских галунах показалось любопытным не только потому, что давало повод князю Голицыну совершить доброе дело. Если история эта — вопль души ветерана и инвалида, вострепетавшего перед голодной смертью, то благодеяние будет оказано и князь испытает чувство христианского милосердия, но начальник его канцелярии испытает чувство обиды: ошибся в человеке… Но когда обнаружится, что письмо — ловкая выдумка мошенника, тогда-то для Косолапого Жанно (Маликульмулька? Ивана Андреевича? Господина Крылова, черт побери!) и настанет праздник. Ибо в сем богоспасаемом городе мошенники ему необходимы. Только они могут привести в компанию записных игроков. В такую, где на кону — Большие Деньги, соответствующие Большой Игре. Он не знал Большой Игры по меньшей мере четыре года. То есть карты-то он в руки брал, но как брал? Примерно как медведь, танцующий на ярмарке для увеселения ребятишек. Вроде и сплясал, а пользы и радости с того никакой. Князь Сергей Федорович, даром что при государынином дворе возрос, а карт, смолоду наигравшись, больше не любил, предпочитал шахматы и обыграл бы любого. Косолапый Жанно садился с ним за доску, лишь чтобы время убить и удовольствие хозяину усадьбы доставить. И как-то следовало отработать свое прокормление — хотя государыня рекомендовала его в секретари, но как раз секретарь опальному князю почти не требовался, справиться с немногой перепиской помогал отец Маши Павел Иванович Сумароков. Варвара Васильевна предпочитала «коммерческие» игры, не отказывалась порой и от «фараона», приглашая к столу своих фавориток из приживалок. Косолапый Жанно заведовал этим «дамским банком», был банкометом и ощущал себя профессором философии, сосланным в детскую менять пеленки младенцам. А ведь играть он любил и умел. Однако первая, московская попытка отдаться игре оказалась неудачной — начал-то он, словно возмещая себе крах всех надежд в столице, замечательно, ярко и страстно начал. От первых успехов немного даже захмелел, даже махнул рукой на то, что пути в Санкт-Петербург по милости самой государыни ему больше нет, в Москве тоже можно неплохо устроиться, есть дома, где гостя готовы держать месяцами, — у Сандуновых, Татищевых, Бенкендорфов. Но как раз тогда полиция, обеспокоившись сильным всплеском карточного поветрия, составила целый реестр заядлых игроков и стала расправляться с ними поодиночке. После очень неприятной беседы пришлось покинуть и Москву… Но в голове его уже образовалась некая триада, в которой все было меж собой увязано: любовь к музыке с любовью к математике, а из их родственного слияния проистекала любовь к картам. Карты требовали того азарта и постоянства, которые не доставались музыке (Маликульмульку не удалось найти ни в Донском, ни в Зубриловке партнеров, чтобы сыграть хоть простенький квартет Боккерини). Карты требовали математических способностей, которые тоже оставались без применения. Да и само слово «игра»… Он играл — но не так, как актеры, хотя и этим талантом Бог не обидел. Он играл, создавая миры и мирки, прорубая между ними двери, проводя любимцев своих, Зора и Буристона, из людского царства в подземное и обратно, весело выстраивая во всех подробностях жизнь царства подводного. Тогда он был еще очень молод и полагал, будто в этих мирах и мирках можно безнаказанно бичевать пороки, для того их и создавал. Не вышло. За игру хорошенько дали по пальцам — так что карты с изображением милых приятелей, Буристона с Зором, Дальновида с Выспрепаром, разлетелись по столу и сгинули во мраке. А добрый сочувственный голос покойной государыни, уже почти без немецкого выговора, произнес: — Лучше всего было бы, когда б господин Крылов отправился завершать образование в хороший университет, хоть бы и в Дерптский. На некоторое время. Для такой надобности он получил бы вспомоществование… в разумных пределах… Ну и надо было соглашаться! Сидеть на одном месте — в Дерпте, в Геттингене, в Йене, в Гейдельберге, где угодно! Действительно развивать свои способности, а не носиться бог весть где, чтобы потом застрять на три года в голицынской усадьбе. И теперь вот — неведомо насколько в канцелярии. Душа, изнемогая от безделья, требовала, чтобы ей отворили двери, позволили выплеснуться. Ну, так пусть будет наконец Большая Игра! И Большие Деньги!* * *
Наутро, отстояв вместе с княжеским семейством службу, Маликульмульк взял бригадирское послание и отправился искать сочинителя. Он вышел из Южных ворот Рижского замка в проулок, что вел от береговых укреплений к замковой площади, и встал у самой стены, произнеся тихонько: «Нуль». С нуля начинался всякий путь, имеющий быть выраженным в числах. Маликульмульк, даром что ходил медвежьей развалистой поступью, а двигался быстро и охотно обходился без экипажей. При этом он имел привычку считать шаги. В Риге эта привычка оказалась даже полезной. Иного способа точно определить расстояния в крепости не было, поскольку узкие улицы пересекались под всевозможными углами и загибались внезапными дугами во все стороны. Путь от замка до Известковых ворот, который на глазок казался короче прочих, при измерении становился самым длинным из трех возможных. Нужно было только удостовериться, что рассчитанная несколько лет назад длина шага осталась прежней. Ибо она имела стремление к сокращению. Лет десять назад шаг юного господина Крылова был равен аршину с вершком, даже чуть поболее. Когда тело стал обволакивать жирок, толстые ляжки потребовали ставить ступни по двум параллельным линиям, между коими было почти три вершка. Увидев однажды собственные следы по грязи, Маликульмульк посчитал — и получилось, что на каждом шаге он теперь теряет более половины вершка. А в Риге, поди, уже следует считать шаг за один аршин, без всяких вершков. Ему нужно было оказаться в Петербуржском предместье, на улице Родниковой, в доме унтер-офицерской вдовы Шмидт. Он и оказался, сделав две тысячи пятьсот шестьдесят три шага. Получилось неполных две версты. Домишко был скособоченный, в два жилья и с чердаком — именно тут и снимать комнатушку отставному бригадиру с находящимися на его иждивении внуками. В этой части предместья жил люд небогатый: ремесленники, которых по причине происхождения отвергла Малая гильдия; латыши, входившие в свои особые братства; отставные солдаты; всякий загадочный народ, который слетается в портовый город, полагая, что там, на улицах, валяются золотые талеры и червонцы. В последние десять лет тут появилось немало французов, бежавших из беспокойного своего отечества туда, где не стоят на площадях гильотины. На улице играли ребятишки. Услышав русскую речь, Маликульмульк спросил о бригадире Дивове. Ребятишки старика знали и побаивались — он ходил с толстой палкой и не любил шума под своими окнами. — А где его окна? — А вон, вон! Подняв голову, Маликульмульк увидел частый переплет, а за стеклом — профиль. Молодая женщина, сидя у окошка, прилежно занималась рукоделием. Уточнив, где расположен отдельный вход во второе жилье, Маликульмульк отыскал его во дворе и стал подниматься по узкой и крутой лестнице с хилыми перильцами. Лестница была пристроена к наружной стене кое-как, имела нечто вроде крыши, и Маликульмульк забеспокоился — не рухнуть бы ему с этих кривых ступенек и не накрыться бы сверху крышей, то-то получится знатный саркофаг! Но доверху он добрался, вошел в крошечные сенцы, где едва поместился, и постучал в дверь. Ответили ему по-французски: — Entrez! Несколько удивившись, он вошел и оказался в крошечной комнатке, убранной очень бедно. Женщина, сидевшая у окошка, повернулась к нему. Взгляд был спокойный, с некоторой долей любопытства. «Девицы так не глядят, — подумал Маликульмульк, — девицы пугливы, она непременно замужняя, получившая хорошее воспитание». Женщина была на вид лет двадцати двух, темноволосая, гладко причесанная, без модных спущенных на лоб кудряшек, с самыми простыми чертами лица. Рот великоват, но она и не пыталась уменьшить его, сложив губки томным бантиком. И нос был далек от идеала, простой русский нос мягких очертаний, не похожий на античные образцы, а вот шея, не прикрытая воротничком или шалью, как раз оказалась достойна Минервы или Юноны, крепкая и сильная шея, не из тех, что никнут в бедствиях, как надломленные стебельки цветов. Занятый незнакомкой, Маликульмульк не заметил старика, сидевшего в плохо освещенном углу. — Вам что угодно, сударь? — окликнул его старик. Голос был недовольный, выдающий человека, не привыкшего ни перед кем лебезить. — Вы отставной бригадир Дивов? — спросил Маликульмульк. — Я. На седовласом старике, высоком и худом, был тот самый мундир со споротым галуном. — А я — начальник канцелярии его сиятельства князя Голицына Крылов. Вчера было получено ваше прошение, и его сиятельство велел мне выяснить обстоятельства ваши. — Вот мои обстоятельства! — старик указал на женщину. Тут лишь Маликульмульк разглядел, чем она занималась. На подоконнике лежали куски того самого золотого галуна, о котором писал Дивов, уже споротые с мундира. Ловкими пальчиками молодая женщина распутывала шитье, высвобождая отдельные нити. Затем она отделяла тончайшие золотые проволочки от шелка, складывая их в отдельную кучку, пока еще крошечную. — Не хочу выжигам отдавать, надуют, — убежденно сказал старик. — Лучше уж так. Все норовят надуть, все! Вот ее чуть вокруг пальца не обвели! — Батюшка! — укоризненно воскликнула женщина. — Вот те и батюшка! Что хочешь говори, сударыня, а не пущу! И в обиду тебя не дам. Сиди, рукодельничай. На паперти просить стану, а тебя из дому не пущу. — Соблаговолите, сударь, растолковать мне, о чем речь, — вступил Маликульмульк. — Чтобы я мог доложить его сиятельству. — Коли прошение мое читали, так и самому ясно — впору пришло голодной смертью помирать, — отрубил старик. — У меня два внука от старшего сына, сейчас они на дворе играют. Старший в чине майора был с корпусом генерала Ферзена при Мацеевицах, ранен в ногу и в грудь, от ранений оправиться не сумел. Супруга его лишь на два месяца пережила. А сия дама — вдова младшего моего сына. — Батюшка!.. — Вдова! Нет у меня больше сына, а у тебя — мужа! Маликульмульку стало ясно, что перед ним семейная драма, куда как страшнее той, что он пытался изобразить смолоду в своих стихотворных опусах. Сказать было нечего — утешать он не умел. — Я доложу о вашем положении его сиятельству. И позвольте откланяться. — Ступайте, сударь, с Богом. Маликульмульк вышел в узкие сени, страх как недовольный и собой, и норовистым стариком. Было что доложить князю — да, пожалуй, и княгине. Бригадир оказался доподлинный. Стало быть, не мошенник и на мошенников не наведет. Разве на каких-то неподходящих — на булочника, что отказался давать в долг, да на соседок, которым невестка пыталась что-то продать, а они, сговорившись, сбили цену. В некотором огорчении Маликульмульк принялся считать шаги обратно до Рижского замка, любопытствуя, сойдется ли цифра. Но на двухсот десятом его плеча коснулась рука. Он обернулся и увидел исцарапанные золотой проволокой пальчики, белое запястье, край шали. — Господин Крылов! Простите, Христа ради! — Сударыня, — сказал он, безмерно растерявшись. — Простите нас, простите Петра Михайлыча! Он не гордый, поверьте, совсем не гордый, это от страдания… Не сказывайте его сиятельству, что мы вас так скверно приняли! — Да я и не собирался, госпожа Дивова. Я скажу только хорошее. Князь исполнен милосердия… вас представят княгине, она также добра… рассмотрев дело вашего покойного мужа, найдут способ назначить вам пенсион… — Мой муж жив, господин Крылов, — убежденно сказала бригадирова невестка. — То, что он ушел из дому и пропал, еще не означает его смерти. Я жду его, жду, что он вернется, поздно или рано. И записочки в церкви подаю во здравие. Батюшка сгоряча назвал меня вдовой. Он и сам верит, что Миша вернется. Он только сильно обижен на Мишу, это в нем обида говорит… Не вздумайте называть меня вдовой перед их сиятельствами! — Боже упаси! — поклялся Маликульмульк. — Да что с ним стряслось-то? Скажите мне, хоть потихоньку. Может, есть способ как-то ему помочь, коли он жив. — Ах, нет, не могу же я стоять на улице с чужим мужчиной. Это уж стыд и срам. — Может быть, вы придете в замок? Спросите начальника канцелярии… — Нет, нет, меня в замке знают! Разговоры пойдут, — госпожа Дивова беспокойно огляделась. — Да и бесполезно это. Его полиция не смогла сыскать… без подношений и угощений не ищут… а что у нас есть?.. Заплакав, она побежала прочь. Философ поглядел вслед и внезапно усмехнулся. Зря он, что ли, столько лет пытался сделаться автором комедий? Зря выращивал из себя драматурга, умеющего сводить сложные движения человеческий души к смешным поступкам; драматурга, для коего мир — череда забавных и нравоучительных картинок, а люди движимы самыми простыми страстями, как персонажи пиес Молиеровых?.. И знать это вполне довольно, чтобы сплести интригу. — Старуха, — сказал Маликульмульк. — Мне срочно нужна старуха. Этого добра в предместье должно быть достаточно. Зря ли он, живя в столице, видел на театре столько лихих комедий? Мудрецу задали загадку — мудрец взялся ее разгадать. Искомая тетка нашлась неподалеку от Родниковой улицы. Лет ей было за шестьдесят — тот возраст, когда отпадают последние помыслы о привлекательности. Она торговала поношенным платьем, и вид имела отчаянный — слонялась по улице, нахлобучив на себя старую офицерскую треуголку, перекинув через оба плеча в живописном порядке заштопанные чулки и какие-то тряпицы, в руках же имея преогромные драгунские сапоги, две пары. А уж что лежало в корзине — одному Богу ведомо. — Поди-ка сюда, голубушка, — позвал Маликульмульк. — Дельце есть. И обозначил это дельце именно так, как полагалось в комедиях: высмотрел молодую особу, невестку отставного бригадира Дивова, да увидел, что больно уж нос дерет, так нет ли способа с ней сговориться? Природа не создала еще старухи, которая, услышав такие речи, откажется посводничать. Это Маликульмульк знал теоретически, из писем своих потусторонних приятелей, а сам такими услугами не пользовался. Столичные барыни в годах только тем и развлекались, что свадьбы устраивали, а уж уличная торговка и подавно не упустит такого любезного способа заработать деньги. — И точно, батька мой, что нос дерет, — согласилась бойкая старуха. — Она ведь из богатых, в своем доме жила, горничная за ней ходила. Немец все бегал ей волосы чесать! А теперь — не угодно ли сухую корочку поглодать? — А что за беда? — А то и беда, что муж в карты проигрался. Я, грешна, тоже люблю в картишки перекинуться, так ведь меру знай! Видишь, что карта не идет — и уходи от стола прочь. А он, бесталанный, все имущество проиграл, в долги влез, серьги женины, ложки серебряные — все из дому унес и спустил. Маврушка, их горничная, все рассказала, как ей от места отказали. — И что же? Влез в долги и сбежал, чтобы не платить? — А вот тут по-всякому говорят. Одни говорят: застрелился, окаянный, погубил душу. Другие — что сбежал с остатком денег, бросив жену с батюшкой своим. А батюшка-то крут! Крут, да недалек! Раньше надо было за чадушком смотреть! — И что, Маврушке потому от места отказали, что денег не стало? — Так она сказывала. А что на самом деле — Бог весть. — Где ж эта госпожа Дивова раньше жила? — А на Мельничной улице. Ты, батька мой, спроси, всяк тебе бывший дивовский дом назовет. — И давно ли она тут поселилась? — Летом, я чай… — неуверенно отвечала торговка. — На Петра и Павла они уж тут, кажись, жили… Сведения были утешительные, и Маликульмульк расплатился рублем. В Риге, стало быть, имелась компания игроков, которые горазды облапошить доверчивого молодого человека. Вот они-то и надобны… Поход на Родниковую улицу выдался удачный.
Глава вторая Лазутчик Терентий
Среди дворовых людей князя Голицына, которых он взял с собой в Ригу, был кучер Терентий. Местожительством ему определили конюшни, построенные при замке еще при шведах и ставшие тогда едва ль не основной частью замкового форбурга. Этот Терентий сперва был сильно недоволен голицынским гостем, вслух называл его приживальщиком и дармоедом, потом привык, а еще малость погодя осознал, что князь твердо решил стать покровителем неопрятного толстяка. Тогда отношение переменилось, кучер начал оказывать господину Крылову услуги — подбирать потерянные им бумажки, книжки и платки. И в конце концов Терентий увидел в этом щекастом вечном недоросле, неспособном себя прокормить, дитя без мамки. Увидел и подобрел окончательно. Это чувство сам он называл жалостью. Надо пожалеть убогого, что кормится подаянием у паперти, надо и того верзилу пожалеть, который в двадцать лет говорить не выучился и речи не понимает, так что его водят за руку, а он бредет, высунув язык; и безногого пожалеть надо, иначе ты не православный человек, а турок. Косолапый Жанно стал предметом этакой ритуальной жалости кучера. Разумеется, Терентий знал прозвище, которым наградили недоросля дамы. Насчет «косолапого» был полностью согласен, а насчет «Жанно» морщился: эта французская замена «Вани» пришлась ему не по нутру. У хорошего барина дворня имеет немного времени для досуга, и в этом подражает господам: затевает чаепития, к столу приглашаются избранные, места у этого стола добиваются годами — ну, точь-в-точь, как в высшем свете. Однажды был зван и Терентий, по протекции всесильной няни Кузьминишны. Там-то и зашла речь о барском госте, толстом и неряшливом, но вполне годном в мужья. Хорошая-то жена его к порядку приучит, а на лицо он собой неплох, опять же — дородство многими ценится. Обсуждали затею барыни женить этого господина на компаньонке и спорили: пара они или не пара? Терентий в бабьей аргументации понял немного, но основную идею уловил и запомнил: недоросля надо женить, а то пропадет. Сам он был лишь восемью годами старше недоросля, но имел в деревне и жену, и шестерых детишек. На этом основании Терентий считал себя пожилым, всеми уважаемым и опытным мужчиной. Воскресным днем госпожа княгиня собралась покататься, пока еще позволяет погода. После службы, попив чаю, она взяла с собой Екатерину Николаевну, еще одну компаньонку (в большей мере приживалку, но даму, успевшую немного пожить при дворе и приятную собеседницу), а также Машу-Тараторку и отправилась в Петербуржское предместье. Там воздух был более свеж, чем в крепости, которая не всегда продувалась речным или морским ветром, мешали высоченные, не менее пяти сажен, валы укреплений и узость кривых улочек. Было также решено заехать в рыбацкий поселок, чуть ниже по течению Двины, и купить корзинку копченой рыбы. Обратно дамы могли бы вернуться и берегом реки — самой короткой дорогой к замку, но и самой неудобной для щегольского экипажа. Поехали опять через предместье, выбирая те улицы, в которых еще не бывали. Там Терентий и обнаружил Косолапого Жанно. Недоросль стоял на углу и беседовал с женщиной. Женщина, что соглашается разговаривать с мужчиной, стоя посреди улицы, либо дурно воспитана, так, что хуже не бывает, либо таково ее ремесло — выслеживать по улицам одиноких господ. Терентий сильно забеспокоился. Он, глядя на Косолапого Жанно свысока, сильно преувеличивал его простодушие. Терентий вообразил, как бестолковый и бедный барин попадется в когти к искательнице приключений, как она, прознав про его чин, начнет ощипывать свою жертву понемногу, и как дело кончится растратой казенных денег, после чего мерзавка скроется, а Косолапый пойдет под суд. Картину он нарисовал жуткую — вплоть до каземата и кандалов, и на всю живопись ушло у него полторы секунды. Терентий придержал коней, чтобы госпожа княгиня имела возможность увидеть нелепого волокиту. Она его действительно увидела, постучала в переднее окошечко, давая знак остановить экипаж, и ловкий Терентий сделал так, что расписная дверца распахнулась, едва не треснув Косолапого по спине. — Иван Андреевич! Дождь собирается, полезайте в карету! — крикнула Екатерина Николаевна, повинуясь острому локотку своей госпожи. Пока Косолапый со всей медвежьей грацией лез в экипаж, Терентий успел разглядеть соблазнительницу, которая сразу же отвернулась. Постаревшая красотка, лет тридцати, причесанная на модный лад и в свеженьком чепчике. Платье на ней было подпоясанное под самой грудью, теплое, со складками, заложенными на спине и зашитыми до лопаток, ниже оно расширялось и билось на ветру. Такие платья княгиня заказала себе и своим придворным дамам в ожидании зимы. Запомнив место, Терентий дождался повеления ехать дальше. Ему страх как хотелось знать, что рассказывает Косолапый княгине об этой даме. Сам он понял, что это горничная из богатого дома, раз уж на ней такое хорошее и нарядное платье с хозяйкина плеча. Дом — неподалеку, потому что злодейка выскочила в чепчике, как ходят в комнатах, и даже без шали. Она, стало быть, простая горничная, а Косолапый-то — из дворян! Вот так заморочит простаку голову и попадет в российские дворянки! При этой мысли Терентий испытал знакомое чувство, которое не раз им овладевало. Если бы он не сидел на козлах экипажа, а, напротив, имел перед собой слушателей, то воскликнул бы: «Душа горит, не могу молчать!» И выложил бы все, что думает о вертихвостках и соблазнительницах. Но ближайшие слушатели, способные его понять и присоединиться к этому горению, были в Рижском замке. Вскоре Терентий очень осторожно и аккуратно въехал под огромную арку Южных ворот. Нужно было провести экипаж по целому туннелю в четыре сажени, затем сделать полукруг, а двор-то прямоуголен и невелик. И, наконец, высадить дам возле ступеней — хотя двор и мощеный, а грех позволять ножкам, обутым в атласные туфельки с тончайшей подошвой, ступать по кривым и косым камням. Вот десять лет назад у дам были иные туфли, с пряжками и каблуками, с подошвой твердой и прочной. А эти — за один бал их сгорает у дамы по две-три пары, остаются лохмотья. Так что и горничным отдать донашивать нечего. Косолапый вышел из экипажа первым и помог спуститься дамам. С особой галантностью подал руку Маше Сумароковой — тут Терентий, напуганный той горничной на перекрестке, насторожился: уж не для себя ли растит девку этот увалень? А увалень, который сейчас был Косолапым Жанно во всем блеске его талантов, сопроводил дам в сени и далее на половину княгини, мало беспокоясь, что скажет о том кучер Терентий. Он даже нес корзинку с копченой рыбой, и Тараторка обещала, что ему подадут эту рыбу к обеду особо, в самой большой тарелке. В набор светских талантов Косолапого Жанно входило и феноменальное обжорство. Потом княгиня милостиво отпустила его, и он пошел прочь уже Маликульмульком, изучающим странную историю, в которую предстояло впутаться благодаря бригадирову галуну. Найти горничную Маврушку Маликульмульку удалось без затруднений. Хотя семейство Голицыных и дворня считали его неповоротливым, но ходить он умел быстро, а рассуждал и того быстрее. На Мельничной улице ему указали бывший дивовский дом и намекнули, что хозяева-де разорились из-за карт. Дом был в три жилья, красивый, выкрашенный в розовый цвет. Стало быть, бригадирского сынка общипали настоящие мошенники — и знатно поживились. Вот их-то и желал видеть Маликульмульк со всем жаром души старого философа, лишенного иных забав, кроме умственных. Карты были забавой математической, требующей от игрока незаурядной памяти, и Маликульмульк заранее ликовал, предчувствуя увлекательные схватки. Он, как будто сочиняя комедию с чудаками, прикинулся Сказкиным из своих же «Проказников» — сельским жителем с умом неразвитым, не обремененным городскими знаниями, но достаточно острым. Доверчиво глядя в глаза дворнику, он выспрашивал, куда же подевался его крестный Петр Михайлыч Дивов. Задавая дворнику разумно составленные вопросы, он добился наконец нужного ответа: — Да одна Маврушка, поди, знает, куда они перебрались. — А Маврушка где же? — Нанялась к купцам Морозовым. Прибегала к соседской Федосье, хвасталась, как славно ей живется. — Где же мне искать Морозовых, старинушка? — А на Романовне. Надо сказать, что Маликульмульку повезло. В основном русское население Риги обитало в Московском форштадте, а в Петербуржском больше жили немцы ремесленники и латыши. Но дважды подряд Маликульмулька благословила Фортуна (а кто бы другой о нем позаботился, раз в «Почте духов» все герои были нехристи, образовавшие престранное общество: оно состояло из римских богов, дожившихся до полной смехотворности, и благородных гномов с сильфами). Сперва русским оказался дворник, потом — население морозовского дома. Это сильно облегчало задачу. Немецким языком Маликульмульк должен был бы, как волшебник и философ, владеть в совершенстве. Но раньше было не до того — да и что такое совершенство? Поселившись в Риге, Маликульмульк первым делом сыскал себе учителя-немца, потому что очень любил сам процесс освоения нового языка. Этому учителю он первым делом объявил: — Почтенный герр Липке, я в грамматике и орфографии не нуждаюсь, довольно с меня было в детстве французских неправильных глаголов. Однако я готов биться об заклад, что ежели мы с вами начнем заниматься по моей методе, то через два месяца я заговорю довольно правильно, а через три смогу читать вашего великолепного Шиллера. — Что же это за метода? — спросил озадаченный немец. — Кто изобрел ее? — Да я сам и изобрел. Она состоит в чтении хорошей книги на немецком с переводом и комментариями. Все эти ваши существительные и глаголы улягутся в голове сами, без всякого насилия над памятью. Главное же — мы будем читать вслух и обсуждать прочитанное. — Могу ли я хоть исправлять ошибки ваши? — Пожалуй, да, — отвечал, подумав, Маликульмульк. Он додумался до того, что совершенство в изучении языков — вещь сомнительная. Особенно когда речь идет о немецком. Этих маленьких княжеств, где говорят по-немецки, с полсотни наберется, и в каждом по-своему выговаривают, и в каждом свое понятие о правильной речи. И можно, набив полную голову склонений и спряжений, оказаться бессильным перед каким-нибудь господином из Баварии или Швабии. А вот если набивать ее просто словами и фразами, которые в ней застревают сами, то говорить будешь не столь правильно, зато весело и развязно. Так — больше надежды, что тебя поймут. А если цель достигнута и тебя поняли, какого еще совершенства желать? Но до развязности было еще далековато, хотя понимать благодаря Шиллеру, Лессингу и Гёте Маликульмульк наловчился неплохо. Морозовы, взявшие к себе Маврушку, появились в Риге не так давно. Откуда они взялись, где нажили свои богатства — никто не знал толком. Купцы-староверы из Московского форштадта, те хоть были всем известны и могли, отведя любознательного человека на Ивановское кладбище, указать ему могилы своих предков чуть ли не до времен царя Алексея Михайловича, при котором, собственно, и начался исход раскольников в Лифляндию. Попав в богатый город и вздумав стать в нем людьми уважаемыми, Морозовы решили сгоряча, что для начала неплохо бы попасть в Большую гильдию. Теоретически русский купец мог там оказаться, а практически — все немцы Риги, не сговариваясь, принимались чинить ему препятствия. С Морозовыми было проще всего, поскольку они не могли доказать своего свободного происхождения. Скорее всего, их дед был-таки беглым крепостным, имевшим недюжинный талант к экономике. Но таланты к документам-то не подошьешь. Морозов-старший уперся, нанял каких-то подьячих и желал добраться с жалобой на рижский магистрат до самого государя. Но умные люди предупреждали: не стоит. Четыре года назад уже была основательная стычка между лифляндским губернским правлением и магистратом. Правление предписало принять в рижское купечество вчерашнего крестьянина Борисоглебского уезда Федора Галактионова с сыновьями Николаем и Евграфом. А правительствующий сенат эту затею отменил особым указом, в котором лифляндскому губернскому правлению не разрешалось давать магистрату предписания, ограничивающие его права. Поскольку покойная государыня Екатерина сильно прижала рижский магистрат, ее упрямый отпрыск поступил наоборот: вернул ему прежние права, которые уже давно шли во вред растущему городу. Как бы там ни было, Морозовым был по карману немалый штат прислуги. И Маврушку, оставшуюся без места, по чьей-то протекции приняли в хороший дом, где кормили до отвала. Все это Маликульмульк выяснил, слоняясь по Романовне, в течение часа. Потом Фортуна, решив довершить благодеяния, выслала Маврушку на улицу — купить у разносчика две катушки ниток. Маликульмульку указали на нее, тут-то она и попалась! На сей раз философ избрал иную роль — благородного отца из французской комедии. По возрасту вроде не полагалось, но человек, достоверно сыгравший страдающую Дидону, с ролью пятидесятилетнего мужчины справится без затруднений, благо и комплекция соответствует. — Я хотел помочь бедным моим Дивовым, а попросту говоря — дать им денег в память давнего нашего знакомства и приязни, — сказал Маликульмульк Маврушке. — Но Петр Михайлыч едва не спустил меня с лестницы. Если ты, голубушка, сыщешь способ доставить им деньги так, чтобы обошлось без крика, то я уж отблагодарю. — Это дело непростое, — отвечала горничная. — А помочь бывшей своей госпоже хочешь? — Хочу. — Так придумай что-нибудь. — А много ли денег ваша милость хочет ей передать? — спросила хитрая Маврушка, показывая, что маску благородного отца она с незнакомца сорвала и обнажила другую маску, старого сладострастника, желающего купить благосклонность попавшей в беду дамы. Маликульмульк не возражал. — Сколько удастся раздобыть, — кратко ответил он. — А ваша милость, сдается, из чиновных? — Сдается, да. Да только я не из своего жалованья Дивовым помогу, а из иных денег. — Из каких же? — Из тех, что выиграю. — Ваша милость играет? — Да кто ж теперь не играет? Ты мне подскажи, голубушка, где искать тех господ, что обыграли твоего барина, а прочее предоставь мне. — Откуда ж мне знать? — Знаешь, — уверенно сказал Маликульмульк. — При тебе барыня с барином ссорились, при тебе Михайла Петрович о своей игроцкой компании говорил. — Это надобно Никишку спрашивать. Он за Михайлой Петровичем ходил. — И где его искать? — Не знаю. Право, не знаю. Как Михайла Петрович пропал, так и он, бес, сгинул! — сердито произнесла Маврушка. — Тоже к другим хозяевам нанялся? — В бега подался. Все ж знают, что он крепостной. Кто бы его без господского согласия взял! — А ты, значит, вольная? — Вольная. Старая барыня, помирая, меня отпустила. — Вовек не поверю, будто ты не знаешь, куда подевался Никишка. Вы в одном доме жили, оба люди молодые, непременно о чем-то этаком сговорились, — сказал Маликульмульк, вовремя вспомнив, что во всякой хорошей комедии, начиная с Молиера, должен быть дуэт лукавых и кокетливых слуг. — А о чем мне, вольной, с крепостным сговариваться? — высокомерно спросила Маврушка. Маликульмульк поглядел на нее с любопытством. Не первой молодости, не замужем, а нос задирает не хуже бывшей своей барыни. Однако в голосе была обида… Похоже, бросил. Он, крепостной, бросил ее, вольную, сбежал и от нее, и от господ. — Явочную в полицию снесли? — полюбопытствовал Маликульмульк. Ибо нынешние волшебники на одно волшебство не полагаются, как случится шкода — не читают заклинания, а бегут в полицию. — Снесли, поди… — Я за этим делом сам присмотрю. Негоже, чтобы собственность моих приятелей неведомо где болталась. Вышколенного лакея можно хорошо продать. Хоть с булочником и зеленщиком расплатиться, — сказал Маликульмульк. Когда Сергей Федорович додумался сделать из Косолапого Жанно начальника своей канцелярии, Варвара Васильевна сама присмотрела, чтобы новоявленный чиновник заказал себе достойный гардероб. Пока он еще не успел изгваздать новую верхнюю одежду и на улице гляделся достойным своего звания. А Маликульмульк еще умел сделать вид, будто сам рижский полицмейстер с утра сидит у него в прихожей с донесениями. Маврушка улыбнулась. Маликульмульк и на театре не раз видывал эту хищную улыбочку, которая одна заменяла собой целую оду овозмездии. Значит, он верно догадался, и эта женщина будет ему помогать. — А не могло ли быть так, что Никишка сгинул вместе со своим барином? — Он потом пропал… — А вместе с ним что пропало? Улыбка сделалась шире, праздничнее. Вот теперь эта ведьма огласит такой список, что московская Оружейная палата вместе с государевым Эрмитажем ощутят себя нищими на церковной паперти. — Ох, немало, батюшка мой… — А не уволок ли он это добро по приказу своего барина? Маврушка задумалась. — Так ты, голубушка, припомни-ка мне всех знакомцев Михайлы Петровича, — строго сказал Маликульмульк. — А я, благодетельствуя этому бедному семейству, постараюсь отыскать Никишку и достойно его вознаградить за бегство. Ты меня поняла? — Как не понять! И тут раздался звонкий голос Екатерины Николаевны, зовущей Ивана Андреевича в карету. Как и полагается, княжеский экипаж нес на дверцах герб — щит, обрамленный не чем-нибудь, а горностаевой мантией. Даже самая безграмотная девка должна была понимать, что сие означает. Опять же княжеская корона, венчающая щит. А все прочее добро — всадника, позаимствованного с литовского герба, стул с подсвечником и охраняющими его медведями, а также крест с двуглавым орлом — впопыхах никто разглядывать не станет. — Я сыщу тебя дня через два, через три, — пообещал Маликульмульк и, не прощаясь, полез в экипаж. Первые шаги в розыске игроцкой компании были сделаны. Он был уверен, что Маврушка не упустит возможности подгадить неведомому Никишке. Обед у Голицыных был сытный — подавали щи, кулебяку, сига с яйцами и любимую Косолапым Жанно отварную стерлядь. Князю нравилось баловать своего «братца», но он не всегда мог уследить за дамами — в прошлом году на Масленицу они вдруг принялись потчевать обжору блинами, споря, сколько он может съесть в один присест. Кроме блинов простых, блинов скороспелых, блинов царских, блинов с припеками и подпеками подавались блины полугречневые — пышные, толстые, каждый с большую тарелку. И съел их Косолапый Жанно, поливая топленым маслом и сметаной, тридцать штук. Может, осилил бы и больше, но возмутилась княгиня. Получив обещанную тарелку копченой рыбы, уже разнятой на филейки и почти лишенной костей, Маликульмульк углубился не столько в поедание местного деликатеса, сколько в свои размышления. Погоня за Маврушкой разгорячила его. Он привык время от времени проваливаться в огненную пучину азарта; так было, когда он пятнадцатилетним написал целую комическую оперу «Кофейница» с корявейшими стихами — гонялся за рифмами и бешено мечтал о триумфе. Так было и с «Почтой духов», которую он выпускал в одиночку — сам писал все статьи, сам держал корректуру, сам живмя жил в типографии. Ничего не было, кроме этих писем от гномов, сильфов и ондинов — отчего в одну прекрасную ночь Маликульмульк ощутил присутствие в комнате любимца своего, Буристона, этакое деликатное покашливание над плечом, и понял, что нужно отложить перо и хотя бы сутки отдохнуть. Но Маликульмульк философически смотрел на обстоятельства. Маврушка могла знать приятелей бывшего барина лишь по фальшивым именам — господа шулера редко используют свои собственные. А фальшивых можно завести хоть сотню. Стало быть, нужно вести розыск сразу по многим направлениям. Беглый Никишка — вот та ниточка, за которую стоит потянуть. Он-то наверняка знает немало о своем хозяине. Но тут старухи бессильны. Старуха может быть посредницей в амурных шашнях, а о мужских делах у нее темное понятие. Нужно посетить ближайший к Родниковой улице кабак — если только в тех краях есть русские кабаки. Может статься, они только в Московском форштадте и попадаются… Копченая рыба заменила Косолапому Жанно десерт. Он посмотрел на дрожащее бланманже и понял, что хочет подольше сохранить во рту рыбный вкус. Затем он вздумал совершить променад по укреплениям Рижского замка. На реку глядели четыре небольших бастионца; над одним из них возвышалась башня Святого Духа; трудно было найти более удачное место для одинокой осенней прогулки с размышлениями. Чуть застучат по мощеным дорожкам дождевые капли — как вот оно, укрытие. — Позвольте, ваша милость! — к нему устремился кучер Терентий, почему-то оказавшийся на том же бастионе, и стал обирать с его суконного длиннополого редингота рыбные косточки (Косолапому Жанно казалось, будто он их складывал на край тарелки). — Спасибо, голубчик, — сказал на это Косолапый Жанно. — Вот так-то оно, когда живете бобыль бобылем, — упрекнул Терентий. — А была бы в доме хозяйка, не ходили бы в рыбьих костях или, как в прошлый раз, с яичницей на рукаве. — Негде взять хорошую хозяйку, — как всегда ответил Косолапый Жанно. — Да хоть какую, лишь бы за исподним и за всем прочим смотрела. Только чтоб не первую встречную. А то, бывает, чуть не посреди улицы знакомятся, попадутся на крючок, а потом и под венец, а потом весь век не знают, как избавиться! Это было что-то новенькое. Косолапый Жанно удивленно развел руками, а Маликульмульк сообразил, что кучер видел его с Маврушкой. Тут-то и стало ясно, как Терентий оказался на бастионе. Следил, следил, хитрый черт. Непременно хотел высказать свою точку зрения на Маврушку. Грех было бы не воспользоваться таким случаем — в комедии благородный любовник непременно воспользовался бы. Вот только не бывает Леандров и Клеоменов в семь пудов весом. Значит, пусть будет влюбленный Панталоне — если переводить на русский язык, то сей персоне нужно дать фамилию Беззубов или имя Дряхлов. — А как же быть, коли приглянулась? — спросил Косолапый Жанно, делая страдальческое лицо. И тут настал для Терентия миг величайшего взлета души. Он понял, что чудаковатый недоросль жалуется ему на свою неспособность самостоятельно устроиться в этой жизни, да не просто жалуется, а просит его помощи. Терентий ощутил свою власть над Косолапым Жанно. Он не собирался делать недорослю ничего дурного. Но ощущение власти ожгло его пламенным восторгом. Терентий мог спасти Косолапого Жанно, а мог и погубить. Разумеется, он пожалел и стал спасать — как мать или отец спасают дитя не только ради самого дитяти, но и потому, что это беспомощное создание принадлежит им полностью. У Терентия, человека крепостного, откуда-то взялось это чувство собственности. До сей поры он считал своими жену и детишек, господскую карету с лошадьми, горничную Фросю (хотя тут были многие сомнения). И вдруг оказалось, что он разбогател — ему теперь принадлежал недоросль, потомственный дворянин, умеющий играть на скрипке и съедающий полсотни горячих пирожков, если вовремя не остановить. — Как быть? — переспросил он. — А разведать — кто такова, с кем жила! Такое на свет Божий полезет! И сами будете не рады, что связались! Косолапый Жанно вздохнул, а Маликульмульк внутренне усмехнулся. Он уже давно примечал попытки Терентия, но не думал, что от них предвидится польза. — Приглянулась… — мечтательно повторил Косолапый Жанно. — И я ей приглянулся… — Да она в дворянки метит, негодяйка! Душа горит, не могу молчать! — вскричал Терентий, да так, что сторожевой солдат на бастионе резко повернулся к нему. — Нет, вы как знаете, а я ее на чистую воду выведу! Маликульмульк удивился — как же ему, подневольному, это удастся? А Косолапый Жанно покачал головой, всем видом показывая: правда ему не нужна, нужна Маврушка… — Сами меня благодарить будете! — Терентий чуть было не брякнул «ручки мне целовать», да опомнился. Больше ничего особенного в тот день не случилось. А на следующий, отсидев сколько положено в канцелярии, Иван Андреевич отправился в аптеку — взять микстуру для Николеньки и повидаться с новым своим приятелем. Приятеля звали Давид Иероним Гриндель.* * *
Их познакомил герр Липке, и они сразу друг другу понравились. Герр Крылов был немного старше герра Гринделя, оба были любознательны и азартны в работе, поняли это сразу, к тому же Гриндель неплохо говорил по-русски, что у немцев встречалось редко, даже у образованных. И оба были не настолько родовиты, чтобы по этому случаю задирать нос. Отец герра Крылова получил первый офицерский чин после тринадцатилетней солдатской службы, тогда же и сделался дворянином, а дед Гринделя, беглый крепостной, укрылся от своего барина в Риге и сумел заложить основы семейного благополучия — отец Давида Иеронима уже владел немалым имуществом и стал одним из первых латышей, получивших права рижского бюргера. Одному Богу ведомо, во что это ему обошлось. До аптеки Слона, где трудился Давид Иероним, от Рижского замка было четыреста двадцать шагов, если идти от Южных ворот. Она считалась у рижан не только лавкой, где продают лекарства, но чем-то вроде клуба для людей образованных. Туда часто заходили учителя из бывшей по соседству Домской школы, в том числе и герр Липке. Бывали там и врачи, разумеется, и любители диковин, и журналисты, и даже проповедники из собора. Маликульмульк вытер ноги о край каменной ступеньки у входа и вошел в помещение, сплошь уставленное высокими шкафами. Оно было невелико, но аптека имела задние комнаты, в которых ученики под надзором аптекарей готовили лекарства по рецептам и на продажу. Там же находился склад сушеных растений. За прилавком стоял хозяин Иоганн Готлиб Струве. Даже не стоял — возвышался на фоне белых фаянсовых сосудов, выстроенных на полках ровными рядами. Многие имели картинки с надписями, прочие — опрятные наклейки с названием снадобья. К тому же они были расставлены в идеальном порядке: внизу, на уровне поясницы герра Струве, высокие толстые цилиндры с плоскими крышками; на следующей полке — цилиндры поменьше, и чем выше — тем занятнее становилась форма сосудов, включая кубки на крепких ножках и древнегреческие амфоры. Пахло же в аптеке Слона так, что у Маликульмулька чуть слюнки не потекли. В одном из шкафов были выставлены на продажу кофейные зерна, порошок для изготовления горячего шоколада, коробочки с сахарным драже, бутылки с ликерами и бальзамами, включая бальзам рижский, черный и белый. — Герр Крылов! — радостно сказал аптекарь. — Герр Струве! — не менее радостно отвечал Маликульмульк. Аптекарь был рад, что залучил к себе начальника губернаторской канцелярии. Он уже разузнал, что герр Крылов — лицо, приближенное к князю и княгине. А снабжать лекарствами столь знатных персон и почетно, и прибыльно. Значит, нужно предложить посетителю кресло и осведомиться о его здоровье. Маликульмульк прекрасно понимал причину сей любезности. Но развлекаться, сравнивая рижского аптекаря с его собратьями из комедий Молиера, на сей раз не желал. Довольно было того, что Струве в его мире получил имя Ступкина — от каменных и медных ступок разного размера, включая ведерные, в которых ученики толкли в пыль сушеные травы, минералы и прочее загадочное добро. Маликульмульк достал пузырек темного стекла и объяснил, что требуется именно это снадобье, успокаивающее больного и навевающее ему мирный сон. Герр Струве понюхал, догадался и обещал, что к завтрему лекарство будет готово. Тогда Маликульмульк попросил позвать Гринделя. Герр Струве, желая показать, как по-приятельски относится к начальнику канцелярии, пригласил его во внутренние аптечные комнаты. Гриндель был занят каким-то опытом. На столе он соорудил сложную композицию из колб, реторт, стеклянных трубок и наблюдал за кипением мутного раствора и за каплями, которые падали из огромной воронки в подставленную посудину. Одновременно он беседовал по-немецки с человеком, в котором философ увидел своего ровесника. Оба они были в длинных белых фартуках, но тем сходство и ограничивалось. В Гринделе чувствовалась крестьянская кровь и кость, про таких детинушек по-русски говорят: кровь с молоком. Свои светлые прямые волосы он стриг коротко. А товарищ его был, ни дать ни взять, француз, да и не парижанин, а откуда-то с юга. Темные волосы кудрявились, и овал лица совершенно нездешний, впридачу Маликульмульк отметил нос с горбинкой и синеву на щеках и подбородке. Этому господину явно не хватало одного утреннего бритья. Кроме того, Давид Иероним Гриндель был статным молодцом, а предполагаемый француз — субтильного сложения. — Добрый день, герр Гриндель, — сказал Маликульмульк, оставаясь у дверей и близко к столу не подходя; он знал свою способность цеплять и опрокидывать предметы, казалось бы, стоящие на столах и подоконниках очень прочно. — Герр Крылов! — воскликнул молодой химик, улыбаясь. — Вы кстати — мы с Георгом Фридрихом завершаем опыт и собираемся в «Лавровый венок». Идем с нами! Это заведение Маликульмульк знал. Кормили там неплохо, наливали пиво из местных пивоварен. К тому же посетителям было безразлично, кто сидит за соседним столом. В «Лавровом венке» он охотно наблюдал жизнь в лучшем ее, застольно-кулинарном проявлении. — С удовольствием. — Мой добрый товарищ Георг Фридрих фон Паррот, — Давид Иероним сделал в сторону француза жест, который пристал тонкой и длиннопалой руке аристократа, его же крепкая кисть с толстыми сильными пальцами лишь смешно растопырилась. — Он приглашен профессором физики в Дерптский университет, а в Ригу приехал сейчас, чтобы поработать со мной и за покупками. Георг Фридрих, позволь представить тебе герра Крылова, начальника губернаторской канцелярии и доброго моего приятеля. Паррот строго посмотрел на Маликульмулька и поклонился. Сразу стало ясно — этот неулыбчивый мужчина обладает крутым норовом, не ведает компромиссов, но природный сильный ум удерживает в границах его дурное отношение ко всему, что он почитает злом и беспутством, например, к обжорству. — Я вижу, вы сегодня весь день трудились, — сказал Маликульмульк. — Да и завтра поработаем, — отвечал Давид Иероним, гася спиртовку под ретортой. — Но сегодня я хвалился своими достижениями, а завтра Георг Фридрих покажет мне свои. Паррот тем временем уже снимал длинный фартук. Сборы были коротки. Простившись с герром Струве, они вышли на Новую улицу, по Малой Новой добрались к ратуше и рыночной площади, а потом, какими-то непостижимыми закоулками, — к Петровской церкви. По дороге Паррот рассказывал, что возрожденный к новой жизни Дерптский университет пока нищ, как церковная крыса: не имеет ни химической, ни физической лаборатории, ни кабинетов, ни анатомического театра, а студенты меж тем уже кое-как учатся, и что из них выйдет — непонятно; не создала еще Природа гения, который, слушая одни лишь лекции, вдруг станет хорошим врачом. Так что в Риге им заказаны приборы и понемногу закупаются научные книги; как только все будет готово, он возьмет сыновей, которые здесь учатся в гимназии, и поедет в Дерпт. В «Лавровом венке» Гриндель и Паррот устроили целый пир, Маликульмульку сказали — надо же наконец отпраздновать грандиозное событие: совсем недавно Георг Фридрих получил в Кенигсбергском университете докторскую степень. За столом говорили о сахаре. Оба естествоиспытателя поведали Маликульмульку, чем они занимались перед его приходом. Говорил главным образом Давид Иероним. Паррот позволял ему говорить, но, будь его воля, уж что-либо придумал — лишь бы избавиться от неопрятного толстяка. Маликульмульк поймал его взгляд, когда клок горячей тушеной капусты, сорвавшись с вилки, шлепнулся прямо на грудь, на новый жилет. Казалось, Парроту известно, что с ним за одним столом сидит не начальник губернаторской канцелярии, а Косолапый Жанно, «эй, братец» князя Голицына. «Ну и наплевать, — подумал Косолапый Жанно. — Вон Давид Иероним рассказывает любопытное, надо слушать, кивать и есть». Гриндель же говорил о том, что российские сахарные заводы работали на привозном сахаре-сырце из сахарного тростника, который обходился очень дорого. А может ли быть дешевым товар, который везут из-за океана? Но российские едоки распробовали лакомство, его требовалось все больше, и несколько химиков сразу стали искать иное «мануфактурное растение», которое давало бы столь же сладкий продукт. Еще полвека назад немец Маргграф, глядя зачем-то в микроскоп на корешки свеклы, обнаружил на тонких срезах кристаллы сахара. Он потратил какое-то время, получил сахар в достаточном количестве, чтобы предъявить его на заседании Берлинской академии наук, но ученые мужи задали разумные вопросы: это сколько же потребуется свеклы и сколько нужно будет развести свекольных полей? И не окажется ли доморощенный сахар дороже привозного? Так про это дело до поры и забыли. — Сахар по сей день считается товаром, который мы собственным заменить не можем, — продолжал Давид Иероним. — Но в выигрыше от этой торговли оказываемся не мы, а другие нации. Тут простор их корыстолюбию. Сколько ж можно терпеть? И у нас все взялись изучать свеклу. Бидгейм в столице таких успехов добился, что его сахар от чистейшего канарского не отличить. В прошлом году покойный государь велел отводить земли в южных губерниях тем, кто хочет разводить свекольные плантации. Под Москвой некий господин Есипов в своем имении целый завод устроил. Мне писали, что у него пятьсот пудов свеклы дают пять пудов сахара. А мы чем хуже? Я хочу добиться наилучшей очистки сока смесью древесного угля и извести. И хочу также доказать здешним помещикам, что стоит сажать у нас ту же свеклу, что выращивают в Силезии, — там господин Ахард уже давно этим делом занимается. Тут Давид Иероним пустился описывать свой метод и наговорил столько ученых слов — природный немец ничего не понял бы, а Маликульмульк лишь кивал, ожидая конца этого страстного доклада и не переставая закидывать в рот новые куски под холодным взглядом Паррота. Почему-то этот взгляд способствовал аппетиту. Да еще речи Давида Иеронима… Он сам себе не признался бы, что странным образом завидует этому молодому, румяному, азартному, счастливому химику. Не потому, что тот был богат и отец давал ему деньги на учебу, обещал дать и на покупку своей аптеки. Деньги были где-то поблизости — найти бы только место, где играют! И не потому, что Давид Иероним был хорош собой, — этому Маликульмульк вообще не придавал значения. Возможно, сие не вполне понятное чувство вызывало то, что Гриндель имел такую же увлекающуюся натуру, но не имел честолюбия — и выбрал не журналистику, где слава приходит мгновенно, не театр, где слава приходит, вооруженная цветочными букетами, а химию. Кто его знает, кроме двух дюжин таких же безумных аптекарей и университетских профессоров? А он счастлив, что своими опытами может достичь их уважения. Отчего ему не нужна слава? Отчего он пренебрегает славой? Оттого ли, что никогда не был беден и мог себе позволить обходиться без честолюбия? Не был мальчишкой из провинции, которому примерещилось лишь одно средство от нищеты — завоевать столицу? Тому-то, верно, и завидовал господин Крылов из своего мистического изгнания, что герр Гриндель способен быть счастлив без всякой славы, бегая по аптеке в прожженном фартуке и потрясая закопченной ретортой. Но, не подозревая в себе завистника, он полагал, что глядит на химика снисходительно и свысока, словно взрослый на играющее дитя. Словно мудрец и философ Маликульмульк на жизнерадостного младенца с игрушками в виде хвостатой свеклы и сахарного петушка. Сам он полагал, что Большую Славу можно удачно подменить в душе Большой Игрой, приносящей Большие Деньги. Однажды ведь получилось! Жаркое оказалось пересушенным, и речь за столом зашла о других заведениях, где на самом деле хорошо кормят, а не злоупотребляют своим выгодным положением в городе, на Известковой улице. Давид Иероним вспомнил одно подходящее. — Мы упустили время, — сказал он. — Сейчас двигаться в путь не то чтоб опасно, а просто неприятно. А вот когда на Двине встанет лед и извозчики наши извлекут из сараев санки, мы поедем в корчму «Иерусалим». — Там играют? — сообразив, что речь идет о заведении вроде ресторана, первым делом спросил Иван Андреевич. — Думаю, именно там и играют. Корчма достаточно далеко от крепости и от полиции. Она расположена в южной части Торенсберга — северную его часть уж лет пятнадцать как включили в Митавское предместье, а южная формально к Риге не относится. Вполне может быть, что в задних комнатах «Иерусалима» или в его гостинице идет по ночам игра. Кроме того, там недавно разбили парк у Мариинского пруда под названием Алтона, устроили гуляние. В случае аларма игрокам нетрудно будет скрыться через парк. — Далеко ли отсюда? — Если считать вместе с рекой — немногим более двух верст. — А река шириной в полверсты? — Полагаю, так. Маликульмульк задумался — будет ли его шаг по наплавному мосту так же ровен, как по суше? Ему захотелось промерить мост своим способом, и он стал прикидывать, какова могла бы быть погрешность. Но следующие слова Давида Иеронима выбили у него из головы всю арифметику. — Сейчас же, кстати, хозяину «Иерусалима» не до гостей — а дай Бог разобраться с полицией. — Что там случилось? — спросил Паррот. — В гостинице нашли мертвое тело. Похоже на отравление. Так что его отправили в анатомический театр и послали приглашение герру Струве присутствовать при вскрытии. А он отправил туда меня. Вот завтра с утра меня ждет неаппетитное зрелище. — В Риге аптекарей заставляют смотреть на вскрытие тела? — удивился Маликульмульк. — Если подозревают отравление. Считается, что мы разбираемся в ядах лучше маркизы Бренвилье или семейства Борджиа. Кроме того, кто еще в этом богоспасаемом городе занимается химией, как не аптекари? — Маркиза Бренвилье пользовалась мышьяком, — сказал Паррот. — И это было бог весть когда. — Еще двадцать лет назад у нас тут было отравление белым мышьяком, который привезли из Сакса, мне герр Струве рассказывал, — возразил Давид Иероним. — И еще была какая-то странная история с «лунным купоросом», который продали в аптеке Лебедя. Его нужно принимать по две крупицы в четырех унциях вина при эпилепсии — старое испытанное средство. То ли больной решил, что чем больше — тем лучше, и сам за несколько дней опорожнил весь пузырек, то ли кто-то из близких решил избавить его от страданий. А признаки отравления те же, что и от мышьяка. Правды так никогда и не узнали. Маликульмульк слушал и сопоставлял. В месте, где собирались игроки, невзирая на государев указ об истреблении карточных игр, невзирая также на указ покойной государыни, которым запрещались игорные дома и которого, кстати, никто не отменял, обнаружен труп. Похоже, на кону были очень большие деньги. Но после такого события игроцкая компания, скорее всего, разбежалась и затаилась. Уж не та ли, что обобрала Дивова?.. Паррот остановился в новой гостинице «Лондон». Маликульмульку это было по пути в Рижский замок. Простившись с Давидом Иеронимом, они молча пошли рядом. И Маликульмульк просто кожей чувствовал, как этот человек его не одобряет. Хотя причины вроде не было — в «Лавровом венке» расплатились вскладчину, политику не обсуждали. Разве что тот клок капусты. Он уже сталкивался с такой внезапной и беспочвенной неприязнью. Он знал: что-то в нем есть, отталкивающее некоторых людей, невзирая на все таланты и дарования. Маликульмульк с этой бедой смирился — как философу положено смиряться с дурной погодой. Оставалось только считать шаги. Когда он в одиночестве подходил к Рижскому замку, начался дождь.* * *
На столе начальника канцелярии собралась гора бумаг — большинство на немецком, несколько на русском. Это была переписка из-за человека, который такой суеты вовсе не стоил, — браковщика пеньки Иоганна Якова Циммермана. Три года назад его назначили на эту должность потому, что так решил секретарь тогдашнего гражданского генерал-губернатора Нагеля. Магистрат же покровительствовал другому претенденту. Ратсманы действовали по старинке, словесно, Нагель же потребовал от них письменного представления в соответствии с письменной же инструкцией. Поскольку они вовремя не подготовили документов, то Циммерман и угодил в браковщики. За ним стали следить, прихватили его на неисполнении каких-то обязанностей, нашли свидетелей и по приговору ветгерихта, особого суда по торговым делам, браковщика с места погнали. Причем даже неясно было, имел ли ветгерихт право вообще рассматривать это дело. Однако магистрату этот приговор был нужен, и, соответственно, его утвердили. Циммерман со своей жалобой дошел до столицы, до самой юстиц-коллегии, после чего вся эта история была спущена из столицы вниз — только что вселившемуся в Рижский замок князю Голицыну. Голицын уже знал, что такое рижский магистрат, и за Циммермана вступился. Опять началась переписка, опять одна кипа исписанной бумаги шла войной на другую кипу, и все это — на столе у человека, который ничего не смыслил в рижских обычаях и законах. Для развлечения Маликульмульк читал проект о соединении реки Курляндская Аа с каким-то озером, от чего предвиделась польза для казны. Проект был написан по-немецки, и одолевать его приходилось с помощью лексикона. Два дня канцелярия разгребала дело Циммермана, а ведь еще постоянно привозили депеши из столицы и нужно было готовить и отправлять ответные донесения. Маликульмульк понимал, что всех тонкостей канцелярской службы философу не осилить никогда. На помощь пришел Косолапый Жанно. Он выбрал верный путь: просто нужно догадываться всякий раз, чего хочет князь Голицын, и не морочить себе голову древними обычаями, имеющими тут силу закона со времен епископа Альберта, основавшего сей город. Потому что магистрат умнее уже не станет, а от князя многое зависит — да князь и не дурак! А Маликульмульк напомнил себе, что все это — суета сует, и канцелярия пристанище временное. И, кстати, в голове образовался план пресмешной комедии на кулинарной основе. Так что полезно было бы половину всех этих кляуз на Циммермана как-нибудь потерять и сесть за пьеску. Тем паче за окном ливень, более развлекаться нечем. Разве что открыть в башне окошко и играть на скрипке ветрам и стихиям. В такой ненастный вечер хорошо по-приятельски собраться за столом с почти незнакомыми людьми, приготовив мелки и запечатанные карточные колоды. И, плотно усевшись на стул, приступить… Господину Крылову доводилось метать банк всю ночь напролет, почти не шелохнувшись, с сонным лицом, одни лишь пальцы стремительно выкидывают пары карт. Вокруг — волнение, крики, страсти, а он — как каменный истукан. Иначе нельзя ввести себя в неземное состояние, иначе не ощутить себя божеством азарта, супругом ветреной Фортуны. Но если пришло — карты в стасованной колоде сами перестраиваются нужным образом, начинаются чудеса и восторги Большой Игры. Это когда в банк или в фараон играют, они — доподлинно игры Фортуны, хотя есть всякие тонкости. А есть и коммерческие игры, столь любимые покойной государыней, до того любимые, что, запретив всей России играть на деньги, сама она играла на бриллианты. В канцелярии и без того было не слишком светло, а как стало по-настоящему темнеть — душа затосковала о неведомой комнатке со столом посередке. Эта комнатка, возможно, ждала в гостинице «Иерусалим» на другом берегу Двины. Или ближе, в том доме, куда ездил играть Михайла Петрович Дивов, пока не проигрался в пух и прах. Вспомнив бедного Дивова с его прошением, Маликульмульк вспомнил и Маврушку. Хитрая субретка (знала бы русская горничная, что во французской комедии, сочиняемой философом, она — субретка!) могла бы немало рассказать о своем беглеце Никишке и его хозяине, скорее всего, покойном. Два дня было у нее на размышление, даже больше. Отпустив подчиненных, Маликульмульк направился в гостиную княгини — где она еще могла проводить вечера? Ему хотелось повидать Тараторку с мальчиками и рассказать про сахар, добываемый из свеклы. Дамам также будет любопытно. Но по дороге его перехватил Терентий. — Я все узнал! — страшным шепотом доложил он. — Не про вас та девка! Мошенница! Воровка! И иные слова употребил, соответствующие случаю. — Не может быть! — воскликнул Косолапый Жанно, бедный доверчивый увалень, годный только развлекать дам в гостиной своими талантами и кротостью. — Через нее-то вся беда и приключилась! А знаете, отчего ее из дому выгнали? — Из дивовского? — спросил недотепа-недоросль. — Знаете, за что ей господин бригадир оплеуху отвесил? Дальнейшая речь Терентия была на первый взгляд бессвязна, но Маликульмульк догадался, что кучер (в комедии ему полагалось бы имя Проныр) все излагает задом наперед. Рижская крепость была невелика, а Терентий, обуреваемый чувствами собственника (вот он всю жизнь Голицыным принадлежал, а теперь и ему кто-то принадлежит, да человек не простой, на скрипке играет!), вступил в такой магический сговор со временем, что Маликульмульку даже не снилось — философ все больше с потусторонними сущностями возился. Кучер отпросился на часок, показывая какой-то оборванный ремень и непонятные железки, грозя, что если не пустят — он за целость господского экипажа не ручается. И он действительно вернулся через час с новеньким ремешком и другими непонятными железками (все это с самого начала хранилось у него за пазухой). Но время растянулось, как тесто для венских штруделей, которое не всегда хорошо удавалось голицынскому повару. Казалось бы, липкий ничтожный комочек, а ловкие пальцы могли изготовить из него тончайшую простыню, так же и со временем — было бы горячее желание. — Я вас научу! — грозно говорил Терентий. — Что бы вы без меня-то делали?! Вы как пойдете к ней, к ведьме окаянной, так вроде бы меж делом и спросите ее: а кто такая графиня де Гаше? Вот как вы спросите, она тут же начнет врать: что-де не знаю никаких графинь! А вы ей тут же в ответ: да как не знаешь, курвина дочь, когда на тебе вон сережки от той графини? И тут она опять примется врать: сережки-де кавалер подарил. А вы ей: за что ж тебе кавалер подарил, за какие услуги? Покажи того кавалера! Она вам: это-де беглый Никишка! А вы ей: у Никишки денег на такие подарки отродясь не бывало, а сережки дала графиня де Гаше, чтобы ты к ней барыню свою отвела! Вот так прямо и говорите: знаю-де эту графиню де Гаше, ей не горничная нужна, чтобы по-французски говорила, а она веселый дом содержит! Вот отчего у Дивовых-то склока и брань вышла. Старик узнал, что Маврушка приходила Анну Дмитриевну к графине звать! — Анну Дмитриевну? — переспросил Маликульмульк, а сердце беззвучно воскликнуло: «Анюта!» Он и не подозревал, что в глубине души — однолюб. Сколько времени прошло, а стоило услышать имя «Анна»… — Вы меня слушайте! — требовал меж тем Терентий. — Эта графиня, так ее и сяк, неспроста появилась. Они сперва с мужем барыни сошлась, с тем, что пропал. Их вместе в одном экипаже видали… Тут Маликульмульк, словно бы захлопнув книгу с воспоминаниями господина Крылова, стал слушать очень внимательно. — Она из той самой шайки, что младшего Дивова общипала. Мало им мужа сгубить — еще и жену хотят на дурную дорожку толкнуть! — Графиня де Гаше… — повторил Маликульмульк. — Что же в Риге делает французская графиня? Терентий только развел руками — этого он знать не мог. И предположил, что имя фальшивое, любая Матрена или Хавронья, наловчившись трещать по-французски, может выдавать себя за маркизу или графиню. Тут Маликульмульк с ним согласился, разъезжая по ярмаркам в поисках игроцких компаний, он и не на такие проказы нагляделся. Очень часто шулерские шайки возили с собой молодых и красивых женщин, богато одетых. Эти женщины тоже участвовали в игре, сбивая жертву с толку своей мнимой благосклонностью или попросту подсматривали в карты простака, передавая потом эти сведения тайными условными знаками. У него даже был неприятный случай, когда одна такая особа помогла его противнику отыграть выигранные Маликульмульком полторы тысячи, которые он считал уже своими, с прибавлением его собственных двухсот рублей. После этого Маликульмульк сделался очень внимателен ко всему, что могло показаться лишним в комнате, где шла Большая Игра. — Стало быть, этот дуралей Дивов сошелся с мнимой графиней? — уточнил Маликульмульк. — Так, может, он все-таки жив и где-то у нее в алькове обитает? — А на кой же тогда ляд ей дивовскую супругу к себе в горничные заманивать? — разумно спросил Терентий. — Да мне ее, курву, и обрисовали. Стара и тоща! Бабы-то все разглядят! — Но, значит, богата, если за услугу дарит дорогие сережки? — Да и не богата, своего экипажа не имеет, — отвечал Терентий с великолепным презрением. О том, как он раздобыл важные сведения, Терентий умолчал, а Маликульмульку и так было ясно — бравый плечистый и дородный молодец (иного кучера у Голицыных и быть не могло) пустил в ход все свое простонародное обаяние и не старух вылавливал на улицах Петербуржского предместья, а, наоборот, молодок. Ну что ж, на то она и комедия: философ действует через ловкую старуху, а лакей Проныр — через не менее ловкую субретку. — Стало быть, все полагают, будто она — хозяйка веселого дома? — А на что бы она еще сгодилась? Маврушку вашу ненаглядную не сманивает же к себе жить! А госпожу Дивову сманивает! Этим хитрый Терентий хотел сказать недорослю: Маврушка-то до того дурна, что ее и в шлюхи не зовут. — То бишь, она с Дивовым ездила в наемном экипаже? А не было ли в том экипаже еще других мужчин? Терентий пожал плечищами. Стало ясно, что пора выводить на сцену Косолапого Жанно, обжору и простофилю. — Ты уж прости, братец мой, но пока не увижу своими глазами графиню де Гаше посреди беспутных девок — не поверю. Может статься, она госпоже Дивовой добра желала, а Маврушка про это знала… — Ну, так придется нам с вами ехать в «Иерусалим»! — Куда?! — В «Иерусалим», я узнавал — это корчма на том берегу. — С чего ты взял, что графиня там живет? — Добрые люди сказали. Видели, как она Маврушку с собой увозила в экипаже. А потом Маврушка хвалилась, что была на том берегу в самой дорогой ресторации, куда рижские богатеи кутить ездят. А привезли-то ее оттуда одну. Графиня-то, выходит, там осталась. — Та-ак… — сказал Маликульмульк. Вот теперь следовало поскорее отыскать Давида Иеронима и узнать у него, чем кончилось вскрытие в анатомическом театре.Глава третья Пятерка отравителей?
— Это был немолодой уже господин, лет сорока пяти или более, — сказал Давид Иероним. — Сложения очень плотного, весь порос черным волосом. По бумагам — Карл фон Бохум, а на самом деле он чуть ли не турок, нос крючковатый, брови густые, глаза черные… И голова плешивая, носил парик. — И точно ли отравлен? — Точно. Все приметы налицо… — Давид Иероним выжидающе поглядел на приятеля в надежде, что тот замашет руками, умоляя избавить от грубых подробностей. Но философ — не светская дама, и химик продолжал: — В пищеводе и в желудке — воспаление, в желудке оно выражено сильнее. Содержимое — бурое из-за большой примеси крови. В печени — темно-красные прожилки, в легких — отек, лимфатические узлы также отечны… Затем — в содержимом желудка мелкие белые крупинки, как если бы истолкли в порошок фарфоровую тарелку. А уж с ними мне доводилось иметь дело. — Мышьяк? — Ангидрид мышьяка. Тоже сомнительное лакомство… — Не было ли еще одной особенности? — спросил Маликульмульк. — Какую вы ждали услышать? — Этого господина вряд ли мыли в ванне, прежде чем уложить на стол в анатомическом театре. Может быть, вы, милый Давид Иероним, заметили — кончики его пальцев могли быть выпачканы мелом. — Да, это правда, — согласился Гриндель. — Видимо, перед смертью играл в карты или в бильярд. Я просто не думал, что вам это будет любопытно. — Очевидно, есть подозреваемые? Беседу эту они вели прямо в аптеке Слона, куда Маликульмульк явился сразу после урока немецкого языка. Герр Струве куда-то ушел, оставив заведение на Гринделя. Поскольку велись переговоры о том, чтобы молодой человек, его ученик, в ближайшем будущем выкупил аптеку, герр Струве был уверен, что Давид Иероним прекрасно обслужит любого посетителя. Так что молодой химик сидел по одну сторону прилавка, Маликульмульк — по другую, и оба пили ароматный кофе, закусывая печеньем. Из задних комнат доносился стук, двое учеников толкли в ступках какие-то зелья. — Трудно сказать — тело нашли в номере примерно сутки спустя после смерти. Тот, кто отравил этого господина, уж, верно, далеко успел убежать. — А не выиграл ли господин фон Бохум накануне большой суммы денег? — Я не знаю. В номере, кажется, таких денег не обнаружили — а то бы уж все об этом кричали. Вы полагаете, его отравили, чтобы забрать выигрыш? — Да. Именно так я и полагаю. — Этим делом занимаются полицейские сыщики, — как-то неуверенно сказал Давид Иероним. — Я надеюсь, они всех расспросят и поймут, кто был отравителем… — Возможно, тот, кто сутки назад съехал из гостиницы, не заплатив, так торопился… — Неужели вам так все это любопытно? — Пожалуй, да… Химик задумался. — Поиски убийцы, возможно, могут быть занимательны, — согласился он, — но, с другой стороны, чаще всего они просто скучны. Сыщику приходится расспрашивать множество народа, записывать показания, сверять их, бродить по окрестностям, и, наконец, он находит преступника — дурного человека, который соблазнился деньгами. Что бы ни попадалось по дороге, результат один — дурной человек. А вот мы с Георгом Фридрихом ставим опыты — и сами не знаем, что получится в результате. Мы открываем новые сущности, о которых раньше никто не ведал. Скоро Георг Фридрих придет, и мы сегодня, Бог даст, узнаем кое-что новенькое о гальваническом токе. — Узнаете, а потом? — Напишем статью в почтенный журнал, выступим с докладом в столице. — А потом? — Будем развивать свой успех! Вот что хорошо в нашем деле! Сыщик поймал своего дурного человека, а на следующий день все начинается сначала — другое преступление и другой злодей. А мы продолжаем свои исследования с того места, на котором остановились, и продвигаемся вперед. Человек не должен ходить по кругу! — убежденно воскликнул Давид Иероним. — Если Господь дал ему разум более острый, чем у соседей, он должен двигаться вперед и только вперед! На это Маликульмульк ничего не ответил. Ему стало жаль химика. Вот сам он, явившись в столицу, именно так и видел свой путь — вперед и вверх, опираясь на силу своего таланта! И что же? Расшиб башку о потолок. Написать «Проказников» лучше, чем они написаны, он не может — но забыты все связанные с ними скандалы, а пьесу так и не поставили. Играть на скрипке лучше, чем играл четыре года назад, не может — но и тогда он не достиг славы Хандошкина. То есть Господь во благости своей ставит зачем-то непреодолимые барьеры — будет такой барьер и у симпатичного Давида Иеронима, всему свое время… Очевидно, нужно выбирать как раз то, что принесет результат сразу. Ты схватишь этот результат жадными руками, а завтра сделаешь то же самое, и послезавтра, и через год. Математические способности — именно то, что требуется для Большой Игры. Их и надо развивать, а прочее — милые таланты как раз такого размера, чтобы блистать в гостиной у Варвары Васильевны. Вот только пьеска, кулинарная пьеска… Стало быть, придется ехать в «Иерусалим»… Сейчас игроки затаились. Скорее всего, перебрались в какое-то иное место. Но быть того не может, чтобы хозяин «Иерусалима» не оказался с ними в сговоре. Главное, предстать перед ним в образе Косолапого Жанно, и тогда он сам даст знать своим приятелям: прилетела жирная пташка, которую грех не ощипать! — Не стану отрывать вас от ваших гальванических успехов, милый Давид Иероним, — сказал Маликульмульк. — Кланяйтесь герру Парроту. И увидел, что Гриндель рад его уходу. Давид Иероним, человек по характеру пылкий, но мягкий, совершенно не желал, чтобы в его аптеке встретились люди, один из которых другому отчего-то неприятен. Что же, он прав — необъяснимое противостояние начальника губернаторской канцелярии и профессора Дерптского университета тут ни к чему. Пока Маликульмульк пил кофе в аптеке Слона, прошел дождь, круглобокие камни мостовой блестели, одни отливали синим, другие тускло-красным, иные — рыжеватым. На сей раз он забыл считать шаги от аптеки до Рижского замка — голова была занята иным. Он сочинял, что сказать хозяину «Иерусалима». Идея была, весьма неплохая идея, но недоставало сведений. У кого получить сведения — он пока не знал. Но, подходя к Южным воротам, он уже примерно представлял себе свой завтрашний трудовой день. В декабре 1797 года покойный император Павел окончательно решил предоставить убежище в Митаве брату казненного французского короля, которого уже называли Людовиком Восемнадцатым. В марте следующего, 1798, года король прибыл в Митаву с двумя племянниками своими, герцогами Беррийским и Ангулемским, сыновьями его младшего брата, графа дʼАртуа. Позднее приехала королева Мария-Жозефина-Луиза Савойская — как и король, со свитой. Последней, в июле, явилась Мария-Луиза-Шарлотта Французская — та, кого называли «тампльской сиротой». Лишь она уцелела из всех детей покойного Людовика Шестнадцатого. 10 июля она обвенчалась со своим кузеном — герцогом Ангулемским. В Митаве образовался маленький королевский двор. Туда съезжались знатные эмигранты, чтобы, объединившись, дождаться лучших времен. Но длилось это всего два года — Павел Петрович, вдруг проникшись уважением к узурпатору-корсиканцу, решил жить мирно с нынешним властелином Франции и вздумал выставить королевское семейство из пределов России. Людовик Восемнадцатый с близкими поселился в Варшаве, аристократы разбрелись кто куда. Они-то и были нужны Маликульмульку — точнее, не они сами, а их знатные имена. В переписке между Санкт-Петербургом и Рижским замком эти люди непременно упоминались. Больше проку было бы от переписки Санкт-Петербурга с курляндским губернатором Ламсдорфом, но, поди, ее раздобудь. А канцелярский архив был в полном распоряжении Маликульмулька. К обеду у него уже был готов списочек знатных имен — оставалось только его заучить. Герцог де Берри, граф де Сен-При, виконт дʼАгу, кардинал де Монморанси, граф дʼАварей — имена были роскошные. Графини де Гаше среди них, понятное дело, не оказалось. Была герцогиня де Гише — но вряд ли эта дама стала бы раскатывать по Риге в наемном экипаже с молодым Дивовым. Затем Маликульмульк стал выяснять, как добраться до «Иерусалима». Летом он не вздумал бы задавать таких вопросов, он любил ходить пешком. Аосенью шлепать под дождем — сомнительное удовольствие. Ему посоветовали перейти через мост, а на том берегу взять извозчика. Почему-то извозчики неохотно ездили через Двину. Маликульмульк даже обрадовался — наконец-то он сможет измерить ширину реки шагами. На следующий день он насчитал по мосту девятьсот шестьдесят два шага, но часть моста лежала на песчаной мели, которую он, разумеется, заметил слишком поздно — не сразу понял, отчего бревна под ногами перестали колыхаться. Мель была искусственного происхождения, ее много лет назад насыпал полковник Вейсман на самом конце Газенхольма, а народ прозвал ее носом Вейсмана. Настроение у Маликульмулька было бодрое. Все ипостаси, которые составляли в этом году и в этом городе его личность, находились в приподнятом состоянии духа. Косолапый Жанно предвидел вкусную еду. Маликульмульк — увлекательное наблюдение за причудами и страстями человеческими. Проснувшийся после долгой спячки господин Крылов заранее радовался Большой Игре. Искомое заведение «Иерусалим» располагалось примерно в полутора верстах от моста, в Торенсберге. Сперва это была простая корчма, и даже не на Митавской дороге, а чуть в стороне, на берегу рукотворного Мариинского пруда. Потом вокруг корчмы зародился целый мир. Некий купец Торсен построил по соседству на холме дачу и разбил на берегу искусственного пруда небольшой парк. Этот парк семь лет назад арендовал у него рижский бюргер Расмус Менде, уговорившись платить восемь талеров в год. Сделал он это, сообразив, что рижане повадились ездить в «Иерусалим». Место не так чтоб удаленное от крепости, но тихое, и природа являет прелестные картины. Отчего бы не предложить господам увеселительный парк с качелями, где зимой будет также расчищено место на пруду для конькобежцев? И не только место, им можно выдавать за малую плату кресла на полозьях для милых дам. Даже название придумал красивое — Алтона. Обнаружив на пруду такие новости, хозяин «Иерусалима» схватился за голову: а я-то куда гляжу? И перестроил свою корчму так, что она стала почти рестораном, нанял лучших поваров, пристроил гостиницу на случай, если загулявшим посетителям будет не с руки возвращаться домой. Маликульмульк взял извозчика и поехал в этот земной рай. Он пересек прибрежный поселок, затем городской луг, утыканный еще не почерневшими круглыми сенными копнами; экипаж обогнал две телеги, что везли мешки с зерном на водяную мельницу, поставленную на самом краю Мариинского пруда, который для того и был выкопан, чтобы собрать воду из окрестных болот и речек. И землевладельцам хорошо — такие угодья осушены, и городу, владеющему мельницей, чье колесо вращает эта вода. С погодой повезло, вечер был приятный, почти теплый, дождь прошел утром и возвращаться, кажется, не собирался. Миновав мельницу, извозчик остановился у подножия холма, на который вела каменная лестница. Там, наверху, среди лип и кленов, и стоял знаменитый «Иерусалим», после перестроек мало похожий на обычную лифляндскую корчму. Длинное приземистое здание, где под одной крышей были и обеденный зал, и конюшня, и сеновал, и каретник. Все службы «Иерусалима» находились на склоне холма, обращенном к пруду. Извозчик доставил увесистого гостя прямо к выметенным ступеням, чтобы тот не пачкал подошвы начищенных сапог. Сам проехал подальше и остался у коновязи покормить и напоить лошадь. Внутри было две компании — одна мужская, другая с дамами, но благопристойная. И еще два господина в углу играли в шахматы. Маликульмульк расстегнул зеленый редингот и сел за небольшой стол в эркере, откуда мог видеть мельницу и суету вокруг нее. Тут же подбежал кельнер с неизбежной крахмальной салфеткой, перекинутой через руку. — Позови мне, братец, хозяина, — сказал Маликульмульк по-русски, уверенный, что его поймут. И точно — явился хозяин, несколько встревоженный: мало ли какое упущение обнаружил хорошо одетый гость? — Я начальник канцелярии господина генерал-губернатора, моя фамилия Крылов, — представился Маликульмульк уже по-немецки. — Прибыл к вам по приватному делу. Садитесь, пожалуйста. — Свою речь он составил заранее и даже посмотрел некоторые слова в лексиконе. — Знаете ли вы о событиях, имевших место в Митаве зимой сего года? — Про это знают все. Угодно господину заказать угощение? — Немного погодя. Слушайте меня. Когда несчастный французский король, изгнанный покойным нашим императором, отправился из Митавы в Варшаву едва ли не пешком, часть его свиты последовала за ним, другая часть осталась здесь. Некоторые из этих господ полагали переждать неприятности в Риге. Иные уехали в Санкт-Петербург, где у них были родственники — как граф де Сен-При, виконт дʼАгу, кардинал де Монморанси, граф дʼАварей. Куда подевались эти господа на самом деле — Маликульмульк понятия не имел. — О, да, да, — согласился хозяин «Иерусалима». — Я знаю этих господ! Они приезжали ко мне отведать жаркого из косули и бутерброд с вальдшнеповой кишкой. Коли господину угодно, велю подать, но сперва хочу предложить вестфальскую ветчину, паштет и заливное из поросенка… — Какой бутерброд? — заинтересовался Косолапый Жанно. — Бутерброд с содержимым кишки вальдшнепа. Господин, должно быть, в Риге недавно, господин не знает, что это самый знатный деликатес! Косолапый Жанно поесть любил, более того — обожал. Он сам себя считал гурманом — знал толк в пирожках, гусе с груздями, жареной свинине, устрицы также иногда соблазняли его желудок, и он уничтожал их не менее восьмидесяти, но никак не более ста, запивая английским портером. Но на кишечное содержимое его гурманство не распространялось, и он энергично помотал головой. Нехитрая политика хозяина была ему понятна: о чем этого господина ни спроси, все сведет к угощению. Значит, следовало начать хотя бы с вестфальской ветчины и паштета. Когда закуска была сервирована и Косолапый Жанно ее одобрил, Маликульмульк пустился в дальнейшие расспросы. — Молодой государь добр и благороден, — сказал он и, не давая хозяину приплести к государю какие-нибудь сосиски, быстро продолжал: — Французские эмигранты при нем вздохнули с облегчением и стали отыскивать друг друга. Госпожа княгиня Голицына получила письмо, ее просят о помощи. В Митаве жила француженка, графиня де Гаше. Когда оттуда уехало большинство французских дворян, она тоже куда-то исчезла. Ходили слухи, что она из Курляндии перебралась в Лифляндию. Ее ищет семейство графа де Сен-Пре… Излагая эту заготовленную историю, Маликульмульк внимательно глядел на хозяина. Тот, будучи приглашен отведать его собственной ветчины, в лице чуть переменился — сдвинул брови. Это, с точки зрения Маликульмулька, означало недоверие. — И графиня д’Аварей также хотела бы видеть свою давнюю подругу, — сказал он. — Но это дело деликатное. Бедная графиня де Гаше, когда ее благодетели уехали, осталась совершенно без денег. Невозможно знать, в каком положении она будет обнаружена. Поэтому розыск ведется приватно, вы меня понимаете? — Стало быть, эта дама — графиня? — переспросил хозяин. — Стало быть, она какое-то время жила у вас? — Господин говорит правильно — она жила у меня. Я был в недоумении — она платила за свое содержание вовремя, ей подавались лучшие блюда, а меж тем ее горничная… я бы не доверил этой горничной кормить свиней… — При ней состояла только одна женщина? — Да, герр Крылов, хотя она могла бы держать двух — и куда более опрятных. Маликульмульк вспомнил донесение кучера Терентия. Проныр-то Проныр, а наслушался сплетен про веселый дом. Но нужно было убедиться в его ошибке. — И что же, других женщин возле нее не было? Никто больше о ней не заботился? — Нет, одна только горничная, которая вела себя совершенно по-свински. — А бедная графиня де Гаше терпела? — Да, она терпела. Маликульмульк удивился — имея деньги, можно нанять кого угодно. Тем более в Риге, которая славится вышколенными девицами, обожающими чистоту. И тут он сообразил, в чем дело. — Они говорила с горничной по-французски? — Да, герр Крылов, немецкого языка она не знала. — Не оставила ли она адреса, по которому ее искать? — Она уехала очень скоро, была сильно напугана… Господин, наверно, знает, какая у нас случилась беда. — Я знаю, что у вас умер постоялец… — Маликульмульк помолчал несколько, принимая решение, и сказал наконец: — Верно ли, что он был отравлен? — Его увезли в анатомический театр. Я не знаю, что там обнаружили. Но хозяин «Иерусалима» явно и беспардонно лгал. Он прекрасно знал, что Карла фон Бохума отравили. Не мог не знать — все власть имущие в здешних краях ему прекрасно известны, и он отлично представляет себе, к кому послать записочку, чтобы получить внятный ответ. А если неизвестны — какой же он тогда содержатель ресторана? — Очевидно, не только графиня де Гаше, но и другие постояльцы, узнав про смерть герра Бохума, съехали от вас? — Да, и это — в такое неудачное время! Осень — ни то ни се! Зимой сюда часто приезжают из Риги, живут по два, — по три дня. Летом тоже, для господ нарочно построена купальня, есть лодки. По ту сторону пруда летние лагеря рижского гарнизона, господа офицеры приезжают и даже приходят пешком, в Алтоне такое веселье! Путешественники останавливаются во множестве! Осень же самое скверное время. Вот поглядите, — он обвел рукой обеденный зал. — Летом помещение в это время полно, зимой тоже редко пустует. Сейчас — одни убытки… — А меж тем ваша кухня в городе известна. Я доложу о своем визите господину князю, он любитель хорошей кухни, — пообещал Маликульмульк. — Если сюда станет приезжать сам князь Голицын, то и те русские, что живут в крепости и Цитадели, устремятся к вам. У князя сыновья и воспитанница, которым конечно же захочется покататься на коньках. — Фриц! — радостно воскликнул хозяин. — Неси сюда старое мозельское! Пусть ставят в печь наш славный айнтопф! Господин еще не пробовал такого айнтопфа, в него входят семнадцать — семнадцать! — составных частей! Кто поест моего айнтопфа — два дня не ощутит голода! Я угощаю вас, вы мой новый и почетный гость. Маликульмульк усмехнулся — о, природа человеческая… Косолапый Жанно мысленно зааплодировал. К тому времени, как на стол прибыл огромный дымящийся горшок, Маликульмульк уже знал о графине де Гаше немало. Она (к некоторому его удивлению) действительно появилась зимой — после изгнания французов из Митавы. Жила очень тихо, принимала немногих, по вечерам играла в карты в небольшой приличной компании; правда, засиживались заполночь, но не шумели, все было весьма благопристойно. Иногда графиня уезжала на двое суток — говорила, что в крепости у нее есть давняя подруга. Ее партнерами за карточным столом в «Иерусалиме» были Иоганн Мей (по-французски говорил прилично), Леонард Теофраст фон Димшиц (тоже объяснялся с графиней очень бойко и, сам имея кислую физиономию, умел ее насмешить), Эмилия фон Ливен (дама немногим моложе графини, весьма неприятная и скупая особа), молодой красавчик Андреас фон Гомберг (этот говорил по-французски, с точки зрения хозяина, безупречно), а неделю назад в компанию был принят Карл фон Бохум. Судя по всему, его отравил кто-то из господ картежников — более некому. И действительно, накануне он удачно играл и был в выигрыше. Сумма выигрыша неизвестна — а только повара, спустившись поздно вечером в Алтону подышать воздухом на сон грядущий, слышали отчаянную мужскую ругань на немецком языке. Кто-то из игроков проклинал заезжего шулера. Им показалось, что это был Андреас фон Гомберг. На следующий день компания завтракала вместе, после чего разъехалась — и мужчины по сей день не возвращались, хотя некоторые их вещи лежат в комнатах. Эмилия фон Ливен в тот день вообще не появлялась, а вечером отбыла и графиня де Гаше — якобы к подруге. — То есть все они, уезжая, знали, что мертвый фон Бохум лежит у себя в комнате? Или что он вот-вот примется помирать? — Откуда мне знать, что они знали! Маликульмульк задумался. Примерно так и должна вести себя игроцкая шайка, попав в беду. Кому охота объясняться с полицией из-за трупа! — А часто ли к компании присоединялись новички? — Случалось, кто-то приезжал из крепости. Летом, разумеется, господа офицеры. — Были ли среди этих господ русские? — Был один молодой человек, я его встречал в крепости. Он несомненно русский, но не гарнизонный офицер. Одет он был прекрасно, имел дорогие перстни. Может быть, он и приютил госпожу де Гаше, а не подруга. — Отчего вы так решили, почтенный хозяин? — Оттого что они… меж ними было нечто, хотя она гораздо старше его… Он при мне домогался ее благосклонности. Они вместе прогуливались у пруда, вон там, — хозяин показал на темное окно. — Они доходили до самой мельницы, поворачивали, шли через Алтону к дальнему концу пруда, потом обратно… — И давно ли это было? — Весной, в начале лета. Не слишком любезный молодой человек, скажу я вам… Он ссорился с господином фон Гомберг и господином фон Димшиц… И собой не был хорош — худ, как щепка. По-немецки говорил куда хуже, чем по-французски. Они с мадам де Гаше только по-французски объяснялись. Маликульмульк понял — это мог быть Михаил Дивов. Он стал вспоминать все, что наговорили ему сперва госпожа Дивова, потом Терентий. Косолапый Жанно меж тем добрался до дна горшка. Обычный человек съел бы половину и запросил пощады — так жирен и сытен был айнтопф, сложное блюдо вроде густой похлебки. А вот Косолапый Жанно считал, что такой горшочек — в самый раз. Итак, игроки испугались и разбежались. Но долго они без карт не проживут. Они наверняка собрались где-то в Петербуржском предместье, чтобы продолжить свой промысел. Знают ли они, кто отравил Карла фон Бохума? Маликульмульк не обольщался относительно рода человеческого. Он допускал, что шайка сговорилась и совместно подсыпала «счастливчику» мышьяк. Среди всех пороков человеческих числится и преступный сговор с целью убийства. Но, насколько он знал игроков, они скорее уж втянут такого счастливчика в новую игру, чтобы, разгадав его приемы, обчистить до последней копейки. Даже если он шулер высокого полета, компания сперва испробует все мирные средства — вплоть до предложения о сотрудничестве. Скорее всего, затеял это кто-то один. А статочно — одна. Мышьяк — не мужское дело. Женщин в компании было две, Эмилия фон Ливен и графиня де Гаше. Эмилии не было за столом, где завтракали и имели возможность отравить заезжего шулера. Графиня за тем столом была. Уехала она из «Иерусалима» последней. Был ли тогда еще жив фон Бохум? Когда его на самом деле отравили? Может, не за завтраком, а за обедом? Все это были умственные упражнения, для Маликульмулька не имеющие практической ценности. От времени убийства совершенно не зависело, в какую сторону подались игроки. Кто бы мог разгадать эту загадку? Косолапый Жанно перестарался — айнтопф уложил его наповал. В сон потянуло так, что, кажется, прямо в обеденном зале свернулся бы под столом клубочком. Наказав разбудить себя пораньше и, подав хороший завтрак, выпроводить из «Иерусалима», Иван Андреевич отправился ночевать в тот самый номер, где жила съехавшая графиня де Гаше.* * *
Кучер Терентий в такую погоду был предоставлен сам себе. Князь занимался делами, не выходя из замка. Княгиня заперлась в своих апартаментах. Детей выводили погулять на примыкавший к замку бастион Хорна. Он чувствовал бы себя совсем ненужным, кабы не Косолапый Жанно. Когда это сокровище не явилось ночевать, Терентий сильно забеспокоился. Первая мысль была о беспутной Маврушке. Если б можно было уверенно сказать про Косолапого Жанно, что потешит плоть и преспокойно вернется домой, под теплое крыло Терентия, то и беспокоиться не о чем. Но этот чудак столько времени обходился без баб — теперь он для всякой полымянки легкая добыча! И некому взять его за шиворот, отвести в сторонку и сказать: «Делай, как я говорю!» Видимо, все то, что наговорил Терентий о Маврушке, оказалось недостаточным. Нужно было набрать новых пакостей и отвадить простофилю от хитрой девки. Пусть бы его княгиня на своей приживалке женила — все лучше, чем подобрать такую бесстыжую тварь! На следующий день Терентий проведал, что Косолапый Жанно прибыл рано утром на извозчике с очень довольной физиономией. (А как ей не быть довольной после сытного завтрака в «Иерусалиме»? Предвкушая, какая счастливая жизнь начнется, если в число завсегдатаев войдет лифляндский генерал-губернатор, хозяин накормил господина начальника канцелярии всем лучшим, что держал в погребе и на леднике.) Терентий явился к княжьему дворецкому, держась за живот, и доложил, что съел какую-то дрянь. При этом сквасил рожу — от одного созерцания такой рожи во рту кисло становится. Его погнали лечиться травами. Он действительно взял у конюха Семена пучок сушеных веточек — а потом исчез. Под замком были понарыты ходы. Один такой лаз открывался в конюшне, его все хотели засыпать, да никак не могли собраться. Лаз выводил в конурку, откуда можно было выйти в галерею, опоясывавшую Южный двор. А в Южном дворе к воротам ведет целый туннель в четыре сажени. Если забежать в этот туннель да в известном месте прижаться к стенке — то, когда ворота откроются, впуская телегу, экипаж или всадника, можно легко выскочить наружу. Повернув налево и обойдя Свинцовую башню, окажешься в том месте, где Замковая улица выходит на замковую площадь. И ты уже вольный казак! Пока Терентий быстрым шагом приближался к Петербуржскому предместью, в голове у него расцветали буйные и великолепные прожекты. Он представлял себе, как избавит Косолапого Жанно от скверной бабы Маврушки — так на нее гаркнет, что баба навеки заикой останется. Затем он представлял себе, как будет руководить Косолапым Жанно, давать ему хорошие советы, чтобы в канцелярии трудился на совесть и заводил полезные знакомства. До сих пор, как Терентию было известно, его протеже на новом месте еще не освоился и на каждом шагу нуждался в помощи старых канцеляристов. Где бумаги — там и деньги, так что нужно научить чудака брать деньги, когда их предлагают. Даже то, чтобы положить нужную бумагу сверху на стопку тех, которые приносят князю, или же, наоборот, в самый низ, чтобы князь подписал, почти не глядя, тоже ведь денег стоит! От этих замыслов он перешел к иным. Косолапого Жанно непременно надо женить, и найти ему невесту из хорошей семьи, с приданым, но лучше всего — смиренную сироту. В мыслях Терентий эту невесту нашел, сосватал, отправил пару под венец, а потом, поскольку они, зажив своим домком, без его, Терентия, советов и присмотра не обойдутся, он внушил Косолапому Жанно мысль выкупить себя у князя Голицына. Князь даже мог бы подарить кучера тому, кого зовет «послушай-ка, братец!», а потом можно сподвигнуть женатого недоросля дать своему главному советчику и покровителю вольную. И тогда уж вся крыловская семья станет собственностью Терентия, он будет карать и миловать, заведовать всем хозяйством и давать Косолапому Жанно деньги на игру в количестве не более трех рублей (эту склонность подопечного он отлично знал). Романовка, где жили Морозовы, была частью в Петербуржском, частью в Московском форштадте. А они поселились чуть ли не на границе, довольно далеко от крепости. Терентий в прошлую свою вылазку, собирая сведения, свел знакомство с морозовским кучером Данилой. Сейчас он полагал найти приятеля и напеть ему в уши про беспутство Маврушки и ее гнусные планы обвенчаться с простаком чиновником. Эта новость, дойдя до ушей главы семейства, произведет задуманное действие: Маврушку изгонят с позором. А донести Косолапому Жанно, что бесстыжая горничная замечена во многих шашнях с мужчинами, уже несложно. Но Данила горел желанием рассказать совсем другие новости. Морозов-самый-младший, двадцатилетний щеголь, проигрался, да так, что родителей чуть кондрашка не хватила. Утром он, пропадавши более суток, явился и пошел к отцу каяться. Узнав, что подписаны векселя на какую-то несусветную сумму, отец едва не вышиб сыночку зубы — бездельник чудом успел выскочить из комнаты, и где теперь прячется, неведомо. Дома все сидят перепуганные, и ясно, что платить придется: Морозов-отец с боями пробивается в Большую гильдию, и скандальная история с неоплаченными векселями и сыном-картежником ему ни к чему. Терентий был умен — умел слушать. Но во всей речи Данилы не нашлось ничего полезного. Он пробовал было подпустить загадок: плохо-де в вашем доме не только за детьми, но и за дворней глядят. Если бы Данила проявил любопытство, то Терентий сообщил бы, что новая горничная не ночевала дома, и дал ход целой интриге. Но Данила сразу согласился и стал рассказывать про своего злейшего врага, дворника Луку. А время меж тем шло. Терентий обладал способностью растягивать его и умещать в полчаса, в половину круга минутной стрелки, дел часа на два. Но это — по вдохновению. Сейчас Данила сбил с него все вдохновение, и Терентий ощущал, как время, пощелкивая секундной стрелочкой с княжеских часов, уносится прочь. Нужно было уходить — а он ничего не разведал и ничего не сделал. Нужно было бежать на Родниковую улицу, искать ту Маврушкину подружку, Дуняшку, с которой она в тот самый день, когда старик Дивов выставил ее из дома, умудрилась как-то поссориться. А ведь Маврушка сделала для Дивовых и кое-что хорошее — именно она нашла им скромное и недорогое жилье в доме, где жила с теткой Дуняшка, и вскоре после того ей отказали от места. Она, уже нанявшись к Морозовым, потихоньку прибегала иногда, по старой памяти помочь госпоже Дивовой по хозяйству. Терентий это прекрасно знал — и не желал знать, потому что Маврушка в сражении за Косолапого Жанно была первым врагом. Дуняшка, сгоряча рассказавшая ему про графиню де Гаше и амуры с беглым Никишкой, была скромной белошвейкой, работала на модную лавку, перенимая узоры и выкройки с привозных образцов. Тетка, выучившая ее ремеслу, тоже трудилась, не покладая рук. Обе копили на приданое — Дуняшке было чуть за двадцать, тетке — около сорока. Поэтому жили в крошечной комнатушке, можно сказать — на чердаке, и полтина, которую Терентий дал девушке за сведения, в ту же копилку пошла. Она, голубушка, проговорилась, что между комнатушкой и новым жилищем Дивовых — такая тонкая перегородочка, что каждый чих слыхать. И Терентий нюхом чуял, что однажды это пригодится. От Романовки до Родниковой было близко. Терентий напряг все свои мистические способности, стал быстрее перебирать ногами — и время замедлило свой бег, стало вытягиваться в длину, так что каждая секунда сделалась полупрозрачной, вроде того штрудельного вытяжного теста, которое он всякий раз, пускаясь в колдовство, вспоминал. И он увидел Дуняшку… Дуняшка была не одна — она стояла у калитки с кавалером, который сразу же вызвал сильное недовольство Терентия. Он был красив, как картинка в модном журнале, и причесан на модный лад — длинные вьющиеся пряди закрывали и лоб, и щеки, чуть простираясь ли не до носа. Такая мужская красота вызывает обычно сомнение в высоких духовных качествах: откуда бы им взяться у человека, который обречен быть любимцем дам? Этот кавалер пытался ухватить Дуняшку за руку, она не давалась, но и не пыталась скрыться во дворе. На ней было модное платьице, подпоясанное под грудью, и поверх серая домотканая шерстяная накидка с каймой, какие носили небогатые рижские мещанки. Они переняли этот наряд у латышек из предместий — недорого, тепло, служит долго, летом годится для ребенка вместо одеяльца. А если угодно щеголять — добывай себе турецкую шаль с таким причудливым узором, что ни одна вышивальщица не повторит. Большая Дуняшкина коса не помещалась в маленький кокетливый чепчик и спускалась по спине поверх накидки. Едва взглянув на нее, можно было сказать — тут большого приданого не жди. Стало быть, красавчик кавалер жениться и не собирался. Терентий встал неподалеку, ожидая, пока эта парочка распрощается. Он хотел задать девушке несколько вопросов, и главный из них: есть ли у Маврушки убежище, куда она могла привести на ночь избранника? Какая-нибудь нищая родня, готовая предоставить кров за небольшое вознаграждение? Какой-нибудь трактир, с хозяином которого у нее подозрительная дружба? Да хоть богадельня! Чем чердак богадельни хуже любого другого чердака? Если бы удалось узнать, что это за место, был бы знатный козырь в объяснении с Косолапым Жанно! Терентий сказал бы, что вся Рига знает про сей притон разврата, один господин начальник канцелярии ничего не знает! Видимо, кавалер уж очень решительно пошел на приступ. Дуняшка так стремительно исчезла за калиткой, что Терентий только рот разинул. И тут же затрещали, застрекотали секунды. Кавалер, усмехнувшись, пожал плечами. При этом он глядел победителем. Он прошел мимо Терентия той неторопливой, несколько разболтанной походкой, которая позволяет встречным оценить все достоинства наряда. А наряд был такой, что Терентий недовольно фыркнул. Кучер считал себя зрелым мужчиной и из принципа не одобрял новых мод. Когда его еще мальчиком взяли в голицынский особняк сперва казачком, потом форейтором, наконец, начали учить кучерскому ремеслу, мужской гардероб состоял из кафтана, камзола, коротких кюлот, чулок и туфель. Сапоги приличный человек обувал редко — они принадлежали к военной форме. Кафтану надлежало быть расстегнутым, чтобы всем была видна дорогая ткань камзола, камзол тоже нужно было уметь правильно застегнуть — не на все пуговицы, а на несколько посередке, чтобы последняя приходилась как раз под животом, и от нее уж полы камзола немного разбегались в стороны. Это, с точки зрения Терентия, было красиво — подчеркивало сытость и дородство кавалера. А теперешние молодые господа носили пресмешные штаны, начинавшиеся выше талии, свободные в ляжках, но сужавшиеся к колену и совсем тесно облегавшие икры. Эти штаны были заправлены в сапожки с изящно вырезанным верхом. Фрак же спереди до талии не доходил, а завершался в полувершке от верхнего края штанов, так что виднелась полоска короткого жилета. Кроме того, этот двубортный фрак полагалось застегивать на все пуговицы — у кавалера, который увивался за Дуняшкой, их имелось четыре пары, светлых и сверкающих, как бляхи парадной сбруи княжеской упряжки. Василькового цвета фрак, серые штаны, черные лаковые сапожки — далеко было этому обмундированию до сверкающих галуном кафтанов былых времен. И жилет! Им бы похвалиться — а он виден лишь снизу, сверху шея кавалера обмотана каким-то шелковым платком до самых ушей. К тому же кавалер был одет чересчур модно для патриархальной Риги. Такую диковинную элегантность можно было встретить разве что в столице; появлялась она и на московских гуляньях; однако рижане до сих пор предпочитали старые добрые кафтаны и фраки, как при покойной государыне. Терентий проводил кавалера взглядом — хотел запомнить подробности, чтобы обсудить их в «высшем свете» голицынской дворни, когда его туда снова пригласят. Кавалер же встал на углу, дожидаясь, чтобы к нему подкатил экипаж, и это было совсем близко к Терентию. Дверцы наемного экипажа отворились, кавалер подал руку и помог выйти даме. При этом он по-французски называл ее госпожой графиней. Терентий знал сколько-то французских слов. И как не знать, когда служишь самому князю Голицыну! Однако понять, о чем расспрашивала эта немолодая дама красавчика кавалера, он не мог. Он предложил ей руку, и они прошлись по Родниковой взад-вперед. Прохожие сторонились, давая им дорогу. Каким-то образом они понимали, что дама — не из простых. Эти двое были странной парой — словно маменька с сыночком. Дама, ростом кавалеру по плечо, тоже была одета модно, куталась в шелковую шаль с кистями, а на голове у нее была странная на Терентьев взгляд шляпа — крошечная, с большим пушистым пером, спускавшимся на плечо. Завитые локоны, по два с каждой стороны, спускались на щеки — и эти локоны отливали серебром. Дама не скрывала своей седины. А ведь так, казалось бы, просто — приколоть фальшивые вороные букольки! Маленькая, тощенькая, с продолговатым лицом, с довольно большим ртом, эта дама не должна была бы нравиться — однако, отвечая на какой-то вопрос, она улыбнулась кавалеру — и Терентий понял, что соблазн сидит в ней, переполняет ее, и до самой смерти ее не покинет. Но сам бы он этому соблазну не поддался — в походке дамы, в ее жестах, в губах и взглядах было чересчур много какой-то сомнительной суеты. Да и возраст — седина, допустим, бывает ранняя, а лицо точно немолодое, лицу — за сорок. Терентий же считал себя бравым мужчиной, которого женщины старше двадцати пяти не должны интересовать. Довольно было уже того, что жена старше его на три года. Больше старух он знать и видеть рядом с собой не желал. Вдруг его осенило: да это же и есть та графиня де Гаше, которая норовила нанять госпожу Дивову якобы в горничные, а на деле — срамно сказать на какую должность. Терентий уставился на даму во все глаза — вот как выглядит, оказывается, богатая содержательница борделя! Кавалер же, что-то ей втолковывая, показывает именно на тот дом, где поселились обнищавшие Дивовы. Эк оно все складно получается — да только что пользы? К той речи, что Терентий готовил для Косолапого Жанно, эту чертову графиню не пришьешь. Графиня меж тем стала спорить со своим спутником, указывая крошечной ручкой на хороший и крепкий дом напротив, не чета развалюхе, приютившей Дивовых. Не дожидаясь конца их спора, Терентий двинулся прочь. Он был крепко недоволен — ничего полезного не узнал. А если сведений нет, то что нужно сделать? Нужно их сочинить. Он исхитрился встретить Косолапого Жанно, когда тот шел из канцелярии к себе в башню за скрипкой. Скучающая княгиня опять желала музыки. — А я вот вам дровишек несу, — сказал Терентий. — Истопник-то немец по этакой лестнице с мешком не полезет, а я вон лезу. Что б вы без меня делали… И правды-то вам бы никто не сказал! — И впрямь, пора уж затопить печку, — отвечал Косолапый Жанно. В башне, как во всяком древнем каменном строении, был камин, но, поскольку башню поделили надвое и камин остался в другой половине, то в комнате канцелярского начальника сложили печку, и сложили не очень удачно — грела она плохо. А меж тем осень и все ветра, овевавшие башню Святого Духа, выстужали ее основательно. Следовало ожидать, что зимой в ней вообще будет холоднее, чем во дворе замка, где хоть ветры не гуляют. — А правда такова, что есть же на свете поганые девки. Душа горит, не могу молчать! — воскликнул Терентий, тащась с мешком вслед за неторопливым Косолапым Жанно. — Эти стервы не с одним грешат — оно бы еще полбеды! А у них на каждый день недели — по кавалеру! И место, куда они кавалеров своих водят, не пустует! Это я доподлинно знаю! Лестница скрипела и взвизгивала под ногами. Мешок цеплялся за стену. Косолапый Жанно, освещавший восхождение сальной свечой, скорбно молчал. Терентий понимал это так: слушать пакости про зазнобу кому же приятно? Однако не спорит, в драку не лезет — значит, обдумывает сердитые слова. И очень скоро скажет: — Вразумил ты меня, брат Терентий! Теперь вижу, что тебя во всем слушать надо! На самом деле Косолапый Жанно сейчас дремал, зато вовсю рассуждал Маликульмульк. Разбежавшуюся игроцкую компанию искать следует в гостинице. Вон напротив замка стоит «Петербург» — с него начать. Возле ратуши — «Лондон», недавно открытый. И во всякий трактир сунуть нос. Далеко эта братия не убежала. Должны знать, кто куда подевался, где кого искать. Скоро снова сойдутся. И тут возникает вопрос: называть ли, когда удастся с ними сойтись, свою должность? С одной стороны, начальник губернаторской канцелярии — не нищий, и им любопытно было бы заманить такого игрока за свой карточный стол. С другой — заподозрят ловушку и поклянутся, что отродясь карт в руки не брали. С третьей — сочтут врунишкой и не захотят играть. Вот и ломай голову… Однако искать их надо, начиная с завтрашнего дня. Потому что уже невтерпеж. Кончики пальцев, соприкасаясь случайно, вызывают волнение в крови. Тоскуют пальцы по этим твердым и гладким кусочкам картона. Где-то в этом городе идет Большая Игра. Настолько Большая, что шулера-соперника травят мышьяком. Вот она-то и нужна!Глава четвертая Вся надежда на Маврушку
Список из пяти имен лежал перед Маликульмульком, полуприкрытый очередной кляузой купца Морозова на рижский магистрат. Купец нанял языкастых подьячих и рвался вверх, в Большую гильдию, как Архимедово тело, — образ, застрявший в голове не со школьных времен, а с застолья, где читались лихие стишки: «всяко тело, вперто в воду, выпирает на свободу…» Графиня де Гаше. Эмилия фон Ливен. (Дамы — в первую очередь). Иоганн Мей. Леонард Теофраст фон Димшиц. Андреас фон Гомберг. Последние четверо достаточно хорошо говорят по-французски, чтобы играть с графиней, которая не понимает ни по-немецки, ни по-русски. Вот в чем прелесть французских аристократов! Они полагают, что весь мир обязан знать французский язык, а им самим довольно помнить несколько афоризмов по-латыни и несколько английских слов, вроде редингот, грум, плед. Подошел Сергеев, посмотрел на разложенные бумаги, тихонько посоветовал, что отдать копиистам, что столоначальникам, чтобы подготовили ответы. Сергеев отлично понимал, что без его подсказки новоявленный начальник канцелярии очень скоро опростоволосится и потеряет должность, но не хотел, чтобы это случилось слишком рано. Пусть еще хоть месяца два помучается — да чтобы вся канцелярия от его неловкостей взвыла… Распределив работу между подчиненными, Маликульмульк уставился на свой список и крепко задумался. Графиня де Гаше. Эмилия фон Ливен. Иоганн Мей. Леонард Теофраст фон Димшиц. Андреас фон Гомберг. Кто-то из этой пятерки отравил герра фон Бохума. Способен, стало быть, и господину Крылову подсыпать мышьяк в угощение. От чего мечта о Большой Игре становится еще пламеннее, азарт — еще острее! Ведь это какой поединок предстоит, какая борьба! Не бумажная, где кляуза прет на кляузу и до правды не докопаешься, пока господин князь не треснет кулаком по столу и не прикажет: делать так! Косолапый Жанно — чрево для поглощения пищи, оснащенное скрипкой и умеющее складно изъясняться. Маликульмульк — философ, никак не способный расстаться с минувшим веком и с минувшим миром; мир этот забавен, но сильно смахивает на гравюру с характерами, как у Молиера: вот щеголь Припрыжкин, вот кокетка Прелеста, вот корыстолюбивая актерка Бесстыда, вот резонер Старомысл. Иван Андреевич — начальник канцелярии, у которого в голове скоро не хватит места для всех разногласий между Рижским замком и магистратом, древних и новорожденных. Но близится ночь, когда на сцене появится господин Крылов, огромный, бесстрастный и неумолимый. Он сядет за стол, сорвет обертку с непочатой колоды, пропустит ее в ловких пальцах, соберет на нее общее внимание — и сражение начнется… Однако прежде всего нужно сходить в «Петербург». Каждый день там обедать — никакого жалованья не хватит, но именно сегодня можно и нужно. Ибо кто-то из господ, сбежавших из «Иерусалима», может там оказаться. В «Петербурге» у Ивана Андреевича завелся приятель — повар Генрих Шульц, он же Анри Шуазель. И никак невозможно понять, то ли он природный француз, который, скрываясь от каких-то недоброжелателей, притворяется немцем, то ли прекрасно обученный кулинарному ремеслу немец, которого выдают за француза, чтобы привлечь едоков. Этот Анри-Генрих был нужен Маликульмульку еще для одного дела — давно следовало заказать большой пирог, чтобы на деле проверить замысел новой пиески. Маликульмульк посмотрел на стоячие часы, и они тут же, заскрипев и застонав, пробили час пополудни. Он, не подумав, встал — и несколько канцеляристов также бойко поднялись с мест. Переглянувшись, они несколько сконфузилась и сели. Уж более полугода прошло с того дня, как изволил опочить император Павел Петрович и, соответственно, бразды правления взял новый государь. А все еще чиновный люд хранил испуг перед покойником и продолжал выполнять иные его несообразные распоряжения. С чего-то Павлу пришло на ум, что вся Россия должна обедать в одно время — в час. С ним не поспоришь, и светские дамы, которые, может, к часу только просыпались после бала, тут же шли к обеденному столу. Александр Павлович садился за стол не ранее двух, и все шло к тому, что он будет, как принято в Европе, обедать около пяти. Голицынская канцелярия тоже отправлялась обедать в два, как и сам князь. Однако стоило Маликульмульку встать — и старая память ожила. Но сидеть до двух в канцелярии он не хотел. Лучше сбежать заранее, а то пришлют кого-то из слуг звать к княжескому столу. Голицын в Казацком и в Зубриловке привык, что стол накрывался на три десятка кувертов, и в Рижском замке ему недоставало сотрапезников, говорящих исключительно по-русски. В «Петербурге» останавливалась богатая публика, там даже держали особые каретные сараи для экипажей почтенных гостей. Угощение было на все вкусы — в буфетной можно было перед обедом закусить на русский лад, для чего имелись икра, сыр, хорошая солонина, сухари, настойки, портер, венгерские вина и конечно же водка. Если же кому хотелось закуски на французский лад, ее подавали прямо к столу на подносе, и она включала ветчину и пармезан. Маликульмульк конечно же направился в буфетную. Он уже знал многих из прислуги, и его тоже запомнили. — Добрый день, — сказал он пожилому буфетчику Гринману. Больше ничего добавлять не понадобилось, тот уже сам налил стопочку, подал немецкое изобретение — бутерброд с солониной. — Я уговорился встретиться тут с приятелями, — сказал Иван Андреевич. — Они должны приехать из Дерпта. Где тут у вас книга, куда вносят приезжающих? Должность господина Крылова была буфетчику известна, и пока Маликульмульк, расположившись в креслах, вкушал свой бутерброд, мальчик принес ему толстую книгу с разграфленными страницами. В последние дни там никто из списка отравителей не появлялся. Этого можно было ожидать — «Петербург» не то место, где прячутся от полиции. И все же проверить следовало. Затем Маликульмульк проследовал в обеденный зал, где спросил у метрдотеля, во что встанет ему французский пирог с дичью. Тот рекомендовал пирог за тридцать рублей или за пятнадцать талеров, которым за ужином могли бы насытиться пять-шесть человек. Большего для работы над пиеской и не требовалось. Заказывая обед, Маликульмульк узнал, что привезли английские устрицы, по двенадцать рублей сотня. Подал голос Косолапый Жанно, однако Маликульмульк сказал: «Цыц!» Такие подвиги следовало совершать при большом стечении народа. В «Петербурге» уже поняли, с кем имеют дело, и без лишних слов несли начальнику канцелярии двойные порции кушаний, начав со стерляжьей ухи. За ней последовали телячья печенка под рубленым легким, мозги под зеленым горошком, фрикасе из пулярки под грибами и белым соусом. На десерт ему подали целое блюдо французской яичницы с вареньем. Вместе с яичницей прибыл лично Анри Шуазель, под чьим наблюдением ее соорудили. Он был в чистой белой холстинной куртке с кухмистерским колпаком на голове. Маликульмульк объяснил, какой пирог нужен и для какой он назначен цели. Повар посмеялся — цель действительно была необычная — и пообещал, что начинка, когда дойдет до дела, будет не слишком влажной. Затем Иван Андреевич спросил его по-приятельски, не было ли в последнее время случаев, чтобы в «Петербурге» велась Большая Игра. О том, что каждый у себя в номере вправе баловаться картишками, речи не шло. Он хотел знать, не обретался ли в гостинице кто-то из тех, кого считали записными игроками, то есть мастер, живущий на доходы от колоды. — Были такие господа, — отвечал по-немецки Анри Шуазель. — И был также случай, когда играли двое суток, им кушанье в номера подавали. Потом случился какой-то скандал, и эти господа съехали. — He упомните ли, герр Шуазель, как звали тех господ? — Они записаны в книге. — Ну, так попросим принести книгу… — Я сам схожу и погляжу! — торопливо воскликнул повар. Он видел, на что стали похожи рукава начальника канцелярии после фрикасе под белым соусом, и совершенно не желал, чтобы господин Крылов изгваздал книгу. — Сдается мне, что один из них — фон Дишлер, — сказал, вернувшись, Шуазель. — Это имя в книге есть. Но вы же знаете, этим господам придумать себе новое имя — все равно что мне выпить рюмку мозельского, быстро и приятно. Удивления достойно, где они добывают фальшивые паспорта. — А как он выглядел, этот фон Дишлер? — Мужчина в годах, весьма обходительный… «Шулеру и положено быть обходительным, — подумал Маликульмульк. — Иначе — кто ж с ним играть сядет? Но ему нельзя выглядеть чересчур умным». — Обожает играть на скрипке… Это было уже занятно. — А еще приметы? — Нос, — немного помолчав, ответил Шуазель. — Этот человек почти лишен переносицы, однако его нос не является продолжением лба, как у греческой статуи, а образует с ним угол, вот такой… Повар взял вилку и начертал на грязной тарелке профиль — действительно необычный. — Еще? — У всякого, кто пьет или страдает почками, бывают мешки под глазами. А у фон Дишлера они замечательной величины и как бы двойные. И цвет лица нездоровый. — Еще? — Ростом с меня. Больше повару ничего вспомнить не удалось. Но и это уже было кое-что. Вернувшись в замок, Маликульмульк убедился, что вся канцелярия в сборе, посидел там немного и отправился в кабинет к Голицыну. Тот только что вышел из-за стола и не имел пока желания копаться в бумажках. Этим следовало воспользоваться. — Что вы изволили решить насчет бригадира Дивова? — спросил Маликульмульк. — Понятия не имею, братец ты мой, к чему его приспособить. Он ведь, ты сказывал, уж стар? — Полагаю, ему за шестьдесят. — Ну вот. Старик, а на службу просится. Будь он из простого звания — можно бы в сторожа, а то хоть в будочники. А тут, вишь ты, бригадир, дворянин. А что умеет — неведомо. — Он жил богато и трудиться, уйдя в отставку, нужды не имел. Но, как всякий военный, должен знать математику, фортификацию, тактику, — сказал Маликульмульк. — Мог бы учить гарнизонных солдат. — Их есть кому учить… Ну, задал ты мне задачку! Может, просто оказать ему вспомоществование? Это дешевле выйдет, чем его к делу пристраивать. Пошли человека, пусть принесет его послужной список, напишем в столицу. Ему ведьполагается какой ни есть пенсион… — Пока дождемся ответа, он и сам с голоду помрет, и невестку с внуками уморит. — Ну, так я пошлю ему из своих двести рублей, пока дело с пенсионом не решится. — Может отказаться, он с норовом. Он готов вновь служить, а не брать… — Не брать подачек? — проницательно продолжил князь, прищурив свой хитрый левый глаз. — Ну так придумай, к чему бы его определить! Покойный Потемкин, помнится, приставил старого дьячка памятник царю Петру охранять — и за то ему оклад денежного содержания назначил. А этого? Петуха на Домском соборе сторожить? Стой! Придумал! Отправь-ка курьера в Цитадель, в работный дом! Вели главному надзирателю немедля прийти! Это заведение находилось за Петропавловским собором. Там жили взаперти подследственные арестанты обоего пола и целый день трудились, оплачивая свое содержание. Две или три комнаты были отведены для умалишенных, которых всегда мог при необходимости навестить гарнизонный врач. Это также составляло повод для грызни с магистратом — до того в городе «бешеного дома» не было, господа ратсманы никак не могли изыскать на него средства, а как в Цитадели приютили безумцев, так ратсманы и решили, что этих комнатушек на всех рижских сумасшедших хватит. Голицын выражал недовольство тем, что в этот работный дом попадали люди за мелкие провинности. Рижские предместья обнесены были палисадом из высоких заостренных кольев — как делалось при царе Иване Грозном и еще ранее. Палисад, в отличие от земляных валов крепости высотой в пять сажен и даже больше, был подвижным — предместья разрастались, и его переносили все дальше и дальше. Но зимой стена из деревянных кольев — соблазн для тех, кто не запасся дровами. По ночам обыватели вытаскивали колья, а магистрату приходилось оплачивать их замену. Время от времени воров ловили и карали. Но запирать за такую мелочь на два-три месяца в работный дом — уже чересчур. Маликульмульк живо смекнул, до чего додумался князь. Дать Дивову должность какого-нибудь обер-надзирателя, нарочно для него изобретенную, да казенную квартиру в Цитадели — чего же лучше? Он туда переберется с Анной Дмитриевной… с Анютой… Они были совершенно не похожи — та Анюта, что осталась в далеком прошлом, худенькая девочка с огромными голубыми глазами, и Анна Дмитриевна, уже не юная, уже не красавица, хотя если причесать на модный лад и немножко подрумянить, стала бы хороша собой, наверно… Отправив курьера, Маликульмульк уселся за свой начальнический стол, куда догадливые подчиненные уже сложили стопку конвертов с большими сургучными печатями. Аккуратно их срезая, он опять задумался о своем — об игроках, которые прячутся где-то в Риге. Они непременно должны появляться в гостиницах и высматривать богатых приезжих. Скорее всего, у них есть какое-то убежище на случай неприятностей с полицией. Графиня де Гаше, Эмилия фон Ливен, Иоганн Мей, Леонард Теофраст фон Димшиц, Андреас фон Гомберг… И некто фон Дишлер с нечеловеческим носом. Про убежище может знать хитрая Маврушка. Довольно ей уже раздумывать, выдавать или не выдавать семейные секреты Дивовых. Пора бы ее навестить. Маликульмульк приструнил Косолапого Жанно, уже мечтавшего о сытном ужине. Он предоставил начальнику канцелярии Ивану Андреевичу выслушивать подчиненных. А сам уже рассчитывал, как поведет беседу с субреткой. Если бы гномы Буристон или Зор написали эту беседу, она была бы язвительна и забавна. Субретка Маврушка показала бы свое корыстолюбие во всей красе. И под каким именем она блистала бы в сей новоявленной «Почте духов»? Плутана? Ветрана? Небо за окном вроде бы не предупреждало о скором дожде. Сказав Сергееву, что хочет снова посетить отставного бригадира Дивова, Маликульмульк покинул канцелярию.* * *
Он шел по неширокой улице к Ратушной площади — там было более всего надежды взять извозчика. Вокруг творилась немецкая жизнь с маленькими немецкими радостями — из одного приоткрытого окна пахнуло корицей, из другого кофеем, из третьего, кажется, кардамоном. Где-то негромко и слаженно пели песенку о форели в ручье. Город жил вне времени, по тем старинным законам, которые даже не всегда были записаны на бумаге, но под строгим надзором магистрата соблюдались неукоснительно. Самая настоящая немецкая провинция — не торговый город Российской империи, а заштатный немецкий городок, в который новые веяния или вовсе не долетают, или, долетев, вызывают ужас и неприятие. Скажи этим господам «Штурм унд дранг!» — так даже не поймут, что это за «буря и натиск». Им сие не надобно, на новейших литературных течениях талеров не заработаешь. В Геттингене, в Страсбурге, в Швабии — всюду собрались вместе пылкие и талантливые юноши, восстали против заплесневевших правил. В Риге наоборот, делают все, чтобы литературы не было, и лишь ставят в театре Фитингофа нашумевшие в Европе пьесы — нельзя же совсем без изящных искусств. Но «Бурю и натиск» Клингера, с которой началось все новое в немецкой литературе, не поставили. «Искать забвение в буре» — это не для почтенных бюргеров. Извозчик нашелся, и дрожки покатили по Известковой к городским воротам. Когда пересекали эспланаду, Маликульмульк сделал несколько глубоких вздохов — тут был совсем другой воздух, хотя городской ров отнюдь не благоухал. Огромное открытое пространство перед бастионами, Песочным и Блинным, успевшее порасти кустами, кое-где засаженное молодыми деревьями, было любимым местом для больших гуляний и ярмарок. Сейчас пахло осенью — слетевшей наземь листвой, устилавшей эспланаду от рва до едва наметившейся новой улицы, дома на которой стояли пока лишь с одной стороны. Их окна слабо светились, и эта цепочка блеклых желтоватых пятнышек казалась подвешенной в небе. Вся Рига садилась ужинать. Один только начальник генерал-губернаторской канцелярии тащился на Романовну (ее немецкого названия он еще не знал). И когда удастся сесть за стол — неведомо. По дороге он думал, как бы выманить из морозовского дома субретку Маврушку. Не являться же за ней во всем блеске своего чина. Решил — как полагается персонажу в комедии — найдет способ, когда пробьет час выходить на сцену. Самое забавное, что так оно и получилось. Он увидел Маврушку, выходящую из калитки с корзинкой на сгибе локтя. Она сама куталась в большую серую шаль и корзинку также кутала. Извозчик по его приказу нагнал горничную. — Тебя подвезти, голубушка? — спросил Маликульмульк. Маврушка резко обернулась и совсем по-дружески улыбнулась ему. — Мне вас, сударь, Бог послал. — Ну так полезай сюда. Куда тебя везти? — На Родниковую. — К Дивовым? — К кому ж еще? Корзинку она поставила на колени. Косолапый Жанно принюхался — запах соленых огурцов забивал ароматы прочей снеди. Горничная тайком снабжала бывшую хозяйку провиантом. Любопытно, как это преподносилось старому упрямому свекру? Но пора было выходить на сцену проницательному наблюдателю. — Я обещал тебе, что узнаю имена злодеев, из-за которых пропали Михайла Дивов и Никишка, — сказал Маликульмульк. — Мне сообщили несколько имен, я их сейчас скажу, а ты вспоминай, голубушка, не слыхала ли их от бывшего барина или подлеца Никишки. И он перечислил, но уже не пятерых, а шестерых: графиня де Гаше, Эмилия фон Ливен, Иоганн Мей, Леонард Теофраст фон Димшиц, Андреас фон Гомберг и неизвестно кто фон Дишлер. — Графиня де Гаше, — сразу сказала Маврушка. — Но она добрая барыня, она хотела барина от карт отвадить. — Не было ли меж ними чего? — Да она ему в матери годится! — Как вышло, что она с тобой познакомилась? — Она со мной не знакомилась вовсе, а присылала ко мне одного господина. Он просил, чтобы я госпожу Дивову уговорила к ней в услужение пойти. А она дама богатая! Я, подумала: коли молодой барин сгинул, да денег нет, да старый барин — что твой кощей, может, ей бы гордость свою спрятать и доброй барыне послужить? И даже не горничной — а так… для разговоров… Это же не стыдно! Вон раньше и мы в гости езжали, и к нам езжали, так при многих барынях такие дамы живут! И все премного довольны! Маврушка говорила, а Косолапый Жанно внимал запаху соленых огурцов. Ядреные, наверно, были огурцы, хрусткие, и смородинного листа стряпуха не пожалела, и чесночком не злоупотребила. — С графиней понятно. А кого из господ поминал молодой барин? — Гомберга. Его часто поминал. — И сказывал, где Гомберг живет? — Зимой в крепости жилье снимал. Михайла Петрович к нему часто хаживал. Как задержится — так сейчас и ясно: у Гомберга. — Там же и в карты играли? Маврушка задумалась. — Почем мне знать? — спросила она. — Может, и там… — А Гомберг у вас бывал? Когда еще на Мельничной жили? — Бывал. — И что? Каков собой? Да ты не бойся, я ведь прямо сказал: хочу Дивовым помочь. — Собой-то он хорош… — с подозрительной тоской в голосе отвечала Маврушка. — Как картинка с табакерки… Стой! Вот тут я сойду. — Я подожду тебя и отвезу обратно, — пообещал мудрый Маликульмульк. Ибо даже в комедии минувшего века, где характеры просты, а вся прелесть — в сатире, трудно было бы найти в пятнадцатитысячном городе молодца по такой примете, как сходство с неизвестно какой картинкой. Маврушка со своей корзинкой скользнула в калитку. Видимо, у нее был уговор с госпожой Дивовой. Маликульмульк, задрав голову, разглядывал дивовское окошко — не мелькнет ли кто? Родниковая улица была довольно широка, чтобы разъехались два экипажа. Но извозчика окликнул сзади басовитый голос, попросил подать чуть правее, а то будет неладно. Дрожки прокатили вперед, а Маликульмульк, охотник созерцать и примечать, обернулся. К дому, стоявшему почти напротив дивовского, подъехал наемный экипаж. Это был хороший дом, недавно построенный, и, судя по свету в окнах, свечек там не берегли. Именно этот свет падал на крыльцо. Из экипажа вышел кавалер в длинном плаще и вывел даму. И даже не то чтобы вывел — она выпрыгнула, едва коснувшись пальцами его протянутой руки. При этом с плеч ее соскользнула шаль, и стал виден тонкий, тоньше некуда, стан, охваченный узким, слегка расширенным книзу светлым платьем. Нельзя сказать, что эта французская мода совсем уж не нравилась Маликульмульку. По крайней мере ее откровенность была лучше, чем причудливость прошлой моды, с ее широкими юбками, затянутыми талиями и всяческой батистово-кружевной суетой вокруг полуприкрытого бюста. Платьица на манер ночных сорочек, подпоясанные под самой грудью, казались забавными и показывали каждое движение стана; кроме того, наконец-то кавалер видел бедра и ноги дамы, к которой проявил интерес, и это стало тяжким испытанием для всех задастых и кривоногих дам, лишенных великолепной своей союзницы, широкой юбки на фижмах. Но Маликульмульк, глядя на новомодных красоток, отчетливо понимал, насколько устарели все подробности в «Почте духов». Вот выйдет второе издание — а читать его будут, как исторический трактат, спрашивая у бабок, что такое «фуро» и «тупей алакроше». А всего лишь двенадцать лет прошло с выхода в свет первой тетрадки журнала — той самой, где Прозерпина привозит в ад французские модные тряпки. Двенадцать лет, а свет не узнать… И самый отчаянный возмутитель спокойствия, взбаламутивший весь Санкт-Петербург (по крайней мере сам он так считал), вдруг оказался начальником канцелярии. Генерал-губернаторской канцелярии в провинциальном городе. А другой не менее отчаянный баламут, с которым вместе и «Зрителя» издавали, и «Меркурия», ныне цензор русских пьес при дирекции императорских театров. Цензор! Сашка Клушин, язвительнейший сатирик, — цензор!.. Высокая тонкая дама, что появилась из экипажа, очевидно, была невесома — так легко перенеслась от подножки к крыльцу, оставив за собой кавалера. Она обернулась, словно желая убедиться в его присутствии, и Маликульмульк увидел ее лицо. Он мало значения придавал женской красоте, но понял ясно — этой даме лучше бы всегда поворачиваться к кавалерам спиной. У нее был короткий вздернутый нос и глаза навыкате — точь-в-точь как у мопса. К тому же, глядя на нее сбоку или сзади, хотелось предположить лицо столь же удлиненное, как линии тела и тонкие изящные руки. Так нет же — лицо скорее можно было назвать мордочкой, которую шутница-Природа позаимствовала у какой-нибудь карлицы. Небольшое круглое личико на длинной красивой шее гляделось очень странно — Маликульмульк поневоле вспомнил о маскарадной полумаске, отороченной черным кружевом, они сейчас явилась бы очень кстати. Кавалер стремительно последовал за дамой и успел открыть ей дверь. Она шагнула в сени, он же остался на крыльце. Человек, сидевший рядом с кучером, слез, достал из экипажа баул, поставил наземь, достал другой баул и внес их оба в дом. Тогда только кавалер отпустил экипаж и сам вошел в сени. Дверь захлопнулась. Маликульмульк обернулся в надежде увидеть Маврушку — и она действительно стояла у калитки, уже без своей корзинки. Маликульмульк позвал ее жестом, она быстро подошла и забралась в дрожки. Вид у нее был озабоченный. — На Романовку, — сказал извозчику Маликульмульк и повернулся к Маврушке. — Ну что, голубушка, будет дальше вспоминать? Какие имена ты слышала кроме графини де Гаше и фон Гомберга? Он повторил оставшиеся: Эмилия фон Ливен, Иоганн Мей, Леонард Теофраст фон Димшиц, фон Дишлер. — Мей, — неуверенно сказала Маврушка, причем видно было, что мысли ее витают в каких-то иных эмпиреях. — И что же? Что говорили об этом господине? — Говорили? Что в карты играет… — И все? — Чего ж еще? — И не заходил к Михайле Петровичу? — Хозяин его с лестницы спустил бы, — очевидно, она имела в виду старого Дивова. — Но ты ведь его видала? Я тебя, голубушка, насквозь вижу — не может быть, чтобы ты по просьбе барыни своей не бегала узнавать, где Михайла Петрович пропадает, — уверенно сказал Маликульмульк. — Или же у беглого Никишки что-то узнавала. — Да пропади он пропадом, этот Никишка! — разозлилась Маврушка. — Да чтоб его, подлеца, разорвало! — Ну, так где ж ваш Мей обитает? Может, в гостинице «Петербург»? Маврушка недовольно фыркнула. — Или в «Лондоне»? — А может, и в «Лондоне». «Лондон» молодой барин поминал… — И ни разу ты этого Мея не видала? — Ни разу. Маликульмульк даже расстроился — субретка, живая и говорливая, обернулась угрюмой бабой. Что-то у нее было на уме, что-то очень нехорошее. И разговор с прилично одетым господином ей не нужен — даже то, что господин за свой счет вез ее домой, казалось ей не стоящим внимания. — Мавруша, голубушка, — сказал он, — неужто ты не хочешь помочь госпоже Дивовой? Ты ведь до сих пор о ней заботишься! Вон, тайком провиант таскаешь. А что, как Морозовы узнают? — Не обеднеют, — буркнула Маврушка. — Вы, барин, велите стать. Я дальше пешком пойду. — Ты обиделась, что ли? — Не обиделась, а нехорошо. Дворник увидит, что на извозчике еду, — то-то мне достанется… — Стой! — приказал извозчику Маликульмульк. — Я к тебе еще наведаюсь. Может, чего вспомнишь? Ну, Бог с тобой. — Бог в помощь, барин. Извозчичьи дрожки стали разворачиваться, чтобы доставить седока обратно в крепость. Маликульмульк увидел морозовский дом, но Маврушку, подходящую к калитке, не увидел… Она обнаружилась, когда он, велев извозчику остановиться, стал озираться по сторонам. Шустрая горничная бежала назад — к Родниковой. Да и как бежала! Словно не тридцать лет ей было, а пятнадцать, как Маше Сумароковой. И на рысаке этакую Маврушку не догонишь… Это было странно, однако не противоестественно — так рассудил Маликульмульк. Забыла что-то важное у бывшей хозяйки, не иначе. Ту же корзинку хотя бы… А вот сам он забыл, что пора бы наконец поужинать. Любопытно, что сегодня у Голицыных? Хорошо бы стерлядь… Что бы ни говорили врачи, а Косолапый Жанно держался старинных русских правил, плотно обедал и плотно ужинал. Он постановил для себя, что ужинать перестанет в тот самый день, с которого перестанет обедать. Правда, узнал Маликульмульк мало: красавчик Гомберг снимает жилье в крепости, Мей обретался в гостинице «Лондон» — туда, возможно, и вернулся. Но, может, Маврушка сменит гнев на милость и вспомнит еще какие-то подробности. И удастся наконец отыскать игроцкую компанию… Нельзя же столько месяцев наслаждаться тишиной, покоем и размеренным существованием! Уже хочется в Большую Игру, как в омут головой, снова испытать это мрачное блаженство — ночь напролет между восторгом и гибелью…* * *
Кучер Терентий, глядя на бегущие по темному небу облака, понял, что ночью может быть сильный ветер. Стало быть, Косолапый Жанно замерзнет в своей башне насмерть. Он бывал в комнате, имеющей вид однорогого полумесяца, видел окошки и знал, что их нужно чем-то заложить, чем-то плотным, вроде старого одеяла или даже перины. Когда тебе принадлежит человек, которым ты желаешь распоряжаться, нужно, прежде всего, стать для него незаменимым. Вот додумается Косолапый Жанно заложить окна хотя бы снизу старыми конскими попонами? Да ввек не додумается! И просквозит его, и придется его жалеть… Терентий знал, где на конюшне лежат эти самые попоны. Пока они не нужны — так можно их употребить в дело. А потом, может, найдется что-нибудь получше. Или, действуя через няню Кузьминишну, удастся переселить бестолкового недоросля в приличное помещение. Угораздило же его забраться в эту страшную башню! А няня Кузьминишна пользуется огромным доверием княгини, она присматривает за тем, как обихаживают детей, особо следит за воспитанницей — даже когда Косолапый давал Маше уроки, она сидела в классной комнате и вязала чулок, лишь бы не оставлять девочку наедине с мужчиной. И если она скажет, что недоросля лучше переселить в другое помещение, пока не нажил от сквозняков чахотку, то так оно и будет. Терентий положил себе, что в ближайшие дни этим займется, а пока нашел мешок, сгрузил в него четыре попоны и, хоронясь, потащил их через Северный двор к угловой двери, которая вела в небольшие сводчатые сени, а уж оттуда можно было попасть на лестницу, пронизавшую башню Святого Духа снизу доверху. Там он спрятал мешок в удобном месте под ступеньками и пошел в свое скромное жилище. Терентий не знал, что его подопечный сбежал из канцелярии, и полагал, будто Косолапый Жанно ужинает вместе с княжеским семейством. Но горничная Фрося, прибежавшая к нему с узелком плюшек, похищенных с господского стола, рассказала: недоросль пропал! Сбежал куда-то, не доложившись, и сама княгинюшка ворчать изволила: ей с дамами без него после ужина скучно. — Знаю я, куда он сбежал, — отвечал недовольный Терентий. — У него, у дурака, в предместье сударка — клейма ставить негде! — Ты врешь! — воскликнула изумленная Фрося. Терентий молча перекрестился, да как перекрестился — с силой вдавливая щепоть и в лоб, и в брюхо, и в плечи. — Ты видал ее? — Как не видать! Вот думаю, как бы его от этой полымянки отвадить. Ведь женится сдуру — а потом от нее хоть в петлю! — Уж так сразу женится? — ужаснулась Фрося. — Да. Он, вишь, без нее жить не может, как свободная минутка — сейчас к ней летит. Фрося разинула рот, а глаза сделала такие огромные и круглые, как ефимки в меру альбертова талера, отчеканенные три года назад из наилучшего серебра. И от ее изумленного взгляда Терентия осенило. Разумеется, он осознавал свой долг перед женой и ребятишками, оставшимися в деревне. Однако вдвоем с Фросей он мог по-настоящему прибрать к рукам своего недоросля. Фрося весь девичий век проводит в господских покоях, все видит, все слышит, все знает. Ей-то улестить старуху Кузьминишну куда легче, чем кучеру. Да и самой княгине может словечко вовремя молвить. А вот коли осуществится план и Господь управит так, чтобы Косолапый Жанно хорошо женился и князь отдал бы ему своего кучера (как, зачем — об этом Терентий сейчас не думал), то можно бы как-то исхитриться и присовокупить к княжеским благодеяниям и Фросю. Вдвоем же можно править недорослем лучше, чем четверкой пожилых и спокойных лошадок. — Я за ним приглядываю, — сообщил Терентий. — Без меня он совсем пропал бы. И ты посматривай, не натворил бы чего. А вот, коли княгинюшка его женила бы на Катюшке своей, то, может, тебя им отдала бы. И зажили бы мы с тобой знатно! — Ты что такое несешь? Ты ж с Маланьей повенчан! Тьфу! Вот додумался! — возмутилась Фрося, поняв, что если Терентий будет осуществлять этот замысел, их тайная связь выйдет наружу, и не миновать тогда оплеух. — А ты все ж таки поглядывай! — А она — как? На лицо? Терентий задумался. У него были два ответа: «Прехорошенькая!» и «Страшна, как смертный грех». И оба были по-своему правдивы. Дело в том, что Терентий Маврушку хорошенько не разглядел. С одной стороны, вряд ли Косолапый, избалованный дамами из княгининой свиты, клюнул бы на уродину. Значит, Маврушка была хорошенькой. С другой — он не мог признать никаких достоинств за женщиной, которая собиралась украсть его собственность. — Да так себе, — ответил он. И постановил — при первой возможности познакомиться с Маврушкой и внимательно ее разглядеть. Немного погодя он отправился вызнавать, вернулся ли недоросль. Оказалось — прибыл на извозчике и сидит с дамами, читает им вслух книжку, а они лениво рукодельничают. Но осенний вечер располагает к тому, чтобы пораньше лечь спать, так что скоро все разбредутся по своим комнатам. И некому будет донести господам, что кучер Терентий опять, перебежав через Северный двор, устремился в башню Святого Духа. Косолапый Жанно сидел в кресле и курил одну из своих ненаглядных трубок, когда к нему ввалился Терентий с мешком. — Ну вот, сударь, выстужаете комнату! А ночью мерзнуть будете! — заворчал Терентий, добывая из мешка попоны. — А мы сейчас окошечки закроем, заложим, дуть не будет! Он, забравшись в оконную амбразуру, стал мастерить оконную затычку, да такую, чтобы повыше вздымалась, закрывая все щели чуть ли не до верха рамы. Косолапый Жанно смотрел на него без всякого выражения на лице — был занят трубкой. А вот Маликульмульк усмехнулся, он сообразил (так ему казалось), ради чего Терентий столь трогательно о нем заботится. Это было достойно сцены в хорошей комедии — слуга, преследующий хозяина своей заботливостью. Когда Терентий законопатил и второе окно, Маликульмульк уже вспоминал, где кошелек с мелочью. — Что б вы без меня делали! — воскликнул Терентий. — Прямо как малое дите! За вами не присмотреть — спать будете в холоде, простынете, схватите гнилую горячку! А теперь вам тепло и не дует! Кто бы еще за вами-то так смотрел! Вот женитесь непонятно на ком — думаете, она вам окна конопатить станет? Да она лентяйка, ее господа избаловали! Она мерзнуть будет, а себя не утрудит! Маликульмульк отметил, что уже не в первый раз Терентий несет чушь про какую-то воображаемую жену. И нашел (опять же, как ему казалось) хороший способ поставить точку в Терентьевом монологе. — Ты напрасно беспокоишься, братец. С тобой ни одна жена не сравнится! — и тут Маликульмульк, — не удержавшись, заговорил примерно так же, как Буристон с Зором в «Почте духов»: — Жена ничего, кроме неприятностей, с собой не принесет! А после венчания начнутся у нее приключения, повреждающие мою честь, и будет вечное сражение у Амура с Гименом! Ты знаешь сам, любезный Терентий, как устроено наше общество. У нас ежедневно твердят о благонравии и похваляются соблюдением правил хорошего поведения, а неверность жен и мужей почитается за ничто. Ветреность и непостоянство женщин служат у нас вместо забавы, и в собраниях только для увеселения о том друг другу рассказывают. Терентий приоткрыл рот. Отродясь с ним никто так мудрено не разговаривал. «Терешка, стой!» и «Терешка, пошел!» — вот что он слышал он князя с княгиней, да и княгинина свита на него не тратила речей. А тут Косолапый Жанно заговорил с ним, кучером, так, как со знатными господами! И, если вести себя умно, всегда будет изъясняться именно так, кротко и любезно, а не то что «Терешка, черт, чуть тумбу не сшиб, колесо чудом не потерял, выпороть велю — тогда поумнеешь!» — Да и мудрено мне найти хорошую жену, — продолжал недоросль, уже шаря в кошельке. — Непонятно даже, умную брать или дуру. Ведь если муж и жена умны, то в доме никогда не бывать доброму согласию, поскольку никто из них слепым быть не захочет; а когда оба они глупы, то должно ожидать скорого разорения их дому; но чтобы составлять счастливые семейства, надобно непременно или дурака женить на умнице, или умному брать дуру. Тогда-то одна половина может веселиться, а другая, разинув рот, будет ожидать поведений или довольствоваться мнимой властию, между тем как ее за нос водят… На, братец, полтину! Терентий, впав от сложных речей в прострацию, протянул руку, получил монету и вдруг ахнул: он увидел внутренним взором кучку точно таких монет высотой в аршин, сияющую серебряным блеском, и осознал, что эти деньги могли принадлежать ему, а попали в руки коварной совратительнице недоросля! Уже попали — потому что всякой бабе, прежде чем подбить ее на грех, нужно делать подарки, всякие там буски, колечки, сережки, платочки, чулочки! Мало ли выманила у него бесстыжая Фроська! А толку?! Раза четыре всего и прибегала ночью. Но если Косолапый Жанно стал собственностью Терентия, то, стало быть, и деньги недоросля — тем более! И треклятая Маврушка просто-напросто обокрала законного владельца денег. Они же могли попасть — куда? А попали — куда? Маликульмульк думал, что отделался полтиной за все благодеяния — и дрова, и конские попоны. Выпроводив Терентия, он тут же разобрал всю фортификацию у выходившего на реку окна и с удовольствием выкурил еще одну трубку. Но Терентий, бредя впотьмах вниз по витой башенной лестнице, уже строил безумные планы. Всякий человек, который сам является чьей-то собственностью, умеет и любит врать. Это его законное природное право — обманывать хозяина. Терентий принадлежал князю Голицыну. Если бы князь, осердившись, выгнал его на свободу, Терентий не сразу научился бы жить самостоятельно. О вольной волюшке он, конечно, мечтал, но представлял ее так: делай что хошь, гуляй по улицам, пой песни, пей любые напитки, хоть квас, хоть французские коньяки, но трижды в день тебе будет в княжеской людской накрыт стол со щами и кашей, главное — не опаздывать. А с наступлением холодов тебе выдадут тулуп, шапку и валенки. И стратегическая затея относительно Косолапого Жанно именно такое будущее предполагала — чтобы недоросль стал кормильцем Терентия, стал его деревенькой в полсотни душ. Ради этого стоило потрудиться; какой же барин потерпит, чтобы оброк с его деревеньки забирала чужая баба?! Поэтому Терентий стал выдумывать, как бы опять выбраться в город и на сей раз открыто встретиться с Маврушкой. А что ей соврать — это он мог изобрести на бегу, пересекая эспланаду. На следующий день княгиня Варвара Васильевна собралась на прогулку. Пока солнышко хоть как-то светит — нужно успеть насладиться последними хорошими денечками, чтобы потом запереться в унылом замке и кое-как в нем перезимовать. Она решила ехать по Большой Песочной все вперед и вперед, до самого палисада, за которым уже виднелись деревенские пейзажи, огороды и сады. На обратной дороге княгиня задумала свернуть в Московский форштадт и посетить Гостиный двор. Что для дамы главное развлечение? Накупить таких вещиц, что мужчина только скажет «тьфу!» и прочь пойдет. Терентий знал по опыту, что меньше двух часов поход по лавкам не продлится, тем более, что княгиня выехала со свитой — там уж все примутся ее тащить налево и направо, сравнивать товар, шуметь и зря тратить время. Стало быть, можно, не слезая с козел княжеской кареты, прокатиться на Романовку и обратно. А если что — отчаянно врать, что был-де тут поблизости, только отъехал попоить коней. Дальнейшее было овеяно терпким и головокружительным ароматом безумия. Как прикажете назвать кучера, который, оставив господскую карету в каком-то переулке под присмотром незнакомого мальчишки, с заднего двора ломится в купеческий дом? А ведь другого способа увидеть Маврушку у Терентия не было — не оставлять же экипаж с гербами на видном месте! Когда оказалось, что Маврушку со вчерашнего вечера не видели, разумный человек поворотил бы оглобли и отправился к Гостиному двору дремать на козлах, пока их сиятельство не изволят появиться. Так то — разумный, а Терентий понесся с Романовки на Родниковую, спрашивать Дуняшку: не вернулась ли горничная к своей прежней хозяйке? На Родниковой он не смог остановить экипаж в подходящем месте, поставил впритык к какому-то забору и поспешил искать Дуняшку. Она, как всегда, шила у окошечка. Дуняшка, подумав, дала совет: искать пропажу на Мельничной, где раньше жили Дивовы, там у нее полно кумушек. Терентий, совсем ошалев, поскакал на Мельничную. Там он опять же пристроил карету в чьем-то дворе, дав пьяному деду пятак, чтобы посмотрел за лошадьми. Дед оказался немцем, но про пятак и лошадей понял. С единственной попавшейся ему кумушкой Терентий толком поговорить не сумел. Это была жена немца булочника, которая чуть что — понимать по-русски напрочь отказывалась. В глубине души Терентий был убежден, что всякая крещеная душа, даже немецкая, изначально знает русский язык, не может не знать — вон ведь и все святые были русскими, и Матушка-Богородица, иначе отчего бы ее Марией звали? И такое сопротивление фрау Вагнер его даже рассердило. Решив, что Маврушка прячется у нее, оттуда и нежелание разговаривать, он тут же выдумал план: вернуться сюда, когда стемнеет, в окнах зажжется свет и можно будет высмотреть пропажу в доме булочника. Более того, он догадался, что означает это вранье: не иначе именно у булочницы Маврушка встречалась с Косолапым Жанно. Вот теперь можно будет ее изругать за блуд и навсегда отвадить от недоросля. Надежда на благоприятный исход дела и на то, что у Маврушки, получившей нагоняй, проснется совесть, прямо-таки окрылила Терентия. А потом Косолапый Жанно, навеки разочаровавшись в зазнобе, окончательно отдастся во власть Терентия и позволит женить себя на смиренной невесте! О, какие надежды расцвели в кучерской душе… Ведь тогда в его собственности окажутся уже два человека, а детишки пойдут — это сколько же народу будет смотреть Терентию в рот, ожидая его мудрых распоряжений?! Похвалив себя за сообразительность, он погнал коней обратно к Гостиному двору. Там выбранное им место оказалось занято, он опять слез с козел и, бросив экипаж, пошел ругаться с другими кучерами, издали показывая пальцем на княжеский герб, украшавший дверцы. Никого ни в чем не убедив, он вернулся, объехал Гостиный двор посолонь в поисках питейного заведения, обнаружил искомое, выпил чарочку и умудрился подъехать к нужному крыльцу как раз в минуту, когда княгиня и три сопровождавшие ее дамы появились из дверей. Следом вышел лакей Степан и побежал отворять дверцу экипажа. Дернув ее на себя, он вытянулся в струнку у заднего колеса, заблаговременно протягивая княгине руку для опоры. Но она велела первой входить Екатерине Николаевне. Та шагнула на ступеньку, на вторую — и завизжала, шарахнувшись назад. Степан еле успел подхватить ее. Княгиня знала, что ее дамы способны упасть в обморок при виде мышонка. Она устремилась к экипажу, желая увидеть, что там за непорядок. И увидела… Увидел и Степан, заглянув через ее плечо. Ахнул, перекрестился… Норов у княгини был — хоть драгунский полк в бой веди. Поэтому она не завопила благим матом, а кратко приказала Степану: — Беги во двор, Степка, в первой же лавке вели купцу послать парнишку в часть. Потом найди для нас двух извозчиков. Да живо! Нас отправишь в замок — сам оставайся тут, пока полиция будет разбираться. А ты… Тут она перевела взгляд на Терентия и даже замолчала, потому что переполнявшая человека злость частенько вызывает такую внезапную немоту. — Ты… до тебя, до пьянчужки, я еще доберусь! В деревню, навоз возить!.. Терентий браво сидел на козлах и не понимал, что происходит. Понял он, когда княгиня с дамами уехала, а примчавшийся на зов квартальный надзиратель велел ему ехать в часть. Там только из княжеского экипажа вынесли тело. Тогда Терентий чуть не свалился наземь, узнав Маврушку. Ее опрятный чепчик куда-то подевался, длинные темные косы волочились по земле. — Удавили рабу Божию, — сказал мрачный Степан. — Ну, Тереша, теперь — домой… Как же это ты зазевался? — Вот те крест, не я это! — закричал Терентий. — Мало ли с кем она блудила! Она ж!.. И ахнул: вот как раз имени любовника называть и не следовало.Глава пятая В погоне за каретой
Суматоха вышла знатная. Сам рижский обер-полицмейстер прискакал в замок к князю, клялся, что найдет убийц и покарает их по всей строгости закона. Князь метал громы и молнии: слыханое ли дело — подбросить труп в его собственную карету с гербом! Терентия два дня подряд допрашивали, расквасили ему кулачищем нос и грозили запороть насмерть. Он валялся в ногах, рыдал, клялся, что знать ничего не знает, что стоял с экипажем у Гостиного двора, как велено, и только раз его покинул — забежав в питейное заведение. В эти-то десять минут тело и подбросили, утверждал Терентий, а сам он ни при чем! Опросили свидетелей. Точно, княжеский экипаж видели в переулке за Гостиным двором, Терентия в заведении тоже видели. А прочее — на совести Московского форштадта. На него власть полиции распространяется лишь формально, и искать там злоумышленника — зря тратить время. Его не выдадут — не потому, что он кому-то брат и сват, а лишь из нежелания облегчать труды полицейских сыщиков. Стали разбираться, чье тело. Терентий сквозь кровавые сопли божился, что видит эту бабу впервые в жизни. Полиция имела в форштадте своих осведомителей — те пришли, поглядели, сказали, что не здешняя. Словом, образовалось темное и невразумительное дело: неведомо кто удавил неведомо кого и подбросил в самое неподходящее место. Даже сама мысль спрятать тело в карете была безумной — у Гостиного двора всегда полно народу, и странно, что убийцы не побоялись свидетелей. Маликульмульк у себя в канцелярии сразу узнавал все новости, связанные с розыском, и от души сочувствовал Терентию — надо ж было влипнуть в такую историю. А сам меж тем продолжал поиски игроцкой компании. Гостиница «Лондон» была совсем молодой и не нажила еще репутации «Петербурга». В ней скорее всего можно отыскать беглецов из «Иерусалима». В «Лондон» неплохо бы сходить вместе с Давидом Иеронимом навестить Паррота, если он еще не уехал в Дерпт. Правда, Паррот за что-то невзлюбил начальника губернаторской канцелярии — ну да Маликульмульк уже усвоил ту истину, что один лишь золотой червонец всем нравится. Так что после службы Маликульмульк отправился в аптеку Слона в обществе Косолапого Жанно. Косолапый рассчитывал на угощенье, аптекарь Иоганн Готлиб Струве и его молодой помощник всегда приказывали подавать ароматный кофей и к нему печенье. Маликульмульк предполагал разыграть сценку: ловкий интриган уговаривает простодушного юношу нанести визит приятелю. Но вышло так, что Давид Иероним завел разговор о покойниках. — Меня звали в анатомический театр на вскрытие, — сообщил он. — Опять отравление? — Нет, молодую женщину удавили. Труп никем не опознан — вот его, пока он еще годится в дело, и отдали нам на растерзание. Тем более, женщина была беременна на пятом месяце. Видеть эмбрион — всегда познавательно. — Вы ходили? — Да, там должен был быть любопытный спор — о времени убийства. Оказалось, по прошествии двух или трех дней установить время мудрено. А найден был труп… Да вы, герр Крылов, о нем слыхали! — Неужто в карете его сиятельства? — Тот самый! — Занятно! — воскликнул Маликульмульк. — И что же, вы присутствовали все время вскрытия? — Пришлось — было предположение, что бедняжку сперва отравили, потом задушили. Но тут я ничего сказать не смог — и старшие мои товарищи только руками развели. Может, да, а может, нет. Хотя это помогло бы в розыске убийцы. Отравлена — значит, в деле замешана женщина. Мужчина не стал бы сперва подсыпать яд, а потом, дождавшись, пока он начнет действовать, набрасывать на шею удавку. Мужчина убил бы сразу. С другой стороны, женщина не могла бы так быстро и незаметно перенести тело в карету. Если только кучер не врет… — То есть как? — Он мог, пока его госпожа делала покупки в Гостином дворе, отъехать куда-то в иное место — и там ему сделали этот скверный подарочек. Ведь женщина была убита по меньшей мере за двое суток до того, как сделали вскрытие. Ясно одно — убийца не грабитель. В ушах у нее остались дорогие сережки. — И где теперь тело? — забеспокоившись, спросил Маликульмульк. Слово «сережки» о чем-то ему напомнило, и он мучительно пытался поймать за хвост мелькнувшее воспоминание. — В анатомическом театре — и желающие могут его там видеть. Может, все-таки кто-то опознает. — Бог с ней, с этой бедняжкой, — решительно сказал Маликульмульк, вспомнив о цели своего визита. — Друг ваш Георг Фридрих еще в Риге? — Да, но скоро уезжает. — Я хотел бы пригласить вас обоих на обед. Вы ведь знаете, Давид Иероним, что я любитель поесть… Гриндель улыбнулся. Эта страсть была написана на всей фигуре Косолапого Жанно и на его круглой физиономии большими буквами. — … и еще ни разу не обедал в «Лондоне». Буду рад, коли вы составите мне компанию. Давид Иероним несколько смутился. Не далее как вчера Паррот сказал ему: — Не понимаю вашей дружбы с этим неопрятным толстяком. Знаете ли вы, что он за человек? Его из милости приютил князь Голицын и дал ему чин начальника своей канцелярии лишь за то, что этот господин своими шутовскими выходками развлекал его, когда он был в сибирской ссылке. Гриндель знал характер Паррота — тот не просто соблюдал некие принципы, но словно бы сам был их олицетворением, и если бы выбирать человека, чтобы доверить ему обязанности своей строгой и неумолимой совести, то Георг Фридрих Паррот очень к этой должности подходил. Давид Иероним желал, чтобы старший товарищ уважал его, но, с другой стороны, герр Крылов никогда и ничего не рассказывал про Сибирь, так что молодой химик даже растерялся: кому верить? Он хотел, чтобы все его друзья между собой ладили, но тут возникло противостояние, и он не знал, как поступить. Герр Крылов был ему очень симпатичен своей начитанностью, любознательностью, интересом к немецкой литературе. Однако Паррот, как ему казалось, никогда в людях не ошибался. — С удовольствием принимаю ваше приглашение, — сказал наконец Давид Иероним, решив, что Парроту не скажет ни слова. К тому же, обед можно отложить до того дня, когда Георг Фридрих уедет наконец в свой Дерпт. И остаться другом обоих — сурового и добродетельного Паррота, забавного и талантливого герра Крылова. Маликульмульк все эти душевные страдания видел, понимал и в глубине души ухмылялся: даже если Давид Иероним отправится с ним обедать без профессора Дерптского университета, тем лучше. Из аптеки Слона он пошел к герру Липке читать вслух Шиллера, а через час, взяв на Ратушной площади извозчика, покатил на Романовку. Ему хотелось найти Маврушку, и в то же время на душе кошки скребли. Он вспомнил, что Маврушка получила от графини де Гаше дорогие сережки за то, чтобы уговорить Анну Дивову пойти к графине в услужение. Хотя он понимал, что в Риге проще найти двухголовую женщину, чем женщину без сережек, но все же, все же… Он уже пересек эспланаду, когда понял, что затеял глупость. Если начальник губернаторской канцелярии на ночь глядя притащится в дом к Морозовым спрашивать о горничной, а эта горничная и впрямь мертва, об этом очень скоро станет известно князю Голицыну. И как прикажете объяснять ему сию проказу? Маликульмульк приказал извозчику поворачивать назад и вернулся в Рижский замок очень недовольный. А там, извольте радоваться, княгиня к себе кличет! Уже всюду гонцов разослала — и в башню, и в «Петербург». Княгине хочется поговорить о жутком событии, а потом послушать музыку и обсудить домашний спектакль, для которого Маликульмульк обещался написать пресмешную пиеску. — Чтобы ее написать, мне сперва надобно убедиться, что ее главный герой в нужную минуту не оплошает, — сказал Маликульмульк и вызвал море вопросов: что за герой, молод ли, хорош ли собой? Он отшучивался, не желая говорить раньше времени, что это — большой французский пирог. Когда княгиня милостиво отпустила его, он уже знал, что, выждав немного времени, проберется на конюшню к Терентию. Тот наверняка знал о трупе больше, чем рассказал. Можно было ждать в гостиной, но ему хотелось курить. Княгиня не допустила бы такого безобразия в своих апартаментах, и он, взяв свечу, пошел в башню. Ко всему привыкаешь — и витая лестница, которая сперва сильно его раздражала, была преодолена всего лишь с одной остановкой. У самого порога сидел на ступеньках угрюмый Терентий. Увидев свет, он встрепенулся, и когда лицо Косолапого Жанно обозначилось внизу, неторопливо встал. — Заходи, братец, — сказал ему Косолапый Жанно, невольно подражая князю. — Опять у вас непорядок, — отвечал Терентий, войдя в комнату. — Где тут моя тряпка? Косолапый Жанно и не знал, что у Терентия в его жилище своя тряпка завелась. А кучер имел в виду кусок древнего холщового полотенца, который притащил вместе с попонами, чтобы плотно заткнуть оконные щели. Холстина не понадобилась, и сейчас он ее отыскал, чтобы смести с подоконника трубочный пепел. В своей конурке Терентий грязи не разводил, но и за каждой пылинкой не гонялся. А вот жилище недоросля должно было блистать, ибо конура при конюшне — своя и не своя одновременно, проще сказать, господская, а комната Косолапого Жанно принадлежала Терентию вместе с ее безалаберным хозяином. Обнаружив свое сооружение из попон в растребушенном виде, он и обиделся, и рассердился. Рассердился даже более основательно, чем обиделся: то, что не оценили его трудов, мелочь; не мелочь то, что во владениях устроили кавардак! Но Терентий ничего не сказал Косолапому Жанно и молча восстановил правильное положение попон, не обращая внимания на вопросы о найденном в карете мертвом теле. Всем видом он показывал: он, Терентий, здесь главный, и пока не сделает важное дело, к нему лучше не обращаться. Маликульмульк этих тонкостей и оттенков не понял. Он достал и раскурил трубку, полагая, что рано или поздно Терентий прекратит возню спопонами и ответит на вопросы. Наконец кучер кончил демонстративное, почти ритуальное сооружение тряпичного алтаря на подоконнике. Повернувшись к Косолапому Жанно лицом, а не откляченным задом, он тяжко вздохнул и приступил к заранее обдуманной речи. — Вот так-то оно бывает, — скорбно сказал Терентий, — когда не спросясь, не подумавши… А оно вон как! И хорошо, что добрые люди на свете есть! И в обиду не дадут! А то что было бы? Их сиятельство тут-то бы и разгневались! А из-за чего? Дурь одна и блажь! Как будто ничего получше не нашлось! Да нашлось бы! Смиренную сироту надобно! А не то чтобы бог весть что! Сам Терентий свою речь отлично понимал. А вот Косолапый Жанно и Маликульмульк были сильно озадачены. Но Косолапый Жанно вообще не придавал большого значения маневрам Терентия. Хочется ему хозяйничать в башне — ну и на здоровье. А вот Маликульмульк, предоставив Косолапому Жанно пыхтеть трубочкой, вернулся к волновавшим его вопросам. И спросил напрямик: — Скажи-ка честно, друг мой, ты ту женщину, что была найдена в экипаже, узнал? — Да как не признать… Да только я молчал, Христом Богом — молчал! Как рыба! Разве ж я мог сказать?! — А что вышло бы, когда бы сказал? — удивился Маликульмульк, полагая, что за случайное знакомство никто бы Терентия особо ругать не стал. — Как это, что вышло бы? Да то бы и вышло! — и тут Терентий запричитал, всем видом являя укор неблагодарному недорослю: — Да я ли не забочусь? Да я ли не стараюсь? Как же я мог сказать, кто эта баба? Да вашу милость тут же в часть сволокли бы! И не поглядели, что канцелярский начальник! — Я-то тут при чем? — спросил Маликульмульк. — Так не я ж на ней жениться собрался-то! На Маврушке этой! Да на черта она мне сдалась, Царствие ей Небесное! — По-твоему, я на ней жениться собирался? — А то кто ж?! Я вашу милость отговаривал, а вы — ни в какую! Женюсь, мол, на зазнобе! А ей ведь грош цена была, Царствие ей Небесное! Маликульмульк громко расхохотался. Это была такая сцена для комедии, что лучше не придумаешь. Молиер, Бомарше и Скаррон скончались бы от зависти. Он-то хохотал, а широкая щекастая физиономия Терентия окаменела. Кучер пребывал в изумлении — недоросль спятил! Спятил — и это такой ущерб для собственности, что хуже не придумать. Того гляди, начнет прятаться от света, как бедненький Николенька. Про беду, постигшую княжеского сына, Терентий, конечно, знал и очень мальчика жалел, почти так же, как Косолапого Жанно, только немного больше. В сущности, он и Маврушку жалел — но, когда пришлось выбирать между жалостью к покойнице и жалостью к начальнику канцелярии, он не колебался. — Ну, вот что, голубчик, — сказал, отсмеявшись, Маликульмульк. — Жениться я вообще не собираюсь. Не создан я для семьи, вот те крест. Терентий сдвинул густые брови, мучительно соображая, хорошо это или плохо. С одной стороны, рушились его планы заполучить в собственность целое семейство. С другой — еще неизвестно, какой окажется смиренная сирота, может, и ей взбредет на ум стать в доме хозяйкой. А пока что хозяин в жилище Косолапого Жанно — Терентий. Так что можно вздохнуть с облегчением и широко улыбнуться. — А теперь выкладывай все, что ты знаешь про бедную Маврушку, — потребовал Маликульмульк. — Да ничего я не знаю. Это вашей милости виднее, вы же к ней ездили… — Я-то ездил, а ты про нее разузнать пытался. Кого ты о бедной бабе расспрашивал? — Добрых людей… — пробормотал Терентий, неприятно пораженный строгим голосом недоросля. — Где ты этих добрых людей отыскал? Маликульмульк затеял этот допрос неспроста. Ему было ясно, что смерть Маврушки как-то увязана с игроцкой компанией, которая сделалась для него некой прекрасно-недосягаемой мечтой. Маврушка была загадочным образом связана с графиней де Гаше, она знала в лицо тех игроков, что разорили Михайлу Дивова. Кому и чем она могла помешать? Не хранила ли она в памяти нечто, связанное с отравлением фон Бохума? Терентию страх как не хотелось выдавать кучера Данилу и белошвейку Дуняшку. Ведь если про них рассказать, недоросль, чего доброго, сам к ним поплетется и обойдется без Терентия. А это значит — что? Что в его голове угнездится мысль: Терентий-то не больно нужен! Поэтому сопротивление было долгим, упорным и бестолковым. Наконец Маликульмульк объявил, что все вымыслы Терентия про Маврушку, ее серьги и ее приключения — сплошные враки, и впредь вруну веры не будет. Умудрился же он изобрести ни с чем не сообразные амуры между начальником губернаторской канцелярии и горничной. Тогда только Терентий, спасая свою репутацию и свое место при особе Косолапого Жанно, назвал имена. И не прогадал! Маликульмульк приказал встретиться еще раз с Дуняшкой и выпытать все, что она знает про жизнь семейства Дивовых. В конце концов раз его сиятельство решили позаботиться об отставном бригадире, неплохо бы собрать о нем сведения — трезвого ли поведения, не ссорится ли с соседями из пустяков. Да и сам, не играет ли в картишки. Как раз на картежную сторону дела Маликульмульк сильно напирал — и, повторив о ней раз десять, решил, что достаточно прочно вдолбил задачу в красивую, но туповатую Терентьеву голову. Имелись у него и другие вопросы — о том, где же на самом деле труп подбросили в карету. Окрестности Гостиного двора были, допустим, тем местом, где неведомый злодей удавил горничную. Но для этого нужно было ее выследить и быть уверенным: она придет именно в тот закоулок, где ее удобно будет убить и сразу спрятать тело, ведь вокруг Гостиного двора всегда полно народа… Маликульмульк быстренько перебрал в памяти все, связанное с Маврушкой. Похоже, она сама не очень хорошо представляла себе, чем будет заниматься в ближайшие полчаса. Придет хозяйке в голову послать ее на улицу взять ниток у лоточника или сливок у мальчика-молочника — побежит. Обнаружится, что чулки у хозяйки грязные, — встанет к корыту. Возникнут вдруг свободные полчаса — помчится на Родниковую к госпоже Дивовой или на Мельничную к давним кумушкам. У Гостиного двора она могла оказаться так же случайно и непредсказуемо. А вот на Родниковой или на Мельничной ее можно было ждать в ту пору, когда уже стемнело и в морозовском доме сели ужинать. Тут Маликульмульк вспомнил, как подвозил Маврушку на Романовку. И его передернуло при мысли, что он, похоже, последний видел бедную горничную живой. Отчего она вдруг устремилась обратно, на Родниковую, когда уже была в двух шагах от морозовского дома? Тогда он решил, что дело в госпоже Дивовой или даже в забытой корзинке. Но, похоже, дело было в высокой и тонкой даме, лицом похожей на мопса. Маврушка ведь, стоя у калитки, прекрасно ее видела — и фонарь горел поблизости, и от окон исходил свет. — А скажи-ка, братец, за каким бесом ты в тот день ездил на Родниковую? — вдруг брякнул Маликульмульк. — Никуда я не ездил! У Гостиного двора стоял! — выпалил Терентий. — А вот схожу-ка я, не поленюсь, завтра на Родниковую да поспрошаю людей, не видел ли кто среди дня кареты с голицынским гербом! — пригрозил Маликульмульк. — Полицейские-то не знают, где про карету спрашивать, а я знаю! Терентий сперва окаменел, потом рухнул на колени. — Батюшка, не погуби! — взвыл он и пополз по грязному полу к коленкам недоросля, чтобы обхватить их, как блудный сын — колени всепрощающего отца. Маликульмульк растерялся — отродясь его никто так не хватал и не лапал за ляжки. Он что было силы отпихнул Терентия, так что кучер, сам молодец не хилый, уселся на пол и уставился на Маликульмулька снизу вверх. Положение создавалось дурацкое. Умнее всего было бы выставить Терентия из комнаты и махнуть рукой на всю эту историю с покойной Маврушкой. Да и вообще поостеречься искать компанию, в которой то одного участника мышьяком попотчуют, то другой сгинет неведомо куда, то бывшая горничная его жены найдется удавленной. Вот подружись с такими мошенниками — сам поплывешь вниз по Двине с камнем на шее. Однако за гроши этак не убивают. Убивают из-за немалых денег. Что же ставят на кон эти господа и дамы, если, похоже, доходит до третьего смертоубийства? Маликульмульк внутренне содрогнулся: так вот ты какова, матушка Большая Игра… У него были сложные и странные отношения с деньгами. Он хотел, чтобы деньги пришли, чтобы их вдруг оказалось много. Скажем, взяли комедию, поставили — и вдруг от этого произошла куча денег. Так он себе это представлял в пятнадцать лет, когда писал «Кофейницу», — и недалеко ушел от себя тогдашнего. Смешной принцип «Сперва слава, потом деньги» уже доказал свою несостоятельность, но даже когда он носился по ярмаркам, выигрывая и проигрывая, ему не приходило в голову, что деньги — это промежуточный этап. Вот они попали к тебе в руки — хватай, присматривай имущество, покупай, пока Фортуна не подсунула возможность расстаться с ними без всякой для себя пользы. А для него эти тысячи были чем-то вроде дорогой и яркой игрушки, с которой можно поиграть, а потом куда-то засунуть или даже вовсе выбросить. Вроде как кубарь царя Вакулы. Царство захвачено злодеем — а для него важнее дела нет, чем спускать кубарь и любоваться его пестрым вращением. Вспомнилось, как хохотало голицынское семейство, едва только в «Подщипе» заходила речь об этом самом кубаре, который автор подсмотрел в комнате у младших мальчиков. Редко попадается человек, не знающий, что делать с деньгами. Если бы Терентий проведал про эту особенность подопечного — то-то бы обрадовался. Впрочем, он нечто подобное подозревал, только не думал, что недоросль до такой степени нелеп и бестолков. Но деньги, причем Большие Деньги, были непременным условием Большой Игры. Заполучить их, заполучить именно сейчас, значило возместить себе все провалы и неудачи последних лет. Значит — вперед, туда, где убивают. — Вот что, братец ты мой, — сказал Маликульмульк (Косолапый Жанно оставался безмятежен, и по его малоподвижному округлому лицу можно было понять одно — ему безмерно нравится сам процесс курения, с издаваемыми трубкой звуками и размеренным потягиванием теплого дыма). — Тебя и без того ждут немалые неприятности. Поэтому не усугубляй своей вины и давай-ка рассказывай, где ты успел побывать вместе с каретой его сиятельства. Спрашивать, каковы были причины этого странного путешествия, Маликульмульк не стал. Он уже понял, что в голове у Терентия нарушены какие-то связи, и домогаться объяснений — зря тратить время. Примерно того же мнения был Терентий о голове Косолапого Жанно. Он знал, что за сидение в канцелярии недоросль получает деньги, но полагал это чистой благотворительностью со стороны князя Голицына — надо же, чтобы кавалер, играющий на скрипке для княгини, имел чин и должность, иначе как-то нелепо выходит. И Терентий был недалек от истины. — Нигде не был, — отвечал Терентий. Потому что для таких случаев у человека подневольного есть свой ритуал: даже будучи пойманным на очередном безобразии, открещиваться и отрекаться до последнего. Иначе совсем нелепо выходит: кто же облегчает господам труд по выяснению истины, итогом которого будет для виновника домашнее вразумление по спине? — Коли так, я завтра иду на Родниковую, и все, что узнаю, тут же сообщу его сиятельству, а он прикажет к себе вызвать обер-полицмейстера… — Батюшка, отец родимый, не погуби! — опять возопил Терентий и повторил попытку ухватиться за недорослевы ляжки. Но тут уж Косолапый Жанно вскочил с быстротой и ловкостью, неожиданной для всякого, кто не знает медвежьих повадок. А Маликульмульк объявил: — Ежели ты, черт тебя знает зачем, гонялся за Маврушкой, то должен был побывать и на Родниковой, и на Романовне у Морозовых, и, статочно, на Мельничной! Вот я завтра туда и прогуляюсь!* * *
Видимо, ангел-хранитель Маликульмулька считал вечерние пешие прогулки из крепости в предместья и обратно полезными для его здоровья. Погода была как раз подходящая для такого увеселения — небо настолько ясное, насколько это возможно в октябре, и дорога относительно сухая, и почти безветренно. Маликульмульк бодро шагал к Родниковой, и все уступали ему дорогу — коли налетишь на такого осанистого и увесистого молодца, он-то на ногах устоит, а ты сядешь в лужу. Он шагал и думал о даме, похожей лицом на мопса. Думал он также, что у окошка непременно сидит Анна Дмитриевна и разбирает старый галун. Он подумал, что можно бы заглянуть к Дивовым и сказать хорошую новость: его сиятельство исследовал вопрос и может предложить старому бригадиру место смотрителя в работном доме; не так чтоб очень хлебное, однако для обнищавшего человека, которому приходится кормить невестку и внуков, неплохое, к тому ж, предоставляется казенная квартира в Цитадели. Правда, пройдет еще несколько дней, пока уладится вся бумажная волокита. И Петр Михайлыч вернется на службу — хоть какую, лишь бы получать жалованье. Подумать-то подумал, и вдруг одна мысль потянула за собой другую: а хорошо бы, чтоб старика не случилось дома. Была бы в комнатке одна Анна Дмитриевна — поговорили бы… Во всем виноват был мерзавец Терентий! Взбрело ему, видите ли, в дурную башку, что начальник канцелярии женится на горничной! А в итоге Маликульмульк не на шутку задумался: может, не так уж безнадежно потерян для прекрасного пола? Мало ли, что не сбылось в молодости?.. Десять лет прошло, десять лет… где ты теперь, Анюта?.. Можно бы написать в Брянск, отыскать давних знакомцев, разведать. Но вот ведь какая история: в пятнадцать лет сочинив комическую оперу, в восемнадцать — настоящую стихотворную трагедию «Филомела», которая даже была напечатана в «Российском феатре», в одном томе с прославленным Княжниным, писем писать так и не выучился, разве что братцу Левушке. Бывает ли так, чтобы в человеке жил талант ко всему кроме писем? Анюта — пятнадцатилетняя… тебя больше нет… Ты осталась в том Брянском уезде, где бродили вместе по лугам, сопровождаемые одной лишь кудлатой Фиделькой… Но как вышло, что все рухнуло? Ведь почти было сладилось! Родители, видя, что в разлуке дочка тает, как воск, и испугавшись не на шутку за ее жизнь, уже дали свое согласие на венчание и написали о том жениху в Петербург. Он получил письмо — и затмение какое-то нашло на обычно ясную голову! Он ведь всегда умел находить деньги — очень даже бойко влезал в долги, чтобы являться к Анюте щеголем! А тут, какая-то несвойственная ему гордыня вдруг вылезла на свет и принялась распоряжаться! Нет, гордым он был, по-своему гордым, умел дать сдачи обидчику, но с чего взбрело ему на ум, будто родители Анюты — обидчики? С чего написал то нелепое письмо: денег-де сейчас не имею и в Брянск к вам приехать не могу, а коли угодно, прошу осчастливить — привезти невесту в столицу, где может быть немедленно устроена свадьба. Неужто не мог написать ласковее, разумнее? И что тут хорошего могло выйти кроме оскорбления для родителей Анюты и решительного отказа? Да, денег не имелось, но их можно было найти. Их можно было выиграть, черт возьми! И не содрогаться теперь, едва услышав пленительное имя «Анна»… Дойдя до Родниковой, Маликульмульк стал выглядывать давешнюю старуху, которая рассказала ему, что до гордячки Анны Дивовой никак не добраться. Он знал, что тут ее владения: если бы она забрела на другую улицу, ее с шумом бы погнала прочь тамошняя старуха, торгующая таким же хламом. Родниковая улица узкая, экипажи тут проезжали нечасто, да и народа было немного. Навстречу прошли поочередно торговец-еврей в длинной черной накидке с супругой в белом покрывале, из-под которого виднелись край темной юбки и ножки в белых чулках и черных туфлях на вершковом каблуке; пастор-немец, высокий и сутулый; русский батюшка, спешивший, видимо, к больному, а за ним — пономарь в полушубке поверх подрясника, с молитвенником и кадилом. На дорогу выкатился перелетевший через забор тряпичный грязный мяч и остановился прямо в огромной луже. За мячом выбежал маленький парнишка. Маликульмульк обратился к нему по-русски — парнишка не понял, обратился по-немецки — та же история, а латышского философ пока не знал, да и не видел в нем нужды. Появился другой парнишка, постарше. Тот говорил по-немецки и показал Маликульмульку, где дом старой женщины, торгующей поношенным платьем. Она жила в полуподвальной конурке, вход в которую был под лестницей и доставил Маликульмульку множество неудобств. Все-таки философ хорошо себя чувствовал в просторном теле Косолапого Жанно, лишь когда тот сидел в креслах, писал, читал, курил или ел. Маликульмульк, приятель гномов и сильфов, лишней плоти не имел — когда автор воображал свою встречу с философом, встречу, с которой началась «Почта духов», он видел высокого старца с седой бородой в платье, усеянном звездами, но старец был легок и подвижен, что соответствовало его язвительному и насмешливому нраву. Уже темнело, и хозяйка конурки, окончив дневные труды, только что вернулась домой. Она впустила хорошо одетого дородного господина, признала его и предложила единственный в комнатушке стул, а сама взялась разжигать печь. Маликульмульк, оглядывая жилище торговки, первым делом вспомнил Шекспировы слова про мир, который театр. Тут было закулисье театра человеческого. Возможно, актеры, что оставили торговке свои наряды, давно переселились в мир иной, а вещи, их пережившие, ждут других актеров, что придут играть все те же роли — да только перед иной публикой и в ином зале, не столь нарядном, и свечи не восковые или спермацетовые, а простые сальные… В сырой конурке на вбитых в стену длинных гвоздях и на толстых натянутых веревках висело разнообразное тряпье, целый маскарад, тусклый и жалкий. Вдоль стены стояли сапоги всех видов, не обязательно парные. Был и большой расписной ларь — на его желтом боку неведомый живописец изобразил кавалера и даму, а меж ними цветок с почти человеческим лицом, обрамленным лепестками. Освещалась эта фантасмагория огарком, прилепленным к дощечке, а дощечка лежала на столе посреди пестрых тряпичных кучек. Справившись с печью, торговка отгребла свое богатство, высвободив угол стола, и предложила доброму барину угощение — кофей и калач. Да, кофей у нее водился! — Как звать тебя, моя голубушка? — спросил Маликульмульк, кивком давая понять, что от угощения не откажется. — А Минодорой Пантелеевной. — Экое имя знатное! — У нас в семействе всем господские имена давали, — похвасталась торговка. — Вот сестрица у меня — Анимаида, вторая — Платонида. А ты, сударик мой, кто таков? Маликульмульк на сей предмет подготовил подходящее вранье. — Я, сударыня Минодора Пантелеевна, человек проезжий. Путешествую для своего удовольствия, а звать меня — Яков Борисович Княжнин. В этом была тонкая месть тому, кого некогда юный господин Крылов ославил на всю столицу под именем Рифмокрада, за что и поплатился. Давний приятель Саша Клушин оценил бы шутку — да только давно уж он не был приятелем. — Вот, Яков Борисович, и познакомились. А твоя милость все об Аннушке Дивовой, гляжу, беспокоится. — Да, о ней, — согласился Маликульмульк, зная, что на удочку амурной истории можно поймать даму любого возраста. Зря он, что ли, сочинил в своей «Бешеной семье» любвеобильную бабушку Горбуру? Ну, так вот же она, Горбура, — готовит на краешке плиты кофей, и лет ей ровно столько же! Но Горбура была одета побогаче и, кажется, не так щекаста. А тут — не лицо, а большой масляный блин, несколько помятый. И взгляд хитроватый. — Плохи дела у Дивовых. Вот, — торговка взяла со стола серый комочек, — ее теплые чулочки. Просила продать. А когда шерстяные чулки продают на зиму глядя — это как называется? Называется это, сударь мой Яков Борисыч, нищетой, когда на завтрашний день сухой корки уж нет. А нос перед всеми дерет! — Какова этим чулкам цена? — вдруг взволновавшись, спросил Иван Андреевич. — Хорошо, коли возьмут за гривенник. Чулочки-то штопаные. — Вот полтина, передашь ей — словно за чулки… — тут благотворитель несколько пришел в себя и вспомнил о цели своего визита. — Однако ж странно. Я верно знаю, что в Рижском замке судьба Петра Михайлыча решена и его определят к месту в Цитадели. Неужто ему еще не сообщили? — Да как же я могу это знать? — удивилась Минодора Пантелеевна. — Я только то знаю, что Дивовым есть нечего. Тут требовалась комедийная сцена. И Маликульмульк, знаток комедий, что шли на столичной сцене, преобразился в плутоватого слугу, умеющего врать с феноменальной искренностью. — Матушка Минодора Пантелеевна, да ведь сам князь в бригадире Дивове участие принял! Он Петра Михайлыча вспомнил, им вместе на турецкой войне воевать довелось! Я не удивился бы, когда б он сам приехал навестить старинного своего товарища! А может, и впрямь приезжал? Ты, голубушка, тут целыми днями ходишь — поди, заметила бы княжью карету. Герб у нее — чего только нет! Вверху на красном поле — воин на белом коне с саблей, внизу справа на серебряном поле стул, а по бокам — два черных медведя, внизу слева на голубом поле серебряный крест, а на кресте — черный двуглавый орел. И мантия горностаевая! Такого нельзя не заметить! — Глазами я слаба, — сказала торговка. — Вон, очки купить пришлось. Она показала две зеленоватые круглые стекляшки в оправе и с петельками — вешать на уши. — He так слаба, чтобы карету не разглядеть. — Карету-то разгляжу, а всех этих коней и медведей — уволь, батька мой! Но вот что скажу — карета и впрямь приезжала. Я-то думала — к кому бы? Неужто к той немке, что напротив Дивовых поселилась? А это, вишь, к самому Дивову! — Богатая карета? — Богатая! Золоченая! Герб точно был, вроде как в ковер завернут, или в епанчу, а епанча с изнанки горностаевая. — Ну, так то ж и есть мантия! — А мне почем знать? Мне такое продавать не дают! Маликульмульк согласился, знать геральдику торговка поношенным платьем из Петербуржского предместья не обязана. А знать, кто к кому в гости побежал, — это ее прямой долг. — Да нет, матушка Минодора Пантелеевна, — возразил он. — На такой карете только к Дивовым приехать могли бы. С чего ты взяла, будто к немке? — А карета на той стороне улицы стояла, за ее домом, где забор и проулок. Видно, кучер умник, там поставил, где никакая телега не заденет. Тут же все водовозы ездят, у нас колодец знатный, вода — лучшая в Риге. Только странно, батька мой, что их сиятельства приезжали, а ни гроша Дивовым не оставили. — А то ты, матушка, Петра Михайлыча не знаешь! Отказался брать — сказал, что в подачках не нуждается. А вот дадут ему место, тогда сможет взять немного денег в счет жалованья. Жаль мне его, чудака, ведь внучат голодом морит. — Внучат вся улица подкармливает. Они дома ночуют только, а так — прямо на улице и живут. — Им ведь учиться надо. — Их и учили, пока не разорились, а теперь на учителей денег нет. — Деньги будут, — сказал уже не Маликульмульк, а Иван Андреевич Крылов. Дело в том, что с давних лет был у него один должок. Когда покойный Андрей Прохорович Крылов после того, как поучаствовал в войне с Пугачевым, вышел в отставку, то перебрался он вместе с семейством из Оренбурга в Тверь, где устроился на гражданскую службу. Будучи в чине коллежского асессора, он стал председателем Тверского губернского магистрата. Должность оказалась не хлебная, нанять учителей сыну он не смог. Но нашелся хороший человек — председатель уголовной палаты, богатый тверской помещик Львов. Он узнал, что десятилетний Ванюша Крылов пробует сочинять стихи, велел привести к себе парнишку и приказал, чтобы поэта обучали французскому и рисованию вместе с его собственными мальчиками. Вскоре обнаружилось, что у приемыша музыкальный слух. Львов распорядился найти ему учителя и купить скрипку. К тому же он был большим любителем домашнего театра и стал давать небольшие роли новоявленному воспитаннику. Все это делал он не благодарности ради, а просто так — забота о мальчике развлекала его и обходилась недорого. Как-то родственницы Львова научили Ванюшу уму-разуму — внушили, что он должен быть благодетелю по гроб дней своих благодарен. Львов, услышав неуклюжие слова признательности, только посмеялся. — Вырастешь, разбогатеешь, сам кому-нибудь поможешь, — сказал он. — Кабы я с тобой последним куском хлеба поделился, так оно, пожалуй, заслуга… А так — как-то оно само собой выходит… и не вздумай мне руку целовать, я не дама!.. Пошел в классную! Эта история повторилась с Голицыным, хотя мальчику тогда было почти тридцать. Тоже — взяли в дом за талант и сказали, что в благодарностях не нуждаются… Да что за Фортуна такая?.. Куда ведет, чему учит?.. Но львовские слова Маликульмульк помнил. Просто до сих пор не подворачивалось младенцев, которым от него была бы хоть какая-то польза, кроме Николеньки, считавшего богатством конверт с сургучными печатями. И вот — внуки Дивова. Нужно будет проследить, чтобы завтра же вопрос о месте был решен окончательно, подписи на нужных бумагах получены, и самолично сходить в Цитадель, осмотреть предназначенную новому смотрителю квартиру. А потом поговорить с князем — могут ли эти внуки приходить в Рижский замок, чтобы учиться вместе с самыми младшими Голицыными, Василием и Владимиром. И одеть их пристойно — хотя бы за свой счет, а упрямому старику сказать, будто княгиня позаботилась, с княгиней спорить он не станет. Минодора Пантелеевна внимательно следила за кофеем. Запах от него шел — прямо волшебный. Маликульмульк в те времена, когда носил епанчу, усыпанную звездами, умел при ее помощи преображать мир: протрет краешком глаза простаку, и тот уже видит вместо заброшенной хибары царские чертоги, вместо заплесневелой корки — пышный пирог, а вместо изрезанных кружками бумажных обоев — золотые монеты. Такое же чудо сотворил кофейный аромат, заглушив запах сырости и грязной одежды. Каморка торговки дивно преобразилась — в ней поселилась роскошь… Старуху Маликульмульк видел насквозь — она почуяла деньги, оттого и собиралась выставить угощение. Деньги же заработать не могла, не та Анна Дивова особа, чтобы поддаться на уговоры сводни. Стало быть, Минодора Пантелеевна вздумала облапошить толстого и глупого барина. Ибо она простыми своими глазами видит не Маликульмулька, а Косолапого Жанно. — Значит, у немкиного забора карета стояла, — уточнил Маликульмульк. — Я, сдается, помню это местечко, да и немку приметил — тощая и страшна как смертный грех. — Мартышка, — вдруг сказала Минодора Пантелеевна. — Ребятишки ей уже и кличку дали. Мартышка. — Что ж она поселилась на Родниковой? Тут у вас немцев, кажется, немного… — Сдуру, батька мой. Ни с того ни с сего объявилась, прислала человека, он ей комнаты снял в первом жилье и сразу пожитки перевезли. А пожитков-то — сундучок, да два баульчика, да узел, я чай, с периной и подушками. — Давно ли? — А недели не прошло. И уж гулять выходила с сыном, а какое у нас гулянье? Это в крепости гулянье, а у нас — того гляди, телега заденет. Или, скажем, на Большой Песочной гулянье, там и лавки дорогие есть. А у нас — одни разносчики. Мы уж приметили, когда молочник приходит, когда огородники, когда рыбаки улов несут. Хозяйки у калиток ждут — вот тебе и лавка! Булочник хороший есть, так он жену с корзинками посылает. Пройдет улицу из конца в конец — вот и расторговала товар. — Вдова, наверно, — задумчиво сказал Маликульмульк. — Проела, что от мужа осталось, и перебралась с малюткой туда, где жить дешевле. — Мартышка-то? — Минодора Пантелеевна рассмеялась. — Малютка тот — чуть ли не с тобой в одних годах, Яков Борисыч! И в покойника, видать, уродился — очень собой хорош. Даже Дуняшка Федосеева, уж на что скромница, в окошко на него глядела, когда он у дома прохаживался. Я видела! Маликульмульк подивился устройству женских глаз: герб на карете, намалеванный ярко и вразумительно, разглядеть они не сумели, а девичье лицо в темном окошке, да еще под самой крышей, — мало того, что увидели, так еще и направление взгляда проследили. Насчет сына он тоже был озадачен: дама с лицом мопса имела от роду лет тридцать. Может, тридцать пять. Откуда тут взяться тридцатитрехлетнему отпрыску, он пока не понимал. С другой стороны, мало ли чего брякнет старуха ради красного словца? Может, юноше лет восемнадцать, а Мартышка родила его в шестнадцать? Вот оно кое-как и сходится. — Так она, поди, тут ни с кем дружиться не станет, — заметил Маликульмульк. — Разве что прислугу наймет. А кстати, ты, Минодора Пантелеевна, когда в последний раз видела Маврушу? — Третьего дня? — сама себя спросила торговка. — Нет… Дня четыре, поди, она тут носу не казала. А на что тебе? — Может, ты с ней сговорилась бы, чтобы как-то с госпожой Дивовой сладить? — Крепко она тебя зацепила… — Крепко, матушка. Ты думай, думай, глядишь, что и придумаешь. А я за деньгами не постою. Да и вот в какую сторону поглядывай: как бы тот сынок не вздумал за госпожой Дивовой волочиться. Знаю я таких махателей… так ты уж присмотри за Мартышкой с мартышонком! Да и вообще почаще там прохаживайся. Коли кто затеет под дивовскими окнами ездить, знаки подавать — ты примечай. Все мне потом расскажешь. — А ты, Яков Борисыч, не жениться ли вздумал? — проницательно, как ей казалось, спросила старуха. — Коли жениться — точно нужно все разузнать, какого поведения, не было ли чего… — Вот думаю, — загадочно ответил Маликульмульк.* * *
У Маликульмулька был во Франции родственник. Звался — Хромой Бес. Этот насмешливый демон имел способность делать крыши прозрачными. Заберется повыше вместе с приятелем своим (это, если верить мусью Лесажу, его биографу, сперва был некий испанец дон Клеофас, а потом, возможно, завелись другие), лишит здание крыши и развлекается, глядя на суету людскую. И философствует, разумеется, на прекрасном французском языке. Не лень же ему было с архитектурой возиться. Маликульмульк завел дружбу с гномами и сильфами, которые умеют делаться невидимками и, не утруждаясь полетами над печными трубами, входят этак в любую комнату и все пакости разглядывают в подробностях. И в письмах к философу все как есть излагают. И получается «Почта духов»… Как приятно подглядывать за чужой жизнью, смешной и занятной, не собираясь извлекать из этого никакой особой пользы, кроме минутного удовольствия (бумажная версия событий — это уже другое дело). В одном окошке — одна история, с героями и декорациями, в другом — другая, тут тебе комедия, тут почти трагедия. А и надо-то всего — пройти по улице, когда в домах уже светло, а ставни в первом этаже еще не закрыли. Маликульмульк шел по опустевшей улице, заглядывая в те окна, куда было сподручно. И видел в основном людей, садившихся за стол. (Косолапый Жанно напомнил, что калача и кофея Минодоры Пантелеевны ему маловато!) Возле дома, где поселились Дивовы, Маликульмульк произвел разведку и обнаружил тот закуток у забора, где Терентий ставил княжескую карету. Там, видимо, много лет назад был пожар, потом как-то иначе поделили земельные участки, и образовался небольшой закоулок, действительно удобный, чтобы разместился экипаж с лошадьми. Нашел Маликульмульк и маленькую заколоченную калитку, потряс ее — отворилась. Доски крест-накрест представляли одну видимость. Но заходить во двор он не стал, а принялся рассчитывать — как эта калитка соответствовала дверцам кареты, стоящей впритык к забору? Он знал, что Терентий ехал от Гостиного двора. Но с которого конца отчаянный кучер заезжал на Родниковую, понять, не имея плана Петербуржского форштадта, было сложно. Маликульмульк выбрался из зарослей мертвого бурьяна и подошел к окнам. Они еще не были закрыты, и он осторожно заглянул, благо рост позволял. За столом сидела дама с лицом мопса и раскладывала пасьянс. Над ней склонился молодой человек — действительно замечательной наружности, с правильным и красиво вылепленным лицом. Везет же людям, которые унаследовали от дедов и отцов не мягкие рыхлые черты, а четкие линии, каждый изгиб которых — праздник для живописца, поэзия и соблазн. Оконное стекло мешало услышать, о чем речь. Но, сдается, в комнате был кто-то третий. И не исключено, что даже четвертый. Предосторожности ради Маликульмульк вернулся в бурьян, подождал там немного и снова пришел к окну. Теперь за столом уже играли. Он отчетливо видел даму-мопса, молодого красавца, который вряд ли был ее сыном, и еще одного господина — в профиль. Память у Маликульмулька была отменная. Тем более что он искал не каких-то безликих анонимов, а людей, немного известных по именам и приметам. Скошенный лоб и нос этого немолодого господина составляли довольно необычный для человеческой физиономии угол, к тому же, господин почти не имел переносицы. Возможно, это был тот самый фон Дишлер, о котором говорил повар Шуазель. То есть — игрок! Тут дверь, ведущая на крыльцо, отворилась и вышел служитель — закрыть наконец ставни. Маликульмульк быстро отступил на заранее подготовленные позиции, в бурьян. Больше тут выжидать было нечего, поразмыслить он мог и по дороге в замок, не все же считать шаги. Но Маликульмульк стоял, время от времени озадаченно хмыкая. У него концы с концами не сходились. Допустим, игроки сбежали из «Иерусалима» после отравления фон Бохума. Лишнее внимание полиции им ни к чему. Допустим, они не желали селиться в гостинице — хозяин гостиницы потребует предъявить паспорт, сделает выписки и сдаст их, как положено, квартальному надзирателю, тут-то беглецов и обнаружат. Но если так, то они, спрятавшись на Родниковой, должны сидеть тише воды, ниже травы и не устраивать сюрпризов князю Голицыну! Даже если Маврушка, по их понятиям, заслуживала смерти, даже если ее удавили именно в этом доме — то было множество способов избавиться от тела иными путями, а не засовывать его в карету с княжеским гербом! Мартышка не напрасно поселилась напротив дивовского дома — это ясно. У нее имелся план, и он был как-то связан с Анной Дивовой и пропавшим Михайлой Дивовым. Уж не была ли Мартышка той самой загадочной графиней де Гаше, которая пыталась взять госпожу Дивову в услужение? Маликульмульк повернул голову, чтобы видеть два окна под скатом крыши. Одно принадлежало Дивовым и было темным — семья берегла свечи, а может, и вовсе их не имела. В другом горел огонек, там, наверно, заканчивала свой дневной урок белошвейка Дуняшка. Но свеча стояла не на рабочем столике, как полагалось бы. Она стояла на подоконнике. Похоже, это был знак — знак, что кого-то ждут и будут рады встрече. Тут же вспомнились слова Минодоры Пантелеевны о том, что Дуняшке понравился новый сосед. Похоже, не просто понравился, а они уже успели сговориться… Эта головоломка уже начинала складываться в интригу! Есть молодая женщина; возможно, вдова; живет в семье свекра. Есть некая графиня де Гаше, имеющая отношение к исчезновению мужа этой женщины. Графиня подсылала к Анне Дивовой бывшую горничную Анны, Маврушку, чтобы заполучить госпожу Дивову в свой дом непонятно кем. Но старый Дивов эту затею решительно пресек. Есть дом в рижском захолустье, на Родниковой улице. И в этом доме поселяется иностранка, словно лучше ничего не нашлось. И эта иностранка была знакома Маврушке, хуже того, Маврушка знала о ней что-то опасное. Странное поведение горничной в тот вечер — прямое доказательство. Есть молодой красавчик, вроде бы графинин сын, и он вьет петли вокруг соседки Дивовых, работящей и скромной девки. На что она ему сдалась? Не подбирается ли загадочное семейство через соседку к Анне? И для чего же Анна этим людям, которые явно входят в игроцкую компанию? Ведь ее муженек и так вынес из дому и проиграл решительно все! Может, старый Дивов умудрился припрятать какое-то сокровище, а мошенники про то знают и точат на него зубы? Но как же объяснить, что они сейчас преспокойно сидят за столом и играют? Ведь в любую минуту может явиться полицейский чин и сказать: «А знаете ли вы, господа, что тело женщины, найденное в карете князя Голицына, было подброшено из вашего дома? И, выходит, вы либо покрываете убийцу, либо сами — убийцы?» Ведь они не знают, что бедную Маврушку еще не опознали. Кто бы им об этом рассказал? Им бы на всякий случай сбежать отсюда, а они — сидят! И тут Маликульмульк вспомнил, что сказал ему Давид Иероним, побывавший на вскрытии. Женщина носила дитя, и плоду пошел пятый месяц. Вот еще важное обстоятельство! Но как оно относится к смерти Маврушки? Интрига складывалась совсем не комедийная. И здравый смысл, а его у Маликульмулька было не меньше, чем у всякого философа, сказал: ступай-ка ты, философ, в замок, ложись спать и для карточных досугов ищи другую компанию. «Но ведь какие огромные деньги ставятся тут на кон, если из-за них убивают? — Маликульмульк адресовал риторический вопрос своему здравому смыслу. — Нет, я до этих мазуриков доберусь. Они хитры, а я… а я… я чую игру!.. Зря ли столько лет шатался по ярмаркам? На таких прохвостов нагляделся — и Боже упаси! Но коли так — мне в жизни недостает именно прохвостов?.. Вот странный вывод…» И далее Маликульмульк рассуждал, как драматург, которому непременно нужно вывести в комедии отчаянного и бесшабашного игрока, считающего карты главным средством к существованию. Игрок (или игроцкая компания, собравшаяся для очистки кошельков от лишнего золота) выбирает себе местожительством (скорее всего, временным) портовый город. Город невелик, но через него проезжают все, кто тащится из Европы в Санкт-Петербург, минуя Москву, или же наоборот — из столицы в Европу. Развлечений в Риге для путешественников мало — Немецкий театр, визиты к знакомцам или же игра. На дворе осень, после затяжного ливня двигаться в дорогу опасно — кто станет вытаскивать экипаж, застрявший на полпути меж Ригой и Митавой? Стало быть, путешествующий мужчина — готовая жертва для шулеров. Сперва предложат сыграть по маленькой, чтобы убить время, потом ставки удваиваются до бесконечности… Именно поэтому компания, избравшая своей главной квартирой «Иерусалим», после смерти фон Бохума далеко не убежала — Рига ей нужна. Однако после второго убийства ей следовало бы покинуть город — ясно же, что по следу злодеев, подкинувших труп в голицынскую карету, полицейские сыщики пойдут яростно. Но они сидят в трех шагах от места преступления и играют! Значит — что? Значит, имеют туманное понятие о втором преступлении. Оно могло совершиться на Родниковой — судя по тому, что туда побежала Маврушка, увидев даму-мопса. Теоретически могло. А на самом деле горничную удавили в другом месте. Это могли быть либо окрестности морозовского дома, либо окрестности того дома на Мельничной, который раньше принадлежал Дивовым. Именно там побывал умалишенный Терентий с экипажем — других мест, где можно найти Маврушку, он, кажется, не знал. И вряд ли убийцы стали бы таскать тело с места на место, присматривая пустую карету, куда бы его засунуть. Карета попалась им на глаза — и они, недолго думая, воспользовались возможностью. Следует ли из этого, что игроцкая компания к смерти Маврушки непричастна? Следует! Ибо ей за глаза хватит отравления фон Бохума. Оно изрядно попортило все планы и нарушило выгодный промысел. Даже если Маврушка сделала что-то, неприятное для компании, ее сразу после убийства фон Бохума трогать не стали бы. Уже и с отравлением множество хлопот — как бы сыщики не взялись за поиски отравителя слишком ретиво. Так рассудил Маликульмульк и даже повеселел. Что ж, теперь только надо придумать, как познакомиться с игроками. Однако оставался вопрос, ответить на который он не мог, да и, честно говоря, не хотел: для чего Маврушке, уже доехавшей до Романовки, вдруг понадобилась дама-мопс? И ведь горничная не сразу решилась к ней идти, а думала, сомневалась, совсем было на эту затею рукой махнула — да вдруг и понеслась опрометью! Он направился к Рижскому замку, стараясь не забредать в лужи. Ему нужно было составить план действий, первым пунктом в котором стоял поход с Давидом Иеронимом в «Лондон». Но покойная горничная не унималась, теребила с того света. «А ты подумай, сударь, не знала ли я про эту даму чего-то этакого, неприятного, гибельного? — спрашивала незримая Маврушка. — А не задолжала ли мне та дама? А не обокрала ли меня? А не знала ли она чего-то такого, что для меня смертельно важно? Ты вообрази, сударь, как я стучусь к ней в окошко, как она впускает меня, а потом говорит: то, что тебе надобно, находится на Романовке или на Мельничной? И посылает со мной слугу своего — проводить? Вообразил?» «Не пойду, — отвечал Маликульмульк. — На то у нас Управа благочиния есть, сиречь — полиция. Там уж твоего погубителя ищут». «Да ведь не знают, где искать! А ты-то знаешь! Ты вот что, сударь… ты хоть имя мое им назови!.. Лежу ж безымянная, изрезанная… И похоронят без отпевания! Не по-христиански это!..» Тут Маликульмульк замолчал — как многие философы, он был вне религии. Для Косолапого Жанно божеством была Кулинария. А вот господину Крылову стало-таки стыдно. Не он ли перелагал псалмы в стихи? И изымал из псалмов идеи для од? Размеренно шагая, он думал, как бы в самом деле донести до полицейских сведения о несчастной Маврушке. Додумался, как полагается сочинителю комедий, до анонимного послания. Ну, все лучше, чем ничего — начнут проверять и убедятся, что загадочный автор не солгал. А потом он вспомнил, что ведь открыто бывал в доме Дивовых и может признаться в знакомстве с Маврушкой, не выдавая дурака Терентия и не нанося вреда своим хитромудрым планам. Насколько он знал, в анатомический театр пускали желающих, даже если те не были врачами или аптекарями. С того дня, как в Конвенте Ниенштедта, что на Кузнечной улице, полвека назад открыли это заведение, зал анатомирования на втором этаже имел вид амфитеатра на шесть десятков мест. Стало быть, можно пойти и попросить, чтобы показали труп молодой женщины и эмбрион, столь заинтересовавший Давида Иеронима. Поглядеть — и узнать. Пришел на ум молодой химик, и вспомнилось некоторое малоприятное раздражение при виде этого прекрасно воспитанного и благодушного юноши из богатого семейства. Гринделю никогда не приходилось бороться — он жил радостно, занимался тем, что ему было любопытно, тратил время на опыты, не дожидаясь, чтобы результат тут же обернулся деньгами. Он двигался вверх спокойно, с улыбкой, не собираясь делать прыжков к вершинам славы и не зная, каково лететь с этих вершин вверх тормашками. Да и не содрогалось его сердце при слове «слава» ни единого раза. Его счастье строилось на иных основах, и основы эти были для Маликульмулька неприемлемы — по крайней мере ввозрасте тридцати трех лет он не желал соглашаться на ежедневный мирный труд в кругу немногих товарищей по ремеслу, которые знают тебе цену. Может быть, когда-нибудь… А сейчас — уж лучше мечтать о Большой Игре… В замке его уже искали. Дамы после ужина хотели поиграть во «французскую мушку», и Екатерина Николаевна уже приготовила в гостиной на столе корзиночку с жетонами — очаровательными старыми жетонами, которые кто-то из приятелей Светлейшего двадцать лет назад привез из Парижа, а Светлейший передарил «улыбочке Вареньке». На вид это были серебряные монетки, с одной стороны профиль короля, с другой — сюжет: древнегреческая или древнеримская нимфа благословляет на бой голоногого атлета, и над ними полукругом латинские слова: AURI CERTA SEGES. Что означает: «Уверенность золотой жатвы», самое подходящее напутствие игроку! Тут на свет явился Косолапый Жанно: сел в кресло, которое уже не первый раз выдерживало его вес, а кресло возьми да и развались. Глядя на радостные лица дам, включая княгиню, Косолапый Жанно понял, что вечер прошел не напрасно. Другое дело — что очень хотелось есть. Шастая в бурьяне, он пропустил ужин. Но Варвара Васильевна была милосердна; заметив отсутствие Косолапого, приказала на поварне оставить для своего приятеля и оладьи, и двухфунтовый ломоть кулебяки, да не угол, а самую что ни на есть сочную и богатую начинкой сердцевину. Она попросила на следующий день после обеда поехать вместе с ней в мебельные лавки. Наконец удалось договориться с магистратом — еще летом по представлению князя Голицына город должен был снабдить замок мебелью, и вот ратсманы с бургомистром Адамом Генрихом Шварцем, стеная и проклиная судьбу, выделили какие-то деньги. Варвара Васильевна первым делом пожелала обставить свои гостиные, которые, как она объявила, были хуже, чем у простой бюргерши. Разумеется, она могла вызвать купцов к себе, но на самом деле просто обрадовалась поводу покинуть унылое старинное здание и покататься не просто так, а с прекрасной целью. Это означало, что похода по местам, где колесил дурень Терентий, не получится. Зато можно было отвезти княгиню в аптеку Слона и представить ей Гринделя. Это бы ее развлекло, тем более что Давид Иероним хорош собой и умеет очаровательно улыбаться. Заодно и набрать всяких лакомств, а также отведать кофея и горячего шоколада. Какая в нем радость, Косолапый Жанно не понимал, но дамы млели от одного слова «шоколад». В лавках княгиня была озадачена: что брать? Привыкнув к старой мебели, мягкой и с приятными глазу изгибами, она знала тем не менее, что в моде теперь совсем иное — резьба на античный лад, спинки диванов и кресел — жесткие. Но как именно выглядят все эти нововведения, она имела смутное понятие, и потому боялась делать покупки: вдруг шельмы-купцы всучат ей что-нибудь не то? Косолапый Жанно служил переводчиком и умаялся отвечать на вопросы. Он даже позавидовал Терентию — сидит сейчас бестолковый детина в парадной ливрее на козлах и дремлет в полное свое удовольствие! Не сделав покупок, Варвара Васильевна решила ехать домой, и тут-то Косолапый Жанно предложил ей хоть конфектов приобрести, а также приятных ликеров, которые светская особа может подавать на стол для дамского общества. Так княгиня оказалась в аптеке Слона, где Давид Иероним сумел завести любопытную для всех беседу. Маликульмульк ждал удобной минуты, чтобы потихоньку спросить его про тело в анатомическом театре, но этот замысел вылетел у него из головы, когда химик, несколько смутившись, по-французски задал княгине вопрос: — Вы, ваше сиятельство, были ли в столице, когда там творил чудеса граф Калиостро?Глава шестая В игру вступает Тараторка
Редкий философ, рожденный в просвещенном веке, не проявлял интереса к масонам. Маликульмульк как раз таким редким философом и был — его мало беспокоило всеобъемлющее переустройство мира на манер Златого века, связанное с какими-то странными церемониями, он все больше с пороками человеческими сражался. Златой век даже казался ему подозрительным, ибо какое же развитие жизни, когда всего в избытке и все обитатели — ангелы? Да и не звал его никто в тайные масонские союзы. Как говорится, рылом не вышел. В масонской ложе, какую ни возьми, знатные кавалеры. А Маликульмульк, если снять с него звездную епанчу, — из простых, и всем ведомо, когда его батюшка получил дворянство. К тому же писания его Златому веку, может, и пригодятся, но сам он, с его умением наживать врагов, — вряд ли. Вспомнить хотя бы всесильного (в свое время!) канцлера Безбородко. Какой дурак поверит, будто Безбородко не знал, чье острое перо начертало жалобу, которую хорошенькая актерка Лиза Уранова подала государыне, а в жалобе — все в подробностях о домогательствах канцлера? К тому же масоны учили, что их адепты могут вызывать духов и оживлять покойников. А Маликульмульк и сам проделывать такие штуки горазд. Кто читал «Почту духов» — тот знает. И натуральный покойник, зловонный выходец из гроба, с лицом, изъеденным червяками, ему не нужен. И еще — он умеет отдавать должное противнику, тем более противнице. По крайней мере теперь… Комедии, написанные государыней Екатериной, в восторг его не приводили, но вот то, как она расправилась с «гишпанским полковником графом Калиостро» в своих комедиях «Обманщик» и «Обольщенный», ему в конце концов понравилось. Шарлатан Калифалкжерстон получился именно такой, какой требуется, чтобы публика со смеху животики надорвала. Сам Иван Андреевич во время великолепных похождений мага и чудодея в столице был еще слишком юн — ему исполнилось одиннадцать лет. Но вот когда комедию «Обманщик» представляли в Эрмитажном театре, ему было уже восемнадцать. Сам он туда не был зван, но пиесу читал. Она была обречена на успех — к некоторой зависти юного сочинителя, полагавшего, будто залог триумфа — лишь императорский титул автора, и с трудом признавшего за комедией достоинства. Зато «Обманщика» видела Варвара Васильевна, да и не только на сцене — она самого графа Калиостро знавала. Тогда она только-только стала княгиней Голицыной и много слыхала о всех похождениях графа от Светлейшего, своего дядюшки. А тот от скуки привечал мага и чудодея. Другой вопрос — что из этого получилось… — Графа я помню, — сказала, улыбнувшись, княгиня. — Много начудесил. — Точно ли он был хорошим врачом? Или просто умел всех ввести в заблуждение? — спросил Гриндель. — Лечить умел, это верно. Тогда у нас в итальянской опере был певец Локателли, и стал он терять голос. Сперва смешно, когда вдруг то захрипит, то петуха пустит, потом стал совсем жалок. Граф его исцелил. Потом у князя Гагарина умиравшего сына исцелил, от тысячи золотых империалов в награду отказался. Тут, правда, ходил слух, будто младенца подменили. А тогда лейб-медиком при государыне был англичанин Роджерсон. И он стал против графа интриговать. Тогда граф вызвал его на дуэль, но так вызвал, что весь двор насмешил. Говорит — пусть каждый приготовит самый опасный яд в виде пилюли и, когда сойдемся на поле, даст противнику, и чтобы обе пилюли были проглочены при секундантах. А потом каждый воспользуется от этого яда своим собственным, заранее изготовленным противоядием. У кого противоядие лучше — тот и победил. Дамы об заклад бились, а Роджерсон возьми да и откажись! Но потом государыне донесли, будто граф похвалялся, приехав в столицу, тут же попасть к ней в фавор. А ведь он даже не был хорош собой. — А не проводил ли он опыты по части животного магнетизма? — полюбопытствовал тогда Гриндель. — Магнетические опыты с «голубками» были, да только я сама не видала. Он проводил такие магические действия над детьми, которые потом ничего не могли вспомнить, над какими-то девицами. — «Голубки»? Именно это слово? — Так он называл… дай Бог памяти… Иван Андреевич, не дай опростоволоситься — их же «медиумами» называют? — Точно так, ваше сиятельство, — подтвердил Косолапый Жанно и отправил себе в рот большой кусок рассыпчатого печенья с корицей. Вся грудь редингота была уже в мелких крошках. — Да, и еще злого духа из одержимого изгнал! — вспомнила княгиня, но Давид Иероним уже, кажется, не слышал, а приоткрыв рот, что-то обдумывал. — Калиостро, сказывали, помер, — оживил беседу Маликульмульк. — Но до сих пор непонятно, как он умудрялся чуть ли не на глазах у публики выращивать из маленьких бриллиантов большие. Если это ловкость рук — то удивительная. Не менее удивительно, откуда он эти дорогостоящие камни брал. И хотел бы я знать, куда подевались все те, кого он посвятил в египетское масонство. Но отчего вам, милый Давид Иероним, вдруг пришел на ум итальянский шарлатан? — Я хочу понять, что делается в доме, где меня всегда хорошо принимали, — ответил химик. — Там появилась женщина, которая называет себя ученицей Калиостро. Она обещает провести какие-то странные опыты. И я обеспокоен — не втерлась ли к моим друзьям в доверие мошенница. Видите ли, друзья мои из Курляндии и госпожа фон Витте знавала графа Калиостро, когда он двадцать лет назад по дороге в Санкт-Петербург надолго остановился в Митаве. Тогда госпожа фон Витте была приятельницей госпожи фон дер Рекке, большой поклонницы и покровительницы этого господина. Там составился целый кружок дам, масонов и местных алхимиков под его предводительством. И она видела, как мальчик из семейства Медем, над которым Калиостро проделал какие-то пассы, обрел способность к ясновидению. Еще там была какая-то загадочная история с поисками клада. Но ничего не вышло, а маг уехал в столицу, имея при себе рекомендательные письма от всего курляндского дворянства. — Занятно, — сказала княгиня. — Я придерживаюсь мнения покойной государыни: Калиостро — мошенник, каких мало. Значит, и дама мошенница. — Но она умеет говорить о своем учителе и объясняет все его действия так, что люди верят. Поэтому я хотел бы знать правду и разоблачить эту самозванную графиню! — воскликнул Давид Иероним. — Я верю в Бога и служу науке — между Богом и наукой нет места заклинателям духов и шарлатанам! Княгиня улыбнулась — молодой химик ей определенно нравился. — Иван Андреевич, — сказала она. — Мне ехать к госпоже фон Витте невместно, однако ежели господин Гриндель возьмет тебя с собой и представит хозяевам дома, ты посмотришь на эту особу и все мне расскажешь. Если доподлинно мошенница — доведем до сведения Сергея Федоровича, и будет она выставлена из Риги в двадцать четыре часа, как полагается. Давид Иероним широко улыбнулся, эта затея ему понравилась. Понравилась она и Маликульмулку — какое ни есть, а приключение, для Риги даже весьма занимательное приключение… как будто ему мало забот с игроцкой компанией… Затем Гриндель пошел в задние комнаты, чтобы взять самодельного сахару, чтобы угостить княгиню с дамами. Маликульмульк — следом, как если бы химик без него не обошелся. — Я предлагаю поужинать в «Лондоне» и оттуда идти к госпоже де Витте, — сказал он. — Если только это выйдет не слишком поздно. Вы можете явиться к ней в любое время, или у нее есть день? Давид Иероним не понял, пришлось объяснить: у светских дам есть дни, в которые они по вечерам ждут гостей. Это для господ очень удобно — можно целую неделю наносить визиты, не беспокоясь, что выдастся вечер, который придется провести дома, скучая и листая старый календарь. — Вы имеете в виду благородных людей? — уточнил Давид Иероним. — Не приходилось слышать, чтобы у богатых купчих были такие дни. Странно, что столь разумный обычай у вас не прижился. — Только потому, герр Крылов, что в Риге не прижились благородные люди. Тут только Маликульмульк узнал, отчего в портовом городе так мало дворянства — главным образом служивые люди да гарнизонные офицеры. Город был купеческий — для торговли его в устье Двины и поставили. Здешние купцы денег имели много и тратили их иногда с размахом. Этот размах сильно раздражал баронов, которые имели и земли, и крепостных, но швыряться золотом не могли. И они нашли выход из положения — многие, лето проведя в усадьбе, на зиму уезжали в Дерпт, где шалых денег просто не водилось, но водились «свои» — такие же господа, ведущие происхождение прямиком от рыцарей ордена меченосцев. — А фрау де Витте? — спросил Маликульмульк. — А она в этом году решила зимовать в Риге. У нее племянница, — тут Давид Иероним несколько смутился, — и эта племянница очень нравится старшему сыну эльтермана Раве, Францу Генриху. Так что рождественские гуляния могут привести к сватовству. Раве не станет требовать большого приданого, для него важнее знатная родня невесты. — Раве! — вдруг воскликнул Маликульмульк. — Этот скупердяй! Только сегодня на его стол легла бумага из столицы, предписывавшая изучить положение дел с пресловутым don gratuit, то бишь, новогодним подарком, который магистрат должен был преподнести князю Голицыну и его чиновникам, как уже чуть ли не сотню лет подносил поставленным от царя генерал-губернаторам, начиная с князя Репнина. Стоило государю недели две назад указом запретить подарки, подносимые под видом хлеба-соли, как тут же в рижском магистрате сочинили кляузу в столицу, умоляя отменить этот самый don gratuit. Зачинщиком кляузы был Раве. Опытные канцеляристы сказали — переписка по этому поводу затянется года на два, а все потому, что нет четких определений. Вот, скажем, считается, что магистрат делает этот подарок князю добровольно. А если один из ратсманов выразит несогласие — то может ли идти речь о добровольности? Или же князь, допустим, не захочет брать подарка, а магистрат вдруг единодушно решит его вручить? Маликульмульк тогда чуть за голову не схватился — до чего же ратсманы любят орудовать исподтишка! Через голову его сиятельства исхитряются писать государю! За что их неплохо бы примерно проучить! Услышав эти слова, вся канцелярия дружно расхохоталась. И мудрый Сергеев посоветовал возмущенному молодому начальнику ничего не затевать, а преспокойно гонять бумаги с подписями взад-вперед. Может статься, скоро возмутитель спокойствия герр Раве допустит какую-нибудь ошибку — вот тут его и можно будет прижучить без всякой жалости. И он прекрасно поймет, за какой грех. Говоря это, Сергеев прекрасно знал, что начальник канцелярии — вовсе не кошачьего нрава, чтобы часами сидеть у норки и ждать добычу. То есть он был уверен, что умный совет впрок не пойдет. Надобно родиться чиновником, надобно взрастить в себе это умение выслеживать и подсиживать. А господин Крылов, хотя и хвалился, что с одиннадцати лет служил в Калязинском нижнем земском суде писцом, а затем в Тверском губернском магистрате подканцеляристом, что-то не похож на человека, взращенного в канцеляриях. Это особые люди, они друг дружку сразу узнают. Хоть какую ты дородность наживи, а взгляд не тот — рассеянный у господина Крылова взгляд, когда за столом сидит, не цепкий, а если цепкий, то отнюдь не в канцелярских вопросах… — Вы сможете ему сами это высказать, герр Крылов, — усмехнулся Давид Иероним. — Если встретите его у госпожи де Витте. А Франц Генрих там наверняка будет. — Нет, — подумав, сказал философ Маликульмульк. — Не будем безобразничать в приватном доме. Кстати, о безобразиях — я все вспоминаю тот женский труп, о котором вы говорили, и пятимесячный эмбрион. Скажите, можно ли еще все это увидеть? — Эмбрион, я полагаю, уже плавает в банке со спиртом. Вы же знаете, в анатомический театр приходят повивальные бабки и их ученицы, им нужно видеть такие вещи. А тело — оно, возможно, лежит в подвале. Может быть, его все же опознают. Вы там найдите сторожа Иоганна Кристофа Репше, скажите, что вы мой приятель — он все покажет. Да не забудьте отблагодарить. Беседуя, Давид Иероним аккуратно выкладывал ложечной на фарфоровое блюдце желтоватые кристаллы своего драгоценного свекловичного сахара. И глядел на блюдечко с подлинной нежностью. Он вынес свое произведение и предложил Варваре Васильевне отведать — так ли сладок здешний сахар, как привозной. Она пригубила ложечку, пососала, сосредоточилась, прислушиваясь к ощущениям во рту. — А что, он и в пирожное годится? — спросила княгиня. — И в кофей? — Коли угодно! И в пепнеркухены также! Перечное печенье — это было любимое немецкое лакомство, и когда Косолапый Жанно видел его в кондитерской или на улице у разносчика, то брал большой кулек и за вечер весь его сгрызал. Но по лицу Варвары Васильевны было видно, что она озадачена: как же так, сахар — да вдруг из свеклы? Давид Иероним предложил ей взять четверть фунта на пробу, пусть ее повар изготовит что-нибудь сладкое, и их сиятельства убедятся — товар без обмана! Простодушная улыбка Гринделя не обманула Маликульмулька: молодой химик все-таки беспокоился о карьере. Если Голицыны одобрят его опыты, то тут откроется дорожка в столицу. Рассуждая философски, стремление ввысь у Гринделя в крови. Его дед (Маликульмульк знал правду о происхождении Давида Иеронима) сделал резкий рывок вверх — поменял сословие; возможно, с риском для жизни. Его отец сделал другой рывок — нажил состояние, что было совсем не просто. И вот он сам — казалось бы, избалованное дитя, которому позволили, не заботясь о завтрашнем дне, полностью посвятить себя науке. Так ведь и у него где-то в глубине души таилась эта способность к рывку. Приехала в аптеку княгиня Голицына — тут способность и проснулась… Маликульмульк покачал головой: и ты, друг мой, оказывается, как все, и тебе княжеский герб застит глаза… можешь сколько угодно предаваться научным штудиям, а в душе — все то же, что и у прочих… Философ знал, насколько слаб по части тщеславия род человеческий — на то он и философ. Давид Иероним был еще из лучших представителей этого рода, он хотел получить свою порцию славы не за нечто эфемерное, вроде стихов, которые сегодня у всех на устах, а завтра забыты, как оды Ломоносова. Он хотел вознаграждения за практический плод труда — сахар, который будет в несколько раз дешевле привозного. Сразу видать рижанина и немца (уже немца!) — его гениальность имеет финансовую подкладку. Он бы не стал связываться с театром и журналистикой, где человеку талантливому проще всего потерпеть крах… Потом княгиня велела Косолапому Жанно выйти на аптечное крыльцо и подозвать ее экипаж. Терентий страх как не любил ездить по крепости — поди, приноровись с четвероконной запряжкой к узким и кривым улицам, а тут еще надо встать впритирочку к дверям, чтобы дамы, выпорхнув, тут же оказались в теплой карете. Княгиня одевалась сообразно возрасту, в теплое платье, берегла здоровье, но та же Екатерина Николаевна никак не желала отстать от моды — платьице на ней было тоненькое, талька — длинная и легкая. Сколько ей не перечисляли дур, что, выскакивая в таком наряде на мороз, схватывали горячку и помирали во цвете лет — не помогало. Ей казалось, что девичье платьице делает ее на десять лет моложе. Генерал-губернаторская карета выпуталась из узких улиц, кое-как справилась с поворотом — Большая Монашеская и Большая Замковая перекрещивались под острым углом, место было для кучера просто отвратительное — и покатила к замку. Косолапый Жанно сидел напротив княгини и слушал ее разговор с дамами. Он так и не отряхнулся от крошек. И никто ему не посоветовал привести себя в порядок. Это случалось все чаще. Он даже подозревал, что, начав следить за собой, будет уже не так интересен для княжеского семейства. Голицыным нужен ручной медведь со скрипкой? Значит, после всех своих неудач господину Крылову осталось только служить медведем со скрипкой. Ничего, усмехнулся Маликульмульк, ничего, с каждым днем, с каждым часом все ближе Большая Игра!* * *
Убитая женщина, как Маликульмульк и думал, оказалась Маврушкой. Хорошо, что сторож Репше сам сопроводил его в погреб. Старик, несколько обезумевший от общества покойников и говоривший о них, как о живых, имел при себе для таких случаев пузырек с ароматным уксусом столь пронизывающей силы, что Маликульмульк смог выйти из подвала без посторонней помощи. Он и не предполагал в себе такой чувствительности. Я узнал ее, — сказал Маликульмульк сторожу. — Скажи, любезный, сыщикам, когда придут осведомляться, что это горничная купца Морозова, который живет в собственном доме на Малой Песочной. Немец мог и не знать привычного для Маликульмулька русского названия улицы — Романовка. А он нарочно выведал это название перед походом в подвал. Теперь совесть в какой-то мере была чиста. Морозовы или сами заберут и похоронят Маврушку, или дадут знать ее родне. С другой стороны, полицейские сыщики, выясняя подробности Маврушкиного житья-бытья, могут случайно узнать, что в день, когда было обнаружено тело, на Романовне видели княжескую карету. Им-то хорошо — появляется еще одна ниточка, за которую можно потянуть. А Терентию достанется на орехи. Если хорошенько подумать, разбираться в обстоятельствах Марфушкиной смерти Маликульмульку было уже ни к чему. Благодаря покойнице он нашел дом, где встречаются игроки. Прочее к ней уже отношения не имело. Вот разве что казалось подозрительным, что дама-мопс поселилась напротив Дивовых. Это явно было связано с Анной Дивовой, но против сей интриги у Маликульмулька намечалась своя: взять и поскорее переместить дивовское семейство в Цитадель. Туда эти господа сунуться не посмеют. Больше всего Маликульмулька теперь заботило, как познакомиться с мопсовидной дамой. Давно уже не думал он о таких вещах! Если действовать, как в комедии, то не обойтись без почтенной Минодоры Пантелеевны. Но что-то мешает к ней обратиться. А что? Конечно, она не явится в гостиную к даме-мопсу, она будет действовать иначе — сойдется с горничной, с кухаркой. Но ведь у нее одни амуры на уме. Как бы чего не натворила… Поход в анатомический театр Маликульмульк совершил в обеденное время — Рижская крепость была настолько мала, что до Конвента Ниенштедта на углу Кузнечной и Ткацкой, расстояние немногим менее версты, он дошел от замка за одиннадцать или двенадцать минут, сделав тысячу триста двадцать шесть шагов. Возвращаясь обратно, он был в недоумении: сможет ли сесть за стол после такого зрелища? Чем ближе к замку — тем громче заявлял Косолапый Жанно, что зрелище ему не помеха. И, поскольку удалось покинуть канцелярию чуть ли не на полчаса раньше срока, то можно успеть за княжеский стол. Сегодня к обеду главное блюдо — сиг с яйцами. Ради него можно и ускорить шаг. Обед с покровителями нужен был и еще по одной причине — замолвить словечко за Дивовых. И не столько князю, сколько княгине. Теперь в моде сентиментальность господина Карамзина — вот пусть и вообразит себе окошко с бледным профилем, склоненным над обрывками галуна. Пусть пожалеет бедную Анну! «Нужно убедиться, что Анна в полной безопасности, — вот какая мысль возникла у Маликульмулька. — Убедиться — и лишь тогда начинать свою военную кампанию». Все-таки муж Анны, записной игрок, пропал без вести — и одному Богу ведомо, жив или нет. А игроцкая шайка наверняка что-то об этом деле знает, и вряд ли приятное для себя, скорее наоборот, потому и вьет петли вокруг госпожи Дивовой. Сперва избыть эту заботу, чтобы суета вокруг дивовской невестки не помешала Большой Игре. При нужде Маликульмульк был хорошим дипломатом. Сперва он выпустил на сцену Косолапого Жанно, в очередной раз поразившего всех феноменальной вместимостью своего желудка. Затем Ивана Андреевича, который, испросив у дам позволения говорить о скучных канцелярских делах, за десертом поведал о бедной Анне, сидящей у окошка с бесконечным галуном — за это время можно было распороть его полсотни сажен, не меньше! — Место скверное, медам, неподходящее место для дамы из благородного сословия. Под окнами слоняются всякие подозрительные господчики, подсылают к ней старух, — скорбно излагал он собственные свои похождения. — Она оказалась в оскорбительном для себя состоянии, а Петр Михайлович не может защитить ее по самой простой причине — она побоится рассказать ему про все домогательства, чтобы старик, устремившись на помощь, сам не попал в беду. Да еще двое мальчиков, воспитанных в холе, предназначенных для службы в гвардии. И сейчас эти дети бегают по улицам в обществе неотесанных мальчишек, играют в грязи, может статься, уже отбились от рук. Ваше сиятельство, Варвара Васильевна, я человек грубый, тяжеловесный — и то едва ль не слеза прошибает… — Не сам ли ты вздумал подбивать под вдовушку клинья, братец? — осведомился князь, щуря хитрый левый глаз. — Так даже то неведомо, вдовушка ли. Варвара Васильевна, вас одну лишь его сиятельство послушает! Чем скорее госпожа Дивова переедет в Цитадель, тем лучше для всех. Туда-то прощелыги не сунутся. А сейчас она — прямой соблазн для разного рода мошенников и мазуриков. — Чего же им от нее нужно, коли она бедна? — спросила Тараторка. Маликульмульк опешил. Девочка так блеснула чрезмерной для пятнадцати лет невинностью, что все застольные разговоры разом смолкли. Княгиня метнула в сторону Маликульмулька огненный взгляд все еще ярких и живых глаз — вот волосы ее, рыжая грива норовистой кобылки, уже с годами малость потускнели. А чего метать взоры, сама воспитала девицу в незнании простых вещей, сама так берегла ее нравственность, что через год впору замуж отдавать, а у невесты одни ручные птички на уме. Маликульмульк тут же обернулся Косолапым Жанно, озабоченным лишь тем, чтобы его не обнесли сладким воздушным пирогом с малиновым вареньем. Тараторка поняла, что сморозила какую-то глупость. И, когда старшие неловко перевели беседу на иную тему, задавать вопросов не стала. Зная ее бойкий и непоседливый характер, можно было ожидать каких-то эскапад. Вечером, посетив герра Липке и справившись со всеми грамматическими выкрутасами баллады «Ивиковы журавли», Маликульмульк пошел в аптеку Слона. Там он узнал, что почтенная фрау фон Витте плохо себя чувствует, но надеется, что через три-четыре дня друзья (включая Давида Иеронима) смогут ее навестить. Происхождение химика наверняка было ей известно, однако когда имеешь в доме трех девиц на выданье, а приданого для них немного, то всякий наследник солидного состояния — уже милый и желанный жених. И рыцарская древность рода фон Витте может облагородить тех, кто хоть каким-то боком пристегнулся к роду, на много поколений вперед. Поход в «Лондон» также не состоялся — Гриндель был занят аптечными делами. Погода к походу в Петербуржское предместье не располагала, да и стемнело. Так что Маликульмульк вернулся в Рижский замок, не солоно хлебавши. Хорошо хоть успел к ужину, а потом был завербован третьим игроком в ломбер. За игрой княгиня изволила намекнуть, что его ждет великолепный сюрприз. Сюрприз этот был — печка в башне, которую за время его отсутствия кое-как наладили и истопили на совесть. Маликульмульк поднялся в свою обитель волшебника и философа, отворил дверь — и блаженно заулыбался. В комнате было не то что тепло, а даже жарко. Кроме того, Варвара Васильевна велела втащить и установить в простенке между окнами шкаф, чтобы одежда и книги не валялись где попало, а хоть как-то прятались от посторонних глаз. Видимо, кто-то из дворни донес ей про беспорядок в башне. Не ожидая никаких визитеров, Маликульмульк… нет, пожалуй, Косолапый Жанно быстро разделся донага. Он любил ходить, читать и даже играть на скрипке в натуральном виде. Удовольствие это можно было испытать лишь в одиночестве. Должно быть, ему действительно стоило родиться медведем, лесным философом. Но если есть возможность голышом развалиться на кровати и взять с собой туда кулек с перечным печеньем фунта на полтора вместе с маленьким изящным томиком стихов Дмитриева — то чего же еще желать! Того разве, чтобы печенье не осыпалось на одеяло и простыни. Но сие было бы уже чудом — так что придется мириться с крошками… Он даже не читал, он привольно раскинулся с книжкой в руке и наслаждался, как огромный и ленивый зверь на солнцепеке. Поэтому и стук в дверь не сразу осознал. — Иван Андреич! — позвал тоненький голосок. — Можно к вам? Это я, Маша! У Маликульмулька для уединения в холодной башне был изрядный полосатый архалук, плотный и стеганый. Если его расстелить — вышло бы поболее квадратной сажени. Сейчас он висел на спинке кресла. Вскочив и запутавшись в его рукавах, философ закричал, что не одет. Куда-то запропастился нарядный пояс, подаренный княгиней. Куда-то подевались домашние пантуфли. Запахивая полу, Маликульмульк босиком устремился к двери. Маша вошла, чувствуя себя очень неловко. — Добро пожаловать, Тараторка, — Маликульмульк указал ей на стул, а сам по привычке шлепнулся в уютное свое кресло. — Так вот как вы тут устроились, — сказала Маша, садясь. И сразу приступила к делу: — Иван Андреич, что я сегодня сказала не так? — Оставь беспокойство, Тараторка, — отвечал Маликульмульк, ерзая в кресле и стараясь поболее запахнуться в архалук, чтобы не вершка голого тела не светилось. — Просто старшие больше знали про эту историю, а ты не знала ничего. Тебе и не надо было знать. — Отчего? Отчего от меня все скрывают? Я давно не дитя! Это только кажется, будто я дитя! — заговорила девочка бурно и страстно. — Я люблю птиц — и что же? Вон тетушка Марья Никаноровна своего попугая любит — и что, она дитя? Да ей восемьдесят шесть лет! Это потому, что я маленькая, ниже всех, я вровень только с Сашей, а Павлуша уж выше меня. Ну, так что же? Она сказала правду — Маликульмульк сам видел, как она мерялась ростом с младшими Голицыными, и даже знал, который из дверных косяков они дружно попортили своими зарубками. — Я и книжки читаю, которые полагаются взрослым девицам! — продолжала обиженная Тараторка. — Вон Екатерина Николаевна «Аониды» читала — и я тоже! И сочинения господина Карамзина! И «Московский журнал!» И стихов я больше знаю, чем все!.. — Вот только не надо стихов! — испуганно воскликнул Маликульмульк. Память у Маши была отменная, она роль Цыганки в «Подтипе», нарочно для нее написанную, заучила чуть ли не с двух репетиций. Если бы она принялась сейчас декламировать все, что помнила, как раз до утра и хватило бы. — Иван Андреич! — Маша вскочила со стула. — Да что ж это такое?! То говорят — замуж пора, то дитятей считают! Коли я чего не понимаю — так объясните! — Сядь, Тараторка. Есть такие вещи, что только женщина должна объяснять девице, а я, вишь, мужчина… мне того не положено… — Иван Андреич, что это за вещи такие? Чего мошенникам надобно от госпожи Дивовой, коли она бедна? Такого, что только Варвара Васильевна может мне объяснить? Иван Андреич, миленький! Отчего все могут знать, а я не знаю?! Мне пятнадцать лет, мне уж следует знать все, что бывает с девицами и с дамами!.. Тут лишь Маликульмулька осенило — не нужно было касаться этой темы вообще! Довольно было бы сказать, что в бригадирском семействе хранятся старые письма, очень важные для высокопоставленных особ. О том, сколько беды может наделать такое опрометчиво составленное послание, попав в дурные руки, он мог бы толковать долго, запутанно и убедительно. Но сам же сдуру намекнул, что речь — о загадочных делах между кавалерами и девицами! И Тараторка, чья любознательность по этой части наконец проснулась, принялась умолять его со всей пылкостью пятнадцатилетней избалованной девицы. Он же только успевал, отталкиваясь ногами, отползать вместе с креслом, одновременно кутаясь в архалук с отчаянием старой девы, застигнутой на месте купания и успевшей нырнуть в кусты. Время меж тем близилось к полуночи. И Маликульмульк с Тараторкой, увлеченные спором, услышали шаги на лестнице лишь тогда, когда уже новый визитер был совсем близко. Писание, чтение и наблюдение комедий имеет одну неоспоримую пользу: у любителя этого жанра скапливается в голове множество выходов из самых невероятных комических положений. Маликульмульк шепотом скомандовал растерявшейся Тараторке: — В шкаф!.. Она метнулась туда и даже очень ловко прикрыла за собой дверь. Положение для обоих было отчаянное. Если бы о том, что Тараторка обнаружена ночью в комнате начальника канцелярии, донесли князю — он похлопал бы «братца» по плечу и посоветовал, не дожидаясь Машиных шестнадцати лет, скоренько вести ее под венец. Благо и домовый храм — вот он, от башни с сотню шагов по коридорам, и батюшка, которого зовут служить в этот храм, свой, прикормленный, знающий субординацию. Но вот если бы новость первой узнала княгиня Голицына — ух, расходилась бы! Среди дворни бытовали сущие легенды о том приступе бешенства, который случился с Варварой Васильевной, когда она прочитала письмо от мужа, присланное из Литвы: там сообщалось, что государь за что-то на него прогневался, отставил его от службы, отдал корпус его генералу де Ласси и велел ему жить в деревне. Забыв, что на нее смотрят дети и слуги, она прокляла в хвост и в гриву царя, а также двор, народ и войско, которые ему повинуются. Княгиня ругалась и кричала, пока ее не одолела усталость, и все были убеждены: случись в ту минуту поблизости государь Павел Петрович, одной оплеухой не отделался бы. Дверь отворилась, на пороге встал согбенный Терентий, втащивший по узкой и крутой лестнице огромный мешок с дровами. Встал, поднял очи — и разинул рот. Редко Маликульмульку приходилось видеть такую детскую обиду на широкой образине здоровенного мужика. «Как же так? — безмолвно спрашивала образина. — Я тружусь, я пыхчу, а тут кто-то иной, подлец и мерзавец, вытопить печку успел?! Да ежели он повадится без меня печку топить — так ему же мои законные денежки перепадут! И все мои труды — прахом!» Молча, с выражением самой жгучей укоризны на лице, подошел Терентий к печке, свалил возле нее свою ношу и вопросил грозно: — А где тут моя кочерга?! — Вон, вон там! — отвечал несколько испуганный Косолапый Жанно. Кучер схватил кочергу и принялся шуровать в печке с видом яростным и победоносным. «Ты, сукин ты сын, что чужие печки повадился топить! — говорил весь этот вид. — Мы еще поглядим, кто кого! Ты со своими дровами в чужое владение притащился, а тут все — мое, и кочерга, и ведерко для золы, и мебель, и недоросль! Вот посягни лишь на моего недоросля — зашибу! Вот этой самой кочергой!» Маликульмульк, привыкший витать в высоких сферах, где идет борьба с пороками, попросту не понял безмолвных речей Терентия, но ему не понравились взгляд и модуляции голоса. Кроме того, нужно было поскорее сблагостить непрошеного истопника, пока он не обнаружил шкафа и не полез исследовать его содержимое. А что с Терентия станется сунуть туда нос — Маликульмульк даже не сомневался. Говорят, загнанная в угол кошка становится опаснее льва. Точно так же и философ, миролюбивый созерцатель, выкручиваясь из опасного положения, вынужден был перейти в атаку. — Вот и славно, что ты явился, мой друг! — сказал он, шаря рукой в сброшенной на табурет одежде в поисках кошелька. — Вот и прелестно! Тебя-то я и ждал! Кошелек нашелся, полтина была извлечена и вручена кучеру, который вздохнул с облегчением: мало ли, кто истопил печку, а за работу эту вознагражден Терентий. Стало быть, он следует верным путем. — А теперь потолкуем. Садись, друг Терентий, вот так, лицом ко мне! — пригласил Маликульмульк, весьма ловко расположив гостя спиной к шкафу. Терентий едва не захлебнулся блаженством. Барин приглашает его сидеть в своем присутствии! (О том, что он едва ль не ежедневно восседал в присутствии самой княгини, да еще и поворотясь к ней задом, Терентий в тот миг благополучно забыл.) Кучер сел на табурет с таким достоинством, что Маликульмульк едва не ахнул: вот кому представлять на сцене «Мещанина во дворянстве»! И как же к сей персоне обратиться с требованиями? Однако ж придется. — Поговорим-ка мы наконец о твоих странствиях с каретой его сиятельства, — начал Маликульмульк, прекрасно зная, что за такой увертюрой последует. И последовало! — Да я ни сном ни духом! — возгласил Терентий. — Да все клевета, одна клевета и завистники! Я знаю, это Яшка воду мутит! Ему на козлах посидеть охота! Да кто ж ему даст! И не было ничего! И не ведаю! И Господь свидетель! И знать ничего не знаю, сидел и сидел! — А вот добрые люди на Родниковой сказывали, видели карету, стояла впритирочку к забору напротив дома, где Дивовы живут, вот этак, чуть наискосок. И герб признали, — преспокойно сказал Маликульмульк, когда поток кучерского красноречия иссяк. — Врут! Не могли они признать! За деньги чего не соврешь! Видят — барин простоват, вот и врут! Маликульмульк несколько нахмурился: надо же, этот умник считает его простоватым. Вот так живешь, лучший в России журнал выпускаешь, комические оперы сочиняешь, языки знаешь, в математике разбираешься, на скрипке играешь, а приходит кучер Терентий и изрекает вердикт: простоват! — Стало быть, не могли разглядеть герба на дверцах? — Не могли! — Потому что дверцы были обращены к калитке, которая лишь для виду заколочена, а на самом деле прекрасно отворяется? — Как отворяется?.. Терентий чуть не свалился со стула. — Да очень просто — я сам ее дергал. Оттуда, из калитки, могли вынести тело и незаметно для прохожих поместить в экипаж. Могли! Но… — Не могли! — Верно, — подтвердил Маликульмульк. — Ибо Маврушкино тело тебе подбросили не за Гостиным двором и не на Родниковой, а совсем в ином месте. Я полагаю, либо на Романовке, либо на Мельничной. — Не был на Романовке! Не был на Мельничной! Тут дверца шкафа заскрипела. — Мыши?! А вот я их! — Терентий, безмерно довольный, что можно улизнуть от неприятного разговора, потянулся за кочергой. — Нет тут мышей! — воскликнул Маликульмульк, вскакивая с кресла. При этом архалук, лишенный пояса, как и следовало ожидать, распахнулся. — Есть мыши! Вот я их!.. — Сидеть! — закричал Маликульмульк, уже мало беспокоясь о приличиях и ухватив Терентия за плечи. Всем своим немалым весом он навалился на эти мощные плечи, не давая кучеру встать с табурета. И перестарался — опрокинул табурет вместе с Терентием. — Да что ж это вы! — воскликнул кучер, лежа на полу с задранными вверх ногами. — Игрушки играть хотите?! — Для твоего же блага! — возгласил Маликульмульк, которому в голову пришла блистательная комическая мысль. — О тебе же, дураке, беспокоюсь! Чтобы ты умом не тронулся! — А с чего бы мне трогаться умом? — А с того, что тут, в башне… является!.. — Что является?! — А кто его знает! Старик какой-то. И скрипит, будто внутри стенки по лестнице ходит, и постукивает, и бормочет! — Матушка Пресвятая Богородица! — вскричал Терентий, с неожиданной быстротой поднимаясь на ноги. — Никола-угодник, батюшка, силы небесные, выручайте, святые угодники! — И лицо из стенки вылезает! С во-от такой бородой! По пояс и седая! — продолжал врать Маликульмульк. — А скрипом предупреждает — могу, мол, явиться! Меня-то он не тронет, а тебя-то не знает. И ты, его увидав, мог бы последнего умишка лишиться! Тут шкаф, словно в подтверждение, еще раз скрипнул. — Ахти мне… — прошептал Терентий. — А вы?! Я барыне скажу! Пусть вас переселит! — Никому не смей говорить. Слышишь? Или ты не православный? — Православный, — в великом недоумении отвечал Терентий. — И я православный. И тот, в стенке, тоже в Бога верует, крест носит. Ему, может, помочь надобно, панихиду по нему отслужить или какое-то зло исправить. Я уйду — опять башня пустой на полвека останется. И кто ему поможет? Кто его пожалеет? Тут Маликульмульк, сам того не ведая, отыскал в толстокожей броне кучера уязвимое место. Жалеть Терентий любил. — Так как же быть? — спросил кучер. — А никак. Я-то его не боюсь, и он ко мне уж привык, а чужих он, может, не любит. Так что ты ко мне в потемках больше не ходи. Мало ли что ему на ум взбредет. — Ахти, батюшки… — забормотал Терентий. — Сподобился… пресвятые угодники… спаси и сохрани… Шкаф отвечал на это бормотанье уверенным и решительным скрипом. — Башне-то лет знаешь сколько? — громко заговорил Маликульмульк. — Пятьсот, а то и поболе! Тут знатные господа жили и помирали! Тут такое делалось! Я, вишь, в книгах вычитываю про те времена! И он указал на столик, загроможденный выпусками «Московского журнала», «Аонид», «Приятного и полезного», «Вестника Европы», «Иппокрены». — Господи Иисусе… — Так что ступай-ка ты к себе и ложись спать! — приказал Маликульмульк. — Ступай, ступай с Богом! А я посижу, подожду — может, он как-то даст знать, чего ему надобно! Терентий обвел туманным взором комнату и кинулся прочь. Только по лестнице прогрохотало — и шум с треском сгинули где-то внизу. — Ф-фу!.. — сказали хором Маликульмульк и Косолапый Жанно. Теперь следовало выпустить из шкафа и выпроводить Тараторку. Но ее звать не пришлось — она сама выскочила и бросилась философу на шею. — Иван Андреич, миленький, я его боюсь! Деда этого! Философ окаменел. Мысль в голове билась одна: пояс, проклятый пояс! Не дай бог, Тараторка заметит, что архалук надет на голое тело! Это же для нее будет хуже всякого привидения! Дама, засаженная от греха подальше в шкаф, была чисто комедийным выходом из положения. И пужание кучера призраком, который скрипит в стене, тоже годилось, чтобы веселить народ. Но вот страх перед явлением обнаженного тела, который насмешил бы столичных зрителей до слез, уже не был столь забавен для драматурга: Маликульмульк таких шуток и в жизни-то не любил, а на сцену вытаскивать и подавно не стал бы. — Маша, Машенька, никакого деда нет! Это я придумал, чтобы Терентия прогнать! — твердил философ, держа девочку за плечи и потихоньку от себя отстраняя. — Как же нет?! А что в стенке скрипело? — Да ты же и скрипела! Ты в шкафу ворочалась, а шкаф старый, да пока его по лестнице втаскивали, расшатали, вот и скрипит, — объяснял Иван Андреевич, создавая между собой и Тараторкой пространство, чтобы просунуть руку и плотно запахнуть архалук. — Да нет же, это не я, — неуверенно возражала Тараторка. — Я тихо сидела, как мышка… Вид у нее был прежалкий, как у всякого испуганного ребенка, хотя девица в пятнадцать лет уже далеко не дитя. Вон Анюте тоже было пятнадцать — и полюбила… Только Анюта — голубоглаза, светла лицом, а Маша — черноглазый чертенок, не умеющий опрятно заплести косу. Голова в пушистом ореоле, а руки в царапинах и чернильных пятнах. Не иначе, ведет дневник, и страшно подумать, что она там пишет о взрослых людях… — А что вы такое говорилиТерентию про мертвое тело? — вдруг спросила Тараторка. — Вы разве знаете, где ему тело подбросили? Что же вы тогда никому не говорите? Надо же в управу благочиния сообщить! — То-то и оно, что я доподлинно не знаю. А он, дуралей, боится сказать, что на господской карете куда-то ездил. Ты же, Тараторка, и сама понимаешь — его за это по головке не погладят. Тебя тоже не погладят, если прознают, что ты ночью ко мне бегала. Бог весть что вообразят… Маша отстранилась от него. — Ну вот, опять! — недовольно сказала она. — Это же каким дураком нужно быть, чтобы подумать, будто я к вам бегаю, словно наша Фроська к Терентию! Тут-то философ совсем лишился дара речи. — Это в дворне так заведено, и Варвара Васильевна никак не может истребить… а мы ведь люди образованные!.. — убежденно продолжала Тараторка. — Вы вот дворянского происхождения, я тоже, и та госпожа Дивова — тоже! У нас так, как у них, быть не может. Философ ужаснулся. Кому-то ведь тяжко придется, когда этот человек, женившись на Маше, примется вытряхать у нее из головки княгинину педагогику. Но, с другой стороны, и сам он был именно так устроен: полагал, что низменные утехи и пошлые слова — удел тех, кто стоит на лестнице ниже его самого на много ступенек. Вот и вышло, что главной утехой плоти стала кулинария… А Тараторка опять свернула на важный для нее вопрос: — Так, Иван Андреич, растолкуйте мне, что я в гостиной не так сказала! — Понимаешь, здесь, в Риге, свои обычаи. Дворяне редко в городе на зиму остаются. И русских тут немного. Здешние дурные люди, глядя, что Дивовы бедно живут, могут подумать, будто госпожа Дивова — из простого звания, вроде Фроськи. А с Фроськой же особо церемониться никто не станет. Далее последовал маневр. Заметив на коврике у постели свой пояс, Иван Андреевич, старательно удерживая полу архалука, присел, поднял его и замер в недоумении: чтобы обвязаться, требуются две руки, а отпустить полу он никак не мог. Тараторка задумалась. Вроде ответ был логичен — однако Маликульмульк видел по глазам: наконец-то девочка задумалась, какие такие безобразия творят, уединившись, Терентий и Фроська. — Но ты, Тараторочка, не беспокойся, госпоже Дивовой уж ничто не угрожает. Она будет жить в Цитадели, она, может, даже на этой неделе туда переедет, я тебя с ней даже познакомлю, она тебе понравится… — Иван Андреич, а вам она нравится? Философ снова онемел, а Косолапый Жанно выронил пояс. — Вот, видишь ли, Тараторка, она достойная дама, и потому вызывает у всякого, кто ее знает, сочувствие, — подумав, ответил Иван Андреевич. — Даже ее горничная, Мавруша, которой Дивовы были вынуждены отказать от места, продолжала о ней заботиться. И я ей также сочувствую… — Мавруша? — переспросила Тараторка. — Так ее ж убили! — С чего ты взяла? — Так сами ж сказали, что ее тело подбросили в экипаж! — Послушай, Тараторка, ты все не так поняла. Это была другая Мавруша, — очень убедительно, как ему казалось, заговорил Иван Андреевич, — мало ли в городе Мавруш? Имя сие часто встречается, вон хоть в святцах поглядеть… Маликульмульк, слушая это как бы со стороны, понимал, что каждый звук обращенной к девочке речи дышит фальшью. — Да нет же, та самая! — воскликнула Тараторка. — И Терентий вон знает, что это она! Иначе бы вам знаете как возразил! А он о Мавруше спорить не стал, он только кричал, что не был на Романовке и на Мельничной! Иван Андреич! Вы ведь все знаете! За что убили Маврушу? Почему ее в наш экипаж подбросили? Расскажите, Христа ради! — Вот как раз этого я и не знаю! На сей раз слова прямо-таки дышали правдой. — Иван Андреич, лгать — грех, — нравоучительно сказала Тараторка. — И что Терентий лжет — большой грех! А я не какая-нибудь врунишка… Тут она замолчала, глядя в лицо своему учителю так, что он сразу осознал одну неприятную истину: как девочку ни воспитывай, какого ангелочка из нее ни лепи, сколь далеко ни держи ее от всей жизненной грязи, а вот проснется в ней любопытство — и слетит ангельская мордашка, словно румяная маска из папье-маше, а под ней обнаружится ехидная, упрямая и зловредная юная чертовка. Маша Сумарокова, которую все голицынское семейство считало дитятей, поглощенным лишь заботой о ручных птичках, с отвагой старой интриганки пригрозила, что обо всем донесет княгине Варваре Васильевне. В комедии, которая разыгрывалась ночью в башне Святого Духа, это был совсем неожиданный поворот. Но — комический, и Маликульмульк оценил это. — Ложь — это страшный грех, — согласился Иван Андреевич, — да только ты скажешь правду, а Терентию за это достанется. Варвара Васильевна строга, да и сердита на него — вот и выйдет ему палочное поучение. — Так коли Терентий не расскажет, где ему тело подбросили, то как полицейские смогут отыскать убийцу? А он расскажет — и над ним сжалятся! — Полицейские, может, и сжалятся, а Варвара Васильевна? Что она скажет, узнав, что ее пустой экипаж разъезжал по всему Петербуржскому предместью? Тут, Тараторка, как ни крути, а хорошего выхода из положения нет, все плохие… В шкаф! На сей раз шаги были услышаны вовремя. Тараторка прикрыла за собой дверцу, а Иван Андреевич стал быстро повязывать пояс архалука. — Ф-фух! — сказал он радостно, и тут в комнату влетел запыхавшийся Терентий. Вместе с ним прибыло облако ладанного дыма. Даже странно было, как это кучер одолел витую лестницу, не свалившись: в одной руке у него был огарок, в другой — большая кружка, из которой шел дым, а под мышкой были зажаты два образа: Николая-угодника и почему-то сорока мучеников Севастийских. Взглянув на мучеников, одетых в одни лишь набедренные повязки и заполнивших собой все пространство образа, Иван Андреевич вдруг подумал, что непременно нужно поехать в Московский форштадт и как следует попариться в бане. Терентий молча обошел комнату, вздымая и опуская кружку, чтобы обработать святым дымом каждую трещинку в стене. Николу-угодника он поставил на комод, мучеников — на подоконник, и тогда только взглянул на своего недоросля. Глаза Терентия безмолвно произносили целый драматический монолог. «Вот оно как получается-то! — укоризненно говорили эти глаза из-под насупленных бровей. — Не доспишь, не доешь! Ничего не пожалеешь! Они-то и не подумают, что оберегаться надобно! А тут — бежишь, летишь, чуть шею на лестнице не сломишь! От себя отрываешь! Сам без образов останешься!..» И завершился монолог сердитыми словами вслух: — Где тут моя метелка?! — Нету метелки! И отродясь не бывало! Ступай спать, братец! — воскликнул Иван Андреевич. Но Терентий помотал головой. Он искал взором метелку, чтобы прибрать перед печкой. Пришлось пустить в ход старое и испытанное средство — полтину. Когда шаги на лестнице стихли, Тараторка вышла из шкафа. — Я пойду, Иван Андреич, — смущенно сказала она. — Спокойной вам ночи и ангела-хранителя! — Ступай с Богом, — отвечал Маликульмульк, ощущая немалую тревогу — что-то уж больно легко ученица отступилась от своих затей. Но спрашивать о причине он не мог и не стал. Когда девочка ушла, он прямо в архалуке лег в постель и некоторое время ждал, не нагрянет ли еще какая добрая душа. Но визитеры угомонились. Да и свеча на столике догорела. Тогда он распахнул архалук и вольготно раскинулся, наслаждаясь теплом, тишиной и покоем. Последняя внятная мысль была почему-то не о Большой Игре, а об Анне Дивовой…Глава седьмая Кругом одни французы
Нужно было срочно знакомиться с Мартышкой. Именно с Мартышкой — как знакомиться посреди улицы с кавалерами, Маликульмульк понятия не имел. А даме поднимешь упавший платочек — и вот ты уж приглашен в гостиную. День выдался удивительно солнечный, поэтому Маликульмульк решил пренебречь визитом к герру Липке ради порядочной прогулки. Сбежав из канцелярии пораньше (незавершенные дела спихнул на Сергеева, а тот, чудак, и рад стараться!), Маликульмульк направил косолапые свои стопы через эспланаду в Петербуржское предместье. Для полноты блаженства он приобрел фунт перечного печенья и жевал его, не переставая, от бастионов до первой линии деревянных домов. Первым делом он решил навестить свою приятельницу Минодору Пантелеевну. Дома ее, понятное дело, не случилось — она тоже хотела воспользоваться хорошей погодой. Зимой-то, по колено в снегу, много не наторгуешь. Прогулявшись по окрестным улицам, он вышел на Родниковую, вышел неторопливо, вразвалочку, как приличный господин, совершающий моцион ради нагуливания аппетита. Там-то, напротив дома Дивовых, и отыскалась торговка, да как отыскалась! Маликульмульк сравнил бы это с падением здоровенного куска черепицы с крыши прямо на голову. Но человек, которого треснуло черепичиной, возмущен: как это его угораздило попасть в нужное место и в нужное время?! А вот Маликульмульк ощутил подлинный восторг — так начинается удача! Он шел по дугообразной улочке медленно и бдительно, зная, что в любую минуту пешехода здесь может зацепить водовозная бочка. Его обгонял простой люд, привычный к особенностям этой улицы. При этом его задевали то корзинками, то досками, то лотками со съестным. Звучала немецкая, латышская, русская, даже польская речь. Некоторые женщины мещанского сословия с любопытством поглядывали на хорошо одетого господина с приятным лицом. Две-три улыбнулись ему, а улыбка эта придавала такое сообщение: будь ты моим, любезный кавалер, я бы уж не выпустила тебя на улицу обсыпанным крошками от перечного печенья! Ангел-хранитель, который у Маликульмулька, несмотря на его приверженность древнеримским богам, все же имелся, так удачно замедлил его шаг, что у крыльца дома, где обосновались игроки, Маликульмульк оказался вовремя. Дверь распахнулась, и на улицу даже не выскочила, а выпорхнула Минодора Пантелеевна. Ее причудливый товар, включая корзинку и драгунские сапоги, полетел следом. Все это сопровождалось криками на немецком языке. Женский голос ругал старых ведьм, которые всюду суют свой любопытный нос. Маликульмульк подхватил торговку и помог ей удержаться на ногах. Тут же рядом оказались уличные мальчишки. Они нацелились на жалкий товарец Минодоры Пантелеевны, но недаром Маликульмульк, как полагается настоящему щеголю, имел при себе трость. Он замахнулся — ребятишки отскочили. Тогда он достал из кошелька горсть мелочи и показал ее. Мальчишки осторожно подошли поближе. — По-русски понимаете? — спросил Маликульмульк. Несколько парнишек кивнули. — Нехорошо, что старушку обижают. Старушка никому зла не сделала, а ее — с крыльца в тычки, — продолжал он. — Ну что, учить мне вас, что ли, как надобно за бедную Минодору Пантелеевну посчитаться? Он протянул раскрытую ладонь, на которой лежали медные копейки и полушки. Затем он развернулся спиной к окнам игроцкого дома. Самый маленький из парнишек тут же оказался рядом, вопросительно взглянул на Маликульмулька, философ дважды кивнул, и денежки исчезли с ладони. — Минодора Пантелеевна, ступай-ка, я тебя потом найду, — успел сказать Маликульмульк. — Сейчас эти бесенята за тебя поквитаются… Он и сам отошел в сторонку, освободив бесенятам поле боя. А бой был прост — в окна дома, откуда выставили торговку, полетели камни, обломки кирпича и всякая дрянь, которой на улице в предместье полным-полно. Стекла повылетали, в доме раздался визг. Тут-то, Маликульмульк, подняв над головой трость, и кинулся в атаку! — Кыш, сорванцы! Вот я вас! — прекрасно поставленным голосом возглашал он на всю Родниковую, никого при этом не ударяя. Мальчишки, отскакивая, показывали ему кто — язык, кто — длинный нос. Наконец они, перекликаясь, побежали прочь, а в разбитом окне появилась мопсовидная дама. — Надеюсь, эти безобразники не слишком испугали вас, фрау? — спросил Маликульмульк по-немецки с самыми светскими интонациями. — Ах, я не знаю, как вас благодарить! Вы спасли меня, я уж думала, что они сейчас ворвутся в дом, — отвечала фрау. — Разрешите представиться — Якоб фон Княжнин, — переделав свой новоявленный псевдоним на немецкий лад, сказал Маликульмульк. Дама несколько засмущалась, и это было правильно — она показывала, что воспитанная женщина хорошего происхождения не может знакомиться с первым встречным. — Я не из тех нахалов, которые преследуют женщин, не считаясь с правилами приличия, — заявил Маликульмульк. — Но я в Риге недавно, я здесь никого не знаю, не имею знакомств в хороших домах. Я был бы рад свести знакомство с почтенным семейством, чтобы проводить вечера в приятном обществе… — Я вам безмерно благодарна, — дама улыбнулась, помахала ручкой и исчезла. Маликульмульк усмехнулся, он сказал достаточно, чтобы игроцкая компания проявила к нему интерес. В ближайшие дни следовало околачиваться в окрестностях этого дома — глядишь, повезет, и удастся встретить даму-мопса с кем-либо из мужчин. Завяжется разговор, последует приглашение… Теперь можно было преспокойно искать Минодору Пантелеевну. Старуха уже пришла в себя от встряски и прохаживалась тут же, за углом, по Новой улице. Новых улиц в Риге оказалось две, но их не путали — одна в крепости, возле Домского собора, известная Маликульмульку тем, что на ней стояла аптека Слона, и, как многие старинные улочки, загибавшаяся дугой, и другая — в Петербуржском предместье, совершенно прямая. — Спасибо тебе, батька мой! — с таким кличем устремилась к Маликульмульку Минодора Пантелеевна. — Думала, и косточек не соберу! А ведь для тебя старалась! Детина-то, что в доме живет, точно Дуняшку обхаживает! Это мне их кухарка выболтала, Гретка. — А что, она по-русски говорит? — Да нет, это я по-немецки болтаю. Полжизни тут прожила. В Китае столько прожить — и по-китайски говорить начнешь. Да и нельзя в моей коммерции только по-русски. — И что же сказала Грета? — Что нижнее жилье в доме сняли ни с того, ни с сего, такие хорошие деньги предложили, что хозяева перебрались наверх да на чердак. А сняла знатная особа, зовется графиней де Гаше. — Ты, значит, к кухарке в гости приходила? — не показывая своей радости, спросил Маликульмульк. — Да, кухарку-то они уже тут наняли, своей не имели. Так ведь ничего дурного не сделала! Сидела у нее на кухне, разговаривала. Потом она говорит: очень они богато живут, даже непонятно, отчего на такой улице поселились. В комнатах, говорит, и бронзы, и фарфор. И, говорит, пока дома их нет, можно посмотреть. А она возьми да приди, дурища эта! — И что, впрямь все так дорого? — А бес его знает, я в бронзах не разбираюсь. Покрывало на кровати видела дорогое, а шкатулка на уборном столике — самая простая, синенькая, я чай, шелком обтянута. Ни картинки на крышке, ничего… Зря я туда полезла. Так-то бы все у Гретки выпытала — что за кавалер, кем он при графине состоит, для чего ему понадобилась Дуняшка… А теперь эта ведьма меня на порог не пустит! И Минодора Пантелеевна добавила несколько выражений из тех, которых нетрудно набраться в портовом городе — как, скажем, нетрудно, побывавши на псарне, набраться блох. Маликульмульк тихо радовался, он все ближе подбирался к Мартышке и ее компании. И никакая тревога не помешала бы ему сократить это расстояние. Два мертвых тела, о которых он знал, могли и не иметь к Мартышке отношения — так он говорил себе. И в то же время, глядя на всю эту историю, понимал, что лезет прямо в разбойничье логово. Но виноват ли он, если не видит другого способа ввязаться в Большую Игру? Где деньги — там из-за них всякие безобразия; чем больше денег — тем больше безобразий. Тот, кому нужны Большие Деньги, должен с этим смириться или же довольствоваться прозябанием в канцелярии. Чем больше мертвых тел, тем больше надежды, что речь идет о тысячах золотых империалов… — Неужто совсем ничего не выпытала, Минодора Пантелеевна? Хитрая старуха прищурилась: — А коли да? Как отблагодаришь? — Говори уж, не томи! — А отблагодарить? Делать нечего, пришлось лезть в кошелек. — Кавалера молодого зовут Андреас фон Гомберг, да только, сдается, такой же он немец, как я — турецкая султанша. Слышали, как он с Дуняшкой по-русски говорит — ну, от природного русака не отличить. День был — удачнее некуда, вот и Гомберг сыскался! — Только ли с Дуняшкой говорил? — неожиданно для себя разволновавшись, спросил Маликульмульк. — Покамест — только с Дуняшкой. К той-то, к Дивовой, не подъехать — горда! Да и на что она ему? Ни денег, ни красы. — А ты все же присмотри за ними, — попросил Маликульмульк. Что-то было связанно нехорошее с Анной Дмитриевной и ее пропавшим мужем… Что-то, возможно, известное бедной Маврушке… Докапываться до правды у Маликульмулька не было сейчас ни малейшего желания. — Ты госпоже Дивовой те деньги передала? — тихонько спросил он, полагая, будто спрашивает лишь для очистки совести. — Передала, батька мой. А только ты бы вот еще кружевце купил. Она и кружевце на продажу дала. Старуха оказалась подлинной комической старухой, чья наивная ложь тут же видна зрительному залу. Она достала из корзинки моточек желтоватых кружев, которые никак не могли принадлежать Анне Дмитриевне, а разве что ее прабабке. Это вдруг умильное лицо, эта улыбочка и склоненная вправо голова, обвязанная платком поверх чепца, должны были сообщить причудливому барину, что прозвучала доподлинная правда. Только вот беда — он в столичных театрах нагляделся на комических старух, их смехотворные ужимки, и отбил ладоши, приветствуя неподражаемого Якова Даниловича Шуйского в роли няни Еремеевны из фонвизинского «Недоросля». Минодора Пантелеевна перестаралась… — Гривенник, — твердо сказал философ. — Ну и гривенничком в ее обстоятельствах брезговать не приходится, — сразу согласилась ловкая старуха. — Сегодня она на этот гривенничек хлебца возьмет свекру и племянникам, а завтра — как Бог пошлет, может, добрые люди сухую корочку подадут… — Ты, Минодора Пантелеевна, вспомни, что господину Дивову обещана должность и казенная квартира в Цитадели. Может, даже сегодня курьера к нему пришлют, чтобы собирал пожитки. И в счет жалованья ему сколько-то выпишут на поправку обстоятельств. Так что до сухой корочки дело не дойдет. — Экий ты, батька мой, сердитый… — недовольно заметила старуха, но гривенник взяла. — Ты лучше, матушка, расскажи, как Гомберг увивается за Дуняшкой. — Да что говорить, коли ты, Яков Борисыч, такой недовольный. Чем-то тебе, видать, не угодила. А я ли не старалась! Я ли за тебя не пострадала! — довольно громко запричитала старуха. — Как с крыльца летела — думала, ноги себе переломаю! А все ради тебя, сударик мой, ради тебя! Маликульмульк понял, что философия против голосистой торговки из Петербуржского предместья бессильна. Стало быть, нужно опять лезть в кошелек, пока она не подняла шум на всю улицу. Расстались мирно. Минодора Пантелеевна обещалась глядеть внимательно, не подбирается ли Гомберг через Дуняшку к госпоже Дивовой. И Маликульмульк отправился обратно в крепость, рассуждая сам с собой, нужно ли теперь идти ужинать в «Лондон» с Давидом Иеронимом, чтобы поискать там Иоганна Мея, или есть опасность перестараться — как перестаралась только что Минодора Пантелеевна.* * *
— Госпожа фон Витте плохо себя чувствует. Вы же знаете, дамы перенимают французскую моду, а того не понимают, что она не для нашего климата, — сказал Давид Иероним. — Я послал ей лекарства, но если бы мог послать в скляночке хоть немного ума! — Она ведь уже дама в годах? — спросил Маликульмульк. — Это ничего не доказывает. Поверьте аптекарю, который каждый день готовит лекарства для наших дам! С возрастом у них ума не прибавляется. Как смолоду нет, так и под старость в голове — пустое место. Маликульмульк удивился. Он, видя, что у Гринделя нет невесты, объяснял это всепоглощающей страстью к науке, а оказалось, что молодой химик просто был невысокого мнения о дамах вообще. Возможно, он придавал слишком большое значение рассудку и знаниям. — Так что мы на этой неделе не пойдем к госпоже фон Витте? — Боюсь, что нет, но это не помешает нам поужинать в «Лондоне». Маликульмульк кивнул — сама судьба распорядилась так, что он должен посетить «Лондон». А там, может быть, удастся напасть на след Иоганна Мея. — Похоже, сегодня больше не будет посетителей, снимайте свой фартук, — сказал он Гринделю. — Или у вас еще не завершен какой-то премудрый опыт? — Нет, у меня сейчас каникулы, — отвечал Давид Иероним. — Хочу несколько дней отдыхать и думать. Потом только заново приступлю к опытам. Я должен внутренне подготовиться — сперва меня вряд ли ждет успех. — А что за опыты? — Вы никогда не задумывались о составе крови? В нее ведь входят известные химические вещества — железо, соединения фосфора, соли. Казалось бы, что препятствует создать искусственную кровь? Можете себе представить, насколько она нужна хирургам? Так что думать придется много. Давайте сегодня себя побалуем! В «Лондоне» отменно готовят макароны с пармезаном. Возьмем по большой тарелке макарон! Это будет сегодня наше главное блюдо! Косолапый Жанно встрепенулся — макароны он любил. И полчаса спустя он получил такую гору макарон в глубокой тарелке, что они сползали с вершины и едва не шлепались на скатерть. Для начала это было не так уж плохо, главное — вовремя заказать вторую порцию. И незаметно вступить в переговоры с метрдотелем, который сам пришел убедиться, что начальник генерал-губернаторской канцелярии доволен. Маликульмульк сделал ловкий намек на бывшего постояльца, который в самой столице хвалил ему «Лондон». Метрдотель, разумеется, полюбопытствовал, кто таков. Маликульмульк изобразил забывчивосить и стал перебирать придуманные фамилии: Маус, Мейс, Мусс… Это была ловушка — метрдотель должен вспомнить фамилию «Мей», если вообще когда-либо ее слыхал. Однако он не вспомнил, даже когда Маликульмульк притворился, что отыскал ее в недрах памяти. Позвали служителей — служители подтвердили, что такого человека в «Лондоне» они не встречали. Разве что приходил обедать, но жить — не жил. Несколько озадаченный этим, Маликульмульк распростился с довольным Гринделем и отправился в Рижский замок. Там ему предстояло объяснять княгине, отчего он предпочел ужин в гостинице. А потом ему велели сходить за скрипкой и развлекать дам музыкой. Не то чтобы приказали, но когда Варвара Васильевна говорит по-дамски округло: «Иван Андреич, взялся бы ты, что ли, за смычок…», это — прямое повеление. Тараторка сидела в уголке гостиной с рукоделием, в разговоры старших не встревала, только загадочно поглядывала на своего учителя. Потом, когда учитель завел разговор о литературе, она подобралась поближе. И было во взглядах ее черных глаз нечто подозрительное. Затем Косолапый Жанно сказал княгине, что надо бы воспользоваться последними солнечными деньками и совершить хоть несколько прогулок по городу, пока на улицах относительно сухо. Тараторка радостно его поддержала — ей, вишь, тоже хочется развеяться, при одной мысли, что придется всю зиму почти безвыходно просидеть в замке, с ней делаются ваперы и мигрень. Тут княгиня рассмеялась и пообещала непременно взять девочку с собой. Тараторка, горячо поблагодарив, попросила и за младших Голицыных, с которыми давно подружилась. Варвара Васильевна усомнилась, что вся компания поместится в карете, но не отказала. Еще немного почитали вслух, сыграли смеха ради в подкидного дурака — тем вечер и кончился. Оказавшись в башне, Маликульмульк обрадовался — опять было натоплено, как в бане, так что он смог раздеться. Архалук и пояс он разложил на кресле, а кресло подвинул поближе к постели. Теперь он успевал, услышав шаги на лестнице, и вдеть руки в рукава, и опоясаться. Было еще не настолько поздно, чтобы предаться объятиям Морфея, и Маликульмульк задумался: не добавить ли к блаженному безделью чего-то еще, не взять ли в постель хотя бы книжку. Протянул было руку к столику — и рука безвольно рухнула на одеяло. Не хотелось ни-че-го… А ведь было время — едва придя домой, кидался к столу, тыкал пером в чернильницу и начинал строчить стихи с того самого места, на котором остановился минувшей ночью. Прошло то время — вон ведь когда еще вытащил и уложил на видном месте две тетрадки с пиесой «Лентяй». Последняя попытка добиться славы драматургической — наполовину готова, что бы сесть и завершить? Это не «Подщипа», которую можно поставить разве что в узком домашнем кругу, да еще самому сыграть вояку Трумфа, а напечатать — когда рак на горе свистнет, не ранее. Это вполне добропорядочная пьеса про лентяя, желающего одного — чтобы его все оставили в покое… лежать, спать, пробуждаться ненадолго, дремать и опять засыпать, и так — годами… без всяких поползновений на славу, с полнейшим равнодушием к деньгам и даже к провианту — кто-нибудь уж покормит… Три акта написано, а сам сонный герой Лентул на сцену еще не явился, о его подвигах лишь толкуют прочие действующие лица. И не появится, ибо сказано уж все… незачем ему появляться, а тетрадки надобно убрать в сундук… Придет благодетельный сон и принесет воображаемую Большую Игру. Не надо суетиться, бегать на Родниковую, волочиться за дамой-мопсом, графиней де Гаше. Во сне явятся давнишние партнеры, которых и по именам-то уже не вспомнить, герои ярмарок — в Нижнем, в Курске… Полетят на стол золотые империалы… Полетят попарно карты… и сам он — банкоматом, властителем судеб царит над этим столом… и видит свои руки, свои ловкие пальцы, карты и руки, пальцы и карты… Окна комнаты смотрели на запад, и потому солнце не разбудило мечтателя. Он проснулся сам, глянул на часы и ахнул. Голицыны давно сидели за столом. И хорошо еще, что служба — прямо в замке, не нужно никуда бежать по утреннему холодку… главное — впопыхах не сверзиться с лестницы… Первое, что сделал Маликульмульк, быстро войдя в канцелярию и поприветствовав подчиненных, — затребовал бумаги, связанные с новой должностью бригадира Дивова. Они уж были готовы. Тогда он отрядил курьера на Родниковую, дав ему с собой кроме бумаг десять рублей ассигнациями — на случай, если Петр Михайлович задолжал своей квартирной хозяйке фрау Шмидт. Затем, просмотрев свежую почту и подготовив письма и депеши для его сиятельства, Маликульмульк лично отправился в Цитадель — навестить работный дом и убедиться, что помещения, предназначенные для дивовского семейства, уже пусты. Это оказались две комнаты, холодные, грязные, без мебели — если не считать длинной узкой скамейки. Маликульмульк потребовал, чтобы прислали из работного дома баб с ведрами и тряпками. Потом он дошел до церковного дома за Петропавловским собором, переговорил с гарнизонным батюшкой, и тот обещал прислать опрятную женщину в помощь госпоже Дивовой. Удалось также сговориться насчет лошадей и телеги для перевозки имущества. Впервые за все время службы в Рижском замке Маликульмульк чувствовал удовлетворение — он сделал нечто полезное, а какова польза от писем, входящих и исходящих, он на самом деле не имел понятия. Одни письма говорили о победе князя Голицына в схватке с рижским магистратом, а другие, наоборот, о поражении. Бумажную суету в это утро он полностью доверил Сергееву и прочим подчиненным. Придя, спросил только, все ли благополучно. Ему ответили, что все, и почтительнейше указали на стопку казенных конвертов из коричневатой плотной бумаги. Подчиненные уже наловчились откладывать для начальника конверты с большими и красивыми печатями. Срезав печати и присмотрев за отправкой почты с курьерами, Маликульмульк пошел к Голицыным обедать. Но княгини с младшими мальчиками, Тараторкой и Екатериной Николаевной не было — они еще катались по городу. Сергей Федорович по этому поводу посмеивался — вольно ж им опаздывать! Вот придется есть холодное кушанье, разогретый суп — а еще французский король Генрих Четвертый терпеть не мог разогретого супа. С другой стороны, кому-то из обедающих больше достанется — тут князь намекал на своего «послушай-ка-братца». Насколько Маликульмульк знал княгиню, увидев остывшие блюда, она вполне могла развернуться и уйти с детьми обедать в «Петербург». Потом Голицын пошел в канцелярию — разбираться с чиновниками-немцами, которые, как он подозревал, неверно перевели на русский язык магистратские кляузы. Немцы упирались и клялись в своей невиновности. Тогда Маликульмульк сгреб спорные бумаги и по-русски сказал князю, что отнесет их к своему учителю. Князь, сильно недовольный немцами из канцелярии, велел сделать это немедленно. Так Маликульмульк вырвался на волю. Он действительно отыскал в Домской школе герра Липке и посидел с ним около часа в его маленькой квартирке на улочке Розена. Старый учитель помог найти ошибки, которые вовсе не были случайными. А потом Маликульмульк пошел обратно в Рижский замок, а опомнился уже у городских ворот. Он даже знал, как это произошло — замечтавшись, вовремя не свернул на Малую Яковлевскую, а оказался на Большой Конной. Всему виной была дугообразность улиц — окажись они прямыми, он не пропустил бы поворота. Так он убеждал сам себя, продолжая тем временем двигаться в сторону эспланады. Ноги сами несли его к Родниковой. Там есть окошко — как только стемнеет и в домах зажгут свечи, за стеклом этого окошка люди сядут играть в карты. Вряд ли ставки будут велики, эти люди, кажется, играют между собой, чтобы скоротать время. Но они готовы взять в компанию богатого простака, и у них есть деньги, чтобы ловкими маневрами, то проигрывая, то выигрывая, заманить того простака в Большую Игру. Это не старинные жетоны княгини Голицыной, это — полновесное золото. И действительно, пока Маликульмульк дошел до Родниковой, уже сделалось темно. Он прошелся взад-вперед, поднял глаза к окошку Дивовых — там горел свет. Очевидно, начались сборы в дорогу. Маликульмульк невольно улыбнулся — кажись, сделал доброе дело. Он дошел до телеги, стоявшей поблизости, и подивился тому, что какой-то бездельник оставил ее тут на ночь глядя, не заехал во двор и более того — даже не выпряг лошадь. Повернувшись, он зашагал было обратно, однако тут пришлось остановиться и даже отступить к стенке, чтобы остаться незамеченным. Калитка дивовского дома распахнулась, оттуда появились Анна Дмитриевна и Дуняшка. Через дорогу они перебежали к соседям. «Мало ли что понадобилось в ночь накануне переезда, — подумал Маликульмульк, — веревочка, ящичек, рогожа. Где и взять, как не у соседей». Госпожа Дивова и Дуняшка вошли в ту самую калитку, которая лишь выглядела заколоченной. Маликульмульк невольно задумался — к какому же дому принадлежит тот двор, куда они забрались. Если к дому, нижнее жилье в котором сняла графиня де Гаше, то любопытная интрига складывается! Он ходил по той стороне улицы, где стоял дивовский дом, потому что оттуда удобнее заглядывать в еще не закрытые ставнями окна на противоположной стороне улицы — дальше было видно в глубь комнат. Дивовская калитка снова со скрипом отворилась. Вышел сам отставной бригадир Петр Михайлович и встал, озирая улицу. Маликульмульк сообразил: старик пытается понять, куда подевалась невестка. Выходит, дома была стычка. И Маликульмульк, кажется, понял ее причину: Анна Дивова не желала переезжать в Цитадель. Разумеется, она не хотела, чтобы гарнизонные офицеры, знавшие ее богатой и счастливой, увидели, как она в старом платье и заштопанных чулках сама занимается хозяйством, не имея ни горничной, ни денег на парикмахера, ни даже обязательных для молодой дамы румян и белил. Да и кто она — жена, вдова? А при мысли, что в таком виде придется быть представленной самой княгине Голицыной, Анна, видно, ужаснулась не на шутку. Маликульмульк мог ее лишь пожалеть, но коли переезд в Цитадель был единственным средством как-то поправить дела, то нужно зажать свою гордость в кулак и уж как-нибудь перетерпеть дурное время. Хотя жалованье надсмотрщика невелико, но найдется возможность помочь старому бригадиру, хотя бы определить куда-то для учения его внуков. И Варвара Васильевна, при всем своем буйном нраве, добра — может пригласить госпожу Дивову в компаньонки… И тут Маликульмульк вообразил весьма складную картину: сам он при князе — «послушай-ка, братец», Анна Дмитриевна при княгине — заведующая шкатулкой с жетонами или чем-то столь же необходимым для дамы. Пожалуй, благодетели вскоре заметят взаимную симпатию своих приживалов и увенчают ее законным браком! И чего ж не жить, пользуясь таким покровительством?! (О своем положении в канцелярии Маликульмульк знал — знал он, что чиновники потихоньку язвят по поводу его незаслуженной канцелярской карьеры…) Труды необременительны, кушанье вкусное и сытное, комнатка отдельная от прочей челяди, жаль только, фрак с княжеского плеча маловат! Нет, нет, сама Фортуна не оставляет иного выхода, кроме Большой Игры. В окошке, еще не закрытом голубыми ставнями, появилась мопсовидная дама — она, голубушка, Мартышка, графиня де Гаше! К ней подошел кавалер с нечеловеческим профилем — впрочем, Маликульмульку доводилось видеть похожие на французских гравюрах; сдается, было время, когда в Париже они даже считались красивыми. Герр фон Дишлер поднес свой замечательный профиль совсем близко к забавной мордочке графини. Что-то он ей старательно внушал, она отстранилась и даже отмахнулась от него красивой ручкой. Он эту ручку поймал и поцеловал. Маликульмульк удивился — да у них же, кажется, амуры! Это следует запомнить, это пригодится… Кто-то окликнул парочку, они разом повернулись и исчезли из окошка. Сейчас Маликульмульк видел один лишь стол, пустой, готовый для карточных сражений. Он затосковал — хотелось туда, где опытные игроки, а не бестолковые княгинины приживалки. Хотелось настоящего боя, дуэли четверых изощренных рассудков, с хитростями и уловками, хоть бы и шулерскими. Хотелось видеть маленькие столбики, сложенные из золотых империалов, тускло отражающие свечные огоньки. Это была жизнь! А он который уж месяц — вне жизни… Вдруг он вспомнил — ведь еще не заключен договор с Фортуной. Поэтому карты лишь маячат вдали, а в руки не даются. И он тут же пообещал половину первого большого выигрыша переслать братцу Левушке. Левушка избрал военную карьеру, но что же это за карьера, если брат мыкается по гарнизонам и не имеет денег на лишнюю пару исподнего? Где, в каких небесных книгах написано, что у обоих братьев Крыловых будут столь нелепые отношения с деньгами? — Господи, ты все видишь, — беззвучно сказал Маликульмульк, — половину ему тут же пошлю! А другую половину… ну, право, не знаю… Еще лет пять назад он сказал бы: а другую половину буду тратить разумно, засяду дома, напишу оды — переложения из псалмов и иное душеспасительное, напишу хорошую комедию, в которой бичуются пороки… деньги помогут мне сотворить нечто, необходимое человечеству!.. Сейчас он этого сказать не мог. Засесть дома и сейчас возможно, достаточно объяснить его сиятельству, что муза посетила. Забраться в башню — и что далее? А ничего. Мало ли начато? А заканчивать-то и нечем… Лентул, из себя вылепленный, и тот все никак на бумагу не выкарабкается, сидит бестелесный за кулисами — дремлет, не проснется… Пиеска занятная про пирог — раньше ее в три дня написал бы, не в стихах, понятно, прозой… Уж и о пироге с Шуазелем-Шульцем сговорился… Где пиеска, сочинитель?! Отставной бригадир Дивов прошелся взад-вперед перед домишком. И по походке было видно — недоволен. Бунт, неповиновение! Невестка, рассердясь, сбежала, а он за нее в ответе. Подсказать разве, в какую калитку нырнула? Пусть бы за руку привел домой и велел смириться. Не такие, как она, смирялись со своим бесчестием. Поживет в Цитадели, сперва будет от знакомцев прятаться, потом угомонится. С первых же денег ей бригадир новое платьице купит, много ли нужно, чтобы женщина вновь ощутила себя прекрасной? А шепотки и ухмылки за спиной — да ну их… И не такие, как эта госпожа Дивова, ради постоянного куска хлеба смирялись с шепотками и ухмылками. Непонятное это злорадство сбило с Маликульмулька настроение, необходимое для плодотворных переговоров с Фортуной. И вдруг он понял: что-то слишком долго Дуняшка с госпожой Дивовой пропадают у соседей. Взять веревочку или рогожку — минутное дело. А вот если Анна Дмитриевна действительно из-за переезда поругалась со свекром и отправилась к графине де Гаше, то это… это уже опасно… На сей раз посредницей выступила, похоже, не покойная Маврушка, а Дуняшка. Но пока не раскрыта загадка Маврушкиной смерти, общество графини де Гаше — не самое желательное для госпожи Дивовой. А там ведь еще и загадка исчезновения Михайлы Дивова, к которой графиня тоже, возможно, имеет отношение. Вот только отравление шулера фон Бохума тут, кажется, ни при чем… Маликульмульк стал вспоминать: было ли что в руках у Анны Дмитриевны или Дуняшки. Обе выскочили, накинув шали, а под шалью вполне можно спрятать узелок. Да только, если разгорелась ссора, уж не до узелков. Даже если графиня де Гаше почему-то задумала дурное, то сейчас она вреда госпоже Дивовой, наверно, не причинит, так думал Маликульмульк, вред она сможет причинить, если уговорит госпожу Дивову пойти к себе в услужение. Тогда они куда-нибудь поедут вместе, а вернется графиня уже одна, и никто ее ни о чем не спросит. Старый бригадир, упрямый черт, выкинет беглую невестку из сердца и из памяти, благо что бездетна, искать никогда не станет, а соседям обычно на все наплевать… И все же стоило бы убедиться, что госпожа Дивова цела и невредима. Дождавшись, пока бригадир, хмуро гуляющий перед домом, отвернется и зашагает прочь, Маликульмульк перешел улицу наискосок и оказался в мертвом бурьяне. Он нажал на калитку, калитка отворилась. Тогда он вошел во двор. Если на улице еще было светло — и от фонарей, и от окон, — то во дворе царил мрак. По нему вообще невозможно было бы передвигаться, если бы не одно-единственное светлое окошко. Вплотную к забору виднелась какая-то широкая и высокая, человеку чуть не по пояс, куча. Маликульмульк определил ее как остатки пожарища. Со стороны улицы их кое-как разгребли, и место заросло бурьяном, а во дворе эта дрянь так и осталась неубранной. И то сказать — чего с ней возиться? Эта часть города еще только образовывалась, застраивались какие-то огороды, земля, видать, была недорога. Вот вздорожает — сразу найдутся хозяева, вывезут кучу, поставят хороший деревянный дом. Нащупывая косолапыми ногами гладкую тропинку, Маликульмульк продвинулся до середины двора. Там было все, что полагалось: цветничок под окнами дома, занятого теперь графиней де Гаше и ее компанией, холмик с дверью, ведущей в большой хороший погреб, сарай, хлев, курятник. В хлеву, стоявшем в самом дальнем углу, выкармливали на зиму свинку — это Маликульмульк определил по запаху. Возможно, имелась и корова — в предместьях многие держали скотину. Тропинка вела в глубь квартала, туда, где обозначилось еще одно окошко. Сделав еще пару шагов, Маликульмульк налетел на невысокий заборчик, где-то в нем была калитка. Он задумался: надо же, всякий двор в городе — это как государство в государстве, с загадочными границами, со своей жизнью; наверняка тут и огородишки есть, и плодовые деревья… вот же силуэт справа, уж не яблоня ли полуоблетевшая с несколькими оставшимися на ветвях яблочками? Это был плохо знакомый ему мир. Маликульмульк почитал себя человеком городским — то есть для него существовали Город и Природа, причем Городом был главным образом Санкт-Петербург, а Природа представлялась прекрасным и ухоженным английским парком с живописными развалинами, шедевром заезжего декоратора, и пейзанской хижинкой вдали, но без населения, ибо от населения один шум и хлопоты. А тут, извольте радоваться, ни то ни се — в трех шагах улица, почти городская, здесь же пейзаж совершенно деревенский… Впрочем, ночные пейзажи он любил. Он чувствовал в них некое прелестное обещание: за каждым углом и в каждом сиреневом кусте таилась незнакомка, да что незнакомка — замыслы и интриги, возникая из темноты, окружали его, соперничая за право первым озарить его ум и скатиться на бумагу с пера. И это уже было однажды… Однако следовало постоять и подумать, куда запропали госпожа Дивова и Дуняшка. Они могли зайти в жилище графини де Гаше, могли войти в незримую до поры калитку, могли еще куда-то проскочить кратчайшим путем. Был бы при себе фонарь или хоть свеча, Маликульмульк изучил бы тропинки, проложенные средь жухлой травы быстрыми женскими ногами — именно женщины наловчились, чтобы не тратить зря времени, пробегать кварталы наискосок, в том самом платье, в котором трудились у плиты или кормили кур. А так он стоял, окруженный осенними запахами, сам — огромный и темный; мир в мире, и границы уже почти размыты… Тишина была нарушена собачьим лаем и криками — мужчина и женщина, перебивая друг друга, что-то восклицали, кажется, по-латышски. Кто-то пробежал, прошуршал сухими и ломкими ветками, опять стало тихо. В глубине квартала, среди одноэтажных домишек, шла своя жизнь, и разбираться в ней Маликульмульк не имел ни малейшего желания. Но вдруг он услышал голоса. Снова мужской и женский, но не резкие и сердитые, а благозвучные и встревоженные. Маликульмульк прислушался — из-за сараев и курятников к дому графини де Гаше приближалась пара, говорящая по-французски. — Нет, нет, все решено — это лучшая возможность, какая только может быть, — говорила дама. — Но Леонард нам необходим. — Скрипка — вот единственная польза от Леонарда, другой я не вижу. Чем меньше нас, тем легче нам будет на новом месте… — Если учесть, что вы не говорите по-немецки… — Но вы ведь говорите! Мне кажется, в Европе нет языка, на котором вы не знали бы хоть сотни слов, мой ангел. Не спорьте со мной — я твердо решила… Иначе придется принимать те самые меры… — По отношению ко мне? — По отношению к этому мерзавцу, ведь он нас почти выследил… Я не думала, что это возможно, — он гонится за нами от самого Брюсселя. Мы же чудом скрылась от него в Вене. — Я берусь узнать, где он прячется! И я все проделаю так, что ни одна полицейская ищейка… — Не смейте!.. С этими словами они быстро подошли к заднему крыльцу дома. По обе стороны крыльца были цветнички с небольшими засохшими кустами. Женщина легко взлетела на две ступени, кавалер вмиг оказался рядом. Он был высокий и тонкий, она — маленькая, ему едва ли по плечо. Свет из единственного окошкапозволил Маликульмульку разглядеть только силуэты, а потом и они исчезли — только дверь проскрипела. Он был немало озадачен этим явлением. Откуда в компании взялась еще одна француженка? Почему она пробирается в дом задворками, а не приезжает открыто по Родниковой улице? Чего она боится? Что еще за Леонард со скрипкой? Все эти вопросы совершенно затмили причину, по которой Маликульмульк забрался в чужой двор. А ведь где-то тут были госпожа Дивова и Дуняшка. Были, прятались… не случилось ли чего?.. Дверь опять заскрипела, на пороге появилась женщина в темном платье и в накинутой на голову шали. Она спустилась по двум ступенькам, следом вышла другая. Дверь захлопнулась. — Нет, Дуня, — сказала по-русски первая женщина, — столько я ждать не смогу. Петр Михайлыч обезумел, прямо завтра хочет съезжать. А ты же слышала — не ранее, чем через неделю… — Слышать-то слышала, только по-французски не понимаю, — отвечала Дуня. — А вы, сударыня, вот что — вы больной прикиньтесь! Бегали поздно вечером без салопа, продуло вас, голова болит. Аж разламывается. Мы с тетушкой придем с вами сидеть, питье вам принесем… — Да как же я жар изображу? — А просто — я дам вам крепкую наливочку. Разрумянитесь, вспотеете. Главное, кричите, что все тело ломит, что голова болит. А тут и мы прибежим. Втроем-то — да господина Дивова не обведем вокруг пальца? — Да он меня и полумертвую в Цитадель повезет… — А мы опять же схитрим. Он телегу уже нанял? — Сказывает, нанял. — А мы ее перехватим да заворотим. Скажем — господа передумали съезжать. Управимся! А потом вас госпожа графиня к себе заберет. Зря вы столько упирались. — Сама вижу, что зря… Да кабы Петр Михайлыч не вмешался… — Вольно ж вам было ему признаться… — Только я никуда с госпожой графиней не поеду. Пока она в Риге — буду при ней, а потом… — Анна Дмитриевна, голубушка моя, да ведь вам как раз и надобно уехать! Не то старик вас сыщет, право слово, сыщет! Он хитрый, он к полицмейстеру пойдет. — А Миша? — А я на что? Вы мне письмецо для него оставите. Если он вернется и придет вас искать — я ему письмецо передам, а больше — никому… Осторожно, дайте я открою… У меня пальцы уж никаких заноз не боятся… Госпожа Дивова и Дуняшка вышли в калитку. Маликульмульк остался стоять, обдумывая услышанное. Видимо, единственной бедой, грозившей Анне Дмитриевне, был переезд в Цитадель. Выждав минуты три, чтобы госпожа Дивова с Дуняшкой перешли улицу и вернулись в свой дом, Маликульмульк тоже двинулся к калитке. В сущности, он был доволен своей вылазкой. Беспокойство об Анне Дмитриевне оказалось излишним — эта дама готова сама о себе заботиться, вплоть до побега от строгого свекра. И появились новые сведения об игроцкой компании — непонятные, правда, ну да с философским подходом к делу и они пригодятся когда-нибудь. Леонард со скрипкой… Так это же фон Дишлер! Анри-Генрих в «Петербурге» так его и описал — профиль и скрипка. Стало быть, невинный музыкальный инструмент требуется для каких-то тайных дел. Только вот смерть Маврушки была совершенно непонятна. Кому помешала горничная, носившая дитя?.. Маликульмульк вдруг остановился. Дитя! Может, все не из-за игроцких тайн, а из-за дитяти? Кто был его отцом? Конечно, сама мысль, что этот отец ради сохранения постыдной тайны убил женщину вместе с нерожденным младенцем, была ужасна. Но Маликульмульку знал о подобных случаях. Он подозревал, кто мог быть отцом ребенка, и это соображение могло стать ниточкой, за которую опытный сыщик потянул бы — и, пожалуй, вытянул загадку исчезновения Михайлы Дивова. Маврушка, если не врут старинные комедии, просто обязана была вступить в связь с лакеем Никишкой, который сгинул вскоре после того, как пропал супруг Анны Дивовой. Если вспомнить беседы с покойной горничной, а их придется вспомнить, то Никишка не просто пропал — он, похоже, исчезнув из поля зрения Дивова-старшего, сперва как-то давал о себе знать Маврушке и даже приходил за некими вещами. А она, видимо, скрывала эти визиты от господ. Может, тем и объясняется ее ночное возвращение с Романовки, от самого морозовского дома, обратно на Родниковую, где она увидела и узнала графиню де Гаше? Она полагала, будто графиня знает, где скрывается Никишка, который ей необходим, чтобы прикрыть грех! Рассуждая об этом, Маликульмульк продолжал прохаживаться по пустынной улице и снова дошел до телеги. В это время служитель графини как раз вышел и стал закрывать ставни. Маликульмульк, остановившись, с тоской посмотрел на окна — от его жадных взоров исчезал приют игроцкой компании. А остановился он уже вровень с телегой, оставленной, казалось, без присмотра. Тут и обнаружилась его ошибка. Груз, наваленный в телегу, зашевелился, и оттуда, из-под большой рогожи, донеслось недовольное: — Merde! Что, как известно, по-французски означает «дерьмо»… И тут Маликульмульк окончательно понял, куда попал, и вспомнил свое имя! Это точно была его повесть «Ночи», которую он так и не удосужился завершить, хотя даже начал публиковать в журнале «Зритель». Начиналась она так: богиня Ночь, позаимствованная из Молиерова «Амфитриона», является к главному герою по имени Мироброд и приказывает каждый день, как стемнеет, выходить на поиски приключений и слоняться по городу в поисках того, что достойно быть записанным. Казалось бы, вечность назад была придумана эта затея и получили имена герои: хитрая француженка мадам Плутанвиль, ловкая Маша, любовник-вертопрах Вертушкин, любительница маскарадов Обмана, бравый вояка Тратосил… Уж не проснулись ли они и не явились ли к своему создателю, чтобы втянуть в новые похождения? Мадам Плутанвиль точно имеется — самое подходящее имя для графини, которая водится с картежниками. Вертушкин, если верить Минодоре Пантелеевне, тоже — тот щеголь, что обхаживал Дуняшку. Оставалось ждать явления Обманы, Тратосила и… Маши? Очаровательной Маши, к которой автор был явно неравнодушен! Маликульмульк вспомнил, как Тараторка допытывалась у него подробностей о Маврушке и госпоже Дивовой. Девчонке пятнадцать лет — только отупевшая от материнских обязанностей Варвара Васильевна может считать ее дитятей. Самому Маликульмульку (тогда — Ванюшке Крылову) сколько лет было, когда стал писцом в Калязинском нижнем земском суде? Двенадцать? Если бы до тех же пятнадцати ждал, семья бы, лишившаяся батюшки-кормильца, с голоду померла. — Мироброд… — пробормотал Маликульмульк. — Надо же, напророчил… Он уже не впервые задумывался о сложных отношениях между сочинителем и сочинением. За примером бегать недалеко — сам же, бичуя пороки, написал комедию «Сочинитель в прихожей». Пятнадцать лет назад написал, молоко на губах не обсохло, а вообразил себя первым в России драматургом, в восемнадцать-то лет. И что же? Сам теперь — сочинитель в канцелярии… Но, кажется, стены канцелярии раздались, словно разошелся театральный занавес, и скомкались нарисованные столы с бумагами и видными по пояс чиновниками. На сцене была ночь, исполненная приключений, и на той стороне Родниковой улицы знали, для чего нужна ночь! Там, за ставнями, уже летели на стол новенькие карты. И француз, забравшийся под рогожу, выругался именно оттого, что служитель закрыл ставни и скрыл от его глаз картину картежного застолья. Да что ж он — собрат по страсти? Телега двинулась с места. Оказалось, что уже и кучер сидит на облучке, подозрительный какой-то кучер, в старой треуголке без плюмажа, сползающей ниже бровей, и в черном одеянии — епанча не епанча, ряса не ряса… В профиль, с этим острым углом треуголки, торчащим вперед, ссутулившийся он — ни дать ни взять ворон… мэтр Ворон из Лафонтеновой басенки, только что сыра в клюве нет… а под рогожей, надо полагать, мэтр Лис… любопытно, не перевел ли кто эту остроумную басенку на русский язык? Проехав немного вперед, телега опять встала. Маликульмульк видел, как из-под рогожи выкарабкался мэтр Лис, но не весь, а наполовину, и устроил краткое совещание с мэтром Вороном. Видимо, решали, убираться им или подождать еще немного. Маликульмульк постоял, обдумывая свое положение, и понял, что торчать тут не имеет смысла, а надо возвращаться в Рижский замок. Он действительно отошел от дома графини де Гаше шагов на тридцать и, словно забыл, повернулся и опять направился к голубым ставням. Тянуло его к этому дому неимоверно. И даже Мартышка-графиня, сидевшая сейчас с карточным веером в руке, представлялась ему неземной красавицей, невзирая на мопсовидную мордочку. Он готов был сесть под дверью на ступеньки и ждать, пока догадаются о нем и впустят… Должны ж догадаться! Игроки своих чуют. Это был бред, какая-то болезненная блажь, но он не мог уйти от дома с голубыми ставнями, просто не мог. Пришлось сделать над собой немалое усилие. И пошел Маликульмульк налево, а телега с загадочными французами укатила направо. Мэтр Ворон и мэтр Лис — на кой им сдалась графиня де Гаше? На эспланаде Маликульмульку заступил дорогу пьянчужка, требовал пятак, получив пятак, стал требовать гривенник. Маликульмульк, даром что философ, а замахнулся тростью и велел ему убираться, назвав ничтожным червем и порождением ехидны. Гнилых слов он не любил и не употреблял — была у него такая девичья добродетель. Это случилось уже поблизости от бастионов, где какая-никакая стража имелась, а зачем — одному Богу ведомо. Бастионы глядели в сторону Москвы и Санкт-Петербурга, а оттуда нападения не ожидалось. К ужину он опоздал. Не так чтобы безнадежно, однако обычной своей необъятной порции не получил. Зато получил легкий нагоняй от княгини: где, сударь, шастать изволили? И княгиня была права — не для того его определили в должность «послушай-ка, братца», чтобы пропадал по вечерам, вон скрипка, вон журналы, кто будет играть и читать вслух? Но голодным он не остался. В башне Святого Духа, на лестнице, привалясь спиной к двери, сидел Терентий, держа в охапке нечто огромное. — Вот, — доложил он, увидев поднимающееся из мрака большое белое лицо Косолапого Жанно, озаренное светом от огарка. — Не то, что вот некоторые… а, стало быть, всей душой… И пусть бы их лаялись!.. А оно… покамест горячее… и не благодарности ради!.. Оказалось, что он приволок из людской горшок горячей гречневой каши, завернутый в одеяло. Тарелок в хозяйстве Косолапого Жанно не водилось, вывалить кашу было некуда, и Терентий оставил весь горшок, куда входило фунтов пять, не меньше. Пришлось лезть в кошелек и задумчиво исследовать его содержимое: сам же приучил треклятого кучера брать не менее полтины… А не вознаградить тоже нельзя. Неприлично. Разумеется, Терентий мог прихватить с собой хотя бы миску — взял же деревянную ложку! Почему он этого не сделал, Маликульмульк догадался: чтобы, придя за посудиной, спросить по-хозяйски: а где тут мой горшок? Эти маневры заслуживали того, чтобы кучер услышал кое-что неприятное. — Ну, так где же ты, друг мой, побывал вместе с каретой его сиятельства? Ты же ее на видном месте не оставлял, когда ходил в разведку… — Нигде не побывал! Наветы и клевета! — тут же отвечал Терентий. — А в управе благочиния уж известно, кто та покойница, где жила, кому служила. Пошлют хожалых, те расспросят людей и на Романовке, и, может, на Мельничной… тут-то непременно найдутся такие, что видели карету… — Обижаете вы меня, сударик мой! Я вас жалею, а вы меня обижаете! — с тем Терентий быстро вымелся прочь, оставив Маликульмулька в раздумьях о природе жалости.Глава восьмая Мартышка
Утром начальник генерал-губернаторской канцелярии, изучив и подготовив почту для его сиятельства, послал курьера в Цитадель с вопросом: что, приехал уже господин Дивов? Цитадель — совсем рядом, выйти из Северных ворот замка, пройти вдоль края замковой площади, мимо гауптвахты, пересечь мостик, и ты уж в Цитадели. До Петропавловского собора — шестьсот десять шагов, проверено неоднократно. А имущества у Дивовых сейчас мало, все уместится на одной телеге. Он трудился, читал письма, раскладывал их по стопкам; на одни могли ответить канцеляристы самостоятельно, другие требовали проверки, иные можно было понять, только зная многолетнюю историю переписки, и Маликульмульк отдавал их ветеранам канцелярии. Особая стопка предназначалась для копиистов. Один пакет из столицы действительно имел серьезное значение: эти бумаги касались прав города на владение большими и доходными имениями Икскюль и Кирхгольм. Их в магистрате ждали с нетерпением: рижская делегация, ездившая в Москву на коронацию государя Александра Павловича, просила об утверждении городских прав на эту недвижимость, и вот оно состоялось, причем без ограничений, но с условием: чтоб не было противоречий с общими для всех российскими законами. Пришел курьер и доложил: нет, Дивовы в своих апартаментах не появлялись. Маликульмульк вслух выразил неудовольствие, а про себя усмехнулся — видать, Анна Дмитриевна все-таки выпила тайком крепкой наливочки и теперь лежит, словно бы в жару. Потом вызвал к себе князь. — Подготовь-ка ты мне, братец, всю переписку по поводу казарм, — сказал он, когда Маликульмульк затворил за собой дверь. — И они, сукины дети, еще будут мне врать!.. И письмо — что жду господ ратсманов завтра у себя в кабинете. Подготовь, я подпишу, сразу отправим. Коли они такие нищие, как врут, что ж на паперти не сидят? Починят казармы, как миленькие! — Будет сделано, ваше сиятельство, — тут Маликульмульк даже улыбнулся, представив себе, как разнесет ратсманов князь Голицын. Это будет знатная головомойка! Правы они или виноваты — иное дело. Рижский магистрат умудряется так запутать любой вопрос, что концов не сыскать, а чуть их упрекни — несут в свое оправдание сущую ахинею. Они-де не отстают от веяний времени, они-де заводят у себя порядки, приличествующие не минувшему, а нынешнему, девятнадцатому от Рождества Христова веку. Вот ранее было древнее низкопоклонничество, а теперь эльтерманы уже сидят в присутствии ратсманов на общественных собраниях, это ли не достижение? А похороны?! При погребении старшин так же звонят в колокола, как при погребении ратсманов и даже дворян! Вспомнив эти аргументы, Маликульмульк пожалел, что не был знаком с рижскими нравами, когда сочинялась «Почта духов». То-то была бы злобная сатира в письме, скажем, сильфа Световида, пролетающего над сим портовым городом и присевшего отдохнуть на петухе-флюгере одной из здешних кирх. И придумывать ничего не надо — только записать за ратсманами их речи. Злобная и… безобидная. Кто бы в столице принял ее на свой счет? А вот шуточки о престарелой кокетке, которая платит любовникам за ласки, тут же дошли до известных ушей… надо ж было уродиться таким дураком, чтобы затрагивать царственную особу и полагать, будто все придут в восторг от остроумия автора!.. Хорошо, хоть теперь поумнел… Выслушав указания князя (главное из них — не опаздывать к обеду), Маликульмульк поклонился и вышел. До обеда он успел подняться в башню, забрать горшок с одеялом и снести их вниз; через Северный двор он мог почти незаметно перебежать с этой поклажей к конюшне и отыскать Терентия. Тот следил, как чистят лошадей — ее сиятельство опять собрались на прогулку с младшими мальчиками и их гувернером-французом. Француз, кстати, оказался не бывший лакей, едва освоивший азбуку, а настоящий аббат, знающий и латынь, и даже итальянский язык. А приходящих учителей по точным наукам удалось найти среди пожилых гарнизонных офицеров. — Вот твой горшок, — сказал Маликульмульк. Терентий метнул взор вправо, влево, схватил посудину вместе с одеялом и стремительно с ней умчался. Тогда стало ясно — он поволок это добро на кухне и очень не хочет объясняться с поварами. Маликульмульк усмехнулся: надо же, до чего может докатиться благотворительность… После обеда он вернулся в канцелярию, но там уж было скучно: скрипели перьями копиисты, а чиновники делали вид, будто ужас как заняты, и горбились над столами, а сами втихомолку перешептывались почти беззвучно; этим умением новоявленный начальник тоже еще не владел. Маликульмульк устроился поудобнее в кресле — кресло было отменное, широкое, мягкое, выбранное самолично его сиятельством, — и унесся мечтами на Родниковую улицу. В доме с голубыми ставнями, просидев за картами всю ночь и с рассветом разойдясь по своим комнатам, сейчас, должно быть, уже проснулись… пахнет кофеем… мопсовидная графиня в чепчике с розовыми лентами выставляет из-под одеяла узкую ножку, при этом дама смахивает на тонкую и грациозную борзую, красиво располагающую в пространстве свои длинные стройные лапы… эх, как же ей не повезло с личиком… А в гостиной пол усыпан картами, ковра и половиц не разглядеть. Для всякой игры распечатывали новую колоду, ведь они не нищие, чтобы захватанные и засаленные карты в руки брать… В дверь заглянул служитель. — Вашей милости письмо, парнишка принес, — сказал он начальнику канцелярии. Письмецо было от Гринделя. Сообщалось, что госпожа де Витте от лекарств, изготовленных в аптеке Слона, выздоровела до такой степени, что прямо сегодня может собрать у себя дома узкий круг друзей. Господин Гриндель получил благосклонное позволение привести своего друга, господина Крылова. Почтительная просьба взять с собой скрипку… Эту новость следовало поскорее сообщить Варваре Васильевне. А она уж присмотрит, чтобы подопечный отправился в гости, как подобает чиновнику высокого ранга, в опрятной одежде и хорошо причесанный. Иначе, позор всему голицынскому семейству, выпускающему из замка на люди лохматого неряху. Имея такую уважительную причину покинуть канцелярию, как разговор с княгиней, Маликульмульк прихватил конверт со срезанными печатями и устремился на поиски своей покровительницы. Она с детьми еще не вернулась с прогулки. Приживалки сидели каждая в своем уголке. А вот няня Кузьминишна, едва услышав голос своего любимчика, вышла навстречу и увлекла его за собой в дальний угол коридора. — Ты, батюшка мой, помолчи-ка, а я говорить буду, — шепотом приказала она. — Машеньки нигде нет. Я к ней в комнату заходила — пусто. В гостиной у клавикордов — пусто. Все обошла — нету… Я уж молчу, чтобы куры эти не всполошились и не закудахтали. А ты, может, знаешь, куда она пошла? А? Не к тебе ли в башню? Однажды Тараторка действительно забралась туда, и не одна, а с младшими Голицыными. Им хотелось залезть на самый верх и оттуда поглядеть на Ригу. Но дверца, ведущая на площадку, приспособленную под обсерваторию (телескоп был, да сломался, и его унесли), оказалась заперта. Про эту вылазку добрые люди донесли княгине, и Тараторке досталось на орехи. — Пойду, погляжу, — забеспокоившись, отвечал Маликульмульк. — А ты, Кузьминишна, передай-ка вот Николеньке. — Сам, батюшка, занеси. Он будет рад. Он сперва только прячется, потом выходит. Отказать няне Маликульмульк не умел — так ласково смотрела снизу вверх, так трогательно улыбалась. На сей раз Николенька был более спокоен. Очень скоро вышел из угла к столу, где Маликульмульк разложил печати, стал их двигать, выкладывая в каком-то непонятном порядке, даже заулыбался — что-то у него получилось. — Радуется, — тихо сказала Кузьминишна. — Ты подойди чуть поближе, увидишь — не убежит. Это он, голубчик мой, никак к новому месту не привыкнет. Он уж от меня не убегает, от Федота не прячется, тебя вот заново признал. Понемножку, Бог даст, отвыкнет дичиться… Бесшумно, как это иногда умеют очень крупные люди, философ подошел к больному ребенку. Николенька посмотрел на него, приоткрыв рот, но не закричал, не забился в угол. — Господи Иисусе, — с невыразимой надеждой в голосе произнесла Кузьминишна. — Признал же, признал, голубчик мой, что я говорила? Ты стой, стой… он сам к тебе подойдет… А философ думал: не счастливее ли это бедное дитя, со всеми своими страхами, другого отрока, что в пятнадцать лет затеял покорить мир поэтическим талантом? Николеньке Бог таланта не дал, да и рассудка-то дал самую малость, но Николенька умеет утешаться срезанными с писем печатями. Так и проживет век, не подозревая о существовании славы. Николенька, видя, что от человека, ему уже знакомого, ожидать беды не приходится, вернулся к своим печатям, а Маликульмульк тихонько отошел от стола. Кузьминишна вывела его из комнаты, притворила дверь и сказала: — Тебя, вишь, детки любят, да только Машенька уж не дитя. Понял, батюшка? Ты ее не приваживай, не то… Ты-то — телепень, да она-то востра! — И не думал приваживать, Кузьминишна. Давай пойдем, поглядим — сама убедишься, что ее в моей комнате нет. Но няня, увидев бесконечную витую лестницу, подниматься раздумала. — Сковырнусь — и костей не соберу. Ладно уж, коли ты, батюшка, сказал, что ее там нет, стало быть, и нет. — Мне, Кузьминишна, нужно фрак почистить и отутюжить, сорочка свежая нужна… чулки! Сегодня в приличный дом зван, так не могу ж идти, словно после спячки из берлоги вылез. — А что, там и невесты есть? — Может, и есть. — Ахти мне! Живо неси сверху фрак, я сейчас девок заставлю!.. Разленились!.. И Савку-перукмахера кликну. У него такие помады есть — сверкают, как алмаз, и волосы не топорщатся. И пудра для волос — не хочешь напудрить, как их сиятельство? — Нет, Кузьминишна, это почтенные люди пудрят, а я кто? Я — Мироброд, — отвечал Маликульмульк, балуясь. Но старушка понятливо покивала. — Мироброд и есть, батюшка. Все по миру бродишь… а домишка-то своего и нет… а пора бы… Маликульмульк взобрался в свое жилище, снял с гвоздя фрак, вытащил из сундучка невысокую стопку сорочек, отыскал и чулки. Все это добро он потащил вниз — и оказалось, что хитрая Кузьминишна не ушла ругать девок, а забралась под лестницу и ждет. Видимо, она все же не поверила и хотела увидеть, как Тараторка, боязливо озираясь, сбегает с лестницы. Два часа спустя философ поглядел в зеркало и сам себя не узнал. Темные вьющиеся волосы его были напомажены и убраны — волосок к волоску. Сорочка сверкала белизной (он даже не был уверен, что это его сорочка, а не одна из старых княжеских). Фрак — будто его только что принесли от портного и лишь успели снять бумажки, которыми обыкновенно портные оборачивают пуговицы. Чулки изумительной свежести, панталоны неузнаваемы, словно не на них сегодня был опрокинут соусник. К тому времени вернулась Варвара Васильевна, оценила старания своих девок и дала Маликульмульку последние наставления, как вести себя с графиней: даже если заврется вконец, виду не подавать, все ее враки стараться запомнить, а также выяснить, где сия дама поселилась. Тараторка меж тем все не появлялась, и ясно было — вот-вот княгиня узнает, что воспитанница пропала. Няня Кузьминишна стояла в уголке ни жива ни мертва. Сейчас она уже явно корила себя за то, что не подняла переполох. — Скрипка! — вспомнил вдруг Маликульмульк. — Все думал — надо взять, надо взять! И оставил наверху! — Беги скорее, ворона! — велела княгиня. — Степка! Ступай, пошли Гришку — чтоб не распрягали! Иван Андреич в моем экипаже поедет. И ждать его там! — Благодарствую, ваше сиятельство. — Тебя хоть покормили? — Да, ваше сиятельство. Подозревая, что в гостях у фрау де Витте разве что мороженое подадут, Косолапый Жанно не поленился — пока девки хлопотали над его гардеробом, сам сходил на поварню и стребовал остатков обеда. — Ступай за скрипкой. Поклонившись, Маликульмульк вышел из малой гостиной. Чтобы попасть в башню Святого духа, он должен был спуститься вниз, пройти через анфиладу, выйти в сени со сводчатым потолком и оттуда уже начать восхождение, которое сперва с непривычки было для него головокружительным. Кой черт занес его в эту башню? Были ведь и другие свободные комнаты. Так нет же, захотелось истинно философского приюта! Башня наводила на мысли о дремлющих во мраке совах и летучих мышах — вот лучшее общество для философа, у которого не осталось ничего, кроме философии. Сов и летучих мышей он там, правда, не обнаружил — мыши водились обычные, серые, безобидные. Комната запиралась на ключ, второй ключ был у дворецкого Егора Анисимовича и выдавался истопнику и горничной Матреше, чтобы хоть раз в неделю наводила порядок. Был и третий — впрочем, это Маликульмулька не беспокоило, он не боялся внезапных визитеров. Мужчин его натуральный вид не смутит, а дамы и сами в башню не полезут. Дверь оказалась открыта. Маликульмульк не придал этому значения — мог и сам впопыхах забыть запереть, выходя с охапкой одежды. Подняв повыше свечку, он шагнул в комнату и обвел ее взором. Футляр со скрипкой обычно лежал на табурете у стены. И тут раздался скрип. Скрипел шкаф, куда Маликульмульк до сих пор не то чтобы не сложил — даже не побросал свое имущество в надежде на горничную Матрешу. Маликульмульк уставился на шкаф, перебирая в тревоге причины: мыши, сквозняк, рассохшееся дерево… привидение?.. Дверца стала медленно открываться. Философ, даром что не имел склонности к глупым суевериям, невольно отступил назад. Из мрака появилось лицо. Нет, отнюдь не бородатая образина загробного старца, которой Маликульмульк стращал Терентия! Маленькое чернобровое личико с приоткрытым от волнения ртом, обрамленное розоватым ленточным рюшем, которым были отделаны поля шляпки… Тараторка?.. — Иван Андреич… Простите меня… — Ты как туда попала?.. — совсем растерявшись, спросил Маликульмульк. — Я внизу на Кузьминишну чуть не налетела, прятаться пришлось… потом Гришка… я — сюда… наверх… а дверь открыта… — Почему это тебе нужно было прятаться от Кузьминишны? — Да я ничего плохого не сделала, клянусь вам, Иван Андреич! — воскликнула Тараторка, оставаясь при этом в шкафу. — Я только вышла из замка без спросу… и сразу же вернулась, через Северные ворота, а тут — она во дворе… — Ну и сказала бы, что вышла прогуляться. Этого, кажется, тебе никто не запрещал. Да вылезешь ли ты наконец из шкафа? Жить, что ль, тебе тут полюбилось? Тараторка вышла и притворила за собой дверцу. Вид у нее был несчастный. Тут только Маликульмульк вспомнил, что отсутствие девочки Кузьминишна заметила часа два назад, а то и больше. — Иван Андреич, вы никому не сказывайте, что я у вас была. — Да уж не скажу. — Вы вот что… вы скажите, Иван Андреич, миленький, что меня в окошко видели — как я на бастионе гуляла! — Это уж будет вранье! — Не вранье! Маленькая такая завирушечка… Вы же из канцелярии меня видеть могли, правда, могли! — Нет, на бастион и на речку только окна Сергея Федоровича глядят. — Иван Андреич!.. — Ты где была? — Да нигде не была, тут рядом гуляла! Что это, уж нельзя и на площадь выйти? Так и сидеть дома в хорошую погоду? Вот Варвара Васильевна с Сашей, Васей и Володенькой гулять поехали! Мусью Дюран — с ними. Екатерина Николаевна с Прасковьей Петровной и Натальей Борисовной тут же сели чай пить, меня не позвали! У них там свои секреты! В девичьей сидят, шьют, песни поют — скучно! Павлуше геометрию учить велено, а он в людской, в карты с Гришкой и Еремкой играет! А мне что же? Опять с птичками?!. Романсы им петь?!. Маликульмульк поневоле развеселился. Это была готовая сценка для комедии: жена, прихваченная на проказах, оправдывается и тараторит, уводя разгневанного мужа в сторону от подлинной цели его расспросов. — А на площади, если ты не забыла, у Северных ворот будки стоят, в них — караульные солдаты. Если ты через эти ворота шла, они тебя видели и запомнили. Ладно, Бог с тобой, Тараторка, можешь прекращать вранье. Потом об этом потолкуем. А сейчас мне спешить надо. Взяв скрипку, Маликульмульк направился к двери. — Иван Андреич! А я как же? — Шкаф в полном твоем распоряжении. — Иван Андреич! Тараторка забежала вперед и заступила ему дорогу. Маликульмульк был очень недоволен всей этой историей. Менее всего ему хотелось получить нагоняй от княгини за шалости Тараторки. Но это были не просто шалости… Девочка обращалась с ним, взрослым человеком, как кошка, пробующая остренькие коготки… она пробовала свою власть над ним!.. Не просила о помощи, как набедокурившее дитя, нет — приказывала выручить ее из беды. — Мало мне Терентия… — пробормотал Маликульмульк. Это было смешно и неприятно — девочка, осознав себя взрослой девицей, обращалась с ним не просто как с мужчиной, а как с кавалером, обязанным выполнять ее прихоти. А он совершенно не хотел быть мужчиной в том понимании слова, которое принято среди женщин. Что-то в нем с самого начала было не так — он оказался способен всего лишь на одно сильное увлечение, память о котором то старался упрятать подальше, то оживлял искусственными средствами. Видимо, каждый человек получает при рождении от Бога некоторый запас любви, а потом поступает с ним так, как сочтет нужным. Женщины вон ловко устроились — даже те, что любят поэзию, становятся женами, рожают детей и могут возделывать в душе любовь к детям до самой невероятной величины. А как быть мужчине, чья душа витает в эмпиреях? Та ли любовь полностью израсходована на философию и поэзию, коей надлежало быть отданной семейству — сперва молодой жене, потом деткам? Бог весть… Или же с самого начала была получена душой в приданое любовь какого-то иного качества? — Ну, Иван Андреич же!.. — Вот что — ты снимай салопчик и спрячь тут у меня, я его тебе потом принесу. А сама спускайся за мной следом. Пока я буду с дамами в малой гостиной — ты проскользни в девичью, как будто все время там, в уголке сидела. Другого выхода кроме как выручать Тараторку у него не было. Если вскроется ее долгое отсутствие, Варвара Васильевна такой допрос учинит — стекла из окон от ее мощного голоса повылетают. Тараторка, скорей всего, признается, что тайно бегала на Родниковую — любопытно ей было, видите ли, что-то узнать про госпожу Дивову. А с чего такое любопытство? А с того, что в княжеском экипаже найдено тело ее горничной. А откуда такие сведения?! А от господина Крылова, это он бедную Маврушу опознал и знает нечто тайное о путешествиях Терентия с княжеской каретой… Вообразив себе эту беседу, в которой Тараторка выдаст его с головой, причем, возможно, под угрозой оплеухи, Маликульмульк ужаснулся. А Тараторка, обрадовавшись своей маленькой победе, проворно скинула с плеч салопчик, сняла шляпку, все это ловко упрятала в шкаф и осталась в простеньком сером платьице из шерстяного гризета с едва заметным узором. Под салопом на Тараторке была еще неизменная шаль, с которой модницы только что в постель не ложились. Тараторка ловко обмотала ее вокруг правой руки, накинула край на левое плечо, вздернула подбородок — и Маликульмульк обомлел. Казалось, что буквально за сутки она рассталась с детством и сделалась девицей на выданье. — Идем скорее, — сказал он и, пропустив девочку мимо себя, стал запирать дверь. Тут обнаружилась, что Тараторка еще и надушилась, явно взяв флакончик без спросу у кого-то из дам-приживалок. Он усмехнулся — надо же, как скоро свершается преображение! Впрочем, пора, пора… А знал ли он сам преображение? Как вышло, что он из мальчишки-писца вдруг махом стал драматургом? Или впопыхах не заметил порога, через который не перешагнул, а перескочил, как сейчас перескакивает Тараторка? Пороги нужно все же осознавать и учиться переступать через них сознательно. Вон все ровесники к тридцати годам перестали быть бесшабашными молодцами, перестали блистать талантами, а перешли в иное звание — людей чиновных и семейных. Ему же тридцать три. В чиновные люди за шиворот тянет князь Голицын. А семья, может, заведется у братца Левушки, который благополучно вернулся из итальянского похода и встал на зимние квартиры под Серпуховом. Этого порога не перепрыгнуть, не перешагнуть и даже не переползти. Отчего — одному Богу ведомо.* * *
Рижская крепость делилась на две половины: более и менее аристократические. Границей меж ними служила Известковая улица, рассекавшая город примерно пополам. Начиналась она от ворот между двумя бастионами, Песочным и Блинным, и вела к другим воротам, выходившим на набережную. По рижским понятиям, ее даже можно было назвать прямой. Севернее Известковой жили в основном богатые купцы, чиновники, чуть ли не все ратсманы и бургомистры, дворяне. Южнее Известковой — люди попроще, вплоть до обитателей богаделен. Госпожа де Витте поселилась на самой границе — но на аристократической стороне улицы, в трех шагах от Немецкого театра. Варвара Васильевна расщедрилась — дала свой экипаж, а лакеев на запятки не дала, и впрямь, на что Косолапому Жанно такая роскошь? Хорошо хоть, Терентию приказали сесть на козлы. И возникла беда: как забрать из аптеки Слона Давида Иеронима? Подъехать к аптеке на четвероконной упряжке весьма затруднительно, а выехать так, чтобы попасть на Известковую, было вообще задачей для виртуоза. Терентий на сей раз отказался быть виртуозом. Он встал у начала крошечной Малой Яковлевской улицы, утверждая, что добежать до аптеки оттуда — раз плюнуть. По расчетам Маликульмулька, пройти пришлось бы около семидесяти шагов, в хорошую погоду — одно удовольствие, но начался дождь. А княгиня для того и велела ехать, чтобы начальник генерал-губернаторской канцелярии прибыл в приличное общество в чистых сапогах. Хорошо из каретного окошка Маликульмульк увидел парнишку, служившего в аптеке и бежавшего с каким-то поручением. Парнишка был остановлен и направлен обратно — за Гринделем. Давид Иероним развеселился, увидев, в какой карете поедет в гости. Герб гербом, но экипаж был на новомодных плоских рессорах, что химик заметил сразу, а такие рессоры для Риги покамест редкость. Хотя купцы и тратят деньги на всяческую роскошь, но понимают ее по-своему: посуду заводят — впору какому-нибудь курфюрсту, а семейные портреты заказывают первому попавшемуся мазиле. Гриднель, пока ехали, объяснил Маликульмульку преимущества плоских рессор перед старыми стоячими с точки зрения физики, а тот кивал — действительно на рижских улицах, вымощенных неровными камнями, где приходится на расстоянии в полверсты десять раз придержать лошадей, одолевая поворот, нужны именно такие рессоры. — Прибыли, — сказал Давид Иероним. — Ну, герр Крылов, будьте осторожны — не поддайтесь магнетизму ее голубых глаз. Фрау де Витте утверждает, что они яркости необычайной. Приятели явились к госпоже де Витте, когда небольшое общество уже почти собралось. Маликульмульк давно не бывал в свете. То есть как попал в «послушай-ка, братец» к князю Голицыну, так и знал лишь его семейный круг, лишь ту гостиную, где царит Варвара Васильевна в окружении свиты. Разумеется, и в Зубриловку, и в Казацкое к Голицыным наезжали гости, но там деревенская жизнь способствовала простоте нравов. Да и почти все знали, кого приютил князь, никому и ничего не приходилось объяснять. Тут же, в гостиной госпожи де Витте, сидели сплошь незнакомые дамы и господа, весьма тонные и манерные. Рижское дворянство соблюдало старинные правила обхождения — ему необходимо было отличаться от выскочек, вообразивших, будто деньги дают им какие-то особенные права. Маликульмульк не разбирался в дамских украшениях, а напрасно — знатоку много сказали бы и кольца, и ожерелья, и браслеты. Это были старинные вещицы, фамильные, неподвластные моде, и камни в них, по теперешнему времени казавшиеся плохо ограненными и отшлифованными, хоть грани заново, были великоваты, а сами они тяжеловаты. Зато ни одну даму нельзя было бы упрекнуть в том, что она, соревнуясь с купеческими дочками и супругами, заказывает драгоценности у ювелиров и тратит на это бешеные деньги. Слава Богу, полны шкатулки, доставшиеся бабкам от прабабок. Нарядились гости по моде, но не вычурно и не слишком ярко, словно чересчур сочные цвета резали им глаз и вызывали неприязнь. И было их немного — десятка полтора, что придавало вечеру особый аромат: не рыночная площадь субботним утром, а собрание избранных! Давид Иероним представил господина Крылова хозяйке, фрау Витте, даме в годах, а также ее юной племяннице Доротее Августе. Рядом с племянницей находился Франц Генрих Раве, почти жених. Его батюшка-эльтерман отсутствовал. — Я безмерно благодарна вам, герр Крылов за то, что вы не отказали в моей просьбе и принесли скрипку. Теперь у нас составится настоящий концерт, — любезно поблагодарила пожилая фрау. — Герр Гриндель говорил, что вы чудесно играете. Что бы вы хотели исполнить перед нами? Давид Иероним ни разу не слышал игры своего приятеля; он, как подозревал Маликульмульк, вообще был равнодушен к музыке. Но светская гостиная соблюдает свои законы — там хоть заврись вконец, да скажи гостю что-нибудь приятное. — Дамам нравится Боккерини, — отвечал он. — Но, если вам угодно услышать то, чего в Риге никто никогда не слыхал, я сыграю вариации Хандошкина. — Хандошкина? — Прекрасный скрипач и композитор, фрау. Его музыкой восхищалась покойная государыня. Маликульмульк соблюдал правила светской игры не хуже госпожи де Витте: покойная государыня, слушая даже Ивана Евстафьевича Хандошкина, скучала, но все вельможи старались заполучить гениального скрипача в свои домашние концерты, без него не получалось настоящей изысканности. — Если так, мы все будем очень рады. Маликульмульк внутренне усмехнулся. Было большим озорством исполнить в этой немецкой гостиной вариации на тему «камаринской», пусть даже украшенные изюминками для знатоков: едва уловимыми флажолетами, острыми пиццикато. Его игра не имела необходимого блеска, иные затеи композитора он просто опускал, но в целом передать дух русской песни мог. Его слушали немного озадаченно, однако аплодировали. Гриндель меж тем подсел к какой-то паре, перемолвился с ней словечком, ответил шепотом на чей-то вопрос. Эти господа его признали — из чувства противоречия, должно быть. Они могли себе позволить пригласить в гостиную молодого химика, о котором известно, что дед его был бывшим крепостным, пусть не в меру разбогатевшие купцы задирают носы и меряются толщиной кошельков. Деньги приходят и уходят, а родовые дворянские грамоты остаются. После вариаций Хандошкина к клавикордам подошла Доротея Августа и премило спела простенькую песенку о розочке. Голосок у нее был звонкий и чистый, но с ритма она сбивалась, так что даме-аккомпаниаторше пришлось потрудиться. Затем господин средних лет очень прилично исполнил арию Альмавивы из «Севильского цирюльника» Джованни Паизиелло. Франц Генрих Раве прочитал монолог Фауста о стремлении к прекрасному. Концерт получался весьма порядочный — в нем царили гармония и благопристойность. Фрау фон Витте улыбалась, вечер был удачный. Сделали перерыв, лакей обнес гостей вазочками с мороженым — ванильным, земляничным и шоколадным, приготовленным по совету Гринделя и из присланного им порошка. Косолапый Жанно старался на эти вазочки не смотреть — ему казалось, что хозяева, предлагая гостям этакое баловство, унижают самое понятие гостеприимства. А Маликульмульк отвечал на вопросы, задаваемые по-немецки, и чувствовал себя довольно уверенно. Вдруг фрау фон Витте перешла на французский. — Я хочу представить вас своей новой подруге, — сказала она. — Графиня просила меня… вы произвели на нее впечатление!.. Маликульмульк усмехнулся — такое с ним случалось редко; наверно, и впредь нельзя ничего есть в гостях, сохраняя свое платье чистым, тогда и дамы начнут проявлять интерес. Гостиная была невелика и имела причудливую форму — для того, чтобы сделать ее достаточно удобной, пришлось снести какие-то внутренние стенки в доме. Можно было провести там целый вечер, не зная, кто сидит за углом. Фрау фон Витте повела Маликульмулька в закоулок, где царил полумрак, очень выгодный для стареющих красавиц. Там на кушетке сидели две дамы — одна совсем пожилая, а вторая, одетая в модное платье палевого цвета, подпоясанное под грудью, казалась на вид лет сорока и выглядела бы даже моложе, кабы не букольки, выпущенные на лоб и на виски. Они заметно отливали сединой. На голове у нее, поверх то ли чепца, то ли шляпки, завязанной на бант под остреньким подбородком, была вуалька, спадавшая на плечи, — последнее парижское изобретение. Целомудренное платье закрывало грудь до самой шеи. Роста она была небольшого — разве что чуть повыше Тараторки. Но, в отличие от Тараторки, красилась, и красилась ярко — брови себе намалевала необычайной ширины и густоты. Маликульмульк невольно вспомнил рассказы о том, что при государыне Елизавете, а может, и Анне Иоанновне, дамы даже приклеивали себе брови, сделанные из мышиных шкурок. — Разрешите представить вам господина Крылова, графиня, — сказала фрау де Витте. Она поглядела на стоящее у стены кресло, и тут же лакей пододвинул его к кушетке. Фрау де Витте села, а Маликульмульк согнулся, чтобы поцеловать протянутую ему руку — надо сказать, очень красивую руку, с нежной кожей и розовыми ноготками, ухоженную и надушенную. — Вы замечательно играете на скрипке, господин Крылов, — произнесла графиня, глядя в глаза Маликульмульку с подлинным восторгом и даже обожанием. — К сожалению, в Риге редко встретишь виртуоза. Я рада, что Мари уговорила меня приехать сюда сегодня, я так редко бываю в свете… Маликульмульк смог лишь выдавить из себя: — Благодарю вас, сударыня… Он знал про себя, что до виртуозности ему далеко; проще сказать, выдающимся скрипачом он не станет никогда, как и выдающимся журналистом, с этим покончено, и выдающимся поэтом, и выдающимся драматургом, и вообще, кажется, никем… разве что игроком!.. И то — мерилом его успеха будет пристальное внимание полиции! — Я обожаю музыку. Музыка — единственное, что осталось мне после тяжких испытаний. Когда женщина из благородной семьи вынуждена жить в изгнании, рассчитывая лишь на вынужденное милосердие давних и преданных друзей… когда чудом удалось уцелеть… вы понимаете меня, господин Крылов, вы понимаете, о каких событиях я говорю… Тогда ищешь божественного утешения — и находишь его в музыке… Эта речь, пылкая и печальная разом, несколько озадачила Маликульмулька. А фрау де Витте, слушая, совсем расчувствовалась. — Вы не должны так говорить о своих друзьях, дорогая графиня, наш долг — помогать тем, кто оказался в такой беде, как вы, долг — прежде всего! И это долг не перед вами, мадам де Гаше, а перед Господом!.. Вот тут Маликульмульк едва не прихлопнул себе рот ладонью, потому что оттуда готов был выскочить вопрос: — Вы — графиня де Гаше? Прежде всего, он отдал должное Давиду Иерониму — химик, избалованный хорошим отношением к себе решительно всех, имел неожиданно острое чутье, он угадал в этой даме мошенницу. И тут же лицо, похорошевшее от волнения, с которым графиня произносила свою трогательную речь, сделалось таким, каким его увидел бы трезвый наблюдатель: худым, продолговатым, большеротым. И немолодым… Но она опять заговорила. Она нежно упрекнула хозяйку дома: дело ведь не только в сословном долге, дружеское сочувствие она ценит более всех подвигов, а в этом доме сочувствие окружает несчастную изгнанницу, как аромат царственных цветов в саду — скромного мотылька… Маликульмульк слушал и все яснее понимал: тут какая-то чертовщина. Женщина изумительно наловчилась пользоваться своим голосом, он проникает до самых глубин души, он очаровывает… и он, кажется, уже знаком… только тогда в нем совершенно не было очарования… Вот строгость, упрямство и своеволие — были!.. Да, это она пробиралась к дому на Родниковой улице по темным тропинкам, меж хлевом и курятником, одновременно споря со своим молодым кавалером. Но если эта дама — графиня де Гаше, то кто же тогда высокая и тонкая особа с мордочкой мопса? — Госпожа де Витте совершенно права, — сказал Маликульмульк, — здесь вам, сударыня, все рады. Он слушал дамский разговор вполуха, вставлял какие-то необязательные слова, а сам вспоминал, вспоминал… Графиня де Гаше, Иоганн Мей, Леонард Теофраст фон Димшиц… Леонард? Где-то уже попадалось это имя… Еще — Андреас фон Гомберг и Эмилия фон Ливен. Неужто та дама — Эмилия? Леонард, скрипка… Фон Дишлер?.. Стало быть, большая часть игроцкой компании в сборе и угнездилась на Родниковой улице. И кто же из пятерых отравил бедного фон Бохума? И велика ли была та сумма, из-за которой он погиб? Возник еще один вопрос: как мог мужчина, женатый на Анне Дмитриевне, заводить амуры с мадам де Гаше? Михайле Дивову вряд ли было более тридцати; коли так уж захотелось изменить супруге, мог сыскать и чего получше, чем эта тощенькая, шустренькая, широко разевающая рот, отчаянно машущая белыми своими ручками — единственным, чем еще могла как-то пленить кавалера… Мартышка!.. Вот кому дали прозвище уличные ребятишки. Значит, придется ухаживать за Мартышкой. Придется делать вид, будто веришь в ее графский титул. Лишь бы она поняла, что Господь послал ей простака с туго набитым кошельком. Вот он, дар Фортуны! Главное, внимательно следить за угощением, которое выставят на стол после удачной для новичка игры. И расспросить Гринделя о приметах отравленной пищи. Что там он говорил о крупинках, похожих на крошечные осколки белого фарфора? Тут только Маликульмульк вспомнил, что рассказывал Давид Иероним о графине. Называет себя ученицей Калиостро, открыто называет, не боясь, что ее разоблачат. Обещает провести некие опыты. Пользуется тем, что госпожа фон Витте самолично знала «гишпанского полковника», не раз беседовала с ним, сохранила наилучшие воспоминания… как сие возможно, что ее не изловили на вранье? Ведь фрау фон Витте наверняка спрашивала ее о подробностях, связанных с Калиостро, и осталась удовлетворена ответами. Неужто и впрямь Мартышка была приятельницей великого шарлатана Калифалкжерстона? Тем хуже для нее — в приличном обществе это скверная рекомендация. Меж тем молодежь пожелала танцевать, составились пары — Доротея Августа с Францем Генрихом, Гриндель с хорошенькой черноволосой девицей. А какие танцы без скрипки? Маликульмульк радостно ухватился за возможность ненадолго отделаться от графини де Гаше. Он знал очень милый экосез, модный, размером в две четверти, именно то, что должно понравиться молодежи. Фрау фон Витте могла быть довольна — начальник генерал-губернаторской канцелярии без отговорок заменил наемного музыканта. На это она, скорее всего, и рассчитывала. Танец — наилучшая ловушка для женихов, и не зря же она решила остаться на зиму в Риге; еще полдюжины танцевальных вечеров, и дело будет решено. А у нее, сказывали, еще две девицы на выданье. Водя смычком по струнам привычной рукой, Маликульмульк поглядывал по сторонам — и поймал-таки взор графини де Гаше. Мартышка не сводила с него глаз и, видя, что он тоже на нее глядит, вдруг поднесла к лицу платочек — словно бы смахнуть невольную слезу. Маликульмульк не обольщался насчет привлекательности Косолапого Жанно. Одно то, как он, играя, притоптывал ногой, сам себе задавая такт, и бессознательно проделывал нечто вроде танцевальных па, вызывало у младших Голицыных хохот, и даже Варвара Васильевна как-то сравнила его с плясовым медведем на ярмарке; сравнила, не желая обидеть, просто сказала правду. Если бы Мартышка улыбнулась — оно бы и понятно, а платочек? Не хочет ли она из чрезмерной деликатности скрыть смех? Когда танцоры угомонились, Маликульмульк вынужден был вернуться к графине де Гаше. Она все еще сидела рядом с пожилой дамой, но вместо фрау де Витте на кресле поместился какой-то кавалер, знающий по-французски сотни две слов, не более, но отважно устремившийся в светскую беседу. Фрау де Витте стояла в отдалении с гостями и не столько развлекала их разговором, сколько прислушивалась к кавалеру. Маликульмульк, поймав ее веселый взгляд, не дошел до графини трех шагов, а повернул к хозяйке дома. — Настоящий рижанин, — сказала фрау фон Витте, незаметно указывая на кавалера. — Полагает, будто немецкого языка ему довольно для светской жизни. Это логика здешнего айнвонера, рижского мещанина, — простому обывателю языки ни к чему. Не то, что у нас в Митаве. Митава, а не Рига, должна бы по праву быть главным городом в Лифляндии. У нас меньше купцов и магистрат не держится за привычки пятисотлетней давности. И герцогский дворец куда красивее Рижского замка. Я уж не говорю о планировке города — у нас таких кривых и узких улиц не найдешь. У нас, господин Крылов, есть и красивый православный храм. — При первой возможности побываю в Митаве, — пообещал Маликульмульк. — Вам понравятся наши молодые дворяне, вы разом заведете себе множество друзей. Они совершенно не похожи на здешних остзейцев ни правилами своими, ни радушием. Курляндцы — рыцари, они мне напоминают скорее отважных и великодушных польских дворян старой закалки. Торгашей они презирают… — тут фрау фон Витте кинула взор в сторону Доротеи Августы, весело болтавшей с будущим женихом и, немного помрачнев, перевела разговор на иную тему: — Не знаете ли вы, намерена госпожа княгиня бывать на балах в здешнем Дворянском собрании? Они, конечно, не так хороши, как в Санкт-Петербурге, но на Рождество город приглашает лучших музыкантов и певцов, можно отлично развлечься. — Я расскажу об этом госпоже княгине, — отвечал Маликульмульк, уже чувствуя себя неловко, поскольку графиня де Гаше не сводила с него глаз. Он не знал, как красиво покинуть хозяйку дома, а взгляд Мартышки вызывал раздражение — как будто его этим взглядом тянули в постель к некрасивой, но чрезмерно темпераментной даме. Выручил Давид Иероним, подошел с черненькой танцоркой, которой непременно нужно было, чтобы фрау де Витте разрешила какой-то смешной спор. Маликульмульк отступил в сторону и, собравшись с духом, направился к кушетке. Мартышка, видно, была опытной кокеткой. Модное узкое платье позволяло, натянув ткань, обрисовать округлое колено, а она еще и ножку выставила, и как-то особенно грудью вперед подалась. Смотреть, как немолодая женщина производит все эти маневры, Маликульмульку было неприятно — словно бы ожила страница из «Почты духов». — Если бы я знала, какое потрясение ждет меня в этот вечер, я не пришла бы, — сказала графиня де Гаше. — Простите меня… и побудьте со мной немного!.. Это — последняя радость, которая мне еще осталась… В голосе звучала неподдельная скорбь. — Как вам будет угодно, сударыня. А что тут еще ответишь? — К счастью, я уже в том печальном возрасте, когда можно сказать кавалеру «Побудьте со мной», и он не вообразит себе сразу амурного приключения. Маликульмульк внутренне усмехнулся — любвеобильная бабушка Горбура из «Бешеной семьи»! Именно так вымогают у кавалеров комплименты. Ей наверняка за сорок, значит, и внуки есть, как же без них? — Вы к себе несправедливы, сударыня. — Бедствия, которые я перенесла, до срока меня состарили. Вот, — она коснулась пальцами седой букольки у виска, — не надо исторических трактатов о злосчастной революции, не надо книг, вот — это она… Тут оставалось лишь сочувственно вздохнуть. Впрочем, Маликульмульк знал, сколько мошенников являлись в лучшие русские семейства с длинными и увлекательными историями: отпрыск-де знатного рода из какой-нибудь Нормандии или Гаскони, все родные погибли от рук взбесившейся черни, чудом избежал гильотины, пешком прошел Европу в таком испуге, что смог остановиться и перевести дух лишь в Санкт-Петербурге. Одного такого «мусью Трише» прямо при Маликульмульке с позором выставили из дому — не столько доверенных ему детей воспитывал, сколько готовил ограбление с шайкой сообщников-французов. У порога уже ждала карета управы благочиния с зарешеченными окошками. — Я прошу вас, не оставляйте меня… — произнеся это, графиня де Гаше потупилась. — Приходите сюда. Я несколько дней проведу у госпожи де Витте. Не вечером, нет… Можно до полудня. Мне хочется видеть вас, говорить с вами. Не отказывайте изгнаннице! Маликульмульк и сам не ожидал, что покорно ответит: — Да, сударыня, разумеется. Его опять позвали играть, и он покинул Мартышку со вздохом облегчения — отродясь дамы не разыгрывали перед ним таких сценок. Чувство величайшей, даже грандиозной неловкости владело им, когда она полушептала свои признания и просьбы. Но, с другой стороны, эта женщина была ему нужна. Она ввела бы его наконец в игроцкую компанию! А ради этого можно и поскучать в гостиной, выслушивая воспоминания об ужасах французской революции. Больше графиня к нему не приставала, а собрала вокруг себя дамский кружок. Если судить по лицам дам, речь шла о чем-то крайне занимательном. Возможно, о Калиостро. Вскоре Давид Иероним подошел и тихонько сказал, что пора собираться. Танцы танцами, а к позднему ужину их не приглашали, поздний ужин — только для своих. Маликульмульк даже обрадовался: через четверть часа, оказавшись в Рижском замке, он совершит налет на поварню! Терентий, как ему было велено, ждал неподалеку, дремля на козлах. На улице выстроилась вереница из четырех карет, но другие кучера собрались вместе и весело разговаривали. Возможно, кто-то даже успел сбегать в «Лавровый венок», который располагался едва ли не напротив дома фрау де Витте, на неаристократической стороне Известковой улицы. Терентий был сильно недоволен — вся голицынская дворня сейчас сидела в тепле, отдыхала, в людской наверняка играли в карты, а он торчал тут, в сырости, хотя и укрытый плотной епанчой, в одиночестве, и понятия не имел, сколько еще тут проваландается. Так он и ответил молодому господину, который, не разглядев герба, вздумал было его нанять. Во-первых, карета княжеская, во-вторых, велено ждать — в любую минуту барин может выйти. То, что господин обратился к нему по-русски, Терентия не смутило — он считал иные языки досадным недоразумением, не более. Господин посочувствовал, Терентий согласился — да, ремесло кучера тяжкое и обременительное. Господин полюбопытствовал, не сам ли князь навестил госпожу де Витте. Терентий растолковал, что их сиятельства отправили в карете начальника канцелярии, и выложил то, что помнил о Косолапом Жанно. Тогда господин дал ему старую екатерининскую полуполтину и посоветовал хотя бы сбегать погреться. Терентий поблагодарил жалостливого господина, но с козел не сошел — некому было присмотреть за лошадками, пока он бродит в поисках горячительного. — Экий ты, несуразный, — сказал ему господин. — Бог с тобой, завтра выпьешь за мое здоровье. — А как вашу милость звать-величать? — спросил Терентий со всей любезностью. — Пей за раба Божия Якова, — был ответ. И молодой господин, улыбнувшись, пошел себе дальше, до угла Господской, завернул, и пропал. Терентий проводил его умиленным взором: вот ведь, человек дал полуполтину просто так, не за услугу, а тут иные, не станем поминать имен, пока на них не наломаешься, поблагодарить и не подумают. Пока пудовый мешок дров по лестнице не втащишь — и доброго слова не услышишь, а уж он ли — не всей душой?! Тут-то недоросль с приятелем и вышли на крыльцо. Терентий заметил их почти сразу, подъехал, они уселись, и княжеский экипаж покатил по Известковой. — Что, была речь о Калиостро? — первым делом спросил Давид Иероним. — Нет, другие речи были. Зовет посетить ее особо, нанести утренний визит, — сказал Маликульмульк. — Чего-то ей от меня, видать, надо. — Будьте осторожны, мой друг. — Я осторожен. Сказав это, Маликульмульк солгал, хотя лгать он не любил. На самом деле он готов был презреть всякую осторожность — лишь бы попасть за тот стол, где ведется Большая Игра.* * *
Наутро в кабинете его сиятельства разыгралось целое сражение. Князь, невысокий, плотного сложения, и на вид человек вполне мирный, имел одну особенность — любил побеждать противника, кем бы тот противник ни был. Отличившись на войне, он умел и за себя самого взяться — сам отучил себя от карточной игры, сперва выиграв несколько сот тысяч рублей, затем отучил от молодецких подвигов в чужих постелях, отдав душу и сердце рыжей красавице. Оказавшись в опале, он знал лишь победы на шахматной доске, где был непревзойденным мастером, и вот получил, наконец, неприятеля, одолеть которого весьма непросто. Неприятель этот звался — рижский магистрат. Магистрат прислал на встречу с князем бургомистра Барклая де Толли, еще одного бургомистра — Бульмеринга, эльтермана Грошопфа и Раве — известного скупердяя, у которого зимой снега не выпросить. Магистрат знал, чего потребует Голицын — несколько немцев, служивших в канцелярии, исправно доносили о настроении князя. — Я понимаю, что вы обременены! — восклицал Сергей Федорович. — Понимаю, что назначение на должность всякого водовоза требует по меньшей мере трех совещаний! Но кто из вас и когда, господа мои, в последний раз был в Цитадели и видел казармы? Это сущие развалины, к которым и подойти страшно! А казармы должны содержаться за счет города! Вот на сей предмет указ покойного государя — а нынешний его не отменял! Этот указ от 28 ноября 1796 года Маликульмульк собственноручно нашел в шкафу и положил на голицынский стол, на видное место, чтобы в нужную минуту князь мог схватить его и возмущенно им потрясти, тыча пальцем в нужную строку: «…а как оборона государственная требует, дабы все верноподданные нам области оной соразмерно способствовали…» Сам начальник генерал-губернаторской канцелярии стоял тут же, у окна, в ожидании приказа — мало ли какой еще документ вдруг потребуется. И ратсманы на него косились — любимчик его сиятельства, все вечера проводит в княжеской гостиной, что Голицыну в уши напоет, то князь и запомнит… — Ваше сиятельство, магистрат не имеет надобности посещать Цитадель… — начал было Бульмеринг. — Выходит, Рижская крепость — сама по себе, а Цитадель — сама по себе? — язвительно перебил его князь. — Кому же тогда принадлежат все сараи, халупы и хибары, которых добрые рижане понастроили на бастионах Цитадели? Диво еще, что не поставили там каменных амбаров! Если они к вам не имеют отношения, то я сейчас велю их разрушить! Кстати, все самовольные строения на бастионах и валах крепости тоже ей красоты не придают! Что вы об этом скажете? — Это частные владения. — Частные владения на государственной собственности?! Побойтесь Бога, господа. То, что вам вернули привилегии, коих вы лишились при покойной государыне, еще не значит, что можно строить сараи, где попало. Итак, вернемся к казармам… — У нас нет денег, ваше сиятельство, — сказал Барклай де Толли. — Городская казна пуста, и виной тому расквартировывание войск, которое стало для нас чересчур большой тратой… — Но на то есть квартирная касса. — Она уже давно пуста. Город за свой счет строил здания в городских имениях, где расквартированы войска и вынужден еще выделять из своих годовых доходов в квартирную кассу не менее двенадцати тысяч рейхсталеров, но где их взять — неведомо. — Вам позволено свободно ввозить иностранную соль, вам уменьшена пошлина с пшеницы, вам уже целый год позволено торговать с иногородними купцами по уставу о рижской коммерции… И началось! Маликульмульк стоял как монумент и лишь внимательно следил за головой князя — не повернется ли к нему, не прозвучит ли приказание. В душе он забавлялся, глядя на разгорячившихся ратсманов. Ратсманы защищали свои кошельки — не всякая тигрица станет так защищать своего тигренка. И докопаться до правды в их речах было бы затруднительно — да только канцелярия подготовила для князя бумажки с цифрами. Он завершил аудиенцию тем, что пообещал: если магистрат на радостях, что вернулись прежние привилегии, начнет по-старому притеснять живущих в городе русских и латышей, то разговор с господами ратсманами будет суровый. Длилось это побоище полтора часа. Когда князь и его начальник канцелярии остались в кабинете одни, Голицын тихо выругался. Склока его утомила. — Ваше сиятельство, могу я отлучиться по надобности ее сиятельства? — Да, братец, ступай… Бумаги прихвати! Глядеть на них тошно! Маликульмульк собрал все, что было разбросано по столу, поклонился и ушел. За дверью он вздохнул с облегчением — в стычке с магистратом никто не победил, но Голицын все более осознавал необходимость строгих мер, и это было хорошо. В какой-то мере спор генерал-губернатора с городом напоминал карточную игру — у каждой стороны были козыри, которыми следовало разумно распорядиться, а отсутствие нужных карт изощренно скрыть. Главный козырь магистрата — покойный государь Павел Петрович, который отменил все благоразумные начинания своей матушки. Что-то еще предпримет новый государь?.. Объявив подчиненным, что уходит исполнять важное поручение князя, Маликульмульк неторопливо вышел из канцелярии. Философ, спешащий на свидание к дряхлой прелестнице, — это был прекрасный комический сюжет. Варвара Васильевна ждала его в гостиной, в утреннем платье, причесанная без затей. С ней были мальчики, Володя с Васей, и Тараторка. В углу рукодельничала няня Кузьминишна. — Ну что? — спросила княгиня. — Князь-то?.. Как он? — Сердит, ваше сиятельство. К обеду подобреет. А я вот, может статься, и без обеда останусь. — Не тоскуй, Иван Андреич, я велю тебе всего оставить, поешь потом на поварне. Ты слушай! Сам про Калиостро речь не заводи! Жди, пока она заговорит. Вопросов поменее делай! Коли она мошенница — то и без вопросов все тебе доложит! Вечером Маликульмульк успел кое-что рассказать княгине, но про кокетство графини де Гаше умолчал. Можно было смеяться над неповоротливостью и неопрятностью Косолапого Жанно — да на здоровье! Это словно входило в негласное соглашение между родом Голицыных, с одной стороны, и господином бывшим-Крыловым, с другой. Но внутреннее бытие Косолапого Жанно никого не касалось, и как бы потешно ни выглядели заигрывания Мартышки с мужчиной намного себя моложе, делать это общим посмешищем Маликульмульк не желал. Вот просто не желал и все. Решил это оставить при себе. Тараторка слушала разговор старших, ковыряя иголкой полоску шитого кружева. Ее обучали всем видам рукоделия, принятым в свете: она могла и метить белье сложными монограммами, и вышивать шерстью в пяльцах, и вязать шелковые чулки, и даже кроить сорочки для дворовых девок, чтобы знать расход ткани. Тараторке очень хотелось остаться наедине с Иваном Андреевичем и попросить у него прощения за свои проказы, а потом рассказать о вылазке. Но учитель даже не поглядел в ее сторону, и это было до смерти обидно. — У светских мошенников всегда наготове трогательная история, на которую они ловят чувствительные натуры, как пескарей на крючок. Мало ли к дядюшке приходило мазуриков! Такое сочинят — Княжнину с Сумароковым за ними не угнаться, — рассказывала княгиня. — К нему как-то старенький дьячок притащился, который его чуть ли не грамоте обучал. Молит: стар стал, глаза слабые, прокормиться не могу, определите к какой-нибудь должности, ну, хоть сторожем. Дядюшка и определил — каждый день проверять, на месте ли Фальконетов монумент. Но эта история сделалась известна, и знал бы ты, Иван Андреич, сколько тут понабежало самозванцев! Всем, вишь, охота за безделку жалованье получать. И все божатся, что в ребячестве со Светлейшим в свайку и в камушки игрывали! Так что гляди!.. С таковым напутствием Маликульмульк и отбыл к Мартышке. Погода была сухая, он пошел пешком, считая по своему обыкновению шаги. Вышло — девятьсот семьдесят один шаг, если не считать тех, что были сделаны до аптеки Слона и обратно. Там Маликульмульк взял гостинец для фрау фон Витте — бутылочку тминного алаша, который рижские дамы подавали к кофею, фунтик шоколада, сахарные драже. Он не знал этикета, но подозревал, что, явившись с букетом цветов, будет не то чтобы смешон, а нелеп: цветы в его понимании сочетались с хрупкими девичьими фигурами, а не с увесистой мужской. Тем более что свои излюбленные васильки он все равно бы в это время года нигде не раздобыл. Фрау фон Витте и графиня де Гаше сидели с рукодельем в маленькой гостиной. К радости своей Маликульмульк заметил на ломберном столике разложенный пасьянс. Значит, дамы охотно развлекаются картами. Он знал несколько хороших и сложных пасьянсов, исход которых зависел не от того, как первоначально расположились карты в колоде, а от сообразительности. Фрау де Витте распорядилась подать кофей и сладости к нему. Косолапый Жанно вздохнул — уж лучше бы вообще ничего не ставить на стол, чем эти крендельки длиной в вершок и пирожки с вареньем, которых на маленькой тарелке помещается четыре штуки. Ведь этак начнешь лакомиться — и перепугаешь дам, слопав все, что на столе. — Я ждала вас и боялась этой встречи, — сказала Мартышка. — Вот, Матильда Эрнестина свидетельница — я все ей рассказала. Он таких зачинов у всякого кавалера пробежал бы мороз по коже. — Да, это удивительная история, я еле сдержала слезы… я ведь тоже лишилась мужа, которого страстно любила… — фрау де Витте покивала со скорбным видом. — Мы, женщины, более вас способны хранить верность воспоминанию… Маликульмульк был сильно озадачен. — Увидев вас в гостиной, я едва не лишилась сознания, — продолжала графиня. — Есть вещи, которые чувствительная натура понимает как тайные знаки, и что же они сулят?.. Простите мне мое волнение, господин Крылов, сейчас вы услышите нечто удивительное… Вы невероятно похожи на моего покойного супруга, графа де Гаше. Таким он был в молодости, вскоре после того, как мы поженились. Сходство просто поразительное — вот, извольте… Она сняла висевший на шее большой медальон и протянула его Маликульмульку. Щелкнул миниатюрный замочек, усыпанная мелкими бриллиантами крышка откинулась — и философ увидел себя… Этого он действительно не ожидал. И первым чувством был страх — тут творилась какая-то чертовщина! Он невольно качнулся назад, едва не опрокинувшись вместе с креслом. Фрау фон Витте взяла у него медальон, посмотрела, вздохнула и вернула Мартышке. — Да, я бы не поверила, если бы мне рассказали о таком сходстве, — промолвила она. — Теперь вы понимаете, отчего моя подруга так хотела еще раз увидеть вас? — Если это приносит госпоже де Гаше утешение… — Маликульмульк наконец собрался с духом, — то все время, что она собирается провести в Риге, я готов… готов к любым услугам… графиня может на меня рассчитывать… Он имел в виду, что может сопровождать ее, допустим, на прогулках, но главным образом — предложил себя как карточного партнера. Ему и на ум не взбрело, что его слова могут быть поняты как-то иначе. Мартышка рассмеялась. Смех у нее был прелестный, по-девичьи звонкий. — О, нет, нет! — воскликнула она. — Я не смею отнимать вас у ваших друзей! Но если бы вы соблаговолили иногда посетить бедную вдову… скрасить ее уединение хотя бы партией в «мушку»… Я была бы счастлива забыться и вообразить, будто время потекло вспять… И тут она, быстро поднеся к глазам платочек, вскочила и выбежала из гостиной. — Это неслыханное совпадение, — сказала фрау де Витте. — Когда я просила господина Гринделя привести вас, я понятия не имела… но этот медальон, который бедная Луиза Шарлотта не снимает с шеи… Маликульмульк развел руками. — А что случилось с бедным графом де Гаше? — спросил он. — Поймите меня, я не из простого любопытства, я не хочу случайно задеть чувства графини… — О да, я понимаю! Видите ли, она рассказала мне всю правду. Когда ее выдали замуж за графа, оба были почти детьми, они сперва немного привязались друг к другу, потом стали ссориться, даже разъехались. Наконец, когда во Франции началось беспокойство, когда чернь взбунтовалась, им пришлось примириться, чтобы вместе спасти свое имущество и единственного ребенка. Тогда между ними вспыхнуло истинное чувство. Но они скрывались, из-за ошибки человека, который прятал их, они потеряли друг друга, граф остался с сыном, графиня попала в тюрьму. Это ее, как ни странно, спасло — жена тюремщика помогла ей бежать, и она оказалась в провинции. Там она узнала, что муж и единственный сын погибли. — На гильотине? — Да. Теперь вы все знаете. Она, бедняжка, убивается из-за того, что была несправедлива к мужу. Когда она узнала, что лишилась разом мужа и сына, то за ночь поседела. И оба были так молоды, мужу не исполнилось и сорока, сыну — семнадцать… — Сколько же графине лет? — бестактно спросил Маликульмульк. — О, меньше, чем кажется. Она родила в шестнадцать. Сейчас, очевидно, сорок один или сорок два, для женщины — отнюдь не старость, отнюдь! Воспоминания терзают ее, оттого она теперь не так хороша собой. Есть еще кое-что, о чем ее лучше не спрашивать. Расставшись на время с супругом, она стала приятельницей известного графа Калиостро… я подозреваю, что очень близкой приятельницей… — фрау де Витте поднесла пальчик к губам с лукавством Фальконетова Амура. — И она пытается способами своего учителя вызвать дух мужа, чтобы просить у него прощения. — Боюсь, что это вряд ли возможно, — сказал Маликульмульк. — Боюсь, вы ошибаетесь. Я ведь встречалась с Калиостро много лет назад, когда он ехал в Санкт-Петербург и немало времени провел в Митаве. Он доподлинно умеет вызывать духов! Я видела это своими глазами. — То есть в гостиной, где Калиостро беседовал с дамами, вдруг явилось привидение? — Не смейтесь над этим! Конечно же привидение не явилось, это было бы нелепо… в гостиной обычно светло, а призраку необходим мрак… Но господин Калиостро умеет делать так, что дух покойника входят в «голубка» или «голубку». Правда, он открыто не говорил об этом, но все признаки именно таковы. Как же иначе шестилетнее дитя может рассказать о закопанном кладе, находясь в запертой комнате? Тут нужен человек, который сам видел, как укладывают в землю этот клад. Я однажды, оставшись с Калиостро наедине, стала его расспрашивать, и он признался, но просил сохранить это в тайне. Он очень заботился о своей репутации — мы, курляндцы, любим повеселиться и интересуемся науками, но есть вещи недопустимые, и он это знал… Кроме того, мне говорила об этом Шарлотта фон дер Рекке. Правда, теперь она переменила мнение о Калиостро, но тогда едва не уехала вместе с ним в Санкт-Петербург. Он ей обещал, что она сможет беспрепятственно беседовать с умершими. Я даже думаю, что в некоторых опытах она была «голубкой» и кто-то говорил ее устами. — И вам не страшно, что госпожа де Гаше произведет такой опыт в вашем доме? — спросил Маликульмульк. — Не знаю, как о том говорит ваша вера, а для русской веры это грех. Фрау фон Витте задумалась. — Вы, возможно, правы… но ведь и у меня есть вопросы к тем, кто ушел, и я бы хотела услышать слова утешения, — подумав, призналась она. — Очевидно, вам не знакомо чувство утраты. — Знакомо… И оба замолчали. Ивану Андреевичу невольно вспомнилась мать. Что, если бы она, видя, как старший сын по ночам с головой погружается в чтение, принялась кричать, отнимать книги и свечи? Он стал бы иным — а каким, бог весть. Может статься, чиновником в Твери, и сейчас имел бы жену, подурневшую от многочисленных родов, пять-шесть человек детишек, жалование, которого ни на что не хватает… А вот была же у него мать, сама книг не читавшая, но ощутившая, насколько они нужны сыну. В первый раз она его спасла от смерти, когда вывезла из Яицкой крепости, где отец был помощником коменданта, в Оренбург — наступало войско самозванца Пугачева, всем было страшно. И точно ли мать везла маленького сына, посадив его в большую глиняную корчагу? Зачем, почему? Не привиделось ли? Неведомо — а ее уже не спросишь… Во второй раз спасла, позволив читать книги. — Может статься, это не духи умерших, а первобытные духи, — сказала фрау фон Витте. — Калиостро говорил, что пользуется их услугами. Знаете, сильфы, сильфиды… Маликульмульк онемел — вон куда сильфы-то залетели! Незримо сидит на подоконнике любимец, Дальновид и, примостив записную книжку на колене, заносит туда эту странную беседу. «Почта духов» продолжается — где там звездная епанча? Вошла графиня де Гаше. — Простите меня, — произнесла она, потупившись, словно девица. — Я была сама не своя… Так я могу надеяться что вы, господин Крылов, пока я в Риге, будете навещать меня? — Да, разумеется, — отвечал Маликульмульк, помышляя об одном: как бы сбежать и рассказать все княгине Голицыной. Она этого Калиостро видала, она сообразит, что там еще за первобытные духи. К тому же он порядком устал от французской речи и собственной галантности.Глава девятая Игроцкая компания
— Да, кое-что мне ведомо, — сказала Варвара Васильевна. — Пока ты, Иван Андреич, с дамами прохлаждался, я с князем за обедом потолковала про мошенницу. Он тоже кое-что вспомнил. Этот Калиостро в Митаве устроил масонскую ложу, куда брал не только господ, но и дам. Сказывали, не моложе тридцати пяти лет, а как на самом деле — шут его разберет. Также всюду, куда приезжал, обещал исцеление от всех хвороб, возвращение молодости и шесть тысяч лет безмятежной жизни в будущем. — А первобытные духи? — И духов обещал, но видел ли их кто — того не знаю. Подумай сам, умная твоя голова, что за духи могли явиться к дуракам, поверившим Калиостро? Только те, от которых серой разит. Мы с тобой, слава Богу, люди православные, знаем, что к чему. Это французы с нечистым шутить вздумали — ну и дошутились. — И что Сергей Федорович? — Посмеялся. Пусть бы, сказал, эта графиня пошла в магистрат и там свою нечистую силу вызвала, хоть прок бы от ее проказ был. Ты сейчас ступай на поварню, тебя покормят. А потом к себе в канцелярию. — Я, ваше сиятельство, считаю — за графиней нужен присмотр. Мало ли кого она вовлечет в свои затеи с вызыванием духов. А потом скроется с набитым кошельком, и нам же придется иметь дело с обворованными. — На то управа благочиния есть. — А не всякий здешний барон побежит в управу благочиния. Ваше сиятельство, дозвольте мне ею заняться! — взмолился Маликульмульк. — Да ты, батюшка, с ума сбрел! — Ваше сиятельство, она за меня уцепилась, для чего-то я ей нужен. — А она тебе? Вопрос был замечательный, но Маликульмульк уже приготовил достойный ответ. — Коли помните, ваше сиятельство, покойная государыня писала комедии о Калиостро. А я, беседуя с этой мнимой графиней, вдруг понял, что из ее проказ отменная комедия выйдет. Не хуже «Подщипы», но такая, что в столице можно будет поставить… без глупостей… — Это ты, друг мой, удочку закидываешь — не попрошу ли я князя, чтобы поменьше тебя в канцелярии занимал! — и княгиня расхохоталась. — Экие у тебя дипломатические тонкости. — А вы подумайте, вот меня она хочет пленить тем, что я на ее покойного мужа похож, прямо одно лицо. Кому-то что-то иное придумает. Так прямо у нас на глазах комедия сложится. — Ступай на поварню, — велела княгиня. Косолапый Жанно поклонился, смешно разведя руками, и отбыл, куда велено. Там ему налили в большую миску малороссийского борща, выдали огромную ложку и, по особому приказанию княгини, вместо салфетки — полотенце, чтобы прикрыло и грудь, и колени. Варвару Васильевну иногда неопрятность Косолапого Жанно развлекала, но бывали дни, что она принималась буянить и кричать, припоминая, во сколько обошлись новые панталоны. Закусок на стол повар не поставил, да Косолапый Жанно не обиделся — на кой ему эти полупрозрачные ломтики ветчины, брусочки сыра, блюдечки с оливками и прочая дребедень? На кой бутылка цимлянского из личных запасов князя? Вот преогромная миска настоящей еды, а если попросить повара Трофима, то он проделает трюк, от которого борщ станет подлинно малороссийским, — плеснет туда водки. И будет Косолапому Жанно праздник. А не то что однажды вышло с икрой — ее подали в большой икорнице на льду, да столько, что можно было есть ложкой, как кашу. Ложка за ложкой, двух фунтов деликатеса как не бывало, но к лакомке привязалась икота, три дня не мог ее избыть. Нет уж, телячья похлебка или щи с печенью — надежнее! Терентий заглянул на поварню в самую неподходящую минуту — Трофим стоял в величественной позе богини Фемиды, только вместо весов в руке его был штоф, и он наклонял эту зеленую граненую бутыль так, чтобы вытекло определенное количество жидкости и не более. Для улучшения вкуса требовалось около чарки. Терентий сразу сообразил, что это за жидкость льется в миску с борщом, но вывод сделал неожиданный: это что ж получается, подлый Трофим прикармливает моего недоросля? Глядишь, и получит за водку не менее гривенника, а отчего?! Разве у него, Терентия, не припрятан точно такой же штоф? Ведь то, что происходит сейчас на поварне — даже не простая кража, а двойная! Во-первых, Трофим без спросу расходует барское добро. Во-вторых, он прямо-таки вынимает из Терентьева кармана гривенник! Ссориться с поваром на глазах у Косолапого Жанно Терентий не стал, а сплел интригу. Он отыскал казачка Гришку и через него донес всесильной няне Кузьминишне: душа горит, не могу молчать, повар Трофим водку барскому любимчику льет прямо стаканами! Пришлось пообещать казачку за содействие свою колоду карт, сильно обтрепанную, но полную, и Терентий даже расстроился, до чего корыстолюбивым растет нонешнее поколение. Но, с другой стороны, он порадовался, что в корне пресек Трофимовы поползновения на свою собственность. Разумеется, подопечный об этих маневрах и не подозревал. Подопечный съел на поварне все, что выставил на стол Трофим, и понял, что встать не сможет, а вот прямо сейчас заснет, уложив крупную голову меж пустых мисок. И одна лишь мысль несколько взбодрила его: такова, видать, судьба русской словесности — смолоду буянить и писать сатиры на пустой желудок, а в зрелые годы обосноваться на чужой кухне, взять хоть для примера Сашку Клушина… Дотащившись до канцелярии, Косолапый Жанно сел в кресло, усмехнулся стопке конвертов с печатями и, откинувшись назад, мирно задремал. Два часа спустя его все же разбудили, он немного покомандовал подчиненными, а потом от князя прислали сказать, что на сегодня все свободны. Стоило выйти из канцелярии, прислали от княгини — просит-де заглянуть к ней в кабинет. Пришлось идти. Маликульмульк полагал, что зовут из-за графини де Гаше. Но первый же вопрос Варвары Васильевны его ошарашил: — Иван Андреич, я, сам знаешь, не скупа, но за пьянство по головке не поглажу. Скажи прямо, сколько ты в обед выпил водки? — Да не пил вовсе, ваше сиятельство. — Иван Андреич, мне приходится знать, что делается не только в девичьей, но и в канцелярии, и еще бог весть где. Князь за всем следить не станет, а я вот прослежу. Ты сегодня, придя после обеда, не трудиться изволил, а спать. Для того ли тебе должность дали? Чарка перед обедом, она всякому полагается, но столько выпить, чтобы в присутствии захрапеть — это уж безобразие! Княгиня была не на шутку сердита. А о ее норове Маликульмульк знал не по слухам и сплетням. Если эта преданная жена и любящая мать осерчает — тут и фарфор об стенку, и оплеухи, и крик на весь дом. В пьянстве его еще никто не обвинял. Поесть — да, любил, выкурить трубочку — охотно, а хмельные напитки его не очень радовали. Смолоду, конечно, все перепробовал — ну, так смолоду и в уборных комнатах театральных девок всякими глупостями занимался. Теперь того господина Крылова, что мог и выпить, и напроказить, и потом круглосуточно писать, забывая даже о еде, больше нет в природе. Есть другой человек, унаследовавший его паспорт и некоторые обязательства, но не унаследовавший гордости, да и какой с нее прок?.. Зато подвластный внезапным приступам страха. А проявляется этот страх — стыдно сказать, как. Тело не желает повиноваться рассудку и вдруг перестает удерживать в себе влагу. Это уже случалось, и в самых неподходящих обстоятельствах, когда от благосклонности или злости лиц, власть имущих, зависела судьба господина Крылова. И вот — опять! Хотя ведь сущая ерунда, чарка водки!.. Маликульмульк с неожиданной быстротой покинул кабинет княгини, пробежал через гостиную, остановился в коридоре, прислушался к позывам тела… кажись, обошлось… Да, он боялся лишиться дома, где служит наемным музыкантом, а обед свой, опоздав к столу, получает на поварне. Все именно так — да, его здесь по-своему любят… вот так и любят… Вдруг в дверях гостиной появилась Тараторка. Вид у нее, как всегда, был немного взъерошенный — она не умела гладко причесаться, постоянно из косы вылезали и топорщились волоски. Тараторка оглядела коридор и увидела крупную темную фигуру у стены. Мгновенно она очутилась рядом. — Иван Андреич! Да что ж это?! Пойдемте, пойдемте скорее к Варваре Васильевне! Вам надо все ей объяснить! Она ведь добрая, она поймет! Она только вспыльчивая! Вспылит — и успокоится! — Нет, не сейчас, потом, — только и смог ответить Маликульмульк. Это было нелепо, он не боялся Большой Игры и жаждал безумных цифр, записанных мелом на сукне карточного стола, он не боялся игроцкой компании, в которой принято убивать людей, а страх перед княгиней с ее пронзительным голосом оказался сильнее всякой философии. Тараторка ухватила его за руку и потащила к гостиной. — Так нельзя! Мало ли что сказали! — выкрикивала она. — Нужно объясниться! Маликульмульк поневоле сделал два шага и остановился. Объясняться он не желал. Да и что тут можно было сказать? Недоставало еще оправдываться!.. — Нет, Маша, не надо, не тяни меня. — Надо! Я знаю, кто на вас наговорил! Это няня Кузьминишна, я слышала. — Не могла Кузьминишна на меня наговорить, — возразил Маликульмульк, уверенный в хорошем отношении няни к своей персоне: вот ведь как радовалась и хвалила его, когда Николеньке печати приносил. — Она это! Так и сказала — пьет, мол, на поварне втихомолку, и теперь это открылось. — Какая глупость… — и вдруг он понял. Няня Кузьминишна должна была сохранять свое высокое положение при княгине, а для этого время от времени — со взволнованным видом ябедничать на дворню. Этим она показывала, что до сих пор верно и почтительно служит, радеет за хозяйское добро, а не дремлет в углу с пятью спицами и бесконечным чулком. И тут уж личные симпатии ни при чем, их просто нет более! Он едва ли не увидел перед собой картинку — княгиня в кресле, а из-за спинки кресла тянется губами к ее уху, обремененному дорогой серьгой, сгорбленная старушка. Видимо, так оно и было… Ее следует запомнить, няню-ябедницу. Она еще когда-нибудь пригодится. А сейчас… — Пойдемте скорее к Варваре Васильевне! Вам и говорить ничего не придется, она уж не сердится! Право, не сердится! — тараторила Тараторка, и Маликульмульк, внезапно утратив способность к сопротивлению, повлекся следом за ней, глядя в пол. О чем-то спрашивала княгиня (она действительно сменила гнев на милость), о чем-то толковала Кузьминишна, он же кивал; пока его не было, в кабинете что-то произошло, что — он не мог и даже не пытался понять, и потому пропускал все речи мимо себя, в пустоту. Сам же думал о главном — нужно поскорее снова увидеть Мартышку! Большая Игра и Большие Деньги! Чтобы более в Рижский замок — ни ногой…* * *
Он сам не знал, зачем идет к дому на Известковой улице. Его не приглашали. Фрау де Витте могла бы сказать слугам, что не принимает, и была бы совершенно права. Лучшее, на что он мог рассчитывать, — силуэт в окне второго этажа, если Мартышка вдруг случайно окажется у окна. А она не окажется. Что ей там делать осенним вечером? Смотреть на свое отражение в оконном стекле? Допустим, на светлом фоне обозначится темный силуэт, и что дальше? Камушки в него кидать? По Известковой улице можно было выйти к городским воротам, оттуда через эспланаду — в Петербуржский форштадт. И, сделав несколько поворотов, оказаться на Родниковой. Там уже, наверно, ужинают перед тем, как велеть горничной убрать со стола и принести все, потребное для карточной игры. И что же? Стучаться в ставни? Умолять: пустите к столу, позвольте проиграть хоть десять рублей?! Пятьдесят! Сто! Маликульмульк замедлил шаг, глядя на окна фрау де Витте. Горели только два. Видимо, гостей в этот вечер не звали и не ждали. Ну, хоть дойти до Родниковой… Мартышки там нет, если она по какой-то хитрой причине вынуждена туда пробираться тайком, то вряд ли будет лишний раз появляться на Родниковой. Но есть мопсообразная дама, есть то ли фон Дишлер, то ли фон Димшиц, одним словом — Леонард со скрипкой. Есть еще кто-то — и они играют… Может, даже заманили заезжего простака и изящно обирают его, ловко выстраивая игру — то поддадутся, то одолеют, то опять поддадутся, и золотые империалы прямо стопочками и переползают с места на место, к ним прибавляются золотые кольца, медальоны, табакерки… Ноги сами несли в этот недоступный рай. От ворот к предместью через эспланаду катил экипаж, догоняя философа. Маликульмульк посторонился, чтобы пропустить его. Но, видно, все же слишком замечтался — колесо задело его, и он не смог устоять на ногах. Лежа на сырой траве, Маликульмульк первым делом подумал: вот теперь княгиня точно его убьет — донесут ведь дворовые девки, что новенькийредингот измазан в густой дорожной грязи. Экипаж, проехав несколько, остановился, дверца распахнулась, выскочил кавалер. Свет от фонаря, прикрепленного на кузове так, чтобы освещать дорогу, до Маликульмулька почти не дотягивался, и кавалер вынужден был присесть на корточки, надеясь увидеть его лицо и убедиться, что он жив. — Простите, сударь, неловкость нашего кучера. Дайте руку, я помогу вам встать, — сказал он по-немецки. — Благодарю, — по-немецки же отвечал Маликульмульк, барахтаясь на траве. Он ухватился за протянутую руку и с некоторым трудом поднялся. — Андре, что с ним? — прозвучал женский голос из кареты. — Он цел, невредим? Дама говорила по-французски. — Вы можете идти? — осведомился кавалер. Маликульмульк потоптался на месте и по-немецки ответил, что идти, кажется, может. — Да, мадам, он не пострадал! — по-французски сказал кавалер. — На вид он из чиновников, почтенный господин. Но взять его в экипаж мы не можем — он весь в грязи. — Предложите ему сесть рядом с Пьером. Мы довезем его до дома. Надеюсь, для этого не придется сворачивать к Московскому предместью. — Сударыня, я понимаю по-французски, — сказал Маликульмульк. — Это вы?! Дама выглянула из экипажа, и Маликульмульк понял, кто это. — Сама Фортуна… — начал было он. — Да, именно Фортуна, иначе и быть не могло. Андре! Она протянула руку, кавалер тут же оказался рядом и помог ей выйти. — Вы испачкаете туфельки, промочите ноги… — забормотал Маликульмульк. — Какие мелочи! Простите нас, ради Бога! Волнение графини де Гаше было столь велико, что она схватила философа за грязные руки. — Мадам, этот господин даже не ушибся, — сказал кавалер по имени Андре. — Прошу вас, сядьте в экипаж. — Нет, я не хочу. Господин Крылов… — в голосе графини была мольба, — вы ведь не откажете мне в любезности? Вы не бросите меня? — Нет, госпожа графиня, — удачно, как ему казалось, скрыв удивление, ответил Маликульмульк. — Я прошу вас, сядьте в экипаж, — произнес кавалер таким недовольным голосом, как если бы он был мужем, собравшимся устроить супруге наедине скандал за неверность. — Вы не должны так со мной разговаривать, я вам таких прав не давала! — бойко парировала Мартышка. — Господин Крылов, пройдемте немного вперед… И, быстро взяв за руку и прижавшись к его плотному боку, прошептала: Не оставляйте меня… я в опасности… — Я вас испачкаю, сударыня, — испуганно прошептал в ответ Маликульмульк. — Это все мелочи, идемте, идемте… Маликульмульк, увлекаемый Мартышкой вперед, обернулся — и увидел лицо кавалера Андре. Редко ему случалось наблюдать на человеческой физиономии такой злобный оскал. А ведь физиономия была красивой, правильной, вот разве что волосы чересчур начесаны на лоб и на щеки, как это принято у нынешних щеголей. — Идемте скорее, он не посмеет вмешаться, — тихо и быстро говорила графиня де Гаше. — Слушайте, это очень важно… не оставляйте меня… произошла ошибка, но она разъяснится… меня обвиняют в ужасном злодеянии, и я не могу оправдаться… я догадываюсь, кто убийца, но у меня нет доказательств… но и у них нет… Умоляю, не бросайте меня… — Почему — убийца, что стряслось? — спросил Маликульмульк. — Они думают, будто это я убила господина фон Бохума… он был отравлен, и им мерещится, будто мною… а отравитель — один из них, просто я здесь чужая, за меня некому вступиться… Тут она поскользнулась и повисла на руке Маликульмулька. Философ был ошарашен превыше всякой меры: он как раз думал про исчезновение Михайлы Дивова и смерть фон Бохума, а тут вдруг такие новости! Вдруг он ощутил на своем запястье остренькие коготки — и что-то с ним сделалось неладное… «Старуха, — подумал Маликульмульк, — она же старуха, чуть помоложе княгини, да и княгиня не так стара на вид, как она, рыжие волосы не столь огненны, как в юности, приобрели очень приятный оттенок, и тело стало крупным, статным, а эта?.. Она же седая, седая и с морщинами!..» Он едва не стряхнул эту изящную мартышечью лапку. А графиня продолжала рассказывать, но так быстро, что философ, отменно владевший французским языком, довольно много слов не разобрал. — Я все объясню вам, я вынуждена скрываться… и оттуда уже в Курляндию, ко двору… как я не поняла, что там меня отыскать проще всего… если бы не этот ужасный человек, я бы… один из них — убийца, или же они в сговоре… бедный фон Бохум просил меня… они не могут мне простить… Маликульмульк по натуре был нетороплив, как положено философу, а эта женщина, сущая Мартышка, стремительна даже в сорок два года, когда пора угомониться. И это озадачивало — он к такому обращению не привык. — Госпожа графиня, если вы в затруднительном положении, я могу представить вас госпоже княгине Голицыной, и под ее защитой… — Нет, нет, это невозможно. Слушайте — сейчас мы отправимся в один дом, не покидайте меня, будьте там со мной, при вас меня не посмеют обидеть… я умоляю вас, заклинаю всем, что вам дорого… именем женщины, которую вы любите… Никто и никогда не говорил ему таких слов. Было в них что-то ненатуральное, обычно люди изъясняются попроще, но графиня, француженка, женщина утонченная, иначе высказаться, наверно, не могла. — Так вы согласны помочь мне? — спросила она. — О да, я знаю — вы согласны! Вы так же добры и благородны, как мой покойный супруг, это не шутка Фортуны, это — знак… — Но почему вы не хотите быть представленной княгине? — Потому что тогда на меня обратят внимание… Говорю же вам — я вынуждена скрываться. Дело в том, что я ради спасения своей жизни действительно убила человека, но это было много лет назад, я не имела другого выхода, меня преследовал мой враг… и, как мне теперь кажется, я была немного не в себе… иначе, как помутнением рассудка, мои поступки не объяснить… Маликульмульк вдруг понял, что с ним происходит то же самое — помутнение рассудка. Он позволил графине усадить себя на козлы наемного экипажа, рядом с кучером, которого дама называла Пьером, хотя этот Пьер явно не понимал ни слова по-французски. Насколько Маликульмульк успел узнать рижские порядки, экипажем правил член латышского братства орманов — местных извозчиков, а им языки ни к чему. Дальше было — как сон, в котором имеется своя логика, оправдывающая блуждания в самых неожиданных и мрачных местах. Экипаж катил по таким улицам Петербуржского предместья, о которых Маликульмульк и не подозревал. Это были новые улицы, едва намеченные, с пустырями и немногими домами. В Родниковую въехали с другого ее конца — она также стала новой и короткой, начинаясь от огородов. Фонарь на экипаже, качаясь за плечом у Маликульмулька, порождал пятна и полосы света, долгие черные тени, за стенкой кузова звучали невнятные голоса — графиня ссорилась с кавалером. Философу казалось, что это бредовое путешествие замкнулось в круг — как будто часть предместья накрыли темной сферой, и экипаж, оказавшись внутри, едет и едет вдоль ее края, не в силах пробиться наружу. Наконец все же приехали — так называемый Пьер, не дожидаясь приказания, остановился у перекрестка. Дверца экипажа распахнулась, выпрыгнул кавалер. Невзирая на ссору, он галантно вывел из кареты Мартышку. — Спускайтесь, сударь, — сказала она Маликульмульку. И, стоило философу ступить на землю, утвердить ноги в пятне света от фонаря, как он вновь ощутил коготки на запястье. Душа замерла, тело повлеклось куда-то, в калитку, мимо забора, сквозь какие-то кусты, потом погрузилось в ядреный запах свинарника, выплыло, перевело дух, и дальше, и дальше — почти впотьмах, повинуясь коготкам Мартышки. Вдруг он понял — это с ним уже было однажды! Когда писал свои «Ночи», невольно испытал то же возбуждение, изображая Мироброда в загадочной карете, наедине с незнакомкой. Странно все тогда вышло — он не имел намерения воспевать страсть, он, напротив, хотел посмеяться над похотью, ловко маскируя скабрезности. Кто ж из придворных не знает, что слово «барометр» означает у французов не только прибор для предсказания погоды, а кое-что иное, имеющее способность подыматься и опускаться; что слово «сердце» у них же — не только мускульный мешок в левой части груди, но и кое-что гораздо ниже, то самое, что похабник Барков называл ласковым словечком «махоня». Но там были слова, ловко подобранные и составленные, там были троеточия, означавшие, как он полагал, вздохи страсти. И не было ее подлинных примет — да и быть, кажется, не могло. Ибо он очень уж четко разграничивал любовь и разврат. Пространство любви все целиком размещалось в голове — там она имела право царить, а спускаться ниже не могла. Довольно того, что у всей северной столицы любовью называется торжество плотских страстей. Их, пожалуй, нужно было узнать, испытать, но для того, чтобы сказать им: голубушки, знайте свое место! И даже брак, законный брак, тоже внушал ему некоторое сомнение — не потому ли все разладилось с любимой Анютой? — Сюда, сюда, — шептала почти незримая маленькая женщина. — Вот тут осторожнее… Маликульмульк уже понял, куда его ведут, — в дом с голубыми ставнями на Родниковой. Ведут сквозь квартал, и ясно, что графиня де Гаше со своим кавалером пробирается тут не впервые. — Тут ступеньки, — предупредила графиня. — Входите… Кавалер Андре отворил им дверь, Маликульмульк вслед за дамой попал в маленькие темные сени. Он увидел прямоугольник из светящихся полос — дверь, ведущую в жилые помещения. За ней звучали голоса: по-немецки обсуждались преимущество сосисок-«винеров» перед сосисками-«франкфуртерами». Жизнерадостный мужчина утверждал, что лучшая в мире сосиска — это порядочный окорок. — Прошу вас, — сказал кавалер Андре. И Маликульмульк вслед за Мартышкой вошел в комнату, которая была убрана как гостиная, хотя и без роскоши: мебель сборная, с лесу по сосенке, ни бронз, ни картин, на столе двусвечник. Там находились трое. На диванчике расположилась мопсовидная дама, рядом с ней — то ли фон Дишлер, то ли фон Димшиц, мужчина с профилем, как на плохой французской гравюре, и действительно с двойными мешками под глазами, а за столом сидел господин лет сорока с очень почтенной внешностью, хоть сейчас на театр, играть какого-нибудь благородного Стародума или Правдолюба. Видимо, это был пятый из игроцкой компании, погубившей фон Бохума, — Иоганн Мей. Тут же находилась горничная — невысокая, ширококостная, смуглая, метнувшая на гостей такой взгляд исподлобья, что сразу стало ясно: весь мир ей осточертел. Увидев Маликульмулька, игроки встревожились. — Андреас, что это значит? — по-немецки спросил Мей. — Спросите у госпожи графини. Она отказалась ехать сюда без своего нового поклонника, — по-немецки же ответил кавалер Андре. — Что мне еще оставалось? — Снимите, сударь, свой редингот, отдайте Мариэтте, она почистит, — велела Мартышка, и Маликульмульк охотно повиновался. — Я знаю этого господина, — сказала Эмилия фон Ливен. — Прежде, чем звать его в гости, госпожа графиня могла бы поинтересоваться, что за розыски он устраивает на этой улице. — Да, мне тоже хотелось бы знать, зачем он подсылал к нам сумасшедшую старуху, — добавил фон Димшиц. — Мариэтта, где мой отвар? Я полчаса его жду. — Так это был он? — немного удивившись, спросил кавалер Андре. Горничная, буркнув что-то себе под нос, вышла и унесла редингот. — О том, что господин Крылов делал на этой улице, мы с графиней знаем, — продолжал кавалер Андре. — Это относится к его служебным делам и нас не касается. Он собирал сведения о нашем соседе, том сварливом старике, и его семействе. — И для этого представился мне чужим именем? Для этого подсылал старуху? — мопсовидная Эмилия сейчас действительно напоминала брехливую собачонку. — Видимо, он очень рассеянный господин, если так ошибся адресом!.. — Перестаньте, Эмилия, — приказала графиня. — Господин Крылов полагал, будто невестка старого бригадира состоит в связи с Андре. Не так ли, Андре? — Похоже, что так, — сразу подхватил он. — Правду сказать, у него были основания так думать — меня не раз можно было видеть поздним вечером у той калитки беседующим с девицей, которую со стороны улицы разглядеть невозможно. — И это была Дивова? — не поверила Эмилия. — Нет, это была ее хорошенькая соседка. Что поделать, сударыня, раз ваше сердце отдано другому? Не век же мне ходить безутешным! — пояснил кавалер Андре с изрядной издевкой. — Разве ваша утешительница уже дала вам отставку? — не менее ехидно полюбопытствовала мопсообразная Эмилия. — Чем же вы ей не угодили? Маликульмульк молча слушал эту перепалку. Она была бы забавна — если бы не слова, которые прошептала Мартышка на эспланаде. Эти люди обвиняли ее в убийстве фон Бохума, а меж тем убил кто-то из них. И Маликульмульку казалось, что более прочих на роль злодейки подходит Эмилия фон Ливен. — У вас, милая Эмилия, одно на уме, — вступилась за кавалера Мартышка. — Амуры мерещатся вам в каждом темном уголке — может быть, пора наконец выйти замуж и угомониться? Это был сильный удар. Даже философ Маликульмульк, имевший о дамах совершенно театральное понятие, понял — женщины таких не прощают. — Хватит, мои драгоценные, — вмешался благообразный господин Мей. — Мы не для того тут собрались. И то, что среди нас — начальник канцелярии князя Голицына, возможно, пойдет на пользу делу. Садитесь, Андреас. И вы также, господин Крылов. — Мне вы сесть не предлагаете? — возмутилась Мартышка. — Вы, кажется, затеяли какой-то гнусный суд. Судьям положено сидеть, а жертве — стоять? Андре, мой друг, и вы… — Я не могу быть вашим другом после этой находки, — пробормотал кавалер, указывая на стол. Там возле двусвечника, в тени сахарницы, лежала бутылочка из желтого металла, возможно золотая, с ушком — чтобы продергивать шнурок или цепочку. Длиной она была поменее вершка. — Ax, вот оно что! — воскликнула, вглядевшись, графиня. — Как это сюда попало? — Вы по рассеянности выронили свое сокровище, когда одевались, и Мариэтта нашла его под моей постелью. Разумеется, она спросила меня, что это и куда это положить, — сказала Эмилия фон Ливен. — Как жаль, что вы не попробовали этот порошок! — ответила Мартышка. — Это превосходное слабительное средство. Но вот беда — я в последнее время им не пользовалась, и оно лежало в глубине моего баула. Выпасть оттуда и закатиться под вашу постель флакон не мог! Мариэтта! Мариэтта! Вошла горничная с подносом и, словно не слыша окликов хозяйки, понесла питье к дивану — туда, где ждал фон Димшиц. — Не кричите, — сказал Мей. — Это только в России есть крепостные слуги, которых можно наказывать. Мариэтта — свободная девица из Нормандии и может в любую минуту вас оставить. — Слабительное, говорите? — переспросил фон Димшиц уже со стаканом в руке. — Я немного разбираюсь в лекарствах. Ни один целебный порошок не действует мгновенно. Выпейте несколько гранов, госпожа графиня. Если это яд — он окажет себя сразу. Если слабительное — вы еще успеете сыграть с нами несколько партий в белот. — Если вы подкупили Мариэтту, чтобы она обыскала мой баул, то могли и заменить порошок на отраву! — возразила Мартышка. — Тем более что у одного из вас эта отрава есть. И я догадываюсь, кто именно отравил несчастного фон Бохума и подкупил мою Мариэтту! Вы хотите, чтобы я сама, добровольно, выпила яд? Этого не будет! Маликульмульк все молчал. — Видите, господин Крылов? Это — то, о чем я вам говорила, — сказала Мартышка, вновь коснувшись его руки. — Доказательство нашлось! И у меня теперь два выхода! Или я глотаю содержимое флакона и умираю в страшных мучениях, или эти господа окончательно убедятся в том, что я убийца, и выдадут меня полиции… все, включая господина Андре! Который обманом заманил меня сюда, на этот гнусный суд! — Я долго не верил, сударыня, но этот флакон, найденный утром, убедил меня, — сказал кавалер. — Луиза, я устал от вашей лжи, вы ведь на каждом шагу лжете! Я больше ничего не могу для вас сделать… И все, хватит. — Вы все знаете, в чем я на самом деле виновна! — закричала Мартышка. — И вы подстроите так, что меня обвинят в смерти этого бедного безумца, Мишеля Дивова! Так вы избавитесь от меня, а ведь я вам ничего плохого не сделала! — С вашим появлением начались неудачи! — возразил Мей. — Вы приносите одно лишь зло! До вас наша академия процветала! Стоило вам появиться — так беда за бедой! Маликульмульк невольно улыбнулся. Он не ошибся, он действительно отыскал в Риге «карточную академию», не просто компанию любителей, а шайку игроков, для которых карты были ремеслом. Сейчас последние сомнения пропали. — Дьявол привел вас к нам, — добавила Эмилия, как тявкнула. — Дьявол! И пусть он вас забирает обратно! Да поскорее! — Господин Крылов, если бы не вы, эти люди уничтожили бы меня, избили бы, насильно всыпали мне в рот отраву! — без всякого стеснения вскричала Мартышка так, словно былых приятелей здесь и не было. — Я прошу вас, уведите меня отсюда! — Господин Крылов, единственное место, куда бы эту даму стоило вести, — управа благочиния. Пусть наконец прояснится дело об исчезновении господина Дивова. А заодно господа полицейские разберутся, чего этой даме нужно от вдовы Дивова, ради которой она здесь поселилась, — сказал фон Димшиц. — Господин Крылов, они пытаются изобразить меня гнусной убийцей, погубившей мужа и посягающей на несчастную жену. Но можете ли вы понять, что женщине моего звания нужна дама, чтобы ее сопровождать и немного о ней заботиться? Я не знаю немецкого, я не могу нанять здешнюю немку, а госпожа Дивова превосходно знает французский, и она сейчас в стесненных обстоятельствах… — По вашей милости, — вставил Мей. — По вашей милости! Не вас ли я просила пощадить Мишеля и не принуждать его подписывать векселя? Андре, вам ведь все известно! Вы были мне таким надежным другом, Андре — и вы позволили обмануть себя?.. Я незлопамятна — я знаю, как много вы сделали для меня… И моя привязанность к вам… — Я подозревал, что вы отравили фон Бохума, а теперь мне предъявили доказательство, — сказал кавалер. — Да зачем же мне убивать человека, который не сделал мне ничего дурного? Я знала его примерно столько же, сколько и вы, — неделю, одну неделю. И не меня ведь он обыграл, не я же завела ту рискованную игру, не я лишилась за ночь полутора тысяч золотых! Я единственная проиграла ему всего двадцать монет. — Он выиграл из-за вашей неосторожности, — сердито напомнил кавалер. — Ничуть, я тут ни при чем! Я предупреждала вас, что этот человек опасен! — Предупреждали! Но откуда вы могли знать, что он опасен? — спросил Мей. — Может быть, только мы его увидели в «Иерусалиме» впервые в жизни, а вы знали его прежде? И имели основания отправить его на тот свет? — Клянусь, я не знала этого человека! — воскликнула графиня и перекрестилась. — Велика ли цена вашим клятвам, сударыня? — спросила Эмилия. — Никто из нас не имел оснований его убивать. Проигранные деньги — всего лишь деньги! Пусть он обыграл нас, используя приемы, ну и что? Дня через два, через три мы бы отыграли свои деньги да еще взяли бы его в свою академию — я верно говорю, Леонард? Маликульмульк заметил, что фон Димшиц, попивавший свой отвар, очень мало участвовал в склоке. Он разве что подтвердил слова мопсовидной Эмилии, покивав и невнятно хмыкнув. — Он бы не стал ждать двух дней, и вы это поняли! Он уехал бы с вашими деньгами сперва в Ригу, потом дальше, и исчез навсегда! Каким дураком нужно быть, чтобы не понять этого? — и тут Мартышка повернулась к Маликульмульку. — Господин Крылов, если бы не история с Дивовым, я бы сама пошла в полицию и донесла на них! Но они понимали, что я не могу этого сделать. — Господин Крылов, вы еще не знаете, на что способна эта женщина, — предупредил Мей. — Когда она сошлась с нашей маленькой и даже временами дружной компанией, то казалась ангелом. Как вы полагаете, что нас познакомило и свело вместе? — Карты, — прямо ответил Маликульмульк. — Мы не ангелы, господин Крылов, — сказал далее Мей, и в переводе с французского сие означало «мы карточные шулера». — Мы позволяем себе кое-какие вольности. Видя, что графиня де Гаше — дама небогатая, мы с ней особых вольностей себе не позволяли. Видите ли, она из тех дам, которые могут служить украшением маленького общества. Она жила в Париже и многое может порассказать о Франции, о ее бедах, к тому же графиня — дама образованная, знает английский язык, читает книги и даже газеты. И это Маликульмульку тоже было понятно — проще всего взять в компанию молодую красотку, но умный человек скорее остережется бывать там, где одновременно с игрой явно предлагаются на продажу женские прелести. А немолодая разговорчивая француженка, которая носит титул графини, своим присутствием превратит игроцкую компанию в аристократическое общество, где картами лишь развлекаются, но не живут за их счет. — Значит, вы полагаете, что покойный фон Бохум что-то знал о прошлом графини, и потому она его отравила? — спросил Маликульмульк. — Именно так и было, — согласился Мей. — Я рад, что вы это поняли. — Но если это не так, то кто из вас имел более оснований отравить фон Бохума? Можно ли быть уверенным, что никто из вас, господа, не знавал его в прошлом и не имел с ним ссоры? Все вы люди в годах, все вы не здешние жители — может быть, этот фон Бохум был опасен не для графини, а для кого-то другого? — вопрос этот Маликульмульк адресовал главным образом Эмилии фон Ливен. — Откуда он вообще взялся? Этот вопрос явно застал компанию врасплох. Да и странно было бы, если бы один шулер, приехав в чужой для себя город, предъявил другим шулерам свою подорожную. — В «Иерусалим» он, как я поняла, приехал из Митавы, — первой ответила Мартышка. — Это правда, я сама там жила и бывала при дворе, а он называл подробности, имена. Но он в Митаве прожил совсем недолго и отправился завоевывать Ригу. Кто-то ему присоветовал начать с «Иерусалима» — там можно завязать полезные знакомства. В устах дамы, пособницы шулеров, это означало: «встретить простаков с деньгами». — Это он сказал вам, сударыня? — уточнил Маликульмульк. — Да, при господине фон Гомберге, — графиня указала на кавалера Андре. — А в Митаву откуда прибыл? — Возможно, из Польши, — неуверенно сказала Мартышка, скорчив озадаченную рожицу. — Или, что также вероятно, из Дании, приплыв морем в Либаву. — А вам, господа, фон Бохум рассказывал о своих странствиях? — Он побывал в Париже! — воскликнула Эмилия. — Он сам мне об этом говорил! Он там побывал давно, еще до бунта, до казни короля!.. Вот где он мог видеть эту госпожу! — Это ложь! — тут же возразила Мартышка. — Если бы он жил в Париже, он, прежде всего, рассказал бы об этом мне! — Точно ли этот господин был профессором карточной академии? — с сим вопросом Маликульмульк обратился к Мею. — Точно, сударь. Ловкость рук поразительная. Маликульмульк не имел никого намерения распутывать эту неприятную историю. Но вопросы сами рождались в голове, и он видел, что эти вопросы игроцкой компании необходимы. — И как же вышло, что вы познакомились с покойным? — Леонард, — Мей повернулся к товарищу по карточному промыслу. — Это ведь с вами он заговорил возле «Иерусалима»? — Боюсь, что так. Я совершал утренний моцион, мне после завтрака необходимо гулять полчаса для пищеварения. Гулять неторопливо, — зачем-то подчеркнул игрок. — Я вышел на берег пруда и прохаживался по Алтоне, размышляя о судьбе несчастного Дивова… пищеварению такие мысли не способствуют, но стоит мне взглянуть на пруд — я невольно вспоминаю этого человека… — Что же произошло с Дивовым? — наконец спросил Маликульмульк. — Он застрелился, — равнодушно произнес фон Димшиц. — Давайте наконец назовем вещи своими именами. Я вижу, что сегодня без этого не обойтись. — Точно ли застрелился? — Точно. Несколько человек это видели. Вот тут Маликульмульк прямо рот приоткрыл от изумления. — Отчего же в полиции об этом не знают? Ведь госпожа Дивова считает, что ее муж жив! — Оттого, что тогда пришлось бы рассказать про обстоятельства его смерти, — вмешался Мей. — Он был игрок отчаянный, но бестолковый. Он проиграл все, что мог, мы сами уже отговаривали его продолжать игру — ясно же было, что добром все это не кончится. А вот эта госпожа, как я теперь догадываюсь, наоборот — подбивала его отыгрываться! Как человек воспитанный, Мей указал на графиню не пальцем, а косым взглядом. — Каким образом вы до этого додумались? — холодно спросила графиня. — Не вы ли, сударыня, бродили с ним часами над прудом? А после этих трогательных прогулок он садился с нами за стол и готов был играть сутки напролет! Или вы научили его отыгрываться, когда он навещал вас в вашей комнате? — Это уже какой-то гнусный намек, — брезгливо сказала графиня. — Но что же молодой человек делал в вашей комнате до пяти часов утра? Я своими глазами видела, как он выходил оттуда! И было это за два или за три дня до его смерти! — торжествующе воскликнула Эмилия. — Но что вы, сударыня, делали в пять часов утра под моей дверью?! Мужчины невольно расхохотались, один фон Димшиц нахмурился. Маликульмульк просто не мог удержаться от смеха — этот ответ так и просился в комедию. Но он же и успокоился первым. Реплика Мартышки осталась без ответа — да и какой тут мог быть ответ? Эмилия фон Ливен невзлюбила француженку и следила за ней просто так, а вдруг выплывет на свет нечто важное? Видимо, точно так же следит за Косолапым Жанно голицынская дворня — а вдруг? Вот и сделали из чарки водки в борще не меньше чем ведро. Фон Димшиц был недоволен — его подруга поставила себя в неловкое положение. По-русски сие называется — рвение не по разуму. А кавалер Андре хохотал совершенно беззаботно — ни обиды, ни злорадства, ни ревности не было в этом смехе; счастливый хохот зрителя, как в Молиеровом «Амфитрионе», когда начинается путаница с двойниками. Маликульмульк оглядел еще раз игроцкую компанию — аристократический смех Мея; белозубая пасть до ушей, которая на мгновение затмила всю очаровательность физиономии кавалера; сдвинутые бровки возмущенной Эмилии (на лбу обозначились складки точь-в-точь как у мопса); лицо Мартышки — тонкая улыбка, хитрый прищур. Чтобы увидеть это лицо, ему пришлось повернуться всем телом, и он встретил взгляд этой диковинной женщины. Ему редко приходилось смотреть прямо в глаза дамам — разве что в голицынской гостиной, когда княгиня затевала там светскую жизнь. Но что это были за дамы? Так, приятельницы, неспособные вызвать мало-мальски значительное волнение в крови. Да и у кого — у Косолапого Жанно, который оживлялся лишь при виде накрытого стола? Даже не собеседницы, а так, свита княгини, терпеть которую — одна из статей негласного договора. Но у этой и взгляд был — как коготок. Царапнул и исчез, еще куда-то перескочил. Мысль, порожденная этим взглядом, словно бы не в голове Маликульмулька образовалась: да сколько же у нее, у Мартышки, было мужчин? Десять лет назад философ вовсю насмехался над престарелыми кокетками и их жадными до денег любовниками. В идеальном мире, который образовался бы, если бы некая сила воплотила в жизнь Маликульмульковы протесты и отрицания, женщина имела бы право на нежные чувства в возрасте не старше двадцати лет. И то — те нежные чувства, которые могут быть выражены в присутствии родственников и при свете дня. А сейчас, извольте радоваться! Смущен взором престарелой — седой! — кокетки. Смущен тем, что должно вызывать отвращение. Да и будь она молода — так ведь некрасива. Двадцать лет назад рот ее не был меньше, разве что она умела держать соблазнительную полуулыбку уголками вверх, а теперь такими гримасами себя не обременяет. Теперь она — воистину Мартышка, физиономия которой постоянно меняется. — В мои годы кавалеры засиживаются со мной вечером не ради моих прелестей, а чтобы пожаловаться на жизнь, — сказала наконец Мартышка, и это адресовалось Маликульмульку. — Дивов любил свою жену и много мне про нее рассказывал. Конечно, эта госпожа не поверит. Она убеждена, что женщина, оставшись наедине с мужчиной, тут же на него набрасывается… может быть, по собственному опыту?.. — Разве может мой опыт по части мужчин сравниться с вашим? — кое-как взяв себя в руки, парировала Эмилия. — Ну конечно, ведь вы незамужняя девица. Так вот, господин Крылов, — продолжала графиня де Гаше. — Этот несчастный угрожал, что в случае проигрыша застрелится, и показывал мне пистолет, который таскал с собой. Я его отговаривала, даже пыталась отнять пистолет. Господин Мей действительно уже не хотел больше играть с Дивовым, но не из милосердия — просто он портил игру. В «Иерусалим» приезжали поиграть почтенные господа, и каково им было бы видеть безумца, который слоняется вокруг карточного стола с пистолетом? — Это верно, — подтвердил Мей. — У нас, вообразите себе, тоже есть репутация. Если бы в Риге стало известно, что человек, игравший с нами, застрелился, это отпугнуло бы решительно всех. Вот почему, когда Дивов покончил с собой, мы решили скрыть это. — И где же тело? — В пруду. Госпожа графиня зашла вместе с ним туда, где в пруд впадает речка, это на самом краю Алтоны. Там это и произошло. Я сам слышал выстрел. Я как раз стоял на берегу и разговаривал с мальчиком-рыболовом. — Я побежала в «Иерусалим», а Андре остался на берегу вместе со слугой Дивова. По дороге я встретила господина Мея, и мы вместе решили, что от тела нужно избавиться. Пусть люди думают, будто он не желал платить карточных долгов и убежал, — сказала Мартышка. — Убежал вместе со своим слугой. Мы даже совершили благородный поступок, да! — У Эмилии был вексель, выданный Дивовым. Мы отправили его старому Дивову с припиской, что не желаем воспользоваться его бедственным состоянием, — разъяснил Мей. — По-моему, это действительно благородно. И сообщили также, что Дивов, поняв свое положение, покинул Ригу в неизвестном направлении, — так, чтобы родные его не искали. «Да, после того, как Дивов проиграл вам все свое имущество и вынужден был заложить дом, это на редкость благородно», — подумал Маликульмульк. Впрочем, для тех, кто кормится картами, такой поступок — великая редкость. — Так вот, вернемся к госпоже графине. Мы считаем, что она могла удержать бедного Дивова от самоубийства, — сказал Мей. — Она имела на него особое влияние. Эмилия, помолчите, ради Бога, амуры тут ни при чем. Сейчас я вижу, что мы напрасно сжалились над ней. Если бы госпожа графиня попала в управу благочиния и должна была бы объяснять полицейским, как погиб Дивов, это бы… хм, скажем так: это бы нас от нее избавило. Да, нам бы пришлось покинуть «Иерусалим», временно отказаться от светского образа жизни, но потом мы восстановили бы прежние знакомства, завели новые… И не дошло бы до отравления! — Значит, свидетелями самоубийства были трое? Госпожа де Гаше, господин фон Гомберг и слуга покойного? — уточнил Маликульмульк. — Именно так, — подтвердил Мей и застыл с приветливой полуулыбкой, в красивой позе, хоть сейчас в Версаль. Маликульмульк посмотрел на игрока с некоторой завистью — тот был вышколен превосходно и умел говорить про убийство с такой небрежной элегантностью, словно бы речь шла о перемене погоды. Нетрудно было вообразить, как он умеет сразу вызвать симпатию у намеченного в жертвы простака. — Господин Крылов, из этих троих свидетелей господин фон Гомберг уже не на моей стороне. Видите — он исполнил просьбу Мея и привез меня сюда насильно, выманив из дома, где я… где меня… — А слуга господина Дивова? — Слуга сбежал, — ответил Андре. — Он крепостной, а все крепостные только и думают, как бы сбежать. Скорее всего, он в порту уговорился с матросами, и я не удивлюсь, если он уже в Америке. Что касается меня, то я… я не совсем свидетель. Если дойдет до беседы с полицейскими сыщиками, я скажу то, что было на самом деле: мы пошли к дальнему концу пруда втроем в сопровождении этого дивовского слуги. Дивов был недоволен моим присутствием, он хотел говорить с госпожой графиней наедине, и я отстал. Я даже ненадолго потерял их из виду, и вдруг услышал крик госпожи графини и сразу за этим криком прозвучал выстрел. — Теперь вам ясно? — спросила Мартышка. — Все против меня! О том, что у меня не было ни малейшей причины убивать бедного молодого человека, никто не говорит! О том, что не было причины подсыпать яд фон Бохуму, тоже молчат! А у господина Мея такая причина была! Вы спросите этих господ, куда делись деньги, которые выиграл у них фон Бохум? — И куда же делись эти деньги? — послушно повторил Маликульмульк. — Об этом лучше спросить госпожу графиню, — первой сказала Эмилия. — Это же она отпаивала умирающего каким-то снадобьем и оставалась с ним наедине. Хотела бы я знать, что было в той кружке! — Вы бы все равно не поняли, что это. Составлять противоядия меня выучил господин Калиостро! — высокомерно ответила Мартышка. — Но было ли ваше средство противоядием? — спросил Мей. — Как это теперь проверить, господа? — Проверить могу я. Мой друг Давид Иероним Гриндель — известный химик. Если госпожа графиня даст мне это противоядие или хотя бы рецепт, я пойду к Гринделю, и он скажет правду, — объявил Маликульмульк. — Но я сделаю это лишь завтра днем. А когда он даст ответ — тоже неизвестно. — Не торопитесь беспокоить Гринделя, — вмешался фон Димшиц. — Я сам могу написать вам превеликое множество рецептов, моя злосчастная болезнь сделала меня опытным аптекарем. Но откуда мы знаем, что именно было в той кружке, из которой графиня поила фон Бохума? — Вот видите! — воскликнула Мартышка. — Все, все против меня! Я же предупреждала вас! Если бы не вы — они заставили бы меня выпить яд, а мое тело вывезли и бросили в реку! Кто бы стал меня искать? Маликульмульк посмотрел на игроков — на невозмутимого Мея, на страдальца фон Димшица, растиравшего себе живот, на вдруг подобравшуюся и сжавшую кулаки Эмилию, на кавалера Андре… этот отвернулся и повесил голову… Похоже, Мартышка была права. — Значит, во флаконе — яд… — задумчиво произнес Маликульмульк. — А отдайте-ка вы его мне. Так будет разумнее. — После чего мы никогда не увидим ни флакона, ни яда! — выкрикнула Эмилия. — Нет, Леонард, Иоганн, нет, нельзя отдавать ему флакон! Она же обведет его вокруг пальца! Вы что, не понимаете?! — Эмилия права, госпожа графиня уж придумает, как выманить этот флакон, — согласился с подругой фон Димшиц. — Да на что он мне? Я же не собираюсь никого убивать! А кому-то из вас он нужен! Неужели вам, Эмилия? — спросила Мартышка. — Вы поместили туда все свои запасы отравы? — Да будь ты проклята! — не выдержала Эмилия. — И новой негде взять? — В самом деле, господин Крылов, заберите эту мерзость, и пусть она хранится у вас, — сказал Мей. — Лично мне отрава не нужна. И в полицию мы, сами понимаете, не пойдем. Если нас покинут разом госпожа де Гаше и флакон, я буду только рад. — Эмилия права, эта чертовка найдет способ вернуть себе флакон, — возразил фон Димшиц. — Умнее всего было бы выбросить его в реку. — Коли угодно, я выброшу его в городской ров, — предложил Маликульмульк. — Когда буду возвращаться в крепость. — Если вы дадите слово, что флакон попадет в ров, — вдруг сказал фон Гомберг. — А что значит слово? Он же один отсюда не уйдет! Он заберет с собой эту тварь. А она вытащит у него флакон — он и не заметит! — воскликнула Эмилия. Маликульмульк мысленно поблагодарил ее — действительно нужно увести отсюда Мартышку. Иначе этот несуразный ночной спор добром не кончится. И тут его осенило. — Послушайте, господа! Я вижу, двое из вас за то, чтобы я забрал флакон, а двое — против. Так давайте разыграем его, ну хоть в фараон! И это действительно будет воля Божья — если я сам стасую колоду. В этот миг все переменилось. Как будто Маликульмульк сам себе протер глаза краем звездной епанчи… Комната, освещенная лишь двумя свечами, исчезла, растворилась, ее не стало. Не только дальние углы, но и стена, у которой стоял Андре, и спинки стульев, и оконное стекло — все сгинуло. Остался стол и пространство на нем, куда метать карты. Засветился золотым блеском флакон с ядом. И преобразились лица. Только что Мей блистал невозмутимостью, фон Димшиц изображал страдание, Эмилия даже не пыталась скрыть злость, Андре — загадочную растерянность. И вдруг они сделались одинаковы — как будто спали, погрузившись в дурной сон, и вдруг их разбудили, освободили. В глазах у игроков вспыхнул тот хищный восторг, который был хорошо знаком Маликульмульку. Не раз он видел эту то ли ярость, то ли радость — черта с два поймешь — у людей, решившихся поставить на карту все. Видимо, он и сам был таков, только ни разу не догадался, приступая к карточному столу, поглядеть на себя в зеркало, глаза в глаза. А ему-то казалось, что для здешних немцев, будь они хоть какие гениальные шулера, игра — всего лишь ремесло… В преображенном мире вспыхнули искры: золотые нити в головной повязке Эмилии, полускрытой завитыми букольками, золотые точки на пуговицах Мея… — Итак? — спросил Маликульмульк. — Ну что ж, — первым ответил фон Димшиц, заметно оживившись. — Это решение мне по вкусу. — Вот колоды, — Эмилия взяла с подоконника большую шкатулку. — Так фараон или штосс? — задал важный вопрос Мей. В фараон они могли играть вчетвером, а для штосса нужны два партнера. Когда мечут банк, важно умение правильно распорядиться ставками, вовремя удваивать, верно выбрать количество карт, выставленных понтером, и часто важнее расчета оказывается догадка. Но ставка была всего одна, и потому Маликульмульк согласился: именно штосс. Эмилия подала две запечатанные колоды. Это Маликульмульку понравилось — значит, тут играют красиво и по правилам. — Так кто же из вас, господа? — Я, — ответил Мей. — Приступим, коли угодно? Они одновременно подошли к столу, разом сели на стулья, одинаковым движением сорвали бумажные ленточки с колод, стали прокидывать карты, глядя друг на друга, отчего и это простое действие тоже выполнили, словно один из них вдруг стал отражением другого. Маликульмульк скосил глаза на графиню де Гаше. Она стояла у левого плеча Мея и улыбнулась философу очень ласково и одобрительно. Улыбка говорила: я верю, что ради меня вы одолеете всех! — Кто мечет? — спросил Мей. — Коли угодно, я понтирую, — отвечал Маликульмульк, ощущая подлинный восторг от шелковистости и упругости новеньких карт. Затем он достал из колоды карту и, не показывая ее Мею, положил на скатерть лицом вниз. — Извольте подрезать, — предложил Мей, протягивая ему свою колоду. — Извольте. Отложенной картой Маликульмульк разделил колоду Мея пополам, тот поменял половины местами. Торжественный ритуал был исполнен, начиналась игра. Золотой флакон лежал у подсвечника — так, чтобы победитель сразу мог взять его. Маликульмульк внимательно следил за руками Мея, он хотел определить степень ловкости человека, с которым еще предстоит садиться за один стол. Мей перевернул колоду лицом вверх и сдвинул верхнюю карту вправо. Маликульмульк увидел: первая, лоб — червовая дама, а вторая, соник, шестерка трефей. Ни то, ни другое в дело не шло — Маликульмульк поставил на пикового короля и всем его показал. Первый абцуг оказался безрезультатным. Мей открыл третью и четвертую карты — девятка и десятка пик. Он поморщился — колода оказалась прокинута небрежно, это еще не позор, но уже — пятнышко на репутации банкомета. И второй абцуг никому не принес выигрыша. И третий. И четвертый. А вот пятый оказался роковым. Нечетной, правой для банкомета картой в нем был трефовый король. Если бы пиковый — это означало бы победу банкомета, и Маликульмульк, не разглядев сразу фигуру, встревоженно потянулся к ней. Мей любезно поднес ему карты поближе. — Я принесу еще пару свеч, — сказала Эмилия. Все это случилось одновременно — движение Мея, слова Эмилии и появление над столом стремительной руки. Она возникла и пропала. Вскрикнула Эмилия, отлетев в сторону. Загремел падающий стул. Отчаянно заскрипела дверь. И все. — Чертова баба! — по-русски воскликнул Андре и кинулся следом за исчезнувшей графиней де Гаше. — Бесполезно, — сказал ему вслед Мей. — Она обыграла нас. Теперь уже никто и никогда не найдет флакона с отравой. Маликульмуль только тогда заметил, что флакон пропал. — Но господин фон Гомберг догонит ее, — неуверенно предположил он. — Пока догонит — она успеет избавиться от флакона. Да еще и наговорит бедному кавалеру каких-либо глупостей. — Как это ей удается? — спросила Эмилия. — Проклятая ведьма толкнула меня, как будто она какой-то гренадер! Колдует она, что ли? И Дивов ходил за ней, как привязанный, и Андре! Что за приворотное зелье она им давала? — Она хвалится дружбой с Калиостро, а у него всякие зелья водились. Мало ли чему он ее научил. Успокойтесь, Эмилия, и молите бога, чтобы вы никогда больше не встретили графиню, — посоветовал фон Димшиц. — Это было сомнительное приобретение для нашей компании. — А любопытно, попытается ли она спрятаться у госпожи фон Витте, или у нее в Риге есть еще какое-то логово? — задумчиво спросил невозмутимый Мей. — Как вы полагаете, господин Крылов? — Скорее всего, — отвечал Маликульмульк. — Не собирается же она жить в пустом курятнике. Но у госпожи фон Витте она непременно появится — там же ее вещи. Часть вещей здесь, а вторая половина там. Если только нет третьей половины. — Или даже четвертой. А что, господин Крылов, раз уж судьба свела нас, не продолжить ли столь приятно начатый вечер? — Мей указал на кучку карт. — По маленькой? По рублю, для забавы? — По рублю — отчего бы нет? Фараон? — Если вам угодно. Вот теперь все начиналось, и начиналось правильно: простака втягивали понемножку, осторожненько, разжигая его интерес маленькими победами и незначительными поражениями, которые по видимости составляли некую систему. Маликульмульк улыбнулся — он своего добился.Глава десятая История «голубки»
Терентий и не подозревал, сколько шуму произведет на свет его интрига. Он хотел отвадить повара Трофима от своей собственности. А что вышло? Когда Косолапый Жанно не вышел к ужину, за ним послали. Выяснилось: собрался и ушел из замка. Княгиня пожала плечами — вольно ж емув сырость бегать. Князь подсказал — не иначе, как перебежал через площадь и заседает в «Петербурге». После ужина все перешли в гостиную, развлекаться. Недоставало скрипки. Тогда князь послал Гришку в «Петербург», чтобы вернул беглеца в замок. Гришка через десять минут явился и доложил: господина Крылова в «Петербурге» не видали. В крепости были и другие заведения, где можно сытно поесть, да и не только поесть. Поэтому Голицыны решили — ничего, скоро придет. Но его все не было и не было. Княгиня забеспокоилась. Норов у нее был властный и страстный, порой вздорный, но зла она никому, кроме как покойному императору Павлу, не желала. И она знала про себя, что, устанавливая в доме справедливость, способна перегнуть палку. Надо отдать ей должное — она видела в Косолапом Жанно огромного и причудливого младенца, с которым нужно обходиться, как с ее младшенькими, Васенькой и Володюшкой. Васеньку она отчего-то любила больше и очень баловала, зато Володюшка нуждался в строгой руке — был не в меру проказлив, притом гораздо сообразительнее Васи. Косолапый Жанно стоял в ее глазах примерно на одной ступеньке с мальчиками. Раз уж он по воле супруга сделался домочадцем, то его нужно в меру баловать, в меру и карать за провинности. А что он одарен многими талантами, значения не имеет — таланты сами по себе, а человек с его повадками сам по себе, и эти незримые таланты отряхивать с человека крошки и пух не станут. Словно бы для того, чтобы приказать, какое кушанье готовить к завтраку, Варвара Васильевна вызвала к себе повара Трофима. Проведя юность при дворе, она усвоила кое-какие приемы интриганов и умела, не задавая прямых вопросов, вызнать, что ей требовалось. Так и выяснилось, что Косолапый Жанно употребил всего-навсего чарку водки в борщ — да ведь и сам князь это делает. Костерить на все лады няню Кузьминишну княгиня не стала — она знала, что в дворне постоянно возникают сплетни, порой даже несуразные, и няня не все это добро к ней несет, а только избранные лакомые кусочки. Предположить же, кто виновник безобразия, Варвара Васильевна не могла — уж слишком это было причудливо. Но она поняла, как ей казалось, главное — у Косолапого Жанно в дворне завелся недоброжелатель. И потому княгиня решила выждать: рано или поздно этот шутник затеет еще что-нибудь похожее, тогда-то и будет вознагражден за все сразу. Горничная Фрося принесла на поварню новость — княгиня сильно расстроена пропажей и собирается посылать людей на поиски бедного Ивана Андреевича. Новость эта была подслушана у двери гостиной, где взволнованная Тараторка убеждала Варвару Васильевну, что Косолапый Жанно из-за взбучки, да еще незаслуженной, на все способен. Конечно, гонять людей ночью по крепости нелепо, но и об этом было говорено. С поварни новость дошла до конюшни в таком виде: сейчас их сиятельства велят закладывать экипаж и сами поедут на поиски. Терентий ужаснулся. Он вообразил себе страшную картину: осенняя ночь, ливень, и бедный несчастный Косолапый Жанно сидит, скорчившись, на земле у какой-то стенки, сидит и страдает, а в замок возвращаться не хочет, потому что обижен. От этой картины жалость к недорослю так прошибла кучера, что он ахнул и забормотал что-то вроде молитвы о непутевом рабе Божием Иване. Он чувствовал, что только его страстная жалость сможет теперь помочь делу — разбудит, скажем, ангера-хранителя недорослева, который что-то задремал на небесах, и ангел слетит, укроет болезного белым пушистым крылом, а потом подтолкнет, говоря: — Ты уж, чадо неразумное, прости княгинюшку, она тебе добра желала! И встанет Косолапый Жанно на толсты ноженьки, и устремится к замку, и не придется уж закладывать экипаж. Правда, никто не узнает, что это кучер Терентий молитвенным усилием вернул барского любимца. Ну да там, на небесах, правду-то знают! Чтобы жалеть, нужно создать себе все условия. Жалеть в одиночку — как-то нелепо, и Терентий потащился из своей каморки на конюшню, к дневальному конюху Перфильичу. Это было разумно: ну как велят закладывать, а кучер уж готов, на конюшне ждет приказа! Перфильич, не поняв причины рвения, стал рассказывать всякие заковыристые истории, но Терентий только вздыхал и возводил очи горе. Ближе к полуночи стало ясно, что никто никуда не поедет, и Терентий задумался, черта ли ему тут ждать, сидеть и страдать попусту? Он подумал еще немного и понял, отчего не велят закладывать: Косолапый Жанно, поди, вернулся и все успокоились. Тогда Терентий рассудил так: где бы недоросль ни слонялся, а вряд ли сыт. Надобно принести ему с поварни хоть сайку, хоть пирог, проявить заботу. И лучше бы поспешить — стряпухи с вечера заводят тесто для завтрашних булок, и сейчас на поварне кто-то еще есть, а потом все разойдутся и поварню запрут. Это было мудрое решение, и вскоре Терентий уже бежал через Северный двор с узелком; бежал, предвкушая свою законную полтину. Он помедлил перед тем, как войти в сени со сводчатым потолком, откуда начиналась витая лестница. Вошел на цыпочках — страх как не хотел на кого-нибудь напороться. Объясняй потом, что тут с узелком пирогов делаешь! Да и без объяснений поймут, будто мужик в девичью пробирался, завел там себе кралю. А няню Кузьминишну хлебом не корми — дай расследовать злоумышление против целомудрия. Маше Сумароковой еще только двенадцать лет было, когда Косолапый стал ей давать уроки словесности, и то Кузьминишна сидела на каждом уроке в уголке с вязанием, присматривала, как бы не вышло какого урона. Терентий быстро подошел к лестнице, еще раз прислушался и уловил скрип ступеней. Кто-то шел — слишком легко и скоро для Косолапого Жанно. Шел, кажется, вверх. На всякий случай Терентий забрался под лестницу — а ну как спускается лакей Степан, посланный княгиней убедиться, что любимчик вернулся или же, напротив, не вернулся? Но скрип прекратился вместе с другим звуком, очень похожим на тот, что издает старая дверь, когда ее закрывают. — Ахти мне, это ж девка… — прошептал потрясенный Терентий. Он, как и прочая дворня, был озадачен образом жизни Косолапого Жанно. Допустим, человек мало пьет потому, что доктор не велел, но какой же доктор прикажет обходиться без женской ласки молодцу в тридцать три года? Бабы уж до того додумались, что детинушку испортили — мало ли способов напустить порчу на это дело? Ведь никогда никого из девок ни за что не ухватит, даже вслед никому не поглядит. А тут, оказывается, все в порядке! Только все настолько скрытно, что не докопаться. — Ага… — прошептал Терентий, уже понимая, для чего Косолапый забрался в дурацкую башню, очень плохо приспособленную для житья. Сюда-то можно бегать из девичьей, зная, что никто не подслушает и не донесет. А кто ж бегает? А Фроська-паскуда! Кто кроме Фроськи? Ведь сам же Терентий подсказал ей, что нужно проявить заботу о Косолапом: глядишь, эта забота и окупится. Так он-то, Терентий, с мешками продовольствия по страшной лестнице бегает бескорыстно (про полтины он в тот миг честно позабыл), а у Фроськи-то свой товар! Ему самому хорошо, между прочим, известный! Сам же, дубина стоеросовая, научил, сам! Стало быть, нужно отвадить Фроську от недоросля. А как? А проще простого — няня Кузьминишна-то на что? Только нужно по-хитрому, по-хитрому… Послушав еще немного и убедившись, что Фроська спускаться вниз не собирается, Терентий побрел к себе в каморку, плетя в голове интригу. Вот угораздило же его родиться крепостным — будь он вольным, интригами своими всю Европу взбаламутил бы, не хуже господина Талейрана. А так — извольте прозябать в людской… В каморке он знал уже, с чего начнет. У Фроськи зловредной есть соперница, горничная Глашка, спит и видит, как бы ее сиятельству лучше Фроськи угодить. Глашка ведь и помоложе. Фроську княгиня обещала хорошо замуж выдать, вот Фроська и не беспокоится, знает — будет приданое, будет и жених, а коли пошаливает, так потихоньку… уж не Косолапого ли для нее княгиня присмотрела?.. Тогда все пропало! Паника Терентьева была недолгой — он вспомнил про Екатерину Николаевну и успокоился. Жуя предназначенные Косолапому Жанно пироги, он представлял себе, как осторожненько приударит за Глашкой, да как напоет ей, что княгинина любимица спуталась с недорослем. Даже если Фроська успела получить от недоросля какие-то подарки — Бог с ней… Зато вперед уж ничего не получит. Будет знать, как кучеру Терентию поперек пути становиться — ведь эти подарки она, можно сказать, из его кошелька вынула, чертова перечница! А Глашку, если будет умна, можно и вознаградить. Известным мужским способом. Придумав все это, Терентий заснул. Утром он помчался в людскую, чтобы приступить к своей затее. С Фроськой поздоровался очень ласково, назвал ее душой-красавицей — надо ж усыпить подозрения. А Глашку выследил, исхитрился догнать ее в коридоре и сказать ей приятное: что она из всей дворни самая румяная. Глашка принялась жеманничать, Терентий не возражал — их полу и следует жеманничать. И подпустил загадочности: он-де знает, кто из горничных повадился безобразничать; знает, да не скажет. Затем его отыскал Степан и сказал, к которому часу экипаж должен ждать ее сиятельство в Южном дворе. Терентий спросил, нашлась ли пропажа. Степан сказал, что пропажа к завтраку вышла при полном параде, вид имея довольный и даже блаженный. Это Терентия обрадовало — значит, угадал! И он поспешил на конюшню снаряжать экипаж. Немного похолодало, и следовало разжечь маленькую печку, чтобы у ее сиятельства не замерзли ноги. Прогулки по предместьям Терентий любил, главное было — выбраться из крепости, не ободрав бока у экипажа и никого не задавив. Но горожане уже обратили внимание на голицынский герб и старались уступать карете дорогу. Терентий, сидя на козлах, видел эти знаки почтения и пыжился так, словно он сам был князем Голицыным.* * *
Маликульмульк спозаранку шел через эспланаду и улыбался. Он был голоден, бодр и счастлив. Приходилось держаться обочины — к городским воротам, запертым на ночь, тянулись телеги с продовольствием. Хватало и пеших. Шли мальчики-молочники с заплечными бочатами, шли промышлявшие уличной торговлей огородники с плоскими корзинами, приспособленными для ношения на голове, шли ремесленники с мешками товара и с ручными тележками, да кто только не норовил с рассветом попасть в город. И это те, кто хотел попасть в крепость через Песочные ворота. У Карловых ворот собрались еще купеческие телеги с товаром для больших каменных амбаров, стояли рыбаки — иной тащил, перекинув через плечо, здоровенного лосося чуть не в полтора пуда весом, и на рыбину довольно скоро находился покупатель. Маликульмульк был доволен, по-настоящему доволен жизнью и собой, несмотря на то, что остался без ужина. Он провел почти всю ночь за карточным столом, изучая игроцкую компанию куда более внимательно, чем компания изучала его самого. Он был для них простаком, попавшимся на крючок графини де Гаше. О том, что простак, было время, выигрывал за ночь и по семидесять тысяч, они не знали. Если бы Маликульмульк относился к игре не столь философски, сколь практически, то уже мог бы и дом в столице приобрести. Но в нем уживались, что встречается редко, азарт, который мог проявиться лишь в игре, и некий отстраненный взгляд на игру, взгляд насмешливый, но, увы, не злой. А доброта Большой Игре противопоказана — всякая доброта, и та, что происходит от лени, тоже. И вот он шел к воротам, думая о завтраке, который еще не скоро, так что умнее всего будет не ждать, пока их сиятельства сядут за стол, а пробраться на поварню, там уже наверняка варят кашу для людей. От поварни мысль его перескочила на голицынскую дворню, оттуда — на странности кучера Терентия, на экипаж с мертвым телом, на Маврушку, склонявшую свою хозяйку Анну Дмитриевну поступить в услужение к графине де Гаше. Маликульмульк вспомнил ловкую ручку, что выхватила флакон с ядом прямо из-под носа у своих бывших компаньонов, и усмехнулся. Разумеется, он не был потерян — такие вещи случайно под чужую кровать не закатываются. Горничную Мариэтту просто перекупили, и нетрудно догадаться, чья это работа. Эмилия фон Ливен, кто ж еще… До появления графини (похоже, она и впрямь появилась в «Иерусалиме» вскоре после того, как покойный император выставил из Митавы законного наследника французского трона), Эмилия царила в игроцкой компании. Иоганн Мей ее благосклонности вряд ли добивался, но вел себя с ней галантно. Красавчика Андре она, возможно, пыталась приручить, да не вышло. И в итоге дама поступила благоразумно — вступила в союз с Леонардом Теофрастом фон Димшицом (он же — фон Дишлер). И вдруг, как гром с небес, какая-то непонятная француженка, более языкастая и, как ни забавно, более соблазнительная — невзирая на седину. Как могла пережить это мопсовидная дама, которая лет на пять помоложе и ни единого седого волоска пока не имеет? Может быть, если бы Мартышка носила накладные букли, Эмилии было бы легче с ней примириться. Но француженка всем видом говорила: да я и седая, и морщинистая, и длинноносая буду нравиться мужчинам больше, чем ты! И все же любопытно, был ли в этом флаконе яд… Любопытно и другое — куда убежала Мартышка. Жить на два дома, имея пристанище в крепости у фрау де Витте и в предместье на Родниковой улице, уже достаточно хлопотно. А держать еще и третье жилище на всякий случай — это для Маликульмулька было чересчур сложно. Следующее, что его занимало, — как Мартышка помирилась с кавалером Андреасом, который, скорее всего, родился не в почтенном семействе фон Гомбергов, а где-нибудь в российской столице, от связи знатного человека с продажной красавицей, может, с театральной девкой. Образование мальчику дали светское, обучили языкам, и обучили очень хорошо, а дальше сказали: выкарабкивайся сам, как умеешь. Ну, он и нашел способ. Скорее всего, оба родителя были красивы — в лице порода видна. Женщина всегда сумеет обвести мужчину вокруг пальца — вон, об этом и в «Почте духов» написано. Написано со знанием теории… но как она это проделала на практике? Сумела убедить его, что злодеи подсыпали во флакон отраву? Но ведь этот молодой мошенник явно знает кое-что о ее подвигах — и как вышло, что он ей поверил? Если бы не догнал, то вернулся бы, ругаясь и грозясь изничтожить эту чертовку. Коли не вернулся — значит, они как-то поладили… Массивные, окованные железом ворота, над которыми был вмурован в каменную стену вала огромный рижский герб, отворились, и, стоя на контрэскарпе широкого рва, Маликульмульк наблюдал, как по мосту, ведущему через равелин, в крепость неторопливо втягивается целый караван телег. Проскакивали и люди — прямо под конскими мордами. Нужно было подождать, чтобы войти спокойно, без риска, что какой-нибудь торопыга столкнет с моста в грязный ров. Этот ров и эти укрепления сильно возмутили князя Голицына, когда он впервые их объехал. Торговый город не мог себе позволить так бездарно использовать местность — эспланада, окружавшая крепость, была шириной чуть не в треть версты, а по рву — хоть на фрегате плавай. И для чего, спрашивается, снесли деревянные домишки, подобравшиеся, как казалось военным инженерам, слишком близко к укреплениям? Какой враг нападет на Ригу со стороны Москвы и Санкт-Петербурга? Если считать крепость и предместья единым городом, то где еще сыщется город, в котором посередке — огромные сады и огороды? Но поскольку в столице желали видеть Ригу окруженной валом в пять сажен высотой, князь задумался: а нет ли смысла выстроить ближе к устью Новую Ригу, где улицы были бы прямы и просторны, а порт оборудован не хуже Кронштадтского? Он стал узнавать, и оказалось, что это придумал еще покойный Петр Великий, более того — присылал людей, которые изучили бы местность и составили прожект. Был он составлен или нет, осталось неизвестным. Оказавшись в крепости, Маликульмульк пошел к замку. Войти удобнее всего было через Северный двор. Караульные знали его и впустили без возражений. На поварне его снабдили ватрушками, и он полез наверх, желая переменить сорочку и почитать немного — не ложиться же спать, когда через два часа настоящий завтрак. Дверь в его комнату была открыта, и он не удивился. Опять, наверное, побывал истопник, эта печка — просто ненасытная утроба, дров на нее не напасешься. В комнате действительно было тепло, и философ радостно начал раздеваться, но кинул редингот на кресло, жилет — на кровать, и окаменел с разинутым ртом. На кровати кто-то спал, с головой упрятавшись под одеяло. Первая мысль была — Мартышка!.. И нужды нет, что попасть в резиденцию генерал-губернатора не так-то просто, что посторонняя дама, да еще прибежавшая ночью, в лучшем случае будет ждать до утра возле будок, в которых стоят караульные солдаты, а в худшем — ее арестуют как лицо подозрительное. Мартышка — и все тут… только она… Что-то шлепнулось на пол, что — неизвестно. Маликульмульк схватил редингот, стал вдевать руки в рукава. Пройма никак не давалась впопыхах, он завертелся, опрокинул стул. Одеяло зашевелилось, появилось заспанное личико. — О Господи! — воскликнул Маликульмульк. — Ты как сюда попала?! — Ждала вас, Иван Андреич, — ответила Тараторка и зевнула. — А вас все нет и нет. Но надо же нам наконец поговорить! — И это, по-твоему, самое подходящее место для разговоров? — А где еще? — не осознавая пикантности вопроса, спросила Тараторка. — Я знала, что вы ушли. Думала, вернетесь поздно. А с утра опять уйдете в канцелярию. И никак не поговорить! А очень нужно, право, нужно! Вы тогда рассердились, а я ведь не просто так бегала на Родниковую! — Маша, — грозно сказал Маликульмульк. — Вылезай из постели, я отвернусь. И больше никогда так не делай. Правду люди говорят: росла среди мальчишек и все ухватки у тебя мальчишеские. А ты — девица! — Для чего же отворачиваться, Иван Андреич? Я же, не раздеваясь, легла! Из щели меж одеялом и простыней показалась по-девичьи худенькая ножка — до самого колена. Белый чулок сполз к щиколотке. Вынырнула и вторая. Тараторка выбралась из-под тяжелого толстого одеяла и опять зевнула. Затем принюхалась. — Иван Андреич, ватрушками пахнет! Тут только Маликульмульк обнаружил, что в панике выронил принесенный с поварни узелок, концы узелка разошлись, ватрушки разломились. Шустрая Тараторка, одернув на себе платье, соскочила с постели, опустилась на корточки, собрала обломки и выложила на стол — хорошо хоть, бумаги в сторону отодвинула. — Иван Андреич, ну, простите! Вперед не буду! Только дело-то такое — может, даже очень важное! Вы ешьте, ешьте, а я буду говорить! И сама первая схватила кусок ватрушки. Первую часть ее речи можно было и не слушать — Маликульмульк сам догадался, что Тараторка во время прогулки с Варварой Васильевной нарочно изучала местность, чтобы потом самостоятельно найти Родниковую улицу. А вот вторая часть оказалась любопытной… — Я ходила вдоль того дома взад и вперед. И смотрела на окна, — рассказывала Тараторка. — Очень хотела увидеть эту госпожу Дивову, о которой вы так беспокоились. А там стояла телега, совсем простая телега, с какими-то мешками, спереди кучер, в самой телеге какой-то дедушка, в армяке, с седой бородой вот до сих пор. Лошадке торба подвязана, она жует, кучер чуть ли не спит, дедушка тоже дремлет. А я раз, другой мимо прошла. Думала, кого бы спросить про госпожу Дивову, а главное — о чем спросить. И некого, все какие-то прохожие неподходящие, пастор немецкий был, еще мужики с тележками, там, подальше, дом строится, еще бабы, но какие-то неприятные, я их побоялась. И вот вижу — идет высокий господин, хорошо одетый, в епанче, в сапогах. Он прошел мимо, а я дошла почти до угла, повернула и назад… и подхожу к телеге, чтобы ее обойти… и знаете, что я слышу? — И представить не могу. — Этот господин тихонько с дедушкой разговаривает — по-французски! Больше дедушка говорит, а господин коротко отвечает! А сам делает вид, будто понюшку табака берет. Чихнул и прочь пошел! Они совсем быстро поговорили! — А ты не расслышала — о чем? — взволновавшись, спросил Маликульмульк. — Я слышала, что сказал господин. Он сказал: она сейчас в крепости. И потом сказал: нужно посмотреть вокруг. А дедушка ему ответил: ходил и смотрел, она может заходить с Карловой улицы, через дворы. Я поняла, это те плохие люди, которым понадобилась госпожа Дивова. И я… вы только не ругайтесь, Иван Андреич! Я пошла следом за высоким господином, чтобы узнать про него и все вам рассказать. Поэтому я вас и искала! А вы на меня и смотреть не хотели! Маликульмульк ничего не ответил. Он понял, что высокий господин ищет вовсе не Дивову. Он преследовал Мартышку и уже прознал, что она поселилась в доме с голубыми ставнями. Сообразил он также, что Мартышка знала о преследователе, потому и шла в дом через дворы и огороды, рискуя угодить в навозную кучу. И невольно хмыкнул: надо же, до чего бурная жизнь у дамы! И с игроцкой компанией она подружилась, и при самоубийстве присутствовала, и в дело об отравлении замешалась, и молодые поклонники у нее не переводятся, и гоняются за ней, и сама она гоняется почему-то за Анной Дивовой… чудеса, право! — Иван Андреич! — окликнула обиженная Тараторка. — Вы что же, совсем знать не хотите, куда пошел этот господин? — Я вот попрошу княгиню, чтобы тебя заперли, — сказал Маликульмульк. — Мало ли, что за мазурик! А ты за ним по всей Риге носишься, как угорелая кошка! — Так ведь надо же помочь бедной госпоже Дивовой! Вы слушайте! Он пошел по Родниковой и вышел на Карлову улицу, дошел до Банной, повернул направо, и потом — до Большой Кузнечной… Иван Андреич, почему в крепости и в форштадтах у улиц одинаковые названия? Запутаться ж можно! Кто только до такой ахинеи додумался? — Ты не тараторь, а говори внятно, — менторским тоном поправил он. — И что, дошел до Большой Кузнечной… — А может, и не до нее. Я увидела русского мужика в черном кафтане, спросила — так он эту улицу Гертрудинской назвал. Ну, это неважно! Я шла за ним до деревянной кирхи. Там он вошел в трактир, в русский трактир, представляете? — И ты бродила одна возле русского трактира?! — А что же тут такого? Он там остался, а я вышла на Большую Песочную и — в крепость. Иван Андреич, вы спросите в трактире, его там, уж верно, приметили. Может, он там и комнату снимает! Высокий, старый, на Кощея Бессмертного похож! — Отменная примета. — Ну, похож… как же быть, коли похож? Зато по такой примете вы его сразу признаете! — радостно заключила Тараторка. — И плечистый. Я сзади шла, смотрела — он в плечах даже вас пошире будет. А вот госпожу Дивову так и не встретила… — И не встретишь! — сердито отрубил он. — Немедленно беги к себе в комнату, пока никто не проснулся! — И побегу! Вам-то все уж рассказала! — Тараторка подхватила шаль и пошла к двери. — Стой! Маликульмульк вышел на лестницу первый, спустился немного, прислушался — вроде в этой части замка было тихо. Он пожалел, что из своего жилья не видит Северный двор — понять бы, кто в такое время суток уже проснулся и вовсю суетится. — Ступай с Богом… Погоди. А отчего этот господин тебе напомнил Кощея Бессмертного? Чем сходен? — Да носом, поди… Вот такой нос, с горбом, и лицо костлявое, ну, чистый Кощей. — А ты что, Кощея видела? — Так Кузьминишна-то сказки сказывала. И каким бы ему еще быть? Тараторка наконец ушла, а Маликульмульк крепко задумался. Он узнал, куда подевался несчастный Дивов, но как сообщить об этом его вдове? Старик оказался прав — именно вдове. Он вообще очень много узнал, но были ли игроки с ним искренни? Не сообщили ли они лишь то, что заведомо не принесет им вреда? И еще… странное поведение Андреаса фон Гомберга, он же — кавалер Андре… Сдается, что Мартышка ему более всех доверяла. И что-то затевала, для чего ей нужен был еще Леонард Теофраст фон Димшиц (или фон Дишлер, черт его разберет). А мопсовидная Эмилия не была нужна вовсе! И Иоганн Мей — также. Ночь на Родниковой была прекрасна, однако начинался трудовой день, и Маликульмульк боялся, что как сядет в канцелярии за свой стол после сытного завтрака — так и заснет. Что уж греха таить, поспать он любил. А самое скверное — ведь никто не разбудит. Канцеляристы хитры, они потихоньку собирают на него всякую дрянь, чтобы однажды мелочи сложились в плотный ком. Пока он спит, они будут слушаться Сергеева, и однажды ловко донесут до сведения его сиятельства: господин Крылов-де в канцелярии — украшение, притом бесполезное, и такой же он начальник, как чурбан из басни Лафонтеновой, позаимствованный Лафонтеном у грека Эзопа; там лягушки просили себе у Юпитера царя, и с небес шмякнулся в болото осиновый чурбан… Но ведь и кончится это, как в басне: перестав уважать бессловесный и неподвижный чурбан, они выпросят себе другого царя, и уж тогда им будет послан аист. Господин Сергеев не так кроток и благодушен, как старается казаться. Надо бы как-нибудь изобразить этот сюжет в стихах, благо тут получится картина с натуры… Варвара Васильевна за столом была очень любезна, дамы ее подражали повелительнице. Тараторка глядела лишь себе в тарелку. Маликульмульку жутко делалось при мысли, что кто-то проведает, как шальная девчонка провела ночь в его постели. А ведь и нужно-то самую малость, чтобы заподозрили неладное: подмигнула бы она ему сейчас, намекая на общую тайну, и довольно! Оказывается вольнолюбивым либертином, презирающим ханжество, легко быть лишь на словах, и то — на тех словах, что не звучат, а напечатаны на бумаге. В человеческом общежитии лучше и не пытаться… Затем Варвара Васильевна прямо при князе предложила любезному Ивану Андреевичу сопроводить ее сегодня на гулянье, а служба пускай подождет. Маликульмульк, поймав взгляд князя, очень деликатно возразил, но подождал княгиню в гостиной и сопроводил ее к экипажу, даже помог взойти. Терентий с высоты козел смотрел на него загадочно и скорчил укоризненную рожу. Что кучер имел в виду — даже предположить было невозможно. Да и никак не мог Маликульмульк уразуметь, что делается в головах у крепостных людей. Ему все казалось, что эти головы изнутри устроены не так, как у свободного человека. Взять ту же няню Кузьминишну — она ли не выказывала ему свою любовь? И ведь именно через нее, сдается, дошло до княгини известие, что начальник канцелярии на поварне пил водку ведрами, отчего в присутствии подчиненных спал и храпел! И ясно, отчего няня так поступила, и следует ее по-христиански простить, дуру старую, но как же с ней быть, если она опять примется в любви объясняться?.. И ведь сколько стихов прочитано о вольности, сколько философских писем, и ее необходимость всем понятна, а главного-то в теориях и нет: чем вольный человек от невольного отличается? Вот он, Иван Андреич Крылов, точно ли вольный? Должно же быть некое коренное отличие, вроде той печки из поговорки, от которой положено плясать… Что может быть в голове у человека, который сам себя не имеет, а кому-то принадлежит? Разумеется, в канцелярии его потянуло в сон, чуть ли не носом клевал. Спас Сергеев — принес письма с печатями. А потом сон отступил, и Иван Андреевич даже проверил работу копиистов, поругал за небрежность и ошибки. И остался очень собой доволен — начальнику положено устраивать разнос подчиненным. Может, и впрямь обучиться в конце концов канцелярским премудростям и угомониться? Место неплохое, а когда господа ратсманы присмотрятся к генерал-губернаторскому любимчику, то, статочно, и хлебное. Ибо стихи не пишутся, а проза минувшего века в нынешнем как будто не нужна. То, чему учился, то, что в себе холил и лелеял, человечеству более не требуется — вон пиесы в «Феатре» напечатаны, бери — не хочу, и что же? За эти годы хоть где-то их поставили?.. К вечеру стало ясно: нужно где-то прослоняться до ночи и тогда лишь лечь спать, чтобы в сутках вновь восстановился правильный порядок. Конечно, если тело и душа просят — можно лечь, не дожидаясь ужина… и до чего же, с одной стороны, хорошо быть привязанным к ужину, который всегда подается в одно время, а с другой — это ж сколько лет философ привязан к трем ежедневным трапезам, как ручной попугай-жако цепочкой к позолоченной клетке? Он отправился к герру Липке говорить по-немецки и читать куски из драмы Гете «Торквато Тассо», выбранной потому, что там безумный поэт — сам виновник своих несчастий. Нужно было настроить себя так, как настраивают скрипку, чтобы действительно махнуть рукой на собственную гениальность и отдаться Большой Игре как единственному занятию, достойному беспокойной души. Затем Маликульмульк отыскал Гринделя. Тот, как всегда, колдовал в лаборатории, будто не было в Риге домов, где по вечерам музицируют и развлекаются. — Георг Фридрих уже в «Лондоне», — сказал химик. — Я собирался к нему… Это означало: любезный герр Крылов, в этот вечер я занят, и вас с собой не приглашаю. Маликульмульк все понял — и впрямь, нелепо было бы домогаться внимания Паррота, ставя Давида Иеронима в неловкое положение. — Я, собственно, на несколько минут, — ответил он. — Мне срочно нужно попасть к фрау де Витте. Вы-то там приняты, а я — случайный гость. Речь идет о графине де Гаше. — Вы что-то узнали? — Кое-что узнал. Поэтому я должен видеть фрау фон Витте, пока графиня де Гаше не втянула ее в какую-нибудь неприятную историю. Я еще хотел бы убедиться, что графиня жива… — Вот как! — Да. Я знаю, что ее вчера выманили из дома фрау де Витте. Но неизвестно, где она ночевала и вообще — где находится. Если она вернулась к фрау де Витте — это еще полбеды, выставить оттуда авантюристку и мошенницу несложно. Плохо, если эта милая фрау любезно представила графиню своим друзьям, и они ее приютили. Тогда придется действовать очень осторожно. — Вы правы, — согласился Давид Иероним. — Фрау должна заботиться о своей репутации. Как же быть? — Надо что-то придумать! Но, прежде всего — понять, где теперь эта дама. И жива ли она. Очень может быть, что ей нужно срочно уезжать из Риги, и она ищет деньги для этого. Мое мнение — стоит дать ей в долг, сколько попросит, и забыть об этих деньгах навеки, лишь бы она больше не возвращалась. Маликульмульк сам поразился тому, как сурово сгущает краски. Но ведь это, если вдуматься, и было правдой — графиня де Гаше доверия не внушала. Хотя… Хотя он восхищался тем, как она отчаянно сопротивлялась, как ловко похитила флакон с ядом. До сих пор он таких женщин не встречал. Он видывал склоки между театральными девками, с царапаньем и выдиранием волос из прически соперницы, но это были отвратительные склоки, не более. Тут же речь шла о жизни и смерти. А это всегда возбуждает… Да, вот оно, верное слово. Своими приключениями графиня возбуждает того, кто случайно стал их зрителем. Как это ни странно… — Мы сейчас пойдем туда, — решил Давид Иероним. — Я скажу, что в аптеку привезли медовый ликер из Ганновеpa, и я осмелился лично принести ей бутылочку. А вы будете ждать на улице. Если графиня там, я подам вам знак. — А если ее нет, вы пошлете за мной горничную. — Вы хотите сразу же рассказать фрау фон Витте, кого она приютила? Маликульмульк задумался. — Эта женщина-затевает что-то неладное. Она для чего-то хочет взять себе в услужение госпожу Дивову, и мне это не нравится. Нужно хоть в какой-то мере разрушить ее планы, пока она не натворила бед. Лучше всего — если она поймет, что в Риге ей оставаться опасно… — Я того же мнения. Но вот как объяснить фрау Витте, что все это вызывание духов — сущий бред? Она же — курляндка, а все курляндцы помешаны на мистике. Потому и поверили мошеннику Калиостро. — Есть способ, мне его один умный человек сообщил, священник. У него был прихожанин, вечно с какими-то завиральными идеями к нему являлся. Как-то задал вопрос: а что, батюшка, с мертвыми можно вступить в разговор? Где-то что-то слыхал или вычитал, наверно. А священник, мудрый старик, ответил: можно, вступай, говори, только они отвечать не будут. — Боюсь, что не подействует, — хмуро ответил Давид Иероним и стал шарить на полках с химической посудой, забираясь в самую глубину. — Род человеческий в подлинных открытиях не нуждается, ему развлечение подавай, такое, чтобы голову не утрудить… Куда же герр Струве поставил эти бутылки? Он их для себя бережет… Ничего, я ему все объясню — простит… Наконец они собрались и вышли на улицу. Погода была для осенней Риги еще приемлемая — дождь чуть накрапывал. Прохожих по дороге почти не попадалось, в благопристойном городе все в это время сидели по домам, а кто не дома — тот в трактире, в приятной компании. Пешком до нужного дома на Известковой добежать было куда быстрее, чем доехать в экипаже, и Маликульмульк поделился с Давидом Иеронимом этим наблюдением. Тот согласился, что большие экипажи не для рижских улиц. В окнах гостиной госпожи де Витте горел свет. — Ну, хоть в этом повезло, — сказал Маликульмульк. — Ступайте, а я буду вон там. Он указал на угол Большой Королевской и Известковой. Там стояли экипажи господ, приехавших в Немецкий театр, и можно было, удачно встав, хоть в какой-то мере защититься от дождя. — Если она там, я подойду к среднему окну. Вы ведь не спутаете мой силуэт с дамским? — спросил, усмехнувшись, Давид Иероним. — Попытаюсь. Если же вы через пять минут не спуститесь, пойду в замок, и тогда встретимся завтра. — Да, конечно. Маликульмульк смотрел вслед молодому химику и удивлялся, как же он легко и красиво идет под дождем, огибая лужи. Сразу видно — учитель танцев был хороший. А ведь Гриндель телосложением тоже медведь… Правда, не столь матерый, как Косолапый Жанно, так он ведь и моложе. Три окна гостиной светились желтоватым светом. Там, в тепле, сидели дамы, рукодельничали, может, читали вслух или пели под клавикорды. Туда странников пускали ненадолго. Вот сам Маликульмульк по своей внутренней сути — странник, не умеет обзавестись своим жилищем, если бы не Голицын, так бы и мыкался по трактирам и гостиницам. Эта женщина, графиня де Гаше, сдается, тоже вечная странница. Вот ведь сходство душ, будь оно неладно! Он понимал, что искательницу приключений, которая имеет какое-то странное отношение и к смерти Дивова, и к смерти фон Бохума, нужно выпроводить из Риги. Ведь это — лишь те ее подвиги, что на поверхности. Не обнаружится ли, коли заглянуть поглубже, и смерть бедной Маврушки? Вдруг он ощутил прикосновение к плечу, не хлопок ладонью, в меру увесистый, которым мужчина может привести в чувство зазевавшегося пешехода, а нечто невесомое. Он обернулся и увидел маленькую фигурку в темном салопе и накинутой на голову мокрой вуали. Это была она — графиня де Гаше. Мартышка. — Я знала, что вы будете меня искать, — тихо сказала она по-французски. — Иначе и быть не могло. Я знала… Пойдемте куда-нибудь… Нам надо поговорить… — Я понятия не имею, куда здесь можно пойти, — не слишком любезно ответил Маликульмульк. По правде говоря, он растерялся. — Куда? Но это же очень просто. Дайте денег кучеру, он впустит нас в экипаж ненадолго, пока в театре продолжается спектакль. — Кучер не сумасшедший, чтобы пускать незнакомых людей в хозяйский экипаж. Там все-таки имущество… — А вот сейчас мы это проверим. Я не знаю немецкого, вы знаете. Подойдите и спросите, сколько он возьмет, чтобы позволить кавалеру уединиться с дамой. Маликульмульк, чувствуя себя последним дураком, пошел задавать этот нелепый вопрос. К его удивлению, первый же кучер был готов предоставить любовникам крышу над головой всего за какой-нибудь рейхсталер. Деньги немалые, наглость поразительная, но выглядеть перед графиней скупым Гарпагоном Маликульмульк не мог. Они забрались в небольшой и тесный старомодный экипаж. Графиня, войдя первой, села на заднее сиденье, Маликульмульк — на переднее. Их колени соприкоснулись, он подвинулся, чтобы избежать ненужной пикантности. — Задерните занавески, — приказала она. Он сделал это, но узкая щель осталась — свет от фонаря падал прерывистой полосой на салоп графини, на ее белые маленькие руки, на сложенные в замок пальцы, на перстень с темным камнем. — Ну, сударыня, я вас слушаю, — сказал Маликульмульк. — Мне придется иметь дело с вашим предубеждением, с вашей враждебностью, — печально проговорила она. — У вас есть для этого все основания… к сожалению… Когда я увидела вас в окно, то думала — может быть, не стоит идти? Но вы стояли там, у перекрестка, вы были так похожи на Этьена… я не смогла удержаться… Когда я, выйдя черным ходом, бежала к вам, мне казалось, что совершилось чудо и вы — это он… и я смогу наконец обнять… Маликульмульк ничего не ответил — да и что тут ответишь? Сходство действительно есть, и дамы любят делать из мухи слона, и когда они этим занимаются, лучше не возражать, как не нужно возражать Варваре Васильевне в минуты ее ярости: чем меньше с ней говорить, тем скорее угомонится. — Должно быть, это справедливо. Он тоже, может быть, не захотел бы со мной разговаривать, увидев, чем я стала… Слыхали ль вы когда-нибудь, что наши мертвые — это наша совесть? Что может быть стыдно перед убитым мужем, убитым сыном, и не стыдно — перед живыми, даже перед самим Господом? Такую премудрость Маликульмульк слышал впервые и невольно вздохнул — похоже на правду… — Мне стыдно за многое, и все началось с того дня… Впрочем, неважно, он бы тоже не вспомнил, будь он жив, мужчины бывают так невнимательны… Но сейчас я не для того пришла к вам… Это… это было необходимо, понимаете? Маликульмульк уже был не рад, что залез в этот экипаж. Какая-то вселенская нелепость положения вдруг предстала перед ним: крошечное пространство, крошечная дама, почти старуха, и он — здоровенный медведь, который, казалось бы, расправит плечи — и экипаж затрещит. А меж тем — боится шелохнуться… отчего?!. — Доводилось ли вам убивать? — вдруг спросила графиня. — Не на войне, где мужчины стреляют все разом, и никто не может быть уверен… Убивать так, чтобы наверняка… и видеть страдания, мучения невинного существа? Вопрос был неожиданный, из тех, что временно лишают дара речи. Маликульмульк видел смерть — смерть отца и матери. После этого он жил в мире, где почти не было тех, кто чаще всего умирал, детей и стариков, — они обретались где-то на задворках прекрасного мира, в котором читались и переводились трактаты знаменитых французов, маркиза д’Аржана и Луи-Себастьяна Мерсье, писались и ставились пьесы, выпускались журналы, звучала музыка Гайдна и Моцарта. Там убивать и умирать как-то не приходилось, не те правила… Он покачал головой, глядя на женщину с тревогой — ведь она уже однажды намекала, что замешана в каком-то преступлении. И две смерти, к которым она имела какое-то подозрительное отношение… — Никогда не убивайте — лучше тюрьма, лучше каторга. Из тюрьмы выходят — прошли те времена, когда туда сажали навеки, кардинал де Ришелье давно в могиле… И каторга — я не знаю, я там не была, но мне кажется, мысль о том, что ты за свое злодеяние расплачиваешься при жизни, должна как-то утешать и поддерживать… или нет?.. — Трудно сказать, сударыня. Мне не приходилось совершать таких злодеяний, чтобы… — и тут Маликульмульк осекся. Он выигрывал немалые деньги — но ведь кто-то, по ту сторону стола, с этими деньгами расставался. И не столь безболезненно, как сам Маликульмульк в случае проигрыша. Кто-то, как несчастный Дивов, закладывал дом и продавал имущество семьи, чтобы достойно сесть к столу, а потом? Что могло быть потом с человеком, чьи деньги философ преспокойно сгреб и унес? — Я убила женщину, — сказала Мартышка. — Вы первый, кому я вслух и открыто говорю об этом. И эта женщина меня преследует! — Боже мой… — пробормотал Маликульмульк. Всякое он думал о Мартышке — лишь в безумии ее не подозревал. — Я не шучу, мне, поверьте, не до шуток. Это было в Англии. Она меня преследует и подсылает ко мне злодеев. Сейчас вы все поймете. Я расплачиваюсь за давние ошибки! Все, что со мной происходит, — цепь расплат и воздаяний. Выслушайте — я знаю, что вы меня поймете! Только вы имеете право знать, только вы… — Да почему же? — Потому что я вас люблю, — тихо сказала она. — Ну вот, эти слова сказаны, но пусть они вас не тревожат, забудьте их. Вы для меня — тень моего покойного супруга, я не могу вас не любить, понимаете? Вы — его посланец! Вы пришли за моей любовью… Все это было страшновато и совершенно непонятно. Слова, которых до сих пор никогда в жизни не доводилось слышать, прозвучали — в темноте, в чужом экипаже, и произнес их по-девичьи звонкий, печальный и усталый голос. В прежней своей, столичной, жизни Маликульмульк знал не столько женщин, сколько женские типы: пятнадцатилетнее невинное дитя; молодую и лихую кокетку; ханжу, щеголяющую благочестием и втайне содержащую любовника; влюбчивую старушку; хитрую старуху из простонародья; ловкую субретку. Он полагал, что для драматурга этого довольно — а разве есть еще какие-то особы прекрасного пола? Любую можно было, отбросив незначительные подробности, пометить, как печатью, титулом кокетки или старухи. И вот, извольте радоваться, графиня де Гаше! И это обреченное «потому что я вас люблю…» — Сударыня, вы чересчур взволнованы, — сказал Маликульмульк. Сказал как-то слишком быстро. — Это хорошо! Значит, я наберусь мужества и расскажу вам всю правду. А правда такова — я изменила мужу и стала подругой графа Калиостро. То, что я была молода и неопытна, меня не оправдывает — у меня уже был сын, мать — это совсем иные обязательства перед семьей, вы понимаете… и перед Господом, но мы тогда о нем не думали, все было так заманчиво… Меня погубили мой пылкий нрав и любознательность — когда мои подруги часами совещались с парикмахерами, придумывая новые прически, я читала, о, я много читала! Графу было совсем нетрудно обольстить меня — он предложил мне стать его ученицей. Боже, чего он только не обещал! Он обещал мне владычество над всем миром! А я верила… Он уже тогда заметил во мне эту легковерность и воспользовался ею. Он для начала сделал меня своей «голубкой» — вы знаете, что это? Про «голубков» графа Калиостро не так давно рассказывали Голицыны. — Знаю. Это человек, которого граф вводил в полусонное состояние, чтобы его устами говорили духи, — ответил Маликульмульк. — В том числе и духи умерших, кажется. Но в «голубки» годятся только дети и невинные девушки — или же я чего-то не знаю? — Не знаете, но я расскажу. В «голубки» годятся люди, склонные слишком верить тому, что им говорят. А я — именно такая. Я верю всем комплиментам и всем угрозам — вот в чем моя беда. Я верю людям — апотом мне приходится собираться с силами, чтобы дать им отпор. Мне говорили, что я страшна в гневе, — нет, я не гневлива, мне приходится совершать над собой насилие, чтобы защититься, иначе меня погубят! Отсюда и мои странные поступки. Я вдруг вижу, куда меня может завлечь мое доверие, и вырываюсь, как зверь из ловушки… вы меня понимаете?.. В такие минуты я не отвечаю за свои поступки. Мне кажется, что если бы для спасения своей жизни мне нужно было пробежать по натянутому канату — в такую минуту пробежала бы, хотя я страшно боюсь высоты. Маликульмульк слушал — слушать он умел. — Что же вы не задаете вопросов? — вдруг спросила графиня де Гаше, прикоснувшись ноготком к его руке. — Вы сами все очень хорошо рассказываете. Я только не знаю, для чего… — Молчите! Все вы знаете, вы только боитесь. Не бойтесь, вам ничто не угрожает. И моя любовь не угрожает — если вы только не привыкли называть любовью обыкновенную похоть. Это иное… — Нет, — помолчав, ответил он. — Я разделяю любовь и похоть. И я знал истинную любовь… Образ Анюты в белом платьице, идущей по лугу, явился ему вдруг — Анюты в шляпе с неимоверно широкими, затеняющими все лицо полями, и в платьице изумительно простом, только подпоясанном голубой лентой. У ног ее подскакивала, ловя букетик, белая кудлатая Фиделька. Это было, как картина, где любимой всего пятнадцать лет, как сейчас — сорванцу Тараторке. Но Анюте никогда больше не будет пятнадцать, значит, и Анюты больше нет в этом лучшем из миров. Та, которой теперь двадцать пять, — уже не Анюта. — Тогда слушайте. Я мужа сперва принимала, как неизбежное зло — надобно же за кем-то быть замужем. Впрочем, мы неплохо ладили, я вообще очень уживчива. Потом я познакомилась с графом Калиостро. Он тогда уже был Великим Коптом египетских масонов. Он дружил с английскими масонами, которые учат, что посредством магических церемоний и формул люди могут управлять духами, вызывать тени покойников, превращать неблагородные металлы в золото. О том, что он мог превращать железные гвоздики в золотые, вы, наверно, слыхали. Он жил роскошно — лучшие экипажи, слуги в дорогих ливреях… Он объездил весь свет и всюду его прекрасно принимали — и в Германии, и в Англии, и в Египте, и в России… Маликульмульк удержался от возражений. И впрямь, принимать-то принимали, а потом и выставили вон. Обморочить государыню ему не удалось — вот уж кто никогда не был «голубкой»! — Он умел приготовить эликсир молодости, который пил сам и давал пить супруге. Деньги текли к нему рекой. У него, кажется, был лишь один недостаток — он плохо говорил по-французски. Скорее всего, он был с Востока, может быть, даже из Палестины. Но не это главное… Где появляются деньги — там появляются и дурные люди. Я стала «голубкой», чтобы моими устами говорили духи стихий! А им хотелось, чтобы учитель превращал стекляшки в бриллианты. И было несколько странных случаев… я до сих пор не знаю, что это было… Учитель умел заставить духов рассказывать о кладах, о семейных тайнах; наверно, я что-то такое говорила вслух… «голубки» ведь почти ничего не помнят, в это трудно поверить, но это так. И, к тому же, все знали, что учитель мне доверяет… Весь Париж знал… Графиня перевела дух, немного помолчала. Маликульмульк чувствовал, что воспоминания не из приятных. Но раз она затеяла исповедь в чужой карете — придется слушать, потому что… «потому что я вас люблю…» — Рядом со мной появился один человек, он стал моей тенью, просто поселился в моей гостиной… высокий статный мужчина, южанин, похож на испанца — знаете, есть такой классический тип испанца с удлиненным лицом и орлиным носом? С глазами чуть навыкате? У него и имя было испанское — д’Аламед или д’Аламейд. Он ни о чем не просил, а ведь я была молода и хороша собой… Он надеялся с моей помощью раскрыть секреты графа Калиостро, вот для чего я была ему нужна! И был другой человек, который следовал за мной смиренно, любил меня издали, любил страстно и безнадежно. Когда начался бунт, когда мы с Этьеном и Луи-Шарлем вынуждены были скрываться, он помогал нам, выручал нас — он был низкого звания, и его родственники могли прятать нас в своих небогатых домишках… Именно тогда мы стали настоящий семьей — мой Этьен, Луи-Шарль и я. Тогда лишь я поняла все благородство, всю преданность своего мужа… Ну а потом — я вам рассказывала, в один день я лишилась мужа и сына. Я думала, что умру от горя, но мой верный поклонник помог мне бежать в Англию. Там мы переменили имена и поселились в Лондоне. В Англии было тогда много французских дворян — там оказался и д’Аламед. Он нашел меня и стал преследовать. Он думал, будто мне известны тайны моего учителя, которые помогут нам разбогатеть. Но я знала так немного! Я была всего лишь «голубкой»! — Но Калиостро все же научил вас делать «голубками» других людей? — вспомнив, чем собиралась заниматься графиня в доме фрау де Витте, спросил наконец Маликульмульк. — Да. Это не так сложно, как кажется. У меня есть камень, который для этого необходим, я с ним не расстаюсь. Погодите… Рука скользнула под салоп, вырыпнула, поднялась, пропала, а в полосе света оказался камень, по виду — большой страз в изящной оправе на золотой цепочке. Графиня качнула его, и он даже во мраке заискрился, качаясь взад-вперед, от мужчины — к женщине, от женщины — к мужчине. И он действительно привязывал к себе взгляд, приклеивал, тащил за собой… еще немного — и, пожалуй, в тридцать три года, все в жизни перепробовав, «голубком» станешь!.. — Верите? — спросила она. — Теперь верите? Я умею делать это. Но д’Аламед хотел совсем иного! Он полагал, что у меня есть рецепты, записи учителя, его дневники. Ну да, одно время я прятала у себя его бумаги — когда у графа были неприятности. Он ведь оказался замешан в дело о королевском ожерелье. — Именно тогда вы знали графа? — оживился Маликульмульк. — Так вам и все подробности этого дела известны? В Санкт-Петербурге следили за развитием этой странной парижской истории сперва с веселым недоумением, потом с тревогой — ничем хорошим она кончиться не могла. Судебный процесс, в который впутано имя королевы Марии-Антуанетты, а чуть ли не главный обвиняемый — кардинал де Роган, государству вряд ли пойдет на пользу, это все понимали. Вот только того, что несколько лет спустя во Франции начнется бунт, предвидеть никто не мог. Не то чтобы бунт был прямым следствием дела о королевском ожерелье — причин хватало, но королева могла бы избежать гильотины, если бы не памфлеты, над которыми потешалась вся взбудораженная Франция; памфлеты, где она была представлена старой развратной австриячкой, главной виновницей скандального дела об ожерелье. Если верить памфлетам, до Марии-Антуанетты Европа вообще не знала, что такое настоящий разврат, — королеву обвиняли в совращении ее маленького сына. Правды об украденном знаменитом ожерелье, главным украшением которого было шесть огромных бриллиантов и семнадцать — чуть поменьше, величиной с лесной орех, а всего их там, если верить ювелирам, сверкало шестьсот сорок пять штук, никто не ведал. Все знали, что оно похищено, и никто не понимал — кем. А то, что в дело как-то замешался граф Калиостро и даже угодил за это на полгода в Бастилию, придавало ему особую таинственность. — Только то, что знают все парижане. Как вы понимаете, учитель ожерелья не брал ни с какой целью. То, что кардинал де Роган якобы передал его учителю, чтобы увеличить бриллианты, и более его не видел, — ложь. Но Бог с ним, с ожерельем, это было так давно… — графиня поймала качавшуюся на цепочке подвеску и спрятала ее под салоп. — Так вот, слушайте! Я пыталась помочь этому человеку, я проводила ритуал, призывала духов, но им владеют темные силы, он все испортил… а его слуга, подлый, низкий человек, тогда же сбежал, унеся с собой его деньги и драгоценности, и д’Аламед повернул все так, будто я виновата и в побеге, и в краже. Это было ужасно, он грозил мне смертью, он преследовал меня! Однажды я чудом вырвалась из его рук… И тогда мой друг нашел выход из положения. Он сказал, что мне нужно изобразить свою смерть, тогда только этот мерзавец от меня отстанет. Знаете, господин Крылов, есть случаи, когда очень чистому душой человеку приходят на ум страшные мысли, потому что он должен спасти любимое существо. Мой друг обещал найти женщину, которая телосложением и даже лицом похожа на меня… нужно ли мне продолжать?.. В голосе была мольба и, кажется, уже почти рыдание. А руки графини, хорошо видимые в полосе света, сжались в кулачки. — Не нужно. — Мой друг убедил меня, что другого выхода нет. Мы жили в Лондоне как муж и жена… точнее, нас считали мужем и женой. Но это были отношения брата и сестры, клянусь вам! Покойный Этьен, глядя на меня с небес, не нашел бы, в чем меня упрекнуть! — графиня всем телом подалась к собеседнику, едва ль не легла грудью ему на колени. — И мой друг все устроил. Я скрылась, он должен был ко мне присоединиться в Портсмуте… впрочем, это не имеет значения… Та женщина… Я видела ее лицо и слышала ее крик! — Не надо вспоминать об этом, — попросил Маликульмульк, словно не замечая, что графиня от волнения ухватилась за его руку. — Она преследует меня, понимаете? Она помогает всем, кто гонится за мной! Д’Аламед идет по моему следу, я знаю это, и она ведет его!.. Я чудом спаслась от него в Митаве. А она… она ждет моей ошибки, эта пьяная английская проститутка! Где бы я ни появилась — там смерть, и все подозрения падают на меня. Этот бедный фон Бохум… я отпаивала его молоком, я приготовила ему лекарство, с ипекакуаной, как делал учитель, он же постоянно составлял противоядия… Маликульмульк мысленно повторил: ипекакуана. — Помогите мне уехать, — взмолилась графиня. — Вы же видите — я ни в чем не виновна. Это она… она подсказала им выкрасть у меня флакон и насыпать туда тот самый яд, которым отравили фон Бохума! Если я останусь — я погибла… Ради моего бедного мужа, ради моего сына, о которых я молюсь каждый день, — помогите! Только вы можете спасти меня! — Но как? — Мне нужна подорожная. Будь у меня подорожная — я бы очень быстро уехала, хотя бы в Двинск, я бы скрылась. Она гонится за мной по всей Европе… Послушайте, а что, если я уплыву в Америку? У вас есть знакомства в порту? Маликульмульк вынужден был признаться, что ни в порту, ни в таможне приятелей пока не завел. — Но вам действительно лучше уехать из Риги, — сказал он. — Неужели у вас нет знакомцев, которые помогли бы вам, взяли вас с собой в дорожную карету? — Нет, я здесь чужая. Я потому и выбрала этот край, что здесь никого не знаю и меня никто не знает. Здесь бы меня не нашли вовеки — так думала я и ошиблась. Помогите, умоляю вас! Я уже дорого заплатила за ту смерть, я нигде не могу найти покоя, куда бы я ни спряталась — происходят странные вещи. И мне опять приходится убегать! Мне нужна всего лишь подорожная! Только она поможет мне покинуть Ригу так, чтобы меня не могли догнать! С ней меня не задержат на заставах! С ней я сразу получу лошадей и смогу ехать быстро-быстро! Ради всего святого, добудьте мне подорожную — мне и моей Мариэтте. Ее зовут Мариэтта Бонсан. Да, я знаю, она груба и глупа, я все про нее знаю, но я не могу ее здесь оставить, они ее погубят! А если останусь сама, то… Говорю вам — моя жизнь в опасности, это не шутка. Я хотела задержаться в Риге ради госпожи фон Витте, но вижу — нельзя, я не имею права подвергать опасности и ее. А вы как думали? Этот человек на все способен, он может прийти за мной в ее дом! — Тут надо подумать, — и Маликульмульк действительно задумался. Подорожные проходили через генерал-губернаторскую канцелярию, это верно, да только как исхитриться? Попросту положить бумагу в общую стопку и подать князю на подпись — авось подмахнет, не спрашивая, что еще за графиня де Гаше? — Ради всего святого, — прошептала она. — Как странно все сложилось, мое спасение зависит от вас… Я больше не скажу об этом ни слова. Я только одно скажу — если вы спасете меня, я буду знать что он, там, на небесах, меня простил… И буду помнить вас вечно… С этими словами она взяла в руки крупную и плотную кисть Маликульмулька, быстро поцеловала ее и выскочила из экипажа. Ему, изумленному, даже показалось, что она взлетела ввысь. Несколько секунд он смотрел на свою руку без единой мысли в голове. Это было за гранью разума, за гранью философии.Глава одиннадцатая Украденное ожерелье
Изготовить подорожную и даже оплатить ее оказалось очень просто. Гораздо проще, чем решить задачу: отнести документ самому или с кем-то послать. Хотя бы с Гринделем — он умудрился бы передать конверт графине так, чтобы простодушная фрау де Витте ни о чем не догадалась. Пусть думает, что графиня проживет у нее до Рождества и будет развлекать ее кундштюками в манере шарлатана Калиостро. Гриндель превосходно бы справился с поручением, да и взялся бы за него с радостью, и почему бы не попросить его? «…потому что я люблю вас…» Маликульмульк твердил себе, что на самом деле это было не впервые, что женщина уже говорила с ним о любви, что на его пылкую речь она, потупившись, ответила: «Вы мне не противны…» И потом, когда пришлось расстаться, заболела от тоски. Это ли не любовь? Женщина? Пятнадцатилетняя девочка, трогательная и трепетная. Любовь для нее была — свадебный трезвон колоколов, нарядное подвенечное платье, совместные визиты к таким же счастливым молодым парам. Она даже не знала еще поцелуя, только соприкосновение пальцев, как бы случайное. Любовь девочки и любовь женщины — это два существа разной породы. И как это получилось у графини, что говорила она о своей запоздалой любви к мужу, а Маликульмульк сейчас не мог отделаться от мысли, будто дело все-таки не в муже? Он все понимал! И он ничего не понимал… Даже договоренность с игроцкой компанией на два дня оказалась совершенно забыта. Вспомнив же, Маликульмульк сказал себе, что первым делом нужно выпроводить из Риги эту особу вместе с ее горничной. Эту старуху с седыми букольками у висков, сущую Мартышку, умеющую говорить молодым и взволнованным голоском! Избавиться от нее и никогда больше не вспоминать. А как избавляются от наваждения? Постом и молитвой? Не пустила ли она в ход те приемы, которым обучил ее Калиостро? Тот качавшийся на золотой цепочке страз — не он ли затмил рассудок? В конце концов Маликульмульк понес подорожную к Давиду Иерониму. Это было умнее всего. Химик обрадовался и обещал в этот же вечер передать ее графине. А Маликульмульк, выйдя из аптеки Слона, застыл монументом, так что прохожие огибали его, недоуменно косясь. Он думал, стоит ли идти на Родниковую. С одной стороны, ему не хотелось оказаться там, где, скорее всего, будут говорить о графине де Гаше и перемывать ей косточки. Еще чего доброго отыскалось какое-нибудь доказательство, что это она отравила фон Бохума. Знать о графине больше, чем теперь, он не желал. А с другой стороны, он ведь уже вступил в Большую Игру, его уже начали заманивать, завлекать, и если он придет побаловаться картишками, — то его не отпустят без маленького выигрыша. Хоть такая радость… Он подумал — и вернулся в Рижский замок. Когда он после ужина и музицирования в гостиной направился к себе в башню, по дороге его перехватила одна из горничных, которых посылали прибираться в его комнате, Матреша. Как-то он помог ей в важном деле. Как у всякой православной женщины, было у нее поминание — самодельная книжечка с вписанными именами, кого поминать во здравие, кого — за упокой. Книжечка досталась от покойницы-матери, и в ней уже воцарилась путаница — многих из тех, кто «во здравие», следовало переписать на другие страницы, «за упокой», а также внести с полдюжины новорожденных младенцев. Не зная грамоты, проделать это мудрено, и Матреша очень горевала. Маликульмульк решил эту задачку, сам вписал имена, и Матреша до сей поры не имела случая показать ему свою благодарность. — Ваша милость, Иван Андреич, — позвала она его. — Что тебе, Матреша? — Сказать хочу… Поосторожнее вам надобно-то… с Фроськой… — Как это — с Фроськой? — Вот уж и на поварне говорили, и конюхи проведали. — И что же Фроська? — Сказывали, каждую ночь к вам бегает, — Матреша засмущалась. — Их сиятельства узнают, шуму будет… И убежала. Маликульмульк сердито почесал в затылке — этого еще недоставало! Потом сообразил: может, кто-то слышал, как его навещала Тараторка? Лестница-то скрипучая… или силуэт промелькнул? На девочку не подумали, а подумали на горничную. Как же быть? Прекратить сплетню под силу одному лишь Господу Богу… Под дверью комнаты он обнаружил мешок с дровами. Это явно была забота Терентия. Мешок безмолвно вещал: вот, топят печку кое-как, к утру все выстужается, а нет чтоб старание проявить, как некоторые, и кто ж еще позаботится?.. — Полтина, — пробормотал Маликульмульк. В одно-единственное слово была вложена целая гневная филиппика: да что ж это, я до конца дней моих буду работать на кучера, которого сдуру приучил получать полтины, и никак не меньше?! В комнате было достаточно тепло, чтобы раздеться до рубашки. Он даже не стал затаскивать мешок, а улегся на кровать и раскрыл роман Гёте «Вильгельм Мейстер», а рядом положил лексикон. Маликульмульк уже достаточно знал немецкий, чтобы вести разговоры, но для чтения Гете слов и грамматики все же недоставало. Знал ли он, что надлежит отоспаться впрок? Не знал, разумеется, а то бы постарался уснуть пораньше — поспать он любил. Утром, явившись в кабинет к Голицыну, Маликульмульк услышал следующее: — А кстати, братец, твой протеже Дивов уже перебрался в Цитадель? — Давно должен был переселиться, — бодро отвечал Маликульмульк, мысленно пытаясь вычислить, сколько дней назад отставной бригадир узнал о своей новой должности. — Узнай, доложи. А то нелепость получается — все из-за него переполошились, нарочно должность изобрели, а он, старый хрен? Князь с утра был не в духе, досталось «братцу» за не отправленные вовремя письма — нужно же следить за подчиненными, нужно вовремя прикрикнуть, треснуть кулаком об стол. А подчиненный с ужасом вспомнил то, чему не придал особого значения: подслушанный ночью во дворе разговор Анны Дивовой и Дуняшки. Анна Дмитриевна из упрямства решила оттянуть переезд, надеясь… о Господи, надеясь на графиню де Гаше!.. А ведь графиня спешно покидает Ригу в обществе своей неприятной горничной. И бедная Анна Дмитриевна будет обреченно ждать ее, хитрить, оттягивать переезд в Цитадель, пока это не приведет к основательным неприятностям для бригадира Дивова. Маликульмульк потребовал в канцелярию курьера и послал его в Цитадель — узнать, не вселился ли бригадир с внуками в свои комнаты. Была такая надежда, была — что старик переломит упрямство невестки! Курьер вернулся и молча развел руками — нет, комнаты готовы и вычищены, даже печки починены, а господина Дивова нет. Тогда начальник генерал-губернаторской канцелярии сделал то самое, на что вдохновил сердитый князь: закричал на подчиненных, велел им работать, не разгибая спин, а то сделает, как в старое доброе время в московских приказах — там, сказывают, нерадивых подьячих веревками к скамьям привязывали. Он схватил копию письма в магистрат, увидел легонькую подтирочку, изорвал бумагу в клочья и шваркнул их на пол. Пока обалдевшие подчиненные сидели, сгорбившись и сжавшись, не смея поднять глаз, начальник канцелярии выскочил и побежал в башню — за теплым рединготом. По дороге поймал казачка Алешку, велел выбежать на площадь, остановить у гостиницы извозчика и отправить его к Южным воротам. Было не до приятных пеших прогулок. На Родниковой Маликульмульк велел извозчику ждать и, даже не взглянув на дом с голубыми ставнями, полез наверх, в жилище Дивова. На сей раз дома были внуки — сидели в углу и испуганно смотрели на постель, где лицом к стене лежал Петр Михайлович. Маликульмульк испугался, не помер ли старик, но Дивов, услышав его оклик, повернулся. — Уйдите все, — сказал бригадир. — Мне теперь остается лишь помереть, зажился, старый дурак, зажился… — Где Анна Дмитриевна? — Не ведаю. У них спросите. Внукам было лет восемь-десять, не более. — Где Анна Дмитриевна? Когда вы ее в последний раз видели? — обратился Маликульмульк к мальчикам. — Вчера вечером. Мы на дворе играли, — сказал старший. — И на улицу выходили. Подъехал извозчик, господин в епанче сошел и камушком в наше окошко кинул. — Два раза кинул, — поправил младший. — И тут тетенька по лестнице спустилась. — С узелком. Узелок из старой шали. И села к нему, и уехала… — А вам ничего не сказала? — спросил Маликульмульк. — Ничего… Мы думали, вернется, а не вернулась. — Дедушка чуть не до утра у окна сидел, — добавил младший внук. — И есть дома нечего, мы все съели… — Петр Михайлович, она никакой записки не оставила? — на этот вопрос Маликульмульк ответа не получил. Старик опять отвернулся к стене. Маликульмульк стоял посреди нищенски убранной комнатушки — пень пнем. Что-то нужно было предпринять. А он разучился предпринимать. После того как князь взял его под свое покровительство, способность принимать решения словно бы заснула в нем. Погоня за игроцкой компанией не стала пробуждением — это скорее было какое-то бессознательное движение организма на поиски необходимых для себя условий существования. Червяк под землей — и тот ведь, тварь совершенно безмозглая, ползет туда, где чует свой червячий провиант… А вот теперь нужно было действовать, и действовать решительно. — Как тебя звать? — спросил Маликульмульк старшего из внучат. — Сашей. — Беги, Саша, лови извозчика. Живо, живо! Петр Михайлыч, поднимайтесь. Поедем отсюда в Цитадель. Ответа не было. — Петр Михайлыч! Саша, ступай скорее… Его сиятельство велели доставить вас в Цитадель, там все для вас готово. Вы должны приступить к отправлению своей должности… — Оставьте, сударь, меня в покое. Я никого не желаю видеть. Уходите. Все было понятно — гордость, видать, у этого семейства в крови. Сами горды, и невестка такова же. Если бы речь шла только о старике, полагающем, будто бегство Анны Дмитриевны опозорило семью, — Маликульмульк пожал бы плечами и ушел. Уж как-нибудь расхлебали бы кашу, заваренную вокруг надзирательского места. Но двое мальчишек — старший как раз в том возрасте, когда сам Маликульмульк потерял отца и должен был идти служить… Им-то в этом городе куда деваться? Кому они тут нужны? — Если вы не встанете, я на руках вынесу вас отсюда и отвезу в Цитадель, — пригрозил Маликульмульк. — Уходите, говорю вам. — Хорошо… Маликульмульк оглядел комнатку — убожество невозможное, хотя мебель наверняка с прежней квартиры. Угол закрыт занавеской, там, видимо, постель Анны Дмитриевны. На полу, как два бочонка, скатанные тюфяки с одеялами — постели мальчиков, не иначе. Образа в углу без окладов, оклады давно проданы. — А тебя как звать? — спросил он младшего. — Митей. — Бери, Митя, постели, перетаскивай вниз. Поедешь жить в Цитадель. Там хорошо — солдаты маршируют, кавалерия, часовые на постах, пушки на валах и на бастионах. — Я знаю… — Давай, собирайся! — А дедушка? — Дедушку я уговорю. Жить будете в хороших комнатах, в каменном доме. Дедушке должность дали. Учиться с Сашей будете. Я вас в Рижский замок отведу, князю с княгиней представлю. — Нельзя нам в замок, — строго ответил Митя. — Отчего же? — Мы — голодранцы. — Ясно… Безмолвно помянув черта, одарившего высокомерием нищее семейство, Маликульмульк отцепил ветхую занавеску, оторвал от нее полосу ткани и увязал поочередно оба тюфяка. — Тащи вниз, говорят тебе. Дедушка получит жалование — купит вам с Сашей кафтанцы. И вот что! Соседок позови! Пусть помогут собраться! Маликульмульк надеялся, что явится Дуняшка, и от нее можно будет все узнать про Анну Дмитриевну, ведь она-то после Маврушки и была посредницей в переговорах между графиней де Гаше и госпожой Дивовой. Но пришла лишь ее тетка, женщина хрупкого сложения и на вид болезненная. А откуда быть здоровью, если целыми днями сидишь скорчась над шитьем? Старый бригадир делал вид, будто его вся эта суета не касается. Если бы Господь сейчас забрал к себе его усталую душу, он был бы безмерно благодарен. Маликульмульк понимал это — да ведь нельзя же раньше смерти помирать. В конце концов он встал над постелью и просто силком усадил Петра Михайловича. — Вставайте, черт бы вас побрал! — сказал он, встряхнув старика за плечи. — Сами же просили хоть какую должность! Вещи собраны, едем же наконец! Маликульмульк сильно беспокоился, что вот уехал посреди трудового дня, бросив службу, и не было бы опять нагоняя от князя. Ему приходилось спешить, а в таких случаях не до излишней любезности. Кончилось все это нелепо. Ему удалось выпроводить старика на лестницу, и поспешность заставила его идти по ветхим ступенькам следом. Общий их вес произвел давно ожидаемое действие — лестница затрещала, накренилась, длинный козырек потерял опоры, все поползло. Маликульмульк успел выпихнуть бригадира, и тот, сломав балясины перил, распластался на жухлой траве. Сам же Маликульмульк сумел лишь закрыть голову руками и согнуться — его накрыло козырьком, ступени ушли из-под ног, и он застрял в деревянных обломках, боясь пошевелиться. И тем не менее произнес вслух: — Слава Богу! Это бедствие означало, что пути назад, в каморку под крышей, у бригадира Дивова больше нет. Прибежали соседи с баграми, которые имелись в каждом доме на случай пожара, растащили доски, протянули Маликульмульку грязные руки, и выдернули его из обломков лестницы. По-немецки, по-латышски, по-польски, по-русски спросили, цел ли, не пострадал ли. Он благодарил, как умел. Затем соседи помогли погрузить узлы на извозчика (о перевозке мебели и речи быть не могло), усадили Маликульмулька и бригадира с внуками, и дрожки покатили в сторону эспланады. Когда княжеское семейство уселось за обеденный стол, вошел Маликульмульк с такой довольной физиономией, какой уже давно не радовал благодетелей. В последний раз он так сиял после тайной и опасной премьеры «Подщипы». — Бригадир Дивов вселился в свои апартаменты. Мебели там немного, да как-нибудь обрастет хозяйством, — доложил он. — У нас в канцелярии стоят старые стулья и стол, я велю к нему перенести. Ваше сиятельство, Варвара Васильевна, прикажите Марье Демьяновне выдать постельного белья, сколько можно. И парнишек надо одеть по-человечески — я знаю, у вас всякая ветхая детская сорочка сберегается. — Ты, Иван Андреич, прямо как добрая фея из французской сказки, — сказала княгиня. — После обеда велю девкам все собрать, что требуется. А что, невестке Дивова тоже нечего надеть? — Боюсь, что так, ваше сиятельство. И коли я к закускам опоздал, то велите хоть щей налить побольше! Без щей я не работник. Перевоплощением в Косолапого Жанно Маликульмульк отвлек внимание княжеской четы от госпожи Дивовой. И съел две полные тарелки, и хлеба на сюртук и на рубашку накрошил исправно — проделал все, что господам по вкусу. Казалось бы, все в порядке. Бригадир, вынужденный жить на золотые проволочки из галуна, пристроен. Внуков, Бог даст, удастся вернуть в привычную для них обстановку — с книгами, учителями, хорошей пищей. Анна Дмитриевна… Вот тут было некоторое сомнение. Маликульмульк бесспорно был философом, однако в странствиях на всякие рыла нагляделся. Добрая половина из тех, с кем он садился за карточный стол, либо вообще документов не имела, либо имела какие-то подозрительные, с фальшивыми именами. Графиня де Гаше получила подорожную на свое имя, куда была вписана девица Мариэтта Бонсан и никто более. Как же графиня собирается везти с собой госпожу Дивову? Под именем Мариэтты? Зачем же такие тайны? Дивова — взрослая женщина, вдова, никто ее силком удерживать в доме свекра не может. Даже если бригадир станет ее искать — ему прямо скажут, что власти над ней он не имеет ни малейшей! Ни черта не понять… Дворецкий графини Савва Никитич где-то с кем-то договорился, и князю привезли лещей из озера Астигерв, которые в Риге почитались деликатесом. Повар Трофим, чтобы их правильно изготовить, бегал советоваться в «Петербург». Когда их подали, Маликульмульк, давно уже слыхавший про эту рыбу и очень желавший познакомиться с ней поближе, приступился к деликатесу в полнейшей рассеянности: его мысли были заняты графиней де Гаше. С одной стороны, встречаться с ней не следовало — оба чувствовали бы себя очень неловко после беседы в чужом экипаже. Подорожную она получила — чего же еще? Зачем травить душу бедной женщине, которая бог знает чего навертела вокруг случайного сходства? Да и себя бы неплохо поберечь… «потому что я люблю вас…» Но узнать, где Анна Дивова, все же нужно. И если она действительно сгоряча собирается уехать из Лифляндии под чужим именем — предостеречь! Тут вспомнилось, что Анна Дмитриевна говорила о муже. Она не верила, что Михайла Дивов покинул сей свет, и собиралась его ждать, если не на Родниковой, то хоть там, где бы он легко ее отыскал, вернувшись в Ригу. Это что же выходит — она получила доказательства его смерти? От графини? И не вцепилась графине когтями в рожу за то, что та допустила самоубийство? Да и как бы графиня объяснила ей, что раньше ее не известила о прискорбном событии, чтобы хоть отпели покойника в церкви, как полагается? Как бы она призналась, что тело Дивова лежит на дне пруда? Когда подали десерт, «мокрое пирожное» и «сухое пирожное», Маликульмульк уже знал, что в канцелярию не вернется. На вопрос княгини, где же обещанная одноактная пиеска, которой можно будет развлечься в долгие осенние вечера, он ответил что-то невнятное: мол, наброски есть, замысел зреет… И, вырвавшись из столовой, поспешил на Известковую улицу к фрау фон Витте. Было уже не до церемоний. Пожилая дама, когда ей доложили о госте, устремилась к нему, как шекспировская Юлия к своему Ромео. — Случилось нечто странное! — воскликнула она. — Графиня де Гаше покинула меня, даже не простившись! Она уехала вечером, несколько дней назад, ничего не объяснив, и ее до сих пор нет. А вчера, когда меня не было дома, приходила ее горничная и забрала вещи. Мои слуги впустили ее, ничего не подозревая, и даже не попытались задержать… — Ничего не пропало вместе с графиней? — Кажется, нет. Герр Крылов, она ведь так интересовалась вами, вы ей понравились… Неужели вы ничего не знаете о ней? — Я знаю только то, что она сейчас, видимо, уже едет прочь из Риги. И думаю, что больше не вернется. — Как обидно… — Утешьтесь, сударыня. У графини есть враг, который ее преследует. Если бы она осталась у вас, неизвестно, что бы получилось — опасность угрожала бы всем, кто рядом с этой дамой. — О враге она мне ничего не говорила… — фрау фон Витте выглядела совсем растерянной. — А как вышло, что вы познакомились с этой дамой? Кто вам ее представил? И не было ли после того, как она у вас поселилась, каких-то странных происшествий? — Погодите! — фрау взяла колокольчик с ручкой в виде амура и позвонила, сразу появилась горничная. — Марта, это ведь ты мне жаловалась, что какой-то нахал подкарауливает тебя у черного хода? Горничная была молода, с приятным личиком, округлыми щечками и уже двойным подбородочком, весьма трогательным. Маликульмульк понимал, что нахал мог просто соблазниться ее пышными прелестями, но, чтобы не огорчать фрау фон Витте, стал задавать вопросы. Оказалось, нахала Марта прежде никогда не видала, он не русский, не поляк и не местный немец — разве что откуда-то из далекой Баварии или даже курфюрстства Вюртембергского, так он причудливо говорил по-немецки. А меж тем наглости у него было — как у французского танцмейстера, что ходит к фрейлен Доротее Августе… — Француз! — воскликнул Маликульмульк. — Все сходится! Он пытался приручить горничную, чтобы через нее узнавать о графине. — Мой Бог… — прошептала фрау и принялась возмущаться своей приятельницей-курляндкой, которая по глупости ввела в ее дом такое сомнительное сокровище. — Но граф Калиостро?.. — попробовал напомнить Маликульмульк. Фрау фон Витте согласилась: графиня действительно знала Калиостро, тут сомнений быть не могло. Где она жила перед тем, как была приглашена к фрау фон Витте, и в каком обществе вращалась, выяснить не удалось. Фрау знала одно — ее гостья обреталась в Митаве, когда там был двор французского короля-изгнанника. Эта история нравилась Маликульмульку все менее и менее. Он вспоминал, что рассказывал хозяин «Иерусалима» — графиня уезжала в крепость, где у нее были какие-то друзья… Какие?.. Не у них ли она вместе с Анной Дивовой? Ведь на Родниковую улицу она уж точно не вернется! От фрау фон Витте Маликульмульк поспешил в аптеку Слона. Там в лаборатории он обнаружил не только Давида Иеронима, но и Паррота, но ему уже было наплевать на презрение дерптского профессора. — Герр Гриндель, вас вся Рига знает и вы всю Ригу знаете, — с ходу сказал он. — Кто из рижан принимает у себя французов, уехавших зимой из Митавы? Может, вы даже сами знаете этих французов? — Знаю несколько человек, а что случилось? Маликульмульк вкратце объяснил. — Я же говорил! — воскликнул Давид Иероним. — Георг Фридрих того же мнения. Одного такого человека мы знаем и можем хоть сейчас привести — это парикмахер Рамо. Я два дня назад у него стригся. А он перечислит вам весь митавский королевский двор! Для таких людей дело чести — знать в лицо всех господ в радиусе десяти миль. — Идем к парикмахеру! Паррот остался в аптеке, Гриндель повел Маликульмулька к Рамо. Тот держал заведение как раз за углом, в узенькой Малой Новой улочке. И Рамо поклялся честью, иначе не умел, что никакой графини де Гаше в Митаве не было. Женщины, похожей на нее по описанию, он тоже не знал. — Черт знает что! — воскликнул возмущенный Давид Иероним. — Сплошное вранье! Но зачем, с какой целью? — Она не из легкомысленных дам, возраст не тот, — отвечал Маликульмульк. — И не из дам, которые промышляют карточной игрой, с моими знакомцами-игроками она сошлась случайно. Она действительно от кого-то скрывается, бежит из города в город, и потому врет. И пусть бы бежала — я только хочу, чтобы госпожа Дивова поняла, с кем имеет дело, и вернулась домой. — Вы полагаете, госпожа Дивова в опасности? — Я не знаю, что и думать… — Надо посоветоваться с Парротом, — предложил Давид Иероним. — Именно с ним. Он человек очень строгих правил… знаете, есть люди наподобие морского компаса, по которым можно проверять свой жизненный путь, в верную ли сторону движешься. Так вот он — такой. Он чувствует, где неладно… какая-то гниль, грязь… чувствует, понимаете? — Надо посоветоваться с полицейским сыщиком, — хмуро возразил Маликульмульк. — Если бы я только сам, своими руками, не изготовил ей подорожную!.. — Как это все нелепо… Идем к Парроту. — Нет. Я должен сесть и подумать. — Не на улице же вы собираетесь сидеть. Идем в аптеку. Менее всего Маликульмульк хотел видеть сейчас Паррота. Однако не обязательно было забираться в дальние комнаты, где проводили опыты Давид Иероним и Георг Фридрих. Можно было посидеть и в кресле для покупателей, выпить хорошего крепкого кофея с печеньем… И собраться с мыслями… Если только не помешает благодушный и разговорчивый герр Струве. На второй чашке кофея Маликульмульку пришла в голову мысль. Он сам себе сказал, что мысль, возможно, дурацкая, но если это так — потом можно вслух назвать себя дураком; потом, когда все разъяснится. А сейчас ее следует додумать до конца. Вокруг Мартышки образовался букет убийств. Смерть Михайлы Дивова, смерть фон Бохума и еще одна — смерть горничной Маврушки. Маврушка, правда, поспешила той ночью на Родниковую, потому что увидела там мопсовидную Эмилию. Но она знала графиню де Гаше! И, видимо, встречала Эмилию в обществе графини — откуда-то в голове были сведения, что Маврушка ездила в «Иерусалим». Так что смерть горничной тоже могла иметь отношение к графине де Гаше. Что если место, где удавили Маврушку и подбросили ее тело в карету, и есть тайный адрес графини? Вроде складно — Маврушке необходимо было видеть графиню, потому что та могла знать о ее беглом любовнике, лакее Дивова Никишке. Это был для беременной женщины вопрос жизни и смерти. Эмилия фон Ливен отправила ее туда — а там… Может быть, Маврушка увидела то, чего ей видеть не следовало? Или узнала тайну, которая была слишком опасна? Или, что вернее всего, столкнулась со своим беглым любовником? А проклятый Терентий, если даже его припереть к стенке, начнет вопить и причитать, божась, что на сажень от Гостиного двора не отъехал, разве что лошадей напоить! Допустим, он почти признался в том, что был на Родниковой, — так ведь там-то горничную и не убивали, игроцкой компании лишний труп ни к чему. А бегать по Романовке и по Мельничной, выспрашивать про карету с гербом бесполезно, столько времени прошло, и хуже того — княгиня в тех краях каталась, люди могли запомнить ее экипаж, проезжавший совсем в другой день, и образовалась бы несусветная путаница. Да и лишней минуты, если вдуматься, для такого розыска нет. Открылась дверь, ведущая во внутренние помещения, на пороге встал Паррот, пристально поглядел на Маликульмулька своими южными черными глазами. — Давид Иероним все мне рассказал. Заходите. Дело слишком серьезное… — Сам справлюсь, — отрубил Маликульмульк. — Заходите. Давид Иероним очень обеспокоен. Он боится за вас — говорит, вы сами начнете разгребать эту историю… По лицу Паррота Маликульмульк прочитал завершение фразы: «… и окажетесь на цинковом столе в анатомическом театре, с потрохами, попорченными мышьяком». И такое не исключалось… Маликульмульк вошел вслед за Парротом в лабораторию и сел на предложенный стул. — Как вышло, что вы сделали для этой дамы подорожную? — спросил Паррот. — Я поверил ей в том, что за ней охотится какой-то человек, способный на все. — Значит, вы поверили на слово… — начал было Паррот. — Нет! Я, возможно, сам видел… то есть слышал этого человека. Ее действительно… искали. Маликульмульк еще не знал, как по-немецки «выслеживали». — Вам не показалось? — Этого человека видела девочка, воспитанница княгини Голицыной. И он не один, их по меньшей мере двое. Он, как и говорила мне графиня де Гаше, француз. То есть все совпало — и я поверил… Было в его ответе нечто — не ложь, скорее лукавство, ну, так не станешь же объяснять физику, что чувствует поэт, услышавший «…потому что я люблю вас…» — Давид Иероним говорил, будто эта женщина была приятельницей Калиостро. Звучит причудливо. — С Калиостро она была знакома, — подтвердил Маликульмульк. — Фрау фон Витте убеждена в этом — она привела какие-то важные подробности. А мне графиня де Гаше сказала, что Калиостро был ее любовником, и об этом знал весь Париж. — И как же она объяснила свое бегство через всю Европу? — Я, честно говоря, не очень понял. Она была «голубкой», ее устами говорили духи, которых он вызывал, и речь шла о каких-то сокровищах, кладах… За ней гонится человек, который помешан на всем этом чернокнижии, как я понял, впрочем… Не знаю! И он действительно не понимал — как вышло, что вся невнятица, услышанная от Мартышки, до сих пор не вызвала у него вопросов. Очевидно, учитель и впрямь открыл ей тайну, как стразом на цепочке лишать людей бдительности. — А я, сдается, знаю, — сказал Паррот. — Вы, Давид Иероним, тогда были еще ребенком, а я как раз закончил Штутгартскую академию, где очень хорошо преподавали математику и физику. И мне были очень любопытны опыты Калиостро — я, видите ли, хотя и материалист, но материалист любознательный. Калиостро утверждал, что превращает пеньку в шелк, что из всех металлов может изготовить золото… Типичный алхимик! Но мне показалось любопытным, что он обещает выращивать из маленьких бриллиантов большие. Как вам известно, в природе кристаллы имеют свойство расти, и я думал — не может ли человек овладеть этим способом? Но сведения о Калиостро свелись в конце концов к скандалу вокруг знаменитого ожерелья, в который он самым странным образом впутался. Вот я и думаю, что приключения вашей графини могут иметь к тому делу какое-то отношение. — Но что это за скандал? — спросил Давид Гриндель. — Я о том деле почти ничего не знаю. — Дело загадочное — и даже те, кто был тогда в Париже и следил за судебным процессом, вряд ли знают больше вашего. Говорят, с дела о королевском ожерелье началась так называемая революция. Паррот задумался. Маликульмульк и Гриндель глядели на него с большим интересом. Маликульмульк, разумеется, знал больше, чем Давид Иероним, но решил послушать Паррота — да и боялся, что сам не осилит такой монолог на немецком языке. — Ну, вкратце все это выглядело так, — начал физик. — У покойного Людовика Пятнадцатого, деда того Людовика, которого гильотинировали, была содержанка, графиня Дюбарри. Она заказала себе у двух парижских ювелиров огромное ожерелье из крупных бриллиантов, во все декольте, но выкупить не смогла — король, обещавший ей деньги на эту нелепую вещицу, умер. Я видел рисунок — это четыре довольно широкие бриллиантовые ленты, причем две перекрещиваются на груди, а две просто свисают, да еще большие подвески. Никакой особенной красоты — одно хвастовство деньгами, вложенными в эту глупую затею. Ожерелье осталось у ювелиров — отчего-то они его не разобрали, как поступили бы умные люди, а упорно хранили больше десяти лет. В Европе была лишь одна женщина, способная приобрести его, — молодая французская королева Мария-Антуанетта. Ей предлагали, она отказалась. И вот в Париже появилась некая авантюристка, называвшая себя графиней де Ла Мотт. Откуда взялась — я слыхал, но забыл, да это и не играет роли. Она придумала способ, как выманить у ювелиров ожерелье. Тогда в Париже жил некий кардинал де Роган, человек богатый и недалекого ума. Отчего-то Мария-Антуанетта его не любила и видеть не желала, а он все отдал бы, лишь бы удостоиться ее благоволения… — Покойная королева имела для этого все основания, — перебил Маликульмульк. — Когда она была еще только австрийской принцессой, кардинала назначили послом Франции в Вене. Он развлекался тем, что собирал грязные слухи о девице и где-то раздобыл копии писем, компрометирующих ее. Речь шла о ее связи с королевским братом, графом дʼАртуа. Наши дипломаты, когда начался скандал с ожерельем,припомнили ту историю. — Некрасивая история, — согласился Паррот. — Но она многое объясняет. А вы, значит, знакомы с дипломатами? — О Господи, с кем только я не был знаком в столице… — пробормотал Маликульмульк. — Даже с покойной государыней. И вдовствующей императрице был представлен. А что толку? — Действительно… Итак, Давид Иероним, приготовьтесь — услышите невероятную историю. Вы назовете кардинала де Рогана фантастическим дураком и правильно сделаете. Но если понимать, что он боялся мести королевы и считал предложение мадам де Ла Мотт единственным шансом, то можно проявить снисходительность. — Я, когда при мне эту историю рассказывали, просто не поверил, что авантюристка могла выдать себя за подругу королевы. Ведь придворных дам не так уж много, их все знают в лицо, и как она смогла убедить старого чудака, что королева делится с ней всеми секретами, — уму непостижимо, — сказал Маликульмульк. — Разве что… разве что граф Калиостро научил ее внушать людям все, что угодно… И в памяти возник качающийся на цепочке огромный страз. Вправо-влево, взад-вперед, глядите, сударь, на мерцающую грань, сосредоточьте все внимание на острой, как иголочка, искре… — Однако она заморочила кардиналу голову. Скорее всего, стала его любовницей. Во всяком случае, он ей давал немалые деньги. И в то же время она утверждала, что пользуется влиянием при дворе, в кругу подружек королевы. Однажды она рассказала кардиналу, что королеве очень хотелось бы получить пресловутое ожерелье, но полтора миллиона ливров, которые просят ювелиры, она выложить не может. Цена, кстати, справедливая. Король, которого она просила сделать ей этот маленький подарочек, ответил: «Лучше бы на такие деньги построить несколько военных кораблей». Король — единственный в этом деле, кто вызывает сочувствие. Маликульмульк удивленно посмотрел на Паррота — он скорей поверил бы в способность физика выращивать из стекляшек настоящие алмазы, чем в его сочувствие кому бы то ни было. — Ему удивительно не повезло с женой, — поддержал Давид Иероним. — Если хотя бы четверть того, что о ней говорили, — правда, то он был самый несчастный человек в мире. — Я сейчас расскажу, откуда взялись эти сплетни о королеве. Эта мадам де Ла Мотт сперва показывала кардиналу фальшивые письма, которые королева будто бы писала ей, потом вообще взялась передать королеве письмо от кардинала. Наконец обнаглела до того, что устроила кардиналу ночное свидание с королевой в Версальском парке. Роль королевы исполнила какая-то модистка — от нее требовалось лишь позволить поцеловать себе руку. И тогда уже эта дама предложила кардиналу купить благосклонность королевы ценой ожерелья. Он должен был взять его у ювелиров, расплатиться, передать мадам де Ла Мотт — и сидеть у себя в особняке, ожидая королевской благодарности! А мадам де Ла Мотт с супругом, таким же мошенником, наблюдали бы за этой комедией откуда-нибудь из Америки… — Какая низость! — воскликнул Давид Иероним. — А я и не обещал благородных чувств, — усмехнулся Паррот. — Вы, милый друг, избалованное дитя. Вам никто и никогда не сказал дурного слова. В жизни вашей не было потерь… Вот вы и ждете от человечества, чтобы все двуногие прямоходящие с плоскими ногтями были добры, честны, справедливы. Маликульмульк хмыкнул — он сам думал о Гринделе точно так же. — Но у кардинала, очевидно, не нашлось полутора миллионов, чтобы сразу отдать ювелирам деньги. Он радостно доложил им, что берет ожерелье для королевы, часть денег выдал наличными, а на остальную — подписал заемные письма. Вот тут план мошенницы и дал трещину, потому что вскоре ювелиры попросили денег у королевы. Начался скандал, стали разбираться: где ожерелье? Королева утверждала, что ничего не получала, да и графиню де Ла Мотт никогда не видела. Кардинал де Роган утверждал, что было ночное свидание. И, знаете, он предъявил расписку королевы в том, что она получила ожерелье! Вот эпизод с распиской мне понравился — почерк был скопирован очень точно, а с подписью мошенники перестарались: написали «Мария-Антуанетта, королева Франции». Они действительно были далеки от двора и не знали, что королева, подписывая бумаги, никогда не указывает свой титул. Но хватит подробностей. Исход дела таков: дурака-кардинала оправдали, Калиостро, который непонятно как впутался в эту нелепую историю, провел полгода в Бастилии и был изгнан из Франции, а мадам де Ла Мотт, не догадавшаяся вовремя убежать, как ее супруг, получила по заслугам — ее высекли на площади и заклеймили буквой «v» от слова «voleuse», то есть — «воровка». — А ожерелье? — чуть не хором спросили Гриндель и Маликульмульк. — Ожерелье так и не нашлось, по крайней мере тогда. Говорят, что граф де Ла Мотт, который вовремя удрал в Англию, продавал там крупные бриллианты. Но шуму было много. И вот что я вспомнил. Одно время все кричали, что ожерелье украли сам кардинал и его приятель граф Калиостро. Мадам де Ла Мотт вела себя так глупо, что сейчас мне кажется — это похоже на правду. Если приятельница Калиостро много лет спустя после его смерти колесит по Европе, скрываясь от каких-то загадочных врагов, не связано ли это с тайной ожерелья, которая ей известна? — Хорошая версия, — сказал Гриндель. — А что стало с мадам де Ла Мотт? — Подробностей не знаю, но говорят, что она бежала из тюрьмы, где ее держали после наказания. А потом во Франции появились ее мемуары, где она поливала грязью бедную королеву. А поскольку уже надвигался бунт, поскольку народ ненавидел династию, госпоже де Ла Мотт поверили — ведь она жертва! Мемуары, говорят, раскупали в Париже, как жареные каштаны. Потом, когда уже казнили короля, когда судили королеву, эти мемуары были среди судебных документов. — Какая мерзость, — Давид Иероним даже поморщился. — Значит, граф Калиостро мог похитить если не все ожерелье, то часть камней. И этим, может быть, объяснялись его трюки с выращиванием бриллиантов — у него был целый склад камней любого размера. — Ну, бриллианты он, положим, и раньше увеличивал, то есть все считали, будто увеличивает, — сказал Маликульмульк. — В то, что он мог присвоить часть ожерелья, я верю. И в то, что любовница его знает, где спрятаны камни, тоже верю. Это — повод гоняться за ней по всей Европе… очень хороший повод… Но при чем тут госпожа Дивова? На что она понадобилась графине де Гаше? — Может быть, только для того и понадобилась, что знает языки: русский, французский, немецкий, она же много лет прожила в Риге, должна знать немецкий, — ответил Паррот. — А что касается путешествия под чужим именем — так откуда мы знаем, имя графини де Гаше подлинное или же фальшивое? Вот если бы отыскать кого-нибудь из рода де Гаше, то правда бы явилась на свет. — Послушайте, герр Крылов! — воскликнул Давид Иероним. — Ведь в Риге есть люди, которые знают про графиню де Гаше больше нашего! Это те, что ее преследуют! Помните, вы говорили, что воспитанница княгини видела одного из них и могла бы, наверное, узнать. — Она очень оригинально описала его внешность, — Маликульмульк задумался, как бы перевести на немецкий язык «Кощея Бессмертного» и развел руками. — Что вы еще знаете о преследователе? — спросил Паррот. — Он или кто-то из его помощников пытался обхаживать служанку фрау фон Витте, он устроил наблюдение за домом на Родниковой улице, который она сняла на свое имя… Так, что еще… Похоже, он живет возле деревянной церкви, кажется, Гертрудинской, его видели входящим в трактир… — Ну, так чего же вы ждете? Отправляйтесь в этот трактир и найдите его, — сказал Паррот. Маликульмульк понял, что именно это и нужно сделать. — Давид Иероним пошлет с вами мальчика. Эй, Карл! — позвал Паррот. — Карл Готлиб поедет с вами, а потом, когда что-то прояснится, вернется с вашей запиской. В дверях появился аптекарский ученик. Глядя на него, легко можно было бы представить Гринделя в отрочестве: плотненький, круглолицый, светловолосый. Сразу видно, что выкормлен на самых жирных сливках и самых пышных булочках. Карл Готлиб снял рабочий фартук, в котором готовил толченые снадобья и пилюли, и побежал за извозчиком. А Паррот как ни в чем не бывало вернулся к прерванному спору с Гринделем о каких-то гальванических явлениях. Он вел себя так, как будто они были в комнате одни, и не сидел в углу начальник генерал-губернаторской канцелярии. То есть стал прежним Парротом, не очень благосклонным к Маликульмульку. Он сделал все возможное, чтобы успокоить Гринделя, своего соратника в научных опытах, не более. Так ведь и Маликульмульку с Парротом не детей крестить. Это с одной стороны. С другой, физик высказал любопытную догадку, не более. Бриллианты — это, конечно, повод для преступлений, побегов и преследований, но Мартышка не похожа на женщину, которая имеет что-то общее с бриллиантами. Сдается, если бы дело было только в них, она раскрыла бы тайник Калиостро и сказала: «Забирайте, только оставьте меня в покое!» По крайней мере Маликульмульк точно так и поступил бы.Глава двенадцатая Маленькая семейная тайна
Чем дальше отъезжал Маликульмульк от аптеки Слона, тем менее верил Парроту. Физик просто вспомнил историю, за развитием которой следил много лет назад, и приплел ее к исчезновению госпожи Дивовой. Все могло быть не так… А как — одному Богу ведомо. Сердце подсказывало, что все сложнее, и дело не только в полутора миллионах ливров, но и в душе человеческой. Столкнувшись с тем, что Мартышка не соответствует ни одному из женских типов в табличке драматурга, Маликульмульк думал неустанно, что же это за трагедийная героиня и возможно ли сочинить эту любовь к мертвому супругу, эту тягу к его двойнику. Сочинить ради того, чтобы выманить подорожную, позволяющую передвигаться с самой большой скоростью, какая доступна конному экипажу, — возможно ли? Или ради достижения цели пущена в ход печальная правда? И есть в душе некое чувство — не имеющее пока в названия человеческих языках? Не любовь, нет, нельзя говорить «потому что я люблю вас» кому попало… Иное, иное, отражение любви в том зеркале, которое каждый из нас носит внутри, наверно… Велев извозчику и Карлу Готлибу ждать у трактира, Маликульмульк вошел туда и сел за стол. От волнения захотелось есть. Тем более что за соседним столом уплетали жирную жареную колбасу — запах от нее шел умопомрачительный. Подошла хозяйка в пятнистом фартуке, спросила, чего угодно. Маликульмульк сказал: здесь назначена встреча с приятелем, может статься, приятель уже приходил, да вышел. — А каков он собой? — спросила хозяйка. — Высокий, худощавого сложения… Лицо худое… — Маликульмульк старательно вспоминал, каким в детстве представлял себе Кощея. — Нос вот такой… Он нарисовал пальцем горбину. Эта горбина и решила дело. — Так вам нужен господин Дроссель! — воскликнула хозяйка. — Сейчас я за ним пошлю. Он наверху, в комнате. Похоже, Тараторка была права, и загадочный француз поселился именно тут. Маликульмульк устроился поудобнее и стал ждать. Хозяйка все не возвращалась, и нехорошее подозрение осенило его столь ярко, как не осеняла ни одна стихотворная мысль. Маликульмульк вскочил и быстро вышел из трактира. Шагах в семидесяти от крыльца он увидел высокую мужскую фигуру. Фигура эта удалялась в сторону Лазаретной улицы. А появиться она могла из открытых ворот, куда как раз вползала телега с мешками муки и круп для трактирной поварни. — Гони, — велел Маликульмульк по-русски, забираясь на дрожки. Такие слова, как «гони» и «стой», рижские орманы понимали, кажется, на всех языках мира. Когда дрожки нагнали беглеца, тот обернулся на стук копыт, и Маликульмульк понял, что не ошибся. Мужчина соответствовал обоим описаниям — он годился и на роль Кощея Бессмертного, как определила Тараторка, и на роль гишпанца тоже, да не простого — а того, что в романе Сервантеса именуется Дон Кишот Ламанчский. Упускать его было нельзя. — Стойте, сударь! — крикнул Маликульмульк по-французски. И, разумеется, Кощей ускорил шаг, а потом и вовсе побежал. Казалось бы, трудно ли догнать человека, когда ты на дрожках, а он — на своих на двоих? Выяснилось, что невозможно, поскольку этот человек, перебежав через Лазаретную, кинулся в проулок между домами, временно не перегороженный забором. Маликульмульк эту часть города не знал вовсе, и только понимал, что где-то тут гарнизонный госпиталь. Погоня представлялась совершенно безнадежной — человеку, который весит более семи пудов и в последний раз бегал очень давно, нагнать длинноногого и сухопарого Кощея было мудрено. Однако Маликульмульк соскочил с дрожек и, приказав орману ждать, устремился в тот же проулок. За домами обнаружился небольшой пустырь, слева росли какие-то кусты. Здраво рассудив, что Кощей мог скрыться за ними, Маликульмульк поспешил следом, увидел дорожку, быстро пошел по ней и оказался на гарнизонном кладбище. Ему навстречу катилась тачка, полная какими-то обломками, а гнал ее вперед, ловко лавируя меж холмиков с крестами, старик в древнем синем мундире. — Эй, дядя, тут кавалер не пробегал? — спросил Маликульмульк по-русски. — А вон туда, сударь, туда поскакал! — отвечал старик, довольный, что услышал родную речь. Маликульмульк и не предполагал, что в его философской душе живет такая страсть к погоне. Но всякая страсть чревата тем, что ослепляет человека. Определяя свой путь по шороху сухих листьев, которым настала пора опадать, и по шороху листьев, уже опавших, и по хрусту, который производил Кощей, Маликульмульк вовсе забыл, где находится. И когда он услышал короткий вскрик, то кинулся к своей жертве, не разбирая дороги. Вдруг его тело отправилось в полет, он заорал не своим голосом и шлепнулся на что-то мягкое. Зверская французская ругань была ему ответом. Маликульмульк понял, что он лежит на Кощее, и оба они в какой-то яме, узкой и длинной, так что философу в ней даже толком не повернуться. Наконец он уразумел, что преследователь и преследуемый вдвоем сверзились в свежевыкопанную могилу. — Слава те Господи! — воскликнул Маликульмульк. Теперь он был уверен, что Кощей никуда не денется. Они отчаянно барахтались в рыхлой земле и опавших листьях, а меж тем на крик Маликульмулька прибежали ветераны, доживавшие свой век при госпитале, и склонились над могилой, с волнением спрашивая, целы ли господа, и обещая, что сей же миг притащат лестницу. — Пошли вон! Лестницу потом! — сердито приказал Маликульмульк, стоя над Кощеем на четвереньках. — Потом, я сказал! Физиономии над краем могилы исчезли. Надо полагать, ветераны приняли обитателей могилы за сумасшедших и пошли докладывать начальству, что есть-де кандидаты на палату в смирительном доме. Наконец Маликульмульку с Кощеем удалось расползтись к разным концам своего сырого узилища. — Напрасно вы, сударь, убегали, — сказал Маликульмульк по-французски. — У меня было к вам несколько вопросов, соблаговолите ответить хоть сейчас. — Не имею ни малейшего желания беседовать с вами, сударь. — Однако ж, сударь, обстоятельства располагают к беседе. Позвольте представиться — начальник канцелярии лифляндского генерал-губернатора Крылов. Если же ваша милость не имеет ко мне доверия, то можно позвать сюда кого-то из госпитального начальства. Эти господа меня знают и подтвердят мое звание. Маликульмульк наслаждался собственным французским прононсом и любезностью — Версаль, чистый Версаль! — Прошу прощения за неделикатный вопрос, но что же будет, если я откажусь беседовать с вами, сударь, невзирая на ваш чин? — Будет то, что покорнейший слуга ваш прикажет позвать сюда квартального надзирателя из ближайшей части, и нас вытащат из этой могилы полицейские, а не госпитальные инвалиды. А в полиции вам придется ответить на вопросы, тоже не слишком деликатные. Например — обретались ли вы в Риге и ее окрестностях, когда в гостинице «Иерусалим» был отравлен карточный шулер Карл фон Бохум? Вопрос второй — каковы ваши отношения с дамой, именующей себя графиней де Гаше? Вопрос третий… — Я господина фон Бохума не убивал! Это гнусное подозрение! — воскликнул Кощей. — Отчего же гнусное? Очень даже правильное подозрение. Вы, преследуя графиню де Гаше, могли отравить этого человека по ошибке. Или же подстроить так, чтобы на нее пало обвинение в отравлении. И я вам еще вот что скажу, — Маликульмульк подался поближе к Кощею. — Полиция все еще ищет убийц Мавры Ивановой, горничной госпожи Дивовой, а дом госпожи Дивовой находится в Родниковой улице, и возле этого дома не раз была замечена телега, из которой некий господин, укутавшись в рогожи, вел наблюдение… — Дерьмо! — Вы очень верно изволили заметить… Итак, честь имею еще раз представиться — начальник генерал-губернаторской канцелярии Крылов, к вашим услугам. — Граф де Гаше, к вашим услугам, — угрюмо сказал загнанный в угол Кощей. — То есть?.. То есть вы живы?.. — Вы полагаете, что всякий обитатель могилы мертв? Позвольте осведомиться, а где вы сами находитесь? — злоехидно спросил Кощей. — В одной могиле с вами, господин граф. Только, право, странно — супруга ваша уверена, что вы погибли в девяносто третьем году на эшафоте вместе с вашим сыном. — Какая трогательная новость! Если вспомнить, что в девяносто четвертом мы с графиней обвенчались в Брюсселе… У нее достаточно причудливый нрав, чтобы выйти замуж за привидение, а потом изменить этому несчастному привидению с молодым человеком, но во Франции даже в самые беспокойные годы в судах велась правильная бухгалтерия, и сейчас списки казненных доступны желающим. Смею вас уверить — меня в них нет! Маликульмульк озадаченно смотрел на графа. То, что этот человек оказался жив, было сюрпризом скорее приятным, чем неприятным: теперь могли появиться важные сведения о графине. Другое было скверно — граф, мужчина явно старше пятидесяти, с худым смуглым лицом, с залысинами и почтенной сединой, был совершенно не похож на толстого, круглолицего тридцатитрехлетнего Маликульмулька, не нажившего еще ни одного седого волоска в своей густой темной шевелюре. И, значит, оба разговора с графиней были исполнены лжи — от первого слова до последнего! Впрочем, одно правдивое слово все же прозвучало: «подорожная». — Охотно верю, господин граф, на привидение вы не похожи… Над могилой склонился седой и чрезвычайно румяный старичок. — Так не угодно ли господам лестницу? — с отчаянием в голосе спросил он. — Кыш! — отвечал Маликульмульк. — Надо будет, сами позовем. Так вот, господин граф, мне не хотелось бы опять бегать за вами, да еще по кладбищу. Когда человек хочет доказать, что он не привидение, заманивать для этого оппонента на кладбище — как-то подозрительно, вы не находите? Поэтому давайте еще немного поговорим? Вам не сыро в этой могиле? — Нет, благодарю, могила вполне комфортабельная, — подпустил граф английское словцо. — Я понимаю, что эти люди послушают вас, а не меня, и спустят лестницу только по вашему приказу. Спрашивайте. — Вы скрывались от меня, сударь, полагая, что я как-то связан с вашей супругой и могу ей про вас рассказать? — Да, именно так. Вас видели на Родниковой улице, сударь, а узнать вас несложно — внешность приметная. — Простите великодушно, что лезу в ваши семейные дела, господин граф, но для чего вам выслеживать вашу супругу? — Приходится простить, господин Крылов, иначе я навеки останусь в этой могиле. Моя супруга — дама с причудами. Если я не буду знать всех ее планов и не выясню всех возможностей сбежать, то не смогу ее вернуть. Она, изволите видеть, уже дважды покидала меня самым оригинальным образом — ей это удалось в первом случае потому, что я не приказал закрыть окно снаружи и даже заколотить его, а во втором — я не придал значения ее болтовне с хозяйкой модной лавки. Меж тем они очень ловко сговорились о побеге госпожи графини, называя карету сервизом, кучера — кружевным чепцом и камеристку графини — постельной собачкой. — Да, от модных лавок одни неприятности, — согласился Маликульмульк. — Но это еще весьма невинные способы обмана. Не пускала ли ваша супруга в ход приемы, которым ее обучил граф Калиостро? Позвольте, я помогу вам подмостить под бок вашу епанчу. — Премного вам благодарен. Граф повозился в своем углу могилы, устраиваясь поудобнее. — А отчего вы решили, будто ее чему-то обучал этот шарлатан? — спросил он. — Графиня сама называла его своим учителем. — Это глупейшая история из тех, которые называются грехами молодости. Однажды она была «голубкой». В «голубки» выбирают по соответствию гороскопа, возраста, но одно условие обязательно — голубые глаза. А у графини они до сих пор удивительно яркие и красивого оттенка. Сами понимаете, для молодой дамы это — событие, о котором можно рассказывать двадцать лет подряд, что графиня и делает, увы… Сейчас вы, пожалуй, опять спросите, отчего я преследую свою супругу. — Пожалуй, спрошу, господин граф. — Обычная история — молодой любовник… Когда мы поженились, графиня была бедна, как церковная мышь. Это беда многих парижан — они во время бунта смогли спасти только шкатулки с драгоценностями. А мы, провинциальные дворяне, сумели так устроить свои дела, что формально нашими имениями владели преданные нам люди, а на самом деле деньги от арендаторов исправно нам пересылались — кому-то в Англию, кому-то в Бельгию или в Германию. Я знал графиню юной девушкой. Незадолго до встречи в Брюсселе я овдовел. Она сумела мне понравиться. Мы оба немолоды, я полагал, что мы вместе встретим старость. Но, когда мы были в Германии, она влюбилась в молодого человека. В очень красивого молодого человека по имени Андреас фон Гомберг. И убежала с ним, забыв про свой возраст и обязательства. — И вы хотите ее вернуть? — Да, я хочу вернуть ее, несмотря ни на что, — сурово сказал граф. — А молокососа — уничтожить. Теперь вам все ясно? — Мне все ясно, — произнес Маликульмульк. — Я предлагаю вам, господин де Гаше, объединить усилия. Ваша супруга, можно сказать, похитила из семьи молодую женщину и собирается вывезти ее из Риги под фальшивым именем. Для чего — понятия не имею, но мысли у меня нехорошие… Вы не против? — Вам нужна только та женщина? — Да. Остальное меня не касается. Маликульмульк прекрасно понимал, что это может быть за «остальное». Но решил положиться на волю Божью — потом все как-нибудь уладится… — Тогда я принимаю ваше предложение. — Эй! Кто-нибудь! — закричал Маликульмульк по-русски. — Тащите сюда лестницу!* * *
Проезжая по Известковой улице с графом де Гаше, Маликульмульк вдруг громко рассмеялся: знали бы почтенные бюргеры, что эти два хорошо одетых господина, говорящие между собой по-французски, только что выкарабкались из могилы! Госпитальные служители кое-как отчистили их, но Маликульмульку казалось, что за дрожками остается след, этакая пушистая земляная дорожка. Смех смехом, а на душе было скверно. Да и кому приятно чувствовать себя обманутым? Обыкновенная немолодая дама, заведя себе молодого любовника, странствует по городам и весям, попадает во всякие неприятности, врет про себя несуразно, чтобы придать значительности своей потрепанной особе, — дело житейское! Плохо лишь, что она испоганила своим языком слова, которые должны звучать редко и лишь в тех случаях, когда иначе нельзя. Можно даже умозрительно восстановить ее приключения: поселилась за городом, в «Иерусалиме», чтобы никто не совал нос в ее амурные дела; сперва понятия не имела, что «Иерусалим» сделала местом своего промысла игроцкая компания, потом эти проказы показались ей занятным развлечением. Затем она загадочным образом привлекла внимание Михайлы Дивова — что за дружба, в самом деле, между седой Мартышкой, почти старухой, и молодым красавцем? Хотя эта Мартышка, видимо, умеет заговаривать мужчинам зубы — и с того, пожалуй, чуть полегче, когда знаешь, что она не одному тебе голову заморочила. Возможно, она даже отговаривала его от игры — всякая дама отговаривала бы, даже любительница карт, ритуал такой. Но после смерти Дивова она как-то подружилась с игроками — вот ведь, когда был отравлен фон Бохум, сняла комнаты на Родниковой, куда переселились, кроме нее и Мариэтты Эмилия и Леонард Теофраст фон Димшиц. Это все говорит в пользу Мартышки. А вот то, что она выбрала дом напротив дивовского — не случайность! Сперва подсылала к Анне Дмитриевне Маврушку, потом — Дуняшку, через посредство кавалера Андре… На что ей эта женщина? Разве трудно найти в Риге вдову без родни, знающую отменно немецкий и в разумных пределах — французский? — Скажи господину Гринделю, что я еду в «Петербург», — велел Маликульмульк Карлу Готлибу. Мальчик соскочил с дрожек и побежал к аптеке Слона. «Петербург» понадобился Маликульмульку, чтобы оставить там графа де Гаше и сбегать на разведку в Рижский замок. Они свели вместе все, что знали о жизни графини де Гаше в Риге, и оказалось — оба не имеют понятия, где у нее запасная квартира. Графиня научилась ловко путать след. Граф предположил, что она может использовать жилье Иоганна Мея, но Маликульмульк возразил: с Меем у нее теперь скверные отношения. Впрочем, где поселился картежник, граф тоже не знал, предполагал, что где-то на Колодезной. — Я, отправляясь в Ригу, нанял одного эльзасца, Поля Бутмана, хорошо говорящего и по-немецки, и по-французски, — сказал граф. — Этот господин умеет возвращать беглых жен и детей, мне его рекомендовали. У Бутмана помощник, его племянник. Но оба они в Риге впервые. Что мы могли сделать втроем — то и сделали… — Где сейчас ваш Бутман? — Я полагаю, ходит с лотком по Родниковой улице, следит за тем домом. А племянник, Жорж, отправился в «Иерусалим» — графиня, зная, что ее там уже не станут искать, могла туда вернуться. — Разумно… В «Петербурге» граф де Гаше заказал себе вина и сыра, а Маликульмульк побежал к Северным воротам узнавать, не выезжала ли госпожа княгиня. Оказалось, что нет, и тогда философ направился прямиком в каретный сарай. Терентий был там, чистил и чинил экипаж, приговаривая по привычке: — А где тут моя щетка? А где тут мое шило? В эти золотые минуты он был собственником княжеского экипажа, причем единственным. — Послушай, Терентий, шутки в сторону, мне очень важно знать, где именно ты побывал с господской каретой, — сказал Маликульмульк. — Я тебя не выдам, ты лишь скажи, где оставлял ее на Романовке и на Мельничной. — Не был я ни на Романовке, ни на Мельничной! — сразу отрубил кучер. — Обижаете, а я ли не всей душой… Гляжу на вас — вот как Бог свят… И, стало быть, кто ж еще? А некому! И про все молчу, как рыба! А не то чтобы как другие! А всей душой! Терентий сам себя отлично понимал, а вот Маликульмульку было не до загадок. — Был ты и на Романовке, и на Мельничной. А будешь упираться — князю расскажу. И что из этого выйдет? — Не по-божески это! Грех! — воскликнул Терентий. — И не был! И не видал! — А мертвое тело к тебе с Луны свалилось? — С Луны! — подтвердил Терентий. — Да пойми ж ты, от твоего ответа человеческая жизнь, может, зависит! Или ты не православный? Во Христа не веруешь? — Православный! — отвечал Терентий. — А только не был нигде! И грешно вам! Я-то за вас — каменной стеной! А вы-то не цените! А кто бы еще? С одними дровами наломаешься! И всей душой, а мне за мое добро? Да я ж еще и лишнего слова не сказал! Я ль за вас не болею?! Маликульмульк понял, что стенка непрошибаема, но кое-что показалось ему странным. — Дров я от тебя не просил. Это ты сам выдумал. А что это еще за лишние слова? — А то вы не знаете? Все под Богом ходим. Ваше дело такое — барское, — загадочно отвечал Терентий. — А только я — как могила! А вам и невдомек! И цены мне не знаете, а я… Эх, да что говорить… Где тут мои гвоздики? Маликульмульк до сей поры мало задумывался о сплетнях и слухах, распускаемых голицынской дворней, но после обвинения в пьянстве поумнел. — Терентий! — воскликнул он. — А что Терентий?! Терентий-то знает, да молчит! Не его собачье дело! Ишь, дровами не угодил, ничем вам не угодить! А я всей душой! Бог-то — он сверху все видит! А не надо было! Сказать надо было ее сиятельству про все! А я-то, дурень, молчал… жалел вас, жалел… — Про что ты молчал? — Что знаете! Про Фроську… Ага, теперь-то догадались?! — Догадался, — подтвердил Маликульмульк. — Стало быть, это ты видел, как Фроська ко мне бегает? — Да я ж никому ни слова! Бегает — да и пусть себе бегает, не мое дело! — провозгласил Терентий. — Один только я знаю, никто более! — Один ты знаешь? Ну, понятно. Маликульмульк сердился редко, даже когда проигрывал большие деньги, бывал спокоен и благодушен: деньги пришли, деньги ушли, потом опять заявятся. Но тут он возмутился не на шутку — если Терентий единственный видел женщину, что пробиралась в башню, и никому не сказал, откуда ж это знает вся дворня? Нужно наконец поставить предел кучеровым проказам. Но сейчас голова была занята иным. — Так не скажешь, где бывал с каретой? — Нигде не бывал! Маликульмульк повернулся и пошел прочь. Терентий вздохнул с облегчением. Косолапый Жанно, занятый какими-то барскими глупостями, побуянит и перестанет, а сказать правду про странствия с экипажем — значит, навлечь на себя еще более основательные неприятности. Княгиня может сгоряча и в деревню сослать — сиди там на печи, сожалей о рухнувшей карьере!.. — Чертов кучер, — сказал Маликульмульк графу де Гаше, войдя в обеденный зал «Петербурга». — Молчит, дурак! И как же теперь быть? — Поешьте, сударь, еда имеет свойство успокаивать, — посоветовал граф. — Посидите, выпейте хорошего вина, выкурите трубку. Четверть часа ничего не изменят. — Чертов кучер… — повторил Маликульмульк. Он понял, что Терентий проведал о гостевании Тараторки, но не догадался, что это просто шалости своенравной воспитанницы. А если княгиня, которая не любит амуров в собственной дворне, начнет дознаваться — чего доброго, окажется, что еще кто-то что-то заметил. Неприятность выйдет куда как похуже, чем если бы и впрямь Фроська в башне переночевала. Машу-то берегут — дворянское дитя, любимица… Но сперва нужно было как-то отыскать Анну Дивову. Маликульмульк вздохнул. Жизнь была слишком сложна для ленивого философа из башни, да и слишком буйна тоже: в сломанной лестнице сегодня застрял, в могилу провалился… Бредовый какой-то сон, Вольтер и Мерсье подобного не испытывали… — Герр Крылов! — услышал он и поднял голову. Возле стола стояли Гриндель и Паррот. — Садитесь, господа, — уныло сказал он по-немецки. — Заказывайте что-нибудь. — Что-то случилось? — спросил Давид Иероним. — Случилось, что треклятый кучер не хочет говорить, где именно он оставлял карету. А графиня де Гаше имеет какое-то отношение к убитой горничной! И как теперь быть — я не знаю… Да, господа, у меня для вас сюрприз, — сказал Маликульмульк голосом, каким обычно извещают о времени и месте похорон. — Позвольте представить вам нашего друга, графа де Гаше. Пусть господин граф расскажет, как сегодня выбрался из могилы… После чего он позвал кельнера и стал выбирать себе блюдо посытнее. Паррот и Гриндель заговорили с графом, но тихо — чтобы не отвлекать Маликульмулька. Наконец он остановился на стерляди в желе и миногах, тоже в желе, это местное кушанье он еще не успел хорошенько распробовать. Того и другого взял, разумеется, по две порции и, съев, почувствовал, что мировая скорбь отступила. Подняв взор от пустой тарелки, он увидел строгие глаза Паррота. — Вы сейчас поедете на Родниковую и постараетесь найти госпожу фон Ливен, — сказал Паррот по-французски. — Если это к ней побежала ваша несчастная горничная, как вы рассказывали, то она может знать и о дальнейших приключениях этой особы. И попросите кого-нибудь, чтобы вас хорошенько почистили. В последних словах чувствовалась брезгливость, но Маликульмульк уже привык, что Паррот его не жалует. — Благодарю, — кивнул он. — Вы правы. Я так прицепился к этому жалкому Терентию, что совершенно забыл про Эмилию фон Ливен… — Поезжайте, а граф останется с нами. — Позвольте мне сопровождать господина Крылова, — сказал граф де Гаше. — Все-таки я тут лицо заинтересованное. — Дело ваше, господин граф, но если вас увидит супруга ваша, то возможны всякие сюрпризы, — ледяным тоном отвечал Паррот. — Простите, но я не аристократ, даже не аристократ духа, и подхожу к этому делу как к научному опыту, а в нем ваша персона — нежелательный компонент и даже катализатор. — Отправляйтесь сами, господин Крылов, — произнес Давид Иероним, как-то подозрительно щуря левый глаз. — Георг Фридрих прав… в таких случаях он обычно бывает прав… — Хорошо, господа. Разобравшись, что к чему, я приеду в аптеку — если вы, господин Паррот, не возражаете, — с тем Маликульмульк встал и, оставив деньги для кельнера, пошел прочь. Ему не понравилось, как физик взял власть в свои руки, хотя… хотя Гриндель что-то хотел объяснить… на что-то он намекал… Только выезжая из городских ворот, Маликульмульк вспомнил: Давид Иероним рассказывал, что у его товарища чутье на все сомнительное и недостойное. Стало быть, Парроту не понравился граф де Гаше. Ну, этому господину не угодить, и есть ли в природе человек, который бы ему нравился? Гриндель разве что — так Гриндель на самом деле большое дитя с занятными химическими игрушками, талантливое дитя, о котором заботятся старшие, чтобы он еще долго не знал иных хлопот, кроме колб, реторт, спиртовок и свеклы разнообразных сортов для своего желтого сахара. Что же показалось Парроту сомнительным в графе де Гаше? Они и проговорили-то меньше получаса. Если граф рассказал то же самое, что в могиле на госпитальном кладбище, то к чему же тут придрался физик? Сам Маликульмульк хотел бы прояснить два вопроса — о знакомстве графини с Калиостро и о ее приданом. Можно взять невесту-бесприданницу, если это девица ангельской красоты. Но графине было уже более тридцати, и красавицей ее никто не назвал бы. Может, граф стыдился признаться, что она ему ловко заморочила голову? Ведь он мог выбирать — у дворян, бежавших от якобинского террора за границу, наверняка имелись дочки на выданье, да в немалом количестве. В том, что он выбрал не юную прелестницу, а Мартышку, крылась какая-то загадка — видимо, так же рассуждал и Паррот. Относительно Калиостро — фрау де Витте утверждала, что графиня его очень хорошо знала. Она и сама с ним встречалась в Митаве. А граф заявил, что это была одна-единственная встреча, маленькое приключение в гостиной. Могло ли быть, что граф искренне заблуждался насчет супруги? Скорее всего… Хотя на простака он не похож. А вот на человека, собравшегося кровью смыть пятно с дворянской чести, — очень даже похож. Причем смыть безнаказанно — так уничтожить соперника, чтобы полиция никогда не докопалась до правды. Соперника, а может, и изменницу заодно. Так, в раздумьях, Маликульмульк прибыл на Родниковую и усмехнулся, увидев телегу, стоявшую наискосок от дома с голубыми ставнями. На облучке дремал кучер в черной епанче, надвинув на лоб старую треуголку. «Как есть мэтр Ворон», — подумал Маликульмульк. В самой телеге стояли три мешка — вряд ли в них кто-то прятался. Велев извозчику ждать, он постучался в окно. Никто не подошел. Тогда он, вздохнув, решил действовать иначе: войти через калитку и черный ход. Это удалось. Он оказался в гостиной. На диванчике сидела мопсовидная Эмилия и самозабвенно рыдала. Маликульмульк постоял, поглядел — зрелище было неприятное. Как всякий мужчина, он в глубине души ждал от женщины, что все проявления ее женской сути должны быть красивы, отсюда и комическая неприязнь к престарелым кокеткам. Эмилии же было безразлично, что на нее смотрит мужчина, а может, она его и не заметила. Рыдания продолжались. Тогда Маликульмульк стал искать глазами графин с кипяченой водой и нашел его на ломберном столике. Налив стакан до половины, он подошел к Эмили и осторожно похлопал ее по плечу. Эмилия взглянула на него и отвернулась. Поить женщину силком он не решился — так и стоял, пока она сама справлялась со своими страданиями. Затем она протянула руку, взяла стакан и выпила всю воду маленькими глоточками. — Я страшна, как смертный грех, — сказала она по-немецки. — Дайте платок, вон тот, за подушкой… Получив платок, она прикрыла им лицо так, что остались видны одни заплаканные глаза. — Для чего вы пришли? — спросила она чуть погодя. — Я хочу поговорить с вами. — Я страшна, как смертный грех, — повторила Эмилия, — и скупа, как ростовщик. Что еще? Я не умею одеваться. А она умеет! Сколь бы ни был прост Маликульмульк по части живых женщин, а не их комедийных фигурок, тут он понял: случилась размолвка с фон Дишлером, или фон Димшицем. — Давайте поговорим, — попросил он. — Я много времени не отниму. — Совершенно не желаю с вами разговаривать. Мариэтта! Вошла смуглая угрюмая горничная. — Мариэтта, проводи гостя и закрой за ним дверь. — Так я и думал, — сказал Маликульмульк по-немецки. — Этого крокодила она оставила вам, а сама везет под именем Мариэтты другую женщину. Так вот, послушайте… — Я ничего не желаю слышать об этой мерзавке, — отрубила Эмилия. — Если бы она могла отравить меня — то отравила бы! Но я, слава Богу, осторожна! Маликульмульк очень не хотел поминать всуе полицию, но пришлось. — А ведь сыщики из управы благочиния все еще ищут убийцу, отравившего фон Бохума. Хозяин «Иерусалима» назвал им ваши имена, но, раз вы остановились не в гостинице, а ненадолго сняли дом в предместье, найти вас мудрено — разве что полицейским кто-нибудь поможет. — Говорят же вам, ни один из нас не подсыпал отравы фон Бохуму! — А куда делись деньги, которые он у вас у всех выиграл? — He знаю! Спросите того, кто его отравил! — Послушайте, милая Эмилия, вы ведь хотите, чтобы убийцу нашли? Тогда помогите мне. Я должен знать, куда пошла горничная госпожи Дивовой после того, как ночью прибежала к вам. Если я узнаю, где ее убили, то смогу двигаться дальше. — Убили? — Задушили. Вспомните — вы приехали на Родниковую с вещами, кажется, в обществе фон Гомберга. Вы вошли в дом, а очень скоро в дверь или в окно постучали. Это была горничная Анны Дивовой, жены несчастного Дивова. Я думаю, вы последняя, кто видел ее живой. — Задушили? Но мы тут ни при чем! — воскликнула Эмилия. — Задушить ее мог только один человек… — И осеклась. — Этот человек — ее любовник? — Не знаю! Ответ прозвучал слишком быстро. Маликульмульк, глядя на внезапно преобразившееся личико мопсовидной дамы, на плотно сжатые губы и нахмуренные бровки, понял — можно биться об заклад, что речь идет о беглом лакее Дивова Никишке. Это было бы логично — он стал свидетелем самоубийства хозяина, которое игроки хотели скрыть, и компания предоставила ему приют, чего-то пообещала, как-то заплатила. А на Никишке этом, сдается, клейма ставить негде. Сделал Маврушке дитя — и рад был от нее скрыться под шумок, не пожалел ни старого хозяина, ни Анну Дивову, ни внучат… — Этот человек — ее любовник, а ваша карточная академия прячет его, чтобы он никому не рассказал про самоубийство Дивова. И очень хорошо прячет… Это устроила графиня де Гаше? Вам угодно молчать? Хорошо, я пойду. Постараюсь обойтись без вашей помощи. Прощайте, сударыня, дай Бог нам более не встречаться. Мариэтта, отворите дверь. Выйдя на улицу, он забрался в дрожки и велел везти себя вперед. Но, поравнявшись с телегой, приказал извозчику остановиться и заговорил вполголоса по-французски: — Господин Бутман, меня прислал господин граф. Сейчас из этого дома выйдет женщина — или служанка, или госпожа фон Ливен. Надо за ней проследить — она пойдет через дворы… В ответ он услышал: — Дерьмо! Я один… — Ничего, мы оставим тут извозчика, с телегой и лошадью ничего не случится… Мэтр Ворон сорвал с себя треуголку, скинул епанчу и оказался мужчиной лет тридцати, невысоким и в меру плотным. Он был в старом коричневом кафтане, который с равным успехом мог принадлежать кому угодно — обнищавшему торговцу, ремесленнику, немцу, латышу… Из-под рогожи Бутман достал круглую шляпу, нахлобучил и сделался типичным жителем предместья. — Ступайте до угла, — сказал он, — встаньте на перекрестке. Следите за улицами. Этот квартал — треугольный. Женщина может выйти дворами опять на Родниковую или на Карловскую улицу, тогда вы ее увидите. Ступайте следом, но держитесь не ближе полусотни футов. А если ее не будет четверть часа — значит, она вышла на Новую улицу, попробуйте дойти и посмотреть… Затем Бутман соскочил наземь, перебежал через улицу, чуть ли не на корточках проскользнул к калитке и с непостижимой скоростью оказался во дворе, причем совершенно бесшумно. — Слава те Господи, — сказал Маликульмульк. Он немного завидовал ловкости Бутмана. Оставив извозчика при телеге, он быстрым шагом пошел к указанному углу и встал на перекрестке. Это было как игра, и даже мысль о том, что подчиненные сейчас, вероятно, ищут своего начальника, не смущала Маликульмулька. По-своему Большая Игра, только на кону — чья-то свобода, а статочно, и сама жизнь. Но только минуты бегут, наступает время, которое французы зовут «меж волком и собакой», фонари еще не горят, хотя пора бы, и есть риск проворонить стремительную женскую фигурку. Маликульмульку повезло — подвернулся другой извозчик, и философ велел ему ехать к углу Карловской и Новой, но ехать пока неторопливо, чтобы можно было вглядываться в прохожих. Как раз на Новой он приметил Бутмана. Бутман стоял у каменного крыльца недавно построенного дома, как будто собираясь войти. Но на самом деле он провожал взглядом женщину, спешившую в сторону эспланады. То есть в сторону Мельничной улицы. С высоты дрожек Маликульмульк тоже ее увидел. Но кто это, Мариэтта или Эмилия, понять не мог, и подумал, что такой невнятный полумрак — самое неподходящее время для погони за дамой. Разве что в окнах уже загорался тусклый свет… Здесь улицы были более мрачными, чем в крепости — там и окна сияли ярче, и фонари, кажется, зажигались пораньше, и стояли они чаще. Эта часть предместья еще только строилась, и не на всех участках, взятых под дома, стояли здания. Да и у людей не было необходимости разгуливать по вечерам — жизнь в предместье начиналась рано утром. Стал накрапывать дождь. Маликульмульк выждал, чтобы Бутман, бросив на него взгляди оценив его сообразительность, прошел вперед, затем велел орману ехать вслед за графским сыщиком. Однако когда женщина свернула на Мельничную, Маликульмульк не заметил, но Бутман махнул рукой, чтобы не вышло ошибки. Маликульмульк приказал ехать быстрее. Женщина, опознать которую никак не удавалось из-за широкого салопа, прошла по Мельничной, пересекла Песочную, миновала дом, когда-то принадлежавший Дивовым, и опять завернула за угол. Когда Маликульмульк подъехал, Бутман уже стоял у той калитки, за которой она скрылась. Рядом с калиткой были большие запертые ворота — надо полагать, ведущие в просторный двор. — Велите извозчику ждать, — прошептал Бутман. — Вперед, осторожно… Двор оказался таким же, как все дворы в предместье, с дровяными сараями, какими-то конурками, деревьями и, судя по запаху, мусорными кучами. Напротив ворот стоял двухэтажный дом с примыкавшим к нему забором, ни одно окно в этом доме не горело. Женщина уже стояла на крыльце и стучала в дверь — явно условным стуком. Никто не отзывался. Она не унималась. Наконец она закричала по-немецки: — Иоганн, Иоганн, отворите! Это я, Элизабет! — О Господи… — прошептал Маликульмульк, словно бы задавая вопрос: Господи, а Элизабет-то откуда взялась? — Пора, — по-французски сказал ему Бутман. — Я — слева, вы — справа, и хватайте ее в охапку. Будьте осторожны, у нее может оказаться нож. При необходимости Маликульмульк умел двигаться бесшумно, как и полагается медведю. Бутман скрылся в темноте — он хотел подобраться к крыльцу вдоль забора. Маликульмульк быстро подошел к дереву, встал за ним. До крыльца оставалось шагов шесть или семь. Женщина опять стучала и опять звала, в голосе было отчаяние. Наконец Бутман оказался у крыльца чуть ли не на четвереньках, выпрямился — и в прыжке поймал женщину за руки. Раздался крик. Маликульмульк немного промедлил, поскользнувшись на палой листве, но медвежьим объятием обхватил ее со спины. — Прекрасно, — объявил Бутман. — Не знаю, как у вас, сударь, а у меня зрение кошачье — за это качество меня очень ценили в страсбургской полиции. Вы держите в своих нежных объятиях Эмилию фон Ливен — имя красивое, но вряд ли настоящее. Это тот самый дом Иоганна Мея, который нас с вами интересовал. Где сам господин Мей — можно только догадываться. Сударыня, будьте благоразумны. Куда мог деться господин Мей? Эмилия молчала. — Вы хотели предупредить его, что кто-то знает про дивовского лакея, которого он приютил у себя и прятал от всех. Горничная госпожи Дивовой умоляла вас о помощи, вы отвели ее сюда, — Маликульмульк невольно вздохнул. — Ведь только этот лакей мог ее задушить, а тело спрятать в пустой экипаж, который некоторое время стоял во дворе. Иоганн Мей — человек образованный, светский, и герб с горностаевым покрывалом его бы смутил. А лакей — крепостной, в геральдике не разбирается, и карету князя Голицына вряд ли когда-либо видел. Ему нужно было избавиться от тела женщины, которая могла его выдать — и потому им убита… — Какие занятные новости я слышу, — сказал Бутман. — Если развивать эту мысль, то окажется, что именно для этого вы и привели бедную женщину к Мею… Молчите? — Где этот лакей? — спросил Маликульмульк. Эмилия молчала. Вдруг она с силой рванулась, столкнув Бутмана с крыльца, но он не выпустил ее рук. Трехступенное крыльцо было высотой более аршина, Бутман потащил за собой Эмилию, та выгнулась и закричала от боли. Маликульмульк не имел кошачьего ночного зрения и не понял, что произошло. А оказалось, что нога Бутмана проскочила вниз, в обложенную кирпичом яму, куда выходило подвальное окошко. — Чертова шлюха, — проворчал Бутман. — Я застрял! Помогите мне, я ее держу… Не уйдет!.. Маликульмульк спустился и попробовал вытащить Бутмана, взяв его подмышки. Не получилось. — Если это такой подвал, куда можно попасть из дома, то я мог бы выбить дверь… — начал он и вдруг смутился. Могла получиться даже не комедия, а буффонада, если он, пытаясь протиснуться в квадратный люк, какие ведут с кухни в подпол, там застрянет. — Да, да, сделайте это, умоляю вас! — вдруг воскликнула Эмилия. — Я боюсь за Мея… Эта женщина на все способна… Вспомните, господин Крылов! Ведь она унесла флакон! Она погубила Иоганна! Она ведь не умеет прощать… Ради Бога, откройте дверь! Я чувствую — он там, он умер!.. — В самом деле, попытайтесь, — подал голос Бутман. — Только подтолкните эту дуру, чтобы она соскочила ко мне. Иначе там, на крыльце, вам не повернуться. Маликульмульк так и сделал. Потом он ударил в дверь ногой — затрещало, и не более того. Зато в соседнем доме отворилось окошко, и сердитый бас пригрозил позвать полицейский патруль, если проклятые пьяницы не перестанут буянить. — Отступать некуда, — насмешливо заметил Бутман. — Ломитесь, как медведь! Второй удар был более удачным — в том месте, где врезан замок, громко крякнуло. И Маликульмульк, навалившись плечом, вынес дверь и оказался в сенях. Из сеней он попал в комнату, судя по большому столу — столовую. Там нашелся подсвечник с толстой белой свечой, хорошо видной даже в том слабом свете, что проникал в окошко. Огниво у Маликульмулька, как у всякого завзятого курильщика, было при себе. Он зажег свечу и тут лишь обратил внимание на неприятный запах. Казалось, тут основательно вывернуло наизнанку человека, что съел несвежее. Внимательно глядя под ноги, Маликульмульк обошел комнату и обнаружил узкую дверь. Оттуда вроде бы и шла вонь. Он приоткрыл эту дверь и увидел ноги женщины, лежащей на полу, ноги в грубых старомодных туфлях и белых заштопанных чулках. Подняв свечу повыше, он увидел ее всю, а подальше, у стены, на постели — мужчину. В отвратительном запахе ощущалась нота чеснока. Тут на Маликульмулька напал столбняк. Он понимал, что эти двое мертвы, что надо поскорее отсюда убираться, потому что для человека, взломавшего дверь, разбирательство с полицией вовсе ни к чему, а покойникам уже не поможешь. Но он стоял и смотрел — к стыду своему, даже с некоторым любопытством. Женщина, кажется, была Дуняшка. Мужчина — Иоганн Мей… Вдруг Маликульмульку почудился вздох. И еще один. Он стоял, не двигаясь, приоткрыв рот, чего ждал — неведомо, а только уйти никак не мог. Даже зная, что в присутствии смерти могут мерещиться всякие чудеса, — не мог. Вот тени на мужском лице исказились, словно лежали на нем клочками бумаги, и их задел сквозняк… вот опять тишайший вздох… И вдруг свесившаяся рука дернулась, сжалась в кулак и обмякла. Тут лишь до Маликульмулька дошло, что мужчина, кажется, жив. Обойдя лежащую Дуняшку, прижимаясь боком к стене, чтобы не ступить в темную вонючую лужу, он подошел к постели и склонился над умирающим. Это был Андреас фон Гомберг, красавчик Андре. Сейчас он был грязен и жалок, его модный васильковый фрак — перепачкан зловонным содержимым желудка. Но он еще дышал. Маликульмульк огляделся, увидел комод, выдернул верхний ящик, средний, они были пусты. В нижнем нашлись простыня и скомканная несвежая рубашка. Кое-как отерев этой рубашкой фрак и запеленав отравленного чуть ли не с головой, Маликульмульк перекинул его через плечо — не красавица в обмороке, чтобы красиво, как в пятом акте трагедии, нести на руках… Стоило подумать про бесчувственную красавицу, и память некстати подсунула блюдо из баклажанов, которое доводилось пробовать в Москве. Кто-то из знакомцев вывез рецепт из Бессарабии, а называлось оно там «имам баялды» — «имам в обмороке». Вот при воспоминании о длинных темных полосках баклажанов с чесноком Маликульмулька чуть не вырвало. Он вынес умирающего на крыльцо. — Иоганн! — воскликнула Эмилия. — Жив?! — спросил Бутман. — По-моему, умирает. Я везу его в аптеку Слона. Граф уже там… И, даже не полюбопытствовав, как Бутман будет вызволять ногу из дыры и что предпримет с Эмилией, Маликульмульк быстро понес фон Гомберга прочь со двора, туда, где ждал извозчик. — В крепость, быстро! — Это что же, мертвое тело? — возмутился извозчик, принюхиваясь. — Пока еще живое. Гони! Плачу вдвое! На эспланаде орман разогнал коня, ближе к рву и мосту пришлось сдерживать. Через равелин ехали шагом, потом по Известковой — рысью. Маликульмулк держал отравленного в охапке и пытался молиться за раба Божия Андрея, но мысли никак не укладывались в молитвенные слова, разбегались сразу во все стороны. Впору было завидовать тем, кто не начитался французских философов, не вообразил себя либертином, а сохранил внутреннюю строгость души, да еще младшим Голицыным, которых растили, оберегая и пестуя их детскую веру. Аптека была уже закрыта для посетителей — разве что кому-то спешно понадобится лекарство, так тот человек достучится. Гриндель, Паррот и граф де Гаше были в лаборатории, физик с химиком составляли сложную композицию с дюжиной стеклянных трубок для нового опыта, а граф развлекал их анекдотами. Когда раздался отчаянный стук в дверь, Давид Иероним выбежал первый. — Кто это? — спросил он, придерживая дверь, пока Маликульмульк вносил умирающего. — Андреас фон Гомберг. Кажется, еще жив. Отравлен… — Мышьяком. Этот запах ни с чем не спутаешь. Кто-то подрядился истребить всех карточных шулеров в Риге… Георг Фридрих, сюда! Все вместе они внесли фон Гомберга по узкой лестнице в комнату Гринделя, где он часто оставался ночевать. Маликульмулька послали вниз — согреть на очаге побольше воды. Графу объяснили, где во дворе стоят ведра для золы и мусора. — Я не доктор, но немного в ядах смыслю, — сказал Давид Иероним. — Пока придет доктор, надо хоть что-то сделать. Маликульмульк целую вечность не занимался хозяйством — когда тащил воду, облил себе ноги, потом чуть не залил очаг, огромную плиту, на которой можно было делать целебные отвары для всего гарнизонного госпиталя. Потом, сообразив, что большой котел будет греться долго, он стал искать маленькие котелки. Спустился Паррот за тазом. — Как он там? — спросил Маликульмульк. — Без сознания, сердце еле бьется, — Паррот остановился с тазом и, прищурившись, оглядел взмокшего и взъерошенного философа. — Вы редкостный чудак, господин Крылов. Если бы я составлял энциклопедию чудаков, то вы были бы там на первом месте… Произнеся этот сомнительный комплимент, он удалился.Глава тринадцатая Уважительная причина
Маликульмульк проснулся в том самом кресле, куда его обычно усаживали, чтобы угостить кофеем. Время было раннее — за окном едва светлело, но по улице уже пробегали люди. Раздался крик мальчика-молочника. В ответ откуда-то сверху женщина закричала, что сейчас спускается. Во сне Маликульмульк занимался тем же самым, что и полночи наяву, — таскал наверх теплую воду. Сперва нужно было отмыть отравленного, потом Гриндель попытался сделать ему клизму и залил водой всю комнату. Но тут, к счастью, фон Гомберг ненадолго пришел в сознание и смог проглотить какую-то наспех составленную микстуру. Правда, он был несколько не в себе, отменно ругался по русски и по-русски же звал матушку. — Главное, чтобы выдержало сердце, — сказал Давид Иероним. — Помогите-ка, господа, поднимите его, я дам ему рвотное. И потом окись железа в виде взвеси — так, Георг Фридрих? — Я не медик, но не потерял бы он слишком много воды, — покачал головой Паррот. — Понять бы еще, когда его отравили и какую дозу он получил. Граф де Гаше молча стоял с ведром наготове. Это было изумительно — чтобы французский аристократ так покорно выполнял обязанности низшего больничного служителя. Маликульмульк не помнил, как добрел до кресла. Не вспомнил он, кстати, и о канцелярии, где следовало быть с самого утра, коли уж он вчера весь день прогулял. О князе Голицыне и о княгине Варваре Васильевне — равным образом. Его жизнь была слишком спокойна — и вот за несколько дней он пережил многое, а день вчерашний вообще оказался богат на приключения. Все хорошо в меру, а избыток событий утомил душу, за несколько лет привыкшую к безмятежности. Понемногу Маликульмульк выстраивал в голове мир, в который надлежало вернуться. Это утреннее занятие было ему знакомо — как всякому, кто, проведя ночь в веселом застолье и употребив больше, чем нужно для счастья, наутро собирается диктовать завещание. Числилось за ним несколько таких пробуждений, но давно, еще в столице. За несколько минут собрался в голове групповой портрет: чиновник Сергеев с упреком в очах, Варвара Васильевна с занесенной над головой фарфоровой тарелкой, его сиятельство за столом, где бумаг — стопка на полтора аршина, Давид Иероним в своем рабочем фартуке и с непокорной клизмой в руках, невозмутимый Паррот, впрягшийся в эту телегу без единого слова, вот уж чего от него Маликульмульк не ожидал… Прав был Гриндель, в этом человеке жила поразительная сила противостояния тому, что он считал дурным. Она выражалась, оказывается, не только в презрительных взглядах. Маликульмульк раньше знал, что такие люди в природе есть, только не надеялся на личное знакомство. Он встал, потянулся, повертел головой — где бы тут перехватить хоть с полфунта печенья. И тут услышал шаги. В аптеку вошел Давид Иероним. — Пора открывать, — сказал он. — Кажется, беда миновала. Он приходил в себя, отвечал на вопросы, потом опять терял сознание. — Он сказал, кто его отравил? — Да. Это Иоганн Мей. Он еще кое-что сказал. Девушка умерла, когда стемнело. Они оба лежали и не могли пошевелиться, но он слышал ее стоны. Похоже, вы совсем ненамного опоздали… — Проклятый Терентий! — в отчаянии воскликнул Маликульмульк. — Проще выучить всю вашу химию и всю Парротову физику, чем понять это нелепое создание! Мей?! — Да. Вот такой неожиданный поворот. — А что за яд? Тот ли самый, которым отравили фон Бохума? — Думаю, тот самый. — Значит, графиня невиновна? — Знаете, милый друг, Георг Фридрих выразился так: если эта женщина невиновна в смерти фон Бохума, Дивова и той отравленной служанки, то она наверняка виновна в чем-то другом. Не надо видеть в ней обиженного ангела. Так он сказал. — Но он ни разу даже не видел ее, даже не говорил с ней! — Маликульмульк разволновался, и не одна лишь странная несправедливость Паррота была тому виной. На обломках обвинений, предъявляемых графине, которые, сложившись вместе, образовали очень неприятный судебный вердикт, он стал возводить новое здание. И первое, что потребовалось почему-то, — обелить ее в истории с портретом. Если она сказала правду и миниатюра действительно портрет графа де Гаше, то человек, который вчера был загнан в могилу, — самозванец! — А где граф де Гаше? — спросил Маликульмульк. — Граф на чердаке, где мешки и ящики с травами. Там у нас хранятся «сонные подушки», мы их делаем впрок. Если их держать внизу, то все мы, чего доброго, уснем среди дня, — Давид Иероним улыбнулся. — Что за подушки? — Маленькие, полотняные, внутри — шишки хмеля, валериана, розовые лепестки, лаванда, розмарин, базилик — есть на всякий вкус. Их кладут в постель рядом с обычной подушкой, это прекрасное средство от бессонницы. И хороший товар, постоянно есть спрос. Так что граф на этих подушках, да еще укрывшись старым плащом герра Струве, спит сном праведника. — А что говорит о графе Георг Фридрих? — Говорит — странное смирение для столь светской особы. — Сейчас придет герр Струве, — сказал Гриндель. — Надо навести порядок. Он поставил кресло чуть дальше от прилавка, смахнул на пол какую-то крошку, прошел вдоль полок, поправляя ящики и фаянсовые банки. Маликульмульк отправился наверх. Паррот сидел у постели фон Гомберга и читал. — Давид Иероним боится, что он не выживет, — сказал физик. — У него сильно повреждены все внутренности, тут нужен не аптекарь, а врач. Его стоило бы перевезти в лазарет, но тогда в полиции станет известно про отравление, а кстати ли это — не знаю. — Он спит? — спросил Маликульмульк. — Он иногда приходит в себя. Этим надо пользоваться, чтобы напоить его микстурой, — Паррот показал на стаканы, стоящие плотным строем на табурете у постели. И тут вошел Гриндель. — Ступай спать, Георг Фридрих, — сказал он. — Я все объяснил герру Струве, он недоволен, но не зол… Ступай в гостиницу, герр Струве сказал, что прикажет с ним сидеть Гарлибу Вольфгангу или Теодору Паулю. Паррот задумался. — Это, пожалуй, верно — им полезно знать, что такое уход за тяжелобольным. — Вот когда бы искусственная кровь пригодилась, — с тоской сказал Давид Иероним. — Отравленную бы выпустили, доброкачественную влили… А теперь… — Вы даете ему ипекакуану? — спросил Маликульмульк, вспомнив звучное слово и невольно — голос, которые его произнес. — Даю, разумеется, чтобы убрать мучающую его тошноту и очистить желудок. У нас есть хороший сироп. Маликульмульк уставился на неподвижное, изумительно красивое лицо фон Гомберга. Как раз к таким лицам применимо определение «точеное», невольно возникает желание провести пальцем по этим изысканным линиям, желание странное для мужчины, глядящего на другого мужчину, но обыкновенное для человека, созерцающего прекрасную статую. Да, вид у побледневшего лица и впрямь какой-то мраморный. И опять Маликульмульк задумался: да что же привязало этого Аполлона к Мартышке? Платила она ему, что ли, за ласки? Или и у него помахала перед носом сияющим стразом на золотой цепочке? В узкую комнатку вошел граф де Гаше — немного взъерошенный, но блистающий аристократической выправкой и умением расположить в пространстве ухоженные руки. — Он жив, господа? — спросил граф. — Жив и даже ненадолго приходит в чувство, — ответил Давид Иероним по-французски. — Не назвал ли он имени убийцы? — Назвал, — ответил вместо Гринделя Паррот. — И я боюсь, что это были его последние слова. Надежды мало. — Какая жалость. Он ведь совсем еще дитя. Не более двадцати трех лет… — граф горестно покачал головой. — Мы безмерно благодарны вам, — произнес Паррот, вставая, — но сейчас вы уж ничем не можете помочь. Поезжайте к себе, отдохните. Мы еще встретимся, господин граф. — Если бы я был уверен, что он католик, то заказал бы молебен об исцелении. — Вряд ли он католик, — заметил Маликульмульк. — Мне вообще кажется, что он русский… — В самом деле, помолитесь за него, господин граф, — сказал Паррот. — Мы не так крепки в вере, как вы, аристократы, изучение наук сбивает нас с пути истинного. При этом физик пристально смотрел графу в глаза, и Маликульмульку показалось, что этот взгляд имеет физическую силу, иначе отчего бы граф отступил на шаг назад? — Хорошо, господа. Господин Крылов знает, где меня искать. Честь имею откланяться. С тем он вышел. — Что вы имеете против него, Георг Фридрих? — обеспокоенно спросил Гриндель. — Пока — ничего. Но, по-моему, он не обрадовался, узнав, что фон Гомберг жив. Разве это не уважительная причина? — Ничего удивительного, если фон Гомберг — любовник его жены, — заметил Маликульмульк. — Странно было бы, если бы он пришел в восторг. Но, господа, мне нужно хотя бы ненадолго показаться в Рижском замке. Его сиятельство наверняка ищет меня по всему городу. А мне бы не хотелось, чтобы меня вели из аптеки под конвоем… — Побудьте тут еще с четверть часа, — не то попросил, не то приказал Паррот. — Посидите у постели, пока Давид Иероним пришлет вам на смену мальчика. Я сам поговорю с герром Струве… Пойдем, любезный друг. Маликульмульк остался. Часов у него не было, когда завершится четверть часа — он не знал. Оставалось только глядеть на мраморное лицо и молить Бога, чтобы пришел человек, больше смыслящий во врачевании. Вдруг кавалер Андре открыл глаза и попытался приподнять голову. — Пить, — внятно произнес он по-русски. — Сейчас! — Маликульмульк стал хвататься за стаканы, не понимая, что в них за жидкости и отвары. Наконец выбрал самую прозрачную и, придерживая голову фон Гомберга, выпоил ему немного, почти не пролив на одеяло. — Вы — Крылов, — сказал фон Гомберг. — Да, помните, мы встретились на Родниковой улице? — Будь она проклята… Крылов, я умираю… — Нет, вам тут не дадут помереть. Я вас в лучшую аптеку Риги привез, сейчас пошлют за хорошим доктором. — Найдите Мея. — Найду, не извольте беспокоиться. — Скажите Мею — и он вслед за мной отправится… — Скажу, конечно, скажу! Вы не беспокойтесь, выпейте-ка лучше… — Он думает, ему достанутся бриллианты… Черта лысого они ему достанутся! Он их долго выслеживал, я знаю… Бохуму не достались, и ему не достанутся… Маликульмульк вспомнил странный домысел Паррота о том, что в дело замешано ожерелье французской королевы. Видно, физик был прав, и бедная графиня де Гаше, зная тайну клада Калиостро, скрывалась от охотников выпытать у нее эту тайну. А если она кому-то расскажет, где хранятся камни из ожерелья, то подпишет себе смертный приговор. — Не достанутся, успокойтесь, графиня не так глупа. Стало быть, фон Бохум не карточный шулер? Он приехал в «Иерусалим» в погоне за бриллиантами? — Да. Она подстроила, чтобы он всех обыграл. И все были на него злы… Она ловка… Найдите ее, расскажите… Она знала, что Мей захочет от него избавиться… предупреждала… — Какого черта вы связались с этими людьми? — гневно спросил Маликульмульк. — Мей от нее не отстанет… Напишите явочную в полицию… Он заплатит… — шептал фон Гомберг по-русски. — Пусть за все заплатит… — Ради Бога, помолчите, — приказал Маликульмульк, и тут дверь приоткрылась, заглянул граф де Гаше. — Господин Крылов, за вами пришли из замка, — сказал он по-французски. — Его сиятельство изволит беспокоиться… — Так я и знал! — воскликнул Маликульмульк, вскакивая со стула. — Выздоравливайте! Я вечером вернусь! Храни вас Бог! Он кинулся к двери, оказался на пятачке перед узкой лестницей, едва не полетел вниз, удержался за столб, подпиравший уходившие вверх и вниз ступени. Наверху был третий этаж, похожий на французскую мансарду, выше — чердак, на чердаке — «сонные подушки»… Причудливая мысль, куда более стремительная, чем если бы ей пришлось соединять явления в их правильной последовательности, перескочила с «сонных подушек», через спящего на них графа — и остановилась перед спокойным твердым взглядом Паррота. Маликульмульк развернулся, в два шага оказался перед дверью комнатки, рванул ее на себя — и по-медвежьи ловко облапил склонившегося над постелью графа, прижимая его локти к бокам и оттаскивая прочь от фон Гомберга. Граф молча дергался, но не выдирался из объятия — цель его Маликульмульк понял, ощутив боль в правой ляжке. Тогда он, не зная, что тут еще можно сделать, закричал. При всей своей силище, он не любил и не умел драться. На пороге появился маленький Карл Готлиб — и уж он-то завопил, призывая хозяина так, что стекла зазвенели. Граф затоптался на месте, наступил Маликульмульку на ногу, оба едва не упали. А по лестнице уже взбегал Давид Иероним, за ним — Паррот. Гриндель оказался в комнате первый, схватил со спинки кровати влажное полотенце, стал ловить руки графа, чтобы связать их. — Отойдите! — приказал ему Паррот по-немецки. — Отпустите его, Крылов. Он ничего не сделает. — Вы сошли с ума! — наконец закричал граф. — Вам уже всюду мерещится какая-то дьявольщина! Я ничего плохого не сделал! — Вы меня ударили чем-то острым, — возразил Маликульмульк. — Чем? У меня нет ничего острого! Вот, глядите! Он показал пустые руки и устремился к открытой двери. Дорогу ему заступил Паррот, приказав по-французски: «Стоять!» — Клянусь вам, он меня чем-то ударил, вот же и кровь, — сказал Маликульмульк жалобно, показывая два влажных красных пальца. Давид Иероним, сообразив, в чем дело, опустился на колени, заглянул под кровать и вытащил оттуда небольшой тонкий нож с костяной рукоятью. — Стоять, — негромко повторил Паррот. — Давид Иероним, как там наш пациент? — Потерял сознание, но дышит, — Гриндель откинул одеяло. — Он цел, не ранен. — Крылов, снимите штаны, посмотрите, что у вас там. Карл Готлиб, принеси корпию и бинт, еще возьми у герра Струве пузырек со спиртом. А вы, господин граф, сядьте в кресло и ждите. Оказалось, что на крыловской ляжке — неглубокий разрез длиной в два вершка. — Мальчишки, лазая через заборы, получают более опасные царапины, и все прекрасно заживает, — успокоил Давид Иероним. — Повязку все же надо наложить. — Сползет… — Прежде, чем сползет, кровь свернется, а это главное. Стойте спокойно! Паррот, стоя в дверях, смотрел то на коленопреклоненного Гринделя, бинтующего ногу Крылову, то на графа де Гаше, сидящего в кресле прямо, как полагается презирающему весь мир аристократу. — Полноте, граф, — сказал он. — Актеры Немецкого театра, что на Большой Королевской, лучше изображают особ знатного рода. Хотя и на них невозможно смотреть без смеха. Ну что такого мог поведать нам этот несчастный, ради чего его стоило бы убивать? — Этот человек совратил мою жену. Он должен умереть, — ледяным тоном отвечал граф де Гаше. — Послушайте, Крылов, хватит изображать великомученика, вручающего душу небесам. Вы описывали графиню де Гаше как женщину немолодую, некрасивую и даже с сединой. Так кто же кого тут совратил? И кто достоин сожаления? Маликульмульк уставился на него озадаченно — он только теперь почуял, какой темперамент живет в душе этого южанина, родившегося в королевстве Вюртембергском и получившего северную выучку. — Сожаления достоин молодой человек, — вместо Крылова ответил Давид Иероним. — Каким-то загадочным образом он стал жертвой старой развратницы. Фу, даже произнести-то это неприятно… — Не пытайтесь сделать из мерзавца ангела, — граф посмотрел на фон Гомберга с настоящей, хищной, звериной ненавистью. — Все объясняется просто — он знал, что у меня есть деньги, и подбил эту женщину обокрасть меня. После чего они понеслись по всей Европе в надежде найти уголок, где бы я до них не дотянулся. Я послал за ними замечательного человека — судьба его вам известна. Это несчастный фон Бохум… он не нашел лучшего способа для знакомства, как втереться в картежную академию… — А деньги эти — случайно не приданое вашей супруги? — поинтересовался Паррот. — У нее не было ни гроша! — И вы женились из чистого милосердия? — Паррот был неумолим. — Вот уж не думал, что окажусь в компании двух великомучеников. Крылов, придите в себя. Вы что, настолько боитесь вида крови? — Да, — краснея, произнес Маликульмульк. — Но тут дело не в милосердии, а в бриллиантах. У графини де Гаше есть какие-то бриллианты, за которыми идет охота. — Стало быть, она отыскала клад Калиостро? Продолжайте! — Мне рассказал это фон Гомберг… по-русски… Он русский, понимаете, и мы беседовали по-русски, а господин граф пытался подслушать, ничего не понял и вообразил, будто фон Гомберг вот-вот раскроет мне какую-то тайну, связанную с графиней… — Я не подслушивал! — возмутился граф. — Не мешайте, — одернул его Паррот. — Отсюда очень недалеко до полицейской части. И сотни шагов не будет. — Не более полутора сотен, — поправил Маликульмульк. — Мея тоже не худо бы отыскать и сдать в полицию, — предложил Гриндель. — Пока он далеко не убежал. Ведь, насколько я знаю, до сих пор не найдены свидетели смерти фон Бохума, сбежавшие из «Иерусалима». — Всему свое время. Итак, история вашей женитьбы, граф. Чует мое сердце естествоиспытателя, что в нем-то и кроется разгадка всех этих странных и отвратительных событий, — сказал Паррот. — Откуда вы узнали, что у вашей будущей супруги есть бриллианты? Да еще в таком количестве, что стали представлять для нее опасность? — Она сама сказала, — наконец признался граф. — Вы подозревали, что это клад Калиостро, образовавшийся незадолго до того, как шарлатана посадили в Бастилию по делу об ожерелье королевы? — Она говорила, что несколько лет назад встречалась с Калиостро, и разве я мог знать?.. — Могли! Иначе не лгали бы господину Крылову, что ваша драгоценная супруга встречалась с графом лишь раз в жизни в какой-то светской гостиной. Меж тем она достаточно знала этого проходимца, чтобы госпожа де Витте, помнившая его по его митавским проказам, подтвердила — знакомство было довольно близкое. Маликульмульк представил, что с тем же азартом Паррот проводит свои загадочные опыты, и невольно улыбнулся: он знал эту власть замысла над плотью и духом… — Я не лгал, я сам был обманут! — Вы оправдываетесь, это похвально. Значит, очень скоро скажете правду, — заявил неумолимый Паррот. — Итак, для чего этой женщине, владелице клада Калиостро, вдруг пришло в голову стать вашей женой? Именно вашей? — Она хотела стать графиней де Гаше. Мой род древен, мои предки известны со времени Крестовых походов… — Ну, это само собой. Но я не думаю, что все так просто: небогатая и не родовитая дворяночка с бриллиантами Калиостро выходит замуж за отпрыска древнего рода. Обычно в таких случаях отпрыску хоть что-то достается… ваш кошелек тогда был пуст? — Нет! — Да. Но… Крылов, вы не помните, где они поженились? — В Брюсселе, — сразу ответил Маликульмульк, наслаждавшийся этой комедией, как зритель в ложе. — И, если мне не изменяет память, в одна тысяча семьсот девяносто четвертом году от Рождества Христова… — Благодарю. Но в одна тысяча семьсот девяносто четвертом году от Рождества Христова в Брюсселе, я полагаю, было полно и баронов, и маркизов, и графов, чья собственность осталась во Франции, то есть — нищих баронов, маркизов и графов. Отчего именно вы? Обратите внимание, Давид Иероним, как изменилась постановка вопроса: не «отчего граф выбрал графиню», а «отчего графиня выбрала графа». В следующей серии опытов нам очень пригодится прием выворачивания вопроса наизнанку и… — Тише! — воскликнул Давид Иероним. — Он, кажется, опять приходит в себя! Нужно успеть дать ему микстуру с железом! — Сидеть и не двигаться! — приказал Паррот графу де Гаше. — Если вы хоть что-то сделаете этому несчастному, через пять минут будете объясняться с полицейскими. — В чем же вы можете меня обвинить? — Да в чем угодно! В том, что вы себя выдаете за графа де Гаше, которого я, допустим, встречал в Нормандии, где смолоду два года служил домашним учителем в семействе графа д’Эриси. Вам будет мудрено доказать свою правоту. И эти господа подтвердят, что вы пытались заколоть господина фон Гомберга. — Но послушайте!.. — Вы, наверно, плохо понимаете свое положение. Речь идет о двух отравлениях, а доказать, что вы пытались выслеживать фон Гомберга на Родниковой, несложно. И когда вы на самом деле объявились в Риге — неведомо. Может статься, вы поселились в форштадте незадолго до смерти фон Бохума. А у нас есть еще смерть горничной госпожи Дивовой, с расследованием которой полицейские сыщики зашли в тупик. А поскольку эта горничная служила посредницей между графиней де Гаше и своей госпожой, она могла знать что-то такое, что несовместимо с ее дальнейшим существованием… Уж не проведала ли она про бриллианты? Маликульмульк чуть было не брякнул, что к смерти Маврушки граф точно не имеет отношения — ведь он не знал, где поселился Иоганн Мей, скрывавший у себя дивовского Никишку и, возможно, после смерти фон Бохума на несколько дней приютивший графиню. Но у него хватило ума промолчать. — Я знать не знаю никакой горничной! — воскликнул граф. — А скажите, как звали вашу супругу в девичестве? Этот неожиданный вопрос сильно смутил графа де Гаше. Он опустил глаза. — Молчите… — вдруг произнес по-французски фон Гомберг. Все уставились на него с ужасом. — Молчите, молчите… — твердил он. И опять потерял сознание. — Похоже, разгадка этого дела — в настоящем имени графини, — сказал Паррот. — Хотел бы я знать, куда она подевалась вместе с госпожой Дивовой и изготовленной вами подорожной… Явиться и назвать ее по имени — что может быть забавнее? Маликульмульк, к которому это адресовалось, только вздохнул. И вдруг страшная мысль явилась ему, даже не в словах, а картинкой: искаженное лицо Мартышки и падающий из ее рук золотистый бокал… — Где бы она ни была — где-то поблизости Мей и лакей покойного Дивова! — воскликнул он. — А это значит, что они обе в опасности — и графиня, и госпожа Дивова. Паррот, подумайте, Мей начал убивать тех, кто что-то знал о графине! Может же быть такое, что Маврушку убили по его приказу? Отравлена девушка, которая после бедной горничной посредничала между этими дамами! Отравлен этот господин! Вы представьте, что Мей догадался, где графиня прячет бриллианты! Тогда ему остается только заманить бедных женщин в уединенное место и прикончить! — Дерьмо! — сказал граф, а Паррот с Гринделем помянули черта. — Он опасен, ей-богу, он опасен! — твердил Маликульмульк. — Он отменно владеет собой! Он галантен, как маркиз у Молиера, а что на уме — черт его знает! Совершенно непроницаемая физиономия! Он опасный игрок, господа, поверьте, я знаю игроков, я сам умею сохранять хладнокровие… — Да, это заметно! — прервал его Паррот. Маликульмульк не смог продолжать свою речь — онемел от строгого взгляда Паррота. И вдруг понял, как же он, в сущности, слаб: способен развлекаться Большой Игрой, не принимая близко к сердцу удачи с неудачами, и неспособен собраться с духом, когда затронуто именно сердце… с этим нужно было что-то делать… а ведь, казалось бы, какую прекрасную броню придумал себе, каким был невозмутимым медведем по кличке Косолапый Жанно!.. Даже не придумал — позволил душе впасть в медвежью спячку, а тело сперва создало для того все условия, потом захватило власть и утратило чувство меры… Худощавый, быстрый в движениях, властный, как выяснилось, Паррот весь был — душа, душа любознательная и стремительная, душа-хозяйка, не дающая воли плоти. А Маликульмульк ныне был — плоть, почти завладевшая душой. — Если господин Крылов прав, то господин граф должен рассказать нам о всех своих подозрениях, — вмешался Давид Иероним. — Он послал людей следить за своей супругой, он может хотя бы предположить, где она спряталась… — Я не ясновидящий и не брал уроков у графа Калиостро, — отрубил граф. — Пути моей супруги предусмотреть невозможно. И я, как вы понимаете, уже около суток не видел своих людей. Один Бог ведает, до чего они докопались. — Но о чем-то же они вам докладывали? — спросил Паррот. — Они разбирались с домом на Родниковой улице. Прошу учесть, мы в Риге недавно. А мои люди в Риге впервые… впрочем, нет, впервые — один из них, второй бывал тут лет десять назад. Потому я, собственно, его нанял, — ответил граф, как-то очень естественно уйдя от прямого ответа на вопрос. — Они приходили к вам туда, где вы поселились, чтобы докладывать о своих успехах? — поинтересовался Давид Иероним. — Или же я, зная, где они, мог подойти и обменяться с ними парой слов… — Стойте, я вспомнил! — вдруг воскликнул Маликульмульк. — Граф говорил мне, что привез с собой для розысков двух человек: Поля Бутмана и его племянника. Бутмана я оставил на Мельничной с Эмилией фон Ливен, а племянник… Жорж! Этот Жорж где-то возле «Иерусалима»! Сыщики полагают, что графиня, скрывшись из Риги, могла вернуться туда. Там ее помнят, там сейчас есть свободные комнаты, именно там она может поселить госпожу Дивову! Взгляд графа был полон ненависти — да только ненависти бессильной. — Вы готовы ехать туда? — спросил Маликульмулька Паррот. — Да, разумеется… Мне бы только как-то дать знать о себе его сиятельству… — Давид Иероним может отнести вашу записку. Я знаю, что это неприлично, — сказал Паррот, — но он добьется, чтобы князь его принял, все объяснит, а записка будет доказательством. Вы же поскорее отправляйтесь в «Иерусалим» — боюсь, что каждая минута дорога. А мне предстоит один визит, я постараюсь уложиться в полчаса и последую за вами. Граф, вы свободны. Убирайтесь, и чтоб я вас возле аптеки Слона не видел. Граф де Гаше встал и молча вышел. — Как вы могли отпустить его? — спросил удивленный Гриндель. — Очень просто — не более чем через час мы опять встретимся. Он ведь поедет сперва в трактир, где остановился и где его, как я полагаю, ждет один из сыщиков, а потом помчится в «Иерусалим». Мне кажется, ему важно успеть туда до нас и не столько взять графиню в плен, сколько согнать ее с места, чтобы мы ее не увидели. Поэтому, Крылов, спешите. Извозчика вы сразу же найдете на Ратушной площади. — А записка?.. — Хватит десятка слов: «Ваше сиятельство, прошу верить подателю сего. Он ответит на все вопросы». И подпись, конечно. Князь ведь знает ваш росчерк? — Знает.* * *
Есть совершенно не хотелось. Даже свежий утренний воздух, эта ввергающая в озноб сырость портового города, не разбудил аппетита, даже тряска по разбитой дороге, даже запахи из окон поварни «Иерусалима»… впрочем, запахи-то и напомнили, что завтрака в этот день не было… А желание поесть отчего-то не разбудили, хотя аромат свежего печева, всех этих румяных булочек и штруделей, обычно вызывал какой-то очень радостный и веселый аппетит. Чем ближе Маликульмульк подъезжал к «Иерусалиму», тем глупее себя ощущал. Что может сделать один человек против целой компании, в которой состоят и меж собой противоборствуют одна старая авантюристка-француженка, один шулер-отравитель, один убийца-душитель и упрямая вдова Михайлы Дивова? И это еще, по меньшей мере! Ведь подевался куда-то унылый шулер Леонард Теофраст фон Димшиц, или фон Дишлер, или черт его душу ведает кто! Может, тоже валяется где-то в собственной блевотине, раз уж Мею пришла фантазия от всех избавляться. Диво еще, что мопсовидную Эмилию на тот свет не отправил. Кстати, не будет ничего странного, если где-то тут и Эмилия обретается. Компания — хуже некуда, и что тут может поделать философ? А философ может философствовать. Он может вспоминать, сопоставлять, вести светскую беседу до прибытия Гринделя с Парротом. На Паррота вся надежда, он сумеет как-то управиться с Анной Дмитриевной. Главное — забрать отсюда ее, а остальные пусть хоть все друг друга перетравят! Но если ее не захотят отпускать, если придется действовать решительно — то тут философ бессилен. Это не погоня за одним-единственным графом по госпитальному кладбищу. Это — неведомо сколько противников, причем противников злобных. Вольтерьянство и либертинаж против них бессильны. Сразу за мельницей по левую руку среди облетающих кустов показался пруд. Тот самый, на дне которого лежал Михайла Дивов. Боже упаси довести себя до того, чтобы стреляться из-за карточных долгов… Дрожки подкатили к «Иерусалиму». Маликульмульк велел орману отъехать подальше и ждать, сколько потребуется. Дрожки, огибая холм, покатили к конюшне, завернули было за угол и остановились. Что-то мешало им, и орман на дурном немецком требовал убрать препятствие. Маликульмульк, уже поднявшийся по каменным ступенькам к самому крыльцу, пошел в обход корчмы взглянуть, что там, внизу, стряслось. Он был встревожен, отовсюду ждал опасного подвоха, и хотя сам себе в этот миг казался смешным, чуть ли не на цыпочках подошел к весьма крутому откосу, усыпанному палой листвой. Оказалось, место, о котором извозчик знал, занято большим дорожным экипажем. Это был почтенный старый экипаж на стоячих рессорах, настоящий дормез, имевший наверху ящики для поклажи, а сзади — горбок, куда устанавливают сундуки. Как раз этим и занимался высокий крепкий малый, одетый, несмотря на прохладное утро, в одну лишь длинную льняную подпоясанную рубаху с портами, заправленными в сапоги. Рубахи с кушаком было довольно, чтобы сказать: русский мужик! Он ловко приматывал сундук ремнями, закреплял их, проверял надежность и одновременно переругивался с орманом, внушая, что места для него тут нет, пускай поищет другой закоулок. Тот не унимался, и тогда мужик бросил возню с сундуком и пошел к нему, имея самые разбойничьи намерения. Извозчик тоже был готов к схватке — он держал наготове большой кнут, но с облучка не слезал, а лишь грозился и обещал криком собрать сюда все население «Иерусалима». Сделав несколько шагов, мужик увидел стоявшего наверху Маликульмулька и остановился. Несколько секунд они глядели друг на друга, и Маликульмульк явственно видел: извозчик этому человеку уже неинтересен, а хочется ему избить до полусмерти незваного свидетеля. Потом мужик развернулся и быстро скрылся за экипажем. Маликульмульк попросил ормана поискать другое место и пошел к входу в ресторан, сильно озадаченный злостью во взоре мужика. Злость была не такая, как если бы на этого детину свалился с крыши увесистый кусок черепицы или стряслось иное стихийное бедствие; злость адресовалась именно Маликульмульку… Этот человек его знал. И он был сильно неприятен этому человеку, которого видел впервые в жизни. Маликульмульк, возвращаясь к крыльцу, думал: кто ж таков? Сложилось забавное положение — в Риге начальник генерал-губернаторской канцелярии был знаком со многими власть имущими, бургомистрами, ратсманами, эльтерманами и прочими, а из простых людей знал лишь покойницу Маврушку да еще минут десять беседовал с теми соседями Дивовых, что помогли выкарабкаться из развалин лестницы. Еще старуху Минодору Пантелеевну навещал… Еще с какими-то людьми на Романовке беседовал… вроде никого не обидел, что ж это за злобный взгляд?.. И не может ли это быть беглый Никишка? В пользу такого домысла говорила внешность мужика: плечист и кудряв, сущая мечта засидевшейся в девках горничной, а с лица не воду пить. Да и соответственно теории Никишке где-то тут полагалось быть, раз уж пришлось покинуть убежище, оставив там два трупа. Причем ему полагалось не просто обитать в гостинице, а прятаться поблизости от нее — чтобы раньше времени не попасться на глаза бывшей своей хозяйке, Анне Дивовой. В том случае, конечно, если графиня де Гаше с Анной Дмитриевной здесь, а не где-нибудь еще. Но это при условии, что Никишка решил служить графине де Гаше. А если он предпочел Мея, в доме которого скрывался? Коли так — сердитый детина вовсе не Никишка. Маликульмульк вошел в большой обеденный зал. В зале было пусто, только мальчик растапливал большой камин. И впрямь — кто с утра потащится сюда из Риги? А если в гостинице постояльцы, так им, верно, в комнаты подали завтрак. В ожидании кельнера или даже хозяина он стал философствовать далее. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: миниатюра, накоторой «покойный супруг» Мартышки таким роковым образом оказался похож на начальника генерал-губернаторской канцелярии, изготовлена незадолго до встречи в доме фрау де Витте. Это значит, его блуждания по Родниковой улице были замечены, кто-то его выследил, более того — этот человек обучался рисованию. В том, что карточные шулера умеют держать в руках карандаши и кисти, он не сомневался — это в их ремесле дело необходимое. Они и скальпелем орудуют почище иного полкового хирурга, могут отделить в карте масть от рубашки и составить новую, совершенно фантасмагорическую карту, в которой одна половина — крестовый валет, а другая — пиковая дама. Вряд ли следом за Маликульмульком бегал вальяжный Мей — скорее уж фон Гомберг по приказу графини… и Никишка… Вдвоем-то выслеживать удобнее… Но если Никишка — здесь, значит, он предпочел графиню Иоганну Мею. Как же они договорились, если графиня не понимает по-русски? Наглый детина в подпоясанной рубахе был непохож на человека, владеющего европейскими языками. Впрочем, взять ту же голицынскую дворню: никто лакеев и горничных французскому нарочно не учился, но любопытство знать, о чем говорят меж собой господа, пробудило во многих способности, и даже самый бестолковый мог сказать с полсотни слов по-французски. Никишка, сопровождавший своего барина в игроцкие компании, волей-неволей должен был чего-то нахвататься… Подводя таким образом основу под догадку, будто мужик в рубахе — именно Никишка, Маликульмульк не заметил, как к нему подошел хозяин «Иерусалима». — Рад снова видеть почтенного господина в моем заведении! — сказал хозяин. — Вы первый гость сегодня, вам полагается приз! И принялся перечислять кулинарные соблазны, от которых у Маликульмулька наконец слюнки потекли. — А что, наладились ли у вас дела? Приезжают ли господа из Риги? — спросил он. — Я слыхал, что кое-кто из давних постояльцев вернулся к вам. — Да, да, и так любезно со стороны господина, что он спрашивает об этом! Да, по случаю хорошей погоды в Алтону приезжали господа ратсманы с детьми, приезжали ученики Домской школы, и все потом направились ко мне. Кроме того, вернулась графиня де Гаше с новой горничной. Слава Богу, она избавилась от той грубой и неопрятной девицы. Новая горничная производит очень приятное впечатление. А вчера поздно вечером, прибыл и господин Мей. Он сказал, что устал после долгой дороги, просил не будить и не докладывать графине — он сам засвидетельствует ей свое почтение. — И графиня в своей комнате? — Да, еще не изволила требовать утренний кофей. Тут Маликульмульк словно бы услышал голос хладнокровного Паррота: — Крылов, ничего не предпринимайте, ждите нас. Только если эта дама вдруг соберется в дорогу — задержите ее! Только тогда — вы поняли меня? Сидеть и караулить! — Да, — беззвучно отвечал Маликульмульк. Паррот был прав — и не на свидание же с графиней мчался сюда философ! Какое свидание, с кем — с завравшейся авантюристкой, по которой камера в парижском Сальпетриере горькими слезами плачет! Паррот был прав… только что же изменится от встречи? Ничего не изменится, если они позавтракают вместе, ровным счетом ничего… и эта дама будет под присмотром… — Доложите графине обо мне, — сказал Маликульмульк. — Пошлите кого-нибудь, пусть скажет, что господин Крылов просит принять… — Я бы посоветовал сделать иначе: пригласить ее позавтракать. У нас сегодня как раз штрудели с вишневым вареньем, напкухены, маленькие булочки с заварным кремом, пышный пирог с яблоками. Все то, что нравится дамам, у которых нет нужды беспокоиться о своей талии! У Мартышки не имелось такой нужды — ее талия вряд ли была более двенадцати вершков в обхвате. Маликульмульк же о своей талии давно уже не беспокоился и велел принести яблочный пирог, но сперва — что-нибудь горячее для себя. Он по совету хозяина выбрал лабскаус, которого раньше не пробовал, и это оказалась густая похлебка с мелко нарезанной солониной, удивительно вкусная. Хозяин утверждал, что сам присматривает за тем, как засаливают мясо, и лично выдает на каждый бочонок нужное количество ягод можжевельника. Лабскаус был подан в пузатом горшочке, и Маликульмульк уже добрался до дна, когда в обеденный зал спустилась графиня де Гаше. Он быстро закинул в рот последние кусочки великолепной солонины и поднялся навстречу даме. Она была в теплом черном платье, лишь самую малость приоткрытом на груди, и куталась в дорогую турецкую шаль. Волосы ее, почти седые кудерьки, удерживались маленькой серебряной диадемой. Наконец-то Маликульмульк увидел эту женщину при свете дня — и поразился голубизне ее глаз. Такой цвет больше подходил бы ребенку или совсем юной девушке. — Вы нашли меня, — сказала графиня. — Это удивительно… Однако для чего? Вы же знаете — нам не надо встречаться… это слишком тяжело для меня… «…потому что я вас люблю…» Маликульмульк вздохнул, он совершенно не желал вызывать в памяти эти слова. Но они прозвучали — и прозвучали не напрасно: это было как сигнал тревоги, как приказ ангела-хранителя быть бдительным. Предстояло услышать немало лжи. — Вы уезжаете? — спросил он. — Нет, я хочу пожить здесь, мне здесь нравится. Я устала от суеты, от нелепых обвинений, от неприятных людей. Возможно, для меня уже настала пора одиночества. В голосе звучала подлинная печаль — и незримый Паррот был тут бессилен. — Лучше бы вам, сударыня, поскорее отсюда уехать, — неожиданно для себя сказал Маликульмульк. — Вас ищет Иоганн Мей, и он вас, кажется, уже нашел. — Для чего я ему понадобилась? Он ведь понимает, что я никогда не вернусь в его компанию. И таких обвинений, каких я там наслушалась, не прощают! — Садитесь, — предложил Маликульмульк. — Только что подали яблочный пирог с корицей. Сейчас будет кофей. Мей ищет вас не для того, чтобы обвинять. Ему нужен клад Калиостро. — Клад Калиостро?! — Да, сударыня. Он знает, что вы теперь — владелица бриллиантов из ожерелья королевы. Калиостро мертв, значит, хозяйкой можно считать вас. И он решился заполучить эти бриллианты любой ценой. Сейчас я скажу вам кое-что, постарайтесь держать себя в руках. Вчера вечером он отравил двух человек: девушку, соседку госпожи Дивовой, и Андреаса фон Гомберга. — Боже мой! Вы уверены? — графиня прижала к груди два крошечных кулачка. — Да, я знаю это совершенно точно. Он сделал это в квартире, которую снимал на Мельничной улице. — Боже, Боже, что происходит?.. Послушайте, это ужасно, бедный Андре! Этот яд убивает за несколько часов, я знаю, я пыталась спасти фон Бохума… Я знала, что это работа Мея! Я лишь не могла доказать! Он уговорил свою драгоценную кузину обыскать мои вещи… — Эмилию? — Она его кузина, хотя они зачем-то скрывают это, как и ее настоящее имя. Но я слышала — он наедине звал ее Элизабет. Бедный, милый Андре… если бы я могла ему помочь!.. Маликульмульк хотел было сказать ей, что фон Гомберг выжил, но сдержался — Гриндель утверждал, что шансов почти нет. И обнадежить женщину, чтобы потом разочаровать, он не хотел. — Послушайте, сударыня, я знаю, что вы взяли к себе госпожу Дивову. Она совершеннолетняя, она вдова и сама себе хозяйка… Но я беспокоюсь за вас обеих. Отравитель ближе, чем вам кажется… Ради Бога, будьте осторожны! — взмолился Маликульмульк. В этот миг ему чудилось невозможное, маленькая женщина вдруг обернулась девочкой, едва ли не той, что шла когда-то по цветущему лугу. — Вы приехали, чтобы предупредить меня? Чтобы защитить меня? Господи, как это все странно… Вы думаете, он может меня отравить? — взволнованно спросила графиня. — Да, и причина, как ему кажется, уважительная — бриллианты. Там ведь их было штук пятьсот, и несколько очень крупных. Есть основания полагать, что и покойный фон Бохум отыскал вас только ради этих несчастных камней. И Мей разгадал его планы… отсюда и отравление… — Причина уважительная, — согласилась графиня. — Для такого человека, как Мей. Значит, он где-то поблизости? — Да. Я буду рядом с вами и госпожой Дивовой… Садитесь, при мне никто не посмеет вам угрожать. — Да, я понимаю, и я безмерно вам благодарна… — графиня несколько секунд глядела на красиво накрытый стол, на белоснежные скатерть и салфетки, гордость «Иерусалима», на блюдо с ароматным пирогом, на кофейник и чашки с цветочным узором. — Нет, пожалуй… нет, здесь оставаться не нужно. Давайте выйдем отсюда, я отведу вас к пруду, к Алтоне… Мне страшно при мысли, что в какую-то минуту мы с ним окажемся под одной крышей! А потом… вы ведь поможете мне? — Чем смогу, — лаконично ответил Маликульмульк. — И друзья мои сейчас приедут. — Друзья? — Да, они выслали меня вперед, чтобы я не упускал вас из виду. И скоро будут здесь, чтобы спасти вас и госпожу Дивову от Мея и… — От кого еще? — спросила догадливая графиня. — Говорите же! — Я полагаю, от вашего супруга… — не выдержав настойчивого взгляда, сказал Маликульмульк. Он знал, что говорить этого нельзя — нельзя разрушать ту хитросплетенную ложь, которой она его осчастливила. Если разрушить — что же останется?.. — О! Это… это ужасно… Мы должны решить, как нам быть… Я только поднимусь к себе в комнату и тут же приду! — Я буду ждать у крыльца.Глава четырнадцатая «Потому что я люблю вас…»
Лишь перед «Иерусалимом» земля была очищена от палых листьев, дальше они вольготно лежали под деревьями, на дорожках, плавали в крошечной бухте. Невольно вспомнился Державин: «шумящи красножелты листья расстлались всюду по тропам…» Маликульмульк прогуливался недалеко от крыльца и внимательно оглядывал окрестности. Он вдруг забеспокоился — у «Иерусалима» несколько входов, Мартышка может улизнуть вместе с Анной Дмитриевной — как предупреждал умозрительный Паррот. Главное, задержать ее до приезда обоих приятелей. Паррот наверняка возьмет с собой еще кого-нибудь, вместе удастся как-то обезопасить Мея, главное — потянуть время. Графиня де Гаше легко спустилась со ступеней. На ней был модный салопчик, отороченный мехом, на шее висела соболья муфточка, на голову она надела небольшую шляпку с длинным, свисающим на плечо, пушистым черным пером, подчеркивающим седину. — Простите, что заставила вас ждать, — сказала она. — Для меня образец любезности — наша бедная покойная королева. Всходя на эшафот, она нечаянно наступила на ногу палачу и произнесла: «Простите, господин палач, я не нарочно». Это были ее последние слова… Пойдемте туда, к тому клену, оттуда открывается прекрасный вид… И солнце появилось! — Нет, не туда, — удержал ее Маликульмульк. — Там слишком крутой склон и деревянные ступеньки, придется идти мимо служб. Давайте обогнем холм и выйдем к Алтоне вон там, — он указал рукой направление. А затем ту же руку подал графине, чтобы свести ее по каменной лестнице, — как ему казалось, очень по-светски и даже грациозно. Через пять минут они уже вошли в Алтону с ее увеселениями, ныне пустыми, — флагштоками, площадкой для музыкантов и танцоров, киосками торговцев сладостями, сценой для представлений. Пруд здесь был благоустроен так, что Маликульмульк вспомнил Зубриловку: там тоже при большом пруде были и купальня, и почти игрушечная пристань для лодок, и беседки, и скамейки, и мостки для рыбалки. Здесь впридачу имелся еще загадочный деревянный помост на сваях и неподалеку от него — какие-то сарайчики. — Я люблю эти последние солнечные дни октября, — говорила графиня. — Эту безмятежность природы, которая уже совершила все, что было в ее списке, вздохнула с облегчением и теперь готовится ко сну. Для нее это — минутная улыбка счастья. Мне бы хотелось остаться тут надолго, но мне на роду написано — ехать и ехать… Глядите, лебеди! Один, два, три, четыре… Их здесь, наверно, приручили и кормят. — Вы одна знали, где Калиостро спрятал ожерелье королевы? — спросил Маликульмульк. — Пожалуй, да, — подумав, ответила она и замолчала, словно к чему-то прислушиваясь. — Зачем вы взяли его? — Даже если бы не взяла — все были бы убеждены, что оно у меня. Вот и приходится пятнадцать лет рассчитываться за то, что у меня был такой учитель. — Все? — удивился Маликульмульк. — Сперва это были несколько человек, близких к учителю, потом кто-то из них продал тайну. Я читала брошюрки о судебном процессе — смеялась и плакала. Подняли шум вокруг каких-то пустых людишек, как будто нарочно скрывая подлинную судьбу ожерелья. Мне пришлось его взять и скрыться. Я думала тогда, что еще увижусь с учителем и отдам ему эти камни. Но он, выйдя из Бастилии, сразу же покинул Францию — его изгнали. Он ждал меня в Лондоне, но как раз тогда я не могла покинуть Париж. А потом начались те страшные события, мы потеряли друг друга. Добрые люди передали мне, что он ждет меня в Риме, но я уже не могла уехать. — Да, я знаю, — тихо сказал Маликульмульк, не желая устраивать преждевременных разоблачений; он хотел спасти для себя хотя бы эти несколько минут у пруда, под золотыми липами. — Но тогда бриллианты уже были у вас? — Я спрятала их в другом тайнике, не том, который подготовил учитель. Это было какое-то нелепое стечение обстоятельств, он не собирался воровать! Он проводил свои опыты и выращивал камни, для этих опытов нужны были довольно большие алмазы и одинаковые — как те, что в ожерелье. Он не знал, что ювелиры получили фальшивую расписку! — Разве он не владел ясновидением? Не мог провести новый опыт с «голубком» или «голубкой»? — Владел! И я всегда была готова помочь ему! Не знаю, право, не знаю, отчего он этого не сделал! Маликульмульк чувствовал, что ложь и правда перепутаны в этой истории самым причудливым образом, он даже подозревал, что правды больше, чем лжи, но помнил и поговорку про ложку дегтя в бочке меда. — Если бы он мог предвидеть, что его ждет в Риме! — воскликнула графиня. — Может быть, он слишком серьезно отнесся к правилу прорицателей — никогда не пытаться узнать свою судьбу. Отчего он поехал в этот проклятый Рим? Он ведь по всей Европе открывал ложи египетского обряда, он думал, что и в Италии создаст большую, сильную ложу, привлечет туда лучшие умы! Но там его арестовали по обвинению в чернокнижии. Судебный процесс был долгим, к чернокнижию приплели еще и мошенничество, хотя это же абсурдно — или чернокнижие, как они называли его науку, или мошенничество, эти два понятия исключают друг друга. Его сперва хотели сжечь на костре, потом приговорили к пожизненному заключению. Я была в Лондоне, когда учителя заставили покаяться — привели босого, в одной рубахе, в церковь, а на площади сожгли ценнейшие книги! Книги, которые стоили дороже, чем все римские библиотеки, вместе взятые! Потом его увезли в замок Сан-Лео. И там он шесть лет назад умер. Клянусь вам, я ничем не могла ему помочь! — Вас преследуют несколько человек… — Я научилась ловко скрываться. Они не поймают меня, но я… я так устала… Проклятые бриллианты! Даже если я теперь брошу их в этот пруд — кто поверит, что у меня их больше нет? Из-за них я обречена бежать отовсюду… и она также преследует меня, она показывает этим людям путь… с нее же все началось, но у меня не было иного выхода! — А если и в самом деле выбросить бриллианты в пруд? — спросил Маликульмульк. — Или нет, можно поступить так: мы отвезем вас к князю Голицыну, и вы передадите ему при всех эти бриллианты под расписку, а он найдет возможность спрятать вас в России… — Вы с ума сошли! А на что же я буду жить?! Нет, я слишком дорого за них заплатила. Нет, нет, эти бриллианты мне нужны — я уеду куда-нибудь и последние свои годы буду жить спокойно, продавая их по одному. Если бы не все эти безумцы, что гонятся за мной, вроде фон Бохума, что преследуют меня, привязываются ко мне, готовы залезть ко мне в постель, вроде Андреаса фон Гомберга… Если бы все обо мне вдруг забыли, я хотела бы жить здесь, на берегу этого пруда. Летом — купаться, ведь тут вода проточная, вы не знали? Вон там стоит городская мельница… Вы же видите — я, невзирая ни на что, сюда вернулась… Маликульмульк вспомнил Дивова. А графиня, если верить печальной безмятежности лица и голоса, как раз про Дивова совершенно забыла. — Осенью — просто бродить бездумно под этими деревьями, собирать листья… Вы приезжали бы ко мне, а я завела бы себе гербарий, — продолжала она. — Зимой — кататься на коньках. Знаете, что это за помост? Мне хозяин рассказал — когда замерзает пруд, тут устраивают всякие увеселения, кавалеры катают дам в креслицах, поставленных на полозья, вот тут эти креслица и стоят, тут дамы на них садятся, играет музыка, вечером — фейерверки, на Рождество — пиры… Графиня вышла на помост, поманила — и Маликульмульк последовал за ней. Оттуда была видна лесная опушка. Он подумал, что лес, возможно, подступает к дороге, по которой можно подъехать к «Иерусалиму», и надо будет сказать об этом Гринделю и Парроту, когда они приедут. — Я вчера смотрела отсюда на закат. Стояла вот тут, на самом краю, и любовалась отражением в пруду, вот отсюда, вода застыла прямо у моих ног, был совсем безветренный вечер… — шептала графиня. — А сейчас летят листья, вон, глядите… Если у них есть душа, то они должны быть счастливы, их падение похоже на полет. Один лист, другой лист, вот третий догоняет их, а вот уже и четвертый лист скользит, как тень первого листа, а второй лист и третий лист сливаются вместе, и это уже не два листа, первый лист и второй лист, а пятый лист, и за ними — шестой лист… Тут она резко толкнула Маликульмулька в грудь — и он опомнился уже в воде. Графиня побежала к лесу. У помоста было неглубоко, рослому человеку по грудь, вроде и не утонешь, но и на берег так просто не выберешься. Особенно если окунешься с головой в мутную воду и не сразу нашаришь ногами дно. Он выпрямился, отплевался. Кричать было бесполезно. Злиться? Только на себя самого, да он и не умел злиться. Маликульмульк, подняв зачем-то руки над головой, пошел по илистому дну вдоль помоста и с трудом выбрался на берег. Вода с редингота текла струями, он и без того был тяжел, а сделался — в два пуда. Нужно было поскорее добраться до «Иерусалима». Там в обеденном зале растопили камин, там хорошо… Но как раз тут он и ошибался, хорошо в «Иерусалиме» не было. В корчме стоял страшный шум. Не обратив внимания на экипажи у входа, извозчичьи дрожки и наемную карету, Маликульмульк поднялся по каменным ступеням, вошел в зал и увидел там целое побоище. Двое статных мужчин пытались под руки вывести сопротивляющегося Иоганна Мея и кричали на него по-немецки, Давид Иероним спорил с хозяином и рыдающей хозяйкой, в углу жались служанка и мальчик, что растапливал камин, а Паррот, стоя посередке, молчал, но в его опущенной руке Маликульмульк увидел пистолет. — Что тут творится? — громко спросил он. — Господи, вы живы! — воскликнул Давид Иероним. — Вы ничего не ели? Ради всего святого! — Я съел отменный лабскаус… Я ел его один, ко мне никто и близко не подошел! — сообразив, отчего тревога, отвечал Маликульмульк, стоя в набежавшей с него луже. — Да помогите же мне кто-нибудь! Хозяин «Иерусалима» кинулся расстегивать мокрый редингот. Минуты через две, не меньше, редингот рухнул на пол. — Как вы попали в пруд? — меж тем спрашивал Паррот. — Хозяин сказал, что эта женщина не захотела есть яблочный пирог и увела вас… Да куда ж подевался ваш конюх, любезный?! — Он отлучился, он сейчас же будет здесь! — пообещал перепуганный хозяин. — Как хорошо, что вы приехали, Давид Иероним! — сказал Маликульмульк. — Эти господа, я полагаю, из полиции? — Вы верно полагаете. Где госпожа Дивова? — строго спросил Паррот. — Я не знаю… Она оставалась наверху, должно быть, а графиня спустилась ко мне… Ее там нет?! — тут лишь до Маликульмулька стало понемногу доходить, для чего его сбросили в пруд. — Ее там нет! И вещей нет. Хозяйка клянется, что она исчезла примерно тогда же, когда графиня вывела вас на прогулку! — вмешался Давид Иероним. — Где карета? — спросил Маликульмульк. — Какая карета? — вопросом же ответил Паррот. — Та, что стояла у конюшни. Слуга в русской рубахе привязывал сзади дорожный сундук. Она все еще там? — Фриц, беги, погляди, где карета госпожи графини! — велел хозяин. — Трудхен, принеси наконец мой красный шлафрок и пантуфли! Мальчик выскочил из зала, хозяйка поспешила следом, а Маликульмульк наконец повернулся к Мею и полицейским. — Если нужен свидетель, то я могу рассказать все, что знаю, — сказал он. — Я нашел людей, отравленных этим господином. Я покажу тот дом и ту комнату, где, наверно, еще лежит труп девушки. Хозяева дома подтвердят, что помещение снимал господин Мей и прятал у себя русского лакея. Графиня де Гаше и ее компаньонка чудом спаслись от него… И тут Мей расхохотался. — Спаслись! — повторял он сквозь хохот. — Они спаслись!.. Маликульмульк и вообразить не мог, что этот благовоспитанный и вышколенный господин способен чуть ли не рыдать от смеха. Смех был дурной… — Дайте ему воды, — сказал Маликульмульк хозяину. — Вы, Крылов, еще не поняли, что тут происходит, — Паррот сунул руку за пазуху и вытащил тонкую брошюру, отпечанную на плохой серой бумаге и с гравированным портретом на обложке. — Глядите! Только не намочите, бумага очень рыхлая. Не узнаете? — Узнаю… — растерянно произнес Маликульмульк. — Но тут она куда моложе, и художник ей польстил… — А теперь прочитайте, кто это. Маликульмульк пробежал взглядом несколько строк. — О Господи! — воскликнул он. — Мы с Гринделем сказали то же самое. Итак, можете гордиться, вас успешно водила за нос сама Жанна де Ла Мотт, главная героиня процесса о королевском ожерелье. Я предполагал это, но как-то все не мог собраться и зайти в гости к французу, аббату Шанмеле, который дает уроки французского языка моим мальчикам. У него целая гора такого рода литературы — обожает истории о наказанном пороке и торжествующей добродетели. Ну вот, простившись с вами, я пошел к аббату и взял у него это вещественное доказательство. Полюбуйтесь и вы, Мей. Паррот взял у Маликульмулька брошюрку и поднес к самому носу Мея. Маликульмульк же, наконец ощутив настоящий холод, стал раздеваться дальше, кидая мокрую одежду на пол. Игрок уже пришел в себя и уставился на портрет с немалым изумлением. — Так вот она кто такая… Я думал, она умерла. — Все так полагали. Тут прямо написано, на последней странице: живя в Лондоне, после очередной оргии выбросилась из окна. И ее супруг, который успел удрать в Англию до судебного процесса, был тому свидетелем. Он же и заявил в полицию о самоубийстве. Видимо, дама поделилась с ним добычей, после чего они расстались. И она понеслась по Европе, спасая жизнь и украденные бриллианты. Я все думал — отчего графиня не поехала в Митаву, где собралось столько французских аристократов? Отчего предпочитала скучать на задворках Риги? И нашел лишь один ответ — митавский двор мог знать ее в лицо. Если бы она была дамой с приличной репутацией, это бы только пошло ей на пользу, ее сразу приняли бы во всех гостиных. Но если репутация была скверной? И более того, если все были убеждены, что она умерла в Лондоне десять лет назад? Да ведь ее первым делом сдали бы в управу благочиния! И это в лучшем случае. — Отчего вы так думаете? — спросил Гриндель. — А оттого, что французские аристократы очень хорошо помнят своих врагов. Вы почитайте, почитайте внимательно. Когда Жанна де Ла Мотт была признана виновной в краже ожерелья, ее приговорили к достойному наказанию — всенародно высечь, заклеймить буквой «v», что значит «Voleuse» — «воровка», а затем навеки поселить в тюрьме Сальпетриер. Вы не заглядывали часом ей в декольте? — Нет, зачем? Ничего там соблазнительного уже нет. — Зато любопытное есть — ведь когда палач хотел ее заклеймить, она так брыкалась и уворачивалась, что раскаленное клеймо попало на грудь. Пришлось ставить другое — на плечо. Видели вы это клеймо? — Нет, конечно, — она всегда закрывалась чуть не до носа!.. Маликульмульк слушал, находясь в некой прострации — услужливый и перепуганный хозяин предложил ему сесть, чтобы стянуть с него сапоги, а он не понял, и холода не было, и сырости не было; он готовился иметь дело с ложью, но тут лжи оказалось слишком много… Перед глазами стояло молодое лицо единственной женщины, сказавшей ему «потому что я люблю вас». Она лгала, разумеется, она всю жизнь лгала, но почему это прозвучало так… так правдиво?.. — Из тюрьмы она вскоре бежала — то ли помог кардинал де Роган за какие-то тайные заслуги, то ли безымянные покровители графа Калиостро, то ли над ней сжалилась сама королева, — продолжал Паррот. — Наша графиня оказалась в Лондоне и принялась писать памфлеты, в которых оболгала бедную Марию-Антуанетту. Памфлеты эти ходили по всему Парижу — ну и как, по-вашему, приняли бы в Митаве столь талантливую писательницу? — Проклятая ведьма. Я не понимаю, почему поверил ей, когда она предложила перемирие… Как ей это удалось?.. — Мей покачал головой и вдруг прикрикнул на полицейских: — Не дергайте меня! — Вы, Мей, пожалуй, заявите, что это она уговорила вас отравить фон Гомберга и ту девицу, — сказал Паррот. — Теперь, когда она так удачно сбежала, вы можете повесить на нее все свои грехи. Тут вбежали мальчик Фриц и с ним — невысокий плечистый паренек в сером кафтане и портках по колено. — Кареты нет, господин хозяин! — сказал мальчик. — Но она укатила по приказу той госпожи. Вот, Петер чистил конюшню и видел, как она сбежала сверху к своему слуге и что-то ему коротко приказала. Она убежала, а он сразу сел на козлы и погнал лошадей к дороге. Подтверди, Петер! — Так и было, — добавил конюх. — Она вышла через те двери, в которые заносят дрова и выносят эти… ведра, что стоят за ширмами… И туда же ушла. Я не знал, что ее слугу надо было задержать. Но я пошел за экипажем, потому что эти господа не заплатили за овес и за солому, это я знал точно. Я крикнул, но кучер не остановился, экипаж повернул направо и остановился у нашей парадной лестницы. Оттуда спустилась служанка той старой дамы с баулом, села в экипаж, и он покатил к лесу. — Госпожа Дивова! — воскликнул, опомнившись, Маликульмульк. — Что с ней будет? И ахнул, осознав наконец свою ошибку. — Черт! — воскликнул обычно невозмутимый Паррот. — Она увезла с собой эту дуру! Придется выпрячь лошадей и преследовать ее верхом. Ну-ка, парни, бегите, скажите кучерам, чтобы через две минуты подвели их к крыльцу… — Незачем, — произнес Мей. — Решительно незачем. Госпоже Дивовой ничего не угрожает. Хотя если она, не дай бог, узнает правду о своем муже, то я не дам за ее жизнь и бумажной обертки от карточной колоды. А ведь может узнать — если слуга Дивова развяжет язык… — Ну-ка, говорите подробнее! — приказал переодетый полицейский. — Вам теперь только правда может помочь. Слышите, господин карточный штукарь? — Бегите! Живо! — прикрикнул Паррот на конюха и мальчика. Они выскочили, как ошпаренные, зато вошла хозяйка с полотенцем, красным шлафроком и пантуфлями. Увидев раздетого по пояс белокожего великана, стоящего у камина, она засмущалась, перекинула шлафрок через спинку стула, поставила пантуфли и убежала. Теперь Маликульмульк мог спокойно стягивать сапоги и штаны. Но сперва он вытер мокрые и грязные волосы. Голову он растирал долго и яростно — как будто от этого в ней могло произойти просветление… — Сам знаю, — ответил Мей. — Так вот, Дивов не застрелился. Его убил фон Гомберг по приказу этой ведьмы. — Ну-ну… — загадочно сказал Паррот. — Фон Гомберг, говорите, — а за что же? — Дивов случайно видел бриллианты графини. От них он едва ума не лишился — он ходил за этой ведьмой, как привязанный, умолял продать их и дать ему денег в долг, чтобы он мог отыграться, я сам слышал. Он поднимал слишком много шума, а она ведь шума не хотела… теперь только я понимаю, до чего ей шум был некстати… Так вот, фон Гомберг, которого она просто поработила, на берегу застрелил Дивова. А потом ей взбрело в голову, будто Дивов успел что-то рассказать своей жене, которую очень любил. И она стала заманивать к себе эту женщину. Видимо, она уже тогда поняла, что рано или поздно от Андреаса придется избавиться. Значит ей, хотя бы на короткое время, требовалась женщина, знающая языки, сама-то она говорит только по-французски и знает с десяток слов по-английски. Дивова говорит по-французски, по-немецки, по-русски, хорошо воспитана — чем не компаньонка для знатной особы? Мне кажется, она уже убедилась, что эта женщина никогда ничего не слышала о бриллиантах, так что вы зря волнуетесь. Последние слова прозвучали как-то фальшиво. — Но как же ей удалось уговорить женщину благородного происхождения наняться чуть ли не в камеристки? — спросил Давид Иероним. — Ну, это уж совсем просто. Вы разве не догадались, господа? — Мей усмехнулся. — Она сказала Дивовой, что муж ее жив, и побожилась, что знает, где он скрывается. Другого пути заманить бедную женщину у нее не было. — Проклятье! — воскликнул Давид Иероним, обычно столь кроткий и благодушный. — Это значит, что она и от госпожи Дивовой вскоре избавится! — Если бы мы вас, сударь, с ней не разлучили, нетрудно догадаться, кто помог бы графине избавиться от бедной женщины, — сказал Паррот. — Ну вот, кое-что прояснилось. Вы сами хотели странствовать вместе с ней, и потому охотно избавились от фон Гомберга… А кстати, как его на самом деле зовут? — Он русский, сын богатого человека и то ли актрисы, то ли просто веселой девицы, и прозвание получил, как у русских принято, от фамилии отца — кажется, Ловин или Ловкин. Он не любил говорить об этом. Маликульмульк покивал, что-то такое он предполагал. Значит, батюшка несчастного кавалера Андре — Головин или Головкин, оба рода достаточно знатны и многочисленны. — Не любит, — поправил Паррот. — Он выжил. И я готов позавидовать судьям, которые будут иметь дело с вами обоими. Они услышат много любопытного. — Андреас жив? — изумился Мей. — Это невозможно. — Господин Крылов спас его. А куда, кстати, подевался фон Димшиц? — Этот всегда умел наловить форелей, не замочив штанов, — с какой-то брезгливостью ответил Мей. — Графиня собиралась взять его с собой, он же отменный игрок, вроде договорились, и вдруг он пропал. Прячется где-то в Риге, ждет, пока мы уберемся… И, как видите, дождался! — Хоть у одного из вас хватило ума не поддаться чарам графини… Странно, что она сумела сбить с толку вас, вы не похожи на легковерного, — заметил Паррот. — Вы ведь не милая фрау фон Витте — и хотел бы я знать, успела ли наша графиня получить от нее рекомендательные письма к высокородным господам, живущим в Дерпте. Не глядите на меня так, Давид Иероним, другой причины подлизываться к этой даме у графини не было. Она собиралась повторить трюк своего приятеля Калиостро — он ведь не зря тратил время на курляндских мистиков, они снабдили его чемоданом писем к высокопоставленным столичным господам. И все-таки — как вышло, что она уговорила вас отравить этого очаровательного юношу? В последних словах Паррота чувствовалось презрение — если не знать, как он всю ночь выхаживал кавалера Андре, то можно было бы и возмутиться показным высокомерием добродетели, вынужденной говорить о пороке. — Это уже обязанность частного пристава — допрашивать арестованного, — напомнил один из полицейских. — Этот господин повторит частному приставу то же самое, что скажет сейчас нам, — отвечал Паррот с той строгостью, которая дается привычкой ставить людей на место. — И заметьте, я все это рассказываю без всяких угроз, — напомнил полицейским Мей. — Я даже покажу потом место, где, по моему мнению, сбросили в пруд тело Дивова. Поскольку оно до сих пор не всплыло и течение не дотащило его до водяной мельницы, к нему, надо думать, привязали очень тяжелый камень. — Итак? — спросил Паррот. — Только поторопитесь, сейчас нам приведут коней. — Итак, мне теперь кажется, что все это она задумала уже давно, когда уговорила меня спрятать лакея покойного Дивова, этого мерзавца. Он согласился молчать в обмен на немалую сумму, а также за то, что его увезут из России туда, где он сделается вольным. Я снимал комнаты в Петербуржском предместье, там в доме был чердак, летом на чердаке вполне можно жить. Пока мы развлекались в «Иерусалиме», этот подлец скучал в Риге. Потом, после смерти фон Бохума, мы все перебрались ко мне, но в двух комнатах нам было, согласитесь, тесновато. Графиня нашла дом на Родниковой и переехала туда с Эмилией фон Ливен и с Леонардом Теофрастом. Я остался с мерзавцем. И вот в один замечательный вечер Эмилия привела туда горничную, которая домогалась встречи с дивовским лакеем. Почему она это сделала — могу лишь догадываться. Эмилия, при всей ее скупости и при всех картежных талантах, бывает сентиментальна до глупости. Но я опоздал — когда я вернулся, ее уже не было, а в сарае возле дома лежало тело горничной. Мой мерзавец утверждал, что она грозилась выдать его полиции. Я приказал ему немедленно избавиться от тела — что он и сделал столь нелепым образом, да еще хвалился, будто тело уехало само. Я даже сразу не понял, что он натворил. Графиня же, когда ее супруг появился в Риге, поняла, что пора скрываться и переезжать в другой город. После безобразной сцены с золотым флаконом, свидетелем которой стал господин Крылов… Маликульмульк вздохнул — все сходилось, все соответствовало. — … я полагал, что больше никогда в жизни не увижу эту французскую ведьму, — продолжал Мей. — Но я был ей необходим, чтобы избавиться от Андреаса фон Гомберга и от прочих, имевших отношение к убийству Дивова. Она угрожала, что сообщит про смерть горничной в управу благочиния и назовет убийцу вместе с его покровителем. Она льстила мне, клялась, что без меня она обречена… — А вернее всего, она подцепила вас на тот же крючок, что и фон Гомберга, — сказал Паррот. — И пообещала полдюжины королевских бриллиантов. Вы слушайте, Крылов, слушайте! Прежде чем этого господина увезут в управу благочиния, он еще расскажет, как вам морочили голову портретом и прочими чудесами ловкости! Ну, откуда взялся портрет? — Фон Гомберг нарисовал после того, как ловко выследил господина Крылова. Мы ведь его сразу приметили, — сказал картежник. — А Андреас возле дома фрау фон Витте еще и расспросил кучера его экипажа, тот ему все выложил, и имя, и должность, и холостое положение, жалости достойное… Назвался же тем фальшивым именем, которое он употребить изволил, — Яковом Княжниным. Вот и вся загадка. — Это что еще за погоня? — спросил Паррот, глядя в окно. Тут Маликульмульк услышал стук копыт. Действительно, не меньше трех лошадей резво приближалось к «Иерусалиму». Вдруг Паррот расхохотался. — Ну, господа, у нас одной заботой меньше! Лошади встали. Минуты не прошло, как в зал ворвался граф де Гаше. — Где она? — ни с кем не здороваясь, спросил граф. — Мы упустили ее, — сказал Паррот. — Она заморочила голову господину Крылову, а тем временем ее слуга с каретой отправился в лес и ждал ее там. Если поторопитесь, можете догнать. Они, наверно, выедут на Митавскую дорогу. Постарайтесь заставить ее отпустить компаньонку. — Прекрасно! — граф де Гаше, не прощаясь, покинул зал, и тогда рассмеялся Давид Иероним. — Эта история так просто не кончится, — еле выговорил он. — Граф будет гоняться за ней по всей Курляндии. — Думаете, она сумеет его одурачить? — спросил Паррот. — Уверен. Это его злой рок. Она одурачила его, когда женила на себе. Одурачила, когда не расплатилась за свое новое имя бриллиантами. Одурачила, когда от него сбежала. Разве может быть иначе? — Не может, — согласился Паррот. — Но что же тогда будет с госпожой Дивовой? Надо уговорить старика написать явочную в полицию, чтобы эту бедную дурочку начали искать хоть бы на почтовых станциях… Паррот завел беседу с полицейскими. Гриндель потребовал себе горячего кофея. Мей опять стал объяснять, что графиня обвела его вокруг пальца. Один Маликульмульк, медленно вернувшись к камину, стоял столбом и глядел в огонь. Серая брошюрка лежала на столе. Он не хотел более глядеть на этот портрет — и все же поглядел. Художник польстил Мартышке, хуже того, он придал ее физиономии что-то вроде чувства собственного достоинства. Такой она не была никогда — Маликульмульк не мог бы представить ее себе молчащей и взирающей на мир с пленительной полуулыбкой, с высоко поднятыми бровями и почти круглыми томными глазами. Художнику было велено изготовить парадный портрет, гравер превратил этот портрет в картинку, необходимую, чтобы простаки раскупили брошюру. А подлинная Мартышка ускользнула от них вместе со своей любимой игрушкой, со сверкающим стразом на золотой цепочке, который был, сдается, самым крупным бриллиантом из ожерелья французской королевы.* * *
Маликульмульк ощущал себя так, как если бы болел, метался в жару, бредил — и вот бред покинул его. Мир, из которого болезнь выдернула его, возвращался, почти вернулся, и нужно было заново окружить себя людьми, событиями, чувствами того мира. Нужно было искать спасения в воспоминаниях, твердя себе, что они хранят лучшую, светлейшую часть души. Он стоял у дверей «Лондона», ожидая Паррота и Гринделя. Паррот завершил в Риге все дела, получил все физические приборы, заказанные у рижских мастеров, купил все необходимые книги, и вот теперь окончательно уезжал в Дерпт вместе со своими сыновьями, одиннадцатилетним Вильгельмом Фридрихом и десятилетним Иоганном Фридрихом. Он с большой неохотой забирал их из рижской гимназии, но и оставлять не мог — дети должны наконец жить с отцом, раз уж у них нет матери. Вышли гостиничные служители, вынесли сундучки, ящики, баулы, стали грузить все это добро в дорожную карету. Потом появились Давид Иероним и Паррот. — Я приеду с мальчиками к Рождеству, — пообещал Паррот. — Это уже скоро. Не надо меня провожать. Ступай в аптеку, Давид Иероним. Незачем мокнуть под дождем. Они обнялись, и Паррот повернулся к Крылову. — Есть вещи допустимые, а есть вещи недопустимые даже для гениального поэта, — сказал он. — Мы еще встретимся, и я повторю вам это. До встречи, Крылов. — До встречи, Паррот, — ответил Маликульмульк. Физик посмотрел на него внимательно — и вдруг протянул руку. Маликульмульк протянул свою, и после рукопожатия повернулся и зашагал прочь. Он все понял. В Рижском замке его с нетерпением ждали Голицыны. Князь, узнав, что начальник его канцелярии помог изловить шулеров-убийц, был немало удивлен, но у него хватало иных забот, и он ограничился поучением: — Убийц ловить надобно, да только ты уж, братец, канцелярией больше не манкируй! Ступай, там бумаги скопились. Приготовь мне экстракт по склоке Циммермана с магистратом. Он, вишь, еще одно письмо прислал. Надобно помочь человечку — пусть старые сычи позлятся! А вот княгиня страстно желала знать подробности, особенно ее беспокоила судьба Анны Дивовой. Но тут Маликульмульк мог только руками развести. Граф де Гаше в Риге если и появлялся, то никому о том не докладывал, и догнать беглую супругу ему тоже не удалось. Где все трое теперь пропадают — одному Богу ведомо. Курьеры, которых просили заглядывать в книги станционных смотрителей, куда заносились все подорожные, пока ничего не сообщили — как видно, бегство из «Иерусалима» и преследование графа изменили планы Жанны де Ла Мотт. Слова Паррота пробудили в Маликульмульке решимость. Прежде чем засесть до конца дня в канцелярии, он отправился к Варваре Васильевне и попросил принять его без посторонних. Она охотно согласилась. — Ваше сиятельство, — сказал Маликульмульк. — Простите, что по пустякам беспокою, но я не желал бы в вашем семействе служить яблоком раздора. Не похож я на яблочко. В вашей дворне ходят слухи, будто я с одной из горничных… как бы деликатнее сказать? — Спутался, Иван Андреич, — подсказала княгиня. — Спутался, да. Так вот — я знаю, откуда пошел этот слух. Ко мне в башню приходила Маша за книгами, кто-то видел ее издали, может, шаги на лестнице слышал, лестница скрипучая. Зная, как вы Машу бережете, я решил было об этом визите не говорить, но раз девочка невольно дала повод для сплетен, я решил прийти и сказать вам всю правду. — О правде этой я догадывалась, — ответила Варвара Васильевна. — Машина невинность и наивность могут больше бед натворить, чем чья-то распущенность. Потому ее и берегу. И тобой была недовольна — отчего из простого дела секреты устраивать? Так ведь поневоле подумаешь, будто виноват… А теперь скажи-ка мне, ты не догадываешься, кто бы мог услышать эти шаги на лестнице? — Есть один человек, да он ведь мне добра желает, не стал бы слухи распускать. Беспокоится обо мне — уж не знаю, чем заслужил… Хотя, впрочем… — Терешка-кучер? — Он самый, ваше сиятельство. Ему с чего-то взбрело на ум, будто я в башне замерзаю, и стал он туда ко мне дрова таскать… Где берет — не знаю. А кто бы еще мог там быть вечером — понятия не имею. Горничные ваши обычно с утра ходят… — Ты, Иван Андреич, умен, и вирши прекрасные сочиняешь, и шутотрагедия твоя мне по душе, и на скрипке играешь замечательно, вот этим всем и занимайся. Понять, что в душе у дворовых делается, тебе не дано, а там у них престранные идеи порой произрастают, — сказала княгиня. — Вдруг что-то делить принимаются, вдруг какие-то ужасы изобретают. Уж, кажется, чего им недостает? Кормлю их лучше, чем иной рижский мещанин питается, одеты в чистое, не мерзнут, в церковь помолиться всегда отпускаю, а спокойно жить не умеют. И сами себе столько неприятностей устраивают, что злейший враг не догадался бы. А вот как получат головомойку за свои глупости — так, глядишь, даже счастливы: пришла барыня и навела порядок! Дворня — это даже не сословие, это особое состояние души, при котором требуется очень мало… мало имущества, мало знакомцев, мало веры, и когда всего этого воистину мало, то на крошечном пятачке начинается кипение страстей… Ладно, Бог с ними. Сплетен более не будет, сам увидишь. Да вперед будь поосторожнее. — Буду, ваше сиятельство. Княгиня протянула руку — немолодую уже, пухлую руку с золотым наперстком на среднем пальце. Маликульмульк эту руку почтительно поцеловал и пошел прочь. Слова княгини соответствовали тому, что сам он думал о Терентии. У кучера была особая логика, для философа непостижимая. Княгиня полагала, будто у всех дворовых людей — особая логика. Дело не в их неграмотности, Маликульмульк знал, что у многих господлюди умеют читать и писать, а не только счет знают; другое дело, что дворовый человек ленив и вороват… «Дело в ином, — подумал Маликульмульк, — человек читающий сам себя делает соучастником мудрых мыслей писателя, он уже не просто казачок Васька или повар Митька, он на одной ноге с господином Карамзиным или Державиным… и эту мысль следует развивать далее…» Достаточно ли чтения книг, нашпигованных мудрыми мыслями, чтобы изменить человека? Раньше ему казалось — да, разумеется, иначе для чего же пишутся книги? Теперь он в этом уже не был уверен. Душой руководило нечто иное, и Маликульмульк в поисках ответа перебрал всех своих столичных знакомцев, людей образованных и талантливых. Наконец ему показалось, что ответ найден. Одновременно он немало думал о своем будущем — и, возвращаясь поздно вечером в жарко натопленную комнату, не сидел, а ходил взад-вперед, раздевшись до рубашки и попыхивая трубкой. Наконец решение было принято, и оно напомнило ему весенние хлопоты хорошей хозяйки, которая, когда накануне Пасхи выставляются зимние рамы из окон, затевает великую уборку, безжалостно выкидывая всю скопившуюся за зиму дрянь. Маликульмульк отправился в каретный сарай, отыскал там Терентия и вызвал для разговора в Северный двор. Терентий немного покочевряжился, показывая, что его отрывают от государственной важности дел, но снизошел. Накрапывал дождик, и они встали в арке ворот, откуда была видна унылая и безлюдная замковая площадь. — Хочу я тебе сказать одну вещь. Поймешь ли, нет — не знаю, но сказать должен, — произнес Маликульмульк и задумался. Мысль, которая угнездилась в голове несколько дней назад, требовала, чтобы для нее нашли наконец подходящие слова. Терентий смотрел и ждал. — Так вот, люди делятся на два рода, одним необходимо иметь, а другим — быть. Понял я это благодаря тебе, брат Терентий, за что тебе крайне признателен. За это ты сейчас получишь очередную полтину. — Да коли заслужил, отчего ж не получить? — задал Терентий классический риторический вопрос, хотя слова «риторика» отродясь не слыхал. — Тогда слушай. Пока не дослушаешь — полтину не дам, — Маликульмульк усмехнулся тому, что разговаривает с мужиком в годах, как с Васей и Володенькой, соблазняя их пряниками, чтобы собрались с духом и хорошо написали диктант. — Итак, есть люди, которым необходимо иметь — иметь деньги, иметь дом, жену, положение в обществе… хм… в обществе себе подобных. Скажем, человеку крепостному важно иметь положение среди таких же, как он, это ты понял? — Как не понять. — А есть люди, которым необходимо быть. Быть писателем, быть издателем, быть философом, да хоть бы и театральной девкой, но — быть. И это понял? Ну вот, одни желают, чтобы им что-то принадлежало, и это — верный знак, что и они чему-то или кому-то принадлежат. А другие желают просто быть, и это знак, что над ними лишь Божья власть. Или же не только Божья — это уж по грехам нашим… не в том суть… — Спаси и сохрани, — сказал Терентий, крестясь. Этот странный разговор начинал его пугать. — Даже когда очень богатый человек, которому бы уж можно жить в покое, начинает добиваться новых чинов, денег, орденских звезд, это значит, что он не себе принадлежит. Он не помещику, как ты, принадлежит — он тщеславию принадлежит, он жадности принадлежит, он страху принадлежит — как это, чтобы у соседа была запряжка вороных ценой с десять тысяч, а у него нет? Это ж курам на смех — жить без запряжки в десять тысяч! А если человек способен здраво рассудить, что полверсты можно проехать и на извозчике, не беспокоясь, что подумают соседи, то он свободен… Ехать на извозчике — и быть тем, кем тебя создал Господь, это ли не счастье? А не топтаться на ступеньке дурацкой лестницы, где сверху — те, кому принадлежишь ты, а снизу — то, что принадлежит тебе… Терентий сдвинул брови и приоткрыл рот. Косолапый Жанно говорил жуткие слова — извозчик какой-то, лестница какая-то, вороные… Понять было решительно невозможно. — Вот в чем наша беда — в том, что люди, рожденные принадлежать, и помыслить не могут о том, чтобы просто быть. Долго еще эту беду не расхлебаем. Проще всего сочинить оду про вольность, как господин Радищев. Красивая ода! «О! дар небес благословенный, источник всех великих дел, о вольность, вольность, дар бесценный, позволь, чтоб раб тебя воспел…» Воспеть-то нетрудно! А как ты эту вольность в раба затолкаешь? Силком? А коли не лезет? Коли для нее в душе места нет? — Господи помилуй, — сказал в ответ Терентий. Недоросль, похоже, лишился рассудка, и нужно было срочно вправлять ему мозги. Срочно! Сей же миг! Косолапый Жанно затеял что-то скверное. Он своего блага не понимал — а благо, вот же оно, если не умничать! Из-за его пространных и бесполезных рассуждений могло случиться воистину страшное — могло рухнуть то строение, которое старательно возводил Терентий ради общего блага, не только своего, нет, могла порваться цепь, сковавшая владельца непутевого барина с самим этим барином, цепь взаимовыгодная, кстати говоря! — Не могу молчать, душа горит! — воскликнул Терентий громогласно и осекся, никакие слова на язык не приходили. И какие ж тут слова — это ощущать надо, как вот смотришь на вещь и ощущаешь, что она твоя… — Так вот, решил я нынче освободиться. Устал я от тебя, брат Терентий, — сказал Маликульмульк и прямо-таки ощутил, как с плеч его соскальзывает и грохается на пол многопудовая тяжесть. — Сколько полтин от меня тебе перепало, а? И за что? Ведь я тебя никогда ни о дровах, ни о стирании пыли не просил, ты сам все это проделывал добровольно. Так что давай прекратим эту комедию и расстанемся добрыми приятелями. — Это как же? — спросил, растерявшись, кучер. — Да я ли не был вашей милости, как отец родной? Да что б вы без меня?!. Да вы бы пропали! Вот истинный крест — пропали бы!.. — Хватит, братец. Хорош отец родной — первому встречнему про мое жалкое холостое состояние докладывать! Вот тебе последняя полтина и проваливай. Ты, видно, плохо понял, с кем связался, — таков был ответ. — Я человек добрый, да ведь доброта моя — не дойная корова! Вот я потерпел, потерпел твои заботы, а теперь прямо говорю: ты мне не надобен, с интригами своими вместе. — Грязью зарастете! — взревел Терентий. — По уши! Без меня-то! На полымянке уличной женитесь! Мазурики вас оберут! Под забором помрете! — Значит, такая судьба, — преспокойно отвечал философ Маликульмульк, и больше от него Терентий ни слова не добился. Хуже того, его крик привлек внимание кого-то из дворни, и сдается, что женщины. И получаса не прошло, как всесильной няне Кузьминишне донесли, что кучер Терентий окончательно спятил, орет благим матом на Ивана Андреевича и грозится страшными злодействами. Няня Кузьминишна любимцу князя и княгини обычно симпатизировала — да и давно она не доказывала господам своей преданности… Она позвала к себе комнатных женщин Варвары Васильевны и спросила у них, не замечали ли они за Терентием какого безумия. Фрося, поняв, откуда ветер дует, тут же объявила, что безумие кучера видно всякому, и вот образчик: он, человек женатый, смеет к ней приставать со своими подарками и обещает поселиться с ней вместе, а как же это возможно?! Фросю давно уже беспокоили странные выходки поклонника, и она сразу поняла, что вот шанс от него избавиться навеки, покамест ее собственная репутация не пострадала. Вечером, докладывая княгине о том, как уложены спать младшие дети и Николенька, Кузьминишна совершила свой праведный донос. Варвара Васильевна, уже давно подозревавшая правду, тут же вспомнила все подвиги Терентия — и то, как он, слоняясь с княжеской каретой неведомо где, заполучил туда мертвое тело, и историю с чаркой водки, и недавно обнаруженное посягательство на Фросину репутацию. Найти кучера в Риге было несложно — такого, что хорошо знает город, трезвого поведения и в здравом рассудке. Ну, стало быть, будет у Голицыных наемный кучер, так рассудила Варвара Васильевна, привыкшая править домом самостоятельно — Сергей Федорович, будучи то в походах, то при дворе, в ее дела не мешался. Кучера из местных нашли, привели, представили ее сиятельству, и чуть ли не на следующий день вручены ему были бразды правления каретой. А Терентия отправили в Зубриловку, к жене и деткам. Он уезжал ранним утром, сырым и туманным, собравшись в большой спешке — через Ригу проезжало дружественное Голицыным семейство, и была возможность отправить кучера под присмотром до столицы, а там бы уж его встретили предупрежденные письмом надежные люди и сопроводили далее, в деревню. Его довели до «Лондона» и сдали с рук на руки двум дюжим лакеям. Затем его поместили на одной из шести телег обоза. Семейство везло из Европы много всякого добра и боялось доверить его судну — все знали, как утопла в Балтийском море превосходная коллекция драгоценных картин, приобретенная покойной государыней. И поехал Терентий прочь из жестокого и несправедливого города, сгубившего его лучшие, прекраснейшие мечты о карьере. Едучи, он кутался в самый простецкий армяк поверх тулупа и бормотал, что недоросль о нем не раз еще пожалеет, но его никто не слушал. И сам он всей душой жалел недоросля, лишенного настоящей заботы — жалел искренне, отсекая все то, что успел натворить, и высвободив из путаницы нелепых обстоятельств только эту скорбную жалость, прочее же отринув навеки. Дождь мелко сеялся над раскисшей дорогой, и жизнь впереди представлялась такой же беспросветной, как тусклое серое небо. Но всему приходит конец, даже хныканью обиженного кучера. Он вдруг сообразил, что в деревне будет главным героем — кто еще побывал в Риге и Митаве, кто еще жил среди сплошных немцев и перенял у них полтора десятка слов? Его будут звать на все пиры — благо сейчас самое время справлять свадьбы, его будут сажать на почетное место и упрашивать, чтобы рассказал о своих странствиях! Таким образом, изгнание Терентия становилось триумфальным возвращением, он возрадовался и присоединил свой голос к голосу кучера, правившего телегой. Вместе они исполнили прекрасную песню «Ах, кабы на цветы не морозы», а тут и солнышко выглянуло. Начиналась новая жизнь — исполненная трудов, да зато вдали от господ, лишенная блеска галунов на ливрее, да зато в обществе жены, за которой не нужно увиваться, как за хитрой Фроськой, всегда она под боком, и подарков никаких не надобно!* * *
А философ Маликульмульк отправился искать себе жилище. В башне оно, конечно, замечательно, можно любоваться закатами и ощущать себя бог весть кем, вознесенным над грешной землей прямиком в эмпиреи. Да уж придется как-то обойтись без закатов, без горничных ее сиятельства, без поварни, куда можно в любое время заглянуть — и покормят, ни копейки не взяв. Вон Вольтер в «Кандиде» сказал прямо: надо возделывать свой сад. И это всякому философу урок: надо возделывать в душе свою личную вольность. Возделывать заново. А среди ароматов княжеской поварни такие цветы не растут. Давид Иероним дал адресок — на Большой Песочной, неподалеку от Мельничной, знакомый русский купец может сдать две комнаты. До замка — не более двух тысяч шагов, четверть часа ходьбы… или уже минут двадцать?.. Ишь, как отъелся философ на княжеских хлебах, уже не побегаешь, шествуешь величественно. Вот с чего начинается старость — с величественности. А ведь всего тридцать три года. Побывав на Большой Песочной и немного смутившись близостью дома к тому месту, где совершились два убийства, Маликульмульк вернулся в замок. В гостиной его встретила Тараторка. — Ну что же пиеса? — спросила она. — Успеете написать ее к святкам? Иван Андреич, миленький, постарайтесь! И чтобы для меня непременно была роль! Варвара Васильевна просила! — Роль будет, — обещал Маликульмульк. — Сыграешь горничную, примерно такую, как Фрося. А называется пьеса «Пирог». Погоди, наконец закажу в «Петербурге» тот самый пирог, какой мне надобен, изучу его — и сяду за работу. И никто мне мешать не станет своими заботами. — Так вы точно нас покидаете? — Тараторка уставилась на него огромными черными глазами, придав взгляду столько скорби, ну прямо трагическая актриса в роли угнетенной невинности. — Надо, Машенька, — ответил он. — Я сделал ошибку — мне показалось, что в семействе его сиятельства я буду счастлив и спокоен. Но это было счастьем и спокойствием спящего в берлоге медведя, который находит блаженство в сосании своей лапы. Пора мне из этой берлоги выбираться. Что получится — Бог весть… Он поднялся в башню и стал первым делом складывать бумаги. Порядок в бумагах, даже совершенно ненужных, был важнее всего. Наброски, наброски… Первые сцены «Лентяя», который никогда уж не будет дописан… Стихи, еще стихи… И странная мысль вертелась в голове: он ведь чудом остался жив. Если бы тогда, в «Иерусалиме», графиня де Гаше подсыпала ему яд? Она же видела — начальник генерал-губернаторской канцелярии приехал неспроста, и он же сам предлагал ей угощение, а она нашла бы способ отвлечь его внимание. Но она его пощадила, она ограничилась тем, что устроила ему холодное купание. Маликульмульк вспомнил: она глядела на стол, уставленный посудой, с подозрительной задумчивостью глядела… и вдруг приняла решение, стремительно увела его прочь, к пруду. Что же это такое было? Не любовь, разумеется. И лучше не вспоминать тех слов в чужом экипаже. Эта женщина способна любить только бриллианты. Не милосердие — ведь она не пощадила бедную Дуняшу и верного ей, невзирая ни на что, фон Гомберга, она многих в своей жизни не пощадила. Так что же? Или показалось? Пожалуй, показалось. Хочется, чтобы все было так, а на самом деле — игра одинокого воображения. Игра? Он смотрел в окно на спокойную реку, на беспросветное серое небо, на чаек и понимал, что не на все вопросы бывают вразумительные ответы. И во всякой лжи вдруг может оказаться крошечное зернышко правды. И во всякой душе — хоть осколочек любви, который за всю жизнь, может, один лишь раз сверкнет и погаснет. Но он успеет отразиться в другой душе, и отражение окажется куда ярче, куда блистательнее, и погаснуть не пожелает, как ты его ни истребляй. Почему же так? «… потому что я люблю вас…»Рига 2008
Примечания
1
Мистер Фэн, нежная и серьезная душа, попутный ветер, эта история о далеком прошлом – для вас. (обратно)2
Челядинцы – слуги, живущие в доме сеньора. (Здесь и далее примеч. автора, если не указано иное.) (обратно)3
Мануарий – земельный участок размером 100–200 га, доход с которого позволял вооружить рыцаря. (Примеч. ред.) (обратно)4
Вилланка – крестьянка, подвластная сеньоральному суду. В Средние века это слово не имело уничижительного смысла. (обратно)5
«Поклоняемся тебе, Христос» (лат.). (обратно)6
Знахарь, чаще всего не имевший диплома, занимался врачебной практикой после нескольких лет учебы. Он мог вступать в брак. Врач был доктором медицины. До XV века он считался духовным лицом и поэтому должен был давать обет безбрачия. (обратно)7
Имена, названия и понятия, помеченные звездочкой, поясняются в глоссарии и историческом приложении в конце романа. (обратно)8
Девочки достигали совершеннолетия в двенадцать лет, мальчики – в четырнадцать. (обратно)9
Вдовье наследство – право пользования имуществом покойного мужа, отходившим к вдове. В Парижском районе ей предоставлялась половина имущества мужа, которым тот владел до вступления в брак, и треть в соответствии с кутюмами Нормандии. (обратно)10
Среда, пятница, суббота и кануны праздников, равно как и сорок дней Великого поста, считались постными днями. (обратно)11
Бароны Французского королевства делились на ординарных и великих. (обратно)12
Название династии Плантагенетов происходит от planta genesta, то есть «дрок», «шильная трава». Такое прозвище получил один из предков Эдуарда, Жоффруа, граф Анжуйский, превративший принадлежавшие ему земли в ланды, насадив в них в числе других растений дрок, чтобы иметь возможность охотиться. (обратно)13
Дети, посвященные Богу, – дети, которых отдавали в аббатства. (обратно)14
Шенс – длинная нательная рубашка, которую надевали под платье. (обратно)15
Сахарон – вещество, из которого получают сахарозу (химическое название пищевого сахара) и сахарин. (обратно)16
Медовые мухи – так обычно называли в то время улья и пчел. (обратно)17
Вплоть до XVII века считалось, что рой собирается вокруг короля (царя), а не королевы (царицы). (обратно)18
Рыцари по справедливости и по заслугам принадлежали к Гостеприимному ордену Святого Иоанна Иерусалимского (госпитальерам) (см. Краткое историческое приложение). Рыцарь по справедливости должен был являться дворянином по меньшей мере в восьмом колене во Франции и Италии и в шестнадцатом колене в Германии. Титул рыцаря по заслугам присваивался за один достойный поступок. (обратно)19
Братья не имели права перемещаться без отпускного билета. Каждый командор, встретивший брата, не способного предъявить этот документ, был обязан арестовать его и отдать под суд ордена. (обратно)20
«Всякий, кто окунается в божественную кровь, очищается от скверны; и красота розы делает его подобным ангелам». (обратно)21
В отличие от знахарей, к хирургам – чаще всего цирюльникам – относились довольно плохо. (обратно)22
Виселица состояла из двух рогатин, врытых в землю, и перекладины, на которой вешали приговоренных к казни. (обратно)23
12 июня 1218 года. (обратно)24
В течение долгого времени торговля бумагой, изготовленной из льна или конопли, находилась в руках мусульман, хотя была изобретена в Китае. По этой причине христианский мир не пользовался ею до тех пор, пока в середине XIII века итальянцы не придумали новый способ изготовления бумаги. (обратно)25
Казначея – послушница, не принявшая монашеского пострига, которая обеспечивала сношения своего аббатства с внешним миром. (обратно)26
Экономка – монахиня, непосредственно подчиняющаяся аббатисе и настоятельнице. Она ведала продовольственными запасами монастыря, покупала и продавала земли, взимала пошлины, а также следила за амбарами, мельницами, пивоварнями, садками и т. д. (обратно)27
Мир – светское общество. (обратно)28
Гостеприимный дом – место, где останавливаются богомольцы. (обратно)29
Гостиничная – монахиня, обеспечивающая связь между богомольцами и аббатством и оказывающая им услуги, в которых они могут нуждаться. Она следит за чистотой, огнем, питанием и поведением богомольцев в аббатстве, а также обеспечивает их свечами. (обратно)30
«Аминь. Помилуй нас. День гнева, этот день обратит века в пепел». (обратно)31
«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Евангелие от Матфея, 24: 29. (обратно)32
Только монахиня, отвечавшая за обучение детей и послушниц, имела право поднимать на них руку и наказывать. (обратно)33
Сюрко – короткая безрукавка с застегиваемым воротником, часто богато украшенным, которую мужчины знатного происхождения носили поверх короткой туники. (обратно)34
«Тогда явится знамение Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, 24:3 (обратно)35
Бонд – свободный викинг, крестьянин, купец или мореплаватель. (обратно)36
Камерленго – глава Апостольской палаты и всей финансовой администрации, а также доверенное лицо и советник Папы (обратно)37
Совершенный – член катарской* церкви, давший обет безупречного аскетизма (воздержания в половой жизни, еде и так далее). (обратно)38
И хотя современным умам в это трудно поверить, но речь идет об оправдании инквизиции. (обратно)39
Самострел – маленький легкий арбалет, снабженный механизмом, позволяющим без труда натягивать стрелы. (обратно)40
В XIII веке восковая печать, или кольцо «ловца человеков», вытеснила свинцовую печать, которой скрепляли личные послания Папы, а затем и письма его секретарей. (обратно)41
Златошвейка – работница, расшивавшая золотом ризы, позументы, шитье, парадную одежду. (обратно)42
«Синие ногти» – красильщики, работавшие чаще всего на торговца тканями. Они красили шерсть и драп, а окрашиванием шелка занимались галантерейщики. Вайда, синий пигмент, используемый при окрашивании шерсти, придавала коже синий оттенок. (обратно)43
Тонкий ломоть черствого хлеба заменял тарелку. (обратно)44
Délicieux – дивный, прелестный (фр.). (Примеч. пер.) (обратно)45
Повивальная бабка – акушерка. (обратно)46
Язвить – серьезно ранить. (обратно)47
До X века к духовным лицам, которые вступали в брак или сожительствовали, относились довольно терпимо. (обратно)48
Сыромятник – ремесленник, выделывающий лайку. (обратно)49
Вьючная лошадь – обычная лошадь, которую использовали на войне. Она проворнее упряжной лошади и не такая норовистая, как скаковая лошадь. (обратно)50
Верховая лошадь – парадная лошадь, принимавшая участие в различных шествиях и церемониях, менее норовистая, чем военная лошадь. (обратно)51
Секач, или одинец, – четырехлетний кабан. (обратно)52
Вавассал – вассал вассала. (обратно)53
Ложный суд – несправедливый приговор, вынесенный вавассалу. (обратно)54
По средневековым представлениям молодость длилась от 20 до 40 лет. Средний возраст – от 40 до 60 лет. Старение начиналось после 60 лет. (обратно)55
Людовик Святой. (обратно)56
У лошадей, считавшимися благородными животными, были имена (как и у собак). Ожье Датчанин был легендарным персонажем, символической фигурой, олицетворявшей верность. (обратно)57
Браки – штаны. (обратно)58
Церковь не признавала одежду, которая могла породить путаницу при распознавании полов. (обратно)59
В отличие от волка, считавшимся глупым и жадным, хотя и внушавшим ужас, лиса была символом хитрости и ума. (обратно)60
«Прекрасная донна» – экстракт из белладонны, который итальянки закапывали в уголки глаз, чтобы оживить свой взгляд. (обратно)61
Цепеи – улитки. Они были довольно распространенным блюдом, к тому же их разрешалось есть в постные дни. (обратно)62
Башенки – небольшие деревянные или металлические фонарики, защищавшее пламя от сквозняков и позволявшие переносить свечи. (обратно)63
Сорвать забрало – в переносном смысле: резко порвать с кем-либо отношения. (обратно)64
Плющилыцики – молотобойцы, превращавшие металлические прутья в листы, а затем продававшие их мастерам, изготавливавшим различные предметы. (обратно)65
В то время беличий мех ценился очень высоко. Чтобы подбить мужское манто, требовалось поймать более двух тысяч белок (обратно)66
Кровосмесительными считались сексуальные связи даже между крестниками и их крестными родителями. (обратно)67
Речь идет о пюре из бобов. (обратно)68
Приведенный отрывок взят из «Мясной книги Тайевана», вышедшей в издательстве «J. Pichon». (обратно)69
Дублет – одежда, которую надевали на рубашку (шенс). Обычно ее шили из тонкого льна или бумазеи (меланжа льна и хлопка). (обратно)70
Котта – длинная туника. (обратно)71
Симфония – вероятно, предшественница виолы. (обратно)72
Шеврет – духовой инструмент, напоминающий волынку. (обратно)73
Цистра – струнный инструмент, издающий нежные звуки. (обратно)74
Уран, Нептун и Плутон были открыты намного позже (обратно)75
Гномон – инструмент, который позволял определить положение планет в системе, описанной греческим астрономом Птолемеем (II век до н. э.). Эта неподвижная и совершенно ошибочная система считалась верной семнадцать столетий, поскольку вполне устраивала Церковь. (обратно)76
Ги Фулькуа, по прозвищу Толстый – Папа Климент IV, бывший рыцарь и юрист. (обратно)77
Монсеньор Филипп (1294–1322) – станет королем под именем Филиппа V Длинного после смерти своего старшего брата Людовика X Сварливого. В 1306 году он женился на Жанне Бургундской. (обратно)78
Виньетка – вставка с изображением какой-либо сцены, чаще всего раскрашенная. (обратно)79
Буквица – одна или несколько первых букв в начале главы или параграфа, чаще всего украшенные плетеным узором. (обратно)80
Вязь – орнамент с изображением стилизованных ветвистых растений. (обратно)81
При изготовлении чернил очень часто использовали этот пигмент, обладающий связывающими свойствами. (обратно)82
К мужчинам в основном применяли пытку дыбой (обвиняемого, привязанного за веревку, несколько раз сбрасывали с дыбы), водой и огнем. Женщин же чаще всего бичевали. (обратно)83
Тогда не проводились ни вскрытия, ни препарирования, в основном по религиозным мотивам. На протяжении длительного периода медицина опиралась на труды Гиппократа и Галена, великого анатома. В меньшей степени использовались труды Авиценны. Впервые препарирование было сделано в 1340 году в университете Монпелье. (обратно)84
Парные окна – сдвоенные окна, которые друг от друга чаще всего отделяла тонкая колонна. (обратно)85
Ордалия – Божий суд. Физическое испытание (каленым железом, окунанием в ледяную воду или судебным поединком), призванное доказать виновность или невиновность. Обычай Божьего суда возник в XI веке. Не следует путать судебный поединок с поединком чести, который получил распространение в XV веке. (обратно)86
Ангельская иерархия состоит из трех сфер. (обратно)87
Строительство церкви Сен-Жермен-л'Осеруа, возведенной на фундаменте баптистерия VI века, относится к XII и XIII векам. В то время это было довольно скромное здание. Современный облик оно приобрело гораздо позже. (обратно)88
Claire означает «светлая», «ясная». (Примеч. пер. (обратно)89
Церковь запрещала использовать при служении литургии рунический алфавит, считая его языческим. (обратно)90
Валломброзо – монастырь, в котором вел свои наблюдения Галилей до того, как уехал в Пизу, чтобы изучать медицину. (обратно)91
Уран и Нептун. (обратно)92
Плутон. (обратно)93
На протяжении нескольких столетий в период зимнего солнцестояния проводился языческий праздник сатурналий. Около 336 года церковь приняла решение отмечать 25 декабря Рождество Христово. (обратно)94
Кроткий Пай идет к вашему брату, не испытывая страданий. (обратно)95
Эти слова принадлежат Франсиско Пене*. Далее пояснения к отмеченному звездочкой см. в приложениях. (обратно)96
«Советы инквизиторам» (лат.). Эти слова принадлежат Франсиско Пене (обратно)97
Присяжная матрона – повитуха, имевшая право свидетельствовать в суде. (обратно)98
Суд над Джонатаном состоялся в Париже в 1290 году. (обратно)99
Скоропись – разновидность готического письма, иначе говоря, бастарда. Этот вид шрифта использовали в документах, письмах, учетных книгах и манускриптах, написанных на местных языках. (обратно)100
Слова из лэ Марии Французской. (обратно)101
Карнуты – древний кельтский народ, живший в центральной Галлии. (Примеч. пер.) (обратно)102
Хотя они не давали обета бедности, целомудрия и послушания, тем не менее пользовались всеми привилегиями, которые предоставлял орден, и занимались сельским хозяйством, каким-либо ремеслом или прислуживали в командорстве. (обратно)103
Феод – участок земли, отданный сеньором своему леннику, который за это должен был платить оброк и/или оказывать определенные услуги. (обратно)104
Чинш – поземельный оброк, который ленник платил сеньору. (обратно)105
Уссарий – широкий корабль с большой дверью на корме, чтобы на борт могли взойти лошади. Лошадей стреноживали, чтобы они не упали во время качки. (обратно)106
Praeceptor – наставник (лат.); так в латинских текстах назывался командор. (обратно)107
Блио – длинная туника. (обратно)108
Хлеб служил знаком различия общественных слоев. Существовали хлеб богача, хлеб рыцаря, хлеб конюха, хлеб слуги, а также хлеб бедняка и хлеб голода (обратно)109
«Славься, Царица, Матерь милосердия, жизнь, отрада и надежда наша». Речь идет о зале для игры в мяч. (обратно)110
Заячья гончая – борзая, с которой охотились на зайцев. (обратно)111
Галантерейщики – богатый цех торговцев, которые продавали, не изготавливая их, все ткани, одежду и даже предметы и изделия ювелирного искусства самым богатым слоям общества. Они также красили шелк, в отличие от красильщиков, которые занимались менее дорогими тканями. Их ремесло считалось одним из самых уважаемых. (обратно)112
Шалфей лекарственный (лат.). (Примеч. пер.) (обратно)113
В 994 году Радульф Глабер описывал горячку как «болезнь, которая, затронув член и пожрав его, отрывает его от тела». (обратно)114
Галлюцинации возникают под действием диэтиламида лизергиновой кислоты, иначе говоря ЛСД. (обратно)115
Пришлось ждать XVII века, чтобы это мнение стало общепризнанным. (обратно)116
В наши дни эрготамин по-прежнему используют для лечения мигреней и головной боли, вызванной вазомоторными расстройствами. (обратно)117
Эти кровотечения вызваны различными видами фибром. (обратно)118
Токсикология (лат.). (обратно)119
Корнеплоды, растущие под землей (морковь, репа, сельдерей и другие), были пищей бедняков, в то время как дворяне отдавали предпочтение зеленным овощам. (обратно)120
Хлеб голода пекли из соломы, глины, коры деревьев, желудевой муки и толченой травы. (обратно)121
Galée – галеас, большой парусно-гребной корабль с низким бортом. Это название лежит в основе слова «галера» (фр.). (обратно)122
Это право было предоставлено в 1256 году Александром IV и подтверждено Урбаном IV в 1264 году. (обратно)123
Башенки – небольшие деревянные или металлические фонарики, защищавшее пламя от сквозняков и позволявшие переносить свечи. (обратно)124
Во имя Господа, аминь (лат.). (Примеч. пер.) (обратно)125
Штрафники – лица, обязанные вносить определенную денежную сумму в пользу бедных по решению суда. (обратно)126
Сейчас аконит практически не используют в лечебных целях (кроме меопатии) из-за его сильных токсических свойств. (обратно)127
Срыватель печати – злоумышленник, который снимает печать, чтобы с ее помощью фальсифицировать документы. (обратно)128
Пергамент – кожа, выделанная в Пергаме. После широкого распространения бумаги пергамент продолжали использовать. Вплоть до XVI века на нем писали дворянские грамоты и некоторые официальные документы. (обратно)129
Донзелла – в то время так называли благородных девиц или женщин. В наши дни – женщина легкого поведения. (обратно)130
Тать – вор, крадущийся в ночи. (обратно)131
Аконит аптечный (пат.). (Примеч. пер.) (обратно)132
Наперстянка пурпурная (лат.). (обратно)133
Болиголов крапчатый (лат.). С давних пор его использовали для лечения различных видов невралгии. (обратно)134
Тис европейский (лат.). Уже в античности ядовитой корой тиса натирали кончики стрел. (обратно)135
Одна марка одна унция и три гросса – всего около 285 г. (обратно)136
Пять гроссов – около 20 г. (обратно)137
Волчеягодник обыкновенный, волчье лыко (лат.). Раньше его кору пользовали как слабительное средство, но затем перестали прим из-за ядовитых свойств. (обратно)138
Руту также использовали как антисептик и средство, вызывающее струации. (обратно)139
Ей-богу – сокращенное «клянусь Богом». Первоначальная форма клятвы считалась богохульством. (обратно)140
Культ единого бога – в данном случае это поклонение дьяволу, его обожествление. (обратно)141
Культ ангелов – в данном случае речь идет об обращении с молитвой к демонам, чтобы они выступили посредниками перед Богом. (обратно)142
Бланшет – разновидность дублета, только более длинная. (обратно)143
Гамбуаз – разновидность пурпурэна (узкого жакета), который зашнуровывался сбоку. (обратно)144
Камзол – длинная куртка, доходящая до бедер. (обратно)145
Упленд – распашной длинный плащ-накидка. (Примеч. пер.) (обратно)146
Жупан – разновидность кафтана, прошитого внизу. (обратно)147
Гарсоньерка – квартира холостяка. (Примеч. пер.) (обратно)148
Девичий дом – публичный дом, бордель. (обратно)149
В Париже насчитывалось полтора десятка борделей. (обратно)150
«Публичная девка», «девка, обезумевшая от своего тела», «влюбленная девка», «девка радости» – все эти понятия служат синонимом слова «проститутка». (обратно)151
Шпульня – прялка для наматывания шелковых нитей. (обратно)152
Владельцы таверн часто сообщали цены на вино и порой на еду, прибегая к помощи зазывал. За свою работу зазывалы пользовались правом бесплатного стола. (обратно)153
«Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага». Псалтырь, 63:2. (обратно)154
Дамы начали одевать своих собак-спутников, чтобы защитить их от холода, с XIV века. (обратно)155
Pestis – чума, бич. Полагают, что она свирепствует на протяжении уже трех тысячелетий. Так или иначе, но первая достоверно известная пандемия произошла в 540 году на берегах Средиземного моря и затронула также и Галлию. (обратно)156
Нагревальник – своеобразная закрытая печка с длинным раструбом, в которую клали горящие угли, чтобы нагреть постель. (обратно)157
Каюсь (лат.) (обратно)158
Челядинцы – в широком смысле слова слуги, живущие в доме сеньора (обратно)159
Шалфей – растение, обладающее антисептическими свойствами.Раньше его использовали наравне с лилией, вьюнком, брусникой, арникой и другими растениями» (обратно)160
Магнезия – область, давшая название магнетизму. О магнитах было известно уже древним грекам, но в Европу они попали лишь в XII–XIII веках. (обратно)161
Ганеша – в индуизме бог мудрости и благополучия. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.) (обратно)162
Имена, названия и понятия, помеченные звездочкой, поясняются в глоссарии и историческом приложении в конце романа. (Примеч. ред.) (обратно)163
«Христовы слезы» – белое сухое вино, которое изготовляют в итальянской провинции Кампания. (Примеч. автора.) (обратно)164
Рыцарь по справедливости должен был быть дворянином по меньшей мере в восьмом колене во Франции и Италии и в шестнадцатом колене в Германии. Титул рыцаря по заслугам присваивался за один достойный поступок. (Примеч. автора.) (обратно)165
Филипповки – предрождественское покаяние, имеющее сходство с постом. Филипповки продолжаются четыре недели и заканчиваются непосредственно перед Рождеством, прежде всего религиозным праздником. Обычай дарить подарки на Рождество появился гораздо позднее. (Примеч. автора.) (обратно)166
Гостиничная – монахиня, обеспечивающая связь между богомольцами и аббатством и оказывающая им услуги, в которых они могут нуждаться. Она следит за чистотой, огнем, питанием и поведением богомольцев в аббатстве, а также обеспечивает их свечами. (Примеч. автора.) (обратно)167
Пергамент – кожа, выделанная в Пергаме. Даже после того, как бумага получила широкое распространение, пергамент продолжали использовать. Вплоть до XVI века на нем писали дворянские грамоты и некоторые официальные документы. (Примеч. автора.) (обратно)168
Эта совершенно ошибочная система, предложенная греческим астрономом Птолемеем (II век до н. э.), просуществовала семнадцать столетий. Пришлось дожидаться Коперника, а затем Галилея, чтобы эта теория была опровергнута. (Примеч. автора.) (обратно)169
В то время ходили безосновательные слухи, что Бонифаций, стремившийся утвердить свою власть, занимался колдовством и оккультной практикой. (Примеч. автора.) (обратно)170
Уран, Нептун и Плутон (Примеч. автора.) (обратно)171
Облатками (от лат. de oblatus – пожертвованный) называли тех, кто добровольно или принудительно жертвовал свою жизнь Богу и монастырю, чаще всего это были дети. (Примеч. автора.) (обратно)172
Умелый врач (лат.). (Примеч. автора.) (обратно)173
Фервак – современный французский департамент Эн. (Примеч. автора.) (обратно)174
Казначея – монахиня, которая ведала доходами аббатства, казной, свечами, лампадами. Она также следила за кузнецами, певчими, ветеринарами и другими работниками и оплачивала их груд. (Примеч. автора.) (обратно)175
Экономка – управляющая. (Примеч. автора.) (обратно)176
Клещевина (лат). (Примеч. автора.) (обратно)177
Челядинцы – слуги, живущие в доме сеньора. (Примеч. автора.) (обратно)178
Шенс – длинная нательная рубашка. (Примеч. автора.) (обратно)179
Шеваж – в средневековой Франции: подушная подать, которую платили сервы. (обратно)180
Талья – очень тяжелая подать, которую сервы платили своим сеньорам. (Примеч. автора.) (обратно)181
Бароны Французского королевства делились на ординарных и великих. (Примеч. автора.) (обратно)182
В VII веке графы Першские привезли в свое графство арабских лошадей, чтобы скрестить их с першеронами и тем самым улучшить породу. Однако некоторые исследователи ставят под сомнение эту гипотезу, появившуюся в XIX веке. Впрочем, считается доказанным, что кобыл першеронской породы скрещивали с жеребцами булонской и бельгийской пород, чтобы вывести более мощных тяжеловесов. (Примеч. автора.) (обратно)183
От имени пастуха происходит англосаксонское слово magnet – магнит. (Примеч. автора.) (обратно)184
Считалось, что этот камень может изгонять злых духов и излечивать больных. (Примеч. автора.) (обратно)185
Речь идет о Пьере Паломнике. Считается, что этот солдат написал упомянутое письмо в 1269 году, когда стоял на часах во время осады Лусеры. (Примеч. автора.) (обратно)186
Пришлось ждать 1600 года, когда Уильям Гилберт провел ряд опытов, позволивших лучше понять принцип магнетизма. (Примеч. автора.) (обратно)187
Магнитный железняк намагничивает железо, сталь, никель и кобальт, поскольку его молекулярная структура сохраняет идеальный порядок образующих его частиц, порядок, созданный магнитным полем Земли в процессе его формирования. (Примеч. автора.) (обратно)188
Сошник – режущая часть плуга. (Примеч. автора) (обратно)189
Батраки – безземельные крестьяне, бравшиеся за любую работу. (Примеч. автора.) (обратно)190
В то время этот закон действовал практически на всей территории Франции. (Примеч. автора.) (обратно)191
Картулярии – копии хартий в широком смысле. Во Франции они появились в IX веке. Речь может идти о досье, включавших в себя права и законодательные акты сеньора или аббатства, купчие крепости, договоры о мене, торговые договоры, административные акты, описи имущества. Существуют также картулярии хроник, включающих хартии и исторические повествования, и так далее. (Примеч. автора.) (обратно)192
Бутылочная тыква и круглая тыква, родом из Америки, в то время были неизвестны в Европе. (обратно)193
Мальвазия – ликерное мускатное вино. (Примеч. автора.) (обратно)194
Тонкий ломоть черствого хлеба заменял тарелку. Представители относительно зажиточных кругов отдавали его после еды беднякам иди собакам. (Примеч. автора.) (обратно)195
Речь идет о седле с высокой головкой передней луки и одним стременем, дававшем всаднице возможность управлять лошадью только левой ногой. Седла с загнутым передком, которые позволяли всаднице сохранять устойчивое равновесие, появились лишь в XVI веке при Екатерине Медичи, знаменитой амазонке. (Примеч. автора.) (обратно)196
? – 1226. (Примеч. автора.) (обратно)197
«Шасти-Мюзар» («Chastie-Miisard») – анонимная поэма из 29 катренов, написанная александрийским стихом. (Примеч. автора) (обратно)198
В среднем женщины произносят двадцать тысяч слов в день, а мужчины – всего семь тысяч. (Примеч. автора.) (обратно)199
Ангельская иерархия состоит из трех сфер. (Примеч. автора.) (обратно)200
? – ок. 1313. (Примеч. автора) (обратно)201
Речь идет о средневековой концепции времени. Оно не было универсальным, а варьировалось в зависимости от конкретных «субстанций» – божественной, ангельской и человеческой. (Примеч. автора.) (обратно)202
Блио – длинная туника. (Примеч. автора) (обратно)203
Подобными настойками лечили заболевания дыхательных путей. (обратно)204
Эти травы использовали для лечения кашля у лошадей. (обратно)205
Кандидатуры аббатов и аббатис сначала обсуждались на заседаниях региональных или общих капитулов, а затем их утверждал Папа. (Примеч. автора.) (обратно)206
Соул – игра, предшественница футбола, регби и даже хоккея. (Примеч. автора.) (обратно)207
Башенки – небольшие деревянные или металлические фонарики, защищавшие пламя от сквозняков та позволявшие переносить свечи. (Примеч. автора.) (обратно)208
Strychnnos nux-vomica – чилибуха, или рвотный орешник. Зерна плодов богаты стрихнином и его производным – бруцином. Они также содержат вомицин, новации и так далее. Начиная с XV–XVI веков nux-vomica использовали в качестве родентицида и, в очень малых дозах, стимулятора. Симптомы отравления схожи с симптомами столбняка и сопровождаются сверхчувствительностью к шуму и свету и конвульсиями. Смерть наступает в результате паралича диафрагмы. Человек находится в сознании до самой смерти Летальная доза варьируется от 30 до 120 мг, но отдельные люди выживают, приняв более одного грамма яда. (Примеч. автора.) (обратно)209
В то время было принято давать хозяевам таверн прозвища по названиям их заведений. (Примеч. автора.) (обратно)210
«Всякий, кто окунается в божественную кровь, очищается от скверны; и красота розы делает его подобным ангелам» (лат.). (Примеч. автора.) (обратно)211
Желоба появились в XI–XII веках Система водостоков существовала уже в античности. (Примеч. автора.) (обратно)212
Сипуха – вид сов. (Примеч. автора.) (обратно)213
Всенощные начали служить еще во II веке. (Примеч. автора.) (обратно)214
Браки – штаны. (Примеч. автора.) (обратно)215
Упленд – длинная верхняя мужская одежда. (Примеч. ред.) (обратно)216
Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему ниспошли славу! (лат.) (Примеч. автора.) (обратно)217
Лимонное дерево. (Примеч. автора.) (обратно)218
Макарий Великий (300–390) – монах-пустынник, живший в Египте. Считается, что его учение схоже с учением Франциска Ассизского. (Примеч. автора.) (обратно)219
Суржа – смесь пшеницы и ржи. (Примеч. автора.) (обратно)220
См. примечание в «Кратком историческом приложении» в конце книги. Кровь на Туринской плащанице, в которую было завернуто тело Христа, на тунике из Аржантея, в которой он шел на Голгофу, и на сударии из Овьедо, которым было закрыто его лицо при снятии с креста, принадлежит одному человеку с группой крови АВ. Эта группа появилась примерно две тысячи лет назад на Среднем Востоке. Представляется, что она распространилась во Франции примерно во втором тысячелетии. (Примеч автора.) (обратно)221
Уран, Нептун и Плутон были открыты позднее. (Примеч. автора.) (обратно)222
Мотыга – сельскохозяйственный инструмент, которым обрабатывают землю. (Примеч. автора.) (обратно)223
950 – 1012 (?). (Примеч. автора.) (обратно)224
Плиний Старший утверждал, что зизифус был завезен из Сирии в Италию Секстом Папирием. (Примеч. автора.) (обратно)225
«Сово-крестиан» – ликер, сделанный на основе водки, сладкого белого вина, винограда, меда, ванили, корицы, мускатного ореха, имбиря и яичных желтков. (Примеч. автора.) (обратно)226
Эта мода, вероятно, пришедшая из Италии, позволяла пристегивать к платью разные рукава, меняя их форму и цвет. (Примеч. автора.) (обратно)227
На самом деле такие чепцы появились во Франции в середине XIII века. (Примеч. автора.) (обратно)228
Млечный сок анчара (antiaris toxicata) вызывает паралич сердца. Его действие схоже с действием дигиталина. В настоящее время из древесины анчара делают фанеру. (Примеч. автора) (обратно)229
? – 1272. (Примеч. автора.) (обратно)230
Самострел – маленький легкий арбалет. (Примеч. автора.) (обратно)231
«Поклоняемся тебе, Христос». (Примеч. автора.) (обратно)232
Без разрешения сеньора, владельца леса, можно было собирать только упавшие ветки. (Примеч. автора.) (обратно)233
Уссарий – широкий корабль с большой дверью на корме, чтобы на борт могли взойти лошади Лошадей стреноживали, чтобы они не упали во время качки. (Примеч. автора.) (обратно)234
Praeceptor (лат.) – наставник; так в латинских текстах назывался командор. (Примеч. автора.) (обратно)235
Позднее госпитальеры устроили в этой башне, диаметр которой составлял восемь метров, голубятню. (Примеч. автора.) (обратно)236
Робер д'Авелин, командор тамплиеров Арвиля, 1208 год. (Примеч. автора.) (обратно)237
Придавать надгробным скульптурам подлинные черты лица покойных начади только в XIII веке. До тех пор их изображали молодыми, красивыми и мужественными. (Примеч. автора.) (обратно)238
Все имена командоров и годы их командорства взяты из Tetnplarium, сборника № 1, посвященного в частности командорству тамплиеров Арвиля. (Примеч. автора.) (обратно)239
Виела – изящный музыкальный инструмент, на котором играли только дворяне. Виела могла иметь от трех до пяти струн. Пятиструнными все виелы стали только в середине XIV века. (Примеч. автора.) (обратно)240
Велень – кожа мертворожденного теленка. (Примеч. автора.) (обратно)241
Bibliotheca – латинская форма греческого слова bibliothêkê, что буквально означает «ящик с книгами». (Примеч. автора.) (обратно)242
Около 11 метров. (Примеч. автора.) (обратно)243
Горные слоны – верблюды. (Примеч. автора.) (обратно)244
Ок. 546 т. дон. э. (Примеч. автора.) (обратно)245
Такой хлеб немного напоминал наши сдобные булочки. (Примеч. автора.) (обратно)246
Евангелие от Марка, 14:62. В Евангелии от Марка есть много упоминаний подобного рода, которые заставляли христиан прошлых столетий верить в «возвращение» Христа на землю. Правда, время этого «возвращения» не уточнялось. Согласно древним расчетам второе пришествие должно было произойти в 1666 году, что побудило Оливера Кромвеля (1599–1658) разрешить евреям вернуться в Англию и пообещать им свою защиту. (Примеч. автора.) (обратно)247
Это описание перекликается с рисунками не поддающегося дешифровке так называемого Манускрипта Войнича, который хранится в Библиотеке редких книг Бейнеке (Benicke rare Book and Manuscript Library) Йельского университета (США). Манускрипт предположительно датируется XIV веком и написан на неизвестном языке. (Примеч. автора.) (обратно)248
Присяжная матрона – повитуха, имевшая право свидетельствовать в суде (Примеч. автора.) (обратно)249
Эти лиги организовывали добычу и продажу железной руды, а также определяли условия работы и обращения к посредникам. (Примеч. автора.) (обратно)250
Имена, названия и понятия, помеченные звездочкой, поясняются в глоссарии и историческом приложении в конце романа. (Примеч. ред.) (обратно)251
В Средние века это восклицание означало, что продажа закончилась. Затем его стали использовать как команду, отдаваемую охотничьим собакам. (Примеч. автора.) (обратно)252
Ломовая лошадь – лошадь-тяжеловес, выполнявшая тяжелую работу. На ней, в частности, пахали землю. (Примеч. автора.) (обратно)253
Батраки – безземельные крестьяне, бравшиеся за любую работу. (Примеч. автора.) (обратно)254
Улиток можно было есть как в скоромные, так и в постные дни. Они были непременным блюдом на всех столах. (Примеч. автора.) (обратно)255
Шенс – длинная нательная рубашка. (Примеч. автора.) (обратно)256
В те времена морская рыба редко попадала на стол жителей центральных районов Франции. (Примеч. автора.) (обратно)257
В ту эпоху они стояли на месте современной базилики Святого Петра, строительство которой, начатое в 1452 году, продолжалось более ста лет. (Примеч. автора.) (обратно)258
Папа в 1277–1280 гг. (Примеч. автора.) (обратно)259
В самом деле, позже были открыты Уран, Нептун и Плутон. (Примеч. автора.) (обратно)260
Имеется в виду светское общество. (Примеч. автора.) (обратно)261
Линон – тонкая льняная или хлопчатобумажная ткань. (Примеч. автора.) (обратно)262
Донзела – в то время так называли девиц или женщин благородного происхождения. В наши дни – женщина легкого поведения. (Примеч. автора.) (обратно)263
Кота – длинная туника. (Примеч. автора.) (обратно)264
В те времена это было целым состоянием. (Примеч. автора.) (обратно)265
В средневековой Франции ломбардцами называли всех банкиров, как итальянцев, так и евреев. (Примеч. автора.) (обратно)266
Шаперон – средневековый головной убор. Вначале представлял собой капюшон с длинным шлыком и пелериной, затем превратился в пышное и достаточно дорогое сооружение, напоминающее тюрбан, дополнительно украшавшийся фестонами. (обратно)267
Филипп II Август (1165–1223) – единственный сын Людовика VII и Адели Шампанской, дед Людовика Святого. (Примеч. автора.) (обратно)268
См. Го, Бертран де в «Кратком историческом приложении» в конце книги. (Примеч. автора.) (обратно)269
См. «След зверя» (Примеч. автора.) (обратно)270
Культ единого бога – в данном случае это поклонение дьяволу, его обожествление. Непростительное преступление в те времена. (Примеч. автора.) (обратно)271
Сточная канава – предшественница современных полей аэрации и водосточных колодцев. Канавы были открытыми. В них сбрасывали испражнения и органические отбросы. В городе сточные канавы очищали один раз в год. (Примеч. автора.) (обратно)272
Большинство инквизиторов присваивали себе имущество своих жертв. (Примеч. автора.) (обратно)273
Ордалия – Божий суд. Физическое испытание (каленым железом, окунанием в ледяную воду) или судебный поединок, призванные доказать виновность или невиновность. Речь идет о Божьем суде, прекратившем свое существование в XI веке. Этот обычай был осужден на IV Латеранском соборе в 1215 году. (Примеч. автора.) (обратно)274
В энциклике Dura nimis. (Примеч. автора.) (обратно)275
В 1224 году. (Примеч. автора.) (обратно)276
В Средние века в этом краю было очень много мельниц, которые, вероятно, и дали ему название. (Примеч. автора.) (Французское название Molin [молен] автор связывает со словом moulin [мулен], мельница. (Примеч. пер.) (обратно)277
Действительно, деревня Моранжис вошла в состав феода Молена через два года после основания монастыря. (обратно)278
Привратниками и привратницами чаще всего были служители-миряне. (Примеч. автора.) (обратно)279
Вдовье наследство – часть имущества покойного мужа, отходившая по положениям общего права к вдове. В Парижском районе она составляла половину имущества мужа, которым тот владел до вступления в брак, и треть в соответствии с законами Нормандии. (Примеч. автора.) (обратно)280
Богадельня – дом призрения, куда помещали неплатежеспособных, больных и людей с умственными расстройствами. (Примеч. автора.) (обратно)281
Иноходец – жеребец или кобыла, приученные ходить иноходью, чтобы дамы, сидевшие в неудобных седлах той поры, могли сохранять равновесие. (Иноходь – особый аллюр, при котором лошадь одновременно выносит сначала обе правые ноги, а затем обе левые.) (Примеч. пер.) (обратно)282
В те времена добычу руды вели в основном открытым способом, поскольку не было технических средств, чтобы вырыть подземные галереи и, главное, укрепить их. (Примеч. автора.) (обратно)283
Посредничество меряльщиков было обязательным. Они следили за правильным оформлением сделок. Им было запрещено торговать товарами, вес и объем которых они были уполномочены определять. (Примеч. автора.) (обратно)284
Лом – орудие землекопа. Длинная толстая железная палка с немного загнутой остроконечной головкой. (Примеч. автора.) (обратно)285
Престол – в то время стул или кресло с высокой спинкой, украшенные богатой резьбой. Они могли быть деревянными или металлическими. (Примеч. автора.) (обратно)286
Судебный поединок – похож на суд Божий и позволяет разграничить два лагеря. Хотя в то время Церковь уже не считала его убедительным доказательством невиновности победителя, тем не менее многие были его сторонниками. (Примеч. автора.) (обратно)287
Грибы можно было есть по средам, пятницам, субботам и накануне праздников, равно как в Великий пост и в течение филипповок. (Примеч. автора.) (обратно)288
Судомойка – служанка, выполнявшая всю тяжелую работу. (Примеч. автора.) (обратно)289
Смолистые факелы зажигали только в просторных залах, поскольку они очень сильно коптили и пачкали стены. (Примеч. автора.) (обратно)290
Вероятно, между 1230 и 1250 годами. (Примеч. автора.) (обратно)291
В то время к больным, страдающим золотухой, относили всех, у кого были проблемы с кожей, независимо от того, была ли болезнь заразной или нет, например как проказа. (Примеч. автора.) (обратно)292
В 1296 году… (Примеч. автора.) (обратно)293
Анафема – первоначально это был человек, публично проклятый церковными властями. Затем так стало называться отлучение от Церкви врагов католической веры и еретиков. (Примеч. автора.) (обратно)294
Братья не имели права перемещаться без отпускного билета. Каждый командор, встретивший брата, не способного предъявить ему этот документ, был обязан арестовать его и отдать под суд ордена. (Примеч. автора.) (обратно)295
Кларет, местное вино, вероятно, дал название аббатству Клэре. (Примеч. автора.) (обратно)296
Виселица состояла из двух рогатин, врытых в землю, и перекладины, на которой вешали приговоренных к казни. (Примеч. автора.) (обратно)297
Это название сохранилось до наших дней (в переводе означает «виселица»). (Примеч. автора.) (обратно)298
Великий приор – второе лицо после аббатисы, в частности в отсутствие коадьюторши. (Примеч. автора.) (обратно)299
Капитул – собрание монахов или монахинь, призванное регулировать внутреннюю жизнь монастыря. Кандидатуры аббатов и аббатис сначала обсуждались на заседаниях региональных или генеральных капитулов, а затем их утверждал Папа. (Примеч. автора.) (обратно)300
Речь идет о сестрах, занимавших ключевые должности в аббатстве. К ним относились экономка, кассир, счетовод, хранительница врат. Членами капитула были также еще две монахини, избираемые сестрами. (Примеч. автора.) (обратно)301
Экономка – монахиня, которая ведала продовольственными запасами монастыря, покупала и продавала земли, взимала пошлины, а также следила за амбарами, мельницами, пивоварнями, садками и так далее. (Примеч. автора.) (обратно)302
Казначея – монахиня, обеспечивающая связи аббатства с внешним миром. (Примеч. автора.) (обратно)303
Сестра-счетовод была уполномочена вести все счета аббатства. (Примеч. автора.) (обратно)304
Кассир делал покупки и расплачивался с поставщиками. (Примеч. автора.) (обратно)305
Ризничная – сестра, следившая за культовыми предметами и мощами. (Примеч. автора.) (обратно)306
Регент – сестра-запевала и дирижер церковного хора. (Примеч. автора.) (обратно)307
Перотен – композитор, пользовавшийся популярностью в начале XIII века. Он автор произведений на четыре голоса, написанных в ту пору, когда все музыкальные произведения сочинялись на два голоса. (Примеч. автора.) (обратно)308
Фаянсовые плитки появились во Франции в конце XIII века. Вскоре они получили широкое распространение, поскольку считались не такими холодными, как каменные плиты. (Примеч. автора.) (обратно)309
Красный можжевельник использовали не только как инсектицид, но и как средство для лечения некоторых кожных болезней у людей и чесотки у домашних животных. (Примеч. автора.) (обратно)310
Вопреки общепринятому мнению, рис стали возделывать во Франции, в частности в Руссильоне, с XIII века. Тем не менее он еще долго оставался изысканным лакомством. (Примеч. автора.) (обратно)311
Гиго де Сен-Виктор (1096? – 1141). (Примеч. автора.) (обратно)312
Лупанарий – бордель. (Примеч. автора.) (обратно)313
В отличие от волка, считавшегося глупым и жадным, хотя и внушавшего ужас, лиса была символом хитрости и ума. (Примеч. автора.) (обратно)314
Школа Антисфена и Диогена, которые проповедовали возвращение к природе и нравственную независимость. Они презирали общественные условности, общепринятую мораль и общественное мнение (киники и киническая школа). (Примеч. автора.) (обратно)315
Статус вдовы, особенно с ребенком, был, безусловно, наиболее подходящим для зажиточных дам того времени. Многие горожанки и дворянки, став полновластными хозяйками собственной судьбы, не обязанные больше ни перед кем отчитываться, если они вели себя благопристойно, не стремились вступать в новый брак. (Примеч. автора.) (обратно)316
Букв.: узкие стены (лат.). (Примеч. автора.) (обратно)317
«Советы инквизиторам», написанные Ги Фулькуа, советником Людовика Святого, который затем стал Папой под именем Климента IV. (Примеч. автора.) (обратно)318
121–180 гг. до н. э. (Примеч. автора.) (обратно)319
Меланхолия – депрессия, вызванная расстройством нервной системы. (Примеч. автора.) (обратно)320
Рецепт приготовления золотистых корочек напоминает рецепт гренков из черствого хлеба, вымоченных в молоке, поджаренных в масле и посыпанных сахаром. (Примеч. автора.) (обратно)321
Евангелие от Марка, 14:62. (Примеч. автора.) (обратно)322
Книга пророка Даниила, 7:14. (Примеч. автора.) (обратно)323
Евангелие от Матфея, 25:31. (Примеч. автора.) (обратно)324
Евангелие от Луки, 21:35, 28. (Примеч. автора.) (обратно)325
Годы жизни: 1276–1319. Сын Филиппа III и Марии Брабантской. (Примеч. автора.) (обратно)326
Эмалированные гончарные изделия Бовэ высоко ценились уже в XII веке. (Примеч. автора.) (обратно)327
Колбасник – мясник, торговавший всеми частями разделанной свиной туши. (Примеч. автора.) (обратно)328
Галантерейщики – богатый цех торговцев, которые продавали все виды тканей, одежду и даже ювелирные изделия самым богатым слоям общества. В иерархии ремесел они занимали одно из первых мест и вскоре приобрели статус горожан. (Примеч. автора.) (обратно)329
В то время испражнения были главным средством для постановки диагноза, и поэтому вполне естественно упоминать о них. (Примеч. автора.) (обратно)330
Во имя Господа, аминь. (Примеч. пер.) (обратно)331
И хотя современным умам в это трудно поверить, речь шла об оправдании инквизиции. (Примеч. автора.) (обратно)332
Корнеплоды, растущие под землей (морковь, репа, сельдерей и другие), были пищей бедняков, в то время как дворяне отдавали предпочтение зеленым овощам. (Примеч. автора.) (обратно)333
Хлеб голода пекли из соломы, глины, коры деревьев, желудевой муки и толченой травы. (Примеч. автора.) (обратно)334
Гостиницы для пчел – так назывались ульи. (Примеч. автора.) (обратно)335
Парча – шелковая ткань, из которой шили дорогие наряды. (Примеч. автора.) (обратно)336
Налокотники – длинные, доходившие до самого пола тканевые полоски, которые прикрепляли к рукавам на уровне локтя. (Примеч. автора.) (обратно)337
Ферментированное молоко типа йогурта и сыры уменьшают абсорбцию свинца в желудке, равно как цельнозерновой хлеб. (Примеч. автора.) (обратно)338
Этот обычай просуществовал до XIX века. Дошедшие до нас рецепты позволяют рассчитать, что содержание свинца в некоторых винах доходило до 800 мг/л. Напомним, что максимально допустимая доза свинца для взрослого человека составляет 3 мг в неделю! Некоторые историки усматривают в этом феномене причину падения Римской империи, поскольку аристократы пили вино с высоким содержанием этого тяжелого металла. (Примеч. автора.) (обратно)339
Хмельной мед – напиток из меда и вина, приправленный пряностями, белым вином или водкой, чтобы дольше хранился. Известен со времен античности. (Примеч. автора.) (обратно)340
Подфакельник, или жаровня – ажурная металлическая ваза с рукояткой. В ней зажигали горючие вещества, освещавшие помещение. (Примеч. автора.) (обратно)341
К мужчинам в основном применяли пытку дыбой (обвиняемого, привязанного веревкой, несколько раз сбрасывали с дыбы), водой и огнем. Женщин же чаще всего бичевали. (Примеч. автора.) (обратно)342
Как и Бернар Ги (ок. 1261–1331), один из наиболее известных инквизиторов, который вошел в историю как кровожадный садист. (Примеч. автора.) (обратно)343
Лютня – щипковый музыкальный инструмент, в то время пятиструнный. (Примеч. автора.) (обратно)344
Симфония – вероятно, предшественница виелы. (Примеч. автора.) (обратно)345
В Средние века мех любого животного ценился очень высоко. Самые дорогие меха (соболь, куница, белка) привозили в основном из России и стран Скандинавии. Они были доступны лишь представителям зажиточных слоев общества. Бедняки довольствовались мехом зайца, козы и черной овцы. Прочие носили мех ягненка, выдры, бобра и лисы. Меха служили знаками социальных различий. Так, в XIII веке были изданы ордонансы, запрещавшие горожанам носить роскошные меха, ставшие отныне привилегией аристократии. (Примеч. автора.) (обратно)346
Павлины, символизировавшие бессмертие в античности, стали в XI веке излюбленным мотивом мозаик и картин. В XIV веке они превратились в символ рыцарской доблести. Вместе с тем они считались изысканным яством, поскольку их мясо, как тогда полагали, не было подвержено гниению. (Примеч. автора.) (обратно)347
В Средние века ведьм и колдунов часто обвиняли в подобных прегрешениях. (Примеч. автора.) (обратно)348
Саврасый – светло-гнедой конь с оттенком желтизны, с черной гривой и хвостом. Довольно редкая масть. (Примеч. автора.) (обратно)349
Сипуха – род сов. (Примеч. автора.) (обратно)350
Неизвестный автор. «Сборник секретов, касающихся искусств и болезней». (Recueil de secrets concernant les arts et les maladie, anonyme.) (Примеч. автора.) (обратно)351
Ремень, на котором подвешивали к седлу стремя. (Примеч. ред.) (обратно)352
Французский лук, изготовленный, как правило, из твердой древесины тиса, был короче и легче английского лука. (Примеч. автора.) (обратно)353
Боевой конь – обычная лошадь, которую использовали на войне. Она проворнее упряжной лошади и не такая норовистая, как скаковая лошадь. (Примеч. автора.) (обратно)354
Эпернон – коммуна департамента Эр-и-Луара. В средние века там находились крупные хранилища вин. (Примеч. автора.) (обратно)355
В то время это была очень распространенная приправа для мяса. Вкус иссопа немного напоминает вкус мяты. (Примеч. автора.) (обратно)356
Речь идет о ворах, а также солдатах, не получавших в мирное время жалованья, которые истязали свои жертвы огнем, чтобы те, не выдержав мучений, сказали, где спрятаны деньги и ценности. (Примеч. автора.) (обратно)357
Отравление считалось самым тяжким преступлением, поскольку совершалось тайно и к тому же от него было невозможно уберечься. (Примеч. автора.) (обратно)358
Девочки достигали совершеннолетия в двенадцать лет, мальчики – в четырнадцать. (Примеч. автора.) (обратно)359
Плющильщики – молотобойцы, превращавшие металлические прутья в листы, а затем продававшие их мастерам, изготавливавшим различные предметы. (Примеч. автора.) (обратно)360
Вид креста Гостеприимного ордена Святого Иоанна Иерусалимского менялся с XII по XIV век. «Серебряный щит с крюковидным крестом и с четырьмя крестиками», то есть широкий крест, на каждом прямом углу ветвей которого находился еще один маленький крест, превратился в «серебряный восьмиконечный крест» после 1259 года. (Примеч. автора.) (обратно)361
Во Франции очки носили, начиная с XIII века. (Примеч. автора.) (обратно)362
Необходимость в очках считалась свидетельством тяжелой болезни, поэтому их носили тайком. (Примеч. автора.) (обратно)363
Недельная монахиня – монахиня, у которой не было конкретных обязанностей. Каждую неделю она выполняла разную работу. (Примеч. автора.) (обратно)364
Трефная – некошерная. (Примеч. автора.) (обратно)365
Кашрут – в иудаизме: свод законов о пище. (Примеч. автора.) (обратно)366
И – иудеи никогда не называют своего Бога по имени (Иегова) и не пишут его ликов. (Примеч. автора.) (обратно)367
В июле 1306 года (Примеч. автора.) (обратно)368
Сорбонна была основана в 1257 году Робером де Сорбоном, духовником Людовика IX. Сначала это было заведение, в котором бедные школяры изучали теологию. (Примеч. автора.) (обратно)369
В средние века крайне редко встречались рецепты блюд, приготовленных на основе грибов. В те времена люди с подозрением относились к грибам и собирали только самые известные. (Примеч. автора.) (обратно)370
Вплоть до открытия Яна Сваммердама, голландского врача (конец XVII века), считалось, что колонии пчел собираются вокруг короля, а не матки. (Примеч. автора.) (обратно)371
Рой, достигший своего расцвета, может состоять из 80 тысяч особей. Если пчел посадить рядом друг с другом, они покроют всю поверхность футбольного поля. (Примеч. автора.) (обратно)372
Пчелы «чуют» феромоны своей царицы за несколько километров. Этим объясняется тот феномен, что они могут возвращаться на одни и те же места несколько лет подряд, поскольку запах царицы сохраняется два-три года. (Примеч. автора.) (обратно)373
Златошвейка – работница, расшивавшая золотом ризы, позументы, парадную одежду. (Примеч. автора.) (обратно)374
Во имя Господа, аминь. (Примеч. пер.) (обратно)375
Шодюме – рыба, зажаренная на вертеле и политая соусом, в состав которого входят хлеб, кислый виноградный сок и белое вино. (Примеч. автора.) (обратно)376
Здесь приведено приблизительное время, поскольку часы служб менялись в зависимости от времени года. (Примеч. автора.) (обратно)377
Нежная душенька (лат.) (Прим. пер.). (обратно)378
В описываемую эпоху город назывался Мортень. Возможно, это название происходит от Comitis Mauritaniae (лат. «мавритансие попутчики». – Прим. пер.) – место, где римской армией были остановлены войска мавров, хотя это предположение вызывает много споров. Зато свидетельства присутствия Меровингов можно заметить начиная с V в. Затем Мортань был крепостью, призванной сдерживать норманнское нашествие. Затем графы де Ротру, выдающиеся политики, лавировали между Нормандским герцогством и Французским королевством до заключения союза де Ротру III и Генриха I Боклерка (Beauclerc – «хорошо образованный». – Прим. пер.), королем Англии и герцогом Нормандии. В 1226 г., когда род де Ротру угас, Мортань и графство дю Перш снова соединились под короной Франции. (Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, – прим. авт.) (обратно)379
Королевский чиновник, выполнявший административные и судебные функции; иначе говоря, судебный пристав. (Прим. пер.) (обратно)380
Графы Перша и Алансона были под контролем бальи шпаги (представитель военной судебной власти. – Прим. пер.), помощником которого являлся бальи (или лейтенант) мантии (судебный чиновник. – Прим. пер.). Такие населенные пункты, как Мортань, сами являлись судебными округами. (обратно)381
Крупное земельное владение или содержание, предоставлявшееся во Франции и других европейских феодальных монархиях некоронованным членам королевской семьи. (Прим. пер.) (обратно)382
Судебный поединок составлял обычную часть Божьего суда. Прочие физические испытания были придуманы, чтобы определить степень виновности или невиновности обвиняемого: раскаленное железо, погружение в ледяную воду и так далее. Тот, кто проходил эти испытания, оставшись невредимым, признавался невиновным. Подобные тяжелые испытания вышли из употребления в XI в. и были окончательно отменены IV Латеранским собором в 1215 г. Во всяком случае, последний судебный поединок имел место в 1386 г. в царствование Карла VI. Тем не менее «поединки чести» сохраняются вплоть до XX в. (обратно)383
Самый выдающийся представитель короля в графствах Перш и Алансон. (обратно)384
В Средние века насильник приговаривался к смерти, даже если жертвой преступления оказывалась проститутка. Но преступление должно было доказать! (обратно)385
Обед или ужин являлись первой трапезой за день. На самом деле ужином называется практически каждая трапеза, так как подают суп. Обед теперь стал нашим завтраком, а ужин – нашим обедом. Игра слов la soupe – суп, souper – ужинать или, в буквальном смысле, кушать суп. Обвиняемый мог назвать ужином то, что на самом деле являлось обедом. (Прим. пер.) (обратно)386
Шпага, которую держали двумя руками, с тонким и широким лезвием, предназначенная специально для обезглавливания. (обратно)387
Enecatrix (лат.) – «умерщвляющий» (Прим. пер.). (обратно)388
Приговоренные к смерти, которые пользовалась особыми привилегиями, вызывали палача, который бы их обезглавил, по своему выбору, даже из другого государства. Таким образом Анна Болейн обратилась к услугам французского палача. (обратно)389
Платье или длинная туника. (обратно)390
Длинная рубашка, которую носили прямо на теле под одеждой или ночью. (обратно)391
Это делалось для того, чтобы одежда загорелась как можно быстрее. (обратно)392
Палачи носили маску, закрывающую лицо. Эта предосторожность была связана с тем, что, принадлежа к презираемой касте, они не желали быть узнанными. К тому же это делалось для того, чтобы избежать попыток подкупа со стороны близких приговоренного. (обратно)393
Существовал скрупулезный учет гонорара палачей. Им платили очень скромно. Еще одно доказательство презрительного отношения к этой профессии. См. Приложение. (обратно)394
Палачам было запрещено находиться в городе, за исключением площади, где установлен позорный столб. (обратно)395
Шарль Сосон в 1726 г. унаследовал от своего отца должность палача, когда ему было семь лет. (обратно)396
В ту эпоху хирургия была исключительно презираемым занятием, хирургические операции выполняли цирюльники, реже палачи, которым оказывалось больше доверия из-за их профессионального знания анатомии. Это может показаться удивительным, но в то время как медицина лишь делала первые шаги, хирургия совершила бесспорный прогресс. Хирурги успешно сращивали переломы, делали трепанации, вырезали опухоли и тому подобное. (обратно)397
Ситуация изменилась, когда медики начали интересоваться вскрытиями. После этого палачи стали тайком продавать трупы казненных. (обратно)398
Палачей довольно часто набирали из приговоренных к смерти убийц в обмен на помилование. На самом деле эта профессия вызывала столько же презрения, сколько и страха, и подвергалась всеобщему порицанию, поэтому находилось не так много желающих добровольно выполнять эту работу. (обратно)399
«Случайные» противопоставлялись династиям палачей, насчитывающим век и более. (обратно)400
Эту разновидность философии можно обнаружить даже у современных исполнителей правосудия. (обратно)401
Туаз – старинная мера длины, около двух метров (Прим. пер.). (обратно)402
Очень высокий лоб был одним из критериев женской красоты в Средние века. Дамы довольно часто выщипывали волосы надо лбом, чтобы тот казался еще выше. (обратно)403
C 950 г. (обратно)404
Будущий Людовик Святой (1214–1270). (обратно)405
После кончины Бланки Кастильской в 1252 г. жители Беллема воздвигли крест на месте, где ее величество велела разбить военный лагерь: крест Покойной Королевы (La crois Feue-Reine) был перенесен, когда его ветхость стала поистине угрожающей. (обратно)406
Палач имел право бесплатно брать продукты с прилавка тех торговцев, которые располагались по краю площади, где совершались казни, – «столько, сколько можно взять в руку». (обратно)407
Власть сеньора Беллема была объединена с королевским доменом в 1226 г. Она была также связана с уделом Перш, которого добился Генрих Валуа в 1303 г. (обратно)408
Отравила. Речь шла о преступлении крови, самом тяжелом в эту эпоху, поскольку оно совершалось тайно, не давая жертве возможности защищаться. (обратно)409
Он их всех любит и убивает с нежностью (лат.). (обратно)410
Эта нашивка, цвет и форма которой менялись в зависимости от региона, чаще всего делалась в виде полоски, символизирующей виселицу. Она позволяла сразу же узнать палача, что служило для него источником постоянных унижений. (обратно)411
Палачи ненавидели свое именование и очень долго бились за то, чтобы оно было запрещено и заменено термином «мастер Высокого Правосудия» или «исполнитель Высокого Правосудия». Были даже изданы законы, по которым употребивший слово «палач» наказывался штрафом. (обратно)412
Постными днями считались все среды, пятницы, дни в канун праздника, помимо собственно времени поста. (обратно)413
Он же «морской черт». (обратно)414
Во избежание отравления рыба должна быть продана в течение двух дней с момента, как она была выловлена, не считая времени перевозки. (обратно)415
Медицинские препараты на масляной основе. (обратно)416
В Средние века косметические препараты были очень популярны и широко употреблялись – например, микстура «для красивого голоса». Без сомнения, в этом надо видеть попытку бороться с признаками преждевременного старения, причиной которого были плохие условия жизни. (обратно)417
Болезни вроде оспы, оставляющие на коже шрамы, были далеко не редкими. Крупные родимые пятна в ту эпоху считались подозрительными – в них видели метку дьявола. (обратно)418
Палачи имели право носить оружие подобно дворянам. (обратно)419
Очень богатая и уважаемая корпорация. Она быстро превратилась в класс буржуазии. (обратно)420
Маленькое лезвие треугольного сечения, которым делали кровопускания и разрезы. (обратно)421
В ту эпоху самый распространенный антисептик. (обратно)422
«Белый кинжальщик» – олень годовалого возраста. Получил такое название из-за двух «кинжалов» (коротких рогов), которые примерно в два с половиной года отпадают, чтобы смениться настоящими ветвистыми рогами. (обратно)423
Тогда было в обычае называть трактирщика по его вывеске. (обратно)424
В ту эпоху треска была очень популярной рыбой из-за белого мяса. (обратно)425
Обычно готовились с плавленым сыром. Без сыра предлагались только в постные дни. (обратно)426
Лошади наравне с собаками считались благородными животными, поэтому получали имена. (обратно)427
Напомним, что панталоны являются изобретением относительно недавним. А вот ленты льняного полотна, которым подвязывали грудь, были уже в употреблении. (обратно)428
Разновидность небольшого фонаря из дерева или металла. В них помещали масляные лампы или свечи, чтобы предохранить их от сквозняков. (обратно)429
Чаще всего это были перепелки, маринованные в вине или в бульоне. Их также могли приготовить со свиным салом или смесью пряностей (имбирь, корица, гвоздика) и тушить на медленном огне, добавив немного виноградного сока или кислого вина. (обратно)430
Плоский ломоть черствого хлеба, который мог служить тарелкой. Хлеб, пропитанный мясным соком, подавали нищим или собакам. (обратно)431
Десерт из молока, куда крошили хлеб, сдабривали медом и пряностями. Все это варили, добавив сушеных фруктов, пока блюдо не дойдет до состояния густого крема. (обратно)432
Стекло в ту эпоху было очень дорогим материалом, и вещи, которые были из него сделаны, считались предметами редкой роскоши. (обратно)433
В противоположность волку, который считался жадным и глупым, лис имел репутацию изящного и хитроумного создания. (обратно)434
В этом слове не было ничего уничижительного, в ту эпоху оно означало всего лишь обитателей поместья. (обратно)435
Крестьяне и слуги, не имеющие личной свободы, принадлежали своему сеньору, как рабы в древности. В Средние века такой статус был достаточно распространенным. (обратно)436
Они красили ткани для суконщиков и галантерейщиков. Синие ногти у них были от постоянной возни с краской. Эта профессия слыла одной из самых презираемых. (обратно)437
Паратуберкулез, главным признаком которого является непрерывный понос. Средств от него не существует даже в наши дни. (обратно)438
Напомним, что в Средние века сформировались первые представления о существовании инфекций. Доказательством этому служит появление карантинов и лепрозориев. (обратно)439
Речь идет о разновидности аренды, очень распространенной в XIV в. Арендатор отдавал собственнику половину семян, пользовался землей и получал половину урожая. (обратно)440
Эта особенно чудовищная пытка была в ходу до 1780 г. Пластинки располагали вокруг голеней или стоп и крепко связывали. Затем молотком между ними вбивали клинья. (обратно)441
Имелась в виду «мера великодушия». Судья давал знать исполнителю, что тот должен завершить казнь по прошествии какого-то времени пытки или незаметно задушить или заколоть обвиняемого перед тем, как зажечь костер. (обратно)442
Барон имел право на виселицу с четырьмя столбами, граф – с шестью. Виселица для короля могла иметь сколько угодно столбов. (обратно)443
Средние века были эпохой относительной чистоты в противоположность более ранним временам. Люди мылись, посещали парильни, общественные бани, нередко смешанные, процветавшие в городах. (обратно)444
Несмотря на показное целомудрие, Средние века не были особенно стыдливой эпохой. Нагота – к примеру, во время омовения – никого не шокировала. (обратно)445
Для этого еще использовалась вербена Juniperus oxycedrus. Считалось, что она также защищает от колдунов и дурного глаза, но чаще всего эта трава использовалась против насекомых и дурных запахов. (обратно)446
Чиновник, который разбивал брикеты соли после того, как служащие измерят их точный вес. Мог также выступать в качестве посредника. (обратно)447
Самоубийство считалось не добровольной жертвой, а проступком того, кто отверг Божественную благодать. На этом основании их отлучали от церкви, хоронили в неосвященной земле и накладывали арест на их имущество, оставляя семьи в нищете. (обратно)448
Здесь будет уместным вспомнить, что наши взгляды на детей, заботу и родительский долг сложились относительно недавно, несмотря на то что исключения существуют и в наши дни. В Средние века детоубийства были распространенным явлением. Детей подбрасывали, оставляли в лесу; бедные семьи, которые не могли прокормить детей, нередко их продавали. Остается добавить, что дети часто погибали в младенческом возрасте, едва половина родившихся доживала до пяти лет. В бедных и безземельных семьях появление нового ребенка часто становилось настоящей катастрофой. Другими словами, смерть ребенка воспринималась вовсе не так, как в наши дни. (обратно)449
Около 22–24 июня, когда праздновали летнее солнцестояние. (обратно)450
Следует отметить, что представление о времени тогда сильно отличалось от нашего. Все ориентировались по смене дней и времен года. То же самое было в гражданских делах. До реформ, проведенных Франциском I, зачастую не было никакого средства установить ни личность человека, ни дату его рождения. (обратно)451
Выражение «клянусь смертью Христовой» было признано богохульным. Поэтому часто заменялось похожим словосочетанием. (обратно)452
Они помогали женщинам во время беременности и родов и могли свидетельствовать на судебных процессах – например, устанавливая девственность или беременность. (обратно)453
Жан II Бретонский получает в 1295 г. пост главного полководца Аквитании из рук английского короля, хотя до тех пор всегда был союзником Филиппа Красивого. Филипп послал своего брата Карла Валуа завоевать Аквитанию. Жан II потерпел поражение, и Карл, воодушевленый своей победой, начал угрожать бретонскому герцогству. (обратно)454
Изабелла де Валуа (1292–1309) – дочь Карла Валуа и Маргариты Анжуйской. Ее выдали замуж в возрасте пяти лет за внука Жана II Бретонского, чтобы скрепить мир после завоевания Аквитании. (обратно)455
Не более чем почетный титул, начиная с того момента, как Михаил VIII Палеолог в 1261 г. захватил Константинополь, чтобы восстановить Византийскую империю. (обратно)456
Нищенство было очень распространено в Средневековье. Также нередки были попрошайки, которые калечили себя или детей, чтобы вызвать жалость и великодушие у прохожих. Одна из «техник» состояла в том, чтобы мазаться соком растений, вызывающих дерматоз, – таких, как ангелика (дягиль). (обратно)457
Daphe gnidium. Прикосновение к коре этого растения вызывает покраснение и гнойники. Плоды его еще более ядовиты. (обратно)458
Такая разновидность записей использовалась для актов и ведомостей на местном наречии. В теологических, научных и коммерческих записях использовали другое, более квадратное начертание. Такие тексты было гораздо удобнее разобрать. (обратно)459
Созвучно «да» (oui). (Прим. пер.) (обратно)460
Совершеннолетие для девочек наступало в двенадцать лет, для мальчиков – в четырнадцать. С этого момента они считались взрослыми. (обратно)461
Во Франции она тогда была еще мало распространена. Торговля бумагой из льна или конопли, придуманной китайцами, еще долгое время оставалась в руках мусульман, поэтому в христианских странах не поощрялось ее использование. Лишь в середине XIII в. итальянцы заново открыли секрет ее изготовления. (обратно)462
Налог на местных торговцев. Очень непопулярный, он был отменен только в 1948 г. (обратно)463
Построен при Ротру III в начале XIII в., гораздо позже остальных районов. (обратно)464
Соответствует нынешнему кварталу Пати или, как его еще называют, Паки. Там в конце XI в. размещались офицеры, служившие Ротру III. Затем был застроен особняками, многие из которых сохранились до наших дней. (обратно)465
Первый каменный донжон датируется XI в., обустройство контрфорсов и внутреннего пространства относится уже к XII в. (обратно)466
Договор в Сен-Клер-сюр-Эпт, заключенный между Карлом III Простоватым и предводителем норманнов Роллоном (Ролло), который позволил установить окончательно границы по берегам Ла-Манша в 911 г., правда, с соблюдением некоторых условий. (обратно)467
В ту эпоху и в том регионе наиболее распространенными были двухэтажные дома. (обратно)468
По ним нечистоты стекали в ближайшую канаву-отстойник. (обратно)469
В средневековых городах нередко встречались улицы под названием Вонючая, Грязная или Мутная, которые были обязаны своими названиями грязи и мусору, накапливавшимся на центральных улицах, источая невыносимый запах. Некоторые улицы не избавились от всего этого даже в наши дни. (обратно)470
От норманнского слова plukk, которое использовалось как уничижительнее прозвище бретонцев и означало «очистки». (обратно)471
Платье, которое носили в начале XIV в. (обратно)472
Напомним, что в Средние века предпочтение отдавали ярким светлым цветам. (обратно)473
Кусок шелковой (реже шерстяной) ткани, которым дамы в ту эпоху из стыдливости закрывали декольте, прежде чем выйти на улицу. (обратно)474
Коровий, бычий или бараний спинной мозг в ту эпоху считался изысканным блюдом. Бычье мясо было очень дорогим, его могли себе позволить только очень состоятельные люди. Исключение составляли части, предназначенные на рагу или на суп. Напомним, что в Средневековье питание было очень ограниченным. Поэтому хозяйки проявляли настоящие чудеса изобретательности, чтобы полностью использовать мясную тушу или растения. (обратно)475
В то время блюда подавали не на тарелках, а на досочках или хлебных ломтях. (Прим. пер.) (обратно)476
Происходит от латинского pergamena – город Пергам. Кожа барана, овцы, козы или ягненка. Велень (особо тонкий пергамент. – Прим. пер.) изготовлялся из кожи мертворожденного теленка и считался сортом наивысшего качества. (обратно)477
Разновидность хлебных изделий, рецепт в наше время утрачен. Хлеб тогда был основным продуктом питания, имел почти сакральное значение, и о том, чтобы изводить его просто так, не могло быть и речи. Сохранилось огромное количество рецептов различных блюд из черствого хлеба. Во Франции такое отношение к хлебу сохранялось достаточно долгое время. (обратно)478
Зачастую бани были общими и служили местом свиданий. (обратно)479
Струнный инструмент с очень нежным звучанием. Сведений о нем сохранилось очень мало. Упоминается в поэме Иоанна Безземельного, написанной сразу же после сражения при Бувине (июль 1214 г.), «Что творят прекрасные мелодии кифар…». (обратно)480
Может быть, это и объясняет, что, хотя Карл де Валуа и не обвинял их во время процесса, он тем не менее не пришел им на помощь. Причем он рисковал оказаться в немилости у Филиппа Красивого. (обратно)481
Филипп Красивый так и не женился после ее смерти. Окружение Жанны Наваррской играло очень важную политическую роль. Особенно достоин упоминания Ангерран де Мариньи, бывший хлебодар королевы. (обратно)482
В 1311 г. он вытеснит Ногарэ, хотя играть важную роль в делах королевства начинает еще с 1305 г. (обратно)483
Точная дата его рождения неизвестна, примерно 1270 г. (обратно)484
Разновидность камзола. (Прим. пер.) (обратно)485
Здесь – разновидность трико, глубоко вырезанного спереди и сзади. (обратно)486
Такие слухи и в самом деле имели место. Также известно, что он занимался астрологией, которая в те времена считалась весьма уважаемой наукой. (обратно)487
В 1291 г. (обратно)488
Очень старое выражение. Помещения, где собирались для игры, освещались свечами. Свечи были очень дороги, и некоторые игры с ничтожными ставками не покрывали сумму, затраченную на их освещение. (обратно)489
Единая система сокращений, целью которой была экономия бумаги, окончательно установилась в XIII в. До этого каждый переписчик или составитель имел свою собственную систему сокращений, что сильно затрудняло чтение посторонним. (обратно)490
Имеет смысл подчеркнуть еще раз, что даже если в ту эпоху не знали о существовании микробов, идея инфекции все равно присутствовала в умах. В то же время мысль о невидимом «передатчике» болезней восходит к временам Древнего Египта с 4000 г. до Рождества Христова. Гиппократ (460–377 до Р. Х.) утверждал что «миазмы» являются причиной многих болезней, в частности лихорадок. Эта теория «миазмов», передающихся с воздухом или с испорченной едой, также высказывается Абу-ар-Рази (865–925 или 926), затем Авиценной (880–1037). (обратно)491
В то время это считалось глубокой старостью. (обратно)492
Исследование мочи тогда было одной из основ диагностики. (обратно)493
Дата ее постройки – начало XI в. Хотя и значительно измененная за время своего существования, она по-прежнему вызывает восхищение своей сдержанной красотой. (обратно)494
Был построен в 1091 г. Жоффруа IV на дороге в Ферте-Бернар. (обратно)495
Прокаженные считались уже умершими. Принимая в лепрозорий, их укладывали между четырьмя досками, символизирующими гроб, читали над ними заупокойные молитвы, после чего провожали к месту «последнего обиталища», откуда они уже не выходили живыми. (обратно)496
200–300 м. (обратно)497
Хотя прежде к ним относились довольно терпимо, прокаженные стали жертвой гонений и преследований, когда население поняло, что эта болезнь заразна. По причине медленного инкубационного периода (иногда около двадцати лет) сначала считали, что она не распространяется. Прокаженных сажали под замок, запрещали им появляться в общественных местах. Они были обязаны предупреждать о своем появлении звуком трещотки. Их обвиняли в чародействе, так как, согласно укоренившемуся народному суеверию, проказа является Божьим наказанием. (обратно)498
Ныне называется Тирон-Гарде, основан в XII в. св. Бернаром де Понтье. (обратно)499
В 1228 г. (обратно)500
Будущий Людовик Святой (1214–1270). (обратно)501
Дранка – разновидность черепицы из дерева. Подобные крыши были запрещены в городах, так как способствовали распространению пожаров. (обратно)502
Достоверных сведений о том, когда и как эта порода появилась, нет. Учеными на данный момент выдвигаются две версии ее происхождения. Исходя из первой, босерон является потомком торфяной собаки, некогда обитавшей во Франции. Вторая гласит, что ее предками были обычные дикие волки, сходство с которыми у босеронов неоспоримо. Данная порода появилась на свет естественным путем и в процессе эволюции со временем претерпевала изменения. Признана официально. Босерон – мало распространенная порода собак. Это довольно крупные собаки, отличающиеся крепостью и мощью. Максимальный рост составляет 70 см, масса тела – около 50 кг. Шерсть короткая, с блеском, гладкая, но достаточно жесткая на ощупь. Окрас черный или черный с рыже-коричневыми подпалинами. Босерон – открытая, уверенная в себе и упрямая собака. (обратно)503
Сундуки в Средние века представляли собой самый распространенный предмет меблировки. Туда складывали практически все: посуду, одежду, иногда провизию. Застеленные покрывалами, они превращались в сиденья. (обратно)504
Артроз. (обратно)505
Считалось, что все звонари глухи из-за постоянного звона колоколов, который раздается у них прямо над ухом. Должно быть, отсюда и пошло выражение «спать или храпеть как звонарь». (обратно)506
Прокаженных даже хоронили на отдельном кладбище. (обратно)507
Довольно долго бытовало мнение, что болезни посылаются людям в качестве наказания за грехи. (обратно)508
Особая форма туберкулеза, характеризующаяся изменением кожи и лимфатическими опухолями. Под таким названием подразумевали целую группу болезней, сопровождающихся различными кожными проявлениями. Проказа тоже называлась золотухой. (обратно)509
Напомним, что в ту эпоху супом называлось множество блюд, начиная от светлого бульона, в котором плавали кусочки овощей, и заканчивая рагу в соусе, лишь бы блюдо приготовлялось в горшке и было более или менее жидким. (обратно)510
Питательный суп, который подавали не в постный день, делался на основе бобовых или сухого гороха, размятых в молоке. Туда же добавлялись яйца, остатки мяса, печень птиц. Для вкуса туда добавляли щепотку имбиря. (обратно)511
В галльской, кельтской и германской мифологии – гении воздуха. То же самое, что скандинавские эльфы. (обратно)512
Выражение происходит от ордалий, так как речь шла именно об одном из подобных «испытаний». Обвиняемый клал руку на раскаленные угли и признавался невиновным, если на ней не было ожогов. (обратно)513
Рецепт этого блюда почти не отличается от современного, разве что в соус добавлена корица, мускатный орех, имбирь, гвоздичка, незрелый виноград и раскрошенный хлеб для густоты. (обратно)514
Сок зеленого винограда, используемый во многих рецептах, придает блюду легкую кислинку, как лимон. В настоящее время тоже иногда используется. (обратно)515
По легенде, один человек, оказавшийся по уши в долгах, решил заключить сделку с дьяволом. Но тот не заинтересовался душой, которую ему предлагали, и захотел уйти. Человек попытался его удержать, схватив за хвост. (обратно)516
В ту эпоху это было очень грубое выражение, обозначая все, что может быть низкого в человеке: злой, ленивый и даже трусливый. (обратно)517
Айвовое варенье или мармелад из айвы в красном вине с медом и пряностями. (обратно)518
Несколько раз подряд весна была очень дождливой, что послужило причиной голода, случившегося несколькими годами позже. (обратно)519
Бумага была очень дорогой, поэтому для счетов в таверне или коммерческом заведении чаще всего пользовались грифельной доской, на которой писали мелом. (обратно)520
Мухи и прочие насекомые были в Средние века настоящим бедствием. Основная причина заключалась в том, что мусор и отходы жизнедеятельности людей и животных скапливались неподалеку от жилья. Против насекомых делали ловушки с водой, в которую добавляли мед. Этот принцип используется и в наши дни. Такой жидкостью смачивали и нижнюю часть стен. (обратно)521
Тогда это слово имело смысл «беспорядочная» и не имело никакого сексуального оттенка. (обратно)522
Чудесная церковь, упоминания о которой встречаются уже с 1000 г. В XV в. была расширена. (обратно)523
Тогда количество женщин, скончавшихся в послеродовой период, было и правда огромным. (обратно)524
Было принято нанимать «влажных» кормилиц (в противоположность «сухим»), чтобы кормить новорожденных, если мать умирала или была слишком старой, чтобы заниматься кормлением самой. (обратно)525
Обычная практика в ту эпоху; считалось универсальным средством, чтобы восстановить баланс четырех жидкостей в организме. (обратно)526
Речь идет о самом используемом в Средние века лекарственном растении. Употребляли листья, цветы и даже плоды, предварительно удалив колючки. (обратно)527
Тонизирующий напиток, сладкое вино с добавлением корицы. (обратно)528
Главный герой «Энеиды», анонимного романа, приписываемого Вергилию (70–19 гг. до Р. Х.). (обратно)529
В тот период люди больше не верили в мифических животных, таких как дракон или единорог. Зато еще были распространены истории, где главными героинями были феи. (обратно)530
К снам и их толкованию относились очень серьезно. Многие авторы той эпохи, в том числе и церковные, утверждали, что герои сновидений приносят вдохновение и сообщают решения той или иной загадки. (обратно)531
Это выражение появилось только в XV в. и сперва имело значение «разрешается проявить инициативу», а не «дать полную власть», как сейчас. (обратно)532
Тогда это означало «что бы я ни услышал, я не стану смеяться над вами». (обратно)533
Публичного дома. (обратно)534
Теперь там есть более удобная и более используемая дорога. (обратно)535
Разновидность копья, на котором в дополнение к острию имеется крюк или острие на другом конце. (обратно)536
Исх. 21:24. (обратно)537
Напомним, что вскрытия были запрещены Церковью; исключение составляли самоубийцы или казненные преступники. Но даже в таких случаях врачи не интересовались этой практикой. (обратно)538
Слово «маленький» здесь употреблено в уничижительном смысле. (обратно)539
Достаточно тяжелая и не такая быстрая, но зато выносливая порода лошади. На войне часто использовались для перевозки грузов. (обратно)540
Кровопускание, или вскрытие вен, было самым распространенным средством со времен Античности до середины XIX в. Исключение составляли разве что немецкие врачи, которые перестали использовать его с XVIII в. Систематическое кровопускание считалось хорошим средством для восстановления равновения между знаменитыми четырьмя жидкостями Гиппократа и, без сомнения, сопровождалось большим количеством смертей, так как ланцеты тогда не стерилизовали. Среди жертв такого метода лечения можно назвать Марию-Терезию Австрийскую (1638–1683) – супругу Людовика XIV, Жюльена Офре де Ламетри (1709–1751) – медика и большого защитника кровопусканий, и, возможно, первого президента Соединенных Штатов Джоржа Вашингтона (1732–1799). (обратно)541
Средневековая медицина была частично основана на аналогиях. Например, красные камни или цветы считались средством от анемии, желтые – от желтухи. (обратно)542
«Живое серебро» – ртуть. В данном случае «очень шустрый ребенок». (обратно)543
Сетье – старинная мера: жидкостей – 150–300 л, сыпучих тел –восемь пинт (Прим. пер.). Примерно около 160 литров – одна из «премий», которые предоставлялись палачам. (обратно)544
Хлеб, поеденный грызунами, который продавался очень дешево. (обратно)545
Напиток из воды и виноградных выжимок – отходов, оставшихся после изготовления вина. Смесь заправляли медом и оставляли для брожения. Затем это слово стало употребляться для обозначения любого скверного кислого вина. (обратно)546
Согласно существовавшему тогда обычаю, было принято выставлять на обозрение яички новорожденного, чтобы показать, что тот будет обладать прекрасными мужскими качествами. (обратно)547
Имеется в виду разновидность рагу из кабана в красном вине, с уксусом, кислым виноградным соком и с пряностями. (обратно)548
Здесь: нечто вроде короткой пелерины с капюшоном, которая покрывала голову и плечи. Иногда была подбита мехом. (обратно)549
Считалось важным, откуда получены продукты. Товары из определенных городов считались самыми лучшими. (обратно)550
Улитки встречались на столе и в богатых домах, и там, где был скромный достаток. Церковь так и не пришла к решению, считать ли их мясом или «жирной» пищей, поэтому их можно было есть в любой день. Широко практиковалось вымачивание улиток, чтобы как можно тщательнее очистить их от слизи. (обратно)551
В ту эпоху во внутренних землях морская рыба была редким и дорогостоящим продуктом. (обратно)552
Жан III Бретонский. (обратно)553
Имущество обвиненных инквизицией арестовывалось в ее пользу. Этим и объясняется очень малое количество оправдательных приговоров. (обратно)554
Позумент (галун) – золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; златотканая лента, повязка, обшивка, оторочка. (Прим. перев.) (обратно)555
Разновидность пшеницы, сейчас встречается довольно редко; отличается малым содержанием клейковины. (обратно)556
В Средние века отношение к признанным бастардам от отцов благородного происхождения было гораздо терпимее, чем в последующие эпохи. (обратно)557
6 буассо. (обратно)558
3 буассо пшеницы или 5 овса. (обратно)559
10–12 л сыпучих веществ. Мерки разнились в зависимости от эпохи, региона или продукта. (обратно)560
Несчастный случай именно так и произошел. Согласно различным источникам, Жан II умер спустя несколько часов или четырьмя днями позже, 16 ноября 1305 г. (обратно)561
Хотя франкские племена были германского происхождения, Меровинги, Каролинги и Капетинги требовали себе право на титул франкских королей, даже если в этом наименовании больше не было ничего этнического. (обратно)562
В Средние века худоба была одной из характеристик женской красоты. Эта худоба, конечно, была результатом жизни в комфортных условиях, при хорошем отоплении, достаточном питании, которое тогда было более чем скромным даже для обеспеченных сословий. Но если худоба становилась чрезмерной, она наводила на мысли о бедности или болезни. (обратно)563
Как и в наши дни, тогда верили в благотворное воздействие свежего воздуха. Согласно многочисленным свидетельствам, зажиточные семейства часто покидали город, чтобы «проветриться» и на несколько дней избавиться от городских миазмов. (обратно)564
Предмет мебели на четырех ножках, закрывающийся двумя дверцами. Внутри было множество ящичков, некоторые из которых могли содержать в себе тайники. (обратно)565
Нарукавники из различных материалов (кожи, ткани и т. д.) защищали предплечья от ударов, порезов и загрязнений. Были в употреблении до XX в. (обратно)566
Первоначально этим словом называлась толстая ткань из шерсти с примесями. Теперь ткань с шитьем из шерсти и хлопка или из хлопка и шелка. (обратно)567
Привидения «существовали» с античных времен. В Средние века истории о них также были очень распространены. Героям многих рассказов того времени призраки являются во сне. (обратно)568
В 1301–1302 гг. (обратно)569
Изабелла де Валуа, первая супруга Жана Бретонского, скончалась в 1309 г. в возрасте семнадцати лет, не оставив потомства, на три года опередив своего супруга, будущего Жана III. (обратно)570
Речь идет об опытных женщинах, которые находились рядом со знатными дамами, помогая им зачать, следя за ходом беременности, родами и первыми месяцами новорожденного. (обратно)571
Тогда это выражение означало излишне педантичного человека. Аптекари должны были приготовлять крохотные порции лекарственных субстанций, иногда ядовитых, пользуясь очень точными и чувствительными весами. (обратно)572
Мех являлся признаком социальной принадлежности. Носить мех соболя, рыси и белки имели право только дворяне. Остальные должны были довольствоваться овчиной, зайцем или выдрой (последнее для представителей буржуазии). (обратно)573
Бальи – королевский чиновник, выполнявший административные и судебные функции; иначе говоря, судебный пристав. – Прим. пер. (обратно)574
В описанную эпоху город назывался Мортань. Происхождение этого названия может быть связано с Comitis Mauritaniae (мавританские спутники – лат.), местом остановки мавританской военной части, входящей в состав римской армии, хотя эта гипотеза считается достаточно спорной. Зато начиная с V в. отмечается присутствие Меровингов. Мортань также был крепостью, сдерживающей норманнское завоевание. В 1226 г., когда род де Ротру угас, Мортань и графство Перш снова оказались под властью французской короны. (обратно)575
Графы Перша и Алансона были под контролем бальи шпаги (представитель военной судебной власти. – Прим. пер.), помощником которого являлся бальи (или лейтенант) мантии (судебный чиновник. – Прим. пер.). Такие районы, как Мортань, чаще всего являлись судебными округами. (обратно)576
См. роман А. Жапп «Костер правосудия». (обратно)577
Имелись в виду дети, которых можно было послать с каким-нибудь поручением. В переносном смысле с оттенком презрения: неухоженный невоспитанный ребенок. (обратно)578
16 ноября 1305 г. (обратно)579
Меха обозначали социальную принадлежность. Носить мех соболя, рыси и белки имели право только представители дворянства. Прочие довольствовались мехом кролика или овчиной. Буржуа предпочитали носить мех выдры. (обратно)580
Из-за большой дороговизны бумаги в ту эпоху в среде коммерсантов было принято пользоваться грифельной доской и мелом. Это было особенно удобно, так как можно было стирать старые счета. (обратно)581
Шоссы – нечто вроде коротких штанов, которые в ту эпоху начали носить зажиточные люди. Чаще всего крепились к сапогам при помощи бантов. (обратно)582
В ту эпоху слово «плут» обозначало «трусливый ленивый обманщик». Самое сильное оскорбление в Средние века. (обратно)583
Сейчас он носит название «Маль». (обратно)584
Мерин – термин встречается еще в I тыс. н. э. Само слово отсылает нас к Венгрии, откуда пришел обычай кастрировать верховых лошадей, чтобы сделать их более послушными (см. Hongrie (фр.) – Венгрия, hongre (фр.) – мерин). (обратно)585
Речь идет о седле с поднятой головкой передней луки, которое давало возможность управлять лошадью только левой ногой. Известные сейчас приспособления, помогающие всаднице сохранять равновесие, были изобретены только в XVI в. Екатериной Медичи, искусной наездницей. (обратно)586
Форма этого кусочка цветной ткани могла быть разной в зависимости от региона, но чаще всего была в форме палки, символизирующей виселицу. Этот знак позволял остальным сразу узнать палача, что служило для тех источником постоянных унижений. (обратно)587
Согласно этому праву, палач мог взять у любого торговца столько товара, сколько может унести в руках. (обратно)588
Существовал скрупулезный учет каждой из пыток или видов казни. (обратно)589
Палачи ненавидели само это слово и в конце концов добились того, что всякий, кто его произнесет, наказывался большим штрафом. (обратно)590
«Бингры» – на жаргоне палачей, в зависимости от региона, это означало палача по воле случая или династию палачей, которой меньше ста лет. (обратно)591
Шарль Сосон унаследовал в 1726 г. от своего отца должность палача, когда ему было всего семь лет. (обратно)592
В ту эпоху хирургия была презираемым занятием; эту работу чаще всего исполняли цирюльники, реже палачи по причине их прекрасного знания человеческой анатомии. Странное дело, хотя медицина тогда лишь делала первые шаги, в хирургии наблюдался несомненный прогресс: сращивали переломы, делали трепанацию, вырезали опухоли и т. д. (обратно)593
Галантерейщик – очень богатая и очень уважаемая корпорация, которая быстро перешла в разряд буржуазии. (обратно)594
В Средние века изнасилование жестоко каралось, даже если было совершено в отношении проститутки. Единственно, это нужно было доказать! (обратно)595
Судебный поединок считался проявлением Божьего суда. Победитель считался невиновным. Божий суд вышел из употребления в XI в., подвергшись порицанию Четвертого Латеранского собора в 1215 г. Во всяком случае, последний судебный поединок имел место в 1386 г. в царствование Карла VI. Тем не менее поединки чести, которые устраивались более или менее втайне, продолжались до XX в. (обратно)596
Двуручный меч с очень тонким и широким лезвием, предназначенный исключительно для обезглавливания. (обратно)597
В Средние века высокий лоб был важным критерием женской красоты, и дамы, чтобы достичь такого эффекта, выщипывали себе волосы надо лбом. (обратно)598
Свиней обычно забивали в холодные месяцы, с ноября по февраль, и все это в течение 48 часов надо было засолить, закоптить, сварить или съесть, пока мясо не испортилось. (обратно)599
Напомним, что нынешние свиньи имеют очень мало общего со своими средневековыми предками, которые больше походили на диких кабанов, вооруженных настолько впечатляющих размеров клыками, что даже волки не решались на них нападать. Этим объясняется тот факт, что эти животные, подобно сторожевым собакам в деревнях, свободно ходили, где им вздумается. (обратно)600
Речь шла об изысканном блюде, которое приготовляли из мелких птичек вроде дроздов и перепелок, сваренных в бульоне с пряностями и небольшим количеством хлеба, чтобы соус стал чуть более густым. (обратно)601
Здесь имеется в виду стеклянный стакан. Предметы из стекла были очень редкими и дорогими. Ими пользовались только очень богатые люди. (обратно)602
В Средние века упоминание нечистой силы считалось недопустимым, поэтому в качестве ругательств пользовались похожим по звучанию сочетанием букв. (обратно)603
Кабинет – бюро на четырех ножках, которое закрывалось двухстворчатой дверцей. Внутри было оборудовано множеством ящичков, среди которых, как правило, было несколько потайных. (обратно)604
Котта – нижнее платье. (обратно)605
Имеется в виду нечто вроде длинного пальто без рукавов, которое носили как в помещении, так и на улице. (обратно)606
Людовик IX (1214–1270). (обратно)607
Ливры – главная разменная монета Франции. (обратно)608
Точная дата его рождения неизвестна, приблизительно считается 1270 г. (обратно)609
Речь идет о тамплиерах. Этим, возможно, объясняется то, что, не обвиняя их на процессе, Карл де Валуа не поспешил к ним на выручку. В противном случае он рисковал бы вызвать гнев Филиппа Красивого. (обратно)610
4 апреля 1305 г. Ее супружеский союз с Филиппом Красивым был очень прочен; после ее смерти король не вступил в новый брак. Окружение Жанны Наваррской играло очень важную политическую роль, достаточно вспомнить Ангеррана де Мариньи, бывшего хлебодара королевы. (обратно)611
1275–1317 гг. В 1311 г. он вытеснит Ногарэ; с 1305 г. начинает играть все более важную роль в делах королевства. (обратно)612
Гобелены – большие ковры, которые развешивали по стенам, чтобы защититься от холода и сырости или замаскировать нишу либо тайный коридор. (обратно)613
В полумраке (лат.). (обратно)614
Бланшет стали носить вместо более длинного дублета. (обратно)615
В Средние века очень трудно было добиться чистого зеленого цвета, который чаще всего получался блеклым. Именно поэтому зеленый цвет считался очень изысканным. (обратно)616
Очень старое выражение, произошло от популярной тогда игры маленьких девочек. Надо было расположить булавки по кругу и с помощью маленького мячика достать их оттуда. (обратно)617
В ту эпоху пшеничный хлеб ели только очень богатые люди. (обратно)618
Будущий Людовик X (1298–1316), который стал королем в 1314 г. (обратно)619
Камзол – нечто вроде куртки, доходящей до бедер. (обратно)620
В ту эпоху это слово означало поступок, событие или человека, странного в неприятном смысле и достойного порицания. (обратно)621
Сейчас этот департамент называется Мен-и-Луара. (обратно)622
Приемная – первая комната, куда можно было войти с улицы, чаще всего очень скромных размеров. (обратно)623
Гипокрас – красное вино, иногда смешанное с белым, подслащенное медом и сдобренное имбирем и корицей. Существовала также разновидность только из белого вина. (обратно)624
Демуазель (фр. demoiselle) – девушка, девица, барышня; устар. женщина благородного происхождения. – Прим. ред. (обратно)625
На самом деле прозвучали не эти слова, что тогда считалось богохульством, а похожее по звучанию сочетание слогов. (обратно)626
Жертвователи – люди, которым закон присудил пожертвовать некую сумму денег для искупления своего поступка. (обратно)627
Лошадь, чаще всего кобыла, очень послушная, на таких ездили женщины. Обычно таких лошадей приучали передвигаться иноходью. (обратно)628
В 841 г. (обратно)629
Святой Лу родился в городе Туле примерно в 383 г., с 426 г. являлся епископом Труа. Он сопровождал Германа Осерского в Англию и участвовал в защите города от завоевателей – армии Атиллы; впрочем, по этому поводу разные историки придерживаются различного мнения. Умер примерно в 479 г. Ему молятся об излечении от эпилепсии, паралича и одержимости демонами. (обратно)630
Арпан (фр. arpent) – старинная французская единица измерения длины, равнявшаяся 180 парижским футам, то есть примерно 58,52 м. – Прим. пер. (обратно)631
Строительство было закончено в 1212 г. (обратно)632
Жибе состояла из двух рогатин, вкопанных в землю и поддерживающих перекладину, на которой висели тела казненных. Название сохранилось до наших дней. (обратно)633
В Средние века такие процессы над животными были нередким явлением. (обратно)634
Старшая настоятельница – второе лицо после аббатисы, управляла аббатством в случае ее отсутствия. (обратно)635
Дортуар – общая спальня. – Прим. пер. (обратно)636
Сад, исключительно декоративный, скромных размеров, где выращивали цветы, предназначенные для украшения или для букетов, которые ставили в комнатах. В ту эпоху это были в основном лилии, дамасские розы, маттиолы. (обратно)637
Низкие изгороди, сплетенные из каштановых, ивовых деревьев или веток вербы, которыми окружали цветники. (обратно)638
Гравилат – как его называли, «трава хорошего солдата» – Geum urbanum, молодые побеги которого клали в суп. (обратно)639
Фальшивые врлосы – пряди, которые прикрепляли на виски или на уши. Слово, обозначающее этот предмет туалета, нередко употреблялось в смысле «обман». (обратно)640
Вспомним, что, хотя в Средние века не знали о микроорганизмах, идея о заражении была довольно распространена, чем объясняется наличие карантинов и лепрозориев. (обратно)641
Ужин или обед на самом деле являлся первой трапезой дня. И во время каждой трапезы подавали суп. (обратно)642
Хлеб, основной продукт питания в Средние века, также был символом богатства, особенно пшеница. Бедные довольствовались хлебом из плохо просеянной ржи и ячменя. (обратно)643
Исх. 12:29–36. (обратно)644
Быт. 9:6. Одна из основ знаменитого закона возмездия, к ней в Библии возвращаются несколько раз. (обратно)645
Мф. 5:39. (обратно)646
Лк. 13:2–3. (обратно)647
Среда, пятница, суббота, дни накануне праздников, Великий пост и пост перед Рождеством (четыре недели) за исключением воскресений. (обратно)648
Последний день Масленицы перед Пепельной средой – началом поста. Это празднование имеет языческое происхождение и существовало уже в Древнем Риме. (обратно)649
На Масленой неделе, которая заканчивалась во вторник, позволялось есть в изобилии перед долгим строгим постом. Но в ту эпоху при недостатке питания было недопустимо оставлять продукты портиться. Поэтому готовились блины, оладьи, вафли и прочая выпечка, которую предлагали соседям, всё как на Сретение. (обратно)650
1274–1307 гг. (обратно)651
Доктор занимался медициной после нескольких лет обучения и был мирским человеком. Доктор, имевший более высокую степень, считался духовным лицом и не имел права жениться. Эти две профессии были объединены в XV в. (обратно)652
Судебная матрона – нечто вроде акушерки, которая могла засвидетельствовать девственность или, наоборот, беременность, когда это требовалось для судебного процесса. (обратно)653
Компаньонка – имеется в виду женщина, которая заботилась о знатной даме в период ее беременности и после родов. (обратно)654
Трупное окоченение (лат.). (обратно)655
Вскрытия разрешались Церковью лишь в отношении самоубийц и приговоренных к смерти. Даже когда они перестали быть под запретом, проводились крайне редко. (обратно)656
В описываемую эпоху слово «кумушка» не имело уничижительного смысла и означало скорее «свидетельница», «соседка». (обратно)657
Бич – кнут, составленный из веревок и цепочек, которым бичевались монахини и очень набожные миряне. (обратно)658
Напомним, что в Средние века женской девственности придавалось особо важнее значение. (обратно)659
Обоняние очень долго оставалось важным средством диагностики. (обратно)660
В зависимости от региона локоть мог быть от 1,5 до 2,5 м. (обратно)661
Изабелла вышла замуж за внука Жана II Бретонского, который, чтобы спасти свое герцогство, был вынужден разорвать союз с Англией и сблизиться с Французским королевством. (обратно)662
Туберкулез является практически ровесником самого человечества. Описание чахотки находят уже в древнеримских и древнегреческих письменных источниках. (обратно)663
Периоды – один из бесчисленных эвфемизмов, существующий на протяжении веков. (обратно)664
Шалфей – растение, известное со времен Античности как средство, увеличивающее женскую плодовитость. (обратно)665
Авраамово дерево – Vitex agnus cactus. Используется для повышения женской плодовитости. В то же время известно, что это растение распространялось в монастырях под названием монашеского перца, чтобы «умиротворить жар плоти». (обратно)666
Считалось, что правая сторона располагает к беременности, левая – к ее насильственному прекращению. (обратно)667
Синдром Тёрнера проявляется у одной девочки из 2500; причина в потере хромосомы X или, наоборот, присутствие ее в модифицированном виде. Как правило, связан с невозможностью иметь детей. (обратно)668
Например, гусиные и вороньи перья писали особенно тонко и приберегались для писем важным персонам. (обратно)669
На самом деле в 1309 г., год спустя после смерти Изабеллы, он женился на Изабелле Кастильской, дочери короля Кастилии Санчо IV Храброго и Марии де Молина, дочери инфанта Альфонса де Молина. (обратно)670
Вопреки всем известному Обеликсу кабаны вовсе не были для кельтов и даже галлов часто употребляемой пищей. Они ели говядину, свинину и даже мясо собак. Кабан считался храбрым и благородным животным, к тому же опасным противником на охоте и стал предметом многочисленных изображений (живопись, статуэтки, роспись на посуде, украшения), что свидетельствует о почтении, с которым к нему относились. Будучи прекрасными скотоводами, кельты считали охоту на кабана доказательством храбрости. Это и было ее основной целью, а вовсе не добыча мяса. (обратно)671
В противоположность волку, которого боялись, но в то же время презирали, лисица в Средние века служила олицетворением смелости и ума. (обратно)672
Первая женщина-поэтесса (сер. XII в.), пишущая на французском, которая известна в истории. О ней дошли очень скупые сведения. Она жила в Англии в царствование Генриха II и Алиеноры Аквитанской. Ее любовные связи, иногда фантастического характера, стали необычайно популярны. (обратно)673
Он был упразднен только в 1948 г. (обратно)674
Толстые ломти хлеба заменяли тарелки. Их также пропитывали мясным или рыбным соком и подавали бедным или кидали собакам. (обратно)675
В Средние века верили в привидения и относились к ним со смесью уважения и страха, так как считалось, что призраки являются, чтобы потребовать расплаты или разъяснить живым, как следует толковать серьезные письменные свидетельства. Например, призрак мог явиться к монаху, чтобы объяснить что-то из Священного Писания. (обратно)676
Большой каравай – пирог из молочного теста с сыром, яйцами и топленым салом, подслащенный медом и сдобренный мускатом и имбирем. (обратно)677
Соответствует нынешнему кварталу Пати, иначе называемому Паки. В конце XI в. там располагался двор Ротру II; позже этот район был застроен частными домами, многие из которых сохранились до наших дней. (обратно)678
Сен-Жан – первый каменный донжон датируется XI в., возведение контрфорсов и круговых укреплений происходит уже в XII в. (обратно)679
Согласно договору, заключенному в Сен-Клер-сюр-Эпт между Карлом III Простоватым и предводителем викингов Роллоном, в 911 г. викингам было позволено при соблюдении некоторых условий окончательно поселиться на берегах Ла-Манша. (обратно)680
Построен при Ротру III в начале XIII в. (обратно)681
В ту эпоху слова «дамская безделушка» не имели того уничижительного значения, которое вкладывается в них сегодня, и означали лишь украшение для одежды или обстановки. (обратно)682
Такие постройки, без сомнения, восходят к началу XI в. Нечто подобное, хоть и заметно измененное с течением времени, можно видеть и в наши дни. (обратно)683
В Средние века это считалось преклонным возрастом. (обратно)684
Сундук в Средние века был одним из самых распространенных предметов мебели. Там хранили одежду, посуду и всего понемногу. (обратно)685
Туше – дуэльный термин, означает «задет». Равносильно современному «очко в вашу пользу». – Прим. пер. (обратно)686
Формулировка из свода законов: злонамеренное приготовление снадобья, отравление (лат.). (обратно)687
Прежде всего не навреди (лат.). Хотя подобная мысль фигурирует в клятве Гиппократа, на самом деле эта фраза гораздо более позднего происхождения и принадлежит Огюсту Франсуа Шомелю (1788–1858). (обратно)688
Этот обычай сохранился до XX в. Рецепты позволяют подсчитать, что некоторые вина содержали до 80 мг свинца на литр. Напомним что максимально допустимая доза для взрослого мужчины – 3 мг в неделю! Некоторые историки усматривают в этом причину падения Римской империи: аристократы пили вина, щедро приправленные тяжелыми металлами. (обратно)689
Выражение, которое происходит от судебных испытаний. Обвиняемый клал руку в огонь; если он говорит правду, Господь защитит его и на руке не будет ожогов. (обратно)690
Пир Святой Девы – еда, которой в некоторых регионах сеньор угощал крестьян в честь жатвы. (обратно)691
В ту эпоху не верили в химер, драконов, единорогов. В противоположность этому мир фей – добрых или злых – оставался реальным. (обратно)692
Умерщвление плоти было предметом ожесточенных и сложных дискуссий между представителями высшей церковной иерархии, которые подозревали, что на самом деле причиной таких занятий являются мазохизм или гордыня. В конечном итоге единственные «обязанности» в этой области были полный или частичный отказ от пищи в определенные периоды и воздержание. И это не считая наказаний за различные проступки. Идею умерщвления плоти особенно пропагандировал апостол Павел, третий самопровозглашенный апостол после смерти Христа, даже когда он был гонителем христиан и участвовал в забрасывании камнями святой Евгении. Святой Петр и святой Иаков оспаривали это утверждение. Напомним также, что апостол Павел был одним из основоположников теории, что женщины должны находиться в рабстве, несмотря на чуткость и понимание, которые проявляет Иисус в Евангелиях. (обратно)693
Тогда монархи Европы были готовы к какой угодно «акробатике» с генеалогией, чтобы продемонстрировать свое происхождение от Христа по прямой. Это нужно было для того, чтобы сделать свою власть неоспоримой. (обратно)694
Средневековые критерии красоты сильно отличались от тех, которые складывались начиная с XVIII в., и тем более от современных. Красивые женщины были маленькими, изящными, но без худобы, которую можно было бы счесть признаком плохого здоровья, с маленькой грудью. Признаком красоты считался высокий лоб, над которым часто выщипывали волосы, а также маленький рот и очень бледная кожа, желательно без родинок, которые, как тогда считалось, нарушают совершенство. Руки должны быть длинные и худые. Глаза миндалевидного разреза также очень ценились. (обратно)695
Эти цвета в Средние века не смешивали, так как не очень хорошо знали, какие химические реакции при этом могут произойти. (обратно)696
Нарукавники – полурукава из ткани или плотной кожи в зависимости от занятия, чтобы защищать одежду и руки при работе с опасными инструментами или веществами. Не выходили из употребления до XX в. (обратно)697
В действительности термин «миниатюра» в его нынешнем значении появился лишь в XIX в. (обратно)698
Пергамент делается из кожи барана, козы, коровы. (обратно)699
Велен – кожа мертворожденного теленка, более тонкая и нежная, чем обычный пергамент, и поэтому гораздо более ценная. (обратно)700
Ратунда – квадратные, хорошо различимые буквы, используемые для ежегодников и юридических манускриптов. (обратно)701
Курсив, или готический гибрид, – буквы, перегруженные петельками и завитушками; их выводили, не отрывая пера от бумаги. Очень трудные для чтения. Их использовали для писем, реестров, книг счетов на местном диалекте. (обратно)702
Середина III в. (обратно)703
В 250 г. происходили массовые аресты христиан, известные под названием преследований Деция, мотивы которых были, без сомнения, более политическими, чем религиозными. (обратно)704
В качестве исторического анекдота: Жан Фуке (сер. XV в.) считался одним из самых крупных художников Раннего Возрождения и самых знаменитых миниатюристов. В Средние века миниатюристы чаще всего оставались анонимными. (обратно)705
Кормилицы – женщины, выкармливавшие детей дворянок или представительниц высшей буржуазии, у которых не было молока или которые не хотели портить себе грудь. В противоположность им, существовали сухие кормилицы (без молока). (обратно)706
Во всех женских аббатствах были священнослужители-мужчины. Они вели службы, принимали исповедь и творили таинства. Женщины на это не имели права. (обратно)707
Начиналась в 6 утра. (обратно)708
Владение Беллем было присоединено к королевским владениям в 1226 г. Также они были связаны с апанажем Перш, который получил Карл Валуа в 1303 г. (обратно)709
Чуть больше 170 см. (обратно)710
Напомним, что в других культурах – например, азиатских – траурным цветом является белый. (обратно)711
Помимо всего прочего, палачи были обязаны душить бродячих собак. (обратно)712
Сетье – мера сыпучих тел, равная примерно 160 литрам, одна из льгот, предоставляемых палачам. (обратно)713
Напомним, что тогда мальчики считались взрослыми с четырнадцати лет, девочки – с двенадцати. (обратно)714
Особо важным приговоренным была дарована привилегия умереть быстро и вызвать палача по своему выбору, даже если тот является иностранным подданным. (обратно)715
Подразумеваются члены семьи, имеющие общих прадедов. Впрочем, большинство палачей состояли друг с другом в родстве, так как могли жениться только в своей среде. (обратно)716
Послаблений (лат.). (обратно)717
Светильник – нечто вроде фонаря из дерева или металла, в который помещали свечу или масляную коптилку, чтобы уберечь огонь от сквозняков. (обратно)718
Эта невообразимая для современного человека пытка преследовала множество целей. Перед обвинением – чтобы получить признание, а также имена сообщников. После него – чтобы наказать за преступление, чтобы это служило примером остальным, а также принудить к раскаянию. В ту эпоху душа имела гораздо большую ценность, чем жизнь. (обратно)719
Тюремные штаны – нечто вроде широких кальсон, которые со времен галлов носили представители самых неимущих классов. (обратно)720
Тюремные стены (лат.). (обратно)721
Он любит их всех и убивает с нежностью (лат.). (обратно)722
Чаще всего из-за вони она располагалась за городом; на ней вывешивались тела осужденных на смерть до разложения или пока они не будут расклеваны птицами. (обратно)723
Воздвигнут в 1194 г. Рено де Муссоном – епископом Шартским. В настоящее время от него не осталось и камня на камне. (обратно)724
В ту эпоху существовали восковые и жировые свечи. Их изготовление регламентировалось жесткими правилами, чтобы избежать мошенничества. Жировые свечи были очень дороги и предназначались лишь для дворянского сословия и церквей. (обратно)725
Жульничество при изготовлении хлеба, вина, свечей, а также при торговле рыбой и дровами строго наказывалось. (обратно)726
Притирания – жидкие субстанции, содержащие активные вещества, которые использовали для массажа. (обратно)727
В Средние века все буквально с ума сходили по всяким кремам и косметическим лосьонам и были очень падки на рецепты против морщин, потому что старели тогда быстро из-за постоянного недоедания. (обратно)728
Тогда существовало множество различной воды, чтобы сохранить хороший голос, хорошие зубы и свежее дыхание. (обратно)729
Смесь укропа, аниса, имбиря, кориандра, можжевельника, миндаля, орехов, очень популярная среди состоятельных людей, которые пробовали ее перед тем, как ложиться спать, чтобы освежить дыхание и облегчить пищеварение. (обратно)730
Напомним, что в те времена на китов охотились в заливе Сены. (обратно)731
Лупанарий происходит от латинского слова «lupa» (волчица). Находились во всех больших и средних городах, некоторые таверны предлагали подобные услуги и предоставляли комнаты для свиданий. (обратно)732
Напомним, что в Средние века к проституции относились довольно терпимо. Позже она была запрещена Людовиком Святым. Также «девицы» были обязаны носить бросающуюся в глаза одежду, чтобы их не перепутали с порядочными женщинами. (обратно)733
Мучные изделия из муки и яиц, немного разбавленных молоком или водой; иногда для запаха туда добавляли настойку флердоранжа, а для вкуса – мед. (обратно)734
Хотя Церковь и осуждала проституцию, она утверждала, что мужчина, женившийся на продажной женщине, совершает акт милосердия. (обратно)735
В противоположность общепринятому мнению истина о пользе чистого воздуха в Средние века уже успела укорениться в умах людей. При малейшей возможности жители выезжали из городов и предпочиталижить на верхних этажах, чтобы избежать уличной вони, которая в теплое время года становилась невыносимой. (обратно)736
В Средние века верили в целительные свойства камней. Считалось, что желтый янтарь успокаивает младенцев и что с его помощью зубы у них режутся не так болезненно. (обратно)737
Серая амбра очень дорога, так как это вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Считалось, что она обладает многочисленными целебными свойствами. Ее широко использовали во время Великой чумы. Рассказывают, что даже кардинал Ришелье добавлял ее в кушанья. (обратно)738
В ту эпоху употребление шариков амбры было нечастым явлением из-за дороговизны. В последующие века амбру начали использовать гораздо чаще. Сейчас речь идет о шариках чаще всего из драгоценных пород дерева. Там было проделано множество дырочек, куда помещали сандал, серую амбру или другие ароматические субстанции. (обратно)739
Индиго – очень дорогая краска, предназначенная для самой роскошной одежды. (обратно)740
Очень высокий воротник, закрывающий шею. Такие плащи носили с сильно декольтированным платьем. Мода на плащи с таким воротником получила распространение в XIV в. (обратно)741
Изабелла Кастильская (1283–1328) вышла замуж за Жана III в 1310 г. (обратно)742
Ситола – струнный инструмент с очень нежным звучанием, особенно ценимый дамами. (обратно)743
Гитерна – щипковый струнный музыкальный инструмент, на нем часто аккомпанировали пению. Возможно, один из родственников гитары. (обратно)744
Десятина – десятая часть собранной пшеницы и вина. (обратно)745
Убоина – налог с каждого забитого поросенка, овцы и прочей домашней скотины. (обратно)746
538-594 гг. (обратно)747
Неизвестный автор XIII в. (обратно)748
Название происходит от латинских слов petra fixa – установленный камень. Камень друидов, который означает, что деревня является священным местом для галлов. Церковный фонтан, христианизованный под именем святого Иакова, является очень древним местом культа воды. (обратно)749
Шнурки – в ту эпоху веревка, чаще всего с железными наконечниками, которой прикрепляли верх штанов к камзолу, чтобы те не свалились. В переносном смысле выражение «завязать шнурок» означает «сглазить новобрачных». (обратно)750
Напомним: несмотря на то что религиозными тогда были все, существовало немало текстов и песенок, зачастую непристойных, где высмеивались Церковь и монахи. (обратно)751
Напомним, что под словом «усадьба» в ту эпоху понимали чаще всего дом дворянина, как правило, просторный и удобный. Усадьбы не имели военного назначения. У них не было права на войско, донжон и защитные башни. (обратно)752
Тугим соломенным пучком обычно чистили лошадей. (обратно)753
Неповиновение сеньору или жульничество считались преступлением для вассала. (обратно)754
Стеклянные в ту эпоху были редким явлением. (обратно)755
Самоубийство считалось преступлением, наказанием за которое было отлучение от Церкви. Тело самоубийцы вешали на виселицу, на которую его волокли раздетым. Дом его чаще всего сжигали. Карлом Великим был введен штраф за такое преступление. С начала XIII в. Церковь устанавливает исключение из этого правила. Прощения заслуживали те, кто покончил с собой под влиянием слабоумия или душевной болезни. Понадобилась революция для того, чтобы самоубийство перестало считаться уголовным преступлением. Затем в 1881 г. выходит закон, уравнивающий в правах всех умерших, «каким бы ни было их вероисповедание и обстоятельства смерти». Только в 1965 г. Церковь разрешила для самоубийц похороны по церковному обычаю, не требуя медицинского свидетельства, что этот поступок был совершен под влиянием душевной болезни или невыносимых страданий. Этим объясняется, что факт самоубийства чаще всего утаивался близкими. (обратно)756
Непосредственное владение графов Перш во времена царствования Ротру. (обратно)757
До настоящего времени не сохранилась. (обратно)758
Напомним, что в противоположность распространенному мнению мужчина в расцвете сил пробегает в день то же расстояние, что и лошадь, а на длинные дистанции их скорость примерно одинакова, тем более в ту эпоху, когда лошади были гораздо более тяжелыми. (обратно)759
Гоголь-моголь – теплое молоко с медом и очень свежим яйцом. Для взрослых туда добавляли еще немного спиртного. Старинное укрепляющее средство. (обратно)760
Шелковая или шерстяная косынка, которую женщины носили из стыдливости, выходя из дома или принимая гостей, чтобы прикрыть декольте. (обратно)761
Эта азартная игра была широко распространена в ту эпоху. (обратно)762
Напомним, что орден госпитальеров, такой же богатый, как и орден тамплиеров, не рассматривался королем как нечто вызывающее тревогу. (обратно)763
Командор – тамплиер, стоящий во главе командорства, то есть округа, а не только монастыря или построек. (обратно)764
Замечательный историк, большой специалист по Средним векам Клод Говар (Le Monde, 7 мая 2010 г.) упоминает «жестокость средневекового общества». (обратно)765
Профессия исполнителя смертных приговоров и пыток появилась лишь к XIII в. В больших городах она возникла раньше, так как им там было над чем «поработать»! (обратно)766
В Средние века до 50 лет доживало лишь 10 % населения, а не 96 %, как в наше время. Возможно, даже еще меньше, чем 10 %, учитывая, сколько женщин умирало в предродовой период. (обратно)767
В Средние века лишь половина детей доживала до пятилетнего возраста, из них лишь четверть – до двенадцати лет. (обратно)768
Тутмос IV (1412 – 1402 до н. э.) уснул у подножия сфинкса после охоты в пустыне. Во сне сфинкс заговорил с ним и пообещал, что, если Тутмос освободит его от песка, он станет царем. Обе стороны сдержали слово. Повествующая об этом событии стела цела до сих пор. (обратно)769
Разновидность базальта. Один из самых твердых камней, который египтяне умели обрабатывать. (обратно)770
Хотя нефть была известна в Египте, использование ее не приветствовалось. (обратно)771
Существование этого коридора, о котором свидетельствуют древние источники, относится к разряду гипотез; до сих пор никаких раскопок не производилось. (обратно)772
Небесное железо – железо метеоритного происхождения. (обратно)773
Слова песни и клички коров написаны на рельефах гробниц Древнего Царства. (обратно)774
Маат символически изображалась как сидящая женщина со страусовым пером на голове; она воплощала небесную гармонию. (обратно)775
Подобная сцена изображена на одном барельефе – осел был любимым помощником человека в Древнем Египте. (обратно)776
В Древнем Египте много путешествовали, используя прежде всего естественную водную магистраль, а также проселочные дороги и пустынные тропы. Фараон должен был обеспечить безопасность путешественников. (обратно)777
Мина (Менес) был первым фараоном, объединившим Верхний и Нижний Египет. Его имя означает «прочный». (обратно)778
Персея – большое дерево с плодами, известными своим сладким вкусом; форма плода напоминает сердце, а форма листа – язык. (обратно)779
Натрон – природное соединение карбоната и бикарбоната натрия. (обратно)780
Это выражение встречается в «Книге мертвых», где оно обозначает различие между праведным и неправедным. (обратно)781
Бебет (Inulagraveolens – лат.) – растение, разновидность девясила. (обратно)782
Кинамон – ароматический кустарник, из некоторых видов которого получают корицу; здесь: ароматическое вещество. (обратно)783
Калам – тростник с заостренным концом, использовавшийся для письма. (обратно)784
Обычный режим работы египтян. (обратно)785
Весьма впечатляющий дозорный павиан, хватающий вора, изображен на одном из рельефов гробницы Тепеманха, хранящемся в Каирском музее. (обратно)786
В Египте была изобретена первая модель наручных часов – переносные водные часы, использовавшиеся специалистами, для которых отсчет времени был необходим. (обратно)787
Маятник. Известно также, что лозоходцы искали источники воды при помощи прутиков. Есть сведения, что некоторые фараоны, например Сети I, обладали выдающимися биолокационными способностями и могли находить воду в пустыне. (обратно)788
Циратония – дерево, которое дает плоды – стручки со сладким соком, воплощавшим в глазах египтян само понятие «сладость». (обратно)789
Текст «тайны целителя» был известен всем практикующим врачам и составлял основу их науки. (обратно)790
Арабы не уничтожили эту статую Сехмет, потому что она наводила на них ужас; они называли ее «карнакским чудовищем». Увидеть ее можно и сейчас в одной из молелен храма Птаха. (обратно)791
Сути цитирует начало одной из книг мудрости, которые читали и переписывали ученики-писцы. (обратно)792
В Египте воробей из-за своей вечной суетливости и чрезмерной плодовитости считался одним из символов зла. (обратно)793
Это классическая басня. В египетских баснях черпал вдохновение Эзоп, позднее они получили воплощение у Лафонтена. (обратно)794
Поглотитель теней – буквальный перевод египетского выражения, означающего «убийца». (обратно)795
Такие маски надевали жрецы, исполнявшие роли богов во время ритуальных действий. (обратно)796
Человек-сокол – египетское выражение, более или менее соответствующее нашему «оборотень». (обратно)797
Терпентин – разновидность фисташкового дерева, смола которого использовалась в медицине и ритуальных действиях. (обратно)798
Амулеты – фигурки, чаще всего фаянсовые, с изображениями божеств, символов, вроде знака жизни или сердца и т. п. Египтяне носили их, чтобы уберечь себя от вредоносных сил. (обратно)799
Беранир приводит своему ученику слова мудрецов, собранные в «Поучениях» в форме наставлений. (обратно)800
Кориандр – растение, сушеные плоды которого используются как пряность. (обратно)801
При храмах существовали специальные помещения, где ставились опыты и изготовлялись различные виды лекарств, о которых известно очень мало: это связано с трудностями перевода технических терминов. (обратно)802
Абидос – город в Среднем Египте, где по сей день можно любоваться величественным храмом Осириса. (обратно)803
Ладан – ароматическое вещество, получаемое из камеди-смолы. (обратно)804
Дерево было довольно редким материалом в Египте, поэтому ценилось высоко. (обратно)805
Речь идет о Рамессеуме – заупокойном храме Рамсеса II на западном берегу Фив, который призван был обеспечить фараону «миллионы лет» царствования в загробном мире. (обратно)806
Царские стены – комплекс оборонительных сооружений, защищавший северо-восточную границу Египта. (обратно)807
Бедуины вместе с ливийцами постоянно были причиной волнений, которые египтяне подавляли со времен первых династий. В древние времена египтяне называли этих кочевников «те, что на песке». (обратно)808
Средиземноморские разбойники иногда оставляли свое опасное ремесло и вербовались наемниками в египетскую армию. (обратно)809
Известно, что один визирь был отстранен от должности из-за того что, боясь обвинения в покровительстве своим близким, повел себя по отношению к ним несправедливо. (обратно)810
Поучения – сборники мудрых изречений, передававшиеся из поколения в поколение. (обратно)811
Супружеская измена считалась серьезным проступком, ибо предполагала нарушение данного слова, в то время как брак зиждился на обоюдном доверии. (обратно)812
Сыть – душистый тростник. (обратно)813
Текст, высеченный на стелах, устанавливавшихся в храмах. (обратно)814
Несколько экземпляров этой почетной награды были найдены при раскопках. Муха олицетворяла воинственность и упорство настоящего солдата. (обратно)815
Дейр-эль-Бахри – место на западном берегу Фив, знаменитая царица Хатшепсут построила огромный храм, сохранившийся по сей день. (обратно)816
Фараон был главным жрецом в Египте; только он мог поддерживать связь между людьми и божественным миром. Во многих египетских храмах духовные лица исполняли ритуалы от лица фараона. (обратно)817
Оуроборос или уроборос — змея, кусающая свой собственный хвост. Это древний символ бесконечности Вселенной и времени, круговорота жизни. Иногда оуроборос изображали как эмблему смерти и рождения. Оуроборос (греч. «пожирающий свой хвост») — ученое название этого существа, вошедшее в Средние века в обиход алхимиков (прим. перев.) (обратно)818
Иоганн Гутенберг (1400-1468) — немецкий изобретатель книгопечатания при помощи подвижных литер, он создал первый печатный станок. Эпохальное изобретение помогло провести Лютеру реформацию (прим. перев.) (обратно)819
Понт-о-Шанж — Большой мост, Мост менял (прим. перев.) (обратно)820
Бри — сорт сыра по названию провинции (прим. перев.) (обратно)821
Сорбонна — название для Университета в Париже по имени капеллана Робера де Сорбона, который в 1257 году основал коллегию (la Sorbonne) для не имеющих средств студентов-теологов — небольшое и довольно убогое здание, где жили и учились студенты (прим. автора). (обратно)822
Angelus (лат.) — ангел, название вечерни у католиков, по начальному слову молитвы (прим. перев.) (обратно)823
Соль — медная монетка, предшествующая су (прим. автора). (обратно)824
Escarbot (фр.) — жук (прим. перев.) (обратно)825
Турские гроши — серебряная монета по мере веса, принятой в городе Тур, которая в старинной Франции существовала наряду с парижской мерой веса; согласно парижской мере фунтом считались двадцать пять солей, по турской мере — двадцать солей (прим. автора). (обратно)826
Шаг — мера длины во Франции, равная 75 см (прим. автора). (обратно)827
Отель-Дьё — Божий дом — самая старая больница Парижа; основана восьмым епископом Парижа Святым Ландри около 656 г., находится в ведении собора Парижской Богоматери (прим. автора). (обратно)828
Изобретатель из Майнца — И.Гутенберг, который был родом из Майнца. (обратно)829
Облат — мирянин, который заключил договор с монастырем и выполняет для него какие-то обязанности (прим. автора) (обратно)830
Moulin (фр.) — мельница (прим. перев.) (обратно)831
Плесси-де-Тур или Плесси-ле-Тур — укрепленная резиденция короля Франции Людовика XI. За 22 года своего правления (1461-1483) он заложил основы абсолютизма, развивая экономику, покровительствуя городскому ремеслу и городам. При нем возникло почтововое сообщение, были расширены границы государства (прим. перев.) (обратно)832
Карл Смелый, герцог Бургундский — главный противник Людовика XI, пытался противостоять укреплению королевской власти, в 1465 году образовал с другими единомышленниками «Лигу общественного блага». Проиграв в открытом бою, Людовик изменил тактику на дальновидную дипломатию и расправился с Карлом Смелым с помощью швейцарцев и лотарингов. В битве с ними при Нанси в 1477 году Карл и погиб. Людовик получил прозвище «Всемирный Паук» за дипломатическую ловкость и умение завлечь своих противников в западню с помощью интриг, хитрости и обмана (прим. перев.) (обратно)833
Архидьякон — духовное лицо, стоящее во главе церковного прихода (прим. автора). (обратно)834
Вообще-то, цыгане проникли в Европу не только через Египет, но, прежде всего, через Византию, а сами они — один из индийских народов (на что в записках Совэ есть отдельное указание). Европейцы не вполне обоснованно считали цыган потомками египтян (прим. ред.) (обратно)835
Шатле — большая крепость, заложена Людовиком VI Толстым. Полное название — Гран-Шатле, резиденция парижского прево, место его судопроизводства и темница, укрепленная часть моста Pont-aux-Changeurs (моста Менял), в дальнейшем — Pont-aux-Change на правом берегу Сены со стражей при входе в Не de la Cite — на остров Сите (прим. автора). (обратно)836
Прево — во Франции XI-XVIII вв. — королевский чиновник, обладавший до XV в. в подведомственном ему административно-судебном округе судебной, фискальной и военной властью. Большое значение имели должности королевского прево — главы Парижа и купеческого прево — главы муниципалитета Парижа. Первоначально прево Парижа был начальником парижских лодочных торговцев. Затем эта должность стала королевской службой, и прево — верховные судьи получили резиденцию в Гран-Шатле (прим. автора). (обратно)837
Дюжина (la douzaine, фр. двенадцать) — состоящая из двенадцати конных сержантов личная гвардия парижского прево (прим. автора). (обратно)838
Безопасность в ночном городе обеспечивалась совместными силами королевского и ремесленного дозора. Ночные дозоры ремесленников каждого цеха и королевской стражи дежурили по очереди на улицах (прим. автора). (обратно)839
Almosenier ordo sancti benedicti coelestinensis (лат.) — представитель ордена Святого Бенедикта, целестинец (прим. перев.) (обратно)840
Coquillards от coquille (фр.) — раковина, скорлупа (прим. перев.) (обратно)841
Суккубус — один из самых опасных демонов, которых создал Сатана в борьбе за души людей, чтобы он соблазнял людей в образе прекрасной женщины, превращая их в рабов своих желаний, и потом похищал их души (прим. перев.) (обратно)842
Сарта — река во Франции, впадает в Луару (прим. перев.) (обратно)843
«Quasimodo» — так называется у католиков первое воскресенье после Пасхи, Фомино воскресенье, по-латыни quasimodo означает «как будто бы», «почти». (обратно)844
Saint-Esprit-en-Grace (фр.) — больница Святого Духа в Милости (прим. перев.) (обратно)845
Николай Фламель — французский алхимик (умер в 1418г.), первоначально переписчик, которому, как считается, удалось разгадать тайну превращения металла в золото (прим. перев.) (обратно)846
Марийское стекло — заменитель стекла в форме прозрачных кусочков слюды, соединенных между собой гипсом (прим. автора). (обратно)847
Франсуа Вийон — французский поэт-бродяга XV века, магистр словесности, автор баллад, посвященных простому люду, таких как «Баллада о повешенных», «Баллада о толстой Марго», «Малое завещание», «Большое завещание». Считается, что Франсуа Вийон был связан с кокийярами (прим. перев.) (обратно)848
Кокийяр — coqille (фр.) — раковина, шайка разбойников в средневековой Франции (прим. перев.) (обратно)849
Морийон — вино, бывает разных цветов, первый слог «мор» говорит о смерти, второй — перекликается с именем Вийона (прим. перев.) (обратно)850
Ecorcheurs (фр.) — экошеры, цех живодеров, поднявших в 1413 году восстание вместе с мелкими ремесленниками и подмастерьями и городской беднотой под предводительством живодера Симона Кабоша, назывались также кабошьенами (прим. перев.) (обратно)851
«Рондо» Ф.Вийона — в переводе И. Эренбурга (прим. ред.) (обратно)852
Каноник — сан в Католической Церкви (прим. ред.) (обратно)853
Трансмутация — превращение. Множество средневековых алхимиков искали способы «трансмутации» «неблагородных» металлов в золото. Безрезультатно (прим. ред.) (обратно)854
Символ тамплиеров (прим. ред.) (обратно)855
Непонятно, насколько обвинения против тамплиеров, выдвинутые Филиппом Красивым и папой Клементом, имели хоть какое-то отношение к реальности. Тем не менее, им действительно приписывалось почитание образа демона с козлиной мордой — Бафомета (прим. ред.) (обратно)856
«Стимул» в буквальном значении — острая палка, предназначенная, чтобы гнать скот (прим. ред.) (обратно)857
Temple (фр.) — храм. Тамплем называется район в Париже, где когда-то раньше находилась церковь тамплиеров, рыцарей храма, в которой хранились их богатства и казна. Позже Филипп Красивый, взяв в долг у богатого ордена крупную сумму, обвинил тамплиеров в ереси и присвоил их казну, учинив зверскую расправу над рыцарями-учеными. Любопытно, что все организаторы заговора после казни тамплиеров скончались на удивление быстро, ходила легенда, что их призвал на суд убиенный Великий магистр (прим. перев.) (обратно)858
«Совершенные» — так называли себя богомилы — исповедники дуалистического вероучения и члены религиозного крайне аскетического общества сначала в Болгарии, потом в соседних странах Балканского полуострова и даже за его пределами. Они названы так по имени своего основоположника, попа Богомила, жившего в Болгарии во второй половине X в. Богомильство стремилось разрешить в теории вопрос о происхождении зла в мире и найти на практике правильный путь для борьбы со злом. Во Франции их называли катарами (чистые), либо альбигойцами (прим. перев.) (обратно)859
Scriptorium (лат.) — мастерская по переписыванию книг в монастыре (прим. автора). (обратно)860
Аквитания — старинное обозначение для южно-французского Тулузского графства, Лангедока (прим. автора). (обратно)861
Консьержери — тюрьма при Дворце правосудия в Париже, названа по имени Консьержа, интенданта прежнего Королевского дворца, позднее Дворца правосудия (прим. автора). (обратно)862
Жак Кёр (около 1395-1456) — богатейший купец и министр финансов французского короля Карла VII, предоставлял крупные займы правительству, наживший свое огромное состояние на торговле с Левантом, эксплуатации рудников и откупе налогов (прим. автора). (обратно)863
Sauveur (фр.) — букв, «спаситель», созвучно фамилии героя (прим. перев.) (обратно)864
В греческой мифологии — божество необходимости, неизбежности, мать мойр — вершительниц судьбы человека. Между колен Ананке вращается веретено, ось которого — мировая ось, мойры же время от времени помогают вращению (Plat. R. Р. X 617 в-е). Ананке близка Адрастее (Немизиде) и Дике — вершительнице справедливости (прим. перев.) (обратно)865
Гадчо — обозначение цыган для не принадлежавших к ним мужчин (прим. автора). (обратно)866
Чури — цыганское слово для обозначение кинжала (прим. автора). (обратно)867
Лувр — ныне музей, прежде резиденция французский королей, построен первоначально как оборонительная крепость на месте угодий, где устраивали охоту на волков (loup — фр.) Отсюда крепость и получила свое название (прим. перев.) (обратно)868
В конце XI века во Франции образовался отличавшийся первоначально более суровым уставом новый Орден цистерцианцев, названный так по имени главного их монастыря — Цистерциума (Сито в Бургундии), наиболее видный деятель ордена — Бернар Клервоский (прим. перев.) (обратно)869
Skapulier (лат.) — одежда монаха цистерцианца (прим. перев.) (обратно)870
Cingulum (лат.) — название пояса (прим. перев.) (обратно)871
Капетинги — династия французских королей, последний представитель которой король Карл IV, умер в 1328 году (прим. перев.) (обратно)872
Готон (Goton) — уменьшительное от Marguerite (Маргарита, Маргариточка — деревенская девушка). (обратно)873
Шестопёр — старинное оружие (прим. перев.) (обратно)874
Турень — графство, расположенное по реке Луара рядом с графствами Анжу, Мен, Блуа (прим. перев.) (обратно)875
Пти-Шатле — укрепленный въезд на Пти-Понт с левого берега Сены, место, где стража несла караул и располагалась тюрьма (прим. автора). (обратно)876
Латинский квартал — квартал, расположенный на левой стороне Сены, названный так, поскольку латынь в Средневековье вплоть до XIX века была официально единственно допустимым языком в находящемся здесь районе Университета (прим. автора). (обратно)877
Sext (лат.) — полуденная молитва (прим. автора). (обратно)878
«Чистые» (катары) исходили из крайнего аскетизма и потому считали смертными грехами всякую собственность, ложь, войну и убийство человека и животных (за исключением змей), вкушение животной пищи (кроме рыб, размножающихся, по тогдашнему воззрению, внеполовым путем) и всякое плотское сношение (прим. перев.) (обратно)879
Река Шер — приток Луары (прим. перев.) (обратно)880
Поверье о Дикой Охоте (разумеется, языческое) было широко распространено в средневековой Западной Европе. Встреча с проносящейся по небу кавалькадой демонических существ, сопровождаемых сворой собак, не предвещала ничего хорошего. И, заметим, как и в случае с кануном Дня Всех Святых, люди, вполне считавшие себя верующими, рядились в маски Дикой Охоты, вероятно, пытаясь таким образом изжить свой страх перед неведомым (прим. ред.) (обратно)881
Фахверк (Fachwerk, нем.) — типичное для всего периода Средневековья здание, построенное из деревянного каркаса, промежутки которого замазаны глиной или заполнены деревом или камнем и оштукатурены, а балки каркаса создают геометрический рисунок. К XVI веку здания богато украшались резьбой и орнаментом (прим. перев.) (обратно)882
Пьер Абеляр (1079-1142) — ученый и поэт, против воли каноника Фулберта тайно женился на его племяннице Элоизе и за что был оскоплен в наказание по приказу Фулберта (прим. автора). (обратно)883
Калабрия — часть Италии, носок «итальянского сапога» (прим. перев.) (обратно)884
«Одиннадцать на двадцать» (les onze vingts) — буквальный перевод с французского, в котором имеется сложная система чисел. Обозначение для 220 пеших сержантов стражи, которые обеспечивали порядок в Париже (прим. автора). (обратно)885
Offertorium — приношение хлеба и вина, сопровождающееся подобающим пением молитвы, часть церковной литургии (прим. автора). (обратно)886
Далматика — светлое одеяние дьякона и епископа (прим. автора). (обратно)887
Прокуратор — церковный представитель на процессе (прим. автора). (обратно)888
Целибат (лат.) — обет безбрачия (прим. перев.) (обратно)889
Крансепт — пересечение продольного и поперечного нефов в готическом соборе (прим. перев.) (обратно)890
Имеется в виду индийский эпос «Рамаяна» и его главная героиня Сита (Зита) (прим. ред.) (обратно)891
Контрфорсы — поддерживающие внешние конструкции здания готического собора, которые соединяются непосредственно со стенами ажурными арками — аркбутанами (прим. перев.) (обратно)892
Донжон — центральная башня средневекового замка (прим. автора). (обратно)893
Аквитания — старинное обозначение для южного французского графства Лангедок (прим. автора). (обратно)894
Сажень, клафт — мера площади, объема и длины, последняя — около 180 сантиметров (прим. автора). (обратно)895
Фронтиспис (полиграф.) — титульный лист (прим. перев.) (обратно)896
Штюбер — мелкая монета нижнерейнских княжеств. — Примеч. пер. (обратно)897
Дамрак — главная торговая улица Амстердама. (обратно)898
Новый Амстердам — прежнее название Нью-Йорка. (обратно)899
Н. А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции. – Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное. (обратно)900
Каструм долорис, иными словами, катафалк. (обратно)901
Холм в Риме на западном берегу Тибра. (обратно)902
Преданность королю (лат.). (обратно)903
За присоединение Испании/ За победу над Галлией/ За освобождение Италии/ За отвоевание Бельгии (лат.). (обратно)904
Здесь покоится/ аббат Мелани из Пистории в Этрурии/ благочестивый перед Богом/ преданный королю/ удостоенный славы/ умер 4 января 1714 года в возрасте восьмидесяти восьми лет/ дражайшему дяде/ поставил памятник скорбящий племянник Доменико Мелани (лат.). (обратно)905
Мать городов имперских (лат.). (обратно)906
Himmelpforte – Небесные врата (нем.). (обратно)907
Также (лат.). (обратно)908
Камлот – грубая бумажная ткань полотняного плетения, из крученой в две нитки пряжи. (обратно)909
Воспитанников (лат.). (обратно)910
Поверь мне, красавица, что я тебя боготворю./ И небо знает, что я люблю тебя./ Но я желаю высшего блаженства,/ Другая красота уводит меня от тебя (итал.). – Примеч. авт. (обратно)911
Как могли бы порадовать меня украшения и золото, / Если ты уходишь от меня, о мой возлюбленный,/ Как поверить, что ты любишь меня, как говоришь,/ И отказываешь мне в своей любви./ Я вижу, что любовь твоя у тебя только/ На устах, но не в сердце… – Примеч. авт. (обратно)912
Уже в этот миг/ Я должен повиноваться приказу свыше,/ Я больше не могу задерживаться./ Возлюбленная супруга, да сохранит тебя Небо, прощай… – Примеч. авт. (обратно)913
Подражание Христу (лат.). (обратно)914
Полдник (австр.). (обратно)915
Историки, определяющие время по столетиям. (обратно)916
Слабым духом (лат.). (обратно)917
Небо, милостивое Небо…/ Копья, молнии, стрелы/ Ожидаю я от тебя/ Рань, останови, умертви/ Того, кто оказался неверен мне… (итал.). – Примеч. авт. (обратно)918
Надежда, при всей твоей бледности / я знаю, ты уже не надеешься / тем не менее ты не перестаешь / ласкать мне сердце (итал.). – Примеч. авт. Ибо нет надежды (итал.). – Примеч. авт. (обратно)919
Воскрес, как и сказал! (лат.). (обратно)920
О горе, итак, это правда… (итал.). – Примеч. авт. (обратно)921
Шорист – студент старших курсов в немецком протестантском университете. (обратно)922
Беанус – только что поступивший в университет студент. (обратно)923
Дорогие гости,/ те, на ком держится застолье,/ примите то, что/ щедро и старательно приготовил хозяин./ Этот жалкий новичок/ должен пройти испытание полными кубками,/ чтобы стать новым студентом,/ пусть он позаботится о расходах./ Нрав – главное для вожаков… (лат.). (обратно)924
Снятие рогов (лат.). (обратно)925
Тишина (лат.). (обратно)926
Множественное число (лат.). (обратно)927
Прими, снимающий, в услужение дар благодарности, итак, я прошу, ты будь моим и оставайся благодарным (лат.). (обратно)928
Вселенская мудрость (лат.). (обратно)929
Учеными (лат.). (обратно)930
Студенты (лат.). (обратно)931
Почитайте… синьоры! (итал.). (обратно)932
Величайший король в мире (фр.). (обратно)933
Также (лат.). (обратно)934
Подъем (фр.). (обратно)935
Касаться (фр.). (обратно)936
Сразу по прибытии (фр.). (обратно)937
Труд рабский и наемный (лат.) (обратно)938
Раковина с водопроводным краном на лестничной клетке дома, откуда берут воду жильцы; излюбленное место встреч женщин для обмена новостями. (обратно)939
Набожность австрийская (итал.). (обратно)940
Наделенной блистательными добродетелями и еще более блистательными драгоценностями (лат.). (обратно)941
Боль, страдание от любви/ уже не боль/ Ее шипы превращаются в розы/ Ей больше неведома скорбь/ Ей больше неведомо горе… (итал.). – Примеч. авт. (обратно)942
Если бы я хотела забыть/ воспоминания о нем, возрастает любовь./ И когда я пытаюсь изгнать эту мысль из своего сердца,/ желание увидеть его растет… (шпал.) – Примеч. авт. (обратно)943
И так далее, и такдалее (лат.). (обратно)944
«Царица Небесная» (лат.). (обратно)945
Предсказание славы, счастья и долголетия Иосифа Первого, императора Священной Римской империи, короля Германии, Богемии, Венгрии (лат.). (обратно)946
Исцеляющей медицины (лат.). (обратно)947
Счастливая Австрия (лат.). (обратно)948
Как бы рожденным (лат.). (обратно)949
Белое воскресенье (лат.). (обратно)950
Немецкое название города Буда. (обратно)951
В древности страна между Нижним Дунаем и Балканскими горами, населенная фракийскими племенами (мезы, геты, бессы и др.). В настоящее время территория Мезии принадлежит в основном Болгарии, некоторые ее части – Сербии и Румынии. (обратно)952
Юпитер Плювис был верховным божеством древних римлян, сопоставимый с Зевсом в греческой мифологии. Имя переводится как «дающий дождь». (обратно)953
Пограничный лес (лат.). (обратно)954
Слабительное средство, состоящее из алоэ, коры канеллы с добавлением меда и некоторых других компонентов. (обратно)955
Великий итальянский архитектор и скульптор, крупнейший представитель римского и всего итальянского барокко. (обратно)956
Испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель орденской ветви босоногих кармелиток. (обратно)957
Полное имя Джамбаттиста (Джанбаттиста) Марино, знаменитый итальянский поэт, один из крупнейших представителей поэзии барокко. (обратно)958
Итальянский композитор (1567–1643). (обратно)959
Венецианский врач и писатель (1478–1553). (обратно)960
Лицо, лик (лат.). (обратно)961
Волк в басне; употр. в знач.: легок на помине (лат.). (обратно)962
Нашатырь (лат.). (обратно)963
Римский военный лагерь для фланговой защиты Карнунтума, находился на территории I района Вены с центром на месте нынешней площади Хоэр Маркт. (обратно)964
Искаженное corpus sanctus – святое тело (лат.). (обратно)965
После смерти (лат.). (обратно)966
Античное божество, принесенное, вероятно, с Востока; главными приверженцами культа были солдаты, поскольку считалось, что Митра приносит победу. (обратно)967
Медный духовой музыкальный инструмент. (обратно)968
Господь милосерден (лат.). (обратно)969
Герон Александрийский – греческий математик и механик. Герон считается величайшим инженером за всю историю человечества (обратно)970
Хорошо (фр.). (обратно)971
Драчливый Орбилий (лат.). (обратно)972
Упражнения, занятия (лат.). (обратно)973
Скоро, быстро (лат.). (обратно)974
Лихорадка (лат.). (обратно)975
Дизурия, нарушение мочеиспускания (лат.). (обратно)976
Гармоничные звуки / Населяют этот воздух, / Поясните, расскажите / О сердечной радости (итал.). – Примеч. авт. (обратно)977
В безвинном споре/Ученых голосов… (итал.). – Примеч. авт. (обратно)978
Воспета ликующе/Слава любви (итал.). – Примеч. авт. (обратно)979
Заметка о тайных науках (лат.). (обратно)980
Верцингеториг, или Верцингеторикс (82 до н. э. – 46 дон. э.) – вождь кельтского племени арвернов в Галлии. Его имя на галльском означает «повелитель над воинами». (обратно)981
Ancienne – древний, старший (фр.). (обратно)982
Мера длины. (обратно)983
Старинный род венгерских магнатов. (обратно)984
Секреты Викерия (лат.). (обратно)985
О секретах (лат.). (обратно)986
Или Баламир, считается основателем Еврогуннской империи в 374 г. (обратно)987
Винный спирт (лат.). (обратно)988
Нашатырь (лат.). (обратно)989
Зильберглет (лат.). (обратно)990
Маленький ресторанчик, хозяин которого сам производит и разливает вино. (обратно)991
Римский папа (Пий II с 19 августа 1458 г. по 14 августа 1464 г. Основоположник Вифлеемского ордена. (обратно)992
Имеется в виду, вероятно, Пражская дефенестрация (акт протеста против гнета Австрийской империи, совершенный группой чешских дворян 23 мая 1618 г., когда имперские наместники были схвачены во время заседания в своей канцелярии и выброшены из окна). (обратно)993
Консистенция меда (лат.). (обратно)994
Нечеловеческая жестокость / мучит мое опечаленное сердце, / мучительная игра / И жестокая судьба хочет, / чтобы полем страдания / стала душа… (итал.). – Примеч. авт. (обратно)995
Горе одинокому, ибо если он упадет, то никто его не поддержит! (обратно)996
Благодарение Богу (лат.). (обратно)997
В первую очередь (лат.). (обратно)998
Довольно того, что она невинна, / так любовь всегда торжествует… – Примеч. авт. (обратно)999
…и делает так, что длится вечно / таинственное пламя в сердце. – Примеч. авт. (обратно)1000
В католической церкви – шкафчик для хранения даров. (обратно)1001
Для этого (лат.). (обратно)1002
«Песнь о Роланде» (стихотворный перевод Ю. Корнеева). (обратно)1003
Навеки веков (лат.). (обратно)1004
Первый день сорокадневного предпасхального поста. (обратно)1005
От лат. ради почета – степень доктора наук или доктора философии (в зависимости от системы ученых степеней), присуждаемая не на основании защиты диссертации, а на основании значительных заслуг соискателя перед наукой или культурой. (обратно)1006
В расцвете лет, в цветущий месяц апрель / умер величайший слуга солнца, AUGUSTA: / Мудро правил он, храбро сражался в бою. / Он был украшением воинов и монархов. / Австрия плачет, горюет дом его… – Примеч. авт. (обратно)1007
В конце жизни (лат.). (обратно)1008
Альбан (лат.). (обратно)1009
Ложный плеврит (лат.). (обратно)1010
Прагматическая санкция (лат.). (обратно)1011
Секрет чумы (лат.). (обратно)1012
Римский патриций Цинциннат жил в скромных условиях, работая на своей небольшой вилле. (обратно)1013
Побеждает истина! (лат.) (обратно)1014
Цвет наук (лат.). (обратно)1015
Пурпура оспенная (лат.). (обратно)1016
Писатель, литератор (фр.). (обратно)1017
Наглядно (лат.). (обратно)1018
Сейчас Эдирне. (обратно)1019
Неопытные юноши. (обратно)1020
Ректор (итал.). (обратно)1021
Управляющий (итал.). (обратно)1022
Академическая тюрьма (итал.). (обратно)1023
«Ах, мой милый Августин» – популярная австрийская народная песня (нем.). (обратно)1024
Просто-напросто (фр.). (обратно)1025
От немецких слов Luft (воздух) и Mensch (человек) – люди, занятые интеллектуальными проблемами и не обращающие внимания на повседневность. (обратно)1026
чуде исцеления (лат.). – Здесь и далее примеч. пер (обратно)1027
приемы (греч.) (обратно)1028
высочайшей добродетели (лат.) (обратно)1029
хранить в тайне все, что станет известно о чем-либо порочащем в отношении причисленного к лику блаженных (лат.) (обратно)1030
Anno Domini – От Рождества Христова (лат.) (обратно)1031
Bargello (um.) – начальник полиции (обратно)1032
это старик (исп.) (обратно)1033
Порта (оттоманская, высокая, блистательная) – официальное название султанского двора и всей Турции как государства (обратно)1034
Урбан VIII (Маффео Барберини) – папа с 1623 по 1644 г. (обратно)1035
Иннокентий X (Джамбаттиста Памфили) – папа с 1644 по 1655 г. (обратно)1036
против язычников (лат.) (обратно)1037
Тривиум (лат. три пути) – грамматика, риторика и дидактика, гуманитарные науки, часть семи свободных наук по средневековой классификации Флавиуса Магнуса Аурелиуса Кассиодора (480—575) – латинского писателя, консула и префекта при Теодорихе, удалившегося в монастырь на Сицилии, автора нескольких трудов. Квадриум (лат. четыре пути) – по средневековой классификации Кассиодора – группа реальных наук, включающих арифметику, геометрию, астрономию и музыку и вместе с тривиумом составлявших семь свободных наук (обратно)1038
О растениях, животных, минералах, литературе (лат.) (обратно)1039
Один из спорных вопросов между папой и Людовиком XIV – право убежища, которым обладали посольства в Риме. Послы пользовались этим правом столь широко, что это наносило ущерб папскому суверенитету. В конце 1680-х годов из-за отмены посольского права убежищ дипломатическая связь между Римом и Парижем прекратилась (обратно)1040
Галликанство – тесное переплетение государственной власти с церковью, принцип государственной церкви, неограниченный государственный абсолютизм – явление Нового времени, доведенное до сознания римских пап «самым католическим из королей» Людовиком XIV; сопровождалось упадком авторитета папского престола. В 1682 г. французское духовенство сформировало четыре положения о галликанских свободах. (обратно)1041
Квиетизм – религиозно-этическое учение, возникшее в XVII в., проповедовавшее смирение, покорность, пассивное отношение к действительности, подчинение божественной воле (обратно)1042
Шведская королева Кристина (годы правл.: 1632—1654), отказавшись от трона, перешла в Инсбруке в католическую веру и в 1655 г. переселилась в Рим. Дочь победоносного протестантского лидера и полководца тридцатилетней войны Густава Адольфа завоевала этим благосклонность папы и стала единственной женщиной, погребенной в Ватиканской усыпальнице (обратно)1043
Росси Луиджи (1598—1653) – итальянский композитор. Певец, гитарист и клавесинист на службе Марка Антонио Боргезе, затем кардинала Барберини, вслед за которым отправился в Париж под покровительство Мазарини (1644). Опера «Орфей» (Пале-Рояль, 1647) имела огромный успех. Во время Фронды бежал с Барберини в Прованс, затем вернулся в Рим. Помимо опер, создал оратории, 400 кантат, арий, песен и серенад. Все романсы и арии, исполняемые аббатом Мелани по ходу действия, положены на музыку этим композитором (обратно)1044
Фронда – смута во Франции в годы регентства Анны Австрийской и правления кардинала Мазарини. Людовик с матерью и кардиналом были вынуждены покинуть Париж (обратно)1045
Климент VIII (Ипполито Альтобрандини) – папа в 1592—1605 гг. (обратно)1046
Канна – мера длины в Италии и Испании, равная примерно двум метрам (обратно)1047
Здесь и далее перевод стихотворных строф, кроме особо оговоренных: Т.В. Чугунова (обратно)1048
Реди Франческо (1626—1697) – итальянский натуралист, основатель паразитологии (обратно)1049
неровный, вразбивку (фр.). Стиль, характерный для музыки XVII в., при котором ноты аккорда берутся не одновременно, а арпеджио; оказал влияние на композиторов, сочиняющих для клавесина, конца XVII – начала XVIII в (обратно)1050
сухие и холодные (лат.) (обратно)1051
обладают способностью очищать (лат.) (обратно)1052
расширенного сердца (лат.) (обратно)1053
всякой слабости и душевного расстройства (лат.) (обратно)1054
Cocomero – арбуз (ит.) (обратно)1055
легко (лат.) (обратно)1056
Джулио Роспильози – папа Климент IX (20.06.1667 – 9.12.1669) (обратно)1057
Фазаний остров (иначе остров Конференции) – островок, расположенный на реке Бидассоа, служащий границей между Францией и Испанией, где в 1659 г. был подписан Пиренейский мир и заключен брак Людовика XIV и Марии-Терезии (обратно)1058
И да простит тебе Господь все грехи твои, совершенные через органы чувств (лат.) (обратно)1059
Силой этого святого помазания да простит тебе Господь в великой милости своей все грехи твои, совершенные через зрение, слух, обояние, вкус, осязание (лат.) (обратно)1060
проклятых вопросов (лат.) (обратно)1061
эликсир жизни (лат.) (обратно)1062
пятая сущность (лат.); эфир (обратно)1063
единица массы, применяемая в аптекарской практике: 1с = 1/3 драхмы = 20 гранам (обратно)1064
Избави нас от лукавого (лат.) (обратно)1065
Лойола Игнатий (1491—1556) – основатель ордена иезуитов в 1540 г.; канонизирован папой Григорием XV (обратно)1066
докладчиков по кассационным прошениям (фр.) (обратно)1067
увертюры (фр.) (обратно)1068
«Докучные» (фр.) (обратно)1069
Мольер. Полн. собр. соч. в 4 тт. М.: «Искусство», 1965, т. I, пер. Вс. Рождественского под ред. Н.М.Любимова (обратно)1070
«Я» (фр.) (обратно)1071
в природе нет пустоты (лат.) (обратно)1072
Кирхер Атаназиус (1601—1680) – немецкий иезуит, востоковед и ученый. Автор трудов, посвященных действию магнита, акустике, свету, изобретатель волшебного фонаря. Математик, археолог, филолог. Его труды по коптскому языку долгое время служили основой изучения этого языка и были признаны Шамполионом (обратно)1073
Локк Джон (1632—1704) – английский философ, врач и политический мыслитель. Разработал эмпирическую теорию познания (обратно)1074
Сиденхем Томас (1624—1689) – английский врач, прозванный «английским Гиппократом», изобретатель настойки опия (обратно)1075
I.H.S. – аббревиатура от лат. выражения In Hoc Signo Vinces, однако в Средние века получило другой смысл: Iesus Homini Salvador – Иисус, спаситель человечества (обратно)1076
Лука, 4:24: «Никакой пророк не принимается в своем отечестве» (обратно)1077
Захват Рима армией ландскнехтов и испанских наемников, получивший название «Sacco di Roma», произошел в 1529 г. (обратно)1078
особенно (лат.) (обратно)1079
Камерлинг – кардинал, управляющий папским двором в период, когда место папы вакантно (обратно)1080
Союз семи провинций, объединившихся в федерацию в результате Нидерландской буржуазной революции XVI в., протекавшей в форме освободительной войны против Испании, получил название Республика Соединенных провинций (обратно)1081
средство (лат.) (обратно)1082
Чудеса (лат.) (обратно)1083
средних (лат.) (обратно)1084
малых (лат.) (обратно)1085
крошечных (лат.) (обратно)1086
Вильгельм Оранский-Нассау (1650—1702) – статхаудер Нидерландов (1674—1702), король Англии, Шотландии и Ирландии (1689—1702). Оранский дом – старинная княжеская, а затем королевская династия (обратно)1087
Яков II (1633—1701) – король Англии и Ирландии (обратно)1088
В 1672 г. Людовик XIV завоевал Нидерланды, но восставший народ сделал принца Оранского статхаудером, и тот спас страну, заключив Нимвегенский мир. Вильгельм Оранский стал главой протестантизма перед лицом католической гегемонии (обратно)1089
Совет при доже, управлявший Венецианской республикой, имевшей титул Светлейшая (обратно)1090
Лациум, или Лацио (ит.) – историческая область центральной Италии, где находится Рим (обратно)1091
Отборные сливки (ит.) (обратно)1092
Порочная (ит.) (обратно)1093
Беременная (ит.) (обратно)1094
Лев X (Джованни Медичи) – папа с 1513 по 1521 г. (обратно)1095
Климент VII (Джулио Медичи) – папа с 1523 по 1534 г. (обратно)1096
Madremianonvuole – «Моя мать не хочет» (ит.). (обратно)1097
Аретино Пьетро (1492—1556) – итальянский писатель, автор комедий, среди которых есть и «Куртизанка» (1525), сатирических поэм, памфлетов, оставивший настоящий кодекс галантного существования. Известен его портрет кисти Тициана (обратно)1098
Религия и честность (лат.) (обратно)1099
и было довольно (лат.) (обратно)1100
Святая Тереза Авильская (1515—1582) – испанская монахиня, реформатор ордена кармелиток, автор мистических сочинений, в том числе «Книги жизни» (автобиография) и «Внутреннего замка» – шедевров кастильского языка (обратно)1101
Марино, или Марини, Джамбаттиста (1569—1625) – итальянский поэт, по прозвищу Кавалер Марино, оказавший огромное влияние на литературный процесс (отсюда маринизм) (обратно)1102
Монтеверди Клаудио (1567—1643) – итальянский композитор, автор оперы «Орфей» (1607) – первой лирической драмы в истории музыки и многих других музыкальных шедевров (обратно)1103
Фракастори Джироламо (1478—1553) – итальянский врач, автор одного из первых исследований о сифилисе, предшественник палеонтологов (обратно)1104
глупость (фр.) (обратно)1105
хозяину мумий (лат.) (обратно)1106
Фунтов (фр.) (обратно)1107
мера вина и масла, равная половине литра, используемая в то время в Риме (обратно)1108
Янсений Корнелий (1585—1638) – голландский теолог, автор труда «Августин» (1610), создатель течения во французском и нидерландском католицизме. Янсенизм прежде всего иначе толковал учение о благодати, чем папство, противостоял иезуитам (обратно)1109
Центром последователей янсения стал расположенный вблизи Парижа цистерцианский женский монастырь Пор-Рояль. К ним присоединились Паскаль и Расин, сочувствовал кардинал Рец. «Письма к провинциалу» (1656) Паскаля, написанные в уединении в Пор-Рояле, содержат резкую критику общества с позиций антиклерикализма. До наших дней литература, направленная против иезуитов, черпает аргументы из этого источника (обратно)1110
Инокентий Х по инициативе иезуитов в булле «Cum occasione» квалифицировал как еретические пять тезисов книги Янсения «Августин» (обратно)1111
Мелоццо да Форли (наст. имя Микелоццо делли Амброджи, 1438 1494) – итальянский художник, мастер перспективы и техники ракурсов и монументального стиля. Многие его полотна находятся в Ватикане (обратно)1112
так сказать (лат.) (обратно)1113
Святой Филипп Нери (1515—1595) – итальянский священник, основатель Оратории (1575). Объединил католиков для похода на Рим во времена контрреформации (обратно)1114
Святой Карло Борромео (1538—1584) – миланский кардинал и архиепископ, пекущийся о нравственном уровне духовенства, основатель «Золотого Борромейского союза» – семи швейцарских кантонов для защиты католической веры. Канонизирован в 1610 г (обратно)1115
«Подземный Рим» (лат.) (обратно)1116
стражем реликвий (лат.) (обратно)1117
Тит Флавий Домициан (51—96) – римский император (81—96), восстановивший Рим после пожаров и украсивший его новыми зданиями – Одеоном, стадионом и др. (обратно)1118
поклоняемся тому, что знаем (лат.) (обратно)1119
Начало (лат.) (обратно)1120
Это вам не трубка! (фр.) (обратно)1121
звук из живота (лат.) (обратно)1122
Высший Иеремия и Оракул Кирилла (лат.) (обратно)1123
Новым Апокалипсисом (лат.) (обратно)1124
единая паства и один пастырь (обратно)1125
Святой Малахия (1094—1148) – ирландский прелат, ставший епис-копом Ирландии. Великий реформатор ирландской церкви в начале XII в. Подружился с Бернаром Клервосским в первое путешествие в Рим, умер в Клерво после второго путешествия в Рим. Его жизнь описана Бернаром Клервосским. «Пророчества Малахии» – апокрифы, относятся не далее чем к XVI в. В них дается полный список пап, начиная с сер. XII в. и до папы конца света. Называется и Петр II (обратно)1126
Книга Малахии – одна из книг Библии, по имени одного из двенадцати малых пророков: анонимный труд (нач. V в.), названный так по словам из III, 1: «Вот, Я посылаю Ангела Моего» (mal'aki – Посланник Мой (евр.)) (обратно)1127
Мазаньелло Томазо Аньелло (1620—1647) – неаполитанский революционер, предводитель восстания против испанских властей (обратно)1128
Пирам и Фисба – вавилонские юноша и девушка, которым родители не позволяли встречаться. В стене, разделявшей дома, была щель, через которую они общались по ночам. Миф изложен Овидием: «Метаморфозы», IV, 55—166 (обратно)1129
Заключенный в голландском городе Нимвегене в 1658 г. мир оказался недолговечным, и французская политика осталась дружественной по отношению к туркам (обратно)1130
Вобан Себастьен Ле Престр де (1633—1707) – маршал Франции, комиссар фортификаций (с 1678), возвел множество фортификационных сооружений, портов, каналов и акведук. Одержал немало побед над осажденными городами, автор трудов по военному делу. Благодаря свободолюбивому уму попал в опалу (обратно)1131
свободно (лат) (обратно)1132
Регалией (или правом короля) называли древний обычай, согласно которому король Франции имел право после кончины очередного епископа собирать доходы с вакантного места (светская регалия), назначать на бенефиции по своему усмотрению тех или иных лиц (духовная регалия) (обратно)1133
В христианских церковных текстах злой дух, идол, олицетворяющий сребролюбие и стяжательство (обратно)1134
по-быстрому и без хлопот (лат.) (обратно)1135
Index librorum prohibitorum – Каталог книг, запрещенных папской властью для чтения католикам (обратно)1136
Александр III (Роландо Бандинелли) – папа с 1159 по 1181 г. (обратно)1137
«О критических днях» (лат.) (обратно)1138
пользы (лат.) (обратно)1139
вреда (лат.) (обратно)1140
Химический протосвет, Гороскопическое физическое антисвечение (лат.) (обратно)1141
запреты (лат.) (обратно)1142
Арголи Андреа (1568—1657) – итальянский астроном, математик, астролог (обратно)1143
Чентини Джачинто – племянник кардинала д'Асколи, ускорил смерть папы с помощью всевозможных оккультных церемоний. Был казнен в 1634 г (обратно)1144
Избегая предсказанной звездами судьбы (лат.) (обратно)1145
Альберт Великий – немецкий теолог и философ (1193—1280), преподаватель теологии в Парижском университете, чьим учеником был святой Фома Аквинский. Канонизирован (обратно)1146
Д'Айи Пьер (1350—1420) – французский прелат и теолог; кардинал; канцлер Парижского университета. Участник собора в Констанце, попытавшийся положить конец расколу церквей. Автор труда «Imago mundi» («Образ мира»), в котором предстает как предшественник Коперника (обратно)1147
Альбумазар – главный астролог исламского мира (обратно)1148
Тико(Тихо) Браге (1546—1601) – датский астроном, открывший явление преломления света, составивший каталог 777 звезд, работавший в 1601 году в союзе с Кеплером (обратно)1149
Леопольд I (1640—1705) – немецкий император с 1658 г.; с 1655 г. – король венгерский, с 1658 г. – король богемский; противник турок и Людовика XIV. В 1687 г. присоединил Венгрию к Австрии (обратно)1150
Скот Иоанн (1265—1308) – средневековый философ и теолог (обратно)1151
Гермес (греч. миф.) – сын Зевса, в эпоху эллинизма был отождествлен с египетским богом мудрости Тотом и получил имя Гермес Трисмегист (Трижды величайший), считался изобретателем всех наук и алхимии – герметического искусства (обратно)1152
Катоптрика – наука об отражении света; гномоника – искусство делать солнечные часы (обратно)1153
Магнетическая сила (лат.) (обратно)1154
Кирхер Атаназиус (1601—1680) – немецкий иезуит, востоковед и ученый. Автор трудов, посвященных действию магнита, акустике, свету, изобретатель волшебного фонаря. Математик, археолог, филолог. Его труды по коптскому языку долгое время служили основой изучения этого языка и были признаны Шамполионом (обратно)1155
к вящей славе Господней (лат.) – девиз ордена Иезуитов (обратно)1156
геометрическим путем и математическим путем (лат.) (обратно)1157
Египетский Эдип (лат.) (обратно)1158
иначе, точнее (лат.) (обратно)1159
Парфенона (греч. миф.) – одна из сирен, губивших своим пением Одиссея со спутниками. Сама погибла после того, как аргонавты проплыли мимо. Тело ее было выброшено на берег, где возле ее могилы возник город, названный в ее честь Парфенопея (древнее название Неаполя) (обратно)1160
Марон Публий Вергилий (ок. 70—19 до н. э,) —латинский поэт, автор «Энеиды» (обратно)1161
Саннадзаро Якопо (1456—1530) – итальянский поэт и гуманист (обратно)1162
сорт винограда, из которого производят знаменитое вино «Лакрима Кристи», т. е. «Слеза Иисуса» (обратно)1163
в духе рондо (фр.) (обратно)1164
Эдип (греч. миф.) – сын фиванского царя Лая и Иокасты, убивший отца и женившийся на матери (обратно)1165
В Библии этому соответствует Четвертая Книга Царств (обратно)1166
Первая Царств: 5, 6. (обратно)1167
Одно из многочисленных имен Аполлона Сминфей – «Мышиный», защитник от зла и болезней. Описанный эпизод: Гомер, II. 1,43—53 (обратно)1168
философский лазурит Леонарди (лат.) (обратно)1169
Смешай (лат.) – слово из аптекарского лексикона (обратно)1170
сюит (фр.) (обратно)1171
Кавалли Пьер Франческо (1602—1676) – итальянский композитор, ученик Монтеверди. Был призван в Париж Мазарини, где поставил две оперы. По возвращении в Венецию стал капельмейстером в базилике Святого Марка. Автор музыки к четырем десяткам опер (обратно)1172
Корбетта Франческо (1620—1681) – итальянский гитарист, учитель игры на гитаре юного Людовика XIV (обратно)1173
ломбер (фр.) (обратно)1174
посвящается Мадемуазель (фр.). Мадемуазель – Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье (1627—1693), дочь Гастона Орлеанского, брата Людовика XIII и Марии де Бурбон, герцогини де Монпансье. Во время Фронды воевала на стороне принцев, увенчала себя рядом побед, в т. ч. взятием Орлеана. В Париже, в ходе сражения в Сент-Антуанском предместье развернула орудия Бастилии против королевских войск, чтобы прикрыть отход принца Конде (обратно)1175
Имеется в виду Авгур (лат.птица) – в Древнем Риме жрец, толковавший волю богов по крику и полету птиц (обратно)1176
собрании сочинений (лат.) (обратно)1177
Меандр – орнамент из ломаных линий, по имени очень извилистой реки в Малой Азии (обратно)1178
Доулэнд Джон (1562—1626) – английский композитор, принятый многими европейскими дворами (обратно)1179
«О тайных значениях» (лат.) (обратно)1180
тотчас (лат.) (обратно)1181
Фазаний остров (иначе остров Конференции) – островок, расположенный на реке Бидассоа, служащий границей между Францией и Испанией, где в 1659 г. был подписан Пиренейский мир и заключен брак Людовика XIV и Марии-Терезии (обратно)1182
Ах, отец, отец! (исп.) (обратно)1183
Лозен Антонен Номпар де Комон (1633—1723) – граф, затем герцог, маршал Франции. Фаворит Людовика XIV, за вольности заключенный в Бастилию и Пинероло. Тайно женился на Большой Мадемуазели (обратно)1184
в изобилии (лат.) (обратно)1185
Хиады (от греч. Huades – «нимфы, превратившиеся в звезды») – название семи звезд, образующих созвездие Тельца (обратно)1186
Псалтырь 118:105: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей» (лат.) (обратно)1187
Натуральная история Индий (ucn.) (обратно)1188
Возьми (лат.) – слово из аптекарского лексикона (обратно)1189
Д'Эстре Габриель (1573—1599) – фаворитка Генриха IV, имевшая от него двух сыновей – Цезаря и Александра Вандомских (обратно)1190
Пинероло – старинный город на границе с Италией, несколько раз с XVI по нач. XIX в. переходивший к французскому государству (обратно)1191
Лучшему другу Никола Фуке… хозяину мумий… величайший дар… тайна чумы… тайна смерти… и как их одолеть… (лат.) (обратно)1192
без конца (лат.) (обратно)1193
некогда (лат.) (обратно)1194
Таинственные баррикады (фр.) (обратно)1195
сила притяжения (лат.) (обратно)1196
Гелиотропизм (от греч. – поворачивающийся вместе с солнцем или к солнцу) – способность растений принимать определенное положени под влиянием солнечного света (обратно)1197
принцип подобия (лат.) (обратно)1198
Фригийский лад (лат,) (обратно)1199
Митра, Мифра (от авест. договор, согласие) – древнеиранский мифологический персонаж, выступающий как бог Солнца. Культ Митры получил чрезвычайно широкое распространение в античности (обратно)1200
Подземного города (лат.) (обратно)1201
Aries (лат.) – баран, Овен в астралогии (обратно)1202
Клоака Максима – самый большой крытый канал для стока нечистот, протянувшийся от Форума до Тибра. Сооружен при Тарквинии (правил с 616 по 579 г. до н. э.), привнесшем в Рим эллинистическую культуру. Клоака Максима существует до нашихдней (обратно)1203
Гадес, Аид (греч. миф.) – владыка царства мертвых, а также само царство (обратно)1204
Над замком Святого Ангела (грандиозным сооружением, представляющим собой памятник, воздвигнутый императору Адриану в 130 г., вероятно, архитектором Деметрианом) действительно возвышается огромная бронзовая статуя Ангела XVIII в. – напоминающая о чудодейственном избавлении от чумы, обрушившейся на город, но не в 1656 г., а в 590 г. (обратно)1205
Знатный венецианский род, с 1474 по 1778 г. поставивший Республике пятерых дожей. Принимали активное участие в борьбе с турками (обратно)1206
Данте Алигьери. Божественная комедия. Рай. Песня XXXIII, 133—136. Перевод М. Лозинского (обратно)1207
Данте Алигьери. Божественная комедия. Рай. Песня XXXIII, 142. Перевод М. Лозинского (обратно)1208
подземным демоном (лат.) (обратно)1209
Виндобона – древнее название Вены, возникшей на месте кельтского поселения, превращенного римлянами в военное. Упоминается как Вена с 880 г. (обратно)1210
место представления в амфитеатре (лат.) (обратно)1211
подземный мир (лат.) (обратно)1212
Камальдульский монашеский орден основан в 1018 г. бенедиктинцем Ромуальдом в долине Камальдуль, близ Ареццо (обратно)1213
Евгений Савойский (1663—1736) – полководец, разбивший турок при Петервардейне и Белграде. Не был оценен Людовиком XIV, перешел на службу Австрии (обратно)1214
Территории современной России и Польши в первые века новой эры относились к Западной Сарматии, простиравшейся от Балтии до Каспийского моря (обратно)1215
Пришли, увидели, Бог победил (лат.) (обратно)1216
«Тебе Бога хвалим» (лат.) – начальные слова католического благодарственного песнопения (обратно)1217
как муж и жена (лат.) (обратно)1218
15 ноября 1688 г. после высадки в гавани Торбей Вильгельм Оранский был провозглашен регентом королевства и начал свое триумфальное шествие на Лондон. В конце января 1689 г. парламент избрал его вместе с женой Марией Стюарт на трон Великобритании (обратно)1219
в последнюю минуту (лат.) (обратно)1220
Барберини Маффео, кардинал, затем папа Урбан VIII с 1623 по 1644 г. (обратно)1221
Корелли Арканджело (1653—1713) – итальянский композитор и скрипач (обратно)1222
дополнение (лат.) (обратно)1223
«Жизнь Ласарильо из Тормеса» – испанский плутовской роман, первый в своем роде, относящийся, по-видимому, к 1554 г., неизвестного автора (иногда приписываемый Уртадо де Мендозе) (обратно)1224
Санкюлотты – название, данное в 1792 г. революционерам, которые, рассматривая штаны как атрибут старорежимной жизни, стали носить полосатые брюки, карманьолу и красный колпак (обратно)1225
сюиты (фр.) (обратно)1226
Легация – папское посольство; название административного деления папской области (обратно)1227
Александр VIII – Пьетро Оттобони, папа с 1689 по 1691 (обратно)1228
Судилище (обратно)1229
славной революции (англ.) (обратно)1230
едино и неделимо (лат.) (обратно)1231
название доверенного лица в Венеции и Генуе (обратно)1232
Великий Пенсионарий – заместитель статхаудера, руководивший внешней политикой голландского государства (обратно)1233
Различные акты (лат.) (обратно)1234
Эпистолярное наследие Иннокентия (лат.) (обратно)1235
Войн – река в Ирландии, впадающая в Ирландское море. На ее берегах Вильгельм III одержал победу над Яковом II (обратно)1236
Славным, как оливковая ветвь (лат.) (обратно)1237
заново (лат.) (обратно)1238
расчлененные (лат.) (обратно)1239
Мазарини (обратно)1240
камердинеру (фр.) (обратно)1241
союз (фр.) (обратно)1242
Паскен – лакей из итальянской комедии, тщеславный, развязный, большой любитель поговорить и хитрец (обратно)1243
памфлеты (фр.) (обратно)1244
Записки о Великобритании и Ирландии (англ.) (обратно)1245
Сен-Симон Луи де Рувруа, герцог (1675—1755) – французский писатель, автор «Мемуаров» (1694—1755), посвященных концу правления Людовика XIV (обратно)1246
что и требовалось доказать (лат.) (обратно)1247
Старом режиме (фр.) (обратно)1248
… (обратно)1249
то есть Республика Соединенных Провинций (обратно)1250
Казони (обратно)1251
тори и виги (обратно)1252
… (обратно)1253
отца Вильгельма III (обратно)1254
1910 (обратно)1255
1990 (обратно)1256
по бумагам (лат.) (обратно)1257
1926 (обратно)1258
1939 (обратно)1259
Уничтожение огнем (еврейск.) – уничтожение нацистами 6 млн. евреев в годы Второй мировой войны (обратно)1260
Климент XIII – Карло Реццонико: папа в 1758—1769 гг. (обратно)1261
В смутные для Италии времена и под влиянием французского короля Филиппа Красивого папский престол был перенесен в Авиньон и в течение 68 лет на нем сменилось семь пап. Позднее эти годы (1311—1377) в Риме окрестили «вторым вавилонским пленением». Григорий XI вернул папство в Рим (1377), Авиньон же стал местом пребывания антипап. Вплоть до Французской революции Рим управлял Авиньоном с помощью легатов (обратно)1262
Цирк (фр.) (обратно)1263
Альбигойцы (от г. Альби в Провансе) – секта, существовавшая во Франции в XII—XIII вв., для членов которой характерны рационализм, терпимость, высоконравственное понимание христианства. Отвергала папскую власть; уничтожена в 1209—1229 гг. Симоном де Монфором, предпринявшим по велению папы Иннокентия III крестовый поход против альбигойцев, во время которого было истреблено 25 000 человек (обратно)1264
Григорий IX – Уголино, граф Сеньи – папа в 1227—1241 гг. (обратно)1265
Людовик IX Святой (1215—1270) – французский король с 1226 г. Расширил границы Франции, составил свод законов, подчинил дворянство королевским судам. Предпринял крестовый поход в Тунис, при осаде которого умер от моровой язвы (обратно)1266
Запутав всё (лат.) (обратно)1267
Франции (обратно)1268
Ченчи (обратно)1269
нрзб. (обратно)1270
возвращение Авиньона в лоно папства (обратно)1271
Не всякому дано дойти до Коринфа (лат.) (обратно)1272
нрзб.: дело? (обратно)1273
нрзб.: мобилизоваться? (обратно)1274
нрзб.: католической вере? (обратно)1275
нрзб. (обратно)1276
представители Франции в Авиньоне (обратно)
Последние комментарии
1 день 15 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 3 минут назад
2 дней 1 час назад